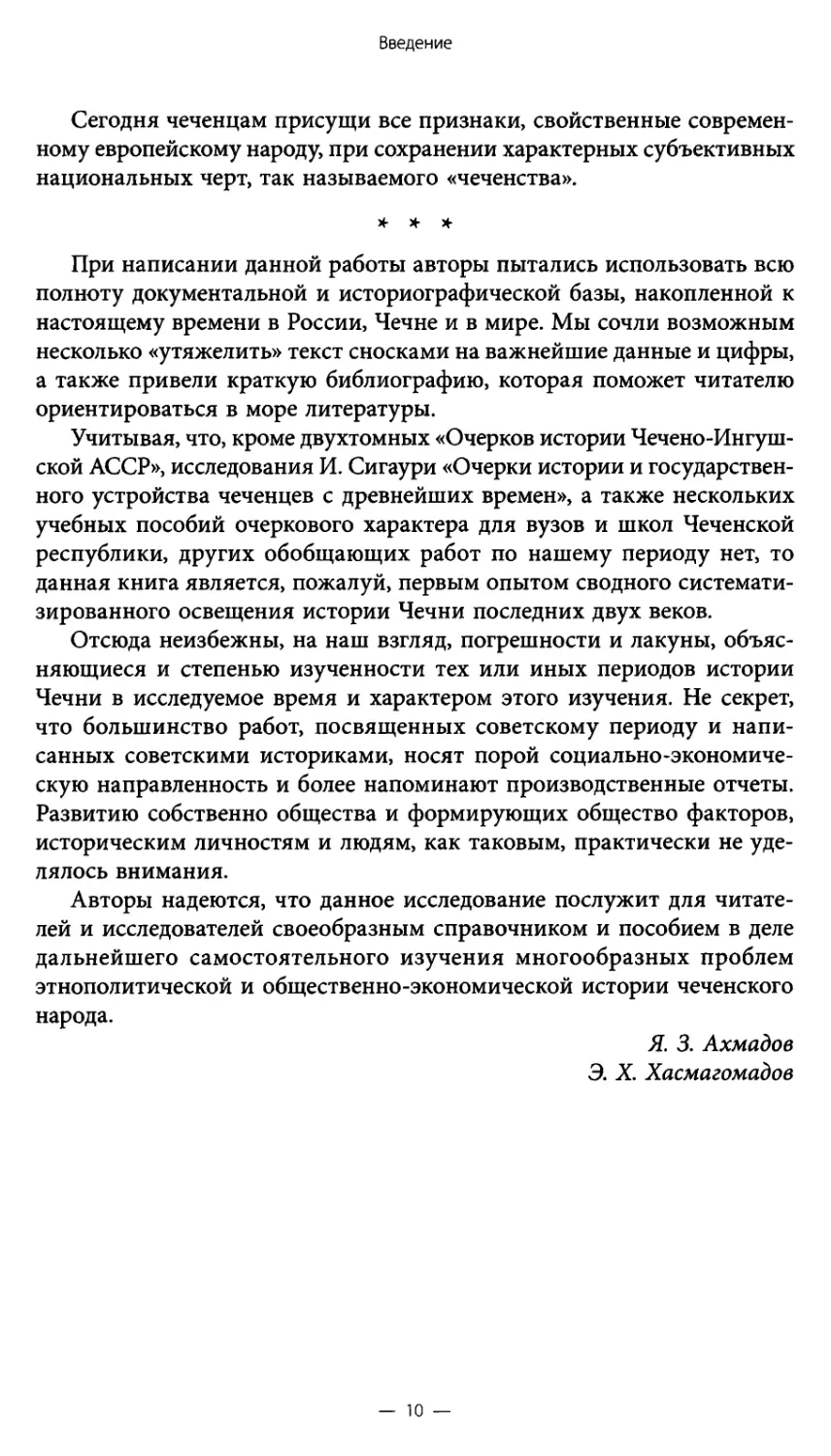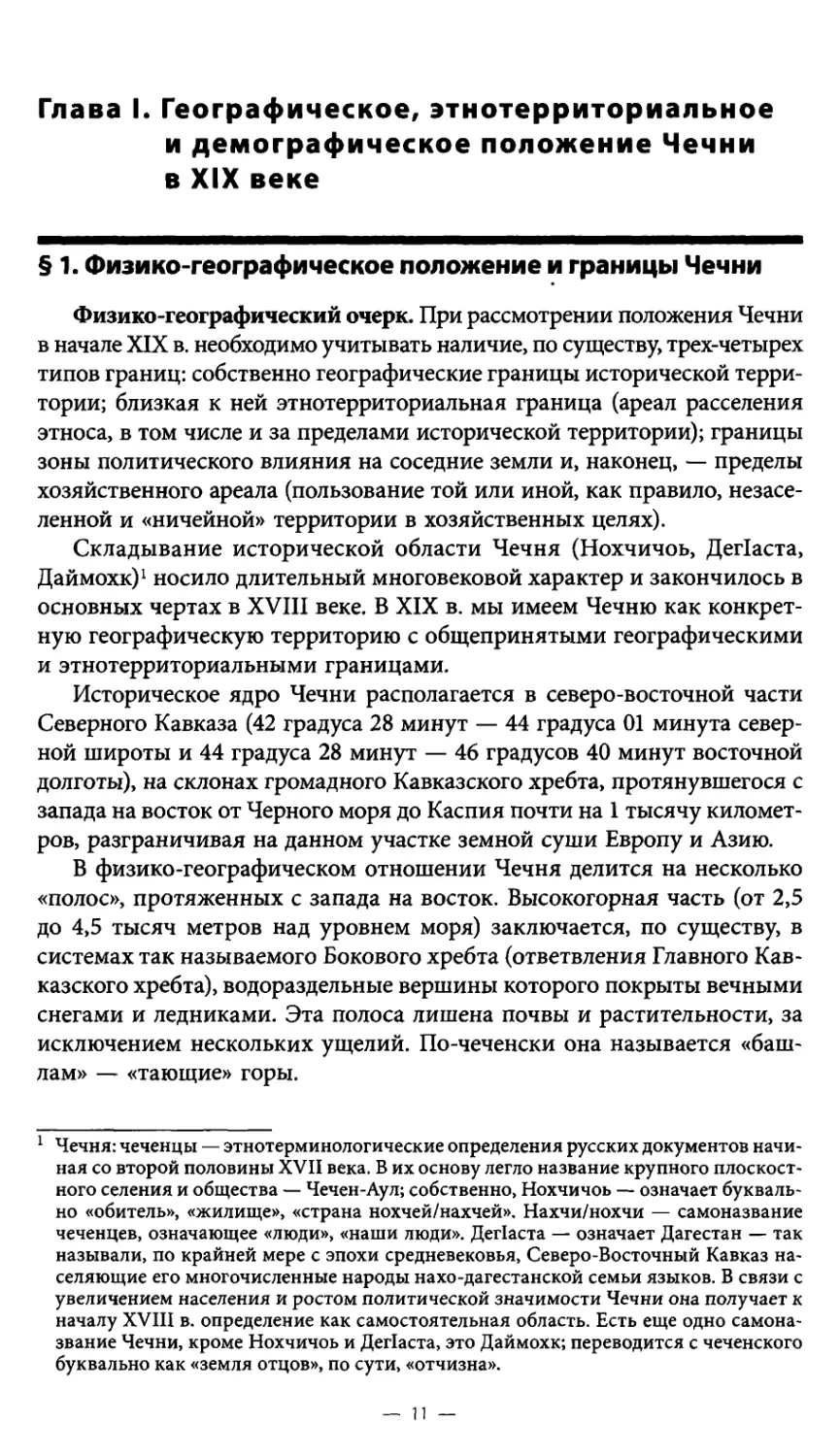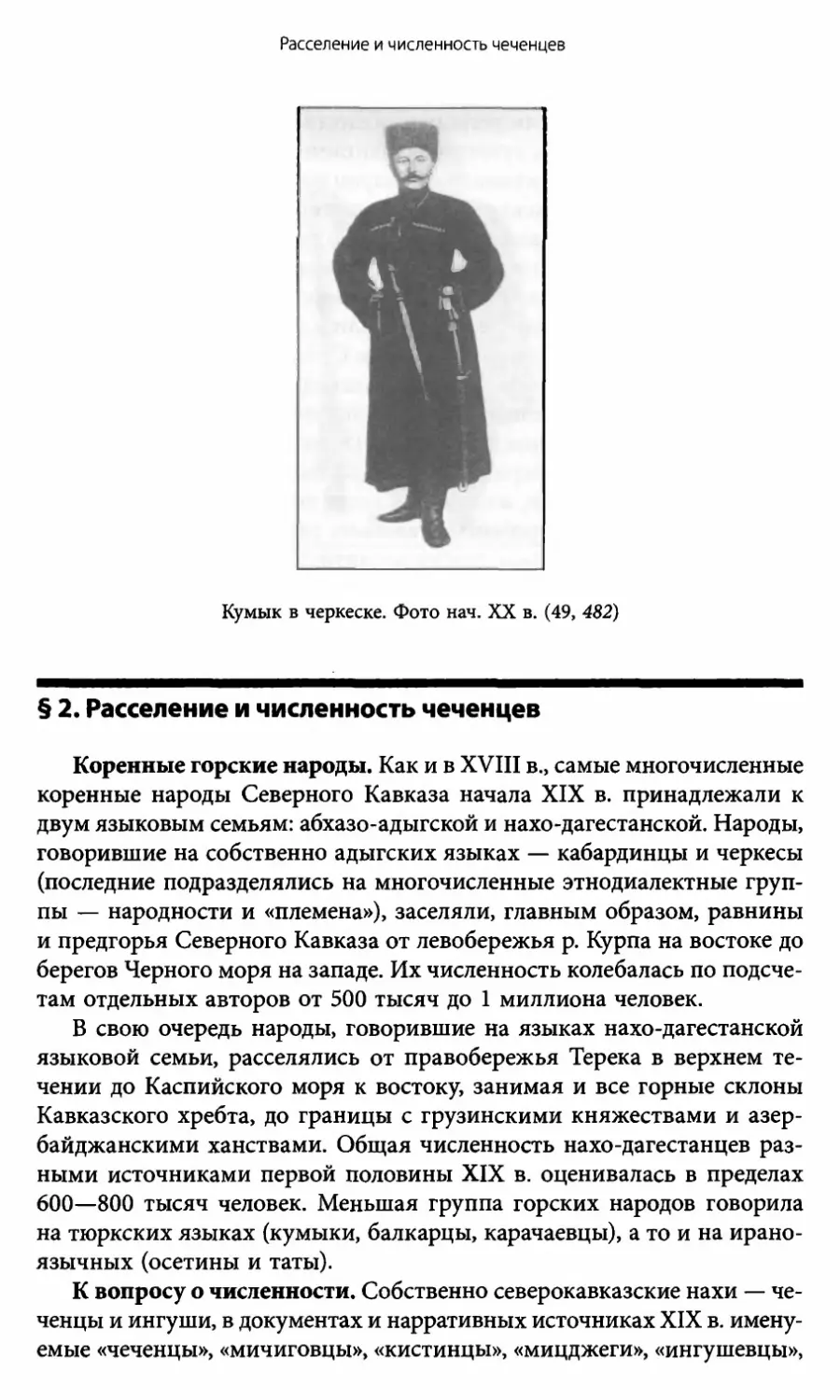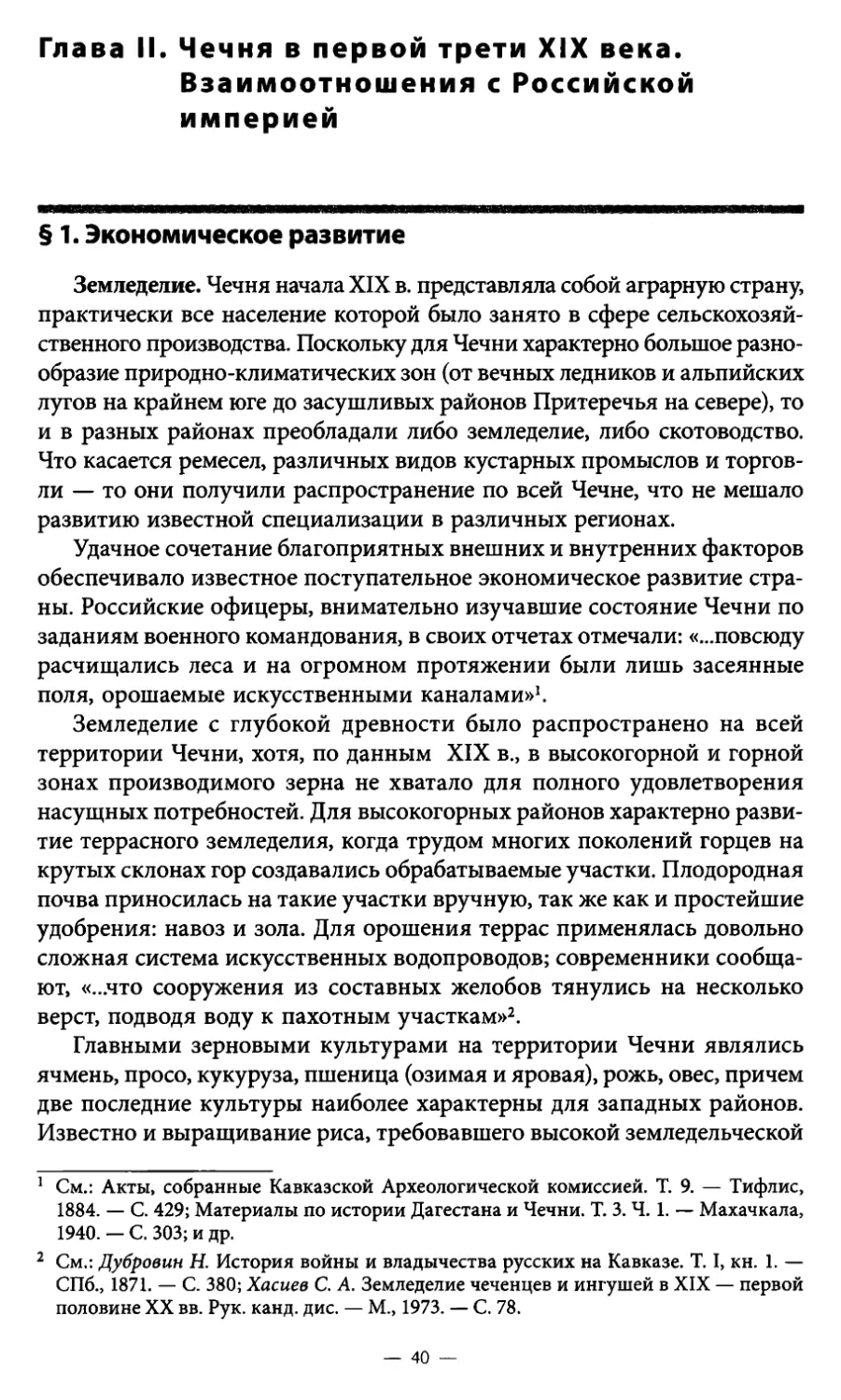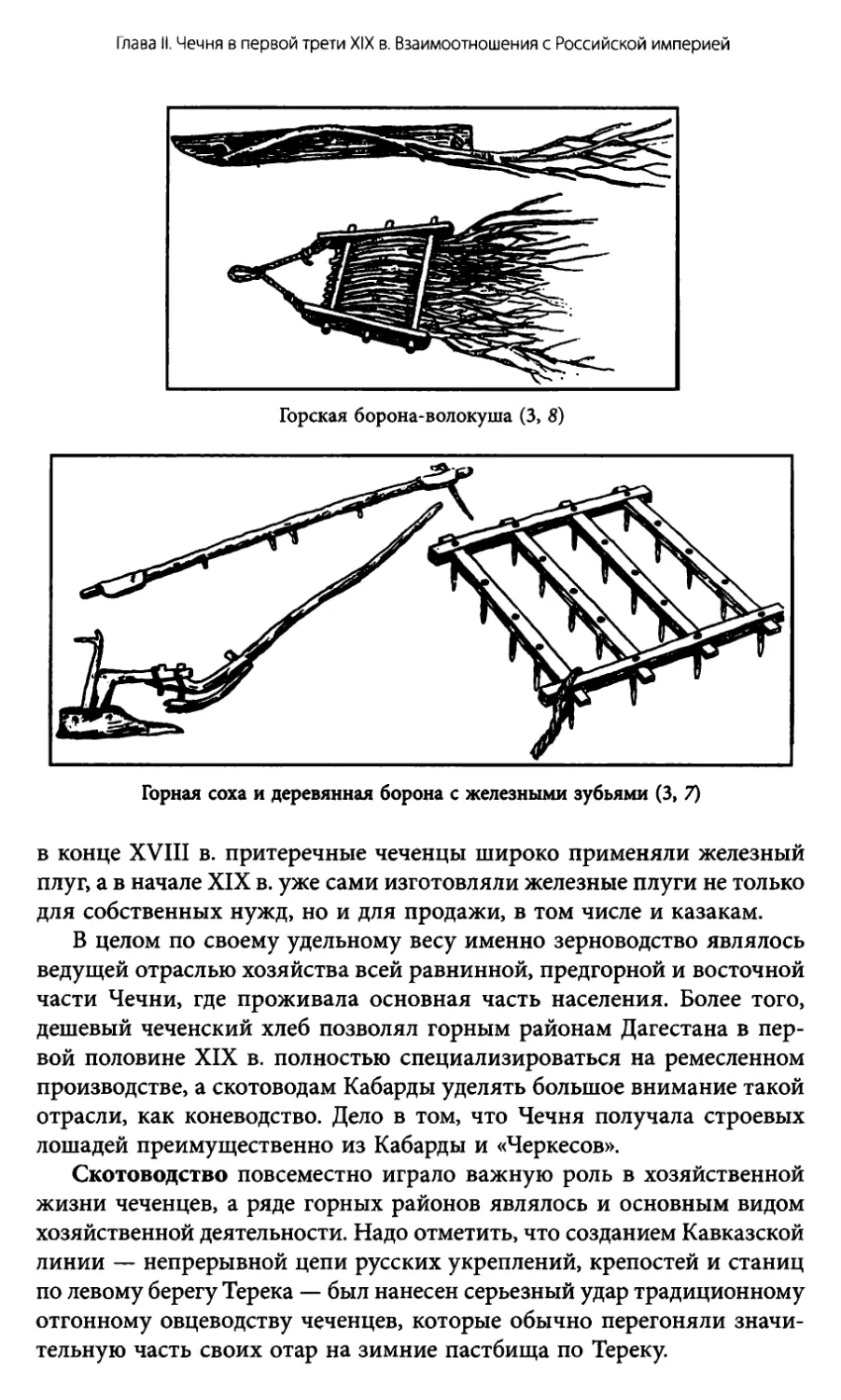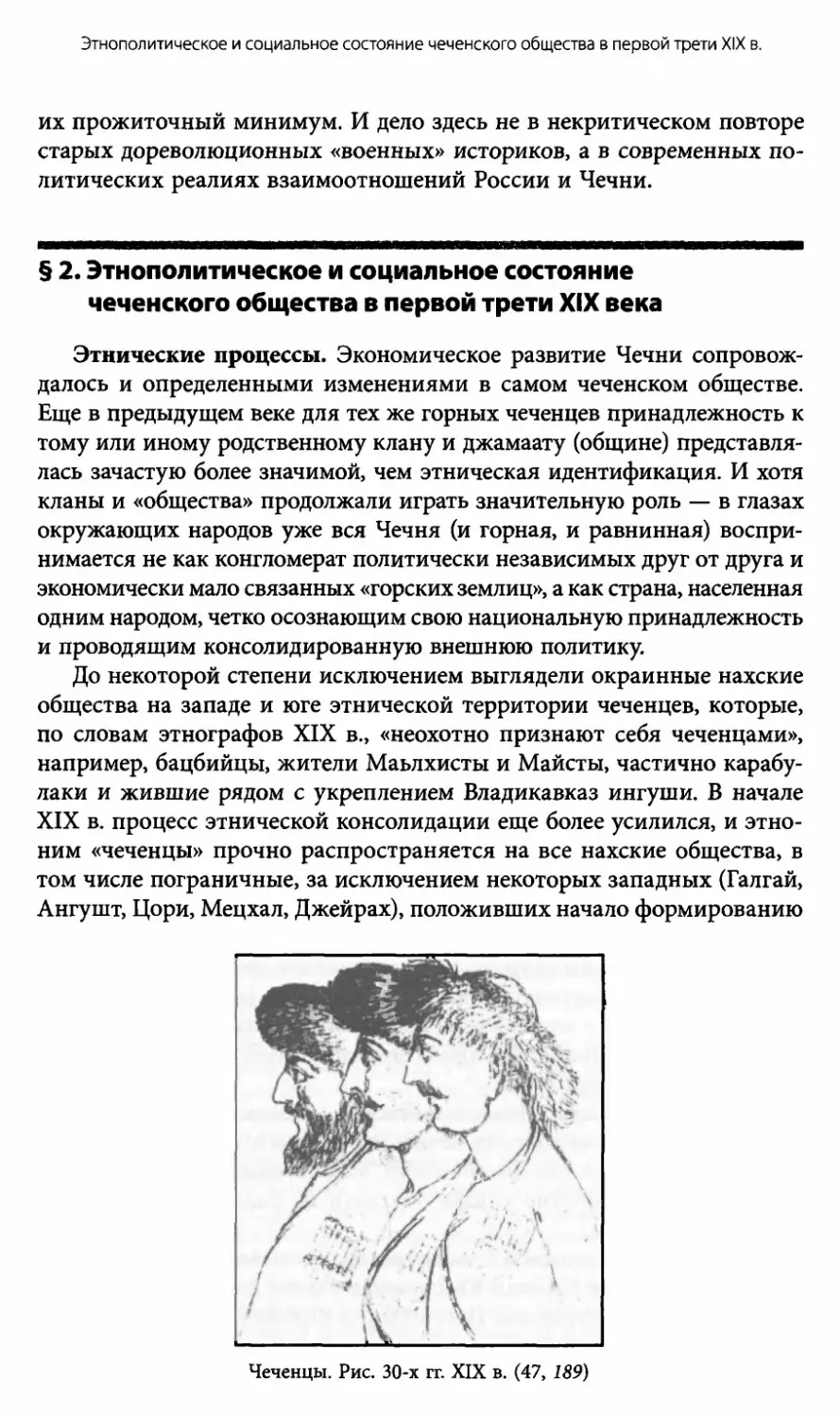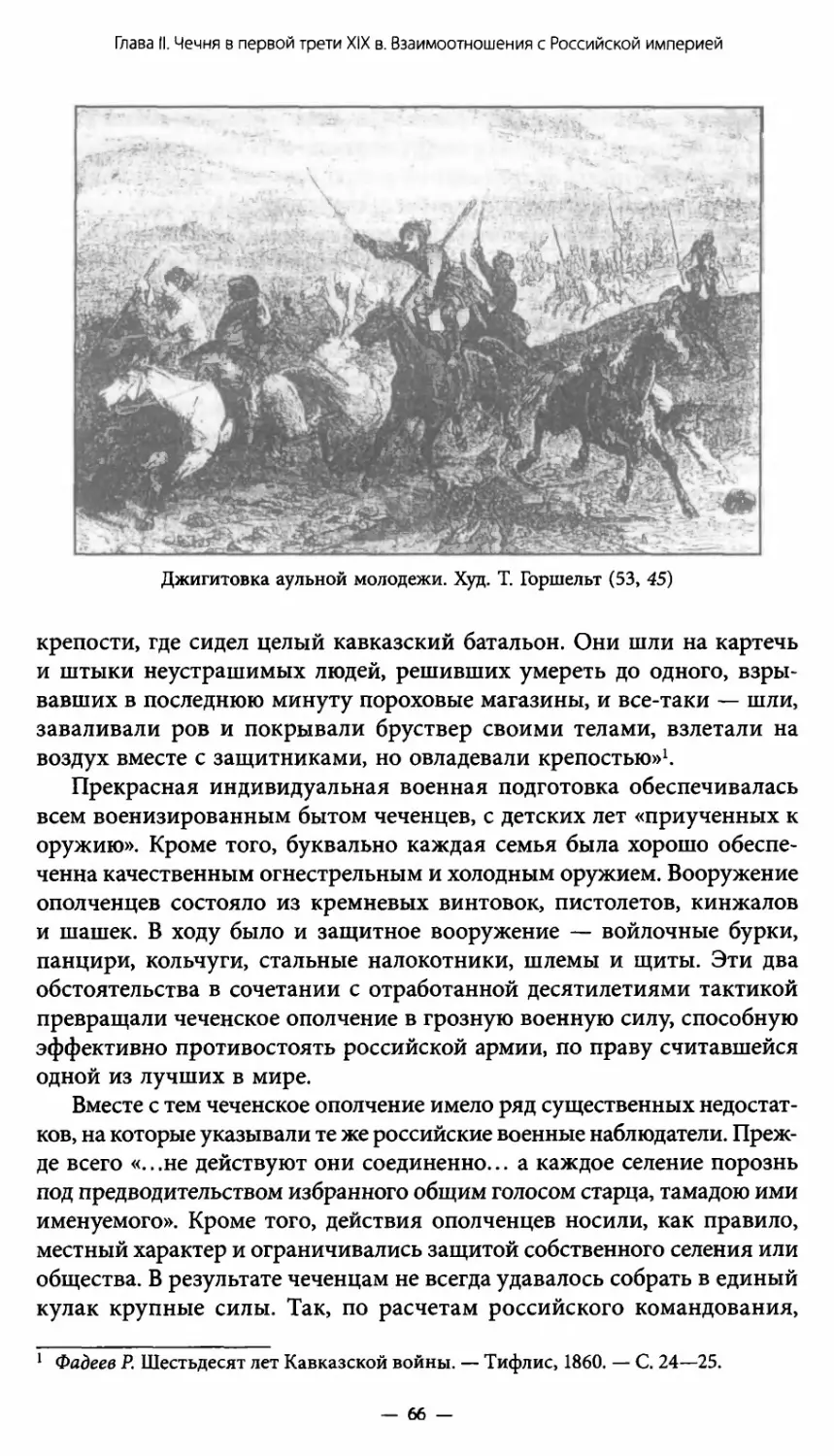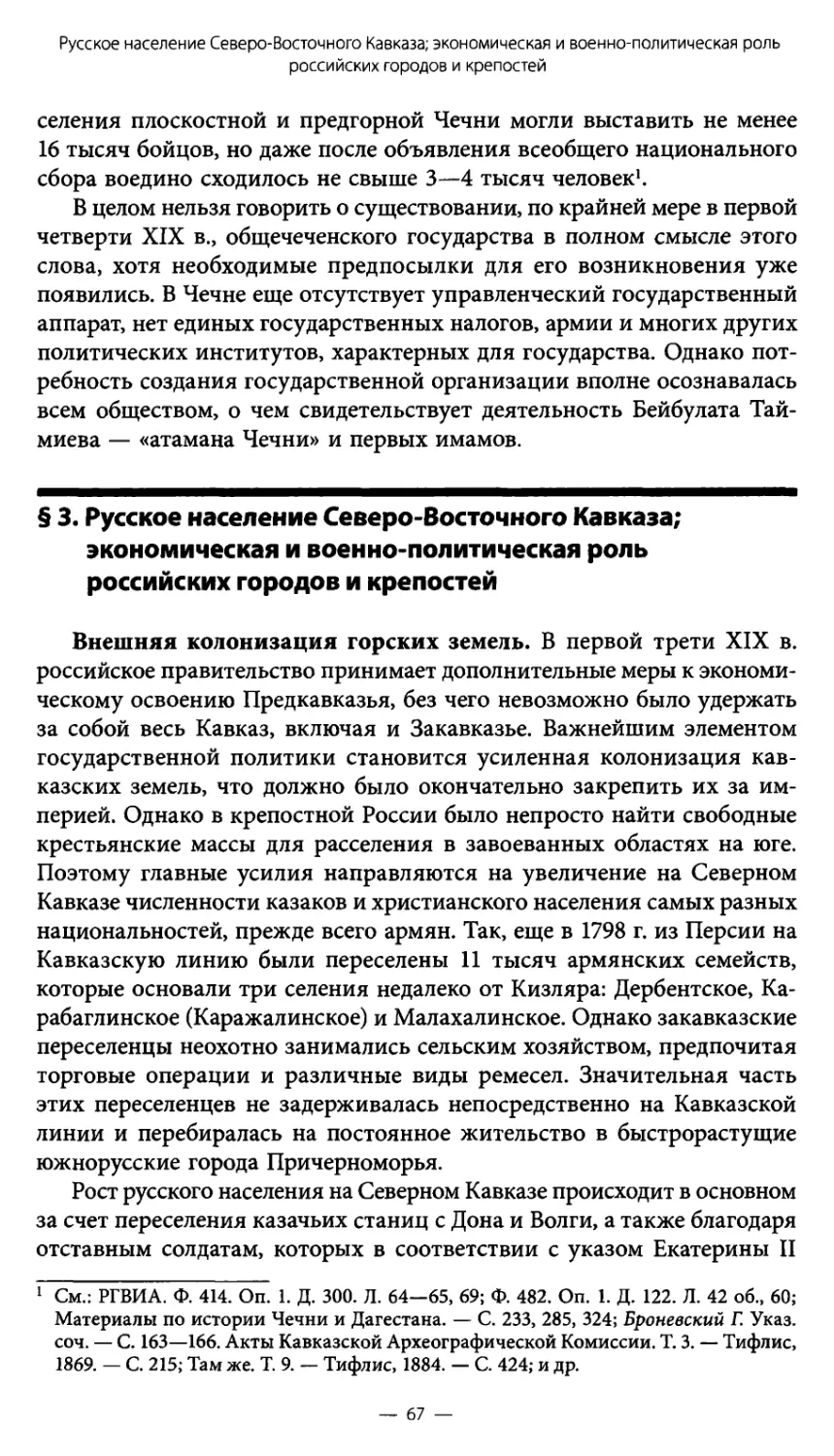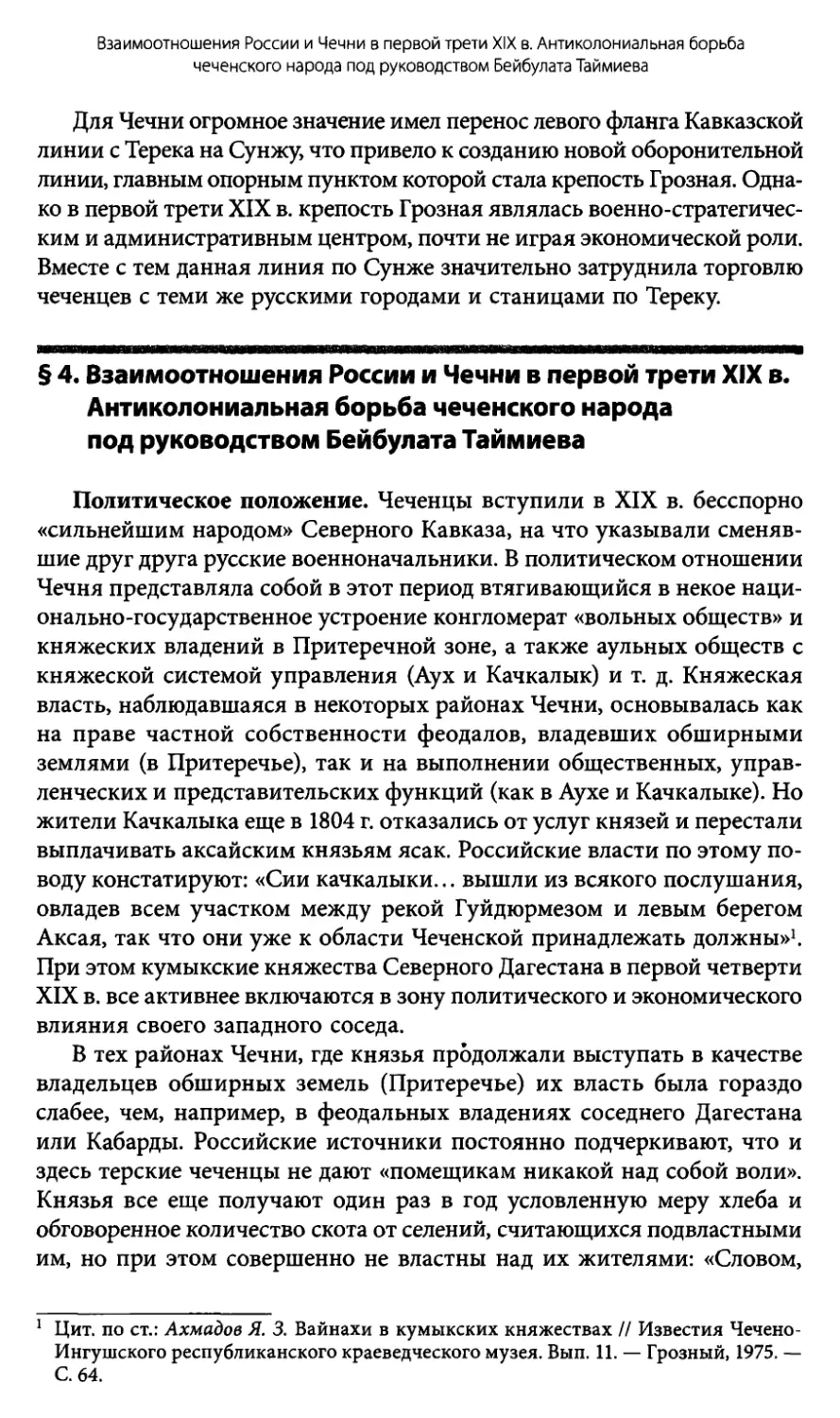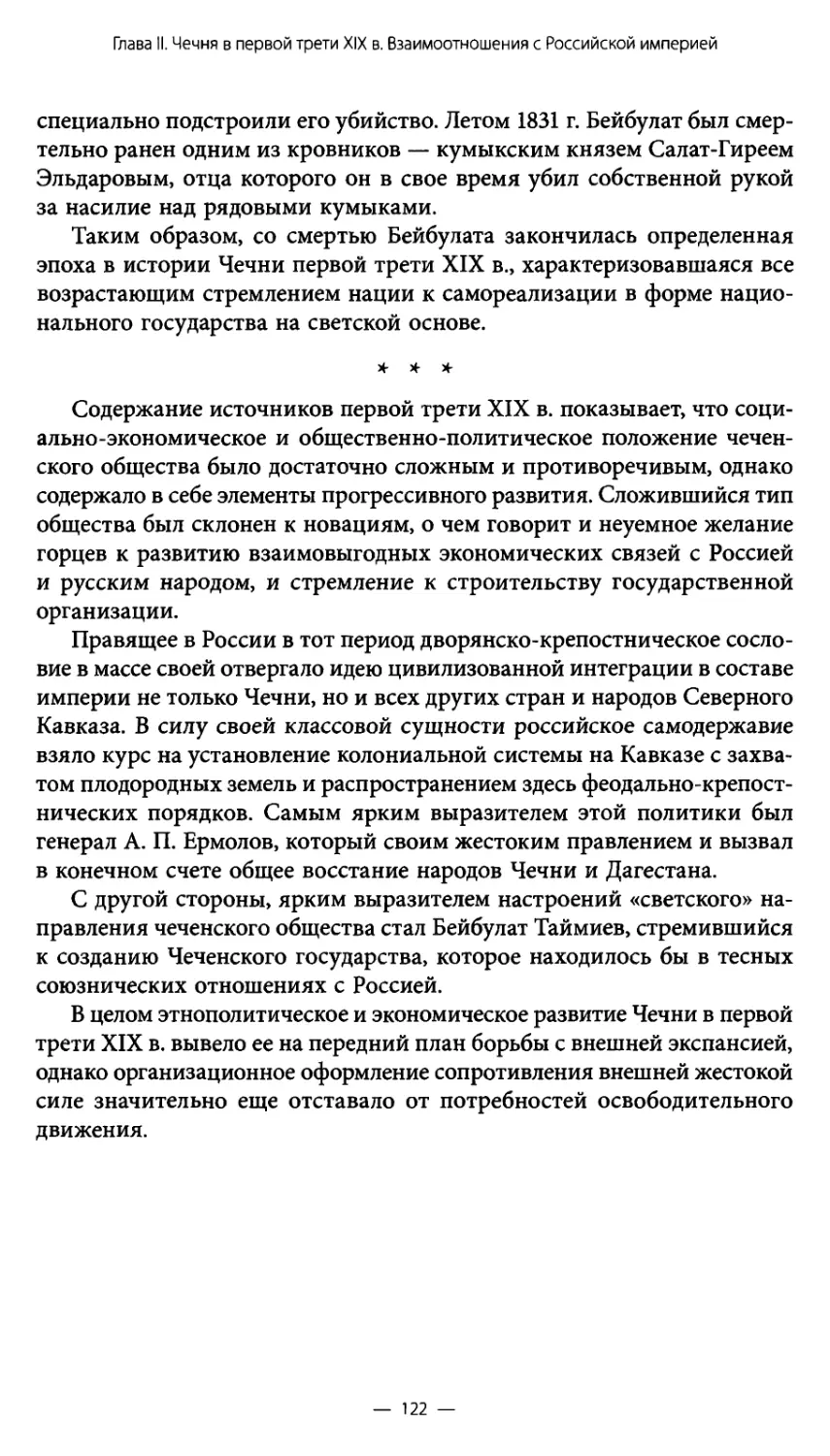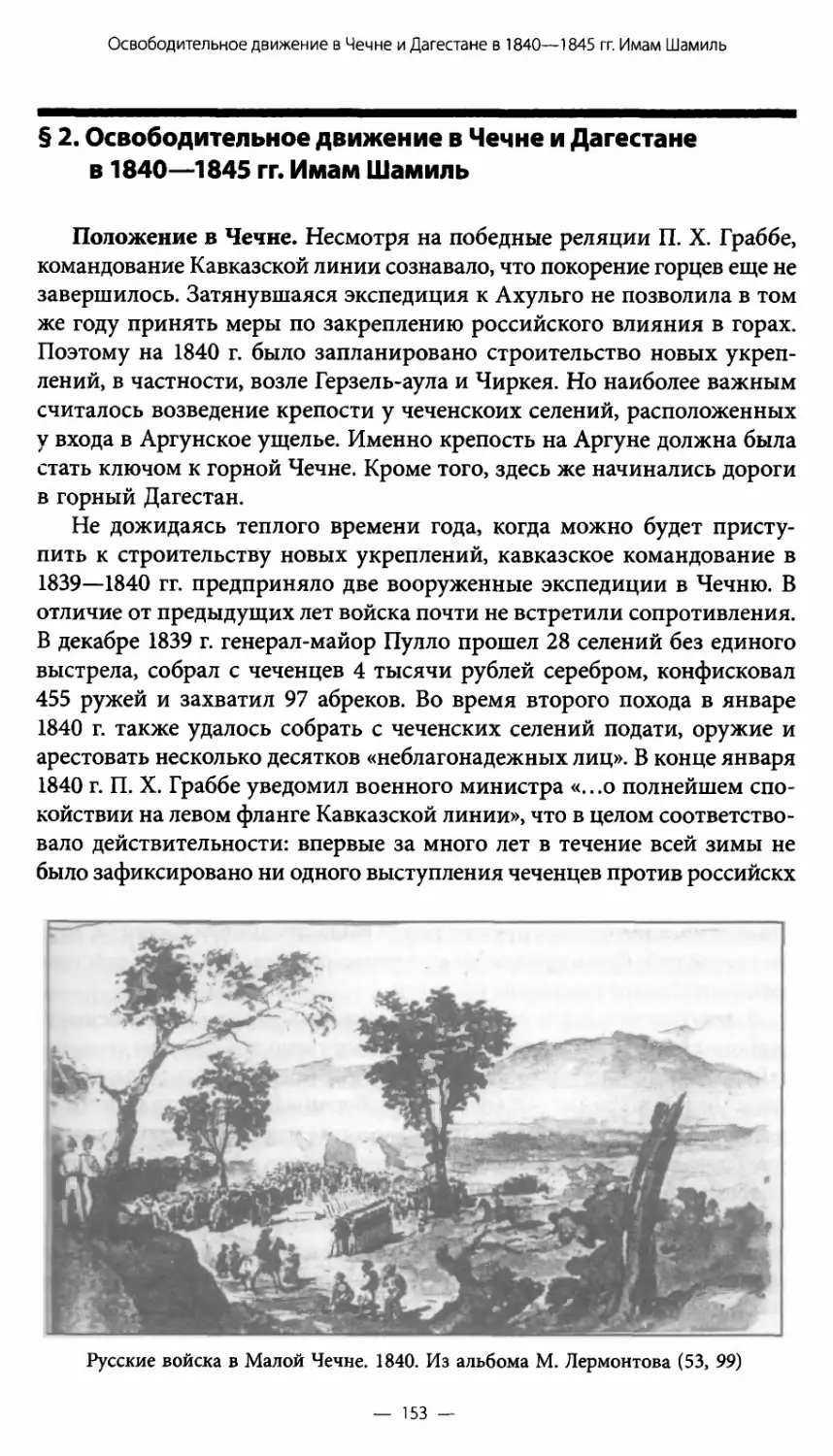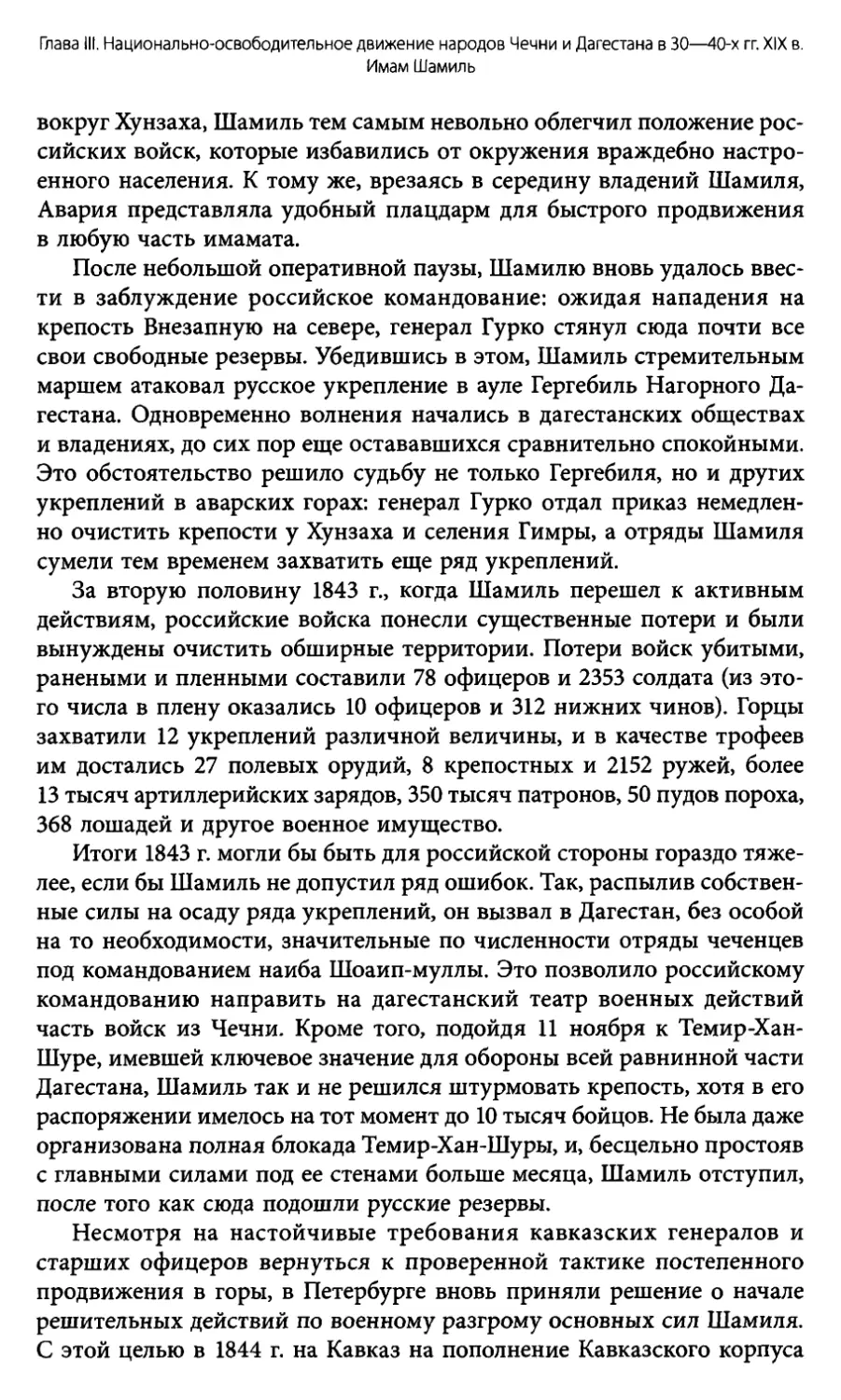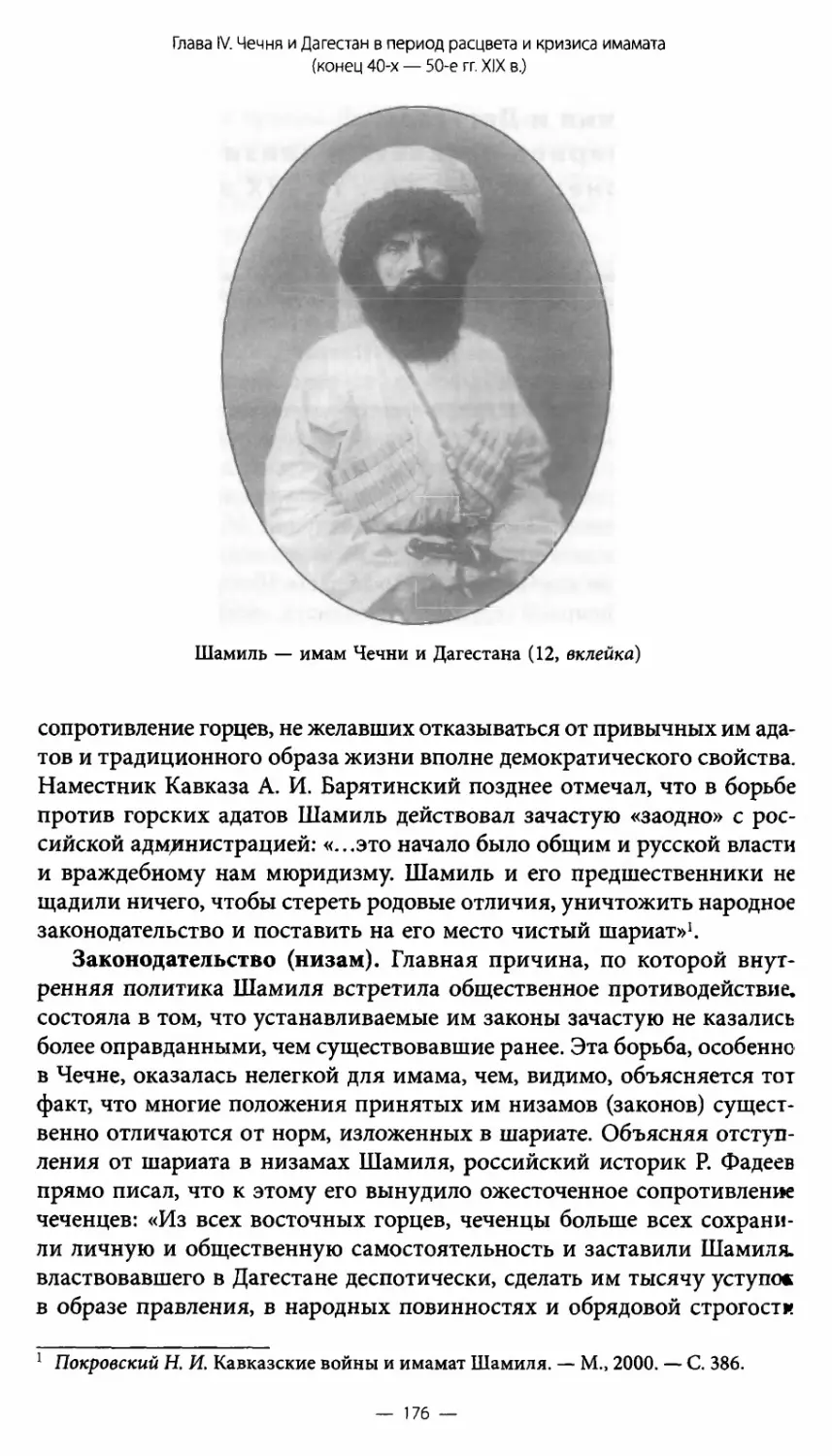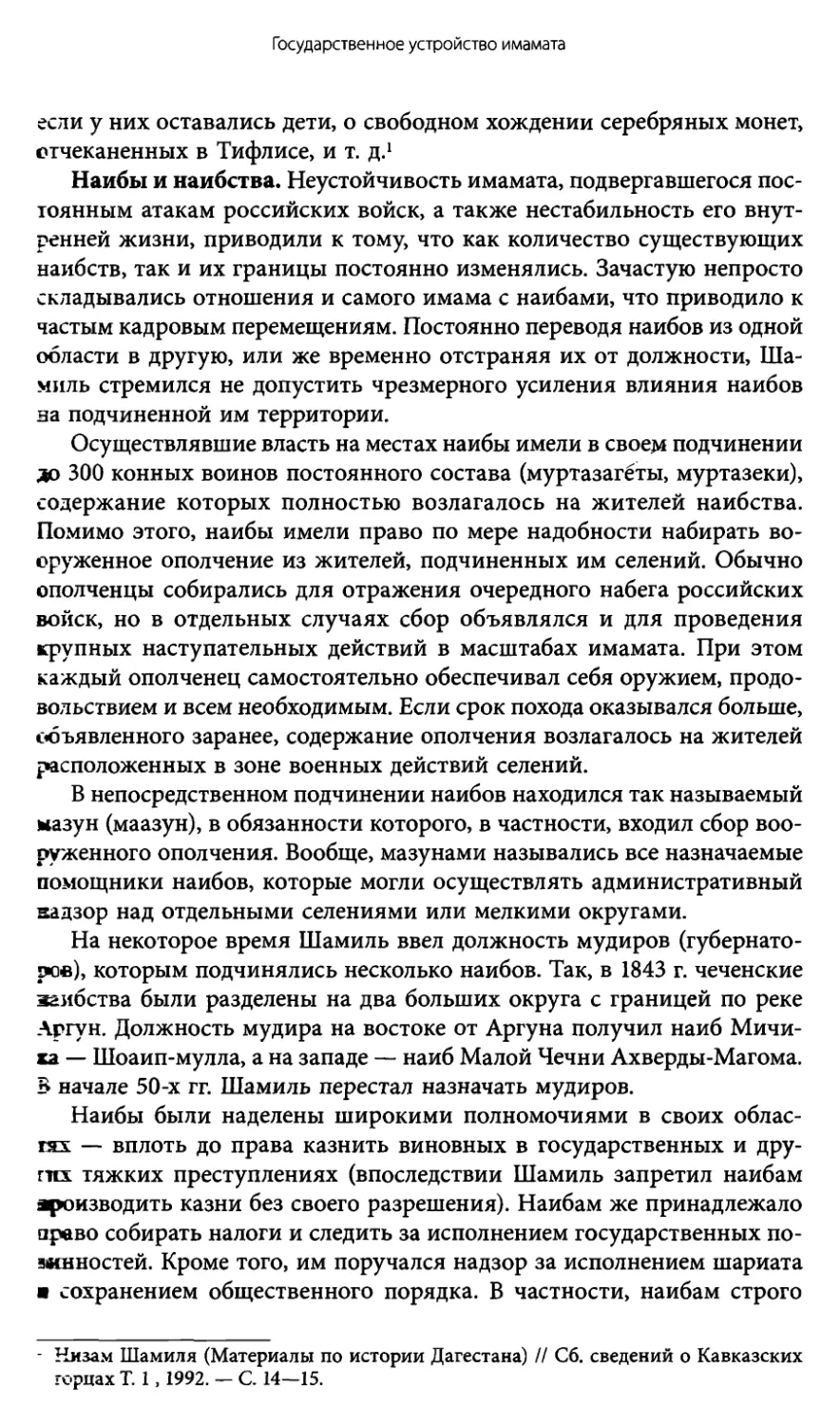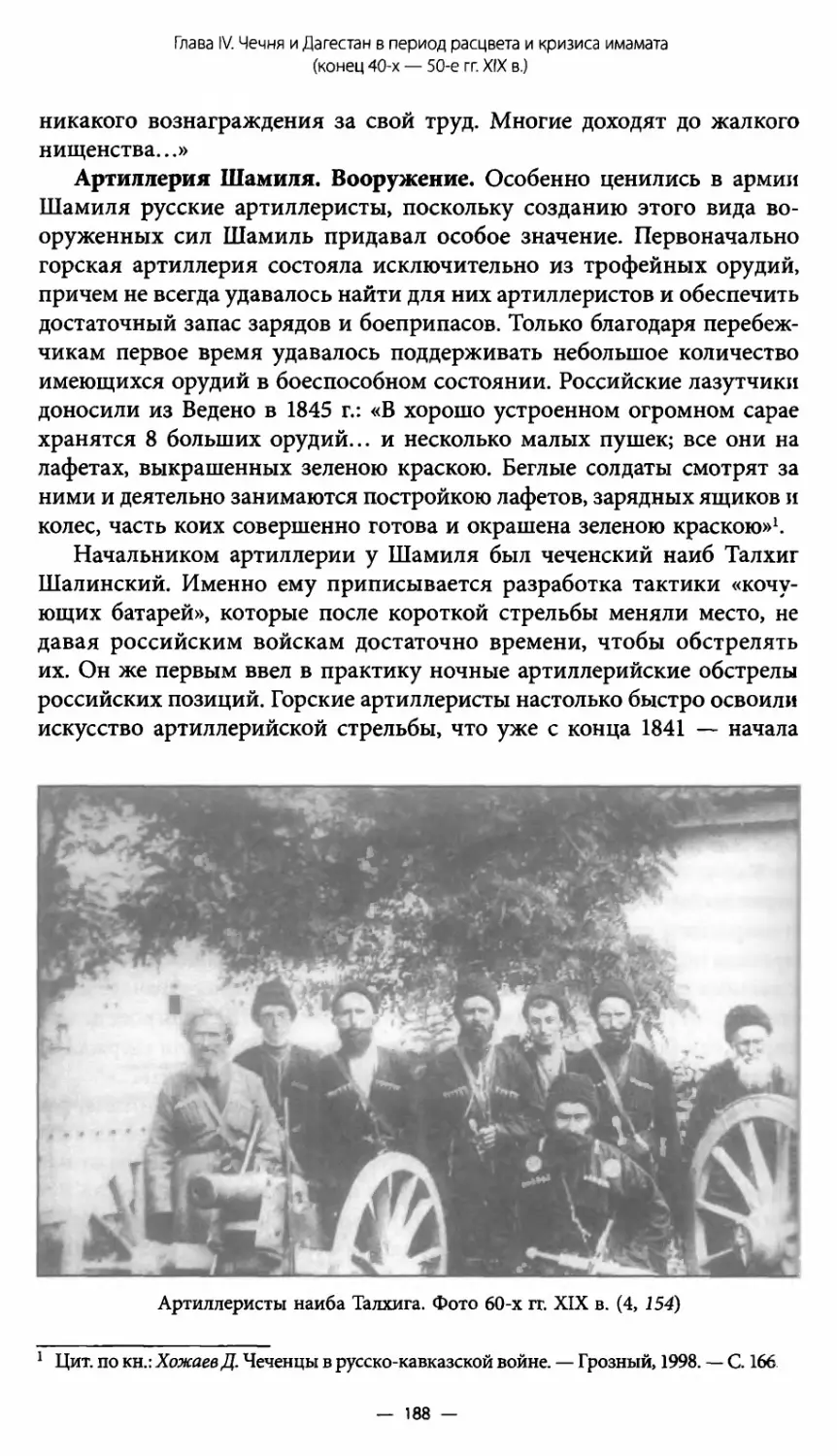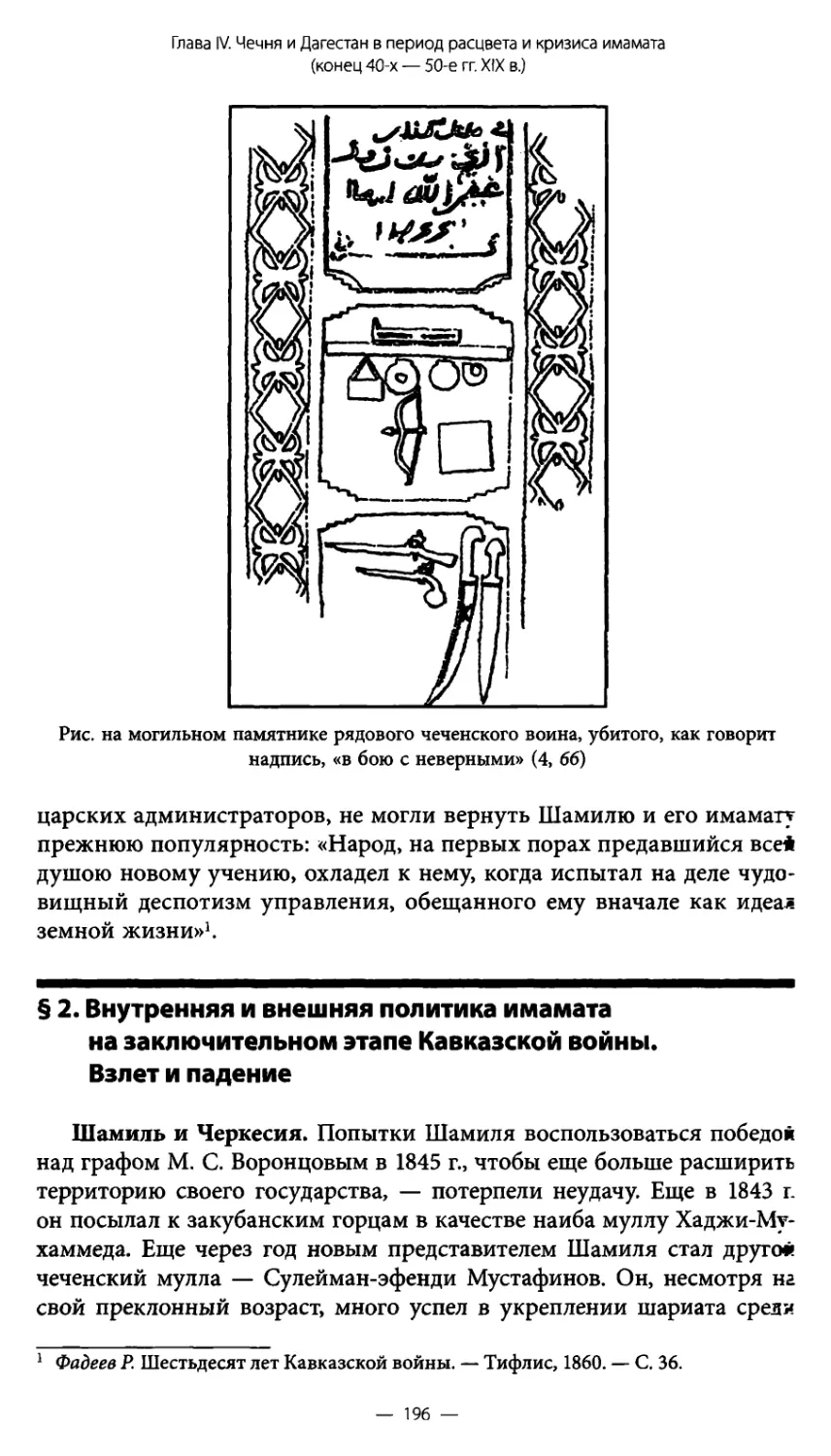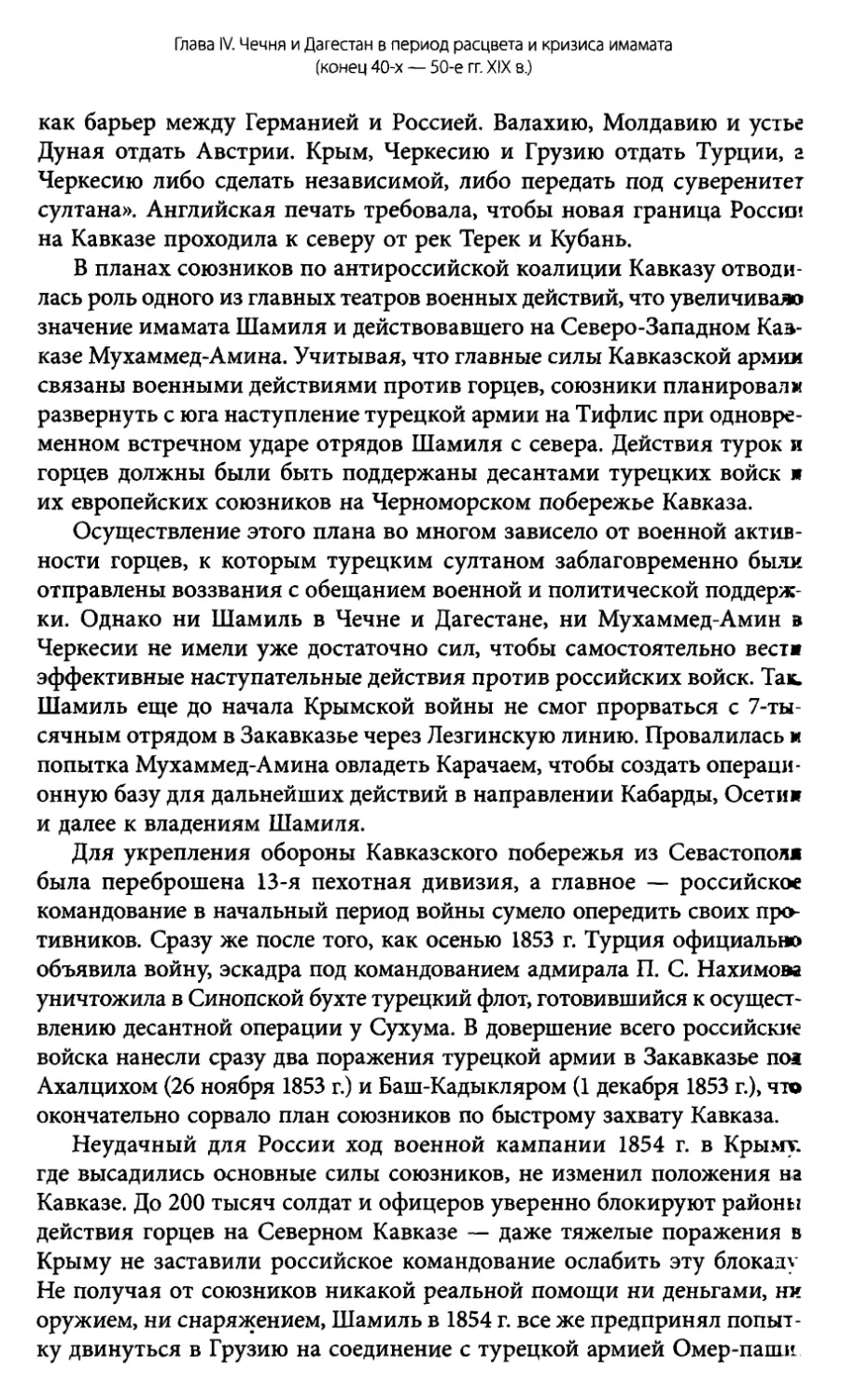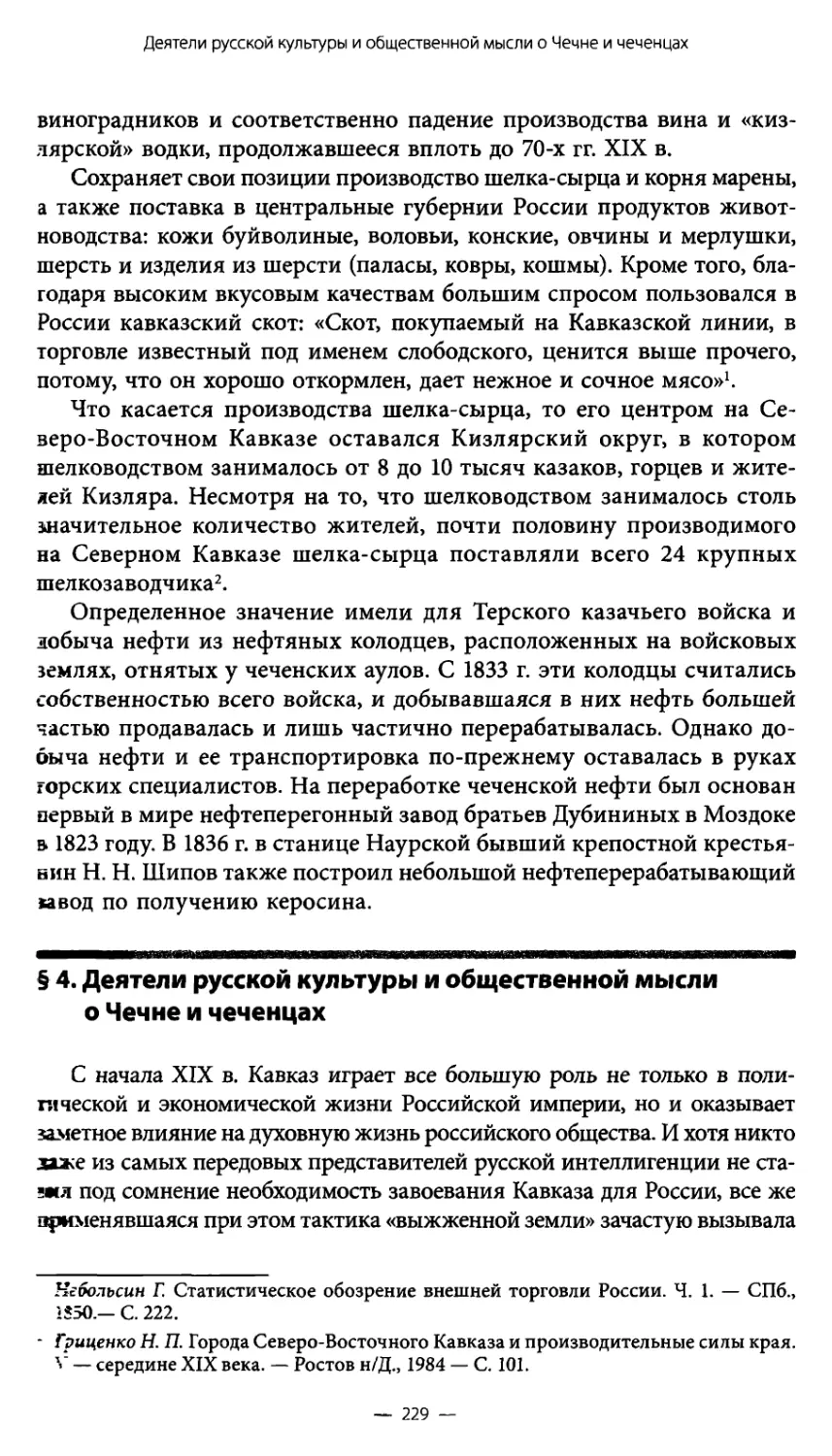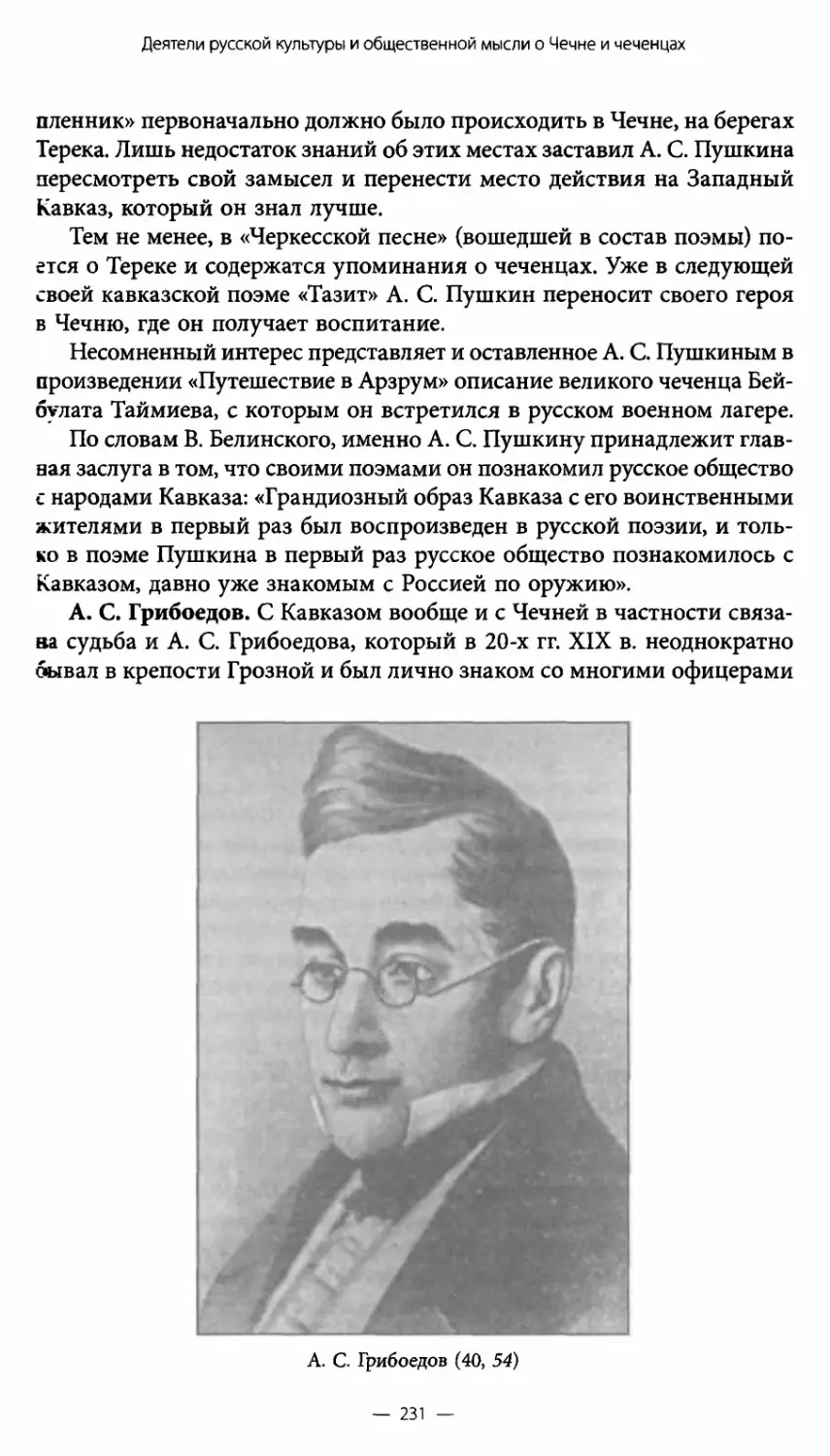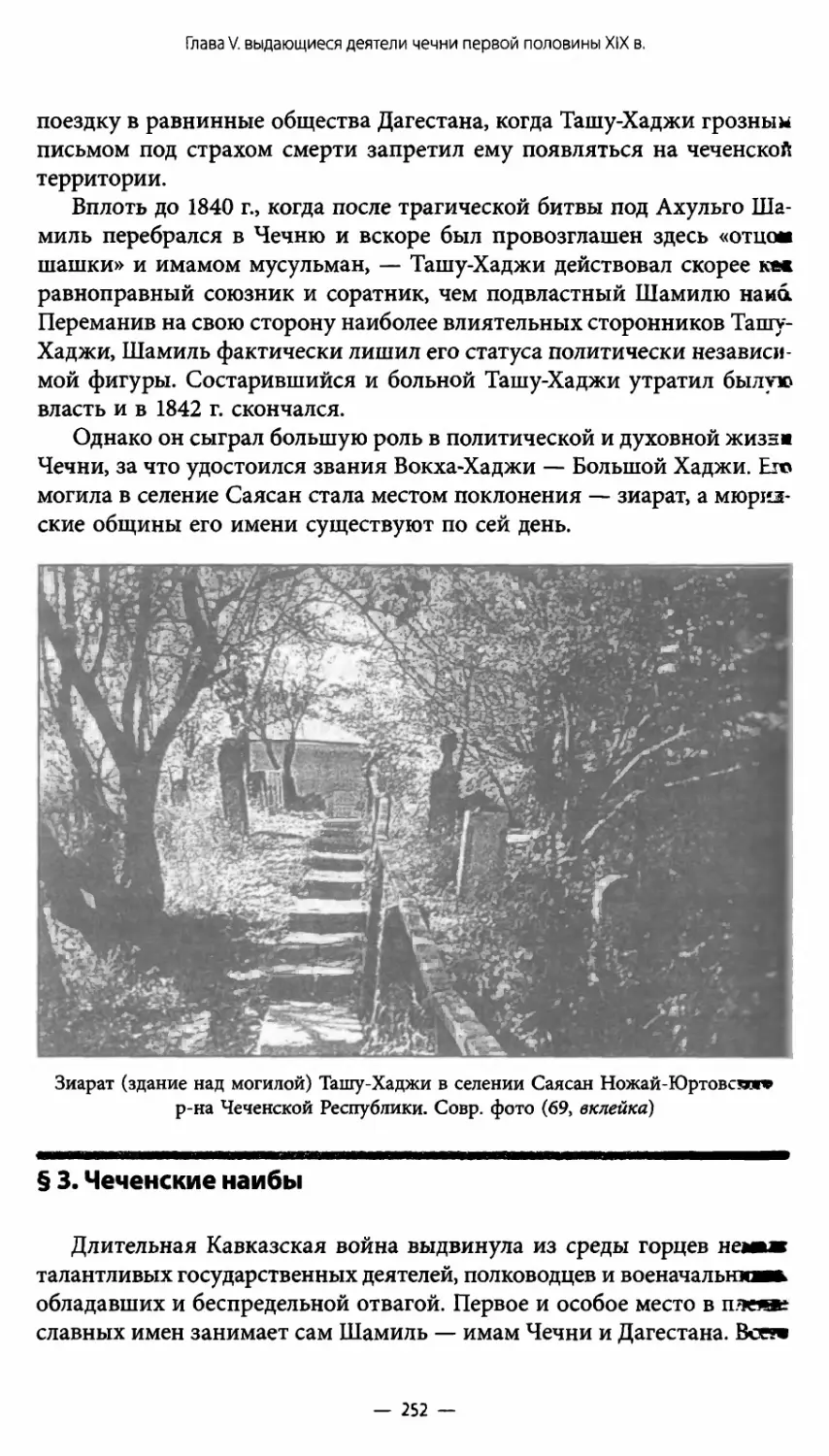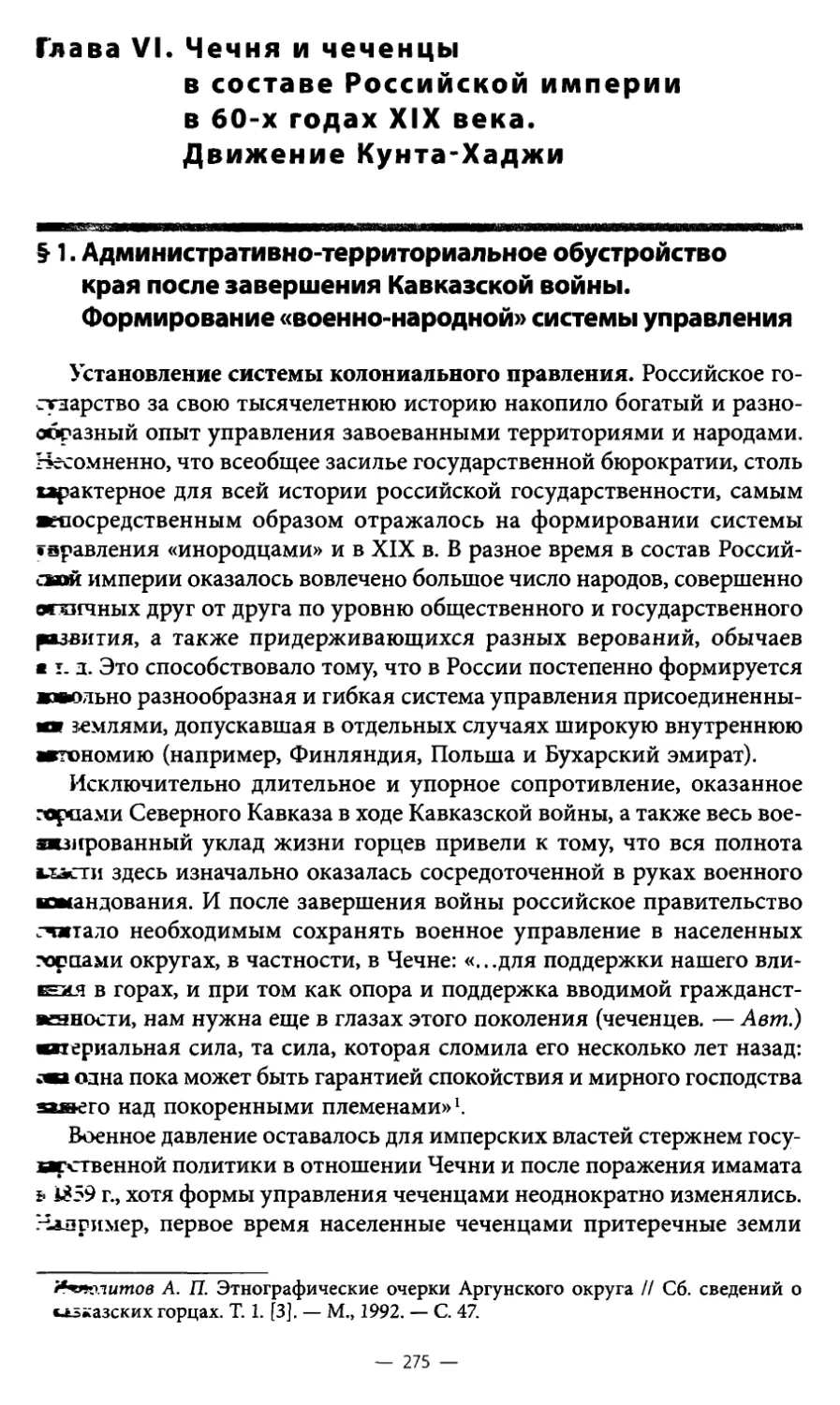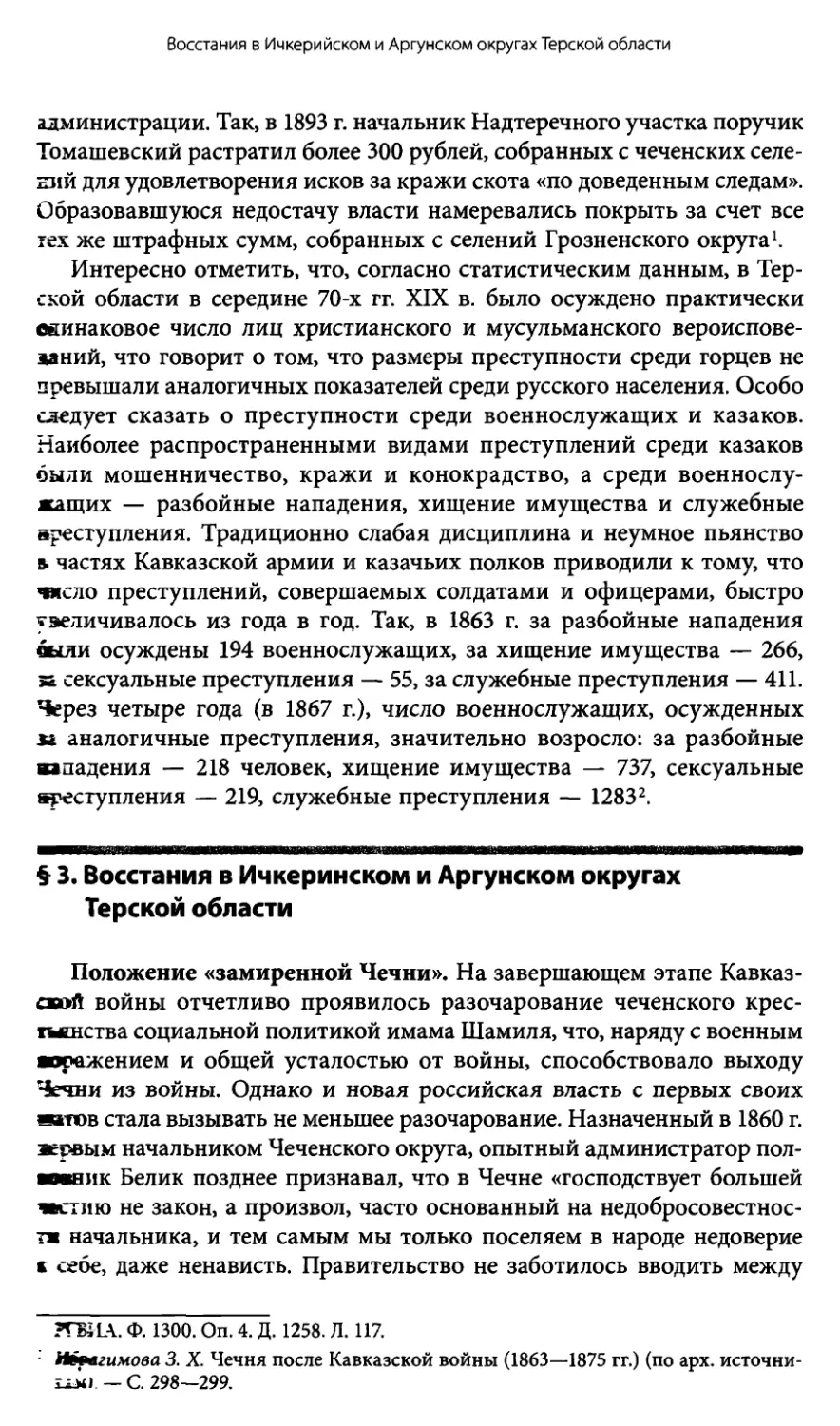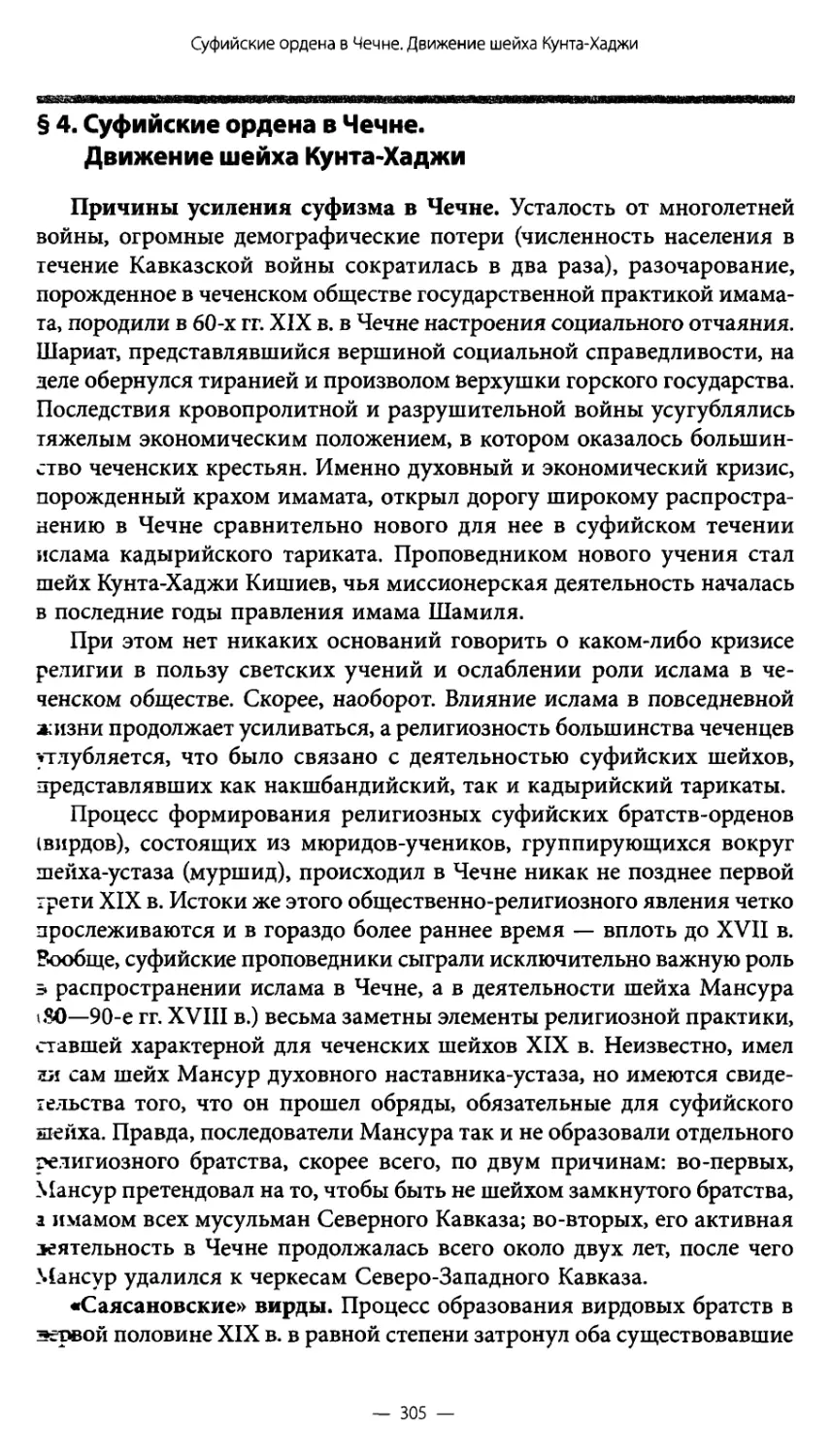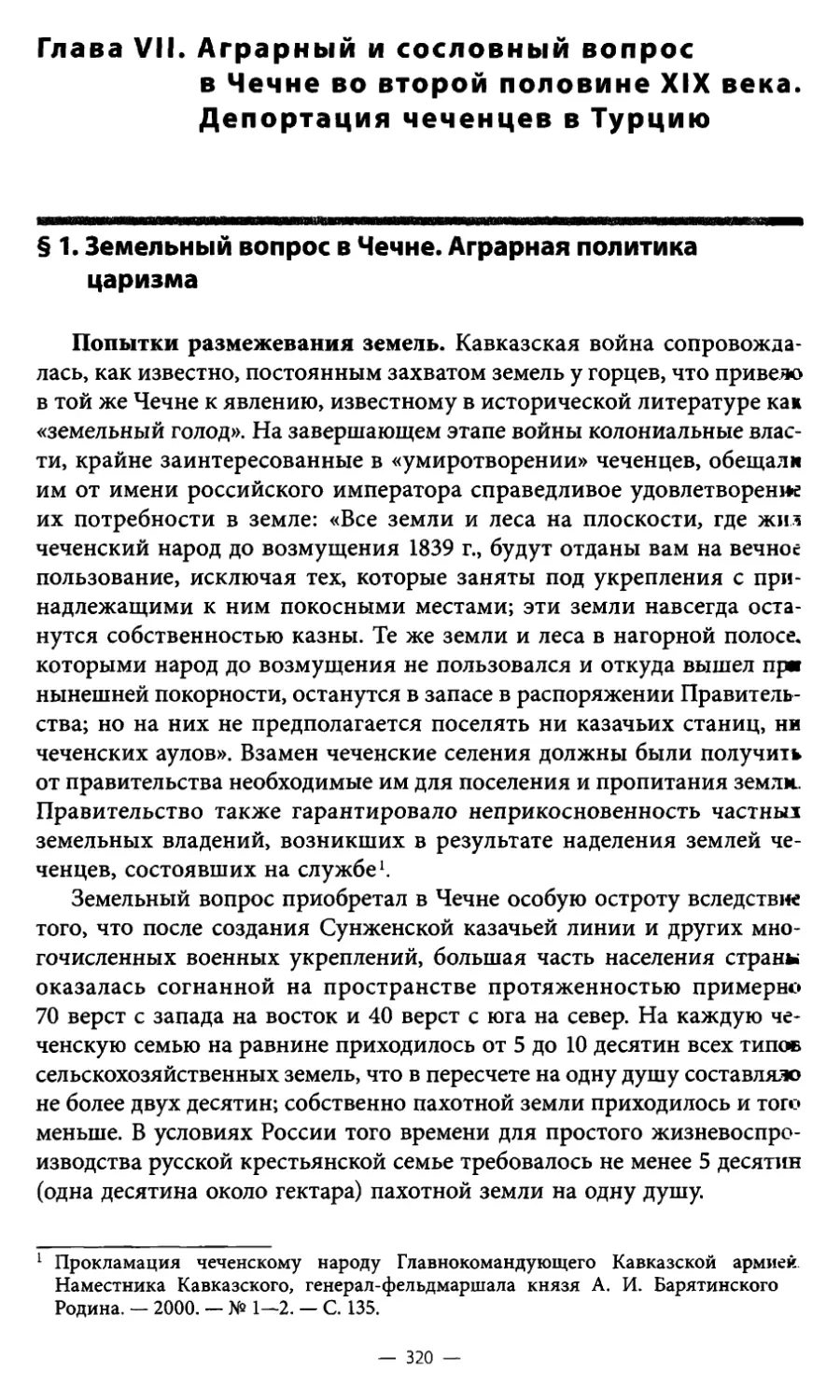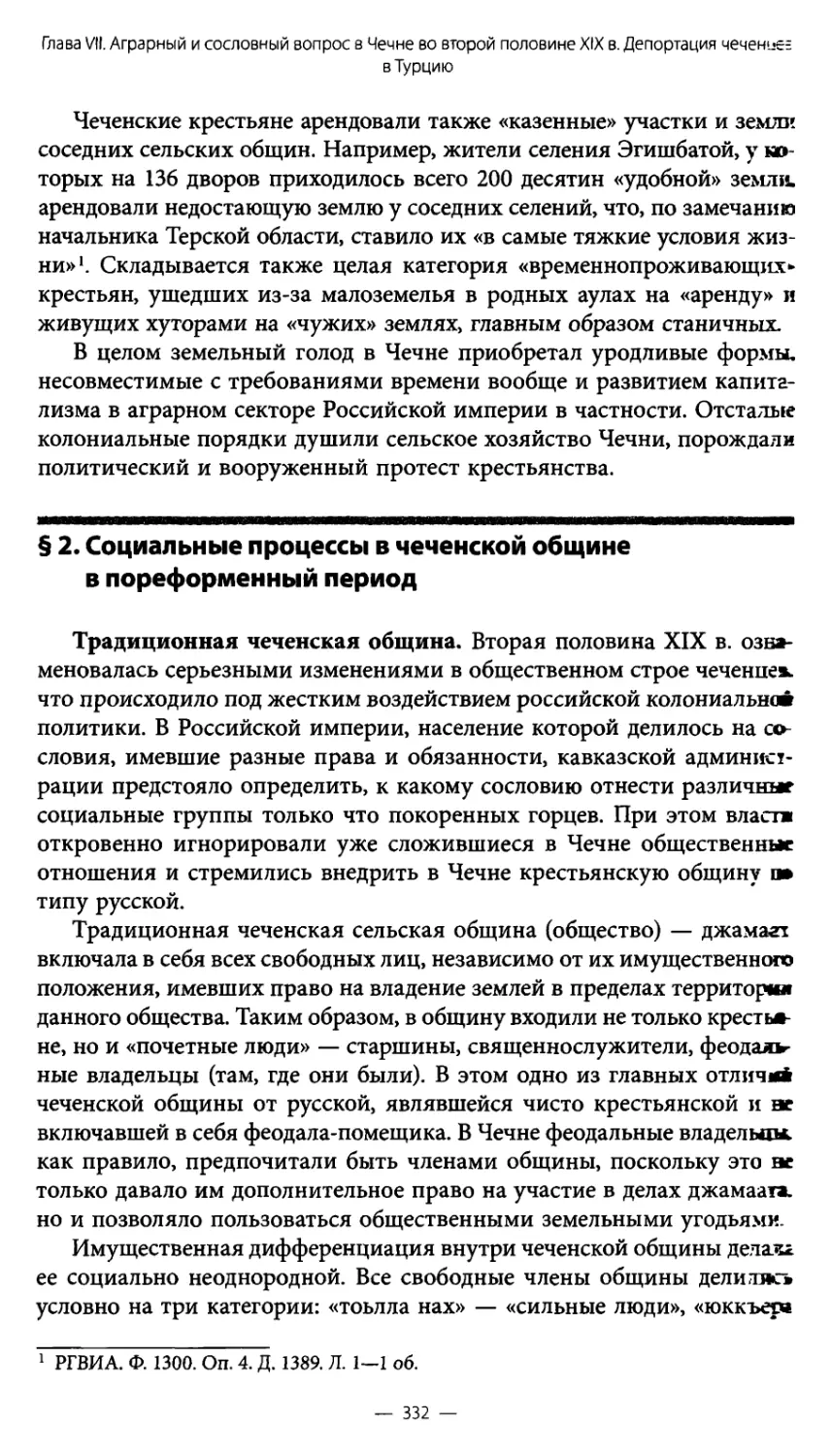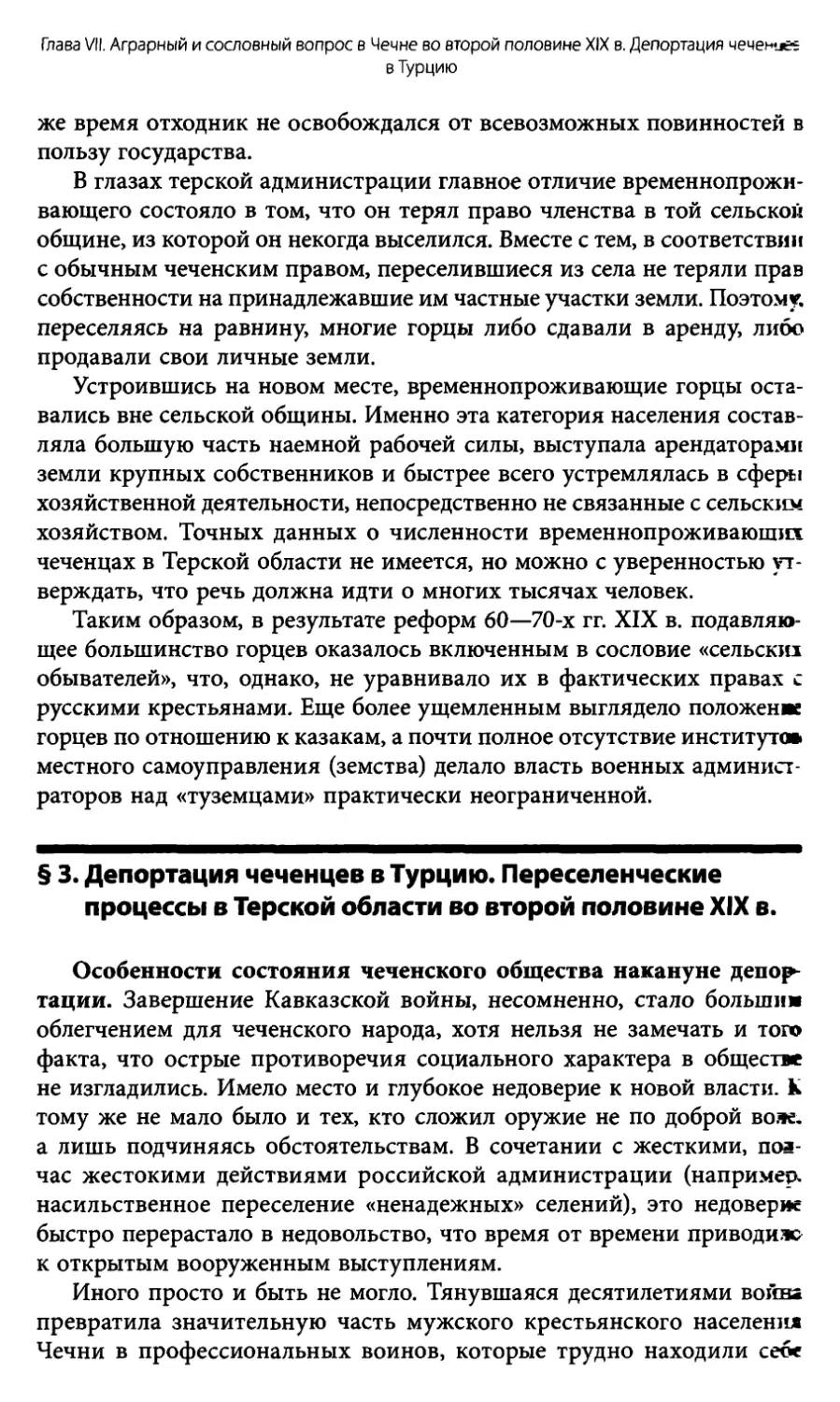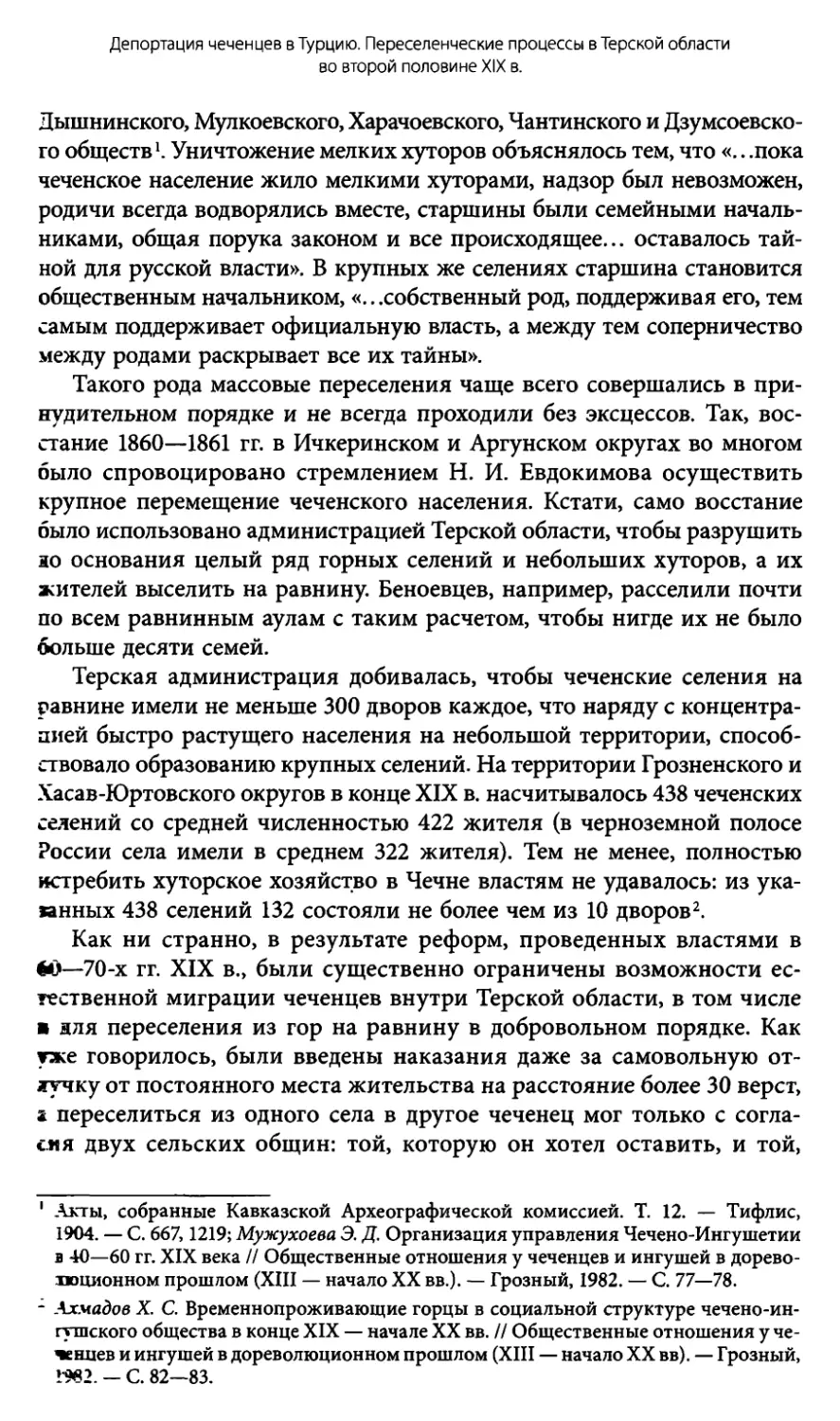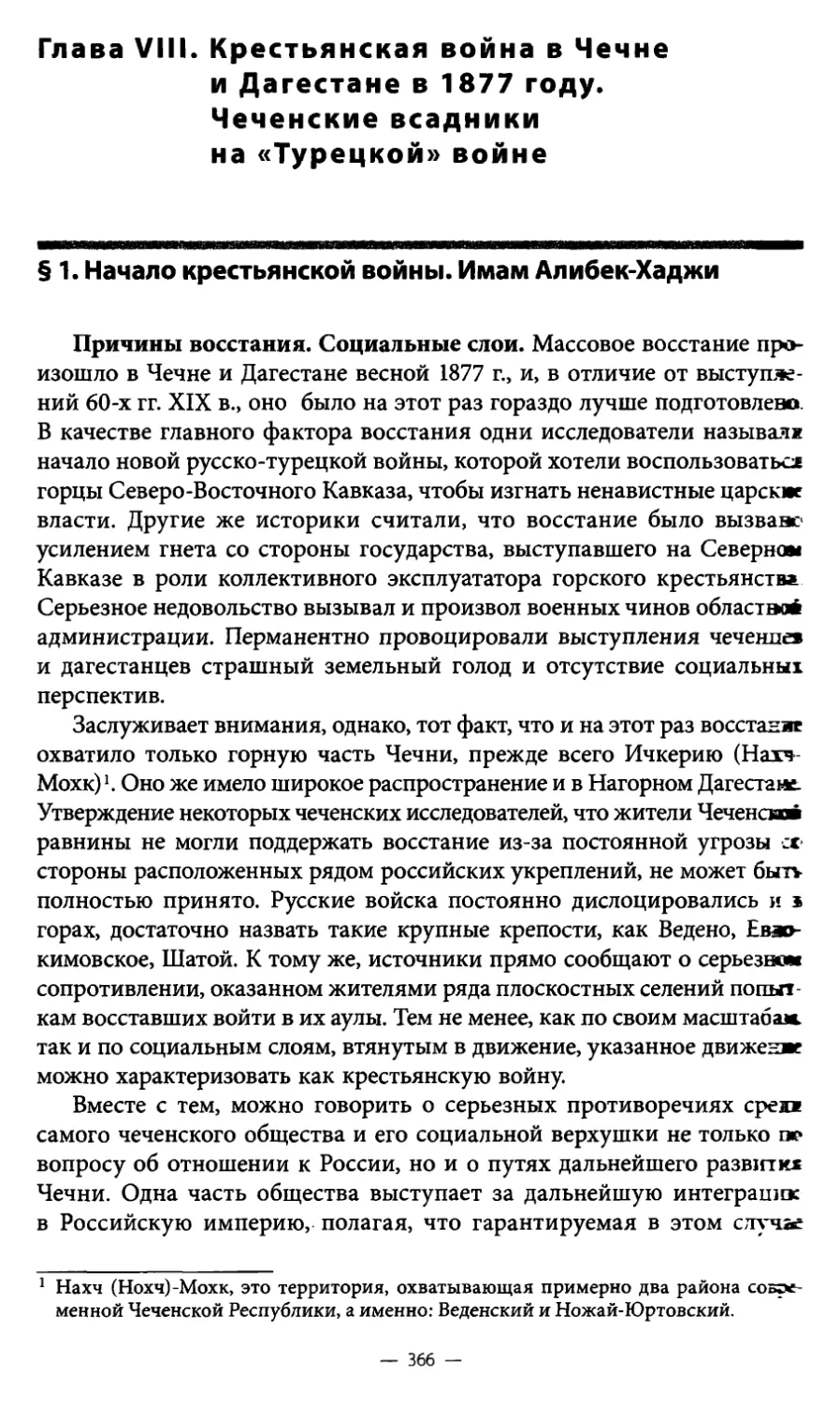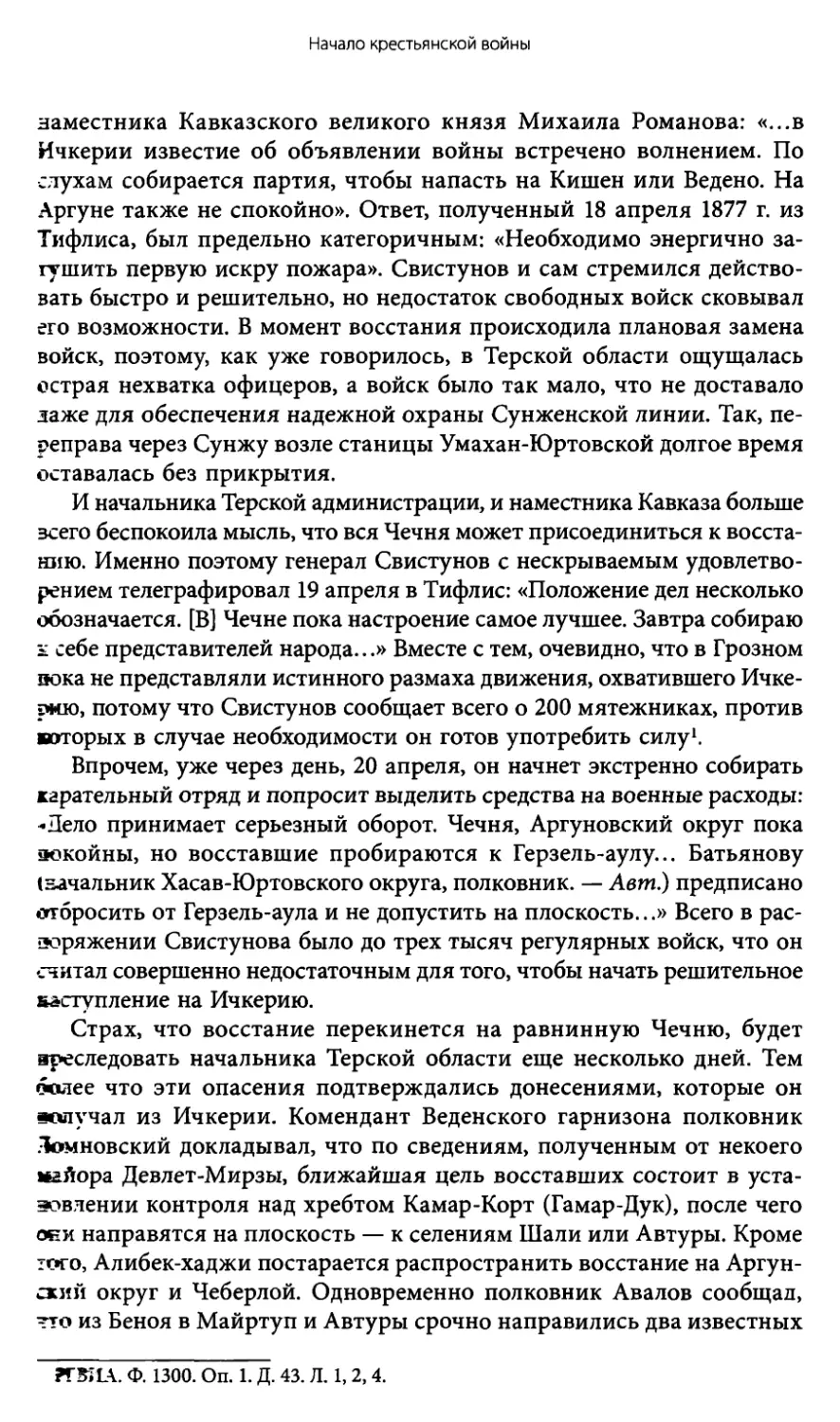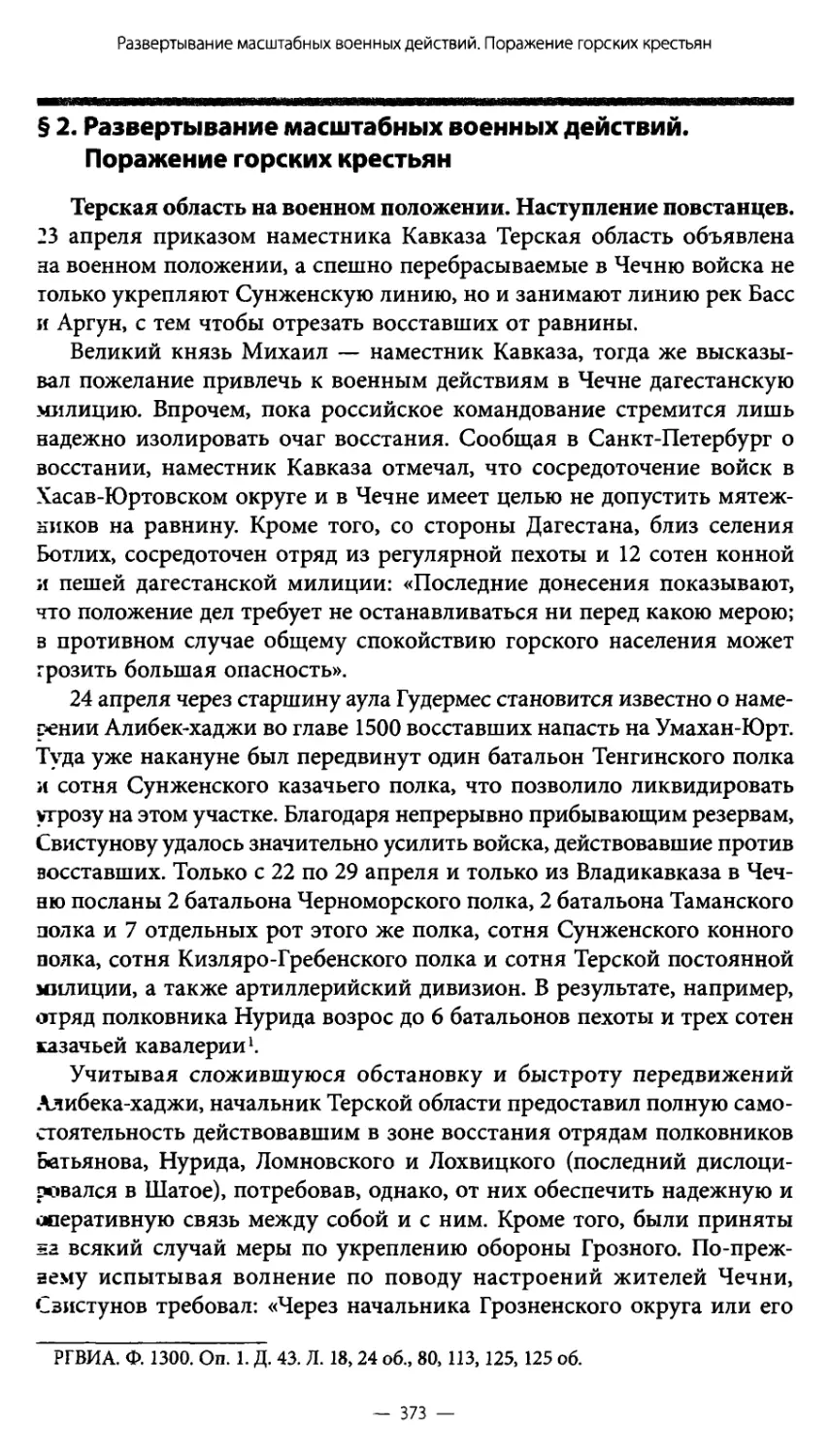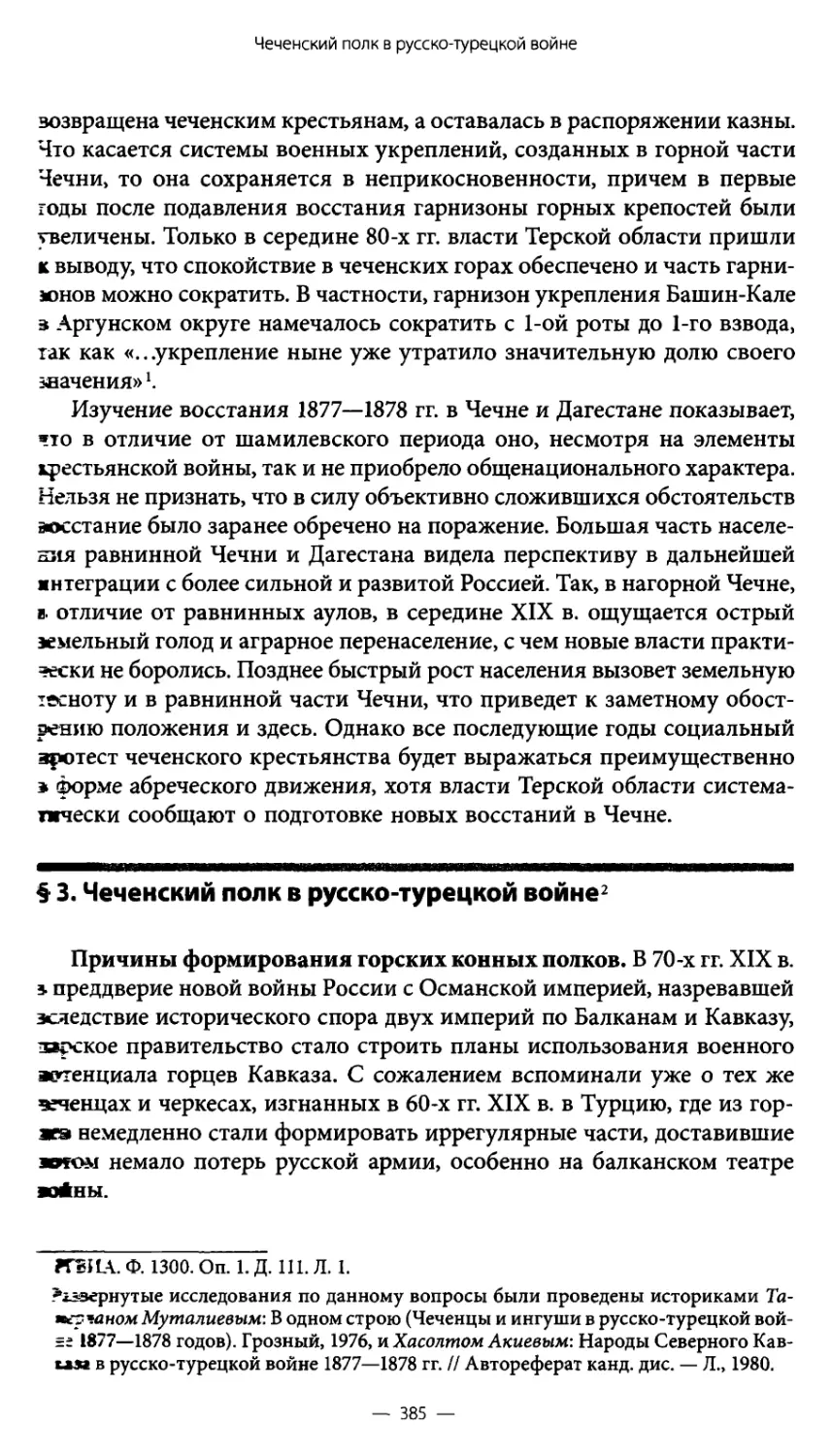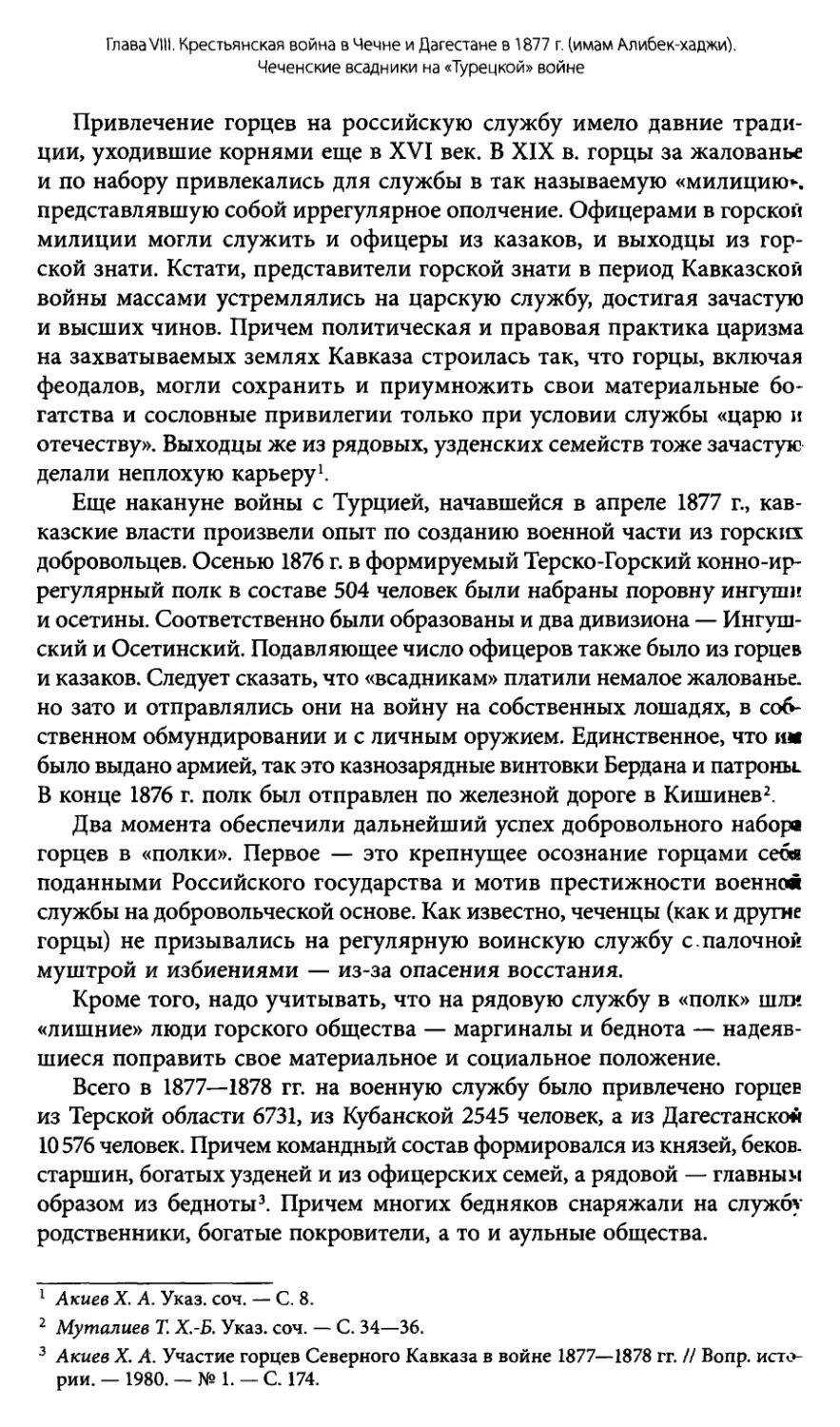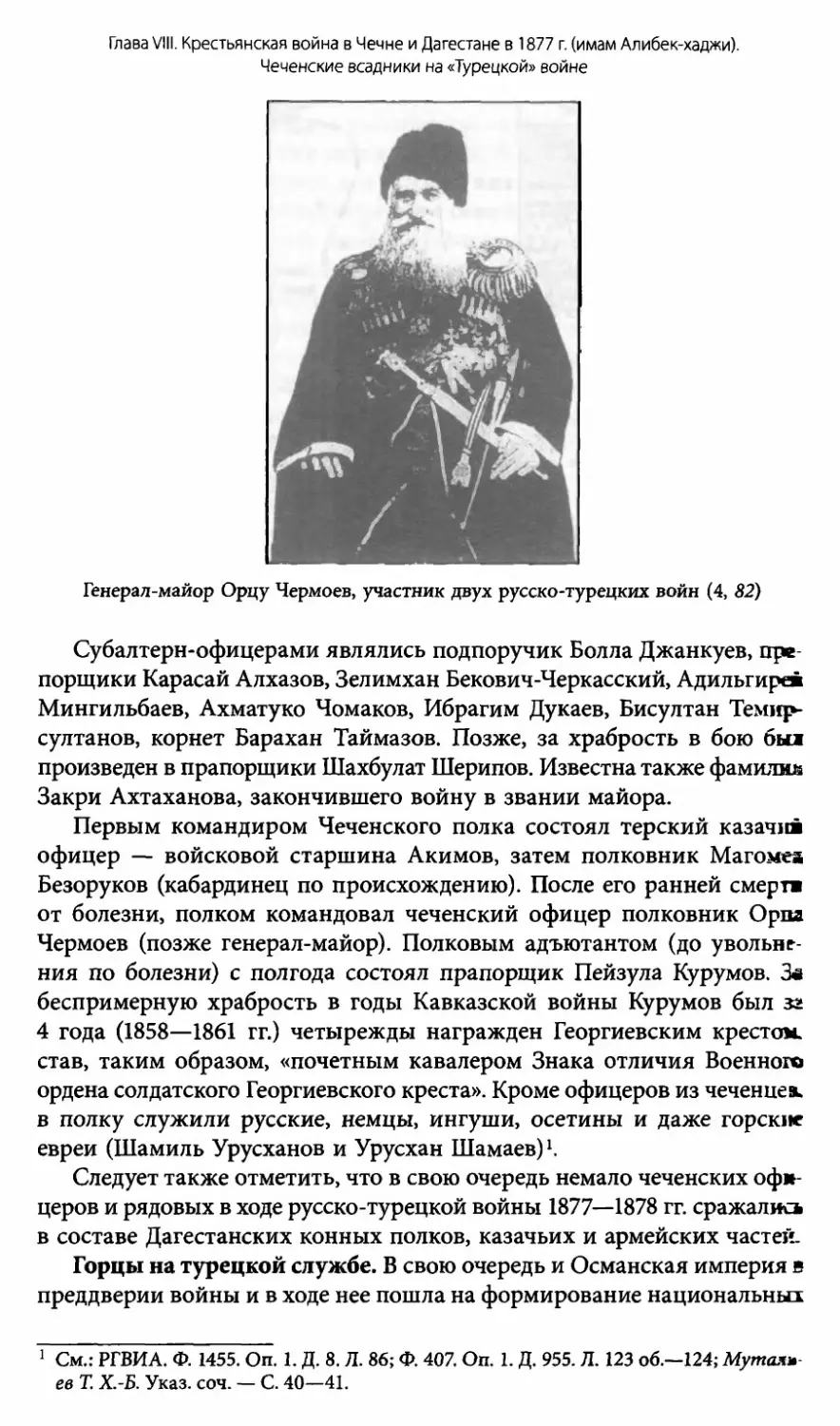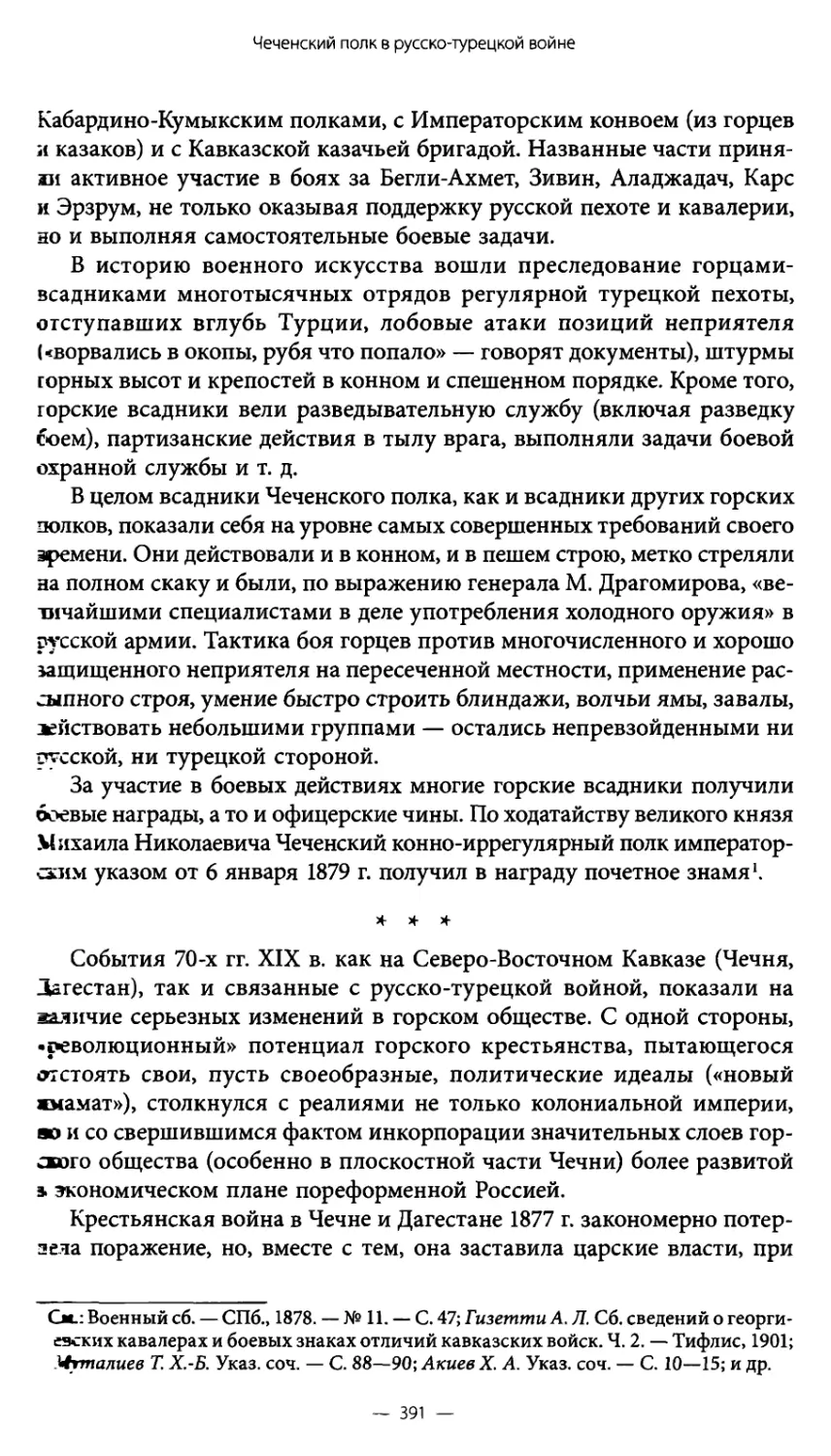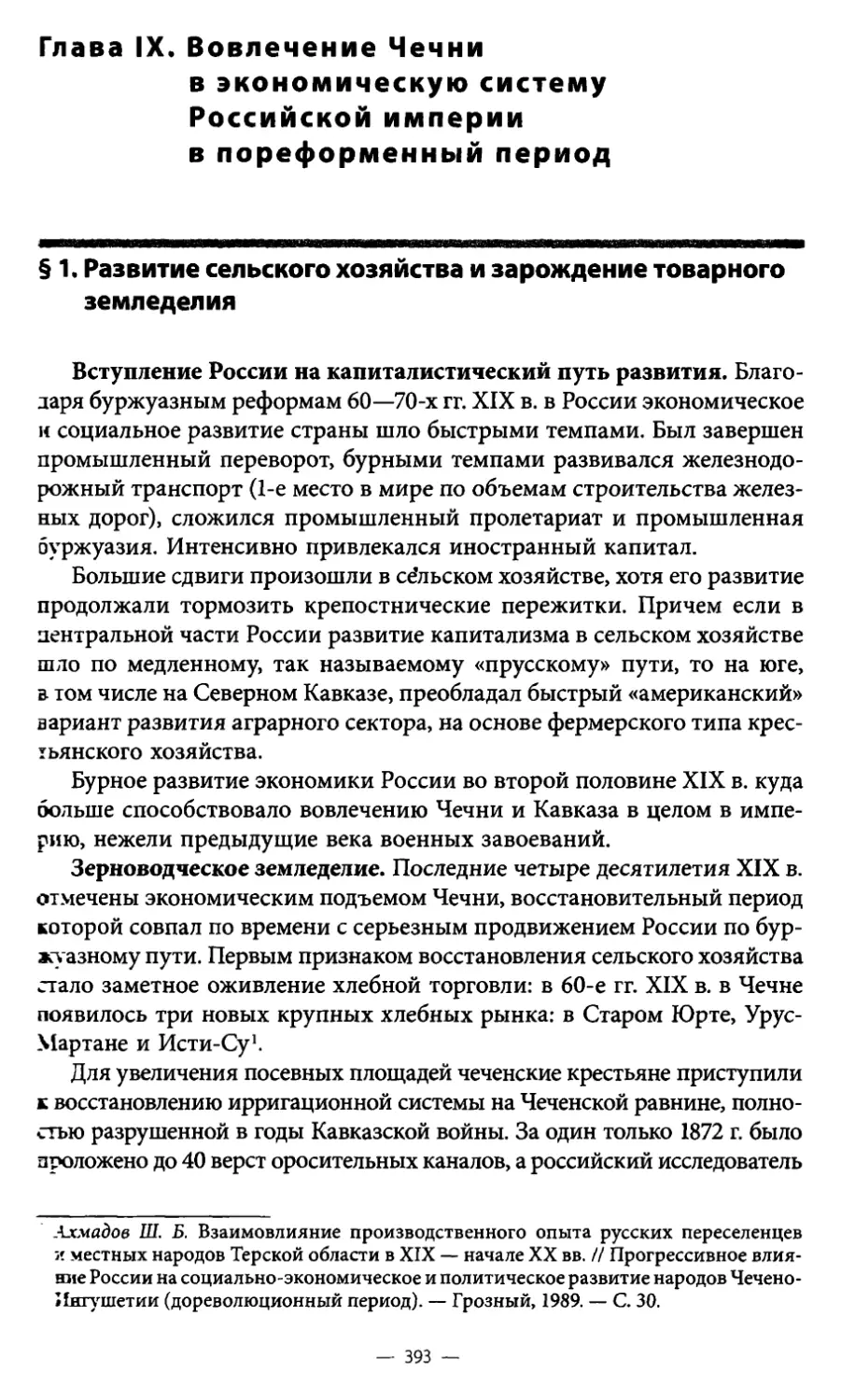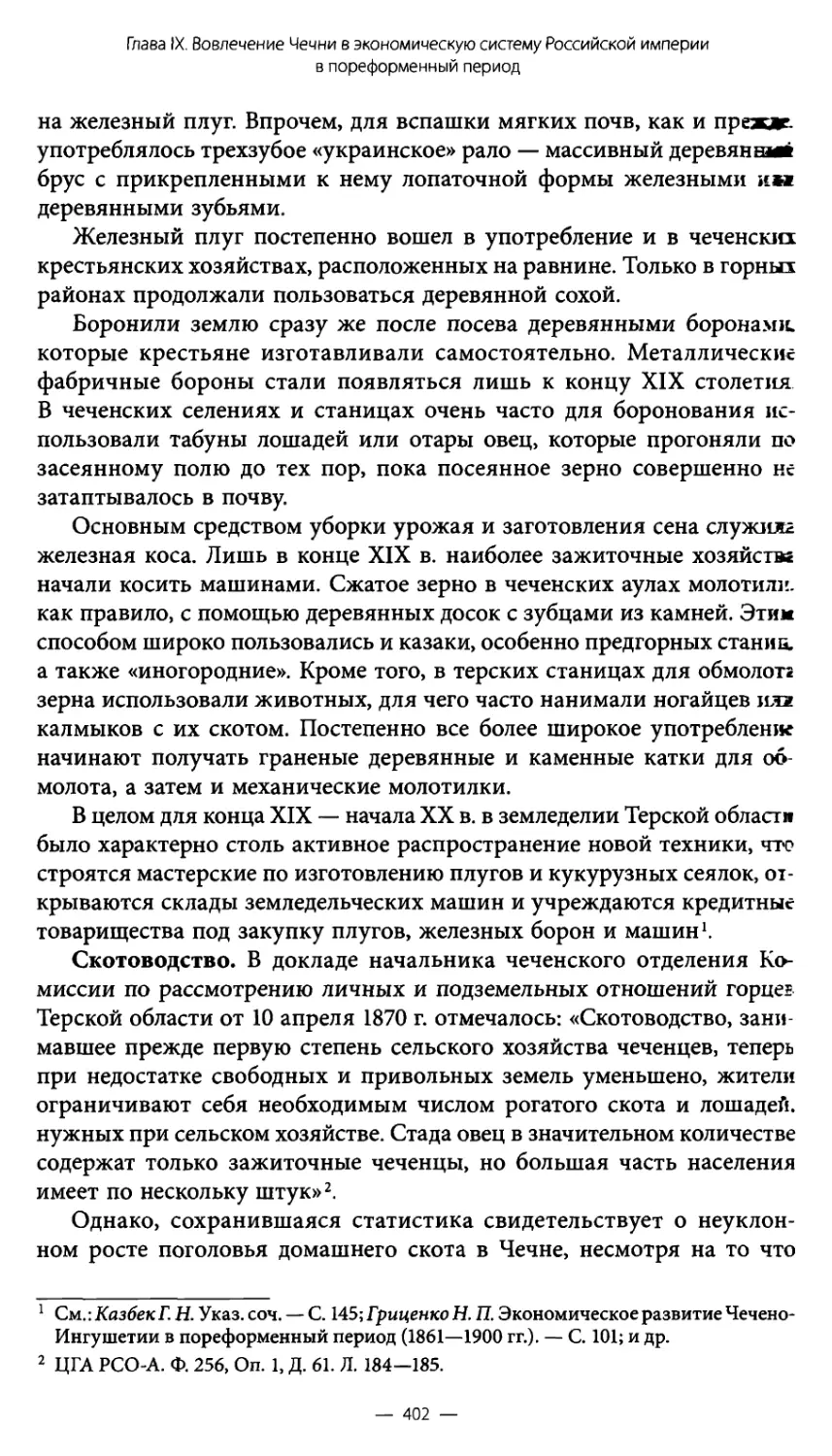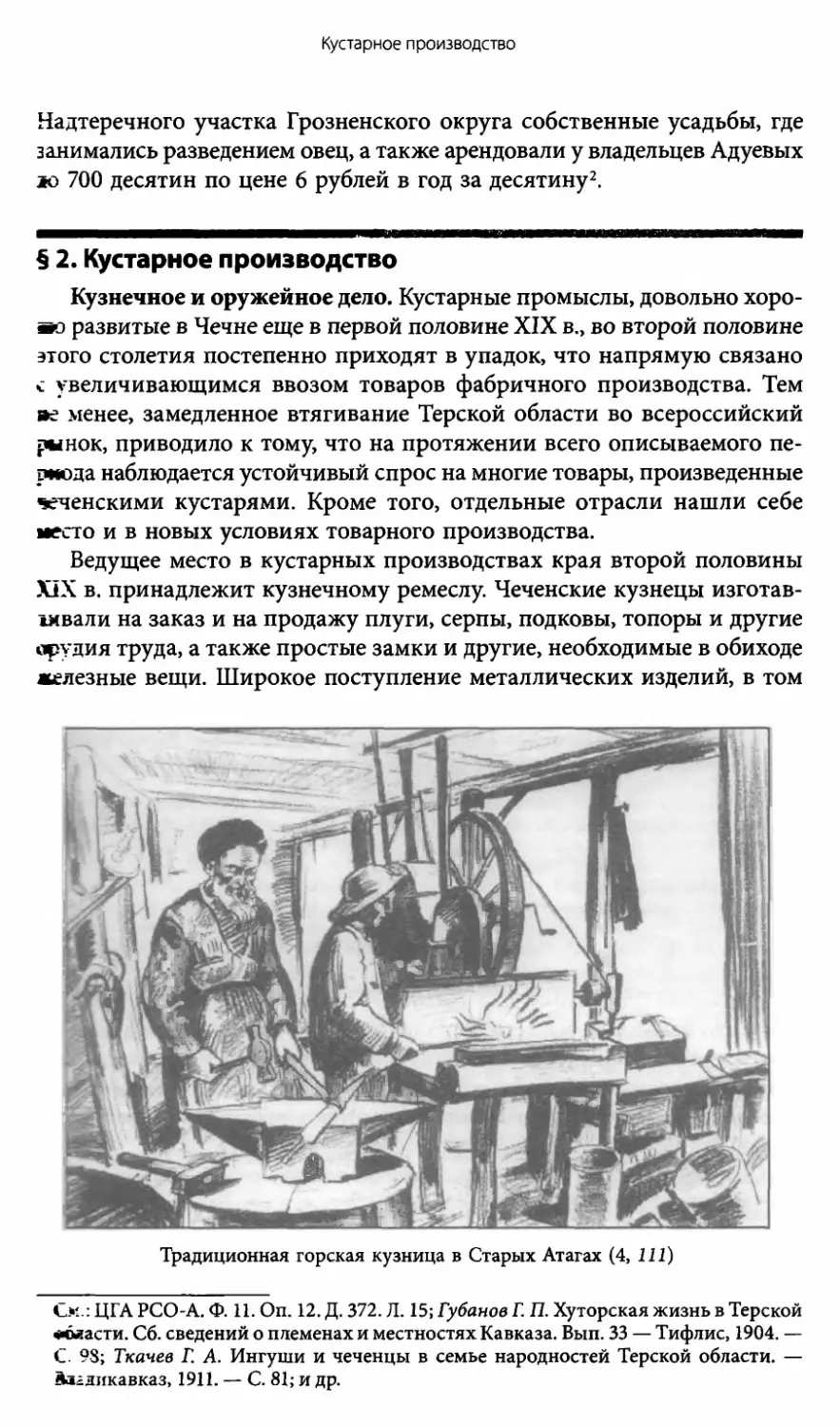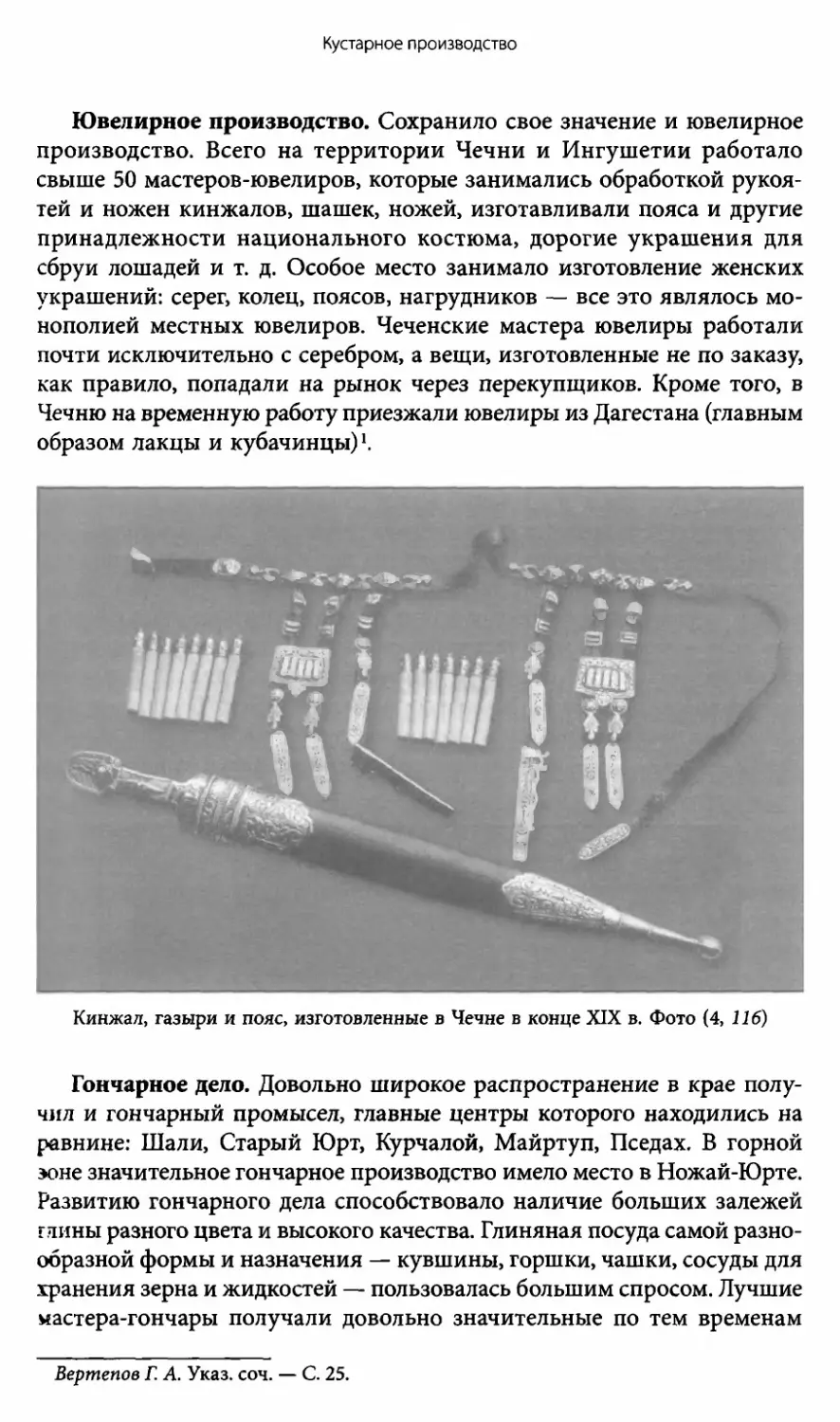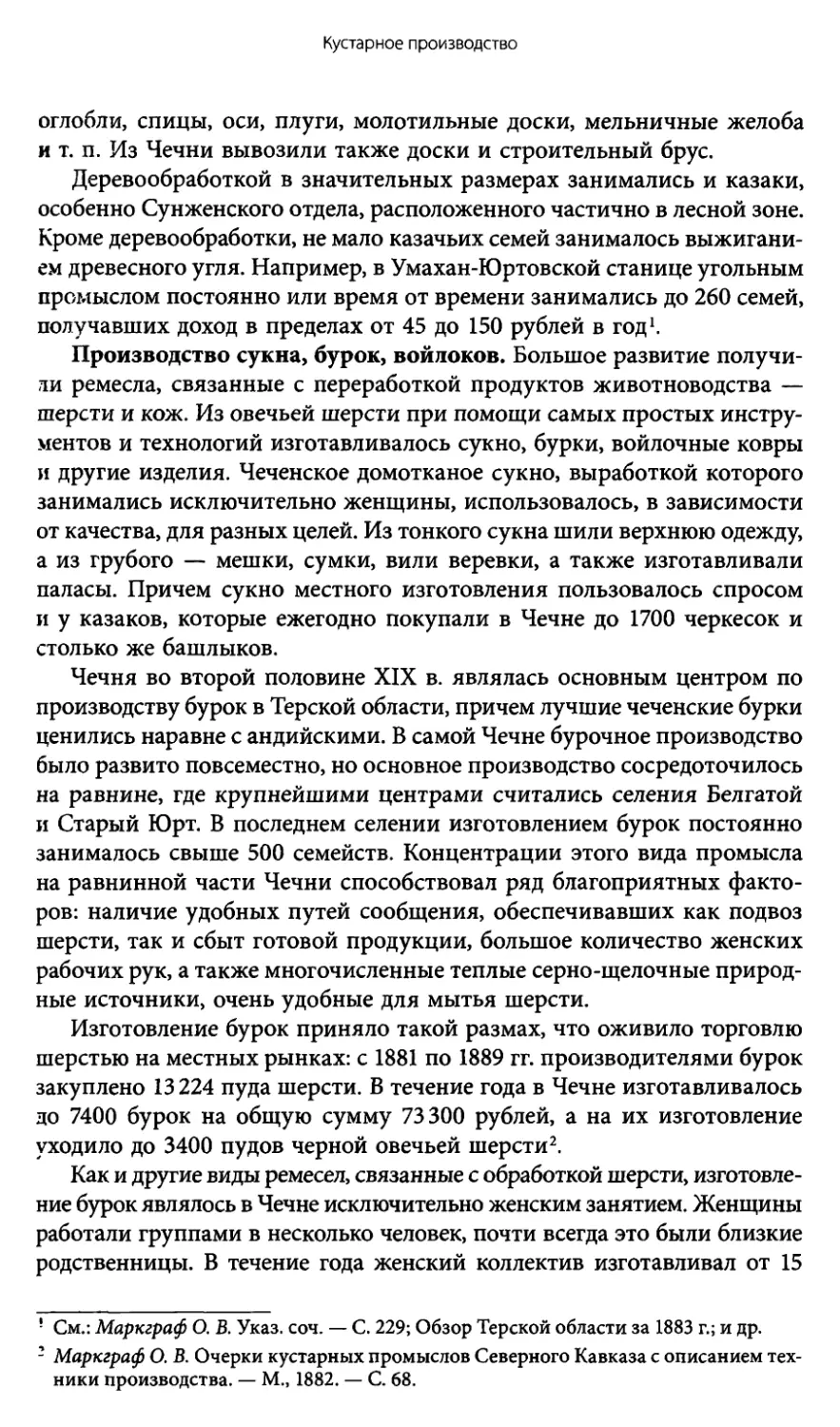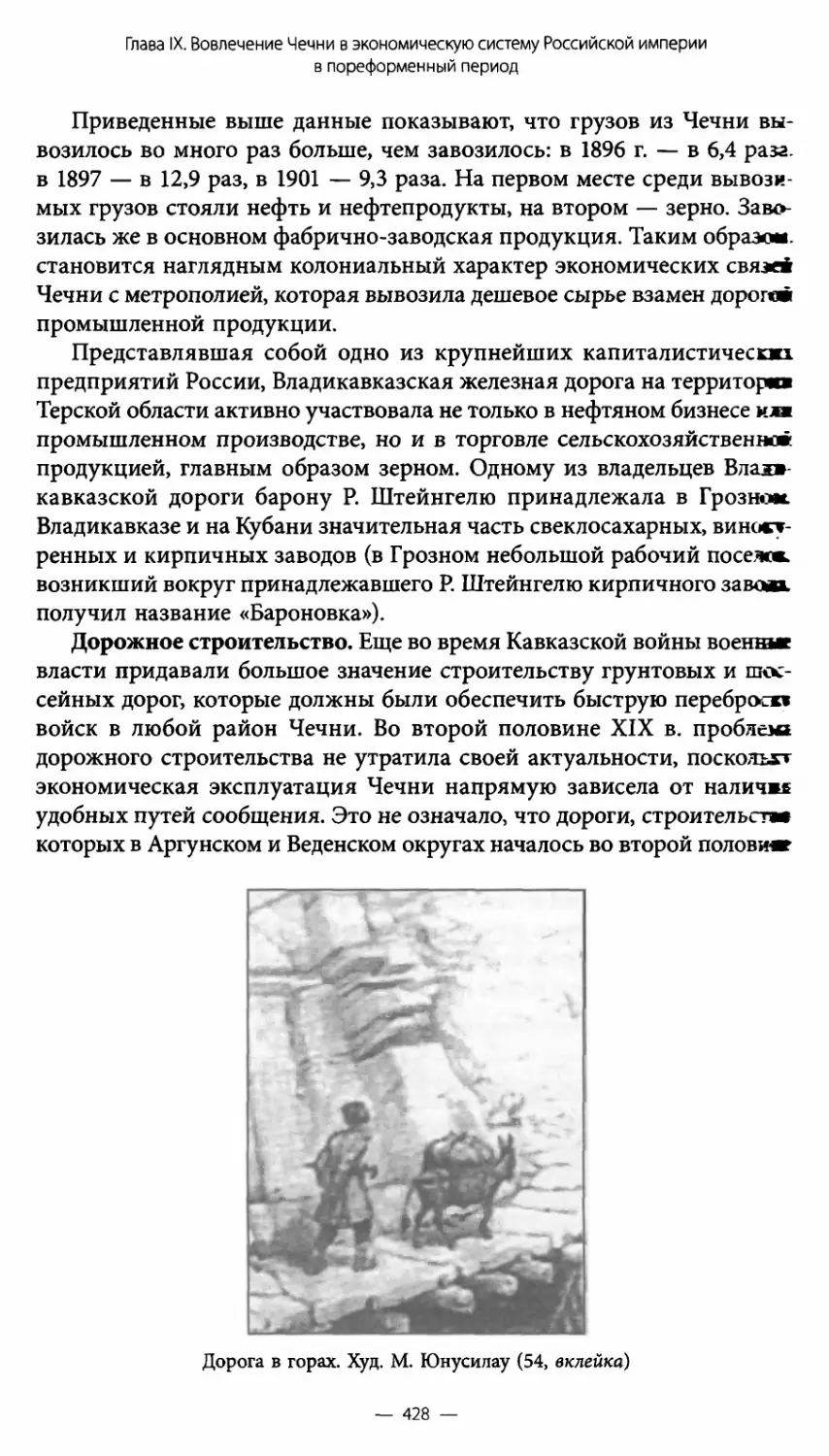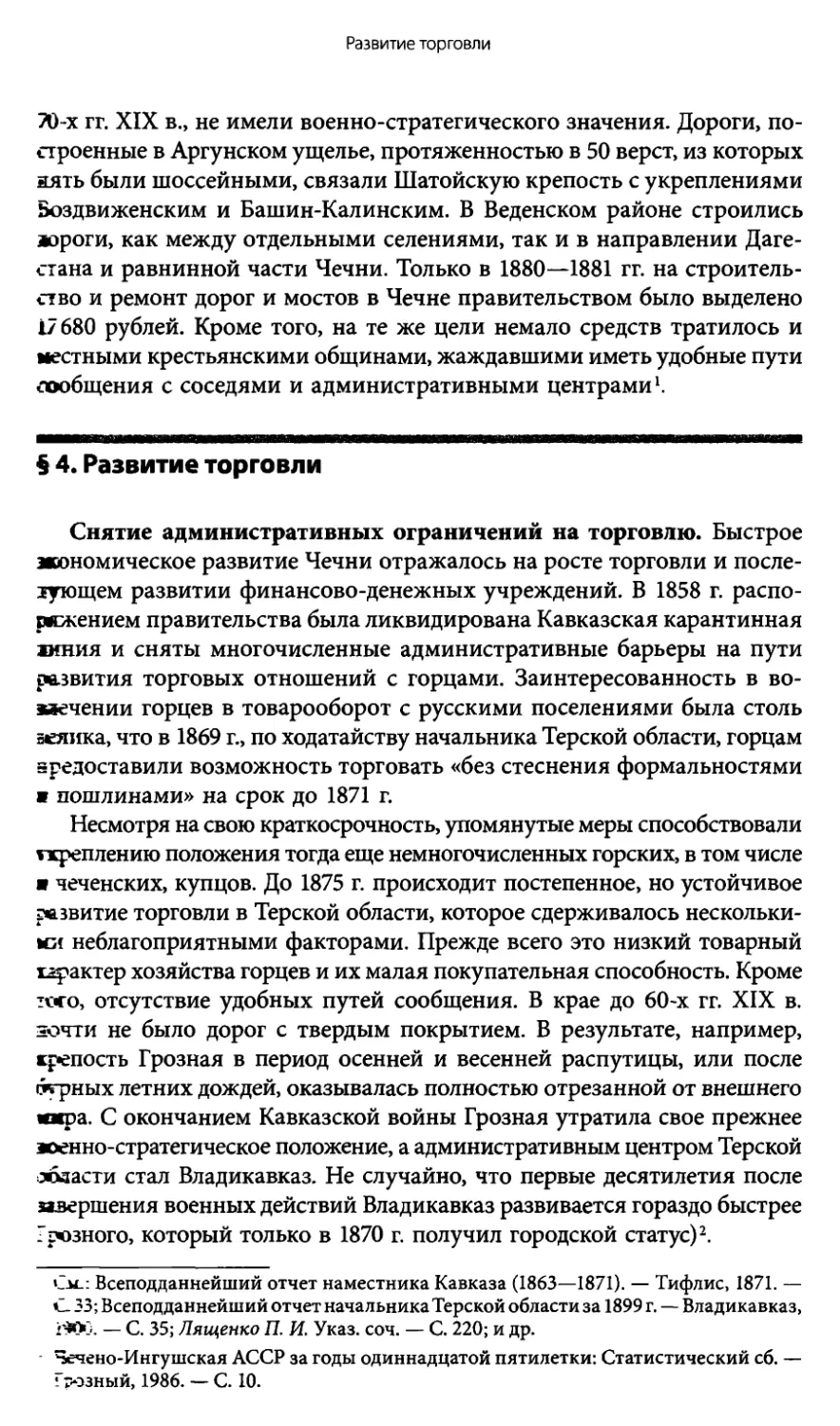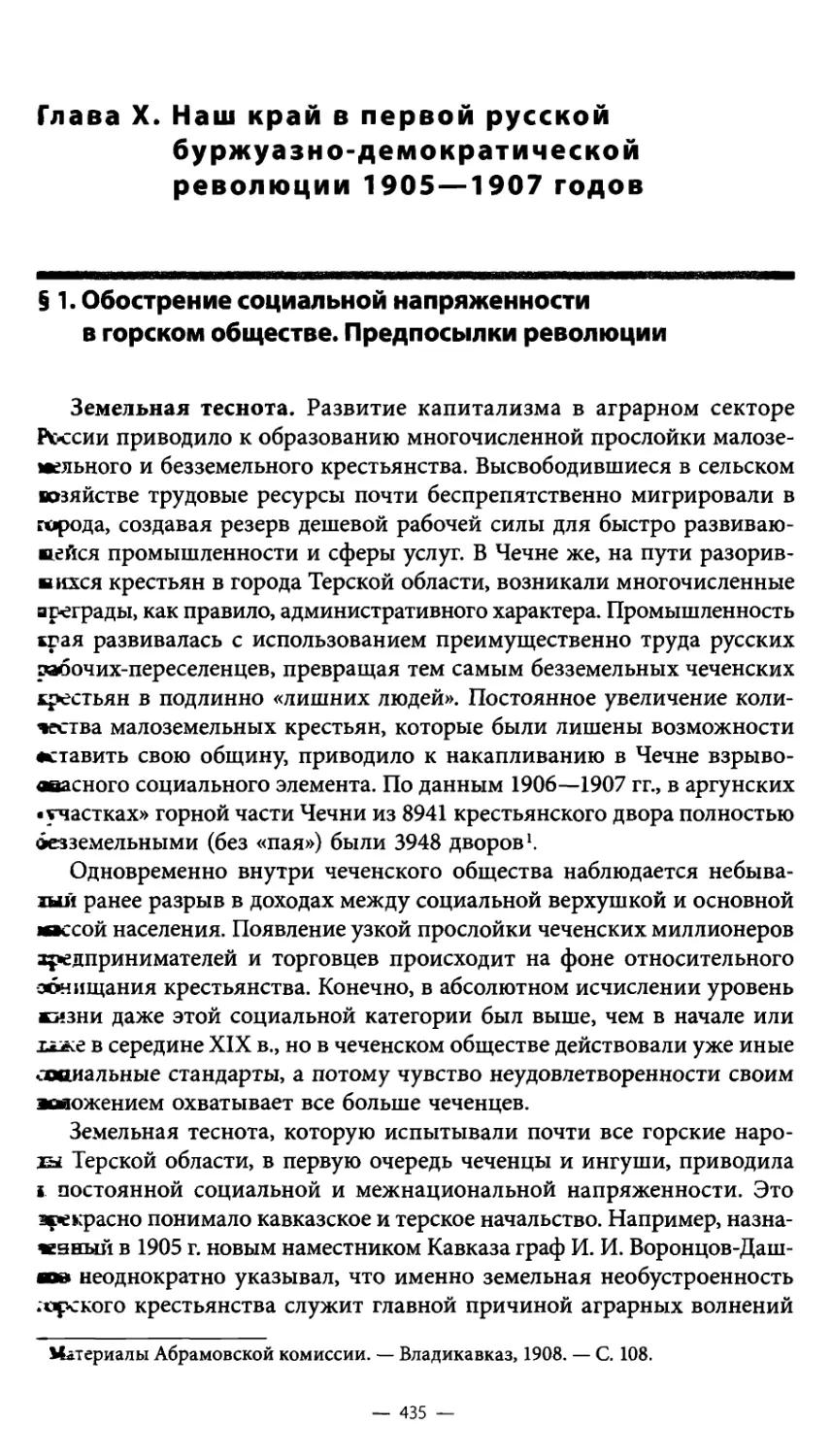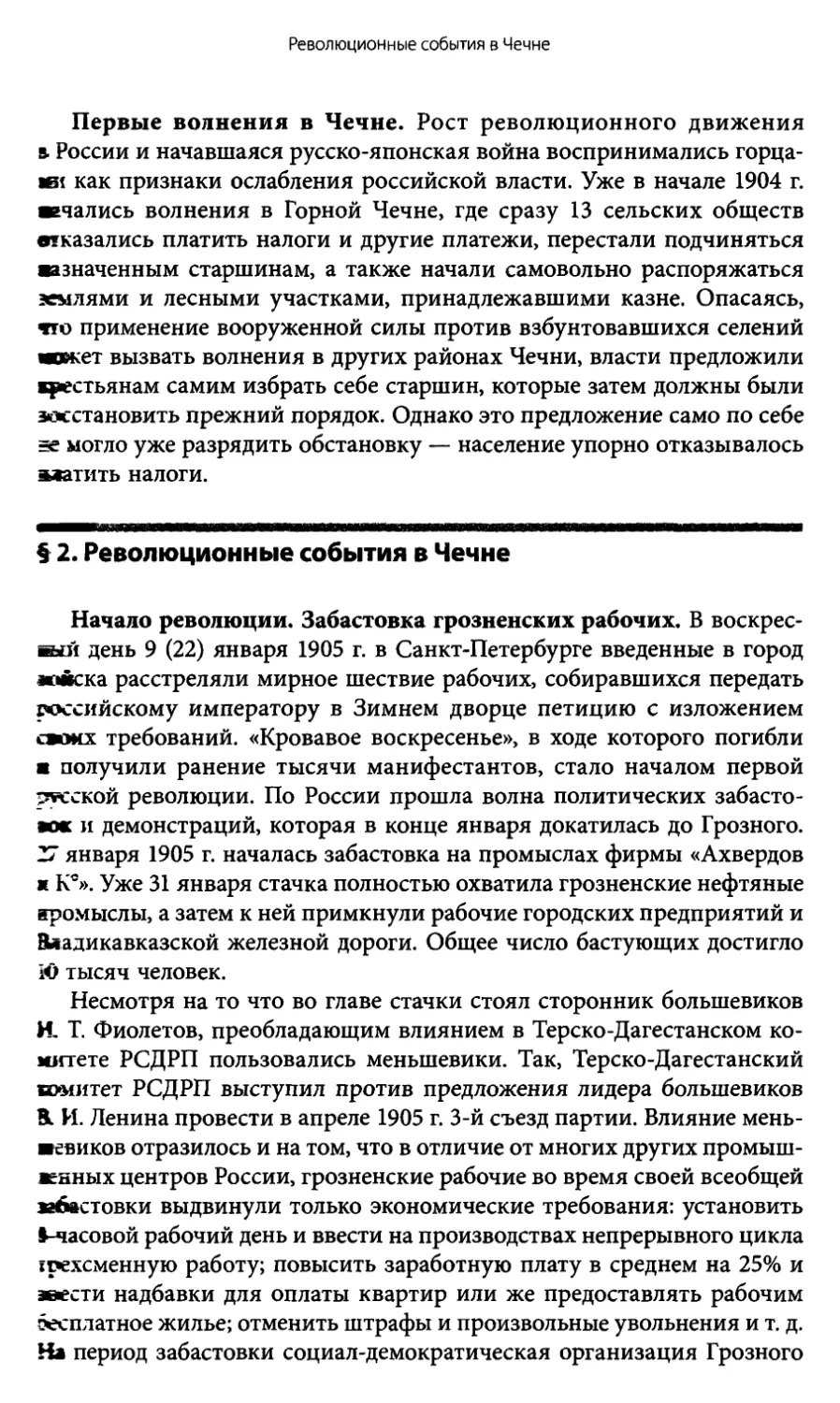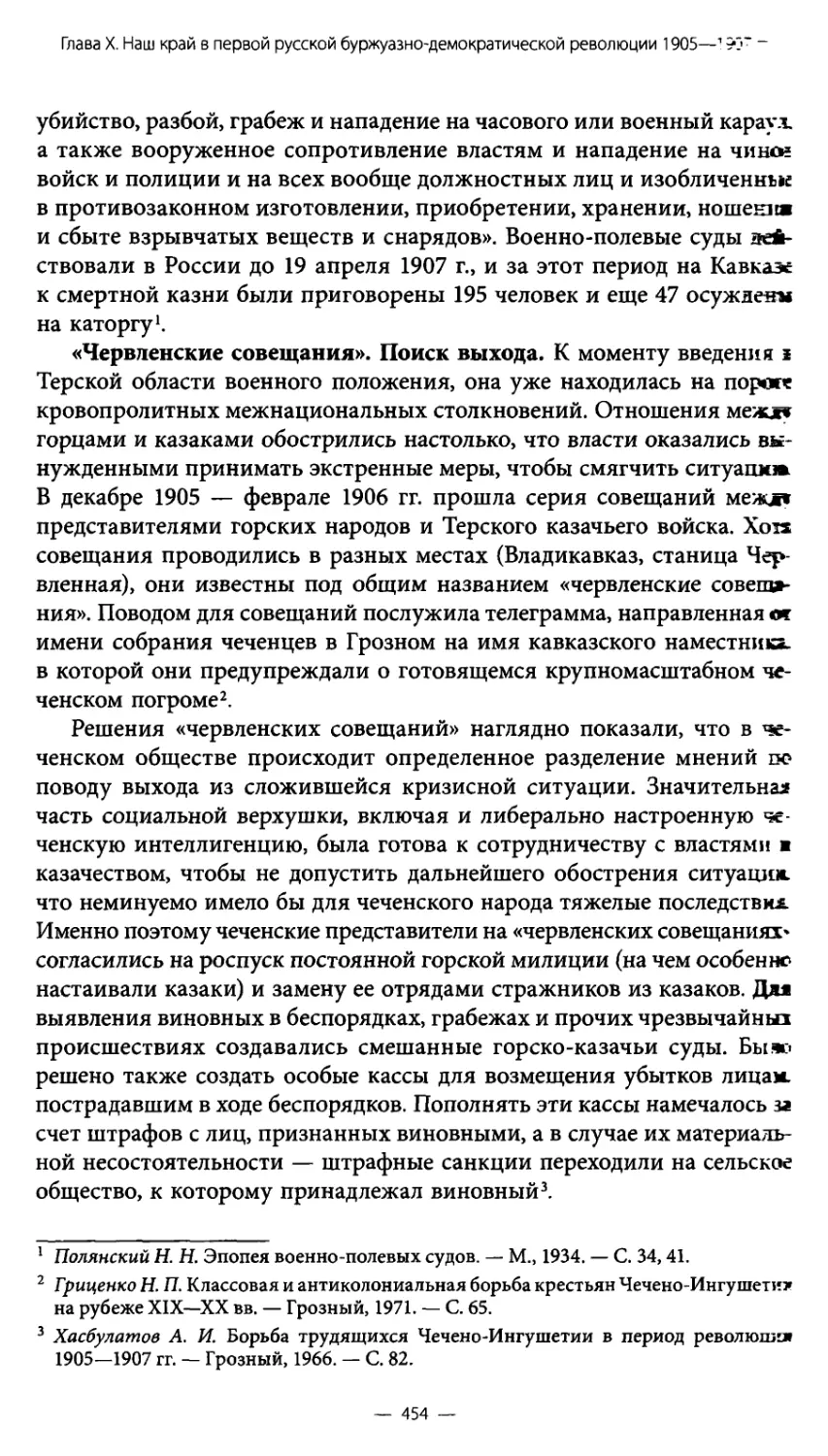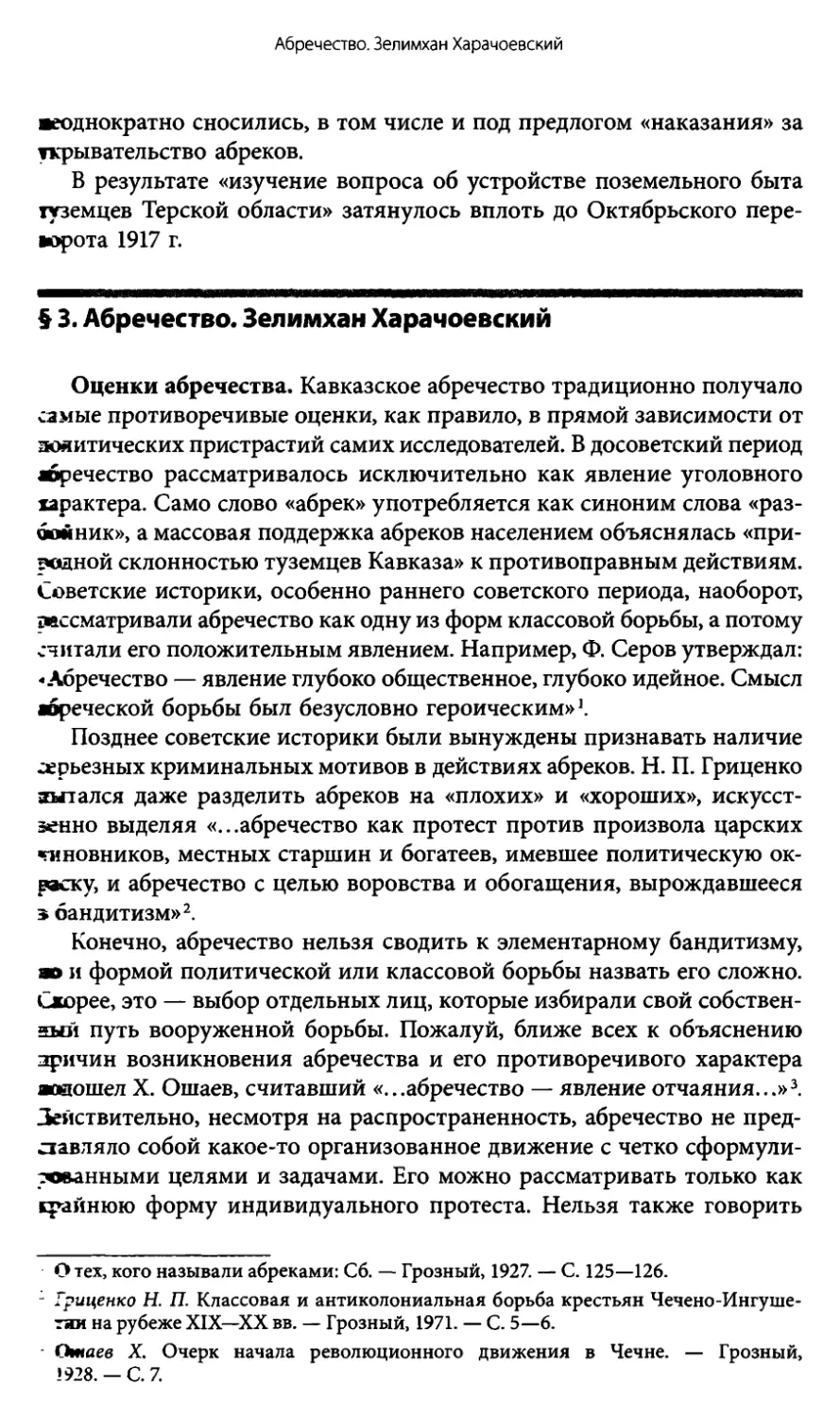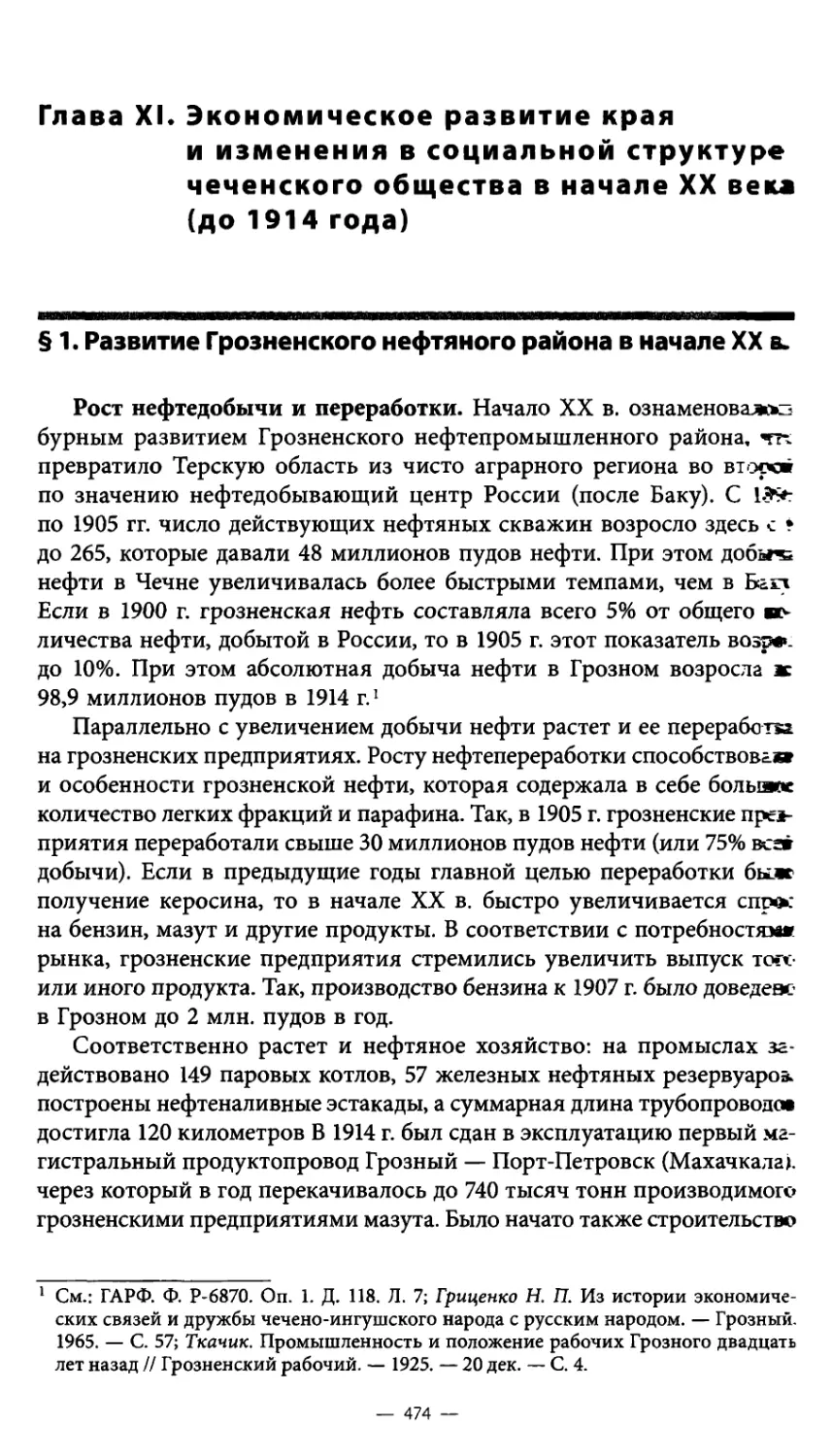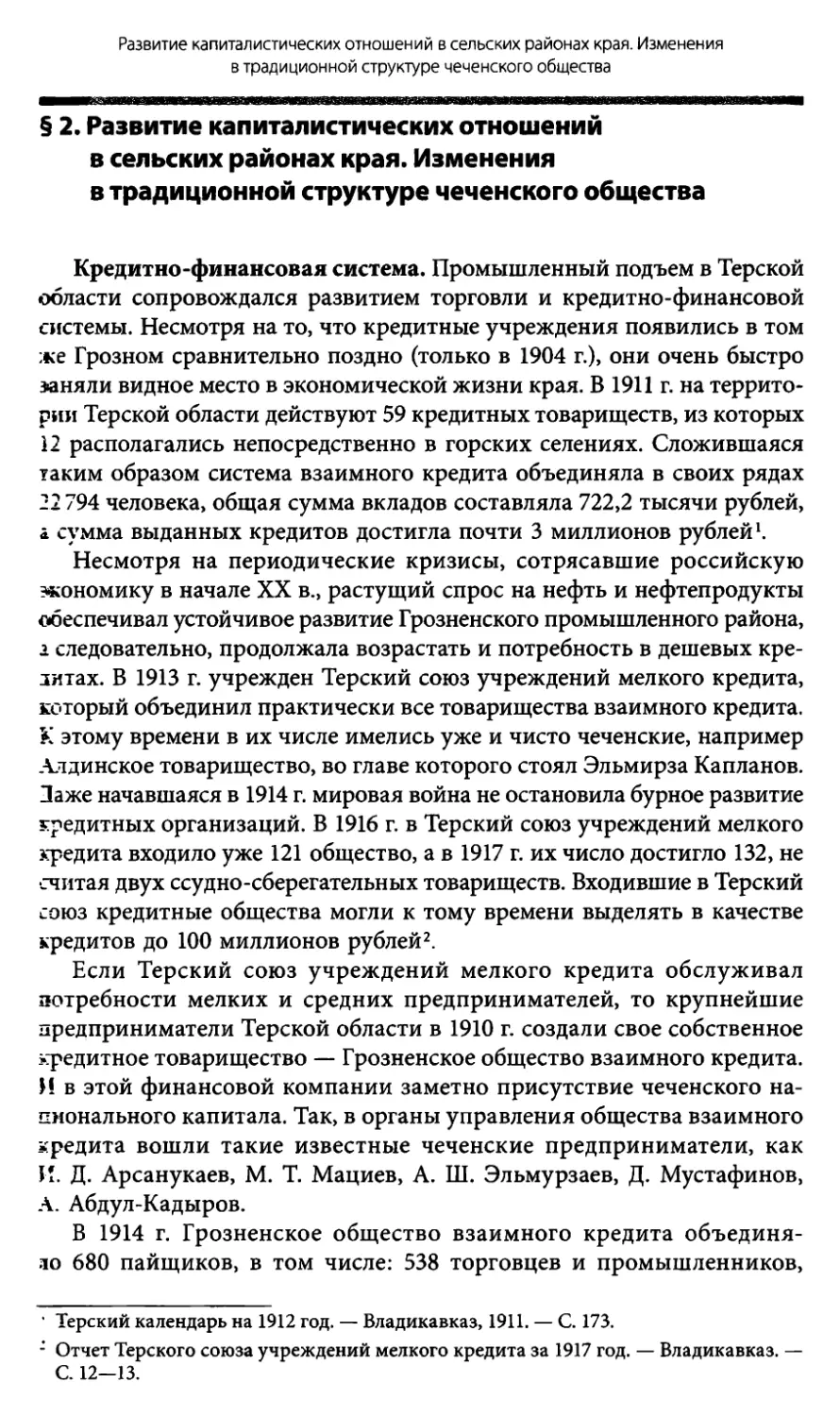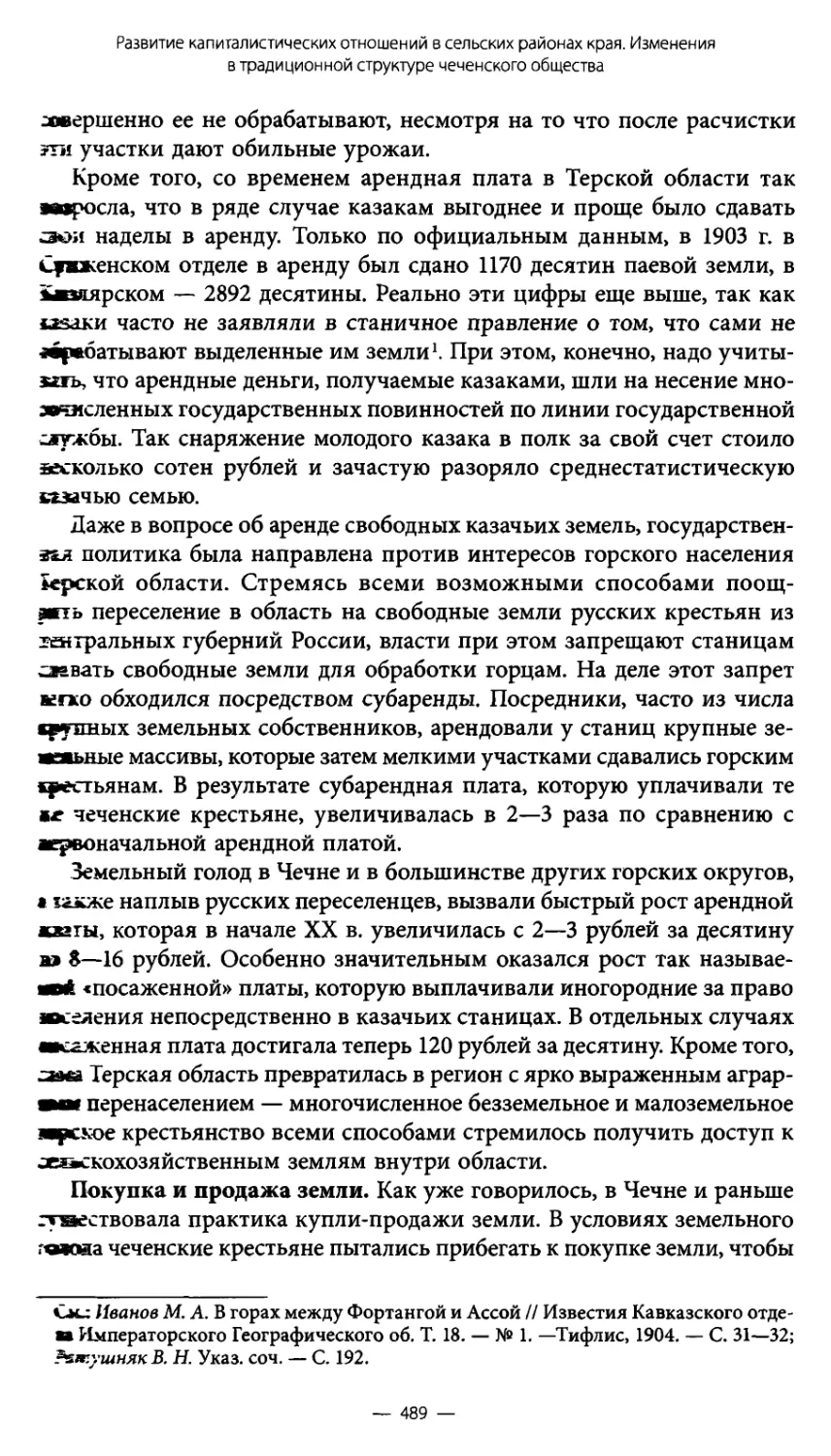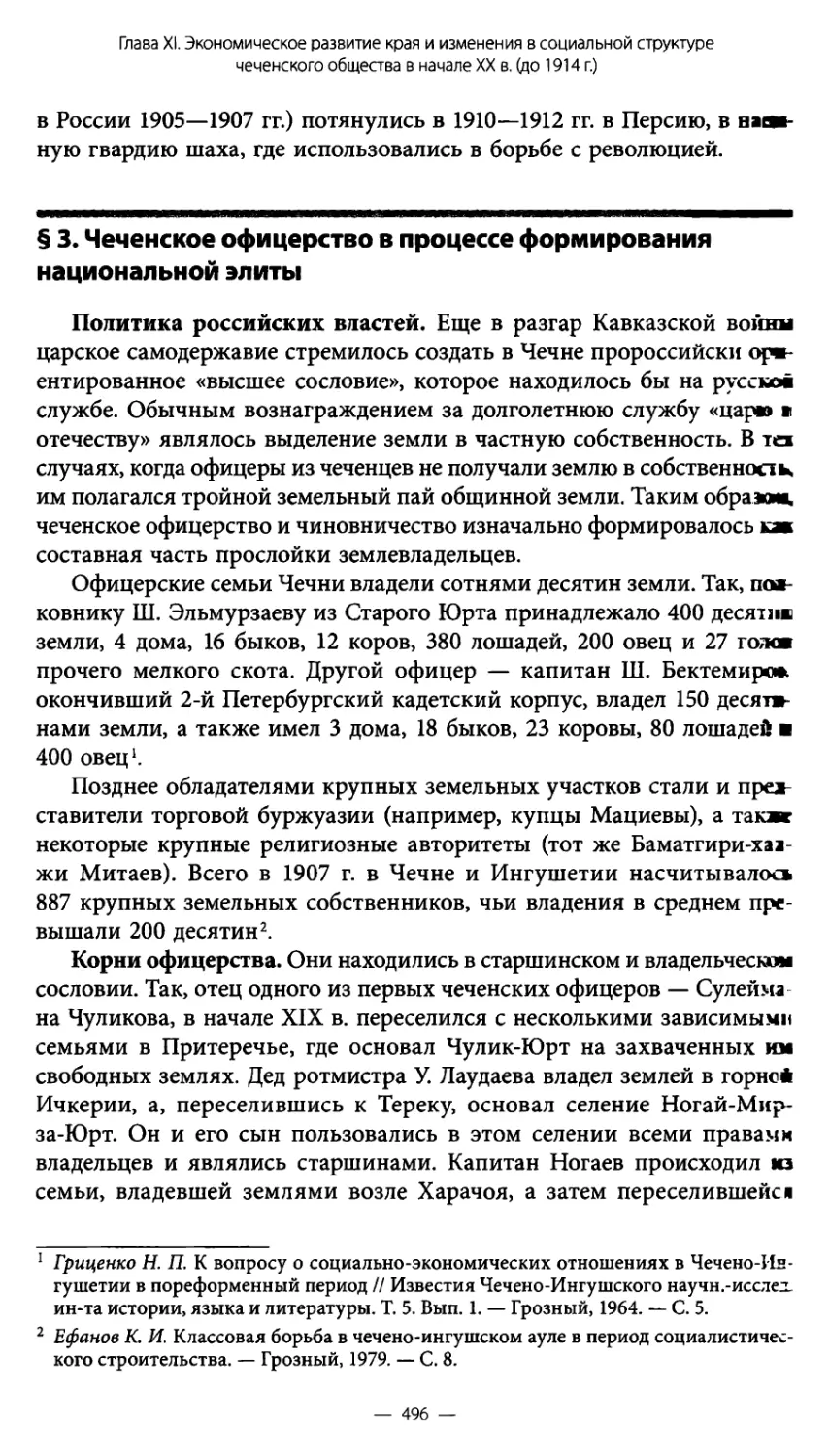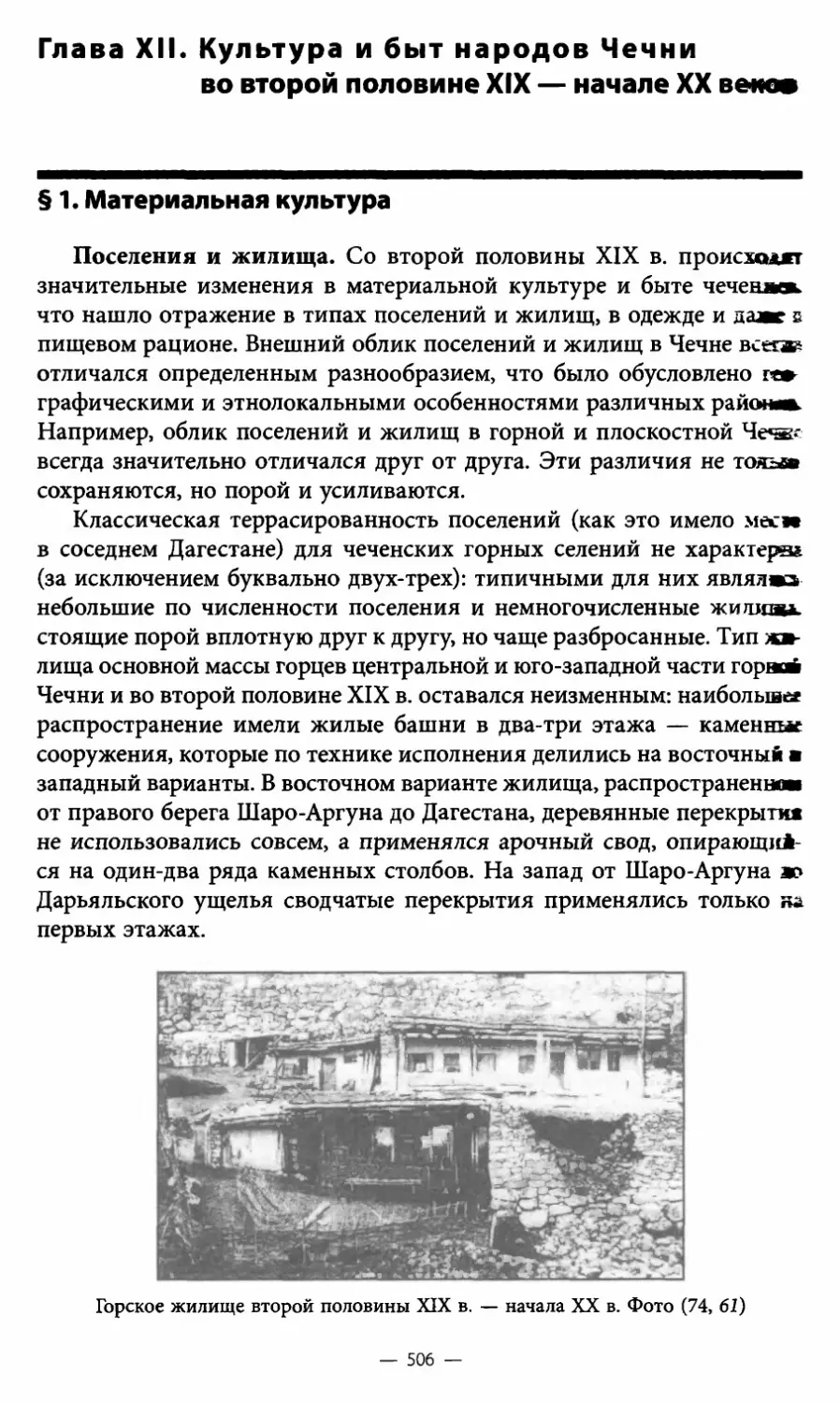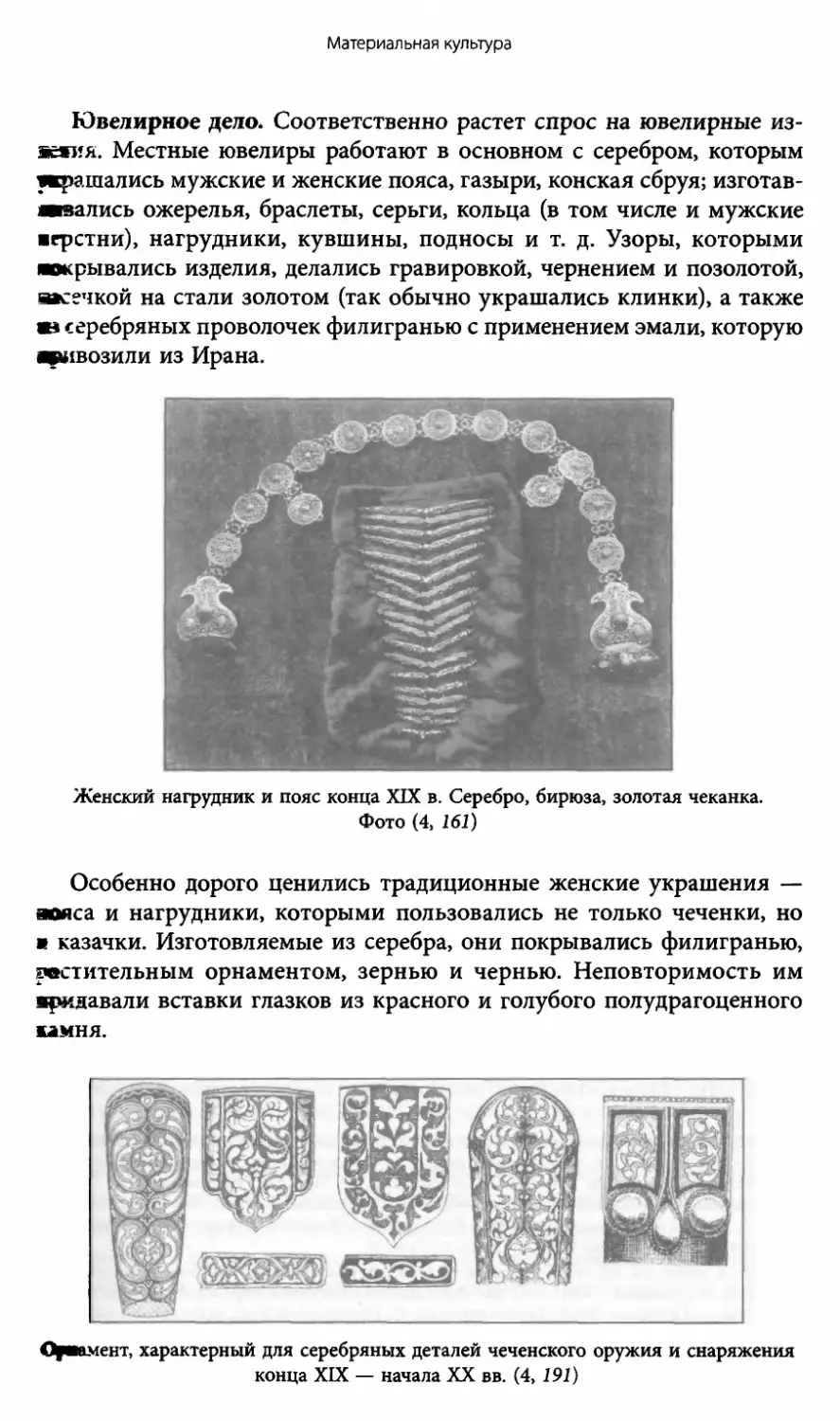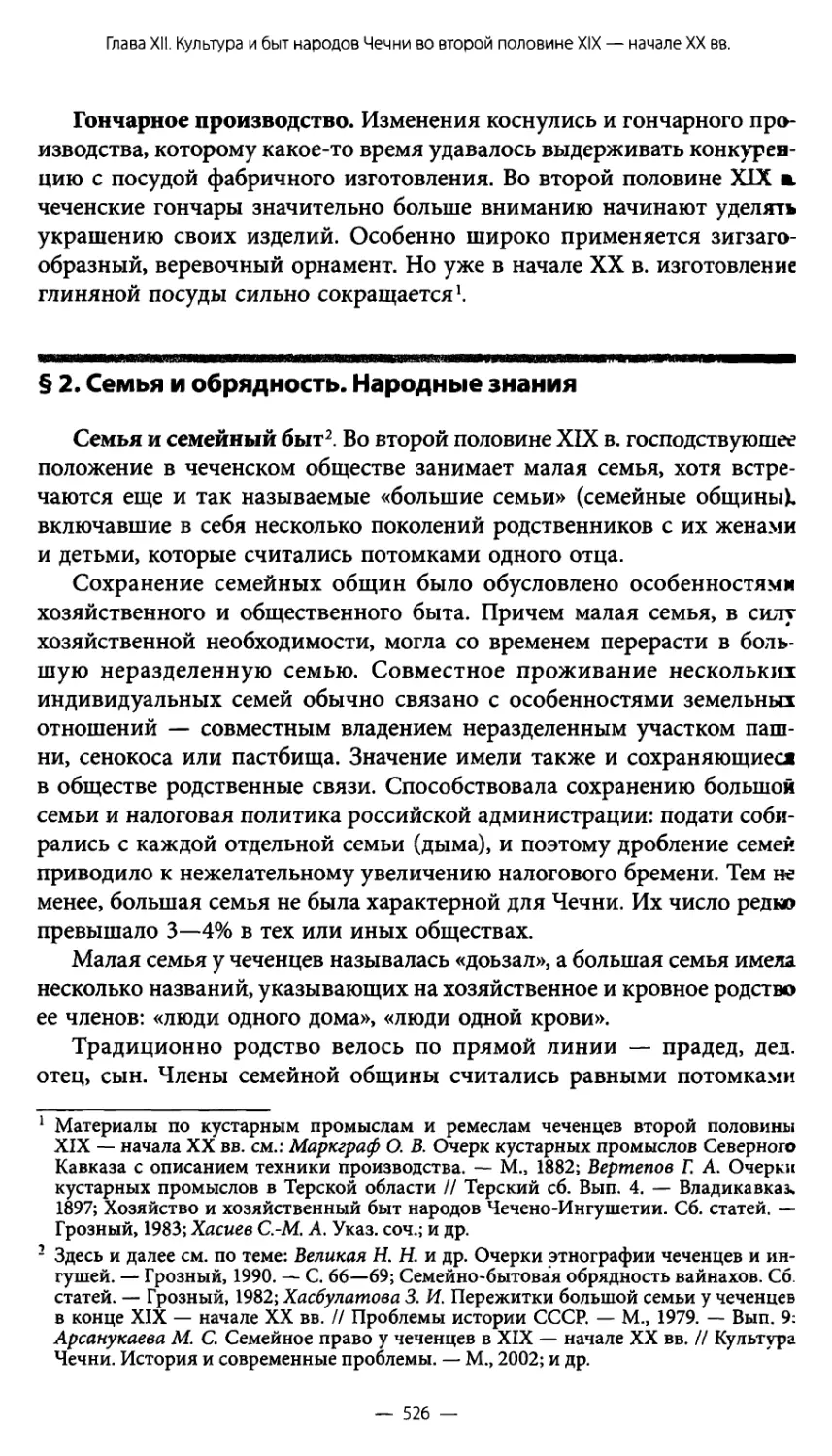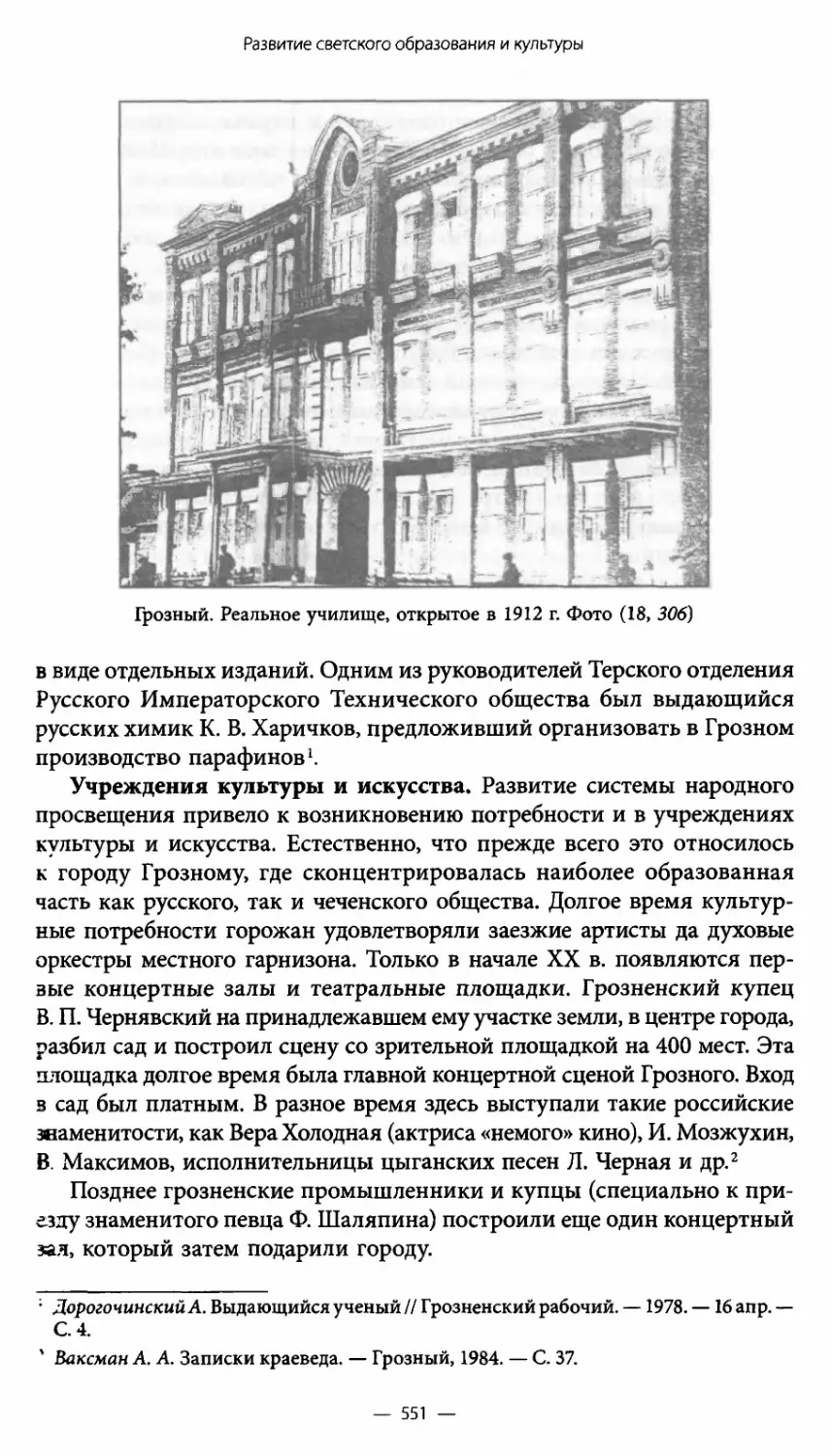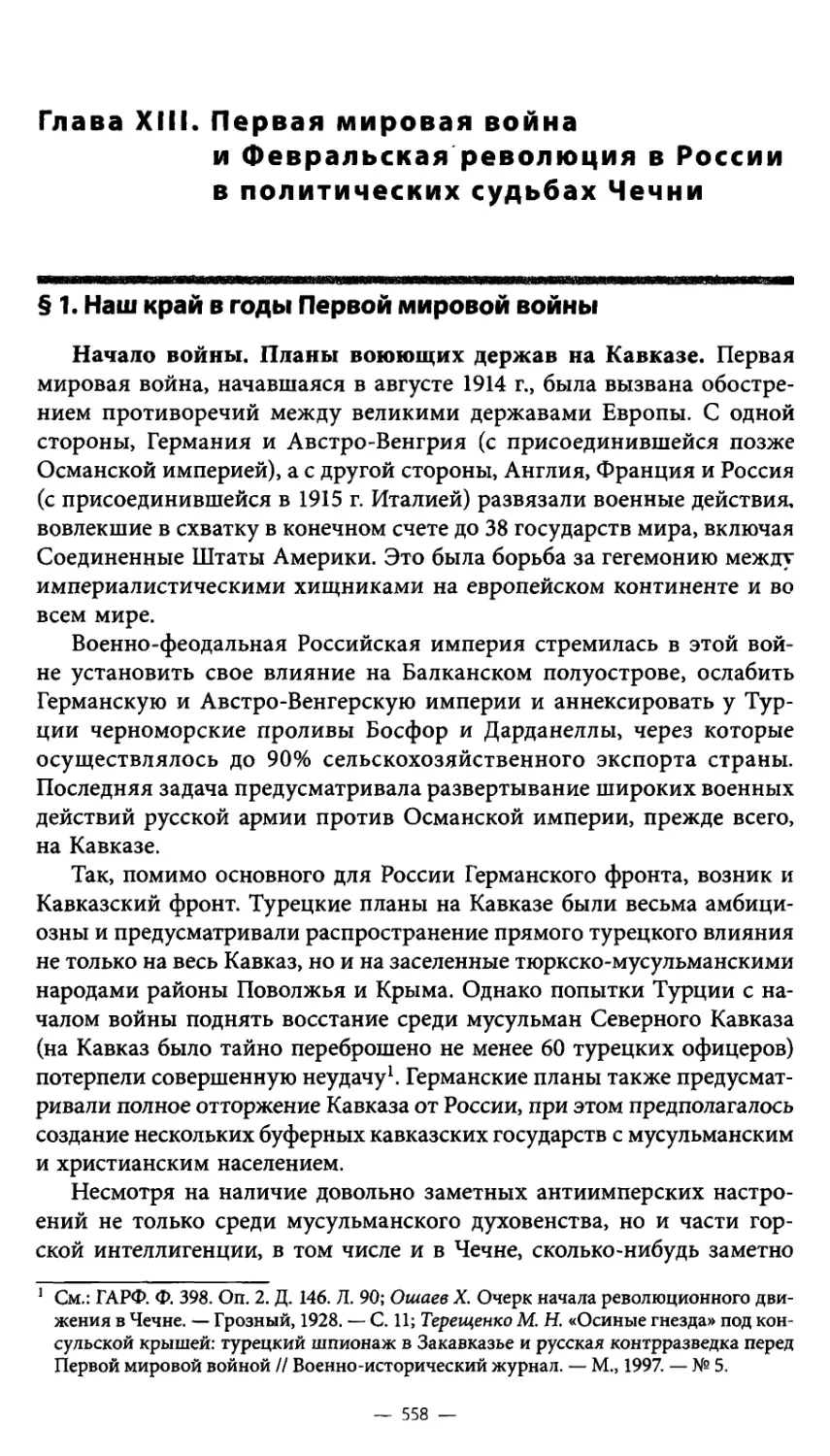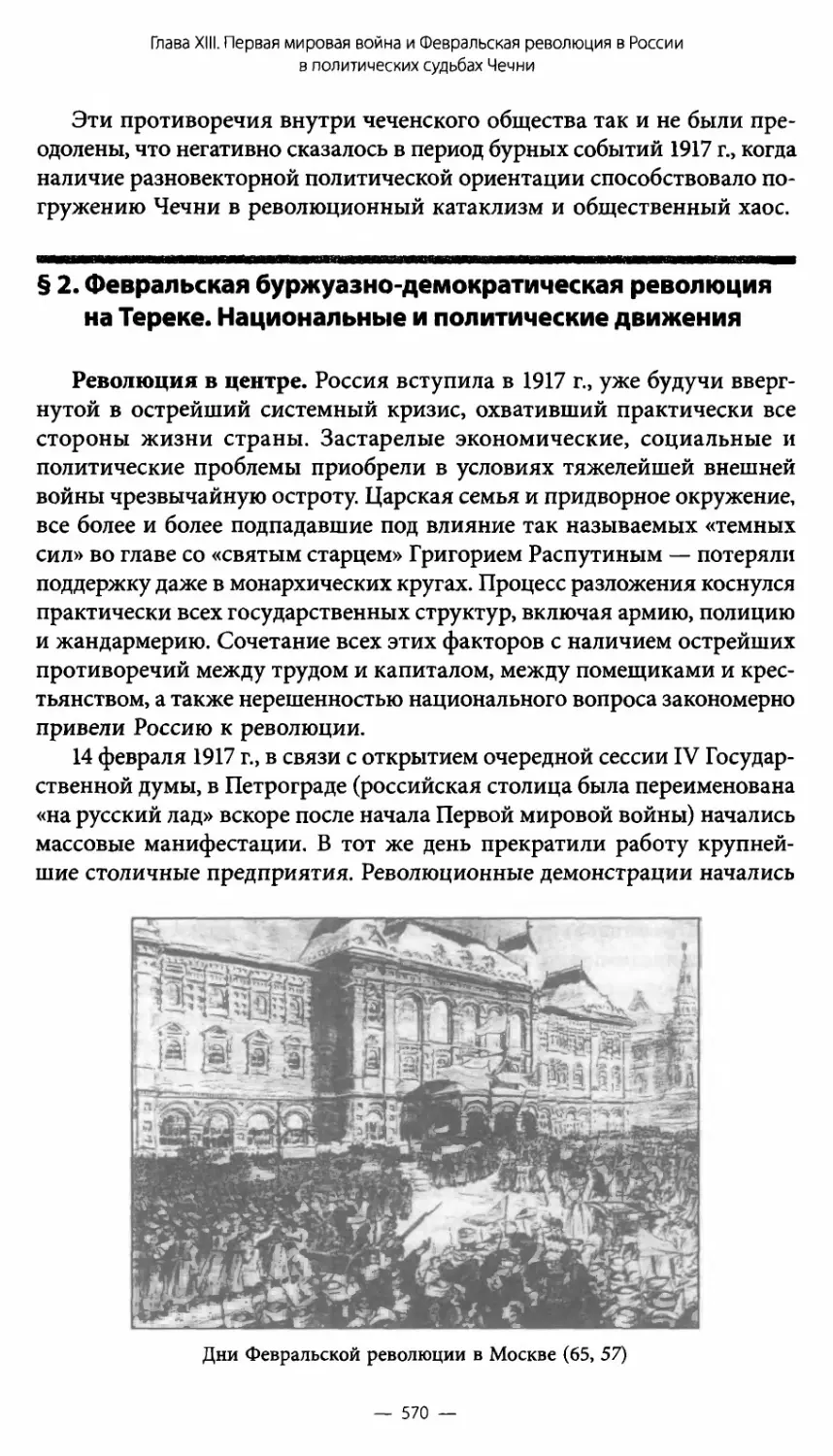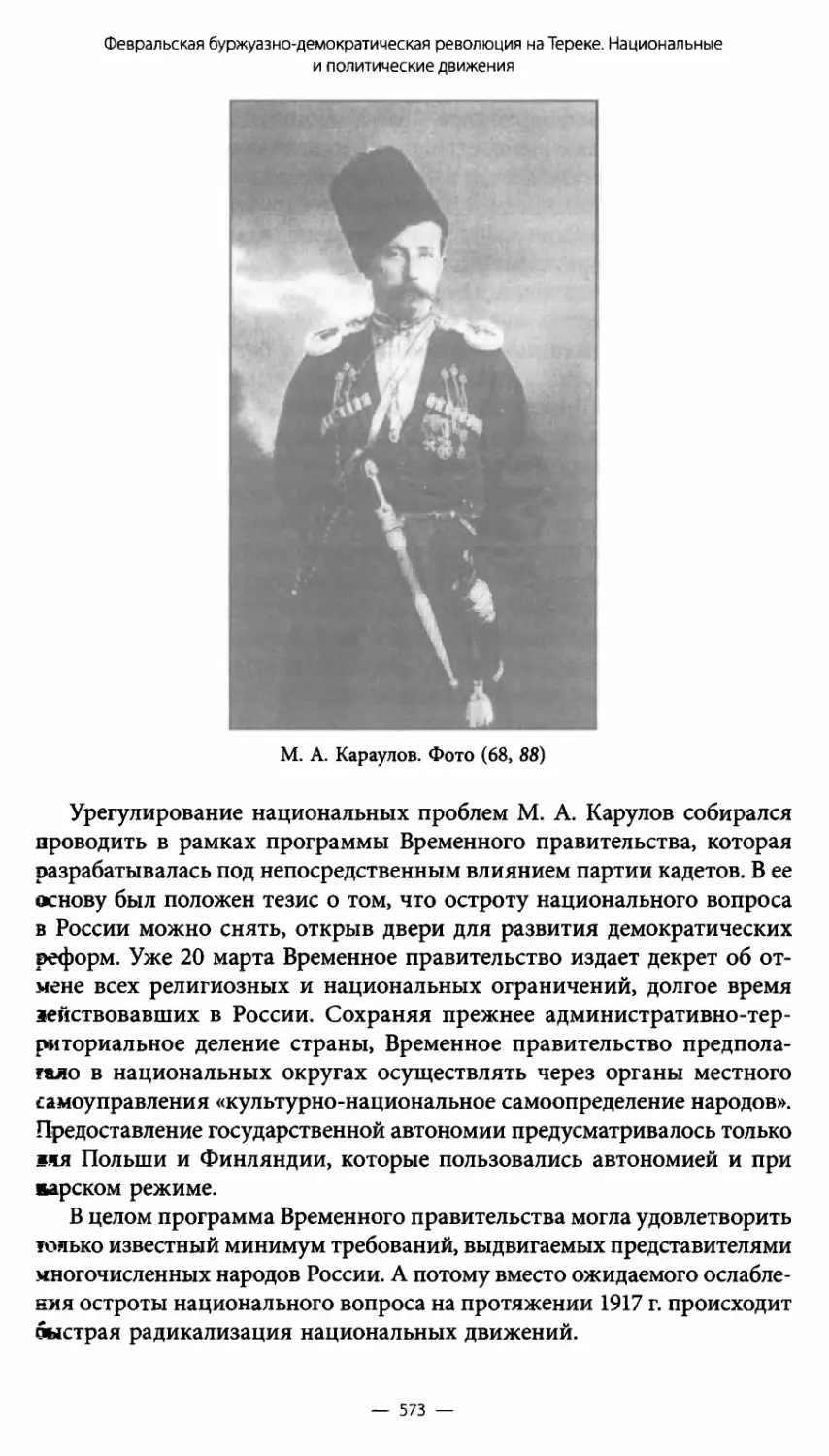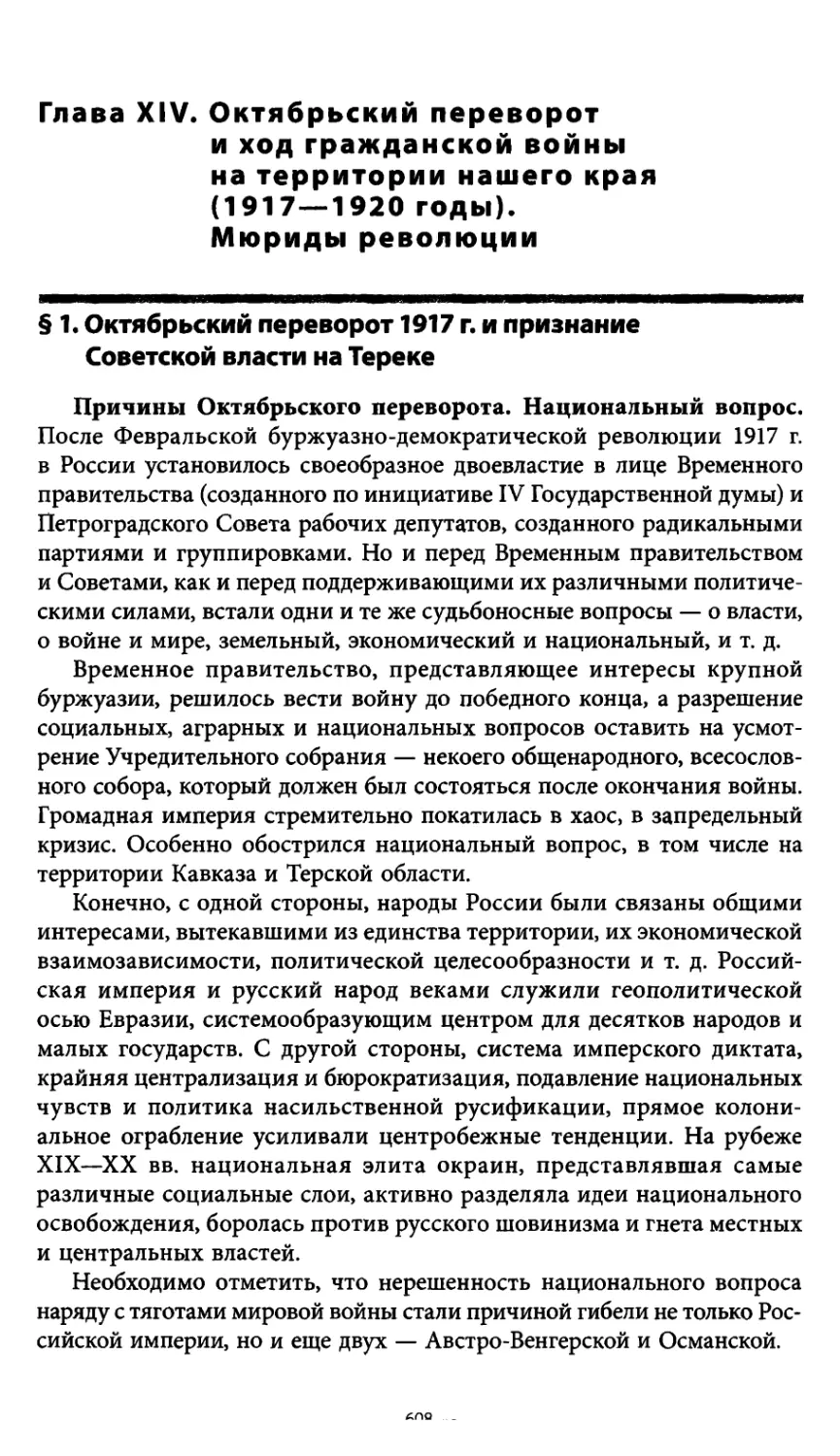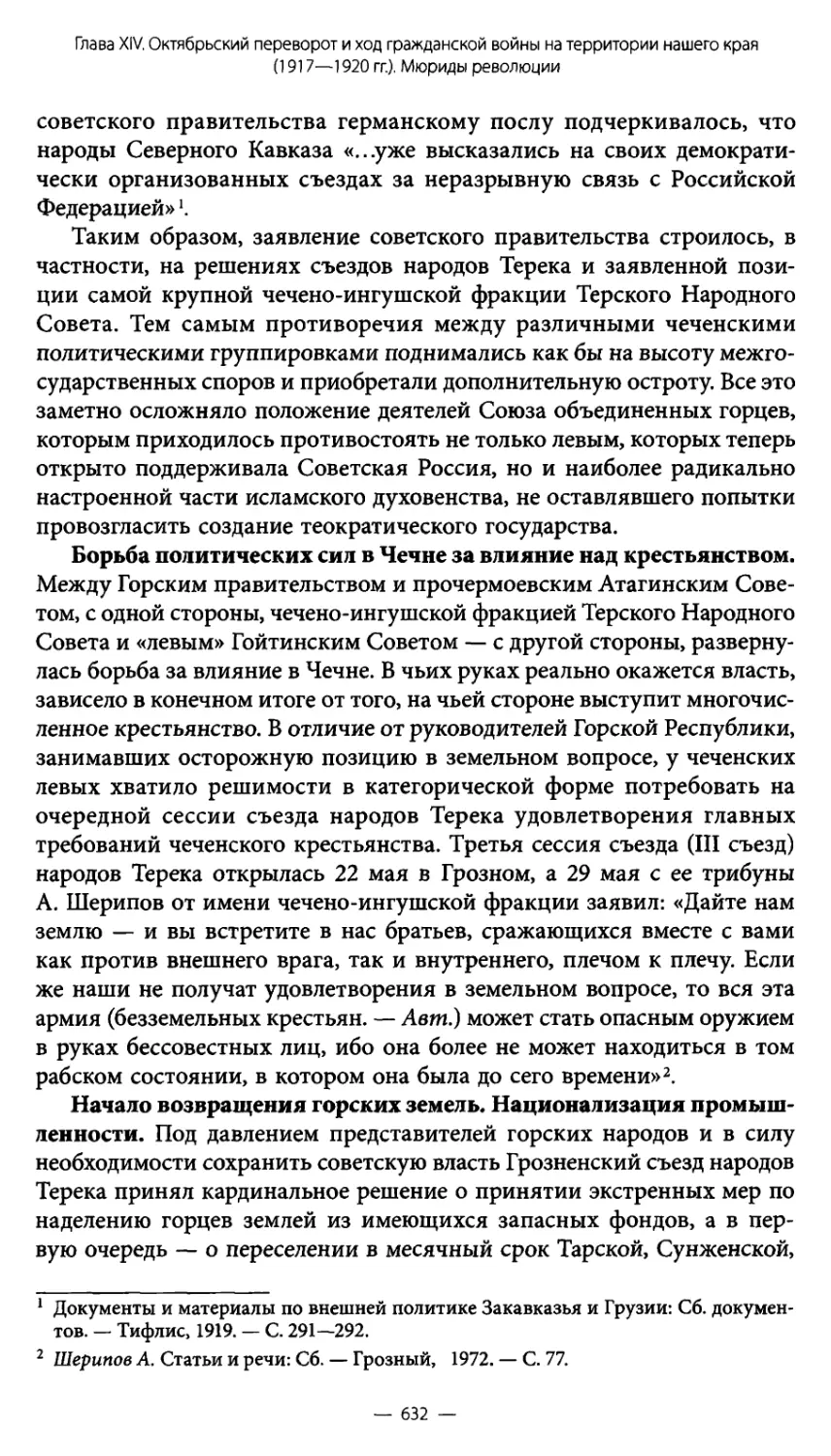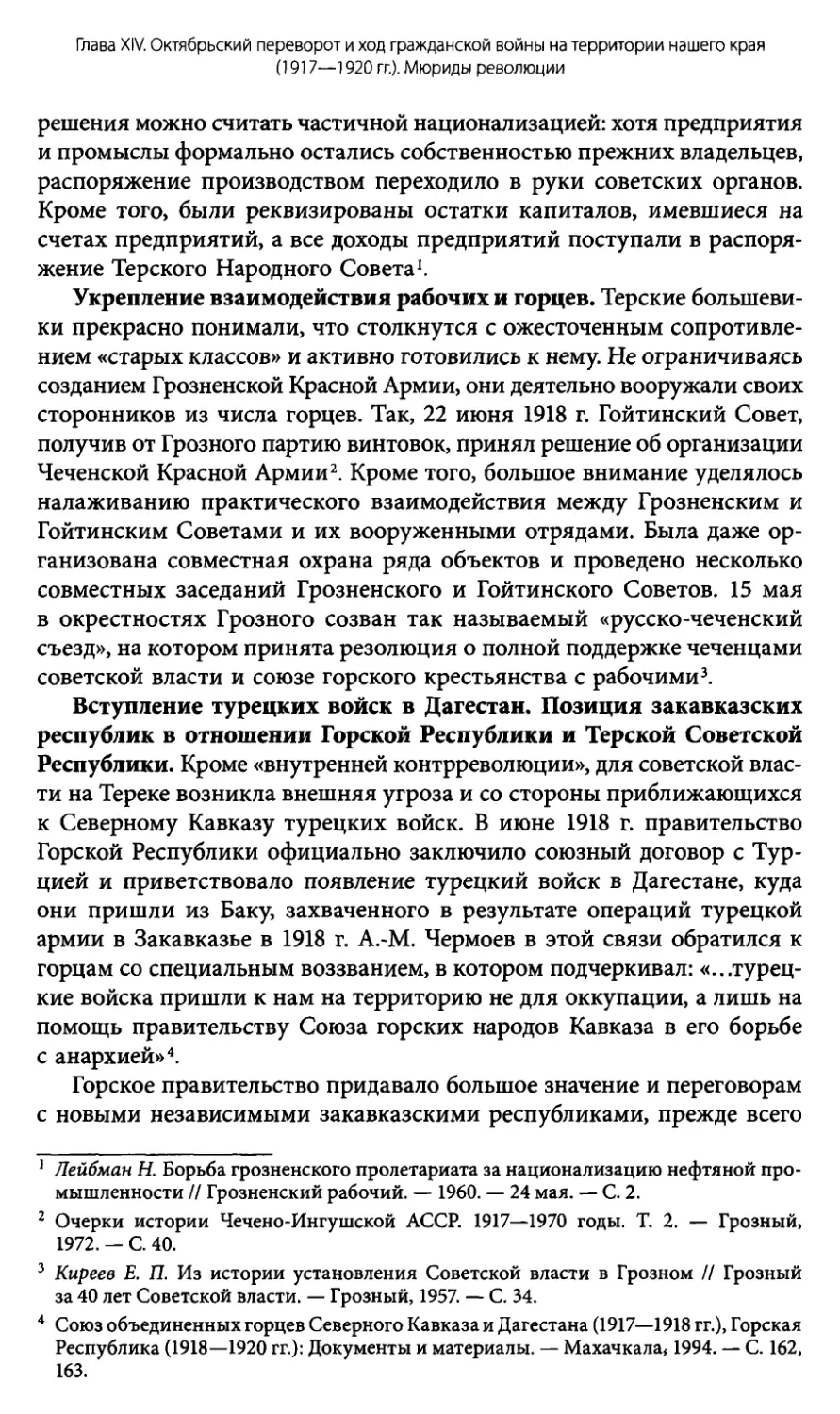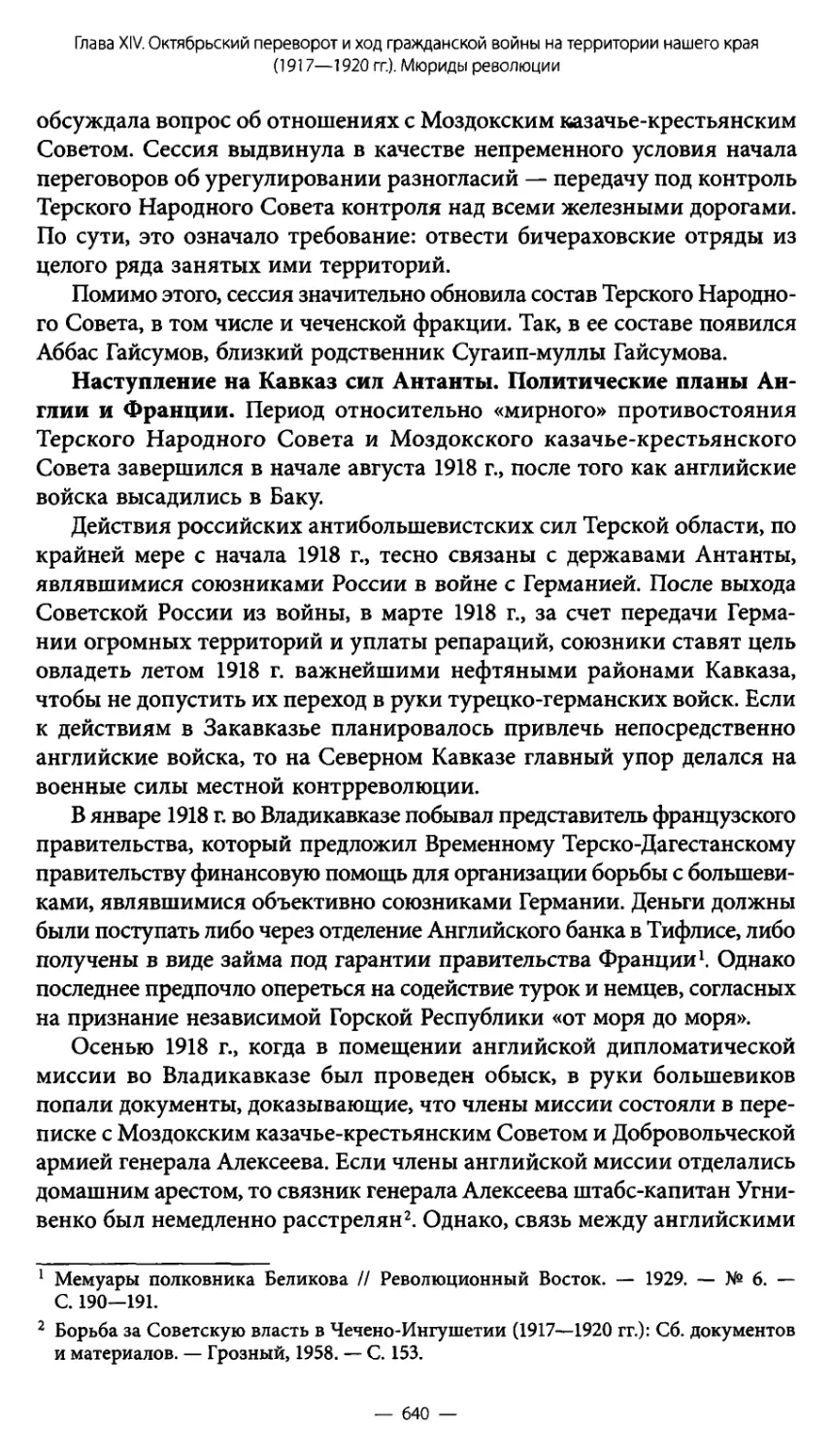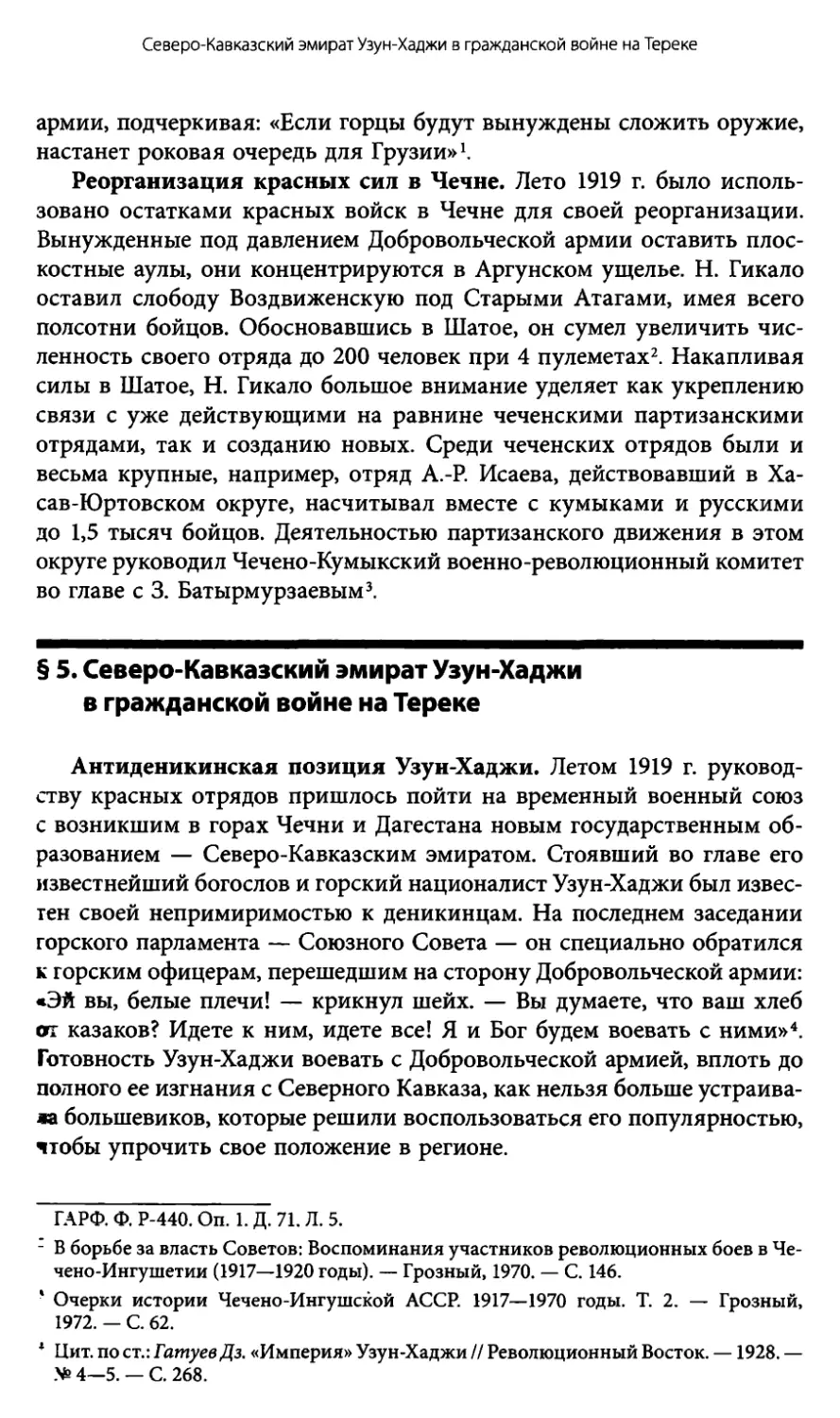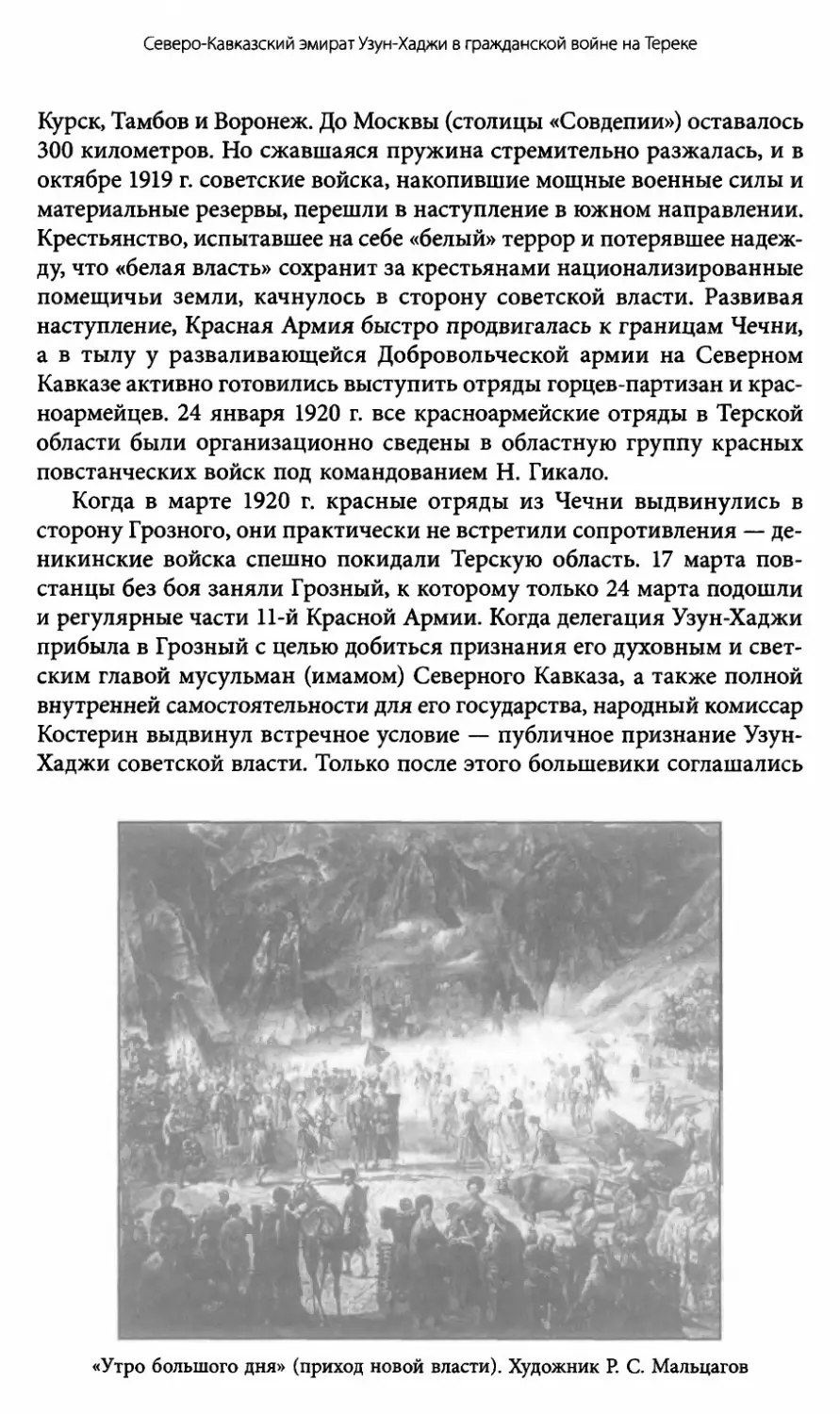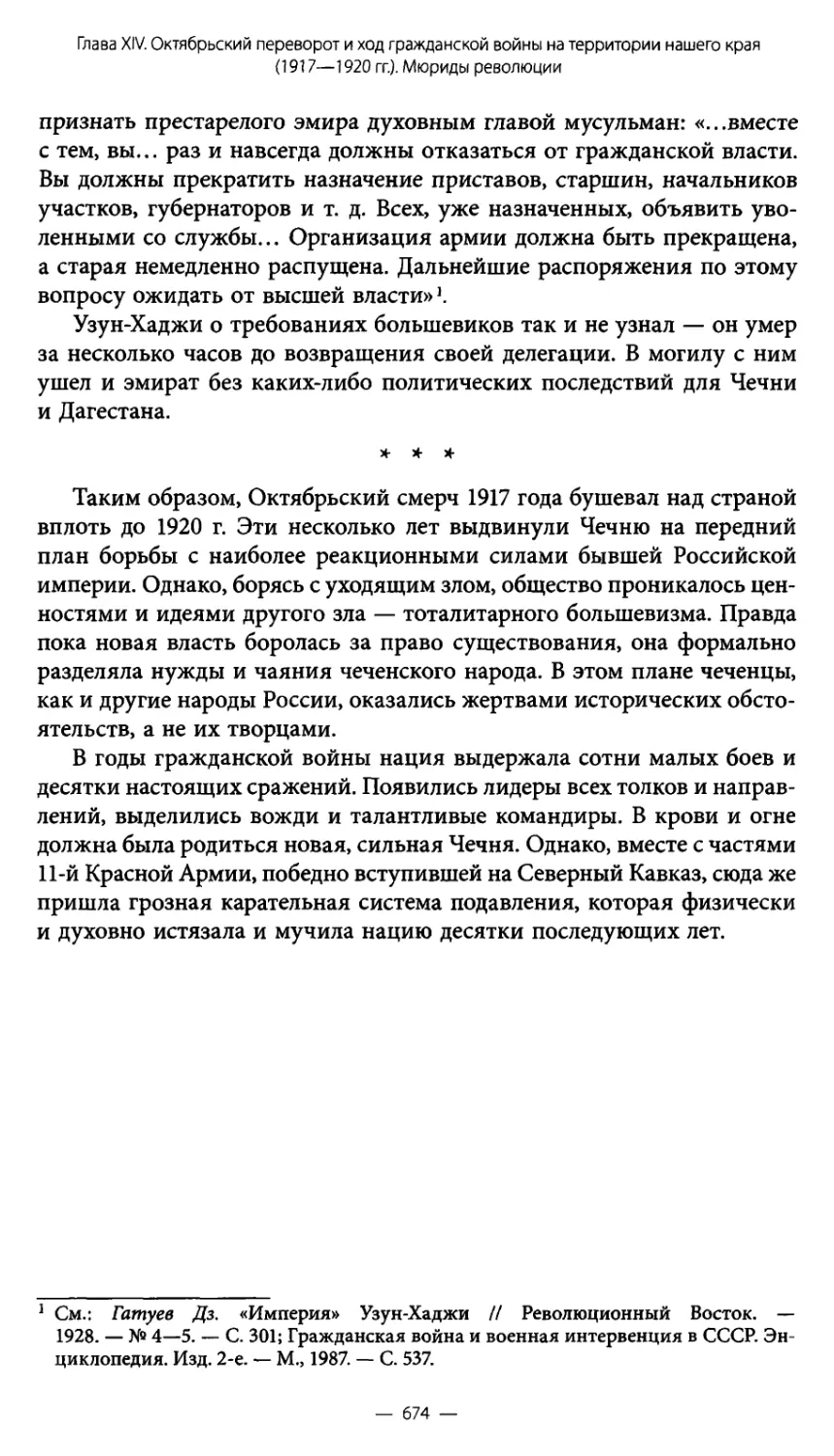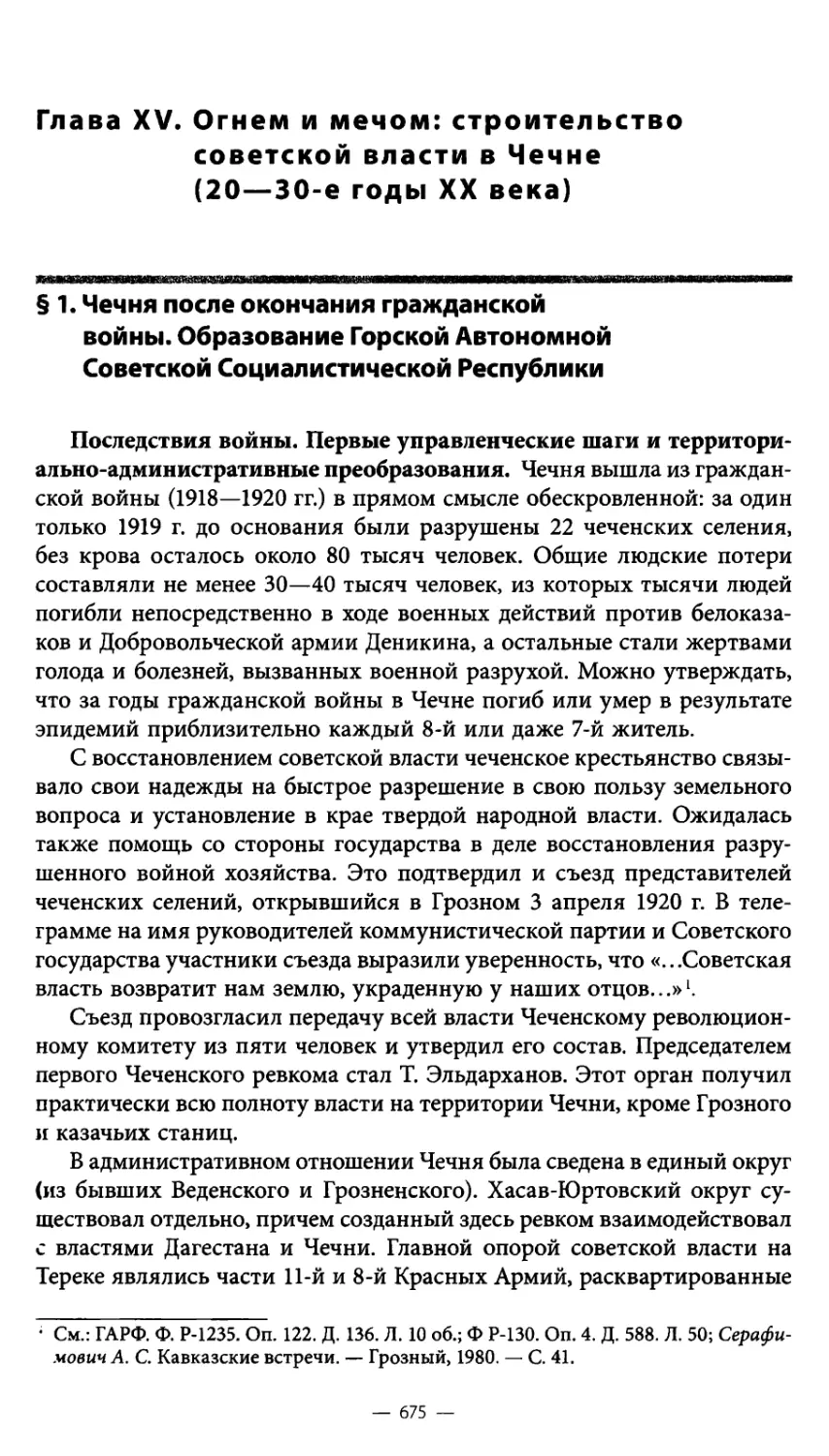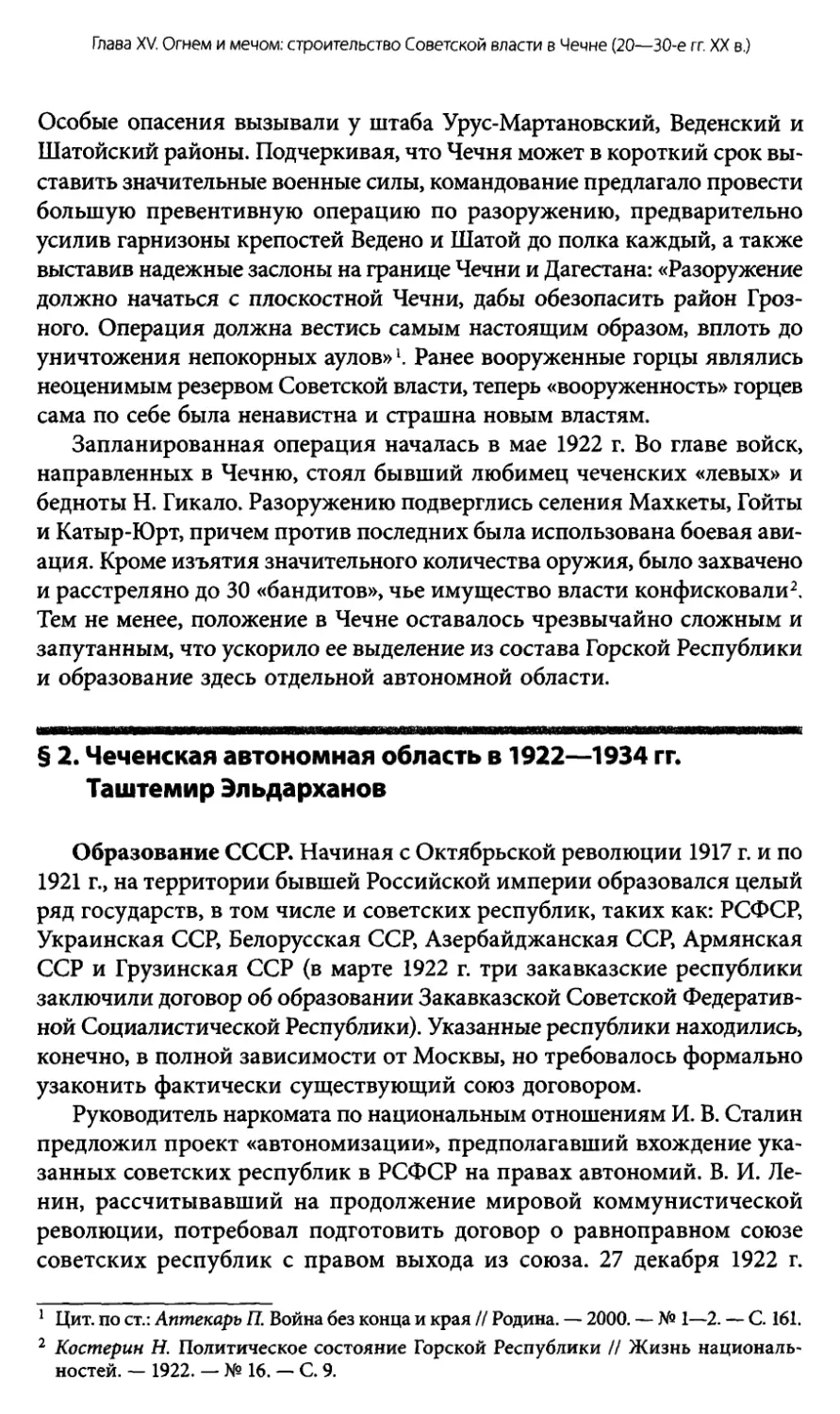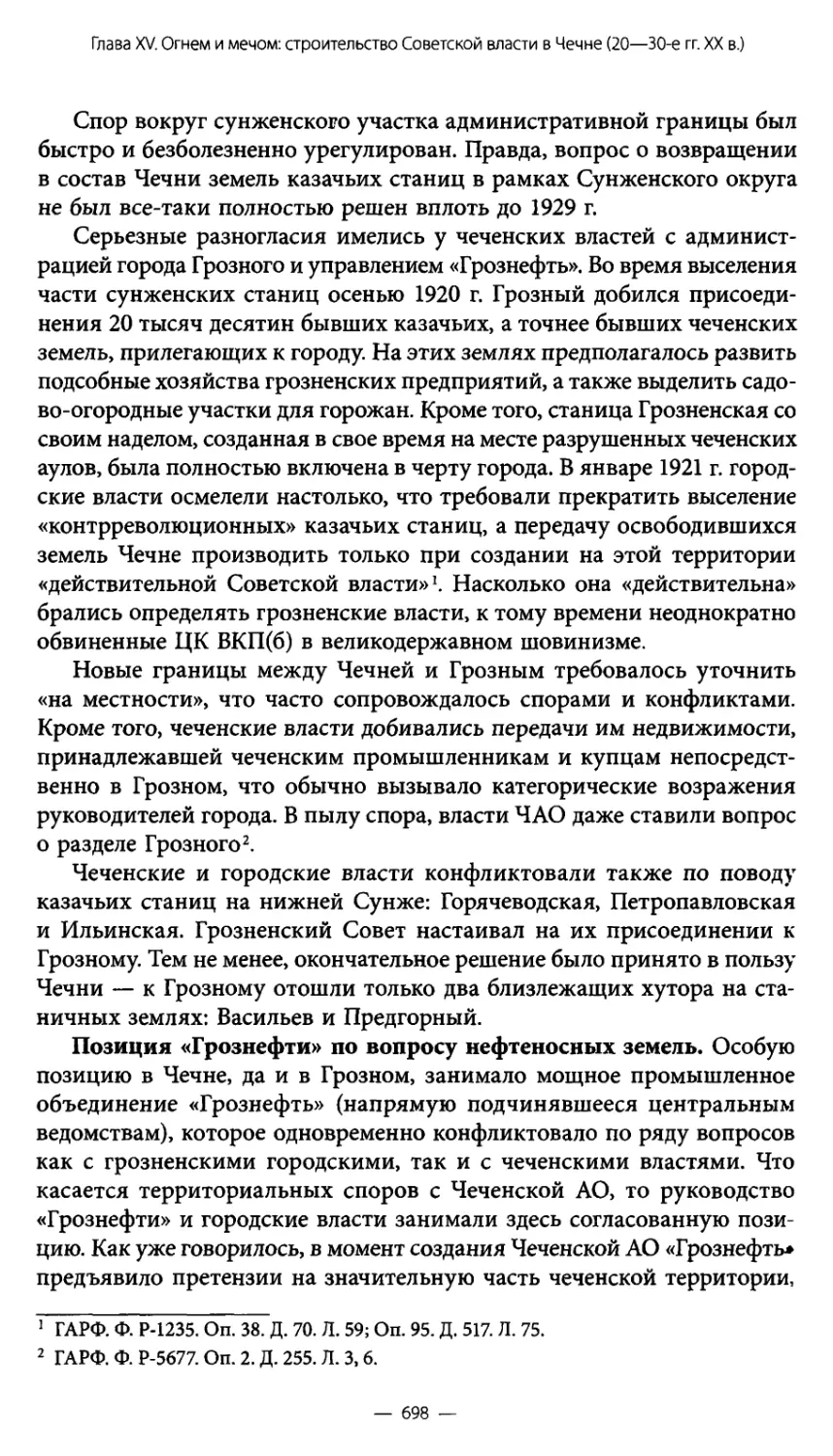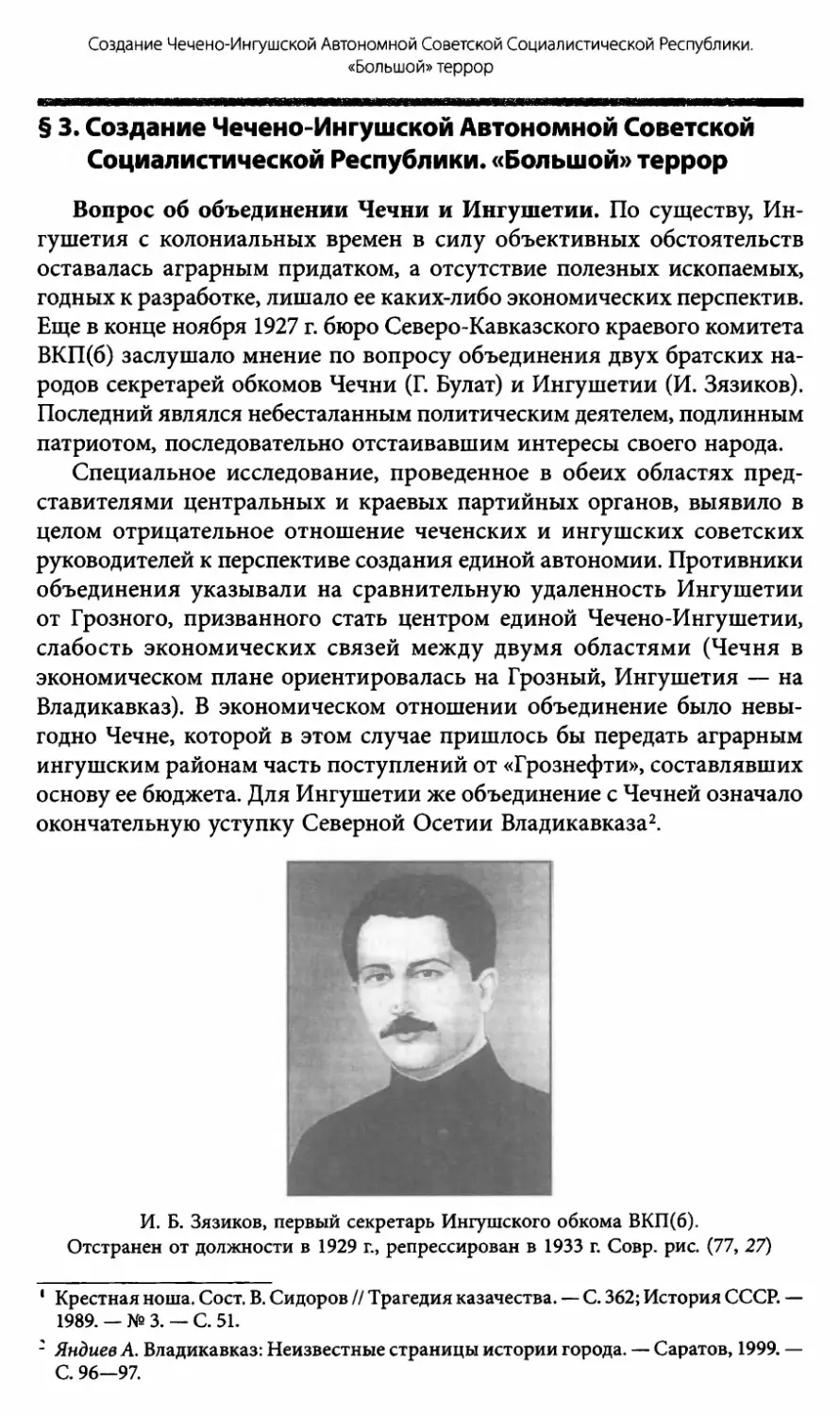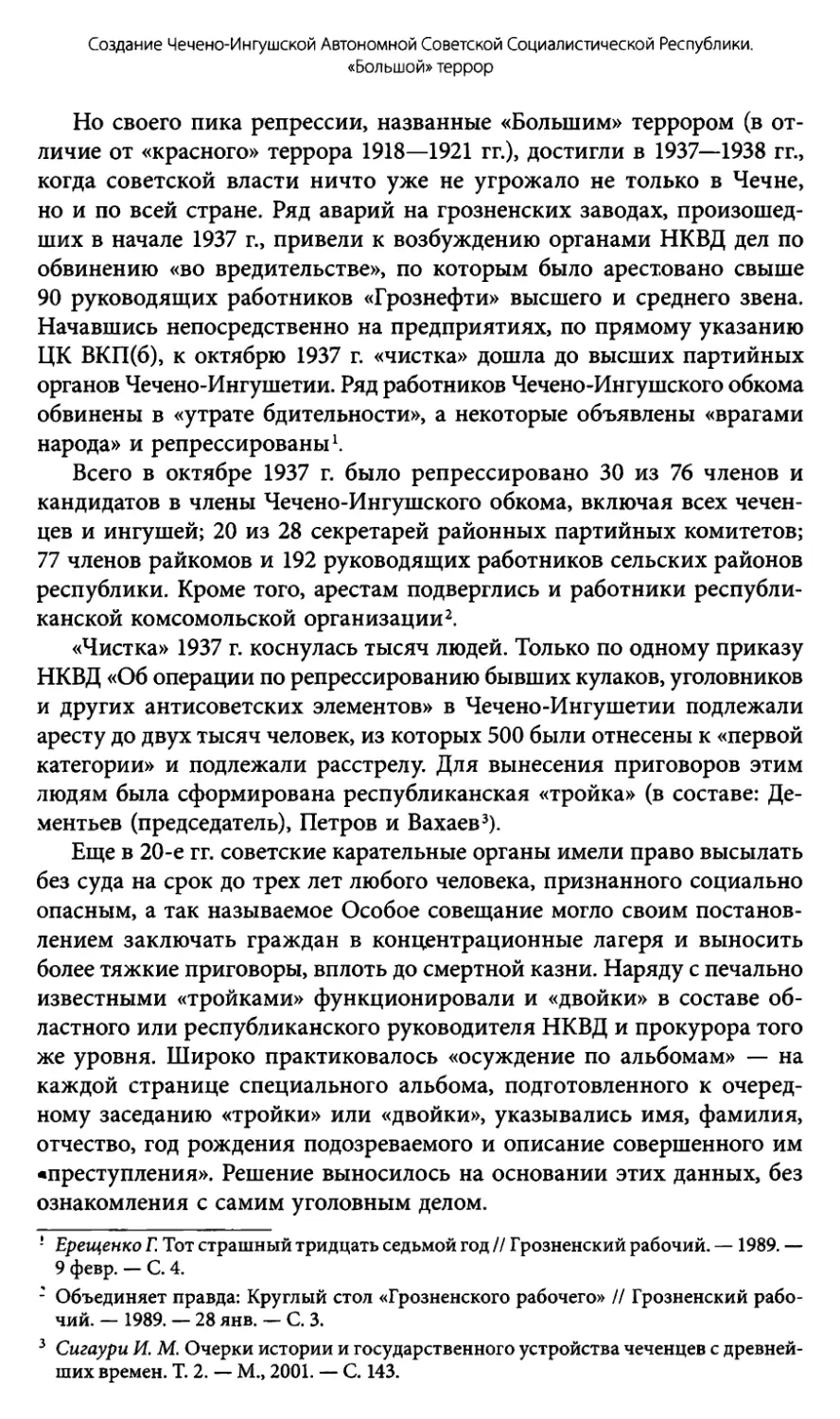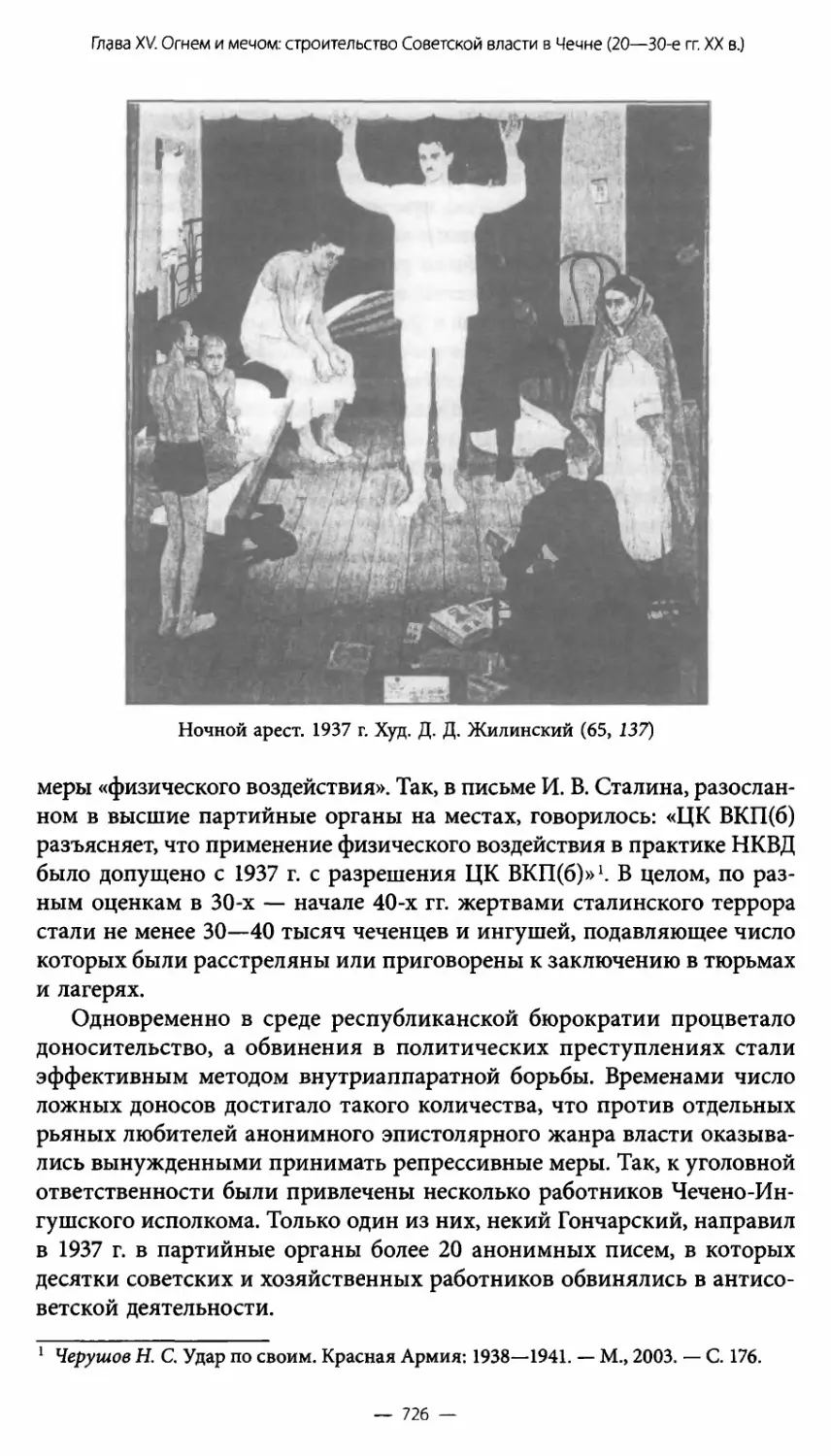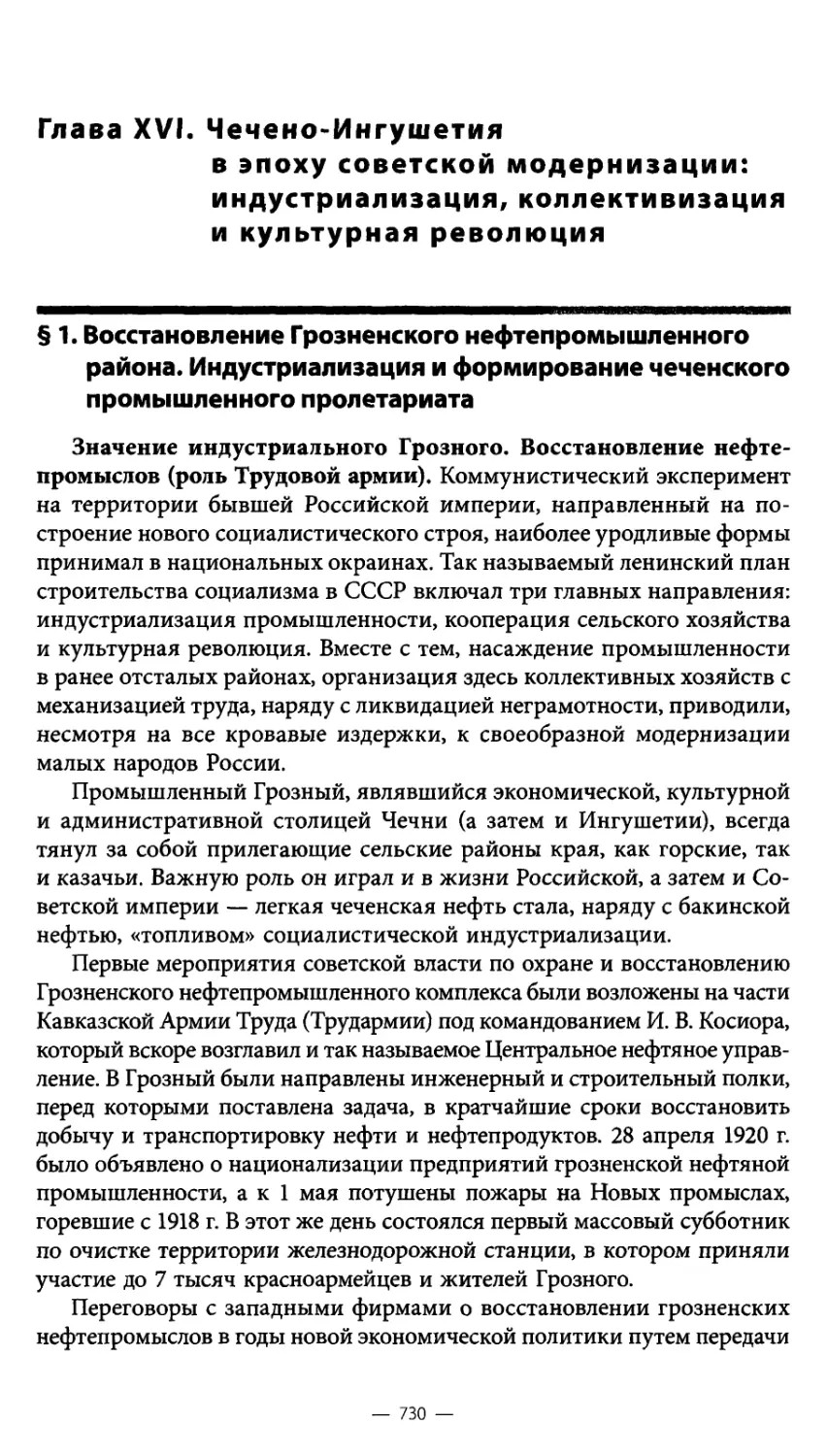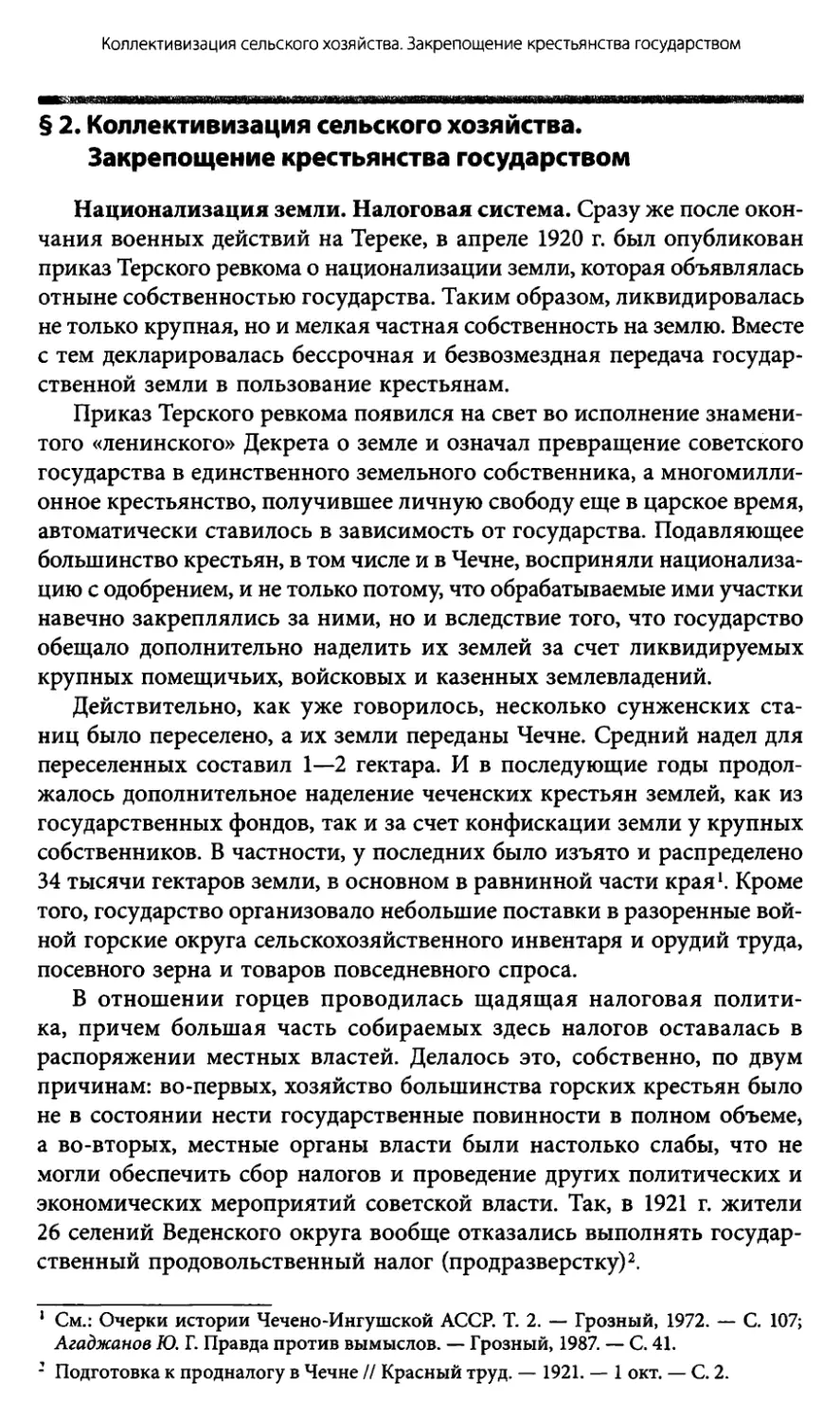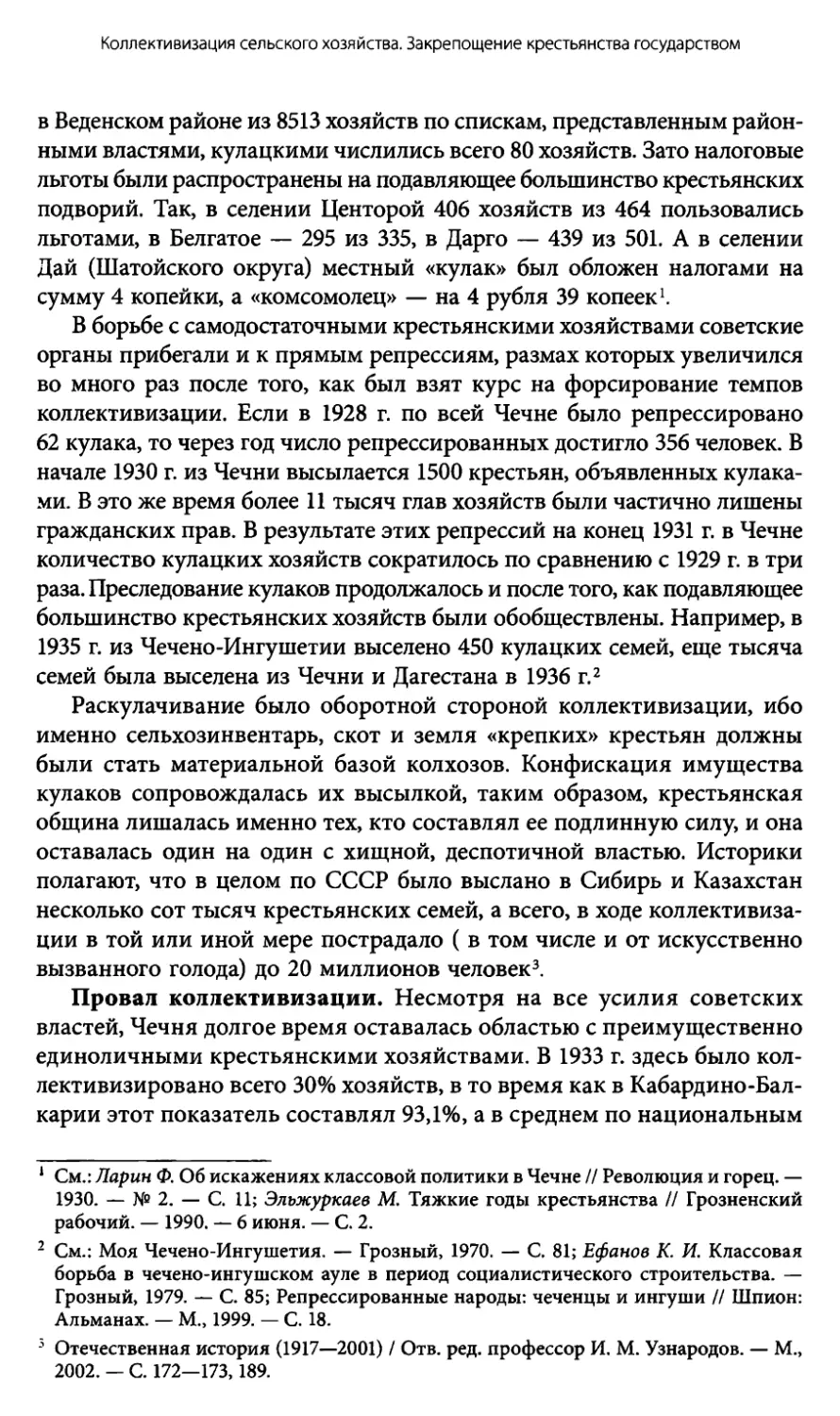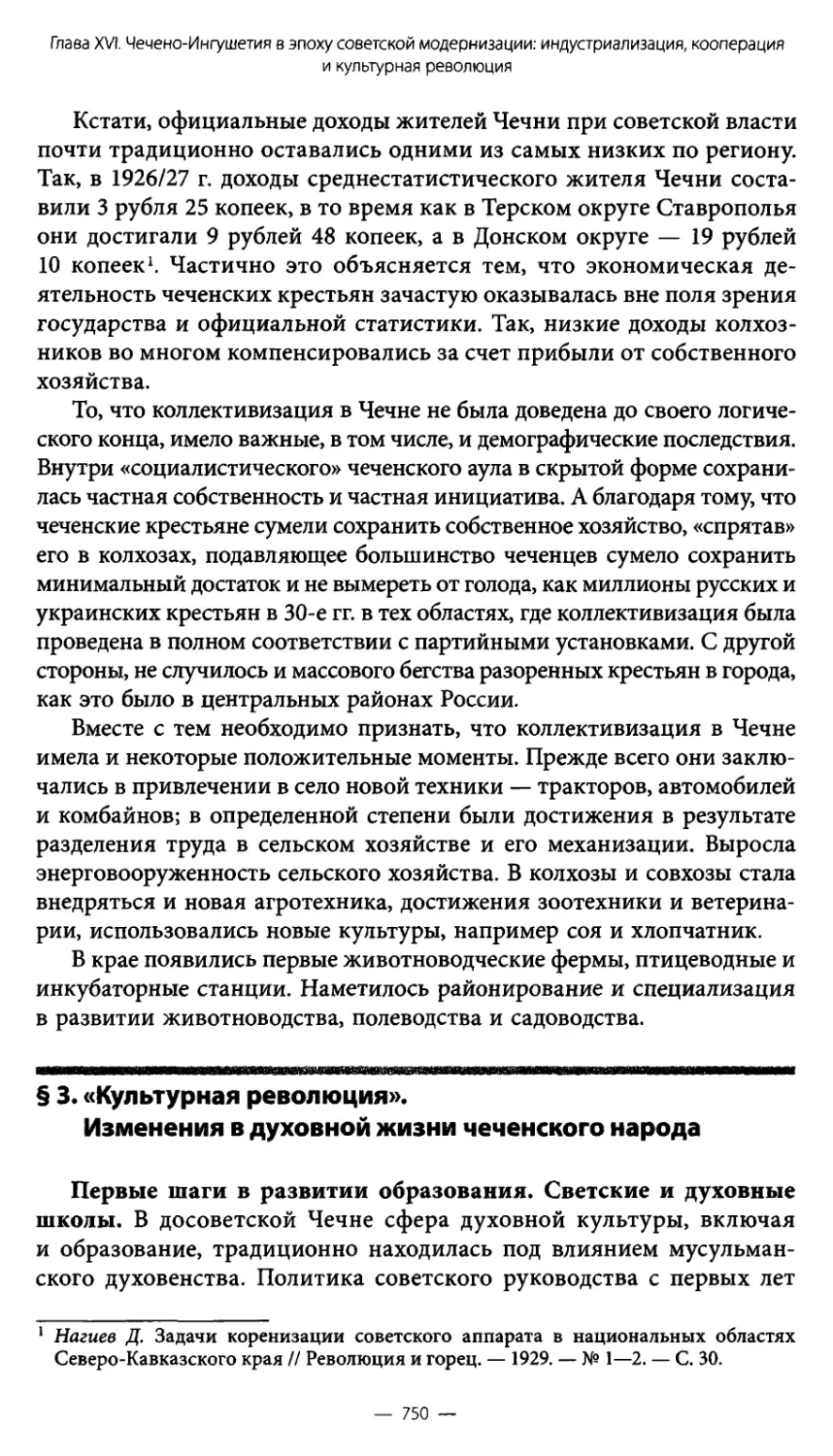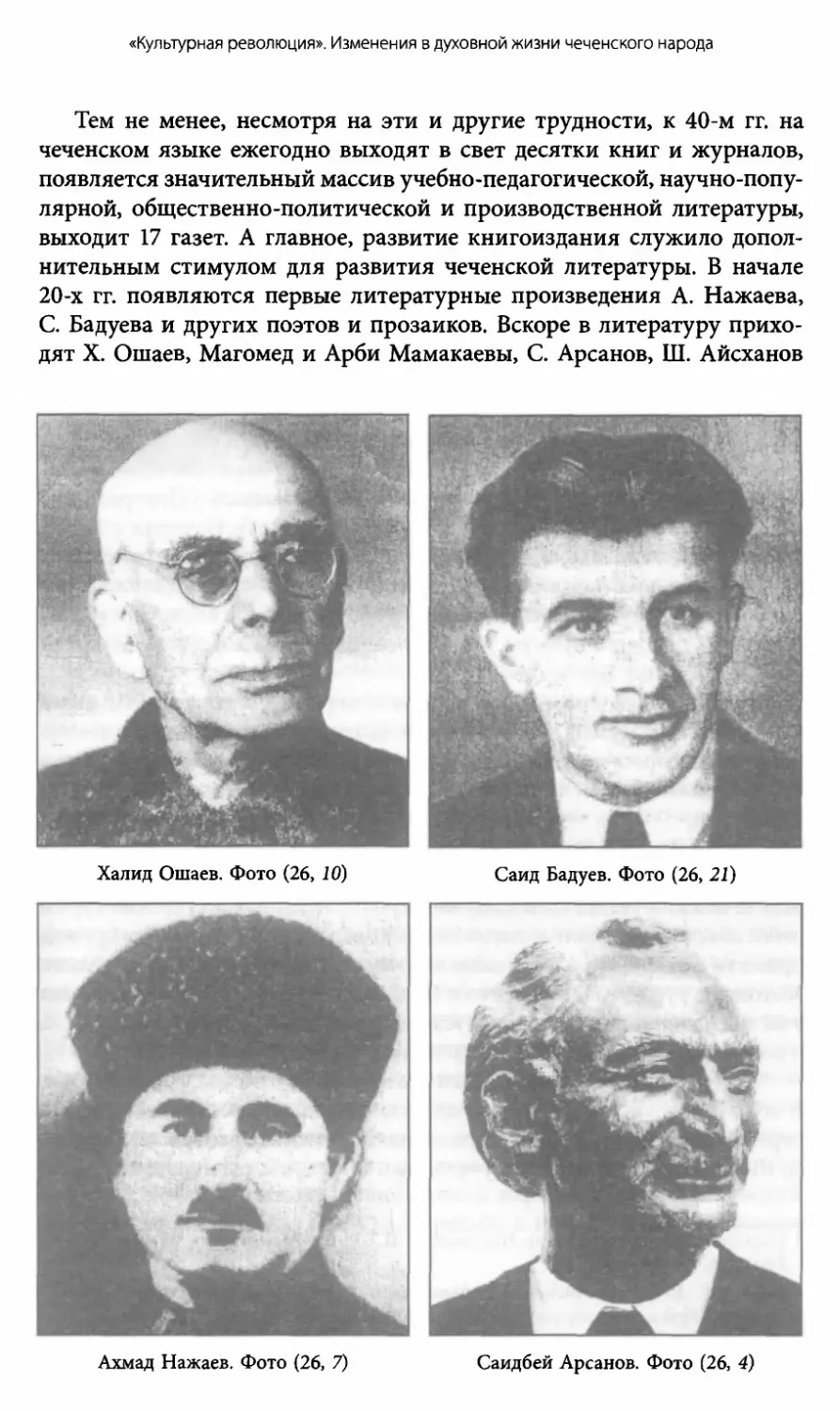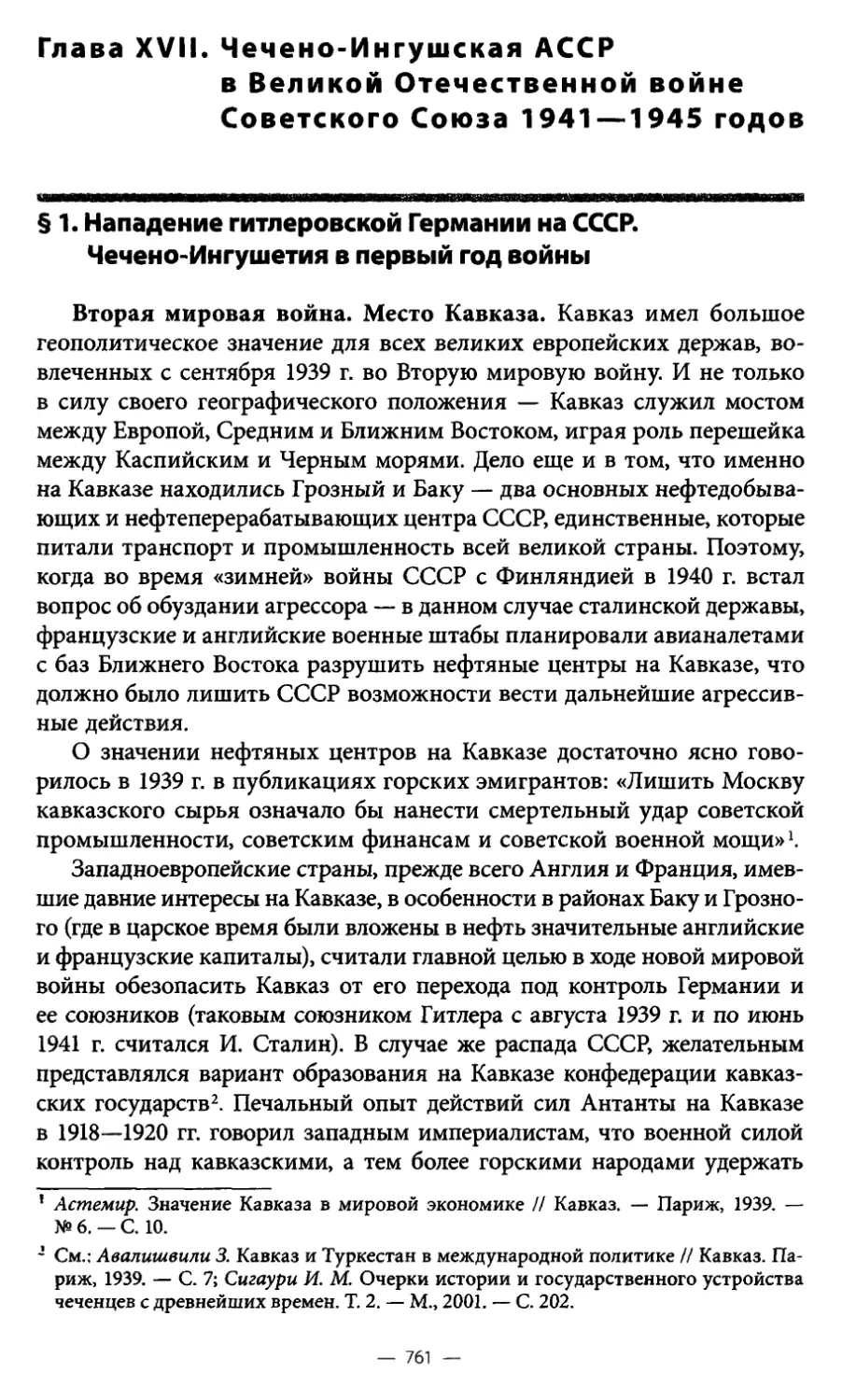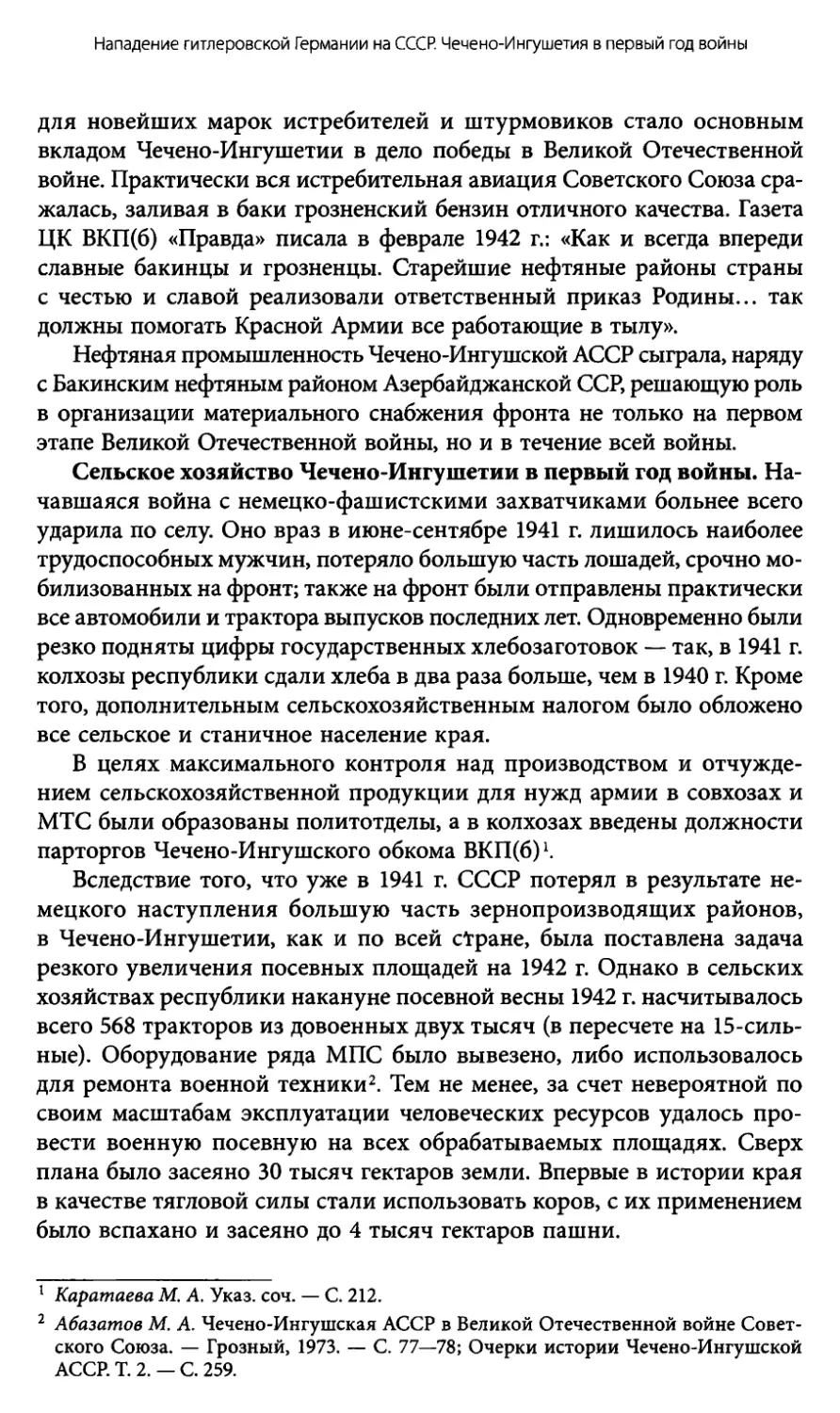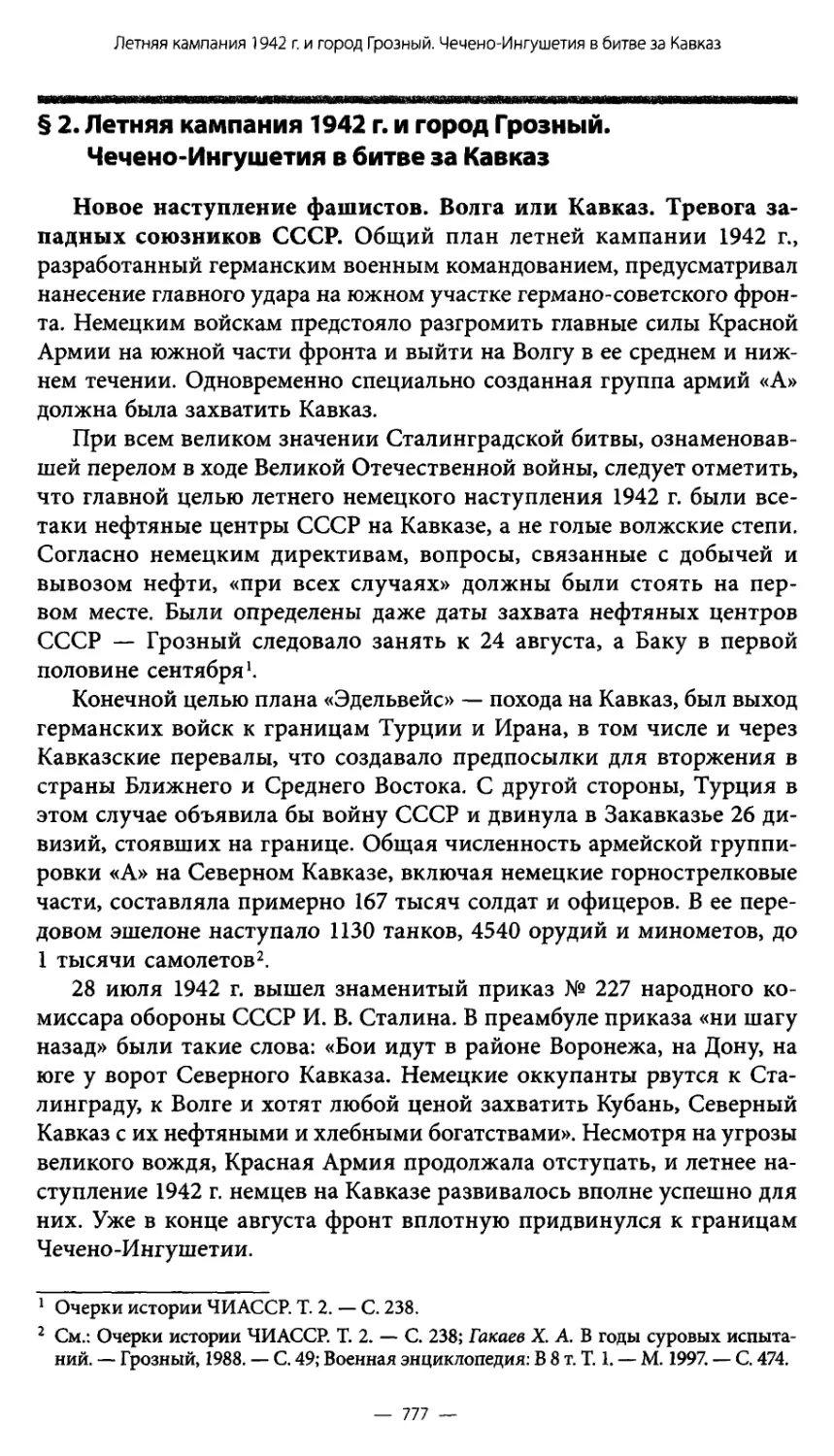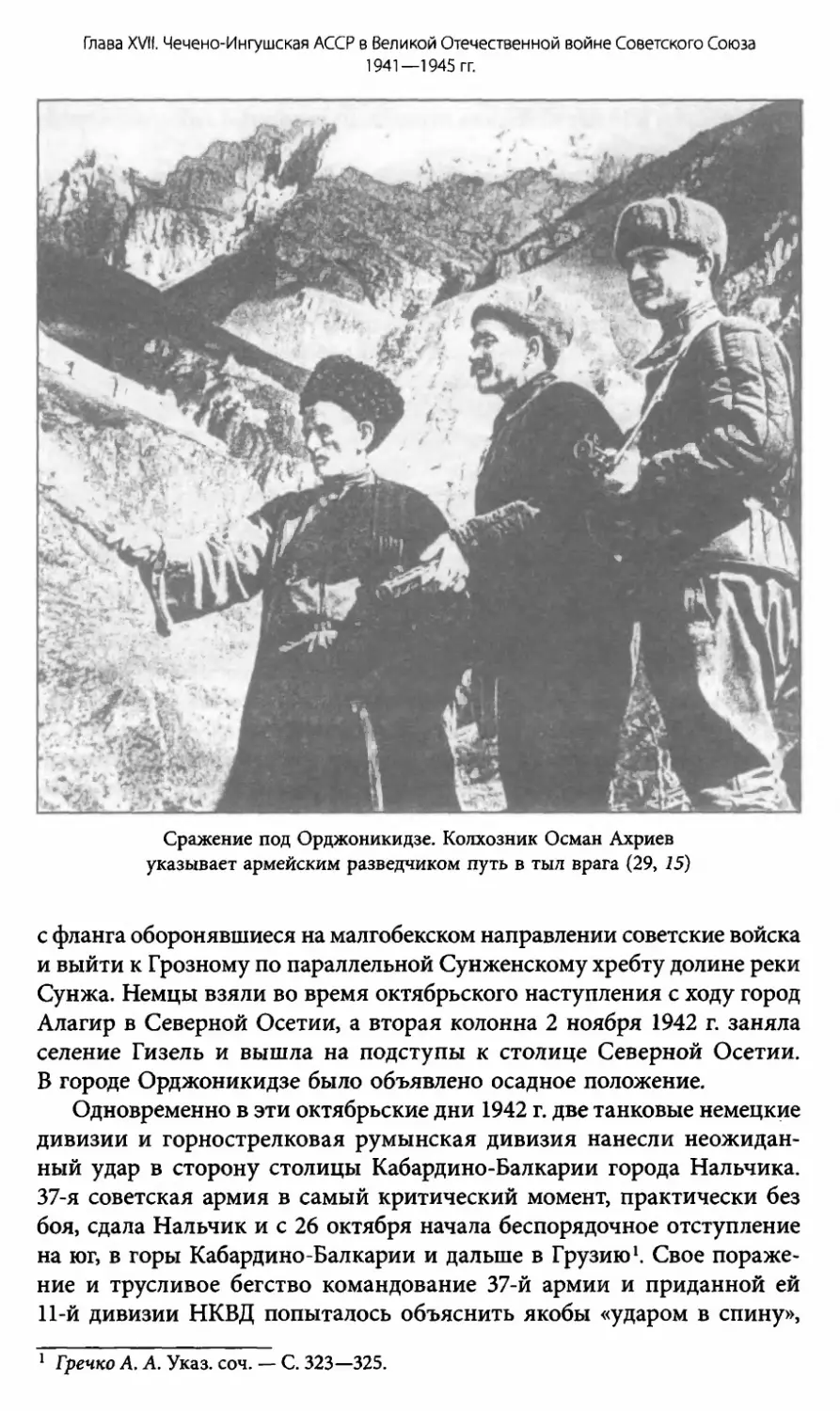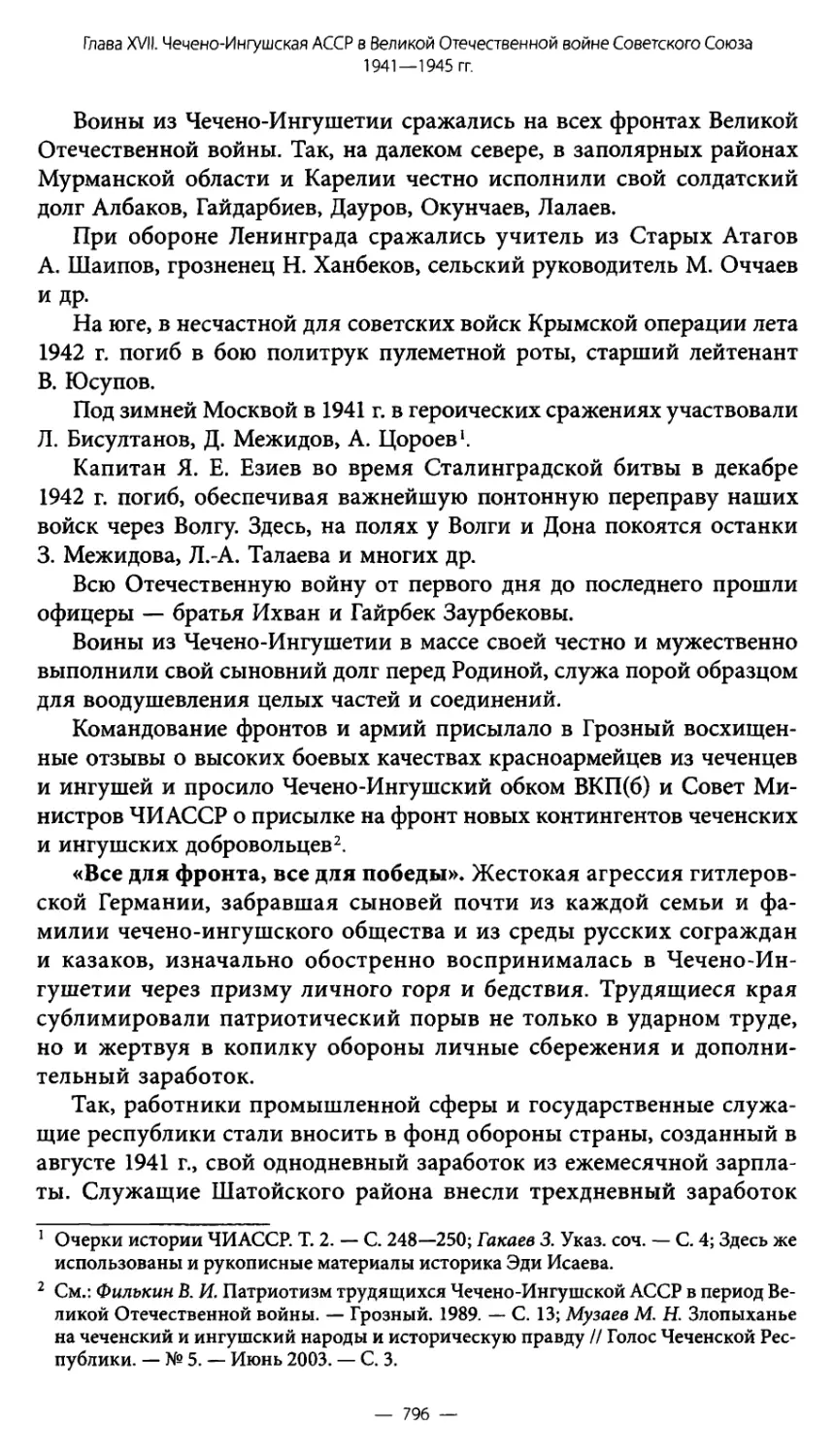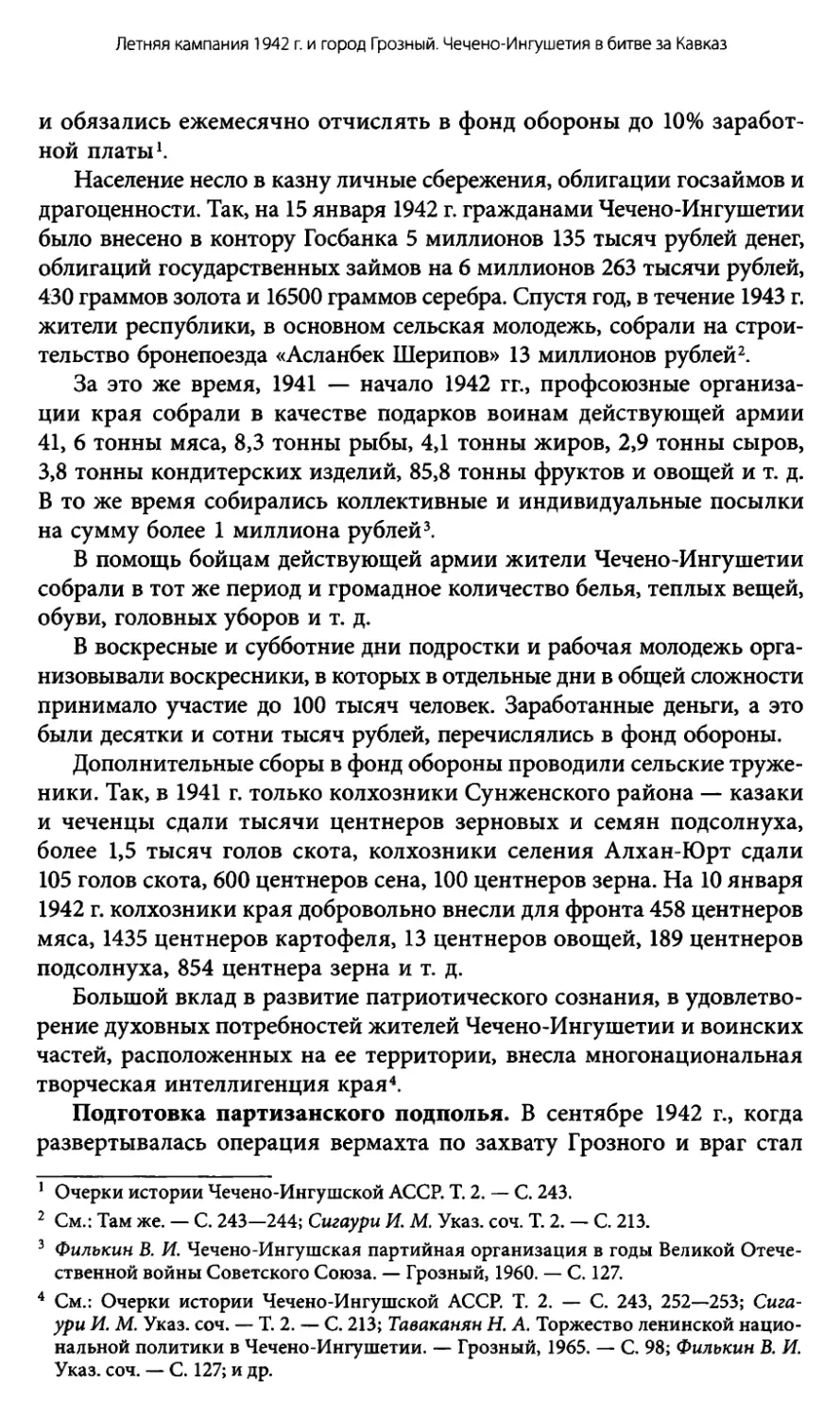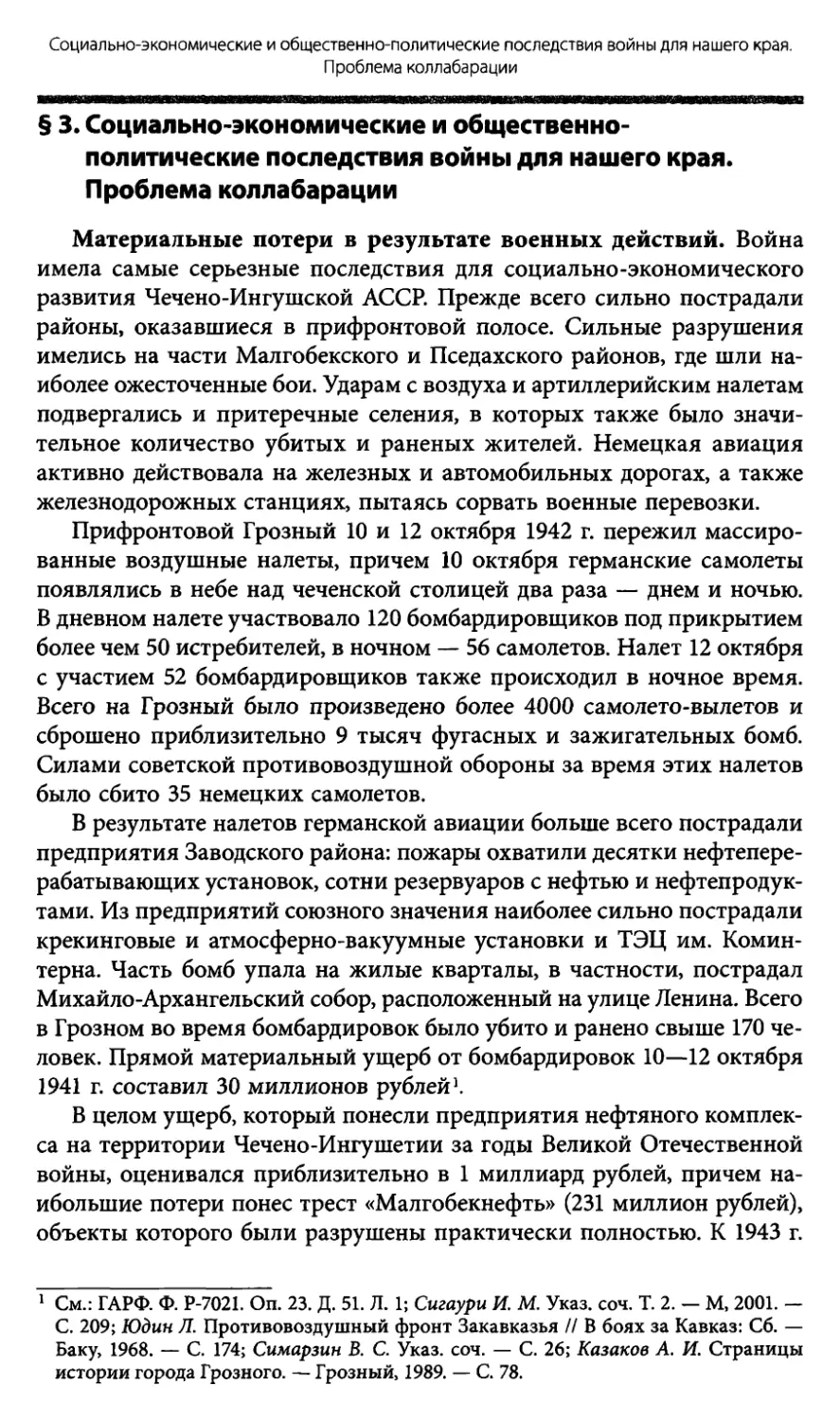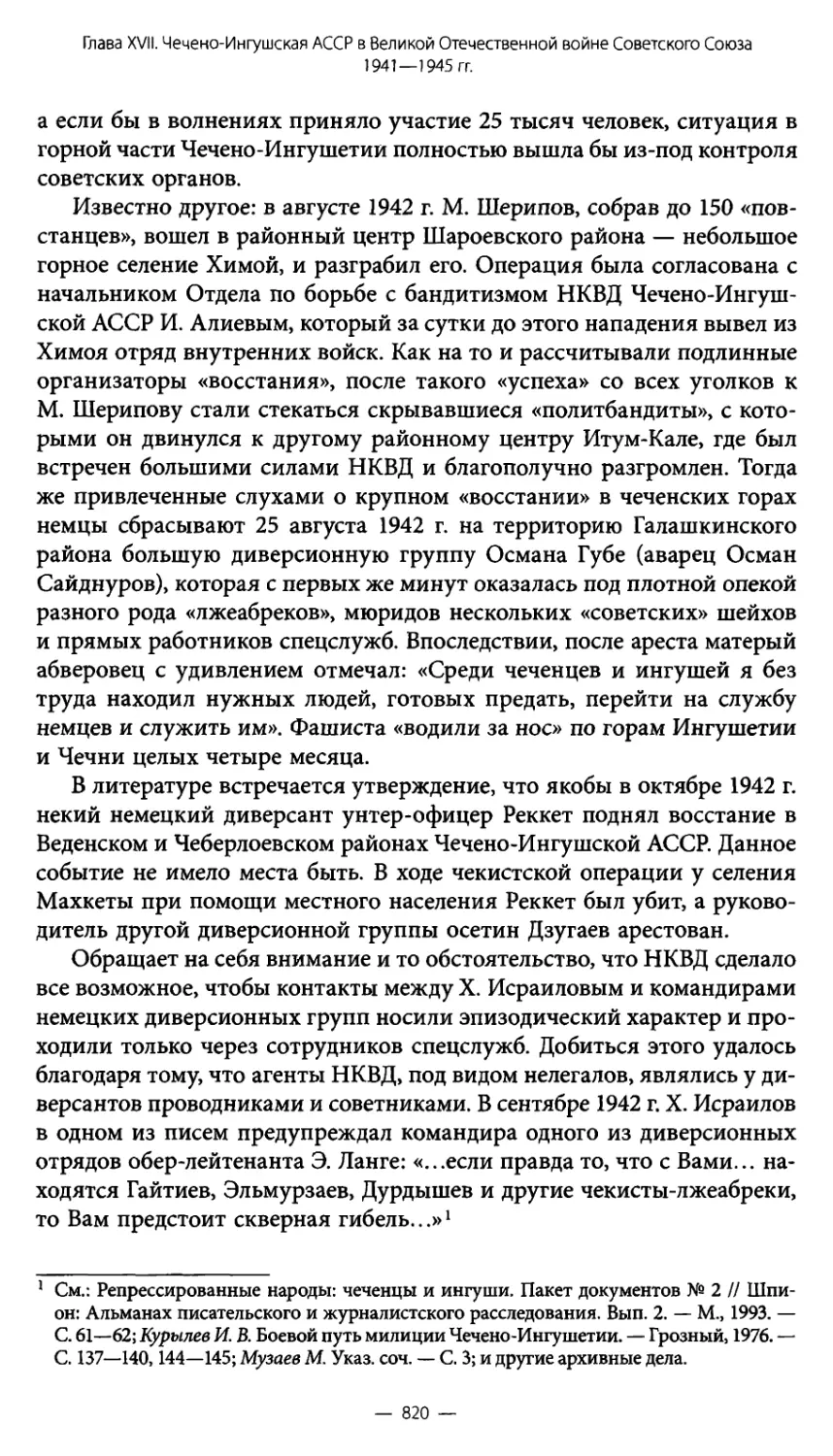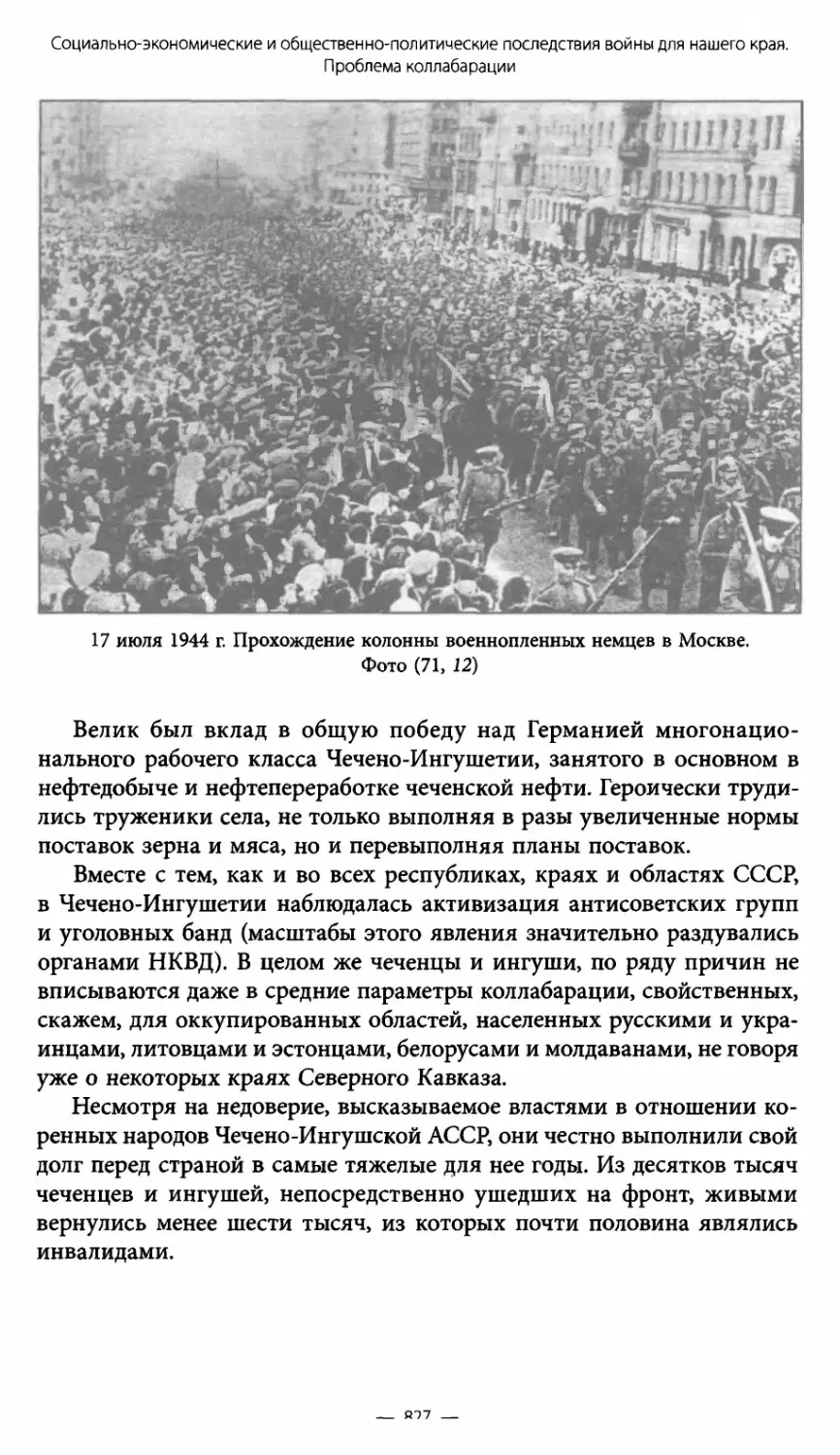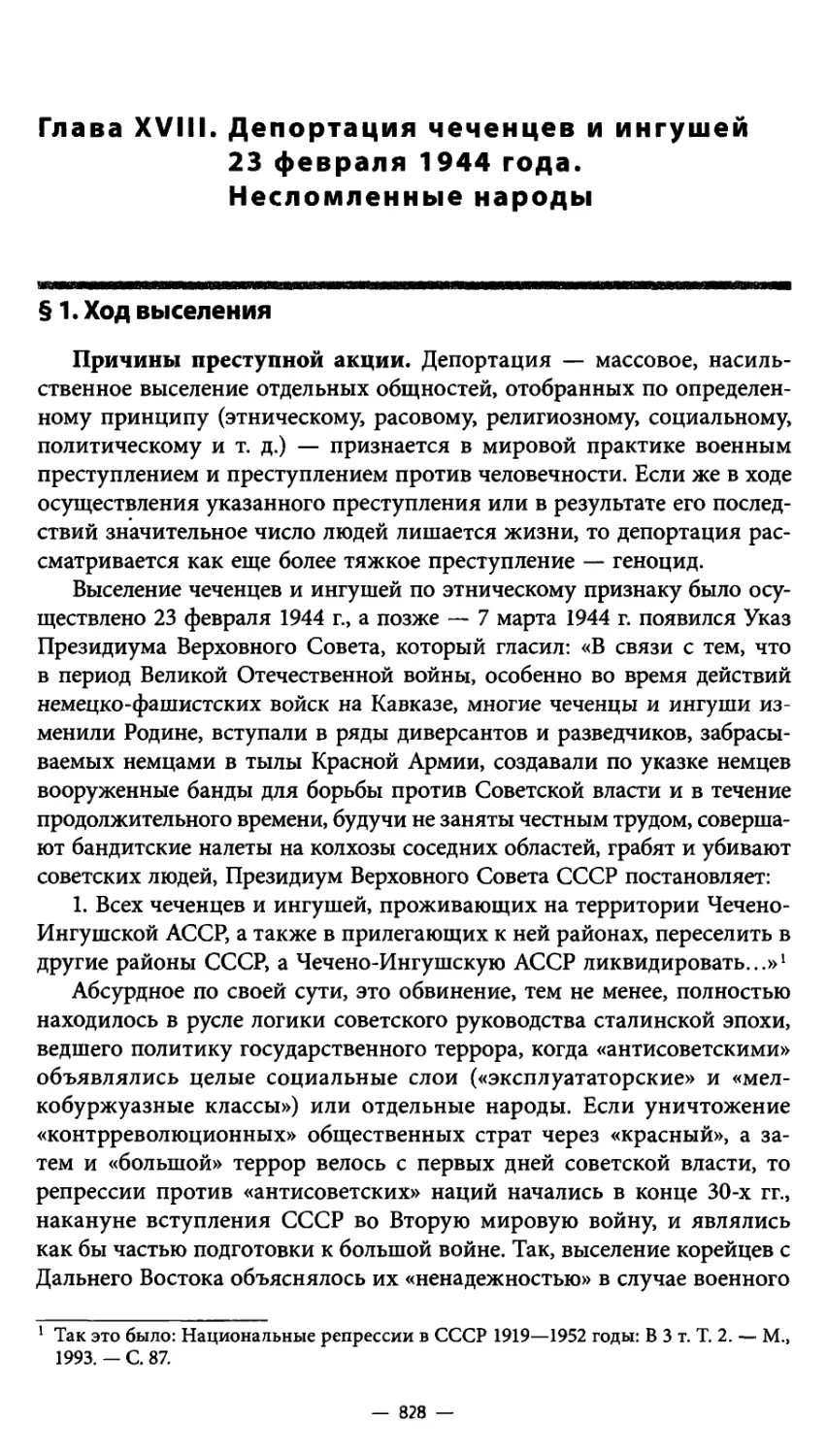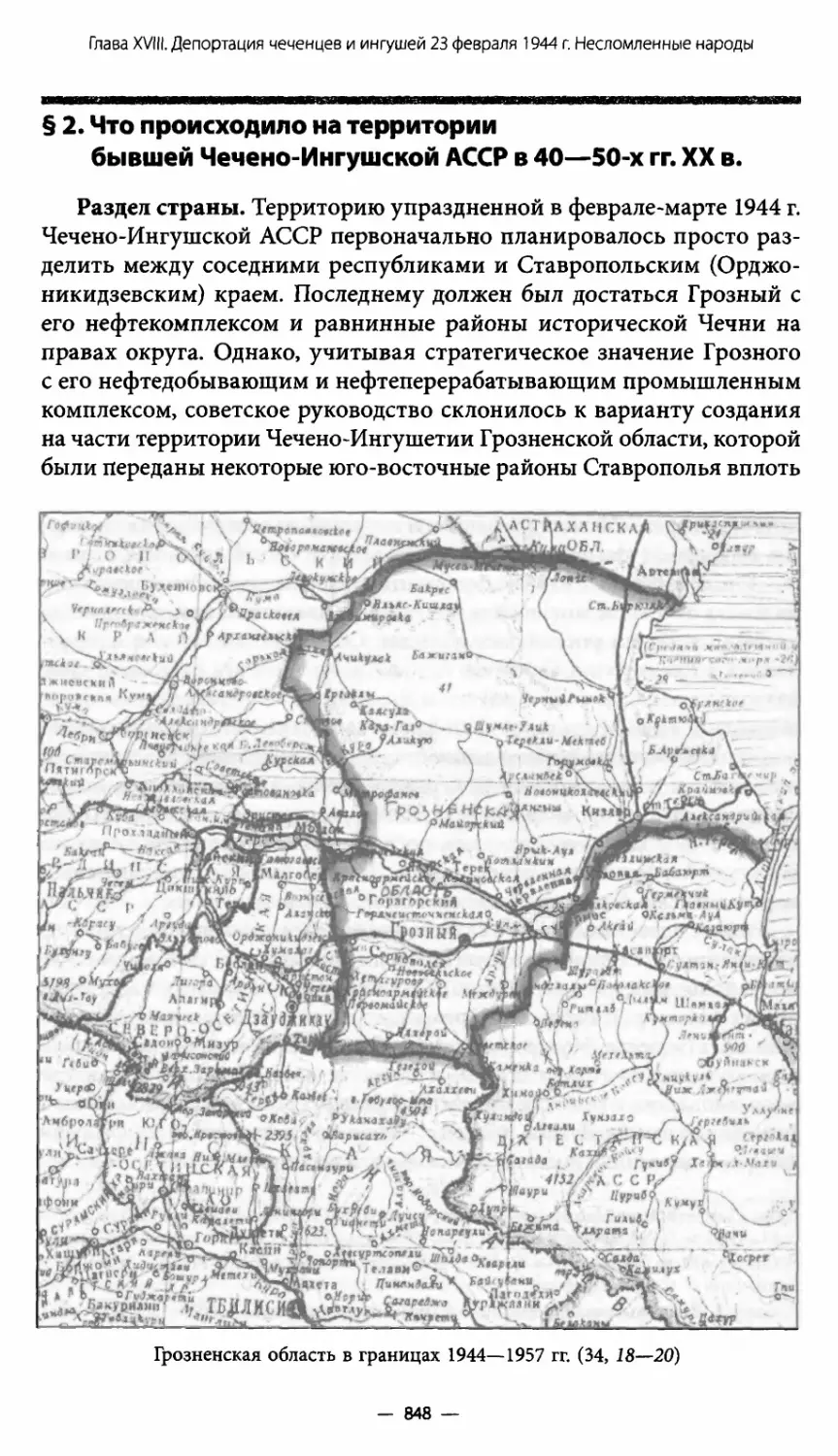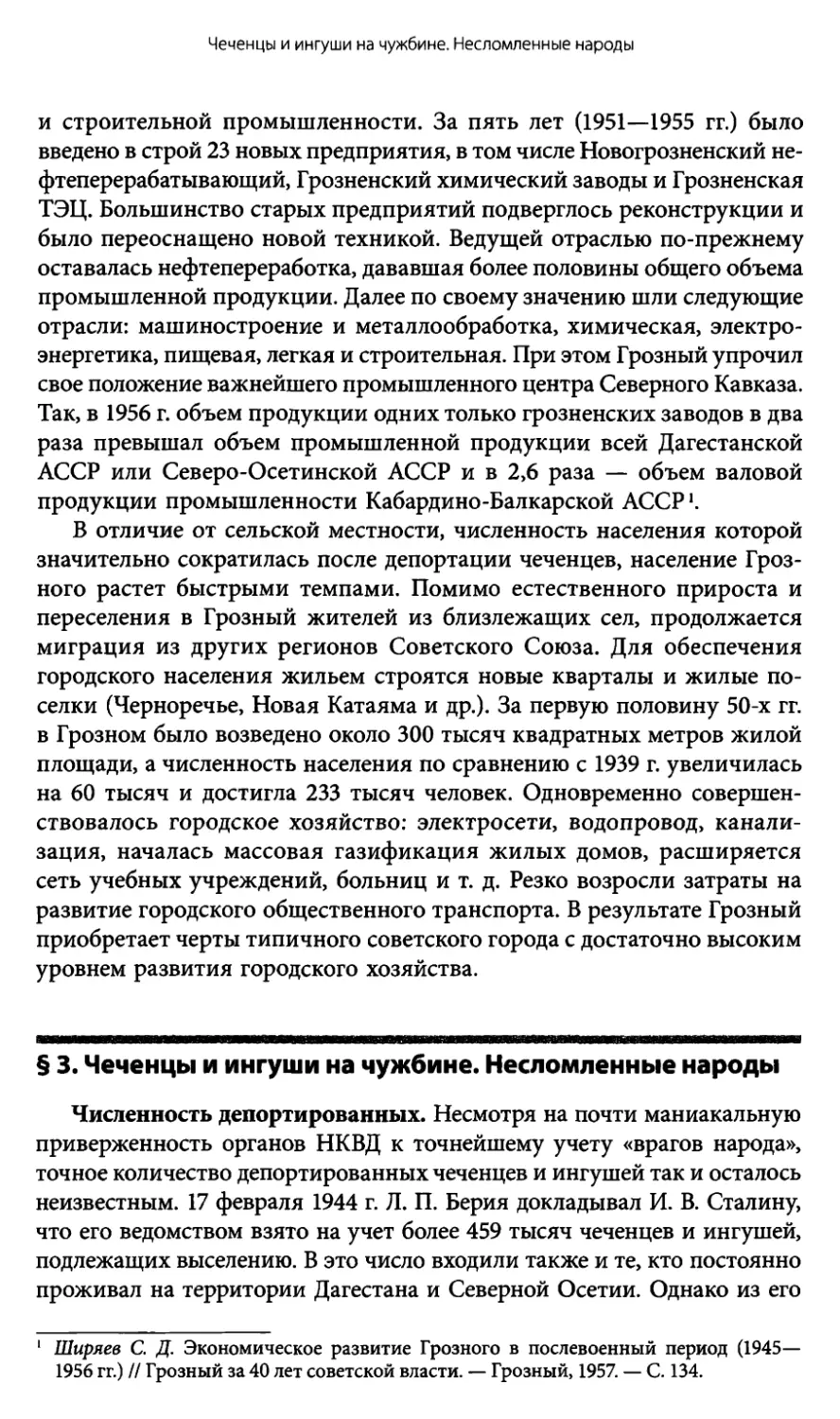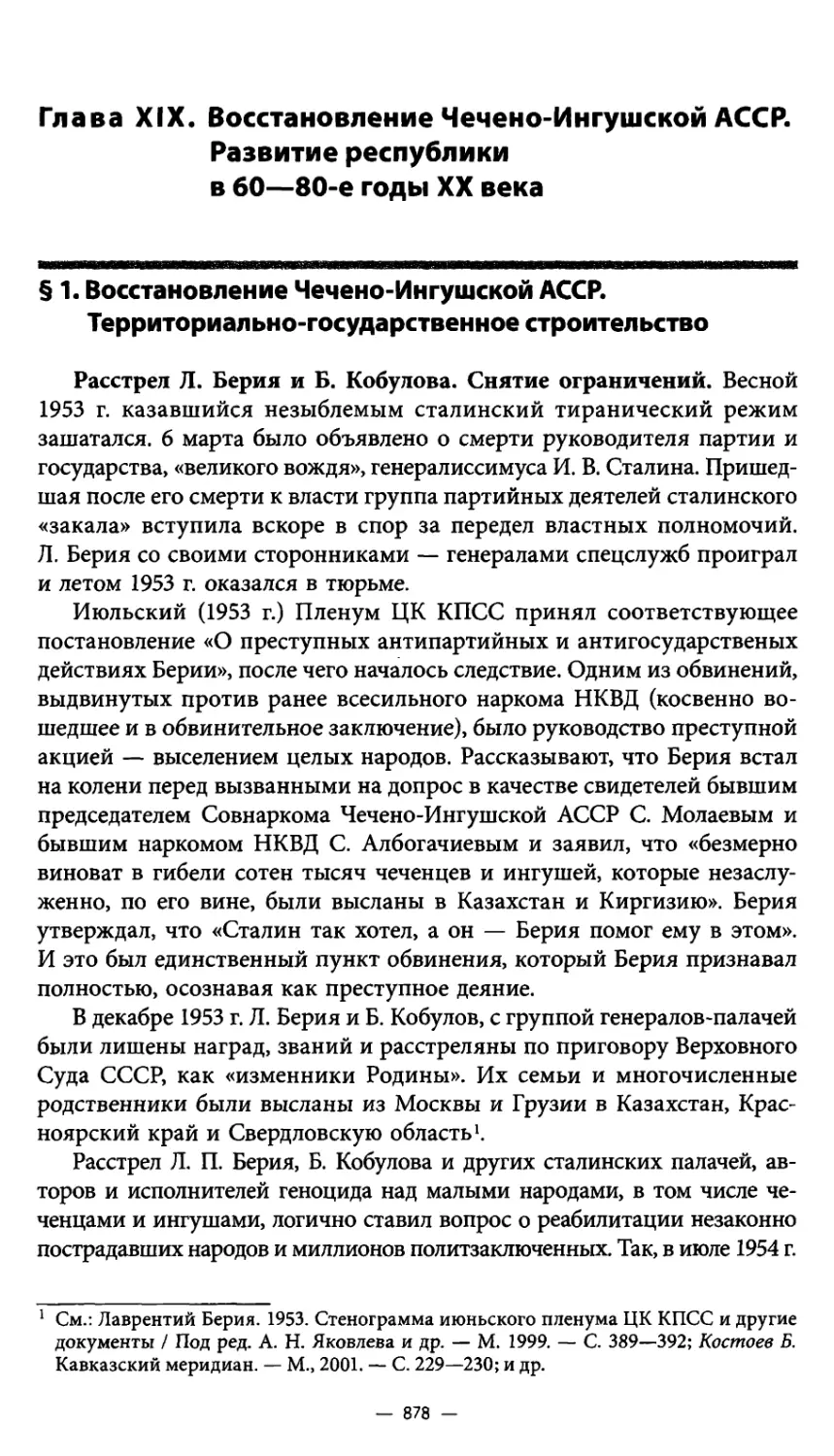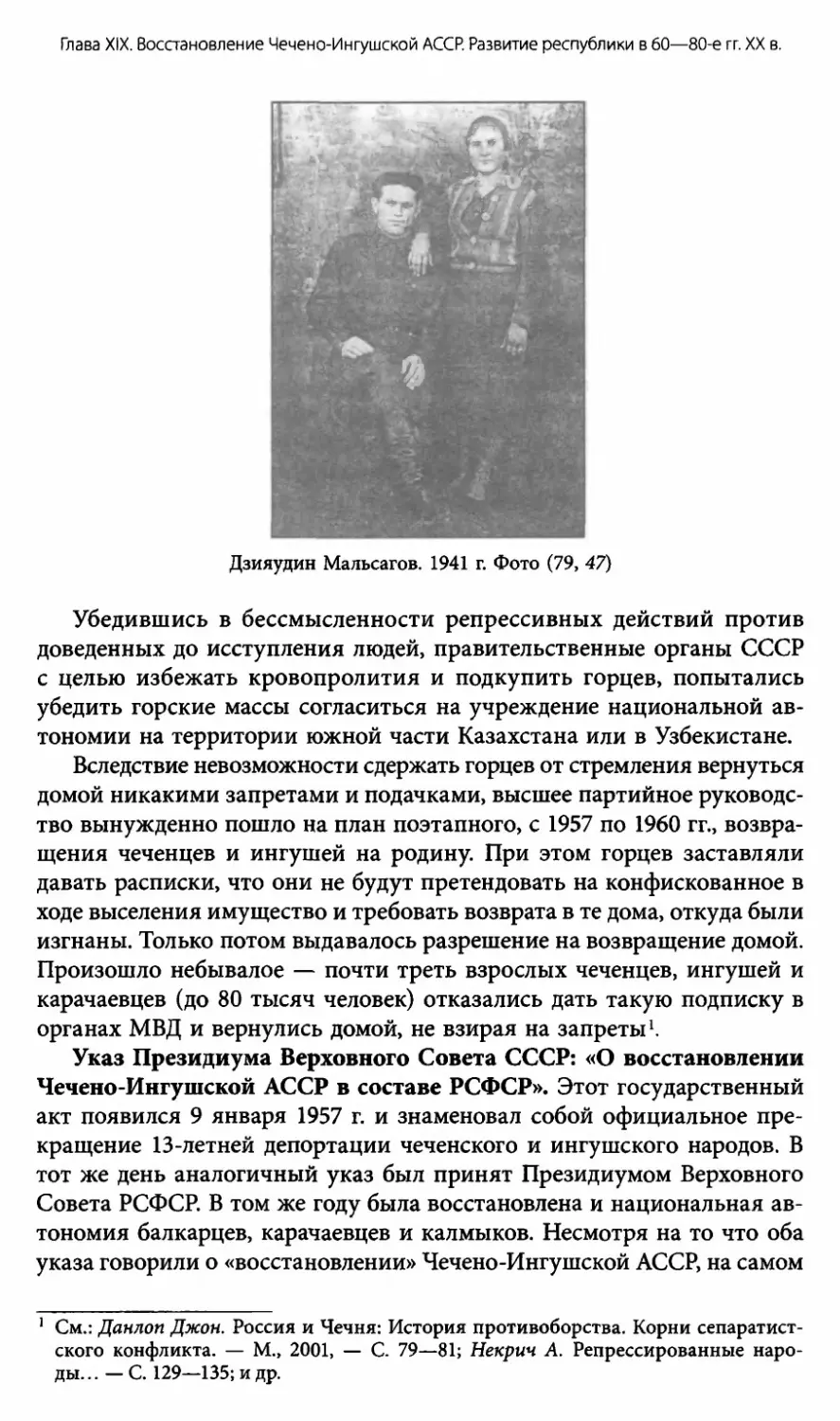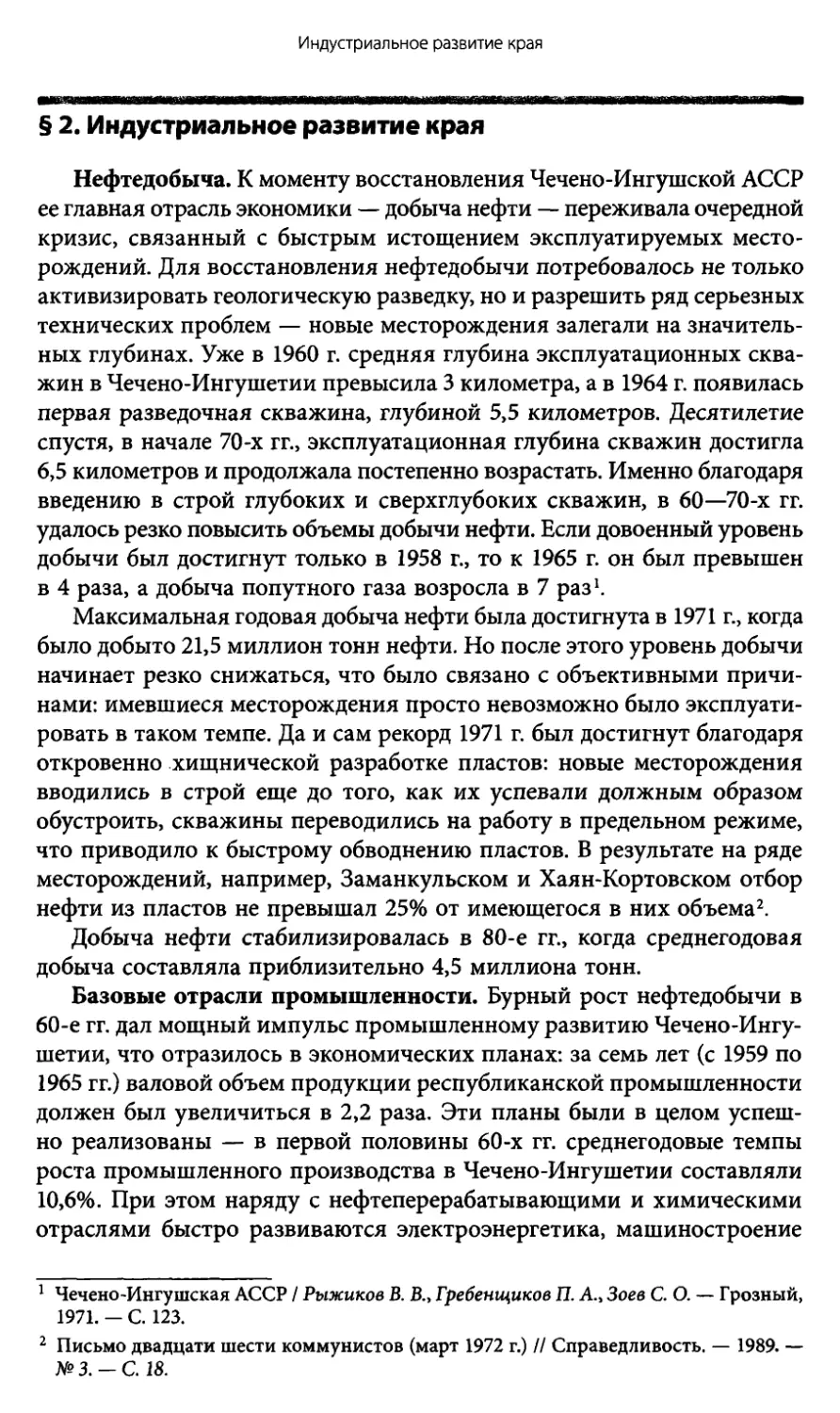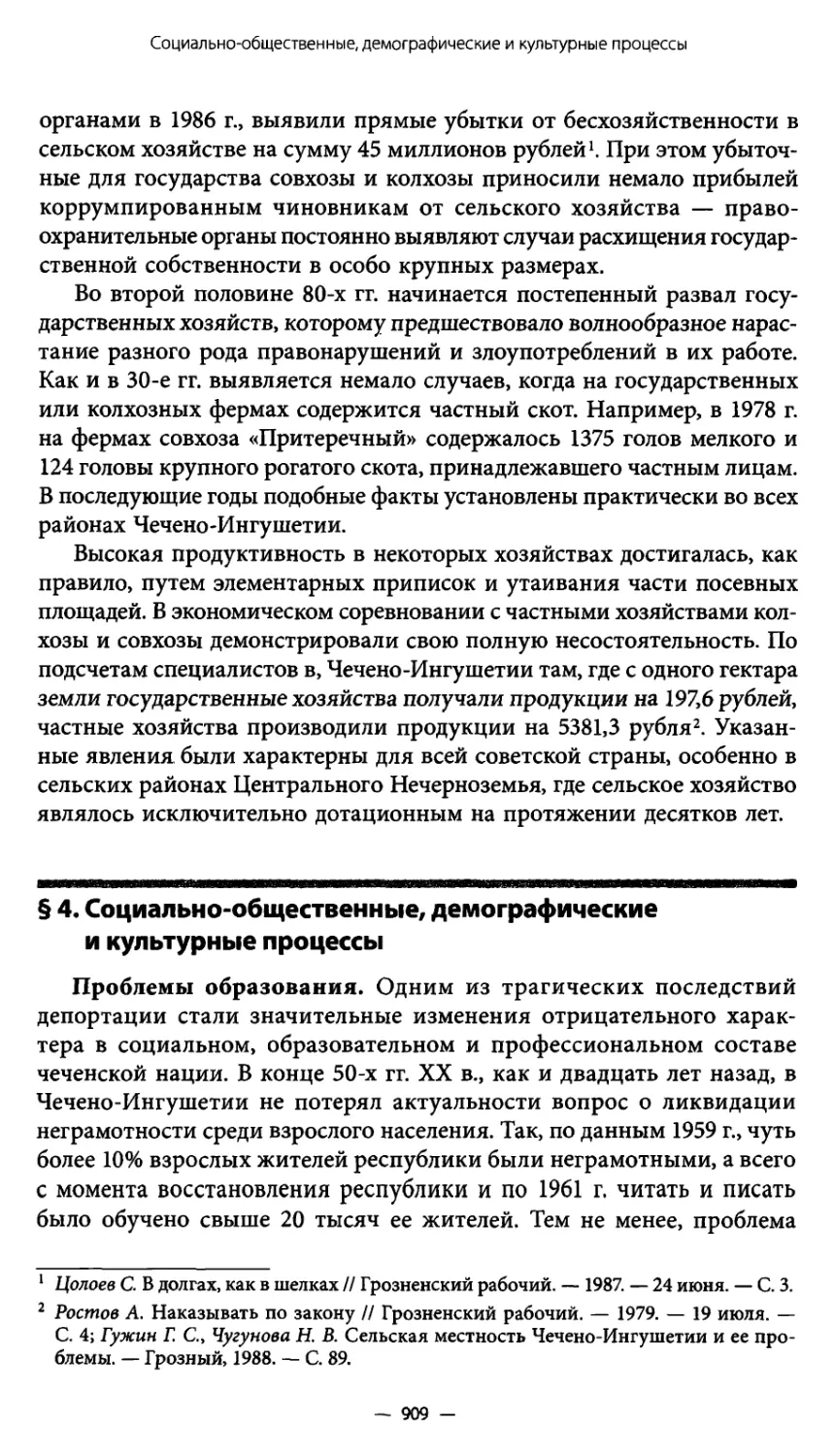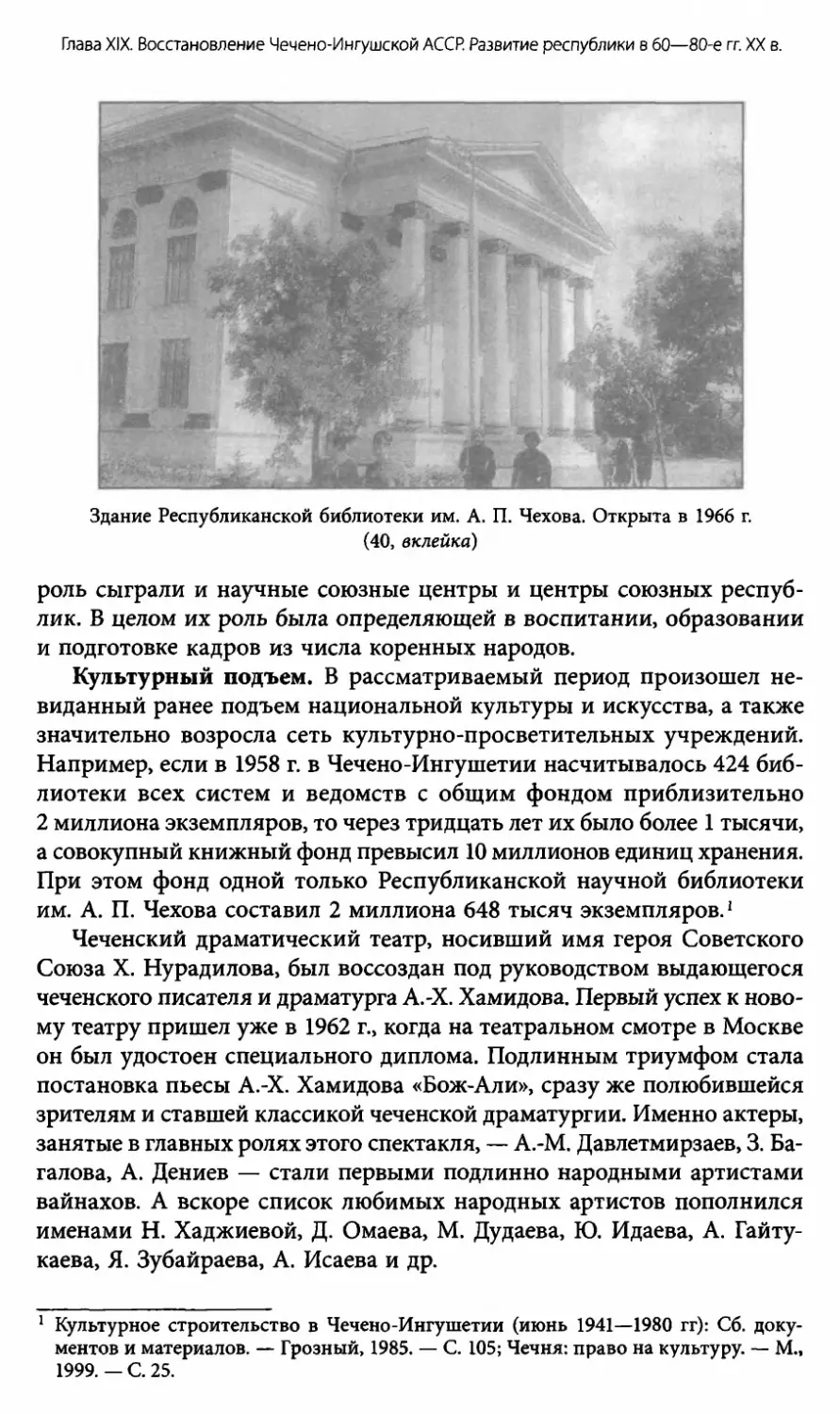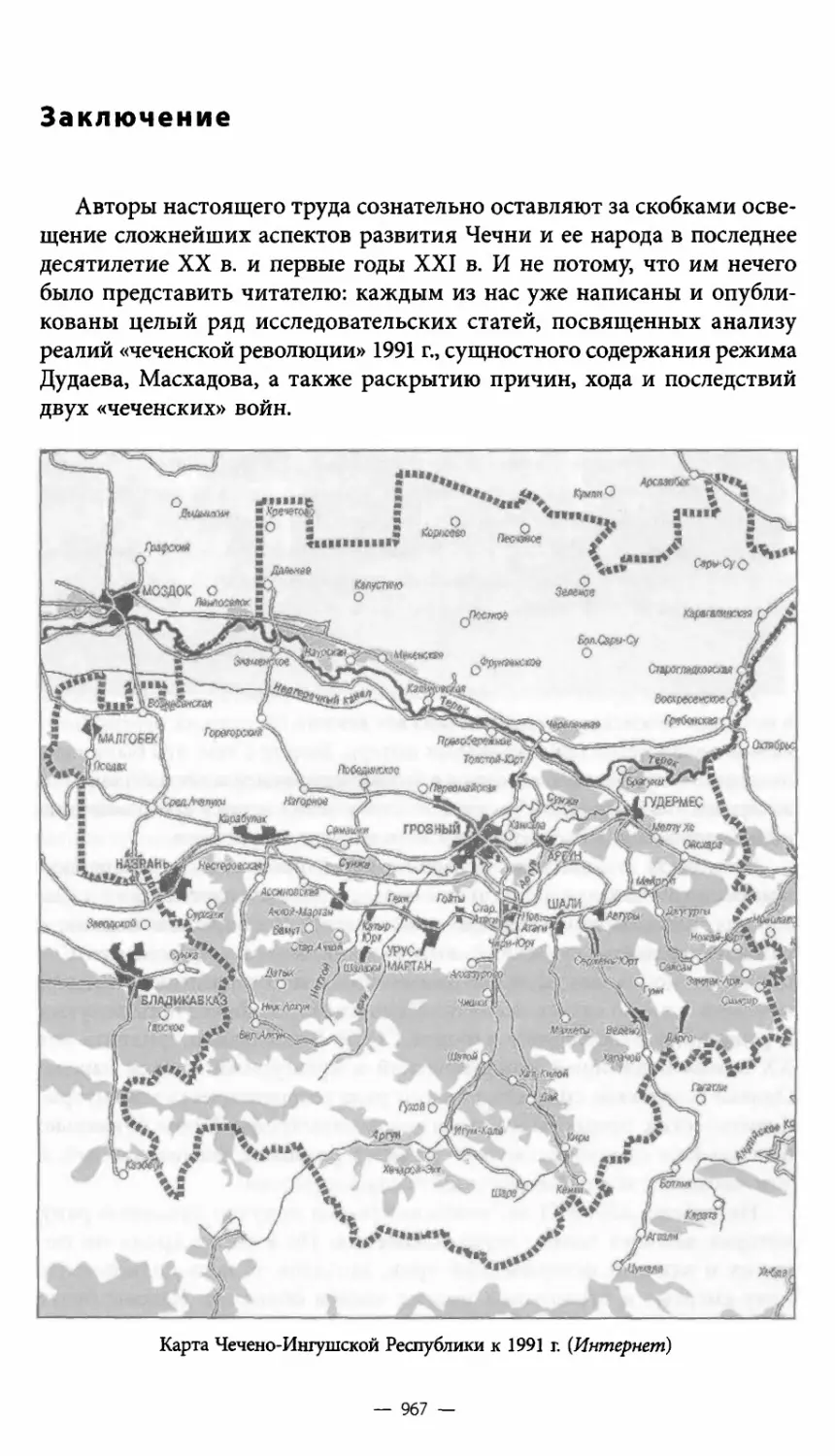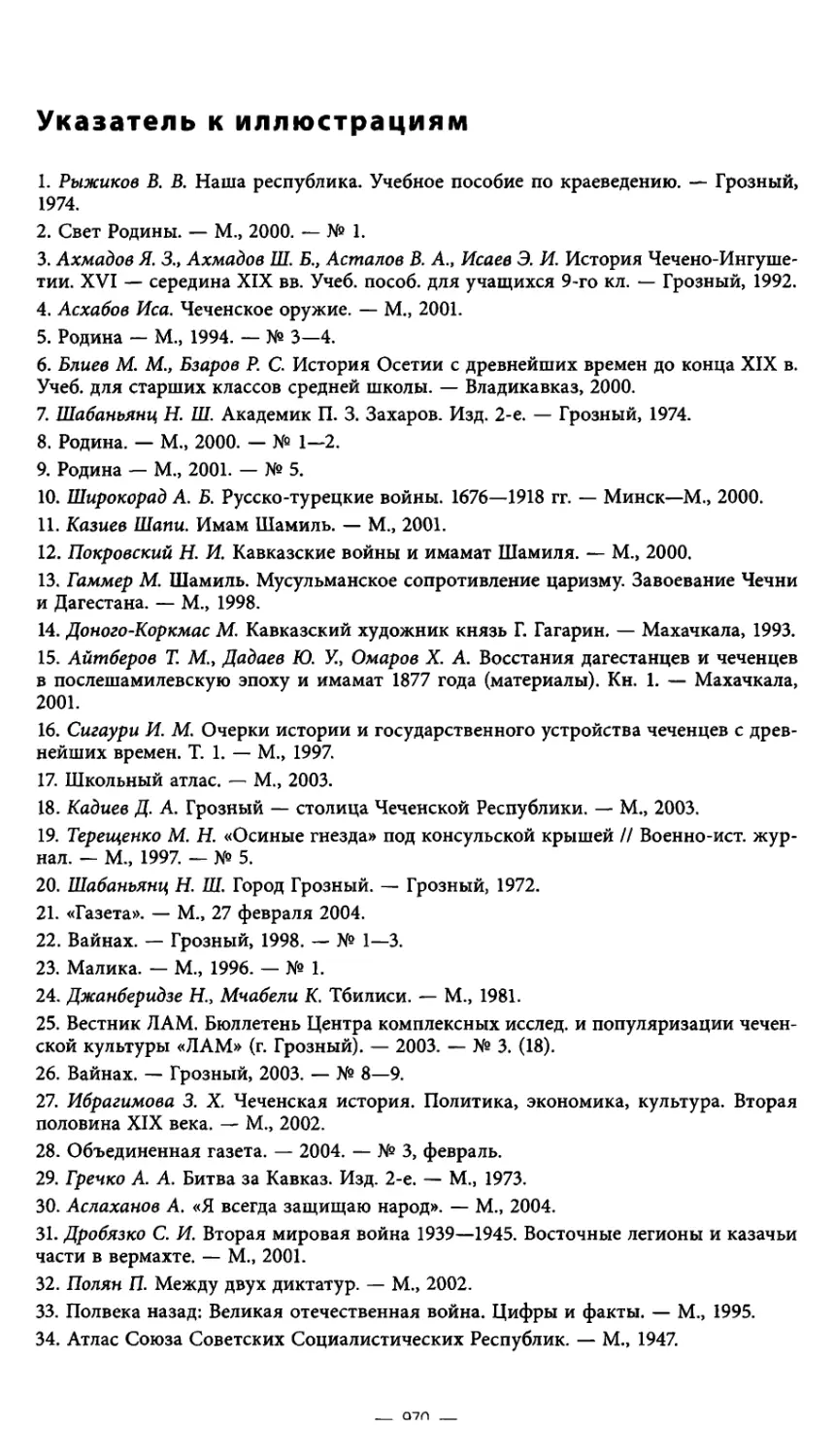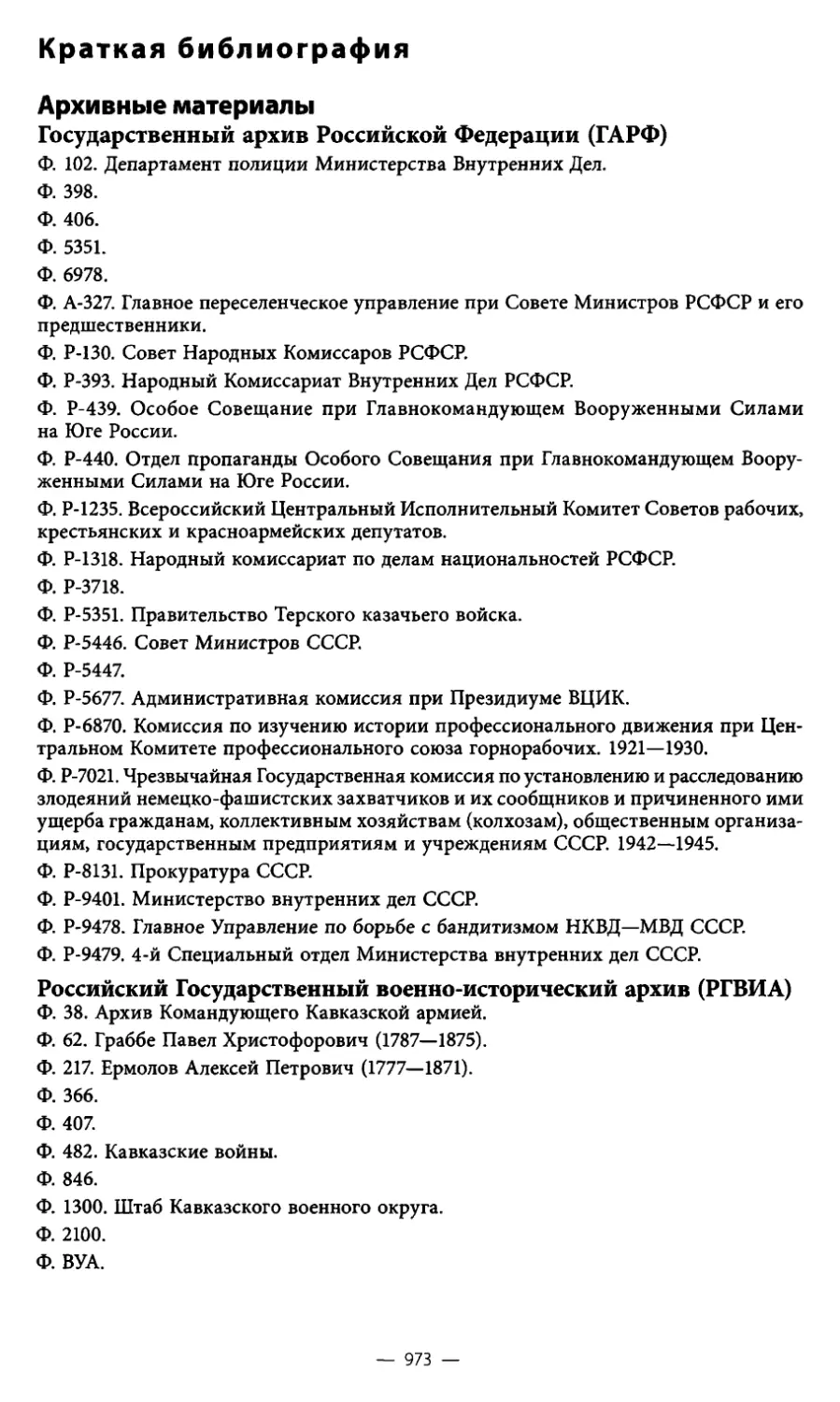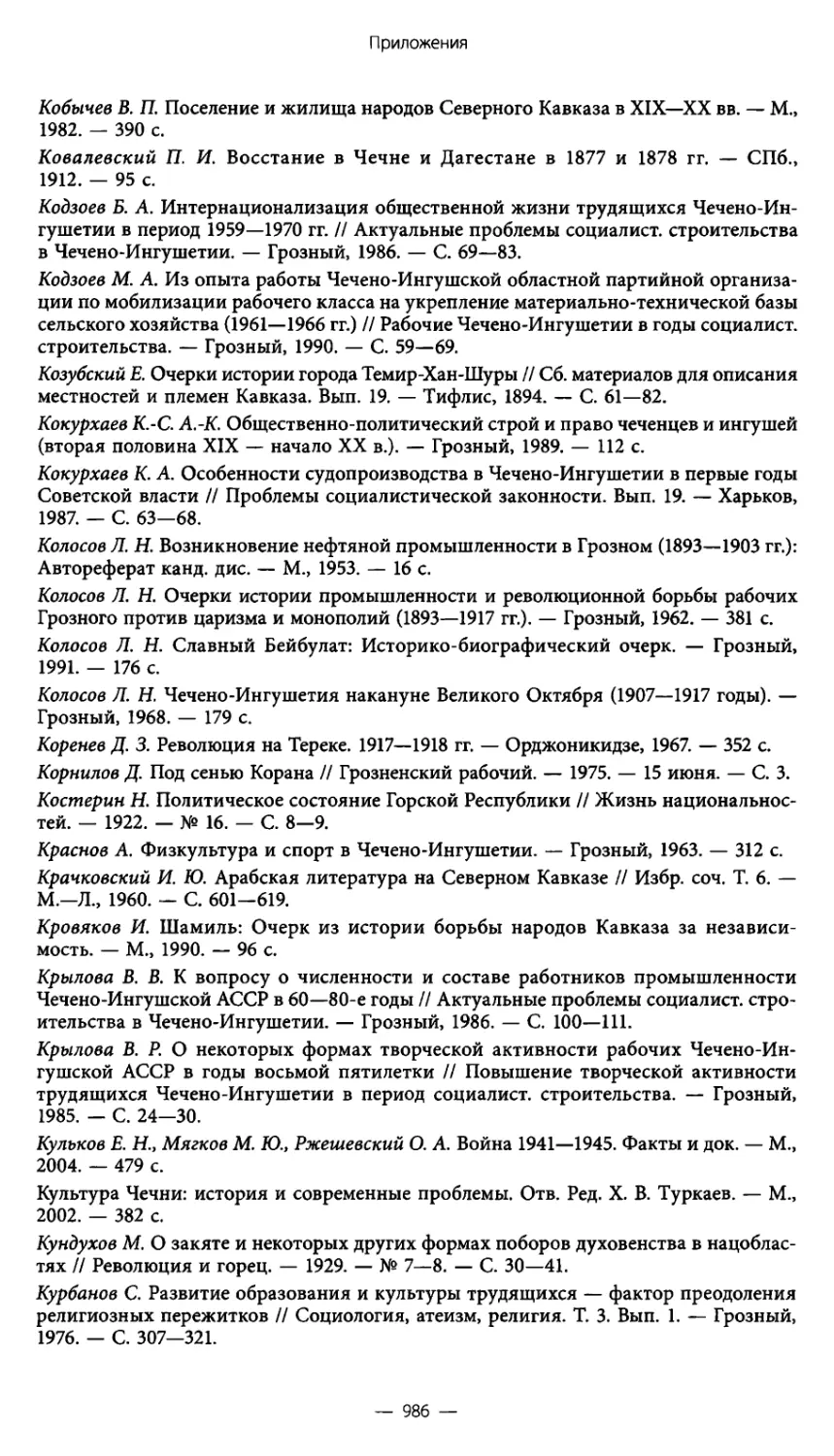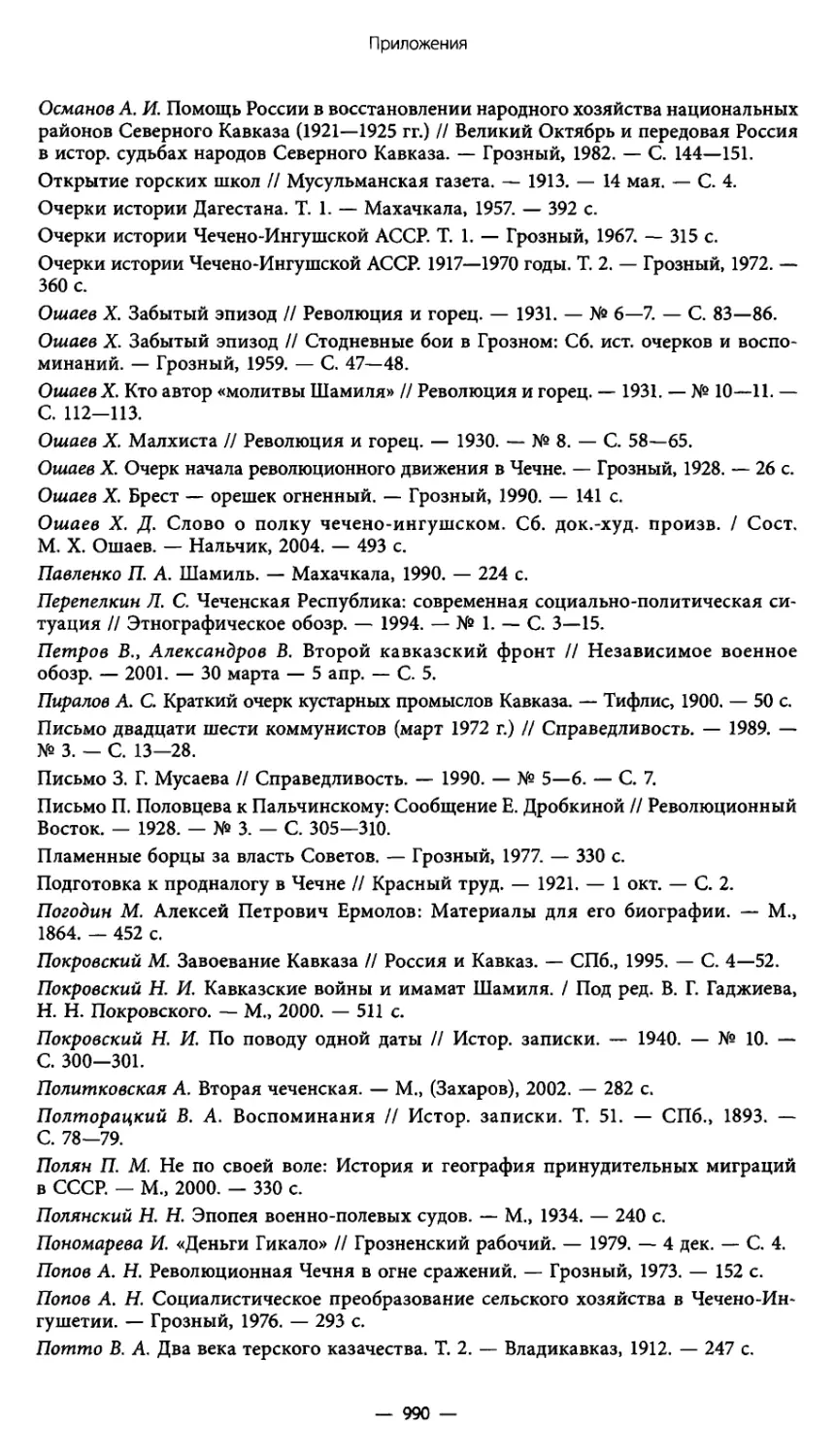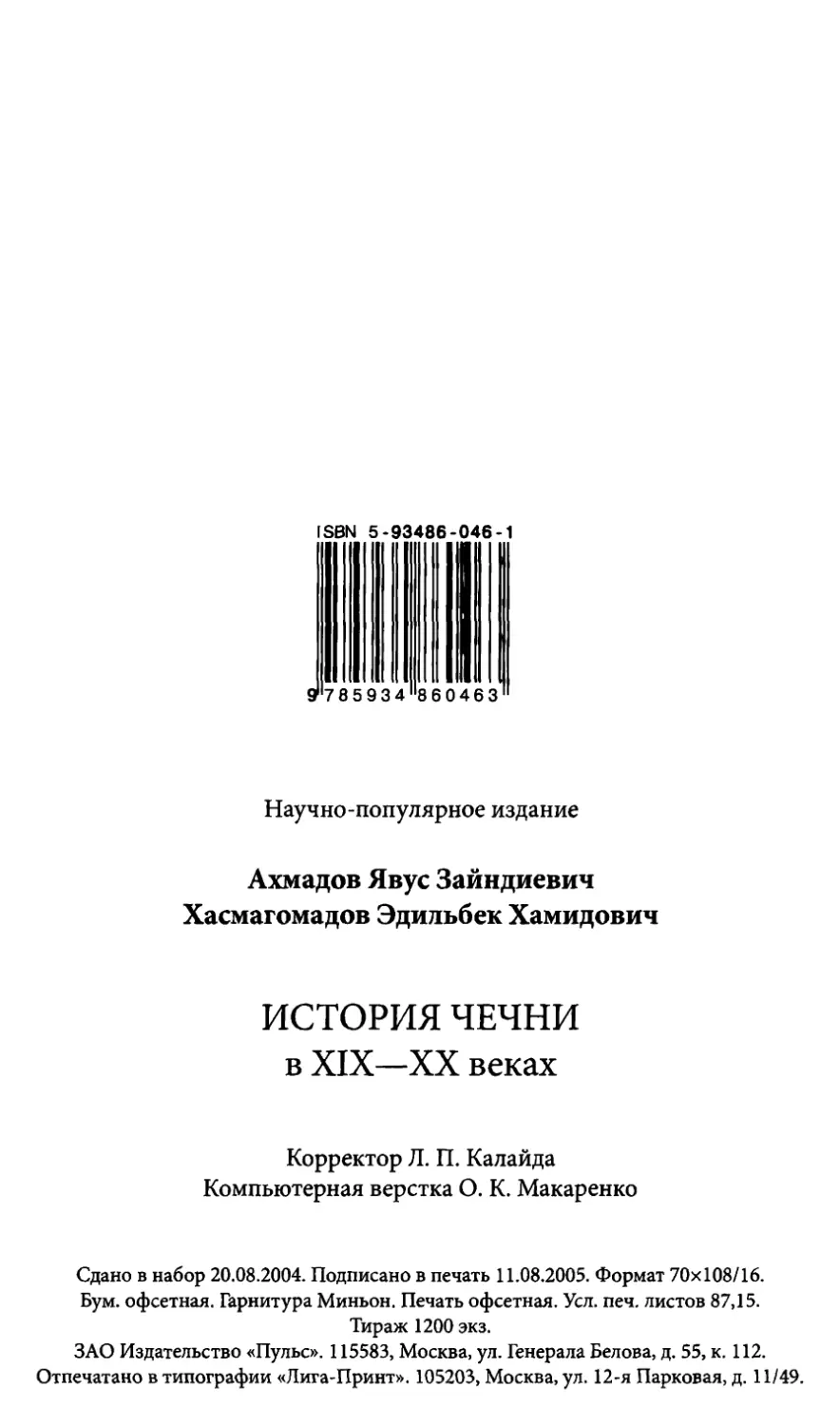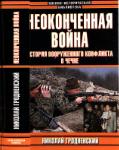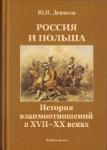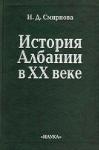Автор: Ахмадов Я.З. Хасмагомадов Э.Х.
Теги: всеобщая история история история чечни
ISBN: 5-93486-046-1
Год: 2005
Текст
Я. 3. АХМАДОВ Э. X. ХАСМАГОМАДОВ
ИСТОРИЯ
ЧЕЧНИ
в XIX—XX веках
От Издателя
Уважаемые читатели!
Я с чувством глубокого удовлетворения констатирую* «по данное нами обещание выпустить вторую часть книги «Нсторкя Чечни», выполнено.
Все эти годы после выпуска первой части *Истосжм были годами упорного и кропотливого груза. Мы маого раз спорили, дискутировали по поводу концепции написания этой хшсги* формы ее изложения, оформления и по многим другим воеросам. В итоге получился очень объемный и серьезный груд* который вы держите в руках.
Первая и вторая части книги «История Чечни» вместе охватывают огромный исторический период развития нахского эпоса, начиная с момента зарождения первых цивилизаций зо зздогг дней. Такой полноценный, систематизированный труд по истории Чечни, оформленный в жанре учебно-методической литературы, появляется впервые и в этом его несомненная ценность. Теперь появился фундамент, опираясь на который, историки-исследователи будут расширять, углублять, дополнять историю Чечни, сохраняя тем самым историческую память народа.
Я надеюсь, что внимательный и заинтересованный читатель, прочтя вторую часть книги «История Чечни* сможет найти для себя ответ на главный, поставленный нами ранее вопрос: «Почему приблизительно через каждые 50 лет чеченский народ оказывается на грани физического уничтожения?» Ответ на этот вопрос существует и его надо искать.
В этой связи я настоятельно рекомендую всем использовать эту книгу как учебное пособие в каждой школе, во всех высших и средних учебных заведениях Чеченской Республики. Данная книга также поможет нам задуматься и осознать «Кто мы есть на самом деле» в этом огромном мире, и сделать правильные выводы для успешного развития нации в будущем.
Я глубоко убежден, что если в каждой чеченской семье будут знать не «вымышленную», а подлинную историю своего народа, если в каждой семье образование наших детей сдедать главной задачей сегодняшнего дня, то завтра наши образованные дети создадут такое общество, которое будет всегда готово адекватно реагировать на любую изменяющуюся историческую обстановку и будет на равных достойно представлять чеченский народ среди других народов России и мира.
С уважениему Джамалдин Курумов
Я. 3. Ахмадов, Э. X. Хасмагомадов
История Чечни
в XIX—XX веках
Москва, 2005
УДК 94(470.661)
ББК 63.3(2Рос.Чеч)
А19
Ахмадов Я. 3., Хасмагомадов Э. X.
А19 История Чечни в XIX—XX веках / Я. 3. Ахмадов, Э. X. Хасмагома¬
дов — М.: Пульс, 2005. — 996 с.
ISBN 5-93486-046-1
Книга тематически продолжает работу Я. 3. Ахмадова «История Чечни с древнейших времен до конца XVIII века* (Mj -Мир дому твоему*, 2001), доводя изучение этнополитической истории Чечни и чеченского народа до последнего десятилетия XX века.
Здесь научно раскрыты и последовательно изложены ключевые вопросы развития чеченского этноса за два последних столетия.
Материалы исследования обладают высокой степенью научной новизны. Приведены многочисленные иллюстрации, схемы и карты. Дан список исследовательской литературы и источников.
Настоящая работа может послужить как учебным, так и научэбм пособием для всех, кто изучает историю Чечни в стенду учебных заведении или проявляет самостоятельный интерес к прошлому самобытных народов Кавказа.
УДК 94(470.661)
ББК 63.3(2Рос.Чеч)
На обложке картина художника Шамсуддина Ахмадова - Дикая груша», 1988 г.
Выход в свет настоящей «Истории...» стал возможным благодаря помощи и поддержки Благотворительно-культурного фонда «Солнце» под руководством профессора Джамалдина Курумова. Авторы выражают ему свою искреннюю благодарность и признательность как от себя, так и от имени тысяч читателей, надеявшихся, что «История Чечни с древнейших времен до конца XVIII века» найдет свое продолжение.
ISBN 5-93486-046-1 © Ахмадов Я. 3., 2005.
© Хасмагомадов Э. X., 2005. © «Пульс», 2005.
Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть вое произведена в какой бы то ни было форме без предварительного разре ■пм владельцев авторских прав.
Содержание
Введение 7
Глава I. Географическое, этнотерриториальное
и демографическое положение Чечни в XIX веке
§ 1. Физико-географическое положение и границы Чечни 11
§ 2. Расселение и численность чеченцев 25
Глава И. Чечня в первой трети XIX века. Взаимоотношения с Российской империей
§ 1. Экономическое развитие » 40
§ 2. Этнополитическое и социальное состояние чеченского общества
в первой трети XIX века 57
§ 3. Русское население Северо-Восточного Кавказа; экономическая
и военно-политическая роль российских городов и крепостей 67
§ 4. Взаимоотношения России и Чечни в первой трети XIX в.
Антиколониальная борьба чеченского народа под руководством Бейбулата Таймиева 77
Глава IIL Национально-освободительное движение народов Чечни и Дагестана в 30—40-х годах XIX века. Имам Шамиль
§ 1. Начальный этап антиколониального движения под флагом мюридизма. Деятельность Ташу-Хаджи в Чечне 123
§ 2. Освободительное движение в Чечне и Дагестане в 1840—1845 гг. Имам
Шамиль 153
Глава IV. Чечня и Дагестан в период расцвета и кризиса
имамата(конец 40-х — 50-е гг. XIX века)
§ 1. Государственное устройство имамата 175
§ 2. Внутренняя и внешняя политика имамата на заключительном
этапе Кавказской войны. Взлет и падение 196
§ 3. Колониальное присвоение чеченских земель в ходе военных
действий. Русско-горская торговля 221
§ 4. Деятели русской культуры и общественной мысли о Чечне
и чеченцах 229
Глава V. Выдающиеся деятели Чечни первой половины XIX века
§ 1. Бейбулат Таймиев 240
§ 2. Шейх Ташу-Хаджи 249
§ 3. Чеченские наибы 252
— 3 —
Содержание
Глава VI. Чечня и чеченцы в составе Российской империи в 60-х годах XIX века. Движение Кунта-Хаджи
§ 1. Административно-территориальное обустройство края после завершения Кавказской войны. Формирование
«военно-народной» системы управления 275
§ 2. Реформа судебной и правоохранительной системы 286
§ 3. Восстания в Ичкерийском и Аргунском округах Терской области . . . 295 § 4. Суфийские ордена в Чечне. Движение шейха Кунта-Хаджи 305
Глава VII. Аграрный и сословный вопрос в Чечне во второй половине XIX века.
Депортация чеченцев в Турцию
§ 1. Земельный вопрос в Чечне. Аграрная политика царизма 320
§ 2. Социальные процессы в чеченской общине
в пореформенный период 332
§ 3. Депортация чеченцев в Турцию. Переселенческие процессы
в Терской области во второй половине XIX в 340
Глава VIII. Крестьянская война в Чечне и Дагестане в 1877 году. Чеченские всадники на «Турецкой» войне
§ 1. Начало крестьянской войны. Имам Алибек-Хаджи 366
§ 2. Развертывание масштабных военных действий.
Поражение горских крестьян 373
§ 3. Чеченский полк в русско-турецкой войне 385
Глава IX. Вовлечение Чечни в экономическую систему
Российской империи в пореформенный период
§ 1. Развитие сельского хозяйства и зарождение товарного земледелия . . 393
§ 2. Кустарное производство 407
§ 3. Зарождение грозненской нефтяной промышленности 414
§ 4. Развитие торговли 429
Глава X. Наш край в первой русской буржуазно-демократической революции 1905—1907 годов
§ 1. Обострение социальной напряженности в горском обществе.
Предпосылки революции 435
§ 2. Революционные события в Чечне 445
§ 3. Абречество. Зелимхан Харачоевский 463
Глава XI. Экономическое развитие края и изменения в социальной структуре чеченского общества в начале XX века (до 1914 года)
§ 1. Развитие Грозненского нефтяного района в начале XX в 474
§ 2. Развитие капиталистических отношений в сельских районах края.
Изменения в традиционной структуре чеченского общества 481
— 4 —
Содержание
§ 3. Чеченское офицерство в процессе формирования
национальной элиты 496
Глава XII. Культура и быт народов Чечни
во второй половине XIX — начале XX веков
§ 1. Материальная культура 506
§ 2. Семья и обрядность. Народные знания 526
§ 3. Развитие светского образования и культуры 537
Глава XIII. Первая мировая война и Февральская революция в России в политических судьбах Чечни
§ 1. Наш край в годы Первой мировой войны 558
§ 2. Февральская буржуазно-демократическая революция на Тереке.
Национальные и политические движения 570
§ 3. Город Грозный в период между Февральской революцией 1917 г.
и Октябрьским переворотом 599
Глава XIV. Октябрьский переворот и ход гражданской войны на территории нашего края (1917—1920 годы).
Мюриды революции
§ 1. Октябрьский переворот 1917 г. и признание Советской власти
на Тереке 608
§ 2. Провозглашение Горской Республики. А.-М. (Тапа) Чермоев.
Политика Турции и Германии на Северном Кавказе 630
§ 3. Бичераховский мятеж и расширение гражданской войны на Тереке . . 636 § 4. Борьба с наступлением Добровольческой (деникинской)
армии в Чечне. Н. Гикало и А. Шерипов 651
§ 5. Северо-Кавказский эмират Узун-Хаджи в гражданской войне
на Тереке 663
Глава XV. Огнем и мечом: строительство советской власти в Чечне (20—30-е годы XX века)
§ 1. Чечня после окончания гражданской войны. Образование
Горской Автономной Советской Социалистической Республики ... 675 § 2. Чеченская автономная область в 1922—1934 гг.
Таштемир Эльдарханов 692
§ 3. Создание Чечено-Ингушской Автономной Советской
Социалистической Республики. «Большой» террор 719
Глава XVI. Чечено-Ингушетия в эпоху советской
модернизации: индустриализация, коллективизация и культурная революция
§ 1. Восстановление Грозненского нефтепромышленного района. Индустриализация и формирование чеченского промышленного пролетариата 730
— 5 —
Содержание
§ 2. Коллективизация сельского хозяйства. Закрепощение
крестьянства государством 741
§ 3. «Культурная революция». Изменения в духовной жизни
чеченского народа 750
Глава XVII. Чечено-Ингушская АССР
в Великой Отечественной войне Советского Союза 1941—1945 годов
§ 1. Нападение гитлеровской Германии на СССР.
Чечено-Ингушетия в первый год войны 761
§ 2. Летняя кампания 1942 г. и город Грозный.
Чечено-Ингушетия в битве за Кавказ 777
§ 3. Социально-экономические и общественно-политические
последствия войны для нашего края. Проблема коллабарации 799
Глава XVIIL Депортация чеченцев и ингушей
23 февраля 1944 года. Несломленные народы
§ 1. Ход выселения 828
§ 2. Что происходило на территории бывшей
Чечено-Ингушской АССР в 40—50-х гг. XX в 848
§ 3. Чеченцы и ингуши на чужбине. Несломленные народы 859
Глава XIX. Восстановление Чечено-Ингушской АССР.
Развитие республики в 60—80-е годы XX века
§ 1. Восстановление Чечено-Ингушской АССР. Территориальногосударственное строительство 878
§ 2. Индустриальное развитие края 893
§ 3. Сельское хозяйство Чечено-Ингушетии 900
§ 4. Социально-общественные, демографические и культурные
процессы 909
Глава XX. Общественно-политическое развитие
чеченского народа в 60—80-е годы XX века.
Начало «чеченского» кризиса
§ 1. Новые явления в общественно-политической жизни 937
§ 2. Политическая борьба в Чечено-Ингушетии в годы перестройки .... 948
Заключение 967
Указатель к иллюстрациям 970
Краткая библиография 973
— 6 —
ВВЕДЕНИЕ
Настоящее издание — «История Чечни в XIX—XX веках» — является своеобразным продолжением предыдущей работы: «История Чечни с древнейших времен до конца XVIII века» (М., 2001). Вместе с тем, это вполне самостоятельный труд, обладающий научной новизной, своеобразием подходов и формы изложения. Здесь приведен широкий фактологический материал, зачастую впервые вводимый в научный оборот.
Новая работа — «История Чечни в XIX—XX веках» мыслилась ее авторами как научное исследование этнополитической истории одного из крупнейших коренных народов Кавказа, оказавшегося на стыке двух цивилизационных (европейской и восточноисламской) «плит» и подвергшегося массированной российской (имперской и «советской») модернизации.
Наличие разновекторных цивилизационных начал в истории Чечни на протяжении XIX—XX веков, наряду с собственным, весьма специфическим, общественно-экономически#! типом и культурным менталитетом («горская цивилизация»), определили своеобразие этнополитического развития чеченской нации, отраженного и в настоящей «Истории...».
Два последних столетия в истории Чечни и чеченского народа были ознаменованы прежде всего тем, что решающее воздействие на внутреннее развитие края и его положение на Кавказе и в мире стала оказывать только одна сила — Российская империя, а затем наследник империи — Советский Союз. Причем эта внешняя сила проявлялась не только в экономическом, политическом и культурном давлении, имевшим зачастую и положительные последствия, но и в форме грубого военного насилия, доходящего до прямого геноцида.
Буквально с первого года XIX века Российская империя развернула ожесточенную борьбу за политическую гегемонию на Северо-Восточном и Центральном Кавказе. В ходе этой борьбы политическая элита Чечни начала терять свое прямое влияние в регионе, однако наступление империи вызвало сопротивление уже десятков горских народов, а не только чеченцев.
Начиная с первого российского наместника Кавказа генерала А. П. Ермолова на первый план для чеченского народа, как и для других горских народов, выдвигается задача простого физического выживания и защиты своих земель и исконных свобод. Своим тотальным военным наступлением Ермолов достиг здесь того, чего не удавалось ни одному, даже самому выдающемуся горскому вождю: он буквально заставил народы сплотиться против России. Это обстоятельство и породило длительную Кавказскую войну, носившую для горцев национально- освободительный характер по определению.
— 7 —
Введение
В этой войне царизм преследовал конкретные колониальные задачи — покорить Кавказ, закрепить за Российской империей горские земли, а сопротивляющихся «туземцев» усмирить или уничтожить. В свою очередь чеченцы, дагестанцы, черкесы вместе с другими народами Кавказа столь же четко преследовали другую цель — отстоять свою национальную, политическую и экономическую составляющую, защитить жизнь и свою собственность. Тем более неуместным выглядит сегодня своеобразная эскапада группы маргинальных историков во главе с М. Блиевым, утверждающих, явочным порядком, что Кавказская война была вызвана грабительскими устремлениями горцев Чечни, Дагестана и Черкесии, столкнувшимися с прогрессивной политикой Российской империи.
В ходе народно-освободительной борьбы горцев в первой половине XIX века было создано сильное национальное государство Чечни и Дагестана, четверть века сдерживавшее натиск самой мощной военной державы того времени.
Потерпев поражение и будучи включенными в состав Российской империи, чеченцы не утеряли своего энергичного, здорового национального начала и пошли по пути инкорпорации в Россию прежде всего в русле культуры и капиталистического развития.
Нельзя ни в коем случае исключить того обстоятельства, что несмотря на захватнический характер своей политики, только Россия оставалась для горских народов окном в европейскую цивилизацию, своеобразным «устроителем» евроазиатского геополитического пространства, насаждавшим вместе с деспотией и крепостничеством некие новые политические начала, объективно служившие прогрессу чеченского народа.
В демографическом плане история Чечни XIX—XX веков это история сплошных потерь. Так, начав Кавказскую войну примерно с 250-тысячным населением, Чечня вышла из нее через 30 лет, имея всего 150 тысяч жителей. Из них в 1865 году ушли в Турцию 23 тысячи человек наиболее энергичного населения, не пожелавшего жить под чуждой властью.
Большие потери понесли чеченцы в ходе крестьянских восстаний 1861, 1877—1878 годов, революции 1905—1907 годов и гражданской войны 1918—1920 годов. В 30-е годы XX века наступили тотальные сталинские репрессии, когда десятки тысяч людей были расстреляны, осуждены на заключение и не вернулись из сталинских лагерей.
В 1944 году около 420 тысяч чеченцев и до 90 тысяч ингушей были депортированы из единой Чечено-Ингушской автономной ССР (упразднена 7 марта 1994 г.) в Казахстан и Среднюю Азию, где из указанного числа в первые годы умерло от холода и голода до 150 тысяч спецпе- реселенцев. Это был, конечно, классический геноцид.
— 8 —
Введение
Вместе с тем, если брать период российской (имперской) и советской власти в целом, то он был не только эпохой потерь, но и эпохой приобретений. Чеченцы становятся нацией в классическом смысле этого слова. Всеобщая грамотность, профессиональное искусство и литература, складывание индустриального рабочего класса, рост городского населения — стали зримыми приметами колоссальных перемен в развитии и народа, и края. Созрели в конце XX в. и объективные предпосылки для складывания независимого национального государства демократического типа. Однако объективный процесс суверенизации нации, приведший к провозглашению в конце 1991 года «независимой» республики, оседлали, как это часто случается, «революционные» авантюристы и провокаторы, полностью подорвав экономический базис и общественно-политические достижения чеченского общества.
Примерно через 50 лет после геноцида 1944 года в результате «чеченской» войны, развязанной в эпоху «великой криминальной революции» российскими властными группами, а также местной антинациональной кликой, в 1994—2004 годах погибли десятки тысяч граждан Чечни и сотни тысяч были ранены. Еще около 30 тысяч человек уехали навсегда из Чечни в страны дальнего зарубежья, спасаясь от последствий «контртеррористической операции».
Тем не менее, вопреки расчетам ненавистников чеченского народа, к 2004 году количество чеченцев в мире приблизилось к 2 миллионам человек (из них не менее 1,5—1,6 млн. человек живут на территории Российской Федерации).
История Чечни и чеченского народа не закончилась с концом XX века, как того хотелось внутричеченским и внешним организаторам многолетнего кровавого чеченского погрома. Будет обязательно написана и «История Чечни в XXI веке».
Главным итогом этнополитического развития чеченского народа на протяжении последних двух столетий явилось то, что из нации XVIII века, характерной еще чертами средневековой народности, чеченцы стали современной пассионарной нацией с развитым национальным самосознанием, всеобщей грамотностью, единым литературным письменным языком, профессиональной литературой, музыкой и театром, с относительно высоким процентом людей интеллектуального труда, высокоиндустриальным рабочим классом, современным крестьянством, значительным городским населением (свыше 50% от общего числа населения).
Кроме того, несмотря на тяжелейшие войны последнего десятилетия и криминальный характер развития рыночных отношений в Российской Федерации в целом, в Чечне созданы предпосылки для формирования современного гражданского общества. Данное обстоятельство представляется чрезвычайно важным.
— 9 —
Введение
Сегодня чеченцам присущи все признаки, свойственные современному европейскому народу, при сохранении характерных субъективных национальных черт, так называемого «чеченства».
* * *
При написании данной работы авторы пытались использовать всю полноту документальной и историографической базы, накопленной к настоящему времени в России, Чечне и в мире. Мы сочли возможным несколько «утяжелить» текст сносками на важнейшие данные и цифры, а также привели краткую библиографию, которая поможет читателю ориентироваться в море литературы.
Учитывая, что, кроме двухтомных «Очерков истории Чечено-Ингушской АССР», исследования И. Сигаури «Очерки истории и государственного устройства чеченцев с древнейших времен», а также нескольких учебных пособий очеркового характера для вузов и школ Чеченской республики, других обобщающих работ по нашему периоду нет, то данная книга является, пожалуй, первым опытом сводного систематизированного освещения истории Чечни последних двух веков.
Отсюда неизбежны, на наш взгляд, погрешности и лакуны, объясняющиеся и степенью изученности тех или иных периодов истории Чечни в исследуемое время и характером этого изучения. Не секрет, что большинство работ, посвященных советскому периоду и написанных советскими историками, носят порой социально-экономическую направленность и более напоминают производственные отчеты. Развитию собственно общества и формирующих общество факторов, историческим личностям и людям, как таковым, практически не уделялось внимания.
Авторы надеются, что данное исследование послужит для читателей и исследователей своеобразным справочником и пособием в деле дальнейшего самостоятельного изучения многообразных проблем этнополитической и общественно-экономической истории чеченского народа.
Я. 3. Ахмадов
3. X. Хасмагомадов
— ю —
Глава I. Географическое, этнотерриториальное и демографическое положение Чечни в XIX веке
§ 1. Физико-географическое положение и границы Чечни
Физико-географический очерк. При рассмотрении положения Чечни в начале XIX в. необходимо учитывать наличие, по существу, трех-четырех типов границ: собственно географические границы исторической территории; близкая к ней этнотерриториальная граница (ареал расселения этноса, в том числе и за пределами исторической территории); границы зоны политического влияния на соседние земли и, наконец, — пределы хозяйственного ареала (пользование той или иной, как правило, незаселенной и «ничейной» территории в хозяйственных целях).
Складывание исторической области Чечня (Нохчичоь, ДегӀаста, Даймохк)1 носило длительный многовековой характер и закончилось в основных чертах в XVIII веке. В XIX в. мы имеем Чечню как конкретную географическую территорию с общепринятыми географическими и этнотерриториальными границами.
Историческое ядро Чечни располагается в северо-восточной части Северного Кавказа (42 градуса 28 минут — 44 градуса 01 минута северной широты и 44 градуса 28 минут — 46 градусов 40 минут восточной долготы), на склонах громадного Кавказского хребта, протянувшегося с запада на восток от Черного моря до Каспия почти на 1 тысячу километров, разграничивая на данном участке земной суши Европу и Азию.
В физико-географическом отношении Чечня делится на несколько «полос», протяженных с запада на восток. Высокогорная часть (от 2,5 до 4,5 тысяч метров над уровнем моря) заключается, по существу, в системах так называемого Бокового хребта (ответвления Главного Кавказского хребта), водораздельные вершины которого покрыты вечными снегами и ледниками. Эта полоса лишена почвы и растительности, за исключением нескольких ущелий. По-чеченски она называется «баш- лам» — «тающие» горы.
1 Чечня: чеченцы — этнотерминологические определения русских документов начиная со второй половины XVII века. В их основу легло название крупного плоскостного селения и общества — Чечен-Аул; собственно, Нохчичоь — означает буквально «обитель», «жилище», «страна нохчей/нахчей». Нахчи/нохчи — самоназвание чеченцев, означающее «люди», «наши люди». ДегӀаста — означает Дагестан — так называли, по крайней мере с эпохи средневековья, Северо-Восточный Кавказ населяющие его многочисленные народы нахо-дагестанской семьи языков. В связи с увеличением населения и ростом политической значимости Чечни она получает к началу XVIII в. определение как самостоятельная область. Есть еще одно самоназвание Чечни, кроме Нохчичоь и ДегӀаста, это Даймохк; переводится с чеченского буквально как «земля отцов», по сути, «отчизна».
— 11
Глава I. Географическое, этнотерриториальное и демографическое положение
Чечни в XIX веке
Физическая карта края в границах Чеченско-Ингушской АССР (1, I1)
Характерные пояса растительности территории Чечни (1, 50)
Вторая полоса (от 1,5 до 2,5—3 тысяч метров над уровнем моря) — представляет собой «корт» — вершины, покрытые альпийскими лугами, с которых снег сходит летом (Пастбищные горы). Здесь на отдельных участках вздымаются гранитными стенами вершины, образующие в юго-западной части горной Чечни так называемый Скалистый хребет (до 3000 метров).
Наконец, полоса гор высотой до 1,5 тысяч метров над уровнем моря, покрытых, как правило, лесом и другой богатой растительностью, называется «арц» (или Черные горы). От подошвы Черных гор до Сунжи располагается плоская лесистая равнина (Чеченская равнина), вытянутая вдоль реки с запада на восток, замыкаемая на востоке невысоким Качкалыковским хребтом, а на западе отрогами тех же Черных гор.
Первая цифра означает порядковое место используемого издания в списке иллюстраций, а вторая (курсивом) указывает страницу.
— 12 —
Физико-географическое положение и границы Чечни
Особенность чеченской «народной географии», как отметил следом за чеченским этнографом У. Лаудаевым русский географ К. Ф. Ган, состояла в обыкновении делить горную часть страны на такие системы, как «башлам», «лам» (корт) и «арс» (арц)1.
Между Сунжей и Тереком в нижнем течении почти параллельно идут два невысоких хребта (раьгӀнаш), называвшиеся соответственно Терским и Сунженским. Между ними располагалась безводная Алхан- чуртская долина со степной растительностью.
Река Терек, пересекающая территорию Чечни в широтном направлении от Моздока до станицы Курдюковской, почти на всем протяжении
Терский хребет. Совр. фото (43, 3)
1 Ган К. Ф. Экскурсия в нагорную Чечню и западный Дагестан летом 1901 г. // Известия КОИРГО. — Тифлис, 1902. — Т. 15. — № 4. — С. 216—217.
— 13 —
Глава I. Географическое, этнотерриториальное и демографическое положение
Чечни в XIX веке
Река Терек в нижнем течении. Совр. фото (43, 6)
по обеим берегам была покрыта густой, хотя и узкой полосой леса, главным образом дуба и тополя.
Дальше, на север от Терека, на сотни километров тянулась так называемая Бурунная степь с растительностью, характерной для зоны сухих степей и полупустынь.
Гидрография Чечни в XIX в. была чрезвычайно богата. Кроме десятков рек и речек здесь на каждом шагу встречались ручьи, родники и озерца. Самой крупной рекой Чечни являлся Терек (Лом-хи), главным притоком которого на территории края была река Сунжа. Реки почти всей остальной Чечни составляли бассейн Сунжи. Она берет начало в снеговых вершинах Кавказского хребта, к востоку от современного Владикавказа, откуда течет на север до Назрани, затем поворачивает к востоку и делает путь почти в сто километров до впадения в Терек, ниже аула Брагуны.
Река Сунжа. Современное фото (43, 7)
— 14 —
Физико-географическое положение и границы Чечни
С правой стороны на территории Чечни Сунжа принимает в ходе своего течения такие реки как Асса (притоком которой является в свою очередь Фортанга), Валерик, Гехи, Мартанка, Рошни, Гойта и Аргун. Последняя — одна из значительных рек Чечни, берущая начало в горах от ледников Бокового хребта. Она образуется слиянием двух рек — Чанты-Аргуна и Шаро-Аргуна, прорезавших в горах значительные ущелья каньонного типа.
Восточнее Аргуна в Сунжу впадают реки, которые берут начало из гор Андийского хребта, это — Джалка и Хулхилау, вбирающие в себя и другие более мелкие реки.
В горах Нахч-Мохка (Восточная Чечня) зарождаются и текут на север к Тереку такие реки как Аксай, Яман-су, Ярык-су и Акташ.
Ни одна из указанных рек не является судоходной — даже по Тереку и Сунже можно плавать только на лодках. Правда, они годились для сплава леса, чем чеченцы в XIX в. широко пользовались, сплавляя лес на продажу в Кизляр.
Наиболее крупными озерами Чечни являются высокогорные водоемы Кезеной-Ам (длина до 3 км, ширина 750 м) и Галанчож-Ам (диаметр до 400 м).
Озеро Кезеной-Ам. Совр. фото (43, 9)
Природные условия Чечни в XIX в. отмечаются всеми исследователями того времени как исключительно благоприятные: «Это пышный сад, засаженный и разукрашенный самим Богом»1.
Климат отличался суровостью только в высокогорной части и в степных районах. На основной части территории Чечни, от Пастбищных
1 Россикова А. Е. Путешествие по центральной части Горной Чечни // Записки КОИРГО. — Тифлис, 1896. — Кн. 18. — С. 293.
— 15 —
Глава I. Географическое, этнотерриториальное и демографическое положение
Чечни в XIX веке
Горные леса Чечни. Совр. фото (43, 14)
гор на юге и до Сунжи на севере, где и проживала главная масса населения, господствовали мягкие зимы, наблюдался высокий уровень осадков летом. Почвы были преимущественно черноземные, дававшие высокие урожаи и быстрый рост растениям.
Царские топографы поражались «растительною силою природы и гигантскими размерами деревьев» в богатых лесах, которые состояли из бука, дуба, клена, ясеня, липы, карагача, орешника, массы дикорастущих плодовых деревьев. Деревья обвивали лианы и дикорастущий виноград. Среди лесов располагались «обширные, прекрасно обработанные поляны и тучные луга, делавшие Чечню житницею восточного нагорного Кавказа»1.
В дремучих лесах равнин и гор во множестве водились олени, кабаны, волки, зайцы, дикие козы, медведи, барсы и горные бараны. Массами встречались фазаны, утки, перепела и другая птица.
В Тереке и низовьях Сунжи водились все рыбы Каспийского моря, в том числе осетровые. Практически во всех реках встречалась форель, сомы, усачи, лосось.
Степные терские районы отличались богатыми пастбищами и сенокосами. На орошаемых землях здесь снимали хорошие урожаи риса, кукурузы, табака и винограда.
1 См.: К. Левый фланг Кавказской линии в 1848 г. // Кавказский сб. Т. 9. — Тифлис, 1885. — С. 415; Потто В. А. Кавказская война. В 5 т. — СПб., 1888. — Т. 2. — С. 66.
— 16 —
Физико-географическое положение и границы Чечни
Рудные богатства. Почвы. В горной части Чечни имелись и рудные ископаемые: выходы меди, серебра, свинца, железа, угля и серы.
В равнинной части Чечни в XIX в. эксплуатировались давно известные выходы нефти, минеральных и горячих вод (например, термальные воды близ Старого Юрта использовались в производстве войлоков и бурок). Широкое применение находили также гончарная глина и выходы строительного камня.
Главным природным богатством оставались, конечно, богатые почвы, лес и дикорастущие плоды — мушмула, орехи, кизил, груши-дички, алыча, ягоды и т. д.
В XIX в. отмечена добыча меди, свинца и серебра в верховьях Шаро- Аргуна и Чанты-Аргуна. Но выработка металлов велась примитивными способами и в незначительных масштабах1.
Географические границы. В начале XIX в. географическое положение Чечни определялось линией, проходящей по следующим географическим ориентирам. На севере граница шла по правому берегу Терека, в среднем его течении, примерно от селения Ногай-Мирза-Юрт до укрепления Амир-Аджи-Юрт. На востоке Ауховское общество (в XVIII в. считавшееся под управлением Эндирейской княжеской фамилии Северного Дагестана, но с самого начала XIX в. причисляемое к Чечне) обозначало границу в бассейне рек Аксай-Акташ между чеченскими
Пастбищный хребет. Совр. фото (43, 4)
1 См.: Материалы по истории Дагестана и Чечни. Т. 3. Ч. 1. — Махачкала, 1940. — С. 305; Казбек Г. Военно-статистическое описание Терской области. Ч. 1. — Тифлис, 1888. — С. 197; Пирадов А. С. Краткий очерк кустарных промыслов Кавказа. — Тифлис, 1900. — С. 43; Гриценко Н. П. Социально-экономическое развитие прите- речных районов в XVIII — первой половине XIX века // Труды ЧИНИИИЯЛ. Т. 4. Вып. 1. — Грозный, 1961. — С. 61—65; и др.
— 17 —
Глава I. Географическое, этнотерриториальное и демографическое положение
Чечни в XIX веке
Скалистый хребет. Совр. фото (43, 4)
и кумыкскими землями. От верховьев Акташа и далее на юго-восток Андийский и Снеговой хребты отделяли границы чеченского этноса от андийских и аварских обществ Дагестана.
На юге географическая граница Чечни шла по вершинам части Снегового хребта от вершины Заин (Дзан)-Корт (3308 м) до Диклос- Мта (4285 м), а затем по вершинам бокового ответвления (Тушетский или Пирикательский хребет) Главного Кавказского хребта до горы Ма- хисмагали (3990 м). На последнем протяжении южной границы — от Диклос-Мта до Махисмагали — чеченские высокогорные общества (кистинцы) граничили с тушинцами, хевсурами и пшавамй Кахе- тии — исторической области Грузии. На этом же протяжении южной границы возвышалась и самая высокая горная вершина Чечни Доко- Корт, более известная под названием Тебулос-Мта (4494 м).
Западная географическая и этнополитическая граница Чечни в XVIII — начале XIX в., начинаясь в южной точке от горы Махисмагали, спускалась к северу по хребту Вегилам, затем уходила резко на запад по северной стороне хребта Цорейлам до реки Ассы. Далее граница спускалась по бассейну Ассы (в том числе и по левому берегу) вниз на север, до точки выхода реки на равнину (здесь Асса поворачивает на восток и впадает в Сунжу). Немного выше от указанной точки поворота Ассы, примерно от селения Алхасты, граница шла к северо-западу по прямой почти до реки Курп, где по правому берегу Курпа сворачивала к востоку до Терека, к урочищу Галюгай.
На западном протяжении своей границы чеченские общества соседствовали с близкородственными нахскими обществами цоринцев, галгаев и ангуштинцев, а позднее и назрановцев. В нижней части западной границы чеченцы соседствовали с малокабардинскими владениями, сильно сократившимися в своих размерах во второй половине XVIII — начале XIX в. Уже в XVIII в. кабардинскими князьями в силу различных причин были оставлены все земли в равнинной части
Физико-географическое положение и границы Чечни
западной части Чечни до правобережья Курпа (используемые ими в ходе миграции на восток в конце XVI—XVII вв.)1.
Таковы были примерные географические границы расселения нахских обществ в XIX в., из которых уже сложилась в предыдущие века чеченская нация — от ауховцев на востоке до галашевцев, арштинцев- карабулаков на западе, от мялхинцев и майстинцев на крайнем горном юге до пседахинцев и теркхоевцев (притеречных чеченцев) на севере.
Этнотерриториальные пределы. Собственно географическая граница Чечни совпадала с этнотерриториальной, за исключением двух участков. На юге Тушетский хребет отделял Чечню от близкородственных нахоязычных цова-тушин (бацой), входивших в Тушинское общество (Тушети) Грузии. Они, как и грузиноязычные чагма-тушинцы, исторически входили в состав Грузии и исповедовали христианство. К середине XIX в. Панкисском ущелье Кахетии за счет выходцев из верховьев Шаро-Аргуна складывается «кистинская» община.
За восточными границами Чечни (с начала XIX в. включавшими и Ауховское общество) в кумыкских феодальных владениях Дагестана (Эндерейское, Аксайское и Костековское княжества) проживало немалое число этнических чеченцев, как кварталами в кумыкских аулах, так и отдельными поселениями. Однако в политическом отношении они относились к Кумыкии.
Кроме того, около 1 тысячи чеченцев-«окочан» (потомки горцев, бежавших за Терек еще в XVI—XVII вв.) в начале XIX в. жили в отдельной слободе города Кизляра. Они являлись российскими подданными.
Следует также отметить, что некоторые источники и исследователе! XIX в. расширяли этнотерриториальную границу Чечни до левого берега Терека в верхнем течении, включая в нее и западно-нахские общества — Джейрах, Мецхал, Цори, Га л гай, Ангушт, Назрань (жители которых в XIX в. складываются в ингушскую народность на базе двух последних крупных плоскостных обществ). Это обстоятельство в какой- то степени отражало центробежные консолидационные процессы, когда более крупный этнос вбирает в себя пограничные диалектные единицы2.
1 См.: Верже А. П. Чечня и чеченцы. — Тифлис, 1859. — С. 5—12; Тотоев Ф. В. Общественноэкономический строй Чечни (вторая половина XVIII — 40-е гг. XIX века) / Дис. на соискание уч. степени канд. истор. наук. Рук. — М., 1966. — С. 85—86; Волкова Н. Г. Этнический состав населения Северного Кавказа в XVIII — начале XX века. — М., 1974. — С. 168—193; Ахмадов Я. 3. Взаимоотношения народов Чечено-Ингушетии с Россией в XVIII веке. — Грозный, 1991. — С. 16.
2 См.: ЦГВИА. Ф. 52. Оп. 1/194. Д. 350. С. 4—4 об.; Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Эфрона. Т. XXXVIIIa. 76 полутом. — СПб., 1903. — С. 785; Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Эфрона. Т. 13. 25 полутом. — СПб., 1894. — С. 58; Лаудаев У. Чеченское племя // Чечня и чеченцы в материалах XIX в. — Элиста, 1990. — С. 75—77, 93; Грабовский К Ф. Экономический и домашний быт жителей горского участка Ингушевского
• округа // С6. сведений о кавказских горцах. Вып. 3. — Тифлис, 1870. — С. 1; Пожидаев В. П. Горцы Северного Кавказа. — М.—Л., 1926. — С. 13; Волкова Н. Г. Этнический состав населения Северного Кавказа в XVIII — начале XX века. — М., 1974. — С. 162; и др.
— 19 —
Глава I. Географическое, этнотерриториальное и демографическое положение
Чечни в XIX веке
Сближение ингушей с чеченцами диктовалось также идеологическими (принятием первыми ислама) и политическими (совместным сопротивлением колониальной политике царизма в первой половине XIX в.) причинами. Однако данная объединительная тенденция не получила развития вследствие целого ряда объективных причин.
Политические границы Чечни. К началу XIX в. они были, пожалуй, наиболее обширными в истории страны. Сложившаяся к тому времени политическая обстановка в регионе — ослабление феодальных соседей, успешное сопротивление горцев натиску Российской империи, военная мощь и экономическая состоятельность позволили вывести Чечню в ведущую политическую силу на Северо-Восточном Кавказе. Российские власти считали именно чеченцев «ответственными» за участок границы по Тереку протяженностью свыше 200 верст: от Моздока до Кизляра.
Генерал А. П. Ермолов, наместник Кавказа, прибыв на место назначения в 1817 г., застал «российские» феодальные владения Северного Дагестана и в какой-то мере Кабарды в полном союзе с «мятежной» Чечней. При этом здесь не было и намека на захват кумыкских или кабардинских земель чеченцами или вмешательства во внутренние дела княжеств. Речь шла о проведении единой политической линии «мусульманских народов»1, в отношении царской России и так называемых «отступников» и «язычников» из числа горских народов. Ермолову пришлось в течение ряда лет затратить значительные усилия, чтобы свести на нет «чеченское» влияние в пограничных к Чечне районах.
Как бы-то ни было, в конце XVIII — начале XIX в. чеченские военно-политические объединения распространяют в определенной мере свое политическое влияние на западе до так называемой Осетинской равнины, западных оконечностей Сунженского и Терского хребтов, до правого берега реки Курп. Так русская крепость Владикавказ была построена в 1784 г. на «границе» поселений ингушей и осетин под формальным предлогом их защиты от «чеченских набегов». На деле же речь шла об установлении контроля над Военно-Грузинской дорогой, по которой Россия могла перебрасывать войска в Закавказье.
Вместе с тем, Назрановские высоты (Несархой кортош), местность Ачалуки и район Малгобека, в начале XIX в. находившиеся под совместным кабардино-чеченским, а то и сугубо чеченским «протекторатом», оставались практически незаселенными. Самыми западными чеченскими селениями в тот период были Яндери на правобережье Сунжи, Пседах на самой границе с Кабардой и аул Ломаз-Юрт (Ногай-Мирза- Юрт) на южном берегу Терека.
1 Так, отступая на запад и оставляя земли, некогда занятые ими в XVI—XVII вв., кабардинские князья и духовенство уступали их только исламским народам — в данном случае чеченцам. Считалось, что земля эта божья и владеть ею имеют право только мусульмане.
— 20 —
Физико-географическое положение и границы Чечни
В первом десятилетии XIX в. чеченские лидеры реализовывают политику закрепления стратегически важного района Назрани путем заселения его этнически близкими «ангуштинцами» с условием принятия последними ислама. Первые партии переселенцев прибыли из нахских селений, располагавшихся под Владикавказом и принадлежащих к обществу Ангушт. В развернувшейся позже войне за влияние над «коридором» от Владикавказа до Моздока российские войска ценой напряженных усилий отвоевали контроль над указанной территорией у Чечни, значительно сократив тем самым и ее общую границу с дружественной Кабардой1.
Границы хозяйственного ареала. Границы хозяйственного пользования землями Северного Кавказа жителями исторической Чечни складывались в результате многовекового хозяйственного освоения и взаимодействия с соседями. Так, еще в средние века горные чеченцы в силу традиции и различных соглашений пользовались пастбищами в Аварском ханстве Дагестана, в междуречье Терека и Сулака и в Ала- занской долине Кахетии (Грузия). В XVIII — начале XIX в. подобная практика начинает сходить на нет.
На севере, за Тереком, огромные пространства Бурунной степи (входящей в границы современной Чечни) с глубокой древности находились в зоне отгонного скотоводства горцев Чечни и использовались ими в качестве зимних пастбищ. По левому берегу Терека проходил и участок важной торговой дороги, связывающей Чечню и Дагестан с Кабардой и народами Северо-Восточного Кавказа. Однако, когда в конце XVIII в. Российская империя закончила строительство Кавказской военной линии между Каспийским и Азовским морями, сплошная цепь Kf шостей, редутов, станиц и прочих укреплений (наиболее усиленных именно на «чеченском участке» границы по Тереку) отсекла горцам доступ к затеречным землям, чем был нанесен серьезный удар по их традиционному хозяйству. Известно, что одна из главных причин борьбы за Терек, развернувшаяся в конце XVIII — начале XIX вв. между Россией и Чечней, заключалась как раз в лишении горцев возможности свободного доступа к затеречным землям. Следует, однако, сказать,
1 См.: Акты, собранные Кавказской археографической Комиссией (АКАК). Т. 4. — Тифлис, 1870. — С. 894, 895—898, 902, 944; АКАК. Т. 4. Ч. 2. — Тифлис, 1875. — С. 500; Волкова Н. Г. Этнический состав населения Северного Кавказа в XVIII — начале XX века. — М., 1974. — С. 2—63, 161—162, 225—226; Бушков П. Г. Материалы для новой истории Кавказа с 1922 по 1803 гг. Ч. 2. — СПб., 1869. — С. 165; Потто В. А. Два века терского казачества. Т. 2. — Владикавказ, 1912. — С. 200; Буцковский А. М. Выдержка из описания Кавказской губернии и соседних горских народов // История, география и этнография Дагестана. Архивные материалы. — М., 1958. — С. 239; Ахвердов А. И. Описание Дагестана // История, география и этнография Дагестана. Арх. материалы. — М., 1958. — С. 226; Записки А. П. Ермолова. Ч. 2. — М., 1868. — С. 23; Ахмадов Я. 3. Вайнахи в кумыкских княжествах // Известия Чечено-Ингушского респуб. краевед, музея. Вып. 11. — Грозный, 1975. — С. 13; и др.
— 21
Глава I. Географическое, этнотерриториальное и демографическое положение
Чечни в XIX веке
Зона полупустыни (Бурунные степи). Совр. фото (43, разворот)
что вооруженная схватка за указанные земли началась еще в 70-х гг. XVIII в., и здесь чеченцы понесли, как и кабардинцы, боровшиеся за затеречные и притеречные земли на своем участке границы, большие жертвы1.
Инонациональное население Чечни. Нужно отметить, что на территории Чечни в ее современных границах жили не только этнические чеченцы. Так, старожилами являлись так называемые гребенские казаки, обитавшие в пяти «старых» станицах по левому берегу Терека: Черв- ленная, Старогладовская, Новогладовская, Щадринская, Курдюковская. Население указанных выше станиц в начале XIX в. выставляло на службу в Гребенской казачий полк около 500 человек. Еще 500 находилось в «запасе». Общая же численность гребенских казаков считалась в пределах 8—9 тысяч душ обоего пола (около 1,5 тысяч дворов).
В результате давнего смешения с чеченцами к началу XIX в. гребенские казаки приобрели своеобразное лицо, превратившись по существу в отдельную этнографическую группу русского народа.
Начиная с 70-х гг. XVIII в. на левом берегу Терека в пределах от станицы Червленной до Моздока были поселены с Волги, Украины и Дона новые группы казаков, получившие название «Терских». В XIX в. они также восприняли многие черты горской культуры от своих чеченских соседей.
Другой крупной этнической единицей, отмеченной на левобережье Терека в нижнем течении, по крайней мере с XVII в., являлись кара- ногайцы. В XIX в. они продолжали кочевать под Кизляром и восточнее
1 АхмадовЯ.З. Взаимоотношения народов Мечено-Ингушетии с Россией в XVIII веке.— Грозный, 1991. — С. 81—83; Ахмадов Я. 3. История Чечни с древнейших времен до конца XVIII в. — М., 2001. — С. 246—249.
— 22 —
Физико-географическое положение и границы Чечни
Гребенские казаки. Рис. начала XIX в. (47, 195)
его, но уже имели несколько постоянных селений в районе Сары-Су (современный Шелковской район Чеченской Республики).
В отличие от казаков и ногайцев, кумыки жили непосредственно на территории исторической Чечни, где они селились отдельными кварталами в чеченских селениях по Тереку и даже создавали отдельные кумыкские села, к примеру Бамат-Гирей-Юрт (Виноградное). Селение Брагуны, насчитывавшее к началу XIX в. более 500 дворов, также называют кумыкским. Но оно было основано в 1651 г. близ слияния Сунжи с Тереком неким тюркским племенем, которое в XVIII в. стало считаться окумыченным, хотя и продолжало сохранять свое особое лицо. Население Брагунов к началу XIX в. было тесно перемешано с чеченцами. Само
Глава I. Географическое, этнотерриториальное и демографическое положение
Чечни в XIX веке
Ингушская семья. Конец XIX — начало XX в. Фото (77, 5)
селение являлось наследственным феодальным владением княжеской фамилии Таймазовых и было вписано в политические границы Чечни1.
После окончания Кавказской войны в 60—70-х гг. XIX в. в западных районах исторической Чечни, в опустевших «верхних» частях обществ Арштхоя и Галашек появляются первые ингушские поселенцы на правах «временно проживающих».Это были выходцы из нахских обществ Цори и Галгая, этнически близкие к чеченцам.
«Нижние» земли Арштхоя (Карабулак) и Галашкинского общества по Ассе и Сунже начиная с 40-х гг. XIX в. были отведены под казачьи станицы так называемой «Сунженской линии», которые зачастую размещались на месте сожженных чеченских аулов. Население Сунженских станиц быстро росло и к концу XIX в. насчитывало свыше 20 тысяч человек. Основу составили переселенцы из терских казачьих станиц, казаки Дона и солдаты-отставники.
Кроме того, в чеченских аулах XIX в. отмечены отдельные и групповые (квартальные) поселения аварцев, даргинцев, андийцев, кабардинцев, черкесов, русских, армян, горских евреев и др., не создававших, впрочем, отдельных национальных общин, а вписанных в аульную систему того или иного поселения. Чеченский народ исстари являлся открытым обществом, принимавшим любых переселенцев и беглых. Переселившимся обеспечивалась защита и безопасность, что являлось показателем экстерриториальности и суверенности чеченской страны. Кроме того, переселенцы наделялись землей и община помогала воздвигнуть им дом.
1 См.: Волкова Н. Г. Этнический состав населения Северного Кавказа в XVIII — начале XX века. — М., 1974. - С. 80-93,193-211.
— 24 —
Расселение и численность чеченцев
Кумык в черкеске. Фото нач. XX в. (49, 482)
§ 2. Расселение и численность чеченцев
Коренные горские народы. Как и в XVIII в., самые многочисленные коренные народы Северного Кавказа начала XIX в. принадлежали к двум языковым семьям: абхазо-адыгской и нахо-дагестанской. Народы, говорившие на собственно адыгских языках — кабардинцы и черкесы (последние подразделялись на многочисленные этнодиалектные группы — народности и «племена»), заселяли, главным образом, равнины и предгорья Северного Кавказа от левобережья р. Курпа на востоке до берегов Черного моря на западе. Их численность колебалась по подсчетам отдельных авторов от 500 тысяч до 1 миллиона человек.
В свою очередь народы, говорившие на языках нахо-дагестанской языковой семьи, расселялись от правобережья Терека в верхнем течении до Каспийского моря к востоку, занимая и все горные склоны Кавказского хребта, до границы с грузинскими княжествами и азербайджанскими ханствами. Общая численность нахо-дагестанцев разными источниками первой половины XIX в. оценивалась в пределах 600—800 тысяч человек. Меньшая группа горских народов говорила на тюркских языках (кумыки, балкарцы, карачаевцы), а то и на ираноязычных (осетины и таты).
К вопросу о численности. Собственно северокавказские нахи — чеченцы и ингуши, в документах и нарративных источниках XIX в. именуемые «чеченцы», «мичиговцы», «кистинцы», «мицджеги», «ингушевцы»,
Глава I. Географическое, этнотерриториальное и демографическое положение
Чечни в XIX веке
«ломур», или по названиям регионов, обществ и ущелий, типа — нохч- махкоевцы (ичкеринцы), ауховцы, чантинцы, мержойцы, карабулаки, галгаевцы и т. д., — насчитывали суммарно до 240—270 тысяч человек, из которых западные нахские группы, вошедшие в галгайскую (ингушскую) народность, составляли около 20—30 тысяч человек.
Так, генерал Кнорринг в рапорте, датируемым самым началом 1800 г., указал, что все «чеченские народы» могут выставить 10 тысяч человек вооруженных1. Однако здесь подразумевались преимущественно только те жители Чечни, которые жили по реке Сунже и ее притокам в равнинной части. Как правило, один ополченец выставлялся от одного двора с числом членов семьи не менее 6 человек, следовательно, общее число жителей плоскостной части Чечни (а точнее, Чеченской равнины) могло составлять в тот период не менее 60 тысяч человек.
Численность чеченцев, живущих в аулах по правому берегу Терека от Моздока до станиц гребенских казаков, генералом Гудовичем еще в 1795 г. определялась «как тысяч до пяти»2. Но при этом остается неясным, то ли это число мужчин, то ли число семей.
В 1810 г. из разных данных, собранных С. Броневским, им была выведена цифра общей численности чеченцев, но скорее всего плоскостных и притеречных, в 20 тысяч семейств (около 120 тысяч человек). В другом месте своего довольно эклектического труда, С. Броневский утверждает, что «многолюдство всей Кистинской области простирается до 30000 дворов или семей»3.
Более определенны данные генерал-майора Вольховского, изложенные в ведомости 1834 г., где он назвал общую численность чеченцев, «кара- булаков» и ингушей равную 198 тысяч человек. Но опять таки здесь нет подтверждения, что речь идет и о населении горной части, недоступной еще для русских наблюдателей (последние из которых побывали в горах Чечни в конце XVIII в.). Барон Розен в том же 1834 г. определил численность «собственно кистов», т. е. всех нахов, в 200 тысяч человек.
В то же время встречаются и значительно меньшие данные (от 20 до 100 тысяч душ), которые, однако, при самом предварительном рассмотрении выказывают свою недостоверность. Также обнаруживают недостоверность и данные Н. Дубровина о населении чеченской части имамата Шамиля в 400—500 тысяч человек.
Пожалуй, правы такие современные исследователи, как Ф. В. Тото- ев, определивший среднюю численность населения собственно Чечни (горной и равнинной) накануне Кавказской войны в 200—220 тысяч,
1 Акты, собранные Кавказской Археографической комиссией. Т. 1. — Тифлис, 1869. — С. 716.
2 Кавказский сборник. Т. 18. — Тифлис, 1897. — С. 430.
3 Броневский С. Новейшие географические и исторические сведения о Кавказе. Ч. 2. — М., 1823. — С. 183, 186.
— 26 —
Расселение и численность чеченцев
Чеченец. Раскрашенная литография К. И. Бегрова. 1822 г. (8, 24)
и Н. Г. Волкова, остановившаяся после долгих выкладок на цифре численности всех нахов в пределах 240 тысяч человек1. Оставляя за скобками проанализированный ряд и других данных, авторы остановились на численности собственно чеченцев к концу 20-х гг. XIX в. примерно в 240—250 тысяч человек (самый крупный народ Северного Кавказа).
В ходе Кавказской войны численность чеченцев сократилась до 150 тысяч человек. Из них только в 1865 г. переселилось в Турцию до 23 тысяч человек. Перепись населения России, проведенная в 1897 г., дала цифру чеченцев в 283421 человек обоего пола. Следовательно, за треть века прирост населения составил около 150 тысяч человек. Столько же, если не больше, составили военные и демографические потери Чечни в 20—50-х гг. XIX в.
Этнотерриториальное устроение Чечни. К концу XVIII в. в основном был закончен процесс внутренней колонизации чеченских земель. Тем не менее, и в XIX в. миграционные процессы продолжались главным образом за счет продолжающегося роста числа поселений чеченцев в западных (Галашки, по левобережью верхней Ассы), северо-западных и северных, преимущественно предгорных и равнинных районах края (Пседах, Магомед-Юрт, Ломаз-Юрт, Чулик-Юрт, Кень-Юрт и т. д.).
1 См.: РГВИА. Ф. ВУА. Д. 18508. Л. 9—12; Движение горцев Северо-Восточного Кавказа в 20—50-е годы XIX века. — Махачкала, 1958. — С. 124—125,299; Зубарев Д. О народонаселении за Кавказом // Рус. вест. — 1842. — № 5—6. — С. 84; Тотоев Ф. В. Общественно-экономический строй Чечни (вторая половина XVIII — 40-е годы XIX века) / Дис. на соискание уч. степени канд. истор. наук. Рук. — М., 1966. — С. 98—102; Волкова Н. Г. Динамика численности вайнахских народов до XX века // Археолого-этнограф. сб. Т. 2. — Грозный, 1968. — С. 116—118; и др.
— 27 —
Глава I. Географическое, этнотерриториальное и демографическое положение
Чечни в XIX веке
Основные, ведущие, общества Чечни занимали территорию Чеченской равнины (полоса между передовой цепью Черных гор и течением Сун- жи). Здесь располагались такие большие аульные объединения Большой и Малой Чечни, как Шали, Герменчик, Атаги, Чечен-Аул, Алда, Гехи, Ачхой-Мартан, Самашки, Дибир-Юрт, Обург-Юрт, Серали-Юрт, Яндари (последние три аула входили в равнинно-горное общество Карабулак).
Наиболее консервативной в отношении миграционных процессов оставалась горная часть края (центральные, южные и западные части Чечни), где населенные пункты и общества существовали порой тысячелетиями в определенных естественно-географических границах.
Самую высокогорную, южную часть края в направлении с запада на восток занимали такие аулы и союзы аулов (общества), как МӀайс- та, Малхиста, Хилдехьа, Хьачара, ЧӀанта, Хуланда, Хьакъмада, ХӀима, Кири, Чайра, Бути. Ниже их, по левобережью верховьев Чанты-Аргуна, а также по Шаро-Аргуну и его притокам, с запада на восток, гнездились башенные аулы обществ Итум-Кала, Кейн-Мохк, ТӀерла, Дишнийн-Мохк, Сандаха, КӀесала, Шикъара, Шара, ЦӀеса и др.
Ниже Скалистых гор, на отрогах Пастбищного хребта также в зональном направлении с запада на восток располагались аулы ЦӀечоя, Аьккха, Пешхоя, Мулкъа, ЧӀуо (ЧӀохой, Чухой), Чиннаха, Зумса, Чучан- Кхелли, Нихала, Шуьйта, Саьтта, Д1ая, Нохч-Кела.
Горные чеченцы: «кистинка» и «кистинец». Рис. начала XIX в. (47, 189)
— 28 —
Расселение и численность чеченцев
Последнюю линию горных обществ (не считая пологие горы Восточной Чечни) составляли группы аулов таких обществ, как: Галашки, Арштхой1, Ялхара, Галайн-Чож (Галай), Мержой, Нашха, Пешха, Варанда, Саьрбала, Нижала, Чебирла, Макажа.
Отдельную группу составляли аульные объединения Восточной Чечни (Нахч-Мохк, Мичиг и Качкалык), занимавшие пологие лесистые горы (300—1000 м) благоприятные для земледелия. Поэтому этот район по хозяйственному типу, особенностям общественного уклада и по языковому диалекту был тесно связан с плоскостью, и именно отсюда пошла своеобразная чеченская реконкиста XV—XVII вв. на север (Притеречье), запад (Чеченская равнина) и на северо-восток (западная часть Кумыкской равнины).
Здесь, в Нахч-Мохке, в XIX в. располагались такие объединения, как Элистанжи, Чермой, Харочой, Эрсана, ЭгӀашбета, Гуьна, БелгӀата, Курчала, Щонтара, Теза-Кхаьлла, Ширди-Мохк, Пордала, Айт-Кхаьлла, Шона, Эна-Кхаьлла, Ялхой-Мохк, Ӏалара, Энгеной, Сесана, Бена, Ген- даргана, Билта, Зандака2.
Между северными границами Нахч-Мохка (Ичкерия) и течением Терека располагались общества Мичиг и Качкалык. Аулы Качкалыка тянулись по северному скату одноименного хребта от течения Сунжи на западе до берега Аксая на востоке, занимая западную часть так называемой Кумыкской плоскости.
В верхней части бассейна Акташа и Аксая в предгорной полосе (современный Северный Дагестан) располагалось большое Ауховское общество, делившееся в свою очередь на Пхьарчхой-Аькха (или Ширча- Аькха) и Пачалкха-Аькха. Ряд ауховского и мичиговского происхождения хуторов и кутанов располагались в начале XIX в. вне пределов указанных обществ на землях кумыкских князей, спускаясь по междуречью Сулака и Терека едва ли не до берега Каспийского моря3.
Масса чеченцев исторически долго жила чересполосно с кумыками во многих селах Северного Дагестана. Однако, в начале XIX в. к Чечне причисляли только земли собственно Ауховского общества, располагавшегося в лучшей, наиболее плодородной части Кумыкской плоскости. Все остальные поселения с чеченским населением Северного Дагестана причислялись к кумыкским княжествам.
Региональное деление края. В первые десятилетия XIX в. исследователям предстает следующая этнополитическая картина Чечни в
1 Поселения обществ Галашки и Арштхой находились на невысоких предгорьях практически на стыке с равниной и были населены выходцами из Галайн-Чожа, Мержоя, Цечоя и Аккха.
1 См.: Сулейманов Ахмед. Топонимия Чечено-Ингушетии. В 4 т. — Грозный, 1985—1988; Эльмурзаев Ю. (Нохчо). Указ, соч.; и др.
3 См.: Адилсултанов А. А. Акки и аккинцы в XVI—XVIII веках. — Грозный, 1992; Ахмадов Я. 3. Вайнахи в кумыкских княжествах...; и др.
— 29 —
Глава I. Географическое, этнотерриториальное и демографическое положение
Чечни в XIX веке
Карта-схема расселения нахских обществ в XIX—XX вв.
Составитель А. Сулейманов1, дополнения Я. Ахмадова и Э. Хасмагомадова. (Политические границы и расположение обществ указаны приблизительно)
1 — Маьлхиста (маьлхий); 2 — Кейн-Мохк (кей); 3 — Перла (тӀерлой); 4 — Дишнийн Мохк (дишний); 5 — ЧӀуо (чӀуохой); 6 — Мулкъа (мулкъой); 7 — МӀайста (мӀайстой); 8 — Хилдехьа (хилдехьарой); 9 — Хьа- чара (хьачарой); 10 — ЧӀаьнта (чӀаьнтий); 11 — Зумса (зумсой); 12 — ЧӀиннах (чӀннахой); 13 — Гучан- Кхаьлла (гучанхой); 14 — Нихала (нихалой); 15 — Шуьйта (шотой) там же: тумсой, вашандарой, хьаккой, варандой, келой, маьршалой, саьттой, гӀаттой, пхьамтой; 16 — Саьрбала (саьрбалой, лаьшкарой); 17 — Сан- даха (сандахой); 18 — КӀесала (кӀесалой); 19 — Шикъара (шикъарой); 20 — Шара (шарой, жогӀалдой); 21 — ЦӀеса (цӀесий); 22 — ДӀай (дӀай); 23 — Хуланда (хуландой); 24 — Хьакъмада (хьакъмадой); 25 — ХиӀ- ма (хиӀмой); 26 — Кири (кири); 27 — Бути (бути); 28 — Чайра (чайрой); 29 — Нохч-Кела (нохчкелой); 30 — Нижала (нижалой, нижой); 31 — ЧӀебирла (чӀебирлой); 32 — ЖӀайрах (жӀайрахой); 33 — Мецхал (мецхалой, фаьппий); 34 — Кхекхаьлла (кхекхаьллой, гӀалгӀай); 35 — Цхьорой (цхьорой); 36 — ЦӀеча (цӀечой), Мержа (мержой); 37 — Ялхара (ялхарой); 38 — Аьккха (аыскхий); 39 — Галайн-ЧӀож (галай); 40 — Нашха (нашхой); 41 — Пешха (пешхой); 42 — Элистанжи (элистанжхой); 43 — Чермой (чермой); 44 — Харачо (харачой); 45 — Эрсана (эрсаной); 46 — ЭгӀашбета (эгӀашбатой); 47 — Гуьна (гуной); 48 — Бел- гӀата (белгатой); 49 — Курчала (курчалой); 50 — ЦӀонтара (цӀонтарой); 51 — Теза-Кхаьлла (тезакхаллой); 52 — Ширди-Мохк (ширди); 53 — ГӀоьрдала (гӀоьрдалой); 54 — Айт-Кхаьлла (айткхаллой); 55 — Шоьна (шоной); 56 — Эна-Кхаьлла (энакхаллой); 57 — Ялхойн-Мохк (ялхой); 58 — Ӏаллара (Ӏаларой); 59 — Энгана (энганой); 60 — Сесана (сесаной); 61 — Бена (беной); 62 — Гендаргана (гендарганой); 63 — Билта (билтой); 64 — Зандакъа (зандакъой); 65 — Аух (овхой, акхий); 66 — Ангушт (ангуштхой, ингуши); 67 — Несархой (назрановцы); 68 — Галаш (галай, галашинцы); 69 — Арштхой (арстхоевцы, карабулаки); 70 — Пседах (пседахой); 71 — Теркийст (теркой); 72 — Брагуны (боргӀаоной, кумыки); 73 — Качкалык (гӀачалхой); 74 — Мичиг (мичигаш, мичиковцы); 75 — Герменчуг-Шали; 76 — Алды (Бухан-Юрт); 77 — Чечен-Аул (чечанхой); 78 — Старые Атаги (атагӀой); 79 — Гехи (гиххой); 80 — Баца (тушбаца, бацой)
1 Сулейманов А. Топонимия Чечено-Ингушетии. Ч. 4. — Грозный, 1985. — С. 220—221.
— 30 —
Расселение и численность чеченцев
региональном измерении: это Аух, Нахч-Мохк (Восточная Чечня), Ломах (Горная Чечня, здесь в свою очередь выделялись системообразующие общества, такие как: Шатой, Чебарлой, Майсты, Маьлхи, Нашаха, Мержа, Аккха, Галай, Цечой, Чанти, Шара и др.), БоргӀана (Брагуны), Качкалык, Терк-Йист (Притеречье, здесь самыми крупными аулами в начале XIX в. были Ломаз-Юрт, Чулик-Юрт, Верхний и Нижний Наур, Кень-Юрт, Старый Юрт), Терк-Дехьа (Затеречье), ГӀалгӀазакхийн-Мохк (Земля гребенских казаков), Большая Чечня (предгорно-плоскостная часть, примерно от реки Белки до правого берега Аргуна)1, Малая Чечня (от левого берега Аргуна до бассейна Ассы—Сунжи).
Самыми крупными обществами и аулами Большой Чечни являлись Автуры, Герменчик-Шали, Майртуп, Чахкери, Большие Атаги, Чечен- Аул, Алды, Старая Сунжа и др.
В Малой Чечне системообразующими аулами и обществами являлись прежде всего Гехи, Алхан-Юрт, Ачхой (Ачхой-Мартан), Карабулак и Галашки.
Сокращение территории расселения чеченцев. Период первой половины XIX в. ознаменовался не только уничтожением населения в ходе истребительной Кавказской войны, но и сокращением контролируемой чеченцами территории. Уже в начале XIX в. предпринимались первые шаги по перенесению русской кордонной линии на правый берег Терека. «Лучшею защитою от набегов... чеченцев было перенесение оборонительной линии с Терека на Сунжу, — пишет профессор П. И Ковалевский. — Этот план принадлежал еще Цицианову, осуществить же его удалось только Ермолову». Речь здесь шла конечно не о мифической «защите», а о реальной агрессии на чеченские и в целом нахские земли. С 1811 г. взяты под контроль ингуши, занявшие участки юго-западной части Сунженского междуречья, и чеченцы теряют контроль над Назрановскими высотами.
В 1818—1819 гг. в результате карательных экспедиций генералов Сысоева, Грекова и полковника Вельяминова начался процесс обезлюжи- вания значительной части территории по берегам средней части Сунжи и Ассы в равнинном течении. Так, в 1818 г. на землях уничтоженных чеченских аулов Кули-Юрт, Старая Сунжа, Алхан-Чу, Жим-Чечан и Соьлжа-Юрт генерал Ермолов возвел на Сунже крепость Грозную. В это же время он совершил ряд экспедиций в «Ауховскую» Чечню. В тот же период кумыским князьям был предъявлен ультиматум о выселении их «подданных» чеченцев, составлявших главную военную силу феодалов. Речь шла в целом о судьбе нескольких десятков тысяч человек. В результате карательных экспедиций, как к примеру писал генерал
1 Другие исследователи обозначают границу между Малой и Большой Чечней по реке Гойтинка (приток Сунжи) на 10 км западнее течения Аргуна.
Глава I. Географическое, этнотерриториальное и демографическое положение
Чечни в XIX веке
В. Потто «Кумыкская плоскость (в Дагестане. — Авт.) в несколько дней была совершенно очищена от... чеченцев»1.
Административное устройство. В XIX в. царская колониальная администрация пытается вводить на покоренных землях военно-колониальное управление. Чеченское общество Карабулак (Арштхой) попало в одно «управление» с ингушами в связи с близостью их земель к крепости Владикавказ. К примеру, в 30-е гг. XIX в. карабулаки, как и назрановцы и осетины, «подчинялись» владикавказскому коменданту, в отличие от плоскостных чеченцев, «подчиненных» так называемому чеченскому приставу, на роль которых назначались соседние горские князья.
Подчинение близкородственных чеченцев и ингушей различным военно-колониальным ведомствам в тот период приводило к тому, что пограничных карабулаков и галашевцев иногда формально причисляли к «племени ингуш», проводя границу между чеченцами и карабулаками по реке Фортанге. Позже карабулаки, ингуши и осетины были включены в границы Военно-Осетинского округа2.
Карабулаки и галашевцы решительно отказывались подчиняться военно-колониальному режиму и вместе с другими чеченскими обществами постоянно участвовали в освободительной войне, объединяясь с чеченцами во все политические, военные и государственные союзы. «Карабулаки, — писал в первой четверти XIX в. Семен Броневский, — имеют своих старшин и говорят кистинским языком, подходящим к чеченскому наречию»3.
В начале 40-х гг. XIX в. карабулаки и галашевцы, как и другие чеченские общества, вошли в состав имамата Шамиля. Согласно местным источникам, в этом государстве собственно Чечня состояла из следующих округов-вилайетов: Аух, Мешки (Мичик и Ичкерия), Шали-Герменчик (Большая Чечня), Шубут-Чабирла (Шатой, Шарой и Чеберлой), Гехи, Арштхой (Карабулак) и Галай (Галашки). Последние три единицы включались в «губернаторство» Малой Чечни. Западная граница Чечни в имамате определялась средним течением реки Ассы, заходя значительно на ее левый берег. Русские источники включали земли карабулаков в Малую Чечню4.
Уничтожение чеченских селений. Колонизация. С начала 40-х гг. XIX в. на плоскостных землях Чечни происходят постоянные миграции
1 См.: Чеченская Республика. (Население, экономика, история). — Грозный. 1995. — С. 24—25; Покровский Н. Н. Кавказские войны и имамат Шамиля / Под ред. В. Р. Гаджиева, Н. Н. Покровского. — С. 140—141.
2 Броневский С. Указ. соч. — С. 25.
3 Там же. — С. 169.
4 Движение горцев Северо-Восточного Кавказа в 20—50-е годы XIX века. Сб. документов. — Махачкала, 1959.— С. 407; Берже А. П. Чечня и чеченцы. — Тифлис, 1859.-С. 111; и др.
— 32 —
Расселение и численность чеченцев
Чеченская долина. Худ. В. С. Шлипнев (4, 223)
населения, связанные с военными действиями. Аулы и хутора повстанцев уничтожались царскими войсками, оставшиеся в живых скрывались в лесах и горах.
На месте уничтоженных чеченских аулов строились царские крепости и казачьи станицы. С 1842 г., после постройки укрепления на реке Сунже и при Сераль-Юрте, а затем с постройкой укрепления на реке Ассе, было положено начало так называемой «Передовой Чеченской линии».
В 1845—46 гг. была образована Сунженская военная линия, а в построенных на землях карабулаков станицах поселены казаки 1-го Сунженского полка. В 1854 г. царский полковник Де-Саже писал: «Система войны против кавказской природы и сынов ее избрана была верно. Каждый наступательный шаг отрезывал горцам безвозвратно кусок их родной земли. Так покорены Малая Чечня и Галашки. На всех этих местах поселены казаки, устроены укрепления с штаб-квартирами полков...»
На месте аула Энахишка (общество Карабулак) в 1819 г. было построено укрепление Преградный стан, позже (в 1846 г.) основана станица Михайловская (современная Серноводская), на месте аула Обург-Юрт построено Волынское укрепление, а позже, в 1845 г., образована станица Троицкая. На месте селения Дибир-Юрт построена в 1845 г. станица Покровская (более поздние названия станицы — Слепцовская, Орд- жоникидзевская), ставшая штаб-квартирой 1-го Сунженского полка. В 1847 г. на месте аула Г1ажарийн-Юрт сооружена станица Нестеровская. В 1847 г. на месте аула Эха-Борзе — воздвигнута станица Ассиновская. И далее: селение Алхастие — станица Фельдмаршальская (1860 г.); селение Мохьмад-Юрт — станица Магомед-Юртовская (1847 г.), современная
— 33 —
Глава I. Географическое, этнотерриториальное и демографическое положение
Чечни в XIX веке
Вознесеновская; селение Элдархан-Юрт — станица Карабулакская (1851 г.); селение СемаӀашки — станица Самашкинская (1851 г.); селение Заки-Юрт — станица Закан-Юртовская, позднее Романовская (1851 г.); селение Алхан-Кала — станица Алхан-Юртовская, позднее Ермоловская (1851 г.); селение Бас-Юрт — станица Джалкинская (1860 г.); селение Чурт-Тоги — станица Петропавловская (1856 г.); селение Мамакхин- Юрт — станица Мамакаевская (современная Первомайская); селение Бамут — укрепление Бамут; селение Ашхойн-Марта — укрепление Ачхо- евское; селение Чахкар-Юрт — укрепление Воздвиженское и т. д.
Кроме того, казакам были отданы в Малой Чечне «коренные» земли жителей Карабулака и Галашек. На месте села Галашки была основана станица Галашевская, на месте карабулакского аула Даттах — станица Даттыхская, на месте аула Мужихи — хутор Мужичий, на месте аула Алхасты — станица Фельдмаршальская (1860 г.). И хотя казаки не смогли использовать малоплодородную землю этих мест и ушли вскоре на Сунжу, эти земли оставались в собственности казачьего войска.
Аналогичные колониальные меры были приняты и в отношении ингушей. Вся Тарская долина, прилегающая к Владикавказу, в конце 50-х гг. XIX в. передается казачьему войску, а ингушские аулы уничтожаются. Население переводилось на земли современных Малгобекского и Назрановского районов1.
Сокращение численности этноса. Кавказская война, продолжавшаяся на Северо-Восточном Кавказе до 1859 г., принесла для Чечни прямые и демографические потери приблизительно в 150—200 тысяч человек. Начав войну в 20-х гг. XIX в. с почти 250-тысячным населением, страна закончила ее через 25 лет с числом жителей в 150 тысяч человек. Но это еще не было концом этнической трагедии.
В результате завоевания и последующих «реформ» царизма на Северном Кавказе чеченский народ был стеснен на небольшой территории, где невозможно было ведение производящего хозяйства. Поэтому часть чеченцев предполагалось поселить в так называемой «Малой Кабарде», в том числе и в современном Малгобекском районе, однако эти планы не были осуществлены. Вместо этого стали провоцировать горцев на уход из родных мест за границу. Так началось массовое переселение чеченцев в Турцию.
В 1865 г., за два летних месяца, 5 тысяч чеченских семей или 23 057 человек ушло в пределы Турецкой империи. Формально переселение организовали (по заданию высших имперских властей) бывший начальник Чеченского округа генерал-майор Мусса Кундухов и наиб
1 См.: Мартиросиан Г. К. История Ингушии. — Орджоникидзе, 1933. — С. 75; БержеА. П. Чечня и чеченцы. — Тифлис, 1859. — С. 20; Сулейманов А. С. Топонимия Чечено-Ингушетии. В 4 т. Т. 2. — Грозный, 1986; Т. 3. — Грозный, 1988; Чеченская Республика. (Население,экономика, история)... — Грозный, 1995. — С. 25—27; и др.
— 34 —
Расселение и численность чеченцев
Урус-Мартановского участка майор Сайдулла Османов (бывший наиб Шамиля в Малой Чечне).
Из 5002 семей мухаджиров свыше 1 тысячи принадлежала к обществам Малой Чечни (главным образом артшхоевцы), около 300 семейств выселилось из Назрановского общества, а основная масса состояла из крестьян Веденского (Ичкерийского) и Аргунского округов. Неласково встретила горцев «единоверная» Османская империя. Уже в том же 1865 г. мухаджиры писали наместнику Кавказа великому князю Михаилу Николаевичу: «.. .из нас... погибла одна треть». Судя по этим данным, в Турции остались в живых едва ли 15000 человек из переселенцев.
Чеченцы-карабулаки, частично возвращавшиеся на родину в 70-х гг. XIX в., ввиду невыносимых условий жизни на чужбине, расселялись властями в различных селениях Чечни и Ингушетии, так как их родные аулы были уничтожены. К примеру, карабулаки из общества Мержой, жившие до переселения на хуторе Гази-Юрт, после реимиграции из Турции поселились в селении Ачхой-Мартане. А карабулаки из фамилии Пандалой, вернувшиеся из Турции в 1872 г., были поселены в селе Насыр-Корте, откуда вскоре перешли в село Сагопши1.
Административное устроение во второй половине XIX в. Этот вопрос также непосредственно связан с проблемой расселения. 20 февраля 1860 г., с образованием Терской области, Чечня была поделена на Чеченский, Аргунский, Ичкерийский округа и Ауховское наибство. Часть чеченцев вместе с кумыками проживала в Кумыкском округе, незначительная группа находилась в подчинении царских властей в Тианетском уезде Тифлисской губернии Грузии (малхистинцы и майстинцы).
Ингуши вошли в состав Военно-Осетинского округа вместе с осетинами и частью казаков Терского казачьего войска.
В 1862 г. Терская область была поделена на военные отделы. В Западный отдел вошли Кабардинский, Осетинский и Ингушский округа, в Средний отдел — Чеченский, Ичкерийский и Аргунский. Часть чеченцев (ауховцы) вошла в Восточный военный отдел Терской области. Округа делились на участки. Так, Ингушевский округ в свою очередь был разбит на Назрановский, Горский и Пседахский участки.
В 1866 г., по распоряжению российского начальства, горные аккинцы и «мереджинцы» (мержойцы) были отделены от Ингушевского округа и подчинены управлению Аргунского округа, «как вследствие однопле- менности с населением последнего, так и потому, что по месту своего жительства они ближе находятся к центру управления его»2. В свое время,
1 См.: Смирнов Н. А. Мюридизм на Кавказе. — М., 1963. — С. 215—218; Волкова Н. Г. Этнический состав населения Северного Кавказа в XVIII — начале XX века. — М., 1974. — С. 222—224 и др.
2 Грабовский Н. Ф. Экономический и домашний быт жителей горского участка Ингушевского округа // С6. сведений о кавказских горцах. Вып. 3. — Тифлис, 1870. — С. 1.
Глава I. Географическое, этнотерриториальное и демографическое положение
Чечни в XIX веке
по мере завоевания этих территорий, общества эти оказались вне административных границ Чечни (аулы аккинцев и мержоевцев, завоеванные в 1858 г., были временно подчинены Военно-Осетинскому округу).
Вскоре в Терской области опять меняется административно-территориальное деление. Чеченцы были разделены теперь по Грозненскому, Аргунскому, Веденскому, Хасав-Юртовскому (вместе с кумыками) округам, а Ингушетия, Осетия, часть Малой Чечни и Сунженские казаки вошли во Владикавказский округ.
В 1888 г. ингуши включаются в состав Сунженского казачьего отдела. В этот отдел входила также и Малая Кабарда. Осетины были включены во Владикавказский округ. Только в 1905 г. ингуши добились выхода из подчинения Сунженского казачьего отдела и образования чисто ингушского Назрановского округа с некоторым прибавлением земель. В 3-м участке Назрановского округа в составе Цоринского сельского общества по состоянию на 1917 г. имелись Датыхские хутора и поселок Галашки1.
Таким образом, общая граница между Чечней и Ингушетией во второй половине XIX — начале XX вв. шла только по горной части, а на равнине по рр. Ассе и Сунже между ними были вклинены казачьи наделы.
Новые изменения в расселении чеченцев. Интенсивное заселение некоторых западночеченских земель, покинутых переселенцами в Турцию, но так и не освоенных Сунженскими казаками, началось в 70—80-е гг. XIX в. Так, часть жителей из высокогорных обществ Малхисты и Майсты переселялись в Аршты, Бамут, Гази-Юрт, Котар-Юрт и другие селения. А в Галашки, на опустевшие земли галашевцев, ушедших в Турцию, впервые в своей истории стали переселяться безземельные жители обществ горной части Ингушетии: ГӀалгӀай и Цхьорой (ранее жители указанных обществ выселялись из гор исключительно в Тарскую долину и к Назрани; Тарская долина теперь была отдана царизмом Сунженским казакам).
Так, хутор Галашки образовали в 1887 г. выходцы из Хамхинского и Цоринского обществ (168 дворов). Они же поселились в 1872 г. на хуторе Мужич (30 дворов) и хуторе А л кун (49 дворов). Жили они здесь на правах «временнопроживающих».
На хуторе Серали-Опиева (20 дворов) поселились в 1874 г. горцы из Цеч-Аккхи Грозненского округа (Щечу-Аккхи — прародина арштхойцев. — Авт.)у они же в 1875 г. поставили хутор в местности Даттых (62 двора). Все они были вынуждены платить арендную плату Сунженским казачьим станицам.
В 1895 г. во исполнение приказа начальника Терской области о запрещении проживания горцев одной национальности на землях другой,
1 Кокурхаев К-С. А-К. Общественно-политический строй и право чеченцев и ингушей. — Грозный, 1989. С. 42; Хасбулатов А. И. Установление российской администрации в Чечне (II пол. XIX в. — начало XX в.). М., 2001. — С. 200.
— 36 —
Расселение и численность чеченцев
многие ингушские хутора в Малой Чечне были преданы огню, а население под конвоем отправлено по месту приписки. К примеру, из хутора Футуг 7 дворов горных ингушей, а заодно и малхинцы-чеченцы, были отправлены в Насыр-Корт и в Грозненский округ. Из хутора Нижний Аршты были отправлены 27 дворов ингушей и малхинцев. Обратно в горы выселили также и ингушей из Верхнего Бамута. Выселение собственно малхинцев объяснялось тем, что они были приписаны к Тифлисской губернии.
К 1865 г. на землях старого чеченского аула Пседах, помимо ранее заложенных селений Кескем и Везешева, по приказу администрации были устроены дополнительные поселения — Сагопш (54 двора), Новый Ах-Борзой (87 дворов) и Чириково.
В Ax-Борзое были поселены остатки карабулаков, в Кескеме и Са- гопши селили горных ингушей (из Палгая), в Чириково и Везешево переселяли ингушей-назрановцев. Позже в Сагопши стали компактно селить карабулаков, возвращающихся из Турции.
Кроме того, собственно в Малой Кабарде насчитывалось 69 дворов чеченцев, из которых 50 жили в ауле князя Бековича-Черкасского. Во время переселенческой реформы 60-х гг. XIX в. на «запасные» земли селений Надтеречного наибства и были частично выселены находившиеся в Малой Кабарде чеченцы (главным образом арштхойцы).
В 1866 г. здесь на землях Малгобекского округа сохранялись только чеченское селение Пседах, ингушское селение Кескем и населенный арштхойцами аул Сагопши1.
Таким образом, вследствие колониальной политики царизма границы расселения нахских народов, а также обществ и аулов были изменены в первую очередь в интересах военно-казачьего сословия. И если добровольные или насильственные переселения чеченцев и ингушей на те или иные земли внутри границ Чечни или Ингушетии не приводили к конфликтным коллизиям, то иначе складывались отношения горцев со станицами, крепостями и владениями офицеров, беззастенчиво располагаемых на их родных землях.
В целом политика царизма была направлена на максимальное удушение экономической составляющей чеченского народа путем изъятия обрабатываемых земель и лесов в пользу казачьего войска и правительства. Хотя Чечня и сумела в конечном счете восстановить былую славу «житницы» Северо-Восточного Кавказа, но платила за это неимоверную цену. Чтобы облагородить сохранившиеся за аулами земли, были проведены огромные коллективные работы по ее орошению;
1 См.: Волкова Н. Г. Этнический состав населения Северного Кавказа в XVIII — начале XX века. — М., 1974. — С. 222, 227—228, 237—238; Гриценко Н. П. Экономическое развитие Чечено-Ингушетии в пореформенный период (1861—1900 гг.). — Грозный, 1963. — С. 60—61; Чеченская Республика. (Население, экономика, история). — Грозный. 1995. — С. 29—30; и др.
Глава I. Географическое, этнотерриториальное и демографическое положение
Чечни в XIX веке
недостающую землю чеченцы (как, кстати, и ингуши) были вынуждены арендовать у захватившего ее казачьего войска, внося высокую денежную плату.
Только после крушения самодержавия в 1917 г. в боях против контрреволюционного казачества и белогвардейцев в годы гражданской войны чеченцы с оружием в руках отвоевывают часть своих земель, отторгнутых у них царизмом.
* * *
Таким образом, естественное этнополитическое устроение нахского этноса — чеченского и ингушского народов было грубо деформировано и исковеркано в XIX в. захватнической политикой царизма, уничтожавшего и изгонявшего целые народы, а затем, в XX в., и политикой советской власти, исходившей при строительстве национальных автономий исключительно из идеи экономической и идеологической целесообразности.
В конце XX — начале XXI вв. Чеченская Республика, в силу объективных и субъективных причин, стала ареной двух разрушительных войн, разоривших дотла ее столицу город Грозный и десятки селений. Общее число погибших и раненых в «чеченских» войнах приближается к 300 тысячам человек, а число мирных граждан, пропавших без вести (похищенных и убитых враждующими сторонами), перешагнуло 5 тысяч. В качестве беженцев побывало до 700—800 тысяч жителей Чечни из общего населения республики свыше 1 миллиона человек.
Мимо родного дома. Чечня, 1995 г. Худ. Д. И. Товсултанов (66, 21)
— 38 —
Расселение и численность чеченцев
Около 250 тысяч представителей русского и русскоязычного населения, а также до 350 тысяч чеченцев и ингушей покинули в последнее десятилетие XX в. свою родину — Чеченскую Республику, расселившись на постоянной основе в различных регионах Российской Федерации. Несколько десятков тысяч чеченцев, как некогда их предки в 60-х гг. XIX в., эмигрировали в страны дальнего зарубежья. По существу, для чеченцев, как нации, и в XIX в., и в конце XX в. мог наступить «конец истории». Но этого не случилось, нить истории Чечни и чеченцев не прервалась, в первую очередь, благодаря громадной жизненной энергии народа, крепости его основных морально-этических ценностей, несравненной силе духа в противостоянии испытаниям.
Наступил XXI век. В настоящее время, благодаря усилиям всего Российского государства и российского общества в решительном противостоянии с антизаконными действиями преступников «в форме и без формы», Чеченская Республика начала бесповоротное движение к выходу из глубокого социально-экономического и общественно-политического кризиса.
Глава II. Чечня в первой трети XIX века.
Взаимоотношения с Российской империей
§ 1. Экономическое развитие
Земледелие. Чечня начала XIX в. представляла собой аграрную страну, практически все население которой было занято в сфере сельскохозяйственного производства. Поскольку для Чечни характерно большое разнообразие природно-климатических зон (от вечных ледников и альпийских лугов на крайнем юге до засушливых районов Притеречья на севере), то и в разных районах преобладали либо земледелие, либо скотоводство. Что касается ремесел, различных видов кустарных промыслов и торговли — то они получили распространение по всей Чечне, что не мешало развитию известной специализации в различных регионах.
Удачное сочетание благоприятных внешних и внутренних факторов обеспечивало известное поступательное экономическое развитие страны. Российские офицеры, внимательно изучавшие состояние Чечни по заданиям военного командования, в своих отчетах отмечали: «...повсюду расчищались леса и на огромном протяжении были лишь засеянные поля, орошаемые искусственными каналами»1.
Земледелие с глубокой древности было распространено на всей территории Чечни, хотя, по данным XIX в., в высокогорной и горной зонах производимого зерна не хватало для полного удовлетворения насущных потребностей. Для высокогорных районов характерно развитие террасного земледелия, когда трудом многих поколений горцев на крутых склонах гор создавались обрабатываемые участки. Плодородная почва приносилась на такие участки вручную, так же как и простейшие удобрения: навоз и зола. Для орошения террас применялась довольно сложная система искусственных водопроводов; современники сообщают, «...что сооружения из составных желобов тянулись на несколько верст, подводя воду к пахотным участкам»2.
Главными зерновыми культурами на территории Чечни являлись ячмень, просо, кукуруза, пшеница (озимая и яровая), рожь, овес, причем две последние культуры наиболее характерны для западных районов. Известно и выращивание риса, требовавшего высокой земледельческой
1 См.: Акты, собранные Кавказской Археологической комиссией. Т. 9. — Тифлис, 1884. — С. 429; Материалы по истории Дагестана и Чечни. Т. 3. Ч. 1. — Махачкала, 1940. — С. 303; и др.
2 См.: Дубровин Н. История войны и владычества русских на Кавказе. Т. I, кн. 1. — СПб., 1871. — С. 380; Хасиев С. А. Земледелие чеченцев и ингушей в XIX — первой половине XX вв. Рук. канд. дис. — М., 1973. — С. 78.
— 40 —
Экономическое развитие
культуры. Из технических культур широкое распространение получили конопля, табак, а также корень марены. Конопляное масло («воьта») занимало видное место в рационе питания чеченцев, преимущественно в горных районах. Благодаря совершенству применяемых сельскохозяйственных орудий и агротехники, благодаря исключительному плодородию плоскостных земель аулы равнинной Чечни производили столько зерна, что его хватало не только на покрытие собственных потребностей, но и для продажи в горную Чечню и соседние области, прежде всего в Дагестан. Некоторые источники утверждают, что в течение короткого периода времени, пока война не подорвала сельское хозяйство Чечни, зерно отсюда поставлялось даже в приморские районы Азербайджана и далее — в Северный Иран1.
Российские источники отмечают, что чеченцы «некоторое внимание» уделяют выращиванию огородных культур (лук, чеснок, тыква), а также садоводству и виноградарству. Из плодовых деревьев наибольшее распространение имели яблони, груши и сливы. В целом овощеводство, садоводство и виноградарство были достаточно хорошо развиты в Чечне, их продукция также шла на пограничные русские рынки2.
Для сельского хозяйства Чечни первой трети XIX в. характерно преобладание простых, но очень приспособленных к местным условиям орудий труда. На равнинах и в предгорьях пахали при помощи тяжелого деревянного плуга с железным лемехом или деревянной сохи. На небольших горных террасах вместо вспашки часто просто копали землю деревянными лопатами или засевали зерно заостренными кольями. Это было и свидетельством сверхбережного отношения горцев к земле, ее боялись «поранить». Для боронования использовалась деревянная доска с железными зубьями, которую утяжеляли при помощи камней. При уборке урожая и заготовке сена применялись косы и серпы. Для обмолота зерна по снопам прогоняли домашний скот и домолачивали специальными катками. Практически весь сельскохозяйственный инвентарь, необходимый в земледелии, изготовлялся в Чечне местными мастерами3.
Довольно быстро чеченцы начали перенимать новые сельскохозяйственные орудия, производимые на русских мануфактурах. Так, уже
1 Материалы по истории Чечни и Дагестана. Т. 3. Ч. 1. — С. 303; Берже А. П. Чечня и чеченцы. — Тифлис, 1859. — С. 88; Тотоев Ф. В. Общественно-политический строй Чечни (вторая половина XVIII — 40-е гг. XIX в.). Рук. канд. дис. — М., 1966. — С. 127—128; Калоев Б. А. Земледелие народов Северного Кавказа. — М., 1981. — С. 172.
2 См.: Максимов Е. Чеченцы // Терский сб. Вып. 3. Кн. 2. — Владикавказ. 1890. — С. 12—13; Глиценко Н. П. Социально-экономическое развитие притеречных районов в XVIII — первой половине XIX в. — Грозный, 1961. — С. 49—53; Хасиев С. А. Указ. соч. — С. 170.
3 См.: Материалы по истории Чечни и Дагестана. Т. 3. Ч. 1. — С. 303, 318; Народы Кавказа. Т. 1. — М., 1960. — С. 352; Хасиев С. А. Указ. соч. — С. 165—166; и др.
— 41
Глава II. Чечня в первой трети XIX в. Взаимоотношения с Российской империей
Горская борона-волокуша (3, 8)
в конце XVIII в. притеречные чеченцы широко применяли железный плуг, а в начале XIX в. уже сами изготовляли железные плуги не только для собственных нужд, но и для продажи, в том числе и казакам.
В целом по своему удельному весу именно зерноводство являлось ведущей отраслью хозяйства всей равнинной, предгорной и восточной части Чечни, где проживала основная часть населения. Более того, дешевый чеченский хлеб позволял горным районам Дагестана в первой половине XIX в. полностью специализироваться на ремесленном производстве, а скотоводам Кабарды уделять большое внимание такой отрасли, как коневодство. Дело в том, что Чечня получала строевых лошадей преимущественно из Кабарды и «Черкесов».
Скотоводство повсеместно играло важную роль в хозяйственной жизни чеченцев, а ряде горных районов являлось и основным видом хозяйственной деятельности. Надо отметить, что созданием Кавказской линии — непрерывной цепи русских укреплений, крепостей и станиц по левому берегу Терека — был нанесен серьезный удар традиционному отгонному овцеводству чеченцев, которые обычно перегоняли значительную часть своих отар на зимние пастбища по Тереку.
Экономическое развитие
Овцеводство получило наибольшее распространение в горах, так как овцы и козы требовали гораздо меньше ухода и были более неприхотливыми в содержании. Кроме того, разведение мелкого рогатого скота имело целый ряд преимуществ в замкнутом натурально-потребительском хозяйстве горцев. Как отмечал исследователь кустарных промыслов Кавказа Н. С. Пиралов: «Овца... давала человеку пищу и материалы для одежды и постройки жилищ». Повсеместное распространение в Чечне получили местные, кавказские, грубошерстные породы овец: черкесская, тушинская и карачаевская1.
Кроме овец и коз, в горах разводили крупный рогатый скот так называемой «горской» породы, который отличался небольшими размерами, чрезвычайной неприхотливостью и выносливостью. В горах местные породы молочного скота имели невысокую продуктивность: в среднем каждая корова в день давала четверть ведра молока, а удойный период длился всего пять месяцев в году. На равнине крупный рогатый скот у чеченцев отличался большими (по сравнению с «горской» породой) размерами и также был хорошо приспособлен к местным климатическим условиям. В качестве продуктового скота в плоскостных чеченских селениях разводили также буйволов.
Крупный рогатый скот применялся в хозяйстве чеченцев и в качестве рабочего скота. Так, быков широко использовали в качестве тягловой силы при перевозке грузов, обработке земли, уборке урожая. Гораздо реже в качестве тягловой силы использовали лошадей, которые применялись почти исключительно как средство индивидуального передвижения. Последнее не случайно, так как лошади имели важное значение в условиях военизированного быта, которым жило взрослое население Чечни.
Собственно коневодство, однако, было слабо развито у чеченцев, которые предпочитали приобретать лошадей в Кабарде, а не разводить их, так как в Чечне не было условий, необходимых в то время для широкого развития коневодства: покрытая лесами Чеченская равнина оставляла мало места для больших табунов, которым требовались обширные степные пастбища. Российские исследователи отмечают, что горские лошади, распространенные собственно в Чечне, не принадлежат к какой-либо породе, но все отличаются небольшим ростом, неприхотливостью и выносливостью. Рослые скаковые лошади приобретались, как правило, за пределами Чечни, однако их боевая выучка здесь считалась лучшей на Кавказе2.
1 См.: Пиралов Н. С. Краткий очерк кустарных промыслов Кавказа. — СПб., 1913. — С. 186.
2 См.: Казбек Г. Н. Военно-статистическое описание Терской области. —Тифлис. 1882. — С. 93,168; Леонтович Ф. И. Адаты кавказских горцев. Вып. 2. — Одесса, 1883. — С. 94; История, география и этнография Дагестана в XVIII—XIX вв. Арх. материалы. — М., 1958. — С. 227; Тотоев Ф. В. Указ. соч. — С. 133—134; Ахмадов Ш. Б. Чечня и Ингушетия в XVIII — начале XIX века. — Грозный, 2002. — С. 93—103; и др.
— 43 —
Глава II. Чечня в первой трети XIX в. Взаимоотношения с Российской империей
Кроме того, в Чечне определенное развитие получило пчеловодство, а также эксплуатация продовольственных ресурсов обширных лесов, занимавших большую часть чеченской территории. Помимо охоты, население занималось сбором плодов дикорастущих плодовых деревьев, кустарников и лесных ягод. В некоторых районах (Притеречье) жители занимались также и рыболовством1.
В целом сельское хозяйство Чечни считалось высокоразвитым, по кавказским меркам того времени. Урожайность основных видов сельскохозяйственных культур была высокой и обеспечивалась не только исключительным плодородием почв на Чеченской равнине, но также орошением и хорошей обработкой полей. Развитие скотоводства сдерживалось недостаточной кормовой базой, особенно после того как пастбища за Тереком оказались недоступными для чеченцев. Мешало также отсутствие племенной работы и т. д. В целом же развитие сельского хозяйства в Чечне в рассматриваемый период идет по экстенсивному пути и увеличение производства сельскохозяйственной продукции достигалось не за счет повышения урожайности, внедрения новых агротехнических приемов и улучшения пород скота и т. д., но главным образом за счет внутренней колонизации — распашки новых земель путем постепенного истребления лесов. При этом все большее значение приобретало искусственное орошение и увеличивающиеся объемы посевов кукурузы.
Ремесла и кустарные промыслы2. Развитие разного рода ремесел и кустарных промыслов Чечни долгое время происходило в рамках крестьянского хозяйства. Российский исследователь начала XIX в. С. Броневский отмечал: «Образ жизни горских народов довольно разъясняет, что число ремесел должно быть ограничено необходимыми нуждами». Кустарные промыслы чеченцев были тесно связаны с основными видами хозяйственной деятельности, дававшими сырье для их развития. Естественно, что в условиях господства полунатурального хозяйства чеченские крестьяне самостоятельно изготавливали большую часть необходимых им вещей.
1 См.: Самойлов К. Записки о Чечне // Пантеон. Кн. 1. — М., 1852. — С. 47; Гриценко К П. Указ. соч. — С. 58; Ахмадов Ш. Б. Указ. соч. — С. 108—109; и др.
2 См. материалы: Броневский С. А. Новейшие географические и исторические известия о Кавказе. — М., 1823; Вертепов Г Н. Очерки кустарных промыслов в Терской области // Терский сб. Вып. IV. — Владикавказ, 1897; Маркграф О. О. Очерк кустарных промыслов Северного Кавказа с описанием техники производства. — М., 1882; Материалы по истории Чечни и Дагестана. — С. 305; Хозяйство и хозяйственный быт народов Чечено-Ингушетии. С6. статей. — Грозный, 1983; Гриценко Н. П. Социально- экономическое развитие притеречных районов в XVIII — первой половине XIX века; Гантемирова Г А. Хозяйственное развитие народов Чечено-Ингушетии в первой половине XIX в. и вопросы общественных отношений // Общественные отношения у чеченцев и ингушей в дореволюционном прошлом (XVIII — нач. XX в.). Сб. статей. — Грозный, 1982; Хазбулатова 3. И. Народные промыслы чеченцев в XIX — начале XX вв. (по этнографическим материалам // Вести. ЛАМ. — 2003. — № 3; Ахмадов Ш. Б. Указ. соч. — С. 109— 112,116—147; и др.
— 44 —
Экономическое развитие #
Широкое развитие овцеводства предопределило развитие в Чечне кустарных промыслов, связанных с обработкой шерсти. Причем этими промыслами в чеченском обществе традиционно занимались исключительно женщины. Российские наблюдатели XIX в. подчеркивали: «Где бы вы ни встретили горскую женщину — беседует ли она с соседками, разговаривает ли с мужчинами, идет ли из селения в селение за пять-шесть верст, везде — в сакле и на улице, у нее неизбежно в руках шерсть и веретено, которое, безостановочно крутясь, сучит нитку». Из шерсти в Чечне изготавливали сукно, постельные принадлежности, ковры, войлоки, переметные сумы и другие изделия.
Для обработки шерсти применялись самые простые способы и инструменты: шерсть мыли, сушили, сортировали, взбивали гибкими палками, расчесывали, пропуская через металлический гребень. Для прядения нитей использовалось простое ручное веретено, а при изготовлении сукна применялся простой ткацкий станок. Изготавливаемое чеченскими мастерицами сукно применялось не только в самой Чечне, но в некотором количестве поступало на продажу.
Традиционно развитым промыслом являлось изготовление бурок. Чеченские бурки ценились наравне с классическими андийскими: отличаясь легкостью, высоким качеством и тщательностью отделки, они находили спрос также у русских казаков, в Дагестане и Грузии. На одну бурку шло до 10 кг шерсти, а сам процесс изготовления занимал в среднем от 10—12 дней до месяца упорного труда нескольких мастериц.
Большое распространение получило изготовление войлочных ковров — истангов, являвшихся непременным атрибутом внутреннего убранства чеченского жилища. Войлочные ковры использовались как для покрытия пола, так и для украшения стен. Однотонные или разноцветные истанги украшались бахромой и разнообразным орнаментом. Чаще других встречались желтый, красный, оранжевый, зеленый и синий цвета, а в качестве узоров применялось символическое изображение солнца, звезд, растительный орнамент. При этом узор из одного войлока вшивался в другой, а швы обрабатывались шнуром или тесьмой.
Шкуры домашних животных использовались для выделки кож и изготовления овчин. Из последних шили тулупы, шубы, папахи.
Истанги — войлочные ковры (4, 184)
— 45 —
Глава II. Чечня в первой трети XIX в. Взаимоотношения с Российской империей
Обработкой овчин также занимались женщины, но выделка и обработка кож являлась обязанностью мужчин. Из кожи шили различные виды обуви, изготавливали ремни, пояса, конскую сбрую, походные вещевые мешки и другие изделия. В Чечне отдельные мастера занимались также выделкой разноцветного сафьяна (черного, красного, зеленого и синего). Сафьян, на изготовление которого шли в первую очередь козьи шкуры (реже — телячьи), применялся для изготовления дорогих изделий: праздничной обуви, чехлов для оружия, ножен, кисетов, отделки дорогих седел.
Широкое распространение получила у чеченцев деревообработка. Дерево применялось для изготовления строительных материалов (стропил, досок), предметов бытовой утвари (столов, стульев, сундуков, шкатулок, ведер, корыт, чашек, ложек и т. д.), отдельных сельскохозяйственных орудий (лопат, плугов, сох, грабель и т. п.), средств передвижения (арб, саней, колес, седел и т. д.). Наличие больших лесных массивов позволяло Чечне снабжать строительным лесом соседние области. Ежегодно от 500 до 800 плотов сплавлялись по Сунже до Терека, а дальше — вниз по Тереку до Кизляра, где и продавались. Только от торговли лесом чеченцы выручали ежегодно до 35—40 тысяч рублей серебром. Кроме того, из Чечни вывозилось большое количество деревянных бочек, арб, колес, оглобель, молотильных досок, резных сундуков и других изделий из дерева.
В первой трети XIX в., когда Кизляр превратился в один из крупнейших в России производителей виноградного вина, а вокруг города были насаждены обширные виноградники, из Чечни была налажена поставка деревянных кольев — таркалов для поддержания виноградной лозы. Ежегодно чеченцы продавали в Кизляре до 6 тысяч арб с кольями-таркалами, а также большое количество бочек и бочарных досок.
Еще одним широко распространенным промыслом было гончарное дело, развитию которого способствовало наличие больших запасов глины высокого качества в разных районах Чечни, в частности, у селений Ялхой-Мохк, Майртуп, Сержень-Юрт, Шали, Харачой, Ялхорой и др. Из глины изготавливали разного рода посуду: горшки, чашки, кружки, кувшины, сосуды для хранения зерна и жидкости, пряслица для сучения шерстяных ниток и другие изделия. Для обжига глиняной посуды строили специальные печи, а саму посуду украшали скромным орнаментом: линейным или точечным, реже лепным. Главные центры гончарного производства находились на плоскости.
У чеченцев известное распространение получили также изготовление тростникового и арбузного меда, сбор дикорастущей марены (последняя использовалась для крашения различных видов тканей и сафьяна), добыча соли (соляные источники располагали близ селений
— 46 —
Экономическое развитие
Бочка, выжженная из цельного дерева
Скамья
Ковши из дерева
Пчелиная сапетка
Плоское корыто для баранины
Образцы кустарного производства (27, 431)
Даттых, Мужичи, Мереджой-Берам), серы и охры. Широкое развитие получило строительство речных мельниц, которые использовались для помола зерна, а также сыроварение.
Производилась в Чечне и разработка природных нефтяных источников и нефтяных колодцев, большая часть которых располагалась на землях, принадлежавших князьям Турловым. Последние продавали казакам ежегодно не менее 500 бочек нефти по цене приблизительно 16 рублей за бочку. Расположенные возле селения Брагуны нефтяные
— 47 —
Глава II. Чечня в первой трети XIX в. Взаимоотношения с Российской империей
колодцы принадлежали князьям Таймазовым. Отдельные нефтяные источники принадлежали чеченским обществам и отдельным селениям, например, Беною или Исти-Су.
Нефть использовалась в качестве лечебного средства при кожных заболеваниях людей и скота, для смазки колес, а также для освещения. В 1823 г. крепостные крестьяне графини Паниной: Василий Алексеевич Дубинин и два его брата, занимавшиеся в Моздоке опытами по перегонке нефти для получения фотогена (так тогда называли керосин), построили первую в мире нефтеперегонную установку. Нефть покупалась в Чечне и доставлялась в бочках в Моздок.
Кроме нефти, в Чечне (правда, в весьма ограниченных размерах) добывались и другие полезные ископаемые. Так, в горной Чечне добывали свинец и незначительное количество серебра. Возле селения Ведено кустарным способом велась разработка месторождений селитры и железа. Селитра использовалась для приготовления пороха.
Традиционно хорошо развитым видом ремесла в Чечне считалась металлообработка, связанная не только с изготовлением орудий труда, но и производством оружия и ювелирных украшений. Кроме того, широкое распространение металлообработки способствовало появлению такого промысла, как изготовление древесного угля.
В Чечне имелось несколько месторождений металлов, в том числе медной и железной руды в Аргунском ущелье. Руду добывали самым примитивным способом: на месторождении рыли ямы глубиной до 3—4 метров. Дневной сбор руды одним взрослым работником не превышал двух пудов (32 кг). Кроме того, на переплавку в горских кузницах шли старые и пришедшие в негодность металлические изделия.
Экономическое развитие
Оружейное производство1. В конце первой трети XIX в. прекращается производство защитных металлических доспехов (панцирей, кольчуг), но продолжается изготовление холодного оружия различных видов: затачиваемых с одной стороны палашей, сабель и шашек, обоюдоострых кинжалов и боевых ножей. Среди кинжалов выделяются обычные и так называемые «боевые» кинжалы, отличавшиеся большими размерами — шириной «в четыре пальца» и длиной до 70—80 сантиметров.
Признанными центрами изготовления боевых клинков считались селения Джугурты, Дарго, Старые Атаги, Мехкеты, Шали и некоторые др. При этом чеченские мастера знали секрет изготовления булатных клинков (так называемой «дамасской» стали), что позволяло им изготавливать шашки, которые можно было свернуть вокруг пояса или уложить в домашнее сито для просеивания муки. На изготовление некоторых наиболее выдающихся клинков мастера затрачивали порой до 10-ти лет, их обработка всегда велась на буковом угле, а закалка производилась по частям самыми разными способами: воздушная, при помощи воды, различных жиров (например, волчьего и медвежьего), соли, песка и т. д.
Шашки из аула Дарго (4, 129)
Производилось в Чечне и огнестрельное оружие — ружья и пистолеты, причем в качестве образцов использовались европейские, крымские, турецкие, иранские и другие изделия, которые значительно усовершенствовались. Горское ружье отличалось легкостью, длиной
1 См. по данному вопросу: Самойлов К. Заметки о Чечне // Пантеон. Т. 10. — СПб., 1855; Властов Г. Война в Большой Чечне // Рус. инвалид. — 1856. — № 100; Вертепов Г. А. Указ. соч. — С. 19—22; Гриценко Н. П. Указ. соч. — С. 61—62; Хасиев С. А. Из истории развития кустарных промыслов чеченцев и ингушей в дореволюционном прошлом (обработка металла и камня) // Хозяйство и хозяйственный быт народов Чечено- Ингушетии. Сб. статей. — Грозный, 1983; Асхабов И. Чеченское оружие. — М., 2001; Ахмадов Ш. Б. Указ. соч. — С. 135—136; и др.
— 49 —
Глава II. Чечня в первой трети XIX в. Взаимоотношения с Российской империей
Чеченские кинжалы (18, 276)
ствола, маленьким прикладом и особым устройством прицела. При этом в стволе горского ружья делали специальные нарезы, что значительно повышало дальность и точность стрельбы. Благодаря этим винтовым нарезам горское ружье получило название винтовки, и вплоть до появления в русской армии нарезного оружия (штуцеров) горцы имели преимущество в дальности и точности стрельбы. В отличие от русского солдатского ружья, снабженного штыком и окованным тяжелым прикладом, горская винтовка совершенно не была приспособлена для рукопашного боя.
В особом канале под стволом винтовки помещался шомпол, который был необходим не только для чистки ствола, но и для заряжения. Заряд пороха засыпался в ствол и забивался пыжом, затем закладывалась пуля, которая также забивалась пыжом. Эти операции производились шомполом. Пули отливали не только из свинца, но и из меди, а также сплава меди и свинца. Горская пуля была примерно в два раза меньше той, что использовалась в российских войсках. Впоследствии горцы стали делать на пулях специальные нарезы, прикрепляя к ним кожаный ремешок. Благодаря этому пуля плотно входила в ствол винтовки, а ремешок к тому же увеличивал рану.
— 50 —
Экономическое развитие
Типы горских кремневых винтовок (И, вклейка)
Отмеренные заряды пороха и пули горцы носили в деревянных газырях, располагавшихся на груди, а все необходимое для срочного и несложного ремонта и обслуживания винтовки помещалось в небольшой металлической коробочке, прикреплявшейся к поясу.
Произведенное чеченцами оружие охотно покупали казаки и русские офицеры. Стоимость отдельных образцов холодного оружия (шашки типа «калдын», «терсмаймал», «гурда») доходила до 200 рублей серебром. Общее количество продаваемого оружия было значительным. Например, в 1847 г. только через Амир-Аджи-Юртовский меновый двор чеченцы продали разного оружия на сумму 9863 рубля, что составило почти половину приобретенного у них товара1.
Поскольку установленные российскими властями правила категорически запрещали продажу горцам не только оружия, но и военного снаряжения — чеченцам приходилось производить самостоятельно порох, добывать свинец для пуль и изготавливать все необходимое для обслуживания винтовок и пистолетов (пороховницы и т. п.).
Не только холодное, но и огнестрельное оружие украшалось узорной резьбой, серебряной или золотой насечкой. Рукоятки шашек и кинжалов обычно изготавливались из дерева, кости или рога и богато украшались. Костяные и роговые пластины применялись и для украшения прикладов винтовок и рукоятей пистолетов. Что касается изготовления ювелирных украшений, то оно не получило в Чечне широкого распространения. Местные ювелиры-«серебряки» были, как правило, лакцами и кубачинцами из Дагестана.
Торговля. Продукция земледелия, скотоводства и изделия кустарных промыслов чеченцев шли не только на собственное потребление, но и на продажу, в том числе и на внешние рынки. Из Чечни вывозили кукурузу, пшеницу, просо, мед, воск, орехи, груши, лес, нефть, арбы
1 Гриценко Н. П. Экономические связи России с Северным Кавказом в 40-х годах XIX в. // Известия ЧИНИИ. Т. 2. Вып. 1. — Грозный, 1960. — С. 26.
— 51 —
Глава II. Чечня в первой трети XIX в. Взаимоотношения с Российской империей
Орнамент (некоторые виды), характерный для серебряных деталей чеченского оружия и снаряжения до 60-х гг. XIX столетия (4, 191)
и колеса к ним, шерсть, пряжу, бурки, войлоки, кошмы, шапки, сукно, глиняную и медную посуду, холодное и огнестрельное оружие. Завозили же в основном железо, мануфактурные ткани (холст, кумач и др.), ножницы, замки, иглы и другие виды товаров потребления1.
Свободная торговля русских с горцами на пограничной линии, в том числе и с чеченцами, была запрещена. Все торговые операции должны были проходить под контролем государственных чиновников, которые следили за тем, чтобы к горцам — «за границу», не попадали товары военного характера. Кроме того, вводился ряд ограничений на продажу железа, соли, золота и других товаров. Впрочем, российское правительство вообще стремилось ограничить вывоз драгоценных металлов из страны. С этой целью предпринимались специальные меры, в частности, вводилось ограничение на вывоз золотой монеты частными лицами. Так, указом Правительствующего сената от 11 (23) мая 1825 г. всем частным лицам при переезде через границу разрешалось иметь при себе не более 50 рублей золотом и 10 рублей медью2.
1 См.: РГВИА. ф. ВУА. д. 18507. Л. 19; ф. 482. Ол. 1. Д. 192. Л. 164 об; ГАСК. ф. 235. On. 1. Д. 1. Л. 4. 4 об; Тотоев Ф. В. Состояние торговли и обмена в Чечне (2-я половина XVIII — 40-е годы XIX в.) // Известия Северо-Осетинского НИИ. История. Т. 25. — Орджоникидзе, 1966; и др.
2 Внешняя политика России XIX и начала XX веков: Док. Российского Мин. иностр. дел. Т. 6 (14). — М., 1955. — С. 175.
— 52 —
Экономическое развитие
Торговый караван (горцы на привале). Худ. Ф. Рубо (53, 24)
Поскольку российская администрация стремилась ограничить поступление золотой и серебряной монеты к горцам, а ассигнации они принимали неохотно, русско-чеченская торговля носила в основном меновый характер. В 1811 г. на Кавказской линии были открыты шесть меновых дворов для торговли с горцами: Прохладненский, Наурский, Лащуринский, Прочноокопский, Усть-Лабинский, Кон- стантиногорский, а также несколько соляных магазинов (складов). Из этих меновых дворов только два — Наурский и Лащуринский, были доступны чеченцам для совершения торговых сделок. Первый посещали в основном Надтеречные и Сунженские чеченцы, второй — жители горных районов1.
Хотя доступ к меновым дворам формально считался свободным и не облагался пошлинами или специальными билетами — на самом деле попасть туда могли далеко не все желающие, так как военные власти стремились ограничить появление на линии «немирных» горцев, среди которых они подозревали наличие лазутчиков, высматривающих слабые места в системе обороны. К тому же обмен товарами производился после длительных карантинных проверок. За ходом торговли наблюдал специальный чиновник, а в 20-х гг. XIX в. создается специальная служба во главе с «попечителем торговли».
Сложности, которыми было обставлено проведение меновых операций, быстро привели к формированию прослойки купцов-перекуп- щиков, которые сосредоточили в своих руках торговлю на Кавказской линии. Уже в январе 1811 г. генерал И. П. Дельпоццо писал в своем рапорте командующему линией генералу Тормасову: «Кабардинцы, осетины, кумыки и мирные чеченцы гораздо больше имеют желанье привозить свои продукты в наши границы и продавать оные по сходным
1 См.: Акты, собранные Кавказской Археографической комиссией. Т. 5. — Тифлис, 1873. — С. 847; Гриценко Я. Я. Истоки дружбы. — Грозный, 1975. — С. 55.
— 53 —
Глава II. Чечня в первой трети XIX в. Взаимоотношения с Российской империей
ценам сами, да и с нашей стороны гораздо выгоднее оные покупать из первых рук, нежели от перекупщиков здешних армян и грузин, которые более их обманывают и двойною ценою все от них вымененные вещи продают нашим поселянам». Кстати, он предлагал вообще отказаться от организации торговли с горцами через меновые дворы, разрешив свободный товарообмен по всей Линии1. Власти на такой кардинальный шаг не пошли, и в течение долгого времени наибольшая часть торгового оборота через меновые дворы была сосредоточена в руках русских, армянских, грузинских, еврейских и других купцов. Впрочем, русские источники отмечают появление и собственно чеченцев-торговцев в Тифлисе, Дербенте и других городах.
Несмотря на имеющиеся сложности, объем торговли через меновые дворы и соляные магазины был довольно значительным. Так, с 1811 по 1820 гг. от продажи горцам нехитрого ассортимента русских товаров (главным образом соли) было выручено свыше 358,6 тысяч рублей2.
Большие преимущества перед меновой торговлей имела ярмарочная торговля, которая способствовала быстрому развитию товарно-денежных отношений у чеченцев. Первая ярмарка на Кавказской линии состоялась в самом конце XVIII в. — в 1799 г. В ответ на неоднократные просьбы чеченцев российское командование еще в 1807 г. собиралось «.. .учредить татарский базар в Науре», что должно было активизировать торговлю. Однако первая Наурская ярмарка открылась только в 1827 г. При этом русские купцы, стремившиеся расширить торговлю с горцами, обычно завозили на ярмарки товаров больше, чем горцы могли приобрести. Так, на Моздокскую ярмарку 1829 г. поступило товаров более чем на 168 тысяч рублей, из которых остались не распроданными на сумму 129 тысяч рублей.
Такое повышенное поступление российских товаров на Северный Кавказ объяснялось во многом и тем, что горцы (в том числе и чеченцы) покупали (как правило на «звонкую монету») в десятки раз больше товаров, чем продавали сами. В целях поощрения русского капитала власти разрешали купцам право вывоза мануфактурных товаров на меновые дворы в любых объемах. Купцы селившиеся в городах и укреплениях «Передовой» Линии освобождались от целого ряда налогов и повинностей.
Несмотря на усилия властей взять под жесткий административный контроль торговые связи с горцами, развивалась и прямая беспошлинная торговля жителей русских станиц и городов с горским населением. Возле укрепленных городков возникали стихийные базары, которые охотно посещали горцы, в том числе и те, кто не имел формального
1 Акты, собранные Кавказской Археографической комиссией. Т. 4. — Тифлис, 1870. — С. 834.
2 Фадеев А. В. Россия и Кавказ в первой трети XIX в.— М., 1961. — С. 63—64.
— 54 —
Экономическое развитие
Продавец оружия (11, вклейка)
разрешения заниматься торговлей на Кавказской линии. В 20-х гг. XIX в. казаки станицы Щедринской даже построили паромную переправу, чтобы дать возможность живущим на другом берегу Терека чеченцам посещать станичный базар.
К 1839 г. около 40 тысяч горцев пришло на Линию для сбыта своих товаров, «...и звонкая монета усилилась в обращении»1.
Несмотря на известные трудности, торговые связи Чечни с окружающим миром продолжают развиваться. Если через Кавказскую линию поступали в основном русские товары (ткани, сукна, галантерея, медная и фарфоровая посуда, обувь и т. д.), то другими путями доставлялись северокавказские, закавказские, турецкие, персидские и даже западноевропейские товары. Главный торговый путь шел из Закавказья в Чечню через Дагестан: «...в Щеки привозят товары из Персии, Азербайджана, а из Щеки уже распространяются провозы товаров в Джары, Дагестан, Чечню и в Кабарды Малую и Большую. Товары эти состоят из разных бумажных и шелковых материй, парчи и шелку, кубовой краски, сахару, корицы, перцу, леденцу, кардамону и разных английских железных и стальных мелочей...»
1 См.: ГАСК. ф. 20. On. 1. Д. 8. Л. 7; Гриценко Н. П. Экономические связи России с Северным Кавказом в 40-х годах XIX в. // Известия ЧИНИИ. Т. И. Вып. 1. — Грозный, 1960. — С. 29; Чекменев С. А. Из истории меновой торговли с горскими народами на Северном Кавказе в конце XVIII — первой половине XIX в. // Из истории карачаево-Черкесии. Сер. ист. Тр. КУНШ. Вып. 6. — Ставрополь, 1970. — С. 283.
— 55 —
Глава II. Чечня в первой трети XIX в. Взаимоотношения с Российской империей
Особенно тесные экономические связи возникают между Чечней и соседним Дагестаном. Местные союзы вольных обществ, особенно Андийский, Гумбетовский, Салатавский и некоторые другие, приобретали большое количество чеченского хлеба, поставляя взамен продукты животноводства и ремесленные изделия. Признанным центром дагестано-чеченской торговли стало кумыкское селение Эндери1.
Торговля нефтью, несмотря на небольшие объемы добычи, уже тогда приносила значительные выгоды. Эти выгоды возрастали во много раз, если удачливому торговцу удавалось хотя бы на время монополизировать ее в своих руках. Так произошло в 1811 г., когда отставной корнет Диков стал практически единолично приобретать и продавать чеченскую нефть казакам. Старшины Моздокского полка в жалобе начальству указывали, что Диков торгует нефтью «...единственно в свою пользу и жителям продает дорогою ценою...» и просили «...обратить оную в полковую продажу»2.
Важное значение для чеченцев имели соляные источники, находившиеся возле селений Даттых, Мужичи и Мереджой-Берам. Так как добываемой здесь соли все равно не хватало, чеченцы завозили ее в большом количестве из соседнего Дагестана, где шамхалу Тарковскому принадлежало два соляных озера. Только в 1833 г. с шамхальских озер вывезли в Чечню 15 тысяч пудов соли. Учитывая важность для горцев этого продукта, шамхал разрешал горцам добывать соль в его владениях «беспошлинно», что вызывало недовольство кавказского командования — соль считалась стратегическим товаром, запрещенным к вывозу в «немирные» селения. В связи с этим российские власти намеревались установить свой контроль над добычей соли во владениях Тарковских шамхалов, что, помимо политических выгод, должно было приносить до 20 тысяч рублей дохода ежегодно3.
Таким образом, продукция земледелия, скотоводства и ремесел чеченской страны не только удовлетворяла внутренние потребности, но и частично шла на продажу. Причем весьма привлекательным и емким для горцев являлся русский рынок. В Чечне и вокруг нее складывалась определенная хозяйственная специализация, характерная для раннего этапа развития капиталистических отношений в Европе. На этом фоне тем более дикими и странными выглядят утверждения некоторых политикантствующих российских историков, что «набеги» являлись своеобразной «отраслью» экономики горцев, восполнявшей
2 Алиев Г. А. Торговые связи союзов сельских общин Нагорного Дагестана с Чечней (XIII — первая половина XIX вв.) // Актуальные проблемы истории дореволюционной Чечено-Ингушетии: Региональная науч. конф.: Тезисы докл. и сообщений. — Грозный, 1990. — С. 36.
2 Акты, собранные Кавказской Археографической комиссией. Т. 5. — Тифлис, 1873. — С. 844—845.
3 Там же. Т. 8. — Тифлис, 1881. — С. 102—103.
— 56 —
Этнополитическое и социальное состояние чеченского общества в первой трети XIX в.
их прожиточный минимум. И дело здесь не в некритическом повторе старых дореволюционных «военных» историков, а в современных политических реалиях взаимоотношений России и Чечни.
§ 2. Этнополитическое и социальное состояние чеченского общества в первой трети XIX века
Этнические процессы. Экономическое развитие Чечни сопровождалось и определенными изменениями в самом чеченском обществе. Еще в предыдущем веке для тех же горных чеченцев принадлежность к тому или иному родственному клану и джамаату (общине) представлялась зачастую более значимой, чем этническая идентификация. И хотя кланы и «общества» продолжали играть значительную роль — в глазах окружающих народов уже вся Чечня (и горная, и равнинная) воспринимается не как конгломерат политически независимых друг от друга и экономически мало связанных «горских землиц», а как страна, населенная одним народом, четко осознающим свою национальную принадлежность и проводящим консолидированную внешнюю политику.
До некоторой степени исключением выглядели окраинные нахские общества на западе и юге этнической территории чеченцев, которые, по словам этнографов XIX в., «неохотно признают себя чеченцами», например, бацбийцы, жители Маьлхисты и Майсты, частично карабу- лаки и жившие рядом с укреплением Владикавказ ингуши. В начале XIX в. процесс этнической консолидации еще более усилился, и этноним «чеченцы» прочно распространяется на все нахские общества, в том числе пограничные, за исключением некоторых западных (Галгай, Ангушт, Цори, Мецхал, Джейрах), положивших начало формированию
Чеченцы. Рис. 30-х гг. XIX в. (47, 189)
Глава II. Чечня в первой трети XIX в. Взаимоотношения с Российской империей
другого нахского народа — ингушского. Российские источники в этой связи указывают: «...пространство от Терека до Аксая обитаемо одним племенем... не имеющим никакого между собой политического разделения, везде то же равенство и безначалие, совершенно одни нравы, обычаи и наклонности». Интересно, что процесс национальной консолидации нашел отражение и в образовании новых территориальных единиц. Если раньше чеченская территория дробилась на земли, принадлежавшие тому или иному обществу, то теперь появилось новое деление регионального характера: Надтеречная Чечня, Большая и Малая Чечня, Горная Чечня и т. д.
Князья и владельцы земель. Народные движения второй половины XVIII в. подорвали в Чечне власть феодалов-князей, что привело к росту влияния свободного крестьянства, которое играло ведущую экономическую и политическую роль в чеченском обществе. Это не означало, что феодальная знать прекратила свое существование: изгнанные из селений Большой и Малой Чечни князья перебираются в притеречные районы, где основывают ряд новых селений под покровительством российских властей. Обширные земельные участки в этой части Чечни официально перешли в собственность князей Алхазовых, Таймазовых, Бековичей-Черкасских, Турловых. Активно переселявшиеся в Притеречье безземельные крестьяне из перенаселенных горных и старых плоскостных селений обязаны были нести ряд повинностей в пользу «владельцев» земли. Обычно, помимо уплаты формального оброка (ясак), крестьяне отрабатывали определенное количество дней на сельскохозяйственных угодьях владельцев земель.
«Владельческими» правами продолжали пользоваться и кумыкские князья, традиционно считавшиеся титулованными главами (но не собственниками) чеченских селений на Кумыкской плоскости: Энгель- Юрт, Азамат-Юрт, Амир-Аджи-Юрт, Кади-Юрт. Жители этих селений выплачивали князьям за труды по управлению и представительству во внешних связях следующую плату: по две мерки (мерка — примерно 12 литров сыпучего зерна) хлеба, по одному возу сена, по одной овце с ягненком от 100 голов со двора. Однако к началу XIX в. и эта зависимость сошла на нет.
Наличие владельцев, пользовавшихся княжеским титулом, отмечено и в некоторых горных районах Чечни. Это князья Мааш (Махша, Мааз) Зумсойский и Ахмет-хан Дышнинский. Можно, однако, предположить, что реально эти горские князья обладали не большей властью, чем сельские старшины.
Класс крупных землевладельцев состоял не только из титулованной знати. Так, селением Сарачан-Юрт владели уздени Ахшпатовы, Алдинс- кими хуторами — Тагировы, Ногай-Мирза-Юртом — Лаудаевы, Ханкалой — Базиевы и др. В Чечне эти владельцы известны как «мехк-дай» и
— 58 —
Этнополитическое и социальное состояние чеченского общества в первой трети XIX в.
«юрт-дай», а в принадлежавших им селениях жители были ограничены не только экономически, но и политически1.
Вообще в Чечне исторически существовала развитая частная собственность на землю и наряду с общинными землями имелись частные владения, включавшие не только пахотные земли, но и сенокосы, пастбища, а в некоторых случаях даже леса. Владелец земли был свободен в праве распоряжаться принадлежащими ему землями. Известные ограничения в продаже действовали только в отношении земель, считавшихся «родовыми», т. е. принадлежавшими фамилии- семье в целом. Причем частная собственность на землю была одинаково распространена как в горной, так и в равнинной Чечне. Благодаря этому многие горцы, переселившиеся на равнину, продолжали владеть участками земли в горах, которыми они могли распоряжаться по своему усмотрению, вплоть до фактической продажи. Правда, правом преимущественной покупки пользовались ближайшие родственники владельца земли2.
Безусловной частной собственностью считались земли, расчищенные от леса, разработанные на целине, созданные на голом горном склоне и т. д. Благодаря «праву первой заимки» в частные руки попадали земли, ранее не обрабатывавшиеся, что способствовало активной «внутренней» колонизации, столь характерной для Чечни конца XVIII — начала XIX вв. Общинными считались леса, пустующие и неудобные для пользования земли, пастбища и частично сенокосы.
Надо сказать, что сельские общества Чечни вынуждены были постоянно отстаивать общинные земли от посягательств усиливавшихся в общественной сфере частных владельцев. Наличие свободной купли- продажи земли позволяло отдельным собственникам сосредотачивать в своих руках крупные земельные участки. Так, некий Тагир Гаргариев, владелец Алдинских хуторов, в 1805 г. за 1 тысячу рублей серебром приобрел у Ахшпатовых участок земли окружностью в две версты3.
1 См.: РГВИА. Ф. 482. On. 1. Д. 192. Л. 157; Акты Кавказской Археологической комиссии. Т. 3. — Тифлис, 1869. С. — 215; Там же. Т. 9. — Тифлис, 1884. — С. 424; История, география и этнография Дагестана. — С. 226, 239; Тульчинский Н. П. Поземельная собственность и общественное замлепользование на Кумыкской плоскости // Терский сб. Вып. 6. — Владикавказ, 1903. — С. 60—61; Гриценко Н. П. Социально- экономическое развитие притеречных районов... Прилож. 2. — С. 186; и др.
2 П~в. Землевладение у чеченцев // Сб. сведений о Терской области. Вып. 1. — Владикавказ. 1878. — С. 268—269; Саидов И. М. Землевладение и землепользование у чеченцев и ингушей в XVIII—XIX веках // Известия Чечено-Ингушского НИИЛ Л. Т. 4, вып. 1. — Грозный, 1964. — С. 164; Хасиев С. А. Земледелие у чеченцев и ингушей в XIX — нач. XX в. Рук. канд. дис. — М., 1973. — С. 26; и др.
3 Гантемирова Г. А. Хозяйственное развитие народов Чечено-Ингушетии в первой половине XIX в. и вопросы общественных отношений // Общественные отношения у чеченцев и ингушей в дореволюционном прошлом (XIII — начало XX вв.). — Грозный, 1982. — С. 38.
Глава II. Чечня в первой трети XIX в. Взаимоотношения с Российской империей
Сакля состоятельного горца. 1-я пол. XIX в. (54, вклейка)
Чеченское крестьянство. Старшины.Несмотря на известное усиление влияния крупных земельных собственников, экономическое положение лично свободного чеченского крестьянства, именовавшего себя «узденством» (благородным сословием)1, в первой трети XIX в. остается устойчивым. Так называемые «вольные общества» успешно отражают попытки местной знати и быстро феодализирующейся прослойки старшин подчинить их себе экономически и политически. Главная угроза благополучию чеченского узденства исходила в этот период от российской колониальной политики, направленной не только на оттеснение чеченцев с наиболее плодородных земель на равнине, но и на усиление социального неравенства внутри чеченского общества, путем наделения преимуществами горской аристократии.
Дискриминационные меры, предпринимаемые российской колониальной администрацией в отношении хозяйственной деятельности горцев, прежде всего били по интересам свободного крестьянства. Линия укреплений и станиц по Тереку не только стала преградой на пути дальнейшего расселения чеченцев, но и отрезала их от зимних пастбищ на левом берегу и от соседей. От ограничений, введенных российской администрацией, серьезно страдала торговля, которой активно занимались многие чеченцы.
Вследствие того, что подавляющая часть чеченского крестьянства была сословно свободной и экономически самостоятельной (благодаря владению основными средствами производства), она считала себя принадлежащей к благородному сословию — «оьзда нах» (узденство). Чеченцы, все как один, заявляли — «мы уздени»! Это было, конечно, и формой 22 Лаудаев У. Указ. соч. — С. 14.
Этнополитическое и социальное состояние чеченского общества в первой трети XIX в.
Рядовой чеченец в своем селении. Рис. 30-х гг. XIX в. (47, 182)
социального самоутверждения, и отражением того факта, что они не покорились горским князьям. В Европе подобное явление наблюдалось, кстати, в некоторых итальянских городах-республиках и в одной из областей Испании — Стране басков: все баски, и де-факто, и де-юре (по королевскому указу), пользовались правами дворян (идальго).
Верхний слой чеченского общества, помимо небольшой по численности прослойки титулованной знати, включал сельских старшин (юрт- дай) и духовенство. Сельские старшины избирались обществами и не могли произвольно по собственному усмотрению решать важнейшие вопросы, связанные с хозяйственной и политической жизнью села или общества1 2. Тем не менее они имели ряд экономических и общественных привилегий.
Можно утверждать, что в Чечне активно развивается процесс выделения сельских и общественных старшин в отдельное сословие с характерными чертами горских феодальных владельцев. Российский исследователь С. Броневский писал, что чеченские старшины,«.. .будучи избираемы из богатейших родов и по причине частого повторения этих выборов из тех же семейств, присваивают себе права старшинские от отца к сыну наследственно»2.
1 Умаров С Ц. О позиции старшин в антиколониальной борьбе Чечни первой трети XIX века // Вопр. истории Чечено-Ингушетии. Т. 10. — Грозный, 1976. — С. 300.
2 Броневский С. П. Новейшие географические и исторические известия о Кавказе. 4.2. — М., 1823. — С. 53.
Глава II. Чечня в первой трети XIX в. Взаимоотношения с Российской империей
Рядовые горцы (54, вклейка)
Духовенство. Со времени восстания шейха Мансура в 1785—1791 гг. исламское духовенство Чечни, как и старшины, претендует на лидирующее положение в чеченском обществе.
Однако в отличие от большинства соседних областей, в Чечне муллы не располагали крупной собственностью, что существенно ограничивало их влияние. Российский исследователь А. П. Берже отмечал, что чеченское духовенство «...пришло в упадок и до появления Шамиля было бедно и невежественно; во всей Чечне не было ни одного ученого и молодые люди, возъимевшие намерение посвятить себя изучению арабского языка и Корана, отправлялись с этой целью в Чиркей, в Акушу или Казикумух. В знании грамоты заключалось единственное преимущество, какое имели чеченские муллы над своими прихожанами... Особыми же правами... они не пользовались и находились в полной зависимости от мирян»1. Однако другие данные, относящиеся к 20—30-м гг. XIX в., серьезно противоречат утверждению А. П. Берже. Муллы довольно часто выходили в разряд «первейших» людей в аулах, оттесняя старшин и землевладельцев.
Представители духовенства собирали и распределяли единый для всех мусульман налог — «закят», составлявший одну десятую часть произведенных продуктов земледелия и скотоводства, а также одну пятую часть прочих доходов. Третья часть закята принадлежала муллам и кадиям, все остальное они должны были направить на общественные нужды и на поддержку малоимущих, за чем следили наиболее уважаемые прихожане. Кроме того, представители духовенства имели право разбирать различные споры и конфликты по законам шариата. Но на-
1 Акты, собранные Кавказской Археографической комиссией. Т. 2. — Тифлис, 1868. — С. 716.
— 62 —
Этнополитическое и социальное состояние чеченского общества в первой трети XIX в.
ряду с шариатом среди чеченцев широко применялся и адат — обычное право, что ограничивало судебную власть духовенства.
Духовенство представляло собой не только самый образованный, но и самый организованный слой чеченского общества. В крупных селениях, имевших по несколько мечетей, с участием старшин и почетных людей от каждой «фамилии» (тайпа) избирался кадий, выступавший в качестве главного духовного лица. Не только остальные муллы данного селения, но и муллы расположенных поблизости небольших селений, как правило, подчинялись решениям кадия. Влияние кадиев было столь велико, что русские источники часто прямо указывают: чеченские селения управляются старшинами при участии кадиев. Наряду с «лучшими фамилиями» духовенство имеет перед чеченцами «первое уважение».
Духовенство принимало также участие в разработке и заключении внешнеполитических договоров. Например, договор между селениями равнинной Чечни и Кабардой в начале XIX в. был разработан и скреплен представителями чеченского и кабардинского духовенства1.
В отдельных чеченских обществах на должность старшин традиционно избирались представители духовенства, что позволяло им получать дополнительные доходы. Например, Герменчук в течение долгих лет управлялся местными кадиями. В Шатое осуществлявший светское управление кадий получал за это по 2 пуда хлеба и 3 фунта масла в год с каждого двора.
Социальные низы чеченского общества представляли собой феодально-зависимых и безземельных крестьян, а также небольшую прослойку лично зависимых рабов и их потомков. Безземельными в Чечне становились крестьяне, в силу разного рода причин лишившиеся принадлежащих им по праву частной собственности земель. Обычно это были крестьяне, либо продавшие свои участки, либо сдавшие их под залог и не сумевшие вовремя расплатиться со своими кредиторами. Именно безземельные и малоземельные крестьяне составляли основную массу отходников, которые ежегодно направлялись в российские пределы в поисках временной работы.
Крепостное право не получило распространения в Чечне, что вовсе не означало полного отсутствия этой категории крестьян. Российские источники указывают, что некоторые чеченские владельцы эксплуатируют лично зависимых крестьян. Так, фамилия Яндаровых владела 17 крестьянами. Как правило, это были потомки посаженных на землю рабов.
1 Ахмадов Я. 3. О роли мусульманского духовенства в общественной жизни Чечни (по материалам XVIII — первой половины XIX вв.) // Общественные отношения у чеченцев и ингушей в дореволюционном прошлом (XIII — начало XX вв). — Грозный, 1982. — С. 58—59.
Глава II. Чечня в первой трети XIX в. Взаимоотношения с Российской империей
Рабами в чеченском обществе становились обычно пленники, которые не могли быть в силу тех или иных причин выкуплены из плена. По прошествии времени пленник, к тому же принявший ислам, все же обретал свободу, имел право примкнуть к тому или иному обществу и получить в пользование общественный надел (исключительно в равнинных аулах)1. В горных аулах труд зависимых крестьян и рабов практически не применялся, так как не было сферы приложения рабского труда.
Общинное и общенациональное управление. Мехк-кхел. Главным источником власти в Чечне в начале XIX в. остается аульная община (джамаат). Крестьянские массы довольно успешно отстаивали через общину свои права. Все внутреннее управление в чеченских селениях осуществлялось «выборными стариками» во главе со старшиной. «Выборные» избирались каждой группой родственных семей или тейповых групп селения, что не позволяло старшинам сосредотачивать в своих руках чрезмерные полномочия. Еще до того как имам Шамиль создал единое горское государство, Чечня знала определенные элементы государственности (к примеру, как общенациональные и региональные собрания, общенациональное ополчение и т. д.). Определенный опыт в государственном устроении Чечни был внесен в свое время имамом Мансуром (XXVIII в.), «атаманом всей Чечни» Бейбулатом Таймиевым и шейхом Ташу-Хаджи.
Важнейшие вопросы жизни отдельных селений решались сходом жителей, «.. .на котором право делать предложения принадлежало всякому, кто выказывал желание говорить». Решения схода, в котором принимали участие, как правило, отцы семейств, были обязательными для исполнения всеми жителями аула. Именно поэтому сходы часто происходили бурно, а сторона, оказавшаяся в меньшинстве и не исполнявшая принятое решение, могла быть даже принуждена к выселению из этого селения.
Вопросы, касающиеся жизни целого общества, также решались народным собранием. Однако постепенное усложнение хозяйственной жизни, совместное владение и эксплуатация несколькими селениями тех или иных угодий, необходимость регулирования экономической деятельности, а также общие политические интересы давно уже привели к созданию коллегиального органа, призванного решать наиболее важные вопросы, касающиеся интересов всей страны. Таким органом был Мехк-кхел (Совет страны), созываемый по мере необходимости и состоявший из представителей всех чеченских обществ и селений. Причиной созыва Мехк-кхела могли быть конфликты между различными чеченскими обществами или с соседними народами и государствами, вопросы вероисповедания, необходимость обсудить и утвердить
1 См.: Лаудаев У. Указ. соч. — С. 14; Гриценко Н. П. Заметки о деятельности Абрамовской комиссии // Известия Мечено-Ингушского НИИЯЛ. Т. 6. Вып. 1. — Грозный, 1965. — С. 172; Тотоев Ф. В. Общественно-экономический строй Чечни (вторая половина XVIII — 40-е гг. XIX в.). — С. 276; и др.
— 64 —
Этнополитическое и социальное состояние чеченского общества в первой трети XIX в.
изменения в обычном праве. Мехк-кхел имел право от имени всего чеченского народа объявлять войну и заключать мир, одобрять или отвергать политические соглашения и т. д. Причем война никогда не объявлялась Мехк-кхелом без одобрения духовенства.
Место проведения собрания Мехк-кхел объявлялось заранее. В первой трети XIX в. таким местом чаще всего служило селение Герменчук. Представителями обществ и селений выступали здесь влиятельные старейшины, «бесстрашнейшие» бойцы (военные предводители) и кадии селений. «Туда же являются и молодые значительнейшие лица и входят со стариками в совещание» — говорит документ. Впрочем, как указывали наблюдатели того времени, на собраниях «...первенствуют: духовенство, владельцы и почетные старейшины из поколений; все же прочие не имеют голосу на совещаниях, они повинуются определениям старших и исполняют единодушно свое назначение». Совершенно определенно те же наблюдатели указывают на гегемонию нескольких крупных фамилий в политической жизни Чечни, влияние которых состояло прежде всего «.. .в количественном преобладании одной фамилии перед другой...». Кроме того, существенное влияние на принятие решений оказывали и экономические интересы «первенствующих племен»1.
В целом общественно-политическое положение чеченского общества было столь же пестрым и сложным, как и у всех народов Северного Кавказа. Недаром в 1824 г. один из русских чинов докладывал в Петербург, что «здешний край (Северный Кавказ. — Авт.) издавна управляется обычаями, подобными феодальному правлению средних веков в Европе...»2.
Военная организация. Влияние того или иного общества и селения зачастую напрямую зависело от количества вооруженных ополченцев, выставляемых ими в случае необходимости. Российские военные единодушно отмечали высокую боеспособность горского ополчения и постоянно указывали, что война с горцами намного тяжелее военных действий против регулярных турецких или иранских армий: «Единственные войска, которые Восток после охлаждения первого взрыва мусульманства мог противопоставлять европейцам, были всегда составлены из кавказцев... В отношении военной энергии сравнивать кавказских горцев с алжирскими арабами и кабилами... может быть только смешно. Никогда алжирцы, ни в каком числе не могли взять блокгауза, защищаемого 25 солдатами. Горцы брали голыми руками
1 См.: РГВИА. ф. ВУА. Д. 18508. Л. 3; Акты Кавказской Археографической Комиссии. Т. 6. — С. 498; Самойлов К. Указ. соч. — С. 32—35; Берже А. Я Чечня и чеченцы. — Тифлис, 1859. — С. 89; Ковалевский М. Закон и обычай на Кавказе. Т. 1. — М., 1890. — С. 77; Семенов Н. Туземцы Северо-Восточного Кавказа. — СПб., 1895. — С. 97; Саидов И. М. Этнографические заметки. Мехк-кхелл // Известия Чечено-Ингушского НИИЯЯ. Т. 4. Вып. 1. — Грозный, 1964; Тотоев Ф. В. Указ. соч. — С. 256; и др.
2 Записки Алексея Петровича Ермолова. Ч. 2. 1816—1827. — СПб., 1864. — С. 329.
— 65 —
Глава II. Чечня в первой трети XIX в. Взаимоотношения с Российской империей
Джигитовка аульной молодежи. Худ. Т. Горшельт (53, 45)
крепости, где сидел целый кавказский батальон. Они шли на картечь и штыки неустрашимых людей, решивших умереть до одного, взрывавших в последнюю минуту пороховые магазины, и все-таки — шли, заваливали ров и покрывали бруствер своими телами, взлетали на воздух вместе с защитниками, но овладевали крепостью»1.
Прекрасная индивидуальная военная подготовка обеспечивалась всем военизированным бытом чеченцев, с детских лет «приученных к оружию». Кроме того, буквально каждая семья была хорошо обеспеченна качественным огнестрельным и холодным оружием. Вооружение ополченцев состояло из кремневых винтовок, пистолетов, кинжалов и шашек. В ходу было и защитное вооружение — войлочные бурки, панцири, кольчуги, стальные налокотники, шлемы и щиты. Эти два обстоятельства в сочетании с отработанной десятилетиями тактикой превращали чеченское ополчение в грозную военную силу, способную эффективно противостоять российской армии, по праву считавшейся одной из лучших в мире.
Вместе с тем чеченское ополчение имело ряд существенных недостатков, на которые указывали те же российские военные наблюдатели. Прежде всего «...не действуют они соединенно... а каждое селение порознь под предводительством избранного общим голосом старца, тамадою ими именуемого». Кроме того, действия ополченцев носили, как правило, местный характер и ограничивались защитой собственного селения или общества. В результате чеченцам не всегда удавалось собрать в единый кулак крупные силы. Так, по расчетам российского командования,
1 Фадеев Р. Шестьдесят лет Кавказской войны. — Тифлис, 1860. — С. 24—25.
— 66 —
Русское население Северо-Восточного Кавказа; экономическая и военно-политическая роль
российских городов и крепостей
селения плоскостной и предгорной Чечни могли выставить не менее 16 тысяч бойцов, но даже после объявления всеобщего национального сбора воедино сходилось не свыше 3—4 тысяч человек1.
В целом нельзя говорить о существовании, по крайней мере в первой четверти XIX в., общечеченского государства в полном смысле этого слова, хотя необходимые предпосылки для его возникновения уже появились. В Чечне еще отсутствует управленческий государственный аппарат, нет единых государственных налогов, армии и многих других политических институтов, характерных для государства. Однако потребность создания государственной организации вполне осознавалась всем обществом, о чем свидетельствует деятельность Бейбулата Тай- миева — «атамана Чечни» и первых имамов.
§ 3. Русское население Северо-Восточного Кавказа; экономическая и военно-политическая роль российских городов и крепостей
Внешняя колонизация горских земель. В первой трети XIX в. российское правительство принимает дополнительные меры к экономическому освоению Предкавказья, без чего невозможно было удержать за собой весь Кавказ, включая и Закавказье. Важнейшим элементом государственной политики становится усиленная колонизация кавказских земель, что должно было окончательно закрепить их за империей. Однако в крепостной России было непросто найти свободные крестьянские массы для расселения в завоеванных областях на юге. Поэтому главные усилия направляются на увеличение на Северном Кавказе численности казаков и христианского населения самых разных национальностей, прежде всего армян. Так, еще в 1798 г. из Персии на Кавказскую линию были переселены 11 тысяч армянских семейств, которые основали три селения недалеко от Кизляра: Дербентское, Ка- рабаглинское (Каражалинское) и Мал ахал и некое. Однако закавказские переселенцы неохотно занимались сельским хозяйством, предпочитая торговые операции и различные виды ремесел. Значительная часть этих переселенцев не задерживалась непосредственно на Кавказской линии и перебиралась на постоянное жительство в быстрорастущие южнорусские города Причерноморья.
Рост русского населения на Северном Кавказе происходит в основном за счет переселения казачьих станиц с Дона и Волги, а также благодаря отставным солдатам, которых в соответствии с указом Екатерины II
1 См.: РГВИА. Ф. 414. On. 1. Д. 300. Л. 64—65, 69; Ф. 482. On. 1. Д. 122. Л. 42 об., 60; Материалы по истории Чечни и Дагестана. — С. 233, 285, 324; Броневский Г. Указ, соч. — С. 163—166. Акты Кавказской Археографической Комиссии. Т. 3. — Тифлис, 1869. — С. 215; Там же. Т. 9. — Тифлис, 1884. — С. 424; и др.
— 67 —
Глава II. Чечня в первой трети XIX в. Взаимоотношения с Российской империей
после завершения срока службы оставляли жить возле ставших им родными крепостей и военных укреплений. В начале XIX в. на Кавказской линии насчитывался целый ряд станиц и одна Горская команда, общей численностью приблизительно в 30 тысяч человек. Учитывая сложность переселения новых станиц, власти пытались пополнять казачьи полки за счет горцев, принимавших христианство и переходивших на русскую службу. Так, в 1823 г. в состав казачьего войска включен Бабуковский аул (будущая станица Бабуковская Волгского казачьего полка), проживавшие в районе Моздока беглые осетины и кабардинцы вошли в состав Горского казачьего полка, небольшое количество переселенцев-грузин было зачислено в Гребенской казачий полк, потомки чеченцев, когда-то переселившихся в Кизляр (так называемые «окочанские татары») были частично включены в Терское казачье войско и т. д.
Однако общее число горцев, приходящих на русскую службу, было невелико, а усиливающееся военное противостояние требовало экстренных мер по укреплению Кавказской линии. В результате власти начали форсировать переселение казачьих станиц. Так, в 1825—1827 гг. на Кавказ было переселено с Украины и Дона 11 станиц (2647 дворов, всего 8093 души). К 1830 г. образовано уже 15 новых станиц — Новогеоргиевская, Ессентукская, Кисловодская, Баталпашинская, Николаевская и др.
Потребность в новых поселенцах была так велика, что в отдельных случаях власти даже оставляли на Кавказе беглых крепостных крестьян, выдавая их прежним владельцам рекрутские квитанции. Сами казаки часто содействовали «сокрытию» беглых крестьян, которых расселяли на отдаленных хуторах и заимках и использовали в качестве дешевой рабочей силы. Так возникали целые селения, о существовании которых якобы ничего не знали местные российские власти. В 1801 г. на Кавказской линии проживало свыше 27 тысяч крестьян, и их количество увеличивалось, хотя и не очень быстрыми темпами. Слухи о том, что на новых землях государственные («казенные») крестьяне будут освобождены от податей, а принадлежавшие помещикам крепостные — от повинностей своим господам, способствовали массовым побегам крепостных крестьян, особенно в 20-е гг. XIX в. Побеги не прекратились и после того, как 12 мая 1826 г. от имени императора Николая I было официально объявлено, что все беглые крестьяне на Кавказе будут задерживаться и строго наказываться в соответствии с законами.
Переселение крестьян (даже государственных) необходимо было как-то стимулировать, прежде всего материально, чем российское правительство совершенно не занималось. Наоборот, обширные земли на Северном Кавказе передавались во владение русским помещикам, местным феодалам и высшим офицерам при условии, что в течение шести лет эти земли будут заселены. В одном только Кизлярском уезде
Русское население Северо-Восточного Кавказа; экономическая и военно-политическая роль
российских городов и крепостей
Казачий сторожевой пост свышкой на Кавказской линии. Худ. Л. Е. Дмитриев-Кавказский (56, 57)
за последние 30 лет XVIII в. и первые 20 лет XIX в. было роздано таким образом свыше 142 тысячи десятин земли. Естественно, что новые помещики предпочитали расселять на своих землях крепостных крестьян, которых они частью привозили из внутренних областей России, частью закрепощали разного рода беглый люд и рабов на месте.
Что касается непосредственно территории Чечни, то в начале XIX в. русские поселения и крепости (Кавказская линия) находились в основном на ее северной границе — по левому берегу Терека. На западе Чечни русские укрепления Владикавказ—Назрань—Моздок прикрывали Военно-Грузинскую дорогу. Начиная с А. П. Ермолова (с 1817 г.) русские военные укрепления переносятся вглубь Чечни на реку Сунжу.
Казачество. Большую часть земель по левому берегу Терека правительство передало в собственность расселенным здесь в станицах казакам еще в XVIII в. Позднее, в 1832 г., эти земли вошли в состав Кавказского линейного войска; затем Терское казачье войско вновь становится самостоятельным. Земли, дарованные войску в целом, делились между входившими в него станицами. В казачьих войсках существовало общинное землевладение и каждая казачья семья получала (по жребию) в пользование надел определенного размера. Так, в начале XIX в. в Терском, Гребенском и Моздокском полках душевой надел доходил до 50 десятин. Однако казачьи старшины «благодаря своей силе и значению» занимали дополнительно под хутора все более и более значительные пространства войсковых земель. Кроме того, казачье
Глава II. Чечня в первой трети XIX в. Взаимоотношения с Российской империей
офицерство в награду за преданную службу получало в личное владение земельные участки площадью от 100 до нескольких тысяч десятин. Чтобы урегулировать землепользование казаков, власти создали даже специальную комиссию, действовавшую с 1820 по 1853 гг., что отнюдь не остановило развитие земельного неравенства.
Особенность казачьей общины состояла в том, что она являлась не только поземельной, но и военной организацией. Помимо регулирования хозяйственной жизни станицы, казачий круг должен был обеспечивать подготовку пополнения для казачьего войска. Станичный сход производил раздел общинных земель, определял сроки посевов, уборки, сенокосов и других сельскохозяйственных работ. Казачьи войска в целом выступали в качестве крупных земельных собственников, но, наделяя казаков землей, государство требовало от них и выполнения ряда повинностей. Прежде всего, казаки обязаны были 20 лет своей жизни посвятить военной службе, в том числе: три года в подготовительном разряде, двенадцать лет — в строевом и пять лет — запасном. Причем на службу казак должен был идти со своим конем, обмундированием и вооружением.
В границах современной Чечни, на левом берегу Терека, помимо «новопоселенных» станиц, так называемых терских (Волгский и Моздокский полки), в начале XIX в. имелись «старожильческие» станицы, такие как Червленая, Старогладовская, Новогладовская, Курдюковская
Казаки в ночном секрете. Худ. А. Дмитриев-Кавказский (4, 35)
— 70 —
Русское население Северо-Восточного Кавказа; экономическая и военно-политическая роль
российских городов и крепостей
Линейный офицер казак с женой из станицы Гребенской (14, вклейка)
и Щедринская. В них проживали начиная с XVII в. так называемые «гребенские» казаки, имевшие много общих черт с чеченцами, в том числе и по происхождению. Гребенцы выставляли на военную службу в Гребенской полк до 500 всадников в полной экипировке на «горский манер». Станицы же Сунженских казачьих полков на территории нашего края сложились в 40—60-х гг. XIX в.
Кроме военной службы, казаки несли и другие повинности: по постройке дорог и мостов, по доставке почты, по предоставлению своих домов для постоя войск и т. д. В 1802 г. офицеры казачьих войск были
— 71 —
Глава II. Чечня в первой трети XIX в. Взаимоотношения с Российской империей
Казачка станицы Червленой (5, 94)
официально уравнены в чинах с офицерами регулярных войск. Позднее высшие офицеры казачьих войск могли претендовать на приобретение потомственного дворянства1.
Роль русских городов в развитии края. Центрами экономической и политической жизни на Северном Кавказе становились города, оказывавшие влияние не только на российские, но и горские области. Так продолжало не только сохраняться, но и развиваться торговое значение Тифлиса (Тбилиси), древней столицы Грузии, ставшей центром российского владычества на всем Кавказе. Здесь располагался царский
1 См.: История народов Северного Кавказа с конца XVIII в. по февраль 1917 г. — М., 1988; Ахмадов Я. 3. История Чечни с древнейших времен до конца XVII в. — М., 2001; Заседателева Л. Б. Терские казаки. — М., 1974.
— 72 —
Русское население Северо-Восточного Кавказа; экономическая и военно-политическая роль
российских городов и крепостей
Тифлис. Старый город. (53, 78)
наместник и главные войсковые и административные учреждения, здесь процветала торговля не только с народами Закавказья, но и с горцами Большого Кавказа, в том числе с чеченцами.
В первой трети XIX в. своего рода «русской столицей» на Кавказе являлся город Кизляр. Сам город рос вокруг одноименной крепости и состоял из ряда слобод: Солдатской, Армянской, Грузинской, Окочан- ской, Татарской и т. д. Позднее рядом с городом появилась и казачья станица Кизлярская. В течение долгого времени кизлярским комендантам принадлежала военная и гражданская власть на Северо-Восточном Кавказе, а в самом городе функционировали правительственные и местные учреждения, комендантское управление и канцелярии. Имея в управлении обширную территорию от Каспийского моря до Кабарды, кизлярские коменданты не только проводили в жизнь государственную политику в отношении горцев, но и от имени правительства состояли в переписке с представителями близлежащих государств.
В начале XIX в. в Кизляре насчитывалось более 5 тысяч жителей, причем для подавляющего большинства его жителей основными занятиями были виноградарство, виноделие, различные ремесла и торговля. Примерно половину жителей города составляли армяне, а одну пятую часть — выходцы из Чечни.
Через Кизлярский рынок шла значительная часть горско-русской торговли, через этот город к горцам попадали товары из России. Кроме того, Кизляр выступал как крупный центр торговли сельскохозяйственной продукцией, включая продукты животноводства и живой скот.
— 73 —
Глава II. Чечня в первой трети XIX в. Взаимоотношения с Российской империей
Кизляр в XIX в. (15, 128)
Кизляр и его окрестности являлись крупнейшим в России производителем и поставщиком корня марены, использовавшегося на фабриках в качестве красителя при производстве тканей. Начиная со второй половины XVIII в. здесь ежегодно собирали и продавали до 20 тысяч пудов сырого корня марены. Только в 1807 г. из Кизляра привезли в Астрахань корня марены на сумму в 50 тысяч рублей. В первой половине XIX в. кизлярцы придавали разведению этой культуры такое большое значение, что даже пошли на значительное сокращение площадей, отведенных под другие сельскохозяйственные культуры. Значительное количество корня марены приобреталось у горцев, причем по цене примерно в 4—8 раз заниженной.
В начале XIX в. Кизляр являлся крупнейшим в России центром виноградарства и виноделия. В 1800 г. жители города имели до 1400 виноградников, а к 1818 г. их число увеличилось до 4,5 тысяч. В 1830 г. на Кизляр приходилось более половины площадей виноградников, имевшихся в Притеречных районах: более 4,6 тысяч десятин из 8,7 тысяч десятин. Как указывали российские источники, производимого в районе Кизляра вина было достаточно, чтобы удовлетворить потребности «почти половины России». Ежегодно, в зависимости от погодных условий, кизлярские виноградники давали от 1 млн. до 2,2 млн. ведер вина и примерно 120—200 тысяч ведер виноградной водки. Расцвету виноградарства способствовало и то обстоятельство, что во время наполеоновских войн ввоз в Россию вина из европейских стран был значительно затруднен1.
В первой трети XIX в. Кавказская область производила ежегодно от 200 до 378 пудов шелка-сырца. Что касается Кизляра, то в его
1 Гриценко Н. П. Экономические связи России с Северным Кавказом в 40-х годах XIX в. // Известия ЧИНИИ. Т. 2. Вып. 1. — Грозный, 1960. — С. 24.
— 74 —
Русское население Северо-Восточного Кавказа; экономическая и военно-политическая роль
российских городов и крепостей
окрестностях в первое десятилетие XIX в. производилось до 200 пудов шелка-сырца, а в следующее десятилетие его производство доведено до 500—600 пудов, стоимостью 200—300 тысяч рублей. Всего в окрестностях Кизляра шелководством занималось приблизительно 8—10 тысяч казаков, горожан и горцев.
Кизляр вел обширную торговлю с горскими народами, а также Закавказьем. По данным за 1830 г., в горские аулы из Кизляра вывезено товаров на 116 тысяч рублей, завезено же на 141 тысяч рублей. В тот же год в Закавказье вывезено товаров на 510 тысяч рублей, завезено же на 1 млн 352 тысячи рублей.
Помимо всего прочего, Кизляр являлся еще и центром просвещения на Северо-Восточном Кавказе. Здесь действовали приходское и уездное
Русские фабричные платки конца XVIII — начала XIX вв., поступившие к горцам (из собрания Д. Ю. Чахкиева)
Глава II. Чечня в первой трети XIX в. Взаимоотношения с Российской империей
училища, а в 1829 г. открылся частный мужской «благородный» пансион. Для жителей города мусульман имелись школы-медресе.
Наряду с Кизляром, для чеченских селений, особенно притеречных, большое экономическое значение имел и Моздок. Уже в конце XVIII в. в этом городе возник гостиный двор и насчитывалось до 100 торговых лавок. Значение Моздока как торгового центра увеличилось в начале XIX в., когда Восточная Грузия была официально включена в состав Российской империи. Путь на Военно-Грузинскую дорогу пролегал через Моздок, что увеличивало его значение как торгового перекрестка: от Моздока начиналась дорога в одну сторону — на Ставрополь и далее внутрь России; в другую сторону — на Владикавказ, Тифлис, в третью сторону на Кизляр и далее на Астрахань. В первой трети XIX в. большое значение имели Моздокские ярмарки, но по мере развития Владикавказа и Ставрополя, значение Моздока начинает падать. Тем более, что город так и не стал крупным ремесленным или промышленным центром, несмотря на то что именно здесь был открыт способ промышленной перегонки нефти для получения керосина, для чего сюда стала заводиться чеченская нефть.
В 20—30-х гг. XIX вв. поднялась политическая и экономическая роль Темир-Хан-Шуры в Северном Дагестане. Здесь была построена крупная русская крепость1.
Русская крепость Темир-Хан-Шура в Северном Дагестане (11, вклейка)
1 См.: Гриценко Н. П. Города Северо-Восточного Кавказа. — Ростов-н/Д, 1984; Гантемирова Г. А. Хозяйственное развитие народов Чечено-Ингушетии в первой половине XIX в. и вопросы общественных отношений // Общественные отношения у чеченцев и ингушей в дореволюционном прошлом. — Грозный, 1982. — С. 34—37; идр.
Взаимоотношения России и Чечни в первой трети XIX в. Антиколониальная борьба
чеченского народа под руководством Бейбулата Таймиева
Для Чечни огромное значение имел перенос левого фланга Кавказской линии с Терека на Сунжу, что привело к созданию новой оборонительной линии, главным опорным пунктом которой стала крепость Грозная. Однако в первой трети XIX в. крепость Грозная являлась военно-стратегическим и административным центром, почти не играя экономической роли. Вместе с тем данная линия по Сунже значительно затруднила торговлю чеченцев с теми же русскими городами и станицами по Тереку.
§ 4. Взаимоотношения России и Чечни в первой трети XIX в. Антиколониальная борьба чеченского народа под руководством Бейбулата Таймиева
Политическое положение. Чеченцы вступили в XIX в. бесспорно «сильнейшим народом» Северного Кавказа, на что указывали сменявшие друг друга русские военноначальники. В политическом отношении Чечня представляла собой в этот период втягивающийся в некое национально-государственное устроение конгломерат «вольных обществ» и княжеских владений в Притеречной зоне, а также аульных обществ с княжеской системой управления (Аух и Качкалык) и т. д. Княжеская власть, наблюдавшаяся в некоторых районах Чечни, основывалась как на праве частной собственности феодалов, владевших обширными землями (в Притеречье), так и на выполнении общественных, управленческих и представительских функций (как в Аухе и Качка лыке). Но жители Качкалыка еще в 1804 г. отказались от услуг князей и перестали выплачивать аксайским князьям ясак. Российские власти по этому поводу констатируют: «Сии качкалыки... вышли из всякого послушания, овладев всем участком между рекой Гуйдюрмезом и левым берегом Аксая, так что они уже к области Чеченской принадлежать должны»1. При этом кумыкские княжества Северного Дагестана в первой четверти XIX в. все активнее включаются в зону политического и экономического влияния своего западного соседа.
В тех районах Чечни, где князья продолжали выступать в качестве владельцев обширных земель (Притеречье) их власть была гораздо слабее, чем, например, в феодальных владениях соседнего Дагестана или Кабарды. Российские источники постоянно подчеркивают, что и здесь терские чеченцы не дают «помещикам никакой над собой воли». Князья все еще получают один раз в год условленную меру хлеба и обговоренное количество скота от селений, считающихся подвластными им, но при этом совершенно не властны над их жителями: «Словом,
1 Цит. по ст.: Ахмадов Я. 3. Вайнахи в кумыкских княжествах // Известия Чечено- Ингушского республиканского краеведческого музея. Вып. 11. — Грозный, 1975. — С 64.
Глава II. Чечня в первой трети XIX в. Взаимоотношения с Российской империей
влияние князей на эти общества было только номинальное, сами князья в этом сознавались»1.
Еще задолго до начала XIX в. западные районы Чечни (в частности равнинные аулы Арштхоя) были полностью освобождены от кабардинского влияния. Более того, чеченцы вытеснили кабардинцев и с части течения верхней Сунжи, района Несархоя (Назрань) и далее вплоть до Владикавказа. Не случайно, что ингуши из окрестностей Владикавказского укрепления в 1807 г. обратились именно к чеченскому предводителю имаму Мохьмад-хаджи с просьбой обеспечить им поселение в районе Назрани. Чеченские предводители в этот период согласились закрепить важные в военном плане Назрановские высоты близкородственными ингушами. Такое разрешение было дано в обмен на обязательство принять ислам и вносить в пользу мечети ежегодную плату в размере рубля серебром и 2-х мер проса с каждого двора. Ингуши обязались построить мечеть и строго придерживаться мусульманской веры. Такую же по размерам сумму поселившиеся на новом месте ингуши обязались выплачивать и владельцу Большой Кабарды князю Батоко Жамботову (Бутока Джанбулатов) взявшему на себя управленческие и представительские функции в новом обществе2.
В начале XIX в. Чечня быстро усиливается в экономическом, политическом и военном отношении и стремится распространить свое влияние на соседние области. Этому частично способствовало и дальнейшее ослабление Кабарды, долгое время выступавшей в качестве гегемона на значительной части Северного Кавказа. В довершение ко всем бедам, Кабарду поразила сильнейшая эпидемия чумы, продолжавшаяся с 1805 по 1812 гг. и буквально опустошившая ее. По мнению некоторых исследователей, в результате эпидемии и бегства горцев за Кубань общая численность кабардинцев между Тереком и Кубанью сократилась едва ли не в десять раз — с 300 до 30—35 тысяч человек.
Спасаясь от чумы, часть кабардинцев переселилась и в Чечню, так как болезнь, дойдя до поселений ингушей, не распространилась далее к востоку на чеченские селения. Собственно, другого пути для миграции у кабардинцев как на восток (в Чечню) или на запад (за Кубань) не оставалось, так как русские власти стремясь не допустить распространения эпидемии распорядились полностью прекратить сообщение с Кабардой, не под каким предлогом не впускать к себе горцев, а «...в случае непослушания стрелять, приемля подъезжающих в виде неприятеля»3.
1 «Кавказ». — 2 октября 1848. — № 40.
2 Акты, собранные Кавказской Археографической комиссией. Т. 4. — Тифлис, 1870. — С. 897.
3 Там же. Т. 3. — Тифлис, 1869. — С. 52, 57.
— 78 —
Политическая карта Кавказа в XIX в. с указанием изменения границ (совр. карта, легенда на польском языке)
Взаимоотношения России и Чечни в первой трети XIX в. Антиколониальная борьба чеченского народа под руководством Бейбулата Таймиева
Глава II. Чечня в первой трети XIX в. Взаимоотношения с Российской империей
Политика Российской империи на Кавказе в начале XIX в.
По целому ряду внешнеполитических причин в конце XVIII — начале XIX вв. Россия временно ослабляет натиск на Кавказ. Старые европейские монархии и буржуазная Англия объединяют усилия для борьбы с наполеоновской Францией. С каждым годом военные действия в Европе поглощают все больше русских солдат и материальных ресурсов российского государства. Кроме того, внимание России было направлено и на войны с Турцией и Ираном. На кавказском театре военных действий главные усилия российского правительства оказались сосредоточены в Закавказье, где формальное присоединение Грузинского царства еще требовалось подкрепить мероприятиями военного характера. В короткое правление Павла I главной целью России на Кавказе было поставлено не прямое завоевание, а создание некоего кавказского федеративного государства, находящегося под российским протекторатом. Эту идею постигла та же участь, что и многие другие проекты Павла I — в тех условиях она просто не могла быть реализована.
Новый император Александр I, вступив на престол в 1801 г., пошел на прямое присоединение Грузии (в данном случае Картли-Кахети). На Северном Кавказе поначалу молодой император был настроен действовать против горцев преимущественно «лаской». В императорском рескрипте князю Цицианову, командовавшему войсками на Кавказе, указывалось на многочисленные злоупотребления российских военных и гражданских чиновников как на одну из важнейших причин напряженности в отношениях с горцами. Одновременно император требует всеми способами «...отвращать между ними (горскими народами. — Авт.) всякое единомыслие...», что должно было стать главным содержанием российской политики в отношении горцев1.
Крупные наступательные операции прекращаются, но для обеспечения удобного сообщения с вновь приобретенными владениями предпринимается инженерное строительство Военно-Грузинской дороги. Одновременно принимаются меры по укреплению подступов к самой дороге, приобретавшей для Российской империи стратегическое значение. С этой целью в 1803 г. было закончено восстановление крепости Владикавказ, а также произведено общее укрепление Кавказской линии. Большое внимание уделяется и Приморскому Дагестану, через который вел сухопутный путь в азербайджанские ханства.
Восстание горцев 1804 г. Значение Владикавказской крепости было по достоинству оценено российским правительством в том же 1803 г., когда начались волнения в Кабарде, а затем и в Осетии. В 1804 г. осетинский феодал Ахмед Дударов открыто поднялся против России
1 См.: Акты, собранные Кавказской Археографической комиссией. Т. 2. — Тифлис,
1868. — С. 9; Ахмадов Я. 3. Политическая ситуация на Северном Кавказе и положение Чечни в конце XVIII — начале XIX в. В кн.: История Чечни с древнейших времен до конца XVIII в. — М., 2001. — С. 405—410.
- 80 —
Взаимоотношения России и Чечни в первой трети XIX в. Антиколониальная борьба
чеченского народа под руководством Бейбулата Таймиева
Селение Ларе (владение Дударовых) в Дарьялском ущелье по Военно-Грузинской
дороге (6, 255)
и с помощью чеченцев, ингушей и других горцев на какое-то время даже сумел блокировать Военно-Грузинскую дорогу и прервать сообщение между Владикавказом и Тифлисом. С южной стороны Кавказского хребта действовали отряды мятежных грузинских царевичей. Активные военные действия ведутся в Кабарде и на Северо-Западном Кавказе, где российское командование стремится удержать ранее завоеванные позиции.
Восстание на Северо-Восточном Кавказе было тесно связано с событиями в Закавказье, где грузинские царевичи и правители азербайджанских ханств при иранской поддержке пытались вытеснить Россию обратно за Кавказский хребет. В 1804 г. началась русско-иранская война и правитель области Шеки Мамед-Хасан-Хан, сообщая жителям Аксая о том, что против русских выступил персидский государь Фетх-Али-шах, высоко оценивал действия горцев по блокаде Военно-Грузинской дороги: «Мы слышали, что Чеченцы, Кабардинцы и Херинцы (речь, без сомнения, идет об осетинах, которых большинство соседних горцев называют «хӀири». — Авт.) пересекли дорогу гяурам во время их движения из Моздока... Да убелит Господь Бог их лица за такой подвиг!». Указывая, что теперь в распоряжении русских войск осталась только одна дорога в Закавказье — по Приморскому Дагестану через Дербент, шекинский хан призывал дагестанцев и чеченцев перекрыть и ее. К чеченцам и другим северокавказцам с письменными прокламациями обращался и сам шах Ирана: «Теперь вы должны позаботиться о том, чтобы... заперты были все проходы, так что, если бы они (русские. — Авт.) вздумали перешагнуть на эту сторону, то были бы истреблены вами»1.
1 Акты, собранные Кавказской Археографической комиссией. Т. 2. — С. 639,821.
— 81 —
Глава II. Чечня в первой трети XIX в. Взаимоотношения с Российской империей
Фирманы иранского шаха попадали к горцам через находившегося у него на службе грузинского царевича Александра.
В Петербурге с тревогой заговорили о восстании «44-х горских народов» от Дербента до Анапы и о возможной гибели малочисленных армейских частей на Кавказе. Однако в том же 1804 г. восстание горцев быстро пошло на спад.
Большая часть Чечни, которая не представляла еще единого политического целого, не прислушалась к пожеланиям Тегерана и воздержалась от прямого участия в военных действиях против русских войск. В свою очередь в Санкт-Петербурге еще не решили для себя, какую политику следует проводить в отношении чеченцев. Так, признав, что «для спокойствия Грузии» целесообразно было бы совершенно истребить в Закавказье лезгин, канцлер граф Воронцов от имени императора запрашивал генерала Цицианова в отношении чеченцев: «...какой способ имеется об усмирении или также истреблении их?»
Сам характер запроса говорит о том, что в российской столице плохо представляли себе положение на Кавказе. Цицианов, понимавший, что имевшимися в его распоряжении войсками невозможно не только «истребить» всех горцев, но и предпринять успешное наступление вглубь гор, рекомендовал в отношении чеченцев ограничиться набегами «...на их равнины (кои не могут представлять столько опасности) летом для отнятия способа жать хлеб, стравливая его, а зимою и осенью для захвату скота без выкупу суть самовернейшие средства к усмирению сих хищников, от оплошности наших войск новую храбрость и новую дерзость приобретающих, к стыду войска Российского»1.
Лишь нехваткой вооруженных сил России на Кавказе можно объяснить то обстоятельство, что против чеченцев карательные экспедиции направляются лишь изредка. Во время одной из таких экспедиций среди особо отличившихся в составе русских войск генерал Глазенап назвал и чеченца по происхождению прапорщика А. Чеченского2, будущего генерал-майора русской армии и героя Отечественной войны 1812 г.
Наступление России на Чечню. Успешно подавив в 1804 г. выступления в Кабарде, Осетии и Дагестане, командование Кавказской линии готовится к тому, чтобы предотвратить дальнейшее усиление Чечни в северокавказском регионе. К этому побуждали и обстоятельства внешнеполитические: русско-иранская война происходила при одновременном ухудшении российско-турецких отношений. Готовясь к войне с Россией, Турция также стремилась привлечь на свою сторону кавказских горцев, в том числе и чеченцев. Резкая активизация
1 Акты, собранные Кавказской Археографической комиссией. Т. 2. — Тифлис, 1868. —
С. 761—762.
2 Там же. — С. 942.
Взаимоотношения России и Чечни в первой трети XIX в. Антиколониальная борьба
чеченского народа под руководством Бейбулата Таймиева
турецкой агентуры не осталась незамеченной, и новый командующий Кавказской линией И. В. Гудович в июне 1806 г. лично прибыл к границе Чечни где должен был состояться съезд представителей 104 чеченских селений. Целью генерала было предупредить готовившиеся нападения чеченцев на российские укрепления.
Было бы неверно связывать усиление нападений горцев на Кавказскую линию с какой-то протурецкой или проиранской ориентацией чеченских старшин. И без турецкой агитации у чеченцев имелось достаточно причин, чтобы оказывать сопротивление российской колониальной экспансии. Это прекрасно понимали и в Петербурге. Еще первые российские кавказоведы подчеркивали, что горцы проводили свою собственную политику, стремясь использовать военное давление для того, чтобы добиться определенных уступок со стороны России. И в данном конкретном случае чеченцы стремились использовать ухудшение российско-турецких отношений для укрепления своих позиций по отношению к России, для чего и усилили набеги на российские укрепления и казачьи станицы.
Следует быть отмеченным, что набеги российских войск на горские аулы на протяжении XVIII—XIX вв., именовавшиеся «репрессалиями» и «экспедициями», были куда чаще и масштабнее. При этом дело не ограничивалось захватом пленных и скота; уничтожались посевы, вырубались сады, а аулы сжигались дотла. В глазах горцев, никогда не губивших сады, посевы и дома своих врагов, такие действия представлялись дикими, кощунственными. Поэтому российское командование, стремившееся военными экспедициями и мерами экономического давления принудить Чечню «к полной покорности», получало совершенно обратные результаты.
Одновременно кавказское командование делало все возможное, чтобы изолировать чеченцев от соседей, для чего горским народам прямо запрещалось иметь с ними какие-либо сношения: торговые, политические или военные. Так, еще до начала восстания 1804 г. российские военные власти с раздражением отмечали, что Аксайское и Андреевское общества кумыков «...не престают иметь сношение с соседями своими хищными чеченцами...», а осетины-тагаурцы «...имеют у себя много лезгин и чеченцев». Однако попытки оказывать давление на соседей чеченцев часто приводили к прямо противоположному результату. Так, в апреле 1805 г. аксаевские владельцы сообщили, что жители восьми подвластных им селений приняли решение переселиться в Чечню1.
Дипломатический демарш И. В. Гудовича на съезде чеченских представителей окончился провалом — в 1806 г. отмечен целый ряд нападений на Кавказскую линию. Стремясь «умиротворить» Чечню
1 Акты, собранные Кавказской Археографической комиссией. Т. 2. — Тифлис, 1868. — С. 937, 944,1019.
Глава II. Чечня в первой трети XIX в. Взаимоотношения с Российской империей
до начала русско-турецкой войны, российское командование уже в ноябре 1806 г. начало подготовку большой военной экспедиции, тем более, что по сообщениям лазутчиков, в самой Чечне собиралось десятитысячное чечено-дагестанское ополчение, готовившееся к активным действиям на русской границе на протяжении от Кизляра до Моздока. Численность российских регулярных войск на Левом фланге доводится до 26590 человек1. В этом положении противников застало известие о начале войны с Турцией. Основной театр военных действий приходился на Северо-Западный Кавказ, где главной целью русских была турецкая крепость Анапа, которую предстояло штурмовать во второй раз после 1791 г., когда здесь попал в плен горский имам шейх Мансур.
Экспедиция генерала Булгакова. Сражение в Ханкале. Командование Кавказской линии в начале 1807 г. решило ускорить проведение давно намечаемой экспедиции на Чечню, чтобы обезопасить свои тылы в ходе операций на правом фланге Кавказской Линии. С этой целью образуется 10-тысячная группировка под командованием генерала Булгакова. 12 февраля 1807 г. российские войска вступили в Чечню и двинулись по направлению к Ханкальскому ущелью, где произошло ожесточенное сражение с чеченским ополчением. Отрапортовав об одержанной «победе», генерал Булгаков в конце того же донесения жалко признается: «По многим скопищам врагов меня окружающих я не решаюсь представить Вашему Сиятельству сего... донесения с моим нарочным, но препровождаю сие... с преданным нам чеченским владельцем»2. Пу существу генерал со всем своим воинством был заблокирован в Чечне.
Ханкальское сражение, воспетое в чеченской песне, переведенной русским офицером в 1856 г., было первым крупным сражением начала XIX в., где российской армии противостояло чеченское общенациональное ополчение с единым руководством. Пологое ущелье, заросшее лесом, было перекрыто рвом, за которым шла глубоко эшелонированная оборона из системы завалов, блокгаузов и окопов. Овладеть ими войскам удалось после ожесточенных и упорных рукопашных схваток, в которых обе стороны понесли значительные потери. Чеченское войско показало не только высочайшую храбрость и упорность, но, что важнее, высокую дисциплину и организованность, позволившую им буквально перемолоть регулярные силы и уйти с поля боя непобежденными, с высоким состоянием морального духа.
В течение месяца российский отряд медленно продвигался по Чечне, сжигая отдельные селения и терпя жестокие потери от нападений чеченцев, перешедших к тактике засад и нападений на пути передвижения
1 Акты, собранные Кавказской Археографической комиссией. Т. 3. — Тифлис,
1869. — С. 86.
2 Там же. — С. 665—666.
Взаимоотношения России и Чечни в первой трети XIX в. Антиколониальная борьба
чеченского народа под руководством Бейбулата Таймиева
русских полков. 18 марта 1807 г. генерал Булгаков отвел свои сильно потрепанные войска с чеченской территории, так и не сломив сопротивления чеченцев. И. В. Гудович в донесении от 14 апреля 1807 г. уверял, что над чеченцами одержана победа, а понесенные войсками серьезные потери оправдывал тем, что «...при наказании чеченцев — неприятеля отчаянного, защищавшего себя с необычайною твердостью и зверством, нельзя было не иметь некоторого урона как в офицерах, так и в нижних чинах...».
Несмотря на оптимистические рапорты генералов, а также последовавшее вскоре перемирие и согласие части равнинных чеченских селений выдать заложников, российское командование сочло поход Булгакова неудачным. Это мнение подкреплялось еще и тем обстоятельством, что к участию в экспедиции не удалось привлечь кабардинскую милицию. И. В. Гудович писал по этому поводу: «Крайне сожалею, что кабардинцев не пришлось употребить в настоящее дело с чеченцами, ибо вся цель моя была та, чтобы поссорить эти два народа между собой, поселить между ними вражду и этим самым со временем их ослабить»1.
Кабардинские князья и уздени и в последующие годы всячески старались уклониться от участия в античеченских экспедициях российских войск. Так, объясняя свой отказ от участия в очередном походе против чеченцев, кабардинские представители в 1810 г. заявляли: «Чеченский народ после изнурения нашего есть гораздо нас сильнейший, неукротимость которого генерал Булгаков испытал в 1807 г. со всеми его силами».
Более того, в последующие годы чеченские общества и кабардинские владетели объединяются для оказания отпора российским колониальным устремлениям. Так, в 1809 г. генерал Тормасов докладывал, что кабардинцы и чеченцы «.. .прекратили всякую вражду и сделали между собою условие единодушно действовать во вред России. Причиною же сего всеобщего вооружения не что иное, как напряжение Порты Оттоманской возбудить их против нас...»2.
Неудача Булгакова, а главное — полоса длительных внешних войн, в том числе и в Европе, надолго сковали активность России на Кавказе. Операции российских войск против горцев, в том числе и чеченцев, носят довольно ограниченный характер. Не имея в своем распоряжении достаточно военных сил, кавказское командование активизирует усилия по привлечению на свою сторону виднейших чеченских старшин и предводителей. Летом 1807 г. старшина Хаджи-Реджеб Кандауров по поручению генерала И. В. Гудовича объехал двадцать чеченских селений, пообещав местным старшинам значительное денежное вознаграждение,
1 Акты, собранные Кавказской Археографической комиссией. Т. 3. — Тифлис,
1870. — С. 667.
2 Там же. Т. 4. — Тифлис, 1870. — С. 823.
Глава II. Чечня в первой трети XIX в. Взаимоотношения с Российской империей
в случае если жители их аулов «изъявят покорность». Из его донесений следует, что старшины, в том числе и Бейбулат Таймиев, выразили согласие принять российское покровительство и выдать аманатов, но только после того, как получат обещанные деньги. При этом Бейбулату и другому предводителю Чулику были обещаны офицерские чины и жалование, «...если они успеют в вспомоществовании... к склонению чеченцев в покорении России...». Как признавал И. В. Гудович, в наибольшей степени к миру чеченцев привлекло обещание разрешить им свободно и беспошлинно торговать на Кавказской линии1.
Начало восхождения Бейбулата Таймиева. Как уже говорилось, начало XIX в. характеризуется возросшим влиянием в Чечне сословия старшин, наиболее ярким представителем которого был Бейбулат Таймиев, о первом периоде жизни которого в российской и советской историографии содержатся довольно противоречивые сведения. Предполагается, что он родился приблизительно в 1779 г. в одном из плоскостных селений Чечни. Русский кавказовед В. А. Потто считал родиной Б. Таймиева селение Гельдаген, рядом с которым позже находились принадлежавшие ему хутора. Чеченский этнограф А. Сулейманов зафиксировал в окрестностях селения Хьочен-Аре несколько топонимов, связанных с именем Бейбулат.
Горец с пленным офицером (возвращение с набега). Худ. П. Соколов (53, 169)
1 Акты, собранные Кавказской Археографической комиссией. Т. 3.— С. 671.
— 86 —
Взаимоотношения России и Чечни в первой трети XIX в. Антиколониальная борьба
чеченского народа под руководством Бейбулата Таймиева
Известность пришла к молодому Б. Таймиеву в конце сентября 1802 г., с похищением полковника И. П. Дельпоццо (впоследствии генерал-майор, комендант крепости Владикавказ и командующий войсками на Кавказской линии). За его освобождение похитители требовали 20 тысяч рублей серебром, и российский офицер провел в плену больше года, пока шли трудные переговоры об условиях выкупа. Все это время И. П. Дельпоццо содержался в крайне тяжелых условиях в селении Герменчук. По сообщениям одного из посредников, который посетил пленника: «Перед ним был не человек, а скелет. Тяжелые оковы висели на руках и ногах его; на шею надето было толстое железное кольцо с огромным висячим замком, и от этого кольца тяжелая цепь продета была сквозь стену сакли и укреплена снаружи к толстому и прочному столбу. Постелью Дельпоццо служил изорванный лоскут овчины, брошенной на голом полу, а одежды на нем не было почти никакой. Старик, как рассказывал потом Алиханов, то плакал, как ребенок, то, ободрившись, шутил над оковами и говорил о превратности судьбы человеческой».
Российское командование привлекло к переговорам об освобождении И. П. Дельпоццо горских посредников, в частности шамхала Тарковского и джаро-белоканских «лезгин», восстание которых было жестоко подавлено как раз во время описываемых событий. Лезгинам было предложено освободить И. П. Дельпоццо своими силами, за что российское командование обещало отпустить до 100 лезгин, захваченных в плен во время восстания. В конечном итоге командованию Кавказской линии пришлось согласиться на уплату выкупа, но одновременно оно решило примерно наказать чеченцев, прежде всего те селения, через которые проехали похитители И. П. Дельпоццо со своим пленником. За Терек были посланы войска, которые отогнали у чеченцев в общей сложности более 1500 голов крупного рогатого скота, лошадей и другой скот. Сумма, вырученная от реализации этой разбойничьей добычи, и была уплачена в качестве выкупа1.
Захват заложников широко практиковался у всех горцев Северного Кавказа, как один из способов приобретения военной добычи или принуждения к выполнению тех или иных договоренностей. Тот же И. П. Дельпоццо, побывавший в чеченском плену, писал летом 1805 г. князю Цицианову: «Дагестанцы, кумыки, чеченцы, тагаурцы, дигорцы, ингуши и прочие другие горские народы пленников наших русских, грузин и прочих христиан и нехристиан, продают кабардинцам, которые... [их] отвозят в турецкий город Анапу для продажи туркам.. .»2 Сами российские власти также практиковали заложничество, отбирая аманатов от горских селений, на чью верность они не полагались.
1 Колосов Л. Н. Славный Бейбулат: Историко-биографический очерк. — Грозный, 1991. - С 158.
2 Акты, собранные Кавказской Археографической комиссией. Т. 2. — С. 973.
— 87 —
Глава II. Чечня в первой трети XIX в. Взаимоотношения с Российской империей
Захваченных в экспедициях в плен горцев также могли обменять или вернуть родственникам за выкуп; широко практиковалось и получение выкупа за трупы горцев. В том же Кизляре функционировал крупнейший невольничий рынок.
После мирных переговоров 1807 г. жители ряда чеченских селений согласились принять у себя «приставов» (по существу наблюдателей) от российских властей, причем их кандидатуры чеченцы определяли сами. В селении Старые Атаги приставом стал брагунский князь Кучук Таймазов, в Новых Атагах — аксайский владелец Муса Хасаев, в Ге- хах — майор Бамат Бекович-Черкасский. Однако уже в феврале 1809 г. стало известно, что все чеченские селения, ранее объявившие о своем «подданстве», нарушили обещания1.
В ноябре 1807 г. Бейбулат Таймиев, сыгравший видную роль в организации сопротивления экспедиции Булгакова, в первый раз присягнул на верность российскому императору, за что был пожалован чином подпоручика. В декабре того же года он вместе с другими чеченскими старшинами совершил официальную поездку в Тифлис. Надо сказать, что время от времени командование Кавказской линии прибегало к денежным выплатам предводителям чеченцев, рассчитывая таким нехитрым способом купить их лояльность. Интересно, что зачастую средства, затрачиваемые на подкуп чеченской верхушки, по распоряжению командования собирались «от их же деревень». Например, в 1811 г. для старшин чеченских селений по правому берегу Терека с местных жителей было собрано 1400 рублей.2
Чеченские предводители, как правило, охотно принимали деньги и офицерские чины, что, однако, не всегда гарантировало их верность. Тот же Б. Таймиев, состоя на российской службе и получая офицерское жалование, не только не оказывал ожидаемых от него услуг, но, напротив, по донесениям лазутчиков, активно участвовал в подготовке нападений на российские укрепления. Таким образом, отношения с российским военным командованием Б. Таймиев стремился использовать для упрочения своего собственного влияния в Чечне. Его истинные цели, конечно же, не были большим секретом для военной администрации, которая, не имея достаточно сил для эффективного сдерживания чеченцев, вынуждена была постоянно прибегать к услугам представителей чеченской верхушки. Именно поэтому изгнанному с российской службы Б. Таймиеву в 1811 г. вновь предложено вернуться на службу.
Ингушский вопрос в российско-чеченских отношениях. Российское командование предпринимало немало усилий по использованию в своих интересах противоречий и конфликтов, постоянно возникавших
1 Акты, собранные Кавказской Археографической комиссией. Т. 3. — С. 676—677.
2 Там же. Т. 4. — С. 904.
Взаимоотношения России и Чечни в первой трети XIX в. Антиколониальная борьба
чеченского народа под руководством Бейбулата Таймиева
между северокавказскими народами. Зачастую такие конфликты и прямо провоцировались. Так, для безопасности Владикавказского укрепления и охраны немалого участка Военно-Грузинской дороги большое значение имело обеспечение лояльности со стороны ингушей. Коменданты Владикавказа состояли в постоянных контактах с поселившимися в местечке Назрань ингушами и провоцировали их старшин прибегнуть к российской помощи, чтобы избавиться от «претензий» своих сильных соседей — чеченцев и кабардинцев. В июле 1810 г. ингуши, по предварительной договоренности с генерал-майором Ивеличем, вместо оказания помощи, согласно условиям их водворения в Назрани, отрезали пути отступления кабардино-чеченскому отряду, совершенно ослабленному в результате неудачного нападения на крепость Владикавказ. В ходе внезапной стычки с ингушами отступающая «партия» потеряла 51 человек убитыми.
Опасавшиеся мести за это нападение ингушские старшины теперь вынуждены были открыто просить помощи у коменданта Владикавказа, которому пообещали «...истребить мечети и выгнать от себя мулл Мухамеданского закона, проповедников и учителей». Ответное нападение чеченцев и кабардинцев на Назрань было отбито своевременно высланным сюда из Владикавказа русским военным отрядом, состоявшим из пехоты и казаков при поддержке трех орудий. Часть солдат была оставлена при Назрани, где стало строиться укрепление.
Таким образом, было положено начало постоянному военному присутствию российских войск в районе Назрани. Командующий Кавказской линией генерал Тормасов сообщал в Санкт-Петербург: «...я вознамерился, воспользовавшись враждою двух народов, преклонить ингушевцев на вечное подданство...» 22 августа 1810 г. во Владикавказе ингушские представители приняли присягу на подданство России. Весной 1811 г. строится новая крепость — Назрановское укрепление, рассчитанное на один батальон пехоты, 3 орудия и 150 казаков. Как откровенно писал И. П. Дельпоццо, задача нового укрепления состояла не столько в том, чтобы препятствовать чеченцам безнаказанно нападать на Военно-Грузинскую дорогу, сколько надзирать за самими ингушами1.
Владикавказские коменданты предпринимают также постоянные усилия, чтобы обратить ингушей в православие. За период с 1822 по 1825 гг. было крещено 2602 человек. Позже сами ингуши (в 1842 г.) жаловались военному министру Чернышову, что были крещены «.. .мерами насильственными и обольстительными». До 700 назрановцев тогда же заявили о своем желании вновь вернуться в ислам, что встретило резкие возражения российских чиновников. К так называемым
1 Акты, собранные Кавказской Археографической комиссией. Т. 4. — С. 886—898, 902.
Глава II. Чечня в первой трети XIX в. Взаимоотношения с Российской империей
«вероотступникам» власти применяли самые суровые меры, вплоть до ареста и высылки1.
Политика России в отношении Чечни в 1810—1816 гг. Одновременно с созданием Назрановского укрепления военный комендант Владикавказа полковник И. П. Дельпоццо построил передовое укрепление на переправе через Сунжу и задолго до Ермолова выдвинул план строительства новой линии крепостей, постепенно продвигая ее вниз по течению Сунжи вглубь Чечни: «...таким образом постепенно и по времени составиться может граница по Сунже до самого Терека; в тогдашнее время как чеченцы, равно и... за Тереком живущие народы будут разделены и чеченцы обезсилены; в тогдашнее время чеченцы необходимо принуждены будут покориться...» Предложение И. П. Дельпоццо было отклонено только потому, что на Левом фланге не оказалось достаточных сил для его реализации2.
Несмотря на то, что в официальной дипломатической переписке со странами Европы и Востока российские власти всегда заявляли о «покорности» кавказских горцев, во внутренних донесениях, поступавших с Кавказа в Санкт-Петербург, о тех же чеченцах откровенно сообщается, что они «никому не подвластны». Как признавали позднее сами российские военные, «...масса чеченского населения, раскинутая у подножия Черных гор за Сунжей, по Аргуну и многим другим притокам, убежденная в неприступности своих аулов, закрытых густыми лесами ...об изъявлении покорности вовсе не думала и колебалась только в выборе системы борьбы: обороняться ли при движении русских за Сунжу или самим нападать на них?»3
Исключение составляли только Надтеречные чеченцы, селения которых находились в непосредственной близости от русских укреплений, по существу, отделенных от них только течением реки. Постоянное военное давление вынуждало их считаться со своими опасными соседями. В свою очередь российские власти стремились всячески укрепить собственное влияние по правому берегу Терека. Командование даже поощряло переселение сюда чеченцев из внутренних районов Чечни, не без основания считая, что здесь они будут находиться под постоянным контролем. Так, в апреле 1811 г. генерал Тормасов разрешил чеченцам селиться на свободных землях «кумыкских владельцев» (в данном случае чеченских. — Авт.) вдоль Терека, при условии, что переселенцы выдадут аманатов и будут возмещать казакам убытки от набегов партий, которые пройдут рядом с их селениями4.
2 Такоева К Миссионерство в системе колониальной политики царизма на севере Кавказа // Революционный Восток. — 1936. — № 2—3. — С. 59,60.
2 Акты, собранные Кавказской Археографической комиссией. Т. 4. — С. 830, 902.
3 Зиссерман А. История 80-го пехотного Кабардинского генерал-фельдмаршала князя Барятинского полка. 1760—1880. Т. 1. — Спб., 1881. — С. 342.
4 Акты, собранные Кавказской Археографической комиссией. Т. 4. — С. 905.
— 90 —
Взаимоотношения России и Чечни в первой трети XIX в. Антиколониальная борьба
чеченского народа под руководством Бейбулата Таймиева
Естественно, что очередная русско-турецкая война 1809—1812 гг. вызвала обострение ситуации в Чечне. Верные своему правилу использовать внешнеполитические затруднения России с выгодой для себя, чеченские лидеры активизируют нападения на Кавказскую линию. Русские лазутчики летом 1809 г. сообщали о появлении в чеченских селениях фирмана турецкого султана, с предложением восстать и обещанием помощи порохом, свинцом и оружием. «Возмущали народ» также три посланца от мятежного грузинского царевича Александра. Характерно, что нападения чеченских партий приходятся на населенные пункты, расположенные на значительном удалении от Чечни. Так, в декабре 1809 г. нападению подверглось село Приближное, находящееся рядом с укреплением Прохладное в Большой Кабарде. Среди захваченной чеченцами добычи военные называют 20 пленников и много скота. И. П. Дельпоццо считал, что это нападение стало возможным благодаря тайной поддержке, которую чеченцы имели со стороны местных кабардинцев, недовольных отнятием у них земель.
Постоянным объектом нападений служила Военно-Грузинская дорога, передвижение по которой стало весьма опасным занятием: «...целая рота и пушка не всегда обеспечивают от нападения чеченцев». Внешние обстоятельства не позволяли России наращивать свое военное присутствие на Северном Кавказе, а потому военный министр М. Б. Барклай де Толли рекомендовал командующему Левым флангом активнее использовать методы экономического давления на чеченцев. В частности, он указывал на важность «...завладения соляными озерами близ города Тарку, по влиянию на лезгинов и чеченцев, заимствующих нужную для них оттоль соль...»1. Но лучшим средством для сдерживания чеченцев оказалось ослабление торговых ограничений в отношении производимых в Чечне товаров. 1812 год, потрясший Россию вторжением армии Наполеона, отмечен на Кавказе съездом чеченских старшин в Моздок для переговоров с российским командованием и оживлением чеченской торговли на Кавказской линии.
Царевич Александр. Несмотря на настойчивые попытки грузинского царевича Александра Багратиони воспользоваться тяжелым положением Российской империи и организовать крупное выступление в Грузии и на Северо-Восточном Кавказе, чеченцы (за исключением некоторых высокогорных обществ) отказались поддержать его. Сам царевич уверял закавказских правителей, что на Северном Кавказе к нему готовы присоединиться до 80 тысяч горцев и для организации немедленного восстания требуются только деньги. Это потрясающее по своей амбициозности заявление строилось на донесениях его собст¬
1 Акты, собранные Кавказской Археографической комиссией. Т. 4. — С. 891—892; Там же. Т. 5. — С. 37.
Глава II. Чечня в первой трети XIX в. Взаимоотношения с Российской империей
венных агентов. Последние в марте 1813 г. уверяли царевича Александра, что «...из одной только Чечни прибудут к Вам 8000 отборных людей», а из Дагестана — более 40 тысяч. Складывается впечатление, что царевич и его агенты стремились «выкачать» из своих зарубежных покровителей как можно больше денег, передавая завышенные сведения о числе готовых к восстанию горцев и о набегах на Кавказскую линию: «Чеченцы говорили, что они вместе явятся к Вам и что они в прошедшую зиму 3500 лошадей отогнали у русских и 500 пленных, коих мы сами видели». Одновременно среди горцев распускали слухи о том, что французские войска остаются в России, российский император бежал в сторону Казани и просит мира у Наполеона1.
В рапортах командующего Кавказской линией генерала Ртищева и других донесениях подчеркивается ограниченный характер поддержки царевича Александра чеченцами и другими горцами. Под влиянием хевсуров только живущие рядом с ними «кистинцы» (верхнеаргунские чеченцы) согласились принять царевича. Удачное наступление русских войск в горы, со стороны равнин Грузии, привело к разгрому хевсурс- ких селений, жители которых были настолько далеки от времени, что сражались в средневековых защитных доспехах (что вызвало немалое изумление у русских офицеров — участников похода). Поражение хевсур сказалось на отношении горных чеченских обществ к Александру: «Чеченцы, к которым он намеревался прибегнуть под покровительство,
Вооруженный горец. Худ. Т. Горшельт (53, 134)
1 Акты, собранные Кавказской Археографической комиссией. Т. 5. — С. 370, 373.
— 92 —
Взаимоотношения России и Чечни в первой трети XIX в. Антиколониальная борьба
чеченского народа под руководством Бейбулата Таймиева
услыша о приближении российских войск... с неожидаемой ими стороны, вовсе отказались его принять...» Какое-то время царевич все-таки скрывался в горной Чечне, в местности Чантети (вероятно, общество Чанти. — Авт.), где помощь ему оказывал старшина Махмад Алдишвили (Алдамов? — Авт.): «Он пробыл здесь 5 дней, голодный...» Дагестанские и чеченские селения отказывались принимать у себя грузинского царевича, и когда он попробовал направиться в Дагестан, его ограбили по пути1.
Ситуация в регионе в период борьбы России с Наполеоном. Не
пожелав активно поддержать выступление царевича Александра, чеченцы и другие горцы в то же время не высказали желания участвовать в горском ополчении, собираемом российским командованием для борьбы с вторгшимися в Россию французами. В целом предводители чеченцев, оценивая сложившуюся ситуацию, не посчитали ее выгодной для обострения отношений с Россией. В мае 1812 г. вполне благоприятным для России Бухарестским миром завершилась русско-турецкая война. Было уже очевидно, что удачным для России будет и итог войны с Ираном. Что касается большой европейской войны, то она происходила слишком далеко от Кавказа, а потому неудачи русской армии летом 1812 г. не могли сразу же отразиться на положении дел вдоль Кавказской линии. Тем более, что войска Кавказского корпуса оставались на месте. Кроме того, на Кавказе свирепствовала чума, в отдельных местностях разразился голод, и мусульманское духовенство настоятельно советовало в этих условиях воздержаться от нападений на Кавказскую линию.
Мирную паузу наиболее влиятельный из чеченских лидеров Бей- булат Таймиев попытался использовать для того, чтобы укрепить свое положение. Формально состоя на русской службе и проведя в 1811 г. несколько месяцев в Тифлисе, по возвращению в Чечню он начал переговоры с аварским владетелем 1Иах-Али-ханом о создании военного союза. Вскоре аварский хан прислал в распоряжение Б. Таймиева вооруженный отряд. Можно предположить, что чеченский тамада при помощи аварского хана пытался, в первую очередь, утвердить себя в качестве полноправного правителя если не всей, то большей части Чечни.
Разгром армии Наполеона, а также удачное завершение для России русско-турецкой (1812 г.) и русско-иранской (1813 г.) войн создали условия для активизации российской экспансии на Кавказе. Уже в январе 1813 г. отряд полковника Эристова, переправившись с севера через Терек, совершил нападение на чеченское селение, расположенное напротив станицы Шелкозаводской. В том же году, во время подготовки Гюлистанского мирного договора с Ираном, российские представители добивались, чтобы иранская сторона признала Северо-Восточный
1 Акты, собранные Кавказской Археографической комиссией. Т. 5. — С. 375,532.
— 93 —
Глава II. Чечня в первой трети XIX в. Взаимоотношения с Российской империей
Кавказ. Возвращение с набега. Неизвестный худ. 1-й пол. XIX в. (54, вклейка)
Кавказ и земли Северного Азербайджана «...неоспоримо принадлежащими Российской империи»1, что должно было в известной степени легитимизировать захватническую политику России в отношении населявших этот край народов.
Относительное спокойствие на Северо-Восточном Кавказе сохраняется до конца 1816 г. Только после европейского урегулирования и завершения работы Венского конгресса российское правительство вновь решило открыть наступательные действия на Кавказской линии. Объясняя свое решение окончательно присоединить Кавказ, император Александр I заявлял: «Все дело в англичанах. Они стерегут нас. Не мы, так они утвердят там свое влияние». Впрочем, в основе кавказской политики России лежало не столько соперничество с Англией, Турцией и Ираном, сколько интересы колониальной эксплуатации вновь присоединенных земель.
Новый этап наступления России на Кавказе. Назначение
А. П. Ермолова. В апреле 1816 г. новым командующим Кавказским корпусом, а по существу, наместником Кавказа, был назначен генерал- лейтенант А. П. Ермолов, которому предстояло сыграть видную роль в событиях, приведших к Кавказской войне. Его вступлению в новую должность предшествовал инцидент, имевший большой общественный резонанс в России: 6 февраля 1816 г. возле Кизляра захвачен в плен чеченцами один из самых популярных офицеров Кавказского корпуса майор П. Швецов. Доставленный в селение Старые Атаги, пленник был закован в кандалы и помещен в яму, где провел более года. За него потребовали вызывающе большой выкуп, что говорит о сугубо политической подоплеке акции. Российские власти подозревали Бейбулата Таймиева
1 Акты, собранные Кавказской археологической комиссией. Т. 5. — С. 669.
— 94 —
Взаимоотношения России и Чечни в первой трети XIX в. Антиколониальная борьба
чеченского народа под руководством Бейбулата Таймиева
в причастности к этому похищению, хотя и не могли утверждать это со всей уверенностью. Чтобы выкупить П. Швецова из плена, через российские газеты был даже объявлен сбор пожертвований.
Новый командующий Кавказским корпусом А. П. Ермолов, прибывший на Кавказ в 1817 г., хотя и считал, по его собственному выражению, уплату выкупа «неприличным», все же вынужден был согласиться на него. Но, как и в случае с освобождением И. П. Дельпоццо, российское командование «собрало» средства для выкупа с чеченских селений совершенно непричастных к данной акции. Всего грабительскими набегами «...с подкреплением движения 6 рот егерей, 350 казаков и 4-х орудий и арестом 4-х старших и сильнейших старшин и владельцев и содержанием их в Кизлярской крепости»1 было «взыскано» 11 тысяч рублей серебром.
К моменту прибытия А. П. Ермолова общая численность российских войск на Кавказе составляла 56 тысяч человек при 132 орудиях, включая 12 тысяч казаков. После первого же знакомства с состоянием войск и крепостных сооружений новый командующий запросил у Петербурга дополнительно три пехотных полка, две роты артиллерии, а также еще 14 тысяч рекрутов для укрепления закавказских гарнизонов. Таким образом, общая численность войск должна была сразу же увеличиться на 26 тысяч человек. Небезынтересно отметить, что А. П. Ермолов в письмах к императору отнюдь не прибегал к доводам о «хищничест- вах» и набегах горцев. Он прямо указывал Александру, что усиление войск на Кавказе необходимо потому, что горские народы «примером независимости своей, в самих подданных Вашего императорского величества порождают дух мятежный и любовь к независимости»2 (Подч. нами. — Авт.).
Сам А. П. Ермолов так говорил о предстоявшей ему миссии: «Кавказ — это огромная крепость, защищаемая полумиллионным гарнизоном. Надо штурмовать ее или овладеть траншеями. Штурм будет стоить дорого, так поведем же осаду». При этом особое значение придавалось Чечне, покорение которой считалось непременным условием успешного завершения всей военной кампании по завоеванию Кавказа. Правда, надо сказать, что и до назначения А. П. Ермолова российские военные на Кавказе не раз склонялись к мысли о необходимости масштабного военного наступления на Чечню.
Как бы-то ни было, именно с началом деятельности А. П. Ермолова на Кавказе большая часть историков связывают и начало Кавказской войны как масштабных системных военных действий Российской империи против горских народов. Война продолжалась на Северо-Восточном
1 Колосов Л. Н. Славный Бейбулат: Историко-биографический очерк. — Грозный, 1991. — С. 26.
2 Записки Алексея Петровича Ермолова. Ч. 2. (1816—1827). — СПб., 1859. — С. 118.
— 95 —
Глава II. Чечня в первой трети XIX в. Взаимоотношения с Российской империей
А. П. Ермолов. Худ. П. 3. Захаров (7, приложение)
Кавказе до 1859 г., а на Северо-Западном Кавказе до 1864 г. и стоила огромных человеческих жертв, весьма крупных даже для XIX в., столь богатого войнами.
Сразу же после похищения майора П. Швецова отряд чеченцев по неизвестным нам причинам совершил нападение на станицу Черв- ленную, в ходе которого погибли два казака, а 9 человек, включая 4-х женщин, были уведены в плен. И. П. Дельпоццо предлагал в ответ совершенно неадекватные меры: направить в Чечню войска, чтобы «...Надтеречных чеченцев разоружить и переселить ближе к Тереку, в противном случае... всех изгнать за Сунжу, а посевы истребить; обложив Чечню со стороны Сунжи и кумыкских владений, посылать за Сунжу охотничьи отряды казаков, ингушей и осетин... Жены, дети, скот и вещи... будут их добычею, — словом употреблю всю жестокость, какая только будет в моей возможности, и пока не наведу ужаса от первого до последнего... не возвращу войск с Сунжи; но и тогда... оставлю на оной укрепление, чтобы всегда содержать народ сей в крепкой обуздан- ности». Такой подход должен был вызвать всеобщее восстание в Чечне. Однако считавшийся «либералом» генерал Ртищев горячо поддержал «истребительные» желания своего подчиненного генерала, и только
Взаимоотношения России и Чечни в первой трети XIX в. Антиколониальная борьба
чеченского народа под руководством Бейбулата Таймиева
напряженность в отношениях с Турцией, а также сложное положение на Северо-Западном Кавказе заставили его временно воздержаться от экспедиции «противу хищных чеченцев»* 1.
А. П. Ермолов, едва прибыв на Кавказ осенью 1816 г., поспешил встретиться с Бейбулатом, которого российские источники все чаще именуют «атаманом» Чечни. Его влияние было столь велико, что во многих чеченских селениях он собственной властью назначал и сменял старшин. При личной встрече российский командующий «обласкал и одарил» Б. Таймиева и вновь зачислил его на русскую службу в чине поручика в обмен на обещание прекратить набеги на русскую линию.
Естественно, что при этом и А. П. Ермолов, и Б. Таймиев преследовали собственные цели. Командующий Кавказским корпусом стремился склонить к сотрудничеству наиболее влиятельного чеченского предводителя, что должно было существенно облегчить завоевание Чечни. Что касается Б. Таймиева, то он добивался российской поддержки собственных планов стать фактически единовластным правителем Чечни, обещая взамен союзническую верность Российской империи. Со всей откровенностью свои цели Б. Таймиев изложил осенью 1818 г., при встрече с будущим генералом Н. В. Грековым в крепости Грозная, когда потребовал «. ..подчинить ему всех чеченцев, с правом налагать на каждого из них денежные штрафы, говоря, что только в таком случае он может отвечать за спокойствие Чечни...».
Н. В. Греков отказался поддержать чеченского предводителя под тем предлогом, что ему прежде следует завоевать доверие российского командования. На самом деле к этому времени проконсул Кавказа уже твердо решил отказаться от поддержки существующих феодальных владетелей и горских предводителей. Под разными предлогами он стремился ликвидировать дагестанские ханства, вводя вместо них прямое российское правление. Создание обширного чеченского государственного образования, пусть даже под российским протекторатом, также противоречило уже выработанной политической линии.
А. П. Ермолов определил для себя и методы, которыми он собирался покорить Чечню: «Надобно оставить намерение покорить их оружием, но отнять все средства к набегам и хищничествам. Надобно занять Сунжу и по течению ея устроить крепости: тогда чеченцы, стесненные в своих горах, лишатся земли, удобной для возделывания, и пастбищных мест, на которых в зимнее время укрывают стада свои от жестокого в горах климата»2. По существу, новый командующий Кавказским корпусом предлагал полное экономическое разорение Чечни и подрыв ее хозяйства. Эта задача казалась ему тем более важной, что чеченский
1 Акты, собранные Кавказской Археографической комиссией. Т. 5. — Тифлис, 1873. — С. 838, 875—876.
1 Там же. Т. 6. Ч. 2. — Тифлис, 1875. — С. 498.
— 97 —
Глава II. Чечня в первой трети XIX в. Взаимоотношения с Российской империей
хлеб обеспечивал потребности в этом продукте питания соседний Дагестан. Поэтому только полное господство над Чечней открывало дорогу к быстрому и с малыми потерями покорению Дагестана.
Совершенная неадекватность планируемых «ответных» мер — в ответ на нападение двух-трех горских отрядов на военизированные русские поселения: разорить мирные аулы, согнуть голодом и террором целую страну с обширным народонаселением самоочевидна. Российская верхушка в любом случае планировала захват чеченских земель с максимальным «освобождением» их от мусульманского населения по той еще причине, что горцы, по словам Ермолова, могли примером «независимости» возбудить «дух мятежный» в самой России.
Все остальное являлось совершенным фарисейством, составлявшим вторую натуру генерала А. П. Ермолова.
Основание крепости Грозной. Строительство Сунженской линии. К осени 1818 г. ситуация в Чечне уже существенно изменилась: значительно расширилась линия русских укреплений на реке Сунже — за три года (с 1817 по 1819) были воздвигнуты крепости Грозная и Внезапная, возведены укрепления Преградный стан, Злобный окоп, Неотступный стан и др. Благодаря появлению новых укреплений и прежде всего крепости Грозная, построенной в 1818 г., мыслилось, что «...чеченцы уже не могли безнаказанно делать набеги на линию, ибо на пути их находилась русская крепость и отряд, всегда имевший возможность пресечь хищникам путь отступления. Кроме того, в конце 1818 и в начале 1819 гг. сделана просека в Ханкальском ущелье, открывавшая тем самым скрывавшиеся за ним чеченские селения». Однако главное назначение Грозной и связанной с ней Сунженской линии заключалось
План крепости Грозной в 1818 г.
— 98 —
Взаимоотношения России и Чечни в первой трети XIX в. Антиколониальная борьба
чеченского народа под руководством Бейбулата Таймиева
в другом: отсюда должно было идти планомерное вытеснение чеченцев в горы, с целью лишить их плодородных земель и обречь на голод и вымирание. Отсюда должны были идти грабительские набеги «славных» императорских войск на чеченские поселения: сжигать цветущие аулы, вытаптывать хлеб в полях, вырубать сады. Убивать и грабить чеченцев считалось вполне моральным занятием. В свою очередь, известия об ответных чеченских набегах воспринимались с ужасом и негодованием.
Русские беглые как повод к войне. Приступая к строительству крепости Грозной в 1818 г., А. П. Ермолов в специальном письме-прокламации к чеченским старшинам потребовал незамедлительно выдать всех содержащихся в Чечне русских пленных и беглых солдат. Ультимативное по форме и содержанию письмо завершалось открытой угрозой: «Пленные и беглые или мщение будет ужасное!»1 Возможно, выдвигая заведомо невыполнимое требование, правитель Кавказа хотел заранее оправдать репрессии, которые он собирался обрушить на Чечню.
И действительно, соглашаясь вернуть захваченных пленных и принять назначенных приставов, чеченцы категорически отказались выдать беглых русских солдат и казаков, которых скрывалось в аулах не одна сотня. Бежали они к горцам вследствие невыносимых условий службы в крепостнической армии. Красноречив тот факт, что в течение первого года службы на Кавказе умирал каждый второй рекрут. Чечня же манила свободой, полной гарантией от выдачи и возможностью стать полноправным членом общины, равным среди равных. Многие из русских уже успели принять ислам и считались полноправными членами сельских общин-джамаатов.
Ультиматум чеченцами был отвергнут, и стороны стали готовиться к войне.
Горские вожди в борьбе со строительством российских крепостей.
Предполагая заранее, что чеченцы в предстоящей схватке постараются привлечь к себе на помощь дагестанцев, А. П. Ермолов заблаговременно употребил «все приличные способы к приласканию дагестанских владельцев». Особое внимание было уделено Аслан-хану Кюринскому (будущему хану Казикумухскому), считавшемуся одним из самых влиятельных феодалов. А. П. Ермолова, официально объявившего о намерении добиваться от всех «туземных» владельцев неукоснительного соблюдения российских законов, не смущало то обстоятельство, что Аслан-хан обвинялся в грубом нарушении этих самых законов. Ермолов располагал неопровержимыми данными, что Аслан-хан практикует в своем ханстве смертную казнь, отбирает у своих подданных дочерей и продает их соседним горцам или обменивает на лошадей и т. д.2. Но
1 Акты, собранные Кавказской Археографической комиссией. Т. 6. Ч. 2. — Тифлис, 1875. — С. 499.
2 Там же. Ч. 1. — Тифлис, 1874. — С. 21; Там же. Ч. 2. — С. 8.
— 99 —
Глава II. Чечня в первой трети XIX в. Взаимоотношения с Российской империей
когда речь шла о политической целесообразности, всякая щепетильность была отброшена в сторону.
Понимая стратегическую важность новой линии российских укреплений, Б. Таймиев летом 1818 г. пытался воспрепятствовать ее строительству. Как и предполагало российское командование, чеченские представители побывали в Дагестане, где смогли убедить, в частности, аварского хана в том, что русская крепость на Сунже угрожает свободе не одних только чеченцев. Что было совершенной правдой, ибо, согласно плану Ермолова, занятие нижнего течения Сунжи было шагом на пути в Дагестан. В следующем 1819 г. Ермолов намеревался строить крепость на Сулаке.
В Чечню прибывает около 1 тысячи хорошо экипированных дагестанцев во главе с известным аварским предводителем Нур-Мухаммедом, но совместный дагестано-чеченский отряд потерпел поражение в первом же бою с российскими войсками возле селения Старый Юрт (современное селение Толстой-Юрт), главным образом из-за неумения горцев вести открытое сражение в условиях густого артиллерийского огня1.
А. П. Ермолов еще в рапорте от 30 мая 1818 г. сообщал в Санкт- Петербург, что «.. .главнейший разбойник чеченский и наиболее вреда нам наносящий есть известный Бейбулат, имеющий чин поручика». Теперь А. П. Ермолов не видит целесообразности новых переговоров с ним и пишет прямо коменданту крепости Грозной Н. В. Грекову: «Если Бейбулат, понадеясь на безопасность, которою пользуются чеченцы, у Вас пребывающие, приедет в крепость, то арестуйте его и прикажите немедленно повесить. Но для сего не должно приглашать его к себе официально от имени Вашего.. .»2.
Сунженская линия фактически отрезала притеречные районы от остальной Чечни, чем А. П. Ермолов воспользовался для создания здесь прямого российского управления. Руководить вновь созданным Надтеречным приставством был назначен офицер из терских казаков А. Л. Чернов, которого сам же А. Ермолов считал не иначе как «мошенником». Требования, выдвинутые к Надтеречным чеченцам, были изложены в специальном документе, названном «Обвещение к Надтеречным чеченцам». Фактически власти потребовали от них участвовать в военных действиях против своих соотечественников, угрожая за малейшее неповиновение полным уничтожением. Сам А. Ермолов раскрывал смысл этого документа следующими словами: «Еще не было примера, чтобы кто-нибудь мог заставить чеченца драться со своими единоплеменниками; но уже сделан первый к тому шаг и им внушено,
1 Акты, собранные Кавказской Археографической комиссией. Т. 6. Ч. 1. — С. 485; см.: ГаммерМ. Шамиль. Мусульманское сопротивление царизму. Завоевание Чечни и Дагестана. — М., 1998. — С. 57—58.
2 Утверждение русского владычества на Кавказе / Под ред. ген.-м. А. Потто. Т. 3. Ч. 1 — Тифлис, 1904. — С. 301.
Взаимоотношения России и Чечни в первой трети XIX в. Антиколониальная борьба
чеченского народа под руководством Бейбулата Таймиева
что того и всегда от них требовать будут... Лучше от Терека до Сунжи оставлю пустынные степи, нежели в тылу укреплений наших потерплю разбой».
В конце лета 1819 г. возле крупнейшего кумыкского селения Эндери было начато строительство крепости Внезапная, сопровождаемое боями. Против 6-тысячного русского отряда при 22-х орудиях действовал примерно такой же по численности дагестано-чеченский отряд под командованием Султан-Ахмед-хана Аварского и Б. Таймиева. В начале сентября дагестанцы отступили, но Б. Таймиев 15 сентября самостоятельно совершил набег на Эндери, отогнав 400 лошадей. Позже Сул- тан-Ахмед-хан русскими войсками был низложен, а ханство передано его родственнику.
Гибель Дади-Юрта. В эти же дни российские войска взяли штурмом и разрушили до основания селение Дади-Юрт, расположенное на берегу Терека, выше по течению от станицы Шелковской. В Дади-Юрте насчитывалось около 200 домов и более тысячи жителей, из которых практически никто не спасся: «...ожесточение с обеих сторон дошло до невероятных размеров. Чеченцы убивали своих жен и детей, чтобы те не достались русским; женщины бросались с оружием на солдат, которые... никого не щадили. Резня продолжалась целый день...» — говорят русские документы. Трагедия Дади-Юрта навсегда запечатлилась в памяти
Гибель аула Дади-Юрт. Совр. рис. (67, 71)
Глава II. Чечня в первой трети XIX в. Взаимоотношения с Российской империей
чеченского народа, воплотившись в песнях и сказаниях, став своеобразным символом схватки благородства с подлой и грубой силой.
Тогда же начата массовая вырубка лесов, которые служили серьезной естественной защитой для чеченцев. Осенью 1919 г. большая просека прорублена через Ханкальское ущелье, являвшееся воротами в Чечню. На следующий год до 2,5 тысяч чеченцев и кумыков силой были собраны для строительства военной дороги от укрепления Неотступный Стан (находилось возле селения Исти-Су) через Гудермес в сторону крепости Грозной.1
Ермоловская тактика «резни». Создание Сунженской линии, вопреки хвастливым многоречивым обещаниям А. П. Ермолова перед Александром I, не «умиротворило» Чечню, и он вынужден просить о присылке на Левый фланг некоторых подразделений 20-й пехотной дивизии. Последующие несколько лет российские войска прокладывали широкие просеки в чеченских лесах, сопровождавшиеся набегами на отдельные селения. Тактика, принятая на вооружение А. П. Ермоловым, состояла в том, чтобы, опираясь на воздвигнутые укрепления, постепенно продвигаться вглубь Чечни, разрушая жилища, уничтожая посевы и домашний скот и изгоняя население в горы. Действия войск имели целью полностью разрушить хозяйственную жизнь Чечни и вызвать голод, который должен был окончательно сломить волю чеченцев к сопротивлению. Например, захватив в начале 1822 г. Шали, русские не только разрушили дома, но и вырубили здесь все фруктовые деревья. Кстати, последнее обстоятельство вызывало особенное негодование горцев, страшившихся, по религиозным соображениям, наносить удар топором плодовым деревьям и, тем более, вытаптывать посевы.
Подводя итоги очередного разрушительного похода в Чечню, А. П. Ермолов с удовлетворением писал: «Чеченцы мои любезные в прижатом положении. Большая часть живет в лесах с семействами. В зимнее время вселилась болезнь, подобная желтой горячке, и производит опустошение. От недостатка корма, по отнятии полей, скот падает в большом количестве». Кроме того, «передовой» генерал широко и демонстративно использовал систему пыток, расстрелов и повешений. «Прославились» на весь Кавказ «походные» виселицы А. П. Ермолова, а также практика продажи горских женщин и детей, захваченных войсками в ходе карательных набегов в рабство.
Все это приводило в ужас не только просвещенное российское общество, но даже императорскую семью. «Остановить всякое мщение над обезоруженными, над женами и детьми, столь нетерпимое в российских
1 См.: Ахмадов Я. 3., Ахмадов Ш. Б., Астапов В. А., Исаев Э. А. История Чечено-
Ингушетии. Учеб, пособие для 9 класса. — Грозный, 1992. — С. 95—98; Гаммер М.
Указ. соч. — С. 60—63; и др.
Взаимоотношения России и Чечни в первой трети XIX в. Антиколониальная борьба
чеченского народа под руководством Бейбулата Таймиева
победоносных войсках» категорически требовал от А. П. Ермолова Александр I. Его преемник, Николай I, увидев в действиях подчиненных А. П. Ермолова (которых тот представил к награде) «не только лишь одно презрительное желание приобрести для себя и подчиненных знаки военных отличий легкими трудами при разорении жилищ несчастных жертв, но и непростительное тщеславие и постыднейшие виды корысти...» приказал отдать виновных под суд1.
Основные усилия горцев во главе с Б. Таймиевым были направлены в тот период на то, чтобы не дать русским войскам закрепиться на чеченской территории. С этой целью производятся не только систематические обстрелы воинских команд, направлявшихся на рубку леса, но и предпринимаются нападения на уже воздвигнутые укрепления. Так, весной 1821 г. чеченский отряд под командованием Бейбулата неожиданно атаковал Амир-Аджи-юртовское укрепление. Застигнутый врасплох гарнизон хотя и отразил нападение, но все же понес чувствительные потери.
Рост религиозных настроений. Разгоравшаяся с каждым годом война быстро усиливала религиозные настроения среди горцев. Начало 20-х гг. XIX в. отмечено появлением в Дагестане и Чечне проповедников мюридизма (а по существу, суфийского течения накшбанди), которые призывали к газавату — священной войне за веру. Еще со времен шейха Мансура российское командование знало, к каким серьезным последствиям может привести объединение всех горцев под религиозными лозунгами, а потому предпринимало ряд мер по установлению контроля за горскими духовными лицами. Однако в условиях Северного Кавказа достичь этой цели было нелегко.
В большинстве феодальных владений Северного Кавказа духовные лица фактически подчинялись местным феодалам. Что касается «вольных обществ», то муллы и кадии здесь избирались самим населением и им же отстранялись от должности. Еще в 1814 г. генерал Ртищев, являвшийся тогда командующим Кавказским корпусом, предлагал назначать горцам главного муфтия «...с приличным жалованием и особыми преимуществами», подчинив ему все горское духовенство, и который бы «...не дозволял им (муллам) вмешиваться ни в какие посторонние дела, кроме учения Алкорана, и наставлял народ, дабы оный повиновался единой воле Его Императорского Величества, яко Богом поставленного над ними государя...».
Не имея возможности подчинить себе горское духовенство, военные власти тем не менее постоянно вмешивались в его деятельность. Так, в 1819 г. А. П. Ермолов попытался присвоить себе право назначать главного кадия дагестанскому «вольному обществу» Акуша. В 1822 г. российские власти запретили кавказским мусульманам ежегодный хадж
1 Записки Алексея Петровича Ермолова. Ч. 2. (1816—1827). — С. 27—28.
— 103 —
Глава II. Чечня в первой трети XIX в. Взаимоотношения с Российской империей
и ввели правило, по которому желающие совершить паломничество должны были получить специальные пропуска1.
Растущее влияние духовных лиц отразилось и в том факте, что Б. Таймиев начал искать сближения с духовенством. Так, уже в начале 1822 г. состоялся своеобразный политический союз Бейбулата с одним из самых влиятельных в Чечне мулл — герменчукским кадием Абдул-Кадыром. Агитация последнего позволила Б. Таймиеву собрать довольно значительное ополчение и начать переселение чеченцев из ряда северных селений по Тереку, считавшихся «мирными». Например, летом 1822 г. переселилась за Сунжу большая часть жителей селения Старый Юрт. Чтобы пресечь эту деятельность сюда были направлены войска: в том же году Абдул-Кадыр получил смертельное ранение во время одного из боев.
Эпидемия чумы, разразившаяся на Северном Кавказе в начале 1823 г., резко снизила военную активность сторон. После того как в укреплении Неотступный Стан болезнь унесла половину гарнизона, войска покинули его и крепость прекратила существование. Неожиданная пауза в военных действиях была использована для переговоров: при посредничестве кумыкского князя Мусы Хасаева в январе 1824 г. состоялась вторая встреча Б. Таймиева с А. П. Ермоловым. Наместник Кавказа писал по поводу этой встречи, что чеченский предводитель якобы добивался прощения за прежние «злодеяния». Однако на самом деле Б. Таймиев вновь попытался осуществить свою старую идею
0 создании в Чечне государственного образования под российским протекторатом. Не случайно эта встреча состоялась в присутствии престарелого шамхала Тарковского, претендовавшего на звание правителя всего Дагестана.
Начало кавказского мюридизма. Б. Таймиев во главе восстания в Чечне в 1825 г. С конца 1823 г. в колониальную администрацию начали поступать сообщения об успехе южно-дагестанского проповедника Магомеда Ярагинского, открыто призывавшего народ к газавату. А. П. Ермолов, однако, не придал этим сообщениям должного значения — буквально накануне мощного восстания в Чечне (1825 г.) наместник Кавказа, посчитав свою миссию на Северном Кавказе успешно завершенной, выехал в Тифлис. Между тем, идеи «воинствующего» мюридизма широко распространялись и по Чечне. В 10— 20-х гг. XIX в. их проповедовали в Чечне уже упоминавшийся Абдул-Кадыр и Авко из Герменчука, Ахмед из Яндери, Уди из Гордали и другие духовные лица. По некоторым сведениям, Б. Таймиев побывал весной 1824 г. в Дагестане у Магомеда Ярагинского. Несомненно, чеченский предводитель сознавал, что в новых условиях невозможно поднять горцев на войну без поддержки мусульманского духовенства, а потому в конце
1 Гаммер М. Указ. соч. — С. 70—72, 75—78; и др.
— 104 —
Взаимоотношения России и Чечни в первой трети XIX в. Антиколониальная борьба
чеченского народа под руководством Бейбулата Таймиева
лета 1824 г. при большом стечении народа возле селения Майртуп он добился избрания имамом своего единомышленника и друга Авко (Ховка, ХӀовка) Унгаева из селения Герменчук. В мае следующего года происходит избрание нового имама — им стал дагестанский мулла Махаммед Кудуклай (Кудукли), получивший имя Махомы Майртуп- ского.
Трудно сказать со всей определенностью, что заставило поменять формального руководителя уже фактически начинавшегося восстания. Возможно, Б. Таймиев пошел на такой шаг, убедившись в неспособности Авко Унгаева даже номинально выполнять обязанности имама и военного предводителя. Российские источники действительно рисуют Авко Унгаева как человека недалекого, но подчеркивают: «Поступая во всем сообразно наставлений и указаний Бейбулата, юродивый Авко много содействовал распространению мятежа». Впрочем, скорее всего, репутацию «юродивого» Авко получил потому, что в жизни часто вел себя подобно суфийским дервишам-аскетам.
Российское командование было довольно подробно информировано о готовящемся восстании и приняло ряд превентивных мер, хотя и не предполагало, что ситуация может выйти из-под контроля. В ответ на рапорты А. П. Ермолова с просьбой усилить левый фланг Кавказской линии, из Петербурга пришло распоряжение назначить командующим Кавказской линией генерала Д. Т. Лисаневича. Чтобы упредить восставших, весной 1825 г. российские войска предприняли экспедицию в Чечню, завершившуюся разорением ряда аулов. Экспедиция сопровождалась зверскими расправами над попавшими в плен чеченцами. Например, Надтеречный пристав А. Чернов прославился тем, что живыми хоронил пленных в земле. Он же был причастен к бесследному исчезновению одного из членов влиятельной в Надтеречной Чечне фамилии князей Турловых1.
Впрочем, руководивший операцией генерал Н. В. Греков сомневался в том, что его действия предотвратят выступление чеченцев — «.. .упорство их неимоверное». Пауза в действиях российских войск позволила Б. Таймиеву собрать к лету значительное ополчение (к началу июля 1825 г. под его командованием состояло до двух тысяч вооруженных всадников).
Последующие события показали, что российские генералы не только упустили момент, когда восставшие начали сосредоточение своих сил, но и недооценили полководческий талант Б. Таймиева. Возле селения Атаги чеченский отряд встретился с российскими войсками под командованием все того же Н. В. Грекова. Уклонившись от прямого боя, Б. Таймиев отступил к селению Гойты, где разделил свой отряд
1 Колосов Л. Н. Славный Бейбулат: Историко-биографический очерк. — Грозный, 1991. —С. 70.
Глава II. Чечня в первой трети XIX в. Взаимоотношения с Российской империей
на две части: одну он направил на запад с целью вызвать волнение сред карабулаков и ингушей, а другую на восток — в земли кумыков. Введенный в заблуждение этим маневром, Н. В. Греков принял меры по укреплению Герзель-Аульского укрепления на реке Аксай, но неожиданно в ночь с 7 на 8 июля чеченцы стремительно атаковали и захватили другую крепость — Амир-Аджи-юртовское укрепление (на реке Терек, напротив станицы Новогладовской), полностью истребив его гарнизон из 155 человек.
Типичное русское укрепление на Северном Кавказе (53, 98)
Падение Амир-Аджи-Юрта вызвало растерянность российского командования: это был первый случай, когда горцам удалось штурмом овладеть русской крепостью. Генерал Греков писал А. П. Ермолову: «Чтобы мятежники поколебали укрепление — этого я никогда не мог и помыслить». Следующей целью нападавших стал Злобный окоп, гарнизон которого, бросив укрепление, поспешно отступил к крепости Грозной. Продолжая развивать достигнутый успех, Б. Таймиев атаковал укрепление Преградный стан (на реке Сунже). Укрепление устояло, хотя чеченцам и удалось сжечь форштадт, захватить несколько пленных и увезти два орудия1.
Демонстративное движение Б. Таймиева на этот раз к крепости Грозной заставило Н. В. Грекова направиться сюда же с частью своих
1 См.: Акты, собранные Кавказской Археографической комиссией. Т. 6. Ч. 1. — С.
508-516.
Взаимоотношения России и Чечни в первой трети XIX в. Антиколониальная борьба
чеченского народа под руководством Бейбулата Таймиева
сил из Герзель-Юртовского укрепления. Это позволило чеченскому предводителю после быстрого марша соединиться возле Уммахан-Юрта с отрядом М. Майртупского и осадить крупное укрепление Герзель-Юрт. Российские источники считали, что к этому моменту под командованием Б. Таймиева находилось до 6 тысяч воинов1. Осада длилась пять дней, а после подхода объединенного российского отряда под командованием генералов Д. Т. Лисаневича и Н. В. Грекова, чеченцы, разбившись на мелкие партии, разошлись в разные стороны.
Герзель-Юртовская «катастрофа». Остановившись в крепости Гер- зель-Юрте, Д. Т. Лисаневич решил вызвать к себе аксаевских старшин, якобы для переговоров, а на деле чтобы арестовать тех из них, кого он считал причастным к действиям восставших в Северном Дагестане. Другой генерал — Н. В. Греков возражал против этого шага, указывая, что нельзя «...задерживать людей, им же вызванных в крепость» под честное слово. Тем не менее, на правах более старшего по должности начальника Д. Т. Лисаневич настоял на своем. Позднее А. П. Ермолов объяснял бесчестный поступок своего подчиненного тем, что Д. Т. Лисаневич якобы не знал «...ни народов здешней страны, ни настоящих обстоятельств». Это утверждение кажется надуманным, так как генерал Д. Т. Лисаневич служил на Левом фланге еще под командованием князя Цицианова и даже хорошо владел кумыкским языком.
Полагаясь на честное слово русского генерала, в укрепление прибыло свыше 300 кумыкских и чеченских старшин и влиятельных лиц, однако подлая попытка разоружить и арестовать их на месте быстро привела к трагической развязке — вызванный третьим по списку чеченский мулла Учар-хаджи в ответ на оскорбительное требование сдать оружие смертельно ранил кинжалом обоих российских генералов. После минутного замешательства раздалась команда «Коли!» и началась резня, в ходе которой солдаты перебили не только всех горцев, оказавшихся в крепости, но даже убили несколько гребенских казаков, одетых в черкески. Эта резня привела к поголовному восстанию кумыков, которые отказались подчиняться русским властям и начали сбор ополчения.
Вскоре после Герзель-Юртовской трагедии, 25 июля в Майртупе состоялся очередной съезд чеченских старшин, куда прибыли представители восставших кумыков для заключения военного союза. Однако на съезде отчетливо обозначился раскол среди руководителей восстания. Махома Майртупский и его сторонники предлагали перед началом войны переселить в горы жителей плоскостных чеченских селений, против чего решительно возражал Б. Таймиев, настаивавший на том, чтобы организовать сопротивление буквально в каждом населенном пункте. Съезд так и не принял единого решения, и Бейбулат, «.. .перессорившись
1 Эсадзе С. Штурм Гуниба и пленение Шамиля. — Тифлис, 1909. — С. 36.
Глава It. Чечня в первой трети XIX в. Взаимоотношения с Российской империей
со всеми, ушел со своими чеченцами за Мичик». Не были согласны с ним и кумыки, так как Бейбулат потребовал отнять имущество тех, кто остался верен российской присяге, и в первую очередь сражаться с ними, а затем уже с российскими войсками.
Гибель сразу двух генералов, один из которых был командующим Левым флангом Кавказской линии, заставила А. П. Ермолова поспешить в Чечню из Тифлиса. Прибыв в крепость Внезапную, расположенную рядом с селением Эндери, он занялся укреплением крепости и подготовкой большого зимнего похода против чеченцев. Российское командование, как правило, предпочитало проводить крупные операции зимой, когда горцам было затруднительно в зимнюю стужу укрывать свои семьи, стада и другое имущество в лесах, сбросивших листву1.
Новые успехи Бейбулата. В конце августа 1825 г. Б. Таймиевым была предпринята довольно успешная атака на крепость Грозную. Разделив на две части небольшой отряд в 120 всадников, Бейбулат послал одну группу напасть на укрепление, расположенное недалеко от крепости Грозной, восточнее Мамакаевского аула. Той же ночью подготовленные горские разведчики скрытно проникли в крепость и открыли ворота. Благодаря этому вторая группа во главе с Бейбулатом в конном строю ворвалась в крепость Грозную и даже сумела на короткое время захватить одну из солдатских казарм. Проскакав по территории крепости из конца в конец, стреляя и рубя подвернувшихся солдат, группа вырвалась за ворота. Эта своеобразная демонстрация безумной храбрости и военных возможностей чеченского лидера произвела огромное воздействие на впечатлительных горцев всего Северо-Восточного Кавказа.
События в Чечне неожиданно для российского командования спровоцировали восстание в Кабарде, где горцы полностью разгромили станицу Солдатскую. Несмотря на то, что его собственное положение быстро осложнялось, Б. Таймиев послал на помощь кабардинцам 300 всадников. После подавления восстания в Кабарде чеченские селения Гехи, Котар-Юрт, Рошни-Чу приняли кабардинских переселенцев, бежавших от расправы в Чечню. В Дагестане Магомед Ярагинский открыто призывал население поддержать чеченское и кабардинское восстания, однако присутствие значительных отрядов российских войск на Кумыкской плоскости «.. .удержало Дагестан в спокойствии». Тем не менее несколько отрядов дагестанских наездников устремились в Чечню, где сражались под руководством Бейбулата.
Кстати, события в Кабарде едва не позволили Б. Таймиеву захватить в плен самого наместника Кавказа, 20 ноября выехавшего из станицы
1 См.: Акты, собранные Кавказской Археографической комиссией. Т. 6. Ч. 1. — С. 508—516; Утверждение русского владычества на Кавказе / Сост. В. А. Потто и др. Т. 3. Ч. 1 — Тифлис, 1904. — С. 339—340; Покровский Н. И. Указ. соч. — С. 144—145.
— 108 —
Взаимоотношения России и Чечни в первой трети XIX в. Антиколониальная борьба
чеченского народа под руководством Бейбулата Таймиева
Горцы в походе. Литография Е. Чичери с оригинала князя Г. Г. Гагарина. 1840-е гг.
(4, 124)
Червленной в Кабарду. Как признавался позже сам А. П. Ермолов, он спасся благодаря густому туману, из-за которого отправившийся на его перехват чеченский отряд не заметил конвой командующего.
Реорганизация управления в Чечне. Строительство государственной власти. Со второй половины 1825 г. имам М. Майртупский и его сторонники практически уже незаметны в Чечне, где политическая инициатива полностью принадлежит Б. Таймиеву. Это не означало, что все чеченские селения оказывали ему поддержку/ Например, Герменчук, Мескер-Юрт, Большой Чечен, Тепли-Кечу и ряд других селений не сразу признали его власть. В селении Алды Б. Таймиеву пришлось силой устанавливать свой порядок, в результате чего один человек был убит. Не удалось ему распространить свое влияние и на Притеречную Чечню. Но в тех селениях, что примкнули к восстанию, Б. Таймиев провел ряд важных административных и организационных мероприятий. Им были назначены старшины и их помощники — «тур- гаки» (туркхи). Только в большом селении Старые Атаги назначено было таким образом 32 человека. Занявший место убитого генерала Грекова подполковник Сорочан докладывал: «Бейбулат... учреждает... во всех деревнях, непокорных нам, свое начальство, делает старшин по нескольку в деревнях с тем, чтобы оным старшинам же были послушны, а ежели не выполнит кто, то 10 рублей серебром штрафу.
Глава II. Чечня в первой трети XIX в. Взаимоотношения с Российской империей
А он уже требовать будет исполнения от старшин и все сие сделано на присяге»1.
Кроме того, Б. Таймиев ввел ряд повинностей для населения. Так, для создания линии укреплений в стратегически важном Ханкальском ущелье всем жителям близлежащих селений было приказано доставить по два бревна с каждого двора. Была предпринята даже попытка создать нечто вроде постоянной гвардии из 500 всадников, которые должны были собираться там, «.. .где будет назначено, и быть в постоянной готовности». Таким образом, Б. Таймиев пытался осуществить свой давний замысел по созданию в Чечне организации государственного типа.
Надо сказать, что резонанс от чеченского восстания был настолько велик, что в Чечню через Северо-Западный Кавказ прибыли два турецких эмиссара, имевшие, по всей видимости, задание оценить масштабы и возможные последствия восстания. Однако постоянные контакты между руководителями чеченцев и турецкой стороной не были установлены. Турецкие эмиссары неправильно оценили ситуацию и добивались встречи с «имамом», т. е. М. Майртупским, формально руководившим горцами. Б. Таймиев, который действовал независимо, отказал туркам в этой встрече под формальным предлогом, что без предварительного согласия имама такая встреча состояться не может.
Зимняя карательная экспедиция А. П. Ермолова в Чечню. Осень 1825 г. прошла в стычках и боях вокруг крепости Грозной. Активность Б. Таймиева в этом районе свидетельствует о его попытках вынудить российское командование вновь перенести передовую линию своих
Эпизод боя на Кавказе. Худ. А. Дмитриев-Кавказский (4, 35)
1 Волконский Н. А. Война на Восточном Кавказе с 1824 по 1834 г. в связи с мюридизмом // Кавказский сб. Т. 10. — Тифлис, 1887. — С. 79—80,131.
— 110 —
Взаимоотношения России и Чечни в первой трети XIX в. Антиколониальная борьба
чеченского народа под руководством Бейбулата Таймиева
укреплений за Терек: «мятежные чеченцы требовали, чтобы была оставлена река Сунжа и оставлена крепость Грозная»1.
В конце октября подполковник Сорочан попытался выбить из Хан- кальского ущелья отряды Б. Таймиева, закрывавшие дорогу вглубь Чечни. В авангарде войск были поставлены мобилизованные в притеречных селениях чеченцы. Однако уже в самом начале боя этот отряд бросился назад и опрокинул следовавших за ними казаков. Последовали непрерывные контратаки воинов Б. Таймиева, вынудившие российские войска спешно (если не сказать панически) отступить к крепости Грозной.
В ноябре 1825 г. от Бейбулата ушла большая часть дагестанцев, находившаяся в его отрядах. Это было тем более опасно для дела восстания, что чеченские ополченцы также расходились на зиму по домам. К тому времени все отчетливее проявлялась угроза большого зимнего похода, который готовило российское командование. Все это вынудило Б. Таймиева начать через посредников переговоры о перемирии. А. П. Ермолов сразу же выразил готовность встретиться с чеченским «атаманом» и поручил подполковнику Сорочану идти от его имени на максимальные уступки, требуя взамен, чтобы Бейбулат отказался от дальнейшего участия в восстании и распустил свое ополчение. При этом главная вина за произошедшее восстание возлагалась не на Б. Таймиева, а на исламское духовенство. Трудно сказать, насколько искренним был А. П. Ермолов, делая такое заявление. Вряд ли он заблуждался относительно истинной роли Бейбулата, но можно предположить, что гораздо большее беспокойство вызывала у него растущая активность проповедников газавата.
Переговоры через посредников не привели к положительному результату: обе стороны явно не доверяли друг другу. В этих условиях ожидавшееся зимнее наступление российских войск становилось неизбежным. Его некоторая задержка была связана, по всей видимости, с восшествием на престол нового императора Николая I и выступлением декабристов на Сенатской площади в Петербурге.
Неожиданно для чеченцев, 26 января 1826 г. выступив из крепости Грозной в скрытом порядке, русские войска без боя заняли Ханкаль- ское ущелье, охраняемое лишь небольшими чеченскими караулами. На следующий день часть российских войск также без боя вступила в селение Старые Атаги, покинутое жителями. Однако в последующие дни происходили ожесточенные перестрелки с чеченцами, переходившие в не менее ожесточенные рукопашные схватки.
После отступления отрядов Б. Таймиева за Аргун русские войска в свою очередь вернулись к крепости Грозной и после непродолжительного отдыха, 5 февраля выступили в сторону селений Шали и Гермен- чук. При приближении войск большая часть жителей бежала из своих
1 Акты, собранные Кавказской Археологической комиссией. Т. 6. Ч. 2. — Тифлис, 1875. — С. 512.
Глава II. Чечня в первой трети XIX в. Взаимоотношения с Российской империей
Военное поселение у крепости Грозной. Рис. А. Дьяконова (40, 7)
домов, а прибывшая к А. П. Ермолову делегация просила не разрушать селений. Взяв заложников, войска повернули к аулу Алды, который был взят 8 февраля после короткой стычки и наполовину разрушен. Наступившие необычайно сильные морозы задержали дальнейшее наступление на восемь дней, в течение которых солдаты стояли лагерем в Алдах: «Оставаясь в лесу без крова, чеченцы страшно терпели от холода и, поэтому, каждый день являлись в лагерь депутации с аманатами и изъявлением покорности» — говорит документ.
После ослабления стужи нападению подверглись селения Малой Чечни, в частности, Гехи. Но начавшаяся на четвертый день наступления оттепель, сопровождавшаяся дождями и распутицей, заставила
А. П. Ермолова вновь вернуться в крепость Грозную. Сам командующий был доволен тем, что за короткий срок ему удалось разорить значительную часть равнинной Чечни. В частном письме к двоюродному брату он пишет: «Все разбежалось, попряталось, и никогда не было труднее получить аманатов — как теперь, ибо не от кого их требовать и некому отдавать их нам... селения, то есть все, так рассеялись, что не более семейств по девяти в них есть»1.
Вынужденный из-за капризов погоды прервать свой карательный поход, наместник Кавказа обратился к чеченцам с «Прокламацией», в которой заявлял: «Вошедши с войском Великого моего Государя в землю вашу, наказал я возмутившихся и нарушивших присягу, но в то же время охотно дарую я пощаду тем, кои, восчувствовав преступление свое и желая спокойствия, просили прощения». Прощение обещалось чеченцам только при условии строгого соблюдения предъявленных им требований: не принимать у себя в селениях предводителей восставших, а также и рядовых участников («...убийц и товарищей их в злодеянии
1 См.: РГВИА. Ф. 217. On. 1. Д. 3. Л. 2об; Покровский Н. И. Указ. соч. — С. 146—147.
— 112 —
Взаимоотношения России и Чечни в первой трети XIX в. Антиколониальная борьба
чеченского народа под руководством Бейбулата Таймиева
с их семействами»), немедленно возвратить пленных, неукоснительно выполнять повинности, возложенные российским командованием и т. д. А. П. Ермолов предупреждал, что в случае отклонения предложенных условий, незамедлительно последуют новые репрессии: «...я вынужденным найдусь приступить к строгому наказанию и смирю непокорных устроением крепости за Хан-Кале, ибо хорошо знаю землю чеченскую».1
Весенний поход русских войск в 1826 г. Активные военные действия возобновились в апреле 1826 г., причем на этот раз действия главных сил из крепости Грозной планировалось поддержать вспомогательным ударом от Владикавказской крепости. Однако мобилизованные для участия в походе ингуши дезертировали сразу же после начала наступления, и владикавказскому батальону, оставшемуся без конницы, пришлось повернуть обратно. Раздосадованный полковник Скворцов, командовавший отрядом, докладывал: «Все усилия мои довести ингушей до значительной степени повиновения и улучшения их нравственности тщетны...» Это косвенно подтверждает подозрения российского командования, что равнинные ингуши тайно поддерживали восставших чеченцев и через соседей карабулаков координировали действия с Б. Таймиевым.
Тем временем, выступивший из крепости Грозной крупный отряд, продвигаясь по равнинной части Чечни, последовательно занимал селения, оказывавшиеся на его пути. В ходе довольно сумбурного передвижения дважды был захвачен и сожжен Урус-Мартан, дважды захвачены Новые (Малые) Атаги, разрушены Шали и некоторые другие селения. Только во второй половине мая войска окончательно возвратились на места постоянной дислокации. Тем не менее, грабительские набеги отдельных русских отрядов на чеченские селения продолжались и позднее.
Поездка Б. Таймиева в Иран и Турцию. Еще до того как завершился весенний, 1826 г., поход А. П. Ермолова, Б. Таймиев покинул Чечню и через Дагестан отправился в Иран, как полагают с некоторыми видными дагестанскими владетелями, где они были приняты при шахском дворе. Вполне вероятно, что целью этой поездки была попытка скоординировать дальнейшие действия с начавшими наступление на Кавказ 18 июля 1826 г. иранскими войсками. Российские лазутчики в этой связи указывали, что во второй половине 1826 г. именно Бейбулат Таймиев стоял во главе двух тысяч вооруженных лезгин, поддерживавших выступление проирански настроенного грузинского царевича Александра на севере Кахетии. Это сообщение вызвало, правда, откровенное недоверие А. П. Ермолова.
Есть также данные, что Б. Таймиев с небольшой свитой побывал и при султанском дворе в Стамбуле. Его долгая дипломатическая миссия ничего, впрочем, не дала ни ему самому, ни Чечне.
1 Колосов Л. Н. Указ. соч.— С. 171—172.
Глава II. Чечня в первой трети XIX в. Взаимоотношения с Российской империей
Прием при дворе шахиншаха Ирана — Фатх Али Шахе (9, 33)
Войны России с Ираном и Турцией. Отставка А. П. Ермолова.
Подавление чеченского восстания было как нельзя кстати для Российской империи, потому что приближалась новая война с Ираном. Продолжительные российско-иранские переговоры о пограничном разграничении в 1825 г. окончательно зашли в тупик. Иранское правительство объясняло возникновение кризиса в отношениях двух стран исключительно несправедливыми действиями А. П. Ермолова, который в жесткой форме требовал уступок от иранской стороны. Сам наместник Кавказа докладывал в Санкт-Петербург о происках английской миссии в Тегеране, стремящейся «...возобновить несогласие между Россией и Персией в уповании принудить персиян покупать их товары и тем уничтожить совсем нашу торговлю». При этом А. П. Ермолов несколько раз сообщал о военных приготовлениях Ирана, но эти предупреждения игнорировались в столице. Как бы то ни было, Российское Министерство иностранных дел предлагало А. П. Ермолову в свое время принять иранские требования и вину за начало войны частично возлагало именно на него1.
Новый император Николай I, который с подозрением относился к
А. П. Ермолову из-за его близкого знакомства со многими участниками
1 Внешняя политика России XIX и начала XX веков: Документы Российского мини¬
стерства иностранных дел. Т. 6 (14). — М., 1955. — С. 180, 373.
— 114 —
Взаимоотношения России и Чечни в первой трети XIX в. Антиколониальная борьба
чеченского народа под руководством Бейбулата Таймиева
движения декабристов, использовал внезапное вторжение иранской армии в Закавказье как повод для отстранения его от должности. Новым наместником на Кавказ направлен генерал И. В. Паскевич.
Наследие Ермолова было тяжелым. По существу, А. П. Ермолов, главным средством политики империи на Кавказе видевший только силу, вызвал не только войну Ирана против России, но и собственно Кавказскую войну. Своим невиданным военным давлением одновременно по всему «кавказскому» фронту, чудовищными жертвами и перманентным насилием он заставил сплотиться многие народы, чего не удавалось до того ни одному проповеднику газавата или знаменитому воину-предводителю.
Для Ирана первые победы в войне быстро обернулись поражениями, и поэтому вполне понятен интерес иранского правительства к представителям горских народов — новое восстание в тылу российских войск могло существенно повлиять на ход всей русско-иранской войны. Весной 1827 г. лазутчики сообщают о возвращении в Чечню то ли самого Бейбулата, то ли его брата с 12 тысячами иранских туманов (120 тысяч рублей) для организации восстания и найма горцев для службы в иранских войсках. Из сообщений лазутчиков следует, что Б. Таймиев находится на «вторых ролях», а главными агитаторами нового восстания выступают дагестанский феодал Нох-хан (сын Сур- хай-хана Казикумухского, широко известного своими антироссийскими
Боевой порядок русской армии на полях сражений Кавказа (9, 85)
Глава II. Чечня в первой трети XIX в. Взаимоотношения с Российской империей
настроениями) и провозглашенный в 1825 г. имамом М. Майртупский. Последний, как видно из российских источников, «...иногда сорил персидскими деньгами, но больше клал их в собственный карман».
Деятельность проиранской партии особого успеха не имела: «.. .дальше толков и пересудов дело не пошло», а уже осенью 1827 г. Сурхай-хан со своим сыном были изгнаны из Дагестана другим претендентом на власть в Казикумухе — Аслан-ханом Кюринским, которого поддерживали российские власти.
В 1827 г. войска Паскевича разгромили в Закавказье войска наследного принца Ирана Аббас-Мирзы и вступили непосредственно на иранскую территорию, заняв даже город Тавриз. Кстати, свой неуспех Аббас-Мирза объяснял... отставкой А. П. Ермолова, жестокость которого давала Ирану надежных союзников на Кавказе, а справедливые и благородные качества Паскевича привлекали к нему и явных сторонников шаха.
Выдающийся государственный деятель Ирана 1-й четверти XIX в. — наследный принц Аббас-Мирза. (9, 122)
10 февраля 1828 г. был подписан Туркманчайский договор, согласно которому Иран признал присоединение к России Восточной Армении и Северного Азербайджана, одновременно отказавшись от каких-либо претензий на Дагестан и военное присутствие на Каспийском море. По существу, с 1828 г. Иран выпал из числа участников кавказских дел. Теперь в этом регионе оставались два соперника — Османская и Российская империи, которые в апреле 1828 г. начали военные действия одновременно на Балканах и Кавказе.
В результате русско-турецкой войны Россия сделала значительнейший шаг в упрочении своей власти на Кавказе: по Андриапольскому договору от 14 сентября 1829 г. Турция окончательно признала присо-
— 116 —
Взаимоотношения России и Чечни в первой трети XIX в. Антиколониальная борьба
чеченского народа под руководством Бейбулата Таймиева
единение к России не только Восточной Грузии и полосы Черноморского побережья Кавказа, но и даже областей, которыми она никогда не обладала, — Северо-Западного Кавказа. В Европе никто серьезно не отнесся к «благоприобретенным» правам России на Черкесию1.
Более того, английское посольство в Стамбуле развернуло деятельность среди черкесов Северо-Западного Кавказа с целью продолжения военных действий против России. Более того, через семь лет бесконечных препирательств Англии и России конфликт по поводу английской шхуны «Виксен», задержанной русскими у северокавказских берегов Черного моря, привел к угрозе войны. Доводы Англии, что Турция не могла уступить Черноморское побережье Северного Кавказа России, так как сама им не владела, не были приняты. Тем не менее, британский кабинет министров принял извинительное заявление Николая I и конфликт затих вплоть до Крымской войны.
«Новая» политика в отношении Чечни. В 1826 г. командующим Левым флангом Кавказской линии был назначен генерал-майор Е. Ф. Энгельгардт, происходивший из знатной фамилии прибалтийских немцев. В отличие от своих предшественников новый командующий (в ведении которого непосредственно находилась Чечня) предпочитал действовать не военными, а политическими методами. Всеми доступными средствами усиливая пророссийски настроенных горских предводителей, ему удавалось сохранять относительное «спокойствие» в Чечне, не прибегая к военным экзекуциям. Известную активность в тот период проявляли такие чеченские предводители, как Астамир Карабулакский, являвшийся шурином Б. Таймиева. Да и сам Бейбулат в 1827 г. дважды безуспешно нападал на крепость Грозную.
Эта политика, весьма уместная в свете новых войн России с Ираком и Турцией, дала положительные результаты. В 1828 г. (с началом очередной русско-турецкой войны) турецкие эмиссары, прибывшие в Чечню от имени султана Махмуда И, «.. .употребили всемерное усилие
Султан Махмуд II. Правил в 1808—1839 гг. (10, 362)
; Дегоев В. Большая игра на Кавказе: история и современность. М., 2001. — С. 145.
Глава II. Чечня в первой трети XIX в. Взаимоотношения с Российской империей
поднять народ сей против нас». В селении Майртуп состоялся съезд представителей чеченских селений (Мехк-кхелл), обсуждавших вопрос о начале военных действий против русских войск. Однако «сие совещание не имело успеха... Чечня поныне осталась спокойною...»1.
Характеризуя нового командующего Левым флангом, представители чеченцев, обратившиеся в 1829 г. письменно к новому наместнику Кавказа И. В. Паскевичу, признавали, что они, наконец «.. .приобрели спокойствие
и... не видим со стороны его лжи, обмана и нарушений условий».
Б. Таймиев вновь начинает искать сближения с российским командованием, и есть основания полагать, что к этому шагу его подталкивала не только слабость «партии войны» в Чечне, но и растущее влияние исламских радикалов. Все больше дагестанских и чеченских мулл призывали к строительству исламского общества на основе законов шариата и открыто высказывали претензии на обладание верховной властью. Уже в 1827 г. сторонники газавата в Дагестане переходят к активным действиям, а вскоре состоялось провозглашение первого дагестанского имама Гази-Мухаммеда, ученика М. Ярагинского. Подобно своим давним союзникам — дагестанским владетелям, Б. Таймиев осознавал теперь, что только ислам и лозунги газавата способны сплотить народ, но в то же время он не желал перехода политической власти к духовенству.
Объективно новый командующий Левым флангом шел навстречу пожеланиям горской верхушки. Например, Е. Ф. Энгельгардт вменял в обязанность вновь назначенным приставам «...свято хранить и сберечь собственность», неукоснительно наказывать «похитителей собственности», а также всеми мерами поощрять развитие торговли. Кроме того, приставам поручалось по своему усмотрению назначать для чеченских селений судей из старшин, а все дела разбирать по нормам адата. Только в том случае, если стороны не могли прийти к соглашению, допускалось обращение к шариату. В этой связи показательно, что российские власти лицемерно запрещали применение телесных наказаний, предусмотренных шариатом.
Поиск компромисса. Союз Чечни и Тарковского шамхальства. В новых условиях Б. Таймиев попытался найти такой вариант политического устройства Чечни, который через тесный союз с Тарковским шахмальством ввел бы ее под российский протекторат с сохранением внутреннего самоуправления. Переговоры о подданстве Чечни, начиная с 1827 г., ведутся теперь не напрямую с русскими властями, а через шамхала Тарковского — знатнейшего феодала Дагестана (считавшегося потомком Аббаса, дяди Пророка Мухаммеда) владетельного князя и генерал-лейтенанта русской службы. Переговоры шли и на протяжении следующего 1828 г. Весной 1829 г. в Чечне состоялся съезд старшин
1 Акты, собранные Кавказской Археографической комиссией. Т. 7. — Тифлис, 1878. —
С. 879.
Взаимоотношения России и Чечни в первой трети XIX в. Антиколониальная борьба
чеченского народа под руководством Бейбулата Таймиева
на который собралось до 120 человек, поддерживавших политический союз с шамхалом.
И. В. Паскевич занимал в вопросе о формальном распространении власти шамхала Тарковского на Чечню осторожную позицию. Не признавая за шамхалом права приводить в подданство России какой- либо народ, он вместе с тем не хотел и упустить политических выгод, связанных с публичным признанием российского подданства хотя бы частью Чечни. В его планы входило также добиться и от противников Б. Таймиева в Чечне присяги на подданство, но только через командующего Левым флангом Е. Ф. Энгельгардта: «Не бесполезно нам в Чечне иметь две партии, которые, оставаясь обе покорными правительству нашему, междоусобными раздорами будут воздерживаться от враждебных замыслов против русских».
Противниками союза с шамхалом выступили прежде всего чеченские титулованные лица (элий) в Притеречье, которые призывали не доверять Б. Таймиеву и предупреждали: «Если все же против воли нашей навяжете нам шамхала, тогда уж не прогневайтесь. Жизнь переменится, дела испортятся. Виновен будет тот, кто возбудит возмущение».
После присоединения большей части Чечни к своим владениям, шамхал Тарковский, престарелый Мехти-хан, оказался бы правителем крупнейшего на Северо-Восточном Кавказе государственного образова-
Шамхал Тарковский [Мехти-хан или Сулейман — ?]. Худ. Г. Гагарин. (11, вклейка)
— 119 —
Глава II. Чечня в первой трети XIX в. Взаимоотношения с Российской империей
ния. Именно поэтому шамхал принял предложение Б. Таймиева, даже не согласовав свои действия предварительно с российским командованием, чем вызвал заметное раздражение против себя. Более того, он выдал заложником в Чечню своего сына в обмен на сына Б. Таймиева, что в Петербурге расценили как публичное унижение империи и потребовали расторжения союза1.
У российского командования были серьезные причины для недовольства. В дагестанских владениях самого шамхала, с одной стороны, росло влияние сторонников проповедника шариата Гази-Мухаммеда (в конце 1829 г. объявленного имамом), а с другой стороны, заметным становилось растущее влияние в этом образовании Б. Таймиева, стоявшего во главе примкнувших к шамхальству чеченских селений. Сам шамхал, престарелый Мехти-хан, в качестве генерал-лейтенанта российской армии настойчиво добивался передачи ему под командование от 7 до 10 тысяч русских солдат, при помощи которых он надеялся полностью «умиротворить» Дагестан. Однако И. В. Паскевич неизменно отвечал на эти просьбы твердым отказом — сомневаясь в полезности для России союза шамхала с Б. Таймиевым, он тем более не собирался создавать нежелательный прецедент, напрямую подчинив российские войска местному владетелю.
В конце мая 1829 г. Б. Таймиев, во главе своих сторонников, выехал в Тифлис для встречи с И. В. Паскевичем. Одновременно Е. Ф. Энгельгардт направил туда же еще одну делегацию из 50 чеченцев и кумыков, по всей видимости, представителей той «партии», что выступала против Б. Таймиева. Уже несколько месяцев в Закавказье шли военные действия с турками и прибывших в Тифлис чеченских представителей российские власти постарались задержать на максимально возможный
Граф И. Ф. Паскевич-Эриванский (10, 410)
1 Умаров С. Ц. О позиции старшин в антиколониальной борьбе первой трети XIX в. // Вопр. истории Чечено-Ингушетии. Т. 10. — Грозный, 1976. — С. 301—304.
— 120 —
Взаимоотношения России и Чечни в первой трети XIX в. Антиколониальная борьба
чеченского народа под руководством Бейбулата Таймиева
срок, всячески затягивая переговоры. Тем самым обеспечивалось и относительное спокойствие на Кавказской линии.
Вскоре И. В. Паскевич вызвал к себе Б. Таймиева в действующую армию, стоявшую лагерем возле турецкой крепости Эрзерум. Вызов к наместнику Кавказа означал признание первенствующего влияния Б. Таймиева в Чечне, и нет причин сомневаться в том, что между И. В. Паскевичем и Б. Таймиевым прошли переговоры. Кстати, здесь же, в лагере командующего, в тот момент находился А. С. Пушкин, оставивший свои наблюдения о Бейбулате. Поэт назвал его «грозой Кавказа», образно показав значение великого чеченца в политической судьбе огромного края.
Итогом долгих переговоров чеченских представителей в Тифлисе стал документ, известный под названием «Постановление о покорности Чечни России». Наместник от своего имени предоставил чеченцам «...внутреннее между собой управление на том основании, как они сами управлялись». При этом каждое чеченское старшинство обязано было выдать заложников, а сами старшины подчинялись приставу, назначаемому российскими властями. Союз Чечни с шамхальством считался безусловно расторгнутым.
Удачные переговоры в Тифлисе, казалось, укрепили положение Б. Таймиева. Кроме того, в 1830 г. был отозван с должности командующего Левым флангом Е. Ф. Энгельгардт, явно симпатизировавший политическим противникам Бейбулата. Тем не менее, пик политического влияния самого Бейбулата также пошел к снижению.
Смерть Бейбулата. 1830 г. в истории Кавказа начался с открытого выступления в Дагестане сторонников имама Гази-Мухаммеда. Особую тревогу у властей вызывало его стремление «соединиться с чеченцами», среди которых также растет количество сторонников газавата, группировавшихся вокруг шейха Ташу-Хаджи. Сам Бейбулат в глазах нового имама и его сторонников сохранял авторитет, но скорее в роли воина, нежели самостоятельного политика. Его влияние среди чеченцев падает, что отразилось в российских документах, где имя Б. Таймиева упоминается все реже, а имя имама Гази-Мухаммеда все чаще.
«Славный» Бейбулат успел принять участие в нескольких боевых эпизодах, связанных с нападениями имама Гази-Магомеда на царские крепости Северного Дагестана.
В конце 1830 г. Б. Таймиев выбыл из-за ранений из строя, но по- прежнему оставался на подозрении у российского командования, предполагавшего, что старый чеченский «атаман» склонен вернуться к прежним «шалостям»: «Правда, что, переломив обе ноги, не мог уже он в последнее время водить хищнических партий, но всегда искал возмущать чеченцев против правительства и призывал соседние народы на помощь непокорным». Тем не менее, вряд ли российские власти
Глава II. Чечня в первой трети XIX в. Взаимоотношения с Российской империей
специально подстроили его убийство. Летом 1831 г. Бейбулат был смертельно ранен одним из кровников — кумыкским князем Салат-Гиреем Эльдаровым, отца которого он в свое время убил собственной рукой за насилие над рядовыми кумыками.
Таким образом, со смертью Бейбулата закончилась определенная эпоха в истории Чечни первой трети XIX в., характеризовавшаяся все возрастающим стремлением нации к самореализации в форме национального государства на светской основе.
* * *
Содержание источников первой трети XIX в. показывает, что социально-экономическое и общественно-политическое положение чеченского общества было достаточно сложным и противоречивым, однако содержало в себе элементы прогрессивного развития. Сложившийся тип общества был склонен к новациям, о чем говорит и неуемное желание горцев к развитию взаимовыгодных экономических связей с Россией и русским народом, и стремление к строительству государственной организации.
Правящее в России в тот период дворянско-крепостническое сословие в массе своей отвергало идею цивилизованной интеграции в составе империи не только Чечни, но и всех других стран и народов Северного Кавказа. В силу своей классовой сущности российское самодержавие взяло курс на установление колониальной системы на Кавказе с захватом плодородных земель и распространением здесь феодально-крепостнических порядков. Самым ярким выразителем этой политики был генерал А. П. Ермолов, который своим жестоким правлением и вызвал в конечном счете общее восстание народов Чечни и Дагестана.
С другой стороны, ярким выразителем настроений «светского» направления чеченского общества стал Бейбулат Таймиев, стремившийся к созданию Чеченского государства, которое находилось бы в тесных союзнических отношениях с Россией.
В целом этнополитическое и экономическое развитие Чечни в первой трети XIX в. вывело ее на передний план борьбы с внешней экспансией, однако организационное оформление сопротивления внешней жестокой силе значительно еще отставало от потребностей освободительного движения.
— 122 —
Глава III. Национально-освободительное
движение народов Чечни и Дагестана в 30—40-х годах XIX века. Имам Шамиль
§ 1. Начальный этап антиколониального движения под флагом мюридизма. Деятельность Ташу-Хаджи в Чечне
Кавказская война в историографии. Первая половина XIX в. в истории российско-горских отношений в исторической науке озаглавлена как Кавказская война. Одни ученые датируют ее 1817—1864 годами — со времени появления Ермолова на Кавказе и до поражения адыгов на Черноморском побережье. Другие считают началом войны конец 20-х гг. XIX в., когда был провозглашен имамом Гази-Магомед, а окончание относят к 1859 году, когда состоялось пленение Шамиля. Третья группа ученых, учитывая достаточную условность термина «Кавказская война», предлагают говорить о народно (национально)-освободительном движении горцев Чечни и Дагестана в 20—50-х гг. XIX в.1 Мы же используем все эти термины: «Кавказская война», «народно (национально)-освободительное движение» и «антиколониальная борьба» как однозначные.
В свое время советская историография пришла к твердому консолидированному мнению, что присоединение Северного Кавказа к России имело объективно прогрессивные последствия. Одновременно признавалось, что Россия проводила в регионе захватническую, колониальную политику. Борьба горцев против царизма считалась народно- освободительной, направленной против феодально-крепостнического строя империи. Религиозная оболочка движения горцев определялась реакционной, сужающей базу движения.
Главная причина длительной Кавказской войны в XIX в. заключалась прежде всего во все возрастающем колониальном расширении Российской империи в южном направлении, что удовлетворяло не только интересы государства в целом, но и корпоративные интересы дворянско-помещичьего и торгово-буржуазного сословий. Это «расширение» осуществлялось преимущественно силой за счет захвата территорий малых народов.
1 См. здесь и далее: Бушуев С К. Борьба горцев за независимость под руководством Шамиля. — М.-Л., 1939; Магомедов Р. Борьба горцев за независимость. — Махачкала, 1939; Материалы по истории Чечни и Дагестана. Т. 3. Ч. 1 (1801—1839). — Махачкала, 1939; Движение горцев Северо-Восточного Кавказа в 20—50-е гг. XIX в. С6. док. / Под ред. В. К. Гаджиева. — Махачкала, 1959; История Дагестана. Т. 2. — М., 1964; Очерки истории Чечено-Ингушской АССР. Т. 1. — Грозный, 1967; Покровский Н. К. Кавказские войны и имамат Шамиля. — М., 2000; Гаммер М. Шамиль. Мусульманское сопротивление царизму. Завоевание Чечни и Дагестана. — М., 1998; Дегоев В. Имам Шамиль: пророк, властитель, воин. — М., 2001; и др.
— 123 —
1 — Кавказские укрепленные линии и даты их основания; 2 — Крепости и укрепленные пункты; 3 — Основные направления действий царских войск; 4 — Территория Имамата в 40-х гг.; 5 — Основные направления действий Гази-Магомеда и Шамиля;
6—7 — Районы народно-освободительных движений
Глава III. Национально-освободительное движение народов Чечни и Дагестана в 30—40-х гг. XIX в.
Имам Шамиль
Начальный этап антиколониального движения под флагом мюридизма. Деятельность Ташу-Хаджи
в Чечне
Россия в XIX в. являлась самым крупным государством мира по площади и занимала третье место по населению — после Китая и Индии. Империя имела под ружьем полумиллионную армию и развитую для своего времени военную промышленность. Поэтому когда возникла возможность сугубо военным путем покорить горские народы, расположенные между Черным и Каспийским морями, то перед российскими генералами была поставлена четкая задача: горцев подчинить, а если не подчинятся — «истребить совершенно».
При этом сразу же были пущены в ход обвинения горцев в «набегах» и «хищничествах», нежелании подчиняться «благотворным» законам империи, в природной дикости и отсталости. Эти утверждения, утратившие свою обоснованность еще в дореволюционное время, попытались реанимировать некоторые современные псевдоученые, действующие в духе положений информационной войны.
При этом как-то забылось, что основную часть мяса и фуража на свое содержание царские полки на Северном Кавказе добывали грабежом горских аулов, возведенным в систему. Конечно, как и любая империя, Российское государство несло колонизируемым народам определенный универсальный порядок и экономические перспективы, но за это тем же горцам следовало заплатить высокую цену, называвшуюся всеобщее и безусловное рабство.
Надо отметить, что в самом горском обществе были объективные предпосылки, способствующие в первую очередь экономической, а затем и политической ориентации горцев на более развитую Россию. Российская ориентация в Чечне как предпочтительное направление во внешней политике страны несомненно присутствовала. Это обстоятельство усугубило и без того сложную общественно-политическую ситуацию в стране.
Складывание идеологии повстанческого движения горцев в форме мюридизма. К 30-м гг. XIX в. влияние мусульманского духовенства среди горцев Северо-Восточного Кавказа значительно возросло и не только в религиозной жизни, но и в общественно-политической сфере. Само духовенство не было социально однородным сословием: значительная часть исламских священнослужителей в горском обществе оставалась тесно связаной с горским крестьянством, чье положение ухудшалось. Так, дагестанские крестьяне испытывали растущий гнет не только со стороны российской колониальной администрации, но и местных феодальных владетелей. В аналогичном направлении развивалась ситуация и в Чечне, где свободные крестьяне с оружием в руках препятствовали расширению линии российских военных укреплений и давали отпор попыткам местных старшин присвоить себе феодальные привилегии.
Рост антироссийских и антифеодальных настроений среди крестьянства отразился на той части духовенства, что была тесно связана
— 125 —
Глава III. Национально-освободительное движение народов Чечни и Дагестана в 30—40-х гг. XIX в.
Имам Шамиль
с этим слоем горского общества. Не случайно, выдающиеся проповедники газавата появились прежде в Дагестане, где положение основной массы крестьян было гораздо тяжелее, чем в Чечне.
Фактически, в Дагестане повторяются события, имевшие место в Чечне в середине — третьей четверти XVIII в.: широкие массы крестьян открыто выступили против своих угнетателей-феодалов. Последние опирались на российскую военную поддержку. В результате антифеодальные выступления горских крестьянских масс неизбежно приобретают еще и характер антиколониального национально-освободительного движения.
Русские источники всегда указывали, что вовсе не религиозный фанатизм горцев породил Кавказскую войну. Более того, российские исследователи постоянно подчеркивают, что хотя лидеры горцев выступили под религиозными лозунгами и провозгласили свою борьбу «газаватом» — войной за веру, на самом деле их деятельность носила чисто военно-политических характер. При этом в своей деятельности предводители горцев часто действовали вопреки основным догматам исламской религии: «.. .кавказский мюридизм... не был уже тем чистым, нравственным учением, которое создано и освящено было первыми мусульманскими богословами. Истинный тарикат... требовал измождение тела вечным постом, молитвой, самосозерцанием и не допускал даже ношения оружия; для газавата нужны были, напротив, зоркие очи и крепкие мышцы, чтобы владеть кинжалом и винтовкой... Вот почему истинных мюридов... было не много; их считали сотнями, тогда как становившихся под знамя мюридизма набирались десятки тысяч, но зато от этих последних и не требовалось уже ничего, кроме строгого исполнения шариата, обязательного для каждого мусульманина, а из тариката — лишь основное правило: слепое повиновение имаму. Таким образом, кавказский мюридизм являлся просто политическим орудием...»1.
Наиболее дальновидные исследователи указывают, что главным фактором, заставившим разрозненные горские народы в первой четверти XIX в. сплотиться перед лицом российской экспансии, был все-таки Ермолов. Именно его тактика тотального наступления протяженным фронтом, неукоснительное соблюдение принципа наведения страха через резню людей и уничтожение всех средств к существованию, жестокая гибель целых селений и «племен» заставили горцев и вооружиться, и сплотиться. «Кавказский мюридизм» был всего лишь идеологической оболочкой движения горцев за физическое самосохранение.
Помимо широких масс крестьян, антироссийское движение, особенно на первом этапе (до складывания имамата), поддержала и значительная часть горского дворянства (узденства), у которого имелись
1 Потто В. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах и биографиях. Т. 5.
Вып. 1. — Тифлис, 1889. — С. 18
-сальный этап антиколониального движения под флагом мюридизма. Деятельность Ташу-Хаджи
в Чечне
Горский князь атакует казачью сотню (дело сотника Гречишкина у станицы Тифлисской). Худ. Р. Кузнецов (68, 85)
собственные причины для недовольства. Российская политика была направлена на поддержку исключительно самого верхнего слоя феодальных владетелей. Так, правами российского дворянства наделялись только представители владетельных княжеских фамилий, что порождало ошЕшаршше настроения среди узденей, являвшихся главной опорой крупных горских феодалов. Точно также, российская администрация отказывалась приравнять чеченских старшин к местным аристократическим владетелям. Более того, в отдельных случаях военные власти пытались ограничить в правах и крупных горских феодалов, подчиняя их государственным чиновникам.
Первым использовал учение мюридизма для достижения политических целей чеченский шейх имам Мансур, попытавшийся в конце XVIII в. объединить горцев разных национальностей в рамках единого теократического государства. Примерно через полвека аналогичную попытку предприняли дагестанские суфийские шейхи накшбандий- ского тариката. Считается, что первым проповедь газавата в Дагестане начал шейх Мухаммед Ярагинский.
Мухаммед Ярагинский. Согласно суфийской доктрине, овладеть полностью теорией и практикой суфизма можно только под руководством духовного наставника — шейха (или по-другому — муршида). При этом одно из первых и основных требований к мюриду (ученику) — полное и безоговорочное подчинение муршиду (учителю). Только пройдя многолетнее обучение, мюрид мог получить от своего наставника не только суфийское знание, но и частицу его благодати. Наличию духовного наставника придавалось такое большое значение, что один из дагестанских шейхов — Джамалэддин Казикумухский даже утверждал: «Кто не имеет шейха, для того дьявол шейх». В полном соответствии с суфийским учением, прежде чем стать шейхом, Мухаммед Ярагинский
Глава III. Национально-освободительное движение народов Чечни и Дагестана в 30—40-х гг. XIX в.
Имам Шамиль
Шейх Магомед Ярагинский. Совр. рис. (11, вклейка)
был мюридом у другого шейха — Хас-Мухаммеда Ширванского. Последний, в свою очередь, учился у Исмаила Кюрдамирского, считающегося одним из первых накшбандийских шейхов на Кавказе. В конечном счете, первым Учителем, от которого была получена божественная благодать, в суфийском учении считался пророк Мухаммед.
Российские источники несколько по-другому сообщают о провозглашении М. Ярагинского шейхом: в 1823 г. собрание части дагестанских мулл провозгласило его муршидом. После этого М. Ярагинский начал публично проповедовать свои взгляды, в основе которых лежали три тезиса:
«1) Мусульмане не могут быть под властью неверных; мусульманин не может быть ничьим рабом и никому не должен платить податей, хотя бы даже своему единоверцу.
2) Каждый мусульманин есть свободный человек и между мусульманами должно быть равенство.
3) Для всякого, считающего себя мусульманином, первое дело составляет «газават»... а потом исполнение шариата. Для мусульман исполнение шариата без газавата — не есть спасение... Будучи же под властью неверных и чьей бы то ни было, все намазы, посты, странствия в Мекку, жертва бедным, чтение корана — ничего не значат, а узы брака, связующие мусульман, делаются незаконными»1.
Как следует из этого обобщения, в основе пропаганды М. Ярагинского лежат прежде всего требования социальной справедливости, нахо¬
1 Богуславский Л. История Апшеронского полка. Т. 1. — СПб., 1892. — С. 398.
— 128 —
Начальный этап антиколониального движения под флагом мюридизма. Деятельность Ташу-Хаджи
в Чечне
дившие живой отклик у подавляющего большинства горских крестьян, что и обеспечило быстрый рост популярности самого проповедника: «Слух о Мулле-Магомете распространился по всему Дагестану, и горцы тысячами начали стекаться со всех сторон в Яраг, чтобы видеть и слышать нового проповедника».
В марте 1824 г. А. П. Ермолов, обеспокоенный успехом проповедей М. Ярагинского, потребовал от Аслан-хана Казикумухского, в чьем владении жил шейх, «прекратить возникшие беспокойства». Последний поспешил вызвать в селение Касум-Кент М. Ярагинского и его последователей из числа кюринских мулл для личной беседы. Аслан-хан ограничился публичным унижением М. Ярагинского, которого он при всех ударил по лицу, а остальных мулл в течение часа заставил прыгать перед собой на одном месте.
Запретив проповедь газавата, Аслан-хан отпустил всех его проповедников, что, естественно, не прекратило их деятельность. Уже в 1825 г. российские власти распорядились арестовать М. Ярагинского и доставить его в Тифлис. Аслан-хан, по существу, провалил и это задание: схваченному проповеднику позволили бежать, что российские власти объясняли заинтересованностью самого Аслан-хана: враждуя с аварскими ханами и шамхалом Тарковским, владетель Казикумуха намеревался использовать против своих противников мюридов газавата. Именно поэтому в 1826 г. Аслан-хан разрешил М. Ярагинскому вернуться в Яраг из Табасарана. Впрочем, сам Я. Ярагинский уже не проявлял прежней активности, доверив распространение своего учения лучшему из своих мюридов Гази-Мухаммеду, уроженцу аварского селения Гимры.
Начало деятельности Гази-Мухаммеда. Несмотря на то, что он имел хорошее религиозное образование, дар убеждения и серьезную физическую и психологическую закалку, Гази-Мухаммед (Гази-Ма- хьма, Кази-Мулла) долго не мог похвастаться серьезными успехами: распространению влияния сторонников газавата препятствовала не только консервативность горской массы, но и активное противодействие значительной части дагестанского духовенства, наиболее выдающимся представителем которого был Саид-Эфенди Араканский, кстати, первый наставник самого Гази-Мухаммеда. Неожиданно помощь Гази-Мухам- меду пришла со стороны шамхала Тарковского — престарелого Мехти- хана, который в начале 1829 г. пригласил его содействовать укреплению шариата в своих владениях: «Я слышал, что ты пророчествуешь. Если так, то приезжай научить меня и народ мой святому шариату; в случае же твоего отказа, бойся гнева Божьего: я укажу на том свете на тебя, как на виновника моего неведения, не хотевшего наставить меня на путь истины»1.
1 Потто В. Кавказская война в отдельных эпизодах, легендах и биографиях. Т. 5. Вып. 1. — Тифлис, 1889. — С. 40.
Глава III. Национально-освободительное движение народов Чечни и Дагестана в 30—40-х гг. XIX в.
Имам Шамиль
Официальное приглашение Мехти-хана открывало перед Гази-Му- хаммедом большие политические перспективы, и он поспешил воспользоваться опрометчивостью шамхала. Российские источники прямо указывают, что при личной встрече с шамхалом Гази-Мухаммед «.. .объяснил Мехти-хану сущность проповедуемых им правил, не упоминая, впрочем, о газавате...». Позднее биограф имама Шамиля совершенно по-другому представил встречу Гази-Мухаммеда и Мехти-хана: «.. .Гази- Мухаммед один вошел к шамхалу разгневанный и сурово сказал ему: «Установи в твоем вилайете шариат». Цвет лица шамхала изменился, вид его стал кротким, и он сказал: «Сделаю, сделаю»1.
На самом деле отношения шамхала и Гази-Мухаммеда были краткими: больной шамхал вскоре отбыл на лечение в Петербург. На обратном пути из столицы он умер. Со смертью шамхала в его владениях возникло немалое смятение, вызванное спорами наследников и вмешательством других владетелей. Один из сыновей Мехти-хана даже примкнул к Гази-Мухаммеду, воспользовавшемуся раздорами в стане феодалов, чтобы открыто заявить о своих претензиях на власть. К этому времени влияние молодого проповедника распространялось уже на целый ряд близких к границам Чечни горных дагестанских обществ: Койсубу, Гумбет, Андию, Салатавию. Кроме того, у Гази-Мухаммеда появилось немало сторонников в шамхальстве, Мехтуле, Казикумухе, Кайтаге и Табасаране.
Начало восстания. В конечном счете, в самом конце 1829 г. на собрании дагестанских богословов, где были представители и чеченского духовенства, Гази-Мухаммед был провозглашен имамом — верховным
1 Хроника Мухаммеда Тахира ал-Карахи о дагестанских войнах в период Шамиля. —
М.-Л., 1941. — С. 33.
начальный этап антиколониального движения под флагом мюридизма. Деятельность Ташу-Хаджи
в Чечне
Избрание Гази-Мухаммеда имамом. Совр. рис. (53, 45)
предводителем мусульман «Дагестана» (включая, видимо, и Чечню). Ближайшими его сподвижниками являлись гимринский уздень Шамиль ж выходец из хунзахской знати Гамзат-бек.
Растущее влияние позволило Гази-Мухаммеду в том же 1829 г. арименить военную силу против жителей селений Эрпели и Каранай, входивших во владения шамхала. Прибыв в эти селения со значительным отрядом вооруженных сторонников, он взял заложников из числа почетных жителей». Кроме того, некоторых своих противников Гази- Мухаммед бросил в ямы, служившие горцам своеобразной тюрьмой. Российские власти были уверены, что причиной волнений, охвативших владения шамхала, «...был сам шамхал, навлекший неудовольствие своего народа слабым, без меры своекорыстным, несправедливым и утеснительным правлением. И прежде того, не будучи в состоянии переносить угнетений своего владетеля, народ оказывал неповиновение, которое шамхал обыкновенно изображал бунтом против нашего правительства... Теперь к этой же причине присоединились еще две, а именно: вражда шамхала с ханом Мехтулинским... и интриги собственного шамхальского сына, Абу-Муселима, управлявшего отложившимися селениями и потворствовавшего их неповиновению...».
Глава III. Национально-освободительное движение народов Чечни и Дагестана в 30—40-х гг. XIX в.
Имам Шамиль
В январе 1830 г. Гази-Мухаммед во главе большой партии своих мюридов напал на селение Араканы, где сжег дом с великолепной библиотекой своего наставника Саид-Эфенди Араканского, сторонника мирных отношений с Россией и противника М. Ярагинского. Сам уважаемый шейх успел бежать и укрыться у Аслан-хана Казикумухского, но другим жителям Аракан пришлось выдать 30 заложников. Здесь же Гази-Мухаммед арестовал «...всех араканских кадиев и князей, несогласных подвергнуться шариату».
Для дальнейшего укрепления своей власти в Дагестане, Гази-Мухам- меду необходимо было полностью овладеть всей Аварией и отстранить от власти местную династию аварских ханов, главной резиденцией которых было большое и сильно укрепленное селение Хунзах. Формально во главе Аварского ханства стоял едва достигший совершеннолетия Абу-Нуцал-хан, хотя фактическим правителем являлась его мать — ханша Паху-Бике, пережившая двух ханов-мужей, и обладавшая весьма самостоятельным характером.
Хунзах — столица Аварского ханства (13, 130)
В феврале 1830 г. 8-тысячный отряд мюридов подступил к Хунзаху. Паху-Бике попыталась добиться мира, согласившись не только принять шариат, но и выдав в качестве заложника одного из своих сыновей. Эти предложения были проигнорированы Гази-Мухаммедом: очевидно, полностью уверенный в своих силах имам считал необходимым установление полного контроля над Аварией. Произошло сражение, в результате которого войско Гази-Мухаммеда под Хунзахом было разгромлено и полностью рассеяно. Один из ближайших сподвижников имама — гимринец Шамиль с несколькими десятками мюридов попал
-сальный этап антиколониального движения под флагом мюридизма. Деятельность Ташу-Хаджи
в Чечне
Шамиль и Гази-Магомед. Худ. Юнусилау (53, 46)
з плен и избежал смерти только благодаря великодушию хунзахцев, посчитавших свою победу полной и окончательной К
Какое-то время Гази-Мухаммед скрывался, и только тайная поддержка Аслан-хана Казикумухского позволила ему избежать ареста. Даже родное село Гази-Мухаммеда — Гимры «изъявило покорность» после того как сюда прибыл российский военный отряд. Однако действия российского командования не были достаточно решительными и последовательными: волнения в некоторых азербайджанских ханствах и угроза новой войны с Ираном вынудили перебросить в Закавказье часть войск с Северного Кавказа. Поздней осенью того же 1830 г. вспыхнуло восстание в Польше, очень быстро принявшее характер большой войны. С Кавказа снимается часть войск, а весной 1831 г. император Николай I даже направил против польских повстанцев своего любимца, успешно показавшего себя на Кавказе — И. В. Паскевича. Бестужев-Марлинский в этой связи указывал: «...война с поляками отозвалась в горах, дав горцам, если не надежду на успех, но поруку долгой безнаказанности». К тому же неизменная поддержка, оказываемая российскими властями горским владетелям, лишь усиливала антироссийские настроения среди горцев.
См.: Богуславский Л. История Апшеронского полка. Т. 1. — СПб., 1892. — С. 395—396; Гаммер М. Шамиль. Мусульманское сопротивление царизму. Завоевание Чечни и Дагестана. М., 1998. — С. 83—86; и др.
Глава III. Национально-освободительное движение народов Чечни и Дагестана в 30—40-х гг. XIX в.
Имам Шамиль
Распространение влияния имама на Чечню. На протяжении 1830 г. Гази-Мухаммед постепенно устанавливает свое влияние в Дагестане. Его агитаторы появляются и в Чечне, причем одним из его активнейших сторонников становится Авко Унгаев, несколько лет назад провозглашенный чеченским имамом по настоянию Б. Таймиева. Впрочем, Гази- Мухаммед вскоре прислал в Чечню своим представителем талантливого проповедника Абдуллу Ашильтинского. Возможно, это объяснялось желанием имама иметь в Чечне человека, которому Гази-Мухаммед доверял полностью.
В Чечне имелись и собственные религиозные деятели, активно выступавшие за укрепление шариата, что не всегда означало поддержку политических устремлений Гази-Мухаммеда. Так, одновременно с Авкой и А. Ашильтинским активную деятельность развернул герменчукский кадий Мустафа, под влиянием которого о принятии шариата объявили не только жители равнинной Чечни, но и ауховских селений в верховьях рек Акташ и Ярак-Су, а также мичиковские аулы. Интересно, что кадий Мустафа (получавший российское жалование) в одной из своих прокламаций отрицал наличие у него каких-либо политических амбиций: «.. .я не пишу сего лицемерно и пристрастно, также не из любви к достижению власти и приказания — от чего Бог да сохранит меня!»1 Но независимо от того, какие цели ставил перед собой герменчукский кадий, объективно его деятельность шла на пользу Гази-Мухаммеду. Не случайно российские власти вскоре заподозрили кадия Мустафу в тайном сотрудничестве с дагестанским имамом.
Однако наиболее влиятельным проповедником шариата среди чеченцев стал выходец из селения Эндери Ташу-Хаджи. Одни его считали чеченцем, другие кумыком, сам себя он порою называл выходцем из Турции. Скорее всего, он был смешанных кровей, что не редкость в Эндери, имевшем кумыкские и чеченские кварталы. Некоторые чеченские исследователи считают Ташу-Хаджи учеником Мухаммеда Ярагинского, от которого он и получил звание шейха, после чего начал проповедническую деятельность среди чеченцев, поселившись в Ичкерии. Чеченская традиция считает его первым среди чеченских шейхов, благодаря чему за Ташу-Хаджи закрепилось прозвище Воккха-хьажа («Старший, главный хаджи»). В 1831 г. он уже был муллой селения Эндери и, по всей видимости, уже совершил хадж в Мекку2.
Всплеску религиозных чувств среди горцев способствовала и цепь разрушительных землетрясений, начавшихся с конца февраля 1830 г. в Армении и распространившихся на весь Кавказ. Наиболее сильные
1 Прокламация чеченцам Мустафы-муллы кадия Герменчукского в извлечениях // Колосов Л. Н. Славный Бейбулат: Ист.-биогр. очерк. — Грозный, 1991. — С. 174.
2 См. о нем: Закс А. Б. Ташев-Хаджи — сподвижник Шамиля. — Грозный, 1992.
— 134 —
Начальный этап антиколониального движения под флагом мюридизма. Деятельность Ташу-Хаджи
в Чечне
толчки наблюдались с 13 по 17 марта и привели к многочисленным жертвам. Гази-Мухаммед объяснял постигшее горцев бедствие массовым уклонением от участия в газавате. Напротив, сторонники российской ориентации утверждали, что землетрясение вызвано гневом Аллаха за попытку вооруженного восстания. В любом случае, укрепление религиозных настроений было налицо.
Начало широкомасштабных военных действий в Чечне и Дагестане. Благодаря успешной агитации своих сторонников, Гази-Мухаммед в августе 1830 г. объявился с большим почетом в Чечне, сопровождаемый небольшим отрядом вооруженных дагестанцев. Однако первые действия его на чеченской территории были чрезвычайно осторожны: ни о каких насильственных мерах по утверждению шариата нет и речи. Более того, Гази-Мухаммед не решился даже проехать в аулы Большой Чечни, ограничившись посещением селений ауховских чеченцев и аулов, примыкающих к Дагестану. Но на следующий год число его последователей увеличилось многократно: на стороне имама на этот раз оказалось подавляющее большинство чеченских селений. По российским данным, общая численность вооруженных отрядов мюридов достигла 12 тысяч человек. С именем и действиями Гази-Мухаммеда было связано и крупное антиколониальное восстание в Ингушетии, вызванное карательными походами царских войск1. В планы Гази-Мухаммеда входит захват всех крупнейших крепостей в Чечне и Дагестане: Кизляра, Грозной, Внезапной.
В течение 1830—1831 гг. новый имам с тысячными отрядами штурмовал Хунзах, посылал свои отряды в разные общества Дагестана, вербуя сторонников, занял Тарки — столицу шамхальства, осадил крепость Бурную, затем с 10-тысячным отрядом кумыков и чеченцев приступил к крепости Внезапной близ Эндирея. В августе 1831 г. Гази-Мухаммед также неудачно попытался взять город Дербент на юге Дагестана. Затем он прибыл в Чечню и в ноябре 1831 г. делает стремительное движение своих сил на север к низовьям Терека, где внезапно захватывает город Кизляр.
Бросок к Кизляру оказался столь изнурительным, что из 1500 конных мюридов до цели дошли только около 600 человек, однако достигнутая при этом полная внезапность обеспечила успех атаки. Хотя кизлярские укрепления устояли, сам город на короткое время оказался в руках герцев, которые успели разграбить его дотла. Общие потери российской стороны составили 126 человек убитыми и 168 пленными. Военный министр граф А. И. Чернышев уведомлял командующего войсками на Левом фланге генерала Розена: «Государь Император находить изволит внезапное вторжение горцев сквозь Кавказскую Линию в г. Кизляр столь
; Котиков С. Б. К вопросу о присоединении Ингушетии к России // Известия Чечено-
Ингушского НИИИЯЛ. Т. 9. Ч. 2. — Грозный, 1972. — С 85—86, 89—92.
— 135 —
Глава III. Национально-освободительное движение народов Чечни и Дагестана в 30—40-х гг. XIX в.
Имам Шамиль
дерзким, что, хотя оно и не имело важных последствий, но должно внушить справедливые опасения на будущее время»1.
1832 г. начался с попыток российского командования нанести любой ценой военное поражение Гази-Мухаммеду. Полки идут в Дагестан со всего Кавказа. После трехдневного боя, выбив горцев из селения Ды- лым, генерал А. А. Вельяминов предпринял поход в Салатавию. Другая большая экспедиция была направлена против чеченских аулов, расположенных по берегам Сунжи. Действия против чеченцев продолжились и летом, когда, разорив горное общество Галгай в Ингушетии, российский отряд численностью до 11 тысяч человек прошел до дагестанской границы, разгромив в общей сложности до 60 селений.
Гази-Мухаммед лично прибыл в Чечню с отрядом мюридов и двинулся вдоль Качкалыковского хребта, в свою очередь нападая на непокорные ему селения — Старый Аксай, Кошкельды, Аллер-аул, Ноен- Берды (Нойбера), Горячеводск (Мелчу-хи) и Гудермес. Это, однако, не помогло ему остановить продвижение русских войск. Под их натиском
1 См.: Акты, собранные Кавказской Археографической комиссией. Т. 8. — Тифлис, 1881. — С. 541—542, 671—673, 676; Клюки-фон-Клюгенау Ф. К. Схватка с империей (очерк военных действий на Кавказе). — М., 2001. — С. 55—56; и др.
— 136 —
начальный этап антиколониального движения под флагом мюридизма. Деятельность Ташу-Хаджи
в Чечне
сам Гази-Мухаммед отступил обратно в Дагестан, «... очень недовольный чеченцами за изъявление ими покорности русским».
Между тем, бои 1832 г. в Чечне носили чрезвычайно упорный и кровавый характер, что признавалось российскими военными. В одном из рапортов говорится, что при штурме селения Герменчук 23 августа 1832 г. более 60 окруженных чеченцев во главе с муллой Абдурахманом предпочли сгореть заживо, но не сдались в плен.
Большие потери несли и русские войска. Например, отряд полковника Волжского, состоявший из 500 гребенских казаков при двух орудиях, был полностью разгромлен чеченцами. Живыми к Амир- Аджи-Юртовскому укреплению сумели пробиться 150 израненных рядовых казаков и три офицера. Всего три человека оказались в плену, что свидетельствует о крайней ожесточенности боя, в котором казаки в плен не сдавались.
Подводя итоги летних боев в Чечне, барон Г. В. Розен докладывал, что разрушено 61 селение, заложники получены от более чем 80 аулов, освобождено 30 русских пленных, штрафов и податей собрано около 5 тысяч рублей серебром1.
Гибель имама. Отступив из Чечни, Гази-Мухаммед, потерявший поддержку дагестанских обществ, укрепился в родном ему селении Гимры, вокруг которого заняли оборону до трех тысяч мюридов. Видимо, он рассчитывал на определенную передышку, однако в октябре 1832 г. подошедшие сюда же российские войска (численностью до S тысяч человек) сумели после скоротечного боя овладеть селением. Сам Гази-Мухаммед с несколькими десятками мюридов укрылся в башне, где и погиб во время штурма. Неотлучно находившийся при имаме Шамиль спасся благодаря своей исключительной физической силе и выносливости — неоднократно раненный он сумел прыгнуть из башни в гущу солдат, шашкой прорубиться сквозь строй и бежать из захваченного селения2.
Второй имам Гамзат-бек. Официальным преемником Гази-Мухам- меда стал Гамзат-бек Аварский, которому пришлось потратить немало усилий, чтобы заново укрепить влияние сторонников шариата в горном Дагестане. Шамиль считался ближайшим сподвижником и второго имама, хотя очевидно, что между этими двумя лидерами отношения складывались непросто. Практически весь 1833 г. новый имам не проявлял особой военной активности, занятый подготовкой выступления против аварских ханов. Подобно своему предшественнику, Гамзат-бек считал невозможным укрепление своей власти в Дагестане до тех пор, пока не будет установлен полный контроль над Аварией, лежавшей
См.: Акты, собранные Кавказской Археографической комиссией. Т. 8. — Тифлис, 1881. — С. 677, 683,686—687,695; Клюки-фон-Клюгенау Ф. К. Указ. соч. — С. 62.
- Легоев В. Указ. соч. — С. 71—73.
Глава III. Национально-освободительное движение народов Чечни и Дагестана в 30—40-х гг. XIX в.
Имам Шамиль
Прыжок Шамиля. Гимринский бой. Худ. А. Самарская (53, 47)
в центре Дагестана. Успеху второго имама способствовали и продолжающиеся разногласия между крупнейшими дагестанскими феодалами. Когда в августе 1834 г. несколько тысяч вооруженных мюридов вновь окружили Хунзах, Аслан-хан Казикумухский, стоявший во главе своего войска на границах Аварии, вел переписку одновременно с ханшей Паху- Бике и имамом Гамзат-беком. В письмах к аварским ханам владетель Казикумуха советовал не принимать требований Гамзат-бека, обещая вооруженную помощь, а Гамзат-беку рекомендовал не доверять ханам и полностью истребить всю династию1.
Расправе над аварскими ханами способствовал и Шамиль. После начала переговоров, Паху-Бике и ее сыновья согласились признать верховную власть Гамзат-бека и даже выдали в качестве заложника малолетнего Булач-хана. Но накануне завершающего раунда переговоров Шамиль сообщил Гамзат-беку, что представители ханов пытались
2 См.: Эсадзе С. Штурм Гуниба и пленение Шамиля. — Тифлис, 1909. — С. 69; Гаджи-
Али. Сказание очевидца о Шамиле // С6. сведений о кавказских горцах. Вып. 7. —
Тифлис, 1873. — С. 9—10.
печальный этап антиколониального движения под флагом мюридизма. Деятельность Ташу-Хаджи
в Чечне
Имам Гамзат-бек. Совр. рис. (53, 48)
подкупить его с целью добиться ухода войск имама из Аварии. Разгневанный Гамзат-бек заявил: «В таком случае, значит, не завершилось еще их укрощение и приведение к покорности». Прибывшие на следующий день в ставку имама ханские сыновья Абу-Нуцал-хан и Умма-хан были убиты вместе с большинством сопровождавших их нукеров. При захвате Хунзаха мюриды убили и ханшу Паху-Бике и еще одного из родичей аварских правителей — Сурхай-хана.
Жестокая расправа в Хунзахе вызвала недовольство среди аварцев, чем попытался воспользоваться Шамиль, убеждавший Гамзат-бека: «Отныне самое соответствующее тебе — это сидеть у себя дома в Гоцатле со смирением, раскаянием и сокрушением. А я буду осуществлять твое дело и заботиться о нашей стороне...». Гамзат-бек отказался самоустраниться, после чего Шамиль со своими сторонниками удалился в Гимры: •На обратной дороге он сказал своим товарищам: «Будет добро и благо для нас, если мы оставим Гамзата одного на год до тех пор, пока народ (хунзахский. — Авт.) забудет все то, что мы сделали с ним»1.
- Хроника Мухаммеда Тахира ал-Карахи о дагестанских войнах в период Шамиля. — М.-Л., 1941. — С 64—66.
Глава III. Национально-освободительное движение народов Чечни и Дагестана в 30—40-х гг. XIX в.
Имам Шамиль
Совет Шамиля покинуть Хунзах (при всей его двусмысленности) был в целом разумен — уничтожив немало хунзахцев, Гамзат-бек не мог чувствовать себя среди них в безопасности. В августе 1834 г. Гамзат-бек выступил из Хунзаха в поход против даргинцев. Потерпев поражение у селения Цудахар, Гамзат-бек вернулся в Хунзах, где, согласно некоторым российским источникам, провозгласил себя ханом. Однако его дни были уже сочтены: 7 сентября 1834 г. Гамзат-бек убит в хунзахской мечети. Его убийца Хаджи-Мурат (будущий наиб Шамиля) приходился аварским ханам молочным братом. Часть мюридов Гамзат-бека была истреблена восставшими хунзахцами, часть бежала. Тело самого имама четыре дня лежало без погребения на одной из площадей Хунзаха.
Хунзах. Замок ханов Аварии. Слева мечеть, где был убит имам Гамзат-бек (53, 49)
Избрание имамом Шамиля. Узнав о гибели Гамзат-бека и потере Хунзаха, Шамиль приказал казнить 45 заложников, содержавшихся в Гимрах по распоряжению Гамзат-бека1. Чтобы не допустить ни малейшего умаления делу газавата, немедленно, хотя и формально, имамом провозглашается Шамиль (на сходе в урочище Готлокаль). Фактические же выборы имама духовенством и народным собранием прошли в мечети селения Ашильты. В тот момент молодой Шамиль обладал куда большим весом, нежели шейх Ташу-Хаджи, находившийся в Чечне и не успевший приехать в Дагестан, чтобы набрать себе сторонников. В свое время он примкнул к Гази-Мухаммеду и после гибели первого имама сохранил у себя его личное знамя. Открыто называя себя про-
1 Гаджиев Б. Шамиль: от Гимр до Медины. — Махачкала, 1992. — С. 20.
— 140 —
-начальный этап антиколониального движения под флагом мюридизма. Деятельность Ташу-Хаджи
в Чечне
Знамя первых имамов (53, 49)
должателем дела Гази-Мухаммеда, Ташу-Хаджи не спешил с признанием власти второго имама Гамзат-бека — на его сторону предводитель чеченцев перешел только в середине 1834 г. Чтобы обойти на выборах своего отсутствующего соперника, Шамиль выдвинул от своего имени еще одну кандидатуру, что позволило ему расколоть ряды сторонников Ташу-Хаджи. Определенную роль в избрании Шамиля имамом сыграл его тесть — влиятельный шейх и курейшит (родственник пророка Мухаммеда) Джамалэддин Казикумухский. Однако в избрании имамом, Шамиль, конечно был обязан прежде всего самому себе. Это был, с точки зрения горцев, безупречно образцовый во всех отношениях человек: обладающий необыкновенными духовными и физическими способностями.
Подобно двум своим предшественникам, Шамиль не являлся шейхом. Он не достиг даже степени помощника муршида и формально
Шейх Джамалэддин (Джамалуддин) Кази-Кумухский. Совр. рис. (11, вклейка)
Глава III. Национально-освободительное движение народов Чечни и Дагестана в 30—40-х гг. XIX в.
Имам Шамиль
оставался простым мюридом своего шейха, что не помешало избранию его имамом. Известно также, что его муршид (наставник) Джамалэддин Казикумухский долгое время выступал против антироссийской направленности политической деятельности Шамиля. В одном из своих писем Джамалэддин Казикумухский писал имаму: «Я строго запрещал тебе поднимать оружие на русских, но ты не послушался меня...». Все это лишний раз доказывает, что деятельность дагестанских имамов носила исключительно политический характер.
Первые шаги имама. Несмотря на решительность и жестокость действий нового имама, его власть была поначалу почти эфемерной. Вынужденный под напором российских войск и своих противников из числа дагестанских феодалов оставить Гимры, Шамиль со своей семьей и 18 сохранившими ему преданность мюридами перебрался в другое дагестанское селение — Ашильту. Вскоре к Шамилю присоединились новые сторонники: 30 ашильтинцев и 40 чеченцев. Тем не менее, во главе этой горстки преданных людей Шамилю удалось подчинить ближайшие селения, откуда он начал постепенно восстанавливать свою власть в горном Дагестане.
Успеху третьего имама способствовало и продолжение борьбы между дагестанскими владетелями. После изгнания мюридов из Хунзаха власть в Аварии не раз переходила из рук в руки различных представителей прорусской горской знати. Надо сказать, что все эти владетели управляли Аварией временно, до наступления совершеннолетия малолетнего сына последнего из аварских ханов Абу-Нуцал-хана. В результате быстрой смены правителей, каждый из которых сознавал временный характер своей власти, Авария не имела твердого управления, а имам Шамиль получил столь необходимую ему передышку. Сам Шамиль по-прежнему считал дагестанских владетелей своими главными (на этот период) врагами и всеми доступными ему средствами стремился подорвать власть горской аристократии.
В этих условиях огромное значение для Шамиля имела поддержка, оказанная ему предводителем чеченцев — Ташу-Хаджи. Российские источники относят начало отношений между Шамилем и Ташу-Хаджи только к 1835 г., но это не так. Другое дело, что, имея большое количество сторонников в Чечне, Ташу-Хаджи первое время занимал по отношению к Шамилю фактически независимое положение, оказывая ему поддержку скорее как союзнику, чем верховному правителю. Положение третьего имама в это время действительно оставалось крайне непрочным, его влияние распространялось только на ряд селений гумбетовского, андийского и тилитлинского обществ. Причем тилитлинского муллу Кибит-Магому российские власти считали одним из серьезнейших соперников Шамиля по влиянию на дагестанские народы. Кибит-Магома (чье имя получило известность еще при двух первых имамах) убил ориентировавшегося
начальный этап антиколониального движения под флагом мюридизма. Деятельность Ташу-Хаджи
в Чечне
на Россию тилитлинского старшину Бек-Чанку и установил свою власть над Тилитлем. Собственно, кроме Шамиля, других союзников у Кибит- Магомы не было, чем и объясняется их дружба.
По существу, Шамиль и его сторонники в 1835—1836 гг. едва ли не оказались в роли преследуемых кровников, которых пытались убить родственники и сторонники уничтоженной ханской семьи в Хунзахе. В адрес сел этих мстителей Ташу-Хаджи направил грозные письма из Чечни, угрожая уничтожением. Получив достаточные военные силы от Ташу-Хаджи и Кибит-Магомы, Шамиль напал с ними на села враждебных обществ и покорил их «шариату»1.
Усиление Ташу-Хаджи. Русские источники 30-х гг. XIX в. содержат мало сведений об этом человеке, но они единодушны в плане оценки его огромного влияния на чеченцев. Интересно, что его ближайшие сподвижники — Уди-мулла и Магомет-Хаджи Эфенди — явно лица духовного звания. В середине 30-х гг. XIX в. влияние Ташу-Хаджи более всего ощущалось в восточных районах Чечни, непосредственно прилегающих к Дагестану. Это обстоятельство и заставило Шамиля искать союза с ним. Ближайший замысел Шамиля состоял в том, чтобы, опираясь на поддержку Ташу-Хаджи, прежде всего укрепить свое положение в Дагестане. После этого Шамиль полагал возможным объединенными усилиями открыть широкие наступательные действия как против местных феодалов, так и российских войск.
Отношения между Шамилем и Ташу-Хаджи с самого начала были сложными. Несмотря на то что именно Шамиль провозглашен имамом, опиравшийся на чеченцев Ташу-Хаджи считает для себя возможным время от времени обращаться к нему в почти приказном тоне. Так, в одном из своих писем в 1835 г. Ташу-Хаджи пишет имаму: «После многих приветствий извещаю я, что мы вышли против врагов для восстановления шариата нашего силой оружия, и вы можете выступить с пехотой и конницей против врагов... По получении сего письма не промедлите ни часу... если... при настоящем положении не ополчитесь, то наше первое стремление будет на вас...» Очевидно, не имевший на тот момент массовой поддержки в Дагестане Шамиль не мог активно поддержать действия чеченского предводителя, и следующее письмо Ташу-Хаджи выдержано в гораздо более жестком тоне: «Вы потеряли веру и не исполняете того, что Он (Аллах) законом положил, не руководствуетесь шариатом... Поверьте, что мы готовы с бесконечным войском идти на вас». Весьма показательно, что в одном из своих писем, адресованных ауховским чеченцам, Ташу-Хаджи именно себя называет наместником первого имама Гази-Мухаммеда, тем самым откровенно принижая роль Шамиля2.
: Клюки-фон-Клюгенау Ф. К. Указ. соч. — С. 77—78.
- Покровский К И. Кавказские войны и имамат Шамиля. — М., 2000. — С. 257—258.
— 143 —
Глава III. Национально-освободительное движение народов Чечни и Дагестана в 30—40-х гг. XIX в.
Имам Шамиль
Такое поведение Ташу-Хаджи легко объяснимо: именно в это время ему удается распространить свое влияние на ряд селений Большой Чечни. Он даже направил в подчинявшиеся ему чеченские селения своих представителей (своего рода наибов), которые должны были выполнять административные функции. Так, управлять Ичкерией должен был Саид Игалийский, а Большой Чечней — Уди-мулла.
Одновременно Ташу-Хаджи пытается ввести в Чечне постоянное ополчение и упорядочить набор войск. Кроме того, он начал создавать укрепления в стратегически важных пунктах, например, возле селений Казбек-Юрт на Мичике, Майртупа и Устар-Гордоя в Большой Чечне. Помимо всего прочего, эти укрепления служили местом сбора ополчения, а поэтому в них создавались запасы продовольствия и фуража. Впррчем, создать цельную административную систему по управлению Чечней Ташу-Хаджи так и не смог.
Интересно, что Ташу-Хаджи, которого дагестанские хроники характеризуют «прямоидущим» за приверженность газавату, на практике проявлял известную гибкость в политической деятельности. Например, в письме к кумыкскому приставу князю Мусе Хасаеву он сообщал о своем намерении укреплять шариат среди кумыков постепенно, действуя убеждением в течение 10—15 лет. В то же время от чеченцев он требует принять шариат сразу и полностью, а кроме того, участвовать в газавате. Причем участие в газавате предполагало и нападение на так называемые «мирные» аулы и преследование сторонников российской ориентации из числа горцев.
План «покорения» Кавказа Николая I. В ответ на активизацию антиколониальной борьбы горцев, Николай I, который в отличие от предыдущего императора лично участвовал в планировании военных операций на Кавказе, «начертал» план мероприятий, осуществление которых, по его мнению, должно было привести к прекращению всякого сопротивления со стороны горцев. Прежде всего император требовал ускорить строительство новых укрепленных линий, чтобы разобщить горцев между собой. Особое внимание предполагалось обратить на совершенствование российских коммуникаций, для обеспечения быстрого маневрирования войсками. Существенно облегчить покорение горцев должна была и полная блокада не подчинявшихся российской власти областей, пресечение внешних торговых и политических связей. Кроме того, действуя силой, кавказское командование одновременно должно было принимать меры к тому, чтобы склонить предводителей горцев добровольно признать российское подданство1.
План покорения Кавказа, разработанный российским императором, страдал теми же недостатками, что и множество других предписаний,
1 Акты, собранные Кавказской Археографической комиссией. Т. 8. — Тифлис,
1881. — С. 356.
Начальный этап антиколониального движения под флагом мюридизма. Деятельность Ташу-Хаджи
в Чечне
Император Николай I (53, 93)
поступавших из Санкт-Петербурга к местному начальству — он не учитывал реальную обстановку на кавказском театре военных действий. И без указаний из столицы генерал Г. В. Розен планировал построить в Чечне новое укрепление близ Гудермеса и усилить укрепленную линию от Внезапной до Темир-Хан-Шуры. Однако построить новые укрепления было невозможно без концентрации значительного отряда, поскольку было очевидно, что чеченцы под предводительством Ташу-Хаджи сделают все возможное, чтобы не допустить строительства на своей земле новых крепостей. Несмотря на постоянное прибытие новых подкреплений, войск постоянно не хватало, так как в отличие от предыдущих лет стычки с горцами происходили теперь повсеместно и постоянно. Вынужденное прикрывать от нападений значительную по протяженности границу, российское командование сталкивалось со значительными трудностями всякий раз, когда требовалось сконцентрировать в одном месте войска для проведения крупной наступательной операции.
Военные действия, предпринятые российским командованием в 1836 г., можно рассматривать как приготовления к решительному наступлению вглубь гор. В этой связи заслуживают внимания настойчивые попытки произвести топографическую разведку местности в глубине чеченской и дагестанской территорий. Действовавшие в Чечне отряды генерала Фезе усиленно собирают сведения, необходимые для составления топографических карт. Одновременно из Кахетии в Чечню тайно направлен военный топограф, который сумел не только добраться до крепости Грозной, но и вернуться в Грузию, во второй раз пройдя через чеченскую территорию, но уже другим маршрутом. Группы лазутчиков, в состав которых входили русские военные топографы, засылались и в Дагестан1.
1 Акты, собранные Кавказской Археографической комиссией. — Т. 8. — С. 709.
— 145 —
Глава III. Национально-освободительное движение народов Чечни и Дагестана в 30—40-х гг. XIX в
Имам Шамиль
Шамиль в Дагестане. Несмотря на известные сложности в отношениях с Ташу-Хаджи, дальновидный замысел Шамиля осуществился, и союз с чеченским предводителем позволил ему укрепить свою власть в Дагестане. Весной 1836 г. Ташу-Хаджи во главе нескольких сот вооруженных чеченцев прибыл в Дагестан, где соединился с мюридами Шамиля и Кибит-Магомы. В результате этого похода несколько крупных дагестанских селений (Унцукуль, Игали и некоторые др.) признали власть Шамиля. Оказавший серьезное сопротивление аул Урада был разрушен, а его жители бежали в пределы Аварского ханства. Попытки российского командования сковать активность Ташу-Хаджи карательными экспедициями против чеченских селений успеха не принесли. Здесь Ташу-Хаджи даже обещал колеблющимся селениям, что имам Шамиль, покорив Аварию, прибудет в Чечню для проповеди своего учения1. Более того, в том же 1836 г. мюриды Ташу-Хаджи совершили нападения на селение Старый Аксай, где был расквартирован российский пехотный батальон, и на станицу Щедринскую. В результате последнего нападения погибли 29 жителей станицы и 23 попали в плен.
Одновременно Шамиль вел активную переписку с российским командованием, объясняя свои действия в горном Дагестане желанием пресечь разбои и установить твердый порядок: «.. .то и дело он присылал к генералу Клюгенау письма с уверением в преданности российскому правительству...» Совершенно очевидно, что целью этих несложных дипломатических маневров было стремление выиграть как можно больше времени.
Неудачные действия против Ташу-Хаджи вызвали раздражение в Петербурге. Военный министр указывал кавказскому командованию, что непременным условием любой экспедиции против чеченцев должен быть ее полный успех: «Без сего, предприятия сии не только не достигнут цели, но могут служить еще к распространению влияния мятежника. Рассматривая с сей точки зрения предпринятое полковником Пулло движение против Ташу-Хаджи, не имевшее никаких последствий, Государь Император изволил желать, дабы на будущее время действия сего рода были предпринимаемы с большей осмотрительностью и не иначе как с совершенною уверенностью в успехе»2.
Интересно, что позиции Ташу-Хаджи в Чечне были временно ослаблены не столько в результате экспедиций российских войск, сколько в результате противодействия его политическим устремлениям со стороны некоторых влиятельных чеченских духовных лиц. Так, гермен- чукский мулла хаджи Мухаммед-эфенди не позволил ему укрепиться в этом селении, одном из крупнейших в Большой Чечне. Теперь уже
1 Клюки-фон-Кпюгенау Ф. К. Указ. соч. — С. 99—100.
2 Акты, собранные Кавказской Археографической комиссией. Т. 8. — Тифлис, 1881. — С. 380—381.
начальный этап антиколониального движения под флагом мюридизма. Деятельность Ташу-Хаджи
в Чечне
Ташу-Хаджи нуждается в поддержке со стороны Шамиля, и поэтому весной 1837 г. он угрожает своим противникам в Чечне тем, что в самое ближайшее время из Дагестана на помощь ему должен прийти имам с большим войском1.
Походы генерала Фезе в Чечню. В январе 1837 г. карательная экспедиция под командованием генерал-майора Фезе при участии 8 сотен осетинской и ингушской милиции прошла по аулам Малой Чечни. Не довольствуясь взятием заложников, войска полностью разорили не- кько селений: «При обратном следовании сожжено более 1000 сакель Мартановскому ущелью и несколько сот по Тенгинскому (окрест- 11 Танги-Чу. — Авт.). На другой день докончилось истребление оставшихся еще сакель, запасов хлеба и фуража...»
4 февраля генерал Фезе направился уже в Большую Чечню. Глав- силы чеченцев под командованием сподвижников Ташу-Хаджи аишцентрировались возле селения Шали. Сюда подошли со своими шфтщрьж такие предводители, как Уди-мулла, Магомет-Хаджи Эфен- Шь Веденский кадий Джаватхан, старшина селения Шовдон Магомет, ьсеямшя Центарой Аскир и другие предводители. Возле Шали »№валерт попыталась атаковать российские войска, но была ыо. В течение февраля войска с боями стали продвигаться щфш ^децр^ио ваправлению к Дагестану. Рядом с селением Мескеты роил временное укрепление, намереваясь двигаться ) Ш Андию. После неудачных попыток чеченцев выдвижение российских войск, андийцы, не дожидаясь, пока г ~ зэйзтт ~с га: селений, объявили о согласии выдать аманатов з яыл -=«.та:з* ЭӀКосаости*.
ераж Фезе повернул обратно Кошкельды. Подводя итоги [з российских военных исто- ш ге герал Фезе. — Авт.) пошел в шкщтЧщштш девс&учне морозы, наделал там чудес, навел страх на \ одних наказал других и этим вооружил против ь и виноватых». Вернувшись на Чеченскую равнину, Фезе : потерях, понесенных российскими войсками в Дагес- :■ генерал Клюки фон Клюгенау наносил вспомогательный удар ж допустить переброски дагестанских отрядов в Чечню на чеченцам. В числе погибших оказалось и несколько старших офштеров, в том числе командир Апшеронского полка генерал-майор т-4 Ивеяич2.
f 3«*г_4. Б. Ташев-Хаджи — сподвижник Шамиля. — Грозный, 1992. — С. 16.
: См_: Акты Кавказской Археографической Комиссии. Т. 8. — С. 716—728; Движение
горцев Северо-Восточного Кавказа в 20—50-е гг. XIX в. — С. 155—156, 162—165;
Ктки-фон-Кпюгенау. Указ. соч. — С. 99—113; и др.
— Н7 —
Глава III. Национально-освободительное движение народов Чечни и Дагестана в 30—40-х гг. XIX в.
Имам Шамиль
Тем не менее, поражение отрядов Ташу-Хаджи в Ичкерии позволило российскому командованию приступить к более решительным действиям в Дагестане. Главной задачей русских было сохранить под своей властью Аварию, что считалось непременным условием для решительного поражения Шамиля. Сразу же после истребления аварских ханов Гамзат-беком планировалось разместить постоянный гарнизон в Хунзахе, но исполнение этого решения откладывалось ввиду общего недостатка войск на Левом фланге. Кроме того, российское командование намеревалось нанести удар по главному оплоту Шамиля — селению Ашильты.
События 1837 г. в Дагестане. Победы Шамиля. Ожидая нового наступления российских сил, Шамиль сумел собрать все имевшиеся у него вооруженные отряды, в том числе и из Чечни. Российские источники указывают, что защищать имама прибыли Ташу-Хаджи, Уди- мулла и еще целый ряд чеченских предводителей. В мае 1837 г. отряд под командованием все того же генерала Фезе вступил в Хунзах, где за неделю было построено укрепление. Укрепив столицу Аварии, Фезе двинулся к селению Ашильты, которое взял штурмом. Войскам удалось выбить мюридов Шамиля и еще из нескольких селений, в том числе и Тилитля, где правил Кибит-Магома. Тем не менее, общий успех операции оказался под вопросом. Большие потери (30 офицеров и около 1 тысячи нижних чинов) вынудили генерала Фезе поспешно вернуться в Хунзах, как только предводители горцев согласились прекратить сопротивление и выдать заложников. Положение русского отряда в горах было настолько опасным, что Фезе даже не стал дожидаться формального завершения переговоров, поручив Магомет-Мирзе-хану Казикумухскому принять от Шамиля присягу и заложников.
Шамиль и двое других предводителей мюридов действительно выдали заложников, но весьма показателен текст «присяги», которую они при этом подписали: «Выдавая заложников Магомет-Мирзе-хану, мы заключаем мир с Российским Государством, который никто из нас не нарушит, с тем однакож условием, чтобы ни с какой стороны не было оказано и малейшей обиды против другой; если же которая-либо сторона нарушит данные ею обещания, то она будет считаться изменницею, а изменник почитается проклятым перед Богом и перед людьми». По существу, это был равноправный договор, подобный которому Россия не заключала на Кавказе последние 100 лет.
Комментируя итоги экспедиции Фезе и в особенности подписанный с руководителями горцев договор, российские официальные историки не скрывали своих чувств: «С трудом верится, чтобы все это происходило в действительности; но, к сожалению, официальные документы уничтожают всякое сомнение»1.
1 Богуславский Л. История Апшеронского полка. Т. 1. — СПб., 1892. — С. 472.
— 148 —
Начальный этап антиколониального движения под флагом мюридизма. Деятельность Ташу-Хаджи
в Чечне
Поспешное отступление отряда генерала Фезе сделало Шамиля победителем, несмотря на то что ему пришлось выдать заложников. Поэтому Фезе, получив текст «присяги», потребовал заменить его. Следующий вариант, присланный Шамилем, начинался со слов: «Это письмо объясняет заключение мира между Российским Государем и Шамилем...»1 2
В сентябре 1837 г. командующий войсками в Северном Дагестане Ф. К. Клюки фон Клюгенау лично встречался с Шамилем, пытаясь уговорить его приехать в Тифлис для встречи с императором Николаем I. Причем Клюки-фон-Клюгенау просил Шамиля, чтобы в Тифлис приехали с ним и наиболее влиятельные лица: Ташу-Хаджи, Кибит- Магома и карахский кадий Абдурахман. Однако последние отказались ехать сами и отсоветовали Шамилю ехать в Тифлис на предполагаемую встречу с императором Николаем I. Личный хроникер Шамиля писал об этих переговорах: «Клюки фон Клюгенау уговаривал и упрашивал Шамиля выйти для встречи их Николая и убеждал в том, что тот окажет ему милость, возвеличит его и назначит управителем над делами всех мусульман Дагестана и что не будет от него никакой измены». Таким образом, Шамилю предлагали признать его власть над Дагестаном в обмен на признание им российского суверенитета над собой.
Однако российский генерал выбрал неудачное время для подобного предложения. Заставив Фезе отступить, Шамиль упрочил свое положение и не видел причин, по которым ему следовало променять уже имевшийся у него статус фактически независимого правителя на высокую должность в российской государственной машине. Переговоры завершились безрезультатно: Шамиль не только не захотел ехать в Тифлис, но даже отказался пожать руку российскому генералу. Много лет спустя, вспоминая этот эпизод, Шамиль утверждал, что он хотел принять предложение генерала Клюгенау, но не мог единолично решать все важные вопросы без предварительного согласования со своими ближайшими сподвижниками: Кибит-Магомой, кадием Абдуррахма- ном и Ташу-Хаджи. Таким образом, и в 1837 г., несмотря на возросший авторитет, Шамиль испытывает зависимость от своего окружения2.
В течение 1838 г. российское командование не предпринимало крупных наступательных действий, как в Чечне, так и в Дагестане. Главные усилия сосредоточены на закреплении уже достигнутых позиций: укрепляются имеющиеся крепости и возводятся новые укрепления, в Чечне прокладываются новые просеки, повсеместно строятся новые и расширяются уже существующие дороги, имеющие военное значение. Таким образом, подготавливались условия для нанесения решающего удара по горцам.
1 Цит. по кн.: Павленко П. А. Шамиль. — Махачкала, 1990. — С. 49.
: Клюки-фон-Клюгенау Ф. К Указ. соч. — С. 114—123.
Глава III. Национально-освободительное движение народов Чечни и Дагестана в 30—40-х гг. XIX в.
Имам Шамиль
Генерал-лейтенант Ф. Клюки-фон-Клюгенау (12, вклейка)
Битва за Чечню и Дагестан в 1839 г. Сражение под Ахульго.
Встревоженный приготовлениями русских, Шамиль собрал «...большой совет из всех ученых и почетных людей для обсуждения создавшегося положения». К разочарованию имама, большинство собравшихся высказалось за переселение в Чечню, которую они считали более удобным местом для успешной обороны, чем Дагестан. Шамиль отклонил это предложение, поскольку не считал возможным без боя сдать позиции в Дагестане, завоеванные с таким трудом. Возможно также, что он опасался усиления политической роли Ташу-Хаджи. Во всяком случае, имам настоял на том, чтобы приступить к созданию системы укреплений вокруг селения Ахульго, считавшегося одним из самых неприступных мест на Кавказе.
Учитывая опыт 1837 г., когда российские войска сравнительно легко овладели Ахульго и разрушили воздвигнутые здесь каменные башни и стены, — новые укрепления строили и глубоко в земле. Ахульго с трех сторон окружен неприступными обрывами, с четвертой стороны горцы воздвигли целую систему оборонительных сооружений: в скалах были вырублены укрытия для бойцов и жителей, которые сообщались между собой крытыми ходами. Не только скалы, на которых расположено Ахульго, но и подступы к ущельям оказались перекрыты завалами и другими фортификационными сооружениями. Шамиль даже распорядился прорубить в скалах небольшую канаву, по которой вода из речки Ашильтинки была проведена прямо в селение. На строительстве
Начальный этап антиколониального движения под флагом мюридизма. Деятельность Ташу-Хаджи
в Чечне
Штурм Ахульго в 1839 г. Худ. Ф. Рубо (11, вклейка)
укреплений, продолжавшемся в течение более чем одного года, помимо жителей Ахульго работало 500 мюридов Шамиля.
Общая стратегия Шамиля состояла в том, чтобы сковать русские войска в дагестанских горах упорной обороной, затем фланговыми ударами отрезать их от источников снабжения и, измотав постоянными нападениями, уничтожить или, по крайней мере, вынудить к отступлению с большими потерями. Нанесение ударов по коммуникациям российских войск было возложено на чеченские отряды Ташу-Хаджи, которые должны были приступить к активных действиям после того, как русские втянутся в горы.
Полностью осуществить этот замысел не удалось, так как русское наступление в 1839 г., как и два года назад, началось с Чечни. Российское командование учло ту угрозу, которая исходила из Чечни и сочло необходимым предварительно разгромить отряды Ташу-Хаджи. В мае специально сформированный «Чеченский отряд» вторгся из крепости Внезапной в Ичкерию. После нескольких ожесточенных боев генералу П. X. Граббе удалось овладеть главными опорными пунктами Ташу-Хаджи — укрепленными селениями Мескеты и Саясан. Причем чеченский предводитель едва не был захвачен в плен. Российский командующий, впрочем, не решился продвинуться дальше к аулу Веной, где Ташу- Хаджи сосредоточил оставшиеся у него силы. Вернувшись в крепость Внезапную, П. X. Граббе дал краткий отдых войскам и в конце мая начал наступление на Дагестан1.
РГВИА, Ф. 62. On. 1. Д. 2. Л. 33.
Глава III. Национально-освободительное движение народов Чечни и Дагестана в 30—40-х гг. Xix =
Имам Шамиль
Шамиль попытался остановить продвижение российских войск возле селения Аргуани, где произошли кровопролитные бои. 11 июня началась осада Ахульго, которая продолжалась до конца августа. Резиденцию Шамиля защищали до трех тысяч мюридов, собравшихся здесь вместе со своими семьями. Бои за Ахульго отличались не только упорством, но и кровопролитностыо: в живых не осталось почти никого из его защитников. Общие потери отряда П. X. Граббе составили 140 офицеров и более 2300 нижних чинов, в том числе убитыми на поле боя 25 офицеров и 487 солдат.
За несколько дней до падения Ахульго Шамиль начал переговоры и выдал в качестве заложника своего старшего сына Джамалэддина, однако российский командующий настаивал на капитуляции гарнизона Ахульго и сдаче в плен самого Шамиля. Шамиль ответил отказом, ссылаясь на то, что его враги из числа дагестанских владетелей могут в этом случае легко расправиться с ним: «...прошу Вас не требовать меня... около Вас есть мусульмане, имеющие со мною жестокую вражду. Я опасаюсь их и по обычаю края стыжусь их». Кроме того, имам просил оставить его жить в Гимрах, обещая стать частным лицом.
22 августа 1839 г. последние укрепления Ахульго были заняты российскими войсками, но их триумф оказался неполным: Шамиль в сопровождении трех десятков родственников и ближайших мюридов сумел выскользнуть за кольцо окружения. Последние из оставшихся в живых защитников Ахульго сопротивлялись еще неделю, отстреливаясь из отдельных подземных укрытий.
Сам П. X. Граббе не сомневался, что нанес решительное поражение своему противнику: «Несомненно, что настоящая экспедиция не только поведет к успокоению края, где производились военные действия, но отразится далеко в горах Кавказа... Партия Шамиля истреблена до основания; но это только частный результат: гораздо важнее считаю я нравственное влияние, произведенное над горцами успехом русского оружия»1.
В честь взятия Ахульго, по распоряжению Николая I была отчеканена нагрудная медаль.
Однако успех под Ахульго не был закреплен российским командованием: отряд П. X. Граббе очистил захваченную с таким трудом территорию, в горном Дагестане не было воздвигнуто новых укреплений, а батальон, расквартированный в Хунзахе, мог защищать только одно это селение. В результате Дагестан немедленно утратил внешнюю покорность, как только широкое восстание охватило соседнюю Чечню.
1 См: Акты, собранные Кавказской Археографической комиссией. Т. 9. — Тифлис, 1884. — С. 287; Милютин Д. И. Описание военных действий 1830 года в Северном Дагестане. — СПб., 1850. — С. 141—142; Богуславский Я. История Апшеронского полка. Т. 1. — СПб., 1892. — С. 514; Дегоев В. Имам Шамиль: пророк, властитель, воин. — С. 192—196.
Освободительное движение в Чечне и Дагестане в 1840—1845 гг. Имам Шамиль
§ 2. Освободительное движение в Чечне и Дагестане в 1840—1845 гг Имам Шамиль
Положение в Чечне. Несмотря на победные реляции П. X. Граббе, командование Кавказской линии сознавало, что покорение горцев еще не завершилось. Затянувшаяся экспедиция к Ахульго не позволила в том же году принять меры по закреплению российского влияния в горах. Поэтому на 1840 г. было запланировано строительство новых укреплений, в частности, возле Герзель-аула и Чиркея. Но наиболее важным считалось возведение крепости у чеченскоих селений, расположенных у входа в Аргунское ущелье. Именно крепость на Аргуне должна была стать ключом к горной Чечне. Кроме того, здесь же начинались дороги в горный Дагестан.
Не дожидаясь теплого времени года, когда можно будет приступить к строительству новых укреплений, кавказское командование в 1839—1840 гг. предприняло две вооруженные экспедиции в Чечню. В отличие от предыдущих лет войска почти не встретили сопротивления. В декабре 1839 г. генерал-майор Пулло прошел 28 селений без единого выстрела, собрал с чеченцев 4 тысячи рублей серебром, конфисковал 455 ружей и захватил 97 абреков. Во время второго похода в январе 1840 г. также удалось собрать с чеченских селений подати, оружие и арестовать несколько десятков «неблагонадежных лиц». В конце января 1840 г. П. X. Граббе уведомил военного министра «...о полнейшем спокойствии на левом фланге Кавказской линии», что в целом соответствовало действительности: впервые за много лет в течение всей зимы не было зафиксировано ни одного выступления чеченцев против российскх
Русские войска в Малой Чечне. 1840. Из альбома М. Лермонтова (53, 99)
— 153 —
Глава III. Национально-освободительное движение народов Чечни и Дагестана в 30—40-х гг. XIX =
Имам Шамиль
укреплений или станиц на своих землях. Известное беспокойство вызывало присутствие Шамиля в Чечне, но и в этом случае российские власти полагали, что его влияние среди горцев значительно подорвано. Если в 1838 г. за убийство Шамиля было обещано вознаграждение в 1 тысячу червонцев, в начале 1840 г. награда за его голову составляла всего 100 червонцев.
Начало деятельности имама Шамиля в Чечне. Положение Шамиля в Чечне поначалу было очень непростым, несмотря на то что встретили героя Ахульго весьма радушно. Первые месяцы на чеченской территории он провел в селении Веной в Ичкерии, где состоялись его встречи со в семи предводителями чеченцев: Ташу-Хаджи, Шоаип-муллой из Центороя, Хаджи-Мухаммедом из Герменчука, Джаватханом из Дарго, беноевским старшиной Байсангуром и др. Несмотря на формальный титул имама Чечни и Дагестана, реально Шамиль находился в полной зависимости от принимавших его чеченских лидеров. Шамиль быстро понял, что ему не удастся подчинить Ичкерию, а потому перебрался в горное Шатойское общество, где влияние Ташу-Хаджи не было столь ощутимо. Интересно, что в Аргунском ущелье сторонниками Шамиля стали двое старшин, имевшие титул князей: Мааш Дзумсойский и Ахмет-хан Муртузалиев.
В Шатое Шамиль стал приобретать серьезное влияние после зимних экспедиций Пулло против равнинных чеченских селений. В своем стремлении максимально ослабить возможности Чечни к сопротивлению российское командование попыталось разоружить чеченцев. Не довольствуясь изъятием почти 1 тысячи ружей за две экспедиции, командование предложило чеченским селениям уплачивать подати не только деньгами, но и оружием, при этом каждые 10 дворов должны были сдать по одному ружью. Сама по себе эта мера была позорной для горцев, для которых оружие всегда было предметом гордости. Горцы стеснялись брать оружие даже с убитого врага, ибо такое действие влекло отдельное наказание по адату.
В довершение всего претворение в жизнь этого крайне непопулярного среди чеченцев решения было поручено все тому же генерал- майору Пулло, о котором сами российские источники сообщали, что это «...человек крайне жестокий, неразборчивый в средствах и часто несправедливый». Между прочим, некоторые из российских генералов предупреждали, что попытка разоружения горцев может вызвать взрыв всеобщего возмущения. Например, генерал П. X. Граббе в специальной записке предостерегал, что, разоружив «мирных» горцев, власти тем самым оставят их беззащитными перед нападениями «немирных» соседей. По его мнению, разоружение должно применяться в качестве наказания и лишь по отношению к обществам, не признающим русской власти. Что касается «мирных» горцев, то в интересах России сохранять
Освободительное движение в Чечне и Дагестане в 1840—1845 гг. Имам Шамиль
Имам Шамиль с мюридами. Худ. Х.-Б. Мусаяссул (11, вклейка)
за ними право на ношение оружия. В качестве примера он указывает, что вооруженные кумыки собственными силами отражают нападения со стороны мюридов Ташу-Хаджи из Ичкерии1.
В 1840 г., однако, никто не попытался развеять опасения чеченцев по поводу ожидавшихся репрессий. Двое чеченских старшин специально приезжали к влиятельному на Тереке князю Бековичу-Черкасскому с просьбой передать генералу П. X. Граббе «прошение от многих чеченцев составленное, в коем они жалуются на притеснения и несправедливости генерал-майора Пулло». Бекович-Черкасский отказался принять жалобу, а по Чечне уже ползли упорные слухи, что Пулло готовит новую экспедицию, на этот раз с целью полного разоружения всего населения. Страх, что вслед за разоружением власти введут в Чечне общероссийские крепостнические порядки, позорные для людей благородного сословия, коими считали себя практически все чеченцы, заставил горцев взяться за оружие. Как признавал генерал Галафеев, «самая буйная» часть чеченцев «.. .предложила взяться за оружие и она-то привлекла к себе Шамиля, который, воспользовавшись сим случаем, явился посреди их с шайкою мюридов...»2.
Как это бывало и раньше, крестьяне с известным недоверием относились и к собственным предводителям, опасаясь чрезмерного усиления их власти. Именно поэтому чеченцы традиционно предпочитали
1 РГВИА. Ф. 62. On. 1. Д. 2. Л. 60—бОоб.
2 РГВИА. Ф. 62. On. 1. Д. 19. Л. 3-3 об.
Глава III. Национально-освободительное движение народов Чечни и Дагестана в 30—40-х гг. Х'л =
Имам Шамиль
приглашать на княжение феодалов от соседних народов: они не имели родственной поддержки в среде чеченцев и могли быть сравнительно легко изгнаны. Это же обстоятельство сыграло определенную роль в решении народных собраний чеченских обществ и отдельных селений в начале 1840 г. обратиться именно к Шамилю с просьбой возглавить восстание.
Когда представители равнинных обществ Чечни прибыли в Шатой для переговоров с Шамилем, последний воспользовался этим обстоятельством для того, чтобы сразу же усилить свое влияние и в горной Чечне. По информации ал-Карахи, собрав шатойцев, он обратился к ним с речью: «Вы, поистине, мои хозяева и мое прибежище, когда мир стал для меня тесен; и вы — моя опора, когда отлучили меня люди. Вы видите, что те зовут меня для исправления их дел, выпрямления их порядков и установления среди них шариата. Я хочу, чтобы вы были возглавляющими это дело и моими помощниками в нем. Если вы согласны на то, что я хочу — добро вам, идите тогда со мной. Иначе я с ними вернусь к вам, и уж тогда мы установим среди вас наше дело насильно».
Следует отметить, что известное влияние на события в Чечне сыграли и известия о войне между египетским правителем Мухаммедом Али и турецким султаном, которому помогали войсками европейские державы, включая и Россию. Более того, на Северном Кавказе стали распространяться какие-то «прокламации» от имени Мухаммеда Али с требованием подчинения имаму Шамилю и ведения войны с Россией1.
Открытие Шамилем военных действий в Чечне. Таким не хитрым способом Шамилю удалось укрепить свою власть в Чечне, что позволило ему в скором времени вернуть под свой контроль и большую часть Дагестана. Одновременно Шамиль делал все возможное, чтобы скрыть подготовку восстания и ввести в заблуждение российское командование относительно своих намерений. В марте 1840 г. Шамиль прибыл в селение Урус-Мартан в сопровождении охраны из 200 мюридов. Здесь к нему присоединилось множество жителей Малой Чечни, многие из которых начали было переселяться со своими семьями в горы. И хотя вскоре генерал Пулло отбросил отряд Шамиля, шедший к Алхан-Юрту (в 20 верстах от Грозной), ему не удалось предотвратить распространение восстания на все новые чеченские селения.
Вскоре волнения охватили всю Чечню, включая Надтеречные районы, долгое время остававшиеся спокойными. Интересно, что здесь выступление чеченских крестьян оказалось в значительной степени направленным против местных феодальных владетелей. Правившие в притеречных селениях капитан Мундар Эльдаров, штабс-капитан Кагерман Алхасов,
1 Хроника Мухаммеда Тахира ал-Карахи о дагестанских войнах в период Шамиля. — М.-Л., 1941. — С 124; Гаммер М. Указ. соч. - С. 166—168.
— 156 —
Освободительное движение в Чечне и Дагестане в 1840—1845 гг. Имам Шамиль
братья Турловы — подпоручик Кучук и прапорщик Айдемир и другие представители знати вынуждены были бежать в казачьи станицы на левом берегу Терека. Восставшие крестьяне захватывали имущество чеченских владетелей и жестоко расправлялись не только с ними самими, но и их родственниками. Так, был убит брат офицера Орцу Чермоева (находившегося на постоянной русской службе), захвачены в плен двое детей князя К. Алхасова и т. д.
Не надеясь удержать свои селения от русских, летом 1840 г. Надтеречные чеченцы массами переселяются в Малую Чечню под защиту Шамиля, туда же спешно направляется отряд генерала Галафеева. Последовал целый ряд сражений, подводя итоги которым российское командование указало: «Он (Галафеев — Авт.) сделал некоторый вред чеченцам... но и сам претерпел значительную потерю в людях, особенно 11 июля, в деле на реке Валерик, где войска наши неожиданно наткнулись на весьма крепкую позицию...»1 Кровавое сражение на маленькой горной речке в дремучем Гехинском лесу стоило жизни многим сотням горцев и русских солдат, остервенело дравшихся лицом к лицу холодным оружием. Речка окрасилась от человеческой крови в красный цвет и долго еще оставалась непригодной для питья. Это сражение, благодаря гению русского поэта М. Ю. Лермонтова, вошло в историю гуманистической мысли человечества: «И с грустью тайной и сердечной / Я думал: «Жалкий человек! / Чего он хочет!... небо ясно, / под небом места много всем, / Но беспрестанно и напрасно / Один враждует он — зачем?»
Активными действиями российских войск удалось предотвратить захват горцами ряда российских укреплений, но в целом, как признавало командование Кавказской линии, 1840 г. был благоприятным для Шамиля, которому удалось благодаря поддержке чеченцев вос-
М. Ю. Лермонтов. Автопортрет (54, вклейка)
Акты, собранные Кавказской Археографической комиссией. Т. 9. — Тифлис,
1884. — С. 291.
Глава III. Национально-освободительное движение народов Чечни и Дагестана в 30—40-х гг. XIX в.
Имам Шамиль
становить утраченные позиции в Дагестане. Несомненной удачей для Шамиля был переход на его сторону Хаджи-Мурата, убийцы имама Гамзат-бека, имевшего большое влияние среди аварцев. По доносам временного правителя Аварского ханства Ахмет-хана Мехтулинско- го, Хаджи-Мурат был арестован, но сумел бежать и присоединился к своему кровнику — Шамилю.
Что касается военных действий царских войск против чеченских селений, то они не принесли ожидаемого результата: «...время для усмирения Чечни было упущено... действия наших войск не только не укротили чеченцев, но еще больше раздражали их.. .»*
Немало трудностей для российского командования представляла и новая тактика, принятая Шамилем на вооружение прежде всего в Чечне. Избегая по возможности открытых столкновений с крупными отрядами российских войск, горцы отдавали предпочтение внезапным нападениям на небольшие укрепления и отдельные воинские команды. Весьма активно горцы действовали на коммуникациях, стараясь прервать сообщение как между отдельными укреплениями, так и между находящимися «в поле» войсками. Пользуясь тем, что горские винтовки стреляли дальше солдатских ружей, чеченцы с большого расстояния
Эпизод сражения на реке Валерик в Малой Чечне 11 июля 1840 г. Худ. М. Ю. Лермонтов и Г. Г. Гагарин (8, 92)
1 Акты, собранные Кавказской Археографической комиссией. Т. 9. — Тифлис, 1884. —
С 292.
Освободительное движение в Чечне и Дагестане в 1840—1845 гг. Имам Шамиль
подвергали непрерывному обстрелу продвигавшиеся по их территории крупные соединения. Если таким образом удавалось в достаточной степени ослабить колонну, чеченцы переходили в ближний бой, предпринимая атаки уже с целью полного разгрома и уничтожения противника.
Хуже того, 6 июня 1840 г. ближайшие сподвижники Шамиля Ах- верды-Магома и Джават-хан разбили русский отряд под Назранью. Это заставило галашевцев и карабулаков (западные малочеченские общества) присоединиться к Шамилю. Следом начались волнения среди «мирных» ингушей1.
Укрепление власти Шамиля в Чечне. Падение влияния Ташу-Хад-
жи. Свое быстрое возвышение в Чечне Шамиль поспешил использовать для того, чтобы окончательно подорвать влияние своего могущественного союзника — Ташу-Хаджи. В отличие от «прямоидущего» Ташу- Хаджи, требовавшего от чеченцев соблюдения шариата во всей полноте, Шамиль, как подчеркивали русские источники, сделал жителям Чечни в этом вопросе «массу послаблений», чем еще больше привлек их на свою сторону2.
Кроме того, в противовес Ташу-Хаджи Шамиль выдвигает вперед других чеченских предводителей, в частности, Джаватхана и Шоаип- муллу. Последний пользовался в Чечне большим авторитетом не только благодаря личным качествам, но и из-за своего отца Мухаммед-Хаджи, известного своей ученостью и дважды совершившего хадж в Мекку. Еще молодым человеком Шоаип-мулла участвовал в чеченском восстании 1825—1826 гг. под руководством Бейбулата Таймиева. По российским источникам, позднее он примкнул к Ташу-Хаджи и являлся одним из ближайших его сподвижников, но затем перешел на сторону Шамиля. Организовав в начале 1840 г. на территории Чечни четыре наибства, Шамиль назначил наибом Малой Чечни дагестанца Ахверды-Магому, наибом Большой Чечни — Джаватхана, наибом Мичика (Ичкерия) — Шоаип-муллу, а Ташу-Хаджи поручил возглавить Аух. Назначение Ташу-Хаджи простым наибом, к тому же не самого важного в Чечне наибства, уже само по себе говорит о падении его влияния. А главное, Ташу-Хаджи оказался отстраненным от непосредственного управления Ичкерией, где находилось наибольшее число его сторонников.
По существу, в 1840—1841 гг. Шамиль сделал вотчину Ташу-Хаджи — Ичкерию, своей основной базой, где по примеру предшественника соорудил ставку в стратегически важном месте — районе аула Дарго (или Дарго-Ведено). Здесь, по существу, сложилась столица имамата — молодого государства, воплощавшего в себе национальные
1 См.: Движение горцев Северо-Восточного Кавказа в 20—50-е гг. XIX в. — С. 262; Гаммер М. Указ. соч. — С. 173.
2 Закс А. Б. Ташев-Хаджи — сподвижник Шамиля. — Грозный, 1992. — С. 20.
— 159 —
Глава III. Национально-освободительное движение народов Чечни и Дагестана в 30—40-х гг. Х1> =
Имам Шамиль
чаяния народов Чечни и Дагестана и служившего делу организация антиколониальной борьбы.
Летом 1840 г. Шамиль во главе своих наибов направился в Дагестан, однако во время этого похода возникли серьезные противоречия между имамом и Ташу-Хаджи. Как указывается в некоторых источниках, поводом к ссоре между предводителями горцев послужил вопрос о разделе военной добычи. На самом деле, за столь простой формулировкой стояло серьезное столкновение интересов в политической верхушке формирующегося государства горцев — имамата.
Имам Шамиль, стремившийся к созданию централизованного государственного аппарата управления, одновременно пытался сделать военные трофеи одним из важнейших средств пополнения государственной казны. При этом, помимо той части трофеев, что передавались в казну, имам получал в свое личное распоряжение одну пятую часть всей добычи. И, наконец, еще до начала раздела трофеев, Шамиль частенько забирал себе еще какую-то их часть. Совершенно очевидно, что действия имама направлены на то, чтобы ограничить своеволие наибов и превратить их из самостоятельных политических фигур в государственных чиновников, материально зависящих от имама.
Еще одним средством укрепления власти имама в Чечне должно было стать переселение сюда дагестанцев, сторонников Шамиля. К этой практике имам начал прибегать уже летом 1840 г., и для обустройства беженцев выделялась часть земель, принадлежащих чеченским селениям и обществам. Объективно, действия Шамиля подрывали в Чечне сложившиеся формы землевладения, что вызывало недовольство. Не случайно, что Ташу-Хаджи, выступивший против некоторых действий имама, осенью 1840 г. был отстранен от должности наиба именно «по наговорам» дагестанских переселенцев.
Смещение Ташу-Хаджи с должности ауховского наиба не сделало управление Чечней более легким делом. Заменивший его некий Булат- Мирза был в том же году демонстративно убит ауховцами, а срочно направленный в Аух талантливый администратор и выдающийся воин Ахверды-Магома оказался вынужденным пойти на уступки чеченцам. В частности, была распущена дагестанская дружина при наибе Ауха. Несмотря на то что вскоре Шамиль формально примирился с престарелым Ташу-Хаджи, он так и не позволил чеченскому шейху вернуться к активной политической деятельности. Умер Ташу-Хаджи в 1843 г. и был похоронен в селении Саясан, где и сейчас его могила почитается последователями накшбандийского шейха.
Весной 1841 г. Шамиль предпринял поход к Назрановскому укреплению, рассчитывая на поддержку ингушей, волнения среди которых отмечались еще в предыдущем году. Однако его расчеты не оправдались, и Шамиль вернулся в Чечню, предварительно предав огню
Освободительное движение в Чечне и Дагестане в 1840—1845 гг. Имам Шамиль
Военные действия в 1841—1842 гг. (12, 288—289)
— — действия русской армии; ® — крепости;
— — действия горцев; п — населенные пункты;
границы имамата;
1 — Шамиль 08.III.1841; 2 — Шамиль 06.IV. 1841; 3 — Ахверды-Магома 28.IV. 1841;
4 — Граббе VI—IX. 1841; 5 — Шамиль 1841; 6 — Граббе 15—30.Х.1841;
7 — Шуаиб-мулла 11.XI. 1841; 8 — Кибит-Магома XI. 1841; 9 — Граббе V— VI. 1842;
некоторые ингушские селения по Сунже, Назранке и Камбилеевке, с целью принудить ингушей к переселению на территорию имамата. Тогда же некоторая часть его сторонников среди ингушей переселилась в Малую Чечню.
На другом фланге, в Дагестане, российские войска попытались переломить ситуацию в свою пользу, начав строительство укрепления возле селения Чиркей. Чтобы удержать в подчинении Аварию, пришлось направить сюда 17 рот при 40 орудиях, что, однако, не гарантировало преданности ее жителей. Одновременно велись работы по укреплению Сунженской линии. Строительство двух новых укреплений — Казах- кичу и Закан-Юртовского, позволило полностью исключить передвижение крупных чеченских отрядов за Сунжу и еще больше изолировало Притеречье от остальной Чечни. Тем не менее, 1841 г. ознаменовался крупным провалом: осенью со стороны Чечни горцы вновь совершили успешное нападение на Кизляр, где «.. .кроме огромной добычи, отняли у нас одну пушку и на возвратном пути одержали значительную поверхность над генерал-майором Ольшевским, хотевшем пресечь им отступление...»1.
Акты, собранные Кавказской Археографической комиссией. Т. 9. — Тифлис,
1884. — С. 298.
Глава III. Национально-освободительное движение народов Чечни и Дагестана в 30—40-х тси
Имам Шамиль
Даргинская экспедиция 1842 г. Поражение русских войск. В 1842 г. император Николай I потребовал предпринять решительные меры по подавлению сопротивления горцев Северо-Восточного Кавказа и главной целью счел горный Дагестан: «...полагаю, что занятие Чиркея должно считаться весьма полезным для успокоения собственно пространства от Сунженской линии, Терека до Каспийского моря и владений Тарковских. Но далее, к Мехтулинскому и Аварскому владениям, не считаю сделанного достаточным; надо ближайше на месте обсудить, какие точки нужно занять, кроме Хунзаха, чтобы владычество Наше и спокойствие края считать прочным»1.
Что касается Чечни, то единства мнений о том, как действовать против чеченцев, не было. Командующий Отдельным Кавказским корпусом генерал Е. А. Головин считал целесообразным ограничиваться обороной своих укреплений, направив главные усилия на блокаду охваченных восстанием районов. Однако командовавший Кавказской линией генерал П. X. Граббе настаивал на крупной экспедиции по направлению к главной резиденции имама Шамиля — селению Дарго. В конечном итоге П. X. Граббе осуществил задуманную операцию.
В мае 1842 г. Шамиль внезапно захватил Казикумухское ханство и назначил в эту область Дагестана своего наиба. Бои против подошедших российских войск потребовали подкреплений, и в Казикумух перебрасываются новые отряды, прежде всего из Чечни. В развернувшихся в начале июня боях имам поставил войска генерала Аргутинского в очень трудное положение и сковал здесь русские войска.
Тем временем 11 июня 1842 г. генерал П. X. Граббе выступил во главе 10-тысячного отряда из Герзель-Аульского укрепления на реке Аксай с целью быстрого достижения и уничтожения центра Ичкерии и имамата — аула Дарго. Поскольку отряду предстояло продвигаться исключительно по территории враждебно настроенных чеченцев, русские оказались вынужденными вести с собой огромный обоз с продовольствием, вооружением и боеприпасами. Кроме того, каждый солдат нес на себе запас продовольствия на восемь дней, весом около 30 кг, а также 60 патронов. Одно это обстоятельство делало невозможным быстрое продвижение через покрытые густым лесом горы Ичкерии. Рейд русских войск еще более затрудняли начавшиеся обильные дожди, превратившие плодородную почву Черных гор в грязь, почти непроходимую для обоза и артиллерийских повозок.
В отсутствие Шамиля, военными действиями против отряда П. X. Граббе руководил самый авторитетный из чеченских наибов — Шо- аип-мулла, на помощь к которому прибыли отряды из других чеченских наибств. Вместо Джаватхана (получившего смертельное ранение еще
1 Цит. по кн.: Богуславский П. История Апшеронского полка. Т. 2. — СПб., 1892. —
С. 43.
Освободительное движение в Чечне и Дагестане в 1840—1845 гг. Имам Шамиль
Генерал-лейтенант П. X. Граббе (12, вклейка)
до начала экспедиции П. X. Граббе) в боях участвовал заменивший его Соип (Сугаип)-мулла из Эрсеноя. Чрезвычайно активно действовал также ауховский наиб Уллубий-мулла. На пути следования российских войск спешно создавались защитные сооружения, преимущественно обширные завалы. Общая численность чеченских отрядов по российским оценкам не превышала 1,5 тысяч бойцов, однако и их оказалось достаточно, чтобы в конечном итоге нанести поражение русским войскам.
Начиная со вторых суток похода, воинские колонны находились почти под непрерывным обстрелом (в том числе и по ночам), что, наряду с состоянием дорог и необходимостью пробиваться через частые завалы, почти остановило продвижение вперед. Русскому отряду понадобилось целых три дня, чтобы преодолеть всего 25 верст, а в обозе уже не хватало повозок для раненных. Первого июня завязались кровопролитные бои на хребте Кожалгин-дук, после которых в ночь на второе июня П. X. Граббе, не дойдя буквально нескольких километров до Дарго, вынужденно принял решение повернуть обратно.
Отступление также происходило под непрерывным обстрелом и частыми атаками чеченцев: «Войска... поколебались и пали духом; замешательство и безначалие дошли до крайней степени: никто не распоряжался и никто не заботился об связи общей; наконец, отступление отряда... получило вид совершенного поражения: были баталионы, которые обращались в бегство от одного только лая собак». Общие потери убитыми, ранеными и пропавшими без вести составили 66 офицеров
Глава Iff. Национально-освободительное движение народов Чечни и Дагестана в 30—40-х гг. XIX =
Имам Шамиль
и свыше 1700 нижних чинов. Кроме того, чеченцам досталось одно полевое орудие и почти весь обоз1.
Плачевные итоги. Разгром Даргинской экспедиции еще более усугубили новые неудачи в Дагестане. Чтобы разобраться на месте в причинах постоянных поражений, на Кавказ прибыл российский военный министр князь А. И. Чернышев. Еще до завершения его инспекционной поездки сюда же перебрасываются новые дивизии: к октябрю 1842 г. списочный состав российских войск на Кавказе составил почти 108 тысяч человек, а численность казачьих соединений превысила 36 тысяч. Тем не менее, подводя итоги года, командование Кавказской линии констатировало: «С начала Кавказской войны никогда дела наши не были в таком бедственном положении, как теперь. Плоды многолетних усилий исчезают с каждым днем, и нравственно мы уже утратили все. Мы не хозяева гор, нет ни одного аула, который не был бы готов сейчас поднять против нас оружие». Весьма показательно, что, находясь под впечатлением разгрома отряда П. X. Граббе и других неудач, военный министр А. И. Чернышев распорядился временно прекратить наступательные операции против горцев. Был введен двухлетний запрет на какие-либо походы и экспедиции. Командиры на местах могли проявлять инициативу только по разрешению из Тифлиса или Петербурга. И военный министр граф Чернышев и император Николай I согласились в том, что именно ежегодные тотальные военные компании являются «главной причиной опасного единодушия и сплоченности горцев»2.
Освобождение Нагорного Дагестана. Инициатива ведения военных действий перешла от царских генералов к Шамилю, который в полной мере воспользовался этим уже во второй половине 1843 г. Главная задача, которую ставил перед собой Шамиль, состояла в том, чтобы полностью вытеснить российские войска из Нагорного Дагестана и овладеть Аварией, что создавало условия для дальнейшего продвижения в Мехтулинское и Шамхальское владения, а также в даргинские общества. В Чечне предполагалось усилить натиск на линию Сунженских укреплений, чтобы не позволить перебросить отсюда войска в соседний Дагестан, где теперь наносился главный удар.
Осуществлению этого плана способствовало и то обстоятельство, что российские войска в Нагорном Дагестане были рассредоточены по небольшим укреплениям, расположенным на значительном расстоянии друг от друга. Несмотря на быстрое увеличение численности Кавказского корпуса, войск все равно не хватало. Движение горцев приняло такой размах, что вынужденное оборонять от возможного вторжения
1 Акты, собранные Кавказской Археографической комиссией. Т. 9. — Тифлис, 1884. —
С. 303; 390—392,440—444; Хроника Мухаммеда Тахира ал-Карахи..., — С. 105—107;
Гаммер М. — Указ. соч. — С. 192—196.
2 Движение горцев Северо-Восточного Кавказа в 20—50-е гг. XIX в. — С. 352—353,
361—363.
Освободительное движение в Чечне и Дагестане в 1840—1845 гг. Имам Шамиль
большую территорию кавказское командование не имело достаточно свободных резервов, чтобы быстро перебрасывать их на угрожаемые участки.
В августе 1843 г., когда горцы завершили основные полевые работы, Шамиль начал сосредотачивать свои отряды возле селения Дылым. Чтобы ввести в заблуждение противника, был распущен слух о предстоящем нападении на Кизляр и территорию мирных кумыков. Выступив из Дылыма 27 августа, Шамиль со своими войсками взял направление на юг, в горы, и в тот же день вечером подступил к селению Унцукуль, преодолев форсированным маршем 70 верст. На следующий день сюда же подошли со своими отрядами Кибит-Магома и Хаджи-Мурат.
В Унцукуле располагалась одна рота с тремя орудиями. Первым на выручку осажденному гарнизону прибыл подполковник Веселитский, командовавший расположенным недалеко Цатанихским укреплением. В его отряде находились четыре неполные роты, набранные из разных укреплений (приблизительно 350 человек), и два орудия. Подполковник сознавал, что его сил недостаточно, чтобы пробиться на помощь к осажденному гарнизону. Вместе с тем, он понимал, что помощь из Темир-Хан-Шуры, где Ф. К. Клюки фон Клюгенау спешно собирал и без того слабые резервы, не успеет. Сообщая в последнем донесении о своем намерении пробиваться через восставшие общества, Веселитский в конце приписал, что «...сделает то, что велит Бог и совесть». 29 августа его отряд был полностью истреблен возле Унцукуля. Еще через два дня, 31 августа, оставшиеся в живых солдаты Унцукульского укрепления со своим офицером сдались в плен.
К этому времени командовавшему войсками в Северном Дагестане генералу Ф. К. Клюки фон Клюгенау с трудом удалось собрать отряд численностью около 1 тысячи солдат и офицеров, с которым он, однако, не решался вступить в открытый бой с противостоящей ему группировкой, насчитывавшей по российским данным от 10 до 12 тысяч бойцов. К тому же стремительность, с которой действовал Шамиль, привела к тому, что Клюгенау просто не поспевал за своим противником. В течение 12 дней после падения Унцукуля мюриды Шамиля захватили еще 6 укреплений, несмотря на то что в ряде случаев встретили ожесточенное сопротивление. Единственный успех российского генерала состоял в том, что удалось отстоять Хунзах, но Шамиль сжег все располагавшиеся поблизости селения, а их жителей переселил.
На действиях российских войск отрицательно сказывались и разногласия, возникшие среди высшего командования. Командующий войсками на Кавказской линии генерал Гурко считал, что дальнейшая оборона Аварского ханства не имеет смысла, тем более что подавляющее большинство его жителей явно сочувствовали Шамилю. Клюгенау, напротив, доказывал, что, выселив жителей значительной части Аварии
Глава III. Национально-освободительное движение народов Чечни и Дагестана в 30—40-х гг. XIX в.
Имам Шамиль
вокруг Хунзаха, Шамиль тем самым невольно облегчил положение рос* сийских войск, которые избавились от окружения враждебно настроенного населения. К тому же, врезаясь в середину владений Шамиля, Авария представляла удобный плацдарм для быстрого продвижения в любую часть имамата.
После небольшой оперативной паузы, Шамилю вновь удалось ввести в заблуждение российское командование: ожидая нападения на крепость Внезапную на севере, генерал Гурко стянул сюда почти все свои свободные резервы. Убедившись в этом, Шамиль стремительным маршем атаковал русское укрепление в ауле Гергебиль Нагорного Дагестана. Одновременно волнения начались в дагестанских обществах и владениях, до сих пор еще остававшихся сравнительно спокойными. Это обстоятельство решило судьбу не только Гергебиля, но и других укреплений в аварских горах: генерал Гурко отдал приказ немедленно очистить крепости у Хунзаха и селения Гимры, а отряды Шамиля сумели тем временем захватить еще ряд укреплений.
За вторую половину 1843 г., когда Шамиль перешел к активным действиям, российские войска понесли существенные потери и были вынуждены очистить обширные территории. Потери войск убитыми, ранеными и пленными составили 78 офицеров и 2353 солдата (из этого числа в плену оказались 10 офицеров и 312 нижних чинов). Горцы захватили 12 укреплений различной величины, и в качестве трофеев им достались 27 полевых орудий, 8 крепостных и 2152 ружей, более 13 тысяч артиллерийских зарядов, 350 тысяч патронов, 50 пудов пороха, 368 лошадей и другое военное имущество.
Итоги 1843 г. могли бы быть для российской стороны гораздо тяжелее, если бы Шамиль не допустил ряд ошибок. Так, распылив собственные силы на осаду ряда укреплений, он вызвал в Дагестан, без особой на то необходимости, значительные по численности отряды чеченцев под командованием наиба Шоаип-муллы. Это позволило российскому командованию направить на дагестанский театр военных действий часть войск из Чечни. Кроме того, подойдя 11 ноября к Темир-Хан- Шуре, имевшей ключевое значение для обороны всей равнинной части Дагестана, Шамиль так и не решился штурмовать крепость, хотя в его распоряжении имелось на тот момент до 10 тысяч бойцов. Не была даже организована полная блокада Темир-Хан-Шуры, и, бесцельно простояв с главными силами под ее стенами больше месяца, Шамиль отступил, после того как сюда подошли русские резервы.
Несмотря на настойчивые требования кавказских генералов и старших офицеров вернуться к проверенной тактике постепенного продвижения в горы, в Петербурге вновь приняли решение о начале решительных действий по военному разгрому основных сил Шамиля. С этой целью в 1844 г. на Кавказ на пополнение Кавказского корпуса
Освободительное движение в Чечне и Дагестане в 1840—1845 гг. Имам Шамиль
направляется 22 тысячи рекрутов, а с Новороссии перебрасывается целиком 5-й пехотный корпус генерала Лидерса, а в июне предпринимается крупная экспедиция в горный Дагестан. Однако попытка разбить главные силы горцев в одном решающем сражении не удалась: не решившись атаковать отряды Шамиля, занимавшие чрезвычайно выгодные позиции, российские войска повернули обратно1.
Как бы-то ни было, в 1843 г. в Дагестане горцами были одержаны убедительные победы, отдавшие под управление имама Шамиля целую страну, населенную десятками разных народов, сплоченных и испытаниями, и победами.
«Сухарная» экспедиция графа М. С. Воронцова. В конце 1844 г. назначен новый командующий Кавказским корпусом и наместник Кавказа. Им стал генерал-адъютант граф М. С. Воронцов, имевший следующие предписания от самого императора Николая I: «1) разбить скопища Шамиля; 2) проникнуть в центр его владычества; 3) утвердиться в местах, где Шамиль имел свое пребывание». 1844 год должен был стать по мысли царя «годом расплаты с врагом за аварскую катастрофу». Против новых экспедиций в горы решительно высказывались старые кавказские генералы. В частности, генерал-майор М. 3. Аргутинский еще в августе 1844 г. писал в своем рапорте, что любое движение крупных отрядов в горы не имеет смысла, поскольку открытого боя противник все равно не примет, а вынужденные вести с собой тяжелые обозы и постоянно их защищать российские войска оказываются слишком медлительными, чтобы настичь ускользающего врага. В итоге, кроме «...некоторого разорения, которому подвергнутся жители, средства неприятеля, заключающиеся в его вооруженных силах, останутся без большого изменения»2.
Тем не менее, исполняя волю императора, генерал Нейдгард приступил к подготовке новой «даргинской» экспедиции с целью захватить главную резиденцию Шамиля — чеченское селение Дарго. Учитывая печальный опыт экспедиции П. X. Граббе в 1842 г., было решено не орать с собой тяжелого обоза, ограничившись минимальным запасом продовольствия и боеприпасов. Для обеспечения же бесперебойного снабжения главного отряда планировалось создать коммуникационную линию с двумя временными укреплениями (одно из них в Анди), в которых сосредотачивались основные запасы провианта и оружия. Для защиты коммуникаций намечалось задействовать не менее семи пехотных батальонов. Еще 13 батальонов при поддержке казачьих сотен, кавалерии и артиллерии должны были атаковать и захватить Дарго.
См.: Акты Кавказской Аархеографической Комиссии. Т. 9. — С. 757—777; Хроника Мухаммеда Тахира ал-Карахи... — С. 161—164; Гаммер М. Указ. соч. — С. 203—210; Дегоев В. Указ. соч. — С. 203—204.
: Богуславский Л. История Апшеронского полка. Т. 2. — СПб., 1892. — С. 130—131.
— 167 —
Глава III. Национально-освободительное движение народов Чечни и Дагестана в 30—40-х гг. XIX =
Имам Шамиль
Генерал-фельдаршал, генерал-адъютант, наместник Кавказа, граф и князь М. С. Воронцов
Весь 1844 г. прошел в бесцельных маршах войск по горам Дагестана с юга на север и с севера на юг и в строительстве фортификационных сооружений. Важнейшим из них было строительство Воздвиженского укрепления осенью 1844 г. на месте разрушенного аула Чахкери (Чах- кар-Атаги), у начала Аргунского ущелья.
В конце мая 1845 г. крупная группировка российских войск, собранная со всего Кавказа, несколькими колоннами по ущельям Дагестана и Чечни начала выдвигаться по генеральному направлению к селению Дарго. Всего к проведению операции было привлечено невиданное еще количество войск: 21 батальон пехоты, 4 саперные и 3 стрелковые роты, 1 тысяча человек грузинской милиции, 16 сотен казаков и горской милиции (кабардинской и осетинской) при 46 орудиях. Плюс, для подкупа влиятельных лиц из горцев, было выделено 45 тысяч рублей серебром.
Понимая полную бесперспективность данного замысла, кавказские генералы пришли в замешательство — Нейдгардт, Лидере, Гурко и другие военачальники, по существу, затягивали выполнение приказа царя. 8 января 1845 г. талантливый администратор и дипломат, генерал- адъютант граф М. С. Воронцов получает титул «кавказский наместник
— 168 —
Освободительное движение в Чечне и Дагестане в 1840—1845 гг. Имам Шамиль
Представители различных военных частей России сражавшихся на Кавказе (8, 23)
и главнокомандующий всеми войсками на Кавказе». В столицу Кавказского края город Тифлис новый наместник прибыл 6 апреля 1845 г., а военную компанию начал 15 июня, двинув в поход армию в 21 тысячу солдат и офицеров с 42 артиллерийскими орудиями. Для участия в столь грандиозном и гарантированно «славном» предприятии как поход на столицу имамата, в свиту М. С. Воронцова прибыли шурин императора Николая I принц Александр Гессенский, князь Витгенштейн, князь Паскевич-младший, князь Барятинский (будущий победитель Шамиля), граф Бенкендорф и другие знатные гвардейские офицеры.
Подготовка грандиозного похода, естественно, не могла остаться незамеченной. Сразу же после выступления российских войск, Шамиль собрал совещание наибов, на котором объявил, что «...главнокомандующий идет на нас со всеми силами Кавказа. Цель его должна быть или истребить нас совершенно, или заключить с нами мир». Бои начались еще на самых дальних подступах к Дарго, едва только российские отряды вошли на территорию имамата. Как и три года назад, резко ис¬
Глава III. Национально-освободительное движение народов Чечни и Дагестана в 30—40-х гг. Х'> =
Имам Шамиль
портилась погода: 7-го июня начались дожди, перешедшие в обильные снегопады. Температура по ночам опускалась до 10 градусов мороза. Выступившие налегке и в летней одежде войска в течение 5 дней жестоко страдали от непогоды. В отряде генерала Д. В. Пассека, которого непогода застигла на открытой местности, совершенно лишенной леса, от холода погибло 12 человек, еще 500 были обморожены, а от бескормицы пало несколько сот лошадей1.
Тем не менее, наступление продолжилось, и, рассеяв выступившее против них дагестанское ополчение Шамиля, российские войска заняли наконец Андию. Тем самым была создана коммуникационная линия, необходимая для дальнейшего продвижения в Чечню с юго-востока. До конца июня войска стояли в Андии, перебрасывая сюда провиант и военное снаряжение. Тем не менее, еще не дойдя до границ Чечни, отряд М. С. Воронцова столкнулся со значительными трудностями в снабжении. Мюриды Шамиля сожгли дотла все окрестные селения и жестоко казнили любого, кто продавал солдатам продовольствие или одежду. Так как доставлять собственные запасы приходилось вьючным транспортом и на большое расстояние, питание солдат резко ухудшилось, составляя 1—2 сухаря в день (отсюда и «сухарная экспедиция»). Для дальнейшего продвижения непосредственно к Дарго удалось с трудом сформировать отряд, общей численностью более 10 тысяч человек, включавший 12 батальонов пехоты, саперные части, 11 сотен кавалерии и «туземной» милиции, а также 21 орудие.
Аул Дарго. Совр. фото (4, 123)
1 Акты, собранные Кавказской Археографической комиссией. Т. 10. — С. 367.
— 170 —
Освободительное движение в Чечне и Дагестане в 1840—1845 гг. Имам Шамиль
Только 6 июля российские войска двинулись, наконец, к Дарго, оборона которого велась силами преимущественно чеченцев, так как отряды всех дагестанских наибов оставались на своих местах. Очевидно, Шамиль опасался выводить их в Чечню, не полагаясь на полную преданность большинства обществ Дагестана в присутствии столь многочисленного противника1.
После серьезного боя Дарго было захвачено, но российские войска оказались отрезанными от своей базы в Анди. Учитывая, что русские выступили в Дарго, имея при себе запас продовольствия только на пять дней, отряд М. С. Воронцова оказался под угрозой голода. Вос- •• Действительно цель столь демонстративного движения в горы Дагестана и Чечни заключалась в том, чтобы поднять народы имамата против Шамиля, некоторые «э которых, согласно донесениям, были готовы восстать с появлением русских войск. — См.: Акты, собранные Кавказской Археографической комиссией. Т. 10. — С 867—868.
Глава III. Национально-освободительное движение народов Чечни и Дагестана в 30—40-х гг. XIX в.
Имам Шамиль
Чеченец (11, вклейка)
становить прежние коммуникации не удалось: пытаясь пробиться навстречу транспортам с продовольствием, направленный из Дарго в Андию отряд потерял за два дня жестоких боев только убитыми двух генералов, 17 офицеров и 537 нижних чинов.
Шамиль появился под Дарго 11 июля и приказал открыть штурм русского лагеря, к которому, по его приказу, стянули силы почти все чеченские наибы. Горцы активно использовали и свою артиллерию. В целях спасения оставшихся без снабжения войск граф М. С. Воронцов 25 июля 1845 г. решил оставить Дарго и выступил через леса на север, по направлению к ближайшему Герзель-Аульскому укреплению по течению реки Аксай. Об опасности этого движения его заблаговременно предупреждал генерал Фрейтаг в письме от 5 июля: «Спускаясь на плоскость, вы в лесах встретите такие затруднения и такое сопротивление, какого, вероятно, не ожидаете. Я не буду доказывать, что движение через леса — вещь почти невозможная; напротив, я убежден вполне, что Ваше Сиятельство пройдете, но потеря будет неимоверная. Вы увидите, что чеченцы умеют драться, когда это нужно»1.
И действительность превзошла все ожидания. Горцы ни на одну минуту не прекращали обстрела, свинцовый дождь падал сутками. Стволы ружей солдат раскалялись и становились бесполезными. Ар¬
1 Там же, Т. 10. — С. 377
Освободительное движение в Чечне и Дагестане в 1840—1845 гг. Имам Шамиль
тиллерийские орудия были отбиты чеченцами, кидавшимися в шашки на артиллерийские команды. Изнеможение дошло до такой степени, что солдаты падали замертво. Живые становились легкой добычей яаже детей и женщин, которые выбегали к колонне и уводили солдат в плен, повязав шею веревкой. За шесть дней было пройдено всего 40 верст. Тысячи людей уже не шли, а ползли по земле. Когда до Гер- зель-аула оставался всего один переход, отряд занял круговую оборону возле селения Шовхал-Берд: вследствие громадных потерь дальнейшее продвижение под непрерывными атаками чеченцев стало физически невозможным. Один из участвовавших в походе офицеров следующим образом описывал состояние российских войск: «Отряд наш... похож на израненную лошадь, которую не успели закусать насмерть, хотя она и плохо отбивалась. Затем у нее каждый д£нь при удобном случае отгрызали новые куски мяса». Катастрофа казалась неминуемой.
Эпизод одного из сражений в Чечне. Худ. Н. Н. Филиппов (4, 34)
От полного истребления остатки «сухарной» экспедиции спасло прибытие свежих сил в лице отряда генерала Фрейтага из крепости Герзель-Аул. Он то и вывел из лесов отчаявшихся, потерявших человеческий облик людей.
Укрывшись в Герзель-Аульском укреплении и придя в себя, М. С. Воронцов издал бодрый приказ, в котором уверял, что его войска «гнали» противника до самой встречи с отрядом Фрейтага, ни один из раненых не был оставлен в руках врага и т. п. Российский историк Л. Богуславский писал по этому поводу: «Приказ этот очень хорош,
Глава III. Национально-освободительное движение народов Чечни и Дагестана в 30—40-х гг. XIX б
Имам Шамиль
но грешит против правды. Даргинский поход... представляет одну из темных, кровавых страниц летописей Кавказской войны. Мы углубились в недра гор с целью уничтожить Шамиля и его скопища, а вместо того принуждены были отступить, понеся огромные потери и не успев выполнить ни одной из этих задач».
Общие потери за время экспедиции составили 4 генерала, 168 офицеров и 3433 солдата. Огромная военная добыча попала в руки горцев. Что касается потерь со стороны горцев, то их точное число неизвестно. Основываясь на донесениях лазутчиков, российское командование полагало, что их погибло от 500 до 600. В числе убитых значились и несколько известных и влиятельных лиц: наиб Шубута (Шатоя) Мааш, наиб Большой Чечни Соип (Сугаип)-мулла, тысячник Хаджи-бек Сала- тавский. Ранения получили еще 4 наиба1.
Грандиозная по меркам Кавказской войны победа, одержанная горцами над графом М. С. Воронцовым, хотя и не привела к расширению территории имамата и окончанию войны, но тем не менее необыкновенно возвысила Шамиля и послужила дальнейшему укреплению горского государства.
* * *
Вызванное, с одной стороны, фронтальным наступлением царских войск в Чечне и Дагестане, а с другой стороны, ростом национального самосознания и религиозного подъема горских народов, народно-освободительное движение горцев Северо-Восточного Кавказа проходит в своем развитии (в 30—40-х гг. XIX в.) несколько этапов, связанных с деятельностью шейха Ташу-Хаджи в Чечне и первых имамов в Дагестане.
В конечном счете, эпицентр движения под флагом «мюридизма» закономерно перемещается в Чечню (обладавшую большими экономическими и людскими ресурсами), где под руководством имама Шамиля происходит слияние национально-освободительного движения народов Чечни и Дагестана и становление единого горского государства. С победоносным восстановлением власти Шамиля над Нагорным Дагестаном и ошеломляющим разгромом в Чечне двух крупнейших экспедиций царских войск в 1842 и 1845 гг. наступает так называемая «блистательная эпоха» Шамиля. Речь уже идет о всеобщей Кавказской войне, а Шамиль считается вождем всех горских народов от Каспия до Черного моря.
1 См.: Горчаков Н. Экспедиция в Дарго (1845 г.) И Кавказский сб. Т. 2. — Тифлис, 1877. — С. 135—136; Акты, собранные Кавказской Археографической комиссией. Т. 10. — Тифлис, 1885. — С. 397; Богуславский Л. История Апшеронского полка. Т. 2. — СПб., 1892. — С. 155; Клюки-фон-Клюгенау Ф. К. Указ. соч. — С. 152—157: ГаммерМ. Указ. соч. — С. 212—229; ДегоевВ. Указ. соч. — С. 204—207.
— 174 —
Глава IV. Чечня и Дагестан
в период расцвета и кризиса имамата (конец 40-х — 50-е гг. XIX в.)
§ 1. Государственное устройство имамата
Система управления. Роль имама. Провозглашение Шамиля имамом относилось еще к 1834 г., и тогда же он предпринял ряд мер по упорядочению своего правления, но фактически имамат как государство стало складываться после 1840 г. В результате успехов, одержанных горцами в начале 40-х гг., под властью Шамиля оказались обширные территории Дагестана и Чечни, с общей численностью населения до 500—600 тысяч человек. В отличие от предыдущих лет, когда его власть распространялась на отдельные общества и селения, теперь Шамилю подчинялись почти вся Чечня и большая часть Нагорного Дагестана.
Управление обширной территорией имамата, населенной к тому же разными народами, требовало создания специального централизованного государственного аппарата, единой финансовой системы (включая регулярный сбор налогов), организации постоянных вооруженных сил и других государственных институтов. Особенность нового государства заключалась в том, что оно создавалось в ходе ожесточенной войны, и именно ведение военных действий против внешнего врага стало основной функцией имамата. В основу государственного строительства были положены принципы, известные еще со времен первого Арабского халифата. В соответствии с этим, первому лицу государства — имаму, принадлежала высшая государственная и духовная власть. Французский консул в Тифлисе Кастильон сообщал о Шамиле, что, совмещая светскую и духовную власть, он выступает как «...единственный судья в вопросе принесения жертв, требуемых войной против неверных, он распоряжается имуществом и жизнью населения. Его власть твердо организована»1.
Не позже второй половины 40-х гг. были разработаны и приняты письменные своды законов и положений, призванных не только регулировать деятельность созданного государственного аппарата, но и привести повседневную жизнь жителей имамата в соответствие с нормами шариата. По существу, Шамиль предпринял вторую в истории Чечни и Дагестана, после шейха Мансура, попытку создать исламское военно-теократическое государство, и на этом поприще он также встретил
Здесь и далее см. обобщающую статью: Ахмадов Я. 3. К вопросу о государственном устройстве имамата Шамиля // Социально-политические процессы в дореволюционной Чечено-Ингушетии. Сб. статей. — Грозный, 1991.
— 175 —
Глава IV. Чечня и Дагестан в период расцвета и кризиса имамата
{конец 40-х — 50-е гг. XIX в.)
Шамиль — имам Чечни и Дагестана (12, вклейка)
сопротивление горцев, не желавших отказываться от привычных им ада- тов и традиционного образа жизни вполне демократического свойства. Наместник Кавказа А. И. Барятинский позднее отмечал, что в борьбе против горских адатов Шамиль действовал зачастую «заодно» с российской администрацией: «...это начало было общим и русской власти и враждебному нам мюридизму. Шамиль и его предшественники не щадили ничего, чтобы стереть родовые отличия, уничтожить народное законодательство и поставить на его место чистый шариат»1.
Законодательство (низам). Главная причина, по которой внутренняя политика Шамиля встретила общественное противодействие, состояла в том, что устанавливаемые им законы зачастую не казались более оправданными, чем существовавшие ранее. Эта борьба, особенно в Чечне, оказалась нелегкой для имама, чем, видимо, объясняется тот факт, что многие положения принятых им низамов (законов) существенно отличаются от норм, изложенных в шариате. Объясняя отступления от шариата в низамах Шамиля, российский историк Р. Фадеев прямо писал, что к этому его вынудило ожесточенное сопротивление чеченцев: «Из всех восточных горцев, чеченцы больше всех сохранили личную и общественную самостоятельность и заставили Шамиля, властвовавшего в Дагестане деспотически, сделать им тысячу уступов в образе правления, в народных повинностях и обрядовой строгости
1 Покровский Н. К Кавказские войны и имамат Шамиля. — М., 2000. — С. 386.
— 176 —
Государственное устройство имамата
веры»1. В этом смысле весьма характерны события 1844 г. в обществе Чеберлой, жители которого изгнали назначенного к ним наиба и дерзко передали Шамилю: «Приди и возьми свой шариат, мы его уже в мешок уложили...» Шамиль действительно пришел, но только во главе большого войска, снабженного артиллерией, опустошил почти все че- берлоевские селения «...и побил много народу».
Некоторые положения шамилевских низамов объяснялись чисто практическими интересами. Так, чтобы как-то восполнить сокращение численности населения в связи с огромными потерями от непрерывных военных действий, все достигшие совершеннолетия девушки и юноши обязывались вступить в брак. Отказывавшиеся подвергались достаточно суровым наказаниям, вплоть до содержания в яме. При этом стоимость калыма была значительно снижена, а жена, в случае развода по инициативе мужа, получала часть совместно нажитого имущества2.
Интересно отметить, что, наряду с запретом употребления алкоголя и табака, низамы категорически запрещали танцы, музыку и пение, а в 50-е гг. XIX в. и исполнение суфийского «громкого зикра». Последний
Суд Шамиля. Худ. Е. Лансере (54, вклейка)
1 Фадеев Р. Шестьдесят лет Кавказской войны. — Тифлис, 1860. — С. 75.
: См.: Низам Шамиля (Материалы по истории Дагестана) // Сб. сведений о кавказских горцах. Т. 3 — М., 1992. — С. 2—3; Движение горцев Северо-Восточного Кавказа в 20—50-е гг. XIX в. // Сб. док. Сост. В. Г. Гаджиев, X. X. Рамазанов. — Махачкала, 1959. — С. 494—501, 531—532; Гаммер М. Шамиль. Мусульманское сопротивление царизму. Завоевание Чечни и Дагестана. — М., 1998. — С. 315—319; и др.
— 177 —
Глава IV. Чечня и Дагестан в период расцвета и кризиса имамата
(конец 40-х — 50-е гг. XIX в.)
запрет, по всей видимости, объясняется не столько тем, что Шамиль принадлежал к накшбандийскому тарикату, исповедующему «тихий зикр», сколько тем обстоятельством, что главный проповедник кады- рийского тариката шейх Кунта-Хаджи призывал к прекращению войны с Россией и ограничению власти имама и его наибов.
Государственный Совет. Подобно азиатским деспотиям, власть имама не ограничивалась никакими другими государственными органами, а существовавший с 1841 г. высший государственный совет — Диван- хане имел статус совещательного органа. Этот орган возник по совету тестя Шамиля, шейха Джамалэддина Казикумухского и состоял из 32 человек. Несмотря на свою сравнительную многочисленность и представительность, в полном составе Диван собирался довольно редко, а наибольшим влиянием в нем пользовались постоянно находившиеся при Шамиле его приближенные. К тому же, несмотря на то что каждый член Дивана мог высказать свое мнение, окончательное решение принималось единолично имамом.
Члены Дивана назначались и исключались из этого органа самим Шамилем, а к обсуждению принимались любые вопросы, включая судебные дела. Постепенно при Диване сложилась канцелярия, имевшая отделы (по делам налоговым, военным, по надзору за исполнением шариата и некоторые другие). Диван играл роль и высшего суда.
Помимо Диван-хане, Шамиль часто устраивал совещания с наиболее приближенными ему людьми по вопросам, представлявшимися на тот или иной момент наиболее важными. Итоги таких совещаний оформлялись как решение имама и подлежали непременному исполнению.1
Несмотря на теократический фасад и видную роль духовенства, по сути дела, власть в имамате отходила к быстро формировавшейся военной верхушке. Хотя большинство наибов имели духовное звание, это были прежде всего военные предводители, и власть их держалась на военной силе.
Народные съезды. Указанное выше обстоятельство порой ограничивало власть самого Шамиля. Именно поэтому, а также для мобилизации народных масс время от времени для обсуждения наиболее важных вопросов собирались съезды наибов, наиболее известных представителей духовенства и узденской массы горских обществ. Съезды обсуждали и принимали решения по самым разным вопросам. Так, съезд в Андии (предположительно в 1847 г.) принял решение по 17 вопросам, в том числе: о назначении муфтиев к каждому наибу, о расходовании средств из государственной казны, о злоупотреблениях должностных лиц имамата и запрещении смещенным наибам и кадиям вновь занимать эти должности, об отмене конфискации собственности казненных, особенно
1 Гаммер М. Указ. соч. — С. 306.
Государственное устройство имамата
если у них оставались дети, о свободном хождении серебряных монет, отчеканенных в Тифлисе, и т. д.1
Наибы и наибства. Неустойчивость имамата, подвергавшегося постоянным атакам российских войск, а также нестабильность его внутренней жизни, приводили к тому, что как количество существующих наибств, так и их границы постоянно изменялись. Зачастую непросто складывались отношения и самого имама с наибами, что приводило к частым кадровым перемещениям. Постоянно переводя наибов из одной области в другую, или же временно отстраняя их от должности, Шамиль стремился не допустить чрезмерного усиления влияния наибов на подчиненной им территории.
Осуществлявшие власть на местах наибы имели в своем подчинении до 300 конных воинов постоянного состава (муртазагёты, муртазеки), содержание которых полностью возлагалось на жителей наибства. Помимо этого, наибы имели право по мере надобности набирать вооруженное ополчение из жителей, подчиненных им селений. Обычно ополченцы собирались для отражения очередного набега российских войск, но в отдельных случаях сбор объявлялся и для проведения крупных наступательных действий в масштабах имамата. При этом каждый ополченец самостоятельно обеспечивал себя оружием, продовольствием и всем необходимым. Если срок похода оказывался больше, объявленного заранее, содержание ополчения возлагалось на жителей расположенных в зоне военных действий селений.
В непосредственном подчинении наибов находился так называемый мазун (маазун), в обязанности которого, в частности, входил сбор вооруженного ополчения. Вообще, мазунами назывались все назначаемые помощники наибов, которые могли осуществлять административный задзор над отдельными селениями или мелкими округами.
На некоторое время Шамиль ввел должность мудиров (губернаторов), которым подчинялись несколько наибов. Так, в 1843 г. чеченские заибства были разделены на два больших округа с границей по реке Аргун. Должность мудира на востоке от Аргуна получил наиб Мичи- ка — Шоаип-мулла, а на западе — наиб Малой Чечни Ахверды-Магома. В начале 50-х гг. Шамиль перестал назначать мудиров.
Наибы были наделены широкими полномочиями в своих областях — вплоть до права казнить виновных в государственных и других тяжких преступлениях (впоследствии Шамиль запретил наибам ароизводить казни без своего разрешения). Наибам же принадлежало право собирать налоги и следить за исполнением государственных повинностей. Кроме того, им поручался надзор за исполнением шариата ■ сохранением общественного порядка. В частности, наибам строго
- Низам Шамиля (Материалы по истории Дагестана) // Сб. сведений о Кавказских горцах Т. 1, 1992. — С. 14—15.
Глава IV. Чечня и Дагестан в период расцвета и кризиса имамата
(конец 40-х — 50-е гг. XIX в.)
Чеченские и дагестанские наибы Шамиля: Магомед-Амин (1), Денисултан Элисуйский (2), Кади-Магома (3), Талхиг Аргунский (4), Иди л Веденский (5) Дуба (6).
Хамзат (7), Батуко Шатоевский (8), Эски Хулхулинский (9), Сааду Мичикский (10), Мирза-Хазло, письмоводитель Шамиля (11). Рис. середины XIX в. (8, 69)
предписывалось не допускать в своих владениях столкновений между жителями, в том числе и на почве кровной мести. Формально наибы, так же как и духовные лица, не имели права взимать в свою пользу поборы, но жители обязаны были безвозмездно вспахивать и засевать их поля, убирать урожай, косить для них сено и доставлять дрова.
Несмотря на то что наибы обладали большой властью, имам имея право отменить любое их распоряжение, а также мог напрямую отдавать приказы жителям наибств, минуя наибов. Кроме того, для контроля ная наибами у Шамиля существовала собственная секретная служба — направляемые в наибства мухтасибы ведали вопросами государственной безопасности и имели свою сеть секретных осведомителей.
Государственное устройство имамата
С введением института наибов была реорганизована вся система местного самоуправления. Входившие в имамат общества и селения отныне лишались права по своему усмотрению избирать себе старшин, * также мулл и кадиев. В каждое наибство направлялся муфтий, который назначал кадиев, чтобы те независимо от наибов осуществляли судебную практику в соответствии с нормами шариата. Что касается выборных старшин, то на смену им пришли назначаемые наибом ма- зуны, хотя, конечно, в реальной жизни помощниками наибов часто становились местные старшины1.
Чеченская «область» имамата. Чеченские наибства стали экономической базой нового государства. Хлеб и другая сельскохозяйственная продукция, в изобилии производимая чеченскими крестьянами, аали имамату возможность почти два десятилетия жить в условиях полной экономической блокады. Наряду с военной добычейлменно налоги и разного рода поборы с Чечни служили основным источником накопления богатства правящей верхушкой горского государства. Так, хлебный налог (до 12% урожая) почти полностью приходился на Чечню и достигал 435 тысяч пудов зерна в год. В то же время налог со скота (выплачивался от имевшегося поголовья) и денежный налог не превышали 1—2%2.
Естественно, что выходцы из Чечни заняли видное место в новом правящем классе. За 19 лет (с 1840 по 1859 гг.) более 70 чеченских предводителей занимали должности наибов и правителей округов. Наибольшую известность приобрели наибы Шоаип-мулла Цонтароев- склй (наиб Мичига), Уллубий-мулла из Кашен-Ауха (наиб Ауха), Исса Гендаргеноевский из Урус-Мартана (в разное время наиб Большой и Малой Чечни), Соаип-мулла Эрсеноевский (наиб Большой Чечни), Талхиг Шалинский (он же Талхиг Курчалоевский — наиб Большой Чечни), Гойтемир из Юрт-Ауха (наиб Ауха), Атаби-мулла Атаев (наиб Малой Чечни), Джаватхан из Дарго (наиб Большой Чечни), Юсуф- Хаджи Сафаров (наиб Малой Чечни), Дуба Вашендароевский (наиб Малой Чечни), Саадулла Османов из Нихалоя (наиб Малой Чечни), Сулейман-эфенди Мустафинов (наиб Черкесии), Байсангур Беноевс- *мй, Ума Дуев и др.
Шоаип-мулла имел звание мудира, являлся начальником всей Чеченской области имамата и командующим всеми войсками на ее территории. Еще два чеченских наиба добились высших должностей в армии имамата: Талхиг стал начальником всей артиллерии, а Гойтемир — начальником конницы. При непосредственном участии
См.: Движение горцев Северо-Восточного Кавказа в 20—50-е гг. XIX в. — С. 492, 598,610,628; Гаммер М. Указ. соч. — С. 306— 307.
: Бутаев Ин. Борьба и освобождение горских народов // Революционный Восток. — 1928. — № 4—5. — С. 179.
Глава IV. Чечня и Дагестан в период расцвета и кризиса имамата
(конец 40-х — 50-е гг. XIX в.)
Наиб Шамиля. Худ. Г. Гагарин (54, вклейка)
чеченских отрядов власть Шамиля в начале 40-х гг. была быстро восстановлена на значительной части горного Дагестана. Так, в сентябре 1842 г. Шоаип-мулла со своим отрядом особо отличился при захвате российского укрепления в селении Цатаных1.
Налоговая система. На подвластной ему территории Шамиль отменил все налоги, подати и другие повинности населения в пользу местных феодальных владетелей (это прежде всего относится к Дагестану). Вместе с тем, во всем имамате вводились собственные государственные налоги, поступавшие в казну — байтамал (байтулмал). Сбор налогов входил в обязанности наибов, но при Шамиле имелись особые чиновники, занимавшиеся учетом поступающих в казну доходов, а также и расходов.
Главные поступления в казну обеспечивались за счет двух основных налогов: всеобщего подоходного налога — закят (десятая часть всех доходов за год) и налога за пользование пастбищами — харадж. Кроме того, передаче в казну подлежала пятая часть военной добычи (так называемый хомус), различные штрафы, собственность казненных государственных преступников, имущество лиц, не имеющих наследников. Собственностью казны стали также земельные угодья, конфискованные у крупных феодальных владетелей. Часть этих земель Шамиль раздал своим приближенным наибам. Передаче в казну подлежали также и все приношения мечетям. Налоги могли выплачиваться как в денежной, так и натуральной форме.
Однако помимо указанных налогов, население часто облагалось и дополнительными повинностями. Причем далеко не всегда эти дополнительные доходы направлялись в государственную казну. Например,
1 См.: Хожаев Д. Чеченцы в русско-кавказской войне. — Грозный, 1998; и др.
— 182 —
Государственное устройство имамата
начиная с 1843 г. часть Дидойского общества ежегодно выплачивала по 2 рубля с каждого дома, которые шли на содержание семьи имама Шамиля1.
Шамиль предпринимал определенные меры к тому, чтобы придать своей налоговой политике определенную гибкость и облегчить налоговое бремя малоимущим. В частности, запрещалось взыскивать налоги с беднейших жителей, а образовавшиеся недоимки распределялись между зажиточными жителями. Налоги, собранные в виде хлеба, оставались в распоряжении наибов, которые должны были расходовать их с ведома имама. Денежные поступления передавались непосредственно в казну.
Однако реально налоговая система имамата была несовершенной и открывала возможность для широкого злоупотребления со стороны наибов. Именно они определяли размер и сроки уплаты налогов. К наибам переходила часть имущества казненных лиц, они же взимали с населения штрафы, причем размеры последних часто определялись ими самостоятельно. Очень быстро многие наибы в целях личного обогащения начали буквально преследовать состоятельных жителей, подвергая их штрафам по любому поводу. В отдельных случаях доходило до казней.
Средствами из государственной казны распоряжался непосредственно имам, который выплачивал содержание мудирам, наибам и представителям духовенства. Таким образом, Шамиль превратил мусульманских мулл в государственных чиновников, зависящих от главы государства. Доходы от военной добычи направлялись на содержание сразу нескольких категорий жителей имамата. Прежде всего часть средств выплачивалась инвалидам, которые не имели родственников и не могли самостоятельно прокормиться. Другая часть шла на содержание ученых богословов (али- мов), а также лиц, считавшихся потомками пророка Мухаммада — так зазываемых сейидов (курейшиты). К числу последних относился и тесть Шамиля Джамалэддин Казикумухский2.
Внешняя торговля. Слабое развитие внешней торговли в имамате объяснялось не только непрерывными военными действиями, но и многочисленными ограничениями на общение с жителями не только русских укреплений и станиц, но и «мирных» аулов. В условиях имамата торговлей могли заниматься только лица, имевшие специальные игранные грамоты: за 25 лет их было выдано всего около 80. Благодаря этим запретам внешняя торговля была фактически поставлена под контроль Шамиля, который к тому же кредитовал крупных торговцев,
Счгаури И. М. Очерки истории и государственного устройства чеченцев с древнейших времен. — М., 1997. — С. 293.
- См.: Движение горцев Северо-Восточного Кавказа в 20—50-х гг. XIX в.; Руновский А. Кодекс Шамиля // Военный сб. — СПб., 1862. — № 2. — С. 604,626; Гаммер М. Указ, соч. — С. 312—315; и др.
Глава IV. Чечня и Дагестан в период расцвета и кризиса имамата
(конец 40-х — 50-е гг. XIX в.)
получая, таким образом, доход от их торговых операций. Что касается внутренней торговли, то и она приходила в явный упадок вследствие тяжелых условий военного времени, исключавших порой нормальную хозяйственную жизнь.
Организация войска. Особое внимание уделялось повышению обороноспособности имамата, все мужское население которого с 15 до 50 лет считалось годным к службе в ополчении. Помимо защиты собственных селений и участия во всеобщих походах, ополченцы по очереди несли караульную службу. Оценивая мобилизационные возможности государства Шамиля, некоторые исследователи полагают, что в годы своего наивысшего расцвета в имамате могло быть поставлено под ружье до 60 тысяч человек (правда, на очень короткий срок). Это был, скорее всего, мобилизационный запас, так как реально в рядах ополчения одновременно редко состояло более 20 тысяч горцев, которые, как правило, несли службу возле своих селений. Только при проведении отдельных наиболее крупных походов удавалось собрать 10—15 тысяч бойцов. Отряды ополчения могли быть конными или пешими. Пехота использовалась, как правило, только в оборонительных боях в укреплениях.
Наряду с ополчением в имамате было создано и постоянное войско, как правило, конное. По сути, это была личная гвардия Шамиля и его наибов, так называемые муртазеки (муртазегеты), большую часть которых составляли чеченцы и аварцы. Содержание муртазеков возлагалось на население: согласно действовавшему правилу десять дворов выставляли одного воина, которого они полностью обеспечивали всем необходимым. Муртазеки давали клятву верности лично Шамилю и имели специальные знаки отличия, а также пользовались некоторыми привилегиями. Та часть муртазеков, что находилась возле имама, несла охрану его резиденции и сопровождала имама в походах и поездках. В столице имамата — Ведено, для них была выстроена специальная казарма.
Муртазеки имели собственное хозяйство, но все работы в них выполнялись их односельчанами в порядке государственной повинности. Существовало определенное различие в положении чеченских и дагестанских муртазеков. В Чечне каждый муртазек получал по рублю в год и 10 мер хлеба с каждых десяти домов. Впоследствии, из-за явного обнищания населения Шамиль существенно сократил содержание муртазеков — до 1 рубля и 8 мер хлеба с каждых двадцати домов. Дагестанские муртазеки первоначально получали по 1,5 рубля ежемесячно, позднее денежное содержание им было отменено, но жители должны были снабжать их всем необходимым, обрабатывать их поля, собирать урожай, в общем, вести их личное хозяйство. Шамиль старался расположить к себе своих гвардейцев, одаривая особо отличившихся оружием, лошадьми и деньгами.
— 184 —
Государственное устройство имамата
Шамиль на молитве перед боем. В конном строю муртазеки (12, вклейка)
Самой крупной войсковой единицей имамата являлась «тысяча» во главе с наибом. Тысяча делилась на отряды по 500, 100, 50 и 10 воинов во главе со своими начальниками. Каждая войсковая единица имела свое знамя или значок. Кроме того, в войсках Шамиля имелись отдельные военные предводители (тхамада), сражавшиеся со своими, порой крупными отрядами — «бъо» (войско). Так, некий Чхонкар из общества Шатой имел звание пятисотенника и собственное «войско», не подчинявшееся наибу округа.
В конце 1842 г. Шамиль ввел в своей армии воинские звания, аналогичные турецким. Только трое из его наибов были удостоены им генеральского звания, все остальные являлись капитанами. По сообщениям российского прапорщика Орбелиани, находившегося в плену у Шамиля в 1842 г., именно чеченские наибы, в первую очередь Шоаип-мулла и Уллубий Ауховский, первыми разделили свои войска на правильные отряды.
Первоначально отличившиеся в боях награждались оружием, деньга- 10 или трофеями. Позднее Шамиль ввел особые знаки отличия — ордена а 1*едали нескольких степеней и различной формы. Изготовлявшиеся из -серебра знаки отличия имели надписи на арабском языке. Например, на одном из орденов чеченского наиба Дубы было написано: «Это герой, искусный в войне и бросающийся на неприятеля как лев». Два других известных чеченских наиба — Шоаип-мулла и Уллубий-мулла за разгром отряда П. X. Граббе в 1842 г. был отмечены знаками в виде звезды : надписью: «Нет силы, нет крепости, кроме Бога единого». На одном
Глава IV. Чечня и Дагестан в период расцвета и кризиса имамата
(конец 40-х — 50-е гг. XIX в.)
Некоторые наградные знаки Шамиля (8, 68)
из орденов, которым награждали за храбрость, была вырезана чеченская поговорка «Кто думает о последствиях, тот не бывает храбрым».
В качестве награды вручалось также именное оружие с надписью. Так, чеченский наездник Оздемир был награжден шашкой с надписью «Нет Оздемира храбрее, нет его сабли острее». Своеобразным знаком отличия служила кисточка, одевавшаяся на рукоятку шашки. Каждый награжденный орденом воин получал ежемесячно 3 рубля серебром из казны имамата.
Знаками отличия являлись знамена и значки, которые имелись не только у самого имама, но и его наибов и даже у наиболее отличившихся наездников. Знамена и значки имели разные цвета, форму, а также надписи. Например, чеченский предводитель Ташу-Хаджи имел двухконечное знамя красного цвета с зелеными угловыми вставками. Это знамя было получено им еще от имама Гази-Мухаммеда1.
Для оперативной связи между различными областями имамата была создана специальная служба, наподобие фельдъегерской. Любой из жителей государства обязан был предоставлять курьерам коня, проводника, пропитание и ночлег. Интересно, что секретные приказы
Награды имамата (3, 134)
1 См.: Покровский Н. И. Кавказские войны и имамат Шамиля — М., 2000. — С. 382; — Знамена горских воинов // Родина. — 1994. — № 3—4. — С. 76; Гаммер М. Указ, соч. — С. 308—310; Дегоев М. Имам Шамиль: пророк, властитель, воин. — М., 2001. — С. 97; и др.
Государственное устройство имамата
часто писались на листьях деревьев, что позволяло в случае опасности быстро и гарантированно уничтожить документ.
Перебежчики. В войске Шамиля могли служить и перебежчики из российской армии, которых стало особенно много в первой половине 40-х гг. XIX в. после распоряжения Шамиля, потребовавшего от наибов внимательного отношения к пленным и беглым русским. По свидетельству лиц из окружения имама, в его первой чеченской резиденции Дарго находилось до 400 перебежчиков, которые жили в отдельной казарме: «Солдаты эти через каждые 2—3 дня являются на учение под командованием бежавшего из России под именем Идриса солдата»1.
Русская слобода появилась и в Ведено, другой резиденции имама — где перебежчики имели командиров, назначенных из их же среды: «Так называемые офицеры ездят верхом, а все пешие. Вооружение их составляют разного калибра азиатские ружья, пистолеты и шашки; одеты в черкески». Особое внимание Шамиль уделял тому, чтобы навсегда закрепить в горах перебежчиков, принявших ислам. Вновь обращенных старались поскорее женить и создать условия для обзаведения собственным хозяйством.
Перебежчики, пожелавшие служить в армии Шамиля, исполняли самые разные обязанности: музыкантов, барабанщиков, переводчиков и инструкторов, знакомивших горцев с тактикой русских войск. Многие участвовали непосредственно в военных действиях: некоторые из них прославились как лихие наездники и отважные воины, как, например, Наурский казак Алпатов или драгун Родомцев из Нижегородского полка, награжденные имамом орденом за исключительную храбрость.
Уже в 1842 г. командующий Левым флангом Кавказской линии генерал-майор Ольшевский докладывал генерал-лейтенанту П. X. Граббе о возросшей угрозе дезертирства, после того как Шамиль ввел новые правила по обращению с перебежчиками: «Дурное обращение чеченцев с нашими военными дезертирами удерживало многих неблагонадежных солдат... от побегов, но если теперь они узнают, что Шамиль дает дезертирам, то я боюсь, что побеги увеличатся... я полагал бы для удержания солдат от побега первых пойманных дезертиров расстрелять...»2
Впрочем, те из беглецов, кто не шел служить в армию имама, далеко не всегда могли прижиться в новых условиях. Один из пленных, содержавшийся в Чечне в конце 40-х гг., писал: «Перебежавшим от нас предоставляют совершенную свободу в выборе места жительства и в занятиях, лишь бы последние не были во вред чеченцам; но не имеют к беглым почти никакого доверия... и строго наблюдают за ними. Некоторые из них плотники и сапожники по ремеслу, не получают
Движение горцев Северо-Восточного Кавказа в 20—50-х годах XIX в. — С. 470—471. - Там же. — С. 329—330.
Глава IV. Чечня и Дагестан в период расцвета и кризиса имамата
(конец 40-х — 50-е гг. XIX в.)
никакого вознаграждения за свой труд. Многие доходят до жалкого нищенства...»
Артиллерия Шамиля. Вооружение. Особенно ценились в армии Шамиля русские артиллеристы, поскольку созданию этого вида вооруженных сил Шамиль придавал особое значение. Первоначально горская артиллерия состояла исключительно из трофейных орудий, причем не всегда удавалось найти для них артиллеристов и обеспечить достаточный запас зарядов и боеприпасов. Только благодаря перебежчикам первое время удавалось поддерживать небольшое количество имеющихся орудий в боеспособном состоянии. Российские лазутчики доносили из Ведено в 1845 г.: «В хорошо устроенном огромном сарае хранятся 8 больших орудий... и несколько малых пушек; все они на лафетах, выкрашенных зеленою краскою. Беглые солдаты смотрят за ними и деятельно занимаются постройкою лафетов, зарядных ящиков и колес, часть коих совершенно готова и окрашена зеленою краскою»1.
Начальником артиллерии у Шамиля был чеченский наиб Талхиг Шалинский. Именно ему приписывается разработка тактики «кочующих батарей», которые после короткой стрельбы меняли место, не давая российским войскам достаточно времени, чтобы обстрелять их. Он же первым ввел в практику ночные артиллерийские обстрелы российских позиций. Горские артиллеристы настолько быстро освоили искусство артиллерийской стрельбы, что уже с конца 1841 — начала
Артиллеристы наиба Талхига. Фото 60-х гг. XIX в. (4, 154)
1 Цит. по кн.: ХожаевД. Чеченцы в русско-кавказской войне. — Грозный, 1998. — С. 166
— 188 —
Государственное устройство имамата
1842 гг. выигрывали практически все артиллерийские дуэли, в которые им приходилось вступать.
В 1843 г. было начато изготовление собственных орудий, которое организовал житель Ункукуля Джабраил Хаджио. Всего было отлито до 50 пушек, однако несовершенство технологии привело к тому, что годными для применения оказались не все. Для литья пушек использовали медь, полученную из переплавки разного рода медных изделий (посуды и т. д.). Такой меди в распоряжении Шамиля имелось ю 10 тысяч пудов.1
Появление собственной артиллерии стимулировало развитие производства ядер и гранат, для чего использовались русские ядра и другие артиллерийские боеприпасы, собираемые на местах сражений. Гранаты, яо отзывам российских военных, горцы делали плохо: по причине отсутствия хорошего пороха горские гранаты часто не взрывались. Пытались в имамате наладить и производство артиллерийских пороховых ракет, но также неудачно.
Военные действия требовали большого количества пороха, который горцы обычно делали сами, кустарным способом. Появление артиллерии заставило Шамиля построить собственные пороховые заводы: в Гунибе,
Кремневые ружья и пистолеты горцев (4, 159)
кровяков И. Шамиль: Очерк из истории борьбы народов Кавказа за независимость. — М., 1990. — С. 53.
Глава IV. Чечня и Дагестан в период расцвета и кризиса имамата
(конец 40-х — 50-е гг. XIX в.)
Унцукуле, Дарго и Ведено. Технология, применявшаяся на этих заводах, практически ничем не отличалась от кустарной. Неизвестно и точное количество производимого заводами пороха, хотя один из них (Веденский) давал в год до 190 пудов готовой продукции. Заводским порохом снабжались только мюриды, служившие в постоянном войске. Все остальные ополченцы должны были снабжать себя порохом самостоятельно.
Производству пороха придавалось такое большое значение, что жители селений, добывавших серу и селитру, распоряжением Шамиля были освобождены от воинской повинности. Более того, жители пяти дагестанских селений, добывавшие селитру, получали из казны по полтора рубля в год на каждое семейство, а на войне они могли использоваться только в качестве землекопов1.
Воины Шамиля были вооружены так называемыми горскими винтовками и пистолетами, по дальности боя и кучности превосходившими русское армейское вооружение. Холодное оружие горцев всеми наблюдателями того времени описывается в превосходных тонах. Русские регулярные части и казаки на Кавказе охотно вооружались горскими шашками и кинжалами.
Фортификация. Серьезное внимание в имамате уделялось строительству системы оборонительных сооружений. Причем, если в Дагестане зачастую тот или иной каменный аул легко превращался в крепость, то в Чечне приходилось создавать систему фортификационных сооружений, имевших целью не допустить вторжения российских войск вглубь чеченской территории. Объяснялось это тем, что в равнинной Чечне не было естественных преград, но была необходимость защищать не только отдельные селения, но в первую очередь не допустить уничтожения хлебных полей российскими войсками. Сооружались целые оборонительные комплексы. Так, на востоке Чечни со стороны Ауха была укреплена рвами и земляными редутами долина реки Акташ, по которой можно было проникнуть вглубь Ауха и далее в юго-восточную Чечню. Эта система укреплений, построенная наибом Ауха Гойтемиром. так и называлась — Гойтемировские ворота. На западе — в Малой Чечне, возле селения Мартан-Чу, наибом Саадулой были воздвигнуты укрепления, закрывавшие движение русских войск вглубь наибства со стороны Сунженской линии.
Для обороны Большой Чечни важное значение имел оборонительный комплекс (называемый в русских документах Шалинский редут), построенный наибом Талхигом. Кроме того, в этом же районе, между селениями Новые Атаги и Шали, а также на западной окраине Сержень- Юрта были вырыты глубокие заградительные рвы.
Между селениями Бачи-Юрт и Центорой на Мичике располагалась значительная крепость, известная в русских источниках под названием
1 См.: Гаммер М. Указ. соч. — С. 311—312; и др.
— 190 —
Государственное устройство имамата
Шоаип-капа. Построенная наибом Шоаип-муллой, она прикрывала со стороны Мичика дорогу вглубь Чечни. По оценкам российских военных, Шаоип-капа была построена так, «.. .что даже человек сто могли упорно защищаться и штурм... стоил бы, без сомнения, немало людей. Кроме того, были боковые завалы и засеки вне укрепления, рассчитанные на сопротивление большой партии, и в тылу еще разные искусственные сооружения для прикрытия отступающих людей»1.
Сильно укреплена была и вторая столица имамата — Ведено. Недалеко от нее начиналась одна из горных стратегических дорог, соеди- аяющих Чечню с Дагестаном.
Помимо больших фортификационных сооружений, горцы в случае эеобходимости быстро сооружали небольшие временные укрепления. Так, в Чечне, определив основное направление движения российской яохонны, воздвигали на ее пути лесные завалы. Горцы широко исполь- меали также земляные укрепления, в том числе окопы для укрытия •:»т ружейного и артиллерийского огня. Большое внимание уделялось маскировке позиций, для чего часто рыли ложные окопы. Многое из опыта кавказских горцев было затем использовано российской воен- аой наукой, в т. ч. при сооружении временных укреплений во время обороны Севастополя в период Крымской войны (1853—1856 гг.).
Роль Юсуфа-Хаджи. Весьма заметную роль в государственном строении имамата сыграл Юсуф-Хаджи Сафаров, происходивший из чеченского селения Алды. Еще ребенком он побывал вместе с отцом в Мекке, где его отец неожиданно умер. Известно, что мальчиком он попал в Каир, откуда выехал через десятки лет в чине инженер-пол- говника египетского паши Мухаммеда-Али.
В Чечню Юсуф-Хаджи привез подложное письмо, якобы от имени гурецкого султана, которое, с согласия Шамиля, и было обнародовано. Несколько последующих лет (начиная с 1841 г.) Юсуф-Хаджи выступал ъ качестве одного из ближайших советников Шамиля, именно ему принадлежит заслуга разработки письменных положений, так называемых зи замов о государственном устройстве имамата. Сам Юсуф-Хаджи в зжъме к паше Ахалциха писал, что до его прибытия у Шамиля «.. .не было никакого порядка и все шло, как у людей, незнакомых с требованиями правильного строя для управления народом и войском; что он, со времени прихода своего, постоянно занят введением во всех частях зояжного порядка и успел устроить у Шамиля низам и многое другое, о чем в Дагестане не имели понятия»2.
зъссерман А. История 80-го пехотного Кабардинского генерал-фельдмаршала кня- зд Барятинского полка (1726—1880). Т. 3. — СПб., 1881. — С. 209.
Нивам Шамиля (Материалы по истории Дагестана) // Сб. сведений о Кавказских горцах. Т. 3. — М., 1992. — С. 6.
Глава IV. Чечня и Дагестан в период расцвета и кризиса имамата
(конец 40-х — 50-е гг. XIX в.)
Будучи военным инженером, Юсуф-Хаджи много занимался строительством фортификационных сооружений. Так, им построены укрепления в Ведено, Гунибе, Салты, Гергебиле и крепость Шоаип-капа. Также им составлены первые карты владений Шамиля. Какое-то время Юсуф-Хаджи занимал должность наиба в Малой Чечне, где разного рода несправедливостями и взятками успел заслужить ненависть жителей наибства и был смещен.
Положение горского крестьянства. Известно, что Шамиль боролся с крупной горской аристократией, поскольку именно феодальные владетели стали главным препятствием на его пути к реализации политики газавата. Весьма показательно, что объявленное им в 1843 г. освобождение рабов и зависимых крестьян касалось только тех представителей угнетенного сословия, которые принадлежали крупным феодалам. Так. свободу получили рабы четырех селений, хозяевами которых были аварские ханы. Однако патриархальное рабство сохранилось, также как и рабовладение мелких и средних узденей.
Что касается основной массы свободного крестьянства, то оно, испытав кратковременное облегчение, весьма скоро оказалось под гнетом новой, быстрыми темпами феодализирующейся военной верхушки имамата. Сам Шамиль, его ближайшее окружение и назначаемые им наибы сосредоточили в своих руках значительные земельные владения, которые отнимались под видом спорных у «вольных» обществ. Так, 630 десятин были отняты по распоряжению Шамиля у общества Дзумсой и переданы известному Ума Дуеву. Извещая об этом наиба Алдама, имам потребовал: «.. .чтобы никто из вверенного тебе наибства и жители Дзумсоя не препятствовали владеть ему землей». В результате щедрости Шамиля Ума Дуев один владел 10 процентами всей земли, принадлежавшей целому обществу Дзумсой. Другому наибу Шамиль приказывал: «Ты оставь нашему брату Ибрагиму сенокосный участок общественной земли на берегу реки»1. Говоря о масштабном захвате общинных земель верхушкой имамата, российские наблюдатели указывали: «.. .право на владение землей особенно запуталось во время Шамиля. Последние пятнадцать-десять лет его владычества в горах особенно усилился произвол и совершенный, самый крайний деспотизм наибов и имама»2.
Хозяйство горских крестьян подрывали не только военные действа но и все новые поборы, вводимые Шамилем и его наибами. Особенно страдали чеченские крестьяне, производившие основное богатство имамата — хлеб. Экономическая политика Шамиля в отношении Чечни быза прямо направлена на «выжимание» из нее все большего количества зерн-а.
1 История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в. Т. I. — М., 1988. - С. 159.
2 Цит. по кн.: Покровский Н. К Кавказские войны и имамат Шамиля. — М„ 2000. — С. 362.
Государственное устройство имамата
Кроме постоянного налога, систематически производятся чрезвычайные, так называемые, «военные» сборы зерна. Так, только весной 1842 г. в Большой и Малой Чечне собрано с каждого двора дополнительно по 20 фунтов хлеба, что в целом составило до 5 тысяч мер.
Если первые годы своего правления Шамиль докупал для чрезвычайных нужд государства хлеб по свободно сложившейся рыночной цене, то впоследствии им были введены заниженные цены. В конечном же итоге (помимо налога зякята), наибы стали «...собирать хлеб без платы, с каждого двора в виде подати».
Случаи открытого сопротивления чеченских крестьян жестоко подавлялись, а для удержания их от восстаний применялись разного рода «предупредительные» меры. Одной из таких мер было усиление надзора в равнинных чеченских аулах. Как писал один из русских пленных, долгое время пробывший в Большой Чечне, «...почти по всем аулам Чечни расселены семейства горцев (тавлинцев); верные своему назначению, последние ко всему прислушиваются, наблюдают и секретно передают сведения. Строгость изысканий, обоюдный присмотр, недоверчивость, скрытность и подозрительность сковывают всех молчаливою покорностью обстоятельствам».
Другим способом давления на чеченцев стало постоянное размещение на постой воинских отрядов. Российские военные историки того времени называли эту практику «экзекуцией» и, основываясь на сообщениях лазутчиков, писали: «Экзекуция, можно сказать, существовала э Чечне постоянно, почти не было деревни, которая не видела бы у себя экзекуции хотя бы один раз». Весьма показательно, что по мере усиления недовольства в Чечне, Шамиль все чаще в своих высказываниях «растеризует те или иные общества чеченцев (например, харачоевцев mi гехинцев) как неисправимых «разбойников»1.
Верхушка имамата. В конечном итоге, неприкрытая эксплуатация крестьянства, захват общественных земель и присвоение большой части военной добычи превратили окружение Шамиля и его самого 5 новую феодальную верхушку, обладавшую большими богатствами. Так, собственность, которой чеченский наиб Шоаип-мулла единолично распоряжался в 1844 г. под видом наибской казны, состояла из 4 тысяч голов мелкого скота, 500 голов крупного рогатого скота, 60 буйволов, 55 ружей и другого имущества, а также 30 тысяч рублей серебром. Для сравнения укажем, что стоимость коровы в имамате колебалась от 10 Ж> 15 рублей2.
Но самым богатым было семейство самого Шамиля, который неза- зсйго до гибели имамата передал на хранение Даниель-беку Елисуйскому
См.: Гаммер М. Указ. соч. — С. 332—333; и др.
- История народов Северного Кавказа с конца XVIII в. по февраль 1917 г. Т. 2. — С 159.
Глава IV. Чечня и Дагестан в период расцвета и кризиса имамата
(конец 40-х — 50-е гг. XIX в.)
Мюриды Шамиля (8, 122)
(тестю своего сына Гази-Мухаммеда) принадлежавшие формально казне имамата драгоценности и деньги на гигантскую по тем временам сумму — около 1 миллиона рублей серебром. Сочувствовавший Шамилю дагестанский хронограф Гаджи-Али писал о нравах новой горской аристократии: «Некоторые наибы, искавшие власти, старались придать делам Шамиля дурное толкование, и все они начали копить богатства и убивать напрасно мусульман, не различая между дозволенным и запрещенным, между истиной и ложью»1.
Российские власти, специально собиравшие сведения об окружении Шамиля, давали наибам следующую характеристику: «Все эти лица, имеющие звания наибов, отличаются духом партии, ничего не щадящей. 71 Гаджи-Али. Сказание очевидца о Шамиле // С6. сведений о кавказских горцах. Выг.
7. — Тифлис, 1873. — С. 34.
Государственное устройство имамата
чтобы сохранить в руках власть над народом...»1. В полной мере это обстоятельство проявилось, например, когда один из наиболее влиятельных чеченских наибов — Шоаип-мулла — был убит своими же двоюродными братьями в результате семейной ссоры. Хотя непосредственные убийцы скрылись, разгневанный Шамиль жестоко расправился с жителями селения Центарой: по разным данным были казнены до нескольких десятков человек.
Относительно моральных качеств новой правящей верхушки, в том числе семьи Шамиля и, в частности, его сына Гази-Мухаммеда, тот же Гаджи-Али сообщает: «Если бы можно было горцев вьючить как ишаков и посылать в лес за дровами, то это делал бы Гази-Мухаммед». Официально провозглашенный наследником власти имама, Гази-Му- хаммед и другие его братья «...мюридами, друзьями и помощниками себе избрали песенников и иных неблагонадежных людей» (напомним, что в имамате пение и танцы были запрещены законом).
Победы, одержанные в первой половине 40-х гг., позволили Шамилю укрепить свою личную власть в созданном им государстве. Вскоре, кавказское командование пришло к выводу, что его власть не может быть низвергнута изнутри. Так, генерал Е. А. Головин писал о Шамиле в 1844 г.: «...сила его возросла... до чрезмерности. Он имеет в распоряжении своем настоящее войско, снабженное артиллерией, и если это не делает его страшнее для нас, то дает ему над горцами такую поверхность, которой никакое общество их противиться не может и которое делает его неограниченным властелином в горах... Одна надежда, что горские племена, доведенные до крайности, ожидают только случая, чтобы свергнуть железное иго мюридов, над ними тяготеющее... но сами они освободиться из-под власти Шамилевой партии не в состоянии».
Неизбежным итогом политики Шамиля стал внутренний кризис, признаки которого явственно ощущаются уже в середине 40-х гг. В конце 1844 — начале 1845 гг. жители верховьев Аргуна не пустили к себе мюридов Шамиля, одновременно в Дагестане акушинцы разгромили направленных против них муртазеков и изгнали своего наиба. Лишенные возможности открыто восстать, жители Чечни бегут из имамата: российские власти ежемесячно принимают 35—40 человек жителей Большой Чечни и притеречных чеченцев, которые в 1840 г. переселились было в горы. Весьма показательно, что известный чеченский кадий Исса вступил в переговоры «...о выходе от Шамиля 4000 чеченских семейств». Шамилю удалось не допустить массового возвращения чеченцев на подвластную российской администрации территорию, но в Малой Чечне для этого ему пришлось взять заложников от всех здешних обществ. Однако эти меры, по мнению
: Цит. по кн.: Смирнов Н. А. Мюридизм на Кавказе. — М., 1963. — С 183.
— 195 —
Глава IV. Чечня и Дагестан в период расцвета и кризиса имамата
(конец 40-х — 50-е гг. XIX в.)
Рис. на могильном памятнике рядового чеченского воина, убитого, как говорит надпись, «в бою с неверными» (4, 66)
царских администраторов, не могли вернуть Шамилю и его имамату прежнюю популярность: «Народ, на первых порах предавшийся все* душою новому учению, охладел к нему, когда испытал на деле чудовищный деспотизм управления, обещанного ему вначале как идеал земной жизни»1.
§ 2. Внутренняя и внешняя политика имамата на заключительном этапе Кавказской войны.
Взлет и падение
Шамиль и Черкесия. Попытки Шамиля воспользоваться победой над графом М. С. Воронцовым в 1845 г., чтобы еще больше расширить территорию своего государства, — потерпели неудачу. Еще в 1843 г он посылал к закубанским горцам в качестве наиба муллу Хаджи-Мухаммеда. Еще через год новым представителем Шамиля стал другой чеченский мулла — Сулейман-эфенди Мустафинов. Он, несмотря на свой преклонный возраст, много успел в укреплении шариата срели
1 Фадеев Р Шестьдесят лет Кавказской войны. — Тифлис, 1860. — С. 36.
— 196 —
Внутренняя и внешняя политика имамата на заключительном этапе Кавказской войны.
Взлет и падение
адыгов. Весной 1846 г. Шамиль с большим войском направился в Кабар- зу, намереваясь присоединить ее к своим владениям, а затем двинуться залыне на Северо-Западный Кавказ. В случае успеха эта операция могла иметь далеко идущие последствия, но, несмотря на не слишком удач- зые действия российского командования, Шамиль, дойдя до Кабарды, аынужден был вскоре повернуть обратно: большинство кабардинцев не присоединилось к «возмущению». Интересно, что, истребив в Дагестане большую часть феодальных владетелей, в Кабарде Шамиль, напротив, пытался через сочувствовавшего ему кадия Хаджи-Умара Шеретлукова зооиться союза с кабардинскими князьями.
Первая за несколько лет крупная неудача Шамиля вызвала воодушевление не только в расквартированных на Кавказе войсках, но и в столице. Вновь начались разговоры о близкой победе над горцами, против чего предостерегал находившийся в отставке А. П. Ермолов: «Но не во всем разделяю я мысли... что разрушается могущество Шамиля к приобретенная им власть. Еще не одну надобно подобную победу, чтобы того достигнуть»1.
Несмотря на неудачный исход кабардинского похода, Шамиль не оставлял надежды распространить свое влияние на черкесов и другие адыгские народы. В 1849 г., когда к нему прибыла очередная делегация с Северо-Западного Кавказа, он направил к черкесам в качестве наиба молодого ученого из Дагестана — Мухаммед-Амина. По сообщениям горских биографов, Шамиль не сомневался в личной преданности и
Мухаммед-Амин. Руководитель освободительного движения на Северо-Западном Кавказе (53, 67)
РГВИА. Ф. 217. On. 1. Д. 3. Л. 18 об.
Глава IV. Чечня и Дагестан в период расцвета и кризиса имамата
(конец 40-х — 50-е гг. XIX в.)
набожности Мухаммед-Амина, но считал его неспособным правителем, а потому подыскивал другую кандидатуру. Только отказ всех намеченных им лиц от назначения, заставил Шамиля согласиться с кандидатурой Мухаммед-Амина, который добровольно вызвался стать наибом у черкесов.
Неожиданно для имама, Мухаммед-Амин действовал гораздо успешнее двух своих предшественников. С одной стороны, он добился некоторого улучшения положения черкесских крестьян, ограничив произвол князей. С другой стороны, он породнился с некоторыми княжескими фамилиями, выбрав себе жену из этого сословия. В результате Мухаммед-Амин десять лет управлял черкесами, несмотря на то что влиятельная группировка знати во главе с князем Сефер-беем Зановым не раз пыталась отстранить его от власти1.
Новая тактика царских властей на Кавказе. Между тем разгром мощной военной экспедиции в Дарго в 1845 г. окончательно убедил не только наместника Кавказа М. С. Воронцова, но и самого императоре Николая I в необходимости изменить характер военных действий. По словам российского историка Н. Ф. Дубровина, для всех стало ясна «...что необходимо занять сначала плоскость и предгорья и, укрепив их, идти в глубину гор; что не горы Дагестана, а занятие плоскости Чечни служит ключом к покорению восточной части Кавказа». Именно к этому призывал еще в 1840 г. генерал П. X. Граббе, доказывавший необходимость перенесения передовой линии укреплений с Сунжк вглубь Чеченской равнины, к самым предгорьям: «Оставив в тылу оной плодороднейшие поля и лучшие луга на плоскости, мы принудим ее жителей покориться безусловно или переселиться в горы... С другой стороны, эти укрепления будут служить складочными пунктами военных и продовольственных припасов для действующих отрядов, избавляя от необходимости иметь при них большие обозы (главнейшее затруднение в горной войне), и дадут нам способы: собирать отряды налегке, быстро и внезапно проходить Чечню по всем направлениям и во всякое время года... Таким образом, мы утвердимся совершенно на равнине, а это повлечет за собою зависимость от нас горцев, которые... не могут обойтись без пособия жителей Чечни...»2
Стратегия, принятая на вооружение командованием Кавказской линии, состояла в том, чтобы оторвать от имамата всю плоскостную Чечню, являвшуюся его главной продовольственной и экономической базой, а также основным источником людских резервов. Уже в конце 1845 г. началось планомерное наступление на Чечню, а с началг 1846 г. войска перешли от прокладывания отдельных просек к бук-
1 Акты Кавказской Археографической Комиссии. Т. 10. — С. 590—593; и др.
2 Акты, собранные Кавказской Археографической комиссией. Т. 9. — Тифлис. 1884. — С. 429—430.
Внутренняя и внешняя политика имамата на заключительном этапе Кавказской войны.
Взлет и падение
зальному истреблению дремучих чеченских лесов. По этому поводу М. С. Воронцов с удовлетворением констатировал: «Шамиль проявляет большую активность в этом году, и он вынужден к этому, так как мы... ■ринимаем меры, которые должны рано или поздно... разрушить его влияние и оторвать от него чеченцев, без которых он ничего не будет эеачить». Передвигая линию военных укреплений вглубь Чечни, российское командование одновременно направляло на чеченские земли вовых военных поселенцев — казаков, которых начали расселять по берегам Сунжи.
Постепенное наступление на Чечню не означало, что полностью прекратились экспедиции вглубь Дагестана. Так, в 1848 г. русские овладели после кровавого штурма сильно укрепленным аулом Гергебиль, а в 1849 г. захватили после долгой осады мощную крепость — Салты. Однако систематическое наступление с закреплением территории велось только в Чечне, где в 1844—1845 гг. строятся новые укрепления, в част-
— 199 —
Глава IV. Чечня и Дагестан в период расцвета и кризиса имамата
(конец 40-х — 50-е гг. XIX в.)
План Воздвиженского укрепления у входа в Аргунское ущелье. 1844 г. (53, 58)
ности, крепость Воздвиженская рядом с селением Большие Атаги. Зимой 1849—1850 г. началась прокладка новых просек из Воздвиженской по направлению к селению Шали. Одновременно на северо-западе Чечни строятся новые станицы по Сунже.
Пытаясь остановить продвижение российских войск, Шамиль воздвиг на их пути в Большой Чечне целую оборонительную линию, протяженностью около 5 км. Характер развернувшихся в Большой Чечне военных действий хорошо описан дагестанским историком Хайдарбеком Геничутлинским: «Начали неверные с вырубки лесов и, в конце концов, превратили их в подобие скошенных полей. Они также расширяли имевшиеся дороги и узкие проходы, а на путях и в местах, где делают привалы, воздвигали крепости. Что же касается имама Шамиля, то он постоянно сражался с неверными... При этом, то имам побеждал, то его побеждали»1. И хотя упорные бои в этой местности продолжались до следующей зимы, уже в 1850 г. от имамата откололась западная часть Малой Чечни.
Усиливающееся проникновение вглубь Чечни побудило Шамиля даже прибегнуть к новой тактике. В большой тайне были подготовлены 10 батальонов пехоты (по 500 человек в каждом), которые русскими перебежчиками были обучены действовать в плотном армейском строю. 28 февраля 1852 года 5 батальонов новой пехоты под командованием наиба Талхига при поддержке кавалерии наиба Малой Чечни Саадуллы вступили в бой с русскими батальонами. И хотя в открытом сражении
1 Геничутлинский Хайдарбек. Историко-биографические и исторические очерки. — Махачкала, 1992. — С. 102.
Внутренняя и внешняя политика имамата на заключительном этапе Кавказской войны.
Взлет и падение
горцы, обученные на европейский манер, проявили завидную стойкость, потери были столь высоки, что Шамиль навсегда вернулся к испытанной тактике рассыпного строя.
Позиция официального духовенства. Наряду с военными действиями российские власти предпринимали последовательные усилия, чтобы привлечь на свою сторону не только наиболее влиятельных лиц из ближайшего окружения Шамиля, но и мусульманское духовенство в целом. Еще во времена наместничества А. П. Ермолова ставилась задача создать духовное управление для мусульман Кавказа с целью «...поставить духовенство мухаммеданское в такое положение, чтобы оно действовало сколь можно более в духе правительства, дабы правительство имело средства следить, поверять и направлять его действия, и, наконец, чтобы, сделавши духовенство мухаммеданское, так сказать, своим орудием, отнять у него чрез то возможность противуборстовать нашим мероприятиям...»1.
Быстрое распространение мюридизма привело к тому, что российское командование с большим подозрением относится к представителям горского духовенства. Поэтому в 1834 г. муфтием мусульман Кавказа правительством направлен из Казани татарский мулла Таджеддин Эфенди. Однако, ни он, ни сменивший его в 1840 г. казанский мулла Осман Эфенди не смогли своими воззваниями подорвать влияние Шамиля. В 1845 г. в крепость Грозную направлен крымско-татарский кадий Кади- аскер Сеид-Халиль Эфенди, чьи усилия были вскоре отмечены высокой наградой — орденом Святой Анны III степени. Татарские муллы и в последующие годы получали назначение на Кавказ.
В 1849 г. правительство создает восемь духовных школ для мусульман Кавказа, в том числе три школы для суннитов. Российские власти полагали, что в стенах этих учебных заведений им удастся подготовить новое поколение горских мусульманских мулл, которые будут способствовать проведению государственной политики среди горских народов •...с большим ручательством в успехе, нежели муллы иноплеменные, местным обычаям чуждые...».
Впрочем, среди мусульманского духовенства Северного Кавказа было немало духовных лиц, категорически выступавших против воинственной политики «дагестанских имамов». Военно-тоталитарное государство, созданное Шамилем, также подвергалось жестокой критике. Так, один из кадиев Джарской области Южного Дагестана Магомет Плава писал Шамилю в 1847 г.: «Ты творишь наибезобразнейшие из безобразных вещей, ты проявил самые плохие стороны на пути ислама, гы создал в Дагестане бойню, о которой уши не хотели бы слышать и с которой мысль людей не согласилась бы... Ты разрешаешь убивать мусульман, проливать мусульманскую кровь, грабить их имущество,
Акты, собранные Кавказской Археографической комиссией. Т. 9. — С. 126.
— 201
Глава IV. Чечня и Дагестан в период расцвета и кризиса имамата
(конец 40-х — 50-е гг. XIX в.)
каковые вещи до сих пор запрещались... Тебе самому хорошо видва что беспорядки в Дагестане, войны и вражда являются результатов твоих распоряжений... мыслить же о том, что бессильные дагестанце смогут изгнать русских из Дагестана не приходится»1.
Шамиль и наибы. Кризис в имамате. Еще в 1840 г., сразу же после начала всеобщего восстания в Чечне, командующий Кавказским корпусом генерал Е. А. Головин пытался через двух чеченских офицеров начать напрямую переговоры с чеченскими наибами. Последние, однако, заявили, что «...помимо Шамиля, никаких переговоров между нами быть не может». Понятно, что в момент, когда движение мюридизма в Чечне мощно набирало силу, иного ответа трудно было ожидать.
Более того, в первой половине 40-х гг. российскому командованию больше приходится думать о том, как удержать от измены своих союзников среди горской верхушки. Так, в 1844 г. к Шамилю перебежал генерал-майор Даниель-бек, владетель Елисуйского султаната, считавшийся одним из наиболее влиятельных дагестанских владетелей. Он становится наибом Шамиля, а затем и родственником: сын Шамиля Гази-Мухаммед женится на дочери Даниель-бека. Правда, не прошло и года, как в марте 1845 г. Даниель-бек тайно сообщил российским властям о своей готовности вновь вернуться на службу, при условии полного восстановления его прав как владетеля Елисуйского султаната.
Поведение Даниель-бека довольно типично для ближайшего окружения Шамиля. Еще в 1842 г. генерал Фезе имел секретные переговоры с Кибит-Магомой, влиятельнейшим лицом в имамате. Последний, в качестве непременного условия своего перехода к русским, требовал предоставить ему право «...управлять независимо под покровительством нашим... некоторыми горскими племенами...»2. Военные успехи Шамиля 1842—1843 гг. прервали эти переговоры, но уже в 1845 г. Кибит-Магома вновь возобновляет свои контакты с российским командованием. В этом же году тайные переговоры велись и с другими влиятельными наибами, в частности, с Хаджи-Муратом.
Требования наибов остаются прежними: сохранение за ними прав полновластных правителей в наибствах под российским протекторатом. Но в середине XIX в. российские власти вовсе не собирались создавать на Северном Кавказе новые полунезависимые феодальные владения, что и удерживало окружение Шамиля от открытой измены, до тех пор пока крах имамата не стал совершенно очевидным. Тем не менее, уже во второй половине 40-х гг. отмечены первые случаи выхода некоторых Шамилевских наибов к русским, что свидетельствовало об усиливающемся внутреннем кризисе имамата. Так, в 1847 г. сдался
1 Движение горцев Северо-Восточного Кавказа в 20—50-х годах XIX в. — С. 562.
2 Там же. — С. 355.
Внутренняя и внешняя политика имамата на заключительном этапе Кавказской войны.
Взлет и падение
властям Сулейман-эфенди Мустафинов, до мая 1846 г. считавшийся наибом Черкесии.
Обстановку в горском государстве заметно обостряли и постоянные противоречия между Шамилем и его наиболее влиятельными наибами. Еще в 1843 г. командующий Кавказским корпусом генерал-адъютант Нейдгард отмечал возросшее влияние наиба Шоаип-муллы. И хотя его отношения с имамом оставались ровными, генерал не сомневался, что «...в случае ссоры с Шамилем, то по влиянию, каковое Шуайб имеет на чеченцев, он может быть и опаснейшим его врагом. Чеченцы уважают и боятся Шуайба»1.
Неожиданная гибель Шоаип-муллы еще более укрепила лидерство Шамиля, но вскоре его стремление к созданию владетельной династии начало встречать скрытое противодействие наибов. В 1848 г. на очередном съезде верхушки имамата Шамилю удалось добиться провозглашения своего сына Гази-Мухаммеда наследником власти имама. Однако широкую известность получили и слова, тогда же неосторожно сказанные Хаджи-Муратом: «После смерти Шамиля имамом станет тот, у кого сабля острее».
Постепенно отношения между имамом и наиболее удачливым военным предводителем горцев все больше обостряются. Совершив не менее 11 удачных набегов (в том числе и на крепость Темир-Хан-Шура), Хаджи-Мурат не только приобрел множество сторонников в горах, но и сосредоточил в своих руках немалые богатства. Некоторые из биографов Шамиля прямо обвиняют Хаджи-Мурата в том, что сражениям против российских войск он предпочитал грабительские рейды, приносившие богатую добычу. Как бы то ни было, Шамиль только искал случая, чтобы ослабить влияние аварского наиба.
В 1851 г. отряды мюридов потерпели неудачу в Хайтаке (Кайтаге), жители которого не оказали им серьезной поддержки, однако Хаджи-
Печать Шамиля (53, 172)
Движение горцев Северо-Восточного Кавказа в 20—50-х годах XIX в. — Махачкала, 1959. — С. 407.
Глава IV. Чечня и Дагестан в период расцвета и кризиса имамата
(конец 40-х — 50-е гг. XIX в.)
Мурат, как обычно, вернулся из этого похода с богатой добычей. Шамиль обвинил его не только в неудачном исходе похода, но и в утаивании части добычи. Отстраненный от управления Аварией, Хаджи-Мурат со своими вооруженными сторонниками укрепился в селении Батлаич, куда направились и отряды Шамиля. В конечном итоге удалось избежать открытого столкновения, было даже объявлено о примирении двух противников, но Хаджи-Мурат, уже не чувствуя себя в безопасности* вскоре бежал через Чечню к русским. Однако семья его оказалась в руках Шамиля, что вынудило Хаджи-Мурата совершить еще один побег, уже от русских обратно к Шамилю. Эта попытка стоила ему жизни.
В конце 1851 г. на сторону русских открыто перешел и один из влиятельных чеченских наибов Бата Шамурзаев. Еще ребенком попав в плен, Бата воспитывался в семействе баронов Розенов и стал офицером. Бежав к Шамилю, он в 1844 г. стал одним из наибов в Большой Чечне (где в своей ставке пытался завести на русский манер хозяйство помещичьего типа). Однако в 1850 г. был смещен с должности по обвинению в многочисленных злоупотреблениях. В отличие от Хаджи-Мурата, Бата Шамурзаев активно участвовал в войне против имама, был произведен в капитаны и награжден 500 десятинами земли. Учитывая его заслуги (а возможно и в качестве примера для других потенциальных перебежчиков), российские власти сделали его наибом Качкалыковского наибства.
В начале 50-х гг. государство Шамиля переживает глубокий внутренний кризис. Перебежавший от Шамиля еще один его сподвижник Ха- лет-эфенди сообщал, что в верхушке имамата преобладает всеобщее недоверие и подозрительность, так как Шамиль в каждом влиятельном предводителе видит своего соперника. Преисполненный решимости обеспечить переход власти к своему сыну Гази-Мухаммеду, Шамиль готов погубить любого, кого заподозрит в противодействии своим
Гази-Магомед — сын Шамиля. Фрагмент фотографии 60-х гг. XIX в. (53, 206)
— 204 —
Внутренняя и внешняя политика имамата на заключительном этапе Кавказской войны.
Взлет и падение
планам. Среди населения же царит глубокое уныние, так как война уже истребила цвет горцев, а ее продолжение не сулит ничего, кроме усиления власти Шамиля. При этом никто из горцев не решается и на открытое восстание, считая свержение власти имама непосильной задачей1.
Международная ситуация в 50-х гг. XIX в. и положение в имамате2.
Внутренняя слабость имамата не позволила Шамилю воспользоваться в полной мере благоприятной внешнеполитической обстановкой, сложившейся накануне и во время Крымской войны 1853—1856 гг. Главной причиной этой войны стало обострение спора между ведущими европейскими державами за «турецкое наследство». Николай I открыто сравнивал Турецкую империю со смертельно больным человеком и предлагал всем заинтересованным странам заблаговременно договориться о разделе ее территории. Претензии самой России простирались как минимум на Балканы и черноморские проливы.
Планы российского императора в той или иной мере вызывали тревогу в большинстве европейских столиц, не желавших дальнейшего укрепления России, которая и так выступала в роли главного «жандарма Европы». Кроме того, Австро-Венгрия стремилась усилить собственное влияние на Балканах, а Англия и Франция серьезно опасались дальнейшего продвижения России на юг, что могло подорвать их собственные позиции на Ближнем и Среднем Востоке. Именно поэтому Турция в глазах Парижа и Лондона превратилась в последний бастион на пути российской экспансии в южном направлении.
Между двумя главными противниками России — Францией и Англией — существовали известные разногласия в определении конечных целей войны. «Император всех французов» Наполеон III стремился лишь остановить дальнейшее расширение Российской империи к югу от Кавказа, но одновременно опасался чрезмерного ее ослабления, что неминуемо усилило бы Англию — старого противника Франции по захвату колоний в мире.
Английское правительство, напротив, стремилось в максимально возможной степени ослабить или даже расчленить Россию, границы которой в Азии находились, по мнению англичан, в опасной близости от Индии, господство над которой считалось основой британского могущества. Премьер-министр Пальмерстон писал о целях его кабинета в Крымской войне: «...Аландские острова и Финляндию отдать Швеции; часть остзейских провинций России у Балтийского моря передать Пруссии; восстановить самостоятельное королевство Польское
Смирнов Н. А. Мюридизм на Кавказе. — М., 1963. — С. 195—196.
: См.: Ибрагимбейли Х.-М. Кавказ в Крымской войне 1853—1856 гг. и международные отношения. — М., 1971; Дегоев М. Большая игра на Кавказе: история и современность. — М., 2001; и др.
Глава IV. Чечня и Дагестан в период расцвета и кризиса имамата
(конец 40-х — 50-е гг. XIX в.)
как барьер между Германией и Россией. Валахию, Молдавию и устье Дуная отдать Австрии. Крым, Черкесию и Грузию отдать Турции, г Черкесию либо сделать независимой, либо передать под суверенитет султана». Английская печать требовала, чтобы новая граница России на Кавказе проходила к северу от рек Терек и Кубань.
В планах союзников по антироссийской коалиции Кавказу отводилась роль одного из главных театров военных действий, что увеличивало значение имамата Шамиля и действовавшего на Северо-Западном Кавказе Мухаммед-Амина. Учитывая, что главные силы Кавказской армии связаны военными действиями против горцев, союзники планировали развернуть с юга наступление турецкой армии на Тифлис при одновременном встречном ударе отрядов Шамиля с севера. Действия турок и горцев должны были быть поддержаны десантами турецких войск и их европейских союзников на Черноморском побережье Кавказа.
Осуществление этого плана во многом зависело от военной активности горцев, к которым турецким султаном заблаговременно были отправлены воззвания с обещанием военной и политической поддержки. Однако ни Шамиль в Чечне и Дагестане, ни Мухаммед-Амин в Черкесии не имели уже достаточно сил, чтобы самостоятельно вест* эффективные наступательные действия против российских войск. Так. Шамиль еще до начала Крымской войны не смог прорваться с 7-тысячным отрядом в Закавказье через Лезгинскую линию. Провалилась и попытка Мухаммед-Амина овладеть Карачаем, чтобы создать операционную базу для дальнейших действий в направлении Кабарды, Осети* и далее к владениям Шамиля.
Для укрепления обороны Кавказского побережья из Севастополя была переброшена 13-я пехотная дивизия, а главное — российское командование в начальный период войны сумело опередить своих противников. Сразу же после того, как осенью 1853 г. Турция официально объявила войну, эскадра под командованием адмирала П. С. Нахимова уничтожила в Синопской бухте турецкий флот, готовившийся к осуществлению десантной операции у Сухума. В довершение всего российские войска нанесли сразу два поражения турецкой армии в Закавказье not Ахалцихом (26 ноября 1853 г.) и Баш-Кадыкляром (1 декабря 1853 г.), что окончательно сорвало план союзников по быстрому захвату Кавказа.
Неудачный для России ход военной кампании 1854 г. в Крыму, где высадились основные силы союзников, не изменил положения на Кавказе. До 200 тысяч солдат и офицеров уверенно блокируют районы действия горцев на Северном Кавказе — даже тяжелые поражения в Крыму не заставили российское командование ослабить эту блокаду Не получая от союзников никакой реальной помощи ни деньгами, ни оружием, ни снаряжением, Шамиль в 1854 г. все же предпринял попытку двинуться в Грузию на соединение с турецкой армией Омер-папш
Внутренняя и внешняя политика имамата на заключительном этапе Кавказской войны.
Взлет и падение
Начало похода в Закавказье отмечено крупным успехом горцев: российское командование не сумело вовремя определить маршрут ародвижения сил Шамиля. За короткий срок 15 тысяч мюридов под эдмандованием Гази-Мухаммеда и Даниель-бека Елисуйского захватили а Грузии 18 селений и около 900 пленных, в том числе семьи князей Орбелиани и Чавчавадзе.
Позднее Шамиль уверял, что прервал грузинский поход потому, что получил от союзного командования письмо с упреками в преждевременном выступлении. Вряд ли это утверждение соответствует действительности. Шамиль просто не мог слишком далеко увести свои главные силы от территории имамата, так как опасался вторжения р^ских сил в собственные владения. Убедившись, что турецкие войска не движутся ему навстречу, а российское командование собирает силы 2Ля контрудара, Шамиль поспешно повернул обратно1.
Вместе с тем, поход в Грузию, как никогда ранее, наглядно выявил изменившийся характер армии Шамиля. Биограф имама ал-Карахи сообщает, что войско собрало невиданную ранее добычу: «Эти богатства были таковы, что не пересчитает считающих их множество и не опишет описывающий их великолепие... Они собрали домашних животных, зояов и буйволов, такое множество, что ополченцы даже резали волов шля того только, чтобы снять с них шкуру для пошивки сандалий... Затем они (грузины. — Авт.) начали выкупать своих детей, одного за другим, за деньги, настолько большие, что даже говорили, что не осталось вовсе денег в Грузии и стали они в изобилии здесь до того, что подешевели, но приток их все не прекращался долгое время»2.
Однако обильная добыча только усилила раздоры в имамате. Тот же ал-Карахи пишет: «В том сражении в Грузии были многочисленны утаивание добычи, измены и увеличение угнетения со стороны управителей и наибов. А ведь известно, что «государство продолжает существовать при неверии, но не [может] продолжаться при угнетении...»3. Быстро растущие внутренние затруднения в следующем, 1855 г., вообще пол- мостью парализовали активность Шамиля. Не лучц)е обстояли дела и у Мухаммед-Амина, который безуспешно пытался мобилизовать черкесов шля поддержки турецких войск.
Зато российскому командованию удалось собрать до 12 тысяч горцев Северного Кавказа (в том числе около 1 тысячи чеченцев) в добровольческие иррегулярные воинские соединения, которые приняли активное участие в военных действиях против турецких войск в Закавказье. Одним из чеченских офицеров, отличившихся в боях, был Орцу Чермоев
Акты, собранные Кавказской Археографической комиссией. Т. 9. — С. 968.
: Мухаммед Тахир ал-Карахи. Блеск дагестанских сабель в некоторых шамилевских битвах. Ч. 2. — Махачкала, 1990. — С. 63—64.
Там же. — С. 68.
Глава IV. Чечня и Дагестан в период расцвета и кризиса имамата
(конец 40-х — 50-е гг. XIX в.)
(впоследствии получивший звание генерал-майора русской армии) \ Разгром армии Омер-паши и занятие сильной турецкой крепости Карс значительно ослабили последствия поражения российских войск поб Севастополем.
Английские военные планы предусматривали после захвата Севастополя высадку крупных десантов и начало большого наступления на Кавказе. Таким образом, реальная помощь, которую с нетерпением ожидал Шамиль, могла прийти не ранее 1856 г. Однако вместо нового наступления союзников в 1856 г. начались мирные переговоры. Колоссальные трудности, с которыми столкнулись союзники при осаае Севастополя, дали ясное представление о том, насколько трудной и непредсказуемой может оказаться новая военная компания. Тем более, что кавказские войска традиционно считались самыми боеспособными в российской армии.
На Парижской мирной конференции английская делегация попыталась потребовать от России территориальных уступок на Кавказ в пользу Турции, а также создания независимого или находящегося под турецким протекторатом государства «Черкесии и Дагестана». Со своей стороны, российские представители менее всего были склонны на какие-либо уступки именно в Кавказском регионе, где был одержан ряд крупных побед над турками. К тому же, Англия осталась в одиночестве в своих требованиях: не только Франция, но даже и Турция не захотели полностью поддержать ее позицию. Секретный турецкий меморандум, специально подготовленный к мирной конференции, констатировал невозможность добиться уступок от России на Кавказе «Если бы население Дагестана и Черкесии оказало удовлетворительную поддержку союзникам, то обсуждение и разрешение кавказский проблемы на мирной конференции последовало бы совершенно естественно»1 2. Но дело было в том, что Стамбул не хотел допустить военные корабли Англии в Черное море и строительство здесь военных баз, что понадобилось бы последней в случае конфликта Англии с Россией ю- за Кавказа. Турки здраво опасались могущественной Англии больше чем побежденной России.
В конечном итоге, воспользовавшись противоречиями среди союзников, российская дипломатия сумела добиться приемлемых для cew условий прекращения войны: «Не этих результатов ожидала Европа * начале борьбы... Россия казалась побежденной. Но, в общем, сопротивляясь врагам, она покрыла себя славой. Она вышла из войны 6а унижений. Ее территориальные границы были почти сохранены. Короткий период, в течение которого она собиралась с силами и проводила
1 Музаев Т Тапа // Голос Чечено-Ингушетии. — 1992. — 17 апр. — 76. — С. 3.
2 Дегоев В. В. Кавказский вопрос в международных отношениях 30—60-х гг. XIX в. — Владикавказ, 1992. — С. 168.
— 208 —
Внутренняя и внешняя политика имамата на заключительном этапе Кавказской войны.
Взлет и падение
внутренние реформы, позволил ей вскоре возобновить свое движение вперед»1.
Начало падения имамата. Крымская война не только не ослабила давление России на горцев Северного Кавказа, но, напротив, побудила ее усилить свое наступление с целью скорейшего завершения войны. Еще накануне Крымской войны кавказское командование принимало меры к тому, чтобы полностью оторвать Чечню от имамата. В 1851 г. М. С. Воронцов считал, что положение Шамиля в Чечне близко к критическому: «Чувствуя, что Чечня для него пропала, он старается защищать остатки оной приводом с собою против наших зимних экспедиций всего, что он может собрать в Дагестане; но эти силы ежегодно уменьшаются... те же, которые до сих пор с ним приходили, составляют тяжкое бремя для чеченцев... все это неминуемо должно кончиться тем, что дагестанцы перестанут ходить в Чечню, и что сам Шамиль должен оставить... свое пребывание в Ведено»2.
В 1853 г. отряд под командованием генерала А. И. Барятинского проложил огромную просеку через Качкалыковский хребет (со стороны Гудермеса) на запад в направлении Большой Чечни и истребил большую часть расположенных в этих местах чеченских селений. В результате отрезанное от равнины население Черных гор неминуемо должно было столкнуться с продовольственными трудностями. Поэтому, как предполагал А. И. Барятинский, «...они в скором времени должны к нам перейти, или объявить покорность на местах; тогда слабое население ичкеринцев одно не будет в состоянии держаться...»3.
Наряду с систематическим наступлением на чеченские земли было разработано особое положение об управлении чеченцами. Предусматривалось, в частности, назначить особого начальника над всем чеченским народом, создать особый чеченский суд в составе кадия и трех выборных старшин, учредить Чеченский округ во главе с окружным старшиной, которому должны были непосредственно подчиняться сельские старшины4.
Все эти обстоятельства все чаще приводили к бегству в российские границы не только простых жителей, но и высокопоставленных лиц имамата. Так, в самом начале 1854 г. на сторону России перешел со всеми своими родственниками наиб Малой Чечни Эндирей Умаяев. Его примеру вскоре последовали и многие другие чеченские наибы ч известные предводители. Так, в 1856 г. бежал к русским Юсуф- Хаджи Садаров, который до этого по обвинению в измене почти три
1сбидур А. Дипломатическая история Европы. Т. 2. / Пер. с фр. — М., 1947. — С. 150.
- Акты, собранные Кавказской Археографической комиссией. Т. 10. — Тифлис, 1385. - С. 903.
Та мже. — С. 96.
- РГВИА. Ф. 38. On. 1. Д. 27. Л. 1—4.
Глава IV. Чечня и Дагестан в период расцвета и кризиса имамата
(конец 40-х — 50-е гг. XIX в.)
года содержался под стражей в дагестанском высокогорном селен ми Акнада.
Захват Большой и Малой Чечни. В 50—60-х гг. XIX в. в Большов Чечне военные действия ведутся практически непрерывно: командование специальными прокламациями и через многочисленные лазутчиков предупреждает чеченцев, что не позволит им «ни пахать, ни сеять». Это обещание было сдержано в буквальном смысле, и в 1856—1857 гг. в Чечне наступил голод, которого чеченцы почти никогда не знали. Дагестанский историк X. Геничутлинский писал о положении в этой части Чечни: «Эти тяготы, поразившие мусульман Мичиговской области (Чечня), затянулись уж слишком. У них постоянно находившихся под ружьем, не оставалось уже времени на приобретение средств к жизни и прокормление своих семейств...
Бои в Малой Чечне. Смерть генерала Слепцова. Худ. Ф. Рубо (22, 36)
— 210 —
Внутренняя и внешняя политика имамата на заключительном этапе Кавказской войны.
Взлет и падение
Ведь эти борцы за веру превратились теперь в людей столь неимущих, столь бедных, что, бывало, не находили, какую же провизию взять с собой в поход и чем будут питаться их домочадцы. Мало того — перед мичиговцами были закрыты к тому времени пути, по которым... традиционно поступали к ним соль, железо и бязь»1.
Наращивая военные усилия для быстрейшего и победоносного завершения Кавказской войны, Россия перебрасывает на театр военных действий все новые и новые войска. Если в 1857 г. ее группировка на Кавказе насчитывала примерно 276 тысяч солдат и офицеров, то к 1859 г. она возросла до 308 тысяч человек, из которых 200 тысяч приходились за Чечню и Дагестан2.
Результаты тактики массированного давления российского командования не замедлили сказаться — чеченцы отпадают от имамата веяыми обществами. В 1857 г., после массированного похода-нашест- амя отряда генерала Е. И. Евдокимова, Большая Чечня окончательно •отошла» от Шамиля. В начале следующего, 1858 г., завершилось аокорение и Малой Чечни. Шамиль еще надеялся, что ему удастся организовать длительное сопротивление в горах, однако, горная война
Малая Чечня (13, 252)
Ггничутлинский Хайдарбек. Историко-биографические и исторические очерки. — Махачкала, 1992. — С. 102—103.
: Акты, собранные Кавказской Археографической комиссией. Т. 12. — Тифлис, 1904. — С. 1312.
Глава IV. Чечня и Дагестан в период расцвета и кризиса имамата
(конец 40-х — 50-е гг. XIX в.)
уже не представляла для русского командования неразрешимых труз- ностей. Накопленный за долгие годы большой практический опыт действий в горах был систематизирован и достаточно хорошо усвоея большинством командиров.
Занятие Горной Чечни. Уже в 1855 г. подполковник П. К. Услар предложил ряд рекомендаций по ведению боевых действий в чеченских горах. По его мнению, движение вглубь гор вверх по ущельям в высшей степени опасно для войск: «Здесь горсть горцев может не пропустить отряда, или пропустить его с тем, чтобы не выпустить». Совершенно бесполезно также вырубать горные леса, поскольку это не поможет овладеть важнейшими коммуникациями. Бессмысленно было также устанавливать контроль над отдельными горными долинами и ущельями, поскольку это никак не влияло на ситуацию в соседнем ущелье.
Учитывая эти особенности нового основного театра военных действий, П. К. Услар предлагал изменить направление ударов, направив их не с севера на юг, а с запада на восток. В этом случае русские войска должны были продвигаться не вверх по узким ущельям, подвергаясь атакам сверху, со стороны невидимого и недоступного для ответного огня противника, а идти по гребням водораздельных хребтов Черных гор. Считалось также необходимым построить силами военных саперов дороги, тянущиеся вдоль этих хребтов, так как контролируя их. русские войска сразу же приобретали все главные преимущества ь горной войне. На безлесных гребнях горцам просто не из чего строить свои излюбленные оборонительные сооружения — завалы. Деревьев либо нет, либо их очень мало. Каменные завалы легко разрушаются
Кампании Евдокимова 1858—1859 гг. в горной части Чечни (13, 382)
— 212 —
Внутренняя и внешняя политика имамата на заключительном этапе Кавказской войны.
Взлет и падение
артиллерией, а окопы не представляют серьезного препятствия для регулярных войск, имеющих подавляющий перевес в огневой мощи. При этом войска на гребнях хребтов невидимы для противника, в то время как расположенные ниже горные селения открыты для внезапной атаки. Даже встреча с большими массами горцев на гребнях не страш- sa для армии: «При встрече с нами на гребне горцы должны тотчас хе уступить тактическому превосходству нашему». К тому же вместе с гребнями гор в руки российских войск переходили и важнейшие аастбища горных чеченцев1.
Летом 1858 г. российские войска, обойдя главные оборонительные эрзиции чеченцев и встречая слабое сопротивление, вошли в Аргунское твелье. Чеченский наиб Дуба вскоре сдался, а продвижение русских вверх по ущелью вызвало в Шатое восстание против мюридов Шамиля. Дагестанский наиб Шатоя едва спасся бегством: «Во всех обществах, юторые могли рассчитывать на поддержку с нашей стороны, народ стал резать без разбора начальников, поставленных от Шамиля, кадиев м мулл...»
Аргунское ущелье. Худ. В. С. Шлипнев (4, 220)
Акты, собранные Кавказской Археографической комиссией. Т. 9. — С. 961—962.
— 213 —
Глава IV. Чечня и Дагестан в период расцвета и кризиса имамата
(конец 40-х — 50-е гг. XIX в.)
На последнем этапе Кавказской войны российские войска все чаще формируют отряды милиции из числа покоренных чеченцев. Так, для покорения Галанчожского и Галашкинского обществ генерал Е. И. Евдокимов направил две тысячи чеченцев из селений Малой Чечни во главе с их наибом, также перешедшим на сторону русских: «Чеченцы рассыпались по лесам, истребили упорствовавших разбойников, а прочих заставили выселиться на плоскость. К концу года эта часть края была раскрыта и успокоена».
Падение Ведено. Уход имама в Дагестан. В начале 1859 г. под властью Шамиля оставалась еще часть Ичкерии, но и отсюда жители часто бежали на Чеченскую равнину. Невозможность для чеченцев продолжать войну позволила войскам весной 1859 г. с небольшим!! потерями продвинуться вглубь Ичкерии и занять, правда, с тяжелыми боями, столицу имамата — Ведено. Покинутый почти всеми чеченскими наибами, которые в свою очередь остались без войск, Шамиль бежал в Дагестан.
Движение Евдокимова на Ведено в феврале 1859 г. Худ. Т. Горшельт (8, 29)
— 214 —
Внутренняя и внешняя политика имамата на заключительном этапе Кавказской войны.
Взлет и падение
Поражение Шамиля в Чечне было полным и причины его надо искать не только в неоспоримом военном превосходстве российской регулярной армии (для партизанской войны это преимущество не имеет решающего значения), а прежде всего во внутреннем кризисе, поставившем имамат на грань развала: ал-Карахи характеризует последние годы правления Шамиля следующими словами: «...не было у глав и правителей ничего, кроме удаления и гордости, у имама — кроме отпущения узды и подтверждения [речей управителей и наибов], у семьи имама — кроме расширения за пределы дозволенного имамом к припрятывания [богатств], у простого народа — кроме недовольства правителями и неодобрения этого припрятывания»1.
Однако и в Дагестане Шамиля ожидал полный крах: наиболее приближенные к нему сподвижники один за другим переходят на сторону русских. При этом некоторые из них напоследок еще и ограбили своего имама. Так, Даниель-бек Елисуйский присвоил доверенные ему ценности семьи Шамиля, а Кибит-Магома захватил направлявшийся к Гунибу обоз Шамиля со всем оставшимся у него имуществом и казной имамата (примерно 15 тысяч рублей). Вряд ли, однако, сам имам мог быть удивлен поведением своих давних соратников. Еще в 1856 г., получив неоспоримые доказательства тайных связей Кибит-Магомы с российским командованием, Шамиль все же не казнил его, а лишь сослал под свое наблюдение в аул Дарго. Что касается нравственного облика Даниель-бека, то весь Кавказ знал, что он из желания стать султаном Елисуйским коварно убил своих братьев.
Осада Гуниба. Пленение Шамиля. Только накануне падения имамата Шамиль попытался начать переговоры о мире: его «представитель» в Стамбуле, некий Махмуд-эфенди, получил инструкции добиваться турецкого посредничества на его переговорах с Россией, местом провезения которых Шамиль хотел сделать турецкую столицу. Впрочем, для Шамиля гораздо выгоднее было бы начать переговоры о мире еще во время Крымской войны, когда российское правительство перед лицом грозной коалиции внешних врагов готово было обещать ему «.. .нечто Броде учреждения династии под нашим покровительством» в обмен на заключение мира.
Мир на Кавказе по-прежнему оставался желателен для России, которая предпринимала большие дипломатические усилия по нейтрализации неблагоприятных для нее последствий Крымской войны. Лучше всего этой цели могла послужить впечатляющая военная победа над горцами, ш выдающийся российский дипломат А. М. Горчаков писал новому наместнику Кавказа князю А. И. Барятинскому: «Политический горизонт, зорогой князь, далеко не ясен... Если бы Вы дали нам мир на Кавказе, Россия приобрела бы сразу одним этим обстоятельством в десять раз
Мухаммед Тахир ал-Карахи. Указ. соч. — С. 68.
— 215 —
Глава IV. Чечня и Дагестан в период расцвета и кризиса имамата
(конец 40-х — 50-е гг. XIX в.)
Генерал-фельдмаршал, генерал-адъютант наместник Кавказа князь А. И. Барятинский (9, 73)
Действия противоборствующих сторон в 1857—1859 гг. в Чечне и Дагестане
(12, 470—471)
р. X — Хулхулау границы имамата;
— — действия русской армии; © — крепости;
— — действия горцев; о — населенные пункты;
1 — Евдокимов I—III. 1857; 2 — Евдокимов I—III. 1857; 3 — Евдокимов I—III. 1857;
4 — Евдокимов Х—Х1.1857; 5 — Евдокимов I, VII— VIII.1858; 6 — Евдокимов 7.II—1.IV.1859; 7 — Барятинский, Евдокимов 14.VII—25.VIII.1859; 8 — Врангель VII—25.VIII.1859;
9 — Меликов VII. 1859
— 216 —
Внутренняя и внешняя политика имамата на заключительном этапе Кавказской войны.
Взлет и падение
больше веса в совещаниях Европы, достигнув этого без жертв кровью и деньгами»1. В 1859 г., когда стало совершенно очевидным, что Шамиль находится в одном шаге от полного разгрома, ни наместник Кавказа, ни российский император не собирались начинать с ним переговоры. Получив донесение о том, что возможный посредник на переговорах Махмуд-эфенди все еще дожидается разрешения прибыть на Кавказ, Александр II распорядился: «Решительно его не пускать к нам».
В конце августа 1859 г. князь А. И. Барятинский с 30-тысячной армией осадил аул Гуниб, где укрылся Шамиль с оставшимися у него 400 наиболее преданными мюридами. Этих сил оказалось недостаточно для успешной обороны, и после того как войска, поднявшись по веревкам на неприступное плато, вплотную подошли к аулу, Шамиль принял решение сдаться. Однако и в этом случае, он пытался всячески затянуть переговоры, выдвигая все новые просьбы: то допустить к нему в осажденное селение тех или иных лиц, то ограничиться взятием в заложники еще сеного его сына: «Так проходит более двух часов; князь Барятинский начинает терять терпение... Еще раз появился Юнус (приближенный мюрид Шамиля, через которого велись переговоры. — Авт.) с последнею убедительною просьбой — отдалить назад по крайней мере милицию2, дабы мусульмане не были свидетелями унижения имама... Просьбу згу мы признали возможным уважить; всем милиционерам приказано отойти за линию пехоты, и вслед за тем увидели мы выдвигавшуюся из гула толпу чалмоносцев. Между ними выдавался сам Шамиль на коне. Появление его из-за крайних саклей вызвало невольный возглас «ура» оо всему фронту стоявших поблизости войск»3. Это событие произошло 25 августа 1859 г. по старому стилю (6 сентября по новому стилю).
Гора Гуниб в Дагестане (13, 384)
Ззз?жение горцев Северо-Восточного Кавказа в 20—50 годах XIX в. — Махачкала, №9. - С. 676.
: Иррегулярное соединение из горцев Северного Кавказа и грузин.
Малютин Д. Гуниб. Пленение Шамиля (9—28 августа 1859) // Родина. — 2000. — » 1—2. — С. 131.
Глава IV. Чечня и Дагестан в период расцвета и кризиса имамата
(конец 40-х — 50-е гг. XIX в.)
Пленение Шамиля 25 августа 1859 г. Худ. Т. Горшельт (4, 32)
Пленение Шамиля было отмечено самым коротким приказом за всю историю Кавказской войны: «Шамиль взят. Поздравляю Кавказскую армию!» Позже была введена специальная награда для Кавказских войск: медаль «За покорение Чечни и Дагестана в 1857—1858 и 1859».
Бывший имам Чечни и Дагестана напрасно беспокоился о своей безопасности. Уже вечером первого дня пребывания в плену он начал получать первые подарки. Добросовестный ал-Карахи в своей хронике скрупулезно перечисляет ценные вещи, полученные бывшим правителем еще до того, как он покинул Кавказ: «...двое часов, украшенные бриллиантами... Каждые из этих двоих часов стоят по тысяче рублей по умеренной цене. Два кольца для двух замужних дочерей Шамиля...
Медаль за покорение Чечни и Дагестана (53, 125)
— 218 —
Внутренняя и внешняя политика имамата на заключительном этапе Кавказской войны.
Взлет и падение
Две булавки, прикалываемые к платью на груди, украшенные также бриллиантами... Дорогая шуба для имама, стоящая у русских 2 тысячи рублей...»1. В Калуге, которую Александр II определил местом пребывания Шамиля и его семьи, ему предоставили отдельный особняк, а годовое содержание составило 20 тысяч рублей.
Проведя в почетном плену более 10 лет, Шамиль с семейством смог совершить хадж в Мекку. Скончался он в январе 1876 г. в Медине и вокоронен на кладбище близ гробницы пророка Мухаммеда.
Существует только одно объяснение столь легкой сдачи Шами- жя в плен. В душе он оставался правителем народов, за которые нес ответственность перед Аллахом. Передавая себя заложником в руки российского императора, он надеялся, что будет проявлена милость к его подданным. Такова была историческая практика на Кавказе; когда аравитель выдавал победителю важного заложника, война прекращаешь. Правда, Шамиль не знал, что сценарий его пленения и содержания в России был написан в просвещенной Европе: именно так Франция ариняла в 1847 г. плененного вождя национально-освободительного движения в Алжире Абд-аль-Кадира (правда, для его проживания аыделили королевский замок).
Вслед за Шамилем сдался и его последний наиб на Северо-Запад- зом Кавказе — Мухаммед-Амин. Власти нашли возможным оставить его среди абадзехов, назначив пенсию в размере 3 тысяч рублей в год1. *Посещение Шамилем Императорской публичной библиотеки. Худ. В. Тимм (53, 173)
* Мухаммед Тахир ап-Карахи. Указ. соч. — С. 98. : РГВИА. Ф. 38. Оп. 7. Д. 396. Л. 76.
Глава IV. Чечня и Дагестан в период расцвета и кризиса имамата
(конец 40-х — 50-е гг. XIX в.)
Вместе с тем военные действия в этом регионе затянулись до 1864 г. Здесь была даже сделана попытка провозглашения Черкесской Республики, выбран парламент и направлена делегация в Турцию и Англию.
Большинство чеченских наибов, перешедших на сторону русских, сохранили свои должности и еще несколько лет управляли наибствами, только уже под присмотром местного российского начальства.
Историческое значение Кавказской войны и присоединения Чечни к России. Оно совершенно неоценено ни в советской, ни в российской историографии, продолжающей страдать выраженным европеоцентризмом. Кавказская война являлась самым крупным и значимым общественно-политическим и государственным событием в истории России XIX в. В течение 1840—1859 гг., в период имамата Шамиля, Россия тратила на Кавказ одну шестую государственных доходов и теряла в год порой до 25 тысяч солдат и офицеров, а с 1801 по 1864 гг. империя пожертвовала на Кавказе почти 400 тысяч русских солдат и офицеров, из которых около 80 тысяч человек пали на поле боя, а более 300 тысяч скончались от ран, эпидемий и невыносимых условий солдатской жизни. Тем не менее, самая значительная (по количеству вовлеченных военных сил и по затратам денежных средств) война в истории России XIX в. не заняла соответствующего места в школьных и вузовских учебниках России, а тем более в энциклопедиях. Это несоответствие масштабов события и степени его отражения носит не только вызывающий, но и некорректный характер. Также упускается историческое значение включения Чечни в состав России как для чеченского народа, так и для судеб империи.
Ветераны Кавказской войны. Худ. Е. Лансере (53, 205)
— 220 —
чглониальное присвоение чеченских земель в ходе военных действий. Русско-горская торговля
Чеченец со щитом (22, 18)
Следует быть окончательно отвергнутыми распространявшиеся в свое время партийными органами и спецслужбами СССР концепции «О 200-летии добровольного вхождения» Чечни в состав России в 1781 г. н «набеговой системе» горских народов М. М. Блиева. Данные «спец- юэнцепции» не только наносили ущерб дружбе народов и исторической истине, но и как бы перечеркивали титанический подвиг народа, десятки «ет сражавшегося с тиранией за свободу и независимость.
§ 3. Колониальное присвоение чеченских земель в ходе военных действий. Русско-горская торговля
Стратегия завоевания Чечни. Казачьи станицы. Принятая на вооружение кавказским командованием стратегия предполагала широкую колонизацию чеченских земель. Ее важнейшим этапом стало появление военных поселенцев-казаков на берегах Сунжи в центре чеченских земель. Еще при создании первых русских укреплений было разрушено немало чеченских селений, но после того как было принято решение о создании Сунженской линии казачьих станиц,
— 221
Глава IV. Чечня и Дагестан в период расцвета и кризиса имамата
(конец 40-х — 50-е гг. XIX в.)
Казак на сторожевой вышке (12, вклейка)
началось планомерное изгнание чеченцев. В конечном итоге самое крупное общество Малой Чечни —• Карабулак — полностью лишилось своих земель, что позднее побудило чеченцев-карабулаков почт* поголовно выселиться в Турцию. Так, в 1845 г. на месте чеченского (карабулакского) аула Обарг-Юрт была учреждена станица Троицкая, в том же году на месте чеченского аула Дибир-Юрт появляется станица Сунженская (Слепцовская), сожженное селение карабулаков Ах-Борзе в 1847 г. сменяется станицей Ассиновской и т. д. Также по реке Сунже, Сунженскому и Терскому хребтам во время Кавказской войны растут и другие укрепления и станицы — Карабулакская, Ма- гомет-Юртовская (Вознесенская), Закан-Юртовская, Самашкинская.. Петропавловская, Ильинская, Горячеисточненская, Нестеровская. Галашевская, Фельдмаршальская, Грозненская и т. д.1
К окончанию Кавказской войны Сунженские станицы тянулись непрерывной цепью от устья Сунжи до ее верхнего течения в Ингушетии. Одно время станицы были вынесены и в самые предгорья — в район селения Галашки, но непривычные условия жизни в предгорьях и постоянная угроза со стороны горцев вызывали недовольство казаков. Поэтому
1 См.: Берже А. П. Чечня и чеченцы. — Тифлис. 1859. — С. 20; Чеченская Республика. (Население, экономика, история). — Грозный, 1995. — С. 25—27.
— 222 —
^лониальное присвоение чеченских земель в ходе военных действий. Русско-горская торговля
в конечном итоге станицы Сунженских казаков остались только на равнине, но зато отведенные им земли врезались далеко вглубь чеченской территории. Не только Притеречная Чечня на севере, но и территория ингушей на западе оказалась теперь отрезанной от равнинных чеченских селений. Кроме того, наличие большого количества вооруженного и организационно устроенного русского населения по соседству с крупнейшими аулами чеченцев на равнине имело огромное значение на завершающем этапе Кавказской войны, позволяя российским войскам держать под постоянным наблюдением все пространство Чеченской равнины.
Для того чтобы ускорить заселение русскими земель, отведенных под новые казачьи станицы, правительство приняло ряд мер. В частности, еще в 1832 г. было принято положение, согласно которому казенные крестьяне из внутренних губерний России могли переселяться на Кавказ, если площадь их земельных наделов не превышала 5 десятин на душу. Не довольствуясь этим, правительство причислило к казакам жителей целого ряда казенных селений. В результате, происходит быстрый рост численности казачьего сословия на Северном Кавказе: со 162 тысяч в 1840 г. до 241 тысячи в 1849 г. Одновременно правительство оказалось вынужденным бороться с активным проникновением
Казачья знать. Поручик Гребенского казачьего полка Федюшин и его жена. Худ. Г. Гагарин (4, 171)
— 223 —
Глава IV. Чечня и Дагестан в период расцвета и кризиса имамата
(конец 40-х — 50-е гг. XIX в.)
на казачьи земли так называемых «иногородних» — крестьянского населения, не причисленного к казакам.
Казакам принадлежали лучшие земли — к середине XIX в. все Кавказское линейное войско насчитывало 37,9 тысяч дворов, владевших 2,83 млн десятин или 43% всех предкавказских земель. В Кавказском линейном войске собственником земли считалось не само войско, а отдельные полки, входившие в его состав. Полки сами устанавливали размер надела, полагавшегося казакам. Так, в Терском, Гребенском и Моздокском полках первоначальный земельный надел составлял 50 десятин. Но многоземелье не спасало от земельного неравенства: значительная часть земель сосредотачивалась в руках казачьей верхушки, тем более что земельное размежевание у казаков шло настолько низкими темпами, что межевая комиссия получила прозвище «неживой комиссии».
Крестьянская колонизация. Продолжалась и практика переселения на Северный Кавказ государственных крестьян. В 1840 г. их число превысило 112 тысяч, в том числе: в Ставропольском округе — 81 тысяча, в Пятигорском — свыше 29 тысяч, в Кизляро-Моздокском (включавшем северные районы современной Чеченской Республики) — 1 тысяча человек. Уже через шесть лет их количество в регионе возросло до 162 тысяч.
Положение казенных крестьян было гораздо предпочтительнее положения крепостных, прежде всего потому, что они наделялись землей из государственного земельного фонда. Для создания этого фонда в пользу казны было отобрано большое количество земли, и нг Северном Кавказе государство являлось крупнейшим земельным собственником после местных казачьих войск. Благодаря этому формально установленная норма обеспечения землей у государственных крестьян составляла 15 десятин на каждую мужскую душу. Впрочем, наделение их землей шло чрезвычайно медленными темпами и не завершилось к моменту формального освобождения всех крестьян от крепостной или казенной зависимости. В дальнейшем, бывшие казенные крестьяне были причислены к категории «иногороднего» населения.
Благодаря активной колонизации горских земель разными сословиями, среди русского населения Северного Кавказа сложились самые разные формы землепользования и землевладения. Здесь имеется и помещичье землевладение, и общинное землепользование (прежде всего у государственных крестьян), и владение землей за военную службу, характерное для казачьего сословия, и землепользование крепостных крестьян, хотя последних было по-прежнему сравнительно мало.
Одновременно увеличивалась социальная дифференциация среди русского крестьянства. Пользуясь наличием большого количества необрабатываемых земель и чрезвычайно медленным ходом работ по размежеванию крестьянских наделов, наиболее зажиточные крестьяне
Колониальное присвоение чеченских земель в ходе военных действий. Русско-горская торговля
самовольно захватывали большие участки земли. Имея в своем распоряжении значительное количество рабочего скота, а также за счет найма рабочей силы, они обрабатывали гораздо больше земли, чем их менее состоятельные соседи.
Со временем зажиточные крестьяне начали прибегать к покупке земли, а также аренде земельных участков у казаков, государства, кочевых народов (ногайцев и туркмен). У последних арендовались пастбища и сенокосы. Аренда пахотной земли производилась, как правило, за треть будущего урожая, но в отдельных случаях аренда могла составлять и половину урожая. Особенно наживалась на аренде казачья верхушка, которая не только сдавала в аренду излишки станичных земель, но и практиковала субаренду: арендуя землю у степняков, казаки сдавали ее затем «иногородним».
Крепость Грозная. После того как передовые военные укрепления были перенесены ближе к Черным горам, крепости, воздвигнутые в свое время на Сунже, утратили свое военное значение. В частности, это относилось и к крепости Грозной. Уже в первые годы существования крепости рядом с ней возникло русское поселение — форштадт, куда были вынесены часть служебных помещений (казармы учебной, инвалидной, музыкальной и других команд). Неподалеку селились солдатские семьи, а также вышедшие в отставку солдаты. Со временем солдатское поселение превратилось в станицу Грозненскую, а ее жители были причислены к казачьему сословию. В 1844 г. штаб-квартира Куринского полка перенесена из крепости Грозной в укрепление Воздвиженское и большая часть служебных помещений полка снесена за ненадобностью. Освободившееся место вскоре заняли многочисленные торговые заведения, что еще более усилило значение крепости Грозной как важного торгового поселения.
Рядом с крепостью возникло и большое количество полковых мастерских, число которых постепенно увеличивалось, несмотря ца то что большая часть войск вскоре была выведена из крепости Грозной. Впрочем, штаб Левого фланга Кавказской линии оставался здесь до 1857 г. Таким образом, ослабление военно-стратегического значения крепости Грозной сопровождается одновременным усилением ее роли как административно-торгового центра на Левом фланге Кавказской линии. Известный российский офицер А. Л. Зиссерман в 1855 г. писал, что бывшая крепость Грозная превратилась «...наконец в прочное селение, с у зобными помещениями, рядами лавок, значительным числом торговых и ремесленных людей... крепость обратилась в город, а отношения с туземцами не ограничивались отдельными перестрелками, но началось сближение торговое, мирное, привлекавшее многих чеченцев селиться между русскими и строить себе дома на европейский образец».
Часть чеченских селений, разрушенных при основании крепости Грозной, вскоре возродились вновь. В 40-е гг. XIX в. рядом с крепостью
Глава IV. Чечня и Дагестан в период расцвета и кризиса имамата
(конец 40-х — 50-е гг. XIX в.)
Карта крепости Грозной в период с 1836 по 1846 г. (40» 4)
располагались четыре аула: Янги-Юрт, Сарачан-Юрт, Кули-Юрт и Сунженский. Общая численность населения этих четырех селений превышала 1 тысячу человек, а крепость Грозная, по словам очевидцев, казал ас* «...значительным городом скорее мусульманским, нежели христианским, благодаря минаретам и пирамидальным тополям, придававши* ей довольно живописный вид»1.
Русско-горская торговля. Распространение товарно-денежные отношений в чеченском обществе2. Несмотря на значительно возросший масштаб военных действий, к середине XIX в. продолжал развиваться взаимовыгодная торговля между горцами и русским населением. Развитию торговли не могли помешать ограничения, вводимые российской администрацией, с одной стороны, и властями имамата, к другой. Впрочем, российская администрация стремилась не столье к ограничению торговли, сколько к организации административною контроля над ней. Именно поэтому во второй половине 40-х гг. количество меновых дворов для торгового обмена с горцами было увеличен© до 11. Одновременно значительно возрос объем совершаемых здесь сделок. Так, в 1846 г. на все меновые дворы горцами привезено товаре
1 Шабаньянц Н. Ш. Город Грозный. — Грозный, 1972; и др.
2 См. здесь и далее: Гриценко Н. П. Экономические связи России с Северным Кавказе в 40-х годах XIX в. // Известия Чечено-Ингушского НИИЦЯЯ. Т. 2. Вып. I. — Грозный, 1960; Фадеев А. В. Россия и Кавказ в первой трети XIX в. — М., 196йг Тотоев Ф. В. Состояние торговли и обмена в Чечне (2-я половина XVIII — 40-е гоп XIX в.) // Известие Северо-Осетинского НИИ. История. Т. 25. — Орджоникизяв 1966; Гаджиев В. Г. Роль России в истории Дагестана. — М., 1965; и др.
— 226 —
‘слониальное присвоение чеченских земель в ходе военных действий. Русско-горская торговля
Мост через Сунжу, люнет и юго-восточные ворота в крепость Грозную. К этим воротам, спасаясь от погони горцев, прискакали Л. Толстой и его кунак Садо Мисирбиев. Рис. А. Дьяконова (40, 5)
231 тысячу рублей, в том числе: в Кизляр — на 70 тысяч рублей, в Червленную — на 31 тысячу рублей.
Со своей стороны, по распоряжению Шамиля, его наибы строго слезили за тем, чтобы жители подвластных им селений не имели никаких лжтактов (в том числе торговых) с русскими поселениями и жителями ««ирных» аулов, находившимися под российским покровительством. !&ак уже говорилось, в имамате была фактически введена государс- гвенная монополия на внешнюю торговлю, и имам лично выдавал разрешения на ведение торговых операций. Тем не менее, полностью исключить несанкционированные деловые контакты горцев с российскими подданными не удавалось. По данным кавказского командования жгже в период наибольшего укрепления власти Шамиля до 40 тысяч •горцев ежегодно приходили на пограничную линию с целью продажи своих товаров и приобретения русских. В последующие годы количество горцев, вовлеченных в пограничную торговлю, быстро возрастало. Так, в 1847 г. в торговых операциях на Кавказской линии участвовало не менее 54 тысяч горцев.
Главными центрами торговли оставались города Кизляр и Моздок, во вотом благодаря наличию здесь официально открытых меновых дворов. Однако из года в год растет и значение крепости Грозной, которая янстепенно начинает брать на себя роль главного русского торгового ■штра в Чечне. Заинтересованность чеченцев в грозненской торговле столь велика, что в мае 1850 г. Шамиль оказался вынужденным
— 227 —
Глава IV. Чечня и Дагестан в период расцвета и кризиса имамата
(конец 40-х — 50-е гг. XIX в.)
разрешить своим подданным участвовать в первой Грозненской торговой ярмарке. Со своей стороны, командующий Левым флангом счег возможным разрешить присутствие на ярмарке «немирных» чеченцев, которые привезли разных товаров на 500-х арбах1. Ярмарка продолжалась три дня и прошла без инцидентов, тем более, что многие чеченцы приехали на нее со своими семьями. Уже после окончания Кавказской войны, начиная с 1860 г., Грозненские ярмарки стали традиционными и проводились два раза в год — весной и осенью.
В целом горско-российская торговля была чрезвычайно выгодной для зарождавшейся русской промышленности, так как горцы покупали товаров в несколько раз больше, чем продавали сами.
Выгоды торговли не остались не замеченными и чеченцами, среди которых уже в 50-х гг. XIX в. отмечено формирование торгового сословия и оживление финансовых операций. Как писал К. Самойлов, многие чеченские крестьяне мирных селений, производившие сельскохозяйственную продукцию в объемах, превышающих потребности их семей, реализовывали их на ближайших рынках. Образовавшиеся таким образом «свободные» средства наиболее зажиточные крестьяне часто передавали лицам, занимавшимся торговыми операциями, поз довольно высокие проценты. В других случаях деньги передавались взаймы под залог: «А коль скоро проценты запрещены магометански* законом, то их берут под видом «добровольного подарка» должника за услугу. Подобное приобретение денег было одобряемо, в то время как именованием купцом чеченец обижался».
Торгово-денежные отношения получали известное развитие на территории имамата Шамиля, где имела хождение российская золотая и серебряная монета. Медных денег горцы очень долго не признавали, так же как и бумажных. Последние часто попадали к горцам, но вс имели в глазах последних никакой ценности, а потому часто «...предавались уничтожению; а те, о которых горцы имели должное понятие, немедленно сбывались ими в русских крепостях, или своим более смышленым родичам, жившим на мирную ногу». Впрочем, горцы не долго пребывали в заблуждении относительно истинной ценности бумажных ассигнаций.
Хозяйственные интересы русского населения. Из года в год русское население начинает играть все более заметную роль в сельскохозяйственном производстве на Северном Кавказе. В частности, в Чечве казакам были переданы большие массивы плодородных земель, в то* числе и на Чеченской равнине. Благодаря этому постепенно увеличивается экономическое значение станиц, в том числе и сунженсккзй которые производят все больше зерна и продуктов животноводстве. При этом в 40-х гг. XIX в. на Тереке начинается сокращение площаяей
1 Казаков А. И. Страницы истории города Грозного. — Грозный, 1989. — С. 9.
— 228 —
Деятели русской культуры и общественной мысли о Чечне и чеченцах
виноградников и соответственно падение производства вина и «киз- яярской» водки, продолжавшееся вплоть до 70-х гг. XIX в.
Сохраняет свои позиции производство шелка-сырца и корня марены, а также поставка в центральные губернии России продуктов животноводства: кожи буйволиные, воловьи, конские, овчины и мерлушки, шерсть и изделия из шерсти (паласы, ковры, кошмы). Кроме того, благодаря высоким вкусовым качествам большим спросом пользовался в России кавказский скот: «Скот, покупаемый на Кавказской линии, в торговле известный под именем слободского, ценится выше прочего, потому, что он хорошо откормлен, дает нежное и сочное мясо»1.
Что касается производства шелка-сырца, то его центром на Северо-Восточном Кавказе оставался Кизлярский округ, в котором шелководством занималось от 8 до 10 тысяч казаков, горцев и жителей Кизляра. Несмотря на то, что шелководством занималось столь значительное количество жителей, почти половину производимого на Северном Кавказе шелка-сырца поставляли всего 24 крупных шелкозаводчика2.
Определенное значение имели для Терского казачьего войска и добыча нефти из нефтяных колодцев, расположенных на войсковых землях, отнятых у чеченских аулов. С 1833 г. эти колодцы считались собственностью всего войска, и добывавшаяся в них нефть большей частью продавалась и лишь частично перерабатывалась. Однако добыча нефти и ее транспортировка по-прежнему оставалась в руках горских специалистов. На переработке чеченской нефти был основан первый в мире нефтеперегонный завод братьев Дубининых в Моздоке в 1823 году. В 1836 г. в станице Наурской бывший крепостной крестьянин Н. Н. Шипов также построил небольшой нефтеперерабатывающий мвод по получению керосина.
§ 4. Деятели русской культуры и общественной мысли о Чечне и чеченцах
С начала XIX в. Кавказ играет все большую роль не только в политической и экономической жизни Российской империи, но и оказывает заметное влияние на духовную жизнь российского общества. И хотя никто даже из самых передовых представителей русской интеллигенции не ста- жл под сомнение необходимость завоевания Кавказа для России, все же применявшаяся при этом тактика «выжженной земли» зачастую вызывала
Небольсин Г. Статистическое обозрение внешней торговли России. 4.1. — СПб., iS50.— С. 222.
Гриценко Н. П. Города Северо-Восточного Кавказа и производительные силы края. V — середине XIX века. — Ростов н/Д., 1984 — С. 101.
— 229 —
Глава IV. Чечня и Дагестан в период расцвета и кризиса имамата
(конец 40-х — 50-е гг. XIX в.)
неодобрение. Так, А. С. Грибоедов называл освободительную войну горцев борьбой «дикой вольности» с «барабанным просвещением».
Более критическими были высказывания многих декабристов, попавших на Кавказ против своей воли. Подавив выступление на Сенатской площади Санкт-Петербурга, Николай I отправил в «теплую Сибирь» (Кавказ) целые полки, принявшие участие в восстании. Декабрист
A. Е. Розен писал, что горцам, добровольно перешедшим в российское подданство «...следовало дать всевозможные льготы и выгоды, оставить им пока их суд и расправу, не навязывать им наших судей-исправ- ников. Благосостояние покоренных или добровольно покорившихся горцев доставило бы нам в несколько раз больше верных завоеваний и прочных, чем сто тысяч воинов...». Другой декабрист — Н. И. Лорер указывал: «Огонь и меч не приносят пользу, да и кто дал право таким образом вносить образование людям, которые довольствуются своей судьбой и собственностью».
А произведения декабриста А. А. Бестужева-Марлинского впервые приковали внимание русского общества к жизни горцев. Сам писатель признавался, что создал сильно романтизированный образ Кавказа и его коренных обитателей, но тем не менее, именно благодаря ему горцы стали ближе и понятнее: «Мы дрались за каждую пядь земли... Люди потчевали нас шашками и свинцом. Правду сказать, и мы к ним не с добром пожаловали: мы жгли их села, истребляли хлеб, сено и прометали золу за собой...»1
Как бы-то ни было Кавказ стал для передового российского общества родиной русского романтизма, своеобразным образцом неуемлемой любви к свободе и независимости, своеобразной антитезой крепостничеству и авторитаризму, царившему в России.
А. С. Пушкин. Благодаря поэзии А. С. Пушкина, которого вдохновило его короткое путешествие в действующую армию через весь Кавказ, «кавказская» тема стала постоянной в русской литературе.
B. Г. Белинский писал: «...с легкой руки Пушкина Кавказ сделался для русских заветною страною не только широкой, раздольной воли, но ж неисчерпаемой поэзии, страною кипучей жизни и смелых мечтаний! Муза Пушкина как бы освятила давно уже на деле существовавшее родство России с этим краем, купленным драгоценною кровью сынов ее и подвигами героев. И Кавказ — эта колыбель поэзии Пушкина — сделался потом и колыбелью поэзии Лермонтова...»
Сам А. С. Пушкин никогда не бывал на территории Чечни. Лишь один раз он оказался в непосредственной близости от нее — в ходе путешествия в Арзрум (Закавказье), тем не менее, Чечня приковывает его внимание. Так, сам поэт писал, что действие поэмы «Кавказскш*
Цит. по ст.: Сахаров В. Гвардейский Прометей или Кавказ А. А. Бестужева- Марлинского // Родина. — 1994. — № 3—4. — С. 105.
— 230 —
Деятели русской культуры и общественной мысли о Чечне и чеченцах
пленник» первоначально должно было происходить в Чечне, на берегах Терека. Лишь недостаток знаний об этих местах заставил А. С. Пушкина пересмотреть свой замысел и перенести место действия на Западный Кавказ, который он знал лучше.
Тем не менее, в «Черкесской песне» (вошедшей в состав поэмы) поется о Тереке и содержатся упоминания о чеченцах. Уже в следующей своей кавказской поэме «Тазит» А. С. Пушкин переносит своего героя в Чечню, где он получает воспитание.
Несомненный интерес представляет и оставленное А. С. Пушкиным в произведении «Путешествие в Арзрум» описание великого чеченца Бей- булата Таймиева, с которым он встретился в русском военном лагере.
По словам В. Белинского, именно А. С. Пушкину принадлежит главная заслуга в том, что своими поэмами он познакомил русское общество с народами Кавказа: «Грандиозный образ Кавказа с его воинственными жителями в первый раз был воспроизведен в русской поэзии, и только в поэме Пушкина в первый раз русское общество познакомилось с Кавказом, давно уже знакомым с Россией по оружию».
А. С. Грибоедов. С Кавказом вообще и с Чечней в частности связана судьба и А. С. Грибоедова, который в 20-х гг. XIX в. неоднократно бывал в крепости Грозной и был лично знаком со многими офицерами
А. С. Грибоедов (40, 54)
— 231
Глава IV. Чечня и Дагестан в период расцвета и кризиса имамата
(конец 40-х — 50-е гг. XIX в.)
Кавказского корпуса, включая и наместника Кавказа — А. П. Ермолова. Известно, что круг знакомых А. С. Грибоедова включал декабристов к кавказцев, его отношения со многими высшими офицерами действующей армии были чрезвычайно натянутыми. Например, командующего Левым флангом Кавказской линии генерала Грекова он открыто называл грабителем. В основе конфликта с одним из высших командиров лежало отрицательное отношение А. С. Грибоедова к методам ведения войны, взятыми на вооружение российским командованием. Позднее это испортило его отношения и с А. П. Ермоловым.
Кавказские впечатления великого драматурга и поэта отразились позднее и в его произведении «Горе от ума». Именно из крепости Грозной А. С. Грибоедова 23 января 1826 г. под конвоем отправят в Санкт- Петербург, где ему пришлось предстать перед комиссией, проводившей расследование о выступлении на Сенатской площади в декабре 1825 г. На Кавказ он вернется еще раз — по пути в Персию, куда новый император Николай I направит его с дипломатическим поручением. В целом А. С. Грибоедов запомнился на Кавказе не только своим откровенным неприятием проводимой здесь российским государством политики, но и тем, что одним из первых русских он высказал уважение и любо» к горцам Кавказа.
А. И. Полежаев. С Кавказом связана и судьба еще одного русского поэта — А. И. Полежаева, который за вольнолюбивую поэму «Сашка» летом 1826 г. по распоряжению Николая I был отдан в солдаты. С 182$ по 1833 гг. его полк находился в крепости Грозной, где А. И. Полежаевым написано большинство из его лучших произведений: «Эрпели». «Чир-Юрт», «Герменчугское кладбище», «Казак», «Акташ-Аух» и др.
М. Ю. Лермонтов. Всю свою короткую жизнь оказался связан с Кавказом М. Ю. Лермонтов, который неоднократно бывал и на территории Чечни. Кавказ прошел через все его творчество, тем бояее. что он лично был знаком со многими горцами. Так, в Кизляре s конце 30-х гг. XIX в. П. А. Катенин познакомил его с чеченцем Бате# Шамурзаевым, который служил тогда переводчиком при начальнике Левого фланга Кавказской линии. Впрочем, из произведений самого М. Ю. Лермонтова видно, что у него были и другие кунаки срез» чеченцев. Один из них, по имени Галуб, упомянут в стихотворение «Валерик». В связи с этим высказывалось предположение, что Галу* является реально существовавшим лицом. Это выходец из горшж Чечни (Аргунского ущелья) по имени Голаб (Полаб). Скрываясь от преследования кровников, он стал абреком, во время военных действий попал в плен, где выучился русскому языку. Позже Голаб участвовал в войне уже в составе российских войск и в отряде генерал! Галафеева служил переводчиком1.
1 Верольский Ю. Наш край и литература: Очерки. — Грозный, 1969. — С. 16—17.
— 232 —
Деятели русской культуры и общественной мысли о Чечне и чеченцах
Портрет М. Ю. Лермонтова П. 3. Захарова, «художника из чеченцев» (7, вклейка)
Произведение «Валерик» на сегодняшний день остается в русской поэзии как памятник гуманистическим устремлениям в кровавой войне России с горцами.
Пребывание М. Ю. Лермонтова в Чечне нашло отражение не только э его поэзии, но и живописи. Широко известны его картины, посвященные сражению на речке Валерик. По мнению ряда грозненских русских краеведов, картины «Воспоминания о Кавказе» и «Сцена из кавказской жизни» воспроизводят пейзажи Чечни.
Л. Н. Толстой. Бывший русский офицер, а затем и шамилевский ваио Бата Шамурзаев был знаком и с другим великим русским писателем — Л. Н. Толстым, который служил в Чечне с мая 1851 г. по январь 1854 г. Близкими друзьями-кунаками Льва Толстого были чеченцы Садо Мжсербиев и Балта Исаев. Именно с их слов были записаны Толстым хк чеченские народные песни, снабженные подстрочным переводом.
Служба молодого Толстого на Кавказе, и в частности в Чечне, в агрмсщ войны с Шамилем послужила материалом для известнейших ^жжаведений писателя: «Кавказский пленник», «Рубка леса», «Хаджи- и «Казаки».
Глава IV. Чечня и Дагестан в период расцвета и кризиса имамата
(конец 40-х — 50-е гг. XIX в.)
Л. Н. Толстой в молодые годы (4, 20)
Чеченская шашка, подаренная Л. Н. Толстому чеченцем Садо Мисербиевым (4, Л»
В своих дневниках и поздних записях Л. Н. Толстой всегда говорш о пребывании в Чечне и на Кавказе как о важнейшем периоде в с» новлении его как личности.
Н. А. Добролюбов и Н. Г. Чернышевский. Два великих русс* демократа также не остались равнодушными к кавказской те В частности, Н. А. Добролюбов обращал особое внимание не только ш российскую политику по завоеванию Кавказа, но и на характер тж* дарственного устройства имамата Шамиля: «Шамиль давно уже не тт для горцев представителем свободы и национальности... Напротив, от видели, что жизнь мирных селений, находящихся под покровительстве русских, гораздо спокойнее и обильнее».
Н. Г. Чернышевский совершенно неожиданно воплотил оо имама Шамиля в двух своих небольших фантастических рассквя «Кормило кормчему» и «Знамение на кровле». Шамиль описан им i умный и дальновидный правитель, которому, вместе с тем, свойс
— 234 —
Деятели русской культуры и общественной мысли о Чечне и чеченцах
коварство и жестокость. Так, узнав, что в России некий изобретатель создал машину, которую можно использовать для создания сверхразрушительных бомб, он посылает к нему одного из своих мюридов с заданием убедить изобретателя уничтожить чертежи, а если он откажется — то и убить его. Вместе с тем Шамиль признает, что в случае провала его плана, ему не останется ничего другого, как заключить мир с русскими. Свою жестокость и коварство Шамиль считает оправданными и поучает одного из приближенных: «Сражаться ты хорош. А в правители не годишься. Потому что большая у тебя душа, правдивая. Сердце у тебя справедливое. Ты не мог бы понимать, как должно правителю. .. Без обмана тут нельзя».
Александр Дюма. В конце 50-х гг. XIX в. на Кавказе успел побывать и знаменитый французский романист А. Дюма. Он оставил интересные записки о гребенских казаках и чеченцах, проехав современную территорию Чечни от Кизляра до Моздока по левому берегу Терека.
Научное изучение Чечни. Научное изучение Чечни началось в первой половине XIX в. Так, в 1829—1830 гг. здесь побывал выдающийся физик Э. X. Ленц, который, в частности, посетил и крепость Грозную. В 1847 г. здесь же побывал и выдающийся русский хирург Н. И. Пирогов, затем опубликовавший свой «Отчет о путешествии по Кавказу». Известно, что он специально интересовался состоянием медицины у горцев к опытом горских целителей. На Кавказе Н. И. Пирогов впервые в мировой практике применил в полевых условиях эфир для наркоза.
Александр Дюма в кавказской Черкесске (22, 81)
Глава IV. Чечня и Дагестан в период расцвета и кризиса имамата
(конец 40-х — 50-е гг. XIX в.)
В 40-х гг. XIX в. на территории Чечни побывал и крупный геолог Г.-В. Абих, исследовавший месторождения полезных ископаемых, в том числе нефти. Написанная им монография «Геологические исследования в кавказских странах» очень долгое время сохраняла научную ценность.
Еще в 1816 г. в «Азиатском музыкальном журнале» (Астрахань) была опубликована чеченская песня. Российский боевой офицер капитан И. А. Клингер, проведя в плену два года в чеченском селении Осман-Юрт, выучил чеченский язык и составил нотную запись шести чеченских народных песен. Ему же принадлежат несколько акварельных набросков из жизни чеченцев.
В 1859 г. было опубликовано первое монографическое историкогеографическое исследование о нашем крае, написанное А. П. Берже и озаглавленное «Чечня и чеченцы».
Чеченцы в России. Следует быть отмеченным, что отдельные выходцы из Чечни оставили определенный след в истории и культуре Российской империи и в российском обществе. Это прежде всего выдающийся российский художник, академик Петр Захаров (1816—18461 захваченный ребенком в плен при уничтожении царскими войсками притеречного селения Дади-Юрт в 1819 г. Он воспитывался в семье двоюродного брата А. П. Ермолова — П. Н. Ермолова. Под каждой своей картиной он подписывался так: «Захаров — чеченец», «П. Захаров — из чеченцев», «Захаров, чеченец из Дады-Юрта». Каждый его
— 236 —
Деятели русской культуры и общественной мысли о Чечне и чеченцах
портрет становился событием в русской живописи того времени. Так, портрет генерала А. П. Ермолова — «героя» и палача Кавказа, считался как эпохальное полотно и заслуженно получил золотую медаль Российской Академии художеств. Умер талантливый художник, прожив на свете всего 30 лет1.
Особого внимания заслуживают и такие выходцы из Чечни, как генерал-майор русской армии, герой войны 1812 г. (соратник Фигнера и Давыдова) Александр Чеченский, а также его однофамилец, служивший » императорской армии на Кавказе в первой половине XIX в., Валерьян Чеченский (закончил службу генерал-майором).
Александр Чеченский попал в русский плен в 5-летнем возрасте под селением Алды и воспитывался в семье знаменитых Раевских, один из которых, Николай Николаевич Раевский, служил на Кавказе и, по существу, «восстал против пагубных военных действий на Кавказе», «явив, что «наши действия... напоминают действия первоначального завоевания Америки испанцами». Его воспитанник — чеченец Александр — стал одним из храбрейших офицеров русской армии.
Генерал-майор Александр Чеченский. Совр. рис. (67, вклейка)
См.: Шабанъянц Н. Ш. Академик П. 3. Захаров. Изд. 2-е. — Грозный, 1974; Гешаев М. J5. Чеченское музыкальное и изобразительное искусство, его влияние на искусство народов России и Закавказья // Культура Чечни. История и современные проблемы. — М., 2002. — С. 267—269.
Глава IV. Чечня и Дагестан в период расцвета и кризиса имамата
(конец 40-х — 50-е гг. XIX в.)
За отвагу в сражении с французами под Прейсиш-Эйлау в 1807 г. Александр Чеченский получает высшую военную награду империи — орден Святого Георгия IV степени. Бой под Гутштадтом отмечен золотым Георгиевским оружием. В 1812 г. молодой офицер участвует в Бородинском сражении, а затем в партизанских рейдах по тылам французов наравне с Давыдовым и Фигнером.
В 1812—1813 гг., командуя Бугским казачьим полком, а затем ж гвардейским гусарским полком А. Чеченский освободил от французов города Гродно, Дрезден, Ослабрюк, в Нидерландах берет крепости Бреда. Виллемштадт и др. В 1814 г. он вступил в Париж в свите Александра I полковником и кавалером высших орденов России. Вскоре он получил и чин генерал-майора. В 1825 г., в возрасте 45 лет, А. Чеченский был вынужден удалиться в поместье; ему не простили родства и дружбы со многими декабристами, в том числе с Раевскими1.
В первой половине XIX в. вышли из цова-тушинской ветви чеченского народа в Грузии первые светские писатели и ученые — Иов к Иван Цискаровы (Цискарошвили).
Иов Цискаров, священник грузинской автокефалической церкви, был фольклористом и языковедом, который сотрудничал с французским исследователем Кавказа — академиком Броссе. Он самостоятельно составил первую грамматику тушинского языка, словарь из 3-х тысяч слов и даже перевел на родной язык Новый завет. Немецкий ученый А. Шифнер на основе материалов Иова составил работу «Характеристика тушинского языка», а также перевел на немецкий язык и издал б 1855 г. монографию Цискарова «О грамматической структуре тушинского языка».
Иов Цискаров оказал большое влияние на русскоязычного писателя Ивана Цискарова, который издавал свои произведения о горцах б газете «Кавказ» (Тифлис) в 40—50-х гг. XIX в. Его перу принадлежат м историко-этнографические очерки, известнейшим из которых является «Картины Тушетии». Иван Цискаров считал, что язык цова-тушив «кистинский и, что совершенно равно, чеченский»2.
* X- *
С падением имамата Шамиля в 1859 г. и полным окончанием Кавказской войны (1864 г.) закончилась целая эпоха не только в история Чечни, Дагестана, но и всего Кавказа, да и всей Российской империи. Поражение имамата — подлинно национального государства Чечни ж Дагестана, в котором воплотились определенные чаяния и пассионарная
1 См.: Геьиаев М. Чеченский след на русском снегу. — Турин, 2003; Ходжаев Д. На граввсре Александр Чеченский? // Объединенная газета. — Янв. 2004. — № 1 (3). — С 14.
2 См.: Туркаев X. В. Исторические судьбы литератур чеченцев и ингушей. — Грозный. 1984. — С. 18—26; Муратов Р. Цискаровы. Жизнь и творчество // Байнах. — Грозный. 2002. — № 2. — С. 3—5; и др.
Деятели русской культуры и общественной мысли о Чечне и чеченцах
энергия ряда горских народов, объяснялось многими причинами. Главная из них заключалась в военном поражении, понесенном в борьбе с одной из самых сильных в военном отношении держав мира, во-вторую очередь, причины заключались в истощении людских и материальных ресурсов горцев в ходе почти 50-летней войны. Определенное значение сыграло обострение внутренних противоречий, демагогическая пропаганда царских властей, ошибки руководства имамата во внутренней и внешней политике.
В целом первое объединенное государство Чечни и Дагестана достигло определенных успехов в различных областях созидательной деятельности и представляло собой прогрессивное явление. Однако необходимо признать, что имамат в целом исчерпал потенциал, который давали традиционные возможности и ценности горского общества. Без тесного взаимодействия с каким-либо из современных европейских буржуазных государственных образований имамат имел только одну историческую перспективу — превращение в закрытую систему с восточнодеспотическим типом управления.
Несмотря на широкомасштабные военные действия, культурное м торгово-хозяйственное взаимодействие российского пограничного мира и чеченского продолжалось и углублялось. Более того, воюющие стороны взаимоперенимали друг у друга не только военные приемы, образцы оружия, но и определенное понимание законов и этики войны. В отличие от всех русских генералов, А. И. Барятинский добился успеха в войне прежде всего неукоснительным соблюдением законов войны, верностью слову, благородным отношением к побежденным, провозглашением невмешательства в личную, общественную и религиозную жизнь горцев.
— 239 —
Глава V. Выдающиеся деятели Чечни первой половины XIX века
§ 1. Бейбулат Таймиев
Начало пути. «Наездник». О дате рождения, детских и юношеских годах Бейбулата (Бий-Болат) Таймиева почти ничего не известно, как не известно место его рождения. Предположительно он родился либо в Гелдагене, либо в большом селении Шали. Вскоре его семья перебралась на хутор в районе селения Иласхан-Юрт на реке Мичиг. По преданию, отец Бейбулата — был известным мастером, изготавливавшим на продажу деревянные колеса. В российских источниках Бейбулат впервые упоминается в связи с событиями осени 1802 г. — руководимая им «партия» абреков в 7 человек в ответ на убийства чеченцев совершила удачный набег на кордонную линию, сразив при этом 5 бою 11 казаков. В том же году им был захвачен в плен полковник Дельпоццо. В это время Бейбулату не больше 20—23 лет.
Имя Бейбулата Таймиева, как одного из наиболее «дерзких разбойников», все чаще звучит в рапортах военного командования Левого фланга Кавказской линии. Чеченская народная песня о битве чеченцев в ущелье Хан-Кала с войсками генерала Булгакова в 1807 г. называет именно Бейбулата и атагинца Чулика, как молодых, но очень влиятельных людей, выступивших организаторами народного ополчения.
Всего за пять лет Бейбулат превращается в одного из самых влиятельных чеченских старшин, которого российское командование считает необходимым привлечь на свою сторону. Через посредника Хаджи-Реджеба Кандаурова Б. Таймиеву предложен, по одним сведениям, чин подпоручика, а по другим — капитана с годовым жалованием в 250 рублей серебром, который он принял.
Поступок Бейбулата нельзя объяснить ни тщеславием, ни жадность» Он — старшина одного из крупнейших чеченских селений — Шаяг и известен по всему Северо-Восточному Кавказу как «главный чеченский наездник». (Термином «наездник» российские авторы XIX & обозначали наиболее влиятельных и удачливых предводителей горских иррегулярных отрядов). Поэтому офицерский чин для Бейбулата — эг слишком высокая награда. А что касается жалования, то и в нем т него не было особой заинтересованности. Не вызывает сомнения, чтс удачные набеги и захват пленных значительно обогатили Бейбулап. По сообщениям российских источников, ему принадлежат несколь»
1АГ\
БейбулатТаймиев
Бейбулат Таймиев. Совр. рис. (52, вклейка)
хуторов в окрестностях селений Шали и Гелдаген1 и, следовательно, он человек состоятельный.
Переговоры с российским командованием. В сентябре 1807 г. Бейбулат, по приглашению российской стороны, прибывает во Владикавказ, где после переговоров с комендантом крепости, графом Ивеличем принимает присягу на верность России. Однако переговоры на этом не прекращаются. Наоборот, они переходят на гораздо более высокий уровень — теперь Б. Таймиев направляется в Тифлис, к командующему Грузинским (Кавказским) корпусом генералу И. В. Гудовичу, являвшемуся и высшим государственным чиновником на Кавказе. Таким образом, совершенно очевидно, что предмет переговоров вовсе не судьба самого Таймиева и его карьерный рост. Тем более, что в своем письме к Гудовичу владикавказский комендант оценивает Бейбулата как человека «...весьма нужного в здешнем месте...»2.
В Тифлисе Бейбулат провел около трех месяцев. Цели, которые преследует кавказская администрация, абсолютно ясны. Неудача военной экспедиции генерала Булгакова (1807 г.) показала, что введение прямого российского правления в Чечне невозможно, а потому управлять ею придется через местных правителей. Но старые феодальные семейства оттеснялись здесь представителями узденства и духовенства. Предлагая большой группе чеченских старшин офицерские чины, открывая эерспективу дальнейшего продвижения по службе и привлекая их
Утверждение русского владычества на Кавказе / Под ред. ген.-м. А. Потто. Т. 3. Ч * *. — Тифлис, 1904. — С. 299.
*гты. собранные Кавказской Археографической комиссией. Т. 3. — Тифлис, — С 672.
Глава V. Выдающиеся деятели Чечни первой половины XIX в.
к управлению Чечней под русским контролем, генерал И. В. Гудович. по существу, стремился также примирить виднейших представителей новой чеченской верхушки со старой феодальной аристократией. Именно в этой связи Б. Таймиев привлек к себе особое внимание, не только как влиятельный старшина, но и как наиболее авторитетный военный предводитель в Чечне. В случае удачи план И. В. Гудовича привел бы к прекращению затяжного конфликта в чеченской социальной верхушке и гарантировал спокойствие Чечни надежнее военных экзекуций и крепостей.
Со своей стороны, Б. Таймиев также явно заинтересован в политических переговорах с российской стороны. Ему очевидно, что, несмотря на неудачу, постигшую генерала Булгакова, военные экспедиции против Чечни не прекратятся, если только не будет найдено какое-то компромиссное решение, удовлетворяющее обе стороны. Если судить по длительному характеру переговоров с Б. Таймиевым, то он выдвинул какие-то свои предложения, которые и стали предметом обсуждения. О переговорах в Тифлисе ничего не известно, но с достаточной доле* уверенности можно утверждать, что Бейбулат в обмен на формальное признание российского протектората добивался для Чечни того же, что и позже: полного внутреннего самоуправления и закрепления привилегированного положения старшинского сословия.
Очевидно, что планы Бейбулата не встретили одобрения у российской стороны. Шалинской старшина, несмотря на свой авторитет, был все же только одним из немалого числа чеченских предводителей, которых И. В. Гудович собирался привлечь на русскую службу. У кавказской администрации всегда имелось немало кандидатур, которые можно было противопоставить чересчур амбициозному Бейбулат* Пока он находился в Тифлисе, в целый ряд чеченских селений (в том числе и в Шали) были направлены так называемые «приставы» из чист» представителей старой феодальной аристократии, что нельзя расценки, иначе, как попытку подорвать позиции старшинского сословия в цел» и самого Бейбулата в частности.
Попытка явочным порядком «переиграть» Бейбулата Таймиева в конечном итоге дорого обошлась российскому командованию. Вернувшись в Чечню, Бейбулат не просто откровенно игнорирует свои служебные обязанности, проистекавшие от присвоенного ему офицерского звания., но на протяжении трех последующих лет во главе многочисленны! отрядов постоянно совершает нападения на Кавказскую линию. Российские приставы, назначенные в чеченские селения осенью 1807 гам. вскоре были вынуждены покинуть их. Временами под командование Б. Таймиева сосредотачивается до пяти тысяч конных и пеших воинов, что позволяет ему оказывать серьезное военно-политическое давление на всю Кавказскую линию. Чтобы защитить свои растянутые коммуив-
Бейбулат Таймиев
жапии, русские даже пытаются создать конвойную стражу из «мирных» чеченцев, хотя и безуспешно1.
Только в мае 1811 г. вновь активизируются контакты Б. Таймиева с кавказской администрацией. Возможно, что этому способствовали события вокруг Назрани летом 1810 г., завершившиеся принятием российской присяги ингушами. Заслуживает внимания и удачное для России завершение русско-турецкой войны в 1812 г. К тому же на Кавказе появился новый главнокомандующий — генерал Тормасов.
Видимым итогом нового раунда переговоров стало возвращение Bw Таймиеву офицерского звания, правда, уже не капитанского. Тормасов по этому поводу докладывал: «Чеченский старшина Бейбулат Тайманов, прибывший ко мне с полковником князем Эристовым, зал обещание оставить все чинимые им доселе шалости, обратиться с своей обязанности... и принял... присягу, почему я объявил ему всемилостивейше пожалованный чин подпоручика с жалованием серебром по чину...»2
На деле вновь происходит нечто большее, чем простое возвращение Бейбулата на русскую службу. Как и три года назад его приглашают * Тифлис, что говорит о значении, придаваемом переговорам с ним. Наполеоновские войны заставляют Россию временно приостановить юенное давление на Северный Кавказ. И действительно, вплоть до 1216 г. русские воздерживаются от откровенного вмешательства в события, происходящие в Чечне. Но все переменилось с назначением командующим Кавказским корпусом А. П. Ермолова, которому эыяо поручено форсировать присоединение горских территорий к России.
Бейбулат и Ермолов. В руках А. П. Ермолова концентрируется огромная военная и гражданская власть на Кавказе: командующий Отдельным Кавказским корпусом, которому подчинялись Каспийская военная фло- Ӏкхзся и кавказские казачьи войска, он одновременно управляет присо- еивенными к России грузинскими, армянскими, азербайджанскими мелями, а также Астраханской и Кавказской губерниями. Кроме того, А. П. Ермолов назначен чрезвычайным и полномочным послом в Иране. Ървт императора великий князь Константин называет А. П. Ермолова •ароконсулом Кавказа», намекая на почти неограниченный характер его «йети. Достаточно сказать, что в это время, как во всей империи отме- эена смертная казнь, А. П. Ермолову было даровано право утверждать :жртные приговоры, выносимые военными судами.
Первые действия А. П. Ермолова на Северном Кавказе направлены зл ограничение самостоятельности местных феодальных властей, а так-
Ауты. собранные Кавказской Археографической комиссией. Т. 4. — Тифлис, — С. 4.
- же. — С. 907.
Глава V. Выдающиеся деятели Чечни первой половины XIX в.
же к ослаблению влияния старшинского сословия. Видя внутреншая слабость горских княжеств и «вольных» обществ, новый правится* Кавказа полагал, что без особого труда сможет под разными благовидными предлогами ликвидировать эти «почти эфемерные» владения. Не особо беспокоила его и Чечня. Ермолов считал, что отсутствие централизованной государственности делает чеченцев слабыми, а потому военные методы против них окажутся самыми эффективными. Претензии северокавказских народов, тех же чеченцев, иметь договорные отношения с Россией вызывают у него откровенное раздражение- «Здесь нет такого общества разбойников, которое не думало бы быть союзниками России. Я того и смотрю, что отправят депутации в Петербург с мирными трактатами»1.
Глубокое убеждение в том, что на Кавказе договариваться не с кем. сыграло с А. П. Ермоловым злую шутку. Встретившись в 1816 г. с Бей- булатом Таймиевым, он не счел нужным предложить ему ничего, кроме чина поручика русской армии. Между тем, «поручик» Б. Таймиев был уж близок к тому, чтобы стать полновластным правителем на значительно* части чеченской территории. Он самостоятельно назначал и смещал старшин в подвластных ему селениях, что заставляло российских генералов называть его «главой всех главнейших старшин»2.
А. П. Ермолов не просто недооценил Б. Таймиева — объектива* политика «проконсула Кавказа» была направлена на подрыв власп «чеченского атамана». Естественно, что такой человек, как Бейбулах. не мог уступить без борьбы. Ведь чеченский народ, к тому времени крупнейший на Кавказе, обладал развитым национальным сознанием, ставил внешнеполитические задачи и в лице своих предводителей готов был оспорить политическую гегемонию с Россией в таком регионе, как Северо-Восточный и Центральный Кавказ.
Первой серьезной пробой сил стало строительство новой русски* укрепленной линии на Сунже. Несмотря на то, что Бейбулату удалось заручиться существенной поддержкой дагестанцев, строительство крепости Грозной в 1818—1819 гг. было успешно завершено. Но это вовсе ве означало прекращения борьбы, как на это рассчитывал А. П. Ермолов. Весьма показателен эпизод, произошедший в том же году во врем»! приема в Тегеране российского посланника. В ответ на заявление, чтв» чеченцы разбиты, «...шах с улыбкою отвечал: «Положим, что твоя ш правда, но в том я уверен, что чеченцы за веру свою будут стоять твердо и никогда русским не сдадутся»3.
1 Погодин М. Алексей Петрович Ермолов: Материалы для его биографии. М., 1864. — С. 308.
2 Умаров С. Ц. Эволюция основных течений ислама в Чечено-Ингушетии. — Грозных 1985. — С. 307.
3 Акты, собранные Кавказской Археографической комиссией. Т. 6. Ч. 2. — Тиф»: 1875. — С. 207.
БейбулатТаймиев
По мере того как грандиозные планы покорения всей Азии руши- яись из-за упорства кавказских горцев, раздражение А. П. Ермолова все чаще выплескивалось в виде откровенной брани. Того же Бейбулата Таймиева он не только в личных письмах, но и в официальных реля- ШӀях называет вором, пьяницей и трусом. Естественно, что эти эпитеты ааглядно характеризуют не Б. Таймиева, а то душевное состояние, в котором пребывал «проконсул Кавказа». Это как нельзя лучше объяс- аяет тот факт, что российское командование безуспешно подсылало к Бейбулату наемных убийц.
Единственно, чего добился А. П. Ермолов в Чечне — так только того, что кровавыми набегами на Чечню сорвал планы Бейбулата по объединению чеченских обществ под своей властью. Но было ли это победой? Как уже говорилось, российская политика направлена на то, чтобы не допустить образования горского государства (все равно — чеченского, дагестанского или общегорского) и заставить горцев подчиниться российской администрации. Последующий ход событий показал, что действия А- П. Ермолова по проведению тотального наступления на Чечню и Дагестан имели обратный эффект: образование горской государственности ускорилось, но только на основе идеологии мюридизма, откровенно враждебной России. Подорвав позиции «светского» Б. Таймиева, стремившегося не только объединить Чечню, но и не исключавшего при этом мир с Россией, русские расчистили дорогу к власти идеологизированным дагестанским имамам, для которых Россия была страной язычников, с которыми долженствовало вести непримиримую войну.
Случались, правда, и такие моменты, когда Б. Таймиев и А. П. Ермолов были близки к достижению соглашения. В 1823 г., после шести лет безуспешных попыток навязать горцам российскую администра- нию, «проконсул Кавказа» начал вносить серьезные коррективы в свои действия. Конечно, произошло это не сразу. В начале изменилось его отношение к «мирным» чеченцам, которым он долгое время не доверия и считал необходимым «удерживать от разбоев» (т. е. от любых зротестных движений) самыми жестокими способами.
Бейбулат — руководитель Чечни. Зимой 1823 г. происходит вторая эстреча А. П. Ермолова с Б. Таймиевым, на этот раз в Дагестане, при ш>средничестве кумыкского князя Мусы Хасаева и Мехти-хана — шамкала Тарковского (самый влиятельный феодал Дагестана). Вероятно, на этой встрече обсуждался вопрос о признании за Бейбулатом фактических прав чеченского правителя под номинальной эгидой шамхала Тарковского. Скорее всего, стороны пришли к какому-то согласию, иначе трудно объяснить, почему в январе 1824 г. А. П. Ермолов докладывает и» Санкт-Петербург о состоявшемся «покорении» Чечни.
К взаимному примирению А. П. Ермолова и Б. Таймиева подталкивает и растущая активность новых лидеров из среды мусульманского
Глава V. Выдающиеся деятели Чечни первой половины XIX в.
духовенства, которые добиваются власти над горцами под лозунгами «укрепления веры», введения шариата и начала священной войны за веру с Россией. Б. Таймиев уже довольно давно пытался подчинить своему влиянию чеченских мулл. Например, в 1822 г. в качестве его сторонника выступает герменчукский кадий Абдул-Кадыр. Во время восстания 1824—1826 гг. Б. Таймиев будет вынужденным тратить немало сил и времени на улаживание разногласий с им же провозглашенными «имамами», формально стоявшими во главе движения. Уже в разгар восстания он заменит имама Авко Унгаева на дагестанского муллу Махаммеда Кудукли (Майртупский), что не предотвратит новых разногласий. В конце концов произойдет открытый разрыв Бейбулата с М. Кудукли и его сторонниками, что в немалой степени будет способствовать поражению восстания.
Дальновидный политик Б. Таймиев понимает, какая возникла угроза его власти в Чечне со стороны проповедников радикального мюридизма и газавата. И отвести эту угрозу нельзя при помощи русских. Чем может помочь ему А. П. Ермолов, с которым, казалось бы, уже удалось или почти удалось договориться? Он может только прислать войска, но это лишь оттолкнет чеченцев от Бейбулата. Открытый союз с жестоким «покорителем Чечни» только компрометирует Б. Таймиева в глазах тысяч горцев, пострадавших от карательных действий российских войск, и делает его удобной мишенью для пропаганды сторонников газавата.
Но и отказаться от союза с Россией непросто. Речь идет не только о его общественном положении и личной судьбе. В отличие от «исламистов», буквально ослепленных перспективой близкого обретения власти над горцами, Бейбулат видит дальше. Он уже не один год фактически управляет большей частью Чечни и понимает всю бесперспективность военного столкновения с Россией. Но дилемма, возникшая nepez Б. Таймиевым, проста и не допускает выбора: либо новое массовое движение просто сметет его с политической арены, либо он примкнет к нему, чтобы сохранить возможность влиять на происходящие события. Выбор Бейбулата очевиден — он не из тех, кто смирится даже перед самыми неблагоприятными обстоятельствами. Летом 1824 г. чеченски* предводитель появляется в Дагестане, где встречается с главным идеологом газавата — М. Ярагинским.
В событиях 1824—1826 гг. в Чечне Б. Таймиев, бесспорно, один из самых авторитетных военных руководителей чеченцев. Его стремительные атаки оборачиваются для русских войск поражениями, еж не виданными на Кавказе. Однако политическое лидерство Бейбулат* поставлено под сомнение и оспаривается у него новыми претендентам! на роль имамов Чечни.
То, что А. П. Ермолов не считал Б. Таймиева главным виновником восстания 1824—1826 гг., говорит о многом. Конечно, это восстание
Бейбулат Таймиев
нанесло еще один (и весьма болезненный) удар по его замыслам, а выдающаяся роль Бейбулата вызывала в нем сильнейшее раздражение. Однако, даже называя чеченского предводителя «мошенником» и «вором», А. П. Ермолов подчеркивает, что не он главный вдохновитель всего движения, что он был лишь «увлечен» им.
Не находя былой поддержки у соотечественников и теснимый парскими генералами, Бейбулат ищет ее за границей. Известно о его поездках в Иран и Турцию, где он заручается определенной поддержкой, но оспаривать власть у почувствовавших ее вкус имамов не легче, чем бороться с русскими войсками.
Бейбулат — дипломат и государственный строитель. Весной 1828 г. Бейбулат, вернувшийся из-за границы, был с почетом встречен в Чечне. Однако, к тому времени умеренная политика, проводимая новым правителем Кавказа генералом И. Ф. Паскевичем, привела к укреплению в Чечне позиции той части социальной верхушки, которая ориентиро- §алась на Россию. Интересно отметить, что российское командование имело сведения о том, что Б. Таймиев привез из-за границы значительные денежные средства, очевидно, выделенные ему на подготовку очередных антироссийских восстаний в Чечне. И до Бейбулата, и после него некоторые горские вожди (в том числе и в Чечне) эпизодически останавливали связь с правителями Турции или Ирана и получали от них политическую и финансовую поддержку. Так, только в 1819 г. некие чеченские представители дважды получали деньги от иранского шаха. Однако Бейбулат, использовав полученные средства для восстановления своего влияния, вступил в переговоры с российскими властями, которые вновь предложили ему вернуться на русскую службу. Переговоры об этом ведутся через шамхала Тарковского, и Бейбулат использует их для того, чтобы не только юридически оформить вассально-союзнические отношения Чечни с Россией, но и вынудить И. Ф. Паскевича признать его в качестве законного правителя Чечни.
В марте 1829 г. шамхал Тарковский уведомил командующего Кавказским корпусом И. Ф. Паскевича о принятии им присяги на верность России от Бейбулата и 105 чеченских старшин. И сам И. Ф. Паскевич, х российское правительство с неодобрением отнеслось к инициативе \кхти-хана Тарковского, считая, что он стремится, во-первых, рас- асюстранить влияние на чеченцев, а во-вторых, в обход кавказского начальства проявляет политические инициативы.
Кроме того, оставался открытым вопрос об истинных размерах зйияния Б. Таймиева в Чечне и о том, не приведет ли присоединение к шамхальству большого числа чеченских селений к изменению политического баланса сил на всем Северном Кавказе. В Тифлисе хорошо понимали, что истинным правителем в новом государстве будет не слабый Махти-хан, а «гроза Кавказа» Бейбулат. Правда, есть свидетельства
Глава V. Выдающиеся деятели Чечни первой половины XIX в.
о серьезных противоречиях в чеченской правящей верхушке, где нет единства даже среди сторонников российской ориентации. Некоторые чеченские владетели и старшины категорически отказывались признать соглашение, достигнутое между Б. Таймиевым и шамхалом Тарковским Феодальная аристократия и старшины по-прежнему с большим подозрением смотрели друг на друга, и российское начальство стремилось сохранить противоречия между этими сословиями.
Между тем, сближение Бейбулата с российским командованием имеяс положительным следствием то, что значительно сокращается напряжение в Чечне. Весной 1830 г. генерал Г. Розен-4-й даже предлагает И. Ф Паскевичу полностью отказаться от набегов русских войск на чеченские селения, считая, что теперь они приносят больше вреда, чем пользы «.. .ибо сим средством жители, непричастные к шалостям... подвергаются разорению, причиняемому нашими войсками, оттого питают к на» больше ненависти и горят мщением»1 2.
Мирная пауза оказалась непродолжительной: 1830 г. в Дагестане начала с открытого выступления сторонников Гази-Мухаммеда провозглашенное имамом в 1829 г., а недальновидная политика российских властей и противоречия среди сторонников России привели к тому, что очень быстр* волнения распространились и на Чечню. В отношениях Бейбулата с кавка* ским начальством вновь наступает период охлаждения и неопределенное». Власти не верят ему и с большим подозрением констатируют наличие у нет определенных связей среди сторонников «установления шариата».
Смерть Бейбулата. Последний год жизни Бейбулат провел на свои хуторах на Мичиге, страдая от болезней и политической бездеятельное» «Гроза Кавказа» (по выражению А. С. Пушкина), не раз опрокидываем* политические планы Российской империи на Кавказе, человек, с который считались шахский и султанский дворы, а также сильнейшие владеггя» Северного Кавказа и целые горские народы, был вынужден наблюдал как рушилась система, которую он выстраивал четверть века на территории не только Чечни, но и Дагестана. Мощный подъем мюридизма вс- главе с молодыми имамами с железной волей лишил «старых наездниим вначале идеологического, а затем и политического влияния.
К лету 1831 г. «славный» Бейбулат настолько растерял прежнее вжж- яние, что его осмелился убить один из многих кровников.
Имя и образ Бейбулата приобрели в народных преданиях эпические черты. В чеченских героических песнях — илли Бейбулат предстает как подлинный народный герой, защитник слабых и обездоленhidl как справедливый судья, собственной шашкой наказывающий злодее князей и генералов.
1 Акты, собранные Кавказской Археографической комиссией. Т. 7. — Тифлис, 187*. —'1 915.
2 Там же. — С 920.
Шейх Ташу-Хаджи
§ 2. Шейх Ташу-Хаджи1
Происхождение героя. Два первых дагестанских имама — Гази- Мухаммед и Гамзат-Бек, оказали относительно незначительное влияние на развитие событий в Чечне. Это не означает, что у них не было здесь сторонников. Среди чеченских идеологов мюридизма еще до имамства Гази-Мухаммеда большим влиянием пользовался шейх Ташу-Хаджи. Первоначально сфера его влияния включала Ичкерию и Ауховское общество, но уже к середине 30-х гг. XIX в. оно распространилось и на крупнейшие селения Большой Чечни, включая Шали, Атаги, Ус- гар-Гардой. Это именно те селения, которыми еще недавно управлял Бейбулат Таймиев.
Место рождения и даже происхождение Ташу-Хаджи покрыты тайной. О своей национальной принадлежности он говорил туманно, намекая, что он то ли турок, то ли араб, на деле же он происходил из смешанной чеченско-кумыкской фамилии плоскостного селения Эндирей (Северный Дагестан), в духовных медресе которого и получил первоклассное образование. Свое звание «хаджи» он приобрел, совершив паломничество в Мекку, что по тем временам было немалым подвигом. Возможно, что там же, в столице исламского мира, от некоего суфийского шейха накшбандийского тариката он был награжден правом набирать себе учеников-мюридов. По суфийским канонам «благодать» передается от шейха к шейху, а первые шейхи получили «святость» непосредственно от пророка Мухаммеда.
Как бы то ни было, молодой хаджи, наделенный политическими амбициями и военным дарованием, предпочел келье суфийского затворника — муршида, шашку вождя горских народов, в первую очередь — чеченцев и кумыков. При этом без ложной скромности Ташу- Хаджи претендовал на звание имама — предводителя мусульман всего Северного Кавказа.
Ташу-Хаджи политически полностью самостоятельная фигура, совершенно независимая от Гази-Мухаммеда и от Гамзат-Бека. В отличие от первых дагестанских имамов Ташу-Хаджи являлся суфийским шейхом и имел собственных мюридов. Это был высокий духовный ранг, которого, однако, оказалось недостаточно, чтобы стать имамом. Их общий наставник Мухаммед Ярагинский и дагестанское духовенство отдали предпочтение сначала Гази-Мухаммеду, а затем Гамзат-Беку
к. наконец, Шамилю. Очевидно, что на это решение повлияли самые разные обстоятельства, начиная с известных трений между горными я равнинными обществами (к которым относился шейх) и заканчивая вротиворечиями внутри исламского духовенства. Как известно, ислам
1 См. обобщающую литературу: Закс А. Б. Ташу-Хаджи — сподвижник Шамиля. —
Грозный, 1992.
Глава V. выдающиеся деятели чечни первой половины XIX в.
в средневековой Чечне распространился прежде всего из Дагестана. Традиционно дагестанское духовенство выступало в роли наставников чеченских мулл, а провозглашение «чеченского» имама могло изменить уже сложившуюся духовную иерархию.
Немаловажное значение имело и то обстоятельство, что имамы выступали здесь в качестве одной из противоборствующих сторон внутридагестанского конфликта. Речь шла об установлении власти над огромной естественной крепостью — Нагорным Дагестаном, а Ташу-Хаджи был больше связан с равнинами Дагестана и Восточной Чечней и общедагестанские проблемы не всегда являлись для него приоритетными.
Влияние Ташу-Хаджи в Чечне. К тому же, есть и другие обстоятельства, в силу которых Ташу-Хаджи был не слишком активен на дагестанском направлении. Вся его энергия уходит на расширение и удержание своей власти в Чечне, где ему угрожали не только другие чеченские предводители и сторонники российской политической ориентации, но и русские войска. Кавказское командование сделал» все возможное, чтобы в свое время не допустить усиления влияния даже политически умеренного, светски настроенного Б. Таймиева. Еще более решительно оно настроено против Ташу-Хаджи, и большая часть военных экспедиций в Чечню, предпринятых в середине 30-х гг. XIX в., имеют целью подорвать власть самого влиятельного на тот момент чеченского шейха1. Кстати, в 20—30 гг. XIX в. Ташу-Хаджи был м единственным суфийским шейхом, проживавшим в Чечне.
Признав имамом авароязычного ставленника горных дагестанских обществ гимринца Гази-Мухаммеда, Ташу-Хаджи тем не менее оказывает ему достаточно ограниченную поддержку. Чеченцы почтя не принимают участия в походах имама против непокорных ему дагестанских правителей и обществ — Ташу-Хаджи равнодушен к проблемам укрепления власти имама над Нагорным Дагестаном. Но- с появлением Гази-Мухаммеда в Чечне в 1831—1832 гг. здесь происходит мощный всплеск освободительной борьбы, который сближае! и двух вождей.
Борьба за влияние в Дагестане. Второй имам, Гамзат-Бек, практи чески не воевал с русскими. Более того, он всячески стремился убедить российское командование в том, что в его лице оно может приобреста ценного союзника, способного установить в Нагорном Дагестане твердую власть и гарантировать соблюдение российских интересов. Все важнейшие события правления Гамзат-Бека, включая захват Хунзаха. проходят без участия Ташу-Хаджи, который ничего не предприняв ■ в связи с гибелью второго имама.
1 Акты, собранные Кавказской Археографической комиссией. Т. 8. — Тифяж: 1881. — С. 388.
Шейх Ташу-Хаджи
После гибели Гамзат-Бека от рук кровников в 1834 г., муллы и али- мы Дагестана провели съезд духовенства, на котором рассматривались две основные кандидатуры на пост имама — Шамиль и Ташу-Хаджи. Преимущества более опытного и авторитетного шейха были снижены его неприбытием на съезд и маневрами Шамиля, предложившего на пост имама третью кандидатуру. В конечном счете из трех кандидатов большую часть голосов получил Шамиль, что было, конечно, вполне достойным выбором.
Не оспаривая избрание Шамиля, чеченский шейх, однако, настойчиво сохраняет свою независимую политическую позицию в Чечне и даже какое-то время претендует в отношениях с молодым имамом на аеформальное лидерство. В любом случае, Ташу-Хаджи придавал важное значение укреплению дела газавата в Дагестане, а потому Шамиль был вынужден считаться с мнением шейха по ряду ключевых вопросов, з том числе и в отношении переговоров с российским командованием. Несомненно также, что молодой имам использовал знания своего более опытного союзника и в вопросах строительства горского государства. В зелом их отношения нельзя сводить только к известному политическому соперничеству: безусловно, Шамиль и Ташу-Хаджи были единомышленниками в вопросах антиколониальной борьбы.
Правление шейха в Чечне. Ташу-Хаджи, управлявший значительной частью Чечни имел уже собственные укрепленные резиденции. Одна из них, расположенная возле селения Гансол, по описанию русских с*фицеров, представляла собой укрепление, окруженное глубоким рвом, бруствер которого защищался с наружной стороны палисадом из толстых и заостренных бревен. Внутри этого укрепления, кроме дома, в котором жил Ташу-Хаджи, находилась казарма на сто мюридов, конюшня и амбары для продовольственных запасов. О степени власти Ташу-Хаджи можно судить по тому факту, что он единолично разрешал земельные споры, довольно часто возникавшие в Чечне. Например, он запретил раздел между отдельными собственниками земли в урочище Беной-Ведено, поскольку раньше на этом месте находился лес, принадлежавший всему Беноевскому обществу.
Русские источники почти ничего не сообщают о том, как правил в Чечне Ташу-Хаджи, но можно не сомневаться в том, что он претендовал на светскую власть. Во всяком случае, чтобы строить укрепления м содержать в них вооруженные отряды мюридов, Ташу-Хаджи должен был собирать налоги и другие подати, а также формировать управленческую иерархию.
Российские власти, с целью подорвать духовное влияние Ташу- Хаджи в Чечне и снизить действенность проповеди газавата, направляют в 1836 г. в крепость Грозную видного татарского проповедника муллу Тазадина (Таджуддина) Мустафина. Он успел было совершить
Глава V. выдающиеся деятели чечни первой половины XIX в.
поездку в равнинные общества Дагестана, когда Ташу-Хаджи грозньш письмом под страхом смерти запретил ему появляться на чеченской территории.
Вплоть до 1840 г., когда после трагической битвы под Ахульго Шамиль перебрался в Чечню и вскоре был провозглашен здесь «отпои шашки» и имамом мусульман, — Ташу-Хаджи действовал скорее кел равноправный союзник и соратник, чем подвластный Шамилю наиа Переманив на свою сторону наиболее влиятельных сторонников Ташу- Хаджи, Шамиль фактически лишил его статуса политически независимой фигуры. Состарившийся и больной Ташу-Хаджи утратил былую власть и в 1842 г. скончался.
Однако он сыграл большую роль в политической и духовной жизни Чечни, за что удостоился звания Вокха-Хаджи — Большой Хаджи. Еп> могила в селение Саясан стала местом поклонения — зиарат, a Miopiis- ские общины его имени существуют по сей день.
Зиарат (здание над могилой) Ташу-Хаджи в селении Саясан Ножай-Юртовсияя р-на Чеченской Республики. Совр. фото (69, вклейка)
§ 3. Чеченские наибы
Длительная Кавказская война выдвинула из среды горцев немшж талантливых государственных деятелей, полководцев и военачальнюи* обладавших и беспредельной отвагой. Первое и особое место в плев? славных имен занимает сам Шамиль — имам Чечни и Дагестана. Веся
- 252 —
Чеченские наибы
же за период с 1840 по 1859 гг. на высоких государственных должностях в имамате побывало до 70 человек из Чечни. Большинство из них храбро погибло в боях и сражениях, оправдав тем самым выбор имама. Двое чеченских наибов стали командующими родами войск: Талхиг — начальником артиллерии имамата, а Гойтемир — начальником кавалерии. Наиболее талантливый полководец имамата Шоаип-мулла из Центороя в конце 1843 г. был назначен начальником «Чеченской области» имамата и руководил всеми военными операциями на пространстве от Назрани на западе до Хасав-Юрта на востоке.
Шоаип-мулла1. В первой половине 40-х гг. XIX в. наибольшей популярностью в Чечне и на всем Кавказе пользовались Шоаип (Шуайб)- >£улла Центороевский и Ахверды-Магома. Первый родился в 1804 г. в Чечне в селении Билта-ойла (современное селение Тухчар Республики Дагестан) и происходил из семьи известного в Чечне Мохмад-муллы, ззажды совершившего хадж в Мекку и одно время возглавлявшего UexK-кхел (Совет страны). Сам Шоаип-мулла получил хорошее религиозное образование, что позволило ему впоследствии стать муллой.
22ы«ль и наибы: Даниял-Бек Элисуйский, Хаджи-Мурат, Шоаип-мулла (последний справа). Худ. Х.-Б. Мусаяссул (54, вклейка)
См. обобщающий очерк о нем в книге: Хожаев Д. Чеченцы в русско-кавказской
»*не. — Грозный, 1998.
Главам выдающиеся деятели чечни первой половины XIX в.
Печать наиба Шоаипа-муллы Центороевского (3, 130)
Склонность к религии не мешала ему быть хорошим воином — Шоаип- мулла принял участие в чеченском восстании 1824—1826 гг., а затем примкнул к сторонникам имама Гази-Мухаммеда.
Его отношения с двумя последующими имамами поначалу не сложились, и с 1834 г., отойдя от активной военной деятельности. Шоаип-мулла в течение четырех лет исполняет обязанности муллы в селении Оку-Юрт. Впрочем, определенные связи с противниками России у него сохранились, что послужило поводом для его преследования со стороны российских властей. Чтобы избежать ареста в 1838 г., Шоаип-мулла бежит в горы Ичкерии, где становится мюридом шейха Ташу-Хаджи. С этого времени начинается его быстрое выдвижение — сельский мулла оказался талантливым предводителем вооруженных отрядов. Вскоре Шоаип-мулла становится одним из ближайших помощников Ташу-Хаджи, которому доверялось командование набегами на русскую Линию.
Трудно со всей определенностью сказать, что именно стало причиной охлаждения отношений между Шоаип-муллой и некоторыми другими чеченскими предводителями с одной стороны, и Ташу-Хаджи — с другой, которое произошло в 1840 г. Вероятнее всего, в липе Шамиля воинственные предводители чеченцев увидели более сильного политика и талантливого администратора, способного объединить е единое целое разобщенные общества Чечни и Дагестана.
Разумеется, что определенное влияние на выбор Шоаип-муллк оказали и личные перспективы. В отличие от Ташу-Хаджи, который управлял подвластными ему чеченскими селениями непосредственно' через старшин, Шамиль с самого начала планировал разделить Чечню на наибства, что не могло не привлечь на его сторону честолюбивых помощников саясановского шейха. В обмен на оказанную ему поддержку Шамиль назначает Шоаип-муллу наибом Мичига (Ичкерия), что формально ставило его в иерархии нового имамата на один уровень с бывшим мюршидом — Ташу-Хаджи, назначенного в Ауховское на-
— 254 —
Чеченские наибы
ибство. Фактически же положение Шоаип-муллы выше, потому что он становится доверенным лицом имама, которому Шамиль поручил ааже обеспечение безопасности своей семьи.
Очень быстро Шоаип-мулла завоевал репутацию одного из лучших полководцев имамата. В октябре 1841 г. он возглавил поход на Кизляр, аеторый принес не только богатую добычу, но и военную славу — удалось занести поражение отряду генерал-майора Ольшевского, пытавшегося отрезать горцам пути отхода. Зимой 1841—1842 гг. Шоаип-мулла производит целую серию опустошительных набегов на Кумыкскую равнину, создав серьезную угрозу сообщению между Темир-Хан-Шурой и остальной Линией. Но в большей степени его талант военного предводителя раскрылся летом 1842 г. при разгроме первой «даргинской» экспедиции генерала П. X. Граббе, буквально потрясшем весь Кавказ и Россию.
Надо сказать, что сам Шамиль, человек поразительного ума, удивительной храбрости и физической силы, при всем многообразии и глубине его талантов, не руководил каждым сражением. Сумев организовать кз горцев постоянную армию и со временем вооружив ее артиллерией, третий имам, как правило, ограничивался общим руководством вой- эом, в то время как назначенные им наибы непосредственно управляли содом военных действий. Шамиль прекрасно понимал, что в случае заражения будет в значительной степени подорван его авторитет как жмама и тем самым подвергнута сомнению его власть. Он не желал оде ковать и часто в самые критические минуты передавал под разными предлогами руководство войсками своим наибам, оставляя за собой зраво сурово наказать их в случае неудачи.
С началом экспедиции генерала П. X. Граббе на Дарго в мае 1842 г. Шамиль направился в Дагестан, куда отряд М. 3. Аргутинского-Долго- ртаова вторгся из Грузии. Действия непосредственно против главных ли русских он поручил чеченским наибам, во главе которых стояли Зкчшп-мулла и Уллубий-мулла (наиб Ауха). Уже на второй день после зачала экспедиции русские войска численностью свыше 10 тысяч сол- 12т и офицеров оказались в кольце небольших подвижных чеченских отрядов, которые сполна использовали свое преимущество в дальности стрельбы, днем и ночью практически безнаказанно расстреливая плот- еж армейские колонны. Первой мишенью чеченских стрелков были офицеры, которых погибло больше половины. Пытаясь спастись от гтбительного огня, офицеры отряда П. X. Граббе даже начали надевать
себя солдатские шинели.
Чтобы еще больше замедлить продвижение противника, Шоаип- мтзла распорядился соорудить на их пути большое количество лесных шгглов. Горские винтовки перезаряжались медленно, а потому солдаты, ■мзержав первый залп, немедленно бросались в штыковую атаку, стре- шжъ достичь завал до того, как его защитники успеют перезарядить свои
Главам выдающиеся деятели чечни первой половины XIX в.
ружья. Однако в данном случае этот прием не приносил успеха — аип-мулла предусмотрительно создал целый каскад завалов, лежашш один за другим. Захватив очередной ряд завалов, солдаты немедленв© оказывались под огнем от следующего, в результате чего каждый шаг вперед достигался ценой больших потерь. Благодаря правильно выбранной тактике Шоаип-мулла полностью истощил силы противнике еще на марше, а затем начал преследование отступавших в беспорядке русских войск. Разгром был полный и привел к деморализации всез российских сил на Кавказе. Военный министр Чернышов предложив прекратить на несколько лет военные действия против горцев.
В отличие от своего наиба Шамиль неудачно для себя атаковал отрв! М. 3. Аргутинского в Дагестане и появился в Дарго уже после того, ка* судьба экспедиции П. X. Граббе была решена. Конница, которую имак привел к последнему дню сражения, приняла участие в преследование противника. Выразив недовольство тем, что остаткам русской экспедиции все же удалось дойти до Герзель-Юртовского укрепления, Шамм» тем не менее наградил Шоаип-муллу и Уллубий-муллу трофейные знаменами, которые по поводу громкой победы горские мастерин* расшили золотом.
Имя Шоаип-муллы получило широкую известность на Кавказе ш в России. С годами его военный талант проявлял все новые гран* Шоаип-мулла одним из первых начал активно и, главное, услеш» применять новый для горцев вид вооружения — артиллерию, ifc перешедших на сторону горцев русских солдат он создал артияж рийские команды, которые обслуживали трофейные орудия. Уже ■ сентябре 1842 г. при захвате Цатаныхского укрепления в Дагестан Шоаип-мулла использовал в бою два орудия, укрыв их от огня противника за саклями. Первая горская батарея прекрасно прояви» себя в бою, после жаркой артиллерийской дуэли выведя из строя я* пушки противника.
Как отмечали российские военные, чеченские отряды Шоаип-апа- лы и Уллубий-муллы хорошо организованы — все воины разделе» на сотни во главе с сотенными начальниками. Сотни в свою очер» соединены в пятисотенные отряды. Начальниками отдельных отряд» у Шоаип-муллы были известные наездники, имевшие большой боеми опыт и отличавшиеся инициативностью в бою. Например, пятисот» ным начальником (до своей гибели весной 1842 г.) служил прослам» ный наездник Оздемир, который меньше чем за два года был награжае* всеми высшими наградами имамата.
Военная удача сопутствует Шоаип-мулле и в следующем 1843 i Вначале он успешно действует против войск генерала М. 3. Аргут» ского-Долгорукова, пытавшегося восстановить надежные коммунж» ции с Хунзахской крепостью. На Хунзахском плато еще продолжая»
— 256 —
Чеченские наибы
упорные бои, когда Шоаип-мулла совершил стремительный набег на равнину, угнав у жителей пророссийски настроенных селений до 16 тысяч голов мелкого скота1. Результатом набега стала не только богатая добыча, но и существенное укрепление имамата, к которому примкнула часть равнинных селений.
Военная слава и богатая добыча способствуют росту влияния Шоаип-муллы. Весной 1843 г. российские документы называют его одним из самых влиятельных лиц имамата, наряду с Ахверды-Маго- мой, Уллубий-муллой, Абакар-кадием Гумбетовским и Кибит-Магомой Тилитлильским. Высокое положение Шоаип-муллы было официально закреплено в мае того же года, когда на Андийском совещании всех наибов, старшин и духовных лиц имамата Шамиль объявил о том, -...что непосредственное наблюдение за беспрекословным выполнением его предначертаний он поручает Ахверды-Магоме, Кибит-Магоме if Шоаип-мулле, через которых все наибы и старшины обязываются относиться к нему»2.
Сохраняя звание Мичиговского наиба, Шоаип-мулла одновременно назначается мудиром (генерал-губернатором), которому в военном отношении подчинялись наибства Большой Чечни и Аух. В общей сложности эти три наибства могли выставить до 6 тысяч профессиональных воинов, не считая ополченцев. Влияние Шоаип-муллы увеличивалось еще и тем обстоятельством, что после гибели знаменитого наиба Большой Чечни Джаватхана, ему удалось добиться назначения на эту должность своего ставленника — Суаип-муллы (Сугаип) из селения Эрсеной. Таким образом, из чеченских наибов соперничать по влиянию с Шоаип-муллой мог только наиб Малой Чечни Ахвер- :ш-Магома, считавшийся официальным преемником самого Шамиля. Гибель последнего в 1844 г. сделала на короткое время Шоаип-муллу самым влиятельным в имамате предводителем. Российские лазутчики отмечают, что его одного Шамиль встречает подчеркнуто уважительно, зыходя ему навстречу из своего дома.
Русские современники характеризуют Шоаип-муллу как человека, отличавшегося умом, лихого наездника и искусного предводителя, тъазывая на единственный его недостаток — «корыстолюбие в высшей степени». Громадное (по меркам имамата) состояние Шоаип-муллы образовалось в результате набегов не только на Кавказскую линию. Готские аулы, не признававшие власть Шамиля, также становились объектом систематических грабежей. Так, жители селения Хафшар- Юрт в начале 1842 г. вынуждены заплатить Шоаип-мулле по 1 рублю
Мухаммед Тахир ал-Карахи. Блеск дагестанских сабель в некоторых шамилевских «ггзах. Ч. 2. — Махачкала, 1990. — С. 10.
Лв}1жение горцев Северо-Восточного Кавказа в 20—50-х годах XIX в.: Сб. докумен¬
тов. — Махачкала, 1959. — С. 390.
Глава V. выдающиеся деятели чечни первой половины XIX в.
Шоаип-мулла Центороевский. Совр. рис. (52, вклейка)
серебром с каждого двора «...дабы оставили их в покое». До этого i них угнали две тысячи голов овец1.
Судьба Шоаип-муллы может служить наглядным примером тоm как верхушка имамата превращалась в новую горскую аристократии^ всячески ограничивавшую права и личную свободу горского крестьянства. Разница состояла лишь в том, что старые владетели навязываш свою личную власть, а в имамате повинности накладывались от имена государства, представителями которого выступали наибы. Но суть этого не менялась, тем более что наибы сплошь и рядом открыто зя®- употребляли своим положением. Естественно, что крестьяне всячесяи противились претензиям нового привилегированного сословия. И < исторической точки зрения вовсе не случайность, что второе пост имама в Чечне лицо — Шоаип-мулла погиб не от русской пули в сит а от рук людей, которыми управлял. Он был убит родственником ■ ходе семейной ссоры.
Это был серьезный удар для всего имамата и Шамиля лично. Июн вошел в Центорой, где произошло убийство, и приговорил к смерят несколько десятков человек. Семья Шоаипа была взята под его личяж
1 Борчашвили Э. А. Социально-экономические отношения в Чечено-Ингутепш а XVII—XIX веках. — Тбилиси, 1988. — С. 262.
— 258 —
Чеченские наибы
вокровительство. Такого масштаба полководца имамат больше не вы- жвинул.
Ахверды-Магома. На первых порах, когда власть Шамиля в Чечне была еще не прочной, наибами среди чеченцев могли стать только те люди из его окружения, кто пользовался у чеченцев безусловным авторитетом и уважением. Именно таким человеком был Мухаммед Хтнзахский, сын Ахберди, одного из узденей аварских ханов, больше известный под именем Ахбердилав или Ахверды-Магома. Он был несколько моложе Шамиля, и к 1840 г. ему было около 35—38 лет. Еще з юности он проявил удивительные способности к учению и весьма в «лодом возрасте приобрел авторитет одного из самых образованных «жимов Дагестана.
Ахверды-Магома приобрел широкую известность, еще будучи шодвижником первого имама Гази-Мухаммеда. Затем он входил в ближайшее окружение следующего имама Гамзат-бека. При Шамиле Ахзерды-Магома занимает прочные позиции в верхушке имамата и аояьзуется особым доверием третьего имама. Так, во время сражения ■ал Ахульго в 1839 г. он обеспечивал связь с Чечней и координировал действия чеченских отрядов, прибывших из Чечни.
За Ахверды-Магомой рано закрепилась репутация отважного воина ■ эепримиримого противника русской власти. Российские и дагестан- гме источники характеризуют его как человека, отличавшегося личной даеданностью Шамилю и во всем ему послушного. Последнее, однако, ■етьзя понимать буквально. О многом говорит эпизод, произошедший з. 1837 г. во время переговоров Шамиля с генералом Ф. К. Клюки фон
Встреча Шамиля с Клюки фон Клюгенау. Третий слева от генерала Ахверды-Магома. Худ. Т. Горшельт (53, 67)
— 259 —
Глава V. выдающиеся деятели чечни первой половины XIX в.
Клюгенау. Как уже говорилось, у Шамиля не было оснований сразу же отклонить сделанные ему предложения, и российский генерал бы* настолько удовлетворен ходом переговоров, что при прощании пропнул имаму руку. Именно в этот момент вмешался Ахверды-Магома, ж позволив Шамилю обменяться с ним рукопожатием.
В последующие годы Ахверды-Магома неотлучно находится при Шамиле, а события при Ахульго выявили его лучшие человеческие качества. Он был направлен имамом в Чечню, откуда привел отряды добровольцев, честно предупредив их, что под Ахульго их ожидает верная смерть. Во главе чеченских отрядов он атакует колонны П. X. Граобс еще на дальних подступах к Ахульго. Несмотря на все упорство, проявленное мюридами в этих боях, русским войскам удалось не толын блокировать резиденцию Шамиля, но и рассеять чеченцев. Ахверды- Магома, однако, не отступил вместе со своими воинами, а тайным тропами пробрался в осажденный аул. Здесь он отличился при отражении многочисленных атак, что отметил в одном из своих рапортов и П. X. Граббе: «Мюриды, под предводительством хунзахского абреы Ахверды Магомы, держались с необыкновенным упорством...» К Такзш образом, Ахверды-Магому давно знали в Чечне, испытывая уваженж и к его храбрости, и к его уму, и к высокой мусульманской учености.
Шамиль высоко оценил преданность своего сподвижника и, покижав разрушенный и почти захваченный русскими аул, взял с собой раненного Ахверды-Магому. Вместе с Шамилем Ахверды-Магома пришея * Чечню и пережил тяжелые зимние месяцы, полные неопределенности Весной 1840 г., с началом всеобщего восстания чеченцев, Шамиль поставит Ахверды-Магому во главе крупнейшего на тот момент чеченское* наибства — Малая Чечня.
Наибства, как такового, еще не было. Ахверды-Магоме еще толж предстояло создать его, организовав твердое управление над многочисленными чеченскими селениями, разбросанными на обширна* территории от высокогорных Шатоя и Малхисты на юге до Терок* равнины на севере, от правобережья реки Сунжи на западе до рек» Аргуна на востоке. Одновременно необходимо было отражать атак» российских войск из Владикавказа и Назрани, пытающихся подавив волнения в Чечне в самом начале, не дав разгореться пожару больве* войны. Быстрота и решительность, с которой действовал Ахверды-М* гома, позволили ему успешно решить обе эти задачи.
Более того, он своими действиями привлек к участию в восстал** карабулаков и галашевцев на самом западе Чечни, а также на сек ре — Надтеречных чеченцев, уже много лет считавшихся «мирным* 5 апреля 1840 г. отряды Ахверды-Магомы вступили в бой с роосм- скими войсками возле селения Чемульга, а 14 апреля они появмл-* 11 РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 6361. Ч. 2. Л. 25.
— 260 —
Чеченские наибы
ш Ю верстах от крепости Грозной. В конце мая под угрозой оказалось Назрановское укрепление, и российское командование всерьез опасается «яадения на Владикавказ. Но неожиданно для всех Ахверды-Магома а> своими воинами в ночь с 26 на 27 июня переправился через Сунжу к объявился в Притеречье. Удержаться здесь, в окружении русских «креплений невозможно, но примкнувшие к восстанию Надтеречные «яенцы начинают массами переселяться вглубь Малой Чечни. По подсчетам генерала П. X. Граббе, из 44 Сунженских и Надтеречных селений «селилось до 2700 дворов1.
Чтобы прекратить массовое бегство Надтеречных чеченцев, в Малую Чечню срочно был направлен отряд под командованием генерал-лейтенанта А. В. Галафеева, но Ахверды-Магома оказался готов к встрече с «им. Сражение на речке Валерик 11 июля 1840 г. вошло в историю кавказской войны как одно из самых упорных и кровопролитных. Сам А. В. Галафеев, считавший себя победителем в этом бою, должен был see же признать: «...Надо отдать также справедливость чеченцам; они скжаяи все, чтобы сделать успех наш сомнительным»2.
Осенью того же 1840 г., якобы «разбитый» при Валерике, Ахверды- Магома совершил набег на Моздок. Только внезапно рассеявшийся тука* позволил российским войскам вовремя обнаружить отряды горцев ■ отбросить их непосредственно от Моздока. Зато сильно пострадали «положенные рядом станицы. В этом набеге в плен была захвачена ifr-аетняя Анна Улуханова, дочь одного из моздокских купцов. В 1842 г. ш приняла ислам и под именем Шуанет стала женой Шамиля.
По сравнению с большинством других наибов Ахверды-Магома отличался бескорыстием и умением организовать хорошее управление саюим наибством. При нем к Малой Чечне стали примыкать не только общества близкородственных ингушей — Цори, Галгай, Назрань, но я пограничные грузинские и осетинские горцы. Массами бежали в Малую Чечню и кабардинцы.
Благодаря справедливому распределению государственных податей вступления в казну имамата шли из Малой Чечни бесперебойно. Как «мечается в русских источниках, при Ахверды-Магоме чеченцы этого иябства беспрекословно выполняют все государственные повинности, а хлеб здесь вдвое дешевле, чем в Надтеречных и кумыкских селениях. Цчше того, Ахверды-Магома решительно пресекал злоупотребления со пороты сельских старшин и других официальных должностных лиц. lax. он наказал четырех чеченских старшин, пытавшихся присвоить эсяства, полученные в качестве выкупа за пленных, а изъятые у них раздал нуждающимся3.
ж^йливили Э. А. Указ. соч. — С. 258.
ЛЗИА. Ф. 482. On. 1. Д. 63. Л. ЗЗоб.
РГБИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 6468. Л. 2-2 об.; Д. 6365. Л. 39.
— 261
Глава V. выдающиеся деятели чечни первой половины XIX в.
Отличался Ахверды-Магома гуманным и благородным отношением к противнику, о чем свидетельствовал, например, князь И. Орбелианм. оказавшийся в 1842 г. в плену у горцев. После Валерикского сражен** Ахверды-Магома запретил отрубать головы у убитых солдат, тела которых остались брошенными в Гехинском лесу (в Кавказской армиж аналогичный приказ появится гораздо позднее). Более того, погибшие солдаты были похоронены по христианскому обряду, для чего чеченцам даже пришлось выкрасть из русского лагеря священника, который после совершения обряда был отпущен1. Очень гуманное отношение проявлялось по отношению к пленным солдатам.
В конце 1842 г. у кавказского командования нет сомнений в том. что Ахверды-Магома является после Шамиля самым авторитетным предводителем горцев и одновременно — одним из самых твердых противников России. Как уже говорилось, российские власти довольно быстро установили тайные отношения с рядом лиц из ближайшего окружения имама, а потому были довольно хорошо осведомлены о царивших в верхушке имамата настроениях. Один из российских командующих — Е. А. Головин не сомневался, что в случае смерти Шамиля его преемником станет Ахверды-Магома, а потому предлагал командующему Левым флангом П. X. Граббе выделить 2 тысячи рублей серебром, чтобы организовать убийство Ахверды-Магомы. Эта весьма сомнительная, с моральной точки зрения, акция на его взгляд оправдывалась тем, «...что через уничтожение этого предприимчивого сподвижника Шамиля мы избавились бы от одного из самых опаснейших его орудий, и успокоение Чечни было бы топи делом гораздо менее затруднительным»2. Таким образом, считалось, что влияние Шамиля в Чечне обеспечивается авторитетом Ахверды- Магомы.
Впрочем, политическое убийство не было чем-то новым или необычным в практике кавказского командования. Еще генерал Грек» подсылал наемных убийц к Бейбулату Таймиеву, а сам Е. А. Головня готов был выделить средства и на убийство самого Шамиля. В январе 1840 г. к Шамилю, скрывавшемуся возле Шатоя, действительно был подослан убийца, некий Джамбулат Гатагажев, выдававший себя ж конокрада. Только бдительность охранявших имама мюридов заставляя его отказаться от своего намерения.
К удовлетворению российского командования Ахверды-Магож погиб летом 1843 г. в столкновении под хевсурским селением Шя- тили высоко в горах на границе между Чечней и Грузией. Генерал Р. К. Фрейтаг констатировал: «Смерть Ахверды-Магомы имеет сильное
1 Карпеев И. Наиб Ахбердилав // Родина. — 2000. — № 1—2. — С. 91.
2 Движение горцев Северо-Восточного Кавказа в 20—50-х годахXIX в.: Сб. докумеЕ тов. — С. 292.
Чеченские наибы
влияние на чеченцев, и они очень упали духом» К Весьма показательно, что боевые соратники не позволили увезти родственникам тело Ахвер- яы-Магомы в Аварию и похоронили его в сердце чеченских гор — на кладбище селения Гуш-Корт (общество Шатой).
Юсуф-Хаджи (Хаджи-Юсуф) Сафаров2. Видный горский реформатор и выдающийся государственный деятель имамата Юсуф Сафаров родился в начале XIX в. в чеченском селении Бухан-Юрт (Алды), располагавшемся в среднем течении реки Сунжи. Отец его Сапар ӀСафар) отправился вместе со своим пятилетним сыном Юсупом на хадж в Мекку. В ходе поклонения святыням ислама Сапар внезапно умер. Маленький чеченец, оставшись сиротой в аравийских песках, не потерялся, так как заботу о нем взяли на себя «черкесские» (горские) мамлюки, с давних пор занимавшие высокое положение в Египте.
Благодаря помощи знатных мамлюков Юсуф получил прекрасное образование и, возмужав, поступил в так называемый Османский корпус, находившийся в Египте, под начальством великого египетского реформатора паши Мухаммед-Али, где дослужился до чина полковника (маир-алай). По свидетельству современников, «...Юсуф-Хаджи изучил арифметику, инженерное искусство, устройство крепостей и траншей; положил основание многим городам (в Египте. — Авт.) и проводил тщу к ним. Знал основательно арабский и турецкий языки; издал правила для войск как конных, так и пеших; научился как делать подкопы для взрыва крепостей и как поджигать порох; сверх того знал десять кавказско-горских языков». Видимо, Юсуф бывал и в других областях Османской империи, а также в Стамбуле.
В 1834 г. Юсуф-Хаджи возвращается на Кавказ. Под видом татарина он селится недалеко от границ Чечни в деревне князя Бековича (на нравом берегу Терека, напротив Моздока), а с 1839 г. оказывается за 1>6анью, у черкесов, где представлялся посланцем турецкого султана. Юсуф-Хаджи также подчеркивал, что он находится в переписке с «еги- яетским пашою», т. е. с Мухаммедом-Али.
С 1840 г. Юсуф-Хаджи, находившийся теперь на Черноморском яабережье у абадзехов, неоднократно пытался завязать отношения с имамом Шамилем, посылая ему письма с предложениями своих услуг ждя связи с султаном Абдул-Межидом и правителем Египта пашой
РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 6468. Л. 94 об.
См. обобщающие материалы: Генко А. Н. Арабская карта Чечни эпохи Шамиля // Записки института востоковедения АН СССР. — М., 1933. — Т. 2. — С. 35; Гаджи-Али. Сказание очевидца о Шамиле / Подготовка к печати В. Г. Гаджиева. — Махачкала, 1995. — С. 70; Покровский Н. И. Кавказские войны и имамат Шамиля. — М., 2000. — С. 76—78, 351, 375, 418—420, 432; Гаммер М. Шамиль. Мусульманское сопротивление царизму. Завоевание Чечни и Дагестана. — М., 1998. — С. 354; Хожаев Д. Хаджи-Юсуф Сафаров // В авторском сб.: Чеченцы в русско-кавказских войнах. — Грозный, 1998; и др.
Глава V. выдающиеся деятели чечни первой половины XIX в.
Мухаммедом-Али. Не исключено, что в это время Юсуф-Хаджи действительно представлял интересы османского двора.
Весной 1841 г. Шамиль направил к Юсуфу-Хаджи делегацию во главе со своим учеником Амирханом. Прибыв в земли абадзахов, послы имама встретились с Юсуфом-Хаджи и, договорившись о поездке в Стамбул для встречи с султаном, отправились вместе на побережье Черного моря, где попытались сесть на корабль. Но турецкие корабли топились и сжигались российской береговой охраной. Тогда Амирхан с товарищами решили вернуться обратно в Дагестан вместе с Юсуфом.
Здесь приближенный Шамиля Гаджи-Али Чохский так описал Юсуфа-Хаджи: «Он обладал знаниями, неизвестными до того времени никому в Дагестане. Он хорошо знал все науки и в особенности математику и архитектуру. Когда Шамиль увидел его громадные знания, то приказал мне учиться у него математике и архитектуре, и Гаджи- Юсуф передал мне все свои познания. Потом, по совету Гаджи-Юсуфа, Шамиль устроил низам (регулярное войско), разделив его на сотни и десятки, и поставил в каждом обществе наиба». Действительно, деление имамата на 16 наибств было заведено Шамилем в 1842 г.
Было создано регулярное войско из муртазеков, каждый из которых выставлялся от десяти семей и подчинялся непосредственно наибу. Часть муртазеков имела постоянное пребывание в ставке имама. Возникла система материального обеспечения государственных органов и армии. Внедрялись и многие другие нововведения, укреплявшие горское государство.
Имам Шамиль, жадный к знаниям, впитывал рассказы Юсуфа о государственных учреждениях в Турции и Египте. Пристав Шамиля в Калуге А. Руновский отмечал, что «подробности некоторых учреждений в Турции сообщил Шамилю некто Юсуф-Хаджи, живший очень долго в столице султана. С его рассказов Шамиль учредил у себя звание мудира и ввел некоторые другие турецкие учреждения».
Согласно воспоминаниям Амирхана Чиркеевского, «в короткое время Гаджи-Юсуп сделался при Шамиле влиятельным человеком: обо всем с ним совещались и многое делалось по его совету. Он же предложил имаму снабдить наибов письменным приказом и сам взялся составить его». После съезда в Андии, в мае 1843 г., когда имам утвердил, благодаря хитроумному плану Юсуфа, единоличную власть, Юсуф-Хаджи назначается наибом над частью Малой Чечни «в помощь» мудиру Ахверды-Магоме. Впоследствии, после гибели талантливого Ахверды-Магома, Малая Чечня была полностью вверена Юсуфу-Хаджи, помощником к нему был назначен Исса Гендергеноевский из Урус- Мартана. Вскоре, однако, Шамиль увидел, что Юсуф не в состоянии управлять такой большой территорией, и осенью 1843 г. Малая Чечня была разделена на две части, границей между которыми стала речка
Чеченские наибы
^вёеӀни, впадающая в Сунжу «неподалеку от разоренного аула Куллар». Нгл восточной частью Малой Чечни, заключающейся между реками hammi и Аргун, наибом остался Юсуф-Хаджи. Западной же частью Малой Чечни, простиравшейся от Рошни на востоке до Сунжи на Ӏмаде, управлял теперь наиб Исса, южной границей наибства было ычало Черных гор, а северной — река Сунжа (в среднем течении).
Желание Юсуфа, как можно быстрее воплотить в жизнь все свои тны государственного управления, приводило к недовольству насе- жжия. Дали о себе знать высокомерное и презрительное отношение аыашего турецкого офицера к простонародью, укоренившиеся замашки «сточного знатного человека.
Царские генералы вскоре отметили: «За короткое время, что он Юсуф-Хаджи) управляет наибством Малой Чечни, разного рода не- глраведливостями и взятками он успел заслужить ненависть чеченцев, я за него уже несколько раз приносили жалобу Шамилю».
Несмотря на провал Юсуфа-Хаджи, как практического руководителя, ӀЗахиль не оттолкнул его, а вернул в круг наиболее приближенных лиц. Гак. знание Юсуфом-Хаджи черкесских языков и обычаев, опыт его ■дабывания среди абадзехов и других закубанских народов повлияли а то. что имам Шамиль в 1843 г. послал Юсуфа сопровождать наиба Хаджи-Мухаммеда к «абадзехам». Здесь по его плану были проведены
Юсуф-Хаджи Сафаров из Алдов. Совр. рис. (67, вклейка)
— 265 —
Глава V. выдающиеся деятели чечни первой половины XIX в.
соответствующие реформы, сплотившие разрозненные народы Северо- Западного Кавказа в грозную силу.
Как бы то ни было, Юсуф-Хаджи остался главным советником имама буквально во всех сферах военной, законодательной, политической, административной, дипломатической и даже хозяйственно-бытовой жизни имамата. «Юсуф-Гаджи занимался постройкой укреплений и всячески старался содействовать предприятиям Шамиля по управлению и в военных действиях», — писал Гаджи-Али Чохский. По его чертежам и под его руководством были сооружены самые значительные крепости и укрепления имамата — Риск, Ири, Чох, Гуни, Уллу, Чалдг. Харакань, Салты, Ведено, Гуниб и др. Юсуф-Хаджи проявил себя ■ как картограф: известные сейчас карты имамата были составлены юв в период с 1850 по 1853 гг.
Юсуф-Хаджи стал своего рода и министром иностранных дед i имамате, осуществлял переписку Шамиля с правителями и лидерам» других государств и народов. Уже намного позже, в 1856 г. Юсуф-Хаджи, оценивая свою роль в имамате, писал князю Баратинскому, чт* он был «первым между наибами, устраивал и расширял его (Шамикв владения, сделался известен всем народам горским, и Шамиль ни своим старшинством, ни насилием без посредничества и знания мо» военного дела не достигал бы того, что делал со мною.,.».
— 266 —
Чеченские наибы
В 1853 г. начались военные действия Турции и союзных государств ӀВеликобритании и Франции) против Российской империи, которая аыталась раздробить Турцию, захватить проливы и Константинополь (Стамбул). Осенью 1853 г. султан Турции Абдул-Межид в личном письме зросил имама Шамиля начать военные наступательные действия пропев России. В связи с этим, впервые за время существования имамата между имамом и султаном начинаются прямые дипломатические связи. Заесь, конечно, не могло обойтись без деятельного участия чеченского ^Талейрана».
Летом 1853 г. войска горцев в числе 12—15 тысяч человек под командованием сына Шамиля Гази-Мухаммеда начинают поход против аарских войск в Грузии, что создало серьезную угрозу для всего Закавказья; возникла предпосылка к совместным действиям горцев •: турецкой армией против русских войск на Кавказе. Но турки проявили обычную медлительность и нераспорядительность. Шамиль был вынужден отозвать войска. Именно Юсуф-Хаджи разрабатывает z планирует направления главных ударов по царской укрепленной ишии в Закавказье.
Письма к имаму Шамилю с похвалами и обещаниями всяческих заград и славы от правителей великих держав возбудили честолюбие Юсуфа-Хаджи и толкнули его на авантюру. В 1853 г. житель Ахалциха Газжи-Исмаил был направлен к Шамилю с письмами от турецкого султана, с поручением уговорить имама в «довершение своих беспрерывных аействий приготовиться к новым схваткам», надеясь на неограничен- кую помощь Стамбула. Шамиль передал в свою очередь два письма с предложением перевода русской газеты, «найденной у убитого казака и чертежного описания земель, обитателей на Кавказе... составленной Гад- жн-Юсуфом». На обратном пути Гаджи-Исмаил был задержан секретной службой имамата по подозрению, что он везет тайное письмо Юсуф- Хаджи (помимо тех писем, что были вручены ему от имени правителя Чечни и Дагестана). Это письмо было найдено, изъято и доставлено има- iry. Оказалось, что Юсуф-Хаджи сообщал туркам, что, когда он прибыл £ Шамилю, «у последнего не было никакого порядка, и все шло, как у идей, незнакомых с требованием правильного строя для управления зародом и войском», что, мол, именно он навел в Дагестане и Чечне «золжный порядок», о котором дикие горцы «не имели понятия». За все ?то он просил назначить ему соответствующую награду.
Только заступничество Джамалэддина Казикумухского, тестя и учителя Шамиля, спасло Юсуфа-Хаджи от смерти: разъяренный Шамиль ограничился ссылкой советника в высокогорный аул Акнада в обществе Тинди, где приказывает ему «...жить без всяких ухищрений эоз опасением лишения жизни». Все его немалое имущество подвергаюсь конфискации.
Глава V. выдающиеся деятели чечни первой половины XIX в.
Последующие несколько лет Юсуф-Хаджи провел в кандалах, помещаясь на ночь в яму, в высокогорном селении Акнада («Шамилевской Сибири»). Однако в 1856 г. хитроумный наиб нашел способ бежать и через чеченское общество Чеберлой прибыл к русским властям в крепость Воздвиженскую (Чахкари-Атаги). Переправленный оттуда в крепость Грозную, он был «благосклонно принят» российским командованием, хорошо знавшим его заочно. Здесь, близ крепости Грозной, располагалось и родное село Юсуфа — Алды.
Юсуфу-Хаджи было к тому времени уже не менее 50—55 лет и, ожесточенный тюремным содержанием в Шамилевской тюрьме, он решился на месть имаму: «Знаю многое о Шамиле и его войсках, — писал Сафаров князю Барятинскому, — надеюсь быть полезным русскому правительству и ручаюсь уничтожить все сделанное мною у Шамиля, потому что хозяин дома лучше знает, что в нем делается».
Однако через несколько месяцев после бегства в крепость Грознужх в 1856 г. Юсуф-Хаджи Сафаров скончался. Так закончилась противоречивая жизнь этого талантливого и замечательного во многих отношениях человека, по праву считавшегося одним из выдающихся государственных деятелей имамата.
Байсангур. К наибам «старшего» поколения относился и Байсан- гур Беноевский, прославившийся не столько своими военными я административными способностями, сколько невероятным героизмом и непоколебимым упорством в борьбе с Россией. Родившийся в конаг XVIII в., Байсангур участвовал в восстании 1824—1826 гг., а затем ста* сподвижником имама Гази-Мухаммеда. К моменту появления в Чечне шейха Ташу-Хаджи Байсангур являлся уже старшиной Беноевскоге общества и одним из самых влиятельных людей в Ичкерии. Именно на территорию Беноевского общества отступил Ташу-Хаджи после топа как русские войска захватили ряд его укреплений в мае 1839 г. Злее* же появился осенью того же года и Шамиль, вырвавшийся из Ахуяь- го. Можно не сомневаться, что поддержка беноевского вожака имен весьма большое значение для Шамиля, особенно в первые месяцы ел* пребывания в Чечне.
При Шамиле Байсангур хотя и не занимал высших государственныl должностей, все же оставался бессменным главой Беноевского обществ» (возможно, что он имел и звание наиба, но без наибства). Считавшийся одним из храбрейших воинов Кавказа, Байсангур участвовал во мнопп сражениях и особо отличился личной храбростью при разгроме обекӀ «даргинских» экспедиций в 1842 и 1845 гг. В последнем сражении беноевский старшина потерял руку, что не помешало ему после выздоровления с неменьшим ожесточением участвовать и в других боях.
Несмотря на то что Шамиль высоко ценил Байсангура, как храброго воина и друга семьи, и никогда не сомневался в его преданности.
Чеченские наибы
Байсангур Беноевский. Совр. рис. (67, вклейка)
«гжшпения между ними не всегда были ровными. Заметное охлаждение между ними произошло в 1847 г., что не помешало Байсангуру
* следующем 1848 г. (лишившемуся к тому времени не только одной ргси, но и глаза) принять участие в героической обороне дагестанского шгш Гергебиль. В этих боях ему пушечным ядром оторвало ногу и в бессознательном состоянии он попал в плен.
Обстоятельства освобождения Байсангура не совсем ясны. Известно, что Шамиль выделил средства, чтобы выкупить его, и поэтому можно ^?еяположить, что рота Куринского полка, сопровождавшая оказию, ■весте с которой находился и искалеченный Байсангур, отдала его за шикуй. Как бы то ни было, вплоть до полного падения власти Шамиля » Чечне Байсангур не только управляет Беноевским обществом, но и гадггвует в военных походах. Правда, теперь его привязывают к седлу. 1Щт яворе имама он считался эталоном мужества и храбрости, образ- ш мужской красоты.
Ни русские, ни дагестанские источники не подтверждают участие сашрепого Байсангура в обороне Гуниба. Легенды говорят, что он был
* числе немногих, кто не сдался, а вырвался из окружения под Тунисом. Личный хроникер Шамиля Мухаммед-Тахир ал-Карахи со всей жределенностью указывал: «...все вилайеты Чечни, один за другим, «шали под власть русских. Из жителей этих вилайетов никто не
— 269 —
Глава V. выдающиеся деятели чечни первой половины XIX в.
ушел с имамом, кроме одного наиба, Османа и тех, кто был ранее ним» *.
Тем не менее, именно Байсангур в мае 1860 г. поднимает в Чечне крестьянское восстание и до конца года возглавляет его. В феврале 1861 г. он попал в плен и был приговорен к смертной казни. Кое-ках был вдет в петлю этот одноногий и однорукий человеческий обрубок — с абсолютно несломленной волей. Грозно оглядев толпу, он сохранившейся ногой сам откинул скамейку. Подлое убийство Байсангура остается в памяти народа по сегодняшний день.
Чеченские наибы «второго» поколения1 2. Надо сказать, что должность наиба в имамате Шамиля требовала не только наличия опрепе ленных способностей, но и большой личной храбрости. Управление воинственными горцами было сопряжено с риском для жизни, » известно немало случаев, когда наибам объявлялась кровная месть i ответ на совершаемые ими казни. Еще большую опасность представлял непрерывные нападения российских войск, отражать которые наибы направлялись во главе собственных регулярных отрядов и сельского ополчения. Не случайно, что почти все первые чеченские налом Шамиля (Джаватхан из Дарго, Суаип-мулла из Эрсеноя (оба в разное время были наибами Большой Чечни), Ахмедхан Дышнинский, Уялу- бий-мулла Аухский, Мааш Зумсоевский и некоторые другие погиб»» один за другим в боях.
Тем не менее, должности наибов никогда не пустовали, и часто этта званием облекались совсем еще молодые люди, вся сознательная жизнь которых началась и завершилась войной. Так, в 1847 г. на коротвое время наибом над частью Большой Чечни стал Ахмад Автурински*. чья необычная судьба отразилась в одной из народных баллад-иджж Новому наибу исполнилось только 23 года, но он уже отличился па» разгроме отряда П. X. Граббе в 1842 г. и отряда М. С. Воронцова * 1845 г. Через два года, отказавшись казнить семерых чеченцев, прв> говоренных к смерти, Ахмад Автуринский откажется от поста наиб» Личная дружба с казаком из станицы Червленной не мешала ешч участвовать в набегах на русскую линию. Во время одного из них сяе и погиб в возрасте 28 лет.
В еще более раннем возрасте началось выдвижение Хатата Даргнв- ского, которого Шамиль назначил старшиной селения Дарго в 17 лет
Наибольшей известностью со второй половины 40-х гг. XIX к пользовались наибы Бата Шамурзаев, Талхиг, Эски Хулхулинскк» (Мичиговский), Идиль Веденский, Дуба Вашиндороевский, Саадутга Османов, Сааду Мичикский, Батуко Шатоевский и др. Возвышен»
1 Мухаммед Тахир ал-Карахи. Блеск дагестанских сабель в некоторых шамилевсск битвах. Ч. 2. — С. 70.
2 См.: Хожаев Д. Чеченцы в русско-кавказских войнах; и др.
— 270 —
Чеченские наибы
Ъшвж — наиб Аргунский (Шалинский). Худ. В. С. Шлипнев (16, вклейка)
Дуба — наиб Вашандоройский. Худ. В. С. Шлипнев (16, вклейка)
Эош — наиб Хулхулинский. Худ. В. С. Шлипнев (16, вклейка)
— 271 —
Батуко — наиб Шатоевский. Худ. В. С. Шлипнев (16, вклейка)
Глава V. выдающиеся деятели чечни первой половины XIX в.
Идиль — наиб Веденский. Худ. В. С. Шлипнев (16, вклейка)
Сааду — наиб Мичикский. Худ. В. С. Шлипнев (16, вклейка)
Баты Шамурзаева и Талхига (больше известного как Талхиг Шаливс- кий, поскольку административным центром его наибства стало селение Шали) началось после гибели Суаип-муллы Эрсеноевского, когда Большая Чечня была разделена Шамилем на два наибства, во главе соответственно с Батой Шамурзаевым и Талхигом.
В отличие от Баты, получившего прекрасное военное образование 9 России, Талхиг в военном деле был талантливым самоучкой, который сумел довести до совершенства тактику рассыпного строя, применявшуюся горцами. Кроме того, он был прирожденным артиллеристом л первым начал применять так называемые «кочующие» батареи, ко торы* держали под огнем русские войска и днем и ночью. Во время экспедиций в Чечню русские войска, под угрозой батарей Талхига, часто не имели возможности разводить по ночам огни, чтобы не стать удобной мишенью для горской артиллерии.
Талхиг пользовался большим доверием Шамиля, хотя в их отношениях и был короткий период охлаждения, когда в течение двух лет Талхиг был лишен наибства. Однако в 1849 г. он снова стал наибом, а затем и родственником Шамиля, поскольку возвращенный из плена старший сын Шамиля — Джамалэддин женился на дочери Талхига. Родственные отношения с имамом, правда, не помешали Талхигу в 1859 г., подобно подавляющему большинству других чеченских наибов. перейти на сторону русских.
Чеченские наибы
В русских источниках его по праву называют командующим артиллерией и талантливым администратором, весьма благоразумно управляющим своим наибством.
* * *
За рамками настоящей главы остаются, конечно, многие знаменитые чеченцы первой половины XIX в., как вследствие неизученности источников, так и спорности оценок деятельности целого ряда деятелей.
Сераскир Хаджи-Хасан-паша Чечен-оглы. Совр. рис. (67, вклейка)
Так, весьма отрывочные данные первой четверти XIX в. говорят о зеятельности Хаджи-Хасан Чечен-оглы, турецкого паши и сераскера Озерного Причерноморья, который оставил заметный след в развитии турецко-черкесских отношений. Это был чеченец по происхождению, еяе мальчиком неведомыми путями попавший в Стамбул.
Мало что говорят русские и иные источники о чеченских женщинах — деятельницах истории. Из этнографических материалов известно достоверно, что в чеченском обществе степень свободы женщины была выше, чем где-либо на Кавказе. Определенную известность в гады кавказской войны получило имя молодой девушки Таймасхи из селения Гехи, искусстной воительницы, добившейся статуса тхамады —
— 273 —
Глава V. выдающиеся деятели чечни первой половины XIX в.
командира самостоятельного отряда. Попав раненой в плен (1842 г ), чеченская «кавалерист-девица» была доставлена в Петербург, представлена царской семье и возвращена в крепость Грозную под надзор.
Таймасха Гехинская. Совр. рис.
Мало мы, к примеру, знаем о деятельности влиятельных чеченскиж богословов-алимов, значительных старшин крупных плоскостных селений, ведущих в политическом отношении, таких как Чечен-Аул, Большие (Старые) Атаги, Гехи, Шали, Герменчук, Майртуп и др. Остались без внимания знаменитые мастера-оружейники, предводители отряда* ополчений, не входящих в военную элиту имамата, первые чеченскж офицеры царской службы и т. д. В тень великой Кавказской войны угшш тысячи выдающихся земледельцев, скотоводов, ремесленников, музыкантов, поэтов, певцов и художников. От них остались только легенды, предания, песни и памятники материальной культуры.
— 274 —
Глава VI. Чечня и чеченцы
в составе Российской империи в 60-х годах XIX века. Движение Кунта-Хаджи
§ 1. Административно-территориальное обустройство края после завершения Кавказской войны. Формирование «военно-народной» системы управления
Установление системы колониального правления. Российское государство за свою тысячелетнюю историю накопило богатый и разнообразный опыт управления завоеванными территориями и народами. Несомненно, что всеобщее засилье государственной бюрократии, столь мрактерное для всей истории российской государственности, самым ■^посредственным образом отражалось на формировании системы • зравления «инородцами» и в XIX в. В разное время в состав Россий- саюй империи оказалось вовлечено большое число народов, совершенно осжичных друг от друга по уровню общественного и государственного развития, а также придерживающихся разных верований, обычаев ш г. л. Это способствовало тому, что в России постепенно формируется ■авюльно разнообразная и гибкая система управления присоединенны- шя землями, допускавшая в отдельных случаях широкую внутреннюю ■■тономию (например, Финляндия, Польша и Бухарский эмират).
Исключительно длительное и упорное сопротивление, оказанное горлами Северного Кавказа в ходе Кавказской войны, а также весь вое- тшрованный уклад жизни горцев привели к тому, что вся полнота ■ласти здесь изначально оказалась сосредоточенной в руках военного ижандования. И после завершения войны российское правительство .считало необходимым сохранять военное управление в населенных ^оспами округах, в частности, в Чечне: «...для поддержки нашего влития в горах, и при том как опора и поддержка вводимой гражданственности, нам нужна еще в глазах этого поколения (чеченцев. — Авт.) ■иериальная сила, та сила, которая сломила его несколько лет назад: яа одна пока может быть гарантией спокойствия и мирного господства змн-его над покоренными племенами»1.
Военное давление оставалось для имперских властей стержнем госу- мгственной политики в отношении Чечни и после поражения имамата ъ 4£59 г., хотя формы управления чеченцами неоднократно изменялись. Например, первое время населенные чеченцами притеречные земли
Ръяялитов А. П. Этнографические очерки Аргунского округа // Сб. сведений о ььзказских горцах. Т. 1. [3]. — М., 1992. — С 47.
— 275 —
Глава VI. Чечня и чеченцы в составе Российской империи в 60-х гг. XIX в. Движение Кунта-Х^з*»
формально считались относящимися к образованной Екатериной II Кавказской области (созданной императорским указом в мае 1785 г.). Однако реально властные полномочия над «мирными» селениям» чеченцев осуществляли «начальники», назначаемые военным командованием Кавказского корпуса (армии). Так, еще при А. П. Ермолове была введена должность чеченского пристава, которому должны были непосредственно подчиняться старшины притеречных селений.
Некоторые изменения в системе управления произошли в 40-х гт. XIX в. В 1842 г. учреждается так называемый «Кавказский комитет* (из высших государственных чиновников), куда направлялись отчеты наместника Кавказа и где обсуждались различные варианты управленческих решений. Кавказский комитет просуществовал до 1882 г., и, по сути, его роль сводилась к выработке рекомендаций правительству по кавказским делам.
Огромная власть оказалась сосредоточенной в руках наместников Кавказа, которым в 1845 г., кроме Закавказья и Северного Кавказ*, была подчинена и Кавказская область (т. е. Предкавказье). Наместник* имели право собственным распоряжением ссылать или высылать зг пределы края любых лиц «туземного происхождения». Нужно сразят указать, что создание особой системы управления для Кавказа было мерой явно колониальной и объяснялось невозможностью управлять кавказскими народами «обычными» для империи органами властн. Но, создавая наместничество на Кавказе, правительство ставило цель «насаждения российской гражданственности» и в перспективе намеревалось привести управление Кавказом в соответствие с принятым* в империи нормами.
Для разрешения вопросов, связанных с управлением горцам*, при кавказском наместнике создается в 1846 г. Особая канцелярия.
Ааминистративно-территориальное обустройство края после завершения Кавказской войны.
Формирование «военно-народной» системы управления
277
Карта Северного Кавказа. 1868 г. (56, 18)
Глава VI. Чечня и чеченцы в составе Российской империи в 60-х гг. XIX в. Движение Кунта-Хаджи
которая, однако, не имела права отдавать конкретные распоряжения на местах. На завершающем этапе Кавказской войны стало очевидным, что российские власти и военное командование оказались не готовы к управлению завоеванными у имамата территориями. В Чечне им пришлось пойти на сохранение системы наибств, часто во главе с перешедшими к русским наибами Шамиля, например, Б. Шамурзаевым,
С. Османовым и др.
Поскольку в Петербурге не видели возможности для быстрого введения на Кавказе гражданского управления, начались преобразования существовавших военных структур, чтобы приспособить их для решения управленческих задач. С этой целью в 1858 г. отдельный Кавказский корпус преобразуется в Кавказскую армию, а ее командующий наделяется широкими полномочиями. При главном штабе армии создается специальное отделение — «по управлению горскими народами, не вошедшими в состав гражданского управления».
Впрочем, наличие Особой канцелярии при наместнике Кавказа и создание специального отделения при штабе Кавказской армии не решали всех проблем, и это хорошо сознавал император Александр П. В 1860 г., в одном из своих писем к наместнику Кавказа А. М. Барятинскому, император указывал на необходимость серьезных территориально-административных преобразований: «Управление горцами должно теперь стать главной задачей текущего момента, надобно смотреть на управление горцами как на продолжение их покорения»1.
Следует сказать, что по своему положению Кавказ, являясь колонией России, имел отличия от колониальных владений Англии, Франции или Испании. Во-первых, регион являлся естественным продолжением метрополии, а во-вторых, кавказские народы своей героической борьбой объективно добились особых условий для себя в рамках империи- Вольно или невольно Россия была вынуждена втягивать горцев, в том числе и чеченцев, в экономическую систему империи, постепенно инкорпорировать их в имперскую систему.
Образование Терской области. Горские округа. В январе 1860 г. была образована Терская область во главе с генерал-адъютантом графой Н. И. Евдокимовым, в которую вошли первоначально 6 горских округов: Кабардинский (Нальчикский), Владикавказский (позднее разделен на Осетинский и Ингушский), Чеченский (Грозненский), Ичкерийский, Аргунский и Кумыкский. Центром области стал город Владикавказ. Границы округов, а также их общее количество и названия, часто менялись. Чеченское население имелось во всех округах, кроме Кабардинского и Осетинского. В Чеченском, Ичкерийском и Аргунском округах население было почти полностью чеченское, в Хасав-Юртовском округе
1 Акты, собранные Кавказской археографической комиссией. Т. 5. — Тифлис, 1904. — С. 1287.
1дминистративно-территориальное обустройство края после завершения Кавказской войны.
Формирование «военно-народной» системы управления
Вид города Владикавказа первой половины XIX в. (6, 309)
чеченцы составляли до половины его жителей, а в Ингушском округе шьходилось крупное чеченское селение Пседах и проживали чеченцы- •арабулаки. Большая часть Дагестана вошла в Дагестанскую область, гае также была введена военная система управления.
Общая численность горского населения Терской области составляла чуть более 285 тысяч человек, в том числе в трех «чисто чеченских» жругах — 102,5 тысячи человек. Буквально все исследователи сходятся ю мнении, что официальная статистика, определяющая численность горцев, является весьма приблизительной. Во время Кавказской войны яроводить перепись населения было невозможно, а после ее окончания горцы, как могли, уклонялись от переписи, опасаясь введения налогов •:о стороны государства. Поэтому не вызывает сомнения, что в первой зояовине 60-х гг. XIX в. чеченцев на самом деле было не менее 120 тысяч человек1, но скорее всего и все 150 тысяч.
Почти одновременно с упразднением Кавказской линии и образо- шнием Терской, Дагестанской и Кубанской областей, а также Ставро- авкьской губернии, были утверждены два казачьих войска: Терское и кубанское. Помимо горских округов, в состав Терской области были якючены три казачьих отдела: Сунженский, Пятигорский и Кизляр- оешя, а также довольно многочисленное «иногороднее» население, не записанное к казачьему сословию и проживавшее как на казачьих
См.: Статистические сведения о кавказских горцах, состоящих в военно-народ- эс*м управлении // Кавказские горцы: Сб. сведений. Т. I. [8]. — М., 1992. — С. 7—8; История народов Северного Кавказа. Конец XVIII в. — 1917 г. Т. 2. — М., 1988. — С, 38; и др.
Глава VI. Чечня и чеченцы в составе Российской империи в 60-х гг XIX в. Движение Кунта-Хаджи
землях, так и в поселениях, возникших на месте или вблизи военных укреплений.
Территория Терской области граничила на севере с Астраханской и Ставропольской губерниями, на западе — с Кубанской областью, на юге — с Тифлисской и Кутаисской губерниями, на востоке — с Дагестанской областью. Какое-то время в состав Терской области входили и некоторые горные дагестанские общества: Анди, Гумбет и ряд др, однако в 1861 г. они были переданы дагестанским властям.
«Военно-народная» система управления. Разделить горские территории на округа под управлением военных администраторов еще в конце 50-х гг. XIX в. предложил наместник А. М. Барятинский. Это предложение в полной мере было реализовано при создании Терском области. Сам наместник Кавказа разработал и утвердил специальную инструкцию для окружных начальников, которая определяла круг обязанностей и прав должностных лиц, а также принципы, положенные в основу управления горцами. Создаваемую им систему управления горцами А. М. Барятинский назвал «военно-народной» и считал ее временной, призванной просуществовать до тех пор, пока на горцев не будет распространена обычная система гражданского управления. «Народной» она называлась потому, что низшие должности в формируемой администрации и судебных учреждениях отводились для представителем горских народов, частично избираемых на выборные должности, а по большей части — назначаемых окружным начальством. Современники, не стесняясь, называли эту систему управления «военной».
Военный характер управления ясно отражался и в том, что Терская область в 1862 г. была разделена на три военных отдела: Западный. Средний и Восточный. Военные отделы делились на округа, общим числом восемь. Кроме того, было создано отдельное управление начальника округа Минеральных вод и городское управление Владикавказ*, функционировавшие на основании специальных «Положений». Таким образом, лишний раз подчеркивалось, что военное управление распространяется прежде всего на горское население.
Начальник Терской области одновременно являлся не только высшим гражданским чиновником (на правах генерал-губернатора), но и командующим расквартированными здесь воинскими подразделениями (на правах начальника корпуса), а также Наказным атаманом Терского казачьего войска. Особенно велики были властные полномочия начальника Терской области в отношении горцев: он мог по своей воле применить против горцев оружие и поднять против них подчиненные ему войска и казаков, предавать горцев военному суду и в административном порядке высылать из области «нежелательные элементы».
Учреждения, созданные специально для управления горцами, проходили по военному ведомству. Управление горскими округами
— 280 —
административно-территориальное обустройство края после завершения Кавказской войны.
Формирование «военно-народной» системы управления
осуществлялось через так называемое «горское» или «народное» управление при начальнике области, который назначал окружных начальников из числа старших офицеров. Например, в 1867 г. начальником Среднего военного отдела был назначен генерал-майор князь Туманов, а из восьми начальников горских округов шестеро являлись полковниками и двое — майорами.
Приставства и старшинства. Начальники округов единолично аеяьзовались правами уездных правлений и непосредственно контролировали приставов (наибов) отдельных участков, на которые были разделены округа. Каждый пристав в свою очередь руководил сельскими старшинами. На должности приставов (наибов) первоначально назначались офицеры из горцев. В Чечне это были зачастую прежние, «шамилевские» наибы, получившие офицерские чины при переходе за царскую службу. Но в сентябре 1866 г. наместник Кавказа получил араво замещать офицеров-горцев приставами из числа русских офицеров регулярных или казачьих войск1. В результате горцы в системе твравления Терской области (за редким исключением) долгое время не могли подняться выше должности сельских старшин.
Таким образом, в Терской области сложилась довольно оригинальная система управления: отдельная для горцев, для казаков и для «иногороднего» населения. Уже само наличие подобной системы говорило о мосшощем неравноправии горцев по сравнению с другими категориями жителей. Правда, равенства в правах не было и у русского «гражданского» населения, среди которого своими привилегиями выделялось казачье сословие. Предполагалось, что в перспективе будет создан уп- рваденческий аппарат, единый для всех категорий населения, однако, «менно-народное» управление горцами, постоянно модифицируясь, смранялось вплоть до Октябрьской революции 1917 г.
Генерал М. Т. Лорис-Меликов во главе Терской области. Многие административные реформы в Терской области были осуществлены третьим по счету начальником области — графом Михаилом Тариело- шчем Лорис-Меликовым, который в конце марта 1863 г. сменил на этом мету Д. И. Святополк-Мирского. Появление на столь высоком посту М. Т. Лорис-Меликова (армянина по национальности) объясняется не шяько его незаурядными личными качествами, но и целенаправленной эсяитикой российского правительства, широко привлекавшего к государственной службе в мусульманских областях Кавказа представителей ■ктных (закавказских) христианских народов.
В качестве боевого офицера М. Т. Лорис-Меликов участвовал в Кавказской войне, а с 1855 г. его использовали в административной работе в р&зиых регионах Кавказа. Его пребывание на посту начальника Терской
Ибрагимова 3. X. Чечня после Кавказской войны (1863—75 гг.) (по арх. источни- з^м). — М., 2000. — С. 28.
Глава VI. Чечня и чеченцы в составе Российской империи в 60-х гг. XIX в. Движение Кунта-Хаджи
области отмечено жестоким подавлением выступления кунта-хаджинцев в Чечне и широким применением против горцев вооруженной силы. Он же выступил в качестве одного из главных организаторов депортации 25 тысяч чеченцев в Турцию.
Проявив себя жестким администратором, М. Т. Лорис-Меликов немало содействовал укреплению системы «военно-народного» управления горцами. В 1867 г., в ответ на инициативу наместника Кавказа великого князя М. Н. Романова, российское правительство дало согласие на создание единого гражданского управления для всего Кавказа, включая Терскую область. Указывая на трудолюбие, проявляемое горцами, их стремление к сближению с русским населением, наместник считал, что дальнейшее сохранение раздельного управления «становится скорее тяжестью, чем выгодою для самих горцев, не говоря уже о неудобствах, проистекающих от этой разделенности подчинения, в свою очередь, и для соседнего русского населения». При этом М. Н. Романов особо акцентировал, что самый «беспокойный» из всех народов — чеченцы «показывают наклонность сделаться со временем очень промышленным населением» К
Однако открытое и скрытое сопротивление планам наместника со стороны шовинистически настроенного кавказского чиновничества оказалось настолько сильным, что существенные «временные изъятия» в гражданском управлении горцами сохранили силу. Тот же М. Т. Лорис-Меликов, недовольный некоторым ограничением его прав как начальника области, сумел вновь добиться для себя прав генерал- губернатора.
Среди всего горского населения Терской области некоторым покровительством М. Т. Лорис-Меликова пользовались те горцы, которые исповедовали православное христианство. Зато в отношении чеченцев- мусульман и родственных им ингушей начальник области проводил подчеркнуто жесткую политику. Например, он упорно сопротивлялся выводу воинских контингентов из области, по любому поводу наводняя ими Чечню.
Такую же политику проводил и генерал-майор А. П. Свистунов, сменивший М. Т. Лорис-Меликова на посту начальника Терской области в 1875 г. Впрочем, это обстоятельство не всегда можно объяснять личными симпатиями и антипатиями руководителей Терской администрации: еще в 1864 г. начальник штаба Кавказской армии генерал Карцев в секретном меморандуме указывал на потенциальную опасность, которую представляла Чечня для русского владычества на Северном Кавказе. По его мнению, компактно проживая на обширной территории, в том числе и в труднодоступной горной местности, чеченцы не утратили 11 Эсадзе С. Историческая записка об управлении Кавказом. Т. 2. — Тифлис, 1907. — С. 82, 83.
^мнистративно-территориальное обустройство края после завершения Кавказской войны.
Формирование «военно-народной» системы управления
М. Т. Лорис-Меликов
способности к сопротивлению. Хотя казачья линия, проложенная вдоль Сунжи, и изолировала северные и западные районы Чечни, но имевшееся в чеченских горах военных укреплений все же недостаточно, чтобы полностью предотвратить новые восстания1.
Сельское (аульное) управление. В целом все административные «цеобразования, проведенные в Терской области, преследовали одну яеяъ — установить жесткий всеобъемлющий контроль над «туземным» •селением, которое проживало главным образом в селах и хуторах, весьма показательно, что еще в 40-е гг. XIX в. российские власти стреми- штсъ ликвидировать многочисленные хутора на территории плоскостной Чечни, вынуждая их жителей переселяться в крупные селения с целью авяегчить сбор налогов и податей и обеспечить должный полицейский ■юнтроль над населением.
В рамках «военно-народного» управления сельским обществам жрсяоставлялось право ограниченного самоуправления. Сельский сход, состоявший из «совершеннолетних домохозяев» (достигших 25-летнего жяраста), выбирал сельских должностных лиц; выносил приговоры о •селении членов общества за какие-либо проступки или преступления, ж также о приеме новых членов; распоряжался общественными землями; жа знача л сборы на общественные расходы; распределял государственные * земские подати и повинности на всех жителей общества. Несмотря ж» то что сход формально имел право избирать сельского старшину, фактически эта должность могла быть занята лишь с согласия окруж- яиго начальника. Таким образом, сход лишь утверждал кандидатуру, ж^нее определенную терской администрацией.
Ом.: Дзагуров Г. А. Переселение горцев в Турцию. — Ростов н/Д., 1925. — С. 42.
— 283 —
Глава VI. Чечня и чеченцы в составе Российской империи в 60-х гг. XIX в. Движение Кунта-Хаджи
Значительно позже (в 1895 г.) было принято «Положение о сельских (аульных) обществах...». Согласно этому документу, осуществление прав местного самоуправления переходило от сельского схода всех домохозяев к сельскому сбору, в котором участвовали так называемые «выборные», делегированные от определенного количества дворов. Сход сохранялся лишь в небольших селениях (не более 30 дворов). Общее число выборных в крупных аулах не должно было превышать 100 человек.
Таким образом, администрация отныне имела дело не с целым сельским сходом, а с ограниченным количеством «выборных». Уже на этой стадии окружное начальство строго следило за тем, чтобы в число «выборных» попадали «лучшие» люди общества. Характерно, что новое «Положение...» специально оговаривало право лиц, пользующихся правами дворян, а также офицеров и чиновников из горцев, участвовать в избрании «выборных» и быть избранными в состав сельского сбора. Кроме того, окружной начальник имел право лишить «выборных» их должности и потребовать их замены; по согласованию же с областным начальством мог быть временно распущен и весь сельский сбор, а власть передана старшине1.
Сельские старшины и без того обладали существенной властью в подвластных им селениях. Старшина руководил работой сельского сборг (схода), приводил в исполнение его решения, наблюдал за исполнением разного рода податей и повинностей, недоимок и т. д. Старшины обладали и полицейской властью, в частности, они имели право подвергать виновных краткосрочному аресту, денежному штрафу или направить их на общественные работы. При этом жалоба на действия старшины могла быть направлена только начальнику соответствующего округа (который, как правило, сам рекомендовал старшину на должность и утверждал его в этой должности). Естественно, что лишь в исключительных случаях окружной начальник давал ход подобным жалобам.
Повинности и подати. Особое значение придавалось своевременному отбыванию всех возложенных на горцев повинностей и податей. Первое время горцы платили в казну только подымную подать, а также несли расходы по содержанию в исправности дорог, мостов, переправ, доставке почты. Кроме того, жители обязаны были предоставлять подводы и квартиры для проходящих войск или проезжающего начальства. Горцы были освобождены от отбывания воинской повинности, но взамен этого в 1887 г. российское правительство ввело для них специальный денежный сбор.
Помимо указанных государственных и местных повинностей., существовало немало других сборов, которые ложились на сельских
1 Положение о сельских (аульных) обществах, их общественном управлении и повинностях государственных и общественных в горском населении Терской и Кубанской областей (1895 г.): При лож. 4 // Хасбулатов А. И. Установление Российской администрации в Чечне (II пол. XIX — нач. XX вв.). — М., 2001. — С. 218,232.
— 284 —
Административно-территориальное обустройство края после завершения Кавказской войны.
Формирование «военно-народной» системы управления
общинников. Каждое общество самостоятельно несло расходы на содержание старшины и сельского правления, поддержание в исправности проселочных дорог, межевых знаков, проточных канав, содержание сельских караулов, престарелых, сирот и т. д. Отдельно шли расходы на содержание мечети и школы при мечети. Со временем общества из своих средств оплачивали значительную часть расходов на содержание «русских» школ (создавались по просьбам чеченского населения).
Ограничения в правах. В рамках «военно-народного» управления существовал ряд существенных ограничений на свободное передвижение горцев. Переселиться из одного общества в другое или даже зереехать в другое селение одного и того же общества горец не мог без «приговора» сельских сходов, которые должны были гарантировать выделение ему земельного пая из общинной земли. Естественно, что в таких условиях администрация могла воспрепятствовать переселению тюбого лица, считавшегося «неблагонадежным».
Более того, горцы не имели право самовольно отлучаться из своих селений. Разрешение на отлучку сроком до одного месяца давал сельский старшина, а на более длительный срок — начальник округа. Виновные в самовольной отлучке наказывались либо денежным штрафом, шбо даже краткосрочным арестом или направлением на общественные работы. Кроме того, в отношении тех же чеченцев действовали прямые вапреты на поселение в Грозном, а также в слободах, расположенных рядом с военными укреплениями. Постоянное проживание в этих заселенных пунктах разрешалось только тем, кто находился на государственной или военной службе, а также лицам из числа «туземцев «збяасти», вышедшим в отставку, имея офицерский чин.
В целом административные преобразования, проведенные в Терской осдасти, преследовали две цели. Во-первых, они были направлены на создание эффективной, жесткой и всеобъемлющей системы управления горцами. Во-вторых, административные реформы на Северном Кавказе проводились в рамках общероссийских реформ, направленных на модернизацию Российского государства. Общее направление проводимых »рорм должно было способствовать ускоренному развитию капиталистических отношений, однако их проведение происходило в высшей степени непоследовательно, половинчато. Более того, в отношении -туземного населения» Терской области допускались такие «изъятия», хоторые фактически означали использование чрезвычайных военных методов управления. На общем фоне посткрепостнической России, где S-ЮӀ прогрессивные реформы в административной, судебной, военной ж образовательной областях, облегчавшие стране переход к капиталистической стадии развития, — Кавказ оставался колониальной окраиной «мэерии, где горцы подвергались открытой дискриминации.
Глава VI. Чечня и чеченцы в составе Российской империи в 60-х гг. XIX в. Движение Кунта-ла^»»
§ 2. Реформа судебной и правоохранительной системы
«Чеченский народный суд». Одновременно с административна- территориальным, колониального характера обустройством Терскоя области российские власти провели ряд реформ, осуществление которых шло в рамках общероссийских прогрессивных преобразований, начатых императором Александром И. Большое значение имела судебная реформа, которая должна была стать составной частью «военнонародного управления» горцами. В центральных губерниях Россия судебная реформа имела целью создание независимых судов, и цею эта была в основном достигнута. Главными достижениями реформы можно считать введение суда присяжных для всех сословий империи и создание независимой адвокатуры. Что касается Терской облает я. то здесь судебная реформа носила очень ограниченный характер я действовавшие на территории области суды (прежде всего для горцев* оставались под контролем военных властей.
Еще в 1852 г. в крепости Грозная был учрежден так называемый «Чеченский народный суд» во главе с российским штаб-офицером. В соста» суда входили мусульманский кадий и три судьи из числа уважаемых в Чечне людей, знатоков адата. Такой состав суда не случаен: в противовес шариату, насаждаемому в Чечне имамом Шамилем, российски* власти стремились усилить влияние обычного права — адатов. Членам «Чеченского народного суда» предписывалось при разрешении судебных дел пользоваться нормами адата, хотя, по настоянию сторон, суд м<* рассмотреть дело и на основании положений шариата. Приговоры, выносимые судом, заносились в специальную книгу, а исполнение приговора контролировалось так называемым «Управлением чеченского народа*, которое имело право в случае необходимости добиваться исполнения приговора в принудительном порядке.
Первым председателем «Чеченского народного суда» был российский полковник А. Бартоломей (в будущем создатель одного жз вариантов чеченского алфавита на русской графике), кадием же бы* назначен некий Али-Мурза. Зато переводчиками при суде работал* два авторитетных в Чечне офицера из числа чеченцев: Бата Шамур- заев и Касим Курумов, причем последний занимался и письменным* переводами. По отзывам современников, первый Чеченский народны* суд пользовался большим уважением не только у «мирных» чечев- цев — временами в него обращались и жители селений, не состоянии в российском подданстве1.
1 Мужухоева Э. Д. Чечено-Ингушетия в административно-политической системе уп равления Терской областью в 40—60-е годы XIX века // Чечено-Ингушетия в политической истории России и Кавказа в дореволюционном прошлом. — Грозны* 1990. - С. 64.
— 286 —
Реформа судебной и правоохранительной системы
«Чеченский народный суд» (в Кабарде подобное учреждение появилось еще в 1822 г., в Осетии — в 1847 г.) представлял, таким образом, причудливое сочетание горского народного, шариатского и российского судов. Несмотря на то что большинство дел рассматривалось по адату, члены суда не могли быть назначены участниками разбирательства по своему усмотрению, а исполнение приговора больше не зависело от доброй воли стороны, проигравшей процесс. Применение норм шариата ограничивалось преимущественно сферой семейно-брачных отношений, а также делами, касающимися раздела имущества, порядка ааследования и некоторых других категорий гражданских дел.
Адат и шариат в судопроизводстве Чечни. По свидетельствам современников, горцы (и чеченцы в частности) в 60—70-х гг. XIX в. охотно обращались к нормам адата, несмотря на то что на протяжении нескольких десятилетий до этого мусульманское духовенство и имам Шамиль в особенности прилагали огромные усилия, чтобы внедрить среди них шариат. Еще шейх Мансур в одной из своих прокламаций требовал от горцев отказаться от адата: «...тот, кто решает дела по адату, делается некоторым образом соучастником Бога, или как будто равняется ему в решении дел, тогда как никто не может сравняться с Богом...»1
Со своей стороны, российские власти ставили целью в максимально возможной степени ограничить сферу использования шариата: «Все прежнее управление, кроме учрежденного в 1852 г. суда для чеченского варода, было основано на уничтожении властей, созданных народной лизнью, и на владычестве шариата... Главная цель горского управления жшжна состоять в том, чтобы обессилить самое это начало, из которого сложился мюридизм... предоставив суду шариата только вопросы, исключительно духовные, ввести в народе словесное судопроизводство, опвованное на их обычаях, адате». В этих целях царскими властями припекались горские офицеры для письменного описания норм обычного арава и сбора конкретных положений адата по отдельным обществам. Так. в Чечне такой этнографический материал был собран знатоком чеченских адатов, переводчиком при наместнике Кавказа Барятинском капитаном К. Курумовым2.
Считалось также, что широкое применение адата облегчит в последующем переход к чисто российскому судопроизводству. Не случайно
К&чаров А. В. Адаты и судопроизводство по ним (Материалы для статистики Загестанской области) // Кавказские горцы: Сб. сведений. Т. 1. [2]. — М., 1992. — С 7.
См.: Гаджиев В. Г Адаты народов Северного Кавказа: опыт источниковедческого анализа // Известия АН Азербайджанской ССР. Сер. История, философия, право. — Боку, 1987. — № 12. — С. 71—74; Кокурхаев К.-С. А.-К. Общественно-политический сгрюй и право чеченцев и ингушей (Вторая половина XIX — начало XX вв.). — Грганый, 1989. — С. 46; Бобровников В. О. Мусульмане Северного Кавказа: обычай, spaso, насилие. — М., 2002. — С. 153—154.
— 287 —
Глава VI. Чечня и чеченцы в составе Российской империи в 60-х гг. XIX в. Движение Кунта-х*э
Капитан Касим Курумов — один из участников административно-судебной реформы в Чечне, переводчик князя Барятинского.
Худ. Г. Гагарин (14, вклейка)
наместник Кавказа А. М. Барятинский в своей прокламации к чеченскому народу, по случаю окончания Кавказской войны, отдельным пунктом гарантировал создание народных судов, решающих дела не только по шариату, но и по адату: «4) Правители, поставленные над вами, будут управлять вами по адату и шариату, а суд и расправа будут отправляться в народных судах, составленных из лучших люде** которые будут избираемы вами и назначаемы в должности с согласи.* ваших начальников» К
Результатом деятельности Чеченского народного суда стало создание письменных «Правил для управления покорными чеченцами», которьк со временем были сведены в единое уложение и переведены на арабски* язык. Первоначально «Правила...» содержали статьи, предусматривавшие наказание за неповиновение властям, укрывательство абреков, связь с «немирными» соотечественниками, условия «выхода с покорностью- с территории имамата. Но уже в 1854 г., по предложению старшин и почетных жителей мирных аулов, «Правила...» были дополнены статьями» 11 Прокламация чеченскому народу Главнокомандующего Кавказской армией. Наместника Кавказского, генерал-фельдмаршала князя А. И. Барятинского ' Родина. — 2000. — № 1—2. — С. 135.
— 288 —
Реформа судебной и правоохранительной системы
определявшими порядок наказания за совершение тяжких уголовных преступлений — убийств и нанесения ранений. Интересно, что, в соответствии с вновь предложенными правилами, убийца, например, освобождался от кровной мести в случае добровольной сдачи властям, а в случае прощения его родственниками убитого, убийца мог избежать преследования со стороны российских властей. Только скрывающемуся убийце разрешалось мстить по обычаям кровной мести, но и в этом случае преследование не могло касаться его родственников1.
Создание народных судов («махкаме») необходимо рассматривать как положительное явление, так как в течение довольно длительного времени существовавшие до этого (за исключением времени правления Шамиля) у чеченцев суды (в том числе и шариатские) имели один общий и существенный недостаток — не существовало аппарата, принуждавшего к выполнению судебного решения. Первый чеченский этнограф У. Лаудаев в 70-х гг. XIX в. писал по этому поводу, что представители влиятельных фамилий в старое время просто отказывались выполнять неугодное им судебное решение. Только с «.. .учреждением махкама (народный суд) производится более правильное, чем прежде, судопроизводство, и при бдительном надзоре русских начальников, оно может удовлетворять народным нуждам»2.
Новые судебные реформы. В 1862 г., в связи с утверждением «По- южения об управлении Терской областью», все горские народные суды ^несколько преобразованные в 1858 г.) были вновь реорганизованы. Создается областной Главный народный суд, рассматривающий дела по адату х шариату и «по особым правилам». В состав Главного народного суда входили 6 кадиев и 28 депутатов-судей, представлявших разные национальные округа Терской области. В частности, Чеченский, Аргунский и Ичкерийский округа представляли два кадия и восемь судей. Заседания суда происходили два раза в год во Владикавказе, крепости Грозной или Хасав-Юрте под председательством помощника начальника Терской области. Все члены суда назначались начальником области, который также отверждал его решения3. Собственно, Главный народный суд выступал з роли высшего апелляционного суда для горцев Терской области.
Судами низшей инстанции для горцев являлись окружные и участковые суды. Допускалось также существование аульных судов, которые действительно появились в большинстве значительных плоскостных чеченских селениях. Председателями окружных судов являлись
Мухухоева Э. Д. Организация управления Чечено-Ингушетии в 40—60 гг. XIX века Общественные отношения у чеченцев и ингушей в дореволюционном прошлом ХШ — начало XX в.). — Грозный, 1982. — С. 73—74.
- Zzycaee У. Чеченское племя // Чечня и чеченцы в материалах XIX в. — Элиста, :ч90. — С. 89.
Хасбулатов А. И. Установление российской администрации в Чечне (II пол. XIX — XX вв.). — С. 81.
Глава VI. Чечня и чеченцы в составе Российской империи в 60-х гг. XIX в. Движение Кунтв-»^л<
соответственно начальники округов или их помощники, а членами суда — кадий и депутат-судья, избираемые сроком на три года. Впрочем, окончательно на своей должности судьи утверждались начальником области.
Горские суды не имели следственного аппарата, а также обвинителей и адвокатов. Кроме того, круг рассматриваемых ими дел ограничивался преимущественно гражданскими делами. Что касается военно-уголовных преступлений, то они подлежали рассмотрению уголовным судом. В отдельных случаях горцев судил военный суд, рассматривавший деда по обвинению в измене, открытом «возмущении», неповиновении начальству, разбое, хищении казенного имущества, убийствах и нанесешя тяжелых увечий. Впрочем, четкого разграничения в компетенции этаж судов не было. Кроме того, горские суды не имели права рассматривать дела по преступлениям, совершенным за пределами данного округа, г также если один из фигурантов дела не принадлежал к горскому сословию. Последние дела передавались на рассмотрение судов, созданных для русского и казачьего населения Терской области.
Судебная реформа 1864 г. на Кавказе проводилась в жизнь с 6о&- шим опозданием и большими отступлениями, особенно в отношен» горского населения. Только через пять лет судебные уставы 1864 г. был* распространены на русское население Терской области, а в 1870 г. началось введение так называемого «гражданского» управления, единого ю*л горцев, казаков и городского населения. Однако в новом управлении были произведены такие «изъятия временного характера», которые, по существу, означали строгое сохранение старого «военно-народного» характера управления горцами.
Что касается собственно судебных учреждений, то для горцев был сохранены особые суды, получившие название «Горских словесных ст- дов». Окружные словесные суды создавались в каждом из горских округов (Главный народный суд для горцев был ликвидирован), в состааг председателя суда, кадия и депутатов-судей. Председатель суда назначав» администрацией области и, как правило, эту должность занимал начая- ник округа или его помощник. Кадий и судьи избирались населеш*еи но они не могли приступить к своим обязанностям без утверждения зз министрацией, что фактически означало назначение судей. Подчинялись горские словесные суды непосредственно начальнику Терской облает*, на имя которого отныне могли подавать апелляции лица, недовольные решением окружных словесных судов. Таким образом, созданная in горцев Терской области судебная система не только не выводилась из-noi контроля военных властей, но, наоборот, прямо им подчинялась.
По сравнению с мировыми судами, действовавшими в российских областях, горские словесные суды принимали к рассмотрению боact широкий круг дел, включая случаи неумышленного убийства или аг-
Реформа судебной и правоохранительной системы
несения ран и увечий, превышение пределов необходимой обороны, кражи со взломом и при оружии (если сумма похищенного не превышала 300 рублей), похищение женщин, а также случаи изнасилования, зела по прекращению кровомщения, и т. д.1
Судами первой инстанции для горцев становились аульные суды, избиравшиеся на сходе населения каждого села в отдельности. «Положение о сельских (аульных) обществах, их общественном управлении и повинности государственных и общественных в горском населении Терской области» (от 1870 г.) предусматривало окончательное решение сельскими судами всех тяжб «ценою до тридцати рублей включительно», а также незначительных проступков и преступлений, «...когда оные совершены в пределах самого сельского общества...». Приговор аульного суда в течение месяца мог быть обжалован в горском окружном суде2.
Позднее, в 1895 г., было утверждено новое «Положение о сельских (аульных) обществах...», которое официально узаконило давно известный у горцев институт третейского суда (маслаат. — Лет.). Власти, правда, требовали, чтобы обращающиеся в третейский суд стороны завали подписку «...в том, что они согласны подчиниться решению третейского суда». Любые жалобы на решение третейского суда не принимались к рассмотрению3.
Как и существовавшие ранее, новые горские суды, при рассмотрении дел руководствовались прежде всего нормами адата, а применение шариата ограничивалось бракоразводными делами, спорами о личных и имущественных правах. Кроме того, горские суды могли теперь руководствоваться действовавшими в России законами при определении меры наказания за те или иные преступления, если в силу каких-либо причин наказание, предусмотренное адатом или шариатом, не могло быть применено. Согласно правилам, принятым в 1870 г., решения горских словесных судов приводились в исполнение по распоряжению начальника области.
Русское казачье, городское и слободское население Терской области имело свои судебные учреждения, низшими инстанциями которых выступали станичный и слободской суды. Кроме того, был создан
Эсадзе С. Историческая записка об управлении Кавказом. Т. 2. — Тифлис, 1907. — С 89.
Положение о сельских (аульных) обществах, их общественном управлении и повинности государственных и общественных в горском населении Терской области (1870 г.) // Хасбулатов А. И. Установление Российской администрации в Чечне (II пол. XIX — нач. XX вв.). — М., 2001. — С. 211—212.
Положение о сельских (аульных) обществах, их общественном управлении и повинностях государственных и общественных в горском населении Терской и Кубанской областей (1895 г.) // Хасбулатов А. И. Установление российской администрации в Чечне (II пол. XIX — нач. XX вв.). — М., 2001. — С. 229.
— 291
Глава VI. Чечня и чеченцы в составе Российской империи в 60-х гг. XIX в. Движение Кунта-Хаджи
областной суд с прокурорской частью во Владикавказе, что имело большое значение для русских жителей Терской области, которые до этого вынуждены были обращаться в судебные палаты Ставропольской и Тифлисской губерний.
Новая судебная система действовала, однако, с большим напряжением, что обуславливалось особенностями Терской области, где для различных категорий жителей действовали различные административные органы власти. В результате уже на стадии судебного или полицейского следствия возникала необходимость бесконечных согласований между административно разобщенными местными органами власти, что до крайности затягивало любое судебное разбирательство. Так, к декабрю 1893 г. в Грозненском окружном словесном суде находилось 1676 нерешенных дел. Чтобы как-то ускорить работу судебной бюрократии, областные власти даже приняли решение дополнительно учредить в Грозном временное отделение Грозненского горского суда, причем расходы на содержание этого отделения намечалось оплачивать из штрафных сумм, собранных с населения Грозненского округа1. Современники совершенно справедливо отмечали, что судебная система, созданная для горцев Терской области, имела только одно достоинство — крайняя дешевизна по сравнению с судебными учреждениями Центральной России.
Местная милиция. Помимо судебных органов на территории Терской области, во второй половине XIX в. заново создавалась вся правоохранительная система. Как известно, долгое время местные военные власти исполняли и полицейские функции. С завершением Кавказской войны значительно изменились функции, возложенные на местную «туземную» милицию. Если раньше главная задача милицейских подразделений состояла в оказании поддержки регулярным войскам при проведении военных операций, то теперь на первый план вышли задачи, ранее считавшиеся второстепенными и связанные с охраной общественного порядка. Уже в конце 1860 г. было принято решение о формировании Терского конно-иррегулярного полка для выполнения охранных задач.
Впоследствии власти неоднократно реорганизовывали созданные ими «туземные» части, призванные контролировать «внутреннюю безопасность» в горских округах. Так, создавалась постоянная милиция (в разное время от 11 до 14 сотен), а также несколько сотен так называемой «временной» милиции. В состав постоянной милиции входила и охранная стража, которая учреждалась при начальнике Терской области, трех начальниках военных отделов, начальниках горски*; округов, а также начальниках участков, на которые делились округа В дополнение к постоянной милиции и охранной страже в населенных чеченцами округах создавалась еще и сельская полиция.
1 РГВИА. Ф. 1300. Оп. 4. Д. 1358. Л. 168.
Реформа судебной и правоохранительной системы
Всадники Терской постоянной милиции несли службу на многочисленных кордонах, а также охраняли пути сообщения. Командный состав милиции формировался из горцев, имевших офицерские звания, а служба в ней приравнивалась к службе в российской армии. Помимо жалования, милиционеры получали ряд льгот, в частности, они освобождались на время службы от личной натуральной повинности. Оружие и амуницию милиционеры приобретали за свой счет и имели право постоянного ношения оружия, в отличие от простых горцев, которые не могли вооруженными появляться за пределами своих селений.
Терская постоянная милиция подчинялась непосредственно начальнику Терской области, которому принадлежали в отношении горцев права областного полицейского начальника. Права и обязанности уездных полицейских управлений, соответственно, были переданы начальникам горских округов. На территории Терской области только городская полиция создавалась и функционировала на основании общих законов Российской империи, но такое положение существовало далеко не во всех городах области. Так, Кизлярская городская полиция считалась подведомственной управлению начальника Кизлярского отдела.
«Особые» условия и особые полномочия администрации. Преступность. Надо сказать, что если политическая обстановка в Терской области часто оказывалась напряженной, то в криминальном отношении первые десятилетия после завершении Кавказской войны она являлась наиболее благополучным регионом Кавказа. Так, если в 1871 г. здесь было совершено всего 31 убийство, то для сравнения — в соседней Дагестанской области отмечено 117 аналогичных преступле- э ий. Через четыре года, в 1875 г., количество убийств в Терской области сократилось до 27 случаев, а число разбоев и грабежей уменьшилось с 8 до 6 случаев1.
Не довольствуясь тем, что горские округа Терской области и так постоянно находились на фактическом военном положении, местные власти сбивались принятия нормативных актов, еще более увеличивавших полномочия администрации. Так, в 1881 г. было принято временное •Положение об усиленной и чрезвычайной охране», продлевавшееся каждые три года. Кроме того, действовало специальное Положение •О мерах удержания туземного населения Терской области от хищничества и в особенности от всяких насилий против лиц не туземного происхождения». В соответствии с этим Положением, горские селения весли коллективную ответственность за хищение скота и лошадей у русского населения, если следы угнанного скота оказывались потерянными вблизи данного селения. При этом совершенно игнорировалась возможность того, что похитители могли быть и не горцами.
Шрагимова 3. X. Чечня после Кавказской войны (1863—1875 гг.) (по арх. источникам). — М., 2000. — С. 200.
Глава VI. Чечня и чеченцы в составе Российской империи в 60-х гг. XIX в. Движение Кунта-Хадж*
Это правило открывало огромные возможности для преступников всех мастей. Особенно злоупотребляли «доведением следов» казачьи атаманы. Любая пропажа скота автоматически сваливалась на горцев. Такая практика стала на Тереке «притчей во языцех». Например, в мае 1892 г. жители селения Новые Алды задержали двух казаков станицы Алхан-Юртовской, направлявшихся через их земли с лошадьми, угнанными из Грозного1. Не вызывает сомнения, что казаки в данном случае специально гнали ворованных лошадей через земли чеченского селения, зная, что следствие, скорее всего, пойдет по наиболее легкому пути — не утруждая себя долгими поисками виновных, ограничится взысканием с Новых Алдов компенсации в пользу потерпевших.
Укреплению элементов чрезвычайщины в управлении Терской областью способствовало и принятие в 1893 г. закона «Об изъятии некоторых преступлений, совершенных в пределах Кавказского края, из общего порядка подсудности». По этому закону дела о разбоях, поджогах жилых помещений и некоторых других видах преступлений передавались на рассмотрение военных судов.
В довершение всего начальник Терской области имел право инициировать административную высылку «туземцев» за пределы области, чем довольно широко пользовался. Само решение об административной ссылке сроком до 5 лет принималось командующим Кавказской армией. Впрочем, в Терской области имелось достаточно изолированное самой природой место, которое областная администрация использовала для содержания преступников и других «возмутителей спокойствия». Речь идет о пустынном острове Чечень на Каспийском море, служившим местом ссылки. Кроме того, для содержания преступников в городах Терской области строились тюрьмы.
Многочисленные штрафы, которым подвергались горские селения за любые провинности, позволяли собирать значительные суммы, которыми власти Терской области распоряжались по своему усмотрению. Так, за счет штрафных сумм содержались ссыльные на острове Чечень, а также выплачивалось содержание сверхштатным сотрудникам местной администрации. В отдельных случаях из этих средств оплачивались расходы на содержание секретной агентуры. Например, в 1890 г. начальник Грозненского округа полковник Чекунов нанял «секретных охотников», благодаря которым удалось схватить абреков Р. Хасаханова и М. Садыкова, а также убить абрека Я. Мангаева. Расходы полковника Чекунова на эти цели, в размере 900 рублей, были компенсированы ему за счет штрафных сумм, собранных по Грозненскому округу2.
В отдельных случаях средства, собранные в виде штрафов с горцев, фактически шли на покрытие личных расходов представителей самой
1 РГВИА. Ф. 1300. Оп. 4. Д. 1358. Л. 81.
2 РГВИА. Ф. 1300. Оп. 4. Д. 1358. Л. 7,162,184.
— 294 —
Восстания в Ичкерийском и Аргунском округах Терской области
администрации. Так, в 1893 г. начальник Надтеречного участка поручик Томашевский растратил более 300 рублей, собранных с чеченских селений для удовлетворения исков за кражи скота «по доведенным следам». Образовавшуюся недостачу власти намеревались покрыть за счет все тех же штрафных сумм, собранных с селений Грозненского округа1.
Интересно отметить, что, согласно статистическим данным, в Терской области в середине 70-х гг. XIX в. было осуждено практически веинаковое число лиц христианского и мусульманского вероисповеданий, что говорит о том, что размеры преступности среди горцев не превышали аналогичных показателей среди русского населения. Особо следует сказать о преступности среди военнослужащих и казаков. Наиболее распространенными видами преступлений среди казаков были мошенничество, кражи и конокрадство, а среди военнослужащих — разбойные нападения, хищение имущества и служебные ареступления. Традиционно слабая дисциплина и неумное пьянство в. частях Кавказской армии и казачьих полков приводили к тому, что число преступлений, совершаемых солдатами и офицерами, быстро увеличивалось из года в год. Так, в 1863 г. за разбойные нападения были осуждены 194 военнослужащих, за хищение имущества — 266, за. сексуальные преступления — 55, за служебные преступления — 411. Через четыре года (в 1867 г.), число военнослужащих, осужденных аналогичные преступления, значительно возросло: за разбойные «падения — 218 человек, хищение имущества — 737, сексуальные вреступления — 219, служебные преступления — 12832.
§ 3. Восстания в Ичкерийском и Аргунском округах Терской области
Положение «замиренной Чечни». На завершающем этапе Кавказской войны отчетливо проявилось разочарование чеченского крес- мшства социальной политикой имама Шамиля, что, наряду с военным ■оражением и общей усталостью от войны, способствовало выходу Чечни из войны. Однако и новая российская власть с первых своих агтов стала вызывать не меньшее разочарование. Назначенный в 1860 г. зервым начальником Чеченского округа, опытный администратор полемик Белик позднее признавал, что в Чечне «господствует большей чвстию не закон, а произвол, часто основанный на недобросовестности начальника, и тем самым мы только поселяем в народе недоверие с себе, даже ненависть. Правительство не заботилось вводить между
?ГБИА. Ф. 1300. Оп. 4. Д. 1258. Л. 117.
Шелгимова 3. X. Чечня после Кавказской войны (1863—1875 гг.) (по арх. источни¬
ка — С. 298—299.
Глава VI. Чечня и чеченцы в составе Российской империи в 60-х гг. XIX в. Движение Кунта-Хадж*«
ними гражданственности и системы управления такого рода, которая бы не позволяла произвола начальникам»1.
Вместе с тем, уже первые два-три года российского правления создали в Чечне серьезную общественную прослойку из управленцев и состоятельных людей, связавших свою дальнейшую судьбу с Россией. В силу своего положения и личных взглядов они порывали отношения с шамилевскими ветеранами, мечтавшими о возрождении имамата, и экзальтированными религиозными фанатиками. Однако гнет и насилие царских властей вызывал протесты даже среди чеченской социальной верхушки, в том числе и офицерства, отдельные представители которой с оружием в руках вливались в ряды восставшей горской бедноты. При этом нельзя обвинять в национальном предательстве и тех чеченских офицеров, старшин, мулл и милиционеров, которые не только по долг)' службы, но и в силу политических убеждений воевали против повстанцев, в которых они видели неразумных фанатиков, выступавших за восстановление старых исторически изживших себя порядков.
Первые годы после завершения Кавказской войны российское правительство было озабочено тем, чтобы не только утвердить свою власть в Чечне, но и предотвратить возможные новые восстания чеченцев. С этой целью терская администрация широко прибегала к массовом)* переселению горцев (на ее взгляд, самому надежному и испытанному средству, широко применявшемуся еще в ходе военных действий). В качестве официального предлога для переселения горцев чаще всего использовался острый недостаток земли в горной части Чечни. Еще в своей известной прокламации А. И. Барятинский обещал наделить землей всех нуждающихся чеченцев2. Однако это вовсе не означало возвращения горских земель, отторгнутых под военные укрепления и казачьи станицы. Более того, после завершения войны было отобрано «в казну» еще немало чеченских земель.
Переселение чеченцев проводилось в двух формах: во-первых, в ходе укрупнения селений: за счет переселения жителей расположенных по близости хуторов; во-вторых, расселение безземельных из горных обществ по плоскостным чеченским селениям, имевшим более значительные земельные участки. Тем самым, достигалась главная цель терской администрации: переселенцы оказывались под более надежным полицейским контролем.
Уже упоминавшийся начальник штаба Кавказской армии генерал Карцев в своем секретном меморандуме от 1864 г. прямо указывал, что единственно верное средство обеспечить длительную покорность
1 РГВИА. Ф. ВУА. Д. 6696. Л. 400—400об.
2 Прокламация чеченскому народу Главнокомандующего Кавказской армией. Наместника Кавказского, генерал-фельдмаршала князя А. И. Барятинского ' Родина. —2000. — № 1—2. — С. 135—136.
— 296 —
Восстания в Ичкерийском и Аргунском округах Терской области
Чеченец. Рис. худ. Б. Амирханова (60, 66)
чеченцев — организовать их массовое переселение частью в Турцию, частью на равнину, подальше от гор. В частности, предлагалось изъять в северо-западной части Чечни, у местных владетелей Бековичей-Чер- касских, до 140 тысяч десятин земли (кстати, преданных царскими вдастями упомянутым владельцам в распоряжение еще в первой четверти XIX в.) специально для расселения горных чеченцев. Программа ■ереселения была рассчитана на 5—6 лет и предполагала немедленное обложение переселенцев государственными податями1.
Беноевское возмущение. В рамках политики «расселения» и «выселения» чеченцев первый начальник Терской области Н. И. Евдокимов ссенью 1859 г. и в начале 1860 г. принялся за жителей горного общества ьеной (Ичкерийский округ). На первом этапе часть жителей Беноя даже зе стали вывозить на плоскость, а расселили по окрестным аулам и хуторам. Совершенно очевидно, что в данном случае Н. И. Евдокимов руководствовался чисто политическими соображениями и стремился
Сигаури И. М. Очерки истории и государственного устройства чеченцев с древней¬
ших времен. Т. 1. — М., 1997. — С. 336.
Глава VI. Чечня и чеченцы в составе Российской империи в 60-х гг. XIX в. Движение Кунта-Хаджи
ослабить одно из самых многочисленных и «беспокойных» обществ горной Чечни.
Однако в начале мая 1860 г. десятки беноевских семей самовольно вернулись на прежнее место жительства. Руководителем «возмутившихся» беноевцев оказался их земляк-однотейповец — однорукий и одноногий Байсангур, один из самых прославленных воинов Шамиля. Его ближайшим помощником стал Солтамурад (Султан-Мурат), еще один видный участник Кавказской войны. Примерно в течение месяца восставшие не предпринимали активных наступательных действий: укрыв свои семьи в окрестных лесах, они не оставляли надежды решить конфликт мирными средствами. В конце мая 1860 г. полковник Белик доносит начальнику Терской области, что через посредников «беноевцы убедительно просили дозволения поселиться на старых своих местах, — в противном случае они все поклялись умереть, но не подчиниться»1.
Терская администрация не могла принять требование восставших по той причине, что, организовав переселение, она как раз стремилась упредить возможное выступление, и упорное сопротивление беноевцев только лишний раз убеждало Н. И. Евдокимова в необходимости их удаления с насиженных мест. К тому же, власти опасались создать опасный прецедент, уступив перед проявлением открытого неповиновения. В начале июня в Беной направлены регулярные войска, казаки ■ местная милиция, что не только не разрешило кризис, но, наоборот, еше более обострило его. Не приняв открытого боя с войсками, восставшие разбились на мелкие группы, которые начали систематически совершать нападения на отдельные воинские команды, посты и караулы.
Расширение восстания. Русские перебежчики. Особую тревогу властей вызвало то обстоятельство, что борьба беноевцев встретила открытое сочувствие у их соседей: вскоре к восстанию открыто примкнут™ жители общества Зандак и селения Аречешки. В обеих этих местностях Байсангур назначил предводителей из числа местных жителей: в Зандаке им стал Гази-хаджи (Геза-хаджи, Геза-шейх), в Ачерешках — Мама лат. Лазутчики сообщали также, что поддержать восстание готовятся м жители пограничного с Чечней дагестанского общества Гумбет.
Весьма показательно, что открытое сочувствие к восставшим проявили русские перебежчики, остававшиеся в чеченских горах после войны. После завершения Кавказской войны по настоянию наместника Кавказа А. И. Барятинского была объявлена амнистия всем беглым солдатам, жившим среди горцев. Часть из них была расселена в зате- речных станицах с зачислением в казачье сословие, другие же оставлены в горах. Распоряжением начальства, из русских поселенцев были образованы два поселения: Эзен-Ам возле озера Казеной-Ам и Келе-Кем
1 РГВИА. Ф. ВУА. Д. 6691. Л. 361.
Восстания в Ичкерийском и Аргунском округах Терской области
в Шаро-Аргунском ущелье. В первом поселении насчитывалось 58 семейств, во втором — 37 семейных и 8 одиноких бывших солдат.
Оставляя этих людей в горах, терские власти рассчитывали, что их удастся использовать «в интересах правительства», однако бывшие беглые солдаты «не только не предуведомили начальство о состоявшемся замысле на возмущение, но сами были в сношении с горцами, изъявляя готовность присоединиться к ним». Более того, беглые солдаты принимали непосредственное участие в одном из первых нападений на воинскую команду в ущелье реки Хулхулау.
Попытки властей быстро подавить восстание или хотя бы блокировать его очаг успеха не имели. Начальник Терской области Н. И. Евдокимов вынужден констатировать: «В настоящее время я остаюсь в положении наблюдательном... потому, что не против кого действовать, шайки собираются и исчезают»1.
Присоединение к восстанию Аргунского округа. Военные действия в июле-августе 1860 г. В мае волнения начались в другом горном чеченском округе — Аргунском. В начале июня здесь уже идет открытое вооруженное восстание под предводительством сразу двух бывших наибов Шамиля — Умы Дуева и Атаби Атаева. В свое время и У. Дуев, ■ А. Атаев были на хорошем счету у Шамиля. Известно, что первого он наградил обширными землями за счет общества Дзумсой, а второй был зе только наибом, но и короткое время исполнял обязанности мудира генерал-губернатора) Чечни. По всей видимости, прошлые заслуги и репутация ученого богослова-алима способствовали тому, что именно А. Атаев был избран восставшими имамом, несмотря на то что Бай- сангуру принадлежала главная роль в его организации2.
В июле 1860 г. ареал восстания расширился еще больше, охватив почти все селения Ичкерийского округа, за исключением аула Цента- рой. Значительное увеличение сил восставших привело к изменению кх тактики: Байсангур принял решение полностью очистить район восстания от российских сил. В ночь с 28 на 29 июля внезапной атаке эояверглось селение Дышни-Ведено. Заставив отступить расквартированный здесь отряд российских войск, восставшие быстро заняли хребет Тамар-Дук и прервали сообщение между крепостью Ведено и тхреплением Эрсеной. Следующей целью Байсангура стала крепость Везено, которую он попытался осадить.
В Чанты-Аргунском ущелье также произошла серия нападений на российские колонны. Так, 14 июля восставшие отбили обоз с провиан- imt. направлявшийся в укрепление Башин-Кале. Одновременно были
См.: РГВИА. Ф. 38. Оп. 7. Д. 374. Л. 43об.; Ф. ВУА. Д. 6696. Л. 364.; Д. 6681. Л. ЗОоб. Хсжаев Д. Чеченцы в русско-кавказской войне. — Грозный, 1998. — С. 211, 212.; Ибрагимова 3. X. Чечня после Кавказской войны (1863—1875 гг.) (по арх. источни- ьам). — С. 80.
Глава VI. Чечня и чеченцы в составе Российской империи в 60-х гг. XIX в. Движение Кунта-Хас**
блокированы укрепления Башин-Кале и Евдокимовское (Итум-Кале). Лазутчики доносили, что жители Шатоевского участка (наибства) готовятся совершить нападение на крепость Шатой, куда спешно подтягивались подкрепления. И хотя хорошо вооруженным гарнизонам удалось отстоять свои укрепления в Аргунском ущелье, сообщение между ними было крайне затруднено.
Появление крупных отрядов восставших сразу же активизировало действия российских войск. До 6 батальонов пехоты, 2 сотни казаков и отряд местных милиционеров при поддержке артиллерии атаковали в Аргунском ущелье и рассеяли отряды восставших возле укреплений Евдокимовское и Башин-Кале. До 40 горцев были убиты и более ста ранены1.
На территории Ичкерийского округа войска с помощью артиллерии легко отбили атаку повстанцев на Ведено и, в свою очередь, напали на чеченцев, закрепившихся на хребте Гамар-Дук. Связь между Ведено и укреплением Эрсеной удалось восстановить, но селение Дышни-Ведено оставалось в руках восставших. Более того, Байсангур изменил направление главного удара. Вступив в селение Центарой, он дальнейшие усилия направил на овладением селениями, расположенными у выхода из гор, явна намереваясь распространить восстание на равнинную часть Чечни. Параллельно аргунские повстанцы А. Атаева совершили ряд нападений на равнине, прилегающей к выходу из Аргунского ущелья. Пытаясь предотвратить дальнейшее распространение восстания вширк власти подвергли демонстративному наказанию «возмутившихся» жителей горного Аккинского общества, которые в течение июля был* расселены в Галашевском и других соседних обществах. При этом земжж Аккинского общества были объявлены «казенными».
Несмотря на высокую активность чеченских отрядов, прекрасно знавших местность и умело использовавших тактику внезапных нападений, явный перевес был на стороне регулярных войск: более многочисленных, лучше организованных и оснащенных артиллерией. Тольи» в Ичкерию на подавление восстания было направлено 10 батальона» пехоты, 6 казачьих сотен при поддержке 4-х горных и 4-х легких орудий Кроме того, были задействованы и гарнизоны довольно многочисленных укреплений, а также местная милиция.
В начале августа 1860 г. российские войска перешли к решительным действиям в Ичкерийском округе, начав одновременное наступление с разных сторон общим направлением на селение Беной. Отряд полковника Черткова наступал со стороны Эрсеноевского укрепления нз селения Белгатой, Тазен-Кала и далее к Беною. Еще более крупный отряз полковника Клингера продвигался со стороны Хасав-Юрта вверх по реке Аксай, последовательно захватывая расположенные здесь селения.
1 РГВИА. Ф. ВУА. Д. 6681. Л. 8.
Восстания в Ичкерийском и Аргунском округах Терской области
Овладев Саясаном, этот отряд также вышел к окрестностям Беноя. Еще оаин удар наносился из крепости Ведено.
Чтобы остановить продвижение войск, Байсангур вновь прибегнул к испытанной тактике партизанских действий. Командование российских отрядов постоянно сообщает о мелких стычках, внезапных налетах и засадах, существенно замедлявших темп наступления. Почти два месяца войска продолжали двигаться вперед, постепенно приближаясь х Веною. Со своей стороны, Байсангур также стягивал сюда все свои силы, очевидно намереваясь дать решительный бой противнику, которого, по его расчетам, должны были изрядно вымотать непрерывные стычки во время длительного наступления. Расчеты эти не оправдались и в тактическом плане командованию российских войск удалось перехитрить своего противника.
Ход восстания в Ичкерийском и Аргунском округах в конце 1860 г.
На рассвете 28 сентября 1860 г. крупные соединения русских войск, совершив на последнем этапе своего движения быстрый и скрытный переход, вышли к самому Беною. Только когда солдаты были на расстоянии версты от селения, восставшие обнаружили их присутствие. Застигнутые врасплох чеченцы не смогли отразить решительный штурм, i отчаянное сопротивление, оказанное ими в отдельных пунктах обороны, было быстро подавлено огнем артиллерии и массированными ггтыковыми атаками.
К разочарованию Терской администрации, тяжелое поражение под Беноем не привело к прекращению сопротивления местных жителей. Главные руководители восстания во главе с Байсангуром, опираясь на эоддержку населения, сумели вновь развернуть широкое партизанское движение в Ичкерийском округе. Повторилась ситуация весны 1860 г., и российские войска вновь оказались вынужденными отбивать внезапные паки небольших повстанческих отрядов, легко уходивших от преследования, буквально «растворяясь» в окрестных лесах и селениях.
Напряженной оставалась ситуация и в Аргунском округе, где Ума З^ев вновь собрал вокруг себя значительное число восставших (включая даже некоторое число дагестанцев) и атаковал крепость Шатой. 23 октября 1860 г. начальник округа полковник Туманов с отрядом войск ж местной дружиной из числа жителей Шатойского участка, оставшихся было верными правительству, направился против Дзумсоевского общества, откуда происходил Ума Дуев. Пока чеченские дружинники под забяюдением специально для этого выделенного батальона, блокировали выход из Дзумсойской котловины, войска занимали расположенные здесь аулы. Восставшие отступили в окрестные леса, а организовать их преследование полковнику Туманову не удалось: 24 октября по неизвестным причинам началась ожесточенная перестрелка между взятыми з поход дружинниками и приставленными к ним войсками. Угроза
Глава VI. Чечня и чеченцы в составе Российской империи в 60-х гг. XIX в. Движение Кунта-Хаджи
окружения заставила российские войска с большой поспешностью отступить к Шатою, а вынудившие их к этому чеченские дружинники частично примкнули к восстанию, а частью разошлись.
Неудачный поход Туманова почти полностью парализовал деятельность сельских старшин и других должностных лиц, назначенных администрацией Аргунского округа. Прошло около месяца, прежде чем в Аргунское ущелье были вновь направлены войска. Как и до этого в Ичкерии, наступление велось одновременно с трех сторон: со стороны Ингушетии наступал отряд генерала Баженова, со стороны Урус-Мартана по направлению к аулу Харсеной — отряд генерал-майора Муссы Кунду- хова, который вскоре займет должность начальника Чеченского округа. В этом отряде состояло до 500 чеченских милиционеров. Со стороны Шатоя к Харсеною направился третий отряд — полковника Туманова. В результате наступления все крупные отряды восставших были рассеяны, а для преследования мелких направлены так называемые «летучие* отряды, отличавшиеся большой подвижностью. При этом главные руководители восстания — У. Дуев и А. Атаев сумели скрыться.
В декабре 1860 г. власти приступили к репрессиям непосредственно против всего чеченского населения, систематически разоряя горные селения и хутора, подозреваемые в причастности к восстанию. Особенно пострадало население Ичкерии, куда в январе 1861 г. были направлены под командованием М. Кундухова еще 10 пехотных батальонов, 4 сотни казаков и 7 сотен чеченской милиции. Во главе чеченской милиции стоял авторитетный чеченский офицер — полковник Орцу Чермоев. И здесь для преследования восставших широко применялись «летучие» отряды, а основная масса войск была задействована в «прочесывании» местности. В общей сложности разрушенными оказались 15 селений и множество горных хуторов, а более 1200 жителей Беноя, Энгеноя, Даттыха, Ген дар- гена и других селений Ичкерии насильственно переселены1.
Казнь Байсангура. Сам Байсангур какое-то время скрывался в лесах Гумбетовского общества (Дагестан) и только в феврале 1861 г. вернулся на территорию Чечни. К этому времени сопротивление в Ичкерия было в основном сломлено. Байсангур и несколько его сподвижников 17 февраля были окружены и захвачены в плен возле горы Баяндук. Второй руководитель восстания — Солтамурад, семья которого такжг попала в плен, сумел укрыться в Аргунском ущелье. Доставленный в Хасав-Юрт, Байсангур в марте предстал перед военно-полевым судом и был приговорен к смертной казни. Поскольку руководитель восставших отказался подать прошение о помиловании, приговор был сразу же приведен в исполнение. По сегодняшний день не забыта народом
1 Очерки истории Чечено-Ингушской АССР. Т. 1. — Грозный, 1967. — С. 126 Гриценко Н. П. Экономическое развитие Чечено-Ингушетии в пореформенный период (1861—1900 гг.). — Грозный, 1963. — С. 179,- и др.
— 302 —
Восстания в Ичкерийском и Аргунском округах Терской области
сцена повешения однорукого и одноногого героя. Помнят каждый жест и каждое слово грозного наиба, человека, считавшегося эталоном мужества и храбрости на всем Кавказе.
Подавление восстания. Несмотря на оккупацию войсками восточной части горной Чечни, партизанская война продолжалась до конца 1861 г. Более того, волнения начались и в соседнем Дагестане, где во главе восставших встал житель Андийского округа Каракул-Магома. Не на шутку встревоженный, командующий Кавказской армией князь Орбелиани заявил: «Соединение Каракул-Магомы, Умы и Атаби может развить пламя восстания на всем пространстве гор от Койсу до Гехи» \ В августе 1861 г. к перевалам Андийского хребета, отделяющего Чечню от Дагестана, было направлено значительное количество войск, горской милиции и ополчения, что позволило изолировать два очага восстания друг от друга.
Тем не менее, волнения в Аргунском округе продолжались, а в октябре 1861 г. вновь восстали выселенные жители Аккинского общества, которых сразу же поддержали карабулаки и значительная часть других горцев Малой Чечни. В ответ власти буквально наводнили южную и »падную части горной Чечни войсками, стянутыми не только из Терской области, но и из Дагестана и Грузии. Интересно отметить, как росла численность горской милиции и ополчения, использовавшихся для борьбы с повстанцами: так, в дополнение к имеющимся были спешно сформированы 10 сотен Дагестанского и Терского конно-иррегулярных эолков и 9 сотен горской милиции.
В качестве наиболее эффективного средства для борьбы с повстанцами и в Аргунском ущелье широко использовалась тактика уничижения селений и хуторов, истребление запасов продовольствия и фуража, а также практика переселения горцев. В частности, генерал М. Кундухов одномоментно переселил из Аргунского округа на плоскость 177 чеченских семей.
Непрерывное преследование, организованное за главными руководителями восстания, вскоре начало давать результаты. 14 ноября 1861 г. А. Атаев, чьи сподвижники были уничтожены до последнего человека, добровольно сдался командиру Чеченского конно-иррегулярного ди- шзиона Вагапу Адуеву. Ровно через месяц, 14 декабря, к начальнику Терской области генералу Д. И. Святополк-Мирскому добровольно вывел и У. Дуев. Оба руководителя чеченских повстанцев были сосланы в центральную Россию: А. Атаев в Смоленск, а У. Дуев первоначально в Псковскую губернию, а затем в Рязанскую. Еще один руководитель восстания — Солтамурад, после пребывания в плену, бежал и стал абреком2.
РГВИА. Ф. ВУА. Д. 6685. Л. 13об.
См.: Акты Кавказской Археографической комиссии. Т. 12. Ч. 2. — Тифлис, 1904. — С. 1220; Очерки истории Чечено-Ингушской АССР. Т. 1. — С. 127.
— 303 —
Глава VI. Чечня и чеченцы в составе Российской империи в 60-х гг. XIX в. Движение Кунта-Хадж**
Причины поражения. Восстание 1860—1861 гг. стало первым крупным вооруженным выступлением в Чечне после завершения Кавказской войны, и, в известном смысле его можно рассматривать не только как выражение социально-политического протеста горского крестьянства, но и как отзвук Кавказской войны, рецидив прошлого. Само восстание было, конечно, вызвано антинародной политикой имперской власти, жестоким колониальным ограблением и унижением национального достоинства.
Главной движущей силой восстания стали чеченские крестьяне-труженики. Их хозяйства и так пострадали в ходе длительной Кавказской войны, а планируемые терской администрацией широкие переселения грозили вконец подорвать его. Кроме того, серьезным поводом для недовольства стал произвол новых военных властей. Именно на это указывал в одном из своих воззваний А. Атаев, объяснявший противоправные действия властей их враждой к чеченцам-мусульманам: «Ненависть их к вам видна и не может быть скрыта в сердцах их»1.
Однако во главе восстания оказались бывшие сподвижники имама Шамиля, которых подозревали в стремлении вернуть свое былое привилегированное положение, когда, формально подчиняясь имаму, его наибы на деле выступали в качестве полновластных управителей целых районов. Почти ничего не известно о выдвигаемых руководителями восстания социальных и политических требованиях. Именно отсутствие какой-либо позитивной социальной программы явилось одним ю факторов существенно ограничившим масштабы восстания.
Равнинная Чечня не поддержала восстание: ее жителям не грозило переселение, и плоскостные аулы еще не так сильно страдали от малоземелья. Кроме того, извлекавшие немалую выгоду от устойчивых торгово-экономических связей с русским населением жители равнины в подавляющем большинстве своем не хотели возвращения порядков шамилевского имамата, а руководители восстания, по существу, ничего иного и не могли предложить. Именно то обстоятельство, что плоскостные селения не поддержали восстание, а в операциях российских войск приняли участие сотни чеченских милиционеров, новый начальник Терской области Д. И. Святополк-Мирский считал главным успехом областной администрации, подчеркивая, что это обстоятельство «...более способствовало нашим успехам, чем сияг нашего оружия»2.
1 Смирнов Н. А. Политика России на Кавказе в XVI — XIX веках. — М., 1958. — С. 222.
2 Цит. по кн.: ХожаевД. Чеченцы в русско-кавказской войне. — С. 303.
— 304 —
Суфийские ордена в Чечне. Движение шейха Кунта-Хаджи
§ 4. Суфийские ордена в Чечне.
Движение шейха Кунта-Хаджи
Причины усиления суфизма в Чечне. Усталость от многолетней войны, огромные демографические потери (численность населения в течение Кавказской войны сократилась в два раза), разочарование, порожденное в чеченском обществе государственной практикой имамата, породили в 60-х гг. XIX в. в Чечне настроения социального отчаяния. Шариат, представлявшийся вершиной социальной справедливости, на деле обернулся тиранией и произволом верхушки горского государства. Последствия кровопролитной и разрушительной войны усугублялись тяжелым экономическим положением, в котором оказалось большинство чеченских крестьян. Именно духовный и экономический кризис, порожденный крахом имамата, открыл дорогу широкому распространению в Чечне сравнительно нового для нее в суфийском течении 5!слама кадырийского тариката. Проповедником нового учения стал шейх Кунта-Хаджи Кишиев, чья миссионерская деятельность началась в последние годы правления имама Шамиля.
При этом нет никаких оснований говорить о каком-либо кризисе религии в пользу светских учений и ослаблении роли ислама в чеченском обществе. Скорее, наоборот. Влияние ислама в повседневной жизни продолжает усиливаться, а религиозность большинства чеченцев углубляется, что было связано с деятельностью суфийских шейхов, представлявших как накшбандийский, так и кадырийский тарикаты.
Процесс формирования религиозных суфийских братств-орденов Ӏвирдов), состоящих из мюридов-учеников, группирующихся вокруг шейха-устаза (муршид), происходил в Чечне никак не позднее первой трети XIX в. Истоки же этого общественно-религиозного явления четко прослеживаются и в гораздо более раннее время — вплоть до XVII в. Вообще, суфийские проповедники сыграли исключительно важную роль з распространении ислама в Чечне, а в деятельности шейха Мансура 180—90-е гг. XVIII в.) весьма заметны элементы религиозной практики, ставшей характерной для чеченских шейхов XIX в. Неизвестно, имел ни сам шейх Мансур духовного наставника-устаза, но имеются свидетельства того, что он прошел обряды, обязательные для суфийского шейха. Правда, последователи Мансура так и не образовали отдельного религиозного братства, скорее всего, по двум причинам: во-первых, Мансур претендовал на то, чтобы быть не шейхом замкнутого братства, а имамом всех мусульман Северного Кавказа; во-вторых, его активная деятельность в Чечне продолжалась всего около двух лет, после чего Мансур удалился к черкесам Северо-Западного Кавказа.
«Саясановские» вирды. Процесс образования вирдовых братств в первой половине XIX в. в равной степени затронул оба существовавшие
— 305 —
Глава VI. Чечня и чеченцы в составе Российской империи в 60-х гг. XIX в. Движение Kyma-Xai-
на территории Чечни ветви тариката — накшбандийский и кадырий- ский. Причем общая доля «кадырийцев» быстро возрастала. Из ньгае существующих в Чечне религиозных братств самым старым считаете* вирд Ташу-Хаджи (умер в 1842 г.), от которого постепенно отделилось несколько так называемых «саясановских» вирдов. Их общее и условное название происходит от одного из прозвищ Ташу-Хаджи — «шейх из Саясана», где он долгое время жил и был похоронен.
К «саясановским» относятся вирды Янгульба-хаджи, Албаст-хаджи. Косум-хаджи. Число вирдов, образованных последователями Ташу-Хаджи, было гораздо больше, но целый ряд братств (Дуду, Ахмада, Абдул Вадуда, Алехан-хаджи и др.) довольно быстро распались1.
«Аксайские» шейхи. Особое место среди последователей накш- бандийского тариката в Чечне занимали и занимают до сих пор та* называемые «аксайские» (кумыкские) шейхи. Основателем первого «аксайского» вирда является Абу-Шейх (в быту известный под именем Башир-хаджи). Выходец из чеченского тайпа дышни, он жил в Ак- сае, куда его предки переселились из Шали. Абу-Шейх был ученикам другого аксайского шейха Умалата, который в свою очередь получил право набрать собственных мюридов от своего устаза — известного дагестанского проповедника Мухаммеда Ярагского. По мнению некоторых чеченских исследователей, Абу-Шейх не только участвовал в Кавказской войне, но и был одним из наибов Шамиля.
Абу-Шейх позволил создать собственные мюридские общины двум своим ученикам из числа чеченцев: Усману-хаджи (Упа-хаджи, Успа-хад- жи) Хантиеву из Старого Юрта и Элах-мулле из Чанти-Юрта (современное село Терское). Оба новых устаза имели много последователей, некоторые из которых сами встали во главе новых вирдов: Кана-шейх Хантиев, Дени Арсанов, Абдул-Азиз Шаптукаев (Докку-шейх) и др.
К типу «аксайских» относятся и некоторые другие, более поздние религиозные братства в разных областях Чечни, например, вирд Солса- хаджи Яндарова из Урус-Мартана, Сугаип-муллы Гайсумова из Шалы. Ибрагим-хаджи из селения Гойты.
В накшбандийском тарикате существуют и другие вирды, не связанные ни с «саясановскими», ни с «аксайскими». Это братства Овта-хаджи и его сына Шамсуддин-хаджи из Шали (принадлежали напрямую к мекканское суфийской школе), Ахматук-хаджи из селения Шаами-Юрт, Юсуп-хаджм из селения Кошкельды и некоторые другие, а также вирды, основанные дагестанскими муллами — Сулейман-хаджи, Магомед-Эмин, Узун-Хаджи.
Во второй половине XIX в. число вирдовых братств быстро растет по всей Чечне — в одном только Притеречье известность приобрел*
Гадаев В. Ю. Мюридские общины на территории ЧИАССР // Религиозные секты на территории ЧИАССР и актуальные проблемы атеистического воспитания. — Грозный, 1987. — С. 10.
Суфийские ордена в Чечне. Движение шейха Кунта-Хаджи
16 устазов1. Внутри каждого вирда возникают мюридские общины — сельские или квартальные, во главе которых стоят так называемые ♦туркхи». В целом все мюриды одного братства почитали единого устаза, который руководил своими последователями не только в религиозных, но и в светских делах.
Феномен шейха Кунта-Хаджи. Старшим среди шейхов кадырий- ского тариката в Чечне считается Кунта-Хаджи Кишиев, который имел несколько особо приближенных последователей (векилей) — Баммат- Г мрей-хаджи Митаева из селения Автуры, Батал-хаджи Белхороева из селения Сурхахи, Чинмирзу из селения Майртуп. Последние довольно быстро создали собственные вирды, после чего процесс распада единого братства кунта-хаджинцев ускорился, и от него обособилось с течением времени еще несколько вирдов: Мани-шейха, Юсуп-хаджи мз селения Махкеты и др. Некоторые из подобных братств, например, здрды Гайрбек-хаджи, Дурди-шейха, Кахарма-хаджи, — прекратили свое существование со смертью основателей.
Некоторые чеченские исследователи советского периода напрямую <м не без основания) связывали быстрое распространение в Чечне ка- хырийского тариката с крахом имамата и глубоким кризисом его государственной идеологии — учения о «воинском» газавате: «Преодоление газаватского мюридизма происходило в двух формах: первая — появление новой формы мюридизма, в которой наблюдается мистическое эреодоление идей газавата, а вместе с ними накшбендизма (одно из главных направлений суфизма в исламе. — Авт.) ...и вторая — деформация самого накшбендизма, выразившаяся прежде всего в отказе от спкрытого газавата»2.
Вместе с тем формирование и длительное существование в Чечне такого феномена, как шейх Кунта-Хаджи, невозможно объяснить исключительно духовным кризисом, вызванным тяжелым поражением з Кавказской войне, а тем более якобы сохранявшимися в чеченском обществе «родо-племенными пережитками». Такое объяснение совершенно не учитывает социальную функцию мюридских братств, которые заступали в качестве вполне автономных общественных организмов, мало связанных с реально существующими государственными инсти- ггтами. Таким образом, и в имамате Шамиля, представлявшем собой лхударственное образование авторитарного типа, и в Терской области, гнравляемой военно-авторитарными методами, вирдовые братства явля- тжсь реально существующей альтернативой государственному аппарату. Причем альтернативой вполне исламской по своему духу и форме, так
1/хаев А. Плеяда шейхов из Надтеречья. — Леха-Невре, 1997. — С. 5—34.
ситаев С. Б. Идеология накшбендийского мюридизма в современной Чечено- Ингушетии // Религиозные секты на территории ЧИАССР и актуальные проблемы «геястического воспитания. — Грозный, 1987. — С. 40—41.
— 307 —
Глава VI. Чечня и чеченцы в составе Российской империи в 60-х гг. XIX в. Движение Кунта-Хадж»'
как стоявший во главе каждого братства устаз выступал по отношению к своим мюридам в роли имама, соединяющего как религиозную, так и светскую и судебные власти.
Именно это обстоятельство заставило имама Шамиля решительно запретить проповедническую деятельность того же Кунта-Хаджи, что не укрылось от российских исследователей: «...он боялся того влияния, которое проповедники, подобные Кунта-Хаджи, всегда имеют на народ. Влияние — это нравственная сила, власть, а власти, кроме своей собственной, Шамиль не терпел никакой»1. По этой же самой причине администрация Терской области следила с величайшим подозрением и беспокойством за ростом влияния Кунта-Хаджи и прибегла к самым решительным мерам для пресечения его деятельности.
Феномен шейхизма в Чечне чрезвычайно интересен еще и в том плане, что он представлял собой инструмент формирования новой чеченской элиты. Уже в последние годы правления имама Шамиля как российские наблюдатели, так и биографы из окружения имама указывают на оторванность правящей верхушки имамата от основной массы горского населения. Правящая элита имамата включала сравнительно узкий круг родственников самого Шамиля и его наибов, а пополнялся класс правителей горского государства лишь теми, кто сумел непосредственно доказать свою полезность имаму.
Столь же изолирована была и та часть общественной и социальной элиты Чечни, что ориентировалась на Россию. После уничтожения имамата значительная часть шамилевских наибов оказывается на русской службе, но это не сделало чеченскую верхушку более популярной в народе. Глубокий разрыв между чеченским крестьянством, основным социальным классом Чечни, и социальной верхушкой, оказавшейся теперь составной частью российской администрации — остался ве преодоленным. Русская власть не воспринимается как «своя» власть, и в результате стихийно развивается процесс формирования «своей» правящей верхушки. При этом претенденты на место в новой национальной элите не обладали серьезной экономической базой, подкрепляющей их претензии: земля и другие богатства оставались сосредоточенными в руках тех, кто находится на русской службе или так или иначе был близок к российской администрации. Поэтому наличие именно большого количества преданных мюридов открывало для шейхов доступ к влиянию на политическую жизнь чеченского общества, а также способствовало накоплению материальных богатств.
Зарождение ордена. Кунта-Хаджи Кишиев родился приблизительно в 1830 г., на одном из хуторов селения Исти-Су (Мелчи-Хи). Через несколько лет семья Кишиевых переселилась в Иласхан-Юрт.
1 Ипполитов А. Учение «Зикр» и его последователи в Чечне и Аргунском округе Кавказские горцы: Сб. сведений. Т. 2. [2]. — М., 1992. — С. 3.
— 308 —
Суфийские ордена в Чечне. Движение шейха Кунта-Хаджи
что впоследствии отразилось в одном из табуированных имен Кунта- Хаджи — «шейх из Иласхан-Юрта». «Андийским выходцем» назван Кунта-Хаджи в рапорте наместника Кавказа М. Романова. Впрочем, последнее легко объяснимо. Шейх происходил из чеченского тейпа «гухой», имевшего «параллельную» фамилию в Анд и (Дагестан), что часто бывает в пограничной зоне сосуществования этносов. К тому же, российские власти считали, что кадырийский тарикат проник в Чечню из Дагестана, где еще в 1861 г. местной администрации пришлось применить репрессивные меры и выслать «...главнейших распространителей этого учения... Но оно успело скрытно проникнуть в другие части края. ..ас 1862 г. перешло в Терскую область» К
Сохранившиеся источники в известной мере противоречат друг другу в вопросе о том, получил ли Кунта-Хаджи религиозное образование. Сам Кунта-Хаджи говорил, что не имел устаза, а свои знания получил путем божественного откровения. Своим заявлением Кунта-Хаджи стремился подчеркнуть особый характер своей миссии по распространению нового тариката, почти неизвестного в Чечне. Не вызывает сомнения, что Кунта-Хаджи получил хотя бы начальное религиозное образование и умел читать и писать. По крайней мере, русские источники сообщают о его письмах на родину, которые он писал во время паломничества в Мекку.
Гора Эртана в Веденском районе Чечни, где шейх Кунта-Хаджи впервые •сэолнил суфийский обряд зикр. Ныне кладбище мюридов ордена Кунта-Хаджи. Совр. фото (69, вклейка)
РГВИА. Ф. 38. Оп. 7. Д. 429. Л. 53—53об.
Глава VI. Чечня и чеченцы в составе Российской империи в 60-х гг. XIX в. Движение Кунта-Хадж**
Объективных доказательств того, что Кунта-Хаджи был как-то связан с дагестанскими проповедниками кадырийского тариката, до сих пор не обнаружено и чеченские исследователи склонны считать, что Кунта-Хаджи познакомился с кадырийским тарикатом во время паломничества в Мекку (предположительно 1859—1861 гг.)1. Есть устные предания последователей Кунта-Хаджи, что новое учение было открыто устазу в результате божественного откровения и что зикр исполнялся им еще в 50-х гг. XIX в., до своей высылки Шамилем.
Возможно, что с кадырийским тарикатом Кунта-Хаджи познакомился еще во время первого паломничества в Мекку, которое он совершив совместно со своим отцом приблизительно в 1849 г. Точная дата начала его проповеднической деятельности не известна, хотя можно предположить, что произошло это в середине 50-х гг. XIX в. Успеху проповедей Кунта-Хаджи способствовали, по крайней мере, три обстоятельства. Во-первых, он обостренно призывал к социальной справедливости, во- вторых, к прекращению кровопролитной войны, а в-третьих, предрекал падение имамата. Кроме того, Кунта-Хаджи был известен «честным образом жизни, строгой нравственностью и трудолюбием», что в немалой степени располагало к нему слушателей2.
Имам Шамиль поспешил запретить Кунта-Хаджи публично высказывать свои взгляды и вербовать последователей, так как пацифизм кадырийского устаза прямо противоречил принятой в имамате доктрине «священной войны с неверными», а организационное оформление новой религиозной общины создавало параллельное управление. Есть свидетельства, что Шамиль не ограничился простым запретом публичных проповедей, но и сослал Кунта-Хаджи на один из хуторов близ горного селения Гу ни3.
В 1859 г., когда Кунта-Хаджи направился в Мекку, уже исполнялось его пророчество: единое государство Чечни и Дагестана доживало последние дни. По всей видимости, это могло только укрепить его веру в свое предназначение. Уже во время долгого путешествия по святым местам Кунта-Хаджи часто пишет на родину, призывая родных и близких очистить свои души и укреплять веру. Одновременно в его письмах содержится требование совершать «громкий» зикр, почти неизвестный до этого в Чечне.
Возвращение Кунта-Хаджи на родину произошло, скорее всего, в 1861 г. Во всяком случае, уже в начале 1862 г. второй по счету начальник Терской области Д. И. Святополк-Мирской (управлял областью с конга сентября 1861 г. по март 1863 г.) учредил над Кунта-Хаджи и его семьей постоянный полицейский надзор. Кроме того, были предприняты мер*
1 Мустафинов М. М. Зикризм и его социальная сущность. — Грозный, 1975. — С. 18—19
2 Ипполитов А. Указ. соч. — С. 2.
3 Духаев А. Указ. соч. — С. 4.
Суфийские ордена в Чечне. Движение шейха Кунта-Хаджи
Возможное изображение шейха Кунта-Хаджи (15, 133)
к тому, чтобы склонить наиболее видных представителей чеченского мусульманского духовенства открыто выступить против Кунта-Хаджи и проповедуемого им учения.
Распространение кадырийского тариката. Действия, предпринятые Д. И. Святополком-Мирским, не остановили быстрое распространение кадырийского тариката в Чечне. Зимой 1862—1863 гг., по подсчетам властей, число последователей Кунта-Хаджи приблизилось к трем тысячам. Меньше чем через год в 20 чеченских селениях имелось
5.5 тысяч мюридов Кунта-Хаджи, причем наиболее крупные общины зюзникли в важнейших селениях плоскостной Чечни — Шали, Гехи, Урус-Мартан, Валерик, Шалажи, Новые Атаги, Автуры1. Огромный успех получило учение Кунта-Хаджи и в плоскостной Ингушетии. Надо отметить, что деятельность молодого шейха здесь имела огромные последствия для дальнейшего духовного сближения и политического единства двух нахских народов. Но что по-настоящему тревожило эового начальника Терской области М. Т. Лорис-Меликова, так это создание зикристами параллельных структур власти в Чечне: ими было образовано восемь наибств во главе с наибами, а во многих селениях, помимо старшин, назначенных Терской администрацией, «явились старшины (туркхи), действовавшие от имени Кунта-Хаджи. По существу, возник военно-религиозный духовный орден, напоминающий орден сенуситов в Северной Африке.
Ах лее В. X. Шейх Кунта-Хаджи. — Грозный, 1994. — С. 40—41.
— 311 —
Главаv\. Чечня и чеченцы в составе Российской империи в 60-х гг.Х\Х в. Движение Кунта-Хаджи
Российские власти уже не сомневались, что в Чечне, да и в Ингушетии, началась активная подготовка к новому восстанию: «В скором времени Чечня, Назрань и большая часть нагорных обществ чеченского племени были покрыты этим тайным учением, как крепкою сетью. Все кому не нравился существующий порядок вещей, все, которые жалели о старом добром времени, о времени шариата, все эти назвали себя учениками и последователями Кунта-Хаджи и поборниками мусульманской веры... Начались открытые сборы народа в домах векилей и на улицах, сопровождавшиеся песнями, криком и исступленною пляскою, с обнаженным оружием в руках. Тайные убийства наших солдат и казаков учащались с каждым днем более и более»1.
Ответ царских властей на действия кадырийцев. Получая большое количество сведений о действиях Кунта-Хаджи и его окружения, в администрации Терской области неплохо представляли структуру организации, возникшей вокруг Кунта-Хаджи. Были также составлены подробные списки лиц, пользовавшихся его доверием, в первую очередь будущих шейхов Баматгирея Митаева, Чинмирзы Таумурзаева и Батал-хаджи Белхороева (Ингушетия). Роль самого Кунта-Хаджи в подготовке восстания остается неясной. Российские источники, в том числе и из терской администрации, как ни парадоксально, единодушно признают, что сам глава нового религиозного братства был далек от участия в подготовке восстания, а многие распоряжения, отдаваемые от его имени, исходили на самом деле от его окружения. В связи с этим, даже М. Т. Лорис-Меликов, убежденный сторонник «жесткой» политики в отношении чеченцев, сомневался в необходимости репрессивных мер в отношении Кунта-Хаджи: «Зикра есть факт уже свершившийся, и невоинственный Кунта вреднее того, как быд до сих пор, быть уже не может. Между тем удаление его, без сомнения, произведет возбуждение умов в народе, и для нас будет очень невыгодно, если взамен главы религиозной секты у чеченцев явится вождь восстания»2.
Арест Кунта-Хаджи и руководителей зикристов. Полагая, что дальнейшее промедление лишь ухудшит ситуацию, наместник Кавказа великий князь М. Романов распорядился арестовать Кунта-Хаджи и его ближайших помощников.
В соответствии с этим распоряжением, Кунта-Хаджи был арестован 3 января 1864 г., в селении Сержень-Юрт, и доставлен в крепость Грозную. Одновременно задержаны еще несколько руководителей общины кунта-хаджинцев, в том числе брат Кунта-Хаджи — Мовсар, его личный секретарь Абду-Салам Тутгириеев из селения Алхан-Юрт, некоторые яз векилей — Карнай и Талиб. Аресты продолжались и в последующем.
1 Ипполитов А. Указ. соч. — С. 3—4.
2 Цит. по кн.: Дзагуров Г А. Переселение горцев в Турцию. — Ростов н/Д., 1925. — С. 12.
— 312 —
Суфийские ордена в Чечне. Движение шейха Кунта-Хаджи
Современная графическая реконструкция возможных портретов Кунта-Хаджи (вверху слева), его брата Мовсара (вверху справа) и векиля Карная (16, вклейка)
К концу января 1864 г. власти арестовали 14 руководителей зикристов, а в общей сложности по этому делу было сослано 18 человек1.
Не без основания опасаясь бурной реакции зикристов, терская ажминистрация поспешила тайным образом выслать арестованных за ■ределы области. Уже 6 января они доставлены из крепости Грозной •© Владикавказ, откуда Кунта-Хаджи и его приближенных срочно этапировали в Ставрополь, а затем в Новочеркаск. Здесь они провели подгода, после чего Кунта-Хаджи, распоряжением министра внутренних дел Д. А. Милютина, навечно высылается под надзор полиции в город Йстюжино Новгородской губернии. Абду-Салам, Карнай и Талиб были направлены в Смоленскую губернию, а Мовсар — в Выборгскую крепость. По дороге к месту ссылки Мовсару удалось бежать. Удивительно,
' Ахмадов Я. Сын Киши // Республика. — 1991. — 11 июля. — С. 4.
— 313 —
Глава VI. Чечня и чеченцы в составе Российской империи в 60-х гг. XIX в. Движение Кунта-Хаджи
что, практически не зная русского языка, он сумел добраться до российской границы на юге, перешел ее и вскоре оказался в Стамбуле.
Кунта-Хаджи, который не имел собственных средств, оказался в чрезвычайно тяжелом материальном положении. Денег, выделяемых из казны, не хватало даже для питания, помощи со стороны он не получал. Прожив в ссылке чуть более двух лет, Кунта-Хаджи умер от голодного истощения.
Курс на восстание. Как и ожидалось, арест лидера кадырийцев резко обострил ситуацию в Чечне. Во главе общины кунта-хаджинцев оказались волею судьбы два помощника устаза — Салам и Мачик-мул- ла. Относительно их способностей и влияния российские источники дают разные оценки, но судя по тому как развивались события, они не сумели удержать мюридов от восстания. Один из русских авторов — Г. Вертепов — считал, что Мачик-мулла, «человек выдающийся по уму и весьма начитанный», сознательно «довел дело до открытого восстания»1. Возможно, немалую роль в переходе к открытой вооруженной борьбе сыграл и известный абрек Вара, ставший одним из последователей Кунта-Хаджи и действовавший во время боя под крепостью Шали под своим собственным черного цвета значком.
По распоряжению оставшихся на свободе руководителей мюридской общины, последователи шейха Кунта-Хаджи начали с оружием в руках собираться в селении Герменчук. Герменчук был избран местом сбора потому, что в расположенной рядом Шалинской крепости, как полагали зикристы, находился под стражей их устаз. Мюриды надеялись в первую очередь не допустить его отправки за пределы Чечни, а затем и добиться его освобождения. К 14 января 1864 г. общее число кунта- хаджинцев, собравшихся близ Герменчука достигло 3 тысяч человек н продолжало увеличиваться.
Настроения в чеченском обществе. Российские власти больше всего волновал вопрос о том, поддержит ли выступление зикристов и остальное население Чечни. В ожидании худшего, начальник Терской области распорядился не только направить к Шали отряд генерал-майора Туманова, но и усилить части, расположенные на Тереке и Сунже, обратив особое внимание на места, удобные для переправ. Кроме того, он сам выступил из Владикавказа к крепости Грозной во главе отряда из трех батальонов пехоты при двух орудиях2. Впрочем, уже в ближайшие дни стало ясно, что хотя значительная часть чеченцев сочувствует последователям Кунта-Хаджи, все же за оружие готовы взяться только его мюриды. Сил одних только зикристов было все же недостаточно, чтобы оказать серьезное и длительное сопротивление. Поэтому главная
1 Вертепов Г. Сектантство в Чечне // Записки Терского общества любителей казачьей старины. — Владикавказ. — 1914. — № 2. — С. 79.
2 РГВИА. Ф. 38. Оп. 7. Д. 429. Л. 55об.—56.
— 314 —
Суфийские ордена в Чечне. Движение шейха Кунта-Хаджи
задача, поставленная перед Тумановым, состояла в том, чтобы решительно подавить выступление зикристов, но при этом не спровоцировать на открытое восстание остальное население Чечни.
Сосредоточив значительные силы (шесть пехотных батальонов и четыре сотни казаков при четырех орудиях) возле Шалинской крепости, Туманов, будучи начальником Чеченского округа, начал через посредников переговоры с руководителями общины кунта-хаджинцев. В роли посредников выступили урус-мартановский наиб Сайдулла Османов и группа чеченских старшин. Понять позицию С. Османова и других чеченских лидеров, пытавшихся предотвратить вооруженное столкновение, достаточно легко. Было очевидно, что выступление кунта- хаджинцев будет подавлено, а вооруженное сопротивление с их стороны может привести в последующем только к жестоким репрессиям.
Очевидно также, что те чеченские лидеры, которые шли на открытое сотрудничество с российскими властями в вопросе о кадырийцах, в том числе и бывшие наибы Шамиля и чеченские офицеры и старшины, просто не видели смысла в восстании. Было бы неверным, объяснять их позицию исключительно личными интересами (соображениями карьеры). Буквально через год с небольшим после выступления зикристов, например, тот же С. Османов оставит русскую службу и, распродав свое имущество, уедет в Турцию. Не имели прямого интереса бороться с движением Кунта-Хаджи и влиятельные в Чечне полковники О. Чермоев и К. Курумов, которые по своей собственной инициативе пытались остановить зикристов от вооруженного выступления, а не заставить их отказаться от своего шейха. Будучи опытными военными, они осознавали обреченность попыток зикристов захватить политическую власть в Чечне.
Своеобразный парадокс состоял в том, что состоявшие на русской службе чеченцы были полностью согласны с Кунта-Хаджи, убеждавшего, еще при Шамиле, прекратить войну с Россией, ставившей чеченцев, как народ, на грань физического уничтожения. После десятилетий кровопролитных и разрушительных военных действий, Чечне остро необходим был мирный период для восстановления экономики и жизненных сил народа, а дать его могло только стабильное положение страны в составе Российской империи.
Что касается представителей чеченского духовенства, то подавляющее большинство их в то время придерживались накшбандийского тариката. Поэтому их сдержанное отношение к учению Кунта-Хаджи дополнительно объясняется еще и религиозными расхождениями. А. Ипполитов в этой связи прямо указывает, что «.. .большинство мулл смотрело на зикру не более как на раскол».
Шалинский «кинжальный» бой. Главное требование зикристов, хак и прежде, состояло в немедленном освобождении арестованных и
Глава VI. Чечня и чеченцы в составе Российской империи в 60-х гг. XIX в. Движение Кунта-х^**
прекращении новых арестов. В этом случае кунта-хаджинцы обешая* вновь повиноваться властям. Туманов, в свою очередь, отклонив эш требования, настаивал на немедленном прекращении вооруженных сборов, а также добивался выдачи тех лиц, которые сумели избежать ареста.
Благодаря усилиям посредников появилась надежда, что кровопролития удастся избежать. По крайней мере, Туманов сообщал, чил его переговоры чуть было не увенчались успехом и зикристы готовь* разойтись по домам. Однако поздним вечером 17 января лазутчик* предупредили его, что настроение руководителей кадырийской общивм резко изменилось и утром следует ожидать решительной атаки.
Атака, предпринятая кунта-хаджинцами на шесть батальонов пехоты генерала Туманова утром 18 января 1864 г., не имела шансов на успех, особенно после того как мюриды решили не пользоваться огнестрельным оружием. Это неожиданное решение приписывается Мачик-муяяе. который заявил: «явившийся» ему устаз Кунта-Хаджи предупредил, что он наполнит винтовки солдат водой, чтобы они не смогли стрелять а потому мюриды должны действовать только холодным оружием. * результате кунта-хаджинцы двинулись на плотные каре регулярных войск лишь с шашками и кинжалами в руках. Туманов позволил шш атаковать, после чего отдал приказ открыть ружейный и орудийный огонь. Тем не менее, даже после нескольких губительных залпов в топш% мюриды достигли каре — погибло восемь солдат и около 30 получил* ранения. Но сами зикристы, оставив на поле боя свыше 150 тел, был* вынуждены отступить в Шали. Слух о «кинжальном бое» под Шаял обошел весь Кавказ и способствовал усилению авторитета ордена1.
Последствия движения зикристов. Уже 26 января 1864 г. начальник Терской области М. Т. Лорис-Меликов собрал в крепости Грозной всех наибов и «почетных» жителей Чечни, от которых потребовал «...способствовать восстановлению порядка, нарушенного зикристами...*. Власти также желали задержания всех лиц, обвиняемых в причастности к «шалинскому делу». В целом же терская администрация отмечала, что Чечня воздержалась от участия в восстании и «...все сообщения наши, во время этих беспорядков, охранялись туземною милициею чрезвычайно бдительно... Ни один всадник не оставил своего поста...»2.
В отчетах о выступлении зикристов подчеркивалось, что оно не получило в Чечне дальнейшего распространения благодаря во многом усилиям чеченских религиозных деятелей — Абдул-Кадыра Хордаева. Идика Исламова, Мустафина Абдуллаева и Махмуда Борщикова, а также чеченских наибов, старшин и офицеров: полковников Орцу (Арцу)
1 См.: Очерки истории Чечено-Ингушской АССР. Т. I. — С. 128—129.
2 РГВИА. Ф. 38. On. 1. Д. 429. Л. 58,58 об., 60; Акаев В. Шейх Кунта-Хаджи. — Грозный. 1994. _ с. 73.
Суфийские ордена в Чечне. Движение шейха Кунта-Хаджи
Чермоева, Вагапа Адуева и Касима Курумова, капитана Давлет-Мирзы Мустафинова, урус-мартановского наиба Сайдуллы Османова и др. Последующие события показали, что, в случае всеобщего восстания в Чечне, оно могло быть использовано властями для поголовного выселения чеченцев в Турцию, как это случилось с черкесами Северо- Западного Кавказа.
Пока же власти ограничились категорическим запретом на исполнение обряда «громкого» зикра, а представители духовенства и сельские старшины должны были строго следить за соблюдением этого запрета. Несмотря на то что община кунта-хаджинцев уходит в глубокое подполье, в Терскую область перебрасываются дополнительные войска, что, вероятно, было связано также и с начавшейся подготовкой массового переселения чеченцев в Турцию.
Выступление Тазы Экмирзаева. Массовый выезд чеченцев (депортация) в Турцию рассматривался властями как наиболее выгодный вариант решения чеченского вопроса для русского владычества. Но даже среди преследуемых кунта-хаджинцев в тот момент были сильны антиэмигрантские настроения, что наглядно проявилось в волнениях, вызванных выступлением Тазы Экмирзаева, жителя г\ла Харачой, которое началось 8 мая 1865 г. В своих воззваниях к жителям ряда ичкерийских сел (Дарго, Элистанджи и Эрсеной) Тазу объявил себя святым имамом и заявил о своем намерении изгнать «русских». Обстановка в Чечне и без того была накалена подготовкой к «отъезду» тысяч переселенцев, и поэтому начальник Ичкерийского округа полковник Головачев потребовал, чтобы старшина аула Харачой Эбет Абакаров задержал «возмутителя спокойствия». Не под- згвшись на уговоры местной власти, Т. Экмирзаев ушел в леса, где к нему присоединилось до 200 его сторонников, преимущественно из селения Элистанджи. Власти Терской области направили в Ведено тва пехотных батальона, но вступить в бой с восставшими им так ■ не пришлось. После нескольких неудачных стычек с чеченскими милиционерами, возглавляемыми местными наибами и старшинами, сторонники Т. Экмирзаева рассеялись, а сам он был пленен 29 мая IS-65 г. и доставлен в крепость Ведено.
Особое удовлетворение Терской администрации вызвал тот факт, что попытка восстания не встретила почти никакого сочувствия среди жителей Ичкерии, не говоря уже об остальной Чечне, где, по словам генерала М. Кундухова, чеченцы со смехом рассказывали друг другу о новоявленном имаме. Начальник Терской области М. Т. Лорис-Меликов сообщал в Тифлис: «С 30 мая в Ичкерии проявлений беспорядков не было. Арестование сообщников Тазы идет нормально. Из них 14 уже содержатся в Ведено»1.
Лзягуров Г. А. Переселение горцев в Турцию. — Ростов н/Д., 1925. — С. 101.
— 317 —
Глава VI. Чечня и чеченцы в составе Российской империи в 60-х гг. XIX в. Движение Кунта-Хадхо'
Тем не менее, выступление в Ичкерии было использовано для организации новых репрессий. Так, Харачой — родной аул главаря восстания — был подвергнут штрафу в размере 1 тысячи рублей, а селение Элистанджи, жители которого наиболее активно участвовали б беспорядках, было полностью переселено на территорию Надтеречного наибства. Сам Т. Экмирзаев, осужденный на 12 лет каторжных работ, умер вскоре после того, как был этапирован в Сибирь.
Абрек Вара. Самый известный чеченский абрек середины XIX а. известный своей близостью к бывшему шамилевскому наибу, видному богослову Атаби-мулле Атаеву (руководителю восстания 1861 г ), примкнул к последователям Кунта-Хаджи. Его место в иерархии общины кунта-хаджинцев не совсем ясно, но можно не сомневаться, что ему принадлежала не последняя роль в трагических событиях зимы 1863—1864 гг. Во всяком случае, как отмечали военные власти Терсксж области, на поле шалинского «кинжального» боя Вара выехал в полно* боевом снаряжении под собственным знаменем черного цвета.
В последующем Вара остается недосягаемым для преследовавших его властей. Впрочем, скрывался не он один — на нелегальном положения оказалась вся община кунта-хаджинцев. Исполнение громкого зикр® было запрещено, а тайные собрания кунта-хаджинцев выслеживались правительственными агентами. Тем не менее, число приверженпек кадырийского тариката постоянно увеличивалось, а следователь» возрастало и количество потенциальных укрывателей и помощников абрека Вары. Это обстоятельство лучше всего помогает понять тот факт почему неуловимый Вара сумел стать головной болью для администре- ции Терской области: «При замечательной храбрости своей и энергии. Вара начинал становиться уже народным героем и начинал приобретать в Чечне то влияние, которое люди подобного рода, к несчастию, все™ приобретают между горцами», — писал один из знатоков горской жизни того времени полковник А. П. Ипполитов.
Выследить и уничтожить Вару в 1865 г. удалось только при помощи чеберлоевского наиба Гуданата Мударова, который преследовал абрека не только в силу служебной обязанности, но и по причине наличия между ними кровной мести. Гуданату через своих людей удалось заманить Вару в селение Новые Атаги, где он и был окружен взводам драгун. Тем не менее абрек не сдался, а после трехчасовой перестрелки, как пишет А. П. Ипполитов, «...будучи уже ранен пулею Гуданата. с шашкою в руках и с громким пением своей предсмертной молитвы., бросился в середину наших солдат и был убит»1 2.
1 Буркин Н. Г. Революция 1905 г. в нацобластях Северного Кавказа // Революши * горец. — 1931. — № 1—2. — С. 69.
2 Ипполитов А. П. Указ. соч. — С. 16.
Суфийские ордена в Чечне. Движение шейха Кунта-Хаджи
ж * *
Первые преобразования Российской империи во вновь завоеванном крае — в Чечне, не только не привели к облегчению положения населения, пострадавшего в ходе войны, но и еще более усугубили его. Горцы стали жертвой различного рода экспериментов со стороны руководителей Кавказского наместничества и Терской области. Все зело заключалось в том, что в отношении чеченцев было произведено типичное колониальное ограбление в форме прямого изъятия земли, что привело горцев к восстанию уже в 1860 г. (в горной части Чечни). Однако эти и последующие «возмущения» принимали, с одной стороны, направленность к возвращению старых имаматских порядков (что совсем не нравилось основной массе населения), а с другой, протекали под флагом своеобразного «освоения» беднейшими горцами духовной сущности кадырийского тариката.
С великого гуманиста Кунта-Хаджи и начинается, по существу, в Чечне, да и Ингушетии, подлинный феномен шейхизма, сохраняющего свое значение по сегодняшний день.
Вместе с тем, при всех своих изъянах, административно-территориальное обустройство Чечни и реформа судебной власти в 60-х гг. XIX в. имели следствием определенное движение вперед в процессе «корпорации Россией Чечни в свой состав как вновь присоединенной территории.
Процесс вхождения страны и народа в административное и правовое поле колониальной империи шел трудно и протекал в борьбе горской «демократии» с отсталыми формами авторитарного режима зержавы всего лишь два года спустя после падения имамата (1859 г.) расставшейся с крепостническим рабством (1861 г.).
— 319 —
Глава VII. Аграрный и сословный вопрос
в Чечне во второй половине XIX века. Депортация чеченцев в Турцию
§ 1. Земельный вопрос в Чечне. Аграрная политика царизма
Попытки размежевания земель. Кавказская война сопровождалась, как известно, постоянным захватом земель у горцев, что привело в той же Чечне к явлению, известному в исторической литературе как «земельный голод». На завершающем этапе войны колониальные власти, крайне заинтересованные в «умиротворении» чеченцев, обещали им от имени российского императора справедливое удовлетворение их потребности в земле: «Все земли и леса на плоскости, где жил чеченский народ до возмущения 1839 г., будут отданы вам на вечное пользование, исключая тех, которые заняты под укрепления с принадлежащими к ним покосными местами; эти земли навсегда останутся собственностью казны. Те же земли и леса в нагорной полосе, которыми народ до возмущения не пользовался и откуда вышел прш нынешней покорности, останутся в запасе в распоряжении Правительства; но на них не предполагается поселять ни казачьих станиц, ни чеченских аулов». Взамен чеченские селения должны были получить от правительства необходимые им для поселения и пропитания земля. Правительство также гарантировало неприкосновенность частных земельных владений, возникших в результате наделения землей чеченцев, состоявших на службе1.
Земельный вопрос приобретал в Чечне особую остроту вследствие того, что после создания Сунженской казачьей линии и других многочисленных военных укреплений, большая часть населения страны оказалась согнанной на пространстве протяженностью примерно 70 верст с запада на восток и 40 верст с юга на север. На каждую чеченскую семью на равнине приходилось от 5 до 10 десятин всех типов сельскохозяйственных земель, что в пересчете на одну душу составляло не более двух десятин; собственно пахотной земли приходилось и того меньше. В условиях России того времени для простого жизневоспро- изводства русской крестьянской семье требовалось не менее 5 десятин (одна десятина около гектара) пахотной земли на одну душу.
1 Прокламация чеченскому народу Главнокомандующего Кавказской армией Наместника Кавказского, генерал-фельдмаршала князя А. И. Барятинского Родина. — 2000. — № 1—2. — С 135.
— 320 —
Земельный вопрос в Чечне. Аграрная политика царизма
Обещание наделить все чеченские селения землей так и осталось не выполненным в потребном объеме — только на территории Надтеречного наибства в 1864 г. было произведено полное размежевание земель. Общий земельный фонд равнялся здесь 122400 десятин, из которых 20 тысяч десятин были отрезаны как «частновладельческие» местным князьям (Алхасовым, Эльдаровым, Таймазовым, Турло- вым, Бековичам-Черкасским и др.). В результате размежевания на каждый крестьянский «двор» было отведено по 33 десятины земли (за исключением селения Брагуны, где вследствие высокого качества земли подворный надел был сокращен до 18 десятин). Всего землю распределили между 2331 самостоятельным крестьянским хозяйством, а кроме того, были размечены «запасные» земли, предназначенные для 1012 хозяйств новых переселенцев1. Следует сказать, что в этом самом благополучном, в смысле распределения земель, районе не было условий для развития поливного земледелия, что в условиях сухой степи резко снижало ценность земель.
Судя по тому, что в 1860 г. высшие чиновники кавказской администрации на совещании во Владикавказе признали необходимым скорейшую колонизацию края русским населением, было видно, что власти особенно и не старались выполнять обязательства, провозглашенные в прокламации А. И. Барятинского. Российские исследователи, близкие к терской администрации, писали, что наличных земель на равнинной части Чечни совершенно недостаточно для удовлетворения потребности ее населения. После того как в 1865 г. свыше 25 тысяч чеченцев из общего числа народа в 150 тысяч человек были выселены в Турцию, образовался небольшой резервный фонд свободных земель, при распределении которого можно было несколько снять остроту земельного кризиса в Чечне, но власти поспешили использовать его в первую очередь для дополнительного наделения землей казаков — так почти все удобные земли западночеченских обществ — галашевцев и карабулаков перешли к Сунженским казакам.
Вследствие циничного ограбления чеченского народа вхождение края в состав России стал сопровождаться неуклонным нарастанием земельного голода. Чечня, когда-то дававшая кров, защиту и землю тысячам беглых людей из Дагестана, Ингушетии, Кабарды, казачьих станиц и русских полков, была обречена на голодную смерть. Так, в течение 1873—1889 гг. в стесненном малоземельем Чеченском округе появилось 6000 новых хозяйств (за счет разделения больших семей и эереселенцев с гор). К концу XIX в. в нагорной части Чечни полностью не имели земли почти 40% крестьянских дворов. Только энергичный, неутомимый труд, занятия скотоводством, кустарным производством,
Гллрилов П. А. Устройство поземельного быта горских племен Северного Кавказа // >1ьзказские горцы: Сб. сведений. Т. 2. [7]. — М., 1992. — С. 55—56.
— 321 —
Глава VII. Аграрный и сословный вопрос в Чечне во второй половине XIX в. Депортация чеченцев
в Турцию
интенсификация земледелия спасали чеченского крестьянина от голода и вымирания1.
Межевые комиссии. Еще в 1847 г. во Владикавказе создается специальная комиссия «для разбора поземельных прав горцев», которую через десять лет сменил комитет для разбора не только земельных, но и личных прав. В 1859 г. создаются отдельные комиссии по крупнейшим горским округам, в том числе и по Чеченскому округу. Чуть позже, в первой половине 60-х гг. XIX века в Терской области начали создаваться разного рода «межевые» экспедиции и комитеты, призванные произвести полевую съемку сельскохозяйственных земель и разобраться в сложном клубке запутанных поземельных прав. Предполагалось, что эти работы будут завершены в равнинной части Чечни уже летом 1868 г., а затем в течение года разработан проект уравнительного распределения всех земель между чеченскими селениями. Однако, как показали последующие события, терская администрация была менее всего заинтересована в быстром разрешении земельного вопроса. До тех пор, пока земля не имела «законного» в глазах властей собственника, ею в конечном итоге распоряжались местные чиновники. Именно поэтому работа межевых комиссий почти не продвигалась вперед при явном попустительстве властей. Например, летом 1870 г. межевые работы в горских округах не проводились потому, что специально направленны* для этой цели старший землемер есаул Лисевицкий еще в сентябре 1869 г. уехал к своей семье в Ставрополь, да так и не вернулся2.
Деятельность властей по землеустройству в Чечне заметно активизировалась только в тех случаях, когда речь шла об интересах крупных земельных собственников. Так, в 1867 г., при участии наместника Кавказа, был решен вопрос о «праве» кумыкских князей на аульные земли чеченских селений в Качка лыковском наибстве. В результате мошеннической, по сути, операции по присвоению денег казны местные власти, «признав», что половина этих аульных земель «принадлежит» кумыкским владельцам, якобы вынужденно выкупили у них 6700 десятин по цене 3 рубля за десятину и «передали» эти земли чеченским аулам уже как государственные. Между тем, указанные феодалы никогда не являлись собственниками земель, на которых возникли качкамыковскнг аулы, в чем они собственноручно расписывались еще в XVIII в.
В 60-х гг. XIX в. было произведено размежевание участков, пожалованных чеченским офицерам. Так же оперативно производилось размежевание участков, регулярно выделяемых высшим офицерам Терского казачьего войска, о чем специально отчитывался начальник
1 См.: Материалы Абрамовской Комиссии. — Владикавказ, 1908. — С. 108; Бое- нашвили Э. А. Социально-экономические отношения в Чечено-Ингушена в XVII—XIX веках. — Тбилиси. - 1988. — С. 341.
2 РГВИА. Ф. 1300. Оп. 3. Д. 23. Л. 13.
Земельный вопрос в Чечне. Аграрная политика царизма
Терской области1. В тоже время межевые работы в аулах Чечни шли порой десятилетиями.
Низкие темпы работ по земельному размежеванию администрация Терской области объясняла полным отсутствием сведений о земельных владениях как отдельных обществ, так и отдельных семей. При этом не скрывалось, что власти намерены изменить сложившийся порядок землевладения, «...как не соответствующий условиям экономического быта жителей аула, или же несправедливо ограничивающий права некоторых членов аульного общества...». Между прочим, ставилась под сомнение необходимость и возможность сплошного размежевания в горах2.
Особенности традиционного землепользования в Чечне. Б Чечне исторически существовала частная собственность на землю, о чем писали и российские исследователи XIX—XX вв. Официальные власти, однако, категорически отрицали наличие частного землевладения под предлогом отсутствия письменных документов, подтверждающих право горцев на землю. Позиция терской администрации в этом вопросе была совершенно недвусмысленна: собираясь утвердить в Чечне общинное землевладение в качестве основного и произвести колониальное ограбление края, власти не желали осложнять свою задачу признанием прав частных владельцев.
Основная масса чеченских крестьян владела наследственными землями на основе адатов и шариата и распоряжалась ими по своему усмотрению (сдавала в аренду, под залог или же продавала), в соответствии с нормами обычного горского права без письменного оформления сделок. Официальные власти не признавали законность такого рода сделок не только потому, что они не оформлялись в соответствии с требованиями российского законодательства, но и потому, что большинство чеченских земель (кроме отведенных властями частным владельцам) были объявлены государственными. Собственником чеченских земель по праву завоевания считалось теперь российское государство, которое как бы передавало земли во временное владение сельским общинам края. На практике же землей распоряжались местные чиновники.
Чеченские крестьяне, как могли, сопротивлялись введению властя- «1 общинно-передельной системы землевладения. Для этого всячески ж под разными предлогами затягивалось перераспределение паевых тчастков; на временно отведенных землях разводились сады или возво- зияись строения, а затем отказывались включать их в число участков, шадлежащих перераспределению; сохраняли прежние межевые знаки и
РГВИА. Ф. 1300. Оп. 3. Д. 61. Л. 1—1 об; Гаврилов П. А. Устройство поземельного быта герских племен Северного Кавказа // Кавказские горцы: С6. сведений. Т. 2. [7]. — М., 1992. — С. 59.
Гаврилов П. А. Указ. соч. — С. 63.
Глава VII. Аграрный и сословный вопрос в Чечне во второй половине XIX в. Депортация чечень—
в Турцию
в отношениях между собой продолжали руководствоваться прежними правами на землю.
Тяжело ударила по традиционному хозяйству чеченского общества конфискация в казну всех лесов, дававших немало доходов крестьянам, занимавшимся, кроме земледелия и скотоводства, лесным промыслом. Так, в Чечне и Ингушетии царизм присвоил леса общей площадью
225,5 тысяч десятин (они стали «казенными») и еще 33,5 тысячи десятин по Сунже и ее притокам передал казачьему войску1. Леса брались пой вооруженную охрану, и несчастных крестьян, попавшихся на порубке леса, преследовали тяжелыми карами.
Размежевание аульных наделов. Колониальное ограбление Чечни. В течение 60-х гг. XIX в. власти все-таки произвели весьма общее размежевание 42-х селений, расположенных на Чеченской равнине и б предгорной зоне. При этом на каждое хозяйство в среднем выделялось свыше 16 десятин земли, в том числе «удобной» — 13 десятин. Таким образом, средний размер земельного надела на большей части равнинной Чечни был в два раза ниже, чем аналогичный надел в Надтеречных аулах. При этом предгорные селения, получившие большую часть земель в виде «неудобий», считали себя обделенными даже по сравнению с равнинными селениями, что вынудило власти произвести новое перераспределение земель. В течение 1875—1878 гг. были пересмотрены границы земельных владений 22-х селений, но и после этого сельские общества не получили государственных документов, подтверждающих их полное право распоряжаться выделенной им землей.
Из более чем 643 тысяч десятин, составлявших земельный фонд равнинной и предгорной Чечни, чеченским селениям было выделено в качестве общинных наделов всего 347 тысяч десятин. Между тем, 222 тысячи десятин, т. е. одна треть чеченских земель, перешли во владение казачьих сташщ. а 28 тысяч — стали собственностью частных владельцев из офицеров. Еще 17 тысяч десятин было закреплено за военными укреплениями и живущими в них поселенцами. Примерно 30 тысяч десятин «запасных* земель осталось в прямом распоряжении казны2. Остается добавить, что все леса были объявлены казенными и выведены из-под юрисдикции местных общин. Таким образом, 100% лесов (259 тысяч десятин) и 300 тысяч десятин из 643 тысяч десятин земледельческой зоны страны были отобраны в пользу казны, армии и казачьего войска. Все это нельзя не считать типичным колониальным ограблением.
Такое «распределение» земли между государством, горскими крестьянами, казачеством, крепостями и дворянством заведомо обрекаяе
1 Очерки истории Чечено-Ингушской АССР. Т. 1. — С. 131.
2 См.: РГВИА. Ф. 1300. Оп. 7. Д. 3. Л. 7; Кокурхаев К.-С. А-К. Общественно-политич« ский строй и право чеченцев и ингушей (вторая половина XIX — начало XX вв.У — Грозный, 1989. — С. 17.
Земельный вопрос в Чечне. Аграрная политика царизма
Чечню на невиданную земельную тесноту и лишало основную часть ее населения надежд на какую-либо экономическую перспективу. По мере увеличения численности чеченского населения в условиях отсутствия резервов свободной земли, происходит быстрое сокращение размера наделов, приходившихся на каждую семью. Так, в 1886 г. на много дет- ную чеченскую семью в «благополучном» Грозненском округе в среднем приходилось 11 десятин земли, в то время как среднестатистическая казачья семья владела более чем 92 десятинами земли (13,3 десятины на мужскую душу). Особенно трудное положение складывалось в крупных быстрорастущих селениях. Например, в 1866 г. в селении Ачхой-Мартан насчитывалось 373 хозяйства. Через двадцать лет их число возросло до 730: новые хозяйства (в том числе 161) возникли в результате естественного прироста населения. Кроме того, в состав данной сельской общины были приняты 157 семей, возвратившихся из Турции, и 39 семей, переселившихся с гор. При этом количество земли, выделенной Ачхой-Мартану, осталось неизменным1.
Особенности земельных преобразований в горной части Чечни. К размежеванию земель в Горной Чечне в 60-х гг. XIX в. власти так и не смогли приступить. Большие сложности были здесь и с введением оощинно-передельной системы землевладения. В официальных документах указывается, что границы частных владений хорошо известны населению, а географические условия крайне затрудняют введение новых поземельных отношений. И наконец, состояние крошечных пахотных участков в горах таково, что только частные владельцы способны на большие затраты, позволяющие получать с них урожаи.
Между тем положение крестьян здесь было на порядок хуже, чем на рввнине. По данным 1877 г., в среднем на душу населения в Нагорной Чечне, включая Ичкерию с населением почти в 100 тысяч человек, приходилось по 0,3 десятины пахотной земли, 0,55 — сенокосов и 0,9 — выгонов. Естественно, что здесь никогда не хватало собственного хлеба, и горцы были вынуждены продавать зачастую в ущерб себе, домашний скот и искать приработков на стороне. Ко всему этому, у горных селений было отобрано в казну свыше 50 тысяч десятин пастбищ, за пользование которыми горцы должны были выплачивать арендную плату и объявлены казенными все леса. Надо сказать, что такого фантастического безземелья, как в Нагорной Чечне, не знала ни одна область Российской империи2.
! Хасбулатов А. И. Аграрный вопрос в политике царизма в Чечено-Ингушетии во П пол. XIX — нач. XX вв. // Чечено-Ингушетия в политической истории России и Кавказа в дореволюционном прошлом. — Грозный, 1990. — С. 15.
- См.: РГВИА. Ф. 1300. Оп. 7. Д. 3. Л. 37—38; Очерки истории Чечено-Ингушской АССР. Т. I. — Грозный, 1967. — С. 121—122; Ахмадов X. М„ Горчханова Г. А. Сословно-поземельный вопрос в пореформенной Чечено-Ингушетии // Чечено-Ингушетия в политической истории России и Кавказа в дореволюционном прошлом. — Грозный, 1990. —С. 58.
Глава VII. Аграрный и сословный вопрос в Чечне во второй половине XIX в. Депортация че-е-^Е
в Турцию
Учитывая общий недостаток земель в Чечне, власти решили закреплять за владельцами участки в нагорной полосе, расчищенные от леса. В первую очередь разрешение властей относилось к горнов части Восточной Чечни, где власти стремились допускать расчистку леса исключительно вокруг главных дорог и в стратегически важных районах. При этом к расчистке назначались целые группы участков, чтобы сделать доступными большие пространства. Только в 1867 г. от леса расчищено 764 участка, подавляющее большинство которых — 62 3< имели размер не больше одной десятины. Только три самых больших участка имели площадь по четыре десятины каждый.
Пытаясь предотвратить самовольные порубки леса и захват «казенных» земель, администрация Терской области создала особые участковые комиссии, призванные регулировать расчистку лесных участков ъ соответствии с утвержденными правилами, требовавшими производить расчистку участка с ведома и разрешения сельской общины. Председателем комиссии являлся начальник того или иного участка, а ее членами — сельские старшины и «почетные» жители. Несоблюдение требований комиссии вело к конфискации уже расчищенных участке* в пользу сельского общества1.
Стремясь во что бы то ни стало стать земельными собственниками, многие жители Чечни производили самовольную расчистку лесных участков, а затем уже старались добиться от властей признания своих прав. Произведенная в 1874 г. проверка выявила в одном только Веденском округе до 250 десятин незаконно расчищенных участков. Опасаясь вызвать массовое недовольство населения, начальник округа князь Эристом принял решение закрепить эти участки за их владельцами, потребовав вместе с тем от них предварительно «обычной присяги» (клятвы на Коране), что расчистка лесов производилась с разрешения аульных обществ- Результат оказался прямо противоположным ожидаемому: во всем округе только Ш. Долатмурзиев, житель селения Белгатой, смог присягнуть в том, что расчистил свой участок на законном основании. В результате все остальные участки, владельцы которых к чести своей не рискнули дать ложную клятву, были признаны общественными2.
Судебные тяжбы о судьбе самовольно расчищенных земель тянулись в Терской области десятилетиями. Так, еще в 60-е гг. жительница селения Белготой С. Джасуева с двумя братьями расчистила участим леса и начала добиваться закрепления за ней права частной собственности на эту землю. Только в 1886 г. Веденский горский словесный стз признал ее владельцем спорного участка, что так и не было признано официальными властями. В мае 1890 г. начальник Терской облает»
1 См.: РГВИА. Ф. 1300. Оп. 4. Д. 1354. Л. 4; Гриценко Н. П. Экономическое развитиеЧечено- Ингушетии в пореформенный период (1861—1900 гг.). — Грозный, 1963. — С. 54.
2 РГВИА. Ф. 1300. Оп. 4. Д. 1354. Л. 4о6.
— 326 —
Земельный вопрос в Чечне. Аграрная политика царизма
разрешил все же С. Джасуевой и ее родственникам пользоваться расчищенным почти тридцать лет назад участком земли, но только «...до размежевания земель в Нагорной полосе Терской области, в какое зремя просительница и может юридически искать утверждения права собственности на упомянутый участок».
Однако, увеличение посевных площадей за счет расчистки лесов и кустарниковых пустошей имело весьма ограниченный резерв. Например, в 1877 г. в Ичкерийском и Нагорном округах из 230 тысяч десятин местных угодий 74 989 десятин или 32,6% были объявлены казенными, запретными1.
Казачье землевладение. Самым крупным собственником земли в Терской области являлось собственно государство, так как именно оно 9 конечном итоге узурпировало права на большинство горских и казачьих земель. Вторым по величине землевладельцем на Северном Кавказе выступало казачество: составляя чуть более четверти населения Терской области, оно владело почти 40% всех земель, причем, как правило, лучших зо качеству. Все «казачьи» земли (значительная часть которых являлись колониальной добычей) делились на три категории: «юртовая земля», предназначенная для выделения наделов каждому казачьему хозяйству; частновладельческие земли, выделенные в собственность старшим офицерам, а также классным чиновникам казачьего сословия; «запасные» земли, составлявшие своеобразный резерв. «Юртовые» земли считались коллективной собственностью всего казачьего войска и не могли быть переданы в частные руки. Поэтому наделение землей отставных высших офицеров производилось из так называемого «запасного» земельного фонда.
При установленной в области высокой норме для казаков в 30 десятин на мужскую душу, в среднем на одну душу мужского пола у терских казаков в 1890 г. приходилось по 21,6 десятин земли. Сунженские станицы имели гораздо меньше земли (хотя и более плодородные), чем шх соседи — казаки Кизлярского отдела. Если в станице Архонской или Троицкой надел на мужскую душу составлял более 9 десятин, то в ста- ■жиах Барятинской или Каргалинской он составлял свыше 27 десятин. У чеченцев в это же время максимальный размер земельного надела Z2 каждого мужчину в самом благополучном районе не превышал U десятины. При этом собственно пашня здесь составляла от одной трети до одной десятой части надела2.
Однако ситуация в Терском казачьем войске, представлявшем из себя •селективного помещика, была неоднозначной. В большом количестве ькзачьи земли раздавались правительством в собственность офицерской
См.: РГВИА. Ф. 1300. Оп. 4. Д. 1354. Л. 5—5о6; ЦГА РСО-А, Ф. 256. On. 1, Д. 61, .1 192—193.
Ршяшушняк В. Я. Развитие аграрного капитализма на Северном Кавказе в конце XIX — начале XX вв. // Ист. записки. — 1989. — № 117. — С. 186.
— 327 —
Глава VII. Аграрный и сословный вопрос в Чечне во второй половине XIX в. Депортация чече-^
в Турцию
и чиновничьей верхушке. Так, к концу XIX в. в личную собственность перешло 119760 десятин казачьей земли. К началу XX в. половина из них была уже распродана, перейдя в руки богатых крестьян, купцов и предпринимателей1.
Относительные размеры крестьянского землевладения. По подсчетам чеченских исследователей, средняя величина земельного надела на мужскую душу в равнинной Чечне была — 4,1 десятины, что составляло самый низкий показатель по Терской области, где кабардинцы владели в среднем 8,37 десятины на душу; плоскостные осетины — 5,3: ингуши — 4,3. При этом 10 из 55 крупнейших чеченских селений на равнине имели земельные наделы ниже среднего по Чечне; 20 — ниже установленной властями минимальной нормы и только 17 могли выделить сельчанам наделы, превышавшие средний размер. В целом до 77% чеченских селений были отнесены к категории «малоземельных»2. В довершение всего, власти Терской области отнесли в Чечне к категории «удобных» и те земли, что были заняты лесами и кустарниками, очевидно, имея в виду, что жители расчистят эти участки собственными силами и со временем введут их в сельскохозяйственный оборот.
Землевладение внутри отдельных сельских общин также не 6ыж> уравнительным. Некоторые семьи в силу разных обстоятельств (например, наличие многих сыновей) владели большими участками. Кроме того, по распоряжению властей, сельские старшины получали по пять паев пахотных и сенокосных земель и пятикратный «план» под домовладение. Так, царским старшиной крупного плоскостного селения Гойты являлся сын шамилевского пятисотенника Гоба, получивший русское образование в крепости Воздвиженской и служивший затем в суде и приставстве. Помимо пая в общинном наделе, он получил участок в несколько десятков десятин от властей» где построил хутор.
Получить дополнительные земли из «казенных» участков было для рядовых крестьян чрезвычайно трудно, даже если терская администрация поддерживала ходатайство сельского схода. Так, в 1892 г. начальник Терской области поддержал просьбу жителей селения Эгиш- батой Веденского округа передать им участок площадью 95 десятин, расположенный возле Эрсеноевского укрепления. Против этого возражало Ставропольско-Терское управление государственного имущества (в ведении которого находился данный участок) на том основании, что эта земля «.. .состоит на оброчной статье...» и проносит в год 240 рублен дохода, а ее сохранение в распоряжении Управления «...необходимо
1 Очерки истории Чечено-Ингушской АССР. Т. 1. — С. 119—120.
2 Этенко Л. А. Ленин и горцы Северного Кавказа. — Орджоникидзе, 1975. — С. 19; Хасбулатов А. И. Аграрный вопрос в политике царизма в Чечено-Ингушетии во II пол. XIX — нач. XX вв. // Чечено-Ингушетия в политической истории России и Кавказа в дореволюционном прошлом. — Грозный, 1990. — С. 17.
— 328 —
Земельный вопрос в Чечне. Аграрная политика царизма
ждя чрезвычайных нужд будущего времени, предусмотреть которые в настоящее время трудно...».
Со своей стороны, начальник Терской области доказывал, что увеличение земельного надела эгишбатойцев улучшит их материальное положение, а следовательно, возрастут и собираемые с них в пользу казны подати. Так что государство только выиграет. В конечном итоге мнение высшего терского чиновника восторжествовало, и жители Эгишбатоя получили искомую ими землю, но, разумеется, только во временное, вплоть до обмежевания нагорной полосы, пользование1.
Рост крупного землевладения в Чечне. Как уже отмечалось, в Терской области государство в лице местной администрации стре- уилось ограничить традиционное частное землевладение прежде асего в населенных горцами округах. Это не означало отсутствие крупных землевладельцев. Только в 1867 г. за разного рода «заслуги* * было передано по Чечне в частное владение 8674 десятины. В 1876 г. еще 50 чеченцев были пожалованы земельными участками зо 50 десятин возле слободы Воздвиженской. Крупнейшими землевладельцами являлись князья Таймазовы — 6550 десятин, Беко- анчи-Черкасские — свыше 6350 десятин, 2 или 3 фамилии князей Турловых имели по 2000 десятин, князья Эльдаровы — 1400 десятин, офицеры: Шахмурзаев Б. — 652 десятины, Чермоев О. — 570 десятин, Алханов Т. — 556 десятин, Чуликов У. — 400 десятин, и т. д. Земли а Чечне «жаловались» не только чеченским, но и русским офицерам. Так, полковник Ипполитов А. получил более 1 тысячи десятин земли э Аргунском округе.
Земельные участки жаловались властями не только армейским или милицейским офицерам из числа горцев, но и старшинам, а также от- аельным представителям мусульманского духовенства, исполнявшим официальные обязанности в Горских словесных судах. Так, в 70-х гг. XIX в. земельные участки размером от 30 до 75 десятин получили старшины селений Ачхой-Мартан, Урус-Мартан, Новые Алды, кадий Беленского словесного суда Ш. Каратаев, депутат Грозненского словесного суда Г. Ойсуев, кадий того же суда Ю. Абдулкадыров, мулла С Сулейманов и др.2
Образование в Чечне прослойки крупных землевладельцев должно Зв*ло, по замыслам кавказской администрации, способствовать укреплению российской власти. Считалось, что благодаря влиянию этой прослойки, правительству будет легче управлять всем народом. Еще
РГБИА.Ф. 1300. Оп. 4. Д. 1389. Л. 2—2 об., Л. 10.
- Ol: РГВИА. Ф. 1300. Оп. 7. Д. 24. Л. 6—13 об.; Очерки истории Мечено-Ингушской
*ОСР. Т. 2. — С. 119; Киреев Е. Чечено-Ингушетия накануне Октябрьской револю- И Грозненский рабочий. — 1957. — 20 сент. — № 186. — С. 2; Ибрагимова 3. X. Чечня после Кавказской войны (1863—1875 гг.) (по арх. материалам). — М., 2000. — С 292—294.
Глава VII. Аграрный и сословный вопрос в Чечне во второй половине XIX в. Депортация чечениef
в Турцию
в 1866 г. начальник Терской области писал по этому поводу: «...образование среди туземного населения... землевладельцев, преимущественно из лиц народного управления... для нас будет делом первой важности* Но в целом, класс крупных земельных собственников оставался не многочисленным. По подсчетам чеченского исследователя А. Саламова, к 1895 г. насчитывалось 126 крупных землевладельцев чеченцев и ингуше*, которые в общей сложности владели более чем 14 тысяч 610 десятин. Одновременно появляется и быстро растет количество безземельны! крестьян, что зачастую было напрямую связано с концентрацией земля у крупных собственников. Например, в селении Старый Юрт нарядг- с 5 крупными землевладельцами насчитывалось 52 семьи, вообще не имевшие сельскохозяйственных наделов1.
Крупные чеченские землевладельцы не только сдавали в аренлт часть своих земель, но и зачастую селили на определенных условиях в своих владениях безземельных горцев. Так, полковник К. Курумоя поселил на своих землях 14 крестьянских дворов, О. Чермоев — 30l Б. Шамурзаев — 24, Алханов — 68, Хасимурзиев — 20. Во всех случаях поселенные на частных землях крестьяне должны были за выделенные им участки обрабатывать земли владельцев2.
Характерно, что дворянское (офицерское) землевладение в Чечне не отличалось долговечностью: получившие от государства землю военные редко оказывались хорошими сельскими хозяевами. По Терской области в 1890 г. из 562 участков земли общей площадью 119761 десятина, принадлежавших офицерам, к новым владельцам перешло 219 участков площадью 38140 десятин или одна треть. Пр* этом общая доля частного землевладения на Северном Кавказе сохраняется традиционно низкой. В конце XIX в. она составляла на Северном Кавказе всего 10,9% (в Центральной России — 25%). Да и размер средних и крупных землевладений на Северном Кавказе обычно гораздо ниже, чем по России3.
Со временем довольно значительное количество земель сосредоточилось у «иногороднего» — неказачьего русского населения Терской области, основную массу которого составляли послевоенные переселенцы из центральных губерний империи. Областная администрация принимала определенные меры по наделению землей переселенцев, с другой стороны, зажиточные переселенцы зачастую покупали землю самостоятельно или через Кавказское отделение Крестьянского поземельного банка. Как уже говорилось, Крестьянский поземельный банк создан решением властей в 1882 г.
1 РГВИА. Ф. 1300. Оп. 7. Д. 1. Л. 7 об.; Саламов А. К истории нашей Чечено-Ингушетии // Грозненский рабочий. — 1962. — 20 июля. — № 169. — С. 3.
2 Ахмадов X. М., Горчханова Г. А. Указ. соч. — С. 57.
3 Рагпушняк В. Н. Указ. соч. — С. 187—188.
— 330 -
Земельный вопрос в Чечне. Аграрная политика царизма
Аграрное перенаселение и земельный голод в Чечне, искусственно созданные конфискацией земель в казну и для размещения крепостей и казачьих станиц, усиливались по мере развития капитализма в аграрном секторе. Несмотря на усилия властей и сопротивление рядовых общинников, начинается захват общественных земель. Причем, далеко не всегда за этим стояли крупные собственники: дело в том, что большинство крестьян стремилось закрепить за собой паевые наделы, что отразилось в постепенном, но повсеместном увеличении сроков перераспределения земель внутри общины. Так, если в 70-е гг. XIX в. перераспределение земель производилось ежегодно, то через десять зет оно происходило один раз в 3—5 лет, а к началу XX в. — один раз в 10 лет1.
Поскольку кавказские власти категорически отрицали саму возможность возвращения горцам ранее отнятых у них земель, те же чеченские крестьяне оказались вынужденными арендовать недостающие им земли. В качестве арендодателей выступало Терское казачье войско, государство, сельские общины и частные владельцы, как чеченские, так и других национальностей. Арендовать земли, отнятые в пользу казачьего войска, чеченцы начали еще в 70-х гг. XIX в., причем как площадь арендуемых земель, так и арендная плата быстро увеличиваются из года в год. В середине 90-х гг. XIX в. в целом по Терской области в аренду ежегодно сдавалось от 390 до 450 тысяч десятин •юртовых» земель. Так, в 1895 г. казаки сдали в аренду 420 тысяч десятин «юртовых» земель, официальная арендная плата за которые составила свыше 140 тысяч рублей в год. Кроме того, в аренду сдавались и «запасные» земли — до 65 тысяч десятин в год, что приносило Терскому казачьему войску дополнительно еще приблизительно во 60 копеек за десятину2.
Аренда горцами казачьих земель получила столь широкое распространение, что вызвала даже беспокойство у официальных властей. Администрация Терской области всерьез опасалась, что, арендуя одни ■ те же участки в течение многих лет, горцы могут, в конце концов, предъявить на них претензии. Кроме того власти стремились закрепить з области возможно большее количество «иногородних» крестьян, а потому в конце XIX в. вышло распоряжение, запрещавшее казакам сдавать гзюю землю в аренду непосредственно горцам. Результатом данного решения стало появление большого числа посредников, через которых жиля все же попадала к горцам, но уже по более высокой цене.
- Невская В. П. Перемены в общественном строе горских народов Северного кгзказа во второй половине XIX в. // Великий Октябрь и передовая Россия в исторических судьбах народов Северного Кавказа (XVI — 70-е годы XX ве- Материалы Всероссийской науч. конференции, 2—3 октября 1979 г. — Грозный. — 1982. — С. 326.
?*жушняк В. Н. Указ. соч. — С. 191.
Глава VII. Аграрный и сословный вопрос в Чечне во второй половине XIX в. Депортация чечени—
в Турцию
Чеченские крестьяне арендовали также «казенные» участки и земли соседних сельских общин. Например, жители селения Эгишбатой, у которых на 136 дворов приходилось всего 200 десятин «удобной» земли, арендовали недостающую землю у соседних селений, что, по замечанию начальника Терской области, ставило их «в самые тяжкие условия жизни»1. Складывается также целая категория «временнопроживающих *► крестьян, ушедших из-за малоземелья в родных аулах на «аренду» и живущих хуторами на «чужих» землях, главным образом станичных.
В целом земельный голод в Чечне приобретал уродливые формы, несовместимые с требованиями времени вообще и развитием капитализма в аграрном секторе Российской империи в частности. Отсталые колониальные порядки душили сельское хозяйство Чечни, порождали политический и вооруженный протест крестьянства.
§ 2. Социальные процессы в чеченской общине в пореформенный период
Традиционная чеченская община. Вторая половина XIX в. ознаменовалась серьезными изменениями в общественном строе чеченце*, что происходило под жестким воздействием российской колониально» политики. В Российской империи, население которой делилось на сословия, имевшие разные права и обязанности, кавказской администрации предстояло определить, к какому сословию отнести различи» социальные группы только что покоренных горцев. При этом власт» откровенно игнорировали уже сложившиеся в Чечне общественные отношения и стремились внедрить в Чечне крестьянскую общину о» типу русской.
Традиционная чеченская сельская община (общество) — джамагт включала в себя всех свободных лиц, независимо от их имущественного положения, имевших право на владение землей в пределах территории данного общества. Таким образом, в общину входили не только крестьяне, но и «почетные люди» — старшины, священнослужители, феодальные владельцы (там, где они были). В этом одно из главных отличи* чеченской общины от русской, являвшейся чисто крестьянской и ве включавшей в себя феодала-помещика. В Чечне феодальные владельцы, как правило, предпочитали быть членами общины, поскольку это ве только давало им дополнительное право на участие в делах джамаата. но и позволяло пользоваться общественными земельными угодьямк.
Имущественная дифференциация внутри чеченской общины делая* ее социально неоднородной. Все свободные члены общины делились условно на три категории: «тоьлла нах» — «сильные люди», «юккъерв
1 РГВИА. Ф. 1300. Оп. 4. Д. 1389. Л. 1—1 об.
— 332 —
Социальные процессы в чеченской общине в пореформенный период
sax» — «средние люди» и «лахара нах» — «низшие люди»1. При этом see они могли являться узденями («оьзда нах»), т. е. благородными, свободными и в сословном отношении равноправными. Последняя категория («лахара нах») включала в себя не только малоимущих, но ж потомков рабов и «пришлых» людей, лишь сравнительно недавно ставших членами общины. На первых порах «пришлые» полностью зависели от общины, которая могла им отказать в выделении земельного вя. Об этом, в частности, прямо говорил шейх Кунта-Хаджи: «Чтобы получить пашни кусок, он должен просить с унижением, и он просит г них, чтобы они не отказали ему в небольшом клочке земли. Тогда гояько они, может быть, сжалятся над ним и освободят ему дорогу. После того, как сами отсеятся, дадут ему оставшийся маленький клочок. После того, как сами отсеятся, и не останется свободной земли, — ему ничего не достанется. И просьбы его не примут»2.
Сложность социальной структуры чеченской сельской общины еще •ояьше увеличивалась наличием внутри нее тейповых (фамильных) и кровнородственных отношений. О силе влияния тейповых отношений ■ажно судить по тому факту, что самые старые чеченские селения за равнине делились на участки (кварталы — «куп») по названиям гейпов. На более позднем этапе усилилось значение так называемых •больших» семей, включавших обширный круг людей, связанных кровным родством. На протяжении длительного времени стабильность чеченской общины сохранялась благодаря преобладанию в ней •средних людей», которые сообща ограничивали претензии «сильных жюдей» на захват общинных земель и экономическое подчинение рядовых общинников.
Зависимые люди. Несколько особняком в чеченской общине нахо- шдись лично зависимые люди. В Чечне категория зависимых людей и рябов («лай») исторически формировалась прежде всего за счет пленных, мхваченных у соседних народов и в силу разного рода причин оставшихся не выкупленными. Кроме того, зависимыми часто становились пеглецы из чужих земель, которые попадали под «покровительство» гой или иной «сильной» фамилии. Еще один источник формирования ок.ювия зависимых людей — эксплуатация слабых и беззащитных волей из числа самих чеченцев, прежде всего детей-сирот3.
Хасбулатова 3. И. Структура сельской общины и патронимия у чеченцев во второй половине XIX в. // Вести. Моек. Ун-та. — Сер. 8. — История № 1. — М., 1981. — С S8.
Т=рждамат макалат аш-шайх хаджи Кунта ал-Мичигиши // Сигаури И. М. Очерки ■стории и государственного устройства чеченцев с древнейших времен. Т. 2. — М., Ж1. — С. 349.
1Ымакаев М. Чеченский тейп в период его разложения. — Грозный, 1973. —
1 4-$—49.
Глава VII. Аграрный и сословный вопрос в Чечне во второй половине XIX в. Депортация
в Турцию
Несмотря на то что хозяин имел право распоряжаться жизнью ж смертью «лая», фактически последние находились на правах младших членов семьи, и поэтому к ним лишь условно может быть применено такте понятие, как «домашние рабы». Это тем более так, что, по сложившейся у чеченцев традиции, «лай» в конечном итоге получал от своего хозяин* участок земли (за которую выплачивал бывшему хозяину ренту), мог обзавестись семьей и вести самостоятельное хозяйство. Получивший свободу «лай» и его потомки становились членами общины, хотя и занимали в ней положение «низших людей». У. Лаудаев, первым указавший в* особенность положения зависимого сословия в Чечне, подчеркивал, чт© у чеченцев «...владелец и холоп работали вместе. В отношении к посторонним людям, у чеченцев холопы были почти равны с народом...*1.
Следует также указать на малочисленность зависимого сословия i Чечне. Если в той же Кабарде насчитывались тысячи семей крепостньп крестьян, которыми владели не только князья, но и рядовые узденя, то среди чеченцев в 60-х гг. XIX в. имелось по разным оценкам ж более 300—400 лично зависимых людей. Дело в том, что следствиов социальной политики Шамиля была ликвидация крепостной и рабстасй зависимости лиц, исповедовавших ислам. Все они немедленно получа ли личную свободу. На части чеченских земель, которых не достигал* власть государя-имама, холопы и рабы сохранялись, например в Надтеречных аулах. Так, по официальным данным, во всех горских округах Терской области к 1860 г. насчитывалось 25 605 человек, отнесенных в сословию лично зависимых (главным образом в Кабарде и равниннюш Дагестане), а в Чечне их было всего 294 человека. Ко времени начав освобождения зависимых сословий, только в трех селениях Чечни имелись владельцы «лаев»: в Брагунах — это князья Таймазовы и князь. А. Султамбеков; также уздени А. Гойтемиров, М. Умакаев, С. Бамбг- тов, X. Бекмурзаев, А. Бидыкаев; в Новом Юрте — поручик Д. Гиреев, юнкер П. Курумов, Ю. Д. Гиреев; в Чулик-Юрте — поручик Чулик» и княгиня Эльдарова2. Как видно из этого перечня, зависимых люде* имели, преимущественно, князья и их уздени.
Генезис общинного землепользования. Если в русской крестьянской общине вся земля принадлежала «миру» (общине), то в традиционной чеченской общине сосуществовали разные формы земельной собственности, как частной, так и общинной. Последняя включала * себя и мечетскую собственность. Господствующей формой собствен¬
1 Лаудаев У. Чеченское племя // Чечня и чеченцы в материалах XIX в. — Элист*. 1990. — С. 99.
2 См.: Освобождение зависимых сословий во всех горских округах Терской облает'» // Кавказские горцы: Сб. сведений. Т. 1 [VIII]. — М., 1992. — С. 40; Ибрагимова 3. X Чечня после Кавказской войны (1863—1875 гг.) (по арх. материалам). — М., 2000. — С. 174; Акты, собранные Кавказской Археографической комиссией. Т. 5. — Тифлис. 1904. — С. 1287.
Социальные процессы в чеченской общине в пореформенный период
ности являлась парцеллярная крестьянская собственность на все обрабатываемые земли, в первую очередь пахотные. Так что чеченским крестьянам-узденям действительно было, что защищать в Кавказской эомне, кроме как личную свободу.
Суть крестьянской реформы, которую начали претворять здесь в жизнь российские власти со второй половины 60-х гг. XIX в., состояла врежде всего в том, чтобы закрепить за чеченскими крестьянами землю на условиях русского общинного землепользования. В Чечне не просто воспроизводилась русская крестьянская община с ее круговой порукой ■ уравнительно-передельной системой землепользования. Главное состояло в том, что, вводя единую общинную собственность на землю, зяасти не только лишали чеченских крестьян права владеть землей на араве частной собственности, но и вся общинная земля объявлялась пжударственной собственностью, которая лишь передавалась горцам «б пользование».
В результате реформы чеченская община стала считаться бессослов- аой, что существенно снижало социальный статус лиц, претендовавших за положение «сильных людей». Зато теперь сельская община стано- млась более контролируемой властями, а круговая порука облегчала сбор налогов и выполнение натуральных повинностей, возложенных за крестьян. Отныне во главе сельской общины оказывался старшина, назначаемый военной администрацией. Существенно ограничивались ж права сельского схода. Например, если раньше любой домохозяин ммея право созвать сельский сход, то теперь этим правом обладал исключительно старшина, без участия которого любое решение сельчан зе признавалось законным.
В целом крестьянская реформа в Чечне, прежде всего в равнинной ее части, имела следствием ускоренную имущественную дифференциацию чеченского крестьянства, из которого быстро выделялась, с одной сторожа. сельская буржуазия, сосредотачивавшая в своих руках все большую юлю средств производства, а с другой стороны — значительная часть крестьян разорялась и в конечном итоге теряла контроль над землей. Еше более ухудшилось положение «пришлых» членов общины, которые теперь практически не имели шанса получить земельный пай.
Решение вопроса о привилегированных сословиях. Еще во время Кавказской войны русские военные власти делали все возможное, тюбы сократить количество лиц из числа горцев, которые могли бы претендовать на включение в привилегированные сословия. Именно юзтому не признавалось дворянство за многочисленными рядовыми тзвенями. Горцы, оказавшиеся на русской службе, могли заслужить точное или потомственное дворянство только многолетней безупречный службой. Смысл этой политики состоял в том, что тем самым клггко ограничивалось число горцев, которые могли бы пользоваться
Глава VII. Аграрный и сословный вопрос в Чечне во второй половине XIX в. Депортация чеченцев
в Турцию
привилегиями и правами, а это, в свою очередь, развязывало руки местной администрации, которая могла управлять краем и народом по собственному произволу.
Разумеется, что далеко не все горцы, представители традиционных привилегированных слоев, легко согласились с понижением своего социального статуса. Кавказская администрация рассматривала многочисленные жалобы и претензии горцев, добивавшихся причисления к привилегированным сословиям как во время Кавказской войны, так и после нее. В 1864 г. император Александр II оказался вынужденным утвердить распоряжение Кавказского наместника об образовании во Владикавказе Временной комиссии для разбора личных и поземельных прав горского населения Терской области. Сама комиссия была создана еще в 1863 г. Тем не менее, упорное нежелание администрации Терской области признавать сословные права горцев привело к тому, что практических результатов деятельность Временной комиссии не имела.
Поскольку жалобы со стороны горцев, ставших подданными Российской империи, не прекращались, в октябре 1871 г. была создам Комиссия для разбора сословных прав горцев Кубанской и Терской областей. Комиссия была призвана определить, какие горские сословие и фамилии могут быть признанными «...соответствующими разряда* высшего сословия, существующего в Империи». Свое заключение по Терской области комиссия представила уже в 1872 г., а по Кубанская области — в 1874 г. По обеим областям были составлены подробные списки лиц, причислявших себя к привилегированным сословиям, а списки лиц, имеющих офицерские чины, что давало им существенные привилегии. Кроме того, по всем имевшимся горским княжеским фамилиям были составлены генеалогические таблицы1.
В Чечне, согласно выводам Комиссии, помимо лиц, заслуживших привилегии личными заслугами (главным образом офицеры), только некоторые из «кумыкских» дворян имели право быть причисленными к привилегированному сословию. Это 10 княжеских фамилий, имевших титул «бий* (в том числе, князья Айдемировы, Турловы, Уцмиевы, Хамзаевы) — все» 89 человек. Кроме того, признавалось княжеское достоинство брагунсюа князей («эли») Таймазовых — всего 29 человек. К дворянам рекомендовалось причислить и 14 фамилий узденей — итого 404 человека2.
Выводы сословной комиссии, разумеется, не могут быть признаны полностью объективными. Стараясь не слишком противоречить
1 РГВИА. Ф. 1300. Оп. 4. Д. 1357. Л. 15,16.
2 См.: РГВИА. Ф. 1300. Оп. 4. Д. 1357. Л. 60 об.; Айдемировы принадлежали к фамилия Турловых, княживших в центральной части равнинной Чечни начиная с серетж- ны XVII в.; Турловы являлись ответвлением аварского дома нуцалов (правителей», к началу XVIII в. они очеченились, а в XIX веке по политическим причинам ст*- ли писаться кумыками. Да и остальные княжеские фамилии были тесно связаях с чеченцами взаимными браками и историей.
— 336 —
Социальные процессы в чеченской общине в пореформенный период
официальному правительственному курсу, она в своих выводах часто противоречила сама себе. Например, признавая, что у горцев издавна существует привилегированный класс, который имеет примерно те же права, что и российское дворянство, комиссия отказалась все же полностью уравнять в правах горских узденей и российских дворян. Одновременно (что не менее важно) комиссия отрицала наличие у всех горцев частной и феодальной собственности на землю. За обоими этими выводами явно чувствовалась прямая заинтересованность кавказской администрации. Однако даже и в таком виде выводы этой Комиссии зе были утверждены в законодательном порядке, поскольку администрации Терской и Кубанской областей категорически возражали против воллективного признания сословных прав горцев в любом случае.
Решение вопроса, таким образом, было отложено еще на несколько тег, пока в 1890 г. Командующий войсками Кавказского военного округа зновь не возбудил вопрос о признании сословных прав привилегированных лиц горских обществ, так как нерешенность этого вопроса «...служит причиною многих споров и затруднений для администрации, которая, не имея никаких положительных данных, должна разбираться ь массе жалоб лиц, считающих себя якобы привилегированными». К этому времени, общее число горцев, претендующих на принадлежность s высшему сословию Российской империи превышала 18800 человек. Весьма показательно, что, даже предлагая возобновить деятельность адсловной Комиссии, высший чиновник Кавказа одновременно требовал эе допускать в ее состав самих горцев1.
Надо указать, что признания сословных прав добивались преимущественно материально состоятельные горцы, стремившиеся таким образом не только укрепить собственное положение, но и оградить себя от произвола местной администрации. Что касается малоземельных и швее безземельных узденей, то они, наоборот, не были заинтересованы «официальном признании своего дворянства, так как это могло лишить кх крестьянского земельного пая в сельском обществе.
Только в 1892 г. предложенный Министерством юстиции проект По- мясения о сословных правах туземцев Северного Кавказа был направлен si рассмотрение Государственного Совета — высшего государственного вргана Российской империи. В целом предложенный проект носил чрезвычайно умеренный характер. Только тем горцам, которые могли доказать свою принадлежность к традиционным высшим сословиям горского общества, предполагалось даровать право поступать на государственную ^ггжбу на правах канцелярских служителей 2-го разряда. Всех остальных горцев намечалось причислить к «сельским обывателям».
Однако и это предложение встретило категорические возражения is*; военного ведомства, так и администрации Терской области. Военное
эТВИА. Ф. 1300. Оп. 4. Д. 1357. Л. 10,10 об., 27.
— 337 —
Глава VII. Аграрный и сословный вопрос в Чечне во второй половине XIX в. Депортация чеченцев
в Турцию
министерство настаивало на том, что горцы Северного Кавказа всегаг боролись против России, и у них никогда «...не было ни правильного государственного устройства, ни определенных сословий». Начальник Терской области, в свою очередь, решительно заявлял: «.. .так как край покорен, то никто из жителей не имеет права претендовать на признание за ними права привилегированных сословий; в особенности дворянского и княжеского...» К тому же, по мнению того же начальника Терской области, горское мусульманское дворянство всегда враждебно относилось «к русской народности», а потому признание его прав оттолкнет от России горское христианское население и будет во вред правительству1. В целом позиция военного чиновничества Терской области наглядно демонстрирует его стремление сохранить неограниченную власть нал горцами. В результате вопрос о признании сословных прав привилегированных сословий горцев так и не был окончательно решен.
Освобождение холопов и рабов. Еще одним немаловажным направлением социальных преобразований в Терской области стало освобождение лично зависимых сословий. Несмотря на то, что «Положение от 19 февраля 1861 года», в соответствии с которым в российских губернии освобождали русских крепостных крестьян, не распространялось на Кавказ, местные власти прекрасно осознавали необходимость постепенно» улучшения участи зависимых сословий среди горцев. Тем более, чт* некоторый опыт в этой области уже имелся. Так, во время Кавказской войны российские власти освобождали холопов принадлежащих тем s горских владельцев, которые принимали участие в вооруженной борьбе против России. В свою очередь в имамате Шамиля получали свободу вег зависимые и лица, бежавшие от своих владельцев из российских преае- 710в. Сразу же после завершения войны на Северо-Восточном Кавказе, когда значительная часть кабардинских феодалов решила переселиться » Турцию, кавказский наместник А. И. Барятинский распорядился отпускать на волю их крепостных крестьян. Таким образом, хотя формально зависимые сословия Северного Кавказа и не подлежали немедленном* освобождению, власти в том же 1861 г. издали распоряжение, запрещающее раздельную продажу членов одной семьи. Еще через три гола. ш 1864, были освобождены все приписанные к Терскому казачьему войстя крепостные крестьяне «туземного происхождения», а в 1865 г. — запрещена продажа крестьян в «иноязычные» области.
Непосредственно к освобождению зависимых сословий российские власти приступили в 1866 г., когда для этой цели был создан специальный комитет. В Чечне для этой же цели была создана местная комиссия в которую вошли: от властей — полковники К. Курумов и В. Aim*, майор Ш. Эльмурзаев; от мусульманского духовенства — Б. Аджиев * А. Мирзоев; от зависимых сословий — М. Музлугов и У. Эльбуздуия.
1 РГВИА. Ф. 1300. Oil 4. Д. 1357. Л. 205,205 об., 209,212,229 об.
— 338 —
Социальные процессы в чеченской общине в пореформенный период
Лишь только часть бывших паев получила свободу безвозмездно, некоторых выкупило правительство, остальные вынуждены были заплатить за свое личное освобождение. Так как освобождение крестьян проводилось без наделения их землей, власти почти сразу же столкнулись с новой проблемой — сельские общины отказывались включать в свой состав вновь освобожденных, так как в этом случае необходимо было выделять им земельный пай. В Чечне, где всего было освобождено более 300 лаев, это не стало серьезной проблемой, но в других округах Терской области власти столкнулась с фактами самозахвата казенных земель бывшими крепостными. Зато администрация Терской области сочла возможным оказать материальную помощь бывшим владельцам холопов, выделив им 85 тысяч рублей, в том числе 5 тысяч рублей — чеченским владельцам1.
Категория временнопроживающих2. Не улучшилось в результате реформ положение «пришлых» людей (временнопроживающих — по терминологии терского начальства), число которых стало быстро возрастать, несмотря на то что переселение горцев из своих общин оказалось в высшей степени затруднено. Чтобы перейти из одной общины в другую, чеченцу требовалось разрешение двух сельских сходов. Причем в приговорах сельских обществ обязательно оговаривался характер поведения кандидата на переселение, так что простого подозрения в неблагонадежности оказывалось достаточно, чтобы отказать в разрешении на переселение.
Тем не менее, по мере развития товарно-денежных отношений аграрное перенаселение выталкивало из родных селений все большее юличество чеченских крестьян. Большую часть временнопроживающих составляли жители горных селений, в наибольшей степени страдавшие от малоземелья. В поисках средств к существованию безземельные или малоземельные горцы переселялись в равнинные селения, где у них часто не было никакой возможности стать полноправными членами сельской общины и получить для обработки земельный пай.
К временнопроживающим не относились крестьяне, получившие зшсьменные свидетельства в виде краткосрочных паспортов, которые выдавались участковыми начальниками для тех, кто направлялся на сезонные работы за пределы своего села или округа. Временный паспорт сохранял за отходником все права члена сельской общины: земельный пай, право пользования общинными угодьями и т. д. В то
Гриценко Н. П. Рабство и освобождение рабов в Чечено-Ингушетии // Вопр. истории Чечено-Ингушетии. Т. 10. — Грозный, 1976. — С. 297.
См. обобщающую работу: Ахмадов X. С. Временнопроживающие горцы в социальной структуре чечено-ингушского общества в конце XIX — начале XX в. // Общественные отношения у чеченцев и ингушей в дореволюционном прошлом ‘XIII — начало XX в.). — Грозный, 1982.
— 339 —
Глава VII. Аграрный и сословный вопрос в Чечне во второй половине XIX в. Депортация чеченцев
в Турцию
же время отходник не освобождался от всевозможных повинностей в пользу государства.
В глазах терской администрации главное отличие временнопроживающего состояло в том, что он терял право членства в той сельской общине, из которой он некогда выселился. Вместе с тем, в соответствии с обычным чеченским правом, переселившиеся из села не теряли прав собственности на принадлежавшие им частные участки земли. Поэтому, переселяясь на равнину, многие горцы либо сдавали в аренду, либо продавали свои личные земли.
Устроившись на новом месте, временнопроживающие горцы оставались вне сельской общины. Именно эта категория населения составляла большую часть наемной рабочей силы, выступала арендаторами земли крупных собственников и быстрее всего устремлялась в сферы хозяйственной деятельности, непосредственно не связанные с сельским хозяйством. Точных данных о численности временнопроживаюших чеченцах в Терской области не имеется, но можно с уверенностью утверждать, что речь должна идти о многих тысячах человек.
Таким образом, в результате реформ 60—70-х гг. XIX в. подавляющее большинство горцев оказалось включенным в сословие «сельских обывателей», что, однако, не уравнивало их в фактических правах с русскими крестьянами. Еще более ущемленным выглядело положение горцев по отношению к казакам, а почти полное отсутствие институт» местного самоуправления (земства) делало власть военных администраторов над «туземцами» практически неограниченной.
§ 3. Депортация чеченцев в Турцию. Переселенческие процессы в Терской области во второй половине XIX в.
Особенности состояния чеченского общества накануне депортации. Завершение Кавказской войны, несомненно, стало большим облегчением для чеченского народа, хотя нельзя не замечать и того факта, что острые противоречия социального характера в обществе не изгладились. Имело место и глубокое недоверие к новой власти. К тому же не мало было и тех, кто сложил оружие не по доброй вояе. а лишь подчиняясь обстоятельствам. В сочетании с жесткими, поа- час жестокими действиями российской администрации (например, насильственное переселение «ненадежных» селений), это недоверие быстро перерастало в недовольство, что время от времени приводи» к открытым вооруженным выступлениям.
Иного просто и быть не могло. Тянувшаяся десятилетиями война превратила значительную часть мужского крестьянского населения Чечни в профессиональных воинов, которые трудно находили себе
Депортация чеченцев в Турцию. Переселенческие процессы в Терской области
во второй половине XIX в.
место в мирной жизни. В отличие от шамилевских наибов, перешедших на русскую службу и получивших офицерские чины, основная масса рядовых мюридов должна была вернуться в разоренные аулы. Это было не просто еще и потому, что, преследуя в свое время противников Шамиля, эти люди (ставшие теперь частными лицами) часто становились объектом мести.
Кавказская администрация, видевшая главную задачу своего управления в «окончательном усмирении непокорных горцев», в своих действиях приоритет отдавала военно-полицейским мероприятиям, призванным не допустить новых восстаний, а потому проблемы адаптации массы чеченского населения к мирной жизни, да еще в составе нового для него государства с законами, построенными на иных началах, нежели в имамате, с ее стороны попросту игнорировались. Положение усугублялось и дезинтеграцией общественной жизни в Чечне и основательной трансформацией ее традиционных общественных институтов. С одной стороны, имам Шамиль в течение 25 лет стремился изменить традиционный образ жизни чеченцев, заставляя их следовать законам теократического государства. С другой стороны, то же самое делала российская администрация, навязывая собственные государственные институты. Таким образом, в течение долгого времени на территории Чечни одновременно сосуществовали сразу три государственно-правовые системы: российская, шариатская (имаматская) и традиционная Ӏадаты). При чем это сосуществование не было мирным — шла война, сопровождавшаяся физическим уничтожением большой массы насе- аения. Еще не привыкнув жить по одним законам, чеченцы зачастую оказывались вынужденными приспосабливаться к другим.
После завершения Кавказской войны терская администрация предпринимала активные усилия по внедрению в Чечне общественных институтов, вовсе не характерных, а то и враждебных для нее. В част- эости, речь идет о русского типа сельской общине с ее общественными ваделами и круговой порукой. В результате подобных мер происходило основательное разрушение не только традиционных институтов чеченского общества, но и подрыв общественной морали, нравственности, духовных ценностей. Это отмечали и многие российские исследователи. Тот же начальник штаба Кавказской армии генерал А. П. Карцев писал, что необходимость в течение двух десятков лет лавировать между властью Шамиля и русским правлением, изменила характер чеченцев1.
К тому же Чечня, за исключением, пожалуй, притеречной ее час- in, вышла из войны экономически разоренной и в прямом смысле обескровленной. Начиная со второй половины 40-х гг. XIX столетия стратегия русской армии заключалась не столько в военном разгроме армии Шамиля, а сколько в полном тотальном разорении Чечни,
См.: Дзагуров Л А. Переселение горцев в Турцию. — Ростов н/Д., 1925. — С. 42.
Глава VII. Аграрный и сословный вопрос в Чечне во второй половине XIX в. Депортация чече-»_?г5
в Турцию
являвшейся экономической базой имамата. Собственно, война штг уже не столько с мюридами газавата, сколько с чеченским крестьянством, которое обеспечивало государство Шамиля экономическими и людскими ресурсами.
Несмотря на то что чеченские крестьяне в 60-х гг. XIX в. сумели за короткий срок восстановить свои хозяйства, дальнейшее экономическое развитие Чечни несло в себе немало противоречий. Развитие товарно- денежных отношений и растущее значение денег имело своим следствием ускоренную имущественную дифференциацию крестьянства, его социальное расслоение и формирование слоя сельской буржуазии. Оя- новременно существует как бы две Чечни: одна быстро адаптируется к новым условиям, другая — сохраняет многие черты патриархальности. Это противоречие в сфере общественно-политической жизни выражается наличием прямо противоположных тенденций: пророссийскжя ориентация одной части социальной верхушки не может отменить антироссийских настроений у другой; восстания горных обществ почт* не находят отклика в равнинных селениях, предпочитающих сохранять мир; абреческие партии постоянно тревожат своими набегами русское начальство, в свою очередь чеченские старшины и милиционеры неутомимо преследуют абреков.
Планы изгнания чеченцев с их земель. Увеличение численности
постоянного русского населения на Тереке являлось важной составное частью как планов по окончательному «умиротворению» Чечни, так и по дальнейшей колониальной эксплуатации ее природных богатств и естественных ресурсов. Первыми вооруженными колонистами непосредственно на землях Чечни должны были стать казаки, которых в разгар Кавказской войны расселяли главным образом вдоль Сунжи. Очередной наместник Кавказа генерал-адъютант Н. Н. Муравьев — первый в 1856 г. предпринял меры по ускоренному заселению нижнего течения Сунжи. Не ограничиваясь этим, он планировал даже строительство казачьих станшз по левому берегу Аргуна, обосновывая свои планы тем, что «упрочивать владычество наше переселяемыми вперед станицами — есть способ, уже с пользой испытанный, и его не следует изменять».
Поспешность, с которой Н. Н. Муравьев колонизировал земли вдоль Сунжи и стремился продвинуть русские поселения еще дальше вглубь Чечни, объяснялась его растущим беспокойством по поводу массового возвращения чеченцев из внутренних горных районов имамата Шамиля на территорию, где раньше стояли их аулы, а ныне контролируемую российскими войсками: «...многочисленные семейства чеченцев... облепляют ныне аулами наши укрепления и обременяют нас стражею, которая над ними необходима. Они выпахивают земли, предназначенные казакам, и, кроме того, еще получают значительное пособие хлебом из казны. Число переселяющихся к нам ежедневно увеличивается, таг;
Депортация чеченцев в Турцию. Переселенческие процессы в Терской области
во второй половине XIX в.
что, с водворением полного владычества нашего на равнине Чечни, мы останемся среди народа, на который надеяться нельзя и который обезоружить невозможно»1.
Н. Н. Муравьев, таким образом, стал одним из первых высших российских сановников, который открыто говорил о необходимости массового переселения чеченцев, хотя он и не предлагал конкретных планов, как и куда изгнать ненужных российской администрации жителей Чечни. В отличие от него начальник Главного штаба Кавказской армии Д. А. Милютин еще в 1857 г. предлагал переселить часть «туземных племен» в Донскую область, где они оказались бы под полным контролем местного казачества. Впрочем, в Тифлисе и Санкт-Петербурге вскоре пришли к выводу, что выгоднее всего было бы добиться переселения горцев с Кавказа в Турцию. До 1859 г. для переезда в Турцию у горцев был, по существу, только один официальный канал — выехать для паломничества в Мекку и затем просто не вернуться. Для выезда требовалось специальное разрешение российских властей (так называемый «отпускной билет») и заграничный паспорт, которые первоначально выдавались сроком на один год. Разумеется, чиновники прекрасно знали, что горец, отправляющийся в паломничество со всей своей семьей и предварительно распродавший все свое имущество, уже не вернется. Именно поэтому, чтобы не впускать обратно горцев, решивших вернуться на родину, срок действия отпускных билетов был сокращен до шести месяцев. «Паломничество» в одну сторону было тем более выгодно правительству России, что позволяло ему на официальном уровне отрицать свою причастность к организации массовой миграции горцев, а турецкие власти лишались формального повода не пускать к себе тысячи кавказцев.
Политика Османской империи в вопросе переселения горцев. Правительство Турции первое время в целом положительно смотрело за ограниченную по размерам эмиграцию кавказских горцев. В отличие от России главной силой, консолидирующей многонациональную Османскую империю, являлся не национализм господствующей нации, а ислам. Столетиями султаны приближали к себе самых способных из своих подданных, выдвигая только одно непременное условие для зоступления на государственную службу — принадлежность к мусульманской религии. Именно поэтому среди первых лиц турецкого государства подавляющую часть составляли не турки, а кавказцы, гурды, арабы, албанцы, а также принявшие ислам греки, славяне и жругие европейцы.
С начала XIX в. происходит постепенный подъем сепаратистских звижений в различных регионах Оттоманской империи, прежде всего в европейской части, а также в населенных арабами областях. Для
Акты, собранные Кавказской Археографической комиссией. Т. 9. — Тифлис, 1384. — С. 66.
Глава VII. Аграрный и сословный вопрос в Чечне во второй половине XIX в. Депортация чеченьее
в Турцию
удержания этих территорий Блистательная Порта всеми способами поощряет военную колонизацию национальных окраин, мечтающих о свободе. Так как сами турки являлись национальным меньшинством в обширной империи, в качестве колонистов начинают использовать кавказских горцев, в частности, абхазов и черкесов, начавших переселение в Турцию небольшими группами еще до 1864 г. — окончания Кавказской войны на Северо-Западном Кавказе. Весной 1857 г. в Турции даже принят закон, поощрявший эмиграцию. По этому закону переселенцы (мухаджиры) получали существенные налоговые льготы, а также освобождение от обязательной военной службы на ряд лет.
Главой созданного в Турции специального ведомства по делам переселенцев был назначен один из генералов черкесского происхождения Нусрет-паша, а большая часть кавказских мухаджиров направлена б европейскую часть Турции. На территории южных славян (болгар, сербов, хорватов, боснийцев), а также албанцев поселения кавказцев возникали вдоль основных транспортных магистралей и в стратегически важных регионах. Всего здесь было расселено до 120 тысяч черкесов к абхазов1. Однако вскоре жестокие действия российских властей приведи к тому, что с Кавказа хлынул почти неуправляемый массовый потов, переселенцев, а фактически — беженцев, что поставило турецкие власти в чрезвычайно трудные условия.
В 1859 г. турецкие власти, под предлогом необходимости урегулирования ряда формальных вопросов (в частности, о порядке получении турецкого гражданства новыми переселенцами), потребовали приостановить переселение горцев, но российская сторона сделала все от нес зависящее, чтобы сохранить прежние темпы эмиграции. Утверждав, что горцы выезжают на паломничество, российские власти дошли даже до такого заявления, что не оспаривают «.. .у других держав права принимать в их подданство наших выходцев без разрешения нашего правительства»2.
Царские власти берут курс на организацию массовой депортации горцев. В 1860 г. во Владикавказе наместник Кавказа А. И. Барятинским провел специальное совещание с высшими военными чинами Кавказской армии с участием Д. А. Милютина — начальника Главного штаба Кавказской армии и будущего военного министра России. Главными темами обсуждения были: завершение покорения Северо-Западного Кавказа и христианская колонизация всего Северного Кавказа. Естественно, что главным препятствием для успешной колонизации являлось наличие в крае коренного горского населения. Для кардинального решения этой проблемы граф Н. И. Евдокимов предложил радикальным
1 Гожба Р. От Кубани до Нила расселились уходящие от родных очагов горцы. Родина. — 2000. — № 1—2. — С. 139.
2 РГВИА. Ф. 38. Оп. 7. Д. 382. Л. 16.
— 344 —
Депортация чеченцев в Турцию. Переселенческие процессы в Терской области
во второй половине XIX в.
план: воспользовавшись продолжением войны на Северо-Западном Кавказе, силой оружия согнать черкесов к Черному морю и поставить перед выбором — переселение в Турцию или в Ставропольскую губернию.
В декабре 1860 г. Н. И. Евдокимов переведен из Терской области на □ост командующего войсками на Западном Кавказе, где ему предстояло осуществить задуманную им «этническую чистку». Сам Н. И. Евдокимов не сомневался в целесообразности и оправданности предстоящего геноцида: «Первая филантропия — своим; горцам же я считаю себя вправе предоставить лишь то, что останется на их долю после удовлетворения последнего из русских интересов» \
В русле вновь сформулированной политики российские власти начали с 1861 г. выдавать всем горцам, направлявшимся на паломничество, бессрочные отпускные билеты, одновременно распорядившись, чтобы всех возвращающихся в принудительном порядке отправляли как бездомных на поселение во внутренние губернии России. Желание избавиться от горцев было столь велико, что командующий Кавказской армией пошел на беспрецедентный в истории русской армии шаг — был издан приказ, в соответствии с которым все офицеры из числа горцев, вернувшиеся из паломничества в Мекку (как просрочившие свой отпуск, так и не просрочившие его), без всякого служебного расследования подлежали исключению со службы с лишением прав на содержание из казны2. Этот приказ вполне оправданно можно рассматривать и как откровенную попытку ликвидировать вновь образовавшуюся сознал ьную верхушку горцев — состоявшие на службе горские офицеры заходились под покровительством законов империи и могли защитить от произвола кавказской администрации не только себя, но и значительную часть своих земляков.
Истребление черкесов Северо-Западного Кавказа. Параллельно с ?тими мерами российские власти создали и старательно поддерживали версию о том, что переселение горцев Северного Кавказа в Турцию вызвано исключительно религиозным фанатизмом мусульманского населения, зе желающего жить под властью «гяуров». На самом деле переселение белее полумиллиона черкесов было насильственным: с осени 1861 г. российские войска начали беспощадное истребление черкесских аулов, нричем вслед за войсками шли первые партии русских поселенцев. К середине 1862 г. предгорья Северо-Западного Кавказа практически полностью очищены от горцев, а в 1863 г. началось изгнание населения с южных склонов Кавказа, прилегающих к Черному морю. Через год, в мае 1864 г., основная масса горцев Северо-Западного Кавказа оказалась согнанной за прибрежную полосу Черноморского побережья. В лагерях беженцев
Шгг. по ст.: Кухарук С Николай Евдокимов // Родина. — 1994. — № 3—4. — С. 64. Ибрагимова 3. X. Эмиграция чеченцев в Турцию (60—70 гг. XIX в.). — М., 2000. — С 4.
Глава VII. Аграрный и сословный вопрос в Чечне во второй половине XIX в. Депортация чече-_^
в Турцию
свирепствовала эпидемия тифа, ежедневно уносившая десятки жизней, но российские власти были полны решимости окончательно избавитьсж от «туземцев»: «.. .непременным условием окончания этой войны должэо быть совершенное очищение... Черноморского побережья и переселение горцев в Турцию...», а следовательно, «...вопрос о времени окончания войны, при настоящих обстоятельствах, приводит к тому — во скольжю времени успеем мы отправить в Турцию враждебное нам население»1.
Чтобы спасти сотни тысяч черкесов от неминуемой гибели, турецкие власти в экстренном порядке направили к ним корабли, которые вывозили их в турецкие пределы. В Европе последовали шумные протесты общественности, но реакция европейской дипломатии на развернувшуюся трагедию была сдержанной. Английский посланник в своем протесте российским властям, в связи с насильственной депортацией горцев, выражал беспокойство не только об участи черкесов, но и а> крушался, что непредвиденные расходы грозят окончательно подорвать и без того слабые финансы Турецкой империи. В ответ Россия сослалась на «добровольный» характер переселения, а для спасения турецких финансов предложила расселять горцев в Египте, находившемся п« полным контролем англичан2 3.
Массовое изгнание черкесов коренным образом изменило демографическую ситуацию на Северо-Западном Кавказе, где чудом оставшиеся несколько десятков тысяч адыгов оказались в плотном колыгг казачьих поселений на Кубанской равнине. По самым скромным подсчетам, жертвами депортации стали от 500 тысяч до 1 миллиона человек из различных адыгских и абхазо-абазинских народностей. Намерен* того же Н. И. Евдокимова не ограничивались лишь Северо-Западный Кавказом. Еще в 1859 г. он пытался через Закавказье переселить в Турцию до трех тысяч семейств горцев с Левого фланга Кавказской линия Став во главе Терской области, Н. И. Евдокимов пытался переселить часть чеченцев в Малую Кабарду, но сменивший его Д. И. Святопогп.- Мирский не только прекратил дальнейшее насильственное переселен*, но даже разрешил уже переселенным вернуться обратно.
Боязнь «чеченской угрозы». Обострение земельного голода. Вш- нения, вызванные арестом Кунта-Хаджи в 1864 г., еще раз убедили кавказское начальство в необходимости радикального решения «чеченской» проблемы. Наместник Кавказа великий князь М. М. Романов не скрываа перед императором своего мнения на этот счет: «...население Чечни до тех пор, пока оно остается на настоящем месте, будет долго, если
1 РГВИА. Ф. 38. Оп. 7. Д. 448. Л. 9.
2 Ибрагимова 3. X. Эмиграция чеченцев в Турцию (в 60—70-х годах XIX в.). — С1*
3 Бадаев С.-Э. Махаджирское движение в Чечне во второй половине XIX века " Актуальные проблемы истории дореволюционной Чечено-Ингушетии: Регионалзв* научная конференция: Тезисы докладов и сообщений. — Грозный, 1990. — С “4.
— 346 —
Депортация чеченцев в Турцию. Переселенческие процессы в Терской области
во второй половине XIX в.
не всегда, причиною волнений и препятствием к водворению гражданственности как в нем самом, так и в соседних племенах...». Он считал необходимым «...при первой возможности применять в отношении этого народа столь же действительные меры, какие теперь применены жля покорения племен Западного Кавказа...»1. В силу обстоятельств на Северо-Восточном Кавказе власти «выдавливали» горцев с их земель преимущественно экономическим давлением и тайной агитацией, хотя при каждом удобном случае в ход пускалась и вооруженная сила.
Лишь малая часть кабардинцев, чеченцев, дагестанцев и других горцев, переселившихся в Турцию, сделала это по идеологическим соображениям, из нежелания подчиняться новой власти. Главным же средством для изгнания горцев стало лишение их основного источника существования — земли. Передача обширных земель на равнинах под казачьи станицы оставляла без средств к существованию тысячи горцев. Власти частично расселяли их на пустующие земли, а частично направляли в уже существующие равнинные селения. Однако, в той же Чечне, переселенцам было очень трудно стать полноправными членами новой сельской общины и получить в ней полноценный земельный пай. Всего за несколько лет до массового переселения 1865 г. из Чечни, по некоторым данным, уже успело эмигрировать около 19 тысяч человек2.
Одновременно российские власти быстро убедились в том, что основная масса чеченцев не собирается добровольно покидать родину. Кстати, терская администрация часто объясняла упорный отказ чеченцев не только перебраться в Турцию, но и даже переселиться из гор на равнину, страхом потерять «дикую свободу». Думается, однако, что, помимо естественного нежелания коренным образом поменять привычный образ жизни, на чеченцев сильнейшее влияние имел и страх утратить принадлежавшую им на правах собственности землю. Российские власти не признавали этой проблемы, так же как они не желали видеть наличие б Чечне права частной собственности на землю — гораздо легче было управлять сельскими общинами, выступавшими в роли коллективного держателя государственной земли.
Именно земля без горцев больше всего интересовала ту же терскую администрацию, что особенно наглядно проявилось в условиях по выдаче -отпускных билетов», что были предложены Н. Н. Евдокимовым (первым начальником Терской области). Прежде всего, каждый желающий отправиться в «паломничество», обязан был расплатиться со всеми долгами, но при этом в уплату долга категорически запрещалось передавать земно, как принадлежащую казне. Одно время с переселенцев даже брали
: РГВИА. Ф. 38. Оп. 7. Д. 429. Л. 60—61.
- Ибрагимова 3. X. Чечня после Кавказской войны (1863—1875 гг.) (по арх. источникам). — С. 96.
— 347 —
Глава VII. Аграрный и сословный вопрос в Чечне во второй половине XIX в. Депортация чечена
в Турцию
письменное обязательство не возвращаться на родину, а заграничные паспорта им выдавались по самой низкой цене, что давало возможность уехать буквально всем желающим.
Желание властей осуществить массовое переселение чеченцев дополнительно стимулировалось еще и тем, что Чечня рассматривалась ках потенциальный источник волнений. Кавказская администрация видея2 только два пути ее окончательного «умиротворения»: либо выселить чеченцев в Турцию, либо переселить большую их часть на равнину, причем, таким образом, чтобы переселенцы оказались в окружении казачьих станиц. Предпочтение отдавалось первому варианту — переселению в Турцию, как более радикальному и требующему небольших расходов из казны. Князь А. И. Барятинский, при непосредственно* участии которого разрабатывались различные варианты по организации переселения горцев, твердо рассчитывал на поддержку со сторона российского императора: «.. .это, пожалуй, и не дурно, что уйдет вся эта сволочь, которая нам только в тягость. Не останавливайте, пусть идут в Мекку или куда хотят. А уж я постараюсь представить Государю эта дело в настоящем виде...»1 И действительно, переселение чеченцев быде санкционировано Александром II, с единственной оговоркой, чтобы овр было обставлено как добровольное движение самих чеченцев: правите». России опасался, что применение вооруженной силы вызовет всеобщ» возмущение на Кавказе и потребует слишком больших расходов. 1 целом же наместник Кавказа получил разрешение действовать в эта» вопросе по своему усмотрению.
Император Александр II (53, 96)
1 Цит. по кн.: Ибрагимова 3. X. Чечня после Кавказской войны (1863—1875 гг.) (по да материалам). — С. 106.
Депортация чеченцев в Турцию. Переселенческие процессы в Терской области
во второй половине XIX в.
Намерение высшего кавказского руководства переселить чеченцев не вызвало сколько-нибудь заметного сопротивления среди местного начальства. Некоторые сомнения, высказываемые начальником Терской области М. Т. Лорис-Меликовым, объяснялись его опасениями получить в конечном итоге новое чеченское восстание вместо переселения.
Роль М. Кундухова и С. Османова в организации выселения горцев. Как правило, история депортации чеченцев в Турцию не обходится без упоминания двух горских офицеров, участников Кавказской войны на разных сторонах. Их неуемные личные амбиции в сочетании с лю- зоедскими планами царизма по ослаблению чеченского этноса привели к национальной трагедии. Судя по сохранившимся источникам, возвышение Саадулы Османова (Ӏусмин СаӀадулла) при Шамиле произошло не вследствие наличия у него способностей государственного деятеля пли военного руководителя, а исключительно благодаря его личной храбрости. Участник Кавказской войны генерал В. А. Полторацкий в своих мемуарах, вспоминая о С. Османове, подчеркивал: «Этот наездник и богатырь не впервые оказывал чудеса храбрости, чем и славился в Большой и Малой Чечнях и высоко ценился самим Шамилем»1. Он получил звание наиба Малой Чечни, одной из самых значительных и стратегически важных областей имамата.
Перейдя в 1859 г. на русскую службу, С. Османов получает чин майора и сохраняет за собой должность наиба Урус-Мартановского участка, что, конечно же, не равнозначно должности наиба при Шамиле. Собственно, наиб в Терской области — это тот же пристав, наблюдающий за селениями своего участка через сельских старшин.
Уважаемый в народе за личную храбрость С. Османов использует свое влияние, чтобы в январе 1864 г. выступить посредником между восставшими последователями Кунта-Хаджи и командиром посланного против восставших отряда. Но, несмотря на активность С. Османова, заяьнейшее его продвижение по служебной лестнице остается под вопросом. Более того, даже на должности начальников участков в чеченских округах постепенно приходят русские офицеры, а бывшим чеченским наибам в перспективе остается либо довольствоваться службой в местной милиции, либо тянуть лямку армейского офицера.
Именно неудовлетворенность своим положением в наибольшей степени подтолкнула С. Османова принять участие в организации массового переселения чеченцев в Турцию в начале 1865 г. Об этом в своих воспоминаниях пишет Мусса Кундухов. Получив от начальника Терской области М. Т. Лорис-Меликова официальное письмо о начале зереселения, М. Кундухов пригласил «...к себе в дом многоуважаемого занба Саадуллу и почетного карабулакского старшину Алажуко Цугова
Полторацкий В. А. Воспоминания // Ист. записки. Т. 51. — СПб., 1893. — С. 78—79.
— 349 —
Глава VII. Аграрный и сословный вопрос в Чечне во второй половине XIX в. Депортация чеченцев
в Турцию
с почетными людьми. Объяснив им прошлое и настоящее их положение, я спросил их, что ожидает их в будущем на Кавказе. Они в один голос ответили, что, кроме нищеты и обращения в христианство, ничего лучшего не предвидят. Убедив их в истине этой, я предложил им оставить со слезами Кавказ и переселиться в Турцию, где, правда, не найдем таких удобных земель, какими завладели у нас по праву сильного русские, но где, при труде, не будем иметь ни в чем недостатка и будем всегда готовы, как только представится случай, с помощью турок прогнать врага нашего с Кавказа»1.
Руководивший по официальному поручению переселением чеченцев. М. Кундухов особо и не скрывал, что для него главным движущим мотивом была блестящая перспектива, открывавшаяся в Турции. Происходивший из знатной осетинской фамилии тагаурских алдар, к тому же исповедовавшей ислам, М. Кундухов (полное имя Мусса-Алхас) воспитывался в привилегированном Павловском кадетском корпусе. С 1839 г. находится в действующей армии и за отличия в борьбе против горцев быстро дослужился до штаб-ротмистра. После пленения Шамиля некоторое время являлся начальником Военно-Осетинского округа, а в 1861 г. отличившегося при подавлении восстания 1860—1861 гг. в Чечне М. Кундухова назначили начальником Чеченского округа2.
Быстрое продвижение способного осетинского офицера на этом не прекратилось. В 1863 г. он переведен в кавалерию Кавказской армии, а в 1864 г. произведенный уже в генерал-майоры, М. Кундухов получив от наместника Кавказа великого князя М. Романова весьма деликатное задание — провести неофициальные переговоры с турецким правительством об осуществлении массового переселения чеченцев. Именно в ходе этих (успешных для России) переговоров перед честолюбивым генералом открылась, как ему показалось, блестящая перспектива- Начальник Терской области М. Т. Лорис-Меликов так писал об этом: «В откровенных разговорах Мусса Кундухов не раз высказывал уверенность, что турецкое правительство поручит ему управление переселившимися в Азиатскую Турцию горцами, и что главной заботой его при этом будет стянуть горское население в одно место, образовать отдельную область сначала на особых правах, а потом с известной степенью независимости»3.
1 Цит. по кн.: Хожаев Д. Чеченцы в русско-кавказской войне. — Грозный, 1998. — С. 268—269.
2 Следует сказать, что, несмотря на участие в войне с Шамилем на стороне Россия. М. Кундухов пользовался большим авторитетом в Чечне и, по существу, вхолж* в сословие чеченской элиты, имел здесь много кунаков и сподвижников. Хорое* владел чеченским языком. Историки определяют его роль в депортации чеченцев, ингушей и осетин в 1865 г. как провокаторскую.
3 Цит. по кн.: Ибрагимова 3. X. Чечня после Кавказской войны (1863—1875 гг.): по apt источникам. — С. 103.
Депортация чеченцев в Турцию. Переселенческие процессы в Терской области
во второй половине XIX в.
Бесспорно, даже на первый взгляд планы М. Кундухова представляются авантюрой, но дело в том, что лично сам он в любом случае &пчето не терял. В переселении горцев, в силу разных причин, были иинтересованы и российские, и турецкие власти. Уже одно это обстоятельство придавало М. Кун духову, как непосредственному организатору аереселения, определенный вес в глазах как Петербурга, так и Стамбула. Занимая высокие посты в кавказской администрации, М. Кун духов не мог не знать, что еще в 1861 г. князь А. И. Барятинский предлагал российскому правительству добиться от Порты создания на турецкой территории горского анклава под управлением Шамиля. Создание аодобного анклава во главе с пророссийски настроенным правителем >#огло дать России значительные преимущества в случае нового воен- ж>го конфликта с Турцией. Проект первого наместника Кавказа был агклонен в Санкт-Петербурге, где, очевидно, не верили, что, оказавшись а Турции, Шамиль сохранит лояльность российскому императору. Но Мусса Кундухов мог рассчитывать, что российское правительство сообрит идею создания независимого от Стамбула горского владения за турецкой территории во главе с ним.
В случае, если бы эти планы не получили поддержки российского аравительства, у М. Кундухова имелся и запасной вариант — создать в Малой Азии горский анклав под покровительством турецких властей и ■люльзовать турецкую поддержку для вытеснения России с Кавказа.
М. Кундухов в форме турецкого генерала. Фото (6, 317)
— 351
Глава VII. Аграрный и сословный вопрос в Чечне во второй половине XIX в. Депортация чечена
в Турцию
При этом сам М. Кундухов не только рассчитывал на радушный прием со стороны турецкий властей, но и заручился определенными гарантиями со стороны российского правительства: в течение года после переселения за ним сохранялось право беспрепятственно вернуться в Россию и продолжить службу в прежнем качестве.
Время показало, что М. Кундухову не удалось обмануть ни турецкое, ни российское правительства. Санкт-Петербург добился удаления с Кавказа не нужного ему населения, а турки рассеяли горцев на огромном пространстве от Балкан до Ирака, их кровью удерживая в составе Блистательной Порты угнетенные народы. Не состоявшийся «предводите» горцев» и «освободитель Кавказа» М. Кундухов был вынужден довольствоваться службой в турецкой армии, а расплачиваться за затеянну» им авантюру пришлось десяткам тысяч простых горцев, погибших bi чужбине. Вероятно, в их числе оказался и его невольный помощниц С. Османов, о судьбе которого в Турции нет достоверных сведении. Существует, однако, предание, что один из храбрейших наибов Шамиле погиб во время восстания горцев против турецких властей.
Начало реализации планов депортации чеченцев. В 1864 г. рог сийский посланник в Стамбуле начал переговоры с турецким птш*- тельством, добиваясь согласия турецкой стороны принять большее количество переселенцев-чеченцев. С этой же целью в Турцию прибыв и генерал-майор Мусса Кундухов, до этого занимавший должное» начальника Грозненского (Чеченского) округа. М. Кундухов выступи перед турецким правительством в роли основного организатора не реселения, который решил лично возглавить новую волну кавказски мухаджиров (между тем, сам он имел непосредственно от начальспн предписание «приступить к возбуждению в среде чеченского населен* стремления к уходу в Турцию»). В конечном итоге Турция согласи яга принять до пяти тысяч семей новых переселенцев1.
Агитация среди чеченцев за переселение в Турцию достигла емдах пика в начале 1865 г., причем российские власти применяли весьма пенообразный набор методов и приемов. Так, в Чечне распространял*! поддельные прокламации, якобы исходящие от турецкого правитеи- ства, в которых переселенцам обещался радушный прием и хороие материальное обеспечение. Сам М. Кундухов и два его ближайма помощника — наиб Малой Чечни Саадула Осмаев и старшина Кле» булакского общества Малой Чечни Алажуко Цугов — лично и чгэе- близких людей распространяли слухи о том, что российские власт* готовятся ввести в Чечне ряд новых повинностей: всеобщее разоружен* обязательную воинскую повинность, насильственную христианизазм
1 Исаев С. А. К истории переселения части народов Северо-Восточного Кл-ивк в Турцию // Актуальные проблемы истории дореволюционной Чечено-Ингтн^ тии: Региональная научн. конференция: Тезисы докл. и сообщений. — Грозил* 1990. — С. 73.
— 352 —
Депортация чеченцев в Турцию. Переселенческие процессы в Терской области
во второй половине XIX в.
и т. д. При этом, в специальной депеше начальника Терской области в Главный штаб Кавказской армии подчеркивалось: «Для успеха дела необходимо, чтобы горцы не только не знали о желании нашем содействовать переселению, но и местная власть должна напротив, как бы отклонять их от этого намерения» *.
На агитацию среди горцев М. Кундухов получил из казны 5 тысяч рублей, и его агенты развили такую бурную деятельность, что вызвали серьезную тревогу у местных начальников, бывших не в курсе замаскированной провокации. Так, начальник Аргунского округа А. Ипполитов докладывал, что агитация С. Осмаева «.. .может привести народ скорее к восстанию, нежели к переселению...»2. Эти опасения получили подтверждение в начале мая 1865 г., когда в Ичкерии произошло вооруженное выступление небольшой группы последователей Кунта-Хаджи под руководством Т. Экмирзаева. Это выступление было быстро подавлено местными старшинами и чеченской милицией и не вызвало серьезной озабоченности у начальника Терской области. Тем более что в связи с готовящимся переселением М. Т. Лорис-Меликов заблаговременно сосредоточил и полностью подготовил к военным действиям все расквартированные в области войска, а возле крепостей Грозная и Воздвиженская были созданы лагеря для двух крупных «ударных» отрядов, каждый из которых насчитывал по 5—6 батальонов пехоты с кавалерией и артиллерией.
Намереваясь отправить в Турцию прежде всего самый «беспокойный элемент», терская администрация особые усилия приложила к тому, чтобы склонить к переселению как можно больше «зикристов» — последователей Кунта-Хаджи. В этой связи начальник Терской области даже эоднимал вопрос о возвращении из ссылки всех руководителей общи- йы, включая и самого Кунта-Хаджи, рассчитывая, что вслед за своим ястазом эмигрируют все его последователи. Турецкие власти выразили согласие принять ссыльных, но выдвигали встречное условие — вместе с ссыльными в Турцию должны переехать и их семьи в полном составе. Впрочем, высшее российское начальство отказалось отпустить Кунта- Хаджи, видимо, считая, что ссылка все же надежнее заграницы, откуда юзвращались чаще, чем из Сибири.
Ход депортации чеченцев. В общей сложности, по официальным данным, с мая по сентябрь 1865 г. в составе 28 переселенческих партий а Турцию переселилось до 23 тысяч чеченцев (по подсчетам некоторых * зЦит. по кн.: Ибрагимова 3. X. Эмиграция чеченцев в Турцию (60—70 гг. XIX в.). — С 13.
: Пит. по ст.: Хасбулатов А. Переселение горцев Северного Кавказа в Турцию
з XIX в., как одна из форм протеста против колонизаторской политики царизма Актуальные проблемы истории дореволюционной Чечено-Ингушетии: Региональная научн. конференция: Тезисы докл. и сообщений. — Грозный, 1990. — С 70.
Глава VII. Аграрный и сословный вопрос в Чечне во второй половине XIX в. Депортация чечение^
в Турцию
Участок Военно-Грузинской дороги. Фото (6, 273)
современных чеченских исследователей, эта цифра составляет до 80 тысяч человек1, что малореально), а расходы российской казны вж эти цели составили более 130 тысяч рублей (для сравнения укажем, что лично М. Кундухов получил вознаграждение из казны в 45 тысяч рублей, якобы за оставленное в России имущество). Переселенцы достиг#» Турции сухопутным путем: из Владикавказа по Военно-Грузинской дороге в Закавказье, через Грузию до Батуми, и далее по территория турецкой Анатолии.
Значительную часть переселенцев (более 4,5 тысяч семей из общей» числа в 5 тысяч) составили жители Малой Чечни и Ичкерийского округ*. Так, начиная с 40-х гг. земли так называемых карабулаков (орстхоевпев) в Малой Чечне последовательно отбирались властями для обеспечения землей казаков Сунженской линии, и к 1865 г. большая часть чеченпев- карабулаков считалась либо безземельными, либо малоземельными. Кроме того, в выселение отправилось несколько сот семей назрановских ингушей и сотни семей осетин, в том числе и из «высшего» сословия. Горская знать уходила в Турцию, не желая терять старые сословные привилегии.
По подсчетам российских чиновников, в Турцию в 60-е гг XIX в. было выселено до 20% от общего числа чеченцев, и кавказский наместник в донесениях в Санкт-Петербург не скрывал своего удовлетворения по этому поводу. Вместе с тем, основная масса населения Чечни не поддалась на провокацию и категорически отказалась оставить свои земли, и власти ничего не могли с ними поделать.
Организованная царизмом депортация (в форме выселения) одной пятой части чеченцев, наряду с потерями, нанесенными в Кавказской
1 Ибрагимова 3. X. Терская область под управлением М. Т. Лорис-Меликова (1863— 1875 гг): Автореферат дис. — М., 1998. — С. 21.
— 354 —
Депортация чеченцев в Турцию. Переселенческие процессы в Терской области
во второй половине XIX в.
Карта выселения горцев по Н. Берзеджу (—, 205)
войне, нанесла такой серьезный демографический урон чеченскому народу, который был преодолен только к началу XX в.
Если в 1865 г. в Чечне власти тайно организовывали переселение, то в соседних областях они стремились, наоборот, не допустить широкой эмиграции. Положение дел в Кабарде, Осетии и Дагестане не вызывало серьезных опасений, а массовый исход жителей грозил экономическими последствиями. Поэтому, например, в том же безземельном Дагестане эяасти старались не поднимать вопрос о переселении и даже прямо заявляли дагестанцам, что турецкие власти в 1865 г. согласились принять у себя только чеченцев. Летом того же года начальник Терской области, в очередном донесении в Тифлис, выражал уверенность, «.. .что выход в Турцию излечит окончательно остающееся население (чеченцев. — Авт.)у «ишь бы выпустить их отсюда побольше. Малокабардинцев едва удерживаю, право, не мешало бы и им разрешить это путешествие»1.
Положение горцев в Турции. Переживавшее во второй половине XIX в. глубокий кризис, турецкое государство действительно не имело средств для нормального обустройства сотен тысяч кавказцев, и
ӀӀит. по ст.: Мужухоева Э. Д. Чечено-Ингушетия в административно-политической системе управления Терской области в 40—60-е годы XIX века // Чечено- Ингушетия в политической истории России и Кавказа в дореволюционном прошлом. — Грозный, 1990. — С. 74.
Глава VII. Аграрный и сословный вопрос в Чечне во второй половине XIX в. Депортация -'е-е^г-
в Турцию
положение не могли спасти добровольные пожертвования турешаа жителей, в том числе и самых высокопоставленных. Турецкие власт* не смогли должным образом организовать даже транспортировку >rv хаджиров к новым местам обитания, не говоря уже о выдаче пособия на обзаведение хозяйством.
К тому же вопрос о том, где именно будут расселяться бывшие российские подданные, часто становился предметом ожесточенных спорее между российскими и турецкими должностными лицами. Общее требование российской стороны состояло в том, что горцы не должны быть поселены компактно в приграничных с русскими владениями областям Зная не понаслышке характер горцев и их отношение к России, кавка» ское начальство всерьез опасалось появления вблизи южных гракхд воинственного и враждебно настроенного населения. В частности. * отношении чеченцев, переселившихся в 1865 г., выдвигалось прямое условие, что они будут направлены во внутренние области Турции. Со своей стороны, турецкие власти стремились избежать дальней транспортировки переселенцев, чтобы, соответственно, уменьшить расходы.
Так, чеченцев, переселившихся в 1865 г., турецкие власти первешв- чально планировали расселить в долинах верховьев восточного Евфрвп и Мурадчая, однако российские представители выступили с решите» ными протестами, требуя удалить их еще дальше вглубь турецкой территории — не ближе Диарбекира. По заявлениям турецких чиновнин» местность за Диарбекиром по своим природным условиям совершен» не подходила для поселения горцев, но крупная взятка, данная российским послом великому визирю, решила этот спор в пользу имен» этих бесплодных земель1. В довершение всего, средства, выделяем» из российской и турецкой казны для переселенцев, зачастую разворовывались недобросовестными чиновниками обеих стран. В результант горцы, как правило, оказывались в местах с нездоровым климатом ш. неблагоприятных для ведения привычного им хозяйства. Следствием действий облаченных властью чиновников стала ужасающая по своим размерам смертность среди переселенцев уже в Турции.
Пытаясь спасти себя, горцы зачастую шли на отчаянные действия: самовольно захватывали лучшие земли или начинали грабить окрестное население, пытаясь таким образом спасти свои семьи от голодной смерти.
Попытки возвращения чеченцев-мухаджиров на родину. Тысячи кавказцев очень скоро стали добиваться возвращения на родину, но в России на самом высоком уровне было заявлено: «Об обратном переселении горцев и речи быть не может». Совершенно отчаявшиеся горцы в отдельных случаях пытались силой прорваться через русско-турецку»
1 Хасбулатов А. Переселение горцев Северного Кавказа в Турцию в XIX в., как ошы. из форм протеста против колонизаторской политики царизма // Актуальные проблемы истории дореволюционной Чечено-Ингушетии: Региональная науч. конференция: Тезисы докл. и сообщений. — Грозный, 1990. — С. 71.
— 356 —
Депортация чеченцев в Турцию. Переселенческие процессы в Терской области
во второй половине XIX в.
границу. Для подавления стихийных выступлений турецкие власти использовали военные отряды, артиллерию и принимали меры к тому, чтобы расселять горцев небольшими группами по разным селениям, где за ними обеспечивался полицейский контроль. Тем не менее, в течение многих лет тысячи горцев нелегально переходили русско-турецкую границу, в надежде добраться до своей родины. Уже в 1867 г. было задержано семь групп переселенцев (всего 162 человека), пытавшихся тайно вернуться в Чечню. В 1868 г. число задержанных реэмигрантов возросло до 663 человек, в 1869 г. задержано еще 369 человек. В 1870 г. перехвачено 25 групп горцев, общей численностью 1263 человека1. За десять лет, с 1862 по 1872 гг., в Терскую область сумели вернуться 5964 горца (в основном чеченцы), из которых 2315 человек власти в принудительном порядке снова выслали в Турцию2. Причем речь здесь идет только о тех горцах, о возвращении которых стало известно властям, немалое число их, тайно пробравшись в Терскую область, переходило на нелегальное положение и пыталось со временем обзавестись документами. Между прочим, начальник Терской области лично решал вопрос о дальнейшей судьбе вернувшихся из Турции горцев, а потому предписал окружным начальникам всех реэмигрантов под усиленными караулами препровождать во Владикавказ «...даже и в том случае, если бы лица эти имели при себе визированные паспорта наших консулов»3.
Получившие официальное разрешение остаться в России, горцы, как правило, не могли все же вернуться на прежние места проживания. Так, чеченцев-реэмигрантов расселяли в Надтеречном участке, а также на Кубани и на казенных землях Кизлярского уезда, среди русских поселенцев. Некоторые из них выдавали себя за родственных ингушей, считавшихся традиционно «мирными», и приписывались к ингушским аульным обществам (это Цечоевы, Мержоевы, Ялхороевы, Мужухоевы, Гуцериевы, Акиевы, Боковы, Галаевы и др.).
Так, несколько сот семей чеченцев-карабулаков, вернувшиеся в Чечню, не были допущены на родные земли, а поселены одним аулом Сагопши на землях чеченского селения Пседах и записаны впоследствии ингушами. Так было положено начало Сагопшинской общине.
Только в 1872 г. наместник Кавказа впервые заявил о необходимости отменить категорический запрет на возвращение эмигрировавших горцев, а также ужесточить выездные правила, что вызвало возражения начальника Терской области М. Т. Лорис-Меликова. Тем не менее, в сентябре 1872 г. наместник Кавказа утвердил новые временные правила * *Бадаев С.-Э. Махаджирское движение в Чечне во второй половине XIX века // Актуальные проблемы истории дореволюционной Чечено-Ингушетии: Региональная науч. конференция: Тезисы докл. и сообщений. — Грозный, 1990. — С. 75.
: Ибрагимова 3. X. Эмиграция в Турцию (60—70 гг. XIX в.). — С. 57.
* Пит. по кн.: Дзагуров Г. А. Переселение горцев в Турцию. — Ростов н/Д., 1925. — С 179.
Глава VII. Аграрный и сословный вопрос в Чечне во второй половине XIX в. Депортация
в Турцию
по переселению кавказских мусульман в Турцию и Иран, которые существенно ограничивали эмиграцию. Все это объяснялось ухудшен*» турецко-русских отношений. В Петербурге стали задумываться: та* ш это необходимо поставлять Османской империи с Северного Кавка» лучших в мире конников иррегулярной службы.
Горская эмиграция продолжалась и в последующие годы, вплоть до Первой мировой войны, но ее размеры никогда даже отдаленно ас приближались к той массовой депортации, что имела место в 60-е гг XIX в.
Организация «внутренних» переселений в Чечне. Укрупнение селений. Первые десятилетия после завершения Кавказской войны власти придавали большое значение переселению чеченцев из горных районов на плоскость, при одновременной концентрации их в крупных равнинных селениях. Этим перемещением чеченского населения внутри Терской области преследовали чисто политические цели: поселив горст» на равнине, пересекаемой во всех направлениях линиями укреплений и казачьими станицами, власти рассчитывали исключить всякую возможность вооруженного восстания. М. Т. Лорис-Меликов писал вт этом: «...чеченское население необходимо было сбить в одно мест и разрозненные теперь казачьими землями Кабарда и Надтеречное наибство вместе с чеченцами, поселенными по обоим берегам Сунжл составили бы сплоченное туземное население. Население это, с одно* стороны отрезанное от гор новыми станицами, отделенное от Кабаряы 1-м Владикавказским полком, а от Кумыкской плоскости естественнее границей — Качкалыковским хребтом, не осмелилось бы более грозить нам восстанием и не избегало самого бдительного надзора»1.
На равнину переселялись как отдельные семьи, так и целые селения. В первом случае переселенцев расселяли в уже существующих селениях Сельские общины, как правило, неохотно принимали новых членов, так как им приходилось выделять пай из общинных земель. Зная это, власти выделили Надтеречным селениям так называемые «запасные земли», ш> типу резервных земель, имевшихся у казачьих станиц. Разница бъип в том, что станичные запасные земли служили для удовлетворения потребностей естественным путем увеличивающегося казачьего населения, а земельные излишки Надтеречных чеченцев предназначались исключительно для новых переселенцев из горных районов.
В некоторых случаях власти переселяли целые селения, однако выделенная им на равнине земля считалась государственной собственностью, переданной во временное пользование. В 1860 г. на плоскость были переселены жители верховьев рек Мартан и Гойтинка, а также соединено в горах в аулы рассеянное по хуторам население Терлоевского.
1 Цит. по кн.: Ибрагимова 3. X. Чечня после Кавказской войны (1863—1875 гг.) (по api источникам). — С. 79.
Депортация чеченцев в Турцию. Переселенческие процессы в Терской области
во второй половине XIX в.
Дышнинского, Мулкоевского, Харачоевского, Чантинского и Дзумсоевско- го обществ1. Уничтожение мелких хуторов объяснялось тем, что «.. .пока чеченское население жило мелкими хуторами, надзор был невозможен, родичи всегда водворялись вместе, старшины были семейными начальниками, общая порука законом и все происходящее... оставалось тайной для русской власти». В крупных же селениях старшина становится общественным начальником, «...собственный род, поддерживая его, тем самым поддерживает официальную власть, а между тем соперничество между родами раскрывает все их тайны».
Такого рода массовые переселения чаще всего совершались в принудительном порядке и не всегда проходили без эксцессов. Так, восстание 1860—1861 гг. в Ичкерийском и Аргунском округах во многом было спровоцировано стремлением Н. И. Евдокимова осуществить крупное перемещение чеченского населения. Кстати, само восстание было использовано администрацией Терской области, чтобы разрушить ао основания целый ряд горных селений и небольших хуторов, а их жителей выселить на равнину. Беноевцев, например, расселили почти по всем равнинным аулам с таким расчетом, чтобы нигде их не было больше десяти семей.
Терская администрация добивалась, чтобы чеченские селения на равнине имели не меньше 300 дворов каждое, что наряду с концентрацией быстро растущего населения на небольшой территории, способствовало образованию крупных селений. На территории Грозненского и Хасав-Юртовского округов в конце XIX в. насчитывалось 438 чеченских селений со средней численностью 422 жителя (в черноземной полосе России села имели в среднем 322 жителя). Тем не менее, полностью истребить хуторское хозяйство в Чечне властям не удавалось: из ука- *анных 438 селений 132 состояли не более чем из 10 дворов2.
Как ни странно, в результате реформ, проведенных властями в to—70-х гг. XIX в., были существенно ограничены возможности естественной миграции чеченцев внутри Терской области, в том числе ■ яля переселения из гор на равнину в добровольном порядке. Как тже говорилось, были введены наказания даже за самовольную отлучку от постоянного места жительства на расстояние более 30 верст, а переселиться из одного села в другое чеченец мог только с согласия двух сельских общин: той, которую он хотел оставить, и той,
1 Акты, собранные Кавказской Археографической комиссией. Т. 12. — Тифлис, 1904. — С. 667,1219; Мужухоева Э. Д. Организация управления Чечено-Ингушетии в 40—60 гг. XIX века // Общественные отношения у чеченцев и ингушей в дореволюционном прошлом (XIII — начало XX вв.). — Грозный, 1982. — С. 77—78.
- Ахмадов X. С. Временнопроживающие горцы в социальной структуре чечено-ингушского общества в конце XIX — начале XX вв. // Общественные отношения у чеченцев и ингушей в дореволюционном прошлом (XIII — начало XX вв). — Грозный, m2. — С. 82—83.
Глава VII. Аграрный и сословный вопрос в Чечне во второй половине XIX в. Депортация чече*-_*-~
в Турцию
в которую он хотел вступить. Тем не менее, в Чечне наблюдается ■ устойчивая естественная миграция населения на равнину. В результате при общем быстром росте чеченского народа, население равнинных районов увеличивается более быстрыми темпами, хотя при этом средняя численность обычной горской семьи была несколько выше, чем у плоскостных.
Укрупнению чеченских селений способствовал и естественный рост населения. Несмотря на массовую депортацию населения Чечни в Турцию, идет сравнительно быстрое увеличение численности чеченцев. Так. если в 1865 г. в Терской области проживало чеченцев 119500 человек, то в 1867 г. их уже 146654, а в 1874 г. — 161488 Быстрый рост населения наблюдается и в последующие десятилетия. В 90-е гг. XIX в. плотность населения в Грозненском округе (населенном почти исключительно чеченцами) составила 24,4 человека на каждую квадратную версту. Для сельских районов Центральной России это показатель составлял 18,5. При этом в казачьих отделах Терской области плотность населения равнялась 8,6 человека на квадратную версту1 2.
Пореформенное русское заселение Кавказа и Терской области. Колонизация Кавказа, которой придавалось чрезвычайно важное значение, резко ускорилась после освобождения крестьян от крепостной зависимости в 1861 г. и проведения ряда государственных реформ. Одним из первых следствий развития капиталистических отношений в России стало образование избыточного крестьянского населения, которое в поисках свободных земель устремляется на окраины империи. Кроме того, растущая российская промышленность нуждалась в рынках сбыта готовой продукции и дешевого сырья. Кавказу и Средней Азии отводилась роль колоний, всесторонняя эксплуатация которых должна была способствовать быстрому развитию метрополии.
В поисках свободных земель участвуют не только русские, но и прибалтийские, украинские и польские крестьяне. Суровый климат северных районов империи делал их малопригодными для сельского хозяйства. Миграция на Дальний Восток, в Сибирь и Среднюю Азию, ъ 60—80-х гг. XIX в., затруднялась дальностью расстояния и отсутствием удобных путей сообщения. Поэтому главное направление массовой крестьянской колонизации в Российской империи в этот период — юг. южнорусские степи, Крым, Северный Кавказ и южное Поволжье. Злее* российский капитализм развивался по «американскому» пути быстрыми темпами, так как указанные регионы не были отягощены феодальным» пережитками.
1 Ибрагимова 3. X. Чечня после Кавказской войны (1863—1875 гг.) (по арх. источникам). — С. 67.
2 Хасбулатов А. И. Установление Российской администрации в Чечне (II пол. XIX — нач. XX вв.). — М, 2001. — С. 36.
Депортация чеченцев в Турцию. Переселенческие процессы в Терской области
во второй половине XIX в.
За тридцать лет (с 1867 по 1897 гг.) в Ставропольскую губернию, Кубанскую и Терскую области переселилось 1586,8 тысяч человек. К концу XIX в. переселенцы составляли значительную (а кое-где к основную) часть населения Северного Кавказа. Так, по данным 1897 г. из 933936 жителей Терской области переселенцы составляли 120685 человек или 12,9%. Еще больше переселенцев насчитывалось в соседних областях: на Кубани их было 33%, на Ставрополье — 23,3%, в Черноморской губернии — 74,1%. При этом, однако, надо учитывать, что поток переселенцев практически не затронул территорию собственно горских округов. Больше всего русских переселенцев было в Нальчикском округе — 5,8% от числа жителей, меньше всего — в Чечне. Например, в Грозненском округе доля переселенцев от общей численности населения составила 2,3% К В конце XIX в. на территории этого округа постоянно проживало всего 264 переселенческие семьи общей численностью 1133 человека2. Последнее обстоятельство может служить лучшим и объективным доказательством практически полного отсутствия здесь каких-либо свободных земель.
Переселенцы в Терскую область составляли так называемое «иногороднее» население, главным образом казачьих земель. «Иногородних» жителей власти делили на три части: первую составляли «иногородние, имеющие оседлость», т. е. владеющие на праве собственности усадьбами в казачьих станицах. Именно эта категория «иногородних» обязана была вносить «посаженную плату». Вторую категорию составляли «иногородние», не владевшие усадьбами и не вносившие «посаженной млаты», а в третью категорию входили переселенцы, купившие часть казачьих земель или получившие ее распоряжением правительства на праве частной собственности. «Иногородние», проживая на казачьих землях, несли государственные натуральные повинности наравне с казаками, но при этом не имели права претендовать на пай в коллективных станичных угодьях (покосы, пастбища, леса и т. д.).
В конце XIX в. здесь не было ни одной станицы без «иногородних» жителей, арендующих землю у казаков. Например, в Сунженском отделе в аренду «иногородним» было передано до 14% станичных земель. В первую очередь в аренду сдавались так называемые «дополнительные участки», находившиеся иногда за десятки верст от самих станиц. Тысячи десятин сдавали в аренду крестьянам-скотоводам и жазаки «старых» станиц по левому берегу Терека. На них же батрачили бедняки-иногородние в период сезона работ на виноградных плантациях.
Ратушняк В. Я. Развитие аграрного капитализма на Северном Кавказе в конце XIX — начале XX вв. // Истор. записки. — 1989. — № 117. — С. 182—183.
- Ахмадов III. Б. Источники о социально-экономическом развитии переселенческой деревни Терской области в пореформенный период // Источниковедение истории дореволюционной Чечено-Ингушетии. — Грозный, 1988. — С. 63.
— 361
Глава VII. Аграрный и сословный вопрос в Чечне во второй половине XIX в. Депортация чече-rjtf
в Турцию
Казак и обер-офицер конных полков Терского войска. Вторая половина XIX в. (53, itifc
Очень часто переселенцы создавали отдельные поселения и хутор* на новых землях. Так, с 1863 по 1875 гг. в Терской области возникав 112 новых селений, большинство из которых представляли собой ж- болыыие хутора. Переселенческие хутора возникали и позднее. В коняг XIX в. в Сунженском и Грозненском округах насчитывалось соответственно 60 и 11 хуторов1.
Как уже указывалось, в Терскую область прибывало значительа* меньше переселенцев по сравнению с соседними областями (за isc- ключением Дагестанской области). Прежде всего, это объясняла» сравнительно небольшим количеством свободных земель, пригодны» для сельскохозяйственной эксплуатации. Но немаловажное значеик имело и наличие быстро растущего горского малоземельного крестьянства, которое (несмотря на многочисленные административнме барьеры) также устремлялось в казачьи отделы в поисках земли ■ работы. Весьма показательно, что в конце XIX в. в Терской обласп насчитывалось более 32 тысяч наемных сельскохозяйственных рабочих.
1 См.: Гриценко К П. Горский аул и казачья станица Терека накануне Великой Os- тябрьской социалистической революции. — Грозный, 1972. — С. 70—71; Ахл» дов Ш. Б. К вопросу о переселенческой политике царизма в Тверской области з пореформенное время // Чечено-Ингушения в политической истории Poccig* ■ Кавказа в дореволюционном прошлом. — Грозный, 1990. — С. 35.
— 362 —
Депортация чеченцев в Турцию. Переселенческие процессы в Терской области
во второй половине XIX в.
из которых только 15 тысяч или 46,5% были переселенцами, а более 17 тысяч — местными уроженцами. В соседней Ставропольской губернии доля переселенцев среди сельхозрабочих составляла 53,5%, в Кубанской области — 73,8%, а в Черноморской губернии — 96,5%. Эти цифры наглядно свидетельствуют о наличии в Терской области серьезной конкуренции наемному труду переселенцев со стороны наемной рабочей силы из горских округов. Число чеченцев, направлявшихся ежегодно на сезонные работы, точно не известно. Однако только из Итум-Калинского и других горных старшинств Грозненского округа в конце XIX — начале XX вв. ежегодно на заработки отправлялось до 1500 человек или 12% всего населения1.
Изменение национального состава Терской области. Массовая русская колонизация второй половины XIX в. существенно изменила этнодемографическую ситуацию в Терской области и имела далеко идущие экономические и общественно-политические последствия. За короткий срок, с 1867 по 1874 гг., население Терской области увеличилось примерно на 100 тысяч и составило более 561 тысяч человек. Только за первую половину 70-х гг. сюда приехало более 70 тысяч переселенцев. Вследствие этого чеченцы, составлявшие самую крупную этническую единицу (31,73% в 1867 г.) в области, оказались оттеснены на второе место (28,76% в 1874 г.). Русские (20,12% населения в 1867 г.) теперь оказываются на первом месте по своей численности — 29,89% от всех жителей. Кстати, местные власти в качестве русских (православных) рассматривали и украинских переселенцев. Еще быстрее увеличивается армянское население области: за этот же период оно возросло с 1 тысячи до 21344 человек. Главными занятиями армянского населения были торговля и различные ремесла. Медленнее, но все же растет численность евреев (с 1652 до 3837), немцев (с 730 до 2974) и некоторых других «пришлых» народностей2. Появились на территории Чечни и поляки, которых ссылали сюда под надзор полиции после подавления очередного польского восстания 1863 г.
Неравномерный рост численности тех или иных национальностей в Терской области во многом объясняется именно особенностями переселенческой политики, проводимой властями. Так, например, иммиграция армянского населения всячески поощрялась (тем более что начальником области в течение 18 лет был армянин по национальности М. Т. Лорис-
1 См.: Ратушняк В. Я. Развитие аграрного капитализма на Северном Кавказе в конце XIX — начале XX вв. // Истор. записки. — 1989. — № 117. — С. 184, 185; Ахмадов X. С. Временнопроживающие горцы в социальной структуре чечено-ингушского общества в конце XIX — начале XX вв. // Общественные отношения у чеченцев и ингушей в дореволюционном прошлом (XIII — начало XX вв). — Грозный, 1982. — С. 87.
: Ибрагимова 3. X. Чечня после Кавказской войны (1863—1875 гг.) (по арх. материалам). — С. 278—280.
Глава VII. Аграрный и сословный вопрос в Чечне во второй половине XIX в. Депортация чеченцев
в Турцию
Меликов), так же как приветствовалась не только русская, но и немецкая и прибалтийская колонизация. В то же время рост еврейского населения происходил без всякого содействия администрации — Терская область находилась за пределами «черты оседлости», отведенной российским правительством для свободного поселения евреев.
Характер колонизации Северного Кавказа в целом и Терской области в частности начал существенно меняться в 70-е гг. XIX в. в связи с усиленным строительством железных дорог. Изменилось не только направление миграции — вслед за новыми ветками Владикавказской железной дороги русское население устремляется все дальше вглубь Северо-Восточного Кавказа к Каспийскому морю вдоль долины Терека. Последовавший вслед за железнодорожным строительством промыш ленный подъем привел к тому, что значительная часть новых Пересе ленцев начинает оседать в городах Терской области.
Собственно казачья колонизация чеченских земель продолжалась вплоть до 60-х гг. XIX в., она, как это ни парадоксально, не останов»- лась с официальным завершением Кавказской войны. Так, в 1860 г была построена станица Нестеровская, в которой поселены 125 казачьих семей из состава 1-го Сунженского полка1. И хотя в последующие десятилетия военная (казачья) колонизация уступила место крестьянской, кавказские власти делали все возможное, чтобы сохранить ж итоги. Так, в той же Терской области казаки очень неохотно заселяли «передовые» станицы, расположенные в непосредственной близости от горских аулов, а то и покидали их при первой же возможности. § 1872 г. распоряжением властей казакам было запрещено переселяться из «передовых» станиц, которые должны были служить преградой ял* выселения чеченцев из своих тесных горных ущелий, куда они был* загнаны в ходе завоевания Россией Кавказа.
* * *
Чеченская нация, вышедшая из Кавказской войны чрезвычайно ослабленной, рассчитывала на соблюдение тех обещаний, которые раздавались русскими генералами от имени императора. В противной случае вряд ли бы военные действия закончились в 1859 г. Данные обещания («условия») были не только вероломно нарушены властями, но, хуже того, была приведена в действие целая программа, приведшая к депортации примерно одной пятой населения в Турцию и сокращению в результате цинично проведенного колониального ограбления в несколько раз земельного фонда, столь необходимого для жизневос- производства населения.
1 Акты, собранные Кавказской Археографической комиссией. Т. 12. — Тифяис. 1904.— С. 1167.
Депортация чеченцев 8 Турцию. Переселенческие процессы в Терской области
во второй половине XIX в.
Российская власть совершила в Чечне (по крайней мере в плоскостной части) настоящую «революцию», отменив частную крестьянскую собственность на землю и введя общинное землевладение русского типа. Это был безусловно регресс, значительный шаг назад затруднявший развитие сельского хозяйства в крае.
С другой стороны, в чеченском обществе в 60—70-х гг. XIX в. смогли сформироваться новые сословия (кулачество, купечество, офицерство, старшины и младшие чины администрации), тесно связанные с российским государством и русским обществом, что представляется прогрессивным явлением. Однако ни указанные сословия, ни колониальная военная администрация не смогли предотвратить крестьянскую войну в Чечне и Дагестане в 1877 г., разразившуюся, главным образом, из-за нерешенности главного вопроса — вопроса о земле.
— 365 -
Глава VIII. Крестьянская война в Чечне и Дагестане в 1877 году. Чеченские всадники на «Турецкой» войне
§ 1. Начало крестьянской войны. Имам Алибек-Хаджи
Причины восстания. Социальные слои. Массовое восстание прсн изошло в Чечне и Дагестане весной 1877 г., и, в отличие от выступлений 60-х гг. XIX в., оно было на этот раз гораздо лучше подготовлено. В качестве главного фактора восстания одни исследователи называлж начало новой русско-турецкой войны, которой хотели воспользоваться горцы Северо-Восточного Кавказа, чтобы изгнать ненавистные царские власти. Другие же историки считали, что восстание было вызвана усилением гнета со стороны государства, выступавшего на Северном Кавказе в роли коллективного эксплуататора горского крестьянства Серьезное недовольство вызывал и произвол военных чинов областвя* администрации. Перманентно провоцировали выступления чеченле» и дагестанцев страшный земельный голод и отсутствие социальных перспектив.
Заслуживает внимания, однако, тот факт, что и на этот раз восстание охватило только горную часть Чечни, прежде всего Ичкерию (Нахч- Мохк)1. Оно же имело широкое распространение и в Нагорном Дагестаж. Утверждение некоторых чеченских исследователей, что жители Чеченское равнины не могли поддержать восстание из-за постоянной угрозы :*■ стороны расположенных рядом российских укреплений, не может быту полностью принято. Русские войска постоянно дислоцировались и 5 горах, достаточно назвать такие крупные крепости, как Ведено, Евшу кимовское, Шатой. К тому же, источники прямо сообщают о серьезном сопротивлении, оказанном жителями ряда плоскостных селений попыткам восставших войти в их аулы. Тем не менее, как по своим масштабам, так и по социальным слоям, втянутым в движение, указанное движение можно характеризовать как крестьянскую войну.
Вместе с тем, можно говорить о серьезных противоречиях среяж самого чеченского общества и его социальной верхушки не только гж» вопросу об отношении к России, но и о путях дальнейшего развился Чечни. Одна часть общества выступает за дальнейшую интеграшае в Российскую империю, полагая, что гарантируемая в этом случае
1 Нахч (Нохч)-Мохк, это территория, охватывающая примерно два района современной Чеченской Республики, а именно: Веденский и Ножай-Юртовский.
— 366 —
Начало крестьянской войны
стабильность ускорит национальное развитие. При этом будущее чеченского общества видится в сочетании национальных и исламских духовных ценностей с европейской цивилизацией.
Этой точке зрения противостояло мнение о том, что пребывание в составе России губительно отражается на чеченском народе, который утрачивает свои наиболее характерные национальные черты и традиционный сбраз жизни. Спасение видится только на пути дальнейшей «исламизации» чеченского общества (создание общества, живущего на принципах «чистого шариата») и освобождения от власти российского императора.
Встречающееся иногда утверждение, что все противники русской власти в Чечне принадлежали исключительно к кадырийскому тарикату, не может быть принято. Действительно, поскольку со времени «шалинского возмущения» российские власти преследовали зикристов, именно община кунта-хаджинцев выступала с наиболее радикальных антироссийских позиций. Однако далеко не все противники русской власти признавали своим устазом Кунта-Хаджи. Точно так же, как не все сторонники России являлись приверженцами накшбандийского тариката.
Интересен сам круг руководителей нового восстания, большинство юторых либо и раньше уже участвовали в вооруженной борьбе против России, либо происходили из фамилий, отличившихся в предыдущих восстаниях. Так, дядя провозглашенного имамом Алибека-хаджи Алдамова являлся одним из руководителей ичкерийского восстания I860—1861 гг. (Солтамурад). Другим руководителем восстания стал широко известный Ума Дуев (Ума Дзумсоевский). Последний, по словам дагестанских авторов исторических хроник второй половины XIX в., «...показал себя настоящим царем-владыкой во время боев; человеком столь надежным для участников газавата, словно бы он — ну самый настоящий замок...» К Отбыв ссылку за участие в восстании 1860—1861 гг., У. Дуев вернулся в Чечню и вновь стал одним из самых уважаемых гавщей Дзумсоевского общества (верховья бассейна Аргуна).
Подготовка к восстанию. Гази-Мухаммед. Не вызывает сомнения, ?то руководители восстания 1877 г. в Чечне и Дагестане предварительно установили связь со вторым сыном Шамиля — Гази-Мухеммедом, который, в свое время получив разрешение русских властей переселиться в Турцию вместе с отцом, занял впоследствии генеральскую должность в турецкой армии. Некоторые источники утверждают, что первая встреча Аяибек-хаджи Алдамова с Гази-Мухаммедом состоялась еще за четыре г«а до восстания, во время его хаджа в Мекку.
Сама по себе эта встреча не может рассматриваться как убедительное леказательство заблаговременной подготовки восстания. Гази-Мухаммед регулярно встречался со множеством паломников с Кавказа, а встреча
JJmSepoe Т. М. Дадаев Ю. У, Омаров X. А. Восстания дагестанцев и чеченцев в послеша- ■таевскую эпоху и имамат 1877 года (материалы). Кн. 1. — Махачкала, 2001. — С. 191.
— 367 —
Глава VIII. Крестьянская война в Чечне и Дагестане в 1877 г. (имам Алибек-хаджи>.
Чеченские всадники на «Турецкой» войне
Гази-Мухаммед — сын Шамиля, генерал турецкой армии (15, 151)
с Алибек-хаджи тем более легко объяснима — он происходил из семье известной сыну Шамиля. При этом не вызывает сомнений и свжн Гази-Мухаммед а с восставшими горцами, тем более что об этом пряан пишут дагестанские хроникеры: «...Газимухаммад — сын покойэиж Шамиля — направил четырех посланников, дав им при том писъш свои, адресованные различным селениям и городам Кавказа, через содержание которых он призывал и даже, можно сказать, побужш население этих селений и городов оказать помощь царству султми Сделать же это Газимухаммад предлагал путем поднятия смуты...► Из содержания дагестанских хроник следует, что Гази-Мухамма обратился к горцам уже после того, как очередная война между Россия и Турцией стала неизбежной. С этим согласны и некоторые российски исследователи, полагавшие, что непосредственная подготовка восстав» началась зимой 1876—1877 гг., т. е. накануне войны, официально odv явленной 12(24) апреля 1877 г. Впрочем, о том, что война близка, стен 11 Айтберов Т. М. Дадаев Ю. У, Омаров X. А. Восстания дагестанцев и чеченцев в посэав- милевскую эпоху и имамат 1877 года (материалы). Кн. 1. — С. 168.
— 368 —
Начало крестьянской войны
ясно еще в 1875 г., когда вспыхнуло мощное антитурецкое восстание в Боснии и Герцеговине, перекинувшееся на следующий год на территорию Болгарии. После же того как в войну с Турцией вступили Сербия и Черногория, ближайшие союзники России на Балканах, участие России в войне на стороне балканских славян становилось почти неизбежным.
Буквально сразу же, как стало известно об официальном вступлении России в войну, — в ночь на 13 апреля в лесу возле селения Саясан состоялась тайная встреча представителей разных селений Веденского округа, на которую собралось до 60 человек. Собрание приняло решение с 18 апреля «объявить себя независимыми и нарушить общий порядок», провозгласило присутствовавшего здесь же Алибека-хаджи имамом, а также избрало его первых наибов. Как почти сразу же стало известно российским властям, среди главных деятелей восстания был родной брат Алибека-хаджи — Алимхан-хаджи, а также хорошо известный еще по восстанию 1860—1861 гг. Солтамурад (Султан-Мурад) из Беноя. Позднее к восстанию открыто примкнут и другие известные в горной Чечне общественные лидеры, в том числе: Ума Дуев из Зумсоя, старшина селения Чобахкенерой Дада Залмаев, Губахан из Гуни, Сулейман из Центороя и Абдул-хаджи из Мехкеты.
Как ни странно, терская администрация, постоянно ожидавшая чеченского восстания, оказалась неподготовленной к нему. Большая часть расквартированных в области войск, не укомплектованных полностью личным составом, не могла быть немедленно привлечена к мероприятиям по подавлению восстания. К тому же, власти не смогли верно определить очаг восстания: основное внимание было приковано в тот момент к Хасав-Юртовскому округу и Салатавскому обществу Дагестана, где ожидалось вооруженное выступление последователей Кунта-Хаджи1.
Начало крестьянской войны. Первые успехи. Открытое восстание началось в Ичкерии 17 апреля 1877 г., с нападений на представителей сельской администрации. Большинство назначенных в чеченские селения старшин, поспешно бежали в ближайшие русские укрепления. Их мша были сожжены, имущество захвачено, а сами они заочно приговорены к смертной казни. Что это были не пустые угрозы, стало ясно at первый же день восстания. Как сообщил в Грозный находившийся г. Ичкерии полковник С. И. Авалов, вступившие в Гендарген повстанцы убили местного старшину и двух его сторонников, сами потеряв з перестрелке одного человека. Позднее лазутчики уточнили, что в Гендаргене погиб сам старшина и один его сторонник2.
См.: РГВИА. Ф. 1300. On. 1. Д. 43. Л. 51; Ковалевский Я. И. Восстание в Чечне и Дагестане в 1877 и 1878 гг. — Спб., 1912. — С. 14—15; Очерки истории Чечено-Ингушской АССР. Т. 1. — Грозный, 1967. — С. 132—133.
- РГВИА. Ф. 1300. On. 1. Д. 43. Л. 60, 73.
Глава VIII. Крестьянская война в Чечне и Дагестане в 1877 г. (имам Алибек-хаджи)
Чеченские всадники на «Турецкой» войне
Восстание было хорошо организовано, и к нему стразу же примкнув подавляющее большинство жителей Ичкерии. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что направившийся 19 апреля против восставших полковник С. И. Авалов, даже имея 350 штыков, не смог помешать им переправиться на левый берег Аксая и поспешно отступил к Эрсеноевскому укреплению. Но даже здесь он не чувствовал себе уверенно. Так, жители селения Центорой, ранее обещавшие ему не допустить «мятежников» к себе, на деле организовали им радостную встречу, причем, как выяснилось, центороевцы уже заранее заготовили собственное знамя — «значок». Собственный значок оказался заготовлен и у старшины селения Мескеты, который также примкну! к восстанию1.
Не вызывает сомнения, что практически все селения Ичкеринскогс округа примкнули к восстанию уже в первые его дни. Сам Авалов сообщал, что внешнюю покорность сохраняли только жители пяти селений, расположенных рядом с крепостью Ведено: Гуни, Ца-Ведено, Эгишбатой, Эрсеной и Дышни-Ведено. Однако жители того же Эрсеноя перешли на сторону восставших сразу же, как только войска покинули это селение, а дышни-веденцев восставшие сами уговорили воздержаться ск открытого выступления до тех пор, пока не будет захвачена Веденская крепость. К 21 апреля восстание охватило 47 аулов и крупных хуторов Ичкерии с населением более 18 тысяч человек2.
Командовавший Веденским гарнизоном полковник Ломновский. имея в своем распоряжении 117 унтер-офицеров и 1175 рядовых (в том числе 300 новобранцев, срочно мобилизованных на месте), считал, что этих сил достаточно для обороны крепости, но совершенно не хватит для активных действий против восставших. Поэтому его планы ограничивались тем, чтобы, оставив непосредственно в крепости до 500 солдат, выдвинуть остальные войска на хребет Гамер-Корт (Гамар-Дук). Этт маневр позволял ему удержать от участия в восстании селения Дышни- Ведено, Эрсеной, Эгишбатой и Ца-Ведено. Однако имевшимися силами он не мог обеспечить надежную связь с расположенными на плоскости российскими укреплениями. Особую тревогу у Веденского коменданта вызывала усиливающаяся изоляция крепости. В срочном донесении, направленном в Грозный, Ломновский сообщал, что его «...лазутчики уже опасаются возвращаться...», а потому испрашивал разрешения истратить на «необходимые расходы» 1500 рублей серебром3.
Получив первые тревожные сообщения от полковника С. И. Авалова. начальник Терской области генерал Свистунов немедленно известил
1 РГВИА. Ф. 1300. On. 1. Д. 43. Л. 54, 55, 55 об.
2 См.: РГВИА. Ф. 1300. On. 1. Д. 43. Л. 56; Иванов А. И. Восстание в Чечне в 1877 г. Истор. записки. — 1940. — № 10. — С. 282.
3 См.: РГВИА. Ф. 1300. On. 1. Д. 43. Л. 63 об., 64,65,65 об.
— 370 —
Начало крестьянской войны
наместника Кавказского великого князя Михаила Романова: «...в Ичкерии известие об объявлении войны встречено волнением. По слухам собирается партия, чтобы напасть на Кишен или Ведено. На Аргуне также не спокойно». Ответ, полученный 18 апреля 1877 г. из Тифлиса, был предельно категоричным: «Необходимо энергично затушить первую искру пожара». Свистунов и сам стремился действовать быстро и решительно, но недостаток свободных войск сковывал его возможности. В момент восстания происходила плановая замена войск, поэтому, как уже говорилось, в Терской области ощущалась острая нехватка офицеров, а войск было так мало, что не доставало лаже для обеспечения надежной охраны Сунженской линии. Так, переправа через Сунжу возле станицы Умахан-Юртовской долгое время оставалась без прикрытия.
И начальника Терской администрации, и наместника Кавказа больше всего беспокоила мысль, что вся Чечня может присоединиться к восстанию. Именно поэтому генерал Свистунов с нескрываемым удовлетворением телеграфировал 19 апреля в Тифлис: «Положение дел несколько обозначается. [В] Чечне пока настроение самое лучшее. Завтра собираю v себе представителей народа...» Вместе с тем, очевидно, что в Грозном пока не представляли истинного размаха движения, охватившего Ичкерию, потому что Свистунов сообщает всего о 200 мятежниках, против воторых в случае необходимости он готов употребить силу1.
Впрочем, уже через день, 20 апреля, он начнет экстренно собирать карательный отряд и попросит выделить средства на военные расходы: -Пело принимает серьезный оборот. Чечня, Аргуновский округ пока зокойны, но восставшие пробираются к Герзель-аулу... Батьянову (начальник Хасав-Юртовского округа, полковник. — Авт.) предписано отбросить от Герзель-аула и не допустить на плоскость...» Всего в распоряжении Свистунова было до трех тысяч регулярных войск, что он считал совершенно недостаточным для того, чтобы начать решительное ааступление на Ичкерию.
Страх, что восстание перекинется на равнинную Чечню, будет ареследовать начальника Терской области еще несколько дней. Тем более что эти опасения подтверждались донесениями, которые он ■сшучал из Ичкерии. Комендант Веденского гарнизона полковник Ӏомновский докладывал, что по сведениям, полученным от некоего |§айора Девлет-Мирзы, ближайшая цель восставших состоит в установлении контроля над хребтом Камар-Корт (Гамар-Дук), после чего они направятся на плоскость — к селениям Шали или Автуры. Кроме того, Алибек-хаджи постарается распространить восстание на Аргунский округ и Чеберлой. Одновременно полковник Авалов сообщал, что из Беноя в Майртуп и Автуры срочно направились два известных
?ГИ1А. Ф. 1300. On. 1. Д. 43. Л. 1, 2, 4.
Глава VIII. Крестьянская война в Чечне и Дагестане в 1877 г. (имам Алибек-хаджи).
Чеченские всадники на «Турецкой» войне
и уважаемых человека — Сулейман-хаджи и Сайпуддин-Али-хаджм. «...для привлечения тамошних жителей к партии возмутившихся и для собирания разных сведений...»1.
При этом Свистунов вовсе не был уверен в лояльности чеченской» населения. 22 апреля, еще не зная об исходе крупного столкновения с восставшими возле Майртупа, он с нескрываемой тревогой сообщал наместнику Кавказа: «Некоторые аулы Большой Чечни, как слышно, объявили, что они будут на стороне сильнейших. Нуриду (полковник, командир отряда, посланного против восставших. — Авт.) и Батьянов* лично мною передано приказание не допустить мятежников на плоскость или, допустив, разбить. Сделано все, что было возможно. Но ж* прибытия... [подкреплений] мы очень слабы». Как следует из переписи Свистунова, значительная часть расквартированных в Терской облает* войск оказались не боеспособными вследствие нехватки офицеров: «...громадный некомплект офицеров в полках 20-й дивизии... ставит в крайне затруднительное положение отправление запасных партий из Грозного в действующие отряды»2.
Наступление Алибека-хаджи на плоскость. 20 апреля Алибек-хаа- жи во главе крупного отряда восставших двинулся вниз по течению реки Аксай в направлении плоскости, однако затем резко изменив направление движения и вышел к селению Майртуп. Здесь он встретился с отрядом полковника Нурида, насчитывавшим приблизительно 1100 человек пехоты и сотню казаков при восьми орудиях. Подавляющее преимущество в огневой мощи помогло русскому отряду отбить атаку чеченцев: в ходе боя русские выпустили по противнику 69 артиллерийских снарядов и 44629 патронов. По официальным данным. Нурид потерял три человека убитыми и 11 ранеными. Потери отрязг Алибек-хаджи, как сообщил в Тифлис генерал Свистунов, составили 69 человек убитыми и около 250 ранеными3.
Сомнительный исход боя обе стороны расценили как свою победу. после чего и российские войска, и восставшие чеченцы направились к селению Герменчук. Очевидно, что стремительный марш по плоскостным селениям был предпринят Алибеком-хаджи в попытке привлечь вг свою сторону местных жителей, а находившиеся все время поблизости русские войска, наоборот, стремились своим присутствием удержать жителей равнинной Чечни от участия в восстании. Если равнинные аулы пока сохраняли спокойствие, то качкалыковские селения и жители Аргунского ущелья пришли в движение.
1 РГВИА. Ф. 1300. On. 1. Д. 43. Л. 8, 9, 59, 59 об., 66, 66 об.; Иванов А. И. Указ. соч. - С. 282.
2 РГВИА. Ф. 1300. On. 1. Д. 43. Л. 15, 78.
3 РГВИА. Ф. 1300. On. 1. Д. 43. Л. 21 об., 22, 28; Иванов А. И. Указ. соч. — С. 283.
— 372 —
Развертывание масштабных военных действий. Поражение горских крестьян
§ 2. Развертывание масштабных военных действий. Поражение горских крестьян
Терская область на военном положении. Наступление повстанцев.
23 апреля приказом наместника Кавказа Терская область объявлена за военном положении, а спешно перебрасываемые в Чечню войска не только укрепляют Сунженскую линию, но и занимают линию рек Басс и Аргун, с тем чтобы отрезать восставших от равнины.
Великий князь Михаил — наместник Кавказа, тогда же высказывал пожелание привлечь к военным действиям в Чечне дагестанскую милицию. Впрочем, пока российское командование стремится лишь надежно изолировать очаг восстания. Сообщая в Санкт-Петербург о восстании, наместник Кавказа отмечал, что сосредоточение войск в Хасав-Юртовском округе и в Чечне имеет целью не допустить мятежников на равнину. Кроме того, со стороны Дагестана, близ селения Ботлих, сосредоточен отряд из регулярной пехоты и 12 сотен конной и пешей дагестанской милиции: «Последние донесения показывают, что положение дел требует не останавливаться ни перед какою мерою; в противном случае общему спокойствию горского населения может грозить большая опасность».
24 апреля через старшину аула Гудермес становится известно о намерении Алибек-хаджи во главе 1500 восставших напасть на Умахан-Юрт. Туда уже накануне был передвинут один батальон Тенгинского полка и сотня Сунженского казачьего полка, что позволило ликвидировать угрозу на этом участке. Благодаря непрерывно прибывающим резервам, Свистунову удалось значительно усилить войска, действовавшие против восставших. Только с 22 по 29 апреля и только из Владикавказа в Чечню посланы 2 батальона Черноморского полка, 2 батальона Таманского полка и 7 отдельных рот этого же полка, сотня Сунженского конного полка, сотня Кизляро-Гребенского полка и сотня Терской постоянной милиции, а также артиллерийский дивизион. В результате, например, отряд полковника Нурида возрос до 6 батальонов пехоты и трех сотен казачьей кавалерии1.
Учитывая сложившуюся обстановку и быстроту передвижений Алибека-хаджи, начальник Терской области предоставил полную самостоятельность действовавшим в зоне восстания отрядам полковников Батьянова, Нурида, Ломновского и Лохвицкого (последний дислоцировался в Шатое), потребовав, однако, от них обеспечить надежную и оперативную связь между собой и с ним. Кроме того, были приняты 52. всякий случай меры по укреплению обороны Грозного. По-преж- вему испытывая волнение по поводу настроений жителей Чечни, Свистунов требовал: «Через начальника Грозненского округа или его
РГВИА. Ф. 1300. On. 1. Д. 43. Л. 18,24 об., 80, 113,125, 125 об.
— 373 —
Глава VIII. Крестьянская война в Чечне и Дагестане в 1877 г. (имам Алибек-хаджи).
Чеченские всадники на «Турецкой» войне
Наместник Кавказа — великий князь Михаил Романов (15, 35)
помощников, равно пользуясь услугами полковника Курумова, собирать по возможности сведения, что делается во всем населении Чечаш и соседних округов и сообщать мне». Кроме того, наместнику Кавказа сообщено о желательности возвращения в Чечню Орцу Чермое» «Если он там не очень нужен, то без сомнения полезно его прислать сюда». Чермоев в это время находился на Кавказском фронте во главе чеченского конно-иррегулярного полка, в котором насчитывалось ш 800 всадников-добровольцев1.
Первые серьезные признаки того, что равнинная Чечня не слипгкаи сильно сочувствует восстанию, появились уже на второй день пскж боя у Майртупа: вновь появившиеся здесь восставшие были встрече» выстрелами — в перестрелке погибли два жителя села. Интересно, чт в Грозном появились чеченские торговцы из селений Большой и Мале* Чечни (Автуров, Шали, Урус-Мартана), которые поспешили укрыть зясо свои товары. Кстати, российские власти специально собирали сведен кя с том, из каких именно селений прибывали чеченские торговцы, тем самьаш определяя вероятное направление движения отрядов восставших2.
Шалинское сражение. 28 апреля Алибек-хаджи со своими отрядами попытался войти в крупнейшее селение Большой Чечни — Ша*
1 См.: РГВИА. Ф. 1300. On. 1. Д. 43. Л. 83,96; Нанхаджиев С. С одной судьбой с Россией // Голос Чечено-Ингушетии. — 1991. — 29 мая. — № 102. — С. 3.
2 РГВИА. Ф. 1300. On. 1. Д. 43. Л. 78 об.
— 374 —
Развертывание масштабных военных действий. Поражение горских крестьян
Имам Чечни Алибек-хаджи Алдамов. Совр. рис. (15» 52)
Состоятельные жители села, ободренные присутствием рядом большого отряда полковника Нурида, решились оказать вооруженное сопротивление, в чем решающую роль сыграл местный старшина Борщик Хамбулатов. Последний еще 26 и 27 апреля собрал всех «почетных» жителей Шали и убедил их не пускать в село восставших. В результате восставшим пришлось вступить в бой как с шалинцами, так и регулярными войсками: «Поражение мятежникам нанесено полное. Первыми атаковали их шалинцы под предводительством старшины известного Борщика и подвели под огонь наших войск. Бросившись в бегство, мятежники были еще раз атакованы автуринцами и понесли громадные потери. Чечня торжествует свое спасение».
Последняя фраза из донесения генерала Свистунова в Тифлис как нельзя лучше передает настроение, царившее среди жителей равнинной Чечни, которые прекрасно понимали, что их ждет, если восстание распространится и на их селения. Еще через два дня Свистунов с тговлетворением сообщит в Тифлис: «Спокойствие в Чечне восстановлено. .. жители всех аулов поднялись и бьют и преследуют мятежников, к многие вожаки уже арестованы...» Сам Б. Хамбулатов, получивший «желое ранение в бою, был пожалован чином прапорщика милиции с годовым окладом в 600 рублей и получил пожизненную пенсию — 400 рублей в год1.
См.: РГВИА. Ф. 1300. On. 1. Д. 43. Л. 104; Сигаури И. М. Очерки истории и государственного устройства чеченцев с древнейших времен. Т. 2. — М., 2001. — С. 11.
— 375 —
Глава VIII. Крестьянская война в Чечне и Дагестане в 1877 г. (имам Алибек-хаджи)
Чеченские всадники на «Турецкой» войне
Наступление русских войск на Ичкерию. Вообще, конец апреле отмечен сразу несколькими неудачами повстанцев: в ущелье рек* Хулхулау потерпели поражение отряды Губахана, а в Шаро-Аргунской ущелье полковник Лохвицкий при поддержке местной милиции во главе со старшиной Хайбуллой разбил отряд Дады Залмаева. Эти поражение заставили Алибека-хаджи вернуться из похода на плоскость в Ичкерию, а российские войска получили возможность направиться в горы.
В начале мая 1877 г. в Терской области насчитывалось уже 28 пехотных батальонов регулярных войск — 24409 человек, 16 казачьих сетей — 2261 человек, 11 сотен постоянной местной милиции и 104 орудия. Непосредственно для действий против восставших было направлен в общей сложности 84 роты и 8,5 казачьих сотен при 32-х орудиях Кроме того, в соседнем Дагестане был собран отряд из двух батальонов Апшеронского и Самурского полков, 6 дружин и 3 сотни милиции при 4-х орудиях под командованием полковника Накашидзе. Этот отряд был передан в распоряжение начальника Терской области1.
Таким образом, в распоряжении главы Терской администрации оказалось достаточное количество войск, которые он не замедлил двинут» в Ичкерию. Сообщив 3 мая об успешном продвижении в горы, ешс через день Свистунов сообщил: «Чеберлоевские мятежники послал* в Беной за помощью, но едва ли ее получат, так как вся западная Ичкерия до Аксая уже возвращена в покорность. Сегодня Арцу (Opnv Чермоев. — Авт.) с почетными чеченцами отправился в горы за Аксай для убеждения»2.
О методах, применяемых царскими войсками в горной Чечне, откровенно поведал полковник Батьянов: «Полагаю выселять семейства возмутившихся и находящихся в партии, забирая их имущество, с тем. чтобы явившиеся впоследствии мужья присоединялись к ним...» Эи тактика, казалось, принесла положительные для российских властей результаты: уже к 6 мая не только чеберлоевские аулы, но и почти все селения Ичкерии «принесли раскаяние». Однако, как признает Св*- стунов, жители упорно отказывались выдать властям «зачинщиков». В связи с проявленным жителями упорством начальник Терской области просил наместника Кавказа повременить с выводом из облает» дополнительных войск: «Со временем убедитесь, что здесь было лея* очень серьезное, поэтому советую не рисковать и дать мне срок, можгт быть через недельку отпущу таманцев. Взявши их теперь, можно очень за это поплатиться»3.
Связи чеченских повстанцев с Дагестаном. Желая вынудить горю выдать Алибека-хаджи и других предводителей восстания, Свистуж»
1 Очерки истории Чечено-Ингушской АССР. Т. 1. — С. 136.
2 РГВИА. Ф. 1300. On. 1. Д. 43. Л. 118,119; Иванов А. И. Указ. соч. — С. 285.
3 РГВИА. Ф. 1300. On. 1. Д. 43. Л. 74 об., 120, 128.
— 376 —
Развертывание масштабных военных действий. Поражение горских крестьян
принял решение направить в Ичкерийский округ сильные карательные отряды: «Полагал бы, если выдадут для примерного наказания главных виновников числом до шестидесяти, прочим объявить прощение и этим вело окончить». В целом ситуация уже не вызывала у него серьезных опасений, даже то, что Алибек-хаджи «с сотней бродяг» скрылся в Са- •атавии (Северный Дагестан), как полагал Свистунов, не может иметь существенных последствий. К тому же, в терской администрации уже с первых дней восстания подозревали о серьезных связях Алибека- змджи в Дагестане. Недаром полковник С. И. Авалов сразу же сообщил, что по имеющимся слухам Алибек-хаджи в действительности не »мам, а только «наместник», а действительным имамом является шейх Хамзат-хаджи Чиркеевский из Хасав-Юртовского округа. Слух этот, несомненно, ложный (в том плане, что Алибек-хаджи действительно провозглашался имамом Чечни), все же показывал серьезное значение, эоторое Алибек-хаджи придавал дагестанским единомышленникам.
Это подтвердилось 14 мая 1877 г., когда вспыхнуло восстание в Салатавии. В результате полковник Батьянов со своим отрядом покинул Ичкерию и немедленно направился к месту нового восстания. Тщательная подготовка похода на чеченцев пригодилась в Салатавии: войска быстро уничтожили аулы Алмак, Дылым и Буртунай с расположенными поблизости хуторами. Все население (до трех тысяч человек) первоначально планировалось выселить вглубь России, но вдоследствии было решено ограничиться выселением 200 наиболее видных участников восстания
Ставка на местные силы. К досаде Свистунова, Алибек-хаджи опять сумел скрыться в лесах на территории горной Чечни. Пытаясь воздействовать на упорствующих чеченцев уговорами, начальник Терской области просит вернуть в Чечню и других влиятельных лиц, помимо О. Чермоева: «Чуликов здесь совершенно необходим...»
Для Свистунова не секрет, что восстание буквально разделило многие чеченские семьи. Так, у участника восстания Гаты-хаджи родной брат — подпоручик Хату Мамаев командовал сотней в Чеченском юнном полку. Чуть позднее, когда Ума Дуев открыто примкнет к восстанию, его старший сын — офицер совместно с приставом 2-го Ша- тоевского участка, 10 охотниками и несколькими местными жителями будет участвовать в военных действиях против восставших2. Поэтому аачальник Терской области стремится использовать родственные связи Ӏвежду чеченцами, чтобы склонить хотя бы часть восставших к прекращению сопротивления.
РГВИА. Ф. 1300. On. 1. Д. 43. Л. 56, 129; Иванов А. И. Восстание в Чечне в 1877 г. // Истор. записки. — 1940. — № 10. — С. 285.
РГВИА. Ф. 1300. On. 1. Д. 43. Л. 51 об.; Д. 52. Л. 9 об.; On. 1. Д. 44. Л. 13,16.
— 377 —
Глава VIII. Крестьянская война в Чечне и Дагестане в 1877 г. (имам Алибек-хаджи
Чеченские всадники на «Турецкой» войне
Впрочем, в намерения властей входит не только уговаривать — из числа, чеченцев формируются команды так называемых «охотников- и дополнительные сотни милиции. Эта мера казалась Свистунову тем более важной, что уже в июне он убедился, что горная Чечня вновь стоит на пороге нового взрыва всеобщего возмущения. Чтобы предотвратить его, предприняты неудачные попытки захватить Алибека-хаджи близ аулов Шуани и Алерой.
К операциям против войск все шире привлекаются «охотник к •- которым платили постоянное жалование (10 рублей в месяц). Пр* этом милиционеры имели приказ убивать не только скрывающихся абреков, но и любого жителя, направлявшегося из своего селения в лес В качестве вознаграждения за каждого убитого или пойманного в лес? человека власти выплачивали 25 рублей. Награды же за уничтожение главных руководителей восстания были гораздо выше: за Алибека-хая- жи — несколько тысяч рублей, за Султан-Мурада Беноевского и Даяу Залмаева — по несколько сотен рублей. Дагестанские исторические хроники в этой связи сообщают, что российские начальники неоа- нократно подсылали к Алибеку-хаджи убийц.
Однако ставка на чеченскую милицию в борьбе с повстанцами долгое время не оправдывала себя: «...трудно найти в среде благоразумной», преданного своим хозяйским интересам, населения отважных личностей, которые согласились бы, с явной опасностью для жизни, решиться пойти в неприступные чащи леса против фанатиков, знающих, что § случае поимки их ждет неизбежная казнь, и потому предпочитающих умереть с оружием в руках»1.
Разрушение чеберлоевских и дзумсоевских аулов. В июле в центре внимания властей вновь оказались чеберлоевские аулы, которые с появлением здесь Алибека-хаджи открыто примкнули к нему. Отряг полковника Накашидзе 16 июля двумя колоннами вступил в Чеберлои. разрушил 5 селений, включая аулы Макажой и Садой, арестовал до тысячи человек и захватил большое количество скота. Но Алибек-хад;ог опять сумел отступить и укрылся в лесах на границе между Чеберлоем и Веденскими аулами. Российские войска простояли в Чеберлое оксво 20 дней: «Все это время они портили поля чеберлоевских селений. Жители же их находились тогда в таком состоянии, словно бы порази* их величайшее наводнение»2.
1 См.: Айтберов Т. М., ДаЬаев Ю. У.у Омаров X. А. Восстания дагестанцев и чеченце? в послешамилевскую эпоху и имамат 1877 года (материалы). Кн. 1. — С. 51—5: Ковалевский П. К Восстание в Чечне и Дагестане в 1877 и 1878 гг. — СПб., 1912. — С. 27.
2 РГВИА. Ф. 1300. On. 1. Д. 52. Л. 6 об.; Айтберов Т. М. и др. Восстания дагестанцев * чеченцев в послешамилевскую эпоху и имамат 1877 года (материалы). Кн. 1. — Махачкала, 2001. — С. 62.
— 378 —
Развертывание масштабных военных действий. Поражение горских крестьян
Пытаясь предотвратить расширение восстания, войска отбирали заложников у горных жителей селений, что иногда приносило результаты. Так, жители селений 1-го Шатойского участка, у которых предварительно были взяты аманаты, не пропустили отряд Умы Дуева через Шаро-Аргун близ селения Хани-Кале.
В отместку за действия вождя дзумсоевцев — Умы Дуева полковник Лохвицкий разорил селения Дзумсоевского общества и, взяв от них заложников, 26 июля вернулся в крепость Шатой. Но, как признавался Свистунов, с сопротивлением не было покончено: «...я признал за лучшее в Чеберлое, как и в других местностях Терской области, рассчет с бунтовавшим населением отложить до спада листа»1.
Пропагандистская борьба. Позиция духовенства. Распространению восстания в немалой степени способствовали и появившиеся в Чечне письма, сообщавшие о приближении турецких войск во главе с сыном Шамиля Гази-Мухаммедом. В указанных письмах говорилось, между прочим, что все примкнувшие к восстанию будут навечно освобождены от всяких податей и утверждены в обладании землей. Напротив, те, кто откажется поддержать восстание — не только навсегда потеряют землю, но и будут обращены в рабство. Кроме того, Чечню будоражили слухи о поражениях русской армии на турецком фронте и волнениях, возникших в Сванетии и Абхазии.
Пытаясь как-то противодействовать агитации восставших, власти все больше опирались на тех представителей чеченского духовенства, которые открыто осудили восстание, считая его бесперспективным
Умма-хаджи Дзумсоевский. Совр. рис. (15, 55)
РГВИА. Ф. 1300. Оп. 1.Д. 52. Л. 6, 8 об., 9, 10 об., 12.
— 379 —
Глава VIII. Крестьянская война в Чечне и Дагестане в 1877 г. (имам Алибек-хаджи,.
Чеченские всадники на «Турецкой» войне
и способным только ухудшить положение чеченского народа. Кстатм сказать, большинство жителей Чечни вполне разделяло точку зрения духовных лиц, провозглашавших в мечетях: «Да будет проклят тот, кто во вред своим ближним поднимает руку против сильного».
О глубоком внутричеченском противостоянии во время восстают 1877 г. говорят как российские, так и дагестанские источники. Так. вступив в Чеберлой в июле 1877 г., Алибек-хаджи захватил местных старшин. Дагестанские хронисты в этой связи прямо пишут: «...хаджж Алибек Чеченский выступил против жителей Чеберлоя...» В результате жители горной Чечни часто оказывались между двух огней: «.. .Алибек- хаджи в отместку за неповиновение... начал палить и разорять аулы. Таким образом, палку жгли с двух концов: аулы палили русские, аужы палили и чеченцы»1.
Усиление военных действий в Ичкерии. В августе 1877 г. власти вновь столкнулись с мощным усилением восстания в Ичкерии, г»е в блокаде опять оказалось одно из сильнейших укреплений Кавказа — Веденская крепость. Лишь 14 августа после упорного боя войска во второй раз за полгода овладели вершиной Гамар-Дук и очистили от восставших близлежащее селение Дышне-Ведено. Одновременно велись широкие операции против ичкерийских аулов, которые и стала главной мишенью войск. Еще 3 июля Свистунов признал необходимым «...действовать силою оружия и не против скрывающейся партии, а против аульных обществ»2. Если раньше войска захватывали селения а отбирали заложников, то теперь взятие аманатов рассматривалась как временная мера, действующая до тех пор, пока сами селения не будут полностью очищены от «неблагонадежного» элемента. В отдельных случаях власти намеревались выселить целые селения, например, Бенсе и Зандак. При этом было объявлено, что в случае малейшего неповиновения заложники будут немедленно расстреляны.
Заложников, отобранных в селениях, власти направляли в ближайшие крепости, а в отдельных случаях — даже в Грозный. Свистуно* распорядился, чтобы при транспортировке задержанных и заложников к ним применялись самые суровые меры, а в случае попытки восставших освободить аманатов, последние подлежали безусловному уничтожению. Так, при нападении повстанцев на отряд, сопровождавший в Веденскую крепость 135 арестованных жителей селения Мехкеты, солдатами быи? убито до 20 мехкетинцев3.
1 См.: Айтберов Т. М., Дадаев Ю. У, Омаров X. А. Восстания дагестанцев и чеченцев » послешамилевскую эпоху и имамат 1877 года (материалы). Кн. 1. — С. 60; Ковалевский П. К Восстание в Чечне и Дагестане в 1877 и 1878 гг. — СПб., 1912. — С. 40.
2 Иванов А. И. Восстание в Чечне в 1877 г. // Истор. записки. — 1940. — № 10. — С. 288.
3 РГВИА. Ф. 1300. On. 1. Д. 52. Л. 2.
Развертывание масштабных военных действий. Поражение горских крестьян
Ход движения в Дагестане. При наличии несомненного элемента стихийности, характеризовавшей движение 1877 г. в Дагестане и Чечне, следует сказать, что народное восстание готовилось долго и согласованно молодыми алимами, старшинами, бывшими наибами и ветеранами Шамиля. Работал своеобразный тайный совет-шура, который попытался разорвать план «воссоздания» имамата в пределах Дагестана, Чечни и Закатальского округа в Закавказье.
Первые признаки «брожения» в Дагестане появились еще в апреле- мае 1877 г., вследствие чего здесь спешно формируется «Дагестанский отряд» из 3-х тысяч солдат и горской милиции, которые занимают западные границы области с Чечней, прикрывая в особенности направление на Ботлих1. Однако собственно открытую форму восстание приобрело только в августе 1877 г., так как местные вожди все ожидали поражения царских войск в Закавказье и прихода в Дагестан старшего сына Шамиля — Гази-Мухаммеда.
Избиение солдатами горцев Гунибского округа привело к вооруженному столкновению и в конечном счете к осаде Гунибской крепости. Собрание горцев во главе с алимами избрало имамом Гаджи-Магомеда, сына суфийского шейха из Согратля, учредило Совет и назначило на- мбов. В сентябре к восстанию присоединяются горские офицеры царской службы со своими отрядами милиции, бывшие наибы и представители местной знати. Таким образом, к восстанию примыкают Даргинский н Казикумухский округа, следом, в разгар жестоких боев в Нагорном Дагестане, восстает Южный Дагестан (Кюринский, Самурский и Кай- таго-Табасаранский округа). Следом волнения начинаются в уездах Северного Азербайджана, Восточной Грузии, где проживали лезгины и аварцы, а также в высокогорных аулах западной части Дагестана. Везде горские крестьяне ликвидируют царскую административную систему л восстанавливают независимые органы управления, вплоть до ханств и бекств. Таким образом, до конца сентября 1877 г. вся Дагестанская область, кроме Темир-хан-Шуринского округа на севере, оказалась охваченной крестьянской войной.
Начиная с октября 1877 г., стянув войска из внутренних районов империи, Терской области, Бакинской губернии и даже из Средней Азии, парские власти повели наступление на Дагестан с разных направлений. Б ходе жестоких двухмесячных боев русские войска заняли Нагорный Дагестан. Во многом своими победами они были обязаны измене феодалов делу восстания и разногласиям в самом дагестанском обществе, г* *е, как и в Чечне, были сильны пророссийские настроения.
Расправа была зверской. В Гунибе и Дербенте были повешены все щменитые предводители горцев в числе 300 человек, включая имама
Амтберов Т. М.,Дадаев Ю. У, Омаров X. А. Восстания дагестанцев и чеченцев в пос-
*ешамилевскую эпоху и имамат 1877 года (материалы). Кн. 1. — С. 10, 209.
— 381
Глава VIII. Крестьянская война в Чечне и Дагестане в 1877 г. (имам Алибек-хаджи).
Чеченские всадники на «Турецкой» войне
Гаджи-Магомеда. Около пяти тысяч человек были либо сосланы, птос осуждены на каторжные работы1.
Подавление восстания в Чечне. С началом осени 1877 г. начпщ решающая фаза подавления восстания. С 3 по 25 сентября действия войск сосредоточены в основном против селений, расположенных да реке Басс. Из указанной местности почти поголовно выселены селения Мехкеты, Хатуни и Таузень. Жители Мехкетов, которых власти обегали не выселять в случае выдачи укрывавшегося здесь Умы Дуева, ш требование начальника Терской области ответили: «.. .от народа следуем требовать только возможного. Ты знаешь, как нам трудно расстаться с могилами отцов и родиной, но мы беспрекословно покоряемся. Выдать же Уму не можем. Он был наш гость»2.
Выбитый почти отовсюду, Алибек-хаджи с оставшимися у него сторонниками укрылся на дальних симсирских хуторах, где намеревайся провести зиму. Однако 3 октября к генералу Смекалову, командовавшему войсками, направленными в симсирские леса, пришел некя* житель Беноя по имени Бий-Султан. В обмен на полное прощение я разрешение собрать остатки своего имущества Бий-Султан вызвался стать проводником к последнему укрепленному пункту Алибек-хадж* Благодаря этой неожиданной помощи симсирские хутора были быстр» захвачены. Несмотря на то что Алибек-хаджи вновь сумел скрыться (он ушел в Дагестан), массовое вооруженное сопротивление в Чечне было окончательно сломлено. Тогда же, 23 сентября, Ума Дуев уходи из районов средней части Аргунского округа на юго-восток в общесттс Химой Шароевского участка, жители которого восстали одновремензя с началом движения в соседнем Чамалалском обществе Дагестана. В октябре полковник Лонвицкий вытеснил Ума Дуева из Аргунского округа и тот ушел в Андию. Здесь, в Дагестане, разворачивались дальнейшая события, связанные с крестьянской войной3.
16 октября 1877 г. было официально объявлено о прекращении военных действий в Терской области. Отныне все внимание кавказского начальства сосредоточилось на Дагестане, где восстание продлилось еще несколько месяцев. Что касается горной части Чечни, то вплоть до декабря здесь проходили полицейские операции по захвату скрывающихся участников восстания.
Заключительный этап восстания крестьянской войны 1877 г. в Чечне и Дагестане характеризуется исключительно жестокими действиям карателей, которые действовали в полном соответствии с приказа* генерала Свистунова: «...без сожаления косите все, бейте и вешайте
1 См.: Гаджиев В. Г., Шигабудинов М. Ш. История Дагестана. Учеб, пособие. — Махачкала, 1993. — С. 64—67.
2 Эшба Е. Асланбек Шерипов. — Сухуми, 1990. — С. 85.
3 Очерки истории Чечено-Ингушской АССР. Т. 1. — С. 140.
— 382 —
Развертывание масштабных военных действий. Поражение горских крестьян
беспощадно». Изгнанные из своих домов жители со своими семьями и имуществом пытались укрыться в лесах, где их выслеживали и беспощадно истребляли команды «охотников», набранные из военнослужащих регулярных войск, казаков, дагестанцев, чеченцев и других •туземцев» Терской области. Точное количество чеченцев и дагестанцев, высланных в центральные и отдаленные губернии России за участие в восстании, остается невыясненным. Уже в августе 1877 г. были высланы первые 150 жителей селений Зандак и Даттых, небольшие партии ссыльных отправлялись всю осень. Весной следующего, 1878 г., из Терской области выслано еще 110 семей, а из Дагестана — 660 семейств. Большая часть высланных умерла уже в первые месяцы ссылки. Известно также, что свыше 500 чеченцев были приговорены к пожизненным каторжным работам1.
Восстание 1877—1878 гг. в Чечне и Дагестане вновь поставило перед кавказской администрацией вопрос о всеобщем и полном разоружении горцев. Однако, как и в предыдущие годы, власти быстро пришли к выводу о невозможности практического осуществления этой меры. Было признано, что разоружение горцев, не участвовавших в восстании, будет воспринято ими как «незаслуженное наказание» и вызовет взрыв возмущения среди лояльных к русской власти горцев. Кроме того, было очевидно, что к разоружению придется привлечь огромное количество войск без всякой гарантии на успех. Опыт показал, что население просто спрячет имеющееся у него оружие и найти его не удастся. Так, в Дагестане восставшие применяли против карателей пушки, зарытые в землю после 1859 г. и которые за 18 лет так и не были обнаружены местными властями2.
О том, какое значение в Санкт-Петербурге придавали подавлению эосстания в Чечне, можно судить по большому количеству наград, которые получили не только отдельные офицеры, солдаты и милиционеры, зо и целые воинские подразделения. Так, 1-й Сунженский казачий полк был награжден специальной грамотой «За военные подвиги против непокорных горцев», которую подписал лично император Александр И. Второму Сунженскому полку и первой сотне 3-го Сунженского полка, хроме грамот, были пожалованы особые знаки отличия на головные тборы3.
Казнь вождей восстания. Главные руководители восстания также были задержаны в разное время, а Алибек-хаджи сдался добровольно з конце ноября 1877 г. Сам Алибек-хаджи причину своего добровольного ареста объяснял следующим образом: «...я находился в одном из
Jteanoe А. И. Восстание в Чечне в 1877 г. // Исторические записки. — 1940. — № 10. — С. 289,293,294; Эшба Е. Асланбек Шерипов. — Сухуми, 1990. — С. 84.
РГВИА. Ф. 1300. Оп. 4. Д. 3131. Л. 1—7 об.
ГАРФ. Ф. 5351. On. 1. Д. 2. Л. 54 об.
Глава VIII, Крестьянская война в Чечне и Дагестане в 1877 г. (имам Алибек-хаджи).
Чеченские всадники на «Турецкой» войне
К.
Алибек-хаджи Алдамов в грозненской тюрьме перед казнью (15, 129)
селений Чеченского округа и там услышал, как мужчины говорила: «Вот если бы Хаджи-Алибек сдался русским, то они отпустили бы из тюрем задержанных и, таким образом, позволили бы им, наконец обрести покой в своих домах»; я начал тут размышлять о том, чта может быть, стоит принести себя в жертву ради них — самому уйти в могилу и через это дать покой людям, находящимся в заключен» вот ради этого-то я и сдался русским»1. Несколько ранее был захваче* в Дагестане Ума Дуев, раненый в ходе одного из боев.
Суд над ними состоялся 4—6 марта 1878 г. в Грозном. Из 17 гкм- судимых 11 были приговорены к смертной казни, в том числе Амт- бек-хаджи, Ума Дуев, один из его сыновей и Дада Залмаев. Приговор1 приведен в исполнение в 6 часов утра 9 марта на одной из площадей Грозного, при гробовом молчании и явном сочувствии к казнимым собравшихся горожан.
Уроки и последствия. Одним из последствий восстания 1877 г. быж ужесточение военного характера управления Чечней и сохранение системы военных укреплений в горной Чечне. Еще в 1875 г. укреплен» Грозненское, Воздвиженское и Назрановское были упразднены, так как «благодаря мирному положению края» утратили свое военное зна’де- ние. При этом земля, на которой располагались укрепления, не вымя
1 Айтберов Т. М.уДадаев Ю. X, Омаров X. А. Восстания дагестанцев и чеченцев в зеч:- лешамилевскую эпоху и имамат 1877 года (материалы). Кн. 1. — С. 127—128.
— 384 —
Чеченский полк в русско-турецкой войне
возвращена чеченским крестьянам, а оставалась в распоряжении казны. Что касается системы военных укреплений, созданных в горной части Чечни, то она сохраняется в неприкосновенности, причем в первые годы после подавления восстания гарнизоны горных крепостей были увеличены. Только в середине 80-х гг. власти Терской области пришли к выводу, что спокойствие в чеченских горах обеспечено и часть гарнизонов можно сократить. В частности, гарнизон укрепления Башин-Кале в Аргунском округе намечалось сократить с 1-ой роты до 1-го взвода, так как «.. .укрепление ныне уже утратило значительную долю своего значения» К
Изучение восстания 1877—1878 гг. в Чечне и Дагестане показывает, »то в отличие от шамилевского периода оно, несмотря на элементы крестьянской войны, так и не приобрело общенационального характера. Нельзя не признать, что в силу объективно сложившихся обстоятельств восстание было заранее обречено на поражение. Большая часть населения равнинной Чечни и Дагестана видела перспективу в дальнейшей интеграции с более сильной и развитой Россией. Так, в нагорной Чечне, в. отличие от равнинных аулов, в середине XIX в. ощущается острый земельный голод и аграрное перенаселение, с чем новые власти практически не боролись. Позднее быстрый рост населения вызовет земельную тесноту и в равнинной части Чечни, что приведет к заметному обострению положения и здесь. Однако все последующие годы социальный зротест чеченского крестьянства будет выражаться преимущественно в форме абреческого движения, хотя власти Терской области систематически сообщают о подготовке новых восстаний в Чечне.
§ 3. Чеченский полк в русско-турецкой войне2
Причины формирования горских конных полков. В 70-х гг. XIX в.
з. преддверие новой войны России с Османской империей, назревавшей зследствие исторического спора двух империй по Балканам и Кавказу, юрское правительство стало строить планы использования военного щугенциала горцев Кавказа. С сожалением вспоминали уже о тех же згченцах и черкесах, изгнанных в 60-х гг. XIX в. в Турцию, где из rop- хэ немедленно стали формировать иррегулярные части, доставившие vfOM немало потерь русской армии, особенно на балканском театре яо*ны.
*ГБИА. Ф. 1300. On. 1. Д. 111. Л. 1.
^23-эернутые исследования по данному вопросы были проведены историками Тамерланом Муталиевым: В одном строю (Чеченцы и ингуши в русско-турецкой вой- =е 1877—1878 годов). Грозный, 1976, и Хасолтом Акиевым: Народы Северного Кав- ьдег в русско-турецкой войне 1877—1878 гг. // Автореферат канд. дис. — Л., 1980.
— 385 —
Глава VIII. Крестьянская война в Чечне и Дагестане в 1877 г. (имам Алибек-хаджи).
Чеченские всадники на «Турецкой» войне
Привлечение горцев на российскую службу имело давние традиции, уходившие корнями еще в XVI век. В XIX в. горцы за жалованье и по набору привлекались для службы в так называемую «милицию^, представлявшую собой иррегулярное ополчение. Офицерами в горской милиции могли служить и офицеры из казаков, и выходцы из горской знати. Кстати, представители горской знати в период Кавказской войны массами устремлялись на царскую службу, достигая зачастую и высших чинов. Причем политическая и правовая практика царизма на захватываемых землях Кавказа строилась так, что горцы, включая феодалов, могли сохранить и приумножить свои материальные богатства и сословные привилегии только при условии службы «царю и отечеству». Выходцы же из рядовых, узденских семейств тоже зачастую делали неплохую карьеру1.
Еще накануне войны с Турцией, начавшейся в апреле 1877 г., кавказские власти произвели опыт по созданию военной части из горских добровольцев. Осенью 1876 г. в формируемый Терско-Горский конно-иррегулярный полк в составе 504 человек были набраны поровну ингуши и осетины. Соответственно были образованы и два дивизиона — Ингушский и Осетинский. Подавляющее число офицеров также было из горцев и казаков. Следует сказать, что «всадникам» платили немалое жалованье, но зато и отправлялись они на войну на собственных лошадях, в собственном обмундировании и с личным оружием. Единственное, что им было выдано армией, так это казнозарядные винтовки Бердана и патроны. В конце 1876 г. полк был отправлен по железной дороге в Кишинев2.
Два момента обеспечили дальнейший успех добровольного наборе горцев в «полки». Первое — это крепнущее осознание горцами себе поданными Российского государства и мотив престижности военном службы на добровольческой основе. Как известно, чеченцы (как и другие горцы) не призывались на регулярную воинскую службу с. палочной муштрой и избиениями — из-за опасения восстания.
Кроме того, надо учитывать, что на рядовую службу в «полк» шли «лишние» люди горского общества — маргиналы и беднота — надеявшиеся поправить свое материальное и социальное положение.
Всего в 1877—1878 гг. на военную службу было привлечено горцев из Терской области 6731, из Кубанской 2545 человек, а из Дагестанской 10 576 человек. Причем командный состав формировался из князей, беков, старшин, богатых узденей и из офицерских семей, а рядовой — главным образом из бедноты3. Причем многих бедняков снаряжали на службу родственники, богатые покровители, а то и аульные общества.
1 Акиев X. А. Указ. соч. — С. 8.
2 Муталиев Т. Х.-Б. Указ. соч. — С. 34—36.
3 Акиев X. А. Участие горцев Северного Кавказа в войне 1877—1878 гг. // Вопр. истории. — 1980. — № 1. — С. 174.
Чеченский полк в русско-турецкой войне
Формирование Чеченского конно-иррегулярного полка. Общие яв- elssj1Я и принципы наблюдавшиеся при формировании горских полков : аодной силой проявились и при наборе шестисотенного Чеченского яка (фактически численность полка составила 800 человек) К
К 15 февраля 1877 г. набор всадников был закончен и офицеры шкачены на должности. Согласно архивным данным, первой сотней кг ттдовал ротмистр Ума лат Лаудаев2, 2-й — корнет Булат Ян даров, V* — поручик Магомет Мустафинов, 4-й — поручик Адиль-Гирей \П£эсв, 5-й — подпоручик Хату Мамаев, и 6-й — Керим Чопанов.
?ЛКА. Ф. 1300. On. 1. Д. 43. Л. 83,96.
Ддаор опубликованной в 1872 г. крупной этнографической работы «Чеченское пле- (Со. сведений о кавказских горцах. Вып. 6. — Тифлис, 1872).
— 387 —
Глава VIII. Крестьянская война в Чечне и Дагестане в 1877 г. (имам Алибек-хаджи).
Чеченские всадники на «Турецкой» войне
Генерал-майор Орцу Чермоев, участник двух русско-турецких войн (4, 82)
Субалтерн-офицерами являлись подпоручик Болла Джанкуев, прапорщики Карасай Алхазов, Зелимхан Бекович-Черкасский, Адильгире* Мингильбаев, Ахматуко Чомаков, Ибрагим Дукаев, Бисултан Темир- султанов, корнет Барахан Таймазов. Позже, за храбрость в бою быж произведен в прапорщики Шахбулат Шерипов. Известна также фамилий Закри Ахтаханова, закончившего войну в звании майора.
Первым командиром Чеченского полка состоял терский казачий офицер — войсковой старшина Акимов, затем полковник Магомез Безоруков (кабардинец по происхождению). После его ранней смерти от болезни, полком командовал чеченский офицер полковник Орпа Чермоев (позже генерал-майор). Полковым адъютантом (до увольнения по болезни) с полгода состоял прапорщик Пейзула Курумов. 3« беспримерную храбрость в годы Кавказской войны Курумов был зг 4 года (1858—1861 гг.) четырежды награжден Георгиевским крестом, став, таким образом, «почетным кавалером Знака отличия Военного ордена солдатского Георгиевского креста». Кроме офицеров из чеченце», в полку служили русские, немцы, ингуши, осетины и даже горские евреи (Шамиль Урусханов и Урусхан Шамаев)
Следует также отметить, что в свою очередь немало чеченских офицеров и рядовых в ходе русско-турецкой войны 1877—1878 гг. сражались в составе Дагестанских конных полков, казачьих и армейских частек.
Горцы на турецкой службе. В свою очередь и Османская империя в преддверии войны и в ходе нее пошла на формирование национальных 11 См.: РГВИА. Ф. 1455. On. 1. Д. 8. Л. 86; Ф. 407. On. 1. Д. 955. Л. 123 об.—124; Мутаял- ев Т Х.-Б. Указ. соч. — С. 40—41.
Чеченский полк в русско-турецкой войне
конных частей из горцев Северного Кавказа. Во главе их стояли представители горской знати, в том числе и бывшие российские офицеры. На войну выступил и генерал-майор (теперь паша) Мусса Кундухов, живизионный генерал Гази-Мухаммед, сын Шамиля; собственно, и в турецкой регулярной армии было немало горских офицеров, по праву считавшихся элитой Османской империи. Сами султаны Абдул-Азиз, а следом и Абдул-Хамид II по мере сил старались облегчить положение горцев и дать им возможность отличиться на войне. Но одряхлевшая империя с отсталым обществом и коррумпированным насквозь чиновничеством была больна и слабо поддавалась реформам.
Недовольные своим положением в Османской империи и прямо враждебные чиновничеству и жандармерии горцы выказывали порою индифферентность к событиям войны 1877—1878 гг., что наглядно подтверждается и попытками их насильственной мобилизации в турецкую армию1.
Кавказский театр русско-турецкой войны. В XIX в. все русско- гурецкие войны разворачивались на двух театрах — Балканском и Кавказском. Не стала исключением и война 1877—1878 гг., поводом к шторой как раз стали события на Балканах, связанные с поддержкой Россией борьбы славянско-христианских народов против Османской империи. При этом развернутая пропаганда затемняла зачастую цели российского царизма, стремившегося безраздельно господствовать и на Балканах, и на Кавказе
Кавказский фронт считался второстепенным, здесь для русской ар- Ю!И были поставлены задачи взятия Карса и Эрзрума, с максимальным оттеснением на юг турецкой границы. Задача турецкой армии заключалась в максимальном восстановлении на Кавказе влияния Турции, способствовании антирусским мятежам горских народов, вплоть до создания на Кавказе мусульманских государств — Аджария, Абхазия, Чечня, Дагестан и т. д.
В свою очередь русское командование распределило наличные силы Кавказского военного округа перед началом войны таким обрезом, что четыре дивизии из семи решили использовать против турок в Закавказье, а три дивизии остались для устрашения горцев
Северном Кавказе. Поэтому еще раз становится понятным стремление царских властей максимально изъять «беспокойный элемент» с Северного Кавказа, свести его в иррегулярные конные части и от- яравить на войну.
Весной 1877 г., в результате мобилизации и формирования нацио- ®ёльных частей, к активным действиям против Турции в Закавказье оыли привлечены 70 тысяч штыков и сабель, при 232 полевых орудиях. Зе&ствующим корпусом, которому предстояло сражаться на фронте
А?:иевХ. А. Указ, автореферат. — С. 7—8.
Глава VIII. Крестьянская война в Чечне и Дагестане в 1877 г. (имам Алибек-хаджи)
Чеченские всадники на «Турецкой» войне
протяженностью в 350 километров командовал бывший генерал-губернатор Терской области граф М. Т. Лорис-Меликов. Причем, по его указанию примерно столько же сил (до 80 тысяч штыков и сабель) оставалось ва Северном Кавказе. Вскоре они были задействованы на подавлении крестьянской войны в Дагестане и Чечне. Кстати, никаких доказательств, что руководители восстания взаимодействовали с турками в период русско- турецкой войны, не существует. Повстанцы действовали в соответствии с обстановкой и собственными планами, вместе с тем оттягивая на себе значительные военные силы России.
Турецкие войска, собранные в приграничных крепостях Закавказье, насчитывали примерно 30 тысяч человек при 21-м полевом орудии. Во главе стоял талантливый турецкий генерал Мухтар-паша. В числе дивизионных командиров армии Мухтар-паши источники показывают Гази-Мухаммеда, сына имама Шамиля, эмигрировавшего в Османскую империю в 1870 г. Несмотря на столь неравное соотношение сил, начавшееся 12 апреля 1877 г. наступление 70-тысячной русской армия разбилось у стен крепостей Карс и Ардаган. К 5 мая Ардаган пал (слезою и менее важная крепость Баязет), но Карс сражался до 28 июня, поо Мухтар-паша с горсткой регулярного войска и 25-тысячным ополчением из курдов, лазов, черкесов и чеченцев не отбросил основной отрад Лорис-Меликова до самой русской границы.
В июле 1877 г. русские перебросили в Закавказье новые дивизии, ■ руководство военными действиями принял на себя наместник Кавка» великий князь Михаил Николаевич. В начале октября 1877 г. Мухтар- паша, охваченный с флангов превосходящими русскими силами, 6ш разбит в кровопролитном сражении. В ноябре 1877 г., после сильно* бомбардировки осадной артиллерией, был взят Карс, но в то же врем* русские силы были отбиты от Эрзрума и Батуми.
Куда более громкие победы и решительные успехи были одержаны русской армией на Балканах, благодаря чему 19 февраля 1877 г. подписывается мирный договор в Сан-Стефано, дававший полную независимость балканским народам. На Берлинском конгрессе великих держа» Сан-Стефанский договор был пересмотрен не в пользу России, но ш ней закрепили важнейшие турецкие крепости в Закавказье — Карс, Ардаган и Батум1.
Участие Чеченского полка в русско-турецкой войне. Чеченски*
полк, как и большинство иррегулярных частей из горцев Северного Кавказа, был влит в состав Кавказского действующего корпуса, но прибыл на театр военных действий сравнительно позже других поя- ков — к 28 мая 1877 г. В дальнейшем, в большинстве сражений и боевых операций он действовал совместно с Дагестанскими, Кубано-Горским я
1 Широкорад А. Б. Русско-турецкие войны 1676—1918 гг. М., 2000. — С. 577—585, 575—576; и др.
Чеченский полк в русско-турецкой войне
Кабардино-Кумыкским полками, с Императорским конвоем (из горцев л казаков) и с Кавказской казачьей бригадой. Названные части приня- ш активное участие в боях за Бегли-Ахмет, Зивин, Аладжадач, Карс и Эрзрум, не только оказывая поддержку русской пехоте и кавалерии, но и выполняя самостоятельные боевые задачи.
В историю военного искусства вошли преследование горцами- всадниками многотысячных отрядов регулярной турецкой пехоты, отступавших вглубь Турции, лобовые атаки позиций неприятеля («ворвались в окопы, рубя что попало» — говорят документы), штурмы горных высот и крепостей в конном и спешенном порядке. Кроме того, горские всадники вели разведывательную службу (включая разведку боем), партизанские действия в тылу врага, выполняли задачи боевой охранной службы и т. д.
В целом всадники Чеченского полка, как и всадники других горских полков, показали себя на уровне самых совершенных требований своего времени. Они действовали и в конном, и в пешем строю, метко стреляли на полном скаку и были, по выражению генерала М. Драгомирова, «ве- тичайшими специалистами в деле употребления холодного оружия» в русской армии. Тактика боя горцев против многочисленного и хорошо защищенного неприятеля на пересеченной местности, применение рассыпного строя, умение быстро строить блиндажи, волчьи ямы, завалы, действовать небольшими группами — остались непревзойденными ни русской, ни турецкой стороной.
За участие в боевых действиях многие горские всадники получили боевые награды, а то и офицерские чины. По ходатайству великого князя Михаила Николаевича Чеченский конно-иррегулярный полк императорским указом от 6 января 1879 г. получил в награду почетное знамя1.
* * *
События 70-х гг. XIX в. как на Северо-Восточном Кавказе (Чечня, Дагестан), так и связанные с русско-турецкой войной, показали на жаличие серьезных изменений в горском обществе. С одной стороны, •революционный» потенциал горского крестьянства, пытающегося отстоять свои, пусть своеобразные, политические идеалы («новый жмамат»), столкнулся с реалиями не только колониальной империи, во и со свершившимся фактом инкорпорации значительных слоев горского общества (особенно в плоскостной части Чечни) более развитой а. экономическом плане пореформенной Россией.
Крестьянская война в Чечне и Дагестане 1877 г. закономерно потерпела поражение, но, вместе с тем, она заставила царские власти, при
См.: Военный сб. — СПб., 1878. — № 11. — С. 47; Гизетти А. Л. Сб. сведений о георгиевских кавалерах и боевых знаках отличий кавказских войск. Ч. 2. — Тифлис, 1901; Чгтапиев Т Х.-Б. Указ. соч. — С. 88—90; АкиевХ. А. Указ. соч. — С. 10—15; и др.
— 391 —
Глава VIII. Крестьянская война в Чечне и Дагестане в 1877 г. (имам Алибек-хаджи;.
Чеченские всадники на «Турецкой» войне
заметном ожесточении «военно-народной» системы управления, идт* на некоторые меры в решении земельного вопроса в горах.
С другой стороны, важным показателем своеобразного раскола ж расслоения чеченского общества, некогда объединенного многолетней борьбой с наступлением Российской империи, явился и факт участи чеченцев в русско-турецкой войне 1877—1878 гг., хотя в это же время в чеченских горах шло мощное восстание против царизма. Надо отметить, что Чеченский конно-иррегулярный полк показал на войне с турками высокие боевые качества. Участие чеченцев в боях в Закавказье стало важным, формирующим общественное сознание горскогс народа, фактором.
— 392 —
Глава IX, Вовлечение Чечни
в экономическую систему Российской империи в пореформенный период
§ 1. Развитие сельского хозяйства и зарождение товарного земледелия
Вступление России на капиталистический путь развития. Благодаря буржуазным реформам 60—70-х гг. XIX в. в России экономическое и социальное развитие страны шло быстрыми темпами. Был завершен промышленный переворот, бурными темпами развивался железнодорожный транспорт (1-е место в мире по объемам строительства железных дорог), сложился промышленный пролетариат и промышленная буржуазия. Интенсивно привлекался иностранный капитал.
Большие сдвиги произошли в сёльском хозяйстве, хотя его развитие продолжали тормозить крепостнические пережитки. Причем если в нейтральной части России развитие капитализма в сельском хозяйстве шло по медленному, так называемому «прусскому» пути, то на юге, а том числе на Северном Кавказе, преобладал быстрый «американский» вариант развития аграрного сектора, на основе фермерского типа крестьянского хозяйства.
Бурное развитие экономики России во второй половине XIX в. куда больше способствовало вовлечению Чечни и Кавказа в целом в империю, нежели предыдущие века военных завоеваний.
Зерноводческое земледелие. Последние четыре десятилетия XIX в. отмечены экономическим подъемом Чечни, восстановительный период которой совпал по времени с серьезным продвижением России по буржуазному пути. Первым признаком восстановления сельского хозяйства стало заметное оживление хлебной торговли: в 60-е гг. XIX в. в Чечне появилось три новых крупных хлебных рынка: в Старом Юрте, Урус- Мартане и Исти-Су1.
Для увеличения посевных площадей чеченские крестьяне приступили к восстановлению ирригационной системы на Чеченской равнине, полностью разрушенной в годы Кавказской войны. За один только 1872 г. было проложено до 40 верст оросительных каналов, а российский исследователь
Ахмадов Ш. Б. Взаимовлияние производственного опыта русских переселенцев к местных народов Терской области в XIX — начале XX вв. // Прогрессивное влияние России на социально-экономическое и политическое развитие народов Чечено- Ингушетии (дореволюционный период). — Грозный, 1989. — С. 30.
— 393 —
Глава IX. Вовлечение Чечни в экономическую систему Российской империи
в пореформенный период
ГМСТНЛЬМОИ
Ы Других ОӀрасмй
Д Добыча руды
Основные места добычи золота
с 1861 по 1900г строившемся в 1900 г.
Гряммцы даны ид 1900т.
Экономическое развитие Российской империи в 1861—1900 гг. (17, 12)
Н. А. Вроцкий характеризовал в конце 70-х гг. масштаб производимых i Чечне ирригационных работ как «египетский». В 80—90-е гг. проложены три крупных канала: Аргунский (протяженностью 26 верст), Маяк-Та- таульский (33 версты), Герменчукский (10 верст) и множество мелких оросительных каналов. Создание ирригационной системы позволило значительно расширить орошаемые посевные площади в том же Грозненском округе — более чем в 7 раз за 20 лет: с 10 тысяч десятин в 1880 г.
— 394 —
Развитие сельского хозяйства и зарождение товарного земледелия
Чеченцы на уборке хлеба. Конец XIX в. Фото. (49, 471)
до 73227 десятин в 1902 г.1 Такого явления не знал Кавказ, да и вся Россия. Ирригационная система отличалась сложными сооружениями и была по охвату территории уникальной.
За исключением отдельных неурожайных лет, в Чечне наблюдается стабильный рост производства зерна, примерно в два раза за 30 лет: с 316212 четвертей в 1867—1871 гг. до 642634 четвертей в 1897—1898 гг. Но что особенно важно — производство зерна принимает ярко выраженный товарный характер. О товарном характере зернового хозяйства Чечни свидетельствует большое количество зерна, вывозимого с железнодорожных станций Грозный и Самашки. В последние пять лет XIX в. со станции Грозный в среднем ежегодно вывозилось 375 тысяч пудов зерна (в том числе кукурузы — 116 тысяч пудов), из Самашек — 189 тысяч пудов (в том числе кукурузы — 184 тысячи пудов). Еще больше зерна вывозится со станции Назрань, куда свозили большую часть произведенного зерна ингуши, малочеченские аулы и Сунженские казаки — 898 тысяч пудов (в том числе 844 тысячи пудов кукурузы). В целом с пяти железнодорожных станций (Назрань, Слепцовская, Самашкинская, Грозный и Гудермес). За пять лет (с 1894 по 1898 гг.) стоимость вывозимой кукурузы возросла с 1 миллиона 63 тысяч рублей до 1 миллиона 604 тысяч рублей. В 1896 г. было вывезено 1 миллион 379 тысяч 748 пудов зерна, 1 в 1901 г. — 3 миллиона 134 тысяч 815 пудов1. •• ИГА РСО-А. Ф. 12. Оп. 2. Д. 146. Л. 71.
См.: Гриценко Н. П. Экономическое развитие Чечено-Ингушетии в пореформенный период (1861—1900 гг.) — Грозный, 1968. — С. 94—97; Денискин В. К «Сводная статистика перевозок по русским железным дорогам» — важный источник изучения экономики Северного Кавказа в период империализма // Вопр. историографии дореволюционной Чечено-Ингушетии. — Грозный, 1988. — С. 64.
— 395 —
Глава IX. Вовлечение Чечни в экономическую систему Российской империи
в пореформенный период
Акционерное общество Владикавказской железной дороги придавало большое значение хлебной торговле в Терской области, поскольку именно зерно составляло значительную часть перевозимых ею грузов. Чтобы поддержать производителей зерна, акционерное общество ссужало их кредитами под будущий урожай, причем размеры выделяемых ссуд увеличивались из года в год. Так, в 1889 г. хлебоотправителя.м было ссужено 17 тысяч рублей, а в 1895 г. сумма выданных кредитов достигла 958 тысяч рублей1.
Если в первой половине 70-х гг. XIX в. в Чечне наибольшие посевные площади были отведены под рожь, а затем шли соответственно: озимая пшеница, кукуруза, ячмень, картофель, овес и гречиха, то в начале 90-х гг. наибольшие территории отведены под озимую пшеницу и кукурузу. Рост посевных площадей, отведенных под эти культуры, составил соответственно 264% и 327%.
Особенно быстро росло производство кукурузы, которая в условиях Чечни давала более высокие (в 3—4, а иногда и до 15-ти раз) урожаи, чем другие зерновые культуры. Так, в 1874 г. кукурузы было собрано 142 830 четвертей, а в 1898 г. — 180468 четвертей. К 1891 г. кукуруза в Чечне занимала до 62% посевных площадей, отведенных под зерновые2.
Следует отметить, что данные о резком росте зернопроизводства в Чечне в пореформенный период имеют относительный характер Этот подъем достигался громадным трудом населения, отягощенного малоземельем и отсталыми формами землепользования, навязанным* колониальными властями.
Вместе с тем, развитие черт товарного земледелия в Чечне убедительнейшим образом свидетельствует о начавшемся вовлечении Чечни в экономическую систему капиталистической России.
Садоводство и огородничество. Эти отрасли, занимавшие во время Кавказской войны скромное место в хозяйстве чеченских крестьян, также получили некоторое развитие во второй половине XIX в. В наибольшей степени их оживлению способствовало появление устойчивого спроса на продукцию плодоводства и овощеводства, связанного с ростом населения города Грозного. В конце XIX века в Чечне насчитывалось 258 сравнительно крупных садовых хозяйств, владельцы которых занимались сбытом свежих и сушеных плодов. 223 из них находились на территории Веденского округа, а 35 — в Грозненском округе.
По всей Чечне в 1893 г. собрано 525 пудов товарных фруктов и ягож, из которых на рынках продано 470 пудов. Через пять лет объем товарной продукции плодоводства в Чечне возрос до 2846 пудов, из которых
1 Лященко П. И. Хлебная торговля на внутренних рынках Европейской России. — СПб., 1912. — С. 141.
2 См.: Гриценко Н. П. Экономическое развитие Чечено-Ингушетии в пореформенный период (1861—1900 гг). — Грозный, 1963. — С. 97; Саламов А. К истории нашеЛ Чечено-Ингушетии // Грозненский рабочий. — 1962. — 20 июля. — № 169. — С. 4.
— 396 —
Развитие сельского хозяйства и зарождение товарного земледелия
на рынки поступило 1879 пудов на общую сумму 1875 рублей. Еще быстрее растет производство овощей: если в 1894 г. их продано на 4800 рублей, то в 1897 г. — уже на 14514 рублей1. О растущем товарном характере этих видов растениеводства свидетельствует и появление в Чечне высокопроизводительных сортов фруктов и овощей, специально завезенных извне.
Виноградарство. После периода застоя в середине XIX в., в 70-е гг. виноградарство начинает возрождаться. Причем виноградники теперь разбивают не только казаки, но и жители притеречных чеченских селений. Например, в селении Новый Юрт 16 хозяйств отвели под виноградные плантации в общей сложности 25 600 квадратных саженей земли. В том числе, М. Эльбуздукаев имел виноградники площадью 13499 кв. саженей; С. Сатавов, Я. Давлетов и А. Имамов — по 1200 кв. саженей каждый. В селении Амир-Аджи-Юрт виноградные плантации Д. Тал- оаева занимали 1,5 десятины, X. Гукумова — 0,75 десятины.
Товарный характер виноградарства особенно усилился с появлением винокуренных заводов, которые покупали основную часть произведен- вого винограда. Так как обработка виноградников и уборка урожая требуют значительного количества рабочих рук, в эту отрасль два раза э год (весной и осенью) привлекалось значительное количество наемной рабочей силы. Во время весенних работ поденщики получали по 2—3 рубля еженедельно, а во время уборки — от 4 до 6 рублей.
Раньше чем в других отраслях в виноградарстве начал практиковаться денежный задаток в счет будущего урожая. Обычно этот вид кредита давался под залог самого виноградника, что, в случае неурожая, часто вело к смене владельца. Кроме того, проценты по займам часто оплачивались конечной продукцией — вином. Так, в конце 70-х гг. проценты на 15 рублей займа под будущий урожай составляли от 40 зо 50 ведер вина.
Несмотря на свой товарный характер, виноградарство не получило г Чечне очень широкого распространения в силу целого ряда причин. Виноградарство подрывалось частыми эпидемиями различных болез- ■гй — мильдью, антроноз, клодоспориз и т. д. Химические препараты аая борьбы с болезнями стоили довольно дорого и часто оказывались недоступными не только для мелких и средних, но и крупных производителей. К тому же в 80-х гг. был увеличен правительственный акцизный сбор на виноградную водку, что также ограничивало рост этой отрасли2.
См.: Терский календарь на 1895 год. — Владикавказ, 1894. — С. 72; Терский календарь на 1901 год. — Владикавказ, 1900. — С. 73; Милярский И. О. О состоянии плодоводства на Северном Кавказе. — СПб., 1892. — С. 27—28.
1 См.: ЦГА ЧИАССР. Ф. 149. On. 1. Д. 10. Л. 9об.—10; Ф. 14. On. 1. Д. 135. Л. 61, 80;
Терский календарь на 1894. — Владикавказ. 1896. — С. 70; Терский календарь на 1897. — Владикавказ, 1899. — С. 71; Гриценко Н. П. Указ. соч. — С. 121.
— 397 —
Глава IX. Вовлечение Чечни в экономическую систему Российской империи
в пореформенный период
Шелководство. Табаководство. Еще одна традиционная для Чечнз? отрасль, которая пришла в упадок в 60-х гг. XIX в. в результате вспышки болезни, погубившей практически всех шелковичных червей, и смолк частично восстановиться лишь в 90-е гг. К этому времени производство шелка достигло в год 830 пудов, причем на рынок поступал чаще всего шелк-сырец, смотанный в нитки.
Гораздо успешнее шло в Чечне развитие табаководства, которое переживало трудные времена в первой половине столетия, когда имам Шамиль категорически запретил производство и употребление табака. Уже в конце 60-х гг. производство табака было не только восстановлено на равнинной части Чечни, но и проникло в горные районы. Поскольку климатические условия Чечни благоприятствовали развитию этой отрасли, местные власти в начале 70-х гг. XIX в приняли меры к акклиматизации в крае лучших сортов турецкого табака: кеобек, самеон и трапезонд.
Благодаря этим мерам производство табака в Чечне быстро возрастает. Если, по данным за 1872 г., на Чеченской равнине собрано 83 пум табака, то в 1876 г. здесь же собрано 115 пудов, а в 1884 г. только в одно* селении Старые Атаги сбор табака составил 100 пудов. В 90-х гг. одно это село ежегодно производило несколько сот пудов первосортного табака, который считался лучшим в Терской области и поступал по* именем «турецкого» на перерабатывающие фабрики. Жители этого села С. Натаев и М. Магиев в 1890 г. открыли в Грозном собственную табачную фабрику, на которой перерабатывался исключительно местный табак. Даже высокие акцизные сборы не смогли подорвать пр*> изводство табака в Чечне — чтобы их избежать чеченцы выращивал» табак в скрытых местах (на лесных полянах или среди полей, занятых другими культурами), а вывозили его за пределы Терской области контрабандным путем1.
Пчеловодство. Повышение спроса на мед и воск вызвало оживление пчеловодческой отрасли, которая традиционно развивалась преимущественно в горных районах Чечни. По данным 1873 г. в одном только Веденском округе пчеловодством занимались до 200 сельски хозяев, имевших 2795 ульев-сапеток. Через три года пчеловодство* занимались в этом округе уже в 320 хозяйствах. По всей Чечне пчеловодством в 1891 г. занимались 640 пчеловодов, в 1899 г. — уже 80& Количество ульев в 1891 г. составило 11740, а стоимость проданного меда — 22 760 рублей. В 1899 г. количество ульев возросло до 1645 L а доход от продажи меда составил 66 804 рубля.
1 См.: ГАСК. Ф. 31. Оп. 4. Д. 176. Л. 2; Сб. сведений о Терской области. Вып. 1. — Владикавказ, 1878. — С. 147; Захарьин И. Н. Кавказ и его герои. — СПб., 1902. — С 7^ Гриценко Н. П. Горский аул и казачья станица Терека накануне Великой ОктябрьсмоИ социалистической революции. — Грозный, 1972.
— 398 —
Развитие сельского хозяйства и зарождение товарного земледелия
Для развития пчеловодства в Чечне характерны подъемы и резкие спады, вызываемые как погодными явлениями и «неурожаем трав», так и болезнями пчел. Все это приводит к постепенной концентрации производства меда и воска в руках крупных специализированных хозяйств, которые легче переносили резкие колебания цен, а также имели лучшие условия для содержания и эксплуатации пчел (перевозили ульи ранней весной на равнину, а с наступлением лета — в предгорные и горные районы и т. д.)1.
Казачье земледелие и виноградарство. Несмотря на большие земельные угодья, большинство терских казаков долгое время развивали свое хозяйство менее успешно, чем соседи-чеченцы. Даже в середине XIX в. в станицах, расположенных по нижнему течению Терека, господствовала так называемая переложная система земледелия. Все сельскохозяйственные земли делились здесь на две категории: толоку и царину. Толока, занимавшая большую часть юртовых участков, использовалась исключительно для выпаса скота.
Что касается распахиваемых земель (царины), то казаки один и тот же участок засевали 3—4 года подряд, после чего забрасывали его на 15—20 лет, в течение которых земля «отдыхала», восстанавливая утраченное плодородие2. Такая практика была совершенно невозможна в малоземельной Чечне. Применение переложной системы земледелия приводило к тому, что большая часть пахотных земель не засевалась. Так, станицы нижнего течения Терека имели в общей сложности 30 тысяч десятин пахотной земли, из которой в 70-е гг. XIX в. засевалось только 7720 десятин, а более 22 тысяч десятин «отдыхали». В результате даже в самые урожайные годы жители этих станиц нуждались в привозном хлебе, который поступал к ним из других станиц, чеченских аулов и из Ставрополья.
Столь пренебрежительное отношение к земледелию у части терских казаков большинство исследователей объясняют военным характером этого сословия, для которого работа на земле долгое время не являлась основным источником существования. К тому же, юртовые наделы, ежегодно перераспределявшиеся между станичниками, не являлись частной собственностью, что также снижало личную заинтересованность казаков. В довершение всего хлебные посевы именно в этом степном районе часто становились жертвой природных бедствий: в 1858 г. посевы пострадали от града, в 1860 г. — от засухи, в 1863 г. были затоплены
См.: Терский календарь на 1894. — С. 70; Максимов Е. Чеченцы // Терский сб. Вьш. 1. — Владикавказ, 1890. — С. 86—87; Казбек Г. Военно-статистическое описание терской области. Ч. 1—2. — Тифлис, 1888. — С. 165; и др.
Зсседателева Л. Б., Муннаева Т. Г. Эволюция зернового хозяйства русского и украинского населения притеречных районов Северного Кавказа (середина XVI — начало XX вв.) // Хозяйство и хозяйственный быт народов Чечено-Ингушетии. — Грозный, 1983. — С. 10.
Глава IX. Вовлечение Чечни в экономическую систему Российской империи
в пореформенный период
в результате прорыва русла Терека, в 1859 и 1867 гг. посевы сильно пострадали от налетов саранчи. Даже в конце XIX в. Кизлярский отде.ч занимал по объемам получаемых здесь урожаев зерновых последнее место среди прочих казачьих отделов Терской области1.
Главной земледельческой культурой в станицах нижнего течения Терека был виноград, который шел почти полностью на изготовление вина. В 1861 г., например, казаки восьми «низовых» станиц продал!» вина на 10 700 рублей. Производство вина достигло максимума в середине 70-х гг.: в 1875 г. в Кизлярском отделе имелось 3688 виноградных садов площадью 7981 десятина, с которых было получено 2 миллиона 255 тысяч ведер вина.
Вместе с вином казаки производили большое количество виноградного спирта. В 1866 г. кизлярский купец Бероев построил первый паровой винокуренный завод, а уже через год в одном только Кизляре таких заводов было до 50-ти. Поскольку технология курения спирта была довольно проста и не требовала сложного оборудования, большое количество винокуренных заводов появляется и в казачьих станицах: Вино и виноградный спирт становятся главным источником доходе* для многих семей, причем эти товары вывозились далеко за пределы Терской области — вплоть до Сибири. Охотно покупали терское вино и спирт на знаменитой Нижегородской ярмарке.
Бурный рост производства вина и спирта прекратился после того, как в 1884 г. правительство начало постепенно повышать акцизные сборы за виноградный спирт, в конечном итоге сравняв их с акцизами на хлебный спирт. В результате уже в 90-е гг. производители виноградной:* спирта должны были выплачивать от 3 до 7 копеек за каждый градус своей продукции, что привело к разорению мелких производителей.
Помимо государственной политики, виноградарство подрывалж и частые повальные болезни этой культуры, требовавшие болыпш. расходов на химикаты. В результате производство винограда начинает заметно сокращаться2.
Гораздо лучше земледелие было развито в станицах, расположении выше по Тереку. Суховеи в этой местности случались гораздо реж. к тому же с прокладкой Щедринского канала часть полей получила постоянное орошение. Именно эти станицы, находящиеся в границах современного Наурского и части Шелковского района, считались главными хлебопроизводящими центрами.
По уровню развития сельского хозяйства, в Терском казачьем войске впереди других стояли станицы Сунженского отдела, а также станишй
1 См.:ГАРСО-Аланйя.Ф. 12,Оп.2.Д. 121. Л. 134; Военный сб.—СПб., 1869.—№ 11—12.— С. 230; Гриценко Н. А. Горский аул и казачья станица Терека... С. 113—117; и др.
2 См.: ГА РСО-Алания. Ф. 12. Оп. 2. Д. 132. Л. 31—32; Военный сб. — СПб., 1869. - № 11—12. — С. 233; Терские ведомости. — Владикавказ, 1912. — С. 62.
— 400 —
Развитие сельского хозяйства и зарождение товарного земледелия
входившие в Кизлярский округ, но расположенные в нижнем течении Сунжи. Несмотря на то что земельные наделы Сунженских казаков были меньше, чем у терских, доля пахотных земель в Сунженском отделе была выше (правда, и доля черноземов здесь была выше, чем где-либо в Терской области). В конце XIX в. здесь ежегодно распахивали до 34 тысяч десятин. Хозяйство Сунженских казаков в конце XIX в. носит откровенно товарный характер. В отличие от расположенных по соседству чеченских и ингушских селений казаки гораздо меньше площадей отводят под кукурузу, обработка которой требовала значительного количества дополнительных рабочих рук. Первое место среди зерновых культур занимает пшеница, на которую в 1898 г. пришлось 24,1% урожая всех зерновых культур. Следующими по своему значению культурами были ячмень и овес, а затем уже просо и кукуруза. Предпочтение, которое казаки отдавали этим культурам, объяснялось также и разницей рыночных цен: пшеница стоила в 2—2,5 раза, рожь — в 2 раза, овес — в 1,5 раза дороже кукурузы. Поэтому, несмотря на более низкую урожайность по сравнению с кукурузой, эти зерновые культуры представлялись экономически более рентабельными и давали немалый доход.
Железная дорога, которая прошла, в том числе, и по землям Сунженского отдела, связала станицы с городами Владикавказ и Грозный, что также отразилось на хозяйственной деятельности казаков. Потребность городских жителей в овощах во многом удовлетворялась Сунженскими казаками: в 1900 г. под огороды в Сунженском отделе было занято 2600 десятин. Аналогичным образом отразилось на хозяйстве низовых терских казаков строительство железнодорожной ветки Беслан—Порт- Петровск — к 1900 г. в Кизлярском отделе огородные культуры выращивали на площади 1153 десятины.
В самом конце XIX в. появляются первые парниковые хозяйства близ Грозного и Хасав-Юрта, откуда ранние помидоры доставлялись также во Владикавказ, курорты Минеральных Вод и даже в Ростов-на-Дону.
Известное распространение получило у казаков Сунженского отдела и табаководство. Например, в станице Ассиновской им занимались 270 хозяйств, почти столько же в Самашкинской и несколько меньше в других станицах1.
Сельскохозяйственные орудия труда. Повышению производительности сельского хозяйства на территории края способствовало и широкое распространение новых, более совершенных, орудий труда. Постепенно чеченцы и казаки полностью отказались от широко использовавшегося ранее «малороссийского» плуга, который состоял из металлических и деревянных режущих частей, и повсеместно перешли
См.: ЦГАРСО-А. Ф. 11. On. 1. Д. 215. Л. 31; Терский календарь на 1912 г. — Владикавказ, 1911. — С. 88—89; Отчет начальника Терской области и наказного атамана за 1900 г. — Владикавказ, 1911. — С. 88—89; и др.
— 401
Глава IX. Вовлечение Чечни в экономическую систему Российской империи
в пореформенный период
на железный плуг. Впрочем, для вспашки мягких почв, как и прежаг- употреблялось трехзубое «украинское» рало — массивный деревяннм* брус с прикрепленными к нему лопаточной формы железными ни деревянными зубьями.
Железный плуг постепенно вошел в употребление и в чеченских крестьянских хозяйствах, расположенных на равнине. Только в горных районах продолжали пользоваться деревянной сохой.
Боронили землю сразу же после посева деревянными боронами которые крестьяне изготавливали самостоятельно. Металлические фабричные бороны стали появляться лишь к концу XIX столетия В чеченских селениях и станицах очень часто для боронования использовали табуны лошадей или отары овец, которые прогоняли по засеянному полю до тех пор, пока посеянное зерно совершенно не затаптывалось в почву.
Основным средством уборки урожая и заготовления сена служила железная коса. Лишь в конце XIX в. наиболее зажиточные хозяйств* начали косить машинами. Сжатое зерно в чеченских аулах молотили, как правило, с помощью деревянных досок с зубцами из камней. Этим способом широко пользовались и казаки, особенно предгорных станиц, а также «иногородние». Кроме того, в терских станицах для обмолот* зерна использовали животных, для чего часто нанимали ногайцев ияж калмыков с их скотом. Постепенно все более широкое употребление начинают получать граненые деревянные и каменные катки для обмолота, а затем и механические молотилки.
В целом для конца XIX — начала XX в. в земледелии Терской области было характерно столь активное распространение новой техники, что строятся мастерские по изготовлению плугов и кукурузных сеялок, открываются склады земледельческих машин и учреждаются кредитные товарищества под закупку плугов, железных борон и машин1.
Скотоводство. В докладе начальника чеченского отделения Комиссии по рассмотрению личных и подземельных отношений горцев Терской области от 10 апреля 1870 г. отмечалось: «Скотоводство, занимавшее прежде первую степень сельского хозяйства чеченцев, теперь при недостатке свободных и привольных земель уменьшено, жители ограничивают себя необходимым числом рогатого скота и лошадей, нужных при сельском хозяйстве. Стада овец в значительном количестве содержат только зажиточные чеченцы, но большая часть населения имеет по нескольку штук»2.
Однако, сохранившаяся статистика свидетельствует о неуклонном росте поголовья домашнего скота в Чечне, несмотря на то что
1 См ..Казбек Г. Н. Указ. соч. — С. 145; Гриценко Н. П. Экономическое развитие Чечено- Ингушетии в пореформенный период (1861—1900 гг.). — С. 101; и др.
2 ЦГА РСО-А. Ф. 256, On. 1, Д. 61. Л. 184-185.
— 402 —
Развитие сельского хозяйства и зарождение товарного земледелия
На летнем пастбище. Фото начала XX в. (54, вклейка)
в отдельные годы его численность резко сокращалась по причине зеурожая кормов или распространения заразных болезней. В 1880 г. чеченские крестьяне содержали 561430 голов скота, в 1865 г. его пого- жвье возросло до 620 847 голов. При этом на равнине преимущественное развитие получило содержание крупного рогатого скота и коневодство, % го время как горцы разводили прежде всего мелкий рогатый скот. В 1889 г. в равнинных селениях имелось 102499 голов крупного рогатого лота, 9651 лошадей и 107 824 овец и коз, а в горах 75 809 голов крупного лота, 7258 лошадей, но зато 222232 голов мелкого скота. Помимо коров чеченские крестьяне разводят и буйволов: при полевых работах один йгйвол заменял двух волов, а буйволиное молоко по своей жирности аревосходит коровье.
В последние десятилетия XIX в. происходит быстрый рост поголовья крупного скота, что было связано также с его широким использова- »ем в качестве тягловой силы. Меньше чем за двадцать лет, с 1880 эо 1898 гг. поголовье скота увеличилось почти вдвое: со 165 тысяч до 293 тысяч. В конце XIX в. на 100 жителей приходилось, в среднем по Чечне, по 104,1 головы крупного рогатого скота. Вместе с тем в Чечне разведение крупного рогатого скота получило в основном мясотовар- развитие, а производство молочных продуктов ориентировано на собственное потребление.
Поголовье крупного рогатого скота почти полностью состоит из мест- вых пород, главными достоинствами которых были неприхотливость в содержании и приспособленность к местным природно-климатическим ргловиям. В целом же скот, особенно горных пород, был малорослым а Еизкопродуктивным. Например, корова наиболее распространенной 5- «орах дагестанской породы весила 100—150 килограмм и давала не •мее 300—400 литров молока за лактационный период. Для улучшения
— 403 —
Глава IX. Вовлечение Чечни в экономическую систему Российской империи
в пореформенный период
пород скота чеченцы активно покупали скот у соседей, в том числе я у казаков1.
Центрами овцеводства служат горные районы, где в 1893 г. на 100 хгя населения приходилось 335,5 овец и коз, в то время как на равняя аналогичный показатель составлял всего 119,5 голов. Поголовье мелом скота, растущее из года в год, начинает заметно сокращаться толыв в 90-е гг. XIX в., что было связано с необычайно суровыми зимами > вспышкой болезней животных.
Чеченское скотоводство носит преимущественно отгонный хароя- тер — большая часть скота перегоняется с летних пастбищ в горах ш зимние пастбища на равнине и в степях. Поскольку в самой Чечне та больше земель распахивалось, то скотоводам приходилось арендовал большие участки у казаков. Именно сильная зависимость от ареня- ванных пастбищ часто тормозила развитие скотоводства у чеченцев В среднем, арендная плата за выпас коровы или лошади составят* 50 копеек, овцы — 20 копеек, за накошенный воз сена — 20 копеек2
Коневодство традиционно играло незначительную роль в хозяйстве чеченских крестьян, но вторая половина XIX в. отмечена быстрее развитием этой отрасли. Если в 70-е гг. Чечня занимала в Терся* области последнее место по количеству лошадей, приходившихся ■ среднем на душу населения, то в конце века она уже стоит на вторе месте. Общее поголовье лошадей превысило 20 тысяч и продолжая расти.
Развитие коневодства связано с ростом товарности хозяйства чеченских крестьян: лошадь находит все большее применение в сея*- скохозяйственных работах и в транспортировке грузов. Потребносп. в лошадях столь велика, что в Чечне даже появляются собственшяе конные заводы. С 1893 по 1898 гг. поголовье породистых лошадей я конных заводах увеличилось с 85 голов до 577. Ввиду нехватки земя для содержания табунов чеченские коннозаводчики арендуют толья у станицы Щедринской более 30 тысяч десятин земли.
Если в целом животноводство в Чечне оставалось малопродуктивным и породистого скота в крестьянских хозяйствах было мало, то » области коневодства наблюдалась картина прямо противоположная Чеченские коннозаводчики разводят лучшие породы, включая кабаряия- скую. Например, породистые лошади одного из чеченских «заводчики* в 1898 г. на Терской сельскохозяйственной выставке были награжзени серебряной медалью3.
1 Ахмадов Ш. Б. Из истории развития земледелия и животноводства у чеченцев и шт- гушей в XVIII — начале XX вв. // Общественные отношения у чеченцев и ингуше» в дореволюционном прошлом (XIII — начало XX вв). — Грозный, 1982. — С. 23.
2 ЦГА РСО-А. Ф. 20. On. 1. Д. 2229. Л. 120.
3 См.: ЦГА РСО. — А. Ф. 12. Оп. 2. Д. 146. Л. 11, 74 об.; Максимов Е. Указ. соч. — С -Я Терский календарь на 1898 г.; Терские ведомости. — Владикавказ, 1899. — № 6; и ар
— 404 —
Развитие сельского хозяйства и зарождение товарного земледелия
Товарное скотоводство. Чеченцы продавали большое количество скота, в том числе и лошадей. Так, только в 1898 г. в Чечне продано скота на 124 тысячи рублей, причем значительная часть его продана казакам и «иногородним».
Быстрое развитие товарных отношений приводит к тому, что все больше скота концентрируется в руках крупных собственников. В начале 90-х гг. XIX в. более половины хозяйств на равнине и около трети э горах не имели собственного мелкого рогатого скота, а крупного не имели 4% хозяйств1. В середине этого же десятилетия в 24-х крупнейших селениях Чечни из имевшихся 7640 крестьянских хозяйств 1325 не имели рабочих быков, 5531 — лошадей, 1349 —молочного скота, 7142 —мелкого скота. И в то же время, например, в селении Старый Юрт на хозяйства трех крупных скотовладельцев (Ц. Эльмурзаева, Ш. Эльмурзаева и Ы. Бектемирова) вместе приходилось 710 голов лошадей, а на другие 790 хозяйств этого села—412 лошадей2. Кроме того, владельцы больших стад нанимали довольно значительное количество временных рабочих, как пастухов, так и косарей, для заготовки кормов на зиму.
Что касается казачьего населения, то, например, в станицах нижнего течения Терека скотоводство очень долго играло даже более важную
Арба с сеном. Худ. К. Филиппов (34, вклейка)
Вертепов Г. Туземцы Северного Кавказа. Вып. 2.— Владикавказ, 1894. — С. 81. Саламов А. К истории нашей Чечено-Ингушетии // Грозненский рабочий. —1962. — 20 июля. — № 169.
Глава IX. Вовлечение Чечни в экономическую систему Российской империи
в пореформенный период
роль, чем хлебопашество, уступая только виноградарству. В целом скотоводство у казаков и «иногородних» крестьян развивается быстрет. чем у чеченцев, что связано в первую очередь с несравнимо лучшим* экономическими условиями.
Широкое использование лошадей, как в хозяйстве, так и в военной службе, обусловило хорошее развитие в станицах коневодства. Особенно бурный прогресс в этой отрасли наблюдался в конце XIX века. В пределах современной Чечни поголовье лошадей у русского населен* * увеличилось с 35291 в 1883 г. до 95143 в 1901 г. Обычная лошадь * казачьем хозяйстве — смесь кабардинской, ногайской, донской и русской пород, которая больше годилась для работы, чем для верхом* езды. Строевых коней казаки, как правило, приобретали у кабардн» ских, чеченских или своих, казачьих, коннозаводчиков. Именно ям улучшения конского состава в Терскую область были завезены новые породы лошадей, включая английскую верховую1.
В целом скотоводство у казаков по своей продуктивности не очеЕ* сильно отличалось от чеченского. В станицах распространены те же местные породы скота: чеченская, кумыкская, осетинская и дагестав- ская. Как и чеченцы, казаки держат в хозяйстве некоторое количество буйволов. Однако с быстрым ростом переселенческих хозяйств появляется все больше скота южнорусской породы, который частично также смешивается с местными породами. Только в 90-е гг. XIX 1. крупнейшие скотоводы завозят высокопродуктивный скот шведской, немецкой и других пород.
Как и в Чечне, все большее количество продуктового и рабочего скота в станицах концентрируется в руках крупных владельцев. В число последних входила не только станичная верхушка, но и самые зажиточные крестьяне-переселенцы. Например, в станице Бороздиновской т 189 хозяйств 10 не имели рабочих быков, 143 имели по одному быку ■ только 36 — по две или три пары рабочих быков. Между тем, для пахоты в плуг требовалось запрячь не менее трех пар рабочих быков.
Терские степи благоприятствовали развитию товарного овцеводства. Первоначально казаки содержали местные грубошерстные пороаы* отличавшиеся выносливостью и способностью зимовать на одном пож- ножном корме в открытых овчарнях. Однако уже в последней четверт* XIX в. начинается завоз тонкорунных пород мериносов, что вскоре привело к признанию Терской области как одного из основных центр» тонкорунного овцеводства в России. Интересно, что крупнейшими овцеводами в Терской области были «иногородние» крестьяне-переселенцы, известные как «тавричане». Богатые овцеводы арендовали обширные пастбища не только у казаков, но и у крупных чеченских собственников. Например, две переселенческие семьи приобрели на территории
1 См.: ЦГА РСО-А. Ф. 20. On. 1. Д. 200. Л. 59; Терский календарь на 1901 г. — С. 66; и др.
— 406 —
Кустарное производство
Надтеречного участка Грозненского округа собственные усадьбы, где занимались разведением овец, а также арендовали у владельцев Адуевых ж> 700 десятин по цене 6 рублей в год за десятину2.
§ 2. Кустарное производство
Кузнечное и оружейное дело. Кустарные промыслы, довольно хорошо развитые в Чечне еще в первой половине XIX в., во второй половине этого столетия постепенно приходят в упадок, что напрямую связано •с увеличивающимся ввозом товаров фабричного производства. Тем ее менее, замедленное втягивание Терской области во всероссийский рынок, приводило к тому, что на протяжении всего описываемого периода наблюдается устойчивый спрос на многие товары, произведенные чеченскими кустарями. Кроме того, отдельные отрасли нашли себе место и в новых условиях товарного производства.
Ведущее место в кустарных производствах края второй половины XIX в. принадлежит кузнечному ремеслу. Чеченские кузнецы изготавливали на заказ и на продажу плуги, серпы, подковы, топоры и другие орудия труда, а также простые замки и другие, необходимые в обиходе железные вещи. Широкое поступление металлических изделий, в том
Традиционная горская кузница в Старых Атагах (4, 111)
Ск.: ЦГА РСО-А. Ф. 11. Оп. 12. Д. 372. Л. 15; Губанов Г. П. Хуторская жизнь в Терской фЬяасти. Сб. сведений о племенах и местностях Кавказа. Вып. 33 — Тифлис, 1904. — С. 9S; Ткачев Г. А. Ингуши и чеченцы в семье народностей Терской области. — ^дикавказ, 1911. — С. 81; и др.
Глава IX. Вовлечение Чечни в экономическую систему Российской империи
в пореформенный период
числе сельскохозяйственных орудий, серьезно потеснило кузнечнъл промысел, особенно в районах, прилегающих к железной дороге ш крупным торговым центрам. Но даже здесь для кузнецов по прежнее находилось много работы, в том числе и по ремонту фабрично-заводское сельскохозяйственной техники: сеялок, молотилок и т. д.
В 1889 г. в Чечне насчитывалось 225 кузнецов, многие из которш: считались нанятыми сельскими обществами. На срок договора (обычно один год) «общественный» кузнец обязывался выполнять заказ» членов нанявшей его общины, за что получал заранее обговорен ну» плату деньгами или зерном с каждого хозяйства, а также имел преас бесплатно выпасать свой скот на общественном выгоне. Кроме тог» общество могло освободить кузнеца от общественных повинносге» и выделить ему участок земли, который обрабатывался обществе» Нанятый кузнец пользовался собственными инструментами, однаш место для установки кузницы выделялось обществом. За неимение каменного угля чеченские кузнецы пользовались древесным, которая они, по всей видимости, сами выжигали1.
По сравнению с первой половиной XIX столетия значительно сократилось оружейное производство. Изготовление огнестрельного оружжв запрещалось российскими властями, но значение имело и то обета» тельство, что горские ружья и пистолеты стали постепенно уступать вс качеству заводским. Поэтому в Чечне сохранилось только производстве холодного оружия, в котором теперь первенствующее значение имело- ас качество клинка, а изящность и богатство отделки. Поскольку кинжал и шашка являлись непреложным атрибутом национального костюма ж только у чеченцев, но и у казаков, спрос на холодное оружие сохранялся на высоком уровне. Из 205 оружейников, насчитывавшихся в Терек* области, 95 проживали в Грозненском округе и Сунженском отделе. * стоимость производимого ими товара оценивалась в более чем 9,6 тыся* рублей.
Снижение требований к качеству изготовляемых клинков привело t тому, что некоторые мастера изготавливали до 10 клинков в день. Те» не менее, лучшие мастера изготавливали свои изделия, например, howl с таким высоким качеством, что они пользовались спросом не толы* у чеченцев, но и у русского населения, которое зачастую предпочитав их фабричным изделиям2.
1 Статистические таблицы населенных мест Терской области. Т. 1. Вып. 1. — Bi* дикавказ, 1890. — С. 30—31.
2 См.: Вертепов Г. А. Очерки кустарных промыслов в Терской области // Терезе сб. Вып. 4. — Владикавказ, 1897. — С. 14; Маркграф О. В. Указ. соч. — С 222 Хасиев С.-М. А. Из истории развития кустарных промыслов чеченцев и ингуа» в дореволюционном прошлом (обработка металла и камня) // Хозяйство и ло&вЬ ственный быт народов Чечено-Ингушетии. — Грозный, 1983. — С. 22\Астваиур*л 3 Оружие народов Кавказа. — М., 1995. — С. 60—62.
— 408 —
Кустарное производство
Ювелирное производство. Сохранило свое значение и ювелирное производство. Всего на территории Чечни и Ингушетии работало свыше 50 мастеров-ювелиров, которые занимались обработкой рукоятей и ножен кинжалов, шашек, ножей, изготавливали пояса и другие принадлежности национального костюма, дорогие украшения для сбруи лошадей и т. д. Особое место занимало изготовление женских украшений: серег, колец, поясов, нагрудников — все это являлось монополией местных ювелиров. Чеченские мастера ювелиры работали почти исключительно с серебром, а вещи, изготовленные не по заказу, как правило, попадали на рынок через перекупщиков. Кроме того, в Чечню на временную работу приезжали ювелиры из Дагестана (главным образом лакцы и кубачинцы) \
Кинжал, газыри и пояс, изготовленные в Чечне в конце XIX в. Фото (4, 116)
Гончарное дело. Довольно широкое распространение в крае получил и гончарный промысел, главные центры которого находились на равнине: Шали, Старый Юрт, Курчалой, Майртуп, Пседах. В горной эоне значительное гончарное производство имело место в Ножай-Юрте. Развитию гончарного дела способствовало наличие больших залежей глины разного цвета и высокого качества. Глиняная посуда самой разнообразной формы и назначения — кувшины, горшки, чашки, сосуды для хранения зерна и жидкостей — пользовалась большим спросом. Лучшие мастера-гончары получали довольно значительные по тем временам
Вертепов Г. А. Указ. соч. — С. 25.
Глава IX. Вовлечение Чечни в экономическую систему Российской империи
в пореформенный период
доходы. Например, мастер М. Хизриев из Шаами-Юрта зарабатывая до 120 рублей в год, нередки были заработки в 150—165 рублей в го*. В отдельных случаях годовой доход гончара достигал 800 рублей1.
Однако, по мере растущего завоза фабричной посуды, изделия гончаров находили все меньше спроса, поэтому в конце XIX в. на смеет гончарному промыслу приходит кустарное производство по изготовлению черепицы.
Деревообработка. Традиционно развитыми в Чечне были ремесча. связанные с деревообработкой. Чеченские мастера использовали практически все породы деревьев, обильно произраставшие в лесах. Например, бук шел на изготовление домашней утвари: чашек, ложек, стульев, национальных низких столов на трех ножках, топорищ, черенков жм лопат и т. д. Тонкие ветки граба использовали для плетения корне», плетней и сапеток для хранения зерна. Липовая кора шла на изготовление веревок, лукошек, а сама липовая древесина использовалась каж в качестве строительного материала (из нее изготавливали стропши. оконные и дверные блоки), так и для производства деревянных короп. ложек, чашек, подносов, ободов для сит. Ольха использовалась в бочар- ном деле — большое количество бочек закупали производители вижк градного вина. Кроме того, кора ольхи применялась для изготовления черной краски. Издавна большим спросом не только в Чечне, но и за аг пределами пользовались изготовляемые чеченскими мастерами горски* телеги — арбы, а также сельскохозяйственный инвентарь — колесж
Вывоз бревен из леса на волах. Худ. В. С. Шлипнев (4, 223)
1 Хасбулатов А. И. Развитие промышленности и формирование рабочего в Чечено-Ингушетии (конец XIX — начало XX вв.). — М., 1994. — С. 50.
— 410 —
Кустарное производство
оглобли, спицы, оси, плуги, молотильные доски, мельничные желоба и т. п. Из Чечни вывозили также доски и строительный брус.
Деревообработкой в значительных размерах занимались и казаки, особенно Сунженского отдела, расположенного частично в лесной зоне. Кроме деревообработки, не мало казачьих семей занималось выжиганием древесного угля. Например, в Умахан-Юртовской станице угольным промыслом постоянно или время от времени занимались до 260 семей, получавших доход в пределах от 45 до 150 рублей в год1.
Производство сукна, бурок, войлоков. Большое развитие получили ремесла, связанные с переработкой продуктов животноводства — шерсти и кож. Из овечьей шерсти при помощи самых простых инструментов и технологий изготавливалось сукно, бурки, войлочные ковры и другие изделия. Чеченское домотканое сукно, выработкой которого занимались исключительно женщины, использовалось, в зависимости от качества, для разных целей. Из тонкого сукна шили верхнюю одежду, а из грубого — мешки, сумки, вили веревки, а также изготавливали паласы. Причем сукно местного изготовления пользовалось спросом и у казаков, которые ежегодно покупали в Чечне до 1700 черкесок и столько же башлыков.
Чечня во второй половине XIX в. являлась основным центром по производству бурок в Терской области, причем лучшие чеченские бурки ценились наравне с андийскими. В самой Чечне бурочное производство было развито повсеместно, но основное производство сосредоточилось на равнине, где крупнейшими центрами считались селения Белгатой и Старый Юрт. В последнем селении изготовлением бурок постоянно занималось свыше 500 семейств. Концентрации этого вида промысла на равнинной части Чечни способствовал ряд благоприятных факторов: наличие удобных путей сообщения, обеспечивавших как подвоз шерсти, так и сбыт готовой продукции, большое количество женских рабочих рук, а также многочисленные теплые серно-щелочные природные источники, очень удобные для мытья шерсти.
Изготовление бурок приняло такой размах, что оживило торговлю шерстью на местных рынках: с 1881 по 1889 гг. производителями бурок закуплено 13224 пуда шерсти. В течение года в Чечне изготавливалось до 7400 бурок на общую сумму 73300 рублей, а на их изготовление уходило до 3400 пудов черной овечьей шерсти2.
Как и другие виды ремесел, связанные с обработкой шерсти, изготовление бурок являлось в Чечне исключительно женским занятием. Женщины работали группами в несколько человек, почти всегда это были близкие родственницы. В течение года женский коллектив изготавливал от 15
! См.: Маркграф О. В. Указ. соч. — С. 229; Обзор Терской области за 1883 г.; и др.
- Маркграф О. В. Очерки кустарных промыслов Северного Кавказа с описанием тех¬
ники производства. — М., 1882. — С. 68.
Глава IX. Вовлечение Чечни в экономическую систему Российской империи
в пореформенный период
Низкая горная арба (Чечня)
Образцы кустарного производства (27, 432)
до 25 бурок, стоимость которых колебалась от трех—семи до 50 рублей. Самые дорогие бурки изготавливались из лучшей шерсти, иногда белого цвета, по индивидуальному заказу. Обычно на изготовление такой бурки уходило до одного месяца, на изготовление обычной — две—три недели Чистый доход семьи, занимающейся производством бурок, в среднем составлял до 70 рублей в год.
Кустарное производство
Постоянным спросом пользовались и изделия из войлока — ковры- истанги. Украшенные разноцветным орнаментом, они служили для внутреннего убранства горского жилища.
Растущая ориентация переработки шерсти на рынок рано привела к появлению скупщиков, которые закупали готовую продукцию (бурки, а также войлочные ковры, сукна и другие изделия) непосредственно у производителей и доставляли их не только на местные рынки, но и во Владикавказ, Екатеринодар и другие города. В период своего наивысшего расцвета продажа шерстяных изделий приносила в Терской области до 2 миллионов рублей, но уже ближе к концу XIX в. конкуренция фабричного сукна и тканей серьезно подорвала производство домотканого сукна в Чечне. Его производство продолжается почти исключительно в горных районах и направлено на удовлетворение внутренних потребностей1.
Мельницы. Во второй половине XIX в. начинают появляться предприятия по переработке продукции сельского хозяйства. Небольшие по размерам, они работали преимущественно на местный рынок. Прежде всего это водяные мельницы, которые чеченцы в большом количестве строили и раньше. К концу столетия в каждом равнинном чеченском селе имелись мельницы, а в некоторых и по несколько штук. Их общее число достигло 1098, но лишь некоторые из них производили муку на рынок, а не только для потребления самих жителей. Владельцы мельниц, а также зажиточные крестьяне и торговцы вывозили муку не только на чеченские базары, но и на Грозненский и Хасав-Юртовский рынки. Например, житель селения Ялхой-Мокх С. Ирисханов владел мельницей с двумя водяными двигателями, на которой постоянно работали двое наемных рабочих. За сутки его мельница перемалывала 540 пудов кукурузного зерна. Житель селения Гиляны М. Мисербиев владел тремя водяными мельницами общей производительностью 1215 пудов в сутки. Эти и другие владельцы мельниц (например, У. Гандауров из селения Айти-Мохк,
В. Акиев и Г. Эмирзаев из селения Герменчук) вывозили муку не только в другие округа Терской области, но и за ее пределы.
Низкая производительность подавляющего большинства сельских мельниц препятствовала производству большого количества муки из производимого в Чечне зерна. Поэтому уже в конце XIX в. начинается строительство паровых мельниц в Грозном. Первая, производительностью 1500 пудов муки, принадлежала местному предпринимателю Узнику; вторая, производительностью 600 пудов, — известному богачу Афонину; а третья, производительностью в 800 пудов, являлась собственностью Беллика. Немного позже откроется мукомольная мельница сшюго из первых чеченских предпринимателей Баширова.
1 См.: Маркграф О. В. Указ. соч. — С. 23—27,30,33; Максимов Е. Указ. соч. — С. 90—91;
Гриценко Н. П. Указ. соч. — С. 137; и др.
Глава IX. Вовлечение Чечни в экономическую систему Российской империи
в пореформенный период
Одновременно открываются другие небольшие предприятия: ча- лобойни, кожевенные, салотопенные, свечные и др. Общее представление о развитии кустарной обрабатывающей промышленности Чечни * последней четверти XIX в. дает таблица 11.
Таблица 1
Предприятия
1874
1881
1893
1895
1897
1900
Кирпично-черепичные
7
19
33
42
53
102
Кожевенные
2
5
5
4
4
1
Пивоваренные
1
—
1
2
2
I
Винокуренные
2
4
—
1
1
1
Маслобойные
—
10
—
—
—
—
Гончарные
—
6
5
3
8
—
Колесные
—
—
—
13
9
—
Известковые
—
5
7
7
16
5
Лесопильные
—
1
18
41
51
84
Мельницы
—
568
758
842
918
724
Надо указать, что маломощная кустарная промышленность Чечни не могла полностью переработать все местное сырье, которое в больших количествах вывозилось для фабрик и промышленных предприятий Центральной России. В целом успешно развивались только те вил кустарных производств, которые не испытывали конкуренции со стороны быстро развивающейся российской промышленности. Например изготовление бурок, кавказского оружия и украшений для национал- ной одежды. Некоторые виды кустарных промыслов видоизменялжз и приспосабливались к новым условиям. Так, гончарное производстве превратилось в кирпично-черепичное, а в деревообработке больше места стали занимать лесопильные предприятия, производивши строительный материал. Сокращается добыча строительного камжя зато развивается известковое производство. В целом же кустарва* обрабатывающая промышленность Чечни смогла не только выжить j условиях конкуренции со стороны российской промышленности, в» по некоторым позициям и значительно развиться.
§ 3. Зарождение грозненской нефтяной промышленности
Предыстория Грозненского нефтяного района. В конце XIX к происходит формирование Грозненского нефтепромышленного района, который по отношению к остальной Чечне выступал в роли своего рода русской метрополии, эксплуатирующей ее природные богатства людские и другие ресурсы.
1 См.: РГВИА. Ф. 12. Оп. 8. Д. 2797. Л. 47—48об; Весь Грозный и его окрестности. —
Грозный, 1913. — С. 143—159; Казбек Г Н. Указ. соч. — С. 186; Гриценко Н. П. Терски»
аул и казачья станица... — С. 216; и др.
— 414 —
Зарождение грозненской нефтяной промышленности
Нефтяные месторождения известны в Чечне с давних времен, но лишь в первой половине и середине XIX в. началось их серьезное научное исследование. В разные годы изучением месторождений нефти занимались такие видные ученые и инженеры, как О. Ленце, Ф. Кок- шуля, А. Коншин, Л. Баскаков, Г. Романовский, Д. И. Менделеев и др., которые определили примерные объемы известных месторождений и их значение для экономики России.
Первоначально добыча нефти велась открытым способом — из старых колодцев, большая часть которых вместе с прилегающими землями были отняты у чеченских обществ и отведены Терскому казачьему войску. Частными владельцами нефтяных колодцев на землях аула Брагуны были князья Таймазовы. Впрочем, сами владельцы нефтяных колодцев их разработкой не занимались — это входило в обязанности откупщиков, которые брали колодцы в аренду («на откуп») сроком от двух до десяти лет. Естественно, что откупщики (ими в разное время были купчиха Совдигарова, тифлисский купец Мирзоев, купец Нитабух, некто Чекалов и др.) стремились за короткий срок аренды извлечь как можно больше доходов, а потому не были заинтересованы в улучшении технологии добычи. Они не только не вкладывали средств в техническое оснащение промыслов, но всячески экономили на ремонтных работах.
Первыми нефтерабочими и мастерами нефтяного дела России являлись исключительно чеченцы. Имея давние традиции добычи нефти колодезным способом, они рыли новые колодцы и поддерживали старые. Перевозкой нефти в деревянных бочках на арбах также занимались чеченцы. Только лишь с началом промышленной добычи нефти, в конце XIX в., местные специалисты стали вытесняться.
Невысоким оставался и уровень добычи нефти, который стал расти только после того, как добываемый из нефти керосин начал широко использоваться для освещения. В целом за период с 1866 по 1875 гг. з Чечне добыто 200 тысяч пудов нефти. В последующем добыча начинает увеличиваться. За 1876—1885 гг. добыто уже 944 тысячи пудов, г с 1886 по 1891 гг. — 1 миллион 457 тысяч пудов.
Переработка нефти была примитивной и долгое время велась лишь с аелью получения керосина. Один из откупщиков — Мирзоев построил непосредственно на промыслах небольшой нефтеперегонный заводик, впоследствии несколько расширенный. На этом заводике долгое время работал некий чеченец по имени Сосламбек, который, по всей видимости, являлся главным технологом (у него была маленькая лаборатория, тж он занимался изучением свойств нефти)1.
Си. Колосов Л. Н. Возникновение нефтяной промышленности в Грозном I1D93—1903 гг.): Канд. дис. — М., 1953. — С. 77; Казаков А. И. Страницы истории города Грозного: Краеведческие этюды. — Грозный, 1989. — С. 11.
— 415 —
Глава IX. Вовлечение Чечни в экономическую систему Российской империи
в пореформенный период
Низкий уровень добычи и откупная система заранее предопрезеяк- ли и сравнительно низкий уровень доходов, получаемых владельцев нефтяных участков. Например, если общие доходы Терского казачье я войска в 1891 г. составили 325718 рублей, то только 16358 тысяч быв получены от нефтяных и соляных источников. Наибольший же тшя войску приносили торговые и питейные заведения, расположенные яш казачьих землях — 227318 рублей. В общей сложности за 60 лет эксплуатации нефтяных колодцев (до 1890 г.) терские казаки получи** 152500 рублей чистого дохода1.
Интересы растущей промышленности и транспорта России м- ставили власти в 1894 г. отменить откупную систему, что, наряжу сз строительством Ростово-Владикавказской железной дороги, созжаж благоприятные условия для развития нефтяного дела в Чечне. Всероссийский промышленный подъем 90-х гг. XIX в. вызвал растущий спрос на все виды нефтепродуктов. Нефтяной бизнес становится чрезвычайно привлекательным для вложения капиталов, и значительна* частные средства направляются на разведку, добычу, транспортиров* и переработку нефти.
Начало промышленного освоения нефтяных залежей Чечж
В 1891 г. адвокат и промышленник Г. А. Ахвердов арендовал у станке Алхан-Юртовской (Ермоловской) 10 десятин земли сроком на 12 жш Поиском нефти занимаются и другие предприниматели. Наприые^ нефтепромышленник Русановский заложил в 1892 г. в районе Грозное две разведочные скважины, которые, однако, нефти не дали. Тем не нее, разведка не прекращается. В 1893 гг. А. Ахвердов создает уже цеяуо нефтяную компанию — Товарищество «Ахвердов и К°», которая арензог уже 30 десятин земли все у той же Алхан-Юртовской станицы. Пар» лельно действуют и другие компании: Кубанское акционерное общесг* «Русский стандарт», капиталистов Елисеева, Бартоломея и др. Успех г» вым пришел к компании Г. А. Ахвердова — 6 октября 1893 г. из оявой ее скважины, пробуренной промышленным способом, ударил фонте который только за первые две недели дал 150 тысяч пудов нефти.
Это событие положило начало явлению, которое вошло в историк под названием «нефтяного ажиотажа». В Грозный устремляются ж- сятки новых компаний, которые вкладывают значительные средства s техническое оснащение нефтяных промыслов. Нефть добывается со все большего числа скважин, оснащенных паровыми двигателями, буроии- ми станками и механическими насосами. Вместе с вышками строктек промысловые нефтепроводы, железные нефтехранилища, складские ■ подсобные помещения и, наконец, нефтеперерабатывающие заводы-
1 См.: ЦГА РСО-А. Ф. 169. On. 1. Д. 115. Л. 4; Всеподданнейший отчет начальнмӀ
Терской области и наказного атамана Терского казачьего войска о состоянии
ласти и войска за 1891 год. — Владикавказ, 1892. — С. 56.
— 416 —
Зарождение грозненской нефтяной промышленности
Первая буровая вышка в городе Грозном, 1893 г. Фото (64, 41)
Обильное финансирование способствует быстрому росту добычи нефти, что отражается в следующей таблице (по подсчетам профессора Л. Н. Колосова)1.
Таблица 2
Годы
Добыто нефти в млн пудов
Количество скважин, находящихся в бурении
1893
8,0
2
1894
5,24
1
1895
28,4
6
1896
21,8
6
1897
18,5
15
1898
18,5
27
1899
26,22
39
1900
30,7
34
Строительство нефтеперерабатывающих заводов. В 1895 г. английская фирма «Стюард лимитед», по заказу Товарищества «Ахвердов ж К®», начала строительство первого нефтеперерабатывающего завода в Грозном. Буквально следом начинается строительство еще одного заво- J& — уже акционерным обществом Владикавказской железной дороги. Третий завод построен грозненским купцом и нефтепромышленником А- А. Николаевым.
Колосов Л. Н. Указ. соч. — С. 77; Юшкин В. М. Начало грозненской нефтяной про¬
мышленности в очерках. — Екатеринодар, 1909. — С. 6.
— 417 —
Глава IX. Вовлечение Чечни в экономическую систему Российской империи
в пореформенный период
Первый нефтеперегонный завод Грозного производил за суткж 10 тысяч пудов керосина, который полностью шел за границу. Завок купца А. Николаева в 1899 г. выработал 200 тысяч пудов керосина Завод, принадлежавший Владикавказской железной дороге, был самый мощным и мог переработать за год до 40 миллионов пудов нефти. Oi не знал себе равных в России, да и, пожалуй, в мире. Причем этот завш строился прежде всего с целью удовлетворения потребностей самое дороги в жидком топливе. Это не помещало Владикавказкой железное дороге быстро стать основным поставщиком мазута, керосина и других нефтепродуктов на рынки Северного Кавказа и Юга России. К конлт века все грозненские нефтеперерабатывающие заводы располагал» 44 железными хранилищами, рассчитанными примерно на 4 миллиона пудов нефти1.
Вывоз нефти. Иностранный капитал. Начиная с 1896 г. грозненская нефть большими партиями поступает в крупнейшие промышленные центры России. Уже в 1897 г. грозненские поставщики вытеснили с нефтяного рынка Ростова-на-Дону своих конкурентов из Баку. Весьма значителен и экспорт. Так, в 1895 г. только в Англию вывезено 20 мин лионов пудов грозненской нефти. В том же году иностранный капитзд впервые заявил о себе в Грозном — компания «Standart Oil» заключив долгосрочный контракт на аренду нефтеносного участка. Следом потянулись и другие иностранные компании: в 1897 г. западноевропейски фирма «Шпис» начала арендовать перспективные участки у местных землевладельцев Таймазовых, Уцмиевых, Вагаповых и др. Скупкой ■ долгосрочной арендой земель занималось и общество «Казбекскив синдикат», представлявшее преимущественно английский капитал. В фирмах «Шпис» и «Казбекский синдикат» заметную роль играл» также германские капиталисты.
Для своего проникновения в Грозненский нефтяной район иностранные бизнесмены активно скупали уже существующие российски компании. Например, Товарищество «Ахвердов и К°», добывавшее половину грозненской нефти, в 1899 г. перешло под контроль бельгийского капитала. За год до этого группа французских предпринимателей эс главе с Ротшильдом скупила акции российской компании «Московское общество», которой в Грозном принадлежали нефтепровод и один кз нефтеперегонных заводов.
Несмотря на острую конкуренцию, действовавшие в Грозненском нефтяном районе монополии довольно быстро осознали общность своих интересов и даже сумели создать собственную организационную структуру — Съезд терских нефтепромышленников. Через эгг
1 См.: Колосов Л. Я. Указ. соч. — С. 73; Житков М. С Обзор грозненской нефтеве рерабатывающей промышленности за 1900—1906 г. — Новочеркасск, 1906. — С 2 10—15; и др.
Зарождение грозненской нефтяной промышленности
структуру (имевшую, кстати, собственный бюджет) представители нефтяных компаний вырабатывали общую экономическую стратегию, регулировали отношения с местными властями, улаживали производственные конфликты, вступали в переговоры с рабочими комитетами, а также определяли размеры вложений в развитие хозяйственной и социальной инфраструктуры Грозного1.
Бурный рост нефтяной промышленности привел к появлению в Грозном целого ряда обслуживающих отрасль промышленных предприятий. Возникают котельные заводы Итанова, Фреу и Жедырева, Брули- ■овского, Прохорова и Воробьева, котельно-заклепочные, кузнечные и а и тейно-механические мастерские Степанова, Чаура, Газиева, Фаниева, Хохлова, Эскингора, Чубаксарова, плотнично-столярные фабрики «Работник», «Плотник», «Славянин» и другие предприятия.
Российский завод второй половины XIX в. (73, 147)
Терское казачье войско и аренда нефтеносных участков. Крупней- вш собственником нефтеносных участков оказалось Терское казачье *яЛско — в 1899 г. на его землях добыто около 21,9 миллиона пудов нефам2 (общая добыча в тот год составила 26,22 миллионов пудов). Войско самостоятельно не вело разработку месторождений нефти, а наживалось ■сляючительно на сдаче в аренду захваченных чеченских земель.
Обычные условия аренды включали ежегодную выплату 150 руб- аeft за каждую десятину арендованной земли, а также уплату от 2
Сн.: Колосов Л. Н. Из истории захвата монополиями нефтеносных земель в Чечено- Ингушетии (1895—1917) II Известия Чечено-Ингушского НИИИЯЛ. Т. 2. Вып. 1. — Грозный, 1960; Нефть и газ Чечни и Ингушетии. — М., 1993. — С. 12; и др.
Терский календарь на 1901 год. — Владикавказ, 1900. — С 81.
— 419 —
Глава IX. Вовлечение Чечни в экономическую систему Российской империи
в пореформенный период
до 6 копеек с каждого пуда добытой нефти. Таким образом, абсолют» без всяких затрат со стороны казачьего войска общественная казв! получала огромные доходы. Например, в 1899 г. нефтяные компании выплатили Терскому войску 631,8 тысячу рублей. При этом, Терсвк казачье войско напрямую не инвестировало свои средства в дальнейшее развитие нефтяной промышленности: его доходы шли преимуществен вс на покрытие текущих расходов. Лишь часть свободных средств вкладывалась в разного рода ценные бумаги, превращая Терское войаю и коллективного рантье, живущего на проценты от своих вкладов.
Борьба властей против прав чеченских аулов на нефтеноенж участки. Терская областная администрация, которая всячески по мер живала феодальные привилегии Терского казачьего войска, баснословаг наживавшегося за счет сдачи в аренду нефтеносных земель, в то кг время прилагала отчаянные усилия, чтобы лишить аналогичных прея несколько чеченских селений, также владевших нефтеносными участками. В 1894 г. начальник Терской области категорически возражал протш» распространения на чеченские земли утвержденных Министерство* Земледелия и Государственных Имуществ специальных «Правил предупреждения хищнической разработки недр на землях владельческих и крестьянских». Согласно этим правилам, крестьянская обшмш. самостоятельно определяла условия сдачи в аренду принадлежат», ей земель для разработки полезных ископаемых. Свою позицию глаш терской администрации мотивировал тем, что чеченские крестьяне не являются владельцами земли, на которой расположены их селен кж «...казенные земли, населенные горскими жителями, отданы были им не во владение на праве собственности, но лишь в пользование...» По мнению начальника Терской области, в отношении чеченских земель должны действовать правила о казенных землях, а, согласно им, недра принадлежат правительству. Следовательно, не сельские общины чеченских селений, а администрация во главе с начальником Терем* области должна была распоряжаться нефтеносными участками. Жем- ние не упустить выгод, связанных с нефтяным бизнесом, было стою велико, что даже в случае признания за горскими общинами прям самостоятельно распоряжаться отведенными им землями, терская администрация требовала, чтобы «...приговор о сдаче в аренду не^* посторонним сельскому обществу лицам...» утверждался начальниками участков, а треть доходов от аренды обращалась «.. .в уплату подымной подати надлежащих обществ...»1.
Надо указать, что российское законодательство, в сочетании с государственной бюрократией, в целом серьезно препятствовали частной инициативе в экономике вообще, и в нефтяном бизнесе, в частности. Так, для аренды участка, превышающего по своей площади 10 десятии.
1 РГВИА. Ф. 1300. Оп. 4. Д. 1402. Л. 12 об.—14.
— 420 —
Зарождение грозненской нефтяной промышленности
Ӏреоовалось разрешение правительства, а предельный срок аренды ограничивался 24 годами. Кроме того, получение разрешений на разработку недр, оформление арендных документов и другие необходимые формальности были сопряжены с серьезными бюрократическими процедурами, требовавшими времени и средств.
Нефтяные спекуляции. Ажиотажный спрос на нефтеносные участки и запутанная процедура получения прав на разработку недр эривели к открытой спекуляции частновладельческими и общинными землями. Появляются посредники и скупщики земель из числа чеченцев, которые составили серьезный капитал на перепродаже или аренде перспективных земель. Российские и иностранные предприниматели охотно вступали в деловой союз с состоятельными чеченцами, нескольку влияние последних на своих земляков позволяло быстрее и ш» лучших условиях получить согласие сельских общин сдать в аренду шпересующие предпринимателей земли. Как правило, в таком союзе чеченскому предпринимателю отводилась роль получателя разрешения шастей на отвод участков для разведки нефти. Связи с сельскими общи- ■ами и местными чиновниками позволяли им чаще добиваться успеха: если чеченцы и ингуши составляли около 21% лиц, подавших заявки за выделение участков для поиска нефти, то среди лиц, получивших такие разрешения, они составляли уже свыше 27%I 2. На посредничестве существенно обогатились такие известные чеченские предприниматели, как Абдул-Межид (Тапа) Чермоев (сын генерала О. Чермоева), А. Арса- мерзаев, И. Арсанукаев, М. Мациев, Д. Мустафинов, А. Абдулкадыров, А. Эльмурзаев и др.
Чеченские нефтепромышленники. В ряде случаев чеченские пред- зриниматели выступали в качестве самостоятельных фигур в нефтяном бизнесе. Например, торговцы Мациевы в 1895 г. добивались разрешения арендовать нефтеносный участок, в 1897 г. об этом же просили урус- жартановские торговцы Бадуев и Алиев. Самым удачливым чеченским нефтепромышленником в начале XX в. стал Т. Чермоев. Акционерное общество «Староюртовская нефть» основал шейх Абдул-Азиз Шаптука-
Вошли в это общество целый ряд национальных предпринимателей v помещиков. В целом класс чеченских предпринимателей пополняет- is за счет выходцев из офицерских семей, крупнейших торговцев, а тазске видных религиозных деятелей, которые также не сторонились нефтяного бизнеса. Вместе с тем неудачное приобретение участков, сказавшихся бесперспективными, привело к разорению некоторых .тжтоятельных семей. Так, разорились князья Таймазовы, фамилии fzboieвых и Айдемировых.
Ахмадов X. С О капиталистическом предпринимательстве в Терской области
I конце XIX — начале XX вв. // Вопр. полит, и эконом, развития Чечено-Ингушетии
XYHI — начало XX веков). — Грозный, 1986. — С. 95.
Глава IX. Вовлечение Чечни в экономическую систему Российской империи
в пореформенный период
В отдельных случаях целые сельские общины просили разрешешм начать разработку полезных ископаемых. Так, например, поступке крестьяне селения Гудермес. Но чаще всего чеченские крестьяне оказывались на нефтяных промыслах в качестве наемных рабочих. Ехцгш времена откупной системы некоторые чеченские семьи зарабатывав на извозе нефти, которая в бочках телегами вывозилась на продажу Кроме того, по свидетельству современников, чеченских поденппшва привлекали для рытья и очистки нефтяных колодцев1.
Рост города Грозного. С началом промышленной добычи и переработки нефти резко возрастает и потребность в рабочих руках, котора удовлетворялась по большей части за счет переселенцев из российски губерний, а частично — за счет лежащих вокруг Грозного чеченсккж селений, откуда в поисках заработка приходили безземельные или «■§- лоземельные крестьяне. Первая переселенческая семья обосновалась т Грозном еще в 1861 г., но в течение последующих 10 лет переселение стт почти не наблюдается. Одновременно с городским статусом Грозное была предоставлена льгота — в течение пяти лет вновь приписанным горожанам выделалось под застройку по 400 квадратных саженей земи Впрочем, городской земли не хватало, и далеко не все новые горожаяг получили обещанную землю. Например, 60 семей уволенных в заак солдат так и не получили участки под строительство2.
Россия конца XIX в. Рабочие в ожидании найма (73, 147)
1 См.: Терские ведомости. — Владикавказ, 1895. — № 125—140; Терские ведо^^ ти. — Владикавказ, 1900. — № 32; Колосов Л. Н. Указ. соч. — С. 132; Саламов А я Правда о святых местах в Чечено-Ингушетии // Тр. Чечено-Ингушского НИИИЯД Т. 9. — Грозный, 1964. — С. 165—168.
2 Город Грозный: Популярные очерки истории. — Грозный, 1984. — С. 41—42.
— 422 —
Зарождение грозненской нефтяной промышленности
Некоторое оживление наблюдается в период с 1882 по 1892 гг., когда в» Грозном обосновалась 91 переселенческая семья. Но с началом неф- ишого бума поток переселенцев резко возрастает: с 1893 по 1898 гг. жабрали местом проживания Грозный уже 112 семей. В отличие от ■редыдущих лет большинство новых переселенцев вовсе не крестьяне, я чернорабочие и рабочие разных профессий1.
Характерно, что бурный рост городского населения прямо связан с ткрытием богатых месторождений нефти и началом их промышленной якплуатации. Так, численность совершеннолетних мужчин-горожан с то по 1883 гг. возросла с четырех тысяч до 8452, а затем сократилась т 6214 в 1891 г. Полоса неурожайных лет, сопровождавшихся и массовом падежом скота, привела к миграции части горожан. Переселение ш сельскую местность части жителей Грозного не случайно: многие иврожане продолжали заниматься сельским хозяйством — город имел жая этого некоторое количество земли. На волне переселенческого бума некоторые семьи грозненцев предпочли осесть на землю.
Нефтяной бум буквально возродил Грозный заново. В 1897 г. число зо жителей-мужчин достигло 15 564, а в 1900 г. в Грозном постоянно проживало 70000 человек. Рост городского населения происходил аочти исключительно за счет новых переселенцев, искавших работу
План города Грозного в 1871 г. (18, 24—25)
Ахмадов Ш. Б. Источники о социально-экономическом развитии переселенческой жревни Терской области в пореформенный период // Источниковедение истории зяреволюционной Чечено-Ингушетии. — Грозный, 1988. — С. 61—62.
— 423 —
Глава IX. Вовлечение Чечни в экономическую систему Российской империи
в пореформенный период
i
к
i
щ
1
Грозный конца XIX в. Набережная улица (20, б/н)
на нефтяных промыслах и промышленных предприятиях Грозноге Кроме русских переселенцев, среди которых значительную часть составляли профессиональные рабочие, Грозный притягивает и избыточзв* сельское население Чечни.
Однако во второй половине XIX — начале XX в. самым крупна®* инонациональным населением Грозного оставалось армянское и горско-еврейское. Горские евреи, представлявшие собой ответвление азе атских евреев, говорили на одном из иранских языков и исповедывад*
Горские евреи Северного Кавказа. Горский еврей Дагестанской обмстх
Начало XX в. Фото. (49, 530) Начало XX в. Фото. (49, 530)
Зарождение грозненской нефтяной промышленности
иудаизм. Они создают слободу близ крепости Грозной еще в 30-е гг. XIX в. за счет, главным образом, евреев, переселявшихся из равнинных чеченских и дагестанских аулов, где они жили небольшими группами. Их основными занятиями являлись кустарные промыслы (особенно выделка кож, посуды) и мелочная торговля. Практически все они владели чеченским либо кумыкским языком.
Первые кадры национального пролетариата. Что касается чеченских крестьян, то, будучи почти поголовно неграмотными и не имевшие никакой промышленной специальности, они первое время являлись почти исключительно чернорабочими. Большая часть из них, отработав на промыслах несколько месяцев, свободных от полевых работ, с началом полевого сезона возвращалась в свои селения обрабатывать принадлежащие им клочки земли.
С каждым годом на нефтяных промыслах и предприятиях Грозного появляется все больше чеченских крестьян. В 1900 г. в Грозном работало 711 чеченцев-рабочих, что составляло 22% от общего числа занятых рабочих. Со временем растет и число чеченских крестьян, которые окончательно прерывали связь с сельским хозяйством. Навсегда оставаясь в Грозном, они приобретали различные доступные им рабочие специальности: токарей, слесарей, связистов и т. д. Например, первым машинистом из чеченцев стал Ибрагим Магомаев, который в 1893 г. закончил Владикавказское ремесленное училище. В 1897 г. И. Магомаев получил право самостоятельно управлять локомотивом, а с 1900 г. становится машинистом пассажирских поездов.
Вместе с тем, целый ряд факторов препятствовал быстрому росту числа промышленных рабочих из числа чеченцев. В Грозном чеченские поденщики испытывали серьезную конкуренцию со стороны русских переселенцев, которые также были готовы браться за любую работу. Что касается рабочих профессий, то здесь конкуренция была еще выше, так как потребности в высококвалифицированных работниках в Грозненском промышленном районе первоначально почти полностью удовлетворялась за счет приезжих. Закреплению чеченцев на промыслах мешало и элементарное незнание русского языка1.
Но главным образом приток чеченцев в грозненскую промышлен- вость сдерживался административными барьерами. В Терской области действовало постановление, запрещающее чеченцам поселяться на территории Грозного, а также слобод Воздвиженской, Ведено и др., рядом с военными укреплениями. Исключение делалось только для лиц, состоящих на государственной службе или вышедших в отставку в офицерском звании, а также имеющих «особые» заслуги перед государством. Запрет этот не всегда строго соблюдался, но время
См.: Терские календари за 1893 г., 1894 г., 1897 г., 1898 г.; Лященко П. И. Хлебная торговля на внутренних рынках европейской России. — СПб., 1912. — С. 141; и др.
— 425 —
Глава IX. Вовлечение Чечни в экономическую систему Российской империи
в пореформенный период
от времени власти вспоминали о нем. Например, в 1891 г. начал ъеш Терской области распорядился выселить из Грозного всех «незаконна проживающих там чеченцев.
Железная дорога. Быстрому промышленному развитию Грозного, i также общему экономическому подъему Терской области способствовало строительство железных дорог. В 1894 г. железнодорожное сообщение соединило Грозный с общероссийским и внешними рынкам. С его появлением решилась проблема вывоза грозненской нефти. Ив тересно, что железнодорожное полотно (и, соответственно, станпим а все путевое хозяйство) прошло по землям, принадлежавшим Терсюоигт казачьему войску. Даже грозненский городской вокзал был построен на земле станицы Грозненской. Последнее произошло потому, чтя городские власти потребовали по 60 рублей за каждый квадратный сажень городских земель, отчуждаемых для возведения вокзала, локомотивного депо с мастерскими, товарной станции и подъездных путей. В это же время казаки станицы Грозненской предложили строителе дороги собственный участок земли бесплатно, в полной уверенности, что вслед за железнодорожной станцией на их земле начнется строительство не только путевого хозяйства, но и нефтеперерабатывающих и других промышленных предприятий. Из Грозного железно дорожи» ветка прошла дальше через Гудермес и Хасав-Юрт к Порт-Петровсжт и далее на Баку.
Владикавказская железная дорога строилась за счет средств частного предприятия, созданного группой акционеров, что вовсе не снижаяс- роль государственных органов в ее сооружении. О необходимое!?? развития железнодорожного сообщения писал еще в 1863 г. наместниж Кавказа: «Все усилия, употребляемые мной на облегчение скорейшего разрешения вопроса о постройке железной дороги между Ростовой.
Вокзал на станции Грозная. Фото 1894 г. (20, б/н)
— 426 —
Зарождение грозненской нефтяной промышленности
Паровоз конца XIX в. Фото. (73, 195)
Валаикавказом и Петровским портом, истекают из того убеждения, что... линия эта, связывая сеть отечественных дорог с предгорьем Кав- 8эю и с Каспийским морем, будет иметь первостепенное промышленное а торговое значение не только местное, но и государственное»1.
Строительство Владикавказской железной дороги потребовало огромных средств — себестоимость одной версты составляла 55 568 руб- аеЛ. Но вложенные в нее средства быстро окупились, и в 1896 г. чистая араюыль акционерного общества Владикавказской железной дороги аястигла 820 тысяч рублей, а общая протяженность принадлежавших «т железнодорожных путей составила 2300 верст.
Доходность железной дороги только возросла с появлением Грознейшего нефтепромышленного района, что привело к резкому увеличению газовых потоков, что видно из следующей таблицы2.
'Ъвтша 3. Грузооборот железнодорожных станций (в пудах)
Станции
1896 г.
1897 г.
1901 г.
отправлено
прибыло
отправлено
прибыло
отправлено
прибыло
сини некая
55431
21424
74921
35383
349186
57328
тмтМинска я
218969
8128
163055
—
642430
10669
С^аооодск
—
—
16971
3740
213800
19733
Гумсый
7053730
1130338
19344570
1463890
25115088
2714532
:тдермес
276811
21893
310109
29609
637698
80608
«МП*
7604941
1181783
19909626
1532622
26958202
2882870
ИГА РСО-А. Ф. 12. Оп. 2. Д. 124. Л. 29.
- См: Терские календари за 1893,1894,1897,1898 гг.; Лященко П. И. Хлебная торговля
si внутренних рынках европейской России. — СПб., 1912. — С. 141; и др.
Глава IX. Вовлечение Чечни в экономическую систему Российской империи
в пореформенный период
Приведенные выше данные показывают, что грузов из Чечни вывозилось во много раз больше, чем завозилось: в 1896 г. — в 6,4 раза, в 1897 — в 12,9 раз, в 1901 — 9,3 раза. На первом месте среди вывозимых грузов стояли нефть и нефтепродукты, на втором — зерно. Завозилась же в основном фабрично-заводская продукция. Таким образом, становится наглядным колониальный характер экономических связей Чечни с метрополией, которая вывозила дешевое сырье взамен дорог» промышленной продукции.
Представлявшая собой одно из крупнейших капиталистически! предприятий России, Владикавказская железная дорога на территория Терской области активно участвовала не только в нефтяном бизнесе нш промышленном производстве, но и в торговле сельскохозяйственной продукцией, главным образом зерном. Одному из владельцев Влажж- кавказской дороги барону Р. Штейнгелю принадлежала в Грозном. Владикавказе и на Кубани значительная часть свеклосахарных, винокуренных и кирпичных заводов (в Грозном небольшой рабочий поселгм возникший вокруг принадлежавшего Р. Штейнгелю кирпичного завов, получил название «Бароновка»).
Дорожное строительство. Еще во время Кавказской войны военш* власти придавали большое значение строительству грунтовых и шоссейных дорог, которые должны были обеспечить быструю переброс*! войск в любой район Чечни. Во второй половине XIX в. проблеэв дорожного строительства не утратила своей актуальности, поскольхт экономическая эксплуатация Чечни напрямую зависела от наличж* удобных путей сообщения. Это не означало, что дороги, строительспм которых в Аргунском и Веденском округах началось во второй половимг
— 428 —
Развитие торговли
70-х гг. XIX в., не имели военно-стратегического значения. Дороги, построенные в Аргунском ущелье, протяженностью в 50 верст, из которых аять были шоссейными, связали Шатойскую крепость с укреплениями Воздвиженским и Башин-Калинским. В Веденском районе строились юроги, как между отдельными селениями, так и в направлении Дагестана и равнинной части Чечни. Только в 1880—1881 гг. на строительство и ремонт дорог и мостов в Чечне правительством было выделено 17680 рублей. Кроме того, на те же цели немало средств тратилось и местными крестьянскими общинами, жаждавшими иметь удобные пути сообщения с соседями и административными центрами1.
§ 4. Развитие торговли
Снятие административных ограничений на торговлю. Быстрое экономическое развитие Чечни отражалось на росте торговли и последующем развитии финансово-денежных учреждений. В 1858 г. распоряжением правительства была ликвидирована Кавказская карантинная знния и сняты многочисленные административные барьеры на пути развития торговых отношений с горцами. Заинтересованность в во- «аечении горцев в товарооборот с русскими поселениями была столь велика, что в 1869 г., по ходатайству начальника Терской области, горцам зредоставили возможность торговать «без стеснения формальностями ж пошлинами» на срок до 1871 г.
Несмотря на свою краткосрочность, упомянутые меры способствовали укреплению положения тогда еще немногочисленных горских, в том числе ■ чеченских, купцов. До 1875 г. происходит постепенное, но устойчивое развитие торговли в Терской области, которое сдерживалось нескольки- icf неблагоприятными факторами. Прежде всего это низкий товарный характер хозяйства горцев и их малая покупательная способность. Кроме того, отсутствие удобных путей сообщения. В крае до 60-х гг. XIX в. 5очти не было дорог с твердым покрытием. В результате, например, крепость Грозная в период осенней и весенней распутицы, или после бурных летних дождей, оказывалась полностью отрезанной от внешнего шара. С окончанием Кавказской войны Грозная утратила свое прежнее женно-стратегическое положение, а административным центром Терской ооаасти стал Владикавказ. Не случайно, что первые десятилетия после завершения военных действий Владикавказ развивается гораздо быстрее Грозного, который только в 1870 г. получил городской статус)2.
См.: Всеподданнейший отчет наместника Кавказа (1863—1871). — Тифлис, 1871. — С 33; Всеподданнейший отчет начальника Терской области за 1899 г. — Владикавказ, г*>3. — С. 35; Лященко П. И. Указ. соч. — С. 220; и др.
Чечено-Ингушская АССР за годы одиннадцатой пятилетки: Статистический сб. — Грозный, 1986. — С. 10.
Глава IX. Вовлечение Чечни в экономическую систему Российской империи
в пореформенный период
Грозный, как городской и торговый центр. Именно Грозный выступал для Чечни как главный торговый центр, куда чеченцы везж продукты своего хозяйства, а увозили большое количество фабричныз товаров. Вплоть до начала промышленного подъема, в конце XIX к. Грозный представлял собой поселение, жители которого занимались преимущественно сельским хозяйством и торговлей, с небольшим т- личеством малых кустарных предприятий, а также административной центр обширного Грозненского округа, включавшего в себя болылуж часть Чечни. В 80-х гг. здесь имеется всего 36 небольших предприят^ (кирпичных, кожевенных, известковых, черепичных, горшечных и щрЛ на которых работало всего 165 наемных рабочих. Зато уже в коние 70-х гг. в Грозном ежегодно выдается 150—200 торговых свидетельсти первой и второй гильдии, до 200 — на мелочную торговлю, око» 100 — на приказчика1.
Особое значение имели ярмарки, которых в Терской области ежегодно проходило 24: две в Грозном (весной и осенью), по одной » станицах Наурской, Николаевской, Слепцовской. Традиционно привлекательными для чеченцев были и ярмарки в Моздоке и Кизляре, посещали чеченские купцы также Владикавказскую, Георгиевску» и другие ярмарки. Бесспорно, крупнейшими в Чечне были Грозненаиг ярмарки. Их оборот в 1876 г. составил 360 тысяч рублей, в 1878 г — 760 тысяч, а в 1887 г. — 1 миллион 44 тысячи рублей. В 1896 г. в Грозней
Грозный. Триумфальные (Александровские) ворота. Фото (18, 19)
1 Хасбулатов А. И. Развитие промышленности и формирование рабочего класса в Чечено-Ингушетии (конец XIX — начало XX вв). — М., 1994. — С. 24.
— 430 —
Развитие торговли
насчитывалось 323 торговых заведения с общим торговым оборотом приблизительно 2,5 миллиона рублей.
Появление в Грозном большого количества нефтяных компаний в конце XIX — начале XX вв. резко увеличило стоимость городской недвижимости, например, квартирная плата возросла в 3—5 раз. Часть городской земли и недвижимой собственности сдается в аренду нефтепромышленникам, которые, кроме того, значительно пополняют городской бюджет своими положенными по закону отчислениями. Не случайно, что в 1895 г., когда все другие города Терской области объявили о сокращении своих бюджетов, бюджет Грозного увеличился, по сравнению с предыдущим годом, более чем на 2 тысячи рублей и достиг 24.2 тысяч рублей. Подавляющая часть городского бюджета — свыше тысяч рублей ушло на содержание городских служб и полиции1.
Бюджет Грозного стабильно увеличивался и в последующие годы, ^то позволило городскому самоуправлению в 1897 г. разработать проект строительства в Грозном небольшой телефонной станции. Первоначально под телефонную станцию отвели две комнаты в здании государственной почтово-телеграфной конторы (перекресток современной улицы Чернышевского и проспекта Революции). Здесь были установлены два коммутатора на 200 номеров, в центре города проведена воздушная телефонная сеть, а из Ростова приглашены на работу пять телефонисток. Первые телефоны были установлены 5 городских и государственных учреждениях, а также в конторах крупнейших нефтяных компаний2.
Чеченские купцы. Объемы торговли в крае. Значительная часть грозненской городской торговли довольно быстро переходит в руки к чеченским купцам, первые из которых появились здесь не позже 70-х гг. Принадлежавшая первым чеченским купцам Б. Баширову из Старой Сунжи, Г. Мациеву из Шали, А. Арсамирзаеву из Урус-Мартана городская ведвижимость оценивалась на сумму от 3-х до 10 тысяч рублей3.
Знаменитая купеческая династия Мациевых, первоначально ведущая основные торговые операции в селении Аксай, в 1884 г. обосновывается в Грозном. Вскоре Мациевы владели в Грозном несколькими магазинами, а «х общее состояние оценивалось в 500 тысяч рублей. Кроме того, Маци- эы владели довольно значительными земельными участками. Например, Э^ъмурза Мациев приобрел 1350 десятин в окрестностях Грозного4.
Гврод Грозный: Популярные очерки истории. — Грозный, 1984. — С. 54.
- Ялхсман А. А. Записки краеведа. — Грозный, 1984. — С. 18—19.
Гщщенко Я. Я. Горский аул и казачья станица Терека накануне Великой Октябрьской :«хшалистической революции. — Грозный, 1972. — С. 231.
' См.: Гантемирова Г. А. К вопросу о развитии торгового земледелия в Чечено- Ингушетии // Из истории дореволюционного Дагестана: Сб. научн. трудов. — Махачкала, 1976. — С. 204; Город Грозный: Популярные очерки истории. — Грозный, !9$4. — С. 43.
Глава IX. Вовлечение Чечни в экономическую систему Российской империи
в пореформенный период
Торговая улица в Грозном (старый город). Худ. Ю. Якушкин (61, 2)
Одновременно растет и торговля непосредственно в Чечне, свидетельством чему стало возникновение еженедельных базаров в крупна ших чеченских селениях и расположенных рядом с ними укрепления: Ведено, Шатой, Воздвиженская, Урус-Мартан, Шали, Старый Юрт, Иго* Кале и др. Только на Веденский базар в течение 1874 г. было завезея продуктов сельского хозяйства и товаров на сумму 900 тысяч рубде*. а продано — на 367 тысяч рублей.
Занятие торговлей довольно быстро приобретает популярность среди чеченцев и становится престижным занятием, причем не только ж равнине, но и в горах. Так, в 70-х гг. в Аргунском округе выдано веете 17 торговых свидетельств, а в начале 80-х — уже 33. В Веденском окруде количество выданных торговых свидетельств возросло с 13-ти в 1867 l до 30-ти в 1887 г. В Грозном в 1876 г. число купленных свидетея«ся существенно возросло по сравнению с предыдущим годом и достдаш 407, что объяснялось властями тем, что «...взяли много свидетельств туземные торговцы, ведущие торг в аулах». В 1899 г. число выданных з Грозном торговых свидетельств составило 877. В целом по Чечне в 1900 г торговлей занималось 2630 человек, имевших общий торговый оборе»! 7 миллионов 692,5 тысячи рублей. В том числе на долю сельской торговля (без Грозного) приходилось 1065 торговцев и 1 миллион 192,5 тысяч* рублей торгового оборота1.
1 Всеподданнейший отчет начальника Терской области и наказного атамана Тереком казачьего войска за 1899 год. — Владикавказ, 1900. — С. 35; Всеподданнейший **т чет начальника Терской области и наказного атамана Терского казачьего войска я 1900 год. — Владикавказ, 1901. — С. 90.
— 432 —
Развитие торговли
Для многих чеченских семей торговля становится основным видом хозяйственной деятельности и главным источником доходов. Например, в 1886 г. только в селении Старый Юрт 13 семей считали торговлю основным видом трудовой деятельности. В 1900 г. в Урус-Мартане насчитывалось 41 торговое заведение, в Шали — 43, в Ведено — 23, Старых Атагах — 42, Автурах — 82, Старом Юрте — 22. Практически в каждом крупном чеченском селении имеется несколько постоянных торговых точек1. Реальное число чеченских торговцев было существенно выше официально зарегистрированного, так как многие занимались торговыми операциями, не имея на это юридических документов, что позволяло уклоняться от уплаты пошлин. Так, в 1877 г. власти оштрафовали 10 чеченских торговцев на общую сумму 1025 рублей, именно мз-за отсутствия у них торговых свидетельств. Средний размер штрафа (100 рублей) показывает, что провинившиеся купцы были людьми зовольно состоятельными.
С открытием железнодорожного сообщения кардинально расширяется география коммерческих связей чеченских купцов. Никого уже не удивляет наличие торговых связей чеченских торговцев со столицей (Санкт-Петербургом), Москвой или Нижним Новгородом. Одновременно увеличивается число российских купцов, открывавших свои лавки не только в Грозном, но и непосредственно в чеченских горах. Так, купцы В. Носов, Н. Сорокин, Пейкаров и др. имели торговые лавки в крепости Ведено.
Быстрое развитие стационарной торговли и практически прямых закупок привело к снижению роли ярмарок, товарооборот которых постепенно падает. Главные колониальные товары Чечни — нефть и зерно — реализуются помимо ярмарок. Нефтью распоряжаются крупные компании, а скупщики зерна приобретают его прямо в селениях к везут сразу на железнодорожные станции, где оборудуются зернохранилища. В Чечне образуется прослойка скупщиков зерна, имевших естественные амбары и сосредоточивших в своих руках большую часть хлебной торговли.
Банковское дело. Развитие промышленности и торговли было бы зевозможно без соответствующего развития системы финансово-крестных учреждений. Еще в начале 70-х гг. XIX в. городские власти Грозного добивались разрешения открыть городской общественный о£нк, необходимый для кредитования торговой и другой предпринимательской деятельности. Но только начало разработки нефтяных залежей даевлекло в Грозный крупные капиталы, что выразилось и в открытии «‘велений крупнейших российских банков. Так, в 1895 г. начало работу Терское отделение Азово-Донского банка, которое благодаря солидной «ментуре работало с большой прибылью. Что касается чеченских
Терский календарь на 1901 год. — Владикавказ, 1900. — С. 187.
— 433 —
Глава IX. Вовлечение Чечни в экономическую систему Российской империи
в пореформенный период
Грозный конца XIX в. Здание Терского отделения Азово-Донского коммерческого банка. Фото (20, б/н)
селений, то деятельность кредитных учреждений здесь почти не ощ*- щается и в конце XIX в. В случае необходимости в деньгах, чеченские крестьяне вынуждены обращаться к услугам ростовщиков.
* * *
В пореформенный период в экономике Чечни как и в экономим всей Российской империи происходили прогрессивные сдвиги, свидетельствующие об уверенном процессе модернизации. Появляеот товарное земледелие и товарное скотоводство, зарождается прослоюа торговой буржуазии и рабочего класса, товарно-денежные отношеннв становятся преобладающими.
Огромное значение для развития края имели проведение железаой дороги и промышленная разработка чеченской нефти, приведшая к зарождению Грозненского нефтяного района, где энергично действовал самый передовой российский и западный монополистический капитал
Горцы имели огромный потенциал для врастания в современнее капиталистическое производство, однако колониальная политика царской России, направленная на ограбление земельного фонда Чечни в на ограничения прав и свобод основной массы чеченцев, значительна тормозили прогрессивные процессы.
— 434 —
Глава X. Наш край в первой русской буржуазно-демократической революции 1905—1907 годов
§ 1. Обострение социальной напряженности
в горском обществе. Предпосылки революции
Земельная теснота. Развитие капитализма в аграрном секторе России приводило к образованию многочисленной прослойки малозе- Ӏвельного и безземельного крестьянства. Высвободившиеся в сельском юзяйстве трудовые ресурсы почти беспрепятственно мигрировали в города, создавая резерв дешевой рабочей силы для быстро развивающейся промышленности и сферы услуг. В Чечне же, на пути разорившихся крестьян в города Терской области, возникали многочисленные вреграды, как правило, административного характера. Промышленность края развивалась с использованием преимущественно труда русских рабочих-переселенцев, превращая тем самым безземельных чеченских крестьян в подлинно «лишних людей». Постоянное увеличение количества малоземельных крестьян, которые были лишены возможности •ставить свою общину, приводило к накапливанию в Чечне взрыво- овасного социального элемента. По данным 1906—1907 гг., в аргунских ■ участках» горной части Чечни из 8941 крестьянского двора полностью безземельными (без «пая») были 3948 дворов1.
Одновременно внутри чеченского общества наблюдается небыва- шй ранее разрыв в доходах между социальной верхушкой и основной жксой населения. Появление узкой прослойки чеченских миллионеров зредпринимателей и торговцев происходит на фоне относительного обнищания крестьянства. Конечно, в абсолютном исчислении уровень кнзни даже этой социальной категории был выше, чем в начале или Ӏлже в середине XIX в., но в чеченском обществе действовали уже иные сааиальные стандарты, а потому чувство неудовлетворенности своим аояожением охватывает все больше чеченцев.
Земельная теснота, которую испытывали почти все горские народы Терской области, в первую очередь чеченцы и ингуши, приводила i постоянной социальной и межнациональной напряженности. Это красно понимало кавказское и терское начальство. Например, назначенный в 1905 г. новым наместником Кавказа граф И. И. Воронцов-Даш- шв неоднократно указывал, что именно земельная необустроенность .юрского крестьянства служит главной причиной аграрных волнений
Материалы Абрамовской комиссии. — Владикавказ, 1908. — С. 108.
— 435 —
Глава X. Наш край в первой русской буржуазно-демократической революции 1905—190/ —
Косовица в горах (косари, по существу, висят на веревках).
Худ. Г.-М. А. Даурбеков (3, 8)
в крае. По большому счету, для решения этой проблемы у российское администрации были действенные варианты: либо увеличить площадь земельных наделов чеченских селений, вернув им отторгнутые ранее ■ пользу государственной казны, казачества и офицерства земли, либо создать условия для миграции в Грозный и другие города разоряющихся чеченских крестьян. В идеале, следовало бы сделать и то и другое, однако жесткие рамки государственной политики в отношении «туземце»* не позволяли предпринять что-либо существенное для облегчения кх положения.
«Абрамовская» комиссия. В начале XX в. кавказские и терские власти пошли даже на создание нескольких комиссий, с целью исследовать положение горских крестьян. С наибольшей помпой было обставлено начало работы «Комиссии по землеустройству нагорной полосы Терской области и карачаевского народа Кубанской области». Be главе этой комиссии встал высокопоставленный чиновник кавказской администрации Яков Абрамов. На протяжении почти трех лет комиссия изучала состояние земельных отношений в горских округах. Собрав огромный фактический материал о буквально бедственном положении горцев, комиссия тем не менее так и не смогла в своих выводах указать на действенные способы по снятию остроты аграрного кризиса1.
1 См. изданные сведения: Материалы Абрамовской комиссии. — Владикавказ, 190С
— 436 —
Обострение социальной напряженности в горском обществе. Предпосылки революции
Яков Абрамов и его коллеги даже не пытались предложить провести аерераспределение земельного фонда Терской области, наделив горцев дополнительно землей. Не обсуждался и вопрос о снятии жестких административных барьеров на пути свободной миграции горцев. Предложения «абрамовской комиссии» оказались направленными в жрямо противоположную сторону: указав, что существующий в горских округах порядок землепользования крайне запутан, комиссия •редложила официально объявить казенными все земли, которыми зладели горные селения, а затем уже производить перераспределение кили по решению администрации. Принятие этого предложения сразу ж переводило горцев на положение государственных крестьян образ- si правления императора Николая I (которые, кстати, уже получили "эсюоду и землю в ходе реформ 1861 г.).
Кроме того, «абрамовская комиссия» рекомендовала в ближайшее «емя провести полное размежевание земель во всех горских округах, выработать эффективный порядок разрешения многочисленных здесь земельных споров, в том числе между разными сельскими обществами, а также между обществами и частными землевладельцами.
Между тем, размежевание земель в горских округах шло чрезвычайно низкими темпами, даже несмотря на то, что это наносило прямой •шерб государственной казне. Так, к началу XX в. межевые работы были завершены только во Владикавказском округе и Сунженском гезеле. В то же время жители соседнего Грозненского округа, где эти работы не были завершены, продолжали бесплатно получить материалы из казенных лесов, а также использовали казенные лесные дачи ш выпаса скота. Местное начальство докладывало по этому поводу: «—во избежание осложнений... и возбуждения справедливого ропота заселения... представляется необходимым, впредь до поземельного устройства этого населения, оставить искони существующий порядок ■якъзования земельными и лесными угодьями...»1
Политика официальных властей в отношении чеченского крес- жмнства. Несмотря на значительные изменения, которые претерпела в начале XX в. Российская империя, суть политики ее военно-феодаль- яой верхушки, в отношении горцев, осталась неизменно репрессив- sdL Действия администрации Терской области направлены, прежде зсего, на закрепление привилегированного положения дворянства, Гфского казачьего войска и дальнейшее развитие русской колониза- шв1. «Водворение» русского населения в непосредственном соседстве : горцами считалось лучшим способом превратить завоеванный дай в типичную российскую губернию. Ради достижения этой цели правительство было готово нести существенные издержки, связанна? с необходимостью постоянно содержать в Чечне значительные
РГВНА. Ф. 1300. Оп. 4. Д. 1428. Л. 1,44, 123.
Глава X. Наш край в первой русской буржуазно-демократической революции 1905—1 93. ~
вооруженные силы. Инкорпорация Чечни и чеченского населения » Российскую империю тем не менее шла, но только в силу действ»* объективных законов экономического бытия, вопреки воле и желанжш военно-дворянского сословия.
И в начале XX в., несмотря на то что прошло почти полвека послг завершения Кавказской войны и свыше 20 лет после подавления восстания 1877 г., — управление Чечней осуществлялось мерами, характерными для состояния военного положения. Реально здесь не тояыво сохранялся военно-оккупационный режим, но и постоянно усиливались ограничительные меры. Действия кавказской администрации говорят о полной убежденности в неизбежности очередного чеченского восстания и необходимости усиленной подготовки к его подавлению. Впрочем, з собственной непопулярности представители местной администрации ас сомневались: об этом говорил поток жалоб в ее адрес, а также непр*- кращающиеся случаи неповиновения властям и такое распространенно* явление как абречество1.
В силу указанных причин лозунги первой русской буржуазно-а*- мократической революции 1905—1907 гг., а затем последующих революций в России (февраль и октябрь 1917 г.) нашли в Чечне благодатную почву.
Оппозиция духовенства. Рядовое духовенство Чечни и большая часть шейхов суфийских тарикатов объективно выражали настроение широких слоев крестьянства. Необходимо отметить, что и в начале XX i. сохраняется известная оппозиционность значительной части чеченской национальной верхушки (прежде всего, представителей духовенства) к российской власти, хотя она уже и не носит столь явного выраженного неприемлемого характера, как прежде. Можно также с уверенность» говорить о постепенном преодолении последствий раскола среди чеченской верхушки, имевшего место почти на всем протяжении XIX ж В начале нового столетия чеченская национальная элита заметно консолидируется: шейхи обоих тарикатов сближаются не только межхт собой, но и с представителями предпринимательской верхушки, * также с вполне сформировавшимся сословием чеченского офицерства. Сближение происходит не только посредством установления деловых контактов и связей (что само по себе уже говорит о наличии общих экономических и политических интересов), но и путем установлен** прямых родственных связей.
Тяжелое экономическое положение и почти полное политическое бесправие чеченского крестьянства в сочетании с неудовлетворенными политическими амбициями части религиозных деятелей создавая* не только благоприятную почву для деятельности тех же абреков, г-ж
1 См., например: Гриценко Н. П. Экономическое развитие Чечено-Ингушетии в ос- реформенный период (1861—1900 гг.). — Грозный, 1963. — С. 182.
— 438 —
Обострение социальной напряженности в горском обществе. Предпосылки революции
ао большому счету служили обострению постоянной напряженности в Чечне. Такая тесная связь между духовенством и крестьянством не случайна. Эти две страты чеченского общества напрямую связаны меж- XV собой, в отличие от предпринимательской и чиновничьей верхушки, чьи экономические интересы в значительной степени не совпадают с интересами простых крестьян.
Ожидание восстания. Постоянное брожение в среде чеченского крестьянства, наряду с одержимостью кавказской администрации и эоенных чинов, сложным психологическим комплексом захватчиков служило причиной того, что Терская область все время жила ожида- жием нового восстания, подобного тому, что потрясло всю Терскую область в 1877 г. Ставшее почти маниакальным стремление чинов Терской области, заблаговременно выявить готовящееся восстание, иногда приводило к тому, что отдельные авантюристы даже пытались извлечь этого материальную выгоду для себя. Так, осенью 1898 г. начальник Грозненского округа обратил внимание на некоего Шамхана Магомаева, жителя селения Дуба-Юрт, который вызвал заметное волнение в Шали фантастическими заявлениями, что под самой большой шалинской мечетью скрывается живая свинья, а также русский барабан и зурна(!). Вызванный для объяснений в Грозный Шамхан неожиданно заявил, ято ему известно о подготовке вооруженного восстания в Чечне. По его сюваАм, подготовка восстания вступила уже в завершающую стадию. В частности, тайно избраны два имама, подготовлены значки для отдельных отрядов, а в ближайшие одну-две недели ожидается прибытие крупной партии оружия и боеприпасов.
Расследование быстро установило, что Ш. Магомаев к политической деятельности не причастен, а «...донос этот сделан Шамханом из хжчных корыстных побуждений...». Тем не менее, он был отнесен к решу таких «мошенников», которые «...чрезвычайно вредно действуют к умы чеченцев и могут подвигнуть их на всевозможные безумные аредприятия до восстания включительно»1.
Борьба с растущим недовольством. Опасения Терского начальства, что даже мелкие авантюристы могут при определенных условиях провоцировать крупные беспорядки в Чечне, целиком основывались as том, что власти не могли не видеть растущего недовольства чеченки* о крестьянства. Тревогу усиливало и быстрое накопление чеченцами современного огнестрельного оружия; начальник Терской области «ых вынужден особо распорядиться о предпринятии дополнительных земствий по пресечению нелегального поступления оружия в горские жрута. Однако меры, предпринимаемые властями, практически не
т никакого результата. Более того, многие высланные из области чэиш бегут из ссылки и, самовольно вернувшись в родные места,
?П»1А. Ф. 1300. Оп. 4. Д. 1432. Л. 2,2 об., 4, 54, 55, 66.
Глава X. Наш край в первой русской буржуазно-демократической революции 1905—1907 гг.
переходят на нелегальное положение с оружием в руках. В начале XX в. количество современных винтовок и револьверов на руках у горцев возросло настолько, что власти начали привлекать воинские команды и казачьи подразделения к проведению массовых обысков в горских аулах с целью изъятия оружия и «задержания беглых»1.
Повальные обыски в горских селениях, как правило, сопровождались грабежами и другими незаконными действиями солдат и казаков, что всячески поощрялось терским начальством, которое постоянно искало предлог для применения более жестких мер в отношении горцев. Например, в ноябре 1902 г., во время обысков, устроенных казакам* на базаре селения Шаами-Юрт, возникли массовые беспорядки. Прибывший по тревоге, с группой вооруженных казаков, атаман станицы Самашкинской Гриднев запретил казакам применять огнестрельное оружие и, благодаря этому, столкновение завершилось без кровопролития. Недовольный непролитием крови, начальник Терской области отстранил Гриднева от должности атамана, а участвовавшим в беспорядках казакам выразил за их «пассивность» недовольство2.
Произвол администрации. Растущее недовольство чеченцев вызывали ставшие повсеместными произвол чиновников, незаконные поборы и взяточничество. Эти явления были в принципе неизбежны, так как чиновничий аппарат Терской области был совершенно бесконтролен не только для горского населения, но и для российского общества в целом. В Терской области отсутствовали полноценные представительские учреждения и даже земские учреждения, уже давно существовавшие в центральных губерниях России. Не только начальники горских округов и отдельных участков, но даже сельские старшины назначались, а не избирались. Аналогично старшины подбирали себе помощников и писарей. Таким образом, даже самый мелкий терский чиновник оказывался вне критики и контроля со стороны общественности. В этих условиях коррупция государственного аппарата не могла не принять пугающих размеров. Начальник Жандармского управления Терской области высказывал в этой связи сожаление «...о крайней политической невоспитанности стоящей во главе области представительной власти и крайне низком уровне ее исполнительных органов...»3.
Еще более обострил ситуацию тяжелый экономический кризис, разразившийся в начале XX в., а также общий подъем революционного
1 Мартиросиан Г. К. Терская область в революции 1905 года. — Владикавказ, 1929. — С. 34, 36.
2 Хасбулатов А. И. Канун первой российской революции 1905—1907 гг. и классовая борьба в Чечено-Ингушетии // Прогрессивное влияние России на социально-экономическое и политическое развитие народов Чечено-Ингушетии (XVIII — начало XX вв.). — Грозный, 1989. — С. 18.
3 Бушуев С. К. Революционное движение в Чечено-Ингушетии в 1905—1907 гг.. Исследование и материалы. — Грозный, 1941. — С. 50.
— 440 —
Обострение социальной напряженности в горском обществе. Предпосылки революции
движения в России. Российская печать в этой связи констатирует, что на Северном Кавказе «...нарастает для спокойствия края не меньшая опасность, чем та, которая некогда была на Линии», подразумевая под этим Кавказскую войну1.
Начало рабочего и социал-демократического движения в Чечне.
В отличие от предыдущих лет, угроза «общественному спокойствию» в Терской области исходит теперь не только от безземельных горцев, но и от зарождающегося рабочего движения. Положение промышленных рабочих на предприятиях того же Грозного было крайне тяжелым. Рабочий день длился обычно 12—15 часов, а заработной платы едва хватало на удовлетворение основных жизненных потребностей. Помимо низких заработков, рабочие жаловались на введенную хозяевами систему штрафных поборов за любую провинность, тяжелые условия жизни, полное отсутствие социальной защищенности и равнодушие хозяев к itx проблемам.
Жестокая эксплуатация рабочих сопровождалась полным отсутствием у них гражданских прав и политических свобод. Создание не только политических партий, но даже профессиональных союзов или рабочих общественных организаций было запрещено, так же как проведение митингов или манифестаций, издание рабочей газеты и т. д. Рабочие зе могли принимать участие даже в выборах Грозненской городской зумы. Избирательным правом в Грозном обладали только те из горожан, кто: владел недвижимостью на сумму не менее 300 рублей, с которой выплачивались налоги в городскую казну; купцы 1-й и 2-й гильдии, содержащие в Грозном торгово-промышленные предприятия не менее одного года; представители акционерных общества, компаний и трестов. Голосовать при этом могли лишь мужчины, достигшие 25-летнего аозраста, а женщины не голосовали вообще. Ограничено было участие в выборах и лиц нехристианского вероисповедания. Грозненские мусульмане и иудеи сообща могли составлять не более 15% общего числа избирателей. Результатом введения высокого имущественного ценза я других ограничений стало то, что из 23 тысяч рядовых горожан в 1904 г. только 558 были внесены в списки избирателей. И в последующие годы, несмотря на быстрый рост населения Грозного, количество жюирателей почти не увеличивалось2.
Тяжелейший экономический кризис 1900—1903 гг. в России хотя я не затормозил развитие нефтяной промышленности, все же сильно парил по другим отраслям. В Терской области обанкротились десятки шелких предприятий, занимавшихся переработкой местного сырья, серьезные трудности переживали и другие предприятия, сократилось
Величко В. Л. Русское дело и междуплеменной вопрос. Т. 1. — СПб., 1904. — С. 188.
- Казаков А. И. Страницы истории Грозного: Краеведческие этюды. — Грозный,
1989. - С. 19—20.
Глава X. Наш край в первой русской буржуазно-демократической революции 1905—' 91' ~
число рабочих мест. Это еще более ухудшило положение основной маса рабочих и способствовало появлению первых рабочих кружков в Грешном. Первыми агитаторами и организаторами из среды самих рамяв были: кузнец А. Нотченко, слесарь И. Коренчук, кочегар И. Куяямв помощник кочегара С. Соляников и др.1
Организационное становление рабочего движения в Грозном ши*- исходило под значительным воздействием социал-демократич-еспп организаций из других промышленных центров, прежде всего Бажж Именно из Баку поступала основная часть нелегальной литерату» в том числе и издававшаяся за границей газета «Искра» — оргяа Центрального Комитета Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП). Главным редактором «Искры» в то время являла
В. И. Ленин. Из Баку же приезжали агитаторы, выступавшие на сот раниях грозненских рабочих2.
Деятельность социал-демократической организации. Появяешк
социал-демократических кружков в Грозном очень быстро отразила на состоянии рабочего движения: в 1903 г. проходит первая маевка, л во второй половине этого же года организационно оформились сти- ропромысловская и городская социал-демократические организации. В конце 1903 г. в Грозный из Баку, по заданию одновременно Кавказ^ ского и Бакинского комитетов РСДРП, приехали И. Т. Филатов — оои из видных российских революционеров и А. С. Фельдман — чае петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класс**. Одним из результатов их деятельности стало объединение социая-ж- мократических организаций Грозного в единую «Грозненскую гругш» РСДРП». Спустя еще один год — в конце 1904 г. — социал-демократ» ческие организации Терской и Дагестанской областей объединили» в Терско-Дагестанский комитет РСДРП. К этому времени социал- демократические организации активно проявили себя не только i Грозном, но и во Владикавказе, Кавказских Минеральных Волах. Кизляре, Порт-Петровске и Темир-Хан-Шуре.
Несмотря на то что среди российской социал-демократии уже произошло разделение на два крыла: радикально настроенных большев- ков — сторонников В. И. Ленина, и умеренных меньшевиков, — формально они продолжали входить в состав единой партии. В этой связи необходимо отметить, что почти во всех социал-демократических организациях Терско-Дагестанского комитета преобладали представители интеллигенции и студенчества. Лишь грозненская организация состояла преимущественно из рабочих. Примерно в это же время происходит появление в Грозном представителей других революционных партий, в частности, социалистов-революционеров (эсеров).
1 Город Грозный: Популярные очерки истории. — Грозный, 1984. — С. 55.
2 Революция 1905,6 и 7 годов в Грозном. — Грозный, 1925. — С. 4.
— 442 —
Обострение социальной напряженности в горском обществе. Предпосылки революции
Благодаря активной работе революционеров и под непосредственным влиянием стачки бакинских рабочих (в декабре 1904 г.), в Грозном в январе-феврале 1905 г. прошла всеобщая забастовка под руководством И. И. Фиолетова. Требования, выдвинутые рабочими и частично удов- Ӏгтворенные хозяевами, носили чисто экономический характер1.
С момента своего возникновения социал-демократия Терской обмети обращала особое внимание на привлечение к своей деятельности рабочих из числа горцев, стремясь таким образом, оказывать влияние яа горское крестьянство. Большинство российских революционеров рассматривало беднейшее крестьянство как естественного союзника тролетариата. Эти попытки (впрочем, малоуспешные) не ускользнули от внимания местных жандармов. В своем отчете за 1903 г. начальник 1£андармского управления Терской области докладывал: «Во всех этих з:эеменах пока еще нет основания подозревать какого-либо серьезного асяитического настроения, хотя, в то же время, нельзя сомневаться, попытки вмешательства в жизнь края различных революционных организаций не миновали и Терской области»2.
Выступления чеченских военнослужащих. Начало первой русской революции 1905—1907 гг. было ускорено неудачной для России войной с Японией. Как со стороны России, так и со стороны Японии эта война ■осила несправедливый, захватнический характер — обе эти державы стремились расширить собственную зону влияния в Китае, ставшем объектом колониальной экспансии сильнейших государств мира.
В связи с началом военных действий на Дальнем Востоке значитель- ш часть кадровых офицеров из числа чеченцев оказалась в составе ■ввствующей армии. Практически все они прекрасно зарекомендовали себя. Например, артиллерийский офицер полковник Эрисхан Алиев mtcrpo выдвинулся на командные должности в русской Маньчжурской каски и вскоре стал генералом. Прапорщик добровольческой Чеченской сотни Мухарбий Берсанов за мужество, проявленное в боях, был награжден Георгиевским крестом 4-й степени и произведен в следующий «•филерский чин3.
Начиная с Крымской войны, чеченские добровольцы принимали т^астие практически во всех крупных внешних военных конфликтах ^хсии. В отличие от прежней практики, когда в Чечне комплектовались конно-иррегулярные полки, на этот раз была сформирована тадько одна чеченская конная сотня. И это, несмотря на то, что добровольцы должны были получать довольно значительное денежное
Э^хсман А. А. Записки краеведа. — Грозный, 1984. — С. 20.
Бушуев С. К. Революционное движение в Чечено-Ингушетии в 1905—1907 гг.: •кследование и материалы. — Грозный, 1941. — С.50.
<ГЧпа*шко О. Кавказская конная дивизия: Вот некоторые эпизоды боевого пути ди- // Вайнах. — 2002. — № 4. — С. 29.
Глава X. Наш край в первой русской буржуазно-демократической революции 1905—• 33 ~
вознаграждение — 240 рублей в год. Всего из горцев были созданы ш полка: Дагестанский и Терско-Кубанский, вошедшие в состав отдельш* Кавказской кавалерийской бригады. Впоследствии бригада была развернута в сводную Кавказскую дивизию, включавшую также два казачып полка из Терской области и Терскую артиллерийскую батарею1.
Большинство революционных партий России стремились испольэ© вать трудности, вызванные войной, для того чтобы ускорить револкнш- онный взрыв. Поэтому социал-демократические организации Терем* области пытались как-то противодействовать формированию горски добровольческих частей. В одной из распространяемых ими листовв* содержался призыв к горцам отказаться от добровольного участия i русско-японской войне2.
Впрочем, то, что на этот раз власти не смогли набрать в Терем* области большого количества добровольцев, ни в коей мере неяьа» рассматривать как результат успешной агитации революционная; партий. Скорее всего, это можно объяснить растущим напряжен «в в горских округах, а также непопулярностью русско-японской вонзи. Из Маньчжурии приходили известия о неудачах русской армии и тяжелых потерях. Например, чеченское подразделение потеряло в боя до половины своего состава.
13 октября 1904 г. больше ста кабардинских и чеченских всадников i Манчжурии отказались выполнить приказы командования и потребовали уволить их с военной службы. Выступление горцев командование объясняло «...тягостью службы в действующей армии и неполучением ожидавшихся от нее выгод...». Военно-полевой суд 1-й Маньчжурски* армии приговорил 46 участников выступления к длительным срокам каторжных работ, а один из кабардинских всадников был расстрелян. Еще одному всаднику — чеченцу Паше Тасмахилову смертная казнь была заменена 10 годами каторжных работ. Причем, по распоряжению командующего русской армией генерал-адъютанта Куропаткина о помиловании было объявлено после того, как были завершены все приготовления к осуществлению смертной казни. Весь Терско-Кубанский полк вскоре после этих беспорядков был возвращен на Кавказ и распущен3.
1 Эсадзе Б. С. Памятка Гребенца. Очерк многовековой и доблестной службы Престоят и Отечеству 1-го Кизляро-Гребенского генерала Ермолова полка Терского казачьего войска и участия 5-й сотни полка в юбилейных торжествах 300-летнего царствования Дома Романовых в г. Костроме. — М., 1913. — С. 96.
2 Бушуев С. К. Революционное движение в Чечено-Ингушетии в 1905—1907 гг_ Исследование и материалы. — Грозный, 1941. — С. 68—70.
3 См.:МамакаевМ.ВместеуПлечомкплечу//Трозненскийрабочий.—1973.— 12июня.— С. 2; Сб, статей по истории Кабарды и Балкарии. Вып. 7. — Нальчик, 1959. — С. 96: Чимшп-Доржиев Ш. Б. Документы о восстании кабардинских и чеченских конников во время русско-японской войны (1904 год) // Известия Мечено-Ингушского научно-исследовательского института истории, языка и литературы. Т. 3. Вып. 1. — Грозный, 1963. — С. 114.
Революционные события в Чечне
Первые волнения в Чечне. Рост революционного движения а. России и начавшаяся русско-японская война воспринимались горца- 101 как признаки ослабления российской власти. Уже в начале 1904 г. шчались волнения в Горной Чечне, где сразу 13 сельских обществ «казались платить налоги и другие платежи, перестали подчиняться дазначенным старшинам, а также начали самовольно распоряжаться землями и лесными участками, принадлежавшими казне. Опасаясь, что применение вооруженной силы против взбунтовавшихся селений шоисет вызвать волнения в других районах Чечни, власти предложили жрестьянам самим избрать себе старшин, которые затем должны были збсстановить прежний порядок. Однако это предложение само по себе =е могло уже разрядить обстановку — население упорно отказывалось златить налоги.
§ 2. Революционные события в Чечне
Начало революции. Забастовка грозненских рабочих. В воскресни день 9 (22) января 1905 г. в Санкт-Петербурге введенные в город жӀМСка расстреляли мирное шествие рабочих, собиравшихся передать российскому императору в Зимнем дворце петицию с изложением шжх требований. «Кровавое воскресенье», в ходе которого погибли я получили ранение тысячи манифестантов, стало началом первой русской революции. По России прошла волна политических забастовок и демонстраций, которая в конце января докатилась до Грозного. 27 января 1905 г. началась забастовка на промыслах фирмы «Ахвердов к Кс». Уже 31 января стачка полностью охватила грозненские нефтяные громыслы, а затем к ней примкнули рабочие городских предприятий и Владикавказской железной дороги. Общее число бастующих достигло Ю тысяч человек.
Несмотря на то что во главе стачки стоял сторонник большевиков И. Т. Фиолетов, преобладающим влиянием в Терско-Дагестанском ко- юггете РСДРП пользовались меньшевики. Так, Терско-Дагестанский шмитет РСДРП выступил против предложения лидера большевиков И И. Ленина провести в апреле 1905 г. 3-й съезд партии. Влияние меньшевиков отразилось и на том, что в отличие от многих других промышленных центров России, грозненские рабочие во время своей всеобщей забастовки выдвинули только экономические требования: установить 1-часовой рабочий день и ввести на производствах непрерывного цикла трехсменную работу; повысить заработную плату в среднем на 25% и шести надбавки для оплаты квартир или же предоставлять рабочим бесплатное жилье; отменить штрафы и произвольные увольнения и т. д. На период забастовки социал-демократическая организация Грозного
Глава X. Наш край в первой русской буржуазно-демократической революции 1905—1907 -
была дополнительно усилена — из Баку срочно приехало еще шесть партийных функционеров.
На первых порах терским властям удалось подавить забастовку ш Грозном. На нефтяные промыслы были введены войска, а всем участникам забастовки владельцы предприятий пригрозили массовым* увольнениями. 4 февраля 1905 г. рабочие начали возвращаться на ре- боту, а к 7 февраля забастовка прекратилась. Тем не менее, обстановка в Терской области оставалась напряженной, главным образом из-з* глухого брожения в горских округах. В конце февраля начальник Терской области направил по всем нижестоящим инстанциям специальна* предписание, в котором говорилось: «Ввиду происходящих беспорядки в г. Баку, забастовки рабочих в Грозном и на грозненских нефтяных промыслах, могущих иметь опьяняющее действие на воображение туземного населения... усилить надзор по всем населенным пунктам настроением населения»1.
Граф И. И. Воронцов-Дашков. В целях восстановления управляемости обширных регионов на Кавказе и предотвращения дальнейшее развития «беспорядков», указом правительствующего Сената быас восстановлено Кавказское наместничество. Назначенный новым наместником Кавказа генерал-адъютант граф И. И. Воронцов-Дашко» имел репутацию «самого либерального из консерваторов», на которых пытался опереться император Николай II. Новый наместник вскоре откровенно признавался: «Система военно-народного управление
Наместник Кавказа — граф И. И. Воронцов-Дашков. Фото (19, 55)
1 Цит. по ст.: Буркин Н. Г. Революция 1905 года в нацобластях Северного Кавказа Революция и горец. — 1931. — № 1—2. — С. 70.
— 446 —
Революционные события в Чечне
оовдававшаяся на Кавказе в период борьбы русских войск с местными торцами, основанная на сосредоточении административной власти на месте в руках отдельных офицеров, под высшим руководством главно- шмандующего Кавказской армии и на предоставлении населению во жутренних своих делах права ведаться по своим адатам, в настоящее аремя совершенно не отвечает ни общим государственным задачам, ни потребностям населения»1.
Одновременно в публичных обращениях И. И. Воронцов-Дашков обещал созвать «совещания» с участием представителей от населения, на которых предстояло разработать меры по прекращению беспорядков, обсудить возможности введения земских учреждений, проведения судебной реформы и, главное, ускорить размежевание земель и разработать проект поземельного устройства. В принципе, предложения кавказского наместника отражали весь спектр требований, выдвигаемых представителями общественности, в том числе передовой горской интеллигенцией.
Позиция горских демократов. В первые годы XX в. завершилось формирование общегорского национального движения, лучшие представители которого (Г. М. Цаголов, X. А. Уруймагов, Т. Шеретлоков, I. Эльдарханов, братья Мутушевы, В.-Г. Джабагиев, М. М. Далгат и др.) требовали уравнять горцев в правах с русским населением, указывали з& необходимость национального возрождения, отстаивали идеи обще- горской солидарности и антиклерикализма. Первая русская революция серьезно повлияла на развитие горского демократического движения, эрндав ему общественно-политический характер. Это отразилось, в «стности, на характере требований, которые выдвигали представители горских народов на организованных властями встречах с прибывшим » Терскую область представителем кавказского наместника генерал- майором Н. И. Михайловым. Представители каждой народности подавали отдельные петиции, которые, тем не менее, содержали целый ряд общих требований: ввести земские учреждения, предоставить горцам храво участвовать в законодательно-представительных учреждениях Кавказа и России, сделать административные должности доступными хз различия национальности и вероисповедания, заменить горские словесные суды судами присяжных, предоставить горцам право сво- хмного передвижения, отменить ряд законоположений, существенно ограничивающих права горцев и т. д.
Реорганизация местного самоуправления. Вопрос о земстве. *Аеры, предпринятые новым наместником, своей главной целью имели сявтъ нарастающую волну всеобщего недовольства. Усиливались и вищейские меры. Так, в феврале 1905 г. из обширного Грозненского
Ӏкеподданнейшая записка по управлению Кавказским краем генерал-адъютанта графа Воронцова-Дашкова // Родина. —2000. — № 1—2. — С. 149.
Глава X. Наш край в первой русской буржуазно-демократической революции 1905
округа, включавшего большую часть Чечни, был вновь выделен Белевский округ, в который вошли горные районы восточной части кре*. По мнению властей, воссоздание Веденского округа должно бы.т привести к усилению полицейского надзора за самой беспокоимой частью Чечни.
Реорганизация сопровождалась частичным удовлетворением не»- торых требований, выдвигаемых горцами. В частности, в мае 1905 i от имени кавказского наместника было объявлено, что отныне население само будет избирать сельских старшин. Старшины избирал юз открытым голосованием на сельских сходах сроком на три года, npjp» содержание старшин и аппарата управления возлагалось на обшив* Однако, избранный сельским сходом старшина подлежал утвержден» в своей должности начальником области, который мог отвергнуть ere кандидатуру и предложить жителям провести перевыборы. Подошв старшин, общества избирали и сельских писарей, однако и в этом cxw чае выбор жителей подлежал обязательному утверждению начальник» округа. Таким образом, терская администрация могла гарантировавж не допустить появления в должности сельских старшин и их помощников неугодных лиц.
Одновременно власти объявили о существенном сокращении фу» ций сельского схода. Все селения, имевшие свыше 30 самостоятельны» хозяйств, обязаны были на сельских сходах избрать особых депущ тов — выборных, к которым перешло теперь решение значительв» части вопросов, ранее входившие в компетенцию сельского схода .
От имени наместника Кавказа горцам были даны и другие «обещания: открыть в Хасав-Юрте горскую сельскохозяйственную шкал* Грозненскую горскую школу преобразовать в учительскую семинаре: обсудить возможность открытия школы в Ведено, а также соз&гг» духовное управление мусульман Терской области, которое будет за делено правом назначать сельских мулл. Но самое главное — в самое короткое время начать работы по земельному обустройству жителе* горных селений.
Впрочем, претворение в жизнь всех объявленных преобразования, с самого начала затягивалось, что объяснялось противодействием с* стороны казачьих кругов и самой местной администрации. Поэтомт объявленная с большой помпой разработка проекта по введен» земских учреждений затянулась на многие годы. Власти намере»- лись ввести отдельные земства для казачьего и прочего населен»» Камнем преткновения стал вопрос о введении всеобщего избирательного права и ряд других требований демократического характера, выдвигаемые представителями горцев и иногороднего населения Поэтому первые два проекта были отвергнуты властями, а трети* 11 ЦГА РСО-Алания. Ф. 11. Оп. 9. Д. 207. Л. 1—1 об.
— 448 —
Революционные события в Чечне
эроект, разработанный в 1910 г., так и не поступил для обсуждения ж Государственную Думу1.
Кстати, против введения земства не возражали представители крупнейших промышленных компаний Грозного. Совет Съезда Терских нефтепромышленников, правда, предлагал выделить нефтепромыс- ювый и заводской районы Грозного в отдельную земскую единицу, самостоятельно входящую в областное земство, с предоставлением Съезду Терских нефтепромышленников прав и обязанностей уездных (окружных) земских собраний, а его Совету — уездных (окружных) управлений. Кроме того, Совет предлагал не облагать грозненские нефтепромышленные компании земским сбором, так как по решению съезда они уже и так взяли на себя содержание школ, больниц и производили другие выплаты на общественные нужды2.
Забастовки лета 1905 г. Раскол терских социал-демократов. Неготовность властей быстро и в широкой мере пойти на демократизацию общественной жизни, провести в жизнь давно назревшие социально- экономические преобразования и удовлетворить справедливые требования горских народов способствовали росту напряженности в Терской области. Первого мая 1905 г., несмотря на противодействие полицейских властей, рабочие нефтепромыслов провели массовую маевку. Власти ответили арестом ряда рабочих руководителей, в частности И. Фиолетова,
С. Бирюкова, П. Луговкина, К. Нетребенко и К. Дьякова. В ходе обысков было изъято большое количество нелегальной литературы и листовок, изготовление которых было налажено в Грозном. Тем не менее, это не предотвратило массовых забастовок, произошедших в мае и июле 1905 г. Требования рабочих в обоих случаях вновь носили экономический характер, а их действия в значительной мере были дезорганизованы противоречиями внутри социал-демократической партии. Жесткие действия властей, направивших на нефтепромыслы войска и казаков, и массовые увольнения, к которым прибегли владельцы предприятий, привели к тому, что забастовки довольно быстро прекратилась.
Неудачные забастовки ускорили раскол в рядах терских социал-демократов: грозненская организация РСДРП, находившаяся под влиянием большевиков, объявила о выходе из состава Терско-Дагестанского комитета, где большинство принадлежало умеренным меньшевикам. Ӏлдеры умеренного крыла российской социал-демократии стремились 1 организации диалога между рабочими и работодателями, в том числе * при посредничестве органов власти, с целью постепенного улучшения
Vrvvxoeea 3. Д. Влияние первой русской революции на общественно-полити- ^схую жизнь народов Терека // Прогрессивное влияние России на социально- =5£еомическое и политическое развитие народов Чечено-Ингушетии. Сб. ста- — Грозный, 1989. — С. 60.
ГА?Ф. Ф. P-6870. On. 1. Д. 78. Л. 2.
Глава X. Наш край в первой русской буржуазно-демократической революции 1905—190" —
положения рабочего класса. В отличие от них лидеры большевивов пытались использовать растущее недовольство широких слоев ядл ускорения революционного взрыва. Поэтому большевики отвергав компромиссы, которые могли привести к ослаблению социальной напряженности и падению их влияния. Так, в сентябре 1905 г. большевистски* Кавказский Союз РСДРП высказался против участия представителе* рабочих в работе местных съездов нефтепромышленников, так клл «.. .единственный путь улучшения положения... пролетариата России, мы видим не в переговорах в той или другой правительственной »- миссии, а исключительно в победоносной революции, которая свершгг самодержавный порядок и создаст демократическую республику*1.
Крестьянские волнения. С весны 1905 г. учащаются случаи неповиновения властям со стороны жителей чеченских селений. Объявленные властями выборы сельских старшин были использованы во многих случаях для полного изгнания старшин, а также роспуска сельсюн управ. Наиболее страдающие от малоземелья селения начинают в явочном порядке захватывать казенные участки. Так, крестьяне селене Хакмадой и Шатой захватив казенный участок, не только превратив его в общественное пастбище, но и выставили для его охраны вооруженные караулы.
Попытки разоружать селения, направляя в них воинские комашии и казаков для проведения обысков и изъятия оружия, приводили к ожесточенным стычкам и усиливали раздражение чеченцев, которые не оставляли попыток дополнительно вооружаться. Так, летом 1905 г властям становится известно о готовящемся нападении на склады Воздвиженской крепости, для усиления охраны которой были направлены дополнительные войска2.
Поскольку управление Чечней со времени прекращения Кавказски* войны осуществлялось военными методами, власти довольно долго ве прибегали к формальному объявлению здесь чрезвычайного положение Права, которыми был наделен начальник Терской области и начальники отдельных округов, и так позволяли им подвергать превентивному аресту и высылать во внутренние губернии лиц, заподозренных в «нарушении общественного порядка». Кроме того, широко практиковалось направление в чеченские селения воинских подразделений, содержание которых тяжелым бременем ложилось на местных жителей.
Волнения в Чечне усиливали античеченские настроения среди верхушки казачества, которая опасалась, что придется уступить часть земель малоземельным горцам. Направляемые в чеченские селения экзекуционные казачьи отряды время от времени встречают вооруженный отпор.
1 ГАРФ. Ф. P-6870. On. 1. Д. 47. Л. 1.
2 Хасбулатов А. И. Борьба трудящихся Чечено-Ингушетии в период революции 1905—1907 гг. — Грозный, 1966. — С. 48—49.
— 450 —
Революционные события в Чечне
■а. кроме того, сами казаки все чаще становятся объектом «разбойных» нападений. В этих условиях начавшийся осенью 1905 г. массовый призыв запасных казаков на действительную службу, осуществлявшийся по же- жезной дороге, обернулся стычками призванных на службу резервистов с горцами, например, на станциях Беслан и Серноводск.
10 октября большая группа вооруженных запасных устроила чеченский погром на рынке Грозного. Попытка чеченцев оказать сопротив- жение озверевшим от водки и ненависти преступным элементам была аодавлена вышедшими из казарм солдатами Ширванского полка во главе с полковником Поповым. Каратели применили оружие «.. .расстреливая прятавшихся чеченцев, разыскивая их по чердакам и подвалам, з то время как запасные и хулиганы громили и грабили на глазах у зачальства магазины». Всего в ходе беспорядков пострадало 27 чеченцев, ■з которых 17 были убиты. Возмущенные погромом жители расположенных рядом с Грозным селений уже на следующий день — 16 октября совершили вооруженное нападение на станицу Ермоловскую. Известно также, что отряд абрека Зелимхана Гушмазукаева вскоре после этого кровавого погрома в отместку расстрелял 17 российских офицеров и виновников, захваченных в одном из пассажирских поездов около станции Кади-Юрт1. Все это отрезвляюще подействовало на преступников зсех мастей. Чеченские погромы прекратились.
Манифест 17 октября 1905 г. Начавшаяся 7 октября 1905 г. на Мос- швско-Казанской железной дороге забастовка уже в середине месяца переросла в первую Всероссийскую политическую стачку, в которой приняли участие и грозненские железнодорожники. К этому времени чрезвычайное положение или состояние «чрезвычайной охраны» «шло введено в 36 российских губерниях и областях. Столкнувшись с нехваткой войск, привлекаемых к борьбе с внутренними беспорядка- ик. власти объявили о призыве на действительную службу запасных Зрвского, Кубанского и Терского казачьих войск. Спешно формируемые :отни из Терской области направлялись не только в промышленные аентры, прежде всего Грозный, но и горские округа, где они должны 5ыли предотвратить открытое вооруженное восстание. Однако все аыяо бесполезно.
Под давлением нарастающей революции в России император Николай II подписал 17 октября 1905 г. манифест, «дарующий» российским яовданным свободу слова, собраний, союзов, совести, а также объявлявший о предстоящих выборах в Государственную думу, которая долж- зг была стать высшим выборным законодательным органом страны.
Сх_: Революция 1905, 6 и 7 годов в Грозном. — Грозный, 1925. — С. 71; Бушуев С. К. Революционное движение в Чечено-Ингушетии в 1905—1907 гг.: Исследование и материалы. — Грозный, 1941. — С. 111—112; Авторханов А. Г. О себе и времени. Мемуары. — М., 2003. — С. 47.
Глава X. Наш край в первой русской буржуазно-демократической революции 1905—1907 ~
Вместе с тем, власть российского монарха по-прежнему оставалась неограниченной и самодержавной.
Сразу же после опубликования манифеста от 17 октября в России началось создание буржуазных партий, крупнейшей из которых стал* партия конституционных демократов. Отделение этой партии возни юю и в Грозном, где в него вошли в основном представители городом* интеллигенции: горные инженеры грозненских предприятий Е. Юшков. А. Коншин, Н. Стрижов и др. Организационно оформился и местный промонархический «Союз русского народа», более известный под названием «Черная сотня». Во главе грозненских «черносотенцев» снял сам городской голова Котров.
Оживилась и деятельность левых революционных партий, чему в немалой степени способствовала объявленная 21 октября 1905 г. амнистия для политических заключенных. По этой амнистии на свобогт вышли, в частности, руководители грозненских большевиков И. Фиоле- тов и А. Фельдман. В целом, однако, в Грозном более всего ощущалось влияние не социал-демократов, а партии социалистов-революционеро» (эсеров).
Введение военного положения в Чечне. Поскольку обнародованяг
манифеста 17 октября 1905 г. не привело к снижению политическая напряженности, власти одновременно предпринимали меры по усилению военно-полицейского контроля. 24 октября военное положен* официально вводится в Грозненском, Веденском и Хасав-Юртовскам округах Терской области, т. е. во всей Чечне. Подавление беспорядка было возложено на генерал-лейтенанта Светлова, которому подчинялись части расквартированной в Терской области 21-й пехотная дивизии. Впрочем, некоторые воинские части сами внушали опасен* властям. Так, солдаты расположенного в Грозном 82-го Дагестанского полка в ноябре 1905 г. предъявили командованию ряд требований: сократить срок службы до двух лет, отменить военные суды, не посылать солдат на подавление забастовок, демобилизовать отслуживших положенный срок (задержанных в частях по случаю «беспорядков* военнослужащих), разрешить солдатские собрания и улучшить условия службы. Хотя большинство этих условий было отвергнуто, командованию все же пришлось начать демобилизацию призванных на службу резервистов.
Пока власти готовились к подавлению возможного восстания ъ Чечне, оно неожиданно вспыхнуло в Осетии, где 21 декабря 1905 г выступили крестьяне селения Алагир. В Терскую область из Дагестана спешно переброшены дополнительные войска, а 23 декабря действие военного положение распространено уже на всю Терскую область. Еше до Алагирского восстания железнодорожники Грозного присоединились к Всероссийской железнодорожной забастовке. Причем на этот раз
Революционные события в Чечне
бастующие были настроены весьма решительно. Например, стачечный комитет распорядился изъять деньги из кассы станции Хасав-Юрт и в амае заработной платы раздать забастовщикам. Получив права временного военного генерал-губернатора, начальник Терской области распорядился повсеместно запретить любые шествия и митинги. Запрещено §ыло также создание новых общественных организаций и обществ, а аойскам предписывалось, в случае беспорядков, без колебаний применять оружие. Ношение холодного и огнестрельного оружия считалось ■реступлением. Последнее запрещение относилось исключительно к горцам и иногородним и не распространялось на казаков. Более того, несмотря на то что все военнообязанные казаки имели на дому огнестрельное оружие, наместник Кавказа распорядился бесплатно раздать казакам Терской области 10 тысяч однозарядных винтовок-берданок и шсллион патронов. Речь шла, по существу, о поголовном вооружении казачьего мужского населения1.
Между тем нарастают революционные события в центральной насти Российской империи. Декабрьское вооруженное восстание в Москве в 1905 г. ознаменовало пик первой русской революции, после эвдавления которого началось планомерное наступление политической реакции. В России вводились военно-полевые суды, деятельность нгторых в Терской области началась 10 января 1906 г. По распоряжению властей, военно-полевым судам предавались «.. .лица, учинившие
Очерки истории Чечено-Ингушской АССР. Т. 2. — Грозный, 1967. — С. 184.
Глава X. Наш край в первой русской буржуазно-демократической революции 1905-
убийство, разбой, грабеж и нападение на часового или военный караул, а также вооруженное сопротивление властям и нападение на чино» войск и полиции и на всех вообще должностных лиц и изобличенные в противозаконном изготовлении, приобретении, хранении, ношеая и сбыте взрывчатых веществ и снарядов». Военно-полевые суды аей- ствовали в России до 19 апреля 1907 г., и за этот период на Кавказе к смертной казни были приговорены 195 человек и еще 47 осуждена на каторгу1.
«Червленские совещания». Поиск выхода. К моменту введения 2 Терской области военного положения, она уже находилась на пороге кровопролитных межнациональных столкновений. Отношения меж** горцами и казаками обострились настолько, что власти оказались вынужденными принимать экстренные меры, чтобы смягчить ситуашм В декабре 1905 — феврале 1906 гг. прошла серия совещаний межм* представителями горских народов и Терского казачьего войска. Xois совещания проводились в разных местах (Владикавказ, станица Чер- вленная), они известны под общим названием «червленские совещания». Поводом для совещаний послужила телеграмма, направленная «ж имени собрания чеченцев в Грозном на имя кавказского наместника, в которой они предупреждали о готовящемся крупномасштабном чеченском погроме2.
Решения «червленских совещаний» наглядно показали, что в чеченском обществе происходит определенное разделение мнений по поводу выхода из сложившейся кризисной ситуации. Значительна* часть социальной верхушки, включая и либерально настроенную чеченскую интеллигенцию, была готова к сотрудничеству с властями ■ казачеством, чтобы не допустить дальнейшего обострения ситуации что неминуемо имело бы для чеченского народа тяжелые последствие Именно поэтому чеченские представители на «червленских совещаниях' согласились на роспуск постоянной горской милиции (на чем особенно настаивали казаки) и замену ее отрядами стражников из казаков. Дм выявления виновных в беспорядках, грабежах и прочих чрезвычайных происшествиях создавались смешанные горско-казачьи суды. Были решено также создать особые кассы для возмещения убытков лицам, пострадавшим в ходе беспорядков. Пополнять эти кассы намечалось за счет штрафов с лиц, признанных виновными, а в случае их материальной несостоятельности — штрафные санкции переходили на сельское общество, к которому принадлежал виновный3.
1 Полянский Н. Н. Эпопея военно-полевых судов. — М., 1934. — С. 34,41.
2 Гриценко Н. П. Классовая и антиколониальная борьба крестьян Чечено-Ингушетии на рубеже XIX—XX вв. — Грозный, 1971. — С. 65.
3 Хасбулатов А. И. Борьба трудящихся Чечено-Ингушетии в период революции 1905—1907 гг. — Грозный, 1966. — С. 82.
— 454 —
Революционные события в Чечне
Изгнание Ханжалова. Но далеко не всех в Чечне устраивали решения, принятые на «червленских совещаниях». Дважды (17 февраля и 15 марта 1906 г.) до трех тысяч крестьян Веденского округа во главе с «почетными стариками» собирались возле селения Устар-Гардой (город Аргун) с требованием немедленной отставки начальника округа аодполковника Ханжалова, проявившего себя трусливым и жестоким человеком. Многочисленность собравшихся, наличие у них большого количества оружия, решительность, с которой они добивались удовлетворения своего требования, и явное сочувствие со стороны основной массы чеченского населения — убедили начальника Терской области генерала Колюбякина не только воздержаться от применения силы, но и удалить из Чечни Ханжалова. Объяснял свое решение генерал тем, что «.. .с чеченцами огнем шутить нельзя».
Сменивший Ханжалова подполковник Добровольский, принадлежавший к отбросам кавказского офицерства, не нашел ничего более умного, как дать команду в Харачое хватать женщин-родственниц абрека Зелимхана. Последний не медля, уже 4 апреля 1906 г., демонстративно застрелил нового начальника Веденского округа1.
Выборы в Государственную думу. Весной 1906 г. власти организовали выборы в I Государственную думу, причем в Терской области горцы, казаки и иногородние голосовали раздельно. Таким образом, юггересы горской части населения области в Государственной думе смог □редставлять один депутат — чеченский просветитель и общественный веятель демократического направления Таштемир Эльдарханов. Казачье сословие области представляли два депутата, хотя по своей численности казаки составляли меньшинство.
Учитывая противоречия между Терским войском и горцами, не могло быть и речи о какой-то консолидированной позиции терских акгутатов. Напротив, трибуна Государственной думы стала местом острых политических дискуссий, во время которых депутат от горцев жаавергал острой критике существующие в Терской области порядки. Так, Т. Эльдарханов в одном из своих выступлений подчеркивал, что парны «.. .очутились в лапах всесильной бюрократии. Управляют нами жженные чины, отбросы армии, которые ничего общего с народом не ■меют, не заинтересованы в судьбах его». При этом, считал депутат, • ..главные причины нежелательных явлений — отсутствие образования, невыносимое экономическое положение — их совершенно не ■ётересует»2. Впрочем, I Государственная дума просуществовала не него — уже 9 июля 1906 г. она была распущена Николаем II.
Очерки истории Чечено-Ингушской АССР. Т. 1. — С. 185.
- Государственная дума. Стенографические отчеты. Сессия первая. Т. 2. — М., 1*06. — С. 1235—1236.
Глава X. Наш край в первой русской буржуазно-демократической революции 1905—190" г-
Рабочие забастовки в Чечне 1906 г. Несмотря на постепенный спад революционного движения по всей России, 1906 год в Чечне оказался менее напряженным, чем предыдущий. Уже в январе 1906 г. бастовав шие рабочие грозненского литейно-механического завода и мастерски добились первого успеха — хозяева предприятий согласились сократить рабочий день до 9,5 часов.
1 мая рабочие Грозного отметили массовыми маевками и демонстрациями, а также началом забастовок на ряде предприятий. Эти событие оказались прелюдией ко всеобщей забастовке, начавшейся 14 икшж 1906 г. со стачки рабочих фирмы «Шпис». Уже 15 июня забастовав стала всеобщей, а забастовочный комитет из 40 человек во главе с
В. В. Ивановым выдвинул требования из 33-х пунктов. Совет съеиг Терских нефтепромышленников объявил о готовности начать переговоры со стачечным комитетом при посредничестве окружного инженера М. Омарова, но при условии, что работа предприятий будет немедлен ш возобновлена. После того, как В. В. Иванов от имени рабочих отказался прекратить забастовку, 16 июня владельцы 13 фирм, охваченные стачкой, объявили о массовом увольнении всех бастующих и наборе новых рабочих.
Осуществить на деле эту угрозу не удалось, так как предприятия находились под контролем забастовщиков, чему в немалой степени способствовала позиция, занятая начальником охраны нефтепромыслов полковником Фидаровым. В жалобе на его действия, поданной от имени Совета съезда Терских нефтепромышленников говорится, что полковник Фи даров «.. .не только не старается умиротворить отношения, а напротив, действует односторонне, разжигая страсти рабочих против промышленников, предлагая администрации произвести давление на последних, что не безызвестно рабочим»1.
Воспользовавшись явным сочувствием к своим требованиям со стороны части представителей местных властей, рабочие усилили давление на предпринимателей. 4 июля В. В. Иванов от имени рабочего митинга требует удовлетворения требований забастовщиков в течение ближайших трех дней, угрожая в противном случае коллективно® отставкой стачечного комитета, после чего вся ответственность за последующие события ляжет непосредственно на предпринимателей. Встревоженный возможной перспективой массовых беспорядков, начальник Терской области генерал Колюбякин распорядился «...принять меры охранения промыслов не входя в переговоры со стачечниками». Одновременно войсковой старшина Скороходов заменил либерального полковника Фидарова на посту начальника охраны грозненских промыслов2.
1 ГАРФ. Ф. P-6870. On. 1. Д. 61. Л. 9.
2 ГАРФ. Ф. P-6870. On. 1. Д. 61. Л. 10.
Революционные события в Чечне
Организованный характер стачки все же убедил предпринимателей, что на этот раз им придется пойти на удовлетворение справедливых требований рабочих. 10 июля начались переговоры со стачечным комитетом, которые завершились 13 июля 1906 г. подписанием совместного протокола. Владельцы предприятий согласились ввести 8-часовой рабочий день, ввести дополнительную оплату за сверхурочные работы и работу в выходные и праздничные дни, улучшить медицинское обслуживание рабочих и т. д.1 Так, именно грозненские рабочие первыми з России добились введения 8-часового рабочего дня.
Рабочие-мусульмане. Необходимо отметить, что немалую часть грозненских нефтерабочих составляли мусульмане, причем не только чеченцы, ингуши и дагестанцы, на также иранцы и татары. Это отразилось как на составе стачечного комитета (в его состав входил ингуш М. Аушев), так и на требованиях, выдвинутых рабочими. В частности, от предпринимателей потребовали уровнять оплату труда рабочих неправославного вероисповедания с православными, допускать рабо- чих-мусульман на все виды работ, предоставить им семь праздничных хней в году, а выходным днем установить пятницу.
Уже после прекращения забастовки продолжались переговоры о новом распорядке рабочего времени, так как делегаты от рабочих требовали выделить время для завтрака, а перед выходным сократить рабочий день на один час. Но 2 августа 1906 г., воспользовавшись прибытием на промыслы «достаточного количества войск», владельцы предприятий объявили о массовых увольнениях. Вновь принимаемые на работу рабочие обязаны были дать расписку о согласии работать по тому распорядку дня, который установили хозяева2.
Подавление крестьянских выступлений. В 1906 г. революционные партии уже имели некоторые связи с населением чеченских округов, причем осуществлялись они через солдат военных гарнизонов, расположенных в Чечне, например, Шатойского. Здесь социал-демократ А- Колдырев, служивший в Шатаевском гарнизоне, проводил агита- аионную работу не только среди солдат но и среди местного населения. В Шатой завозилась революционная литература, а агитаторами заводилась «с чеченцами дружба». Впрочем, надо признать, что на вастроения чеченских крестьян влияли не столько пропагандисты «гт революционных партий, сколько их тяжелое положение и общее сотабление государственных структур. На последнее обстоятельство указывал начальник Веденского округа полковник Галаев. Докладывая, что население вверенного ему округа уже несколько лет не платит жалования старшинам, не выплачивает налоги и не исполняет прочих повинностей, он считал это следствием работы «злонамеренных
См.: Очерки истории Чечено-Ингушской АССР. Т. 1. — С. 186—188. : ГАРФ. Ф. P-6870. On. 1. Д. 61. Л. 13, 17,19.
Глава X. Наш край в первой русской буржуазно-демократической революции 1905-
агитаторов-туземцев», которые сумели убедить жителей «...что власть совершенно обессилена революцией, ...настоящее время самое удобное для снятия с себя недоимок, денежных повинностей и для устранен»! неугодных селению властей, с заменою выборных от себя людьми, хш самоуправления»
Заблуждение горцев о слабости российской власти дороге обошлось им. В конце ноября 1906 г. в Веденский округ выступи отряд правительственных войск, усиленный артиллерией и казакам К середине декабря в большинстве селений уже была восстановят» власть местной администрации, а селения Нижалой, Нохч-Келой, Хат и Макажой, жители которых упорно отказывались подчиняться, былс подвергнуты артиллерийскому обстрелу. Отмечалось, что в результат* карательной экспедиции «.. .большая часть населения Веденского округа охваченная паникой, бежала в горы, где терпит голод и холод». Всят власти арестовали несколько сот человек, большая часть которых бьж осуждена и сослана1 2.
Репрессии обрушились и на равнинные селения. Например, жите» Старых Атагов в трехдневный срок должны были сдать 100 винтовок, две тысячи патронов и 500 кинжалов, выдать укрывавшихся в селе абреков Томаева и Хорсиева, собрать средства на оборудование се»- ского полицейского участка телефонной связью и выделить подвое» для транспортировки конфискованного оружия.
Как бы подводя итоги репрессивным действиям, обрушенным ж горцев, российская печать иронично писала: «Помилуйте, до вооруженного ли восстания терским туземцам, когда они до такой степе» усмирены... что... общественными приговорами выражают военно» генерал-губернатору особые чувства признательности и благодарное!» за введение у них военно-полевых судов...»3
Наступление властей. Даже после подавления первой русской революции и наступления относительного общественного спокойствия в Терской области, призрак возможного восстания горпе» продолжает будоражить умы терского начальства. В январе 1908 г начальник Терской области секретным циркуляром предупредил начальников округов, что среди горцев вновь распространяются слухж «о слабости правительства» и наступлении благоприятного момента для восстания. Циркуляром предписывалось установить секретны*
1 См.: ЦГА РСО-Алания. Ф. 54. Оп. 4. Д. 4118. Л. 46, Очерки истории Чечеве- Ингушской АССР. Т. 1. — С. 190.
2 Бушуев С. К. Революционное движение в Чечено-Ингушетии в 1905—1907 гт. Исследование и материалы. — Грозный, 1941. — С. 145.
3 См.: Бушуев С. К. Революционное движение в Чечено-Ингушетии в 1905—1907 гг Исследование и материалы. — Грозный, 1941. — С. 144; Хасбулатов А. И. Борьб* трудящихся Чечено-Ингушетии в период революции 1905—1907 гг. — Грозный 1966.— С. 116—117.
Революционные события в Чечне
■адзор за деятельностью мусульманского духовенства, «...а равно за «явлением эмиссаров из Турции».
Одновременно от командующего 1-й бригадой 21-й пехотной дивизии, дислоцирующейся в Грозненском и Веденском округах, требовалось э случае «...действительного восстания среди туземцев... действовать с полной энергией, рассеивая банды до полного уничтожения, а равно стирая с лица земли укрывавшие их селения, помятуя, что такой способ ае только будет более действенен, но и более гуманен» К
Власти также сумели подавить массовое рабочее движение в крае и разгромить подпольные революционные организации. Тем не менее, весной 1907 г. на предприятиях Грозного происходили короткие забастовки, а празднование 1 мая вылилось в столкновения с полицией. На улицы Грозного вышло не менее 10 тысяч рабочих. В июле полиция арестовала несколько рабочих, «вредно влияющих на общественное спокойствие». Попытка отбить арестованных привела к столкновению с войсками, в ходе которого погибло 9 и ранено 12 рабочих.
В состав грозненской организации РСДРП, насчитывавшей 554 члена, было внедрено несколько агентов охранки, что позволило жандармам уже осенью 1907 г. разгромить подпольную типографию и произвести многочисленные аресты.
Раскрытие заговора в Ведено. Летом 1907 г. властям удалось предотвратить готовящееся восстание в Веденском гарнизоне. В начале года сюда были переведены два батальона, укомплектованные из моряков Черноморского флота, списанных с кораблей за участие в восстании. Оказавшись в чеченских горах, матросы начали подготовку нового восстания, для чего создали тайный склад оружия, хранившийся у связанного с ними крестьянина-чеченца. Когда подготовка выступления подошла к завершающей стадии, заговор был раскрыт, а участвовавшие в нем солдаты арестованы* 2.
Несмотря на относительную стабилизацию общественно-политической ситуации, все последующие годы положение в Терской области продолжает внушать опасения. Распоряжением военного командования, части Кавказского военного округа, расквартированные в Чечне, были готовы в любое время оказать содействие гражданским властям в подавлении возможных беспорядков.
Наступление реакции. Власти продолжали предпринимать меры по разоружению чеченских селений (официально разрешалось хранить дома только старинные кремневые пистолеты). Казачьи патрули на дорогах отнимали у проезжих горцев даже холодное оружие. С привлечением подразделений регулярных войск в отдельных селениях проводились
3 РГВИА. Ф. 1300. On. 1. Д. 232. Л. 9—10 об.
2 См.: ЦГА РСО-Алания. Ф. 54. Оп. 4. Д. 4118. Л. 46—48; Оп. 15. Д. 2344. Л. 13—14; Очерки истории Чечено-Ингушской АССР. Т. 1. — С. 197.
Глава X. Наш край в первой русской буржуазно-демократической революции 1905—190' —
массовые обыски. Например, в августе 1908 г. подобной экзекушш подверглось селение Цацан-Юрт, жители которого выплатили «контрибуцию» за несданное оружие в размере 7 тысяч рублей1.
Строжайшим образом была запрещена любая пропаганда, подрывающая авторитет правительства и местных властей. Нарушителям грозило тюремное заключение сроком до трех лет или штраф в размере до 3 тысяч рублей.
Особые меры предпринимались по искоренению абречества. Им борьбы с ними широко практиковались коллективные наказания ве только отдельных селений, но и целых аульных участков, создав ал ис i временные отряды «охотников», действия которых подкреплялись регулярными войсками.
Репрессии обрушивались и на революционные партии, и на активистов рабочего движения. Распоряжением терской администрации был закрыт ряд газет либерально-демократического направления. Полиция и жандармерия продолжала мероприятия по розыску и арестт скрывающихся революционеров. Кроме того, широко практиковались административная высылка из Терской области неугодных начальстиг лиц. Для предотвращения возможных массовых забастовок на желейной дороге был даже сформирован специальный состав, оснащении* пулеметами и артиллерией2.
Предпринимаемые властями меры частично оплачивались за счет местных предпринимателей. Так, съезд Терских нефтепромышленнике» выделил средства на содержание полицейской охраны нефтяных промыслов, а расходы Владикавказской железной дороги на эти же пел» возросли со 187 тысяч рублей в 1907 г. до 229 тысяч в 1909 г.3
Эти и другие мероприятия кавказский наместник дополнил и значительными перемещениями должностных лиц в государственном аппарате. Так, был смещен начальник Терской области генерал Колюбякиа место которого занял другой генерал — Михеев. Военное положение на Кавказе (за исключением ряда районов Закавказья) было отменен» 22 июня 1909 г., но в Терской области одновременно вводилось «соста»- ние усиленной охраны». Пользуясь этим, терская администрация издав ряд распоряжений, которые фактически свели на «нет» демократические права и свободы, «дарованные» императорским указом от 17 октябри 1905 г. Без ведома полицейских властей и местной администрации запрещалось проведение любых собраний и сходок, оглашение или опубликование материалов о деятельности правительства, сбор денег.
1 Колосов Л. Я. Чечено-Ингушетия накануне Великого Октября: 1907—1917. — Грозный, 1968. — С. 64.
2 АРО. Ф. 26. Оп. 5. Д. 2523. Л. 155—156.
3 Шигабудинов М. Ш. Рабочее движение на Северном Кавказе в годы реакции (1907—1910). — Махачкала, 1973. — С. 16.
— 460 —
Революционные события в Чечне
Отправка бунтовщиков на каторгу. Россия, 1907 г. Фото (65, 40)
«жертвований или прошений под всевозможными петициями или ■решениями и т. д. Не только содержатели гостиниц, но и частные «■«владельцы обязывались в течение суток оповещать полицию обо Ӏсеж вновь прибывших, а также выявлять подозрительных лиц.
Антиправительственные выступления 1910—1911 гг. Несмотря на ж что революционное подполье в Терской области было значительно •сяаюлено, оно не прекратило своей деятельности. Точно также власти зе смогли добиться полной покорности и от населения горских округе*. В период между первой русской революцией и началом Первой «ровой войны в чеченских селениях неоднократно происходили спЕОШные антиправительственные выступления. Например, осенью ПО г. крестьянские волнения отмечены в Грозненском и Веденском ■■ругах, причем в Веденском округе столкновения с войсками пробежались несколько дней. Часто поводом для беспорядков служили мвытки взыскать с крестьян накопившиеся за много лет недоимки. I частности, когда экзекуционный отряд попытался конфисковать в недоимок крестьянский скот в селении Галанчож, его жители силой жспрепятствовали этому. Причем чеченская конная стража покинула ■есто столкновения сразу же после его начала.
Глава X. Наш край в первой русской буржуазно-демократической революции 1905-
Общий объем недоимок стремительно возрастал из года в год, обрекая подавляющее большинство крестьянских хозяйств на полуголодна существование. Если на 1 января 1909 г. общая сумма недоимок гь: Терской области составляла 204 тысячи рублей, то к 1913 г. она возросла более чем в два раза и составляла 452 тысячи рублей. Причем по Веденскому округу объем задолженности крестьян перед казвом увеличился в 12 раз, а по Грозненскому округу — в 4 раза.
Систематически повторяются попытки захвата казенных земель. Тазе в 1911 г. жители селения Чишки самовольно заняли казенный участок, известный под названием Кардон-Бассо. В следующем году аналогична образом поступили уже жители селения Дачу-Борзой1.
«Столыпинская» аграрная реформа. Значительно ускорив разложение крестьянской общины в центральных губерниях России, реформе практически не затронула Терскую область и Чечню, в частность Уже неоднократно упоминавшаяся Абрамовская комиссия, изучавшая положение крестьянских хозяйств в горной части Терской облает изначально создавалась с целью выработки рекомендаций по введенщж «частной земельной собственности, как основы крестьянского хозяйства», в конечном итоге, ссылаясь на «чрезвычайную запутанность поземельных отношений» в горной Чечни, она предложила попросп объявить государственными все сельскохозяйственные земли и заг» уже приступить к наделению крестьян землей.
Даже антигорски настроенное начальство Терской области не согласило сь в свое время с предложением Абрамовской комиссии, Bf без основания полагая, что попытка отобрать в казну остатки земля ж чеченских крестьян может вызвать всеобщее возмущение. Не утверажт решения комиссии и наместник Кавказа, который настаивал на необхо- димости «...облегчить выход отдельным селениям из состава сельски* обществ, а из селений — их частям и выселкам, выделить отрубвнр участки отдельным домохозяевам или всем членам сельских земельны* обществ, уничтожить чересполосицу, развертывать по отрубам земе*» разного владения одних и тех же хозяев, разделять угодия общего пользования между крестьянами и частными владельцами»2.
Несмотря на мнение Кавказского наместника и на официальную линию царского правительства, администрация Терской области всячески противилась разложению крестьянской общины, наличие которш значительно облегчало административно-полицейский контроль шз горским населением, а также сбор налогов и других податей. Используж различные предлоги, терские власти препятствовали образованию хуторских хозяйств, а построенные явочным порядком чеченские хутор*
1 См.: Колосов Л. Н. Чечено-Ингушетия накануне Великого Октября (1907—1917 ге- ды). — Грозный, 1968.
2 Колосов Л. Н. Указ. соч. — С. 49.
Абречество. Зелимхан Харачоевский
■еоднократно сносились, в том числе и под предлогом «наказания» за укрывательство абреков.
В результате «изучение вопроса об устройстве поземельного быта туземцев Терской области» затянулось вплоть до Октябрьского переворота 1917 г.
$ 3. Абречество. Зелимхан Харачоевский
Оценки абречества. Кавказское абречество традиционно получало самые противоречивые оценки, как правило, в прямой зависимости от эолитических пристрастий самих исследователей. В досоветский период юречество рассматривалось исключительно как явление уголовного характера. Само слово «абрек» употребляется как синоним слова «разбойник», а массовая поддержка абреков населением объяснялась «природной склонностью туземцев Кавказа» к противоправным действиям. Советские историки, особенно раннего советского периода, наоборот, рассматривали абречество как одну из форм классовой борьбы, а потому считали его положительным явлением. Например, Ф. Серов утверждал: -Абречество — явление глубоко общественное, глубоко идейное. Смысл шреческой борьбы был безусловно героическим»1.
Позднее советские историки были вынуждены признавать наличие серьезных криминальных мотивов в действиях абреков. Н. П. Гриценко зытался даже разделить абреков на «плохих» и «хороших», искусственно выделяя «...абречество как протест против произвола царских «нновников, местных старшин и богатеев, имевшее политическую окраску, и абречество с целью воровства и обогащения, вырождавшееся 5 бандитизм»2.
Конечно, абречество нельзя сводить к элементарному бандитизму, эо и формой политической или классовой борьбы назвать его сложно. Сжорее, это — выбор отдельных лиц, которые избирали свой собствен- 5ьш путь вооруженной борьбы. Пожалуй, ближе всех к объяснению причин возникновения абречества и его противоречивого характера аааошел X. Ошаев, считавший «...абречество — явление отчаяния...»3. Действительно, несмотря на распространенность, абречество не представляло собой какое-то организованное движение с четко сформулированными целями и задачами. Его можно рассматривать только как крайнюю форму индивидуального протеста. Нельзя также говорить
О тех, кого называли абреками: Сб. — Грозный, 1927. — С. 125—126.
1 Гриценко Н. Я. Классовая и антиколониальная борьба крестьян Чечено-Ингуше¬
тии на рубеже XIX—XX вв. — Грозный, 1971. — С. 5—6.
Отаев X. Очерк начала революционного движения в Чечне. — Грозный, 1928. — С. 7.
Глава X. Наш край в первой русской буржуазно-демократической революции 1905—i9C~
об исключительно антироссийской направленности действий абреяш. Во-первых, абреки известны задолго до Кавказской войны, во-вторыж. объектом нападений абреков служили и их соотечественники.
Политическая направленность абречества. Конечно, установяешк российской колониальной администрации не могло не отразиться ■ характере абречества. Если раньше абреками становились люди, в сжя* каких-либо причин вступившие в конфликт с обществом и ставшие изгоями, то теперь в рядах абреков преобладают лица, преследуемые российской администрацией.
Арсенал методов, которыми действуют абреки, почти целиком зак» ствован из практики уголовного мира: убийства, вооруженные грабежж захват заложников с целью получения выкупа и т. д. Отличительна* особенность практики абречества в Чечне, заключалась в том, что одет» из объектов нападений служат представители местной администраши. Причем нападения на чиновников в ряде случаев можно рассматривать не как грабеж или даже месть, а попытку повлиять на харагто управления. В районе своего действия абреки пытаются превратить** в некую альтернативу существующей власти, что позволяет говорӀш о присутствии некой политической направленности в их действии* Политическая окраска абречества еще больше усиливается тем обстоятельством, что многие из них состояли в связи с влиятельным общественными деятелями из числа горцев. Например, тот же Зелх» хан Харачоевский, будучи мюридом шейха Баматгири-хаджи Митае» пользовался покровительством не только своего устаза, но и больше! группы шейхов кадырийского тариката, оппозиционно настроеннм по отношению к российской власти.
Зелимхан. Самый известный из чеченских абреков — Зелимхя Гушмазукаев (Харачоевский), по его собственным словам, происи- дил из зажиточной семьи, имевшей крупный и мелкий рогатый скот: лошадей, мельницу и большую пасеку, в которой насчитывалось несколько сот ульев. В 1901 г. Зелимхан уже был семейным человеке» не помышлявшем о судьбе абрека, когда попытка женить младшегг брата — Солтамурада привела к неожиданному конфликту: poj- ственники девушки отдали ее за другого. Стычка между молодым людьми из соперничающих фамилий привела к гибели одного ш родственником Зелимхана. В ответ был убит один человек из враждебной фамилии.
Гибель двух человек послужила поводом для вмешательства местного начальства. Посчитав Гушмазукаевых зачинщиками ссоры, властж арестовали не только самого Зелимхана, но и трех его родственник» включая отца — глубокого старца Гушмазуко.
Зелимхан не стал отбывать срок, назначенный ему судом — бежа* из грозненской тюрьмы, он решил отомстить местному начальнику.
Абречество. Зелимхан Харачоевский
Абрек Зелимхан Харачоевский (16, вклейка)
пестовавшему его самого и его родственников. Тем самым, Зелимхан окончательно закрыл для себя дорогу к мирной жизни.
Крестьянские волнения в Веденском округе. Убийство полковника Галаева. Ситуация, сложившаяся к тому времени в горной части Чечни, как нельзя лучше способствовала деятельности Зелимхана к других абреков. Накануне первой русской революции крестьяне- горцы все чаще отказывались подчиняться местному начальству, не златили налоги и уклонялись от исполнения других повинностей. Назначенный в 1905 г. начальником вновь образованного Веденского округа полковник Галаев констатировал, что население округа по- зросту игнорировало его.
Интересно, что в этот период, когда терские власти просто не ямели возможности эффективно преследовать абреков, Зелимхан сравнительно малоактивен. По крайней мере, он воздерживается от открытых нападений на представителей властей. Не по своей инициативе Зелимхан совершил убийство подполковника Добровольского, чья солдаты посмели распускать руки в его родном селении Харачой, ■ зе он был инициатором массового убийства погромщиками чеченцев з городе Грозном 10 октября 1905 г. Он пресек дальнейшие погромы жестоким способом, устроив ответный «погром» над офицерами и тааовниками в захваченном поезде.
Все изменилось во второй половине 1905 г., когда новый начальник ЗӀеэенского округа полковник Галаев при помощи военных команд, ыжьков и артиллерии начал восстанавливать управление округом.
Глава X. Наш край в первой русской буржуазно-демократической революции 1905—• 90' ~
Вновь водворив в горные селения старшин, власти начали усилен» преследовать укрывавшихся в округе абреков, в том числе и Зелимхана. Помимо самого абрека, объектом для преследования вновь стали етх» ближайшие родственники. Под разными предлогами их подвергал! арестам, бесконечно вызывали к начальству и т. д.
Несколько раз письмами Зелимхан просил Галаева угомониться, обещая в противном случае прострелить ему голову. Так в конаг концов и случилось: с расстояния в несколько сот метров из обычной мосинской винтовки Зелимхан всадил пулю прямо в висок полковника, отдыхавшего в крепостном саду над рекой Хулхилау. Это громе* убийство сделало имя абрека известным на всю Россию.
Для физического уничтожения абреков власти часто нанимала! «секретных охотников», снабжая их деньгами и оружием. Не избеллх этого и Зелимхан, для убийства которого был нанят некий Дада Ху» ров. Интересно, что, узнав об этом, Зелимхан через своих сообщимшв пытался связаться со своим преследователем: «Прошу вас дать мне знать, за что он хочет меня убить. Если ему нужно имущество и мните серебра, я ему дам больше, чем они. Но если ему не нужно имущества, то пусть от меня держит себя подальше. Это лучше всякого богатстве для него в этом мире»1.
Сопротивляясь, Зелимхан сам нападал на своих преследователе*. Уже в 1906 г. Зелимхан считался одним из опаснейших абреков Терем* области, за устранение которого была объявлена награда в 3 тысячи рублей. Жизнь его отца и брата Солтамурада оценивалась в 500 рубле* за каждого.
Покровительство Зелимхану кадырийского ордена. Ссылка шейхов. Неуловимость Зелимхана объясняется не только его личными качествами, но и той поддержкой, которой он пользовался среди чеченского крестьянства. В значительной степени эту поддержку обеспечивали крупнейшие религиозные авторитеты Чечни. Власти считали главными укрывателями Зелимхана руководителей кадырийских братств подчеркивая, что абрек «.. .являясь рьяным последователем упомянуто* секты, пользуется покровительством... шейхов и служит для них орудием противодействия русской власти. Шейхи эти... поддерживают с Зелимханом тесное сношение, благословляют его на отчаянные разбои, комплектуют его шайку своими последователями — мюридами, доставляют ему оружие и патроны и тщательно укрывают его»2.
Благодаря поддержке шейхов, Зелимхан находил надежное укрытие не только в Чечне, но и в Ингушетии и в Андийском округе Дагестана Особенно тесные отношения связывали Зелимхана с Баматгири-хаджи
1 См.: Очерки истории Чечено-Ингушской АССР. Т. 1. — Грозный, 1967. — С. 1Ж. Авторханов А. Г. Указ. соч. — С. 50—51.
2 ГАРФ. Ф. 102. Д. 5. 1910. Д. 635 Ч. 2. Л. 2 об.
— 466 —
Абречество. Зелимхан Харачоевский
Баматгири-хаджи (Ӏовда), абрек Зелимхан, Али Митаев (в середине).
Аул Автуры, 1904 г. Фото (4, 119)
Митаевым. Сын последнего —- Али Митаев, даже участвовал в налете абрека на Кизлярский банк в 1910 г. При этом шейх получал от абрека какую-то часть захваченной в налетах добычи для раздачи бедным.
Чтобы лишить Зелимхана и других абреков поддержки, российские власти пошли на беспрецедентный шаг — в 1911 г. из Терской области высланы в административном порядке сразу восемь шейхов, как кадырийского, так и накшбандийского тарикатов. Некоторым из них, аапример, А.-А. Шаптукаеву и К. Хантиеву вскоре разрешили вернуться. Главный покровитель Зелимхана — Баматгири-хаджи Митаев, а также ингушский шейх Батал-хаджи Белхороев, умерли в ссылке1.
Поддержка Зелимхана в народе. Популярность Зелимхану и другим абрекам обеспечивали не только антироссийски настроенные религиозные авторитеты, но и действия местных властей. В ходе подавления выступлений в горной части Чечни были высланы сотни крестьян из одного только Веденского округа. В результате большое количество семей лишились главных кормильцев и оказались на грани нищеты. Часть средств, вырученных во время набегов, Зелимхан тратил на воддержку семей высланных, что также обеспечивало ему поддержку среди населения.
Кстати, Зелимхан стал кумиром не только для обездоленных крестьян, но и для либерально настроенной чеченской интеллигенции. Например, известное письмо Зелимхана в Государственную думу на риском языке написано, скорее всего, Мусой Курумовым, сыном генерала Касима Курумова. Самый блестящий из чеченских революционеров
См., Сигаури И. М. Очерки истории и государственного устройства чеченцев с зревнейших времен. Т. 2. — М., 2001. — С. 50—56.
Глава X. Наш край в первой русской буржуазно-демократической революции 1905—1907
Асланбек Шерипов (переводивший на русский язык чеченские предания об известных абреках) полностью оправдывал действия абреков: «Власть терроризировала мирное население, а абреки терроризировал* эту власть...»1
О связях Зелимхана с представителями чеченской интеллигент** было известно и властям. Так, намерение Зелимхана захватить семье» ротмистра Донагуева, проживающую в Грозном, осталось не осуществленным, так как было отклонено неким «.. .интеллигентом из туземцев, имеющим огромное влияние на Зелимхана»2.
Известно также, что Зелимхан имел поддержку в еврейской и армянской общинах Грозного. Будучи в Грозном, он чаще всего скрывался в Еврейской слободе. В его отряде воевали и принявшие ислам армяне. Широко известны его связи с ингушами. Используя свою популярность, поддержку религиозных деятелей, а также значительные средства, находившиеся в его распоряжении, Зелимхан создал собственную весь» разветвленную сеть осведомителей, которая позволяла ему успешно ускользать от преследования. В тайном сотрудничестве с абреком подозревался даже начальник Чеченской охранной стражи Грозненского округа Ян даров3.
Политические пристрастия Зелимхана. Сподвижники-абрекн.
Несмотря на наличие больших связей и на то обстоятельство, что деятель* ность того же Зелимхана не стоит вне политической и революционно# борьбы того времени в крае, о его политических симпатиях почти ничего не известно. Среди его вещей, попавших в руки властей, оказался и набор почтовых открыток с изображениями имама Шамиля и наиболее известных его наибов. Агентура, внедренная в окружение абрека, сообщала также, что Зелимхан часто говорил о скором появлении из Дагесташ некоего шейха, который возглавит борьбу против власти «гяуров».
Это не значит, что никто не пытался привлечь его к политически# деятельности. Так, революционно настроенные студенты закавказского города Шуша (главным образом армяне) весной 1910 г. направили к Зелимхану делегацию из пяти человек, с целью убедить его поддержать грядущую революцию. Встреча со студентами состоялась в окрестности! Сержень-Юрта, и, по сообщениям секретных агентов полиции, также присутствовавших на ней, делегаты из Закавказья передали Зелимхану бомбы — излюбленное оружие революционных террористов. Возможна, что следствием этой встречи стало появление у Зелимхана печати с надписью «Группа кавказских горных анархистов-террористов. Атаман Зелимхан».
1 Шерипов А. Статьи и речи. — Грозный, 1972. — С. 67.
2 Цит. по кн.: Хасбулатов А. И. Борьба трудящихся Чечено-Ингушетии в период революции 1905—1907 гг. — Грозный, 1966. — С. 102.
3 ЦГА РСО-Алания. Ф. 106. On. 1. Д. 35. Л. 4—5.
— 468 —
Абречество. Зелимхан Харачоевский
Несмотря на громкую известность, Зелимхан почти всегда действо- аал либо в одиночку, либо во главе небольшой группы. Долгое время узкий круг его ближайшего окружения составляли родственники и ■есколько других известных абреков. В частности, долгое время Зе- жнмхан был связан с Любом Томаевым, уроженцем селения Старые Атаги. За укрывательство своего земляка-абрека жители этого селения ■еоднократно подвергались коллективному наказанию. В первый раз Старые Атаги были оштрафованы на 3 тысячи рублей, а во второй таз — уже на 6 тысяч.
Среди постоянных спутников Зелимхана Абубакар Хасуев из Ха- юк-Юрта и ингуш Саламбек Гороводжиев из селения Сагопши. На юследнего терские власти обращали особое внимание, указывая, что ^ его именем связаны «самые дерзкие разбои» Зелимхана.
Только в исключительных случаях, на короткое время собирался •гряд из несколько десятков человек (например, при нападении на Кизлярский банк), который распускался сразу же после завершения хеши.
Акции Зелимхана. Положение, в котором находились абреки, в местности, необходимость «покупать» поддержку влиятельных лиц и ло- 1.£ьность населения, постоянно вынуждала их совершать акции с целью «хватить значительные денежные суммы. К подобным акциям прибегали ■ революционные партии, в том числе и социал-демократы, называвшие zhm бандитские налеты «революционными экспроприациями». Не был включением и Зелимхан. Список подобных акций, совершенных им, ■йствительно впечатляет. Здесь и громкие ограбления (например, ограб- кние ювелирного магазина в центре Грозного, налет на железнодорожную оссу станции Грозной, уже упоминавшееся неоднократно нападение ш Кизлярский банк), и захват заложников с целью получения выкупа ■•пример, пленение богатого овцевода Месяцева, грозненских купцов Ӏранова и Базыренко). Очень часто подобные акции приводили к гибели ашяыпого количества людей. Так, попытка захватить в заложники инженера путей сообщения Ючицкого, в сентябре 1911 г., привела к гибели 15 человек. Причем среди убитых были не только солдаты, охранявшие ■■жяера, но и несколько гражданских служащих1.
Эта «темная сторона» деятельности 3. Гушмазукаева несколько •ивенчивает представление о нем, как о бескорыстном борце против фоизвола властей. Известны также случаи, когда в результате действий 5еяимхана гибли заложники, несовершеннолетние и женщины.
Война властей с Зелимханом. Репрессии. Для борьбы с абреками золицейские власти прибегали к разнообразным средствам, вклю- денежное вознаграждение за их уничтожение, оказание помощи
См.: Гриценко Н. Я. Классовая и антиколониальная борьба крестьян Чечено- Мнгушетии на рубеже XX вв. — Грозный, 1971; и др.
Глава X. Наш край в первой русской буржуазно-демократической революции 1905—<907 -
преследующим абреков кровникам, постоянное давление на родствее ников, наложение коллективных взысканий на селения, в которых преследуемые находили укрытие. Все эти меры были испробованы а борьбе с Зелимханом. Уже в 1908 г. вознаграждение за его физическое устранение было увеличено до 8 тысяч рублей. Простая информация о его местопребывании оценивалась в 1 тысячу рублей. Кстати, эт* вознаграждение предполагалось выплатить из средств, собранных с крестьян Веденского округа1.
В случае с Зелимханом, обычные способы борьбы оказались бесполезными, и властям пришлось прибегать к мерам поистине чрезвычайным и грязным. Для поимки одного человека создаются отдельные команды и целые отряды. Помимо горской стражи, казаков и полицейских чинов привлекаются и регулярные воинские подразделения. Так, 8 марта 1909 г. к поимке Зелимхана было привлечено две тысяч* солдат и казаков во главе с атаманом Вербицким. В декабре 1909 г. начальник Воздвиженского гарнизона получил уведомление от начальстю о возможном пребывании Зелимхана на одном из чеченских хуторо» недалеко от слободы Воздвиженской. Около 100 солдат намечалось использовать для оцепления хуторов. При этом, начальник гарнизона имел приказ «...оказать полное содействие начальнику Грозненского округа не только наличными людьми пехоты, но и, в случае необходимости, и артиллерии».
В сентябре 1910 г., в Ингушетии, в охоте на Зелимхана участвовм князь Андронником с тремя тысячами солдат и казаков. После предупреждения, вынесенного Зелимханом остановить разбой над ингушам», он был убит абреком2.
По обвинению в укрывательстве абрека власти, начиная с 1901 по 1913 г., арестовали и выслали из Терской области тысячи люде*. Осенью 1910 г. схвачена и выслана семья Зелимхана. Затем репрессии обрушились на дальних родственников. Только в ноябре 1911 г. выслан© 24 родственника Зелимхана вместе с семьями, после того как они ве выполнили требование выдать или убить Зелимхана. Как установил* власти, эти люди не только не выдали абрека, но даже «...агитировали среди прочего населения Хорочоя, что делать этого не следует Насколько преступно отнеслись эти лица к данному ими обещаню» видно из того, что, после убийства Хадисова [стражника], Зелимхая уже несколько раз свободно проезжал через селение Хорочой и даж имел дерзость взять в плен... аллероевца Джеми Туртуева и проехать со своим пленником через это селение...»3.
1 ЦГА РСО-Алания. Ф. 270. On. 1. Д. 20. Л. 4
2 РГВИА. Ф. 1300. On. 1. Д. 232. Л. 115, 115об., 117; Авторханов А. Г. Ysax соч. — С. 53—54.
3 ГАРФ. Ф. 102. Д5.1910. Д. 635ч2. Л. 17,22, 38.
— 470 —
Абречество. Зелимхан Харачоевский
Коллективные наказания вскоре охватили буквально всю Чечню и горную Ингушетию. Так, преследование Зелимхана в Ассинском ущелье обернулось погромом расположенных здесь ингушских селений. Б 1911 г., в ответ на уже упоминавшееся кровопролитное нападение на дорожную комиссию, власти объявили о назначении правительственных старшин во все селения, расположенные в зоне деятельности абрека. В селения Харачой, Дышне-Ведено, Мехкеты, Завирхи, Хаттуни, .Эшелхотой, Элистанджи, Таузень, Исти-Су, Майртуп, Хой, Ихарой, Ригахой, Макажой, Автуры и Варандинские хутора направлены на постой воинские команды. Был начат насильственный снос всех «самовольно» построенных (а иных здесь не было) хуторов в Веденском и Грозненском округах, а с чеченского населения этих округов взыскано 1<Ю тысяч рублей для выдачи компенсации лицам, погибшим, получившим ранения или материально пострадавшим «...во время нападения майки Зелимхана»1.
Усилия властей позволили постепенно ликвидировать все ближайшее окружение Зелимхана. После гибели отца и брата Солтамурада жаступила очередь других его сподвижников. В 1910 г. оказался в тюрьме и был вскоре повешен Саламбек Гороводжиев. В марте 1911 г. г. Старых Атагах убит Аюб Томаев. Тем не менее, сам Зелимхан оставался неуловимым еще два года.
Последняя охота на Зелимхана. Для преследования Зелимхана аласти активно использовали других абреков, которых удавалось завербовать для этой цели. Среди прочих для этой цели пытались использовать и братьев Борщиковых из селения Шали. Однако соглашения с мастями оказывались вынужденными заключить в тот период не только братья Борщиковы, и прямая причастность их к гибели Зелимхана так ж осталась не установленной.
Достоверно известно только, что выследить Зелимхана, в конце сен- гжбря 1913 г., удалось секретным агентам поручика Кебирова, осетина эю национальности, хорошо знавшего чеченский язык и служившего § Дагестанском полку. Именно ему, как способному офицеру, царские масти выделили целый отряд, дали широкие полномочия и большие стамы безотчетных средств. Имена его агентов так и остались неизвестными. Окруженный на хуторе старика-дагестанца Бугаева, возле Пали, тяжелобольной Зелимхан был убит в ходе перестрелки. Кебиров «ьгя ранен пулей Зелимхана, но выжил1.
С гибелью Зелимхана абречество не прекратило существования, зисвее того, деятельность так называемых «политических бандитов» шела место и первые десятилетия существования советской власти. Б аелом же борьба абреков являлась бесперспективной, хотя с точки
ГЯРФ. Ф. 102. Д5. 1910. Д. 635. Ч. 2. Л. 2—3. л*г?юрханов А. Г. Указ, соч. — С. 61—62.
Глава X. Наш край в первой русской буржуазно-демократической революции 1905—19(Г —
У тела убитого Зелимхана. 26 сентября 1913 г. Фото (21, 6/н)
зрения национального самосознания чеченского народа обоснование*. Их деятельность не могла не только поколебать существующую власть но где-то даже способствовала ее консолидации и ужесточению. Вмесяг с тем, следует учитывать, что абреки, подобные Зелимхану, всего ливю отвечали террором на жестокий террор властей, бесчинствовавших б Чечне в полное нарушение и без того немилосердных для горцев законов Российской империи.
* * *
Революционные события 1905—1907 гг. в Чечне являлись неотъемлемой частью первой русской буржуазно-демократической революции. Ко всем прочим бедам, характерным для русской деревни и в цело» российского общества данного периода, — в нашем крае добавлялись жестокий военно-оккупационный режим, докапиталистические пережитки, культурная отсталость (в европейском смысле этого слова) и т. за. Выступления горского крестьянства при всем их ожесточении носил® спорадический характер и не имели действенных связей с русским революционным движением в городах и нефтепромыслах. Не было а Чечне ни сложившегося пролетариата, ни политических партий. Влияние российских политических партий в горских аулах было слабым.
Абречество. Зелимхан Харачоевский
В силу целого ряда причин революционное движение в чеченском «^естве, в конечном счете, вылилось в абречество и духовную оп- иэмшию крупнейших шейхов. Но, вместе с тем, появились и первые юрские политические деятели и просветители демократического ~жва — Т. Эльдарханов, 3. Шерипов, братья Ахмедхан и Исмаил Му- -i*eвы и др.
Несмотря на свое поражение, революция 1905—1907 гг. имела тгромное значение для роста политизированных антиколониальных «зазрений в чеченском обществе. Самое важное заключалось все-таки а трутом: у антиколониального движения чеченского крестьянства в :амой Российской империи впервые появился серьезный и мощный лавзник — российское революционное движение.
— 473 —
Глава XI. Экономическое развитие края
и изменения в социальной структуре чеченского общества в начале XX века (до 1914 года)
§ 1. Развитие Грозненского нефтяного района в начале XX в.
Рост нефтедобычи и переработки. Начало XX в. ознаменоважьз бурным развитием Грозненского нефтепромышленного района, превратило Терскую область из чисто аграрного региона во вт-хо* по значению нефтедобывающий центр России (после Баку). С по 1905 гг. число действующих нефтяных скважин возросло здесь с * до 265, которые давали 48 миллионов пудов нефти. При этом добь№ нефти в Чечне увеличивалась более быстрыми темпами, чем в Багт Если в 1900 г. грозненская нефть составляла всего 5% от общего иу личества нефти, добытой в России, то в 1905 г. этот показатель возрв». до 10%. При этом абсолютная добыча нефти в Грозном возросла ас 98,9 миллионов пудов в 1914 г.1
Параллельно с увеличением добычи нефти растет и ее переработка на грозненских предприятиях. Росту нефтепереработки способствовав» и особенности грозненской нефти, которая содержала в себе большое количество легких фракций и парафина. Так, в 1905 г. грозненские преа- приятия переработали свыше 30 миллионов пудов нефти (или 75% всэ» добычи). Если в предыдущие годы главной целью переработки быж получение керосина, то в начале XX в. быстро увеличивается cnp&i на бензин, мазут и другие продукты. В соответствии с потребностям* рынка, грозненские предприятия стремились увеличить выпуск томили иного продукта. Так, производство бензина к 1907 г. было доведеас в Грозном до 2 млн. пудов в год.
Соответственно растет и нефтяное хозяйство: на промыслах задействовано 149 паровых котлов, 57 железных нефтяных резервуаров построены нефтеналивные эстакады, а суммарная длина трубопровода» достигла 120 километров В 1914 г. был сдан в эксплуатацию первый магистральный продуктопровод Грозный — Порт-Петровск (Махачкала), через который в год перекачивалось до 740 тысяч тонн производимого грозненскими предприятиями мазута. Было начато также строительство
1 См.: ГАРФ. Ф. P-6870. On. 1. Д. 118. Л. 7; Гриценко Н. Я. Из истории экономических связей и дружбы чечено-ингушского народа с русским народом. — Грозный. 1965. — С. 57; Ткачик. Промышленность и положение рабочих Грозного двадцать лет назад // Грозненский рабочий. — 1925. — 20 дек. — С. 4.
— 474 —
Развитие Грозненского нефтяного района в начале XX в.
сэде одного нефтепровода, который должен был связать Грозный с черноморским портом Новороссийск1.
Быстрое развитие нефтяного дела способствовало ускоренному росту ■ других отраслей промышленности, в первую очередь непосредственно связанных с нефтедобычей и нефтепереработкой. Так, потребность в модернизации нефтяной промышленности вызвала строительство первой в Грозном тепловой электростанции (1904 г.), а также появление машиностроительного производства. Крупнейшим из машиностроительных зредприятий был завод «Молот». Помимо «нефтяной лихорадки», развитие Грозненского промышленного района ускорялось устойчивым притоком капиталов, наличием железной дороги и больших резервов дешевой рабочей силы.
Монополизация. Иностранный капитал в Грозном. Крупные мо- ямюлии, активно действовавшие в Грозненском промышленном районе с момента его возникновения, со временем еще более упрочивают сэси позиции — общее количество нефтяных фирм, работающих в Грозном, сократилось более чем с 40, в конце XIX в., до 14-ти, в 1905 г. Сильнейшей монополизации способствовал и растущий приток ино- сгранного капитала. Если с 1898 по 1903 гг. зарубежные фирмы вложили > нефтяную промышленность Грозного приблизительно 16 миллионов рч&ей, то к 1905 г. их вложения составили уже 40 миллионов рублей, ч этому времени, из почти полутора десятков крупнейших нефтяных моаний Грозного, десять перешли к иностранному капиталу. В том часяе, пять фирм принадлежали англичанам, три — французам и № — бельгийцам2.
В борьбе за грозненскую нефть иностранцы уверенно теснили российский капитал, намного опережая русских предпринимателей в объ- аш новых инвестиций. Еще в 1904 г. на долю последних приходилось 53% капиталовложений в грозненскую нефтяную промышленность, ш к 1914 г. доля инвестиций российских капиталистов уменьшилась jd 27,2%. В то же время доля только английского капитала увеличилась ш 56%. В целом, к иностранцам перешло до 90% грозненской нефтяной щомышленности3. Благодаря этому некоторые грозненские нефтяные сомпании превратились в дочерние предприятия могущественных грннснациональных корпораций. Так, крупнейшая грозненская фир-
«Ахвердов и К°», перекупленная бельгийским капиталом, вошла в датав «European Petroleum Union» — организации общеевропейского
См.: Народы Кавказа. Т. 1. — М., 1960. — С. 354; Юшкин Е. М. Начало грозненской нефтепромышленности в очерках. — Екатеринодар, 1909. — С. 46—47.
; Си.: Революция 1905, 6 и 7 годов в Грозном. — Грозный, 1925. — С. 22—23; Хасбулатов А. И. Развитие промышленности и формирование рабочего класса в Чечено- Ингушетии (конец XIX — начало XX вв.). — Грозный, 1994. — С. 86.
История народов Северного Кавказа. Конец XVIII в. — по февраль 1917 г. Т. 2. — М., — С. 399—400.
Глава XI. Экономическое развитие края и изменения в социальной структуре
чеченского общества в начале XX в. (до 1914 г.)
Грозный. Здание, где до революции располагалось городское правление и конторы различных фирм. Позднее фото (18, 185)
масштаба. Известное семейство Нобелей контролировало всероссийсз картель «Нобель Мазут» и одновременно владело частью грозненс предприятий. Не менее известное семейство Ротшильдов в 1907 г. т- билось контроля над компанией «Казбекский синдикат».
Первые национальные компании. Очень быстро в нефтяшв бизнесе Чечни становится заметным и присутствие национальное капитала. Конечно, его позиции оставались очень скромными, но, шя не менее, нельзя недооценивать сам факт появления двух компаяА объединявших чеченских предпринимателей: «Ново-Алдинская нефш» и «Старо-Юртовская нефть»1. Первая была создана усилиями Абщдт- Межида (Тапа) Чермоева, крупнейшего нефтяного предпринима и миллионера, а фактическим владельцем второй являлся известна чеченский шейх Абдул-Азиз Шаптукаев.
Дальнейшее усиление монополий. Топливный кризис. К 1914 г. т| корпорации — «Русская генеральная нефтяная компания», «Товарище братьев Нобель» и англо-голландская «Royl Dat Shell» добывали свь 60% всей российской нефти. Быстрая монополизация нефтяной отра в целом по России и усиленное проникновение иностранного капищ имели как положительные, так и отрицательные последствия. Монопояи сумели привлечь огромные капиталы: к 1914 г. капиталовложения в Грозненскую нефтяную промышленность составили 82,2 миллионов рублей, из которых 52% пришлось на долю иностранных инвесторов. Поставный приток капиталов обеспечивал быстрое развитие отрасли в целок однако почти полное отсутствие антимонопольного законодательства
Саламов А. X. Очерк о Чечне // Революция и горец. — 1929. — № 7—8. — С. 96.
— 476 —
Развитие Грозненского нефтяного района в начале XX в.
» ^хсии позволяло нефтяным монополиям извлекать дополнитель- прибыль за счет манипуляций с ценами. Поэтому общее падение *чи нефти, наблюдавшееся в России с начала XX в., не привело к шкращению доходов нефтяных компаний. Используя в своих интересах ■иостаток нефти на российском рынке, корпорации резко взвинтили яеж на свою продукцию. Даже в крупнейшем нефтедобывающем центре охраны — Баку, стоимость нефти и судового керосина возросла с 1910 ш 1913 гг. на 180%, а цены на мазут увеличились на 163%. За четыре года лишость нефтепродуктов на российском внутреннем рынке утроилась ш стала выше мировых цен. В то же время средняя доходность нефтяного шюееса в России увеличилась с 12,9%, в 1910 г., до 29%, в 1913 г. Прибыль мко «Товарищества братьев Нобель» за этот период увеличилась с i.4 миллионов рублей до 15 миллионов1.
Продолжение политики отторжения крестьянских общин от нефтя- swo бизнеса. Справедливости ради необходимо указать, что негативные эноенции в нефтяном деле России были вызваны не только эгоизмом аа^гпнейших корпораций, но и непродуманной государственной политике в этой сфере. Например, для увеличения добычи нефти требовалось стяественное расширение площадей, отведенных под нефтедобычу. Ойнако, российское законодательство создавало ряд препятствий к разработке полезных ископаемых не только на казенных, но и принадлежавших крестьянским общинам землях. Положение в Чечне, как уже -сворилось, усугублялось тем, что местная администрация рассматривала земельные владения чеченских селений как принадлежащие казне, ^ченцы оказывались, таким образом, на положении государственных крестьян, которым земля предоставлялась не в собственность, а лишь * вользование. Интересно, что подобное положение сохранялось только ж колониальных окраинах Российской империи.
В соответствии с утвержденным 24 ноября 1866 г. «Положением д*» устройстве государственных крестьян», в центральных губерниях кассии бывшим государственным крестьянам обрабатываемые ими изенные земли были переданы в собственность. При этом, право собственности распространялось и на недра. На Кавказе же, в том жсяе и в Терской области, именно местная администрация зачастую ^епятствовала разработке нефтеносных участков, владельцами которых являлись горские селения. Только после русской революции 1905—1907 гг. Государственная дума начала разработку законопроекта, предусматривавшего передачу в собственность крестьян казенных кзаель, находящихся у них на правах пользования. Действие нового пахана должно было распространяться и на Кавказ2.
З&аобуев П. В. Топливный кризис и монополии России накануне Первой мировой эвйны // Вопр. истории. — 1957. — № 1. — С. 40,45.
Г АРФ. Ф. P-6870. On. 1. Д. 90. Л. 2—3.
Глава XI. Экономическое развитие края и изменения в социальной структуре
чеченского общества в начале XX в. (до 1914 г.)
Кроме того, государство ограничивало срок аренды земель, пере» ваемых для горных разработок. Еще в феврале 1894 г. очередной съеэа горнопромышленников Юга России ходатайствовал об увеличены* срока аренды земель не менее чем до 90 лет. Однако, утвержденные правительством в мае 1894 г., новые «Правила о нефтяных промысле* на землях Кубанского и Терского казачества» ограничивали срок арен» 24 годами, а продажа или отчуждение участков вообще запрещались. Арендная плата устанавливалась в размере 25 рублей в течение пераш 12 лет, а потом пересматривалась в зависимости от количества aofer ваемой нефти и цен на керосин1.
Доходы Терского казачьего войска. Наибольшую выгоду ms существующего порядка разработки нефтеносных участков проаян- жало извлекать Терское казачье войско, чьи доходы от сдаваемых • аренду земель возросли многократно. Если в 1899 г. его дохояы ж этой статье составили 631,8 тысяч рублей, то в 1902 г. они увел иг» лись до 2 миллионов 148 тысяч рублей. В целом за десять лет XX в прибыль Терского казачьего войска от сдачи в аренду нефтеносных земель составила 15 миллионов рублей. Например, в 1912 г. передне в аренду нефтеносных участков дала 60% всех доходов Терского ка» чьего войска в размере 3 миллионов 780 тысяч рублей2. Однако, шж уже говорилось, роль Терского казачьего войска в нефтяном бизэяп была довольно специфической и ограничивалась исключительно предоставлением своих земель для разработки и получения оговорен не платежей с каждого пуда добытой нефти.
Съезд Терских нефтепромышленников. В условиях, когда го суд» ственная администрация не могла эффективно решать весь компины проблем, связанных с развитием грозненского нефтепромышленное* района, эти функции взял на себя съезд Терских нефтепромышленнты* и его Совет, созданный еще в 1898 г. Съезды терских нефтепромышленников собирали представителей всех представленных в Грозны* нефтяных компаний, которые принимали согласованные решения. Претворение в жизнь этих решений поручалось постоянно действующе» рабочему органу — Совету съезда Ттерских нефтепромышленнииы Последний регулировал взаимоотношения непосредственно между ш- фтяными компаниями, разрабатывал ценовую политику, вырабатыма рекомендации для властей, определял размеры отчислений на развит» промышленной инфраструктуры района, вел переговоры с городскюы властями и рабочими комитетами и т. д.
1 См.: ГАРФ. Ф. P-6870. On. 1. Д. 11. Л. 4; Терский календарь на 1896 год. — Владикавказ, 1895. — С. 251—253.
2 См.: Всеподданнейший отчет начальника Терской области и наказного атамав Терского казачьего войска за 1911 год. — Владикавказ, 1912. — С. 82; Терский календарь на 1914 год. — Владикавказ, 1913. — С. 37.
— 478 —
Развитие Грозненского нефтяного района в начале XX в.
Социальная политика нефтепромышленников. Большое внимание Ӏэгяялось Советом съезда Терских нефтепромышленников урегули- шванию так называемого «рабочего вопроса». Согласно «Положению т организации Совета съезда Терских нефтепромышленников» от 3 марта 1899 г. все действовавшие в Грозном нефтедобывающие ком- Ж2жии обязывались производить специальные отчисления в размере Jy копейки с каждого пуда добытой нефти для развития социальной «■фраструктуры нефтепромыслов. К 1910 г. это добровольное обложе- юе давало в распоряжение Совета съезда терских нефтепромышлен- яеков ежегодно до 100 тысяч рублей, которые шли на строительство • содержание на нефтяных промыслах больниц, амбулаторий, школ, ювитвенных домов и других социальных учреждений. Совет из своих :*мств построил для рабочих мусульманскую мечеть и планировал строительство православной церкви; построил и содержал телефонную станцию, дороги, мосты, приступил к устройству почты и сберегатель- вой кассы. Кроме того, намечалось сооружение здания для полицей- ялх чинов и содержание специальной промысловой охраны в составе щоюгава, его помощника, канцелярских чинов и 40 конных и пеших щжних чинов1.
По требованию Совета съезда Терских нефтепромышленников, : 1 июня 1906 г. каждая нефтяная фирма создала так называемый «больничный фонд», из которого выплачивалось пособие заболевшим эиюочим. Помощь из «Больничных фондов» предоставлялась рабочим
оолее выгодных условиях, чем это предусматривалось Уставом боль- эпных касс, создаваемых по распоряжению властей. Поэтому Совет ретмендовал открывать больничные кассы только на тех грозненских даезприятиях, где не были созданы «Больничные фонды». Со временем, выплаты из этих фондов достигли довольно больших размеров. Ӏ-Ӏмример, в 1911 и 1912 гг. размеры пособий, ежегодно выделяемых заточим, достигли 27 тысяч рублей.
Благодаря этим и другим мерам, положение рабочих на грозненских юфтяных промыслах было гораздо лучше, чем на других горнодобывающих предприятиях Юга России. Так, в 1910 г. расходы Совета съезда Терских нефтепромышленников на школьное дело, при пересчете на мждого жителя грозненских промыслов, составляли 2 рубля 35 копеек, > аа каждого рабочего — 3 рубля 40 копеек. На оказание медицинской жмющи на каждого жителя промыслов выделялось по 9 рублей, а на «аждого рабочего — 13 рублей 50 копеек. Для сравнения: в крупнейшем паеяобывающем центре Юга России — Екатеринославске — аналогич- гж расходы были в 8—12 раз меньше.
Положение нефтерабочих. Впрочем, положение рабочих в целом оставалось тяжелым, что приводило к частым трудовым конфликтам.
ГаРФ. Ф. P-6870. On. 1. Д. 78. Л. 1.
Глава XI. Экономическое развитие края и изменения в социальной структуре
чеченского общества в начале XX в. (до 1914 г.)
В начале XX в. рабочий день нередко длился 12—14 часов, а заработнаа плата основной массы рабочих составляла в среднем 14—16 рублей в месяц. Чернорабочие получали еще меньше — 8—10 рублей. Только шжх революционных событий 1905—1907 гг. средняя зарплата грозненспв рабочих выросла до 15—20 рублей в месяц. В лучшем положении п- ходились высококвалифицированные рабочие, имевшие большой ст» работы. Их заработки в среднем составляли от 28 до 36 рублей в места а у некоторых — еще больше. Например, машинисты зарабатывали оч 35 до 65 рублей в месяц1.
Острой оставалась жилищная проблема. Рабочие поселки не благоустраивались, не имели водопровода, общей канализации, электрического освещения. Вообще, водопровод в Грозном появился тольш ■ 1903 г., когда была введена в строй небольшая водокачка с бетонным отстойниками и фильтрами. Вода поступала только в дома двух пивных улиц города.
Большинство холостых рабочих проживали в бараках, специадмг построенных владельцами предприятий. Тяжелые условия жизни т работы являлись причиной высокого уровня травматизма и забом- ваний среди рабочих. Только в 1907 г. на нефтепромыслах, где ошв задействовано 2566 рабочих, произошло 837 несчастных случаен. • том числе 4 со смертельным исходом. За пять лет, с 1908 по 1912 itl количество больных, лечившихся в рабочей больнице на промысел возросло с 442 человек до 1054. В том числе, с различными траве- ми — с 78 до 336, с ранениями — с 68 до 992.
Только летом 1903 г. в России был принят закон, предусматршм- ший обязательную выплату пособий рабочим и служащим, пострадавшим в результате несчастного случая на производстве. До этап владельцы предприятий обязаны были выплачивать компенсац» лишь в том случае, если несчастный случай произошел по их впк Сложилась практика, когда хозяева предприятий напрямую допаиш- ривались с пострадавшим рабочим о размере выплачиваемой ем» компенсации. Как правило, размер таких единовременных выше был невелик и утративший работоспособность рабочий и его сема» вскоре оказывались в тяжелейшем материальном положении, одна» получив деньги от хозяина, рабочий уже не мог требовать выплат пособия через суд.
Принятие нового закона несколько улучшило положение рабочие а с 1912 г. вводится обязательное страхование рабочих, в связи с чем в Баку был создан Кавказский страховой комитет, в который вошш представители и от Грозненских предприятий.
1 Хасбулатов А. И. Развитие промышленности и формирование рабочего класса в Чечено-Ингушетии (конец XIX — начало XX вв.). — Грозный, 1994. — С. 87.
2 ГАРФ. Ф. P-6870. On. 1. Д. 78. Л. 11.
Развитие капиталистических отношений в сельских районах края. Изменения
в традиционной структуре чеченского общества
§ 2. Развитие капиталистических отношений в сельских районах края. Изменения в традиционной структуре чеченского общества
Кредитно-финансовая система. Промышленный подъем в Терской области сопровождался развитием торговли и кредитно-финансовой системы. Несмотря на то, что кредитные учреждения появились в том же Грозном сравнительно поздно (только в 1904 г.), они очень быстро заняли видное место в экономической жизни края. В 1911 г. на территории Терской области действуют 59 кредитных товариществ, из которых 12 располагались непосредственно в горских селениях. Сложившаяся таким образом система взаимного кредита объединяла в своих рядах 22 794 человека, общая сумма вкладов составляла 722,2 тысячи рублей, i сумма выданных кредитов достигла почти 3 миллионов рублей1.
Несмотря на периодические кризисы, сотрясавшие российскую экономику в начале XX в., растущий спрос на нефть и нефтепродукты обеспечивал устойчивое развитие Грозненского промышленного района, 1 следовательно, продолжала возрастать и потребность в дешевых кредитах. В 1913 г. учрежден Терский союз учреждений мелкого кредита, который объединил практически все товарищества взаимного кредита. К этому времени в их числе имелись уже и чисто чеченские, например Алдинское товарищество, во главе которого стоял Эльмирза Капланов. Паже начавшаяся в 1914 г. мировая война не остановила бурное развитие кредитных организаций. В 1916 г. в Терский союз учреждений мелкого кредита входило уже 121 общество, а в 1917 г. их число достигло 132, не считая двух ссудно-сберегательных товариществ. Входившие в Терский союз кредитные общества могли к тому времени выделять в качестве кредитов до 100 миллионов рублей2.
Если Терский союз учреждений мелкого кредита обслуживал потребности мелких и средних предпринимателей, то крупнейшие предприниматели Терской области в 1910 г. создали свое собственное .кредитное товарищество — Грозненское общество взаимного кредита. И в этой финансовой компании заметно присутствие чеченского на- пионального капитала. Так, в органы управления общества взаимного кредита вошли такие известные чеченские предприниматели, как И. Д. Арсанукаев, М. Т. Мациев, А. Ш. Эльмурзаев, Д. Мустафинов,
А. Абдул-Кадыров.
В 1914 г. Грозненское общество взаимного кредита объединяло 680 пайщиков, в том числе: 538 торговцев и промышленников, •• Терский календарь на 1912 год. — Владикавказ, 1911. — С. 173.
: Отчет Терского союза учреждений мелкого кредита за 1917 год. — Владикавказ. —
С 12—13.
Глава XI. Экономическое развитие края и изменения в социальной структуре
чеченского общества в начале XX в. (до 1914 г.)
56 владельцев недвижимости, в том числе земельных собственников. 65 высших чиновников, а также 21 человек, считавшихся «лицами свободных профессий». По всей видимости, речь идет о видных адвокат»! и т. п. Правда, общий объем кредитов, выдаваемых Обществом, боЕЗ меньше, чем у Терского союза учреждений мелкого кредита — за 1913 т. выдано кредитов приблизительно на 31 миллион рублей1.
Необходимо также отметить, что Грозненское общество взаимного кредита являлось местным отделением Всероссийского общества взаимного кредита и имело собственные счета не только в Грозненские казначействе, Грозненском отделении Азовско-Донского коммерчеоэо- го банка, но и в Центральном банке Общества взаимного кредита * Санкт-Петербурге.
Впрочем, местных капиталов было явно недостаточно, чтобы обеспечивать все потребности быстро развивающейся экономики краж. Одно за другим в Грозном открываются представительства и отделен* i крупнейших российских коммерческих банков: Русско-Азиатского. Азовско-Донского, Волжско-Камского, Тифлисского и др.
Торговля. Для начала XX в. характерно снижение роли торгов*at ярмарок в Терской области, а ведущая роль в торговле переходят к расширяющейся сети постоянных торговых учреждений. Толь» традиционная Грозненская ярмарка продолжала играть заметите роль в общем товарообороте Терской области — ее оборот составдяж 150 тысяч рублей.
В целом на территории Грозненского и Веденского округов насчитывается свыше 600 постоянных торговых учреждений. В равнинной части Чечни нет ни одного села, в котором не функционировала вы постоянная торговая лавка, а в крупнейших селениях — их десятки. Нг- пример, в Урус-Мартане — 35, Ачхой-Мартане — 30, Старом Юрте — 24. Гудермесе — 34, Шали — 39 и т. д. А к 1912 г. число торговых заведений в Чечне возросло уже до 896.
Одной из особенностей развития частной торговли в Чечне можж» считать быструю концентрацию торгового капитала. Из общего коте^ чества торговых заведений, действовавших в Чечне, свыше 300 относились к категории крупных и имели годовой товарооборот на сумкт свыше 20 тысяч рублей2.
Развитие торговой сети способствовало созданию довольно значительного числа рабочих мест, что в условиях ярко выраженного аграрного перенаселения Чечни, имело немаловажное значение. В 1900 г. торговцам
1 Гриценко Я. Я. Горский аул и казачья станица Терека накануне Великой Октябрьской социалистической революции. — Грозный, 1972. — С. 239—240.
2 См.: Саламов А. К истории нашей Чечено-Ингушетии // Грозненский рабочий. — 1962. — 20 июля. — С. 4; Терский календарь на 1914 год. — Владикавказ 1913. — С. 136.
Развитие капиталистических отношений в сельских районах края. Изменения
в традиционной структуре чеченского общества
в целом по Чечне (включая Грозный) числились 2630 человек, а в 1913 г. жх было уже 3120. Общий товарооборот за это же время возрос с 7 мил- тонов 692,5 тысяч рублей до 12 миллионов 276,6 тысяч рублей. При этом чеченские купцы сумели занять лидирующие позиции не только ш селе, но и в грозненской городской торговле1.
Новые явления в развитии села. Формирование крупного промыш- ie иного центра в Грозном не могло пройти бесследно для всей Чечни ш во многом способствовало экономическому развитию чеченских селений. Начинается постепенный упадок некоторых видов традиционных народных промыслов, которые не выдерживали конкуренции с фабрично-заводскими товарами. Так, большинство равнинных селений, хорошо обеспечиваемых промышленными товарами, перестало внимать кузнецов, которые сохранились только в горных обществах, m смену гончарному производству пришло кирпично-черепичное ж т. д. Появляются и новые экономические центры на территории ^ечни. Ими становятся крупнейшие плоскостные селения: Шали, Урус- Нартан, Старый Юрт и др. Так, только в Урус-Мартане в начале XX в. ■мелось 35 торговых заведений, 45 водяных мельниц, 6 хлебопекарен, 30 кирпично-черепичных и 15 лесопильных заводов2.
В 1915 г. на территории Грозненского и Веденского округов Терской области функционировало 1442 предприятия кустарного производства, «лючая производство не только товаров потребления, но и, например,
Водяная лесопилка. Худ. В. С. Шлипнев (4, 223)
sLa^tee Е. Чечено-Ингушетия накануне Октябрьской революции // Грозненский ра- гочзш. — 1957. — 20 сент. — С. 2.
С*_: Иваненков Я. С Горные чеченцы. — Владикавказ, 1910. — С. 158; Бор- чкэьвили Э. А. Социально-экономические отношения в Чечено-Ингушетии в ХУНТ—XIX веках. — Тбилиси, 1988. — С. 373.
Глава XI. Экономическое развитие края и изменения в социальной структуре
чеченского общества в начале XX в. (до 1914 г.)
строительных материалов. В сфере кустарного производства было зь действовано 3512 рабочих.
Резкий рост городского населения, а также железнодорожного сообщения способствовали как быстрому подъему сельского хозяйства, та* и ускоренному развитию товарного производства в сельском хозяйств*. Происходит значительный рост посевных площадей в Чечне и Ингушетии: с 181342 десятин в 1900 г. до 310 832 десятин в 1913 г., главны* образом за счет ирригации и облагораживания малоценных земечь Однако все это не покрывало естественных потребностей коренного населения, которое было вынуждено компенсировать нехватку земе» неимоверной интенсификацией труда и арендой земли у казачества ш крупных собственников.
Соответственно растут объемы производимой в Чечне сельскохозяйственной продукции, прежде всего товарного зерна, о чем убежж- тельно свидетельствует статистика. Если за последние пять лет XIX ж общий объем хлебных перевозок в одном только Грозненском округ* составил 676 тысяч пудов, то в 1910—1914 гг. здесь перевезено уже 2750 тысяч пудов зерна1.
Процесс развития капиталистических отношений в сельском хозяйстве Чечни, начавшийся не позднее последней трети XIX в., в начаа* XX в. получил дальнейшее развитие. Причем на территории Чечне (да, впрочем, и всей Терской области) этот процесс происходил неравномерно и непоследовательно. Его развитию существенно мешаж господствующее положение надельного землепользования у казаке* и сохранение общинного землепользования в чеченских селениях Напомним в этой связи, что общинное землевладение в качестве господствующей формы было навязано чеченским крестьянам российские администрацией. Сохранение в неприкосновенности военно-народного управления горскими округами и привилегированное положение Терского казачьего войска во многом способствовали тому, что развитие капиталистических отношений в сельском хозяйстве Терской облает* шло медленнее, чем в соседних Ставрополье и Кубани. Тем не менее, капитализм уверенно прокладывал себе дорогу, причем на равнине (как в чеченских селениях, так и в казачьих станицах) он развивался более быстрыми темпами, чем в горах.
1 См.: Гриценко Н. П. Горский аул и казачья станица Терека накануне Великой Октябрьской социалистической революции. — Грозный, 1972. — С. 219; Хасбулатов А. И. Вовлечение сельского хозяйства Чечено-Ингушетии в капиталистическое развитие России (II половина XIX — начало XX века) // Вопр. полит, z эконом, развития Чечено-Ингушетии (XVIII — начало XX века). — Грозный 1986. — С. 121; Денискин В. И. «Сводная статистика перевозок по русским железным дорогам» — важный источник изучения экономики Северного Кавказа в период империализма // Вопр. историографии дореволюционной Чечено-Ингушетии. — Грозный, 1988. — С. 61.
Развитие капиталистических отношений в сельских районах края. Изменения
в традиционной структуре чеченского общества
Крупные (фермерские) хозяйства. Крупные зажиточные хозяйства (независимо от того, кому они принадлежали — чеченскому или русскому владельцу) по своему характеру все больше приближались к фермерским, активно ориентированным на потребности рынка. Именно в соответствии с потребностями рынка происходили в Чечне структурные изменения в посевных площадях: все больше земель отводится под выращивание главной товарной культуры — кукурузы. Если в 1891 г. г чеченских крестьян кукуруза занимали 62% площадей, отведенных вод зерновые, то в 1915 г. она занимала уже 74%. Наряду с кукурузой з Чечне все большее распространение получают и другие «рыночные» культуры, например подсолнечник.
Крупные хозяйства, стремившиеся к получению максимальной прибыли, первыми переходили к применению более современных агротехнических приемов (трехполье, многополье и др.), внедряли высокоурожайные сорта и производительную сельскохозяйственную технику. Напротив, бедняцкие хозяйства, как и прежде, ориентированы преимущественно на удовлетворение собственных потребностей ■ не имеют возможности применять технические и агрономические шжшества. Главное средство для них в борьбе за повышение урожай- аости — использование органических удобрений и обильный полив. По Чечне приблизительно лишь одна десятая часть хозяйств имели возможность приобретать сельскохозяйственную технику заводского и фабричного производства. Интересно, что в целом по Терской области количество усовершенствованных сельскохозяйственных орудий и машин у горцев было примерно таким же, как и у казаков и русских крестьян. Так, в 1910 г. на каждые 100 десятин земельных угодий герские крестьяне располагали 11,3 единицами современных орудий Ӏшгутов, сеялок, молотилок, веялок, сенокосилок и т. д.), а в казачь- «х отделах — 10,01 единиц. В 1917 г. этот показатель у горцев достиг 15.55 единиц, а в казачьих отделах — 16,50 единиц1.
Использование наемной рабочей силы. Еще одним свидетельством развития капитализма в крае являлось все более широкое из года в по® использование наемной рабочей силы крупнейшими хозяйствами. Ӏогтьше всего сезонных рабочих нанимали казаки, так как они владели наибольшим количеством земли. Так, в начале XX в. казачьи хозяйства, обставлявшие в Терской области всего 31% всех крестьянских хозяйств, занимали 60,5% всех сельскохозяйственных рабочих. В 1917 г. они давали работу уже 71,7% всех сезонных наемных рабочих2.
См.: Саламов А. К истории нашей Чечено-Ингушетии // Грозненский рабочий. — Y962. —20 июля. — С. 4; Ратушняк В. Н. Развитие аграрного капитализма на Се- эерном Кавказе в конце XIX — начале XX вв. // Истор. записки. — 1989. — № 117. — С. 213,220.
- Ратушняк В. Н. Указ, соч., — С. 212.
Глава XI. Экономическое развитие края и изменения в социальной структуре
чеченского общества в начале XX в. (до 1914 г.)
В Чечне крупные хозяйства, не уступавшие казачьим в техническом отношении, так же широко использовали труд наемных рабочих. Причем, зачастую это происходило в завуалированной форме — односельчане и родственники привлекались к работе под видом оказания взаимопомощи — «белхи». Кроме того, в Чечне имелось огромное количеств* так называемых «батраков с наделом». Это были беднейшие крестьяж имевшие собственное хозяйство, но не способные прокормиться он своего клочка земли. Ежегодно беднейшие крестьяне нанимались зг сезонные работы, однако по официальной статистике они считались самостоятельными хозяевами.
Землепользование. Общий недостаток сельскохозяйственных земель с которым сталкиваются практически все чеченские селения во второй половине XIX в., еще более обострился в начале следующего столетия в связи с резким приростом населения (оно увеличилось по сравнению с 1865 г. более чем в 2 раза). Настоящий «земельный голод» в Чечне особенно резко контрастировал с положением казачества. Если на одно чеченское крестьянское хозяйство приходилось в среднем всего по 8,95 десятин «удобной» и «неудобной» земли, то среднестатистическое казачье хозяйство располагало 24,8 десятинами сельскохозяйственны:! угодий. Казачьи офицеры, по своему статусу, в обязательном поря a» получали крупные земельные наделы с выходом на пенсию: генерал — 1500 десятин, полковник — 400 десятин.
При этом нужно иметь в виду, что среднестатистическое чеченское хозяйство — «дым» — зачастую включало сразу несколько семей взрослых братьев, которые вынуждены были вести совместное хозяйства Поэтому при пересчете на каждую взрослую мужскую душу наделы оказывались еще меньше, особенно в горной части Чечни. Здесь, в среднем, на одного взрослого мужчину приходилось по 1,2 десятины пахотной и 1,7 десятины покосной земли1. В ряде же горных участков пахотной земли было 0,2 десятины на душу, а то и вовсе не было.
Выделение земельных наделов членам общины в начале XX в. производилось сельским сходом, согласно посемейным спискам, составленным еще в 1886 г. Сельские сходы, как правило, неохотно давали согласие на включение в список вновь образовавшихся семей, так как появление нового «дыма» означало уменьшение паевого надела. Например, жители селения Алхан-Юрт на своем сходе в марте 1903 г. решили в случае смерти главы семейства наделять полным земельным паем только младшего женатого сына2. Остальные женатые братья
1 См.: Ушаков М. К. Несколько цифр по земельному вопросу в Терской области. Статистические материалы по данным за 1915 и 1916 годы. — Кисловодск, 1919. — С. 65- 66; Гриценко Н. П. Классовая и антиколониальная борьба крестьян Чечено-Ингушетии на рубеже XIX — XX вв. — Грозный, 1971. — С. 14—15.
2 Согласно чеченской традиции основным наследником родителей являлся младший сын, а не старший.
Развитие капиталистических отношений в сельских районах края. Изменения
в традиционной структуре чеченского общества
получали лишь по половине земельного пая, а неженатые — должны были вести совместное хозяйство с тем из братьев, кто получил полный пай. Некоторые другие селения принимали решения о выделении всем женатым старшим братьям по половине обычного пая.
Уже в начале XX в. большое количество семей в чеченских селениях ©казались полностью лишенными общественных земельных наделов. Их общее количество неизвестно, но в любом случае речь идет о многих тысячах крестьянских хозяйств. Только в одном относительно благополучном равнинном селении Автуры в 1905 г. 208 домохозяев обратились к властям с коллективной жалобой на то, что сельская община зе выделяет им земельных наделов1.
Частное и казачье землевладение. С другой стороны, в Чечне продолжает развиваться и усиливать свои экономические позиции класс крупных земельных собственников. Как уже говорилось, его основу составили офицеры и лица, находившиеся на государственной службе и получившие земельные участки в качестве вознаграждения. Интересно, что у горцев доля сельскохозяйственных земель, находившихся в частной собственности, намного превышала аналогичный показатель у русского населения. Если в целом по Терской области в частном владении находилось только 7,5% всех земельных угодий, то ш горских округах право частной собственности распространялось на 15% сельскохозяйственных земель. В целом по Чечне и Ингушетии, по жанным 1907 года, 887 крупнейших земельных собственника владели 165,7 тысячами десятин2.
Надо указать, что в Терской области, по сравнению с соседними регионами, медленнее идет процесс трансформации узкосословной структуры земельной собственности. Как и в XIX в. большую часть земельных собственников составляют действительные или отставные офицеры, государственные чиновники и дворяне. Крупнейшим корпоративным собственником земли на территории Северного Кавказа яыступало Терское казачье войско, если не считать Кубанское казачье войско. Для основной же массы горского и казачьего населения характерно наличие общинного землевладения, когда в качестве собственника земли выступает государство, а в роли землепользователя — сельская община или казачья станица. В частности, для сохранения материального благополучия казаков власти заботились о постоянном пополнении фонда запасных земель, предназначенных хзя выделения земельных паев вновь образовавшимся казачьим хо- юшствам. Поэтому, наряду с передачей части земель высшим казачьим офицерам в частное владение, власти одновременно скупали частные
РГВИА. Ф. 1300. Оп. 7. Д. 108. Л. 1—2,10.
- Ӏфанов К. И. Классовая борьба в чечено-ингушском ауле в период социалистического строительства. — Грозный, 1979. — С. 8.
— 487 —
Глава XI. Экономическое развитие края и изменения в социальной структуре
чеченского общества в начале XX в. (до 1914 г.)
земли (часто у тех же офицеров), которые пополняли затем войсковой запас. Например, в 1901 г. более 128 тысяч десятин земель Терского казачьего войска находилось в частном владении, но одновременно войско закупило приблизительно 19 тысяч десятин в качестве запасных земель. В результате количество запасных земель Терского казачьего войска увеличилось со 100 тысяч десятин в 60-е гг. XIX в. до бояее чем 149,5 тысяч десятин в 1901 г.1
В отличие от других районов Северного Кавказа, в Чечне крупные землевладельцы не только не продают свои земли, но и, напротив, активно скупают новые и даже под всяческими предлогами захватывают общинные земли. Н. С. Иваненков в этой связи пишет, что захват общественных земель происходит буквально во всех чеченсюа обществах2.
Аренда как средство ограбления чеченского крестьянства.
Недостающую землю чеченские крестьяне арендовали, в перву» очередь, у казачьих станиц. В отдельных случаях имеет место я аренда земли у чеченских владельцев или селений. Например, горцы арендовали зимние пастбища у равнинных селений на Тереке. Однако, главным земельным собственником, наживавшемся за счет сдачи земли в аренду, являлось Терское казачье войско. Если горал в Терской области сдавали в аренду не более 3% принадлежавши!: им земель, то казачьи станицы — свыше четверти. В 1913 г. станины сдали в аренду 424 тысячи десятин войсковых земель, получив г общей сложности 806,5 тысяч рублей арендной платы3. Основньш пользователем арендных земель являлись как раз чеченцы (до 77% крестьянских хозяйств). По данным Г. Цаголова, в начале XX в. одн* только чеченцы выплачивали в качестве арендной платы ежегодно более 400 тысяч рублей4.
Казаки часто сдавали в аренду не только свободные станичные ж запасные земли, но и собственные паевые наделы, выделявшиеся им пен обработку. Причины, по которым казаки сдавали паевые земли, бы я* самые разные: от невозможности обработать ввиду отсутствия рабочего скота и сельхозорудий у бедняков до отсутствия необходимое!я заниматься разработкой неудобной земли. Так, один из чиновников терской администрации указывал, что в некоторых Сунженских станицах казаки, получив во владение на два года заросшую кустарником землк*
1 Хасбулатов А. И. Установление российской администрации в Чечне (II половкз* XIX — начало XX вв). — М., 2001. — С. 133.
2 Иваненков И. С. Горные чеченцы. — Владикавказ, 1910. — С. 117.
3 Ратушняк В. Н. Развитие аграрного капитализма на Северном Кавказе в конце XIX — начале XX вв. // Истор. записки. — 1989. — № 117. — С. 191.
4 См.: Цаголов Г. Край беспросветной нужды. — Владикавказ, 1912. — С. 278; Гуров И. Казачество и Чечня // Молодая гвардия. — 1993. — № 3. — С. 210.
— 488 —
Развитие капиталистических отношений в сельских районах края. Изменения
в традиционной структуре чеченского общества
мершенно ее не обрабатывают, несмотря на то что после расчистки ?ти участки дают обильные урожаи.
Кроме того, со временем арендная плата в Терской области так аивросла, что в ряде случае казакам выгоднее и проще было сдавать зон наделы в аренду. Только по официальным данным, в 1903 г. в Сржженском отделе в аренду был сдано 1170 десятин паевой земли, в 5вяярском — 2892 десятины. Реально эти цифры еще выше, так как ызаки часто не заявляли в станичное правление о том, что сами не юрабатывают выделенные им земли1. При этом, конечно, надо учиты- зажь, что арендные деньги, получаемые казаками, шли на несение мно- эрчисленных государственных повинностей по линии государственной службы. Так снаряжение молодого казака в полк за свой счет стоило «сколько сотен рублей и зачастую разоряло среднестатистическую егэсачью семью.
Даже в вопросе об аренде свободных казачьих земель, государственная политика была направлена против интересов горского населения 5ерской области. Стремясь всеми возможными способами поощ- Ш1ь переселение в область на свободные земли русских крестьян из згаиральных губерний России, власти при этом запрещают станицам плавать свободные земли для обработки горцам. На деле этот запрет косо обходился посредством субаренды. Посредники, часто из числа «рупных земельных собственников, арендовали у станиц крупные зе- •зиьные массивы, которые затем мелкими участками сдавались горским крестьянам. В результате субарендная плата, которую уплачивали те ше чеченские крестьяне, увеличивалась в 2—3 раза по сравнению с «рвоначальной арендной платой.
Земельный голод в Чечне и в большинстве других горских округов, а *акже наплыв русских переселенцев, вызвали быстрый рост арендной иг гы, которая в начале XX в. увеличилась с 2—3 рублей за десятину aa S—16 рублей. Особенно значительным оказался рост так называемой «посаженной» платы, которую выплачивали иногородние за право вселения непосредственно в казачьих станицах. В отдельных случаях всаженная плата достигала теперь 120 рублей за десятину. Кроме того, Терека я область превратилась в регион с ярко выраженным аграр- тт перенаселением — многочисленное безземельное и малоземельное юрское крестьянство всеми способами стремилось получить доступ к ое&скохозяйственным землям внутри области.
Покупка и продажа земли. Как уже говорилось, в Чечне и раньше ггаествовала практика купли-продажи земли. В условиях земельного гюина чеченские крестьяне пытались прибегать к покупке земли, чтобы
сас; Иванов М. А. В горах между Фортангой и Ассой // Известия Кавказского отде- ш Императорского Географического об. Т. 18. — № 1. —Тифлис, 1904. — С. 31—32; 'шняк В. Н. Указ. соч. — С. 192.
— 489 —
Глава XI. Экономическое развитие края и изменения в социальной структуре
чеченского общества в начале XX в. (до 1914 г.)
расширить свои участки. Так как землю чаще всего приходилось покупать у крупных собственников и большими участками, крестьяне начал* прибегать к созданию своеобразных товариществ. Например, в 1910 г 49 крестьян из Грозненского округа сообща купили 125 десятин земля у чеченских владельцев Турловых и Чуликовых1.
С появлением на территории Терской области коммерческих банк» крестьяне получили возможность прибегать к получению кредитов ве только для развития своего хозяйства, но и для приобретения земж Русско-Азиатский, Азовско-Донской, Русский банк для внешней торговли и другие банки субсидировали как отдельные крестьянские хозяйства, так и местные кооперативные общества, осуществляли залоговые и торговые операции. В начале XX в. терские крестьяне начинают все шире использовать банковские кредиты, в том числе и для приобретения земли. Если в 1908 г. 148 человек получили кредиты на сумму 14585 рублей именно для покупки земли, то в 1909 г. выдан для эта*, цели 221 кредит на общую сумму 23169 рублей. В 1911 г. число желающих получить банковскую ссуду для покупки земли сократилось ж* 193 человек, зато заметно увеличился объем выдаваемых кредитов — ж 27672 рублей2.
Получение кредита происходило, как правило, под залог земельного участка, а согласно действовавшему законодательству, банки не мог» принимать в качестве залога участки, удаленные от железной дорога более чем на 20 верст. Так как железнодорожные ветки были проложены в основном по территории Терского казачьего войска, то в меаее выгодном положении оказывались как раз чеченцы.
Ростовщичество. Растущая потребность чеченских крестьян * наличных деньгах в сочетании с ограниченными возможностями излучения ими банковского кредита создали благоприятную почву аяз развития в Чечне ростовщичества. Несмотря на то что отдача денет з долг под проценты категорически запрещается исламской религией, чеченские ростовщики ссужали деньги под кабальные проценты: «и 25% до 200% в год и даже выше.
Ростовщичество примерно одинаково развивалось как в равнинной, так и горной частях Чечни. Пожалуй, единственное различк состояло в том, что в горной Чечне расчеты по сделкам, в том чисж и начисление процентов, производились в пересчете на стоимость мелкого рогатого скота3.
1 Гриценко Н. П. Горский аул и казачья станица Терека накануне Великой Октябрь ской социалистической революции. — Грозный, 1972. — С. 33.
2 Терский календарь на 1912 год. — Владикавказ, 1911. — С. 177—178.
3 См.: Иваненков Н. С. Горные чеченцы. — Владикавказ, 1910. — С. 124; Терский о лендарь на 1912 год. — Владикавказ, 1911. — С. 166—167; Ошаев X. Малхиста // Революция и горец. — 1930. — № 8. — С. 60—61.
— 490 —
Развитие капиталистических отношений в сельских районах края. Изменения
в традиционной структуре чеченского общества
Дальнейшая колонизация края. Повсеместный рост цен на зем- ив и арендной платы, а также наличие на Северном Кавказе быстро жгущего класса малоземельного горского крестьянства, не могло не отразиться отрицательным образом на крестьянской колонизации №&я- В начале XX в. заметно сокращается поток крестьян-переселен- акз» направляющихся на Северный Кавказ. Если в первые годы этого птаетия ежегодно сюда приезжало до 30 тысяч переселенцев, то в те—1913 гг. — уже не более восьми тысяч. В это же время начинается аететный отток русских переселенцев из сельской местности. Так, за М09—1914 гг. из региона уехало 12934 человека1.
Тем не менее, власти Терской области, руководствуясь соображениями -шжорения» края и идеалами великодержавного шовинизма, продолжали всячески поощрять появление в области новых переселенцев, которых они зижлую расселяли непосредственно по соседству с горскими селениями.
этого новым переселенцам не только передавались свободные казеннее земли, но и скупались государством отдельные участки у горских звБвеяьцев. Однако, несмотря на усилия Терской администрации, число ■ежающих осесть в области никогда не было очень большим. В начале IX в. число крестьян-переселенцев ненамного превысило 37 тысяч человек, причем большая их часть (10371 человек) обосновались в Ха- ж-Юртовском округе, а наименьшая — в Грозненском (1133 человека). Обишрные равнины Хасав-Юртовского округа и в последующие годы кжгягивали большое количество новых русских и немецких пересе- ишев, численность которых к 1915 г. возросла до 23 тысяч2. Одним из жультатов появления большого числа переселенцев стало заметное заострение отношений между ними и местным кумыкским и чеченским «асеиением, и без того стесненным малоземельем.
Согласно данным переписи 1897 г., не менее 92,7% чеченцев были жсгоянно заняты в сельском хозяйстве. Передача обширных земельных «сливов Терскому (включая Сунженские полки) казачеству постави- в чеченских крестьян уже в середине XIX века в условия земельной тесноты. Последовавшая затем русская крестьянская колонизация при ««временном быстром росте численности самих чеченцев — еще боке обострила противоречия между страдавшими от недостатка земли чгченскими крестьянами и, по сравнению с ними гораздо лучше обес- геченными землей, казаками и переселенцами.
Неожиданно для себя власти столкнулись с проблемой переселенцев пе в горном Ведено. В марте 1898 г. часть жителей слободы Ведено
жтугиняк В. И. Развитие аграрного капитализма на Северном Кавказе в конце Пл — начале XX вв. // Истор. записки. — 1989, — № 117. — С. 184,185.
Ахмадов Ш. Б. К вопросу о переселенческой политике царизма в Терской области ш пореформенное время // Чечено-Ингушетия в политической истории России и Кавказа в дореволюционном прошлом. — Грозный, 1990. — С. 40,43.
Глава XI. Экономическое развитие края и изменения в социальной структуре
чеченского общества в начале XX в. (до 1914 г.)
(преимущественно состоявшей из вышедших в отставку нижних чинов местного гарнизона) обратились к начальству с просьбой выделить на дополнительно земельные участки. К этому времени слобода, в которой проживало приблизительно 500 человек, уже владела более чем 379 десятинами земли. В ответ на просьбу начальник Терской области сделал представление о передаче слободе в бесплатное пользование еще одного казенного участка площадью в 427 десятин.
В начале 1904 г. жители слободы просят дополнительно выделить им под огороды экспланадные земли (непосредственно примыкающие к укреплениям), значительная часть которых традиционно сдавалась в аренду чеченским крестьянам — бывшим владельцам земель. Вынужденное вновь разбирать спор между слобожанами и чеченцам*, терское начальство признает, что в данном случае конфликт идет яг из-за земли как таковой, а за право исключительной поставки местномт гарнизону овощей1.
Слобожане использовали в ходе конкуренции с местными крестьянами далеко не экономические методы. В адрес начальника Терсиай области годами идут многочисленные жалобы слобожан на жителей расположенных рядом со слободой селений, которых теперь обвиняют в систематических кражах2.
Налоги. Отрицательно на положении чеченского крестьянства сказывалось и постепенное увеличение налогового бремени. Горское население выплачивало оброчную подать, земский сбор, поземельный налог; неон гужевую, дорожную и квартирную повинности. Поскольку горцы бьм освобождены от обязательной военной службы, они должны были выплачивать в казну особый воинский налог. Кроме того, действовали и многочисленные косвенные налоги на товары широкого потребления. В начале XX в. каждое чеченское хозяйство в среднем выплачивало в год от Ю до 24 рублей в виде разного рода платежей, хотя в 70-е гг. XIX в. эти платеж* не превышали 1—3 рублей в год3. По данным депутата III Государственной думы от Дагестана Гайдарова, в 1908 г. чеченский аул в 300 дворов должен был выплачивать в среднем 7282 рубля сборов в год (24 рубля на 1 двор* невозможность выплат столь высоких сборов (корова или рабочая лошажь стоили тогда 10 рублей) приводили к росту недоимок.
Особенно разорительными были для чеченских крестьян многочисленные штрафы, которыми администрация облагала селения за разного рода «провинности». Так, в Терской области действовало правило, согласно которому горские селения, возле которых терялись следы похищенного
1 РГВИА. Ф. 1300. Оп. 4. Д. 1442. Л. 40—41 об.
2 РГВИА. Ф. 1300. Оп. 4. Д. 1422. Л. 1,17, 36,40—41 об.
3 См.: Гриценко Н. Я. Экономическое развитие Чечено-Ингушетии в пореформенный период (1861—1900 гг.). — Грозный, 1963. — С. 174, 177; Очерки истории Чечено-Ингушской АССР. Т. 1. — С. 208.
Развитие капиталистических отношений в сельских районах края. Изменения
в традиционной структуре чеченского общества
ж казаков скота, обязаны были возмещать казакам его стоимость. Со дня ведения такой статьи горские селения стали своеобразной страховой кас- аш для русского и казачьего населения, а также объектом вымогательства ■сякого рода атаманов и «начальников». Только по этой вымогательской статье чеченские селения, зачастую без видимых причин, вынуждались ежегодно выплачивать сотни тысяч рублей «штрафов». Как признавали сами чиновники терской администрации, разного рода штрафы «положи- *еп>но разоряли туземное население», но об отмене этого узаконенного преступного грабежа не могло быть и речи.
Широко практиковалась и другая форма экономического наказания горского населения — в селения на постой направлялись воинские шманды, которые жители должны были обеспечивать квартирами, продовольствием и фуражом. Постои могли продолжаться от нескольких дней до нескольких месяцев, ложась тяжелым бременем на крестьянские хозяйства.
Увеличение налогового бремени и разного рода платежей привело 1. образованию и росту недоимок, которые распределялись между всеми членами сельских общин. На недоимки начислялась пеня, и долги селений зачастую могли достигать десятков тысяч рублей.
Отходничество и формирование национального рабочего класса. Следствием ухудшения экономического положения чеченского крестьянства стало разорение большого числа хозяйств, которые лишались земельных участков, сельскохозяйственного инвентаря и другого имущества. Лишенные возможности заниматься сельским хозяйством, разорившиеся крестьяне вынуждены заниматься отхожими промыслами или даже вообще покидать свои селения и переселяться в города. Ознако на пути миграции разорившихся чеченских крестьян в города Терской области возникали значительные препятствия как административного, так и экономического характера.
В течение десятилетий в Терской области действовал запрет на свободное поселение чеченцев (кроме находившихся на военной и государственной службе и вышедших в отставку в офицерских чинах) в городе Грозном и слободах, возникших рядом с военными укрепле- пями. Запрет этот не всегда строго соблюдался, но в любое удобное хаа себя время власти могли прибегнуть к нему. Так было, например, ш L891 г., когда по требованию администрации из Грозного было высе- вено большое количество чеченцев, незаконно (с точки зрения властей) обосновавшихся здесь.
Кроме того, на городских предприятиях и нефтяных промыслах чеченским отходникам (чаще всего даже не знавшим русского языка)
сходилось выдерживать конкуренцию с массой русских переселенцев в городских жителей, также искавших работу. Не имевшие рабочих просессий чеченцы получали только самую тяжелую и низкооплачиваемую
Глава XI. Экономическое развитие края и изменения в социальной структуре
чеченского общества в начале XX в. (до 1914 г.)
работу. Вчерашнему крестьянину, окончательно порвавшему с сельским хозяйством, при самом благоприятном стечении обстоятельств требовалось не менее 3—4 лет, чтобы, начав работать на каком-нибудь предприятии чернорабочим, получить рабочую специальность. Для того же чтобы стать высококвалифицированным рабочим, требовалось иметь хотя бы начав- ное образование и закончить соответствующее ремесленное училище. /Ьмь немногие из чеченских рабочих смогли пройти этот путь.
Чеченцы-нефтерабочие. Несмотря на то что чеченцы работали вг грозненских нефтепромыслах с момента их появления, они составляли лишь незначительную часть занятых здесь. Как отмечают дореволющкш- ные источники, чеченцы в массе своей не задерживаются на грозненских предприятиях: многие из них, проработав несколько месяцев, увольняются и вновь появляются спустя несколько месяцев. Это объясняется двум* обстоятельствами: с одной стороны неквалифицированные чеченсквг работники чаще всего получали только временную работу, а с другой — вс порвав окончательно с сельским хозяйством, многие из них с начало» сезона полевых работ возвращались в село. По данным современна исследователей, в 1905 г. на грозненских нефтепромыслах постоянна работало около одной тысячи чеченцев, ингушей и дагестанцев.
Тем не менее, число чеченцев, работающих на предприятиях Грозного, постепенно увеличивается. Особенно оно возросло после начав Первой мировой войны, когда в действующую армию оказалось мобилизованным до одной трети грозненских рабочих. Частично их месте заняли выходцы из расположенных недалеко от Грозного чеченских селений Старая Сунжа, Алхан-Юрт, Старые Атаги, Чечен-Аул, Гойтк. Старый Юрт и т. д. В 1917 г. в Грозном (на промыслах) постоянно работало и проживало до 3 тысяч чеченцев1.
Еще больше чеченских крестьян занималось отхожими промыслами и нанималось в качестве сельскохозяйственных рабочих. В 1914 г. из более чем 27 тысяч наемных рабочих, имевшихся на территории Чечни, до 12 тысяч работали на нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятиях, 4,5 тысячи — на железнодорожном транспорте. 3 тысячи — на различных предприятиях Грозного и 7,5 тысяч являлись сельскохозяйственными рабочими. Среди последних было особенно много чеченцев и их число росло быстрыми темпами. Достаточно сказать, что еще в 1908 г. в Чечне имелся всего 4471 сезонный рабочим, т. е. менее чем за 6 лет их число почти удвоилось2.
1 См.: Хасбулатов А. И. Развитие промышленности и формирование рабочего класса в Чечено-Ингушетии (конец XIX — начало ХХв.). — М., 1994. — С. 79; Горох Грозный. Популярные очерки истории. — Грозный, 1984. — С. 63.
2 См.: Колосов Л. Н. Очерки истории промышленности и революционной борьбы рабочих Грозного против царизма и монополий (1893 — 1917 гг.). — Грозный. 1962. — С. 269; Саламов А. К истории нашей Чечено-Ингушетии // Грозненский рабочий. — 1962. — 20 июля. — С. 4.
— 494 —
Развитие капиталистических отношений в сельских районах края. Изменения
в традиционной структуре чеченского общества
Увеличению числа рабочих из коренного населения сильно мешали административные правила, введенные в Терской области в отноше- 5501 горцев. Им запрещалось без разрешения начальства отлучаться из жшх селений на большое расстояние и длительный срок. Получение пже временного разрешения (паспорта, который выдавался на год и •еодее длительное время) было сопряжено с большими трудностями. Прежде всего, за отходника должно был поручиться сельское общество, к которому он был приписан. Последнее не могло дать разрешение на ременный отъезд тому из крестьян, за которым числились недоимки ж обязательным платежам. Кроме того, паспорта не выдавались лицам, считавшимися «неблагонадежными».
Тем не менее, число отходников постоянно увеличивается. По данным зерской администрации, только из высокогорных чеченских обществ -жегодно до 12% взрослых мужчин оставляли родные селения в поисках сезонной работы1.
Служба в России. Распространенным видом отхожего промысла среди чеченцев стало выполнение охранных функций. Владельцы грозненских предприятий и торговых заведений охотно нанимали безработных чеченцев сторожами, а в первые годы XX столетия рост зов нений среди крестьянского населения центральной части России привел к тому, что терские власти начали организованную вербовку ?орцев в отряды стражников, направлявшихся в охваченные волнениями губернии. Популярность этой службы среди горцев объяснялась ее модностью: рядовой стражник получал в год до 460 рублей жалова- акя, а также верхового коня, оружие и прочее довольствие2. Несмотря т. то что представители горской интеллигенции (в частности, депутат Государственной Думы от Терской области Т. Эльдарханов) горячо Ч*ггестовали против подобной практики использования безработных горцев, наем стражников для службы за пределами Терской области ■роволжался и в последующем.
Вопрос о возвращении стражников обсуждается на трехтысячном митинге рабочих и делегаций горцев 25 июня 1906 г. в Грозном. Капки, пытавшиеся разогнать митинг сами были разогнаны, а солдаты, псзванные на помощь, отказали казакам в поддержке и, по существу, ■оедержали митингующих.
К этим протестам вскоре присоединились крестьянские сходы ау- вов и духовенство, не желавшие, чтобы чеченцы использовались для жзекуций в русских деревнях центральных областей. Все это привело « массовому отзыву «стражников»3. Правда, горцы (после событий
Терский календарь на 1910 год. — Владикавказ, 1909. — С. 333—334.
Хасбулатов А. И. Борьба трудящихся Чечено-Ингушетии в период революции ?-Ю5—1907 гг. — Грозный, 1966. — С. 95.
Сверки истории Чечено-Ингушской АССР. Т. 1. — С. 189
Глава XI. Экономическое развитие края и изменения в социальной структуре
чеченского общества в начале XX в. (до 1914 г.)
в России 1905—1907 гг.) потянулись в 1910—1912 гг. в Персию, в наемную гвардию шаха, где использовались в борьбе с революцией.
§ 3. Чеченское офицерство в процессе формирования национальной элиты
Политика российских властей. Еще в разгар Кавказской войнн царское самодержавие стремилось создать в Чечне пророссийски ориентированное «высшее сословие», которое находилось бы на русской службе. Обычным вознаграждением за долголетнюю службу «царю а отечеству» являлось выделение земли в частную собственность. В та случаях, когда офицеры из чеченцев не получали землю в собственное!ь им полагался тройной земельный пай общинной земли. Таким ображищ, чеченское офицерство и чиновничество изначально формировалось как составная часть прослойки землевладельцев.
Офицерские семьи Чечни владели сотнями десятин земли. Так, полковнику Ш. Эльмурзаеву из Старого Юрта принадлежало 400 десятли земли, 4 дома, 16 быков, 12 коров, 380 лошадей, 200 овец и 27 голом прочего мелкого скота. Другой офицер — капитан Ш. Бектемиро* окончивший 2-й Петербургский кадетский корпус, владел 150 десятж- нами земли, а также имел 3 дома, 18 быков, 23 коровы, 80 лошадей ■ 400 овец1.
Позднее обладателями крупных земельных участков стали и представители торговой буржуазии (например, купцы Мациевы), а такмг некоторые крупные религиозные авторитеты (тот же Баматгири-xai- жи Митаев). Всего в 1907 г. в Чечне и Ингушетии насчитывалось 887 крупных земельных собственников, чьи владения в среднем превышали 200 десятин2.
Корни офицерства. Они находились в старшинском и владельческом сословии. Так, отец одного из первых чеченских офицеров — Сулейма на Чуликова, в начале XIX в. переселился с несколькими зависимыми семьями в Притеречье, где основал Чулик-Юрт на захваченных им свободных землях. Дед ротмистра У. Лаудаева владел землей в горне* Ичкерии, а, переселившись к Тереку, основал селение Ногай-Мир* за-Юрт. Он и его сын пользовались в этом селении всеми правами владельцев и являлись старшинами. Капитан Ногаев происходил из семьи, владевшей землями возле Харачоя, а затем переселившейся
1 Гриценко Н. П. К вопросу о социально-экономических отношениях в Чечено-Ингушетии в пореформенный период // Известия Чечено-Ингушского научн.-исслех ин-та истории, языка и литературы. Т. 5. Вып. 1. — Грозный, 1964. — С. 5.
2 Ефанов К. И. Классовая борьба в чечено-ингушском ауле в период социалистического строительства. — Грозный, 1979. — С. 8.
— 496 —
Чеченское офицерство в процессе формирования национальной элиты
на реку Мичиг. До восстания 1840 г. проживавшие на их землях крестьяне платили Ногаевым такие же подати, какие выплачивали другие крестьяне Надтеречным и кумыкским князьям. Предки еще одного офицера — Ш. Ужиева, некогда владели селением Гелдаген, пока не были изгнаны мюридами имама Шамиля. Феодальными владельцами аелых общин были князья Турловы, Алхасовы, Бековичи-Черкасские, Таймазовы, также традиционно служившие в русской армии. Все они были смешанного чеченско-аварского, чеченско-кумыкского и чеченско-кабардинского происхождения.
Самой старой офицерской фамилией в Чечне была, пожалуй, семья Мударовых из Старых Атагов. Первый офицерский чин был получен неким «Мударуком» еще в 1796 г., при Павле I. Его внук, Гудант Мударов, при Александре II получил чин полковника и российское дворянство. Дочь Гуданта вышла замуж за полковника (позже генерал-майора) Ипполитова, начальника Аргунского округа.
Сложение новых традиций. В начале XX в. некоторые чеченские фамилии уже дали для русской армии по два-три поколения офицеров. Так, сын генерала О. Чермоева — Абдул-Межид (Тапа) Чермоев после окончания в 1901 г. Николаевского Кавалерийского училища несколько лет проходил службу в Императорском конвое. С началом Первой мировой войны он вновь вернулся на службу и в чине штаб-ротмистра воевал в составе Чеченского полка «Дикой дивизии»
А.-М. (Тапа) Чермоев (1882—1936 гг.). Фото (4, 83)
Музаев Т. Тапа // Голос Чечено-Ингушетии. — 1992. — 17 апр. — С. 3.
Глава Xf. Экономическое развитие края и изменения в социальной структуре
чеченского общества в начале XX в. (до 1914 г.)
Три сына генерал-майора К. Курумова также были офицере» В армии служил и его брат — прапорщик Пейзула Курумов, являвшийся первым полным Георгиевским кавалером среди горцев. Сам К. Куруше имел немало высших российских военных орденов: Святого Станисяаш Святой Анны (3-й и 2-й степени), Святого Владимира, золотые меш» «За храбрость», «За усердие» и Золотое оружие1. Он был известен такая как талантливый администратор и знаток чеченских адатов.
С 1832 по 1914 гг. три поколения офицеров дала русской армия и фамилия Ахтахановых, владевшая землями по реке Гойти=?и (Сарачан-Юрт). Эта фамилия была связана брачными связями с Mi даровыми и Чермоевыми. Последние в свою очередь породнились, с Саракаевыми.
Большим авторитетом в Чечне пользовались и офицерские семи полковников Шиды Эльмурзаева и Ибрагим-бека Саракаева. Послеяшй был к тому же весьма способным публицистом, опубликовавшим рц статей, посвященных положению чеченцев в Российской империи.
К началу Первой мировой войны большую известность в армейски кругах приобрел генерал артиллерии (полный генерал) Эрисхан Алие* выдающийся артиллерист, отличившийся еще в русско-японской войне, автор ряда учебников для офицерских школ. Выходец из Стари Атагов, он, однако, в Чечне практически не жил. Его сын также стад офицером.
Полковник Ибрагим-бек Саракаев (22, 34)
1 РГВИА. Ф. 407. On. 1. Д. 948. Л. 89 об. — 90; Д. 955. Л. 123 об. — 124.
— 498 —
Чеченское офицерство в процессе формирования национальной элиты
Чеченская офицерская семья. Конец XIX в. Фото (49, 468)
Иррегулярные горские соединения в русской армии. О престиж- ■жгги службы вообще среди чеченцев говорит постоянно отмечаемое ■шандованием служебное рвение рядовых милиционеров Терской стражи и всадников добровольческих иррегулярных соединений. Во зремя русско-турецкой войны 1877—1878 гг. в составе сформированного Чеченского конно-иррегулярного полка, командиром которого стал генерал Орцу (Арцу) Чермоев, отличившийся еще в Крымской войне ♦ 1853—1856 гг.), воевало свыше 800 чеченских добровольцев. Службу в составе полка проходило немало кадровых офицеров: ротмистры Укалат Лаудаев (первый чеченский этнограф, участвовавший ранее и з Крымской войне, в составе одного из казачьих полков, и неоднократно награжденный за храбрость, в том числе и орденом Святой Анны
З-ft степени) и Шахбулат Шерипов, поручик Адиль Алхазов, подпоручики Хату Мамаев и Булат Ян даров, корнет Барахан Таймазов и др. Кстати, практически все офицеры Чеченского конно-иррегулярного ааяка в ходе русско-турецкой войны были награждены орденами, медалями и досрочным присвоением очередного воинского звания1.
Gгнакоев М. П. Чеченцы и ингуши — участники русско-турецкой войны 1877—1878 годов // Вопр. истории Чечено-Ингушетии. Т. 10. — Грозный, 1976. - С. 229.
Глава XI. Экономическое развитие края и изменения в социальной структуре
чеченского общества в начале XX в. (до 1914 г.)
Штаб-ротмистр Чеченского полка Абдул-Межид Кужуев. Фото (50, 39)
Таким образом, иррегулярные полки, формировавшиеся из добровольцев, и постоянная Терская милиция (конная стража) во второ# половине XIX в. обеспечивали постоянное пополнение рядов чеченскою офицерства. Не стал исключением и Чеченский полк «Дикой дивизия», участвовавшей в Первой мировой войне. Из этого полка вышло нема» новых офицеров.
Политические воззрения рядового офицера. Вместе с тем, неями говорить о политической однородности чеченского офицерства в нача* XX в. Так, штаб-ротмистр Абдул-Межид Кужуев занимался революця- онной пропагандой, за что даже отстранялся от службы. Революционные убеждения не мешали ему, однако, быть прекрасным офицером. В сентябре 1914 г. А.-М. Кужуев вошел в строй Чеченского конного псине и за героизм, проявленный в боях, был награжден орденами Святою Станислава (3-й и 2-й степени), Святого Владимира и Георгиевским оружием1.
Из офицерской семьи происходил и чеченский революционер
А. Шерипов, еще в юности увлекшийся революционными идеях*. В революционных настроениях и «подготовке восстания» в начале XX в. был обвинен и прапорщик Кока Ахтаханов. В бытность студент*»
1 Опрышко О. Кавказская конная дивизии: Вот некоторые эпизоды боевого пути шь
визии // Вайнах. — 2002. — № 4. — С. 29.
— 500 —
Чеченское офицерство в процессе формирования национальной элиты
Петербургского института гражданских инженеров, в качестве «поли- шчески неблагонадежного лица», под негласным надзором полиции ■аходился Салих Курумов, впоследствии служивший в частях и учреждениях военно-инженерного ведомства.
Предприниматели. Национальная буржуазия. Представители офицерского сословия входили также и в чеченскую предпринимательскую »1ту. Как уже говорилось, самый известный чеченский нефтепромыш- Ӏенник А.-М. Чермоев не только происходил из офицерской семьи, зо и сам был офицером, получившим ранение в бою. Интересно, что аредпринимательский успех пришел к нему после того, как ему удаюсь взять в аренду нефтеносные участки у селения Алды. При этом А.-М. Чермоев предложил алдинскому обществу не только 30 тысяч рублей в качестве единовременной выплаты, но и гарантировал спе- миальным договором передачу четвертой части доходов от добытой на этих участках нефти1. В то время никто другой не предлагал чеченским крестьянам таких условий, и А.-М. Чермоев имел полное право утверждать, что нефтеносные участки он получил лишь потому, что алдинцы
давно убедились в том, что мне дороги их интересы и что в своей деятельности я всегда готов поступиться своими личными интересами 2ля пользы родного мне селения»2.
Надо сказать, что молодая национальная буржуазия довольно быстро начала осознавать свои собственные интересы, связывая их с интересами чеченской нации. Исходя из этих позиций, требование известного депутата Государственной думы от горцев Терской области I. Эльдарханова — «остановить расхищение природных богатств края 3D полного разрешения земельного вопроса» — можно рассматривать ш как первое проявление претензий национальной буржуазии на контроль над природными ресурсами Чечни.
Кстати, А.-М. Чермоев по своим политическим убеждениям примыкая к либерально-демократическому крылу национальной буржуазии. Особенность формирующегося после революции 1905—1907 гг. чечен- аэого национального движения заключалась в том, что оно выступает как составная часть общегорского движения. Объяснялось это наличием общих проблем, стоявших перед патриотически настроенными лидерами чеченцев, ингушей, дагестанцев, осетин, кабардинцев и других горцев Терской области, да и всего Северного Кавказа в целом. Либерально-демократическое крыло общегорского национального движения включало, помимо Т. Чермоева, таких видных деятелей, как П. Т. Коцев, Bl-Г. Э. Джабагиев, Г. В. и И. В. Баевы и многих др. * **гтаев И. Грозненская нефть и Чечня // Жизнь национальностей. — 1922. —
*9 мая. — № 10(16). — С. 6.
Пит. по кн.: Ефанов К. И. Классовая борьба в чечено-ингушском ауле в период социалистического строительства. — Грозный, 1979. — С. 3—4.
— 501 —
Глава XI. Экономическое развитие края и изменения в социальной структуре
чеченского общества в начале XX в. (до 1914 г.)
Шейхи и офицеры. Хотя офицерское сословие входило в верхуш ку чеченского общества, это вовсе не означало полного отсутствие конфликтов в сложном процессе формирования новой национальна* элиты. Имело место известное соперничество между отдельными представителями разных сословий: офицерства, предпринимателей и духовенства. Вместе с тем, известно и немало случаев тесного сотрудничества шейхов кадырийского и накшбандийского тарикато» с представителями официальных властных структур. Например, Мани шейх, в селении Чулик-Юрт (Знаменское), поселился первоначал ыае у полковника Солты Бисултанова, который даже стал одним из его мюридов.
Наиболее заметным конфликтом между представителем офицерскою сословия и духовенства стало драматическое развитие отношений межз* одним из почитаемых шейхов Притеречья Элах-муллой и полковниииы Шидой Эльмурзаевым, богатейшим жителем Старого Юрта. Суть этот конфликта не совсем ясна, а поводом к нему послужило ограбление доав Ш. Эльмурзаева, в организации которого пострадавший обвинял Эяах- муллу. Решением военных властей Элах-мулла был выслан из Терсювй области и умер в ссылке, хотя его причастность к преступлению тш и не была твердо установлена.
Можно предположить, что сам этот инцидент был использовал администрацией Терской области как предлог для удаления чрезвычайно авторитетного религиозного деятеля, покровительствовавшего к тому же «беспокойным элементам». Известно, что Дени Арсант один из ближайших последователей Элах-муллы, в молодости нередмв возглавлял партии абреков, совершавших лихие набеги на затеречнш станицы.
Позднее, в 1886 г., по обвинению в разбойном ограблении дош Ш. Эльмурзаева терские власти осудили на 12 лет каторжных работ двух абреков — Р. Хасиханова и Я. Мангаева1. Так Ш. Эльмурзаев оказался кровником мюридов шейха, без вины умершего в далекой ссылке.
С гибелью Элах-муллы конфликт не был исчерпан, и в 1889 г полковник Ш. Эльмурзаев был убит из мести на пороге собствен неге дома. К организации этого убийства считался причастным Д. Арса- нов, к тому времени сам признанный шейхом. Поскольку жители Старого Юрта отказались добровольно выдать прямого убийцу, сена подверглось экзекуции: жителей поголовно разоружили и, помимо уплаты большого штрафа в пользу семьи погибшего офицера, они в течение четырех месяцев содержали за свой счет поставленный в селе военный отряд2.
1 РГВИА. Ф. 1300. Оп. 4. Д. 1358. Л. 6 об.
2 Джанаев А. К. Народы Терека в российской революции 1905—1907 гг. — Орджоникидзе, 1988. — С. 96.
Чеченское офицерство в процессе формирования национальной элиты
Шейх Дени Арсанов. Фото (16, вклейка)
Несмотря на весь трагизм конфликта между крупным религиозным жторитетом Чечни и одним из представителей офицерства — он не ■ерерос в противостояние между двумя высшими сословиями чеченского общества.
«Шейхистская» верхушка чеченского духовенства. По информации, которой располагали полицейские власти Терской области, в ^ечале XX в. имущественное положение шейхов было неравномерным. Ц&аример, все имущество шейха Чиммирзы Хамирзаева состояло из однокомнатного дома, покрытого земляной крышей. Другой кадырийский чстаз — Мани-шейх владел саманным домом, оцененным в 100 рублей, Ӏ^ряжной лошадью и коровой. Зато Баматгири-хаджи Митаев владел ш^мя большими домами в Автурах (в одном из которых размещалась •чипгдьманская школа), черепичным заводом, значительным количеством скота, фруктовым садом и участком леса. Увлекался шейх и ярс^зео-финансовыми операциями: помимо мануфактурных товаров на jnoiy 8 тысяч рублей, он имел «...солидный капитал, образовавшийся т ядарохотных даяний его мюридов...».
Аналогичное расслоение заметно и среди накшбандийских шейхов. •£няример, Солса-хаджи Яндаров из Урус-Мартана владел несколь- яш! магазинами и вел оптовую торговлю сельскохозяйственными
— 503 —
Глава XI. Экономическое развитие края и изменения в социальной структуре
чеченского общества в начале XX в. (до 1914 г.)
продуктами. Другой шейх — Абдул-Азиз Шаптукаев возглавил акционерное общество «Староюртовская нефть». Не ограничиваясь вложением в это предприятие собственных средств, шейх обязал своих мюридов купить не менее чем по одной акции компании. Пробовали заниматься нефтяным бизнесом Д. Арсанов и Сугаип-мулла Гайсумов из Шали. Богат был и Юсуп-шейх Байбатыров из селения Кошкельды1.
Крупные шейхи выступают в качестве самостоятельных общественных деятелей, отстаивающих собственные экономические и политические интересы, что объективно способствует сближению этой социальной группы с быстро формирующейся национальной предпринимательской и военно-бюрократической элитой. Это процесс нашел отражение, в частности, в обеих нефтяных компаниях, созданных чеченским национальным капиталом. Так, компаньонами А.-М. Шаптукаева в компании «Староюртовская нефть» выступами крупные чеченские купцы и предприниматели Баширов, Бадуев* Батукаев и Мирзоев, а крупный коммерсант и шейх Юсуп-хаджи Байбатыров известен близостью к нефтяному магнату и офицеру Абдул-Межиду (Тапе) Чермоеву.
Активизация общественно-политической жизни Терской области после первой русской революции способствовала как ускорению процесса сближения разных социальных групп внутри чеченской национальной верхушки, так и развитию связей с формирующимися национальными элитами других народов. На съезде туземных народе» Терека, в Грозном (4 апреля 1909 г.), чеченская делегация включала как представителей офицерства (Ш. Алиев, Т. Чермоев и др.), так и духовны* лиц (А.-А. Шаптукаев, Сугаип-мулла Гайсумов и др.). Позднее эти же лица представлены и на съезде чеченского народа в 1913 г.
* * за¬
главная особенность развития края в 1907—1914 гг. заключалась в том, что наряду с дичающей в приступах колониального шовинизма администрацией и отсталым, колониальным и военно-феодальным землевладением, тормозившим развитие сельского хозяйства, сформировался передовой промышленный и финансовый капитализм в границах Грозненского нефтяного района.
Вопреки воле и желанию отсталой правящей верхушки, видевшей в чеченцах прямого конкурента своим интересам в крае, товарно-денежные отношения в области земледелия и скотоводства развивались. Все это приводило к качественному и количественному росту того же зернопроизводства. Однако предел развитию земледелия горцев
Саламов А. Правда о «святых местах» в Чечено-Ингушетии // Сб. тр. Чечено-Ингушского научн.-исслед. ин-та истории, языка и литературы. Т. 9. — Грозный. 1964. — С. 165.
Чеченское офицерство в процессе формирования национальной элиты
был поставлен недостатком земли. Чеченские крестьяне вынуждены ^ендовать у Терского казачьего войска и у частных землевладельцев столько же земли, сколько они имели до колониального ограбления в 60-х гг. XIX в.
Следовательно, земельный вопрос в Чечне представлял столь же взрывоопасный характер, как в Центральной России вопрос о помещичьем землевладении. В результате крестьянской реформы 1861 г. миллионы русских крестьян получили освобождение от крепостной квисимости, но с обязательством выкупа тех земель, которые они обрабатывали. Вследствие того, что основной массив земель был от- »ргнут в пользу помещиков, крестьяне оказались теперь вынужденными арендовать миллионы десятин земли. Кроме того сохранялась масса сословных ограничений, превращавших крестьян, как и горцев, ■> низший, бесправный класс общества.
Новым явлением стало формирование в Чечне национального рабочего класса — в годы Первой мировой войны в Грозном работа- *> до 3 тысяч чеченцев. Росло отходничество и батрачество. Другим ароявлением новых явлений в развитии чеченского общества стало формирование национальной элиты.
Консолидация социальной верхушки чеченского общества и постепенное превращение ее в национальную элиту было объективным процессом, который в силу противоречивого экономического и ишштического развития Чечни шел медленно и не успел полностью аавершиться в начале XX в. Тем не менее, накануне революционных потрясений 1917 г. и гражданской войны в России уже можно говорить а наметившемся слиянии (еще, правда, полностью не завершившемся) шсшего офицерства, верхушки чеченского духовенства, предпринима- зеяьских кругов и либеральной национальной интеллигенции.
— 505 —
Глава XII. Культура и быт народов Чечни
во второй половине XIX — начале XX вешт
§ 1. Материальная культура
Поселения и жилища. Со второй половины XIX в. происходят значительные изменения в материальной культуре и быте чечеааек. что нашло отражение в типах поселений и жилищ, в одежде и даж в пищевом рационе. Внешний облик поселений и жилищ в Чечне всеж отличался определенным разнообразием, что было обусловлено гем графическими и этнолокальными особенностями различных районе*. Например, облик поселений и жилищ в горной и плоскостной Че^- всегда значительно отличался друг от друга. Эти различия не тояь» сохраняются, но порой и усиливаются.
Классическая террасированность поселений (как это имело маем в соседнем Дагестане) для чеченских горных селений не характерам (за исключением буквально двух-трех): типичными для них являямэ небольшие по численности поселения и немногочисленные жилищ, стоящие порой вплотную друг к другу, но чаще разбросанные. Тип жв- лища основной массы горцев центральной и юго-западной части горной Чечни и во второй половине XIX в. оставался неизменным: наибольшее распространение имели жилые башни в два-три этажа — каменные сооружения, которые по технике исполнения делились на восточный а западный варианты. В восточном варианте жилища, распространенной от правого берега Шаро-Аргуна до Дагестана, деревянные перекрыта* не использовались совсем, а применялся арочный свод, опирающийся на один-два ряда каменных столбов. На запад от Шаро-Аргуна ао Дарьяльского ущелья сводчатые перекрытия применялись только ва первых этажах.
Горское жилище второй половины XIX в. — начала XX в. Фото (74, 61)
— 506 —
Материальная культура
Помимо каменного жилища башенного типа, определенное распространение в горах имели традиционные турлучные и каменные сакли с плоской земляной крышей.
Что касается зажиточной части населения, то у нее появляются большие благоустроенные дома из камня, обработанного под кирпич. Для таких домов характерны большие окна и двери, наличие хозяйственных построек и т. д.
Селения на равнине, да и в восточной части Чечни (Нахч-Мохк) строились в привязке к дорогам и рекам, а поэтому имели значительную протяженность. С ростом числа жителей они приобретают поквартальный вид с довольно четкой планировкой, причем центром квартала служит, как правило, мечеть. Дома в основном имели прямоугольно-вытянутую форму, с узким открытым навесом во всю длину юма. При этом большинство жилых комнат не были связаны между собой и имели выход на террасу. Строили дома на невысоком каменном фундаменте с пространственной ориентировкой на юг и на восток.
Чеченское жилище на равнине, с камышово-земляным покрытием (74, 70)
В предгорной зоне самыми распространенными были турлучные постройки, на плоскости — саманные. Жилища возводились на невысоком каменном фундаменте и имели земляную крышу. С появлением черепицы двускатная земляная крыша стала вытесняться четырехскат- вой, особенно в предгорной зоне, где наблюдалось большое количество осадков. В домах появились деревянные потолки, а в конце XIX в. в нредгорной зоне получили распространение бревенчатые дома и деревянные хозяйственные постройки1.
Новшества во внутреннем интерьере жилищ. В целом, дома состоятельных чеченцев резко отличались от жилища бедняков, как по строительному материалу, так и по своей планировке, а также убранству. Одновременно и повсеместно происходило обновление интерьера чеченского жилища. Появляются новые предметы: керосиновая лам- жа, настольные зеркала, фабричная посуда, металлические кровати,
См.: Кобычев В. П. Поселение и жилище народов Северного Кавказа в XIX—XX вв. — М., 1982; Алироев И., Осмаев М. История и культура вайнахов. — М., 2003.-С 161—170; и др.
Глава XII. Культура и быт народов Чечни во второй половине XIX — начале XX вв.
«русские» столы и стулья. Наиболее зажиточные семьи широко приобретали городскую мебель, ковры и другие предметы, в то время ках менее состоятельные продолжали пользоваться продукцией народных промыслов.
Вместе с тем, сохранился обычай отводить лучшую комнату под гостиную (кунацкую). Причем наиболее зажиточные семьи, имевпше большие и просторные дома, иногда отводили для гостей сразу несколько комнат. В том случае, если дом имел всего одну комнату, &шл приема гостей отводилась лучшая часть, расположенная рядом с очага или печью.
Интерьер старого горского жилища с очагом. Фото (74, 72)
Как подчеркивают современники, жилища чеченцев отличались чистотой, а некоторые предметы обихода имели специально отведенные для них места. Например, ковры или кошмы — «къорза истанг» всегда вешали над кроватью. Посуду частью подвешивали на стенах, частью ставили в специально отведенные ниши — «терхе», которые закрывались занавесками. В кунацкой, кроме кровати для гостя, обязательно ставили сундук, несколько низеньких скамеек и невысокий круглый стол на трех ножках. Часто кровать заменяли деревянные нары, которые застилали в зависимости от богатства коврами, кошмами или циновками («черт»)1.
Интересно отметить, что чеченское жилище делилось обычно зе на мужскую и женскую половины, а в зависимости от хозяйственных функций, выполняемых разными членами семьи. При этом, трудовые
1 ВеликаяН. Я, Виноградов В. Б.у Хасбулатова 3. И., ЧахкиевД. Ю. Очерки этнографизм чеченцев и ингушей (дореволюционный период) — Грозный. — 1990. С. 41—42.
— 508 —
Материальная культура
обязанности распределялись между всеми членами семьи в зависимости огг пола и возраста.
Народные обычаи, связанные со строительством жилища. Строительство новых домов у чеченцев, как правило, сопровождалось соб- жюдением довольно любопытных обычаев. Например, большое значение вридавалось выбору места для будущего дома. Для определения «счаст- жнбого» места, помимо учета рельефа, близости воды и т. п., прибегали и к разного рода магическим средствам. Так, «счастливым» считалось место, где собирались домашние животные. Не рекомендовалось строить яша на спорных участках или там, где когда-то проходила дорога.
Большое внимание уделялось и дням, когда начиналось строительство нового дома. Наиболее благоприятными для строительства считались понедельник, четверг и воскресенье, наиболее неблагоприятным — вторник. Появление в первый день строительства рядом со стройкой подвижного, активного человека — рассматривалось как счастливая примета — дом будет построен быстро. И, наоборот, врисутствие малоактивного человека означало длительное и трудное строительство.
По мере роста уровня жизни, строительство нового дома приобретало все большее значение и считалось делом престижа семьи. Очень часто на строительство направлялись все средства, имевшиеся в распоряжении фамилии.
Жилища казаков. Заметные изменения происходили и во внешнем облике казачьих станиц. После окончания военных действий были уничтожены укрепления вокруг них (рвы, валы, палисады и т. д.). Войсковое начальство теперь более внимательно следит за санитарным состоянием станиц, и во многих случаях из станичных средств специально отпускались средства на их благоустройство. Большинство казачьих домов во второй половине XIX в. были деревянными, рубленными, с высокой остроконечной крышей и окнами, украшенными резьбой. В этом отношении дома зажиточных станичников больше напоминали типичные яостройки донских казаков конца XVIII — начала XIX вв.
Сушка самана в казачьей станице. Фото (74, 72)
Глава XII. Культура и быт народов Чечни во второй половине XIX — начале XX в=
Но при этом довольно широкое распространение в терских и суж- женских станицах получили и дома по типу горской сакли. Зачасгпс в одном дворе можно было встретить и рубленый деревянный дом, v. саманную саклю. Срубные дома казаков возводились на каменном иля деревянном фундамента, покрывались камышом, соломой, чеканом, а у зажиточных семей — дранью, черепицей, реже — железом. Изредка ■ станицах встречались «круглые» дома, похожие на донские курени.
Турлучные дома, как правило, возводились без фундамента ш же на каменных или деревянных стояках по углам жилого строенм. В западной части притеречного района чаще встречалась четырехскатная крыша, в восточной — двухскатная.
Турлучный домик с четырехскатной крышей (74, 69)
Выбор строительного материала, чаще всего определялся окружающим станицу ландшафтом и материальным достатком семей. Там, гае не хватало строительного леса, преобладали турлучные и саманные жилища. Наиболее состоятельные казаки строили большие, иногз* двух или даже трехэтажные дома из обожженного кирпича.
Планировка домов отличалась разнообразием, однако доминировали продолговатые постройки, состоящие из одного или двух жилых помещений, разделенных сенями.
Близкое соседство горцев особенно ощущалось на внутреннем убранстве рядового казачьего дома, в котором обязательно имелась кунацкая, на стенах которой было развешано оружие, а украшением являлись ковры и паласы «азиатской работы». Непременным атрибутом
Материальная культура
казачьей кунацкой также были деревянные сундуки, на которых возвышались перины.
Размеры казачьих поселений и их планировка также были различными. Наиболее крупными по числу жителей были старые терские станицы, часть жителей которых постоянно отселялась на хутора и выселки. На планировку станиц влияли также рельеф местности, состав ее жителей, размер станичного земельного «юрта» и т. д.
Как правило, в центре станиц располагалась площадь, на которой шходилась церковь, станичное правление, хлебные магазины с запасами зерна, торговые заведения. Большинство станиц (за исключением самых маленьких) делились на кварталы, внутри которых казакам отводились земельные участки под строительство домов, хозяйственных построек, а также огород или сад1.
В конце XIX — начале XX в. появление в Терской области большого количества русских переселенцев привело к возникновению новых хуторов и поселений. Поселения эти образовывались, как правило, в результате покупки земель у станиц или частных владельцев. Жилища в поселениях «иногородних» отличались (по сравнению со станицами) большим разнообразием типов и конструктивных особенностей. Более свободно, зачастую просто без планировки, развивались и сами поселения. Впрочем, очень быстро и «иногородние» жители Чечни начали перенимать традиции строительства жилищ у соседних горцев и казаков. Так, непременным атрибутом любого двора становится небольшой домик-мазанка, которую называют «чеченская» или «горская» сакля. Позднее их начнут называть -летними кухнями».
Почти одновременно идет и другой процесс. Станицы и русские поселения все больше приобретают черты, характерные для всего Юга России. Этот процесс наиболее интенсивно развивался в городах и населенных пунктах, расположенных возле железной дороги.
Женская одежда. Новые веяния не обошли стороной и одежду, которую носили чеченцы. Во-первых, изменился покрой традиционной одежды, как в мужской, так и женской одежде появились новые элементы. Кроме того, традиционное «горское» сукно все больше эытесняется фабричными тканями. И, наконец, в обиходе появляется европейский костюм.
Традиционную женскую одежду составляли рубаха («коч») и длинные до щиколоток штаны («хечи»). Этими предметами, в сочетании с головным убором и комнатной обувью, женский костюм в домашних «овиях обычно и ограничивался. Покрой женских рубах-платьев был гуникообразным, с боковым воротом. В начале XX в. у более зажиточной ** 3аседатепева Л. Б. Терские казаки (середина XVI — начало XX в.): Историко-этнографические очерки — М., 1974; и др.
Глава XII. Культура и быт народов Чечни во второй половине XIX — начале XX вв.
части населения получили распространение нижние (нательные) рубаи такого же покроя.
Длина женских платьев-рубах варьировалась: до щиколоток тш ниже колена. Рукава (в отличие от нательных рубах) были длшщ* зауженные к кисти рук, иногда их делали на манжетах, с вышивмвё в линейный орнамент. Носили рубаху без пояса, а во время район или ходьбы подтыкали с боков за пояс штанов. Повседневные рубки шили из домашних или дешевых тканей, в экономически состоятельная семьях использовались дорогие привозные ткани: шелк, атлас, пари бархат и т. д.
Костюм молодой чеченки. Реконструкция (75, 69)
Другим распространенным видом женской верхней одежды 6мл бешмет, который отличался разнообразием типов: повседневный, праздничный, летний, зимний. Различались женские бешметы и из покрою. Наиболее распространенными были бешметы туникообразмоге покроя, со скошенным к груди воротом и длинными зауженными рукавами. Застежки отсутствовали, перепоясывались бешметы матерчатым кушаком из неокрашенного холста. К кушаку обычно подвешивала сумочки-кисеты с различным содержанием (мотки ниток, наперстив, игольницы, монеты, выкройки и т. д.).
Праздничные бешметы шились из дорогих тканей и по покрою черве* сок, подчеркивая верхнюю часть женской фигуры. В горной Чечне чаете
Материальная культура
Чеченка. Середина XIX в. Худ. Г. Гагарин (54, вклейка)
праздничный бешмет шили с короткими, до локтя, рукавами. Ворот, скошенный к груди, имел форму треугольника. Такие бешметы застеги- зллись с помощью воздушных петель и пуговок из крученных ниток.
В целом, повседневная одежда чеченских женщин отличалась свободным, мягким силуэтом.
Особое место в праздничной женской одежде занимали платья •гӀабали». Пройдя длинный путь эволюции, это платье сильно видоизменилось и к XX в. стало распашным. Появляются лопасти на рукавах (причем в разных вариациях), отдельный нагрудник с нашитыми горизонтальными застежками, сшитый из бархата, со стоячим воротником. Украшения для нагрудника, а также пояса традиционно жэсотавливали из серебра и заказывали их у местных и дагестанских мастеров-ювелиров. В комплексе нагрудное украшение и пояс стоили очень дорого — их стоимость часто равнялась стоимости коровы. В богатых семьях «гӀабали» выступало в качестве не только празднич- эой, но и повседневной одежды.
Зимой чеченские женщины носили тулупы и шубы из овчины или ipyroro меха, а также «душегрейки», которые шили из козьих или «эечьих шкур шерстью вовнутрь.
— 513 —
Глава XII. Культура и быт народов Чечни во второй половине XIX — начале XX вв.
Чеченка. Начало XX в. Фото (23, 28)
Большое разнообразие наблюдалось в женских головных уборах. Наибольшее распространение получили платки, самых разных фори. размеров и цветов. Большие головные платки-шали («куортали») изготавливали из козьего пуха, шерсти, шелка и т. д. Размером и цветои платка подчеркивалась возрастная специфика — небольшие платки («йовлакх») одевали молодые девушки. В состоятельных семьях носили привозные платки из шелка и других дорогих тканей. К названии такого платка обычно добавляли название ткани, из которой он 6ы> изготовлен: например, «топта» (тафта) — шелковый цветной платой. Девушки носили платки, сложенные по диагонали, концы завязывали под косами. Что касается замужних женщин, то они концы платка ве завязывали, а затыкали у щек. Уже в начале XX в. в плоскостных селениях девушки начали носить платки, завязывая их «по-русски» — пои подбородок.
Довольно часто замужние женщины носили специальный головной убор «чухта» (волосяной мешок), прикрывавший женские волосы. Для украшения женской одежды использовали галуны, фабричное кружева, металлические застежки, подвески, очень редко — золотое шитье1.
Мужская одежда. Мужская повседневная одежда также состояла из рубахи «коч», такого же покроя, как и у женщин, только более короткая
1 См. материалы из работы: Абдулвахабова Б. Б.-А. Традиционная женская одежл* чеченцев в XVI — начале XX вв. // Вестник ЛАМ. — 2003. — № 17. — С. 34—40.
— 514 —
Материальная культура
Горская Черкесска из селения Дарго. Фото (27, 215)
■ с завязкой или пуговицей у воротника. Широко использовался и бешмет («гӀовтал»), который мог быть и повседневной и праздничной одеждой. В последнем случае он шился из лучшей ткани и на него одевался пояс с кинжалом. Впрочем, праздничные бешметы, сшитые из атласа, были большой редкостью. Зимние бешметы простегивали ватой.
Праздничной одеждой у мужчин считалась черкеска, которую преж- ie шили из домотканого сукна, а затем начали использовать фабричные гкани. Со временем менялся и покрой черкесок. Если в середине XIX в. их шили выше колен и с узкими рукавами, то в начале XX в. чеченцы носят черкески ниже колена и с более широкими рукавами.
Мужские штаны чаще шили из домашнего сукна, позднее перешли на фабричную ткань. По своему покрою штаны зауживали снизу, чтобы удобнее было заправлять их в ноговицы из сукна, сафьяна или выворотной кожи.
Теплая мужская одежда состояла из шуб и тулупов, прилегающих к талии, с продольным швом на спине и воротником типа шальки, иногда с капюшоном. Кроме того, широкое применение находили бурки.
Основным головным убором была папаха из овчины, курпея, козьего меха или каракуля. Форма папахи постоянно менялась. Так, в XIX в. они ■мели форму конусообразного колпака из четырех клиньев, с отогнутым
Глава XII. Культура и быт народов Чечни во второй половине XIX — начале XX вв.
Чеченец в полном традиционном костюме конца XIX — начала XX в. Фото (49, 4&Г
околышем по низу. Такая папаха была нагольной или имела верк, покрытый войлоком. Богатые люди верх папахи покрывали сукшш. Широко применялись и меховые папахи, лучше защищавшие от хаао* да, дождя и снега. В начале XX в. в Чечне получили распространевш прямые высокие папахи из каракуля, а позднее и низкие папахи, iш называемые «кубанки».
Помимо папах, широкое хождение имели войлочные шляпы с боя»- шими твердыми концами из грубой шерсти.
Поверх папах накидывали башлык, украшенный галуном или золота* шитьем. Пояса изготавливали из узкого ремня с металлическими пряж ками и подвесками. Обычно металлические части пояса изготавливали из серебра, а надевали его поверх черкески, бешмета или шубы1.
Обувь. Женская и мужская обувь имели много сходных черт. Обычае чеченцы носили шерстяные вязанные темные или белые носки. Иное* носки делали из сафьяна, туго обтягивающего ногу. Наиболее распространенной в чеченских селениях была простая сыромятная обувь с* швами на носке и заднике, с язычком и завязками у щиколоток — та называемые «наьӀармачаш». Надевали эту обувь на босу ногу.
1 См.: Маргошвили Л. Ю. Мужская одежда вайнахов конца XIX — начала XX в. . Кавказский этнографический сб. — Тбилиси, 1986. — Т. 6; Абдулвахабова В. 5 Традиционная мужская одежда вайнахов в XVI — начале XX в. // Культура ЧечЕ» история и современные проблемы. — М., 2002; и др.
— 516 —
Материальная культура
Более нарядной обувью служили чувяки из сафьяна или шагреневой кожи со швом на подошве и заднике. Пастухи и охотники носили обычно «хулчиш» — обувь из сыромятной кожи, с подошвой из плетеных ремней.
Зимой носили «бӀоржамаш» — обувь из войлока. У мужчин эта обувь доходила до колен, у женщин — была более короткой. Иногда «оӀоржамаш» украшали аппликациями из кожи.
Праздничная женская обувь «пошмукхаш» представляла собой туфли с глухим носком, без задника, на твердой подошве с каблучком. Носок часто делали из цветной кожи, бархата, украшали вышивкой. Такую же обувь делали для мужчин, только на деревянной подошве, вдгторую носили по грязи, одевая прямо поверх мягкой обуви. Более состоятельные люди в плохую погоду носили так называемые «екъа галош» (кожаные галоши) на толстой подошве, с широким носком, твердым задником из двух слоев кожи и низким каблуком.
Уже в начале XX в. появились резиновые калоши, а еще раньше — сапоги и другая обувь фабричного изготовления1.
Детская одежда не имела половых различий; в большинстве случаев она переходила от старших детей к младшим или ее шили из старой оаежды родителей. Только в подростковом возрасте появлялись различия в одежде мальчиков и девочек.
В целом, по мере того, как чеченцы все шире втягивались в экономическую, политическую и культурную жизнь России — все более широкое применение находит европейская одежда. Социальная верхушка первой начала вводить в обиход новые предметы быта, в том числе и ояежду. Постепенно эти изменения затронули и более широкие слои чеченского общества: «Даже самый внешний вид горца меняется — все чаще и чаще национальный костюм заменяется блузой мастерового или пиджаком торговца; вместо кинжала — аршин, вместо ружья — кирка и аом чернорабочего. Меняются и взгляды горца, он, прежде с презрением относившийся к торговле, теперь только и мечтает о лавке...»2
Национальная пища. Основной пищей подавляющего большинства чеченцев остаются чурек из кукурузной муки, рассол из-под сыра, галушки с отварным мясом. Вместе с тем, национальная кухня стано- Ш1ся более разнообразной как за счет того, что перенимаются блюда «з кухни соседних народов, так и за счет появления новых рецептов изготовления хорошо известных кушаний. Например, кукурузный чурек йог приготовляться с добавлением животного сала, молодых побегов кршшвы, щавеля и т. д.
В целом, наибольшее распространение среди чеченцев имели мучные я молочные блюда. Так, кукурузная мука использовалась не только для
Алироев Ку Ошаев М. Указ. соч. — С. 198—200.
- Цаликов А. Кавказ и Поволжье. — М., 1913. — С. 54.
— 517 —
Глава XII. Культура и быт народов Чечни во второй половине XIX — начале XX вв.
изготовления чуреков, но и множества других блюд: каши, лепешки резных видов и форм. Хлеб из пшеничной муки выпекался по нескольвш рецептам. Традиционная лапша изготавливалась из двух видов мупх галушки делались как из кукурузной, так и пшеничной муки; каш* изготавливали из проса, крупы, овсяной, кукурузной и пшеничной муки. Любили чеченцы также блинчики и небольшие кусочки теста, испеченные в растительном масле («локъмаш»).
В качестве приправ употребляли мед, масло, сметану.
Из первых блюд широкое распространение получили различные супы: мясной с картошкой, с фасолью, лапшой, клецками и т. д.
Одно из любимых народных кушаний — пироги: чӀепилгаш (тоние пироги с подсоленным творогом или сыром с луком), хингалаш (с тыкиА далниш (с сыром, луком и внутренним жиром), чуданаш (с рубленым внутренностями) и др. Деликатесом считался слоеный пирог — кхаллар При его изготовлении тонко раскатанный слой теста накрывался таюш же слоем из недозревших абрикос, слив, алычи, яблок и т. д., высушенных в тени. Этот слой накрывался слоем топленного масла, меда, льнянир* масла. Все это сверху вновь покрывалось слоем теста.
Питание состоятельных семей отличалось большим разнообра» ем — в их рацион прочно входят голубцы, завернутые в виноградша? листья и пельмени («курзанаш»).
На втором месте по употреблению после мучных продуктов п*щ молочные: молоко, простокваша, сметана, сливочное масло, топлеавг масло, сыр, брынза, сыворотка, пахта и др. Самое распространеи- ное национальное блюдо из молочных продуктов: творог (реже сырт со сметаной («т1о-берам») или с топленым маслом («къалд-берам^ К последнему подавались галушки из кукурузной муки.
Мясо не было повседневной пищей — его обычно подавали на торжествах, свадьбах, похоронах, когда принимали гостей. В богатых семьях мясо употребляли гораздо чаще. Из мясных блюд чеченской национальной кухни наибольший интерес представляет «самаг» — рубленое сердце, почки, печень, специи, которые заворачивали в шкуру ■ пекли на углях. Чеченцы из мяса делали также шашлыки двух разновидностей, «баӀарш» — рубцы, приготовленные по особому рецепту, > другие блюда. Мясо также заготавливали впрок: вялили, изготавливал* колбасные изделия, запасались курдюками.
В пищу употреблялась и разнообразная домашняя птица: куры, гуси, утки, позднее получили распространение индейки. Для приготовления кур применялись разнообразные рецепты: запекали на углях, употребляли в отварном виде, в том числе с галушками и с соусом из поджаренного лука, муки, с добавлением молока и специй.
Довольно широко употреблялись и дары природы. Лесные ягоды, плоды дикорастущих деревьев, различные травы и коренья не только
— 518 —
Материальная культура
тпотребляли в свежем виде, но и делали заготовки: сушили, мариновали, толкли. Из алычи, сливы и мушмулы получали растительную жидкую массу, которую разливали тонким слоем и высушивали. Разнообразные блюда приготавливали из крапивы и черемши. Последнюю употребляли в отваренном виде, с топленым маслом, ошпарив кипятком, и с уксусом, мариновали в рассоле из-под сыра.
В конце XIX в. широкое распространение получил картофель, который употребляли в вареном, жареном и печеном виде, добавляли в различные супы, использовали в качестве начинки и пюре.
Беднейшие слои по-прежнему широко употребляли фасоль с чуреком. Ели также фасолевый суп с кукурузными клецками. Большим подспорьем была рыба и дичь. Из широко известных в прошлом алкогольных и безалкогольных напитков (их было до десяти видов) к началу XX в. под воздействием российских новаций остались только 1ва: вино и водка.
Появление по соседству большой массы русского населения, расширение торговых и экономических связей, оживление культурного обмена начинает постепенно проявляться и в питании чеченцев. Наряду с традиционным чуреком в чеченских семьях начинают выпекать •русский» хлеб, готовятся щи и борщи, появляются новые виды овощей и ягод — помидоры, редиска, клубника и др1.
Развитие прикладного искусства. Деревообработка. Несмотря на вачавшееся во второй половине XIX в. широкое внедрение фабрично- мводских изделий, продукция народных промыслов (обработка дерева, металлов, камня, глины, шерсти и кожи) подчас обладала таким высоким качеством, что выдерживала конкуренцию. Вместе с тем происходят н существенные изменения в традиционном прикладном искусстве чеченцев, что было неизбежно.
Наиболее заметные изменения произошли в обработке дерева. Явно под влиянием близкого русского соседства чеченцы начали шире приме- вять орнамент для украшения ставень, наличников и веранд. Токарные станки самых разнообразных типов (от примитивных — с вертикальной осью вращения, наподобие гончарного круга, — до станков с механическим приводом в действие при помощи воды) были широко распростра- вены в чеченских селениях. Зимнее время горцы коротали, занимаясь изготовлением различных изделий из дерева: чашек, мисок, ложек, тарелок, подносов, маслобоек, стульев и т. д. В отличие от прошлых лет эти изделия теперь часто покрываются узорами в виде геометрического орнамента. Таким же орнаментом украшались в домах перегородки и опорные столбы, а также кровати, табуретки, шкатулки и сундуки.
1 См., Хасбулатова 3. И. Пища в семейно-бытовой обрядности чеченцев и ингушей // Новые материалы по археологии и этнографии Чечено-Ингушетии. — Грозный, 1987; Алироев И.у Осмаев М. Указ. соч. — С. 201—214.
Глава XII. Культура и быт народов Чечни во второй половине XIX — начале XX вв.
Резные фляги и пороховницы горцев Чечни. Фото (3, 131)
Обработка металлов. Традиционно наиболее развитым в Чечве считалось изготовление холодного оружия. Этот вид кустарного промысла в целом благополучно дожил до начала XX в., однако и в нем произошли существенные изменения. Главное внимание теперь унг- ляется не качеству самого клинка, а его художественной обработке. Больше сил затрачивается также на украшение ножен. При этом саш технология обработки металла для изготовления клинков практически не изменилась — мастера только упростили процесс, так как уровень требований к качеству металла снизился.
Между тем, хороший клинок изготовлялся долго и трудно. Обычное железо калили на буковом древесном угле, а затем помещали i сырое место, где давали ему основательно проржаветь. Затем его вновь прокаливали и обрабатывали, полностью избавляя от ржавчины. Эи операция повторялась вновь и вновь, пока мастер не убеждался, чтв осталось только чистое железо, стойкое к процессу коррозии.
Сам клинок формировался следующим образом: на стержень из мягкого, хорошо прокаленного железа («буьйда эчиг») «надевали» булат после чего клинку придавали окончательную форму.
Закалку клинка производили самыми различными способами: на ветру, при помощи воды, различных жиров (предпочтение отдавалось волчьему и медвежьему жиру), песка, соли и т. д. Закалке подвергали не только весь клинок целиком, но и отдельные его части, что позволяло создавать ребра натяжения, делавшие клинок гибким. Качество закалки определялось при помощи особого напильника «габст», а затем опробовали его на нижней стороне вытянутой части наковальни — клинок должен был резать железо наковальни без вреда для себя.
Материальная культура
Образцы чеченских кинжалов второй половины XIX в. Фото (4, 117)
Для заточки клинка, а также шлифовки его поверхности до зеркального блеска, применялись различные точильные камни, а также смесь песчаной трухи.
В конце XIX в. в Чечне имелось немало известных мастеров-ору- жейников, например: Муса из Дарго, Азиз и Камал из Шали, Талхиг из Атагов, Махьмад из Джугурты. О последнем мастере говорили, что он знал технологию изготовления клинков семи видов, однако, в основном, изготавливал клинки трех, самых простых, разновидностей. Лишь один раз ему довелось изготовить клинок четвертого вида, а наиболее сложные технологии, которыми он владел, так и остались невостребованными К
В целом же, как уже говорилось, холодное оружие приобретает ярко выраженный парадный вид. Поэтому главное внимание теперь уделяется украшению рукояти, которую изготавливали из кости или рога. Особенно ценятся рукояти, покрытые орнаментом, золочением и т. д. Ножны, изготовленные из дерева, покрывали дорогим сафьяном и дополнительно украшали серебряными накладками. Особенно тщательно украшался наконечник ножен. 11 См.: Хасиев С.-М. А. Из истории развития кустарных промыслов чеченцев и ингушей в дореволюционном прошлом (обработка металла и камня) // Хозяйство и хозяйственный быт народов Чечено-Ингушетии. — Грозный, 1983; Асхабов И. Чеченское оружие. — М., 2001; и др.
Глава XII. Культура и быт народов Чечни во второй половине XIX — начале XX вв.
Горская утварь. Фото (4, 98)
Украшения в виде орнамента появляются и на всех металлических изделиях чеченских кузнецов. Кувшины для воды, кумганы, подноси тазы, половники, совки и другие предметы, изготавливавшиеся из железа и меди, теперь украшаются точечным и растительным орнамент» Благодаря своей простоте, удобству в пользовании и красоте, издедге чеченских мастеров довольно успешно выдерживали конкурент» с фабрично-заводскими изделиями.
Обработка камня. По мере того как у чеченцев все более широкое распространение получал обожженный кирпич, падал спрос ш обработанный камень, который раньше широко использовался при строительстве жилищ и хозяйственных построек, например, водяных мельниц. Устойчивый спрос наблюдается только на изготовлен» надмогильных памятников («чурт»), которые традиционно делали из камня, украшенного резьбой. Профессия камнерезчика не считалась у чеченцев почетной, и ее обладателям не полагалось никаких привилегий. Тем не менее, красиво оформленные надгробные памятник» ценились достаточно высоко. Кроме того, время от времени появ**- лись другие заказы.
Выделка изделий из шерсти и кожи. Конкуренция дешевых фабричных тканей уже во второй половине XIX в. привела к сокращение производства домотканого сукна. В целом, однако, обработка шерсти продолжала процветать. Ее обработка, беление и окраска представляя» собой сложный процесс, в котором использовались естественные красители: марена, корень дикой яблони, кора граната, дуба, ореха.
Если одежду теперь шили, в основном, из фабричных тканей, то самые разные изделия из войлока (ковры, паласы, бурки) по-прежнему изготовлялись вручную. Национальные шерстяные и войлочные ковры покрываются узорами, разнообразными по форме и цвету. Украшаютс я
Материальная культура
Образцы камнерезного искусства. Фото (4, 185)
также переметные сумы, конские попоны и другие изделия. Колорит войлочного ковра зависел от места его изготовления, растительности, произраставшей там, и являлся выражением эстетических взглядов не только конкретных мастериц, но и художественных вкусов народа. Излюбленные цвета для войлочных ковров у чеченцев были ярко-желтый, оранжевый, красный, зеленый, черный и синий. Цветовая гамма чеченских ковров была яркой, а орнамент, в основе которого лежали символические изображения солнца, полумесяца, звезд, растительные и животные мотивы, имел простую, строгую форму.
В отличие от предыдущего периода, когда одежда практически не имела украшений, теперь она украшается золотыми, серебряными и шелковыми нитями. Ими покрываются не только черкески и бешметы,
Глава XII. Культура и быт народов Чечни во второй половине XIX — начале XX вв.
Образцы золототканых вышивок конца XIX в. Фото (18, 172)
но и башлыки. Появляются и новые предметы туалета: женские шатэж- ки, передники к женскому платью, сумочки для хранения рукоделии футляры для часов и т. д.
Вне фабричной конкуренции оставалось производство седел, сбруи и некоторых поясов в чеченских аулах. Некоторые изделия достигав подлинно художественных высот.
Чеченское седло второй половины. Фото XIX в. (18, 172)
— 524 —
Материальная культура
Ювелирное дело. Соответственно растет спрос на ювелирные из- шёшня. Местные ювелиры работают в основном с серебром, которым украшались мужские и женские пояса, газыри, конская сбруя; изготав- шзались ожерелья, браслеты, серьги, кольца (в том числе и мужские ■ерстни), нагрудники, кувшины, подносы и т. д. Узоры, которыми «срывались изделия, делались гравировкой, чернением и позолотой, мсечкой на стали золотом (так обычно украшались клинки), а также да серебряных проволочек филигранью с применением эмали, которую кривозили из Ирана.
Женский нагрудник и пояс конца XIX в. Серебро, бирюза, золотая чеканка.
Фото (4, 161)
Особенно дорого ценились традиционные женские украшения — эояса и нагрудники, которыми пользовались не только чеченки, но ■ казачки. Изготовляемые из серебра, они покрывались филигранью, растительным орнаментом, зернью и чернью. Неповторимость им яридавали вставки глазков из красного и голубого полудрагоценного камня.
Орвамент, характерный для серебряных деталей чеченского оружия и снаряжения конца XIX — начала XX вв. (4, 191)
Глава XII. Культура и быт народов Чечни во второй половине XIX — начале XX вв.
Гончарное производство. Изменения коснулись и гончарного производства, которому какое-то время удавалось выдерживать конкуренцию с посудой фабричного изготовления. Во второй половине XIX я. чеченские гончары значительно больше вниманию начинают уделять украшению своих изделий. Особенно широко применяется зигзагообразный, веревочный орнамент. Но уже в начале XX в. изготовление глиняной посуды сильно сокращается1.
§ 2. Семья и обрядность. Народные знания
Семья и семейный быт2. Во второй половине XIX в. господствующее положение в чеченском обществе занимает малая семья, хотя встречаются еще и так называемые «большие семьи» (семейные общины), включавшие в себя несколько поколений родственников с их женами и детьми, которые считались потомками одного отца.
Сохранение семейных общин было обусловлено особенностями хозяйственного и общественного быта. Причем малая семья, в силу хозяйственной необходимости, могла со временем перерасти в большую неразделенную семью. Совместное проживание нескольких индивидуальных семей обычно связано с особенностями земельных отношений — совместным владением неразделенным участком пашни, сенокоса или пастбища. Значение имели также и сохраняющиеся в обществе родственные связи. Способствовала сохранению большой семьи и налоговая политика российской администрации: подати собирались с каждой отдельной семьи (дыма), и поэтому дробление семей приводило к нежелательному увеличению налогового бремени. Тем не менее, большая семья не была характерной для Чечни. Их число редко превышало 3—4% в тех или иных обществах.
Малая семья у чеченцев называлась «доьзал», а большая семья имела несколько названий, указывающих на хозяйственное и кровное родство ее членов: «люди одного дома», «люди одной крови».
Традиционно родство велось по прямой линии — прадед, дед. отец, сын. Члены семейной общины считались равными потомками
1 Материалы по кустарным промыслам и ремеслам чеченцев второй половины XIX — начала XX вв. см.: Маркграф О. В. Очерк кустарных промыслов Северного Кавказа с описанием техники производства. — М., 1882; Вертепов Г. А. Очерки кустарных промыслов в Терской области // Терский сб. Вып. 4. — Владикавказ 1897; Хозяйство и хозяйственный быт народов Чечено-Ингушетии. Сб. статей. — Грозный, 1983; Хасиев С.-М. А. Указ, соч.; и др.
2 Здесь и далее см. по теме: Великая Н. Н. и др. Очерки этнографии чеченцев и ингушей. — Грозный, 1990. — С. 66—69; Семейно-бытовая обрядность вайнахов. Сб. статей. — Грозный, 1982; Хасбулатова 3. И. Пережитки большой семьи у чеченцев в конце XIX — начале XX вв. // Проблемы истории СССР. — М., 1979. — Вып. 9: Арсанукаева М. С. Семейное право у чеченцев в XIX — начале XX вв. // Культура Чечни. История и современные проблемы. — М., 2002; и др.
— 526 —
Семья и обрядность. Народные знания
явного предка. Но в чеченском обществе существовали также и не ^аюнородственные связи, по которым в состав семьи могли входить ■ночные братья и сестры. Этот обычай широко практиковался по всему Кавказу. Существовал у чеченцев и обычай усыновления чужеродцев или Ӏрвтания. Для этого достаточно было, чтобы желающие породниться встроили угощение, после которого выполнялись некоторые обряды.
Семьи в Чечне относились к семьям отцовского типа и объединяли яреяставителей от двух до трех поколений. Изредка встречались и семьи братского» типа. Главой семьи отцовского типа был отец — «цӀиен- 9» (буквально — «отец дома», «хозяин дома»). Если после его смерти гшвой становился старший из братьев, то он уже не мог единолично, ■тез согласования с другими братьями, решать вопросы хозяйственной я общественной жизни семьи.
Основой экономического существования семьи являлось ведение совместного хозяйствова, в котором участвовали все ее трудоспособные члены. Каждому отводилось свое место в совместной трудовой янггельности, да и вся внутренняя жизнь семьи отличалась строгой организацией. Глава семьи представлял ее на сельских сходах, перед администрацией, решал все внутрисемейные проблемы. Женской честью семьи руководила либо мать хозяина, либо жена (старшая ■еншина) — «цӀиеннана» («мать дома», «хозяйка дома»). При решении ■мгоолее важных вопросов она наряду с мужчинами принимала участие в семейном совете. При этом у чеченцев было не принято, чтобы глава семьи и другие мужчины вмешивались в жизнь женской половины.
Трудовые обязанности в семье строго распределялись между муж- чжнами и женщинами. Мужчины занимались земледелием и скотоводством, на женщин же было возложено ведение домашнего хозяйства и сезонные работы в поле.
Имущественные отношения внутри семьи. Чеченская семья владе- ш не только частью общинной собственности в ауле (пай), но и личной девственностью. Последняя состояла преимущественно из дома, орудий •руяа, одежды и предметов индивидуального пользования. У мужчин ш праве личной собственности находилось и оружие.
Особый характер имела собственность замужних женщин, основу которой составляло приданое. Постепенно личная собственность ■ешцины увеличивалась за счет личного труда и подарков, которые at лелали родственники. Все деньги и материальные средства, заработанные мужчинами, переходили в коллективную собственность, но это яквило не распространялось на заработки женщин.
С раннего детства, когда девочке начинали готовить приданое, у ■ее появлялась собственность, которая сохранялась за ней всю жизнь. Обычно в состав приданого входили постельные принадлежности, мгжяа, украшения, мелкий и крупный рогатый скот, швейная машинка
Глава XII. Культура и быт народов Чечни во второй половине XIX — начале XX вв.
и т. д. Личной собственностью женщины считалась и часть калыма («урдо»), причитавшаяся ей на случай развода. Как правило, это была корова, позднее — ее стоимость серебром.
Имущественно-правовые взаимоотношения между членами семьи в полной мере начинали проявлять себя только в случае ее дальнейшего дробления после смерти главы семьи. Если сыновья не хотели жить совместно — происходил раздел имущества. В отличие от других народов Кавказа, у чеченцев не существовало отдельной доли для неженатого сына. Не имел привилегий в виде отдельной доли и старший сын. Скорее, наоборот, у чеченцев основную долю наследства (отцовский дом и имущество) получал младший сын, на котором лежала забота о матери и незамужних сестрах.
Во второй половине XIX в. сохранившиеся большие семьи начинают распадаться и при живом главе семейства. В основе этого процесса стояло развитие товарно-денежных отношений, которое делало большие семьи экономически невыгодными. Обычно к разделу большой семьи готовились заранее: строили или покупали жилые и хозяйственные постройки, готовили усадьбы. Женатых сыновей начинали отделять сразу же после рождения первого ребенка. Лишь один из них, обычно младший, оставался жить с родителями.
Экономическим фундаментом чеченской семьи, даже в условиях слабого развития товарно-денежных отношений, являлась частная собственность на землю и скот. Земля (пашни, пастбища, сенокосы) являлась важнейшим средством производства и средством существования семьи. Другой основой хозяйственной самостоятельности семы; являлся скот, который традиционно выступал мерой стоимости и платежной единицей при крупных торговых сделках, уплате калыма, выкупе за увечье и т. д.
На правах собственности семьи владели также жилыми и хозяйственными постройками. Причем у чеченцев существовали понятия «ц1а» (дом) и «доккха ц1а» (большой дом), служившие для обозначения дома как материальной единицы, так и для обозначения семейной группы, связанной узами близкого родства. Так, преклонных лет родители могли жить в «большом доме», к которому женатые сыновья пристраивали свои комнаты. Могли они построить и небольшие домики в общем дворе, которые являлись второстепенными по хозяйственным и общественным функциям — в них только спали и выполняли какие- либо подсобные работы.
Разложение патриархальной семьи. В целом, несмотря на существование ряда факторов, способствующих сохранению большой семьи, во второй половине XIX в. ускорился процесс разложения большой патриархальной семьи, являвшейся во второй половине XIX в. своеобразным реликтом в чеченском обществе. Побывавший в 1886 г. в Чечне
— 528 —
Семья и обрядность. Народные знания
русский исследователь Н. Н. Харузин отмечал: «За последнее время среди чеченцев и ингушей все чаще происходят семейные разделы... Прежние большие семьи распадаются все более и более на несколько самостоятельных небольших семей, получающих каждая новый наследственный надел от общества»1.
К этому времени, в 24-х крупнейших чеченских селениях семьи, состоящие из 5 человек (одно—два поколения), составляли 56,9% всех семей, от 6 до 10 человек (два—три поколения) — 39,6%, до 15 человек («большие» семьи) — 3% и свыше 16 человек — всего 0,5%. Только за три года, с 1883 по 1886 гг., в 16-ти крупнейших плоскостных селениях число самостоятельных семей возросло с 4810 до 5381 или на 14,2%2.
Таким образом, социальная структура чеченского общества изменялась, приспосабливаясь к новым экономическим отношениям, все шире вторгавшимся в жизнь крестьянства. Этот положительный процесс тормозился наличием крестьянской общины и уравнительным распределением земли, вследствие чего молодым семьям оказывалось не просто получить от общества полноценный земельный пай. Получение земельного пая было чрезвычайно важно для выделения отдельной малой семьи, так как экономическим фундаментом типичной крестьянской семьи являлось владение землей и скотом. Разного рода промыслам, за исключением семей ремесленников, отводилась вспомогательная роль.
Имущественная и социальная дифференциация. Имущественное расслоение чеченского крестьянства заметно ускорилось со второй по- швины XIX в., что являлось объективным следствием развития капиталистических отношений. Наряду с богатыми семьями, которые сосредотачивали в своих руках значительные земельные массивы и большое шличество скота, в том числе рабочего, появляются малоземельные, а го и вовсе безземельные бедняцкие хозяйства.
Расслоение крестьянства сопровождалось формированием новых социальных групп и слоев в чеченском обществе: национальной буржуа- ззш, офицерства и чиновничества, интеллигенции. Верхушка чеченского зуховенства — шейхи, так же постепенно вливались в новую социальную верхушку. Предпринимательская национальная элита включала в себя сельскую, торговую и промышленно-финансовую буржуазию.
Общая численность социальной верхушки чеченского общества оставалась незначительной. В сельской местности богатыми считались яриблизительно 8,6% хозяйств, сосредоточивших в своих руках до трети
Харузин Н. Н. О юридическом быте чеченцев и ингушей // Сб. по этнографии. Вып. 3. — М., 1888. — С. 124.
- Гриценко Н. Я. К вопросу о социально-экономических отношениях в Чечено- Ингушетии в пореформенный период // Известия Чечено-Ингушского науч- но-исслед. ин-та истории, языка и литературы. Т. 5. Вып. 1. — Грозный, 1964. — С 10—11.
Глава XII. Культура и быт народов Чечни во второй половине XIX — начале XX вв.
всех средств производства1. Учитывая, что более 90% чеченцев жили в сельской местности, можно считать, что зажиточная часть чеченского общества составляла не более 10%, а по настоящему богатых фамилий, владевших солидными капиталами в сотни тысяч и миллионы рублей, было всего несколько десятков. Косвенным доказательством этому может служить то обстоятельство, что в начале XX в. в Грозном насчитывалось всего 53 больших дома, принадлежавших чеченским богачам2.
Положение женщины в чеченском обществе. Определенные изменения происходили и в положении женщины в чеченском обществе. Традиционно у чеченцев женщины пользовались большей свободой, чем у соседних кавказских народов: не только незамужние девушки, но и замужние женщины не прятались в присутствии мужчины. Хотя женщина обязана была уступать дорогу мужчине, но и тот со своей стороны должен был демонстрировать уважение к ней. Например, вооруженным мужчина должен был проехать или пройти мимо женщины таким образом, чтобы его оружие не было направлено в ее сторону. Любое мщение, в том числе и на почве кровной мести, не могло иметь место в присутствии женщины. Как уже говорилось, женщина сама распоряжалась своим личным имуществом, кроме того, считалось неприличным когда мужчина вмешивался в порядок ведения домашнего хозяйства.
По неписаным чеченским законам-адатам убийство женщины оценивалось в две крови мужчины, в то время как по шариату в половину крови.
Вместе с тем, в родительском доме женщина полностью зависела от воли отца и братьев, а выйдя замуж — от мужа. Согласно нормам адата и шариата, в юридическом отношении женщина в чеченском обществе также оставалась неравноправной по отношению к мужчинам.
В начале XX в. многие семьи, представлявшие социальную верхушку чеченского общества, стремились уже дать хорошее образование всем детям, а не только сыновьям. Например, в семье Чермоевых прекрасное европейское образование получили дочери Зейнаб, Тамара. Митта и Дара3.
Семейная обрядность и традиции. В чеченских семьях продолжали существовать многие древние традиции и обряды, представляющие собой архаичные формы отношений полов. Так, имели место ряд запретов, действовавших между мужем и женой, снохой и родственниками мужа, зятем и родственниками жены, родителями и детьми. В соответствии с ними, жених в течение всего свадебного периода оставался в доме
2 Индербиев М. Т. Очерки здравоохранения Чечено-Ингушетии. — Грозный, 1972. — С. 18.
3 ГАРФ. Ф. Р-5677. Оп. 2. Д. 255. Л. 81.
3 Образы во времени // Байнах. — 1996. — № 1. — С. 24—25.
— 530 —
Семья и обрядность. Народные знания
одного из своих друзей иди родственников. Он не только не посещал невесту, но и не показывался гостям, а также своим родителям. После бракосочетания первое время он должен был приходить к невесте тайком, не афишируя свои визиты.
Невестка в течение определенного времени не имела права разговаривать с родителями, родственниками и друзьями мужа. Если в отношении женщин этот запрет действовал недолго, то мужчины должны были преподнести невестке подарки или дать ей денег, сопровождая приношение просьбой заговорить с ними. Этот обычай известен под названием «мотт бастар» (буквально — «развязывание языка»). Свекор, обычно, снимал запрет последним, причем его подарок должен был быть самым дорогим. В зависимости от состояния семьи он мог подарить снохе корову или другую скотину. Но даже после этого, невестка не имела права, без особой на то необходимости, первая заговорить со свекром.
Зять в присутствии родственников жены обязан был вести себя сдержанно, вежливо, уступать им во всем и всячески угождать. Считалось также неприличным, если муж часто находился в обществе жены. Супруги не называли друг друга по имени, а жена не должна была также называть по имени ближайших родственников мужа. В присутствии старших или посторонних муж не входил в помещение, где находилась его жена и дети, не брал на руки детей и не ласкал их1.
Свадебная обрядность. В Чечне были распространены три формы брака: брак по сватовству, брак умыканием невесты и брак, когда невеста убегала из дому. При этом и адаты, и шариат запрещали браки мусульман с иноверцами, а, кроме того, общественное мнение в целом неодобрительно воспринимало национально-смешанные браки. Строго соблюдался принцип экзогамии. При заключении брака важную роль играло и сословно-имущественное положение сторон вступающих в брак — неравные браки были редкостью. Не допускался и переход мужчины в дом родителей невесты. Несмотря на сильное влияние исламских традиций, многоженство в Чечне не получило особого распространения. Обычно две и больше жен имели состоятельные люди.
Досвадебные и свадебные обряды чеченцев охватывали не только породнившиеся семьи, но и широкий круг родственников, друзей, знакомых и соседей. Свадебная церемония не обходилась без участия муллы, который, помимо всего прочего, заключал с отцом невесты соглашение — «мах бар», без которого брак не считался законным. Величина калыма зависела от имущественного и социального положения сторон — у состоятельных семей он был весьма большим.
См.: Смирнова Л. С. Семья и семейный быт народов Северного Кавказа. — М., 1983; Хасбулатова 3. И. Из опыта народной педагогики вайнахов (XIX — начало XX вв.) // Новые археолого-этнографические материалы по истории Чечено-Ингушетии. — Грозный, 1988; и др.
Глава XII. Культура и быт народов Чечни во второй половине XIX — начале XX вв.
Прощание. Худ. Х.-Б. Мусаяссул (54, вклейка)
У чеченцев брачный возраст для мужчины наступал после 16—17 лет. женщины могли вступать в брак в 15—16-летнем возрасте. Обычно браки заключались в более позднем возрасте, так как большинство юноше* не имело возможности собрать средства для уплаты калыма. Бывали, правда, случаи, когда родители невесты отказывались от калыма.
Строго запрещались браки между родственниками как по мужской, так и по женской линии. Считалось также неприличным, если млая- шие в семье вступали в брак раньше старших. Хотя при заключении брака большая роль принадлежала родителям, молодые люди (в tow числе и девушки) имели возможность знакомиться друг с другом и таким образом выбирать себе спутника жизни. Этой цели служили различные традиции: «белхи» — совместные общественные работы, «синкъерам» — молодежные вечеринки, «ловзар» — свадьбы, «хин йистехьа» — встречи у источника. Общение молодых людей, конечно же, ограничивалось строгими правилами, но, тем не менее, позволяло им узнать друг друга.
Несмотря на усиление роли ислама в повседневной жизни, чеченцы упорно сохраняли обычаи досвадебного ухаживания, объясняя это необходимостью избегать «войн в семье, у очага», которые неизбежны, когда в брак вступают совершенно незнакомые люди.
Сам процесс сватовства, а затем и свадьбы сопровождался исполнением множества обрядов, включая обмен подарками и т. д. Исполнялись и магические обряды, призванные гарантировать появление у молодоженов здорового и многочисленного потомства. Например,
Семья и обрядность. Народные знания
до сих пор сохранился следующий обычай: когда невеста входит в дом жениха, ей на колени сажают мальчика, что должно обеспечить рождение наследника1.
Родильные обряды. Воспитание детей. Появление на свет ребенка также обставлялось у чеченцев различными обрядами, выполнение которых начиналось еще задолго до родов. Поведение беременной женщины обставлялось целым рядом условностей. Так, ее берегли от испуга, не разрешали после заката ходить за водой, выбрасывать мусор или выливать воду на улицу. Также ей запрещалось смотреть на покойника, посещать похороны и оплакивать умерших родственников. Чтобы не родился ребенок с «заячьей губой» или другими физическими недостатками, беременной женщине нельзя было смотреть на зайца или осла.
Роды обычно происходили в доме мужа, в комнате брачной пары, а принимала их сельская бабка-повитуха. Муж во время родов не имел право находиться в доме и возвращался только через пять дней. Причем первое время он обязан был не обращать внимания ни на жену, ни на новорожденного.
Уже после родов проводилось еще несколько обрядов: «ц1е тил- лар» — наречение имени, «аганчу баьр диллар» — буквально: помещение ребенка в колыбель, стрижка первых волос, ногтей, первые шаги, появление зубов и т. д.
Воспитание детей младшего возраста целиком было возложено на мать. Только по достижении 6—7 летнего возраста мальчиков отделя- m от девочек, и они переходили к старшим по возрасту мужчинам. Воспитанием девочек по прежнему занималась мать, которая учила их ведению домашнего хозяйства. В 10—12 лет девочки умели шить, вязать, прясть, поддерживать чистоту в доме и во дворе. Большую часть сзоего приданого девушки готовили сами.
Воспитание мальчиков также проходило в основном в процессе трудовой деятельности. В их обязанности входило помогать старшим в сельскохозяйственных и других работах.
Отношения между детьми и взрослыми определялись нормами народной этики, которая требовала от детей безусловного подчинения и почитания старших.
В целом семейный уклад чеченцев был буквально пропитан традициями и обычаями, которые предписывали порядок поведения в любой жизненной ситуации. Обычаи предписывали чеченцам все: как говорить с женой в семье и на людях; как разговаривать с детьми при посторонних и родственниках; как вести себя в семье и в гостях; как поступать при встрече со старшими, младшими, женщинами вне дома в т. д. Особое внимание уделялось соблюдению обычая гостеприимства.
См.: Семейно-бытовая обрядность вайнахов. Сб. статей. — Грозный, 1982; и др.
— 533 —
Глава XII. Культура и быт народов Чечни во второй половине XIX — начале XX вв.
При приеме гостей определенные обязанности возлагались не только на взрослых, но и детей. Так, мальчики должны были встретить гостя у ворот, обратиться к нему с положенными приветствиями, помочь сойти с лошади, проводить в дом, принять верхнюю одежду, выполнить его просьбу или поручение.
Характерной чертой семейно-бытовых отношений у чеченцев было почитание родителей, которых дети должны были достойно содержать в старости1.
Погребальные обряды чеченцев были в целом аналогичны подобным обрядам других народов Кавказа, исповедовавших ислам. Вместе с тем, в них сохранялись и некоторые доисламские элементы. Погребальный обряд состоял из трех этапов: предпогребального, похорон и послепогребального.
В доме умирающего собирались все близкие родственники. Обязательным считалось присутствие муллы или человека, умеющего читать «ясин» (молитва из Корана). Смерть воспринималась чеченцами как естественное завершение жизни, причем считалось, что душа умершего первое время продолжает сохранять связь с живыми и требует к себе особого внимания с их стороны. Именно поэтому строгому выполнению всех положенных обрядов придавалось особое значение.
Сразу после смерти покойника обмывали и готовили к погребению. Организовывалось и жертвоприношение — резали скотину, мясо которой раздавалось соседям, близким и знакомым. Раздавали также традиционные пироги (чӀепилгаш) и блинчики. Похороны совершались в день смерти или на второй день до захода солнца. На кладбище покойника относили только мужчины — женщинам разрешалось провожать его только до ворот дома. Исполнение обрядов, связанных с погребением, продолжалось в течение семи дней.
В конце XIX — начале XX вв. в погребальных церемониях появилось известное разнообразие, связанное с принадлежностью семьи покойного к тому или иному мюридскому братству (вирду). В зависимости от этого, совершался громкий или тихий зикр и некоторые другие действия, отличавшиеся от обычного порядка похорон.
Все это время пришедших на соболезнование (тезет) угощали обрядовой пищей. Соболезнования принимали все родственники умершего, но в первую очередь — самые близкие. Мужчины принимали соболезнования во дворе, а женщины — в специально отведенном им помещении.
На седьмой день похорон в доме умершего готовили угощение («коше бовлар»), причем каждый мог принести для его приготовления что-нибудь
1 См., Хасбулатова 3. И. Обряды, обычаи и поверья чеченцев и ингушей, связанные с рождением и воспитанием детей в дореволюционном прошлом // Этнография и вопросы религиозных воззрений чеченцев и ингушей в дореволюционный период. — Грозный, 1981; и др.
Семья и обрядность. Народные знания
от себя: сладости, продукты, барана и т. д. Помимо обязательного угощения присутствующих, женщинам давали с собой халву и чурек.
После совершения этого обряда, в пятницу, до восхода солнца, близкие родственницы умершего впервые посещали его могилу. Старшая из женщин читала «ясин». Этим завершался обряд похорон.
Над могилой ставили каменный надгробный памятник — «чурт», размеры и оформление которого зависели от социального и имущественного положения покойного. Все расходы на организацию похорон и поминок несла семья умершего, которой помогали ближайшие родственники1.
Народные знания. Метрология. Познания чеченцев основывались на многовековом опыте хозяйственной деятельности. Наибольшее развитие получили метрическая система и счет, метеорология, народная медицина, народный календарь, игры и физическая культура.
Счет и система мер, принятая у чеченцев, имели антропологическое происхождение. Например, наиболее простая и древняя единица измерения — пятерня — легла в основу двадцатичного счета, особенно удобного в скотоводстве. Размеры различных частей тела легли также в основу создания мер длины, емкости, объема. Так, землю и сельскохозяйственные угодья мерили шагами («гӀулч»); размахом рук («пхьагӀат») измеряли длину домов, бревен и т. д.; расстояние между большим и указательным пальцами («ге») и между большим пальцем и мизинцем («ше») служило для измерения холстов, войлоков, тканей. Для этой же аеяи использовали и расстояние от локтя до конца вытянутых пальцев («дуол»). В описываемое время наряду с древнейшими мерами применялись и сажени, десятины, аршины, метры, которые переводились на размеры частей тела.
Мерой объема издревле служили ладонь и пригоршня («Пара» и «кана»), которые применялись наряду со специально изготовленными деревянными мерами: «марка», «гирда», «мазал», «сахь». В качестве мер жса применялись «пунт» (фунт), «чептар» (четверть фунта), «герка» (пуд). Шерсть измеряли пучками — «тханка», «чӀаба». Сено, солому, кукурузу — мерили снопами: один сноп — «цӀов», три снопа — «оьс», двенадцать — «Пама».
К началу XX в. традиционная система мер и весов еще сохранялась y чеченцев, но использовалась уже наряду с метрической системой, принятой в Российской империи.
Сельское хозяйство, служившее основой экономической жизни чеченского народа, требовало умения прогнозировать погоду, как на короткий, так и на более длительный период. В основе таких прогнозов лежали приметы, знание которых передавалось из поколения
Ьепикая Н. Н. и др. Указ. соч. — С. 75—77; Амироев И., Осмаев М. Указ. соч. — С 266—268.
Глава XII. Культура и быт народов Чечни во второй половине XIX — начале XX вв.
в поколение. Так, погода на ближайшие несколько дней определялась путем наблюдения за видом заходящего солнца и луны, движением воздуха, облаков, видом растений и поведением животных. Примерно таким же образом пытались прогнозировать погоду и на более отдаленную перспективу, хотя и с гораздо меньшим успехом.
Народный календарь. Многовековые наблюдения за природой и необходимость определения сроков сельскохозяйственных работ легли в основу народного календаря. Для определения времени суток чеченцы использовали естественные ориентиры — солнце, звезды, луну. Применялись и искусственные, примитивные календари: шесты с зарубками, шнурки с узелками и т. д. Наибольшей популярностью пользовался хозяйственный календарь (применявшийся наряду с юлианским и мусульманским).
В основе традиционного календаря лежали солнечные сутки, лунный месяц и год. Год делился на четыре времени, 12 месяцев и 365 дней с четвертью. Народные названия месяцев сохранялись в быту вплоть до XX в. Сложившийся еще в языческую эпоху, этот календарь содержал ряд праздников, не связанных с исламом. Так, празднование наступления нового года начиналось в новогоднюю ночь и продолжалось в течение трех дней. Обильные общесемейные трапезы сопровождались новогодними визитами, гаданиями, шествиями ряженых, играми и т. д.
Весенний период был сопряжен с обрядами и празднествами, призванными способствовать хорошему урожаю и умножению скота. Наиболее важным весенним праздником считались день весеннего равноденствия и обряд проведения первой борозды. Летом и осенью праздновали день летнего солнцестояния, начало уборки колосовых н сенокосов, окончание уборки урожая. Особое место занимали обряды вызывания дождя и солнца. Эти обряды сопровождались шествиями ряженых («къоршкъури», «хьогули», «зӀеммур», «муста гудург»), общественными молениями, манипуляциями с костями, скелетами из склепов и камнями (надгробными памятниками) и т. д.
К началу XX в. календарные праздники претерпели значительные изменения: забылись имена языческих богов, в честь которых они проводились, был утрачен магический смысл тех или иных обрядов* переместились сроки празднования. Во главе празднований стояли теперь представители мусульманского духовенства, что исключало их языческую направленность1.
1 См.: Алироев И. Ю. Нахские языки и культура. — Грозный, 1978; Ужахов М. Р. Годичные циклы хозяйственных работ чеченцев и ингушей периода средневековья. — Грозный, 1979; и др.
Развитие светского образования и культуры
§ 3. Развитие светского образования и культуры
Просветительство. Иван Цискаров. Просветительству в Чечне свойственны черты, характерные для всего горского просветительства, хотя, конечно, имеются и свои особенности. Идеи просветительства первыми начали воспринимать наиболее образованные представители чеченского народа, которые знали и ценили силу просвещения. Как правило, эти люди находились на русской службе. Характерно также, что первыми просветителями чеченцев оказывались не всегда чеченцы, а их сородичи бацбийцы, ингуши, а то и русские, немцы и т. д. Это естественно, если учесть историческую ситуацию, сложившуюся в Чечне к середине XIX в. — война поглощала всю творческую энергию народа.
В период с 1846 по 1855 гг. в газете «Кавказ» и альманахе «Зурна» печатались историко-этнографические очерки и рассказы Ивана Цис- карова. Так, в очерке «Картины Тушетии» он взял, с научной точки зрения, правильное направление, доказывая единство происхождения тушин-бацбийцев и чеченцев, основываясь на сходстве их языка и преданий. Через несколько лет И. Цискаров опубликовал три народные песни на бацбийском языке: одна из них была записана русскими буквами, две другие — грузинскими1.
И. Цискаров, бацбиец по происхождению, военный по образованию, состоял на русской службе. Представители русской интеллигенции, занимавшиеся просвещением горцев — П. К. Услар, А. М. Шегрен,
А. Берже, Л. Я. Люлье, И. А. Бартоломей, в отличие от И. Цискарова, чаще всего работали либо по прямому распоряжению кавказской администрации, либо с ее одобрения. Цель российской администрации з этом случае совершенно очевидна — распространением светского европейского образования подорвать влияние горского мусульманского духовенства и тем самым упрочить «российское владычество за Кавказе».
Тем не менее, роль того же Бартоломея, русского ученого немецкого происхождения, составившего один из первых чеченских букварей, была положительной. Чеченская азбука была создана им на основе русской графики при содействии чеченцев Д.-Э. Мустафина, Э. Бочарова,
А. Тарамова и издана в 1866 г. Между тем, еще в 1862 г., в Тифлисе, на чеченском языке был издан и букварь чеченского переводчика на русской службе Кеди Досова2.
! Абдулаева X. R Этноисторические и эстетические предпосылки зарождения письменного художественного слова у чеченцев // Культура Чечни. История и современные проблемы. — М., 2002. — С. 193; «Кавказ». — Тифлис, 1849. — № 38.
: Туркаев X. В. Россия и Чечня: аспекты историко-культурных взаимосвязей до 1917 г. // Культура Чечни. История и современные проблемы. — М., 2002. — С. 177; Алироев К История и культура вайнахов. — М„ 2003. — С. 74.
— 537 —
Глава XII. Культура и быт народов Чечни во второй половине XIX — начале XX вв.
Административная и культурная столица Кавказа город Тбилиси в 30-е гг. XIX в. Рис. Н. Чернигова (24, 35—36)
Ранние записи лирических песен на чеченском языке были сделаны молодым офицером Л. Н. Толстым в 1852 г. со слов чеченцев Садо Мисербиева и Балты Исаева1 2. В 1854 г. в крепости Грозная неизвестный переводчик, обозначивший себя инициалами «КК», сделал первые записи исторических песен о битвах чеченцев с полчищами врагов в ущелье Хан-Кала.
Просветительская деятельность барона П. К. Услара. Выдающийся ученый-этнограф, просветитель и генерал-майор русской службы П. К. Ус л ар видел главную цель своей просветительской деятельности на Кавказе в том, чтобы устранить языковый барьер между горцами и местной администрацией и вывести горцев из-под влияния духовенства. Первым шагом к достижению этой цели П. К. Услар считал создание новой горской письменности на основе русской графики: «Все распоряжения правительства доходят до горцев через несколько лингвистических инстанций и, конечно, подвергаются превратным толкованиям... Печатать для горцев что-нибудь по-русски то же, что печатать для них по-китайски; печатать по-арабски — значит подчинять печать цензуре и лжетолкованию мусульманского духовенства... Достаточно перевести на горские языки несколько популярных брошюр, чтобы дать толчок понятиям... Выгода та, что постепенно будет распространяться убеждение, что существует наука и вне Корана и что для нее необходимо учиться русскому языку»1.
1 Туркаев X. В. Россия и Чечня: аспекты историко-культурных взаимосвязей до 1917 г. // Культура Чечни. История и современные проблемы. — М., 2002. — С. 193.
2 Услар П. К. О распространении грамотности между горцами // С6. сведений о кавказских горцах. Вып. 3. — Тифлис, 1870. — С. 6, 7, 27,28.
— 538 —
Развитие светского образования и культуры
Генерал-майор, барон П. К. Услар (3, 80)
Эти мысли вполне разделяло кавказское начальство. Например, в 1869 г. начальник Дагестанской области, оценивая значение новой горской письменности, особо подчеркивал, что «.. .она может не только остановить дальнейшее распространение арабского языка... но и со временем вытеснить его из употребления по гражданским делам... и со временем значительно ослабит существующую ныне связь между дагестанским и мусульманским миром... Если бы в настоящее время была возможность думать о замене арабской письменности прямо и непосредственно русской, то, разумеется, не было бы никакой надобности в создании новой. Между тем эта письменность, основанием которой служит русская азбука, постепенно вытесняя арабскую, значительно облегчит распространение в народе русской грамоты» К
В 1862 г. П. К. Услар опубликовал серьезный научный труд «Чеченский язык», пользуясь глубокими знаниями родного языка юнкера Кеди Досова.
Получив поддержку со стороны кавказского начальства, П. К. Услар разработал несколько новых алфавитов, в том числе для абхазского, нескольких дагестанских и чеченского языков. Кроме издания указанных алфавитов, он предпринимал большие усилия по их практическому •• Козубский Е. Очерки истории города Темир-Хан-Шуры // Сб. материалов для описания местностей и племен Кавказа. Вып. 19. — Тифлис, 1894. — С. 71—72.
Глава XII. Культура и быт народов Чечни во второй половине XIX — начале XX вв.
Чеченский текст, написанный П. К. Усларом, на основе созданной им азбуки (3, 83)
внедрению, создавая для этого специальные горские школы. Преподавание здесь велось на принципах, принятых в русской школе и, что особенно важно, П. К. Услар привлекал к этой работе помощников из числа горцев. Так, организовав в 1862 г. школу для чеченцев в крепости Грозной, он использовал в качестве помощников Кеди Досова, Ахмед- хана Тарамова и Янгульбая Хасанова (последний, кстати, принадлежал к духовному сословию).
Каждому из своих помощников П. К. Услар уделял много внимания, по его собственным словам, стараясь «...развить круг его понятий с тем, чтобы подготовить в лице его сильного поборника просвещения между его земляками. Этим подготовляется класс людей, до сих пор еще не бывалый на Кавказе»
Такой подход приносил положительные результаты. Первая школа для чеченцев получила хорошие отзывы. Генерал А. П. Карцев сообщал наместнику Кавказа А. И. Барятинскому: «Чеченцы в восторге от азбуки Услара, и есть надежда, что русский алфавит скоро заставит забыть арабские буквы»1 2.
Горские школы. Открытая П. К. Усларом «чеченская» школа работала не долго, но в 1863 г. вместо нее в крепости Грозной открылась так называемая Горская школа, просуществовавшая до 1917 г. Несмотря
1 См.: Услар П. К. Этнография Кавказа. Языкознание. Ч. 2. Чеченский язык. — Тифлис. 1888. — С. 42; Алироев И. Указ. соч. — С. 75—76.
2 Козубский Е. Очерки истории города Темир-Хан-Шуры // Сб. материалов для описания местностей и племен Кавказа. Вып. 19. — Тифлис, 1894. — С. 68.
— 540 —
Развитие светского образования и культуры
на то, что официально школа открылась специально для обучения детей туземцев, находившихся на русской службе, большая часть ее учеников не были горцами. Например, в 1896 г. из 168 учеников только 36 были по национальности чеченцами и кумыками, зато русских детей обучалось 107
В Терской области долгое время существовали только три школы для детей горцев: в Грозной, Назрани и Нальчике. Обучение в подобных школах было платное (3—5 рублей в год) и после завершения полного учебного курса — 5 классов, выпускник мог быть без экзаменов зачислен в 4-й класс обычной гимназии. Таким образом, горская школа давала только начальное общее образование. Преподавание велось на русском языке, и поэтому дети горцев первые полгода посвящали изучению именно русского языка. По сравнению с распространенными в Чечне сельскими духовными школами при мечетях, Грозненская горская школа имела неоспоримые преимущества: как по программе и методам обучения, так и по общему уровню содержания учеников. Например, Грозненская горская школа имела пансион, библиотеку, аптеку и даже небольшую больницу для учащихся. Разностороннему развитию детей способствовало и наличие у школы собственного детского оркестра2.
Грозненская горская школа помогала, хотя и небольшой части чеченцев, приобщиться к европейской и русской культуре. Ее в свое аремя закончили будущий выдающийся композитор А. М. Магомаев и будущий государственный деятель Чечни Т. Эльдарханов. Последний даже работал позже в школе учителем-инспектором3.
Впрочем, «просвещение горцев» шло гораздо медленнее, чем надеялись П. К. Услар и сочувствовавшие ему представители кавказской администрации. Главным препятствием являлись антинациональная, самодержавная политика царизма и сохраняющаяся экономическая и культурная изоляция горцев. Русское культурное влияние начинает явственно ощущаться только со второй половины XIX в. и усиливается ш> мере развития русской колонизации края. Способствует этому процессу и превращение бывших крепостей в города, чье экономическое ■ культурное влияние распространяется и на окрестные аулы. Одна- ■жк вплоть до начала XX в. значительная часть той же Чечни, прежде зеего горные районы, сохраняют свою сравнительную культурную жзолированность.
Джамбулатова 3. К. Культурное строительство в советской Чечено-Ингушетии П920 — 1940 годы). — Грозный, 1974. — С. 21 - Исаев С.-А. А. Влияние России на развитие просвещения в Чечено-Ингушетии ■о второй половине XIX века // Прогрессивное влияние России на социально-экономическое и политическое развитие народов Чечено-Ингушетии (дореволюционный период). — Грозный, 1989. — С. 45.
’ Казаков А. И. Страницы истории города Грозного. — Грозный, 1989. — С. 29.
Глава XII. Культура и быт народов Чечни во второй половине XIX — начале XX вв.
Сильно препятствует быстрому втягиванию Чечни в экономическое и культурное пространство России сохраняющаяся в Терской области система «военно-народного» управления, которая в течение долгого времени подавляла всякую частную инициативу в области просвещения. Так, в 1881 г. 12 чеченских плоскостных селений Грозненского округа, группировавшихся вокруг Урус-Мартана, вышли с ходатайством об открытии сельскохозяйственной школы с преподаванием на русском языке. Вторично с подобным ходатайством представители этих же чеченских селений вышли в 1895 г. Выдвинувшие это ходатайство сельские общества обязались при этом построить своими силами здание школы, рассчитанное на 160 учащихся, дома для учителей, мастерские, выделить из общественного земельного фонда Урус-Мартана 400 десятин пахотной земли и построить на ней школьный хутор со всеми необходимыми хозяйственными постройками, инвентарем, рабочим скотом и т. д. Кроме того, общества обязывались обеспечить школу всем необходимым учебным инвентарем и путем добровольного дополнительного обложения ежегодно собирать для содержания школы 5600 рублей. Однако, этих средств было недостаточно для содержания школы и в ходатайстве содержалась просьба о выделении из казны ежегодной субсидии 3500 рублей. Ходатайство было отклонено1 2.
Деятельность первых чеченских просветителей. Только в последней трети XIX в. начинается деятельность собственно первых чеченских и ингушских просветителей. В 1872 г. опубликовано этнографическое исследование офицера-чеченца Умалата Лаудаева — «Чеченское племя*1. В 40-е гг. XIX в. он учился в одном из кадетских корпусов Санкт- Петербурга, что позволило ему получить хорошее, по тем временам, образование. Несмотря на наличие ряда исторических неточностей и некоторую тенденциозность в оценке событий, его работа до сих пор не утратила своей ценности. По собственным словам, он «из чеченцев первым написал на русском языке о своей родине, еще так мало известной».
Выдающимся представителем первой плеяды чечено-ингушских просветителей и ученых был выпускник Нежинского лицея ингуш Чах Ахриев. В первой половине 70-х гг. XIX в. он опубликовал ряд работ этнографического и общественно-политического звучания об ингушах, которых считал вместе с чеченцами единым народом. Он глубоко изучал общественный быт ингушей и делал выводы о необходимости преодоления национально-культурной замкнутости. Его идеи были
1 Казаков А. Как проходили выборы в дореволюционном Грозном // Грозненский рабочий. — 1959. — 17 февр. — С. 2.
2 ЛауЬаев Умалат. Чеченское племя // Сб. сведений о кавказских горцах. Вып. 6. — Тифлис, 1872.
Развитие светского образования и культуры
созвучны настроениям представителей нарождающейся чечено-ингушской интеллигенции1.
В конце XIX — начале XX вв. деятельность большинства горских просветителей принимает все более четко выраженную социальную направленность, а их произведения — революционно-публицистический характер. В это время в разных российских периодических изданиях опубликовано большое количество статей братьев Ахмет- хана и Исмаила Мутушевых, Джамалдина Шерипова, Ибрагим-бека Саракаева. Братья Мутушевы происходили из офицерской семьи, Д. Шерипов сам был офицером, а И. Саракаев закончил офицерскую службу в полковничьем чине.
А. Мутушев долгое время сотрудничал в ряде российских изданий, в частности, в газете «Новая Русь», в которой открылся «Мусульманский отдел». И. Мутушев являлся создателем «Общества распространения просвещения среди чеченцев» (1908 г.). Он призывал, со страниц газет обращаясь к чеченскому народу: «Пора же, наконец, и нам проснуться от столь долгой и губительной спячки и встать на путь прогресса и цивилизации»2.
fjysna чеченских военнослужащих начала XX в. с мальчиками кадетами. Фото (4,172)
ТуркаевХ. В. Указ. соч. — С. 180—181. - же. — С. 185.
Глава XII. Культура и быт народов Чечни во второй половине XIX — начале XX вв.
Необходимо отметить, что определенное влияние на культурное развитие чеченского народа оказывали многочисленные чеченские офицеры и их семьи, являвшиеся, как правило, по-европейски образованными людьми. Таковыми были семьи генерал-майора О. Чермоева, генерал- майора К. Курумова, полковников Эльмурзаева, Саракаева, Мударова, офицеров Ахтахановых, Кужуевых и др. Генералом артиллерии (что равнялось маршалу рода войск) стал выдающийся военный деятель Российской империи Эрисхан Алиев. Все они, включая и представителен титулованной знати — потомков Турловых, Таймазовых, Алхазовых и др., участвовали в процессе втягивания горцев в русско-европейскую цивилизацию.
X. Ахтаханов — первый чеченский горный инженер. Фото (4, 170)
Ряд детей чеченских офицеров и знати прошли обучение в высших учебных заведениях Москвы и Санкт-Петербурга, став горными инженерами, врачами, адвокатами и т. д.
Просветительская деятельность общественных организаций. Таш- темир Эльдарханов. Особая роль в просвещении горцев принадлежит разного рода обществам и общественным комитетам. В первые годы после окончания Кавказской войны они создавались по инициативе кавказских властей. Так, «Общество восстановления православного христианства на Кавказе» было создано специальным указом императора Александра II для перевода «.. .священного писания и богослужебных
Развитие светского образования и культуры
книг на туземные языки»Особенно активно это общество действовало в Абхазии и Осетии, где часть населения исповедовала христианство. Но вместе с тем, некоторое внимание уделялось и другим народам. Например, «Общество...» выпустило собственный вариант чеченской азбуки, разработанной И. А. Бартоломеем.
В 80-е гг. XIX в. появляются первые общественные просветительские организации, не связанные с местной администрацией. Так, в 1882 г. официально зарегистрировано «Общество распространения образования и технических сведений среди горцев Терской области». Главная задача указанного общества состояла в содействии развитию школьного образования в горских округах, а также в оказании финансовой поддержки горцам, обучающимся в российских средних и высших учебных заведениях. В частности, материальную помощь от «Общества...» получал видный чеченский просветитель и общественный деятель Таштемир Эльдарханов, который в 1911 г. издал в Тифлисе авторский «Чеченский букварь» на основе русской графики.
Он же опубликовал на чеченском языке несколько сказаний и сказок, к которым прилагались русский подстрочник и литературный перевод, выполненные на хорошем профессиональном уровне2. Впоследствии, будучи депутатом Государственной думы, Т. Эльдарханов прославился как выдающийся оратор и публицист, ставший на защиту интересов всех горских народов.
Время от времени «Общество распространения образования...» выпускало собственными силами отдельные издания на горских языках, прежде всего на осетинском. В начале XX в. правление «Общества...» приняло решение о расширении издательской деятельности и формировании собственного издательского финансового фонда. Впрочем, издательские планы так и остались почти нереализованными3.
После революции 1905—1907 гг. в Терской области появляется значительное количество новых общественных организаций, объявлявших своей целью просветительскую деятельность среди горцев. В отличие от предыдущего периода, теперь возникают организации, ограничивающие свою деятельность границами отдельных горских округов. Такими организациями были, например, «Общество просвещения ингушского народа Назрановского округа Терской области» или «Хасав-Юртовское общество «Просвещение».
Проекты по развитию школьного образования в Чечне. Появляются и проекты по развитию просвещения отдельных народов. Так,
Материалы по истории осетинского народа. Т. 5. Сб. материалов по истории народного образования в Осетии. — Орджоникидзе, 1942. — С. 13.
! Абдулаева X. Р. Указ. соч. — С. 195.
3 Отчет Общества распространения образования и технических сведений среди
горцев Терской области за 1905 год.— Владикавказ, 1906. — С. 51.
Глава XII. Культура и быт народов Чечни во второй половине XIX — начале XX вв.
в 1913 г. съезд представителей сельских обществ Чечни принял решение об обложении всего чеченского населения дополнительным налогом специально для развития школьного дела1. В результате этого удалось аккумулировать значительные денежные средства, по использованию которых выдвигались различного рода предложения. Например, некий М. Налаев предлагал не направлять их на открытие новых школ, так как для этого все равно не имелось достаточного количества подготовленных учителей. Более рациональным, по его мнению, представлялось использование этих средств для создания большого количество учебных мест для чеченцев не только в школах Грозного, но и средних и высших российских учебных заведениях, включая создание при одном из духовных училищ класса по подготовке чеченских мулл с обязательным преподаванием русского языка. Кроме того, этих средств должно было хватить на создание сельскохозяйственной школы для чеченцев и финансирование деятельности специально учреждаемого «Общества распространения грамотности среди чеченцев»2.
Стремление чеченской общественности развивать школьное дело встречало одобрение и у местной администрации, которая рассматривала просвещение как одно из наиболее действенных средств приобщения горцев к русской культуре. Более того, главнокомандующий войсками Кавказского военного округа обращался в столицу с просьбой выделить дополнительные средства из казны для открытия к осени 1913 г. не менее чем двухсот начальных горских школ3.
Уровень грамотности в Чечне. Национальная письменность. Вопрос о распространении грамотности не случайно приобрел в Чечне чрезвычайную остроту. Даже по сравнению с другими горскими народами Терской области, не говоря уже о русских, Чечня значительно отставала по количеству лиц, владевших русской грамотой. По данным переписи 1897 г., грамотных среди мужчин насчитывалось всего 4,3%, а среди женщин — 0,1%. При этом в сельской местности уровень грамотности составлял всего 0,9%4. Особенно большим было отставание чеченцев от казачьего населения, среди которого грамотой владели 43,55% мужчин и 8,9% женщин. Из детей школьного возраста в станицах обучением были охвачены 44,21% мальчиков и 15,17% девочек.5
Приведенные выше цифры не означают, что Чечня вообще не знала никакой письменности. Дело в том, что данные переписи совершенно не учитывают наличие среди чеченцев большого количества людей,
1 Ведено // Терские ведомости. — 1913. — 30 мая. — С. 2.
2 Об использовании средств от налога на школы // Мусульманская газета. — 1913. — 30 марта. — С. 2.
3 Открытие горских школ // Мусульманская газета. — 1913. — 14 мая. — С. 4.
4 Народы Кавказа. Т. 1. — М., 1960. — С. 371.
5 Терский календарь на 1899 год. Вып. 8. — Владикавказ, 1898. — С. 53.
— 546 —
Развитие светского образования и культуры
владевших арабской письменностью, а также чеченской письменностью, возникшей на основе арабской графики. Сотни лет, в течение которых чеченцы исповедовали ислам, не могли пройти бесследно: воздействие арабского языка и арабо-мусульманской культурной традиции на чеченскую культуру было огромным. В частности, возникновение горской, в том числе и чеченской литературы, связано не только с русским, но и арабо-мусульманским влиянием. Этот факт особо подчеркивал известный советский востоковед И. Ю. Крачковский, считавший, что горская оригинальная литература появилась под неоспоримым воздействием арабской. Причем долгое время арабская и национальная письменность и литература у многих народов Северо-Восточного Кавказа сосуществовали1.
Постепенное втягивание Чечни в экономическую и культурную жизнь России, конечно же, сужали сферу использования арабского языка, но долгое время не могло помешать распространению национальной письменности на основе арабского алфавита. Известные под общим названием «аджам», горско-арабские алфавиты постоянно совершенствовались. В Чечне этот процесс продолжался вплоть до 1925 г., когда государственным актом был введен национальный алфавит на латинской графической основе. Как уже говорилось, в процессе совершенствования арабо-чеченского алфавита принимали активное участие и виднейшие представители чеченского духовенства, в частности, выдающийся алим С. Гайсумов.
Мечетские и светские школы. Еще в начале XX в. в культурном отношении сфера применения арабо-чеченской письменности гораздо шире, чем русско-чеченской. Буквально при каждой мечети действовали школы, обучавшие арабскому языку и письменности, а также основам арифметики. После 3-х лет обучения желающие могли продолжить свое образование в школах более высокого ранга, которые содержали виднейшие представители духовенства. Например, собственные школы были у шейхов Баматгири-хаджи Митаева и Шамсудин-хаджи Шалинского. Завершение исламского образования чеченских юношей обычно происходило в соседнем Дагестане, а в некоторых случаях — и за границей. В начале XIX в. в Чечне появляются и первые светские мусульманские школы.
Трудно назвать точное количество мусульманских школ, действовавших в Чечне, а также установить их соотношение со светскими школами. Чеченский исследователь советского периода М. Орцуев считал, что к 1917 г. в Чечне на 180 духовных школ приходилось всего 10 светских2. Однако именно в начале XX в., особенно с началом второго
Крачковский И. Ю. Арабская литература на Северном Кавказе // Избр. сочинения. Т. 6. — М.-Л., 1960. — С. 615.
- Орцуев М. Культурное строительство в Чечне за 15 лет // Революция и горец. - 1932. — № 1. — С. 38.
Глава XII. Культура и быт народов Чечни во второй половине XIX — начале XX вв.
Письмо жителей Чечни жителям Гумбета. Из арабоязычных документов
эпохи Шамиля (27, 229)
десятилетия, происходит быстрый рост таких школ в горских округах Терской области. Практически во всех крупных равнинных селениях действуют школы, совмещавшие религиозное и светское образование, что стало возможным благодаря распространению идей джадидистов (исламских реформаторов). Согласно официальным данным, только пр* поддержке правительства в равнинных чеченских селениях открылись и действовали 36 школ, обучавших языкам на основе русской и арабской графики. Общее количество учащихся в этих школах составляло 1375 человек или 10% детей школьного возраста1. Всего же в сельской местности Чечни и Ингушетии в 1914—1915 гг. функционировало 154 школы, в которых обучалось 8767 учеников2.
Открытые наспех школы в чеченских селениях часто не имели должной материально-технической базы, а Терская дирекция народных
1 ГАРФ. Ф. Р-1235. Оп. 120. Д. 110. Л. 102.
2 Культурное строительство в Чечено-Ингушетии (1920 — июль 1941 г.): Сб. документов и материалов. — Грозный, 1979. — С. 6.
— 548 —
Развитие светского образования и культуры
училищ (созданная 1876 г.) не имела возможности ни обеспечить школы всем необходимым, ни даже наладить элементарный санитарный контроль.
Возникновение национального книгоиздания. О широком использовании арабо-чеченской письменности свидетельствует и наличие книгоиздательской деятельности с использованием арабской графики. Если на основе русско-чеченских алфавитов появляются с большими перерывами лишь отдельные издания букварей (например, букварь Т. Эльдарханова, изданный в Тифлисе), то только за период с 1908 по 1917 гг. на чеченском языке с использованием арабской графики издано не менее 15 книг, включая школьные учебники, словари и другие издания, в том числе и религиозного содержания1. Центром книгоиздания был соседний Дагестан, где за тот же период на арабской графике издано 352 книги на разных языках, не только на горских, но н на арабском, татарском и персидском. Издавались горские книги в типографиях, принадлежавших трем частным лицам: М.-М. Мавраеву (Темир-Хан-Шура), А. М. Михайлову (Порт-Петровск) и И. Назибашеву (Хасав-Юрт).
Не вызывает сомнения, что начиная с XX в. в развитии чеченской национальной культуры явственно ощущается начавшееся сближение с общеевропейской культурой. Но при этом следует особо подчеркнуть, что благодаря наличию арабско-чеченской письменности и активной просветительской деятельности чеченского духовенства чеченская культура сохраняет национальный колорит и традиционные духовные пенности.
Кстати, появление горской национальной книги и публицистики не осталось незамеченным властями. С тревогой отмечая распространение среди горской интеллигенции «либеральных идей», царские секретные службы пытались воздействовать на них различными способами, в if»i числе и путем финансирования проправительственных изданий. Появились и первые заграничные «горские» издания. Одним из них был журнал «Мусульманин», издававшийся в Париже с 1908 по 1912 гг. М. Б. Хаджетлаше2.
Станичные и городские школы. Гораздо лучше школьное дело было «ставлено в казачьих станицах, вследствие чего уровень грамотности среди казаков составлял примерно одну треть от их численности. В начале XX в. в каждой станице имелась начальная школа. В городе Грозном насчитывалось 25 начальных школ. Кстати, первая школа для зетей рабочих на нефтяных промыслах была открыта только в 1903 г. Кроме того, к 1917 г. на территории современной Чечни действовало
’ Печать Дагестана: Справочник. — Махачкала, 1983. — С. 31—32.
- Азаматов К. Г, Хутуев X. И. Мисост Абаев: Общественно-политические взгляды. — Нальчик, 1980. — С. 24.
Глава XII. Культура и быт народов Чечни во второй половине XIX — начале XX вв.
Урок в сельской школе дореволюционной России. Фото (76, 49)
7 училищ, рассчитанных на 4-летний курс обучения после начальной школы: в Грозном (Пушкинский лицей) и в станицах Червленной. Шелковской, Старогладовской, Калиновской, Наурской и Слепцовской. Между прочим, Терское казачье войско выделяло из войсковой казны определенное количество стипендий для обучения детей казаков в военных, а также средних и высших учебных заведениях.
Средние учебные заведения в Грозном появились в 1902 г., когда открылась женская гимназия. В 1904 г. к списку средних учебных заведений добавилось еще реальное училище, в котором имелся подготовительный класс для чеченских и кумыкских детей. В это же время начинается формирование системы профессионального образования — в Грозном открывается низшая ремесленная школа и мужское железнодорожное училище1.
В 1912 г. начались занятия учащихся реального училища в новом здании. Это обстоятельство позволило увеличить численность «реалистов».
Наука. Развитие грозненского нефтепромышленного района привлекло в Грозный большое количество инженерно-технических работников, геологов и ученых-химиков, занимавшихся исследованием грозненской нефти. Наличие подготовленных специалистов и большой объем проводимых ими исследовательских работ привело к созданию в Грозном Терского отделения Русского Императорского Технического общества. Усилиями членов общества была создана первая в Чечне техническая библиотека, а также начато регулярное издание собственного сборника. Кроме того, наиболее значимые работы публиковались
1 Культурное строительство в Чечено-Ингушетии (1920 — июль 1941 г.): Сб. документов и материалов. — Грозный, 1979. — С 6.
— 550 —
Развитие светского образования и культуры
Грозный. Реальное училище, открытое в 1912 г. Фото (18, 306)
в виде отдельных изданий. Одним из руководителей Терского отделения Русского Императорского Технического общества был выдающийся русских химик К. В. Харичков, предложивший организовать в Грозном производство парафинов1.
Учреждения культуры и искусства. Развитие системы народного просвещения привело к возникновению потребности и в учреждениях культуры и искусства. Естественно, что прежде всего это относилось к городу Грозному, где сконцентрировалась наиболее образованная часть как русского, так и чеченского общества. Долгое время культурные потребности горожан удовлетворяли заезжие артисты да духовые оркестры местного гарнизона. Только в начале XX в. появляются первые концертные залы и театральные площадки. Грозненский купец
В. П. Чернявский на принадлежавшем ему участке земли, в центре города, разбил сад и построил сцену со зрительной площадкой на 400 мест. Эта площадка долгое время была главной концертной сценой Грозного. Вход в сад был платным. В разное время здесь выступали такие российские знаменитости, как Вера Холодная (актриса «немого» кино), И. Мозжухин,
В. Максимов, исполнительницы цыганских песен Л. Черная и др.2
Позднее грозненские промышленники и купцы (специально к приезду знаменитого певца Ф. Шаляпина) построили еще один концертный зал, который затем подарили городу.
: ДорогочинскийА. Выдающийся ученый // Грозненский рабочий. — 1978. — 16 апр. — С 4.
' Ваксман А. А. Записки краеведа. — Грозный, 1984. — С. 37.
— 551 —
Глава XII. Культура и быт народов Чечни во второй половине XIX — начале XX вв.
В 1904—1905 гг. в Грозном появились и первые самодеятельные театральные труппы, в том числе и в рабочих поселках. Наибольшей популярностью в городе пользовался «Театр чиновников и мещан». В качестве театральных площадок использовались не только уже упоминавшиеся выше сцены, но и здание общественного собрания, в котором имелась сцена и зрительный зал на 300 мест.
Интересно, что грозненские театральные труппы находились под большим влиянием революционных идей. Один из таких самодеятельных кружков возглавлял будущий революционер С. С. Бутенко, другой — Н. Митин, казненный деникинцами в 1919 г.1
В 1908 г. в Грозном появился первый кинотеатр — иллюзион, а вскоре их было уже несколько. Уже через два года на смену дощатым неотапливаемым балаганам начинается строительство двухэтажного комфортабельного кинотеатра «Арс» по проекту местного архитектора А. В. Становича. Буквально следом строится еще один крупный кинотеатр — «Гигант»2.
Музыкальная культура чеченцев. Народная музыка в рассматриваемый период начинает претерпевать значительные изменения. Так, традиционное для чеченцев мужское хоровое пение получает развитие в мюридских общинах, практиковавших публичное исполнение религиозных гимнов — «назма». Свои характерные особенности имеет и женское пение. Наряду с древнейшими музыкальными инструментами: дечиг-пондар (струнный) и Ӏад хӀокху пондар (струнный) особую популярность приобретает гармоника. Появляются в Чечне и первые популярные исполнители. Одним из них был Абдул-Муслим Магомаев, уроженец селения Старые Атаги, закончивший Грозненскую горскую школу и учительскую семинарию в Грузии (город Гори). С его участием было сделано даже несколько граммофонных записей.
Молодой учитель попытался устроиться на работу в Грозненской городской школе, но ему было отказано: «Там, где православные ученики, по закону может быть назначен только православный учитель...» И тогда А.-М. Магомаев был вынужден уехать к другу Узеиру Гаджибекову в Азербайджан, где они стали основоположниками азербайджанской симфонической музыки и оперы3.
Библиотеки. В 1904 г. открывается первая городская публичная библиотека. Помещение для нее было предоставлено съездом Терских нефтепромышленников — комнаты на втором этаже дома
1 Зубков Л„ Кан-Калик В. Страницы истории Грозненского театра // Грозненский рабочий. — 1965. — 10 дек. — С. 4.
2 Ваксман А. А. Указ. соч. — С. 29—30.
3 См.: Ошаев X. Кто автор «молитвы Шамиля» // Революция и горец. — 1931. — № 10—11. — С. 112; Гешаев М. Б. Чеченское музыкальное и изобразительное искусство, его влияние на искусство народов России и Закавказья // Культура Чечни. История и современные проблемы. — М., 2002. — С. 258—259.
— 552 —
Развитие светского образования и культуры
по Александровской улице (будущий проспект имени Орджоникидзе). Фонд библиотеки комплектовался в основном за счет пожертвований частных лиц и к 1912 г. достиг уже 12 тысяч экземпляров. Число постоянных читателей составляло 425 человек, а расходы на содержание библиотеки — 300 рублей в год. Кстати, и грозненская библиотека также находилась под влиянием грозненских революционеров. Основатель библиотеки К. И. Бакрадзе, учитель по профессии, в январе 1906 г. помогал скрываться приговоренному заочно к смертной казни большевику Ною Буачидзе. Не случайно, заседания стачечного комитета, руководившего всеобщей забастовкой грозненских рабочих, часто проходили именно в помещении библиотеки.
Небольшая библиотека, пополняемая за счет пожертвований, существовала при Грозненской горской школе. С 1865 г. она была открыта для всех горожан1.
Развитие здравоохранения. Народная медицина. Низкими темпами развивалась и система учреждений здравоохранения. В конце XIX в. в Терской области насчитывалось всего 17 лечебных заведений, в том числе два военных госпиталя и шесть войсковых лазаретов. Общее число больничных коек составляло 1501. Имелось также 25 частных аптек. На территории собственно Чечни имелось 10 лечебных учреждений, в которых одновременно могли лечиться 236 больных; 18 амбулаторно-поликлинических и 19 фельдшерско-акушерских пунктов. Однако, подавляющая часть этих лечебных заведений находилась в Грозном и на территории казачьих отделов, а в Грозненском и Веденском округах работало всего по одному врачу.
Значительную роль играли частные медицинские учреждения. Так, еще в 1897 г. в Грозном открылась частная женская больница с родильным отделением, созданная двумя молодыми врачами — А. Ф. Рогожиным и В. П. Шаковым. При больнице имелась даже собственная карета скорой помощи. Учитывая высокую стоимость пребывания в больнице (от 2 до 7 рублей в день), пользоваться ее услугами могли только состоятельные семьи2.
Первые исследования минеральных источников на территории Чечни были проведены еще в конце XVIII в. В 1852 и 1860 гг. целебные источники возле станиц Михайловской (Серноводск) и Слепцов- ской описал академик Абих, а позднее — профессор Зинин. Большой вклад в организацию курортного дела внес терский врач и краевед Вертепов. Только в конце XIX в. построены курорты возле станиц * 51 См.: РайцисЕ. 35 лет Грозненской библиотеки // Грозненский рабочий. — 1940. —
5 дек. — С. 2; Ваксман А. А. Указ. соч. — С. 20; Казаков А. И. Указ. соч. — С. 28.
: См.: Чечено-Ингушская АССР за 40 лет: Статистический сб. — Грозный, 1960. —
С. 164; ИнЬербиев М. Т. Очерки здравоохранения Чечено-Ингушетии. — Грозный,
1972. — С. 19; Ваксман А. А. Указ. соч. — С. 21.
— 553 —
Глава XII. Культура и быт народов Чечни во второй половине XIX — начале XX вв.
Горячеисточненской и Михайловской (впоследствии приобретшие статус всесоюзных здравниц)1.
Подавляющая часть чеченского населения была вынуждена пользоваться услугами лекарей, врачевавших методами народной медицины. Чеченская народная медицина формировалась, с одной стороны, поз влиянием народного опыта, накапливаемого веками, а с другой — под известным влиянием восточной медицины. В целом традиционная медицина имела довольно высокий уровень развития: известно, что во время Кавказской войны некоторые народные лекари приглашались в качестве полковых врачей в русские воинские части (состоящие в основном из кавказцев). Особая заслуга в изучении методов народной медицины принадлежит известному хирургу Н. И. Пирогову, который побывал на Северном Кавказе, в том числе и в Чечне, в конце 40-х гг. XIX в.
Первым чеченским врачом, имевшим высшее образование стал уроженец селения Гойты Магомет Ахтаханов. В семь лет он сдал экзамены в Ставропольскую гимназию, по окончании которой в 1912 г., поступил на медицинский факультет Московского университета. В мае 1917 г., получив звание врача, он вернулся в родное село, где не только организовал врачебный участок, но и вел обучение медицинских сестер.
1 Терский календарь на 1895 год. — Владикавказ, 1894. — С. 213,216.
— 554 —
Развитие светского образования и культуры
Чеченская медицина носила в основном сберегательный характер: лечение проводилось различными травами, соляными и медовыми растворами, сывороткой, топленым маслом. Довольно хорошо лечились ранения, что позволяло свести к минимуму ампутацию конечностей. Вместе с тем, народные знахари умели делать и довольно сложные операции, включая трепанацию черепа. Дезинфекция довольно разнообразных хирургических инструментов проводилась путем кипячения или нагревания в масле. Вывихи и растяжения лечили путем накладывания черного войлока, а вместо гипса использовали смесь яичного белка и муки. При переломах накладывали шины или шкуру с только что зарезанного барана.
Для лечения психических и неврологических расстройств прибегали к физическому труду, использовали искусственный стресс, холод, игру на музыкальных инструментах, пение. Своеобразной психотерапией являлось использование текстов из Корана1.
Физическая культура и спорт. Определенное развитие у чеченцев получила и самобытная система физического воспитания. Крупные народные празднества редко обходились без соревнований по верховой езде, джигитовке, разновидности конного поло, стрельбы в цель, борьбы и других видов физических упражнений. Правила соревнований довольно часто отличались сложностью и оригинальностью. Например, при скачках со стрельбой, всадники, приблизившись к линии огня, должны были спешиться, заставить лечь коня, спутать ему ноги ремнем и, используя лошадь в качестве упора, вести стрельбу по мишеням. Побеждал тот, кто быстрее всех приходил к финишу, поразив при этом все мишени.
В соревнованиях по борьбе весовых категорий не было, а пары борцов определялись весьма оригинальным способом. В толпу претендентов судьи по очереди бросали палочки: схвативший первую должен был бороться с тем, кто схватил вторую и т. д. Перед схваткой борцы должны были исполнить танец под музыку. При борьбе разрешались захваты за ноги, подножки и подсечки. Проигрывал тот, кто первым касался земли коленом или оказывался на земле после броска соперника.
Чрезвычайно популярными были соревнования по бегу, причем длина дистанции обычно колебалась от 500 метров до 4-х километров. Взрослые участники выходили на дистанцию в одежде и при полном вооружении — с кинжалом, шашкой и винтовкой. Те, кто на дистанции освобождался от оружия, снимались с соревнований.
Соревнования по преодолению препятствий состояли в прыжках через бурки, установленные вертикально на определенном расстоянии друг от друга. Расстеленные по земле бурки использовались и при арыжках в длину.
Ахмадов М. Использование методов народной психотерапии в работе с беженцами // Вестник ЛАМ. — 2002. — № 13. — С. 11.
Глава.ХН. Культура и быт народов Чечни во второй половине XJX — начале XX вв.
Существовало и множество других видов соревнований и игр. Интересно, что еще в 1838 г. возле крепости Грозной прошли крупные соревнования с участием гарнизона и чеченцев из соседних селений. Соревнования проводились по нескольким видам: джигитовка, стрельба, рубка лозы, прыжки в высоту. Прыгали по чеченским правилам — через поставленную вертикально бурку. В джигитовке победителями вышли чеченец А. Битаев и казак У. Радионов. Стреляли и рубили лозу лучше всех офицеры грозненского гарнизона, а чемпионом по прыжкам стая еще один казак — Лисенко1.
В учебных заведениях Грозного была введена гимнастика. Причем для мальчиков вводилась военная гимнастика, состоявшая в выполнении самых простых движений и построений, принятых в русской армии. Ее полезность для учащихся неоднократно ставилась под сомнение, так как большая часть времени посвящалась «шагистике» — умению ходить строем и производить коллективные перестроения. Впрочем, учителей гимнастики не хватало и во многих школах уроки по физвоспитанию не проводились вообще.
Интерес широких слоев населения к спорту усиливается в начале XX в. В 1910 г. в Грозном открылось первое спортивное общество, в котором состояло и немало молодых рабочих. При обществе существовали секции по гимнастике, велосипедному спорту, легкой атлетике, теннису. Наибольших успехов добились грозненские велосипедисты — лучшим велосипедистом Юга России долгое время считался житель Грозного Г. Георгиевский.
Начиная с 1912 г. получает распространение футбол. В Грозном организуются две постоянные футбольные команды, причем одну составили рабочие с нефтепромыслов. В 1913 г. эта команда выезжала во Владикавказ, где прошла товарищеская встреча с командой рабочих Алагирского цинкового завода.
С началом Первой мировой войны во всех городах Терской области создаются военно-спортивные комитеты, призванные усилить спортивную работу с молодежью призывного возраста. Вскоре эти комитеты были объединены в составе общества «Сокол».
* * *
Важнейшим результатом пребывания Чечни в составе Российской империи стало не только ее втягивание в более развитую экономическую систему, но и проникновение в горскую среду русской и европейской культуры.
Традиционная материальная и духовная культура чеченского народа несомненно была самобытной, богатой по содержанию и оказывала
1 Краснов А. Чемпионы далеких лет // Грозненский рабочий. — 1962. — 9 июня. — С. 3; Его же: Физкультура и спорт в Чечено-Ингушетии. — Грозный, 1959.
— 556 —
Развитие светского образования и культуры
влияние на все стороны жизни горского общества. Однако время требовало знания русской грамоты, усвоения научно выверенных знаний, преодоления пережитков и предрассудков. В этом плане было чрезвычайно важным событием появление хотя и небольшой, но светски образованной прослойки, выдвижение просветителей и энтузиастов образования.
В целом культура Чечни во второй половине XIX — начале XX в. приобретает некоторые черты переходного периода; даже в среде мусульманского духовенства шли позитивные изменения. Но не хватало многого, а особенно государственной поддержки дела народного образования.
— 557 —
Глава XIII. Первая мировая война
и Февральская революция в России в политических судьбах Чечни
§ 1. Наш край в годы Первой мировой войны
Начало войны. Планы воюющих держав на Кавказе. Первая мировая война, начавшаяся в августе 1914 г., была вызвана обострением противоречий между великими державами Европы. С одной стороны, Германия и Австро-Венгрия (с присоединившейся позже Османской империей), а с другой стороны, Англия, Франция и Россия (с присоединившейся в 1915 г. Италией) развязали военные действия, вовлекшие в схватку в конечном счете до 38 государств мира, включая Соединенные Штаты Америки. Это была борьба за гегемонию между империалистическими хищниками на европейском континенте и во всем мире.
Военно-феодальная Российская империя стремилась в этой войне установить свое влияние на Балканском полуострове, ослабить Германскую и Австро-Венгерскую империи и аннексировать у Турции черноморские проливы Босфор и Дарданеллы, через которые осуществлялось до 90% сельскохозяйственного экспорта страны. Последняя задача предусматривала развертывание широких военных действий русской армии против Османской империи, прежде всего, на Кавказе.
Так, помимо основного для России Германского фронта, возник и Кавказский фронт. Турецкие планы на Кавказе были весьма амбициозны и предусматривали распространение прямого турецкого влияния не только на весь Кавказ, но и на заселенные тюркско-мусульманскими народами районы Поволжья и Крыма. Однако попытки Турции с началом войны поднять восстание среди мусульман Северного Кавказа (на Кавказ было тайно переброшено не менее 60 турецких офицеров) потерпели совершенную неудачу1. Германские планы также предусматривали полное отторжение Кавказа от России, при этом предполагалось создание нескольких буферных кавказских государств с мусульманским и христианским населением.
Несмотря на наличие довольно заметных антиимперских настроений не только среди мусульманского духовенства, но и части горской интеллигенции, в том числе и в Чечне, сколько-нибудь заметно
1 См.: ГАРФ. Ф. 398. Оп. 2. Д. 146. Л. 90; Ошаев X. Очерк начала революционного движения в Чечне. — Грозный, 1928. — С. 11; Терещенко М. Я. «Осиные гнезда» под консульской крышей: турецкий шпионаж в Закавказье и русская контрразведка перед Первой мировой войной // Военно-исторический журнал. — М., 1997. — № 5.
— 558 —
Наш край в годы Первой мировой войны
поколебать прочность русского тыла на Кавказе ни туркам, ни немцам долгое время не удавалось. Несмотря на то обстоятельство, что в самом начале войны турецкий флот без объявления войны атаковал российские порты на Черном море, что имело громкий политический эффект. Немецкий линейный крейсер «Гебен», перешедший на турецкую службу и получивший имя «Селим Явуз», легко захватил господство на Черном море.
Однако Кавказский фронт изначально являлся второстепенным по своему значению, а на главном — Германском фронте — русская армия несла самые тяжелые потери. Сказывалась общая неподготовленность к войне мирового масштаба и острый недостаток тяжелого вооружения, боеприпасов и военного снаряжения. Промышленность России не могла удовлетворить потребности фронта, а потому хорошо подготовленные немецкие атаки приходилось отражать, жертвуя жизнями сотен тысяч солдат.
Проблема привлечения чеченцев на военную службу. Еще за два
года до начала Первой мировой войны начальник штаба Кавказского военного округа указывал в специальной записке на необходимость распространить на горцев Кавказа действие закона о всеобщей воинской повинности. Созданная для всестороннего изучения данного вопроса комиссия признала желательность привлечения «...мусульманского населения Кавказа к натуральной воинской повинности на одинаковых основаниях с коренным населением Империи...», однако считала необходимым временно освободить от нее чеченцев и кумыков. Свое мнение члены комиссии обосновывали тем, что чеченцы еще не достаточно «умиротворены», чтобы спокойно воспринять введение обязательной юинской повинности.
Напротив, командующий Кавказским военным округом считал, ЧӀО чеченцев в обязательном порядке следует привлекать к военной службе, направляя их во внутренние губернии, а кумыков оставлять ждя прохождения службы в полках Терского казачьего войска. Свое мнение командующий мотивировал следующим оригинальным суждением: «Освобождение чеченцев от воинской повинности, хотя бы и временное... будет как бы признанием за чеченцами льгот за их грабежи ■ разбои и в деле умиротворения Северного Кавказа принесет скорее аред, нежели пользу»1.
Только в 1913 г. было принято решение о постепенном введении осязательной воинской повинности для всех кавказских горцев-мусуль- ман, первым шагом к которой должно было стать составление новых «семейных списков — своего рода подворной переписи. К моменту начала Первой мировой войны эта работа в Терской области еще даже не начиналась, а объявлять принудительную мобилизацию в условиях
РТВИА. Ф. 1300. On. 1. Д. 198. Л. 6, 21,21 об., 44.
Глава XIII. Первая мировая война и Февральская революция в России
в политических судьбах Чечни
Офицеры Чеченского полка «Дикой дивизии». Фото 1914 г. (4, 172)
начавшейся войны власти не решились. Поэтому, как и в предыдущих войнах России XIX — начала XX вв., было решено ограничиться выбором добровольцев.
Формирование «Дикой дивизии». Без особого труда уже в 1914 г на Северном Кавказе были сформированы 6 национальных полке», насчитывавшие по 4 сотни полного состава: Дагестанский, Ингушский, Кабардинский, Татарский, Черкесский и Чеченский. В отличие от предыдущих войн, когда горские полки разрозненно включались в состав более крупных соединений русской армии, на этот раз военное командование приняло решение о формировании отдельной Кавказской конной дивизии, которая скоро в обиходе получила колоритное название — «Дикая дивизия». Позднее генерал А. И. Деникин объясняз причину формирования столь крупного добровольческого формирования: «Едва ли не стремление к изъятию с территории Кавказа наиболее беспокойных элементов было исключительной причиной этог® формирования. Во всяком случае, эпические картинки боевой работы «Дикой» дивизии бледнеют на общем фоне ее первобытных нравов и батыевских приемов»1,
1 Деникин А. Очерки русской смуты // Вопр. истории. — 1990. — № 10. — С. 106.
— 560 —
Наш край в годы Первой мировой войны
Великий князь Михаил Романов. Рис. (Интернет)
Несмотря на столь нелестную характеристику, данную уже задним числом, служба в составе «Дикой дивизии» считалась почетной не только среди горского офицерства. Находившаяся под покровительством брата Николая II великого князя Михаила Александровича дивизия стала своего рода гвардейской частью, офицерский состав которой комплектовался из представителей не только кавказских, но и русских, польских, английских, французских и итальянских дворянских фамилий.
«Дикая дивизия» в боях. После ускоренной четырехмесячной военной подготовки «Дикая дивизия» была направлена на австрийский фронт, где прекрасно зарекомендовала себя в боевой обстановке. После первого же боя командовавший 2-й бригадой из состава дивизии полковник К. Н. Хагондоков докладывал о действиях Чеченского полка: «Доблестные офицеры и азартно храбрые всадники — все состязаются в деле. Не могу найти слов, чтобы достойно очертить поразительную храбрость, громадную настойчивость, отличную распорядительность и твердость...»1.
Полки «Дикой дивизии» отличились при ликвидации Горлицкого прорыва австро-венгерской армии и в тяжелых для русской армии боях за город Перемышль. Во время знаменитого наступления русской
Опрышко О. Кавказская конная дивизия: Вот некоторые эпизоды боевого пути дивизии // Вайнах. — 2002. — № 4. — С. 29.
Глава XIII. Первая мировая война и Февральская революция в России
в политических судьбах Чечни
армии, известного как «Брусиловский прорыв», всадники «Дикой дивизии», находясь на острие прорыва, в конном строю форсировали реку Днестр, за что дивизия была награждена Георгиевским знаменем. Но самую громкую славу горцам принес блистательный разгром Брауншвейгской дивизии германской армии, которая за отличие в боях на Западном фронте против англо-французский войск, получила почетное наименование «Железной дивизии».
Интересно, что полки «Дикой дивизии» влились в состав действующей армии, даже не имея полковых знамен, что противоречило установившимся традициям, когда войсковое соединение считается созданным после вручения боевого знамени. Только в январе 1916 г. командование Чеченского полка вышло с ходатайством о вручении полку того самого знамени, что было пожаловано в январе 1879 г. Чеченскому конно-иррегулярному полку «в награду за подвиги» в русско-турецкую войну 1877—1878 гг. Это знамя после роспуска иррегулярного полка хранилось у начальника Терской области.
Всего за годы Первой мировой войны не менее 60 всадников Чеченского полка были награждены Георгиевскими крестами, считавшимися высшей воинской наградой в русской армии. Высокая оценка боевым заслугам «Дикой дивизии» была дана и в приказе великого князя Михаила Александровича: «Неисчислимы все отдельные подвиги героев- кавказцев, представителей доблестных народов Кавказа... Пусть слава о них будет воспета в аулах родного Кавказа, пусть память о них навеки живет в сердцах народа, заслуги их будут записаны для потомков золотыми буквами на страницах Истории. Я же до конца моих дней буду гордиться тем, что был начальником горных орлов Кавказа, отныне столь близких моему сердцу...»1.
Тяжелые потери не обошли и «Дикую дивизию», состав которой до осени 1916 г. пополнялся три раза. Формирование четвертого набора шло с большим трудом. Дело в том, что дивизию бросали на спасение целых фронтов в период отступления. Так, в 1916—1917 гг. Кавказская конная дивизия в полном составе 16 раз ходила конной лавой в атаку на вражеские позиции, давая возможность русским войскам выскользнуть из окружения.' Только Чеченский и Черкесский полки были в достаточной степени обеспечены подготовленными резервами, а все остальные полки дивизии пополнялись плохо.
Рост антивоенных настроений. Ширящиеся в русской армии антивоенные настроения не миновали и солдат-горцев. Только 553 человека из 1,5 тысяч четвертого набора в «Дикую дивизию», проходивших подготовку в запасном полку, в конечном итоге прибыли в боевые части. Всех остальных ввиду их «ненадежности» военное командование
1 Опрышко О. Кавказская конная дивизия: Вот некоторые эпизоды боевого пути ди¬
визии // Вайнах. — 2002. — № 4. — С. 30.
— 562 —
Наш край в годы Первой мировой войны
Офицеры Чеченского конного полка. В середине — командир Кавказской конной дивизии великий князь Михаил Романов. Фото (22, 36)
оказалось вынужденным вернуть на Кавказ. Да и в поведении дивизии горцев на фронте появлялось все больше тревожащих начальство моментов. Так, во время операций в Карпатских горах всадники «Дикой живизии» помогали местным крестьянам бороться с лесной стражей и заже участвовали в погромах помещичьих усадеб.
К тому же содержание национальных полков тяжелым бременем ложилось на крестьян-горцев. Несмотря на то что всадникам полагалась казенная лошадь и вооружение, полная экипировка каждого солдата обходилась рекомендовавшим их в полк обществам в 300 рублей. Впрочем, и казенных средств не доставало для хорошей экипировки. Так, новый конский состав, собранный для пополнения дивизии осенью 1916 г. был «весьма плох», и командование дивизии добивалось выделения средств для закупки лошадей кабардинской породы1.
Выступление солдат Осетинского дивизиона. Отражением растущего нежелания подавляющего большинства горцев участвовать в войне, стало выступление в августе 1916 г. солдат Осетинского пешего дивизиона, проходивших военную подготовку в крепости Воздвиженская на территории Чечни. Мобилизованные по призыву солдаты-осетины делали все возможное, чтобы оттянуть отправку на фронт. Например, требовали перевести их из пехоты в кавалерию и т. п. В конечном итоге дело дошло до открытого отказа выполнять приказы командиров. Для подавления бунта из Грозного был срочно переброшен пехотный батальон, а для переговоров с солдатами из Осетии были срочно вызваны «почетные люди». В конечном итоге
РГВИА. Ф. 1300. On. 1. Д. 1033. Л. 1,49—50,123; Муталиев Т. Сложный путь прозрения // Грозненский рабочий. — 1986. — 17 апр. — С. 3.
Глава XIII. Первая мировая война и Февральская революция в России
в политических судьбах Чечни
избежать кровопролития не удалось: погибло 16 и получили ранения свыше 30 солдат дивизиона1.
Из воспоминаний чеченского исследователя X. Ошаева, непосредственного свидетеля расстрела солдат-осетин, можно сделать вывод о наличии какой-то связи между восставшими и жителями Старых Атагов. В ходе следствия, проведенного властями, помимо солдат-осетин были арестованы по обвинению в подстрекательстве к восстанию и два атагинца: Мурда Хамидов и Джабраил Толгаев. Оба были приговорены к смертной казни и избегли ее только благодаря Февральской революции 1917 г. Не случайно также, что часть осетин, бежавших с территории гарнизона, укрылась именно в Старых Атагах, а те, кто скрылся в Воздвиженской слободе, прятались в чеченских домах2.
Обострение противоречий в Терской области и Чечне. Различные социальные и общественные группы в Чечне, как и среди всех горских народов, по-разному относились к войне с Германией, Австро-Венгрией и Турцией. Крестьянство, в целом, считало эту войну совершенно чуждой своим интересам. Буржуазные и офицерские круги, поддержав официальные лозунги о войне до победного конца, покровительствовали созданию Чеченского конного полка. Протурецкие настроения были характерны только для части чеченского духовенства, причем это сочувствие носило идейный характер, не облекаясь в организационные формы. Слишком еще жива была память о восстании в Чечне и Дагестане во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг., когда турки бездарно проиграли кавказскую кампанию России, а подстрекаемые султаном российские горцы оказались обреченными на смерть и каторгу.
Вместе с тем, нельзя не учитывать, что, по крайней мере на первых порах, определенное место имели в Чечне настроения в пользу осознания себя россиянами, сказывался эффект длительного проживания в великом государстве, завораживала мощь империи. Поэтому на первом этапе добровольцы на зачисление в Чеченский полк зачастую проходили конкурс по 5—6 человек на одно место. Не остались в стороне даже революционно настроенные чеченские офицеры, на войну ушли такие бунтари, как X. Кужуев, К. Ахтаханов и др.
Постепенно тяжелая война вызвала обострение отношений между различными социальными слоями и сословиями всей Российской империи. В Терской области эти противоречия накладывались на растущий антагонизм между горцами и казачеством, в основе которого лежал вопрос о земле. Терские власти пытались заблаговременно принимать меры по недопущению социальных и межнациональных конфликтов. Еще 13 августа 1914 г. область была объявлена на положении «чрезвычайной
1 Джанаев А., Хасбулатов А. «Дело тринадцати» // Грозненский рабочий. — 1986. —
27 авг. — С. 3.
? Ошаев X. Забытый эпизод // Революция и горец. — 1931. — № 6—7. — С. 85—86.
— 564 —
Наш край в годы Первой мировой войны
охраны», затем введена военная цензура и издан приказ «об охране спокойствия на предприятиях», согласно которому судьбу «нарушителей спокойствия» решали военные суды. Для обеспечения бесперебойного снабжения страны нефтью и нефтепродуктами в Баку и Грозном были созданы государственные особые нефтяные инспекции1.
Экономический подъем. Рабочее движение. Годы перед Первой мировой войной стали для Грозненского промышленного района периодом экономического подъема. В отличие от других нефтедобывающих районов, где наблюдался застой или даже упадок, добыча нефти в Грозном стабильно растет. О продолжении «нефтяного ажиотажа» свидетельствует и большое количество заявок, поданных на разведку нефтеносных площадей — их было подано более 46 тысяч. Начинается разработка новых промыслов, которые, собственно, и давали прирост нефтедобычи.
Рабочее движение вновь активизируется в Грозном уже весной 1911 г. Революционные партии все эти годы не прекращали своей жеятельности. В мае 1909 г. в Терскую область приезжает один из лидеров партии большевиков С. М. Киров, который легально работает в одной из местных газет либерального направления. Однако причиной новых забастовок на грозненских нефтепромыслах стала не агитация подпольщиков, а неудовлетворенные требования рабочих об улучшении их материально-бытового положения.
Политическую окраску выступления грозненских рабочих приобретают лишь через год, когда вся страна была потрясена расстрелом рабочих Ленских золотых приисков в Сибири в 1912 г. С этого момента стачечное движение заметно активизируется. До начала Первой мировой войны в Грозном прошло не менее 16 забастовок, крупней- ®ей из которых стала всеобщая забастовка, прошедшая с 20 августа по 13 сентября 1913 г. Эта стачка проходила в рамках Всероссийской забастовки нефтяников. Среди требований, выдвинутых рабочими, главное место занимали экономические: установить 8-часовой рабочий день, увеличить заработную плату, ввести месячные оплачиваемые от- ауска, отменить сверхурочные работы и т. д. Главные экономические требования рабочих были удовлетворены2. Уступки объяснялись и яриближающейся войной России с Германией.
Рост спроса на нефть в ходе войны. Военные действия в ходе Пер- зой мировой войны быстро приобрели невиданный в истории размах и потребовали от воюющих стран мобилизации всех экономических и людских ресурсов. В результате война негативно сказалась и на положении тех российских губерний и областей, что были удалены
1 ГАРФ. Ф. P-6870. On. 1. Д. 109. Л. 19.
: Колосов Л. Я. Чечено-Ингушетия накануне Великого Октября: 1907—1917. — Грозный, 1968.— С. 111—112.
Глава XIII. Первая мировая война и Февральская революция в России
в политических судьбах Чечни
от фронта на сотни и тысячи километров. Всеобщая мобилизация коснулась не только большей части строевых казаков, но и рабочего населения Грозного. До одной трети грозненских профессиональных рабочих оказались призванными в действующую армию, что не могло не отразиться на состоянии нефтедобычи. В течение 1915 г. общий уровень добычи нефти в Грозном несколько уменьшился, что объяснялось как сокращением числа квалифицированных рабочих, так и дефицитом материалов, необходимых для организации буровых работ1.
Война и ускоренная механизация войск, появление танков и боевой авиации вызвали стремительный рост потребления нефтепродуктов., прежде всего бензина и, соответственно, рост цен на нефть. За один только 1915 г. цена на сырую нефть в России удвоилась. Чтобы остановить неконтролируемый рост цен Особое совещание по топливу (созданное при российском правительстве под председательством министра торговли и промышленности) оказалось вынужденным установить предельную цену — 45 копеек за пуд нефти.
Чтобы повысить добычу нефти, правительство рассматривает вопрос о расширении площадей казенных земель, отданных под разработку, и упрощении процедуры выделения земельных участков. Однако ни усилия правительства, ни высокая цена, ни растущий спрос не привели к увеличению общего количества добываемой в России нефти. Добыча нефти за 1916 г. возросла только в Грозном (на 7,8 миллионов пудов) за счет расширения Новых промыслов.
«Нефтяной голод» в России усиливался еще и вследствие неготовности железных дорог к перевозке большого количества нефти и нефтепродуктов на большие расстояния. Уже к февралю 1915 г. в Грозном скопилось до 16 миллионов пудов не вывезенных нефтепродуктов. Помимо нехватки цистерн, грозненская нефтеналивная станция не имела электрического освещения, а потому как налив нефтепродуктов, так и обслуживание товарных составов могло производиться только в светлое время суток2.
Увеличение чеченского национального промышленного пролетариата. К 1916 г. нехватка рабочих рук на предприятиях Грозного приняла такие масштабы, что очередной съезд Терских нефтепромышленников даже потребовал от властей организовать вербовку рабочих в соседнем Иране. Иранских подданных и так было немало в Грозном —- 575 человек только в 1907 г. Их число увеличивалось и в последующие годы, так что в Грозном даже открылась шиитская мечеть3.
Мобилизация большого количества квалифицированных грозненских рабочих привела к появлению на промыслах и большого количества рабочих из горцев (чеченцев и дагестанцев) и татар. Их общее число
1 ГАРФ. Ф. P-6870. On. 1. Д. 110. Л. 3.
2 ГАРФ. Ф. P-6870. On. 1. Д. 109. Л. 2,6—7, Д. 110. Л. 2,4.
3 Ваксман А. А. Записки краеведа. — Грозный, 1984. — С. 44—45.
— 566 —
Наш край в годы Первой мировой войны
достигло примерно восьми тысяч, из них около трех тысяч составляли чеченцы. В отличие от предыдущих лет все большее количество чеченцев насовсем переезжают в Грозный и перевозят сюда свои семьи. Появляются и первые квалифицированные рабочие из числа чеченцев, например, буровым мастером стал Карши Берсанов, много лет проработавший на фирме «Товарищество братьев Нобель».
Массовая забастовка в мае 1916 г. Рабочие-мусульмане сыграли заметную роль в массовой забастовке, охватившей грозненские предприятия в мае 1916 г. 12 мая представители рабочих Старых промыслов вручили Совету съезда Терских нефтепромышленников письменные требования об увеличении заработной платы в среднем на 50% с 20 мая 1916 г., угрожая в противном случае забастовкой. Представители различных частных фирм, действующих в Грозном, не смогли своевременно прийти к соглашению с рабочими, так как им приходилось получать инструкции от владельцев предприятий, большинство из которых постоянно проживали за границей. 17 мая рабочие подали второе письменное заявление о своих требованиях, а 21 мая, в 2 часа дня, по тревожным заводским гудкам прекратились работы на промыслах. Девять рабочих, подававших гудки, были тут же арестованы полицией и переданы судебным властям, но забастовка уже началась.
Власти предприняли целый ряд мер, чтобы не допустить всеобщей забастовки. Так, рабочие единственной городской электростанции были предупреждены о массовых арестах в случае остановки турбин. Кроме того, было издано распоряжение о немедленной мобилизации всех грозненских рабочих, имеющих отсрочку от военной службы н участвующих в стачке. На промыслы были введены вооруженные казаки, которые арестовали 13 рабочих, обходивших предприятия и угрожавших расправой рабочим, не прекратившим работу. Интересно, что все арестованные оказались мусульманами. В результате принятых мер к стачке на нефтепромыслах примкнули только рабочие механического завода «Молот».
Несмотря на ряд инцидентов, стачка в целом носила мирный характер. Да и сами рабочие старались предотвращать столкновения. Например, когда 21 мая возбужденная толпа напала на урядника промысловой полиции Сатвалова, рабочий Ваха Эжиев сумел предотвратить расправу, уговорив рабочих не трогать полицейского.
Одновременно, власти оказывали определенное давление и на владельцев предприятий, требуя от них немедленно достичь с рабочими •полюбовного» соглашения. В результате 26—27 мая было объявлено о частичном удовлетворении требований рабочих: увеличивались так называемые «военные» пособия, введенные в связи с дороговизной продуктов, фирмы обязывались расширить закупку продуктов и товаров для своих рабочих. Кроме того, рабочим было предложено создать собственные
Глава XIII. Первая мировая война и Февральская революция в России
в политических судьбах Чечни
снабженческие кооперативы, причем работодатели обязывались предоставлять рабочим кооперативам помещения и беспроцентные ссуды, а также оплачивать их расходы на освещение и отопление.
31 мая рабочие повсеместно начали возвращаться на работу, но социальный мир так и не был достигнут: уже 4 июня 1916 г. на Старых промыслах подожжена буровая вышка фирмы «Русский стандарт». Полиции так и не удалось обнаружить «злоумышленников», а прямые убытки составили 10400 рублей1.
Обострение ситуации в горных аулах. Одновременно обостряется обстановка и в горских округах, где учащаются случаи открытого неповиновения властям. Как признают терские власти, частые реквизиции и привлечение «туземного населения» к разного рода военным повинностям, а также слухи о скором распространении на горцев закона о всеобщей воинской повинности, — повсеместно вызвали «тревожные настроения». Чтобы гарантировать спокойствие в горских округах, терские власти настаивали на переброске в область нескольких воинских соединений, годных для действий в горной местности2.
Тем не менее, избежать осложнений не удалось. Летом 1916 г. составление списков волов, годных для поставки в войска, вызвал© вооруженное сопротивление в ряде населенных пунктов Веденского округа. Так, 10 июля в Цацан-Юрте был ранен помощник старшины Баса Мусаев. В связи с причастностью к этому инциденту было арестовано пять жителей Цацан-Юрта3.
Еще через 6 дней, 16 июля, попытка реквизировать в кумыкском селении Аксай Хасав-Юртовского округа (где жило и немало чеченцев) лошадей и повозки для нужд армии вызвала массовое столкновение жителей с прибывшими войсками. На помощь к находившейся в Аксае роте 250-й Самарской дружины было срочно переброшено еще 400 солдат. В ходе столкновения ранения получили два солдата, зато жителей было убито и ранено свыше 40. В качестве меры коллективного наказания власти заменили в селе выборного старшину правительственным., запретили жителям носить оружие, а также разместили на постой роту солдат и казачью сотню с полным довольствием за счет жителей.
Тем не менее, власти не могли считать инцидент полностью исчерпанным. Начальник Терской области генерал Флейшер с тревогой докладывал в Тифлис, что к Аксаю стягиваются жители окрестных селений «. ..и спускаются также вооруженные чеченцы». Для подавления возможных новых беспорядков срочно запрашивались дополнительные войска с артиллерией и пулеметами4.
1 ГАРФ. Ф. P-6870. On. 1. Д. 151. Л. 1—10.
2 РГВИА. Ф 1300. On. 1. Д. 351. Л. 1—2.
3 РГВИА. Ф. 1300. On. 1. Д. 351. Л. 35,36.
4 РГВИА. Ф. 1300. On. 1. Д. 351. Л. 8, 9, 22, 28, 33, 33 об.
— 568 —
Наш край в годы Первой мировой войны
Одновременно обостряется и криминогенная обстановка, особенно увеличилось количество вооруженных грабежей. Так, на территории
4-го участка Грозненского округа была ограблена группа жителей Грузии — тушин, перегонявших стада. В ходе нападения один из тушин был убит, в общей сложности угнано до 50 лошадей. И в этот участок на постой была направлена сотня казаков1.
Укрепление чеченской социальной верхушки. Война ускорила процесс социального расслоения чеченского общества. Так, чеченская предпринимательская верхушка значительно укрепила свои экономические позиции в Терской области. Как указывали современники, в 1915 г. вся грозненская мануфактурная торговля сконцентрировалась в руках чеченских купцов, крупнейшими из которых были Эльмурза Мациев, Ахматхан Эльмурзаев и Касум Баширов. Коммерческие интересы чеченских предпринимателей уже не ограничиваются одним Грозным, а включают и крупнейшие российские города. Например, К. Баширов ежегодно на Нижегородских ярмарках закупал различных товаров на десятки тысяч рублей.
Уже во время войны в Грозном открывают свои представительства новые коммерческие банки: Волжско-Камский и Тифлисский. Интересно, что в банковско-коммерческую деятельность вовлекается большое количество чеченцев. Так, в одном из инспекционных отчетов указывается, что только у одной из грозненских фирм, принадлежавшей некоему Мирзоеву, четверть портфеля векселей составляли векселя «...малоизвестных чеченцев, разбросанных в разных аулах».
Вместе с тем, война обострила противоречия и внутри чеченской верхушки. По мере ослабления российских государственных институтов и ухудшения обстановки на фронтах и внутри страны, происходит усиление сепаратистских настроений. Значительная часть не только чеченской национальной верхушки, но и других горских народов, в первую очередь представители духовенства, все более откровенно заговаривают о слабости России и силе Германии и Турции. Не вызывает сомнения, однако, что большая часть политически активных чеченских предпринимателей выступает за дальнейшее пребывание Чечни в составе России, но при условии проведения кардинальных внутренних реформ, дающих большую свободу для реализации национальных интересов. Одновременно происходит усиление влияния революционных идей, которыми увлекается все больше представителей либерально настроенной интеллигенции. Что касается широких слоев чеченского крестьянства, то оно в массе своей стремится использовать благоприятный момент для исторического реванша и возвращения обширных земель, утраченных на плоскости во время Кавказской войны.
: РГВИА. Ф. 1300. On. 1. Д. 351. Л. 38.
Глава XIII. Первая мировая война и Февральская революция в России
в политических судьбах Чечни
Эти противоречия внутри чеченского общества так и не были преодолены, что негативно сказалось в период бурных событий 1917 г., когда наличие разновекторной политической ориентации способствовало погружению Чечни в революционный катаклизм и общественный хаос.
§ 2. Февральская буржуазно-демократическая революция на Тереке. Национальные и политические движения
Революция в центре. Россия вступила в 1917 г., уже будучи ввергнутой в острейший системный кризис, охвативший практически все стороны жизни страны. Застарелые экономические, социальные и политические проблемы приобрели в условиях тяжелейшей внешней войны чрезвычайную остроту. Царская семья и придворное окружение, все более и более подпадавшие под влияние так называемых «темных сил» во главе со «святым старцем» Григорием Распутиным — потеряли поддержку даже в монархических кругах. Процесс разложения коснулся практически всех государственных структур, включая армию, полицию и жандармерию. Сочетание всех этих факторов с наличием острейших противоречий между трудом и капиталом, между помещиками и крестьянством, а также нерешенностью национального вопроса закономерно привели Россию к революции.
14 февраля 1917 г., в связи с открытием очередной сессии IV Государственной думы, в Петрограде (российская столица была переименована «на русский лад» вскоре после начала Первой мировой войны) начались массовые манифестации. В тот же день прекратили работу крупнейшие столичные предприятия. Революционные демонстрации начались
Дни Февральской революции в Москве (65, 57)
— 570 —
Февральская буржуазно-демократическая революция на Тереке. Национальные
и политические движения
и в Москве. Продолжавшиеся более 10 дней подряд демонстрации приобретали все больший размах. Наряду с лозунгами «Хлеба!» и «Долой войну!» всеобщим требованием становится «Долой самодержавие»! В конце февраля в политической стачке участвовало уже не менее 80% питерских рабочих. Народные выступления получили поддержку не только всех политических партий, но и подавляющего большинства депутатов Государственной думы.
Пытаясь пресечь волнения, царское правительство объявило о введении в столице военного положения и направило в Петроград дополнительные войска. Но вновь назначенному военному губернатору, генералу Хабалову, не удалось остановить развитие революции — солдаты отказывались разгонять демонстрации, а вскоре начался массовый переход частей на сторону противников самодержавия. 26 февраля началось открытое вооруженное восстание, почти не встретившее сопротивления. Утром 28 февраля власть в городе полностью перешла к Временному комитету Государственной думы, спешно созданному буквально накануне — 27 февраля 1917 г.
После того, как армия отказала ему в поддержке, у императора Николая II не оставалось другого выхода, кроме как официального отречения от престола. 2 марта 1917 г. он подписал текст отречения не только за себя, но и за своего несовершеннолетнего сына — цесаревича Алексея. Великий князь Михаил Александрович (младший брат царя), который по российскому закону о порядке престолонаследия должен был занять освободившийся трон, также отказался от власти в пользу
Последний император России Николай II (4, 165)
Глава XIII. Первая мировая война и Февральская революция в России
в политических судьбах Чечни
Временного правительства, сформированного Государственной думой. Таким образом, Россия стала республикой.
Несмотря на свою юридическую легитимность, возникшую после законной передачи власти, Временное правительство, представлявшее интересы крупных капиталистов и землевладельцев, оказалось вынужденным разделить власть со стихийно возникшими в ходе революции различными Советами, зачастую пробольшевистского характера. Так, в самой столице параллельную структуру органов власти создавал Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов, в котором оказались представлены все наиболее радикальные революционные партии России. Советы быстро появились и во многих других городах и губерниях России, что привело к фактическому двоевластию в стране. Ситуацию еще более осложнило появление в национальных окраинах многочисленных национальных союзов и комитетов.
Обстановка в Терской области. М. А. Караулов. Перед комиссаром Временного правительства в Терской области М. А. Карауловым, который прибыл в область в начале марта 1917 г., стояла трудная задача по формированию единой власти, которая стремительно рассредоточивалась между разными советами, комитетами и союзами, в том числе национальными. Решить ее он попытался, опираясь прежде всего на Терское казачество, как на войсковую организацию. Этот выбор представляется естественным, учитывая, что сам М. А. Караулов являлся потомственным казаком и происходил из станицы Тарской. Получив университетское образование, он начинал политическую деятельность именно как представитель казачества: редактировал еженедельник «Казачья неделя» (приложение к газете «Терские ведомости»), был депутатом Государственной думы и именно от казачества. Сразу же поддержал буржуазно-демократическую революцию и, находясь в Петрограде, принимал активное участие в событиях февраля 1917 г.1
13 марта 1917 г. М. А. Караулов на I Казачьем круге был избран Наказным атаманом Терского казачьего войска, что почти автоматически поставило его во главе еще не развалившегося полностью старого аппарата управления Терской областью. Поэтому преобразования, которые начал представитель Временного правительства, носили в большинстве своем чисто формальный характер. Так, было сохранено прежнее административное деление, только вновь назначенные начальники округов назывались теперь комиссарами; а отряды для охраны «общественного порядка» формировались преимущественно из бывших служащих полиции2.
1 ГАРФ. Ф. P-5351. On. 1. Д. 41. Л. 3 об., 4.
2 Киреев Е. П. Борьба Грозненской большевистской организации за массы в период между Февральской и Октябрьской революциями 1917 года // Известия Чечено- Ингушского республиканского музея. Вып. 9. — Грозный, 1957. — С. 10—11.
— 572 —
Февральская буржуазно-демократическая революция на Тереке. Национальные
и политические движения
М. А. Караулов. Фото (68, 88)
Урегулирование национальных проблем М. А. Карулов собирался проводить в рамках программы Временного правительства, которая разрабатывалась под непосредственным влиянием партии кадетов. В ее основу был положен тезис о том, что остроту национального вопроса в России можно снять, открыв двери для развития демократических реформ. Уже 20 марта Временное правительство издает декрет об отмене всех религиозных и национальных ограничений, долгое время зействовавших в России. Сохраняя прежнее административно-территориальное деление страны, Временное правительство предполагало в национальных округах осуществлять через органы местного самоуправления «культурно-национальное самоопределение народов». Предоставление государственной автономии предусматривалось только **я Польши и Финляндии, которые пользовались автономией и при карском режиме.
В целом программа Временного правительства могла удовлетворить только известный минимум требований, выдвигаемых представителями многочисленных народов России. А потому вместо ожидаемого ослабления остроты национального вопроса на протяжении 1917 г. происходит быстрая радикализация национальных движений.
— 573 —
Глава XIII. Первая мировая война и Февральская революция в России
в политических судьбах Чечни
Революционное движение в Чечне. Чеченский съезд. Что касается Чечни, то здесь с одной стороны, пришли в стихийное движение широкие крестьянские массы: население изгоняло прежнее окружное начальство и правительственных старшин. С другой стороны, социальные верхи чеченского общества стремились к организации новых властных структур по всей Чечне. Характерно, что как в народной среде, так и в среде политически активной интеллигенции и духовенства ярко выражено стремление к союзу с другими горскими народами. Объясняется это наличием общих интересов в борьбе против такого колониального института, как Терское казачье войско.
5—6 марта 1917 г. во Владикавказе представители горских народов Терека образовали Временный Центральный комитет объединенных горцев (ВЦК), первым председателем которого стал балкарский просветитель и юрист Б. А. Шаханов. Представителями Чечни в этом комитете являлись А.-М. (Тапа) Чермоев и А. М. Мутушев.
По инициативе ВЦК началось проведение национальных съездов, призванных: во-первых, придать организованную форму национальным движениям; во-вторых, сформировать национальные властные органы. Сами по себе подобные съезды не были чем-то новым для тех же чеченцев. Да и не умерли еще окончательно традиции, связанные с деятельностью Мехк-кхела — Совета Страны.
Чеченский съезд состоялся 14 марта 1917 г. в Грозном и собрав до 10 тысяч участников. Главным докладчиком на съезде выступил А.-М. Чермоев, что объективно отражало влияние, которым он пользовался в Чечне. Активное участие в работе съезда приняли политические и религиозные деятели, в свое время высланные из Терской области за антицаристские настроения и действия. Например, после десяти лет пребывания в Баку вернулся на родину Т. Эльдарханов. Выступили на съезде и некоторые из шейхов и мулл (высланных целой партией в Россию еще в 1911 г.), например, Сугаип-муляа Гайсумов1.
Легализация различных программ устройства Чечни. Формирование Чеченского исполнительного комитета. На съезде обнаружились два политических направления, между которыми в последующем развернулась ожесточенная борьба за власть в Чечне. С одной стороны видные представители духовенства выступили с требованием установления в Чечне теократического правления и реорганизации всей государственной и правовой жизни на основе шариата. Реализация этого программного требования фактически означала передачу власти наиболее влиятельным шейхам, которые выступали от имени всего духовного сословия. Наиболее активно это требование отстаивали
2 Сигаури И. М. Очерки истории и государственного устройства чеченцев. Т. 2. — М-
2001. — С. 57—59.
Февральская буржуазно-демократическая революция на Тереке. Национальные
и политические движения
Сугаип-мулла Гайсумов и шейхи Дени Арсанов, Али Митаев и Абдул- Вагап-хаджи Аксайский.
На мартовском съезде 1917 г., шейхи не смогли добиться поставленной цели — большинство мест в Чеченском исполнительном комитете получили представители светской интеллигенции. Неудача шейхов во многом объясняется ожесточенной борьбой, которая шла внутри самого духовного сословия. Во-первых, хоть и негласно, но шейхи конкурировали между собой, пытаясь привлечь в свои общины возможно большее число мюридов. Во-вторых, деятельность шейхов часто не находила поддержки у основной части духовенства — простых сельских мулл, которые не имели своих мюридов, но жили интересами сельчан. И, в-третьих, та часть официального духовенства, что длительное время пользовалась поддержкой царских властей, после крушения самодержавия все еще продолжала борьбу за влияние с выдвинувшимися на первое место крупными шейхами.
На съезде шейхам противостояла широкая коалиция светски ориентированных деятелей. Правда, внутри этой части чеченской национальной верхушки также наметились серьезные политические разногласия, но весной 1917 г. они еще не достигли достаточной остроты. Миллионера и правого либерала А.-М. Чермоева, социал- демократа А. Мутушева, просветителя и демократа Т. Эльдарханова и совсем еще юного левого радикала Асланбека Шерипова объединяло стремление создать в Чечне светскую демократическую систему национального самоуправления в рамках общегорской национально- территориальной автономии. Признавая большую роль духовенства в жизни чеченского общества, эти деятели были убеждены все же в том, что участие духовенства в делах государства должно быть ограничено.
В результате острой борьбы ведущие позиции в Чеченском исполнительном комитете были закреплены за представителями светской интеллигенции. Председателем Чеченского исполкома стал член партии меньшевиков, известный публицист, юрист по образованию Ахмед- хан Мутушев (позднее он перейдет на сторону большевиков и будет активным участником гражданской войны на Кавказе). Окончательный состав Чеченского исполнительного комитета был сформирован носле съезда на совещании уже избранных его членов. Заместителем вредседателя исполкома стал видный предприниматель М. К. Абдул- кажыров, первым комиссаром Грозненского округа — Т. Эльдарханов, «эмиссаром Веденского округа — потомственный офицер А. В. Адуев, аомощниками комиссара — журналист и адвокат Д. Д. Шерипов, юристы И. Д. Арсанукаев и 3. Гисаев1.
См.: Очерки истории Чечено-Ингушской АССР. Т. 2. — Грозный, 1972. — С. 9, 14; Сигаури И. М. Указ. соч. — С. 58—59; и др.
— 575 —
Глава XIII. Первая мировая война и Февральская революция в России
в политических судьбах Чечни
Вопрос об эксплуатации нефтяных богатств. Проблемы, связанные с эксплуатацией природных богатств, особенно остро стояли в Чечне, с ее мощным грозненским нефтедобывающим районом. Поэтому Чеченский исполнительный комитет еще 26 апреля 1917 г. объявил недействительными все заключенные ранее договора на разведку и добычу нефти в Чечне. Для «более справедливого» распределения доходов от нефтеносных земель создавался специальный «комитет арендных приговоров и торгового производства». Ставился также вопрос о реорганизации управления лесным хозяйством Чечни. Эти решения, хотя и не касались прямо территории Грозного и казачьих отделов, но все же являлись откровенной попыткой защитить экономические интересы национальных предпринимательских кругов и массы чеченского населения.
Только к маю 1917 г. в Чечне повсеместно сложились новые органы власти. В качестве верховного органа управления выступал Чеченский исполнительный комитет. В округах и участках, границы которых оставались неизменными, исполнительную власть представляли соответственно окружные и участковые комиссары. Низшее звено системы национального самоуправления составляли старшины, избиравшиеся сельским сходом.
Надо отметить также, что еще на стадии формирования новых органов власти, началось сотрудничество в некоторых областях между чеченскими и казачьими органами управления. Так, в апреле 1917 г. между исполкомом казаков Кизлярского отдела и Чеченским исполнительным комитетом было подписано соглашение о совместной борьбе с бандитизмом и грабежами, принявшими в Терской области чрезвычайный размах.
Политические процессы в казачьих районах Чечни. Одновременно с чеченским съездом начал работу 1-й войсковой круг Терского казачьего войска. Как уже говорилось, наказным атаманом Терского войска был избран комиссар Временного правительства в Терской области, есаул М. А. Караулов. Его заместителем стал еще один есаул — Л. Е. Медяник, казак из станицы Щедриновской. В состав нового войскового правления вошел и известный исследователь жизни горцев Г. А. Вертепов, уроженец станицы Прохладной, долгое время бывший одним из руководителей «Терского общества любителей казачьей старины» и редактором газеты «Терский казак». Его дальнейшая судьба сложится трагически, впрочем, как и всех его коллег по войсковому правлению1.
Во второй половине марта 1917 г. началась реорганизация системы управления в казачьих отделах. Так, 18 марта в станице Грозненской избран новый состав исполнительного комитета казаков Кизлярского отдела во главе с П. Л. Губаревым. Сразу же была создана окружная
1 ГАРФ. Ф. P-5351. On. 1. Д. 41. Л. 26.28.
Февральская буржуазно-демократическая революция на Тереке. Национальные
и политические движения
комиссия для смещения старых и избрания новых органов власти в станицах.
Что касается Сунженского отдела (станицы Карабулакская, Троицкая, Нестеровская, Слепцовская, Ассиновская, Закан-Юртовская и др.), то новые органы управления появились здесь лишь в мае 1917 г. При этом (в отличие от Кизлярского отдела) в состав Сунженского каза- чье-крестьянского комитета вошли представители не только казаков, но и иногородних крестьян. Председателем Сунженского исполкома стал П. А. Караулов — родной брат войскового атамана. В целом в казачьих отделах Терской области власть переходит в руки среднего офицерства, сместившего старую промонархически настроенную верхушку казачества.
Создание «Союза объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана». А.-М. Чермоев. Создание органов национально-территориальной автономии горцев завершилось 1—5 мая 1917 г. на 1-м съезде горцев Северного Кавказа. В представительную чеченскую делегацию, прибывшую на съезд, вошли руководители Чеченского исполкома А. Мутушев, М. Абдулкадыров, Т. Эльдарханов, А.-М. Чермоев, генерал артиллерии Эрисхан Алиев, инженер Муса Курумов, шейх Дени Арса- нов, Сугаип-мулла Гайсумов, Солса-хаджи Яндаров и др.
Съезд завершился провозглашением «Союза объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана», в который вошли не только наро- жы Дагестана, Терека и Кубани, но и Абхазия. В составе избранного съездом Центрального Комитета из 45 членов, Чечню представляли: А.-М. Чермоев, М. Абдулкадыров и М. Курумов.
Помимо этого, съезд от имени всех горцев объявил о поддержке Временного правительства, принял «Конституцию Союза объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана», программу Союза и несколько волитических резолюций. Принципиально важное значение имело то, что съезд высказался за «.. .автономно-федеративное устройство горцев Кавказа» в рамках создаваемой в России федеративной демократической республики1.
Первый общегорский съезд прошел под сильным влиянием исламского духовенства, которое вновь выступило с требованием установления в горских областях шариатского правления. Свои претензии ш власть духовное сословие обосновывало тем, что именно ислам жступал в качестве силы, объединяющей горцев разных национальностей в единый союз. В то же время обеспокоенные ростом влияния деятелей левого (социалистического) толка, горские правые во главе с А.-М. Чермоевым попытались заручиться поддержкой духовенства
Союз объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана (1917—1918 гг.), Горская Республика (1918—1920 гг.): Документы и материалы. — Махачкала, 1994. — С 47—50.
Глава XIII. Первая мировая война и Февральская революция в России
в политических судьбах Чечни
Абдул-Межид (Тапа) Чермоев — председатель ЦК Союза объединенных горцев.
Фото (22, 31)
и столкнуть его с первыми1. Лично А.-М. Чермоеву эта тактика принесла успех — заручившись поддержкой представителей духовенства, он стал председателем Центрального Комитета Союза объединенных горцев. Однако, как покажут последующие события, окрепшее в политическом плане духовенство со временем начнет серьезно подрывать авторитет самого Союза объединенных горцев.
Учреждение поста Верховного муфтия Северного Кавказа. Еще одним результатом сделки правых с духовенством стало избрание съездом Верховного муфтия Северного Кавказа и духовного совета при нем. Муфтием стал известный дагестанский религиозный деятель Нажмудин Гоцинский, происходивший из богатой и влиятельной аварской семьи. Его отец — Доного Магома был наибом имама Шамиля и сумел сохранить свой пост, в конце Кавказской войны перейдя на сторону русских.
1 См.: Тахо-Годи А. Революция и контрреволюция в Дагестане. — Махачка¬
ла, 1927. — С. 13; Борисенко И. Советские Республики на Северном Кавказе.
Т. 2. — Ростов н/Д., 1930. — С. 28.
Февральская буржуазно-демократическая революция на Тереке. Национальные
и политические движения
Сам Нажмудин получил хорошее религиозное образование, что не помешало ему долгое время находиться на русской службе, получить звание юнкера горской милиции и занимать должность начальника Койсубулинского участка.
Н. Гоцинский долгое время преподавал в мусульманских учебных заведениях и тайно участвовал в оппозиционной политической деятельности. Так, во время бурного периода первой русской революции власти небезосновательно подозревали его в симпатиях к революционерам.
В 1917 г. Н. Гоцинскому было около 60 лет и его имя стало известно уже не только в Дагестане, но и Чечне. Росту его авторитета в немалой степени способствовало участие в улаживании конфликта, возникшего между жителями Аварского и Андийского округов Дагестана, с одной стороны, и соседними с ними чеченскими селениями Веденского округа, с другой. Поводом к столкновениям, начавшимся в начале 1917 г., послужили как многочисленные земельные споры, так и участившиеся грабительские нападения на дагестанцев, приезжавших в Чечню для закупки хлеба.
Аграрная программа 1-го съезда горцев Северного Кавказа. Пожалуй, наибольшее разочарование у крестьянских масс горцев вызвала позиция, занятая общегорским съездом по аграрному вопросу. Подтвердив в декларативной форме право горцев на возвращение территорий, отнятых у них в ходе Кавказской войны, съезд отложил решение этого вопроса на неопределенное время, передав рассмотрение земельного вопроса на рассмотрение Всероссийского Учредительного собрания, которое должно было решить все главные вопросы послереволюционного устройства России. На этом фоне ничего не значащими воспринимались требования съезда немедленно передать горцам все казенные земли, а также земли, принадлежавшие Крестьянскому поземельному банку и расположенные как на территории горских округов, так и в непосредственном соседстве с ними1.
Одновременно руководители Союза объединенных горцев публично заявляли о неприкосновенности частной собственности на землю и отказывались даже обсуждать вопрос о национализации собственности крупных землевладельцев. В условиях, когда российские революционные партии остро ставили именно вопрос о всеобщем уравнительном перераспределении сельскохозяйственных земель, такая позиция Союза не добавляла ему популярности в среде беднейшего крестьянства. Для всей России главными вопросами были вопрос о земле и вопрос о мире.
Чеченско-казачьи взаимоотношения. Борьба с криминалом. Умеренная позиция Союза объединенных горцев встретила поддержку у зерхушки терского казачества. Наказной атаман М. А. Карулов, выступая
Борисенко И. Советские Республики на Северном Кавказе. Т. 2. — Ростов н/Д., 2930. — С. 39.
Глава XIII. Первая мировая война и Февральская революция в России
в политических судьбах Чечни
на горском съезде, не только признал право горцев на внутреннюю автономию, но и заверил делегатов: «Казаки уже не будут вмешиваться в ваши дела. Они решили теперь устраивать только свою судьбу»1 2. Однако при этом практически ничего не делалось для ликвидации острого фактического неравенства в положении горцев и казаков. Между тем сохраняющийся земельный голод при общем ослаблении государственных структур все больше подталкивали горцев к решительным действиям.
Обострение отношений на границах горских округов и казачьих отделов первоначально воспринималось как проблема чисто криминального характера, которая и решалась соответственно. Как уже говорилось, Чеченский исполком весной 1917 г. заключил с казаками соглашение о совместной борьбе с уголовными бандами и приступил к формированию собственной вооруженной милиции (конной стражиI которая должна была вести решительную борьбу с бандитизмом. В состав специальной комиссии, формирующей чеченскую милицию, вошли М. Курумов, А.-М. Чермоев и мулла И. Джангериев. Общая численность чеченской милиции в Грозненском и Веденском округах должна была составить не менее 500 человек. Поддержку милиции оказывали и вооруженные формирования, созданные частными лицами, в частности, отряды шейха Али Митаева, известного купца М. Седиева, старшины села Бердыкель М. Цехаева.
Эти усилия позволили на какое-то время сбить волну бандитизма Так, в конце мая 1917 г. Центральный Комитет объединенных горцев докладывал, что благодаря энергичным мерам комиссара Хасав-Юртов- ского округа князя Уцмиева удалось добиться прекращения грабежей1 Однако, насилие в Терской области было вызвано к жизни главным образом игнорированием главного требования горцев — вернуть им утраченные на равнине земли. Несмотря на то, что органы власти, созданные Союзом объединенных горцев шли на активное сотрудничество с официальными властями Терской области, ситуация постепенно выходила из-под контроля. По крайней мере, с весны 1917 г. горцы и казаки открыто готовятся к войне. Терские власти с тревогой следили за тем, как чеченские шейхи вооружали своих мюридов, придавая религиозным братствам военизированный характер. Провокационной выглядела и идея создания в Терской области специального отряда из двух сотен казаков при четырех орудиях для борьбы «...с абреками и последователями шейхов...»3.
Положение в войсковых частях. Агитация большевиков. Формально в распоряжении терских властей находилось значительное количество
1 Цит. по ст.: Буркин Н. Горское правительство и интервенция на Северном Кавказе в 1918 году // Историк-марксист. — 1934. — № 2. — С. 14.
2 РГВИА. Ф. 1300. On. 1. Д. 442. Л. 116,116 об.
3 РГВИА. Ф. 1300. On. 1. Д. 437. Л. 367.
Февральская буржуазно-демократическая революция на Тереке. Национальные
и политические движения
войск. Гарнизон одного только Грозного включал 21-й и 111-й запасные пехотные полки, 250-ю Самарскую дружину и другие части, включая артиллерийские. Для управления войсками была создана специальная система, по которой при каждой воинской части в Терской области постоянно находились представители наказного атамана, начальника области (эти две должности занимал М. А. Караулов) и председателя Союза объединенных горцев.
Поэтому, использовать эти части для подавления внутренних беспорядков было довольно сложно. А главное, боеспособность расквартированных в Терской области войск была невысокой, поскольку в условиях войны они занимались главным образом обучением мобилизованных резервистов, которых в последующем отправляли на фронт. Весной 1917 г. в частях грозненского гарнизона усиливается агитация большевиков, которые требовали немедленного прекращения войны и демобилизации многомиллионной армии. Это привело к еще большему падению дисциплины в войсках и массовому дезертирству. Солдаты отказывались не только идти на фронт, но и исполнять свои служебные обязанности. Например, в середине мая военные власти даже оказались вынужденными снять с грозненского тротилового завода полностью разложившуюся охрану из солдат 111-го пехотного полка и выставить вооруженных сторожей, нанятых за плату.
Падению дисциплины способствовало и наличие в Грозном большого количества задержанных дезертиров, которых военные власти направляли с разных территорий Кавказа в Грозный для переподготовки в маршевых ротах, с последующим возвращением на фронт. На самом деле, вернуть их на фронт не удавалось, зато не только жители Грозного, но и близлежащих станиц и чеченских селений остро страдали от бандитских набегов вооруженных солдат1.
Обострение горско-казачьих и горско-армейских противоречий. Деятельность А.-М. Чермоева. Требование горцев вернуть их территории, захваченные в ходе Кавказской войны, вызвали рост антигорских и античеченских настроений не только среди казаков, но и «иногородних» крестьян Терской области. В значительной мере эти настроения затронули и воинские части, тем более что в столкновениях с горцами гибли и солдаты, посланные на охрану хуторов крестьян-переселенцев. Б нашем крае эти настроения вылились в чеченские погромы с участием воинских подразделений. Например, в начале мая 1917 г. в Грозном произошел чеченский погром, в котором самое активное участие приняли солдаты 111-го полка. Факт столкновений с чеченцами в Грозном признавали и военные власти, которые, правда, уверяли, что речь идет о единичных случаях2.
: РГВИА. Ф. 1300. On. 1. Д. 442. Л. 142,181, 219—220.
; РГВИА. Ф. 1300. On. 1. Д. 442. Л. 123; On. 1. Д. 409. Л. 105.
— 581 —
Глава XIII. Первая мировая война и Февральская революция в России
в политических судьбах Чечни
Очевидно, сами терские власти стремились втянуть армию в конфликт казаков с горцами, иначе трудно объяснить факт дополнительной переброски в область крупных воинских частей всех родов войск, включая бронепоезда, которые снимали с фронта под предлогом наличия «антигосударственных настроений» у горцев. Председатель ЦК Союза объединенных горцев А.-М. Чермоев в этой связи сообщал в штаб Кавказской Армии: «Создается чрезвычайно острое положение, могущее совершенно неожиданно привести к самым роковым последствиям помимо воли ответственных общественных организаций. Во имя успеха русской революции, одинаково дорогой для всех русских граждан, просим прекратить дальнейшую посылку войск и принять экстренные меры к устранению на будущее эксцессов со стороны проходящих войск». Командующий Кавказским военным округом действительно издал вскоре соответствующее распоряжение и сообщил об этом А.-М. Чермоеву1. Но предотвратить участие армейских частей в разгорающейся гражданской войне на Тереке не удавалось.
Чтобы снять напряжение на границах горских и казачьих земель, реально существовал только один путь — произвести уравнительное распределение земель. Ведь по крайней мере две трети казачьих земель не только не обрабатывались, но даже не использовались иначе как только для сдачи в аренду. Казак по происхождению, М. А. Караулов не мог пойти на такой шаг, а потому дальнейшее обострение ситуации было неизбежно. В самой Чечне стремительно приближающаяся война с казачеством вызвала быструю радикализацию настроений широких народных масс, которых все больше не удовлетворяла осторожная позиция, занятая Союзом объединенных горцев. А.-М. Чермоев делал все возможное, чтобы избежать войны с ее непредсказуемыми последствиями, а при решении земельного вопроса он считал необходимым действовать не спеша, добиваясь постепенных уступок со стороны Терского казачьего войска. Судя по тому, что окончательное разрешение территориального спора с казаками признавалось прерогативой Учредительного собрания, можно предположить, что А.-М. Чермоев рассчитывал на поддержку центральной власти в этом вопросе.
Наибольшие политические выгоды из создавшегося положения извлекли старые монархические круги и реакционное казачество, а также чеченские шейхи, чье влияние в Чечне быстро увеличивается. Опираясь на свой авторитет, солидную финансовую базу и собственные вооруженные отряды, они ведут независимую от Чеченского исполкома политику и тем самым фактически подрывают его авторитет и власть. При этом, оставаясь членами этого представительного органа, духовные лидеры Чечни все больше подчиняют его своему влиянию.
1 РГВИА. Ф. 1300. On. 1. Д 442. Л. 104,105,107.
— 582 —
Февральская буржуазно-демократическая революция на Тереке. Национальные
и политические движения
Аграрные волнения в Чечне. Наряду с ростом напряженности в отношениях с казачеством, в Чечне отмечены и серьезные аграрные волнения. Участились случаи самовольного захвата крестьянами не только казенных земель, но и владений крупных чеченских собственников. Первые попытки захвата частновладельческих земель отмечены уже вскоре после Февральской революции, а летом 1917 г. они принимают систематический характер. Так, жители селения Гойты самовольно скосили весь хлеб на земле, принадлежавшей крупному землевладельцу Мустафинову, и намеревались сделать то же самое на землях других владельцев. Осенью чеченцы первыми в Терской области произвели уравнительное распределение между собой помещичьих земель. Организатором этой акции выступил житель Гойт Махмуд Цацаев, который позднее участвовал в Стодневных боях за Грозный, а со второй половины 1919 г. служил связником между Астраханью и штабом Н. Гикало в Шатое.
Интересно, что для защиты частных земель Чеченский исполком обратился за помощью к Грозненскому Совету рабочих и солдатских депутатов, который направил в Гойты две роты 111-го полка из укрепления Воздвиженского. Однако, прибыв в Гойты, русские солдаты отказались применить оружие против крестьян и после совместного митинга вернулись в Воздвиженскую с солидным запасом продовольствия — подарком от благодарных гойтинцев
Чеченский исполком и руководители Союза объединенных горцев решительно выступали в защиту частной собственности на землю. В частности, муфтий Н. Гоцинский специально ездил по чеченским селениям и, ссылаясь на шариат, предостерегал крестьян от самовольного захвата чужой собственности. Впрочем, его агитация не имела большого успеха, так как в глазах крестьян тот факт, что Н. Гоцинский сам являлся крупным землевладельцем, имел большее значение, чем избрание его муфтием. Сам Н. Гоцинский категорически отвергал, что защищает свою собственность: «Люди говорят о моих землях и кута- нах. Верно, у меня есть земли, согласно шариату перешедшие ко мне от отца. Отец мой не взял ни у кого эти земли силой, он купил их у мусульман, имевших на руках законные документы. Если есть человек, желающий оспаривать у меня эти земли, пусть придет, согласно шариату, с нужными документами, и я ему их отдам»2.
Активизация чеченского духовенства. 20 июня 1917 г. Терский областной исполнительный комитет принял решение о проведении в Чечне выборов сельских и окружных исполкомов на основе всеобщего прямого, равного и тайного голосования. Это послужило сигналом к активизации духовенства, которое, не дожидаясь выборов, решило напрямую взять власть в свои руки. Для реализации этого замысла
Ошаев X. Очерк начала революционного движения в Чечне. — Грозный, 1928. — С. 16. : Цит. по статье Доного X.-М. Последний имам // Родина. — 2000. — № 1—2. — С. 166.
— 583 —
Глава ХЛӀ. Первая мировая война и Февральская революция в России
в политических судьбах Чечни
25—26 июня в Грозном был созван съезд представителей духовенства и сельских обществ Чечни, призванный придать легитимность претензиям духовенства. Съезд принял решение о повсеместном введении в Чечне норм шариата. В соответствии с этим решением, съезд также постановил упразднить светский Горский словесный суд в Грозном и создать на его месте шариатский суд под председательством окружного кадия Б. Тагирова. Съезд решил также отстранить от должности комиссара Грозненского округа Т. Эльдарханова и утвердить на этом посту шейха Д. Арсанова, чьи мюриды стремились всеми силами привести его к власти.
Второй съезд чеченского народа. Ответные действия политических противников духовенства не заставили себя ждать. 12 июля 1917 г. в селении Новые Алды открылся съезд чеченского народа, собравший до семи тысяч делегатов. На съезде присутствовали также представители ЦК Союза объединенных горцев, Грозненского Совета рабочих и солдатских депутатов, Грозненского гарнизона, исполкома казаков Кизлярского отдела, специальный представитель командующего Кавказским фронтом подполковник Н. П. Моисеев и другие гости. Руководил работой съезда председатель Чеченского исполкома А. Мутушев.
Второй за год съезд чеченского народа заявил о желании чеченцев жить в мире «...и рука об руку с русским народом работать для закрепления свободы». Одновременно было принято решение создать чеченскую милицию из 700 всадников «...для борьбы с грабежами», зарегистрировать и выдать абреков, «...не останавливаясь в применении шариата». На содержании чеченской милиции было решено ассигновать ежемесячно по 100 тысяч рублей, а в общей сложности 1,5 миллиона рублей. Вместе с тем, съезд потребовал от властей Грозного обуздать дезорганизованные толпы солдат, грабивших гражданское население1.
Съезд избрал Чеченский Национальный Совет из 150 членов, которому поручалось переизбрать состав Чеченского исполнительного комитета, сформировать милицию и разработать практические меры по борьбе с бандитизмом. Из наиболее влиятельных представителей духовенства была сформирована так называемая Шариатская комиссия2.
Новый состав Чеченского исполнительного комитета. Он был окончательно сформирован к 22 июля 1917 г. Его председателем вновь стал А. Мутушев, а посты заместителей председателя заняли инспектор народных училищ Чечни Т. Эльдарханов, предприниматель М. Абдул- кадыров, судья И. Арсанукаев (одновременно он занимал и должность казначея исполкома). На должности секретаря утвержден Ш. Мамака- ев. Для формирования чеченской милиции и организации борьбы с преступностью Чеченский исполком сразу же образовал специальное бюро общественной безопасности.
1 РГВИА. Ф. 1300. On. 1. Д. 442. Л. 180,328.
2 РГВИА. Ф. 1300. On. 1. Д. 96. Л. 42.
Февральская буржуазно-демократическая революция на Тереке. Национальные
и политические движения
Несмотря на то что высшие должности в Чеченском исполнительном комитете сохранились за сторонниками светского пути развития, заметно возросшее влияние духовенства позволило его представителям закрепить за собой ряд важных постов. Так, должность комиссара Грозненского округа окончательно перешла к шейху Д. Арсанову, чье влияние со временем возрастет настолько, что известный исследователь А. Авторханов даже считал его фактическим главой Чеченского Национального Совета1. Кроме того, съезд согласился с учреждением шариатского суда и пошел на создание Шариатской комиссии, опираясь на которую, духовенство отныне могло открыто и вполне законно вмешиваться в деятельность органов власти.
Политические настроения светской части и духовных лиц в чеченском национальном движении. Тем временем, продолжают углубляться идейные расхождения между правым и левым крылом светской части чеченского национального движения. Летом 1917 г. сторонники социальных преобразований в Чечне начинают организационно объединяться в состав двух новых общественных организаций: Общества распространения просвещения среди чеченцев (председатель Т. Эльдар- ханов) и Союза чеченской молодежи «Нийсонан накъост» («Товарищ справедливости»). Последняя организация была создана от имени Чеченского Национального Совета2. Во главе молодежной организации стояли М. Г. Мациев, А. Д. Шерипов и штабс-капитан М. Чуликов.
Летом 1917 г. взгляды большинства деятелей левого крыла светской части чеченского национального движения близки к идеологическим установкам меньшевистского течения российской социал-демократии. Некоторые чеченские политики и напрямую связаны с российскими социалистическими партиями. Например, председатель Чеченского Национального Совета и Чеченского исполкома А. Мутушев являлся одним из руководителей Социалистического блока в Грозном.
В свою очередь, правое крыло во главе с А.-М. Чермоевым также связано с российскими правыми партиями. Так, один из ближайших сторонников А.-М. Чермоева — М. Т. Мациев являлся активным членом грозненского отделения российской партии кадетов (конституционных демократов).
Чеченских правых и левых объединяло общее стремление к полному национальному раскрепощению чеченского народа, установлению в Чечне демократической власти и образованию общегорской федерации, пользующейся правами государственной автономии. Вместе с тем, левые выступали за радикальное перераспределение сельскохозяйственных земель в пользу крестьянства, первым шагом к которому должна была стать национализация земли, а также в защиту интересов рабочего класса
! Авторханов А. К основным вопросам истории Чечни. — Грозный, 1930. — С. 54.
- Ошаев X. Очерк начала революционного движения в Чечне. — Грозный, 1928. — С. 15.
— 585 —
Глава XIII. Первая мировая война и Февральская революция в России
в политических судьбах Чечни
путем обобществления средств производства. Эта часть программы левых вызывала категорические возражения правых. Кроме того, А.-М. Чермоев и его сторонники все больше склонялись к союзу с казачеством, против чего протестовали левые, аттестуя это сословие как реакционное.
Что касается духовенства, то и в его среде не было полного единства взглядов по наиболее актуальным политическим проблемам. Значительная часть духовенства продолжала придерживаться мнения о необходимости сохранения государственного союза с Россией, при условии предоставления горцам полной внутренней автономии. Вероятно, что и Н. Гоцинский, несмотря на то что он претендовал на роль имама Чечни и Дагестана, выражал именно эту точку зрения. В одном из своих воззваний к горцам-мусульманам он писал: «Остерегайтесь преступлений, запрещенных Аллахом: убийства, воровства, разбоя, грабежа. Подчиняйтесь своим алимам, соберите войска, способные охранять свободу и шариат. Дайте свободу вероисповедания всем христианам и другим иноверцам и не причиняйте вреда русским войскам, давшим нам эту свободу»1. Вместе с тем в какой-то части наиболее радикально настроенного духовенства популярностью пользовалась идея полного отделения от России и образования независимого теократического государства под покровительством Турции. При этом, духовенство и правых сближали общие взгляды на социальные проблемы и, в частности, о незыблемости права частной собственности.
Формирование чеченской милиции. Сразу же после завершения работы чеченского съезда началось формирование национальной милиции, поначалу продвигавшееся очень успешно. Число желающих служить в ней намного превышало число имеющихся мест. Для укрепления кадрового состава милиции были использованы офицерские кадры из состава Чеченского полка «Дикой дивизии». По просьбе А. Мутушева, в распоряжение Чеченского исполнительного комитета были откомандированы 9 офицеров-чеченцев, находившихся дома в отпусках. Предполагалось, что чеченская милиция возьмет под свою охрану не только границы казачьих станиц и хуторов иногородних крестьян, но и город Грозный.
Уже к концу июля 1917 г. чеченская милиция добилась первых успехов в борьбе с бандитизмом. Например, после нападения абреков на казачью охрану Новых промыслов Грозного, к расследованию подключилась чеченская милиция, которая сумела в короткий срок не только установить нападавших, но и вернуть казакам семь из 11 похищенных у них лошадей2. А с 1 августа приступил к работе Грозненский шариатский суд, который в первоочередном порядке разбирал дела, связанные с вооруженными грабежами.
1 Цит. по ст.: Доного Х.-М. Последний имам // Родина. — 2000. — № 1—2. — С. 166.
2 ГРВИА. Ф. 1300. On. 1. Д. 96. Л. 113-114; On. 1. Д. 442. Л. 182.
— 586 —
Февральская буржуазно-демократическая революция на Тереке. Национальные
и политические движения
Новое обострение политических противоречий в Терской области и в Чечне. Несмотря на стабилизацию криминогенной ситуации в Чечне, наряду с определенным политическим успокоением края, глава области М. А. Караулов допустил роковую ошибку, когда обратился в штаб Кавказского военного округа с просьбой отозвать с фронта и вернуть обратно в Терскую область четыре казачьих полка Терского войска. Свою просьбу терский атаман мотивировал ростом не только национальной, но и социальной напряженности в области, и угрозой, которая возникла для нефтяных промыслов и железнодорожного сообщения: «...особые опасения вызывают вызывающие действия чеченцев и ингушей. Одновременно на Грозненских промыслах [под] влиянием большевиков растет политическое брожение». Очевидно, что казачья верхушка считала, что власть в области уходит в руки русского (неказачьего) и горского населения и стала на путь открытой борьбы за сохранение своих привилегий. Причем эта борьба должна была вестись на два фронта: против горцев и против российских революционных партий и неказачьего населения.
Одной из первых крупных вспышек, предвещавших гражданскую войну на Тереке стали вооруженные столкновения между ингушами и казаками Сунженского отдела в споре из-за земель Тарской долины, открывшиеся в начале июля 1917 г. Несмотря на то что удалось предотвратить дальнейшее разрастание конфликта, и состоявшийся 5—6 августа во Владикавказе съезд ингушей и казаков официально завершился «полным примирением»1, напряженность в отношениях горцев и казаков не спадала.
Временное правительство предполагало снять М. А. Караулова с поста руководителя Терской области, который, тем не менее, сохранил должность наказного атамана Терского казачьего войска.
Назначенный новым начальником Терской области генерал Цему- кидзе получил инструкцию от Временного правительства «...всячески избегать обострения отношений между казаками и горцами...»2, но выполнить это требование на практике было нелегко.
Новому начальнику Терской области удалось поддерживать нормальные деловые отношения с Чеченским исполкомом и ЦК Союза объединенных горцев. В частности, была подтверждена договоренность об обязательном присутствии представителей Союза объединенных горцев в каждой воинской части на территории Терской области. Но власть этих двух организаций в Чечне уже не была достаточно сильной, чтобы полностью контролировать ситуацию.
С другой стороны, подполковник Н. П. Моисеев, исполнявший обязанности «дежурного генерала» при начальнике штаба Кавказского военного округа и по приказу своего начальника внимательно следивший
1 РГВИА. Ф. 1300. On. 1. Д. 442. Л. 176; On. 1. Д. 444. Л. 24.
: РГВИА. Ф. 1300. On. 1. Д. 444. Л. 1.
Глава XIII. Первая мировая война и Февральская революция в России
з политических судьбах Чечни
за развитием ситуации в Чечне в тот период, докладывал, что отношения между различными чеченскими политическими группировками также обострились до предела. В борьбе за власть они уже готовы к кровопролитию, «...если представится благоприятная возможность». Группировка влиятельных шейхов всю свою деятельность направляет к увеличению числа своих мюридов, дискредитации светской интеллигенции и захвата власти «...под предлогом защиты шариата». На стороне шейхов действовали и якобы находившиеся в Чечне турецкие эмиссары, убеждавшие чеченцев выступить в поддержку шариата и за свержение российской власти. Со своей стороны, писал Н. П. Моисеев, противостоящие им «представители интеллигенции» «...являются ярыми противниками засилья шейхов, готовы в любую минуту повести какую угодно борьбу с ними...». Оценивая шансы сторон на победу в этой междоусобной борьбе, Н. П. Моисеев склонялся к мысли, что победителем в конечном итоге выйдут шейхи: «Дезорганизация Чечни... способствует полной разнузданности порочного элемента, дискредитирует власть и подготавливает почву для восприятия имаматства» К
Срыв планов провозглашения имамата. Впрочем, разногласия между чеченскими духовными и светскими лидерами все же не помешали им объединить усилия в августе 1917 г., чтобы не допустить избрания Н. Гоцинского имамом Северного Кавказа. 20—21 августа сторонники Н. Гоцинского во главе с шейхом Узун-хаджи созвали в селении Анди в Дагестане общемусульманский съезд с целью провозглашения имамата. Этот план был сорван ЦК Союза объединенных горцев, при активной поддержке лидеров чеченского духовенства. Чеченские шейхи во главе с Д. Арсановым и С. Гайсумовым прибылй на съезд в сопровождении многочисленных и хорошо вооруженных мюридов. После жарких споров, едва не завершившихся столкновением, съезд принял компромиссное решение — Н. Гоцинский был вновь утвержден Верховным муфтием Северного Кавказа.
Сам Н. Гоцинский сразу же после завершения съезда объявил в специальном воззвании о намерении ввести шариатское правление: «Если будем говорить о том, как меня называть, то мое лучшее название, которое я хотел бы себе присвоить — это пастух... Мое последнее слово к вам: эй, мусульмане, я человек, явившийся для воскрешения
умерших частей божьего шариата В этом деле я призываю вас помочь
мне. Тот, который отступится от помощи мне, явится на том свете моим врагом перед страшным судом»1 2.
Подполковник Н. П. Моисеев в своих отчетах особо отмечал, что повторное избрание Н. Гоцинского муфтием было встречено с недовольством
1 РГВИА. Ф. 1300. On. 1. Д. 442. Л. 544-546, 567, 569.
2 Цит. по кн.: Тахо-Годи А. Революция и контрреволюция в Дагестане. — Махачкала, 1927. — С. 29.
Февральская буржуазно-демократическая революция на Тереке. Национальные
и политические движения
многими участниками съезда: «...мне кажется, что теперь борьба с духовенством примет совершенно иной характер и породит еще больше интриги со стороны шейхов-мулл и отчасти интеллигенции...»
Ответная реакция Союза объединенных горцев. В качестве альтернативы имамату Союз объединенных горцев выдвинул идею создания общегорской федерации. 23 августа состоялось совещание уполномоченных представителей горских народов с участием делегаций от Грузии, Абхазии и Азербайджана. Участники совещания высказались за объединение кавказских народов и обошли полным молчанием вопрос о будущих отношениях с Российским государством. Очередной съезд горцев было намечено провести 20 сентября во Владикавказе. Совещание высказалось также за немедленное возвращение с фронта «Дикой дивизии», чтобы защитить горцев от произвола со стороны расквартированных в горских областях воинских частей1 2.
Еще в мае 1917 г. руководитель Союза объединенных горцев А.-М. Чермоев телеграфировал главе Временного правительства А. Ф. Керенскому о полной поддержке готовящегося русского наступления на Германском фронте и участия в нем «Дикой дивизии»: •Центральный Комитет Союза объединенных горцев... горд сознанием, что на Ваш мужественный призыв... одними из первых откликнулись и пошли вперед наши братья — сыны свободы, едва залечившие раны от тяжких потерь, понесенных на Румынском фронте. ...И впредь, в деле защиты свободы, Вы встретите твердый оплот в лице горских народов Кавказа»3. События же лета 1917 г. убедили руководителей Союза объединенных горцев в необходимости иметь под рукой не только вооруженную милицию, но и собственную национальную армию. Кстати, к этому времени в составе русской армии уже было сформировано несколько крупных национальных соединений. Так, была создана польская армия, которая к разочарованию Временного правительства всячески уклонялась от участия в войне с немцами, но энергично готовилась силой своего оружия поддержать восстановление польского независимого государства. Центробежные силы в Российском государстве быстро крепли, и ЦК Союза объединенных горцев все больше укреплялся в мысли о необходимости опираться прежде всего на собственные силы.
«Дикая дивизия» идет на Петроград. Между тем, «Дикая дивизия» оказалась в центре куда более крупных политических событий, связанных с судьбами всего Российского государства. В русской армии возник заговор против Временного правительства. Во главе заговора стоял
1 РГВИА. Ф. 1300. On. 1. Д. 442. Л. 502, 503.
: РГВИА. Ф. 1300. On. 1. Д. 442. Л. 374.
- Цит. по ст.: Опрышко О. Кавказская конная дивизия: Вот некоторые эпизоды боевого пути дивизии // Вайнах. — 2002. — № 4. — С. 30.
Глава XIII. Первая мировая война и Февральская революция в России
в политических судьбах Чечни
чрезвычайно популярный в офицерской среде генерал Л. Г. Корнилов. Сняв с фронта несколько еще сохранивших боеспособность и дисциплину соединений, заговорщики направили их на столицу. Особые надежды возлагались на «Дикую дивизию», солдат которой почти не коснулась революционная пропаганда. Это была одна из немногих воинских частей, где существовали совместные солдатские и офицерские комитеты. Монархические настроения в офицерском составе дивизии были настолько сильны, что офицеры Чеченского полка, например, и после официального отречения Николая II настаивали на обязательном исполнении в торжественных случаях старого монархического гимна1.
Как ни парадоксально, во всей многомиллионной русской армии, по сути, единственными частями, сохранившими боеспособность и управляемость к осени 1917 г., оказались Дикая (Кавказская) дивизия и Казачий корпус генерала Крымова.
Направленная на столицу, «Дикая дивизия» имела приказ вступить в столицу не позже 1 сентября и занять «...Московскую, Литейную, Александро-Невскую и Рождественскую части... разоружить все войска (кроме училищ) нынешнего Петроградского гарнизона, и всех рабочих заводов и фабрик указанных районов... силой оружия усмирить все попытки к беспорядкам»2.
В распоряжении Временного правительства не оказалось войск, способных остановить наступление. Более чем 100-тысячный столичный гарнизон давно уже утратил всякую боеспособность3. Социалистические партии, видя полное бессилие властей, лихорадочно формировали рабочие отряды, что нашло поддержку и у большевиков, которые справедливо видели в генерале Л. Г. Корнилове бблыпую для себя опасность, чем Временное правительство. Тем временем, части «Дикой дивизии» беспрепятственно проследовали эшелонами до Гатчины, но там их ожидала делегация Всероссийской мусульманской Шуры (Совет). От имени Временного правительства, делегаты (а среди них были и представители горских народов — Т. Эльдарханов и А. Цаликов) предложили всадникам «Дикой дивизии» вернуться на Кавказ. Одновременно агитаторы были направлены и в другие части, участвовавшие в корниловском мятеже. Уже к вечеру 30 августа «Дикая дивизия» была охвачена волнениями: всадники требовали немедленной отправки на Кавказ. Один из офицеров сообщал: «Если обещание А. Ф. [Керенского] не будет исполнено, чужеземцы окончательно потеряют всякое доверие к начальству и скандал может быть огромный и кровавый. Боеспособность равна нулю... Даже моих татар
1 Муталиев Т. Сложный путь прозрения // Грозненский рабочий. — 1986. —17 апр. — С. 3.
2 Письмо П. Половцева к Пальчинскому: Сообщение Е. Дробкиной // Революционный Восток. — 1928. — № 3. — С. 305.
3 Брешко-Брешковский Я. Н. Дикая дивизия. — Майкоп, 1990. — С. 68.
— 590 —
Февральская буржуазно-демократическая революция на Тереке. Национальные
и политические движения
магазином Фаберже, пожалуй, не соблазнишь, так все нацелились на Кавказ». Вместе с тем, командование дивизии еще не оставляла надежда, что контроль над полками еще можно будет восстановить: «Необходимо отвести на Кавказ, там горский съезд поможет, старики в аулах набьют молодым морды, и порядок можно будет восстановить»1.
Кока Ахтаханов — офицер Чеченского полка, прошедший Первую мировую и гражданскую войны. Фото (4, 170)
Возвращение Чеченского полка. Возвращение частей «Дикой дивизии» на Кавказ происходило непросто: на станциях Невиномыс- ская и Минеральные Воды имели место вооруженные столкновения с расквартированными здесь, потерявшими дисциплину пехотными частями, в ходе которых были убитые и раненые. Одновременно терский атаман М. А. Караулов добился возвращения в Терскую область 2-го Сунженско-Владикавказского и 2-го Кизляро-Гребенского полков Терского казачьего войска, которые поступили в его непосредственное распоряжение. Полки насчитывали в своем составе по четыре неукомплектованные полностью сотни. После того как части Чеченского полка прибыли в Грозный, туда немедленно были направлены дополнительно к имеющимся войскам 2-й Кизляро-Гребенской полк и еще одна рота
: Письмо П. Половцева к Пальчинскому: Сообщение Е. Дробкиной // Революционный Восток. — 1928. — Ns3. — С. 308,309.
— 591 —
Глава XIII. Первая мировая война и Февральская революция в России
в политических судьбах Чечни
Самарской дружины1. Причины тревоги М. А. Караулова были серьезные. Дело в том, что появление здесь более 500 профессиональных воинов, прошедших всю войну, имеющих артиллерию и военное снаряжение, решительно меняло расстановку сил. В Грозный прибыла закаленная боеспособная часть, одна из лучших во всей Российской армии.
Нападение воинских эшелонов и армейских банд на аулы и станицы. Прибытие в Грозный Чеченского полка, руководство Чеченского Национального Совета попыталось использовать для укрепления своей власти в Чечне, заметно пошатнувшейся после бурных событий лета 1917 г. Жители чеченских плоскостных селений, постоянно подвергавшиеся нападениям как со стороны казаков, так и со стороны солдат местных гарнизонов, постепенно разуверились в способности национальных властей защитить их и все чаще брали в руки оружие. Главным объектом нападений чеченцев стала железная дорога, по которой постоянно передвигались воинские эшелоны и толпы дезертиров с Кавказского (Турецкого) фронта, терроризировавшие местное население. Причем от действий разложившихся воинских частей страдали примерно в равной степени и горцы, и казаки, и иногородние. Военный комиссар Терской области Звонарев осенью 1917 г. признавал, что солдаты, направленные в станицы и хутора для защиты жителей от нападений абреков, сами занимаются грабежами и изымают оружие у мирного населения, лишая его последней возможности к самозащите. Пытающихся оказать сопротивление — солдаты безжалостно убивают, а награбленное «сбывают туземцам»2. Только казачьи станицы на территории Чечни с начала Первой мировой войны и до 15 сентября 1917 г. понесли от разбойных нападений различных банд убытки в размере 537385 рублей. До 50 человек было убито3. Потери чеченских селений никто не подсчитывал.
Обстрелы поездов. Новый разгул криминала. Летом 1917 г. начались систематические обстрелы чеченцами поездов, следовавших из Хасав-Юрта в Грозный, и нападения на небольшие русские хутора. Так, был захвачен и разрушен хутор Сорохтиновский, а недалеко от Гудермеса, возле разъезда Джалка, видимо, по ошибке, подвергся обстрелу пассажирский поезд. Были убиты и ранены десятки пассажиров. 25 сентября в Хасав-Юртовском участке неустановленные лица из горцев разобрали железнодорожное полотно. Потерпевший здесь аварию пассажирский поезд был еще и обстрелян — всего погибло 6 и получили ранения свыше 50 человек. В начале октября прекратили работу служащие железнодорожных станций Аргун, Наурская и Ищерская. На этот раз работу железной дороги парализовали казаки, которые
2 РГВИА. Ф. 1300. On. 1. Д. 442. Л. 55, 351,495.
1 РГВИА. Ф. 1300. On. 1. Д. 442. Л. 486.
2 РГВИА. Ф. 1300. On. 1. Д. 1679. Л. 146.
— 592 —
Февральская буржуазно-демократическая революция на Тереке. Национальные
и политические движения
также требовали прекратить движение всех поездов из-за бесконечных грабежей воинскими частями всех мастей. Как констатировали областные власти, горцы и казаки прилагают все усилия, чтобы «...убрать русские войска из области». Для охраны железной дороги в Чечне штаб Кавказского военного округа даже предлагал создать специальный кавалерийский отряд с конной артиллерией, а зону железной дороги объявить на военном положении1.
К осени 1917 г. в Чечне вновь резко возросла активность криминалитета, чему в немалой степени способствовал фактический развал чеченской милиции — не получавшие жалования два месяца милиционеры в большинстве своем разошлись по домам. Как подчеркивал все тот же подполковник Н. П. Моисеев, «преступный элемент» одинаково «.. .подставил как шейхов, так и представителей чеченских организаций»2, что вызвало известное сближение позиций духовенства и деятелей демократического направления. Чтобы остановить разгул преступности, терские власти совместно с Чеченским Национальным Советом приступили к созданию специального «карательного» отряда. Его формированием руководил А. Мутушев. В должности «советника» при командире отряда был утвержден шейх Д. Арсанов, а начальником штаба стал Н. Арсанукаев. Одновременно в виде резерва шло формирование еще одного отряда, который должен был насчитывать батальон пехоты, два орудия и эскадрон кавалерии из состава Чеченского полка бывшей «Дикой дивизии»3.
Волнения в Хасав-Юртовском округе. Столкновения на чеченогрузинской границе. Особенно сложное положение стало складываться в 1917 г. в Хасав-Юртовском округе Терской области, где непрерывно происходили столкновения. В результате активной колонизации в начале XX в., происходившей при всемерной поддержке властей, национальный состав округа претерпел значительные изменения. К 1915 г. здесь обосновалось уже более 23 тысяч «иногородних» крестьян, как русских, так и немцев. Одних только немецких поселений в Хасав-Юртовском округе было более 40, причем на подавляющее большинство немецких крестьянских хозяйств приходилось от 40 до 80 десятин зем- жп\ Такое положение вызывало законное недовольство крестьян-горцев (кумыков и чеченцев), за счет ограбления земельного фонда которых я обеспечивались переселенцы. Однако уравнительного распределения #емли горцы Хасав-Юртовского округа так и не дождались от новых «революционных» властей. * ** РГВИА. Ф. 1300. On. 1. Д. 442. Л. 487,488, 490, 526, 527, 532.
: РГВИА. Ф. 1300. On. 1. Д. 444. Л. 68.
’ РГВИА. Ф. 1300. On. 1. Д. 444. Л. 47.
* Ахмадов Ш. Б. К вопросу о переселенческой политике царизма в Терской области в пореформенное время // Чечено-Ингушетия в политической истории России и Кавказа в дореволюционном прошлом. — Грозный, 1990. — С. 43.
Глава XIII. Первая мировая война и Февральская революция в России
в политических судьбах Чечни
Еще летом 1916 г. в Хасав-Юртовском округе происходят первые крупные беспорядки среди горских крестьян, которые постепенно приобретают все больший размах. Весной 1917 г. новые терские власти констатируют, что началось бегство «иногородних» крестьян. В середине сентября партиями абреков полностью разграблены несколько хуторов и селение Колюбякино, угнано до 800 голов скота.
Вскоре речь уже шла не о партиях в 20—30 абреков, а о целых вооруженных отрядах, насчитывавших от 200 до 500 человек, которые нападали не только на русские и немецкие хутора, но и на «мирных чеченцев» и кумыков. Кстати, равные по численности неконтролируемые отряды появились и в Дагестанской области. Только за пять дней в конце сентября из Хасав-Юртовского округа было угнано 2000 голов скота и убито несколько русских и «туземных» крестьян. Как признавали власти Терской области, солдаты и вооруженные хуторяне в отместку начали грабить «поселки мирных чеченцев» (под которыми в документах подразумеваются и кумыки); погромы произошли в Аксае, Хасав-Юрте и ожидались в Грозном1.
Вооруженные столкновения шли и на южной границе Чечни между хевсурами и чеченцами-кистинами. 3 октября 1917 г. против кистин выступил грузинский вооруженный отряд численностью до 450 человек. 8—9 октября этот отряд был полностью окружен чеченцами, которые в количестве до 2500 человек пришли на помощь горцам из Грозненского округа. Какая-то часть грузин была перебита, остальные попали в плен и через несколько дней были отпущены на свободу2 3. Впрочем, конфликты на границе с Грузией и Дагестаном носили локальный характер и не перерастали в серьезное межнациональное напряжение. В основе этих конфликтов лежали преимущественно земельные споры между соседними крестьянскими обществами.
Судьба крепостей и военных гарнизонов в Чечне. Обострилась во второй половине 1917 г. и ситуация вокруг военных гарнизонов на территории чеченских округов. Расположенные в глубине чеченских гор, укрепления Евдокимовское, Шатой и Ведено оказались в почти полной изоляции. Уже летом 1917 г. стоял вопрос об эвакуации горных гарнизонов, в частности, Веденского. Возможно, что произошло это во время Андийского съезда, когда широко распространились слухи о готовящемся нападении на гарнизон укрепления в дагестанском селении Ботлих, пограничном Чечне. Военное командование даже планировало срочно перевести Ботлихский гарнизон в Хунзах, но после того как ложность слухов стала очевидной, было принято прямо противоположное решение — принять меры к «укреплению» Ботлихского укрепления5.
1 РГВИА. Ф. 1300. On. 1. Д. 442. Л. 418, 433,451, 479, 487, 488,489; Д. 444. Л. 65, 66.
2 РГВИА. Ф. 1300. On. 1. Д. 1679. Л. 77, 106.
3 РГВИА. Ф. 1300. On. 1. Д. 444. Л. 27—28.
— 594 —
Февральская буржуазно-демократическая революция на Тереке. Национальные
и политические движения
Что касается Веденского гарнизона, то его планировалось усилить кавалерийским эскадроном, что позволило бы поддерживать связь с расположенными на равнине войсками, так как телеграфная линия постоянно разрушалась. Однако попытка командования, осенью 1917 г., направить для усиления Веденского гарнизона части из Грозного провалилась — солдатские комитеты отказались выполнить этот приказ и потребовали эвакуировать крепость. Это требование было поддержано и гарнизонным комитетом. К тому же произошло новое обострение ситуации вокруг крепости и официально существовавших окружных органов управления. Так, в сентябре из Веденского окружного управления похищено восемь единиц огнестрельного оружия и более трех тысяч патронов, захвачен в плен надзиратель Веденской окружной тюрьмы А. Кравченко1.
В конце концов, военные власти решились на эвакуацию крепости и Веденской слободы: примерно 2400 солдат и 600 жителей необходимо было доставить на железнодорожную станцию Гудермес. Естественно, что встал вопрос о судьбе складированного в крепости вооружения и военного имущества. Всего в крепости находилось 21 трехдюймовое, лва шестидюймовых и два горных орудия, около четырех миллионов винтовочных патронов, несколько тысяч винтовок, большое количество снарядов, бомб, ракет и другого снаряжения. Чеченские власти и Союз объединенных горцев были живо заинтересованы в том, чтобы оставить все вооружение крепости на месте, передав его новому гарнизону из числа чеченцев. Характерно, что переговоры о судьбе крепости велись с чеченской стороны духовными лицами: А. Митаевым и С. Гайсумовым, г также представителями Н. Гоцинского2.
Переговоры завершились соглашением, согласно которому чеченская сторона гарантировала безопасную доставку солдат гарнизона и жителей Веденской слободы в Гудермес со всем их личным имуществом. Вооружение оставалось в крепости и должно было перейти к новому гарнизону. Из всех селений Веденского округа подлежали мобилизации во 5 человек — в состав вновь формируемого гарнизона. В крепости осталась также часть офицеров, которые могли покинуть ее только пос- яе завершения обучения нового гарнизона. В конечном итоге, полная эвакуация Веденского укрепления завершилась только в марте 1918 г., но- благополучно и без каких-либо потерь.
Успешно прошла эвакуация укреплений и в Аргунском ущелье: сол- ааты местных гарнизонов и русские жители слободы Шатой под охраной
1 См.: РГВИА. Ф. 1300. On. 1. Д. 444. Л. 88; Вацуев А. Влияние большевиков и пролетариата Грозного на революционное движение в Чечне // Вопр. истории Чечено-Ингушетии (советский период). — Грозный, 1978. — С. 17—18; РГВИА. Ф. 1300. On. 1. Л. 437. Л. 65 об., 116.
: К\шалиев А. Гарнизон сдал крепость без боя // Грозненский рабочий. — 1998. — 12—18 нояб. — С. 3.
Глава XIII. Первая мировая война и Февральская революция в России
в политических судьбах Чечни
чеченцев были доставлены к Воздвиженской крепости, располагавшейся на границе гор и плоскости, на землях староатагинского общества. И в этом случае, вооружение пришлось оставить на месте1.
Сентябрьский (1917 г.) съезд горских народов: проблема казачества и борьбы с преступностью. В этих непростых условиях в Чечне шла подготовка к очередному съезду горских народов, который был намечен на последние дни сентября 1917 г. Выборы делегатов съезда проводились отдельно по Веденскому и Грозненскому округам, для чего 18 сентября в Шали должен был состояться съезд жителей Веденского округа, а 27 сентября в Грозном — для жителей Грозненского округа.
В центре внимания очередного съезда горцев вновь оказались две проблемы: борьба с разгулом преступности и урегулирование отношений с Терским казачеством. Для решения второй проблемы, съезд предложил созвать 15 октября во Владикавказе объединенный горско-казачий съезд, на котором предполагалось обсудить все спорные вопросы.
Стало заметным и ужесточение позиции горского национального движения по вопросу о предоставлении горцам широкой автономии: съезд со всей определенностью высказался за преобразование России на принципах федерации с образованием самостоятельного «штата* горцев Кавказа. Новый комиссар Терской области от Временного правительства Звонарев подчеркивал, что формально соглашаясь с тем, что окончательно этот вопрос должно разрешить Учредительное собрание (после окончания войны), горцы стремятся как можно быстрее принять собственную конституцию и провозгласить автономию, чтобы поставить Учредительное собрание перед свершившимся фактом.
Съезд занял решительную позицию и в вопросе пресечения деятельности преступных элементов. Так, в Веденский округ была направлена представительная делегация с требованием вернуть жителям Хасав-Юртовских хуторов все разграбленное у них имущество и скот. В противном случае съезд от имени всех горских народов объявил о готовности применить крайние меры, вплоть до разрушения селений, укрывающих преступников2.
Реализация решения съезда об усилении борьбы с преступностью была поручена непосредственно командиру Чеченского полка полковнику Мусалаеву. С ночи 30 сентября 1917 г. в городе Грозном, Веденском, Грозненском и Хасав-Юртовском округах, а также в Сунженских станицах вводилось военное положение. Борьба с бандами грабителей на этих территориях совместным решением областных и Грозненских «демократических организаций» возлагалась на отряд полковника Мусалаева.
1 В борьбе за власть Советов: Воспоминания участников революционных боев в Чечено-Ингушетии (1917—1920 годы). — Грозный, 1970. — С. 182—183.
2 РГВИА. Ф. 1300. On. 1. Д. 442. Л. 489, 490,491,492, 564.
— 596 —
Февральская буржуазно-демократическая революция на Тереке. Национальные
и политические движения
Появление хорошо организованного военного отряда во главе с решительным командиром быстро дало положительные результаты — уже к 10 октября у грабителей было силой отбито более трех тысяч голов похищенного скота. Для усиления отряда Мусалаева было решено направить из состава 113-го запасного полка пехотный батальон в составе 13 офицеров и 400 солдат и 4 кавалерийские сотни. Сам Мусалаев, по всей видимости, считал все же принимаемые меры недостаточными, и предлагал вооружить жителей крестьянских хуторов К
Сближение горской и казачьей верхушки на почве самостийности и борьбы с анархией. Создание Юго-Восточного Союза казачьих войск, горцев Кавказа и вольных народов степей. Осенью 1917 г. все явственнее обозначается сближение правых лидеров ЦК Союза объединенных горцев с верхушкой казачества. И у тех, и у других растущую озабоченность вызывало усиление влияния левых социалистических партий и откровенная слабость Временного правительства. Своеобразный парадокс ситуации заключался в том, что и казачьи верхи, и горские лидеры были заинтересованы в дистанцировании от российского центра. Так, съезд представителей Терского казачьего войска, состоявшийся в сентябре 1917 г., решил считать существующие Советы организациями не государственными, а политическими. Только там,«.. .где работа Совдепов совпадает с интересами государства, казаки должны работать в единении с ними. Большевистское направление некоторых Советов должно быть осуждено... К Советам необходимо предъявить категорическое требование, чтобы они не вмешивались в жизнь казаков вообще помимо казачьих организаций...»2. Но, если для казаков (которым реформы Временного правительства казались чересчур радикальными) это было борьбой за сохранение своих привилегий, то для горцев дело обстояло с точностью до наоборот. Убедившись в неспособности Временного правительства предоставить им реальную автономию, горские лидеры все решительнее реализовывали свои требования явочным порядком.
8—15 сентября 1917 г. в Киеве прошел Съезд народов и областей России, на котором делегаты от казаков выступили с заявлениями о казачестве, как отдельной нации, нуждающейся в самоопределении. Тем самым, создавалась почва для сохранения привилегированного положения казачества под флагом сохранения его самобытности. Вместе с тем, казаки предложили образовать союз отдельных народностей, которому «...никакие ветры из болотных низов Петрограда не будут страшны». Причем с самого начала оговаривалось, что это должен быть союз, располагающий силами не только для победоносного завершения Первой мировой войны, но и для борьбы «с анархией» внутри Российского
: РГВИА. Ф. 1300. On. 1. Д. 437. Л. 458; Д. 442. Л, 433,438; Д. 1679. Л. 73.
: Борьба за Советскую власть в Чечено-Ингушетии (1917—1920 гг.): Сб. документов и материалов. — Грозный, 1958. — С. 65.
Глава XIII. Первая мировая война и Февральская революция в России
в политических судьбах Чечни
государства1. Для Терской области это означало союз казаков и правого крыла горского национального движения.
Буквально за несколько дней до Октябрьского переворота в Петрограде — 20 октября 1917 г. ЦК Союза объединенных горцев пошел на подписание договора о создании Юго-Восточного Союза казачьих войск, горцев Кавказа и вольных народов степей. Участниками соглашения стали Донское, Кубанское, Терское и Астраханское казачьи войска, Союз объединенных горцев, а также представители кочевых народов Предкавказья. Официальная цель создания Юго-Восточного Союза состояла в образовании Российской Демократической Федеративной Республики «...с признанием членов Союза отдельными ее штатами», а также «...Согласование и объединение мер к обеспечению порядка и спокойствия на территории членов Союза»2.
Союз с казачеством, как с колониальным институтом, в глазах подавляющего большинства горцев выглядел противоестественным. Сами казаки не скрывали, что горцам и другим «инородцам» в составе нового Союза отведена второстепенная роль. Его основой должен был стать прежде всего союз южных казачьих войск — «.. .непоколебимый фундамент русского величия». Причины, побудившие руководителей Союза объединенных горцев вступить в Юго-Восточный Союз, были подробно изложены в специальном обращении ко всем народам Кавказа: «...сотрудничество с наиболее организованными и преданными правопорядку элементами Юго-Восточного края в высокой мере облегчает. .. борьбу с контрреволюцией и анархистскими выступлениями дезорганизованных солдатских масс. ...Установление живой связи... народов, расселенных от Дона до Закавказья, обеспечивает порядок и правильный товарообмен по линии железной дороги и открывает широкие возможности для разрешения финансовых проблем...»3.
Помимо решения экономических проблем и предотвращения широких межнациональных столкновений, вхождением в Юго-Восточный Союз А.-М. Чермоев и его сторонники стремились заручиться поддержкой казачества в вопросе о предоставлении горцам широкой автономии и в вопросе объединения усилий в борьбе с дальнейшей дезорганизацией Российского государства. Но переход власти в стране к партии большевиков (в октябре 1917 г.) привел к тому, что ЦК Союза объединенных горцев начал склоняться к мысли о необходимости достижения для региона полной государственной независимости от России.
1 Булдаков В. П. Национально-освободительное движение народов России в 1917 году и крах Российской буржуазной государственности // Истор. записки. — 1989. — Т. 117. — С. 169,170.
2 РГВИА. Ф. 1300. On. 1. Д. 1679. Л. 140.
3 См.: ГАРФ. Ф. P-5351. On. 1. Д. 41. Л. 11; Союз Объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана (1917 — 1918 гг.), Горская Республика (1918—1920 гг.): Документы и материалы. — Махачкала, 1994. — С. 97—98.
— 598 —
Город Грозный в период между Февральской революцией 1917 г. и Октябрьским переворотом
§ 3. Город Грозный в период между Февральской революцией 1917 г. и Октябрьским переворотом
Революционные события в Грозном. О волнениях в столице в промышленном и пролетарском центре Чечни городе Грозном стало известно только 28 февраля 1917 г. Сразу же активизировалась деятельность местных ячеек революционных партий, которые явочным порядком начали выходить из подполья. Уже 1 марта отмечены первые нападения на жандармов и даже попытки захвата полицейских участков. Под руководством довольно высокопоставленного чиновника — контролера нефти Юшкевича, на Новых промыслах началось формирование первых рабочих дружин, что почти сразу же было подхвачено и на Старых промыслах. В эти же дни как на Старых, так и Новых промыслах формируются Советы рабочих депутатов. Кстати, среди членов Старопромысловского Совета было и два рабочих-чеченца1.
Власти Грозного получили официальные телеграммы, извещавшие об отречении Николая II и переходе власти к Временному правительству 4 марта 1917 г. В тот же день, с участием членов городской управы, создается Гражданский исполнительный комитет в роли местного органа Временного правительства. Грозненский Гражданский исполнительный комитет находился под сильным влиянием местного отделения Партии народной свободы — конституционных демократов (кадетов). Первым его председателем стал активный член партии кадетов адвокат В. И. Гудзенко, вторым — тоже кадет И. Н. Стрижов, являвшийся также управляющим промыслами «Челекено-Дагестан- ского общества». Помимо Гражданского комитета, было создано еще два органа управления — Городская дума (во главе с судьей Г. А. Кро- зинкоевым) и Грозненский областной военно-промышленный комитет (глава — председатель Совета съезда Терских нефтепромышленников
А. М. Коншин).
Грозненский Совет и большевики. Двоевластие в Грозном. Как и в
далеком Петрограде, в Грозном также не удалось полностью отстранить от власти революционных радикалов. 3 марта 1917 г. рабочие дружины начали разоружение жандармерии и полиции, а 5 марта в городе уже идут массовые манифестации, активное участие в которых приняли члены революционных партий. На общегородском митинге рабочих руководитель грозненской организации большевиков Николай Анисимов предложил создать Грозненский Совет рабочих и солдатских депутатов. Так возник параллельный орган власти, большинство в котором имели социал-демократы (меньшевики) и социалисты-революционеры (эсеры). Из 110 депутатов Совета только 13 представляли партию большевиков,
Вацуев А. Указ. соч. — С. 9.
Глава XIII. Первая мировая война и Февральская революция в России
в политических судьбах Чечни
но именно большевик Н. Анисимов и стал его председателем1. Возникшие немного ранее Старопромысловский и Новопромысловский Советы делегировали часть своих членов в состав общегородского Совета.
Вскоре состав Грозненского Совета увеличился до 170 человек за счет представителей воинских частей, расквартированных в городе. Был сформирован исполнительный комитет из 17 человек. Военным комиссаром Грозного стал прапорщик 111-го стрелкового полка (член партии меньшевиков) М. С. Петренко, который одновременно возглавлял и рабочую милицию.
Поддержка воинских частей, а также наличие собственных вооруженных отрядов, позволила Грозненскому Совету сосредоточить в своих руках большую часть реальной власти в городе. Уже 7 марта последовали распоряжения Совета об аресте бывшего начальника Грозненского округа полковника И. Д. Джапаридзе, а также высших чинов городской полиции и жандармерии: Д. Ф. Розалион-Сошальского, Д. И. Кречетова,
С. С. Мисербиева и других офицеров2.
Таким образом, в политическом отношении Грозный оказался расколотым на два лагеря. Гражданский исполнительный комитет пользовался поддержкой либерально-буржуазных партий и ряда общественных организаций: местных отделений Медицинского союза* Юридического общества, Русского Технического общества, Союза техников и практиков, Всероссийского земского союза. Поддерживали его и организации, созданные грозненскими предпринимателями: съезд Терских нефтепромышленников, Союз грозненских фабрикантов, заводчиков и владельцев механических мастерских, Союз домовладельцев и сельских хозяев.
С другой стороны, Грозненский Совет рабочих и солдатских депутатов опирался на многочисленные рабочие организации, включая профессиональные союзы и солдатские комитеты. Помимо трех социалистических партий — социал-демократов (большевиков и меньшевиков) и эсеров, на стороне Совета выступали и несколько небольших групп революционеров: армянских дашнаков, меныневиков-плехановцев, украинских социал-федералистов, анархистов, а также некая Мусульманская рабочая партия.
«Соединительное бюро». Захват власти рабочими. Пытаясь преодолеть возникший раскол, Гражданский комитет и Грозненский Совет пошли на создание так называемого «соединительного бюро», которое должно было стать совместным органом власти. Однако принципиально разный подход к решению возникающих проблем и невозможность достичь взаимоприемлемых соглашений привели к тому, что Грозненский Совет фактически игнорировал Гражданский комитет. В марте
1 Пламенные борцы за власть Советов. — Грозный, 1977. — С. 73—74.
2 ГАРФ. Ф. 398. Оп. 2. Д. 146. Л. 90.
Город Грозный в период между Февральской революцией 1917 г. и Октябрьским переворотом
1917 г. на промыслах и предприятиях Грозного вводится рабочий контроль за производством и распределением. Промысловые рабочие самостоятельно, без согласования с администрацией, стали не только самостоятельно устанавливать вахты, но и даже распоряжаться конторскими лошадьми. Рабочие фабрики «Плотник» на своем собрании постановили конфисковать фабрику и добились от Грозненского Совета решения о ее передаче рабочим на артельных началах. Создается комиссия по обследованию нужд рабочих, а 23 марта Совет принял постановление о введении в Грозненском районе восьмичасового рабочего дня1. Председатель Гражданского комитета Н. И. Стрижов в этой связи констатировал, что возглавляемый им «...комитет является каким-то справочным бюро и что вся власть сосредоточена в Совете солдатских и рабочих депутатов»2.
24 марта собрание заводовладельцев и управляющих промыслами, обеспокоенноя тем, что «.. .работа на промыслах и заводах дезорганизуется...», предложило создать согласительную комиссию «по вопросу о нормировке труда фабрично-заводских рабочих» из представителей рабочих и администрации предприятий3. Комиссия действительно была создана. От рабочих в ее состав вошли 7 человек, включая руководителя грозненской организации большевиков Н. А. Анисимова и руководителя всеобщей забастовки 1916 г. большевика В. В. Иванова. После ряда заседаний комиссия утвердила введение восьмичасового рабочего дня, ввела официальный минимальный уровень заработной платы и приняла ряд других решений в пользу рабочих.
Деятельность Грозненского Совета и борьба социал-демократических течений. Уже в апреле 1917 г. усилились разногласия внутри Грозненского Совета. Большевики все больше расходились во взглядах с меньшевиками и эсерами по целому ряду политических вопросов: отношение к войне, к Временному правительству и участию социалистических партий в формировании нового состава правительства и т. д. Вскоре эсеро-меньшевистское большинство Грозненского Совета добилось отставки его председателя — большевика Н. А. Анисимова. 11 апреля 1917 г. новым председателем Грозненского Совета стал меньшевик Е. С. Богданов.
В соответствии со своими партийными установками, представители социалистических партий начали вмешиваться в экономическую жизнь города. При Совете было создано несколько исполнительных структур: бюро труда, комиссии по обследованию заводов, проверке
1 Киреев Е. П. Из истории установления Советской власти в Грозном // Грозный за 40 лет Советской власти. — Грозный, 1957. — С. 10—11.
2 Город Грозный: Популярные очерки истории. — Грозный, 1984. — С. 65.
3 Борьба за Советскую власть в Чечено-Ингушетии (1917—1920 гг.): Сб. документов и материалов. — Грозный, 1958. — С. 32.
Глава XIII. Первая мировая война и Февральская революция в России
в политических судьбах Чечни
неплательщиков налогов, по обследованию нужд и положения рабочих, по борьбе с пьянством, нормировке цен и т. д. Попытки политическими способами решать экономические проблемы, как правило, завершались фактическим провалом. Так, комиссия по борьбе с дороговизной, под председательством большевика Погорелова, потребовала от грозненских торговцев снизить цены на товары первой необходимости. Но результатом стало не реальное снижение цен, а исчезновение этих товаров из свободной продажи. В качестве ответной меры Грозненский Совет начал ревизию магазинов и складов, за которой последовали конфискации больших партий мануфактуры, обуви и других товаров, которые затем распродавались по ценам 1914 г.
Рост популярности Грозненского Совета. Сближение с Гражданским комитетом, Казачьим и Чеченским комитетами. Конечно, такие меры имели только краткосрочный эффект, они никак не могли способствовать оздоровлению экономики и прекращению реального роста цен, зато они привели к росту популярности самого Грозненского Совета среди рабочих и других социальных низов. За помощью к Грозненскому Совету обращаются рабочие и солдатские комитеты Владикавказа, Гудермеса, Кизляра, Ведено, Воздвиженской и других мест. Не случайно, что съезд представителей Советов Терской области прошел 29 апреля 1917 г. именно в Грозном и под председательством руководителя Грозненского Совета Е. С. Богданова. По главным политическим вопросам съезд принял резолюции, полностью соответствовавшие духу и букве решений, принятых на Всероссийской конференции партии меньшевиков1.
Свое влияние Грозненский Совет, естественно, попытался использовать для еще большего упрочения собственной власти. В середине апреля начата реорганизация грозненских городских властей: в состав Гражданского комитета и Городской думы были введены представители Совета. Хотя полностью подорвать в этих органах влияние представителей имущих слоев и партии кадетов не удалось, все же за Грозным прочно закрепилась репутация основной опоры революционных социалистических партий в Терской области.
В мае 1917 г. большевики выступили с инициативой превращения Грозненского Совета в единственный орган власти и прекращения сотрудничества с Гражданским комитетом. Меньшевики и эсеры не только не поддержали это требование, но и пошли на создание Грозненского районного исполнительного комитета, в состав которого вошли представители не только самого Совета и Гражданского комитета, но и казачьего и чеченского комитетов. Председателем Грозненского исполкома стал А. Мутушев (председатель Чеченского исполкома и член партии меньшевиков). Интересно отметить, что
1 ГАРФ. Ф. 6978. On. 1. Д. 392. Л. 3.
Город Грозный в период между Февральской революцией 1917 г. и Октябрьским переворотом
А. Мутушев в это время определенно сблизился с грозненскими большевиками — именно в доме А. Мутушева разместился Грозненский комитет партии большевиков1.
Политические партии в Грозном. Рост влияния большевиков.
Наибольшим влиянием среди рабочих и населения Грозного после февраля 1917 г. пользовалась партия эсеров. Летом 1917 г. две ее организации — городская и старопромысловская — насчитывали в своих рядах соответственно 1700 и 2500 членов. Грозненская организация меньшевиков объединяла немногим более 600 членов, но вместе эти две партии твердо контролировали Грозненский Совет и созданный им исполком.
Быстрыми темпами росла численность партийной организации большевиков. Если в марте 1917 г. в ней состояло всего 200 членов, то летом — уже свыше 18002. Во второй половине мая 1917 г. грозненские большевики вышли из Грозненской объединенной организации РСДРП, окончательно разойдясь с меньшевиками. Влияние большевиков наиболее сильно ощущалось среди солдат грозненского гарнизона и рабочей молодежи. Солдатские массы привлекало прежде всего требование большевиков немедленного выхода России из мировой войны, даже путем заключения сепаратного соглашения с Германией.
К лету 1917 г. в некоторых ротах 111-го запасного полка насчитывалось до 25—30 членов партии большевиков. Большевики оказывали сильное влияние на гарнизон в укреплении Воздвиженском, где все ротные и гарнизонный комитеты контролировались ими. Благодаря этому большевикам удалось добиться замены всего командного состава Воздвиженскогй крепости3.
Свое влияние на солдат грозненского гарнизона большевики использовали и для вооружения создаваемых ими собственных партийных отрядов. Например, оружие для отряда железнодорожников большевики добыли из арсеналов 111-го полка.
А что касается рабочей молодежи, то для привлечения ее в свои ряды большевики еще в апреле 1917 г. создали на Старых промыслах молодежную организацию (кружок) «Сценокорд-Спорт», работой которого руководил член партии большевиков, слесарь механических мастерских Вячеслав Хрипович. При кружке действовали струнный оркестр, группы самодеятельных актеров и артистов, выступавшие с концертами и спектаклями. Всего «Сценокорд-Спорт» объединял более 70 молодых
1 В борьбе за власть Советов: Воспоминания участников революционных боев в Чечено-Ингушетии (1917—1920 годы). — Грозный, 1970. — С. 17.
2 Киреев Е. Я. Пролетариат Грозного в борьбе за победу Великой Октябрьской революции. — Грозный, 1957. — С. 73.
у Гакаев Ж. Ж. Большевики в борьбе за армию в условиях двоевластия (на материалах Дона и Северного Кавказа) // Вопр. истории революции и гражданской войны в Чечено-Ингушетии. — Грозный, 1985. — С. 14.
— 603 —
Глава XIII. Первая мировая война и Февральская революция в России
в политических судьбах Чечни
людей, которые позже стали ядром сформированного большевиками на Старых промыслах «Пролетарского батальона»1.
Весьма примечательно, что в рядах большевиков состояло много молодежи. Руководителю грозненской организации РСДРП (6) Николаю Анисимову в 1917 г. было всего 25 лет. Примерно одного возраста с ним и большинство самых известных грозненских большевиков: Александру Носову — 18, Михаилу Левандовскому — 27, Николаю Гикало — 20.
События 3—4 июля 1917 г. в Петрограде, где большевики, организовав массовые манифестации, фактически попытались отстранить от власти Временное правительство, вызвали заметное обострение отношений между социалистическими партиями в Грозном. Грозненские меньшевики и эсеры осудили действия большевиков и выразили поддержку Временному правительству. Обозначившимся в лагере социалистических партий расколом поспешили воспользоваться их политические противники.
Позиция казаков и солдатских гарнизонов в Грозном. Развал армейских частей. 9 июля 1917 г. казачий круг станицы Грозненской (находившейся фактически в черте Грозного) принял решение о выселении из станицы всех проживающих там «большевиков». Были назначены специально уполномоченные лица «для наблюдения за порядком в станице и ее окрестностях», а всем жителям станицы выдано оружие. Расположенные в черте Грозного казачьи сотни получили приказ готовиться к решительным действиям, если отношения с социалистическим руководством города обострятся еще больше.
Главным препятствием для засилья казачьих кругов в Грозном являлись солдаты местного гарнизона, находившиеся под сильным влиянием большевиков и формально подчиняющиеся Грозненскому Совету. Ситуация, сложившаяся в Грозном вокруг местного гарнизона, была характерной для всего Кавказа. Еще в конце марта 1917 г., в записке российского командования главе Временного правительства, подчеркивалось, что в запасных полках, разбросанных по Кавказу, насчитывается 139 тысяч солдат, в которых остро нуждаются части, из последних сил удерживающие Турецкий фронт в Закавказье. Но при этом ни один из запасных полков не может быть отправлен для пополнения действующей армии, так как их удерживают на местах различные Советы и комитеты, считающие распропагандированных солдат «...обеспечением против контрреволюции»2.
Фактически это было признанием того факта, что местные армейские гарнизоны оказались втянутыми во внутриполитическую борьбу
1 См.: Стодневные бои в Грозном: Сб. исторических очерков и воспоминаний. — Грозный, 1959. — С. 49; Филькин В. И. Молодежь Чечено-Ингушетии в борьбе за победу Октябрьской революции. — Грозный, 1968. — С. 9.
2 РГВИА. Ф. 366. On. 1. Д. 410. Л. 1.
Город Грозный в период между Февральской революцией 1917 г. и Октябрьским переворотом
в стране, что представляло серьезную опасность для государства. Весной и летом 1917 г. Временное правительство прилагает большие усилия, чтобы отправить на фронт запасные части с Кавказа, но это, как правило, сопровождалось беспорядками и обострением политической борьбы. Так случилось и в Грозном. 10 июля подполковник Н. П. Моисеев, как представитель командующего Кавказским военным округом, огласил приказ о немедленной отправке на фронт 21-го пехотного полка. Но, когда 23 июля на грозненскую железнодорожную станцию прибыли вагоны для погрузки полка и его имущества, собрался солдатский антивоенный митинг, который быстро перерос в массовые беспорядки. Солдаты избили командира полка и нескольких офицеров1.
Грозненский Совет оказался бессильным перед лицом открытого неповиновения со стороны части грозненского гарнизона. Мятеж 21-го полка удалось подавить только при поддержке Терского казачества: 2 августа 1917 г. в Грозный введен отряд под командованием есаула Л. Е. Медяника, заместителя атамана Терского казачьего войска. В состав отряда входили: Осетинский конвойный дивизион, три сотни казаков, пулеметная команда и батарея из 4-х орудий. Грозный был объявлен на военном положении, в городе запрещены митинги и другие собрания, введен комендантский час. К полудню 4 августа 21-й полк был разоружен и проведены аресты зачинщиков беспорядков. Казаки даже разогнали заседание Грозненского исполкома, но не смогли парализовать его работу.
Муниципальные выборы. Тем не менее, события вокруг 21-го полка не привели к падению авторитета Грозненского Совета, что наглядно продемонстрировали муниципальные выборы, состоявшиеся 3 сентября. Уверенную победу на них одержал блок социалистических партий (меньшевиков, эсеров и дашнаков), получивший 30 мест в городской думе из 41. По четыре места заняли представители большевиков и кадетов, еще три — Союз домовладельцев и сельских хозяев. Председателем Грозненской городской думы на первом же заседании этого органа был избран руководитель Чеченского Национального Совета и Грозненского районного исполкома А. Мутушев, а городским головой стал член партии меньшевиков В. О. Потапов. Большинство должностей в городском аппарате управления заняли меньшевики и эсеры, но и большевикам удалось закрепить за собой ряд постов2. Кстати, грозненская организация большевиков считалась одной из крупнейших в России. Ее руководитель Н. А. Анисимов был делегатом состоявшегося летом 1917 г. VI съезда партии большевиков и даже выступил на нем.
1 РГВИА. Ф. 1300. On. 1. Д. 442. Л. 192.
- Монополистический капитал в нефтяной промышленности России. 1914—1917: Документы и материалы. — Л., 1973. — С. 436.
Глава XIII. Первая мировая война и Февральская революция в России
в политических судьбах Чечни
Потерпев неудачу на выборах, большевики усилили агитацию, направленную против других социалистических партий. По указанию руководителя терских большевиков С. М. Кирова, грозненские пропагандисты РСДРП (6) в своей «разъяснительной работе» всячески подчеркивали, что партии эсеров и меньшевиков, согласившись войти в новый коалиционный состав Временного правительства, превратились в «пособников буржуазии». Одновременно, большевики стремились организовать отряды Красной Гвардии, которые в Грозном, чаще всего, возникали под видом отрядов самообороны.
Борьба за господство над нефтепромысловыми районами. Вытеснение «туземцев». Впрочем, вооружением своих сторонников занимались и другие социалистические партии, которые объединялись с большевиками для отпора вооруженным казакам. Так, 16 сентября 1917 г. казачий исполком Кизлярского отдела предпринял попытку разоружить рабочую милицию Старых промыслов — 250 казаков при двух пулеметах заняли здание промысловой милиции и потребовали от рабочих сдачи оружия. В ответ Грозненский Совет, по предложению большевиков, реквизировал в городе все автомобили, использованные утром 17 сентября для переброски на Старые промыслы солдат Грозненского гарнизона, которые выгнали казаков.
Конфликт вокруг рабочей милиции имел еще один аспект. Казаки стремились не только разоружить рабочих, но и установить свой непосредственный контроль над нефтяными промыслами. Об этом прямо сообщал Временному правительству комиссар Терской области Михайлов: «Казаки стремятся охранять грозненские промыслы исключительно своими силами...» Одновременно с попыткой захватить Старые промысла, казаки станицы Вознесеновской (рядом с которой находился еще один нефтедобывающий район) потребовали от Совета рабочих депутатов Вознесеновских промыслов немедленно уволить комиссара промыслов чеченца Эдель-Султанова и избрать на его место русского по национальности. Одновременно, всем нефтяным фирмам было предложено «.. .рассчитать всех туземцев» и более не брать их на работу1. Очевидно, что казаки действовали с одобрения съезда Терских нефтепромышленников, который стремился таким образом восстановить полный контроль над предприятиями, занимающимися добычей и переработкой нефти.
Усиление влияния большевиков в Грозном накануне Октябрьского переворота. Неудачная попытка разоружить рабочую милицию еще больше ускорила процесс вооружения рабочих — 24 сентября общегородское собрание заводских комитетов постановило немедленно организовать Красную Гвардию. Вооруженные отряды возникли на всех крупных предприятиях, а повсеместно были созданы ячейки по обучению рабочих военному делу. Для вооружения создаваемых отрядов
1 ГАРФ. Ф. 398. On. 1. Д. 44. Л. 83; РГВИА. Ф. 1300. On. 1. Д. 1679. Л. 38.
— 606 —
Город Грозный в период между Февральской революцией 1917 г. и Октябрьским переворотом
у Совета съезда Терских нефтепромышленников было конфисковано 700 винтовок и 100 револьверов1. Этот процесс находился под контролем большевиков.
Выдвигая целый ряд популистских лозунгов (немедленная отмена помещичьей собственности на землю и безвозмездная передача ее крестьянам, введение рабочего контроля над производством, заключение всеобщего демократического мира, отмена смертной казни на фронте и т. д.) большевики повсеместно усиливали агитацию против неподконтрольных им Советов. Например, в Грозном большевики воспользовались ростом напряженности для организации кампании по частичным перевыборам в Грозненский Совет. Именно под непрерывным давлением большевиков Грозненский Совет, в конце сентября, оказался вынужденным объявить о своей коллективной отставке и назначить перевыборы всех членов Совета. Серьезным успехом большевиков можно считать и то, что делегатом от Грозного на Н-й Всероссийский съезд Советов в Петрограде был избран их лидер — Н. Анисимов.
Одновременно усиливалась напряженность на заводах и нефтепромыслах, где постоянно происходили конфликты между администрацией и рабочими. Еще в середине сентября 1917 г. французское посольство обратилось к Временному правительству с просьбой принять меры по защите французских граждан, являвшихся членами правления одного из грозненских заводов общества «Русский стандарт»2. В начале октября 1917 г. Временное правительство действительно объявило о введении военного положения в Грозненском округе и планировало переброску в Грозный дополнительных войск, однако его собственные дни уже были сочтены. Наступал красный октябрь 1917 г.
^ ^ *
Таким образом, с августа 1914 г. по октябрь 1917 г. чеченский народ в ходе событий, связанных с Первой мировой войной, революционным движением в России, собственно Февральской буржуазной революцией и ее развитием на местах, в самые сжатые сроки прошел великую школу современной политической борьбы. Это позволило ему стать одним из первостепенных субъектов исторического процесса на Северном Кавказе, сопровождающегося ломкой старых устоев великой империи и поиском новых форм политической, национальной и государственной самореализации горских народов.
1 Киреев Е. П. Из истории установления Советской власти в Грозном // Грозный за 40 лет Советской власти. — Грозный, 1957. — С. 17.
2 ГАРФ. Ф. 406. On. 1. Д. 51. Л. 123.
Глава XIV. Октябрьский переворот и ход гражданской войны на территории нашего края (1917—1920 годы).
Мюриды революции
§ 1. Октябрьский переворот 1917 г. и признание Советской власти на Тереке
Причины Октябрьского переворота. Национальный вопрос.
После Февральской буржуазно-демократической революции 1917 г. в России установилось своеобразное двоевластие в лице Временного правительства (созданного по инициативе IV Государственной думы) и Петроградского Совета рабочих депутатов, созданного радикальными партиями и группировками. Но и перед Временным правительством и Советами, как и перед поддерживающими их различными политическими силами, встали одни и те же судьбоносные вопросы — о власти, о войне и мире, земельный, экономический и национальный, и т. д.
Временное правительство, представляющее интересы крупной буржуазии, решилось вести войну до победного конца, а разрешение социальных, аграрных и национальных вопросов оставить на усмотрение Учредительного собрания — некоего общенародного, всесословного собора, который должен был состояться после окончания войны. Громадная империя стремительно покатилась в хаос, в запредельный кризис. Особенно обострился национальный вопрос, в том числе на территории Кавказа и Терской области.
Конечно, с одной стороны, народы России были связаны общими интересами, вытекавшими из единства территории, их экономической взаимозависимости, политической целесообразности и т. д. Российская империя и русский народ веками служили геополитической осью Евразии, системообразующим центром для десятков народов и малых государств. С другой стороны, система имперского диктата, крайняя централизация и бюрократизация, подавление национальных чувств и политика насильственной русификации, прямое колониальное ограбление усиливали центробежные тенденции. На рубеже XIX—XX вв. национальная элита окраин, представлявшая самые различные социальные слои, активно разделяла идеи национального освобождения, боролась против русского шовинизма и гнета местных и центральных властей.
Необходимо отметить, что нерешенность национального вопроса наряду с тяготами мировой войны стали причиной гибели не только Российской империи, но и еще двух — Австро-Венгерской и Османской.
С.П Q
Октябрьский переворот 1917 г. и признание Советской власти на Тереке
Захват власти большевиками в Петрограде. Отзвуки Октября в Грозном. Поражения на фронтах Первой мировой войны, развал управления, распад армии, усиление выступлений национальных окраин, нерешенность земельного вопроса, экономическая разруха быстро привели к падению какого-либо влияния Временного правительства в центре и на местах.
Левое крыло Российской социал-демократической рабочей партии во главе с В. И. Лениным (большевики), блокировавшись с более многочисленными левыми социал-революционерами (эсеры), показали себя самой решительной и организованной силой в условиях российского хаоса. Утверждают также, что узкая группа заговорщиков во главе с
В. Лениным получила в свое распоряжение огромные денежные средства от кайзеровской Германии, рассчитывавшей любым способом вывести Россию из числа участников войны.
Вечером 24 октября в Петрограде началось вооруженное восстание, к утру 25 октября 1917 г. закончившееся полной победой. Временное правительство было низложено. На проходившем в эти часы II Всероссийском съезде Советов лидер большевиков В. И. Ленин провозгласил полный переход власти к Советам и предложил принять два крайне популистских закона: «Декрет о мире» и «Декрет о земле». Первый закон объявлял прекращение Россией империалистической войны и призывал все воюющие страны заключить договор о мире без аннексий и контрибуций (по существу, этот декрет открывал демобилизацию армии); второй закон реализовывал вековую мечту российского крестьянства — земля
Принятие первых декретов Советской власти на Всероссийском съезде Советов
(65, 63)
— 609 —
Глава XIV. Октябрьский переворот и ход гражданской войны на территории нашего края
(1917—1920 гг.). Мюриды революции
национализировалась и отдавалась пропорционально непосредственным ее пользователям.
Было сформировано двухпартийное правительство — Совет Народных Комиссаров — во главе с В. И. Лениным и избран Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (в составе 62 большевиков и 29 левых эсеров), для руководства местными советами в период между съездами Всероссийских Советов. Речь шла, конечно, не просто о перевороте, а об эпохальной смене формаций. Началось триумфальное шествие советской власти по всей стране.
В Грозном о перевороте стало известно из сообщений по телеграфу уже 26 октября. В тот же день Грозненский Совет рабочих, солдатских и казачьих депутатов принял резолюцию, одобряющую переход власти к Советам. Несмотря на то что местные меньшевики и эсеры с неодобрением восприняли большевистский переворот, они все же не выступили открыто против концентрации всей власти в Советах, тем более что именно эти две партии контролировали большинство из них по всей стране, в том числе и в Терской области. Впрочем, резолюции одного Грозненского Совета было недостаточно для установления советской власти на всей территории Терской области.
Приход к власти большевиков в столице был настороженно воспринят правыми партиями и казачеством Терской области, а также руководителями Союза объединенных горцев. Требовавшие предо* ставления широкой автономии для своих народов, горские лидеры были знакомы с решениями Кавказского краевого съезда РСДРП (б), состоявшегося незадолго до событий в Петрограде 15—20 октября 1917 г. Съезд выступил против «.. .образования федеративных государств кавказскими национальностями», но вместе с тем призвал «к самому тесному единению и сближению всю демократию Кавказа без различия национальностей...»1 К тому же, резкое неприятие у руководителей Союза объединенных горцев вызывала и программа социальных преобразований, выдвигаемая большевиками.
Наступление анархии. Роль 111-го полка. Союз объединенных горцев, по получении сообщения о революции, сразу потребовал разоружения рабочих отрядов и солдат Грозненского гарнизона, «зараженных» большевистскими агитаторами. В Терской области стремительно нарастала общественная анархия и одним из дестабилизирующих ситуацию элементов (наряду с криминальными бандами) выступали как раз слабо дисциплинированные и почти не подконтрольные властям части 111-го полка, расквартированные в Грозном. Одна лишь хроника преступлений, совершенных за последние пять дней октября 1917 г., наглядно демонстрирует, насколько взрывоопасная ситуация сложилась
1 Ot вековой отсталости — к социализму: Сб. документов и материалов. — Грозный, 1977. — С. 22.
Октябрьский переворот 1917 г. и признание Советской власти на Тереке
в Грозном и вокруг него. 27 октября вооруженная банда, насчитывавшая до 200 солдат, угнала из станицы Слепцовской 2000 овец. Двинувшаяся по следам похитителей группа следователей была обстреляна возле хутора Калаус и вынуждена повернуть обратно. Днем 28 октября, около разъезда Ханкала, группа из 10 солдат напала на помощника старшины селения Бердыкель; избила и ограбила его. В ту же ночь еще одна крупная солдатская банда угнала из станицы Михайловской 3200 овец. На следующий день была разобрана телеграфная линия между Грозным и укреплением Воздвиженским, а 31 октября в Грозном был убит член Чеченского Национального Совета Хайдарбек Шерипов, брат комиссара Грозненского округа.
Напряженность вокруг 111-го полка еще больше возросла после того, как 11 ноября произошли крупные вооруженные столкновения гарнизона крепости Воздвиженской (где были расквартированы три роты этого полка) с жителями окрестных чеченских селений. В руки чеченцев попал командир полка и большое количество солдат, сопровождавших полковой обоз, перехваченный на дороге между Грозным и Воздвиженской. Позже все пленные были освобождены, что не предотвратило новых столкновений — уже в Грозном. На городской железнодорожной станции солдаты 111-го полка при поддержке неких отрядов «рабочей самообороны» напали на всадников 4-й сотни Чеченского полка, охранявших три вагона с принадлежавшим полку оружием и боеприпасами. Погибло до 30 всадников Чеченского полка, включая сына А.-М. Чермоева, лидера Союза объединенных горцев. Бросившиеся на выручку жители близлежащего селения Новые Алды зе смогли пробиться дальше Новых промыслов. Сами промыслы были подожжены в ходе боя и горели затем непрерывно в течение полутора «ет1. Создавалось впечатление, что не только обезумевшие от безнаказанности солдаты и казаки, но и рабочие, находившиеся под влиянием большевиков, да и, собственно, все большевики оказались охваченными античеченской истерией. Вскоре, по мере получения сообщения о трагедии, всадники эскадронов Чеченского полка стали подтягиваться к. городу. Начался обстрел Грозного, одновременно были прерваны все •гути сообщения, ведущие в город.
Объявление горской автономии. Провозглашение Терско-Дагестанского правительства. События в Грозном, а также начавшиеся еше в начале ноября 1917 г. широкие столкновения между ингушами к казаками Сунженской линии в Тарской долине под Владикавказом, были использованы бывшим комиссаром Временного правительства, наказным атаманом М. А. Карауловым, для того чтобы попытаться
См.: РГВИА. Ф. 1300. On. 1. Д. 1679. Л. 117, 119, 125 об., 128 об., 146; ГАРФ. Ф. Р-130. On. 1. Д. 81. Л. 32—33; Ошаев X. Очерк начала революционного движения в Чечне. — Грозный, 1928. — С. 18.
Глава XIV. Октябрьский переворот и ход гражданской войны на территории нашего края
(1917—1920 гг.). Мюриды революции
под предлогом предотвращения гражданской войны сосредоточить в своих руках всю власть в Терской области. Против этого решительно возражали по разным причинам не только представители Временного правительства (все еще остававшиеся в Терской области), но и Грозненский Совет, некоторые русские демократические организации и Союз объединенных горцев, желавший реализовать права горцев на автономию1.
Разногласия между Терским казачьим войском и Союзом объединенных горцев были довольно быстро урегулированы путем переговоров. 19 ноября 1917 г. шесть горских округов Терской области были объявлены «автономным штатом». Параллельно были достигнуты договоренности о создании единого Временного Терско-Дагестанского правительства: соответствующую Декларацию подписали от Союза объединенных горцев князь Р. Капланов, а от Терского казачьего войска — М. А. Караулов. Подписывая Декларацию о создании Терско-Дагестанского правительства, руководители Союза объединенных горцев руководствовались примерно теми же соображениями, что и при создании Юго-Восточного Союза. Прежде всего, считалось, что это решит экономические проблемы и предотвратит большую войну между горцами и казаками. Учитывая, что после свержения Временного правительства, Россия вообще осталась без легитимного и общепризнанного центрального правительства, горские лидеры полагали, «что организация власти должна начаться на местах, чтобы затем местные Правительства могли создать твердую и авторитетную власть, способную осуществить свои обязанности. Народы Терско-Дагестанского края не могли не стать на этот путь, на котором их опередили все соседние области»2.
Занятие Грозного чеченскими силами. 23 ноября новое правительство передало Грозненскому Совету ультиматум с требованием полного разоружения рабочих и Грозненского гарнизона, более всего повинных в анархии и грабежах. Срок ультиматума истекал в 14 часов 26 ноября. Поскольку арсеналы 111-го полка уже давно были по большей части разграблены горожанами и солдатами, стало очевидным, что отразить возможное наступление на город нечем: армейский гарнизон и красногвардейцы имели боеприпасов всего на два часа боя3. В этих условиях Грозненскому Совету не оставалось ничего другого, как объявить об эвакуации из Терской области 111-го полка и 250-й Самарской дружины. Вместе с воинскими эшелонами из Грозного бежало до 2 тысяч жителей, прежде всего членов партии большевиков и активистов рабочих
1 РГВИА. Ф. 1300. On. 1. Д. 1679. Л. 136 об.
2 Союз Объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана (1917—1918 гг.), Горская Республика (1918 — 1920 гг.): Документы и материалы. — Махачкала, 1994. — С. 94.
3 Грозный за 40 лет Советской власти. — Грозный, 1957. — С. 24—25.
— 612 —
Октябрьский переворот 1917 г. и признание Советской власти на Тереке
дружин, в немалой степени повинных в чеченских погромах и боявшихся мщения1.
Была эвакуирована и крепость Воздвиженская, в которой постоянно размещались три роты 111-го полка. После их ухода из расположенной при крепости большой слободы в Грозный бежали все русские жители.
27 ноября чеченские вооруженные отряды начали выдвигаться по направлению к Грозному. Введенные в Грозный силы Чеченского Национального Совета часто ошибочно именуют Чеченским полком «Дикой дивизии». На деле же остатки этого полка были значительно дополнены добровольцами, собравшимися именно для защиты как близлежащих селений, так и чеченцев, проживавших в городе. Всего в Грозный вошло более тысячи чеченских всадников, в адрес которых вскоре также были выдвинуты обвинения в многочисленных грабежах и убийствах2.
Политический расклад в Чечне после Октябрьских событий.
В конце 1917 г. ситуация в Чечне, как и во всей Терской области, была чрезвычайно сложной и запутанной. На первое место по своей остроте выходят, конечно, социальные конфликты, но немалую роль играет конфликт между чеченцами (и вообще горцами), с одной стороны, и казачьими войсками Юга России, с другой. При этом острейшие противоречия существовали внутри этих двух основных лагерей. В Чечне борьба между сторонниками светского пути развития и их противниками из числа религиозных деятелей осложняется постепенным обособлением «социалистической» группы. Первыми лидерами представителей левого толка были А. Мутушев и Т. Эльдарханов. Окончательно эта политическая группировка организационно оформилась немного позднее — весной 1918 г., и вступила в тесный союз с терскими большевиками.
Казачья верхушка стремилась одновременно решить несколько задач: сохранить привилегированное положение казачьего сословия, остановить дальнейшее усиление леворадикальных (коммунистических) настроений в основной массе русского населения, подавить растущее национально-освободительное движение горцев и усилить свою «автономию» в будущем государственном устроении России. При этом казачьи лидеры сами делятся на правых и левых, в том числе сочувствующих идеологической платформе некоторых радикальных партий.
Иногороднее русское население Чечни делилось на городское и сельское — жителей хуторов и сел, которые в наибольшей степени страдали от набегов уголовных банд. Политический спектр этой части населения также представлен как правыми, так и левыми партиями. Среди жителей
Борисенко И. Советские Республики на Северном Кавказе в 1918 году. Т. 2. — Ростов н/Д., 1930. — С. 49.
: ГАРФ. Ф. P-130. On. 1. Д. 81. Л. 33; РГВИА. Ф. 2100. On. 1. Д. 271. Л. 346.
Глава XIV. Октябрьский переворот и ход гражданской войны на территории нашего края
(1917—1920 гг.). Мюриды революции
Грозного наибольшим влиянием пользовались социалистические партии, что отразилось на составе выборных органов городской власти. Политические симпатии иногородних крестьян не столь определенны. Антиказачьи настроения начала XX в. у крестьян теперь дополнились ярко выраженными античеченскими и антигорскими настроениями. Эти же настроения отчетливо проявляются и среди жителей Грозного. Антиказачьи настроения среди иногородних крестьян порождались извечным вопросом о земле. Крестьяне добивались земельного передела и уравнения их в правах с казаками.
При этом каждая из действующих в крае политических партий преследует свои собственные цели. Правые эсеры и меньшевики рассчитывают, используя свое преобладающее влияние в Советах, не допустить распространения власти большевиков на Терскую область. В этом они встречают неожиданную поддержку со стороны буржуазных партий и казачьих кругов. Большевики, естественно, ставят перед собой прямо противоположные задачи.
В целях установления советской власти на Тереке В. И. Ленин подписывает 13 (26) декабря 1917 г. в Петрограде мандат о назначении революционера-чеченца Магомеда Яндарова Чрезвычайным временным комиссаром Терской области. Во врученном ему предписании говорилось: «Ближайшая задача комиссара: очищение Терской области от банд Караулова и закрепление за русскими крестьянами, чеченцами, осетинами, ингушами, кабардинцами, кумыками, ногайцами и пр. их неотъемлемых прав на устроение своей национальной жизни»1. Однако ленинский посланец не получил охраны и каких- либо средств для реализации своей задачи. В пути он был захвачен казаками и расстрелян.
Усиление межнационального конфликта. Чеченские силы оставляют Грозный. В результате такого политического расклада получалась довольно запутанная ситуация, при которой левый по своему составу Грозненский Совет часто объединяется с правыми лидерами казачества для борьбы с чеченцами. С другой стороны, казачьи лидеры, подписывая соглашения с Союзом объединенных горцев о наведении «твердого порядка» в крае, одновременно делают все возможное, чтобы привлечь жителей Грозного и иногородних к подавлению национального движения горцев. Период с осени 1917 г. и до лета 1918 г. — это период временных и во многом вынужденных соглашений между различными политическими и национальными силами Терской области, когда идейные противники временно объединялись против «национального врага» и, наоборот, — когда горские националисты и казачьи лидеры, стоявшие на откровенно шовинистических позициях, вступали в соглашение против «большевистской заразы».
1 Ленин о Доне и Северном Кавказе. — Ростов н/Д., 1969. — С. 398.
— 614 —
Октябрьский переворот 1917 г. и признание Советской власти на Тереке
Поэтому, когда в самом конце ноября 1917 г. в Грозный вошли подконтрольные Союзу объединенных горцев чеченские отряды, произошло быстрое сближение Грозненского Совета с лидерами терского казачества. Цель нового и явно временного союза — выдавить из Грозного чеченские силы. Из Баку к Грозному по железной дороге срочно направлены войска, которые, однако, у Гудермеса были остановлены вооруженными чеченцами, а затем отброшены обратно1. Тем не менее, разложившиеся вконец отряды Чеченского Национального Совета вынуждены были отойти из Грозного по требованию городских властей и Терско-Дагестанского правительства. Вместо них в город срочно вводятся два казачьих полка.
После выхода чеченских всадников по Грозному прокатилась новая волна грабежей и убийств населения, только теперь первыми жертвами стали проживавшие в городе чеченцы. Казаки также увлеклись грабежами. Кроме того, резко обострилась ситуация вокруг Грозного. Соглашение, достигнутое городскими властями с казачеством, предусматривало прямое участие грозненских вооруженных отрядов в планируемом казаками наступлении на чеченцев и ингушей2.
Положение на чеченском участке Владикавказской железной дороги. В межнациональный конфликт, разгоравшийся в Чечне, оказались непосредственно втянутыми войска Кавказского фронта. Железная дорога, проходящая по Чечне, была жизненно важна для снабжения еще остающихся на турецком фронте войск и всего Закавказья в целом. С другой стороны, именно по этой дороге возвращались в Россию самовольно снявшиеся с фронта воинские подразделения и просто толпы дезертиров, терроризировавшие прилегающие к дороге населенные пункты. Местное население, в том числе и казачье, устав бороться с вооруженными бандами из бесчисленных составов, было вынуждено прервать железнодорожное сообщение. 11 декабря 1917 г. один из ответственных служащих Владикавказской железной дороги сообщал: «Перегон Гудермес—Грозный до сих пор не открыт за неимением охраны. На перегоне Грозный — Беслан и в самом Грозном продолжаются грабежи и нападения на служащих. Служащие отправляют свои семьи и вслед их за ними уезжают сами. Положение настолько серьезное, что движение поездов на перего- ве Беслан—Грозный—Гудермес на днях совершенно остановится... Дальнейшее промедление... грозит неисчислимыми бедствиями как Кавказскому, так и Закавказскому краю и фронту». По приказу генерала Половцева, командовавшего войсками в Терско-Дагестанском крае, под предлогом защиты железнодорожного сообщения, казачьим
1 ГАРФ. Ф. Р-393. Оп. 2. Д. 125. Л. 31.
- Коренев Д. 3. Революция на Тереке. 1917—1918 гг. — Орджоникидзе, 1967. — С. 79.
— 615 —
Глава XIV. Октябрьский переворот и ход гражданской войны на территории нашего края
(1917—1920 гг.). Мюриды революции
формированиям было передано большое количество оружия и боеприпасов из армейского арсенала в городе Георгиевске1.
Начало горско-казачьих перестрелок. Убийство шейха Д. Арсано- ва. В конце декабря 1917 г. столкновения на границе горских округов и казачьих отделов приняли такой масштаб, что можно говорить о перерастании их в гражданскую войну. 26 декабря активные перестрелки шли вокруг Грозного и в Гудермесе. Еще более масштабные столкновения начались на Сунженской линии. По сообщениям, поступавшим в этот день из Владикавказа, следовало: «Ингуши и кумыки, которые ждут себе на помощь чеченцев, собрались в большом количестве, прекрасно вооруженные и ведут наступление против хуторов Моздока и станиц». Накануне возле Моздока был сожжен хутор Киевский, ожидалось взятие станицы Терской, в окружении находилась станица Вознесеновская. Видимо, этими событиями объясняется самовольный уход из Грозного одного из казачьих полков.
В тот же день, 26 декабря, Чеченский Национальный Совет предпринял очередную попытку добиться прекращения военных действий. В станицу Грозненскую для ведения переговоров прибыл бывший комиссар Грозненского округа шейх Д. Арсанов, которого сопровождало несколько десятков вооруженных мюридов. Переговоры хотя и состоялись, но вряд ли увенчались успехом. Более того, уже после их завершения казаки в нарушение условий предприняли вероломную попытку разоружить чеченскую делегацию. В ходе начавшейся перестрелки погиб сам Д. Арсанов и больше трех десятков его мюридов. Тела убитых чеченцев несколько дней пролежали на улицах станицы. Только в апреле 1918 г. тело Д. Арсанова было выдано родственникам, которые похоронили его на Урус-Мартановском кладбище2 3.
Оформление союза Грозного и казачества. Подготовка к войне против чеченцев. Неспровоцированное убийство видного шейха вызвало новое обострение ситуации. Мюридами Д. Арсанова было взято в осаду несколько станиц, а одна из них сожжена. 27 декабря началось большое наступление чеченцев на станцию Гудермес. К концу дня оборонявшие его солдаты и казаки, несмотря на наличие бронепоезда, отступили к станице Червленной, где срочно собрался казачий круг, на который пригласили представителей чеченского селения Старый Юрт1. Казаки требовали обеспечить беспрепятственное сообщение от станицы Червленной к станице Петропавловской и далее к Грозному.
1 См.:РГВИА.Ф. 1300. Оп. 1.Д.457.Л. 129,130,131; В борьбе за власть Советов: Воспоминания участников революционных боев в Чечено-Ингушетии (1917—1920 годы). — Грозный, 1970. — С. 57.
2 См.: РГВИА. Ф. 1300. On. 1. Д. 457. Л. 183; Духаев А. Плеяда шейхов из Надтере- чья. — Лаха-Невре, 1997. — С. 37.
3 РГВИА. ф. 1300. On. 1. Д. 457. Л. 189.
Октябрьский переворот 1917 г. и признание Советской власти на Тереке
И действительно, жители Старого Юрта согласились пропустить через свои земли 2-й Кизляро-Гребенской и Уссурийский казачьи полки с артиллерией, направлявшиеся якобы в Грозный. Но, пройдя мимо Старого Юрта, эти полки, коварно нарушив соглашение, заняли стратегические позиции на Терском хребте над аулом и начали его обстрел.
Одновременно получил организационное оформление союз властей Грозного в целом с терским казачеством, включая Сунженские станицы. 31 декабря 1917 г. создается Грозненский окружной военно-революционный Совет, куда вошли представители Грозного и расположенных поблизости казачьих станиц. Первым председателем объединенного казачье-городского Совета стал казак из станицы Грозненской Елисеев, которого вскоре на этом посту сменил большевик Г. 3. Иоаннисиани. 5 января 1918 г. аналогичный военно-революционный Совет сформирован станицами Сунженской линии. Оба Совета какое-то время тесно сотрудничали между собой.
Инициаторами создания Грозненского военно-революционного Совета выступили большевики, которые рассчитывали под его прикрытием восстановить вооруженные рабочие отряды. Вообще, тактика большевиков отличалась гибкостью и редкой целеустремленностью. Уступая в популярности блоку эсеров и меньшевиков, они уделяли большое внимание распространению своего влияния среди солдат Грозненского гарнизона. Именно опираясь на поддержку солдат и созданных ими рабочих дружин, большевики, имея ничтожное меньшинство в Грозненском Совете, вынуждали этот орган считаться со своими требованиями1.
Последовавший вскоре вывод из Грозного солдат гарнизона и разоружение рабочих, по требованию казаков, серьезно подорвали влияние большевиков. Чтобы восстановить его, большевистские агитаторы начали пропагандистскую работу среди личного состава казачьих полков буквально в тот же день, когда те вошли в Грозный на смену армейскому гарнизону. И главное, они пошли на временный союз с казачеством и прямое участие в войне против горцев, для того чтобы иметь возможность восстановить в Грозном подконтрольные большевикам рабочие отряды.
Первые действия Грозненского военно-революционного Совета были направлены на укрепление обороны города и создание городских вооруженных отрядов. Весь город был разделен на участки со своими отрядами самообороны во главе с назначенными Советом комиссарами. Кроме того, для охраны особо важных объектов начато формирование постоянных воинских частей. Так, были сформированы три роты, а также восстановлены существовавшие ранее рабочие
; В борьбе за власть Советов: Воспоминания участников революционных боев в Чечено-Ингушетии (1917—1920 годы). — Грозный, 1970. — С. 19.
— 617 —
Глава XIV. Октябрьский переворот и ход гражданской войны на территории нашего края
(1917—-1920 гг.). Мюриды революции
отряды: железнодорожная дружина, заводская рота и пролетарский батальон. Б Грозном был построен бронепоезд и даже дополнительно проложена железнодорожная ветка, чтобы увеличить его маневренность. М. К. Левандовский (один из видных деятелей Грозненской организации большевиков) признавал, что большевикам приходилось тщательно скрывать от своих коллег по военно-революционному Совету истинные цели формирования рабочих отрядов: «Назначение их официальное и легальное — это оборона предприятий. Неофициальное и нелегальное — это создание скрытой Красной гвардии и Красной Армии...»1
Сражение за Старый Юрт и Бамат-Юрт. Поражение планов военщины в Чечне. Военные действия против чеченских селений начались 1 января 1918 г. и велись по прямому распоряжению Грозненского военно-революционного Совета. Со стороны станицы Червленной были атакованы чеченское село Старый Юрт и расположенное рядом кумыкское селение Бамат-Юрт (Виноградное). Со стороны Грозного атаку поддержали пехотные части Грозненского военно-революционного Совета. Успех наступления во многом обеспечили казачьи полки, заблаговременно занявшие позиции на Терском хребте, возвышающимся над Старым Юртом, откуда они вели по аулам пушечный огонь.
Позднее Г. 3. Иоаннисиани уверял, что нападение на Старый Юрт было провокацией, организованной казачьей верхушкой, которая рассчитывала таким образом «...сорвать мирную работу Грозненского ревкома, вызвать нападение чеченцев на город. Для помощи староюр- товцам ревком спешно сформировал вооруженный отряд в 200 человек, но провокаторы еще до прихода отряда завершили свое черное дело, подожгли и разгромили аул». На деле грозненские отряды участвовали в нападении не только на села Старый Юрт и Бамат-Юрт, но и на Старую Сунжу, а бронепоезд, построенный в Грозном, поддерживал огнем наступление Сунженских казаков на ингушские селения Плиево и Ян дырка. Кроме того, по распоряжению Грозненского военно-революционного Совета все проживавшие в Грозном чеченцы и ингуши (включая женщин и детей) были захвачены в качестве заложников и помещены в грозненскую тюрьму2.
В сражении под Старым Юртом, продолжавшемся несколько дней, чеченцы выказали огромное мужество и абсолютное бесстрашие, сведя на нет «успех» врага, заключавшийся в сожжении аула. По существу, нападавшие были отбиты с огромными потерями, несмотря на многократное
1 Борьба за Советскую власть в Чечено-Ингушетии (1917—1920 гг.): Сб. документов и материалов, — Грозный, 1958, — С. 132.
2 См.: Абазатов М. А. Борьба трудящихся Чечено-Ингушетии за советскую власть (1917—1920 годы). — Грозный, 1969. — С. 34; Музаев М. К Грозненский окружной военно-революционный Совет и его роль в установлении Советской власти в Чечено-Ингушетии // Из истории борьбы за власть Советов и социалистических преобразований в Чечено-Ингушетии. — Грозный, 1983. — С. 9.
™ 618 —
Октябрьский переворот 1917 г. и признание Советской власти на Тереке
превосходство в силах. Это была и моральная победа рядового чеченского крестьянства над казачьей и армейской военщиной.
Нападения на чеченские села фактически похоронили все договоренности с казаками, достигнутые Союзом объединенных горцев, и форсировали процесс дальнейшего нарастания борьбы чеченцев за возвращение утраченных на равнине земель. На помощь подвергнувшимся нападению селениям немедленно направлялись отряды со всей Чечни. Так, первыми на помощь Старому Юрту пришел отряд шейха Каны Хантиева. Начались ответные атаки возмездия предпринятые чеченскими отрядами против станиц Червленной, Фельдмаршальской и Ильиновской1.
Национальная солидарность, наглядно проявившаяся в конце 1917 — начале 1918 гг., не позволила Терскому казачьему войску и его союзникам поодиночке разгромить чеченские селения и навязать Чечне свои условия мира. Когда во время переговоров в селе Лаха-Невре (Надтеречное) в январе 1918 г. один из казачьих атаманов выступил с новыми угрозами, шейх Кана Хантиев показал ему свой сарай, доверху забитый боеприпасами, и сказал, что примерно такие же запасы оружия имеются у каждого чеченца2. Несмотря на известное преувеличение, допущенное шейхом, его слова наглядно продемонстрировали, что для «умиротворения» Чечни казакам придется брать с боем каждое чеченское село. Таким образом, план полного разгрома Чечни был сорван в самом начале боев. Горские лидеры, проводившие политику сближения с казачеством, потеряли свой авторитет. Пошатнулись позиции и чеченских «социалистов» из-за двуличной политики их грозненских однопартийцев.
Изменения в политическом курсе Чечни. В условиях начавшейся войны руководство Чеченского Национального Совета и ЦК Союза объединенных горцев было вынуждено начать серьезную корректировку своего политического курса. Уже около года власть в Чечне принадлежала Чеченскому исполкому и Национальному Совету, над которым стояло руководство Союза объединенных горцев. Власть эта была не прочной, временами почти зыбкой, но на протяжении всего 1917 г. в Чечне не было другой политической силы, способной оспаривать полномочия у Чеченского Национального Совета. Начавшаяся война с казачьим войском показала, что система власти в стране нуждается в серьезном реформировании. В начале января 1918 г. в Шали состоялось совещание руководства Чеченского Совета с офицерами «Дикой дивизии» и предводителями вооруженных отрядов. Совещание пришло к выводу о необходимости формирования в Чечне новых органов власти. Для этого 15 января 1918 г. в Урус-Мартане открылся национальный
: ГАРФ. Ф. Р-1235. Оп. 95. Д. 517. Л. 87.
: Духаев А. Плеяда шейхов из Надтеречья. — Лаха-Невре, 1997. — С. 19.
Глава XIV. Октябрьский переворот и ход гражданской войны на территории нашего края
(1917—1920 гг.). Мюриды революции
съезд. А.-М. Чермоев, летом и осенью 1917 г. проводивший политику сближения с казачеством, был в прямом смысле этого слова освистан участниками съезда и оттеснен политическими соперниками на второй план.
Несмотря на то что главой нового состава Чеченского Национального Совета был вновь утвержден авторитетный А. Мутушев (скрытый социал-демократ), влияние духовенства значительно усилилось. Влиятельная группировка шейхов (Белу-хаджи и Солса-хаджи из Урус- Мартана, Сугаип-мулла Гайсумов из Шали, Али Митаев из Автуров, Абдул-Вагап-хаджи Аксайский, Юсуп-хаджи Кошкельдинский и др.) требовали введения в Чечне теократической формы правления, при которой верховная власть должна была принадлежать Совету высших духовных лиц — улемов. Влияние духовенства ощущалось даже в том, что новый Чеченский Национальный Совет назывался на «исламский» лад — меджлисом. Их открыто поддержала наиболее консервативно настроенная часть светских деятелей во главе с Ибрагимом Чулико- вым. Под давлением право-клерикальных сил А. Мутушев вскоре был заменен на посту председателя Чеченского Совета И. Чуликовым. Постоянным местом пребывания меджлиса стало селение Старые Атаги, вследствие чего в советской исторической литературе он известен как Атагинский Совет.
Засилье духовенства в новом Чеченском Национальном Совете привело к окончательному разрыву с ним большой группы чеченских деятелей левого (социалистического) толка. Во главе чеченских левых стояли Т. Эльдарханов, имевший за плечами солидный опыт политической деятельности еще в царской России, и двадцатилетний Асланбек Шерипов, которому суждено было стать самым ярким революционером в истории Чечни.
Появление нового лидера. Асланбек Шерипов родился в 1897 г., в селении Сержень-Юрт, в офицерской семье, вскоре переехавшей в Грозный. Образование А. Шерипов получил вначале в Полтавском кадетском корпусе, а затем в Грозненском реальном училище. Возможно, благодаря тому что с раннего детства Асланбек очутился в инонациональной среде, он быстро и глубоко усвоил социалистические взгляды, весьма популярные среди российской молодежи начала XX в. Чеченский ученый-лингвист и общественный деятель советской эпохи А. Маци- ев в своих воспоминаниях указывал на отличительную особенность мировоззрения учащегося выпускного класса А. Шерипова: «В начале Февральской революции учащие реального училища собирались по национальным признакам и устраивали летучие митинги. В классах вывешивались лозунги «Армения для армян!», «Грузия для грузин!», «Чечня для чеченцев!» и так далее. И вот однажды к нам в класс пришел Асланбек и заявил: «До тех пор, пока мы будем кричать: «Армения
Октябрьский переворот 1917 г. и признание Советской власти на Тереке
А. Д. Шерипов. 1918 г. Фото (44, 679)
для армян», «Чечня для чеченцев», у нас не будет ни Армении, ни Чечни. Задача состоит в том, чтобы идти всем вместе, рука об руку»1.
Политическая деятельность А. Шерипова началась в мае 1917 г. со вступления в чеченскую молодежную организацию «Нийсонан накъост» («Товарищ справедливости»). Далее несколько месяцев он работает инструктором Чеченского исполкома. В августе 1917 г. А. Шерипов в качестве представителя Союза объединенных горцев побывал в Абхазии, где его выступление на съезде абхазского народа произвело большое впечатление на руководителя абхазских большевиков Ефрема Эшбу. Последний, в частности, обратил внимание, что, выступая под националистическими лозунгами, А. Шерипов тем не менее открыто поддержал лозунг «Вся власть — Советам!», взятый на вооружение большевиками2. Именно после поездки в Абхазию, по всей видимости, началось быстрое сближение А. Шерипова с большевиками.
Лавирование большевиков в национальном вопросе. Последние рассматривали свое участие в войне с чеченцами в начале 1918 г. на стороне казачества, как явление временное и вынужденное. Горское крестьянство в целом воспринималось большевиками как естественный союзник в борьбе с контрреволюцией, в особенности с казачеством, которое они считали главной опорой российской политической реакции. Поэтому в разгар боев против чеченских аулов, в которых принимали участие и проболыневистские рабочие отряды, 15 января 1918 г. во Владикавказе состоялось совещание представителей терских большевиков с представителями осетинской революционно-демократической партии «Кермен», меньшевиками, эсерами и грузинскими федералистами
1 Пламенные борцы за власть Советов. — Грозный, 1977. — С. 38.
: Эшба Е. Асланбек Шерипов. — Грозный, 1929. — С. 14.
Глава XIV. Октябрьский переворот и ход гражданской войны на территории нашего края
(1917—1920 гг.). Мюриды революции
о создании межпартийного союза, направленного против терской «контрреволюции», под которой подразумевалось в первую очередь казачество и офицерство.
Еще в 1917 г. грозненские большевики предпринимали определенные усилия по распространению своего влияния на чеченское крестьянство. Сделать это можно было только через чеченцев, постоянно работавших на грозненских предприятиях, а потому большевики не упускали случая, чтобы привлечь их к себе. Так, осенью 1917 г., при перевыборах в Грозненский Совет, большевики выдвинули кандидатуру X. Казалиева, кадрового рабочего-чеченца из Старых промыслов. В Грозненский гарнизонный комитет был введен уроженец Алхан-Юрта Данга Янхотов, член партии большевиков, постоянно работавший также в Старых промыслах. Чеченцев-рабочих активно привлекали и в состав рабочих дружин. Осенью 1917 г. среди рабочих Старых промыслов был даже организован сбор средств для закупки чеченского типографского шрифта1. Очевидно, руководители грозненских большевиков намеревались развернуть серьезную пропаганду среди чеченцев.
Казачество за объявление «революционной» войны Чечне и Ингушетии. Тактика большевиков. 25—31 января 1918 г. казачьи круги Терской области организовали проведение в Моздоке 1-го съезда народов Терека, на котором неожиданно поставили вопрос о признании Советской власти. Цель политического маневра, предпринятого верхушкой казачества, была очевидной: убедившись на практическом опыте, что собственными силами осуществить военный разгром Чечни и Ингушетии невозможно, они стремились получить поддержку со стороны советизированной метрополии. К этому времени советская власть утвердилась на большей части территории России, большевики представляли реальную силу и на Северном Кавказе. Не случайно предложение о признании советской власти на Моздокском съезде было выдвинуто одновременно с предложением от имени «народов Терека» объявить ни много ни мало «революционную войну» чеченцам и ингушам. Чеченская и ингушская делегации на съезде не присутствовали. Собственно, они не смогли бы попасть туда даже при наличии большого желания — территория казачьих отделов была наглухо закрыта для любого чеченца или ингуша.
Большевики, однако, были слишком опытными политическими бойцами, чтобы попасться в такую примитивную политическую ловушку. Как уже говорилось, накануне открытия съезда, 15 января, на совещании во Владикавказе, большевики заблаговременно согласовали свои позиции с другими социалистическими партиями, что позволило
1 Вацуев А. 3. Влияние большевиков и пролетариата Грозного на революционное движение в Чечне // Вопр. истории Чечено-Ингушетии (советский период). — Грозный, 1978. — С. 9—11.
Октябрьский переворот 1917 г. и признание Советской власти на Тереке
им на съезде выступить единым блоком. Продолжение войны с чеченцами не входило в их планы, даже в обмен на признание казачеством Советской власти. Реально большевики еще не могли обеспечить выполнение своей собственной программы, а тем более они не хотели брать на себя ответственность за действия казачества, которые неминуемо последовали бы, но уже от имени Советов.
Единому социалистическому блоку удалось добиться отклонения делегатами съезда главного требования верхушки казачества — объявления широкой войны против чеченцев и ингушей. Обсуждение вопроса о признании советской власти было отложено. Более того, съезд высказался за предотвращение войны между народами Терской области, а за представителями Чечни и Ингушетии были зарезервированы места в создаваемых областных органах власти. Кстати, в составе созданного на съезде Терского Народного Совета оказались лидеры терских большевиков — С. М. Киров и Н. Буачидзе. По предложению большевиков, Моздокский съезд было решено считать 1-й сессией Терского областного народного съезда, а вторую сессию созвать в Пятигорске.
Главным успехом большевиков на Моздокском съезде можно считать принятие резолюции о социализации земли, на основании которой большевики вскоре объявили о конфискации крупной земельной собственности. В марте 1918 г. Терский Совет Народных Комиссаров принял декрет, согласно которому «Все казенные, удельные, кабинетные, монастырские, церковные и нетрудовые частновладельческие земли с инвентарем живым и мертвым и земли сельскохозяйственного назначения, имеющиеся во владении городов, слобод, общин, обществ племен, народов, войск, но ими по тем или иным причинам не обрабатываются, переходят в распоряжение земельных Советов»1. Это сразу же привлекло к новой власти симпатии горского крестьянства и горской левой интеллигенции. Как позднее заявил А. Шерипов «...после Моздокского съезда социализация земли нами безусловно принята. Те 8 тысяч десятин земли, которые имеют наши бывшие генералы-изменники, признаны народной землей»2.
Борьба за руководство в промышленном Грозном. Город как опорный пункт революции. Короткий промежуток между Моздокским и Пятигорским съездами был использован большевиками для дальнейшего укрепления своих позиций. Уже со второй половины января 1918 г., когда в Грозном были восстановлены отряды Красной гвардии, сформированы из солдат-фронтовиков и рабочих три роты нового гарнизона, а также другие вооруженные формирования, — большевики взяли курс на разрыв своего временного союза с казачеством. 22 января
1 Цит. по кн.: Тахо-Годи А. Революция и контрреволюция в Дагестане. — Махачкала,
1927. — С. 176.
: Шерипов А. Статьи и речи: Сб. — Грозный, 1972. — С. 46.
— 623 —
Глава XIV. Октябрьский переворот и ход гражданской войны на территории нашего края
(1917—1920 гг.). Мюриды революции
1918 г. рабочая секция Грозненского военно-революционного Совета потребовала от владельцев нефтяных промыслов возобновить работы по добыче нефти, уплатить рабочим жалование за все время простоя, желающим получить расчет — выдать зарплату со всеми добавками за три месяца вперед. В случае отказа выполнить это требование, Совет угрожал поступить с хозяевами предприятий как с саботажниками. Вслед за этим появляются новые приказы, согласно которым все предприятия продолжали выплачивать полную заработную плату рабочим, привлеченным к обороне города.
2 февраля Съезду Терских нефтепромышленников предложено выделить 1 миллион рублей на содержание рабочих отрядов и Грозненского гарнизона. 11 февраля, получив отказ, военно-революционный Совет арестовал восемь управляющих крупнейших фирм. Несмотря на многочисленные протесты, в том числе и войскового круга Терского казачьего войска, несмотря на то что меньшевики в знак протеста даже вышли из состава военно-революционного Совета, — заложников освободили только после уплаты требуемой суммы. Всего у грозненской буржуазии было «реквизировано» 1,5 миллиона рублей. Впрочем, упорство съезда Терских нефтепромышленников объяснялось вовсе не отсутствием средств: отказывая Совету в 1 миллионе рублей, нефтепромышленники в то же время были готовы выделить 40 миллионов рублей Терскому казачьему войску на организацию охраны нефтепромыслов1 2.
Таким образом, по существу, шла борьба за установление контроля над нефтяными богатствами Грозного. Для партии большевиков значение Грозного увеличивалось еще и потому, что именно здесь была сосредоточена основная масса промышленных рабочих Терской области. С. М. Киров по этому поводу писал: «Значение Грозного и его нефтяных промыслов известно всем. Это в полном смысле золотое дно, а в политическом отношении — это опорный пункт революции»-. В начале февраля 1918 г. большевики уже фактически установили свою власть в Грозном — председателем Грозненского Совета рабочих и военных депутатов стал большевик Н. Гикало. Теперь им предстояло распространить ее на всю Терскую область.
Николай Федорович Гикало, сыгравший видную роль в событиях гражданской войны в Чечне, родился в Одессе в 1897 г. Семья переехала в Грозный, когда ему было всего четыре года. Здесь он окончил четырехклассное Пушкинское училище и в 1911 г. поступил в Тифлисскую фельдшерскую школу. Не успев закончить учебу, в 1915 г. добровольцем ушел в действующую армию, воевал на Турецком фронте, за храбрость награжден Георгиевским крестом — высшим знаком отличия
1 Киреев Е. П. Из истории установления Советской власти в Грозном // Грозный за 40 лет Советской власти. — Грозный, 1957. — С. 28.
2 Цит. по кн.: Шабаньянц Н. Ш. Город Грозный. — Грозный, 1972. — С. 18.
— 624 —
Октябрьский переворот 1917 г. и признание Советской власти на Тереке
Н. Ф. Гикало. Фото (1920 г.)
для рядового состава русской армии. По болезни (сыпной тиф) был направлен на лечение в военный госпиталь Батума, где его и застала Февральская революция. Вернувшись в Грозный, он летом 1917 г. вступил в партию большевиков.
Оказавшись на посту председателя городского Совета, Н. Гикало энергично приступил к претворению в жизнь положений партийной программы. 20 февраля 1918 г. конференция представителей профсоюзов по его инициативе приняла решение об организации рабочего контроля над промышленностью. Вскоре в городе была запрещена частная торговля и введено распределение продуктов. 22 апреля произошла национализация, без выкупа, грозненского водопровода, который перешел из рук частного акционерного общества к городскому самоуправлению. Главное — все запасы нефти, имеющиеся в резервуарах, объявляются общенародным достоянием, что означало начало национализации нефтяной промышленности1.
После Моздокского съезда Грозненский военно-революционный Совет активизировал мирные переговоры об урегулировании ситуации вокруг Грозного. Очень показательно, что эти переговоры велись не с Атагинским Советом, а непосредственно с окружающими город
! Очерки истории Чечено-Ингушской АССР. 1917—1970 годы. Т. 2. — Грозный,
1972. — С. 31.
Глава XIV. Октябрьский переворот и ход гражданской войны на территории нашего края
(1917—1920 гг). Мюриды революции
селениями. Лишь частично это было следствием того, что чеченские официальные власти слабо контролировали ситуацию в Чечне. Скорее, это было стремлением найти альтернативу реакционному, в глазах большевиков, Атагинскому Совету. Именно поэтому большевики напрямую вмешались в процесс избрания делегатов от Чечни на Пятигорский съезд — представители Грозненского военно-революционного Совета не раз выезжали в чеченские селения, стремясь повлиять на итоги проходивших там выборов делегатов1.
Чеченские «левые». Чеченский национальный совет. Симпатии большевиков определенно были на стороне группы чеченских левых: Т. Эльдарханова, А. Мутушева и подающего большие надежды А. Ше- рипова. Используя их влияние, большевики могли рассчитывать, что им удастся привлечь на свою сторону основную массу чеченского крестьянства, что должно было обеспечить переход власти в Терской области в руки партии большевиков. Чеченцы на тот момент являлись самым крупным горским народом на Северном Кавказе.
Интересно, что все три названные выше чеченских лидера в конечном итоге перешли в стан большевиков, хотя судьба их сложилась по-разному. Претендовавший на единоличное лидерство А. Мутушев, открыто конфликтовал с другими чеченскими политиками, а потому работал вместе с большевиками преимущественно за пределами Чечни. Что касается Т. Эльдарханова и А. Шерипова, то они оба много сделали для установления Советской власти в Чечне.
Руководители Чеченского Национального Совета (Атагинский Совет) хотя прямо и не отказались от участия в Пятигорском съезде народов Терека, но все же не проявляли желания участвовать в его работе. Это объяснялось четко выраженной антибольшевистской позицией большинства его членов и руководства Союза объединенных горцев, которые с приходом к власти в Петрограде большевиков быстро эволюционировали в своих взглядах на будущую судьбу Чечни: вместо широкой автономии они все более решительно требуют полной государственной независимости в рамках общегорского государства. Формально согласившись принять участие в работе съезда, практически все члены чеченской делегации, за исключением А. Шерипова, отказались затем выехать на съезд2.
Второй съезд народов Терека. Признание власти Советов. Вторая сессия Терского народного съезда (или II съезд народов Терека) проходила с 1 по 18 марта 1918 г. в Пятигорске. К началу сессии прибыло 567 делегатов. Только 8 марта ингушская делегация попала на съезд. Вместе с ингушами прибыл в Пятигорск и А. Шерипов, оказавшийся единственным представителем Чечни. На этот раз терские большевики
1 Съезды народов Терека. Т. 1. — Орджоникидзе, 1978. — С. 218—220.
2 Шерипов А. Статьи и речи: Сб. — Грозный, 1972. — С. 145—146.
— 626 —
Октябрьский переворот 1917 г. и признание Советской власти на Тереке
сами инициировали обсуждение вопроса о признании советской власти и 17 марта добились принятия резолюции, признающей Совет Народных Комиссаров во главе с В. И. Лениным в качестве центральной власти.
На этот раз против принятия этой резолюции голосовали меньшевики-интернационалисты и эсеры. Однако большинство делегатов, в том числе и из горских округов, поддержали большевиков. Терская область была провозглашена автономной республикой в составе Российской Федерации. Представитель Чечни А. Шерипов ярко и горячо высказался за признание советской власти, несмотря на то что Чеченский Национальный Совет официально не давал ему полномочий делать заявления по вопросу власти. Именно здесь молодой вождь бросил в экзальтированный революционными речами зал съезда огненный клич: «Вы не увидите в нас мюридов газавата, а увидите мюридов революции!» Столь же радикальную позицию заняла ингушская делегация во главе с Гапуром Ахриевым.
Главное условие поддержки революции чеченцами и ингушами, да и русским крестьянством Терека, заключалось в решении вопроса о земле. Видимо, поэтому большинством голосов съезд принял решение в духе ленинского декрета о земле и закона о социализации земли. Большевистское крыло одержало крупную политическую победу. Но в конечном счете эта победа означала, что казачье крыло возьмет курс на открытую вооруженную борьбу с русской революцией и горцами. Кстати, Пятигорский съезд открыто противопоставил себя и Союзу объединенных горцев, запретив, под угрозой судебного преследования, исполнять распоряжения Терско-Дагестанского правительства1.
Сами большевики считали, что казаки и горцы, поспешив признать советскую власть, сделали это под давлением обстоятельств:«.. .признание обеими сторонами Советской власти произошло чисто по дипломатическим соображениям. Казаки, признавая Советскую власть, надеялись получить оружие от Советской власти и лупить горцев. Горцы, боясь быть объявленными контрреволюционерами и желая как-нибудь спасти себя от нападения со стороны казаков... тоже объявили себя сторонниками Советской власти». В результате горско-казачьего противостояния в руководящие органы Терской республики оказались избранными в большинстве представители «иногородних», считавшихся нейтральными в конфликте между горцами и казаками. Именно поэтому свою победу большевики считали неполной: «.. .это была не Советская власть, как мы ее понимаем, — это была власть нейтралитета»2.
: См.: Шерипов А. Статьи и речи: Сб. — Грозный, 1972. — С. 46; За власть Советов! Сб. документов и материалов по истории гражданской войны в Чечено-Ингушетии. — Грозный, 1967. — С. 14—15; Очерки истории Чечено-Ингушской АССР. 1917—1970 годы. Т. 2. — Грозный, 1972. — С. 27—28.
: Орджоникидзе Г. К. Статьи и речи. Т. 1. — М, 1956. — С. 75.
Глава XIV. Октябрьский переворот и ход гражданской войны на территории нашего края
(1917—1920 гг). Мюриды революции
Таким образом, даже после официального провозглашения советской власти на Тереке, большевики не считали этот вопрос исчерпанным. Советская власть, в их понимании как безраздельная власть партии большевиков и их карательных органов, действительно еще не состоялась. Из Пятигорска делегаты съезда народов Терека переехали во Владикавказ, где и прошли выборы в Терский Народный Совет и Совет Народных Комиссаров Терской республики. Итоги выборов оказались разочаровывающими для большевиков. Главой Терского Народного Совета стал видный меньшевик Пашковский, а из 14 постов в Совете Народных Комиссаров большевикам достались только три. Хотя председателем Терского Совнаркома стал большевик Н. Буачидзе, все важнейшие должности (включая пост военного комиссара) остались за меньшевиками и эсерами. Посты наркомов получили А. Шерипов и Г. Ахриев, тяготевшие к большевикам.
Укрепление большевиков в Грозном. Рост влияния города. Свои дальнейшие усилия большевики концентрируют на двух направлениях: укрепление своей власти в Грозном и привлечение на свою сторону горцев, которые должны были выступить не только естественным противовесом казакам, но и средством давления на вновь сформированные органы власти Терской республики. Особое внимание уделяется дополнительному вооружению грозненской Красной гвардии, причем оружие для нее добывается из самых разных источников, в том числе и у антибольшевистски настроенных Советов Ставрополья, Кубани и Ростовской области. Эмиссары Грозненского военно-революционного Совета разъезжают по всему Северному Кавказу, добиваясь получения оружия, под предлогом защиты населения Грозного «от разных грабителей» и в обмен на нефтепродукты. Так, только один из таких эмиссаров — Ф. Е. Палий — привез в Грозный из Георгиевска 6 станковых пулеметов «максим», 2 пулемета «кольт», 600 винтовок, патроны и снаряды; из Ростова-на-Дону. — 8 пулеметов «льюис», 4 пулемета «виккерс», 2 орудия, 2025 винтовок, снаряды, патроны и гранаты1.
В начале апреля 1918 г. большевики начали реорганизацию органов власти в Грозном — они добились передачи всей власти вновь создаваемому Центральному Совету, объединив с ним военно-революционный Совет. Собственно, это была почти откровенная попытка поставить в подчиненное положение расположенные рядом с Грозным станицы, чьи делегаты входили в военно-революционный Совет. Работой Центрального Совета и вновь создаваемого исполнительного комитета должен был руководить Президиум Центрального Совета. Председателем Центрального Совета и Грозненского исполкома стал Н. Гикало. За большевиками были закреплены и важнейшие должности
1 В борьбе за власть Советов: Воспоминания участников революционных боев в Чечено-Ингушетии (1917—1920 годы). — Грозный, 1970. — С. 26, 27.
— 628 —
Октябрьский переворот 1917 г. и признание Советской власти на Тереке
в Грозненском исполкоме: военным комиссаром стал И. Сафонов, комиссаром революционного порядка Г. Каграманян, комиссаром юстиции М. Мордовцев. Естественно, что казаки поспешили отозвать своих представителей из всех совместных городских органов, что означало начало конфронтации Грозного в первую очередь со станицей Грозненской, отделенной от города одной только улицей Августовской.
Большевики в Грозном теперь открыто приступили к созданию Красной Армии. Еще 3 апреля Н. Гикало подписал приказ о перепод- чинении ему всех вооруженных отрядов, расположенных не только в городе, но и во всем «нефтяном районе». Во всех частях предписывалось восстановить «...строгую революционную дисциплину». Работой по формированию грозненской Красной Армии непосредственно руководил М. Левандовский. К июлю 1918 г. удалось создать стрелковый батальон в составе 4-х рот, отдельную пулеметную команду, кавалерийский эскадрон, артиллерийский дивизион и вооружить пулеметами и тяжелыми орудиями бронепоезд. Как считал сам М. Левандовский, только после создания Красной Армии советская власть в Грозном обрела «твердое основание». Одновременно укреплялись и существующие отряды Красной гвардии из рабочих.
Укрепление «левых» в Чечне. Гойтинский Совет. Весной 1918 г. происходит быстрое сближение терских большевиков с группой чеченских политических деятелей левого толка. 14 чеченских представителей во главе с Т. Эльдархановым и А. Шериповым были введены в состав Терского Народного Совета. Председателем чеченской фракции стал Т. Эльдарханов, секретарем — А. Шерипов. Весьма показательно, что практически одновременно с созданием Грозненского Центрального Совета последовала отставка А. Мутушева с поста председателя Чеченского Национального Совета (меджлиса), эту ситуацию группа Т Эльдарханова — А. Шерипова использовала для организационного оформления своего уже ставшего фактом союза с большевиками. В селении Гойты проводится еще один «съезд чеченского народа», на котором было объявлено о создании Чеченского Народного Трудового Совета, известного как Гойтинский Совет. Председателем Гойтинско- го Совета стал Т. Эльдарханов, а секретарем А. Шерипов. Помощь в политическом становлении Гойтинского Совета и в организации при нем вооруженных отрядов от партии большевиков оказывал «товарищ Шляпников».
Вслед за этим чеченская фракция при Терском Народном Совете объявила себя и Гойтинский Совет единственными выразителями «воли чеченского народа»1. Таким образом, в апреле 1918 г. в политическом
‘ См.: Авторханов А. К основным вопросам истории Чечни. — Грозный, 1930. —
С. 29; Шерипов А. Статьи и речи: Сб. — Грозный, 1972. — С. 52.
Глава XIV. Октябрьский переворот и ход гражданской войны на территории нашего края
(1917—1920 гг.). Мюриды революции
отношении Чечня раскололась: создалась ситуация двоевластия, од* нако с перевесом пробольшевистских сил. По существу, к весне 1918 г. «триумфальное шествие» Советской власти дошло до Терека и Чечни. Состоялось политическое признание новой власти.
§ 2. Провозглашение Горской Республики.
А.-М. (Тапа) Чермоев. Политика Турции и Германии на Северном Кавказе
Союз объединенных горцев берет курс на союз с Германией и Турцией. Победа Советской власти на Тереке, а также заметное укрепление влияния большевиков в горских районах Терской области, лишь усилили сепаратистские настроения в руководстве Союза объединенных горцев, вытесненного в Абхазию. В апреле 1918 г. представители ЦК Союза горцев активизировали свои действия по достижению государственной независимости — состоялись встречи с представителями турецких властей, которых проинформировали о намерении Союза горцев провозгласить в ближайшее время горские территории «независимым государством». Однако данные события происходили в условиях падения какого-либо влияния Союза горцев на Тереке. Все «Горское правительство» располагало в тот момент несколькими гостиничными номерми.
После переговоров Гейдара Бамматова в Закавказье, а затем и в Стамбуле стало ясно, что турецкие власти к провозглашению независимости горцами Северного Кавказа относятся положительно, готовы помогать становлению нового государства и даже согласились направить на Северный Кавказ корпус под командованием Юсуфа Изет-паши, который должен был оказать непосредственную поддержку Союзу объединенных горцев.
Но германское правительство, чьим союзником в Первой мировой войне являлась Турция, заняло откровенно выжидательную позицию. Хорошо информированные о положении на Кавказе, немцы сомневались в способности вышедших на связь с ними горских лидеров действительно контролировать ситуацию и опасались оказаться втянутыми в военный конфликт с большевиками, с которыми они заключили в марте 1918 г. выгодный для Германии сепаратный Брестский мир. Кроме того, у немцев сложились хорошие отношения с «самостийными» донским и кубанским казачествами (союзником которых выступило Терское казачье войско), что также вынуждало их занять осторожную позицию по вопросу о горской независимости. Г. Бамматов сообщал А.-М. Чермоеву о сомнениях немецкой стороны: «...германский посол в Константинополе мне вчера между прочим сказал, что мы хотим
Провозглашение Горской Республики. А-М. (Тапа) Чермоев. Политика Турции и Германии
на Северном Кавказе
создать правительство заново, что даже столица наша в руках наших врагов, что мы сами не проявляем самостоятельности и желаем сделать свое политическое дело немецкими руками». В связи с этим, горский эмиссар в Турции предлагал использовать наличие противоречий между турками и немцами: «Мы должны использовать дорогу Нуха—Ахты, получить по ней максимум того, что можно и поставить Германию перед совершившимся фактом восстания наших народов»1.
Уже сам факт начала переговоров Союза объединенных горцев с турками вызвал бурные протесты со стороны руководителей Терской республики. Чечено-ингушская фракция Терского Народного Совета объявила «...лиц, смеющих говорить от имени народа, который их не выбирал... самозванцами и врагами народа». В том же заявлении было сказано: «Чечено-ингушская фракция заявляет, что единственное спасение всех горцев Северного Кавказа и завоеванных революцией свобод заключается в тесном единении с российской революционной демократией»2. Таким образом, чеченские левые со всей определенностью дали понять, что видят будущее чеченского народа в составе Советской России.
Провозглашение Горской Республики. В мае 1918 г. горские политические силы правого и центристского характера обнародовали декларацию, провозглашающую независимую Горскую Республику в границах от Черного моря на западе до Каспийского моря на востоке. Северная граница с Россией должна была пройти по границам бывших горских округов. Главой первого правительства Горской Республики стал чеченец А.-М. Чермоев, председателем парламента — ингуш Вас- сан-Гирей Джабагиев, министром иностранных дел — кумык Гайдар Бамматов. В состав правительства вошел целый ряд известных лидеров и других горских народов: Ахмет Цаликов, Алихан Кантемир, Айтек Намиток, Абдул-Рашид Капланов, Пшемахо Коцев. Первое правительство Горской Республики сразу же обратилось к турецкому правительству со специальным посланием, содержащим призыв об установлении особых отношений3.
Провозглашение независимой Горской Республики вызвало известное напряжение в отношениях Советской России и Германии: от имени Горского правительства декларация независимости была вручена германскому послу в Москве, который тут же передал ее в Народный Комиссариат по Иностранным Делам РСФСР. Вскоре последовала официальная реакция Москвы: в ноте протеста, врученной от имени
1 Цит. по кн.: Тахо-Годи А. Революция и контрреволюция в Дагестане. — Махачкала, 1927. — С. 62, 63, 64,65.
: Шерипов А. Статьи и речи: Сб. — Грозный, 1972. — С. 57, 58.
- Буркин Н. Горское правительство и интервенция на Северном Кавказе в 1918 году // Историк-марксист. — 1934. — № 2. — С. 17.
Глава XIV. Октябрьский переворот и ход гражданской войны на территории нашего края
(1917—1920 гг.). Мюриды революции
советского правительства германскому послу подчеркивалось, что народы Северного Кавказа «...уже высказались на своих демократически организованных съездах за неразрывную связь с Российской Федерацией» К
Таким образом, заявление советского правительства строилось, в частности, на решениях съездов народов Терека и заявленной позиции самой крупной чечено-ингушской фракции Терского Народного Совета. Тем самым противоречия между различными чеченскими политическими группировками поднимались как бы на высоту межгосударственных споров и приобретали дополнительную остроту. Все это заметно осложняло положение деятелей Союза объединенных горцев, которым приходилось противостоять не только левым, которых теперь открыто поддерживала Советская Россия, но и наиболее радикально настроенной части исламского духовенства, не оставлявшего попытки провозгласить создание теократического государства.
Борьба политических сил в Чечне за влияние над крестьянством. Между Горским правительством и прочермоевским Атагинским Советом, с одной стороны, чечено-ингушской фракцией Терского Народного Совета и «левым» Гойтинским Советом — с другой стороны, развернулась борьба за влияние в Чечне. В чьих руках реально окажется власть, зависело в конечном итоге от того, на чьей стороне выступит многочисленное крестьянство. В отличие от руководителей Горской Республики, занимавших осторожную позицию в земельном вопросе, у чеченских левых хватило решимости в категорической форме потребовать на очередной сессии съезда народов Терека удовлетворения главных требований чеченского крестьянства. Третья сессия съезда (III съезд) народов Терека открылась 22 мая в Грозном, а 29 мая с ее трибуны А. Шерипов от имени чечено-ингушской фракции заявил: «Дайте нам землю — и вы встретите в нас братьев, сражающихся вместе с вами как против внешнего врага, так и внутреннего, плечом к плечу. Если же наши не получат удовлетворения в земельном вопросе, то вся эта армия (безземельных крестьян. — Авт.) может стать опасным оружием в руках бессовестных лиц, ибо она более не может находиться в том рабском состоянии, в котором она была до сего времени»1 2.
Начало возвращения горских земель. Национализация промышленности. Под давлением представителей горских народов и в силу необходимости сохранить советскую власть Грозненский съезд народов Терека принял кардинальное решение о принятии экстренных мер по наделению горцев землей из имеющихся запасных фондов, а в первую очередь — о переселении в месячный срок Тарской, Сунженской,
1 Документы и материалы по внешней политике Закавказья и Грузии: Сб. документов. — Тифлис, 1919. — С. 291—292.
2 Шерипов А. Статьи и речи: С6. — Грозный, 1972. — С. 77.
— 632 —
Провозглашение Горской Республики. А.-М. (Jana) Чермоев. Политика Турции и Германии
на Северном Кавказе
Аки-Юртовской и Фельдмаршальской станиц Сунженского округа с горских земель, захваченных в ходе Кавказской войны и после нее, в Пятигорский отдел1. Причем первые три станицы занимали практически всю Тарскую долину (Пригородный район) — историческую территорию формирования ингушского народа. Именно это решение, принятое в пользу ингушского и чеченского крестьянства, дало возможность лидерам казаков позднее заявлять: «Большевики ведут травлю казаков ингушами и чеченцами...»2 Понятно, что вооруженное казачество не собиралось безропотно возвращать горцам земли даже за компенсацию, а потому новая вспышка гражданской войны на Тереке становилась неизбежной после принятия этого решения.
Подобные же процессы шли и на территории других казачьих войск России, где уже не горцы, а русские крестьяне, жившие на казачьих землях на правах «иногородних», требовали перераспределения земель. В некоторых областях (Дон) эта борьба приобрела кровавые формы, вылившись в конечном счете в истребление казачества.
Надо признать, что решение об удовлетворении (пока еще частичном) земельных требований горского крестьянства было для большевиков не только удачным политическим маневром перед лицом грядущей конфронтации с казачеством, но и началом реализации важнейших установок их партийной программы. В этом смысле наделение горцев землей было для большевиков лишь частью великого земельного передела, призванного покончить с крупным землевладением и в конечном итоге превратить землю в собственность государства.
Одновременно с проведением Грозненского съезда народов Терека прошла и партийная конференция терских социал-демократов, на которой впервые большевики собрались без участия меньшевиков. Таким образом, окончательно размежевавшись с меньшевиками, большевики приняли решение приступить к претворению в жизнь собственной программы, в том числе и по рабочему вопросу. Частная собственность на средства производства подлежала ликвидации не только в аграрном секторе, но и в промышленности. В апреле 1918 г. от имени Грозненского Центрального Совета предпринят ряд мер, направленных на установление жесткого государственного контроля над деятельностью промышленных предприятий, сбытом и реализацией готовой продукции. Малейшее сопротивление жестко подавлялось репрессивными мерами, вплоть до ареста и расстрела по обвинению в злостном саботаже. 11 июня 1918 г. на совместном заседании Терского Народного Совета, исполкома Грозненского Центрального Совета с участием других советских органов и профсоюзов Грозного обсуждался вопрос о национализации нефтяной промышленности. Принятые совещанием
! Съезды народов Терека. Т. 1. — Орджоникидзе, 1978. — С. 331.
: ГАРФ. Ф. P-5351. On. 1. Д. 41. Л. 114.
Глава XIV. Октябрьский переворот и ход гражданской войны на территории нашего края
(1917—1920 гг.). Мюриды революции
решения можно считать частичной национализацией: хотя предприятия и промыслы формально остались собственностью прежних владельцев, распоряжение производством переходило в руки советских органов. Кроме того, были реквизированы остатки капиталов, имевшиеся на счетах предприятий, а все доходы предприятий поступали в распоряжение Терского Народного Совета1.
Укрепление взаимодействия рабочих и горцев. Терские большевики прекрасно понимали, что столкнутся с ожесточенным сопротивлением «старых классов» и активно готовились к нему. Не ограничиваясь созданием Грозненской Красной Армии, они деятельно вооружали своих сторонников из числа горцев. Так, 22 июня 1918 г. Гойтинский Совет, получив от Грозного партию винтовок, принял решение об организации Чеченской Красной Армии2. Кроме того, большое внимание уделялось налаживанию практического взаимодействия между Грозненским и Гойтинским Советами и их вооруженными отрядами. Была даже организована совместная охрана ряда объектов и проведено несколько совместных заседаний Грозненского и Гойтинского Советов. 15 мая в окрестностях Грозного созван так называемый «русско-чеченский съезд», на котором принята резолюция о полной поддержке чеченцами советской власти и союзе горского крестьянства с рабочими3.
Вступление турецких войск в Дагестан. Позиция закавказских республик в отношении Горской Республики и Терской Советской Республики. Кроме «внутренней контрреволюции», для советской власти на Тереке возникла внешняя угроза и со стороны приближающихся к Северному Кавказу турецких войск. В июне 1918 г. правительство Горской Республики официально заключило союзный договор с Турцией и приветствовало появление турецкий войск в Дагестане, куда они пришли из Баку, захваченного в результате операций турецкой армии в Закавказье в 1918 г. А.-М. Чермоев в этой связи обратился к горцам со специальным воззванием, в котором подчеркивал: «...турецкие войска пришли к нам на территорию не для оккупации, а лишь на помощь правительству Союза горских народов Кавказа в его борьбе с анархией»4.
Горское правительство придавало большое значение и переговорам с новыми независимыми закавказскими республиками, прежде всего
1 Лейбман Н. Борьба грозненского пролетариата за национализацию нефтяной промышленности // Грозненский рабочий. — 1960. — 24 мая. — С. 2.
2 Очерки истории Чечено-Ингушской АССР. 1917—1970 годы. Т. 2. — Грозный, 1972. — С. 40.
3 Киреев Е. П. Из истории установления Советской власти в Грозном // Грозный за 40 лет Советской власти. — Грозный, 1957. — С. 34.
4 Союз объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана (1917—1918 гг.), Горская Республика (1918—1920 гг.): Документы и материалы. — Махачкала, 1994. — С. 162, 163.
Провозглашение Горской Республики. А.-М. (Тапа) Чермоев. Политика Турции и Германии
на Северном Кавказе
Грузией и Азербайджаном. Последние проявляли явную заинтересованность в существовании независимого горского государства, которое должно было послужить естественным буфером между стремившимися к независимости государствами Закавказья и Советской Россией, не склонной всерьез считаться с суверенитетом закавказских республик. Еще в конце 1917 г. грузинское правительство санкционировало переброску части оружия из арсеналов Кавказской Армии для Союза объединенных горцев. Так, три вагона с оружием, захваченные в ноябре 1917 г. в Грозном солдатами 111-го полка прибыли в адрес Чеченского полка «Дикой дивизии» из Грузии. Еще шесть вагонов с боеприпасами из Грузии были захвачены в Дагестане1.
Со своей стороны, и Терская Советская Республика вступила в фактические дипломатические отношения с закавказскими республиками. В частности, были заключены торговые договора, велись определенные политические переговоры, но, как подчеркивал Чрезвычайный комиссар Юга России Г. К. Орджоникидзе, «.. .переговоры могут вестись только в плоскости взаимоотношений Терской области и Тифлисской губернии, но никак не в международном масштабе»2. Такое отношение большевиков к вопросу о независимости закавказских республик еще больше подталкивало их правительства к сближению с вновь провозглашенной Горской Республикой. Дело доходило до радикальных проектов.
9 июля 1918 г. в заявлении мусаватистского правительства Азербайджана признавалось необходимым «...самое тесное объединение Правительств Азербайджана и Союза Горцев Кавказа». Активно обсуждался проект Союзного договора между Азербайджаном и Горской Республикой, согласно которому создавалось единое конфедеративное государство. Ведению Союзного Совета, создаваемому из равного числа яелегатов, передавалось управление финансами, духовными делами, а также законодательная власть. Предметом совместного ведения предполагалось сделать также оборону, внешнее представительство и иностранную политику3. Впрочем, этот и другие проекты так и остались нереализованными во многом благодаря тому, что власть Горского правительства оставалась слабой.
В конце июня 1918 г. политическая ситуация в Терской республике обострилась до предела. Казачьи круги активно готовили вооруженное наступление, прелюдией к которому стало убийство во Владикавказе сшюго из лидеров терских большевиков Ноя Буачидзе, являвшегося иредседателем Терского Совнаркома.
>
В борьбе за власть Советов: Воспоминания участников революционных боев в Чечено-Ингушетии (1917—1920 годы). — Грозный, 1970. — С. 65,67.
Орджоникидзе Г. К. Статьи и речи. Т. 1. — М., 1956. — С. 42.
Тахо-Годи А. Революция и контрреволюция в Дагестане. — Махачкала, 1927. — С. 185,187, 188.
Глава XIV. Октябрьский переворот и ход гражданской войны на территории нашего края
(1917—1920 гг.). Мюриды революции
§ 3. Бичераховский мятеж
и расширение гражданской войны на Тереке
Подготовка восстания. Г. Ф. Бичерахов. Пройдя все перипетии политической борьбы за гегемонию в Терском крае, руководители контрреволюционных сил решили начать вооруженные действия, вошедшие в историю как бичераховский мятеж. Еще до начала открытого мятежа казачья фракция Терского Народного Совета создала подпольный военный штаб во главе с полковником С. М. Бочаровым, командиром 1-го Кизляро-Гребенского казачьего полка. Полк был отозван с фронта и вернулся в Терскую область в декабре 1917 г. Предполагалось, что к маю 1918 г. он будет полностью расформирован, но начавшаяся война с чеченцами создала удобный предлог для его сохранения как боевой единицы. Назначенный командующим частями Терского казачьего войска еще 25 мая (за месяц до начала бичераховского мятежа) — С. М. Бочаров скрытно подготовил вооруженное выступление казаков, но сам не смог в нем участвовать. В июне 1918 г. он неосторожно выехал к семье в Ессентуки, где был арестован по приказу местных советских органов. В ночь с 19 на 20 октября 1918 г., вместе с десятками других заложников, полковник
С. М. Бочаров был расстрелян в Пятигорской тюрьме1.
Прологом к казачьему мятежу стало также создание 23 июня 1918 г. в Моздоке Терского казачье-крестьянского Совета под председательством казака-осетина Георгия Федоровича Бичерахова, носившего к тому времени звание полковника. Член партии меньшевиков с большим стажем (в социал-демократической партии с 1902 г.), Г. Бичерахов активно участвовал еще в первой русской революции. В частности, под его влиянием 2-й Кизляро-Гребенской полк в 1905 г. отказался подавлять революционное движение во Владикавказе, а в 1906 г. и крестьянское восстание в Ставрополье. За революционную деятельность в 1908 г. Бичерахов был арестован. С начала Первой мировой войны Г. Бичерахов находится в действующей армии, являлся заведующим авиационно-автомобильными мастерскими Юго-Западного фронта. В 1917 г. командирован в Англию и Францию для изучения опыта боевого применения авиации. В Терскую область вернулся в ноябре 1917 г. и сразу же активно включился в политическую жизнь. В частности, Г. Бичерахов был главой посреднической комиссии, улаживавшей конфликт между чеченским селением Алды и станицами Грозненской, Романовской и Ермоловской2.
Став во главе Моздокского казачье-крестьянского Совета, Г. Бичерахов буквально через неделю разгромил местный большевистский Совет
1 ГАРФ. Ф. P-5351. On. 1. Д. 41. Л. 16—17.
2 ГАРФ. Ф. P-5351. On. 1. Д. 41. Л. 29.
Бичераховский мятеж и расширение гражданской войны на Тереке
и разоружил подчинявшиеся ему части Красной Армии. На подавление вспыхнувшего мятежа со стороны Георгиевска и станции Прохладной были брошены дополнительные силы Красной Армии, которые потерпели поражение — 30 июня бичераховцы взяли важную железнодорожную станцию Прохладную. После этого в военных действиях наступила длительная пауза, объяснявшаяся, по всей видимости, неготовностью обеих сторон к решительным наступательным действиям.
Против 25 тысяч красноармейцев в Терской области Моздокский Совет сумел собрать группировку численностью до 12 тысяч бойцов, преимущественно казаков. Стратегия бичераховского штаба заключалась в установлении полного контроля над важнейшими коммуникациями Терской области, в том числе — железной дорогой. Главными факторами, сдерживающими действия казаков, направленные на полный захват власти в Терской области, считались два. Во-первых, — недостаток вооружения. Казачьи части имели на вооружении 40 орудий и 20 пулеметов, что, учитывая обширность театра военных действий, было явно недостаточно для организации наступления сразу по нескольким направлениям. Во-вторых, постоянная угроза со стороны вооруженных горцев, настроенных просоветски, вынуждала казаков держать значительные силы в приграничных с горскими аулами станицах1.
Со своей стороны, и большевики не были готовы к решительным действиям по подавлению выступления казаков. Так же, как и казачество, Красная Армия первоначально не располагала вооружением, достаточным для ведения широких наступательных действий. Первые же (и неудачные для Красной Армии) столкновения показали лучшую организованность и высокую боеспособность казачьих частей. Положение для красных войск осложнялось еще и тем, что после потери Моздока и Прохладной оказалось перерезанным железнодорожное сообщение с главными силами XI Красной Армии на Кубани.
Политическая ситуация в Чечне. Формирование Красной Армии. Таким образом, ситуация на Тереке стала во многом зависеть от позиции горцев, в первую очередь самого крупного этноса — чеченцев. Основная масса чеченцев, несмотря на ярко выраженные антиказачьи настроения, не видела все-таки в большевиках серьезных союзников. В это время Чеченская Красная Армия находилась еще в стадии формирования, а наряду с Гойтинским Советом в Чечне активно действовал и «контрреволюционный» Атагинский Совет, чьи эмиссары вскоре вошли в контакт с руководителями восставшего казачества. Поэтому, не предпринимая решительных действий по военному подавлению мятежа, власти Терской республики занялись укреплением Красной Армии и формированием отрядов союзников из горцев.
ГАРФ. Ф. P-440. On. 1. Д. 108. Л. 1—2.
Глава XIV. Октябрьский переворот и ход гражданской войны на территории нашего края
(1917—1920 гг.). Мюриды революции
К этому времени каждое чеченское село имело собственный отряд самообороны, не считая тех отрядов, что содержались крупными шейхами и состояли из их мюридов. Кроме того, собственные вооруженные формирования имел и Атагинский Совет. Поэтому действия А. Шерипо- ва по созданию Чеченской Красной Армии сводились преимущественно к привлечению на свою сторону уже существующих отрядов сельской самообороны. Снабжая их при помощи терских властей оружием и средствами, А. Шерипов довольно быстро довел численность Чеченской Красной Армии до 2,5 тысяч бойцов (рассредоточенных по 18 селениям). Самый крупный отряд (до 520 человек) находился в Гойтах1. Здесь, кстати, «красных» поддерживал местный шейх Ибрагим-хаджи.
Большевики уделили большое внимание организации широкой пропагандистской кампании в Чечне среди тех социальных слоев, которые считались потенциальной опорой социалистической революции. При этом часто большевики действовали довольно изощренными методами. Например, в Чечне в центре агитации большевиков был земельный вопрос и «контрреволюционная роль казачества», что открывало возможность сближения даже с представителями духовенства. Так, крупные средства на агитацию большевики через А. Шерипова передавали шейху Али Митаеву2. Контакты с Гойтинским Советом в целом, с «красным» шейхом Ибрагим-хаджи поддерживал и другой влиятельный чеченский алим Сугаип-мулла Гайсумов.
В любом случае, бичераховский мятеж способствовал обострению политического противостояния в Чечне и размежеванию сил. Атагинский Совет и руководство Горской Республики явно симпатизировали антибольшевистским силам, что вело к усилению конфронтации с Гойтинским Советом. Вооруженные отряды Атагинского Совета совершили несколько незначительных по масштабам нападений на пригороды Грозного, что также способствовало обострению отношений с Гойтинским Советом.
В Грозном отмечали, что «...Новые Алды, Чермоевский хутор, Бердыкель и еще одно селение, ставшие в оппозицию к Советской власти... объявлены остальным чеченским народом под бойкотом, и всякие с ними отношения прекращены. Это одна из крупных побед Народного Совета...»3 Центральный Совет даже попытался использовать политическое противостояние в Чечне, чтобы вооруженным путем разгромить «чеченскую контрреволюцию» — грозненские отряды атаковали и сожгли селение Бердыкель, что вызвало, однако, протест со стороны Гойтинского Совета. В своем обращении к властям Грозного
1 Буркин Н.у Бойков С, Кондюрина 3. Октябрь на Северном Кавказе. — Ростов н/Д., 1934. — С 119.
2 ГАРФ. Ф. P-440. On. 1. Д. 23. Л. 9об.
3 Борьба за власть Советов в Чечено-Ингушетии (1917—1920 гг.): Сб. документов и материалов. — Грозный, 1958. — С. 133.
— 638 —
Бичераховский мятеж и расширение гражданской войны на Тереке
А. Шерипов настаивал на необходимости «...ликвидировать конфликт с чеченцами немедленно, и тогда вы встретите реальную поддержку для борьбы с контрреволюционным казачеством. Поймите, что при продолжении подобной обстановки чеченской демократии будет очень трудно повести свои массы туда, куда они должны идти»1.
Кстати, Бердыкель пострадал, скорее всего, за поддержку, оказываемую другому чеченскому селению — Алды. «Контрреволюционность» последнего объяснялась не только тем, что именно оно, как расположенное рядом с Грозным, в свое время больше всего пострадало от разгула деморализованных солдат грозненского гарнизона, но и наличием острого земельного спора с городом. Одна из городских рабочих окраин начала XX в. — «Щебелиновка» возникла на самовольно занятой алдынской общественной земле. Это и послужило в 1917—1918 гг. поводом к многочисленным стычкам и перестрелкам, втянутыми в которые оказывались и весь город, и окрестные чеченские селения. Ненормальность этого положения хорошо понимали и в Гойтинском Совете: «.. .нелепо же положение громадного населения Грозного и всей Чечни, когда им приходится базироваться на отношениях алдынцев и щебелиновцев. ...Мы полагаем, что такое положение ненормально и не может долго продолжаться»2. •
Накопление сил. В течение июля 1918 г. большевики и казаки заняты накоплением сил для решительного столкновения. 5—7 июля в Екатеринодаре (Краснодар) состоялся I Северокавказский съезд Советов, который постановил объединить Кубано-Черноморскую, Терскую и Ставропольские республики «...в единую Северокавказскую Советскую республику — часть великой Российской Советской Социалистической Республики»3. Главная цель объединения состояла в достижении «окончательной победы над буржуазией». Выступая на съезде, Г. К. Орджоникидзе подчеркивал, что советская власть имеет короткую передышку от внешней войны, которую необходимо использовать для организации боеспособной армии: «Горе вам, если вы скажете: раз есть мир, то нам не нужна армия, а мы говорим вам: если хочешь мира, готовься к войне. Организуйте армию из рабочих и крестьян, которая будет защищать свои земли, свои заводы»4.13 июля Г. К. Орджоникидзе будет назначен В. И. Лениным Чрезвычайным комиссаром Юга России с сосредоточением в его руках всей полноты власти.
23 июля 1918 г. во Владикавказе начала работу очередная сессия съезда народов Терека (IV съезд народов Терека), которая, в частности,
Шерипов А. Статьи и речи: Сб. — Грозный, 1972. — С. 91.
- Там же. — С. 97.
Разгон И. М. Серго Орджоникидзе в годы Гражданской войны // Ист. записки. — 1938. — № 2. — С. 13.
’ Орджоникидзе Г. К. Статьи и речи. Т. 1. — М., 1956. — С. 39.
Глава XIV. Октябрьский переворот и ход гражданской войны на территории нашего края
(1917—1920 гг). Мюриды революции
обсуждала вопрос об отношениях с Моздокским казачье-крестьянским Советом. Сессия выдвинула в качестве непременного условия начала переговоров об урегулировании разногласий — передачу под контроль Терского Народного Совета контроля над всеми железными дорогами. По сути, это означало требование: отвести бичераховские отряды из целого ряда занятых ими территорий.
Помимо этого, сессия значительно обновила состав Терского Народного Совета, в том числе и чеченской фракции. Так, в ее составе появился Аббас Гайсумов, близкий родственник Сугаип-муллы Гайсумова.
Наступление на Кавказ сил Антанты. Политические планы Англии и Франции. Период относительно «мирного» противостояния Терского Народного Совета и Моздокского казачье-крестьянского Совета завершился в начале августа 1918 г., после того как английские войска высадились в Баку.
Действия российских антибольшевистских сил Терской области, по крайней мере с начала 1918 г., тесно связаны с державами Антанты, являвшимися союзниками России в войне с Германией. После выхода Советской России из войны, в марте 1918 г., за счет передачи Германии огромных территорий и уплаты репараций, союзники ставят цель овладеть летом 1918 г. важнейшими нефтяными районами Кавказа, чтобы не допустить их переход в руки турецко-германских войск. Если к действиям в Закавказье планировалось привлечь непосредственно английские войска, то на Северном Кавказе главный упор делался на военные силы местной контрреволюции.
В январе 1918 г. во Владикавказе побывал представитель французского правительства, который предложил Временному Терско-Дагестанскому правительству финансовую помощь для организации борьбы с большевиками, являвшимися объективно союзниками Германии. Деньги должны были поступать либо через отделение Английского банка в Тифлисе, либо получены в виде займа под гарантии правительства Франции1. Однако последнее предпочло опереться на содействие турок и немцев, согласных на признание независимой Горской Республики «от моря до моря».
Осенью 1918 г., когда в помещении английской дипломатической миссии во Владикавказе был проведен обыск, в руки большевиков попали документы, доказывающие, что члены миссии состояли в переписке с Моздокским казачье-крестьянским Советом и Добровольческой армией генерала Алексеева. Если члены английской миссии отделались домашним арестом, то связник генерала Алексеева штабс-капитан Угни- венко был немедленно расстрелян2. Однако, связь между английскими
1 Мемуары полковника Беликова // Революционный Восток. — 1929. — № 6. — С. 190—191.
2 Борьба за Советскую власть в Чечено-Ингушетии (1917—1920 гг.): Сб. документов и материалов. — Грозный, 1958. — С. 153.
— 640 —
Бичераховский мятеж и расширение гражданской войны на Тереке
войсками в Закавказье и Моздокским казачье-крестьянским Советом продолжала поддерживаться через Лазаря Бичерахова (брата Георгия Бичерахова), чей экспедиционный казачий отряд давно уже совместно с англичанами действовал в Северном Иране.
Бои во Владикавказе. Союз большевиков с ингушами. В ночь с 5 на 6 августа 1918 г. части бичераховцев под командованием полковников Беликова и Соколова вошли во Владикавказ, где еще не завершилась работа IV сессии съезда народов Терека. К бичераховцам сразу же примкнули некоторые из городских отрядов самообороны, однако захватить делегатов врасплох не удалось. Бои в городе приняли затяжной характер и продолжались 11 дней. Терский Народный Совет воспользовался этим, чтобы организовать переброску во Владикавказ подкреплений. Помимо грузинского отряда под командованием А. Гегечкори, осетин-керменистов и китайского батальона, сюда прибыли ингушские отряды, а также 300 грозненских красноармейцев.
Прибытие этого отряда во главе с опытным в военном деле М. Ле- вандовским (нарком военных дел Терской Советской Республики), оказало заметное влияние на благополучный для Терского Совета исход боев за город. Предложенная М. Левандовским тактика состояла в постепенном, методическом давлении на опорные пункты обороны противника и продвижении вперед, очищая от противника дом за домом, квартал за кварталом.
Одновременно, только что прибывший во Владикавказ Чрезвычайный комиссар Юга России — Г. К. Орджоникидзе сумел убедить ингушей организовать нападения на казачьи станицы, с тем чтобы вынудить их ослабить части, стянутые к Владикавказу. На встрече с представителями ингушского народа в селении Базоркино Г. К. Орджоникидзе объявил о готовности советской власти немедленно передать
М. К. Левандовский. Фото 30-х гг. (44, 324)
Глава XIV. Октябрьский переворот и ход гражданской войны на территории нашего края
(1917—1920 гг.). Мюриды революции
ингушам земли четырех казачьих станиц. Была достигнута договоренность, что ингушские отряды не только поддержат Красную Армию во Владикавказе, но и немедленно займут станицы в Тарской долине и Фельдмаршальскую1.
В конечном итоге эта тактика привела к успеху. 15 августа части красноармейцев выбили мятежников из ряда занимаемых ими опорных пунктов в городе, а вечером 16 августа стало известно, что многие казаки бросают свои позиции во Владикавказе и спешно направляются на защиту своих станиц от нападений ингушей. 18 августа Владикавказ оказался полностью под контролем Красной Армии. Сессия съезда народов Терека возобновила свою работу.
Начало сражения за Грозный. Помощь Чеченской Красной Армии. К этому времени уже заметно осложнилась ситуация вокруг Грозного, который для обеих сторон имел важное значение. Военные действия начались после того, как в Грозненском Центральном Совете узнали о распоряжении Г. Бичерахова казачьему Совету станицы Грозненской предъявить городу ультиматум о немедленном разоружении и выдаче всех большевиков. После обсуждения сложившейся ситуации, Грозненский Совет в ультимативной форме сам потребовал от станицы сдать все имеющееся вооружение к утру 11 августа 1918 г. Командующим вооруженными силами г. Грозного был назначен молодой и талантливый руководитель — Н. Ф. Гикало, сыгравший в последующих событиях огромную роль.
Было совершенно очевидно, что обе стороны заблаговременно готовились к военным действиям. Еще до начала бичераховского мятежа в станице Грозненской, например, была создана «следственная комиссия», организовавшая преследование большевиков, проживавших на территории станицы. Казаки вели переговоры и с отдельными городскими отрядами самообороны. В частности, «Щебелиновский» рабочий отряд, конфликтовавший с алдинцами, первоначально обещал поддержать казаков2.
Бои, начавшиеся утром 11 августа 1918 г. и вошедшие в историю как «100-дневные бои», с первого дня отличались крайним ожесточением сторон, широко использовавших артиллерию. За первый день только части Красной Армии выпустили по станице Грозненской до 1800 снарядов. В свою очередь казачья артиллерия, сосредоточенная на Карпинском кургане вела не менее интенсивный обстрел городских кварталов3.
1 Разгон И. М. Серго Орджоникидзе в годы Гражданской войны // Ист. записки. — 1938. — № 2. — С. 18.
2 См.: ГАРФ. Ф. P-5351. On. 1. Д, 41. Л. 110 об.; Апухтина-Гоппе Н. Ф. Город-герой красный Грозный. — М., 1927. — С. 9.
3 См.: ГАРФ. Ф. P-5351. On. 1. Д, 41. Л. 112.; Очерки истории Чечено-Ингушской АССР. 1917—1970 годы. Т. 2. — Грозный, 1972. — С. 39.
— 642 —
Бичераховский мятеж и расширение гражданской войны на Тереке
В целом, первые бои складывались неудачно для Грозненского Совета. Получив подкрепление из близлежащих терских и Сунженских станиц, бичераховцы заняли железнодорожный вокзал, район нефтеперерабатывающих заводов и Старые промысла. Грозный оказался блокированным с трех сторон. Возможно, если бы казакам удалось установить полную блокаду города, успех в конечном итоге, склонился бы в их пользу, так как в городе не было запасов продовольствия. Однако пришедшие на помощь Грозному до 1,5 тысяч бойцов Чеченской Красной Армии под руководством А. Шерипова не только удержали фронт в южной части города, но и обеспечили почти бесперебойное сообщение с равнинной Чечней. Кроме того, чеченские добровольцы небольшими группами постоянно прибывали в Грозный и вливались в различные части, державшие оборону по периметру города.
Появление чеченских отрядов в Грозном не означало, что абсолютно вся Чечня встала на сторону большевиков. Атагинский Совет открыто поддержал Моздокский казачье-крестьянский Совет, а Г. Бичерахов лично побывал в Старых Атагах, где встречался с членами чеченского меджлиса и обещал выделить Атагинскому Совету 1,5 миллиона рублей, Со своей стороны, Атагинский Совет оказывал содействие в снабжении сосредоточенных против Грозного казачьих частей, некоторые из которых были расквартированы в Новых Алдах1.
На этом фоне для Грозненского Совета большое значение имела позиция, занятая селением Гойты. Гойтинский Совет и Чеченская Красная Армия в ходе 100-дневных боев обеспечивали связь осажденного Грозного с внешним миром, содействовали снабжению оружием и боеприпасами. Не случайно, что для укрепления обороны Гойт из Грозного, в свою очередь, были направлены несколько артиллерийских орудий и рота китайских добровольцев, насчитывавшая 150 бойцов2.
Военно-политическая ситуация на Кавказе. Удержанию Грозного особое значение придавало и центральное советское правительство, которое 27 августа 1918 г. приняло специальное постановление, обязывающее командование Южного фронта оказать военную помощь городу и обеспечить охрану нефтяных промыслов. В целом, однако, ситуация на Северном Кавказе в конце лета 1918 г. складывалась та- МӀМ образом, что советское командование не располагало свободными резервами, чтобы оказать поддержку Грозному. Главные силы Терской республики были сосредоточены в районе Пятигорска и Георгиевска. Овладев этим районом, бичераховские войска, тем самым, вышли бы в тыл главных сил 11-й Красной Армии, державших на Кубани оборону
Киреев Е. Это было в 1918 году // Стодневные бои в Грозном: Сб. ист. очерков и воспоминаний. — Грозный, 1959. — С. 12.
- Пау Ти-сан и его товарищи // Грозненский рабочий. — 1959. — 31 марта. — С. 3.
Глава XIV. Октябрьский переворот и ход гражданской войны на территории нашего края
(1917—1920 гг). Мюриды революции
против наступавшей Добровольческой армии. Разгром же 11-й Армии неминуемо привел бы и к разгрому советской Терской республики.
С востока, из Дагестана, на соединение с казаками полковника Г. Бичерахова прорывался сильный отряд полковника Л. Бичерахова, возвращавшийся из Ирана. 3 сентября 1918 г. ему удалось захватить Порт-Петровск, а 8 сентября —■ Хасав-Юрт. Его брат — Г. Бичерахов снова побывал в Чечне, где на встрече с представителями Атагинско- го Совета и Горского правительства потребовал беспрепятственного пропуска наступавших со стороны Дагестана войск — вдоль полотна железной дороги к Грозному. На этот раз «дипломатическая» миссия главы Моздокского Совета завершилась полным провалом — он не только получил решительный отказ, но и чуть было не оказался в чеченском плену. Только заступничество шейха А. Митаева позволило ему уехать невредимым.
В течение восьми дней отряд Л. Бичерахова безуспешно пытался, восстанавливая железную дорогу, продвигаться в направлении Грозного. Но все, что удавалось восстановить за день, ночью вновь разбиралось чеченцами. После того как на Качка лыковских высотах близ Гудермеса появилась чеченская артиллерия, Л. Бичерахов повернул обратно в Дагестан1.
Выступление Сунженского казачества на стороне рабочих и горцев. Положение бичераховцев осложнялось еще и отсутствием единства в самом Терском казачестве. Сунженские станицы — Карабулакская, Троицкая, Нестеровская, Ассиновская, Слепцовская, Михайловская и Закан-Юртовская (находившиеся под угрозой нападения чеченцев) отказались поддержать наступление на Грозный и тем самым ослабить оборону станиц. Более того, они высказались за переговоры с Терским Народным Советом. Наиболее активно выступали против участия в мятеже и бывшие фронтовики, требовавшие заключения мира с горцами и рабочими. К тому же лидеры большевиков обещали этим станицам защиту от нападений горцев2. Следует учитывать и главное — рядовое Сунженское казачество, измотанное войной, не желало старых порядков, возвращения власти атаманов и офицеров. Оно также испытывало острое желание закончить миром полувековой конфликт с горским крестьянством.
Большевики направили на Сунжу группу опытных агитаторов из шести человек во главе с членом Терского Народного Совета — большевиком А. 3. Дьяковым. 2 сентября 1918 г. в станице Карабулак- ской возник советский казачий отряд численностью до 300 человек под командованием А. 3. Дьякова. Пробольшевистски настроенные
1 Ошаев X. Забытый эпизод // Стодневные бои в Грозном: Сб. ист. очерков и воспоминаний. — Грозный, 1959. — С. 47—48.
2 ГАРФ. Ф. P-5351. On. 1. Д. 41. Л. 115 об.
— 644 —
Бичераховский мятеж и расширение гражданской войны на Тереке
чеченцы моментально пошли на мир с казаками. Уже через неделю численность этого отряда возросла почти до 4 тысяч бойцов, включая две чеченские и одну осетинскую сотни К На укрепление этого отряда из Владикавказа были переброшены дополнительные резервы, в том числе три бронепоезда.
Формирование отряда А. 3. Дьякова значительно облегчалось тем, что основные силы бичераховцев были стянуты к Грозному. 16 сентября казаки Дьякова начали крупное (и неудачное) наступление против бичераховцев в районе завода «Молот», стоившее им больших потерь. В этот же день советские войска предъявили станице Слепцовской (неприсоединившейся к Дьякову) ультиматум с требованием сдать все оружие и выдать офицеров. Станичная делегация, прибывшая к красным для ведения переговоров, была расстреляна (за исключением одного священника), после чего начался штурм. Красноармейцы захватили станицы Слепцовскую и Михайловскую, а также казачий хутор Давыденко. Общая численность Сунженской группировки красных войск тут же возросла до 6—7 тысяч, а сам А. 3. Дьяков по представлению
Памятник героям 100-дневных боев в Грозном (45, вклейка)
1 МатериалынаучнойсессииповопросамисторииЧечено-Ингушетии (1860—1940).—
Грозный, 1964. — С. 63.
Глава XIV. Октябрьский переворот и ход гражданской войны на территории нашего края
(1917—1920 гг.). Мюриды революции
Г. К. Орджоникидзе был награжден орденом Боевого Красного Знамени — высшей в то время советской наградой1.
Разгром бичераховцев. Конец 100-дневных боев. На следующем этапе боев под Грозным бичераховцы теряют поддержку и из терских низовых станиц. Во второй половине октября 1918 г. отряд генерала Эльмурзы Мистулова был с потерями отброшен от Кизляра и туда начали прибывать свежие части Красной Армии из Астрахани. Стало ясно, что судьба бичераховского мятежа предрешена. В казачьих отрядах начинается массовое дезертирство, и они утрачивают прежнюю боеспособность. 29 октября красноармейцы захватили грозненский железнодорожный вокзал и завязали бои непосредственно в станице Грозненской.
На завершающем этапе красные части нанесли скоординированные встречные удары по еще сопротивлявшимся бичераховцам, отступившим в Сунженские станицы: с запада наступали части под командованием А. 3. Дьякова, а навстречу им продвигались части грозненского гарнизона. 14 ноября 1918 г. в Грозном состоялся победный парад Красной Армии.
Разгромленные на Сунже казачьи части отошли частью за Терек, где были окончательно рассеяны возле станицы Червленной. Сохранивший боеспособность отряд генерала Колесникова, насчитывавший до 2500 штыков с орудиями, пулеметами и радиостанцией отступил к Порт-Петровску, где соединился с частями полковника Л. Бичерахова. Там же, 10 декабря 1918 г. сложило свои полномочия созданное биче- раховцами Временное Народное Правительство Терской республики. Как считали сами участники мятежа, они потерпели поражение «...от разлагающей агитации и длительности времени»2.
Стодневные бои за Грозный оказались одним из самых кровопролитных эпизодов гражданской войны не только в Чечне, но и во всей России. Непосредственно в боях, с обеих сторон, принимало участие несколько десятков тысяч человек, из которых погибло до 4—5 тысяч человек, а городу и нефтепромыслам были причинены такие разрушения, от которых сумели оправиться только к середине 20-х гг. Кроме того, враждующие стороны создали в ходе боев карательные органы, которые уничтожили многие сотни гражданских лиц3.
Победа была, действительно, серьезной и крупной. Известие о ней с радостью было встречено и правительством В. И. Ленина, попытавшегося сразу организовать отправку нефтепродуктов из Грозного в центр.
1 См.: ГАРФ. Ф. P-5351. On. 1. Д. 41. Л. 116; Разгон И. М. Серго Орджоникидзе в годы Гражданской войны // Ист. записки. — 1938. — № 2.
2 ГАРФ. Ф. P-5351. On. 1. Д. 41. Л. 90, 90 об., 112 об.
3 Абазатов М. А. Борьба трудящихся Чечено-Ингушетии за Советскую власть (1917—1920 годы). — Грозный, 1969. — С. 77.
— 646 —
Бичераховский мятеж и расширение гражданской войны на Тереке
Укрепление влияния Л. Шерипова и молодых «левых» в Чечне. Разгром бичераховцев не только укрепил в Чечне позиции Гойтинского Совета, но и неожиданно обострил отношения между его лидерами. Успешные действия Чеченской Красной Армии, подчинявшейся командующему А. Шерипову, привели к росту влияния последнего в Чечне и кризису в его отношениях с главой Гойтинского Совета и председателем чеченской фракции при Терском Народном Совете — Т. Эльдархано- вым. Последний, все больше склонявшийся к союзу с частью чеченского духовенства, в частности с известным алимом Сугаип-муллой Гайсумовым, в начале октября своим распоряжением вывел из состава чеченской фракции ряд неугодных ему лиц.
Это вызвало бурную реакцию А. Шерипова, который в знак протеста не только подал в отставку с поста командующего Чеченской Красной Армией, но и на заседании Терского Народного Совета потребовал переизбрания всех членов чеченской фракции. Одновременно он обвинил Т. Эльдарханова в подчинении Гойтинского Совета «реакционному» духовенству и отступлении от политики советской власти: «Я утверждаю, что Гойтинский Совет не советская организация, а союз мародеров, спекулянтов, купцов, лавочников, мулл с гражданином Эльдархановым, спекулирующих на революции»1. Все это звучало при безусловной поддержке А. Шерипова молодежью и беднотой. Есть предположение, что последний имел даже замысел создать новую «советскую партию» в Чечне.
Наиболее серьезным идейным противником грозненских большевиков и чеченских левых выступало местное духовенство и уже в ноябре 1918 г. появляется воззвание «Ко всем честным чеченцам», подписанное А. Шериповым, занявшим пост комиссара по национальным лелам Терской республики. Довольно пространное по форме воззвание содержит прямые обвинения в адрес мусульманского духовенства в эксплуатации крестьян и разобщении чеченского народа: «...шейхи и муллы единый шариат и единый чеченский трудовой народ разделили, разбили на мелкие части и этим самым обессилили вас. ...Чеченцы! Вы хвалитесь тем, что у вас не было и нет князей. Неправда! Шейхи и муллы в тысячу раз хуже князей. Разве не вашими трудами живут «ши»?2 Вероятно, это воззвание должно было послужить сигналом аля начала широкой компании против духовенства, но последующие события распорядились иначе.
Сторонники А. Шерипова даже развернули агитацию за проведение нового съезда чеченского народа для перевыборов Гойтинского Совета, но разгоревшийся было конфликт в лагере чеченских левых не получил дальнейшего развития. На открывшейся во Владикавказе
: Шерипов А. Статьи и речи: Сб. — Грозный, 1972. — С. 121.
- Там же. — С. 127.
Глава XIV. Октябрьский переворот и ход гражданской войны на территории нашего края
(1917—1920 гг). Мюриды революции
28 ноября 1918 г. очередной сессии съезда народов Терека (V съезд народов Терека) было принято решение о ликвидации национальных фракций при Терском Народном Совете и создании единой общегорской коммунистической фракции. Это сразу же лишило прежней остроты конфликт внутри чеченской фракции.
Судьба осеннего наступления турок. Поздней осенью 1918 г. исчезла еще одна внешняя угроза советской Терской республике — со стороны турецких войск. С августа и до начала ноября турецкий корпус Юсуфа Изет-паши медленно продвигался от Дербента на север — к границам Терской республики. Наиболее серьезное сопротивление в Дагестане турки встретили со стороны войск Л. Бичерахова, которого открыто поддерживали англичане. Глава Горского правительства А.-М. Чермоев в личной переписке напрасно убеждал Л. Бичерахова не чинить препятствия продвижению турок: «.. .если бы мы могли внутри организоваться, получить технические средства борьбы с этой советской властью, то, конечно, правительству горцев незачем было искать помощи у своих друзей и единоверцев турок... В том и трагедия нашей жизни, что без этой помощи мы сейчас не можем организоваться, для чего нужно прежде всего очистить свою территорию от пришлого элемента»
В конце октября турки достигли Северного Дагестана, где смогли овладеть Темир-Хан-Шурой (бывшая столица Дагестанской области), а 8 ноября — Порт-Петровском. Руководители Терской республики деятельно готовились к организации отпора наступавшим турецким войскам. Особое внимание уделялось Чечне, куда начали прибывать и турецкие эмиссары. Так, на региональном съезде чеченцев в селении Центорой побывал генерал Исмаил Хаки-бей, который щедро раздавал турецкие ордена и уговаривал поддержать приход турецких войск. С турками, помимо Горского правительства, связь установили и некоторые духовные лидеры Чечни, в частности, шейх А. Митаев. Однако то, как вели себя турецкие войска и их командиры в Дагестане по отношению к горцам, вызвало глубокое разочарование даже у их сторонников. Л. Бичерахов в этой связи с удовлетворением писал своему брату Г. Бичерахову: «Недурно, симптоматично то, что представители горских народов разочарованы и даже ярые туркофилы смущены...»: Вопрос с турками решился сам собой: поражение Германии в Первой мировой войне с подписанием капитуляции в ноябре 1918 г. имело самые гибельные последствия и для ее союзницы Турции — ее войска начинают спешную эвакуацию с Кавказа.
Поиск Горским правительством выхода из политического кризиса. После ухода турок Горское правительство оказалось лишенным 1 21 Цит. по кн.: Тахо-Годи А. Революция и контрреволюция в Дагестане. — Махачкала, 1927. — С. 81.
2 ГАРФ. Ф. Р-3718. Оп. 2. Д. 19. Л. 14.
Бичераховский мятеж и расширение гражданской войны на Тереке
всяческой поддержки, а его авторитет в глазах горцев был подорван не только неудачными внешними альянсами, но также низкой дееспособностью и разгулом коррупции. Этим, кстати, активно пользовались большевики, которые не только почти открыто действовали на территории, которую Горское правительство считало «своей», но и способствовали дальнейшему развалу Союза объединенных горцев. Так, военный диктатор Дагестана князь Тарковский в письме А.-М. Чермоеву и командующему турецкими войсками на Северном Кавказе Исмаил Хаки-бею возмущался тем, что Горское правительство приняло под покровительство некоего Магомеда Мирзу Хазроева,«.. .известного всему Дагестану главаря большевистского движения в области, присвоившего и растратившего миллионное достояние дагестанского народа...»1.
Оказавшись в изоляции, Горское правительство энергично приступает к поиску новых союзников, способных поддержать его против усиливавших свое влияние большевиков. Вновь был воскрешен союз с казачеством: 10 декабря 1918 г. в Баку А.-М. Чермоев и П. Коцев от имени Горского правительства подписали с неким Временным военным правительством Терских казаков договор о создании Союза горцев и казаков. Главная цель создаваемого союза — борьба против большевиков под покровительством стран Антанты, победивших в Первой мировой войне. Однако на территории терских казаков уже господствовали Советы.
Еще до оформления эфемерного союза с Терским казачеством там же в Баку состоялись переговоры горского министра иностранных дел Г. Бамматова с представителями Антанты — французами и англичанами. Горское правительство отказывалось тем самым от союза с Турецкой империей и Германией. В ходе переговоров союзники ясно дали понять, что готовы оказать поддержку Горскому правительству «...в его работе по установлению порядка и спокойствия на нашей территории», но не готовы немедленно рассматривать вопрос о признании независимости Горской Республики. Было очевидно, что главная цель стран Антанты состоит в ликвидации советской власти, а послевоенное устройство России должно было стать предметом обсуждения на мирной конференции союзников наряду с другими проблемами.
Добиваясь дипломатического признания Горской Республики, Г. Бамматов даже пытался оказывать определенное давление на западные страны, давая понять, что в случае отказа Горское правительство может пойти на сближение с большевиками. Своему правительству он настоятельно рекомендовал: «...первое: предпринять шаги по сближению с Закавказьем, второе: внушить представителям Англии, что только при признании... нашей независимости примется помощь
: Цит. по кн.: Тахо-Годи А. Революция и контрреволюция в Дагестане. — Махачкала,
1927. - С 181.
Глава XIV. Октябрьский переворот и ход гражданской войны на территории нашего края
О 917—1920 гг.). Мюриды революции
Некоторые деятели Горской Республики (на Версальской мирной конференции 1920 г.).
Слева направо сидят: 1 — Джамалдин Албогачиев, Ингушетия; 2 — Ибрагим Хайдар; 3 — Тапа Чермоев, глава делегации; 4 — Хасан Хаджарак; 5 — Ибрагим Ибрагимбеков, 1-й секретарь миссии.
Слева направо стоят: 1, 2, 7 — представители Чечни; 3 — представитель Черкесии; 4 — Заурбек Ахушков, Ингушетия; 5 — представитель Ингушетии; 6 — Краснот- ский, переводчик делегации (36, 107)
для борьбы с большевизмом. Третье: войти в связь на всякий случай с большевиками. Четвертое: пока поддерживать дружеские отношения с Деникиным»1.
Впрочем, было очевидно, что влияние Горского правительства будет зависеть не от дипломатических маневров, а от организации реального управления территорией, заявленной как состоящей в составе Горской Республики. Пытаясь расширить свою социальную базу, Союз объединенных горцев в самом конце 1918 г. предпринял реорганизацию высших органов власти Горской Республики. Создается Союзный Совет (парламент-меджлис) и коалиционное правительство, в состав которого вошли и видные представители исламского духовенства, в частности, Н. Гоцинский. В составе правительства были даже отведены посты для представителей казачества и «иногородних» — явная уступка союзникам, которые одним из непременных условий предоставления помощи Горской Республике называли тесное взаимодействие с другими политическими и национальными движениями.
Расположившееся к концу 1918 г. в дагестанском городе Темир- Хан-Шура Горское правительство еще более-менее контролировало
1 Союз объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана (1917—1918 гг.), Горская Республика (1918—1920 гг.): Документы и материалы. — Махачкала, 1994. — С. 173—174.
Борьба с наступлением Добровольческой (деникинской) армии в Чечне. Н. Гикало и А. Шерипов
прилегающую к «столице» территорию, но его власть в Чечне была чисто номинальной. Атагинский Совет, хотя и признавал Горское правительство, сам находился в трудном положении, поскольку власть у него оспаривалась Гойтинским Советом, пользовавшимся широкой поддержкой властей Терской республики. Попытки установить в чеченских селениях «горскую» администрацию неизменно терпели провал, потому что в распоряжении Горского правительства не было военной силы и финансовых возможностей, способных поддержать его претензии в Чечне.
Действия Горского правительства зачастую выглядят как запоздалая реакция на мероприятия, проводимые Терским Совнаркомом. Так, оно признало российские денежные знаки имеющими законную силу на территории Горской Республики (добавив к ним денежные знаки Азербайджанской и Грузинской республик). Только в канун 1919 г. Горское правительство заявило о готовности передать землю тем, кто на ней работает, защищать права рабочих, оказывать содействие профсоюзам, соблюдать принцип свободы совести, уважать права меньшинств и т. д. Все эти лозунги могли добавить популярности Союзу объединенных горцев в 1917 г., но в 1919-м время было упущено.
Партия большевиков добилась почти единоличного представительства в высших органах власти Терской республики. Ее руководители даже обратились в Президиум Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК) РСФСР с просьбой переименовать Терский Народный Совет в Терский Совет рабочих, горских, крестьянских и красноармейских депутатов, чтобы лишний раз подчеркнуть сугубо классовый характер своей власти. Положение советской власти на Тереке кажется настолько устойчивым, что в печати открыто обсуждается возможность продвижения Красной Армии в Закавказье с целью утверждения здесь советской власти.
§ 4. Борьба с наступлением Добровольческой (деникинской) армии в Чечне. Н. Гикало и А. Шерипов
Поражение 11-й Красной Армии. Отступление красных сил из Грозного в Чечню. В самом начале 1919 г. 11-я Красная Армия, в оперативном ведении которой находился Юг России, потерпела сокрушительный разгром от Добровольческой армии генерала А. Деникина. Ее остатки поспешно отступали к Астрахани, оголяя весь Северный Кавказ и Терек. Чрезвычайный комиссар Юга России Г. К. Орджоникидзе считал отход армии к Астрахани «политическим дезертирством» и настаивал на организации обороны по линии Владикавказ—Грозный. Пополнив остатки 11-й Армии за счет грозненских и владикавказских
— 651 —
Глава XIV. Октябрьский переворот и ход гражданской войны на территории нашего края
(1917—1920 гг.). Мюриды революции
А. И. Деникин Л. Г. Корнилов (первый руководитель Добровольческой армии) в группе офицеров (65, 78)
рабочих, а также опираясь на союз с горцами, он рассчитывал удерживать фронт до прибытия подкреплений из России.
Реализации этого плана помешало полное разложение 11-й Армии: пораженные эпидемией тифа и отрезанные от основных источников снабжения, ее части окончательно утратили боеспособность, начался массовый переход солдат на сторону противника. От тифа ежедневно умирало от 500 до 600 красноармейцев, все станции Владикавказской железной дороги были забиты больными и голодными солдатами, лишенными всякой помощи. В подчинении у командарма М. Левандов- ского осталось менее 20 тысяч красноармейцев, с которыми он попытался организовать оборону в районе Пятигорска. 18 января 1919 г. эти части были разгромлены деникинцами, после чего начался стихийный отход вначале на Моздок, а затем через безводные степи к Астрахани. Из 18 тысяч красноармейцев, начавших 400-километровый марш в январские морозы, до Астрахани дошли всего 600 человек. Еще приблизительно 6 тысяч вернулись к Кизляру, где сдались в плен.
Оставшихся в Терской области красных войск было явно недостаточно для обороны, и Грозным было решено пожертвовать для укрепления обороны Владикавказа. В ночь со 2 на 3 февраля 1919 г. части Красной Армии оставили Грозный и направилась в сторону Владикавказа. Отступавшие унесли с собой весь денежный запас Совнаркома Терской республики, а также клише, с которого печатались деньги. В эту же ночь А. Шерипов подал заявление с просьбой принять его в члены Всероссийской коммунистической партии (большевиков) — ВКП(6).
Борьба с наступлением Добровольческой (деникинской) армии в Чечне. Н. Гикало и А. Шерипов
Г. К. Орджоникидзе среди партизан. Худ. А. А. Артемьев
В заявлении он писал: «Сейчас, когда враг особенно силен и Северный Кавказ захвачен белыми, я считаю необходимым более строго определить свое отношение к партии. Я прошу принять меня в члены партии большевиков»1.
До Владикавказа, однако, грозненская Красная Армия не дошла. На Сунженской линии она была атакована подошедшими сюда белогвардейскими частями и казаками и после нескольких боев начала рассредо- тачиваться по чеченским селениям. Те из них, что отступили к Ачхой- Мартану, были разоружены по требованию местных представителей Горского правительства, многих затем ограбили мародеры. Большая же часть красноармейцев направилась в селение Гойты, где им оказывали гостеприимство и откуда переправляли в другие селения. Всего в Чечне укрылось до 5 тысяч красноармейцев2. Сюда же бежали от расправы сторонники коммунистов со всех равнинных аулов Северного Кавказа, занятых белыми — ингуши, осетины, кабардинцы и т. д.
Перед тем, как части Красной Армии отступили в Чечню, Г. К. Орджоникидзе 4 февраля 1919 г. на ингушском народном съезде провозгласил создание «Горской Советской Республики»3. Этим демонстративным жестом он, по всей видимости, рассчитывал обеспечить лояльность
1 Цит. по кн.: Носов А. Ф. Октябрьская революция в Грозном и в горах Чечено-Ингушетии: Воспоминания. — Грозный, 1961. — С. 68.
- Воспоминания участников Октябрьской революции и гражданской войны в Ка¬
бардино-Балкарии. — Нальчик, 1960. — С. 192.
’ Разгон И. М. Серго Орджоникидзе в годы Гражданской войны // Ист. заметки. —
1938. — № 2. — С. 33.
Глава XIV. Октябрьский переворот и ход гражданской войны на территории нашего края
(1917—1920 гг.). Мюриды революции
большинства горцев. Кстати, сам факт отступления Красной Армии в горы был, как ни парадоксально, положительно оценен горцами, которые рассматривали это как доказательство верности большевиков союзу с ними. В горах скрылся и сам Г. К. Орджоникидзе.
Отношения Горского правительства и деникинцев. Разгром Терской республики поставил в повестку дня вопрос об отношении командования Добровольческой армии к Горской Республике во главе с А.-М. Чермоевым. Горское правительство не сумело извлечь максимальную выгоду для себя из краха советской власти, как ранее оно не смогло с пользой для себя распорядиться огромным количеством материальных ценностей, оставленных в Дагестане турецкими войсками. Большая его часть была попросту расхищена, но значительное количество оружия, сахара, мануфактуры было вывезено в Чечню1.
Горскому правительству все же удалось сформировать несколько военных подразделений, однако оказавшиеся во главе их офицеры бывшей царской армии из числа горцев открыто симпатизировали не своему правительству, а руководству Добровольческой армии. Более того, горское офицерство вело с горским правительством «скрытую борьбу», что отчетливо проявилось после вступления деникинских войск в Дагестан и горские округа Терской области.
Но главная причина слабости Горского правительства состояла в том, что оно не пользовалось широкой поддержкой самих горцев. В Добровольческой армии открыто говорили, что «туземная власть себя полностью дискредитировала: родственные связи и боязнь кровной мести сделали ее беспомощной»2. Именно в этом состояла главная причина того, что А. Деникин не счел нужным считаться с Горским правительством как с реальной политической силой.
Позиция Добровольческой армии в национальном вопросе. Командующий Добровольческой армией генерал-лейтенант Антон Деникин отрицательно относился к идее провозглашения на территории бывшей Российской империи национальных республик, претендующих на государственную независимость. При этом он признавал, что провозглашение независимости, продиктованное стремлением отделиться от Советской России (как это делали казачьи области), имеет признаки «государственной целесообразности», но с приходом Добровольческой армии все «политические игры в независимость» должны быть прекращены.
В апреле 1919 г., Особым совещанием при командующем, политические цели Добровольческой армии были сформулированы предельно четко:
«1. Уничтожение большевистской анархии и водворение в стране правового порядка.
1 ГАРФ. Ф. P-440. On. 1. Д. 23. Л. 13,13 об.
2 ГАРФ. Ф. P-440. On. 1. Д. 10. Л. 128—128 об.; Д. 17. Л. 31.
— 654 —
Борьба с наступлением Добровольческой (деникинской) армии в Чечне. Н. Гикало и А. Шерипов
2. Восстановление могущественной Единой и Неделимой России.
3. Созыв народного собрания на основах всеобщего избирательного права.
4. Проведение децентрализации власти путем установления областной автономии и широкого местного самоуправления.
5. Гарантия полной гражданской свободы и свободы вероисповедания.
6. Немедленный приступ к земельной реформе для устранения земельной нужды трудящегося населения.
7. Немедленное проведение рабочего законодательства, обеспечивающего трудящиеся классы от эксплуатации их господством капитала» \
Не признав публично права народов на самоопределение, Добровольческая армия изначально создала себе трудности в отношениях с народами Кавказа. Как писали некоторые французские газеты, в частности «Юманите», в то время как В. Ленин поспешил признать независимость народов Кавказа, А. Деникин, наоборот, приобретает репутацию цариста* 2.
Назначенный правителем Терской области генерал Ляхов, прибывший 19 февраля 1919 г. в селение Алды на некий «съезд представителей Чечни», оказался вынужденным оправдываться: «Добровольческая армия не идет по старому пути, не ведет народ к царю, не предрешает, будет ли Россия республикой или федеративной республикой. Решение этого вопроса она предоставляет воле самого народа. ...Занимая территории Государства Российского, она дает народам, населяющим их, полное самоуправление. Она временно не может согласиться, чтобы каждый народ сам выбирал свое правительство, так как она должна направлять все свои силы на борьбу с большевиками, но, назначая правителей, она сама выбирает таких людей, которые были бы народу желательны и выходили бы из этого же народа. ...Она предоставляет народу и самому участвовать в своем управлении посредством избрания из своей среды 5—6 лиц, составляющих Совет при правителе и ответственных перед народом. Этот Совет есть представительство народа в управлении своей страной»3.
Несмотря на уверения генерала Ляхова, первые же практические шаги новой власти не могли не вызывать у горцев резкое недовольство. Главную силу Добровольческой армии составляли казаки, а потому действия деникинцев в Терской области направлены, прежде всего, на восстановление привилегированного положения казачества. Даже генерал А. Шкуро, потомственный кубанский казак, признавал в 1919 г.,
2 ГАРФ. Ф. P-439. On. 1. Д, 61. Л. 1.
2 ГАРФ. Ф. Р— 440. On. 1. Д. 17. Л. 27.
' Цит. по ст.: ГатуевДз. «Империя» Узун-Хаджи // Революционный Восток. — 1928. — № 4—5. — С. 265—266.
— 655 —
Глава XIV. Октябрьский переворот и ход гражданской войны на территории нашего края
(1917—1920 гг). Мюриды революции
что «храбрые и свободолюбивые ингуши были частью истреблены, а частично загнаны в бесплодные горы» в период покорения Кавказа. Чтобы решить конфликт, по мнению А. Шкуро, «нужно было либо уничтожить ингушей, или выселить казаков с бывших ингушских земель...»1. Выселенные большевиками станицы были не только возвращены на свои места, но, более того, чеченский и ингушский народы обязывались выплатить все убытки, понесенные казаками, начиная аж с 1914 г. Штраф за каждого убитого казака составлял 15 тысяч рублей.
Кроме того, было объявлено о мобилизации горцев в Добровольческую армию, причем селения обязаны были экипировать и содержать мобилизованных за свой счет. Эти требования выдвигались в ультимативной форме и не подлежали обсуждению. Поэтому съезд в селении Алды принял решение оставить ультиматум без ответа и предложил генералу Ляхову «...по всем вопросам, касающимся чеченского народа, обратиться к Горскому правительству»2.
Политика сторонников Горского правительства. Между тем, Горское правительство попыталось вступить в переговоры с командованием Добровольческой армии сразу же, как только ее части вступили в Терскую область. Полномочная делегация Горской Республики ездила даже в Екатеринодар для встречи с верховным командующим, но А. Деникин отказался принять ее. Переговоры же с главой Терской области генералом Ляховым никаких результатов не дали. Более того, генерал безапелляционно заявил: «...В одном доме двух хозяев быть не может. Там, где я плачу, я буду хозяин. Я требую подчинения моей власти, а кто ей не подчиняется, то пусть сам винит себя за то, что из этого выйдет»3.
Единственная уступка, на которую пошел генерал Ляхов состояла в том, что он согласился считать парламент Горской республики совещательным органом при своей особе. Правителем же Чечни от Добровольческой армии был назначен известный военный — генерал Эрисхан (Ирисхан) Алиев, чеченец по происхождению.
Категоричность требований Добровольческой армии ставила в трудное положение Горское правительство, которое стремилось избежать вооруженного столкновения и пыталось достичь приемлемого для себя соглашения на основе совместной борьбы с большевиками. Так, его представители согласились выдать деникинцам всех укрывшихся в Чечне красноармейцев. Около 700 человек действительно были подготовлены
1 Шкуро Александр. Записки белого партизана // Трагедия казачества: Сб. / Ред.-сост. Л. Барыкина. — М., 1994. — С. 79.
2 Союз объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана (1917—1918 гг.), Горская Республика (1918—1920 гг.): Документы и материалы. — Махачкала, 1994. — С. 220.
3 Цит. по ст.: ГатуевДз. «Империя» Узун-Хаджи // Революционный Восток. — 1928. — № 4—5. — С. 267.
Борьба с наступлением Добровольческой (деникинской) армии в Чечне. Н. Гикало и А. Шерипов
к выдаче, однако эта акция встретила решительное сопротивление Гойтинского Совета и открытое недовольство народа. В конце февраля обстановка резко накалилась: «...среди чеченцев происходят волнения, так как часть их не желает выдачи большевиков. Иногда дело доходит до вооруженного столкновения. В стороне Атаги и Гойты слышна ружейная стрельба» — сообщал из Грозного генерал Шатилов1.
Горское правительство и Атагинский Совет вынуждены были уступить и предложили деникинцам, в качестве компромисса, переправить всех красноармейцев, скрывающихся в Чечне, в Дагестан, но и это предложение было отвергнуто.
Сражения в Чечне. Командование Добровольческой армии накалило обстановку еще больше, попытавшись силой добиться исполнения всех своих требований. В ответ чеченские отряды начали систематически нападать на деникинские разъезды, вновь было остановлено железнодорожное сообщение на линии Беслан—Порт-Петровск. 22 февраля 1919 г. в районе Ханкалы был пущен под откос воинский эшелон, а на следующий день железная дорога оказалась разобранной на протяжении пяти верст2. В Чечне фактически образовался антиденикинский фронт, протянувшийся вдоль железной дороги от границы с Дагестаном до Ингушетии.
После кровопролитных боев деникинцев зимой 1919 г. в Ингушетии, первым крупным столкновением в Чечне стала попытка деникинцев захватить селение Гойты. Атака на село была предпринята в конце февраля 1919 г. силами 4-х полков дивизии Шатилова, поддержанных артиллерией. В бой оказалось втянутым и соседнее село Алхан-Юрт, жители которого преградили дорогу одной из наступающих колон. Вскоре к месту боя стали подтягиваться многочисленные отряды со всех окрестных чеченских селений. Дагестанские и чеченские «сотни» Горского правительства, направленные по требованию Шатилова на изоляцию района военных действий, отказались вступить в бой. К вечеру положение деникинцев стало угрожающим; «...противник, продолжавший непрерывно усиливаться... сильно потеснил наши заслоны и стал угрожать частям дивизии полным окружением. Ввиду этого было принято решение оставить Гойты и отходить всей дивизией на Алды—Грозный...»3.
Отступление деникинцев от селения Гойты было вынужденным и неорганизованным, больше напоминавшим бегство, — в руки чеченцев
! Буркин Н.у Бойков С., Кондюрина 3. Октябрь на Северном Кавказе. — Ростов н/Д., 1934.— С. 118.
- Гойгова 3. А.-Г. Народы Чечено-Ингушетии в борьбе против Деникина. — Грозный, 1963. — С. 106.
*' Борьба за Советскую власть в Чечено-Ингушетии (1917—1920 гг.): Сб. документов
и материалов. — Грозный, 1958. — С. 200—201.
Глава XIV. Октябрьский переворот и ход гражданской войны на территории нашего края
(1917—1920 гг.). Мюриды революции
попали многочисленные трофеи. Только алхан-юртовский отряд захватил два орудия, 3 пулемета, 8 фургонов и тачанку с патронами и снарядами1. Потери обеих сторон были тяжелыми, в числе погибших были и 20 красноармейцев, из числа укрывавшихся в Гойтах.
Реакция на нападение деникинцев в плоскостной Чечне была настолько острой, что на помощь Гойтам поспешили даже противники Гойтинского Совета. Находившийся в Гойтах грозненский коммунист
С. И. Тымчук позднее вспоминал: «...Селение Урус-Мартан считалось самым реакционным в Чечне и, несмотря на это, они все, ругая гойтин- цев за то, что они приютили большевиков, все же выступили на помощь. И надо сказать, так расчистили эти два полка (Шатилова. — Aem.), что, насколько помню, десятка два всадников дошли до Грозного, а остальные были побиты и порублены»2.
Неудача под Гойтами показала, что в Чечне Добровольческой армии предстоит серьезная борьба. После соответствующей подготовки, в конце марта 1919 г. началось наступление деникинских войск, имевшее целью установление полного контроля над территорией, прилегающей к железной дороге. 23 марта первый удар нанесен из Грозного в направлении Гудермеса. В течение нескольких дней шли упорные бои, в ходе которых оказались полностью разрушенными селения Бердыкель и Устар-Гордой, захвачен ряд других селений.
После того как железная дорога к востоку от Грозного оказалась в руках Добровольческой армии, началось новое наступление — уже в западном направлении. В течение четырех дней (с 27 по 30 марта] шли чрезвычайно кровопролитные бои за Алхан-Юрт. Обстрел села вели 24 орудия и бронепоезд, занявший позицию у станицы Ермолов- ской. Несмотря на помощь от других селений (только из Урус-Мартана прибыло более 1 тысячи добровольцев), село было захвачено. В виде наказания за упорное сопротивление, белое командование в течение месяца не разрешало предать земле тела погибших защитников села. Потери сторон также оказались чрезвычайно высокими. Только алхан- юртовцы потеряли убитыми более 400 человек, потери деникинцев составили приблизительно 700 солдат и офицеров3.
Наступление белых продолжалось еще несколько дней, ценой больших потерь им удалось захватить еще ряд селений и овладеть железной
1 Абазатов М. Алхан-Юртовский бой с белыми // Грозненский рабочий. — 1961. — 31 марта. — С. 3.
2 См.: Музаев Я. Я, Му заев М. Я. Гойтинский бой // Из истории борьбы за власть Советов и социалистических преобразований в Чечено-Ингушетии. — Грозный. 1983. — С. 24, 29; Борьба за Советскую власть в Чечено-Ингушетии (1917—1920 гг.): Сб. документов и материалов. — Грозный, 1958. — С. 198.
3 См.: Абазатов М. Алхан-Юртовский бой с белыми // Грозненский рабочий. — 1961. — 31 марта. — С. 3; Борьба за власть Советов в Северной Осетии (1917—1920 гг.): Документы и материалы. — Орджоникидзе, 1957. — С. 189.
— 658 —
Борьба с наступлением Добровольческой (деникинской) армии в Чечне. Н. Гикало и А. Шерипов
дорогой. Подводя итоги операции, деникинское командование констатирует: «Ожесточение чеченцев и их удаль достигают крайнего проявления»1. Чеченские повстанцы и русские красноармейцы начинают отход в горы Шатоевского и Веденского районов.
«Совещание» 29 марта 1919 г. в Грозном. Весенние бои 1919 г. Считая, что одержанных «побед» достаточно, чтобы принудить чеченцев к миру, 29 марта 1919 г. командование Добровольческой армии во главе с А. Деникиным пригласило в Грозный представителей Чечни на совещание, призванное положить конец кровопролитию и утвердить Э. Алиева в качестве правителя Чечни. На совещании присутствовали представители 42 чеченских селений, но в основном сторонники Атагинского Совета во главе с И. Чуликовым, а также ряд видных предпринимателей и землевладельцев (А.-А. Мустафинов, К. Баширов, Э. Мациев и др.). Поддержали нового правителя Чечни и некоторые представители духовенства: шейхи Солса-Хаджи Яндаров, Юсуп-Хаджи Кошкельдинский, Кана Хантиев, Абдул-Вагап-Хаджи Аксайский, видный атагинский мулла Ю. Баширов и др.
Другая часть чеченского духовенства заняла антиденикинские позиции и вскоре присоединилась к известному противнику царизма и религиозному авторитету шейху и эмиру Узун-Хаджи, который начал создавать независимое теократическое государство в горной части Чечни и Дагестана. Некоторые шейхи (например, А. Митаев и С. Гайсумов) некоторое время занимали выжидательную позицию, призывая чеченцев на время воздержаться от открытого неповиновения власти А. Деникина.
Снимок участников чеченского «совещания» созванного деникинцами. В центре сидит А. Деникин. Крайний слева генерал Э. Алиев (8, 155)
! Борьба за Советскую власть в Чечено-Ингушетии (1917—1920 гг.): Сб. документов и
материалов. — Грозный, 1958. — С. 203.
Глава XIV. Октябрьский переворот и ход гражданской войны на территории нашего края
(1917—1920 гг.). Мюриды революции
Новый ультиматум деникинцев и весенние бои 1919 г. Требования, выдвинутые Добровольческой армией к Чечне, теперь включали: полную покорность чеченцев назначенному правителю Чечни, выдачу всех красноармейцев, большевиков и абреков, а также всех ценностей, вывезенных в Чечню Красной Армией при отступлении из Грозного, возвращение расхищенных материалов с железной дороги и организация поставок продовольствия и фуража для армии. Отдельное требование было выдвинуто к селению Цацан-Юрт, которое должно было немедленно вернуть группу казаков, захваченных в окрестностях этого села.
Несмотря на то что представители Атагинского Совета от имени Чечни приняли требования Добровольческой армии, большинство чеченских селений наотрез отказалось выполнять их. В ответ, 9 апреля 1919 г. белые войска атаковали и к ночи захватили село Цацан- Юрт. В ходе жестокого сражения с чеченской стороны погибло более 500 человек, включая свыше 400 собственно цацан-юртовцев. Потери деникинцев были не менее тяжелыми, но закрепить свою победу им не удалось. На исходе ночи захваченный Цацан-Юрт был атакован плоскостными чеченцами, которым на помощь пришел большой отряд из Ведено, направленный укрепившимся здесь выходцем из Северного Дагестана эмиром Узун-Хаджи. Не приняв нового боя, деникинцы поспешно отступили1.
В мае бои продолжались на востоке Чечни — под Гудермесом, Кади-Юртом, Исти-Су и Герзель-аулом. Новая вспышка боев была связана с тем, что чеченцы отказались беспрепятственно пропустить деникинские войска, направлявшиеся на подавление востания в братском Дагестане. В июне-июле наступило относительное затишье — крупные бои возобновились только в августе. Пытаясь как-то укрепить свое влияние в Чечне, назначенный ее правителем генерал Э. Алиев попытался провести мобилизацию для пополнения Добровольческой армии. Собранные таким образом 200—300 всадников (вместе с кабардинцами и ингушами) принимали участие в подавлении крестьянских волнений на Ставрополье2. Единственной общественной организацией, поддерживавшей добровольцев, являлся некий «Комитет по очищению Чечни от банд большевиков и Узун-Хаджи» во главе с И. Чуликовым.
Рост антиденикинских сил в Чечне. Падение Горской Республики.
Все эти события привели к краху последних составляющих Горскую Республику и ее правительство. Помимо своего желания, Горское правительство оказалось втянутым в борьбу с Добровольческой армией, действия которой приобрели даже не сословно-классовый, а откровенно
1 Музаев М. Н. Бой под Цацан-Юртом // Вопр. истории Чечено-Ингушетии (советский период). — Грозный, 1978. — С. 46.
2 ГАРФ. Ф. Р-1235. Оп. 95. Д. 517. Л. 9.
Борьба с наступлением Добровольческой (деникинской) армии в Чечне. Н. Гикало и А. Шерипов
античеченский характер. Так, для защиты чеченских селений Горским правительством было направлено большое количество оружия — 2 орудия, 800 винтовок и 5 миллионов патронов. Боеприпасы из запасов Горского правительства использовались и защитниками Цацан-Юрта1. Это обстоятельство служило дополнительным поводом для обвинений деникинцев в адрес Горского правительства, что оно препятствует борьбе с большевиками. Французские газеты «Юманите» и «Ле Тан» в этой связи писали, что Добровольческая армия часто путает большевиков с горцами, следствием чего стала эволюция влево немногочисленных и умеренных социалистов в горском Союзном Совете2. Это, в частности, относится к Ахматхану Мутушеву, который именно в это время окончательно сблизился с большевиками.
Руководство Горской Республики попыталось выйти из кризиса и противодействовать грубому напору Добровольческой армии, предложив всем кавказским политическим и национальным движениям «...создать единый революционный фронт...», направленный против
А. Деникина. Однако союз с Горским правительством не был нужен большевикам, которые, пользуясь его слабостью, готовились 20 мая 1919 г. провести в Темир-Хан-Шуре съезд народов Дагестана, чтобы открыто захватить власть. Коммунистов опередила группа горских офицеров во главе с генералом Халиловым, которые разогнали коммунистов и одновременно объявили о прекращении деятельности органов власти Горской Республики. Ранее подчинявшиеся ему дагестанские представители договорились объявить о ликвидации Горской Республики даже в том случае, если представители Чечни и Ингушетии будут возражать против этого. Свои действия генерал Халилов объяснял тем, что Горская Республика в мае 1919 г. уже фактически прекратила свое существование: Кабарда, Осетия и Черкессия открыто примкнули к Добровольческой армии, а чеченцы и ингуши оказывали ей сопротивление скорее под влиянием большевиков, чем в защиту Горского правительства3.
Большая часть руководителей Горской Республики эмигрирует в начале в Грузию, а затем в Европу. Находясь в Тифлисе, часть из них продолжала безуспешные попытки повлиять на представителей стран Антанты провозгласивших, на их взгляд, «.. .лозунг защиты малых народов и права их на самоопределение...». Но симпатии Антанты, как * *1 См.: В борьбе за власть Советов: Воспоминания участников революционных боев в Чечено-Ингушетии (1917—1920 годы). — Грозный, 1970. — С. 191—192; Абаза- тов М. А. Цацан-Юртовский бой // Грозненский рабочий. — 1967. — 3 авг. — С. 3.
: ГАРФ. Ф. P-440. On. 1. Д. 17. Л. 27.
* См.: ГАРФ. Ф. P-440. On. 1. Д. 17. Л. 30, 32; Союз объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана (1917—1918 гг.), Горская Республика (1918—1920 гг.): Документы и материалы. — Махачкала, 1994. — С. 268—269; Орджоникидзе Г. К. Статьи и речи. Т. 1. — М., 1956. — С. 88.
Глава XIV. Октябрьский переворот и ход гражданской войны на территории нашего края
(1917—1920 гг.). Мюриды революции
отмечали горские эмигранты, «.. .были всецело на стороне реакционного генерала Деникина...»1.
К лету 1919 г. почти весь Северный Кавказ оказывается под властью Добровольческой армии. В Чечне ей формально подчиняется значительная часть равнинных селений. Однако, спокойствие это было достигнуто тем, что Деникин сохранил здесь большую группировку войск в ущерб даже нуждам сил, ведших наступление на Москву.
Поддержка Грузии. Связь Северного Кавказа с Советской Россией к лету 1919 г. полностью прервалась, деникинские части нацеливались уже на взятие Москвы. Наш край оказался в глубоком деникинском тылу. В этих условиях закавказские республики в собственных интересах решились на поддержку антиденикинских движений. Уже в феврале 1919 г. целые красноармейские части переходили границу с Грузией, где сдавались местным властям. После непродолжительного содержания под арестом, большую часть красноармейцев грузинские власти освобождали без всяких условий. В Грузии и Азербайджане активно действовало большевистское подполье, на существование которого местные власти часто закрывали глаза. В Баку и Тбилиси даже издавались проболыиевистские газеты2. После отдыха и лечения в Закавказье, значительная часть красноармейцев направлялась морским путем через Баку в советскую Астрахань.
Смягчение политики властей Азербайджана и Грузии по отношению к большевикам объяснялось их опасениями, что Добровольческая армия, взяв Москву, может вторгнуться в Закавказье. Этим объяснялось и проведение 27 апреля 1919 г. в Тифлисе конференции представителей Армении, Азербайджана, Грузии и Горской Республики. Как сообщала грузинская пресса: «Ближайшая задача конференции — решение территориальных вопросов, идея политического и дипломатического объединения всего Закавказья, вплоть до оборонительного военного союза, и урегулирование ряда экономических вопросов»3. Впрочем, реальное объединение кавказских республик не состоялось по причине наличия между ними большого количества разногласий и слабости центральных властей.
Грузинское правительство почти открыто будет оказывать поддержку (в том числе и поставками вооружения и инструкторов) образовавшемуся в горах Чечни и Дагестана эмирату Узун-Хаджи, рассматривая его как надежный заслон от Добровольческой армии. Грузинская печать осенью 1919 г. приветствует восстание горцев в тылу деникинской
1 Союз объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана (1917—1918 гг.), Горская Республика (1918—1920 гг.): Документы и материалы. — Махачкала, 1994. — С. 325.
2 ГАРФ. Ф. P-439. On. 1. Д. 76. Л. 11; В борьбе за власть Советов: Воспоминания участников революционных боев в Чечено-Ингушетии (1917—1920 годы). — Грозный, 1970. — С. 120—121.
3 ГАРФ. Ф. P-440. On. 1. Д. 7. Л. 6.
Северо-Кавказский эмират Узун-Хаджи в гражданской войне на Тереке
армии, подчеркивая: «Если горцы будут вынуждены сложить оружие, настанет роковая очередь для Грузии»1.
Реорганизация красных сил в Чечне. Лето 1919 г. было использовано остатками красных войск в Чечне для своей реорганизации. Вынужденные под давлением Добровольческой армии оставить плоскостные аулы, они концентрируются в Аргунском ущелье. Н. Гикало оставил слободу Воздвиженскую под Старыми Атагами, имея всего полсотни бойцов. Обосновавшись в Шатое, он сумел увеличить численность своего отряда до 200 человек при 4 пулеметах2. Накапливая силы в Шатое, Н. Гикало большое внимание уделяет как укреплению связи с уже действующими на равнине чеченскими партизанскими отрядами, так и созданию новых. Среди чеченских отрядов были и весьма крупные, например, отряд А.-Р. Исаева, действовавший в Ха- сав-Юртовском округе, насчитывал вместе с кумыками и русскими до 1,5 тысяч бойцов. Деятельностью партизанского движения в этом округе руководил Чечено-Кумыкский военно-революционный комитет во главе с 3. Батырмурзаевым3.
§ 5. Северо-Кавказский эмират Узун-Хаджи в гражданской войне на Тереке
Анти деникинская позиция Узун-Хаджи. Летом 1919 г. руководству красных отрядов пришлось пойти на временный военный союз с возникшим в горах Чечни и Дагестана новым государственным образованием — Северо-Кавказским эмиратом. Стоявший во главе его известнейший богослов и горский националист Узун-Хаджи был известен своей непримиримостью к деникинцам. На последнем заседании горского парламента — Союзного Совета — он специально обратился к горским офицерам, перешедшим на сторону Добровольческой армии: «Эй вы, белые плечи! — крикнул шейх. — Вы думаете, что ваш хлеб от казаков? Идете к ним, идете все! Я и Бог будем воевать с ними»4. Готовность Узун-Хаджи воевать с Добровольческой армией, вплоть до полного ее изгнания с Северного Кавказа, как нельзя больше устраивала большевиков, которые решили воспользоваться его популярностью, чтобы упрочить свое положение в регионе.
ГАРФ. Ф. P-440. On. 1. Д. 71. Л. 5.
: В борьбе за власть Советов: Воспоминания участников революционных боев в Чечено-Ингушетии (1917—1920 годы). — Грозный, 1970. — С. 146.
' Очерки истории Чечено-Ингушской АССР. 1917—1970 годы. Т. 2. — Грозный, 1972. — С. 62.
4 Цит. по ст.: ГатуевДз. «Империя» Узун-Хаджи // Революционный Восток. —1928. —
.V* 4—5. — С. 268.
Глава XIV. Октябрьский переворот и ход гражданской войны на территории нашего края
(1917—1920 гг.). Мюриды революции
Нажмутдин Гоцинский (1), Узун-Хаджи (2) и генерал Халилов (3). Фото 1919 г. (37, 88)
В июне 1919 г. Узун-Хаджи во главе отряда, состоявшего преимущественно из дагестанцев, прибыл в Ведено, объявив его столицей шариатского государства. Возглавлявший местный отряд красных партизан Мазлак Ушаев получил приказ от Н. Гикало вступить в «армию» Узун- Хаджи2. Вскоре Н. Гикало лично прибыл в Ведено для переговоров с престарелым шейхом. Узун-Хаджи, по описаниям знавших его близко людей, отличался глубокой верой и решительностью характера, но слабо разбирался в перипетиях современной политики. Согласившись признать его эмиром (правителем) имамата Чечни и Дагестана, Н. Гикало взамен добился не только полной легализации красноармейских отрядов на территории имамата, но и объединения их под своим командованием: из красноармейцев было решено создать отдельную 5-ю армию имамата. Ее командующим эмир назначает Н. Гикало. Более того, Узун-Хаджи согласился оставить при себе в качестве советников и министров целый ряд руководителей терских большевиков.
Особенность правового положения Узун-Хаджи заключалась в том, что он был вынужден объявить себя эмиром (светским правителем), так как имамом (предводителем мусульман) был формально провозглашен еще ранее шейх Н. Гоцинский. Испытывая лютую ненависть 11 Шипулин Н. Отважный чекист. — Грозный, 1969. — С. 57.
— 664 —
Северо-Кавказский эмират Узун-Хаджи в гражданской войне на Тереке
к сопернику и не подпуская его ни под каким видом ни к себе, ни к власти, Узун-Хаджи, несмотря на свой почти 80-летний возраст, надеялся пережить соперника. В свое время он с сугубо религиозных позиций вел борьбу с колониальной администрацией Терской и Дагестанской областей, серьезно пострадал из-за преследований властей и вынес из долгой ссылки в Россию фанатичную ненависть к империи и всем, кто ее защищал. Среди чеченцев этот фанатичный аварский богослов пользовался высоким авторитетом и имел сотни учеников-мюридов.
Административное управление. Армия. Вся территория государства Узун-Хаджи, включавшая горные районы Чечни и Дагестана, была разделена на ряд «губернаторств»: Андийское, Веденское, Шатойское, Итум-Калинское, Грозненское и два ингушских. Что касается плоскости, то влияние Узун-Хаджи было здесь весьма ограниченным. Шалинцы, например, не допускали его отряды в свое село, а Сугаип-мулла Гай- сумов даже убеждал жителей Мехкеты отделиться от имамата.
Как правило, жители плоскостных аулов соглашались на присутствие отрядов Узун-Хаджи на своей земле только вследствии угрозы нападения со стороны Добровольческой армии. Причина такого отношения к армии имамата весьма банальна: не имея централизованного снабжения, воины Узун-Хаджи обеспечивались всем необходимым за счет местного населения. В этом смысле весьма характерен приказ, полученный командующим 4-й армией имамата: «...для обеспечения 4-й армии продовольствием предложить перейти в наступление, бросив настоящую свою стоянку, и потребовать от шалинцев все необходимое для армии». Кстати, то, что громко именовалось армиями имамата, на самом деле представляло собой небольшие по численности отряды из крестьян. Например, в 3-й армии по спискам числилось всего 113 человек, а в наличии было 50 К В момент опасности происходил обычный для Чечни сбор добровольцев, что и позволяло противопоставлять деникинцам солидные по численности силы.
Иналук Арсанукаев. Взаимоотношения эмирата с Грузией. В сентябре 1919 г. в окружении Узун-Хаджи неожиданно появился Иналук Арсанукаев-Дышнинский, называвший себя князем и предъявивший эмиру фирман (вероятно, подложный) от турецкого султана. Человек неплохо образованный (являлся в свое время слушателем Военноюридической академии в Петербурге) и обладающий определенными качествами И. Арсанукаев-Дышнинский занял пост председателя правительства Северо-Кавказского Эмирства — так официально называлось теперь государство Узун-Хаджи. Новый премьер, женатый, кстати, на грузинской княжне, активизирует связи эмирата с Грузией, к правительству которой он обратился с предложением заключить союзный
* ГатуевДз. «Империя» Узун-Хаджи // Революционный Восток. — 1928. — № 4—5. —
С. 282—283,285.
Глава XIV. Октябрьский переворот и ход гражданской войны на территории нашего края
(1917—1920 гг.). Мюриды революции
Сидит справа И. Арсанукаев-Дышнинский. Фото (38, вклейка)
договор и «...оказывать нам, по крайней мере, в течение нескольких лет существенную помощь, имея в виду, что Северо-Кавказское Эмирство является авангардом Грузинской и Азербайджанской республик и что наша нынешняя борьба имеет колоссальное значение не только для нас...»1.
От заключения какого-либо официального договора грузинское правительство воздержалось, но реальная помощь была оказана — из Грузии поступает не только оружие, но и группа грузинских военных инструкторов под командованием генерала Кереселидзе. Надо полагать, что грузинский отряд не очень уверенно чувствовал себя в Чечне, а его командир не доверял своим союзникам. Поэтому вскоре грузинские инструкторы вернулись в Грузию, оставив большую часть имевшегося у них оружия наиболее боеспособной части эмирата — отряду коммуниста Н. Гикало. И. Арсанукаев-Дышнинский по поводу бегства грузинского отряда выразил недовольство правительству Грузии: «...три агитатора
1 Цит. по кн.: Авторханов А. К основным вопросам истории Чечни. — Грозный, 1930. - С. 59.
Северо-Кавказский эмират Узун-Хаджи в гражданской войне на Тереке
Деникина сумели запугать Грузинский экспедиционный отряд, агитируя, что их якобы собираются выдать представителям Деникина»1.
Правительство эмирата. Роль большевиков. Правительство, созданное И. Арсанукаевым-Дышнинским, во многом носило декоративный характер, иначе нельзя объяснить появления в его составе министра промышленности или военно-морского министра. Некоторые из членов кабинета, например, военный министр Шита Истамулов или министр путей сообщения Куси Байгиреев, не имели никакого образования и не умели даже читать и писать. В правительство Северо- Кавказского Эмирства вошли и большевики, в частности, важный пост министра внутренних дел занял видный кабардинский революционер X. Бесленеев, главой казначейства был назначен чеченский коммунист
А.-Х. Саламов.
Помимо большевиков самых разных национальностей, заметную роль в жизни Северо-Кавказского Эмирства играл и турецкий эмиссар Гуссейн-эфенди, пользовавшийся большим влиянием в Шатойском округе, где он исполнял обязанности губернатора. У Гуссейн-эфенди, как и у большевиков, сложились натянутые отношения с И. Арсанукаевым-Дышнинским. В одном из своих писем турок даже упрекал И. Арсанукаева-Дышнинского за плохое исполнение обязанностей главы правительства и отсутствие должного внимания к нуждам простых жителей: «Я должен доложить Вам, что шатоевцы и прочие горцы воюют с русскими (белогвардейцами. — Авт.) до имама Узун-Хаджи со мною вместе и стоят беспрерывно в боях, не получая ни денег, ни патронов, ничего в буквальном смысле. Я боюсь Аллаха не сказать правды, что горцы... стоят много. ...Горцы, продали своих коров и тому подобное, купили винтовки и патроны и выступили. Знал я много чеченцев, но от горцев не оторвусь. ...Горцы вам родственники, мне — ничего. Вы, как я полагаю, мало о них думаете»2.
Не вызывает сомнения, что создавая первый кабинет министров, Узун-Хаджи стремился упорядочить внутреннюю жизнь своего государства и обрести внешних союзников. Появление же чисто формальных министерств типа военно-морского, должно было символизировать твердое намерение имама со временем раздвинуть границы своего государства от Черного до Каспийского морей.
Выпуск денежной массы. В рамках этой стратегии следует рассматривать и попытку организовать выпуск собственных денежных знаков. На территории Северо-Кавказского Эмирства имели хождение все денежные знаки, начиная от царских «николаевских» и заканчивая
2 Цит. по кн.: Тахо-Годи А. Революция и контрреволюция в Дагестане. — Махачкала, 1927. — С. 228.
2 Цит. по ст.: ГатуевДз. «Империя» Узун-Хаджи // Революционный Восток. — 1928. —
№ 4—5. — С. 289.
Глава XIV. Октябрьский переворот и ход гражданской войны на территории нашего края
(1917—1920 гг.). Мюриды революции
Денежная купюра Северо-Кавказского эмирата (38, вклейка)
деньгами Терской республики. Именно последние и были первоначально объявлены законными, но только в том случае, если на них стояла именная печать Узун-Хаджи. Выпуск собственных денег начался в конце 1919 г. — в обращение поступило довольно большое количество купюр разного достоинства (от 5 до 500 рублей) с надписями на арабском, русском и даже французском языках. Печатались эти деньги самым простым способом — плоской печатью на литографском камне.
В последнюю очередь был организован выпуск небольшой партии мелкой медной монеты, для чего пришлось не только закупать медь у населения, но и организовать несколько налетов на железную дорогу, для «экспроприации» медных деталей с паровозов. Кстати, работали над выпуском «чеченских денег» профессиональные фальшивомонетчики1.
Надо признать, что появление собственных денег мало отразилось на экономической жизни горной Чечни. Бумажные деньги имели здесь малую ценность — в торговле повсеместно господствовал натуральный обмен. Даже назначенные имамом должностные лица предпочитали взыскивать подати не деньгами, а сельскохозяйственными продуктами или даже дровами2.
Деньги самого разного образца имели хождение в это время не только на территории имамата, но и во всей Чечне. Это обстоятельство было как нельзя на руку обосновавшимся в Чечне терским коммунистам, которые, уходя в горы, унесли с собой все денежные запасы Терской республики. Осенью 1919 г. Н. Гикало даже использовал советские денежные знаки
1 См.: Николаев Р. Чеченские деньги // Родина. — 2000. — № 1—2. — С. 157—158; Муцаев А. Денежные знаки Северо-Кавказского эмирата // Вестник ЛАМ. — 2001. — № 1(5). — С. 28—29.
2 ГатуевДз. «Империя» Узун-Хаджи // Революционный Восток. — 1928. — № 4—5. — С. 280.
Северо-Кавказский эмират Узун-Хаджи в гражданской войне на Тереке
для выпуска в оборот собственных денег. По примеру Узун-Хаджи, на купюры ставилась печать с надписью «ком. красн. армии в Терской обл.». Таким нехитрым способом было изготовлено 200 тысяч рублей, которые использовались для снабжения красноармейцев1.
Армия эмирата в боях. Первым испытанием союза большевиков с Узун-Хаджи стало возобновление боевых действий в августе 1919 г. Разместив гарнизоны в слободе Воздвиженской и в Шали, деникинские войска направились к Веденскому ущелью. С 12 по 29 августа ожесточенные бои идут за селение Сержень-Юрт (стоявшее у входа в ущелье, ведущего в Ведено), которое несколько раз переходило из рук в руки. Войсками Узун-Хаджи в этих боях руководил отважный воин Ш. Истамулов.
Отряды русских красноармейцев, вошедшие в состав войск Узун-Хаджи, действовали самостоятельно и впервые проявили себя 11 сентября 1919 г., совершив удачное нападение на гарнизон слободы Воздвиженской. Здесь были расположены части Апшеронского полка, укомплектованные бывшими красноармейцами, и Н. Гикало удалось заблаговременно, путем переговоров, склонить часть гарнизона на свою сторону. Возможно, это обстоятельство не укрылось от белого командования, потому что к моменту подхода красноармейцев к Воздвиженской местный гарнизон был усилен казаками. Бой за слободу принял серьезный характер и продолжался около 8 часов. В этом бою погиб командир Чеченской Красной Армии А. Шерипов, лично возглавивший одну из конных атак. Часть белогвардейских войск к концу дня отступила к Грозному, а 112 солдат сдались в плен и были отправлены в Ведено.
1 Пономарева И. «Деньги Гикало» // Грозненский рабочий. — 1979. — 4 дек. — С. 4.
Асланбек Шерипов. 1919 г. Фото
Глава XIV. Октябрьский переворот и ход гражданской войны на территории нашего края
(1917—1920 гг.). Мюриды революции
Полная и безусловная победа была омрачена гибелью 20-летнего великого сына Чечни — молодого и талантливого народного вождя Асланбека Шерипова. Это была подлинно трагическая фигура переломной эпохи. Он пользовался любовью и уважением своего народа, который любил пламенно и беззаветно, но оказался в таком переплетении политических движений и катаклизмов, что в силу своего кристально чистого характера не мог не сгореть в адском огне гражданской войны.
Успех, достигнутый в Воздвиженской, был развит удачной атакой отрядов Узун-Хаджи на Шали, откуда также был изгнан деникинский гарнизон. Преследуя отступающего противника, чеченские отряды оказались в непосредственной близости от Грозного, взяв в плен еще 138 солдат и офицеров противника.
Со своей стороны, командование Добровольческой армии приняло дополнительные меры, чтобы покончить с восстанием в Чечне. Против горцев двинута группировка численностью в 15 тысяч солдат и офицеров, которые именно в это время были так необходимы А. Деникину для развития наступления на Москву. 5 октября начались упорные трехдневные бои за Чечен-Аул, после чего новому разгрому подверглись селения, расположенные рядом с железной дорогой. Постепенно бои вновь переместились к Сержень-Юрту, дальше которого деникинцам так и не удалось продвинуться \
Укрепление проболыпевистских отрядов в горах Чечни. Восстания в Грозном. В октябре 1919 г. руководители терских коммунистов несколько скорректировали свою политику. Сохраняя союз с Узун- Хаджи, который позволял держать в напряжении стратегический тыл Добровольческой армии, они основное внимание уделяли теперь созданию и укреплению отдельных горских красноармейских частей, подчиненных общему командованию. Так, численность отряда М. Ушаева, преданного сторонника большевиков, удалось довести до 300 бойцов, а на вооружении у него имелось 3 орудия и 12 пулеметов1 2.
Кроме того, была активизирована деятельность коммунистического подполья в Грозном, созданного еще в мае 1919 г. Грозненские подпольщики сумели не только внедриться в штаб и местное отделение деникинской контрразведки, но и установить прочные связи с коммунистическим подпольем в других городах Северного Кавказа. Уже летом 1919 г. началась подготовка вооруженного восстания в Грозном. Несмотря на то что деникинской контрразведке удалось все же внедрить агентов в большевистское подполье и произвести осенью
1 Борьба за Советскую власть в Чечено-Ингушетии (1917—1920 гг.): Сб. документов и материалов. — Грозный, 1958. — С. 205—207; Гойгова 3. А.-Г. Командующий Терской областной группой Красных повстанческих войск // Вопр. истории революции и гражданской войны в Чечено-Ингушетии. — Грозный, 1985. — С. 24.
2 Прядко В. Чекист // Грозненский рабочий. — 1967. — 19 дек. — С. 2.
— 670 —
Северо-Кавказский эмират Узун-Хаджи в гражданской войне на Тереке
массовые аресты — подготовка к восстанию не только не прекратилась, но и ускорилась.
Численность грозненского гарнизона составляла 8 тысяч солдат и офицеров, имевших на вооружении 41 пулемет и 16 орудий1. Однако, ввиду того что многим арестованным подпольщикам грозила смертная казнь, все-таки был взят курс на вооруженное восстание, которое было назначено на 22 декабря 1919 г. Первой целью восставших должна была стать городская тюрьма.
В ночь на 20 декабря 1919 г. красноармейский отряд численностью до 500 человек во главе с Н. Гикало скрытно снялся и направился из Шатоя на равнину, но вскоре был обстрелян и задержан чеченскими отрядами под командованием нового шатойского губернатора А. Теса- ева и турецкого офицера Гуссейна-эфенди, командовавшего 6-й армией имамата. Не зная причины скрытного движения красноармейцев, они заподозрили их в намерении перейти на сторону деникинцев. Только на следующую ночь Н. Гикало смог направить к Грозному 250 бойцов, которые благополучно дошли до городских окраин и даже предприняли безуспешную попытку прорваться в город. Однако, их атака не была поддержана грозненским подпольем, которое не сумело организовать выступление к назначенному сроку.
Лишь на следующую ночь (с 22 на 23 декабря) началось восстание в Грозном, но оно уже не было поддержано красноармейцами, которые вернулись на свою базу в Шатой. Восставшим удалось захватить тюрьму и освободить арестованных, но на этом их успехи закончились. Только 130 человек сумели выйти из города и добраться до отряда Н. Гикало. Сам Н. Гикало, докладывая о неудачном исходе восстания, сообщал и о начавшихся в Грозном массовых казнях: «Сейчас в Грозном кошмарные репрессии: 79 человек повешено и масса расстреляна»2.
Поддержка эмира Москвой. Осуждение И. Арсанукаева-Дышнин- ского. Несмотря на провал грозненского восстания и все возраставшую недоброжелательность И. Арсанукаева-Дышнинского, положение красноармейских отрядов в Чечне продолжало укрепляться. В декабре 1919 г. для переговоров с Узун-Хаджи в Ведено прибыл официальный представитель 11-й Красной Армии, начавшей продвижение к Северному Кавказу (что, кстати сразу же повысило авторитет Н. Гикало в глазах имама). К тому же, вскоре удалось добиться смещения И. Арсанукаева-Дышнинского. Москва шла на прямой союз с Узун-Хаджи в борьбе с Деникиным.
31 января 1920 г. отряд Н. Гикало, укрепившийся в слободе Воздвиженской, был атакован превосходящими силами деникинцев (около
! Киреев Е. Восставшая тюрьма // Грозненский рабочий. — 1957. — 12 янв. — С. 4.
- Борьба за Советскую власть в Чечено-Ингушетии (1917—1920 гг.): Сб. документов
и материалов. — Грозный, 1958. — 209, 217.
Глава XIV. Октябрьский переворот и ход гражданской войны на территории нашего края
(1917—1920 гг.). Мюриды революции
6 тысяч штыков и сабель). В течение нескольких часов, пока шел бой, И. Арсанукаев-Дышнинский, находившийся с основными силами рядом, не предпринял никаких действий по оказанию помощи гикаловцам, хотя и располагал необходимыми для этого резервами. Содействие окруженным красноармейцам оказали шалинцы, которых привел Шахид Борщиков (они обстреливали позиции белых с правого берега Аргуна) и отряд М. Ушаева, который вступил в бой несмотря на отсутствие соответствующего приказа И. Арсанукаева-Дышнинского.
Сумев выйти из окружения с минимальными потерями, Н. Гикало вначале арестовал И. Арсанукаева-Дышнинского, а затем добился предания его шариатскому суду по обвинению в измене. Суд сохранил И. Арсанукаеву-Дышнинскому жизнь, но эмир уволил его со всех занимаемых постов.
Поражение деникинцев. Развал эмирата. К этому времени военно-политическая обстановка на Северном Кавказе изменилась коренным образом. Первоначально успешно развивавшееся наступление деникинцев на Западном фронте достигло к осени 1919 г. линии Орел,
Направления уларов советских —- войск J7 января-6 февраля
Положение войс -*«» советских <
сторон 7-13 февраля в®®» белтвасаеж
* Мвдр к Добровольческий корпус Линия фронта к исходу 2 марта Нт Кубанский ковдый корпус
Направления уларов советских войск Лк Донской корпус
3 карта-7 апреля Ну6.я Кубанский корпус
Направление действий советских Actpat. яка. д Астраханская казачья дивизии партизан -
Контрудары балагвардййсних №
„ u — lit Ку£зж>-Чернои<)рс*ая па рязанская К ft.-л.ларт. Кй красная Ар^ия
Освобождение Северного Кавказа зимой-весной 1920 г. (44, 535)
— 672 —
Северо-Кавказский эмират Узун-Хаджи в гражданской войне на Тереке
Курск, Тамбов и Воронеж. До Москвы (столицы «Совдепии») оставалось 300 километров. Но сжавшаяся пружина стремительно разжалась, и в октябре 1919 г. советские войска, накопившие мощные военные силы и материальные резервы, перешли в наступление в южном направлении. Крестьянство, испытавшее на себе «белый» террор и потерявшее надежду, что «белая власть» сохранит за крестьянами национализированные помещичьи земли, качнулось в сторону советской власти. Развивая наступление, Красная Армия быстро продвигалась к границам Чечни, а в тылу у разваливающейся Добровольческой армии на Северном Кавказе активно готовились выступить отряды горцев-партизан и красноармейцев. 24 января 1920 г. все красноармейские отряды в Терской области были организационно сведены в областную группу красных повстанческих войск под командованием Н. Гикало.
Когда в марте 1920 г. красные отряды из Чечни выдвинулись в сторону Грозного, они практически не встретили сопротивления — деникинские войска спешно покидали Терскую область. 17 марта повстанцы без боя заняли Грозный, к которому только 24 марта подошли и регулярные части 11-й Красной Армии. Когда делегация Узун-Хаджи прибыла в Грозный с целью добиться признания его духовным и светским главой мусульман (имамом) Северного Кавказа, а также полной внутренней самостоятельности для его государства, народный комиссар Костерин выдвинул встречное условие — публичное признание Узун- Хаджи советской власти. Только после этого большевики соглашались
Утро большого дня» (приход новой власти). Художник Р. С. Мальцагов
Глава XIV. Октябрьский переворот и ход гражданской войны на территории нашего края
<1917—1920 гг.). Мюриды революции
признать престарелого эмира духовным главой мусульман: «.. .вместе с тем, вы... раз и навсегда должны отказаться от гражданской власти. Вы должны прекратить назначение приставов, старшин, начальников участков, губернаторов и т. д. Всех, уже назначенных, объявить уволенными со службы... Организация армии должна быть прекращена, а старая немедленно распущена. Дальнейшие распоряжения по этому вопросу ожидать от высшей власти» \
Узун-Хаджи о требованиях большевиков так и не узнал — он умер за несколько часов до возвращения своей делегации. В могилу с ним ушел и эмират без каких-либо политических последствий для Чечни и Дагестана.
* * *
Таким образом, Октябрьский смерч 1917 года бушевал над страной вплоть до 1920 г. Эти несколько лет выдвинули Чечню на передний план борьбы с наиболее реакционными силами бывшей Российской империи. Однако, борясь с уходящим злом, общество проникалось ценностями и идеями другого зла — тоталитарного большевизма. Правда пока новая власть боролась за право существования, она формально разделяла нужды и чаяния чеченского народа. В этом плане чеченцы, как и другие народы России, оказались жертвами исторических обстоятельств, а не их творцами.
В годы гражданской войны нация выдержала сотни малых боев и десятки настоящих сражений. Появились лидеры всех толков и направлений, выделились вожди и талантливые командиры. В крови и огне должна была родиться новая, сильная Чечня. Однако, вместе с частями 11-й Красной Армии, победно вступившей на Северный Кавказ, сюда же пришла грозная карательная система подавления, которая физически и духовно истязала и мучила нацию десятки последующих лет. 11 См.: Гатуев Дз. «Империя» Узун-Хаджи // Революционный Восток. — 1928. — № 4—5. — С. 301; Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия. Изд. 2-е. — М., 1987. — С. 537.
— 674 —
Глава XV. Огнем и мечом: строительство советской власти в Чечне (20—30-е годы XX века)
§ 1. Чечня после окончания гражданской
войны. Образование Горской Автономной Советской Социалистической Республики
Последствия войны. Первые управленческие шаги и территориально-административные преобразования. Чечня вышла из гражданской войны (1918—1920 гг.) в прямом смысле обескровленной: за один только 1919 г. до основания были разрушены 22 чеченских селения, без крова осталось около 80 тысяч человек. Общие людские потери составляли не менее 30—40 тысяч человек, из которых тысячи людей погибли непосредственно в ходе военных действий против белоказаков и Добровольческой армии Деникина, а остальные стали жертвами голода и болезней, вызванных военной разрухой. Можно утверждать, что за годы гражданской войны в Чечне погиб или умер в результате эпидемий приблизительно каждый 8-й или даже 7-й житель.
С восстановлением советской власти чеченское крестьянство связывало свои надежды на быстрое разрешение в свою пользу земельного вопроса и установление в крае твердой народной власти. Ожидалась также помощь со стороны государства в деле восстановления разрушенного войной хозяйства. Это подтвердил и съезд представителей чеченских селений, открывшийся в Грозном 3 апреля 1920 г. В телеграмме на имя руководителей коммунистической партии и Советского государства участники съезда выразили уверенность, что «.. .Советская власть возвратит нам землю, украденную у наших отцов...»1.
Съезд провозгласил передачу всей власти Чеченскому революционному комитету из пяти человек и утвердил его состав. Председателем первого Чеченского ревкома стал Т. Эльдарханов. Этот орган получил практически всю полноту власти на территории Чечни, кроме Грозного и казачьих станиц.
В административном отношении Чечня была сведена в единый округ (из бывших Веденского и Грозненского). Хасав-Юртовский округ существовал отдельно, причем созданный здесь ревком взаимодействовал с властями Дагестана и Чечни. Главной опорой советской власти на Тереке являлись части 11-й и 8-й Красных Армий, расквартированные
См.: ГАРФ. Ф. Р-1235. Оп. 122. Д. 136. Л. 10 об.; Ф Р-130. Оп. 4. Д. 588. Л. 50; Серафимович А. С. Кавказские встречи. — Грозный, 1980. — С. 41.
— 675 —
Глава XV. Огнем и мечом: строительство Советской власти в Чечне (20—30-е гг. XX в.)
Осман Ахтаханов, член первого Ревкома Чечни. В 20-х гг. постоянный представитель Чеченской АО в Москве. Фото (Интернет, chechnyafree.ru)
не только в Грозном и казачьих станицах, но и в бывших царских крепостях Ведено и Шатой (весной 1920 г. 8-я армия была преобразована в Кавказскую Трудовую Армию).
Ревкомы, повсеместно создаваемые на Северном Кавказе, представляли собой не только временные, чрезвычайные органы власти, призванные подготовить переход власти к Советам всех уровней, выборы которых еще предстояло провести. По сути, это были органы осуществления диктатуры коммунистической партии и именно поэтому в той же Чечне крестьянские Советы за короткий срок распускались дважды (в августе 1921 и в июле 1922 г.) и вновь восстанавливалась власть ревкома. Интересно, что в Чечне первый ревком был создан еще до того, как появился Терский областной ревком, что объяснялось, скорее всего, уверенностью партийного руководства в просоветских настроениях чеченцев.
Чрезвычайный комиссар Юга России Г. К. Орджоникидзе на протяжении 1919 г. неоднократно сообщал в Москву, что горцы вообще, а чеченцы и ингуши в особенности, открыто поддерживают советскую власть. Эта уверенность целиком основывалась на активном участии горцев в войне против белогвардейской армии А. Деникина. При этом почти не учитывался тот факт, что антиденикинские настроения чеченского крестьянства объяснялись не только привлекательностью лозунгов большевиков, но и собственно действиями Добровольческой армии, направленными на восстановление прежней системы национального угнетения, существовавшей при царизме. Тем не менее, летом 1920 г.
Чечня после окончания гражданской войны. Образование Горской Автономной
Советской Социалистической Республики
Г. К. Орджоникидзе был твердо уверен, что горское население Терской области «...безусловно, на стороне Советской власти...»1.
Явно переоценив популярность советской власти и коммунистической идеологии среди чеченцев, Северо-Кавказский ревком под руководством того же Г. К. Орджоникидзе форсировал в Чечне проведение выборов в местные Советы. Выборы прошли в период с 5 по 25 июля 1920 г., а с 1 августа началась передача власти вновь сформированным Советам. К глубокому разочарованию коммунистов, подавляющее большинство мест в Советах получили, по их мнению, представители так называемых «кулацко-мульских и националистических элементов», из которых и была преимущественно сформирована чеченская делегация на I съезд Советов Терской области2. На деле речь шла о том, что в Советы были избраны не проболыыевистские маргиналы, а самостоятельные люди, способные спорить с существующей властью и отстаивать свои права.
Шариатские суды. Перепись 1920 г. Несмотря на то что после смерти эмира Узун-хаджи созданное им государственное образование сразу же распалось, а среди наиболее известных чеченских шейхов того времени не было единства, мусульманское духовенство продолжало оказывать серьезное влияние на общественно-политическую ситуацию в Чечне. Это выразилось, в частности, в создании «народно-шариатских» судов, хотя в Чечне действовали на тот момент революционные трибуналы, Всероссийская Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) и особые отделы воинских частей, расквартированных здесь. Действие «народно-шариатских» судов распространялось на чеченцев и других горцев-мусульман края, их рассмотрению подлежали уголовные и общегражданские дела3.
Власть Чеченского ревкома, а затем и вновь созданных Советов всех уровней, носила в Чечне преимущественно чисто формальный характер. Так, власти не смогли организовать перепись населения: в горные районы переписчики вообще не попали, а в плоскостных селениях были получены явно неполные и заниженные данные, так как крестьяне полагая, что перепись проводится с целью последующего налогового обложения, либо отказывались принимать переписчиков, либо уменьшали численность семей. В итоге переписать удалось около 250 тысяч человек, хотя по минимальным оценкам в Чечне проживало никак не менее 285 тысяч горцев4.
Орджоникидзе Г. К. Статьи и речи. Т. 1. — М., 1956. — С. 121.
- Носов Н. К первой годовщине Горской Республики // Жизнь национальностей. — 1922. - № 10. — С. 6.
Кокурхаев К. А. Особенности судопроизводства в Чечено-Ингушетии в первые годы Советской власти // Проблемы социалистической законности. Вып. 19. — Харьков, 1987. — С. 64.
- ГАРФ. Ф. Р-5677. Оп. 3. Д. 346. Л. 5.
Глава XV. Огнем и мечом: строительство Советской власти в Чечне (20—30-е гг. XX в.)
Падение популярности советской власти. Создание советских органов власти никак не решило проблему скорейшего экономического восстановления Чечни, почти половина населения которой систематически голодала, питаясь одной кукурузой. Разовые раздачи ограниченного ассортимента промышленных товаров («мануфактура») и продовольствия не могли существенно облегчить положение чеченского крестьянства, нуждавшегося в систематической помощи для восстановления разрушенного войной хозяйства. Как признавала советская печать, именно неспособность советской власти организовать быстрое восстановление чеченских селений, стала одной из причин падения ее популярности в Чечне1.
Кроме того, массовое недовольство вызывали странные в тех условиях попытки властей ввести в Чечне, по примеру центральных областей России, продовольственный налог (продразверстку), а также задержки с выплатами компенсаций за реквизиции, произведенные в годы гражданской войны, и наложение ограничений на торговлю, связанных, прежде всего, с государственной хлебной монополией. Еще одним раздражающим фактором стал произвол, творимый революционными трибуналами и другими карательными органами советской власти.
Чечня, как и весь Северный Кавказ, поздно познакомилась с обычной для остальной Советской России практикой «красного террора» и безумной вакханалией чекистских органов. Фактически карательные органы, прибывшие сюда с Красной Армией, не только не подчинялись местным властям, но и действовали независимо от кого-либо. Так, комиссар Кавказской Трудовой Армии И. Врачев жаловался, что особый отдел этой армии производит массовые расстрелы, о которых «...почти ничего не известно не только Ревтрибуналу или Политическому отделу армии, но ни мне, ни командующему армией».
В отдельных случаях казни носили демонстрационный характер. Так, во время проведения чеченского съезда в Грозном по приговору местной ЧК были демонстративно расстреляны 7 чеченцев. Эта казнь произвела настолько «...убийственное впечатление на массы не успевших разъехаться после съезда чеченцев», что командование Кавказской Трудовой Армии потребовало впредь приводить в исполнение смертные приговоры над чеченцами как можно дальше от Чечни2.
В довершение всего, острый экономический и финансовый кризис, поразивший Советское государство, сказался и на вооруженных силах. В частности, расквартированные в Чечне части почти не получали имущественного и продовольственного довольствия, что вынуждало их заниматься «самоснабжением»: «...Красная Армия не только дебоширила,
1 См.: ГАРФ. Ф. Р-130. Оп. 4. Д. 270. Л. 48; Бутаев И. Грозненская нефть и Чечня // Жизнь национальностей. — 1922. — № 10. — С. 6.
2 ГАРФ. Ф. Р-130. Оп. 4. Д. 270. Л. 17,21,48.
— 678 —
Чечня после окончания гражданской войны. Образование Горской Автономной
Советской Социалистической Республики
но отбирала хлеб, скот и проч., терроризируя население бесцельными убийствами». Так, летом 1920 г. в селении Центорой чеченцами было разгромлено одно из подразделений Кавказской Трудовой Армии, занимавшееся прямыми грабежами1.
Борьба группировок в партийно-советских кругах. Ситуацию в Чечне еще больше осложняла острая борьба между различными группировками внутри партийных и советских органов. Н. Гикало и его сторонники в Грозном, зараженные революционным энтузиазмом, настаивали на необходимости форсировать «проведение классового расслоения в Чечне», выявление «эксплуататорских классов и скрытых врагов Советской власти» с их последующим уничтожением. Фактически это означало развязывание новой гражданской войны внутри Чечни, что должно было в короткий срок, по мысли политических авантюристов с партбилетами, сделать ее вполне «советской».
Кроме того, серьезные претензии высказывались в адрес руководителей Чеченского ревкома и других национальных органов власти, которых обвиняли в «национализме». В условиях гражданской войны, когда военная необходимость настоятельно требовала привлечь на свою сторону горцев, терские большевики не обращали особого внимания на несовпадения во взглядах с горскими лидерами. Тем самым в горских областях «...создавался тип коммуниста, который был в период революции носителем не непосредственно пролетарской революции, а национально-освободительной революции в первую очередь». Теперь, после победного завершения гражданской войны, Н. Гикало и его сторонники считали, что пришло время избавиться от «попутчиков» всех мастей, в число которых были зачислены почему-то исключительно чеченцы. Именно эта группировка обвиняла Т. Эльдарханова в том, что возглавляемые им органы проводят курс, направленный на достижение политической и экономической самостоятельности Чечни (хотя речь, конечно, шла об автономии в рамках Советского государства). Попутно выдвигались обвинения в должностных преступлениях и разворовывании государственных средств2.
Позиция Г. К. Орджоникидзе. Напротив, Г. К. Орджоникидзе, стоявший во главе Кавказского бюро Центрального Комитета Российской Коммунистической партии (большевиков), считал преждевременным отказ от союза со всеми горцами, что могло существенно подорвать все еще слабые позиции советской власти на Кавказе. К югу от Большого Кавказского хребта все еще существовали независимые закавказские
! См.: ГАРФ. Ф. Р-130. Оп. 4. Д. 270. Л. 2; Тайны национальной политики ЦК РКП: Четвертое совещание ЦК РКП с ответственными работниками национальных республик и областей в Москве 9—12 января 1923 г. — М., 1992. — С. 202.
- См.: ГАРФ. Ф. Р-1235. Оп. 95. Д. 517. Л. 66; Бутаев Ин. Борьба и освобождение горских народов // Революционный Восток. — 1928. — № 4—5. — С. 175.
— 679 —
Глава XV. Огнем и мечом: строительство Советской власти в Чечне (20—30-е гг. XX в.)
Г. К. (Серго) Орджоникидзе. Фото (44, 420)
республики, а в Крыму окопалась белогвардейская армия барона Врангеля. Тяжелая война с Польшей не позволяла Красной Армии приступить к ликвидации этого плацдарма «контрреволюции» в непосредственной близости от Кавказа. Г. К. Орджоникидзе признавал, что советские органы существуют в Чечне «...сами по себе, а чеченцы сами по себе». Он признавал также, что горцы зачастую поддерживали советскую власть исходя из того соображения, что у них имелся общий враг — белока- зачество. Указывая, что не следует «...отождествлять всякое движение против казаков с революционным движением, руководители такого движения часто сами являются контрреволюционерами», он все же полагал, что политика по отношению к горцам не должна претерпеть коренных изменений, а в центре партийной работы должен стать вопрос
0 создании горской автономии1. Во внутрипартийную борьбу, разгоревшуюся на Северном Кавказе, оказались вовлеченными и высшие руководители Советского государства, в частности, И. В. Сталин и
В. И. Ленин, поддержавшие план создания общегорской автономии.
Клановая борьба. Два съезда, две позиции. Точку зрения Г. К. Орджоникидзе в Чечне полностью разделял авторитетный Т. Эльдарха- нов, возглавлявший вначале Чеченский ревком, а затем и Чеченский окружной исполнительный комитет. Внутри и вокруг этих органов разгорается ожесточенная борьба. Так, осенью 1920 г. состоялось сразу два чеченских «национальных» съезда: в селении Алды собрались бывшие партизаны А. Шерипова и другие противники Т. Эльдарханова, а в Грозном — его сторонники. Съезд в Алдах, судя по всему с подачи «младокоммунистов» Н. Гикало и др., выразив недоверие Чеченскому облисполкому, потребовал привлечь в них русских, по национальности,
1 Орджоникидзе Г. К. Статьи и речи. Т. 1. — М., 1956. — С. 132—133.
— 680 —
Чечня после окончания гражданской войны. Образование Горской Автономной
Советской Социалистической Республики
партийных работников. Прибывших в Алды Г. Орджоникидзе и Т. Эль* дарханова участники съезда освистали, не дав им выступить.
Проходивший в это же время альтернативный съезд в Грозном выдвинул прямо противоположные требования — ограничить участие «.. .русских товарищей в строительстве Советской власти в Чечне». Противостояние двух съездов разрешилось силовым методом — Алдынский съезд был разогнан, а несколько грозненских партийных работников, обвиненных Г. Орджоникидзе в преступном игнорировании местной специфики, арестованы1. Н. Гикало на короткое время бежал из Грозного, спасаясь от мести всесильного Г. Орджоникидзе.
На этом, однако, борьба между различными группировками внутри создаваемого в Чечне советского государственного аппарата не закончилась. Почувствовавший поддержку со стороны центра, Т. Эльдарханов потребовал отозвать некоторых делегатов, которых ранее Чеченский исполком направил в Москву и Баку в качестве своих представителей. В частности, был отозван Джу Акаев, которого Т. Эльдарханов через год, в сентябре 1921 г., обвинит в панисламизме2.
Впрочем, борьба внутри советского и партийного аппарата края объяснялась не только идеологическими разногласиями, но и столкновением личных и клановых интересов. Так, абхазский коммунист Е. Эшба (Эжба), проработавший некоторое время на высшем партийном посту в Чечне, отмечал, что в государственном аппарате идет непрерывная борьба за должности. В качестве основной причины междоусобицы он называл корыстные интересы, подчеркивая: «Здесь возможен простор взяточничества, скрытого и явного»3.
В целом влияние новых органов власти в Чечне было весьма ограниченным. Командование Кавказской Трудовой Армии прямо указывает в своих отчетах: «В Чечне до сих пор никакой Советской власти нет. Там властвуют муллы: в одних местах открыто, в других через посредство «комиссаров». Чеченский исполком совершенно бездействует и в данном составе ненадежен». Как признавал позднее сам Т. Эльдарханов, был момент, когда вооруженные отряды различных чеченских шейхов создавали прямую угрозу самому существованию советской власти в Чечне4.
1 ГАРФ. Ф. Р-1235. Оп. 95. Д. 517. Л. 23,90; Ф. Р-130. Оп. 4. Д. 270. Л. 48,48 об.
2 См.: ГАРФ. Ф. Р-130. Оп. 4. Д. 588. Л. 159; Юсупов Я. И. Коммунистическая партия в борьбе по претворению в жизнь ленинских принципов национальной политики в Чечено-Ингушетии (1921—1925 годы) // Известия Чечено-Ингушского НИИ истории, языка и литературы. Т. 5. Вып. 1. — Грозный, 1964. — С. 76.
3 Из блокнота секретаря Организационного бюро ВКП(б) Чеченской автономной области Ефрема Эшбы // Справедливость. — 1990. — № 1—2. — С. 9.
4 См.: ГАРФ. Ф. Р-130. Оп. 4. Д. 270. Л. 20; Тайны национальной политики ЦК РКП: Четвертое совещание ЦК РКП с ответственными работниками национальных республик и областей в Москве 9—12 января 1923 г. — М., 1992. — С. 199.
— 681 —
Глава XV. Огнем и мечом: строительство Советской власти в Чечне (20—30-е гг. XX в.)
Действительно, с точки зрения ивановского или петроградского парт- деятеля, в Чечне не было советского типа управляемости — покорного, запуганного населения, над которым без опасения можно было проводить кровавые классовые эксперименты. Здесь имелся вооруженный народ и просоветски (в политическом плане) настроенные национальные управленцы, не всегда справляющиеся с гражданской вольницей.
Подготовка антисоветского восстания. Летом 1920 г. специальным службам Советского государства становится известно о подготовке антисоветского восстания на Северном Кавказе. Нити заговора вели в Тифлис и Крым. Непосредственной подготовкой мятежа руководил созданный в Грузии «Комитет помощи по освобождению Терского края от большевиков». Во главе указанного комитета стояли два белогвардейских генерала кавказского происхождения — Меликов и Туманов. В Терской области штаб заговорщиков возглавляли два высших казачьих офицера: генерал Блажнов и полковник Портянкин. Было известно также, что созданные в Терской области казачьи отряды поддерживают связь с подобными отрядами на Кубани, а через них — с армией барона Врангеля в Крыму. Были также сигналы, что якобы в некоторых чеченских селениях шло создание вооруженных отрядов, которые получали помощь со стороны грузинского правительства, являвшегося противником как Советов, так и Врангеля.
22 августа 1920 г. в районе грузино-чеченской границы состоялось тайное совещание заговорщиков из антисоветских кругов Чечни и Ингушетии с представителями Грузии1.
Главнокомандующий вооруженными силами Юга России Н. П. Врангель (65, 85)
1 СмлЖупикова Е. Ф. Борьба против бандитизма в Чечне в 1920—1925 гг. // Уч. записки Моек. пед. ин-та. Т. 439. — М., 1971. — С. 85; ГАРФ. Ф. Р-130. Оп. 4. Д. 270. Л. 20, Л. 66—68.
Чечня после окончания гражданской войны. Образование Горской Автономной
Советской Социалистической Республики
Скорее всего, интерес к участию в готовящемся восстании проявили деятели, близкие к бывшему Союзу объединенных горцев, а также некоторые духовные лидеры. В этой связи советские секретные службы отмечали наличие в Чечне трех политических группировок антисоветского характера. Первую составляли «национал-демократы», стоявшие в целом на политической платформе Союза объединенных горцев; вторую — религиозные деятели, добивавшиеся установления «шариатского» правления; и, наконец, третью (самую малочисленную и маловлиятельную) — бывшие богачи, некоторые старые интеллигенты и всякого рода авантюристы, стоявшие на откровенно контрреволюционных позициях. Однако самой сильной партией в крае оставалась «советская» партия.
Восстание в Дагестане. Уже в сентябре 1920 г. в Дагестане вспыхнуло восстание, проходившее под лозунгами ликвидации советской власти и установления шариатского правления. Главная причина восстания заключалась в ошибочных действиях самой советской власти — в горном крае с экстремальным типом хозяйства была введена продразверстка, многочисленные налоги, в числе которых был даже налог на свиней, коих в Дагестане не было последние 500—600 лет. Серьезно усугубляли ситуацию карательные органы, расстреливавшие направо и налево в духе «революционного» истребления неугодных. Руководителями восстания были Н. Гоцинский, внук имама Шамиля Саид-бек (являвшийся, кстати, французским офицером) и белогвардейский полковник Алиханов. К началу зимы были полностью разгромлены красноармейские гарнизоны в Аварии и мятежники взяли под контроль весь Нагорный Дагестан (район Хунзах — Гуниб). Посланные в дагестанские горы части Красной Армии действовали крайне неудачно и несли тяжелые потери — общее число погибших в боях красноармейцев достигло 10 тысяч1.
Дагестанские повстанцы получали поддержку (в основном боеприпасы) из Грузии и, в известной мере, координировали свои действия с действиями генерала Врангеля в Крыму. Воспользовавшись тем, что наиболее боеспособные части Красной Армии были брошены на польский фронт, белогвардейцы даже сумели на короткое время вырваться из Крыма. Главные цели врангелевцев состояли в соединении с польской армией, а также в прорыве на Дон, Кубань и Терек, где они рассчитывали на поддержку казачества. Впрочем, советским войскам удалось довольно быстро ликвидировать эту угрозу и загнать армию Врангеля обратно в Крым, где в том же году она была сброшена в море.
Необходимо отметить, что антисоветское восстание из районов Аварии перекинулось в Анди (Ботлих), а затем, в конце января 1921 г.,
? Тайны национальной политики ЦК РКП: Четвертое совещание ЦК РКП с ответственными работниками национальных республик и областей в Москве 9—12 января 1923 г. — М., 1992. — С. 188.
Глава XV. Огнем и мечом: строительство Советской власти в Чечне (20—30-е гг. XX в.)
и в некоторые пограничные аулы Веденского района Чечни. Движением регулярных армейских частей из равнинного Дагестана и добровольческих групп красных партизан собственно Дагестана из Чечни район восстания был блокирован, а восстание к 15 марта 1921 г. подавлено. При этом, как уже говорилось, Красная Армия понесла крупные потери. Поражение восстания в Дагестане было обусловлено не только превосходством Красной Армии в численности, но и тем, что в феврале 1921 г. «меньшевистская» Грузия была оккупирована РСФСР и тем самым снабжение мятежников с юга прекратилось1.
Следует сказать, что крестьянские восстания в 1920—1921 гг. полыхали по всей России. Кровавым было подавление «антоновщины» — массового восстания крестьян Тамбовской и Воронежской губерний, похоронным звоном для власти большевиков прозвучало зимой 1921 г. восстание «красы и гордости революции» — крепости Кронштадта на Балтике. Долгое время и на большой территории полыхала в те годы крестьянская война в Западной Сибири и Северном Казахстане (Ишимское восстание).
Ситуация в Чечне. Поэтому антисоветское восстание Сунженских станиц, начавшееся 18 октября 1920 г. (причем руководители казаков не скрывали, что ожидают в поддержку и антисоветские выступления в Чечне и Ингушетии), вызвало панику советских властей. Ведь в этот период отряды Гоцинского в Дагестане захватили большую часть Нагор- ног’о Дагестана и осадили крепости Гуниб, Хунзах и Ботлих с крупными красноармейскими гарнизонами. В случае, если бы чеченцы и ингуши действительно примкнули к восстанию на Сунже и в Дагестане, положение советской власти на Северо-Восточном Кавказе можно было считать критическим. Пытаясь предотвратить нежелательное для себя развитие событий, советское руководство заблаговременно предпринимало меры, призванные не допустить волнений в Чечне. Хотя и нерегулярно, но все же начало производиться централизованное бесплатное распределение товаров повседневного спроса, продовольствия, семенного зерна. Сбор обязательных государственных налогов (в частности, продовольственного налога) шел очень осторожно, власти закрывали глаза на нарушение чеченцами запрета на свободную торговлю и т. п. Как и в прошлые, царские времена, была даже предпринята попытка сформировать национальную военную часть — отдельную Чеченскую кавалерийскую бригаду на добровольческой основе. Однако чеченцы, наблюдавшие голодную, разутую и недисциплинированную Красную Армию, неохотно шли служить в армейские части. В бригаде процветало дезертирство — многие новобранцы покидали свои части сразу же после получения обмундирования.
1 См.: Очерки истории Мечено-Ингушской АССР. — Грозный, 1972. — Т. 2. — С. 82; Егорова В. Я, Разаков М.-Г. А., Бабаев Л. М.-Б., Магомедов М. А. История Дагестана. — Махачкала, 1999. — С. 38—41.
Чечня после окончания гражданской войны. Образование Горской Автономной
Советской Социалистической Республики
Выяснилось также, что бригаду невозможно перебросить за пределы Чечни — в этом случае дезертирство приобрело бы массовый характер. В конце концов командование было вынуждено распустить бригаду1.
Восстание Сунженских и терских станиц, так и не получившее поддержку в Чечне, было подавлено практически без участия чеченцев, силами военных частей Северо-Кавказского военного округа. Надо сказать, что лично В. И. Ленин в телеграмме Г. К. Орджоникидзе торопил его с ликвидацией «контрреволюционных банд» на Северном Кавказе, считая это делом «абсолютной общегосударственной важности»2.
Усиление требований о возврате земель. Единственным средством, при помощи которого удалось предотвратить назревающее антисоветское восстание в Чечне, стало экстренное решение в пользу чеченцев давно тлеющего земельного конфликта. Сразу же после восстановления советской власти на Тереке были вновь выселены в пользу «красной» Ингушетии станицы в Тарской долине, один раз уже переселенные в 1918 г. Помимо этого, у части Сунженских станиц, расположенных в пределах Малой Чечни, было изъято до 40 тысяч десятин земли для распределения практически безземельным горцам. Однако требования чеченцев шли гораздо дальше: они настаивали на возвращении им наделов всех станиц по среднему и нижнему течению Сунжи; в общей сложности это составляло более 151 тысячу десятин сельскохозяйственных земель. Не оставались в стороне Ингушетия и Северная Осетия, требовавшие передачи им соответственно еще 57 и 139 тысяч десятин земель, занимаемых казачьими станицами. При этом, например, чеченцы открыто угрожали, что изгонят казаков со своих земель силой, если этого не сделает советская власть. Острота положения усугублялась еще и тем, что живо было поколение чеченцев, помнящих, как царские войска в 40—60 гг. XIX в. изгоняли их из родных аулов Малой Чечни, где учреждались военизированные поселения. 60—70-летние старики требовали, чтобы мечта о возвращении к родным местам исполнилась до их смерти.
Эти угрозы подкреплялись конкретными действиями, в том числе и чисто уголовного свойства — нападения на станицы происходят непрерывно. За один 1920 г. только в станице Ассиновской во время полевых работ были убиты 10 человек, включая двух женщин, ранено 5 и захвачены в качестве заложников еще 5 станичников. За это же время угнано 378 голов крупного рогатого скота, 955 голов мелкого скота и 130 лошадей. Чеченцы самовольно отрезали от станичного надела Ассиновской 2340 десятин, потравили 180 десятин станичных посевов, а еще 6820 десятин так и остались не обработанными, так как казаки не осмеливались выезжать на полевые работы далеко от станицы3.
1 См.: ГАРФ. Ф. Р-1235, Оп. 95. Д. 517. Л. 12; Р-130. Оп. 4. Д. 270. Л. 44 об., 56—56 об.
2 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 51. — С. 277.
3 ГАРФ. Ф. Р-1235. Оп. 95. Д. 517. Л. 9, 78—79,93; P-1318. On. 1. Д. 51. Л. 182.
Глава XV. Огнем и мечом: строительство Советской власти в Чечне (20—30-е гг. XX в.)
Позиция советских властей. Волна нападений на станицы была вызвана не только разгулом бандитизма — власти горских округов под давлением населения, не переставая, требовали от областных властей немедленного выселения Сунженских казаков. Но главное заключалось в другом: войну горцев с казаками всячески инспирировали и провоцировали вышестоящие советские органы. Так, Г. К. Орджоникидзе еще в мае 1920 г. публично подтвердил намерение советской власти переселить за Терек все Сунженские станицы. Даже Чеченская кавалерийская бригада создавалась прежде всего для подавления сопротивления казаков — в листовках, распространяемых от имени советского командования по Чечне летом 1920 г., говорилось, что станицы, восставшие против советской власти и захваченные бригадой, со всеми их землями будут переданы «...в распоряжение Чеченского окружного исполкома...»1.
Поэтому, как только началось антисоветское восстание на Сунже и в Дагестане, экстренно собранным в Грозном представителям Чечни было объявлено о передаче им станиц Ермоловской, Закан-Юртовской, Самашкинской и Михайловской (Серноводской) со всеми их землями, домами и личным имуществом казаков (кстати, казачье имущество и скот чеченцам не достались, они были захвачены чинами Кавказской Трудармии). Только ценой таких обещаний советской власти удалось предотвратить антисоветское восстание в Чечне. Более того, рядовые чеченцы поддержали армейскую операцию по выселению станиц, а также укрывали остатки красноармейских гарнизонов, разгромленных в 1921 г. в Нагорном Дагестане и оттесненных в Чечню2. Вместе с тем, таким шагом советские органы спасли от атак чеченцев основную часть Сунженских станиц Малой Чечни, включенных в Сунженский казачий округ.
Высылка станиц. Выселение Сунженских станиц, а также терской станицы Калиновской, наиболее активно поддержавшей восстание на Сунже, производилось не чеченцами, а подразделениями Кавказской Трудовой Армии. Выселение казаков было решено провести в границах Терской области, направив депортируемых в район Кавказских минеральных вод. Начавшееся 25 октября 1920 г. насильственное выселение казаков сопровождалось массовыми грабежами, убийствами и расхищением имущества, оставляемого казаками, причем участвовали в этих беззакониях не только тысячи рядовых красноармейцов и командование Трудовой Армии, но и члены комиссии Чеченского исполкома по учету принимаемого от казаков имущества, а также, хотя и в последнюю очередь, мародеры из окрестных чеченских селений.
Хуже того, чеченские мародеры специально были «поощрены» командованием Трудовой Армии, в целях, как указывается в одном
1 ГАРФ. Ф. Р-130. Оп. 4. Д. 270. Л. 21.
2 ГАРФ. Ф. Р-130. Оп. 4. Д. 270. Л. 76—76 об.
- 686 —
Чечня после окончания гражданской войны. Образование Горской Автономной
Советской Социалистической Республики
Расказачивание. 1919 год. Худ. Д. А. Шмарин. 1985 г. (56, 97)
из обвинительных документов, исключить «всякую возможность установить точное количество полученного Кавтрудармией в действительности живого и мертвого инвентаря, свалив все на голову чеченцев». Таким образом, хищное разграбление Сунженских станиц было проведено советскими органами власти и армейскими частями, с последующим* «списанием» на «чеченских» бандитов.
Причем, если Сунженские казаки (за исключением красных партизан, оставленных с имуществом на Сунже), переселенные в Ставрополье (Кавминводы), думали, что, уйдя от соседства «диких» горцев и расселившись в «братских» казачьих станицах среди русского населения, они обретут спокойствие, то оказалось, что они жестоко ошибались. Местные советские власти не хотели ими заниматься. Более того, они оказались озабочены одним только обстоятельством — не должны ли быть сунженцы «предоставлены собственной своей участи и обречены на естественное умирание»1.
Казачество как сословие было по определению обречено в Советской России вне зависимости от наличия или отсутствия рядом горского «элемента». В октябре 1920 г. особоуполномоченный ВЧК по Северному Кавказу Ландер издал приказ, согласно которому кавказские станицы и русские селения, укрывавшие «белых и зеленых», подлежали уничтожению, а взрослое население ликвидации через расстрел. Вот что пишет историк и публицист А. Яковлев, о ситуации тех лет в казачьих районах страны: «Пьянство и разгул большевиков в занятых станицах, грабежи,
1 ГАРФ. Ф. Р-1235. Оп. 95. Д. 517. Л. 25,28—28 об., 32.
Глава XV Огнем и мечом: строительство Советской власти в Чечне (20—30-е гг. XX в.)
стрельба по крестам и куполам церквей, насилия над женщинами были не исключением, а правилом поведения карателей»1. Действительно, на том же Дону, где и в помине не было никаких «чеченцев», процесс «расказачивания» принял самые варварские формы. Красноармейцы, чекисты и русские крестьяне Дона (так называемые «иногородние») с редким единодушием несколько лет физически истребляли казаков, без различия пола, возраста и политических взглядов.
Как подчеркивал Г. К. Орджоникидзе, выселение пяти станиц «.. .произвело на казаков ошеломляющее впечатление»2. Никогда больше в Сунженских и терских станицах не произойдет открытого массового выступления против советской власти.
Вместе с тем, советские органы воздержались от выселения всей Сунженской линии, как то было обещано весной 1920 г. Очевидно, советские руководители отчетливо понимали, что, выселив сразу всех казаков, они утратят мощный рычаг и возможность в дальнейшем влиять на политические настроения в Чечне. Были сохранены такие Сунженские станицы Малой Чечни, как Карабулакская, Слепцовская, Троицкая, Ассиновская и Нестеровская, а близ Грозного сохранили станицы Петропавловскую, Ильинскую и Горячеводскую, которые вошли затем в Сунженский автономный округ Горской Республики Указанные станицы были переданы в состав Чеченской автономной области только в 1926—1929 гг. Однако часть излишних («запасных») земель данных станиц была передана в пользу чеченского крестьянства в начале 20-х гг, т. е. произведено своеобразное уравнительное перераспределение земель, что являлось наиболее разумным шагом в разрешении земельной проблемы, созданной в прошлом грабительской политикой царизма, а отнюдь не по вине рядовых казаков.
Таким образом, Чечня, уже полвека задыхавшаяся от земельного голода, получила возможность расселения избыточного населения. В первую очередь на Сунжу переселялись старые жители разоренных аулов, затем горные чеченцы и безземельные крестьяне из равнинных селений.
На первый взгляд, советская власть выполнила свои обещания, приступив к возвращению горских земель, захваченных в результате Кавказской войны. Но отвечать за политику военно-феодальной верхушки Российской империи и казачьих атаманов пришлось рядовому казачеству. Ликвидацию исторической несправедливости большевистская партийная диктатура вела согласно своей природе — методом тотального террора.
Начало реализации идеи горской автономии. Восстания горцев в Дагестане и казаков на Сунже способствовали ускорению решения вопроса о создании автономной республики для горцев в составе РСФСР.
1 Яковлев А. Сумерки. — М., 2003. — С. 144.
2 Орджоникидзе Г. К. Статьи и речи. Т. I. — М., 1956. — С. 181.
— 688 —
Чечня после окончания гражданской войны. Образование Горской Автономной
Советской Социалистической Республики
Главным сторонником этой идеи выступал Г. К. Орджоникидзе, она же пользовалась поддержкой И. В. Сталина, возглавлявшего Наркомат по делам национальностей (Наркомнац). Интересно, что план создания общегорской автономии не пользовался поддержкой у собственно руководителей горских округов — в сентябре 1920 г. он был отвергнут 18 голосами против четырех воздержавшихся1.
Тем не менее, идея создания на Северо-Восточном Кавказе теперь уже двух автономных республик — Горской и Дагестанской получила поддержку в Москве и была утверждена 27 октября 1920 г. на заседании Кавказского бюро ЦК РКП(6). Видному большевику С. М. Кирову было поручено разработать проект конституции Горской Советской Республики, который и был 17 ноября одобрен делегатами очередного съезда народов Терека. Окончательно создание Горской АССР было оформлено декретом Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (ВЦИК РСФСР). В соответствии с этим декретом, в состав Горской Республики вошли Чечня, Ингушетия, Северная Осетия, Ка- барда, Балкария, Черкессия и Карачай. Города Грозный и Владикавказ, получившие самостоятельный административный статус, подчинялись непосредственно ВЦИКу и Совету Народных Комиссаров РСФСР. Оставшиеся на Сунже станицы вошли в состав Горской Республики на правах отдельного Сунженского казачьего округа. В целом Горская АССР подчинялась непосредственно ВЦИКу РСФСР.
Горская АССР в границах 1921 г. (72, 39)
Вацуев А. 3. В. И. Ленин у истоков создания национальной государственности горских народов // Из истории борьбы за власть Советов и социалистических преобразований в Чечено-Ингушетии. — Грозный, 1983. — С. 46.
- 689 -
Глава XV. Огнем и мечом: строительство Советской власти в Чечне (20—30-е гг. XX в.)
С 16 по 22 апреля 1921 г. во Владикавказе прошел Учредительный съезд Советов Горской Республики, избравший ее руководящие органы и принявший ряд постановлений, в частности, по землеустройству, продовольственному вопросу, о народном образовании и шариатском судоустройстве. Последнее было явной (и временной) уступкой мусульманскому духовенству Чечни и Ингушетии. Уже в мае 1921 г. ЦИК ГАССР своим постановлением лишил шариатские суды финансирования из государственного бюджета и поддержки государственных органов. Однако шариатские суды продолжали функционировать до 1927 г.
Вопрос о Хасав-Юртовском округе и чеченцах-аккинцах. Образование Горской АССР поставило вопрос о судьбе Хасав-Юртовского округа, входившего до революции в состав Терской области. Здесь проживали две основные национальности — кумыки и чеченцы. В марте 1921 г., когда стало очевидным стремление кумыков воссоединиться с Дагестаном, а чеченцев-аккинцев — с Чечней, возникла проблема раздела Хасав-Юртовского округа между двумя соседними автономиями: Дагестанской и Горской. Однако этот вариант категорически не устраивал аккинцев, так как часть их восточных земель (отнятых у них царизмом еще в 1867 г.) отошла бы в границы Дагестана. В результате съезд аккинцев, не приняв определенного решения по вопросу о присоединении к Горской Республике или к Дагестану, ограничился требованием в любом случае сохранить Хасав-Юртовский округ в качестве отдельной административной единицы. Это было истолковано Хасав-Юртовским ревкомом как «...желание [аккинцев] остаться в Хасав-Юртовском округе, т. е. в составе Дагестанской Республики...». Такую трактовку фактически поддержал и командующий Кавказской Трудовой Армией В. С. Муромцев, возглавлявший комиссию по установлению границ между Дагестаном и Горской Республикой. Заявление аккинской делегации, сделанное 12 апреля 1921 г. во Владикавказе о желании аккинского общества присоединиться все-таки к Горской Республике, было просто проигнорировано. Присоединение Хасав-Юртовского округа к Дагестану окончательно было закреплено в сентябре 1921 г.1
Судьба Горской АССР. Нерешенность проблем. Горская Автономная Советская Социалистическая Республика просуществовала недолго и в 1924 г., выполнив по мысли партийного руководства свои задачи, прекратила свое существование. Еще до окончательной ликвидации, из ее состава выделились Кабарда, Балкария, Черкессия, Карачай и Чечня. ГАССР оказалась нежизнеспособным государственным образованием, прежде всего потому, что горизонтальные экономические связи не получили здесь развития, а каждая автономия в силу сложившихся условий развивала прямые связи с РСФСР. Кроме того, включенные в состав
1 ГАРФ. Ф. Р-5677. Оп. 2. Д. 255. Л. 160,160 об., 167,167 об., 172.
— 690 —
Чечня после окончания гражданской войны. Образование Горской Автономной
Советской Социалистической Республики
республики горские народы имели свои собственные (несовпадающие) интересы, а их новые лидеры ожесточенно конкурировали друг с другом. Так, деятельность Т. Эльдарханова на посту председателя ГорЦИКа вызвала нарекания со стороны руководителей других народов. В качестве основной причины краха советской Горской Республики Наркомнац РСФСР называл ее «национальную пестроту и спутанность экономических интересов каждой национальности». Кроме того, в рамках Горской Республики оказалось невозможным разрешить острые земельные споры не только горцев с казаками, но и между отдельными горскими народами1. Так, «бегство» Кабарды из Горской Республики объяснялось нежеланием уступать имевшиеся здесь большие излишки равнинных земель в пользу горского населения других округов республики.
Именно поэтому выселение казаков из Чечни, Ингушетии и Северной Осетии оценивалось некоторыми советскими функционерами как «извращение при решении аграрного вопроса»2. Земельную проблему можно было решить и путем уравнительного распределения земель как казаков, так и разных обществ и народов.
Горскую Советскую Республику существенно расшатали и неурожаи 1921 и 1922 гг. — сбор зерновых сократился примерно наполовину. В довершение всего, болезни и недостаток кормов привели к сокращению примерно на четверть поголовья скота в крестьянских хозяйствах. Голод охватил не только города и большинство станиц, но и часть Осетии, Ингушетию и Надтеречную Чечню. В общей сложности в Горской Республике голодало до 350 тысяч местных жителей и 30 тысяч беженцев, находившихся на ее территории3. Ряд округов не имели экономических предпосылок для самостоятельного существования, и весь их аппарат дотировался центром.
Все это создавало почву для «антисоветских» выступлений, а точнее негативных оценок действий новых властей, которые последними в духе того времени трактовались как пролог к восстанию. Соответственно партийные функционеры считали, что недовольство должно быть подавлено путем превентивных военных ударов. Так, в 1921 г. части Красной Армии провели в Чечне операции по разоружению жителей некоторых селений. В марте 1922 г. штаб Северо-Кавказского военного округа опять обратил внимание на усиление, на их взгляд, «нездоровых» настроений в Чечне.
1 См.: Тайны национальной политики ЦК РКП: Четвертое совещание ЦК РКП с ответственными работниками национальных республик и областей в Москве 9—12 января 1923 г. — М., 1992. — С. 201; Шесть лет национальной политики Советской власти и Наркомнац. 1917—1923 гг. — М., 1924. — С. 57; Носов Н. К очередным задачам Горской Республики // Жизнь национальностей. — 1922. — № 14. — С. 8.
2 Таболов. Колхозное строительство и национальный вопрос // Революционный Восток. — 1933. — № 2. — С. 148.
? Носов Я. К очередным задачам Горской Республики // Жизнь национальностей. — 1922. — № 14. — С. 8.
Глава XV. Огнем и мечом: строительство Советской власти в Чечне (20—30-е гг. XX в.)
Особые опасения вызывали у штаба Урус-Мартановский, Веденский и Шатойский районы. Подчеркивая, что Чечня может в короткий срок выставить значительные военные силы, командование предлагало провести большую превентивную операцию по разоружению, предварительно усилив гарнизоны крепостей Ведено и Шатой до полка каждый, а также выставив надежные заслоны на границе Чечни и Дагестана: «Разоружение должно начаться с плоскостной Чечни, дабы обезопасить район Грозного. Операция должна вестись самым настоящим образом, вплоть до уничтожения непокорных аулов»1. Ранее вооруженные горцы являлись неоценимым резервом Советской власти, теперь «вооруженность» горцев сама по себе была ненавистна и страшна новым властям.
Запланированная операция началась в мае 1922 г. Во главе войск, направленных в Чечню, стоял бывший любимец чеченских «левых» и бедноты Н. Гикало. Разоружению подверглись селения Махкеты, Гойты и Катыр-Юрт, причем против последних была использована боевая авиация. Кроме изъятия значительного количества оружия, было захвачено и расстреляно до 30 «бандитов», чье имущество власти конфисковали2. Тем не менее, положение в Чечне оставалось чрезвычайно сложным и запутанным, что ускорило ее выделение из состава Горской Республики и образование здесь отдельной автономной области.
§ 2. Чеченская автономная область в 1922—1934 гг. Таштемир Эльдарханов
Образование СССР. Начиная с Октябрьской революции 1917 г. и по 1921 г., на территории бывшей Российской империи образовался целый ряд государств, в том числе и советских республик, таких как: РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР, Азербайджанская ССР, Армянская ССР и Грузинская ССР (в марте 1922 г. три закавказские республики заключили договор об образовании Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республики). Указанные республики находились, конечно, в полной зависимости от Москвы, но требовалось формально узаконить фактически существующий союз договором.
Руководитель наркомата по национальным отношениям И. В. Сталин предложил проект «автономизации», предполагавший вхождение указанных советских республик в РСФСР на правах автономий. В. И. Ленин, рассчитывавший на продолжение мировой коммунистической революции, потребовал подготовить договор о равноправном союзе советских республик с правом выхода из союза. 27 декабря 1922 г.
1 Цит. по ст.: Аптекарь П. Война без конца и края Н Родина. — 2000. — № 1—2. — С. 161.
2 Костерын Н. Политическое состояние Горской Республики // Жизнь национальностей. — 1922. — № 16. — С. 9.
Чеченская автономная область в 1922—1934 гг.Таштемир Эльдарханов
между РСФСР, Украиной, Белоруссией и ЗСФСР был подписан договор об учреждении нового государства — Союза Советских Социалистических Республик. 30 декабря 1922 г. состоялся I Общесоюзный съезд Советов в Москве, учредивший новые органы власти: Центральный исполнительный комитет (ЦИК) Советов СССР, Совет народных комиссаров (СНК) СССР и др. Реальная же власть оставалась за Всесоюзной Коммунистической партией большевиков — ВКП(6), подменившей, по существу, государство.
К середине 30-х гг. в состав СССР входило 7 союзных и 19 автономных республик. Развернувшееся строительство союзных и автономных республик носило вполне волюнтаристский и субъективный характер. Границы между соседями устанавливались произвольно, наблюдались административные перекосы. Особенно много ошибок в государственном строительстве наблюдалось на Северном Кавказе, где царила национальная пестрота.
Вопрос о создании автономии Чечни. Короткий опыт государственного строительства в рамках Горской Республики окончательно убедил руководителей Советского государства, что для упрочения советской власти в Чечне необходимо выделить край в самостоятельную автономную единицу, непосредственно связанную с федеральным центром. Не меньшее, если не большее значение имели экономические интересы края, связанные с грозненским нефтепромышленным районом. Так, заседания Административной комиссии ВЦИК, занимавшейся в 1922 г. решением вопроса об образовании Чеченской Автономной Области, проходили с присутствием представителя «Грознефти». Вместе с тем, федеральный центр считал, что Грозный должен остаться вне Чечни, в качестве особой административной единицы, подчиняющейся Москве. Более того, руководители «Грознефти» планировали использовать данную ситуацию для присоединения к городу Грозненского, Возне- сеновского и Исти-Суйского нефтяных районов, отняв их из состава будущей Чеченской автономной области1.
Организационные вопросы, связанные с созданием Чеченской АО, решала комиссия ЦК РКП(6), сформированная в октябре 1922 г. К работе в ней были привлечены А. И. Микоян, К. Е. Ворошилов, С. М. Киров, Н. Ф. Гикало и ряд руководителей Горской Республики. Еще летом 1922 г. в Чечне были распущены Советы и восстановлена власть ревкомов, и именно областной ревком должен был возглавить новую автономию.
Образование Чеченской автономной области. Постановление об образовании Чеченской Автономной Области было принято Президиумом ВЦИК 30 ноября 1922 г. Высшим органом власти был объявлен Чеченский областной ревком в составе 11 человек: Т. Эльдарханов, И. Курбанов, 3. Шерипов, О. Ахтаханов, Д. Арсанукаев, Д. Акаев,
: ГАРФ. Ф. Р-5677. Оп. 3. Д. 346. Л. 8.
Глава XV. Огнем и мечом: строительство Советской власти в Чечне (20—30-е гг. XX в.)
Г. Чокуев, А. Абаев, М. Хамзатов, Д. Токаев, Д. Шамурзаев. Шесть членов ревкома (включая председателя — Т. Эльдарханова) состояли членами РКП(б). Кстати, общая численность Чеченской организации РКП(б) в 1922 г. не превышала 30 человек1.
Новому ревкому предстояло создать органы своей власти на всей территории Чечни, опираясь на чеченскую милицию и красноармейские части обеспечить безопасность нефтепромыслов, железной дороги и границ Чечни, обеспечить создание государственного аппарата, решать вопросы восстановления экономики, заниматься вопросами социальной политики, подготовить и провести выборы в Советы всех уровней. Действовал Чеченский областной ревком до июля-августа 1924 г.2
Фактически получалось, что советскую власть в Чечне еще предстояло установить. По заключению Грозненского Главного Политического Управления (ГПУ) ревкомы и Советы имелись только в плоскостных чеченских селениях, но и там они практически бездействовали. Секретарями в местных советских органах работали, как правило, муллы и лица, владевшие арабской письменностью. Во многих селениях деятельность Советов была парализована борьбой между разными фамилиями, оспаривавшими должность председателя. По негативному заключению
Съезд в селении Урус-Мартан по провозглашению Чеченской автономной области 15 января 1923 г. Фото (64, 39)
1 Ефанов К. И. Классовая борьба в мечено-ингушском ауле в период социалистического строительства. — Грозный, 1979. — С. 14.
2 Бугай Н. Ф. Чрезвычайные органы Советской власти в создании государственности у народов Северного Кавказа (1922—1925 гг.) // Из истории борьбы за власть Советов и социалистических преобразований в Чечено-Ингушетии. — Грозный, 1983. — С. 78, 79.
— 694 —
Чеченская автономная область в 1922—1934 гг. Таштемир Эльдарханов
грозненских чекистов, в чеченских селениях «.. .власть меняется по произволу более сильного и богатого рода-фамилии, царит полная анархия и безвластие. Само же население, не видя твердости и определенности власти на местах, совершенно не считается с таковой»1.
15 января 1923 г. в селении Урус-Мартан был проведен съезд чеченского народа, на котором было провозглашено создание Чеченской автономной области. На съезде присутствовали и высокие московские гости.
Новая политика власти по отношению к духовенству. Именно слабость новых органов власти вынудила советское руководство внести серьезные коррективы в политику по отношению к Чечне, контуры которой были окончательно сформулированы после поездки А. И. Микояна, К. Е. Ворошилова и С. М. Буденного в Чечню (январь 1923 г.). Подводя итоги поездки, К. Е. Ворошилов довольно трезво отмечал: «До тех пор, пока мы не создадим в Чечне кадры преданных, знающих Чечню и ей знакомых работников, придется иметь дело с муллами. .. .Дураки только могут верить в возможность проведения в Чечне всяческих «расслоений», «влияния через бедноту» и прочую чепуху». К заключению временного союза с крупнейшими представителями чеченского духовенства, советских лидеров подталкивала и умеренность политических требований чеченских мулл, которые сводились к следующему: «1. Нужно организовать такую власть, которая будет служить народу, а не обворовывать его. 2. Немедленно, беспощадными мерами ликвидировать бандитизм, воровство и разбои. 3. Разрешить формировать в достаточном количестве чечмилицию. 4. Допустить существование шариатских судов»2.
Планируя привлечь к сотрудничеству некоторых религиозных деятелей Чечни, власти одновременно заботились о том, чтобы усилить противоречия внутри чеченского духовенства и окончательно перессорить между собой шейхов, возглавлявших многочисленные мюридские общины. На это, в частности, указывал секретарь Юго-Восточного бюро ЦК РКП(б) А. Микоян: «...мы решили пойти на эксперимент, который как мы полагали, дал бы возможность вбить клин между этими группировками и привлечь одну из них хотя бы на временное тактическое сближение с Советской властью»3.
Шейх Али Митаев. По оценкам советской печати, в Чечне насчитывалось около 50 крупных религиозных деятелей, пользовавшихся значительным влиянием среди населения. Но в качестве прямого союзника советской власти выступили несколько из них, в том числе — шейх
1 ГАРФ. Ф. Р-1235. Оп. 99. Д. 40. Л. 40.
- Цит. по кн.: Сигаури И. М. Очерки истории и государственного устройства чечен¬
цев с древнейших времен. Т. 2. — М., 2001. — С. 117,118.
3 Цит. по ст.: Агаджанов Ю. Живет в памяти народной // Грозненский рабочий. —
1989. — 29 сент. — С. 2.
Глава XV. Огнем и мечом: строительство Советской власти в Чечне (20—30-е гг. XX в.)
Шейх Али Митаев. Фото (38, вклейка)
Али Митаев из селения Автуры. Выбор советских лидеров объяснялся несколькими причинами. Волевой и по-своему талантливый политик А. Митаев пользовался авторитетом не только в плоскостной Чечне, но и в горном Веденском районе. В его распоряжении имелось до 6 тысяч мюридов в Шалинском, Веденском и Гудермесском округах, а также в Ингушетии. Среди мюридов А. Митаева имелось большое количество молодых людей, объединенных в вооруженные отряды, что также увеличивало его влияние. Кроме того, учитывались и личные качества шейха, о котором было известно, что он не получил законченного мусульманского образования и в молодости вел вполне светский образ жизни1. К тому же А. Митаев был известен своей политической гибкостью: в гражданскую войну он одновременно поддерживал контакты и с большевиками, и с Союзом объединенных горцев, и с бичераховцами, и с деникинцами, и с грузинским правительством и т. д. Это заставляло думать, что А. Митаев согласится пойти на союз и с коммунистами, хотя, как известно, последние боролись за полное искоренение любой религии.
Переговоры с А. Митаевым велись ГПУ с января 1923 г. и завершились заключением договора, в соответствии с которым шейх становился членом Чеченского ревкома и брал на себя обеспечение безопасности перевозок по железной дороге на территории Чечни. К. Е. Ворошилов по этому поводу писал: «Все данные за то, что с чечбандитизмом удастся
1 См.: ГАРФ. Ф. P-440. On. 1. Д. 23. Л. 9; Умаров С Эволюция основных течений ислама в Чечено-Ингушетии. — Грозный, 1985. — С. 18.
— 696 —
Чеченская автономная область в 1922—1934 гг. Таштемир Эльдарханов
покончить с помощью самих чечбандитов»1. Одновременно власти начали заигрывать с виднейшими руководителями религиозного братства кунта-хаджинцев, с целью «.. .разложить готовящееся выступление контрреволюции. ..» и одновременно создать условия для безболезненного устранения в будущем А. Митаева. Независимо от искренности А. Митаева по отношению к новой власти, органами ГПУ за ним было установлено тщательное наблюдение, позволившее выявить не только каналы, по которым шейх скупал в воинских частях оружие и боеприпасы, но и контакты с представителями так называемого «антисоветского» подполья.
Весной 1924 г. ГПУ приняло решение «об изъятии» из Чечни А. Митаева. Официальные договоренности с ним были коварно нарушены, он был внезапно арестован, вывезен в Ростов-на-Дону и, после недолгого следствия, расстрелян. По сегодняшний день нет никаких доказательств его вины перед властью, если не считать «подозрений» чекистов, проистекавших исключительно из «классового» предубеждения к этой независимой фигуре.
Конфликт между кунта-хаджинцами и мюридами А. Митаева, затеянный чекистами, не прекратился и после гибели самого шейха — весной 1925 г. между двумя религиозными братствами едва не начались открытые столкновения* 2. Поддержка усилий властей Чеченской АО виднейшими предводителями кунта-хаджинцев — Юсуп-хаджи Махке- тинским и Кагарам-хаджи Шалинским зашла настолько далеко, что они даже выступили с угрозами в адрес шейха Н. Гоцинского, готовившего новое антисоветское выступление в горной части Чечни.
Ревком укрепляет границы Чечни. Между тем, шло постепенное укрепление позиций Чеченского ревкома. Перед последним стояло множество проблем, решение которых не терпело отлагательства: определение четких границ Чеченской АО и улаживание территориальных споров с соседними республиками и областями, борьба с бандитизмом, создание и укрепление государственного аппарата и т. д.
Первый пограничный конфликт у ЧАО возник с Горской Республикой в связи с неопределенностью границы с сохранившимися на Сунже станицами, а также между селением Ачхой-Мартан и хутором Верхний Бамут (включенным в состав Ингушетии). Долгая тяжба шла за участок в 296 десятин между Ачхой-Мартаном и Верхним Бамутом, временами перерастая в открытые столкновения. Окончательное урегулирование было достигнуто только в начале 1928 г. — спорную территорию разделили поровну между Чечней и Ингушетией3.
■ Цит. по кн.: Сигаури И. М. Очерки истории и государственного устройства чеченцев с древнейших времен. Т. 2. — М., 2001. — С. 118.
2 Храмов Н. Крах одной авантюры // Грозненский рабочий. — 1976. — 11 и 12 дек. — С. 4; Магомедов М. 3. Шейх Али Митаев // Наш Дагестан. — 1996. —янв.— март. — С. 28.
3 ГАРФ. Ф. Р-5677. Оп. 4. Д. 255. Л. 149; Д. 347. Л. 26; Оп. 9. Д. 108. Л. 2.
— 697 —
Глава XV. Огнем и мечом: строительство Советской власти в Чечне (20—30-е гг. XX в.)
Спор вокруг Сунженского участка административной границы был быстро и безболезненно урегулирован. Правда, вопрос о возвращении в состав Чечни земель казачьих станиц в рамках Сунженского округа не был все-таки полностью решен вплоть до 1929 г.
Серьезные разногласия имелись у чеченских властей с администрацией города Грозного и управлением «Грознефть». Во время выселения части Сунженских станиц осенью 1920 г. Грозный добился присоединения 20 тысяч десятин бывших казачьих, а точнее бывших чеченских земель, прилегающих к городу. На этих землях предполагалось развить подсобные хозяйства грозненских предприятий, а также выделить садово-огородные участки для горожан. Кроме того, станица Грозненская со своим наделом, созданная в свое время на месте разрушенных чеченских аулов, была полностью включена в черту города. В январе 1921 г. городские власти осмелели настолько, что требовали прекратить выселение «контрреволюционных» казачьих станиц, а передачу освободившихся земель Чечне производить только при создании на этой территории «действительной Советской власти»1. Насколько она «действительна» брались определять грозненские власти, к тому времени неоднократно обвиненные ЦК ВКП(б) в великодержавном шовинизме.
Новые границы между Чечней и Грозным требовалось уточнить «на местности», что часто сопровождалось спорами и конфликтами. Кроме того, чеченские власти добивались передачи им недвижимости, принадлежавшей чеченским промышленникам и купцам непосредственно в Грозном, что обычно вызывало категорические возражения руководителей города. В пылу спора, власти ЧАО даже ставили вопрос о разделе Грозного2.
Чеченские и городские власти конфликтовали также по поводу казачьих станиц на нижней Сунже: Горячеводская, Петропавловская и Ильинская. Грозненский Совет настаивал на их присоединении к Грозному. Тем не менее, окончательное решение было принято в пользу Чечни — к Грозному отошли только два близлежащих хутора на станичных землях: Васильев и Предгорный.
Позиция «Грознефти» по вопросу нефтеносных земель. Особую позицию в Чечне, да и в Грозном, занимало мощное промышленное объединение «Грознефть» (напрямую подчинявшееся центральным ведомствам), которое одновременно конфликтовало по ряду вопросов как с грозненскими городскими, так и с чеченскими властями. Что касается территориальных споров с Чеченской АО, то руководство «Грознефти» и городские власти занимали здесь согласованную позицию. Как уже говорилось, в момент создания Чеченской АО «Грознефть» предъявило претензии на значительную часть чеченской территории,
1 ГАРФ. Ф. Р-1235. Оп. 38. Д. 70. Л. 59; Оп. 95. Д. 517. Л. 75.
2 ГАРФ. Ф. Р-5677. Оп. 2. Д. 255. Л. 3,6.
— 698 —
Чеченская автономная область в 1922—1934 гг. Таштемир Эльдарханов
на которых располагались нефтепромыслы. Но на этом претензии могучего ведомства не ограничивались: «Грознефть» претендовала на все земли, представлявшиеся перспективными в отношении наличия здесь месторождений нефти. Явно по соглашению с властями Грозного, руководство «Грознефти» добивалось передачи ему большей части земель станиц, расположенных по Сунже ниже Грозного. При этом руководители объединения, представлявшего собой «государство в государстве», ссылались на то, что большая часть интересующих их земель ранее принадлежала Терскому казачьему войску и частным владельцам, а поэтому власти Чечни не могут не только оспаривать эти участки, но и даже требовать материальную компенсацию за их изъятие1. При этом совершенно забывалось, что речь идет о землях, отобранных у чеченцев силой всего 50—60 лет назад, и что многие физические лица — жертвы этого колониального грабежа к тому времени, в силу кавказского долголетия, были еще живы.
Помимо Сунженских станиц, спор шел также вокруг курорта «Го- рячеисточненский» и даже отдельных земельных участков возле Чечен- Аула, Брагунов, Исти-Су, Гудермеса и станицы Вознесеновской. Часть споров были довольно быстро решены, оставшиеся прекратились сами собой после включения Грозного в состав ЧАО.
Небольшие конфликты имелись и на чеченско-грузинской границе (по поводу Майстинской и Малхинской общин, входивших до революции в Тианетский уезд Тифлисской губернии). Данный спор также был урегулирован в пользу Чечни.
Наиболее сложными и длительными оказались территориальные проблемы между Чечней и Дагестаном. На административной границе имелось 18 спорных участков, вокруг которых время от времени возникали вооруженные стычки, нередко приводившие к человеческим жертвам. Лишь в августе 1928 г. большая часть спорных земель, общей площадью около 16 тысяч десятин, была закреплена за Чечней2.
Чеченские власти неоднократно поднимали вопрос о передаче Ха- сав-Юртовского округа в состав Чечни, подкрепляя свое требование соображениями исторического, политического и экономического характера. Так, слабо заселенный Хасав-Юртовский округ был экономически связан с восточными районами Чечни. Вследствие высокой плотности населения в области, чеченцы арендовали в округе до 100 тысяч десятин пастбищных земель. С 1923 по 1928 гг. в Хасав-Юртовский округ из Чечни переселилось до 2800 человек3. К 30-м гг. XX в. и собственно коренное чеченское (аккинское) население в этом округе достигло 22 тысяч человек.
1 ГАРФ. Ф. Р-5677. Оп. 3. Д. 346. Л. 8, 8об., 12,12 об.
2 ГАРФ. Ф. Р-1235. Оп. 120. Д. 162. Л. 47, 52.
3 ГАРФ Ф. Р-1235. Оп. 124. Д. 195. Л. 43 об.
Глава XV. Огнем и мечом: строительство Советской власти в Чечне (20—30-е гг. XX в.)
Дагестанские власти ввели в ответ ряд административных мер, призванных остановить расселение чеченцев в Хасав-Юртовском округе, и пытались организовать встречный поток переселенцев в Хасав-Юр- товский округ — из горных районов самого Дагестана.
В целом хасав-юртовская проблема утратила прежнюю остроту в 30-е гг., когда дагестанские власти предприняли шаги по улучшению хозяйственного положения чеченцев-аккинцев и удовлетворению части их национально-культурных требований. В частности, в чеченских школах Дагестана преподавание было переведено на родной язык, при помощи ЧАО начата подготовка национальных учителей, организовано снабжение национальными учебниками и другой литературой1.
Борьба с массовым бандитизмом. Наследием гражданской войны для всей советской страны стали не только голод и разруха, но и значительные масштабы преступности. Властям ЧАО в экстренном порядке пришлось организовывать борьбу с бандитизмом. Особенно трудное положение сложилось на границе с Сунженскими станицами, где бандитизм носил вполне политический характер: нападения на них были столь частыми, что руководитель Чеченского представительства при ВЦИК признавал: «...Чечню и казачество можно было считать находящимися на положении гражданской войны...» Нападениям грабителей подвергались и соседние территории, прежде всего Ставрополье и Дагестан. Весной 1923 г. Аварский и Андийский исполкомы Дагестана официально потребовали разрешить организацию отрядов самообороны2. В свою очередь и в Дагестане и в Ставрополье, и на территории всей Горской АССР вовсю орудовали свои территориальные банды, как уголовные, так и политические.
В начале 1923 г. решением Чеченского ревкома во все селения были направлены специальные комиссары, призванные на месте организовать борьбу с уголовными элементами. Во всех притеречных селениях сформированы отряды самообороны, призванные вести круглосуточную охрану переправ через Терек. Аналогичные отряды создаются и в ряде селений на дагестанской границе. Ревком пошел также на организацию специальной роты для охраны железной дороги и создание постоянных караулов в наиболее угрожаемых участках. Были приняты меры к взятию на учет всех имевшихся в Чечне преступников и введена практика взятия заложников из числа близких родственников скрывающихся бандитов. В целом на борьбу с бандитизмом в 1923—1924 гг. направляется до 80% всех средств, имевшихся в распоряжении Чеченского ревкома. В частности, на борьбу с бандитизмом направлялись ежемесячные отчисления в бюджет ЧАО
1 ГАРФ. Ф. Р-1235. Оп. 124. Д. 195. Л. 25—25 об.
2 ГАРФ. Ф. Р-1235. On. 1. Д. 289. Л. 2; Аптекарь П. Повстанцы // Родина. — 2000. — № 1—2. — С. 155.
Чеченская автономная область в 1922—1934 гг. Таштемир Эльдарханов
объединения «Грознефть», составлявшие стоимость 150 тысяч пудов сырой нефти (2400 тонн) К
В результате принятых ревкомом жестких мер, уже в мае 1923 г. удалось практически полностью прекратить бандитские нападения не только на станицы нового Петропавловского округа, включенного в состав Чечни, но и на станицы Сунженского округа, являвшегося пока отдельной от Чечни административной единицей. Руководство Сунженского округа даже направило специальное письмо в адрес Т. Эльдарханова со словами благодарности Чеченскому облревкому «...за принятые им меры борьбы с общегорским злом...»1 2.
Усиление партийного влияния. Чеченский комсомол. Чтобы противостоять влиянию «антисоветских элементов» в Чечне, Юго- Восточное бюро ЦК РКП (6) всячески форсировало увеличение численности чеченской организации коммунистической партии, а также коммунистического союза молодежи (комсомола). Секретарем Чеченского организационного бюро РКП(6) являлся Т. Эльдарханов, который совмещал таким образом высшие государственный и партийный посты в Чеченской автономии.
Чеченская партийная организация, фактически возникшая в годы гражданской войны, объединяла в своих рядах буквально несколько десятков человек. Более многочисленной была комсомольская организация. Первый революционный молодежный кружок возник еще в конце февраля 1919 г. в селении Гойты. В него вошли, в частности, Д. Мидаев, А. Ибрагимов, А. Шоипов, С. Мутаев и X. Цокаев — всего до 65 человек. Подлинным организатором и первым руководителем кружка был сотрудник ВЧК Георгий Прованецкий, свободно владевший чеченским языком. Через год подобные кружки существовали в Урус-Мартане, Шали, Ведено, Гехи, Дуба-Юрте, Старых Атагах, Шатое и других местах. В Ведено первыми комсомольцами были М. Ушаев, А. Сайханов, А. Кузаев и Б. Берсанукаев. Большая часть комсомольских кружков того времени действовала нелегально и подчинялась политическому отделу при красноармейском отряде Н. Ф Гикало во главе с А. Носовым3.
Даже после провозглашения победы советской власти в Чечне комсомольские организации области, как правило, оставались на полулегальном положении, так как их члены зачастую подвергались поношению со стороны религиозных авторитетов. Так, в 1922 г. в Гудермесе и Гойтах имели место попытки взорвать дома, в которых собирались местные комсомольцы-«безбожники». В тех же Гойтах два комсомольца (правда,
1 ГАРФ. Ф. P-1235. On. 1. Д. 289. Л. 2 об., 29, 35, 36; Оп. 6. Д. 1251. Л. 237, 238; Оп. 101. Д. 289. Л. 34 об., 35,43.
2 ГАРФ. Ф. Р-1235. Оп. 101. Д. 289. Л. 38 об., 44.
3 Филькин В. И. Молодежь Чечено-Ингушетии в борьбе за победу Октябрьской революции. — Грозный, 1968. — С. 39—40.
Глава XV. Огнем и мечом: строительство Советской власти в Чечне (20—30-е гг. XX в.)
за конкретные уголовные деяния — мелкие кражи) шариатским судом были подвергнуты телесному наказанию и приговорены к трем годам тюремного заключения. Кстати, наказание они отбывали в грозненской тюрьме, поскольку учреждений подобного рода в Чечне не имелось.
В конечном счете, чеченские комсомольцы не без подачи грозненских коммунистов и органов ГПУ стали претендовать на власть в аулах, прямо пытаясь оттеснить советы. Комсомольцам стали даже выдавать огнестрельное оружие. Подобной практике в деятельности комсомольских организаций препятствовал руководитель чеченских коммунистов, он же председатель Чеченского ревкома, а затем и облисполкома, — Т. Эльдарханов. Последний считал существование комсомола в чеченских селениях вредным потому, что его деятельность вызывала открытое недовольство не только наиболее религиозно настроенной части населения, но и руководителей местных советов. Последовал роспуск Организационного бюро РКСМ Чечни, что было произведено под давлением шейха А. Митаева. Правда, это решение было аннулировано и чеченский комсомол сохранен.
Резко возражал Т. Эльдарханов и против навязываемого ему ЦК РКП(б) «шефства» со стороны партийной организации Грозного. Во многом позиция, занятая Т. Эльдархановым, объяснялась не столько идеологическими расхождениями с партийной программой, сколько перипетиями борьбы между различными группировками в государственном аппарате Чеченской автономной области. При этом происходило быстрое увеличение числа «ответственных работников» — в штатах различных советских органов и отделений наркоматов по Чечне числилось до 900 работников, а расходы на их содержание составляли 14% областного бюджета1. Несмотря на многочисленность работающих, деятельность советских учреждений Чечни, как и по всей стране, оставалась неэффективной. К 1925 г. среди чеченцев было 23 члена ВКП(б), 147 кандидатов в члены ВКП(б) и 1633 комсомольца. Эти люди были организованной политической опорой советской власти, сплачивающей вокруг себя несколько десятков тысяч сочувствующих2.
Общественно-политическая ситуация в крае. Убийство чекистами А. Митаева не привело к прекращению «вылазок» антисоветских и уголовных элементов в Чечне. Обстановка особенно обострилась в Веденском и Гудермесском округах, где действовали крупные банды Эстемирова и Кагирова3. Это привело к активизации, по существу карательной деятельности созданных властями правоохранительных
1 См.: ГАРФ. Ф. Р-1235. Оп. 101. Д. 288. Л. 120 об., 121; Юсупов П. И. От вековой отсталости к расцвету и сближению наций. — Грозный, 1982. — С. 38.
2 Гакаев Ж. Ж. Очерки политической истории Чечни (XX век): в 2 ч. — М., 1997. — С. 86.
3 ГАРФ. Ф. Р-1235. Оп. 101. Д. 288. Л. 15.
Чеченская автономная область в 1922—1934 гг. Таштемир Эльдарханов
органов, которые широко прибегали к внесудебным репрессиям. «Тройки» — в составе работника прокуратуры, ГПУ и первого партийного руководителя, — как правило, выносили приговоры заочно — по представленным документам, часто даже не допрашивая обвиняемого. Об участии в процессе защиты не могло быть и речи.
На содержание одной только милиции Чеченская АО тратила до 27% своего бюджета. За 1924 г. чеченской милиции удалось своими силами ликвидировать шесть банд и арестовать 69 их участников. Всего за этот год было задержано 674 преступника, в том числе 214 — по обвинению в бандитизме. Власти автономной области издали также специальное распоряжение об обязательной регистрации огнестрельного оружия.
1924 г. завершился в Чеченской АО крупной войсковой операцией по изъятию оружия, в ходе которой удалось собрать почти 3 тысячи винтовок и около 400 револьверов и пистолетов. Тем не менее, подводя ее итоги, командование Северо-Кавказского военного округа особо отметило, что почти сразу же после завершения операции в Чечне вновь возобновилась открытая торговля оружием1.
В 20-е гг. в горной части Чечни укрывался Н. Гоцинский, бывший предводитель антисоветского восстания в Дагестане. Оказавшись в Чечне, он не только не прекратил антисоветской деятельности, но и активно занимался подготовкой нового восстания, в котором должны были, по данным ОГПУ, принять участие чеченские «кадровые бандиты» Атаби Шамилев и Магомед-Эмин из горного селения Дай. В апреле 1925 г. в селении Нижалой Чеберлоевского общества даже состоялось совещание руководителей антисоветских групп Чечни и Дагестана.
Следует отметить, что собственно бандитизм в Чечне не превышал в процентном отношении уголовную практику в той же Москве или Ленинграде. Но на фоне поголовно вооруженного населения (так, только официальное право на ношение огнестрельного боевого оружия в качестве красных партизан, участников гражданской войны имели не менее 5 тысяч чеченцев), слабых репрессивных органов, не имевших базы среди населения в виде агентуры, уголовные действия получали политическую окраску, резко дискредитируя новую власть. Высшую советскую власть в стране приводил в ярость тот факт, что им приходится считаться в Чечне с наличием «несоветских» сил влияния, «поджимать локти», действовать с оглядкой, а то и идти на уступки. Народ в Чечне проявлял высокую степень независимости, пугающую новую власть.
Следует также считаться с тем, что власти и народ Чеченской АО находились под пристальным наблюдением (порою нездорового свойства) огромного количества органов, служб и ведомств, зараженных всякого рода фобиями. «Грознефть», городские власти Грозного, руководство
1 См.: ГАРФ. Ф. Р-1235. Оп. 101. Д. 288. Л. 120 об., 121; Аптекарь П. Война без края
и конца // Родина. — 2000. — № 1—2. — С. 161,162.
Глава XV. Огнем и мечом: строительство Советской власти в Чечне (20—30-е гг. XX в.)
Трудармии, политотделы, органы ГПУ, партийные организации с пугающим упорством сваливали свои проблемы, ошибки, недостатки и упущения на Чечню.
Операция по разоружению Чечни. Началась подготовка к проведению в следующем, 1925 г., самой большой по своим масштабам операции по разоружению Чечни. Одновременно аналогичные операции готовились и в соседних горских областях, но чеченские селения считалось необходимым разоружить в первую очередь. Начальником штаба Северо-Кавказского военного округа М. И. Алафузо была даже разработана, а командующим округом И. П. Уборевичем утверждена специальная инструкция, согласно которой войска получали право, в случае сопротивления, не только открывать по селениям артиллерийский огонь, но и брать заложников. Параллельно с разоружением населения предусматривалось «изъятие порочного и бандитского элемента». Сроки и порядок проведения операции были формально согласованы с руководством Чеченской АО.
Разоружение чеченских селений началось 25 августа и завершилось 12 сентября 1925 г.. Всего к участию в ней были привлечены около семи тысяч красноармейцев при 240 пулеметах и 24 орудиях. Кроме того, в распоряжении командующего операцией находилось два авиационных отряда и бронепоезд. В тактическом отношении войска, а также оперативные группы ГПУ, были разбиты на семь группировок, действовавших в заранее обозначенных районах1.
Специально для участия в операции был сформирован и Первый революционный боевой отряд Чеченской Области под командованием Джу Акаева, которому удалось захватить «политбандита» А. Шамилева. Другой оперативной группой ГПУ под командованием М. Ушаева был арестован Н. Гоцинский, вскоре расстрелянный. В Урус-Мартане, после артиллерийских и авиационных обстрелов селения, сдались властям шейхи Солса-хаджи Яндаров и Билу-хаджи Гайтаев, вскоре, кстати, отпущенные вследствие полной невиновности.
Всего в ходе операции было разоружено 242 чеченских селения, из которых 101 подверглось ружейно-пулеметному и артиллерийскому обстрелам, а 16 — авиаударам. Так, аул Урус-Мартан подвергался артобстрелу и авиаударам трое суток, аул Дай бомбили трижды, два дня артиллерия обстреливала аулы общества Зумсой. Всего погибло шесть мирных жителей, еще 30 получили ранения, было убито 12 бандитов и взорвано 119 домов. Общее число арестованных превысило 300 человек. Из общего числа арестованных 105 человек были расстреляны на месте, в отношении 183 человек было открыто следствие, также закончившееся внесудебным расстрелом, 21 человек выслан.
1 Второе покорение Кавказа: Большевики и чеченские повстанцы // Родина. — 1995. - № 6. — С. 44.
Чеченская автономная область в 1922—1934 гг.Таштемир Эльдарханов
Шейх Солса-хаджи Яндаров. Фото (51, 35)
Всего в Чечне оказалось изъятым 25299 винтовок, 4319 револьверов и пистолетов, 1 пулемет и около 80 тысяч патронов. Сами войска по- теряли при этом 5 человек убитыми и 9 ранеными1.
В сентябре-октябре 1925 г. аналогичная карательная экспедиция была проведена против Ингушетии.
Следует быть отмеченным, что в 1926 г. подобная войсковая операция была проведена и в Дагестанской АССР. Изъятие оружия производилось главным образом в районах Нагорного Дагестана: было конфисковано 60 тысяч винтовок, пистолетов и револьверов. Оценочно население всего Дагестана имело на руках до 100 тысяч единиц огнестрельного оружия. Официальное разрешение на ношение оружия имело до 15 тысяч дагестанцев. Таким образом, общая ситуация здесь была куда более серьезной, чем в Чечне. Но в Дагестане не было негорского «начальства» и не было конкуренции со стороны таких центров, как Грозный, «Грознефть» и т. д. Поэтому ситуация с оружием и так называемым «бандитизмом» здесь искусственно не драматизировалась, как это делалось в отношении Чечни. 22 См.: Гакаев Ж. Ж. Указ. соч. — С. 88—89; Юсупов П. К Коммунистическая партия в борьбе по претворению в жизнь ленинских принципов национальной политики в Чечено-Ингушетии (1921—1925 годы) // Известия Чечено-Ингушского НИИ истории, языка и литературы. Т. 5. Вып. 1. — Грозный, 1964. — С. 73; Аптекарь П. Война без конца и края // Родина. — 2000. — № 1—2. — С. 163.
— 705 —
Глава XV. Огнем и мечом: строительство Советской власти в Чечне (20—30-е гг. XX в.)
Политические последствия разоружения. Снятие Т. Эльдар- ханова. Операция, проведенная в августе-сентябре 1925 г., привела также и к существенным перестановкам в государственном аппарате Чеченской АО. Сам факт ее проведения вызвал неоднозначную реакцию не только со стороны населения, но и руководителей районного и сельского уровня. Например, при приближении войск один из районных руководителей, некий Гебертаев, ударился в бега и «скрылся со своей милицией...». Пленум Чеченского областного исполкома в этой связи специально отметил, что операция выявила «...отсутствие твердого и умелого руководства Соваппаратом...» и возложила вину за это на Т. Эльдарханова. Последний был не только снят с должности председателя Чеченского облисполкома, но и «отозван» из Чечни в распоряжение Северо-Кавказского краевого исполкома. Еще раньше, в декабре 1923 г., по решению Юго-Восточного бюро ЦК РКП(6) Т. Эльдарханов был снят с должности первого руководителя чеченской партийной организации — этот пост перешел к партийному «пришельцу» М. Энееву.
Из состава Чеченского облисполкома были выведены и ближайшие помощники Т. Эльдарханова — А. Гайсумов и 3. Шерипов, которых ГПУ подозревало не только во взяточничестве, но и приписывало связи с укрывавшимися в горах антисоветскими группировками. Новым председателем Чеченского исполкома стал Д. Арсанукаев, заместителем — Г. 3. Иоаннисиани. В состав обновленного Президиума исполкома вошли также М. Энеев, Д. Токаев, А. Саламов, Д. Акаев, А. Хайтаев, А. Сайханов1.
Отстраненных руководителей Чеченской области никак нельзя рассматривать как противников советской власти. Наоборот, в свое время они немало сделали для ее укрепления в Чечне, Однако в своей практической деятельности Т. Эльдарханов и его ближайшее окружение всегда стремились к достижению компромисса со всеми слоями чеченского общества, в том числе с духовенством и зажиточным крестьянством, укрепившим свои позиции на волне новой экономической политики. В глазах партийных радикалов это рассматривалось как искусственное замедление темпов «советизации» Чечни. Т. Эльдарханов смог вернуться в Чечню только в 1929 г., проработав более трех лет в высокой должности председателя Национального Совета при Северо-Кавказском краевом исполкоме. Но и после этого он не смог вернуться к работе в партийных или советских органах области и вынужден был довольствоваться назначением в управленческий аппарат «Грознефти».
1 См.: ГАРФ. Ф. Р-1235. Оп. 120. Д. 116. Л. 26 об., 27 об.; Тайны уходящего века. — М., 2000. — С. 490—492.
Чеченская автономная область в 1922—1934 гг.Таштемир Эльдарханов
Таштемир Эльдарханов. Фото 20-х гг. XX в. (Интернет, chechnyafree.ru)
Т. Эльдарханов — выдающийся политический деятель Северного Кавказа и великий сын чеченского народа, бескорыстно служивший его национальным интересам в тяжелейшую историческую эпоху, скончался в 1934 г.
Другим следствием очередного «завоевания» Чечни в 1925 г. следует считать усиление скрытой работы против чеченского общества в целом. Равнинных чеченцев натравливали на горных, ингушей против чеченцев, кадырийских мюридов против накшбандийских. Особая ставка была сделана на противопоставлении кунта-хаджийцев (их мюриды были, как правило, из бедных слоев населения) против всех других суфийских орденов. Политика «разделяй и властвуй» была основной линией в деятельности местных чекистов1.
Укрепление органов советской власти и партийной организации. Успешная операция по изъятию оружия и нейтрализация так называемого «бандитского элемента» (по существу, активных несогласных с новой властью), несмотря на свой карательный характер, способствовала укреплению органов советской власти в Чечне. Итоги выборной кампании 1925—1926 гг. впервые оказались удовлетворительными с точки зрения коммунистов. В 205 сельских и 14 окружных (районных) Советов было избрано всего 6458 человек, в том числе: коммунистов — 255, комсомольцев — 591. Вместе коммунисты и комсомольцы составляли
Гакаев Ж. Ж. — Указ. соч. — С. 89—90.
Глава XV. Огнем и мечом: строительство Советской власти в Чечне (20—30-е гг. XX в.)
13% депутатского корпуса, но они закрепили за собой 14% должностей председателей сельских Советов и 72% — председателей окружных Советов. Кроме того, большинство депутатов местных Советов составляли теперь, согласно терминологии того времени, «бедняки» и «середняки»1.
Одновременно с «чисткой», проведенной в советском аппарате, особое внимание уделялось укреплению коммунистических и комсомольских организаций. На это обращал особое внимание новый секретарь Чеченского организационного бюро ВКП(б) — небесталанный Е. Эшба, переведенный в Чечню из Абхазии. За короткий срок число коммунистов в Чеченской АО возросло с 40 человек в 1924 г. до 632 в конце 1926 г. Впрочем, бурный рост партийных рядов происходил по всей стране. Например, в Грозном городская парторганизация возросла за этот же период с 1200 до 3341 человека2.
Сам Е. Эшба считал недостаточным простое увеличение рядов возглавляемой им коммунистической организации — от него не укрылись попытки формирования клановых группировок, строящихся на родственных связях. Эти связи распространялись и на систему советских органов. Претворение в жизнь любого политического решения неизбежно происходило с такими искажениями в угоду узкоклановым интересам, что результат часто оказывался прямо противоположным ожидаемому. Весьма характерно в этом смысле персональное дело некоего Д. Бамат- гиреева, председателя одного из сельских Советов Шатойского округа. Благодаря родственным связям в областном советском аппарате, Д. Ба- матгиреев добился не только прекращения уголовного дела против себя, но и остался на своей должности. Так что, разбираться с жалобами на предприимчивого председателя пришлось уже ВЦИК РСФСР3.
Единственным способом быстро повысить эффективность партийного аппарата Чеченской АО Е. Эшба считал слияние его с партийной организацией Грозного. Чеченские коммунисты должны были как бы раствориться в инонациональной среде, где кровнородственные связи не играли ведущей роли, а внутрипартийные группировки строились на иных принципах: «Объявление Грозного городом автономной Чечни, слияние партийных и профсоюзных организаций... усиленная работа по созданию пролетарского кадра из чеченцев... — далеко двинет дело советизации Чечни...»4.
1 Нанаева Б. Б. Некоторые вопросы развития и укрепления местных Советов Чечено-Ингушетии в период строительства социализма (1925—1936 гг.) // Из истории борьбы за власть Советов и социалистических преобразований в Чечено-Ингушетии. — Грозный, 1983. — С. 83.
2 Овчаров Г. М. Борьба Чечено-Ингушской партийной организации за победу ленинских идей (1926—1929 годы). — Грозный, 1975. — С. 16.
3 ГАРФ. Ф. Р-1235. Оп. 123. Д. 168. Л. 1—2.
4 Из блокнота секретаря Организационного бюро ВКП(б) Чеченской автономной области Ефрема Эшбы // Справедливость. — 1990. — № 1—2. — С. 6, 7.
— 708 —
Чеченская автономная область в 1922—1934 гг.Таштемир Эльдарханов
Попытка подрыва влияния духовенства и кулачества. На протяжении 1926 и 1927 гг. новое партийное и советское руководство Чеченской АО пыталось провести в жизнь экономические и социальные преобразования, намеченные центральными государственными органами власти. В частности, речь шла о развитии кооперации и создании коллективных крестьянских хозяйств. Сопротивление населения этим планам объяснялось исключительно влиянием духовенства и кулачества, объявленных главными врагами советской власти.
Стремясь подорвать авторитет духовенства, Чеченское партийное бюро еще в декабре 1925 г. начало кампанию по дискредитации шариатских судов, активно действовавших в Чечне. Эта кампания полностью провалилась, и в 1927 г. шариатские суды были волевым усилием ограничены в своих правах по прямому требованию прокурора Верховного Суда СССР (прокуратура в тот период напрямую входила в состав судебных органов). Из их компетенции были изъяты уголовные, земельные дела и трудовые споры, прекращено государственное финансирование, а советским органам прямо запрещалось обращаться в шариатские суды1.
Советская печать признавала, что до 40% взрослого мужского населения Чечни состоит в мюридских братствах, общее число которых доходило до нескольких десятков. Один этот факт свидетельствовал об уровне влияния мусульманского духовенства в Чечне. В 1929 г. была предпринята попытка существенно подорвать экономические позиции чеченского духовенства — по решению Чеченского облисполкома в Надтеречном районе начинается эксперимент по отстранению мулл
Чеченские муллы и старейшины. 20-е гг. XX в. Фото (64, 33)
1 См.: ГАРФ. Ф. Р-8131. Оп. 4. Д. 18. Л. 2 об.-5; От вековой отсталости — к социализму: Сб. документов и материалов. — Грозный, 1977. — С. 50.
— 709 —
Глава XV. Огнем и мечом: строительство Советской власти в Чечне (20—30-е гг. XX в.)
от распределения добровольных пожертвований мусульман в пользу бедных и духовенства — занята. Отныне это было поручено комитетам крестьянских обществ взаимопомощи.
Претворение в жизнь этого решения существенно облегчалось тем, что в Чечне традиционно большая часть занята распределялась самими пожертвователями и лишь одна треть проходила через сельских мулл. Тем не менее, по разным подсчетам общая сумма пожертвований в пользу духовенства в Чечне составляли не менее 470 тысяч рублей в год. В то же время единый сельскохозяйственный налог, взимаемый со всех крестьянских хозяйств, не превышал 160 тысяч рублей1.
Определенные меры воздействия предпринимались и в отношении самых зажиточных крестьян — кулаков. Последние, по оценкам советских органов, составляли в Чечне 9% взрослого населения. Для ограничения политического влияния кулачества применялась такая мера, как лишение (временное или постоянное) избирательных прав. В 1926 г. от участия в выборах, таким образом, было отстранено 1,3% избирателей, а в 1927 г. — уже 4,5%.
Тем не менее, кардинально изменить ситуацию в чеченском обществе не удалось, что подтвердили и перевыборы в Советы, состоявшиеся в 1927 г. Число коммунистов и комсомольцев в их составе, по сравнению с предыдущими выборами, возросло чуть более чем на 2% — с 13 до 15,1%2.
Изменение статуса Грозного и Сунженского казачьего округа. К 1928 г. не только в Чечне, но и в Москве пришли к выводу о необходимости «присоединить» к Чечне город Грозный и Сунженский казачий округ (располагавшиеся на исторических землях чеченцев) с целью ускорить темпы «социалистических преобразований» в ЧАО. Новый секретарь объединенного Чеченского бюро ВКП(б) Г. О. Булат в одном из своих выступлений перед партийным активом подчеркивал, что основным мотивом объединения являлось создание условий для усиления «...влияния грозненского пролетариата на трудовое крестьянство, на руководство социалистическим строительством в советском ауле». В обновленной Чеченской АО на почти полмиллиона жителей теперь приходилось около 6 тысяч коммунистов и 10 тысяч комсомольцев3.
1 См.: ГАРФ. Ф. Р-1235. Оп. 124. Д. 108. Л. 1; Цей Д. О массовой работе союза воинствующих безбожников в нацобластях // Революция и горец. — 1929. — № 7—8. — С. 48; Кундухов М. О закяте и некоторых других формах поборов духовенства в нацобластях // Революция и горец. — 1929. — № 7—8. — С. 40; Авторха- нов А. Р. Достижения и недочеты культурного строительства в Чечне // Революция и горец. — 1929. — № 5. — С. 64.
2 См.: В Чечне закончились перевыборы Советов // Грозненский рабочий. — 1927. — 15 марта. — С. 4; Ефанов К. К Классовая борьба в чечено-ингушском ауле в период социалистического строительства. — Грозный, 1979. — С. 21.
3 От вековой отсталости — к социализму: С6. документов и материалов. — Грозный, 1977. — С. 60.
Чеченская автономная область в 1922—1934 гг.Таштемир Эльдарханов
Кизляр
ЧЕЧЕНСКАЯ АВТ. ОВЛ.
МАСШТАБ
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ Границы С Cf*. Грузии. ... « Даг. А.С-С Р.
Автономных областей ® Центры Аат. Обл.
О районов
О Проч. нас- пункты
Важнейшие полезные ископаемые .Железные дороги А Нефть С Сера
s Колесные дороги - АрСяные дороги
Вьючные тропы
Нефтепровод
уй"', '0)0.. Две f»'‘EG#dfoSS£» Ледники *2122 Высоты в метр-
О Селитра 0 Варит
М Гарный сланец • Железная руд» Промышленные заведения Ш Нефтепромысла и иефтеобрэбат.завод И Металпообрабатыа- заводы @ Электростанции Ф Текстильная мастерская fill Лесной аавод £В Совхозы
Карта Чеченской автономной области к 1929 г. (35, 525—526)
Кроме того, в результате объединения Чечня утратила мононациональный характер и превратилась в область с многонациональным населением. Помимо всего прочего, это давало основание для существенного пополнения партийного, советского и хозяйственного аппарата новыми работниками — не чеченцами по национальности. Именно преобладание в объединенной областной организации ВКП(б) русских коммунистов служило теперь обоснованием для закрепления должности первого партийного руководителя за назначенцами из центра.
Следует сказать, что здесь роль сыграли и объективные исторические и географические факторы: воссоединение Чечни в старых границах (в результате включения в ее состав западно-сунженских
Глава XV. Огнем и мечом: строительство Советской власти в Чечне (20—30-е гг. XX в.)
земель и Грозного) отвечало потребностям экономического характера, приводило в соответствие границы стихийно сложившегося народо- хозяйственного районирования. Не говоря уже о том, что восстанавливалась историческая справедливость, в состав Чечни возвращались земли, отторгнутые от нее в свое время силой оружия, за исключением левобережья Терека, отнятого в последней четверти XVIII в.
«Объединение» Чечни с Грозным и Сунженским округом (по существу, воссоединение), по мнению советских руководителей, создавало условия для «развертывания наступления на кулака» и исламское духовенство. Проведенные очередные перевыборы Советов, обновили депутатский корпус на 68%, причем в новом составе бедняки составляли уже 60%, а коммунисты — четверть всех депутатов. Одновременно число лиц, лишенных избирательных прав возросло до 7,4% К
Согласно официальной статистике, в 1933 г. коммунистов и кандидатов в члены ВКП(б) по Чечне насчитывалось уже 15901 человек, из которых 78% были рабочими. Собственно, чеченцев в рядах ВКП(б) насчитывалось 3602 человека1 2. Таким образом, Чеченская партийная организация состояла в основном из лиц нечеченской национальности и была сосредоточена в Грозном. Чечня, по сравнению с другими национальными областями Северного Кавказа, не просто отстает по количеству национальных партийных кадров, но отстает и по качеству — здесь явственно ощущается недостаток образованных и просто грамотных людей.
Активизация социальных преобразований. «Наступление на кулака». Очень быстро стало ясно, что коллективные хозяйства (товарищества по совместной обработке земли, разного рода кооперативы и, наконец, колхозы) не способны ликвидировать в Чечне так называемые кулацкие, по существу нормальные самодостаточные крестьянские хозяйства путем экономической конкуренции — «кулацкие» хозяйства демонстрировали гораздо большую эффективность. Создавая первые опытные колхозы, коммунистическая партия, скорее сознательно, обостряла «классовую борьбу» с целью политически изолировать социальный слой зажиточного крестьянства, с последующим применением против нее карательной машины. Попутно делалось все для разрушения традиционного уклада жизни чеченских сельских общин, чему, помимо коллективизации, должны были способствовать и такие нововведения, как комитеты бедноты или женские организации.
Чтобы активизировать участие женщин в политической и общественной жизни использовались самые разные способы и методы,
1 Организационно-массовая работа в Чечне // Революция и горец. — 1929. — № 10. — С 72.
2 Ерещенко Г. А. Организационно-массовая работа партийных организаций Чечни и Ингушетии в промышленности в годы первой пятилетки // Вопр. истории Чечено- Ингушетии (советский период). — Грозный, 1978. — С. 65,66.
— 712 —
Чеченская автономная область в 1922—1934 гг. Таштемир Эльдарханов
например, создание женских избирательных участков или так называемые делегатские собрания, на которых женщины-горянки знакомились с работой государственных органов и общественных организаций. В деятельность делегатских собраний по всем чеченским округам (без Грозного, Петропавловского и Сунженского) в 1929—1930 гг. было вовлечено примерно 14,5 тысяч женщин, через год — уже свыше 24 тысяч. Если в 1925 г. в Советы различных уровней в ЧАО было избрано всего 20 женщин, то в 1926 г. их было 500, а в 1928 г. женщины составляли 21% депутатского корпуса1.
«Развернутое наступление» на кулака и духовенство, действительно, вызвало рост напряженности в Чечне, участились случаи нападений и убийств партийных и советских активистов. Зачастую открытые конфликты возникали внутри отдельных семей, что придавало им особый драматизм. Так, руководительница Шалинского окружного женского отдела М. Багирова была убита собственным мужем в результате «политического» конфликта2.
Курс на искусственное обострение классовой борьбы в ауле встречал сопротивление даже внутри советских органов, что послужило поводом к проведению кампании по «вычищению госаппарата», жертвами которой в Чечне стали 839 человек. Большая часть этих людей пострадала из-за своего «социального происхождения». Например, член Президиума Чеченского областного исполкома Сайханов Абу был уволен как бывший царский офицер. Вместе с тем, в адрес некоторых руководителей выдвигались обвинения и чисто уголовного характера. Так, начальник милиции Ножай-Юртовского округа Байраков Т., помимо связей с бандитами, обвинялся в продаже конфискованного оружия и расхищении обуви, присланной для школьников3.
Подавление в Чечне крестьянских выступлений. Осенью 1929 г. в СССР развернулась кампания по форсированному созданию колхозов, которая в Чечне привела к ряду открытых вооруженных выступлений, в частности, в селениях Шали, Автуры, Беной, Гойты. В ответ Чеченское бюро ВКП(6) приняло решение усилить «нажим» на кулака. Например, в Гойтах до 10—11% всех сельских хозяев рекомендовано было зачислить в кулаки и взыскивать с них до 35—40% всех налогов, которые должны были поступать от этого селения.
! См.: Ефанов К. И. В авангарде борьбы за коллективизацию. — Грозный, 1968. — С. 140; Нанаева Б. Б. Некоторые вопросы развития и укрепления местных Советов Чечено-Ингушетии в период строительства социализма (1925—1936 гг.) // Из истории борьбы за власть Советов и социалистических преобразований в Чечено-Ингушетии. — Грозный, 1983. — С. 92, 93.
: Убита женорганизатор-общественница // Революция и горец. — 1929. — № 7—8. — С. 120.
3 Власенко Н. И. Итоги чистки аппаратов советских, хозяйственных и кооперативных в Чеченской области // Революция и горец. — 1929. — № 4. — С. 18.
— 713 —
Глава XV. Огнем и мечом: строительство Советской власти в Чечне (20—30-е гг. XX в.)
В конечном итоге к ликвидации начавшихся волнений в Чечне были вновь привлечены войска — в декабре сформирована группировка численностью до 2 тысяч штыков при 75 пулеметах, 11 орудиях и 7 самолетах. 10 декабря 1929 г. состоялась первая попытка овладеть селением Гойты. Однако войска выступили практически без артиллерии и потому не смогли его занять с ходу Второй удар 11 декабря направлен против селения Шали, которое было занято после артиллерийской и воздушной бомбардировки. В ту же ночь оборонявшиеся в Гойтах, прорвав слабое оцепление, отступили в горные районы, и 12 декабря это мятежное село было занято. Войска вступили также в селение Веной, центр восстания в Ножай-Юртовском районе, но в целом операция считалась неудачной, так как большая часть вооруженных повстанцев укрылась в горах. У населения удалось изъять всего 290 винтовок и большое количество устаревшего огнестрельного и холодного оружия. Значительными были и потери войск — 21 красноармеец убит и 22 ранено. Недовольство командования Северо-Кавказского военного округа вызвали попытки властей Чеченской АО «.. .использовать пребывание Красной Армии для проведения ошибочных мероприятий, проваленных населением».
Интересно отметить, что чеченские повстанцы пытались установить связь с терским казачеством, соседними районами Ингушетии, Дагестана и даже Грузии1.
Войсковая операция 1930 г. После тщательной подготовки, 16 марта 1930 г. началась новая войсковая операция в Чечне, в ходе которой войска должны были занять «...наиболее угрожаемые по бандитизму районы». Для этих целей сформирована оперативная группа войск численностью более 3600 красноармейцев, включая кавалерию, пехоту, артиллерию и авиацию, а также два добровольных оперативных отряда Чеченского обкома ВКП(6). По 10 апреля 1930 г. удалось изъять 1500 единиц огнестрельного оружия, арестовать 122 человека, в том числе: руководителей повстанческого движения — 9, заложников — 35. Боло убито 19 повстанцев, потери войск убитыми составили 14 военнослужащих2.
Массированное «наступление на кулака» привело к тому, что многие крестьянские семьи бросали земли, полученные на равнине, и вновь переселялись в горы, где селились отдельными хуторами. За короткий срок в горной Чечне возникло до трех тысяч новых небольших поселений-хуторов, жители которых потенциально могли оказать содействие антисоветским повстанцам3.
1 См.: От вековой отсталости — к социализму: Сб. документов и материалов. — Грозный, 1977. — С. 103; Аптекарь П. Война без конца и края // Родина. — 2000. — № 1—2. — С. 163,164; Гакаев Ж. Ж. Указ. соч. — С. 92—93.
2 Второе покорение Кавказа: Большевики и чеченские повстанцы // Родина. — 1995. - № 6. - С. 45-46.
3 Ефанов К. И. Классовая борьба в чечено-ингушском ауле в период социалистического строительства. — Грозный, 1979. — С. 86; Гакаев Ж. Ж. Указ. соч. — С. 92—93.
— 714 —
Чеченская автономная область в 1922—1934 гг. Таштемир Эльдарханов
Командование Северо-Кавказского военного округа считало, что для быстрой ликвидации «политического бандитизма» необходимо занять небольшими гарнизонами все хутора, но для этого просто не хватало войск. Кроме того, во всем военном округе не имелось горнострелковых частей, специально подготовленных для ведения боевых действий в горах. Обычные же части и их командиры, оказавшись в непривычной обстановке, проявляли медлительность в действиях, ночью всегда переходили к обороне и тем самым отдавали противнику инициативу в ведении боевых действий. Единственным результатом войсковых операций стало рассеивание крупных отрядов повстанцев.
Следует отметить, что в пик коллективизации, к марту 1930 г., разрозненные крестьянские восстания шли не только в Чечне, а по всей территории СССР. Так, в общей сложности 700 тысяч повстанцев с оружием в руках защищались от новой крепостнической неволи. Испуганный Сталин опубликовал статью «Головокружение от успехов», в которой обвинил местное руководство в перегибах и подтвердил принцип добровольности при вступлении в колхоз. Начался массовый выход крестьян из колхозов1.
Замедление темпов коллективизации. Усиление репрессий. События зимы 1929 — весны 1930 гг. привели к некоторой корректировке намеченных темпов коллективизации и серьезной кадровой «чистке» в партийных и советских органах Чеченской АО. Временно отказавшись от политики насильственного насаждения колхозов, власти сосредоточились на укреплении других форм коллективного ведения хозяйства: товариществ по совместной обработке земли, снабженческих кооперативов и т. п. Тем не менее, политический курс на «ликвидацию кулачества как класса» и подрыв влияния исламского духовенства оставался без изменений. В 1930 г. в Закан-Юрте и Урус-Мартане появились первые ячейки всесоюзного атеистического общества Союз воинствующих безбожников, а в штат областного отдела народного образования включены работники «по антирелигиозной работе»2. Под разными предлогами власти преследовали религиозных деятелей, многие из которых подвергались арестам.
Массовые репрессии обрушились и на зажиточную часть чеченского крестьянства, обвиненного в срыве темпов коллективизации и организации «политического бандитизма». За три года масштаб репрессий увеличился на порядок: если в 1928 г. в Чеченской АО осудили 54 «кулака», то в 1931 г. перед судом предстали уже 515 «кулаков»3. Борьба
1 Отечественная история (1917—2001). Учебник / Отв. ред. проф. Н. М. Узнародов. — М., 2002. — С. 173.
2 Каратаева М. А. Развитие массового атеизма в Чечено-Ингушетии в период строительства социализма (1920—1940 гг.) // Из истории борьбы за власть Советов и социалистических преобразований в Чечено-Ингушетии. — Грозный, 1983. — С. 139.
3 Ефанов К. И. Классовая борьба в чечено-ингушском ауле в период социалистического строительства. — Грозный, 1979. — С. 52.
Глава XV. Огнем и мечом: строительство Советской власти в Чечне (20—30-е гг. XX в.)
между сторонниками и противниками нововведений советской власти приняла форму индивидуального террора, жертвами которого время от времени становились, с одной стороны, видные партийные функционеры а с другой — руководители «политического бандитизма». Так, в 1931 г. были убиты член бюро Чеченского обкома ВКП(б) М. Кундухов, а следом убежденный противник сталинской власти, бывший военный министр в правительстве Узун-Хаджи Ш. Истамулов.
Восстание 1932 г. Путем административного принуждения власти Чеченской АО сумели к 1932 г. вновь навязать крестьянам коллективные формы хозяйствования. В частности, было проведено обобществление скота, что закономерно вызвало рост недовольства. Но следом был еще спущен план по заготовкам мяса, что означало, по существу, конфискацию значительной части поголовья скота. После этого органы ГПУ обнаружили признаки подготовки вооруженного восстания, которое готовилось в горной Чечне и должно было охватить также плоскостные селения и пограничные районы Дагестана — Гумбетовский, Ауховский и Андийский.
В начале марта 1932 г. организация восстания, которое должно было начаться в Ножай-Юртовском районе, вошла в завершающую стадию: окончательно формируется группа руководителей, в которую вошли Муцу Шамилев, Ибрагим Нинахаджиев, Усман Ушхаев, Хусейн Истамулов, Дада Кебетов; в селениях назначаются ответственные лица, конкретизируются время и место выступления, определяется число участников и т. д.
Восстание началось 20 марта 1932 г., с нападения повстанцев на гору Стерч-Кертч в Ножай-Юртовском районе, где находился участок по промышленной добыче нефти. Всего здесь было сосредоточено от 300 до 400 восставших, еще 700—800 закрепились на горном хребте, прикрыв район восстания со стороны Хасав-Юрта, откуда, скорее всего, можно было ожидать прибытия частей Красной Армии.
Быстро выдвинутые в район восстания войска действовали на этот раз решительно и слаженно. Во многом их задачу облегчила ошибочная тактика руководителей восстания, принявших открытый бой с регулярными частями. Несмотря на ожесточенное сопротивление повстанцев, предпринимавших неоднократные контратаки строем и с пением религиозных гимнов, их отряды понесли тяжелые потери и были рассеяны. Уже 29 марта восстание было разгромлено, число убитых достигло 333, раненых — 150. Части Красной Армии и оперативные группы ГПУ потеряли всего 27 человек убитыми и 30 ранеными1.
Пятеро захваченных руководителей восстания были вскоре расстреляны, а в общей сложности репрессиям, в связи с делом так называемого «Чеченского националистического центра», подверглось, по некоторым
1 Аптекарь П. Война без конца и края // Родина. — 2000. — № 1—2. — С. 165.
— 716 —
Чеченская автономная область в 1922—1934 гг. Таштемир Эльдарханов
данным, до 3 тысяч человек1. С этого времени происходит и общее ужесточение репрессий в отношении потенциальных противников советской власти. Под ударом вновь оказываются «кулаки», т. е. зажиточные крестьяне, и мусульманское духовенство. Арестам подверглись некоторые известные чеченские шейхи, а Кана-шейх Хантиев был расстрелян в апреле 1933 г.
Несмотря на подавление восстания и возросший масштаб репрессий, 1932 г. отмечен в Чечне массовым выходом крестьян из уже созданных коллективных хозяйств. Партийное и советское руководство объясняло это в духе того времени — агитацией кулачества и «вредительской» деятельностью контрреволюционных элементов, которые якобы «.. .прошли в сельсоветы, даже в партийные ячейки, захватили там руководство, срывали все мероприятия партии и Советской власти...»2. Речь же шла о полной потере доверия населения к советской власти, грубо «ломавшей» целые народы в угоду утопическим социальным планам партии, решившей построить социализм «в отдельно взятой стране»
Советские вожди 30-х гг. XX в. Сидят (слева направо): Г. К. Орджоникидзе, И. В. Сталин, В. М. Молотов, С. М. Киров. Стоят: К. Е. Ворошилов,
Л. М. Каганович и В. В. Куйбышев. Фото (55, вклейка)
1 Авторханов А. Убийство чечено-ингушского народа: Народоубийство в СССР. — М., 1991. — С 36.
2 От вековой отсталости — к социализму: Сб. документов и материалов. — Грозный, 1977. —С. 115.
Глава XV. Огнем и мечом: строительство Советской власти в Чечне (20—30-е гг. XX в.)
на костях ее жителей. Отсюда и шла острая ненависть коммунистической диктатуры к тем народам, которые стремились сохранить свое национальное лицо и нормальное хозяйствование, в том числе путем вооруженного сопротивления.
Восстания в Чечне против жестокой, человеконенавистнической диктатуры в 20—30-х гг. XX в. выдаются в исторической литературе порой за нечто исключительное. Между тем, в условиях Средней Азии, Сибири и ряда районов европейской части СССР подобные восстания достигали куда более серьезных масштабов. Так, по всей стране с оружием в руках восстали против коллективизации и сопровождающих ее бесчеловечных деяний не менее 700 тысяч человек.
На том же Северном Кавказе в конце ноября 1932 г. восставшие жители станицы Тихорецкой, на Кубани, две недели отбивали атаки регулярных частей Красной Армии. В начале 30-х гг. здесь же на Кубани вооруженные выступления произошли в станицах Ставропольской, Троицкой, Ново-Троицкой, Ново-Марьинской. Огромная станица Полтавская, выступившая против коллективизации, была окружена, разрушена пушечным огнем, а место, на котором она стояла, распахано. Все жители были высланы за пределы края. Кубанские леса и горы были насыщены беглыми казаками, крестьянами Ставропольской и Черноморской губерний, готовыми стать на путь вооруженной борьбы с большевиками. Возглавляли указанные восстания, как правило, бывшие красные командиры, коммунисты, красные партизаны и даже бывшие чекисты.
По существу, чеченские повстанцы спасли народ от вымирания — ведь результатом беспроблемного принятия требований власти по организации колхозов стала, в ряде областей СССР, массовая гибель крестьянства — в результате беспримерной в истории человечества эксплуатации и сознательно организуемого голода. Героическим сопротивлением «чеченские политбандиты» остановили мощное военное наступление советской диктатуры на собственно основы жизни нации как таковой, не дав полностью закабалить людей в колхозах-концлагерях. Советская власть была вынуждена закрыть глаза на, в общем-то, формальный характер коллективизации в Чечено-Ингушской АССР, где рядовому крестьянству удалось сохранить кое-какие средства производства и доступ к ведению частного хозяйства как гаранта от голодной смерти и унизительного существования на тощем государственном пайке. Конкретным итогом «успешной» коллективизации в ряде районов тех же Кубани и Дона к 1933 г. стали массовые случаи смертности от голода и недоедания, «поголовное полное опухание», трупоедство и людоедство К 11 См.: Крестная ноша. Сост. В. Сидоров // Трагедия казачества. — М., 1994. — С. 362; Окороков А. В. Казаки и русское освободительное движение // Интернет. — С. 2—3.
— 718 —
Создание Чечено-Ингушской Автономной Советской Социалистической Республики.
«Большой» террор
§ 3. Создание Чечено-Ингушской Автономной Советской Социалистической Республики. «Большой» террор
Вопрос об объединении Чечни и Ингушетии. По существу, Ингушетия с колониальных времен в силу объективных обстоятельств оставалась аграрным придатком, а отсутствие полезных ископаемых, годных к разработке, лишало ее каких-либо экономических перспектив. Еще в конце ноября 1927 г. бюро Северо-Кавказского краевого комитета ВКП(6) заслушало мнение по вопросу объединения двух братских народов секретарей обкомов Чечни (Г. Булат) и Ингушетии (И. Зязиков). Последний являлся небесталанным политическим деятелем, подлинным патриотом, последовательно отстаивавшим интересы своего народа.
Специальное исследование, проведенное в обеих областях представителями центральных и краевых партийных органов, выявило в целом отрицательное отношение чеченских и ингушских советских руководителей к перспективе создания единой автономии. Противники объединения указывали на сравнительную удаленность Ингушетии от Грозного, призванного стать центром единой Чечено-Ингушетии, слабость экономических связей между двумя областями (Чечня в экономическом плане ориентировалась на Грозный, Ингушетия — на Владикавказ). В экономическом отношении объединение было невыгодно Чечне, которой в этом случае пришлось бы передать аграрным ингушским районам часть поступлений от «Грознефти», составлявших основу ее бюджета. Для Ингушетии же объединение с Чечней означало окончательную уступку Северной Осетии Владикавказа1 2.
И. Б. Зязиков, первый секретарь Ингушского обкома ВКП(б).
Отстранен от должности в 1929 г., репрессирован в 1933 г. Совр. рис. (77, 27)
1 Крестная ноша. Сост. В. Сидоров // Трагедия казачества. — С. 362; История СССР. — 1989. — № 3. — С. 51.
: Яндиев А. Владикавказ: Неизвестные страницы истории города. — Саратов, 1999. — С. 96—97.
Глава XV. Огнем и мечом: строительство Советской власти в Чечне (20—30-е гг. XX в.)
«ЧГ
Карта автономной области Ингушетии до объединения с Чеченской АО (36, 35)
Несомненно, что объединение Чечни и Ингушетии, несмотря на этническое единство двух братских народов, объективно соответствовало интересам не этих двух автономий, а высшей партийной и советской бюрократии. Сделав Чечню и ее государственный аппарат многонациональным, центр получал возможность играть на противоречиях внутри этой автономии и оказывать решающее влияние на кадровые назначения.
Создание Чечено-Ингушской Автономной Советской Социалистической Республики.
«Большой» террор
За всем этим стоял не столько интерес к Чечне как таковой, сколько заинтересованность в Грозненском нефтепромышленном районе, имевшем для СССР жизненно-важное экономическое и стратегическое значение.
Чечня до объединения. Накануне объединения с Ингушской АО, Чеченская автономная область имела территорию в 11105 квадратных километров, на которой проживало 573 тысячи человек (из них собственно чеченцы — 392 тысячи человек, а русские — около 160 тысяч человек). Область делилась на 12 сельских районов, столицей являлся город Грозный — к тому времени самый крупный на Северном Кавказе промышленный центр. Чеченская автономия давала до 40% нефтепродуктов советской державы, занимая в СССР второе место после Баку.
Нефтепромыслы, нефтепроводы, металлические и машиностроительные заводы, огромные нефтеперегонные и крекинг-заводы, тепловые электростанции определяли индустриальное лицо центральной части равнинной Чечни.
Основная часть населения сосредотачивалась в сельских районах и была занята в аграрном секторе. Несмотря на разрушения, понесенные в годы гражданской войны, чеченское село быстро восстановило былую славу «житницы» Северо-Восточного Кавказа. Так, ежегодный прирост продукции в сельском хозяйстве Чечни в годы НЭПа, с 1923 по 1929 г. включительно, составлял 10—12%. И только с началом коллективизации снизились не только темпы прироста, но начал падать достигнутый объем животноводства и полеводства в целом.
Ход объединения. Провозглашение ЧИАССР. Областные исполкомы Чечни и Ингушетии, по приказу обкомов партии, в самом начале 1934 г. проголосовали за объединение двух автономий. Весьма характерно, что постановление ВЦИК РСФСР о слиянии двух автономий было принято очень спешно — после «опроса» членов Президиума, а само объединение (с санкции Президиума ВЦИК РСФСР) проводилось с нарушениями действовавшего советского законодательства1. Постановление ВЦИК РСФСР «Об образовании объединенной Чечено- Ингушской автономной области» было принято 15 января 1934 г., а в 1936 г. новая область была провозглашена Чечено-Ингушской автономной советской социалистической республикой. В иерархии советских национальных государственных образований выше был статус только союзных республик.
В момент объединения Ингушская АО представляла собой территорию в 3200 квадратных километров с населением 82 тысячи человек, занятого исключительно сельским хозяйством и исполнением разнообразных должностей в чрезмерно раздутом государственном аппарате. Область в административном отношении делилась на четыре района — Назранов- ский, Пригородный, Пседахинский (Ачалукский) и Галашкинский.
ГАРФ. Ф. Р-1235. Оп. 45а. Д. 101. Л. 2а; Д. 104. Л. 15—16.
Глава XV. Огнем и мечом: строительство Советской власти в Чечне (20—30-е гг. XX в.)
Город Владикавказ, где располагались органы власти области, находился в центральном подчинении, и только к 1929 г. было принято волюнтаристское решение о передаче его в состав Северо-Осетинской автономной области. Протесты ингушских властей и населения в целом не были приняты Москвой во внимание.
Не следует вместе с тем считать, что данное объединение отвечало целям и задачам исключительно партийно-советских органов. В 20—30-х гг. в Чечне и Ингушетии протекали объединительные процессы, основанные на единстве языка, религии и культуры. Именно с подачи ингушской интеллигенции (Д. Мальсагов) в научный и общественный оборот прочно вошел термин «вайнах» (наш народ, наши люди), отражавший этноеди- ную сущность чеченцев и ингушей. Вместе с тем, ликвидация ингушской государственности осталась в исторической памяти народа как одно из проявлений произвола сталинско-коммунистической диктатуры.
Массовые «чистки» и репрессии. Само объединение Чечни с Ингушетией и создание единого партийно-советского аппарата сопровождалось массовой «чисткой». В 1934 г. смещаются со своих должностей все председатели сельских Советов, в значительной степени «обновляется» состав и вышестоящих органов1. По крайней мере, уже с середины 20-х гг. значительная часть мероприятий типа «чисток» и обмена партбилетов объяснялись не столько наличием противников советской власти, сколько борьбой различных группировок внутри советской партийной элиты.
В январе 1924 г. после длительной болезни, не приходя в сознание, умер вождь коммунистической партии В. И. Ленин. В течение нескольких лет после его смерти практически диктаторские полномочия приобрел кавказский революционер И. В. Сталин. Если в годы революции и гражданской войны было уничтожено не менее 2,5 миллионов человек из «враждебных классов», то Сталину достались лавры губителя «кулачества» и «противников» партии. Сталин повел политику кровавых чисток опираясь на тезис об усилении классовой борьбы по мере продвижения к социализму.
Вовлеченной во внутрипартийные «разборки» оказалась и партийная организация Чечни. После 1932 г. в крае не наблюдается массовых вооруженных выступлений против советской власти, но «чистки» государственных органов происходят одна за другой. Причем поводы для «чисток» порой оказывались самые неожиданные. Так, когда в 1935 г. три руководителя сельских советов в Чечено-Ингушетии один за другим были убиты кровниками, областное руководство было обвинено в непонимании того факта, что «.. .за обычаем кровной вражды скрывается еще не добитый классовый враг», и подвергнуто «чистке»2.
1 ГАРФ. Ф. Р-1235. Оп. 131. Д. 6. Л. 301.
2 ГАРФ. Ф. Р-1235. Оп. 131. Д. 6. Л. 304.
Создание Чечено-Ингушской Автономной Советской Социалистической Республики.
«Большой» террор
Но своего пика репрессии, названные «Большим» террором (в отличие от «красного» террора 1918—1921 гг.), достигли в 1937—1938 гг., когда советской власти ничто уже не угрожало не только в Чечне, но и по всей стране. Ряд аварий на грозненских заводах, произошедших в начале 1937 г., привели к возбуждению органами НКВД дел по обвинению «во вредительстве», по которым было арестовано свыше 90 руководящих работников «Грознефти» высшего и среднего звена. Начавшись непосредственно на предприятиях, по прямому указанию ЦК ВКП(6), к октябрю 1937 г. «чистка» дошла до высших партийных органов Чечено-Ингушетии. Ряд работников Чечено-Ингушского обкома обвинены в «утрате бдительности», а некоторые объявлены «врагами народа» и репрессированы1.
Всего в октябре 1937 г. было репрессировано 30 из 76 членов и кандидатов в члены Чечено-Ингушского обкома, включая всех чеченцев и ингушей; 20 из 28 секретарей районных партийных комитетов; 77 членов райкомов и 192 руководящих работников сельских районов республики. Кроме того, арестам подверглись и работники республиканской комсомольской организации2.
«Чистка» 1937 г. коснулась тысяч людей. Только по одному приказу НКВД «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов» в Чечено-Ингушетии подлежали аресту до двух тысяч человек, из которых 500 были отнесены к «первой категории» и подлежали расстрелу. Для вынесения приговоров этим людям была сформирована республиканская «тройка» (в составе: Дементьев (председатель), Петров и Вахаев* 3).
Еще в 20-е гг. советские карательные органы имели право высылать без суда на срок до трех лет любого человека, признанного социально опасным, а так называемое Особое совещание могло своим постановлением заключать граждан в концентрационные лагеря и выносить более тяжкие приговоры, вплоть до смертной казни. Наряду с печально известными «тройками» функционировали и «двойки» в составе областного или республиканского руководителя НКВД и прокурора того же уровня. Широко практиковалось «осуждение по альбомам» — на каждой странице специального альбома, подготовленного к очередному заседанию «тройки» или «двойки», указывались имя, фамилия, отчество, год рождения подозреваемого и описание совершенного им «преступления». Решение выносилось на основании этих данных, без ознакомления с самим уголовным делом.
■' Ерещенко Г. Тот страшный тридцать седьмой год // Грозненский рабочий. — 1989. — 9 февр. — С. 4.
: Объединяет правда: Круглый стол «Грозненского рабочего» // Грозненский рабочий. — 1989. — 28 янв. — С. 3.
3 Сигаури И. М. Очерки истории и государственного устройства чеченцев с древнейших времен. Т. 2. — М., 2001. — С. 143.
Глава XV. Огнем и мечом: строительство Советской власти в Чечне (20—30-е гг. XX в.)
Разгром чечено-ингушской партийно-хозяйственной номенклатуры и интеллигенции. Репрессии против национальных партийных и советских работников в Чечено-Ингушетии проводились органами НКВД в рамках дела по раскрытию антисоветской деятельности так называемого «буржуазно-националистического центра». Очень скоро под ударом оказалась практически вся чеченская интеллигенция. Достаточно сказать, что из 12 членов Чечено-Ингушского Союза писателей были арестованы 9, осуждены 7, в том числе четверо — С. Бадуев, А. Дудаев, Ш. Айсханов, С. Озиев — приговорены к расстрелу. Крупные чеченские писатели (Халид Ошаев, Магомед Мамакаев и Арби Мама- каев) получили длительные сроки заключения.
В 1938 г. сняты с работы почти все заведующие земельными отделами районных органов власти Чечено-Ингушетии; 14 директоров машинно-тракторных станций из 18; 19 председателей райисполкомов; 22 секретаря районных комитетов ВКП(6). В 1939 г. происходит новая волна репрессий, затронувшая 21 председателя райисполкомов, всех заведующих районными земельными отделами1 2.
В числе пострадавших были высшие партийные и советские работники Чечено-Ингушетии, например: Абдул-Халим Саламов, Абдул-Вагап Тепсаев, Саид Казалиев и др. В 1938 г. репрессирован и А. Мутушев,
Советские заключенные. Фото (55, вклейка)
1 Филькин В. И. Партийная организация Чечено-Ингушетии в годы борьбы за упрочение и развитие социалистического общества (1937 — июнь 1941 гг.). — Грозный, 1963. — С. 79.
2 Туркаев X. Братья Мутушевы // Грозненский рабочий. — 1988. — 25 авг. — С. 3.
— 724 —
Создание Чечено-Ингушской Автономной Советской Социалистической Республики.
«Большой» террор
посмертно реабилитированный только в сентябре 1971 г.2 Репрессирован был и X. Вахаев, второй секретарь Чечено-Ингушского обкома ВКП(б). Не избежали репрессий и те, кто сам какое-то время претворял в жизнь карательные мероприятия. Так, при невыясненных обстоятельствах покончил с собой Г. Крафт, много лет возглавлявший аппарат НКВД в Чечне. В период до 1940 г. были расстреляны два бывших наркома внутренних дел Чечено-Ингушетии, еще несколько работников республиканского НКВД приговорены к разным срокам заключения.
В период с 1934 по 1937 гг. из состава Чечено-Ингушской областной организации ВКП(б) было исключено свыше 3500 человек. В 1937 и в начале 1938 гг. партийных билетов лишились еще 822 человека, из которых 280 были объявлены «троцкистами» и «врагами народа»1. Не только вся страна, но и правящая коммунистическая партия находились в это время на чрезвычайном положении. Демократические нормы, закрепленные в Конституции СССР и в партийном Уставе, грубо попирались высшим партийным руководством, как в центре страны, так и в провинциях. Важнейшие решения принимались единолично высшими чиновниками, а деятельность выборных и представительных органов превратилась в фикцию. Например, пленум Чечено-Ингушского обкома ВКП(6) собирался в 1935 г. только один раз, а в 1936 г. — два раза. Назначения в состав партийных и советских органов происходили чаще не путем выборов, а методом «кооптации». Это было чрезвычайно удобно для первых руководителей, которые таким нехитрым способом пополняли государственный и партийный аппарат своими сторонниками, в том числе и по национальному признаку. Даже в ЦК ВКП(б) признавали, что высшие партработники Грозного и ЧИАССР заражены «великодержавным шовинизмом».
Часто поводом к политическим обвинениям служили интересы «национальных» группировок, сложившихся в государственном аппарате. Так, о многом говорит тот факт, что в октябре 1937 г. были репрессированы все без исключения чеченцы и ингуши, работавшие в Чечено-Ингушском обкоме ВКП(б). Кстати, обвинение в причастности к деятельности «буржуазно-националистического центра» было выдвинуто и против находившегося в Москве, на учебе в Институте красной профессуры ЦК ВКП(б), Абдурахмана Авторханова, уже рекомендованного к избранию на пост секретаря Чечено-Ингушского обкома2.
Следует сказать, что против всех арестованных по политическим статьям широко применялись пытки, официально разрешенные как 55 Филькин В. И. Партийная организация Чечено-Ингушетии в годы борьбы за упрочение и развитие социалистического общества (1937 — июнь 1941 гг.). — Грозный, 1963. — С. 108,109.
: Письмо 3. Г. Мусаева // Справедливость. — 1990. — № 5—6. — С. 7.
Глава XV. Огнем и мечом: строительство Советской власти в Чечне (20—30-е гг. XX в.)
Ночной арест. 1937 г. Худ. Д. Д. Жилинский (65, 137)
меры «физического воздействия». Так, в письме И. В. Сталина, разосланном в высшие партийные органы на местах, говорилось: «ЦК ВКП(б) разъясняет, что применение физического воздействия в практике НКВД было допущено с 1937 г. с разрешения ЦК ВКП(б)»1. В целом, по разным оценкам в 30-х — начале 40-х гг. жертвами сталинского террора стали не менее 30—40 тысяч чеченцев и ингушей, подавляющее число которых были расстреляны или приговорены к заключению в тюрьмах и лагерях.
Одновременно в среде республиканской бюрократии процветало доносительство, а обвинения в политических преступлениях стали эффективным методом внутриаппаратной борьбы. Временами число ложных доносов достигало такого количества, что против отдельных рьяных любителей анонимного эпистолярного жанра власти оказывались вынужденными принимать репрессивные меры. Так, к уголовной ответственности были привлечены несколько работников Чечено-Ингушского исполкома. Только один из них, некий Гончарский, направил в 1937 г. в партийные органы более 20 анонимных писем, в которых десятки советских и хозяйственных работников обвинялись в антисоветской деятельности.
1 Черушов Н. С. Удар по своим. Красная Армия: 1938—1941. — М., 2003. — С. 176.
— 726 —
Создание Чечено-Ингушской Автономной Советской Социалистической Республики.
«Большой» террор
Поводом для обвинения в антисоветской деятельности могло послужить простое исполнение народных обычаев или религиозных обрядов. Так, в 1940 г. только в одном Ножай-Юртовском районе по доносам было возбуждено 13 уголовных дел, по которым два десятка местных учителей и просто сельских жителей обвинялись в нарушении советского законодательства: двоеженстве, прекращении занятий в школах в дни празднования окончания мусульманского поста и т. п.1 Большинство этих правонарушений рассматривались советскими органами как граничащие с политическими преступлениями.
Формы сопротивления сталинскому террору. В целом «большой» террор 30-х гг., затронувший значительную часть чеченской национальной интеллигенции и партийно-советской номенклатуры, ослабили государственный аппарат, подорвали авторитет советской власти и партии. Кроме всего, репрессии способствовали постоянному пополнению антисоветских групп, скрывавшихся в горах Чечни, и даже существенно изменили их состав и идеологические установки. Вообще, «кадровый бандитизм» 20—30-х гг. XX в. в Чечне являлся продолжением традиций абречества, которое в новых условиях приобрело антисоветский характер. Но если ранее в его рядах преобладали противники советской власти из числа религиозных деятелей, кулаков и других «антисоветских элементов», то со второй половины 30-х гг. становится заметным присутствие бывших партийных и советских работников, ставших жертвами политических репрессий.
Коммунист Хасан Исраилов активно участвовал в межпартийной борьбе 30-х гг. Ряд критических публикаций в адрес руководства Чеченской АО послужили поводом к его первому аресту. Позднее он был вновь арестован, уже за критику в адрес руководящих работников Чечено-Ингушской АССР, и вскоре после освобождения (не дожидаясь следующего ареста) он перешел на нелегальное положение.
В горных районах Чечено-Ингушетии постоянно действовало несколько десятков обычных уголовных банд и антисоветских группировок политического характера, проведением четкой грани между которыми власти не всегда себя затрудняли. За девять месяцев (с октября 1937 г. по июль 1938 г.), согласно докладам органов НКВД, в Чечено- Ингушетии было уничтожено 82 «группировки», насчитывавшие до 400 участников. Тем не менее, по их же данным, в розыске оставалось еще 2262 человека, в том числе 76 «кадровых бандитов»2. Указанные цифры, естественно, непомерно раздуты, но в то же время, будь они справедливы хотя бы на одну десятую, они говорят о серьезном протесте народа Чечни против сталинского террора, абсолютно беззаконного по нормам того же советского законодательства.
1 ГАРФ. Ф. Р-8131. Оп. 18. Д. 4. Л. 4.
2 ГАРФ. Ф. P-9479. On. 1. Д. 925. Л. 15,16.
Глава XV. Огнем и мечом: строительство Советской власти в Чечне (20—30-е гг. XX в.)
В течение одного только 1938 г. в Чечено-Ингушетии было зафиксировано 98 нападений, которые, будучи даже проявлением кровной мести, охотно квалифицировались органами НКВД как акции «политического бандитизма». В ходе этих нападений погибло 49 местных партийных и советских работников и, кроме того, был нанесен существенный ущерб государственной собственности. С декабря 1937 г. по май 1938 г. в Чечено-Ингушетии традиционно было изъято 3348 винтовок, 2496 револьверов и пистолетов, прочего нарезного оружия (кремневые винтовки времен Шамиля) — 1534, гладкоствольного оружия (включая охотничьи ружья, абсолютно необходимые в пастушеском хозяйстве горцев) — 3411, а также 4 пулемета, включая один ручной1.
Однако, даже на пике своей активности антисоветские политические группировки не могли поколебать прочность советской власти не только по всей Чечено-Ингушетии, но даже в отдельно взятом горном районе. Сталинская власть оставалась прочной как никогда и, не обращая внимания на стоны и хруст костей миллионов, закручивала гайки, причем с особой силой в национальных районах. В целом Чечено-Ингушская АССР к началу 40-х гг. уже мало чем отличается от других советских национальных автономий.
В целом масштабы сталинских репрессий в Чечено-Ингушетии представляются при всей их ужасности среднестатистическими. В ряде республик и областей (та же Украина, Казахстан, Дон) цифры уничтоженных режимом представляются катастрофическими. Так, с 1921 по 1953 гг., по политическим мотивам, за «контрреволюционные преступления» было репрессировано 4 миллиона 60 тысяч 306 человек (из них большая часть в довоенные годы). Более 5 миллионов крестьян и членов их семей в той или иной степени подверглись репрессиям в ходе коллективизации2.
* * *
Эпоха 20—30-х гг. была отмечена важными сдвигами в вопросах политического, общественного и государственного строительства чеченского общества. От Чеченского автономного округа в составе Горской АССР в 1921 г. был пройден путь до аграрно-индустриальной Чечено-Ингушской Автономной Советской Социалистической Республики в 1936 г. — со своей Конституцией, Верховным Советом и Правительством.
К 1929 г. были решены вопросы воссоединения практически всех чеченских земель за счет включения в состав Чеченской АО Сунженских станиц и города Грозного. Вместе с тем преобладание мощного
1 Кавказ в сердце России: На вопросы современности ответы ищем в истории. — М.> 2000. — С. 174; ГАРФ. Ф. P-9478. On. 1. Д. 1. Л. 1.
2 Яковлев А. Сумерки. — М., 2003. — С. 217.
— 728 —
Создание Чечено-Ингушской Автономной Советской Социалистической Республики.
«Большой» террор
нефтепромышленного центра в республике наложило серьезный отпечаток на ее политическое развитие — маломощная национальная партийная организация Чечни и ее госаппарат долгое время находились на вторых ролях.
Благодаря подлинному героизму чеченских и ингушских народных масс удалось спасти край от гибельных последствий массовой коллективизации конца 20—30-х гг. Но вместе с тем, данное сопротивление привело к формированию в Чечне традиции «кадрового (политического) бандитизма», по терминологии ГПУ, а затем и НКВД.
Сталинские чистки второй половины 30-х гг. привели, по существу, к гибели тонкого слоя чеченских управленцев и национальной интеллигенции. Тем не менее народ в целом выжил за счет сохранения элементарных средств производства и вековой традиции земледельческого труда. Властям так и не удалось добиться массового обнищания и обезлюдения края в ходе беспощадной коллективизации, как то было в ряде частей Советского Союза.
— 729 —
Глава XVI. Чечено-Ингушетия
в эпоху советской модернизации: индустриализация, коллективизация и культурная революция
§ 1. Восстановление Грозненского нефтепромышленного района. Индустриализация и формирование чеченского промышленного пролетариата
Значение индустриального Грозного. Восстановление нефтепромыслов (роль Трудовой армии). Коммунистический эксперимент на территории бывшей Российской империи, направленный на построение нового социалистического строя, наиболее уродливые формы принимал в национальных окраинах. Так называемый ленинский план строительства социализма в СССР включал три главных направления: индустриализация промышленности, кооперация сельского хозяйства и культурная революция. Вместе с тем, насаждение промышленности в ранее отсталых районах, организация здесь коллективных хозяйств с механизацией труда, наряду с ликвидацией неграмотности, приводили, несмотря на все кровавые издержки, к своеобразной модернизации малых народов России.
Промышленный Грозный, являвшийся экономической, культурной и административной столицей Чечни (а затем и Ингушетии), всегда тянул за собой прилегающие сельские районы края, как горские, так и казачьи. Важную роль он играл и в жизни Российской, а затем и Советской империи — легкая чеченская нефть стала, наряду с бакинской нефтью, «топливом» социалистической индустриализации.
Первые мероприятия советской власти по охране и восстановлению Грозненского нефтепромышленного комплекса были возложены на части Кавказской Армии Труда (Трудармии) под командованием И. В. Косиора, который вскоре возглавил и так называемое Центральное нефтяное управление. В Грозный были направлены инженерный и строительный полки, перед которыми поставлена задача, в кратчайшие сроки восстановить добычу и транспортировку нефти и нефтепродуктов. 28 апреля 1920 г. было объявлено о национализации предприятий грозненской нефтяной промышленности, а к 1 мая потушены пожары на Новых промыслах, горевшие с 1918 г. В этот же день состоялся первый массовый субботник по очистке территории железнодорожной станции, в котором приняли участие до 7 тысяч красноармейцев и жителей Грозного.
Переговоры с западными фирмами о восстановлении грозненских нефтепромыслов в годы новой экономической политики путем передачи
— 730 —
Восстановление Грозненского нефтепромышленного района. Индустриализация
и формирование чеченского промышленного пролетариата
их в концессию, не дали положительных результатов. Иностранных инвесторов не устраивали предложенные Советским правительством условия. Поскольку само государство не имело необходимых финансовых и других ресурсов на восстановительные работы, то первые два года они велись почти исключительно силами Красной Армии. Еще не была создана разветвленная сеть лагерей для «врагов народа», чьим трудом позднее создавались «великие стройки социализма», а потому государство использовало в качестве бесплатной рабочей силы красноармейцев.
Весной 1920 г. из 710 нефтяных скважин, пробуренных до октября 1917 г., в эксплуатации находилось всего 72, а число рабочих на грозненских нефтепромыслах за годы революции и гражданской войны сократилось с 10500 до 2500 человек1. Сам город был разрушен не менее чем на одну треть, все городские службы функционировали с большим трудом. Голод, охвативший с 1921 г. все Поволжье, привел к появлению в Грозном большого количества беженцев, что еще более обострило проблему снабжения городского населения продуктами питания. При этом заработная плата, которую с большими задержками получали рабочие, практически полностью обесценивалась галопирующей инфляцией. За полгода, с июля 1921 г. по январь 1922 г., стоимость одного пуда кукурузной муки на рынках Грозного возросла в 10 раз. Поэтому, вплоть до своего расформирования весной 1922 г., части Трудармии взяли на себя основную нагрузку по восстановлению нефтепромыслов, транспортных коммуникаций и всей промышленной инфраструктуры. Например, из 71 нефтяной скважины, восстановленной в 1921 г., 50 были запущены силами инженерного полка2. Благодаря усилиям военных, до октября 1920 г. в Грозном было добыто 316 тысяч тонн нефти. За 1921 г. добыча возросла до 1320 тысяч тонн, а число рабочих на действующих предприятиях достигло 7,5 тысяч человек3. Организация «Грознефть», сосредоточившая в своих руках добычу и переработку чеченской нефти, стала одной из важнейших в Советском Союзе, что и вызвало ее подчинение напрямую Москве.
В 1922 г. более двух миллионов пудов грозненского бензина было продано за границу, что позволило на вырученные средства начать техническое переоснащение нефтепромыслов. Уже в конце 1923 г. в основном было завершено восстановление грозненского нефтепромышленного района. В том же году, в ознаменование героической борьбы
1 ГАРФ. Ф. Р-130. Оп. 4. Д. 588. Л. 62.
2 Османов А. И. Помощь России в восстановлении народного хозяйства национальных районов Северного Кавказа (1921—1925 гг.) // Великий Октябрь и передовая Россия в исторических судьбах народов Северного Кавказа. — Грозный, 1982. — С. 146.
3 Лосев И. К. Трудящиеся Грозного в борьбе за построение социализма в нашей стране // Грозный за 40 лет Советской власти. — Грозный, 1957. — С. 41.
Глава XVI. Чечено-Ингушетия в эпоху советской модернизации: индустриализация, кооперация
и культурная революция
с контрреволюцией в годы гражданской войны и за трудовые успехи, Грозный был награжден орденом Красного Знамени. Такой же награды был удостоен еще один город в стране — Ленинград.
Успешная деятельность «Грознефти» шла на пользу и всему Грозному: городской бюджет пополнялся за счет налогов с предприятий и арендной платы за использование муниципальной собственности. Кроме того, «Грознефть» вкладывала значительные средства в развитие городской инфраструктуры, освобождая тем самым городские власти от значительных расходов. Благодаря наличию нефтепромыслов Грозный входил в список городов союзного снабжения и, начиная с 1922 г., централизованно снабжался продуктами питания и товарами народного потребления по первой категории. Уже в 1927 г. он в числе немногих городов Союза оказался связан с Москвой воздушным пассажирским сообщением.
Долгое время Грозный оставался вторым после Баку нефтедобывающим и нефтеперерабатывающим центром страны и его развитию уделялось особое внимание. С 1920 по 1937 гг. государство выделило более 1 миллиарда рублей (разумеется, из доходов от реализации той же чеченской нефти) специально на развитие Грозненского нефтепромышленного комплекса1.
Рост нефтедобычи в период индустриализации. Постоянно ведущееся разведочное бурение позволяло все время открывать новые месторождения нефти и газа, что приводило к появлению новых нефтедобывающих участков. Так, для преодоления кратковременного падения добычи нефти, в 30-е гг. XX в. в Чечено-Ингушетии были введены в эксплуатацию Малгобекское, Новогрозненское, Горагорское и другие месторождения. К 1941 г. суточная добыча нефти в Чечне составляла 9126 тонн (около 3 миллионов 330 тысяч тонн в год), но перерабатывалось в Грозном ежесуточно 14200 тонн нефти. Дополнительные объемы нефти поставлялись по нефтепроводам из разных регионов страны, прежде всего из Баку и Майкопа. Для ее переработки в Грозном сооружаются все новые перерабатывающие установки и целые заводы. В целом страна обеспечивала темпы «социалистической» индустриализации во многом за счет чеченской нефти и Грозненского нефтеперерабатывающего комплекса.
Бурное развитие нефтепромышленного комплекса сопровождалось концентрацией в Грозном большого числа инженерно-технических работников, что в свою очередь способствовало развитию научных исследований в области нефти и газа. На базе многочисленных промысловых и заводских лабораторий в 1928 г. возникает Грозненский научно-исследовательский институт нефти (ГрозНИИ), деятельность которого имела не только научное, но и большое практическое значение.
1 Моя Чечено-Ингушетия. — Грозный, 1970. — С. 74.
— 732 —
Восстановление Грозненского нефтепромышленного района. Индустриализация
и формирование чеченского промышленного пролетариата
Так, благодаря открытиям его ученых средняя себестоимость добычи нефти в Чечне в начале 30-х гг. снизилась на 49,7% К
Вместе с тем, на базе Высшего нефтяного техникума, открытого летом 1920 г., был образован Грозненский практический нефтяной институт, ставший кузницей нефтяных кадров для всей страны (Московский и Азербайджанский нефтяные институты возникли позже (1930 г.) и значительно уступали Грозненскому). В 1929 г. постановлением Совнаркома СССР нефтяной вуз Грозного реорганизуется в Грозненский нефтяной институт (ГНИ) и приобретает союзное значение.
Промышленное машиностроение. Энергетика. Нефтяная отрасль оказывала решающее влияние и на развитие предприятий промышленного машиностроения в Грозном. Так, завод «Красный молот» до 30-х гг. находился в прямом подчинении у «Грознефти» и служил главной ремонтной базой для нефтепромыслов. Даже выйдя из состава «Грознефти», завод по-прежнему ориентировался на производство в первую очередь оборудования для нефтедобычи и нефтепереработки. В 1940 г. в Грозном было произведено 1500 тонн различной аппаратуры для предприятий нефтяной промышленности, большое количество буровых насосов и другого оборудования. Во многом благодаря продукции «Красного молота» Советскому Союзу удалось существенно снизить импорт некоторых видов промыслового оборудования из-за границы. Вместе с тем завод непрерывно реконструировался, появлялись новые цеха: чугунолитейный, трубопрокатный, кузнечный, формовочный и т. д.
Одновременно в Грозном строятся новые машиностроительные предприятия и заводы: ремонтно-механический, автотрактороремонт- ный, электромеханический, гаражного оборудования, налаживается производство автоприцепов и товаров широкого потребления. К 1940 г. машиностроение в промышленном секторе хозяйства в Чечено-Ингушетии выходит на второе место по своему значению; на предприятиях этой отрасли занято до 28,3% всех рабочих и они дают в совокупности 10,8% всей валовой промышленной продукции республики.
Особое внимание уделялось развитию электроэнергетики, что должно было послужить базой для развития всего промышленного комплекса. После гражданской войны в Грозном уцелела только одна небольшая электростанция, расположенная рядом со Старыми промыслами. Строительство ряда энергетических объектов, в том числе и тепловых станций, позволило в 1940 г. производить в Чечне 397 миллионов киловатт-часов электроэнергии, но, тем не менее, этого было недостаточно для удовлетворения потребностей предприятий 11 См.: История индустриализации Северного Кавказа (1933—1941 гг.): Документы и материалы. — Грозный, 1973. — С. 564; Ерещенко Г. А. Деятельность партийной организации Чечено-Ингушетии по развитию нефтяной и машиностроительной промышленности в годы первой пятилетки // Актуальные проблемы социалистического строительства в Чечено-Ингушетии. — Грозный, 1986. — С. 28.
Глава XVI. Чечено-Ингушетия в эпоху советской модернизации: индустриализация, кооперация
и культурная революция
и населения. Дефицит восполнялся за счет соседних регионов, имевших избыток электроэнергии.
Следует отметить, что в Грозном появляются предприятия химической промышленности, тесно связанные с нефтепереработкой. В 1934 г. здесь построен первый ацетоно-бутиловый завод, а вскоре Грозненский химический комбинат превратился в предприятие союзного значения. Однако в целом доля химических предприятий в производстве валовой промышленной продукции Чечено-Ингушетии была незначительной — всего 3,4% Г
Отчисления «Грознефти» Чечне. «Дотации». Грозненский промышленный район послужил базой для развития промышленности Чеченской автономной области (ЧАО), которая до 1927 г. в административном отношении искусственно была отделена от Грозного. По постановлению Совета Народных Комиссаров РСФСР, «Грознефть» производила отчисления в бюджет Чеченской АО в размере стоимости 150 тысяч пудов нефти ежемесячно. Позднее размер отчислений неоднократно пересматривался, но в целом дотации «Грознефти» (складывавшейся за счет нефти, добываемой из недр той же Чечни) лежали в основе всего бюджета ЧАО. Например, во второй половине 20-х гг. они составляли более 70% доходной части бюджета Чечни. За 11 лет (1920—1930 гг.) в абсолютном исчислении Чечня получила от «Грознефти» 22 миллиона рублей (примерно по 2,2 миллиона рублей в год)1 2.
Эти средства были вопиюще недостаточны для разоренной гражданской войной Чечни и расходовались в основном на содержание учреждений социальной сферы, финансирование деятельности государственных учреждений и т. д. В абсолютном исчислении «Грознефть» перечисляла Чечне менее 1% от общей добычи нефти. Это было, конечно, ненормально. Только после возвращения города в состав автономии, поступления «Грознефти» в бюджет области несколько выросли.
Чечня, относительно быстро развивавшаяся в экономическом плане в составе колониальной России, с первых лет советской власти становится, во многом искусственно, отсталым дотационным регионом. Даже в 1941 г., когда Чечено-Ингушетия со столицей в Грозном была одной из самых индустриально развитых национальных автономий, дотация центра в бюджет края составляла 74 миллиона 374 тысячи рублей
1 См.: Зоев С. О. Промышленность Чечено-Ингушской АССР за 50 лет. — Грозный, 1972. — С. 18—21; Народное хозяйство Чечено-Ингушской АССР: Статистический справочник. — Грозный, 1957. — С. 28; История индустриализации Северного Кавказа (1933—1941 гг.): Документы и материалы. — Грозный, 1973. — С. 434.
2 Ерещенко Г. А. Социально-экономическое развитие Чечено-Ингушетии как фактор укрепления дружбы трудящихся (1920—1980 гг.) // Укрепление дружбы и интернациональных связей трудящихся ЧИАССР в процессе социалистического строительства. — Грозный, 1988. — С. 12.
Восстановление Грозненского нефтепромышленного района. Индустриализация
и формирование чеченского промышленного пролетариата
(из общего бюджета в 132 миллиона 466 тысяч рублей)1. Таким образом, доходная часть ее бюджета более чем наполовину «пополнялась» за счет дотации из бюджета РСФСР (по существу, крошечного возврата сумм из огромных доходов от чеченской нефти).
Искусственно созданная «дотационность» Чечни, а затем и Чечено- Ингушетии, безусловно, была вызвана не реальным положением дел, а сложившейся в СССР системой хозяйствования. Она во многом носила черты колониализма. Крупнейшие и наиболее доходные предприятия напрямую подчинялись союзным и общероссийским ведомствам, и практически вся прибыль от их деятельности поступала соответственно в бюджеты СССР или РСФСР. Налоги в союзный бюджет забирали большую часть прибыли и у тех предприятий, что подчинялись властям автономии. И лишь затем средства, выкачанные из окраин, частично возвращались в виде «дотаций».
Состояние «чеченской» промышленности. Промышленность Чеченской АО начиналась с шести небольших предприятий, расположенных там же в Грозном. В 1929 г. органам власти Чеченской АО подчиняются уже 13 предприятий, но при этом остается почти неизменной их дислокация, изначально предполагавшая, что работать на них будут в основном не чеченцы. С 1918 по 1941 гг. в развитие промышленной сферы, соответственно, Чечни, а затем и Чечено-Ингушетии, было вложено всего 196,1 миллионов рублей государственных средств, что оказалось на порядок меньше, чем за тот же период было направлено на развитие грозненской промышленности2.
Сельское хозяйство, являвшееся ранее основой экономики Чечни, в годы гражданской войны пришло в упадок. Советская система хозяйствования быстро задушила частные кустарные предприятия и традиционные промыслы, существовавшие в Чечне. Отдельные небольшие государственные промышленные предприятия, появившиеся в чеченских селениях в 20—30-е гг., не могли сколько-либо заметно изменить преимущественно аграрный характер экономической деятельности населения. Промышленность изначально концентрируется в городах, прежде всего в Грозном, где чеченцы составляли незначительную часть населения.
Кустарное производство в Чечне продолжило свое существование исключительно в форме производственных артелей. В 1928 г. более 700 чеченских кустарей были объединены в 24 артели, причем в их работе сохранялись некоторые традиции, сложившиеся еще в XIX в. * 81 Законы, принятые Верховным Советом РСФСР // Грозненский рабочий. — 1941. —
8 апр. — С. 1.
- См.: ГАРФ. Ф. Р-1235. Оп. 101. Д. 289. Л. 5 об.; Авторханов А. Краткий историко-культурный и экономический очерк о Чечне. — Ростов н/Д., 1931. — С. 29.; Зоев С. О. Промышленность Чечено-Ингушской АССР за 50 лет. — Грозный, 1972. — С. 16.
Глава XVI. Чечено-Ингушетия в эпоху советской модернизации: индустриализация, кооперация
и культурная революция
Были и женские артели (всего 6), которые занимались исключительно обработкой шерсти и производством трикотажных изделий.
Промысловая кооперация советского образца получила дальнейшее развитие, и к 1940 г. в этой сфере работало до 5 тысяч человек. Кооперативные предприятия выпускали в год свыше 300 наименований продукции и товаров, общей стоимостью 50 миллионов рублей. Именно промысловые артели производили большую часть строительных материалов, выпускавшихся в Чечено-Ингушетии: известь, гравий, кирпич, черепицу и т. д.1
Развитие промышленности в Чечне (за исключением Грозненского промышленного района) ориентировалось также на переработку продукции аграрного сектора. Так, в 1926 г. было построено два сыроваренных завода, а в 1928 г. намечено строительство лесопильного завода в Веденском районе, завода по производству консервированных томатов в Гудермесе и предприятия по выпуску алебастра и извести в Шатойском районе. В Чечено-Ингушетии в годы индустриализации произошло довольно значительное развитие пищевой, легкой и деревообрабатывающей промышленности. В 1940 г. доля пищевой промышленности составляла 7,1% всей республиканской промышленной продукции, а лесной и деревообрабатывающей — 2,3%. Предприятия легкой промышленности производили значительное количество обуви, трикотажных и швейных изделий, а также занимались переработкой кожи. После того как в притеречной зоне Чечни было положено начало хлопководству, планировалось построить в Грозном хлопчатобумажную и прядильно-ткацкие фабрики2.
Транспортное сообщение. Для экономического развития Чечни большое значение имело состояние транспортных коммуникаций. Вся промышленная и большая часть транспортной инфраструктуры первоначально концентрировалась вокруг Грозного. Еще в царское время дороги в Чечне строились не столько по экономическим, сколько по военно-стратегическим соображениям. Эти же соображения легли в основу планов дорожного строительства в первые годы советской власти: в 1922 г. выделены средства на сооружение дороги от Грозного до Керкетского перевала, которая должна была пройти через Ведено. Эта трасса была включена в список дорог, имеющих общегосударственное и стратегическое значение. Тогда же были начаты первые работы по созданию сети телеграфно-телефонной связи.
1 Очерки истории Чечено-Ингушской АССР. Т. 2. — Грозный, 1972. — С. 207; Новикова
B. Л. Женщины Чечено-Ингушетии в борьбе за свое раскрепощение и социализм. — Грозный, 1966. — С. 35.
2 См.: О хлопчато-бумажной фабрике в Чечне // Революция и горец. — 1930. — № 1. —
C. 87.; Зоев С. О. Промышленность Чечено-Ингушской АССР за 50 лет. — Грозный. 1972. — С. 19,20; От вековой отсталости — к социализму: Сб. документов и материалов. — Грозный, 1977. — С. 94,95.
Восстановление Грозненского нефтепромышленного района. Индустриализация
и формирование чеченского промышленного пролетариата
Со второй половины 20-х гг. темпы дорожного строительства в Чечне значительно возрастают. За три года (1925—1928 гг.) на эти цели было израсходовано 727,5 тысяч рублей — больше чем в любой другой национальной республике Северо-Кавказского края, кроме Кабардино- Балкарии. Причем дороги в Чечне строили, активно привлекая местное население, которое фактически отбывало дорожную повинность, достигавшую 60 дней в году.
К 1941 г. в Чечне уже имелась довольно разветвленная сеть дорог, в том числе 500 километров с асфальтовым покрытием (в основном город Грозный), но в целом темпы дорожного строительства значительно отставали от потребностей. Для промышленности Грозного наибольшее значение имел железнодорожный и трубопроводный транспорт. Общая длина железнодорожных путей (без учета подъездных) достигла 311 километров, а грузооборот по железной дороге составил почти 7 миллионов тонн. Причем, большую часть перевозимых грузов составляли нефть и нефтепродукты1.
Влияние индустриализации на развитие чеченского общества. «Коренизация» и «пролетаризация». Изолированное существование Грозного (до 1929 г.) в центре Чечни в известной мере не устраивало высшее советское руководство, которое еще до административного объединения Грозного с Чечней пыталось использовать наличие промышленного центра с русским населением для ускоренного вовлечения чеченских районов в «социалистическое строительство». Для достижения этой цели была начата широкая кампания, направленная на «советизацию» Чечни и включавшая в себя оперативно-чекистские операции по «искоренению бандитизма» и мероприятия по «коренизации» управленческого аппарата. Термин «коренизация» никогда не конкретизировался в советской печати и служил для обозначения комплекса мер, направленных на подготовку квалифицированных национальных кадров (в том числе и управленцев), а также перевод делопроизводства и учебного процесса в младших классах на национальные языки. Летом 1924 г. в Чечне был принят первый план «коренизации» государственного аппарата, предусматривавший, помимо всего прочего, и полный перевод делопроизводства на чеченский язык.
Несмотря на то что делопроизводство в чеченских округах и так почти полностью велось на родном языке при помощи арабской графики, этот и все последующие планы «языковой» реформы были благополучно провалены. Причину надо искать в том, что жестко централизованный государственный аппарат Советского Союза использовал только русский язык, и это являлось высшим приоритетом государственной политики,
1 ГАРФ. Ф. Р-130. Оп. 6. Д. 1251. Л. 123; Оп. 7. Д. 144. Л. 4, 9; Лу-ч А. Дорожный вопрос в горских областях // Революция и горец. — 1928. — № 1. — С. 25; Зоев С. О. Промышленность Чечено-Ингушской АССР за 50 лет. — Грозный, 1972. — С. 23.
Глава XVI. Чечено-Ингушетия в эпоху советской модернизации: индустриализация, кооперация
и культурная революция
несмотря на декларативные заявления о равноправии всех языков. Соответственно, сфера применения чеченского языка в Чеченской Автономной Области неуклонно сокращается из года в год. К середине 30-х гг. делопроизводство и на уровне сельских Советов (за исключением отдельных горных сельсоветов) переходит на русский язык, хотя 93,5% работников сельских Советов и 73,8% работников районных Советов являлись чеченцами по национальности.
Весьма трудно было чеченцам добиваться должностей в областных учреждениях, располагавшихся в Грозном. Как ни парадоксально, даже здесь работали преимущественно русские работники. Так, доля работ- ников-чеченцев в областных учреждениях Чеченской АО к 1924 г. не превышала 22%. Почти не было чеченцев в ведущих центрах экономики Грозного. Например, в системе «Грознефти» работало всего 18 чеченцев1. Напряженность в отношениях между властями Грозного и Чеченской АО приводила к тому, что чеченцев фактически не допускали к постоянному проживанию в Грозном и не принимали на работу на городские предприятия. При этом потребность грозненских заводов в рабочих руках удовлетворялась за счет миграции из других регионов СССР.
В силу указанных причин, кампания по привлечению к работе в партийных, советских и хозяйственных органах Чечни и Грозного работников-националов была вполне обоснованной. Именно эта социальная прослойка должна была послужить связующим звеном между основной массой чеченского населения и партийно-советским руководством, да и всей остальной страной. Но при этом выдвижение на руководящую работу производилось не по деловым качествам и наличию соответствующего образования, а с учетом социального происхождения и «преданности идеям коммунизма». Например, весной 1931 г. Чеченский областной исполком принял решение направить на руководящую работу 180 чеченцев, причем кандидатов намечалось отбирать среди батраков, красных партизан и женщин2.
Надо иметь также в виду, что именно наиболее образованные партийные и советские работники 30-х гг. стали одним из главных объектов политических «чисток». Их место занимали куда менее опытные «выдвиженцы» из социальных низов. В результате этой политики в Чечне к 40-м гг. XX в. успел сформироваться слой партийно-советской номенклатуры имевшей, однако, в совокупности довольно низкий образовательный уровень и небольшой опыт работы на руководящих
1 См.: ГАРФ. Ф Р-1235. Оп. 131. Д. 6. Л. 316; Лосев И. К. Трудящиеся Грозного в борьбе за построение социализма в нашей стране // Грозный за 40 лет Советской власти. — Грозный, 1957. — С. 95; Ерещенко Г. А. Социально-экономическое развитие Чечено-Ингушетии как фактор укрепления дружбы трудящихся (1920—1980 гг.) // Укрепление дружбы и интернациональных связей трудящихся ЧИАССР в процессе социалистического строительства. — Грозный, 1988. — С. 13.
2 ГАРФ. Ф. Р-1235. Оп. 124. Д. 29. Л. 50.
Восстановление Грозненского нефтепромышленного района. Индустриализация
и формирование чеченского промышленного пролетариата
должностях. Продвижение вверх по служебной лестнице этих людей происходило в условиях процветающего политического доносительства, что сделало подавляющее большинство партийных и советских чиновников откровенными конформистами, заложниками репрессивных органов, профессиональных доносчиков и партийных контролеров.
Не привели к существенным успехам и попытки ускоренными темпами превратить чеченцев в индустриальную нацию, создав многочисленный социальный слой промышленных рабочих и городских жителей. Эти попытки союзных органов разбились в столкновении с местническими интересами грозненской партийной и управленческой бюрократии. В 1924 г. в Грозном на постоянной основе жило и работало всего 500 чеченцев, что составляло 2,5% от общего числа имевшихся здесь рабочих и служащих. В то же время только на учете в чеченской секции грозненской биржи труда состояло до 2 тысяч горцев, многие из которых готовы были выполнять и временные работы.
В 1926 г. принимается совместное решение Чеченского бюро ВКП(6) и Грозненского окружного партийного комитета о привлечении «...чеченской пролетаризирующейся бедноты в производство Грозненского округа...». За пять лет планировалось привлечь к постоянной работе на грозненских предприятиях не менее 5 тысяч чеченцев, причем параллельно часть из них должна была получить профессиональное образование либо на специально организованных курсах, либо в действующих фабрично-заводских училищах. Отдельный план по «вовлечению чеченцев» был разработан для предприятий «Грознефти».
Итоги этой кампании оказались гораздо скромнее запланированных. К лету 1929 г. число чеченцев, постоянно работающих в Грозном, возросло до 3098 человек, из которых в системе «Грознефти» работало 652 человека, на железнодорожном транспорте — 448, в пищевой промышленности — 120. Таким образом, избыточное сельское население Чечни не получает широкой возможности миграции в город. Более того, большую часть горожан-чеченцев составляют не промышленные рабочие, а служащие и лица свободных профессий. Как правило, не имевшие хорошего образования и плохо владевшие русским языком чеченские крестьяне с трудом адаптировались в городской среде. Отчеты руководства «Грознефти» свидетельствуют, что от 25% до 30% от общей численности рабочих-чеченцев увольнялись в течение первого же года работы1. Однако здесь отчеты лукавили. Главная причина увольнения
1 См.: Лосев К К. Трудящиеся Грозного в борьбе за построение социализма в нашей стране // Грозный за 40 лет Советской власти. — Грозный, 1957. — С. 58—86; Юсупов П. И. Деятельность партийных организаций Северного Кавказа по формированию национальных кадров рабочего класса в 1920—1937 гг. // Рабочие Чечено- Ингушетии в годы социалистического строительства. — Грозный, 1990. — С. 7; От вековой отсталости — к социализму: С6. документов и материалов. — Грозный, 1977. — С. 82, 93.
Глава XVf. Чечено-Ингушетия в эпоху советской модернизации: индустриализация, кооперация
и культурная революция
чеченцев заключалась в отсутствии жилья. Жилой фонд Грозного был давно захвачен и распределен местными органами, которые не только не собирались выделять жилье для рабочих-чеченцев, но более того, старались всячески изгонять их из общежитий и бараков.
За первые двадцать лет советской власти в Чечне происходит своеобразное межнациональное разделение труда. Чеченцы, несмотря на во многом формальные усилия властей сделать их индустриальной нацией, остаются в подавляющем большинстве сельскими жителями и сохраняют многие черты традиционного образа жизни. Быстрый рост городов обеспечивается в основном за счет притока извне исключительно русских и русскоязычных переселенцев. Так, население одного только Грозного возросло с 45 тысяч, в 1926 г., до 172 тысяч, в 1939 г., т. е. почти в три раза. Статус городов получили Малгобек (1939 г.) и Гудермес (1941 г.), поселок Горагорский считался поселением городского типа. В целом, доля городского населения составляла теперь 27,4% от общей численности жителей Чечено-Ингушетии. Этот же показатель в 1926 г. составлял всего 18,8% К
Однако чеченцев по-прежнему мало, как среди горожан, так и среди промышленных рабочих — индустриальная сфера преимущественно заполняется представителями русской национальности — жителями городов. В той же нефтяной промышленности из 26 тысяч рабочих число чеченцев всего чуть более 4 тысяч (многие из которых продолжают проживать в селе) и только 95 инженерно-технических работников1 2.
Таким образом, социальная структура чеченского общества изменилась, на первый взгляд, не очень значительно. Насильственная индустриализация в течение жизни одного поколения не могла изменить образ жизни горского народа, превратив его из нации крестьян в индустриальную нацию, большая часть которой сосредоточена в городах.
Но вместе с тем следует учитывать, что среднестатистический индустриальный рабочий имел большое значение в своей родной среде, он оказывал своеобразное революционизирующее влияние на все сферы жизни чеченского крестьянства. Появление в Чечне промышленных рабочих и управленцев, городского населения как такового было громадным шагом вперед в развитии народа.
1 Чечено-Ингушская АССР за годы одиннадцатой пятилетки: Статистический сб. — Грозный, 1986. — С. 10.
2 История индустриализации Северного Кавказа (1933—1941 гг.): Документы и материалы. — Грозный, 1973. — С. 453.
Коллективизация сельского хозяйства. Закрепощение крестьянства государством
§ 2. Коллективизация сельского хозяйства.
Закрепощение крестьянства государством
Национализация земли. Налоговая система. Сразу же после окончания военных действий на Тереке, в апреле 1920 г. был опубликован приказ Терского ревкома о национализации земли, которая объявлялась отныне собственностью государства. Таким образом, ликвидировалась не только крупная, но и мелкая частная собственность на землю. Вместе с тем декларировалась бессрочная и безвозмездная передача государственной земли в пользование крестьянам.
Приказ Терского ревкома появился на свет во исполнение знаменитого «ленинского» Декрета о земле и означал превращение советского государства в единственного земельного собственника, а многомиллионное крестьянство, получившее личную свободу еще в царское время, автоматически ставилось в зависимость от государства. Подавляющее большинство крестьян, в том числе и в Чечне, восприняли национализацию с одобрением, и не только потому, что обрабатываемые ими участки навечно закреплялись за ними, но и вследствие того, что государство обещало дополнительно наделить их землей за счет ликвидируемых крупных помещичьих, войсковых и казенных землевладений.
Действительно, как уже говорилось, несколько Сунженских станиц было переселено, а их земли переданы Чечне. Средний надел для переселенных составил 1—2 гектара. И в последующие годы продолжалось дополнительное наделение чеченских крестьян землей, как из государственных фондов, так и за счет конфискации земли у крупных собственников. В частности, у последних было изъято и распределено 34 тысячи гектаров земли, в основном в равнинной части края1. Кроме того, государство организовало небольшие поставки в разоренные войной горские округа сельскохозяйственного инвентаря и орудий труда, посевного зерна и товаров повседневного спроса.
В отношении горцев проводилась щадящая налоговая политика, причем большая часть собираемых здесь налогов оставалась в распоряжении местных властей. Делалось это, собственно, по двум причинам: во-первых, хозяйство большинства горских крестьян было не в состоянии нести государственные повинности в полном объеме, а во-вторых, местные органы власти были настолько слабы, что не могли обеспечить сбор налогов и проведение других политических и экономических мероприятий советской власти. Так, в 1921 г. жители 26 селений Веденского округа вообще отказались выполнять государственный продовольственный налог (продразверстку)2.
1 См.: Очерки истории Чечено-Ингушской АССР. Т. 2. — Грозный, 1972. — С. 107;
Агаджанов Ю. Г. Правда против вымыслов. — Грозный, 1987. — С. 41.
: Подготовка к продналогу в Чечне // Красный труд. — 1921. — 1 окт. — С. 2.
Глава XVI. Чечено-Ингушетия в эпоху советской модернизации: индустриализация, кооперация
и культурная революция
Строительство дома в Чечне. 1925 г. Худ. В. С. Шлипнев (27, 225)
Аграрная политика советских вяастей. Перераспределение земель.
Советская власть, в отличие от царской, всячески поощряла переселение горцев на равнину. Если на первом этапе казачьи войсковые земли по Сунже заселялись сыновьями и внуками выселенных с этих земель в XIX в. чеченских крестьян, то на втором этапе речь шла о выселении жителей высокогорных аулов, где царил острый земельный голод (стоимость пахотной земли в высокогорной Чечне равнялась количеству коров, умещающихся на участке, предназначенном к продаже). Еще летом 1922 г. ВЦИК РСФСР принял соответствующее постановление, устанавливающее существенные льготы (в том числе налоговые) для переселенцев с гор. Однако в Чечне переселение началось только в 1925 г., когда переселилось 1460 семей, для размещения которых власти отвели 15 тысяч десятин земли. Затраты из государственного бюджета на переселение этих семей составили 584 тысячи рублей. Коллективное переселение горцев производилось и в последующие годы1.
Массовое перераспределение земель вновь вызвало ожесточенные земельные споры, как между отдельными крестьянскими семьями, так и целыми селениями. Так как в царское время границы между селениями проводились зачастую произвольно и явно корыстно, то старые споры вспыхнули с новой силой. Кроме того, в Чечне были десятки тысяч крестьян, происходившие из разоренных и сожженных в ходе Кавказской войны аулов и хуторов и приписанных в царское время к другим обществам.
1 См.: ГАРФ. Ф. Р-1235. Оп. 120. Д. 88. Л. 8, 8 об; Мокиенко Я. Я. Вопросы расселения в автономных областях Северо-Кавказского края // Революция и горец. — 1929. — № 6. - С. 18,19.
Коллективизация сельского хозяйства. Закрепощение крестьянства государством
В марте 1922 г. ЦИК Горской Республики принял специальное постановление о закреплении за крестьянами переданных им земель и оформлении соответствующих документов. Однако произвести размежевание в той же Чечне оказалось очень непросто — государство не располагало необходимыми для этого специалистами и средствами. В результате конфликты между отдельными селениями иногда принимали характер военных действий. Так, в ходе вооруженных столкновений на меже между жителями селений Харачой и Дышни-Ведено, продолжавшихся несколько лет, с обеих сторон погибли десятки людей.
Да и наделение землей безземельных крестьян даже в пределах одного села часто вызывало ожесточенные споры. Так, летом 1928 г. Дуба-Юртовский сельский совет не смог обеспечить землей безземельных крестьян, так как «кубовые (квартальные) старики» категорически отказались перераспределять наделы1.
Начало кооперации. По большому счету, советская власть собиралась решить многочисленные конфликты в деревне (в том числе и в чеченской) одним способом — ликвидацией индивидуальных крестьянских хозяйств путем их коллективизации. Первым шагом на этом пути должно было стать создание различных крестьянских союзов и кооперативов, в том числе потребительских. Поощряя их создание, государство не только охотно выделяло им небольшие кредиты, но и оказывало прямую безвозмездную финансовую и материальную поддержку.
Создание кооперативов в Чечне облегчалось и тем, что еще в начале XX в. многие крестьянские хозяйства вступали в своеобразные «товарищества», например, для покупки или аренды недостающей земли. Поэтому появление первых кооперативов произошло довольно быстро — в 1923 г. в Чечне действует 22 сельскохозяйственных товарищества и 2 потребительских кооператива. В 1925 г. появляются первые товарищества по совместной обработке земли (ТОЗ), а к осени 1927 г. действуют 90 кооперативных обществ, объединяющих почти 5 тысяч крестьянских хозяйств.
Активную поддержку оказывало государство и потребительской кооперации; в середине 20-х гг. наибольшие обороты имела сеть государственных торговых точек, серьезно потеснивших частных торговцев. Появляются и кредитные товарищества, предоставлявшие своим пайщикам льготные кредиты. На поддержку кооперативного движения государство ежегодно затрачивает значительные средства. Так, только в 1925 г. для развития сельскохозяйственной кооперации в Чечне был выделен кредит 1 миллион 700 тысяч рублей.
1 См.: ГАРФ. Ф. Р-1235. Оп. 122. Д. 136. Л. 10 об.; Нагиев Д. Задачи коренизации советского аппарата в национальных областях Северо-Кавказского края // Революция и горец. — 1929. — № 1—2. — С. 31.
Глава XVI. Чечено-Ингушетия в эпоху советской модернизации: индустриализация, кооперация
и культурная революция
Благодаря государственной поддержке отдельные крестьянские кооперативы могли приобретать современные сельскохозяйственные машины, высокосортные семена и т. д. Так, первый трактор в Чечне появился благодаря комсомольцу Умару Саралиеву, убедившему членов кооператива селения Закан-Юрт приобрести новую технику. До конца 1927 г. в Чечне было уже 66 тракторов (в том числе 8 в Грозненском округе), причем почти все они принадлежат кооперативным товариществам \
Мелиорация земель. Помимо средств, выделяемых на поддержку кооперативного движения, государство финансировало целый ряд других необходимых мероприятий: борьбу с болезнями скота, создание агрономических и зоотехнических участков, мелиорацию сельскохозяйственных земель. Мелиорации придавалось особое значение, так как сотни тысяч плодородных земель в засушливой притеречной зоне Чечни оставались вне хозяйственного оборота. Не случайно, что первые работы по сооружению Надтеречного канала были начаты в 1921 г., когда в притеречных районах разразилась засуха, и голод охватил тысячи семей1 2.
В 1923 г. было начато и в течение года завершено строительство Атагинско-Гойтинского канала, что явилось лишь началом больших работ по мелиорации предгорной Чечни. Если в 1922/23 финансовом году расходы на мелиоративные работы по Чеченской АО составили всего 18285 рублей, то в 1927/28 финансовом году они увеличились до 206 тысяч рублей. В Чечне планируется строительство большого Надтеречного канала, способного оросить 15—20 тысяч гектаров. Стоимость этого проекта приближалась к 2 миллионам рублей. Осушение Исти- Суйских болот должно было дать от 3 до 4 тысяч гектаров обрабатываемых земель, а создание оросительной системы возле Гудермеса — еще 14 тысяч гектаров. Эти работы требовали еще больше средств — до
3,5 миллионов рублей.
Но самым грандиозным проектом должно было стать сооружение канала, протяженностью в 135 км через всю засушливую Алхан-Чурт- скую долину (расположенную между Терским и Сунженским хребтами). Канал должен был обводнить 280 тысяч гектаров и открыть дорогу к освоению долины, долгое время остававшейся не заселенной из-за отсутствия воды3.
1 См.: ГАРФ. Ф. Р-1235. Оп. 101. Д. 289. Л. 5; ГАРФ. Ф. Р-1235. Оп. 119. Д. 61. Л. 17; Ефанов К. И. Классовая борьба в чечено-ингушском ауле в период социалистического строительства. — Грозный, 1979. — С. 21; Сигаури И. М. Очерки истории и государственного устройства чеченцев с древнейших времен. Т. 2. — М., 2001. — С. 153.
2 Мелиорация полей Чечни // Жизнь национальностей. — 1922. — 14 марта. — С. 12.
3 См.: Г-ский А. Мелиорация в горских областях Северного Кавказа // Революция и горец. — 1929. — № 3. — С. 19—20; Алхан-Чурт и его перспективы // Революция и горец. — 1930. — № 6—7. — С. 103.
— 744 —
Коллективизация сельского хозяйства. Закрепощение крестьянства государством
Расслоение чеченского крестьянства. Несмотря на усилия, предпринимаемые государством, восстановление аграрного сектора Чечни происходило медленно. Только в 1928 г. производство сельскохозяйственной продукции (по всем отраслям) достигло дореволюционного уровня. Тем не менее, в условиях новой экономической политики произошло усиление товарно-денежных отношений на селе и дальнейшее расслоение крестьянства.
В середине 20-х гг. зажиточное крестьянство в Чечне стало превращаться в новый класс земельных собственников, экономическое влияние которого существенно возрастало еще и потому, что значительная часть торговли оказалась сосредоточенной также в его руках. Кроме того, чеченские полуторговцы-полукулаки широко прибегали и к ростовщичеству, причем в качестве залога часто выступала земля1.
Все это привело к тому, что значительная часть чеченского крестьянства вновь оказалась малоземельной или вовсе лишенной земли. Имущественная дифференциация принимает все более отчетливые формы. Летом 1926 г. до 40% крестьянских хозяйств в Чечне относились к категории бедняцких, и только 10% считались зажиточными. При этом кулакам принадлежало 38,5% всего имевшегося сельскохозяйственного инвентаря, 36,3% лошадей, 73% поголовья мелкого рогатого скота2. Понятное дело, что, когда речь заходит о кулаках, то имеются в виду не классические русские кулаки, использовавшие наемный труд. В Чечне рынок батраков практически отсутствовал. Чеченские крестьяне получали доходы за счет труда на земле больших семей, родственной «взаимопомощи», сдачи скота «исполу», торговли и т. д. Отношения между двумя полюсами крестьянства, ввиду поддержки властью «бедняков» (зачастую сельских маргиналов), постепенно обостряются, что, однако, не сделало коллективные хозяйства (колхозы) особенно популярными в крестьянской среде.
Коллективизация. Уклонение от колхозного обобществления. Первый колхоз возник в Чечне еще в 1924 г. — в него вошли 10 хозяйств. Через год колхозов было уже 10, а число объединившихся хозяйств составило 372. Однако дело дальше не пошло. Темпы колхозного движения существенно затормозились. Крестьяне в основной своей массе не желали расставаться со своим хозяйством и предпочитали иные формы кооперации. Попытки властей, начиная с 1929 г., искусственно ускорить темпы коллективизация и силой «загнать» крестьян в колхозы привели к восстанию вначале в 1929 г., а затем и в 1932 г.
Подавление этих выступлений не означало прекращения «классовой борьбы» в чеченской деревне. Зажиточные крестьяне всеми способами
1 ГАРФ. Ф. Р-1235. Оп. 119. Д. 19. Л. 209,209 об.
2 См.: ГАРФ. Ф Р-1235. Оп. 121. Д. 150. Л. 272; Попов А. Н. Социалистическое преобразование сельского хозяйства в Чечено-Ингушетии. — Грозный, 1976. — С. 21.
— 745 —
Глава XVI. Чечено-Ингушетия в эпоху советской модернизации: индустриализация, кооперация
и культурная революция
саботировали мероприятия советской власти, не останавливаясь перед террором против отдельных представителей партийных и советских органов. Вынужденные вступать в колхоз, крестьяне стремились укрыть от обобществления хотя бы часть своего хозяйства, а если это не удавалось, просто избавлялись от него. Так, коллективизация сопровождалась резким сокращением поголовья скота — за один только 1930 г. оно сократилось в Чечне почти на 300 тысяч голов1.
В свою очередь, власти и их карательные органы делали все для «выявления», а затем и ликвидации так называемых кулацких хозяйств. Так, кулаки стремились скрывать точные размеры своих земельных владений, что значительно облегчалось тем, что земельные сделки в Чечне традиционно оформлялись устно и не фиксировались документально. По оценке советских органов, в отдельных районах Чечни до 25% посевных площадей укрывались от налогообложения. Их выявлению, в частности, способствовали проводимые властями работы по землеустройству. Например, при проведении этих работ в Веденском, Итум-Калинском и Шатойском округах у кулаков и мечетей было изъято примерно 1,5 тысячи гектаров земли2.
Находясь под постоянным давлением, кулаки часто вступали в колхозы только затем, чтобы вывести свое хозяйство из поля зрения властей. Советская печать констатирует, что в Чечне начинают возникать «родовые колхозы», состоявшие из семей, связанных узами кровного или тейпового родства. В среднем по Чечне на конец 1929 г. в колхозах состояли 3,8% батраков, 47,6% бедняков и 11,2% кулаков. В отдельных колхозах, например, Надтеречного района процент так называемых кулаков был еще выше. В отчете Чеченского обкома ВКП(б) IV областной партийной конференции отмечалось, в частности, что в ряде районов «...контрреволюционные элементы прошли в сельсоветы, даже в партийные ячейки, захватили там руководство, срывали все мероприятия партии и Советской власти...»3.
В рамках политики по экономическому подавлению кулаков, а по существу, ликвидации доходных крестьянских хозяйств, советские органы облагали зажиточные хозяйства дополнительными налогами. И наоборот, беднейшие крестьяне получали существенные льготы. Но в условиях Чечни направить пресс налогов четко против кулаков было не так-то просто. Списки кулаков составлялись с учетом родственных связей, что лишало государственную политику ее направленности. Так,
1 ГАРФ. Ф. Р-1235. Оп. 127. Д. 7. Л. 321; Моя Чечено-Ингушетия. — Грозный, 1970. — С. 81.
2 Попов А. Н. Социалистическое преобразование сельского хозяйства в Чечено- Ингушетии. — Грозный, 1976. — С. 117.
3 См.: Таболов К. Колхозное движение и национальный вопрос // Революционный Восток. — 1933. — № 3—4. — С. 178; От вековой отсталости — к социализму: Сб. документов и материалов. — Грозный, 1977. — С. 115.
— 746 —
Коллективизация сельского хозяйства. Закрепощение крестьянства государством
в Веденском районе из 8513 хозяйств по спискам, представленным районными властями, кулацкими числились всего 80 хозяйств. Зато налоговые льготы были распространены на подавляющее большинство крестьянских подворий. Так, в селении Центорой 406 хозяйств из 464 пользовались льготами, в Белгатое — 295 из 335, в Дарго — 439 из 501. А в селении Дай (Шатойского округа) местный «кулак» был обложен налогами на сумму 4 копейки, а «комсомолец» — на 4 рубля 39 копеек1.
В борьбе с самодостаточными крестьянскими хозяйствами советские органы прибегали и к прямым репрессиям, размах которых увеличился во много раз после того, как был взят курс на форсирование темпов коллективизации. Если в 1928 г. по всей Чечне было репрессировано 62 кулака, то через год число репрессированных достигло 356 человек. В начале 1930 г. из Чечни высылается 1500 крестьян, объявленных кулаками. В это же время более 11 тысяч глав хозяйств были частично лишены гражданских прав. В результате этих репрессий на конец 1931 г. в Чечне количество кулацких хозяйств сократилось по сравнению с 1929 г. в три раза. Преследование кулаков продолжалось и после того, как подавляющее большинство крестьянских хозяйств были обобществлены. Например, в 1935 г. из Чечено-Ингушетии выселено 450 кулацких семей, еще тысяча семей была выселена из Чечни и Дагестана в 1936 г.2
Раскулачивание было оборотной стороной коллективизации, ибо именно сельхозинвентарь, скот и земля «крепких» крестьян должны были стать материальной базой колхозов. Конфискация имущества кулаков сопровождалась их высылкой, таким образом, крестьянская община лишалась именно тех, кто составлял ее подлинную силу, и она оставалась один на один с хищной, деспотичной властью. Историки полагают, что в целом по СССР было выслано в Сибирь и Казахстан несколько сот тысяч крестьянских семей, а всего, в ходе коллективизации в той или иной мере пострадало ( в том числе и от искусственно вызванного голода) до 20 миллионов человек3 * 5.
Провал коллективизации. Несмотря на все усилия советских властей, Чечня долгое время оставалась областью с преимущественно единоличными крестьянскими хозяйствами. В 1933 г. здесь было коллективизировано всего 30% хозяйств, в то время как в Кабардино-Балкарии этот показатель составлял 93,1%, а в среднем по национальным
1 См.: Ларин Ф. Об искажениях классовой политики в Чечне // Революция и горец. — 1930. — № 2. — С. 11; Элъжуркаев М. Тяжкие годы крестьянства // Грозненский рабочий. — 1990. — 6 июня. — С. 2.
2 См.: Моя Чечено-Ингушетия. — Грозный, 1970. — С. 81; Ефанов К. И. Классовая
борьба в чечено-ингушском ауле в период социалистического строительства. — Грозный, 1979. — С. 85; Репрессированные народы: чеченцы и ингуши // Шпион:
Альманах. — М., 1999. — С. 18.
5 Отечественная история (1917—2001) / Отв. ред. профессор И. М. Узнародов. — М., 2002. — С. 172—173,189.
Глава XVI. Чечено-Ингушетия в эпоху советской модернизации: индустриализация, кооперация
и культурная революция
областям Северного Кавказа — 58%. Через три года, когда соседние автономии являли собой образец почти сплошной коллективизации, в Чечено-Ингушетии в колхозах состояли 84% крестьянских хозяйств1.
Несмотря на то что формально почти всех крестьян удалось загнать в колхозы, можно утверждать, что коллективизация в Чечне по большому счету провалилась. Например, в горных районах состоящими в колхозах считались 99,8% всех хозяйств, но обобществлено было всего 17% пахотных земель и 32% сенокосных угодий. Это и понятно: индивидуальные участки пахотной земли здесь не могли быть объединены физически, так как Горная Чечня относилась к районам с террасным земледелием. Террасы же — крошечные участки посевной земли на склонах гор, создавались искусственно, зачастую трудом поколений и стоили чрезвычайно дорого. В результате в горах фактически сохранилось частное землевладение, а колхозы превратились в фикцию. Например, колхоз имени А. Микояна селения Нижалой Чеберлоевского района на 500 колхозников имел всего 11 гектаров обобществленной земли, двух лошадей, 65 голов крупного и 439 голов мелкого скота. В Шатойском районе, где в среднем на одно хозяйство приходилось 2,3 гектара обобществленной пахотной земли, 200 хозяйств имели в личном владении в среднем по 6,9 гектара, а отдельные хозяйства до 20 гектаров земли. Что касается рабочего скота, то здесь обобществлено было всего 10% общего поголовья лошадей и 2,1% буйволов, а 88% крупного рогатого скота находилось в частном владении2.
Кстати, неучтенные земли, находившиеся в фактическом частном владении, хотя и не в таком количестве, имелись и в плоскостных колхозах. И здесь также большая часть скота, включая лошадей, находилась в частном владении. В целом по Чечено-Ингушетии в предвоенном 1940 г. за коллективными хозяйствами числилось 34034 лошадей из общего числа в 56956, крупного рогатого скота 21859 голов из 287121, а также 83156 голов мелкого рогатого скота из 3694323.
Для коллективных хозяйств Чечено-Ингушетии, как и по всей стране, характерна была низкая производительность труда и невысокая урожайность при чрезмерно высоких потерях урожая при его уборке, транспортировке и хранении. Соответственно, низкими были и доходы крестьян от деятельности в колхозах. Так, в горных районах
1 См.: Мальте Я, Гулинская В. Колхозы нацобластей на рубеже 2-го года 2-й пятилетки // Революция и горец. — 1933. — № 10—12. — С. 30; Моя Чечено-Ингушетия. — Грозный, 1970. — С. 83.
2 Филькин В. И. Партийная организация Чечено-Ингушетии в годы борьбы за упрочение и развитие социалистического хозяйства (1937 — июнь 1941 гг.). — Грозный, 1963. — С. 67,68.
3 См.: Саламов А. К истории нашей Чечено-Ингушетии // Грозненский рабочий. — 1962. — 20 июля. — С. 4; ГАРФ. Ф. P-9479. On. 1. Д. 925. Л. 7.
— 748 —
Коллективизация сельского хозяйства. Закрепощение крестьянства государством
Свадьба в чеченском ауле. 1939 г. Фото (39, 74)
Чечено-Ингушетии в 1937 г. средняя выработка одного колхозника составила 24 трудодня, а в 1938 г. — 25,5 трудодня. Причем эти трудодни так и оставались неоплаченными. Правда, здесь и лето было соответственно коротким. В высокогорной части Чечни даже в речных долинах не вызревал хлеб и не росли плодовые деревья. Здесь скромный урожай давали только местные сорта ячменя. В 1940 г. в 187 колхозах края из 412 трудодни также не оплачивались1.
1 Фипъкин В. И. Партийная организация Чечено-Ингушетии в годы борьбы за упрочение и развитие социалистического хозяйства (1937—июнь 1941 гг.). — Грозный, 1963. — С. 68; ГАРФ. Ф. P-9479. On. 1. Д. 925. Л. 10.
Глава XVI. Чечено-Ингушетия в эпоху советской модернизации: индустриализация, кооперация
и культурная революция
Кстати, официальные доходы жителей Чечни при советской власти почти традиционно оставались одними из самых низких по региону. Так, в 1926/27 г. доходы среднестатистического жителя Чечни составили 3 рубля 25 копеек, в то время как в Терском округе Ставрополья они достигали 9 рублей 48 копеек, а в Донском округе — 19 рублей 10 копеек1. Частично это объясняется тем, что экономическая деятельность чеченских крестьян зачастую оказывалась вне поля зрения государства и официальной статистики. Так, низкие доходы колхозников во многом компенсировались за счет прибыли от собственного хозяйства.
То, что коллективизация в Чечне не была доведена до своего логического конца, имело важные, в том числе, и демографические последствия. Внутри «социалистического» чеченского аула в скрытой форме сохранилась частная собственность и частная инициатива. А благодаря тому, что чеченские крестьяне сумели сохранить собственное хозяйство, «спрятав» его в колхозах, подавляющее большинство чеченцев сумело сохранить минимальный достаток и не вымереть от голода, как миллионы русских и украинских крестьян в 30-е гг. в тех областях, где коллективизация была проведена в полном соответствии с партийными установками. С другой стороны, не случилось и массового бегства разоренных крестьян в города, как это было в центральных районах России.
Вместе с тем необходимо признать, что коллективизация в Чечне имела и некоторые положительные моменты. Прежде всего они заключались в привлечении в село новой техники — тракторов, автомобилей и комбайнов; в определенной степени были достижения в результате разделения труда в сельском хозяйстве и его механизации. Выросла энерговооруженность сельского хозяйства. В колхозы и совхозы стала внедряться и новая агротехника, достижения зоотехники и ветеринарии, использовались новые культуры, например соя и хлопчатник.
В крае появились первые животноводческие фермы, птицеводные и инкубаторные станции. Наметилось районирование и специализация в развитии животноводства, полеводства и садоводства.
§ 3. «Культурная революция».
Изменения в духовной жизни чеченского народа
Первые шаги в развитии образования. Светские и духовные школы. В досоветской Чечне сфера духовной культуры, включая и образование, традиционно находилась под влиянием мусульманского духовенства. Политика советского руководства с первых лет
1 Нагиев Д. Задачи коренизации советского аппарата в национальных областях Северо-Кавказского края // Революция и горец. — 1929. — № 1—2. — С. 30.
— 750
«Культурная революция». Изменения в духовной жизни чеченского народа
существования СССР была направлена на придание духовной сфере исключительно светского, «коммунистического» характера. Не случайно, одним из первых мероприятий советской власти стало отделение церкви от государства и школы. Все бывшие церковно-приходские и другие религиозные школы передавались в ведение органов Народного комиссариата просвещения — Наркомпроса. Но реальная ситуация в Чечне складывалась таким образом, что это решение не могло быть сразу же претворено в жизнь. Здесь религиозная и светская школы сосуществуют в течение довольно долгого периода, причем если духовные школы при мечетях существовали в подавляющем большинстве селений, то светскую школу еще предстояло создать заново, так как немногочисленные «горские» школы, существовавшие в Терской области до революции, закрылись.
В первой половине 1921 г. отдел народного образования Чеченского округа Горской АССР предпринял попытку открыть сразу 85 школ первой ступени, рассчитанных на более чем 2 тысячи детей. Однако из-за недостатка средств и отсутствия учителей открытые было школы быстро закрывались одна за другой. В 1922/23 учебном году во всей Чечне функционирует только три советские школы с 75 учащимися1. Председатель Чеченского ревкома Т. Эльдарханов (сам в прошлом народный учитель) в этой связи запрашивал в Москве срочную помощь, поскольку имеющиеся у советских органов Чечни ресурсы позволяли в ближайшие 4—5 лет открыть только 10—15 школ.
Благодаря поддержке из центра, а также тому, что удалось начать подготовку национальных учителей (первые учительские курсы открылись в Чечне еще в 1920 г.), число начальных школ в 1924/25 учебном году было доведено до 25, количество учащихся составило 1668 человек. Кроме того, в Грозном открылась первая чеченская школа 2-й ступени, дававшая неполное среднее образование.
Период до 1925 г. отмечен в Чечне мирным сосуществованием светской и религиозной школы. Преподавание чеченского языка и в тех и других ведется посредством алфавита на арабской графике (последний официально существовал в Чечне до 1925 г.). До 60% чеченских учителей, числившихся в штатах Чеченского отдела народного образования (ОНО) одновременно работали и в духовных школах, а дети зачастую посещали сразу две школы — духовную и светскую. Чеченский областной отдел народного образования, пытаясь улучшить показатели своей работы, в 1922 г. даже включил 97 религиозных сельских школ
1 См.: Культурное строительство в Чечено-Ингушетии (1920 — июнь 1941 гг.): Сб. документов и материалов. — Грозный, 1979. — С. 37; Лосев И. К. Трудящиеся Грозного в борьбе за построение социализма в нашей стране // Грозный за 40 лет Советской власти. — Грозный, 1957. — С. 95.
Глава XVI. Чечено-Ингушетия в эпоху советской модернизации: индустриализация, кооперация
и культурная революция
в собственную сеть образовательных учреждений, что вызвало бурное негодование в советской печати1.
Общее укрепление советской власти в Чечне после известного разоружения населения 1925 г. приводит к ужесточению политики государства по отношению к религиозным школам. Если раньше партийные и советские органы мирились с их существованием, то теперь ставится задача по полному искоренению религиозных школ для детей. Педагогические кадры для новых школ Чечни должен был готовить Асламбековский учебный комбинат, открытый в Серноводске (бывшая станица Михайловская) путем слияния педагогических курсов и сельскохозяйственной школы. Таким образом, это учебное заведение готовило не только учителей, но и агрономов и техников.
Ускоренного развития светской системы народного образования настойчиво требовали партийные органы, в том числе и Северо-Кавказский крайком ВКП(б), обязавший горские автономии значительно повысить долю расходов на развитие сети учреждений просвещения. И дело тут не только в партийных установках, направленных на подрыв религиозного влияния. В стране готовилась почва для ускоренной индустриализации, а следовательно, миллионы безграмотных крестьян необходимо было в короткий срок превратить в квалифицированных рабочих. Чтобы осуществить такой переворот в сфере образования, требовались усилия всего государства, что и происходило в рамках так называемой «культурной революции».
За пять лет (к 1930 г.) количество школ в Чечне (включая и город Грозный) доведено до 158, а число учащихся детей превысило 18 тысяч, в том числе 10,3 тысяч в сельской местности. Всего советскую школу посещал 41% детей школьного возраста. Однако вытеснить из сферы образования духовную школу не удалось — к маю 1930 г. в Чечне и Ингушетии продолжают действовать 168 религиозных школ. А попытки силой закрывать школы при мечетях вызывали протесты населения, сопровождавшиеся часто отказом строить советские школы, как это имело место в аулах Гудермес и Ачхой-Мартан. К тому же, ускоренное расширение сети советских школ не было обеспечено необходимым количеством национальных учителей, а потому преподавание все чаще переводится на русский язык. Если в 1928/29 учебном году на родном языке в Чечне обучалось 79,8% всех учащихся детей, то в 1930/31-м уже только половина. Во всех соседних автономиях, кстати, наблюдается прямо противоположная тенденция. Например, в Северной Осетии
1 См.: ГАРФ. Ф. Р-1235. Оп. 101. Д. 288. Л. 122 об, 123; Тайны национальной политики ЦК РКП: Четвертое совещание ЦК РКП с ответственными работниками национальных республик и областей в Москве 9—12 января 1923 г. — М., 1992. — С. 198: Томашевский К. Очередные задачи Горреспублики // Жизнь национальностей. — 1922. — № 17. — С. 6.
♦ Культурная революция». Изменения в духовной жизни чеченского народа
за это же время доля детей, обучающихся на родном языке, возросла с 35,8 до 76%, в Ингушетии — с 34,2 до 50%1.
Несмотря на то, что уровень требований в чеченских школах нельзя было признать высоким, наблюдается большой отсев учащихся. В одном только 1931/32 учебном году школу бросили 23% учащихся и еще 21,2% были оставлены на второй год2. Объяснялось это разными причинами, в том числе и элементарным отсутствием у значительной части детей зимней одежды и обуви. Кроме того, в крестьянских семьях дети рано включались в трудовую жизнь семьи, а элементарного умения читать, писать и считать считалось достаточным уровнем образования. Отрицательно влиял и фактически начавшийся перевод обучения на русский язык. Дети его, как правило, не знали, а потому не могли усвоить школьную программу. Вообще, русский язык на рубеже 20—30-х гг. еще слабо распространен среди чеченцев. Например, в 1928 г. число грамотных на родном языке среди чеченцев составляло 10%, а на русском — всего 3%3.
Введение обязательного начального образования. Кампания по ликвидации безграмотности. В 1931 г. на всей территории Чечни вводится обязательное 4-летнее образование для детей (в Грозном — обязательное 7-летнее обучение), что требует повсеместного открытия новых школ. Уже после объединения Чечни и Ингушетии в единую автономию, в 1934 г., обязательное 7-летнее образование распространяется и на сельские районы. В 1940 г. число школ доходит до 350, а количество учащихся превышает 127 тысяч человек. Из этого количества школ только 15 давали полное среднее образование, 177 — неполное и 47 — начальное образование. Тем не менее, и в конце 30-х гг. подавляющее большинство чеченских детей из-за безграмотности бросали школу, получив начальное или неполное образование, и лишь немногие получали полное среднее образование4.
Несмотря на то что светская школа заняла ведущие позиции в сфере образования, и вопреки жестоким репрессиям, которым подвергались в 20—30-е гг. не только представители духовенства, но и верующие и люди, владевшие арабской письменностью, — религиозные школы
1 См.: Состояние национального просвещения на Северном Кавказе: Материалы партконференции по национальному просвещению. — Ростов н/Д., 1932. — С. 3; Чучаев Д. Культурное строительство в национальных областях Северного Кавказа // Революционный Восток. — 1931. — № 11—12. — С. 215,218.
2 Состояние национального просвещения на Северном Кавказе: Материалы партконференции по национальному просвещению. — Ростов н/Д., 1932. — С. 5.
3 Авторханов А. Р. Достижения и недочеты культурного строительства в Чечне // Революция и горец. — 1929. — № 5. — С. 68.
4 См.: Культурное строительство в Чечено-Ингушетии (1920 — июнь 1941 гг.): Сб. документов и материалов. — Грозный, 1979. — С. 207; Джамбулатова 3. К. Культурное строительство в советской Чечено-Ингушетии (1920—1940 годы). — Грозный, 1974. — С. 67.
Глава XVI. Чечено-Ингушетия в эпоху советской модернизации: индустриализация, кооперация
и культурная революция
все же не ушли полностью из жизни чеченского общества. После закрытия большинства мечетей они перешли в дома мулл и знатоков ислама. Деятельность этих своеобразных школьных кружков никогда не прекращалась, несмотря на преследование властей.
Параллельно с развитием системы детского образования власти прилагали большие усилия по ликвидации неграмотности среди взрослого населения. Эта работа велась органами народного образования при содействии Всероссийской Чрезвычайной Комиссии по ликвидации безграмотности и Всесоюзного добровольного общества «Долой неграмотность». Первые шаги в этом направлении, предпринятые еще в начале 20-х гг., не дали в Чечне почти никакого результата. В 1925 г. в Чечне действует всего 34 пункта ликвидации неграмотности, а учебой охвачено чуть более 1,8 тысяч взрослых человек. По данным переписи 1926 г., грамотных среди чеченцев всего 2,9%, в том числе женщин — 0,8%1.
Со второй половины 20-х гг. темпы ликвидации неграмотности среди взрослого населения увеличиваются. Появляются учебники на чеченском языке, специально разработанные для взрослых, быстро разрастается сеть стационарных пунктов ликвидации безграмотности. Грамотные комсомольцы, члены профессиональных союзов и учащиеся учебных заведений, относящихся к разряду средних и высших специальных учреждений, в обязательном порядке командируются в чеченские селения для обучения неграмотных. В 1931 г. власти объявили о начале «культурного похода» по всему Северному Кавказу. Только из Грозного в различные селения направлено до 1 тысячи «культармейцев», призванных в первую очередь обучать неграмотных. К сентябрю 1931 г. в Чечне обучением в пунктах ликвидации неграмотности охвачено свыше 50 тысяч человек, в том числе 8 тысяч женщин. Всего к учебе было привлечено 43,3% всего неграмотного населения Чеченской АО2.
Работа по ликвидации неграмотности шла на протяжении всех 30-х гг., но превратить Чечено-Ингушетию в республику со 100-процентной грамотностью населения не удалось. В 1941 г. 57 тысяч ее взрослых жителей не умели читать и писать. Полностью покончить с неграмотностью планировалось только к 1943 г.3
Сфера среднего специального и высшего образования. Наряду со школами за первые двадцать лет советской власти в Чечне складывается система учреждений среднего и высшего специального образования.
1 См.: ГАРФ. Ф. Р-1235. Оп. 120. Д. 100. Л. 102 об; 10 лет Советской Чечни. — Ростов н/Д., 1933. — С. 146.
2 См.: Ефанов К. И. В авангарде борьбы за коллективизацию. — Грозный, 1968. — С. 153; Социалистическую культуру в горы // Революция и горец. — 1931. — № 9. — С. 25.
3 Культурное строительство в Чечено-Ингушетии (1920 — июнь 1941 гг.): Сб. документов и материалов. — Грозный, 1979. — С. 216.
— 754 —
«Культурная революция». Изменения в духовной жизни чеченского народа
Центром формирования нового для Чечни типа учебных учреждений, естественно, стал Грозный, в котором было сосредоточено большое количество специалистов различного профиля. Уже в 1920 г. создается Грозненский нефтяной техникум, чуть позднее (в 1921 г.) превратившийся в Высший нефтяной техникум, быстро приобретший всесоюзное значение. В 1929 г. он был преобразован в первый в СССР Грозненский нефтяной институт им. Г. И. Ломова (постановлением СНК СССР от 3.07.1929 г.).
Первый в стране отраслевой научно-исследовательский институт нефти (ГрозНИИ им. И. В. Косиора) также был создан в Грозном (1928 г.).
Поскольку в Чечне учреждения профессионального образования отсутствовали полностью (если не считать учительских курсов в Старом Юрте, вскоре расширенных до педагогического училища), то Отдел народного образования Чеченской АО направлял желающих получить образование в учебные заведения за пределами Чечни. Так, в 1923 г. на учебу были направлены первые 50 человек. Позднее эта практика получит еще большее распространение и количество молодых чеченцев, получающих направление на учебу, будет исчисляться уже сотнями. Так, в 1931/32 учебном году в различные вузы было направлено 80 человек, в рабфаки (рабочие факультеты при вузах) — 590, техникумы — 496. В середине 30-х г. за пределами Чечено-Ингушетии обучается свыше 3 тысяч чеченцев и ингушей, а численность национальной интеллигенции к 1937 г. достигла 8 тысяч человек1.
Во многих городах Северного Кавказа возникли чеченские студенческие землячества, члены которого всячески поддерживали друг друга, в том числе и экономически. Чеченские власти первое время поддерживали создание подобных неформальных обществ, пока в октябре 1928 г. деятельность всех горских студенческих землячеств не была прекращена решением Северо-Кавказского краевого комитета ВКП(6)2. Решение высшего партийного органа объясняется, скорее всего, стремлением не допустить изолированного от основной массы учащихся существования студентов-горцев.
Развивается и собственная сеть высших и средних учебных заведений. В 1930 г. открывается кооперативная школа, кооперативный и педагогический техникумы, а при Грозненском нефтяном институте создается чеченское подготовительное отделение. Еще через два года открыт планово-экономический техникум, а общее количество учащихся в республиканских высших и средних учебных заведениях доходит
1 См.: ГАРФ. Ф. Р-1235. Оп. 101. Д. 288. Л. 123; Оп. 124. Д. 29. Л. 62—64; Боков X. X. Развитие духовной культуры трудящихся Чечено-Ингушетии и проблемы преодоления националистических и религиозных пережитков // Социология, атеизм, религия. Т. 3. Вып. 1. — Грозный, 1976. — С. 31.
- Ликвидация горских студенческих землячеств // Революция и горец. — 1929. — № 6. - С. 69.
Глава XVI. Чечено-Ингушетия в эпоху советской модернизации: индустриализация, кооперация
и культурная революция
до 6883 человек, из которых 1535 были чеченцами. К 1933 г. в Грозном функционировал Нефтяной институт, Педагогический институт, Высшая сельскохозяйственная коммунистическая школа, 8 техникумов, 5 рабфаков, 12 фабрично-заводских училищ, 2 совхозуча, 2 комбината рабочего образования «Грознефти» и завода «Красный молот». В 1939 г. в Чечено-Ингушетии уже 14 средних специальных учебных заведения и три вуза: нефтяной, учительский и педагогический институты1.
Кроме того, в Грозном возникают и новые научно-исследовательские учреждения: Грозненское научное общество и Чеченское краеведческое общество. В 1928 г. два последних образовали путем слияния Научное общество ЧАО, в 1930 г. реорганизованное в Научно-исследовательский институт краеведения. В 1934 г. институт будет вновь реорганизован — в Чечено-Ингушский НИИ истории, языка и литературы, а с 1938 г. начнется регулярный выпуск его собственного печатного периодического издания — «Записки Чечено-Ингушского НИИ».
Книгоиздание. Для развития образования, да и всей культуры в целом, большое значение имело появление в Чечне национального книгоиздания. Его становление происходит под жестким государственным контролем, исключавшем всякую частную инициативу. Этим объясняются как его достижения, так и недостатки. Участие государства позволило в короткий срок создать полиграфическую базу, подготовить или привлечь значительное количество необходимых технических специалистов, гарантировать финансирование издательской деятельности. С другой стороны, неусыпный контроль партийных органов и жесткое администрирование пагубно отражались на тематике выпускаемой литературы. Издавалось только то, что партийным руководством было признано полезным и не противоречащим идеологическим установкам ВКП(б).
Масштабы издательской деятельности росли быстро. Так, в 1928 г. было издано 28 названий книг с общим тиражом 97 тысяч экземпляров, а в 1931 г. издано уже 92 названия книг тиражом в 373 тысячи экземпляров.
Чеченская письменность. Литература. Чрезвычайно негативно влияли на состояние чеченской культуры и образования государственные кампании по переводу чеченской письменности с одной графической основы на другую. В 1925 г. состоялся переход с арабской графики на латинскую, что в одночасье сделало неграмотными довольно значительный слой людей, пользовавшихся чечено-арабским алфавитом. Через 13 лет, в 1938 г., чеченская письменность переводится уже на русскую графику (кириллицу), что превратило чеченцев на время в почти поголовно неграмотную нацию.
1 Большая советская энциклопедия. М., 1934. Т. 26. С. 530; От вековой отсталости — к социализму: Сб. документов и материалов. — Грозный, 1977. — С. 165.
— 756 —
«Культурная революция». Изменения в духовной жизни чеченского народа
Тем не менее, несмотря на эти и другие трудности, к 40-м гг. на чеченском языке ежегодно выходят в свет десятки книг и журналов, появляется значительный массив учебно-педагогической, научно-популярной, общественно-политической и производственной литературы, выходит 17 газет. А главное, развитие книгоиздания служило дополнительным стимулом для развития чеченской литературы. В начале 20-х гг. появляются первые литературные произведения А. Нажаева,
С. Бадуева и других поэтов и прозаиков. Вскоре в литературу приходят X. Ошаев, Магомед и Арби Мамакаевы, С. Арсанов, Ш. Айсханов
Халид Ошаев. Фото (26, 10) Саид Бадуев. Фото (26, 21)
Ахмад Нажаев. Фото (26, 7) Саидбей Арсанов. Фото (26, 4)
Глава XVI. Чечено-Ингушетия в эпоху советской модернизации: индустриализация, кооперация
и культурная революция
и другие классики чеченской литературы. Кроме написания собственных произведений, многие чеченские писатели занимаются переводами на родной язык произведений русской и мировой классики.
Библиотеки и культурные учреждения. «Культурная революция», постепенно охватывая всю территорию Чечни, привела к образованию развернутой сети учреждений культурно-просветительского характера: музеев, библиотек, клубов и т. д. Если в 1920 г. на всю Чечню имелась только одна библиотека, то в 1940 г. в Чечено-Ингушетии насчитывается 248 государственных публичных библиотек и 211 изб-читален. Первый клуб появился в Чечне только в 1923 г., а в 1940-м количество клубных учреждений составило 343 К
Крупнейшие научные и учебные библиотеки сосредоточены в Грозном, а первая грозненская библиотека, созданная усилиями общественности в октябре 1904 г., со временем превратилась в Центральную городскую, а затем и в Республиканскую библиотеку. Начиная с 1939 г. эта библиотека получала два обязательных бесплатных экземпляра всех республиканских изданий. Фонд библиотеки в 1940 г. составил 95 тысяч экземпляров, включая литературу для детей, а число читателей вплотную подошло к 16 тысячам человек. Чеченцев и ингушей среди них было свыше 500 человек1 2.
Появляется в Грозном и Чечено-Ингушский республиканский краеведческий музей, чья коллекция непрерывно пополняется благодаря начавшимся регулярным этнографическим и археологическим экспедициям. Музей геологии был создан в Грозненском нефтяном институте.
Театр и филармония. Первый постоянный русский театр появился в Грозном еще в 1928 г., и в том же году Магомед Яндаров образовал первый чеченский театральный кружок из направленных на учебные курсы работников советского и партийного аппарата ЧАО. В работе кружка приняли активное участие и педагоги: чеченцы Умар Гойтемиров и Хасан Магомаев, русские Н. Мосиенко и Шеленков. В работе кружка принимал участие и партийный деятель Муса Кундухов. Он и подал первым мысль о создании в Грозном чеченского национального театра-студии3.
Чеченский профессиональный театр-студия открылся 1 мая 1931 г. В его первом составе было 39 человек, включая четырех женщин. Репертуар формировался из произведений чеченских авторов: С. Бадуева, Д. Шерипова и др. Поскольку чеченцев в Грозном было еще не много,
1 Народное хозяйство Чечено-Ингушской АССР: Статистический справочник. — Грозный, 1957. — С. 107.
2 Райцис Е. 35 лет Грозненской библиотеке // Грозненский рабочий. — 1940. — 25 дек. — С. 2.
3 Мосиенко Н. О студии Чеченского областного национального театра // Революция и горец. — 1931. — № 12. — С. 106.
«Культурная революция». Изменения в духовной жизни чеченского народа
Ансамбль «Вайнах». 1939 г. Фото (38, вклейка)
театр постоянно выезжал с постановками в сельские районы и был, по существу, выездным. Подготовка актеров осуществлялась как при самом театре, так и в Московском институте театрального искусства, где в 1934 г. открылось чечено-ингушское отделение.
Помимо чеченского, в Грозном действует еще несколько театральных коллективов, как профессиональных, так и самодеятельных: русский драматический театр, театр рабочей молодежи, театр юного зрителя, детский кукольный театр. Тогда же при республиканской филармонии появляются первые профессиональные музыкальные и хореографические коллективы. С 1939 г. начинается история чечено-ингушского государственного ансамбля танца «Вайнах», первые успешные гастроли которого состоялись летом 1940 г.
Физкультура и спорт. В милитализированном Советском Союзе физкультура и спорт носили военно-прикладной характер и пользовались государственной поддержкой. В 1926 г. Чеченский совет по физической культуре создает свой первый спортивный кружок. В 1939 г. в Чечено-Ингушетии действует уже 13 спортивных обществ и 29 спортивных коллектива, объединяющих 2 тысячи человек, постоянно занимающихся спортом1. Однако деятельность спортивных обществ сосредотачивается почти исключительно в Грозном, где были расположены и главные спортивные сооружения. Поэтому массового вовлечения чеченцев в спортивную жизнь страны в то время не произошло. Вместе с тем продолжали существовать народные виды состязаний: конные скачки, борьба, прыжки, стрельба в цель и другие, носившие военно-прикладной характер.
! Филькин В. И. Партийная организация Чечено-Ингушетии в годы борьбы за упро¬
чение и развитие социалистического общества (1937 — июнь 1941 гг.). — Грозный,
1963. - С. 142.
Глава XVI. Чечено-Ингушетия в эпоху советской модернизации: индустриализация, кооперация
и культурная революция
Система здравоохранения. Практически на пустом месте создается в Чечне и система государственного здравоохранения. В 1920 г. здесь нет не только ни одной больницы, но даже и лечебного учреждения амбулаторного типа. Медицинские учреждения функционировали только в Грозном и населенных казаками станицах. Первая больница в Чечне на 5 мест и две амбулатории появились весной 1923 г., а обслуживать им предстояло все коренное население Чечни, насчитывавшее по разным оценкам от 300 до 400 тысяч человек1.
С этого момента начинается развитие учреждений здравоохранения, и проводятся первые мероприятия по ликвидации массовых инфекционных заболеваний, регулярно наблюдавшихся в Чечне. Так, в 1924 г. проведена первая массовая вакцинация детей против оспы. В 1940 г. Чечено-Ингушская АССР располагала 50 больницами, из которых 35 находились в сельской местности. Помимо больниц в республике работают 32 женские и детские консультации, 134 фельдшерско-акушерских пункта, 8 санаториев и домов отдыха. Всего в этих учреждениях работает 429 врачей (в том числе 314 в городах) и 1434 медицинских работника2.
* * *
Таким образом, первые двадцать лет советской власти, несомненно, были периодом бурного развития экономической и социально-культурной сферы Чечни. Формируется широкая сеть учреждений образования, здравоохранения, культуры и искусства. В культурном развитии чеченцев накапливается критическая масса изменений, которая должна была привести к существенным изменениям во всем духовном облике нации. Чеченская культура приобретает ярко выраженный светский характер, ослабевают связи с арабо-мусульманским миром, зато тысячи новых нитей связывают ее с русской и европейской цивилизациями. Этому процессу невозможно дать однозначную оценку, положительную или отрицательную. В процессе развития каждая нация жертвует чем-то из своего духовного наследия, приобретая взамен что-то новое, необходимое в современных условиях.
Чеченское общество характеризуется в конце 30-х гг. XX в. основными чертами аграрно-индустриального типа. Есть рабочий класс, современная интеллигенция и управленческий слой, создана система обязательного школьного образования. Произошли подлинно революционные, хотя и не всегда положительные, изменения в ауле.
В целом же, нельзя не отметить, что несмотря на во многом антигуманистический и тоталитарный характер советских реформ, они вызвали революционные изменения в традиционных устоях чеченского этноса.
1 ГАРФ. Ф. Р-1235. Оп. 7. Д. 45. Л. 17 об.
2 Культурное строительство в Чечено-Ингушетии (1920 — июнь 1941 гг.): С6. документов и материалов. — Грозный, 1979. — С. 212—213.
— 760 —
Глава XVIL Чечено-Ингушская АССР
в Великой Отечественной войне Советского Союза 1941 —1945 годов
§ I. Нападение гитлеровской Германии на СССР. Чечено-Ингушетия в первый год войны
Вторая мировая война. Место Кавказа. Кавказ имел большое геополитическое значение для всех великих европейских держав, вовлеченных с сентября 1939 г. во Вторую мировую войну. И не только в силу своего географического положения — Кавказ служил мостом между Европой, Средним и Ближним Востоком, играя роль перешейка между Каспийским и Черным морями. Дело еще и в том, что именно на Кавказе находились Грозный и Баку — два основных нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих центра СССР, единственные, которые питали транспорт и промышленность всей великой страны. Поэтому, когда во время «зимней» войны СССР с Финляндией в 1940 г. встал вопрос об обуздании агрессора — в данном случае сталинской державы, французские и английские военные штабы планировали авианалетами с баз Ближнего Востока разрушить нефтяные центры на Кавказе, что должно было лишить СССР возможности вести дальнейшие агрессивные действия.
О значении нефтяных центров на Кавказе достаточно ясно говорилось в 1939 г. в публикациях горских эмигрантов: «Лишить Москву кавказского сырья означало бы нанести смертельный удар советской промышленности, советским финансам и советской военной мощи» К
Западноевропейские страны, прежде всего Англия и Франция, имевшие давние интересы на Кавказе, в особенности в районах Баку и Грозного (где в царское время были вложены в нефть значительные английские и французские капиталы), считали главной целью в ходе новой мировой войны обезопасить Кавказ от его перехода под контроль Германии и ее союзников (таковым союзником Гитлера с августа 1939 г. и по июнь 1941 г. считался И. Сталин). В случае же распада СССР, желательным представлялся вариант образования на Кавказе конфедерации кавказских государств* 2. Печальный опыт действий сил Антанты на Кавказе в 1918—1920 гг. говорил западным империалистам, что военной силой контроль над кавказскими, а тем более горскими народами удержать
! Астемир. Значение Кавказа в мировой экономике // Кавказ. — Париж, 1939. — № 6. — С. 10.
2 См.; Авалигивили 3. Кавказ и Туркестан в международной политике // Кавказ. Париж, 1939. — С. 7; Сигаури И. М. Очерки истории и государственного устройства чеченцев с древнейших времен. Т. 2. — М., 2001. — С. 202.
— 761
Глава XVII. Чечено-Ингушская АССР в Великой Отечественной войне Советского Союза
1941—1945 гг.
не удастся. Только с развязыванием Германией войны против СССР планы западных стран относительно Кавказа изменились.
Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года нападением Германии на Польшу. В свою очередь Англия и Франция объявили войну Германии. В течение почти двух последующих лет Советскому Союзу удавалось избегать непосредственного участия в военных действиях, хотя, с формальной точки зрения, советская страна также являлась агрессором, так как следом за Германией вторглась в Польшу и овладела областями, населенными преимущественно украинцами и белорусами. Крупнейшие капиталистические державы разделились на два противостоящих военно-политических союза: Германия, Италия и Япония с одной стороны, Англия, Франция и США — с другой. СССР получил, таким образом, возможность играть на противоречиях между империалистическими группировками, рассчитывая на их ослабление в войне друг с другом. Подписав в августе 1939 г. Пакт о ненападении с Германией, И. Сталин не только исключил для СССР угрозу оказаться перед лицом единой антикоммунистической коалиции западных стран, но и создал условия для развития советской экспансии в Восточной Европе.
Обезопасив себя с Востока, Гитлер легко разгромил весной-летом 1940 г. Францию и быстро установил германскую гегемонию над Западной и Центральной Европой. Теперь наибольшую угрозу для него представлял Советский Союз, руководство которого давно вынашивало планы по распространению «пролетарской революции» на Европу, а затем и весь мир.
Гитлер сумел ввести в заблуждение советское руководство относительно сроков начала своей восточной кампании. Сталин пребывал в уверенности, что, прежде чем напасть на СССР, Германии необходимо нанести окончательное поражение Англии, чтобы избежать фатальной войны на два фронта. Гитлер, однако, рассуждал иначе. Вторжение на Британские острова было почти невозможно для него ввиду господства английского флота на море. Вместе с тем и Англия (даже в союзе с США) не могла в ближайшие годы совершить вторжение в Европу, поскольку ее сухопутная армия и военно-воздушные силы были намного слабее немецких. Выход из военно-политического тупика, в котором оказалась Германия, Гитлер видел в том, чтобы в ходе короткой военной кампании разгромить Советский Союз, захватить территорию на востоке до Волги и Урала, а затем через Кавказский перешеек бросить германские сухопутные силы на Ближний Восток, Иран и Индию. Этот удар при одновременном наступлении итальянской армии в Африке из Туниса и Ливии к Египту должен был привести к краху Британской империи. Утратив колонии, Англия — островная страна — лишалась экономической базы для продолжения войны. Кроме того, в этом случае к странам тройственного пакта (Германия, Япония, Италия)
Нападение гитлеровской Германии на СССР. Чечено-Ингушетия в первый год войны
присоединилась бы Турция, да, пожалуй, и Иран, где были довольно сильны прогерманские настроения.
Уже в ходе наступления на Москву, в июне 1941 г. германским командованием был закончен план наступления на Северный Кавказ с выходом в Закавказье и быстрым продвижением к ирано-иракской границе. Гитлер также рассчитывал, овладев Кавказом, послать «высокоподвижные соединения в Индию».
Овладение Кавказом, оказывалось, таким образом, одной из основных целей войны Германии с СССР. Кроме того, Кавказ и сам по себе имел весьма серьезную привлекательность для Германии ввиду наличия здесь больших запасов нефти (Баку, Грозный) и редких металлов, так необходимых ее военной промышленности1.
Немецкие идеологи и стратеги окончательно сформировали свое политическое кредо в отношении Кавказа и его народов только к 1942 г. в так называемом меморандуме от 27.07.1942 г. «О преобразовании Кавказа»2. Следует сказать, что, говоря о достижении господства над Кавказом, «как в политическом и военном отношениях», фашистские главари считали необходимым дать местным народам некую самостоятельность в форме государственных образований, однако только после длительного периода «военной оккупации». При этом в меморандуме напоминалось, что Германия еще в 1918 г. гарантировала «кавказским племенам государственную самостоятельность». При этом, видимо, имелся в виду факт признания Германией и Османской империей в 1918 г. Горской Республики во главе с А.-М. (Тапа) Чермоевым — чеченским аристократом и нефтепромышленником. Правда, при этом авторы «Меморандума» 1942 г. оговаривали, что «не следует давать преувеличенных обещаний [кавказцам] в смысле предоставления полной независимости». Речь, видимо, шла о создании марионеточных правительств, как в Словакии, Хорватии и Южной Франции (правительство Виши).
Большое внимание в стратегических планах фашистской Германии во Второй мировой войне играла нефть. Поэтому в указанном «Меморандуме» одной из главных целей действий Германии на Кавказе оговаривалась следующая: «взять в свои руки всю нефть». Утверждают также, что позже (июнь 1942 г.) в одном из своих выступлений А. Гитлер заявил, что «его основная цель — занять область Кавказа... если он не получит нефть Майкопа и Грозного, то должен покончить с войной»3.
1 См.: Гречко А. А. Годы войны. — М., 1976. — С. 162—164; Ибрагимбейли Х.-М. Крах операции «Эдельвейс». М., 1987.
2 Опубликован в книге: Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками. Т. 2. — М., 1966.
1 См.: Очерки истории Чечено-Ингушской АССР Т. 2. — С. 238; Сигаури И. М. Указ, соч. Т. 2. С. 204.
— 763
Глава XVII. Чечено-Ингушская АССР в Великой Отечественной войне Советского Союза
1941—1945 гг.
22 июня 1941 года. Фашистская авиация идет на цели. Фото (65, 162)
Горская эмиграция в Турции и Европе, включая и выходцев из Чечни, в преддверии мировой войны и в ходе нее раскололась на несколько частей по вопросу выбора стратегической линии поведения горских народов Кавказа. Одни утверждали, что нельзя поддерживать ни «Север», ни «Юг» (вкладывая сюда понятия о двух основных коалициях), другие утверждали, что надо выбирать, на чью сторону встать. Однако, все горские эмигранты признавали, что «оставаться Кавказу нейтральным... не удастся» Поэтому часть известных горских эмигрантов, особенно бывших военных, воевавших с «красными» в гражданскую войну, по примеру старых казачьих генералов, пошла на поиск компромисса с немцами.
Начало Великой Отечественной войны. Мобилизация в Чечено- Ингушетии. 22 июня 1941 г. на самой западной точке территории Советского Союза, в Брестской крепости, в выдвинутом непосредственно к границе дозоре замкомвзвода А. Лалаев (из селения Старый Юрт Чечено-Ингушской АССР) первым в огромной стране принял огневой удар немецкой военной машины, начавшей наступление от Балтики до Черного моря. Он первым открыл ответный огонь по захватчикам и первым же пал от немецкой пули. С ним вместе в окопе дозора погибли его сослуживцы — рядовые русские красноармейцы. Более месяца, в глубоком тылу немцев, дрались в осажденной Брестской крепости несколько тысяч бойцов Красной Армии, из которых более 420 являлись уроженцами Чечено-Ингушской АССР (в том числе свыше 230 чеченцев и 40 ингушей). Не раз в затишье боев над развалинами крепости звучало религиозное песнопение («назм») чеченцев и ингушей, решивших принять почетную смерть в бою, но не сдаться. Так началась Великая Отечественная война, которая продолжалась долгих 4 года и унесла десятки миллионов жизней советских людей.
К началу Великой Отечественной войны в рядах Рабоче-Крестьянской Красной Армии проходили службу до 9 тысяч чеченцев и ингушей. С 22 июня 1941 г., в течение 2—3 месяцев, в Чечено-Ингушетии было 11 См.: Епекхоти Т. Исторические задачи Кавказа // Кавказ. — Париж, 1938. — № 6. — С. 35; Сигаури И. М. Указ. соч. Т. 2. — С. 204.
— 764 —
Нападение гитлеровской Германии на СССР. Чечено-Ингушетия в первый год войны
Брест 1941 года. Худ. Г. Бут (46, 68)
мобилизовано и спешно направлено на фронт еще не менее 8 тысяч военнообязанных вайнахов. В решении бюро Чечено-Ингушского обкома ВКП(6) и Совнаркома ЧИАССР от 25 июня 1941 г., принятого по докладу «О политико-моральном состоянии населения Республики в связи с проведением мобилизации», давалась высокая оценка идейно - политическому уровню населения.
Кроме того, на территории Чечено-Ингушетии в период войны за счет собственного призыва из граждан всех национальностей, включая чеченцев и ингушей, и призыва из других областей было сформировано
17 отдельных соединений Красной Армии, включая 242-ю горнострелковую и 317-ю стрелковую дивизии, 16-ю саперную и 4-ю маневренно-воздушную бригады, отдельные батальоны связи, воздушного наблюдения, подразделения народного ополчения и истребительные батальоны.
Мобилизационные возможности коренного населения казались ис- черпаными уже в первом военном году — на фронте оказалось свыше
18 тысяч человек чеченцев и ингушей. Но на третий год войны число ушедших на фронт горцев составило 32 тысяч человек, а по другим сведениям, и все 50 тысяч. Ведь немало чеченцев было призвано из числа проживавших в Дагестане, Северной Осетии, Грузии и других районов СССР. Нарком НКВД Чечено-Ингушской АССР в 1942—1943 гг. С. Албо- гачиев исчислял число чеченцев и ингушей, мобилизованных на фронт, как раз в 50 тысяч человек1. 11 См.: Филькин В. И. Чечено-Ингушская партийная организация в годы Великой Отечественной войны Советского Союза. — Грозный, 1960. — С. 43; Ибрагимов Муса, Ибрагимов Мовсур. Чечня: через круги ада. Переселение и депортация чеченского народа. — Москва, Саратов, 2003. — С. 31; Гакаев X. А. В годы суровых испытаний. — Грозный, 1988. — С. 42; Костоев Б. Кавказский синдром. — М., 2001. — С. 229.
Глава XVII. Чечено-Ингушская АССР в Великой Отечественной войне Советского Союза
1941—1945 гг.
Советский орудийный расчет отражает атаку немецких танков (33, 52)
Если учесть, что в 30-е гг. было репрессировано до 40 тысяч чеченцев и ингушей (главным образом мужчин активного возраста), а численность вайнахов составляла примерно 480 тысяч человек, то, следовательно, на фронте, в тюрьмах и лагерях в 20-х — начале 40-х гг. оказался почти каждый шестой гражданин мужского пола без учета возраста1. При учете мобилизационных возможностей коренного населения следует учитывать еще одну важную особенность — это возрастной состав. Так, среди чеченцев и ингушей 50% численности составляли дети до 16 лет. Русскоязычное население Чечено-Ингушетии дало на фронт за 4 года войны соответственно 15—20 тысяч человек.
В конце 1941 — начале 1942 гг. проходило создание на добровольной основе национальной 114-й Чечено-Ингушской кавалерийской дивизии, командиром которой был назначен знаменитый участник войны в Испании полковник Хаджи-Умар Мамсуров (осетин по национальности), а комиссаром — чеченец Муслим Гайрбеков, секретарь Чечено-Ингушского обкома ВКП(б). К началу марта 1942 г. дивизия была полностью
1 Так, в 1937 г. число чеченцев в СССР составляло 435922 человек, а к 1939 г. их число уменьшилось до 400344 человек. — См.: Тишков В. А., Беляева Е. Л.у Марченко Г. В. Чеченский кризис. — М„ 1995. — С. 10.
Нападение гитлеровской Германии на СССР. Чечено-Ингушетия в первый год войны
Командиры Чечено-Ингушской кавалерийской дивизии. В центре сидят полковник Хаджимурат Мамсуров и капитан Сакка Висаитов. Фото (70, 247)
обеспечена за счет республики всем необходимым, причем, наплыв добровольцев был столь большим, что в ней сверх комплекта (4,5 тысячи человек) оказалось 1000 бойцов. Дивизия состояла не только из чеченцев и ингушей, но и из представителей всех народов республики, в том числе и Сунженских казаков.
Вдруг в Грозном получили из Москвы приказ о расформировании дивизии. Дело заключалось в том, что маниакально подозрительный Сталин, возможно с подачи Л. Берия, решил не только отказаться от призыва на фронт чеченцев и ингушей, но и выслать их с Кавказа. Официально же, прекращение призыва мотивировалось чуть ли не заботой
Командир Чечено-Ингушского кавалерийского полка Мавлид Висаитов. Фото (Интернет)
Глава XVII. Чечено-Ингушская АССР в Великой Отечественной войне Советского Союза
1941—1945 гг.
Комиссар полка Магомед Имадаев. Фото (70, 257)
о чеченцах и ингушах, даже невозможностью обеспечить их питание мясом (горцы не ели свинину, а баранины и говядины заготовлено в виде консервов практически не было).
В планы руководства карательных органов СССР в начале 1942 г. уже входило выселение чеченцев и ингушей по этническому признаку. Дело в том, что разгром немцев под Москвой зимой 1941—1942 гг. породил эйфорию у политического руководства СССР. Казалось, что можно в течение 1942 г. не только выдворить немцев из страны, но и продолжить зверскую практику геноцида «неугодных» народов. Однако стремительное летнее наступление фашистской армии на Кавказ и Сталинград сорвало эти замыслы. В августе 1942 г. танковая армия генерала Клейста вышла к Тереку и, форсировав реку у Моздока, искала пути наступления на Грозный и Орджоникидзе. С другой стороны, дивизии Паулюса вышли к Волге. В этот период как для советских, так и для германских войск появилась острая потребность в кавалерии — для защиты своих флангов в степных районах Предкавказья и Поволжья.
В спешном порядке в августе 1942 г. вновь стали созывать уже разошедшихся по домам воинов-добровольцев в кавалерийские части. Еще ранее сформированные и экипированные на базе расформированной национальной дивизии 255-й Чечено-Ингушский кавалерийский полк и Чечено-Ингушский кавалерийский дивизион были включены в состав 17-го (впоследствии 4-го) Кубанского кавалерийского корпуса. Полк был брошен под Сталинград, а дивизион действовал на Северном 11 ГАРФ. Ф. P-9479. On. 1. Д. 768. Л. 129; Гакаев X. А. Чечено-Ингушетия в годы Великой Отечественной войны // Материалы Всероссийской науч. конф. 23—25 декабря 2002 г. — Грозный, 2003. — С. 338; Бабиченко Д„ Сидоров Н. Чеченские грабли И Интернет, file://A\ Итоги в России. — htm. — С. 3.
— 768 —
Нападение гитлеровской Германии на СССР. Чечено-Ингушетия в первый год войны
Северный Кавказ. Кавалерийский полк на марше (29, вклейка)
Кавказе1. Командиром 255-го кавалерийского полка был назначен кадровый офицер майор Мовлид Алироевич Висаитов, будущий герой Советского Союза. Командиром же Чечено-Ингушского дивизиона оказался его однофамилец, также кадровый офицер — капитан Сакка Висаитов.
Число всадников в полку и дивизионе достигло к лету 1942 г. до трех тысяч бойцов.
Хотя в марте 1942 г. органы НКВД добились прекращения призыва чеченцев и ингушей в действующую армию, тысячи вайнахов продолжали попадать в Красную Армию в качестве добровольцев. В Чечено- Ингушетии стали проводить, по инициативе властей, так называемые «добровольные мобилизации». Первая из них прошла в сентябре 1942 г. и дала свыше двух тысяч добровольцев, направленных в части Закавказского фронта — в действующую на Северном Кавказе пехотную дивизию. Вторая добровольная мобилизация (25 января — 5 февраля 1943 г.) дала еще 3 тысячи добровольцев на пополнение той же Н-ской дивизии. Третий набор добровольцев из числа чеченцев и ингушей прошел в марте того же 1943 года.
Таким образом, число чеченцев и ингушей, сражавшихся на фронте, достигло примерно 30 тысяч человек, без учета мобилизованных в обычном порядке в других районах СССР и без данных о третьей мобилизации. Чечено-Ингушский обком ВКП(б) отметил в своем решении: «Проведенный с разрешения ЦК ВКП(б) в период февраля и марта 1943 г. призыв добровольцев — чеченцев и ингушей в Красную Армию сопровождается проявлением подлинного советского патриотизма... призыв добровольцев в Красную Армию, безусловно, явился показателем готовности чечено-ингушского народа выполнить свой долг в борьбе против немецких захватчиков».
Надо отметить, что в 70—80-х гг. XX в. Чечено-Ингушский обком КПСС оперировал цифрой в 32 тысячи чеченцев и ингушей, участвовавших
Глава XVII. Чечено-Ингушская АССР в Великой Отечественной войне Советского Союза
1941—1945 гг.
в Великой Отечественной войне (призванных или добровольно ушедших на фронт до 23 февраля 1944 г.). Отдельные исследователи называют цифру участников войны из чеченцев и ингушей в 50 тысяч человек и данная цифра, скорее всего, близка к действительности если учесть призыв военнообязанных и от десятков тысяч чеченцев и ингушей, проживавших в других районах РСФСР и Грузии, а также их участие в военизированных и партизанских отрядах.
В связи со стремительным наступлением немцев на юге в 1941 г. известная часть мужского населения Чечено-Ингушетии (до 13 тысяч), непригодного к строевой службе, была направлена в «трудар- мию» — строительные батальоны, где они находились на положении военнослужащих, но не числились красноармейцами. Однако данная мобилизация, проведенная практически силовыми методами местными военкоматами, имела трагический исход. Мобилизованные массы были погружены в эшелоны и в сентябре 1941 г. оказались в прифронтовой зоне, где в их трудовых усилиях никто не нуждался. Армия спешно отступала. Свыше 10 тысяч несчастных граждан Чечено-Ингушетии погибли от холода, голода, бомбардировок, вследствие преступной безалаберности военного чиновничества. Хуже того, оставшиеся в живых были объявлены «дезертирами трудового фронта». Их еле спасла от расстрела правительственная комиссия из Чечено-Ингушетии, выехавшая по жалобам в Ростов-на-Дону1.
Советские военнопленные. Лето 1941 г. (31, вклейка)
1 См.: Гакаев X. Чеченцы в боях против немецко-фашистских захватчиков // Чеченцы: история и современность. М., 1996. С. 235; Он же: В годы суровых испытаний. — С. 40—41; Музаев М. Облава // Объединенная газета. — 2004. — № 16. — С. 13; Си- гаури И. М. Указ. соч. Т. 2. — С. 205—206; и др.
— 770 —
Нападение гитлеровской Германии на СССР. Чечено-Ингушетия в первый год войны
Проблема дезертирства. Ситуация в Чечено-Ингушетии в связи с мобилизацией, если чем-то и выделялась на фоне соседних и даже более отдаленных регионов страны, то только в сторону высокого процента мобилизованных относительно общей численности населения.
Согласно официальным данным, известно, что с начала войны и до 1944 г. из Красной Армии дезертировало более 1 миллиона 210 тысяч человек и еще 456 тысяч уклонялись от призыва. Только летом 1941 г. в немецком плену оказалось до 4 миллионов красноармейцев, а всего за время войны в плену по разным причинам находилось от 5,7 до 6,2 миллионов советских офицеров и солдат1. В целом, руководство страны рассматривало их как изменников.
Что касается конкретно чеченцев и ингушей, то за первые шесть месяцев войны известны факты дезертирства с передовой 38 человек. Однако к «дезертирам» в Чечено-Ингушетии стали причислять и тех, кто бежал от смерти из «трудармии» или уклонился от мобизизации в нее. «Уклонившимся», а то и дезертиром считались и те, кто по первому требованию не явился на призывные участки, хотя бы по причине инвалидности или собственной смерти. Несчастные граждане были вынуждены или скрываться от ареста, или платить мзду работникам военкоматов и НКВД. Военные комиссары и сотрудники НКВД быстро осознали, что «дезертир» в условиях Чечено-Ингушетии является курицей, несущей золотые яйца. Массовые взятки с горцев стали обыденной практикой военкоматов, обнаглевших до такой степени, что они не подчинялись требованиям партийных и советских органов республики2. А вот в фашистский плен чеченцы и ингуши попадали крайне редко, и не только потому, что плен, в менталитете вайнахов, являлся тяжким, несмываемым позором, но и потому, что в силу сталинских порядков пленение навсегда закрывало дорогу горцам на Кавказ, к родным и близким.
Одна из опубликованных справок о дезертирстве за 3 года войны (с 22 июня 1941 г. по 1-ю половину 1944 г.) дает такие любопытные цифры: по Северному Кавказу всего дезертиров 49362 — из них по Краснодарскому краю 23771 человек, по Ставропольскому краю 10546, по Грозненской области (в данном случае Чечено-Ингушетии) 4441, по Северной Осетии 4366 человек. В то время как все области СССР за указанное время дают цифру в 1210224 человек.3
1 Арзамаскин Ю. Я. Коллаборационисты и их репатриация в послевоенный период // Интернет. — С. 2.
2 См.: ГАРФ. Ф. P-9478. On. 1. Д. 137. Л. 15—16; Ф. P-9479. On. 1. Д. 768. Л. 129; Сига- ури И. М. Указ. соч. Т. 2. — С. 217; Музаев М. Н. Указ. соч. — С. 13; Следует сказать, что за 1941—1944 гг., по завышенным данным органов НКВД, всего было привлечено в Чечено-Ингушетии по статье «дезертирство» и «уклонение» от призыва якобы до 5 тысяч человек, в том числе, по статье «трудовая мобилизация».
' Репрессированные народы России: чеченцы и ингуши. Документы, факты, комментарии / Сост. Н. Ф. Бугай. — М., 1994. — С. 115.
Глава XVII. Чечено-Ингушская АССР в Великой Отечественной войне Советского Союза
1941—1945 гг.
Немецкий плакат: «22 июня 1941 г. началось освобождение от советского террора»
(58, вклейка)
Главная причина наличия столь большого количества дезертиров и пленных в РККА, без сомнения, заключалась в том, что Красная Армия, вследствие бездарности командования, несла громадные и неоправданные потери в личном составе. Люди шли в плен, потеряв какую-либо возможность к сопротивлению, стараясь избежать бессмысленной смерти. Существенное значение имела ненависть пострадавших от государственного террора миллионов советских людей к сталинскому строю и иррациональная ненависть сталинского режима к собственным подвластным. Два знаменитых сталинских приказа: № 270 (август
1941 г.) и № 227 (июль 1942 г.) объявляли миллионы советских военнопленных «предателями», а их семьи пособниками «изменников». Так, жена старшего лейтенанта Якова Джугашвили, имевшего несчастье не только оказаться в плену, но и стать объектом фашистской пропаганды, попала в тюрьму, как родственница «изменника родины». Отец же «изменника» — И. Сталин, остался на свободе.
Чечено-Ингушетия в первый год войны (июль 1941 — зима
1942 гг.). Значение нефтяной промышленности. Надо отметить, что патриотический порыв в первые же дни Великой Отечественной войны охватил все слои населения республики, включая казачество и чечено-ингушское население, особенно пострадавших от большевистских репрессий. Советская модернизация, включавшая в себя и тотальную идеологизацию общества, способствовала даже определенному фанатизму не только участников армейского фронта, но и трудового.
Требовалось перестроить все хозяйство республики на военный лад, тем более что продукция Грозненского нефтекомплекса должна была сыграть решающую роль в ведении военных действий в масштабах всей страны. По всей республике в июне-июле 1941 г. прошли производственные совещания, собрания и митинги с призывами мобилизации всех сил для организации разгрома врага. На место мобилизованных на фронт мужчин вставали женщины и подростки.
Нападение гитлеровской Германии на СССР. Чечено-Ингушетия в первый год войны
26 декабря 1941 г. был принят Указ Верховного Совета СССР об объявлении мобилизованными до конца войны работников оборонных предприятий, а также предприятий, связанных с выполнением оборонных заказов. Соответственно, нарушения трудовой дисциплины карались тюремным сроком, а самовольное оставление рабочего места хотя бы на день считалось дезертирством1.
Рабочие Грозненского нефтеперерабатывающего завода № 2 с помощью разработок Грозненского нефтяного научно-исследовательского института смогли наладить выпуск лучших марок авиационного бензина, при этом план 1941 г. был выполнен с опережением на 1,5 месяца, а выпуск продукции увеличен на 25%. Большинство нефтяников перевыполняли план на 200—300%.
Крупнейший на Северном Кавказе машиностроительный завод «Красный Молот» перешел на выпуск военной продукции уже в октябре 1941 г., за ним последовали другие заводы и предприятия. К концу года заводы республики выпускали уже 90 наименований военной продукции — главным образом, оружия (так, 18 предприятий наладили производство разнообразных модификаций минометов). На швейных фабриках и в мастерских стали шить одежду для Красной Армии, а на консервных заводах Чечено-Ингушетии увеличили выпуск овощных консервов и пищевых концентратов для фронта.
Всего до 100 заводов и фабрик Чечено-Ингушетии в течение 1941—1942 гг. выполняли военные заказы фронта — от ремонта сложной боевой техники (включая танки) до выпуска оружия и боеприпасов2.
По мере приближения линии фронта в городах Грозном, Малго- беке и других нефтеперерабатывающих районах Чечено-Ингушской АССР проводился демонтаж предприятий промышленности, буровых и добывающих установок. Так, до конца года было демонтировано 678 эксплуатационных скважин, большинство нефтеперерабатывающих и машиностроительных объектов.
Тем не менее, в результате невероятной интенсификации труда, республика добыла в 1941 г. 3 миллиона 363 тысячи тонн нефти, перекрыв на 14% годовой план3. Более того, темпы буровых работ в республике в военные месяцы возросли настолько, что из новых скважин до конца года было получено дополнительно 736 тысяч тонн нефти. Благодаря
1 Очерки истории Чечено-Ингушской АССР. — Т. 2. — Грозный, 1972. — С. 223—224; Грозненский рабочий. 1942. — 3 января. — № 2.
2 См.: Очерки истории Чечено-Ингушской АССР. Т. 2. С. 225—226; Сигаури И. М. Указ. соч. Т. 2. — С. 210; Каратаева М. А. Перестройка народного хозяйства Чечено-Ингушетии на военный лад в начальный период Великой Отечественной войны (июнь 1941 — август 1942 гг.) // Рабочий класс Чечено-Ингушетии — ведущая сила социалистического строительства. — Грозный, 1989. — С. 39; и др.
3 История индустриализации Северного Кавказа. Документы и материалы. — Грозный, 1973. - С. 575.
Глава XVII. Чечено-Ингушская АССР в Великой Отечественной войне Советского Союза
1941—1945 гг.
Северный Кавказ. Завод перешел на выпуск снарядов (29, вклейка)
росту нефтедобычи, суточная выработка авиационного бензина на нефтезаводах Грозного увеличилась до 3083 тонн.
В середине декабря 1941 г., в связи с поражением фашистов под Москвой и освобождением от немецкой оккупации Ростова-на-Дону, демонтаж предприятий нефтяной промышленности был прекращен.
В феврале 1942 г. более 250 работников нефтяной промышленности было награждено орденами и медалями. На 1 декабря 1941 г. более половины рабочих и инженерно-технических работников нефтяной промышленности республики стали ударниками и стахановцами.
Мощные мобилизационные возможности социалистической плановой экономики и самоотверженный, буквально на износ, труд работников основных отраслей промышленности республики позволил Грозному прочно занять второе место по нефтедобыче в СССР, после Баку, практически равное по нефтепереработке, и первое по производству авиационного бензина.
Так, общая добыча нефти в СССР в 1941 г. составила 31 миллион тонн, из них до 23 миллиона тонн было добыто на Апшеронском полуострове1, до 4 миллионов тонн в Чечено-Ингушетии, а остальная часть в различных мелких нефтеносных районах СССР. Нефтеперерабатывающие заводы Грозного использовали не только чеченскую, но и другую нефть, доставляемую в том числе и из Баку. Привозная нефть, как правило, перерабатывалась в бензин марки А-76, для нужд автомобильного транспорта. Производство же высококачественного авиационного бензина
1 Азеррос: Еженедельник. — июнь 2003. — № 6 (34). — С. 15.
— 774 —
Нападение гитлеровской Германии на СССР. Чечено-Ингушетия в первый год войны
для новейших марок истребителей и штурмовиков стало основным вкладом Чечено-Ингушетии в дело победы в Великой Отечественной войне. Практически вся истребительная авиация Советского Союза сражалась, заливая в баки грозненский бензин отличного качества. Газета ЦК ВКП(б) «Правда» писала в феврале 1942 г.: «Как и всегда впереди славные бакинцы и грозненцы. Старейшие нефтяные районы страны с честью и славой реализовали ответственный приказ Родины... так должны помогать Красной Армии все работающие в тылу».
Нефтяная промышленность Чечено-Ингушской АССР сыграла, наряду с Бакинским нефтяным районом Азербайджанской ССР, решающую роль в организации материального снабжения фронта не только на первом этапе Великой Отечественной войны, но и в течение всей войны.
Сельское хозяйство Чечено-Ингушетии в первый год войны. Начавшаяся война с немецко-фашистскими захватчиками больнее всего ударила по селу. Оно враз в июне-сентябре 1941 г. лишилось наиболее трудоспособных мужчин, потеряло большую часть лошадей, срочно мобилизованных на фронт; также на фронт были отправлены практически все автомобили и трактора выпусков последних лет. Одновременно были резко подняты цифры государственных хлебозаготовок — так, в 1941 г. колхозы республики сдали хлеба в два раза больше, чем в 1940 г. Кроме того, дополнительным сельскохозяйственным налогом было обложено все сельское и станичное население края.
В целях максимального контроля над производством и отчуждением сельскохозяйственной продукции для нужд армии в совхозах и МТС были образованы политотделы, а в колхозах введены должности парторгов Чечено-Ингушского обкома ВКП(6) К
Вследствие того, что уже в 1941 г. СССР потерял в результате немецкого наступления большую часть зернопроизводящих районов, в Чечено-Ингушетии, как и по всей стране, была поставлена задача резкого увеличения посевных площадей на 1942 г. Однако в сельских хозяйствах республики накануне посевной весны 1942 г. насчитывалось всего 568 тракторов из довоенных двух тысяч (в пересчете на 15-сильные). Оборудование ряда МПС было вывезено, либо использовалось для ремонта военной техники1 2. Тем не менее, за счет невероятной по своим масштабам эксплуатации человеческих ресурсов удалось провести военную посевную на всех обрабатываемых площадях. Сверх плана было засеяно 30 тысяч гектаров земли. Впервые в истории края в качестве тягловой силы стали использовать коров, с их применением было вспахано и засеяно до 4 тысяч гектаров пашни.
1 Каратаева М. А. Указ. соч. — С. 212.
2 Абазатов М. А. Чечено-Ингушская АССР в Великой Отечественной войне Советского Союза. — Грозный, 1973. — С. 77—78; Очерки истории Чечено-Ингушской АССР. Т. 2. — С. 259.
Глава XVII. Чечено-Ингушская АССР в Великой Отечественной войне Советского Союза
1941—1945 гг.
С целью улучшения питания рабочих и горожан г. Грозного, советские органы были вынуждены пойти на выделение индивидуальных огородов (весной 1942 г. таковых «индивидуалов» оказалось 20 тысяч). Кроме того, промышленные предприятия организовали в близлежащих к столице республики районах так называемые «подсобные предприятия» общим числом до 77, где выращивались главным образом картофель, овощи и бахчевые культуры.
Чеченский аул и казачья станица края отдали в промышленность, взамен мобилизованных рабочих, в 1941 — начале 1942 гг. до 6 тысяч человек — трудоспособных мужчин и женщин, которые вскоре освоили рабочие специальности. Много тысяч людей были задействованы в строительстве оборонительных сооружений как на территории республики, так и вне ее.
В количественном и качественном отношении сельское хозяйство Чечено-Ингушской АССР того периода характеризовалось наличием 437 колхозов, 13 совхозов и 21 машинно-тракторной станции. Посевные площади социалистических хозяйств составляли 400 тысяч гектаров, из которых 293 тысячи занимали, как правило, зерновые — кукуруза, пшеница, ячмень, овес и рожь. Урожайность в трудном 1941 г. составила по кукурузе 35 центнеров с гектара, а по пшенице — 17—20 центнеров1.
В целом, очень напряженные плановые задания 1941—1942 гг. сельскохозяйственными предприятиями края были выполнены с чрезвычайным напряжением сил, буквально на последнем издыхании. При этом, успехи были достигнуты за счет сильных колхозов и районов; ряд колхозов и целых районов в трудный первый год войны не сумели мобилизоваться и сорвали поставки в армию.
В развернутых с началом войны на территории Чечено-Ингушетии военных госпиталях проходили лечение тысячи раненых. Все они становились подопечными пионерских и комсомольских организаций, колхозов, фабрик и заводов края. Широко развивалось и «тимуровское» движение по оказанию помощи семьям военнослужащих, детям, чьи отцы погибли на фронте.
При всем своем жестоком тираническом характере советский строй в годы войны выявил лучшие свои стороны — способность к огромной концентрации людских и экономических ресурсов на отдельных направлениях, волю к строительству высокоорганизованных систем, к сплочению миллионов людей в едином фанатическом порыве.
1 Очерки истории Чечено-Ингушской АССР. Т. 2. — С. 258—259.
— 776 —
Летняя кампания 1942 г. и город Грозный. Чечено-Ингушетия в битве за Кавказ
§ 2. Летняя кампания 1942 г. и город Грозный. Чечено-Ингушетия в битве за Кавказ
Новое наступление фашистов. Волга или Кавказ. Тревога западных союзников СССР. Общий план летней кампании 1942 г., разработанный германским военным командованием, предусматривал нанесение главного удара на южном участке германо-советского фронта. Немецким войскам предстояло разгромить главные силы Красной Армии на южной части фронта и выйти на Волгу в ее среднем и нижнем течении. Одновременно специально созданная группа армий «А» должна была захватить Кавказ.
При всем великом значении Сталинградской битвы, ознаменовавшей перелом в ходе Великой Отечественной войны, следует отметить, что главной целью летнего немецкого наступления 1942 г. были все- таки нефтяные центры СССР на Кавказе, а не голые волжские степи. Согласно немецким директивам, вопросы, связанные с добычей и вывозом нефти, «при всех случаях» должны были стоять на первом месте. Были определены даже даты захвата нефтяных центров СССР — Грозный следовало занять к 24 августа, а Баку в первой половине сентября1.
Конечной целью плана «Эдельвейс» — похода на Кавказ, был выход германских войск к границам Турции и Ирана, в том числе и через Кавказские перевалы, что создавало предпосылки для вторжения в страны Ближнего и Среднего Востока. С другой стороны, Турция в этом случае объявила бы войну СССР и двинула в Закавказье 26 дивизий, стоявших на границе. Общая численность армейской группировки «А» на Северном Кавказе, включая немецкие горнострелковые части, составляла примерно 167 тысяч солдат и офицеров. В ее передовом эшелоне наступало ИЗО танков, 4540 орудий и минометов, до 1 тысячи самолетов2.
28 июля 1942 г. вышел знаменитый приказ № 227 народного комиссара обороны СССР И. В. Сталина. В преамбуле приказа «ни шагу назад» были такие слова: «Бои идут в районе Воронежа, на Дону, на юге у ворот Северного Кавказа. Немецкие оккупанты рвутся к Сталинграду, к Волге и хотят любой ценой захватить Кубань, Северный Кавказ с их нефтяными и хлебными богатствами». Несмотря на угрозы великого вождя, Красная Армия продолжала отступать, и летнее наступление 1942 г. немцев на Кавказе развивалось вполне успешно для них. Уже в конце августа фронт вплотную придвинулся к границам Чечено-Ингушетии.
1 Очерки истории ЧИАССР. Т. 2. — С. 238.
2 См.: Очерки истории ЧИАССР. Т. 2. — С. 238; Гакаев X. А. В годы суровых испытаний. — Грозный, 1988. — С. 49; Военная энциклопедия: В 8 т. Т. 1. — М. 1997. — С. 474.
— 777 —
Глава XVII. Чечено-Ингушская АССР в Великой Отечественной войне Советского Союза
1941—1945 гг.
План действий немецко-фашистских войск на Кавказе (29, схема 7)
Опасность падения Кавказа настолько устрашила премьер-министра Великобритании У. Черчилля, что он по договоренности с Ф. Рузвельтом предпринял неслыханный шаг. Упорно отказывавшийся от открытия «второго фронта» в Европе и вечно сетовавший на недостаток сил, он в разгар летних боев на юге европейской части СССР вдруг предложил И. Сталину ни много ни мало как предоставить оборону Кавказа английским войскам. Более того, был даже разработан план операции («Вельвет») и велась подготовка 10-й английской армии, стоявшей на Ближнем Востоке, к переброске на Кавказ. При этом Черчилль настаивал на подчинении советских частей на Кавказе единому (английскому) командованию. СССР ответил отказом не только на этот план, но отказался даже использовать английские военно-воздушные силы с Ближнего Востока для ударов по немцам на Кавказе1. Понятное дело, предложение Черчилля объяснялось страхом, что немцы через «ворота Азии» прорвутся к ирано-иракским границам, а затем к Египту и Индии.
По оценкам выдающегося английского военного теоретика XX в. Б. Лиддел Гарта, Гитлер в ходе летнего наступления 1942 г. планировал, выйдя к Дону от излучины до устья и форсировав его, часть войск повернуть на юг, в направлении кавказских нефтепромыслов, а другую часть направить к Волге, на Сталинград. Причем захват последнего, по настоянию начальника штаба командования вермахта генерала Гальдера,
1 См.: Churchill. The Second World War. Vol. IV. — P. 507, 515, 516; Гречко А. А. Указ, соч. — C. 228—229.
Летняя кампания 1942 г. и город Грозный. Чечено-Ингушетия в битве за Кавказ
Южное направление. В ожидании немецкой атаки (29, 33)
было решено считать всего лишь средством «обеспечения стратегического прикрытия с фланга войск, наступающих на Кавказ...» К
Группа армий «А» под руководством генерал-фельдмаршала фон Листа должна была нанести удары по трем направлениям: первое — по побережью Черного моря в направлении Новороссийск, Сухуми, Батуми; второе — через перевалы Северо-Западного Кавказа, на Кутаиси и Сухуми; третье, основное направление — на Грозный, Махачкалу, Баку, с боковым движением на Орджоникидзе, Тбилиси. Командовал немецкими войсками на Грозненском направлении генерал-полковник фон К лейст, ударная группа которого имела 5—6 пехотных дивизий и одну танковую армию. Немецким войскам на Кавказском направлении противостояла так называемая Северная группа войск Закавказского фронта, насчитывавшая 4 общевойсковые армии1 2.
Строительство оборонительных сооружений. Почти сразу же после начала нового крупного немецкого наступления возобновилось строительство оборонительных сооружений по всему Северному Кавказу, в том числе и в Чечено-Ингушской АССР. Первая оборонительная линия от Каспийского моря до города Минеральные Воды была создана еще осенью 1941 года. В 1942 году строительство линий обороны велось с гораздо большим размахом: части 8-й саперной армии спешно возводили
1 Лиддел Гарт Б. Вторая мировая война. Очерк. — М., 1976. — С. 239.
2 Гречко А. А. Указ. соч. — С. 241, 245.
Глава XVII. Чечено-Ингушская АССР в Великой Отечественной войне Советского Союза
1941—1945 гг.
Второй год войны- Оборонительные работы на южном направлении (29, 33)
оборонительные сооружения на огромном пространстве от Дагестана до устья реки Урух, в центральной части Северного Кавказа. Особое внимание уделялось защите Грозного, вокруг которого возникла полоса укреплений от селения Курчалой, на востоке, и до селения Шалажи, на западе. На севере грозненские оборонительные сооружения начинались на правом берегу Терека, у селений Кень-Юрт и Новый-Юрт (Виноградное). Кроме армейских саперных частей (численностью 63 тысяч человек), для участия в этих работах, по решению Государственного Комитета обороны от 16 сентября 1942 г., было мобилизовано на Северном Кавказе до 90 тысяч человек, включая гражданских инженеров и техников, а также сотни автомашин, тракторов и тысячи конных подвод. Тогда же была проведена частичная эвакуация промышленных предприятий и населения.
К концу августа вокруг столицы Чечено-Ингушетии, объявленной на военном положении, было восстановлено 54 старых оборонительных сооружения и возведено 981 новое. С августа по декабрь 1942 г. на строительство оборонительного обвода вокруг Грозного было израсходовано: более 130 тысяч кубометров лесоматериалов, 19 тысяч тонн цемента,
14,5 тысяч тонн железа, 830 тонн колючей проволоки, затрачено более 9 миллионов человеко-дней1.
1 См.: Филькин В. И. Чечено-Ингушская партийная организация в годы Великой Отечественной войны Советского Союза. — Грозный, 1960. — С. 59; Абазатов М. А. Указ. соч. — С. 126; Симарзин В. С. Героический Грозный. — Грозный, 1968. — С. 21; Гречко А. А. Указ. соч. — С. 234—236; Курылев И. В. Боевой путь милиции Чечено- Ингушетии. — Грозный, 1976. — С. 133.
780 —
Летняя кампания 1942 г. и город Грозный. Чечено-Ингушетия в битве за Кавказ
В целом вокруг Грозного, получившего статус особого оборонительного района, была создана сложная система фортификационных сооружений, насчитывавшая на отдельных направлениях до шести оборонительных рубежей. Общая протяженность одних только противотанковых рвов составила 28 километров. Помимо этого, на танкоопасных направлениях были сооружены валы из пропитанной нефтью соломы, протяженностью 9 километров. Еще около 1 миллиона квадратных метров территории были залиты горючей смесью. Противотанковые рвы заполнялись водой, поверх которой разливалась нефть. Для того чтобы удержать нефть на поверхности воды, поперек рвов через каждые 5—6 метров возводились дощатые перегородки. Всего на заполнение рвов ушло 72 тысячи тонн нефти, причем 10% от этого количества составляла так называемая «зажигательная» смесь, состоящая из бензина, мазута и керосина.
Сами противотанковые рвы и подступы к ним прикрывались дотами, дзотами, артиллерийскими и пулеметными огневыми точками, прикрытыми железобетонными колпаками. Все фортификационные сооружения были окружены сложной системой специальных ловушек и взрывных ям, а также минными полями. На северном и западном направлениях на 2—3 км вперед от первой линии обороны были вынесены 5 укрепленных участков, выполнявших роль боевого охранения.
Городские кварталы также были подготовлены к уличным боям. В Грозном при строительстве оборонительных сооружений было извлечено 859 тысяч кубометров грунта, отрыто 70 километров ходов сообщения и 4 погонных километров эскарпов, возведено 5 километров баррикад, 3 километров завалов, 16 километров проволочных заграждений, вырыто 1200 окопов, установлено на улицах 800 противотанковых «ежей» и 399 железобетонных колпаков, построено 83 дота и 138 дзотов, пробито в зданиях 2600 амбразур1.
Проведение столь масштабного строительства потребовало применения поистине чрезвычайных мер. В 1942 г. распоряжением Грозненского комитета обороны на строительство оборонительных сооружений было мобилизовано все население Грозного и прилегающих сельских районов в возрасте от 16 до 60 лет, включая домохозяек. Самовольный уход с работы или невыход на работу в течение одного дня, без уважительной причины, приравнивался к дезертирству и карался военными трибуналами соответственно: от 10 лет исправительно-трудовых лагерей до расстрела.
Грозненская (Моздок-Малгобекская) оборонительная операция.
В последние дни августа 1942 г. альпийские немецкие части вышли на южные склоны Эльбруса и водрузили фашистские флаги на высочайшей
1 См.: Очерки истории ЧИ АССР. Т. 2. — С. 238—239; Симарзин В. С. Героический Гроз¬
ный. — Грозный, 1967. — С. 23; Моя Чечено-Ингушетия. — Грозный, 1970. — С. 94.
Глава XVII. Чечено-Ингушская АССР в Великой Отечественной войне Советского Союза
1941—1945 гг.
Выход немецко-фашистских войск на рубеж реки Терек и бои в районе Моздока 10—18 сентября 1942 г. (29, схема 9)
вершине Европы (5680 м). В нацистской мифологии Эльбрус считался священной горой арийской расы, и гитлеровская пропаганда подняла вокруг этого альпинистского достижения большой шум, считая, что для Советской Армии с покорением Эльбруса наступил роковой этап.
Бои на Грозненском направлении начались 31 августа — 1 сентября 1942 г. с захвата плацдарма силами батальона пехоты на правом (чеченском) берегу Терека в районе Мундар-Юрта, но к вечеру наши части отбросили их на левый берег. Но это, как выяснилось, оказалось отвлекающим ударом. Тем временем германские войска утром 2 сентября форсировали реку у Моздока и одновременно продвинулись на восток по левому берегу Терека до станицы Николаевской. Левобережье Терека вплоть до Каспия входило тогда в состав Орджоникидзевского (Ставропольского) края. Всего под командованием генерала фон Клейста в тот момент находилось 8 дивизий, включая 3 танковые. Две танковые и две пехотные дивизии, форсировавшие Терек, начали наступление в сторону города Малгобека.
К 6 сентября противник был остановлен на рубеже Ногай-Мирза- Юрт и Терское. Германская верховная ставка 9 сентября 1942 г., за день до снятия с должности командующего группой армии «А» фон Листа, была вынуждена сделать сообщение о заминке на Тереке, в следующих выражениях: «У Терека советские войска пытаются остановить продвижение немецкой армии в направлении Грозного. Река Терек в районе боевых действий имеет 500 метров ширины и 2 метра глубины. Быстрота течения этой реки и заболоченные берега делают ее весьма серьезным препятствием, для преодоления которого требуется некоторый промежуток времени».
— 782 —
Летняя кампания 1942 г. и город Грозный. Чечено-Ингушетия в битве за Кавказ
Северный Кавказ. Артиллерийская батарея форсирует горную речку. Фото (29, вклейка)
14 сентября 10-й гвардейский стрелковый корпус РККА с рубежа станицы Мекенской нанес удар в направлении Ищерской и Моздока. На второй день части 11-го стрелкового корпуса начали действия на правом берегу Терека юго-западнее Ногай-Мирза-Юрта в направлении Нижнего Курпа. Противник был вынужден, хотя и на короткое время, остановить наступление. Но затем он вновь пошел вперед по направлению к Малогбеку.
В начале сентября 1942 г. ЦК ВКП(б) и Советское правительство обратилось через газету «Правда» к народам Кавказа с таким призывом: «Сейчас внимание нашего народа, народов всего мира обращено к Северному Кавказу...
Гитлеровские разбойники ворвались на просторы Северного Кавказа. Они рвутся в горы. Враг не знает, что Кавказ всегда был страной смелых и сильных народов, что здесь в борьбе за независимость народы рождали бесстрашных бойцов, джигитов, что трусость слыла всегда здесь самым позорным преступлением.
Здесь, у подножия гор, воспитывались поколения советских людей с львиным сердцем, орлиными очами. Никогда не станут рабами гордые народы Северного Кавказа». Таким образом сталинская партия, оставив идеологические лозунги, взывала к традиционной воинской доблести горских народов1.
Захватив Малгобек и «оседлав» здесь западные оконечности Терского и Сунженского хребтов, германские войска получали возможность
1 Правда. — 2 сентября 1942 г.
Глава XVII. Чечено-Ингушская АССР в Великой Отечественной войне Советского Союза
1941—1945 гг.
Северный Кавказ. Советские командиры готовятся к бою (29, вклейка)
продвинуться к Грозному (расстояние от Малгобека примерно до 100 км) по Алханчуртской долине, а также прорваться в притеречные районы Чечни. Однако советские войска с помощью мобилизованных 2000 колхозников из Пседахского и Ачалукского районов республики в течение девяти сентябрьских дней, под огнем противника и проливным дождем, соорудили южнее Малгобека новую мощную оборонительную линию. Так, был вырыт противотанковый ров, длиной несколько километров, от Терского хребта до Сунженского К
Положение на фронте в эти дни было настолько тяжелым для советских войск, что в Чечено-Ингушетии была начата подготовка антифашистского подполья на случай оккупации республики. Для подпольной работы были отобраны 271 коммунист и 143 комсомольца, созданы подпольный обком во главе со вторым секретарем X. У. Исаевым и 16 подпольных райкомов ВКП(б), а также широкая сеть тайных складов оружия, боеприпасов и диверсионного снаряжения. Более одной тысячи специально подготовленных человек (в основном чеченцы и ингуши) 11 Очерки истории ЧИАССР. Т. 2. — С. 239; Гречко А. А. Указ. соч. — С. 246—247,250; Ибрагимбейли Хаджи-Мурат. Указ. соч. — С. 107; Важно отметить, что по инициативе республиканских властей в 1941—1942 гг. были созданы батальоны народного ополчения численностью в 17 тысяч человек. Так, Грозненский полк народного ополчения насчитывал 1431 человек. В массе своей ополченцы прошли обучение и им было выдано оружие; Гакаев X. А. Указ. соч. — С. 44—45.
— 784 —
Летняя кампания 1942 г. и город Грозный. Чечено-Ингушетия в битве за Кавказ
были сведены в 28 партизанских отрядов, из которых 4 заблаговременно выведены в лес1.
Но неожиданно для немцев, бои за Малгобек приняли затяжной характер и продолжались в течение месяца. Для прорыва советской обороны в отдельные дни немецкое командование одновременно бросало в бой до 150 танков, которые с воздуха поддерживало до 300 самолетов. Только после того как на этот участок фронта 24 сентября 1942 г. была переброшена дивизия СС «Викинг», немцам удалось выбить советские войска из Малгобека. Оккупация этого небольшого промышленного городка, население которого полностью эвакуировалось, продолжалась с 5 октября 1942 года по 3 января 1943 года1 2.
В боях от Моздока до Малгобека фашисты потеряли 18 тысяч солдат и офицеров, а также сотни танков. После полного захвата Малгобека 5 октября 1942 г. для фон Клейста стало очевидным, что дальнейшее продвижение к Грозному по Алхан-Чуртской долине с востока будет сопряжено с большими потерями. Только в ходе одной попытки прорыва к Грозному гитлеровцы бросили на советскую оборонительную линию в Алхан-Чуртской долине 120 танков, полк пехоты и десантников. Благодаря глубокоэшелонированной обороне, умело организованным артиллерийским засадам и использованию реактивных минометов, было подбито 53 танка, 10 орудий и уничтожено 800 фашистов. По существу, под Малгобеком и восточнее него в Алхан-Чуртской долине (между Сунженским и Терским хребтами) и развернулась битва за Грозный. Оборону здесь держали части 9-й армии, Армянская и Грузинская дивизии, морские пехотинцы капитан-лейтенанта Б. Цаллагова. В самой республике прошел призыв добровольцев на фронт под Малгобек. 2000 молодых людей, главным образом чеченцев и ингушей (большей частью недостигших даже призывного возраста), пришли в военкоматы, но вместо Малгобека попали, по инициативе Л. П. Берия, на другой участок фронта, вне Чечено-Ингушетии3.
Убедившись в невозможности продолжения наступления на Грозный, фон Клейст изменил направление главного удара. Наступление, развернувшееся в последнюю неделю октября 1942 г., имело теперь целью захват столицы Северной Осетии — города Орджоникидзе (Владикавказ). Таким образом, германское командование рассчитывало обойти
1 Симарзин В. С. Героический Грозный. — Грозный. 1967. — С. 25; Гречко А. А. Указ, соч. — С. 375.
2 Филькин В. И. Чечено-Ингушская партийная организация в годы Великой Отечественной войны Советского Союза. — Грозный, 1960. — С. 96; Боков Ахмед. Малго- бекская оборонительная операция 1942 г. // Интернет: Ингушетия.ги / Авт. материалы. — С. 1—5.
3 См.: Очерки истории ЧИАССР. Т. 2. — С. 239—240; Гречко А. А. Указ. соч. — С. 323—324; Боков Ахмед. Малгобекская оборонительная операция 1942 г. // Инг тернет: Ингушетия.ги / Авт. материалы. — С. 1—5.
— 785 —
Глава XVII. Чечено-Ингушская АССР в Великой Отечественной войне Советского Союза
1941—1945 гг.
Сражение под Орджоникидзе. Колхозник Осман Ахриев указывает армейским разведчиком путь в тыл врага (29, 15)
с фланга оборонявшиеся на малгобекском направлении советские войска и выйти к Грозному по параллельной Сунженскому хребту долине реки Сунжа. Немцы взяли во время октябрьского наступления с ходу город Алагир в Северной Осетии, а вторая колонна 2 ноября 1942 г. заняла селение Гизель и вышла на подступы к столице Северной Осетии. В городе Орджоникидзе было объявлено осадное положение.
Одновременно в эти октябрьские дни 1942 г. две танковые немецкие дивизии и горнострелковая румынская дивизия нанесли неожиданный удар в сторону столицы Кабардино-Балкарии города Нальчика. 37-я советская армия в самый критический момент, практически без боя, сдала Нальчик и с 26 октября начала беспорядочное отступление на юг, в горы Кабардино-Балкарии и дальше в Грузию1. Свое поражение и трусливое бегство командование 37-й армии и приданной ей 11-й дивизии НКВД попыталось объяснить якобы «ударом в спину»,
1 Гречко А. А. Указ. соч. — С. 323—325.
Летняя кампания 1942 г. и город Грозный. Чечено-Ингушетия в битве за Кавказ
«Будь героем!» — плакат 1941—1942 гг. на чеченском языке (42, 24)
нанесенным им немецким десантом и местными повстанцами. В этих целях началась имитация боев и истребление мирного балкарского населения в Черекском ущелье. Зверски были убиты более 700 женщин, детей и стариков. Затем, когда немцы действительно приблизились к ущелью, каратели начали уничтожать трупы, подвергая их сожжению. Данные события стали своеобразным прологом к массовому выселению балкарского народа в марте 1944 г.1
Наступление немцев на Орджоникидзе развивалось для фашистов крайне неудачно. Ожесточенные бои на этом направлении продолжались около месяца, а 6—15 ноября в районе осетинского селения Гизель советские войска начали контрнаступление и нанесли немцам тяжелое поражение, заставив их перейти к обороне. Но оккупированная территория Северной Осетии была освобождена от немецкого присутствия только в первых числах января 1943 г.2
Орган ЦК ВКП(б) — газета «Правда» писала в это время: «На берегах Терека, Баксана, в аулах Кабардино-Балкарии, в станицах Сунжи, в горах Чечни и Осетии поднялись народы. Рядом с русскими встали черкесы, чеченцы, ингуши, осетины. На помощь им пришли грузины,
1 Балкария. — март 2003 г. — № 1.
2 См.: Лиддел Гарт Б. Указ. соч. — С. 245; Осетия в Великой Отечественной войне // Интернет: Осетия в Великой Отечественной войне. — С. 1.
— 787 —
Глава XVII. Чечено-Ингушская АССР в Великой Отечественной войне Советского Союза
1941—1945 гг.
азербайджанцы, армяне...» В конце 1942 г. противник был остановлен на всем Кавказском фронте, а 20 ноября на Волге началось Сталинградское сражение.
Германское командование рассматривало теперь Терек как естественный и наиболее благоприятный оборонительный рубеж для подготовки нового наступления, намеченного на весну 1943 г. Немцам, однако, не удалось закрепиться на этом рубеже — 24 декабря 1942 г. советские войска на Северном Кавказе перешли в мощное наступление, обеспечивая тем самым поддержку войскам, сражавшимся под Сталинградом. 3 января 1943 г. германские войска оставили город Малгобек, потеряв в общей сложности здесь 11 тысяч человек убитыми, 170 танков, 42 орудия, 18 самолетов и много другой военной техники. В качестве трофеев советским войскам достались 150 танков и 109 орудий1.
Советским командованием была спланирована наступательная Северо-Кавказская операция 1943 г. силами Закавказского и Южного (Сталинградского) фронтов, с расчетом не только расчленить и разгромить силы группы армий «А», но и, перейдя в стремительное наступление, прижать врага к Главному Кавказскому хребту и окружить его.
Однако немцы стали отводить войска неожиданно рано, еще до капитуляции Паулюса в Сталинграде (31 января 1943 г.), видя стремительное наступление советских войск к Дону, что грозило окружением фашистких войск на Кавказе. С 1 января 1943 г. и до 24 января немцы оставили Малгобек, Моздок, Нальчик, Пятигорск, Минеральные Воды, Ставрополь, Армавир. Красный флаг был вновь водружен над Эльбрусом. С 31 января по 2 февраля 1943 г. прошла сдача немецких частей,
Красный флаг на Эльбрусе (29, вклейка)
1 Гакаев X. А. В годы суровых испытаний. — Грозный, 1988. — С. 73; Очерки истории ЧИАССР. Т. 2. — С. 241—242.
— 788 -
Летняя кампания 1942 г. и город Грозный. Чечено-Ингушетия в битве за Кавказ
окруженных в Сталинграде. Из соединений Южного (Сталинградского) фронта и Северной группы Закавказского фронта в конце января 1943 г. был образован новый Северо-Кавказский фронт, части которого освободили 12 февраля Краснодар1.
Битва за Кавказ завершилась весной-летом 1943 г., после того как последние германские части были эвакуированы с Кубани в Крым. В течение 5 месяцев боев на Северном Кавказе группа армий «А» потеряла убитыми 100 тысяч солдат и офицеров2. В боях на Северном Кавказе активное участие принимали части, сформированные в свое время в Чечено-Ингушетии, в частности, 242-я и 317-я стрелковые дивизии. Последняя получила почетное наименование Таманская, (а впоследствии Будапештская и Ужгородская, дважды Краснознаменная ордена Суворова дивизия).
На Кавказе отличился также и отдельный Чечено-Ингушский кавалерийский дивизион, совершивший 30 ноября 1942 г. стремительный рейд по тылам противника в районе Моздока.
Медаль «За оборону Кавказа» (29, разворот)
Бойцы-альпинисты. 1942 г. (29, вклейка)
1 Военная энциклопедия: В 8 т. — Т. I. — М., 1997. — С. 476.
2 Гречко А. А. Указ. соч. — С. 345.
Глава XVII. Чечено-Ингушская АССР в Великой Отечественной войне Советского Союза
1941—1945 гг.
Героизм чечено-ингушских воинов в боях. В силу ряда объективных и субъективных причин, в Чечено-Ингушетии среди коренного населения было быстро достигнуто понимание единства тыла и фронта, осознание, что каждый боец защищает не только СССР, но и свою малую родину, свою семью от чужеземного захватчика. Плен для чеченца и ингуша означал, что ему навсегда будет закрыта дорога домой, в родной аул, в семью, к близким. Поэтому вайнахи дрались на фронте не только против общего врага, но и за право честно и с честью вернуться к своим близким. Все это закономерно воодушевляло граждан Чечено-Ингушетии, мобилизованных в действующую армию на самоотверженный ратный подвиг.
С первых же дней войны до 9 тысяч чеченцев и ингушей вместе с миллионами советских военнослужащих вступили в схватку с врагом. В течение двух лет войны еще не менее 30—40 тысяч чеченцев и ингушей влились в ряды РККА. Из двухтысячного гарнизона Брестской крепости 420 бойцов оказались призванными из сельских районов Чечено-Ингушетии. Около 270 из них были горцами. Один из них — младший командир Айнди Лалаев утром 22 июня, находясь в секрете в самой крайней точке западной границы СССР, первым принял бой с фашистами.
Больше месяца держалась Брестская крепость, задержав под своими стенами целую дивизию вермахта. Пали смертью храбрых сотни уроженцев Чечено-Ингушетии (большинство из которых были чеченцы и ингуши) — У. Акиев, А. Эльмурзаев, Н. Солдатов, А. Саадаев, X. Цечоев, М. Кантаев и др.1 Необъяснимым остается
Уличные бои в Сталинграде (65, 192)
1 См.: Ошаев X. Брест — орешек огненный. — Грозный, 1989; Гакаев X. А. В годы суровых испытаний. — Грозный, 1988. — С. 88; Возвращение к истокам: Ингушетия в лицах и фактах / Сост. С. А. Хамчиев. — Саратов, 2000. — С. 460.
— 790 —
Летняя кампания 1942 г. и город Грозный. Чечено-Ингушетия в битве за Кавказ
Защитники Брестской крепости — уроженцы Чечено-Ингушетии Слева направо, сверху: О. И. Сатуев; П. Г. Жуликов; А. Хуцуруев (послевоенная фотография); М. Эсбулатов; А. Шабуев (послевоенная фотография);
Н. И. Тихомиров; А. Эдельсултанов; А. Э. Эдильсултанов. Фото (48, 132—133)
тот факт, что не только ни одно из сотен имен вайнахов, но даже русских уроженцев Чечено-Ингушетии, участвовавших в защите крепости, не вошло в список героев ни одного издания книги писателя Н. Смирнова «Брестская крепость», признанной классикой советской литературы.
— 791
Глава XVII. Чечено-Ингушская АССР в Великой Отечественной войне Советского Союза
1941—1945 гг.
М. Висаитов. 1945 г. Фото. (59, 5)
22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная война, а уже в июле месяце капитан РККА Мовлид Висаитов — командир кавалерийского эскадрона, показавшего чудеса храбрости и стойкости, был награжден орденом Боевого Красного Знамени. Для тех дней, когда советских офицеров и генералов не награждали, а расстреливали, это было уникальным событием.
В 1942 г. майор М. Висаитов был назначен командиром отдельного 225-го Чечено-Ингушского кавалерийского полка, бойцы которого дрались в составе Кубанского казачьего кавалерийского корпуса в степных районах Северного Кавказа с кавалерийскими частями вермахта, состоявшими в том числе и из терских, донских и кубанских казаков. Особо отличился Чечено-Ингушский полк в боях на подступах к Сталинграду возле населенного пункта Чилеково и озера Цаца. В результате тяжелых непрерывных боев полк понес огромные потери; осенью 1942 г. он был расформирован, и на его базе были созданы два разведывательных кавалерийских дивизиона.
М. Висаитов продолжил службу в качестве командира 28-го гвардейского кавалерийского полка 6-й гвардейской кавалерийской дивизии. Полк, получивший в награду за массовый героизм орден Красного Знамени и почетное звание Дубненский, прошел с боями всю войну и 3 мая 1945 г. первым на всем советском фронте вышел с тяжелыми боями к Эльбе, где встретился с американскими союзниками. Американский президент Г. Трумэн наградил его высшим орденом США «Легион Чести» за «героические подвиги... качества умелого военачальника и мужество». Трижды за годы войны представляли подполковника М. Висаитова
— 792 —
Летняя кампания 1942 г. и город Грозный. Чечено-Ингушетия в битве за Кавказ
к званию Героя Советского Союза, но каждый раз следовал отказ или орден. Дрогнула рука и у маршала К. Рокоссовского в мае 1945 г., когда ему оставалось поставить последнюю подпись перед отправкой документов на присвоение М. Висаитову звания Героя Советского Союза. Золотая Звезда М. Висаитову была дана посмертно в 1990 г.1
В тяжелых боях на подступах к Сталинграду прославил и себя, и свою малую родину старший сержант пулеметчик Ханпаша Нура- дилов. Каждый бой с его участием заканчивался гибелью сотен фашистов. В 1941—1942 гг. он был награжден орденами Красной Звезды и Красного Знамени. 12 сентября 1942 г. X. Нурадилов в тяжелом бою героически погиб, доведя счет убитых врагов до 920 фашистов. Фронтовая газета «Красная Армия» именовала его не иначе как «сын солнца, орел орлов, доблестный рыцарь нашей Отчизны». Были выпущены массовым тиражом листовки и плакаты о X. Нурадилове, о нем писали поэты, его именем вдохновляли бойцов на подвиг2. Вместе с тем, командование, представившее его посмертно к званию Героя Советского Союза, попало в сложную ситуацию. Оказалось, что к началу 1942 г. действовал секретный приказ не только о прекращении призыва чеченцев и ингушей в действующую армию, но и о ненаграждении отличившихся красноармейцев и офицеров из их числа. Только через полгода после гибели героя, записанный в третьем по счету представлении командования «татарином», X. Нурадилов получил посмертно Золотую Звезду.
Весь Западный фронт узнал в 1942—1943 гг. нашего славного земляка Абухаджи Идрисова. 309 фашистов уничтожил из своей винтовки А. Идрисов к весне 1943 г. В следующем 1944 г. он был удостоен звания Героя Советского Союза, но без указания национальности. Героями СССР стали в 1944 г. смелейшие из смелых — Хаваджи Магомед Мирзо- ев, Ирбайхан Бейбулатов и Хансултан Дачиев (именуемые в наградных листах татарами, кумыками и осетинами).
Всего за годы Великой Отечественной войны 147 уроженцев Чечено-Ингушетии были представлены к званию Героя Советского Союза, причем 56 представлений было оформлено за подписью командующих фронтами, которые практически не отклонялись в Москве, за одним исключением — если это не касалось награждения лиц чеченской и ингушской национальности.
Всего же звания Героя были удостоены к 1945 г. 36 воинов из Чечено-Ингушетии из 147 представленных, но только шесть из них были чеченцами (включая М. Висаитова, в отношении которого справедливость была восстановлена в 1990 г.). Между тем, из 110 уроженцев Северной
1 См.: Духаев А. Май в жизни героя // Теркйист. — 2002. — 6 мая — С. 1; Ибрагимов Рамзан. С Терека на Эльбу. — Рук. — С. 1—3.
2 Кусаев Адиз. Человек из легенды // Вести Республики. — 2003. — 28 июня. — С. 4—5.
— 793 —
Глава XVII. Чечено-Ингушская АССР в Великой Отечественной войне Советского Союза
1941—1945 гг.
Герой Советского союза Ханпаша Нурадилов. Фото (28, 11)
Герой Советского союза Ирбайхан Бейбулатов. Фото (28, 11)
Герой Советского Союза снайпер Абухажи Идрисов. Фото (70, 116)
Хансултан Чапаевич Дачиев. Фото (59, 4)
Хаваджи Магомед- Мирзоев. Фото (59, 4)
Магомед Яхьяевич Узуев. Фото (70, 220)
Волгоград. Мемориальная плита на Мамаевом кургане у ног фигуры Матери-Родины. Надпись: «Герою Советского Союза гвардии сержанту Нурадилову Ханпаше Нурадиловичу». Фото (70, 409)
— 794 —
Летняя кампания 1942 г. и город Грозный. Чечено-Ингушетия в битве за Кавказ
и Южной Осетии, представленных к званию Героя Советского Союза, получили Золотые Звезды 75 воинов1.
И только в 1995—1996 гг. историческая несправедливость была устранена частично по нескольким, наиболее прославленным бойцам Великой Отечественной войны — звание Героя России было присвоено посмертно чеченцам Канти Абдурахманову, Мовлади Умарову, Хакиму Исмаилову, Магомеду Узуеву, ингушам Мурату Оздоеву, Ширвани Костоеву, Ахмеду Мальсагову2.
Воины из Чечено-Ингушетии прославились своими боевыми подвигами не только на всех театрах Великой Отечественной войны, но и в воздухе, на суше и на море. Многие сыновья и дочери Чечено-Ингушетии были удостоены за боевые подвиги высоких правительственных наград — это летчики Николай Заболотный, Махмуд Осмаев, Мурад Яндиев, Анатолий Ситников, Даша Акаев (представлялся в феврале 1944 г. посмертно к званию Героя Советского Союза); танкисты Иван Мазнюк, Маташ Ма- заев, Алаудин Назиев, Руслан Гудантов (представлялся к званию Героя Советского Союза); снайперы Махмуд Амаев (личный счет 177 убитых фашистов), Аюб Манкиев (личный счет свыше 100 фашистов), Ахмат Магомадов (личный счет 87 фашистов); моряк Павел Кузьмин; партизаны Алавди Устарханов (воевал во французском Сопротивлении), Магомед Юсупов (сражался в Италии), Абдулла Цароев (соратник знаменитого разведчика Н. Кузнецова), У. Газиков, Борис Галушкин, X. Ахматханов,
С. Мидаев; артиллеристы и пехотинцы Жалаудин Гайрбеков, Ахмад Бачаев, Герман Расуев, Магомед Гайсуркаев и др.
С боевыми наградами вернулась с фронта после тяжелого ранения санитарка Совдат Тепсаева, добровольцем ушедшая на фронт после гибели мужа-красноармейца; наводчицей зенитной батареи всю войну прошла Говка Бакаева; артиллеристками-зенитчицами стали Ляля Ужахова и Ася Смолянская, добровольно ушедшие на фронт после окончания 10-го класса. Майор медицинской службы ингушка Асият Тутаева спасла жизнь сотням солдат и офицеров и была названа «кавказской спасительницей». 29 октября 1944 г. на Украине группа медиков из фронтового госпиталя, в том числе Асият Тутаева, была пленена и расстреляна немцами.
1 Гакаев X. Чеченцы в боях против немецко-фашистских захватчиков // Чеченцы: история и современность. — М., 1996. — С. 241; Березов Т. Т. Вклад осетинского народа в победу над фашизмом // Пятидесятилетие Великой Победы над фашизмом. История и современность. Материалы международной науч. конференции. 27—30 сентября 1995 года. — Смоленск, 1995. — С. 128.
2 См.: Очерки истории ЧИАССР. Т. 2. — С. 249; Сигаури И. М. Указ. соч. — С. 208; Гакаев 3. Они защищали Родину, но их не жаловала власть // Халкъан дош. — 2002 — 13 мая. — С. 4; Ибрагимов Муса, Ибрагимов Мовсур. Чечня: через круги ада. Москва — Саратов. — 2003. — С. 31—32; Возвращение к истокам: Ингушетия в лицах и фактах. — С. 427—436.
Глава XVII. Чечено-Ингушская АССР в Великой Отечественной войне Советского Союза
1941—1945 гг.
Воины из Чечено-Ингушетии сражались на всех фронтах Великой Отечественной войны. Так, на далеком севере, в заполярных районах Мурманской области и Карелии честно исполнили свой солдатский долг Албаков, Гайдарбиев, Дауров, Окунчаев, Лалаев.
При обороне Ленинграда сражались учитель из Старых Атагов
A. Шаипов, грозненец Н. Ханбеков, сельский руководитель М. Оччаев и др.
На юге, в несчастной для советских войск Крымской операции лета 1942 г. погиб в бою политрук пулеметной роты, старший лейтенант
B. Юсупов.
Под зимней Москвой в 1941 г. в героических сражениях участвовали Л. Бисултанов, Д. Межидов, А. Цороев1.
Капитан Я. Е. Езиев во время Сталинградской битвы в декабре 1942 г. погиб, обеспечивая важнейшую понтонную переправу наших войск через Волгу. Здесь, на полях у Волги и Дона покоятся останки 3. Межидова, Л.-А. Талаева и многих др.
Всю Отечественную войну от первого дня до последнего прошли офицеры — братья Ихван и Гайрбек Заурбековы.
Воины из Чечено-Ингушетии в массе своей честно и мужественно выполнили свой сыновний долг перед Родиной, служа порой образцом для воодушевления целых частей и соединений.
Командование фронтов и армий присылало в Грозный восхищенные отзывы о высоких боевых качествах красноармейцев из чеченцев и ингушей и просило Чечено-Ингушский обком ВКП(6) и Совет Министров ЧИАССР о присылке на фронт новых контингентов чеченских и ингушских добровольцев2.
«Все для фронта, все для победы». Жестокая агрессия гитлеровской Германии, забравшая сыновей почти из каждой семьи и фамилии чечено-ингушского общества и из среды русских сограждан и казаков, изначально обостренно воспринималась в Чечено-Ингушетии через призму личного горя и бедствия. Трудящиеся края сублимировали патриотический порыв не только в ударном труде, но и жертвуя в копилку обороны личные сбережения и дополнительный заработок.
Так, работники промышленной сферы и государственные служащие республики стали вносить в фонд обороны страны, созданный в августе 1941 г., свой однодневный заработок из ежемесячной зарплаты. Служащие Шатойского района внесли трехдневный заработок
1 Очерки истории ЧИАССР. Т. 2. — С. 248—250; Гакаев 3. Указ. соч. — С. 4; Здесь же использованы и рукописные материалы историка Эди Исаева.
2 См.; Филъкин В. И. Патриотизм трудящихся Чечено-Ингушской АССР в период Великой Отечественной войны. — Грозный. 1989. — С. 13; Музаев М. Н. Злопыханье на чеченский и ингушский народы и историческую правду // Голос Чеченской Республики. — № 5. — Июнь 2003. — С. 3.
— 796 —
Летняя кампания 1942 г. и город Грозный. Чечено-Ингушетия в битве за Кавказ
и обязались ежемесячно отчислять в фонд обороны до 10% заработной платы1.
Население несло в казну личные сбережения, облигации госзаймов и драгоценности. Так, на 15 января 1942 г. гражданами Чечено-Ингушетии было внесено в контору Госбанка 5 миллионов 135 тысяч рублей денег, облигаций государственных займов на 6 миллионов 263 тысячи рублей, 430 граммов золота и 16500 граммов серебра. Спустя год, в течение 1943 г. жители республики, в основном сельская молодежь, собрали на строительство бронепоезда «Асланбек Шерипов» 13 миллионов рублей2.
За это же время, 1941 — начало 1942 гг., профсоюзные организации края собрали в качестве подарков воинам действующей армии 41, 6 тонны мяса, 8,3 тонны рыбы, 4,1 тонны жиров, 2,9 тонны сыров, 3,8 тонны кондитерских изделий, 85,8 тонны фруктов и овощей и т. д. В то же время собирались коллективные и индивидуальные посылки на сумму более 1 миллиона рублей3.
В помощь бойцам действующей армии жители Чечено-Ингушетии собрали в тот же период и громадное количество белья, теплых вещей, обуви, головных уборов и т. д.
В воскресные и субботние дни подростки и рабочая молодежь организовывали воскресники, в которых в отдельные дни в общей сложности принимало участие до 100 тысяч человек. Заработанные деньги, а это были десятки и сотни тысяч рублей, перечислялись в фонд обороны.
Дополнительные сборы в фонд обороны проводили сельские труженики. Так, в 1941 г. только колхозники Сунженского района — казаки и чеченцы сдали тысячи центнеров зерновых и семян подсолнуха, более 1,5 тысяч голов скота, колхозники селения Алхан-Юрт сдали 105 голов скота, 600 центнеров сена, 100 центнеров зерна. На 10 января 1942 г. колхозники края добровольно внесли для фронта 458 центнеров мяса, 1435 центнеров картофеля, 13 центнеров овощей, 189 центнеров подсолнуха, 854 центнера зерна и т. д.
Большой вклад в развитие патриотического сознания, в удовлетворение духовных потребностей жителей Чечено-Ингушетии и воинских частей, расположенных на ее территории, внесла многонациональная творческая интеллигенция края4.
Подготовка партизанского подполья. В сентябре 1942 г., когда развертывалась операция вермахта по захвату Грозного и враг стал
1 Очерки истории Чечено-Ингушской АССР. Т. 2. — С. 243.
2 См.: Там же. — С. 243—244; Сигаури И. М. Указ. соч. Т. 2. — С. 213.
3 Филькин В. И. Чечено-Ингушская партийная организация в годы Великой Отечественной войны Советского Союза. — Грозный, 1960. — С. 127.
4 См.: Очерки истории Чечено-Ингушской АССР. Т. 2. — С. 243, 252—253; Сигаури И. М. Указ. соч. — Т. 2. — С. 213; Таваканян Н. А. Торжество ленинской национальной политики в Чечено-Ингушетии. — Грозный, 1965. — С. 98; Филькин В. И. Указ. соч. — С. 127; и др.
Глава XVII. Чечено-Ингушская АССР в Великой Отечественной войне Советского Союза
1941—1945 гг.
на северо-западных границах Чечено-Ингушетии, по заданию обкома ВКП(6) секретарь обкома Муслим Гайрбеков приступил к подготовке подпольной организации и партизанского движения на случай оккупации территории республики.
На сегодня историки располагают документами о такой подготовке в отношении двух смежных районов: Шалинского (предгорного) и Веденского (горного). Ответственным за эту операцию был первый секретарь Веденского райкома ВКП(6) А.-В. Тепсаев. За короткий срок партийный руководитель заложил в труднодоступном месте командный пункт, создал ячейки и звенья подпольной организации, назначил командиров партизанских отрядов, скрытно завез в тайные схроны продовольствие и боеприпасы, определил ответственных за средства передвижения (верховых лошадей), которые должны быть переданы в партизанские отряды. Партийная организация Веденского района совместно с Шалинским была таким образом полностью подготовлена к переходу на нелегальное положение.
Имеются отрывочные данные, что часть партизанских отрядов, подготовленных в Чечено-Ингушетии в 1942—1943 гг., переходили по заданию командования линию фронта и вели диверсионно-разведывательную деятельность на территории Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Ставропольского края, оккупированных фашистами. Так, успешно действовал партизанский отряд «товарища Андрея» (А. Устарханов, родом из Ачхой-Мартана), конный ингушский отряд «красных партизан» под руководством Т. Шодиева. Многие из бойцов-партизан были представлены к правительственным наградам, но так и не успели их получить вследствие депортации. Единственно, видный религиозный авторитет Ингушетии мулла Кази Гантемиров успел получить медаль «За отвагу», а шейх Багаудин Арсанов за заслуги в оказании помощи фронту и за вклад в борьбе с фашистскими диверсантами был награжден орденом «Знак почета».
Всего в Чечено-Ингушетии было создано 28 партизанских отрядов с составом свыше 1 тысячи человек. В командный состав были включены партийные работники, сотрудники НКВД и милиции. Полностью было отгружено оружие, взрывчатка, радиостанция и т. д. Так, по данным участника сражений на Кавказе А. А. Гречко (министра обороны СССР в 60—70-х гг.), в 28 партизанских отрядах края насчитывалось 1087 бойцов, имевших на вооружении 357 винтовок, 313 автоматов, 20 пулеметов, 10 минометов и противотанковых ружей. Так что население Чечено-Ингушетии готовилось к всеобщей партизанской войне, а не к дружеской встрече немцев1.
1 См.: Гречко А. А. Указ. соч. — С. 375; Курылев И. В. Боевой путь милиции Чечено- Ингушетии. — Грозный» 1976. — С. 156; Музаев М. Н. Указ. соч. — № 6. — С. 3; Кепе- матов А. Чечня: в когтях дьявола или на путях к самоуничтожению. — М., 2004. — С. 64—66; Справка М. Яндиевой об участии ингушей в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. // Интернет; и др.
— 798 —
Социально-экономические и общественно-политические последствия войны для нашего края.
Проблема коллабарации
§ 3. Социально-экономические и общественно-
политические последствия войны для нашего края. Проблема коллабарации
Материальные потери в результате военных действий. Война имела самые серьезные последствия для социально-экономического развития Чечено-Ингушской АССР. Прежде всего сильно пострадали районы, оказавшиеся в прифронтовой полосе. Сильные разрушения имелись на части Малгобекского и Пседахского районов, где шли наиболее ожесточенные бои. Ударам с воздуха и артиллерийским налетам подвергались и притеречные селения, в которых также было значительное количество убитых и раненых жителей. Немецкая авиация активно действовала на железных и автомобильных дорогах, а также железнодорожных станциях, пытаясь сорвать военные перевозки.
Прифронтовой Грозный 10 и 12 октября 1942 г. пережил массированные воздушные налеты, причем 10 октября германские самолеты появлялись в небе над чеченской столицей два раза — днем и ночью. В дневном налете участвовало 120 бомбардировщиков под прикрытием более чем 50 истребителей, в ночном — 56 самолетов. Налет 12 октября с участием 52 бомбардировщиков также происходил в ночное время. Всего на Грозный было произведено более 4000 самолето-вылетов и сброшено приблизительно 9 тысяч фугасных и зажигательных бомб. Силами советской противовоздушной обороны за время этих налетов было сбито 35 немецких самолетов.
В результате налетов германской авиации больше всего пострадали предприятия Заводского района: пожары охватили десятки нефтеперерабатывающих установок, сотни резервуаров с нефтью и нефтепродуктами. Из предприятий союзного значения наиболее сильно пострадали крекинговые и атмосферно-вакуумные установки и ТЭЦ им. Коминтерна. Часть бомб упала на жилые кварталы, в частности, пострадал Михайло-Архангельский собор, расположенный на улице Ленина. Всего в Грозном во время бомбардировок было убито и ранено свыше 170 человек. Прямой материальный ущерб от бомбардировок 10—12 октября 1941 г. составил 30 миллионов рублей1.
В целом ущерб, который понесли предприятия нефтяного комплекса на территории Чечено-Ингушетии за годы Великой Отечественной войны, оценивался приблизительно в 1 миллиард рублей, причем наибольшие потери понес трест «Малгобекнефть» (231 миллион рублей), объекты которого были разрушены практически полностью. К 1943 г.
1 См.: ГАРФ. Ф. Р-7021. Оп. 23. Д. 51. Л. 1; Сигаури И. М. Указ. соч. Т. 2. — М, 2001. — С. 209; Юдин Л. Противовоздушный фронт Закавказья // В боях за Кавказ: Сб. — Баку, 1968. — С. 174; Симарзин В. С. Указ. соч. — С. 26; Казаков А. И. Страницы истории города Грозного. — Грозный, 1989. — С. 78.
Глава XVII. Чечено-Ингушская АССР в Великой Отечественной войне Советского Союза
1941—1945 гг.
объем промышленного производства в Чечено-Ингушетии сократился в целом более чем в два раза1.
Значительных расходов потребовал и перевод промышленных предприятий Грозного на производство продукции военного назначения. Освоение производства различных видов вооружения и снаряжения крупнейшими заводами произошло в сжатые сроки, например, завод «Красный молот» военную продукцию начал изготавливать уже в октябре 1941 г. Полностью же перестройка промышленности завершилась к середине 1942 г. На оборонные заказы работали не только заводы, но и небольшие мастерские, ремесленные училища, школы фабрично- заводского обучения, заводские и институтские лаборатории. Всего в Грозном выпускалось 90 видов военного снаряжения, включая минометы, которые изготавливались одновременно 18 предприятиями2.
Серьезный ущерб был нанесен также другим предприятиям, колхозам и частным лицам. По данным, собранным Чрезвычайной Государственной комиссией, занимавшейся подсчетом экономического ущерба, нанесенного Советскому Союзу в ходе военных действий, в Чечено-Ингушетии в той или иной степени пострадало 1148 жилых домов, 1066 хозяйственных зданий, 569 надворных построек, 173 животноводческие постройки, 14 школ, 3 больницы, 6 поликлиник и амбулаторий, 4 детских учреждения, 16 клубов и одна церковь. Кроме того, были уничтожены сельскохозяйственные посевы на площади 17 217 гектаров и погибло свыше 52 тысяч голов скота. В целом ущерб, нанесенный экономическим субъектам и частным лицам Чечено-Ингушетии, оценивался в 335 миллионов 205,5 тысяч рублей3.
Часть потерь в годы войны произошла и вследствие действий сугубо повстанческих формирований и обычных криминальных банд, действовавших в горной части Чечено-Ингушетии. Так, в результате нападения отряда известного X. Исраилова на одну из колхозных ферм Галанчожского района было похищено 462 голов мелкого рогатого скота, ущерб составил 115, 5 тысяч рублей. Колхоз им. Молотова Шатойского района в октябре 1942 года, после аналогичного налета, показал убытки на сумму 171,6 тысяч рублей. В целом колхозы Веденского района от действий немецких диверсантов и различного рода местных бандитов понесли материальный ущерб на сумму 8 миллионов 845, 6 тысяч рублей, Итум-Калинский район показал убытки в 2 миллиона 106,9 тысяч
1 См.: Зоев С. О. Промышленность Чечено-Ингушской АССР за 50 лет. — Грозный, 1972. — С. 45; Гакаев X. А. В годы суровых испытаний. — Грозный, 1988. — С. 98.
2 См.: Очерки истории Чечено-Ингушской АССР. Т. 2. — С. 240; Каратаева М. А., Магомаев В. X. Развитие социалистического соревнования на промышленных предприятиях Чечено-Ингушетии в годы Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.) // Рабочий класс Чечено-Ингушетии — ведущая сила социалистического строительства. — Грозный, 1989. — С. 39.
3 См.: ГАРФ. Ф. Р-7021. Оп. 23. Д. 48. Л. 2; Д. 51. Л. 2-3.
— 800 —
Социально-экономические и общественно-политические последствия войны для нашего края.
Проблема коллабарации
рублей, Урус-Мартановский район в 1 миллион 246 тысяч рублей, Са- ясановский район в 2 миллиона 530,8 тысяч рублей, Шатойский район в 597,5 тысяч рублей1. Однако значительный процент от указанных убытков составляли обыкновенные приписки нерадивых хозяйственников и расхитителей социалистического имущества, стремившихся под видом потерь от нападений «абреков» и «диверсантов» списать хищения скота и скрыть его падеж.
Эвакуации 1941 и 1942 годов. Значительных материальных затрат потребовали мероприятия по эвакуации промышленных предприятий и некоторых учреждений, причем эвакуация на территории Чечено- Ингушетии проводилась дважды. Первая эвакуация началась 3 ноября 1941 г., но уже 11 декабря того же года демонтаж промышленных предприятий не только был прекращен, но даже начато их восстановление. Однако в августе 1942 г. был начат повторный демонтаж промышленных объектов и вывод из строя эксплуатируемых скважин. В глубокий тыл вывезено более 4 тысяч вагонов с промышленным оборудованием. Вместе с заводами из Грозного эвакуировалось до 9 тысяч инженерно- технических работников и квалифицированных рабочих. Среднесуточная добыча нефти, составлявшая в середине 1942 г. 7 тысяч 152 тонны, к концу года сократилась до 80 тонн, т. е. уменьшилась примерно в 89 раз. Общие расходы только по эвакуации и реэвакуации гражданского населения (не считая хозяйственных объектов и государственных учреждений) составили в общей сложности 13 миллионов 687 тысяч рублей2. Меньше нам известно о потерях в результате массового перегона колхозного скота из прифронтовой Чечено-Ингушетии в период немецкого наступления 1942 г. в Дагестан и Грузию.
Лишения военного времени. Социальные факторы. Положение населения Чечено-Ингушетии усугублялось также тяготами военного времени. Как уже говорилось, практически все трудоспособные жители, включая подростков, были поставлены в положение мобилизованных, обязанных работать на нужды обороны. К тому же резко упал и без того низкий уровень жизни. Государство еще более ужесточило контроль над распределением материальных благ: для всех категорий населения были введены нормы на получение продуктов и промышленных товаров. Резко возросла инфляция. Цены на хлеб и основные продукты питания увеличились в десятки раз. Так, буханка хлеба на черном рынке стоила 50 рублей. Стал постоянным дефицит самых необходимых
1 См.: ГАРФ. Ф. Р-7021. Оп. 23. Д. 34. Л. 6 об., 27, 39 об., 80 об., 138 об., 297 об., 298 об; Абазатов М. А. Чечено-Ингушская АССР в Великой Отечественной войне Советского Союза. — Грозный, 1973. — С. 85.
2 См.: ГАРФ. Ф. Р-7021. Оп. 23. Д. 48. Л. 2; Филькин В. И. Грозный в годы Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.) // Грозный за 40 лет Советской власти. — Грозный, 1957. — С. 120; Зоев С. О. Промышленность Чечено-Ингушской АССР за 50 лет. — Грозный, 1972. — С. 44—45.
Глава XVII. Чечено-Ингушская АССР в Великой Отечественной войне Советского Союза
1941—1945 гг.
промышленных товаров — мыла, тканей, ниток, одежды, обуви. Росла спекуляция и численность уголовников всех мастей.
Был введен дополнительный военный налог и увеличено изъятие товарной продукции у хозяйствующих субъектов. Например, в 1941 г. колхозы Чечено-Ингушетии сдали государству в два раза больше зерна, чем в предыдущем. Учитывая общую невысокую производительность в коллективных хозяйствах, сделать это можно было только за счет сокращения объемов личного потребления колхозников.
Чтобы компенсировать недостаток продуктов питания, предприятия Грозного создали 77 подсобных хозяйств, продукция которых распределялась среди горожан. Кроме того, городские власти выделили около
4,5 тысяч гектаров земли под индивидуальные огородные участки. Благодаря этому примерно 39,5 тысяч грозненцев получили возможность собственными силами улучшить питание своих семей1.
Несмотря на общий по всей советской стране рост активности криминальных элементов и появление в советском тылу немецких агентов и целых диверсионных отрядов, положение в городах и селениях Чечено-Ингушетии твердо контролировалось советскими и партийными органами. За все годы войны не только на предприятиях Грозного, но и на всех основных транспортных коммуникациях не отмечено ни одного случая крупной диверсии. Сложнее обстояло дело в некоторых глухих ущельях горных и предгорных районов, где с началом войны было отмечено действие антисоветских повстанческих групп. Однако и здесь агентура НКВД и СМЕРШа зачастую под видом бандитов («лже- абреки») вела успешные многоходовые операции.
Интересны данные о социальном положении чеченского села в годы войны. По оценкам органов НКВД военного времени, до 91,5% поголовья крупного рогатого скота, 78,9% мелкого скота и 75,2% лошадей в Чечне, формально считавшихся обобществленными, фактически находилось в личном пользовании. Благодаря этому, как ни парадоксально, обеспечивалась высокая сохранность поголовья и хороший уход, а также успешно выполнялись обязательные поставки мяса государству, поэтому советские органы сквозь пальцы смотрели на указанное явление.
Весьма существенной была имущественная дифференциация: до 30% всех молочных коров находились в собственности у одной девятой части собственников, а половина поголовья мелкого скота — у одной шестой части собственников. Зажиточная часть колхозников выделялась в отдельные «бригады» (чаще всего состоявшие из кровных родственников), которым принадлежала большая часть колхозной собственности, включая и «колхозный» инвентарь. В рамках чеченских колхозов
1 39 тысяч индивидуальных огородов // Грозненский рабочий. — 1943. — 30 нояб. —
С. 2.
Социально-экономические и общественно-политические последствия войны для нашего края.
Проблема коллабарации
распространение получила платная аренда сельскохозяйственного инвентаря «бедными» бригадами у «состоятельных» бригад1.
Однако, наличие скрытой социальной дифференциации, естествен* но, не вело автоматически к появлению антисоветского повстанческого движения. Для этого требовалось еще и значительное ослабление государственных властных структур, что имело место далеко не везде, и уж во всяком случае не в Чечено-Ингушетии, перенасыщенной военными частями и мощными спецслужбами. При этом наличие или отсутствие партийных ячеек ВКП(б) не всегда играло решающую роль. Например, в большинстве колхозов Надтеречного района вообще не было партийных организаций, и, тем не менее, в этом районе не было зафиксировано ни одного открытого антисоветского выступления. Хотя здесь было близкое соседство районов с казачьим населением Ставропольского края, где наблюдался уход казаков в казачьи формирования вермахта, начиная, по крайней мере, с 1942 г. (так, Терский казачий полк 1-й казачьей дивизии вермахта был сформирован в городе Буденновске Ставропольского края.)
В аулах более отдаленных горных районов уже с осени 1941 г. фиксируются отдельные случаи самовольного захвата колхозных земель, а весной 1942 г. в Дзумсоевском сельсовете имел место факт открытого раздела колхозной собственности. Правда, информация о действительном положении в отдаленных горных селениях зачастую доходила до республиканских властей с большим опозданием и со значительными искажениями. Об этом, в частности, свидетельствует в своих воспоминаниях ученый Ю. Дешериев, посетивший в начале 1943 г. отдаленные селения Дарго и Беной.
Война не только привела к значительному снижению уровня жизни населения Чечено-Ингушской АССР, но и усилила социально-политическую напряженность в чеченском обществе. Не случайно, что объектом нападений бандитских группировок из чувства мести часто становятся советско-партийные руководители и работники НКВД из числа чеченцев. Так, в разное время по политическим мотивам были убиты начальник Итум-Калинского районного отдела НКВД М. Уртаев и председатель одного из местных колхозов Халимов, в Сунженском районе был убит член Чечено-Ингушского обкома ВКП(б) Н. Осуев2.
Власть и представители крупного духовенства в годы войны. Объявление газавата гитлеровцам. Несмотря на кровавые репрессии 30-х годов, советским органам не удалось искоренить деятельность многочисленных религиозных братств. В первой половине 40-х годов XX в. по оценкам НКВД в Чечено-Ингушетии действует до 38 вирдовых
1 ГАРФ. Ф. P-9479. On. 1. Д. 925. Л. 15.
2 См.: Сигаури И. М. Указ. соч. Т. 2. — С. 224; Окороков А. В. Казаки и русское освободительное движение // Вече. — 1996. — № 58. — С. 4.
— 803 —
Глава XVII. Чечено-Ингушская АССР в Великой Отечественной войне Советского Союза
1941—1945 гг.
объединений, насчитывавших в своих рядах до 20 тысяч активных мюридов. При этом сами руководители религиозных объединений зачастую занимали видное положение в советской государственной иерархии. Так, ответственные посты в советском государственном аппарате в разное время занимали алим Гайсумов Аббас и шейх Арсанов Багаудин. Открыто сотрудничали с партийными органами и духовный авторитет из Урус-Мартана Абдул-Хамид Яндаров и ингушский религиозный авторитет Кази Гантемиров, пытаясь облегчить положение верующих людей.
При этом чеченские и ингушские шейхи продолжали владеть значительными материальными богатствами, что составляло одну из основ их тайной власти над определенной частью чеченского населения. Так, по оперативным данным НКВД, один из чеченских шейхов владел через подставных лиц только в Грозном 30 частными домовладениями.
Шейх Багаудин Арсанов. Фото 40-х гг. XX в. (38, вклейка)
Социально-экономические и общественно-политические последствия войны для нашего края.
Проблема коллабарации
Привлеченный органами госбезопасности к борьбе с диверсантами и бандитами, он израсходовал на эти цели 3 миллиона рублей собственных средств и в том числе 200 тысяч рублей потратил на поимку одного только из немецких диверсантов.
С началом войны партийные органы Чечено-Ингушетии, по примеру Центра, давшего послабления русской православной церкви, пошли на определенные компромиссы с духовными деятелями ислама в республике. Следует отметить, что исламское духовенство Чечено-Ингушетии в первый же год войны провело, с согласия властей, свой съезд, где тон задавали видные муллы и потомки шейхов. На этом съезде гитлеровцам была объявлена «священная война» — газават1. И действительно, верующие люди, пославшие на фронт своих сыновей, искренне молились о ниспослании Красной Армии победы. При этом политизированные заявления разного рода повстанцев в глухих уголках Горной Чечни не находили у чечено-ингушского духовенства ни единого отклика. Видимо, в силу этого, так называемые «политбандиты» в горах вообще перестали прибегать к религиозной и даже национальной риторике, оставив за собой только антисталинские лозунги.
Национальные военные формирования в составе германской армии. Коллабарация. Неоднократные предложения германского военного командования, во второй половине 1941 г., приступить к созданию на оккупированных территориях СССР национальных вооруженных формирований встретили возражения А. Гитлера: «Только немец вправе носить оружие, а не славянин, не чех, не казак и не украинец»2.
Однако уже к осени 1941 г. многие немецкие командиры стали по собственной инициативе создавать вспомогательные части из советских военнопленных, дезертиров и добровольцев из местного населения, высвобождая таким образом немецких солдат для непосредственной боевой работы. Служащие таких вспомогательных частей назывались «наши Иваны» и «хиви» (помощники). К весне 1942 г. «наших Иванов» только в вермахте было около 1 миллиона человек (до 15% списочного состава дивизий). Вскоре появились и различные вооруженные охранные отряды в составе тыловых немецких частей, ведших борьбу с партизанами. Весной 1942 г. сам Гитлер был вынужден санкционировать создание вспомогательных вооруженных формирований из граждан СССР и даже их использование в боевых операциях3. Только на кавказском направлении
1 ГАРФ. Ф. P-9479. On. 1. Д. 925. Л. 14.
2 Цит. по ст.: Кирсанов И. А., Дробязко С. И. Великая Отечественная война 1941—1945 гг.: национальные и добровольческие формирования по разные стороны фронта // Отечественная история. — 2001. — № 6. — С. 65.
3 Там же. — С. 63—64; Дробязко С Последние сражения гражданской войны // Станица. — 2001. — № 1. — С. 35; Власовцы // Интернет. Сайт: Легенды и мифы военной истории. — С. 1—2.
Глава XVII. Чечено-Ингушская АССР в Великой Отечественной эойне Советского Союза
1941—1945 гг.
Военнослужащие одной из казачьих дивизий вермахта. Фото (42, 24)
в группе армий «А» по самым скромным подсчетам должно было насчитываться 25—30 тысяч «наших Иванов (хиви)».
Широкое использование немцами национальных боевых формирований на Восточном фронте началось летом 1942 г., когда германские войска вступили в степные районы Юга России, а затем вышли к предгорьям Кавказа. Наличие на флангах наступающих немецких частей обширных степных пространств создавало серьезные преимущества для многочисленной советской кавалерии, совершавшей рейды в глубокий тыл противника. Для ликвидации этой угрозы в составе 1-й танковой и 17-й полевой армий вермахта были спешно сформированы два казачьих полка: «Юнгшульц» и «Платов». Затем казачьи дивизионы появились в составе 444-й и 445-й охранных дивизий, 40-го и 3-го танковых корпусов, 97-й егерской дивизии и других подразделений германской армии. Личный состав казачьих частей формировался преимущественно из казаков Дона, Кубани и Терека. Идеологической основой для широкого привлечения казаков к службе в составе вермахта стало «открытие» германских историков, объявивших казаков прямыми потомками древних готов — народа, родственного немцам1.
Казачьи части, по отзывам немецкого командования, хорошо зарекомендовали себя в боевых условиях. В частности, казачий полк под командованием полковника Иоахима фон Юнгшульца (носивший имя своего командира) отличился в боях возле населенного пункта Ачику- лак. Здесь же, но по другую сторону фронта, храбро воевали и понесли тяжелые потери, всадники 255-го отдельного Чечено-Ингушского
1 Серба А. Куда казаку податься? // Станица. — 2001. — N» 3. — С. 3—4.
— 806 —
Социально-экономические и общественно-политические последствия войны для нашего края.
Проблема коллабарации
Казак 6-го Терского полка и немецкий офицер Кубанского полка 1-й казачьей дивизии вермахта. 1943—1945 гг. (30, 29)
полка Красной Армии. Тот же казачий полк «Юнгшульц» отличился еще раз 30 ноября 1942 г. при ликвидации прорыва советской кавалерии в германский тыл в районе Моздока. Здесь казаки разгромили советский кавалерийский полк, а с советской стороны отличились на этот раз бойцы отдельного Чечено-Ингушского кавалерийского дивизиона.
В течение 1942 г. в районах Дона, Кубани и Терека немцы сформировали целый ряд казачьих полков. Один из них — Терский, был сформирован в Ставропольском крае. Численность полка составляла, по косвенным данным, не менее 2 тысяч человек.
Общее количество бывших советских граждан, в основном русских и украинцев, вступивших в течение 1941—1945 гг. в немецкие воинские части (включая СС), в Русскую освободительную армию под командованием генерала А. Власова, а также в различные полицейские и охранные соединения на местах, по различным оценкам составила от
1,5 до 3 миллионов человек. На постоянную службу к немцам перешло, к примеру, 250 тысяч украинцев, 70 тысяч белорусов, 150 тысяч латышей, 90 тысяч эстонцев и 50 тысяч литовцев. Что касается представителей всех северокавказских (включая и местных тюркских) народов СССР, то их в различных германских формированиях, по разным данным,
Глава XVII. Чечено-Ингушская АССР в Великой Отечественной войне Советского Союза
1941—1945 гг
Генерал А. Власов на смотре частей Русской освободительной армии. Фото 1944 г.
(42, 24)
насчитывалось примерно до 30 тысяч человек. Собственно чеченцев и ингушей на немецкой службе, согласно данным, собранным у частных лиц, оказалось до нескольких сот человек. Из их числа так и не удалось сформировать отдельной единицы числом более роты. Чеченцы и ингуши, перешедшие на немецкую службу, включались в 1942 г. в состав Кавказско-Магометанского легиона (состоял главным образом из азербайджанцев и дагестанцев).
Следует отметить, что представители горских эмигрантских кругов как Европы, так и турецких и арабских стран, немало сделали для спасения своих соотечественников, уничтожаемых в немецких лагерях для военнопленных. Ведь карательные немецкие «айнзатцкоманды» в 1941 г. расстреливали всех «обрезанных» военнопленных, считая их евреями. Так, своих соплеменников спасали ингуши-эмигранты
В.-Г. Джабагиев, Сафарбек Мальсагов, чеченцы Тукаев, Авторханов, осетины Байтуган, Кулатти, Дударов, аварец Магома, кумык Баммат, адыгеец Келеч Султан-Гирей. Судьбой пленных из северокавказских горцев живо интересовались также казачьи генералы — выходцы с Терека и Кубани.
По данным некоторых авторов (С. Дробязко), начиная с 1943 г., до конца 1945 г. немцы сформировали из горских военнопленных 7 северокавказских батальонов численностью от 800 до 1000 человек, в которых немцы составляли от 5—10% от общей численности. Кроме того, упоминаются еще 3 конных эскадрона (в частности, один осетинский) из северокавказцев, 3 пешие роты и промежуточное формирование — Северо-Кавказский легион. Часть северокавказцев из мест формирования (Польша, Белоруссия) перебрасывались на Восточный
Социально-экономические и общественно-политические последствия войны для нашего края.
Проблема коллабарации
фронт. Но чаще всего подобные «союзные» части использовались немцами в Западной Европе и на Балканах1.
Части известного генерала А. А. Власова — КОНР-РОА как самостоятельные соединения, не входящие в вермахт или СС, начали формироваться в 1944 г. и к концу войны насчитывали в общей сложности до 70—100 тысяч человек. Но мобилизационные возможности армии Власова были куда выше — в немецком плену к тому времени, помимо 3—4 иллионов рядовых солдат, находилось 150 тысяч советских офицеров, в том числе 80 генералов, многие из которых были готовы воевать против Сталина при определенных условиях. Любопытно отметить, что власовское воинство имело в своем составе даже военно-воздушные силы: истребительную эскадрилью под командованием Героя Советского Союза капитана С. Т. Бычкова и бомбардировочное соединение под руководством Героя Советского Союза старшего лейтенанта Б. Р. Антилевского2.
В связи с тем, что попытки сформировать национальные части из представителей народов СССР предпринимались одновременно и эмигрантскими комитетами, имевшими свои представительства в Берлине, и командирами различных немецких соединений вермахта и СС, а также разного рода группами и старшими офицерами из числа перебежчиков, установить подлинное число горцев, перешедших на службу к немцам, весьма сложно. Помимо упомянутого «Кавказско-Магометанского легиона» известен «Грузинский легион», куда набирали грузин, абхазов и осетин. Кроме того, в 1942 г. на Северном Кавказе был сформирован Горский эскадрон смешанного состава.
К 1943 г. немецким командованием были приняты своеобразные «квоты», согласно которым северокавказцы могли рассчитывать на создание пяти батальонов (из общего числа в 170) на Восточном фронте, а также шести рот (из общего числа 221)3, однако данные о реальных цифрах реализации данных «квот» отсутствуют. Единственно известно, что с отступающими с Северного Кавказа немцами ушли беженцы
1 См.: Ковалев Б. Н. Нацистская оккупация и коллаборационизм в России, 1941— 1944. — М., 2004. — С. 238; Дробязко С. Вторая мировая война 1939—1945. Восточные легионы и казачьи части в вермахте. — М., 2001. — С. 4—9, 14—15, 32—33; Романичев Н. М. Власов и другие // Интернет; Справка М. Яндиевой об участии ингушей в Великой Отечественной войне // Интернет. Так по данным М. Яндиевой к 1943 г. число ингушей, попавших на немецкую службу, равнялось 150 человек.
2 См.: Кирсанов И. А., Дробязко С. И. Великая Отечественная война 1941—1945 гг.: национальные и добровольческие формирования по разные стороны фронта // Отечественная история. — 2001. — № 6. — С. 68; Невское время. — 1998 — 29 октября — № 197; Окороков А. В. Указ. соч. — С. 4; Музаев М. Указ. соч. — № 6. — С. 3 // Голос Чеченской Республики. — июнь 2003; Черкасов А. А. Истоки и масштабы советского коллаборационизма в в годы Второй мировой войны // Интернет. — С. 1; Власовцы // Интернет. — С. 1—7; Хронология истории Русского освободительного движения // Интернет. — С. 1—2.
3 См.: Науменко В. Г. Великое предательство / Сост. П. Н. Стреляное (Калабухов). — СПб. 2003. — С. 74—75,152—155,158,159; Власовцы // Интернет. — С. 4—5; и др.
— 809 —
Глава XVII. Чечено-Ингушская АССР в Великой Отечественной войне Советского Союза
1941—1945 гг.
Солдаты кавказских частей СС, 1945 г. (30, 21)
из оккупированных районов Северной Осетии, Кабарды, Карачая, Черкесии, Адыгеи, Ставропольского, Краснодарского краев. Весной 1945 г., к концу войны в так называемом «Казачьем стане» — войсковой казачьей общине в Австрии находилось, помимо казаков, до 5 тысяч горских беженцев (старики, женщины, дети).
Собственно же военные силы горцев (из числа советских граждан), собранные в апреле 1945 г. в селении Полуцца (Северная Италия), достигали 500 человек. Они должны были войти в состав Северокавказского полка и образовать наряду с Грузинским полком так называемую Кавказскую дивизию СС. Дивизию должен был принять казачий генерал Л. Бичерахов. Замысел реализован не был в связи с капитуляцией Германии 7 мая 1945 г. В том же Казачьем стане в это же время находилось терско-ставропольских казаков 2503 человека (из них в строю состояло 780 человек). Остальные казаки (до 20 тысяч человек) были с Дона и Кубани. Все они, и беженцы, и служившие в вермахте, были выданы англичанами в руки советских спецслужб.
Впереди массы беглецов из горцев, передаваемых англичанами в руки «красных», шел ставший в эти трагические дни неформальным вождем горцев генерал Султан Келеч Гирей — высокий статный старик в черкеске с золотыми погонами царского генерала. Дальнейшая судьба этих стариков, женщин и детей, кроме как Келеч Гирея (повешен в Москве вместе с А. Власовым), — практически неизвестна. Отдельные данные говорят, что горские беженцы были уничтожены сталинскими карателями на территории оккупированной Германии.
Таким образом, проблема коллабарации — сотрудничества с оккупантами — являлась общей для всех народов СССР, особенно в оккупированных областях. Собственно Чечено-Ингушетия в оккупации не была, поэтому данная проблема для нее не была сколь-нибудь актуальной.
Социально-экономические и общественно-политические последствия войны для нашего края.
Проблема коллабарации
Попытки германского командования привлечь на свою сторону горцев и казаков. Германской военной разведкой (абвер) был разработан довольно авантюристический план под кодовым названием «Шамиль», предусматривавший осуществление захвата нефтедобывающих районов Северного Кавказа при помощи воздушно-десантных и диверсионных групп, в том числе и сформированных из числа горцев и казаков.
Подготовкой диверсантов из числа красноармейцев-кавказцев, оказавшихся в немецком плену, руководил в лагере полка «Бранденбург-800» обер-лейтенант Эргард Ланге, под командованием которого находились три учебные группы общей численностью около 100 курсантов1.
Диверсанты готовились также специальной «службой Цеппелин» штаба «Кавказ», созданного германским Восточным министерством, а также при разведывательно-диверсионном батальоне «Бергманн» («Горец»). Его формирование началось еще в октябре 1941 г. из числа советских военнопленных, представителей всех кавказских народов (главным образом грузины, армяне, азербайджанцы и дагестанцы), а также эмигрантов и деклассированных элементов на оккупированных территориях. Общая численность личного состава батальона, включая немцев, достигала 1200 человек. Кстати, батальон «Бергманн» временами появлялся и на фронте, в частности, он участвовал в ожесточенных боях в районе Моздока, где понес серьезные потери2.
Большое внимание уделялось пропагандистской работе среди кавказских народов. Кавказский отдел пропаганды Восточного министерства организовал радиовещание на горских языках, а также издание газеты «Газават»3. На Северном Кавказе вели пропаганду на горцев и казаков фашистские русскоязычные газеты «Кубань», «Пятигорское эхо» и др. Однако гитлеровская верхушка весьма отрицательно относилась к планам самоопределения народов СССР. Кавказские политические организации и так называемые «национальные комитеты» в Берлине, состоявшие главным образом из эмигрантов, отказались, в конечном счете, от официального сотрудничества с Германией
1 Петров В.у Александров В. Второй кавказский фронт // Независимое военное обозрение. — 2001. — 30 марта — 5 апр. — С. 5.
2 Ибрагимбейли X. М. Реакционная сущность расистской политики фашистской Германии на временно оккупированной территории Северного Кавказа (1942— 1943 гг.) // Великий Октябрь и передовая Россия в исторических судьбах народов Северного Кавказа (XVI—70-е годы XX века). — Грозный, 1982. — С. 209; Романько О. В. Мусульманские легионы во Второй мировой войне. — М., 2004. — С. 142—144.
3 Галицкий В. Чеченцы не позволили Канарису и Геббельсу создать на юге Советского Союза «пятую колонну» // Даймехкан аз («Голос Отчизны»). — 2001. — № 3. — С. 4; Гречко А. А. Указ. соч. — С. 366, 368.
Глава XVII. Чечено-Ингушская АССР в Великой Отечественной войне Советского Союза
1941—1945 гг.
Горский эскадрон вермахта. Осень 1942 г. (31, вклейка)
из-за непризнания их политических предложений. Вместе с тем северокавказские эмигрантские группы добивались освобождения из концлагерей военнопленных горцев, вели встречи с сотрудниками «восточного министерства Розенберга, пропагандировали идею создания Кавказской Федерации, которая заключит «дружеский договор» с Германией. Однако их многочисленные меморандумы никто не принимал во внимание.
В начале лета 1942 г. чеченец Хасан Исраилов, руководитель повстанческого отряда, действовавшего в юго-западной части Горной Чечни, ожидая победы гитлеровской Германии над сталинским СССР, направил через линию фронта к немцам опального партработника, выпускника Института красной профессуры, перенесшего пытки в застенках НКВД, Абдурахмана Авторханова с целью заключения ни много ни мало «военно-политического союза против большевизма» от имени «Временного народно-революционного правительства Чечено-Ингушетии».
Однако немецкие офицеры фронтового штаба, более или менее достоверно знавшие ситуацию в Чечено-Ингушетии, во-первых, не поверили ни одному слову А. Авторханова, а во-вторых, заявили ему, что Германия «не нуждается в каких-либо союзниках внутри советской России»1. Авторханов, чудом избежавший расстрела, был в конечном счете переправлен в Берлин, где и провел годы войны, вращаясь в эмигрантских кругах.
После окончания Второй мировой войны А. Авторханов остался в Западной Германии и последовательно выступал против сталинского
1 Авторханов А. Г. О себе и времени. Мемуары. — М., 2003. — С. 604—605,621—623; Фарбеков Е. Понять события смутного времени // Интернет. — С. 3.
— 812 —
Социально-экономические и общественно-политические последствия войны для нашего края.
Проблема коллабарации
Абдурахман Авторханов (78, 6)
и коммунистического режима в СССР, в конечном счете сложившись в выдающегося публициста и политолога второй половины XX века.
Германские власти в конечном счете предприняли целый ряд действий, чтобы привлечь на свою сторону горское население и казаков Северного Кавказа. В частности, германские власти официально объявили о передаче земли в собственность крестьянам. Немцы заявляли также, что не будут препятствовать становлению горского и казачьего самоуправления и даже созданию вооруженных отрядов самообороны. На Кубани был создан Казачий автономный район со своим атаманом, в Карачае — «национальный совет», а в Кабарде — даже «национальное правительство» во главе с эмигрантскими князьями 3. Келеметовым и Д. Тавкешевым и др.1
Предпринимались и чисто пропагандистские акции. Например, командующий 1-й германской танковой армией генерал фон Макензен осенью 1942 г. публично заявил о принятии им ислама и демонстративно посещал пятничную службу в мечети города Нальчика. Перешедшие на сторону немцев деятели горского исламского духовенства в Кабарде даже провозгласили А. Гитлера «имамом всех мусульман Кавказа», дав ему новое имя — Гейдар (Хайдар).
В отличие от других формирований из советских граждан — «восточных легионов» (батальонов), которые немцы зачастую были вынуждены снимать с фронта и реорганизовать в строительные части, формирования из северокавказских казаков отличались высокой боеспособностью. Даже советские разведчики, говоря о составе одной
1 Гречко А. А. Указ. соч. — С. 367.
Глава XVII. Чечено-Ингушская АССР в Великой Отечественной войне Советского Союза
1941—1945 гг.
из казачьих дивизий вермахта, отмечали: «В 6-м Терском полку преобладают терские казаки в возрасте до 45 лет, иногда вместе с сыновьями. Политико-моральное состояние частей дивизии крепкое...» Высоко оценивалась и помощь терцев немцам в лесистых горах Кавказа: «.. .не будь с немецкими частями терцев, они не могли бы даже ориентироваться в этом сложнейшем рельефе гор, лесов, бездорожья и партизанских засад» — свидетельствует один из современников. Ставропольский край, помимо Терского полка, дал в ряды немецких частей в регионе еще 2800 человек.
В период отступления немецких войск с Северного Кавказа, не желая оказаться под пятой сталинской диктатуры, до 120 тысяч казаков и других беженцев скопилось в 1943 г. на Таманском полуострове. Немцы смогли переправить их дальше в Крым, а затем под Херсон.
Вместе с тем, следует отметить, что десятки тысяч казаков доблестно сражались в составе Красной Армии с фашистами и составили основу десяти советских кавалерийских корпусов1.
Германские диверсионные и местные «повстанческие» группы в Чечено-Ингушетии. Активность германских секретных служб резко возрастает во второй половине 1942 г., когда военные действия идут уже непосредственно на Северном Кавказе. В августе-сентябре 1942 г., по данным советского НКВД, только на территорию Чечено-Ингушетии тайно десантировано 5 групп немецких диверсантов-парашютистов, общей численностью 67 человек (под командованием О. Губе, Т. Засиева, А. Дзугаева, Э. Ланге, Г. Реккерта). Еще три группы диверсантов (Хамчи- ева, Хаутиева и Селимова) появились в Чечено-Ингушетии спустя один год — в августе 1943 г. Общая численность вражеских парашютистов во всех группах составила всего 77 человек, из которых ингушей было 16, чеченцев — 13, а другие являлись немцами, осетинами, дагестанцами и кабардинцами* 2. В тот же период, по данным Шелленберга, «в лагерях для военнопленных отбирались тысячи русских, которые после обучения забрасывались на парашютах вглубь русской территории». Так, только в 1941 г. фронтовыми особистами было задержано 2343 шпиона, 699 диверсантов, 4647 прочих изменников. По данным
2 См.: Дробязко С. Последние сражения гражданской войны // Станица. — 2001. — № 1. — С. 38; Донское Л. Дон, Кубань и Терек во Второй мировой войне // Трагедия казачества. — М., 1994. — С. 550; Линец С. И. Северный Кавказ накануне и в период немецко-фашистской оккупации: состояние и особенности развития (июль 1942 — октябрь 1943 гг.). Ростов-н/Д., 2003. — С. 368—373.
2 ГАРФ. Ф. P-9478. On. 1. Д. 297. Л. 95, 96; С первого дня своей переброски диверсанты оказались под опекой «лжеабреков»-чекистов и мюридов шейхов Б. Арса- нова и А.-Х. Яндарова, преданных сторонников советской власти (см.: Музаев М. Злопыхательство на чеченский и ингушский народы и историческую правду // Голос Чеченской Республики. — июнь 2003, — № 4. — С. 3); О националистических выступлениях в Чечено-Ингушской АССР в годы войны и роли в их организации фашистских спецслужб // Интернет; и др.
— 814 —
Социально-экономические и общественно-политические последствия войны для нашего края.
Проблема коллабарации
НКВД СССР, на 8 августа 1942 г. с начала войны было арестовано 11765 диверсантов и агентов противника1.
Из действовавших в Чечено-Ингушетии накануне войны вооруженных групп первоначально только одна, возглавляемая Хасаном Исраиловым, по мнению НКВД являлась подлинно «повстанческой группой», а остальные носили чисто уголовный характер. Причем в первые месяцы войны все эти «банды» особой активности не проявляли — всего было зафиксировано 4 «бандпроявления», в ходе которых погибло 9 человек, включая одного партийного работника. Действиями органов НКВД за весь 1941 г. ликвидировано 12 банд, общей численностью до 100 человек. Кроме того, задержано 550 дезертиров и 566 человек, уклонявшихся от призыва в армию2. Да и дезертиры были отнюдь не с фронта, а из частей, проходивших формирование в Грозном или следовавших через него.
Положение в горных районах Чечни, по данным спецслужб, осложнилось в октябре 1941 г., когда якобы в целом ряде селений Галанчожского, Шатойского и Итум-Калинского районов население приступило к стихийному разделу колхозного имущества. Утверждалось, что имели место массовая неуплата налогов и уклонение от мобилизации. Всего в волнениях, продолжавшихся с 28 октября по 3 ноября 1941 г. и носивших черты социального протеста, якобы участвовало до 800 человек.
Эти события чечено-ингушские партийные органы вначале, по подсказке НКВД-НКГБ, квалифицировали как открытое антисоветское «кулацко-бандитское восстание», организаторами которого считались Хасан Исраилов, Майрбек Шерипов и братья Мусостовы. К подавлению «выступлений», кроме оперативных групп и внутренних войск, были привлечены три звена боевой авиации. Однако операция оказалась плохо подготовленной в военном отношении и сопровождалась большими потерями среди мирного населения. Бомбы обрушились на аулы, население которых и не подозревало ни о каком «восстании». В столкновениях с бандами с обеих сторон погибло до 19 человек, еще три военнослужащих пропали без вести. Арестовать удалось только пять участников «волнений», а остальные скрылись в горах.
Однако указанные оценки опираются на данные исключительно центрального аппарата НКВД ЧИАССР. Согласно другим данным, собранным в том числе и от ответственных лиц, непосредственно находившихся в горах, в том же Галанчожском районе наблюдалось абсолютное спокойствие, и бомбардировки мирных аулов советской авиацией были шоком и для районного руководства, и для командированных в район
1 См.: Шелленберг В. Мемуары. —М. 1991. — С. 215; Кодачигов В. Смерть шпионам. Советская военная контрразведка против абвера и СД // Интернет. — С. 2.
2 ГАРФ. Ф. P-9478. On. 1. Д. 274. Л. 1, 2,4, 10, 12,13.
Глава XVII. Чечено-Ингушская АССР в Великой Отечественной войне Советского Союза
1941—1945 гг.
лиц, включая сотрудников обкома ВКП(б)1. Это была одна из первых провокаций нового наркома НКВД С. Албогачиева — которого работники Чечено-Ингушского обкома ВКП(б) клеймили как авантюриста. И позднее его деятельность как наркома оценивалась Чечено-Ингушским обкомом ВКП(б) как исключительно неудовлетворительная2.
На фоне крайне неудачного для Советского Союза хода военных действий и тяжелейших потерь, которые несла Красная Армия, даже надуманные известия о незначительных по своим масштабам волнениях в тылу вызывали глубокое беспокойство советского руководства. В сентябре 1941 г. было принято решение о создании в ряде регионов страны (в том числе и в Чечено-Ингушетии) в составе местных органов НКВД особых Отделов по борьбе с бандитизмом. Кроме того, в Шатойском, Галанчожском и Итум-Калинском районах создаются постоянные оперативные группы, имевшие целью быстро пресекать любые проявления бандитизма. Для поддержки действий оперативных групп в декабре 1941 г. в Чечено-Ингушской АССР сформирован 178-й мотострелковый батальон, развернутый в следующем году в 141-й горнострелковый полк войск НКВД3.
Масштабы и характер волнений, имевших якобы место в Чечне в октябре 1941 г., требуют изучения. Реальными здесь были только бомбардировки советской авиацией чеченских аулов и хуторов. Все остальное под вопросом. Заметим, что в принципе резкий всплеск бандитизма наблюдался во всех советских городах с началом войны и по мере приближения фронта. В той же Москве осенью 1941 г. массы бандитов, пользуясь паникой, вышли на улицы и средь белого дня грабили склады, магазины и учреждения. Власти были вынуждены ввести осадное положение. За три года войны было зарегистрировано так называемых «бандповстанческих групп» по Северному Кавказу 1982, по Закавказью 1549, по Средней Азии 1217, в европейской части РСФСР 5527, по Сибири и Дальнему Востоку 15764.
Однако, несмотря на малочисленность антисоветских групп и несогласованность их действий, местные правоохранительные органы в Чечено-Ингушетии были не в состоянии эффективно бороться с ними. Так, очередная проверка работы Ножай-Юртовского районного отдела НКВД, проведенная в мае 1942 г., выявила почти полную бездеятельность его работников. На весь район имелось всего 29 осведомителей,
1 ГАРФ. Ф. P-9478. On. 1. Д. 63. Л. 16,17; Репрессированные народы России: чеченцы и ингуши: Документы, факты, комментарии. — М., 1994. — С. 31; Музаев М. Указ, соч. — С. 3.
2 Ингуши: депортация, возвращение, реабилитация, 1944—2004. Документы, материалы, комментарии. Авт.-сост. Я. С. Потиев. — Магас, 2004. — С. 19 и др.
3 ГАРФ. Ф. P-9478. On. 1. Д. 30. Л. 6, 19.
4 Репрессированные народы России: чеченцы и ингуши. Документы, факты, комментарии / Сост. Н. Ф. Кугай. — М., 1994. — С. 121.
— 816 —
Социально-экономические и общественно-политические последствия войны для нашего края.
Проблема коллабарации
завербованных еще в 1937 г., а среди личного состава районной милиции процветало пьянство. Было выявлено также немало случаев, когда вооруженные милиционеры устраивали дебош. Кроме того, как показали на допросах некоторые из задержанных бандитов, отдельные работники НКВД прямо содействовали уголовным бандитам в своем районе и получали «долю с их грабежей»1.
Провокации сталинских секретных служб. Всю подноготную «широкого антисоветского движения» в горах Чечено-Ингушетии вскрывают контакты руководителей сталинских спецслужб с так называемыми «горскими повстанцами» в годы войны. Это была грандиозная, но обычная для громадной машины советской госбезопасности оперативная игра. Причем игра с бандитами в горах дошла до того, что ее вели сами руководители спецслужб — от Албогачи- ева в Грозном до Берия в Москве. Известно, что и М. Шерипов и X. Исраилов, фигуры поистине трагические, осознанно пришедшие к необходимости вооруженного сопротивления кровавой сталинской диктатуре, были искуственно подведены к тайным контактам с рядом руководящих работников Чечено-Ингушского НКВД. Так, М. Шерипов, оказывавший влияние на руководителей формирований в Шатойском, Итум-Калинском и Чеберлоевском районах, имел «связи» с начальниками отделов НКВД всех перечисленных районов. Кроме того, он поддерживал отношения с Идрисом Алиевым, начальником отдела по борьбе с бандитизмом Чечено-Ингушского НКВД и сотрудником того же отдела О. Худаевым2.
Поздней осенью 1942 г. И. Алиев и другие работники Чечено-Ингушского НКВД имели ряд встреч с X. Исраиловым и некоторыми другими руководителями повстанческих групп. Тогда же, в доме жителя селения Мужичи Баадулы Гудиева состоялись переговоры и с некими немецкими офицерами, вероятно диверсантами. Предмет переговоров — «оказание содействия» наступающим германским войскам3.
В секретной переписке с X. Исраиловым состоял, как мы уже указывали, и сам нарком НКВД Чечено-Ингушетии С. Албогачиев, назначенный на этот пост по личному ходатайству Л. Берия (у которого Албогачиев работал в свое время помощником). Причем из опубликованных уже в 90-гг. XX в. документов якобы следует, что и X. Исраилов,
4 См.: ГАРФ. Ф. P-9478. On. 1. Д. 30. Л. 56,108,187; Репрессированные народы: чеченцы и ингуши. Пакет документов № 2 // Шпион. Альманах писательского и журналистского расследования. Вып. 1. — М., 1993. — С. 33; Вып. 2. — М., 1993. — С. 57—59.
2 Репрессированные народы: чеченцы и ингуши. Пакет документов № 2 // Шпион. Альманах писательского и журналистского расследования. Вып. 2. — М., 1993. — С. 63.
3 Репрессированные народы: чеченцы и ингуши. Пакет документов № 1 // Шпион. Альманах писательского и журналистского расследования. Вып. 1. — М., 1993. — С 27.
Глава XVII. Чечено-Ингушская АССР в Великой Отечественной войне Советского Союза
1941—1945 гг.
а также другие руководители антисоветских повстанцев поддерживали связь с германской агентурой в городе Орджоникидзе (Владикавказ) именно через руководителей республиканского НКВД1.
Нет сомнений в том, что все эти контакты осуществлялись в рамках тайной операции по выявлению действовавших антисоветских групп и их каналов связи с секретными службами Германии в контексте обороны нефтепромышленного Грозного. Нельзя было допустить высадки мощного десанта в горах, от которых Грозный отстоял всего-навсего в 30 километрах. С этой целью содержались в качестве приманки «повстанческие» группы и велась оперативная игра с несколькими реальными противниками советской власти (объективно они выполняли роль «подсадных уток»).
Здесь спецслужбами был наработан солидный опыт. Так, в 1930 г. в той же Ингушетии, по аулам разъезжал восточного вида человек, выдававший себя «представителем Японии». Рассказывал о скором вступлении Японии в войну с СССР, сорил деньгами, цитировал Коран и всеми силами пытался вовлечь в какие-то «отряды» и «штабы» темных горцев, которые слепо следуя законам гостеприимства принимали странного гостя и выслушивали его не менее странные речи. Вскоре в Ингушетии войска ОГПУ произвели массовые аресты «японских членов», сотни из которых пропали в застенках2.
Еще один типичный пример уже периода Великой Отечественной войны: органы НКВД Вологодской области совместно со СМЕРШем Архангельского военного округа, опираясь и на реально имевшие место факты восстаний заключенных в лагерях ГУЛАГа, распространили в 1942 г. легенду, что на территории нескольких районов области существуют группы спецпереселенцев с Западной Украины, готовых начать массовое повстанческое движение. Немецкая разведка поймалась на эту приманку и с осени 1943 по весну 1944 гг. выбросила сюда ряд десантов и военных грузов3.
Руководители спецслужб, поддерживавшие так называемые «бандитские» группы в горах Чечено-Ингушетии и по существу обеспечивавшие им «успех» в их повстанческих действиях, получали содействие и благодарность от центрального руководства. Так, нарком внутренних дел ЧИАССР, капитан госбезопасности С. Албогачиев (ингуш по национальности), подозреваемый в связях с ингушскими и чеченскими «политбандитами», подвергаемый критике местным обкомом ВКП(6) за авантюризм, развал работы в наркомате и дезинформацию обкома ВКП(б) о положении дел, на глазах делает стремительную карьеру.
1 Репрессированные народы России: чеченцы и ингуши: Документы, факты, комментарии. — М., 1994. — С. 34.
2 Костоев Б. Кавказский меридиан. — М., 2001. — С. 222—223.
3 Степанков В. Я. Нарком СМЕРШа. — СПб., 2003, — С. 98—99.
— 818 —
Социально-экономические и общественно-политические последствия войны для нашего края.
Проблема коллабарации
За год с небольшим следует одно поощрение за другим, он получает орден, два внеочередных повышения и в чине полковника госбезопасности (равнялось званию армейского генерал-лейтенанта) летом 1943 г. переводится на работу в Москву (работал в центральном аппарате КГБ СССР до пенсии и умер в 1968 г.). Другой офицер, ингуш Идрис Алиев, возглавлявший Отдел по борьбе с бандитизмом НКВД ЧИАССР, открыто подозреваемый в «связях с бандитами» и в прямом предательстве собственными подчиненными, также делает за один год прыжок от капитана до подполковника госбезопасности (равнялось званию армейского генерал-майора), получает боевой орден и переводится на работу в центральный аппарат в Москву1. Кстати, после перевода Албогачиева в Москву в сентябре 1943 г., вполне дружескую переписку с Исраиловым вел другой нарком НКВД Чечено-Ингушетии — В. А. Дроздов.
Отсюда следует, что главные успехи Албогачиева и Алиева находились в плоскости организации соответствующих «условий» и «причин» для выселения коренных народов края, а не в формате реальной борьбы с преступностью и повстанческим движением. Эта тайная сторона деятельности двух высокопоставленных чекистов — прямых агентов Берия — была закрыта даже для высших партийных органов Чечено- Ингушской АССР.
Лидеры антисталинских выступлений. X. Исраилов и М. Шерипов, пытавшиеся собрать воедино разрозненные антисоветские группы и наладить постоянное взаимодействие между ними с одной стороны, и немецким командованием, с другой стороны, могли, правда, и не догадываться, в какой роли они выступают в реальной действительности.
Так, X. Исраилов разрабатывает планы создания «Особой партии кавказских братьев», которой он затем дает новое название: «Национал-социалистическая партия кавказских братьев». При этом то, что известно о «Национал-социалистической партии кавказских братьев», заставляет вспомнить реально никогда не существовавшие, но печально известные контрреволюционные «организации» эпохи «большого террора» в СССР. Из документов, составленных X. Исраиловым, вытекало, что уже в ноябре 1941 г. в его партии состояло до «5 тысяч человек», а партийные ячейки существовали не только в Чечено-Ингушетии, но и в 7 (!) соседних кавказских республиках и областях. В одной только Чечено-Ингушской АССР в «вооруженном восстании», намеченном на 28 января 1942 г., якобы готовились принять участие до «25 тысяч человек» (!)2 Понятно, что никакого восстания в январе 1942 г. не было,
1 См.: Музаев М. Н. Злопыханье на чеченский и ингушский народы и на историческую правду // Голос Чеченской Республики. — 2003. — Июнь. — № 6. — С. 3; Ингуши: депортация, возвращение, реабилитация... — С. 26, 31, 37—37,47—49; и др.
2 Репрессированные народы России: чеченцы и ингуши: Документы, факты, комментарии. — М., 1994. — С. 39.
Глава XVII. Чечено-Ингушская АССР в Великой Отечественной войне Советского Союза
1941—1945 гг.
а если бы в волнениях приняло участие 25 тысяч человек, ситуация в горной части Чечено-Ингушетии полностью вышла бы из-под контроля советских органов.
Известно другое: в августе 1942 г. М. Шерипов, собрав до 150 «повстанцев», вошел в районный центр Шароевского района — небольшое горное селение Химой, и разграбил его. Операция была согласована с начальником Отдела по борьбе с бандитизмом НКВД Чечено-Ингушской АССР И. Алиевым, который за сутки до этого нападения вывел из Химоя отряд внутренних войск. Как на то и рассчитывали подлинные организаторы «восстания», после такого «успеха» со всех уголков к М. Шерипову стали стекаться скрывавшиеся «политбандиты», с которыми он двинулся к другому районному центру Итум-Кале, где был встречен большими силами НКВД и благополучно разгромлен. Тогда же привлеченные слухами о крупном «восстании» в чеченских горах немцы сбрасывают 25 августа 1942 г. на территорию Галашкинского района большую диверсионную группу Османа Губе (аварец Осман Сайднуров), которая с первых же минут оказалась под плотной опекой разного рода «лжеабреков», мюридов нескольких «советских» шейхов и прямых работников спецслужб. Впоследствии, после ареста матерый абверовец с удивлением отмечал: «Среди чеченцев и ингушей я без труда находил нужных людей, готовых предать, перейти на службу немцев и служить им». Фашиста «водили за нос» по горам Ингушетии и Чечни целых четыре месяца.
В литературе встречается утверждение, что якобы в октябре 1942 г. некий немецкий диверсант унтер-офицер Реккет поднял восстание в Веденском и Чеберлоевском районах Чечено-Ингушской АССР. Данное событие не имело места быть. В ходе чекистской операции у селения Махкеты при помощи местного населения Реккет был убит, а руководитель другой диверсионной группы осетин Дзугаев арестован.
Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что НКВД сделало все возможное, чтобы контакты между X. Исраиловым и командирами немецких диверсионных групп носили эпизодический характер и проходили только через сотрудников спецслужб. Добиться этого удалось благодаря тому, что агенты НКВД, под видом нелегалов, являлись у диверсантов проводниками и советниками. В сентябре 1942 г. X. Исраилов в одном из писем предупреждал командира одного из диверсионных отрядов обер-лейтенанта Э. Ланге: «...если правда то, что с Вами... находятся Гайтиев, Эльмурзаев, Дурдышев и другие чекисты-лжеабреки, то Вам предстоит скверная гибель...»1
1 См.: Репрессированные народы: чеченцы и ингуши. Пакет документов № 2 // Шпион: Альманах писательского и журналистского расследования. Вып. 2. — М., 1993. — С. 61—62; Курылев К В. Боевой путь милиции Чечено-Ингушетии. — Грозный, 1976. — С. 137—140,144—145; Музаев М Указ. соч. — С. 3; и другие архивные дела.
— 820 —
Социально-экономические и общественно-политические последствия войны для нашего края.
Проблема коллабарации
Только в Ингушетии действовали более или менее бесконтрольно так называемые «бандгруппы» баталхаджийцев — Докиева, Нальгиева и Махаури. Наибольшей известностью пользовался отряд непримиримого народного мстителя Ахмеда Хучбарова. В 1943 г. на его родной аул Гули совершила налет советская авиация, мстя ни в чем неповинным людям1 2.
Пик активности антисоветских групп в республике, не без «согласования» руководства спецслужб, пришелся на вторую половину 1942 г. и первую половину 1943 г. Так, крупные столкновения частей НКВД и антисталинских повстанцев имели место в конце сентября 1942 г. возле горного хутора Тюли Итум-Калинского района. Только в одном бою внутренние войска потеряли 31 человека убитыми и 10 ранеными. Противостоящие им повстанцы беспрепятственно отступили дальше в горы, причем вместе с ними, по данным НКВД, якобы ушла большая часть населения Хильдехороевского сельского совета, что истине не соответствовало К
Карательные акции в горной Чечне. Вышеуказанные акции «по- литповстанцев» и «лжебандитов» позволили НКВД уже осенью 1942 г. провести крупные операции в горах, вплоть до авиаударов, направленных целиком против местного населения как такового. Только в октябре в Веденском районе и части Чеберлоевского района оперативными группами и частями внутренних войск было убито 135 человек. Всего за 1942 г. на территории Чечено-Ингушетии число убитых «бандитов» составило 295 человек. Кроме того, были задержаны 180 человек, уклонявшихся от «мобилизации», и якобы 1762 «дезертира» (неясно, кого в этом случае называют дезертирами, так как мобилизации в армию, начиная с 1942 г., чеченцы и ингуши не подлежали). Сами внутренние войска потеряли при этом убитыми 61 военнослужащего. Органами НКВД широко практиковались репрессии в отношении семей лиц, являющихся «врагами народа». Так, только во второй половины 1942 г. были задержаны в качестве заложников 216 семей, уничтожено 100 хуторов и отдельных домов2.
Незаконные (даже по сталинским законам военного времени) репрессии, которые обрушились на население горных районов Чечено-Ингушетии, были значительными по размаху. Проверка, проведенная летом 1943 г. работниками центрального аппарата НКВД, показала, что за первую половину года в Чечено-Ингушской АССР во время оперативно-войсковых операций было убито в общей сложности 213 человек, из которых только 22 состояли на учете в правоохранительных органах3.
2 См.: Курылев И. В. Указ. соч. — С. 131; Возвращение к истокам: Ингушетия в лицах и фактах. — С. 209.
1 См.: ГАРФ. Ф. P-9478. On. 1. Д. 30. Л. 221; Д. 274. Л. 12, 220.
2 ГАРФ. Ф. P-9478. On. 1. Д. 30. Л. 234; Д. 63. Л. 39; Д. 274. Л. 1, 2,4, 9.
3 Репрессированные народы России: чеченцы и ингуши: Документы, факты, комментарии. — М., 1994. — С. 37.
Глава XVII. Чечено-Ингушская АССР в Великой Отечественной войне Советского Союза
1941—1945 гг.
По существу, и эти 22 человека, стоявшие на оперативном учете, всего лишь подозревались в тех или иных незаконных действиях. Остальные погибшие не только не были ни в чем повинны, но даже не находились на подозрении. Видимо, такой же была и статистика предыдущего 1942 г., когда чекистами было убито 295 человек.
Сопротивление населения уголовникам и диверсантам. Репрессии (хотя и в гораздо меньших масштабах) практиковали и повстанческо-криминальные отряды. Объектом нападения чаще всего являлись мирные жители. За 1943 г. партийные и советские работники подвергались нападениям 75 раз, работники НКВД — 19 раз. Колхозы и другие советские организации грабились 20 раз. Из 42 человек, погибших во время этих нападений, ровно половину составили мирные жители1.
Следует отметить, что попытки бандитов разграбить колхозное имущество часто встречали вооруженный отпор со стороны колхозников. Так, 22 ноября 1942 г. уголовная банда Шейхаева Халида, численностью 34 человека, напавшая на животноводческую ферму в селении Гули Веденского района, в ходе ожесточенной перестрелки с жителями потеряла убитыми и раненными до половины своего состава. Погибли и четверо местных жителей. Этот случай не был единичным — в общей сложности по Чечено-Ингушетии 23 колхозника были награждены Почетными грамотами Президиума Верховного Совета Ч И АССР именно за активное участие в борьбе с бандитизмом2.
Несомненным успехом НКВД можно считать нейтрализацию большей части руководящего звена как повстанческих так и криминальных формирований. Еще в ноябре 1942 г. при помощи секретных агентов был убит М. Шерипов, скрывавшийся в ущелье Кулан-Чу. Позднее погибли
С. Махмудов, Р. Сахабов, Я. Шуаибов, сдались властям Д. Муртазалиев (скрывавшийся с 1925 г.), К. Сангиреев, А. Бадаев и еще несколько главарей. Предельно была сужена деятельность отряда X. Исраилова.
Буквально в последние годы достоянием и чечено-ингушских историков стали секретные документы НКВД, рассказывающие о серьезном вкладе отдельных религиозных деятелей и сотен рядовых мюридов суфийских орденов в борьбе с немецкими диверсантами и так называемыми «политбандитами»3.
Таким образом, к 1944 г. большая часть имевшихся в Чечено-Ингушетии криминальных банд и повстанческих формирований была разгромлена. Кроме того, удалось надежно изолировать и район действия еще остающихся формирований, в том числе и по периметру
1 ГАРФ. Ф. P-9478. On. 1. Д. 274. Л. 10,12.
2 Филькин В. И. Патриотизм трудящихся Чечено-Ингушской АССР в период Великой Отечественной войны. — Грозный, 1989. — С. 30; Курылев И. В. Указ. соч. — С. 144—145.
3 См.: ГАРФ. Ф. P-9478. On. 1. Д. 63. Л. 70; Келематов А. Чечня: в когтях дьявола или на путях к самоуничтожению. — М., 2003; и др.
— 822 —
Социально-экономические и общественно-политические последствия войны для нашего края.
Проблема коллабарации
грузинской границы, где подразделениями 40-го и 263-го полков НКВД было выставлено большое количество заслонов. Уже со второй половины
1943 г. резко снижается активность антисоветских группировок, действия которых принимают все более ярко выраженный криминальный характер. Эта тенденция сохраняется и в 1944 г., в тот год, когда было произведено выселение чеченцев и ингушей1.
Как следует из отчетов тех же органов районных ВКП(б) и НКВД, в частности, столь часто поминаемого Галанчожского района2, ситуация в Чечено-Ингушетии принципиально ничем не отличалась от той, что наблюдалась в соседних и более отдаленных национальных республиках Советского Союза. Так, по данным Отдела борьбы с бандитизмом НКВД СССР, за 1941—1943 гг. по всей стране были ликвидированы 7163 повстанческие группы, общей численностью 54130 человек. Всего, с момента начала Великой Отечественной войны и до конца
1944 г. в Чечено-Ингушской АССР, по данным НКВД, зафиксировано 421 нападение, осуществленное крупными и мелкими группами, часть которых советскими правоохранительными органами относилась к категории «повстанческих». За этот же период якобы было разгромлено 197 банд, задержано более 4,5 тысяч «дезертиров» разных национальностей и около 1 тысячи человек, уклонявшихся от мобилизации.
Правда, примерно такие же и еще большие данные НКВД имеются и по соседним национальным республикам. Причем если в Чечено-Ингушетии со второй половины 1943 г. наблюдается резкое снижение количества действующих бандгрупп, то в некоторых соседних республиках, это произойдет гораздо позднее. Так, в августе 1943 г. на всем Северном Кавказе действуют 156 незаконных вооруженных формирований общей численностью 3485 человек (данные НКВД). В том числе: в Чечено-Ингушетии — 44 (насчитывающие до 300 участников), в Кабардино-Балкарии — 47 (более 900 участников), а в Дагестане число действующих нелегалов составляет еще более значительную цифру — 1500 человек, плюс одна тысяча дезертиров и до 800 человек, уклоняющихся от мобилизации. В Северной Осетии за три года войны насчитывалось 4366 фактов дезертирства, 862 случая уклонения от службы. Здесь также активизировались «политбанды» и диверсионные группы абвера3.
Реально на конец августа 1943 г., по внутренним данным спецслужб, в Чечено-Ингушской АССР было на учете до 54 «бандгрупп» с общим
1 ГАРФ. Ф. P-9478. On. 1. Д. 467. Л. 6.
2 ГАРФ. — 1044. On. 1. Д. 1; On. 1. Д. 2; Музаев М. Указ. соч. — С. 3.
3 См.: Ингуши: депортация, возвращение, реабилитация. 1944—2004 / Авт.-сост. Я. С. Патиев. — Магас, 2004. — С. 50—53; Бугай Н. Ф. Великая Отечественная война: проблема «второго фронта» на территории СССР. 40-е годы // Пятидесятилетие Великой Победы над фашизмом: история и современность. — С. 92; Баликоев Г. М., Медоев Е. О. Национальная политика Советского Союза на Северном Кавказе в годы Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.). — Владикавказ, 2001. — С. 82—89.
Глава XVI). Чечено-Ингушская АССР в Великой Отечественной войне Советского Союза
1941—1945 гг.
количеством участников 359 человек, из которых 30 «банд» (191 человек), не проявляли себя с 1942 г. (т. е., по существу, были распавшимися). Самая крупная «банда» Хасана Исраилова, «засоренная», кстати, сексотами, насчитывала, по некоторым данным, всего 14 человек1.
Сам С. Албогачиев, готовивший в свое время наряду с И. Алиевым для Л. Берия «повстанческие материалы» для выселения чеченцев и ингушей, утверждал в 1963 г. (находясь уже на пенсии): «Бандитов в горах Чечни было не больше, чем в других регионах страны... По моим подсчетам в горах Чечни было в то время около 300 бандитов, в том числе около 160—170 активно действующих...
...Чеченцы, ингуши и русские опоясали республику противотанковыми рвами, ДОТами и ДЗОТами. Повторяю еще раз — не было никаких причин для выселения чеченцев и ингушей. Это подтвердил и сам Берия во время процесса над ним в 1953 году»2.
Партийные и чекистские органы ЧИАССР в годы войны. В связи с «развалом» оперативной работы районными органами НКВД в начале войны бюро Чечено-Ингушского обкома ВКП(б) было вынуждено специально обсудить это направление работы. Были отмечены случаи взяточничества, очковтирательства, морального разложения, проявления непрофессионализма и смычки с «темными элементами» работников органов НКВД. Бюро обкома ВКП(б) посчитало необходимым потребовать снятия с должности начальника Пригородного отделения НКВД Цуцуловского, начальника Атагинского отделения НКВД Разживина, наказания руководителя опергруппы НКВД Кор- шева и т. д.
В связи с этим, в 1941—42 гг. произошла замена скомпрометировавших себя руководящих кадров не только в указанных выше, но и в других районных отделениях НКВД. В основном новые назначенцы были из молодых, дееспособных, профессионально подготовленных работников госбезопасности из чеченцев — Исаев (Шатоевское отделение НКВД), Межиев (Итум-Калинское отделение НКВД), Эльмурзаев (Старо- Юртовское отделение НКВД) и др. Единственный, кто изменил во время войны и ушел к повстанцам, был начальник Шароевского отделения НКВД Пашаев (кстати, он по национальности чеченцем не был). Однако вопрос с Лаптевым опять-таки требует своего исследования3.
В ряде «исторических исследований» просталинских авторов 90-х гг. (И. Пыхалов, Н. Бугай) либо абсолютно искажалась политическая
1 ГАРФ. Ф. P-9478. On. 1. Д. 58. Л. 46—47, 102, Д. 274. Л. 1—18; Музаев М. Указ. соч. — С. 3; Шпион (альманах) // — М., 1993. — № 2. — С. 343—347.
2 Костоев Б. Кавказский меридиан. К вопросу русско-осетинских отношений. — М., 2001. — С. 228—229.
3 Использованы материалы статьи Музаева М. Н. Злопыханье на чеченский и ингушский народы и на историческую правду // Голос Чеченской Республики. — 2003. — Июнь. — № 6. — С. 3.
Социально-экономические и общественно-политические последствия войны для нашего края.
Проблема коллабарации
ситуация в Чечено-Ингушетии в годы Великой Отечественной войны, либо приводились различные оперативные «справки» без анализа и критического подхода. Так, со слов преступного элемента — заместителя Л. П. Берия Б. Кобулова (в 1953 г. был расстрелян как палач и изверг) стали публиковаться «данные» о массовом предательстве чеченцев и ингушей, об измене местных партийных и даже чекистских кадров. Так, Б. Кобулов писал, что в августе-сентябре 1942 г. в Чечено-Ингушетии «убежало» 14 руководителей райкомов ВКП(б), 8 руководящих работников райкомов и 14 председателей колхозов (в то время ЧИАССР включала в себя 24 района, включая городские). Между тем, ни одна из этих цифр не соответствовала действительности.
Такое могло иметь место, скажем, в Ставропольском крае, Северной Осетии или Кабардино-Балкарии, попавших в оккупацию (здесь руководство равнинных районов бежало перед наступающими немцами, не обеспечив предварительно даже эвакуацию наличного скота)1. Чечено-Ингушетия не была оккупирована даже частично (за исключением одного населенного пункта — рабочего городка Малгобека. В Чечено-Ингушской АССР в августе-сентябре 1942 г. связь обкома ВКП(6) с районами не терялась ни на один день. Райкомы очень активно работали по мобилизации средств и сил на отпор врагу. Так, именно в августе 1942 г. во всех районах и городах республики были проведены антифашистские митинги летом-осенью, успешно обезвреживались бандитские группы, строились масштабные оборонительные сооружения вокруг Малгобека и Грозного. Колхозы высокогорных Галанчожского и Шатоевского районов, где якобы шли «восстания», в 1942 г. досрочно выполнили государственный план по производству животноводческой продукции и даже сдали мясо в счет 1943 г.
Повышенный план по поставке зерна государству Чечено-Ингушская АССР в 1943 г. выполнила на 111%. Это был труд сельчан, многим из которых со времени образования колхозов не было выплачено ни одного килограмма зерна2.
Таким образом, между явлением «бандитизма» в горах Чечено-Ингушетии и собственно решением о депортации чеченцев и ингушей не было причинно-следственной связи. Это два разных процесса, развивавшихся в разных плоскостях. Если бы в основу подобного
1 Сабанчиев Х.-М. Выселение балкарского народа в годы Великой Отечественной войны: причины и последствия // Центральная Азия и Кавказ. Общественно-политический журнал. // Интернет.Ы:т. 2003. — С. 1.
2 См.: Чечено-Ингушский областной партийный архив. Ф. 1. On. 1. Д. 758. Л. 47—49; Оп. 5. Д. 5. Л. 43—45; Филькин В. И. Патриотизм трудящихся Чечено-Ингушской АССР в период Великой Отечественной войны. — Грозный. — 1989. — С. 11, 30—31; Его же. Чечено-Ингушская партийная организация в годы Великой Отечественной войны Советского Союза. — Грозный. — 1960; Курылев И. В. Указ. соч. — С. 138—140; Музаев М. Указ. соч. Н Голос Чеченской Республики. — Июнь 2003. — Ж№ 4,5,6.
— 825 —
Глава XVII. Чечено-Ингушская АССР в Великой Отечественной войне Советского Союза
1941—1945 гг.
решения ложились количественные данные о коллабарации того или иного народа, то до чеченцев и ингушей очередь просто не дошла бы. С точки зрения сталинских изуверов наказанию, в первую очередь, подлежали 70 миллионов человек — население семи оккупированных союзных республик и западных областей РСФСР.
Участие чеченцев и ингушей в Великой Отечественной войне Советского Союза не оборвалось даже в день их депортации — 23 февраля 1944 г. Только к одному их открытому врагу — гитлеровской Германии и ее полчищам присоединился еще один страшный военный и политический противник — режим Сталина, заявивший себя противником вайнахов как нации и вероломно начавший против нее военные действия. 23 февраля 1944 г. Сталин подло развязал войну против граждан СССР — чеченцев и ингушей (так же, как и против советских немцев, карачаевцев, балкарцев, калмыков, немцев, татар, турок-месхетинцев, греков, корейцев и т. д.).
17-летний боец Ваха Алиев написал И. Сталину в 1944 г. то, о чем думали его боевые товарищи: «Тысячи моих земляков остались лежать на полях сражений от Бреста до Сталинграда, а Вы назвали нас предателями. Мой народ никогда не простит Вам этого! В то время, когда мы погибали за Родину, Вы расправились с нашими матерями и сестрами, не пощадили даже стариков и детей...»1
Изучение Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—1945 гг. дает нам примеры как величайшего массового героизма и жертвенности, так и беспримерных в истории масштабов предательства, измены, дискриминации и репрессий против собственного населения и целых народов.
* * *
Великая Отечественная война явилась тяжелым испытанием для всех народов СССР, в том числе чеченцев и ингушей. Чечено-Ингушетия заняла немалое место в противоборстве фашистской Германии и сталинской державы, ибо здесь добывалась нефть и вырабатывался бензин, столь необходимый фронту. Именно Чечено-Ингушетия (Грозный) и Азербайджан (Баку) обеспечили фронт и весь транспорт страны необходимым топливом, без которого страна рухнула бы под натиском Германии в первый же год войны.
В целом население Чечено-Ингушетии заняло последовательно патриотическую позицию и в 1941—1944 гг. активно пополняло ряды советской армии. Бойцы из чеченцев и ингушей достойно сражались на всех фронтах Великой Отечественной войны, являясь зачастую примером самоотверженности и героизма.
1 Объединенная газета. — 2004. — 10 ноября. — № 19(51). — С. 10.
— 826 —
Социально-экономические и общественно-политические последствия войны для нашего края.
Проблема коллабарации
17 июля 1944 г. Прохождение колонны военнопленных немцев в Москве. Фото (71, 12)
Велик был вклад в общую победу над Германией многонационального рабочего класса Чечено-Ингушетии, занятого в основном в нефтедобыче и нефтепереработке чеченской нефти. Героически трудились труженики села, не только выполняя в разы увеличенные нормы поставок зерна и мяса, но и перевыполняя планы поставок.
Вместе с тем, как и во всех республиках, краях и областях СССР, в Чечено-Ингушетии наблюдалась активизация антисоветских групп и уголовных банд (масштабы этого явления значительно раздувались органами НКВД). В целом же чеченцы и ингуши, по ряду причин не вписываются даже в средние параметры коллабарации, свойственных, скажем, для оккупированных областей, населенных русскими и украинцами, литовцами и эстонцами, белорусами и молдаванами, не говоря уже о некоторых краях Северного Кавказа.
Несмотря на недоверие, высказываемое властями в отношении коренных народов Чечено-Ингушской АССР, они честно выполнили свой долг перед страной в самые тяжелые для нее годы. Из десятков тысяч чеченцев и ингушей, непосредственно ушедших на фронт, живыми вернулись менее шести тысяч, из которых почти половина являлись инвалидами.
Q17
Глава XVIII. Депортация чеченцев и ингушей 23 февраля 1944 года. Несломленные народы
§ 1. Ход выселения
Причины преступной акции. Депортация — массовое, насильственное выселение отдельных общностей, отобранных по определенному принципу (этническому, расовому, религиозному, социальному, политическому и т. д.) — признается в мировой практике военным преступлением и преступлением против человечности. Если же в ходе осуществления указанного преступления или в результате его последствий значительное число людей лишается жизни, то депортация рассматривается как еще более тяжкое преступление — геноцид.
Выселение чеченцев и ингушей по этническому признаку было осуществлено 23 февраля 1944 г., а позже — 7 марта 1944 г. появился Указ Президиума Верховного Совета, который гласил: «В связи с тем, что в период Великой Отечественной войны, особенно во время действий немецко-фашистских войск на Кавказе, многие чеченцы и ингуши изменили Родине, вступали в ряды диверсантов и разведчиков, забрасываемых немцами в тылы Красной Армии, создавали по указке немцев вооруженные банды для борьбы против Советской власти и в течение продолжительного времени, будучи не заняты честным трудом, совершают бандитские налеты на колхозы соседних областей, грабят и убивают советских людей, Президиум Верховного Совета СССР постановляет:
1. Всех чеченцев и ингушей, проживающих на территории Чечено- Ингушской АССР, а также в прилегающих к ней районах, переселить в другие районы СССР, а Чечено-Ингушскую АССР ликвидировать...»1
Абсурдное по своей сути, это обвинение, тем не менее, полностью находилось в русле логики советского руководства сталинской эпохи, ведшего политику государственного террора, когда «антисоветскими» объявлялись целые социальные слои («эксплуататорские» и «мелкобуржуазные классы») или отдельные народы. Если уничтожение «контрреволюционных» общественных страт через «красный», а затем и «большой» террор велось с первых дней советской власти, то репрессии против «антисоветских» наций начались в конце 30-х гг., накануне вступления СССР во Вторую мировую войну, и являлись как бы частью подготовки к большой войне. Так, выселение корейцев с Дальнего Востока объяснялось их «ненадежностью» в случае военного
1 Так это было: Национальные репрессии в СССР 1919—1952 годы: В 3 т. Т. 2. — М.,
1993. — С. 87.
— 828 —
Ход выселения
столкновения с Японией, массовое выселение поляков из западных областей Украины и Белоруссии, присоединенных в 1939 г., объяснялось их приверженностью к сохранению единой Польши и т. д.
Само же по себе выселение или депортация целых народов в эпоху Сталина являлось одним из сущностных проявлений тоталитарного режима в СССР и входило в составляющую геноцида, который был изначально включен в арсенал средств режима со дня его возникновения. А что служило спусковым крючком для проявлений указанной сущности, было уже не столь важно.
Нападение Германии на СССР сразу же вызвало поголовное насильственное выселение в восточные регионы страны советских немцев и финнов. Позднее репрессии коснутся калмыков, карачаевцев, чеченцев и ингушей, балкарцев, крымских татар и греков, крымских болгар, ту- рок-месхетинцев и курдов. Причем официально объявленные мотивы выселения целых народов зачастую отчетливо отдавали политической шизофренией. Так, Указ Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 г. о выселении немцев автономной Республики немцев Поволжья, написанный, по всей видимости, рукой И. В. Сталина, гласил: «По достоверным данным, полученным военными властями, среди немецкого населения, проживающего в районах Поволжья, имеются десятки и тысячи диверсантов и шпионов, которые по сигналу, данному из Германии, должны произвести взрывы... О наличии такого большого количества диверсантов и шпионов среди немцев Поволжья никто из немцев, проживающих в районах Поволжья, советским властям не сообщал, следовательно, немецкое население районов Поволжья скрывает в своей среде врагов советского народа и советской власти...»1
Практическая реализация решения о массовом выселении чеченцев и ингушей началась тогда, когда угроза захвата Кавказа германскими войсками была полностью ликвидирована, а так называемое «повстанческое движение» в горах Чечено-Ингушетии, осуществляемое зачастую «лжеабреками» и чекистами, даже по официальным данным, резко шло на убыль. Кроме того, Чечено-Ингушетия не была под немецкой оккупацией, а переход «на сторону немцев» наблюдался только со стороны казаков терских станиц, которые в тот период не входили в состав Чечено-Ингушской АССР. Таким образом, официальные причины выселения — «сотрудничество с немцами» и угроза советскому тылу — не выдерживают никакой критики.
Представляется, что сталинский режим демонстративным уничтожением малых народов «за измену и предательство» хотел преподать урок остальным крупным «социалистическим» нациям, для которых подобные обвинения, в силу объективных причин, звучали куда актуальнее. Ведь страшные поражения вооруженных сил СССР на первом
1 Neues Leben. — 2003. — 15 сентября. — С. 1.
Глава XVIII. Депортация чеченцев и ингушей 23 февраля 1944 г. Несломленные народы
И. В. Сталин и Л. П. Берия. Фото РГА КФД. Послевоенное фото (Интернет)
этапе войны и оккупация 7 союзных республик объяснялись режимом прежде всего изменой, предательством и трусостью, а не собственными просчетами и ошибками.
Целью депортации могло быть и стремление расколоть нахскую этническую общность, разбросать ее в широком географическом пространстве в ходе переселения, ассимилировать чеченцев и ингушей в советском «плавильном» котле наций, вырвав их из природной среды обитания.
Война позволила относительно легко реализовать планы геноцида, названного депортацией чеченцев и ингушей, благодаря громадному превосходству в силах репрессивной машины над горскими народами, обескровленных сплошным террором, репрессиями, «чистками» и мобилизацией мужского населения на фронт.
Истинные причины депортации собственно чеченцев и ингушей, равно как и некоторых других народов Северного Кавказа, заключались не только в особенностях официальной идеологии и человеконенавистнической практики сталинского государства, но также в корыстных интересах руководителей отдельных республик Кавказа, местных партийно-советских групп, карательных ведомств всех уровней и видов. Как известно, именно к Грузии отошли большая часть районов Карачая,
Ход выселения
Балкарии и горной части Чечни, а к Северной Осетии практически вся Ингушетия. Зная о негативных настроениях И. Сталина и Л. Берия в отношении ряда горских народов, местные партийно-советские круги организовывали массовые и индивидуальные обращения «трудящихся» своих республик к «вождю народов» с обвинениями чеченцев и ингушей в «бандитизме» и с просьбой об их выселении. Немалым усердием в этом плане отличалась и шовинистически настроенная небольшая часть негорского населения собственно Чечено-Ингушетии и Ставрополья.
Практика «народоубийства» в СССР. Если же признать верность всех сталинских документов того времени и следовать официально заявленным причинам выселения: «измена», «предательство», «сотрудничество с немцами», «диверсии», «бандитизм» и т. д., то и в этом случае чеченцы и ингуши занимали далеко не первые места. Достаточно привести некоторые цифры: так, в годы коллективизации на территории СССР 700 тысяч повстанцев с оружием в руках выступали против колхозов. По данным ОГПУ, до 300 тысяч человек состояло в антисоветской Крестьянской трудовой партии. Бесчислены были «заговоры» в различных отраслях промышленности и наркоматах. Процессы следовали за процессами. В 20—30-х гг. XX в. и вплоть до начала войны в стране была развернута настоящая внутренняя война против троцкистов, зиновьевцев, «вредителей», английских, немецких, японских, польских шпионов и диверсантов. Согласно официальным данным, во враждебных действиях против советского государства оказалась замешанной вся верхушка партии. Так, из 1966 делегатов XVII съезда ВКП(б) было репрессировано 1108 человек, а из 138 членов и кандидатов в члены ЦК ВКП(6) — 98 К На 1 января 1941 г. общее число заключенных в СССР, не считая ссыльных и спецпереселенцев, составляло 2400422 человек. Из них не менее 1/3 составляли осужденные за контрреволюционные преступления, в том числе шпионаж, измена Родине, вредительство, антисоветская агитация и т. д. К 1951 г. число осужденных шпионов, террористов и участников антисоветских заговоров в стране продолжало составлять почти 400 тысяч человек. В годы «большого террора» в СССР было расстреляно свыше 600 тысяч одних только «врагов народа», шпионов и изменников Родины1 2.
В 1937—1938 гг. прокатилась волна чистки в Красной Армии. Были репрессированы 3 маршала Советского Союза (из 5), 4 командарма 1-го ранга, 10 командармов 2-го ранга, 71 комкор (и еще 13 человек со званиями,
1 См.: Отечественная история (1917—2001): Учеб. / Отв. ред. проф. И. М. Узнародов. — М., 2002. — С. 173; Яковлев А. Сумерки. — М., 2003. — С. 216—217,225; Викторов Б. А. Без грифа «секретно»: Записки военного прокурора. — М., 1990. — С. 129—161.
2 Пыхалов Игорь. Каковы масштабы «сталинских репрессий» // www.whiteworld. ru. — С 2, 8—9; по другим данным в период с 1919 по 1930 г. органами ВЧК-ОГПУ было расстреляно 2,5 миллиона граждан (Карпов В. Генералиссимус // Роман-газета. — М., 2003. — № 15. — С. 57).
Глава XVIII. Депортация чеченцев и ингушей 23 февраля 1944 г. Несломленные народы
соответствующими званию комкора), 117 комдивов (и еще 27 человек с соответствующими званиями), 172 комбрига (и еще 82 человека с соответствующими званиями), 487 полковников (и еще 330 человек с соответствующими званиями). Это была практически вся военная верхушка огромной советской военной машины. Всего из армии перед войной
1941 г. было уволено до 40 тысяч офицеров, из которых до половины было арестовано, а высшие офицеры в подавляющем числе расстреляны как изменники. Расстрелы шли и в первый год войны. Согласно Сталину, главной причиной неудач на фронте в начале войны было массовое предательство армии. Весь генералитет Красной Армии, арестованный в 1937—41 гг., обвинялся, кстати, в заговоре и шпионаже.
Число военнопленных за годы Отечественной войны составило от 5,74 до 6,2 миллионов человек, «окруженцев» 900 тысяч, угнанных в Германию на принудительные работы 6 миллионов человек, еще 22 миллиона- советских граждан были мобилизованы на работы в зоне немецкой оккупации (где всего оказалось более 70 миллионов человек). Все эти миллионы официально считались изменниками Родины. По разным данным от 1,5 до 3 миллионов советских граждан перешло на сторону врага и участвовало в действиях вермахта, СС и различных полицейских служб. Согласно сталинского приказа № 227 от 28 июля
1942 г., было расстреляно не менее 190 тысяч красноармейцев действующей армии и 800 тысяч человек осуждено в штрафбаты и ГУЛАГ1.
Разумеется, ни в коей мере нельзя сбрасывать со счетов того обстоятельства, что бесчеловечный тиранический режим Сталина порождал сопротивление, которое с началом войны с Германией стало приобретать организационные формы. Как заключил А. С. Солженицын, факт того, что миллион твоих солдат воюет на стороне противника, говорит уже не об измене Родине, а о политическо-историческом процессе, исключающем обвинения в предательстве. Некоторые исследователи ставят даже вопрос о «второй гражданской войне» в СССР в 1941—1945 гг. Режим, который с первого выстрела «Авроры» развернул войну против собственного народа во имя умозрительных социальных химер, никак не мог рассчитывать на его верность при первой же серьезной проверке на прочность. Таких общих для всей страны процессов не могла миновать и маленькая Чечено-Ингушетия.
В годы войны огромный аппарат НКВД и непропорционально раздутые по численности внутренние войска нуждались в определенных «объемах» работы в тылу для оправдания своего существования и своих льгот. Выселение в годы войны целых народов дало органам
1 См.: Черушев Н. С. Удар по своим. Красная Армия 1938—1941 гг. — М., 2003. — С. 270—271; Ибатуллин Т. Военнопленные // Невское время. — 1998. — № 201. — С. 3; Отечественная история (1917—2001). — С. 227—231; Русские коллаборационисты // Независимая газета. — 29.10.1991; Военнопленные // Невское время. — 5 ноября 1998. — № 201 (1843).
Ход выселения
государственной безопасности и охранным войскам оправдание своего неучастия в военных действиях, а также способствовало сохранению и умножению ведомственных привилегий и преимуществ. Так, в декабре 1953 г. на процессе над «изменником Родины» маршалом Л. Берия, председательствующий маршал И. Конев вменил ему в вину следующее: «Почему вы, имея в своем распоряжении более 120 тысяч человек войск НКВД (в 1941—1943 гг. на Кавказе Берия держал под ружьем от 50 до 120 тысяч энкэведешников. — Авт\ не дали их использовать для обороны Кавказа?» Обвиняемый ответил: «Я раньше не говорил почему я не давал войск НКВД для обороны Кавказа. Дело в том, что предполагалось выселение чеченцев и ингушей» \ Таким образом, ГКО СССР во главе с И. Сталиным и наркомом НКВД Л. Берия сознательно ослабляли оборону Кавказа, удерживая в тылу 120-тысячную армию карателей. Численность всей немецкой армии, наступавшей на Кавказ в 1942 г., включая и добровольных помощников из граждан СССР, составляла 167 тысяч человек. Все это, конечно, откровенно отдавало государственной изменой, о чем не мог не заподозрить такой крупный военачальник, как маршал И. Конев.
Выселение народов шло до войны, в ходе войны и должно было продолжаться после войны (выселение евреев). Известно, что массовым выселениям подверглось не менее 3—4 миллионов советских граждан, имевших несчастье иметь не ту национальность. Отметим вместе с тем, что миллионами высылались на Урал, в Сибирь и Казахстан и собственно русские, украинцы и белорусы, как по сословно-социальному признаку (кулаки, дворянство, казаки, буржуазия), так и по политическим обвинениям. Все это служило одной цели — подмять страну, сделать из людей бессловесных рабов.
Подготовка к выселению. Первый сигнал тревоги прозвучал в Чечено-Ингушетии еще весной 1942 г., когда была приостановлена мобилизация чеченцев и ингушей в армию, в том числе под предлогом якобы невозможности их содержания в частях (горцы-мусульмане не ели свинину, а свиная тушенка и свиной жир оставались, пожалуй, единственным мясным питанием красноармейцев в том трудном году).
Можно предполагать, что выселение горцев намечалось в том же 1942 г., так как зимний разгром немцев под Москвой и кратковременные успехи на южном участке фронта породили победную эйфорию у Сталина. Ни много ни мало он рассчитывал изгнать немцев в 1942 г. из страны, в силу чего даже пытался начать переговоры с немецким военным командованием с позиции силы1 2. Но мощное летнее наступление вермахта и его союзников заставили Сталина отложить свою карательную акцию в отношении горских народов до лучших времен.
1 Соколов Б. Берия. Судьба всесильного наркома. — М. 2003. — С. 161—162.
2 Карпов В. Гереналиссимус // Роман-газета. — М., 2004. — № 1. — С. 30—31.
— 833 —
Глава XVIII. Депортация чеченцев и ингушей 23 февраля 1944 г. Несломленные народы
Вторым сигналом стало сопровождаемое массовыми убийствами выселение карачаевцев и калмыков. 2 ноября 1943 г. в один день были выселены 62 842 карачаевца (в основном в Казахстан), а 28—29 декабря 1943 г. прошла операция «Улусы» по выселению 90 тысяч калмыков с Северного Кавказа в сибирские области. Причем на обеспечение операции по выселению карачаевцев были выделены войсковые части НКВД численностью в 53 тысячи человек (почти 5 дивизий).
Когда немцы отступили от Грозного к Черному морю и начали эвакуацию войск из Краснодарского края в Крым, на заседании Политбюро ВКП(б) от 11 февраля 1943 г. И. В. Сталин, по инициативе руководства НКВД (Л. П. Берия), вновь поставил вопрос о поголовной депортации чеченцев и ингушей с их исторической родины. «Благоразумно» было решено провести выселение после окончательного изгнания немцев с Северного Кавказа. Один только А. Микоян, сочувственно относившийся к чеченцам и ингушам, осмелился высказать опасение, что выселение может отрицательно сказаться на международном авторитете Советского государства1. Однако, осуждения западных стран Сталин опасался менее всего — и Черчилль, и Рузвельт хорошо знали, в чьих руках была судьба Европы в тот исторический момент.
В октябре 1943 г. в Чечено-Ингушетию в рамках подготовки выселения ездил с целью сбора данных об «антисоветских выступлениях» заместитель наркома НКВД Б. Кобулов, на фоне бесчестной верхушки репрессивных органов считавшийся отъявленным мерзавцем
Б. Кобулов (замнаркома НКВД Л. Берии). Расстрелян в 1953 г. Послевоенное фото
(Интернет)
1 См.: Бугай А., Гонов А. Указ. соч. — 1998. — С. 128; Некрич А. Наказанные народы // Родина. — 1990. — № 6. — С. 32; Сигаури И. М. Очерки истории и государственного устройства чеченцев с древнейших времен. Т. 2. — М., 2001. — С. 239; Балкария. — Март 2003. — № 1.
Ход выселения
и садистом (за многочисленные преступления был расстрелян после смерти И. Сталина). 9 ноября он представил Л. П. Берии докладную записку «О положении в районах Чечено-Ингушской АССР», с заведомо фальшивыми цифрами, о якобы массовом количестве активных бандитов и дезертиров. «Кобулов! Очень хорошая записка», — указал Берия на докладе и дал ход подготовке операции «Чечевица». Ответственными были назначены комиссары госбезопасности 2-го ранга Б. Кобулов, И. Серов, С. Круглов и генерал-полковник А. Аполлонов. 20 января 1944 г. Л. Берия утвердил для своего ведомства «Инструкцию о порядке проведения выселения чеченцев и ингушей», а 31 января Государственный Комитет обороны издал два постановления по вопросу депортации, обозначивших и место назначения для выселяемых:
о-:о » J ■' л < д
HJSrJL. с
Со верК5ЕШЬ' ТВДДОВЮГ"
ax*,V 1
НС1РУКцИЯ
О порядке проведения выселения чеченцев и ингушей.
Выселению подлежат вое жители чачеш-ингушской республики, по национальности чеченца и ингуши.
Членя ЩП(б) и ВЭШ1 по национальности чеченцы и ингуши независимо от занимаемого ими служебного положения также подлежа: выселению.
Работники партийных .советских органов и хозяйственных учреждений по национальности чеченца и ингуш выселяются для работы в новых местах рассоления.
ПРИМЕЧАНИЙ; а) Шседению не подвергаются женщины по национальности чеченки и ингушки,состоящие в замужестве о лицами других национальностей;
б) женщина русской национальности,состоящие в 4‘ замужестве с чеченцами и ингушами .подлежат
висел вняв на общем основании.
В случае на*явления со стороны последних Желания расторгнуть брак с чеченцами и ингушами, таковые можно разрешить;
в) отсутствующие в момент выселения отдельные члены семей (служебная командировка,отпуск, отлучка по личины делам и т.п.; берутся на учет и подлежат выселению дополнительно.
Организационная часть:
1. Организацией и проведением операции в районах руководят представители НКВД и ШГБ СССР, Для приема имущества и разрешения хозяйственных вопросов в районы выделяются уполномоченные облисполкома.
Первая страница «Инструкции о порядке проведения выселения чеченцев и ингушей» (57, 57)
— 835 —
Глава XV!II. Депортация чеченцев и ингушей 23 февраля 1944 г. Несломленные народы
«в пределах Казахской и Киргизской ССР». Уже в октябре 1943 г. Ставропольский крайком ВКП(6) стал готовить списки людей для заселения чеченских и ингушских земель1. Тогда же, если не раньше, была проинформирована верхушка Чечено-Ингушского обкома ВКП(б).
Следует отметить, что выселение целых народов, ликвидация их государственности, насильственное изменение границ членов Союза ССР не только не предусматривались Конституцией СССР, РСФСР и ЧИАССР, но и никакими законами или подзаконными актами. И по советским законам, а уж тем более по международному праву, то что творил сталинский режим с целыми народами, в том числе с чеченцами и ингушами, являлось тягчайшим преступлением, не имеющим срока давности, не только перед народами СССР, но и перед всем человечеством. Поэтому и составлялись изначально лживые «справки», утверждался тезис о «государственной измене» (хотя при ближайшем рассмотрении оказывалось, что по меркам того же сталинского времени как раз-то чеченцы и ингуши на целый порядок отставали по масштабам «измены» от ряда народов союзных республик).
Следует отметить, что ни в одном из документов о подготовке депортации чеченцев и ингушей и ее проведении не говорилось о цене выселения. Дьявольская злоба руководителей сталинской машины, направленная на уничтожение людей и народов, была настолько сильна, что для реализации преступления не жалели никаких средств. Так, на осуществление тягчайшего преступления по депортации чеченцев и ингушей привлекалось (на несколько месяцев) до 19 тысяч сотрудников НКВД и НКГБ и 100 тысяч боеспособных солдат внутренних войск (больше чем на иные фронтовые операции), были собраны свыше 15 тысяч железнодорожных вагонов и сотни паровозов, 6 тысяч грузовых автомобилей; огромные затраты были произведены для встречи и размещения «спецконтингента» в Казахстане и Средней Азии. Одна только перевозка спецпереселенцев обошлась стране в 150 миллионов рублей. На эти деньги можно было построить 700 танков «Т-34». На местах размещения горцев пришлось создать сотни спецкомендатур с тысячами сотрудников в офицерских чинах2. Кроме того, было разорено подчистую около 90—100 тысяч крестьянских хозяйств, что по самым минимальным подсчетам давало убыток, превышавший несколько миллиардов рублей.
Одновременная депортация полумиллиона человек требовала заблаговременного сосредоточения в районе предполагаемой операции столь значительного количества войск, военной техники и транспорта,
1 См.: Ибрагимов Муса, Ибрагимов Мовсур. Чечня: через круги ада. — М.-Саратов. — С. 38—39; Витковский А. // Интернет. Jile://A:\Rambler: восстановленный текст документа. С. 1—2; Полян П. Не по своей воле: история и география принудительных миграций в СССР // Интернет. Jile://A:\ — С. 10.
2 Витковский А. Указ. соч. — С. 10; Полян И Указ. соч. — С. 12.
— 836 —
Ход выселения
что не могло не вызвать вопросов у местного населения. Поэтому на официальном уровне декларировалось проведение крупномасштабных маневров в горной местности в преддверии крупного наступления Красной Армии в районе Карпатских гор. Примерно за месяц до выселения — 20 января 1944 г. Чечено-Ингушский обком ВКП(б) и Совнарком ЧИАССР приняли совместное постановление, обязывавшее все местные органы власти оказывать полное содействие командованию воинских частей в подготовке к планируемым учениям войск. Тем не менее, слухи
0 предстоящем выселении широко распространялись среди чеченцев и ингушей, что было зафиксировано органами НКВД1.
Документы, исходящие от карателей, говорят, что 100-тысячная группировка внутренних войск, вступая в Чечено-Ингушетию, меняла свою форму на общевойсковую. Палачи переодевались, маскируясь под фронтовых пехотинцев, летчиков и артиллеристов. Располагаясь лагерями близ селений и в самих селениях, каратели вели идеологическую работу: они призывали население помочь им в улучшении и строительстве дорог, делиться опытом ведения боевых действий в специфических условиях гор; якобы все это было необходимо советским воинам для сражений с немцами в Карпатах и на Балканах. Даже в самых глухих горных аулах, людей, одетых в красноармейскую форму встречали радушно и тепло. Сами каратели признают, что, к примеру, мужское население самого высокогорного Майстинского сельсовета не только добровольно доставило военные грузы к горным гарнизонам, но также «преподносят подарки, вкусную пищу и предложили обеспечить все гарнизоны дровами из собственных запасов».
В ответ на слухи о выселении проинструктированные коммунисты республики вкупе с чекистскими агитаторами пламенным образом убеждали население: «Подлые враги распускают слухи о выселении, с гнусной целью вызвать к нам, фронтовикам, недоверие. Вдумайтесь, добрые люди, разве можем мы, защитники советской Родины, 4-й год защищающие свой великий народ от фашистских поработителей, поднять оружие против своего маленького братского народа? Наша коммунистическая партия не допустит несправедливости. Спите спокойно, вас никто не потревожит»2.
Согласно постановлению Государственного Комитета обороны СССР от 31 января 1944 г., были приняты меры по подготовке необходимого числа железнодорожных вагонов, а также автотранспорта. В частности, в Чечено-Ингушетию было направлено большое количество грузовых машин («студебеккеры»), полученных Советским Союзом от США по ленд-лизу через Иран. Вместо фронта, где в них так нуждалась
1 ГАРФ. Ф Р-9401. Оп. 2. Д. 64. Л. 167 об.
- Кашурко С. Каратели: к 60-летию великой трагедии чеченцев и ингушей // ДОШ: Ежеквартальный журнал. — № 1(3) — 2004. — С. 9—10,12.
Глава XVIII. Депортация чеченцев и ингушей 23 февраля 1944 г. Несломленные народы
воюющая армия, тысячи тяжелых грузовиков были направлены в Грозный. Разведывательные самолеты регулярно проводили облеты горных районов.
Есть отдельные данные, которые говорят о подготовке к применению против чеченцев и ингушей химического оружия.
Одновременно в республиках Казахстана и Средней Азии началась подготовка к приему и размещению спецпереселенцев. Наибольшее число депортированных должна была принять Казахская ССР — до 400 тысяч человек. Причем в распоряжение действовавших здесь промышленных и добывающих предприятий предполагалось направить около 50 тысяч человек-переселенцев, а всех остальных разместить в сельской местности. Для обеспечения полного контроля за спецпереселенцами были созданы 135 районных и 375 поселковых комендатур1. Уже в 1943 г. партийные органы Казахстана и Киргизии были поставлены в известность о подготовке к приему горцев, а Ставропольский крайком ВКП(6) с октября 1943 г., согласно инструкции, готовил списки русских переселенцев в Чечню. С лета 1943 г. шло непрерывное насыщение города Грозного и республики войсками, хотя линия фронта все дальше уходила на запад.
Завершение подготовки. Количество сил. К 17 февраля 1944 г. подготовка операции по выселению чеченцев и ингушей была практически завершена. Чтобы исключить возможность организованного сопротивления со стороны депортируемых, заблаговременно был предпринят ряд мер, в частности, проведено превентивное «изъятие намеченных к аресту антисоветских элементов...». Само выселение должно было пройти в два этапа и занять в общей сложности 8 суток. На первом этапе предполагалось депортировать население равнинных районов — в общей сложности более 300 тысяч человек. На втором этапе к железнодорожным станциям и местам погрузки в эшелоны должны были быть доставлены жители более отдаленных горных районов (около 150 тысяч человек).
Всего к непосредственному проведению депортации чеченцев и ингушей, как указано выше, были привлечены до 100 тысяч солдат и офицеров внутренних войск, 19 тысяч оперативных работников НКВД и органов государственной безопасности. Кроме того, по периметру Чечено-Ингушетии, как в Закавказье, так и на Северо-Восточном Кавказе, были приведены в боевую готовность все имеющиеся в наличии части армии, включая боевую авиацию, НКВД, СМЕРШ и т. д.2 Это позволяет
1 См.: ГАРФ. Ф. P-9401. On. 1. Д. 182. Л. 65, 67; Чечня: Белая книга. Т. 1. — М., 2000. — С. 53—54; Ибрагимов Муса, Ибрагимов Мовсур. Указ. соч. С. 36, 38—39.
2 См.: Репрессированные народы: чеченцы и ингуши. Пакет документов № 2 // Шпион: Альманах писательского и журналистского расследования. Вып. 2. — М., 1993. — С. 72; Данлоп Джон. Россия и Чечня: история противоборства. Корни сепаратистского конфликта. — М., 2001. — С. 68; По другим данным в операции «Чечевица» на территории Чечни было задействовано 17698 оперработников и 85003 солдат и офицеров войск НКВД-НКГБ и СМЕРШа (см.: Витковский А. Указ. соч. — С. 5).
— 838 —
Ход выселения
говорить еще о 100 тысячах вооруженных людей, задействованных в операции «Чечевица». Некоторые офицеры были откомандированы в Чечено-Ингушетию из самых отдаленных районов страны. Так, среди прочих старших офицеров в Чечено-Ингушетию был командирован начальник Дальневосточного краевого управления НКВД комиссар госбезопасности 3-го ранга Гвишиани, обретший печальную славу кровавого палача в чеченском селении Хайбах.
К участию в осуществлении депортации привлекался также партийно-советский актив, как из числа русских жителей самой Чечено- Ингушетии (несколько тысяч человек), так и из Дагестана (6—7 тысяч человек) и Северной Осетии (3 тысячи человек)1.
Роль Л. П. Берия. О значении, придававшемся этой операции, говорит тот факт, что для руководства ею 20 февраля 1944 г. в Грозный прибыл кандидат в члены Политбюро ВКП(б), Генеральный комиссар государственной безопасности, нарком внутренних дел СССР Л. П. Берия в сопровождении сразу трех своих заместителей: Б. 3. Кобулова, И. А. Серова и С. С. Мамулова. 22 февраля, рассказывал позже сам Л. П. Берия, он вызвал к себе председателя Чечено-Ингушского Совнаркома С. Моллаева и поставил его в известность о принятом советским руководством решении: «Моллаев, после моего сообщения, прослезился, но взял себя в руки и обещал выполнить все задания, которые ему будут даны в связи с выселением». В короткий срок были отобраны «руководящие работники» из числа чеченцев и ингушей, которым было поручено привлечь активистов районного звена для предотвращения возможных случаев сопротивления проводимой акции. В течение трех дней (с 21 по 23 февраля) только в Ачхой-Мартановский, Надтеречный, Старо-Юртовский, Шалинский, Шатойский, Галашкинский, Курчалоевский и Гудермесский районы было дополнительно направлено 6778 человек из числа партийно-советского актива, как Чечено-Ингушетии, так и Дагестана и Северной Осетии. В свою очередь по периметру границ Чечено-Ингушетии был создан плотный кордон из сил армии, НКВД, милиции и местных партактивистов.
Чтобы предотвратить возможность массового сопротивления, Л. П. Берия лично встретился с наиболее влиятельными духовными авторитетами Чечено-Ингушетии: Багаудином Арсановым, Абдул-Ха- мидом Яндаровым и Аббасом Гайсумовым, которые по требованию главного чекиста страны взялись через мулл и своих мюридов убедить население воздержаться от открытого сопротивления выселению.
Действия Л. П. Берия были доложены в Государственный Комитет Обороны и получили личное одобрение И. В. Сталина2.
1 ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 64. Л. 167—167 об.
2 См.: ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 64. Л. 166—166 об.; Так это было: Национальные репрессии в СССР 1919—1952 годы: В 3 т. Т. 2. — М„ 1993. — С. 81; Данлоп Джон. Указ, соч. — С. 69, 71.
Глава XVIII. Депортация чеченцев и ингушей 23 февраля 1944 г. Несломленные народы
Начало выселения. В ночь на 23 февраля 1944 г. чеченские и ингушские селения, расположенные на равнине, были блокированы войсками, а на рассвете все мужчины приглашены на сельские сходы, где они сразу же и задерживались. В небольших горных селениях, ввиду их чрезвычайной разбросанности и плохого состояния дорог, сходы не проводились. Особое значение придавалось быстроте проведения операции, что должно было исключить саму возможность организованного сопротивления. Именно поэтому на сборы семьям депортируемых отводилось 10—15 минут, а в целом, не более одного часа; малейшее неповиновение пресекалось применением оружия. К 11 часам первого дня выселения из различных селений вывезено более 94 тысяч человек, из которых 20 тысяч в тот же день были погружены в железнодорожные эшелоны. Органы НКВД в первый день задержали также 842 человека, арест которых планировался заранее1.
Несмотря на обильный снегопад, начавшийся 23 февраля в начале второй половины дня, к утру 24 февраля 1944 г. число «охваченных» операцией превысило уже 333 тысячи человек, около половины из которых была погружена в эшелоны. Высокий темп проведения операции сохранялся и в последующие дни, так что 29 февраля 1944 г. Л. П. Берия уже мог отчитаться об успешном завершении депортации чеченцев и ингушей.
По его словам, операция прошло вполне успешно «.. .и без серьезных случаев сопротивления и инцидентов. Случаи попыток к бегству и укрытию от выселения носили единичный характер и все без исключения были пресечены». Впрочем, Л. П. Берия все же указал, что из-за обильных снегопадов до 6 тысяч чеченцев не были своевременно вывезены из Галанчожского района и их отправка должна произойти в течение ближайших дней2.
Массовые казни и убийства. В своем донесении руководству страны нарком внутренних дел откровенно лгал: выселение чеченцев сопровождалось множеством инцидентов и массовыми убийствами мирных жителей. 47 тяжелобольных были умерщвлены и похоронены в одной яме на территории Урус-Мартановской районной больницы. Массовые казни имели место в различных селениях горной Чечни, в частности, на территории Пешхоевского и Нашхоевского сельских советов, в селении Сюжи и др. В отдаленных горных селениях Ингушетии убивались и сжигались «нетранспортабельные» — по несколько десятков стариков, женщин и детей было сожжено в Цори, Таргиме и Гули. Многих, бежавших в тот день из сел в горы или лес, расстреливали на месте без предупреждения3.
1 ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 64. Л. 165.
2 ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 64. Л. 161—161 об.; Чеченцы: история и современность. — М., 1996. - С. 265.
3 См.: Сигаури И. М. Очерки истории и государственного устройства чеченцев с древнейших времен. Т. 2. — М., 2001. — С. 243; Возвращение к истокам: Ингушетия в лицах и фактах. — С. 576.
Ход выселения
Крупнейшей массовой казнью стало убийство свыше 700 человек в селении Хайбах Галанчожского района, совершенное 27 февраля 1944 г. Здесь были собраны нетранспортабельные жители не только Хайбаха, но и окрестных хуторов, которых не удалось вывезти на равнину в соответствии с разработанным чекистами графиком. Чтобы не продлевать сроки завершения операции, руководивший в этом районе выселением полковник госбезопасности М. М. Гвишиани распорядился запереть подлежавших выселению людей в конюшне местного колхоза им. Л. П. Берия, после чего сама конюшня была обложена сеном и подожжена. Оказавшийся невольным свидетелем этой казни заместитель наркома юстиции Чечено-Ингушской АССР Дзияудин Мальсагов позднее свидетельствовал: «Нещадный чудовищный костер поднялся до гигантских размеров. Говорят, в экстремальных ситуациях человек способен на невозможное. Я в этом убедился. Когда конюшню объяло пламя, огромные, сильно укрепленные ворота под натиском людей рухнули, и сквозь огонь толпа обезумевших людей хлынула наружу. Гвишиани скомандовал: «Огонь!» Из десятков стволов раздались автоматные и пулеметные очереди. Бегущие впереди, падая, заслоняли собой выход, целая гора трупов преградила путь бегущим. Никто не вырвался из огня и автоматной блокады. Никто не спасся. Меня и капитана Громова, который тоже выступил против организованного зверства, отправили под конвоем в селение Малхесты. Нас уводили, а этот ад еще продолжался...»1
Озеро Галанчож. Фото Л. Ильясова. Располагалось в центре Галанчожского района. По преданиям в нем утопили сотни «нетранспортабельных» горцев (4, 55)
1 Так это было: Национальные репрессии в СССР 1919—1952 годы: В 3 т. Т. 2. — М., 1993. — С. 182.
Глава XVIII. Депортация чеченцев и ингушей 23 февраля 1944 г. Несломленные народы
После этого массового убийства М. М. Гвишиани получил от наркома НКВД персональную благодарность, представление к награде и повышение в звании1.
Особого внимания заслуживает тот факт, что поводом к массовому убийству в Хайбахе стало не сопротивление местных жителей или принципиальная невозможность провести выселение, а желание командовавшего в этом районе начальника вовремя доложить о завершении операции в обозначенный срок. Впрочем, действия Гвишиани полностью укладывались в стратегию войск НКВД, целенаправленно уничтожавших многочисленные хутора и небольшие селения в горной части Чечено-Ингушетии, где было решено сохранить только крупные населенные пункты (для переселенцев из Грузии или Дагестана). Высокогорные районы Чечено-Ингушетии целенаправленно превращались в мертвую зону.
Мало известно о том, что в течение двух-трех суток, пока шло выселение, убивая по одному-два человека то там то здесь, каратели в общей сложности уничтожили не одну тысячу человек. Причем громко и внятно объявлялось на русском языке: за попытку к бегству — расстрел, за неисполнение приказа — расстрел, за выражение протеста — расстрел. Таким образом, бессудные казни совершались не в силу эксцессов исполнителей, а по приказу, реализация которого поощрялась.
Помимо Хайбаха, массовые казни отмечены в Итум-Калинском районе (дома набивали больными и забрасывали гранатами и бутылками с зажигательной смесью); в Малхисте людей, спрятавшихся в страхе в пещерах, сжигали без лишних слов; в Ножай-Юртовском районе людьми набивали кукурузные сапетки и, облив бензином, поджигали2.
Какого-либо организованного сопротивления депортации не смогли организовать и так называемые повстанческие группы, все еще действовавшие в горной части Чечено-Ингушетии, что еще раз говорит о лживом характере античеченской пропаганды, о массовом «бандитизме» в горах Чечено-Ингушетии. Наоборот, ряды всевозможных нелегалов значительно поредели — в ходе выселения сотрудники НКВД убили тысячи мирных граждан, задержали 2016 человек «антисоветских элементов»: людей, находившихся в розыске по разным причинам, включая уголовников, дезертиров и уклонявшихся от мобилизации. Было конфисковано 20000 единиц охотничьих ружей и личного оружия
1 Соколов Б. Указ. соч. — С. 166; Носивший с 1945 г. звание генерал-лейтенанта палач М. М. Гвишиани в 1954 г. был лишен и звания, и ордена Суворова 2-й степени «как дискредитировавший себя за время работы в органах... и недостойный в связи с этим высокого звания генерала». Умер своей смертью в 1966 г.
2 См.: Авторханов А. Убийство чечено-ингушского народа: народоубийство в СССР. — М., 1991. — С. 63; Ибрагимов Муса, Ибрагимов Мовсур. Чечня: через круги ада. М.—Саратов, 2003. — С. 44; Гаев С, Хадисов М., Чагаева Т. Хайбах: следствие продолжается. — Грозный, 1994; Сигаури И. М. Указ. соч. — С. 243.
— 842 —
Ход выселения
работников райотделов милиции, лесничеств, сторожевых служб, истребительных батальонов, колхозников животноводческих хозяйств и т. д.1 Между тем, если бы данные о политическом бандитизме в горах Чечни, что давали бериевские чекисты, были бы справедливы хотя бы на одну десятую, то выселение могло бы перейти в затяжные бои с огромными потерями для карателей. Сталинские власти действовали здесь с гарантированной безопасностью. Уж они-то были прекрасно осведомлены об истинном положении дел.
Дорога смерти и страданий. Первые эшелоны со спецпереселенца- ми направились в Среднюю Азию уже 23 февраля, однако в целом их формирование и отправка сильно затянулись. Только 3 марта, когда первые партии переселенцев уже начали прибывать к местам расселения, в путь направился последний эшелон с выселяемыми чеченцами. Всего было отправлено 180 эшелонов, хотя первоначально планировалось сформировать гораздо большее число поездов. Потребность в вагонах была значительно сокращена (на 2652 вагона, что составило бы 41 состав, по 65 вагонов в каждом) благодаря «рационализаторскому» предложению руководства железной дороги и 3-го Управления НКГБ СССР, которые, с учетом большого количества детей среди спецпересе- ленцев, посчитали целесообразным произвести «уплотнение погрузки спецконтингента» с 24 до 45 человек в каждом вагоне. На деле же в товарные вагоны-«теплушки» набивали и до 80 человек.
Последний эшелон с депортированными чеченцами и ингушами встал под разгрузку в казахской степи 20 марта 1944 г. Таким образом,
1 ГАРФ. Ф. P-9478. Oil 1. Д. 63. Л. 81; Данлоп Джон. Указ. соч. — С. 70.
Глава XVIII. Депортация чеченцев и ингушей 23 февраля 1944 г. Несломленные народы
операция по выселению продолжалась почти месяц и привела к большому количеству жертв. Еще накануне депортации один из заместителей наркома внутренних дел признавал, что сжатые сроки операции не позволят провести санитарный осмотр и санобработку переселенцев. Это признание означало неизбежность эпидемических заболеваний, с которыми власти заранее отказались бороться.
Первые случаи заболевания сыпным тифом среди спецпереселенцев отмечены уже 26 февраля, а еще через два дня пошли первые смерти. На первом этапе пути, пока поезда следовали по Орджоникидзевской железной дороге, наблюдается сравнительно мало смертельных случаев среди депортируемых чеченцев и ингушей. Гораздо больше людей умирает по мере приближения к местам нового расселения. Однако в начале марта смертность резко возрастет и на Орджоникидзевской железной дороге, потому что к этому времени в пути находились уже последние эшелоны с людьми, в высшей степени измученными многодневным ожиданием в вагонах или на станциях погрузки. Соответственно на порядок возросла смертность на Уральской железной дороге. Так, если 8 марта на Орджоникидзевской железной дороге умерло 17 спецпереселенцев из числа чеченцев и ингушей, то в тот же день на Уральской железной дороге из вагонов выгрузили 166 трупов. По официальным данным НКВД, всего в пути из чеченцев и ингушей умерли 1361 человек, не считая тех, кого власти оказались вынужденными «госпитализировать» по дороге, чтобы не допустить дальнейшего распространения эпидемии тифа1.
Однако данные цифры на порядок ниже действительных, что доказывается опросом очевидцев. О высокой смертности говорят и свидетели из числа самих депортируемых: «Если на станции Закан (Чечено-Ингушетия) мы могли находиться в вагоне, только притулившись друг к другу, то... когда подъезжали к Казалинску (Казахстан), более или менее сохранившие в себе силы дети могли бегать по теплушке».
«Я видел, как привезли их [чеченцев] в вагонах — и половину выгружали уже трупами. Живых выбросили на 40-градусный мороз», — вспоминает Э. Аметистов, член Конституционного Суда Российской Федерации2.
Столь значительное количество жертв было вызвано не только свирепствовавшей эпидемией, но и элементарным недоеданием. В суматохе выселения не все сумели взять с собой запас продовольствия, достаточный на месяц пути, а пунктов питания на маршрутах или не было вовсе, либо катастрофически не хватало. Так, по свидетельству
1 ГАРФ. Ф. P-9479. On. 1. Д. 182. Л. 56, 179, 180, 184, 189 об., 190, 204; Так это было: Национальные репрессии в СССР 1919—1952 годы: В 3 т. Т. 2. — М., 1993. — С. 73; Данлоп Джон. Указ. соч. — С. 73; Сигаури И. М. Указ. соч. — С. 252; и др.
2 Хамзаев Абдулла. Над пропастью во лжи // Кавказ. — 1995, июль. — № 266.
— 844 —
Ход выселения
народной актрисы Чечено-Ингушетии М. Сардаловой, за все время пути горячее питание в их вагон было доставлено только один раз1.
Выселение чеченцев и ингушей из других районов СССР. Выселение коснулось всех чеченцев и ингушей, независимо от места постоянного проживания. Так, из Дагестана было депортировано приблизительно 28 тысяч чеченцев, в том числе около 15,4 тысяч коренных чеченцев-аккинцев. Интересно отметить, что накануне выселения началась реализация давнего требования чеченцев-аккинцев о создании отдельного «чеченского» района. 7 сентября 1943 г. Президиум Верховного Совета Дагестанской АССР принял решение о разукрупнения Хасав-Юртовского района. Во вновь образуемый
&»е. Секретно? ——
V’*,J — 1
ШУ КОМИССАР/ ШТРЕЖИХ ДЕЛ ССР
ГОСУДАРСТВЕН® БЕЗОПАСНОСТИ
ГМРАШШУ КОЮЮСАРУ
лдвр-та ШШУЬ-
РАПОРТ
Докладываю, Ваш ваданае по оОесдечеинр отгрузка и продваьениа эшелонов оо опедаонтцнгоктоа о Ордаюнакидввеской железной дороги- шполнено.
■Последний эшелон CK-26S прниш к песту незяичення на станцию Риддор, Томской железной дороги - 20 марта J&44 года и раэгруаен.
Всего ардруЩВ'*'1ВР“5рццодоб, в которых доставлено а квоте оессе;.ен>!^Ч9Г.571 человек. из ню^
tuf>%
Кывлс
Длалал-Абадсксй области Ошской области Фрунзенской области реыбудьскол области Адый-Атияскай области Воеточно-Каввхотснекой области •
С Q зеро -Каз ахе тс во ко й области - Юшэ-Кевахотеязкои области Кзьш-ОрдинскеЙ области Кустонайскор области Акткшнекой области СешпалаткнскоЙ области —" -'81,238 человек!
Пеалодарской области/ - -\Ц.2с>0 человек!
Акуоликской области / — -.60.344 человек •
Корегондияской обш^ц — . -,87.844 человек;
Все эшелоны прослед с
- 24.261 человек) „ „ .
- 23,068 Ч5ЛО ВСК/'
- 34.380 чедоьы;! ,и* ™
- ?6.565 человек'
-:29.0й9 человек -‘,34.449 человек;
- £8.887 человек!
20,808 человек >
человек!
- 46.666 человек I --'33.309 человек i
<MV »W¥V vvv>
•*- *26.044 человек 1
"£q
ГОШН1 КОШССАР Г0С
* марта 1944 г.
-РКАДНБ)
Рапорт о завершении перевозки «спецконтингента» (42, 13)
1 Джургаев М., ДжургаевО. Круги ада. — Грозный, 1989. — С. 15; Калита Л. Несущий свет вдвойне отважен // Вестник ЛАМ. — 2003. — № 18. — С. 28—34.
— 845 —
Глава XVIII. Депортация чеченцев и ингушей 23 февраля 1944 г. Несломленные народы
Ауховский район должны были войти 8 сельских советов, объединявших 15 селений, населенных чеченцами. 5 октября 1943 г. Верховный Совет РСФСР принял указ, подтвердивший создание Ауховского района. Возможно, что решение о выселении чеченцев-аккинцев было принято в 1944 г. буквально в самый последний момент1.
Значительное количество ингушей было вывезено из города Орджоникидзе (Владикавказ), столицы Северной Осетии. Из Грузии было депортировано свыше 2,7 тысяч чеченцев (вместе с тем родственные им бацбийцы или цова-тушины и так называемые «кистинцы» были объявлены грузинскими властями отдельной народностью). Десятки и сотни чеченцев и ингушей власти направили в Казахстан и Среднюю Азию и из других районов СССР2.
Следом за чеченцами в праздничные дни 7—9 марта 1944 г. дорогой смерти отправили с Северного Кавказа балкарцев, которым вменили вообще смехотворную вину: неспособность «защитить Эльбрус» в 1942 г. от немецких альпийских частей. Несколько десятков тысяч балкарцев, по существу, расплатились за трусость и пораженческие настроения целой советской армии и дивизии НКВД, бежавшей в сентябре 1942 г. в горы под напором немцев, без боя сдав Нальчик. Начиная с марта 1944 г., была проведена этническая чистка Грузии: ее «освободили» от турок- месхетинцев, хамшилов и курдов. В мае 1944 г. был «зачищен» Крым от крымских татар. Потом в 1945—1946 гг. пошли огромными группами прибалты, западные украинцы, молдаване, греки, болгары и т. д.
Демобилизация горцев из армии. Одновременно с началом выселения было объявлено о демобилизации всех чеченцев и ингушей, находившихся в частях Красной Армии. Согласно приказам, изданным командованием фронтов и других соединений, военнослужащие из чеченцев, ингушей, а также карачаевцев и балкарцев поступали в распоряжение отделов спецпоселений НКВД Казахской ССР и должны были прибыть в город Алма-Ата. Лишь единицы сумели остаться в действующей армии, например, будущий Герой Советского Союза командир кавалерийского полка подполковник М. Висаитов. Некоторым вайнахам пришлось сфабриковать новые документы, изменив свою национальность, лишь бы остаться на фронте. Всего на протяжении 1944 г. только из Красной Армии и только с линии фронта было демобилизовано 710 офицеров, 1696 сержантов и 6488 солдат из чеченцев, ингушей, карачаевцев и балкарцев, которые направлялись также в ссылку. Многие из них были направлены
1 См.: Алиев К. А., Курбанов М. Р, Юсупова Г. И. Чеченцы-аккинцы Дагестана: к проблеме реабилитации. — Махачкала, 1994. — С. 7; Дагестан: чеченцы-аккинцы. — М., 1993. — С. 50, 51; ДжаыалЬинов С. Чеченцы-аккинцы: чужие среди своих // Справедливость. — 2002. — № 11—13. — С. 9.
2 См.: Бугай Н. Ф. Правда о депортации чеченского и ингушского народов // Вопросы истории. — 1990. — № 7. — С. 42\ДжанлопДжон. Указ. соч. — С. 70—71; Сигаури И. М. Указ. соч. — С. 253.
— 846 —
Ход выселения
в тыл, в северные области, где эксплуатировались на лесозаготовках и прокладке дорог. Так, свыше 1 тысячи бывших красноармейцев из се- верокавказских горцев более года рубили лес в Костромской области. Демобилизация среди них началась только в 1946 г.1
В октябре 1945 г. военнослужащие-фронтовики из числа репрессированных народов были, наконец, освобождены от статуса спецпересе- ленца, но без права возвращения на родину. Среди чеченцев и ингушей таковых насчитывалось 5300 человек, из которых награды имели все (включая и 5 Золотых Звезд). К 1955 г. среди тех же демобилизованных чеченцев и ингушей оставалось в живых 4445 человек, из них 2280 инвалидов войны2.
Таким образом, число безвозвратных потерь среди чеченцев и ингушей составило: если считать общее число призванных непосредственно на фронт в 32 тысячи человек, то около 27 тысяч, а если исходить из другой цифры — 50 тысяч чеченцев и ингушей, надевших военную форму, то и все 34 тысячи убитыми на поле бояи скончавшимися от ран.
Дополнительные этапы. Депортации подлежали даже заключенные из числа чеченцев, ингушей и других выселяемых наций, которые из колоний и тюрем российских областей СССР этапами также направлялись в Казахстан и Среднюю Азию. Кроме того, все отбывшие срок наказания заключенные чеченцы и ингуши также передавались в распоряжение НКВД Казахской ССР. Кроме того, чеченцев, скрывших свою национальность, по установлению личности немедленно этапировали в Казахстан со всех концов Советского Союза. Таким образом, новые спецпереселенцы продолжали поступать в распоряжение органов НКВД, спустя много месяцев, а то и лет, после того как депортация чеченцев и ингушей официально завершилась. Таких «дополнительных» спец- переселенцев в Казахстан прибыло более 16 тысяч человек3.
Вместе с тем имели место случаи, когда чеченцы, освобожденные от выселения за те или иные заслуги перед советской властью, добровольно направлялись в депортацию. Так поступил, например, известный артист Махмуд Эсамбаев, которому предлагали остаться жить и работать в Пятигорске. Некоторые лица из чеченцев и ингушей оставались в республике по году и больше в качестве проводников в горах, где использовались в поисках беглых (например, уроженец Галанчожского района колхозник Дудаев провел в Чечне почти год после 23 февраля 1944 г., а затем был доставлен к семье в Казахстан)4.
1 См.: Так это было: Национальные репрессии в СССР 1919—1952 годы: В 3 т. Т. 2. — М., 1993. — С. 84; Джанлоп Джон. Указ. соч. — С. 71,73.
2 Сигаури И. М. Указ. соч. — С. 254; Репрессированные народы России: чеченцы и ингуши. — С. 171,200; и др.
3 Боков X. Эхо невозвратного прошлого // Грозненский рабочий. — 1989. — 1 февр. — С. 3.
4 Куликов А., Лембик С. Чеченский узел. Хроника вооруженного конфликта 1994— 1996 гг. — М., 2000. — С. 26.
Глава XVIII. Депортация чеченцев и ингушей 23 февраля 1944 г. Несломленные народы
§ 2. Что происходило на территории
бывшей Чечено-Ингушской АССР в 40—50-х гг XX в.
Раздел страны. Территорию упраздненной в феврале-марте 1944 г. Чечено-Ингушской АССР первоначально планировалось просто разделить между соседними республиками и Ставропольским (Орджо- никидзевским) краем. Последнему должен был достаться Грозный с его нефтекомплексом и равнинные районы исторической Чечни на правах округа. Однако, учитывая стратегическое значение Грозного с его нефтедобывающим и нефтеперерабатывающим промышленным комплексом, советское руководство склонилось к варианту создания на части территории Чечено-Ингушетии Грозненской области, которой были переданы некоторые юго-восточные районы Ставрополья вплоть
rof и 4*0*
Ч,ГА o/J^UfackottA
UfHAyaxmck'» I/
\АСТ^АХАНСКА>
ЮОБЛ.
/ Adt«*i
V к v
ӀжнеисмиЛ /и ту-- i Nobotriiii*
- Wfc** ^ ' \
мЛрДУЬу —^ С> '4инсК* •?-: f
'K'iH/'A.,.: v /•.
lUttlAttl
« 7 * /Jl9n
ИакрвсУ 1 I )
►Ялмг-ЛГвимвД i { Гт.ьЛгют
.г^\ ,
l}\ ' Г L >9 -.
4f Чгрпы*Гът*Ч
цшлауМ».
9А*икцю г‘ r<pt*»u-Mtkrt<0 ') | - / .
7 \
. J )Ь(м«аг1^С ^ А| / cn
/ ’ НснончкохЫ^Яь ' *вл“
^^М9*меиы Ки*>
t*v-
"о* у*ыко*
рМаЛ
r.t \\rH:k<JA 0,
fOJHbtft-
Wtkvu.kji . Г\аӀныЦ&уп JftC .4,4 у
nMyid 1 —*"
IvtfdMr
"Ь об/.
Ӏ/яи-Дв/-
гл. . ,й®йг1'гЪ!
л.б|,»Ж||I',,"izo A*.*-/4*?'
.Я- /I о \ л Г fl/л I Е С Т^^рТПС КуА Л
xrb&Vxw.i.u'• ';r W4.7- ,
/tfa&'ffllill, j £"7 & Ж il hu/c'kc.cvs
4- I in ха I' vC£3r' 'V Urf‘°f) *.«i \ .,
r;»*4 . SZZftt.Um .»>> V г..цЛ ♦ v •'
• • *<
•те I Яин*м*а&Х ' \ ftj
^ V,, ^ Ц'ь;.>ллы '
Грозненская область в границах 1944—1957 гг. (34, 18—20)
- 848 —
Что происходило на территории бывшей Чечено-Ингушской АССР в 40—50-х гг.
до Каспийского моря. Во вновь образованную Грозненскую область вошла большая часть плоскостных районов Чечено-Ингушетии. Горная часть Чечено-Ингушетии оказалась разделенной между Грузией и Дагестаном, а к Северной Осетии отошла практически вся территория бывшей Ингушской автономной области (в границах 1934 г.), за исключением горной части Пригородного района, переданной Грузии. Партийно-хозяйственные органы этих республик должны были организовать заселение переданных им районов, а местные органы НКВД и госбезопасности подключиться к борьбе с «политическим бандитизмом».
Повстанческие группировки. Выселение не привело к автоматическому прекращению деятельности небольших повстанческих группировок в горах Чечено-Ингушетии. На первых порах их личный состав даже в значительной мере пополнился за счет лиц, уклоняющихся от выселения. Численность последних составляла не одну тысячу человек. Однако все они были безоружны и не представляли большой опасности. Органы НКВД в этой связи даже выражали опасения по поводу массового бегства таких лиц в Грузию и требовали «прикрытия» пограничного селения Шатили.
Группы нелегалов не смогли сколько-нибудь эффективно противодействовать выселению, но и стотысячная группировка советских войск в Чечне не смогла обнаружить и уничтожить их. Весной 1944 г. имели место немногочисленные боестолкновения, в ходе которых каратели несли, тем не менее, потери. Например, только одна группа Бек-Мурзы Байсагурова, состоявшая из 12 человек, в течение марта уничтожила 8 военнослужащих1. Нападениям подвергались также лица, направленные для описи и охраны «оставленного» чеченцами и ингушами имущества, и переселенцы, занимавшие дома, а также многочисленные мародеры, нахлынувшие со всех концов с целью поживиться чужим добром.
Известный «политбандит», а точнее, активный борец со сталинским режимом Хасан Исраилов весной-летом 1944 г. пытался организационно объединить разрозненные группы нелегалов, но успеха не добился. Впрочем, сложившаяся ситуация объективно не способствовала его замыслам — наличие большого количества карательных войск создавало серьезные трудности для поддержания постоянной и устойчивой связи между отдельными повстанческими группами. К тому же руководство НКВД и НКГБ заблаговременно предприняло ряд мер, которые должны были способствовать успешному «искоренению чеченского бандитизма». В частности, выселение не коснулось действовавших секретных агентов, лиц, находившихся в агентурной разработке, а также всех тех, кто мог представлять определенный интерес для правоохранительных
1 ГАРФ. Ф. P-9401. On. 1. Д. 2196. Л. 311.
Глава XVIII. Депортация чеченцев и ингушей 23 февраля 1944 г Несломленные народы
органов. Продолжали свою работу и некоторые чекисты из вайнахов. Например, в Веденском районе (переданном Дагестану) был оставлен в должности начальника районного отдела НКВД сын знаменитого абрека Зелимхана Харачоевского — Умар-Али Зелимханов1. Последний действительно активно участвовал в преследовании «политбандитов» и погиб при очередной попытке убийства одного из них в ходе «переговоров» о добровольной сдаче.
Война в горах. Вся горная часть бывшей Чечено-Ингушетии была разбита НКВД на четыре оперативных сектора, в которых на постоянной основе размещались подразделения внутренних войск. Уже в мае 1944 г. в ту же Чечню были возвращены два полка внутренних войск, выведенных с ее территории после завершения выселения. Для борьбы с группами нелегалов, включая лиц, уклоняющихся от выселения, применяется сплошное «прочесывание» местности. В июле и августе 1944 г. такие операции проводились в Хильдехороевском, Пешхоевском и Майстинском ущельях горной Чечни — в общей сложности в них было задействовано две дивизии и два отдельных полка внутренних войск.
В свою очередь вооруженные группы нелегалов, как говорят документы, «мстя за переселение своих родственников», устраивают засады, выслеживают небольшие подразделения внутренних войск и оперативные группы, используя любую представившуюся возможность для нанесения им потерь. Причем, благодаря постоянной и тщательной разведке местности, повстанцы вовремя узнавали о передвижениях войск и уклонялись от столкновений с крупными подразделениями». Эта тактика позволяла им наносить карателям ощутимые потери2.
Гораздо успешнее внутренние войска действовали против рядовых жителей, которым удалось уклониться от выселения. В отличие от вооруженных повстанцев, эти люди собирались большими группами, причем многие из них ушли в горы с частью своего скота. Так, летом 1944 г. в Хильдехороевском ущелье разведкой внутренних войск были обнаружены землянки и загоны для скота, построенные уклоняющимися от выселения местными жителями.
Расквартированные в горной Чечне воинские части занимались и прямым истреблением населения, спасавшегося от высылки на чужбину. Вследствие того что подобные действия порой мешали выполнению специфических задач органов госбезопасности, последние доносили о действиях военных в Москву: «После выселения чеченцев и ингушей в Галанчожский район прибыли части учебного стрелкового полка майора Сайгатова для помощи государственной комиссии по сбору
1 Репрессированные народы России: чеченцы и ингуши: Документы, факты, комментарии. — М., 1994. — С. 119; Сигаури И. М. Указ. соч. — Т. 2. — С. 244—247.
2 См.: Военно-исторический журнал. — М., 1996. — № 5. — С 86.
— 850 —
Что происходило на территории бывшей Чечено-Ингушской АССР в 40—50-х гг.
скота и имущества. Дислоцируясь на хуторах Галанчожского района, подразделения допустили ряд безобразных фактов нарушения революционной законности, самочинных расстрелов над оставшимися после переселения чеченками-старухами, больными, калеками, которые не могли следовать. 22 марта [1944 г.] на хуторе Геличи Галанчожского района некоторыми курсантами этого полка были расстреляны больные Гайсултанов Изнаур, Джабалка, Демильхан, калека Гайсултанов Умар, восьми летний мальчик. 19 апреля 1944 г. этой же группой в районе хутора Геличи были расстреляны еще два неизвестных чеченца. По не уточненным данным, курсанты этого же подразделения в Нашхоевском сельсовете Галанчожского района произвели самочинный расстрел больных и калек до 60 человек1.»
Практически каждая операция внутренних войск в горах сопровождалась захватом значительного количества уклоняющихся от выселения. Чтобы ускорить выход из гор этой категории нелегалов, власти пошли даже на временное возвращение из ссылки ряда наиболее авторитетных религиозных деятелей, в частности, Б. Арсанова и А.-Х. Яндарова. Под их честное слово люди начали выходить из гор и лесов. Таким образом они спасли от гибели не одну тысячу своих соотечественников. Всего, по данным НКВД, до конца 1944 г. в Среднюю Азию было отправлено более
6,5 тысяч человек, задержанных в горах с февраля того же года.
В конце 1944 г. на самом высшем уровне был отдан приказ об использовании ядов — мышьяка, фтористого натрия и других «стойких»
Багаудин Арсанов и его охранник Данилбек Хачароев. 1945 г. Фото (59, 6)
1 См.: Архивные документы о нашем выселении (на чеч. яз.) // Даймохк. — 1992. — 22 февраля; Сигаури И. М. Указ. соч. — Т. I. — С. 354—355.
Глава XVIII. Депортация чеченцев и ингушей 23 февраля 1944 г. Несломленные народы
отравляющих веществ, «разработанных компетентными учреждениями, применительно к продуктовым и пищевым сюрпризам для спецмероприятий по ликвидации остатков чеченских бандитов». Отвратительной практикой стало отрезание голов и рук несчастных, схваченных в горах. Так, в той же Кабарде, когда участники одной уголовной банды в 1945 г. убили двух членов другой банды, сотрудники спецслужб отметили: «...у расстрелянных ими бандитов были отрублены головы, а вещи сожжены с целью завуалировать свое участие в убийстве... создав впечатление у других бандитов о действиях войсковых подразделений».
К концу 1944 г. органам НКВД удалось нанести существенный урон повстанческим группам в бывшей Чечено-Ингушетии. Только на территории Грозненской области было уничтожено с крайней жестокостью 26 таких групп, насчитывавших 258 участников, а также 42 абрека, действовавших в одиночку, и 137 других вооруженных лиц нечеченской национальности (дагестанцы, осетины, грузины, русские). Был «ликвидирован» и известный Хасан Исраилов, коварно убитый спецагентами 29 декабря 1944 г.1
Тем не менее, полное уничтожение действовавших в горной части Чечни и Ингушетии повстанческих групп, оказалось делом чрезвычайно трудным, даже несмотря на полное отсутствие у них поддержки со стороны новых поселенцев, занявших опустевшие горские селения. Так, осенью 1948 г. специальное совещание, проведенное МВД СССР, указало на активный характер проявления «чеченского бандитизма» в виде действия «банд» Анзорова, Идриса Магомадова, Хожаева, Иби Алхастова, Хучбарова, Абдурахманова и др. Для действий мстителей, согласно документам сталинских карателей, были характерны: «высокая активность в бою с войсками, стремление упредить в открытии огня, меткость в стрельбе, нежелание сдаться живыми...»2. Для борьбы с ними пытались использовать самих повстанцев, которых после тайной вербовки оставляли на свободе.
Официально с «чечено-ингушским бандитизмом» — героическим сопротивлением насилию над народом — было «покончено» в 1953 г., однако последних из «политических бандитов», по существу, народных мстителей — Ахмеда Хучбарова удалось захватить только в 1954 г., а Хасуху Магомадова ликвидировать физически только в 1975 г.3
1 См.: ГАРФ. Ф. P-9478. On. 1. Д. 278. Л. 101 об.; Л. 116—116 об.; Л. 131 об; Ф. Р-9479. On. 1. Д. 925. Л. 20; Сигаури И. М. Указ. соч. — Т. И. — С. 246—248; Балкария. — Март 2003. — № 1 (12).
2 См.: ГАРФ. Ф. P-9401. On. 1. Д. 2892. Л. 504; Репрессированные народы России: чеченцы и ингуши: Документы, факты, комментарии. — М., 1994. — С. 126; Военно- ист. журнал. — М., 1996. — № 5. — С. 87.
3 Корнилов Д. Под сенью Корана // Грозненский рабочий. — 1975. — 15 июня. — С. 3; Возвращение к истокам: Ингушетия в лицах и фактах. — С. 209—215.
— 852 —
Что происходило на территории бывшей Чечено-Ингушской АССР в 40—50-х гг.
Ситуация на территории бывшей Чечено-Ингушетии в этот период по-прежнему мало отличалась от положения в соседних республиках и областях. По Северному Кавказу за это же время ликвидировано 75 вооруженных банд, а в общей сложности задержано и уничтожено более одной тысячи человек, находившихся на нелегальном положении1. Это еще раз доказывает, что официально выставляемые причины выселения чеченцев и ингушей не выдерживали никакой критики.
Ситуация в ряде других регионов Советского Союза в 1944—1945 гг. была куда напряженнее, чем в горах Чечено-Ингушетии. Так, общая численность нелегалов в Чечне обычно исчислялась сотнями, и она никогда не превышала нескольких тысяч человек, причем невооруженных. В то же время, например, на Украине после ухода германских войск активно действовали «Украинская народно-революционная армия» и «Украинская повстанческая армия». Подпольная сеть, созданная одной только «Украинской повстанческой армией», насчитывала от 150 до 500 тысяч активных участников. Кстати, для борьбы с украинским националистическим подпольем, НКВД предлагало испробованный ранее метод — поголовное выселение «...всех украинцев, проживавших под властью немецких оккупантов»2. Таким образом, речь шла о депортации многих миллионов человек. Вопреки своей сатанинской практике убийства целых народов, советское правительство не решилось на акцию такого масштаба, — были выселены только десятки тысяч членов националистических организаций и их семьи.
Разграбление Чечни и Ингушетии. В ходе подготовки к депортации для каждого района и каждого выселяемого колхоза были созданы специальные комиссии, призванные взять на учет, оставляемое на месте личное, колхозное и государственное имущество, а также обеспечить его сохранность. Для оказания помощи этим комиссиям было отобрано около 8,5 тысяч солдат и офицеров Красной Армии и дополнительно мобилизовано в Грозном до 8 тысяч человек3.
Несмотря на эти меры, в ходе депортации погибло и было разграблено огромное количество домашнего скота, кроме того, большинство горных селений и хуторов сознательно уничтожались. Только при перегоне из гор на равнину якобы пало около 18 тысяч голов скота. В целом, из более чем 209 тысяч голов крупного рогатого скота новым поселенцам было передано только 113 тысяч, а из 236 тысяч овец и коз — 190 тысяч. Остальное было раскрадено могущественным
1 ГАРФ. Ф. P-9478. On. 1. Д. 467. Л. 1, 6.
2 См.: Кирсанов И. А., Дробязко С. И. Великая Отечественная война 1941—1945 гг.: Национальные и добровольческие формирования по разные стороны фронта // Отечественная история. — 2001. — № 6. — С. 73; Так это было: Национальные репрессии в СССР 1919—1952 годы: В 3 т. Т. 3. — М., 1993. — С. 140—141.
3 ГАРФ. Ф. А-327. Оп. 2. Д. 708. Л. 74.
Глава XVIII. Депортация чеченцев и ингушей 23 февраля 1944 г. Несломленные народы
НКВД-НКГБ и их войсками. Кроме того, «победителям» досталось 10,8 тысяч лошадей, 8,4 тысяч буйволов. И все это при том, что поголовье скота в Чечено-Ингушетии по сравнению с 1941 г. сократилось вдвое ввиду поставок в действующую армию и эвакуации части скота в 1942—1943 гг. (до 10 тысяч крупнорогатого и 50 тысяч мелкорогатого скота было перевезено в центральные области СССР)1.
В ходе выселения и непосредственно в ходе «приема-передачи» было забито новыми хозяевами 16 тысяч голов крупного рогатого скота и до 40 тысяч овец. Еще 5 тысяч коров и 20 тысяч овец «съели», по актам, армейские части и соединения НКВД.
«Перераспределение» имущества полумиллиона выселенных чеченцев и ингушей новыми хозяевами привело к невероятным хищениям и омерзительным преступлениям. Помимо «своих» грозненских мародеров, в Чечню ринулись мародеры из Грузии, Осетии, Дагестана и Ставрополья. Только в 1944 г. милиция была вынуждена задержать 1245 человек. У них было изъято 700 тысяч рублей, 170 тонн зерно- продуктов, промтоваров на 200 тысяч рублей. Понятное дело, в ходе операции в десятки раз больше забрали военные и работники НКВД, но их трогать милиция не смела.
В безудержных хищениях чужого добра оказалась замешанной вся партийно-хозяйственная и милицейская верхушка Грозненской области, Дагестана, Ставрополья, Северной Осетии и Грузии. Так, только на территориях, отошедших к Дагестану, повинными в мародерстве оказались секретари Дагестанского обкома ВКП(б), секретари райкомов партии, прокуроры, руководители районных отделений НКВД и т. д. Лучшие дома отбирались у рядовых переселенцев в пользу руководителей, огромная масса домашнего имущества расхищалась. Самых оголтелых из них, чьи действия получали всеобщую огласку, были вынуждены снимать с должностей и сажать в тюрьму. В их числе оказалось столько секретарей райкомов и председателей райисполкомов, что в конце концов пришлось отказаться от арестов, так как на свободе не оставалось, кому руководить2.
1 См.: ГАРФ. Ф. P-9479. On. 1. Д. 182. Л. 26, 28; Сигаури И. М. Указ. соч. — С 250; Абазатов М. А. Чечено-Ингушетия в Великой Отечественной войне Советского Союза. — Грозный, 1973. — С. 85.
2 См.: Ибрагимов Муса, Ибрагимов Мовсур. Указ. соч. — С. 50—52; Так это было: Национальные репрессии в СССР 1919—1952 годы. Т. 3. / Ред.-сост. С. У. Алиева. — М., 1993. — С. 206—215; Даже всесильный Л. П. Берия не погнушался еще в 1942 г. присвоить из Мечено-Ингушского краеведческого музея огромную картину Ф. Рубо «Пленение Шамиля». Украденная руководителем НКВД картина была оценена в 40 тысяч рублей золотом и официально внесена в перечень убытков, причиненных фашистской Германией Советскому Союзу. Между тем, сразу после войны Берия пытался сбыть картину певице Л. Руслановой. «Второе пленение» Шамиля закончилось только в 50-х гг., когда она вернулась в Грозный благодаря подвижнической деятельности краеведа Н. Штанько. — См.: Казаков А. И. Указ. соч. — С. 82—84.
— 854 —
Что происходило на территории бывшей Чечено-Ингушской АССР в 40—50-х гг.
Памятник жертвам геноцида 1944 г. Сооружен в 1992 г. из могильных плит, собранных на улицах Грозного. Фото (4, 184)
Все, что было накоплено за тысячелетия истории чеченцев и ингушей: рукописные книги и библиотеки, огромной ценности раритеты в виде произведений восточного и национального искусства, золотые и серебряные украшения, ценнейшее оружие, ковры, утварь, мебель, дома — все это было расхищено стотысячной группой карателей в мундирах советской армии и НКВД, партийно-советской и хозяйственной номенклатурой. Невероятно, но факт: по распоряжению партийно-советских органов были разграблены даже мечети и кладбища (на территории Грозненской области и Северной Осетии). Могильные чурты (камни) легли в основания фундаментов заводов, животноводческих ферм, ими мостили улицы городов, выкладывали бордюры тротуаров1. Такого вандализма не допускали даже гитлеровские выродки на оккупированных территориях СССР.
На площадях и улицах Грозного запылали костры из книг. Сжигалась вся литература и учебники на арабском, чеченском и ингушском языках. С риском для жизни дирекция республиканской библиотеки спасла от уничтожения несколько сот книг на национальных языках и прятала их до 1957 г. Из энциклопедий, учебников и справочников вырывались страницы или замазывался черной краской текст, посвященный чеченцам и ингушам.
Разгрому подвергся и Республиканский краеведческий музей. Каратели стремились изгладить память о целых народах, варварски уничтожая их духовное наследие. Был взорван памятник герою гражданской
1 Так это было: Национальные репрессии в СССР 1919—1952 годы. Т. 3. — С. 150—151.
Глава XVIII. Депортация чеченцев и ингушей 23 февраля 1944 г. Несломленные народы
войны А. Шерипову и уничтожена городская мечеть. Спешно переименовывались улицы, поселки, аулы и районы.
«Заселение» Чечено-Ингушетии. Как уже говорилось, территория Чечено-Ингушской АССР была разделена между Грозненской областью, Дагестаном, Грузией и Северной Осетией. Соответственно, руководящие органы этих республик должны были обеспечить заселение переданных им земель новыми жителями. Если дагестанские, грузинские и осетинские власти начали переселять часть собственного населения, прежде всего из горных малоземельных районов, то руководству Грозненской области пришлось сделать главный упор на переселенцев из других областей Российской Федерации. До середины мая 1944 г. количество прибывших в Грозненскую область переселенцев достигло 40% от общего числа выселенных отсюда чеченцев. За это время из Ставропольского края было переселено 6800 семей, пожелавших обосноваться в чеченских селениях. Кроме того, из самой Грозненской области (прежде всего из Грозного) переселилось еще 5892 семьи. Дальнейшее заселение намечалось проводить за счет переселенцев из малоплодородных районов Мордовской АССР, Тамбовской, Пензенской, Ульяновской, Саратовской, Горьковской, Ярославской и других областей России1.
В целом советские власти столкнулись с серьезными трудностями при организации переселенческого движения на «освободившиеся» земли Северного Кавказа. Желающих ехать на новые места было мало, и, чтобы активизировать процесс переселения, власти устанавливают ряд льгот для переселенцев. В частности, с них списывались недоимки по государственным налогам за прошлые годы, а на новом месте они освобождались от налогов сроком на один год. Кроме того, переселенцы получали единовременное денежное пособие в 2500 рублей, право бесплатного проезда и провоза своего имущества весом до 2,5 тонн к новому месту поселения, а также стройматериалы для обустройства на новом месте. Тем не менее, переселение шло чрезвычайно медленно и продолжалось еще в начале 50-х гг. К тому же часть вновь прибывших, убедившись, что новую жизнь придется налаживать на пустом месте, да и в небезопасных районах, вскоре возвращалась к прежнему месту жительства. Всего за период с 1947 по 1951 гг. в Грозненскую область прибыло более 6 тысяч семей новых переселенцев, из которых только чуть более 4 тысяч начали обстраиваться на новом месте, а остальные уехали2.
Меньше всего новых переселенцев прибыло на чеченские и ингушские земли из Грузии — весной 1944 г. планировалось переселить всего 500 семей грузинских горцев. Объяснялось это тем, что к Грузии отошли преимущественно высокогорные районы, в которых намечалось
1 Там же. — С. 292.
2 ГАРФ. Ф. А-327. On. 1. Д. 90. Л. 43; Сигаури И. М. Указ. соч. — С. 250—251.
— 856 —
Что происходило на территории бывшей Чечено-Ингушской АССР в 40—50-х гг.
сохранить только самые крупные и легкодоступные селения, а остальные территории использовать в качестве пастбищ. Новые земли, вошедшие в Грузинскую ССР из состава ЧИАССР, получили название Ахалхевского района1.
Гораздо более масштабное переселение смогли организовать власти Дагестана и Северной Осетии. Только на первом этапе, например, осетинские власти должны были создать на ингушских землях не менее 3 тысяч новых хозяйств. Несмотря на то, что Северо-Осетинской АССР были переданы в основном плодородные равнинные территории, переселение шло туго (из-за нехватки людского контингента и нежелания горцев занимать чужие земли), так что для выполнения плановых обязательств пришлось привлекать переселенцев и из Южной Осетии (Грузинская ССР).
Партийным властям Дагестана предстояло «заселить» чеченские аулы Хасав-Юртовского и Баба-Юртовского районов, а также практически полностью Ауховский район, не считая тех земель, что передавались из состава упраздненной Чечено-Ингушской АССР. А это были немалые земли — Веденский, Ножай-Юртовский, Чеберлоевский и Курчалоевский районы Чечни, общей площадью до 3 тысяч квадратных километров. В отличие от Грозненской области и Северной Осетии, в Дагестане, горные районы которого традиционно страдали от малоземелья, желающих переселиться оказалось немало. К тому же людей, попавших в списки и отказывающихся переселяться согласно разнарядке, выгоняли силой, а их дома, чтобы горцам неповадно было возвращаться, порой и разбирали. Переселенцы прибывали на чеченские земли из 224 горных селений, причем 114 мелких дагестанских селений переселилось полностью. Всего на новые земли в короткие сроки были переселены 65 тысяч человек, из которых 51 тысяча была направлена в бывшую Чечено-Ингушскую АССР, а остальные расселены в бывших чеченских селениях Дагестана.
При этом дагестанские власти оказались не в состоянии обеспечить всем необходимым огромную массу тронувшихся с места людей. Многие переселенцы, уверенные, что им предстоит жить в богатых чеченских селениях, брали с собой лишь минимум необходимого. К тому же жители высокогорных дагестанских селений на новом месте часто оказывались в непривычных для себя условиях, с тяжелым для них климатом, где требовались и иные хозяйственные навыки. Уже в конце лета 1944 г. среди дагестанских переселенцев в Чечню отмечена вспышка малярии, которая охватила не менее пятой части от их общего числа. Вскоре к малярии добавился тиф и другие болезни. Сами дагестанские власти считали, что вспышка эпидемических заболеваний связана в первую очередь с тяжелым материальным положением переселенцев; в числе
1 ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 47. Д. 4356. Л. 59.
Глава XVIII. Депортация чеченцев и ингушей 23 февраля 1944 г. Несломленные народы
других причин назывались «...острый недостаток мыла, белья... культурная отсталость переселенцев, недостаток и однообразие продуктов питания»1.
Сложности, связанные с массовым переселением, привели к тому, что сельскохозяйственные работы на новом месте оказались сорванными, что вызвало в начале 1945 г. настоящий голод среди дагестанских переселенцев. Власти оказались вынужденными в срочном порядке оказывать им продовольственную и материальную помощь. Вспышки малярии и тифа фиксируются и в последующие годы. В одном только относительно «благополучном» Ауховском районе за три года (с 1944 по 1947 гг.) от различных болезней умерло около 2 тысяч (или почти треть) переселившихся сюда лакцев2. Некоторые из переселившихся в Чечню дагестанцев вскоре самовольно возвратились на прежние места жительства.
В целом хозяйственное освоение чеченских земель шло чрезвычайно медленно. Даже в 1956 г., когда чеченцы начали возвращаться из Казахстана и Киргизии, многие чеченские селения на равнине все еще оставались не полностью заселенными3. Продовольственная проблема в Грозненской области, особенно по части мяса и молока, так и не была разрешена. Промышленный Грозный был вынужден завозить большой ассортимент продовольственных товаров. Довоенный объем сельского хозяйства ни в одном районе бывшей Чечено-Ингушетии к 1956 г. не был достигнут. Вместе с тем, нельзя не отметить наличие определенных сдвигов в развитии определенных отраслей сельского хозяйства, например, птицеводства и свиноводства.
Послевоенное развитие Грозного. Если сельскому хозяйству на территориях, откуда были выселены чеченцы и ингуши, депортацией был нанесен колоссальный ущерб, то на развитии промышленности Грозного это практически не отразилось. Восстановление промышленных предприятий, значительная часть которых была эвакуирована, началось еще до завершения Великой Отечественной войны. В конце 1949 г. общий уровень промышленного производства в Грозном достиг довоенных показателей. В целом послевоенный период (1945—1956 гг.) отмечен бурным развитием Грозненского промышленного района, причем темпы роста промышленного производства опережают аналогичные показатели 30-х гг.
В Грозном началось строительство новых предприятий нефтеперерабатывающей, машиностроительной, химической, пищевой
1 ГАРФ. А-327. Оп. 2. Д. 548. Л. 61; Сигаури И. М. Указ. соч. — С. 250—251; Алиев К. А., Курбанов М. Р.у Юсупова Г. И. Чеченцы-аккинцы Дагестана: к проблеме реабилитации. — Махачкала, 1994. — С. 7.
2 Алиев К. А., Курбанов М. Р.у Юсупова Г. И. Указ. соч. — С. 8.
3 Яндарбиев X. Преступление века. — Грозный, 1992. — С. 53; Дешериев Ю. Указ, соч. — С. 251.
Чеченцы и ингуши на чужбине. Несломленные народы
и строительной промышленности. За пять лет (1951—1955 гг.) было введено в строй 23 новых предприятия, в том числе Новогрозненский нефтеперерабатывающий, Грозненский химический заводы и Грозненская ТЭЦ. Большинство старых предприятий подверглось реконструкции и было переоснащено новой техникой. Ведущей отраслью по-прежнему оставалась нефтепереработка, дававшая более половины общего объема промышленной продукции. Далее по своему значению шли следующие отрасли: машиностроение и металлообработка, химическая, электроэнергетика, пищевая, легкая и строительная. При этом Грозный упрочил свое положение важнейшего промышленного центра Северного Кавказа. Так, в 1956 г. объем продукции одних только грозненских заводов в два раза превышал объем промышленной продукции всей Дагестанской АССР или Северо-Осетинской АССР и в 2,6 раза — объем валовой продукции промышленности Кабардино-Балкарской АССР К
В отличие от сельской местности, численность населения которой значительно сократилась после депортации чеченцев, население Грозного растет быстрыми темпами. Помимо естественного прироста и переселения в Грозный жителей из близлежащих сел, продолжается миграция из других регионов Советского Союза. Для обеспечения городского населения жильем строятся новые кварталы и жилые поселки (Черноречье, Новая Катаяма и др.). За первую половину 50-х гг. в Грозном было возведено около 300 тысяч квадратных метров жилой площади, а численность населения по сравнению с 1939 г. увеличилась на 60 тысяч и достигла 233 тысяч человек. Одновременно совершенствовалось городское хозяйство: электросети, водопровод, канализация, началась массовая газификация жилых домов, расширяется сеть учебных учреждений, больниц и т. д. Резко возросли затраты на развитие городского общественного транспорта. В результате Грозный приобретает черты типичного советского города с достаточно высоким уровнем развития городского хозяйства.
§ 3. Чеченцы и ингуши на чужбине. Несломленные народы
Численность депортированных. Несмотря на почти маниакальную приверженность органов НКВД к точнейшему учету «врагов народа», точное количество депортированных чеченцев и ингушей так и осталось неизвестным. 17 февраля 1944 г. Л. П. Берия докладывал И. В. Сталину, что его ведомством взято на учет более 459 тысяч чеченцев и ингушей, подлежащих выселению. В это число входили также и те, кто постоянно проживал на территории Дагестана и Северной Осетии. Однако из его 11 Ширяев С. Д. Экономическое развитие Грозного в послевоенный период (1945— 1956 гг.) // Грозный за 40 лет советской власти. — Грозный, 1957. — С. 134.
Глава XVIII. Депортация чеченцев и ингушей 23 февраля 1944 г. Несломленные народы
последующих донесений следует, что число выселенных чеченцев и ингушей достигло 496 тысяч человек. Столь существенная разница в подсчетах объясняется, по всей видимости, не только тем, что первые данные НКВД о численности населения в чеченских и ингушских селениях оказались заниженными, но и тем, что не были учтены горцы, находящиеся в армии, колониях, тюрьмах и в ссылке, а также жившие в других районах СССР. Последняя перепись населения проводилась еще до начала Великой Отечественной войны, а рождаемость среди чеченцев и ингушей традиционно была одной из самых высоких по Советскому Союзу. Кроме того, вместе с чеченцами было выселено немало дагестанцев и людей других национальностей, постоянно или временно проживавших на территории Чечено-Ингушетии. Даже по сталинским «законам» эти люди не подлежали выселению, но вырваться из-под контроля НКВД оказалось непросто. Рассмотрение заявлений незаконно выселенных лиц часто длилось годами. Например, в конце 1948 г. Отдел спецпоселений МВД СССР все еще рассматривал заявления 308 спецпоселенцев из числа аварцев, даргинцев, лакцев, грузин, лазов, абазинцев, кабардинцев, азербайджанцев, лезгин и черкесов, по ошибке выселенных в 1944 г.
В послевоенных отчетах Главного Управления по борьбе с бандитизмом НКВД СССР указывается, что в общей сложности было депортировано чуть более 520 тысяч чеченцев и ингушей К Последняя цифра, вероятно, включает лиц, выселенных из других регионов Советского Союза, а также тех, кто какое-то время укрывался от депортации в труднодоступных местностях Чечено-Ингушетии, где лишь спустя значительное время сдался органам НКВД.
Большая часть депортированных чеченцев и ингушей (свыше 406 тысяч человек) были расселены небольшими группами по 15-ти областям Казахской ССР (Акмолинская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Карагандинская, Восточно-Казахстанская, Семипалатинская и Алма- Атинская и другие области). Более 88 тысяч были расселены в Киргизии (Фрунзенская и Ошская области), включая и 35 семей высших руководителей Чечено-Ингушетии и наиболее авторитетных духовных лидеров (в количестве 180 человек). Буквально несколько десятков семей оказались на территории Ферганской области Узбекской ССР. По несколько сот человек (в основном мужчины) были направлены в распоряжение лесхозов Костромской, Вологодской, Ивановской и Ярославской областей Российской Федерации1 2.
Организация надзора. Спецкомендатуры. Все депортированные чеченцы и ингуши подлежали учету в органах НКВД, для чего создавались
1 ГАРФ. Ф. P-9478. On. 1. Д. 63. Л. 80.
2 См.: ГАРФ. Ф. P-9479. On. 1. Д. 377. Л. 62; Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 64. Л. 167, 311 ;Джанлоп Джон. Указ. соч. — С. 73; Сигаури И. М. Указ. соч. — С. 253; Полян Павел. Указ, соч. — С. 12—13.
Чеченцы и ингуши на чужбине. Несломленные народы
специальные комендатуры. Согласно действовавшим в НКВД «Правилам по хозяйственному и трудовому устройству спецпереселенцев», последние в обязательном порядке подлежали трудоустройству под контролем все тех же органов НКВД. Поскольку большая часть чеченцев и ингушей были расселены в сельской местности, главным работодателем для них стал Народный комиссариат земледелия. Кроме того, несколько тысяч человек получили распределение на угольные шахты и рудники цветных металлов, предприятия черной и цветной металлургии, транспорт и другие отрасли экономики. Чеченцы, имевшие специальности в нефтяном деле, были направлены на нефтепромыслы в Гурьевскую область Казахстана.
Спецпереселенцы, отнесенные к категории «социально опасных», могли работать только там, куда их направила комендатура. При этом, администрация предприятий должна была содействовать установлению непрерывного контроля за поведением «социально опасных» спецпереселенцев. Те же спецпереселенцы, что были признаны «социально не опасными», имели право самостоятельно (хотя и с согласия комендатуры) подыскивать себе работу в районе поселения. В отдельных случаях им даже разрешалось работать за пределами района поселения1. Интересно, что органы НКВД порой даже вступали в конфликт с местными органами власти и руководителями хозяйств, добиваясь более рационального использования труда спецпереселенцев.
Ужесточение положения спецпереселенцев. В январе 1945 г. советским правительством было принято специальное постановление, предусматривавшее дальнейшее ограничение прав спецпереселенцев. Без разрешения специальных комендатур им запрещались даже короткие самовольные отлучки с места поселения. В течение 3-х дней спецпереселенцы обязаны были сами информировать органы НКВД обо всех изменениях в составе их семей, а коменданты получили право за различные провинности подвергать «виновных» аресту сроком до 5 суток или штрафу на сумму до 100 рублей2.
Необходимость ужесточения административного контроля над спец- переселенцами власти объясняли тем, что среди них широко распространено недовольство своим положением. Уже весной 1944 г. органы НКВД констатируют: среди чеченцев и ингушей отмечается большое количество антисоветских высказываний,«.. .жалоб и резких реагирований на недостаточность снабжения продуктами питания, вражды и угроз местному населению, хищений и краж у последнего скота, птицы и продуктов. Отмечены также факты намерений... к уходу за кордон»3.
1 ГАРФ. Ф. P-9479. On. 1. Д. 182. Л. 163—164.
2 Репрессированные народы: армяне, греки и другие // Шпион: Альманах писательского и журналистского расследования. Вып. 2. — М., 1994. — С. 60—61.
3 ГАРФ. Ф. P-9479. On. 1. Д. 161. Л. 25.
Глава XVIII. Депортация чеченцев и ингушей 23 февраля 1944 г. Несломленные народы
Вымирание спецпереселенцев. Конечно, недовольство спецпере- селенцев было вызвано теми нечеловеческими условиями, в которых они оказались. Власти советских азиатских республик оказались не готовы принять и разместить всех прибывших. Не смогли они также обеспечить спецпереселенцев продуктами питания до нового урожая, что не удивительно, учитывая сложную ситуацию в советском тылу, а во-вторых, то обстоятельство, что в целом власти всех уровней Советского Союза были прямо и косвенно заинтересованы в вымирании чеченцев и ингушей.
Основная масса чеченцев и ингушей (215 тысяч человек по подсчетам НКВД) осенью 1944 г. жестоко страдает от постоянного недоедания. Приписанные к различным колхозам, совхозам или государственным предприятиям, спецпереселенцы часто водворялись администрацией в полуразрушенные бараки, конюшни, хозяйственные сараи и т. д. Многие оказались вынужденными рыть землянки или строить шалаши. Осенью 1944 г. почти 10 тысяч семей жили в помещениях, которые даже отнюдь не сердобольные представители НКВД считали «совершенно непригодными для проживания». Еще почти 26 тысяч семей были размещены во дворах местных жителей, причем зачастую хозяева выделяли спецпереселенцам неотапливаемые или полуразрушенные помещения1. Неудивительно, что тысячи чеченцев и ингушей вымерли голодной смертью и от холода в зимние месяцы 1944—1945 гг.
В результате голода и холода эпидемия тифа, начавшаяся еще в эшелонах переселенцев, с новой силой вспыхнула уже в Азии. Только в Казахстане среди спецпереселенцев с Северного Кавказа до 1 апреля 1944 г. имелось около 4800 заболевших тифом. В соседней Киргизии за это же время заболело более двух тысяч спецпереселенцев. При этом медицинские учреждения не располагали не только достаточным количеством необходимых медикаментов, но и элементарными дезинфицирующими средствами.
Помимо тифа, среди чеченцев и ингушей отмечено большое количество случаев малярии и различных болезней легких, включая туберкулез. Все эти болезни в сочетании с недостаточным питанием и отсутствием медицинской помощи приводили к большому количеству смертельных исходов. В одной только Джалалабадской области Киргизии до августа 1944 г. умерло 863 человека из числа северокавказских спецпереселенцев. В целом смертность среди спецпереселенцев, вызванная плохими жилищно-бытовыми условиями, голодом, массовыми болезнями и трудностями адаптации к непривычным климатическим условиям, носила ужасающий характер. До конца 1944 г. численность чеченцев и ингушей в Киргизии сократилась примерно на 11,5 тысяч человек, в Казахстане — более чем на 46 тысяч человек.
1 ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 48. Д. 3214. Л. 6; Ф. P-9479. On. 1. Д. 925. Л. 138.
— 862 —
Чеченцы и ингуши на чужбине. Несломленные народы
В течение 1944, 1945 и 1946 гг. власти Казахстана и Киргизии так и не смогли по целому ряду объективных причин создать для спецпе- реселенцев нормальные жилищно-бытовые условия. Справедливость требует отметить, что никто и не собирался создавать для «преступных» спецпереселенцев «нормальные жилищно-бытовые условия», более того, известны факты (например, в Лениногорске), когда руководители, пытавшиеся на деле исполнить бумажные установки, репрессировались. Строительство жилья для депортированных шло чрезвычайно низкими темпами. Так, за 1944 г. в Казахской ССР было построено для этой категории населения всего 1638 домов из «запланированных» 55900. Спецпереселенцы пытались своими силами строить себе жилье, но выделенные для этих целей стройматериалы представители местных органов власти использовали исключительно в других целях. Причем, как выявили проверки, проведенные органами НКВД, разбазариванием средств и строительных материалов, выделяемых спецпереселенцам, занимались не только руководители отдельных хозяйств, но и руководители районного и областного уровней.
Жилищная неустроенность спецпереселенцев сопровождалась необеспеченностью продуктами питания, одеждой и другими предметами первой необходимости. В 1945 г. голодают не менее 80 тысяч выходцев с Северного Кавказа, причем отмечено большое количество случаев развития дистрофии как у взрослых, так и у детей. В 1946 г. продовольственное положение несколько улучшилось, но все равно голодает до 8 тысяч спецпереселенцев, а в 1947 г. число голодающих вновь резко увеличилось в результате неурожая в ряде областей Казахстана, а также действий властей, которые сняли с пищевого довольствия не работающих спецпереселенцев, включая детей, стариков и нетрудоспособных. Зимой 1948—1949 гг. в Казахской ССР вновь голодают до 118 тысяч спецпереселенцев, было отмечено 418 случаев голодной смерти1. Все это было, конечно, прямым проявлением типичного сталинского «народо- убийства». Геноцид чеченцев и ингушей, начавшийся в первые же годы советской власти, получил свое логическое завершение в бесплодных степях Казахстана.
При переселении в Среднюю Азию «бумажными» решениями центральных советских органов предусматривалось, что все депортированные семьи в короткий срок будут обеспечены подсобными земельными участками, продуктовым и рабочим скотом, а также получат материальную компенсацию за имущество, оставленное на Кавказе. Однако на деле это решение практически не выполнялось. К тому же приусадебные участки не могли получить семьи, проживавшие
1 См.: ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 47. Д. 4541. Л. 3; Ф. P-4979. On. 1. Д. 176. Л. 199 об.; Ф. Р-9479. On. 1. Д. 245. Л. 123; Д. 295. Л. 49; Д. 354. Л. 29; Д. 455. Л. 116; Сигаури И. М. Указ, соч. — С. 255—256.
Глава XVIII. Депортация чеченцев и ингушей 23 февраля 1944 г. Несломленные народы
в нежилых помещениях или на квартирах у местных хозяев, а такие в первые годы выселения составляли большинство. К тому же голод вынудил спецпереселенцев забить почти весь немногочисленный скот, выданный им в 1944 г. В довершение всего, спецпереселенцам остро не хватало одежды и обуви, которыми их также должны были обеспечивать местные органы власти. По данным НКВД, в некоторых областях Казахстана до 70% северокавказских спецпереселенцев были лишены теплой одежды и обуви.
Результатом нечеловеческих условий существования в первые годы выселения стала высокая смертность среди спецпереселенцев, которую можно охарактеризовать как массовую гибель. Так, за первую половину 1945 г. в семьях северокавказцев умерло более 33,8 тысяч человек, в том числе почти 16,3 тысячи детей, а новых детей родилось за это же время менее 1 тысячи. Всего за 1945 г. умерло 44652 ребенка, родилось — 2230. До октября 1948 г. в ссылке умерло (по данным НКВД) приблизительно 146,9 тысяч спецпереселенцев с Северного Кавказа (чеченцев, ингушей, карачаевцев и балкарцев). Причем общая численность чеченцев и ингушей продолжает сокращаться вплоть до 1951 г. В целом прямые и демографические потери чеченцев и ингушей в 1944—1953 гг. достигли 300 тысяч человек (из них прямые 145,7 тысяч человек). Только в 1959 г., спустя 16 лет после выселения, чеченцы достигли примерно той численности, которая у них была в 1939 г. — 412 тысяч человек1.
Все указанное позволяет уверенно квалифицировать депортацию, в данном случае чеченцев и ингушей, как тягчайшее преступление — геноцид.
Государство и НКВД (МВД и МГБ) против чеченцев и ингушей.
Чтобы не допустить случаев открытого возмущения со стороны чеченцев и ингушей, власти с самого начала устанавливают за ними жесткий административный и полицейский надзор — к середине лета 1944 г. только в Казахстане было арестовано по различным обвинениям 2196 человек из числа спецпереселенцев. К октябрю того же года общее число арестованных северокавказцев в Казахстане возрастет до 3310 человек. Еще 1969 человек тогда же были взяты на оперативный учет органами НКВД. Число осужденных горцев Особыми совещаниями исчисляется многими тысячами. К тому же к лету 1946 г. в Казахстан были свезены из мест заключения примерно 7 тысяч северокавказцев, находившихся в местах заключения в других районах СССР2.
1 См.:ГАРФ.Ф.Р-9479.0п. 1. Д. 295. Л. 49; Д. 254. Л. 152,211; Так это было: Национальные репрессии в СССР 1919—1952 годы: В 3 т. Т. 3. — М., 1993. — С. 321; Данлоп Джон. Указ. соч. — С. 74—75; Эдиев М. Демографические потери депортированных народов СССР. — Ставрополь, 2003.
2 См.: ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 65. Л. 312; Ф. P-9479. On. 1. Д. 183. Л. 275; Репрессированные народы России: чеченцы и ингуши: Документы, факты, комментарии. — М., 1994. — С. 155.
Чеченцы и ингуши на чужбине. Несломленные народы
Среди спецпереселенцев вводится система круговой поруки — все они делились по так называемым «десятидворкам», жители которых несли коллективную ответственность в случае совершения правонарушения кем-либо из ее членов. Органы новых спецслужб МВД и МГБ обращают особое внимание на вербовку осведомителей и тайных агентов из числа самих спецпереселенцев, а также вынуждают их вступать в «группы содействия», оказывавшие помощь спецкомендатурам.
В центре особого внимания спецслужб находилась деятельность «религиозных авторитетов» и лиц, пользующихся авторитетом среди соотечественников, которых пытались склонить к оказанию содействия мероприятиям властей. Например, важное значение придавалось участию спецпереселенцев в выборах советских органов власти, поскольку за ними были, как ни парадоксально, «сохранены» избирательные права. В 1946 г., во время выборов в Верховный Совет СССР, подавляющее большинство чеченцев и ингушей приняли участие в голосовании благодаря агитации мулл и «религиозных авторитетов», включая Б. Арсанова, А. Гайсумова, А.-Х. Яндарова и др. Кстати, в категорию «религиозных авторитетов» входили не только устазы (шейхи) и их прямые потомки, но и руководители мюридских общин и даже наиболее активные мюриды. Одновременно власти изолировали тех религиозных деятелей, которые призывали не участвовать в голосовании, — А. Сайдаева, Д. Исраилова, А. Байсарова, Б. Сальмурзаева и других. Всего за анти- выборную агитацию было арестовано до 40 человек.
В целом к осени 1946 г. среди спецпереселенцев-северокавказцев было выявлено чуть более тысячи человек, отнесенных к категории
Абдул-Хамид Яндаров (51, 37)
Глава XVIII. Депортация чеченцев и ингушей 23 февраля 1944 г. Несломленные народы
«религиозных авторитетов», из которых 170 были принуждены к «активному» сотрудничеству с властями и органами госбезопасности1.
Первая волна сопротивления. Тем не менее, органам НКВД (МВД и МГБ) не удается предотвращать многочисленные случаи нарушения режима содержания, а также «правонарушения» со стороны спецпере- селенцев-кавказцев. При этом было совершенно очевидно, что подавляющее большинство подобных «правонарушений» были спровоцированы условиями, в которых оказались чеченцы и ингуши. Так, наиболее распространенное преступление первых лет выселения — хищение продуктов питания, кража и забой скота, а также самовольное оставление мест расселения. В отчетах местных отделов НКВД часто признается тот факт, что лишь полная безысходность заставляет спецпереселенцев не только перебираться в другие районы в происках продуктов питания, но и совершать кражи. При этом, при попытке задержания чеченцы, как правило, оказывали самое яростное сопротивление.
Побеги часто совершались и по другой причине — многие семьи оказались разлученными, а спецкомендатуры крайне неохотно или вообще не решали проблему воссоединения близких родственников. Всего за период с весны 1944 г. и до конца 1950 г. зафиксировано более 20,6 тысяч случаев «побегов» спецпереселенцев-северокавказцев, причем почти все беглецы были задержаны2.
В 1948 г., когда специальным постановлением Совета Министров СССР было подтверждено, что чеченцы и ингуши сосланы навечно, были ужесточены и наказания за побег из мест выселения. Максимальное наказание за это «преступление» равнялось 20 годам каторги, причем тюрьма до 5 лет грозила теперь и тем, кто оказывал содействие беглецам. Несмотря на это, побеги продолжались, в том числе отмечено немало случаев, когда спецпереселенцы самовольно возвращались на места прежнего проживания. Причем в некоторых случаях беглецам удавалось достигнуть Грозненской области.
В ряде донесений указывалось, что чеченцы ведут себя «дерзко» по отношению к спецкомендантам, что среди них распространяются слухи о протесте, высказанном Англией и США Советскому Союзу по поводу выселения «мусульманских» народов.
В 1948 г. часть чеченцев и ингушей была вновь переселена, уже в пределах Казахской ССР. Учитывая, что многие спецпереселенцы «выказывали намерение» бежать в соседний Китай, власти издали распоряжение, запрещавшее проживание спецпереселенцев на расстоянии менее 100 километров от государственной границы. В соответствии с этим распоряжением, более 6 тысяч спецпереселенцев-северокавказцев
1 ГАРФ. Ф. P-9479. On. 1. Д. 176. Л. 151; Репрессированные народы России: чеченцы и ингуши: Документы, факты, комментарии. — М., 1994. — С. 254.
2 ГАРФ. Ф. P-9479. On. 1.
Чеченцы и ингуши на чужбине. Несломленные народы
были переселены из пограничных районов Алма-Атинской и Талды- Курганской областей вглубь Казахстана1.
Взаимоотношения с местным «начальством» и рядовым населением. В отдельных случаях достаточно непросто складывались и отношения между вайнахами и местным населением. Официальное клеймо «предателей», а также волна слухов о «природной кровожадности» чеченцев и ингушей, поначалу вызвали настороженное отношение к ним со стороны части жителей азиатских республик. К тому же аналитики НКВД (МВД) и госбезопасности, как ни странно, считали, что большинство вайнахов, особенно жители горных районов, неспособны к «производственной деятельности» в колхозах и других советских предприятиях. Естественно, что руководители хозяйств под всеми предлогами отказывались принимать на работу людей, характеризуемых таким образом, и пытались избавиться от тех, кого оказывались вынужденными брать под давлением спецкомендатур. А главное, спецпереселенцы практически не имели даже ограниченных прав советского гражданина, что позволяло игнорировать их интересы, о чем постоянно сообщают начальству органы внутренних дел. Например, в Гурьевской области действовало распоряжение обкома ВКП(6), запрещавшее принимать молодых людей из спецпереселенцев на курсы по подготовке рабочих специальностей, в Джамбульской области повсеместно происходило «ущемление спецпереселенцев в материально-правовых вопросах», в Семипалатинской области на многих предприятиях им задерживали выдачу заработной платы и продовольственных пайков2.
Вместе с тем, наблюдались и массовые случаи неформальной поддержки чеченцев и ингушей казахами, русскими и другими местными жителями, считавшими их несправедливо лишенными своей родины. В отличие от «начальства», простые люди никогда не враждовали с горцами. Более того, их независимость и свободолюбие вызывали восхищение окружающих, придавленных сталинской диктатурой.
Сталкиваясь с негативным отношением к себе, чеченцы и ингуши активно протестовали в доступной им форме, не останавливаясь и перед угрозами в адрес притеснявшего их начальства и их убийством. Так, в первые месяцы приезда спецпереселенцев назначенные в спецкомендатуры офицеры НКВД пытались вести себя в «обычной» манере — грабить, насиловать и беспробудно пьянствовать за счет подношений. На насилие чеченцы и ингуши ответили столь страшным ответным насилием над обидчиками, что моментально отрезвило весь комендантский контингент. Здесь сталинская машина репрессий,
1 ГАРФ. Ф. P-9479. On. 1. Д. 597. Л. 2; Д. 377. Л. 28, 30; Джанпоп Джон. Указ. соч. — С. 75—76; Сигаури И. М. Указ. соч. — С. 270—273, 275; и др.
2 ГАРФ. Ф. P-9479. On. 1. Д. 925. Л. 137; Ф. P-9479. On. 1. Д. 245. Л. 66,119 об.; Д. 295. Л. 41.
Глава XVIII. Депортация чеченцев и ингушей 23 февраля 1944 г. Несломленные народы
столкнувшись с принципиально иным, по рабски не «советизированным» человеческим материалом, забуксовала.
Тем не менее, несмотря на значительное количество конфликтов, возникавших, как правило, на бытовой почве, в целом межнациональные отношения в Казахстане и Киргизии оставались ровными.
«Чеченские» погромы. Массовый чеченский погром в годы депортации имел место летом 1950 г. в городе Лениногорске, на шахтах и рудниках (по добыче свинца и других цветных металлов) которого работало большое количество молодежи (завербованной буквально со всей страны) и уголовников, освобожденных из казахстанских лагерей и тюрем. Концентрация в небольшом рабочем городке значительного числа молодых людей, верховодами которых были уголовники-рецидивисты, уже сама по себе создавала известную напряженность.
Причина беспорядков, вспыхнувших 16 июня 1950 г., не совсем ясна. В своих воспоминаниях некоторые ссыльные утверждают, что чеченцы стали преградой между уголовниками, выпущенными из тюрем, примкнувшим к ним вербованным людом и остальным русско-казахским населением. Уголовный мир рвался в рабочих поселках к полной власти, чему мешали не подчиняющиеся чеченцы и ингуши. Милиция предпочитала закрывать на все глаза. Не вызывает сомнения, однако, что организаторы погрома втайне тщательно готовились к нему и сумели застать врасплох чеченскую общину Лениногорска. Наибольшее количество жертв пришлось именно на первый день погрома, когда чеченцы-мужчины поодиночке или небольшими группами разъехались поздравлять родственников и знакомых по случаю окончания месяца поста (рамадан).
Местные органы власти, милиция и спецкомендатура не смогли не только предотвратить погром, но и сколь-нибудь действенно пресечь действия погромщиков.
Тогда чеченцы сами организовывают оборону и в жестоких рукопашных боях вытесняют к 18 июня «вербованных» на окраину Лениногорска, в рабочий поселок. Беспорядки в Лениногорске продолжались до 19 июня, когда, наконец, в город были введены войска. В общей сложности было зверски убито 36 чеченцев, включая женщин и детей.
Вслед за Лениногорском попытка организации массового чеченского погрома имела место и в городе Усть-Каменогорске, где в общей сложности получили серьезные ранения больше 10 человек. И здесь в столкновениях с чеченцами участвовали молодые люди, из числа завербованных, находившихся под влиянием уголовников. Крупные инциденты происходили иногда и в сельских районах. Например, летом 1944 г. в Текелинском районе Талды-Курганской области менее чем за три недели было убито 5 спецпереселенцев. В 1946 г. произошла крупная
— 868 —
Чеченцы и ингуши на чужбине. Несломленные народы
стычка на межнациональной почве на станции Бурная, закончившаяся разгоном погромщиков.
Массовые стычки в 40—50-х гг. имели место на целинных землях и в местах заключения казахских областей, где преступные элементы при попустительстве начальства пытались подчинить воровским порядкам чеченцев и ингушей1. Однако горцы повсеместно давали бандитам жесткий отпор, часто беря под защиту и русских «политических». Последних чеченцы и ингуши считали своими собратьями, пострадавшими от сталинских репрессий. Особо выстраивались отношения и с заключенными мусульманами, которые видели в чеченцах своих защитников от уголовного беспредела. «Чеченец» в тюрьмах и лагерях сталинского времени выступал, как защитник обездоленных.
Трудовые дела. Чеченцы и ингуши быстро доказали, что они могут хорошо трудиться не только на собственной земле, но и в колхозах и на государственных предприятиях. Уже в 1945 г. спецкомендатуры повсеместно сообщают, что большинство спецпереселенцев хорошо зарекомендовало себя на работе, а в 1947 г. «.. .в корне изменилось отношение к ним и со стороны большинства руководителей хозорганизаций и учреждений...». В следующем 1948 г. 8 спецпереселенцев в Казахской ССР представлены к званию «Герой Социалистического Труда» (не получил ни один), 71 — к награждению различными орденами, а 56 отмечены медалью «За доблестный труд». Еще более 3,4 тысяч человек были награждены за свою работу ценными подарками. Одновременно в соседней Киргизии награды различных степеней (включая ордена и медали) были вручены 875 спецпереселенцам.
Интересно, что, по данным МВД, число работающих спецпереселенцев стабильно превышало число лиц, официально считавшихся трудоспособными. Например, в Казахской ССР трудоспособными были признаны чуть более 155 тысяч спецпереселенцев с Северного Кавказа, а на работе их находилось более 171 тысячи, включая 7,5 тысяч человек, считавшихся нетрудоспособными, и 13,5 тысяч подростков. Объяснить это можно только тем, что исключительно тяжелое материальное положение большинства семей вынуждало работать не только трудоспособных взрослых, но и детей и больных2.
В первые годы проживания в Казахстане и Средней Азии среди чеченцев и ингушей довольно широкое распространение имели слухи о скором возвращении на родину. Тем не менее, большинство их них стремилось как можно быстрее обустроиться в хозяйственном отношении — от этого зависело физическое выживание их самих
1 См.: ГАРФ. Ф. P-9479. On. 1. Д. 570. Л. 243; Ф. P-9478. On. 1. Д. 278. Л. 132 об.; Живая память: О жертвах сталинских репрессий. — Грозный, 1991. — С. 21; Сигаури И. М. Указ. соч. — С. 274—275.
2 ГАРФ. Ф. P-9479. On. 1. Д. 354. Л. 28; Д. 356. Л. 18, 60, 62.
Глава XVIII. Депортация чеченцев и ингушей 23 фезраля 1944 г. Несломленные народы
и их близких. Однако понадобилось четыре долгих года, прежде чем материальное положение основной части спецпереселенцев стало достаточно прочным. Только в 1948 г., по данным спецкомендатур, большинство чеченцев и ингушей проживало в нормальных условиях, вели собственное хозяйство и имели постоянную работу. При этом улучшением своего положения они были обязаны не государству, а самим себе. Уже в 1947 г. примерно половина их в Казахстане и две трети в Киргизии проживали в собственных домах, а подавляющее большинство тех, кто еще не имел собственного жилья, делали все возможное, чтобы купить или построить себе дома1.
Новая волна протестного движения. Таким образом, к концу 40-х гг. депортированные чеченцы и ингуши в массе своей адаптировались к жизни в новых условиях, но отнюдь не к драконовским порядкам репрессивных органов. В начале 50-х становится очевидным, что несмотря на наличие спецкомендатур и суровые наказания за нарушение режима содержания, властям становится все труднее контролировать перемещения чеченцев и ингушей. Уже в 1945 г. небольшая часть спецпереселенцев, а именно военнослужащие и их семьи, получили возможность самостоятельно определять место постоянного жительства (но без права возвращения на место прежнего проживания). Этим обстоятельством они были обязаны только себе и поддержке фронтовиков во всех органах власти.
Единичные случаи самовольного переселения в границах того же Казахстана, характерные для 40-х гг., в 50-х гг. становятся массовыми. Отмечается стремление чеченцев и ингушей к компактному проживанию, причем именно в городах. Так, к 1952 г. их численность в областных и районных центрах Казахстана возросла до 135 тысяч человек. Встревоженные концентрацией спецпереселенцев в городах, казахстанские власти пытались насильственно переселять чеченцев из городов в сельскую местность. Однако после смерти И. В. Сталина и получения спецпереселенцами в 1954 г. права на относительно свободное передвижение (они обязаны были теперь только время от времени регистрироваться в комендатурах) ситуация стала окончательно выходить из-под контроля местных властей.
Вскоре становится очевидным, что чеченцы массами перебираются из северных в южные районы Казахстана, причем происходит это во многом под влиянием чеченской интеллигенции, которая стремилась создать здесь национальный очаг в изгнании.
После смерти Сталина новое руководство СССР в целях самосохранения взяло курс на усиление законности в стране, и в связи с этим возникла интересная юридическая проблема. 23 декабря 1953 г. в Москве были расстреляны сталинские опричники Л. П. Берия, В. Н. Меркулов,
1 ГАРФ. Ф. P-9479. On. 1. Д. 354. Л. 29, 80.
— 870 —
Чеченцы и ингуши на чужбине. Несломленные народы
В. Г. Деканозов, Б. 3. Кобулов, С. А. Гоглидзе, П. Я. Мешик и Л. Е. Влад- зимирский. В следующем году, также в декабре, расстреляли всю верхушку Министерства государственной безопасности во главе с бывшим руководителем СМЕРШа В. С. Абакумовым.
Все они были обвинены в измене Родине, сотрудничестве с иностранными разведками, совершении террористических актов и в стремлении «посеять вражду и рознь между народами СССР».
По крайней мере, трое из указанных лиц — Л. П. Берия, Б. 3. Кобулов и В. С. Абакумов обосновывали и осуществляли депортацию целого ряда народов СССР. По иронии судьбы, решением ЦК КПСС все родственники осужденных были подвергнуты «выселению» в Красноярский край, Свердловскую область и Казахстан1.
Таким образом, согласно терминологии того времени, оказывалось, что выселение горских народов в годы войны было задумано и осуществлено матерыми преступниками, ярыми врагами коммунистической партии и советской власти.
Летом 1954 г. Совет Министров СССР принял постановление, освобождавшее от учета в качестве спецпереселенцев детей в возрасте до 16 лет. С учетом резкого всплеска рождаемости, отмеченного уже в начале 50-х гг., это привело к сокращению числа лиц, находившихся на учете в органах милиции. Так, в 1956 г. из 328 тысяч чеченцев на учете в спецкомендатурах состояли немногим более 191,4 тысяч2.
Действия чечено-ингушской интеллигенции. Не рассчитывая, что удастся добиться возвращения на родину в обозримом будущем, чечено-ингушская интеллигенция стремилась к тому, чтобы в Казахстане и Киргизии воссоздать систему национального образования, а также возродить национальную культуру. Впрочем, профессиональная деятельность ряда выдающихся деятелей чечено-ингушской культуры и искусства и не прекращалась и в ссылке. Так, в Киргизской филармонии получило развитие творчество М. Эсамбаева. Выдающийся чеченский драматург и деятель культуры Абдул-Хамид Хамидов в 1946 г. создал Кавказский ансамбль песни и пляски.
Серьезным результатом усилий чеченской интеллигенции стало и издание национальной газеты «Къинхьегаман байракх» («Знамя труда»), первый номер которой вышел летом 1955 г. Начало следующего года отмечено началом регулярного радиовещания на чеченском и ингушском языках. Активность проявляли немногие чеченские и ингушские писатели, оставшиеся в живых, — Халид Ошаев, Идрис Базоркин, филолог Юнус Дешериев (один из двух чеченцев, живших в Москве).
1 См.: Лаврентий Берия. Стенограмма июльского пленума ЦК КПСС / Под ред. А. Н. Яковлева и др. — М., 1999. — С. 384—396; Степанов В. Н. Нарком СМЕРШа. — СПб., 2003. — С. 143—144.
: ГАРФ. Ф. P-9479. On. 1. Д. 842. Л. 45; Д. 570. Л. 65—66.
— 871 —
Глава XVIII. Депортация чеченцев и ингушей 23 февраля 1944 г. Несломленные народы
Абдул-Хамид Хамидов (26, 49)
На очереди стоял вопрос о воссоздании национального театра и вокально-хореографического ансамбля.
Следует отметить, что чеченцы и ингуши были лишены не только своей Родины и гражданских прав, но также национальной культуры, языка и истории. Так, из всех справочников и энциклопедий сталинского времени тщательно вымарывалось упоминание о чеченцах и ингушах. Языковед Ю. Дешериев совершил по тем временам настоящую «идеологическую диверсию», издав в 1953 г. в Москве исследование «Бацбийский язык» (бацбийцы Закавказья говорили, по существу, на одном из диалектов чеченского языка). Таким образом он пытался сохранить для потомков язык вайнахского народа, долженствующего, по решению «отца народов», исчезнуть с лица земли.
Ситуация в народном образовании. Депортация 1944 г. нанесла тяжелый удар по национальной культуре и практически уничтожила национальную систему образования, которая к 40-м гг. еще не успела полностью сложиться. В Казахстане и Киргизии преподавание родного языка даже в начальной школе было совершенно исключено. Дети спецпереселенцев должны были посещать школы по месту своего проживания, а потому вместо родного языка они учили русский, казахский или киргизский.
В первый год после выселения большинство чеченских детей оказались вынужденными прервать учебу. Ситуация не изменилась и в следующем году, потому что тяжелое материальное положение переселенцев зачастую не давало возможности детям посещать школу.
Чеченцы и ингуши на чужбине. Несломленные народы
Как свидетельствуют документальные данные, в 1945 г. в отдельных областях Казахстана до 70% детей спецпереселенцев не посещали школу по причине отсутствия теплой одежды и обуви. В 1946 г. из 89 тысяч детей спецпереселенцев с Северного Кавказа, которые должны были посещать школу в соответствии с Законом о всеобщем образовании, — реально учились только 22 тысячи1.
Таким образом, выселение обернулось настоящей катастрофой в сфере образования. По данным 1949 г., не менее 60% северокавказских спецпереселенцев были полностью неграмотными. Полное среднее образование из их числа имели только 2,1%, а высшее — всего 0,2%. При этом во второй половине 40-х гг. происходит заметное сокращение числа лиц, имеющих высшее образование. Так, если в 1946 г. в Казахстане насчитывалось 1248 северокавказцев с высшим и средним специальным образованием, то в начале 1948 г. их осталось 11272.
Получение высшего образования спецпереселенцами было связано со значительными сложностями. Для выпускника школы требовалось специальное разрешение республиканских органов внутренних дел учиться в высших учебных заведениях, да и то только трех азиатских республик (Казахстан, Киргизия и Узбекистан). Однако после завершения учебы чеченцы и ингуши не могли покидать места выселения. Этот запрет зачастую делал бессмысленным получение образования, так как, по данным тех же органов внутренних дел, значительная часть спецпереселенцев с высшим образованием (юристы, литераторы, педагоги) не могли трудоустроиться по специальности.
Отмена статуса спецпереселенца. Рост настроений за возвращение на Родину. Бремя сталинского диктата давно уже стало невыносимым не только для пострадавших от него горцев, но и для всего многонационального Союза. Дальнейшее развитие великой страны прямо зависело от политических реформ и определенной либерализации общественно- политической жизни.
После расстрела руководителей сталинской машины смерти Л. П. Берия, Б. 3. Кобулова и других в декабре 1953 г., начался пересмотр дел осужденных за «контрреволюционные преступления». 19 января 1955 г. постановление ЦК КПСС резко усилило надзор за работой органов государственной безопасности и милиции; шла серьезная чистка органов, счет шел на тысячи сотрудников.
17 сентября 1955 г., через 10 лет после окончания войны с фашистской Германией, вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.». Согласно документу,
1 См.: ГАРФ. Ф. P-9479. On. 1. Д. 245. Л. 118 об; Репрессированные народы России: чеченцы и ингуши: Документы, факты, комментарии. — М., 1994. — С. 155.
2 ГАРФ. Ф. P-9479. On. 1. Д. 455. Л. 191—192; Д. 295. Л. 37; Д. 356. Л. 14—15.
— 873 —
Глава XVIII. Депортация чеченцев и ингушей 23 февраля 1944 г. Несломленные народы
лица, «осужденные за службу в немецкой армии, полиции и специальных немецких формированиях, освобождались из мест заключения независимо от срока наказания»1. Но, видимо, принадлежность не к той национальности выглядела в глазах высшей власти куда более серьезным преступлением, нежели вооруженное выступление против собственной страны в рядах вражеской армии. Репрессированных якобы за «сотрудничество с немцами» горских народов данный указ не коснулся.
На XX съезде Коммунистической партии Советского Союза, прошедшем в марте 1956 г., был развенчан культ личности Сталина, также прямо указаны его преступные ошибки, в том числе в сфере национальной политики. Доклад Н. С. Хрущева о преодолении культа личности Сталина произвел эффект разорвавшейся бомбы.
Летом 1956 г. статус спец переселенцев, наконец, был снят с чеченцев, ингушей, балкарцев и карачаевцев. Власти уже вынуждены всерьез рассматривать возможность возвращения на Северный Кавказ малочисленных балкарцев и карачаевцев, а также создания национальной автономии для полумиллиона чеченцев и ингушей на территории Казахстана и Киргизии. Возвращение чеченцев на историческую родину все еще считалось нежелательным, поскольку территория Чечни была не только поделена между Грозненской областью, Северной Осетией, Дагестаном и Грузией, но и плотно заселена новыми переселенцами.
Еще задолго до того как было принято окончательное решение о судьбе чеченского народа, органы внутренних дел отметили рост общественной напряженности среди чеченцев. Процесс возвращения домой пытаются «оседлать» некоторые влиятельные духовные авторитеты, бывшие партийные и советские руководители, а также видные представители творческой интеллигенции.
Прекращение действия статуса спецпереселенцев в отношении чеченцев не означало автоматического восстановления национальной автономии, ни признания за ними права вернуться на историческую родину. Органы внутренних дел Грозненской области, а также Северной Осетии и Дагестана продолжают задерживать на своей территории самовольно возвращающихся спецпереселенцев и возвращать их в республики Средней Азии и Казахстана. Пытаясь предотвратить массовое возвращение чеченцев и других северокавказцев на родину, власти, объявляя о снятии с них статуса спецпереселенцев, одновременно требовали подписку о невыезде на родину.
Десятки тысяч чеченцев отказались дать подобную расписку. Выражая настроения, охватившие весь народ, группа представителей чеченской и ингушской интеллигенции прямо писала в Президиум
1 Викторов Б. А. Без грифа «секретно». Записки военного прокурора. — М., 1990. — С. 19, 21—22.
Чеченцы и ингуши на чужбине. Несломленные народы
ЦК КПСС: «Для нас стала нетерпимой мысль о том, чтобы оставаться жить там, где мы сейчас находимся, в изгнании...».
Тем не менее, вопрос о восстановлении Чечено-Ингушской АССР встретил серьезное сопротивление как на уровне субъектов РСФСР (Грозненская область, Дагестан, Северная Осетия), так и в самых верхних эшелонах власти. В частности, Президиум ЦК КПСС три раза возвращался к рассмотрению этого вопроса1.
Начало стихийного процесса возвращения на родину. Еще не известно, как сложилась бы дальнейшая судьба чечено-ингушского народа, если бы в этот критический момент он сам не взял инициативу в свои руки. Еще до того как власти пытались придти к какому-либо определенному решению, чеченцы стали самовольно покидать Казахстан и тысячами направляться в Чечню. Таким образом, на родину только в 1956 г. возвратилось до 30 тысяч человек. Убедившись, что остановить стихийный процесс возвращения невозможно, советское правительство отказалось от мысли создать национальную автономию чеченцев и ингушей в Средней Азии2. Власти не исключали для себя, что дальнейшее промедление в решении вопроса о возвращении чеченцев и ингушей на родину может привести к восстанию. По существу это было одно из крупнейших протестных движений в истории постсталинского СССР, заставившее руководство страны руководство страны пересмотреть свою внутреннюю политику в целом.
В мае 1956 г. в Москву прибыла группа бывших партийных и советских работников Чечено-Ингушетии. 12 июня эта делегация была принята в Кремле, где состоялось расширенное заседание с участием представителей Грузии, Дагестана и Северной Осетии. Предложение ЦК КПСС восстановить Чечено-Ингушетию на территории Грозненской области без горных и части предгорных районов было категорически отвергнуто единой чечено-ингушской делегацией.
Выход из тупика был найден благодаря руководителям Грузии и Дагестана, которые выразили готовность вернуть в состав Чечено-Ингушетии перешедшие к ним в 1944 г. земли и организовать обратное переселение проживающих там дагестанцев и грузин. Руководство Северной Осетии также отказалось от большей части перешедших к этой республике земель, но сумело добиться согласия на закрепление за ней Пригородного района, при том непременном условии, однако, что будет гарантировано свободное возвращение ингушей на свои исторические земли. Дружные протесты чечено-ингушской делегации по вопросу о Пригородном районе были проигнорированы ЦК КПСС3.
1 См.: Живая память: О жертвах сталинских репрессий. — Грозный. — 1991. — С. 64; Тайны уходящего века. — М., 2000. — С. 469.
2 Некрич А. Наказанные народы. — Нью-Йорк, 1978. — С. 114.
3 Как это было // Голос Чечено-Ингушетии. — 1991. — 12 июля. — С. 3;Дешериев Ю. Жизнь во мгле и борьбе: о трагедии репрессированных народов. — М., 1995. — С. 10,149; Сигаури И. М. Указ. соч. — С. 283—284.
Глава XVIII. Депортация чеченцев и ингушей 23 февраля 1944 г. Несломленные народы
Власти тогда же приняли жесткое решение о закрытии для проживания бывших Шаройского (Химойского), Галанчожского, Чеберлойс- кого, а также большей части Итум-Калинского и Шатойского районов Чечни. Для размещения проживавших там горцев, составлявших треть населения довоенной Чечни, было решено использовать земли Карга- линовского, Шелковского и Наурского районов, с 1944 г. находившихся в составе Грозненской области, а до того в границах Ставропольского (Орджоникидзевского) края. Но основная причина сохранения их в составе Чечено-Ингушской АССР заключалась прежде всего в стремлении сохранить численный перевес русского населения. Кроме того, надо учитывать и их глубокую экономическую «привязанность» к Грозному, как к экономическому центру.
Позиция международного сообщества. В годы войны западные союзники СССР в борьбе с гитлеровской Германией и милитаристской Японией или полностью игнорировали вопрос о выселении целых народов, или где-то одобрительно отзывались о факте выселения советских немцев, безо всяких на то оснований как о ликвидации «пятой колонны».
После начала «холодной войны» вопрос о репрессированных народах СССР стал часто звучать на международных форумах, в том числе и во время заседаний ООН. При этом позиция советских дипломатов, выступавших с жесткими требованиями деколонизации той же Африки, стала наталкиваться на серьезные контраргументы о печальной судьбе многих мусульманских народов в Советском Союзе. Приводились во время дискуссий в ООН и в средствах массовой информации Запада леденящие кровь подробности о выселении крымских татар, чеченцев и ингушей.
Так, британский представитель в ООН на выступлении в Экономическом и Социальном Совете ООН назвал факт депортации народов в СССР «чудовищным преступлением».
Вместе с тем, высокую активность в борьбе за восстановление попранных прав чеченцев, ингушей и других репрессированных народов проявляли потомки горских переселенцев XIX в. в Османскую империю и эмигранты первой и второй волны (1918—1921 и 1941—1945 гг.). Объединяясь в различные комитеты и группы, они неоднократно и активно требовали, как от мусульманских государств, так и от международных организаций, использовать свое влияние в давлении на Советское правительство, чтобы незаконно репрессированные горцы вернулись из ссылки на Кавказ. Особой активностью отличалась многочисленная чеченская диаспора Иордании, Турции, США (здесь активно действовали общественные деятели Салаудин Гугаев и Хамид Озбек) и других стран.
Отдельно необходимо сказать о подвижнической деятельности выдающегося политолога мирового уровня Абдурахмана Авторхано-
Чеченцы и ингуши на чужбине. Несломленные народы
ва. Не ограничиваясь написанием ярких трудов о трагической судьбе изгнанных Сталиным горских народов, он вел планомерную борьбу через международные организации за возвращение на родину репрессированных народов1.
В 1952 г. в Мюнхене была опубликована на немецком языке крупная работа А. Авторханова «Убийство чечено-ингушского народа. Народо- убийство в СССР»2, которая была переведена на многие европейские языки и оказала большое влияние на формирование общественного мнения на Западе по вопросу о депортированных народах.
* * 54-
Одним из самых страшных последствий преступной сталинской диктатуры стало выселение 14 народов СССР с мест их постоянного проживания, сопровождаемое лишением их имущества и таким ухудшением условий их существования, которое приводит к вымиранию этноса. В результате политики государственного террора, из 500 тысяч чеченцев и ингушей в 1944—1950 гг. умерло до 150 тысяч человек. Общие демографические потери составили 300 тысяч человек. Невосполнимый урон был нанесен национальной культуре и образованию.
Чечено-Ингушетия решением властей была разделена между Грозненской областью, Грузией, Осетией и Дагестаном. Бежавшие от выселения в леса и горы — преследовались и уничтожались.
Несмотря на неимоверные трудности нация не только не растворилась, не ослабла, но и еще более закалилась в условиях ссылки, тюрем и лагерей. Власть в конце-концов спасовала перед железной стойкостью вайнахов.
Вопреки всему, чеченцы и ингуши в массовом порядке начали самостоятельно возвращаться на Родину уже в 1956 г. и буквально вынудили советское руководство взять курс на восстановление Чечено-Ингушской АССР. В целом, широкое протестное движение депортированных народов способствовало определенной демократизации советского режима в масштабах всего Советского Союза.
1 См.: Кантемир А. Дискуссия в ООН о геноциде на Кавказе // Наш Дагестан. 1996. январь-февраль-март 1995. — С. 61—63; Живая память: о жертвах сталинских репрессий. — Грозный. — 1991. — С. 57—59; Абдурахман Авторханов и политическая история Кавказа. Авторхановские чтения. 30—31 мая 1994 г. Тезисы. — Грозный, 1994; Письмо-обращение группы кавказцев, живущих в США, в Организацию Объединенных Наций // Комсомольское племя — 1990,9 мая; и др.
2 Русское издание: Уралов А. (А. Авторханов). Убийство чечено-ингушского народа: Народоубийство в СССР. — М., 1991.
Глава XIX. Восстановление Чечено-Ингушской АССР. Развитие республики в 60—80-е годы XX века
§ 1. Восстановление Чечено-Ингушской АССР.
Территориально-государственное строительство
Расстрел Л. Берия и Б. Кобулова. Снятие ограничений. Весной 1953 г. казавшийся незыблемым сталинский тиранический режим зашатался. 6 марта было объявлено о смерти руководителя партии и государства, «великого вождя», генералиссимуса И. В. Сталина. Пришедшая после его смерти к власти группа партийных деятелей сталинского «закала» вступила вскоре в спор за передел властных полномочий. Л. Берия со своими сторонниками — генералами спецслужб проиграл и летом 1953 г. оказался в тюрьме.
Июльский (1953 г.) Пленум ЦК КПСС принял соответствующее постановление «О преступных антипартийных и антигосударственых действиях Берии», после чего началось следствие. Одним из обвинений, выдвинутых против ранее всесильного наркома НКВД (косвенно вошедшее и в обвинительное заключение), было руководство преступной акцией — выселением целых народов. Рассказывают, что Берия встал на колени перед вызванными на допрос в качестве свидетелей бывшим председателем Совнаркома Чечено-Ингушской АССР С. Молаевым и бывшим наркомом НКВД С. Албогачиевым и заявил, что «безмерно виноват в гибели сотен тысяч чеченцев и ингушей, которые незаслуженно, по его вине, были высланы в Казахстан и Киргизию». Берия утверждал, что «Сталин так хотел, а он — Берия помог ему в этом». И это был единственный пункт обвинения, который Берия признавал полностью, осознавая как преступное деяние.
В декабре 1953 г. Л. Берия и Б. Кобулов, с группой генералов-палачей были лишены наград, званий и расстреляны по приговору Верховного Суда СССР, как «изменники Родины». Их семьи и многочисленные родственники были высланы из Москвы и Грузии в Казахстан, Красноярский край и Свердловскую область1.
Расстрел Л. П. Берия, Б. Кобулова и других сталинских палачей, авторов и исполнителей геноцида над малыми народами, в том числе чеченцами и ингушами, логично ставил вопрос о реабилитации незаконно пострадавших народов и миллионов политзаключенных. Так, в июле 1954 г.
1 См.: Лаврентий Берия. 1953. Стенограмма июньского пленума ЦК КПСС и другие документы / Под ред. А. Н. Яковлева и др. — М. 1999. — С. 389—392; Костоев Б. Кавказский меридиан. — М., 2001. — С. 229—230; и др.
— 878 -
Восстановление Чечено-Ингушской АССР. Территориально-государственное строительство
Совет Министров СССР (во главе с Маленковым) принял распоряжение «О снятии ограничений в юридическом статусе переселенных лиц». Чеченцы и ингуши, как и другие депортированные народы, освободились от унизительной ежемесячной регистрации, но не более того.
С 1955 г. стала издаваться республиканская еженедельная газета на чеченском языке, начал формироваться чечено-ингушский национальный театр, в декабре 1956 г. зазвучали первые концерты и передачи на горских языках по казахскому радио.
Сопротивление руководства СССР возвращению горцев на родину. Народное движение протеста. При этом вопрос о восстановлении Чечено-Ингушской АССР не ставился даже в порядке обсуждения. На все многочисленные письма и обращения горцев в Москву следовал жестокий недвусмысленный ответ, что чеченцы и ингуши должны оставаться в местах своего проживания навечно.
Не имея на то официального разрешения, чеченцы и другие горцы в одиночку и семьями начали тайно «исчезать» из Казахстана и «возникать» на Северном Кавказе. С 1955 г. этот процесс формируется в явление, а в 1956 г. (после XX съезда КПСС, осудившего культ личности Сталина) приобретает лавинообразный характер, в течение года до 30 тысяч чеченцев и ингушей вернулись в родные края, где им приходилось селиться в палатках и шалашах. Надо отметить, что Первый секретарь ЦК КПСС Н. С. Хрущев не понаслышке был знаком с проблемой репрессированных народов. Так, в 1956 г. во время визита в Казахстан он долго беседовал с человеком высокого нравственного долга — Дзияудином Мальсаговым, который довел до верховного руководителя страны всю жестокую правду о бесчеловечной расправе Сталина с народами Северного Кавказа.
Н. С. Хрущев в своем рабочем кабинете. Фото (65, 228)
Глава XIX. Восстановление Чечено-Ингушской АССР. Развитие республики в 60—80-е гг. XX в.
Дзияудин Мальсагов. 1941 г. Фото (79, 47)
Убедившись в бессмысленности репрессивных действий против доведенных до исступления людей, правительственные органы СССР с целью избежать кровопролития и подкупить горцев, попытались убедить горские массы согласиться на учреждение национальной автономии на территории южной части Казахстана или в Узбекистане.
Вследствие невозможности сдержать горцев от стремления вернуться домой никакими запретами и подачками, высшее партийное руководство вынужденно пошло на план поэтапного, с 1957 по 1960 гг., возвращения чеченцев и ингушей на родину. При этом горцев заставляли давать расписки, что они не будут претендовать на конфискованное в ходе выселения имущество и требовать возврата в те дома, откуда были изгнаны. Только потом выдавалось разрешение на возвращение домой. Произошло небывалое — почти треть взрослых чеченцев, ингушей и карачаевцев (до 80 тысяч человек) отказались дать такую подписку в органах МВД и вернулись домой, не взирая на запреты1.
Указ Президиума Верховного Совета СССР: «О восстановлении Чечено-Ингушской АССР в составе РСФСР». Этот государственный акт появился 9 января 1957 г. и знаменовал собой официальное прекращение 13-летней депортации чеченского и ингушского народов. В тот же день аналогичный указ был принят Президиумом Верховного Совета РСФСР. В том же году была восстановлена и национальная автономия балкарцев, карачаевцев и калмыков. Несмотря на то что оба указа говорили о «восстановлении» Чечено-Ингушской АССР, на самом
1 См.: Данлоп Джон. Россия и Чечня: История противоборства. Корни сепаратистского конфликта. — М., 2001, — С. 79—81; Некрин А. Репрессированные народы... — С. 129—135; и др.
Восстановление Чечено-Ингушской АССР. Территориально-государственное строительство
деле новая Чечено-Ингушетия сильно отличалась от «старой», как по территории, так и по составу населения. Изначально власти планировали организованно отселить из чеченских и ингушских селений только несколько десятков тысяч дагестанцев, осетин и грузин (из общего их количества в 70—80 тысяч человек), а русские переселенцы должны были полностью остаться на месте. В результате население новой Чечено-Ингушетии (с учетом численности возвращающихся чеченцев и ингушей) должно было возрасти примерно до 1 миллиона человек.
Под тем предлогом, что, оставаясь в прежних границах, республика не смогла бы полностью обеспечить кормами свое поголовье скота, было принято решение сохранить в составе новой Чечено-Ингушской АССР Каргалиновский, Шелковской и Наурский районы (здесь были огромные степные пастбища), входящие в Грозненскую область, а ранее принадлежавшие Ставропольскому краю1. На самом же деле это обстоятельство должно было сохранить численное преобладание русского населения над горским. Значение имела и экономическая связанность терских районов с Грозным.
Их площадь составила 27% от территории вновь выкроенной Чечено- Ингушской АССР (5000 квадратных километров из 19300). На первый взгляд территория республики была увеличена значительно. Однако произошло это за счет песчаных земель Бурунной степи (по существу, полупустынь) за Тереком, где пригодной к земледелию и садоводству была только узкая полоса по берегу реки (прмерно до 1 тысячи квадратных километров). Между тем, из старых границ Чечено-Ингушской АССР отрезано было 1600 квадратных километров исключительно черноземных земель Пригородного района в пользу Северо-Осетинской АССР (Пригородный район).
Планы партийной верхушки края. Пригородный район. Интересы верхушки старого партийного и советского руководства Грозненской области заключались прежде всего в срыве восстановления автономии чеченцев и ингушей. В случае неудачи местные национал-патриоты расчитывали предпринять все, чтобы сделать чеченцев и ингушей национальным меньшинством в собственной республике. Как уже говорилось, еще в 20—30-е гг. благодаря исключительному значению Грозного и его нефтяной промышленности для всей страны, а также численному преобладанию грозненской (почти исключительно русской по составу) городской партийной организации, высшие партийные посты в Чечено-Ингушетии занимали русские коммунисты, направляемые сюда Центральным Комитетом и лишь формально «избираемые» пленумом Чечено-Ингушского обкома ВКП(б). В восстановленной же Чечено- Ингушской АССР чеченцы и ингуши должны были составить не более
1 Репрессированные народы России: чеченцы и ингуши: Документы, факты, комментарии. — М., 1994. — С. 213.
Глава XIX. Восстановление Чечено-Ингушской АССР. Развитие республики в 60—80-е гг. XX в.
половины населения, что надолго гарантировало бы преобладающие позиции партийно-советской номенклатуры во главе с первым секретарем обкома А. И. Яковлевым. Последний, опираясь на шовинистические настроения местных партийцев, открыто заявлял, что считает большой ошибкой решение по реабилитации репрессированных народов.
Следует быть отмеченным, что это была позиция не всех грозненских коммунистов. Немало порядочных членов партии высказывалось за восстановление исторической справедливости. Так, председатель Грозненского облисполкома Коваленко настаивал не только на возвращении ссыльных, но и на восстановлении Чечено-Ингушской АССР1.
Пытаясь сохранить за собой хотя бы часть территорий, приобретенных в 1944 г. (когда территория СОАССР, благодаря «мудрой политике» И. В. Сталина, возросла за счет земель Кабарды, Ставрополья и Чечено-Ингушетии в 2 раза!), руководство Северной Осетии сумело добиться передачи ей не только всего Пригородного района, но и части территории Назрановского и Малгобекского районов Чечено- Ингушской АССР. Если передача Пригородного района произошла под предлогом его хозяйственной «привязанности» к городу Орджоникидзе (Владикавказ), то отторжение других земель оправдывалось необходимостью создать прямое сообщение между основной территорией Северной Осетии и Моздокским районом, переданным в ее состав из Ставропольского края.
Трудности с возвращением горцев на родину. Муслим Гайрбеков.
Восстановление Чечено-Ингушской АССР сопровождалось значительным обострением борьбы между различными группировками внутри партийно-советского государственного аппарата. Местные партийно-советские элиты отстаивали собственные интересы, причем зачастую они действовали в союзе с определенными силами в центральном государственном аппарате. Под различными предлогами партийные и государственные органы не только Грозненской области, но и союзные ведомства стремятся максимально замедлить процесс возвращения чеченцев и ингушей на свою историческую родину. Выселенные все вместе в течение восьми дней февраля 1944 г., вайнахи должны были проделать обратный путь небольшими группами и не менее чем за четыре года— с 1957 по 1960 гг. Обратное переселение должно было происходить по специальным разрешениям, которые выдавались местными органами МВД и Организационным комитетом по Чечено-Ингушской АССР, созданным в феврале 1957 г. Комитет размещался в Грозном, а его главой был назначен Муслим Гайрбекович Гайрбеков, талантливый советский аппаратчик и хозяйственник, занимавший различные (и довольно высокие) должности
1 См.: Живая память: О жертвах сталинских репрессий. — Грозный, 1991. — С. 71; Музаев Тимур. Чеченская Республика. — М., 1995. — С. 156; Данлоп Джон. Указ, соч. — С. 79.
Восстановление Чечено-Ингушской АССР. Территориально-государственное строительство
Муслим Гайрбеков — Председатель Организационного комитета Чечено-Ингушской АССР. Фото (28, 15)
в партийном аппарате, начиная с 1936 г. Он же был назначен в 1957 г. на пост председателя Совета Министров Чечено-Ингушской АССР и проработал в этой должности до самой смерти в 1971 г. По существу с его именем было связано второе рождение Чечено-Ингушской АССР и ее мощное становление. Его вклад в развитие многонациональной республики трудно переоценить.
В самом начале 1957 г. чеченцы и ингуши начали в массовом порядке распродавать принадлежавшие им домовладения в Казахстане и Киргизии, чтобы с началом весны направиться на Кавказ. С работы уволилось до половины всех вайнахов, что также свидетельствовало об их готовности немедленно выехать на родину. Однако союзные власти, также как и руководство уже формально существующей Чечено-Ингушской АССР, делали все возможное, чтобы удержать людей на месте. Многочисленные воинские и милицейские кордоны были созданы не только в самой Чечено-Ингушетии, но и вокруг нее. Так, сотни семей, самовольно выехавших из Караганды (Казахстан), были отправлены назад. Тогда на местном железнодорожном вокзале и возле здания местного обкома начали происходить стихийные собрания чеченцев и ингушей, требовавших немедленной отправки домой. Это вызвало большой переполох1.
Саботаж Грозненского обкома КПСС. Исходя из того как развивались события, можно предположить, что некоторые оппозиционные Н. С. Хрущеву высшие партийные и государственные лица пытались оказать поддержку группировкам, пытавшимся сорвать процесс восстановления Чечено-Ингушской АССР. Бывший член ЦК
1 Тайны уходящего века. — М., 2000. — С. 500—505.
Глава XIX. Восстановление Чечено-Ингушской АССР. Развитие республики в 60—80-е гг. XX в.
ВКП(6), участник гражданской войны в Чечне А. Костерин (ставший к тому времени писателем) свидетельствовал, что партийно-советские органы бывшей Грозненской области занимались явным саботажем распоряжений ЦК КПСС: они почти ничего не делали для размещения прибывающих чеченских и ингушских семей. Проживавшие в чеченских селениях «вербованные» не были своевременно отселены, что по приезду первой волны горцев вызвало резкое обострение межнациональных отношений. Руководство обкома КПСС даже не пыталось сбить нарастающую волну антивайнахских настроений. «Все велось и ведется так, чтобы вызвать эксцессы со стороны изгнанников и против партийно-советских организаций, и против тех, кто заселил их селения — осетин, грузин, аварцев, русских. Эти эксцессы были, есть и, к сожалению, будут, если не изменится позиция и тактика обкома...» — писал А. Костерин1.
Проблема заключалась во многом и в том, что переселенные с 1944 г. в Чечено-Ингушетию русские, дагестанцы и осетины жили исключительно в домах депортированных. Возвращающиеся требовали по крайней мере крыши над головой, так как не хотели страдать от холода и дождей под открытым небом на голой земле. Все это приводило к конфликтам, приобретавшим с подачи местных властей межнациональный характер. Москва оказалась засыпанной жалобами на чеченцев, главным лейтмотивом которых было отрицание их права жить на своей земле, в своих домах. Руководители местных хозяйств упорно не хотели брать чеченцев на работу и заниматься вопросами их расселения. В этом им в целом потворствовали высшие партийные органы Грозненской области. Хотя опять-таки есть тысячи фактов, когда те же члены партии проявляли человеческое сочувствие и добровольно покидали чеченские дома до решения их собственного жилищного вопроса.
Обезлюдение Горной Чечни. Усилия властей бывшей Грозненской области были направлены не только на то, чтобы всеми силами удержать на месте «старое» население, а возвращающихся из ссылки чеченцев, если и расселять, то не там, где они жили раньше. В частности, власти решительно воспротивились (возможно, и по указанию Москвы) восстановлению горных сел и хуторов и направили значительную часть горцев для расселения в затеречные станицы Наурского и Шелковского районов. Видимо, высшие партийные руководители полагали, что, оказавшись на положении национального меньшинства в станицах, чеченцы будут лучше управляемы.
Политика обезлюдения Горной Чечни, начатая в феврале 1944 г., нашла свое продолжение в 1957—1960 гг. Так, горцам было запрещено проживание в бывшем Чеберлойском, Химойском (Шаройском), Галанчожском, большей части Итум-Калинского и Шатойского горных
1 Живая память: О жертвах сталинских репрессий. — Грозный, 1991. — С. 72.
— 884 —
Восстановление Чечено-Ингушской АССР. Территориально-государственное строительство
Аул Шарой, заброшенный в 1944 г. (Несколько новых крыш, попытки возрождения Шароя, предпринятые к концу 80-х гг.) Совр. фото. (4, 104)
районов Чечни. Остатки домов взрывались и сжигались, рушились мосты и тропы. Органы КГБ и МВД силой оружия изгоняли на равнину семьи горцев, правдами и неправдами проникших заоблачными тропами в свои родные аулы. Между тем, до выселения в указанных районах проживало до 120 тысяч человек1.
Власти намеренно старались держать чеченцев и ингушей как можно дальше от гор. Здесь они достигли успеха: репатриантов селили в новых совхозах, рабочих поселках, фермах, разбросанных по всей равнинной территории республики, особенно в затеречных казачьих районах, причем в засушливых, нездоровых, отдаленных от районных центров и городов местах. Попутно создавались условия для их быстрой культурной и языковой ассимиляции. В станицах преподавание велось только на русском языке, руководителями станичных советов, районов и хозяйств оставались исключительно русские.
? Данлоп Джон. Указ. соч. — С. 82.
— 885 —
Глава XIX. Восстановление Чечено-Ингушской АССР. Развитие республики в 60—80-е гг. XX в.
Исход переселенцев. Судьба коренных жителей Пригородного и Ауховского районов. Тем не менее, власти не смогли не только предотвратить, но даже существенно замедлить массовый исход из Чечено- Ингушетии дагестанцев, осетин и грузин. Первыми покинули чеченские и ингушские горные селения грузины, а вслед за ними потянулись 77 тысяч дагестанцев и осетин1. Одновременно осетинское население осталось в ингушских селениях Пригородного района, а власти Дагестана сделали все возможное, чтобы воспрепятствовать исходу дагестанцев из бывших чеченских аулов Хасав-Юртовского района. Впрочем, в позиции северо-осетинских и дагестанских властей были известные различия. Если власти Северной Осетии делали все возможное, чтобы воспрепятствовать (вопреки клятвам и обязательствам, данным в ЦК КПСС в 1956—1957 гг.) возвращению ингушей в Пригородный район, то руководители Дагестана, не препятствуя в целом возвращению чеченцев-аккинцев, стремились не допустить одновременно восстановления Ауховского (чеченского) района. Для этого возвращающимся чеченцам не разрешали селиться в своих старых домах в родных аулах, а расселяли небольшими группами в Хасав-Юртовском, Баба-Юртовском, Кизил-Юртовском, Новолакском и Казбековском районах. Кроме того, специально для приема чеченских семей в черте города Хасав-Юрта были построены четыре новых поселка: Заречный, Новый, Механизаторов и Бамматбек-Юрт.
К весне 1958 г. в Дагестан вернулось около 9 тысяч чеченцев-ак- кинцев из 21 тысячи выселенных в 1944 г. В течение 1957—1958 гг. они получили в качестве единовременного пособия 475 тысяч рублей, а, кроме того, кредиты на строительство (в размере 10 тысяч рублей на семью), ремонт домов и на приобретение скота и двухгодичное освобождение от уплаты основных государственных налогов2. Возвращение остающихся в Средней Азии чеченцев-аккинцев дагестанские власти призывали отложить, по крайней мере, до 1959 г., когда они смогут лучше подготовиться к их приему и размещению. Местные власти, которым необходимо было обустроить не только чеченцев, но и переселяющихся из Чечено-Ингушетии дагестанцев, действительно испытывали значительные затруднения, усугублявшиеся ростом межнациональной напряженности. Главная причина, вызывавшая недовольство чеченцев, в том и состояла, что дагестанские власти оказали сопротивление восстановлению чеченского национального анклава в Дагестане, вынуждая
1 Джугуръянц С Я. Деятельность Чечено-Ингушской партийной организации по осуществлению национальной политики на основе решений XX и XXII съездов КПСС (1956 — 1965 гг.): Дис. на соискание уч. степени кандидата ист. наук. — Махачкала, 1966. — С. 91.
2 Алиев К. А., Курбанов М. Р.у Юсупова Г. И. Чеченцы-аккинцы Дагестана: к проблеме реабилитации. — Махачкала, 1994. — С. 10; (Единовременные пособия были, конечно, скромными — по 500 рублей на человека — 50 рублей в ценах 1961 г.).
— 886 —
Восстановление Чечено-Ингушской АССР. Территориально-государственное строительство
На родной земле. Фото Б. А. Калоева (39, 64)
аккинцев расселяться среди дагестанцев в 3—4 районах. Именно ошибочная политика местных властей и вызвала массовые беспорядки, имевшие место в Хасав-Юртовском районе Дагестана в апреле 1964 г. и позднее в 1976, 1985 и 1989 гг., а не межнациональные трения между собственно горцами.
Расселение чеченцев в пределах Грозненской области. Возвращение чеченцев и ингушей на родину сопровождалось массой всякого рода злоупотреблений, в том числе и со стороны чиновников Организационного комитета по Чечено-Ингушской АССР, которые зачастую вымогали взятки за пропуска, дающие право немедленно переселиться из Казахстана и Средней Азии на Кавказ1. Тем не менее, к середине 1957 г. в Чечено-Ингушетию вернулось, по оценкам властей, не менее 120 тысяч бывших спецпереселенцев, что вызвало в свою очередь отток из чеченских селений части пришлых жителей. Несмотря на усилия властей сдержать отъезд «вербованных», Чечено-Ингушетию покинуло до 36 тысяч русских людей (значительную их часть охотно приняли сельские районы Ставропольского края, с избытком
1 Тайны уходящего века. — М., 2000. — С. 506.
Глава XIX. Восстановление Чечено-Ингушской АССР. Развитие республики в 60—80-е гг. XX в.
сельскохозяйственных угодий), а более 2,5 тысяч русских семей срочно переселилось из селений, куда возвращались чеченцы, в станицы Наурского и Шелковского районов. Выселялись в родные республики до 26 тысяч осетин и 46 тысяч дагестанцев (несколько тысяч аварцев остались в высокогорном селении Кенхи Шатойского района1, куда чеченцам было запрещено поселение).
Республиканские власти оказались не в состоянии не только разумно организовать процесс возвращения чеченцев, но и полностью проконтролировать процесс расселения внутри республики. Вместо заботы и внимания, репатриантов встречали в Грозном войска и милиция. Бывшие спецпереселенцы делали все возможное, чтобы вернуться в свои старые дома и вновь занять те земельные участки, которые принадлежали их семьям до выселения. В силу безразличной позиции, занятой властями, проблема была пущена на самотек. Как ни дико, но чаще всего чеченцам приходилось выкупать свои дома и земли у новых владельцев. В отдельных случаях, встретившись с упорным отказом от продажи и отъезда, они добивались своего путем угроз. Понятное дело, все это создавало серьезные жизненные проблемы для тех, кто, поверив советской власти, «навечно» поселился на Кавказе, а теперь вновь был вынужден искать пристанище.
Источники тех лет подчеркивают желание чеченцев восстановить в своих селениях право частной собственности на землю, чем и объясняется стремление вытеснить отсюда «вербованных» русских и других, которые расселились по приглашению властей на чужой земле, имевшей собственников. Кроме того, масса участков, находившихся в соответствии с юридическим порядком 30-х гг. в собственности чеченцев, оказались теперь в числе присвоенных сельсоветами, сельпо, райпо, колхозами и совхозами на «общественные нужды». Не случайно летом 1958 г. чечено-ингушская республиканская прокуратура фиксирует сотни случаев «самовольного» захвата «колхозных и совхозных земель» со стороны репатриантов, причем в отдельных случаях имели место угрозы в адрес местных руководителей, пытавшихся воспрепятствовать возвращению земельных участков прежним хозяевам2.
Чеченский погром в Грозном. Плохо контролируемое и не обеспечиваемое властями массовое возвращение чеченцев и ингушей продолжилось и в 1958 г., что еще больше накалило обстановку в Чечено-Ингушетии. Наблюдались ссоры из-за домов и участков, скандалы
1 Джугуръянц С. Н. Деятельность Чечено-Ингушской партийной организации по осуществлению национальной политики на основе решений XX и XXII съездов КПСС (1956—1965 гг.): Дис. на соискание уч. степени кандидата ист. наук. — Махачкала, 1966. — С. 92; Хмара Н., Голотвин Ж. Северный Кавказ: Истоки национальных конфликтов // Интернет. Обозреватель—Observer.
2 Сигаури И. М. Очерки истории и государственного устройства чеченцев с древнейших времен. Т. 2. — М., 2001. — С. 292.
— 888 —
Восстановление Чечено-Ингушской АССР. Территориально-государственное строительство
Памятник А. П. Ермолову, воздвигнутый в городе Грозном после выселения чеченцев и ингушей. Фото (Интернет, http://conrad2001.narod.ru)
и групповые драки. Выросло число уголовных преступлений. 26 августа 1958 г. в Грозном вспыхнули массовые беспорядки, продолжавшиеся в течение трех-четырех суток. Поводом к ним стала драка на клубном вечере (23 августа 1958 г.) в рабочем поселке Грозного, где один из молодых людей, в пьяном виде, пристал к молодому горцу, вступил с ним в драку с обоюдным применением ножей и был последним, в порядке самообороны, смертельно ранен. Случившимся в полной мере воспользовались шовинистически настроенные представители местного партийного руководства и различных спецслужб, тайно стремившихся сорвать процесс восстановления национальной автономии чеченцев и ингушей.
Хотя убийца, по просьбе родственников, в тот же день сдался властям, и ему грозил неминуемый расстрел, вокруг гроба с потерпевшим, выставленном на специальном помосте, началась шовинистическая истерия. Массовая античеченская демонстрация и митинг в центре Грозного (с числом участников до 10 тысяч человек) быстро переросли не только в чеченский погром, но и в антисоветское восстание, в ходе которого были захвачены некоторые партийные и государственные здания, такие, как обком КПСС, почтамт, вокзал и т. д. Руководство местного КГБ во главе с неким Шмойловым, по существу, провоцировало погромщиков, распуская слухи и бредни о мести чеченцев, пресекая попытки милиции и войск МВД успокоить бесновавшуюся толпу. В числе демонстрантов видели некоторых ответственных партийных работников и членов их семей.
— 889 —
Глава XIX. Восстановление Чечено-Ингушской АССР. Развитие республики в 60—80-е гг. XX в.
Напротив, партийных и советских функционеров, пытавшихся остановить толпу, силой заставляли часами стоять в почетном карауле у гроба убитого хулигана. С трудом они были спасены милицией из рук разъяренных погромщиков. Главное требование «повстанцев» состояло в немедленной повторной депортации чеченцев и ингушей, восстановлении Грозненской области и введении жестких ограничений на поселение в ней чеченцев — не более 10% от числа всего населения. К счастью, чеченцы и ингуши проявили исключительную выдержку и обратились за помощью в Москву.
Лишь на третий день, после начала беспорядков, плавно перетекших из античеченского погрома в антисоветское выступление, в Грозный были введены войска Северокавказского военного округа, которые разогнали возбужденные толпы. Наиболее активные участники беспорядков были арестованы, преданы суду и осуждены на различные сроки заключения (от года условно до 10 лет лишения свободы).
На последующих собраниях и совещаниях партактива республики местные руководители утверждали, что ничего особенного не произошло, что подвыпившие элементы «слегка перешли границы дозволенного». Член Президиума ЦК КПСС, секретарь ЦК Игнатов Н. Г., ведший собрание, был вынужден осечь «бодрячков» очень резко: «Вас бы вздернули через пару дней на уличных столбах, как в Венгрии, если бы не меры, принятые ЦК КПСС». Некоторые партийные и советские руководители среднего звена лишились постов, но первый секретарь Чечено-Ингушского обкома КПСС А. И. Яковлев фактически не понес никакого наказания и через какое-то время был переведен на партийную работу в другой регион страны1.
Завершение возвращения. События в Грозном никак не отразились на темпах возвращения чеченцев и ингушей в свою республику, в основном завершившегося к концу 1961 г. Всего в республику вернулось 356 тысяч чеченцев и 76 тысяч ингушей. К этому времени в Дагестане проживало уже 28 тысяч чеченцев, а в Северной Осетии — 8 тысяч ингушей. Из числа репатриантов только 73 тысячи смогли поселиться в заново приобретенных собственных или вновь построенных домах. Еще около 10 тысяч устроились в коммунальных квартирах. Все остальные либо арендовали временное жилье, либо проживали совместно с родственниками и другими близкими им людьми. В результате искусственных сдвигов границ территорий, «поправок» в расселении репрессированных народов, к 1961 г. чеченцы и ингуши составили 41% населения республики, в то время как в 1939 г. их доля достигала 58,4%. Таким образом, «новая» Чечено-Ингушетия должна была послужить не только делу исправления
Тайны минувшего века. — М., 2000. — С. 518; Черкасов А. Насылающие ветер //
Интернет, www.memo.ru.
Восстановление Чечено-Ингушской АССР. Территориально-государственное строительство
В Чечне строятся. 1960 г. Худ. В. К. Мордовии
сталинских преступлений в национальном вопросе, но и этническому растворению народов1.
Обустройство репатриантов. Государство занялось вопросом обустройства возвращающихся чеченцев и ингушей в последнюю очередь и по остаточному принципу. Только к 12 апреля 1957 г. Совет Министров РСФСР принял постановление о выделении для возвращающихся семей кредита под строительство до 10 тысяч рублей (это 1 тысяча рублей в ценах 1961 г.), с погашением в 10 лет. Те же, кто поселялся в домах, подведомственных колхозам, совхозам и предприятиям, могли получить кредит в 3 тысячи рублей (300 рублей в ценах 1961 г.). Однако для получения кредита надо было иметь поручительство колхоза или совхоза (для чего необходимо было быть принятым на работу) и собрать большое количество справок. Но и при соблюдении этих правил получателя кредита ждал в местных банках сюрприз, в республику не были переведены деньги на указанные постановлением Правительства
1 См.: Репрессированные народы России: чеченцы и ингуши: Документы, факты, комментарии. — М., 1994. — С. 234; Данлоп Джон. Указ. соч. с. 82.
Глава XIX. Восстановление Чечено-Ингушской ACCR Развитие республики в 60—80-е гг. XX в.
Чеченка. 1961 г. Сел. Урус-Мартан. Фото (4, вклейка)
РСФСР цели. Поэтому и эти жалкие кредиты (строительство среднего дома обходилось в несколько десятков тысяч рублей) получили немногие репатрианты. Много было и обыкновенных хищений в этой области.
Более того, собственно в Грозном в 1957—1959 гг. строительство жилья и выделение земельных участков снизилось по сравнению с 1956 г. Государственные объединения и хозяйства за весь 1957 г. построили для переселенцев за свой счет 682 дома.
В целом чеченцы и ингуши частью восстановили свои ветхие дома, частью построили новые за свой счет и, к началу 1963 г., практически все семьи имели крышу над головой. Процесс реинтеграции шел быстрыми темпами главным образом благодаря огромной жизненной энергии народа, черпавшего новые силы на родной земле1.
1 См.: Репрессированные народы России: чеченцы и ингуши. — М., 1994. — С. 219—220; ТавакалянН.А. Торжество ленинской национальной политики в Чечено- Ингушетии. — Грозный, 1965. — С. 110—112; Сигаури И. М. Указ. соч. Т. 2. — М., 2001. —С. 290—291.
Индустриальное развитие края
§ 2. Индустриальное развитие края
Нефтедобыча. К моменту восстановления Чечено-Ингушской АССР ее главная отрасль экономики — добыча нефти — переживала очередной кризис, связанный с быстрым истощением эксплуатируемых месторождений. Для восстановления нефтедобычи потребовалось не только активизировать геологическую разведку, но и разрешить ряд серьезных технических проблем — новые месторождения залегали на значительных глубинах. Уже в 1960 г. средняя глубина эксплуатационных скважин в Чечено-Ингушетии превысила 3 километра, а в 1964 г. появилась первая разведочная скважина, глубиной 5,5 километров. Десятилетие спустя, в начале 70-х гг., эксплуатационная глубина скважин достигла
6,5 километров и продолжала постепенно возрастать. Именно благодаря введению в строй глубоких и сверхглубоких скважин, в 60—70-х гг. удалось резко повысить объемы добычи нефти. Если довоенный уровень добычи был достигнут только в 1958 г., то к 1965 г. он был превышен в 4 раза, а добыча попутного газа возросла в 7 раз1.
Максимальная годовая добыча нефти была достигнута в 1971 г., когда было добыто 21,5 миллион тонн нефти. Но после этого уровень добычи начинает резко снижаться, что было связано с объективными причинами: имевшиеся месторождения просто невозможно было эксплуатировать в таком темпе. Да и сам рекорд 1971 г. был достигнут благодаря откровенно хищнической разработке пластов: новые месторождения вводились в строй еще до того, как их успевали должным образом обустроить, скважины переводились на работу в предельном режиме, что приводило к быстрому обводнению пластов. В результате на ряде месторождений, например, Заманкульском и Хаян-Кортовском отбор нефти из пластов не превышал 25% от имеющегося в них объема2.
Добыча нефти стабилизировалась в 80-е гг., когда среднегодовая добыча составляла приблизительно 4,5 миллиона тонн.
Базовые отрасли промышленности. Бурный рост нефтедобычи в 60-е гг. дал мощный импульс промышленному развитию Чечено-Ингушетии, что отразилось в экономических планах: за семь лет (с 1959 по 1965 гг.) валовой объем продукции республиканской промышленности должен был увеличиться в 2,2 раза. Эти планы были в целом успешно реализованы — в первой половины 60-х гг. среднегодовые темпы роста промышленного производства в Чечено-Ингушетии составляли 10,6%. При этом наряду с нефтеперерабатывающими и химическими отраслями быстро развиваются электроэнергетика, машиностроение
1 Мечено-Ингушская АССР / Рыжиков В. В., Гребенщиков 17. А., Зоев С. О. — Грозный, 1971. - С. 123.
2 Письмо двадцати шести коммунистов (март 1972 г.) // Справедливость. — 1989. — № 3. — С. 18.
Глава XIX. Восстановление Чечено-Ингушской АССР. Развитие республики в 60—80-е гг. XX в.
Нефтепромыслы Чечено-Ингушетии в 70-е гг. XX в. Фото (1, 77)
и металлообработка, пищевая и легкая промышленность. За двадцать лет (60—70-е гг.) в Чечено-Ингушетии было построено в общей сложности 35 новых крупных промышленных предприятий1.
В Грозном появляются новые промышленные предприятия и расширяются уже существующие в традиционных отраслях. Так, Грозненский химический завод, первая очередь которого вступила в строй еще в 1954 г., к середине 60-х стал ведущим производителем продукции тяжелого синтеза, поставлявшейся более чем 50 предприятиям Советского Союза, а также экспортировавшейся за рубеж. Развитие нефтехимического комплекса Чечено-Ингушетии продолжалось и после того, как началось падение собственной добычи нефти. Теперь эти предприятия ориентировались на переработку привозного сырья: благодаря отлаженной системе магистральных нефтепроводов, в Чечено-Ингушетию ежегодно поступают на переработку миллионы тонн нефти из других регионов страны. Так, в 1979 г. вступила в строй установка ЭЛОУ-АВТ, выпускавшая в год до 6 миллионов тонн различных нефтепродуктов, главным образом бензина.
1 См.: Нанаева Б. Б. Трудящиеся Чечено-Ингушетии в борьбе за повышение производительности труда в нефтехимической промышленности (1959—1965 гг.) // Повышение творческой активности трудящихся Чечено-Ингушетии в период социалистического строительства. — Грозный, 1985. — С. 16;Зоев С. О. Промышленность Чечено-Ингушской АССР за 50 лет. —Грозный, 1972. —С. 111;ЗоевС. О.уПавловМ.П. Развитие промышленности Чечено-Ингушской АССР за годы советской власти // Великий Октябрь и передовая Россия в исторических судьбах народов Северного Кавказа (XVI — 70-е годы XX в.): Материалы Всероссийской науч. конференции, 2—3 октября 1979 г., г. Грозный. — Грозный, 1982. — С. 218.
— 894 —
Индустриальное развитие края
Операторная нефтеперерабатывающей установки. Фото (45, вклейка)
Строительство нефтепровода «Грозный—Баку». Фото (45, вклейка)
Суммарная мощность нефтеперерабатывающих заводов Чечено-Ингушетии оценивалась в 20 миллионов тонн. Начиная со второй половины 80-х гг. здесь и перерабатывалось до 18—20 миллионов тонн нефти ежегодно, причем более трех четвертей сырья поступало из Западной Сибири, Кубани и Ставрополья1.
Одновременно расширяется переработка попутного и природного газа (скорее газоконденсата), причем газоперерабатывающие заводы
1 Нефть и газ Чечни и Ингушетии. — М., 1993. — С. 172; Чеченцы: история и современность. — М., 1996. — С. 120.
Глава XIX. Восстановление Чечено-Ингушской АССР. Развитие республики в 60—80-е гг. XX в.
Грозный. Нефтеперерабатывающий завод. Фото (1, 79)
строятся не только в окрестностях Грозного. Так, в поселке Карабулак построены газобензиновый завод и завод химических реагентов, а возле станицы Вознесеновской — еще один газоперерабатывающий завод.
Предприятия строительной, легкой, машиностроительной и пищевой промышленности. Постепенно расширяется география размещения промышленных предприятий на территории Чечено-Ингушетии. Во втором по численности населения городе — Гудермесе, где традиционно существовали предприятия, связанные с обслуживанием крупной железнодорожной станции, строится завод медицинских инструментов и другие предприятия. В Аргуне возводятся мощности по производству строительных железобетонных конструкций, предприятия пищевой промышленности, сахарный завод, теплоэлектроцентраль.
В 70-х гг. в Грозном зародилась радиотехническая промышленность с крупным базовым заводом, выпускавшим весьма удачные модели радиоприемников.
Чтобы хоть как-то сократить уровень безработицы в сельских районах Чечено-Ингушетии, часть новых промышленных предприятий теперь строится вне городов. В первую очередь это предприятия, занимающиеся переработкой сельскохозяйственной продукции (консервные заводы и другие объекты пищевой промышленности), а также предприятия легкой, лесной и нефтехимической промышленности, строительной индустрии. В середине 80-х гг. в сельской местности
— 896 —
Индустриальное развитие края
Грозненский радиотехнический завод. Фото (45, вклейка)
действуют 103 промышленных предприятия, на которых в общей сложности работают более 16 тысяч человек1.
В сельской местности расположены прежде всего предприятия по производству строительного песка, щебня, извести, кирпича и других стройматериалов. Производство цемента на местном сырье в промышленных масштабах было начато в 1974 г. с пуском Чир-Юртовского цементного завода, проектная мощность которого составляла 1,2 миллиона тонн в год. Однако вывести завод на проектную мощность так и не удалось, и объем производимой им продукции колебался в пределах 363—643 тысяч тонн цемента в год2.
Несмотря на рост промышленного производства в других населенных пунктах, Грозный продолжал прочно удерживать за собой позиции главного промышленного центра не только Чечено-Ингушской АССР,
1 Гужин Г. С.у Чугунова Н. В. Сельская местность Чечено-Ингушетии и ее проблемы. — Грозный, 1988. — С. 109.
2 Чечено-Ингушская АССР за годы одиннадцатой пятилетки: Статистический сб. — Грозный, 1986. — С. 24.
Глава XIX. Восстановление Чечено-Ингушской АССР. Развитие республики в 60—80-е гг. XX в.
В одном из цехов завода «Красный молот». Фото (1, 75)
но и всего Юга России. Здесь находится около 30 машиностроительных предприятий, специализировавшихся на производстве нефтепромыслового, нефтехимического и автоспецоборудования. Производимые заводом «Красный молот» глубинные насосы, агрегаты для гидравлического разрыва пластов и некоторое другое оборудование поставлялось во все нефтедобывающие регионы Советского Союза и даже экспортировалось за рубеж. Кроме того, в Грозном возникают крупные научно-производственные объединения по выпуску электротехники (в частности, производство множительной техники), промышленных автоматизированных систем управления1, и т. д.
О сравнительно высоком уровне развития промышленности Чечено-Ингушетии свидетельствует тот факт, что ее продукция в середине 70-х гг. поставлялась в 35 стран мира; сырая нефть экспортировалась в 60 стран, а нефтепродукты — в 30 государств2.
«Темные» стороны социалистической индустрии края. Однако, начавшееся падение добычи нефти не могло не отразиться отрицательным образом на развитии процессов индустриализации Чечено-Ингушетии, которая с момента своего зарождения однобоко ориентировалась
1 Очерки истории Чечено-Ингушской АССР. Т. 2. — Грозный, 1972. — С. 322.
2 Ерещенко Г. А. Экономическое и социально-экономическое развитие Чечено- Ингушетии в девятой пятилетке (1971—1975 гг.) // Великий Октябрь и передовая Россия в исторических судьбах народов Северного Кавказа (XVI — 70-е годы XX в.): Материалы Всероссийской науч. конференции, 2—3 октября 1979 г., г. Грозный. — Грозный, 1982. — С. 222—223.
Индустриальное развитие края
Панорама Заводского района г. Грозного. Фото (39, 117)
именно на нефтедобычу и нефтепереработку. Из года в год огромные средства традиционно затрачиваются на поддержание громадного нефтяного и нефтеперерабатывающего комплекса, в то время как требовалось коренное изменение отраслевой структуры промышленности Чечено-Ингушетии. Не менее 76% всех капиталовложений, произведенных в 80-е гг., были направлены в отрасли, связанные с добычей и переработкой нефти, в то время как на дальнейшее развитие легкой промышленности затраты составили всего 0,6% всех капиталовложений, а на развитие наиболее перспективной отрасли — электронной и электротехнической — затрачено еще меньше — всего 0,5%.
Результаты столь нерационального вложения средств не замедлили сказаться. Замедляется процесс обновления основных производственных фондов, промышленное оборудование в целом стареет и уже в 1980 г. отдача от основных производственных фондов снизилась по сравнению с 1970 г. более чем наполовину1.
Со второй половины 80-х гг. кризисные явления в чечено-ингушской экономике быстро усиливаются. Конечно, во многом это было связано с общим кризисом советской государственной системы, однако специфика Чечено-Ингушетии приводила к более острому проявлению экономического кризиса. Попытки властей оживить экономику путем
1 Зоев С. О. Развитие экономики Чечено-Ингушской АССР в период зрелого социализма. — Грозный, 1984. — С. 17; ЦакаевА. Определить приоритеты // Грозненский рабочий. — 1989. — 11 апр. — С. 2.
Глава XIX. Восстановление Чечено-Ингушской АССР. Развитие республики в 60—80-е гг. XX в.
внедрения новых форм хозяйствования (хозяйственного расчета, арендного подряда и т. д.) не дали практически никакого положительного результата — сохраняющаяся «командно-административная система» и засилье государства в экономике душили частную инициативу.
К 90-м гг. XX в. Чечено-Ингушская автономная республика подошла наиболее развитой в промышленном отношении территорией региона. На ее долю приходилось около половины всей добычи нефти и газового конденсата, две трети переработки, свыше десятой части пластических масс, производимых на Северном Кавказе. Здесь располагалось свыше 100 крупных промышленных предприятий, некоторые из них направляли свою продукцию в 40 зарубежных стран (правда, это были сделки разового характера на поставку отдельных видов продукции без заключения договоров о длительном экономическом сотрудничестве). Все это имело, конечно, и такую неприятную сторону, как загрязнение окружающей среды, достигшее, даже по советским меркам, опасных масштабов. В Чечено-Ингушетии стремительно увеличилось количество раковых, эндокринных, желудочных и легочных заболеваний.
Довольно значительный промышленный потенциал Чеченской Республики к этому времени имел целый ряд «слабых» мест. Это прежде всего сверхнормативная изношенность основных производственных фондов, медленные темпы их обновления, слабое внедрение передовых технологий, низкий рост производительности труда, «многоступенчатый» возраст оборудования, который нередко совпадал с датой возникновения самого предприятия, низкое качество продукции, не отвечающее мировым стандартам и, как следствие, ограниченные возможности для развития внешнеэкономических связей.
§ 3. Сельское хозяйство Чечено-Ингушетии
«Воссоздание» колхозов. Сельское хозяйство горной зоны. Восстановление Чечено-Ингушетии сопровождалось созданием большого количества новых государственных и коллективных хозяйств, в которых должны были работать возвращающиеся из депортации чеченцы и ингуши. В 1957—1958 гг. создается 11 новых совхозов и 62 колхоза, главным образом за счет дробления старых хозяйств, что потребовало больших расходов со стороны государства на проведение землеустроительных работ, закупку сельскохозяйственной техники и инвентаря1. При этом нужно учесть, что высокогорные районы так и остались не затронутымы процессом восстановления, поскольку решением властей большая часть горцев расселялась на плоскости. По существу, заброшенными оказались
1 Гайрбеков М. За дальнейший расцвет экономики и культуры республики // Грозненский рабочий. — 1958. — 4 нояб. — С. 2.
— 900 —
Сельское хозяйство Чечено-Ингушетии
Шаройский (Химойский), Чеберлойский, Галанчожский, большая часть Итум-Калинского, Назрановского (горная часть) и Шатоевского районов, где до выселения проживало в общей сложности не менее 120 тысяч человек, занимавшихся скотоводством и земледелием.
Всеми способами власти пытались не допустить восстановления прежней ситуации, когда коллективные хозяйства в горной зоне существовали формально, а земельные угодья были обобществлены только на бумаге. В горной зоне на базе нескольких больших селений создаются крупные колхозы или даже совхозы, а обширные территории альпийских лугов были разделены между плоскостными хозяйствами для организации летного выпаса скота.
Попытки горцев восстановить принадлежавшие им ранее хутора, жестко пресекались властями — вплоть до 80-х гг. стихийно возникавшие хутора сносились, а их хозяева насильно переселялись на равнину. Более того, пытаясь сохранить высокогорную зону безлюдной, власти в течение длительного времени не уделяли серьезного внимания развитию инфраструктуры горных районов. Дороги прокладывались лишь между крупными населенными пунктами Советского (Шатойского) района, которые вплоть до 80-х гг. оставались преимущественно не электрофицированными и не газофицированными.
Скученные в отдельных селениях, горцы уже, естественно, не могли полностью восстановить традиционное хозяйство, хотя и продолжали помнить о границах своих фамильных владений. Однако, воспрепятствовав восстановлению хуторского хозяйства, власти не сумели добиться, чтобы горные колхозы и совхозы приносили прибыль. В начале 60-х гг. все они были убыточными, и в среднем на каждый рубль полученного дохода приходилось на 1 рубль 70 копеек убытков1.
Животноводство, на котором держалось раньше благополучие горцев, в новых «социалистических» условиях приносило только убытки, и, чтобы сделать горные хозяйства тех же Веденского и Ножай-Юртовского районов прибыльными, власти начали расширять посевы технических культур, прежде всего табака. В короткий срок табак стал главной производственной культурой юго-восточной части Чечни, однако его массовое производство и заготовка по самым простым технологиям оказывали негативное воздействие на здоровье занятых его выращиванием людей.
Альпийские луга. Плоскостные хозяйства также не спешили с хозяйственным освоением лугов, выделенных им в альпийской зоне. Создание хозяйственной инфраструктуры за десятки километров от их главных земельных угодий требовало значительных затрат, что отрицательно сказывалось на общей экономической эффективности. Чтобы
1 Парфенов С. Почему горные колхозы приносят убытки // Грозненский рабочий. — 1962.— 7 дек.— С. 2.
Глава XIX. Восстановление Чечено-Ингушской АССР. Развитие республики в 60—80-е гг. XX в.
Горные луга. Фото (43, 15)
содержать на горных пастбищах значительное количество скота, а тем более оставлять часть его на зимовку, требовалось возвести и содержать хозяйственные постройки, дороги, организовать заготовку и хранение кормов и т. д. Поэтому, хотя в горной зоне можно было содержать более 100 тысяч голов крупного рогатого скота и до 260 тысяч овец, плоскостные хозяйства направляли сюда на летний сезон в лучшем случае не более 70 тысяч голов крупного и мелкого скота1 2.
Пустующими угодьями в горной Чечне долгое время активно пользовались хозяйства и частные лица из соседних районов Дагестана и Грузии, где сохранились горные села. Они ежегодно перегоняли сюда десятки тысяч голов скота. Естественно, что в таких условиях не могло быть и речи о разумном и бережливом отношении к альпийским пастбищам. Из года в год скот выпасался в больших количествах на наиболее доступных, но ограниченных площадях. Исследования, проведенные в 70-е гг., показали, что большие площади горных лугов подверглись эрозии вследствие перегруженности, в то время как другие зарастают сорными травами или кустарниками. Из более чем 268 тысяч гектаров альпийских пастбищ не менее 37 тысяч были практически уничтожены. К 1989 г. площадь полностью вытоптанных горных лугов составила 40 тысяч гектаров, еще 65 тысяч гектаров подверглись эрозии, а остальные были либо засорены ядовитыми травами, либо зарастали кустарниками, либо закамнены1.
1 Рыжко А. Гурты уходят в горы // Грозненский рабочий. — 1967. — 20 мая. — С. 2.
2 Гончаров О. Кто позаботится о пастбищах? // Грозненский рабочий. — 1974. — 1 сент. — С. 2; Русин В. Горы и люди: разлука без печали? // Грозненский рабочий. — 1989. — 29 дек. — С. 2.
Сельское хозяйство Чечено-Ингушетии
Участок новой дороги к альпийских лугам. Совр. фото (2, 2)
Хуторские хозяйства. Тупик, в котором оказалась экономика горных районов, побудил вначале районные, а затем и республиканские власти закрывать глаза на стихийное восстановление отдельных хуторов, начавшееся в конце 70-х гг. Во второй половине 80-х гг. хутора, возникавшие на землях коллективных или государственных хозяйств, уже оформлялись как производственные бригады, находящиеся на арендном подряде. К этому времени хуторские хозяйства, доказавшие свою экономическую состоятельность, имели зачастую больше скота и обрабатываемых земель, чем отдельные колхозы или совхозы. Так, 10 хуторов в урочище Бегичи и местный колхоз имели одинаковое количество скота. А совхоз «Альпийский» Шатойского района впервые за свою историю получил прибыль только благодаря отчислениям от хуторских хозяйств1.
1 Сигаури К М. Очерки истории и государственного устройства чеченцев с древнейших времен. Т. 2. — М., 2001. — С. 293.
Глава XIX. Восстановление Чечено-Ингушской АССР. Развитие республики в 60—80-е гг. XX в.
Возрожденный горный аул. Совр. фото (28, 9)
В конце 80-х гг. республиканские власти уже сами поощряют создание новых хуторов в горной зоне, видя в этом средство не только улучшить положение с продовольственным обеспечением населения, но хотя бы частично «рассосать» многочисленную армию безработных и тем самым предотвратить дальнейшее нарастание социальной напряженности. Однако, власти по прежнему не в состоянии создать в горах современную разветвленную инфраструктуру, а потому движение по восстановлению заброшенных горных селений не стало массовым. Наоборот, из горных сел Веденского, Ножай-Юртовского и Советского районов Чечено-Ингушетии продолжался постоянный отток населения на равнину, где условия жизни были в целом лучше.
Развитие сельского хозяйства на плоскости. Земледелие. По сравнению с довоенным периодом значительные изменения произошли не только в горных районах, но и во всем сельском хозяйстве
Сельское хозяйство Чечено-Ингушетии
Чечено-Ингушетии. Если раньше чеченские крестьяне зачастую лишь формально состояли в колхозах, то теперь они уже не имели возможности вести собственное хозяйство под прикрытием коллективного. Попытки такого рода жестко пресекаются. К тому же, политика правящей коммунистической партии направлена на огосударствление даже коллективной собственности, а потому в Чечено-Ингушетии число колхозов постоянно сокращается за счет их укрупнения и последующего преобразования в совхозы, полностью принадлежавшие государству. В 1981 г. в Чечено-Ингушетии осталось всего 39 колхозов, зато число совхозов возросло до 123. Было создано также 7 межхозяйственных сельскохозяйственных предприятий2.
Подавляя частную инициативу, руководители советского государства рассчитывали обеспечить подъем сельского хозяйства за счет его механизации, широкой мелиорации земель и применения удобрений, внедрения в производство высокоурожайных сортов, селекционной работы и т. д. Для этих целей из государственного бюджета ежегодно выделялись огромные средства, что вело, в частности, к быстрому росту парка сельскохозяйственных машин. Например, если в 1960 г. хозяйства Чечено-Ингушетии имели 3207 тракторов, то в 1980 г. их было уже 8878 штук; число зерноуборочных тракторов составило 1510, а грузовых автомобилей — 7009. За 25 лет, с 1960 по 1985 гг., основные 1Выдающийся организатор сельского хозяйства Чечено-Ингушетии Герой Социалистического Труда Алхазур Кагерманов. Фото (1, 58)
1 60 лет Чечено-Ингушской АССР: Статистический сб. — Грозный, 1982. — С. 40.
— 905 —
Глава XIX. Восстановление Чечено-Ингушской АССР. Развитие республики в 60—80-е гг. XX в.
производственные фонды в сельском хозяйстве Чечено-Ингушетии увеличились в 10 раз1.
Сотни миллионов рублей были затрачены на сооружение разветвленной сети гидромелиоративных сооружений, благодаря чему в начале 80-х гг. общая площадь орошаемых земель в Чечено-Ингушетии достигла 152 тысяч гектаров2. Значительные средства затрачивались также на «химизацию» сельского хозяйства — закупку разного рода минеральных удобрений и химикатов различного назначения и их практическое использование.
Животноводство. Для развития животноводства создается сеть специализированных животноводческих совхозов, в которых пытаются разводить высокопродуктивные породы скота, лучше приспособленные к местным условиям. Главным препятствием стала слабая кормовая база и быстрое сокращение пастбищ. Эрозийные процессы • активно развивались не только на альпийских лугах, но и в затеречной зоне, где прежде располагались богатейшие пастбища. Хищническая эксплуатация и здесь привела к разрушению естественного растительного покрова и быстрому опустыниванию. Уже в начале 70-х гг. более половины бурунных пастбищ превратилось в песчаную пустыню.
Заготовка сена в равнинной Чечне. Фото В. Бышова (39, 431)
1 Кодзоев М. А. Из опыта работы Чечено-Ингушской областной партийной организации по мобилизации рабочего класса на укрепление материально-технической базы сельского хозяйства (1961—1966 гг.) // Рабочие Чечено-Ингушетии в годы социалистического строительства. — Грозный, 1990. — С. 65; 60 лет Чечено-Ингушской АССР: Статистический сб. — Грозный, 1982. — С. 41; Гужин Г. С., Чугунова Н. В. Сельская местность Чечено-Ингушетии и ее проблемы. — Грозный, 1988. — С. 91.
2 60 лет Чечено-Ингушской АССР: Статистический сб. — Грозный, 1982. — С. 45.
— 906 —
Сельское хозяйство Чечено-Ингушетии
Для борьбы с растущей эрозией почв власти предпринимают ряд мер: создаются специализированные хозяйства, призванные заниматься восстановлением растительного покрова; в горах пытаются местами строить террасы, а в бурунах высаживают лесозащитные полосы, призванные закрепить почву и остановить продвижение песков. Впрочем, несмотря на значительные затраты, все эти меры не позволили коренным образом переломить ситуацию.
«Социалистические кампании» в сельском хозяйстве. Сильно препятствовали стабильному развитию сельского хозяйства и регулярно проводившиеся в общегосударственном масштабе кампании по внедрению (или искоренению) какой-либо сельскохозяйственной культуры. Так, по инициативе первого руководителя коммунистической партии и советского государства Н. С. Хрущева, была развернута кампания по большей части ничем не оправданному расширению посевных площадей кукурузы. Во второй половине 80-х, наоборот, на волне кампании по борьбе с пьянством, были выкорчеваны тысячи гектаров плодоносящих виноградников. В Чечено-Ингушетии их площадь сократилась с 29 тысяч гектаров до 10 тысяч гектаров. Только прямые убытки от раскорчевки виноградников составили не менее 60 миллионов рублей, не говоря уже об убытках от резкого сокращения производства виноградных вин, коньяков и другой продукции1. Между тем, в 60—70-х гг. именно виноград стал основной культурой, на которой специализировались
Уборка кукурузы. 60-е гг. XX в. Фото (45, вклейка)
1 Зайналабдиев У Не губите, мужики // Ичкерия. — 1992. — 19 июня. — С. 2.
Глава XIX. Восстановление Чечено-Ингушской АССР. Развитие республики в 60—80-е гг. XX в.
На виноградных плантациях новых совхозов Притеречья. Фото (45, вклейка)
русское и чеченское население по обеим берегам Терека. Трудоемкая культура давала работу и заработок десяткам тысяч людей.
Серьезно тормозили развитие сельского хозяйства и постоянные реорганизации, которым подвергались существовавшие хозяйства: укрупнение и разукрупнение колхозов и совхозов, преобразование колхозов в совхозы, создание агропромышленных объединений и межхозяйственных предприятий. Только на землеустроительные работы, которыми сопровождались все эти реорганизации, с 1960 по 1985 г. пришлось затратить свыше 12 миллионов рублей.
Несмотря на огромные капиталовложения и наличие отдельных «передовых» хозяйств, сельское хозяйство являлось в целом убыточной отраслью. Уже в начале 70-х гг. ежегодные убытки только совхозов Чечено-Ингушетии составляли 8—9 миллионов рублей, а население столкнулось с перебоями в снабжении основными продуктами питания. Впрочем, перенаселенные чеченские колхозы и совхозы, в которых иногда проживало до 20—30 тысяч человек, почти невозможно было сделать прибыльными1.
Развал государственных хозяйств на селе. Подлинным бичом государственных хозяйств была бесхозяйственность, подчас принимавшая чудовищные размеры. Так, проверки, проведенные контрольными
1 Письмо двадцати шести коммунистов (март 1972 г.) // Справедливость. — 1989. — № 3. — С. 21—22.
Социально-общественные, демографические и культурные процессы
органами в 1986 г., выявили прямые убытки от бесхозяйственности в сельском хозяйстве на сумму 45 миллионов рублей1. При этом убыточные для государства совхозы и колхозы приносили немало прибылей коррумпированным чиновникам от сельского хозяйства — правоохранительные органы постоянно выявляют случаи расхищения государственной собственности в особо крупных размерах.
Во второй половине 80-х гг. начинается постепенный развал государственных хозяйств, которому предшествовало волнообразное нарастание разного рода правонарушений и злоупотреблений в их работе. Как и в 30-е гг. выявляется немало случаев, когда на государственных или колхозных фермах содержится частный скот. Например, в 1978 г. на фермах совхоза «Притеречный» содержалось 1375 голов мелкого и 124 головы крупного рогатого скота, принадлежавшего частным лицам. В последующие годы подобные факты установлены практически во всех районах Чечено-Ингушетии.
Высокая продуктивность в некоторых хозяйствах достигалась, как правило, путем элементарных приписок и утаивания части посевных площадей. В экономическом соревновании с частными хозяйствами колхозы и совхозы демонстрировали свою полную несостоятельность. По подсчетам специалистов в, Чечено-Ингушетии там, где с одного гектара земли государственные хозяйства получали продукции на 197,6 рублей, частные хозяйства производили продукции на 5381,3 рубля2. Указанные явления были характерны для всей советской страны, особенно в сельских районах Центрального Нечерноземья, где сельское хозяйство являлось исключительно дотационным на протяжении десятков лет.
§ 4. Социально-общественные, демографические и культурные процессы
Проблемы образования. Одним из трагических последствий депортации стали значительные изменения отрицательного характера в социальном, образовательном и профессиональном составе чеченской нации. В конце 50-х гг. XX в., как и двадцать лет назад, в Чечено-Ингушетии не потерял актуальности вопрос о ликвидации неграмотности среди взрослого населения. Так, по данным 1959 г., чуть более 10% взрослых жителей республики были неграмотными, а всего с момента восстановления республики и по 1961 г. читать и писать было обучено свыше 20 тысяч ее жителей. Тем не менее, проблема
1 Цолоев С. В долгах, как в шелках // Грозненский рабочий. — 1987. — 24 июня. — С. 3.
2 Ростов А. Наказывать по закону // Грозненский рабочий. — 1979. — 19 июля. — С. 4; Гужин Г. С, Чугунова К В. Сельская местность Чечено-Ингушетии и ее проблемы. — Грозный, 1988. — С. 89.
— 909 -
Глава XIX. Восстановление Чечено-Ингушской АССР. Развитие республики в 60—80-е гг. XX в.
взрослой неграмотности будет сохраняться еще долгие годы. Так, по данным 1979 г., 15,3% сельских жителей в возрасте свыше 10 лет не умели читать и писать1.
Вместе с тем, имевшаяся сеть общеобразовательных школ явно не могла вместить большого количества новых учащихся, которые вместе со своими семьями тысячами приезжали из республик Средней Азии и Казахстана. Уже в 1957 г. в Чечено-Ингушетии дополнительно построено 9 новых школ и, тем не менее, в следующем году до 8 тысяч детей из чеченских и ингушских семей не посещали школу2.
Необходимость активного строительства новых школ и детских учреждений диктовалась и высоким уровнем рождаемости, характерным для чеченцев. Поэтому, помимо возведения новых школ, происходило и расширение уже действующих, за счет строительства новых корпусов. Пик школьного строительства пришелся на период с 1966 по 1975 гг., когда было введено в строй 99 школьных зданий, рассчитанных на 75 967 мест. При этом, 15% школ было построено за счет средств местных колхозов3.
Если в 1960/61 учебном году в Чечено-Ингушетии действовала 501 общеобразовательная школа (включая начальные, семи и восьмилетние, средние, вечерние и заочные), в которых обучалось 144,1 тысячи учащихся, то в 1981/82 учебном году их было уже 562, а число учащихся составило 273,5 тысячи4. В последующие годы, когда отпадет необходимость в существовании вечерних и заочных школ, рассчитанных для работающей молодежи, сеть школьных учреждений в республике даже несколько сократится.
Утрата чеченской школой национального характера. Закон о всеобщем обязательном среднем образовании в Чечено-Ингушетии в целом успешно выполнялся, но проблемой стало то, что средняя школа почти полностью утратила национальный характер. Если до депортации 1944 г. преподавание в начальных классах сельских школ велось исключительно на чеченском языке, то теперь чеченский язык и чеченская литература изучались как иностранный язык и только в сельских школах, а в Грозном не преподавались вообще. Власти объясняли сложившееся положение отсутствием достаточного количества национальных учителей. Так, в 1958 г. из 8 тысяч педагогов только
1 Репрессированные народы России: чеченцы и ингуши: Документы, факты, комментарии. — М., 1994. — С. 235; Гужин Г. С, Чугунова Н. В. Указ. соч. — Грозный, 1988. — С. 69.
2 Некрич А. Наказанные народы. — Нью-Йорк, 1978. — С. 129.
3 Автохаджиева М. 2>., Лагутин М. С. Из опыта партийного руководства общеобразовательной школой в условиях развитого социализма (на материалах Чечено- Ингушской АССР) // Повышение творческой активности трудящихся Чечено- Ингушетии в период социалистического строительства. — Грозный, 1985. — С. 59.
4 60 лет Чечено-Ингушской АССР: Статистический сб. — Грозный, 1982. — С. 103.
— 910 —
Социально-общественные, демографические и культурные процессы
1440 были чеченцами и ингушами, причем из последних только 190 человек имели высшее образование1.
Специально для того, чтобы активизировать подготовку учителей родного языка и литературы, при Чечено-Ингушском педагогическом институте (с 1972 г. университет) было открыто отделение чечено-ингушской филологии. Впрочем, на деле руководители республиканского Министерства образования вовсе не стремились сделать чеченскую школу национальной, утверждая, что, благодаря преподаванию на русском языке с первого года обучения, дети хорошо знают русский язык и впоследствии легче усваивают программу старших классов.
Но в чеченских селениях, где русское население почти полностью отсутствовало, учителям первых классов приходилось затрачивать колоссальные усилия, чтобы научить детей русскому языку. В результате школьная программа плохо усваивалась. Чтобы как-то решить эту проблему, в начале 80-х годов началось введение подготовительного класса для 6-летних детей. За один учебный год дети не только пополняли свой запас русских слов, но и изучали основы грамматики чеченского языка. Однако после введения 11-летнего обучения школы Чечено-Ингушетии были вынуждены отказаться от подготовительного класса и ситуация с национальной школой вновь зашла в тупик.
К идее воссоздания национальной школы власти Чечено-Ингушетии вернулись в 1990 г., когда преподавание всех предметов по программе начальной школы должно было вестись на родном языке. Была разработана довольно амбициозная программа, в соответствии с которой на чеченский язык обучения должна была перейти 421 школа2, однако ее практическая реализация так и не началась.
Состояние высшего и среднего специального образования. Если проблема получения общего среднего образования была благополучно разрешена, то долгое время лишь сравнительно небольшое количество чеченцев получали высшее и среднее профессиональное образование. В 1957 г. из каждых 10 тысяч чеченцев только 19,1 имели высшее и среднее образование, в то время как в среднем по стране этот показатель составлял 326,3. Таким образом, образовательный уровень чеченцев был в 17 раз ниже, чем в среднем по стране и даже в 4 раза ниже, чем у других репрессированных народов3.
Такой колоссальный разрыв в образовательном уровне создавал массу проблем в деле адаптации чеченского народа к условиям развитого
1 Джугурьянц С. Н. Деятельность Чечено-Ингушской партийной организации по осуществлению национальной политики на основе решений XX и XXII съездов КПСС (1956—1965 гг.): Дис. на соискание уч. степени кандидата ист. наук. — Махачкала, 1966. - С. 189.
2 Мовтаев С. Долгожданный поиск // Грозненский рабочий. — 1990. — 20 июля. — С. 3.
3 Овхадов М. Об образовательном уровне чеченцев (на основе материалов переписей 1959—1989 гг.) // Вестник ЛАМ. — 2001. — № 7 (11). — С. 11.
Глава XIX. Восстановление Чечено-Ингушской АССР. Развитие республики в 60—80-е гг. XX в.
Старый корпус Грозненского нефтяного института. Фото (40, вклейка)
индустриального общества, которое сложилось в СССР. Естественно, что центральные власти предпринимали определенные усилия по его скорейшему преодолению, но эти усилия гасились на уровне республиканского звена. Так, местные партийные деятели отказались выделять для чеченцев и ингушей гарантированные квоты в вузах Чечено-Ингушетии. Не были закреплены конкретно за вайнахами и места, выделявшиеся для Чечено-Ингушетии в высших учебных заведениях других областей и республик. Учитывая, что сельская школа в Чечено-Ингушетии (в которых училось подавляющее большинство чеченцев) традиционно давала гораздо меньший уровень знаний своим выпускникам, чем городские школы, можно прийти к выводу, что абитуриенты-вайнахи оказывались в худших стартовых условиях.
Тем не менее, разрыв в образовательном уровне между чеченцами и другими народами страны понемногу сокращался. За период с 1959 по 1970 год число лиц с высшим и средним образованием среди русских жителей Чечено-Ингушетии увеличилось в 2,3 раза, среди ингушей — в 4,9 раза, а среди чеченцев — в 7,3 раза. В 1959 г. среди 100 чеченцев старше 10 лет только один имел высшее образование, а в 1979 г. их было уже 18. В среднем по Чечено-Ингушской АССР этот показатель составлял 21 в 1959 г. и 45 — в 1979, а среди русских — соответственно 29 и 71
В целом за период с 1959 по 1989 год удельный вес чеченцев, имеющих высшее образование, вырос в 37 раз, что, однако, оказалось недостаточным, чтобы полностью преодолеть отставание от большинства других народов страны. В Советском Союзе, в среднем на душу населения, меньше людей с высшим образованием, чем у чеченцев приходилось только у некоторых северных народов: хантов, чукчей и ненцев.
Заурбекова Г. В. Основные тенденции изменения социально-классового состава населения Чечено-Ингушской АССР за годы Советской власти // Этносоциальные и культурно-бытовые процессы в Чечено-Ингушетии. — Грозный, 1986. — С. 27,29.
— 912 —
Социально-общественные, демографические и культурные процессы
Чечено-Ингушский государственный университет. Фото (40, вклейка)
Более того, разрыв в образовательном уровне между чеченцами и большинством других народов СССР и ЧИАССР неизбежно должен был сохраняться в течение еще долгого времени. В 70-х гг. на каждую тысячу чеченцев в республиканских вузах обучалось всего 4,5 человек, ингушей — 6,5, а представителей русскоязычных — 18—20. В 1981 г. чеченцы составляли уже более половины населения Чечено-Ингушетии, но среди студентов республиканских вузов их было чуть менее 32%. В то же время русские и русскоязычные (более 30% населения) составляли половину численности студентов. Эта тенденция сохранялась и в последующие годы: в 1989 г. на 10 тысяч чеченцев приходилось 142 студента, в то время как в среднем по России — 190 Ч
Известное отставание чеченцев в образовательном уровне нашло отражение и в экономике: из 79,7 тысяч специалистов с высшим и средним образованием, занятых в народном хозяйстве Чечено-Ингушетии в 1980 г., только 18,3 тысяч были чеченцами. Из этого числа 7,2 тысяч имели высшее образование1 2.
Между тем, в массе своей чеченцы осознавали преимущества хорошего образования и активно стремились к его получению. Это подтверждали и данные социологических опросов середины 70-х гг., согласно которым почти 60% опрошенных чеченцев высказали намерение дать своим детям высшее и среднее образование3.
1 60 лет Чечено-Ингушской АССР: Статистический сб. — Грозный, 1982. — С. 102; Овхадов М. Об образовательном уровне чеченцев (на основе материалов переписей 1959—1989 гг.) // Вестник ЛАМ. — 2001. — № 7 (11). — С. 12; Жизнь, отданная науке // Ойла (Мысль). — 1998. — № 1. — С. 91.
2 Хасбулатова 3. И. Отражение социально-культурных изменений в современной семье чеченцев и ингушей (50—80-е гг.) // Этносоциальные и культурно-бытовые процессы в Чечено-Ингушетии. — Грозный, 1986. — С. 48.
3 Василенко М. Г. Проблемы общего и профессионального образования населения // Социология, атеизм, религия. Т. 3. Вып. 1. — Грозный, 1976. — С. 110.
Глава XIX. Восстановление Чечено-Ингушской АССР. Развитие республики в 60—80-е гг. XX в.
Салман Хасимиков (в центре) — четырехкратный чемпион мира по вольной борьбе. Фото (61, 1)
Большой рывок сделали чеченцы и в спорте, который стимулировал развитие новых начал в общественной жизни народа, породив новых героев. Республика дала в 70—80-х гг. XX в. СССР и миру немало замечательных спортсменов.
Наука. Наличие все же довольно значительной прослойки высокообразованных лиц уже само по себе создавало одно из необходимых условий для быстрого развития науки. В лабораториях Чечено-Ингушского госуниверситета, Грозненского нефтяного института, Чечено-Ингушского госпединститута, Чечено-Ингушского НИИ истории, языка и литературы, Грозненском нефтяном научно-исследовательском институте (ГрозНИИ) трудились тысячи высокопрофессиональных ученых, составлявших гордость советской науки. Большое содействие учеными центра было оказано и в изучении археологических памятников края. Молодые специалисты из чеченцев и ингушей имели возможность многому у них научиться.
Если в предыдущие периоды ученых среди чеченцев насчитывались буквально единицы, то уже в середине 70-х гг. в одном только Чечено- Ингушском государственном университете на преподавательской работе состояло 80 чеченцев и ингушей, из которых 39 имели различные ученые степени. В 1979 г. насчитывается 322 научных работника из чеченцев, в то время как общее количество занятых в сфере республиканской науки и научного обслуживания составляло 2,6 тысячи человек1. Всего в Чечено-Ингушетии насчитывалось 14 научных, научно-исследовательских и проектных учреждения. Вместе с тем чеченцы составляли меньшую часть работников сферы науки и по удельному весу числа научных работников от общей численности нации значительно отставали от других народов Северного Кавказа.
1 Культурное строительство в Чечено-Ингушетии (июнь 1941—1980 гг): Сб. документов и материалов. — Грозный, 1985. — С. 204; Овхадов М. Об образовательном уровне чеченцев (на основе материалов переписей 1959—1989 гг.) // Вестник ЛАМ. — 2001. — № 7. (11). — С. 13; 60 лет Чечено-Ингушской АССР: Статистический сб. — Грозный, 1982. — С. 80.
Социально-общественные, демографические и культурные процессы
Северо-Кавказская археологическая экспедиция. 1962 г., с. Сержень-Юрт. В центре сидят известные археологи В. И. Козенкова и Е. И. Крупнов. Сзади стоит (третий слева) М. Б. Пиотровский, будущий директор Эрмитажа. Фото (4, 66)
Надо отметить, что при всем этом отдельные ученые из представителей коренных народов достигали больших высот. Так, выпускник Грозненского нефтяного института 1962 г. С. Н. Хаджиев стал в 1967—1984 гг. последовательно кандидатом, доктором химических наук и пройдет путь от научного сотрудника до директора ГрозНИИ, занимавшего ведущие позиции в отечественной науке. Затем Саламбек Хаджиев возглавит крупное научно-производственное объединение «Грознефтехим», которое под его руководством станет одним из самых эффективных в СССР.
Следует быть также отмеченным, что в вузах и научных учреждениях Чечено-Ингушетии работала масса замечательных ученых разных национальностей — русские, евреи, армяне и др., которые бескорыстно передавали свой опыт и знания студентам и молодым ученым из числа чеченцев и ингушей долгих 13 лет, лишенных, по существу, возможности приобщения к высшему образованию и науке. Так, в стенах Грозненского нефтяного института в 70—90 гг. XX столетия вырастает целая плеяда национальных научно-педагогических кадров. Это, прежде всего, доктора наук, профессора В. Саидов, В. Межидов, М. Магомадов, Д. Курумов, М. Келигов; а также кандидаты наук, доценты В. Яндаров,
С. Шабуев, Т. Дахкильгов, X. Баркинхоев, А. Мальсагов, Р. Мурдаев, М. Газдиев, Б. Солтыханов, А. Абдулкадыров, Х.-А. Яриханов, Д. Ахмадов, С. Дибиев, Р. Хаджиев, А. Матиев, М. Энкашев, Т. Гайрбеков, X. Шахабов, Л. Ибрагимов, С. Хубаев, С. Куриев, А. Керимов, М. Чах- киев, М. Бетилгиреев и другие. Большую роль в их подготовке сыграли ведущие ученые-нефтяники профессора Г. М. Сухарев, Ю. Л. Расторгуев, Б. А. Григорьев, А. 3. Дорогочинский, Л. Е. Симонянц, А. И. Гужов, Н. А. Колесников, Г. А. Айрапетов, а также доценты А. С. Керамиди, П. Е. Судаков, С. А. Посташ, Р. Ш. Тугушев и многие другие. Немалую
Глава XIX. Восстановление Чечено-Ингушской АССР. Развитие республики в 60—80-е гг. XX в.
Здание Республиканской библиотеки им. А. П. Чехова. Открыта в 1966 г. (40, вклейка)
роль сыграли и научные союзные центры и центры союзных республик. В целом их роль была определяющей в воспитании, образовании и подготовке кадров из числа коренных народов.
Культурный подъем. В рассматриваемый период произошел невиданный ранее подъем национальной культуры и искусства, а также значительно возросла сеть культурно-просветительных учреждений. Например, если в 1958 г. в Чечено-Ингушетии насчитывалось 424 библиотеки всех систем и ведомств с общим фондом приблизительно 2 миллиона экземпляров, то через тридцать лет их было более 1 тысячи, а совокупный книжный фонд превысил 10 миллионов единиц хранения. При этом фонд одной только Республиканской научной библиотеки им. А. П. Чехова составил 2 миллиона 648 тысяч экземпляров.1
Чеченский драматический театр, носивший имя героя Советского Союза X. Нурадилова, был воссоздан под руководством выдающегося чеченского писателя и драматурга А.-Х. Хамидова. Первый успех к новому театру пришел уже в 1962 г., когда на театральном смотре в Москве он был удостоен специального диплома. Подлинным триумфом стала постановка пьесы А.-Х. Хамидова «Бож-Али», сразу же полюбившейся зрителям и ставшей классикой чеченской драматургии. Именно актеры, занятые в главных ролях этого спектакля, — А.-М. Давлетмирзаев, 3. Баталова, А. Дениев — стали первыми подлинно народными артистами вайнахов. А вскоре список любимых народных артистов пополнился именами Н. Хаджиевой, Д. Омаева, М. Дудаева, Ю. Идаева, А. Гайту- каева, Я. Зубайраева, А. Исаева и др.
1 Культурное строительство в Чечено-Ингушетии (июнь 1941—1980 гг): Сб. документов и материалов. — Грозный, 1985. — С. 105; Чечня: право на культуру. — М., 1999. — С. 25.
Социально-общественные, демографические и культурные процессы
После трагической кончины самого А.-Х. Хамидова большой вклад в развитие чеченского театрального искусства внесли Г. Батукаев, М. Сол- цаев и Р. Хакишев, одинаково хорошо ставившие как национальные пьесы, так и произведения мировой классики. Так, заметным событием в культурной жизни Чечено-Ингушетии стали спектакли «Песни вайна- хов», «Кровавая свадьба» (Ф. Гарсиа Лорка), «Ричард III» (В. Шекспир), «Женитьба» и «Ревизор» (Н. В. Гоголь). Наличие собственного профессионального театра дало большой импульс развитию национальной драматургии, где появились заметные фигуры.
Ансамбль «Вайнах». Девичий танец. Фото (25, 31)
Деятели искусств Чечено-Ингушетии. В первом ряду слева — Зулай Сардалова. В центре — министр культуры ЧИАССР Ваха Татаев. Фото из семейного архива
С. Татаевой (25, 30)
Глава XIX. Восстановление Чечено-Ингушской АССР. Развитие республики в 60—80-е гг. XX в.
¥
Народный артист СССР М. Эсамбаев среди земляков в селеннии Старые Атаги.
Фото (45, вклейка)
Расцвет национального хореографического искусства связан прежде всего с успешной деятельностью ансамбля «Вайнах», в 70—80-е годы неоднократно выезжавшего в зарубежные гастроли (бессменный руководитель Тапа Элимбаев). Первой звездой этого коллектива стала Зулай Сардалова, которой еще в 1964 г. было присвоено почетное звание «Народный артист ЧИАССР». В этом же ансамбле начинался творческий путь и таких выдающихся артистов, как Д. Мальцагов, В. Дагаев,
С. Магомадов, Ш. Эдельсултанов и др.
До сих пор непревзойденной звездой чеченского танцевального искусства остается М. Эсамбаев, еще в 1957 г. ставший лауреатом Всесоюзного конкурса народного танца. Его многочисленные творческие турне по Советскому Союзу и зарубежным странам неизменно заканчивались триумфом, а сам он пользовался заслуженной славой лучшего в мире исполнителя народных танцев. В 70-х гг. он был удостоен звания Героя Социалистического труда.
Расцвет чеченского музыкального искусства связан с именами народного композитора и выдающегося гармониста Умара Димаева, выдающегося исполнителя народных баллад-илли Б. Сулейманова Ва- лида Дагаева, певицы Марьям Айдемировой, а также деятельностью выдающегося чеченского композитора Аднана Шахбулатова, гармониста Рамзана Паскаева и др. Неоценим также вклад, который внесли в развитие чеченской музыки и такие композиторы, как А. Халебский
— Q1 Я —
Социально-общественные, демографические и культурные процессы
Ахмад Сулейманов — поэт, этнограф, Абузар Айдамиров. Фото (26,
топонимист. Фото (26, 56)
и Н. Речменский, продолживший дело, начатое еще Г. Мепурновым. Об уровне развития профессионального искусства можно судить по успешной деятельности республиканского симфонического оркестра.
Большой путь прошла в своем развитии и чеченская литература и поэзия, в которой проявились старые и новые яркие имена: А. Айдамиров, X. Ошаев, М. Мамакаев, Н. Музаев, Б. Саидов, М. Мусаев, А. Мамакаев, М. Сулаев, У. Байсултанов, 3. Муталибов, X. Эдилов, А. Сулейманов, 3. Джамалханов, X. Саракаев, Р. Ахматова, Ш. Арса- нукаев, А. Шайхиев, В. Итаев, Ш. Рашидов, М. Дикаев, Л. Абдулаев, М. Гешаев, М. Шамсаев, М. Кибиев, С. Юсупов, Ш. Окуев, X. Сатуев,
Халид Ошаев — писатель, этнограф и историк. Фото (38, вклейка)
Арби Мамакаев. Фото (Интернет, www. chechnyafree. ru)
Раиса Ахматова. Фото (Интернет, www. chechnyafree. ru)
— 919
Глава XIX. Восстановление Чечено-Ингушской АССР. Развитие республики в 60—80-е гг. XX в.
М. Дакаев, У. Яричев, А. Кусаев, Я. Хасбулатов и др. В 80-х гг. заявили о себе М. Ахмадов, А. Бисултанов, М. Бексултанов, Л. Ибрагимов, Л. Жумалаева, Ш. Цуруев и др. В чеченской литературе появляется немало ярких произведений. Так, значительное воздействие на умы имели роман X. Ошаева «Пламенные годы», над которым автор работал 15 лет, и роман-трилогия А. Айдамирова «Долгие ночи». Именно с публикаций указанных романов в 60—70-х гг. XX в. началось, по сути, возрождение чеченского национального самосознания. Подорвать его не смогли уже никакие усилия, включая и широко разрекламированную в конце 70-х гг. официальную кампанию по празднованию «200-летия добровольного вхождения Чечни в состав России».
Следует отметить, что близко примыкала к чеченской литературе и ингушская проза и поэзия. Произведения таких выдающихся писателей и поэтов, как И. Базоркина, А. Бокова, С. Чахкиева, А. Хашагульгова и др. поднимали общенахские художественные пласты.
В Чечено-Ингушетии в рассматриваемый период сложилась самобытная художественная школа. Чеченцы и ингуши прекрасно показывали себя и в станковой живописи, и в гравюре, офортах, акварели, скульптуре и чеканке по металлу. Высококлассными профессиональными художниками, отмеченными званиями и дипломами советской страны, стали такие чеченские и ингушские художники, как А. Асуханов, X. Ахмедов, X. Дада- ев, Ш. Шамурзаев, У. Умарсултанов, X. Акиев, М. Полонкоев, Д. Идрисов, Ш. Ахмадов, С.-Х. Бицираев, С. Юшаев, Б. Амирханов и др.
В 80-х гг. зародилось национальное художественное кино, основоположником которого стал И. Татаев. Он создал полнометражные фильмы, сразу полюбившиеся зрителям — «Горская баллада» и «Когда отзовется эхо».
Чеченские оперные певцы — Султан Байсултанов и Мовсар Минцаев стали гордостью советского оперного искусства. Ярко засверкали такие эстрадные звезды, как Апти Далхадов, Тамара Дадашева, Сулейман Токаев, Али Димаев, Имран Усманов, Билухаджи Дидигов и др. Наибольшее развитие в Чечено-Ингушетии получила традиция чеченских народных лирических и близких к народным песням произведений современных авторов: Султан Магомадов, Вал ид Дагаев и др.
В 60—80-е гг. XX в. значительным был рост общественных наук, определяющих национальное самосознание народа. Появились первые профессиональные археологи — М. Ошаев, С. Умаров, М. Багаев, X. Мамаев, М. Мужухоев, выросли кадры чеченских историков и этнографов, исследователей различных эпох и проблем: А. Саламов, А. Исмаилов, М. Абазатов, Ж. Гакаев, X. Бакаев, А. Хасбулатов, А. Сулейманов, Ш. Ахмадов, Я. Ахмадов, 3. Мадаева, X. Саидова, М. Музаев, С.-М. Хасиев, 3. Хасбулатова, Т. Исаева, М. Автохаджиева, X. Хизриев и др. Выросло также целое поколение чеченских языковедов, таких как А. Мациев, Ю. Де-
— 920 —
Социально-общественные, демографические и культурные процессы
шериев, И. Алироев, 3. Джамалханов, В. Тимаев, 3. Хамидова, А. Карасаев, М. Овхадов, А. Халидов и др. Были сделаны большие шаги в литературоведении и театроведении — X. Туркаев, Ю. Айдаев, К. Гайтукаев, в фольклористике — Я. Вагапов, А. Мальсагов, Р. Джамбеков, И. Мунаев, в философии — А. Яндаров, Г. Успаев, В. Акаев и др.
Национальные кадры хорошо проявили себя в 60—80-х гг. в естественных и прикладных науках, дав не только Чечено-Ингушетии, но и всей стране немало талантливых имен.
Культурная европеизация. Русский учитель. В период 60—80-х гг. XX в. произошло близкое знакомство широких слоев чеченского общества с европейской культурой (в ее русско-советском варианте) и усвоение ее основных духовных ценностей на бытовом уровне. Это оказало влияние на весь образ жизни чеченского народа: подавляющее большинство чеченцев свободно говорило по-русски и носило европейскую одежду, они были знакомы с произведениями русской и мировой литературы, любили и знали кино и т. д. Русский язык для многих становится вторым родным языком, а уже в середине 70-х до 5% чеченцев пользуются им даже на внутрисемейном уровне1.
Происходит широкая культурная дуализация чеченского общества, когда наряду с национальными духовными ценностями получают признание и духовные ценности советской (русской) культуры. В этом весьма велика была роль русских учителей, многие из которых работали
Памятник Л. Н. Толстому в городе Грозном перед зданием Чечено-Ингушского государственного университета им. Л. Н. Толстого. Фото (64, 50)
1 Дудерайн Р. П. О взаимосвязи национального и интернационального в комму¬
нистическом воспитании // Социология, атеизм, религия. Т. 3. Вып. 1. — Грозный,
1976. - С. 177.
Глава XIX. Восстановление Чечено-Ингушской АССР. Развитие республики в 60—80-е гг. XX 8.
в чеченских школах даже самых глухих аулов. Чеченская молодежь и интеллигенция в первую очередь своим приобщением к мировой культуре были обязаны русскому учителю и русскому языку. Как ни парадоксально, но развитию этого процесса, помимо всего прочего, способствовала и сезонная миграция сотен тысяч чеченских рабочих («шабашников»), которые половину своей жизни проводили вне национальной среды.
Урбанизация и пролетаризация. Как уже говорилось выше, в начале 50-х гг. среди спецпереселенцев в Казахстан и Среднюю Азию начался процесс урбанизации, выражавшийся в массовом переселении чеченцев в города и поселки городского типа. Этот процесс временно затормозился после возвращения чеченцев на родину — подавляющее большинство вновь расселилось в сельской местности. И хотя в целом численность сельского населения в восстановленной Чечено-Ингушской АССР сократилась с 527,3 тысяч до 416,7 тысяч человек или на 110,6 тысяч человек1, подавляющее большинство чеченцев и ингушей оказалось сельскими жителями. Правда, теперь значительная часть небольших чеченских колхозов была преобразована в крупные государственные хозяйства — совхозы, а работавшие в них учитывались как рабочие, хотя и занятые в сельском хозяйстве. Благодаря этой бюрократической «тонкости» доля колхозников среди чеченского населения ЧИАССР в 1959 г. по сравнению с 1939 г. сократилась с 73,1% до 38,5%, а доля рабочих возросла соответственно с 10,8% до 53,5%.
Процесс «пролетаризации» набирал силу, и к 1979 г. число рабочих всех видов среди чеченцев возросло уже до 74,9%, а доля колхозников сократилась до 12,7%. Однако, советская статистика скрывала тот факт, что рабочими колхозники становились по мере того, как колхозы преобразовывались в совхозы. Поэтому и к началу 80-х гг. XX столетия большинство чеченцев, учитывавшихся в качестве рабочих, продолжает постоянно проживать в сельской местности. Косвенным свидетельством медленной урбанизации может служить чрезвычайно низкий темп увеличения такой социальной категории, как служащие. Если в 1939 г. 7% чеченцев относились к этой социальной прослойке, то в 1959 г. — 7,5%, а в 1979 г. — только 12,3%2.
Демографические процессы. Снижение общей численности чеченцев и ингушей в конце 40-х гг. почти в 2 раза в результате сталинского геноцида было быстро преодолено благодаря чрезвычайно высоким темпам рождаемости, характерным для чеченцев и ингушей на протяжении второй половины XX в. Как уже говорилось, из Казахстана и Средней Азии возвратилось менее 360 тысяч чеченцев, но уже к
1 60 лет Чечено-Ингушской АССР: Статистический сб. — Грозный, 1982. — С. 15.
2 Заурбекова Г. В. Основные тенденции изменения социально-классового состава населения Чечено-Ингушской АССР за годы Советской власти // Этносоциальные и культурно-бытовые процессы в Чечено-Ингушетии. — Грозный, 1986. — С. 24,27.
— 922 —
Социально-общественные, демографические и культурные процессы
Жилой дом в чеченском селе 60-х гг. XX в. Фото (39, 114)
1970 г. численность чеченцев, постоянно проживающих на территории Чечено-Ингушетии, возросла до 509 тысяч Спустя девять лет численность жителей республики — чеченцев увеличится до 611,4 тысяч человек. Одновременно происходит сокращение русского населения Чечено-Ингушетии — до 336 тысяч в 1979 г.
Еще в конце 50-х гг. XX в. русские составляли чуть менее половины населения Чечено-Ингушетии. Через тридцать лет — в конце 80-х гг. их доля сократилась до 23,5%, зато чеченцы составляли теперь 57,8% жителей автономии. И это при том, что примерно каждый пятый этнический чеченец постоянно проживал за пределами своей республики1.
Таким образом, демографические процессы 60—80-х гг. значительно отличались от тех, что происходили в 20—30-е гг. С момента восстановления Чечено-Ингушетии республиканские власти всячески препятствуют восстановлению густой сети высокогорных хуторов и небольших селений. В конце 50-х — первой половине 60-х гг. было произведено даже массовое переселение значительной части горцев на равнину, в том числе и в затеречные станицы. В результате почти полностью обезлюдели некоторые из ранее густо заселенных исторических горных областей, например, Маьлхиста, Майста или Чеберлой. Достаточно плотно заселенными остались только Ножай-Юртовский и Веденский районы, а на территории бывших Шатойского, Чеберло- евского, Итум-Калинского, Шаройского (Химойского) и Галанчожско- го районов и к началу 90-х гг. численность населения не превышала 20 тысяч человек2.
1 60 лет Чечено-Ингушской АССР: Статистический сб. — Грозный, 1982. — С. 16—17; Чеченцы: история и современность. — М., 1996. — С. 133.
2 Как горца от гор отлучали... // Голос Чечено-Ингушетии. — 1991. — 14 сент. — С. 2—3.
Глава XIX. Восстановление Чечено-Ингушской АССР. Развитие республики в 60—80-е гг. XX в.
Грозный начала 70-х гг. XX в. Гостиница «Кавказ» и здание Совета Министров ЧИАССР. Фото (40, 7)
Аграрное перенаселение. Одновременно в плоскостных чеченских селениях вновь воссоздалась ситуация аграрного перенаселения, характерная для этих районов уже с последней трети XIX в. Появление здесь тысяч переселяемых горцев в сочетании с высокими темпами естественного прироста населения еще более усугубили положение. Часть избыточного населения направляется из чеченских селений в близлежащие станицы, что в очень короткий срок привело к коренному изменению их национального состава. При этом численность русского населения Чечено-Ингушетии со второй половины 70-х гг. постоянно сокращается, причем в сельской местности этот процесс идет гораздо быстрее, чем в городах. Так, за девять лет (с 1970 по 1979 гг.) численность русского сельского населения в Чечено-Ингушетии уменьшилась почти на 19 тысяч человек — с 97 тысяч до 78,4 тысяч За это же время число русских горожан сократилось на 12,2 тысяч человек1.
Миграция чеченцев в города Чечено-Ингушетии постоянно сдерживалась рядом причин. Тем не менее, ее результаты достаточно впечатляющи. За двадцать лет, с 1959 по 1979 гг., численность чеченцев, постоянно проживающих в городах Чечено-Ингушской АССР, возросла с 22,3 тысяч до 137,7 тысяч Несмотря на этот впечатляющий рост, города автономии оказались недостаточно большими, чтобы вобрать в себя все избыточное сельское население. За этот же период времени численность сельских жителей, чеченцев по национальности, увеличилась примерно в два раза: с 221,6 тысяч до 437,7 тысяч человек. При этом, несмотря на непрерывный абсолютный рост численности городского населения, его доля от общего
1 60 лет Чечено-Ингушской АССР: Статистический сб. — Грозный, 1982. — С. 16.
924 —
Социально-общественные, демографические и культурные процессы
Грозный. Центральная улица Ленина. 1985 (39, 121)
числа жителей Чечено-Ингушетии временами даже снижалась. Так, если в 1979 г. городские жители составляли 43,5% населения республики, то в 1986 г. их доля несколько сократилась — до 42,8%1.
Изменения в национальном составе Чечено-Ингушетии. Начавшуюся миграцию русского и русскоязычного населения из Чечено-Ингушетии нельзя рассматривать как результат постороннего «давления». Конечно, на бытовом уровне межнациональные трения время от времени давали о себе знать, но вплоть до 1991 г. в основе процесса миграции лежат причины сугубо экономические. Это прежде всего начавшийся общий упадок Грозненского нефтепромышленного района. Пик добычи нефти был достигнут в самом начале 70-х гг., после чего объемы
1 Хасбулатова 3. И. Отражение социально-культурных изменений в современной семье чеченцев и ингушей (50—80-е гг.) // Этносоциальные и культурно-бытовые процессы в Чечено-Ингушетии. — Грозный, 1986. — С. 44; Чечено-Ингушская АССР за годы одиннадцатой пятилетки: Статистический сб. — Грозный, 1986. — С. 10.
Глава XIX. Восстановление Чечено-Ингушской АССР. Развитие республики в 60—80-е гг. XX в.
Ногайцы. Худ. П. Г. Катков
добываемой в Чечено-Ингушетии нефти резко снижаются. Гигантский нефтеперерабатывающий комплекс Грозного все более ориентируется на привозную нефть, а попытки ускоренными темпами развивать отрасли промышленности, напрямую не связанные с нефтедобычей и нефтепереработкой, заметного результата не приносят.
В середине 80-х гг. промышленная сфера обеспечивает занятость только 13% трудоспособного населения Чечено-Ингушетии1. Доходы здесь также уменьшаются, падает престижность прежде «славных» трудовых профессий в нефтяной сфере. Еше в начале 70-х гг. город Грозный перестал снабжаться по «первой категории» товарами широкого потребления и продовольствием. Все это вызывало к жизни устойчивую миграцию из республики русского и русскоязычного населения. Плюс свою роль сыграли серьезные экологические проблемы Грозного, выдвинувшие его в двадцатку самых загрязненных городов СССР. Шло также естественное старение русского населения, молодежь (особенно из станиц) предпочитала не возвращаться в родные места, а оседала в советских городах.
Вторая причина заключалась в высоких спекулятивных ценах на квартиры и земельные участки в городе Грозном, когда чеченцы и ингуши, жившие в различных районах СССР, кинулись в 80—90-х гг. скупать на родине жилье. «Ножницей» цен в Грозном, относительно других городов России, воспользовались тысячи людей2.
1 Крылова В. В. К вопросу о численности и составе работников промышленности Чечено-Ингушской АССР в 60—80-е годы // Актуальные проблемы социалистического строительства в Чечено-Ингушетии. — Грозный, 1986. — С. 101.
2 Гакаев Ж. Ж. Очерки политической истории Чечни (XX век). — М., 1997. — С. 140.
— 926 —
Социально-общественные, демографические и культурные процессы
Вместе с тем сохранялась стабильность и даже рост численности армян (живших главным образом в Грозном), ногайцев (Шелковской район) кумыков, аварцев и т. д. Сокращалась численность осетин, евреев, татар, в том числе и за счет миграции.
Рост стремления сельского населения к переселению в города. Миграционные процессы среди чеченского населения были противоречивы. Ярко выраженное аграрное перенаселение толкает жителей чеченских селений не только в соседние станицы по Сунже и Тереку, но и в города Чечено-Ингушетии. Однако, в свое время, в ноябре 1958 г. в Грозном и в Грозненском (сельском) районе был установлен особый паспортный режим, согласно которому здесь вводились серьезные ограничения на прописку. Инициатором введения запрета, под предлогом ужесточения борьбы с ростом правонарушений, выступили партийные и советские органы Чечено-Ингушетии1. Не вызывает сомнения, однако, что подлинная цель данной акции состояла в создании административных препонов на пути миграции чеченского населения в Грозный. Сохраняя Грозный в качестве русского анклава в сердце Чечни, правящая верхушка русских работников намеревалась и дальше гарантировать себе ведущие позиции в партийно-советском аппарате.
Таким образом, перемещение избыточного населения из сельских чеченских районов в Грозный долгое время сдерживается искусственно. В результате десятки тысяч чеченцев вынуждены ездить на работу в чеченскую столицу из близлежащих сел, не имея при этом возможности получить постоянное жилье в Грозном. Эти ограничения фактически перестали действовать только в 80-х гг. XX в., однако, теперь миграция чеченцев в города сдерживается уже другими факторами, прежде всего экономическими. Падение добычи нефти и газа сопровождалось сокращением рабочих мест в самой Чечено-Ингушетии. Изменение отраслевой структуры Грозненского промышленного района происходит чрезвычайно медленно — большая часть средств тратится на поддержание нефтеперерабатывающего комплекса, а не на развитие новых трудоемких отраслей промышленности, что оставляет невостребованными избыточные трудовые ресурсы.
Доля чеченцев в промышленных отраслях хозяйства. В ведущих промышленных отраслях Грозного чеченцам и ингушам приходится сталкиваться с таким явлением, как «естественное» распределение труда: русские и русскоязычные рабочие и специалисты традиционно занимали всю сферу промышленности и науки. В итоге за 30 лет, прошедших после возвращения чеченцев и ингушей на Родину, только 16% работников нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий Чечено-Ингушетии были чеченцами или ингушами. В радиотехнической промышленности число работников вайнахов было еще
1 Тайны уходящего века. — М., 2000. — С. 519.
Глава XIX. Восстановление Чечено-Ингушской АССР. Развитие республики в 60—80-е гг. XX в.
Чеченка в традиционном наряде. Совр. фото (27, 443)
меньше — 14%, в химическом и нефтяном машиностроении — 9%, в приборостроении — всего 6%. Между тем, именно в этих отраслях в 50—70-е гг. были высокие зарплаты и большие льготы. В тех случаях, когда в указанных отраслях возникала потребность в рабочей силе и инженерно-технических кадрах, они завозились из российских регионов путем организованного набора. Причем отдельные специалисты получали ключи от квартир прямо на вокзале. И эта практика продолжалась десятилетиями, хотя за воротами предприятий стояли безработные чеченцы в том числе и с высшим специальным образованием.
Чеченцы и ингуши вынуждены работать в основном в тех отраслях промышленности, которые так или иначе связаны с переработкой продукции сельского хозяйства, а также в строительстве. Например, в пищевой промышленности чеченцы составляли 74% всех работающих, в легкой промышленности — 67,7%, в торговле и общественном питании — 66%. Но указанные отрасли занимали достаточно скромное место в республиканской промышленности и, следовательно, не могли вобрать в себя большую часть свободных рабочих рук. Например, в 1980 г. на долю легкой промышленности приходилось всего 6,1% валовой продукции всей республиканской промышленности, на долю промышленности строительных материалов — 3,7% К 11 Крылова В. В. К вопросу о численности и составе работников промышленности Чечено-Ингушской АССР в 60—80-е годы // Актуальные проблемы социалистического строительства в Чечено-Ингушетии. — Грозный, 1986. — С. 104; Зоев С О. Развитие экономики Чечено-Ингушской АССР в период зрелого социализма. — Грозный, 1984. — С. 67,74; Зоев С. О. На путях перестройки. — Грозный, 1989. — С. 21.
— 928 —
Социально-общественные, демографические и культурные процессы
Слева направо Герои Социалистического труда: нефтяник Н. Ведерников, чабан Н. Эсмухамбетов, строитель Ш. Хаджиев. Фото (45, вклейка)
Пожалуй, больше всего чеченцев работало в строительстве. Так комплексная бригада Героя Социалистического труда Ш. Хаджиева за 30 лет работы построила около 1 миллиона квадратных метров жилья, не считая крупных объектов культуры и просвещения. В целом именно строительство более всего соответствовало менталитету чеченского народа. Недаром в 80-х гг. именно строители из Чечено-Ингушетии стали известными на всю страну; как и грозненских нефтяников, их стали приглашать для сооружения ответственных объектов по всей стране.
Естественно, что чеченцы составляли 83,4% от общего количества лиц, занятых в сельском хозяйстве. При этом само сельское хозяйство Чечено-Ингушетии оказалось способным предоставить только 16% всех рабочих мест в республике1.
Миграция чеченцев. В некоторой степени острота проблемы перенаселения республики в 60—80-х гг. XX в. снималась за счет миграции части избыточного сельского населения за пределы Чечено-Ингушетии, начавшейся уже в 60-е гг. Еще до середины 70-х гг. не менее 20 тысяч чеченцев переехало на постоянное место жительства в Ростовскую область, Калмыкию и на Ставрополье1 2. Чеченцы добровольно возвращаются в республики Средней Азии и Казахстан, а затем у чеченских переселенцев появляются новые адреса: Астраханская,
1 Крылова В. В. К вопросу о численности и составе работников промышленности Чечено-Ингушской АССР в 60—80-е годы // Актуальные проблемы социалистического строительства в Чечено-Ингушетии. — Грозный, 1986. — С. 101.
2 Как горца от гор отлучали... // Голос Чечено-Ингушетии. — 1991. — 14 сент. — С. 3.
— 929 —
Глава XIX. Восстановление Чечено-Ингушской АССР. Развитие республики в 60—80-е гг. XX в.
Волгоградская, Тюменская области, Нечерноземье, Сибирь и крупнейшие города страны, включая Москву. По данным переписи 1989 г., почти четверть всех чеченцев (а именно 23,4%) постоянно проживают вне пределов Чечено-Ингушетии. Главная причина миграции заключалась в безработице.
Со второй половины 80-х гг. власти Чечено-Ингушской АССР всячески поощряют и организационно поддерживают миграцию сельского населения подальше от республики. С руководством Калининской, Новгородской и Омской областей были заключены договора, предусматривавшие прием и размещение там сотен переселенцев из Чечни. Причем в ряде случаев на новом месте создавались коллективные хозяйства — филиалы от существующих чеченских колхозов1.
Большие чеченские диаспоры были заложены так называемыми чабанами (скотоводы) — фермерами в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях и в Калмыкской АССР. В общей сложности здесь работало, решая мясную и шерстяную проблемы страны, до 60 тысяч чеченцев. Здесь с 60-х гг. действовало закрытое решение ЦК КПСС, предусматривавшее достижение резкого подъема в получении шерсти и баранины за счет переселения в южные степи РСФСР горцев Северного Кавказа, главным образом чеченцев. И действительно, чеченские чабаны в короткий срок выполнили государственную задачу.
Сезонные работы. Наиболее эффективно снятию социального напряжения в перенаселенных чеченских селениях способствовали сезонные строительные работы. Ежегодно более 100 тысяч человек, объединенных в строительные бригады, выезжало за пределы Чечено-Ингушетии на строительные работы, что позволяло поддерживать достаточно высокий уровень жизни у большинства сельского населения. Не случайно поэтому, что, когда общий экономический кризис, охвативший советскую экономику в конце 80-х гг., оставил без работы (а следовательно, и без средств к существованию) тысячи чеченских «шабашников» и их семьи, — социальная напряженность в Чечено- Ингушетии резко усилилась.
Уже в 1979 г. до 28% всех трудоспособных жителей Чечено-Ингушской АССР, согласно официальной статистике, получали основной доход от деятельности в личном подсобном хозяйстве, т. е. фактически являлись безработными. Через десять лет уровень скрытой безработицы, по некоторым оценкам, возрос до 40%, при этом число безработных ежегодно возрастало примерно на 5 тысяч человек2. Большая их часть оказалась также вовлеченной в сезонные работы.
1 Новый адрес — Нечерноземье // Грозненский рабочий. — 1988. — 16 авг. — С. 2.
2 Гужин Г. С.у Чугунова Н. В. Сельская местность Чечено-Ингушетии и ее проблемы. — Грозный, 1988. — С. 55; Речь депутата Бокова X. X. // Грозненский рабочий. — 1988. — 12 нояб. — С. 3.
Социально-общественные, демографические и культурные процессы
Значительная часть чеченцев (если не большинство) оказались вне сферы материального производства собственной республики: по официальной статистике середины 80-х гг. только 103 тысячи чеченцев и ингушей было вовлечено в нее1. По существу, в Чечено-Ингушетии произошло межнациональное разделение труда, вследствие которого индустриальная сфера оказалась закрепленной преимущественно за русским и русскоязычным населением.
Миграция чеченского населения в значительной мере была направлена не в «чеченские» города, а за пределы своей республики. Остающееся население концентрируется в сельских районах, хотя и не занимается больше сельским хозяйством. В итоге происходит социальная и культурная маргинализация чеченского общества, которое во многом сохраняет черты доиндустриального общества: численное преобладание сельского населения над городским при ярко выраженном аграрном перенаселении; социально-профессиональная структура общества ориентирована на сельское хозяйство и отрасли, непосредственно связанные с ним; для общества в целом характерен невысокий уровень образования.
Изменения в общественных связях. Кланы. В чеченском обществе продолжают давать о себе знать некоторые архаичные формы организации общественных связей (тейповое родство, большая семья и суфийские общины). Согласно социологическим опросам середины 70-х годов до 37,7% мужчин и 43,2% женщин среди чеченцев принимали в расчет тейповое родство при заключении браков2. Но при всем этом, коренным образом поменялась психология рядового чеченца: место традиционных духовных ценностей, характерных для сельских жителей, прочно заняла идея личного успеха и процветания. Это обстоятельство внутренне выхолащивает те же внутритейповые связи, делая их чисто формальными, на что указывает целый ряд чеченских исследователей, например, М. Юсупов3.
Большая патриархальная семья, которая начала распадаться еще во второй половине XIX в., в «чистом» виде сохраняется скорее как реликтовое явление. Так, из исследований первой половины 80-х годов XX в. следует, что неразделенные семьи (включающие родителей с женатыми детьми и внуками, а также других родственников — дядей, теток, племянников и т. д.) составляют не более 4% чеченских семей. Вместе с тем, в отдельных случаях происходит трансформация «большой»
1 Крылова В. В. К вопросу о численности и составе работников промышленности Чечено-Ингушской АССР в 60—80-е годы // Актуальные проблемы социалистического строительства в Чечено-Ингушетии. — Грозный, 1986. — С. 104.
2 Веревкин Л. П. Националистические предрассудки и пути их преодоления // Социология, атеизм, религия. Т. 3. Вып. 1. — Грозный, 1976. — С. 133.
3 Юсупов М. М. Трансформационные изломы социальной структуры // Ойла («Мысль»). — 1998. — № 1. — С. 62.
— 931 —
Глава XIX. Восстановление Чечено-Ингушской АССР. Развитие республики в 60—80-е гг. XX в.
семьи, включающей обширный круг родственников по отцовской и материнской линиям, в сторону формирования фамильных кланов. Сами сжатые сроки урбанизации чеченского общества, происходившей при жизни одного-двух поколений, привели к тому, что внутри него сохранились общественные связи, построенные не на формальных, а на родственных отношениях1.
Интересно, что фамильные кланы начинают формироваться первоначально вокруг семей религиозных авторитетов, чьи потомки занимали видное место в советском государственном аппарате. Очевидно, это объясняется действием сразу нескольких факторов: влияние на мюридскую общину дополнялось влиянием, которое давало тесное сотрудничество с властными органами. Это влияние в свою очередь опиралось на солидные финансовые средства, появлявшиеся, опять- таки, благодаря подношениям рядовых мюридов и возможностям, открывавшимся перед высокопоставленными чиновниками партийно- советского аппарата.
Фамильные кланы образуются также вокруг высокопоставленных партийных, советских и хозяйственных руководителей. «Семьи» стремятся всеми доступными им способами усилить собственное влияние в партийно-советском аппарате, что, с одной стороны, еще более запутывает борьбу между различными группировками, а с другой — делает ее более ожесточенной и бескопромиссной. Можно говорить уже о том, что партийно-советско-хозяйственная номенклатура окончательно перерождается в замкнутый привилегированный социальный слой советского общества.
Следует отметить, что «чеченское лобби» в партийно-хозяйственно- советской номенклатуре не было единым и распадалось на ряд кланов и групп: «равнинные», «горные», «терская группа», «мелхинское лобби», «шатоевский клан» и т. д. Куда более сплоченным и сильным (помимо преобладающей «русской» правящей группы) были еврейское и армянское «лобби», имевшие отработанные приемы и средства закрепления своих людей в советско-партийной номенклатуре, в науке и в сфере высшего образования.
«Теневики» и «расхитители». К высшей номенклатуре близко примыкают многочисленные «теневики», которые, не входя напрямую в партийно-советскую элиту, в обход действующих законов сосредоточили в своих руках значительные материальные богатства. Разумеется, противозаконная деятельность «теневиков» могла быть успешной только благодаря тесным связям с партийно-советской номенклатурой,
1 Хасбулатова 3. И. Отражение социально-культурных изменений в современной семье чеченцев и ингушей (50—80-е гг.) // Этносоциальные и культурно-бытовые процессы в Чечено-Ингушетии.—Грозный, 1986.—С. 42; ПерепелкинЛ. С. Чеченская Республика: современная социально-политическая ситуация // Этнографическое обозрение. — 1994. — № 1. — С. 10.
— 932 —
Социально-общественные, демографические и культурные процессы
что неоднократно подтверждалось материалами громких коррупционных скандалов в Чечено-Ингушетии. Так, в 60-е гг. большой общественный резонанс вызвало убийство республиканского министра лесной промышленности, организовавшего в своем ведомстве сложную систему поборов со всех подчиненных. В начале 70-х гг. арест одного крупного валютного спекулянта выявил его тесные связи с руководителями торговли не только Грозного, но и всей Чечено-Ингушетии. Еще более громким было разоблачение теневиков в системе министерства местной промышленности, в которой оказался замешанным один из заместителей министра местной промышленности РСФСР1.
В условиях, когда государству принадлежали практически все средства производства и материальные ценности, единственным (и наиболее доступным) способом личного обогащения для представителей номенклатуры и «теневиков» было «расхищение социалистической собственности». Из года в год масштабы этого вида преступлений стремительно растут. Например, если за весь 1978 г. и первую половину 1979 г. прокуратура Чечено-Ингушетии предъявила хозяйственным руководителям всех уровней исков на общую сумму в 500 тысяч рублей, то в 1987 г. подобных исков уже было предъявлено на 1 миллион 200 тысяч рублей2. При этом далеко не все преступления в хозяйственной сфере фиксировались и раскрывались правоохранительными органами.
Итоги развития советской Чечено-Ингушетии в последние десятилетия социалистической эпохи. Следует быть отмеченным тот факт, что развитие «социалистической, орденоносной» Чечено-Ингушетии в 60—80-х гг. XX в., по советским меркам, происходило довольно динамично. Две трети немалого валового продукта республики давала промышленность современного индустриального типа. Завершилась полная механизация сельского хозяйства, электрификация села. Все сельские административные единицы, начиная с сельсоветов, были связаны со столицей Чечено-Ингушетии городом Грозным автомобильными дорогами. Немалая заслуга в достижениях республики в этот период отводится первому секретарю Чечено-Ингушского обкома КПСС А. Власову, второму секретарю обкома КПСС Л. Магомадову, а также председателю Совета Министров Чечено-Ингушской АССР М. Керимову. Следует быть отмеченным и тот факт, что чечено-ингушская индустриально-рабочая и колхозно-крестьянская среда дала стране выдающихся новаторов труда, подлинных подвижников социалистических хозяйств, людей искренне преданных своему делу. Героями социалистического труда стали в 60—80-х гг. десятки представителей коренных народов.
1 Заявление Председателю Верховного Совета СССР, Генеральному секретарю ЦК КПСС Брежневу Л. И. // Справедливость. — 1989. — № 6. — С. 3.
2 Сигаури И. М. Очерки истории и государственного устройства чеченцев с древнейших времен. Т. 2. — М„ 2001. — С. 304.
Глава XIX. Восстановление Чечено-Ингушской АССР Развитие республики в 60—80-е гг. XX в.
Встреча Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева с первым секретарем Чечено-Ингушского обкома КПСС А. В. Власовым на вокзале в Грозном. Третий справа секретарь обкома X. X. Боков. Фото (39, 105)
Из их среды рекрутировались и депутаты Верховных Советов ЧИАССР, РСФСР и СССР. Они играли огромную роль и в деятельности своих рабочих коллективов и родных сел.
Ярким примером подлинного служения своему народу и республике является, к примеру, жизнь и деятельность Лечи Добачевича Магома- дова. Он родился в 1937 г. в селении Шалажи, закончил Грозненский нефтяной институт, работал на различных стройках. В 70-х гг. он уже первый заместитель председателя горисполкома города Грозного, с 1976 г. переведен на партийную работу — с заведующего отделом он дошел до поста второго секретаря Чечено-Ингушского обкома КПСС, не поступившись при этом своим национальным менталитетом, честностью и порядочностью. Считался первым кандидатом на должность первого секретаря обкома партии, в силу чего против него была проведена работа по дискредитации, вынудившая его подать в отставку и перейти в Совет Министров ЧИАССР.
В целом Чечено-Ингушетия стояла в ряду самых развитых в экономическом плане регионов СССР.
Вместе с тем, участие чеченцев и ингушей в индустриальном секторе, по крайней мере в 60—70-е гг., искусственно сдерживалось. Уделом активной части населения оставалось участие в торговле, строительстве, низкооплачиваемый труд на полях и сезонная «шабашка» вдали от родины.
Социально-общественные, демографические и культурные процессы
Л. Д. Магомадов (умер в 2005 г. во время хаджа в Мекку). Совр. фото
Перекос и диспропорции были имманентно характерны для развития «социалистической» индустрии края. Переработка нефти в Грозном достигала 20 миллионов тонн в год, но предприятия принадлежали не Чечено-Ингушетии, а союзному центру. Республике доставались отходы и загрязнение окружающей среды.
* * *
В целом Чечено-Ингушская АССР была на передовых позициях по сравнению с другими регионами советской империи. И это не могло не коснуться всех сторон жизни чеченского народа, при всех сдерживающих установках советской империи жадно стремившегося к техническому прогрессу и новациям в экономической жизни. Так, большим достижением надо считать появление подготовленных инженерных, научных и управленческих национальных кадров, складывание потомственного промышленного рабочего класса из чеченцев.
В 60—80 гг. XX в. на протяжении одного поколения произошла решительная модернизация чеченского общества. В тогдашних условиях социалистического планового развития она носила, конечно, весьма
Глава XIX. Восстановление Чечено-Ингушской АССР. Развитие республики в 60—80-е гг. XX в.
Панорама Грозного. 1980-е гг.. Фото (Интернет, www.conrad2001.narod.ru)
своеобразный характер, приняв вследствие ряда особенностей не форму «советизации», а форму европеизации. Обществом усваивались не социалистические ценности, а общечеловеческие и не в последнюю очередь западнические и русские культурные и воззренческие достижения. Чеченский учитель был прямым учеником великого русского учителя-интеллигента.
— 936 —
Глава XX. Общественно-политическое развитие чеченского народа в 60—80-е годы XX века. Начало «чеченского» кризиса
§ 1. Новые явления в общественно-политической жизни
Политизация. Ислам в общественной жизни. Модернизация чеченского общества, наблюдавшаяся в 60—80-е гг. XX в., в эпоху развитого социализма, отнюдь не решала проблему извечного антагонизма власти и народа в Чечне. Власти автономной республики жестко диктовали чеченцам свои, довольно каверзные правила жизни в условиях тоталитарной империи, не реагируя на объективные потребности народа. Наряду с экономическими и демографическими факторами, наличествующими в Чечне, как база для кризиса доверия, существовали и чисто общественные факторы. Период последних перед перестройкой десятилетий в Чечено-Ингушетии — это время накопления долгов власти перед народом.
Откровенно эгоистическая политика партийно-советской верхушки объективно вела к подрыву авторитета советского государства. Причем этот процесс происходил повсеместно и на всех уровнях. По мере ослабления государственных институтов, особенно ускорившегося в конце 80-х гг., в чеченском обществе наблюдается некоторое оживление общественных институтов, которые официальная идеология рассматривала как «пережитки прошлого». Вопреки жесткому идеологическому контролю со стороны партийных органов, происходит укрепление авторитета религии и исламского духовенства, которое традиционно играло заметную роль в жизни чеченского общества.
Борьбе с исламской религией в Чечено-Ингушетии особое внимание уделялось еще и потому, что именно ислам считался питательной средой для развития чеченского национализма. В восприятии подавляющего большинства чеченцев такие религиозные обряды, как похороны, поминовение умерших, оформление брака по шариату и т. д., давно уже воспринимались в качестве национальных обычаев1.
Республиканские власти долгое время не только вели активную атеистическую пропаганду и прямо запрещали открывать в чеченских и ингушских селениях мечети, но и не позволяли многочисленным мюрид- ским общинам открыто проводить религиозные обряды и коллективные
1 Цицкиева М. О. Религиозные обряды и национальные традиции // Религиозные секты на территории ЧИАССР и актуальные проблемы атеистического воспитания. — Грозный, 1987. — С. 58—59.
ПО~7
Глава XX. Общественно-политическое развитие чеченского народа в 60—80 гг. XX в.
Начало «чеченского» кризиса
Восстановленный зиарат над могилой матери шейха Кунта-Хаджи Хеды близ селения Хаджи-Юрт. Современное фото (69, вклейка)
моления. Особо пресекалось проведение обряда «громкого» зикра кадырийского тариката (орден Кунта-Хаджи). Пытаясь подорвать популярность общины кунта-хаджинцев, которую официальные власти совершенно ошибочно называли сектой, власти Чечено-Ингушетии запретили в 1961 г. совершение паломничества к святым местам в Веденском и Шалинском районах, связанных с именем Кунта-Хаджи. Тем не менее, добиться прекращения массового паломничества не удалось, причем временами попытки властей воспрепятствовать верующим приводили к открытым конфликтам1.
Влияние духовенства осуществлялось не только посредством отправления религиозных культов или организации правосудия, альтернативного советскому. В Чечено-Ингушетии продолжали существовать, хотя и в небольшом числе, религиозные школы, с той лишь разницей, что теперь их деятельность осуществлялась нелегально или вернее полулегально. Время от времени власти пресекали деятельность отдельных школ, но полностью пресечь их деятельность никогда не удавалось2.
Собрание алимов в 1969 г. Третейские суды. Несмотря на все усилия властей, мюридские братства продолжали действовать и оказывать заметное влияние на чеченское общество. Так, в 1969 г. в Ингушетии состоялось собрание наиболее авторитетных руководителей крупнейших религиозных общин: Кунта-Хаджи, Баматгири-Хаджи, шейха Дени Арсанова и некоторых др. Необходимость встречи была вызвана участившимися случаями различного толкования норм адата и шариата, применявшегося в быту чеченцами и ингушами. Помимо установления
1 Культурное строительство в Чечено-Ингушетии (июнь 1941 — 1980 гг.): Сб. документов и материалов. — Грозный, 1985. — С. 129—131; Межидов С. Только не примиряться! // Грозненский рабочий. — 1970. — 17 янв. — С. 4.
2 Джумалаев С. Грани дозволенного // Грозненский рабочий. — 1975. — 4 апр. — С. 2.
— 938 —
Новые явления в общественно-политической жизни
Чеченский старейшина, мулла суфийского ордена Кунта-Хаджи, 1980 г. Фото
единого для всех порядка совершения тех или иных обрядов, участники схода установили и предельные суммы выплат при заключении брака или прощении за убийство1. Все это страшно возмутило партийные органы, с ужасом обнаружившие, что в республике есть еще одна власть, кроме партийно-советской.
Так называемые «шариатские» суды, против которых активно боролись советские правоохранительные органы, на самом деле таковыми в полном смысле этого термина не являлись. Это были третейские суды, которые разбирали конфликты на основе обычного народного права (адатов) и норм исламского права — шариата. Причем, в соответствии со сложившимися традициями, состав судей определялся по предложению конфликтующих сторон, а исполнение судебного решения полностью зависело от авторитета суда и доброй воли спорщиков. Естественно, что в роли судей выступали, как правило, наиболее уважаемые религиозные деятели, хорошо знавшие как народные обычаи, так и нормы мусульманского права.
По сравнению с официально действовавшими советскими судебными органами, «шариатский» суд (его правильнее было бы называть «народным») имел ряд серьезных преимуществ: его деятельность не была излишне формализованной; судебное расследование происходило
1 Газдиев А. М, Джамбулатова 3. К.у Чахкиев С. Против сектантского беззакония //
Грозненский рабочий. — 1969. — 5 авг. — С. 2—3.
— 939 —
Глава XX. Общественно-политическое развитие чеченского народа в 60—80 гг. XX в.
Начало «чеченского» кризиса
Сельская джума-мечеть (18, 27)
быстро, при прямом участии заинтересованных сторон с привлечением свидетелей и других доказательств; все действия суда и принимаемые им решения были абсолютно прозрачны и понятны для участников процесса. При этом народный суд главные усилия обращал на достижение разумного и взаимоприемлемого компромисса между конфликтующими сторонами, в то время как главная цель советского судебного разбирательства состояла в формальном соблюдении действующего законодательства. Именно наличие всех этих качеств обусловило живучесть «шариатских» судов и их востребованность в чеченском обществе.
Духовные ордена. Возрождение ислама. В середине 80-х гг., когда антирелигиозная деятельность партийно-советских органов начала постепенно сворачиваться, в Чечено-Ингушетии открыто действовало более 280 мюридских групп, входивших в различные духовные ордена, насчитывавших не менее 8 тысяч активных участников, а число сельских мулл и других служителей культа составляло по оценкам властей 430 человек. Очень высокой по советским меркам являлась и степень религиозности населения. Опросы свидетельствовали, что 52,9% чеченцев считали себя верующими, хотя на самом деле этот показатель
— 940 —
Новые явления в общественно-политической жизни
был намного выше. Например, в Веденском районе 72,9% мужчин и 74,6% женщин прямо назвали себя верующими, остальные дали в той или иной степени уклончивые ответы. Но что весьма показательно: все опрошенные в Веденском районе мужчины отказались признать себя неверующими1.
В годы перестройки, во многом благодаря суфийским орденам, началось быстрое возрождение религии. Строятся и возрождаются сотни мечетей во всех селах Чечено-Ингушетии, открываются первые исламские школы и даже институты, тысячи людей начинают совершать хадж в Мекку. Большим событием стало учреждение в 1988 г. муф- тията Чечено-Ингушской Республики во главе с видным богословом Шахид-Хаджи Газабаевым. Алимы, муллы и кади все чаще начинают интересоваться общественно-политическими процессами в республике, выказывая при этом предпочтения отдельным представителям власти на местах и тем или иным политическим лидерам.
О том, что чеченское общество продолжает во многом следовать не только советским законам, но и традиционным обычаям, свидетельствовало о сохранении высокого авторитета духовных лиц и наличии обычаев, корни которых уходили в доисламское время. Например, несмотря на все усилия властей, не удалось полностью искоренить обычай кровной мести. Чечено-Ингушетия являлась одним из немногих регионов страны, где действовала республиканская комиссия по примирению кровников (в составе Верховного Совета ЧИАССР).
Криминальная обстановка. Во второй половине 80-х гг. правоохранительные органы фиксируют не только общий рост преступности, но и быстрое увеличение количества преступлений на почве кровной мести, а также убийств отдельных лиц (в первую очередь женщин) совершенных в наказание за аморальное поведение. В 1988 г. по этим причинам в Чечено-Ингушетии было совершено 7,8% всех убийств. На следующий год их доля в этом разделе милицейской статистики возросла до 17,2%2.
Однако по общему числу убийств и тяжких преступлений Чечено- Ингушетия занимала предпоследние места среди регионов России. Очень низки были показатели по квартирным кражам, хулиганству, разбою. Республика практически не знала подростковой преступности, захлестнувшей в 70—80-е гг. многие города России. Очень мало было разводов, преступлений на почве алкоголизма и бытовых ссор.
1 См.: Ханбабаев К. М. Некоторые факторы радикализации ислама в Чечне // Современное положение Чечни: социально-политический аспект: С6. науч. статей. — Ростов н/Д., 2001. — С. 37; Арсанукаева М. С. Роль семьи в атеистическом воспитании молодежи // Религиозные секты на территории ЧИАССР и актуальные проблемы атеистического воспитания. — Грозный, 1987. — С. 84.
2 Зайцев А., Левин Г. Обыкновенное убийство // Грозненский рабочий. — 1989. — 22 июня. — С. 4.
Глава XX. Общественно-политическое развитие чеченского народа в 60—80 гг. XX в.
Начало «чеченского» кризиса
В Грозном жизнь продолжала бурлить и в 11—12 часов ночи, в то время, когда многие российские города начисто пустели с наступлением темноты.
Преодоление национальной замкнутости. Вместе с тем, нет никаких оснований говорить о национальной замкнутости чеченцев, что, в общем-то, не было характерно и в предыдущие периоды истории. Межнациональная напряженность, характерная для конца 50-х гг., быстро сошла «на нет», и уже с середины 60-х гг. можно говорить о бесконфликтном периоде в Чечено-Ингушетии в отношениях между чеченцами и другими народами. Об этом свидетельствует и быстрый рост количества межнациональных браков. Так, если в 1965 г. в целом по Чечено-Ингушетии 1,6% всех семей были интернациональными по своему составу, то в 1971 г. они составляли уже 6,6% всех семей. Среди чеченцев в 70-е гг. 3,6% мужчин и 3,7% женщин состояли в интернациональном браке1.
О силе межнациональных связей в чеченском обществе косвенно можно судить по быстрому росту числа интернациональных имен, дававшихся детям при рождении. В одном только селении Кошкельды в 1962 г. семь из 67 новорожденных получили нетрадиционные для чеченцев имена, а в 1984 г. — такие имена получили 25 детей из 612. А по социологическим опросам второй половины 80-х гг., 94,6% опрошенных чеченцев одобрительно относились к известным им случаям дружбы между представителями разных национальностей. При этом 75% опрошенных подчеркивали, что для них лично при выборе друзей национальная принадлежность не играет никакой роли; 32,5% указали, что они состоят в тесных дружеских отношениях с представителями других национальностей3.
Трудное складывание национальной номенклатуры. Система распределения должностей. Еще в период ссылки чеченцев и ингушей в республиках Казахстана и Средней Азии начался процесс формирования новой национальной элиты, которая должна была занять руководящие должности в восстанавливаемой Чечено-Ингушской АССР. В Грозном и сельских районах, однако, уже существовал партийно-советский
1 Кодзоев Б. А. Интернационализация общественной жизни трудящихся Чечено- Ингушетии в период 1959—1970 гг. // Актуальные проблемы социалистического строительства в Чечено-Ингушетии. — Грозный, 1986. — С. 81; Дулерайн Р. П. О взаимосвязи национального и интернационального в коммунистическом воспитании // Социология, атеизм, религия. Т. 3. Вып. 1. — Грозный, 1976. — С. 177.
2 Хасбулатова 3. И. Отражение социально-культурных изменений в современной семье чеченцев и ингушей (50—80-е гг.) // Этносоциальные и культурно-бытовые процессы в Чечено-Ингушетии. — Грозный, 1986. — С. 52.
3 Манкиев А. А. Актуальные проблемы интернационального воспитания населения ЧИАССР в свете решений XXVII съезда КПСС // Укрепление дружбы и интернациональных связей трудящихся ЧИАССР в процессе социалистического строительства. — Грозный, 1988. — С. 82.
— 942 —
Новые явления в общественно-политической жизни
бюрократический аппарат (преимущественно русский по национальному составу), в который теперь и должны были влиться новые работники-националы. Процесс этот сопровождался острой борьбой за распределение номенклатурных постов, которая, в полном соответствии со сложившимися советскими традициями, происходила скрытно от общественности. Вокруг первого секретаря Грозненского (затем Чечено-Ингушского) обкома КПСС А. И. Яковлева сложилась группировка руководящих работников, которая отрицательно относилась «.. .к акту восстановления автономии чечено-ингушского народа... и чуть ли не в каждом возвращающемся на Родину чеченце и ингуше они видели себе замену»1.
Впрочем, по требованию ЦК КПСС, заинтересованного в решении столь острого национального вопроса, определенная часть номенклатурных постов была все же зарезервирована за чеченцами и ингушами. Так, первым председателем Совета Министров восстановленной Чечено-Ингушетии стал М. Гайрбеков, который в середине 60-х гг. даже рекомендовался на должность первого секретаря обкома КПСС, освободившуюся после перевода А. И. Яковлева2. Министром культуры был назначен В. Татаев, министерства образования и здравоохранения возглавили соответственно М. Умаров и М. Индербиев. Все они были по своему образованные и небесталанные люди, ухитрявшиеся и под тяжелым прессом коммунистической номенклатуры оставаться патриотами своего народа, своей республики.
Очень быстро в социалистической Чечено-Ингушетии формируется негласная система распределения высших должностей в республиканском партийно-советском аппарате. Ведущие посты (первого секретаря обкома КПСС, министра МВД, республиканского прокурора, руководителя КГБ, министра финансов, секретаря Грозненского горкома КПСС и председателя Грозненского горисполкома, руководителя «Гроз- нефти», военного комиссара республики и некоторые др.) закрепляются за русскими руководителями. Остальные должности, в принципе, были открыты для чеченцев и ингушей. При первом руководителе русском, должности первого и второго заместителей закреплялись за вайнахами, и наоборот — руководитель-вайнах первым заместителем должен был назначить русского. Такое распределение должностей официальной пропагандой преподносилось как наглядное проявление интернационализма. Кстати, претенденты из чеченцев и ингушей на высокий пост в республиканской иерархии могли доказывать свой интернационализм и другим способом — путем заключения интернационального брака.
1 Письмо двадцати шести коммунистов (март 1972 г.) // Справедливость. — 1989. — № 3. — С. 14.
2 Хамидова 3. Жизнь, отданная служению народу // Вайнах. — 1998. — № 1—3. — С. 59.
— 943 —
Глава XX. Общественно-политическое развитие чеченского народа в 60—80 гг. XX в.
Начало «чеченского» кризиса
За чеченцами и ингушами в республиканском списке руководителей всех звеньев резервировалось примерно 30% должностей, причем эта квота распределялась почти пропорционально, особенно в высшем эшелоне. Так как коренное население вскоре составило 70% всего населения республики, то на каждую вакансию претендовало по 5—6 человек. Это порождало нездоровый ажиотаж и коррупцию, места продавались и покупались.
В течение долгого времени русской номенклатуре, несмотря на всего 30% долю русскоязычного населения в общем национальном составе республики, удавалось сохранять за собой преобладающее положение в республиканском партийно-советском аппарате. Так, в начале 70-х гг. из 60 министерств и ведомств Совета Министров ЧИАССР всего 17 возглавлялись чеченцами и ингушами1. В большинстве сельских районов первые секретари райкомов были русские. Руководство Советского Союза стремилось к сохранению сложившегося положения, что келейно объяснялось «общесоюзным значением» грозненской промышленности. Именно поэтому ЦК КПСС постоянно направляет в Чечено-Ингушетию новых первых секретарей обкома: А. И. Яковлева последовательно сменили С. С. Апряткин, А. В. Власов и К. Н. Фатеев.
Письмо 26-ти. Постепенно сформировавшаяся республиканская элита не обладала подлинным «партийным» единством — сохраняются противоречия между русской, чеченской и ингушской частями, связанные с постоянной борьбой за перераспределение высших должностей. Зачастую именно противоречия внутри республиканской элиты провоцировали известную напряженность в межнациональных отношениях на бытовом уровне. В марте 1972 г. большая группа чеченских и ингушских коммунистов (всего 26 человек) написали коллективное письмо в адрес ЦК КПСС, в котором прямо обвинили партийное руководство Чечено-Ингушетии не только в шовинизме, но и коррупции.
Результат обращения, однако, был не тот, на который рассчитывали авторы коллективного письма: наказание понесли не руководители республики, а они сами. Причем, некоторые из них (Бокаев С., Плиев С., Умархаджаев Н., Костоев Б., Льянов Б. и некоторые др.) под разными предлогами были исключены из КПСС.
Среди авторов коллективного письма было немало ингушей, что вполне объяснимо. Ингушская элита, испытывавшая жесткую конкуренцию со стороны русской и чеченской номенклатуры, не оставляла надежду добиться восстановления отдельной ингушской автономии. Непременным условием для этого считалась передача Пригородного района из состава Северной Осетии, незаконно закрепленного за ней по приказу И. В. Сталина в 1944 г.
1 Письмо двадцати шести коммунистов (март 1972 г.) // Справедливость. — 1989. — № 3. — С 15.
Новые явления в общественно-политической жизни
Активизации ингушского национального самосознания способствовали также и дискриминационного характера административные меры осетинских властей, призванные не допустить массового возвращения ингушей в селения Пригородного района и инкорпорации ингушских партаппаратчиков в осетино-русскую номенклатуру.
Первое массовое политическое выступление. В условиях социалистического «брежневского» застоя первый гром грянул именно в Чечено-Ингушетии. 17 января 1973 г. на центральной площади Грозного, перед зданием обкома КПСС, собрался массовый митинг в несколько тысяч ингушей, требовавших либо передать Пригородный район в состав ЧИАССР, либо отменить ограничения на свободное поселение ингушей в этом районе. Власти Чечено-Ингушетии, заблаговременно извещенные о готовящемся выступлении, ничего не предприняли для его предотвращения. Непрерывный митинг ингушей продолжался около трех суток, пока в ночь на 20 января он не был разогнан с применением силы отрядами милиции и введенных в город внутренних войск.
Состоявшийся в марте 1973 г. пленум Чечено-Ингушского обкома КПСС объяснил январские события наличием в чеченском и ингушском народах большого количества националистических и религиозных пережитков, а также слабым уровнем идеологической работы низовых партийных организаций. Целый ряд партийных и советских работни- ков-националов районного звена были смещены со своих должностей и заменены русскими работниками. Ряд активистов и организаторов митинга получили тюремные сроки по надуманным обвинениям.
Данное событие оказало огромное влияние на общественное сознание вайнахов. Несмотря на исключительную дисциплинированность митингующих и политическую корректность их требований, власть расправилась с ними, отказавшись от любой формы диалога. Чеченцам и ингушам четко дали понять, что они пасынки в этом государстве. Утверждают, что один из московских партвождей заявил в Грозном с трибуны, что, мол, чеченцы и ингуши не реабилитированы в 1957 г., а только «помилованы».
Обращение 23-х. Попытка русской части республиканской номенклатуры расширить свои позиции вызвала новое обострение аппаратной борьбы. В июне 1981 г. в Москву на имя первого советского руководителя Л. И. Брежнева отправлено новое коллективное письмо коммунистов-националов. Новое письмо подписали 23 человека, в том числе и чеченцы: Бадаев Ш., Идигов С., Бехоев Ш.
Авторы нового обращения также приводят многочисленные примеры коррупции среди высших должностных лиц Чечено-Ингушетии и говорят о прямой причастности к ним первого секретаря обкома А. В. Власова, который «...специально окружает себя людьми, в чем- то себя скомпрометировавших, чтобы ему было легче заставлять их
Глава XX. Общественно-политическое развитие чеченского народа в 60—80 гг. XX в.
Начало «чеченского» кризиса
делать все, что ему заблагорассудится». В письме также содержится требование назначать первого секретаря обкома из числа уроженцев Чечено-Ингушетии].
ЦК КПСС и на этот раз поддержал республиканское руководство, обвинив авторов письма в национализме (хотя среди подписавших его были люди разных национальностей, в том числе русские и украинцы). Два человека были исключены из партии, остальные понесли менее суровые наказания1 2.
Кампания 200>летия «добровольного вхождения». На критику «слева» партийное руководство Чечено-Ингушской АССР ответило «усилением идеологической работы», что вылилось в мощную кампанию по дискредитации чеченской интеллигенции, которая проходила под видом дискуссии вокруг «концепции» о 200-летии добровольного вхождения Чечено-Ингушетии в состав России. Автором этой «научной» теории официально считался профессор ЧИГУ археолог В. Б. Виноградов, хотя в данном случае он не просто исполнял волю партийного руководства республики, а опирался даже на авторитет ЦК КПСС. Ряд ученых-исто- риков, открыто выступивших против данной «концепции», подверглись
Грозный. Проспект Орджоникидзе, 1989 г. Фото
1 Заявление Председателю Верховного Совета СССР, Генеральному секретарю ЦК КПСС Брежневу Л. И. // Справедливость. — 1989. — № 6. — С. 12.
2 Заявление // Справедливость. — 1989. — № 4—5. — С. 27.
— 946 —
Новые явления в общественно-политической жизни
гонениям (Ш. Б. Ахмадов, Я. 3. Ахмадов, Я. С. Вагапов). Следом группа
В. Б. Виноградова вкупе с М. М. Блиевым (автором «набеговой» концепции) начала на страницах газет «разоблачение» Кавказской войны, которая под их пером превратилась из национально-освободительного движения горцев против колонизаторов в разбойничьи акции горских «мракобесов» против «цивилизованной» России. И в этом случае начались новые гонения, жертвами которых стали историки А. Вацуев и М. Музаев.
Начало «коренизации» кадров на фоне всплеска социальной напряженности. Только к середине 80-х гг. XX в. большинство низовых и средних должностей в партийно-советском аппарате ЧИАССР стали занимать представители коренных национальностей. Так, 155 сельских советов из 194 и 11 городских и районных исполнительных комитетов из 19 возглавили теперь чеченцы и ингуши1. За русской номенклатурой оставались наиболее значимые посты среднего и республиканского уровня, а также руководство Грозного и областного комитета КПСС.
Провозглашение новым руководителем страны М. С. Горбачевым курса реформ, получивших краткое название «перестройка», открыло в Чечено-Ингушетии новый период борьбы в республиканской верхушке, который происходил на фоне быстро растущей социальной напряженности в республике. Растущее аграрное перенаселение 60—80 гг. XX в. в Чечено-Ингушетии создает многотысячную армию «лишних» людей, которые в условиях усиливающегося экономического развала СССР, уже не в состоянии найти себе применение. В конце 80-х полностью прекращается выезд из Чечено-Ингушетии бригад сезонных строителей, что сразу же подорвало экономическое благосостояние большей части чеченских и ингушских семей. Открывающиеся же возможности мелкого частного предпринимательства (под видом кооперативного движения) не могли в короткий срок создать достаточную экономическую альтернативу. Здесь ни чеченская, ни ингушская, ни русская номенклатура ничего не могла поделать.
Общественное напряжение в Чечено-Ингушетии еще более возросло после того, как весной 1989 г. сильные оползни вызвали волну вынужденных переселенцев из горных районов. Власти республики столкнулись с необходимостью срочно обустроить до 3 тысяч семей, из которых более 1 тысячи вообще оказались под открытым небом1. Еще более накалили обстановку многочисленные злоупотребления чиновников, которыми сопровождался процесс расселения людей, лишившихся крова. Достаточно сказать, что для того чтобы получить выделенные
1 Агаджанов Ю. Г. Правда против вымыслов. — Грозный, 1987. — С. 47.
1 О сложившейся общественно-политической обстановке в республике и задачах областной партийной организации // Грозненский рабочий. — 1989. — 27 авг. — С. 1.
— 947 —
Глава XX. Общественно-политическое развитие чеченского народа в 60—80 гг. XX в.
Начало «чеченского» кризиса
им для строительства средства и стройматериалы, переселенцы были вынуждены платить взятки.
Создание новых сел в отдельных случаях прямо затрагивало интересы жителей близлежащих селений и целых районов. Так, разразился земельный спор между жителями крупного равнинного селения (2 тысячи дворов) и одного малого горного села (70 дворов). Последние потребовали выделить им 300 (!) участков под строительство домов в лучшем месте общинных земель равнинного аула. Местные жители, в свою очередь, указывали на наглядную разницу между числом разрушенных домов и числом «требуемых» участков. Вместе с тем, есть основания также считать, что данные конфликты искусственно провоцировались с подачи спецслужб, заинтересованных в ослаблении национального единства малых народов.
В тот же период до 2 тысяч беженцев из чеченцев и ингушей прибыли в Чечено-Ингушетию из города Новый Узень Казахской ССР, где вспыхнули межнациональные столкновения. Хотя беспорядки были быстро подавлены, значительная часть чеченцев, проживавших в Гурьевской и Мангышлакской областях Казахстана, оказалась вынужденной вернуться на родину. В том же 1989 г. в Чечено-Ингушетии появились и сотни турок-местехтинцев, бежавших от погромов в Узбекистане.
§ 2. Политическая борьба в Чечено-Ингушетии в годы перестройки
Зарождение национальных движений. События, в Советском Союзе обозначаемые термином «перестройка», и сложные социальные процессы, накладывавшиеся друг на друга по времени, а также массовые национальные движения, начавшиеся по всему Советскому Союзу, способствовали подъему национальных чувств и в Чечено-Ингушетии. Зарождавшееся чеченское национальное движение привело в движение процесс формирования политических сил, оппонирующих как общесоветской, так и чеченской национальной партийно-советской номенклатуре, оторвавшейся, по их мнению, от народа. Новая «разночинная» оппозиция формируется из отдельных, «обиженных» представителей среднего звена партийно-советского аппарата, бывших руководителей предприятий и «теневиков», а также части интеллигенции, не связанной с республиканской номенклатурой. Во многом они стараются опереться на маргинальные слои сел и городов.
Заметно активизируются мюридские братства, стремящиеся максимально увеличить свою численность. А на рубеже 80—90-х гг. начнется миссионерская деятельность представителей «чистого исламского учения», которых позже назовут ваххабитами.
— 948 —
Политическая борьба в Чечено-Ингушетии в годы перестройки
Грозный. Парк им. А. П. Чехова. Фото (38, вклейка)
Определенное влияние на формирование новых политических групп окажут и руководители организованной преступности, обладавшие уже немалой реальной властью и пытавшиеся легализоваться в обществе.
Общество «Кавказ». Разумеется, чеченская партийная номенклатура и здравомыслящие лидеры интеллигенции пытались возглавить зарождающееся национальное движение и использовать его для достижения позитивных целей. Не случайно, что именно под эгидой Чечено-Ингушского обкома ВЛКСМ (коммунистического союза молодежи), руководителями которого были X. Бугаев и А. Осмаев, в конце 1987 г. возникла первая в Чечено-Ингушетии неформальная организация — общество «Кавказ».
— 949 —
Глава XX. Общественно-политическое развитие чеченского народа в 60—80 гг. XX в.
Начало «чеченского» кризиса
Считавшееся, по своему уставу, научно-просветительским, это общество на самом деле стало общественно-политической организацией, давшей толчок к формированию неподконтрольных партийной номенклатуре общественных движений. Достаточно сказать, что в разное время и в разной степени к деятельности общества оказались причастны Хож-Ахмед Бисултанов, создатель и руководитель Союза содействия перестройке; Леча Салигов — редактор первого независимого периодического издания — газеты «Справедливость» и лидер Народного фронта; Зелимхан Яндарбиев, Мовлади Удугов, Далхан Хожаев, Бектемир (Бек) Межидов, Лема Усманов, Эдалбек Хасмагомадов и др., сыгравшие определенную роль в политических событиях последующих лет.
Общество «Кавказ», как казалось, было обречено на то, чтобы дать импульс развитию массового общественного движения. Именно под флагом восстановления исторической правды и заполнения «белых пятен» в национальной истории начинались мощные национальные движения в большинстве союзных республик. И ситуация в Чечено- Ингушетии давала широкие возможности именно для такого развития событий, тем более что в 1989 г. в республике начался процесс пересмотра уголовных дел лиц, репрессированных в 20—30-е гг., вызвавший значительный общественный резонанс. В течение одного только года были посмертно реабилитированы 3535 человек* 1.
Впрочем, в составе общества «Кавказ» оказалось немало представителей научной интеллигенции, благодаря которым оно так и не превратилось в чисто общественную организацию. Впрочем, катализатором для раскручивания политической борьбы в Чечено-Ингушетии стало не политическое, а экологическое движение.
Первые партии и движения. Экологическое движение. В 1988 г. внимание республиканской общественности оказалось сконцентрировано на строительстве в Гудермесе огромного завода по производству кормовых белково-витаминных концентратов. Заявления местных экологов о вредности этого производства получили значительный общественный резонанс в виде митингов с требованиями прекратить строительство. Вскоре начались хорошо организованные марши на Грозный, который и стал основной ареной митингов. Причем очень быстро экологические требования дополнились требованиями политическими.
Именно экологическое движение всколыхнуло общественно-политическую жизнь Чечено-Ингушетии и привело к возникновению неформальных общественно-политических движений. Первым из них стал Союз содействия перестройке Х.-А. Бисултанова. Появилось «Зеленое движение», формально ставившее перед собой борьбу за чистоту окружающей среды; укреплял собственную организацию — Народный
1 В КГБ, прокуратуре и Верховном суде ЧИАССР // Грозненский рабочий. — 1989. —
1 нояб. — С. 4.
Политическая борьба в Чечено-Ингушетии в годы перестройки
фронт содействия перестройке и Л. Салигов. В 1989 г. создается Комитет «Барт» («Единство»), организаторы которого — 3. Яндарбиев, М. Удугов, И Эльсанов и Л. Усманов — изначально ставили задачу образования политической организации, призванной объединить вокруг себя все другие организации неформалов с целью создания, ни много ни мало, Чечено-Ингушской Советской Социалистической Республики. Почти одновременно возникает Чечено-Ингушское отделение общества «Мемориал» во главе с А. Вацуевым.
При этом все упомянутые организации имели ярко выраженный национальный характер не только по своему составу, но и по выдвигаемым лозунгам и требованиями. Не вызывает сомнений, что они пользовались не только симпатиями со стороны широких слоев чеченского общества, но и определенной поддержкой отдельных вождей чеченской номенклатуры. Особенно наглядно это проявилось 1 июля 1989 г., когда перед зданием Чечено-Ингушского обкома КПСС, где проходили выборы нового руководителя республиканской партийной организации, собрался митинг неформалов во главе с Х.-А. Бисулта- новым, требовавших избрания на этот пост чеченца.
Уже тогда стало ясно, что пути чеченского и ингушского национальных движений расходятся: ингушские организации ставят своей целью восстановление отдельной национальной автономии с возвращением исконных территорий, переданных Северной Осетии. Ингушская партийно-советская номенклатура, безуспешно пытающаяся возглавить этот процесс, также как и чеченская, быстро теряет свои позиции, не получив серьезной поддержки от лидеров ингушских общественных организаций и движений.
Избрание первым секретарем обкома КПСС Д. Г. Завгаева. Первые шаги. В борьбе за окончательное оттеснение старой верхушки партийно-советской номенклатуры от управления Чечено-Ингушетией объединили свои усилия все политически активные чеченские группировка: номенклатура всех уровней, хозяйственные руководители, интеллигенция и неформалы. Претендовавший на этот пост второй секретарь обкома КПСС Докка Завгаев сумел заручиться поддержкой значительной части русской номенклатуры, которой он, по всей видимости, обещал реорганизовать управление республикой с учетом их интересов. Поддержали его и представители ингушской номенклатуры.
В итоге пленум Чечено-Ингушского обкома КПСС, состоявшийся 1 июля 1989 г., впервые за всю историю чечено-ингушской партийной организации, отверг предложенную ЦК КПСС кандидатуру (Н. И. Семенова) и избрал первым секретарем Докку Завгаева.
Став во главе Чечено-Ингушской Республики, небесталанный аппаратчик Д. Завгаев предпринял ряд мер, направленных на упрочение своих позиций. Он уже понимал, что не сегодня-завтра власти высшей
— 951 —
Глава XX. Общественно-политическое развитие чеченского народа в 60—80 гг. XX в.
Начало «чеченского» кризиса
Докка Завгаев. 1989. Фото (38, вклейка)
партийной номенклатуры будет брошен серьезный вызов, а потому предпринял энергичные попытки удержать политическую инициативу. К этому его подталкивало и быстро ухудшающееся экономическое положение республики: начавшееся во второй половине 1988 г. падение промышленного производства продолжалось весь 1989 г.
В самом начале 1990 г. Д. Завгаев провозгласил необходимость глубоких структурных преобразований республиканской экономики. Впервые первый руководитель Чечено-Ингушетии выступил с открытой критикой в адрес союзных отраслевых ведомств, по вине которых развитие промышленности республики приняло однобокий характер. На рубеже 90-х гг. не менее 80% объема промышленного производства приходилось на предприятия нефтяного комплекса, причем привозной нефти в Грозном перерабатывалось примерно в 3—4 раза больше, чем собственной.
Первые шаги в экономике нового руководства были направлены на скорейшее развитие отраслей, не связанных напрямую с добычей и переработкой нефти. Уже в 1990 г. удалось значительно увеличить производство строительных материалов. Одновременно намечалось перепрофилирование предприятий машиностроения, которые должны были наладить выпуск сельскохозяйственной техники для работы в горных условиях. Удалось также увеличить выпуск экспортной продукции, но произошло это за счет увеличения экспорта сырья (прежде всего нефти). Тем не менее, темпы падения промышленного производства в Чечено-Ингушетии сократились и составили за 1990 г. всего 1,2% К
Для продолжения структурных преобразований, необходимых для оздоровления республиканской экономики, разрабатывалась специаль- 11 На путях радикальной реформы // Голос Чечено-Ингушетии. — 1991. — 29 янв. — С. 3—4.
Политическая борьба в Чечено-Ингушетии в годы перестройки
ная программа, предусматривавшая приоритетное развитие трудоемких и экологически чистых производств. В частности, планировалось создание в сельской местности значительного числа предприятий электронной промышленности, что должно было способствовать сокращению массовой безработицы.
«Весенний листопад». Кадровые перемещения в республиканской номенклатуре, начавшиеся вскоре после прихода Д. Завгаева к власти, весной 1990 г. докатились до районного звена. Возможно, что не без негласной поддержки первого секретаря обкома прошла серия массовых митингов в сельских районах с требованиями отставки старого районного начальства. В результате «весеннего листопада» секретарей райкомов Д. Завгаев продвигал на освобождающиеся места своих назначенцев, создавая личную клиентуру, людей, на которых он рассчитывал опереться в дальнейшем.
Однако уже тогда появились первые признаки того, что массовые народные движения, активное участие в которых принимали организации неформалов, время от времени способны преподносить руководителю республики неприятные сюрпризы. Так, первым секретарем Ачхой-Мар- тановского райкома КПСС оказался избранным диссидент Ш. Гадаев, еще в начале 80-х гг. открыто конфликтовавший с республиканской верхушкой. С другой стороны, лидеры неформальных организаций в ходе весенней митинговой компании 1990 г. еще больше обогатили свой опыт организации массовых выступлений и приобрели большое количество новых сторонников в сельской местности.
Новые настроения номенклатуры и политических сил. Перемещение кадров зачастую происходило теперь и с использованием демократических процедур, что полностью соответствовало духу времени. Так, русский руководитель Грозненского горисполкома был заменен чеченцем в ходе выборов с выдвижением альтернативных кандидатов. Курс на кадровые перестановки был поддержан и XXI Чечено-Ингушской партийной конференцией, созванной в мае 1990 г., что способствовало еще большему укреплению позиций нового партийного руководителя республики.
Вместе с тем происходило и общее перераспределение властных полномочий между партийными и советскими органами: монополия КПСС на власть в Советском Союзе быстро приближалась к концу. Вслед за М. С. Горбачевым и многими другими региональными лидерами Д. Завгаев поспешил занять не только высший партийный, но и главный государственный пост в Чечено-Ингушской Республике — Председателя Верховного Совета.
Первые альтернативные выборы в Верховный Совет Чечено-Ингушской Республики состоялись в 1990 г. и привели в высший законодательный орган республики целую группу демократических оппонентов существующей власти. В целом состав Верховного Совета отражал
Глава XX. Общественно-политическое развитие чеченского народа в 60—80 гг. XX в.
Начало «чеченского» кризиса
расстановку национальных и политических интересов страны и пользовался на первых порах высоким авторитетом.
Вчерашние «теневики», удачливые кооператоры времен перестройки и лидеры преступных группировок, в чьих руках сосредоточились значительные финансовые ресурсы, в условиях Чечено-Ингушетии не могли еще рассчитывать на лидирующие позиции в республиканской элите, которые прочно удерживала группировка Д. Завгаева. Лидеры неформалов, в свою очередь, также стремились использовать весь потенциал своих организаций для завоевания места в национальной элите. Эта борьба являлась своеобразным отражением в широких слоях общества настроений недовольства ухудшающимся экономическим положением. Вся эта ситуация опосредствованно умело обыгрывалась определенными силами Запада, а также новыми властными центрами СССР, чья сила базировалась на присвоенной народной собственности и опоре на криминал.
Ингушская проблема. Одним из факторов, постоянно повышавшим уровень политической напряженности в Чечено-Ингушетии, считалась ингушская проблема. Не поддерживая открыто стремление ингушских лидеров к выходу из состава Чечено-Ингушетии, Д. Завгаев вместе с тем никогда публично не оспаривал право ингушского народа на самоопределение. В сентябре 1989 г. в Грозном прошел съезд Ингушского народа, избравший Организационный комитет, на который была возложена вся организационная работа по восстановлению ингушской автономии в рамках, почему-то, «1944 г.», а не 1934 г. (на момент объединения Ингушской автономной области с Чеченской).
Однако, как в чеченской, так и в ингушской элите разворачивалась ожесточенная внутренняя борьба за лидерство. Уже зимой 1989 г. первый председатель ингушского Организационного комитета И. Кодзоев лишился своей должности, которая перешла к Б. Сейнароеву. Между новым и бывшим председателями разгорелась нешуточная борьба. И. Кодзоев, опираясь на свою организацию «Нийсхо», даже пытался провести новый съезд ингушского народа и создать альтернативный руководящий орган. В целом борьба между лидерами способствовала общей радикализации ингушского национального движения. В состав будущей Ингушетии, по замыслам членов организационного комитета, должны были войти не только Пригородный район Северной Осетии, но и некоторые районы Чечено-Ингушской республики, никогда не входившие в состав Ингушетии. В обоих случаях ингушские лидеры избрали одинаковую тактику — быстрого «освоения» «спорных» территорий К 11 Доклад народного депутата ЧИР Абдулы Бугаева // Справедливость. — 1991. — № 5. — С. 23; Обращение к историкам, народным депутатам Верховного Совета ЧИР, Советам старейшин (Мехка кхел) Чечни и Ингушетии, чеченцам и ингушам И Справедливость. — 1991. — № 5. — С. 7.
— 954 —
Политическая борьба в Чечено-Ингушетии в годы перестройки
Так как людей для реализации подобных задач не хватало, стала применяться «бумажная» миграция. Так, численность ингушей в одной только станице Троицкой Сунженского района за два года (с 1989 по 1991 гг.) возросла по документам формально в три раза: с 574 человек до 1,5 тысяч.
Первые межнациональные конфликты. Настойчивое (возможно инспирированное) стремление некоторых ингушских лидеров переориентировать внимание своих земляков с Пригородного района Северной Осетии на восток в сторону Сунженского и Малгобекского районов привели к ряду конфликтов. Так, в ночь с 27 на 28 апреля 1991 г. бытовая драка между молодыми людьми в станице Троицкой вылилась на следующий день в организованный массовый погром экстремистами русских жителей. Жертвами конфликта стали 8 человек. Десятки людей получили ранения. Милиция и районное отделение КГБ демонстративно уклонились от выполнения своего долга, и сотрудники органов вошли в станицу только по жесткому требованию председателя Совета Министров Чечено-Ингушетии С. М. Бекова, прибывшего на место событий.
Республиканские власти возложили ответственность за произошедшее кровопролитие и рост межнациональной напряженности в республике как на лидеров ингушского движения, так и персонально на руководителей Сунженского района. Часть депутатов Верховного Совета ЧИР выступила даже с инициативой разукрупнения Сунженского и Малгобекского районов. Было подготовлено решение о выделении из Сунженского района его «ингушской» части — Галашкинского района, упраздненного в 1963 г.1
Осенью 1991 г., когда уже шел открытый конфликт между руководством Чечено-Ингушетии и Общенациональным Конгрессом чеченского народа во главе с Д. Дудаевым, часть ингушских «самостийников» поддержали последнего. Временный Высший Совет Ингушетии 15 сентября объявил от имени «съезда народных депутатов всех уровней Ингушетии» о создании Ингушской Республики. Со своей стороны, Д. Дудаев поспешил выступить с признанием несуществующей еще республики. Тем самым Д. Дудаев устранил одно из серьезных препятствий на своем пути к власти в Чечне1 2.
В целом, и в этом иррациональном конфликте прослеживалось стремление определенных сил и служб отвести энергию подлинно ингушского этнодвижения от решения проблемы, прежде всего Пригородного района и судьбоносных национальных задач. Подлинно провокаторскую роль в низведении народной энергии к братоубийственному
1 Доклады народного депутата ЧИР Абдулы Бугаева и Юсупа Эльмурзаева // Справедливость. — 1991. — № 5. — С. 25—27.
2 Абубакаров Т Между авторитарностью и анархией // Чечня и Россия: общества и государства. — М., 1999. — С. 184.
Глава XX. Общественно-политическое развитие чеченского народа в 60—80 гг. XX в.
Начало «чеченского» кризиса
конфликту, по оценкам средств массовой информации и ингушских общественных деятелей того времени, сыграли несколько известных в тот период «активистов», немедленно «упорхнувших» с политической арены с началом кровавого осетино-ингушского конфликта осенью 1992 г., в ходе которого в западные районы бывшей Чечено-Ингушетии были введены войска1.
Дальнейшая политизация общественной жизни в Чечено-Ингушетии. В большой степени на развитие политической ситуации в Чечено-Ингушетии влияли перестроечные события в СССР: затяжной конфликт между союзным и российским руководством, персонифицировавшийся в противоречиях между М. С. Горбачевым и Б. Н. Ельциным. Свою лепту вносили также усиливающиеся сепаратистские движения в Прибалтике и Закавказье. Уже в августе 1989 г. группа представителей неформальных организаций Чечено-Ингушетии участвовала во встрече с такими же неформалами других регионов Кавказа в Сухуми. Интересно, что чеченские организации неформалов на этой встрече не только действовали порой полностью автономно друг от друга, но и временами вступали в жаркие дебаты.
Власти Абхазии, организовавшие эту встречу, уже втягивались в открытый конфликт с руководством Грузии и потому стремились привлечь на свою сторону симпатии народов Северного Кавказа. Встреча, получившая громкое название «1-го съезда народов Кавказа» завершилась образованием ряда постоянных комитетов, в состав которых вошли и представители от чеченских организаций. Несмотря на свою кажущуюся незначительность, это событие показало, что часть лидеров чеченских общественных организаций открыто встали на путь, который вел их к конфликту с республиканским руководством.
В течение продолжительного времени республиканскому руководству удавалось в целом контролировать ситуацию и успешно лавировать между союзным и российским центрами власти. Добиваясь все новых уступок у М. С. Горбачева и Б. Н. Ельцина, Д. Завгаев в зависимости от ситуации оказывал поддержку то союзному, то российскому руководителю. Так, в марте 1991 г. Верховный Совет ЧИР отказался участвовать в общероссийском референдуме и только после того, как 26 апреля Верховный Совет России принял закон о реабилитации репрессированных народов, Д. Завгаев обеспечил Б. Ельцину мощную поддержку на выборах летом 1991 г. — в Чечено-Ингушетии первый российский президент получил рекордный процент голосов.
«Наши» в Москве. В 1990 г. состоялись первые в истории советской державы альтернативные выборы не только в Верховный совет ЧИР, но и в Верховные Советы СССР и РСФСР. В союзный парламент прошли от Чечено-Ингушетии не только представитель власти Д. Завгаев, но
1 Темишев Муса. Почему Россия и Ичкерия не Америка. — М., 2001. С. 31—32; и др.
— 956 —
Политическая борьба в Чечено-Ингушетии в годы перестройки
Председатель Верховного Совета РСФСР Р. Хасбулатов на Красной площади.
Фото (38, вклейка)
и высокоавторитетный в обществе опальный партийный деятель Леча Магомадов, крупный ученый Саламбек Хаджиев, известный деятель искусства Махмуд Эсамбаев, ингушский неформал Хамзат Фаргиев и сварщица Сажи Умалатова. Представительным был и список депутатов ВС РСФСР — возглавлял его талантливый ученый-экономист Руслан Хасбулатов, полковник милиции (позже генерал-майор) Асламбек Аслаханов, ученый и политик Иса Алироев, писатель Сайд-Хамзат Нунуев и другие.
Вскоре Руслан Хасбулатов был избран заместителем Председателя ВС РСФСР, а после избрания Б. Н. Ельцина (главы ВС) Президентом Российской Федерации, наш земляк занял пост Председателя ВС РСФСР Именно в этот период будет принят один из важнейших законов в истории народов, пострадавших в ходе сталинских депортаций, — Закон «О реабилитации репрессированных народов», объявлявший «незаконными и преступными репрессивные акты» против депортированных народов, включая чеченцев и ингушей. В 1991—1993 гг. Р. Хасбулатов займет большое место в политической жизни российской державы,
Глава XX. Общественно-политическое развитие чеченского народа в 60—80 гг. XX в.
Начало «чеченского» кризиса
Генерал-майор А. А. Аслаханов. В 1990—1993 гг. председатель Комитета Верховного Совета РСФСР по вопросам законности, правопорядка и борьбы с организованной
преступностью. Фото
— 958 —
Политическая борьба в Чечено-Ингушетии в годы перестройки
Саламбек Хаджиев — министр химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР. Фото (38, вклейка)
ратуя за правовой путь развития страны и постепенный переход к рыночным отношениям.
С. Хаджиев, крупный ученый (доктор химических наук, член-корреспондент АН СССР), быстро завоевавший в стенах союзного Верховного Совета большую популярность как талантливый интеллектуал, вскоре был назначен (1991 г.) министром химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР, второго по своим масштабам министерства страны (с общим числом занятых в отрасли до 1,5 млн. чел.).
Кавалер нескольких боевых орденов генерал-майор милиции А. Аслаханов, будучи избран председателем Комитета ВС РСФСР по вопросам законности, правопорядка и борьбы с преступностью, внесет огромный вклад в реформирование органов правопорядка и юстиции российского государства. В 1990—1993 г. он стал инициатором разработки и принятия первых законов России по борьбе с организованной преступностью, с коррупцией, по правовой и социальной защите работников правоохранительных органов, и т. д.
С. Умалатова получила всесоюзную известность в 1990—1991 гг. своими бескомпромиссными выступлениями против политики Президента СССР М. С. Горбачева, объективно направленной к развалу КПСС и советской империи. После распада СССР и роспуска Верховного Совета СССР она станет одним из лидеров коммунистической оппозиции страны.
Первый съезд чеченского народа. Для достижения своих политических целей руководство Чечено-Ингушетии в отдельных случаях про-
Глава XX. Общественно-политическое развитие чеченского народа в 60—80 гг. XX в.
Начало «чеченского» кризиса
День пятничной молитвы в чеченском селе. 90-е гг. XX в. Фото (39, 328)
должало использовать инициативы общественных организаций, в том числе и оппозиционных. Так, республиканское руководство поддержало идею проведения «съезда чеченского народа» с целью инициировать принятие собственной декларации о республиканском суверенитете. Съезд начал работу в Грозном 23 ноября 1990 г. и продолжался три дня. Помимо руководства республики, на его работу активно пытались повлиять и оппозиционные ему группировки. В частности, самостоятельную позицию пытались занять сторонники видного ученого и
Политическая борьба в Чечено-Ингушетии в годы перестройки
Площадь В. И. Ленина в Грозном, где проходили первые митинги и демонстрации.
Фото (40, вклейка)
депутата Верховного Совета СССР Саламбека Хаджиева, так же как и сторонники начальника Госстроя республики Яраги Мамодаева, (одного из главных негласных спонсоров неформальных движений1}.
Завершая работу, съезд принял Декларацию «О государственном суверенитете Чеченской (Нохчичоь) Республики» и избрал Исполнительный Комитет. Опираясь на решения съезда, уже 27 ноября 1990 г. Верховный Совет ЧИР под председательством Д. Завгаева принял «Декларацию о государственном суверенитете Чечено-Ингушской Республики». С ее принятием стала очевидной конечная цель, к которой стремился Д. Завгаев — фактически уровнять Чечено-Ингушетию в правах с союзными республиками.
Пытаясь лучше контролировать действия неформалов, власти республики еще в 1990 г. санкционировали создание культурно-просветительской общественной организации «Дош» (Слово), однако намеченной цели не достигли: общественное движение в целом все больше дистанцируется от власти. Весьма авторитетной была другая организация — Ассоциация интеллигенции. Данная неполитическая организация интеллектуалов республики также дистанцировала себя, как от власти, так и от радикальных неформалов.
Вайнахская Демократическая партия (ВДП), претендовавшая на то, чтобы объединить вокруг себя все общественные движения Чечено- Ингушетии, демонстрирует откровенную оппозиционность, все чаще выдвигая антикоммунистические и исламские лозунги. Исламская риторика постоянно используется в партийной практике ВДП, так что партийные организации на местах получили название «джамаатов». 11 Комиссия Говорухина. — М, 1995. — С. 86.
Глава XX. Общественно-политическое развитие чеченского народа в 60—80 гг. XX в.
Начало «чеченского» кризиса
Имея постоянных спонсоров, лидеры ВДП начали выпуск собственного печатного издания и сумели создать довольно разветвленную сеть партийных ячеек в районах республики. Впрочем, численность партии оставалась незначительной.
Однако, и помимо ВДП, в республике имелось немало желающих составить политический капитал на религиозных чувствах людей. Летом 1990 г. появляется республиканское отделение Партии Исламского возрождения СССР во главе с Адамом Дениевым. С появлением этого отделения можно говорить о выходе на политическую сцену Чечено-Ингушетии движения ваххабитов. Сам А. Дениев, особо не скрывавший своего политического конформизма, по всей видимости, не смог полностью усвоить установки ваххабитских лидеров и очень скоро его место занял Ислам Халимов со своими родственниками, включая М. Удугова.
Позиция русскоязычной части и других групп населения. На
фоне растущей политической активности чеченского и ингушского национальных движений, русская и русскоязычная часть населения Чечено-Ингушетии демонстрирует полную политическую пассивность. Это в равной мере относится даже к казачеству, которое весьма активно заявляло о себе не только на Кубани и Ставрополье, но и в той же Северной Осетии. Лишь в декабре 1990 г. состоялся Учредительный круг Грозненского отдела Терского казачества, избравший атаманом В. Галкина. Но это событие не прибавило казакам активности и никак не повлияло на усиливающийся процесс оттока русского населения из Чечено-Ингушетии, начало которому было положено еще в 70-х гг., когда Грозный потерял ряд льгот по снабжению, в связи с появлением новых нефтяных центров на Севере.
Вместе с тем, необходимо отметить, что проживавшие в границах Чечни армяне (до 15 тысяч), ногайцы и кумыки (до 10 тысяч), аварцы (5 тысяч), горские и европейские евреи (2—3 тысячи) пытались создать собственные национально-культурные общества и контактировать с национальными движениями в том же Дагестане и других краях Северного Кавказа. Не имея конфликтных ситуаций с чеченцами и ингушами и их движениями, представители указанных народов выступали с идеями мира, равноправия, активного участия в позитивных процессах возрождения республики.
Д. Дудаев и ОКЧН. Весной 1991 г. чеченские политические группировки, оспаривавшие власть в Чечено-Ингушетии, активизировали свои действия, чему способствовало и возвращение в республику отправленного в отставку генерал-майора авиации Д. Дудаева, избранного вскоре председателем Исполнительного комитета съезда Чеченского народа, получившего название Исполнительный комитет Объединенного Чеченского Национального Конгресса (ОКЧН). До его
— 962 —
Политическая борьба в Чечено-Ингушетии в годы перестройки
приезда Исполком фактически бездействовал, став ареной бесконечных конфликтов между «умеренными» во главе с депутатом верховного Совета ЧИР Л. Умхаевым и «радикалами» во главе с лидером ВДП — 3. Яндарбиевым.
Д. Дудаев (родился 15 апреля 1944 г. в селении Первомайском Первомайского района Грозненской области) к 90-м гг. сделал в рядах Советской Армии прекрасную карьеру. Закончив Тамбовское высшее военное училище летчиков дальней авиации и Военно-воздушную академию им. Ю. Гагарина, он за сравнительно короткий срок дослужился до звания генерал-майора и командовал дивизией бомбардировщиков стратегической авиации в Эстонии. Имел он и практический боевой опыт — совершил ряд боевых вылетов в Афганистане, где впервые применил ковровое бомбометание в горных условиях, за что был награжден орденами1.
Трудно сказать, когда именно у генерала военно-воздушных сил появились политические амбиции. Позднее, в своих воспоминаниях, он уверял, что с детства мечтал заниматься политической деятельностью во имя создания «независимого чеченского государства». Правда, весь его послужной список и воспоминания сослуживцев говорят об обратном. Вероятно, отправной точкой стал быстро набиравший силу развал Советского Союза и Советской Армии, что не могло не заставить энергичного генерала задуматься о своем будущем. Несомненно, свою роль сыграли и два других фактора: служба в Эстонии, где на глазах у Д. Дудаева разворачивалось национальное движение за выход Эстонии из состава СССР, и знакомство с определенными службами, силами и лицами, которые стремились использовать его для достижения своих политических целей в Чечено-Ингушетии. Как бы то ни было, Д. Дудаев в марте 1991 г. вышел по состоянию здоровья в отставку и вернулся в Грозный, из которого когда-то уехал «навсегда» еще в 1962 г.
Обострение борьбы за власть. К тому времени несколько факторов способствовали резкому обострению политической борьбы в Чечено-Ингушетии. Команда Д. Завгаева начала готовиться к грядущей приватизации. Летом 1991 г. должно было состояться обсуждение и принятие двух важных республиканских законов: «О приватизации» и «Об аренде». В какой бы форме ни были приняты эти законы, но их осуществление прямо зависело от государственного аппарата, коррумпированность которого с приходом Д. Завгаева не уменьшилась, если не увеличивалась. Было очевидным, что львиная доля государственной собственности отойдет в руки узкой группировки, непосредственно стоявшей у власти. Это грозило окончательно подорвать влияние всей остальной части номенклатуры и старых «теневых» сил в экономике, которые в этом случае теряли экономические рычаги.
1 Хасанов С. Жемчужина народа // Кавказская Конфедерация. — 1999. — № 5. — С. 1.
Глава XX. Общественно-политическое развитие чеченского народа в 60—80 гг. XX в.
Начало «чеченского» кризиса
Осень 1991 г. Митинг «неформалов» у здания Чечено-Ингушского рескома в городе Грозном (57,177)
Более того, республиканские власти загодя начали скрытое наступление на хозяйственников, стоявших вне властной группировки Д. Завгаева. Комитет государственной безопасности ЧИР начал следствие по фактам незаконной поставки из Чечено-Ингушетии за рубеж крупных партий нефтепродуктов под видом отходов производства, хищений в системе потребкооперации, строительном комплексе и по ряду других направлений, уводивших, помимо прочего, и внимание общества от нарушений, допущенных группой, стоящей у власти1.
Все это способствовало быстрой консолидации всех оппозиционных властям республики группировок. Возможности оппозиции значительно возросли и в следствие малоэффективной экономической практики республиканских властей и невнимания к подлинным нуждам народа.
Следует отметить, что традиционные религиозные круги (в особенности алимы и муллы) заняли в политическом кризисе позицию от поддержки существующих властей до невмешательства в тяжбы различных политических групп. Исполнение обряда «зикр» на площадях проводилось мелкими группами всем известных осведомителей и экспансивных лиц с неустойчивой психикой. В целом верующая часть населения старалась не вступать в политические споры.
Была еще одна тема, которая тщательно обходилась всеми. Мощные криминальные силы в России остро нуждались в «окне» для переброски за границу на продажу огромных объемов нефти. Путь на Прибалтику в тот момент был закрыт, и оставалась дорога через терминалы Новороссийска, куда вели трубопроводы Грозного. Именно Чечня становилась
1 Комиссия Говорухина. — М., 1995. — С. 87.
— 964 —
Политическая борьба в Чечено-Ингушетии в годы перестройки
в тот момент связующим звеном на пути транспортировки сибирской, казахской, бакинской нефти на запад и безадресной ее продажи под видом «чеченской».
Сам Д. Завгаев позднее заявлял, что против руководства Чечено- Ингушетии объединились самые разные политические силы: «Одни проявляли интерес к нефти республики, другие политики от Центра хотели сделать из Чечено-Ингушской Республики... некую политическую вотчину, которой можно было бы управлять с помощью своих кадров и использовать ее как рычаг для давления на политическое руководство страны. Третья группа — обычные национал-карьеристы, которые считали себя обиженными, ущемленными и к власти рвались давно и любой ценой...»1
Именно последние в лице Исполкома ОКЧН и должны были взять на себя непосредственную работу по мобилизации общественности для свержения республиканских властей, за что Д. Дудаеву первоначально был обещан важный армейский пост2. Время покажет, что люди, отводившие Д. Дудаеву роль простого исполнителя своей воли, сильно недооценили отставного генерала, который вел собственную политическую игру, с подачи самых темных властных групп в Москве, а то и за рубежом.
Под руководством Д. Дудаева Исполком ОКЧН быстро радикали- зуется, что и понятно — от него требовали решительных действий. В начале лета 1991 г. Д. Дудаев от имени «второго этапа национального чеченского съезда» объявил Исполком ОКЧН высшим органом власти в Чечено-Ингушетии и потребовал отставки Верховного Совета ЧИР.
* * *
Таким образом в 60—80-х гг. XX в. чеченский народ в своем общественно-политическом развитии проделал огромный насыщенный переменами путь, приведший его в эпоху перестройки к образованию целого ряда серьезных политических партий и движений и к постановке вопроса о достижении политического суверенитета.
В конечном счете при поддержке различных сил, как в Москве, так и в республике, сформировалась группа интересов, открыто заявившая о своих претензиях на управление республикой и о нелигитим- ности существующих властей. Однако реальная власть продолжала оставаться у Д. Завгаева. Влияния ОКЧН оказалось недостаточно для того, чтобы бросить серьезный вызов республиканской власти. Сам Д. Завгаев готовился подписать новый Союзный договор в резиденции президента СССР в Ново-Огарево, который должен был уравнять
1 Завгаев Д. «Народ Чечни знает, на чьей совести кровь невинных» // Федерация. — 1995. — № 1. — С. 3.
2 Чечня в пламени сепаратизма. — Саратов, 1998. — С. 216.
Глава XX. Общественно-политическое развитие чеченского народа в 60—80 гг. XX в.
Начало «чеченского» кризиса
Б. Н. Ельцин и М. С. Горбачев, 1991 г. Фото (65, 281)
Чечено-Ингушетию в правах с союзными республиками. Это означало не только повышение ее государственного статуса, но и фактический выход республики из состава РСФСР. Все, однако, резко изменилось, когда 19—21 августа 1991 г. в Москве произошла неудачная попытка государственного переворота, организованная рядом лиц из высшего эшелона союзного руководства и вошедшая в историю как ГКЧП.
Указанное событие сдетонировало политический кризис в целом в СССР и в Чечено-Ингушской Республике в частости, что привело здесь к полной смене социально-общественных правящих групп и к распаду единой республики на две — Чеченскую и Ингушскую. Открылась, по существу, новая и, пожалуй, самая кровавая страница в новейшей истории чеченского народа.
— 966 —
Заключение
Авторы настоящего труда сознательно оставляют за скобками освещение сложнейших аспектов развития Чечни и ее народа в последнее десятилетие XX в. и первые годы XXI в. И не потому, что им нечего было представить читателю: каждым из нас уже написаны и опубликованы целый ряд исследовательских статей, посвященных анализу реалий «чеченской революции» 1991 г., сущностного содержания режима Дудаева, Масхадова, а также раскрытию причин, хода и последствий двух «чеченских» войн.
— 967 —
Заключение
Весь вопрос заключается как в особенностях избранного нами жанра научного труда («История...»), так и в особенностях принципов и методов научно-исследовательской работы в исторической науке. Авторы настоящего труда, так же как и многие наши читатели, являются непосредственными и заинтересованными участниками событий в Чеченской Республике и вокруг нее в 1991—2005 гг. Между тем, прежде чем приступить к обобщающим исследованиям тех или иных процессов и явлений современности, историкам необходимо время, чтобы дать фактам и впечатлениям отстояться.
Тем читателям, которые сегодня, сейчас нуждаются в некоем фактологическом своде событий, оставшихся за рамками нашего труда, мы рекомендуем работу И. М. Сигаури «Очерки истории и государственного устройства чеченцев с древнейших времен». Т. 3 (М., 2002. — 398 с.). Здесь в жанре очерка и исторической хроники сделана попытка последовательно раскрыть события в Чечне с 1991 по 2001 г.
Кроме того, и в России, и за рубежом в конце XX — начале XXI в. вышло множество серьезных исследовательских работ и документальных сборников, посвященных чеченскому кризису.
* * *
Историкам придется с сожалением констатировать, что XIX—XX вв. в истории чеченского народа останутся веками блестящих неиспользованных возможностей и кровавых потерь. Вместе с тем, это были века подлинно всенародного героизма в борьбе с тиранией и несвободой, в то же время это была эпоха растущего стремления этноса к воплощению национальных устремлений в пространстве и во времени.
Именно за эти два века чеченский народ прошел путь от молодой нации, типичной для феодальной эпохи, к нации современного типа, характерной высокой степенью урбанизации и индустриализации, с развитой светской культурой, высоким процентом образования. Социальная мобильность, предприимчивость и толерантность вывели чеченцев в число самых «капиталистических», наиболее продвинутых к рыночным отношениям народов СССР. В последние тридцать лет XX в. шел подлинный экономический и культурный подъем народа. Однако вследствие сплетения целого ряда геополитических и внутриполитических предпосылок произошла катастрофа. Чечне буквально был навязан самоубийственый сценарий развития, реализованный, в том числе, и с помощью местных псевдопатриотов.
На рубеже XX—XXI вв. чеченский народ получил кровавую рану, которая заживет только через поколения. Но в то же время он получил и важный исторический урок, заплатив за него полновесную цену смертью и страданием многих членов общества. Каковы будут последствия этого урока, покажет будущее. Но сегодня ясно одно. Че-
— 968 —
Заключение
Дети Чечни. Совр. фото
ченскую Республику надо заново отстраивать и в материально-производственном, и в культурно-духовном плане. Нация должна перестать быть беззащитной перед разного рода лжепатриотами, авантюристами, террористами и национал-фашистскими политиками — для этого народу нужна сильная государственная власть, современная экономика и гражданское общество с устойчивым правовым сознанием .
Впереди, как и позади, тысячи и тысячи лет истории чеченского народа — достойного брата всем сынам человечества.
— 969 —
Указатель к иллюстрациям
1. Рыжиков В. В. Наша республика. Учебное пособие по краеведению. — Грозный, 1974.
2. Свет Родины. — М., 2000. — № 1.
3. Ахмадов Я. 3., Ахмадов Ш. Б., Астапов В. А., Исаев Э. И. История Чечено-Ингушетии. XVI — середина XIX вв. Учеб, пособ. для учащихся 9-го кл. — Грозный, 1992.
4. Асхабов Иса. Чеченское оружие. — М., 2001.
5. Родина — М., 1994. — № 3—4.
6. Бпиев М. М., Бзаров Р. С. История Осетии с древнейших времен до конца XIX в. Учеб, для старших классов средней школы. — Владикавказ, 2000.
7. Шабанъянц Н. Ш. Академик П. 3. Захаров. Изд. 2-е. — Грозный, 1974.
8. Родина. — М., 2000. — № 1—2.
9. Родина — М., 2001. — № 5.
10. Широкорад А. Б. Русско-турецкие войны. 1676—1918 гг. — Минск—М., 2000.
11. Казиев Шапи. Имам Шамиль. — М., 2001.
12. Покровский Н. И. Кавказские войны и имамат Шамиля. — М., 2000.
13. Гаммер М. Шамиль. Мусульманское сопротивление царизму. Завоевание Чечни и Дагестана. — М., 1998.
14. Доного-Коркмас М. Кавказский художник князь Г. Гагарин. — Махачкала, 1993.
15. Айтберов Т М., Дадаев Ю. У, Омаров X. А. Восстания дагестанцев и чеченцев в послешамилевскую эпоху и имамат 1877 года (материалы). Кн. 1. — Махачкала,
2001.
16. Сигаури И. М. Очерки истории и государственного устройства чеченцев с древнейших времен. Т. 1. — М., 1997.
17. Школьный атлас. — М., 2003.
18. Кадиев Д. А. Грозный — столица Чеченской Республики. — М., 2003.
19. Терещенко М. Н. «Осиные гнезда» под консульской крышей // Военно-ист. журнал. — М., 1997. — № 5.
20. Шабанъянц К Ш. Город Грозный. — Грозный, 1972.
21. «Газета». — М., 27 февраля 2004.
22. Вайнах. — Грозный, 1998. — № 1—3.
23. Малика. — М., 1996. — № 1.
24. Джанберидзе Н., Мчабели К. Тбилиси. — М., 1981.
25. Вестник ЛАМ. Бюллетень Центра комплексных исслед. и популяризации чеченской культуры «ЛАМ» (г. Грозный). — 2003. — № 3. (18).
26. Вайнах. — Грозный, 2003. — № 8—9.
27. Ибрагимова 3. X. Чеченская история. Политика, экономика, культура. Вторая половина XIX века. — М., 2002.
28. Объединенная газета. — 2004. — № 3, февраль.
29. Гречко А. А. Битва за Кавказ. Изд. 2-е. — М., 1973.
30. Аслаханов А. «Я всегда защищаю народ». — М., 2004.
31. Дробязко С. И. Вторая мировая война 1939—1945. Восточные легионы и казачьи части в вермахте. — М., 2001.
32. Полян И Между двух диктатур. — М., 2002.
33. Полвека назад: Великая отечественная война. Цифры и факты. — М., 1995.
34. Атлас Союза Советских Социалистических Республик. — М., 1947.
07Л
Указатель к иллюстрациям
35. Большая советская энциклопедия. Т. 61. — М., 1934.
36. Мальсагов Ах. У Ингуши. История и века родословной. — Нальчик, 2003.
37. Бобровников В. О. Мусульмане Северного Кавказа: обычай, право, насилие. — М.,
2002.
38. Сигаури И. М. Очерки истории и государственного устройства чеченцев с древнейших времен. Т. И. — М., 2001.
39. Тишков В. А. Общество в вооруженном конфликте. Этнография чеченской войны. Изд. 2, испр. — М., 2003.
40. Шабаньянц Н. Ш. Город Грозный. — Грозный, 1972.
41. Казаков А. И. Страницы истории города Грозного: Краевед, этюды. Грозный, 1989.
42. Макаркин Алексей. Русские, обманувшие себя // Аргументы и факты. — 2003, июнь. — № 6.
42. Дом (ежекварт. журнал) — М., 2004. — 1(3) февраль.
43. Рыжиков В. В. Картины природы Чечено-Ингушетии. — Грозный, 1985.
44. Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия. — М., 1987.
45. В братской семье советских народов. — Грозный, 1982.
46. Анискин В. И. Брестская крепость — крепость-герой. Изд. 2-е. — М., 1985.
47. Волкова Н. Г. Этнический состав населения Северного Кавказа в XVIII — начале XIX века. — М., 1974.
48. Ошаев X. Брест — орешек огненный. — Грозный, 1990.
49. Народы Дагестана. — М., 2002.
50. Вайнах. — Грозный, 2002. — № 2.
51. Вайнах. — Грозный, 2003. — № 2.
52. Хожаев Д. Чеченцы в русско-горской войне. — Грозный, 1998.
53. Шамиль. Иллюстрированная энциклопедия. — М., 1997.
54. Казиев Ш. М., Карпеев И. В. Повседневная жизнь горцев Северного Кавказа. — М.,
2003.
55. Соколов Б. Судьба всесильного наркома. — М., 2003.
56. Родина. — М., 2004. — № 5.
57. Келематов А. Чечня: в когтях дьявола или на путях к самоуничтожению. — М., 2003.
58. Ковалев Б. Н. Нацистская оккупация и коллаборационизм в России, 1941—1944. — М., 2004.
59. Вести республики. — 9 октября 2001. — № 14.
60. Орга. — Грозный, 2002. — № 2.
61. Вайнах сегодня. — Грозный, 1996. — № 1. — С. 2.
62. Новый импульс. — Май 2001. — № 1.
63. Сигаури И. М. Очерки истории и государственного развития чеченцев с древнейших времен. Т. 3. — М., 2002.
64. Чеченская республика. Фотоальбом. — [Грозный], 2004.
65. Пузанов Б. П.г Бородина О. И., Сековец Л. С., Редькина Н. М. История России. Учебн. для 9-го кл. — М., 2004.
66. Художники Чечни в Академии художеств. Каталог выставки. — М., 2002.
67. Хожаев Далхан. Чеченцы в русско-горской войне. — Грозный, 1998.
68. Родина. — М., 2004. — № 5.
69. Назманаш (Назмы): Сб. / Сост. И. Джанаралиев. — Грозный, 2004.
Приложения
70. Ошаев X. Д. Слово о полку Чечено-Ингушском. — Нальчик, 2004.
71. Независимая газета. — 16 июня 2004. — С. 12.
72. Цуциев А. А. Осетино-ингушский конфликт (1992...): предыстория и факторы развития. — М., 1997.
73. Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России, XIX век: Учебн. — М., 2003.
74. Ивянская И. С. Мир жилища. — М., 2000.
75. Абдулвахабова Б. Б-А. Традиционная женская одежда чеченцев в XVI — начале XX вв. // Вести ЛАМ. — Грозный, 2003.
76. Волобуев О. В. История России. XX век. Учебн. для 9-го кл. — М., 2004.
77. Жизнь национальностей. — М., 2003. — № 1—3.
78. Авторханов А. Г. О себе и времени: Мемуары. — М., 2003.
79. Нана. — Грозный, 2004. — № 2—3.
— 972 —
Краткая библиография
Архивные материалы
Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ)
Ф. 102. Департамент полиции Министерства Внутренних Дел.
Ф. 398.
Ф. 406.
Ф. 5351.
Ф. 6978.
Ф. А-327. Главное переселенческое управление при Совете Министров РСФСР и его предшественники.
Ф. Р-130. Совет Народных Комиссаров РСФСР.
Ф. Р-393. Народный Комиссариат Внутренних Дел РСФСР.
Ф. Р-439. Особое Совещание при Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге России.
Ф. Р-440. Отдел пропаганды Особого Совещания при Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге России.
Ф. Р-1235. Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.
Ф. Р-1318. Народный комиссариат по делам национальностей РСФСР.
Ф. Р-3718.
Ф. Р-5351. Правительство Терского казачьего войска.
Ф. Р-5446. Совет Министров СССР.
Ф. Р-5447.
Ф. Р-5677. Административная комиссия при Президиуме ВЦИК.
Ф. Р-6870. Комиссия по изучению истории профессионального движения при Центральном Комитете профессионального союза горнорабочих. 1921—1930.
Ф. Р-7021. Чрезвычайная Государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, коллективным хозяйствам (колхозам), общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР. 1942—1945.
Ф. Р-8131. Прокуратура СССР.
Ф. Р-9401. Министерство внутренних дел СССР.
Ф. Р-9478. Главное Управление по борьбе с бандитизмом НКВД—МВД СССР.
Ф. Р-9479. 4-й Специальный отдел Министерства внутренних дел СССР.
Российский Государственный военно-исторический архив (РГВИА)
Ф. 38. Архив Командующего Кавказской армией.
Ф. 62. Граббе Павел Христофорович (1787—1875).
Ф. 217. Ермолов Алексей Петрович (1777—1871).
Ф. 366.
Ф. 407.
Ф. 482. Кавказские войны.
Ф. 846.
Ф. 1300. Штаб Кавказского военного округа.
Ф. 2100.
Ф. ВУА.
— 973 —
Приложения
Центральный Государственный архив Республики Северная Осетия- Алания (ЦГА РСО-А)
ф. и.
Ф. 12.
Ф. 20.
Ф. 54.
Ф. 106.
Ф. 169.
Ф. 256.
Ф. 270.
Государственный архив Ростовской области (ГАРО)
Ф. 26.
Опубликованные источники
Айтберов Т. М.,Дадаев Ю. У., Омаров X. А. Восстания дагестанцев и чеченцев в послеша- милевскую эпоху и имамат 1877 года (материалы). Кн. 1. — Махачкала, 2001. — 280 с. Акты, собранные Кавказской Археографической комиссией. Т. 1. — Тифлис, 1869. — 960 с.
Акты, собранные Кавказской Археографической комиссией. Т. 2. — Тифлис,
1868. - VI, 1238 с.
Акты, собранные Кавказской Археографической комиссией. Т. 3. — Тифлис,
1869. — VI, 760 с.
Акты, собранные Кавказской Археографической комиссией. Т. 4. — Тифлис,
1870. — 1011 с.
Акты, собранные Кавказской Археографической комиссией. Т. 5. — Тифлис,
1873. - VIII, 1170 с.
Акты, собранные Кавказской Археографической комиссией. Т. 6. Ч. 1. — Тифлис,
1874. — XIII, 941 с.
Акты, собранные Кавказской Археографической комиссией. Т. 6. Ч. 2. — Тифлис,
1875. — II, 960 с.
Акты, собранные Кавказской Археографической комиссией. Т. 8. — Тифлис, 1881. — XXI, 1009 с.
Акты, собранные Кавказской Археографической комиссией. Т. 9. — Тифлис,
1884. — 1013 с.
Акты, собранные Кавказской Археографической комиссией. Т. 10. — Тифлис,
1885. — XXXV, 938 с.
Акты, собранные Кавказской Археографической комиссией. Т. 12. — Тифлис, 1904. — XII, 1556 с.
Ахвердов А. И. Описание Дагестана // История, география и этнография Дагестана. Архивные материалы. — М., 1958. — С. 213—229.
Борьба за власть Советов в Северной Осетии (1917—1920 гг.): Документы и материалы. — Орджоникидзе, 1957. — 320 с.
Борьба за Советскую власть в Чечено-Ингушетии (1917—1920 гг.): Сб. документов и материалов. — Грозный, 1958. — 266 с.
Война в Чечне. Международный трибунал. Материалы опроса свидетелей. — М., 1997. — 344 с.
Внешняя политика России XIX и начала XX века: Документы Российского Министерства иностранных дел. Т. 6 (14). — М., 1955. — 866 с.
— 974 —
Литература
Временный Совет Чеченской Республики. Документы и материалы. — Знаменское, 1994. — 47 с.
Всеподданнейшая записка по управлению Кавказским краем генерал-адъютанта графа Воронцова-Дашкова // Родина. — 2000. — № 1—2. — С. 149—151. Всеподданнейший отчет начальника Терской области и наказного атамана Терского казачьего войска о состоянии области и войска за 1891 год. — Владикавказ, 1892. — 116 с. Всеподданнейший отчет начальника Терской области и наказного атамана Терского казачьего войска за 1899 год. — Владикавказ, 1900. — 112 с.
Всеподданнейший отчет начальника Терской области и наказного атамана Терского казачьего войска за 1900 год. — Владикавказ, 1901. — 136 с.
Всеподданнейший отчет начальника Терской области и наказного атамана Терского казачьего войска за 1911 год. — Владикавказ, 1912. — 118 с.
Гаджи-Али. Сказание очевидца о Шамиле // Сб. сведений о кавказских горцах. Вып. 7. — Тифлис, 1873. — С. 1—76.
Государственная Дума. Стенографические отчеты. Сессия первая. Т. 2. — М., 1906. — 2204 с.
Движение горцев Северо-Восточного Кавказа в 20—50-х годах XIX в./ Сост.: В. Г. Гаджиев, X. X. Рамазанов. Сб. документов. — Махачкала, 1959. — 785 с.
10 лет Советской Чечни. — Ростов н/Д., 1933. — 176 с.
Документы и материалы по внешней политике Закавказья и Грузии: Сб. документов. — Тифлис, 1919. — 512 с.
За власть Советов! Сб. документов и материалов по истории гражданской войны в Чечено-Ингушетии. — Грозный, 1967. — 128 с.
Ингуши: депортация, возвращение, реабилитация, 1944—2004. Документы, материалы, комментарии / Авт.-сост. Я. С. Патиев. — Магас, 2004. — 608 с.
Иосиф Сталин — Лаврентию Берия: «Их надо депортировать...». Документы, факты, комментарии / Вст. ст., сост. и поел. Н. Бугая. — М., 1992. — 288 с.
Итоговый отчет Комиссии по расследованию причин и обстоятельств возникновения кризисной ситуации в Чеченской Республике. Т. 3. Ч. 2. — М., 1995. — 191, 47 с. Клюки-фон-Клюгенау Ф. К. Схватка с империей (очерк военных действий на Кавказе). — М., 2001. — 163 с.
Комиссия Говорухина. — М., 1995. — 176 с.
Культурное строительство в Чечено-Ингушетии (1920 — июль 1941 г.): Сб. документов и материалов. — Грозный, 1979. — 244 с.
Культурное строительство в Чечено-Ингушетии (июнь 1941 — 1980 гг.): Сб. документов и материалов. — Грозный, 1985. — 328 с.
Материалы Абрамовской комиссии. — Владикавказ, 1908. — 210 с.
Материалы по истории Дагестана и Чечни. Т. 3. Ч. 1. — Махачкала, 1940. — 472 с. Материалы по истории осетинского народа. Т. 5. / Сб. материалов по истории народного образования в Осетии. — Орджоникидзе, 1942. — 294 с. Монополистический капитал в нефтяной промышленности России. 1914—1917: Документы и материалы. — Л., 1973. — 552 с.
Мухаммед Тахир ал-Карахи. Блеск дагестанских сабель в некоторых шамилевских битвах. Ч. 2. — Махачкала, 1990. — 126 с.
Народное хозяйство Дагестана. — Махачкала, 1927. — 152 с.
Народное хозяйство Чечено-Ингушской АССР: Статистический справочник. — Грозный, 1957. — 132 с.
Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками: В 3-х т. Т. 2. — М., 1966. — 799 с.
— 975 —
Приложения
От вековой отсталости — к социализму: Сб. документов и материалов. — Грозный, 1977. — 204 с.
Отчет Терского союза учреждений мелкого кредита за 1917 год. — Владикавказ. — 16 с.
Печать Дагестана: Справочник. — Махачкала, 1983. — 316 с.
Прокламация чеченскому народу Главнокомандующего Кавказской армией, Наместника Кавказского, генерал-фельдмаршала князя А. И. Барятинского // Родина. — 2000. — № 1—2. — С. 135—136.
Рапорт генерала от кавалерии Тормасова военному министру М. Б. Барклаю де Толли, 15 января 1810 г. // Родина — 2000. — № 1—2. — С. 49.
Репрессированные народы: армяне, греки и другие // Шпион: Альманах писательского и журналистского расследования. Вып. 2. — М., 1994. — С. 48—62. Репрессированные народы России: чеченцы и ингуши: Документы, факты, комментарии. Сост. Н. Ф. Бугай. — М., 1994. — 260 с.
Репрессированные народы: чеченцы и ингуши. Пакет документов № 1 // Шпион: Альманах писательского и журналистского расследования. Вып. 1. — М., 1993. — С. 16—33. Репрессированные народы: чеченцы и ингуши. Пакет документов № 2 // Шпион: Альманах писательского и журналистского расследования. Вып. 2. — М., 1993. — С. 54—72. Репрессированные народы: чеченцы и ингуши // Шпион: Альманах. — М., 1999. — С. 17—33.
Речь представителя Чечни Курумова на заседании Союзного Совета (парламента) Горской Республики // Дагестан. — 1919. — 9 февр. — С. 1.
Сб. указов Президента Чеченской Республики. — Грозный, 1993. — 136 с.
Союз объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана (1917—1918 гг.), Горская Республика (1918—1920 гг.): Документы и материалы. — Махачкала, 1994. — 438 с. Съезды народов Терека. Т. 1. — Орджоникидзе, 1978. — 279 с.
Тайны национальной политики ЦК РКП: Четвертое совещание ЦК РКП с ответственными работниками национальных республик и областей в Москве 9—12 января 1923 г. - М., 1992. - 296 с.
Так это было: Национальные репрессии в СССР 1919—1952 годы. В 3-х т. Т. 2. / Ред.- сост. С. У. Алиева. — М., 1996. — 336 с.
Так это было: Национальные репрессии в СССР 1919—1952 годы. В 3-х т. Т. 3. / Ред.- сост. С. У. Алиева. — М., 1996. — 352 с.
Чечено-Ингушская АССР / В. В. Рыжиков, П. А. Гребенщиков, С. О. Зоев — Грозный, 1971. — 220 с.
Чечено-Ингушская АССР за годы одиннадцатой пятилетки: Статистический сб. — Грозный, 1986. — 112 с.
Чечено-Ингушская АССР за 40 лет: Статистический сб. — Грозный, 1960. — 185 с. Чечня: Белая книга. Т. 1. — М., 2000. — 174 с.
Чечня: Белая книга. Т. 2. — М., 2000. — 190 с.
60 лет Чечено-Ингушской АССР: Статистический сб. — Грозный, 1982. — 128 с. Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Эфрона. Т. 13. 25 полутом. — СПб., 1894.
Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Эфрона. Т. 38а. 76 полутом. — СПб., 1903.
— 976 —
Литература
Литература
Абазатов М. Алхан-Юртовский бой с белыми // Грозненский рабочий. — 1961. — 31 марта. — С. 3.
Абазатов М. А. Борьба трудящихся Чечено-Ингушетии за советскую власть (1917 — 1920 годы). — Грозный, 1969. — 218 с.
Абазатов М. А. Цацан-Юртовский бой // Грозненский рабочий. — 1967. — 2 с. Абазатов М. А. Чечено-Ингушская АССР в Великой Отечественной войне Советского Союза. — Грозный, 1973. — 242 с.
Абдулвахабова Б. Б.-А. Традиционная женская одежда чеченцев в XVI — начале XX вв. // Вестник ЛАМ. — 2003. — № 17. — С. 34—40.
Аболтин В. А. Национальный состав Турции // Новый Восток. — 1925. — № 1(7). — С. 121—122.
Авторханов А. Р. Достижения и недочеты культурного строительства в Чечне // Революция и горец. — 1929. — № 5. — С. 64—69.
Авторханов А. Г. К основным вопросам истории Чечни. — Грозный, 1930. — 108 с. Авторханов А. Краткий историко-культурный и экономический очерк о Чечне. — Ростов н/Д., 1931. — 55 с.
Авторханов А. Убийство чечено-ингушского народа: Народоубийство в СССР. — М., 1991. — 80 с.
Авторханов А. Г. О себе, о времени. Мемуары. — М., 2003. — 736 с.
Автохаджиева М. Б.у Лагутин М. С. Из опыта партийного руководства общеобразовательной школой в условиях развитого социализма (на материалах Чечено-Ингушской АССР) // Повышение творческой активности трудящихся Чечено-Ингушетии в период социалистического строительства. — Грозный, 1985. — С.57—63. Агаджанов Ю. Г. Правда против вымыслов. — Грозный, 1987. — 60 с.
Адилсултанов А. А. Акки и аккинцы в XVI—XVIII веках. — Грозный, 1992. — 128 с. Азаматов К. Г., Хутуев X. И. Мисост Абаев: Обществ.-полит. взгляды. — Нальчик, 1980. — 132 с.
Айдаев Ю. Зеркало жизни: Сб. лит.-крит. статей. — Грозный, 1987. — 152 с.
Айдаев Ю. Чечено-Ингушская советская драматургия. — Грозный, 1975. — 138 с. Айдамиров Абузар. Хронология истории Чечено-Ингушетии. — Грозный, 1991. — 112 с.
Айларова С. А. Общественная мысль народов Северного Кавказа в XIX веке: культурно-исторические проблемы модернизации. — Владикавказ, 2003. — 366 с.
Акаев В. Шейх Кунта-хаджи: жизнь и учение. — Грозный, 1994. — 127 с.
Акиев X. А. Народы Северного Кавказа в русско-турецкой войне 1877—1878 гг. / Автореферат канд. дис. — 1., 1980. — 17 с.
Алиев Г. А. Торговые связи союзов сельских общин Нагорного Дагестана с Чечней (XIII — первая половина XIX вв.) // Актуальные проблемы истории дореволюционной Чечено-Ингушетии: Региональная науч. конференция: Тезисы докл и сообщений. — Грозный, 1990. — С. 36.
Алиев К. А.у Курбанов М. Р., Юсупова Г. И. Чеченцы-аккинцы Дагестана: к проблеме реабилитации. — Махачкала, 1994. — 60 с.
Алхан-Чурт и его перспективы // Революция и горец. — 1930. — № 6—7. — С. 103—104.
Анчабадзе Г. 3. Вайнахи (чеченцы и ингуши). — Тбилиси, 2001. — 310 с.
Аптекарь П. Война без конца и края // Родина. — 2000. — № 1—2. — С. 161—165. Аптекарь П. Повстанцы // Родина. — 2000. — № 1—2. — С. 154—156. Апухтина-Гоппе Н. Ф. Город-герой красный Грозный. — М., 1927. — 32 с.
— 977 —
Приложения
Арсанукаева М. С. Роль семьи в атеистическом воспитании молодежи // Религ. секты на территории ЧИАССР и актуальные проблемы атеист, воспитания. — Грозный» 1987. — С. 78—88.
Аслаханов А. «Я всегда защищаю народ». — М., 2004. — 186 с. + илл.
Аствацурян Э. Оружие народов Кавказа. — М., 2001. — 240 с.
Ахмадов М. Использование методов народной психотерапии в работе с беженцами // Вестник ЛАМ. — 2002. — № 13. — С. 8—11.
Ахмадов X. С. Временнопроживающие горцы в социальной структуре чечено-ингушского общества в конце XIX — начале XX в. // Обществ, отношения у чеченцев и ингушей в дореволюционном прошлом (XIII — начало XX в). — Грозный, 1982. — С. 81—92.
Ахмадов X. С., Горчханова Г. А. Сословно-поземельный вопрос в пореформенной Чечено-Ингушетии // Чечено-Ингушетия в полит, истории России и Кавказа в дореволюционном прошлом. — Грозный, 1990. — С. 48—61.
Ахмадов X. С. О капиталистическом предпринимательстве в Терской области в конце XIX — начале XX в // Вопросы полит, и эконом, развития Чечено-Ингушетии (XVIII — начало XX века). — Грозный, 1986. — С. 86—101.
Ахмадов Ш. Б. Взаимовлияние производственного опыта русских переселенцев и местных народов Терской области в XIX — начале XX в. // Прогрессивное влияние России на соц.-эконом. и полит, развитие народов Чечено-Ингушетии (дореволюционный период). — Грозный, 1989. — С. 26—40.
Ахмадов Ш. Б. Из истории развития земледелия и животноводства у чеченцев и ингушей в XVIII — начале XX в. // Обществ, отношения у чеченцев и ингушей в дореволюционном прошлом (XIII — начало XX в). — Грозный, 1982. — С. 17—31. Ахмадов Ш. Б. Источники о социально-экономическом развитии переселенческой деревни Терской области в пореформенный период // Источниковедение истории дореволюционной Чечено-Ингушетии. — Грозный, 1988. — С. 56—71.
Ахмадов Ш. Б. К вопросу о переселенческой политике царизма в Терской области в пореформенное время // Чечено-Ингушетия в полит, истории России и Кавказа в дореволюционном прошлом. — Грозный, 1990. — С. 29—48.
Ахмадов Ш. Б. Имам Мансур. — Грозный, 1991. — 288 с.
Ахмадов Ш. Б. Чечня и Ингушетия в XVIII — начале XIX века. (Очерки соц.-экон. развития и обществ-полит. устройства Чечни и Ингушетии в XVIII — начале XIX века). — Элиста, 2002. — 528 с.
Ахмадов Я. 3. Вайнахи в кумыкских княжествах // Известия Чечено-Ингушского республ краеведческого музея. Вып. XI. — Грозный, 1975. — С. 57—65.
Ахмадов Я. 3. Взаимоотношения народов Чечено-Ингушетии с Россией в XVIII веке. — Грозный, 1991. — 112 с.
Ахмадов Я 3. О роли мусульманского духовенства в общественной жизни Чечни (по материалам XVIII — первой половины XIX в.) // Обществ отношения у чеченцев и ингушей в дореволюционном прошлом (XIII начало XX в). — Грозный, 1982. — С. 56—61.
Ахмадов Я 3. К вопросу о государственном устройстве имамата Шамиля // Соц.- полит. процессы в дореволюционной Чечено-Ингушетии. Сб. статей. — Грозный, 1991. — С. 102—113.
Ахмадов Я. 3., Ахмадов Ш. Б., Астапов В. А., Исаев Э. И. История Чечено-Ингушетии. Уч. пособие для учащихся 9-х кл. — Грозный, 1992. — 176 с.
Ахмадов Я. 3. История Чечни с древнейших времен до конца XVIII века. — М., 2001. — 426 с.
Ахмадов Я. 3. Сползание Российской Федерации и Чеченской Республики Ичкерия к конфликту // Чечня: от конфликта к стабильности (проблемы реконструкции. — М., 2001. — С. 112—125.
Литература
Ахмадов Я. 3. Чеченское общество на перепутье: к проблеме внешнеполитического выбора // Открытый форум. — М., 2003. — № 10. — С. 17—21.
Ахмадов Я 3. От феодального плена к субъекту федерации // Центральная Азия и Кавказ. — Швеция, 2003. — № 2 (26). — С. 32—41.
Баликоев Т. М., Медоев Е. О. Национальная политика Советского государства на Северном Кавказе в годы Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.). — Владикавказ, 2001. — 146 с.
Берже А. Я. Чечня и чеченцы. — Тифлис, 1859. — 140 с.
Бларамберг И. Ф. Кавказская рукопись: этнографические описания народов Северного Кавказа. (Пер. с фр.) / Введ. и коммент.: И. М. Назаровой. — Ставрополь. — 1992. — 239 с.
Богуславский Л. История Апшеронского полка. Т. 1. — Спб., 1892. — 518 + XX с. Богуславский Л. История Апшеронского полка. Т. 2. — Спб., 1892. — 552 + XIV с. Боков X. X. Развитие духовной культуры трудящихся Чечено-Ингушетии и проблемы преодоления националистических и религиозных пережитков // Социология, атеизм, религия. Т. 3. Вып. 1. — Грозный, 1976. — С. 25—43.
Боков X. Эхо невозвратного прошлого // Грозненский рабочий. — 1989. — 1 февр. —
С. 3.
Борисенко И. Советские республики на Северном Кавказе. Т. 2. — Ростов н/Д., 1930. — 270 с.
Борнашвили Э. А. Социально-экономические отношения в Чечено-Ингушетии в XVII—XIX веках. — Тбилиси, 1988. — 454 с.
Брешко-Брегиковский Н. Н. Дикая дивизия. — Майкоп, 1990. — 104 с.
Броневский С Я. Новейшие географические и исторические известия о Кавказе. Ч. 2. - М., 1823. - 468 с.
Бугай Н. Ф. Правда о депортации чеченского и ингушского народов // Вопросы истории. — 1990. — № 7. — С. 32—44.
Бугай Н. Ф. Чрезвычайные органы Советской власти в создании государственности у народов Северного Кавказа (1922—1925 гг.) // Из истории борьбы за власть Советов и социалист преобразований в Чечено-Ингушетии. — Грозный, 1983. — С. 70—81. Булдаков В. Я. Национально-освободительное движение народов России в 1917 году и крах российской буржуазной государственности // Ист записки. — 1989. — Т. 117. — С. 157—179.
Буркин Н. Горское правительство и интервенция на Северном Кавказе в 1918 году // Историк-марксист. — 1934. — № 2. — С. 11—29.
Буркин Н. Г. Революция 1905 г. в нацобластях Северного Кавказа // Революция и горец. — 1931. — № 1—2. — С. 63—71.
Буркин Я., Бойков С., Кондюрина 3. Октябрь на Северном Кавказе. — Ростов н/Д., 1934. — 158 с.
Бутаев Ин. Борьба и освобождение горских народов // Революционный Восток. — 1928. — № 4—5. — С. 174—193.
Бутаев И. Грозненская нефть и Чечня // Жизнь национальностей. — 1922. — 19 мая. - № 10(16). — С. 6.
Бутков Я. Г. Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 гг. Ч. 2. — СПб., 1869. — 548 с.
Буцковский А. М. Выдержка из описания Кавказской губернии и соседних горских народов // История, география и этнография Дагестана. Арх. материалы. — М., 1958. — С. 239—246.
Бушуев С. К. Революционное движение в Чечено-Ингушетии в 1905 — 1907 гг.: Исследование и материалы. — Грозный, 1941. — 172 с.
— Q7Q _
Приложения
В борьбе за власть Советов: Воспоминания участников революционных боев в Чечено-Ингушетии (1917 — 1920 годы). — Грозный, 1970. — 234 с.
В КГБ, прокуратуре и Верховном суде ЧИАССР И Грозненский рабочий. — 1989. — 1 нояб. — С. 4.
В Чечне закончились перевыборы Советов // Грозненский рабочий. — 1927. — 15 марта. — С. 4.
Ваксман А. А. Записки краеведа. — Грозный, 1984. — 96 с.
Василенко Ы. Г Проблемы общего и профессионального образования населения // Социология, атеизм, религия. Т. 3. Вып. 1. — Грозный, 1976. — С. 103—114.
Вахаев Л. Политические фантазии в современной Чеченской Республике // Чечня и Россия: общества и государства. — М., 1999. — С. 324—334.
Вацуев А. 3. В. И. Ленин у истоков создания национальной государственности горских народов // Из истории борьбы за власть Советов и социалист, преобразований в Чечено-Ингушетии. — Грозный, 1983. — С. 40—55.
Вацуев А. Влияние большевиков и пролетариата Грозного на революционное движение в Чечне // Вопр. истории Чечено-Ингушетии (сов. период). — Грозный, 1978. — С. 8—18.
Веденеев Д. 77 тысяч человек потеряла Россия в кавказских войнах // Родина. — 1994. — № 3—4. — С. 122—124.
Веревкин Л. Я. Националистические предрассудки и пути их преодоления // Социология, атеизм, религия. Т. 3. Вып. 1. — Грозный, 1976. — С. 126—136.
Веролъский Ю. Наш край и литература: Очерки. — Грозный, 1969. — 128 с. Вертепов Г А. Очерки кустарных промыслов в Терской области // Терский сб. Вып. 4. — Владикавказ, 1897. — С. 5—31.
Вертепов Г. Сектантство в Чечне // Записки Терского об-ва любителей казачьей старины. — Владикавказ. — 1914. — № 2. — С. 75—80.
Вести от горцев-мусульман Терской области // Мусульманская газета. — 1913. — 30 марта. — С. 1.
Виситаев С. Б. Идеология накшбендийского мюридизма в современной Чечено- Ингушетии // Религ. секты на территории ЧИАССР и актуальные проблемы атеист, воспитания. — Грозный, 1987. — С. 34—42.
Власенко Н. И. Итоги чистки аппаратов советских, хозяйственных и кооперативных в Чеченской области // Революция и горец. — 1929. — № 4. — С. 17—20.
Волкова Н. Г. Динамика численности вайнахских народов до XX в. // Археологоэтнографический сб. Т. 2. — Грозный, 1968. — С. 110—121.
Волкова Н. Г. Этнический состав населения Северного Кавказа в XVIII — начале XX века. — М., 1974. — 276 с.
Волобуев Я. В. Топливный кризис и монополии России накануне Первой мировой войны // Вопр. истории. — 1957. — № 1. — С. 33—46.
Воспоминания участников Октябрьской революции и гражданской войны в Кабардино-Балкарии. — Нальчик, 1960. — 256 с.
Второе покорение Кавказа: Большевики и чеченские повстанцы // Родина. — 1995. — № 6. — С. 43—48.
Гаврилов Я. А. Устройство поземельного быта горских племен Северного Кавказа // Кавказские горцы: Сб. сведений. Т. 2. [7]. — М., 1992. —С. 1—78.
ГаЬаев В. Ю. Мюридские общины на територии ЧИАССР // Религ. секты на территории ЧИАССР и актуальные проблемы атеист, воспитания. — Грозный, 1987. — С. 5—19.
Гаджиев Б. Шамиль: от Гимр до Медины. — Махачкала, 1992. — 176 с.
Гаджиев В. Г Роль России в истории Дагестана. — М., 1965. — 391 с.
— 980 —
Литература
Гаджиев В. Г. Сочинение И. Гербера «Описание стран и народов между Астраханью и рекой Курой находящихся» как исторический источник по истории нардов Кавказа. — М., 1979. — 271 с.
Газдиев А. М., Джамбулатова 3. К.3 Чахкиев С. Против сектантского беззакония // Грозненский рабочий. — 1969. — 5 авг. — С. 2—3.
Гайрбеков М. За дальнейший расцвет экономики и культуры республики // Грозненский рабочий. — 1958. — 4 нояб. — С. 2—3.
Гакаев Д. Ж. Большевики в борьбе за армию в условиях двоевластия (на материалах Дона и Северного Кавказа) // Вопр. истории революции и гражд. войны в Чечено- Ингушетии. — Грозный, 1985. — С. 6—22.
Гакаев Д. Ж. Очерки политической истории Чечни (XX век): В 2 ч. — М., 1997. — 473 с. Гакаев Д. Ж. Чеченский кризис: истоки, итоги, перспективы (полит, аспект). — М., 1999. — 161 с.
Гакаев 3. Они защищали Родину, но их не жаловала власть Н Халкъан дош (Слово народа). — 2002. — 13 мая. — С. 4—5.
Гакаев X. А. В годы суровых испытаний. — Грозный, 1988. — 120 с.
Галицкий В. Чеченцы не позволили Канарису и Геббельсу создать на юге Советского Союза «пятую колонну» // Даймехкан аз (Голос Отчизны). — 2001. — № 3. — С. 4. Гаммер Моте. Шамиль. Мусульманское сопротивление царизму. Завоевание Чечни и Дагестана. — М., 1998. — 512 с.
Ган К. Ф. Экскурсия в Нагорную Чечню и западный Дагестан летом 1901 г. // Известия КОИРГО. — Тифлис, 1902. — Т. 15. — № 4. — С. 216—217.
Гантемирова Г. А. К вопросу о развитии торгового земледелия в Чечено-Ингушетии // Из истории дореволюционного Дагестана: С6. науч. тр. — Махачкала, 1976. - С. 189-205.
Гантемирова Г. А. Хозяйственное развитие народов Чечено-Ингушетии в первой половине XIX в. и вопросы общественных отношений // Обществ, отношения у чеченцев и ингушей в дореволюционном прошлом (XIII — начало XX в). — Грозный, 1982. — С. 31—41.
Гатуев Дз. «Империя» Узун-Хаджи // Революционный Восток. — 1928. — № 4—5. — С. 264—301.
Геничутлинский Хайдарбек. Историко-биографические и исторические очерки. — Махачкала, 1992. — 204 с.
Герои советской Чечено-Ингушетии. — Грозный, 1960. — 170 с.
Гешаев М. Чеченский след на российском снегу. — Турин, 2003. — 203 с.
Гойгова 3. А.-Г. Командующий Терской областной группой Красных повстанческих войск // Вопр. истории революции и гражд. войны в Чечено-Ингушетии. — Грозный,
1985. - С. 22—33.
Гойгова 3. А-Г Народы Чечено-Ингушетии в борьбе против Деникина. — Грозный, 1963. — 220 с.
Гожба Р. От Кубани до Нила расселились уходящие от родных очагов горцы... // Родина. — 2000. — № 1—2. — С. 138—141.
Город Грозный: Популярные очерки истории. — Грозный, 1984. — 190 с.
Горчаков Н. Экспедиция в Дарго (1845 г.) // Кавказский сб. Т. 2. — Тифлис, 1877. — С. 131—152.
Грабовский Н. Ф. Экономический и домашний быт жителей горского участка Ингушевского округа // Сб. сведений о кавказских горцах. Вып. 3. — Тифлис, 1870. — С. 1—117.
Графова Л. Беженцам из Чечни бежать некуда. — М., 2000. — 154 с.
Гриценко Н. П. Экономические связи России с Северным Кавказом в 40-х годах XIX в. // Известия ЧИНИИ. Т. 2. Вып. 1. — Грозный, 1960. — С. 20—30.
Приложения
Гриценко Н. П. Социально-экономическое развитие притеречных районов в XVIII — первой половине XIX века // Тр. ЧИНИИИЯЛ. Т. 4. Вып. 1. — Грозный, 1961 — 220 с. Гриценко Н. П. Экономическое развитие Чечено-Ингушетии в пореформенный период (1861—1900 г). — Грозный, 1963. — 199 с.
Гриценко Н. П. К вопросу о социально-экономических отношениях в Чечено-Ингушетии в пореформенный период // Известия Чечено-Ингушского науч.-исслед. института истории, языка и литературы. Т. 5. Вып. 1. — Грозный, 1964. — С. 3—17.
Гриценко Н. П. Из истории экономических связей и дружбы чечено-ингушского народа с русским народом. — Грозный, 1965. — 60 с.
Гриценко Н. П. Классовая и антиколониальная борьба крестьян Чечено-Ингушетии на рубеже XIX — XX вв. — Грозный, 1971. — 108 с.
Гриценко Н. П. Горский аул и казачья станица Терека накануне Великой Октябрьской социалистической революции. — Грозный, 1972. — 278 с.
Гриценко Н. П. Рабство и освобождение рабов в Чечено-Ингушетии // Вопр. истории Чечено-Ингушетии. Т. 10. — Грозный, 1976. — С. 276—298.
Гриценко Н. П. Города Северо-Восточного Кавказа и производительные силы края. V — середине XIX века. — Ростов н/Д., 1984. — 160 с.
Г-ский А. Мелиорация в горских областях Северного Кавказа // Революция и горец. - 1929. - № 3. - С. 19-20.
Гужин Г С, Чугунова Н. В. Сельская местность Чечено-Ингушетии и ее проблемы. — Грозный, 1988. — 140 с.
Гуров И. Казачество и Чечня // Молодая гвардия. — 1993. — № 3. — С. 209—217. Дагестан: чеченцы-аккинцы. — М., 1993. — 102 с.
Далгат Б. Первобытная религия чеченцев // Терский сб. Вып. 3. Кн. 2. — Владикавказ, 1893. — С. 41—132.
Дебидур А. Дипломатическая история Европы. Т. 2. / Пер. с фр. — М., 1947. — 544 с. Дегоев В. В. Кавказский вопрос в международных отношениях 30—60-х гг. XIX в. — Владикавказ, 1992. — 312 с.
Дегоев Владимир. Имам Шамиль: пророк, властитель, воин. — М„ 2001. — 374 с. Дегоев Владимир. Большая игра на Кавказе: история и современность. — М.,
2001. — 448 с.
Деникин А. Очерки русской смуты // Вопр. истории. — 1990. — №№ 1—12. Денискин В. И. «Сводная статистика перевозок по русским железным дорогам» — важный источник изучения экономики Северного Кавказа в период империализма // Вопросы историографии дореволюционной Чечено-Ингушетии. — Грозный, 1988. — С. 58-68.
Джамбулатова 3. К. Культурное строительство в советской Чечено-Ингушетии (1920 — 1940 годы). — Грозный, 1974. — 235 с.
Джанаев А. К. Народы Терека в российской революции 1905—1907 гг. — Орджоникидзе, 1988. — 290 с.
Джанаев А.у Хасбулатов А. «Дело тринадцати» // Грозненский рабочий. — 1986. — 27 авг. — С. 3.
Джугурьянц С. Н. Деятельность Чечено-Ингушской партийной организации по осуществлению национальной политики на основе решений XX и XXII съездов КПСС (1956—1965 гг.): Дис. на соискание уч. степени канд. ист. наук. — Махачкала, 1966. — 168 с.
Джургаев М„ Джургаев О. Круги ада. — Грозный, 1989. — 64 с.
Дзагуров Г. А. Переселение горцев в Турцию. — Ростов н/Д., 1925. — 202 с.
Доклад народного депутата ЧИР Абдулы Бугаева // Справедливость. — 1991. — № 5. — С. 23—25.
— 982 —
Литература
Доного Х.-М. Последний имам // Родина. — 2000. — № 1—2. — С. 166—167. Дорогочинский А. Выдающийся ученый // Грозненский рабочий. — 1978. — 16 ащ>. — С. 4.
Дробязко С. Последние сражения гражданской войны // Станица. — 2001. — .V» 1. — С. 35—38.
Дуперайн Р. Я. О взаимосвязи национального и интернационального в коммунистическом воспитании // Социология, атеизм, религия. Т. 3. Вып. 1. — Грозный, 1976. — С. 152—184.
Духаев А. Май в жизни героя // Теркйист. — 2002. — 6 мая. — С. 1—2.
Духаев А. Плеяда шейхов из Надтеречья. — Лаха-Невре, 1997. — 64 с.
Ерещенко Г. А. Деятельность партийной организации Чечено-Ингушетии по развитию нефтяной и машиностроительной промышленности в годы первой пятилетки // Актуальные проблемы социалист строительства в Чечено-Ингушетии. — Грозный,
1986. — С. 26—39.
Ерещенко Г. А. Организационно-массовая работа партийных организаций Чечни и Ингушетии в промышленности в годы первой пятилетки // Вопр. истории Чечено- Ингушетии (сов. период). — Грозный, 1978. — С. 58—81.
Ерещенко Г. А. Социально-экономическое развитие Чечено-Ингушетии как фактор укрепления дружбы трудящихся (1920—1980 гг.) // Укрепление дружбы и интернациональных связей трудящихся ЧИАССР в процессе социалист, строительства. — Грозный, 1988. — С. 10—24.
Ерещенко Г. А. Экономическое и социально-экономическое развитие Чечено-Ингушетии в девятой пятилетке (1971—1975 гг.) // Великий Октябрь и передовая Россия в истор. судьбах народов Северного Кавказа (XVI — 70-е годы XX в.): Материалы Всероссийской науч. конференции, 2—3 октября 1979 г., г. Грозный. — Грозный,
1982. — С. 220—224.
Ефанов К. И. В авангарде борьбы за коллективизацию. — Грозный, 1968. — 119 с. Ефанов К. И. Классовая борьба в чечено-ингушском ауле в период социалистического строительства. — Грозный, 1979. — 118 с.
Живая память: О жертвах сталинских репрессий. — Грозный, 1991. — 80 с.
Жизнь, отданная науке // Ойла («Мысль»). — 1998. — № 1. — С. 90—93.
Жупикова Е. Ф. Борьба против бандитизма в Чечне в 1920 — 1925 гг. // Уч. записки Моек. пед. ин-та. Т. 439. — М., 1971. — С. 84—103.
Завгаев Д. «Народ Чечни знает, на чьей совести кровь невинных» // Федерация. — 1995. — № 1. — С. 3.
Зайналабдиев У. Не губите, мужики // Ичкерия. — 1992. — 19 июня. — С. 2.
Зайцев А., Левин Г. Обыкновенное убийство // Грозненский рабочий. — 1989. — 22 июня. — С. 4.
Законы, принятые Верховным Советом РСФСР // Грозненский рабочий. — 1941. — 8 апр. — С. 1.
Закс А. Б. Ташев-Хаджи — сподвижник Шамиля. — Грозный, 1992. — 32 с. Записки А. П. Ермолова. Ч. 2. — М., 1868. — 726 с.
Заседателева Л. Б. Терские казаки (середина XVI — начало XX в.): Историко-этнографические очерки. — М., 1974. — 430 с.
Заседателева Л. Б.у Мунчаева Т. Г. Эволюция зернового хозяйства русского и украинского населения Притеречных районов Северного Кавказа (середина XVI — начало XX в.) // Хозяйство и хозяйственный быт народов Чечено-Ингушетии. — Грозный,
1983. — С. 6—14.
Заурбекова Г. В. Основные тенденции изменения социально-классового состава населения Чечено-Ингушской АССР за годы Советской власти // Этносоц. и культурно- бытовые процессы в Чечено-Ингушетии. — Грозный, 1986. — С. 19—32.
Приложения
Заурбекова Г. В. Сепаратизм в Чечне // Исслед. по прикладной и неотложной этнологии Ин-та этнологии и антропологии РАН. Док. № 135. — М., 2000. — 41 с. Захарович Ю. Чеченская война глазами журналистов американских изданий // Чечня и Россия: общества и государства. — М., 1999. — С. 290—307.
Захарьин И. Н. Кавказ и его герои. — СПб., 1902. — 487 с.
Заявление Председателю Верховного Совета СССР, Генеральному секретарю ЦК КПСС Брежневу Л. И. // Справедливость. — 1989. — № 6. — С. 2—12.
Земсков В. Н. Спецпоселенцы в СССР, 1930—1960. — М., 2003. — 306.
Зиссерман А. История 80-го пехотного Кабардинского генерал-фельдмаршала княза Барятинского полка. 1760—1880. Т. 1. — СПб., 1881. — 632 с.
Зиссерман А. История 80-го пехотного Кабардинского генерал-фельдмаршала князя Барятинского полка (1726—1880). Т. 3. — СПб., 1881. — 538 с.
Знамена горских воинов // Родина. — 1994. — № 3—4. — С. 76—77.
Зоев С. О. На путях перестройки. — Грозный, 1989. — 38 с.
Зоев С. О.у Павлов М. П. Развитие промышленности Чечено-Ингушской АССР за годы советской власти // Великий Октябрь и передовая Россия в исторических судьбах народов Северного Кавказа (XVI — 70-е годы XX в.): Материалы Всероссийской науч. конференции, 2—3 октября 1979 г., г. Грозный. — Грозный, 1982. — С. 215—220. Зоев С. О. Промышленность Чечено-Ингушской АССР за 50 лет. — Грозный, 1972. — 172 с.
Зоев С. О. Развитие экономики Чечено-Ингушской АССР в период зрелого социализма. — Грозный, 1984. — 208 с.
Зубков Д.у Кан-Калик В. Страницы истории Грозненского театра // Грозненский рабочий. — 1965. — 10 дек. — С. 4.
Ибрагимбейли X. Кавказ в Крымской войне 1853—1856 гг. и международные отношения. — М., 1971. — 404 с.
Ибрагимбейли X. М. Реакционная сущность расистской политики фашистской Германии на временно оккупированной территории Северного Кавказа (1942—1943 гг.) // Великий Октябрь и передовая Россия в ист. судьбах народов Северного Кавказа (XVI — 70-е годы XX века). — Грозный, 1982. — С. 202—212.
Ибрагимбейли Х.-М. Крах операции «Эдельвейс» и Ближний Восток. — М., 1977. — 319 с.
Ибрагимов Муса, Ибрагимов Мовсур. Чечня: через круги ада. Переселения и депортации чеченского народа. — М.—Саратов, 2003. — 114 с.
Ибрагимова 3. X. Чечня после Кавказской войны (1863—1875 гг.) (по арх. материалам). — М., 2000. — 302 с.
Ибрагимова 3. X. Чеченская история. Политика, экономика, культура. Вторая половина XIX века — М., 2002. — 448 с.
Иваненков Н. С. Горные чеченцы. — Владикавказ, 1910. — 223 с.
Иванов А. И. Восстание в Чечне в 1877 г. // Ист. записки. — 1940. — № 10. — С. 280—299.
Иванов М. А. В горах между Фортангой и Ассой // Известия Кавказского отдела Императорского Географического об. Т. 18. — № 1. —Тифлис, 1904. — С. 31—32.
Из блокнота секретаря Организационного бюро ВКП (б) Чеченской автономной области Ефрема Эшбы // Справедливость. — 1990. — № 1—2. — С. 6—13.
Из доклада народного депутата ЧИР Юсупа Эльмурзаева // Справедливость. — 1991. — № 5. — С. 27.
Ингушетия и ингуши. / Сост. М. Яндиева. Ред. Адам Мальсагов. — Назрань-Москва, 1999. — 498 с. + 16 илл.
ИнЬербиев М, Т. Очерки здравоохранения Чечено-Ингушетии. — Грозный, 1972. — 178 с.
— 984 —
/Ълерзтуса
Ипполитов А. П. Учение «Зикр» и его посяедоватеяи в Чечне и Аргунском Округе Н Кавказские горцы: Сб. сведений. Т. 2. [2]. — М.? 1992. — 17 с.
Ипполитов А. П. Этнографические очерки Аргунского округа // Кавказские горцы: Сб. сведений. Т. 1. [3]. — М., 1992. — 52 с.
Исаев С.-А. А. Влияние России на развитие просвещения в Чечено-Ингушетии во второй половине XIX века // Прогрессивное вяияние России на соц.-эконом. и полит, развитие народов Чечено-Ингушетии (дореяивющюнный период). — Грозный, 1989. — С. 40—54.
Исаев С. А. К истории переселения части народов СеверякВосявчиого Кавказа в Турцию // Актуальные проблемы истории дореволюционной Чечено4!шувдетии: Региональная науч. конференция: Тезисы докл. и сообщ. — Грозный, Ш90* — С. 72—73. История индустриализации Северного Кавказа (1933—1941 fe)s, $ок. и материалы. — Грозный, 1973. — 622 с.
История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца Х¥Ш в. Т. 1. — М., 1988. — 543 с.
История народов Северного Кавказа. Конец XVIII в. — февраль 191? г. Т. 2. — М., 1988. - 659 с.
К Левый фланг Кавказской линии в 1848 г. // Кавказский сб. Т. 9. — Тифлис, 1885. — С. 415.
Кадиев Д. А. Грозный — столица Чеченской Республики. — М., 2003. — 360 с. Казаков А. Как проходили выборы в дореволюционном Грозном // Грозненский рабочий. — 1959. — 17 февр. — С. 2.
Казаков А. И. Страницы истории города Грозного: Краеведческие этюды. — Грозный, 1989. — 88 с.
Казбек Г. Военно-статистическое описание Терской области. Ч. 1. — Тифлис, 1888. - 102 с.
Калита Л. Несущий свет вдвойне отважен // Вестник ЛАМ. — 2003. — № 18. — С. 28—34.
Каратаева М. А. Развитие массового атеизма в Чечено-Ингушетии в период строительства социализма (1920—1940 гг.) // Из истории борьбы за власть Советов и социалист, преобразований в Чечено-Ингушетии. — Грозный, 1983. — С. 129—144.
Каратаева М. А., Магомаев В. X. Развитие социалистического соревнования на промышленных предприятиях Чечено-Ингушетии в годы Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.) // Рабочий класс Чечено-Ингушетии — ведущая сила социалист, строительства. — Грозный, 1989. — С. 36—51.
Карпеев И. Наиб Ахбердилав // Родина. — 2000. — № 1—2. — С. 90—93.
Киреев Е. П. Борьба Грозненской большевистской организации за массы в период между Февральской и Октябрьской революциями 1917 года // Известия Чечено-Ингушского республ. музея. Вып. 9. — Грозный, 1957. — С. 9—27.
Киреев Е. Восставшая тюрьма // Грозненский рабочий. — 1957. — 12 янв. — С. 4. Киреев Е. П. Из истории установления Советской власти в Грозном // Грозный за 40 лет Советской власти. — Грозный, 1957. — С. 3—37.
Киреев Е. Я. Пролетариат Грозного в борьбе за победу Великой Октябрьской революции. — Грозный, 1957. — 204 с.
Киреев Е. Это было в 1918 году // Стодневные бои в Грозном: Сб. ист. очерков и воспоминаний. — Грозный, 1959. — С. 4—28.
Кирсанов И. А., Дробязко С. К Великая Отечественная война 1941—1945 гг.: национальные и добровольческие формирования по разные стороны фронта //. Отечественная история. — 2001. — № 6. — С. 60—75.
Книга для учителя. История политических репрессий и сопротивления несвободе в СССР. — М., 2002. — 504 с.
— 985 —
Приложения
Кобычев В. Я. Поселение и жилища народов Северного Кавказа в XIX—XX вв. — М.,
1982. — 390 с.
Ковалевский П. И. Восстание в Чечне и Дагестане в 1877 и 1878 гг. — СПб., 1912. — 95 с.
Кодзоев Б. А. Интернационализация общественной жизни трудящихся Чечено-Ингушетии в период 1959—1970 гг. // Актуальные проблемы социалист, строительства в Чечено-Ингушетии. — Грозный, 1986. — С. 69—83.
Кодзоев М. А. Из опыта работы Чечено-Ингушской областной партийной организации по мобилизации рабочего класса на укрепление материально-технической базы сельского хозяйства (1961—1966 гг.) // Рабочие Чечено-Ингушетии в годы социалист, строительства. — Грозный, 1990. — С. 59—69.
Козубский Е. Очерки истории города Темир-Хан-Шуры // Сб. материалов для описания местностей и племен Кавказа. Вып. 19. — Тифлис, 1894. — С. 61—82.
Кокурхаев К-С. А-К. Общественно-политический строй и право чеченцев и ингушей (вторая половина XIX — начало XX в.). — Грозный, 1989. — 112 с.
Кокурхаев К. А. Особенности судопроизводства в Чечено-Ингушетии в первые годы Советской власти // Проблемы социалистической законности. Вып. 19. — Харьков,
1987. — С. 63—68.
Колосов Л. Н. Возникновение нефтяной промышленности в Грозном (1893—1903 гг.): Автореферат канд. дис. — М., 1953. — 16 с.
Колосов Л. Н. Очерки истории промышленности и революционной борьбы рабочих Грозного против царизма и монополий (1893—1917 гг.). — Грозный, 1962. — 381 с. Колосов Л. Н. Славный Бейбулат: Историко-биографический очерк. — Грозный, 1991. — 176 с.
Колосов Л. Н. Чечено-Ингушетия накануне Великого Октября (1907—1917 годы). — Грозный, 1968. — 179 с.
Коренев Д. 3. Революция на Тереке. 1917—1918 гг. — Орджоникидзе, 1967. — 352 с. Корнилов Д. Под сенью Корана // Грозненский рабочий. — 1975. — 15 июня. — С. 3. Костерин Н. Политическое состояние Горской Республики // Жизнь национальностей. — 1922. — № 16. — С. 8—9.
Краснов А. Физкультура и спорт в Чечено-Ингушетии. — Грозный, 1963. — 312 с. Крачковский И. Ю. Арабская литература на Северном Кавказе // Избр. соч. Т. 6. — М.—Л., 1960. — С. 601—619.
Кровяков И. Шамиль: Очерк из истории борьбы народов Кавказа за независимость. — М., 1990. — 96 с.
Крылова В. В. К вопросу о численности и составе работников промышленности Чечено-Ингушской АССР в 60—80-е годы // Актуальные проблемы социалист, строительства в Чечено-Ингушетии. — Грозный, 1986. — С. 100—111.
Крылова В. Р. О некоторых формах творческой активности рабочих Чечено-Ингушской АССР в годы восьмой пятилетки // Повышение творческой активности трудящихся Чечено-Ингушетии в период социалист, строительства. — Грозный, 1985. - С. 24—30.
Кульков Е. Н., Мягков М. Ю., Ржешевский О. А. Война 1941—1945. Факты и док. — М., 2004. — 479 с.
Культура Чечни: история и современные проблемы. Отв. Ред. X. В. Туркаев. — М.,
2002. — 382 с.
Кундухов М. О закяте и некоторых других формах поборов духовенства в нацоблас- тях // Революция и горец. — 1929. — № 7—8. — С. 30—41.
Курбанов С. Развитие образования и культуры трудящихся — фактор преодоления религиозных пережитков // Социология, атеизм, религия. Т. 3. Вып. 1. — Грозный, 1976. — С. 307—321.
— 986 —
Литература
Курылев И. В. Боевой путь милиции Чечено-Ингушетии. — Грозный, 1976. — 211 с Кухарук А. Барятинский // Родина. —2000. — № 1—2. — С. 115—118.
Кухарук С. Николай Евдокимов И Родина. — 1994. — № 3—4. — С.62—64. Кушалиев А. Гарнизон сдал крепость без боя // Грозненский рабочий. — 1998. — 12—18 нояб. — С. 3.
Ларин Ф. Об искажениях классовой политики в Чечне // Революция и горец. — 1930. — № 2. — С 8—14.
Лаудаев У. Чеченское племя ft Чечня и чеченцы в материалах XIX в. — Элиста, 1990. - С. 74-104.
Лейбман Н. Борьба грозненского пролетариата за национализацию нефтяной промышленности // Грозненский рабочий. — 1960. — 24 мая. — С. 2.
Ликвидация горских студенческих землячеств // Революция и горец. — 1929. — № 6. — С. 69—70.
Линец С. И. Северный Кавказ накануне и в период немецко-фашистской оккупации: состояние и особенности развития (июль 1942 — октябрь 1943 гг.). — Ростов н/Д.,
2003. — 564 с.
Лосев И. К. Трудящиеся Грозного в борьбе за построение социализма в нашей стране // Грозный за 40 лет Советской власти. — Грозный, 1957. — С. 38—96.
Луночкин А., Михайлов А. Григорий Засс и Яков Бакланов // Родина. — 1994. — № 3—4. — С. 91—96.
Лу-ч А. Дорожный вопрос в горских областях // Революция и горец. — 1928. — № 1. — С. 22—26.
Магомедов М. 3. Шейх Али Митаев // Наш Дагестан. — 1996. —янв.— март. — С. 26—28.
Максимов £., Вертепов Г. Туземцы Северного Кавказа. Вып. 2.— Владикавказ, 1894. — 100 с.
Мальсагова Т. Т. Восстание горцев в Чечне в 1877 году. — Грозный, 1968. — 44 с. Мальте Н., Гулинская В. Колхозы нацобластей на рубеже 2-го года 2-й пятилетки // Революция и горец. — 1933. — 10—12. — С. 29—38.
Мамакаев М. Вместе, плечом к плечу // Грозненский рабочий. — 1973. — 12 июня. — С. 2-3.
Мамакаев М. Чеченский тейп в период его разложения. — Грозный, 1973. — 100 с. Манкиев А. А. Актуальные проблемы интернационального воспитания населения ЧИАССР в свете решений XXVII съезда КПСС // Укрепление дружбы и интернациональных связей трудящихся ЧИАССР в процессе социалист, строительства. — Грозный, 1988. — С. 78—99.
Маркграф О. В. Очерки кустарных промыслов Северного Кавказа с описанием техники производства. — М., 1882. — 288 с.
Мартиросиан Г. К. История Ингушии. — Орджоникидзе, 1933. — 314 с. Мартиросиан Г. К. Терская область в революции 1905 года. — Владикавказ, 1929. — 117 с.
Материалы научной сессии по вопросам истории Чечено-Ингушетии (1860—1940). — Грозный, 1964. — 226 с.
Мелиорация полей Чечни // Жизнь национальностей. — 1922. — 14 марта. — С. 12. Мемуары полковника Беликова // Революционный Восток. — 1929. — № 6. — С. 187—211.
Милютин Д. Гуниб. Пленение Шамиля (9—28 августа 1859) // Родина. — 2000. — № 1—2. — С. 124-133.
Милютин Д. А. Описание военных действий 1839 года в Северном Дагестане. — СПб., 1850. — 144 с.
- 987 —
Приложения
Мокиенко Н. Н. Вопросы расселения в автономных областях Северо-Кавказского края // Революция и горец. — 1929. — № 6. — С. 17—20.
Мокиенко Н. О студии Чеченского областного национального театра // Революция и горец. — 1931. — № 12. — С. 106—107.
Моя Чечено-Ингушетия. — Грозный, 1970. — 140 с.
Мужухоева Э. Д. Влияние первой русской революции на общественно-политическую жизнь народов Терека И Прогрессивное влияние России на соц.-эконом. и полит, развитие народов Чечено-Ингушетии. — Грозный, 1989. — С. 54—66.
Мужухоева Э. Д. Организация управления Чечено-Ингушетии в 40—60 гг. XIX века // Обществ, отношения у чеченцев и ингушей в дореволюционном прошлом (XIII — начало XX в.). — Грозный, 1982. — С. 68—80.
Мужухоева Э. Д. Чечено-Ингушетия в административно-политической системе управления Терской области в 40—60-е годы XIX века // Чечено-Ингушетия в полит, истории России и Кавказа в дореволюционном прошлом. — Грозный, 1990. — С. 61-76.
Музаев М. Н. Бой под Цацан-Юртом // Вопр. истории Чечено-Ингушетии (сов. период). — Грозный, 1978. — С. 33—47.
Музаев М. Н. Грозненский окружной военно-революционный Совет и его роль в установлении Советской власти в Чечено-Ингушетии // Из истории борьбы за власть Советов и социалист, преобразований в Чечено-Ингушетии. — Грозный,
1983. — С. 5—14.
Музаев Я Я, Музаев М. Я. Гойтинский бой // Из истории борьбы за власть Советов и социалист, преобразований в Чечено-Ингушетии. — Грозный, 1983. — С. 14—40. Музаев Т. Тапа // Голос Чечено-Ингушетии. — 1992. — 17 апр. — С. 3.
Музаев Т. Формирование и развитие демократического движения горцев Терека (60-е годы XIX века — 1917 г) // Актуальные проблемы истории дореволюционной Чечено-Ингушетии: Тезисы докл. и сообщ. — Грозный, 1990. — С. 80—82. Mymanuee Т. Х.-Б. В одном строю (чеченцы и ингуши в русско-турецкой войне 1877—1878 годов). — Грозный, 1976. — 94 с.
Муталиев Т. Сложный путь прозрения // Грозненский рабочий. — 1986. — 17 апр. — С. 3.
Муцаев А. Денежные знаки Северо-Кавказского эмирата // Вестник ЛАМ. — 2001. — № 1(5). — С. 27—29.
Нагиев Д. Задачи коренизации советского аппарата в национальных областях Северо-Кавказского края // Революция и горец. — 1929. — № 1—2. — С. 29—37.
Нанаева Б. Б. Некоторые вопросы развития и укрепления местных Советов Чечено-Ингушетии в период строительства социализма (1925—1936 гг.) // Из истории борьбы за власть Советов и социалистических преобразований в Чечено-Ингушетии. — Грозный, 1983. — С. 82—99.
Нанаева Б. Б. Трудящиеся Чечено-Ингушетии в борьбе за повышение производительности труда в нефтехимической промышленности (1959—1965 гг.) // Повышение творческой активности трудящихся Чечено-Ингушетии в период социалистического строительства. — Грозный, 1985. — С. 14—24.
Нанхаджиев С. С одной судьбой с Россией // Голос Чечено-Ингушетии. — 1991. — 29 мая. — № 102. — С. 3.
Народы Дагестана / Отв. ред. С. А. Арутюнов, А. И, Османов, Г. А. Сергеева. — М., 2002. — 588 с.
Народы Кавказа. Т. 1. — М., 1960. — 560 с.
Небольсин L Статистическое обозрение внешней торговли России. — СПб., 1850. — Ч. 1. — 340 с.
— 988 —
Литература
Невская В. П. Перемены в общественном строе горских народов Северного Кавказа во второй половине XIX в. // Великий Октябрь и передовая Россия в ист. судьбах народов Северного Кавказа (XVI — 70-е годы XX века): Материалы Всерос. науч. конференции, 2—3 октября 1979 г., Грозный. — Грозный, 1982. — С. 323—330. Некрич А. Наказанные народы. — Нью-Йорк, 1978. — 170 с.
Нефть и газ Чечни и Ингушетии. — М., 1993. —271 с.
Низам Шамиля (Материалы по истории Дагестана) // Кавказские горцы: С6. сведений. [3] — М., 1992. — С. 1—18.
Николаев Р. Чеченские деньги // Родина. — 2000. — № 1—2. — С. 157—158. Новикова В. Л. Женщины Чечено-Ингушетии в борьбе за свое раскрепощение и социализм. — Грозный, 1966. — 72 с.
Новиков Н. Н.у Снеговский В. Я.% Соколов С. Г., Шварцев В. Ю. Российские вооруженные силы в чеченском конфликте: Анализ. Итоги. Выводы. По материалам открытой российской и зарубежной печати. — Париж—Москва, 1995. — 222 с.
Новый адрес — Нечерноземье // Грозненский рабочий. — 1988. — 16 авг. — С. 2. Носов Н. К очередным задачам Горской Республики // Жизнь национальностей. — 1922. — № 14. — С. 8—9.
Носов Н. К первой годовщине Горской Республики // Жизнь национальностей. — 1922. — № 10. — С. 6.
Носов А. Ф. Октябрьская революция в Грозном и в горах Чечено-Ингушетии: Воспоминания. — Грозный, 1961. — 156 с.
О сложившейся общественно-политической обстановке в республике и задачах областной партийной организации // Грозненский рабочий. — 1989. — 27 авг. — С. 1—2.
О тех, кого называли абреками: С6. — Грозный, 1927. — 160 с.
О хлопчато-бумажной фабрике в Чечне // Революция и горец. — 1930. — № 1. — С. 87.
Об использовании средств от налога на школы // Мусульманская газета. — 1913. — 30 марта. — С. 2.
Обзор материалов о банддвижении на территории бывшей Чечено-Ингушской АССР // Библ. альманаха «Шпион». — 1993. — Вып. 1. — 65 с.
Обращение к историкам, народным депутатам Верховного Совета ЧИР, Советам старейшин (Мехка кхел) Чечни и Ингушетии, чеченцам и ингушам // Справедливость. — 1991. — № 5. — С. 7.
Объединяет правда: Круглый стол «Грозненского рабочего» // Грозненский рабочий. — 1989. — 28 янв. — С. 3.
Овхадов М. Р. Национально-языковая политика и развитие чеченско-русского двуязычия. — М., 2000. — 244 с.
Овхадов М. Об образовательном уровне чеченцев (на основе материалов переписей 1959 — 1989 гг.) // Вестник ЛАМ. - 2001. — № 7 (И). — С. 11—13.
Овчаров Г. М. Борьба Чечено-Ингушской партийной организации за победу ленинских идей (1926—1929 годы). — Грозный, 1975. — 79 с.
Опрышко О. Кавказская конная дивизия: Вот некоторые эпизоды боевого пути дивизии // Вайнах. — 2002. — № 4. — С. 29—30.
Организационно-массовая работа в Чечне // Революция и горец. — 1929. — № 10. — С. 72—73.
Орджоникидзе Г. К. Статьи и речи. Т. 1. — М., 1956. — 516 с.
Орцуев М. Культурное строительство в Чечне за 15 лет // Революция и горец. — 1932. — № 1. — С. 29—42.
Освобождение зависимых сословий во всех горских округах Терской области // Кавказские горцы: Сб. сведений. Т. 1 [8]. — М., 1992. — С. 37—47.
Приложения
Османов А. И. Помощь России в восстановлении народного хозяйства национальных районов Северного Кавказа (1921—1925 гг.) // Великий Октябрь и передовая Россия в истор. судьбах народов Северного Кавказа. — Грозный, 1982. — С. 144—151. Открытие горских школ // Мусульманская газета. — 1913. — 14 мая. — С. 4. Очерки истории Дагестана. Т. 1. — Махачкала, 1957. — 392 с.
Очерки истории Чечено-Ингушской АССР. Т. 1. — Грозный, 1967. — 315 с.
Очерки истории Чечено-Ингушской АССР. 1917—1970 годы. Т. 2. — Грозный, 1972. — 360 с.
Ошаев X. Забытый эпизод // Революция и горец. — 1931. — № 6—7. — С. 83—86. Ошаев X. Забытый эпизод // Стодневные бои в Грозном: Сб. ист. очерков и воспоминаний. — Грозный, 1959. — С. 47—48.
Ошаев X. Кто автор «молитвы Шамиля» // Революция и горец. — 1931. — № 10—11. — С. 112—113.
Ошаев X. Малхиста // Революция и горец. — 1930. — № 8. — С. 58—65.
Ошаев X. Очерк начала революционного движения в Чечне. — Грозный, 1928. — 26 с. Ошаев X. Брест — орешек огненный. — Грозный, 1990. — 141 с.
Ошаев X. Д. Слово о полку чечено-ингушском. Сб. док.-худ. произв. / Сост. М. X. Ошаев. — Нальчик, 2004. — 493 с.
Павленко П. А. Шамиль. — Махачкала, 1990. — 224 с.
Перепелкин Л. С. Чеченская Республика: современная социально-политическая ситуация // Этнографическое обозр. — 1994. — № 1. — С. 3—15.
Петров В., Александров В. Второй кавказский фронт // Независимое военное обозр. — 2001. — 30 марта — 5 апр. — С. 5.
Пиралов А. С. Краткий очерк кустарных промыслов Кавказа. — Тифлис, 1900. — 50 с. Письмо двадцати шести коммунистов (март 1972 г.) // Справедливость. — 1989. — № 3. — С. 13—28.
Письмо 3. Г. Мусаева // Справедливость. — 1990. — № 5—6. — С. 7.
Письмо П. Половцева к Пальчинскому: Сообщение Е. Дробкиной // Революционный Восток. — 1928. — № 3. — С. 305—310.
Пламенные борцы за власть Советов. — Грозный, 1977. — 330 с.
Подготовка к продналогу в Чечне // Красный труд. — 1921. — 1 окт. — С. 2. Погодин М. Алексей Петрович Ермолов: Материалы для его биографии. — М., 1864. — 452 с.
Покровский М. Завоевание Кавказа // Россия и Кавказ. — СПб., 1995. — С. 4—52. Покровский Н. И. Кавказские войны и имамат Шамиля. / Под ред. В. Г. Гаджиева, Н. Н. Покровского. — М., 2000. — 511 с.
Покровский Н. И. По поводу одной даты // Истор. записки. — 1940. — № 10. — С. 300-301.
Политковская А. Вторая чеченская. — М., (Захаров), 2002. — 282 с.
Полторацкий В. А. Воспоминания // Истор. записки. Т. 51. — СПб., 1893. — С. 78—79.
Полян И М. Не по своей воле: История и география принудительных миграций в СССР. — М., 2000. - 330 с.
Полянский Н. Н. Эпопея военно-полевых судов. — М., 1934. — 240 с.
Пономарева К «Деньги Гикало» // Грозненский рабочий. — 1979. — 4 дек. — С. 4. Попов А. Н. Революционная Чечня в огне сражений. — Грозный, 1973. — 152 с. Попов А. Н. Социалистическое преобразование сельского хозяйства в Чечено-Ингушетии. — Грозный, 1976. — 293 с.
Потто В. А. Два века терского казачества. Т. 2. — Владикавказ, 1912. — 247 с.
— 990 —
Потто В. А. Кавказская война в отяевмв ник. легендах и биографиях: В 5 т. Т. 2. — СПб., 1886. — 188 с.
Потто В. А. Кавказская война в отнеяьша яшмах, легендах и биографиях: В 5 х. Т. 5. Вып. 1. — Тифлис, 1889. — 158 с.
Разгон И. М. Серго Орджоникидзе г гш Гщвдгнской войны // Истор. записки. — 1938. — № 2. — С. 3—48.
Райцис Е. 35 лет Грозненской бибялшпяв Я Грошшасжй рабочий. — 1940. — 5 дек. — С. 2.
Ратушняк В. Н. Развитие аграрного хампшвда га Северном Кавказе в конце XIX — начале XX вв. // Истор. зашкхв. — M9L — № 117. — С. 180—238. Революция 1905, 6 и 7 годов в Грозном. — ГрооомА. 1925. — 28 с.
Речь депутата Бокова X. X. // Грозненский piroi — 1988. — 12 нояб. — С. 3. Россикова А. Е. Путешествие по части Горной Чечни. // Записки
КОИРГО. — Тифлис, 1896. — Кн. I&. — С »-312.
Россия—Чечня: цепь ошибок и преаушкмА, — ЗА, 1998. — 400 с.
Россия и Кавказ — сквозь два сгояегко. Истов. чтения. — СПб., 2001. — 416 с.
Русин В. Горы и люди: разлука без олвиг h Грозненский рабочий. — 1989. — 29 дек. — С. 2.
Саламов А. К истории нашей Чешв Ижг»щи // Грозненский рабочий. —
1962. — 20 июля. — С. 3—4.
Саламов А. X. Очерк о Чечне U Ремпвши и горец. — 1929. — № 7—8. — С. 94-98.
Саламов А. Правда о «свяфыж мгш> з. Чечено-Ингушетии // Сб. тр. Чечено- Ингушского науч.-исслед. ин-та зстооми- языка и литературы. Т. 9. — Грозный, 1964. — С. 155—169.
Сахаров В. Гвардейский ПроНмтоИӀ шшт Кавказ А. А. Бестужева-Марлинского // Родина. — 1994. — № 3—4. Щ Щ.
Сб. статей по истории Kaoagppt я Болгарии. Вып. 7.— Нальчик, 1959. — 156 с. Северный Кавказ // Жпвиьммшшмястей. — 1918. — 17 нояб. — С. 4.
Селезнев Г. К. Политическая шгкормя современной России: 1991—2001: Практ. пособ. для учителей. — М., 2001. — HMI с.
Серафимович А. С. Кавказские встречи. — Грозный, 1980. — 86 с.
Серба А. Куда казаку податься? // Станица. — 2001. — № 3. — С. 2—5.
Сигаури И. М. Очерки iftTOfttiii и iосударственного устройства чеченцев с древнейших времен. Т. 1. — 1995. — 366 с.
Сигаури И. М. Очерки^ЙЬгории и государственного устройства чеченцев с древнейших времен. Т: 2. — М., 1001. — 374 с.
Сигаури И. М. Очерки истории и государственного устройства чеченцев с древнейших времен. Т. 3/— М., 2003. — 398 с.
Симарзин В. С. Героический Грозный. — Грозный, 1968. — 36 с.
Славный путь борьбы и труда. — Грозный, 1961. — 133 с.
Смирнов Н. А. Мюридизм на Кавказе. — М., 1963. — 243 с.
Смирнов Н. А. Политика России на Кавказе в XVI—XIX веках. — М., 1958. — 342 с. Соколов Б. В. Оккупация. Мифы и правда. М., 2002. — 348 с.
Состояние национального просвещения на Северном Кавказе: Материалы партконференции по нац. просвещению. — Ростов н/Д., 1932. — 32 с.
Социалистическую культуру в горы // Революция и горец. — 1931. — № 9. - С. 13-25.
QQ1 —
Приложения
Статистические сведения о кавказских горцах, состоящих в военно-народном управлении // Кавказские горцы: Сб. сведений. Т. 1. [8]. — М., 1992. — 72 с.
Сто дней президента. — Грозный-Санкт-Петербург, 1997. — 44 с.
Сулейманов А. Топонимия Чечено-Ингушетии: В 4 т. — Грозный, 1985—1988. Таболов. Колхозное строительство и национальный вопрос // Революционный Восток. — 1933. — № 2. — С. 143—159.
Таболов К. Колхозное движение и национальный вопрос // Революционный Восток. — 1933. — № 3—4. - С. 164—195.
Тайны уходящего века. — М., 2000. — 624 с.
Такоева Н. Миссионерство в системе колониальной политики царизма на севере Кавказа // Революционный Восток. — 1936. — № 2—3. — С. 48—75.
Тахо-Годи А. Революция и контрреволюция в Дагестане. — Махачкала, 1927. — 244 с. Темишев Муса. Почему Россия и Ичкерия не Америка? — М., 2001. — 135.
Терский календарь на 1895 год. — Владикавказ, 1894. — 4, XXVI, 355 с.
Терский календарь на 1896 год. — Владикавказ, 1895. — XXIV, 426 с.
Терский календарь на 1899 год. — Владикавказ, 1898. — 288 с.
Терский календарь на 1901 год. — Владикавказ, 1900. — 488 с.
Терский календарь на 1905 год. — Владикавказ, 1905. — 80, 229, 77 с.
Терский календарь на 1910 год. — Владикавказ, 1909. —80, 496.
Терский календарь на 1912 год. — Владикавказ, 1911. — 409 с.
Терский календарь на 1914 год. — Владикавказ, 1913. — 445 с.
Ткачик. Промышленность и положение рабочих Грозного двадцать лет назад // Грозненский рабочий. — 1925. — 20 дек. — С. 4.
Толстой В. Биографии разных лиц, при которых мне приходилось служить или близко знать // Родина. — 2000. — N« 1—2. — С. 71—77.
Томашевский К. Очередные задачи Горреспублики // Жизнь национальностей. — 1922. — № 17. — С. 6.
Тотоев Ф. В. Общественно-экономический строй Чечни (вторая половина XVIII — 40-е гг. XIX века) / Дис. на соискание уч. степени канд. истор. наук. Рук. — М., 1966. — 172 с.
Трагедия казачества: С6. / Ред.-сост. Л. Барышкина. — М., 1994. — 606[2] с.
Туркаев X. В. Чеченская советская поэзия 20—40-х годов. — Грозный, 1971. — 150 с. Туркаев X. В. Исторические судьбы литератур чеченцев и ингушей. — Грозный,
1984. — 348 с.
Туркаев X. Братья Мутушевы // Грозненский рабочий. — 1988. — 25 авг. — С. 3. Убита женорганизатор-общественница // Революция и горец. — 1929. — № 7—8. — С. 120.
Умаров С. Ц. О позиции старшин в антиколониальной борьбе Чечни первой трети XIX века // Вопр. истории Чечено-Ингушетии. Т. 10. — Грозный, 1976. — С. 299—309.
Умаров С. Эволюция основных течений ислама в Чечено-Ингушетии. — Грозный,
1985. — 32 с.
Услар П. К. О распространении грамотности между горцами // Сб. сведений о кавказских горцах. Вып. 3. — Тифлис, 1870. — С. 2—31.
Услар П. К. Этнография Кавказа. Языкознание. Ч. 2. Чеченский язык. — Тифлис, 1888. — XXIII, 198 с.
Усманов Л. Непокоренная Чечня. — М., 1997. — 414 с.
Утверждение русского владычества на Кавказе / Под ред. ген.-м. А. Потто. Т. 3. Ч. I — Тифлис, 1904. — 564 с.
Литература
Ушаков М. К. Несколько цифр по земельному вопросу в Терской области. Статжггж- ческие материалы по данным д» 1$15 и 1916 годы. — Кисловодск, 1919. — 68 с. Фадеев А. В. О некоторых социально-экономических последствиях присоединена.!? Чечено-Ингушетии к России // Известия Чечено-Ингушского НИИ истории, языка и литературы. Т. 2. Выл. 1. — Грозный, 1960. — С. 3—19.
Фадеев А. В. Россия и Кавказ а первой трети XIX в.— М., 1960. — 398 с.
Фадеев Р. Шестьдесят лет Казказской войны. — Тифлис, 1860. — 147 с.
Филькин В. И. Грозный ш г«щн Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.) // Грозный за 40 лет Советской власти. — Грозный, 1957. — С. 97—129.
Филькин В. И. Молодежь Чечено-Ингушетии в борьбе за победу Октябрьской революции. — Грозный. 1968. — 44 с.
Филькин В. И. Партийная организация Чечено-Ингушетии в годы борьбы за упрочение и развитие социалистического общества (1937 — июнь 1941 гг.). — Грозный,
1963. — 148 с.
Филькин В. И. Патриотизм трудящихся Чечено-Ингушской АССР в период Великой Отечественной войны. — Грозный, 1989. — 36 с.
Филькин В. И. Чечено-Ингушская партийная организация в годы Великой Отечественной войны Советского Союза. — Грозный, 1960. — 146 с.
Хамидова 3. Жизнь, отданная служению народу // Вайнах. — 1998. — № 1—3. — С. 52—59.
Ханбабаев К. М. Некоторые факторы радикализации ислама в Чечне // Совр. положение Чечни: соц.-пошгт. аспект: Сб. науч. ст. — Ростов н/Д., 2001. — С. 37—41. Харузин Н. Н. О юридическом быте чеченцев и ингушей // Сб. по этнографии. Вып. 3. — М., 1888. — С 112—134.
Хасанов С. Жемчужина народа // Кавказская Конфедерация. — 1999. — № 5. — С. 1. Хасбулатов А. И. Аграрный вопрос в политике царизма в Чечено-Ингушетии во II пол. XIX — нач. XX в. Л Чечено-Ингушетия в полит, истории России и Кавказа в дореволюционном прошлом. — Грозный, 1990. — С. 5—28.
Хасбулатов А. И. Борьба трудящихся Чечено-Ингушетии в период революции 1905—1907 гг. — Грозный. 1966. — 132 с.
Хасбулатов А. И. Вовлечение сельского хозяйства Чечено-Ингушетии в капиталистическое развитие России (П половина XIX — начало XX века) И Вопр. полит, и эконом, развития Чечено-Инггшетии (XVIII — начало XX века). — Грозный,
1986. — С. 115—133.
Хасбулатов А. И. Канун первой российской революции 1905—1907 гг. и классовая борьба в Чечено-Ингушетии // Прогрессивное влияние России на соц.-эконом. и полит, развитие народов Чечено-Ингушетии (XVIII — начало XX в.). — Грозный, 1989. - С. 6—25.
Хасбулатов А. И. Развитие промышленности и формирование рабочего класса в Чечено-Ингушетии (конец XIX — начало ХХв.). — М., 1994. — 128 с.
Хасбулатов А. И. Установление российской администрации в Чечне (II пол. XIX — нач. XX вв.). — М., 2001. — 238 с.
Хасбулатова 3. Народные промыслы чеченцев в XIX — начале ХХвв. (по этнографическим материалам) // Вестник ЛАМ. — 2002. — № 3. — С. 31—49.
Хасбулатова 3. И. Отражение социально-культурных изменений в современной семье чеченцев и ингушей (50—80-е гг.) // Этносоц. и культ.-быт. процессы в Чечено-Ингушетии. — Грозный, 1986. — С. 40—58.
Хасбулатова 3. И. Структура сельской общины и патронимия у чеченцев во второй половине XIX в. // Вестник Моек. Ун-та. — Сер. 8. — История. — № 1. — М., 1981. - С. 84—98.
— 993 —
Приложения
Хасиев С.-М. А. Из истории развития кустарных промыслов чеченцев и ингушей в дореволюционном прошлом (обработка металла и камня) // Хозяйство и хозяйственный быт народов Чечено-Ингушетии. — Грозный, 1983. — С. 14—27.
Хожаев Д. Чеченцы в русско-кавказской войне. — Грозный, 1998. — 312 с.
Цаликов А. Кавказ и Поволжье. — М., 1913. — 54 с.
Цей Д. О массовой работе Союза воинствующих безбожников в нацобластях // Революция и горец. — 1929. — № 7—8. — С. 42—48.
Цицкиева М. О. Религиозные обряды и национальные традиции // Религ. секты на территории ЧИАССР и актуальные проблемы атеист, воспитания. — Грозный,
1987. — С. 54—61.
Черепанов И. В. Некоторые особенности формирования национальных элит на Кавказе // Межнац. конфликты на Кавказе: методика их преодоления. — М., 1995. — С. 13—14.
Чечено-Ингушская АССР. Административно-территориальное деление (на 1 января 1978 года). — Грозный, 1978. — 64 с.
Чеченский излом: преступления дудаевского режима против чеченского народа. — Грозный, 1995. — 44 с.
Чеченская Республика. (Население, экономика, история). — Грозный. 1995. — 44 с. Чеченцы: история и современность / Сост. Ю. А. Айдаев. — М., 1996. —352 с.
Чечня в пламени сепаратизма / Сост. А. Сурков, А. Турчина. — Саратов, 1998. — 364 с. Чимит-Доржиев Ш. Б. Документы о восстании кабардинских и чеченских конников во время русско-японской войны (1904 год) // Известия Чечено-Ингушского науч.- исслед. ин-та истории, языка и литературы: Статьи и материалы по истории народов Чечено-Ингушетии. Т. 3. Вып. 1. — Грозный, 1963. — С. 111—116.
Шабаньянц Н. Ш. Город Грозный. — Грозный, 1972. — 64 с.
Шабанъянц Н. Ш. Академик П. 3. Захаров. Изд. 2-е. — Грозный, 1974. — 56 с. + илл.
Шерипов А. Статьи и речи. — Грозный, 1972. — 191 с.
Шесть лет национальной политики Советской власти и Наркомнац. 1917—1923 гг. — М., 1924. — 228 с.
Шигабудинов М. Ш. Рабочее движение на Северном Кавказе в годы реакции (1907—1910). — Махачкала, 1973. — 143 с.
Шипулин Н. Отважный чекист. — Грозный, 1969. — 70 с.
Ширяев С. Д Экономическое развитие Грозного в послевоенный период (1945—1956 гг.) // Грозный за 40 лет советской власти. — Грозный, 1957. — С. 130—165.
Шоипов И. Таштемир Эльдарханов. — Грозный, 1960. — 40 с.
ЭЬиев Д. М. Демографические потери депортированных народов СССР. — Ставрополь, 2003. — 336 с.
Экштут С. Алексей Ермолов // Родина. — 1994. — № 3—4. — С. 30—35. Элъжуркаев М. Тяжкие годы крестьянства // Грозненский рабочий. — 1990. — 6 июня. — С. 2—3.
ЭсаЪзе Б. С. Памятка Гребенца. Очерк многовековой и доблестной службы Престолу и Отечеству 1-го Кизляро-Гребенского генерала Ермолова полка Терского казачьего войска и участия 5-й сотни полка в юбилейных торжествах 300-летнего царствования Дома Романовы в г. Костроме. — М., 1913. — 225 с.
Эсадзе С. Историческая записка об управлении Кавказом. Т. 1, 2. — Тифлис, 1907. Эсадзе С. Штурм Гуниба и пленение Шамиля. — Тифлис, 1909. — 208 + 4 с.
Этенко Л. А. Ленин и горцы Северного Кавказа. — Орджоникидзе, 1975. — 223 с. Эшба Е. Асланбек Шерипов. — Сухуми, 1990. — 193 с.
— 994 —
Литература
Юдин Л. Противовоздушный фронт Закавказья // Б боях за Кавказ: Cd— bairr 1968. — С. 164—181.
Юсупов М. М. Трансформационные изломы социальной структуры // Ойда (Мыскь! — 1998. — № 1. - С. 56—63.
Юсупов П. И. Деятельность партийных организаций Северного Кавказа по ввря рованию национальных кадров рабочего класса в 1920—1937 гг. И Рабочие Чсч£5.>- Ингушетии в годы социалист, строительства. — Грозный, 1990. — С. 5—13.
Юсупов Я. И. Коммунистическая партия в борьбе по претворению в жизнь принципов национальной политики в Чечено-Ингушетии (1921—1925 годы) ft Ижгс- тия Чечено-Ингушского НИИ истории, языка и литературы. Т. 5. Вып. 1. — Гровш*.
1964. - С. 54—87.
Юсупов П. И. От вековой отсталости к расцвету и сближению наций. — ГкшшА, 1982. - 158 с.
Юшкин Е. М. Начало грозненской нефтепромышленности в очерках. — Екатерюо- дар, 1909. — 36 с.
Яндарбиев X. Преступление века. — Грозный, 1992. — 64 с.
Яндиев А. Владикавказ: Неизвестные страницы истории города. — Саратов. 1999. — 128 с.
Яндиева Марьям. Ингуши на фронтах Второй мировой войны. — Назрань—КЦ 2004. - 26 с.
Яндиева Марьям. Ингушское сопротивление: Ахмед Хучбаров в контексте времени. — Назрань—-М~ 2004. — 26 с.
— 995 —
ISBN 5-93486-046-1
785934
860463
Научно-популярное издание
Ахмадов Явус Зайндиевич Хасмагомадов Эдильбек Хамидович
ИСТОРИЯ ЧЕЧНИ в XIX—XX веках
Корректор Л. П. Калайда Компьютерная верстка О. К. Макаренко
Сдано в набор 20.08.2004. Подписано в печать 11.08.2005. Формат 70x108/16.
Бум. офсетная. Гарнитура Миньон. Печать офсетная. Уел. печ. листов 87,15. Тираж 1200 экз.
ЗАО Издательство «Пульс». 115583, Москва, ул. Генерала Белова, д. 55, к. 112. Отпечатано в типографии «Дига-Принт». 105203, Москва, ул. 12-я Парковая, д. 11/49.
Замеченные опечатки
Страница
Строка
Напечатано
Должно быть
2
23 св.
1988 г.
1998 г.
6
13 св.
коллабарации
коллаборации
13
1 илл.
отсутствует подпись
Черные горы. Совр. фото (43, 3)
23
2 илл.
отсутствует подпись
Кочевой аул ногайцев. Рис. (49, 496)
168
подпись к илл.
Генерал-фельдаршал
Генерал-фельдмаршал
180
подпись к илл.
Денисултан
Денисултан (султан Дани- ель-бек)
312
2 сн.
Тутгириеев
Тутгириев
321
24 св.
25 тысяч
23 тысяч
719
сноска
1 Крестная ноша. Сост. В. Сидоров // Трагедия казачества. — С. 362; История СССР. — 1989. — № 3. — С. 51.
1 Яндиев А. Владикавказ: Неизвестные страницы истории города. — Саратов, 1999. — С. 96-97.
1 Яндиев А. Владикавказ: Неизвестные страницы историигорода.—Саратов, 1999. — С. 96—97.
724
сноска 2
относится к стр. 725 (стр. 1 св.)
768
сноска 1
относится к стр. 769 (стр. 1 св.)
799
3 св.
коллабарации
коллаборации
808
11 сн.
Келеч Султан-Гирей
Султан Келеч (Клыч) Гирей
827
10 сн.
коллабарации
коллаборации
972
8 св.
Вести ЛАМ
Вестник ЛАМ
Ахмадов Явус Зайндиевич родился 3 октября 1949 г. в Семипалатинской области Казахской ССР. Среднюю школу закончил в селении Гойты Чечено- Ингушской АССР, жил в родовом селении Старые Атаги и в г. Грозном. В настоящее время живет и работает в Москве. Доктор исторических наук, профессор Чеченского госуниверситета, академик АН Чеченской Республики, заслуженный деятель науки Чеченской республики. Главные его труды посвящены истории Чечни и в целом горским народам Северного Кавказа в их взаимоотношениях с Россией, Ираном и Турцией в XIV—XIX вв. В последнее время выступал с исследованиями по сущностному содержанию «чеченского» кризиса.
Ряд статей Я. 3. Ахмадова опубликованы в странах СНГ, Швеции, Турции и США. Им выпущены несколько монографий, два учебных пособия по истории родного края для школ (в соавторстве), а также крупная обобщающая работа — «История Чечни с древнейших времен до конца XVIII века».
Помимо исследовательской и преподавательской работы участвовал в общественно-политической жизни и занимался государственной деятельностью: являлся министром информации и печати Чеченской Республики, начальником Территориального управления Министерства РФ по делам печати в Чеченской Республике, руководителем аппарата Комиссии Государственной Думы по содействию политическому урегулированию и соблюдению прав человека в Чеченской Республике.
Хасмагомадов Эдильбек Хамидович — историк, публицист и общественный деятель. Родился в 1957 году. Окончил Краснодарский государственный институт культуры (библиотечный факультет). С 1979 по 2001 год работал в Национальной библиотеке Чеченской Республики, где в последние годы занимал пост директора. Закончил аспирантуру при Всесоюзной Книжной Палате (г. Москва). Тема диссертации насоисканиеученой степени кандидата исторических наук — «Развитие книгоиздательского дела в Чечено-Ингушетии. 1917—1941 гг.».
В последнее десятилетие Э. X. Хасмагомадов разрабатывал проблемы общественно- политического развития Чечни, изучал малоизвестные страницы новейшей истории народов Северного Кавказа, а также вопросы развития культуры и политических институтов в Чеченской Республике.
В настоящее время является главным редакторомжурнала «Вестник ЛАМ», осуществляющего поддержку процессов развития в Чечне открытого демократического общества, совместимого с национальными традициями и исламом.