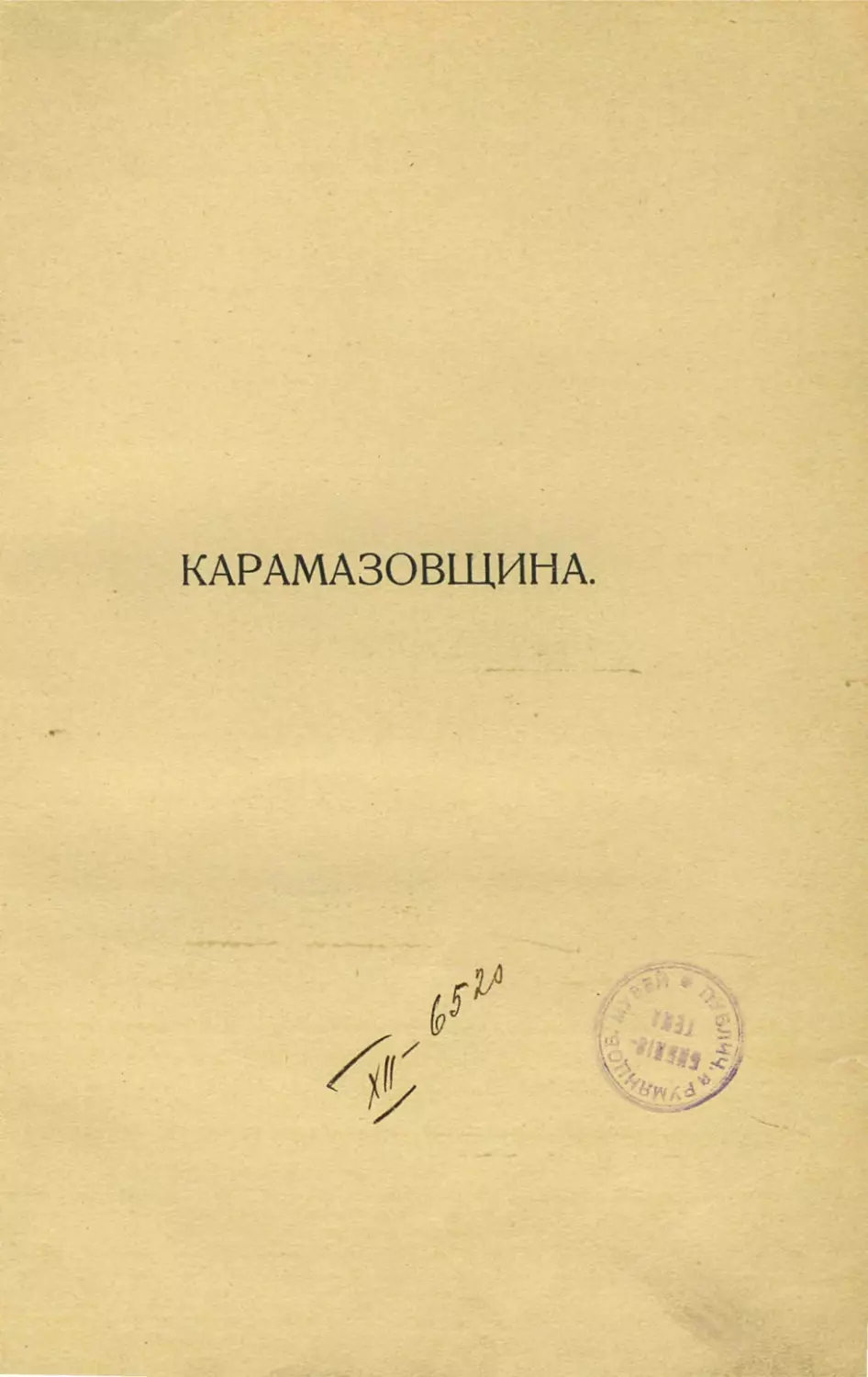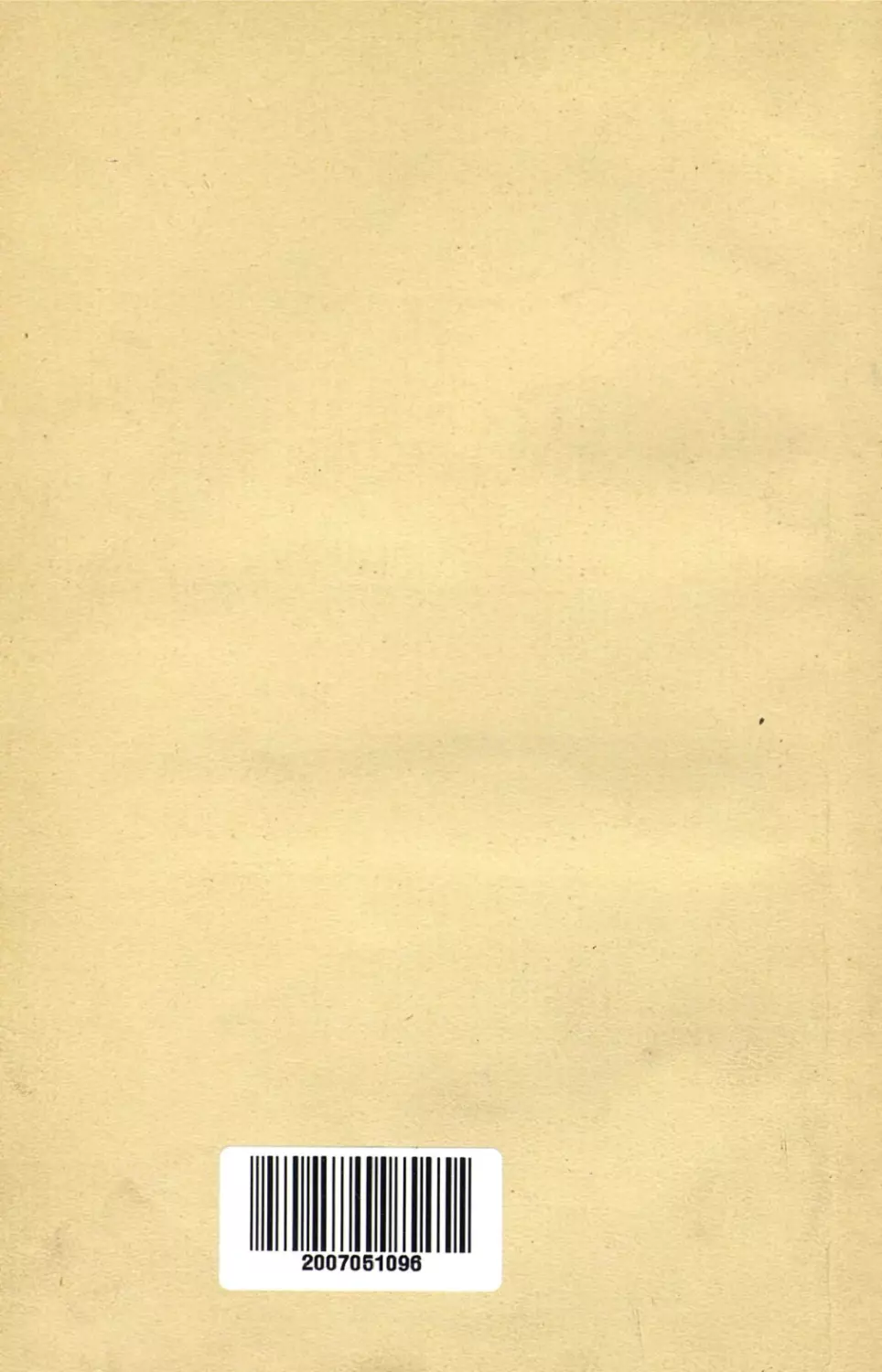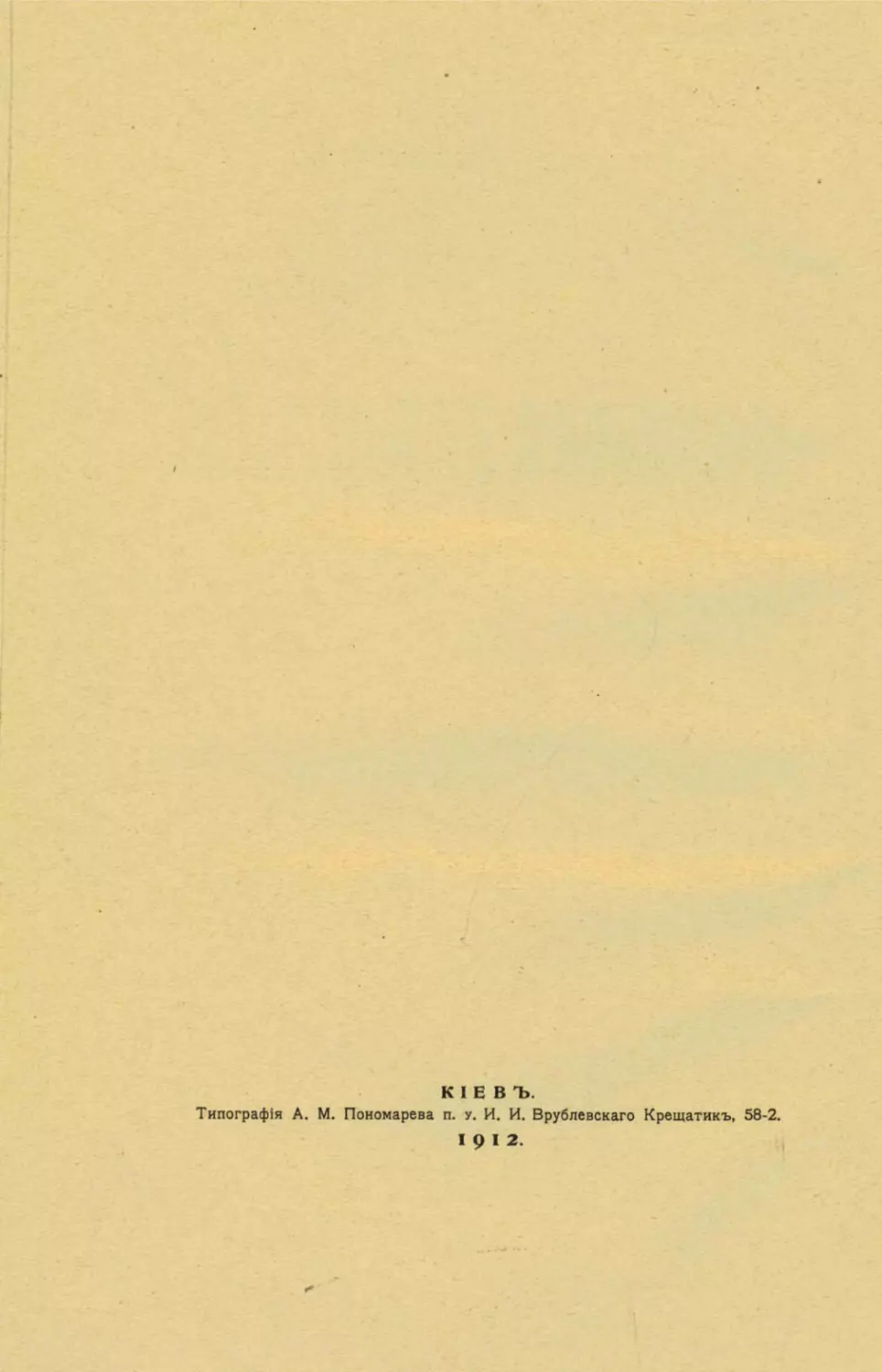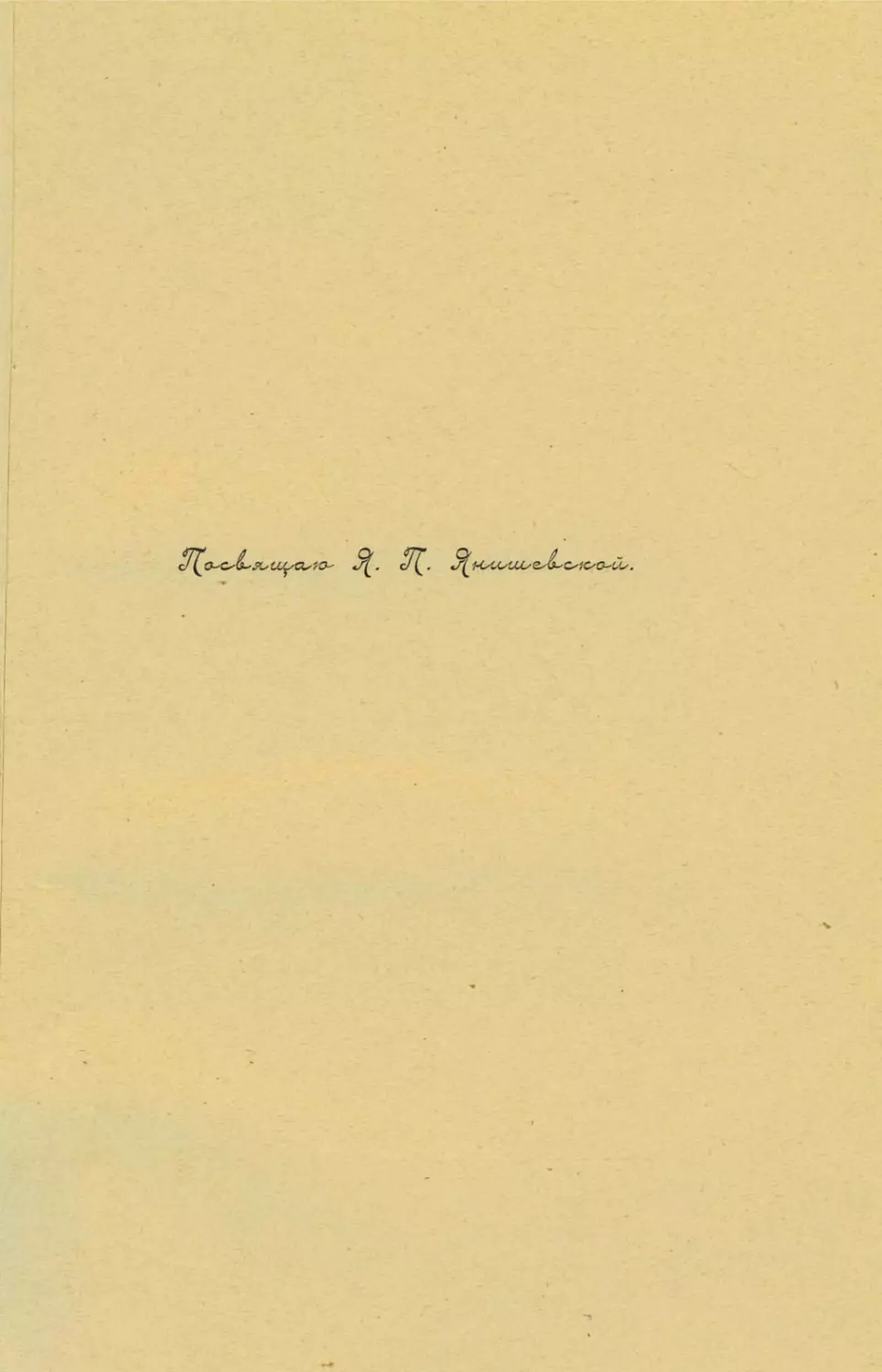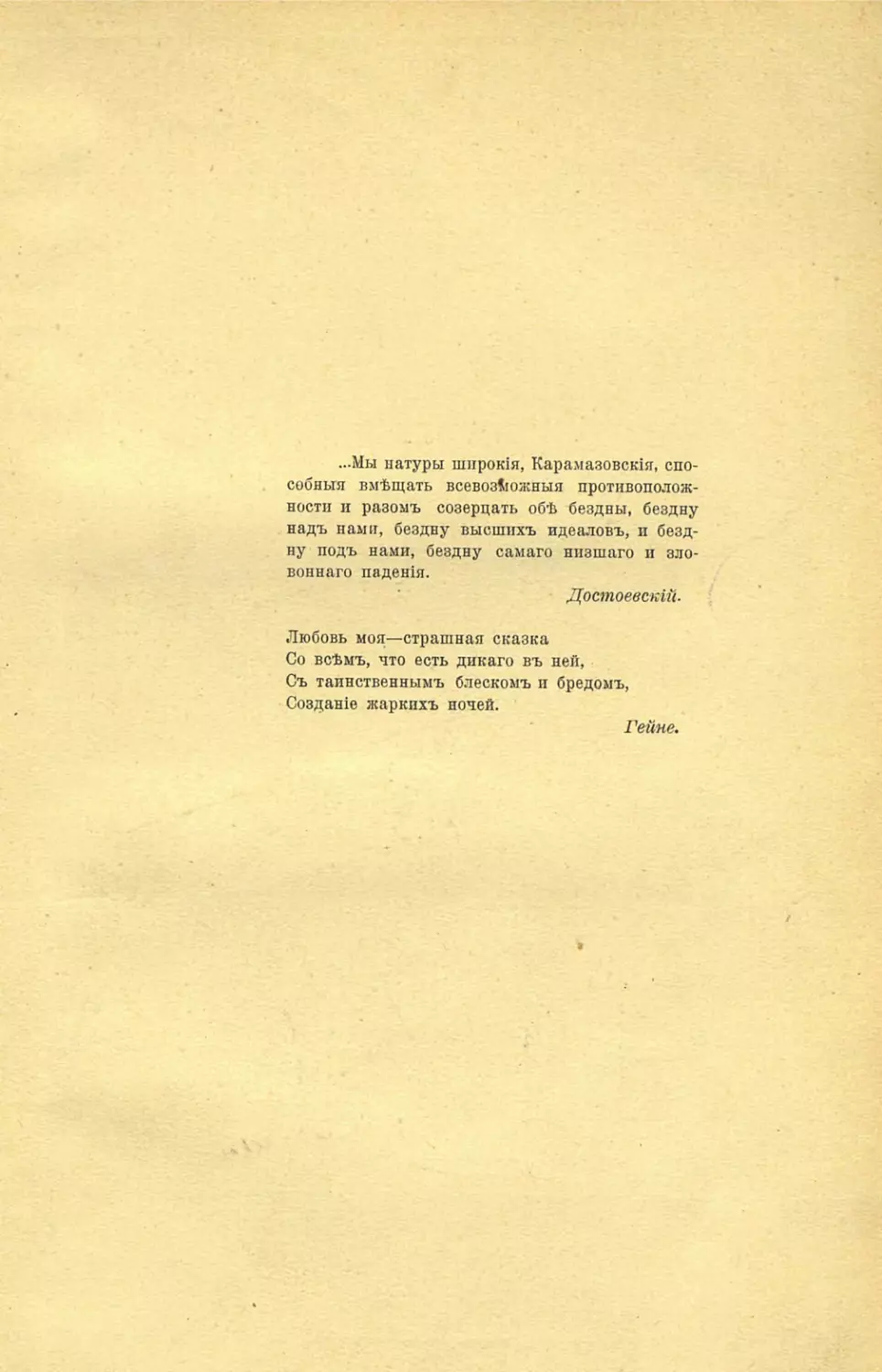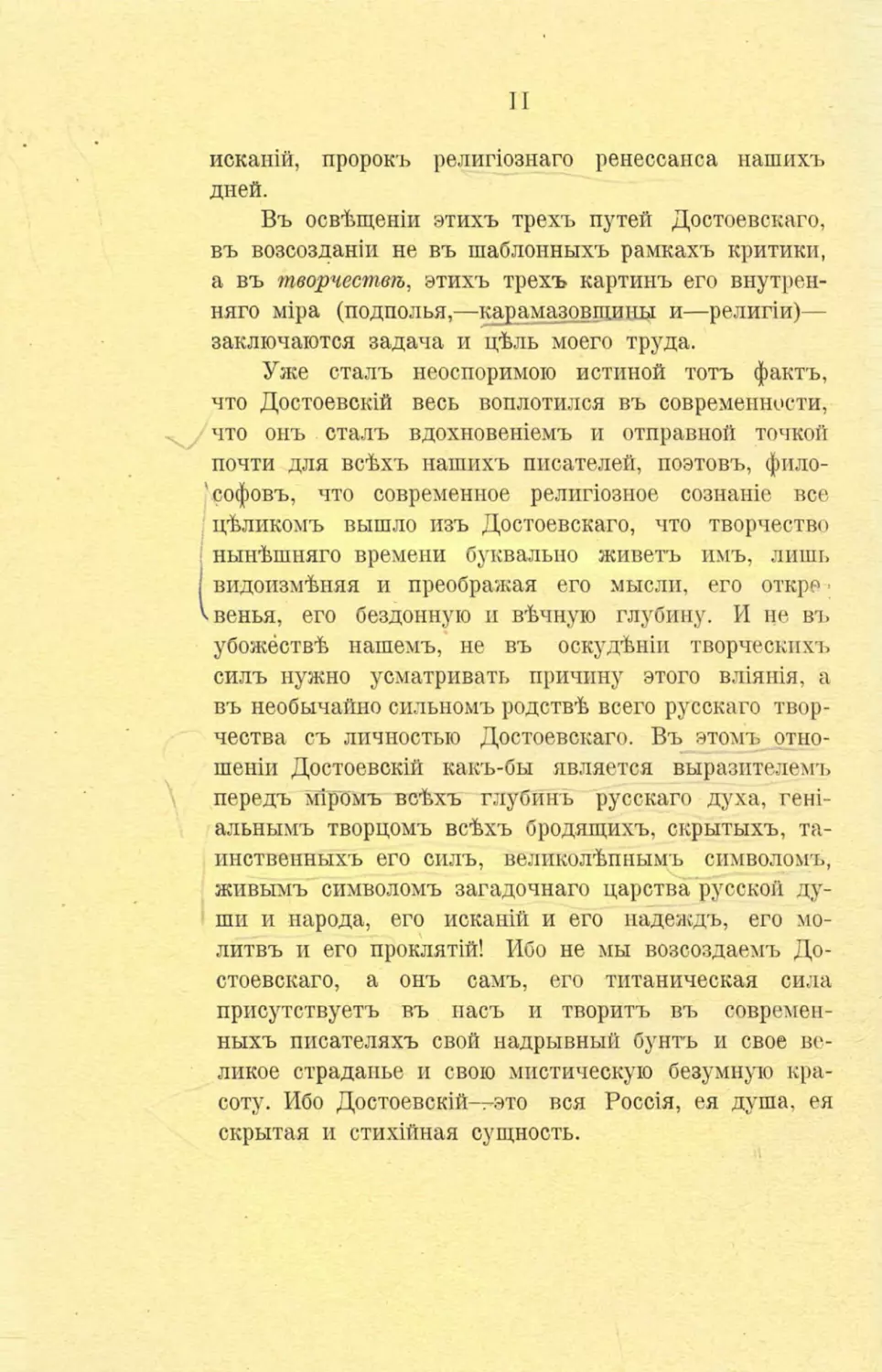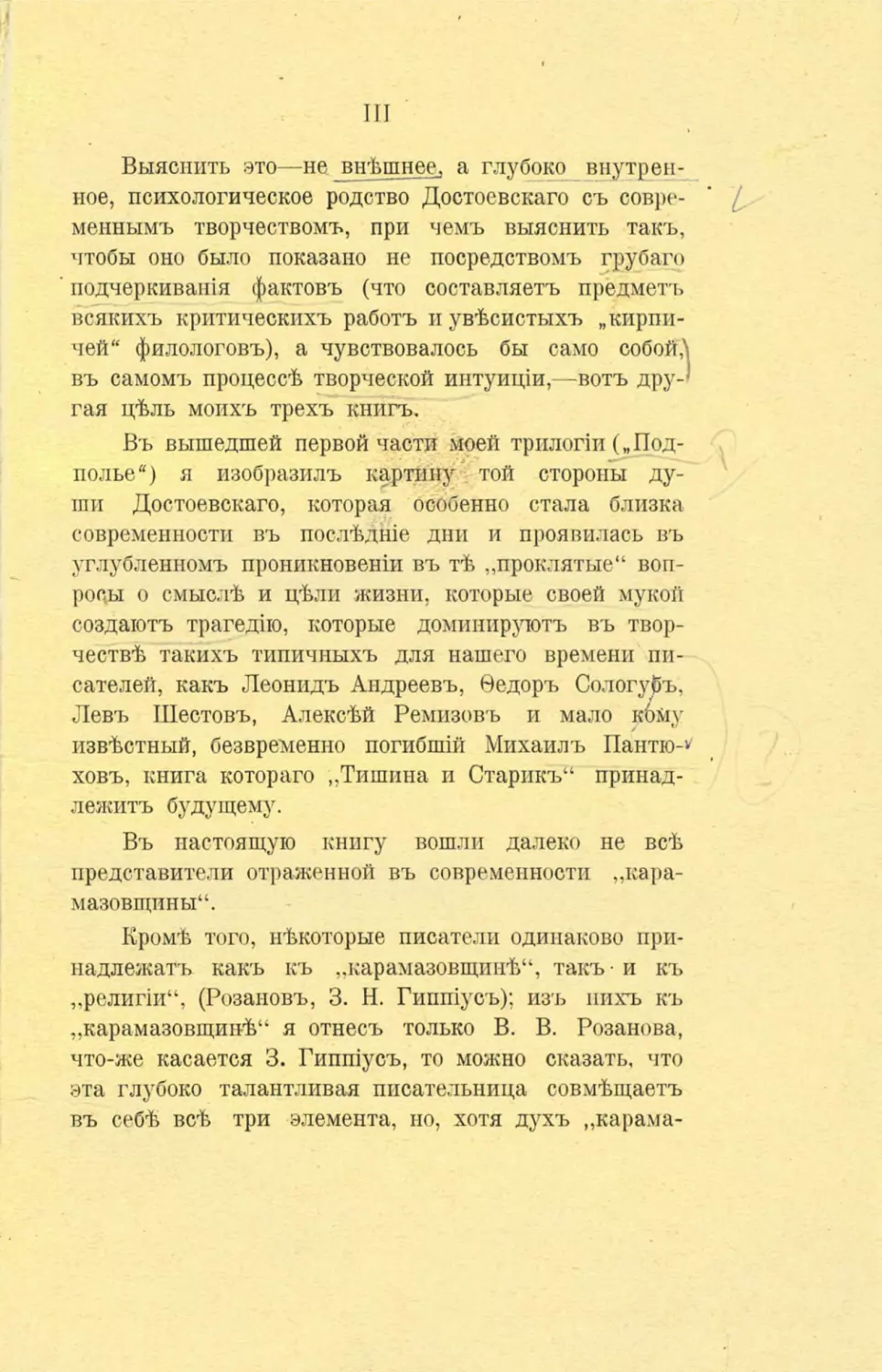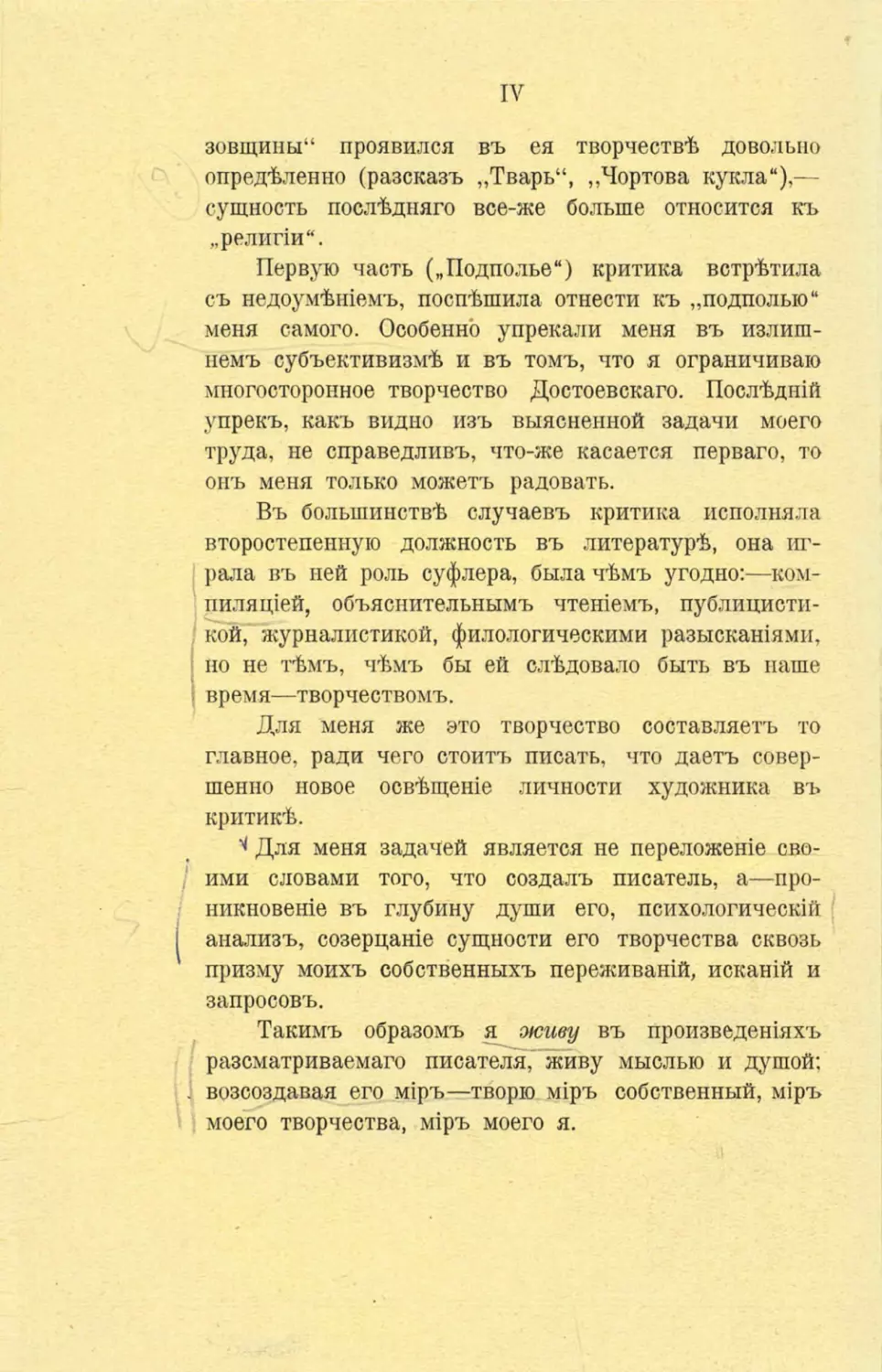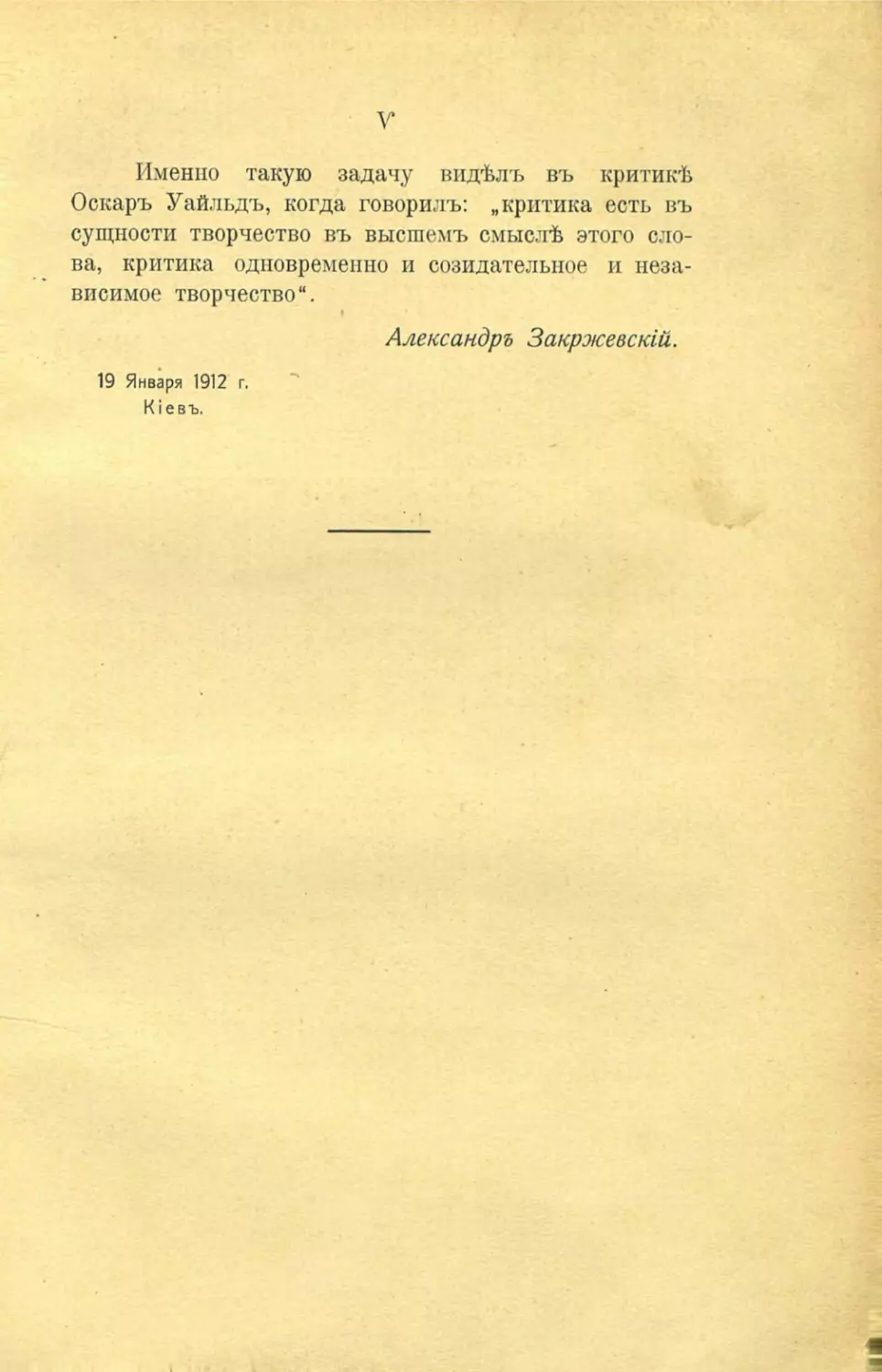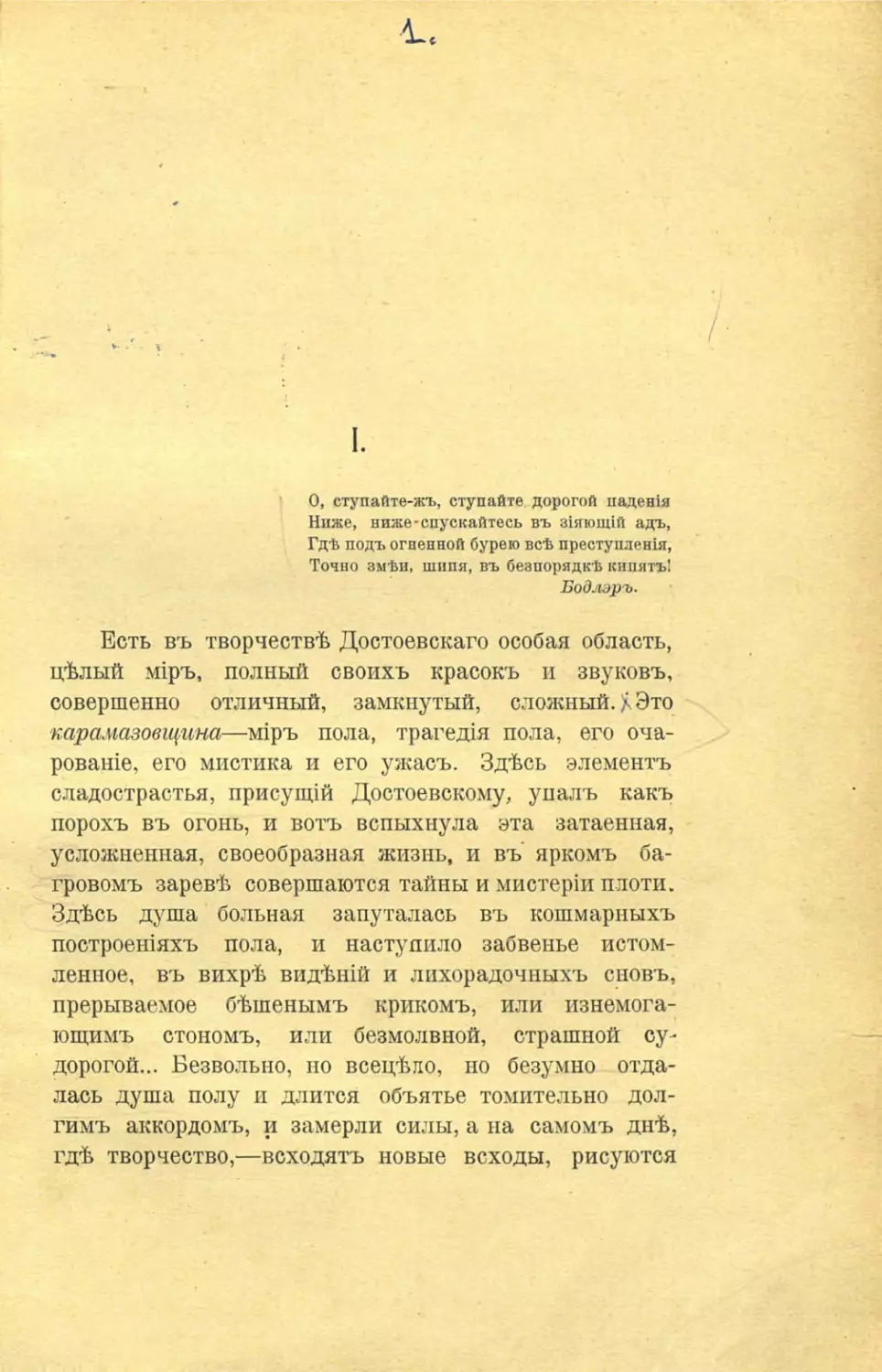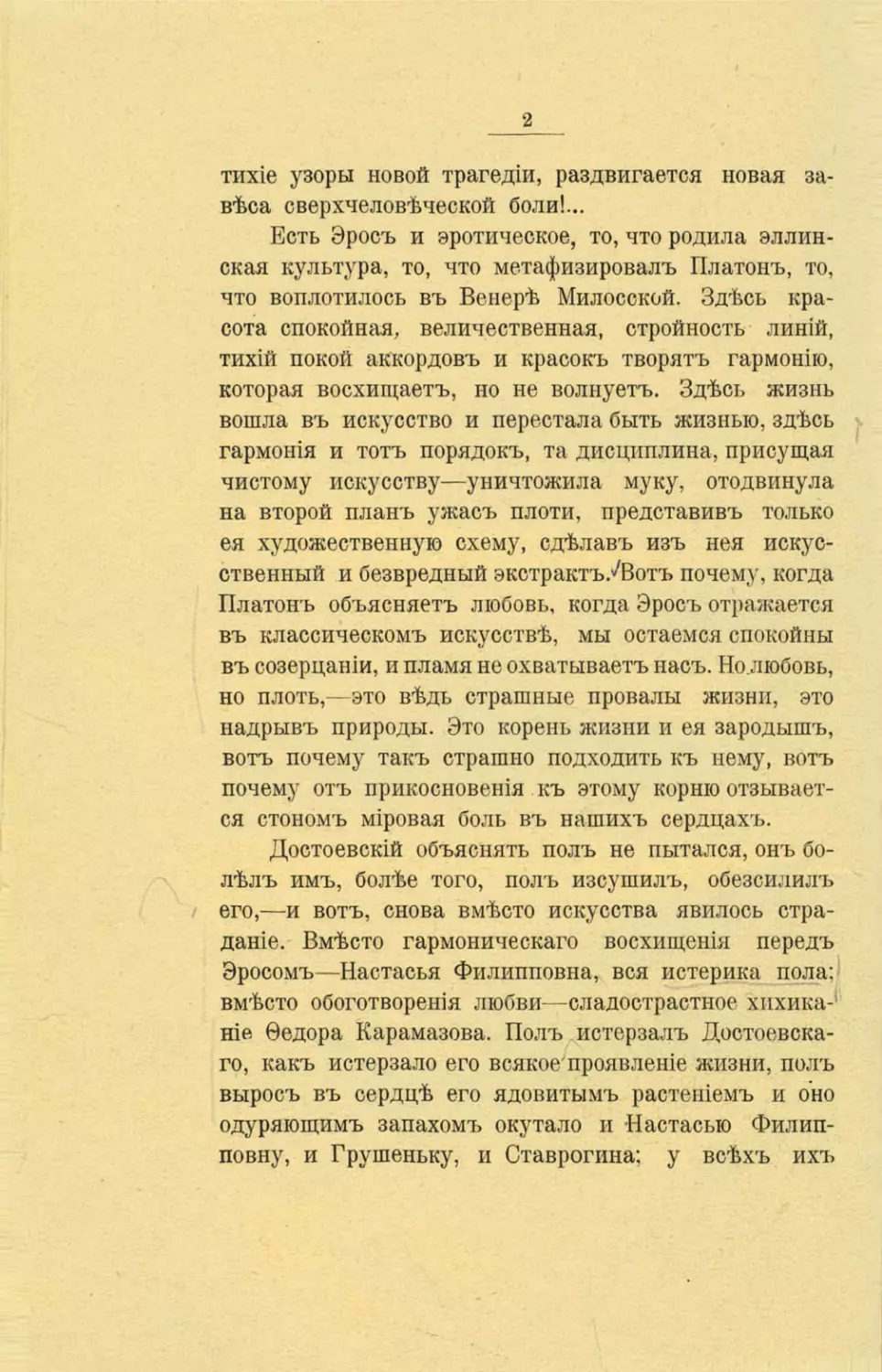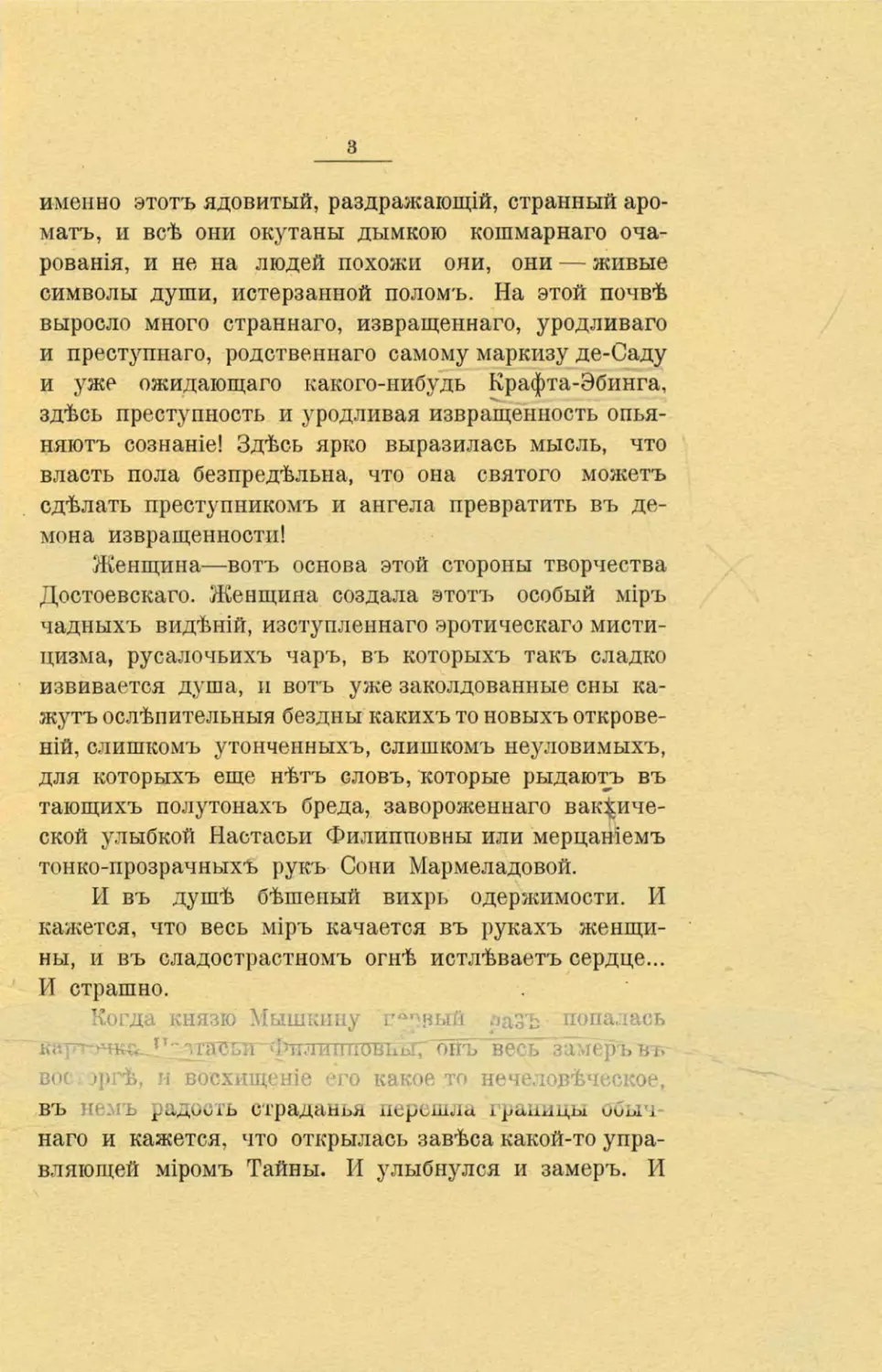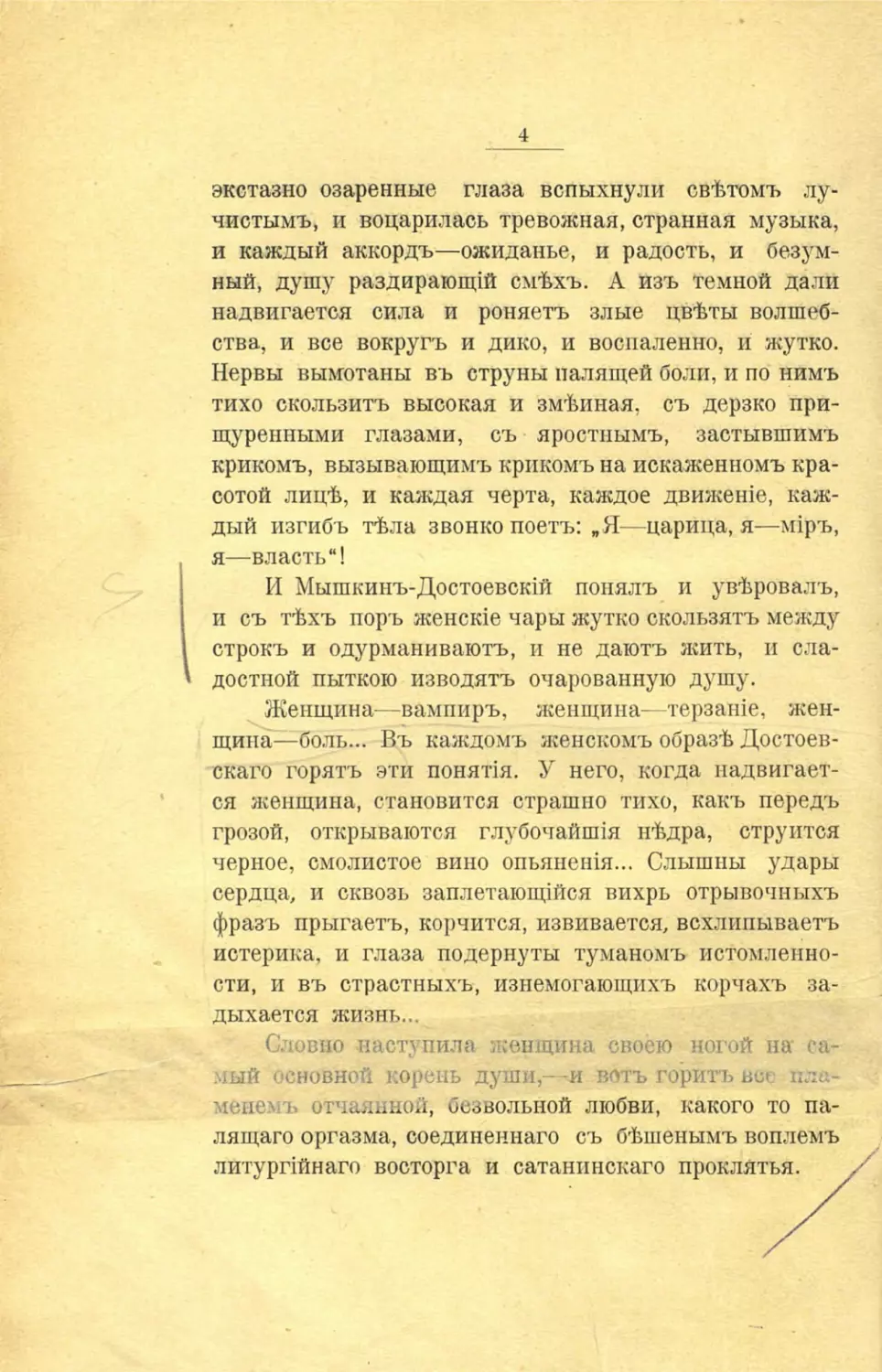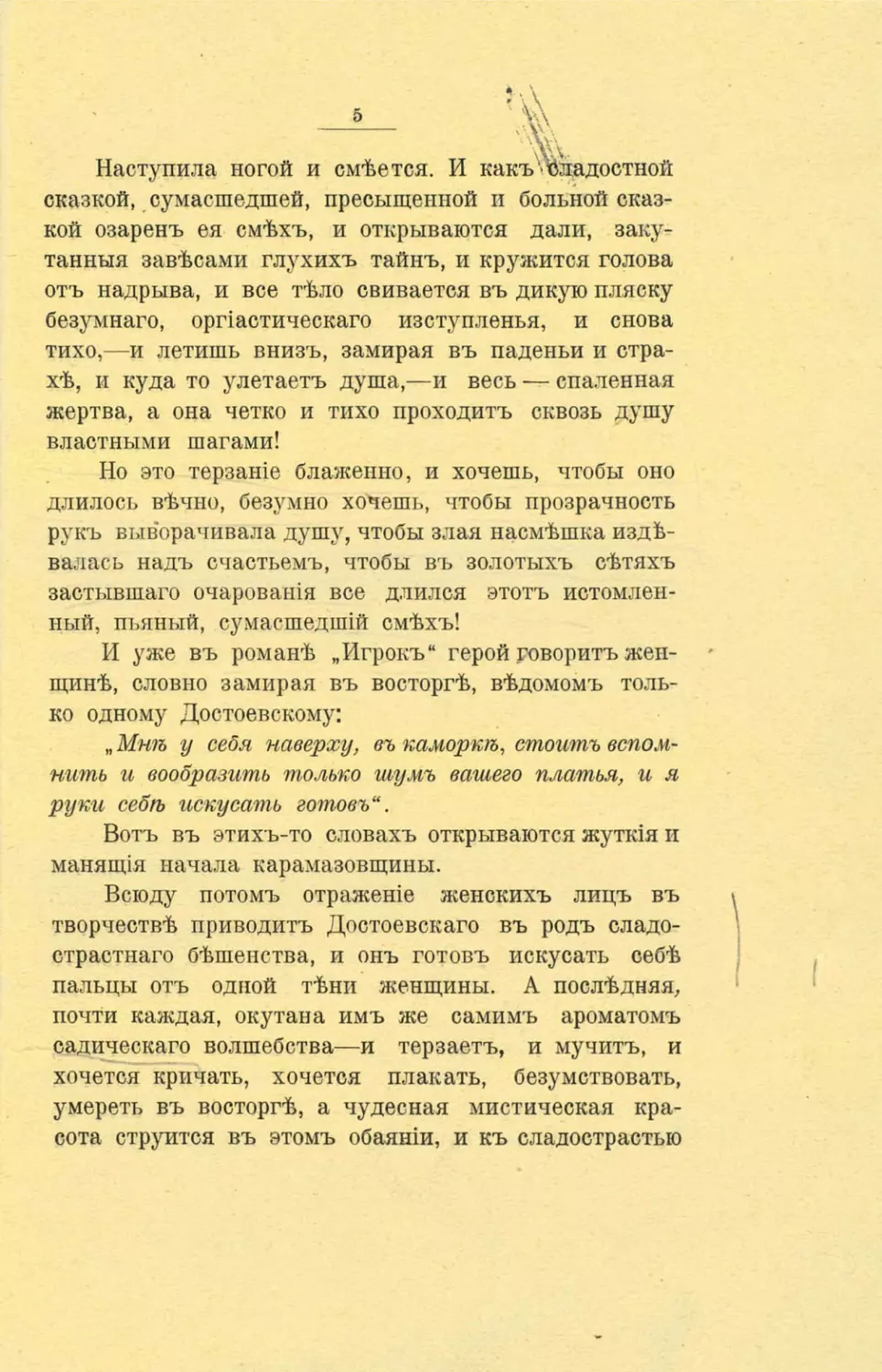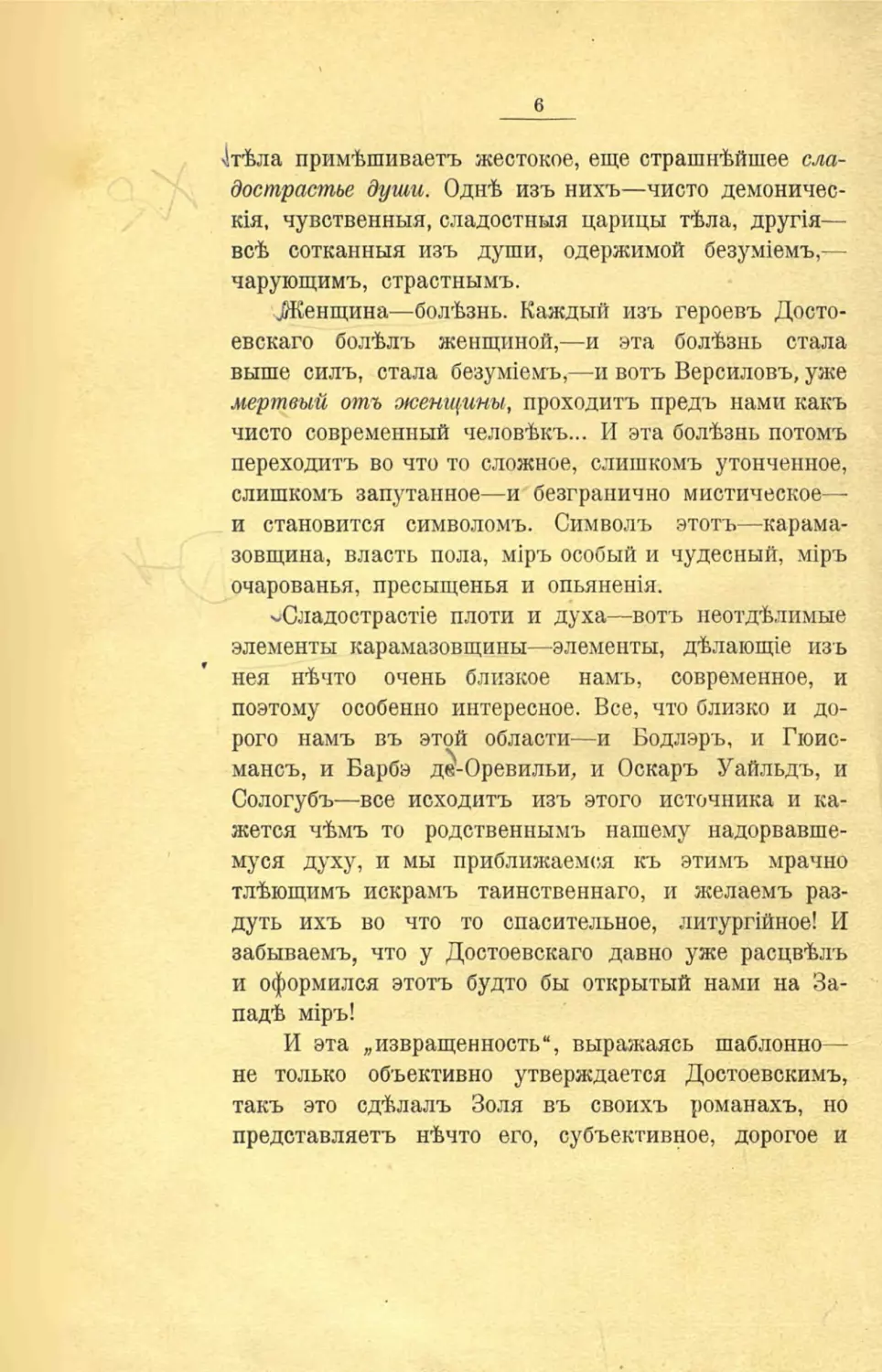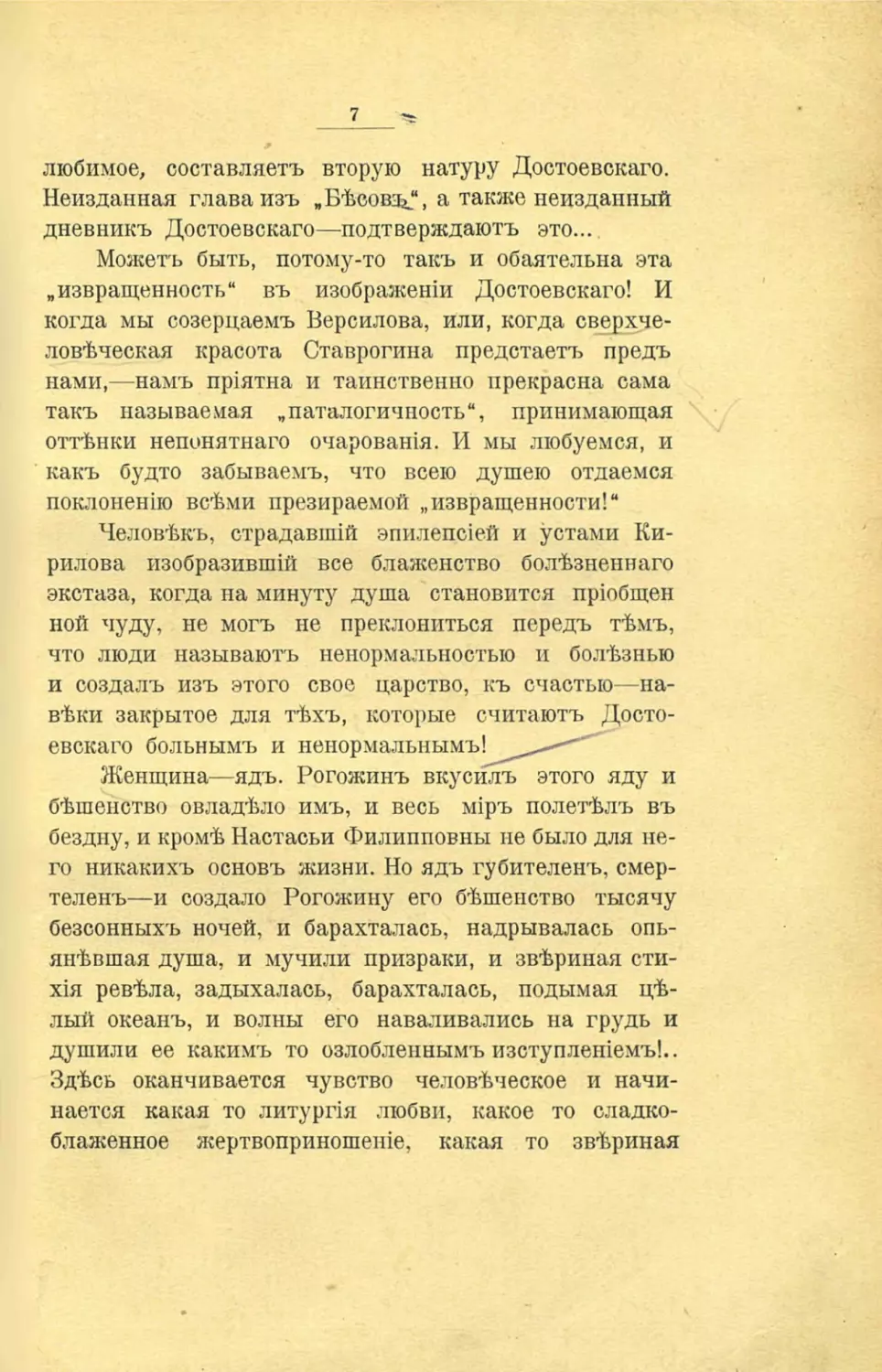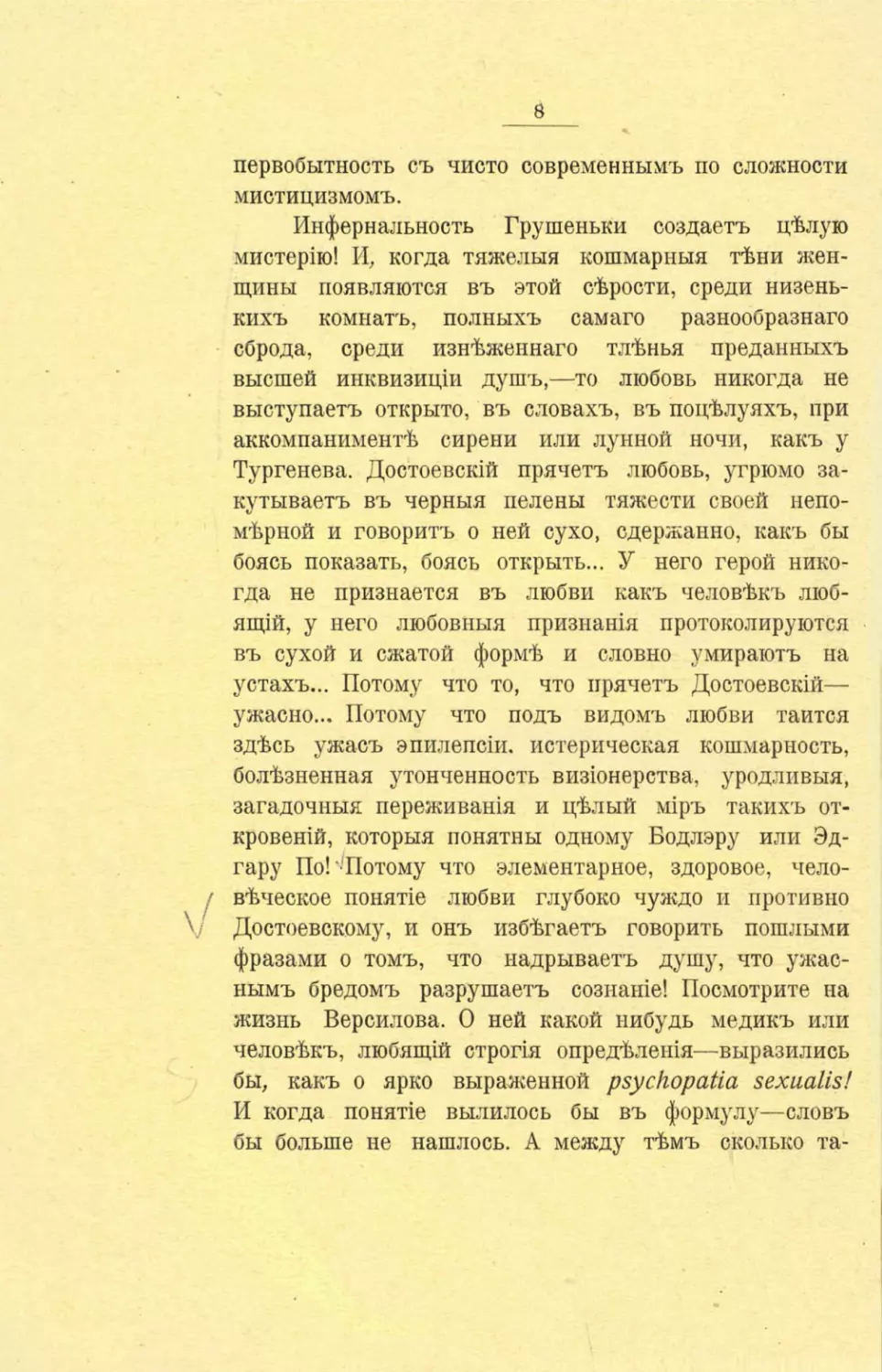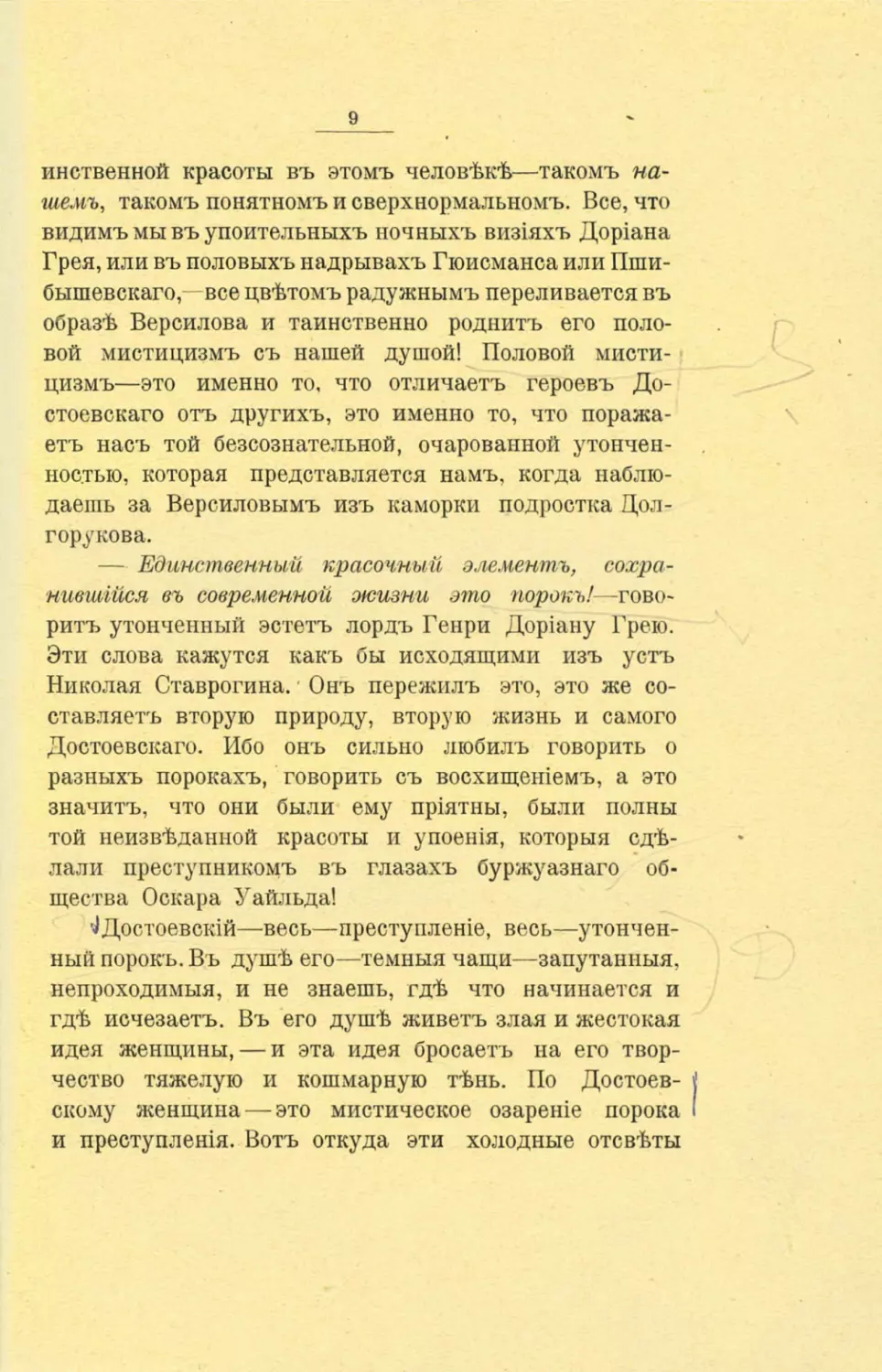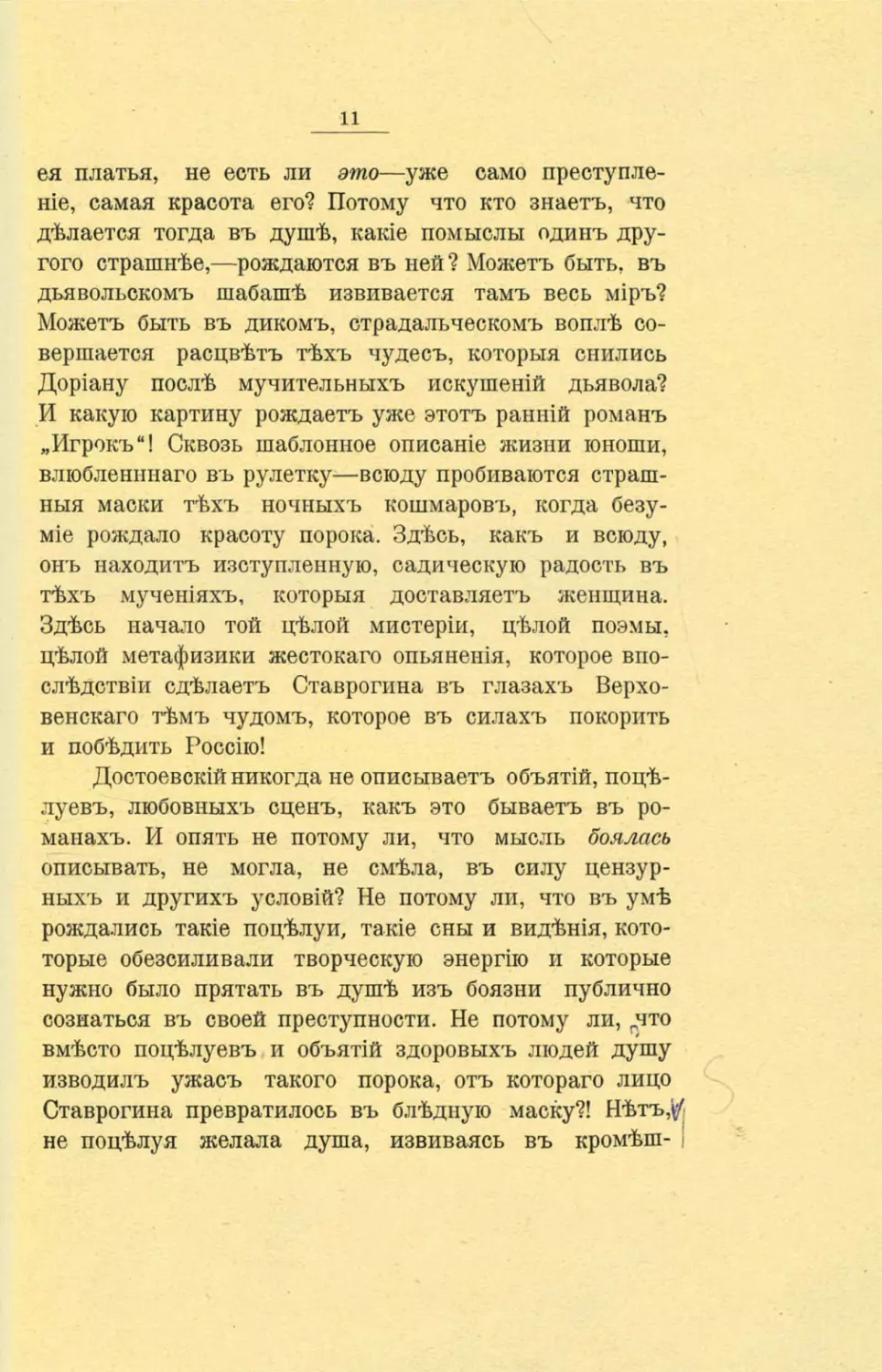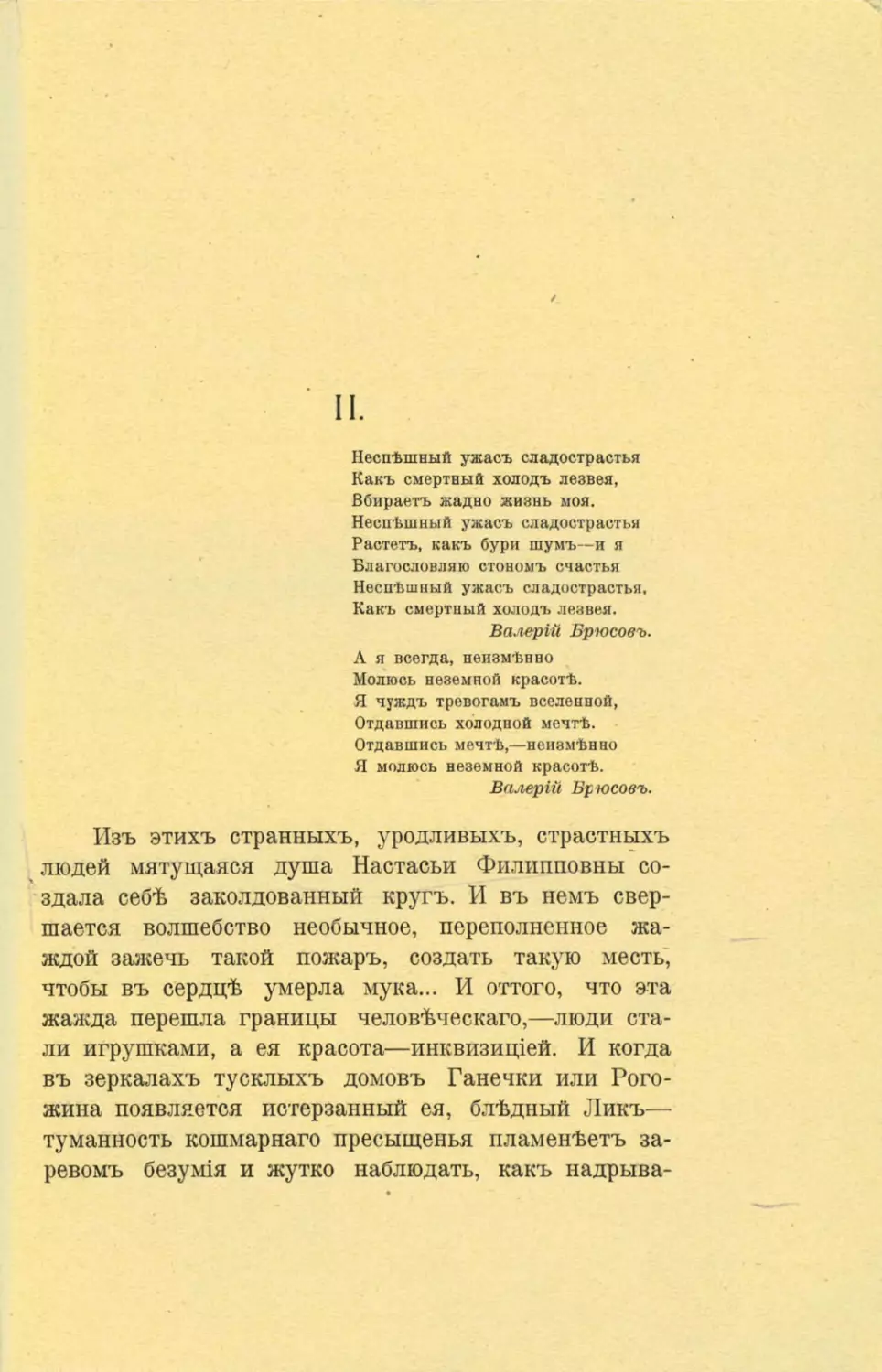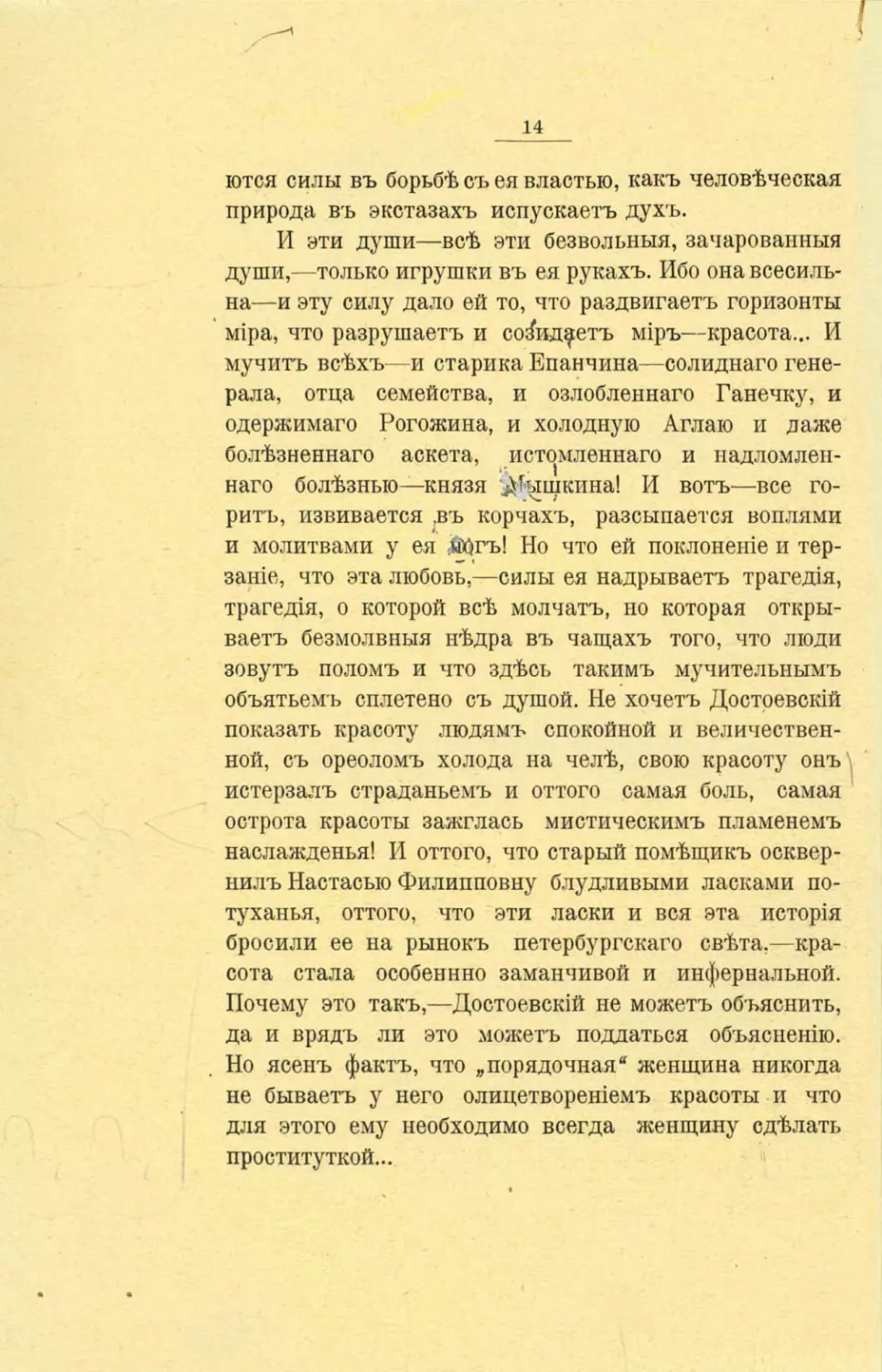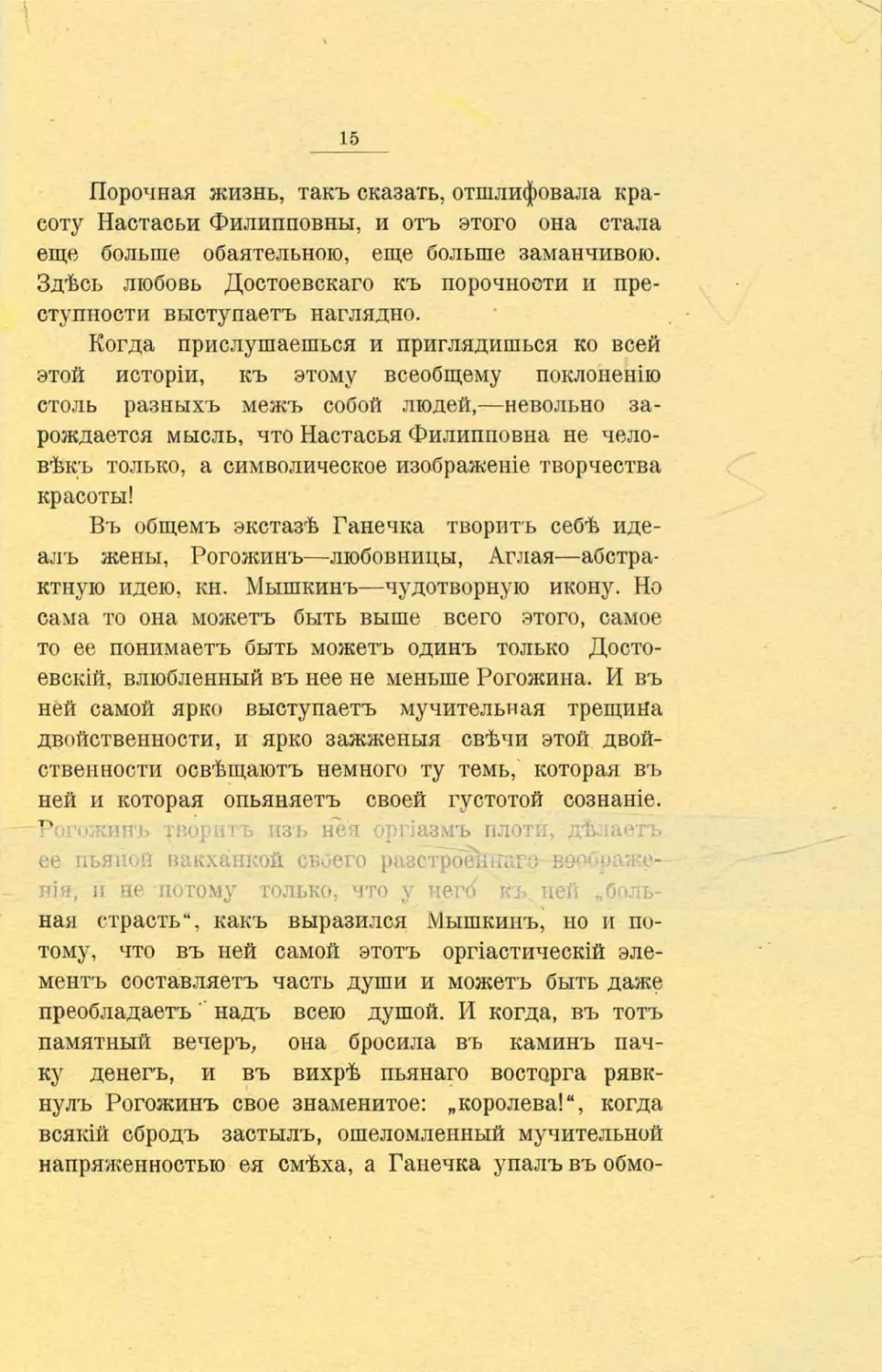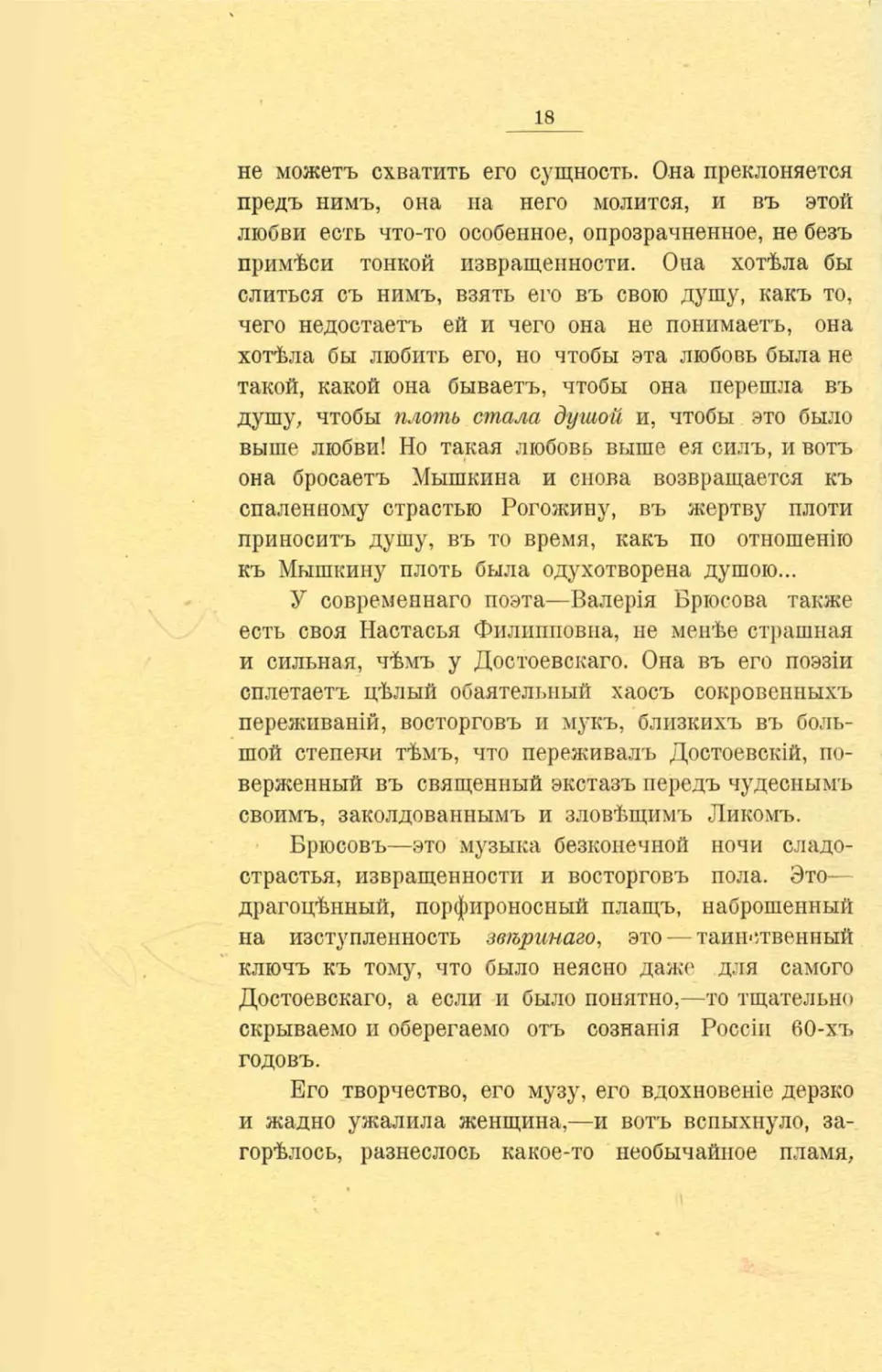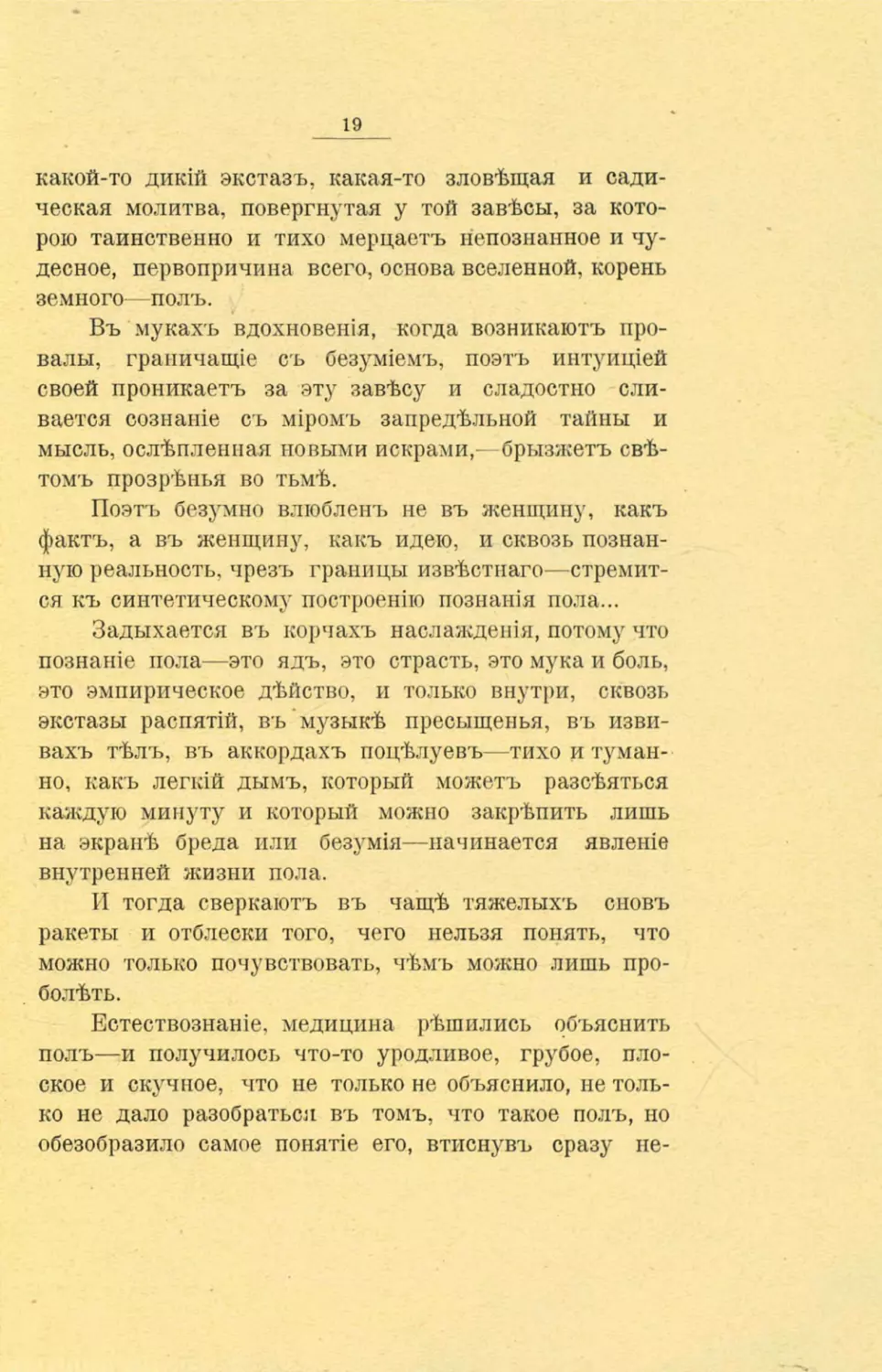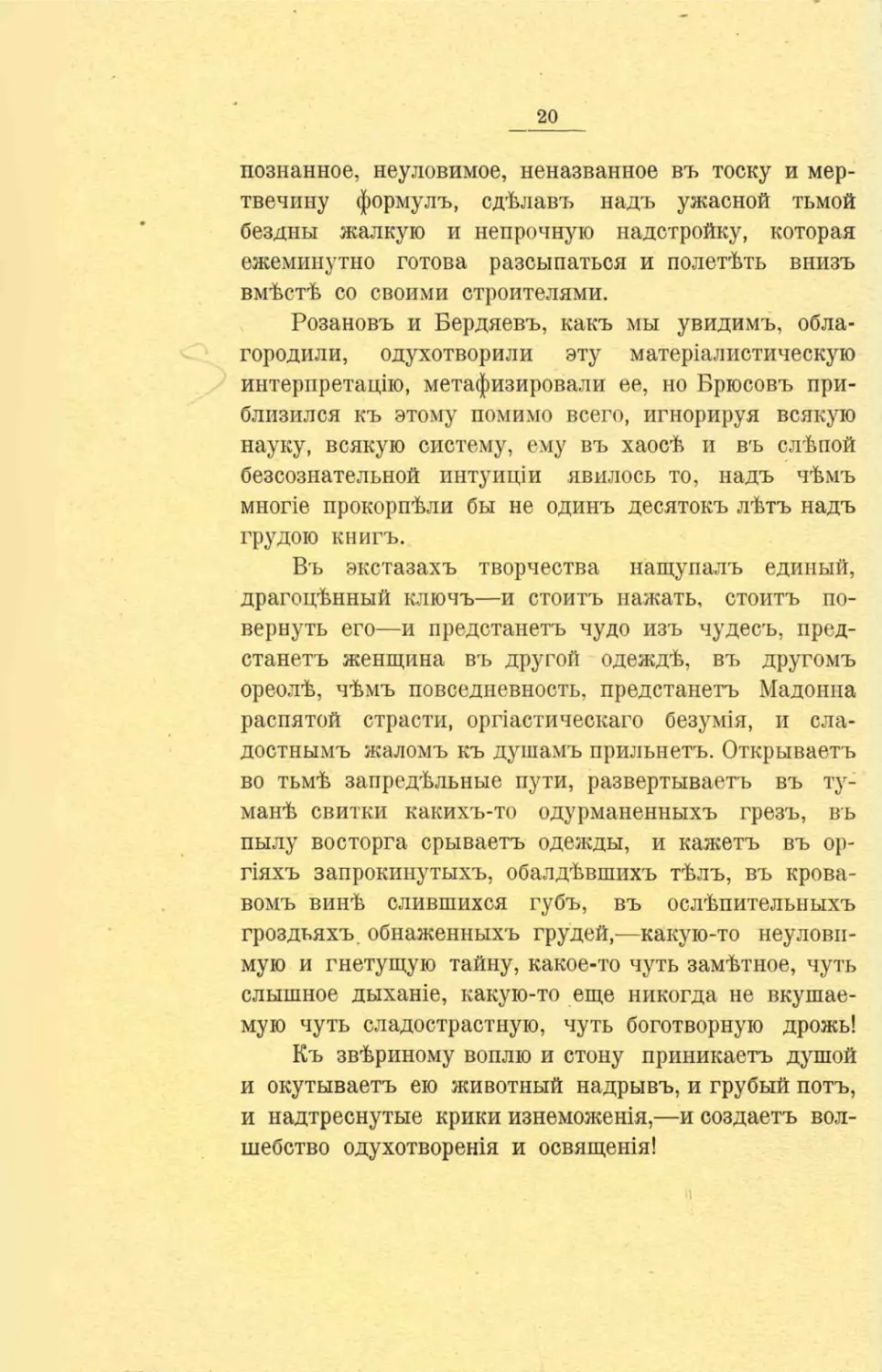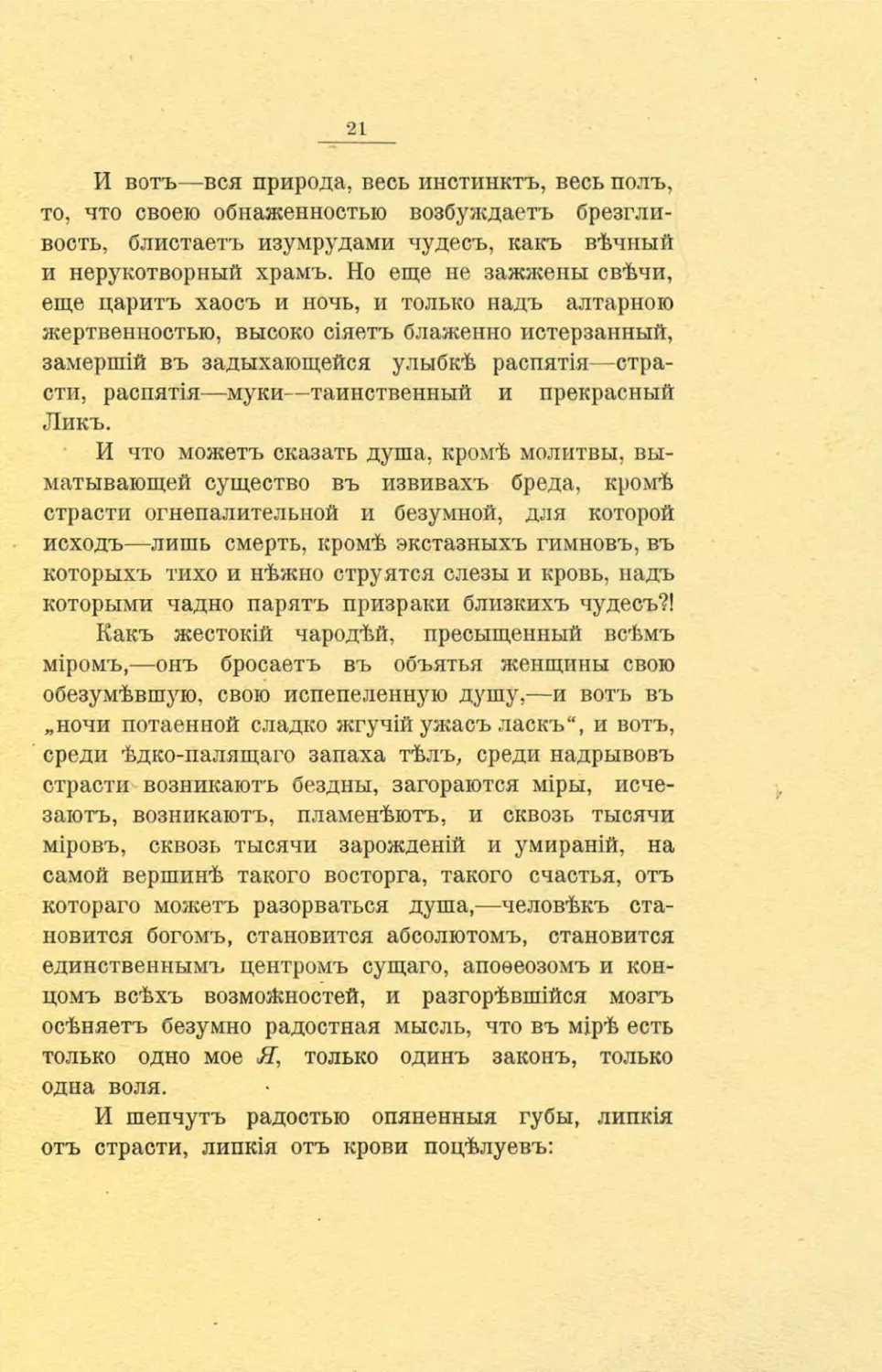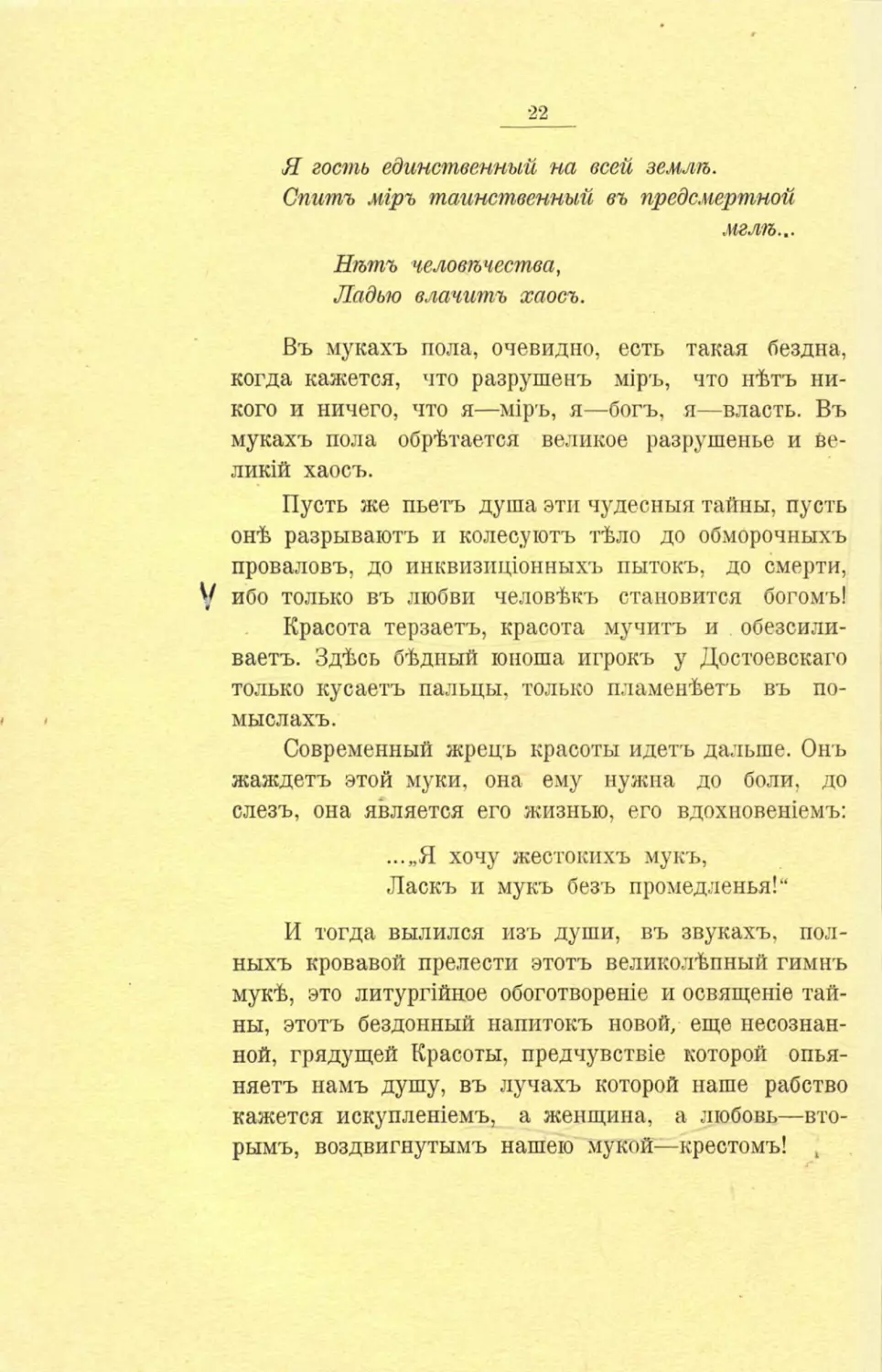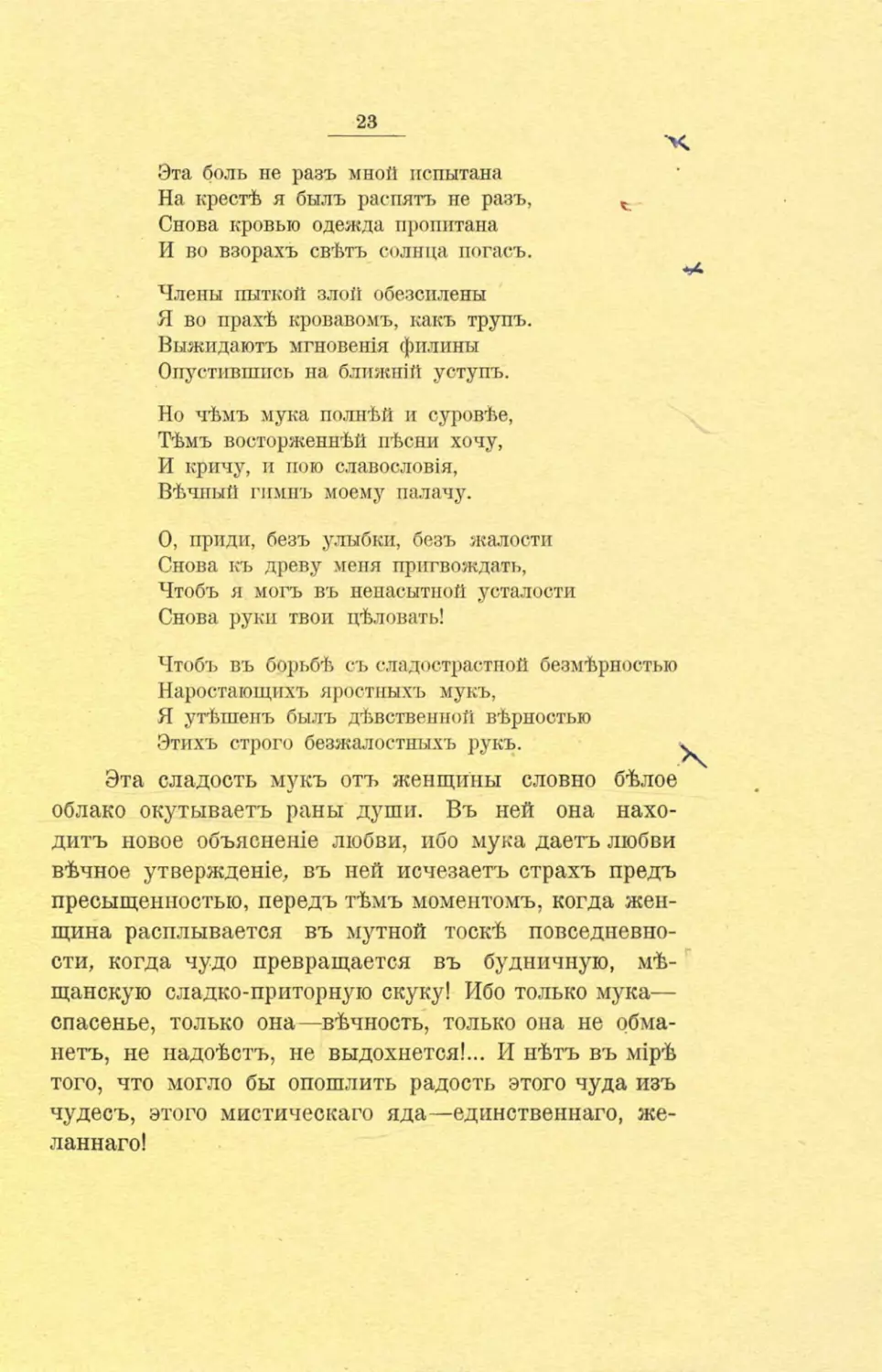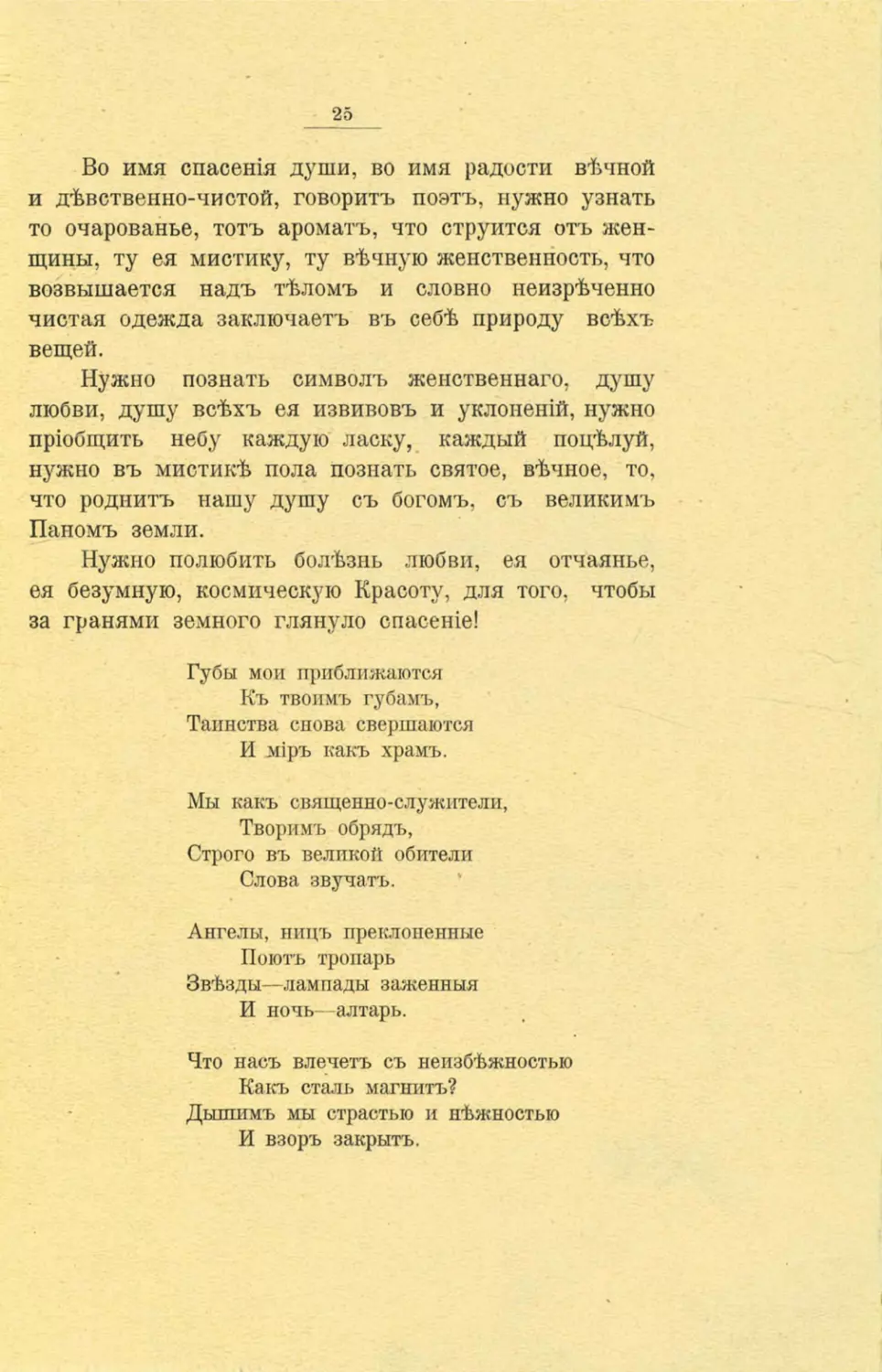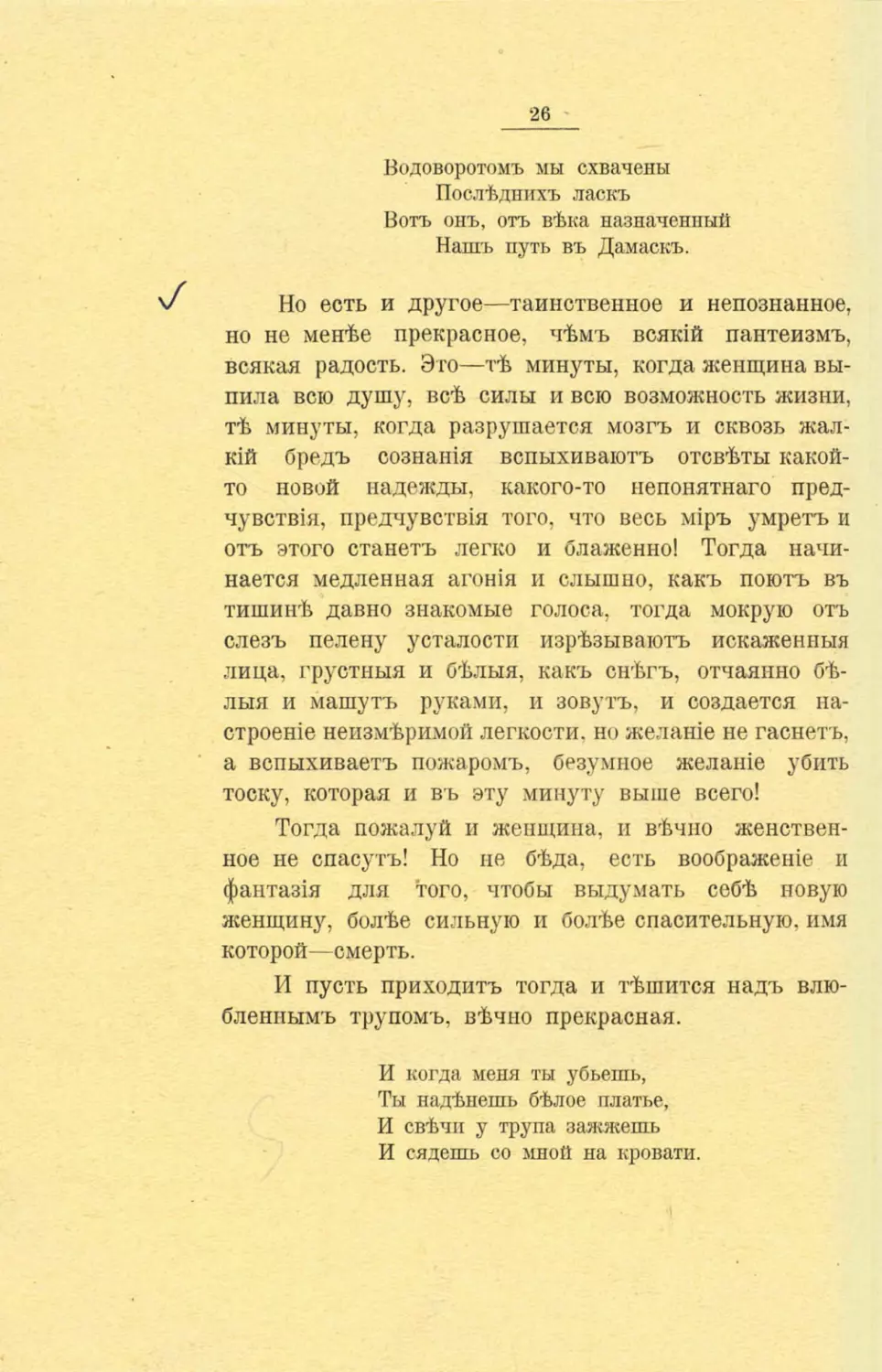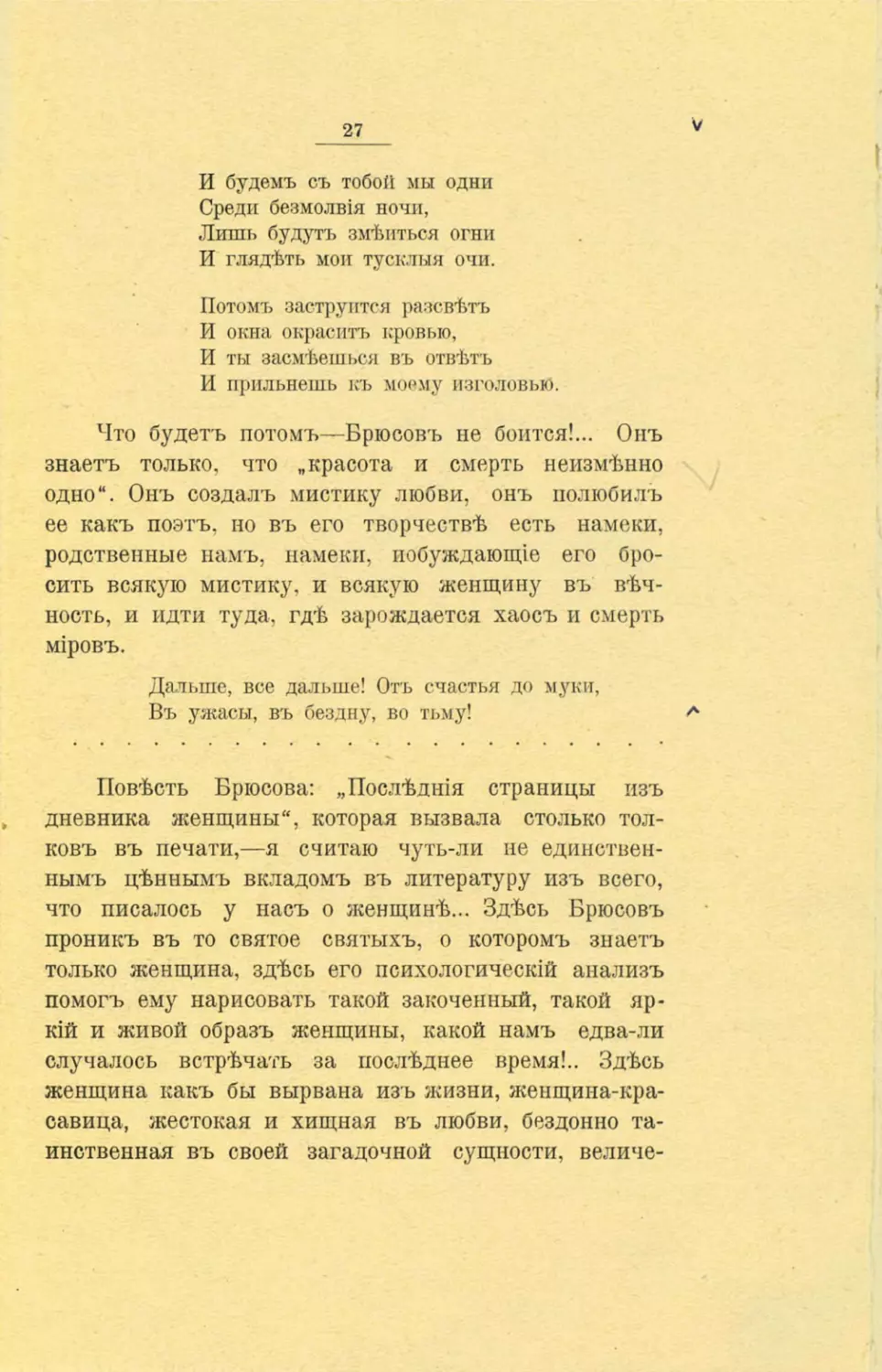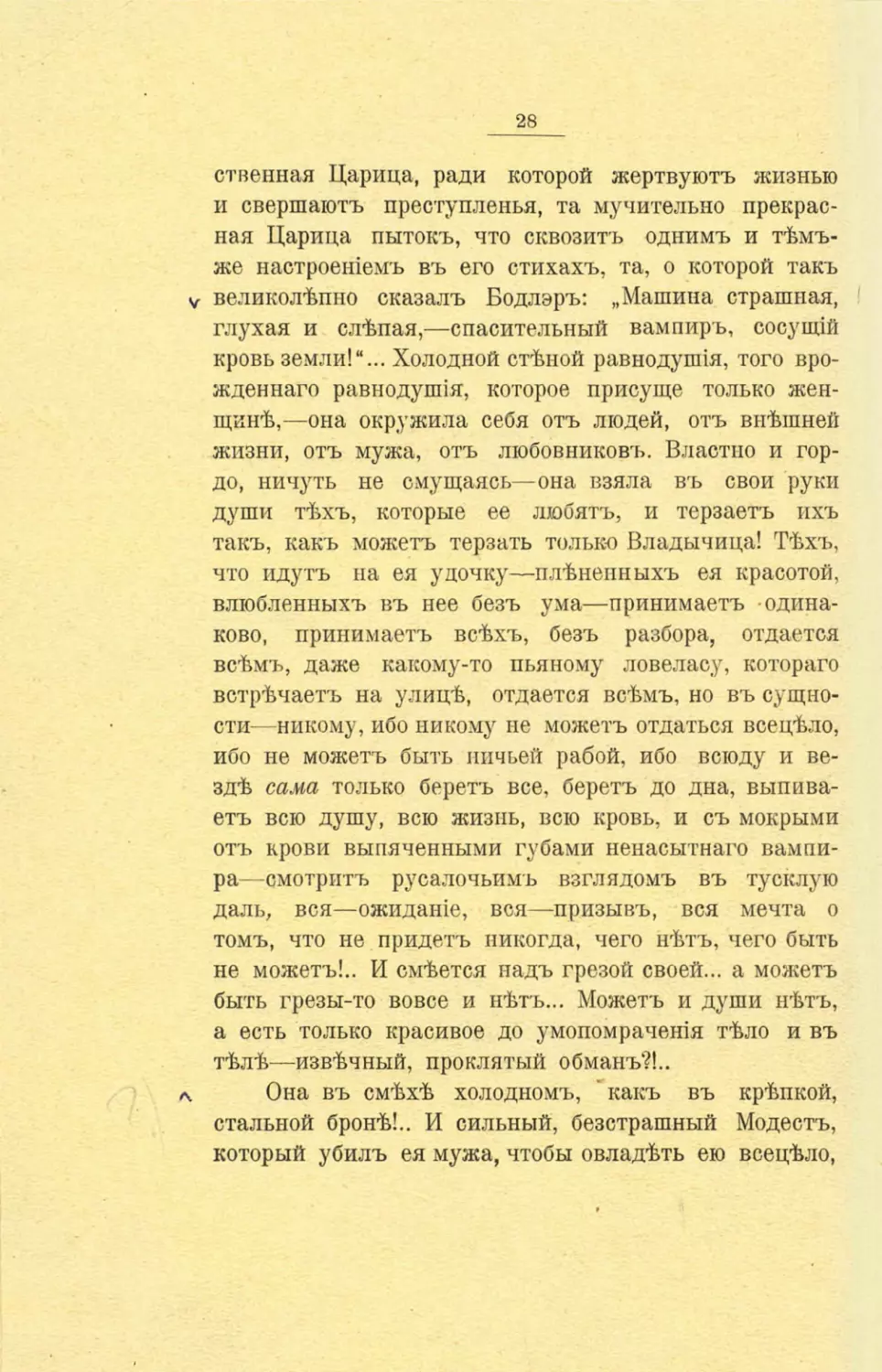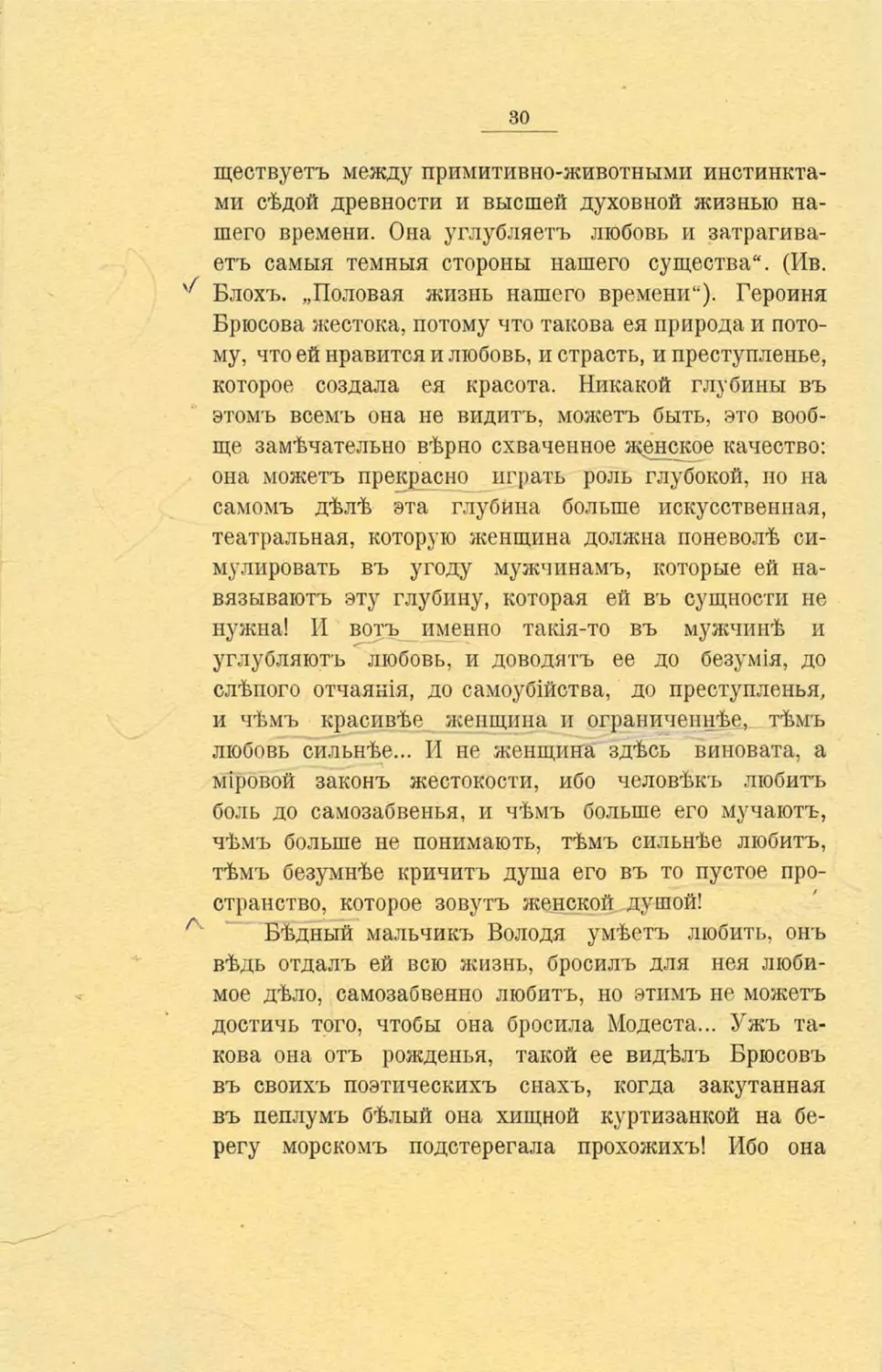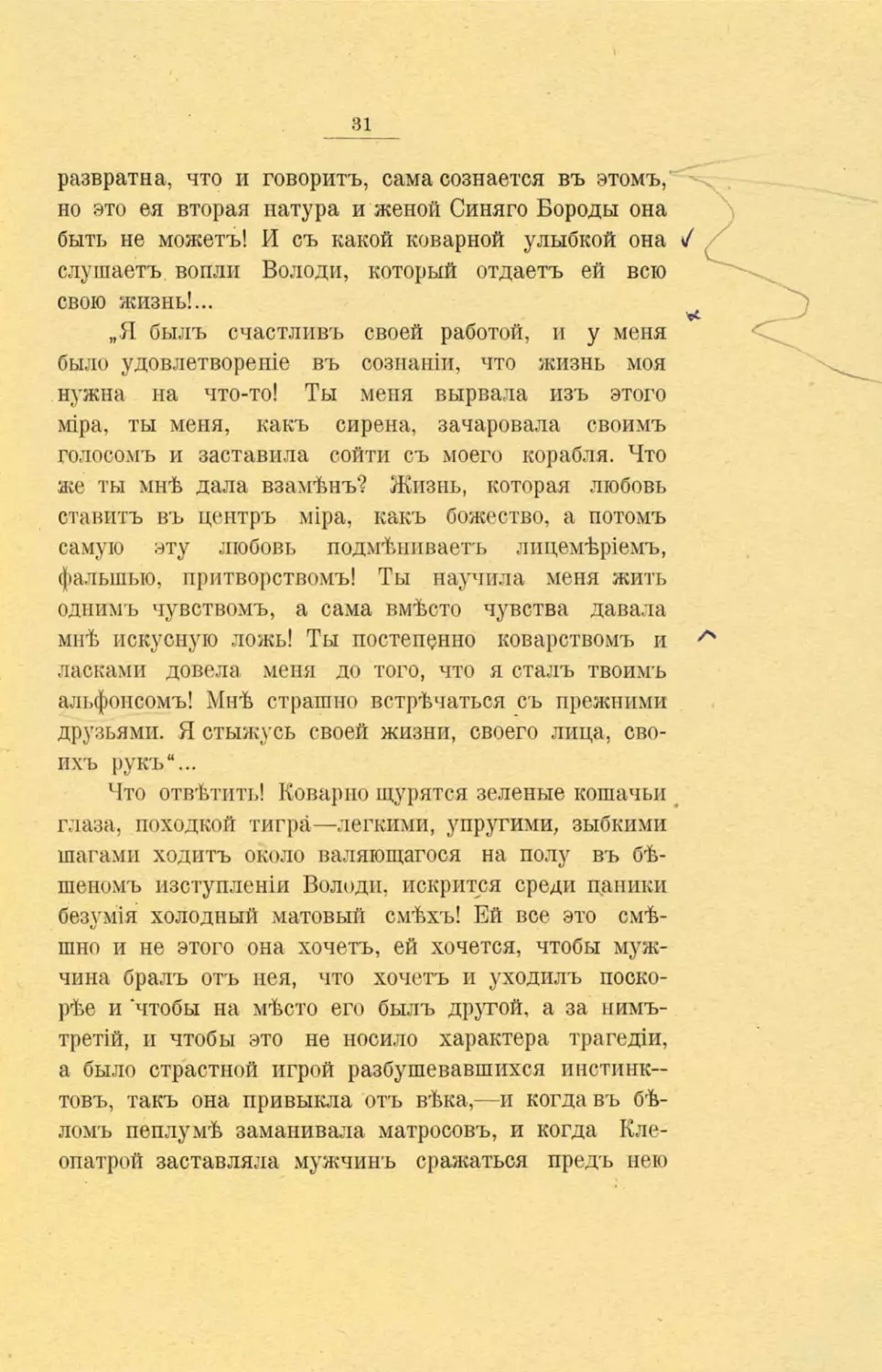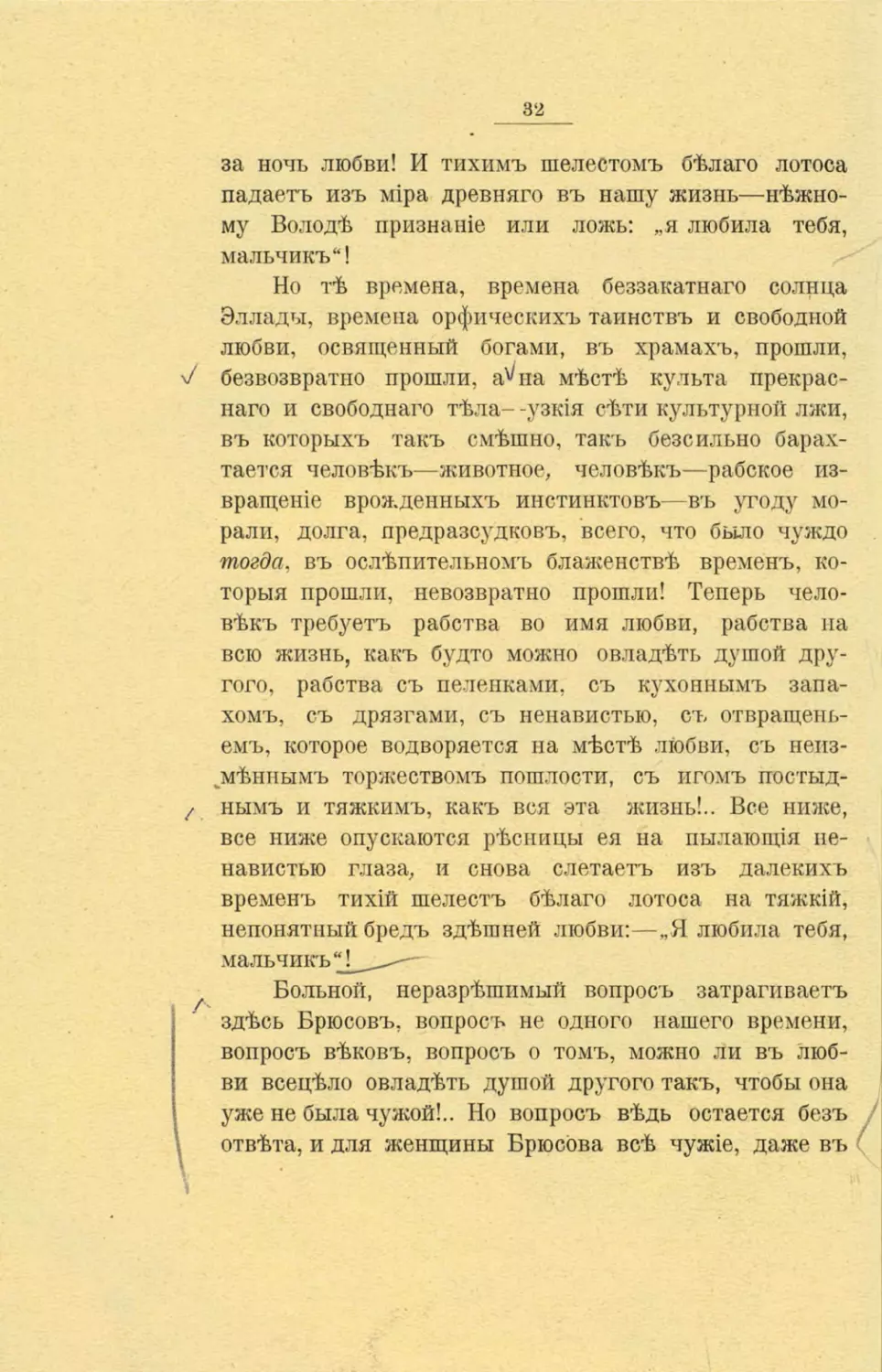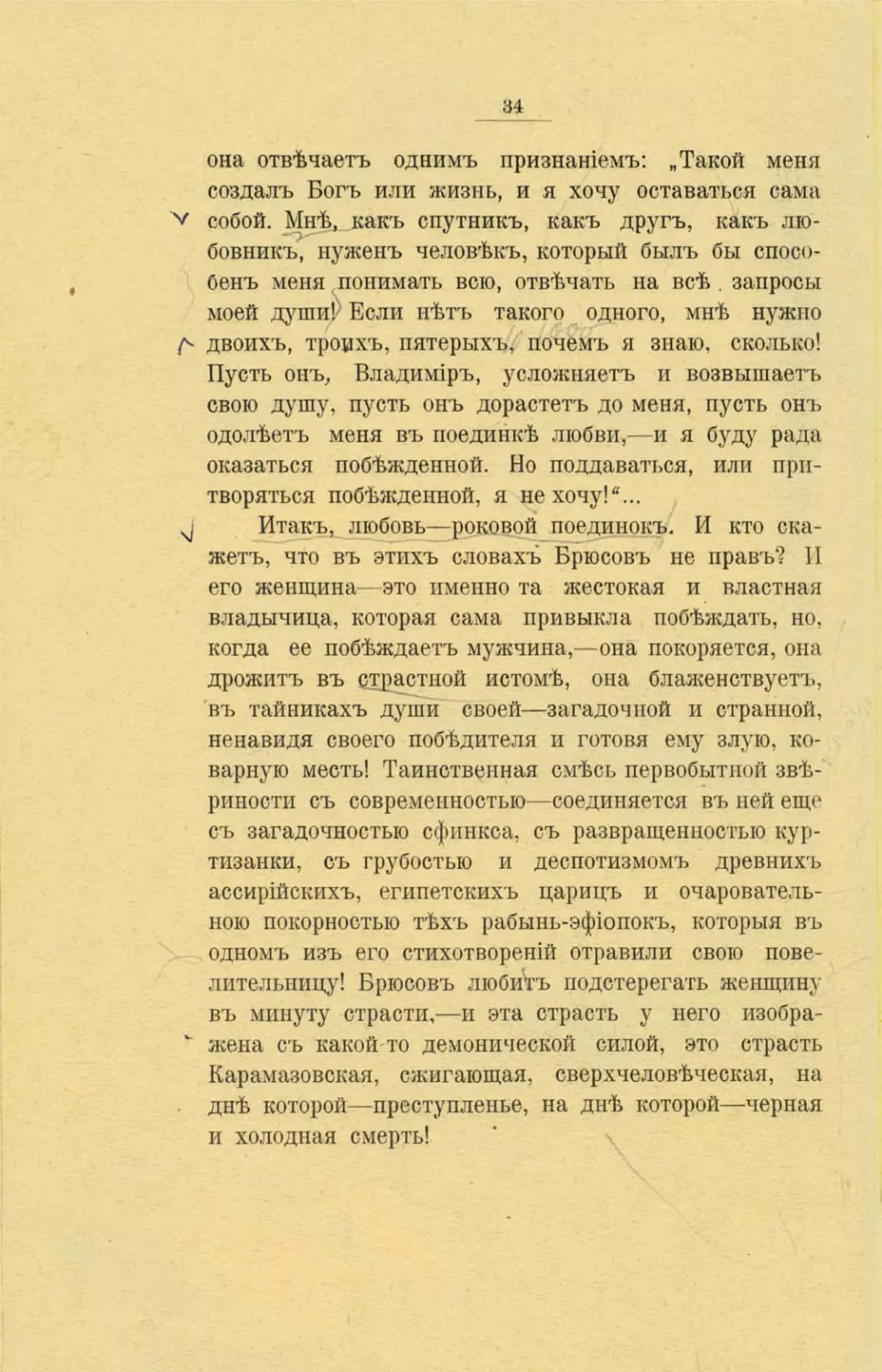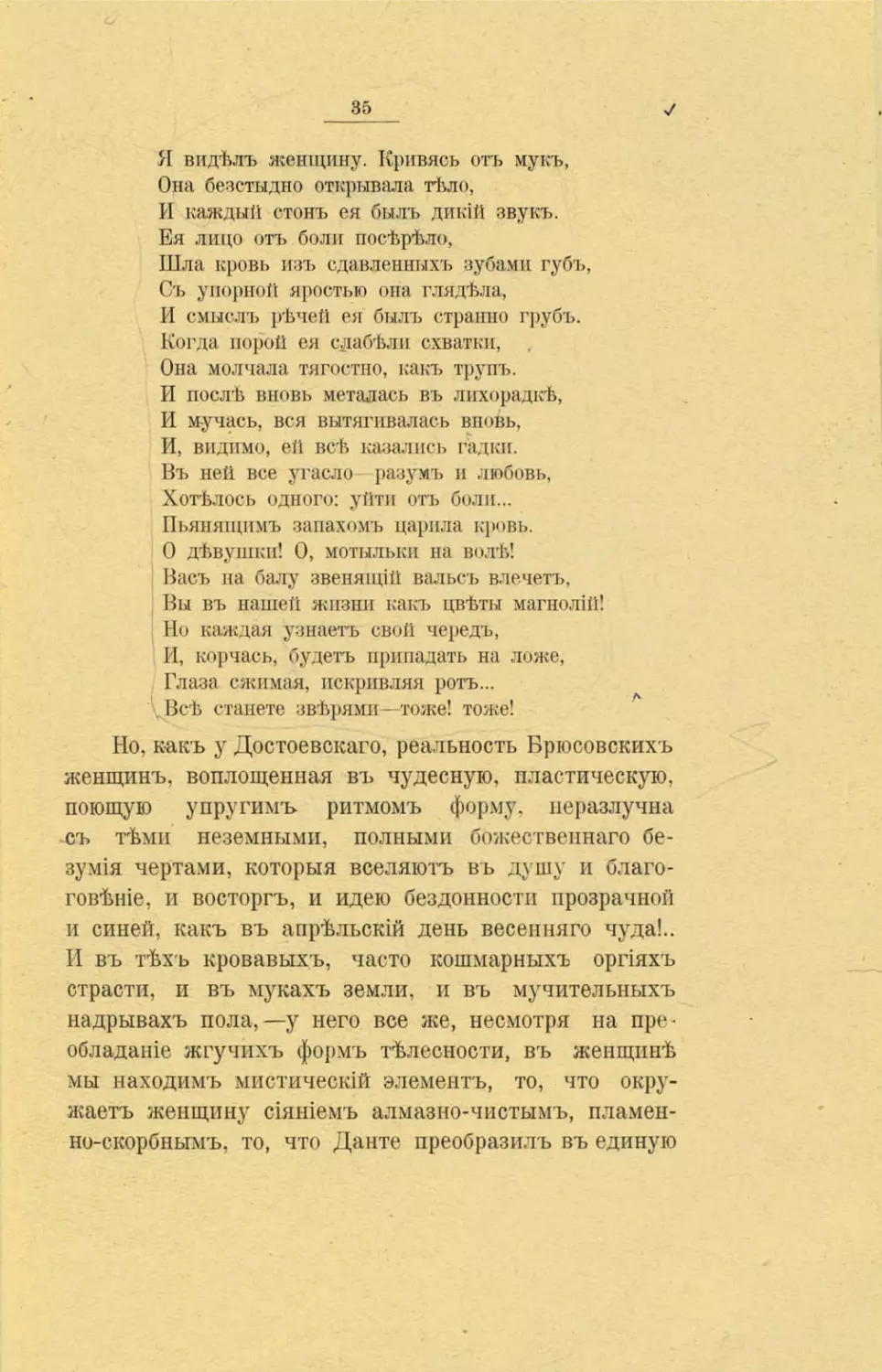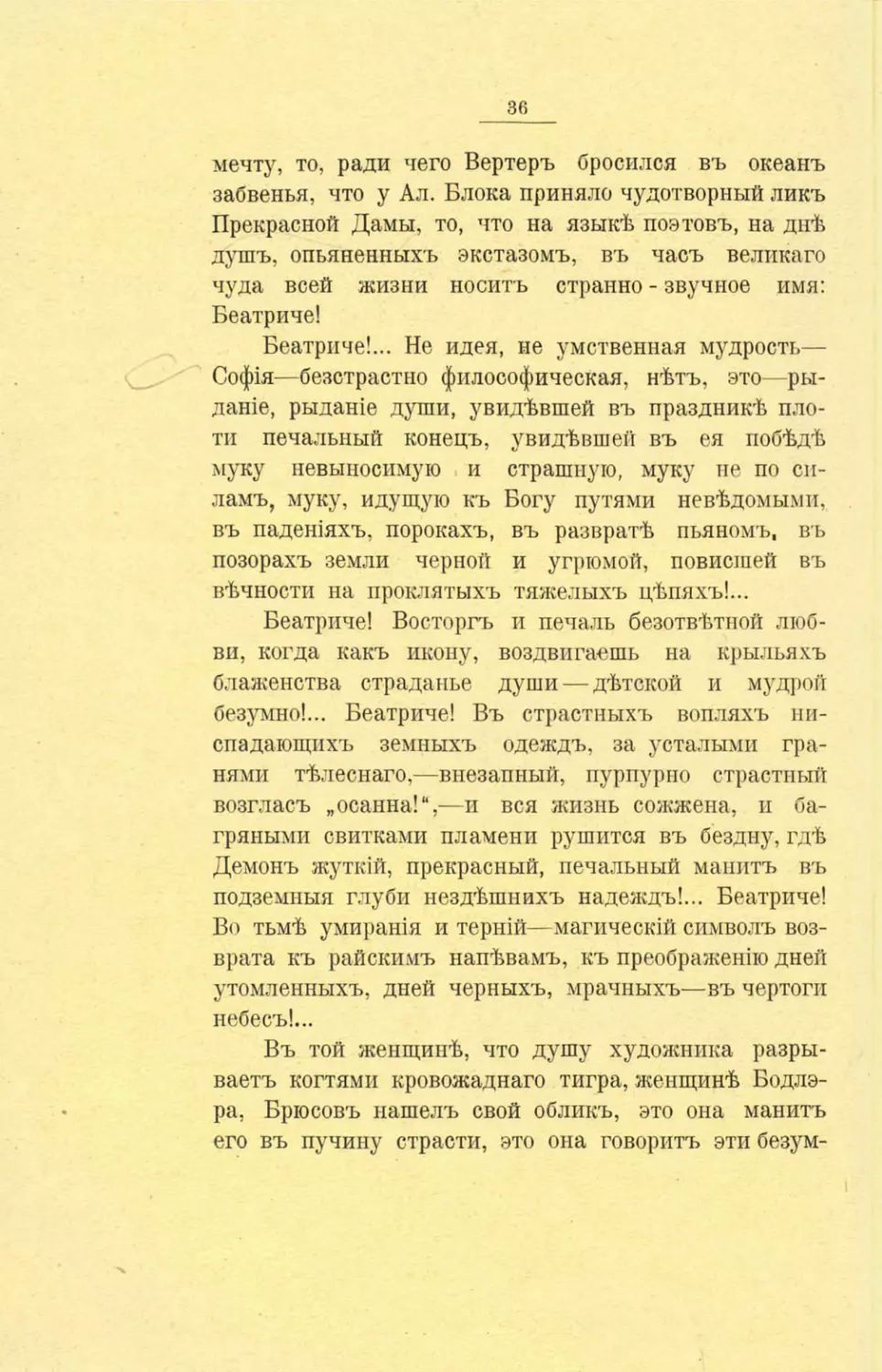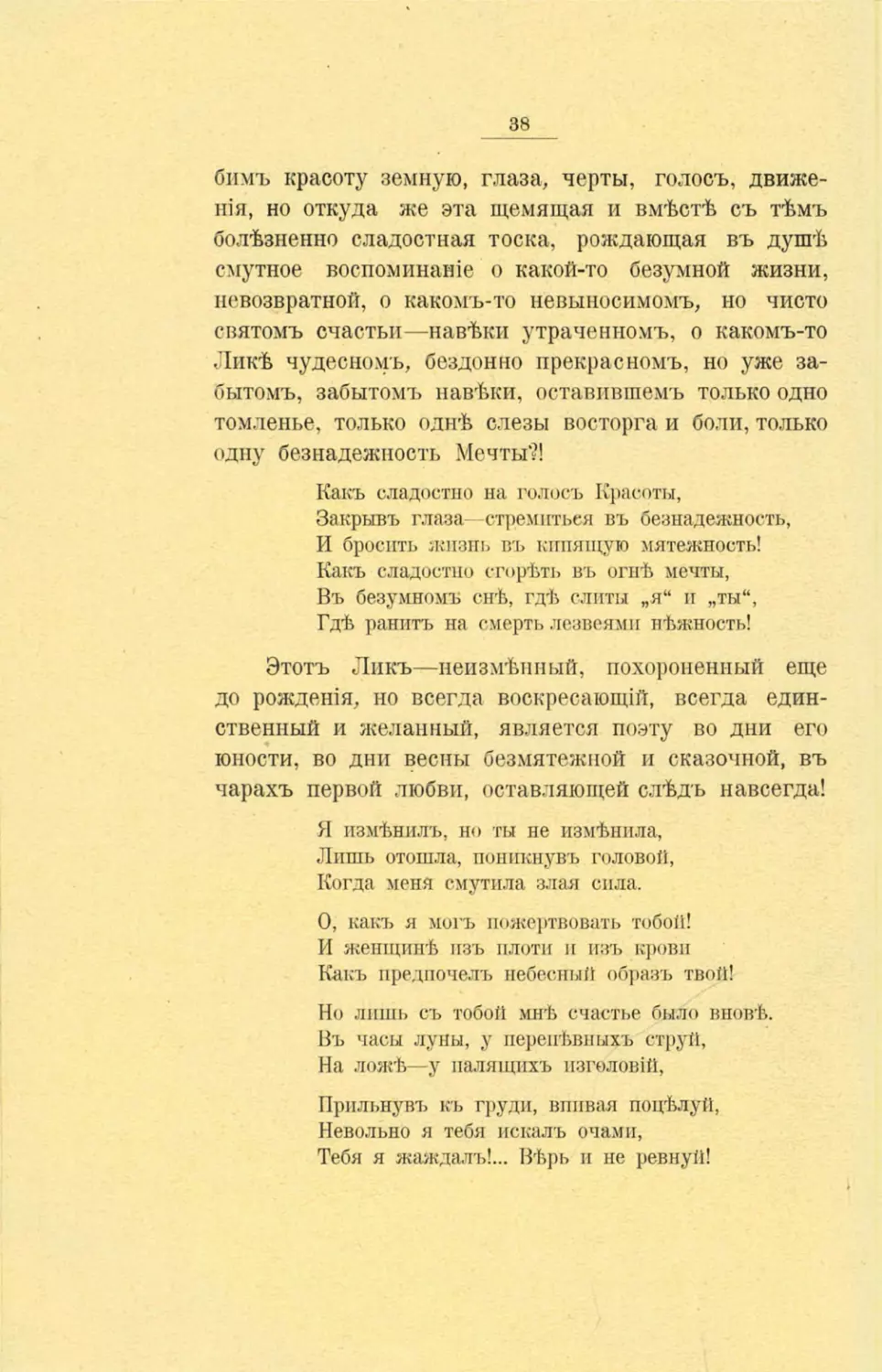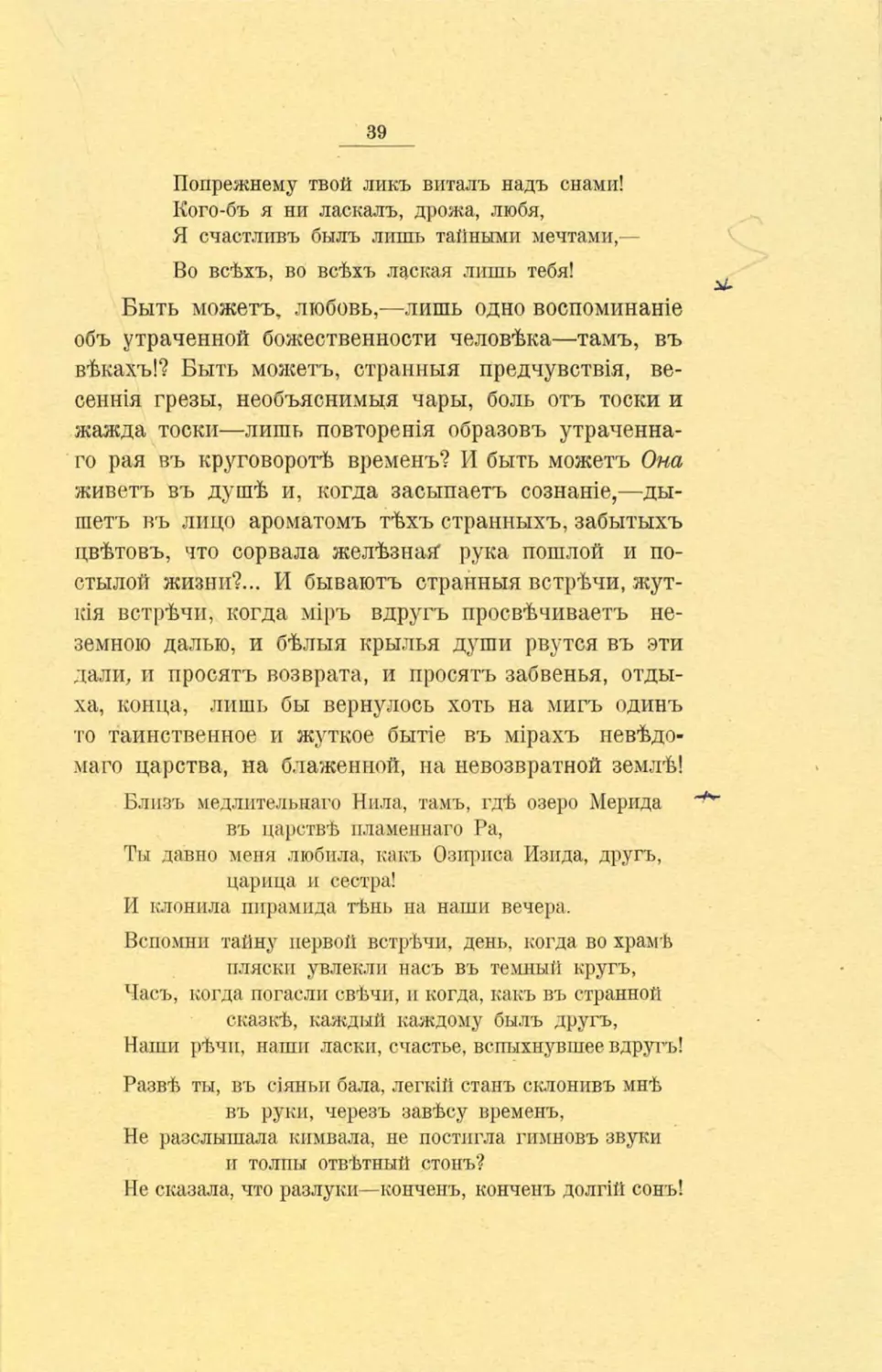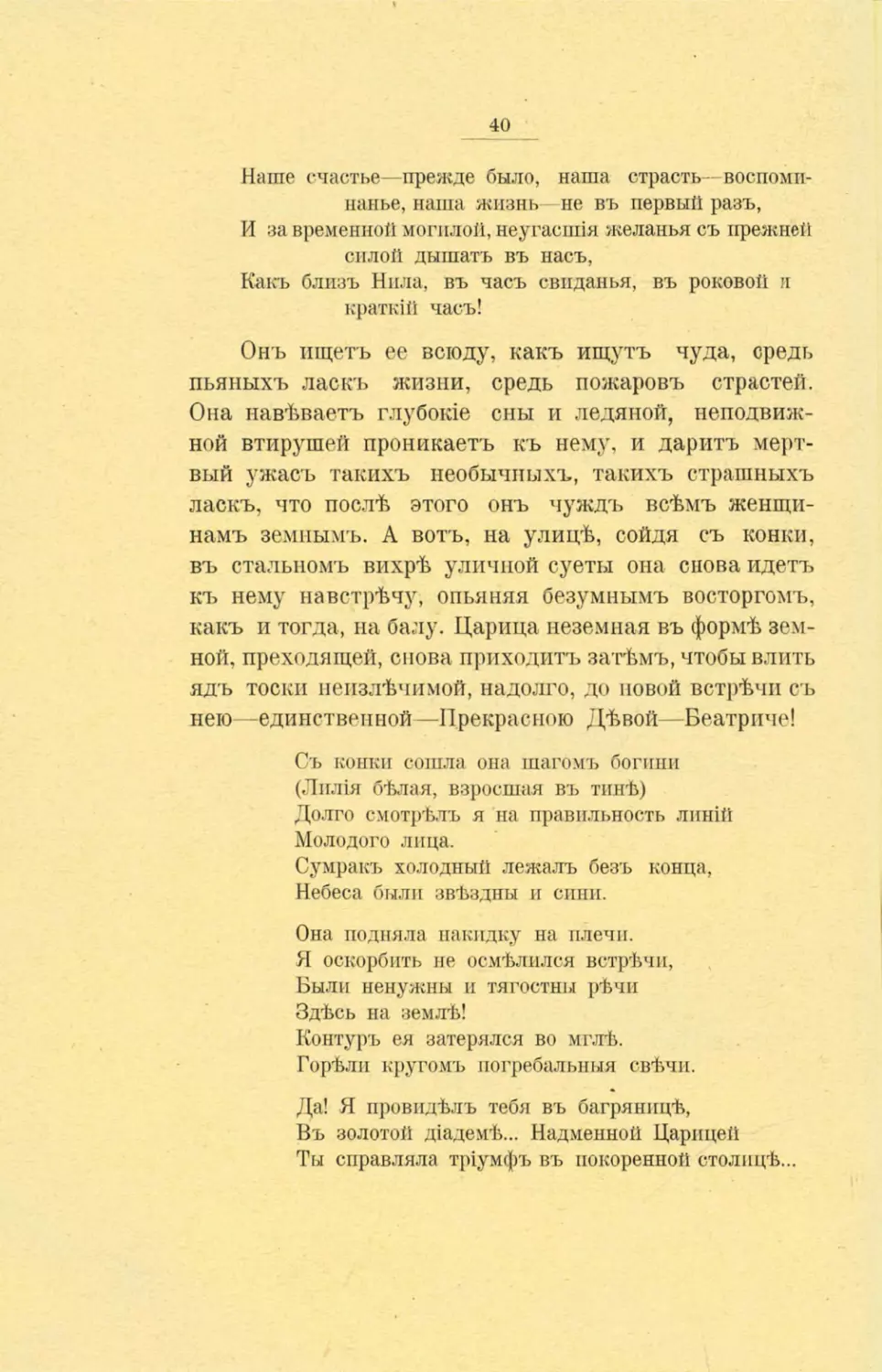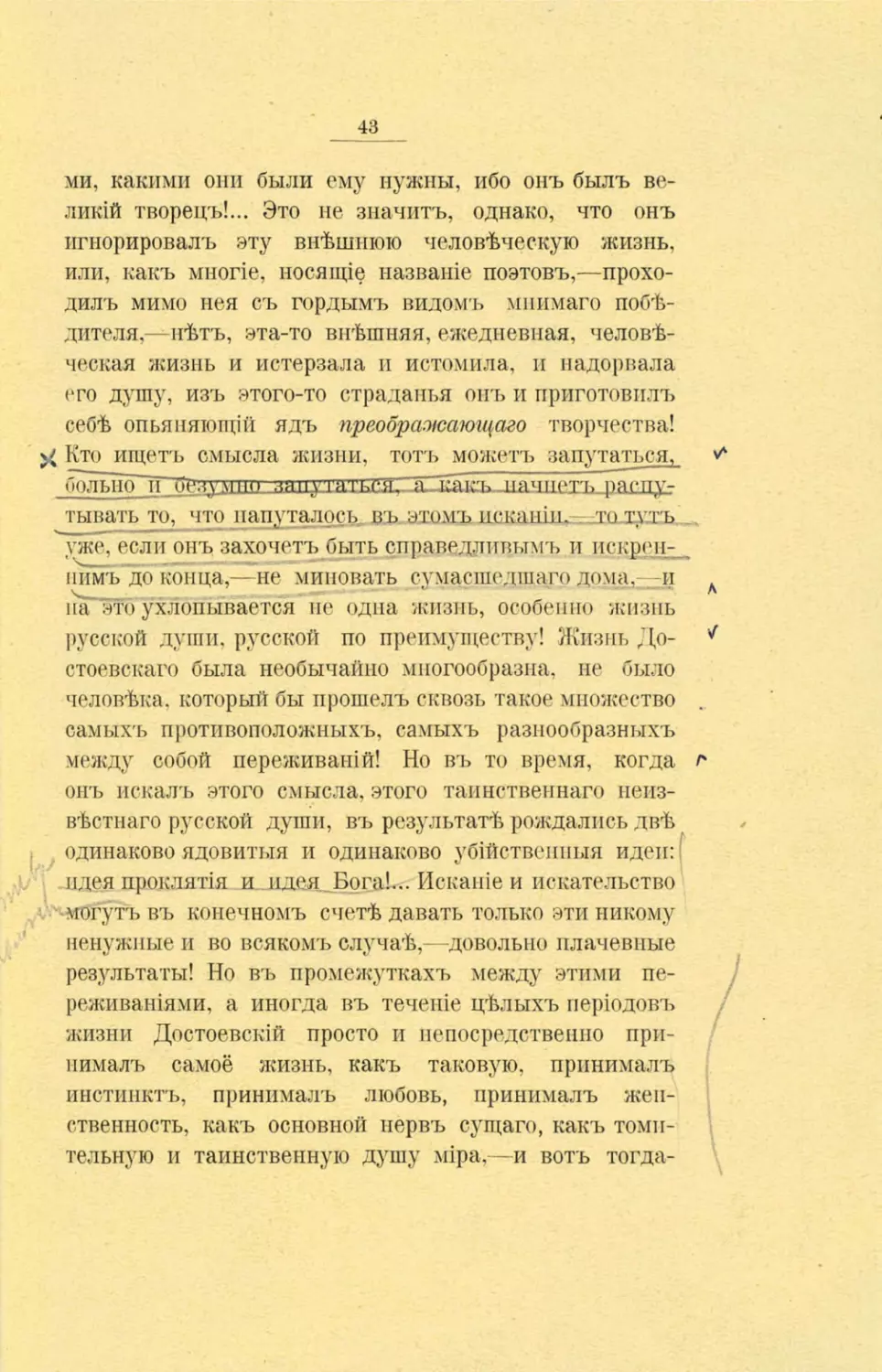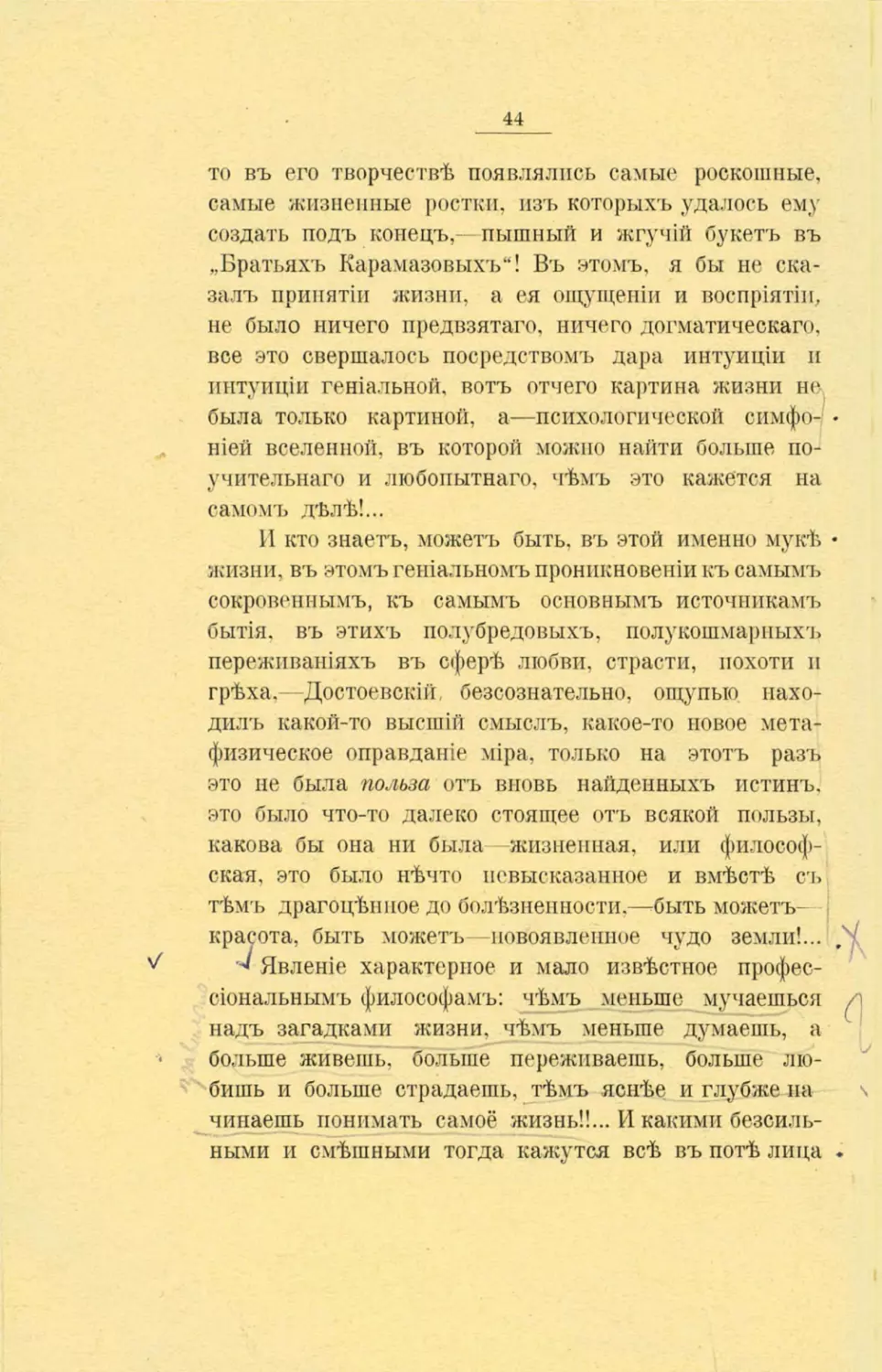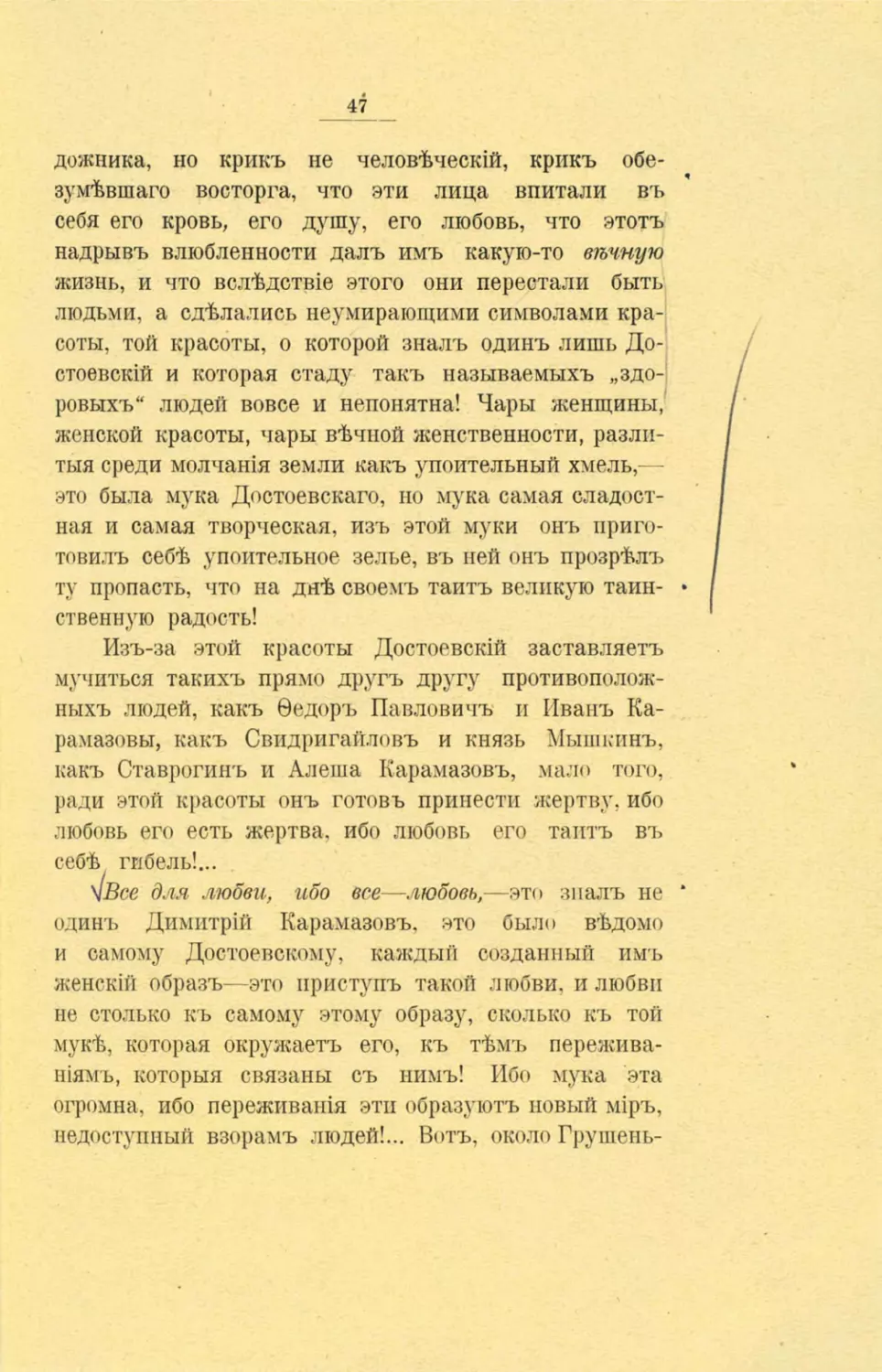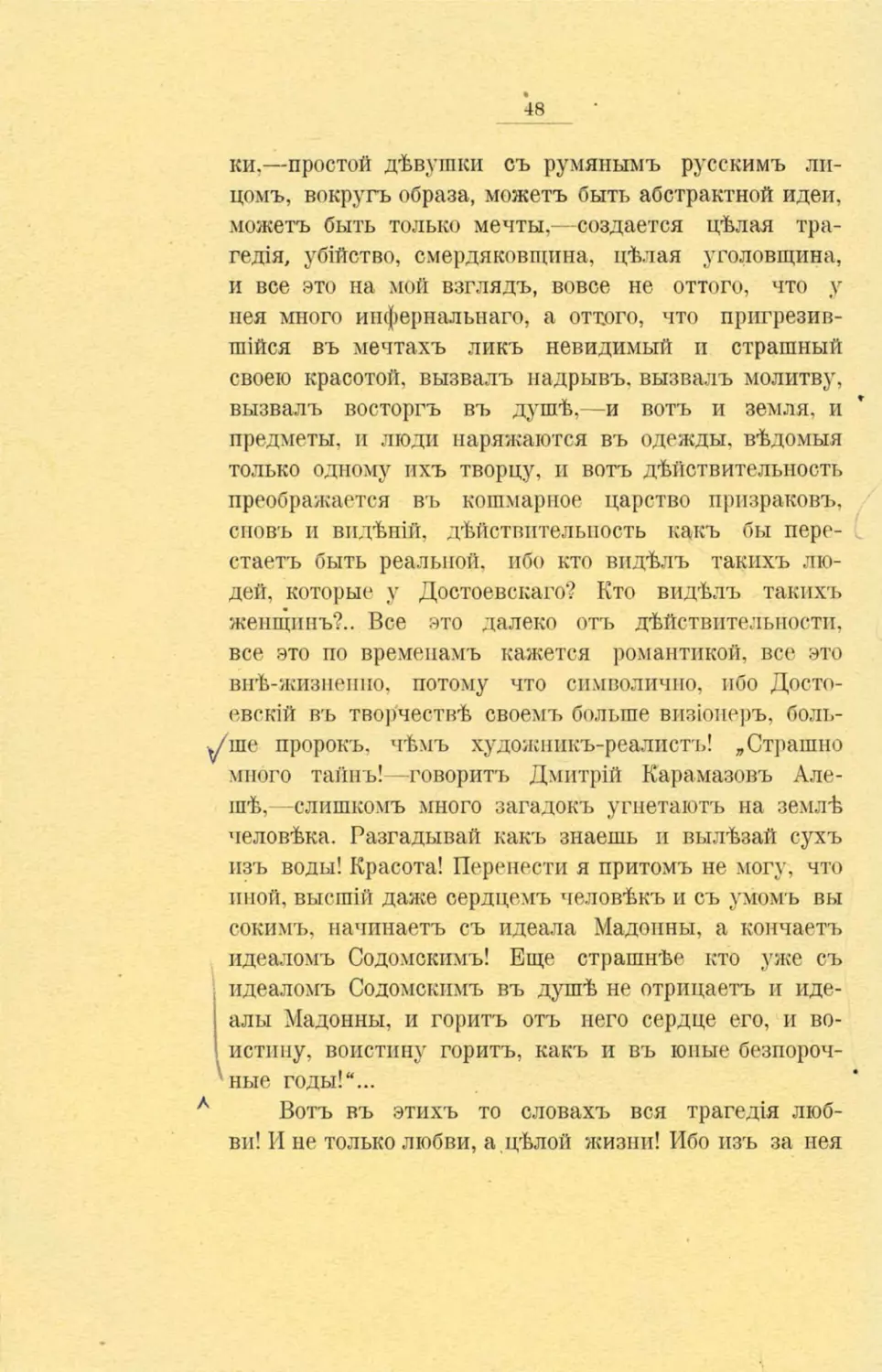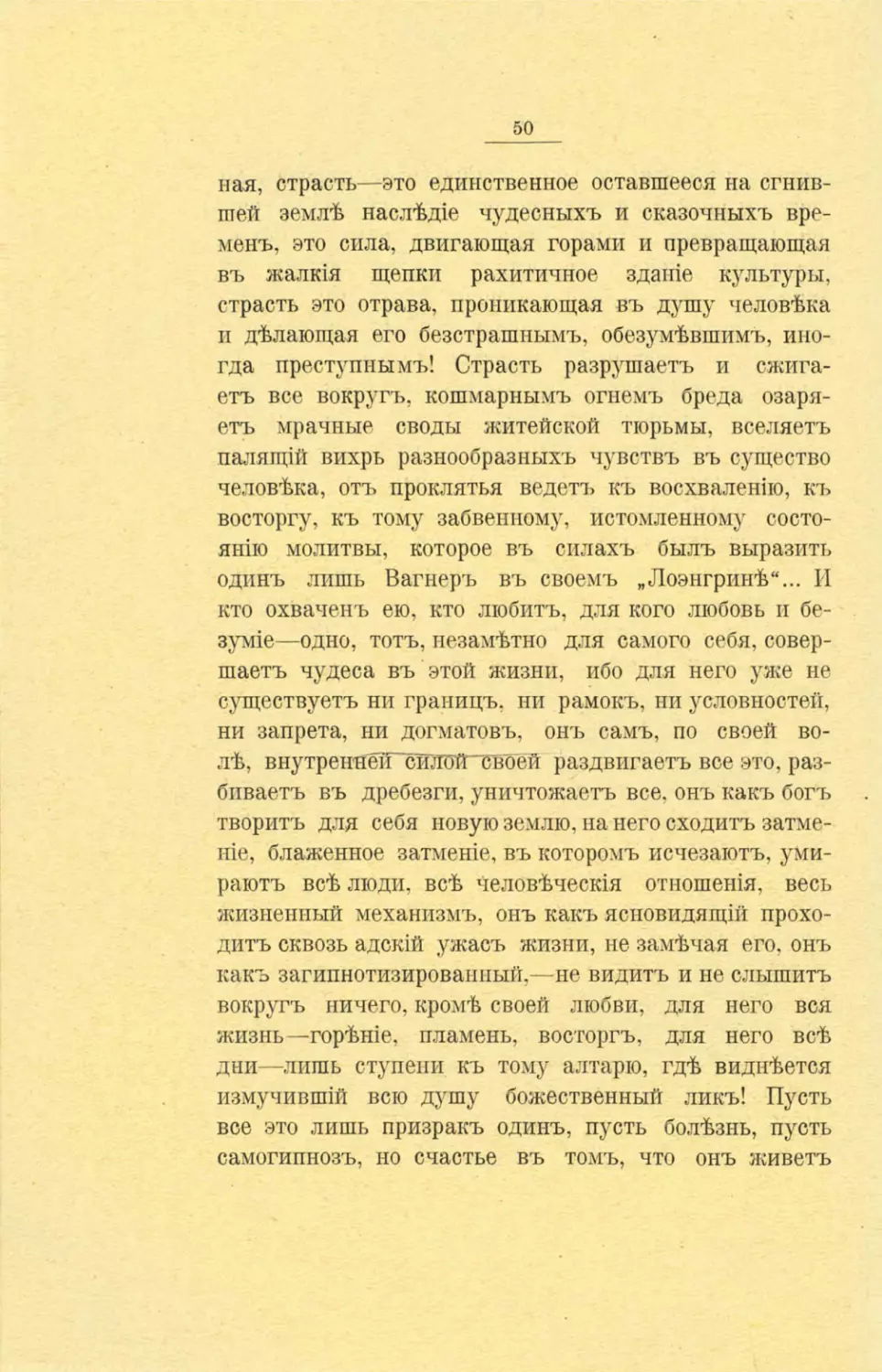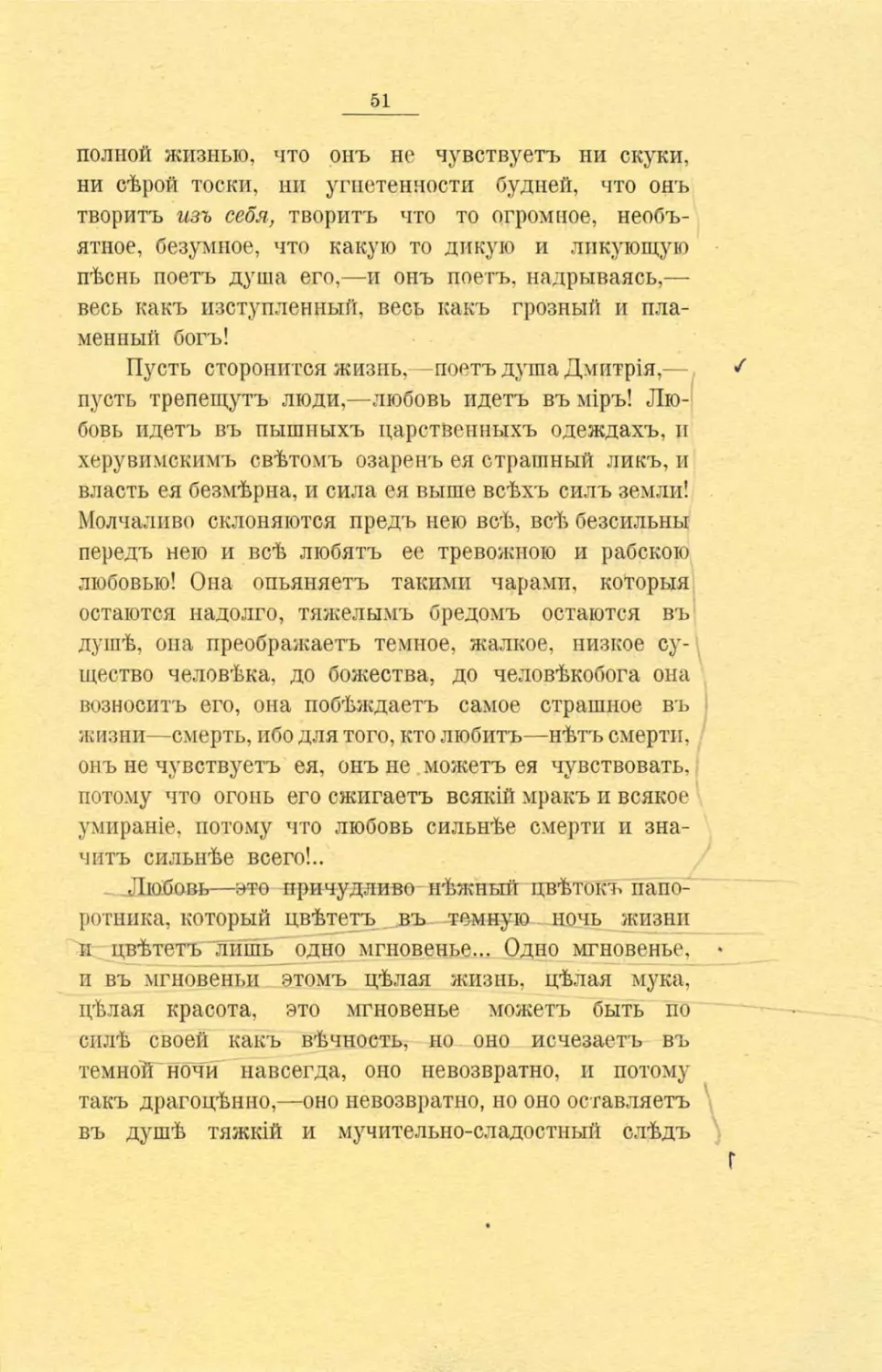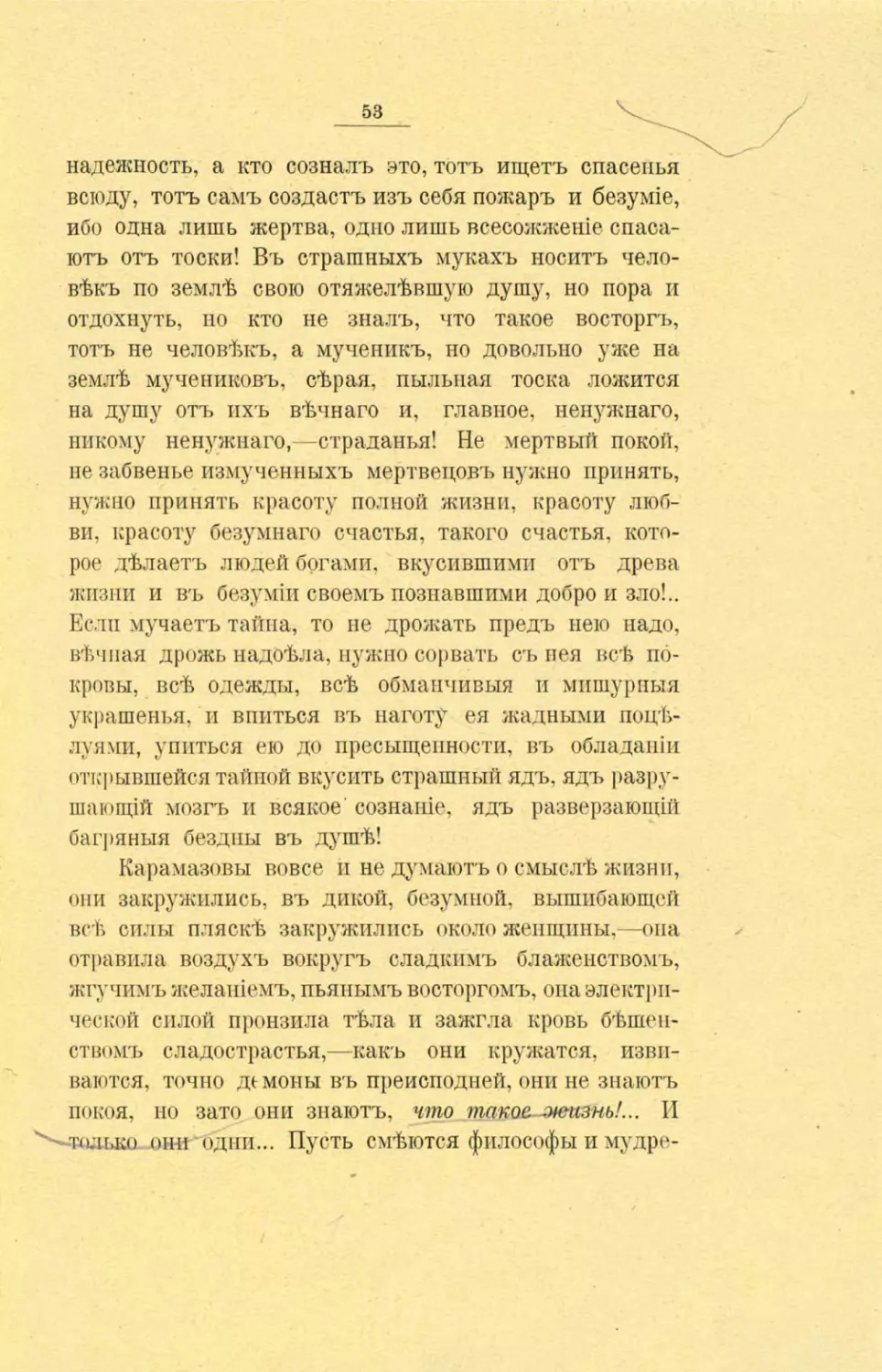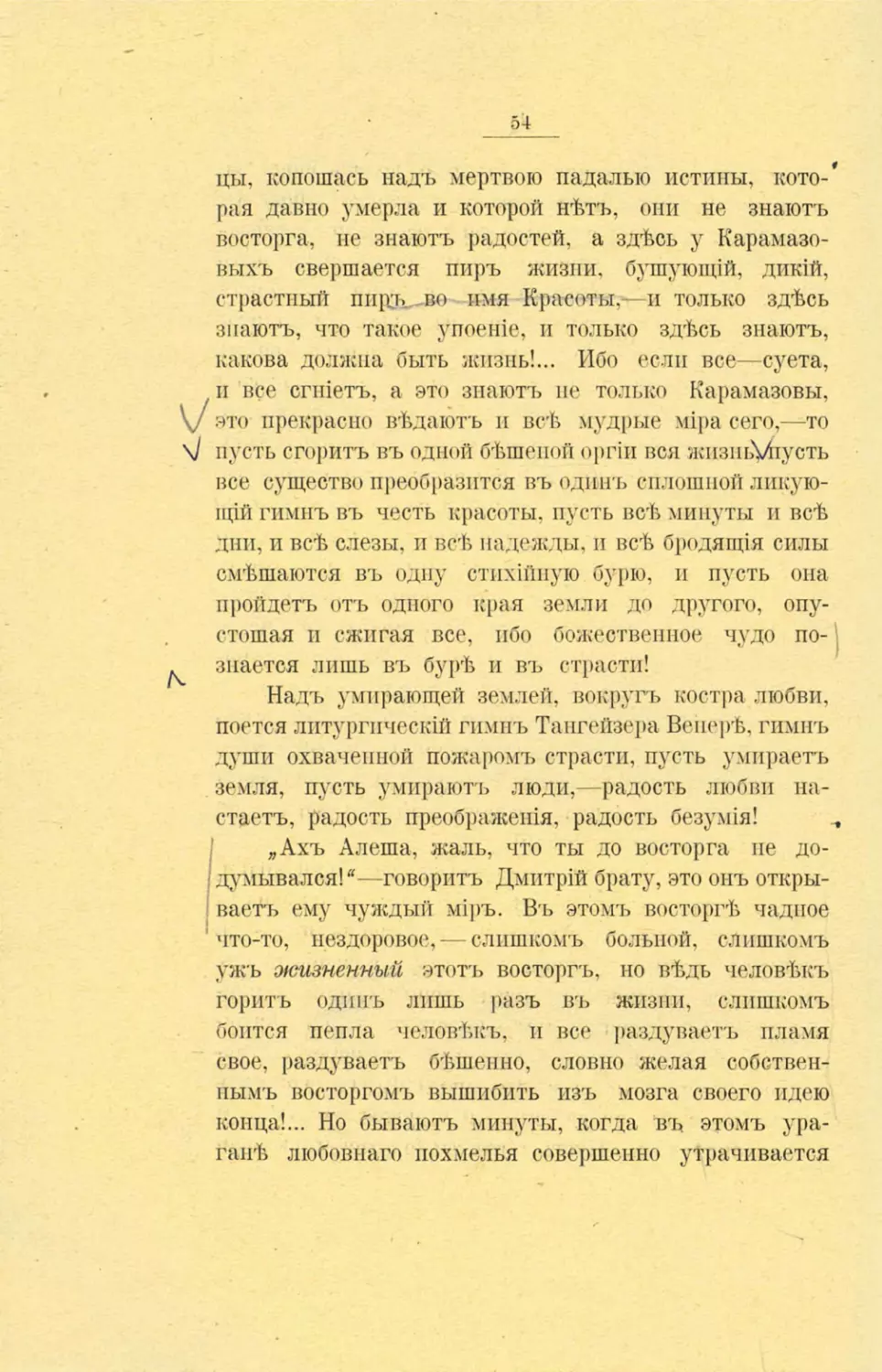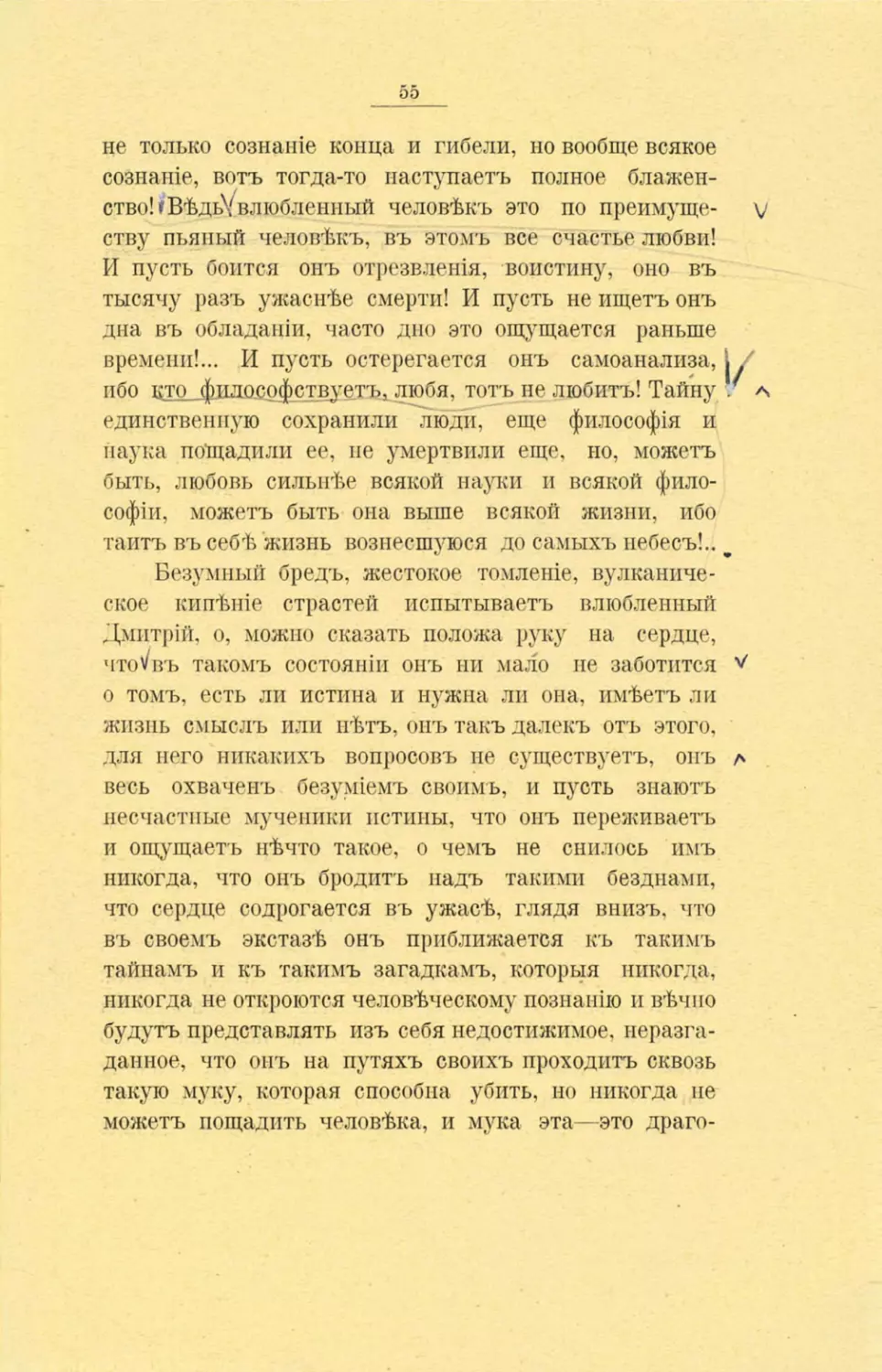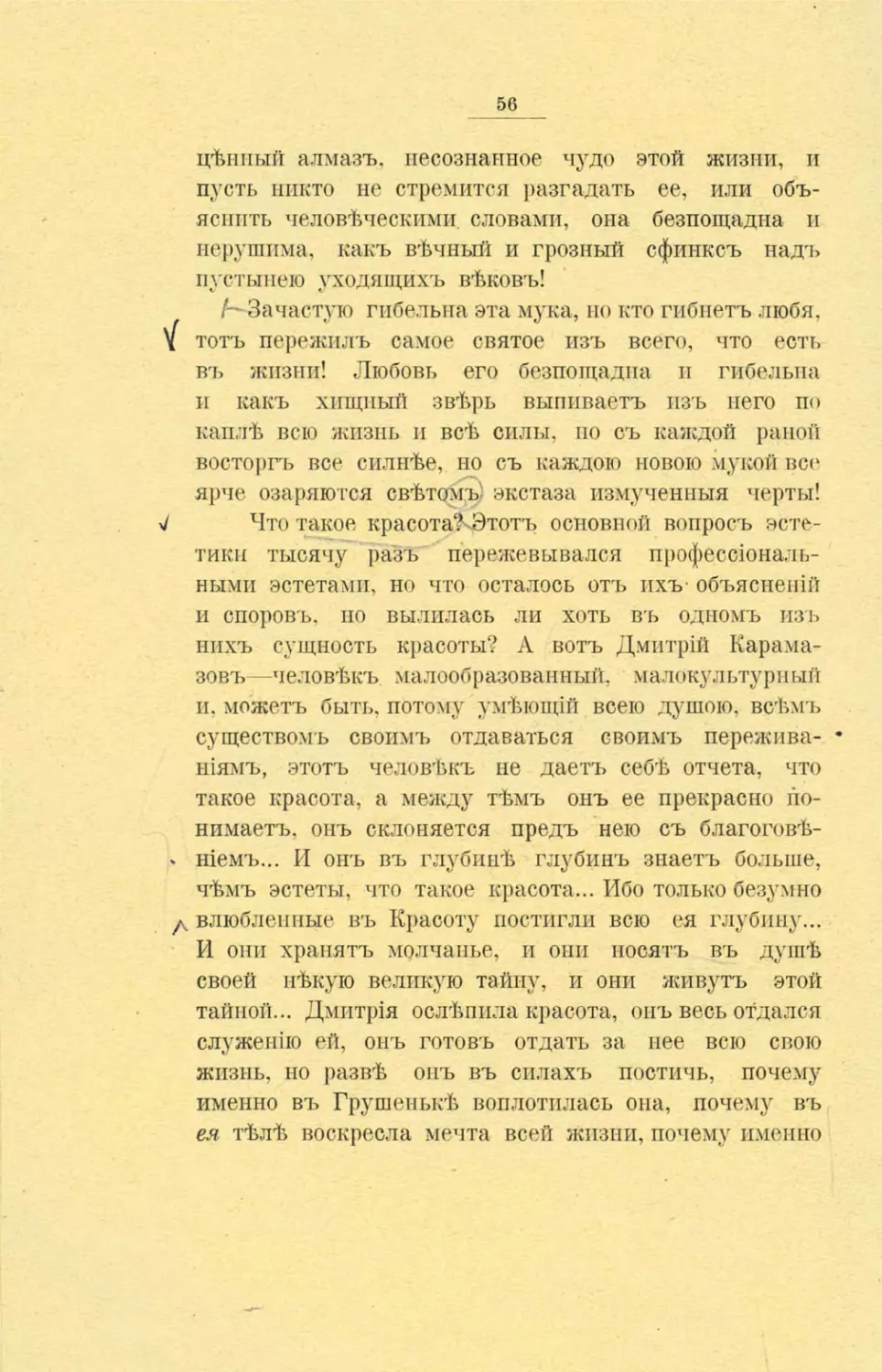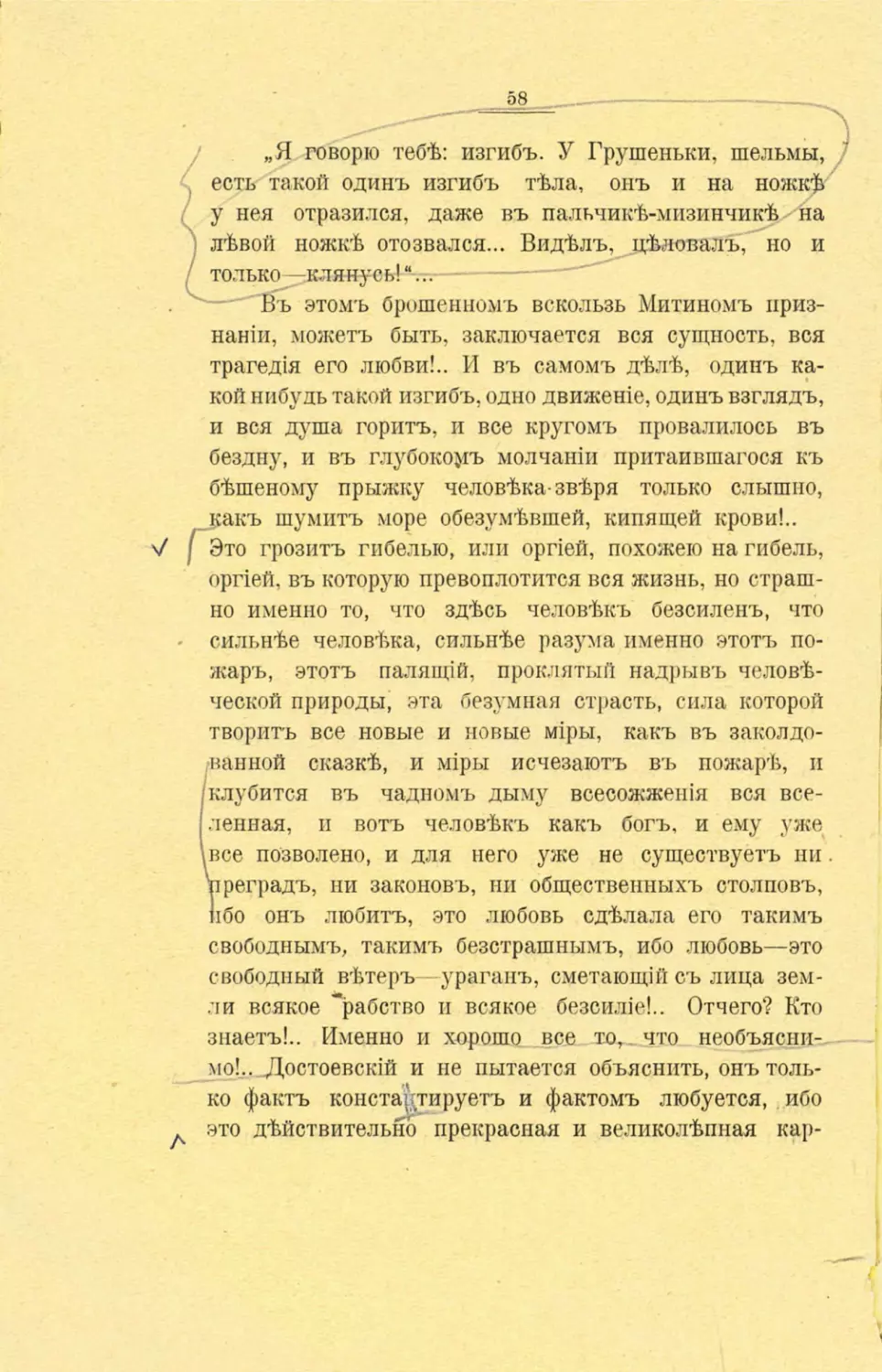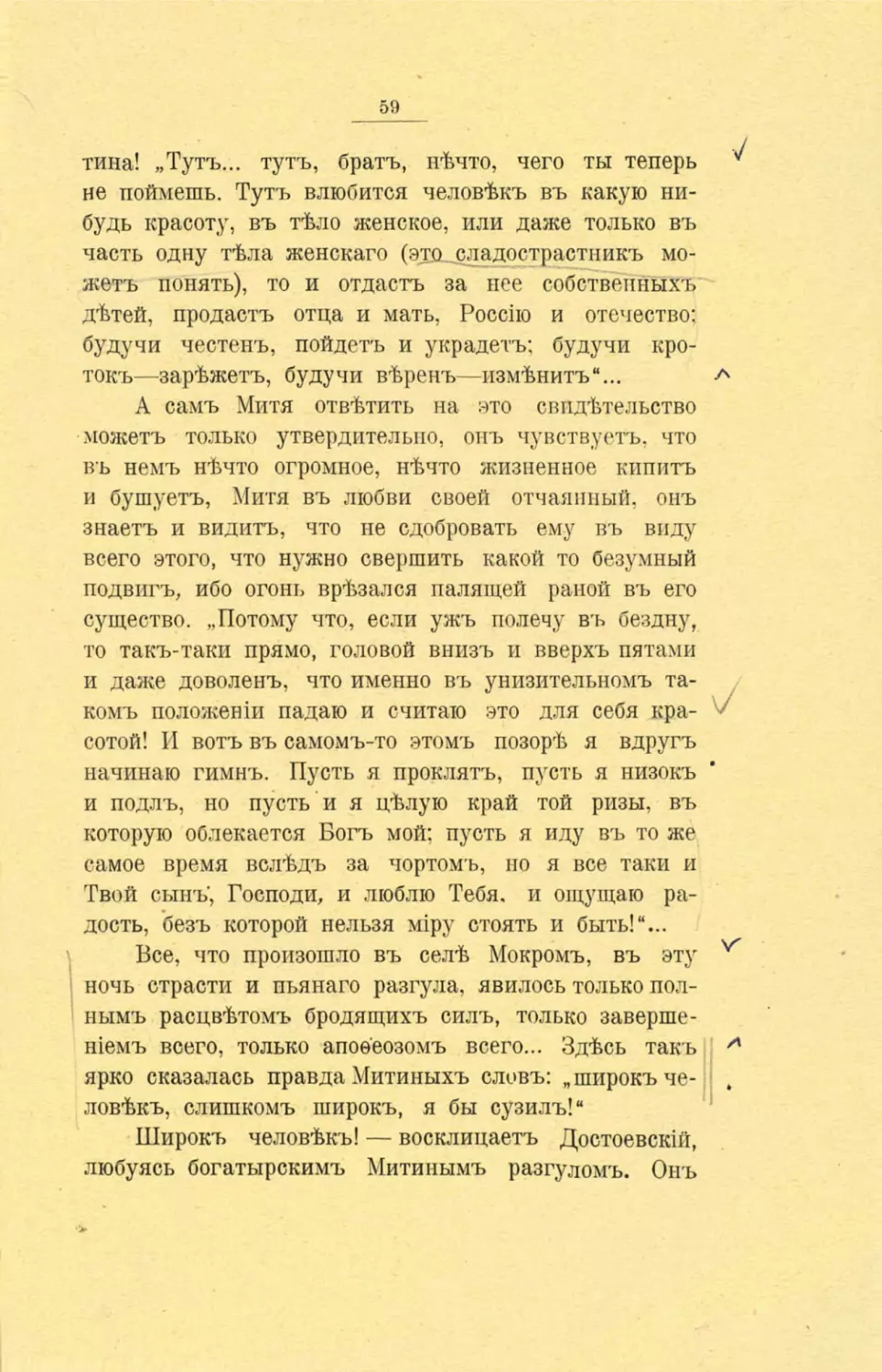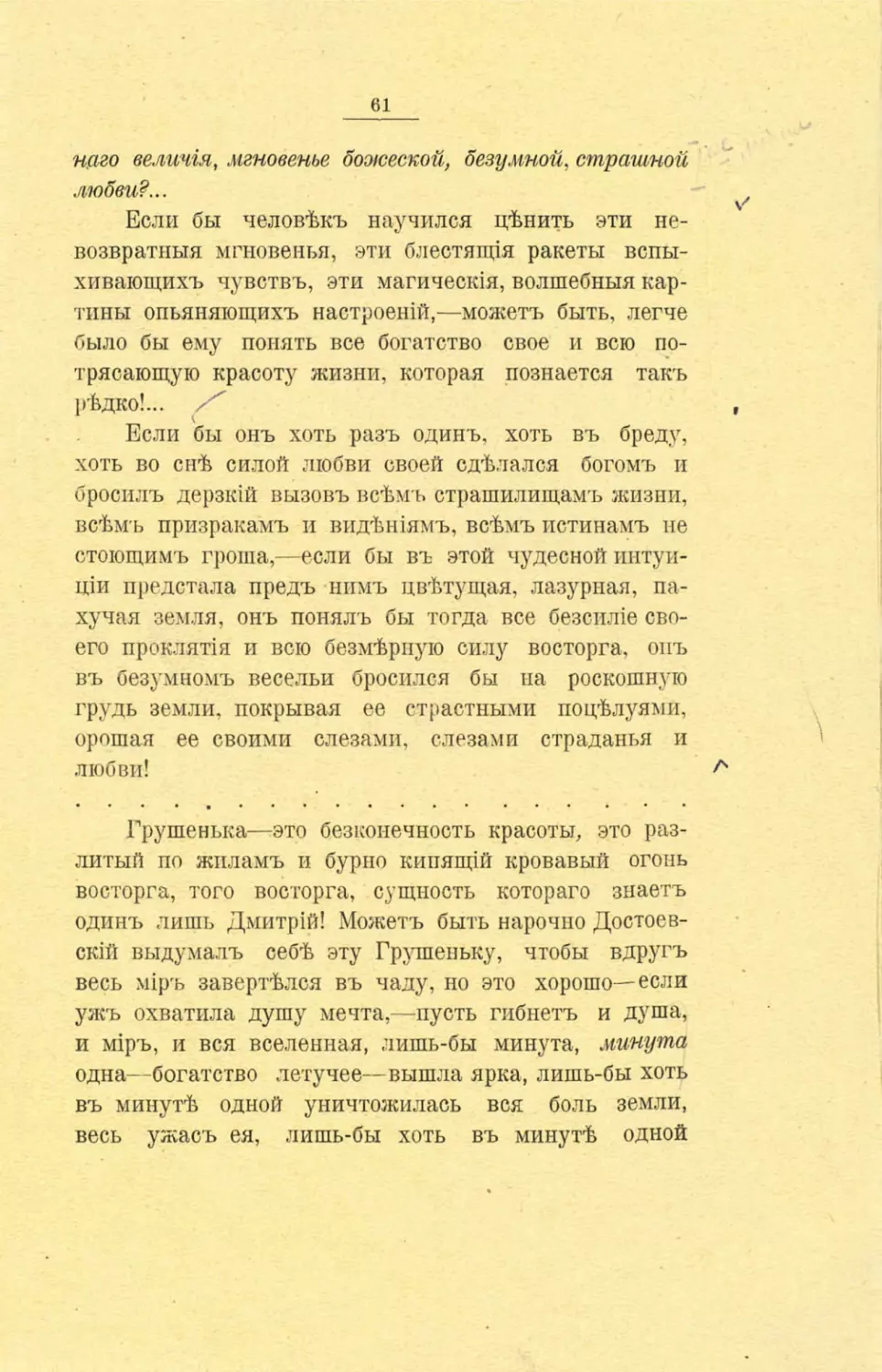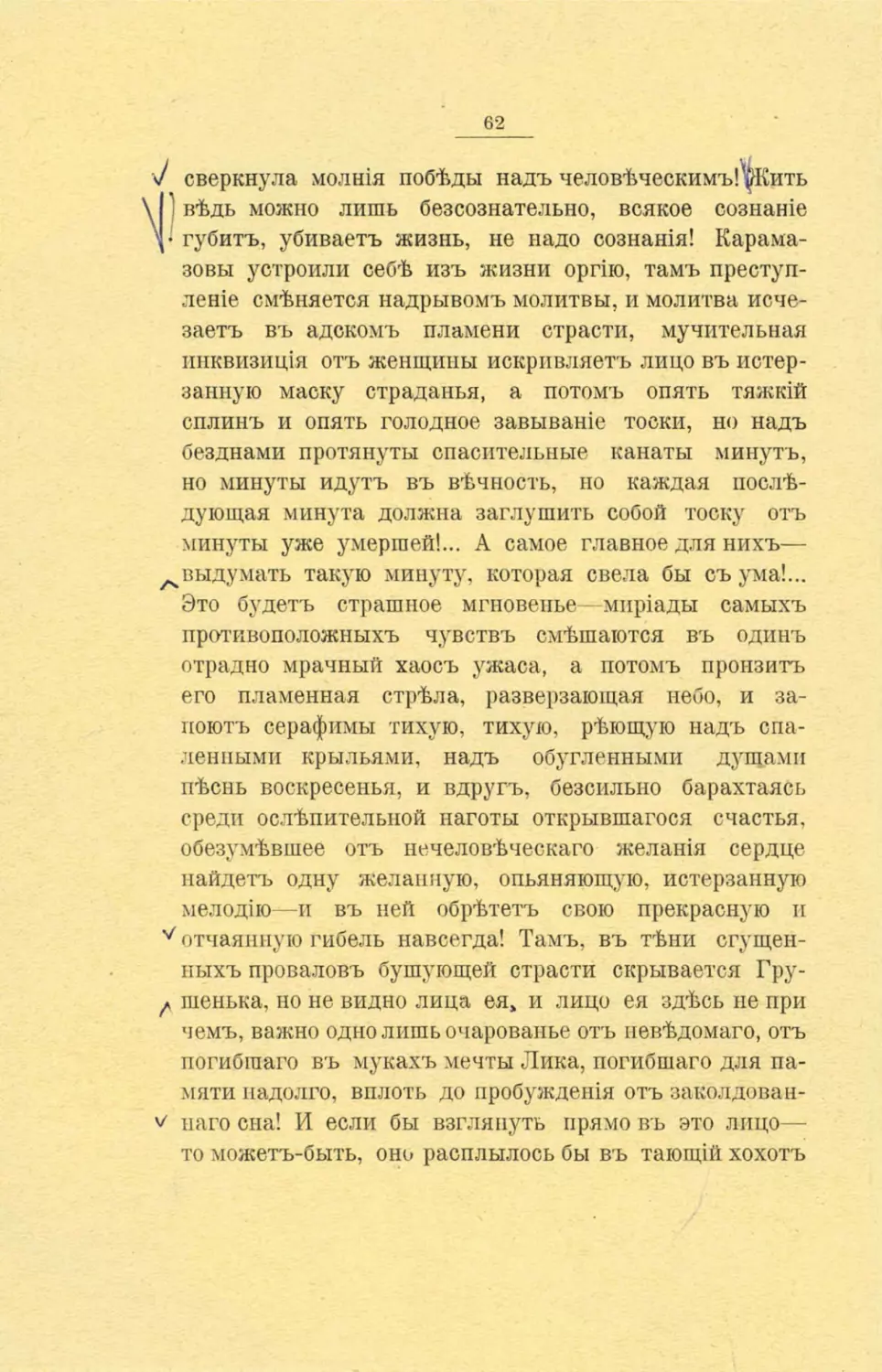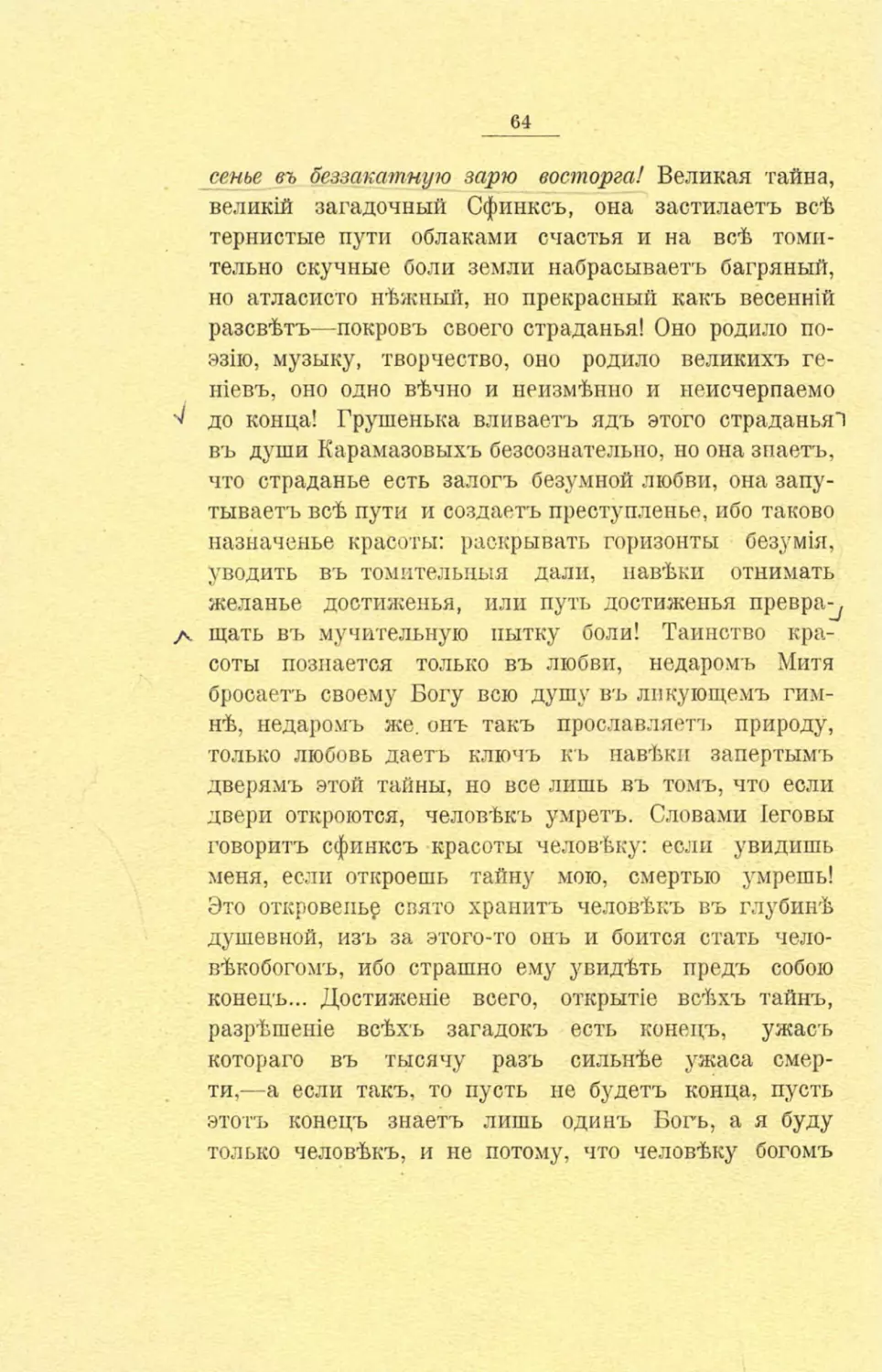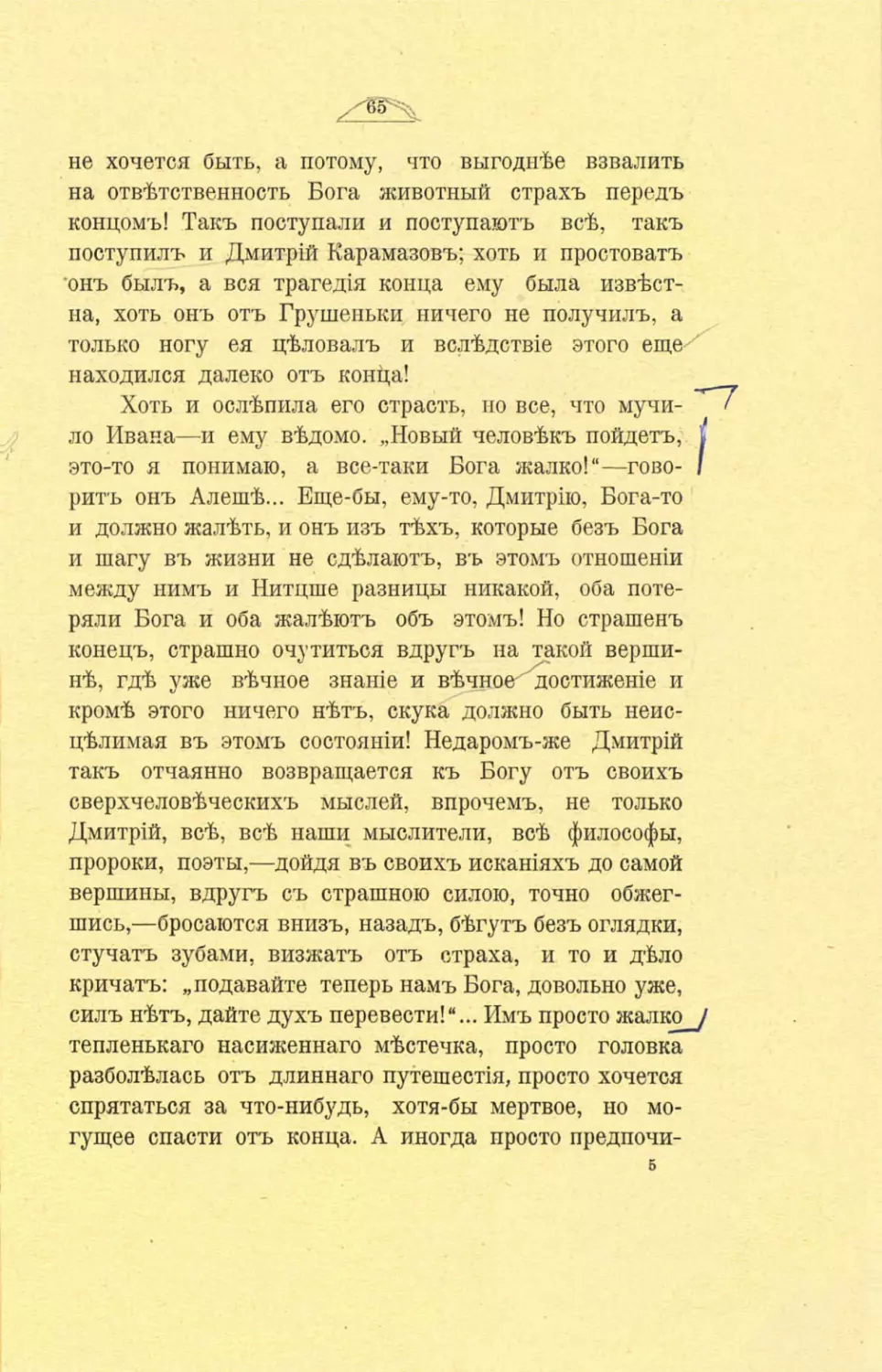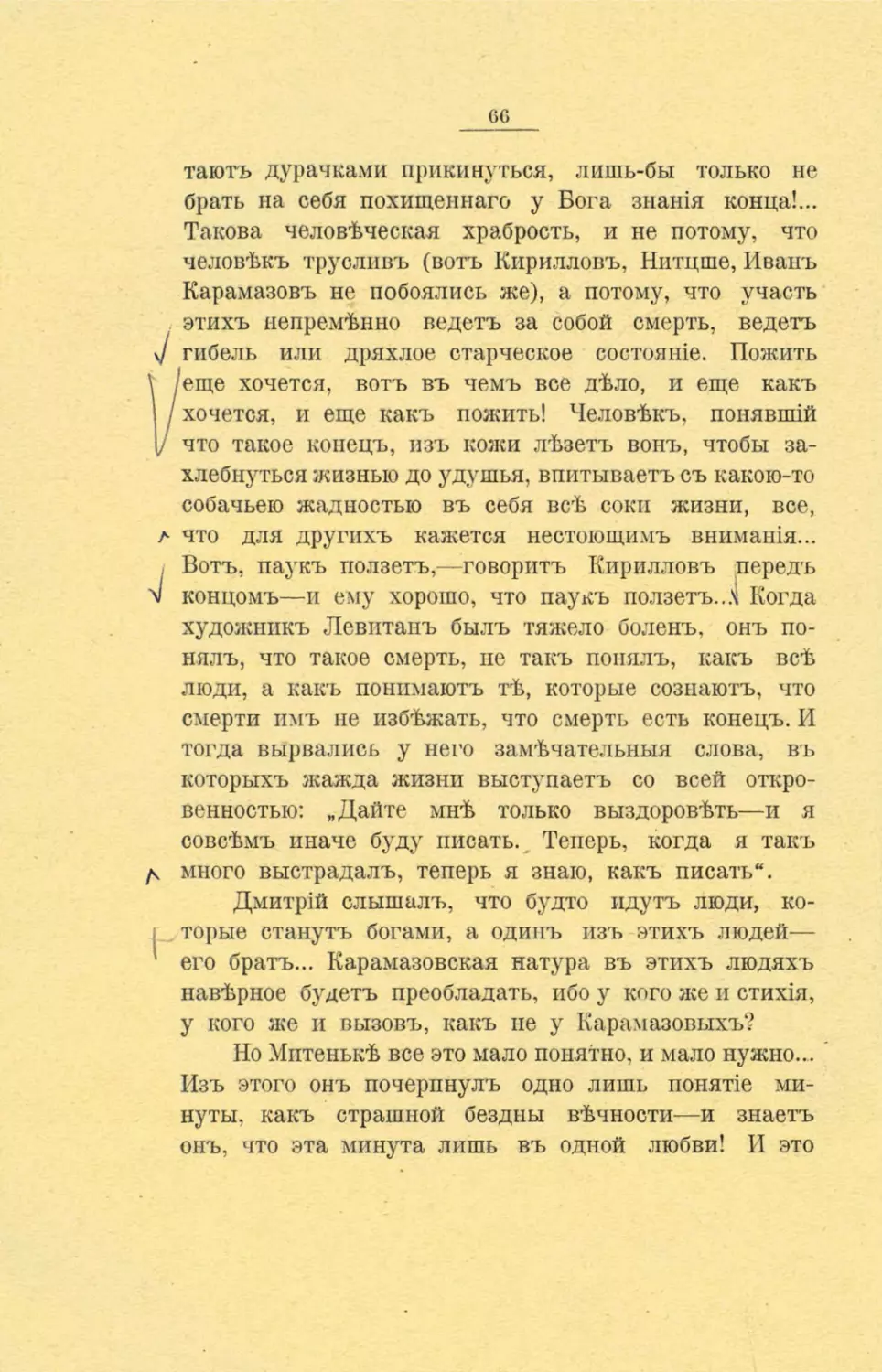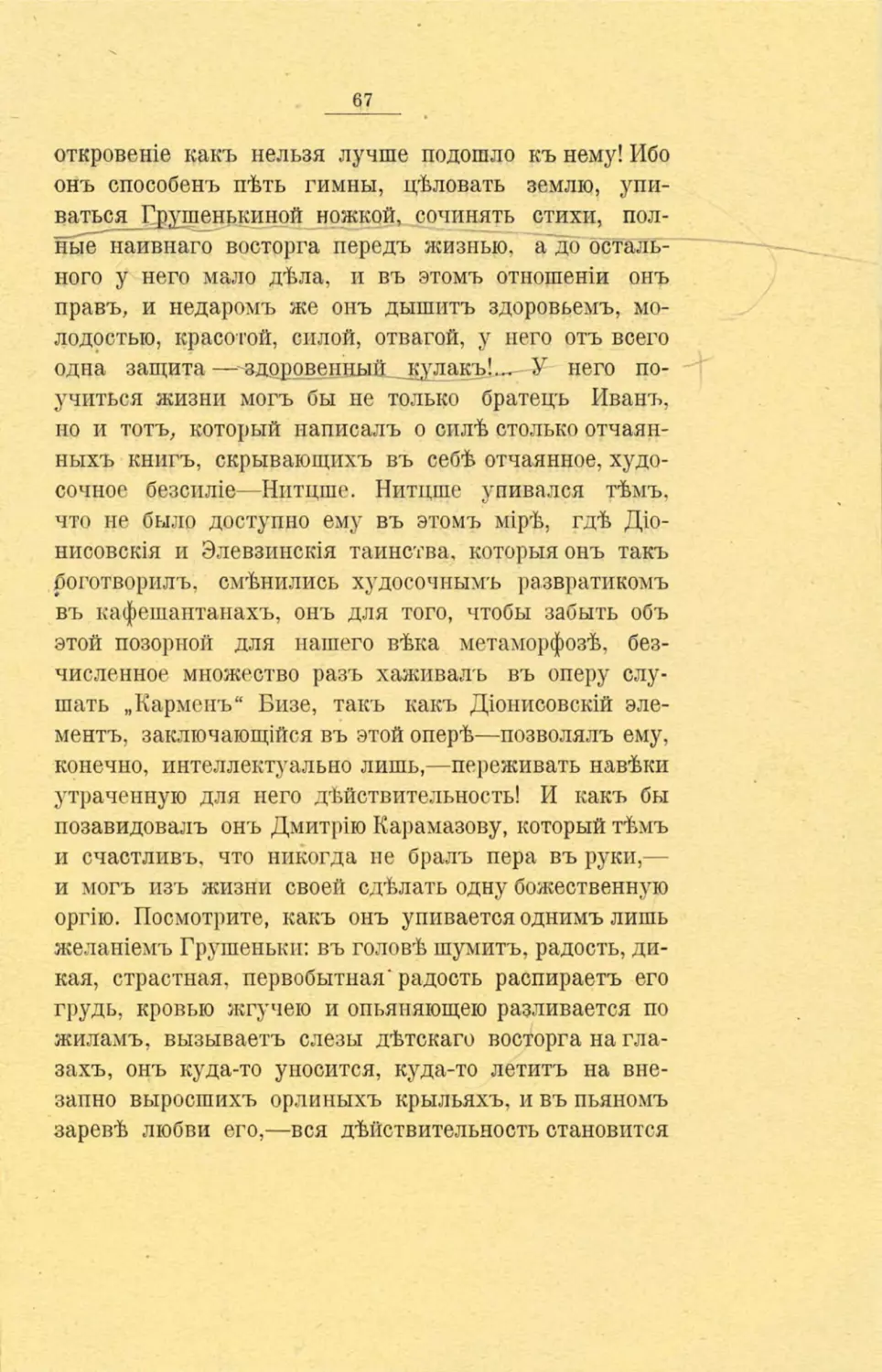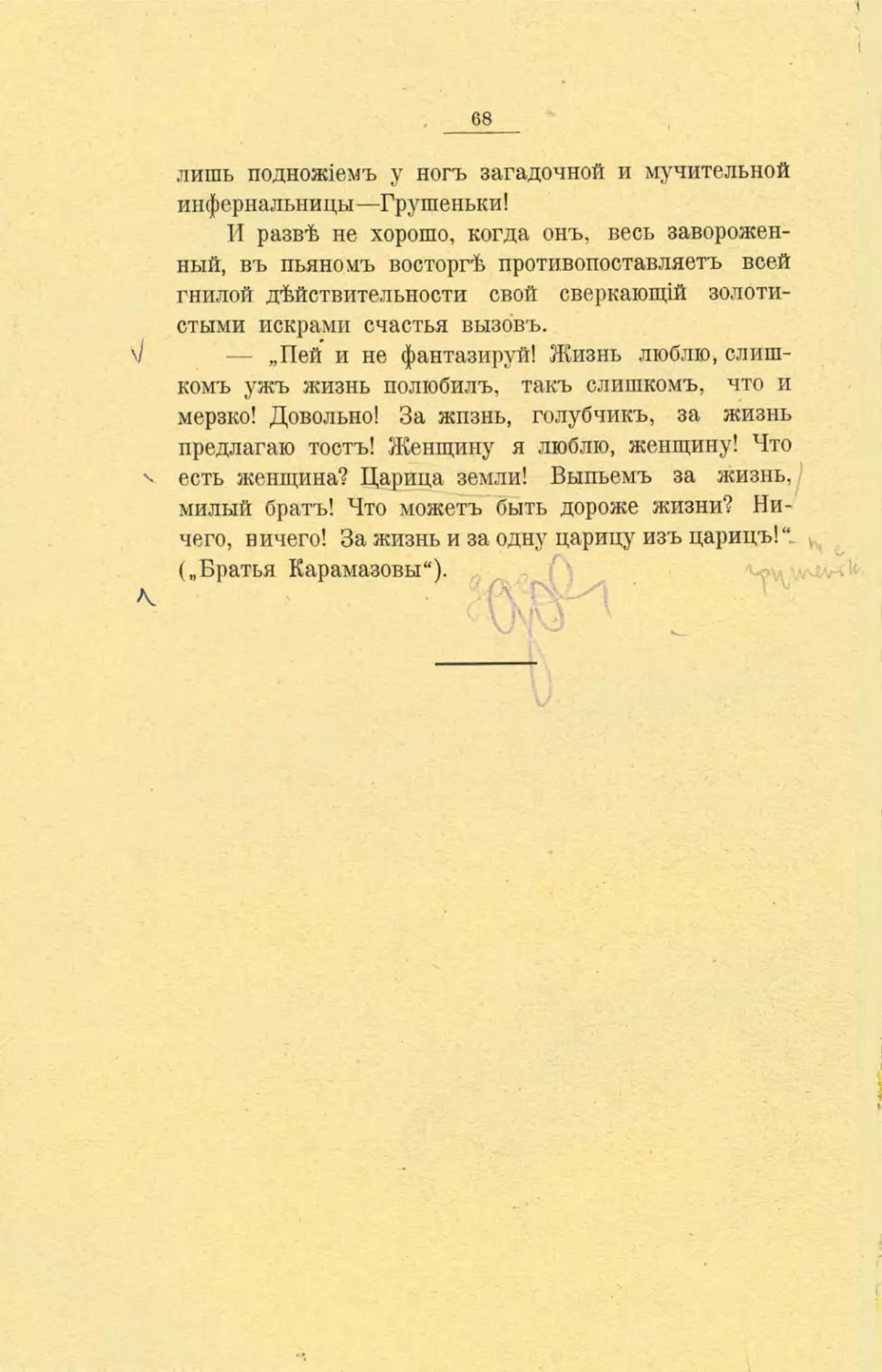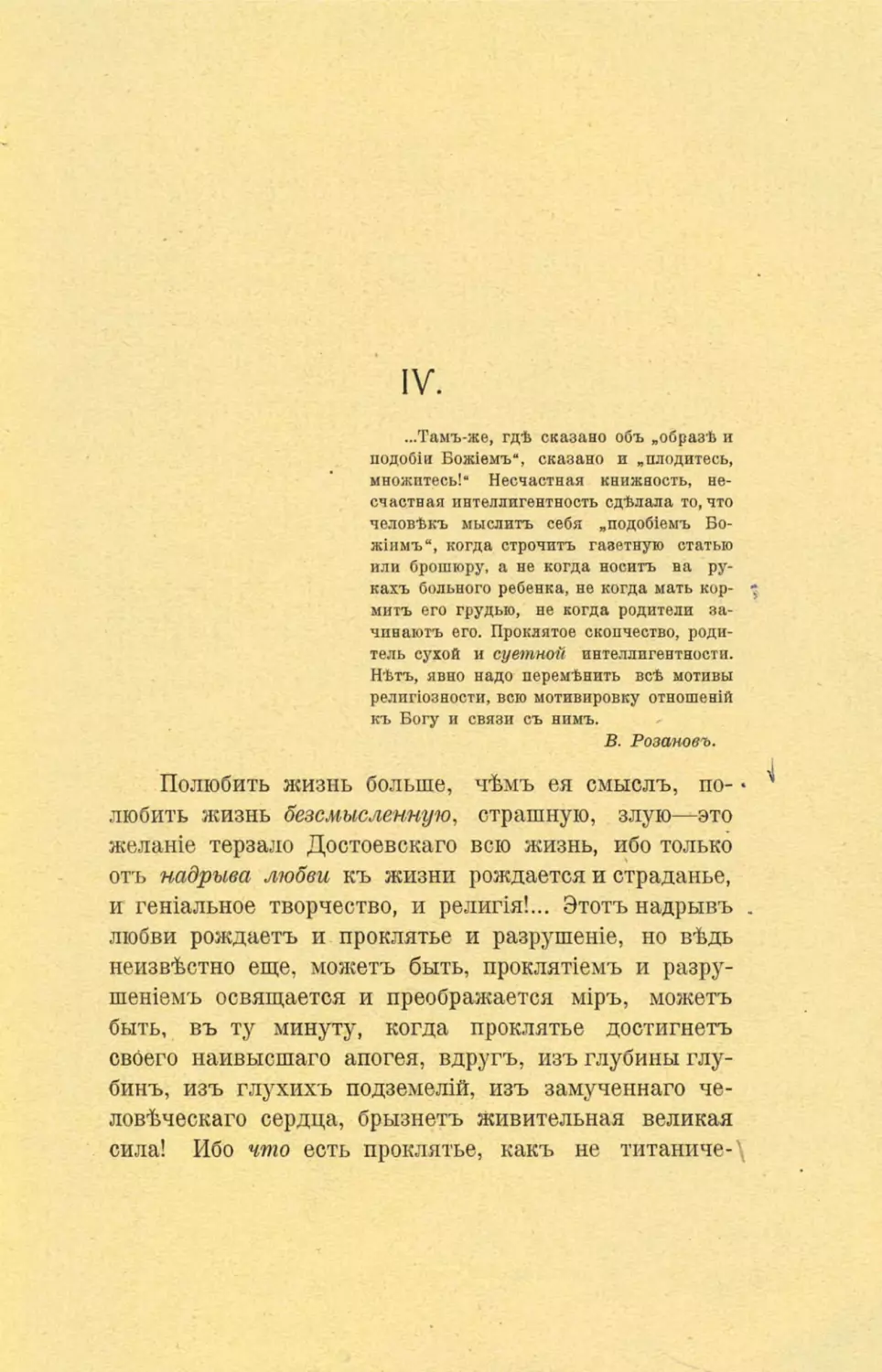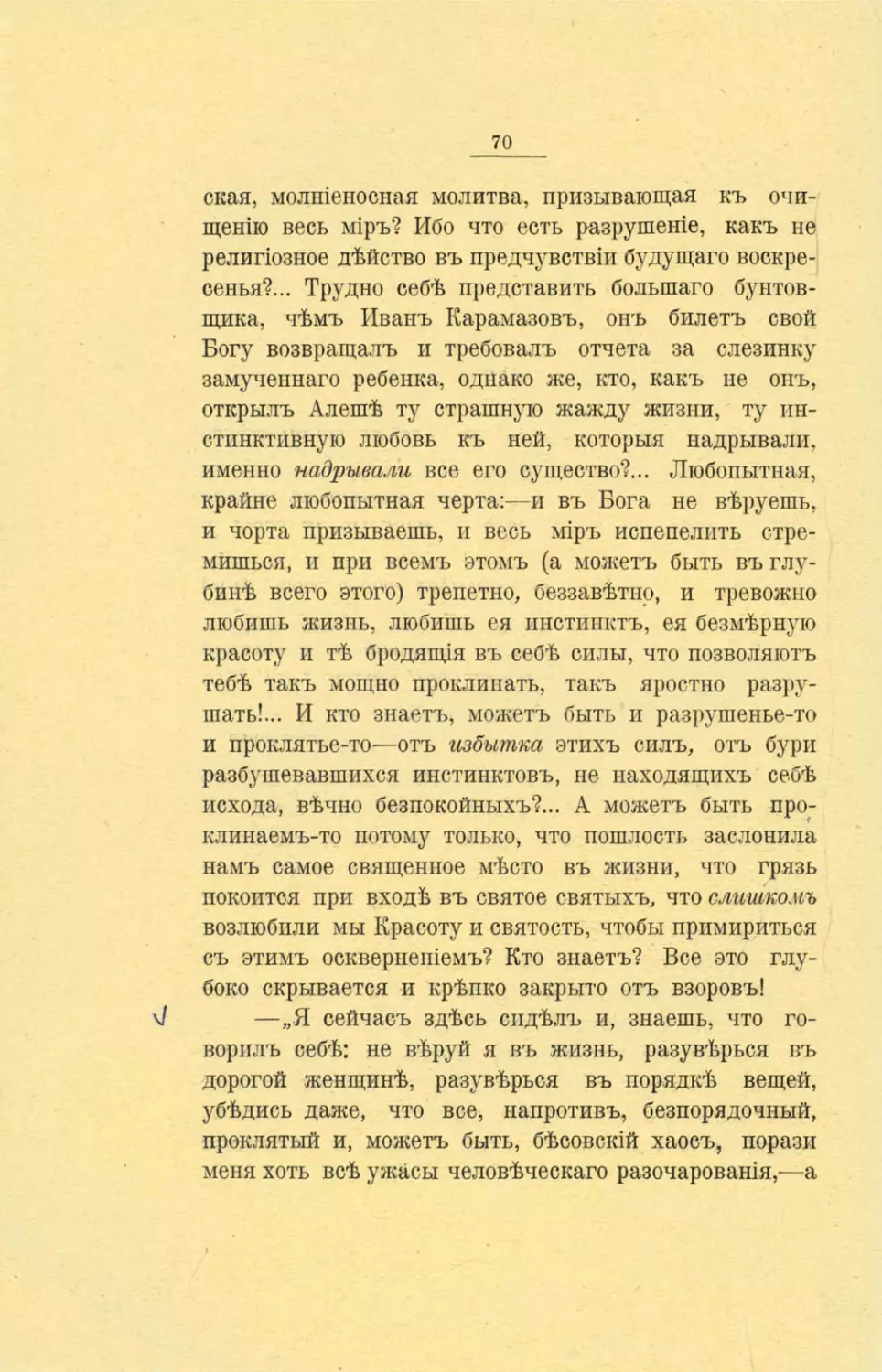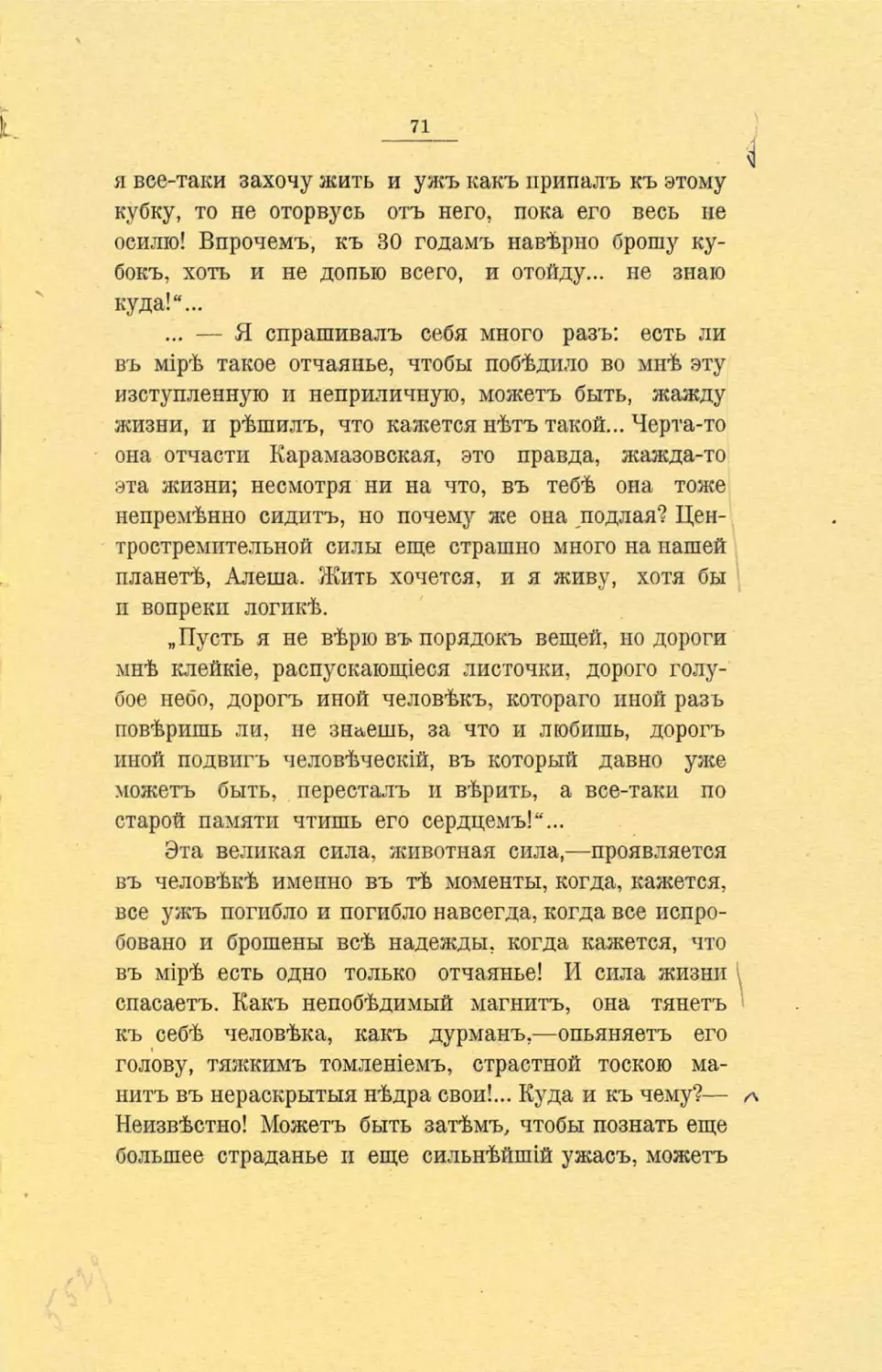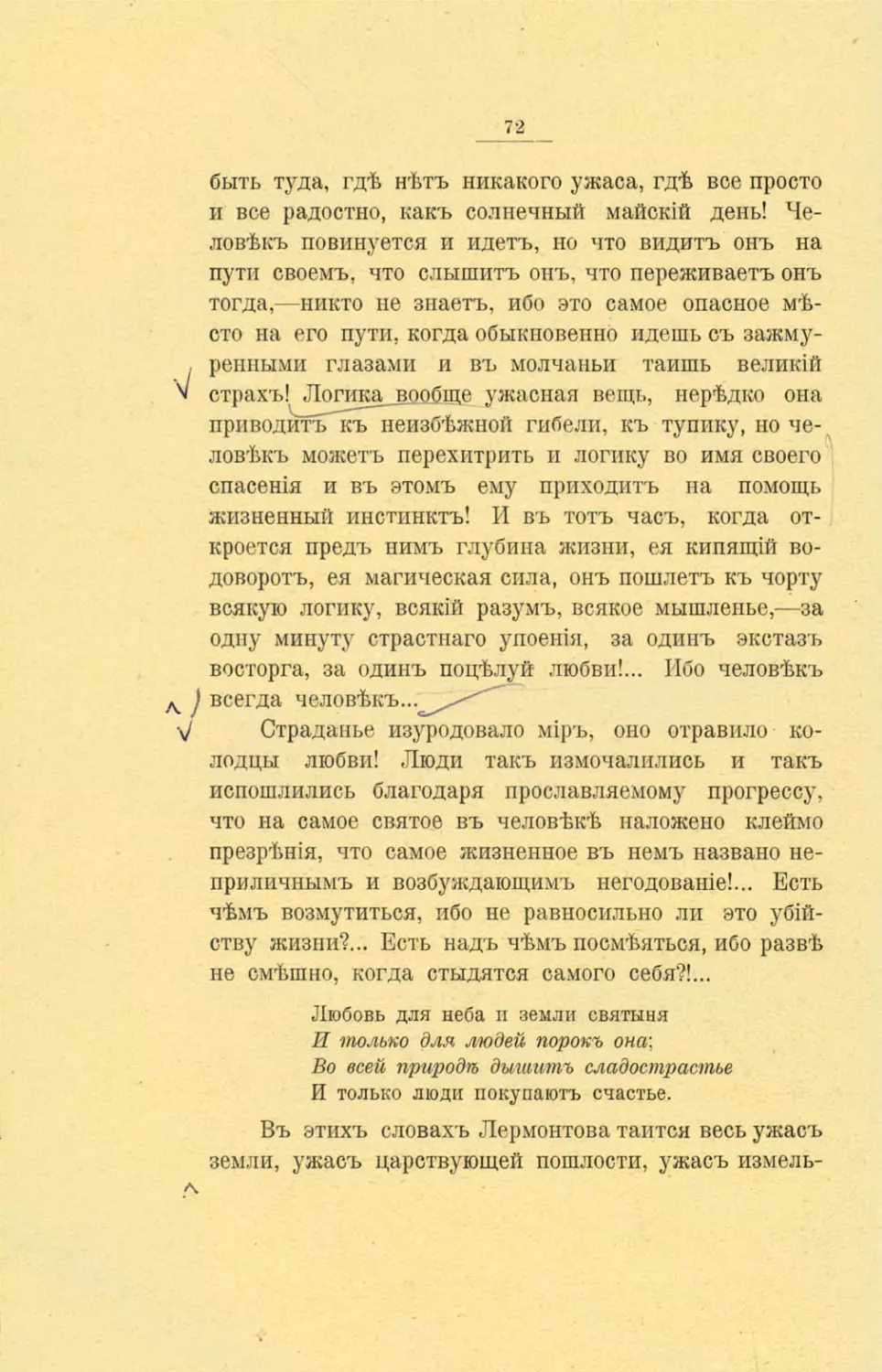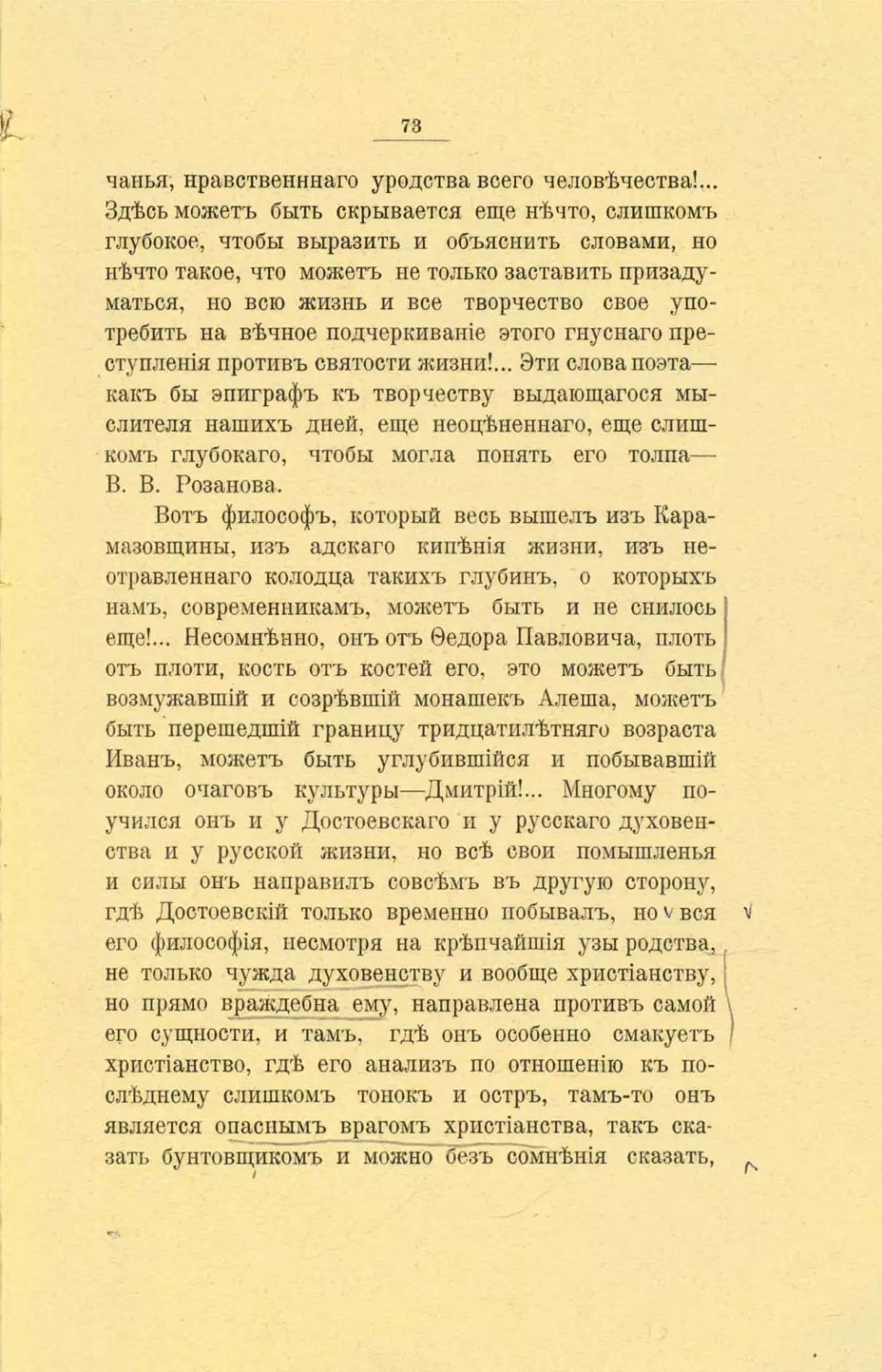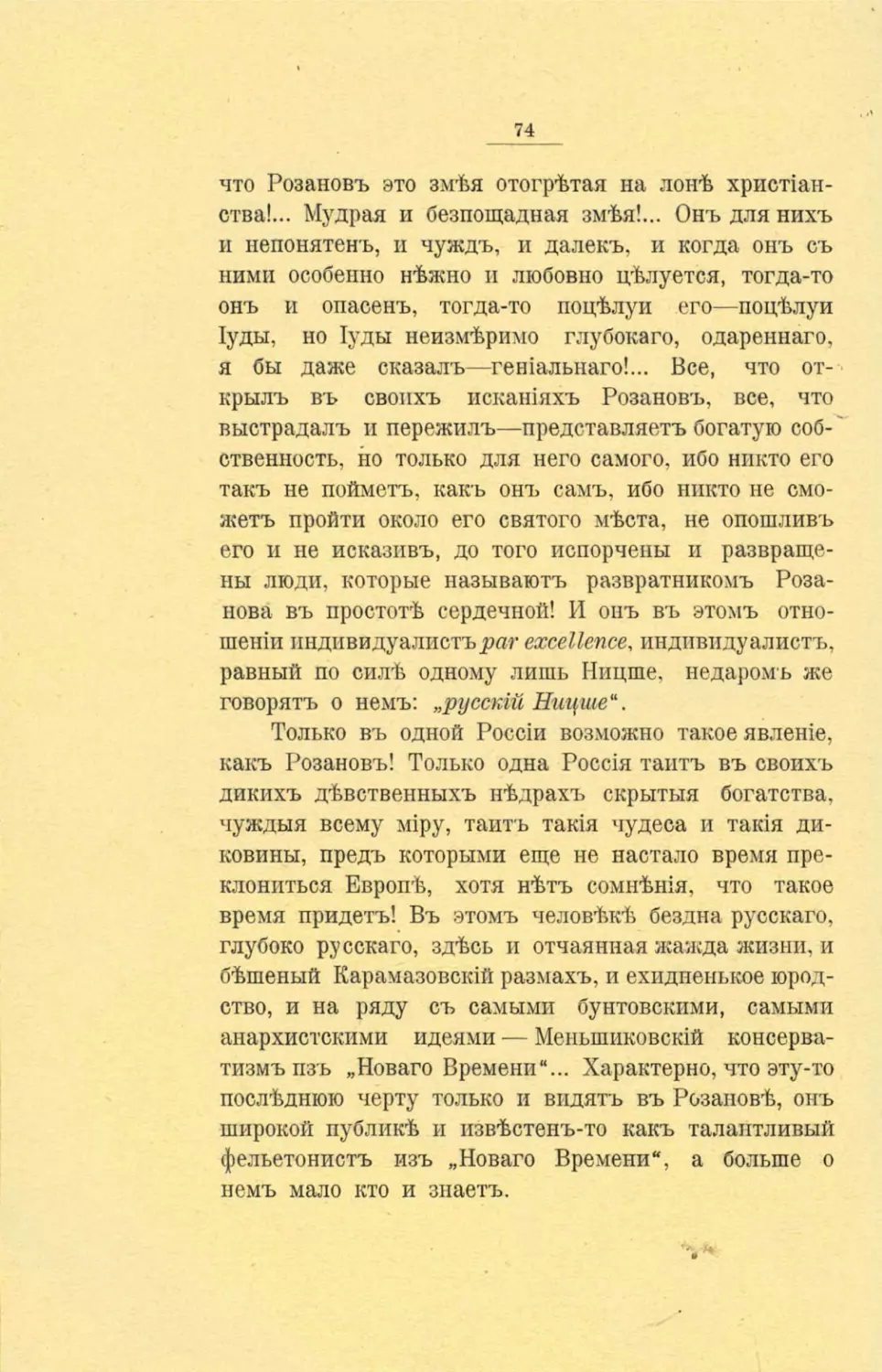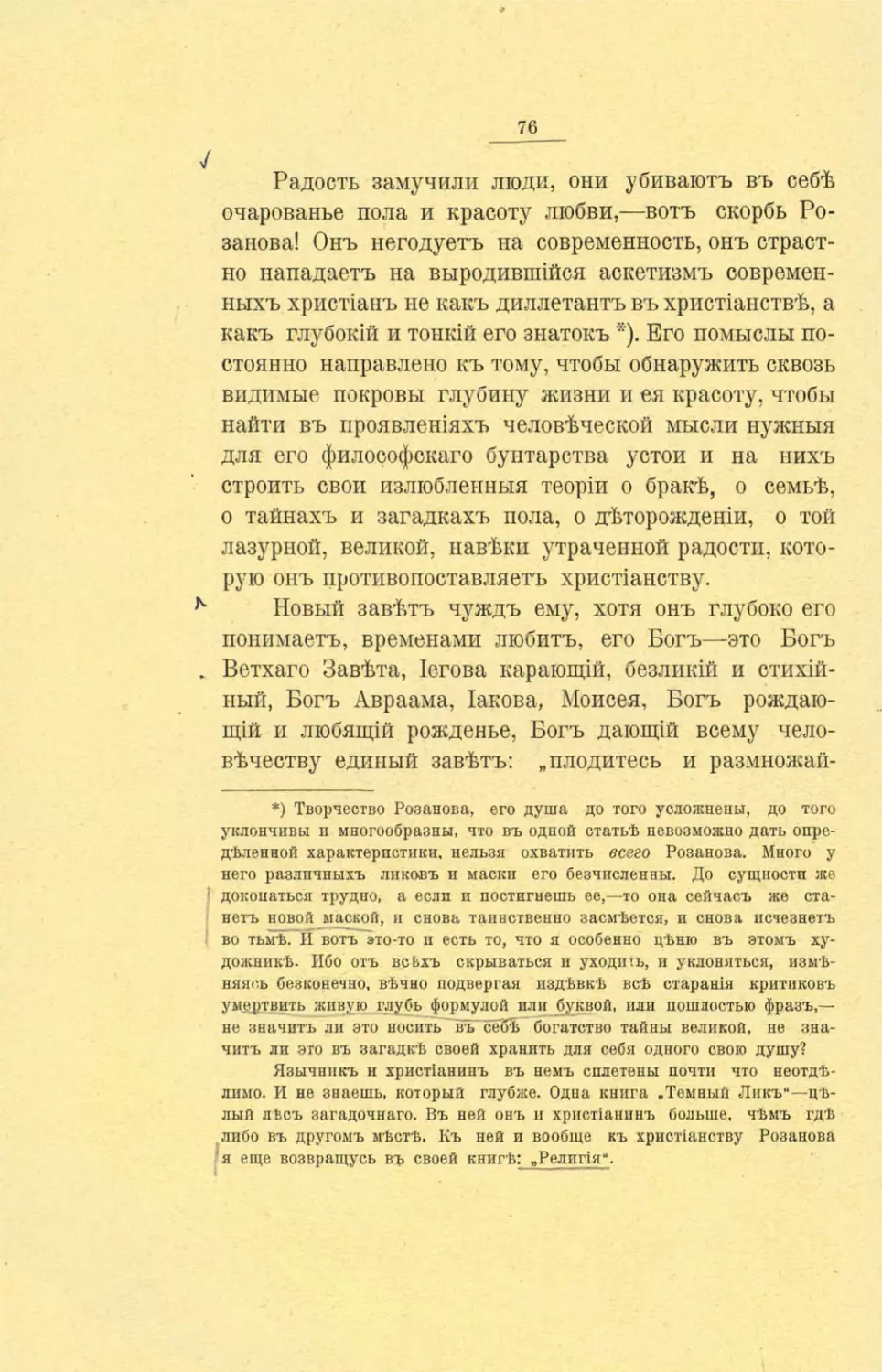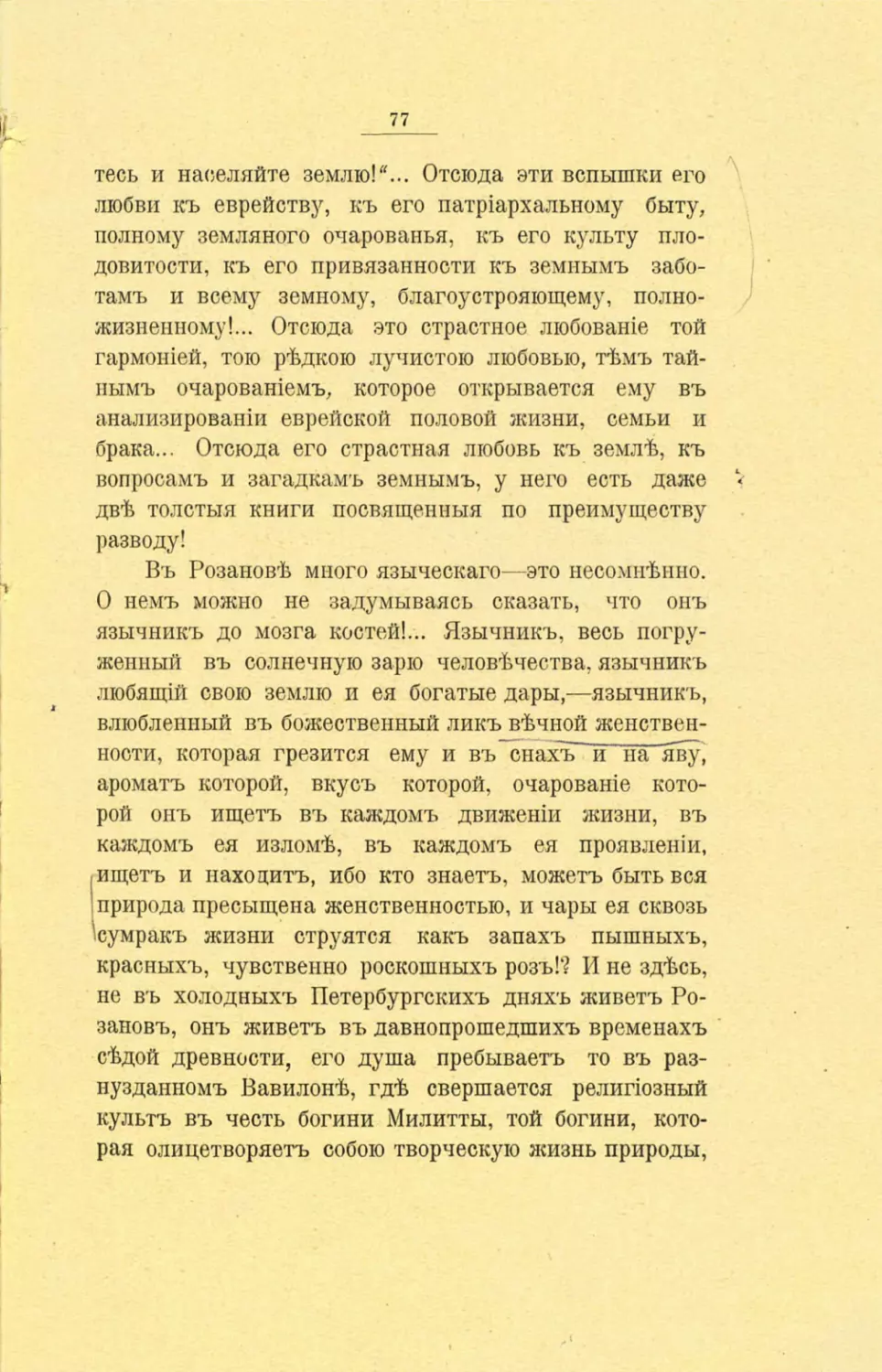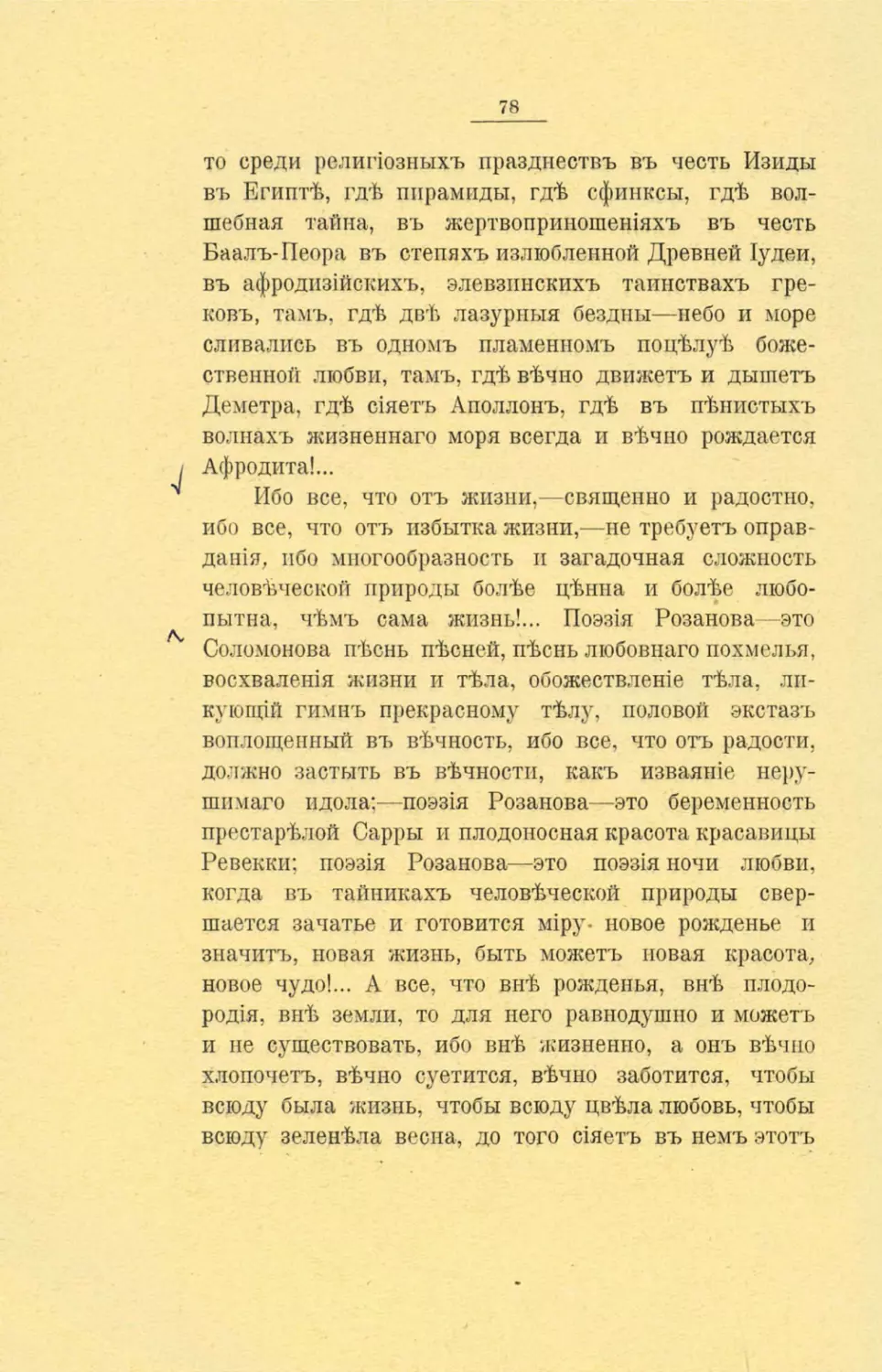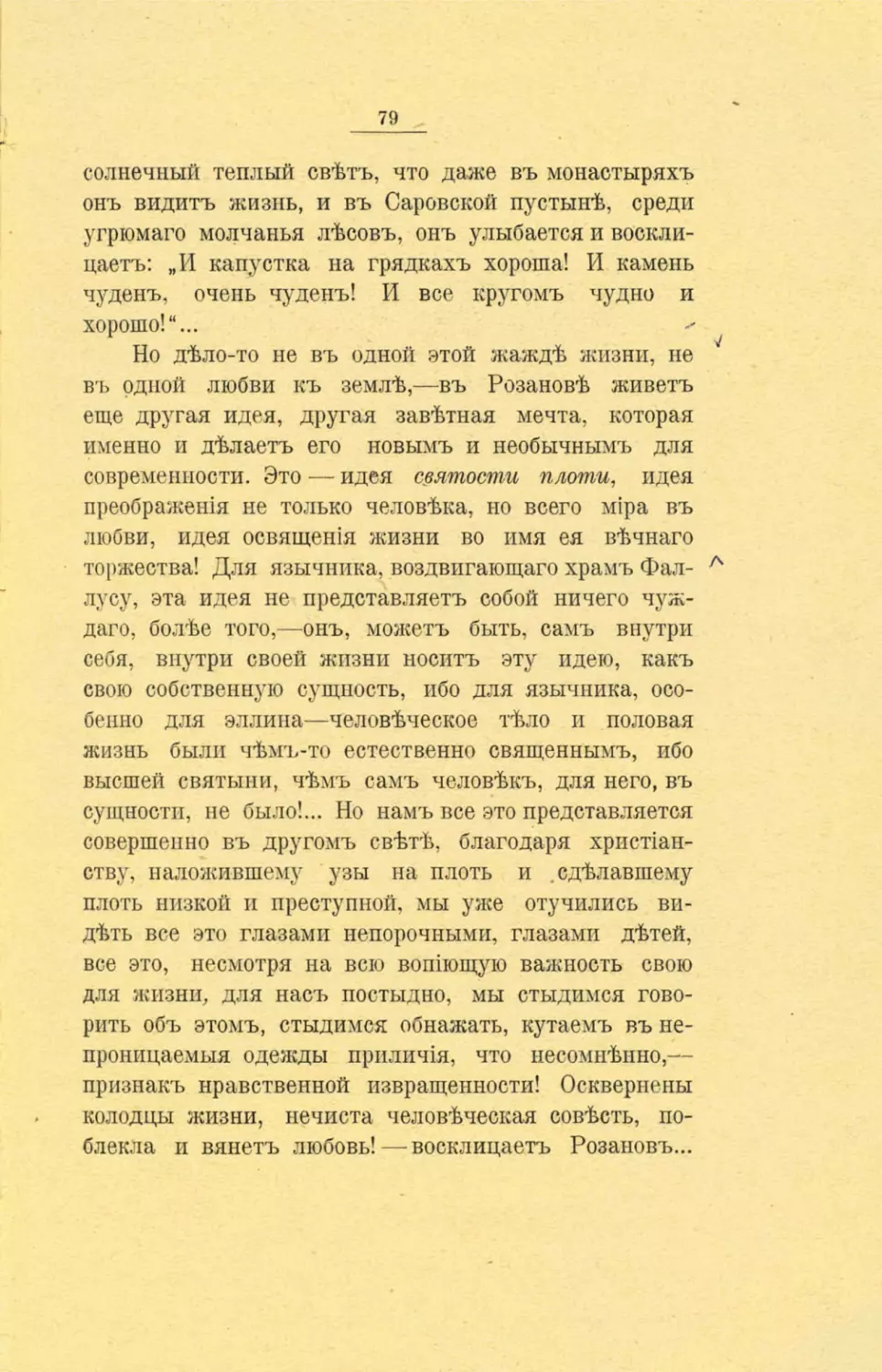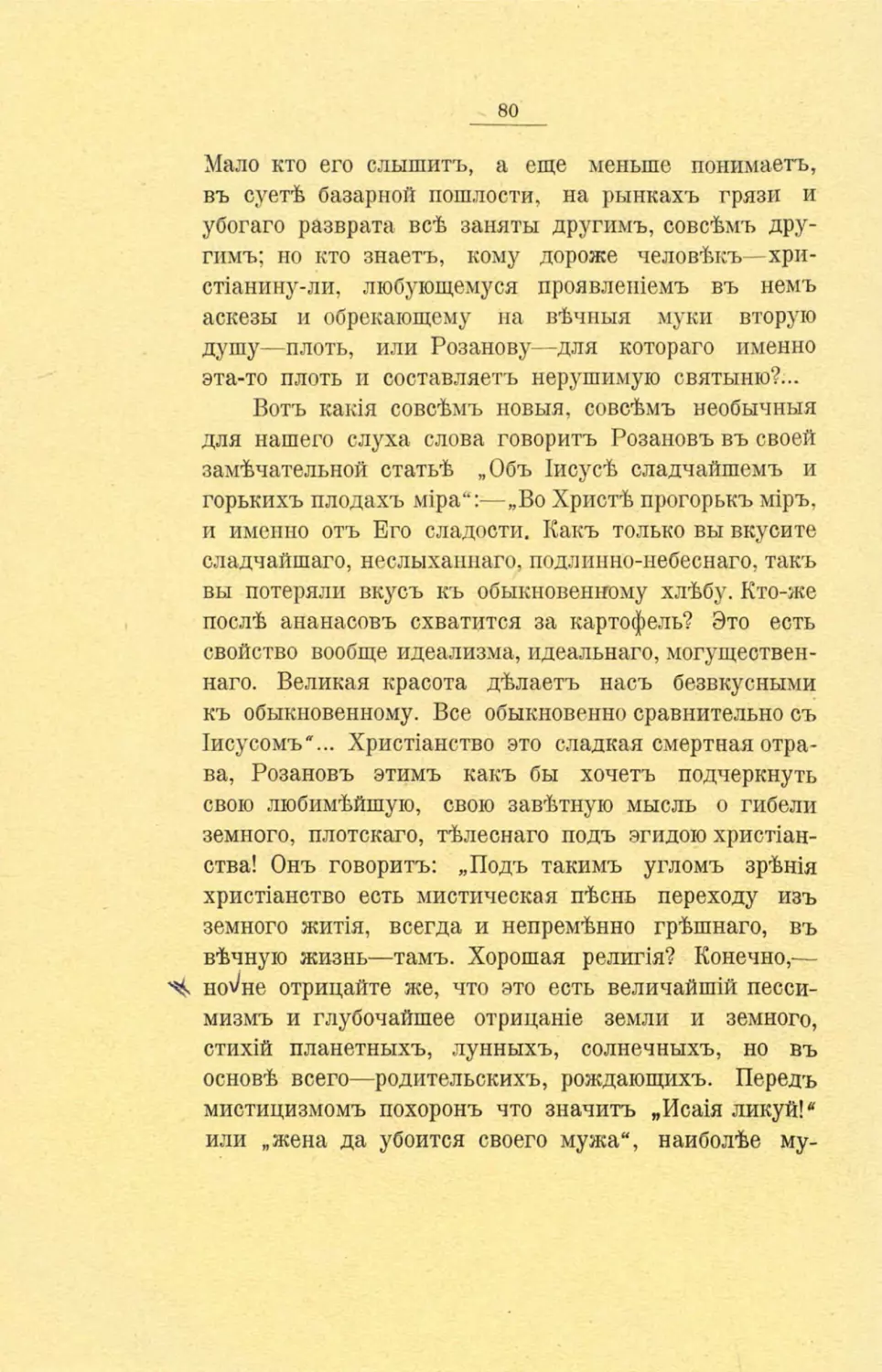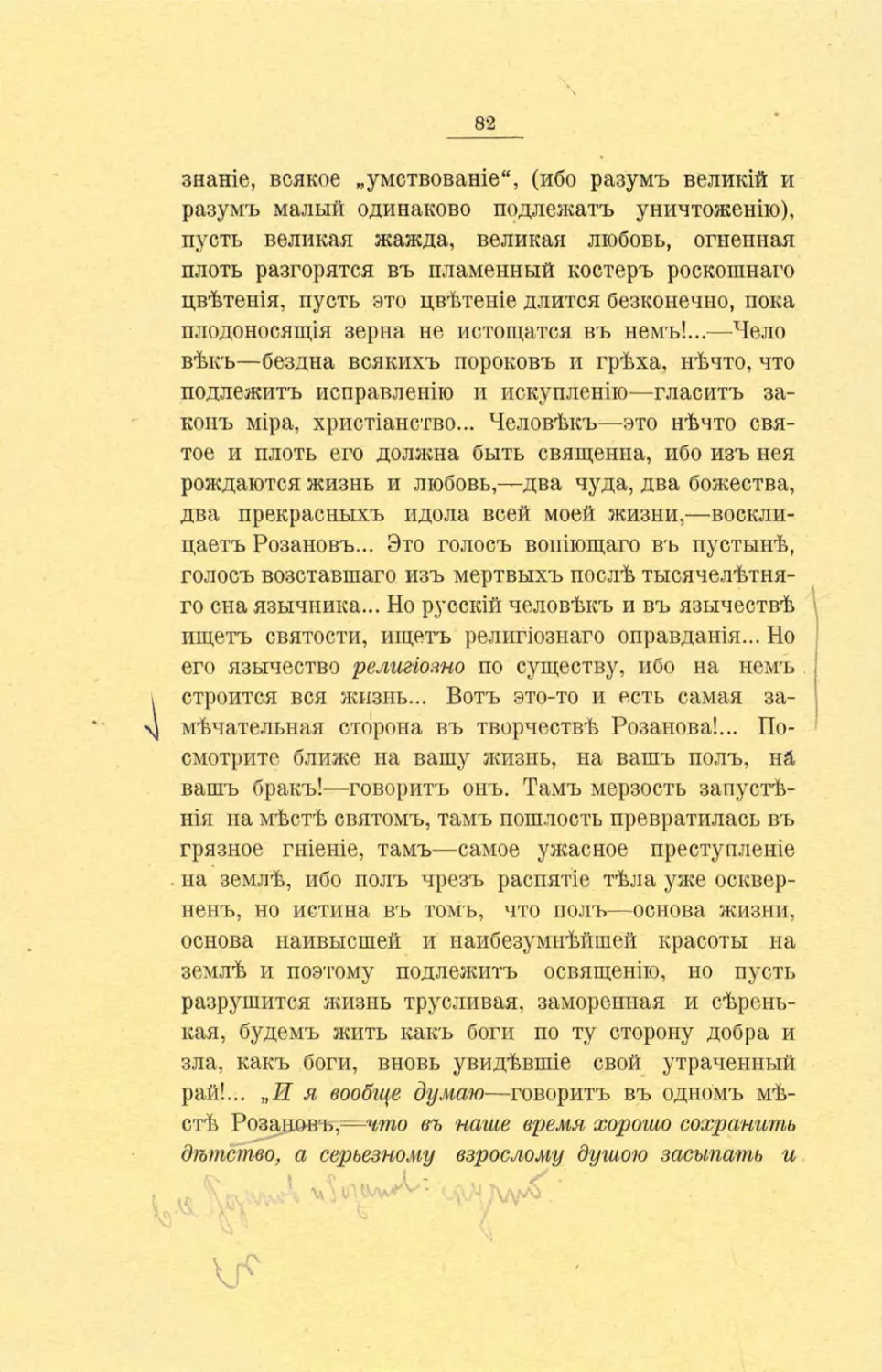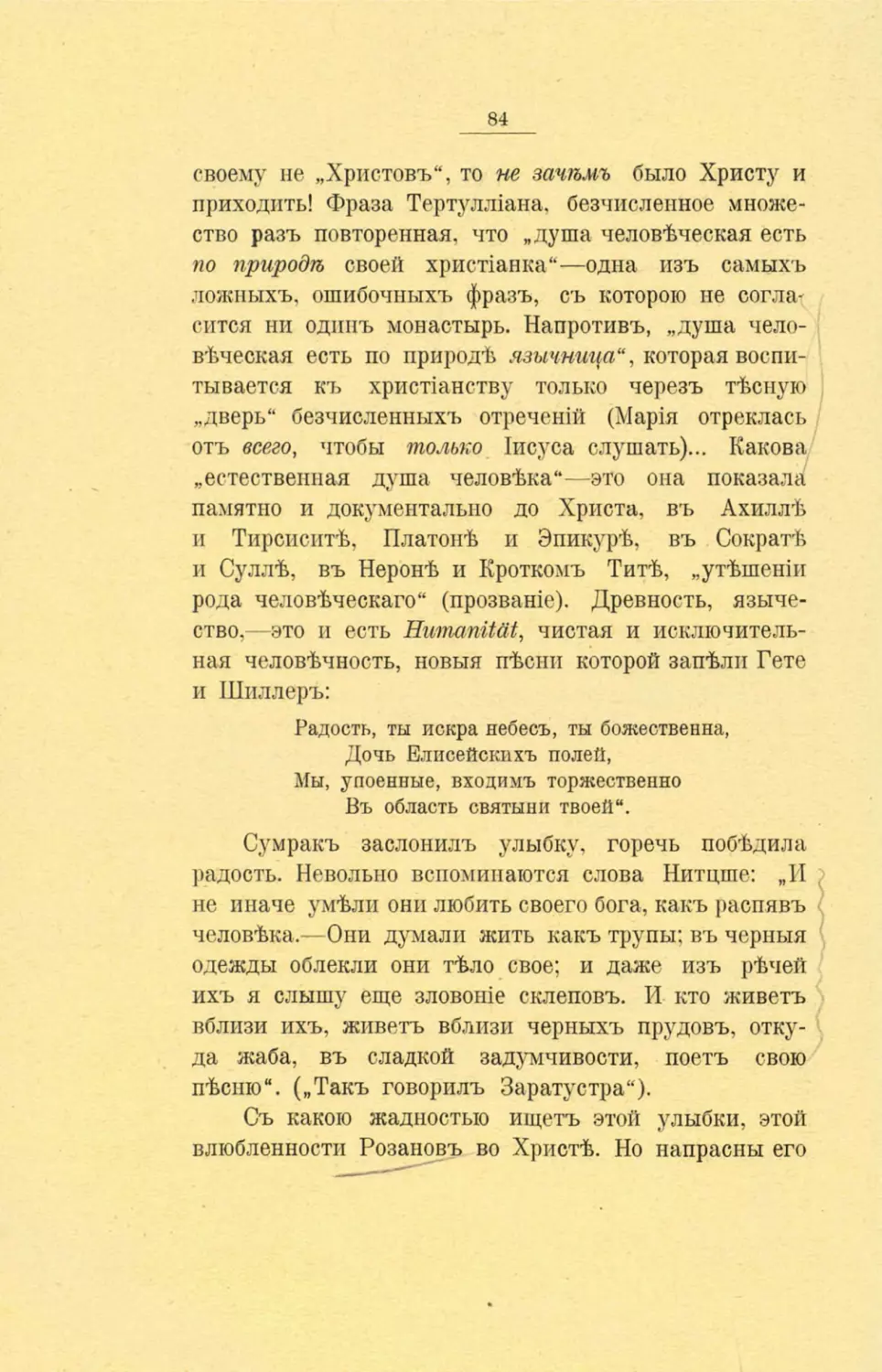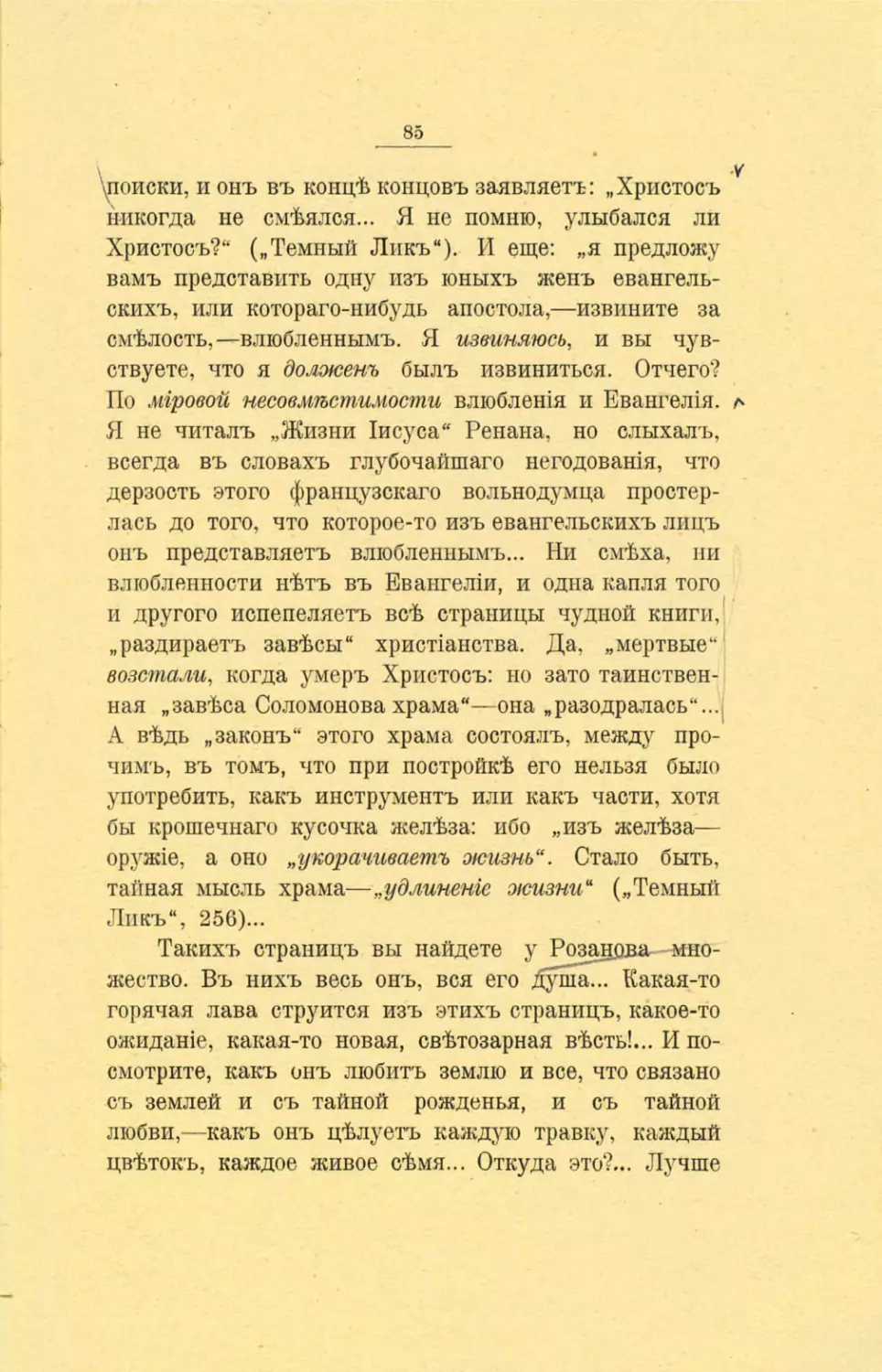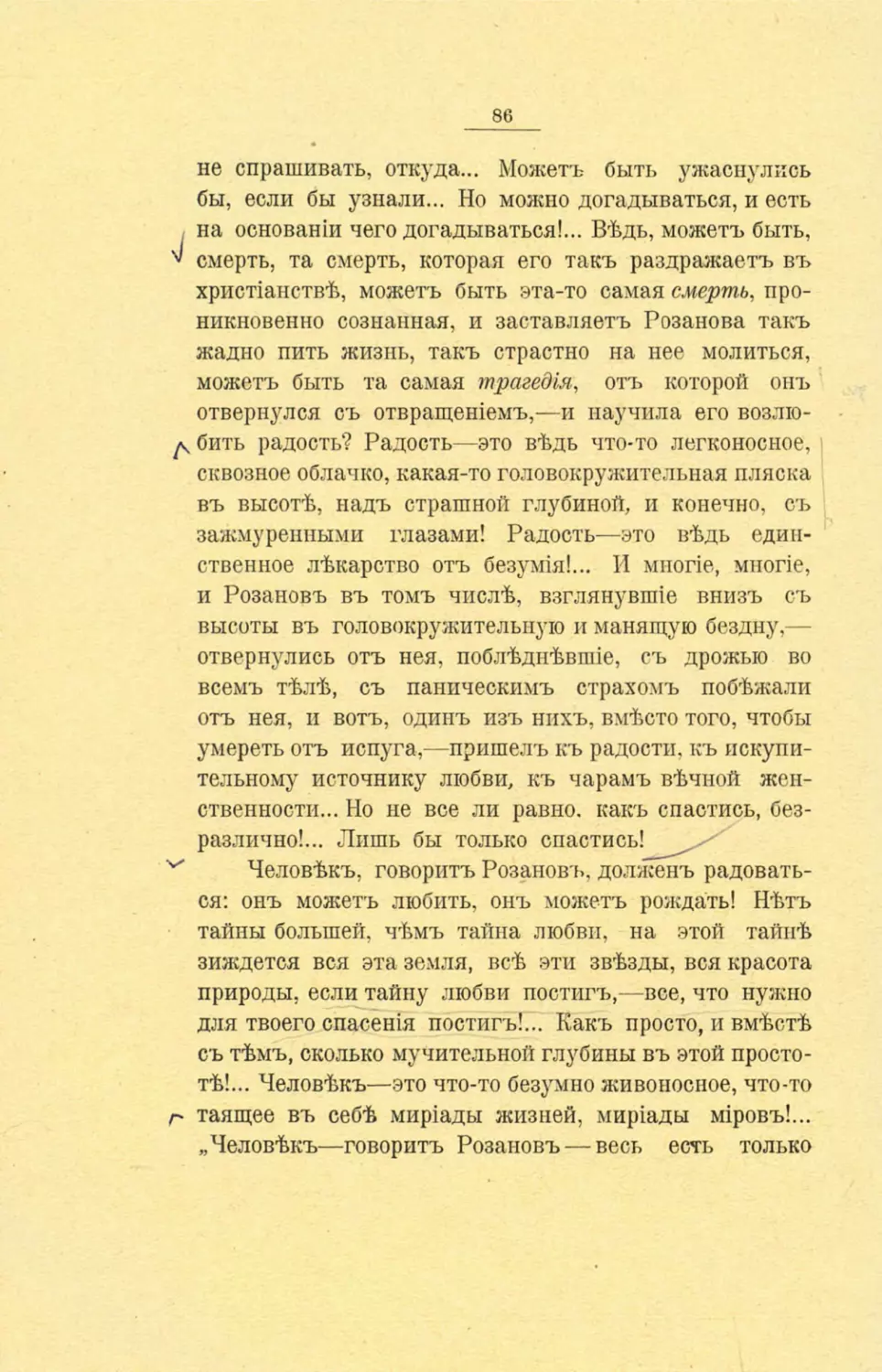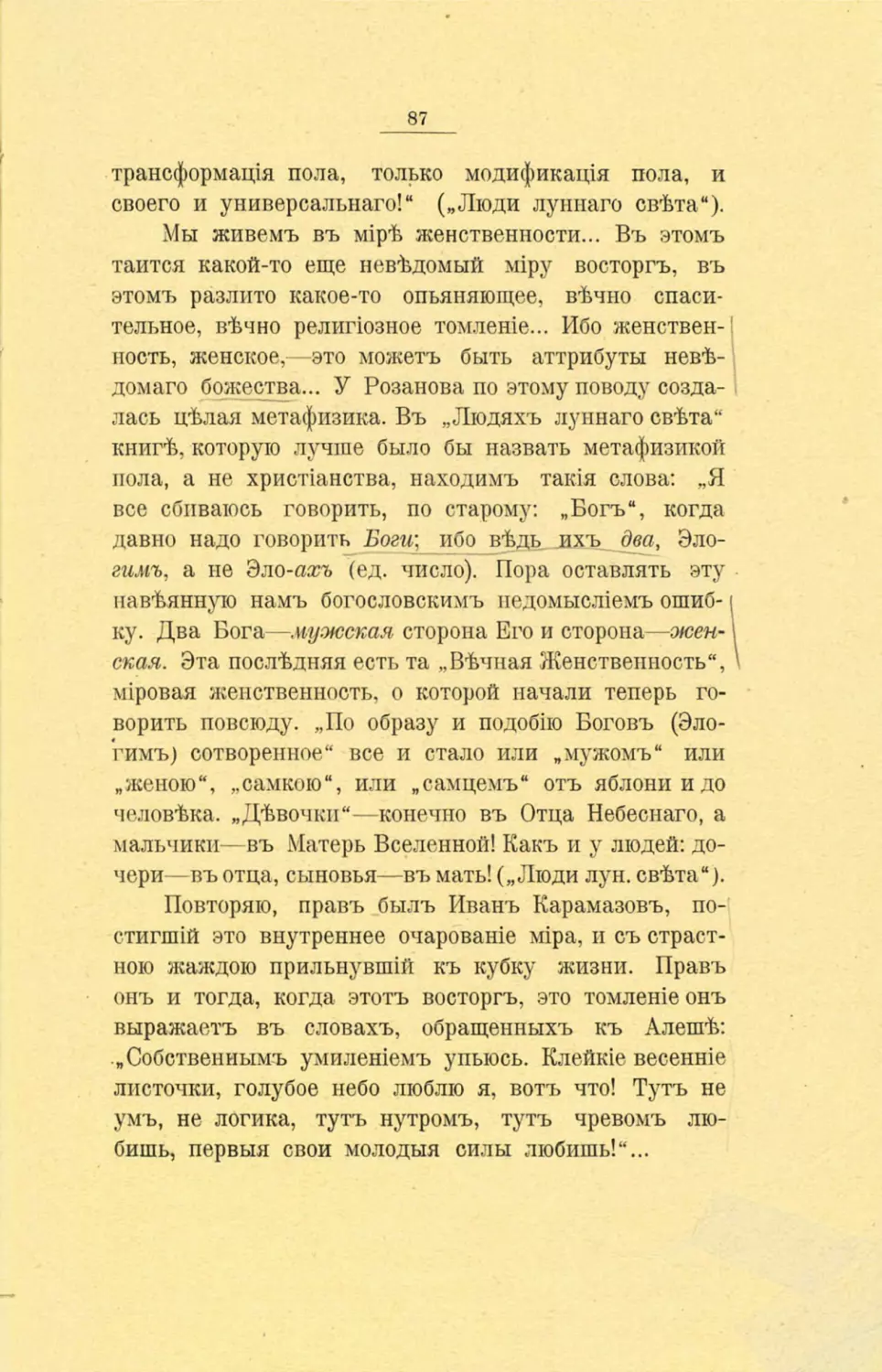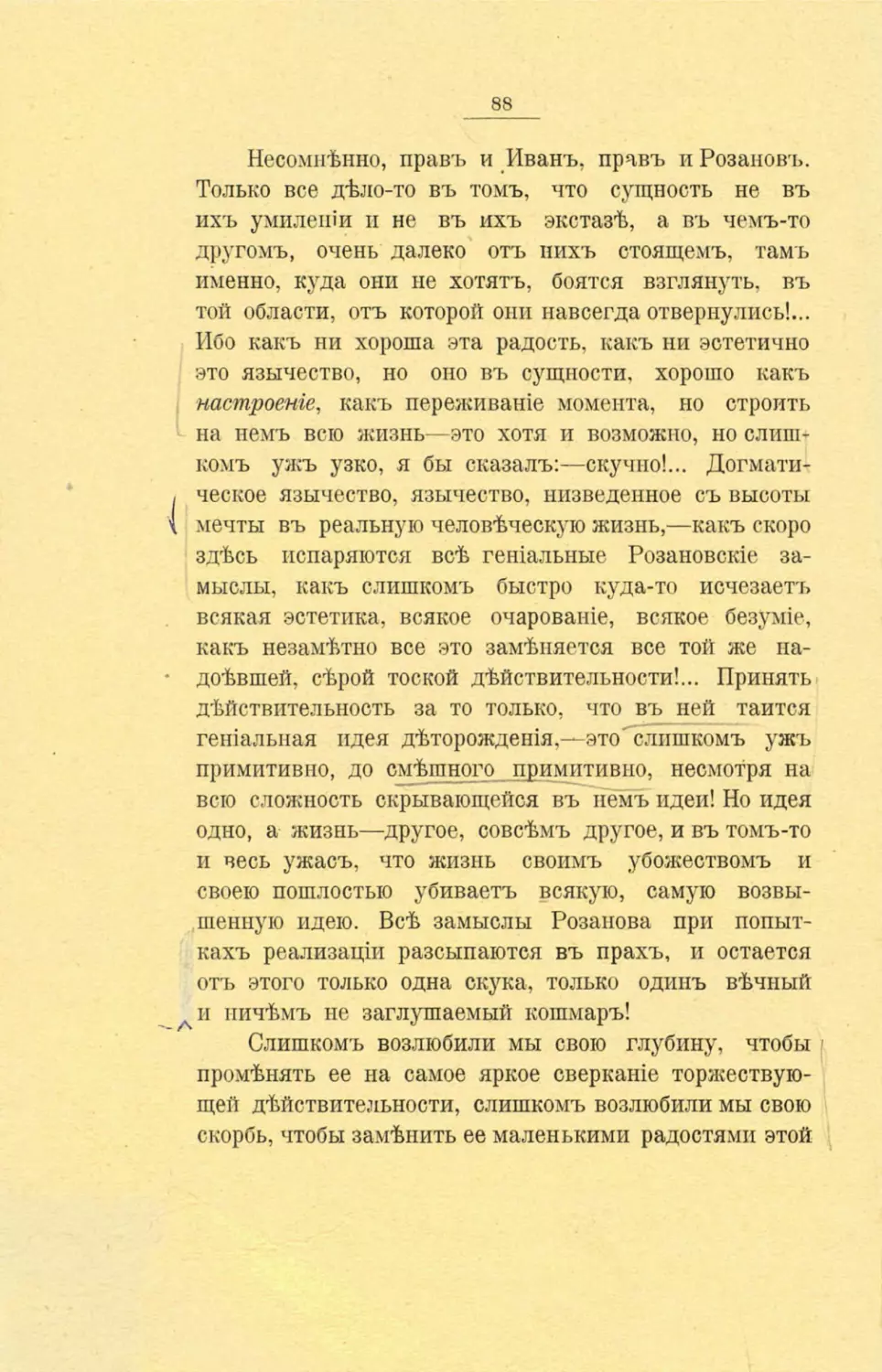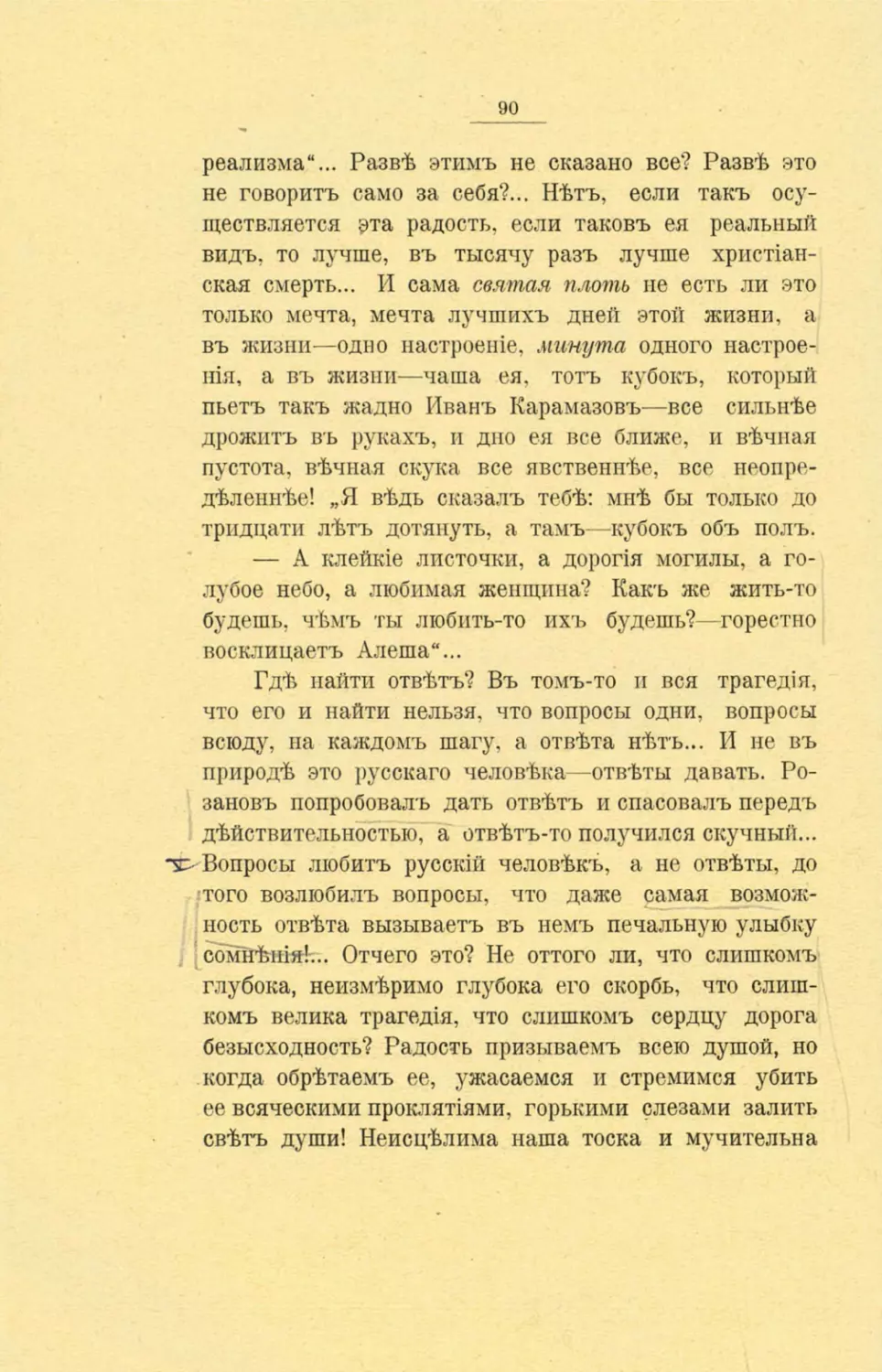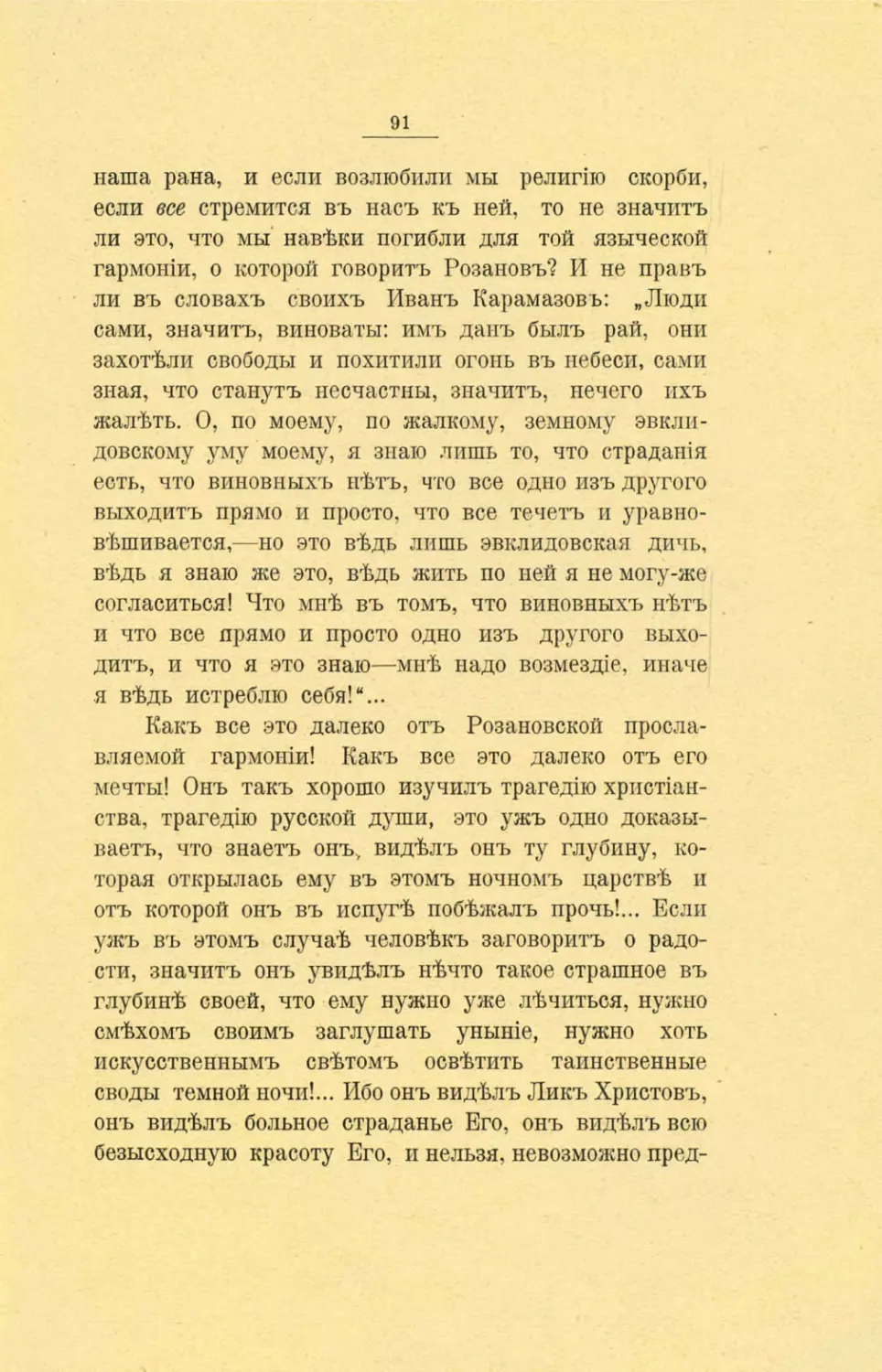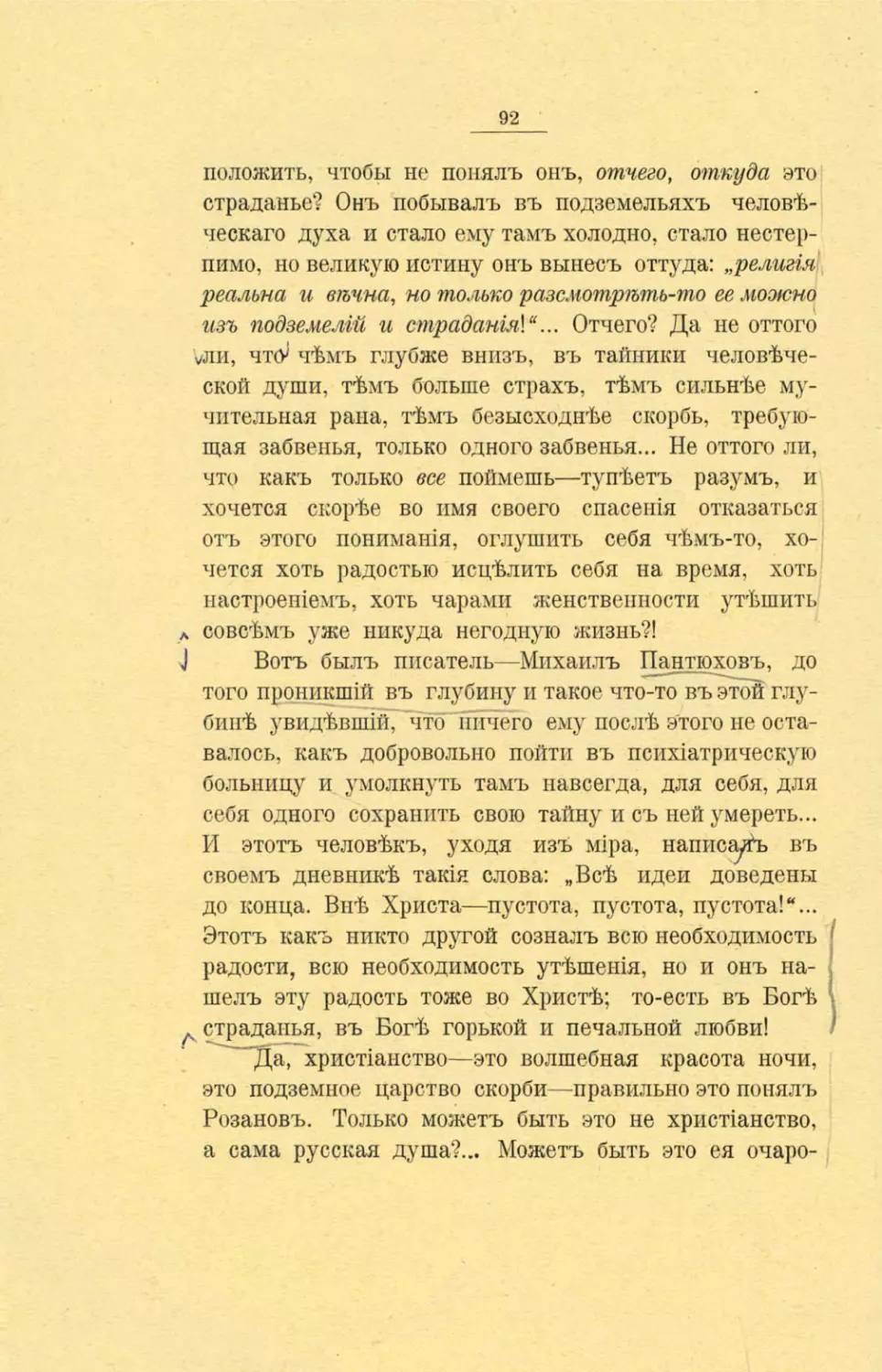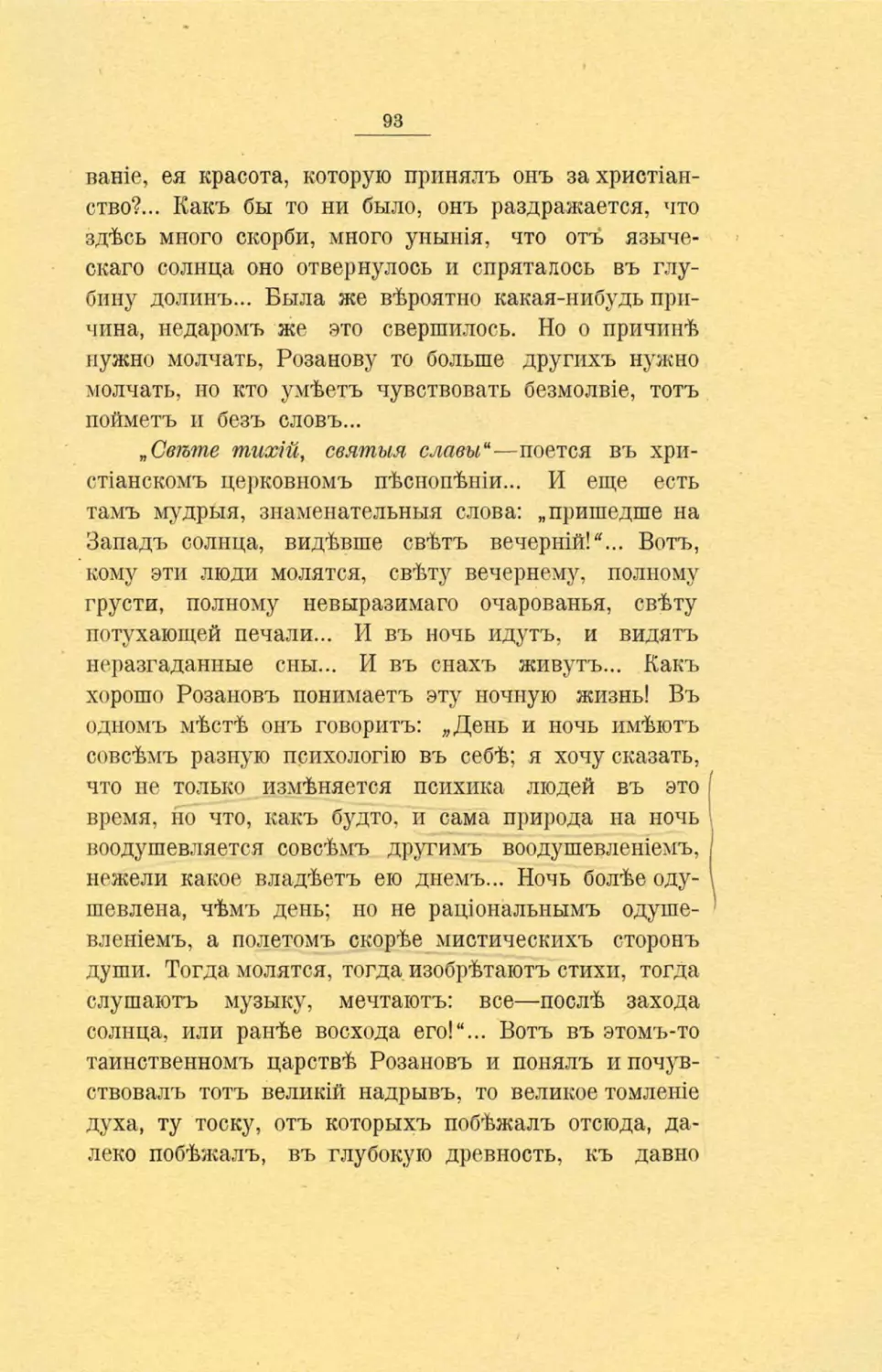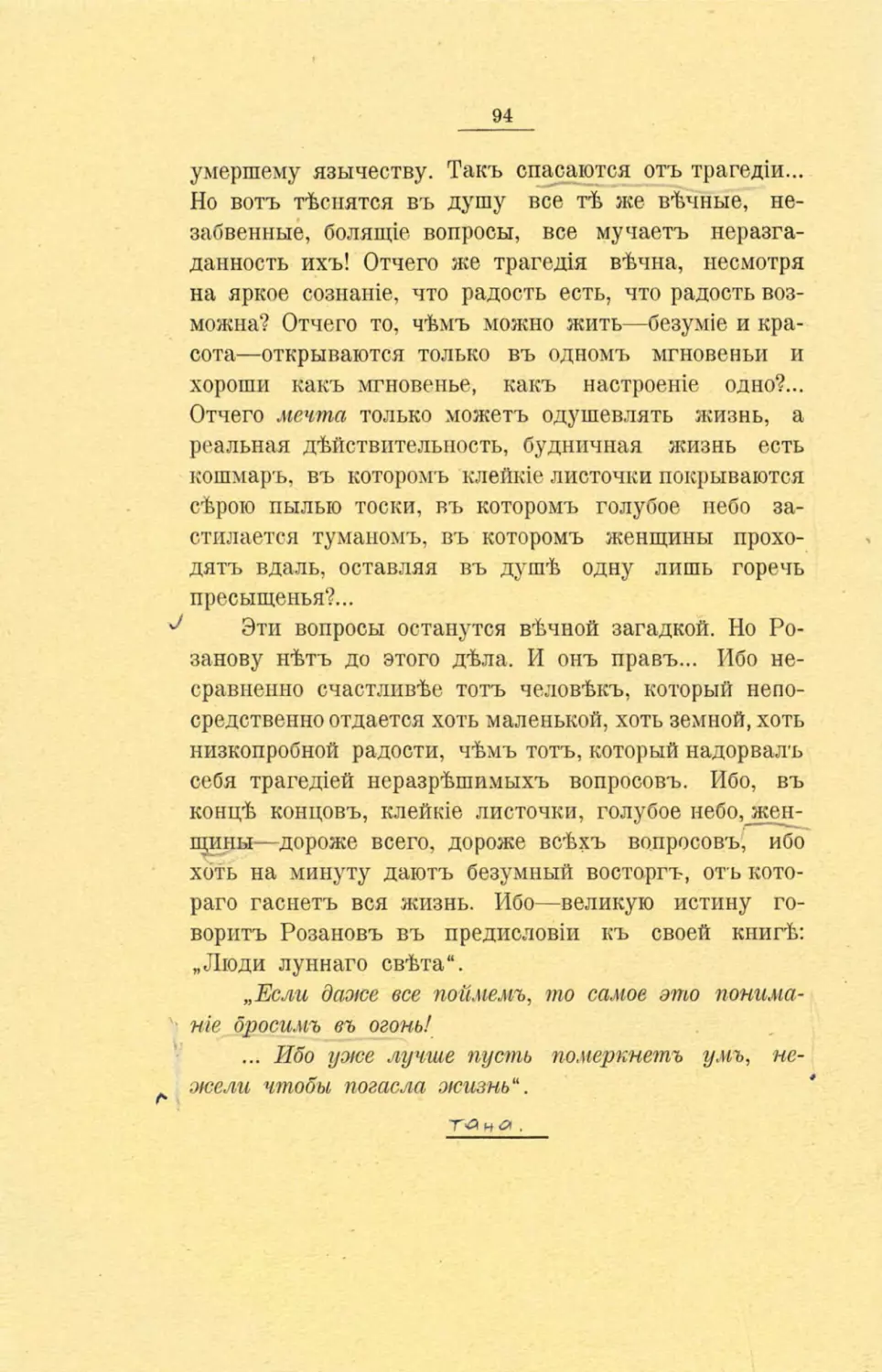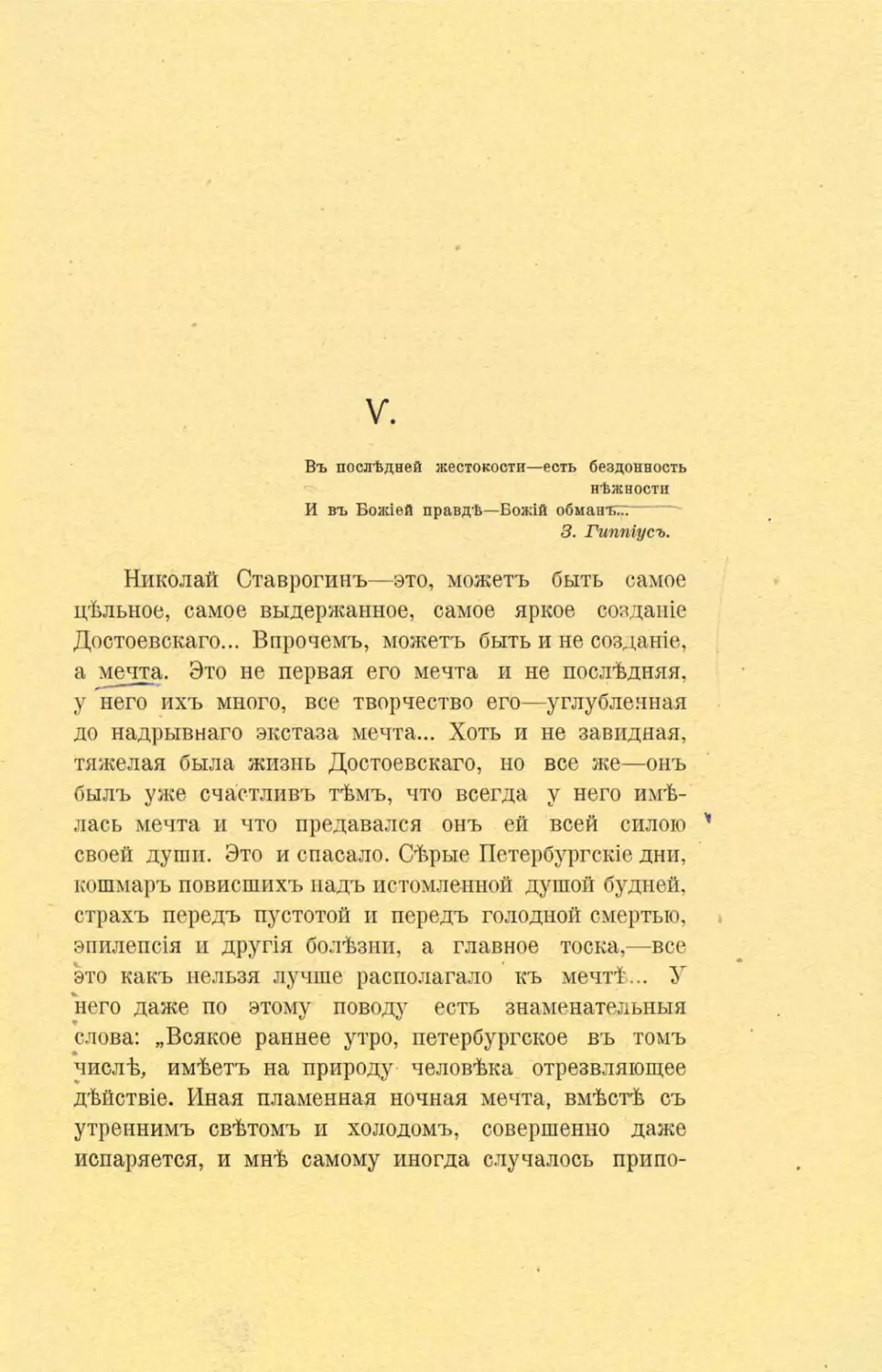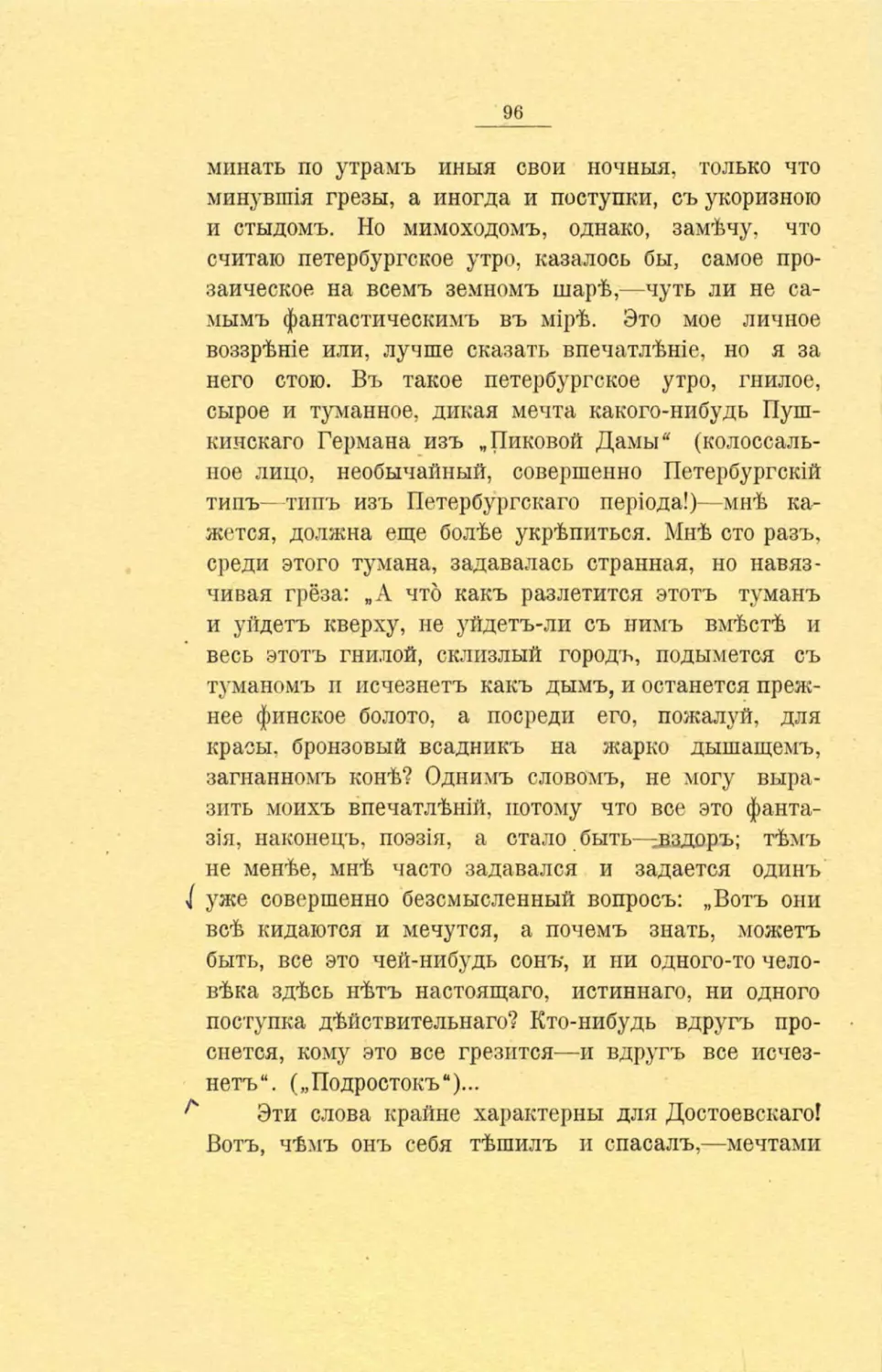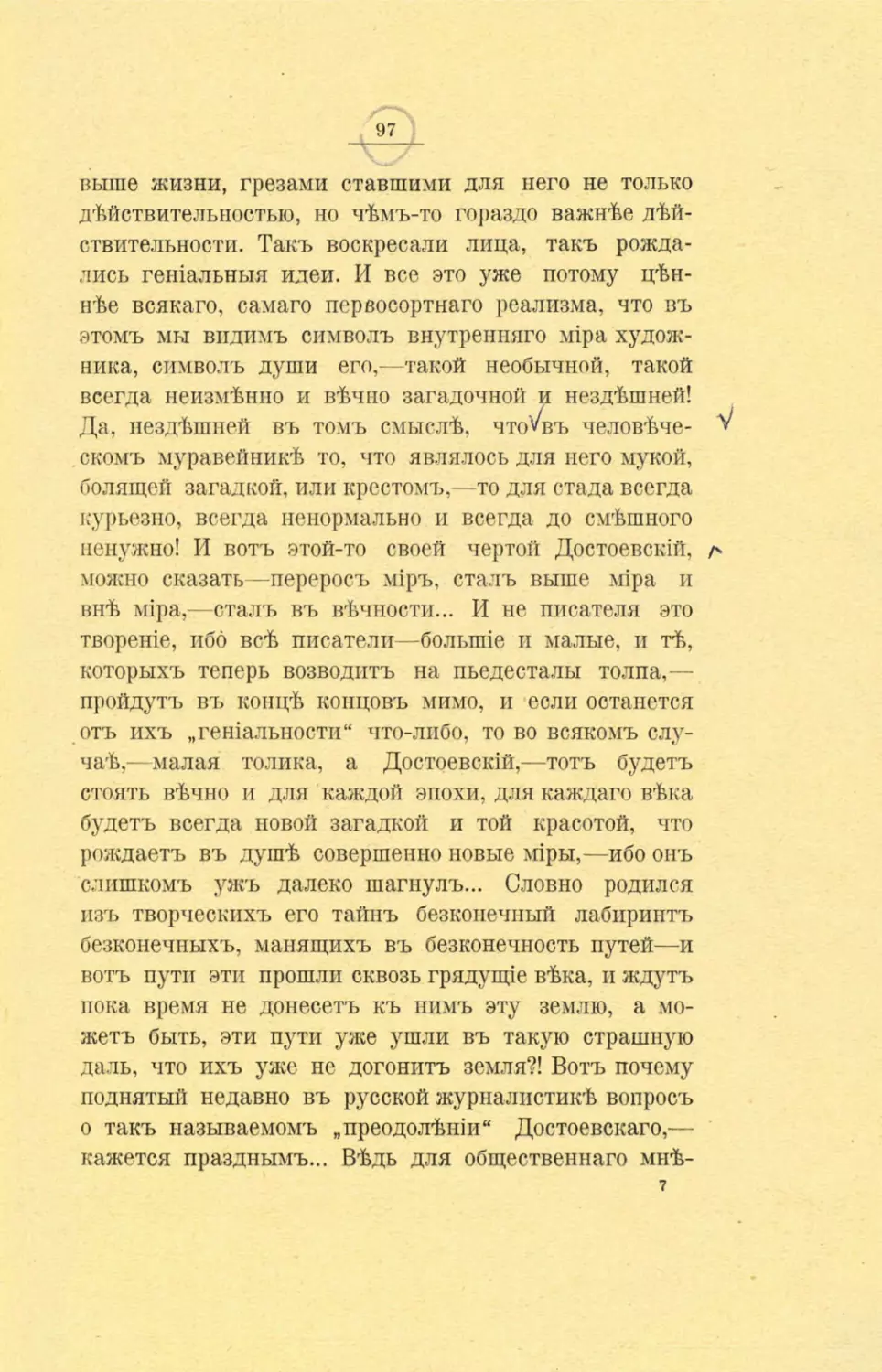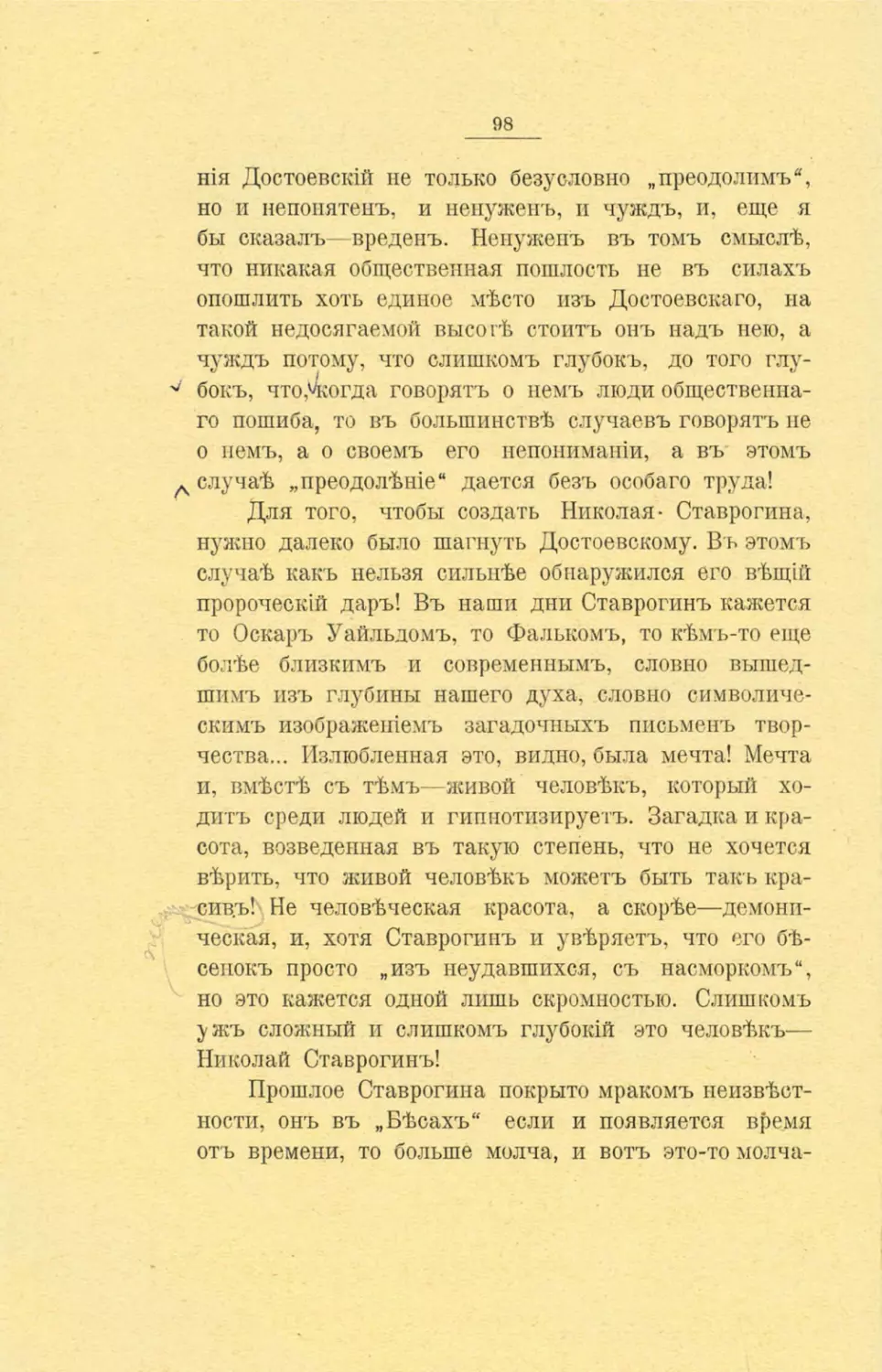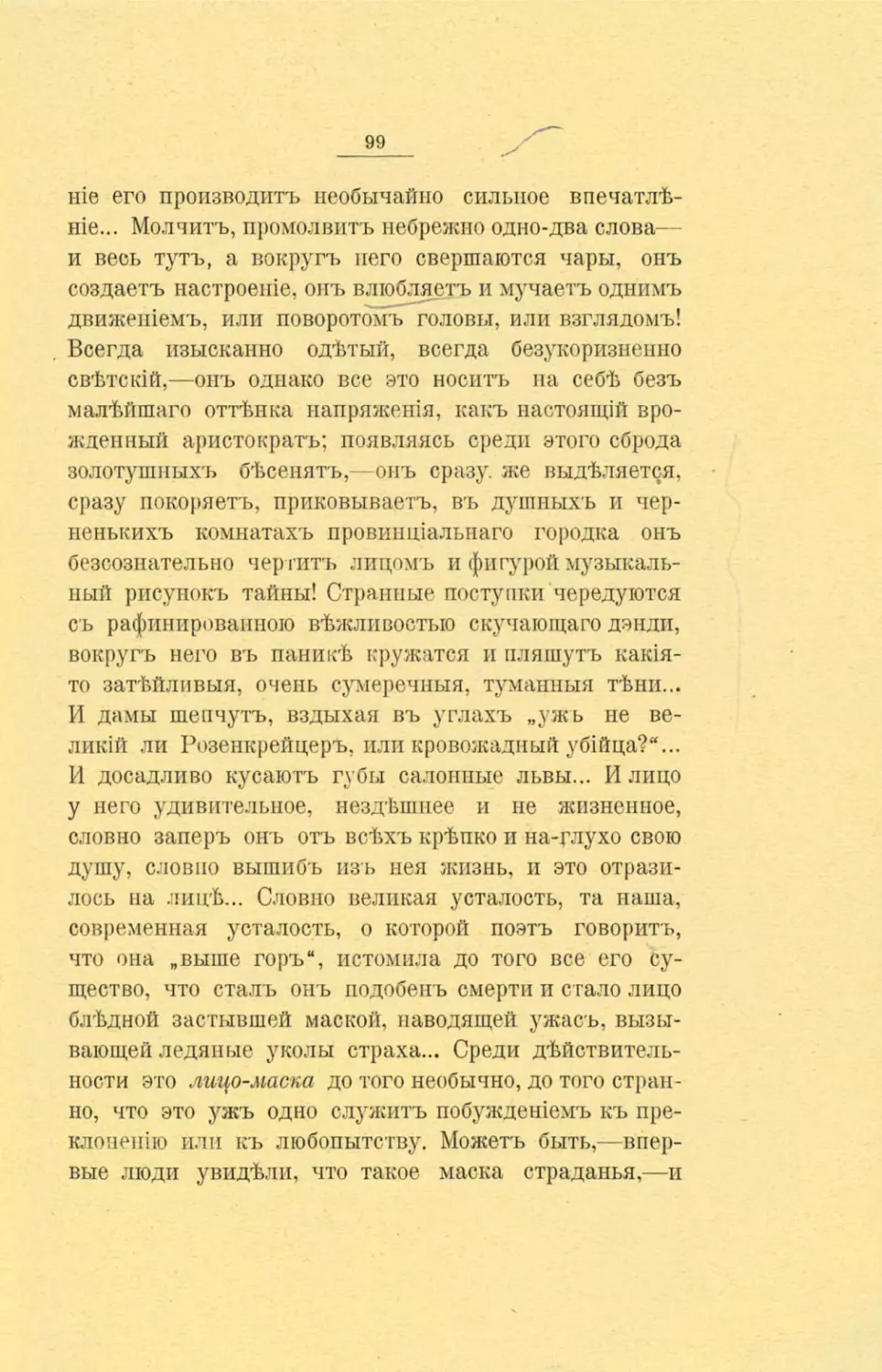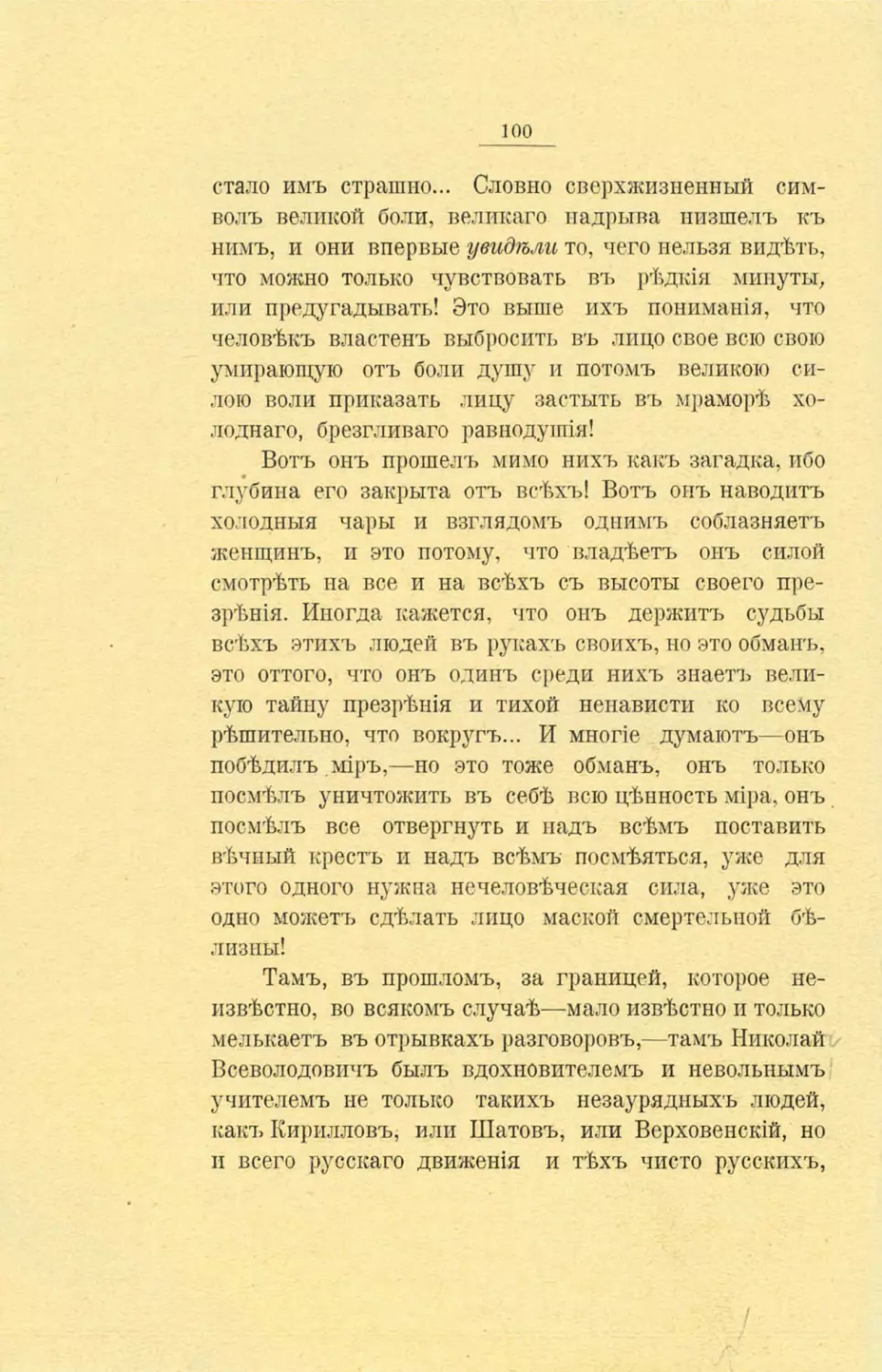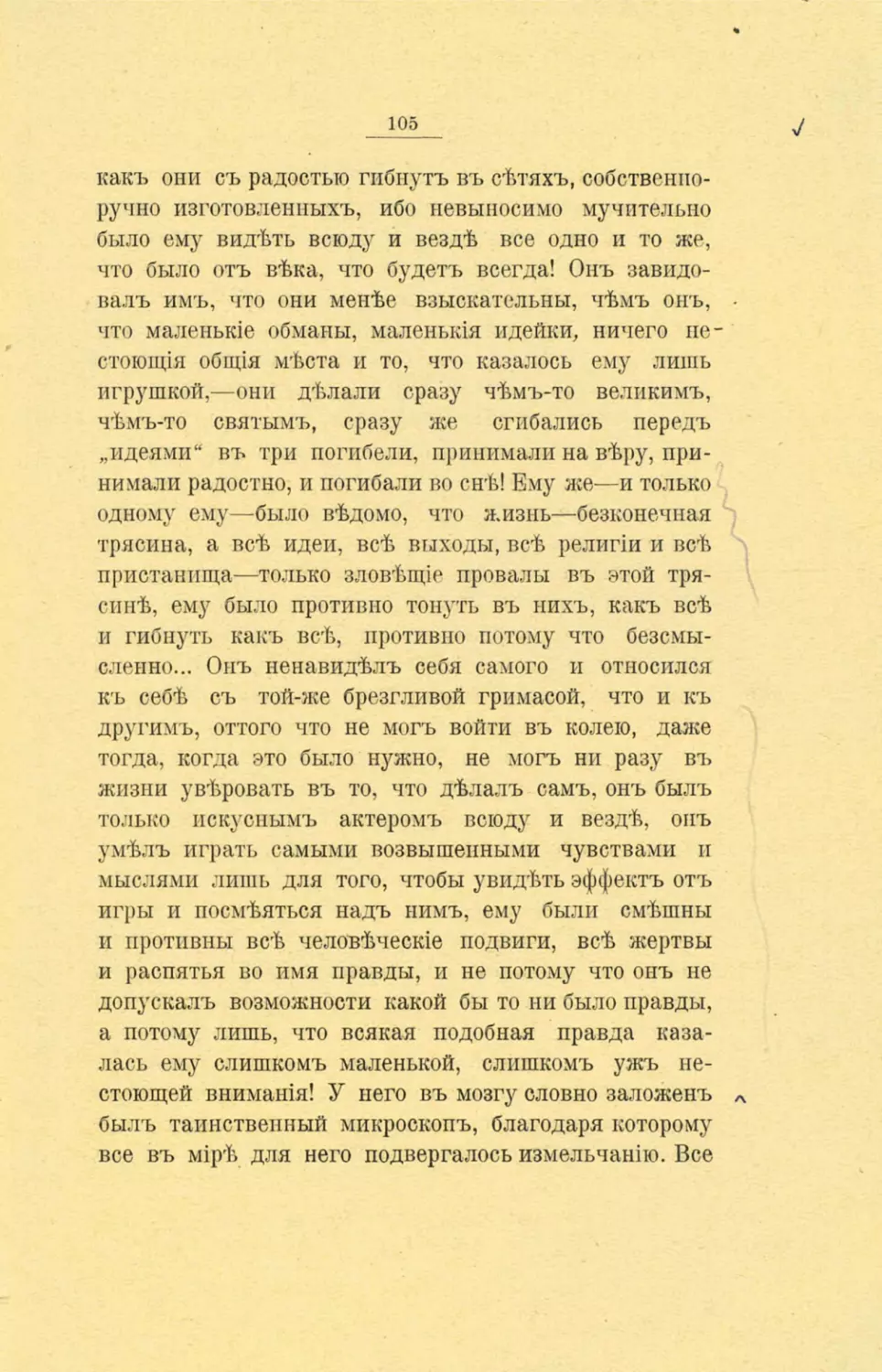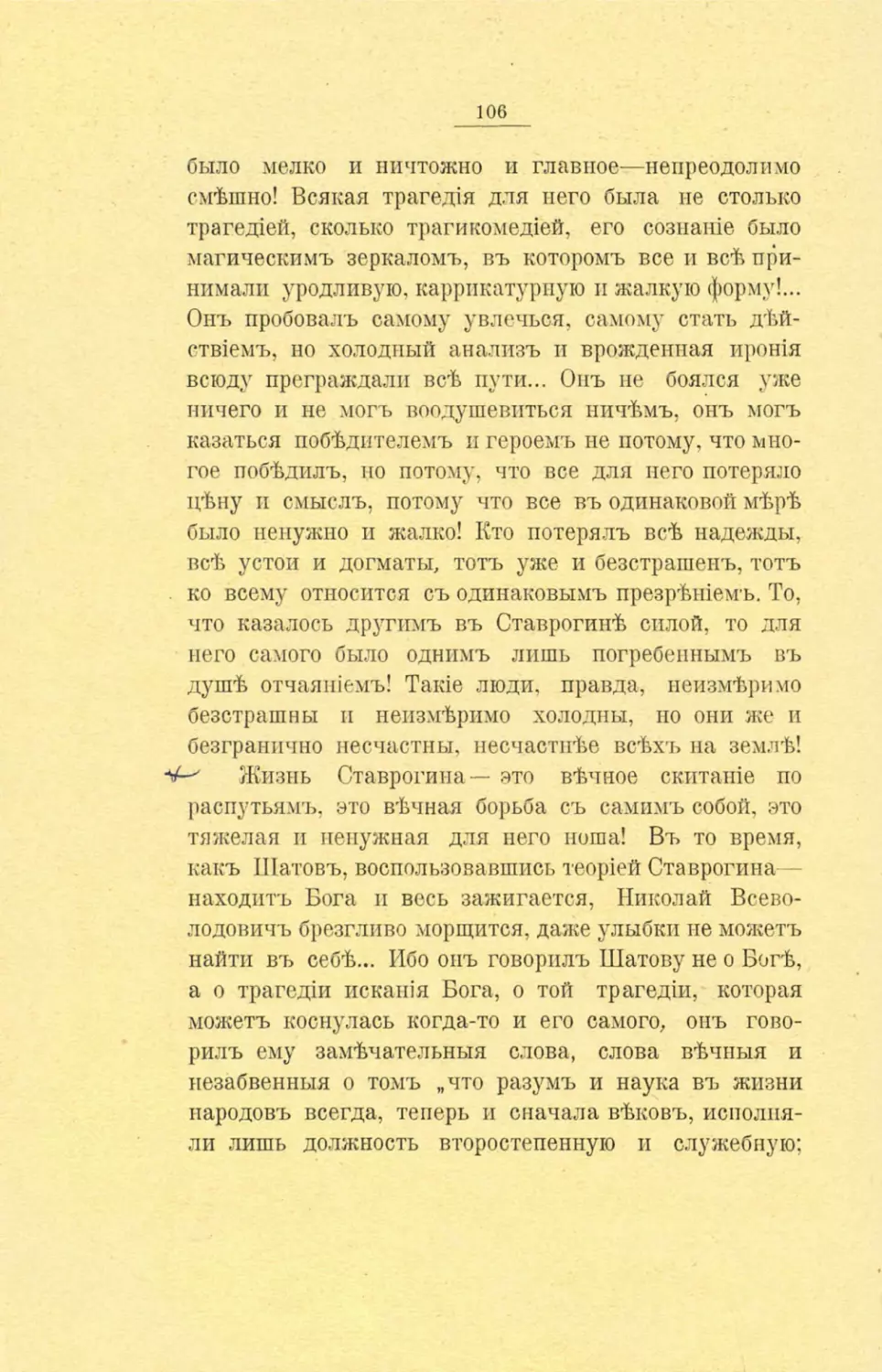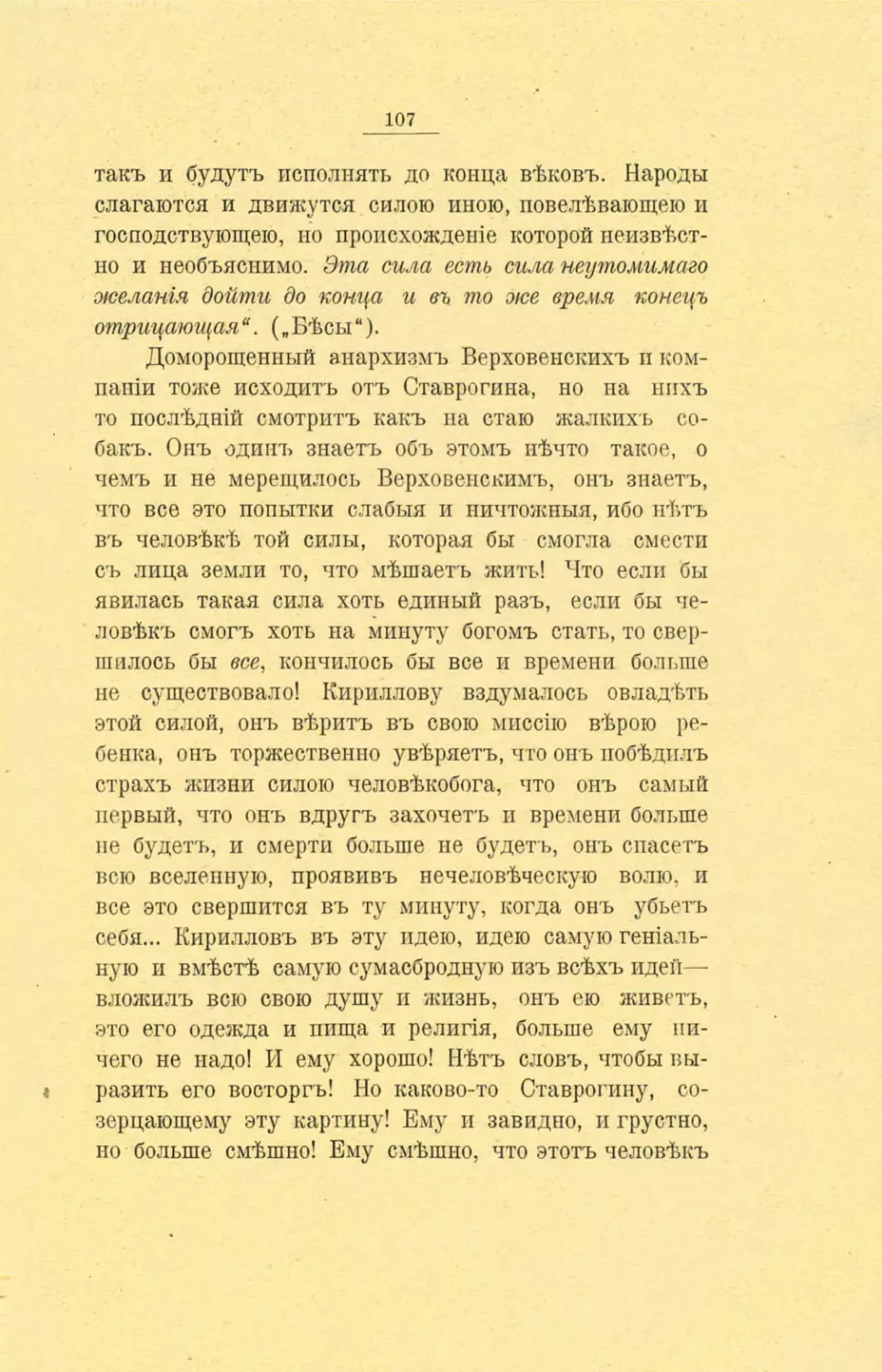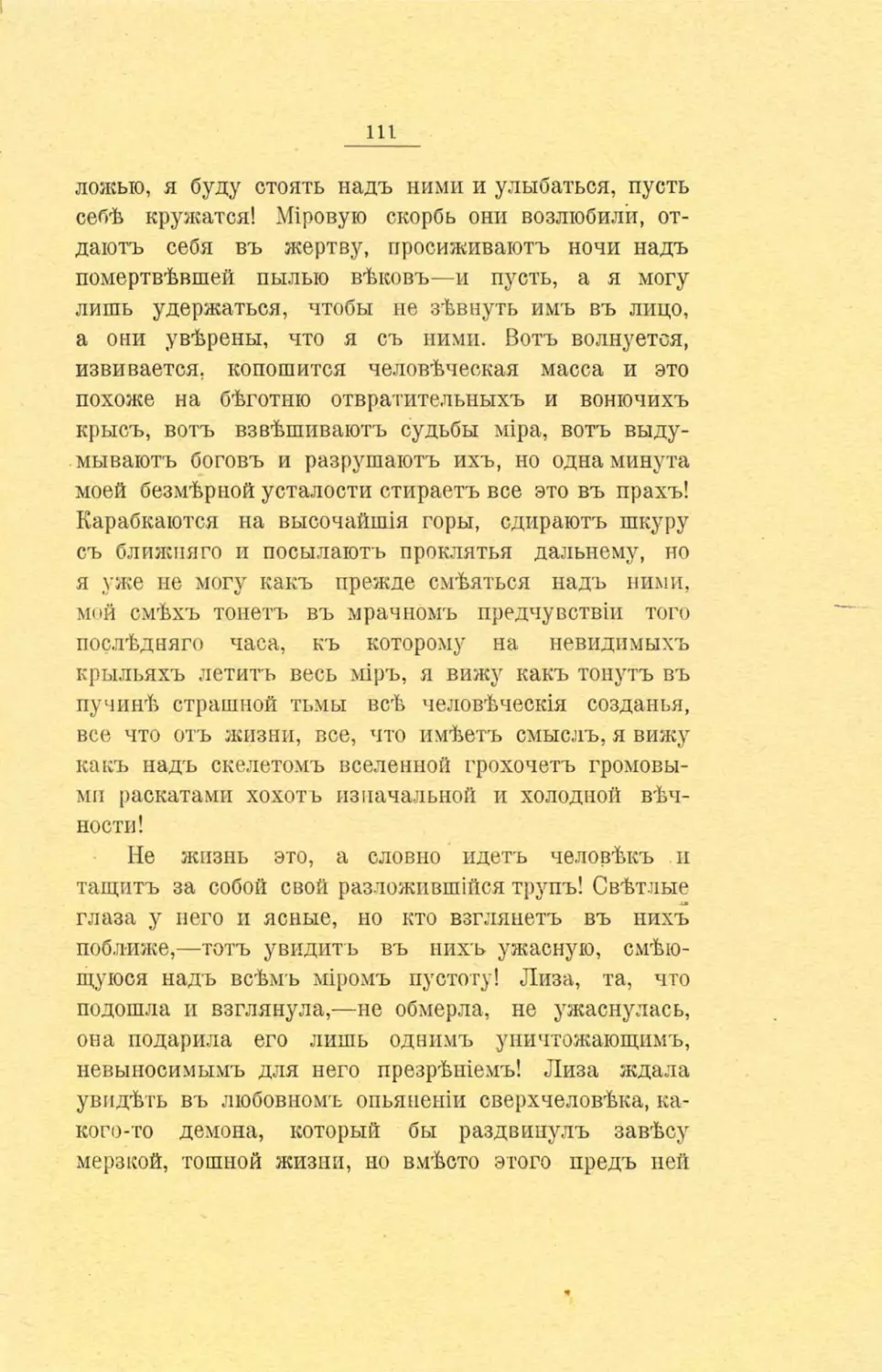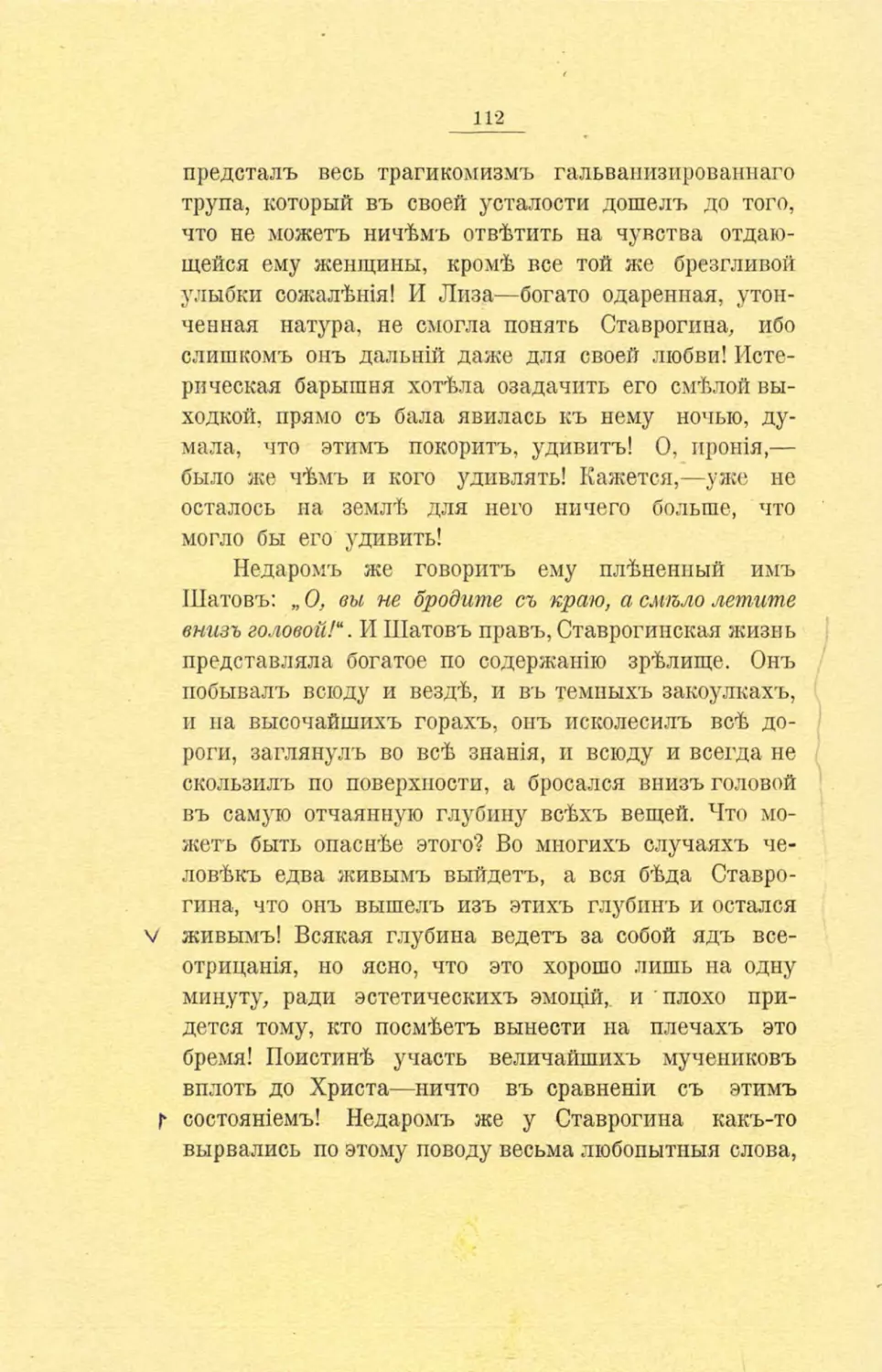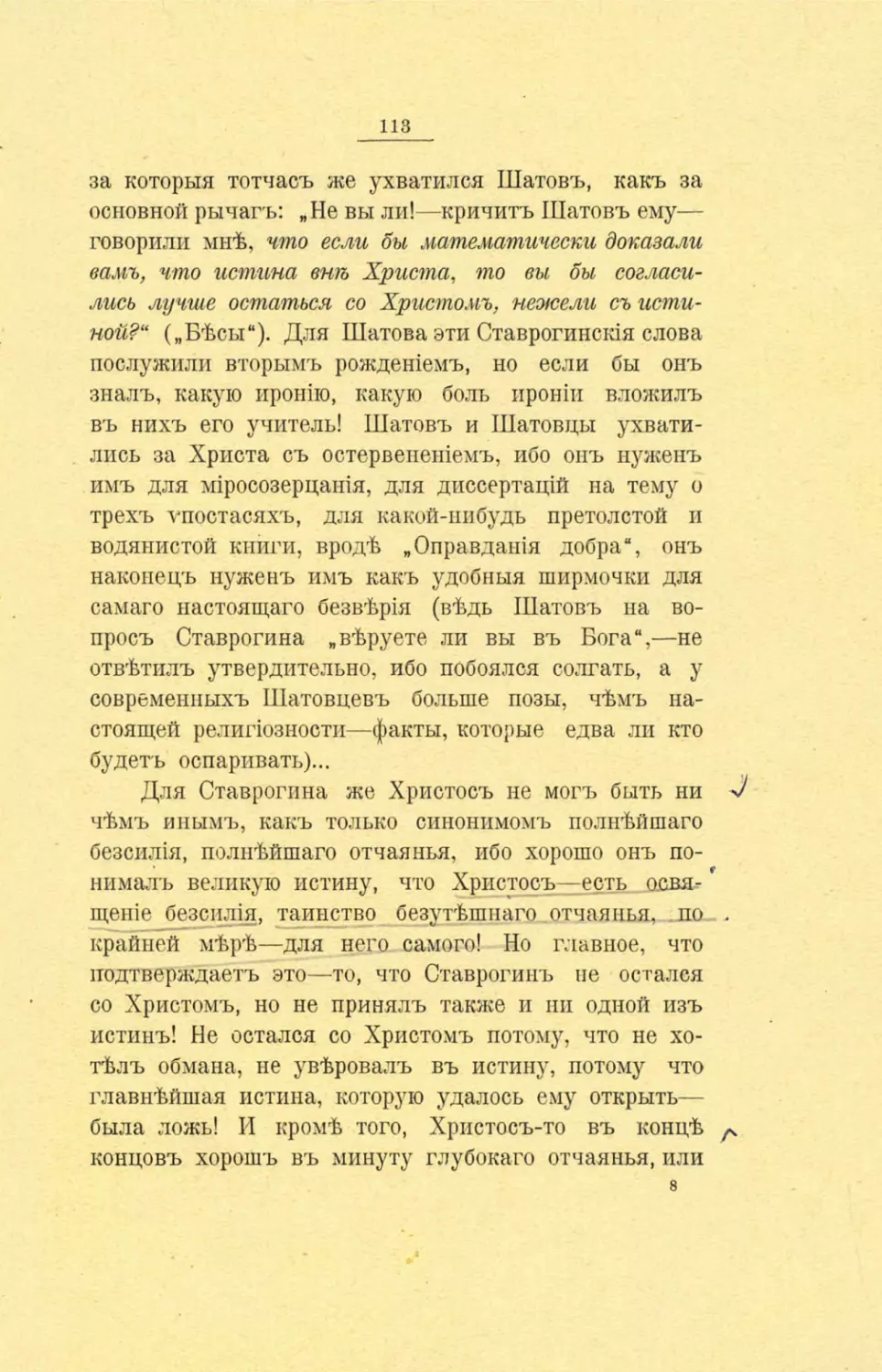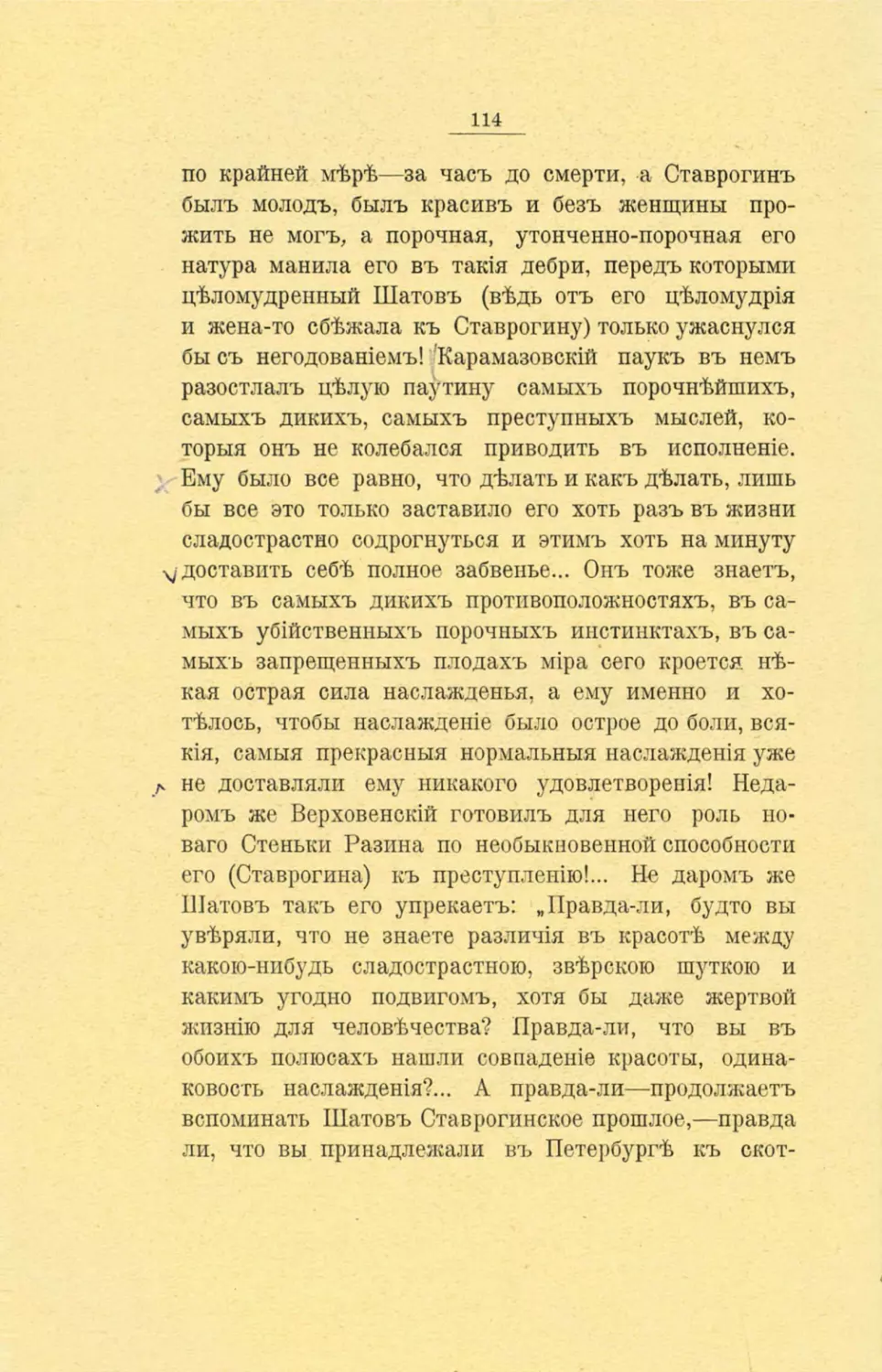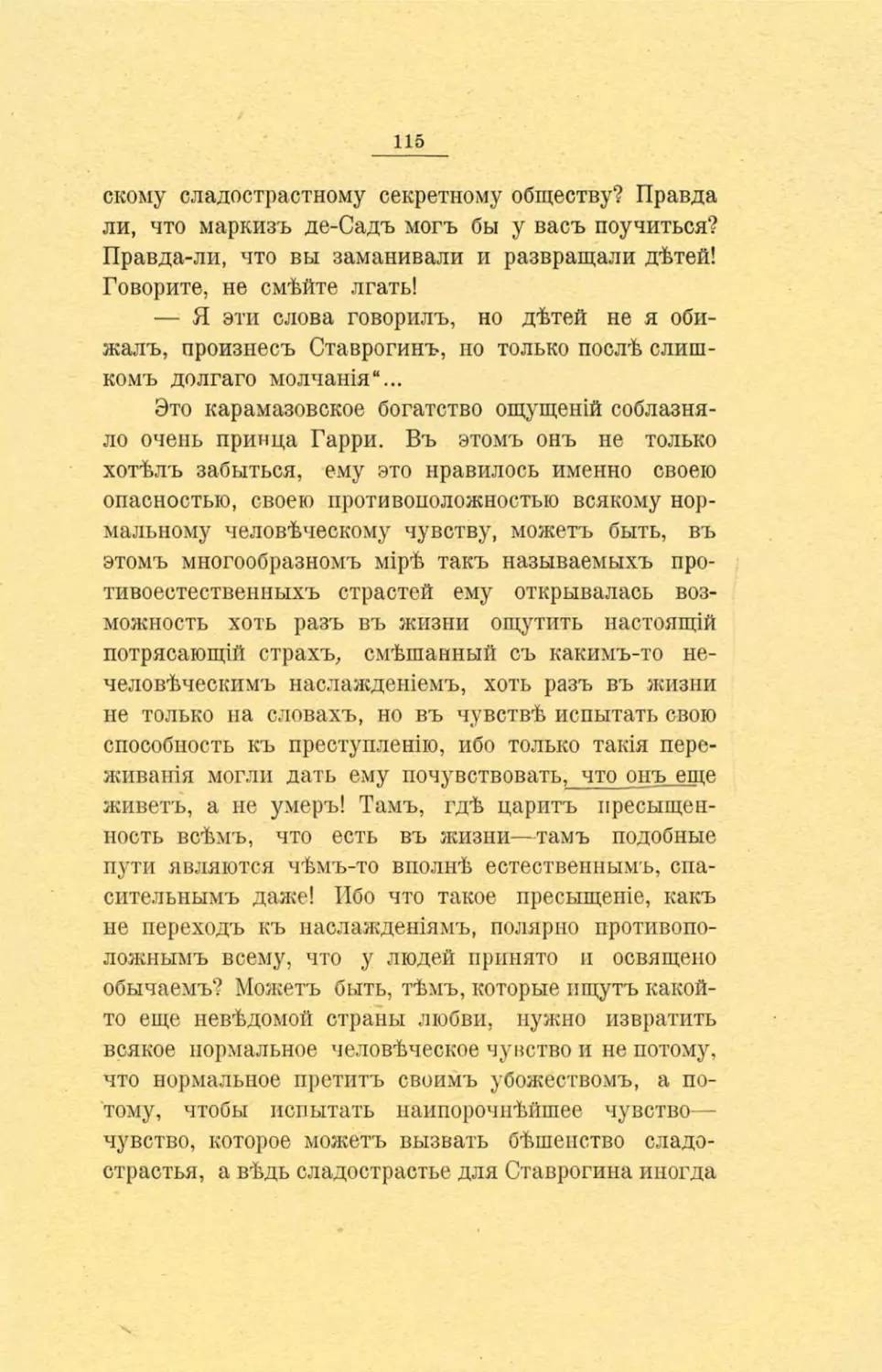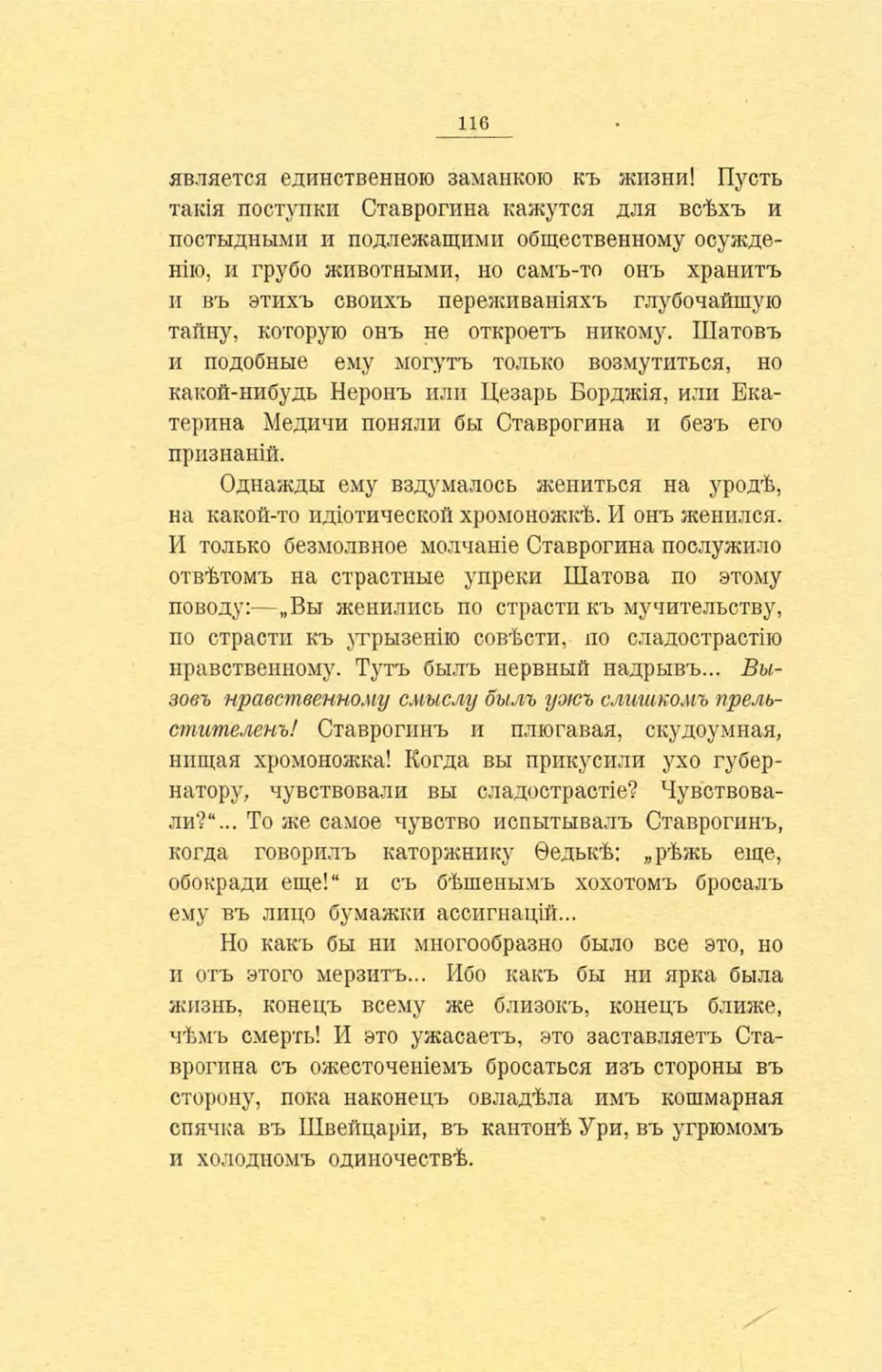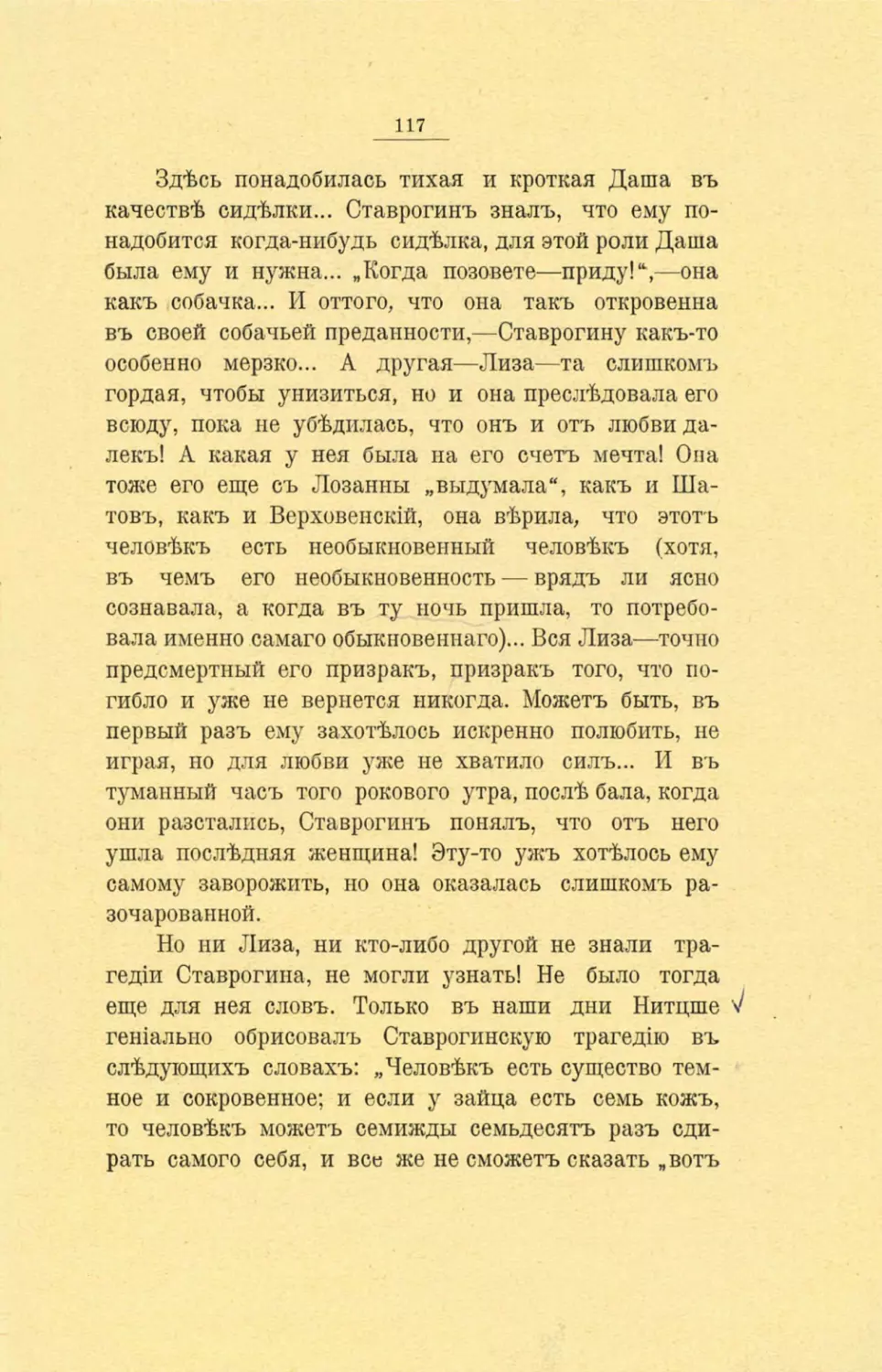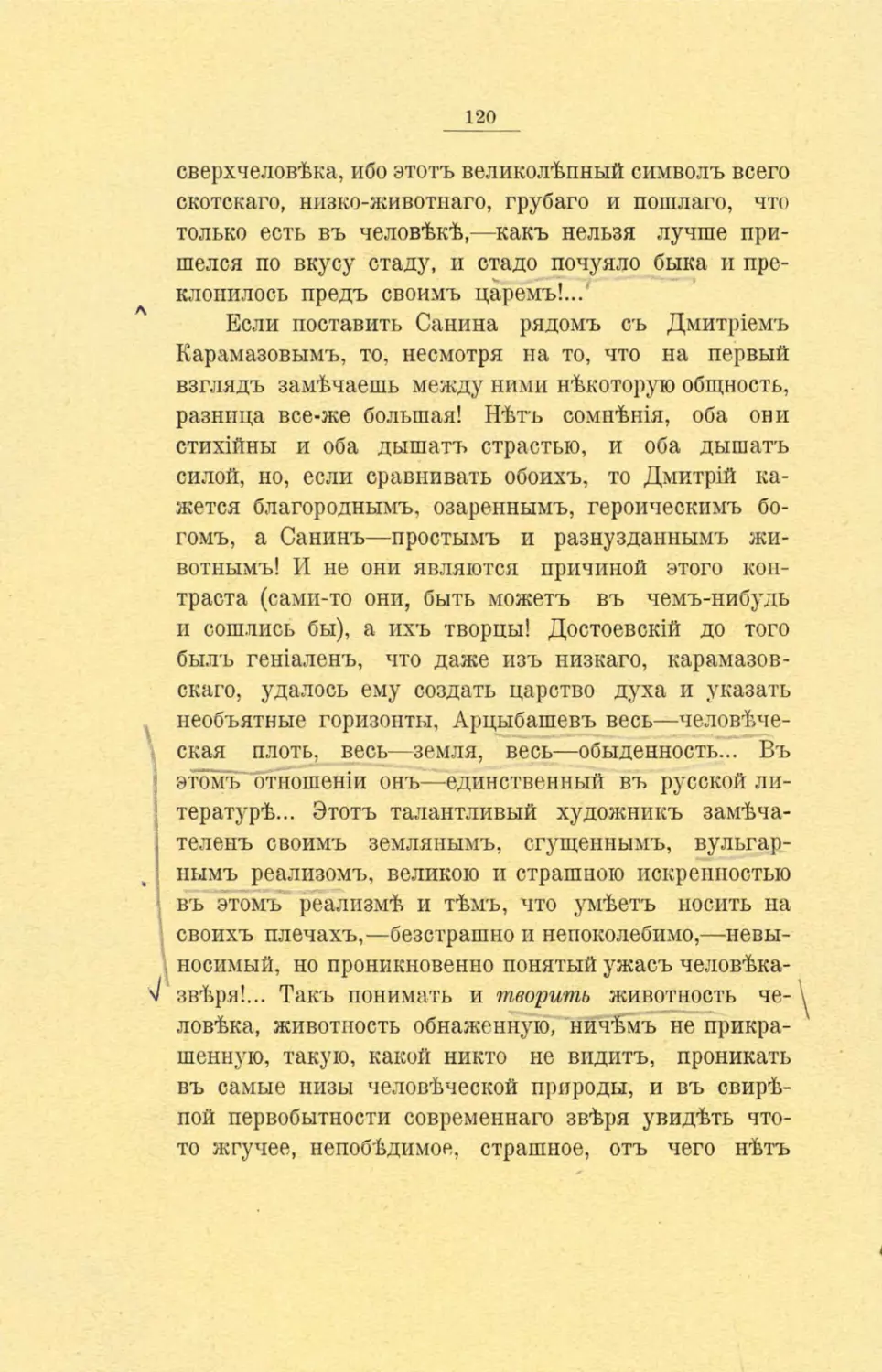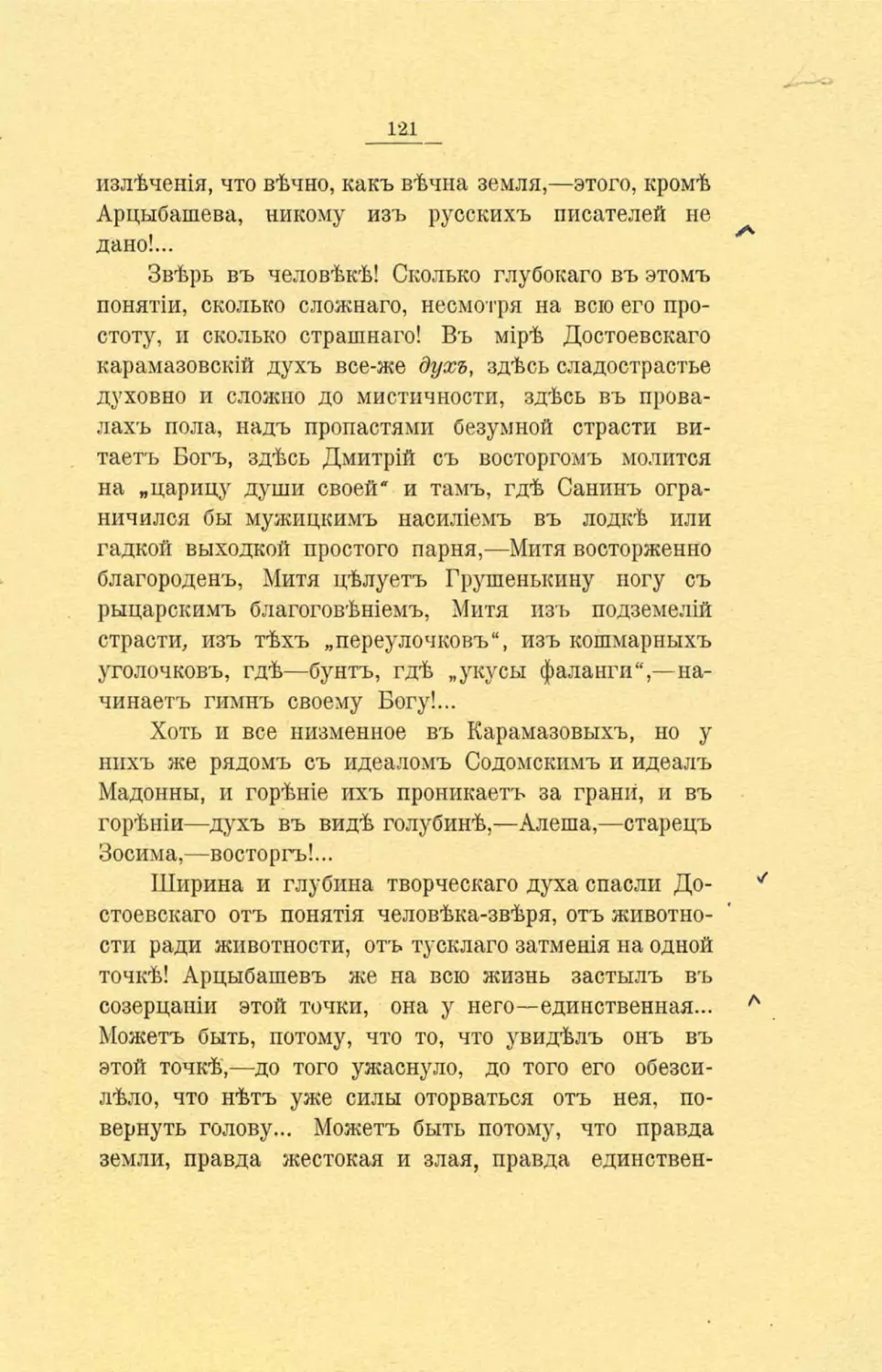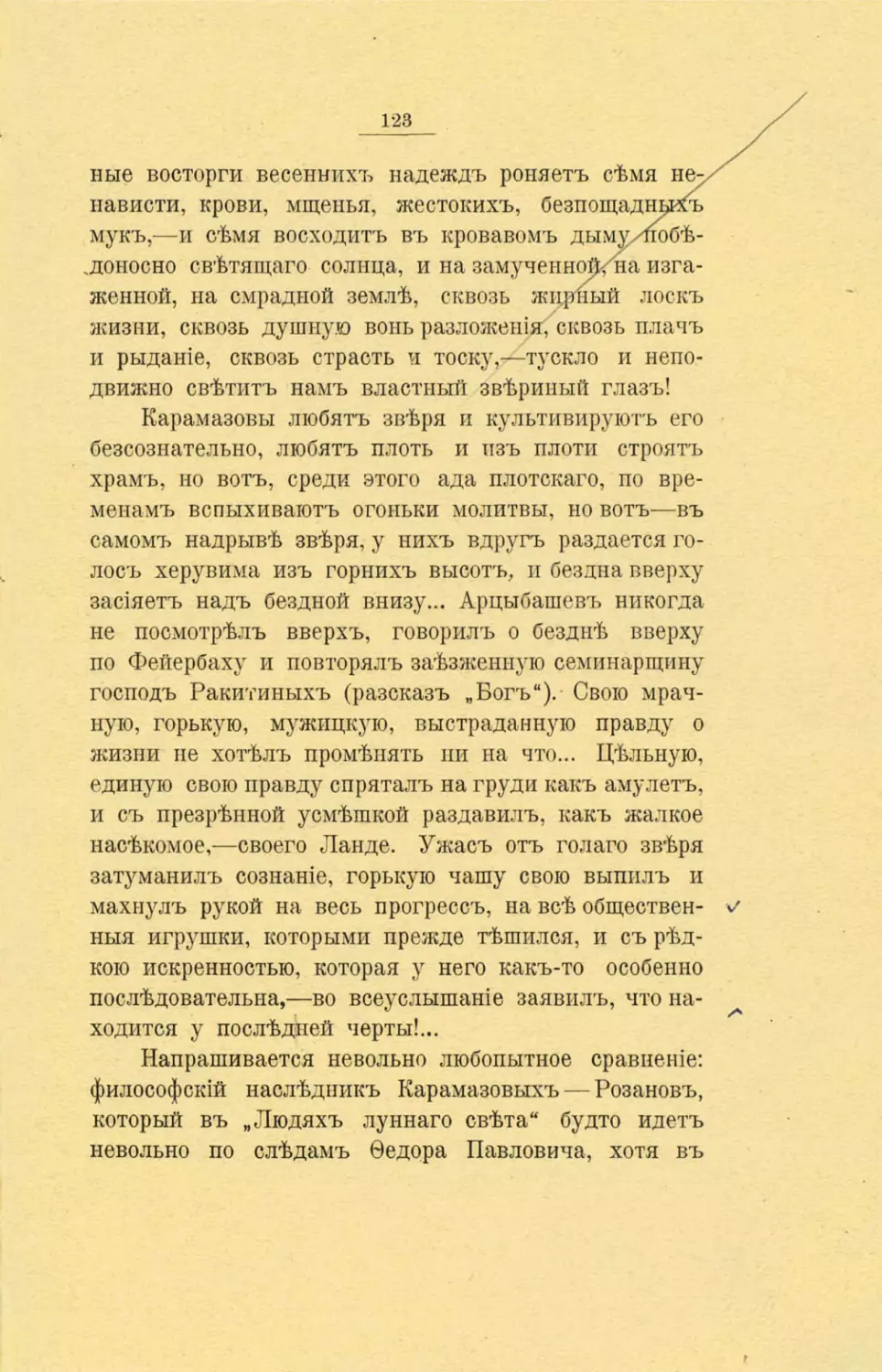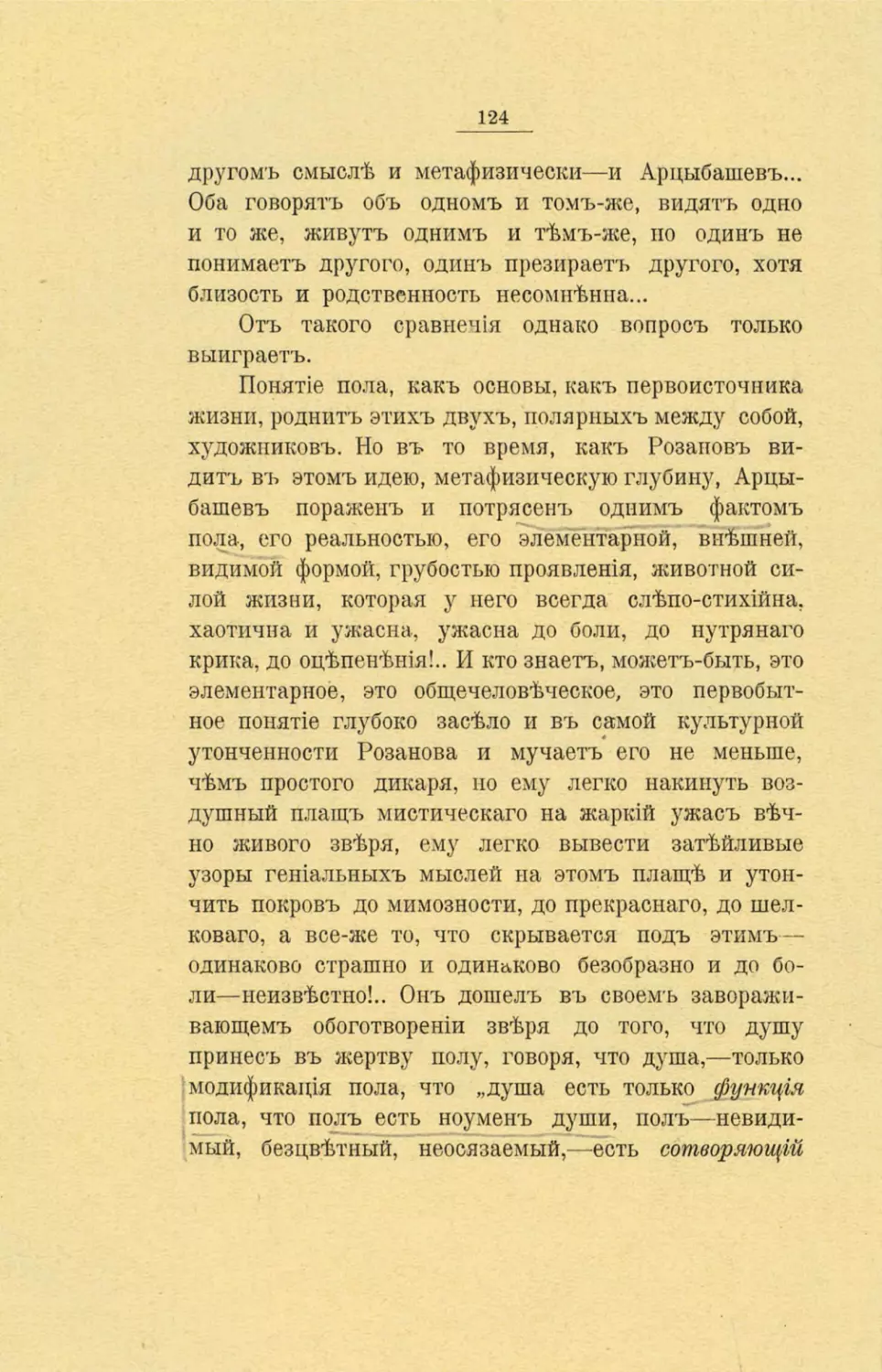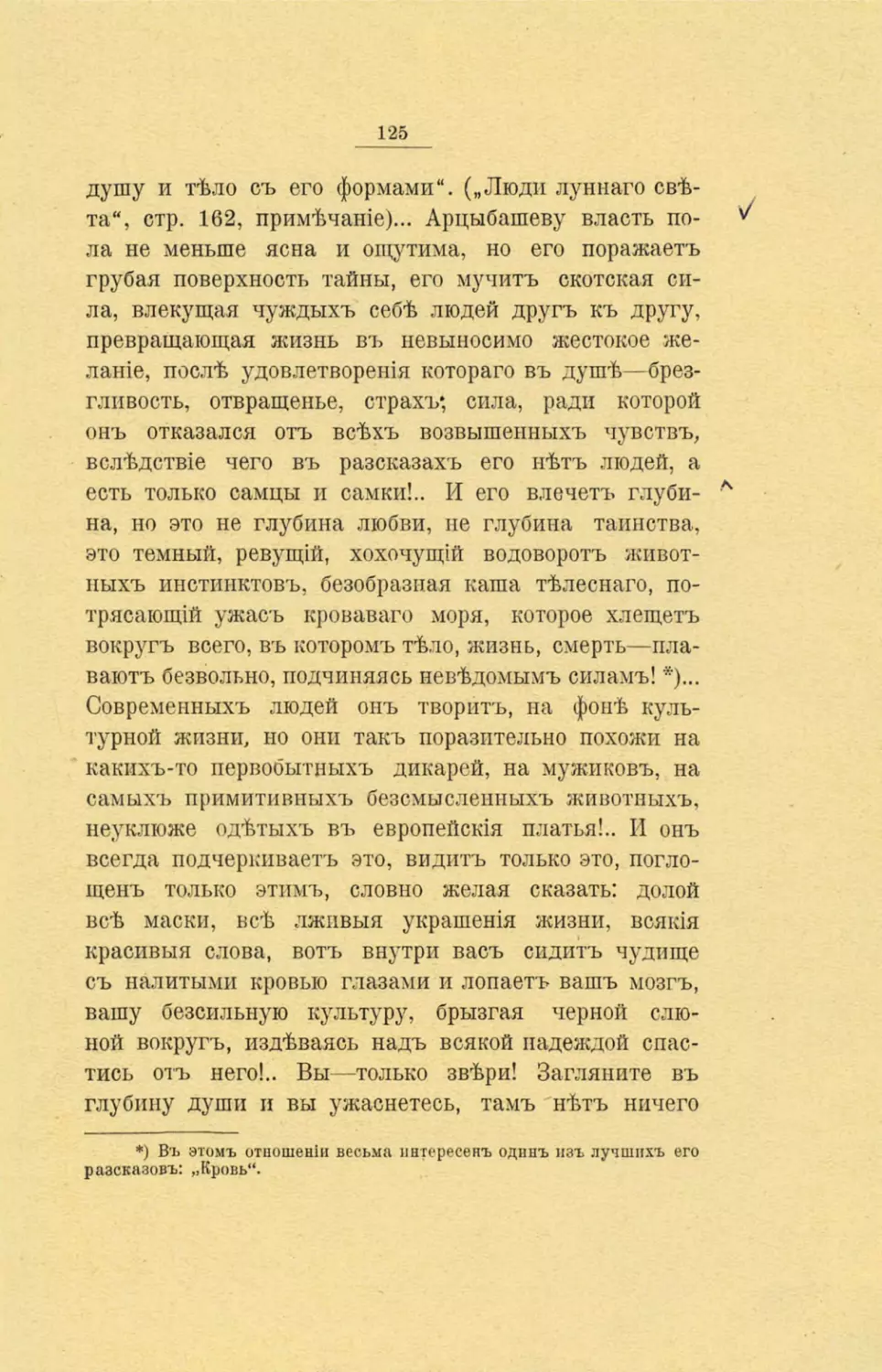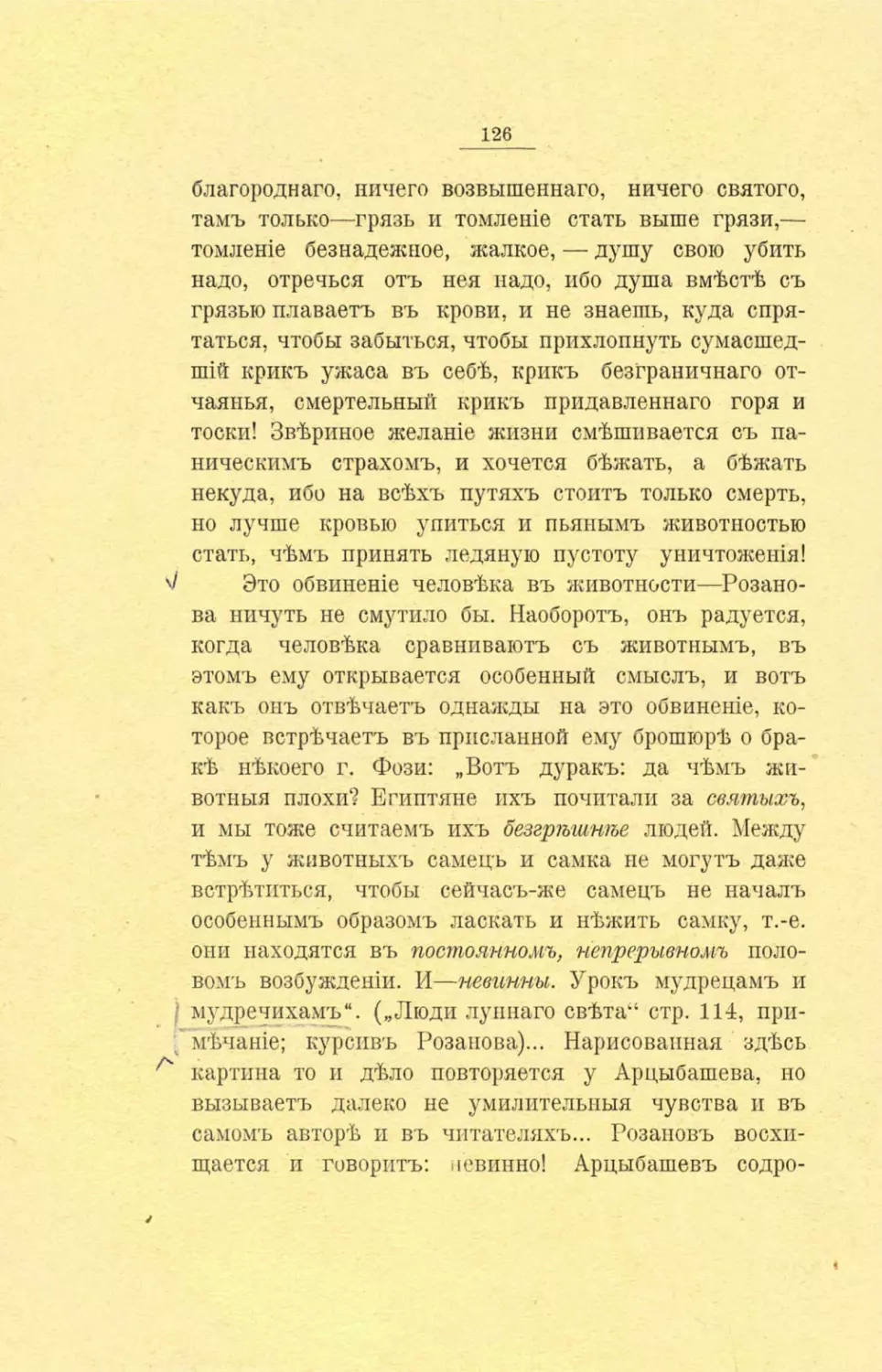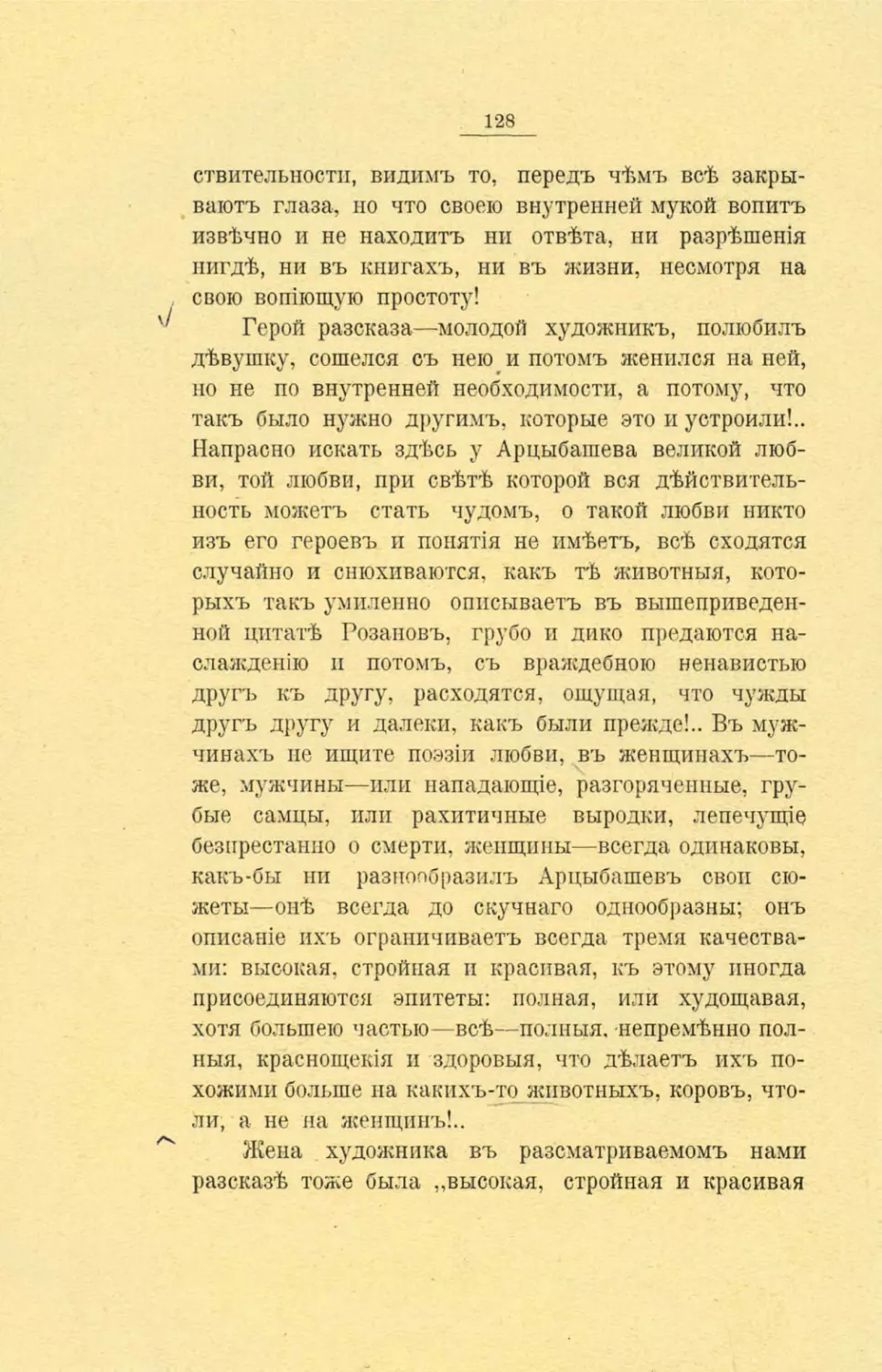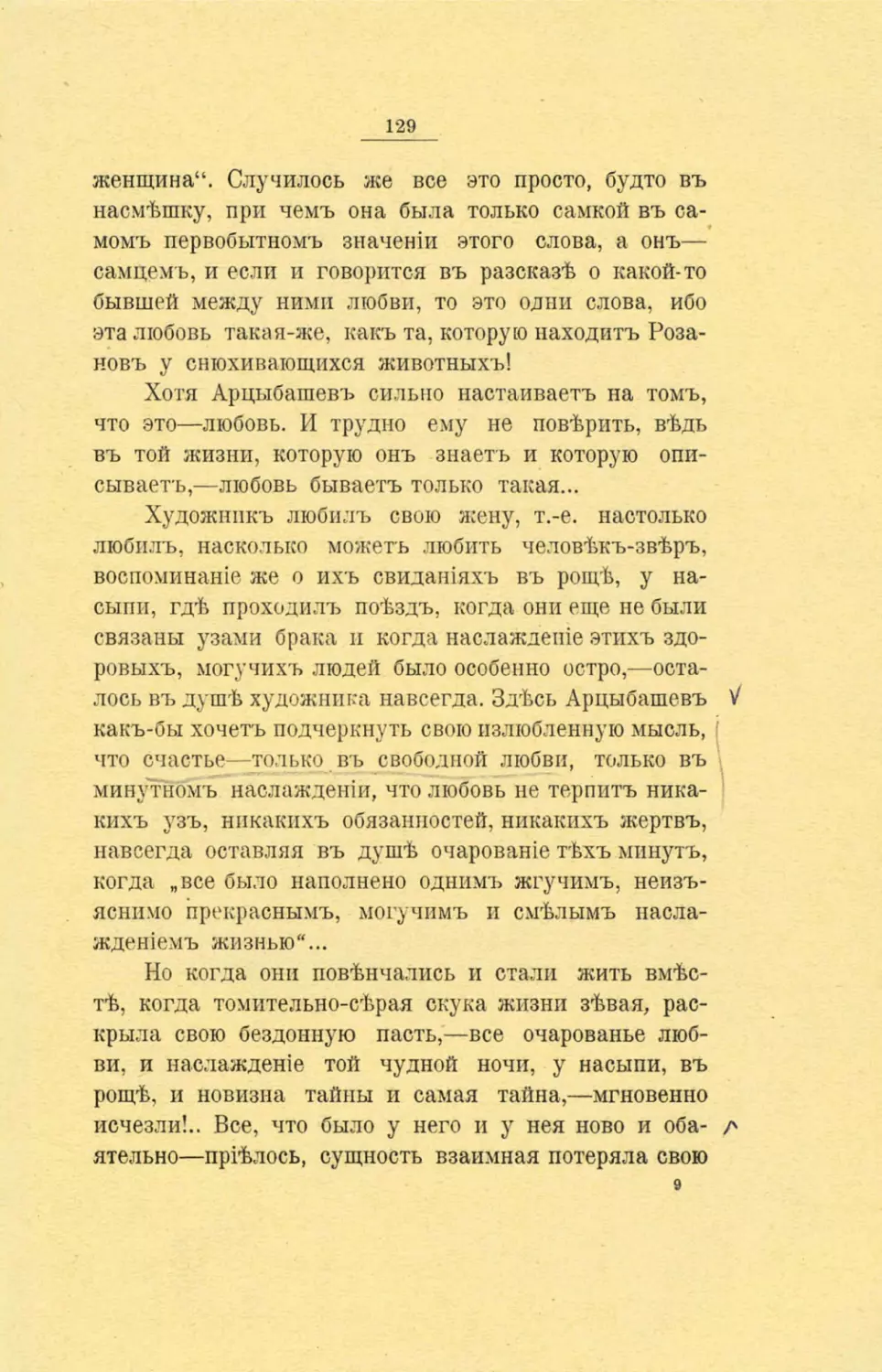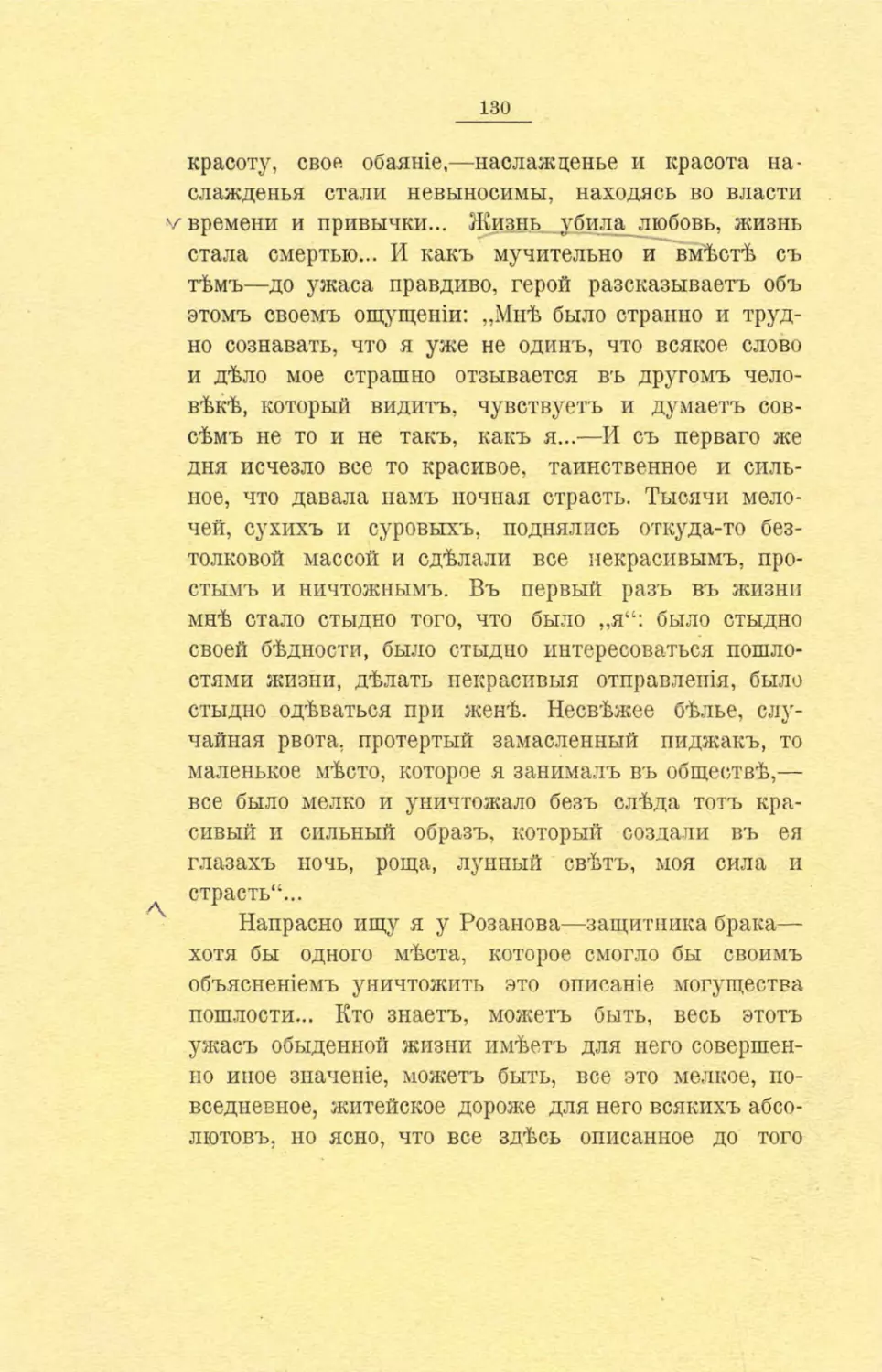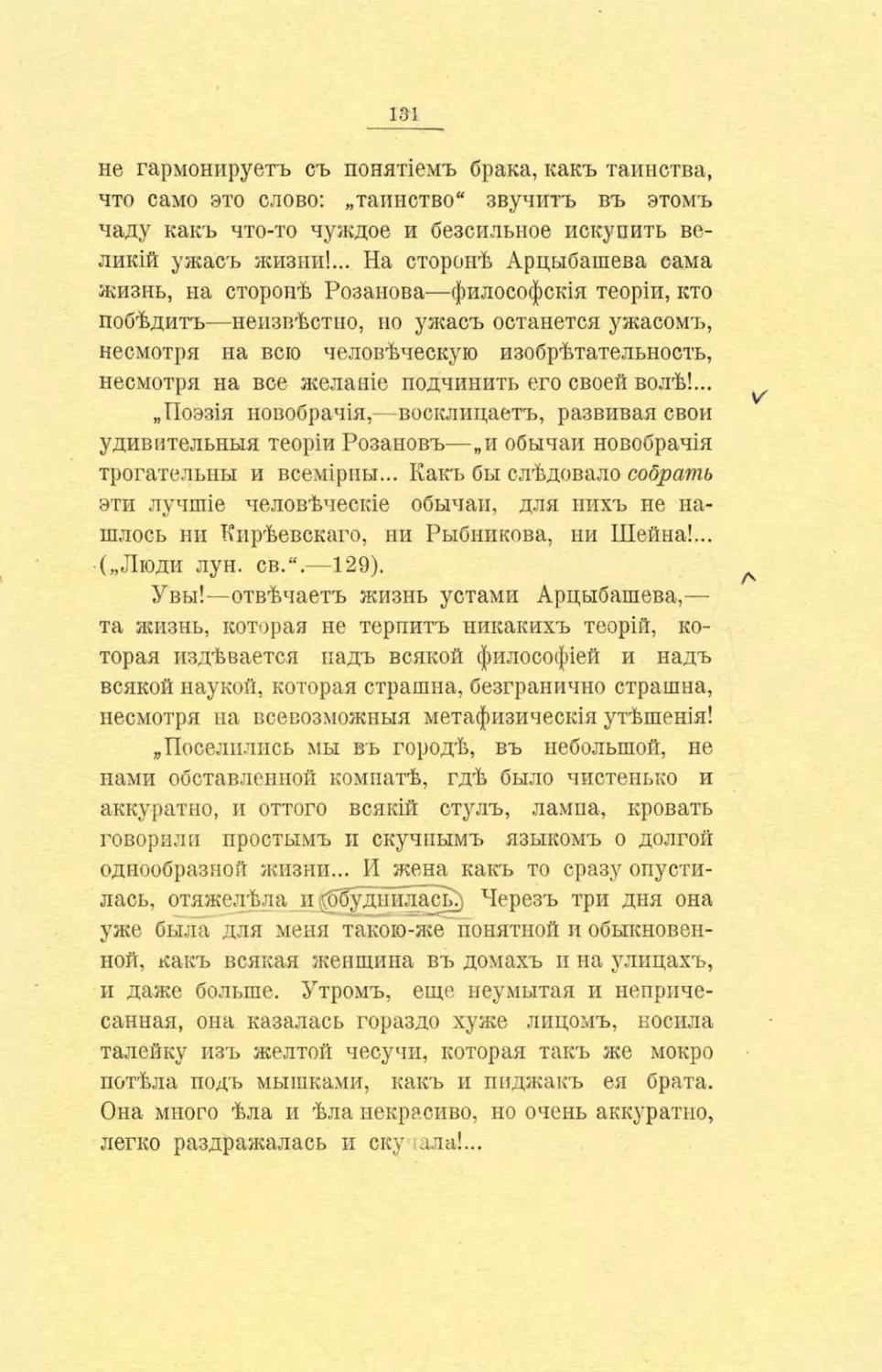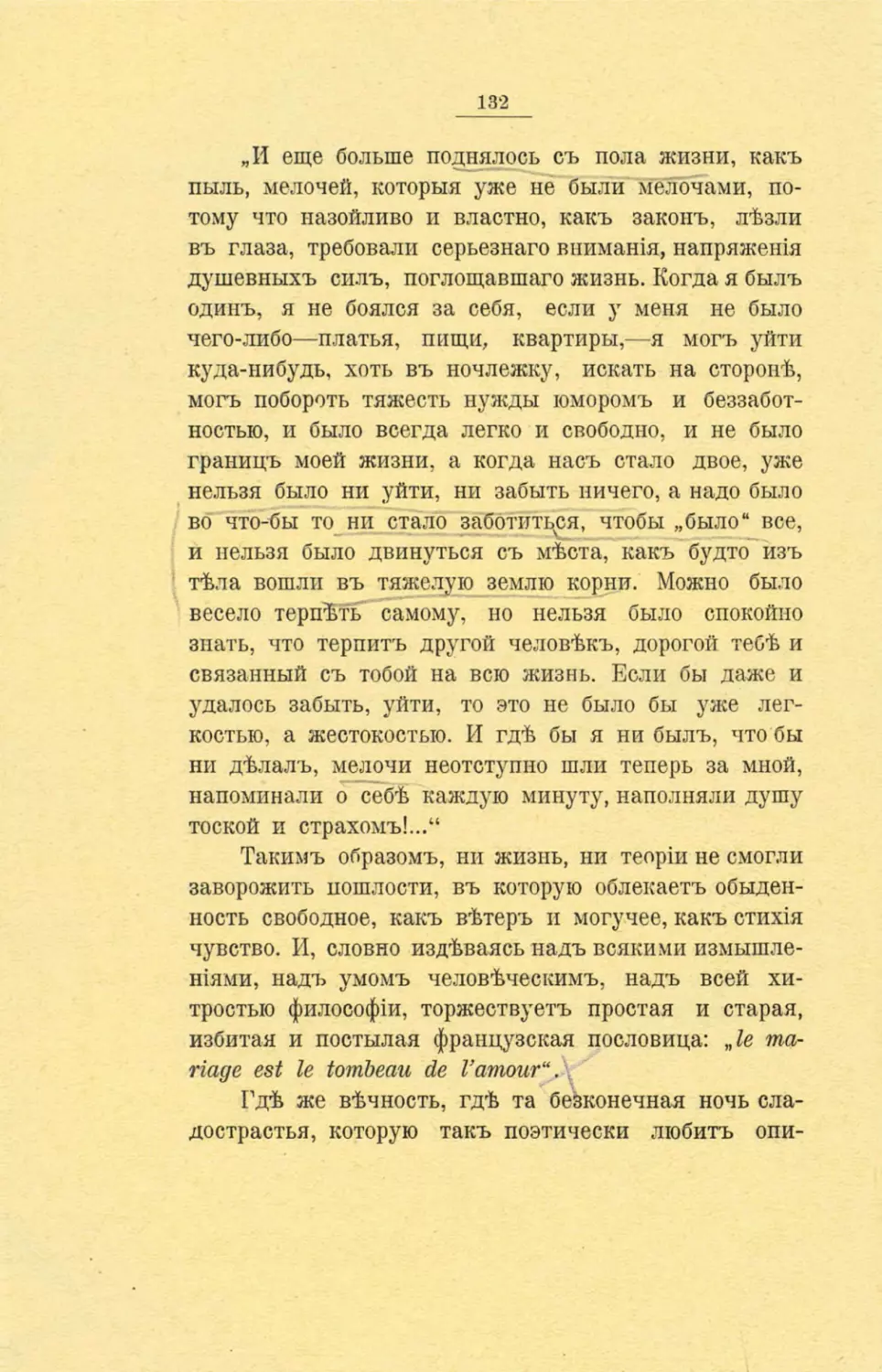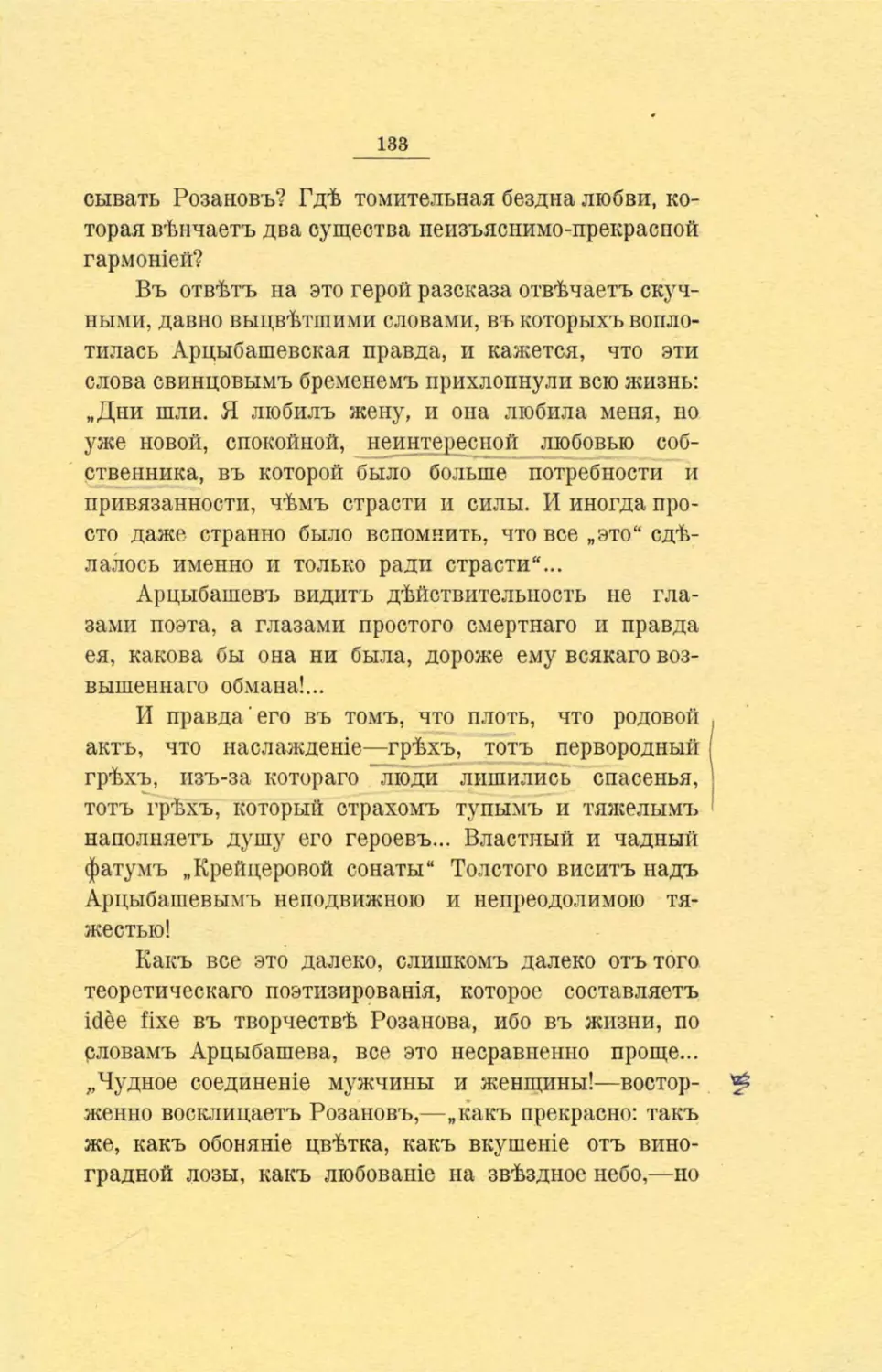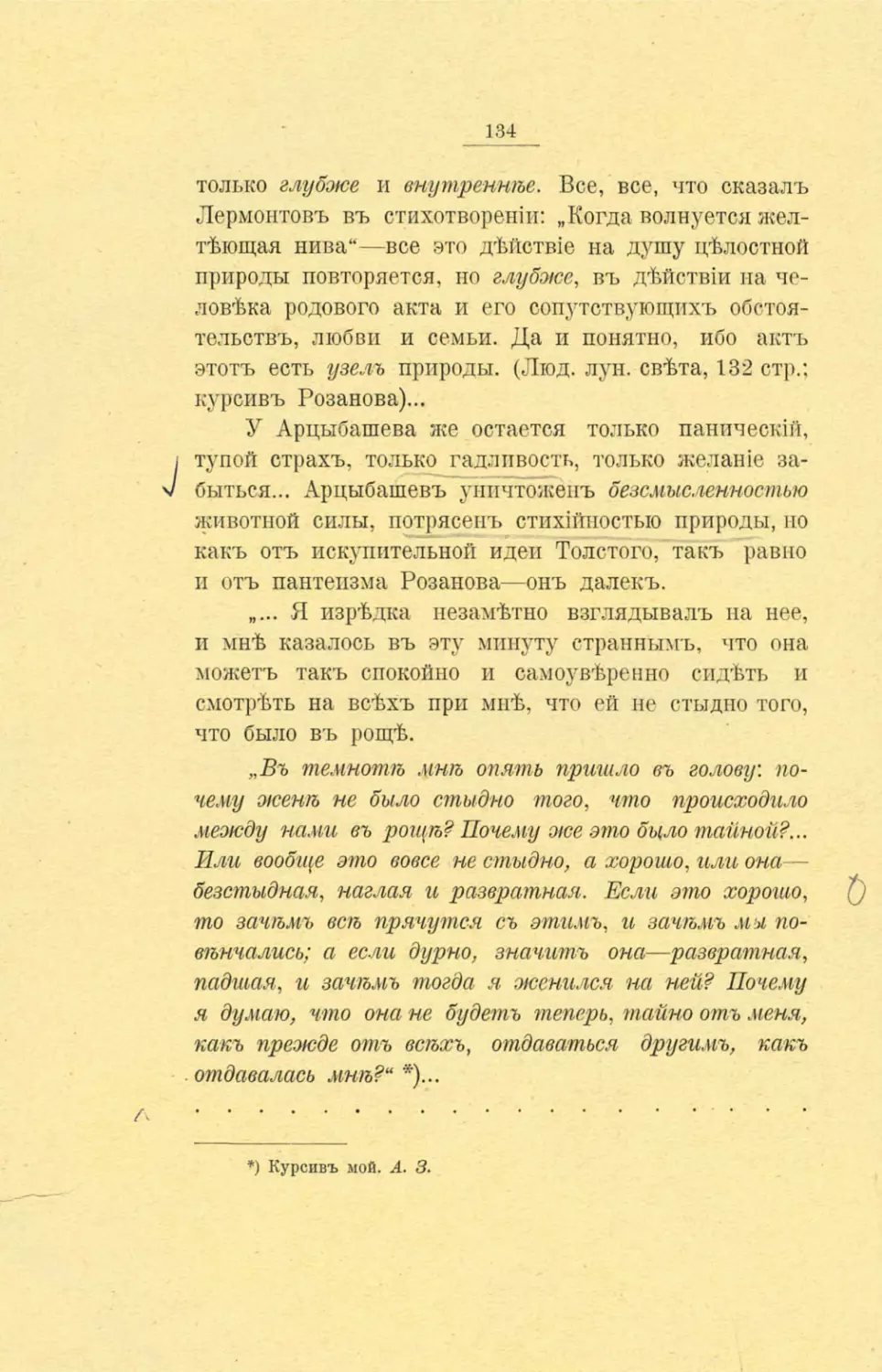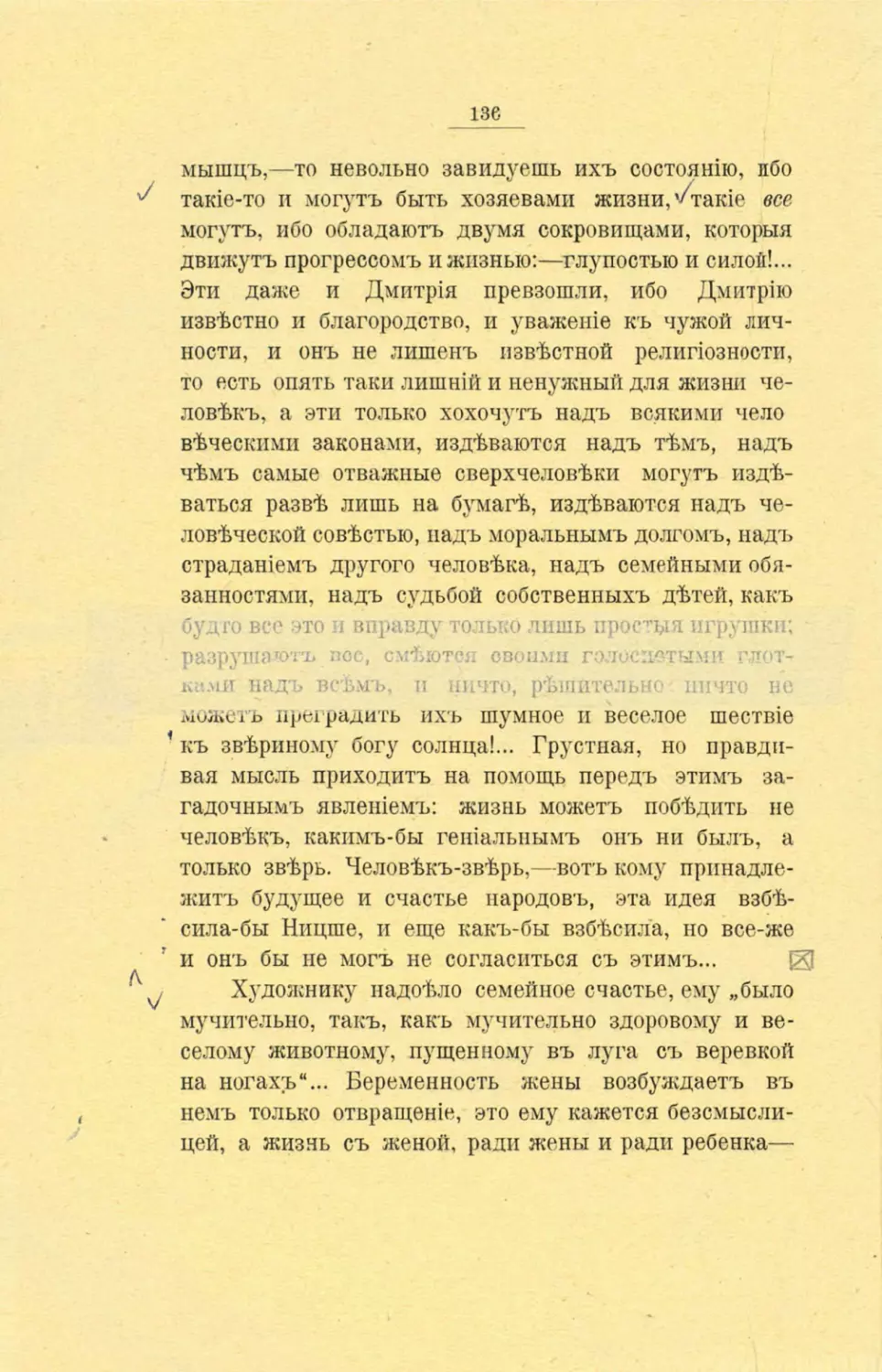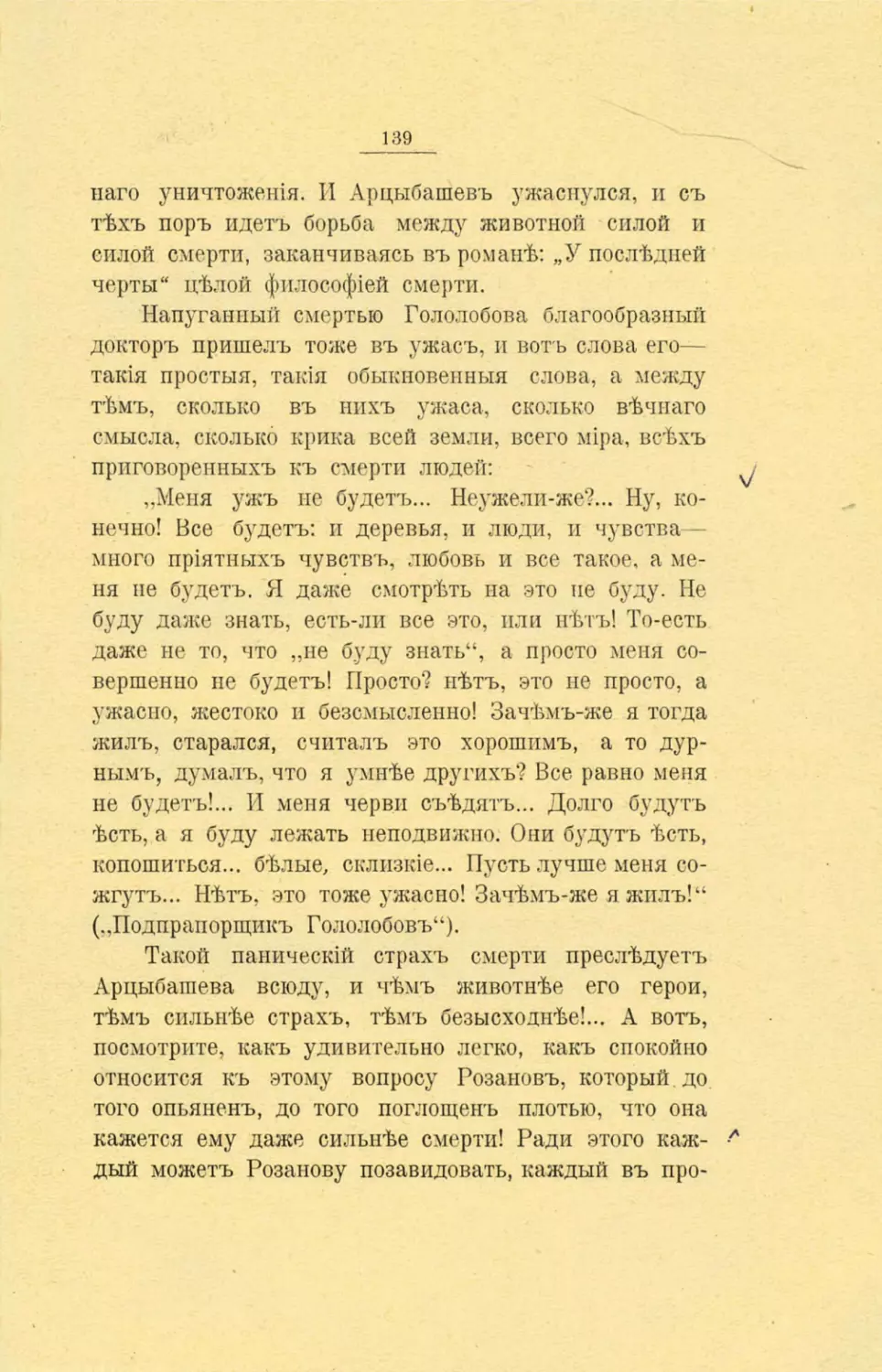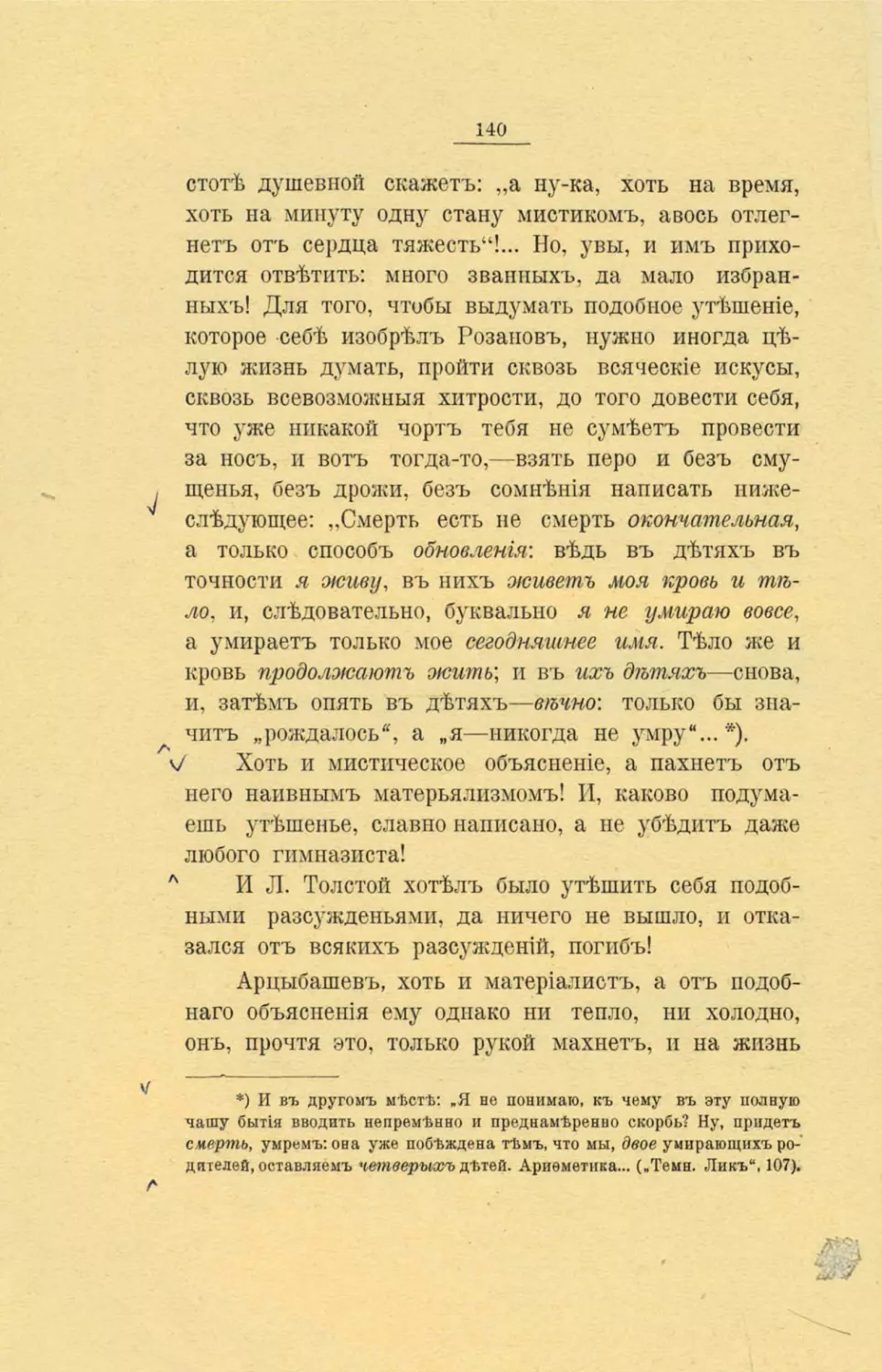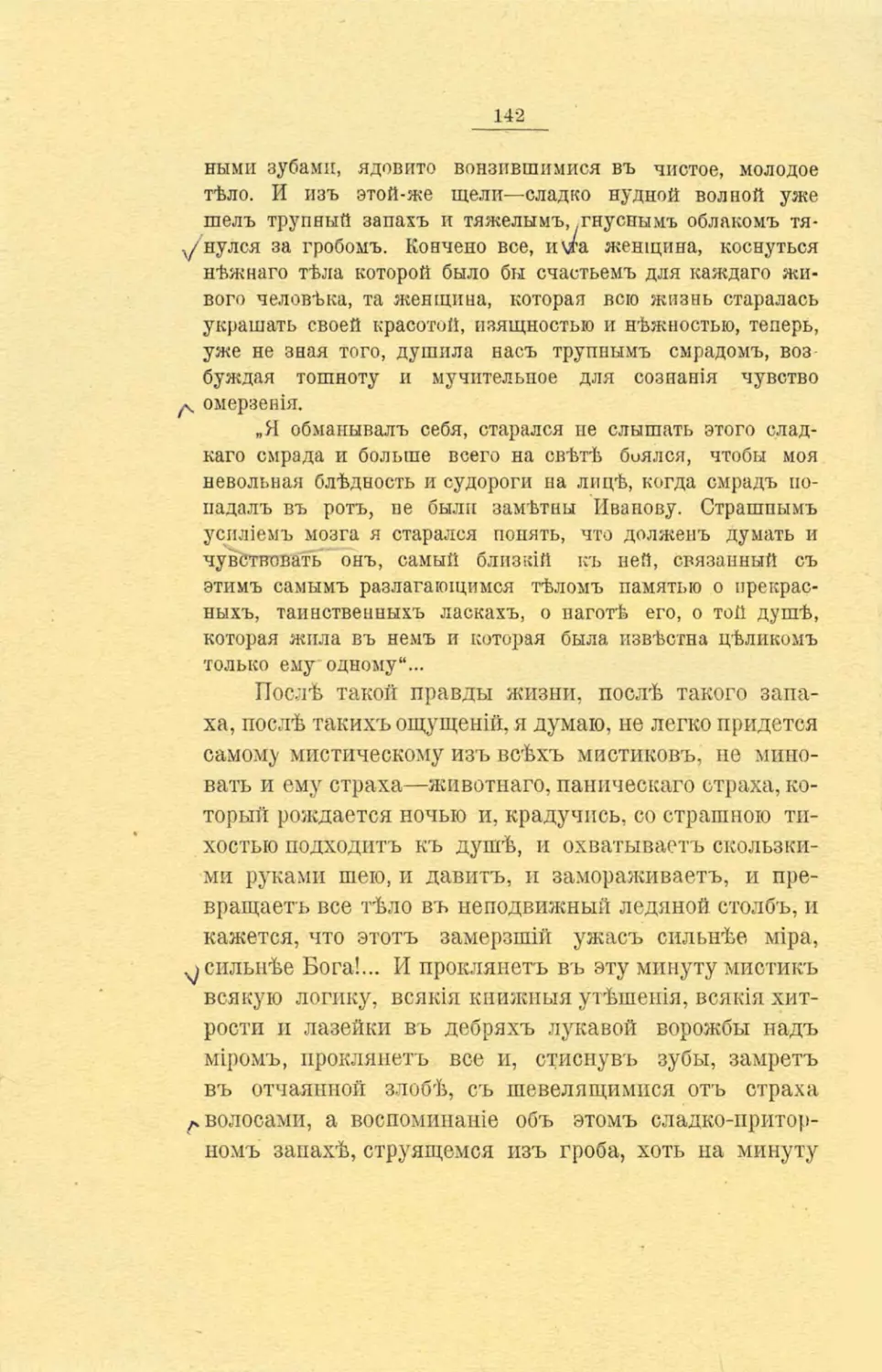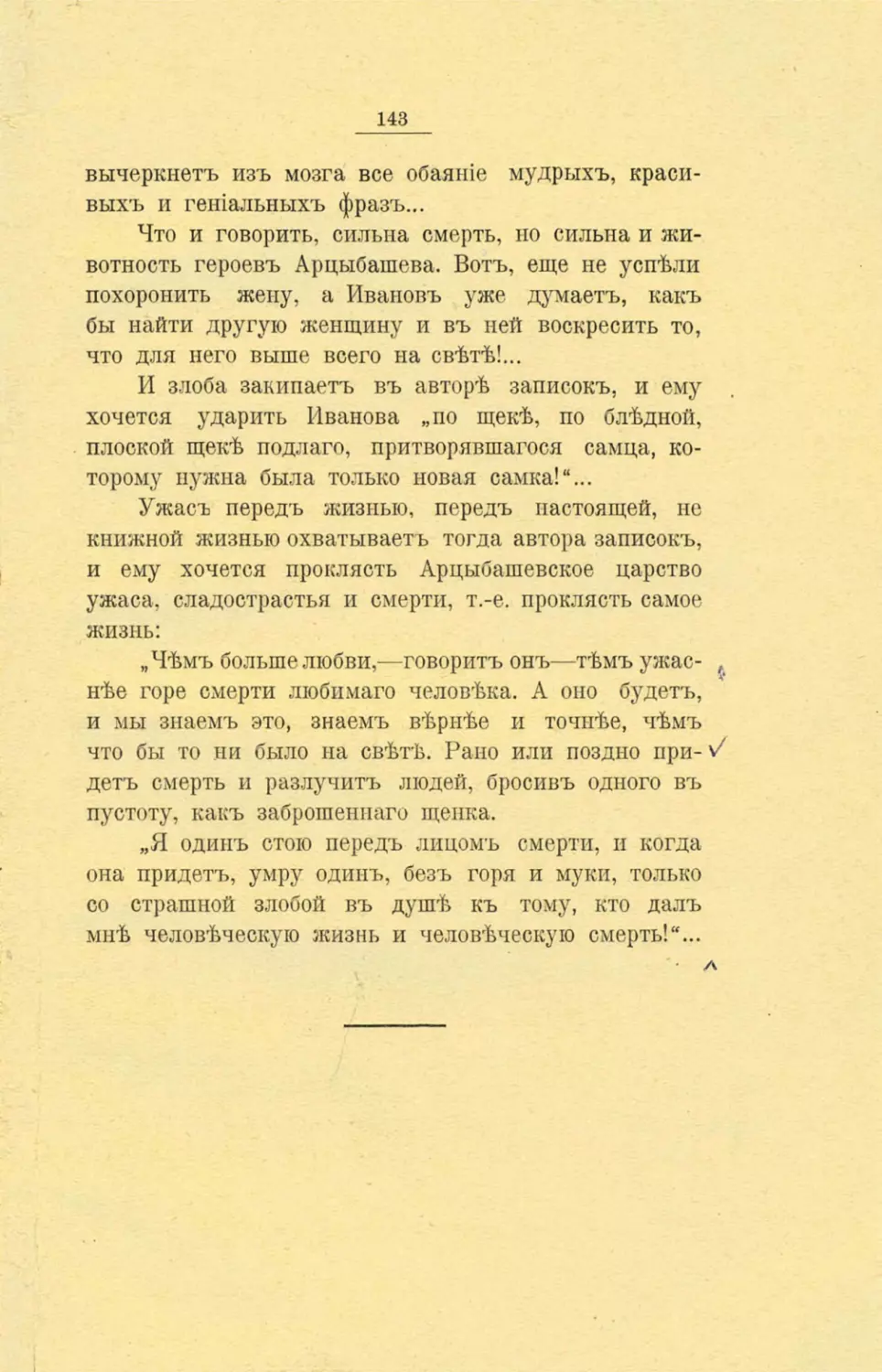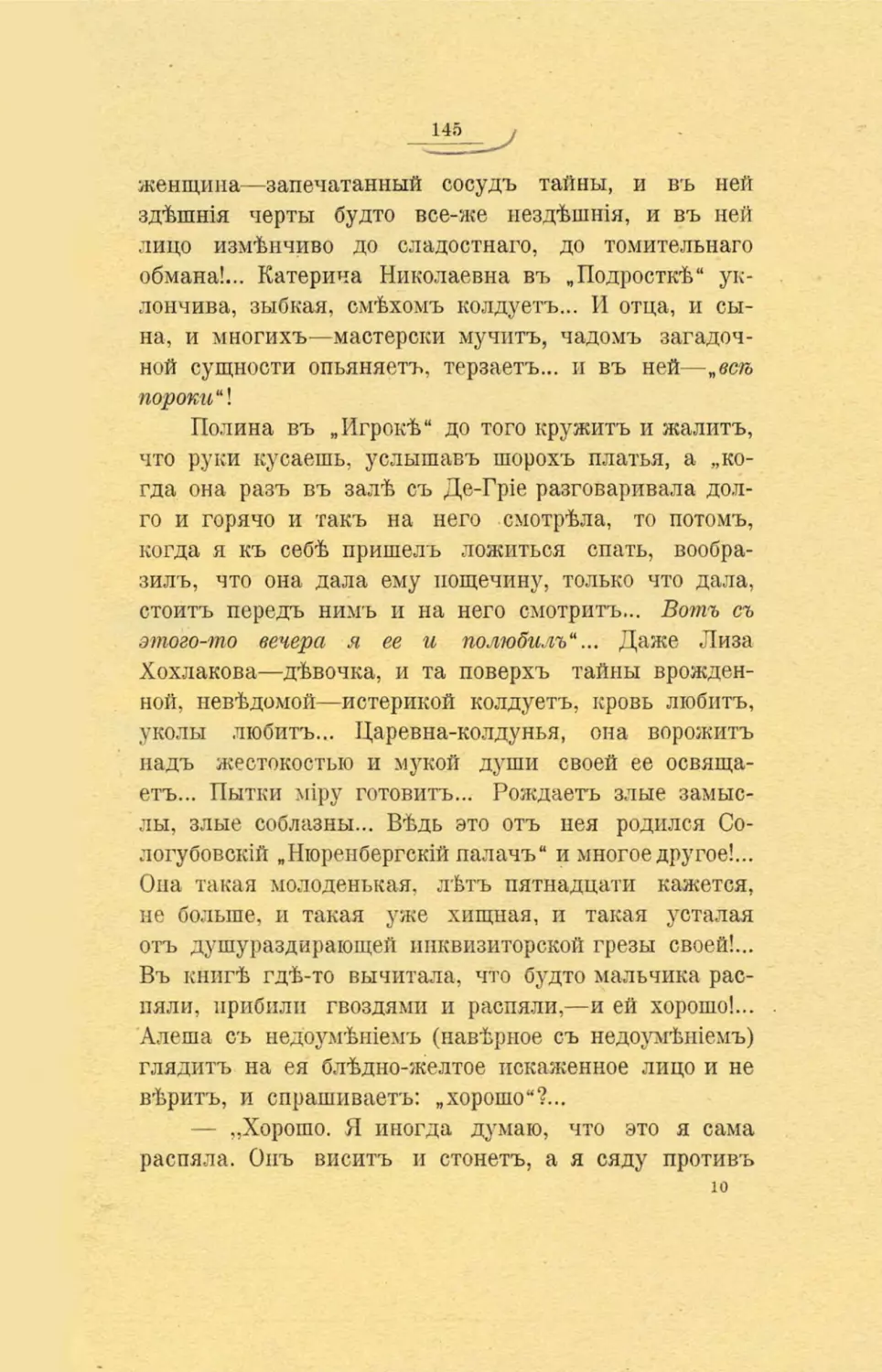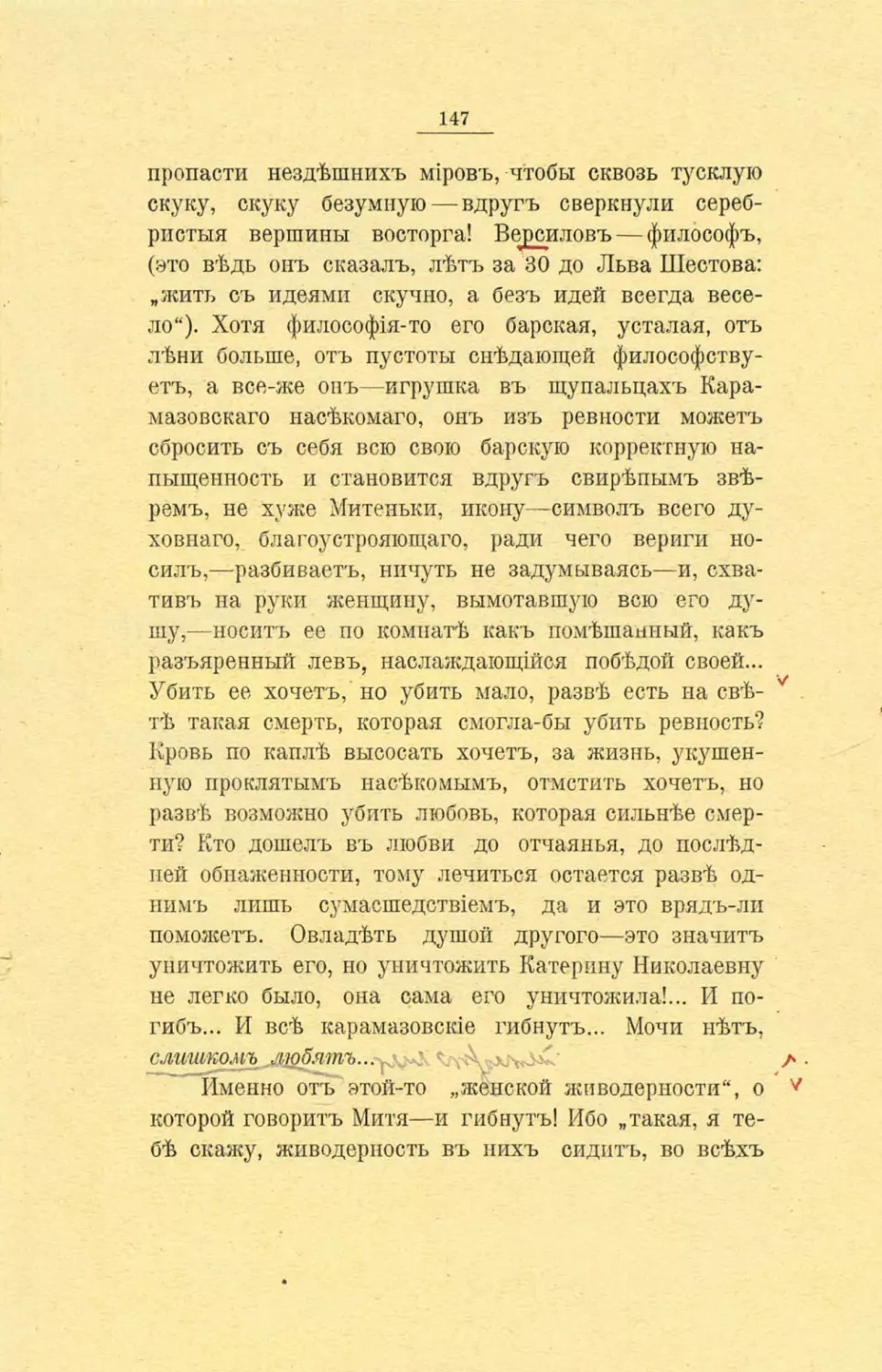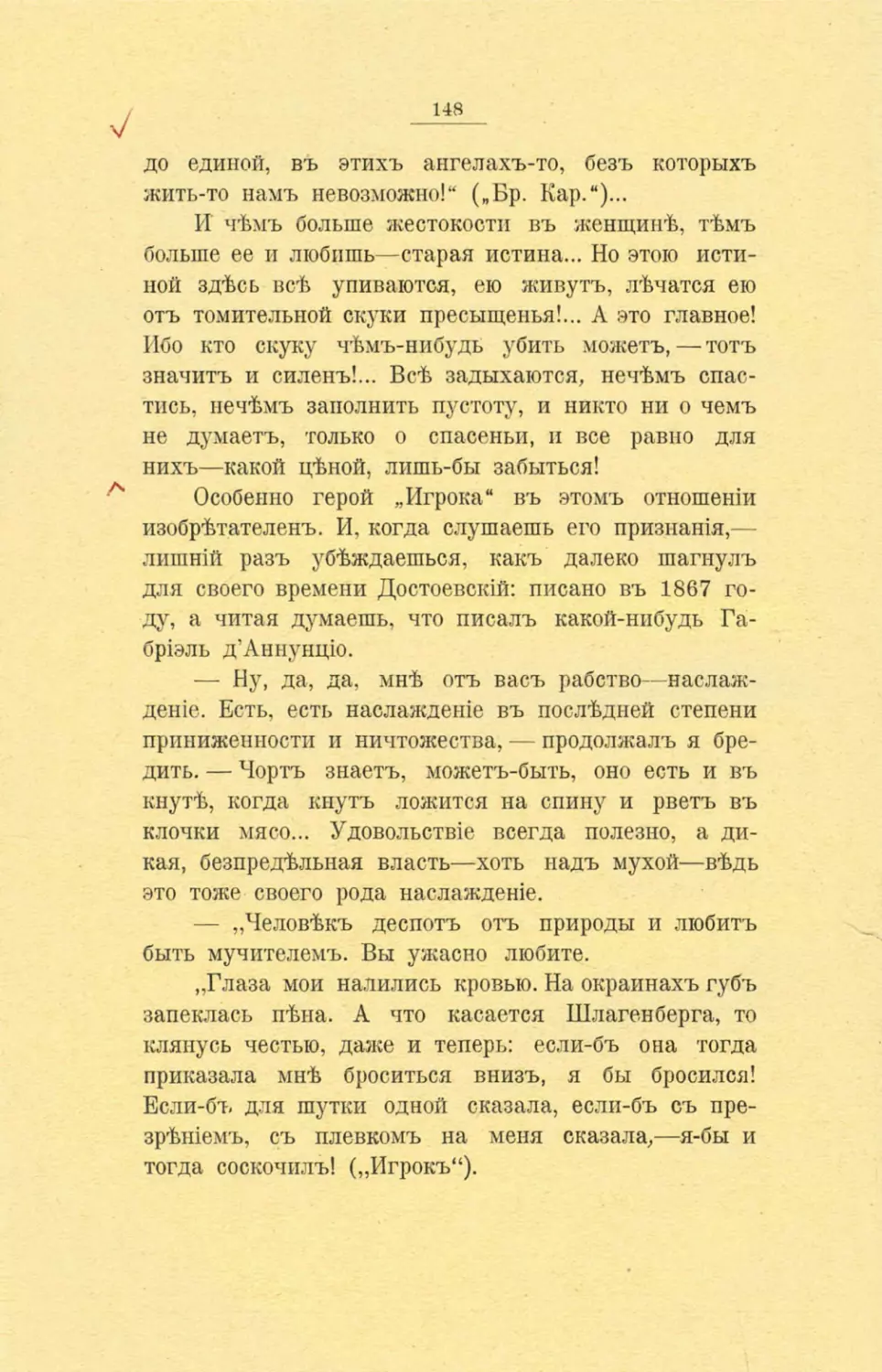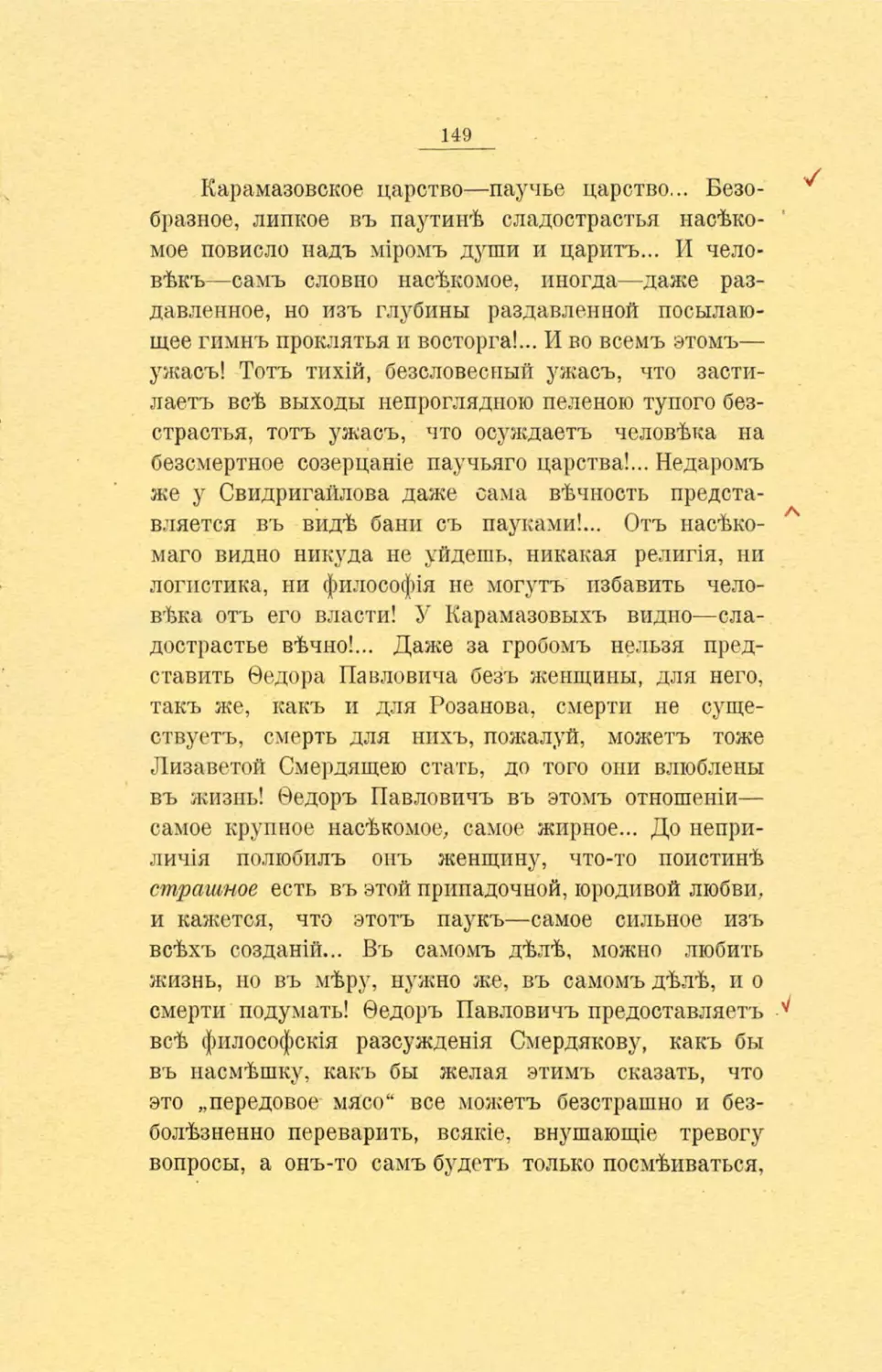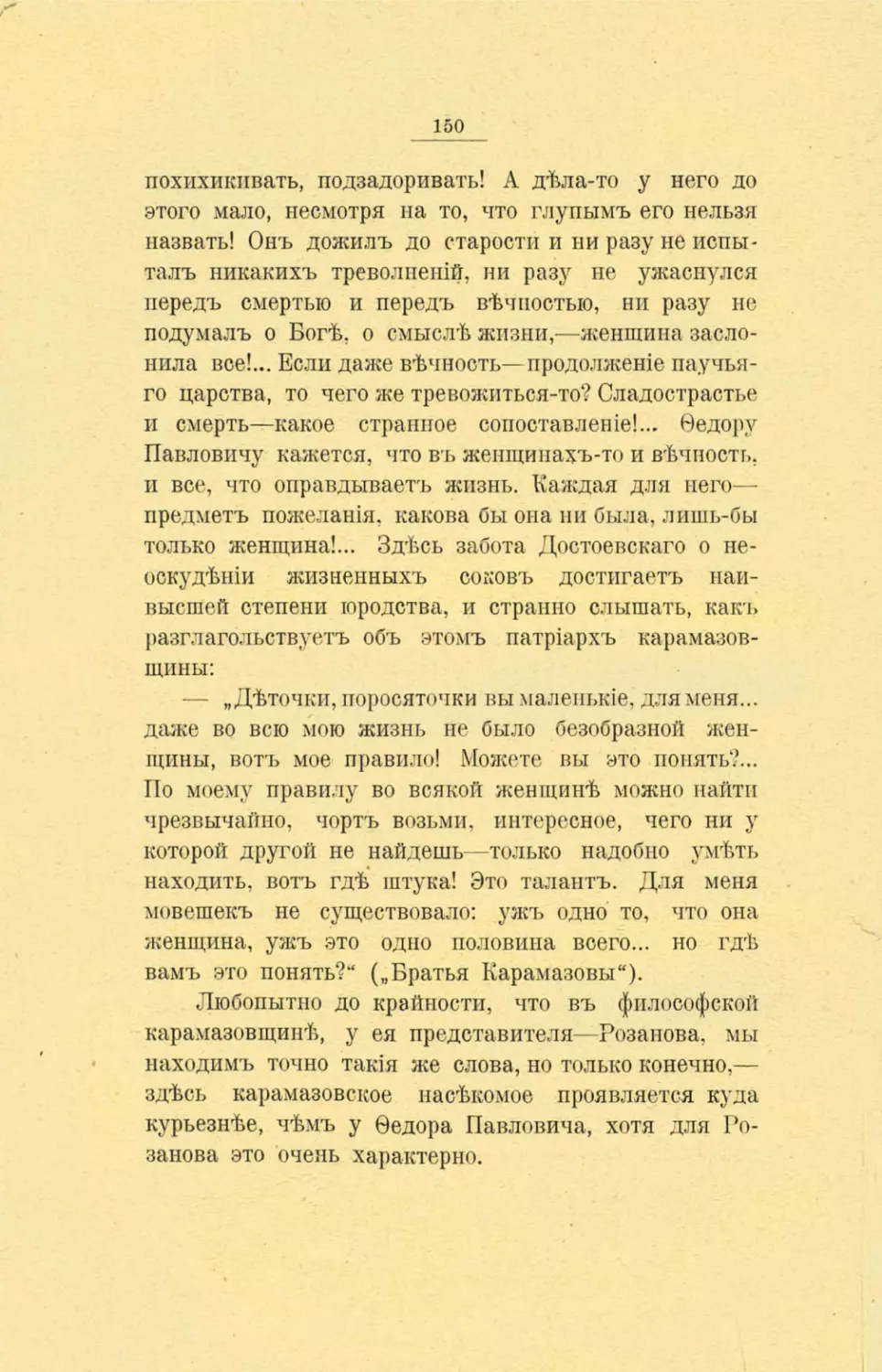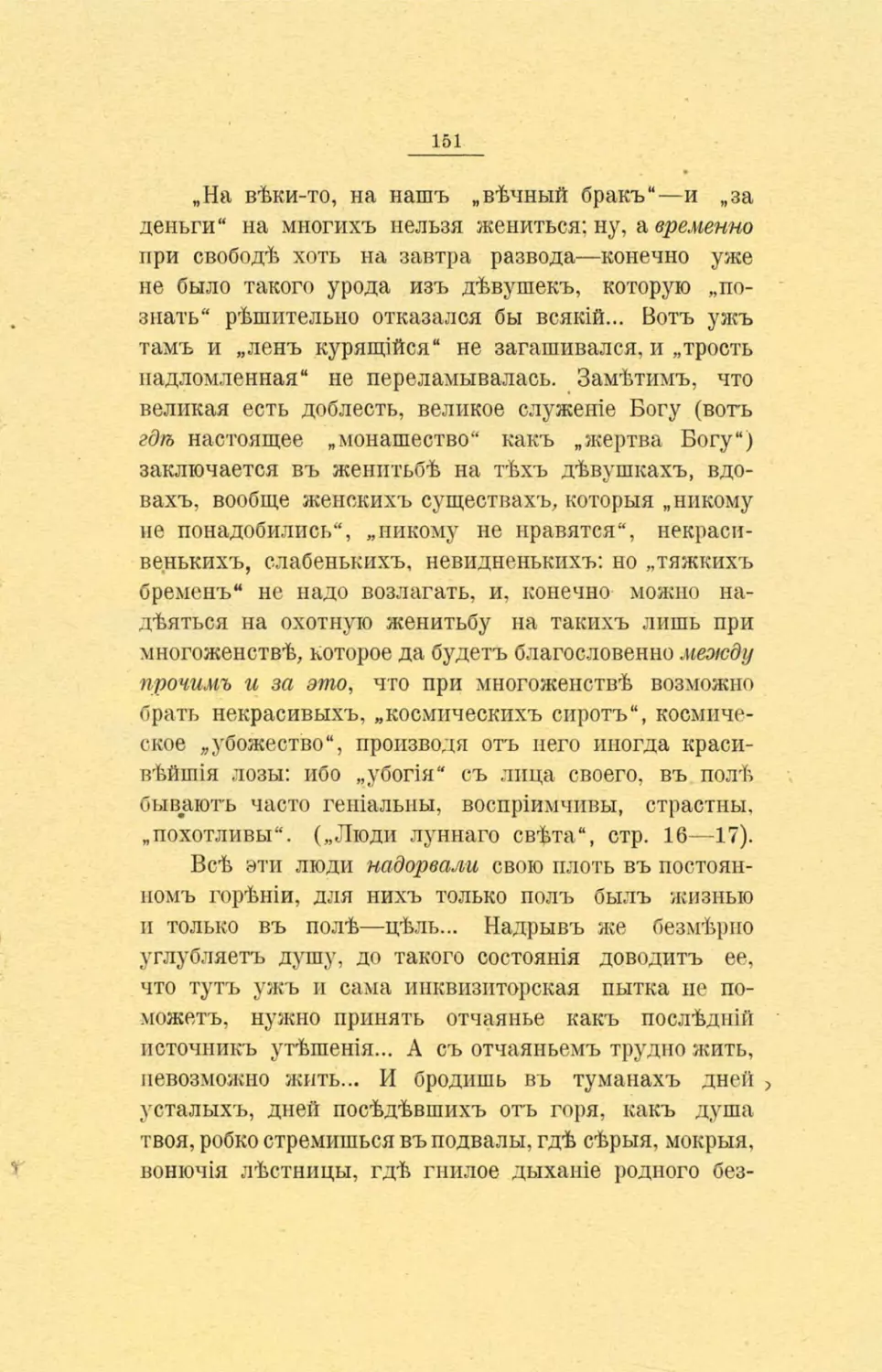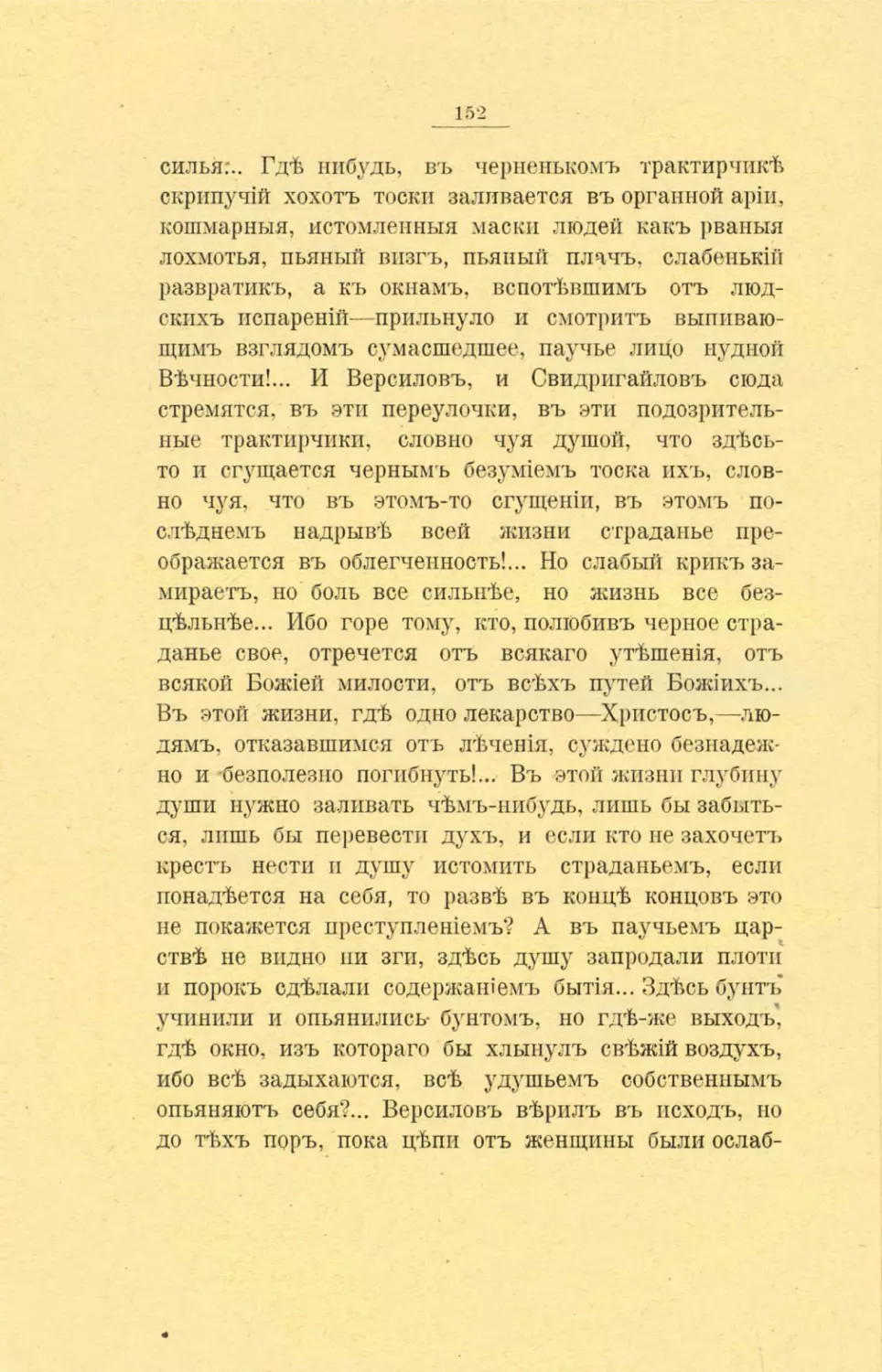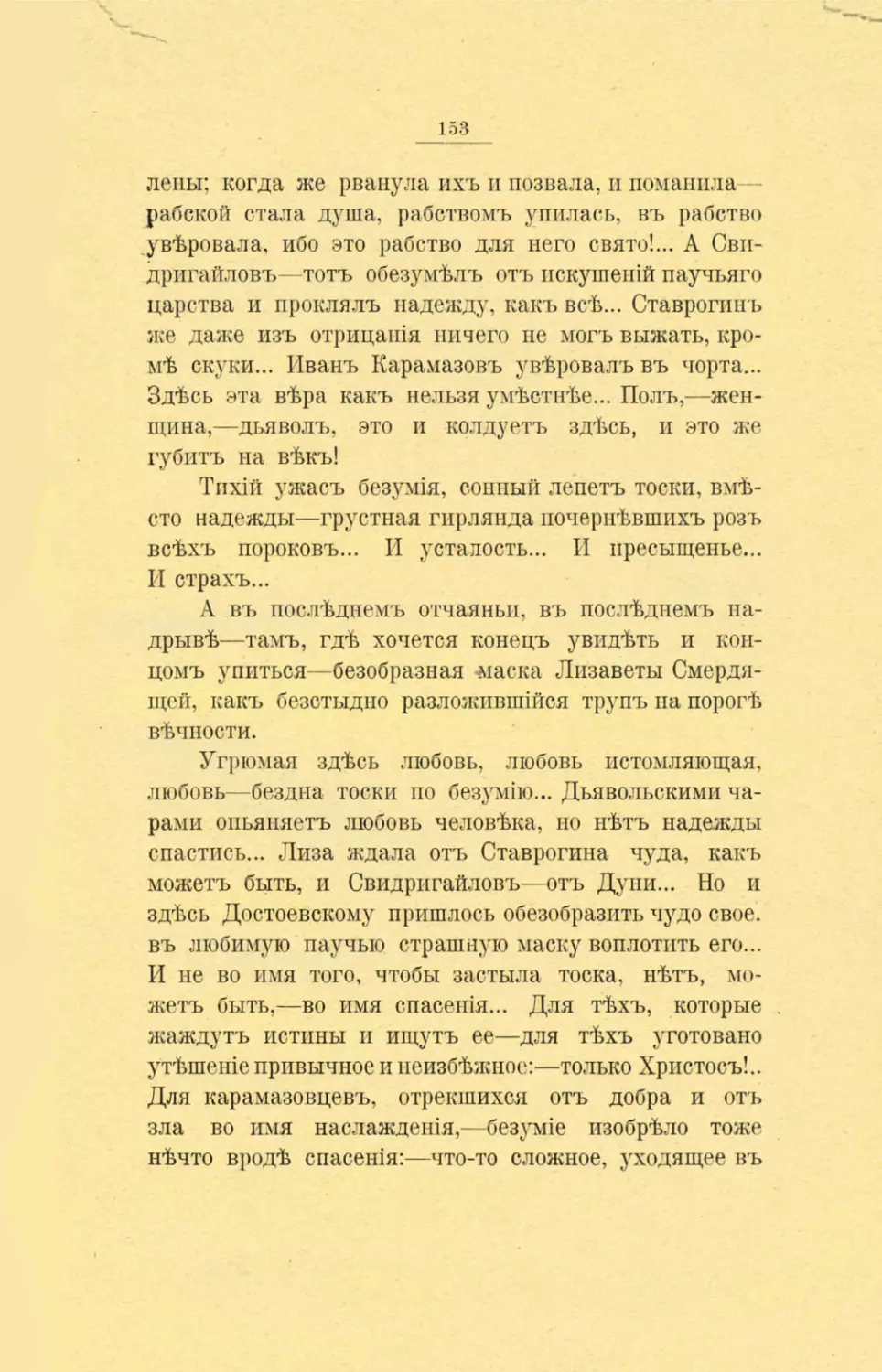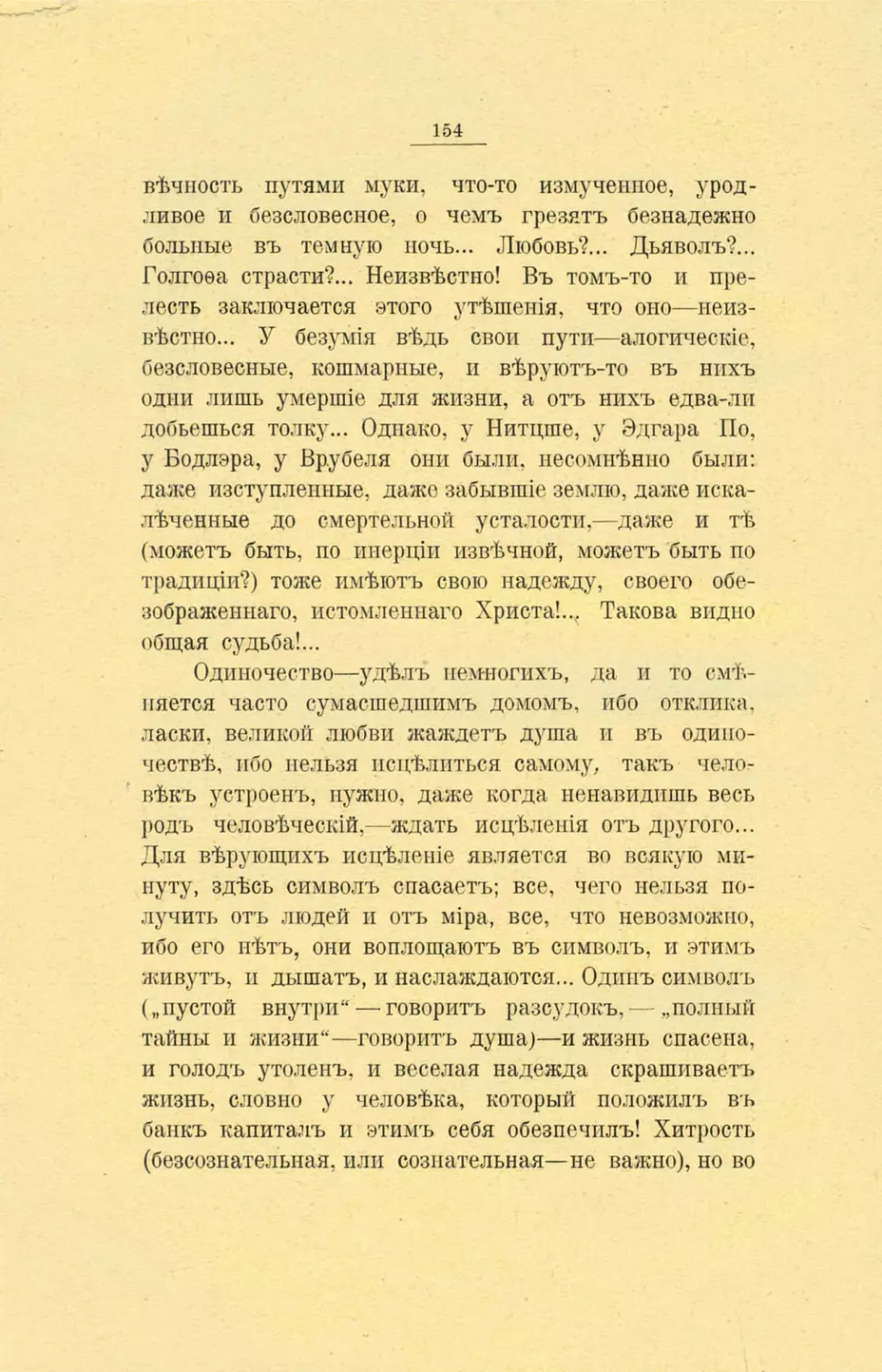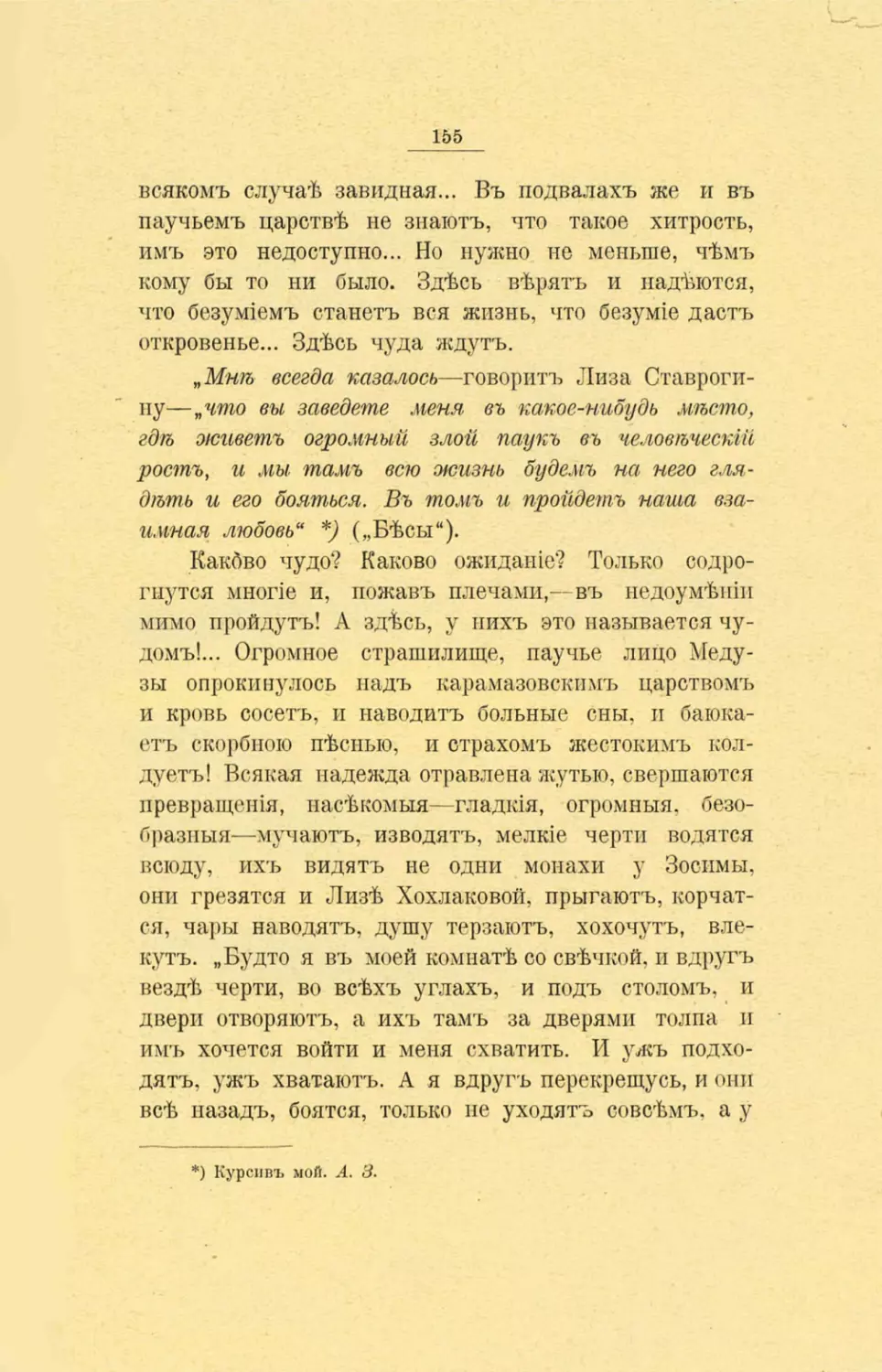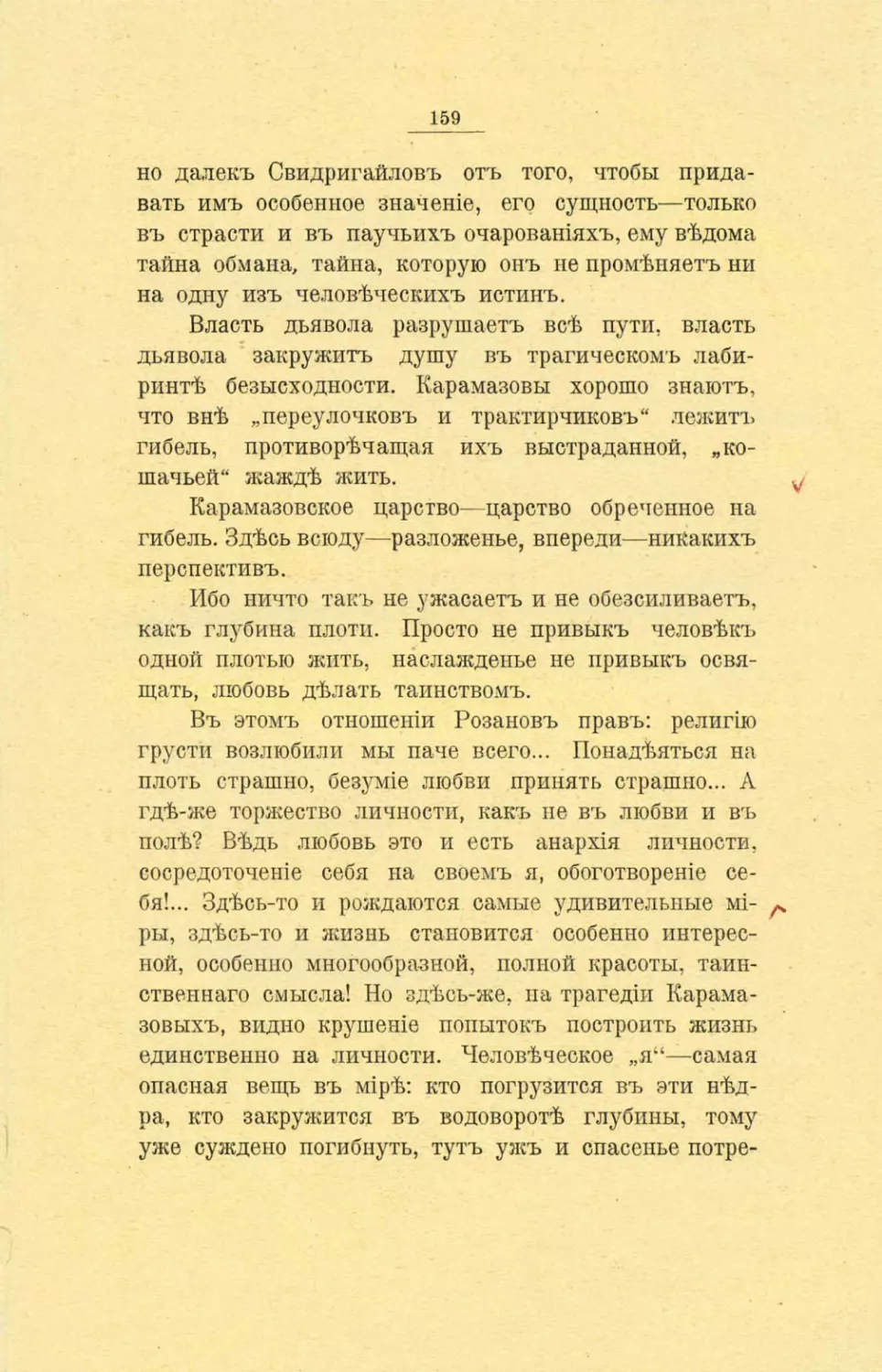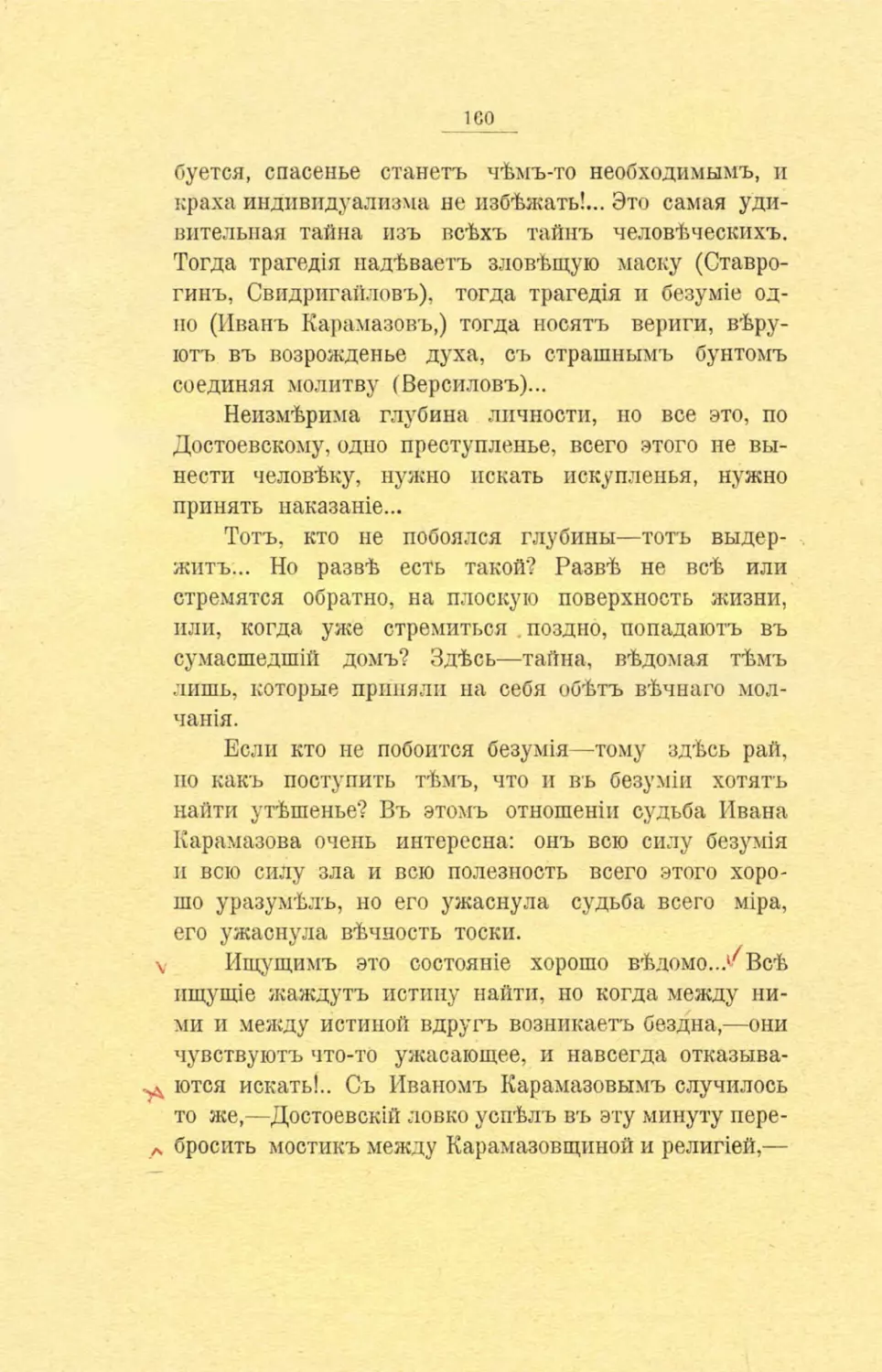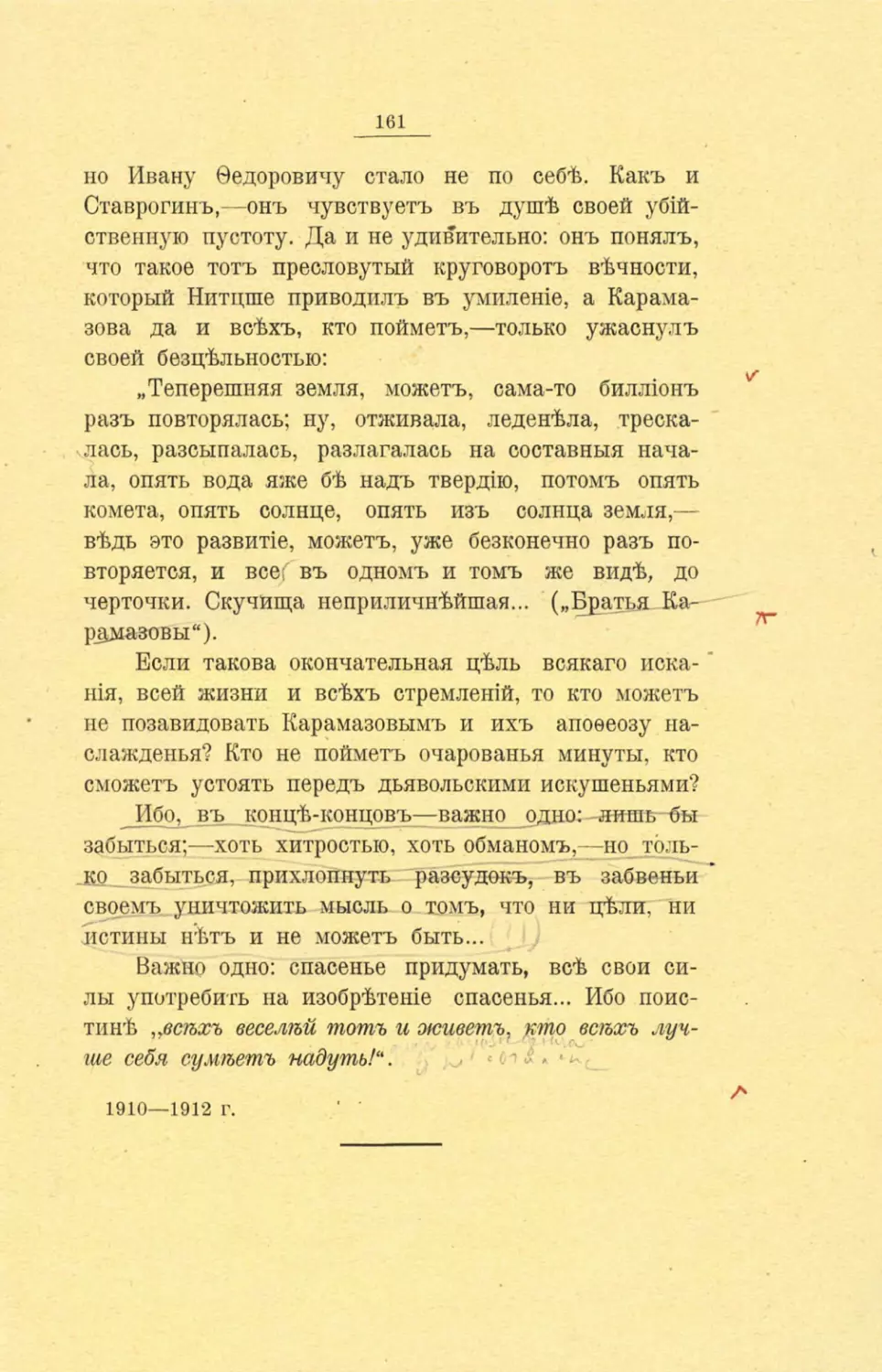Текст
*
r\ J
Александръ Закржевскій.
і
•yH--^
L
/ ъвь
ЩОШВАТЬ,
НАРАМАЗОВЩЦНА.
ПСИХОЛОГИЧЕСКІЯ ПАРАЛЛБЛИ.
ДОСТОЕВСКІЙ.
В^ЛЕРІЙ БРЮСОВЪ.
В. В. Розрновъ.
М. НРЦЫБАШЕВЪ.
S?
ИЗДАНІЕ ЖУРНАЛА „ИСКУССТВО".
1912.
КАРАМАЗОВЩИНА.
/
V
^
2007051 96
IL
305
Александръ Закржевскій.
КАРАІШОВЩШ.
ПСИХОЛОГИЧЕСКІЯ ПАРАЛЛБЛИ.
ДОСТОЕВСКІЙ.
ВАЛЕРІЙ БРЮСОВЪ.
В. В. Розлновъ.
М. НРЦЫБПШЕВЪ,
S
ИЗДАНІЕ ЖУРНАЛА „ИСКУССТВО".
1912.
K I Е В Ъ.
Типографія A. М. Пономарева п. у. И. И. Врублевскаго Крещатикъ, 58-2.
I 9 I 2.
«•
d {js-csb'SbtLL'asio^
</І. d{.
Mp^vouue^v-'O'ioo^Ci'.
...Мы натуры шпрокія, Караліазовскія, способныя вм щать всевозіюжныя противоположности и разомъ созерцать об бездны, бездну
надъ наын, бездву высшнхъ идеаловъ, и бездну подъ нами, бездну самаго низшаго н зловоннаго паденія.
Достоевскгй.
Любовь моя—страшная сказка
Co во мъ, что есть дикаго въ ней,
Съ таинственнымъ блескоыъ п бредомъ,
Созданіе жаркихъ ночей.
Гейне.
V
Предисловіе.
Настоящая книга представляетъ собой вторую
часть задуманной мною паботы о творчеств Достоевскаго, о трехъ преображеніяхъ этого творчества,
о трехъ мірахъ его души.
Каждая изъ этихъ сторонъ творчества геніальнаго писателя представляетъ совершенно самостоятельное ц лое, въ каждой изъ нихъ онъ является
какъ-бы въ новомъ вид , такъ что можно не задумываясь сказать, что существуютъ три Достоевскихъ:
]) тотъ, что находился въ подполь , что проклидалъ,
ненавидя весь родъ челов ческій и упивался мыслью
объ его разрушеніи;іг|тотъ, другой, что изм рилъ
глубины плоти и страсти и далъ потрясаіощую
картину карамазовскаго сладострастія съ провалами
въ такія н дра, гд гор ніе плотское стаповится огнемъ духа, съ горизонтами безумія, съ источыиками
жестокости и изступленья; и ыаконецъ, — третій —
аісамый загадочный—пришедшій къ религіозному соJ знанію, въ великой мук отъ Бога открывшій в чные пути, творецъ такихъ, чисто религіозныхъ типовъ, какъ старецъ Зосима, Долгорукій—отецъ, Шатовъ, Алеша Карамазовъ;—пророкъ современыыхъ
п
исканій, пророкъ религіознаго ренессанса нашихъ
дней.
Въ осв щеніи этихъ трехъ путей Достоевскаго,
въ возсозданіи не въ шаблоыныхъ рамкахъ критики,
а въ творчеств , этихъ трехъ картиыъ его внутренняго міра (подполья,—карамазовщины и—религіи)—
заключаются задача и ц ль моего труда.
Уже сталъ неоспоримою истиной тотъ фактъ,
что Достоевскій весь воплотился въ совремеыности,
что онъ сталъ вдохновеніемъ и отправыой точкой
почти для вс хъ нашихъ писателей, поэтовъ, фило'софовъ, что современное религіозиое сознаыіе все
ц ликомъ вышло изъ Достоевскаго, что творчество
I нын шняго времени буквально живетъ имъ, лиші.
видоизм няя и преображая его мысли, его открр •
венья, его бездонную и в чную глубРіну. И не въ
убожёств нашемъ, не въ оскуд ніи творческихъ
силъ нужно усматривать причину этого вліянія, a
въ необычайно сильномъ родств всего русскаго творчества съ личностыо Достоевскаго. Въ этомъ отношеніи Достоевскій какъ-бы является выразителелгі,
передъ міромъ вс хъ глубинъ русскаго духа, геніальнымъ творцомъ вс хъ бродящихъ, скрытыхъ, таинственныхъ его силъ, великол пнымъ символомъ,
живымъ символомъ загадочнаго царства русской души и ыарода, его исканій и его иадеждъ, его молитвъ и его проклятій! Ибо не мы возсоздаемъ Достоевскаго, а онъ самъ, его титаническая сила
присутствуетъ въ пасъ и творитъ въ современныхъ писателяхъ свой надрывный бунтъ и свое великое страдаиье и свою мистическую безумную красоту. Ибо Достоевскій—это вся Россія, ея душа, ея
скрытая и стихійная сущность.
Ill
Выяспить это—не^н шневз а глубоко внутрен.ное, психологическое родство Достоевскаго съ современнымъ творчествомъ, при чемъ выяснить такъ,
чтобы оно было показано не посредствомъ грубаго
подчеркиванія фактовъ (что составляетъ предметъ
всякихъ критическихъ работъ и ув систыхъ „кирпичей" филологовъ), а чувствовалось бы само собойД
въ самомъ процесс творческой интуиціи,—вотъ дру-'
гая ц ль моихъ трехъ книгъ.
Въ вышедшей первой части моей трилогіи („Подполье") я изобразилъ картііиу той стороны дущи Достоевокаго, которая особенно стала близка
современности въ посл дніе дни и проявилась въ
углубленномъ проникновеніи въ т „проклятые" вопрооы о смысл и ц ли жизни, которые своей мукоіг
создаютъ трагедію, которые доминируютъ въ творчеств такихъ типичныхъ для нашего времени писателей, какъ Леонидъ Аыдреевъ, едоръ Сологубъ,
Левъ Шестовъ, Алекс й Ремизовъ и мало кЬиу
изв стный, безвременно погибшій Михаилъ Пантю-1'
ховъ, книга котораго ,,Тишина и Старикъ" принадлежитъ будущему.
Въ настоящую книгу вошли далеко не вс
представители отраженной въ современности ,,карамазовщины".
Кром того, н которые писатели одииаково принадлежатъ какъ къ „карамазовщин ", такъ- и къ
,,религіи", (Розановъ, 3. Н. Гиппіусъ); изъ пихъ къ
,,карамазовщиы " я отнесъ только В. В. Розанова,
что-же касается 3. Гиппіусъ, то можно сказать, что
эта глубоко талантливая писателышца совм щаетъ
въ себ вс три элемента, но, хотя духъ „карама-
IV
зовщиньг' проявился въ ея творчеств
довольно
опред ленно (разсказъ „Тварь", „Чортова кукла"),—
сущность посл дняго все-же больше относится къ
„религіи".
Первую часть („Подполъе") критика встр тила
съ недоум ніемъ, посп шила отнести къ „подполью"
меня самого. Особенно упрекали меня въ излишнемъ субъективизм и въ томъ, что я ограничиваю
многосторонное творчество Достоевскаго. Посл дній
упрекъ, какъ видно изъ выясненной задачи моего
труда, не справедливъ, что-же касается перваго, то
онъ меня только можетъ радовать.
Въ болыпинств случаевъ критика исполняла
второстепенную должность въ литератур , она играла въ ней роль суфлера, была ч мъ угодно:—компнляціей, объяснительнымъ чтеніемъ, публицистикой, журналистикой, филологііческііми ])азыскаіііяміі,
но не т мъ, ч мъ бы ей сл довало быть въ наше
время—творчествомъ.
Для меня же это творчество составляетъ то
главное, ради чего стоитъ писать, что даетъ совершенно новое осв щеніе личности художника въ
критик .
^ Для меня задачей является не переложеніе своими словами того, что создалъ писатель, a—проникновеніе въ глубину души его, психологическій
анализъ, созерцаніе сущности его творчества сквозь
призму моихъ собственныхъ перел^иваній, исканій и
запросовъ.
Такимъ образомъ я живу въ произведеніяхъ
разсматриваемаго писателя,' живу мыслыо и душой;
і 1 возсоздавая его міръ—творю міръ собственный, міръ
моего творчества, міръ моего я.
v
Именгю такую задачу вид лъ въ критик
Оскаръ Уайльдъ, когда говорилъ: „критика есть въ
сущности творчество въ высшемъ смысл этого слова, критика одыовременно и созидательное и независимое творчество".
»
Александръ Закржевскій.
19 Января 1912 г.
Кіевъ,
1.
I.
0, ступайте-жъ, ступайте дорогой паденія
Ниже, ниже-спускайтесь въ зіяюішй адъ,
Гд подъ огненной бурею вс преступленія,
Точно зм и, шппя, въ безпорядк кипятъ!
Бодлэръ.
Всть въ творчеств Достоевскаго особая область,
ц лый міръ, полный своихъ красокъ и звуковъ,
совершенно отличный, замкнутый, сложный. ЯЭто
карамазовщина—міръ пола, трагедія пола, его очарованіе, его мистика и его ужасъ. Зд сь элементъ
сладострастья, присущій Достоевскому, упалъ какъ
порохъ въ огонь, и вотъ вспыхнула эта затаенная,
усложненная, своеобразная жизнь, и въ яркомъ багровомъ зарев совершаются тайны и мистеріи плоти.
Зд сь душа больная запуталась въ кошмарныхъ
построеніяхъ пола, и настуяило забвенье истомленное, въ вихр вид ній и лихорадочныхъ сновъ,
прерываемое б шенымъ крикомъ, или изнемогающимъ стономъ, или безмолвной, страшной судорогой... Безвольно, но всец по, но безумно отдалась душа полу и длится объятье томительно долгимъ аккордомъ, и замерли силы, а на самомъ дн ,
гд творчество,—всходятъ новые всходы, рисуются
•2
тихіе узоры новой трагедіи, раздвигается новая зав са сверхчелов ческой боли!...
Есть Эросъ и эротическое, то, что родила эллинская культура, то, что метафизировалъ Платонъ, то,
что воплотилось въ Венер Милосской. Зд сь красота спокойная, величественная, стройность линій,
тихій покой аккордовъ и красокъ творятъ гармонію,
которая восхищаетъ, но не волнуетъ. Зд сь жизнь
вошла въ искусство и перестала быть жизнью, зд сь
гармонія и тотъ порядокъ, та дисщшлина, присущая
чистому искусству—уничтожила муку, отодвинула
на второй планъ ужасъ плоти, представивъ только
ея художественную схему, сд лавъ изъ нея искусственный и безвредный экстрактъУВотъ почему, когда
Платонъ объясняетъ любовь, когда Эросъ отражается
въ классическомъ искусств , мы остаемся спокойны
въ созерцаніи, и пламя не охватываетъ насъ. Но.любовь,
но плоть,—это в дь страшные провалы жизни, это
надрывъ природы. Это корень жизни и ея зародышъ,
вотъ почему такъ страшно подходить къ нему, вотъ
почему отъ прикосновенія къ этому коршо отзывается стономъ міровая боль въ нашихъ сердцахъ.
Достоевскій объяснять полъ не пытался, онъ бол лъ имъ, бол е того, полъ изсушилъ, обезсилилъ
его,—и вотъ, снова вм сто искусства явилось страданіе. Вм сто гармоническаго восхищенія передъ
Эросомъ—Настасья Филипповна, вся истерика пола;
вм сто обоготворенія любви—сладострастное хпхика-'
ніе едора Карамазова. Полъ истерзалъ Достоевскаго, какъ истерзало его всякоепроявленіе жизни, полъ
выросъ въ сердц его ядовитымъ растеніемъ и оно
одуряющимъ запахомъ окутало и -Настасыо Филипповну, и Грушеньку, и Ставрогина; у вс хъ ихъ
8
именно этотъ ядовитый, раздражаіощій, странный ароматъ, и вс они окутаны дымкою кошмарнаго очарованія, и нв на людей похожи они, они — живые
символы души, истерзанной поломъ. На этой почв
выросло много страннаго, извращеннаго, уродливаго
и преступнаго, родственнаго самому маркизу де-Саду
и уже ожидающаго какого-нибудь Крафта-Эбинга,
зд сь преступность и уродливая извращенность опьяняютъ сознаніе! Зд сь ярко выразилась мысль, что
власть пола безпред льна, что она святого можетъ
сд лать преступникомъ и ангела превратить въ демона извращенности!
Женщина—вотъ основа этой стороны творчества
Достоевскаго. Женщина создала этоті^ особый міръ
чадныхъ вид ній, изступленнаго эротическаго мистицизма, русалочьихъ чаръ, въ которыхъ такъ сладко
извивается душа, п вотъ уже заколдованные сны кажутъ осл пительныя бездны какихъ то новыхъ откровеній, слишкомъ утонченныхъ, слишкомъ неуловимыхъ,
для которыхъ еще н тъ словъ, которые рыдаютъ въ
тающихъ полутонахъ бреда, завороженнаго вак^ической улыбкой Настаоьи Филиптювны или мерцаніемъ
тонко-прозрачных рукъ Сони Мармеладовой.
И въ душ
б шепый вихрь одержимости. И
кажется, что весь міръ качается въ рукахъ женщины, и въ сладострастномъ огн истл ваетъ сердце...
И страшно.
Когда князю Мышкину г^мыі) оаЗЪ попалась
•ьч.-р •••-г;іСь:і ІмтлиітоьііъГГ оііъ весь"?
эрг , и восхищеніе его какое TO нечелор ческое,
въ немъ радость страданья перепша границы обычнаго и кажется, что открылась зав са какой-то управляющей міромъ Тайны. И улыбнулся и замеръ. И
4
экстазно озаренные глаза вспыхнули св томъ лучистымъ, и воцарилась тревожная, странная музыка,
и каждый аккордъ—ожиданье, и радость, и безумный, душу раздирающій см хъ. А изъ темной дали
надвигается сила и роняетъ злые цв ты волшебства, и все вокругъ и дико, и воспаленно, и жутко.
Нервы вымотаны въ струны палящей боли, и по нимъ
тихо скользитъ высокая и зм иная, съ дерзко прищуренными глазами, съ яростнымъ, застывшимъ
крикомъ, вызывающимъ крикомъ на искаженномъ красотой лиц , и каждая черта, каждое движеніе, каждый изгибъ т ла звонко поетъ: „Я—царица, я—міръ,
я—власть"!
И Мышкинъ-Достоевскій понялъ и ув ровалъ,
и съ т хъ поръ женскіе чары жутко скользятъ между
строкъ и одурманиваютъ, и не даютъ жить, и сладостной пыткою изводятъ очарованную душу.
Жеыщина—вампиръ, женщина—терзаніе, женщиыа—боль... Въ каждомъ женскомъ образ Достоевскаго горятъ эти понятія. У него, когда надвигается женщина, становится страшно тихо, какъ передъ
грозой, открываются глубочайшія н дра, струится
черное, смолистое вино опьяненія... Слышыы удары
сердца, и сквозь заплетающійся вихрь отрывочныхъ
фразъ прыгаетъ, корчится, извивается, всхлипываетъ
истерика, и глаза подернуты туманомъ истомленности, и въ страстныхъ, изнемогающихъ корчахъ задыхается жизнь...
Словно наступила л;енщина своею ногой на гиМЫЙ ОСНОВНОЙ КОреіІЬ ДуШИ,—И ВОТЪ ГОрИТЪ В'ОІ
менемъ отчаянной, безвольной любви, какого то палящаго оргазма, соединеннаго съ б шенымъ воплемъ
литургійнаго восторга и сатанішскаго проклятья.
Наступила ногой и см ется. И какъ>гаадостной
сказкой, сумасшедшей, пресыщенной и больной сказкой озаренъ ея см хъ, и открываются дали, закутанныя зав сами глухихъ тайнъ, и кружится голова
отъ надрыва, и все т ло свивается въ дикую пляску
безумнаго, оргіастическаго изступленья, и снова
тихо,—и летиіпь внизъ, замирая въ паденьи и страх , и куда то улетаетъ душа,—и весь — спаленная
жертва, а она четко и тихо проходитъ сквозь душу
влаотными шагами!
Но это терзаніе блаженно, и хочешь, чтобы оно
длилось в чно, безумно хочешь, чтобы прозрачность
рукъ выворачивала душу, чтобы злая насм шка изд валась надъ счастьемъ, чтобы въ золотыхъ с тяхъ
застывшаго очарованія все длился этотъ истомленный, пьяный, сумасшедшій см хъ!
И уже въ роман „Игр о к ъ " герой говоритъ женщин , словно замирая въ восторг , в домомъ только одному Достоевскому:
„ Мн7Ъ у себя наверху, въ каморюъ, стоитъ вспомнить и вообразить только шумъ вашего платья, и я
руки себ искусать готовъ".
Вотъ въ этихъ-то словахъ открываются жуткія и
манящія начала карамазовщины.
Всюду потомъ отраженіе женскихъ лицъ въ
творчеств приводитъ Достоевскаго въ родъ сладострастнаго б шенства, я онъ готовъ искусать себ
пальцы отъ одной т ни женщины. А посл дняя.,
почти каждая, окутана имъ же самимъ ароматомъ
садическаго волшебства—и терзаетъ, и мучитъ, и
хочется кричать, хочется плакать, безумствовать,
умереть въ восторг , а чудесная мистическая красота струится въ этомъ обаяніи, и къ сладострастью
6
>іт ла прим шиваетъ жестокое, еще страшн йшее сладострастье души. Одн изъ нихъ—чисто демоническія, чувственныя, сладостныя царицы т ла, другія—
вс сотканныя изъ души, одержимой безуміемъ,—
чарующимъ, страстнымъ.
іЖенщина—бол знь. Каждый изъ героевъ Достоевскаго бол лъ женщиной,—и эта бол знь стала
выше силъ, стала безуміемъ,—и вотъ Версиловъ, уже
мертвый отъ женщины, проходитъ предъ нами какъ
чисто современный челов къ... И эта бол знь потомъ
переходитъ во что то сложное, слишкомъ утонченное,
слишкомъ запутанное—и безгранично мистическое—•
и становится символомъ. Символъ этотъ—карамазовщина, власть пола, міръ особый и чудесный, міръ
очарованья, пресыщенья и опьяненія.
ч-Сладострастіе плоти и духа—вотъ неотд лимые
элементы карамазовщины—элементы, д лающіе изъ
нея н что очень близкое намъ, современное, и
поэтому особенио интересное. Все, что близко и дорого намъ въ этой области—и Бодлэръ, и Гюисмансъ, и Барбэ д»-Оревильи^ и Оскаръ Уайльдъ, и
Сологубъ—все исходитъ изъ этого источника и кажется ч мъ то родственнымъ нашему надорвавшемуся духу, и мы приближаемся къ этимъ мрачно
тл ющимъ искрамъ таинственнаго, и желаемъ раздуть ихъ во что то спасительное, литургійное! И
забываемъ, что у Достоевскаго давно уже расцв лъ
и оформился этотъ будто бы открытый нами на Запад міръ!
И эта „извращенность", выражаясь шаблонно—
не только объективно утверждается Достоевскимъ,
такъ это сд лалъ Золя въ своихъ романахъ, но
представляетъ н что его, субъективное, дорогое и
7
любимое, составляетъ вторую натуру Достоевскаго.
Неизданная глава изъ „Б еов^", а также неиздаыный
дневникъ Достоевскаго—подтверждаютъ это...
Можетъ быть, потому-то такъ и обаятельна эта
„извращенность" въ изображеніи Достоевскаго! И
когда мы созерцаемъ Версилова, или, когда сверхчелов ческая красота Ставрогина предстаетъ предъ
ыами,—намъ пріятна и таинственно прекрасна сама
такъ называе.мая „паталогичность", принимающая
отт нки непонятнаго очарованія. И мы любуемся, и
какъ будто забываемъ, что всею душею отдаемся
поклоненію вс ми презираемой „извращенности!"
Челов къ, страдавшій эпилепсіей и устами Кирилова изобразившій все блаженство бол зненнаго
экстаза, когда на минуту душа становится пріобщен
ной чуду, не могъ не преклониться передъ т мъ,
что люди называютъ ненормальностыо и бол знью
и создалъ изъ этого свое царство, къ счастыо—нав ки закрытое для т хъ, которые считаютъ Достоевскаго больнымъ и н е н о р м а л ь н ы м ъ ! ^ —
Женщина—ядъ. Рогожинъ вкусилъ этого яду и
б шенство овлад ло имъ, и весь міръ полет лъ въ
бездну, и кром Настасьи Филипповны не было для He
ro никакихъ основъ жизни. Но ядъ губителенъ, смертеленъ—и создало Рогожину его б шеыство тысячу
безсонныхъ ночей, и барахталась, надрывалась опьян вшая душа, и мучили призраки, и зв риная стихія рев ла, задыхалась, барахталась, подымая ц лый океанъ, и волны его наваливались на грудь и
душили ее какимъ то озлобленнымъ изступленіемъ!..
Зд сь оканчивается чувство челов ческое и начинается какая то литургія любви, какое то сладкоблаженное жертвоприношеніе, какая то зв риная
s
первобытность съ чисто современнымъ по сложности
мистицизмомъ.
Инфернальность Грушеньки создаетъ ц лую
мистерію! И, когда тяжелыя кошмарныя т ни женщины появляются въ этой с рости, среди низенькихъ комнатъ, полныхъ самаго разнообразнаго
сброда, среди изн женнаго тл нья преданныхъ
высшей инквизиціи душъ,—то любовь никогда не
выступаетъ открыто, въ словахъ, въ поц луяхъ, при
аккомпанимент сирени или лунной ночи, какъ у
Тургенева. Достоевскій прячетъ любовь, угрюмо закутываетъ въ черныя пелены тяжести своей непом рной и говоритъ о ней сухо, сдержанно, какъ бы
боясь показать, боясь открыть... У него герой никогда не признается въ любви какъ челов къ любящій, у него любовныя признанія протоколируются
въ сухой и сжатой форм и словно умираютъ на
устахъ... Потому что то, что прячетъ Достоевскій—
ужасно.., Потому что подъ видомъ любви таится
зд сь ужасъ эпилепсіи. исте.рическая копшарность,
бол зненная утонченность визіонерства, уродливыя,
загадочныя переживанія и ц лый міръ такихъ откровеній, которыя понятны одному Бодлэру или Эдгару ПоІ^Потому что элементарное, здоровое, челов ческое понятіе любви глубоко чуждо и противно
Достоевскому, и онъ изб гаетъ говорить пошлыми
фразами о томъ, что надрываетъ душу, что ужаснымъ бредомъ разрушаетъ сознаніе! Посмотрите на
жизнь Версилова. 0 ней какой нибудь медикъ или
челов къ, любящій строгія опред ленія^—Быразились
бы, какъ о ярко выраженной psychopatia sexualis!
И когда понятіе вылилось бы въ формулу—словъ
бы болыпе не нашлось. А между т мъ сколько та-
У
инственной красоты въ этомъ челов к —такомъ иашеліъ, такомъ понятномъ и сверхнормальномъ. Все, что
видимъ мы въ упоительныхъ ночныхъ визіяхъ Доріана
Грея, или въ половыхъ надрывахъ Гюисманса или Пшибышевскаго,—все цв томъ радужнымъ переливается въ
образ Версилова и таинственно роднитъ его половой мистицизмъ съ нашей душой! Половой мистицизмъ—это именно то, что отличаетъ героевъ Достоевскаго отъ другихъ, это именно то, что поражаетъ насъ той безсознательной, очарованной утонченностыо, которая представляется намъ, когда наблюдаешь за Версиловымъ изъ каморки подростка Долгорукова.
— Единственный красочный элементъ, сохранившійся въ современной оюизни это гюрокъ!—говоритъ утонченный эстетъ лордъ Генри Доріану Грею.
Эти слова кажутся какъ бы исходящими изъ устъ
Николая Ставрогина.' Онъ пережилъ это, это же составляетъ вторую природу, вторую жизнь и самого
Достоевскаго. Ибо онъ СРІЛЬНО любилъ говорить о
разныхъ порокахъ, говорить съ восхищеніемъ, а это
значитъ, что они были ему пріятны, были полны
той неизв данной красоты и упоенія, которыя сд лали преступникомъ въ глазахъ буржуазнаго общества Оскара Уайльда!
чІДостоевскій—весь—преступленіе, весь—утонченный порокъ. Въ душ его—темныя чащи—запутанныя,
непроходимыя, и не знаешь, гд что начинается и
гд исчезаетъ. Въ его душ живетъ злая и жестокая
идея женщины, — и эта идея бросаетъ на его творчество тяжелую и кошмарную т нь. По Достоев- |
скому женщина — это мистическое озареніе порока '
и преступленія. Вотъ откуда эти холодные отсв ты
10
тревоги, окружающіе Настасыо Филипповну, вотъ
откуда этотъ истерическій см хъ Лизы въ „Б сахъ",
и та непонятная мука рефлексовъ, которую бросаетъ въ разверзстыя души Дглая.
Еще, въ каморк , на мансард , когда мучилъ
Б линскій и сладко давили мозгъ Петербургскія утра, изъ глубокой горячки бол зни, изъ кровью облитыхъ ранъ сердца родился этотъ страшный и
умерщвляющій женскій Ликъ. Выло это тогда, когда
надрывались силы въ борьб и струны души были
туго натянуты, и бол зненное опьяненіе безумія терзало изможденное т ло. Тогда прикоснулась къ самымъ затаеннымъ струнамъ, вся—ядъ, вся—жестокая прелесть. Кошмарнымъ жаромъ разлилась въ
т л , и рванула сердце, и нервы зажгла... Можетъ
быть ему казалось, что міръ погибаетъ, можетъ быть
вся вселенная претворилась въ боль! Она холодна.
Она ужалила и холодомъ—громомъ сквозь сердце
прошла, и выпила кровь мучительно сладко, какъ
въ сказк пьетъ душу чудесный аккордъ! И „сл докъ ноги у нея узенькій и длинный—мучительный.
Именно мучительный. Волосы съ рыжимъ отт нкомъ.
Глаза—настоящіе кошачьи, но какъ она гордо и высоком рно ум етъ ими смотр ть!" („Игрокъ"). И тогда захот лось броситься внизъ съ высокой горы и
разбиться.
И по ночамъ, когда зал зали въ голову безумные замыслы,—лозналъ силу и красоту преступленья.
Потому-что женщина зажгла такія силы и на такія
вершины вознесла безуміе, что остается только прест^пить все и въ багровомъ зарев умереть, уснуть.
И не есть ли это самое чувство, когда смотришь на
мучительный сл докъ ноги, когда слышишь шумъ
11
ея платья, не есть ли это—уже само преступленіе, самая красота его? Потому что кто знаетъ, что
д лается тогда въ душ , какіе помыслы одинъ другого страшн е,—рождаются въ ней? Можетъ быть. въ
дьявольскомъ шабаш извивается тамъ весь міръ?
Можетъ быть въ дикомъ, страдальческомъ вопл совершается расцв тъ т хъ чудесъ, которыя снились
Доріану посл мучительныхъ искушеній дьявола?
И какую картину рождаетъ уже этотъ ранній романъ
„Игрокъ"! Сквозь шаблонное описаніе жизни юноши,
влюбленннаго въ рулетку—всюду пробиваются страшныя маски т хъ ночныхъ кошмаровъ, когда безуміе рождало красоту порока. Зд сь, какъ и всюду,
онъ находитъ изступленную, садическую радость въ
т хъ мученіяхъ, которыя доставляетъ женщина.
Зд сь начало той ц лой мистеріи, ц лой поэмы,
ц лой метафизики жестокаго опьяненія, которое впосл дствіи сд лаетъ Ставрогина въ глазахъ Верховенскаго т мъ чудомъ, которое въ силахъ покорить
и поб дить Россію!
Достоевскій никогда не описываетъ объятій, поц луевъ, любовныхъ сценъ, какъ это бываетъ въ романахъ. И опять не потому ли, что мысль боялась
описывать, не могла, не см ла, въ силу цензурныхъ и другихъ условій? He потому ли, что въ ум
рождались такіе поц луи, такіе сны и вид нія, кототорые обезсиливали творческую энергію и которые
нужно было прятать въ душ изъ боязни публично
сознаться въ своей преступности. He потому ли, гчто
вм сто поц луевъ и объятій здоровыхъ людей душу
и.зводилъ ужасъ такого порока, отъ котораго лицо
Ставрогина превратилось въ бл дную маску?! Н тъ,'^
не поц луя желала душа, извиваясь въ кром ш- |
12
ныхъ тьмахъ изступленья, не поц луя, а чего-то
такого вн мірового, страшнаго и палящаго, что смогло
бы разорвать женщину въ клочья б лыхъ, н жныхъ, истомленныхъ розъ... И чтобы сама смерть
глянула на дн этого сверхміроваго поц луя, поц луя—тоски, поц луя—надрыва! И не любви желала
душа, а того цв тка абсолютнаго покоя, что зажегшись чудеснымъ, коварнымъ см хомъ безумія, зас лъ въ этихъ кошачьихъ, зеленыхъ глазахъ и для
добытія котораго понадобилось бы разбить эти глаза
въ дребезги и изъ сознанія міра вычеркнуть понятіе „женщина". И оттого, что нельзя было дббыть
этого цв тка никакой ц ной, вся жизнь превратилась въ муку!...
II.
Несп шныЛ ужасъ сладострастья
Какъ смертный холодъ лезвея,
Вбираетъ жадно жизнь моя.
Несп шный ужасъ сладострастья
Растетъ, какъ бури шумъ—и я
Благословляю стономъ счастья
Несп шный ужасъ сладострастья,
Какъ сы ртный холодъ лезвея.
Валерій Врюсовъ.
А я всегда, неизм нео
Молюсь незеыной красот .
Я чуждъ тревогамъ вселенной,
Отдавшись холодной мечт .
Отдавшись мечт ,—неизм нно
Я молюсь неземной красот .
Валерій Врюсовъ.
Изъ этихъ странныхъ, уродливыхъ, страстныхъ
людей мятущаяся душа Настасьи Филипповны создала себ заколдованный кругъ. И въ немъ свершается волшебство необычное, переполненное жаждой зажечь такой пожаръ, создать такую месть,
чтобы въ сердц умерла мука... И оттого, что эта
жажда перешла границы челов ческаго,—люди стали игрушками, а ея красота—инквизиціей. И когда
въ зеркалахъ тусклыхъ домовъ Ганечки или Рогожина появляется истерзанный ея, бл дный Ликъ—
туманность кошмарнаго пресыщенья пламен етъ заревомъ безумія и жутко наблюдать, какъ надрыва-
14
ются силы въ борьб съ ея властью, какъ челов ческая
природа въ экстазахъ испускаетъ духъ.
И эти души—вс эти безвольныя, зачарованныя
души,—только игрушки въ ея рукахъ. Ибо она всесильна—и эту силу дало ей то, что раздвигаетъ горизонты
міра, что разрушаетъ и со&ід^етъ міръ—красота... И
мучитъ вс хъ—и старика Епанчина—солиднаго генерала, отца семейства, и озлобленнаго Ганечку, и
одержимаго Рогожина, и холодную Аглаю и даже
бол зненнаго аскета, истомленнаго и надломлепнаго бол зныо—князя ^Тъішкина! И вотъ—все горитъ, извивается з ъ корчахъ, разсыпается воплями
и молитвами у ея ;Й0гъ! Но что ей поклоненіе и терзаніе, что эта любовь,—силы ея надрываетъ трагедія,
трагедія, о которой вс молчатъ, но которая открываетъ безмолвныя н дра въ чащахъ того, что люди
зовутъ поломъ и что зд съ такимъ мучительнымъ
объятьемъ сплетено съ душой. He хочетъ Достоевскій
показать красоту людямъ спокойной и величественной, съ ореоломъ холода на чел , свою красоту онъ
истерзалъ страданьемъ и оттого самая боль, самая
острота красоты зажглась мистическимъ пламенемъ
наслажденья! И оттого, что старый пом щикъ осквернилъ Настасью Филипповну блудливыми ласками потуханья, оттого, что эти ласки и вся эта исторія
бросили ее на рынокъ петербургскаго св та.—красота стала особеннно заманчивой и инфернальной.
Почему это такъ,—Достоевскій не можетъ объяснить,
да и врядъ ли это можетъ поддаться объясненію.
Но ясенъ фактъ, что „порядочная* женщина никогда
не бываетъ у него олицетвореніемъ красоты и что
для этого ему необходимо всегда женщину сд лать
проституткой...
15
Порочная жизнь, такъ сказать, отшлифовала красоту Настасьи Филипповны, и отъ этого она стала
еще болыпе обаятельною, еще болыпе заманчивою.
Зд сь любовь Достоевскаго къ порочнооти и преступности выступаетъ наглядно.
Когда прислушаешься и приглядишься ко всей
этой исторіи, къ этому всеобщему поклоненію
столь разныхъ межъ собой людей,—невольно зарождается мысль, что Настасья Филиішовна не челов къ только, а символическое изображеніе творчества
красоты!
Въ общемъ экстаз Ганечка творитъ себ идеалъ жены, Рогожинъ—любовницы, Аглая—абстрактную идею, кн. Мышкинъ—чудотворную икону. Но
сама то она можетъ быть выше всего этого, самое
то ее понимаетъ быть можетъ одинъ только Достоевскій, влюбленный въ нее не меныпе Рогожина. И въ
ней самой ярко выступаетъ мучительная трещина
двойственности, и ярко зажженыя св чи этой двойственности осв щаютъ немного ту темь, которая въ
ней и которая опьяняетъ своей густотой сознаніе.
Р
• •
.; изъ нея оргіазмъ плоти, д лаетъ
ее пьяной накханкой своего разстро
нія, и не потому только, что у яе б къ ней „болъная страсть", какъ выразился Мышкинъ, но и потому, что въ ней самой этотъ оргіастическій элементъ составляетъ часть души и можетъ быть даже
преобладаетъ" надъ всею душой. И когда, въ тотъ
памятный вечеръ, она бросила въ каминъ пачку денегъ, и въ вихр пьянаго восторга рявкнулъ Рогожинъ свое знаменитое: „королева!", когда
всякій сбродъ застылъ, ошеломленный мучительной
напряженностыо ея см ха, а Ганечка упалъ въ обмо-
16
рокъ,—тогда этотъ элементъ оргіастическаго изступленья выступилъ наружу. Зд сь же идея пола получаетъ новое осв щеніе, чисто русское и знаетъ о ней
одинъ лишь Парфенъ Рогожинъ!
Глубокая власть надрыва, б шеный разгулъ,
вакхическая радость распинанія души во имя ея,
„королевы"—и лихорадочная дрожъ, и дикое рычанье голоднаго зв ря отъ одной ея улыбки, и желаніе поставить ее выше міра и ею разбить міръ,вотъ что пробуждаетъ тогда полъ въ Рогожин ,
вотъ какъ понимаетъ красоту Достоевскій!
Вознесенная на вершины страсть дальше не
можетъ идти, она или должна потухнуть, или окончиться преступленьемъ. И были моменты въ жизни
Настасьи Филипповны, когда страсть уходила тогда
пробуждалось что-то новое, бол е тонкое, бол е
усложненное и таинственное, то, что тянетъ ее къ
князю Мышкину. „Первый разъ челов ка вид ла" —
говоритъ она ему, уносясъ съ Рогожинымъ, посл
того, какъ Мышкинъ предлагаетъ ей выйти за него
замужъ. Человіъка, а не мужчину, душу, а не самца,
го, что она привыкла вид ть въ ліодяхъ.
'оворятъ очень мі
они объясшпотъ
ОТВ
къ
'>плішпоьи
обратно, то есть др,) І ^
.
сот и другое ея пониманіе! Зд сь грубые ш
эксцессы зам няются просв тленностью, вулканическая страсть облагораживается, переходитъ въ душу,
въ душу того, у кого бол знь доминируетъ надъ;
вс мъ, для кого плоть не чувствительна, для кош
ее зам няетъ душа,—князя Мышкина.
Душа кристально чистая и почти святая, душа,
озаренная лучами какого-то горняго св та, душа,
17
надорванная эпилепсіей и изнурительной бол знью,
словно тающая, словно всец ло отдавшаяся св ту,—
князь Мышкинъ представляетъ интересное явленіе,
бросающее н которые лучи св та на темную натуру
Достоевскаго. * Въ этомъ челов к онъ проявилъ свою
вторую натуру, въ немъ вылилась душа его бол ъни,
н что неподдающееся истолкованію, то, что онъ переживалъ въ мипуты глубокой усталости, когда душа
въ припадк отд лялай. отъ т ла, и становилось
радостно, и казалось, что входитъ въ душу и таетъ
въ неошісанномъ наслажденіи вся міровая боль! Въ
Мышкин —т полут ни и полусв ты, что мелькаютъ
въ мозгу въ то время, когда познаешь бол знь, и
оттого, что познаешь, она становится желанной, и невольно хочешь, чтобы она длилась долго, когда бредъ
окутываетъ усталостью блаженства израненную душу,
и вотъ, среди царства т ней, среди ужаса болрі
наростаютт> и таютъ, и возникаютъ опять какіе-то
смутные призраки, какіе-то сны и вид нія, которыр желалъ бы попять, но не можешь, и оттого,
что не можешь, какъ то особенно легко и радостно,
а мозгъ тихо пыотъ длительные, обезсиливающіе поц луи экстаза. Въ Мышкин красота особенная, красота усталости и умиранія, въ которой такъ много
лучистой, тихой просв тленности.
И вс хъ онъ любитъ одинаково, и ко вс мъ тяыется, какъ лилейный, покорный цв токъ, и женщины не знала его чистая душа, и къ Агла , и къ Настась
Филипповн у него отношеніе одинаковое,
смутное, неопред ленное, больное.
Но Настасья Фрілипповна далеко не такъ относится къ нему. Сердце пресыщенное болью тянется
къ нему безвольно, чувствуетъ какое-то обаяніе, но
2
18
не можетъ схватить его сущность. Она преклоняется
предъ нимъ, она на него молится, и въ этой
любви есть что-то особенное, опрозрачненное, не безъ
прим си тонкой извращенности. Оиа хот ла бы
слиться съ нимъ, взять его въ свою душу, какъ то,
чего недостаетъ ей и чего она не понимаетъ, она
хот ла бы любить его, но чтобы эта любовь была не
такой, какой она бываетъ, чтобы она перешла въ
душу; чтобы плоть стала душой и, чтобы это было
выше любви! Но такая любовь выше ея силъ, и вотъ
она бросаетъ Мышкина и енова возвращается къ
спаленному страстью Рогожину, въ жертву плоти
приноситъ душу, въ то время, какъ по отношенію
къ Мышкину плоть была одухотворена душою...
У современнаго поэта—Валерія Брюсова также
естъ своя Настасья Филішповпа, не мен е страшная
и сильная, ч мъ у Достоевскаго. Она въ его поэзіи
сплетаетъ ц лый обаятельный хаосъ сокровенныхъ
переживаній, восторговъ и мукъ, близкихъ въ большой степени т мъ, что переживалъ Достоевскій, поверженный въ священный экстазъ передъ чудеснымъ
своимъ, заколдованнымъ и злов щимъ Ликомъ.
Врюсовъ—это музыка безконечной ночи сладострастья, извращенности и восторговъ пола. Это—
драгоц нный, порфироносный плащъ, наброшенный
на изступленность зв ринаго, это — таинотвенный
ключъ къ тому, что было неясно даже для самого
Достоевскаго, а если и было понятно,—то тщательно
скрываемо и оберегаемо отъ сознанія Россіп 60-хъ
годовъ.
Его творчество, его музу, его вдохновеніе дерзко
и жадно ужалила женщина,—и вотъ вспыхнуло, загор лось, разнеслось какое-то необычайное пламя,
19
какой-то дикій экстазъ, какая-то злов іцая и садическая молитва, повергнутая у той зав сы, за которою таинственно и тихо мерцаетъ непознанное и чудесное, первопричріна всего, основа вселенной, корень
земного—полъ,
Въ мукахъ вдохновенія, когда возникаютъ провалы, граничащіе съ безуміемъ, поэтъ интуиціей
своей проникаетъ за эту зав су и сладостно сливается сознаніе съ міромъ запред льной тайны и
мысль, осл пленная ыовыми искрами,—брызжетъ св томъ прозр нья во тьм .
Поэтъ безумно влюбленъ не въ женщину, какъ
фактъ, а въ женщииу, какъ идею, и сквозь познанную реальность. чрезъ границы изв стнаго—стремится къ сиитетическому построенію познанія пола...
Задыхается въ корчахъ наслалоденія, потому что
познаніе пола—это ядъ, это страсть, это мука и боль,
это эмпирическое д йство, и только внутри, сквозь
экстазы распятій, въ мз^зык пресыщенья, въ извивахъ т лъ, въ аккордахъ поц луевъ—тихо и туманно, какъ легкій дымъ, который можетъ разс яться
каікдую минуту и который можно закр пить лишь
на экран бреда или безумія—начинается явленіе
внутренней жизни пола.
И тогда сверкаютъ въ чащ тяжелыхъ сновъ
ракеты и отблески того, чего ыельзя понять, что
можно только почувствовать, ч мъ можно лишь пробол ть.
Естествознаніе, медицина р шились объяснить
полъ—и получилось что-то уродливое, грубое, плоское и скучное, что не только не объяснило, не только не дало разобраться въ томъ, что такое полъ, но
обезобразило самое понятіе его, втиснувъ сразу не-
20
познанное, неуловимое, неназванное въ тоску и мертвечину формулъ, сд лавъ надъ ужасной тьмой
бездны жалкую и непрочную надстройку, которая
ежеминутно готова разсыпаться и полет ть внизъ
вм ст со своими строителями,
Розановъ и Бердяевъ, какъ мы увидимъ, облагородили, одухотворили эту матеріалистическую
интерпретацію, метафизировали ее, но Брюсовъ приблизился къ этому помимо всего, игнорируя всякую
науку, всякую систему, ему въ хаос и въ сл пой
безсознательной интуиціи явилось то, надъ ч мъ
многіе прокорп ли бы не одиыъ десятокъ л тъ надъ
грудою книгъ.
Въ экстазахъ творчества нащупалъ единый,
драгоц нный ключъ—и стоитъ нажать, стоитъ повернуть его—и предстанетъ чудо изъ чудесъ, предстанетъ женщина въ другой одежд , въ другомъ
ореол , ч мъ повседневность, предстанетъ Мадониа
распятой страсти, оргіастическаго безумія, и сладостнымъ жаломъ къ душамъ прильнетъ. Открываетъ
во тьм запред льные пути, развертываетъ въ туман свитки какихъ-то одурманенныхъ грезъ, въ
пылу восторга срываетъ одежды, и кажетъ въ оргіяхъ запрокинутыхъ, обалд вшихъ т лъ, въ кровавомъ вин слившихся губъ, въ осл пительныхъ
гроздьяхъ. обнаженныхъ грудей,—какую-то неуловпмую и гнетущую тайну, какое-то чуть зам тное, чуть
слышное дыханіе, какую-то еще никогда не вкушаемую чуть сладострастную, чуть боготворную дрожь!
Къ зв риному воплю и стону приникаетъ душой
и окутываетъ ею животный надрывъ, и грубый потъ,
и надтреснутые крики изнеможенія,—и создаетъ волшебство одухотворенія и освященія!
21
И вотъ—вся природа, весь инстинктъ, весь полъ,
то, что своею обнаженностыо возбуждаетъ брезгливость, блистаетъ изумрудами чудесъ, какъ в чный
и нерукотворный храмъ. Но еще не зажжены св чи,
еще царитъ хаосъ и ночь, и только надъ алтарною
жертвенностыо, высоко сіяетъ блаженно истерзанный,
замершій въ задыхающейся улыбк распятія—страсти, распятія—муки—таинственный и прекрасный
Ликъ.
И что можетъ сказать душа, кром молитвы, выматывающей существо въ извивахъ бреда, кром
страсти огнепалительной и безумной, для которой
исходъ—лишь смерть, кром экстазныхъ гимновъ, въ
которыхъ тихо и н жно струятся слезы и кровь, надъ
которыми чадно парятъ призраки близкихъ чудесъ?!
Какъ жестокій чарод й, пресыщенный вс мъ
міромъ,—онъ бросаетъ въ объятья женщины свою
обезум вшую, свою испепеленную душу,—и вотъ въ
„ночи потаенной сладко жгучійужасъ ласкъ", и вотъ,
среди дко-палящаго запаха т лъ, среди надрывовъ
страсти возникаютъ бездны, загораются міры, исчезаютъ, возникаютъ, пламен ютъ, и сквозъ тысячи
міровъ, сквозь тысячи зарожденій и умираній, на
самой вершин такого восторга, такого счастья, отъ
котораго можетъ разорваться душа,^—челов къ становится богомъ, становится абсолютомъ, становится
единственнымъ центромъ сущаго, апо еозомъ и концомъ вс хъ возмоЖностей, и разгор вшійся мозгъ
ос няетъ безумно радостная мысль, что въ мір есть
только одно мое Я, только одинъ законъ, только
одна воля.
И шепчутъ радостью опяненныя губы, липкія
отъ страсти, липкія отъ крови поц луевъ:
22
Я гость единственный на всей земл .
Спитъ міръ таинственный въ предсмертной
мгл ...
Н тъ челов чества,
Ладью влачитъ хаосъ.
Въ мукахъ пола, очевидно, есть такая бездна,
когда кажется, что разрушенъ міръ, что н тъ никого и ничего, что я—міръ, я—богъ, я—власть. Въ
мукахъ пола обр тается великое разрушенье и Ёеликій хаосъ.
Пусть же пьетъ душа эти чудесныя тайны, пусть
он разрываютъ и колесуютъ т ло до обморочныхъ
проваловъ, до инквизиціонныхъ пытокъ, до смерти,
\j ибо только въ любви челов къ становится богомъ!
Красота терзаетъ, красота мучитъ и обезсиливаетъ. Зд сь б дный юноша игрокъ у Достоевскаго
только кусаетъ пальцы, только пламен етъ въ помыслахъ.
Современный жрецъ красоты идетъ далыпе. Онъ
жаждетъ этой муки, она ему нужна до боли, до
слезъ, она является его жизнью, его вдохновеніемъ:
...„Я хочу жестокихъ мукъ,
Ласкъ и мукъ безъ промедленья!"
И тогда вылился изъ души, въ звукахъ, полныхъ кровавой прелести этотъ великол пный гимиъ
мук , это литургійное обоготвореніе и освященіе тайны, этотъ бездонный напитокъ новой, еще несознанной, грядущей Красоты, предчувствіе которой опьяняетъ намъ душу, въ лучахъ которой наше рабство
кажется искупленіемъ, а женщина, а любовь—вторымъ, воздвигяутымъ нашею мукой—крестомъ! ;
23
Эта боль не разъ мной пспытана
На крест я былъ распятъ не разъ,
Снова кровыо одежда пропитана
И во взорахъ св тъ солнца погасъ.
t
Члены пыткой злой обезсилены
Я во прах кровавомъ, какъ трупъ.
Выжидаютъ мгновенія фплины
Опустпвпшсь на ближній уступъ.
Но ч мъ мука полн й и суров е,
Т мъ восторженн й п сни хочу,
И кричу, и пою славословія,
В чный гігмнъ моему палачу.
0, приди, безъ улыбки, безъ жалости
Снова къ древу меня пригвождать,
Чтобъ я могъ въ непасытной усталости
Снова руки твои ц ловать!
Чтобъ въ борьб съ сладострастной безм рностыо
Наростающихъ яростныхъ мукъ,
Я ут шенъ былъ д вственной в рностью
Этихъ строго безжалостныхъ рукъ.
Эта сладость мукъ отъ женщины словно б лое
облако окутываетъ раны души. Въ ней она находитъ новое объясненіе любви, пбо мука даетъ любви
в чное утвержденіе,, въ ней исчезаетъ страхъ предъ
пресыщениостыо, передъ т мъ моментомъ, когда женщина расплывается въ мутной тоск повседневности, когда чудо превращается въ будничную, м щанскую сладко-приторную скуку! Ибо только мука—
спасенье, только она—в чность, только она не обманетъ, не надо стъ, не выдохнется!... И н тъ въ мір
того, что могло бы опошлить радость этого чуда изъ
чудесъ, этого мистическаго яда—едннственнаго, желаннаго!
24
Вотъ приближается ликъ женщины и становится
все ясн е, все прекрасн е, все понятй е, св тлопрозрачное лицо повисло надъ трупомъ души и рыдаетъ бездонно.
Въ хаос дикомъ и страстномъ кружится міръ...
Но н тъ границъ для безумія и хочется забыться,
хочется сладострастной смерти въ пожар
безумія.
И въ бреду возникаетъ картина.
Ты монахиня—лилія Бога!
Ты нав ки нев ста Хрнста!
Это я постучалъ въ ворота,
Это я у порога.
Выходи же. Иди мн навстр чу!
Я посл дней любвц не таю!
Я безумно тебя обовыо,
Дпкой лаской отв чу!
Я нзмученъ, я весь истомленъ,
Я безсиленъ, я мертвъ отъ желаній,
Все вокругъ—какъ въ багряномъ туман ,
Все вокругъ—точно звонъ!
И мы вздрогнемъ, и мы упадемъ,
И, рыдая, сплетемся, какъ зм и,
На холодномъ полу галлереп
Въ полумрак ночномъ.
Но подъ т мъ же таинственнымъ звономъ,
Я нащупаю горло твое
Я сдавлю его страстно—и все
Будетъ кончено стономъ!
Женщина Брюсова—это мучителышй сфинксъ,
рожденный вдохновеніемъ поэта, который не надо
разгадывать, котораго боишься разгадать и сл по
в ришь, что это невозможно! Женщпна—это красота
міра, потухающаго въ объятіяхъ ея, жешцина это—
проклятье и заколдованно жуткій бредъ!...
25
Во имя спасенія души, во имя радости в чной
и д вственно-чиотой, говоритъ поэтъ, нужно узнать
то очарованъе, тотъ ароматъ, что струится отъ женщины, ту ея мистику, ту в чную женственность, что
возвышается надъ т ломъ и словно неизр ченно
чистая одежда заключаетъ въ себ природу вс хъ
вещей.
Нужно познать символъ женственнаго, душу
любви, душу вс хъ ея извивовъ и уклоненій, нужно
пріобщить небу каждую ласку, каждый поц луй,
нужно въ мистик пола познать святое, в чное, то,
что роднитъ нашу душу съ богомъ, съ великимъ
Паномъ земли.
Нужпо полюбить бол знь любви, ея отчаянье,
ея безумную, космическую Красоту, для того, чтобы
за гранями земного глянуло спасеніе!
Губы мои приближаются
Къ твоимъ губамъ,
Таинства снова свершаются
И міръ какъ храмъ.
Мы какъ священно-служители,
Творимъ обрядъ,
Строго въ великой обители
Слова звучатъ.
Ангельт, ницъ преклоненные
Поютъ тропарь
Зв зды—лампады заженныя
И ночь—алтарь.
Что насъ влечетъ съ неизб жностью
Какъ сталь магнитъ?
Дыпшмъ мы страстыо и н жностыо
И взоръ закрытъ.
26
Водоворотомъ мы схвачены
Посл днихъ ласкъ
Вотъ онъ, отъ в ка назначешшй
Нашъ путь въ Дамаскъ.
Но есть и другое—таинственное и непознанное,
но не мен е прекрасное, ч мъ всякій пантеизмъ,
всякая радость. Это—т минуты, когда женщина выпила всю душу, вс силы и всю возмояшость жизни,
т минуты, когда разрушается мозгъ и сквозь жалкій бредъ сознанія вспыхиваютъ отсв ты какойто новой надежды, какого-то непонятнаго предчувствія, предчувствія того, что весь міръ умретъ и
отъ этого станетъ легко и блаженно! Тогда начинается медленная агонія и слышно, какъ поютъ въ
тишин давно знакомые голоса, тогда мокрую отъ
слезъ пелену усталости изр зываютъ искаженныя
лица, грустныя и б лыя, какъ сн гъ, отчаянно б лыя и машутъ руками, и зовутъ, и создается настроеніе неизм римой легкости, но желаніе не гаснетъ,
а вспыхиваетъ пожаромъ, безумное желаніе убить
тоску, которая и въ эту минуту выше всего!
Тогда пожалуй и женщиыа, и в чпо женственное не спасутъ! Но не б да, есть воображеніе и
фантазія для того, чтобы выдумать себ новую
женщину, бол е сильную и бол е спасительную, имя
которой—смерть.
И пусть приходитъ тогда и т шится надъ влюбленнымъ трупомъ, в чно прекрасная.
И когда меня ты убьешь,
Ты над нешь б лое платье,
И св чп у трупа зажжешь
И сядешь со ъшой на кровати.
27
v
I
И будемъ съ тобой мы одни
Среди безмолвія ночи,
Лишь будутъ зм пться огни
И гляд ть мои тусклыя очи.
Потомъ заструптся разсв тъ
И окна окраситъ кровыо,
И ты засм ешься въ отв тъ
И прильнешь къ моему изголовью.
Что будетъ потомъ—Брюсовъ не боится!... Онъ
знаетъ только, что „красота и смерть неизм нно
одно". Онъ создалъ мистику любви, онъ полюбилъ
ее какъ поэтъ, но въ его творчеств
есть намеки,
родственные намъ, намекп, побуждающіе его бросить всякую мистику, и всякую женщину въ в чность, и идти туда, гд зарождается хаосъ и смерть
міровъ.
Дальше, все далыяе! Отъ счастья до ліуки,
Въ ужасы, въ бездну, во тьму!
Пов сть Брюсова: „Посл днія страницы изъ
дневника женщины", которая вызвала столько толковъ въ печати,—я считаю чуть-ли не единственнымъ ц ннымъ вкладомъ въ литературу изъ всего,
что писалось у насъ о 5кенщин ... Зд сь Брюсовъ
проникъ въ то святое святыхъ, о которомъ знаетъ
только женщина, зд сь его психологическій анализъ
помогъ ему нарисовать такой закоченный, такой яркій и живой образъ женщины, какой намъ едва-ли
случалось встр чать за посл днее время!.. Зд сь
женщина какъ бы вырвана изъ жизни, женщина-красавица, жестокая и хищная въ любви, бездонно таинственная въ своей загадочной сущности, величе-
^
28
ственная Царица, ради которой жертвуютъ жизнью
и свершаютъ преступленья, та мучительно прекрасная Царица пытокъ, что сквозитъ однимъ и т мъже настроеніемъ въ его стихахъ, та, о которой такъ
великол пно сказалъ Бодлэръ: „Машина страшыая,
глухая и сл пая,—спасительный вампиръ, сосущій
кровь земли!"... Холодной ст ной равнодушія, того врожденнаго равнодушія, которое присуще только женщин ,—она окружила себя отъ людей, отъ вн шней
жизни, отъ мужа, отъ любовниковъ. Властыо и гордо, ничуть не смущаясь—она взяла въ свои руки
души т хъ, которые ее любятъ, и терзаетъ ихъ
такъ, какъ можетъ терзать только Владычица! Т хъ,
что идутъ на ея уцочку—пл неішыхъ ея красотой,
влюбленныхъ въ нее безъ ума—принимаетъ одинаково, принимаетъ вс хъ, безъ разбора, отдается
вс мъ, даже какому-то пьяному ловеласу, котораго
встр чаетъ на улиц , отдается вс мъ, но въ сущности—никому, ибо никому не можетъ отдаться всец ло,
ибо не можетъ быть ничьей рабой, ибо всюду и везд сама только беретъ все, беретъ до дна, выпиваетъ всю душу, всю жизнь, всю кровь, и съ мокрыми
отъ крови выпяченными губами ненасытнаго вампира—смотритъ русалочьимъ взглядомъ въ тусклую
даль, вся—ожиданіе, вся—призывъ, вся мечта о
томъ, что не придетъ никогда, чего н тъ, чего быть
не можетъ!.. И см ется надъ грезой своей... а можетъ
быть грезы-то вовсе и н тъ... Можетъ и души н тъ,
а есть только красивое до умопомраченія т ло и въ
т л —«зв чный, проклятый обманъ?!..
^
Она въ см х холодномъ, какъ въ кр пкой,
стальной брон !.. И сильный, безстрашный Модестъ,
который убилъ ея мужа, чтобы овлад ть ею всец ло,
29
который ради этой мечты отдалъ всю жизнь, и безумно влюбленный, н жный Володя—не могутъ удовлетворить ее, не могутъ заставить полюбить самозабвенно, на всю жизнь, она вн этого круга, она
принимаетъ вс жертвы, вс проклятья, вс молитвы съ холоднымъ безстрастьемъ той Царицы изъ
дальнихъ в ковъ, которая, играя какъ игрушками и
Цезаремъ и Антоніемъ, чуть не сд лалась владычицей всего міра—Клеопатры! Она любитъ эти любви, поверженныя у ея ногъ, любуется ихъ отт нками и переливами, она любитъ ихъ страсть и сама
отдается страсти, но на одно лишь мгновенье, и даже въ минуты ласкъ остается наблюдательной и
себ на ум , какъ скользкая, золотисто-прекрасная
гадина, съ любопытствомъ наблюдающая муки жертвъ,
быощихся въ ея упругихъ, страстныхъ объятьяхъ!
И только потому, что не принимаетъ никакого участья въ ихъ мученьяхъ, потому что сама далека и
даетъ лишь упоительную пытку и на вс мольбы
проникнуть въ ея душу,—отв чаетъ холоднымъ блескомъ затуманенныхъ глазъ, потому—она Царица, a
они—рабы!.. Можетъ быть безсознательно она овлад ла секретомъ, на которомъ держится весь міръ,
что жестокость и страданье есть единственная сила,
которую люди любятъ, ради которой живутъ! Если бы
не было страданья, любовь-бы умерла. Ибо любовь
есть боль. Даже одинъ изъ медиковъ нашего времени д лаетъ такое любопытное признаніе: „Жестокость играетъ величайшую роль въ личной жизпи
индивидума и въ культурной всего челов чества.
Она даетъ намъ возможность заглянуть въ сокровенн йшія тайны челов ческой души и являетъ собою
зам чательную иллюстрацію той связи, которая су-
30
ществуетъ между примитивно-животными инстинктами с дой древности и высшей духовной жизныо нашего времени. Она углубляетъ любовь и затрагиваетъ самыя темныя стороны ыашего существа". (Ив.
Блохъ. „Половая жизнь нашего времени"). Героиня
Брюсова я^естока, потому что такова ея природа и потому, что ей нравится и любовь, и страсть, и преступленье,
которое создала ея красота. Никакой глубины въ
этомъ всемъ она не видитъ, можетъ быть, это вообще зам чательно в рно схваченное женское качество:
она можетъ преіфасно играть роль глубокой, но на
самомъ д л эта глубйна болыпе искусственная,
театральная, которую женщина должна поневол симулировать въ угоду мужчинамъ, которые ей навязываютъ эту глубину, которая ей въ сущности не
нужна! И вотъ именно такія-то въ мужчиы
и
углубляютъ любовь, и доводятъ ее до безумія, до
сл пого отчаякія, до самоубійства, до преступленья,
и ч мъ красив е женщина и ограничеын е, т мъ
любовь сильн е... И не женщина зд сь виновата, a
міровой законъ жестокости, ибо челов къ любитъ
боль до самозабвенья, и ч мъ болыпе его мучаютъ,
ч мъ болыпе не понимають, т мъ сильн е любитъ,
т мъ безумн е кричитъ душа его въ то пустое пространство, которое зовутъ женской душой!
Б дный мальчикъ Володя ум етъ любить, онъ
в дь отдалъ ей всю жизнь, бросилъ для нея любимое д ло, самозабвенно любитъ, но этимъ не можетъ
достичь того, чтобы она бросила Модеста... Ужъ такова она отъ рожденья, такой ее вид лъ Брюсовъ
въ своихъ поэтическихъ снахъ, когда закутанная
въ пеплумъ б лый она хищной куртизанкой на берегу морскомъ подстерегала прохожихъ! Ибо она
31
развратна, что и говоритъ, сама сознается въ этомъ,
но это ея вторая натура и женой Синяго Бороды она
быть не можетъ! И съ какой коварной улыбкой она
слушаетъ вопли Володи, который отдаетъ ей всю
свою жизнь!...
„Я былъ счастливъ своей работой, и у меня
было удовлетвореиіе въ созианіи, что жизнь моя
нужна на что-то! Ты меня вырвала изъ этого
міра, ты меня, какъ сирена, зачаровала своимъ
голосомъ и заставила сойти съ моего корабля. Что
же ты мн дала взам нъ? Жизнь, которая любовь
ставРітъ въ центръ міра, какъ божество, а потомъ
самую эту любовь подм ыпваетъ лицем ріемъ,
фалыпыо, притворствомъ! Ты научила меня жить
одпимъ чувствомъ, а сама вм сто чувства давала
мн искусную ложь! Ты постеп^нно коварствомъ и
ласками довела меня до того, что я сталъ твоимъ
альфоисомъ! Мн страшно встр чаться съ прежними
друзьями. Я стыжусь своей жизни, своего лица, своихъ рукъ"...
Что отв тить! Коварію щурятся зеленые кошачьи
глаза, походкой тигра—легкими, упругими, зыбкими
шагами ходитъ около валяющагося на полу въ б шеномъ изступленіи Володи, искрится среди паиики
безумія холодный матовый см хъ! Ей все это см шно и не этого она хочетъ, ей хочется, чтобы мужчина бралъ отъ нея, что хочетъ и уходилъ поскор е и "чтобы на м сто его былъ другой, а за нимътретій, и чтобы это не носило характера трагедіи,
а было страстной игрой разбушевавшихся инстинк—
товъ, такъ она привыкла отъ в ка,—и когдавъ б ломъ пеплум заманивала матросовъ, и когда Клеопатрой заставляла мужчинъ сражаться предъ нею
32
за ночь любви! И тихимъ шелестомъ б лаго лотоса
падаетъ изъ міра древняго въ нашу жизнь—н жному Волод
признаніе или ложь: „я любила тебя,
мальчикъ"!
Но т времена, времена беззакатнаго солнца
Эллады, времена орфическихъ таинствъ и свободной
любви, освященный богами, въ храмахъ, прошли,
безвозвратно прошли, а^на м ст культа прекраснаго и свободнаго т ла- -узкія с ти культурной лжи,
въ которыхъ такъ см шно, такъ безсильно барахтается челов къ—животное, челов къ—рабское извращеніе врожденныхъ инстинктовъ—въ угоду морали, долга, предразсудковъ, всего, что было чуждо
тогда, въ осл пительномъ блаженств временъ, которыя прошли, невозвратно прошли! Теперь челов къ требуетъ рабства во имя любви, рабства на
всю жизнь, какъ будто можно овлад ть душой другого, рабства съ пеленками, съ кухоннымъ запахомъ, съ дрязгами, съ ненаврістью, съ отвращеньемъ, которое водворяется ыа м ст ліобви, съ неизм ннымъ торжествомъ пошлости, съ РІГОМЪ постыднымъ и тяжкимъ, какъ вся эта жизнъ!.. Все ниже,
все ниже опускаются р сницы ея на пылающія ненавистью глаза, и снова слетаетъ изъ далекихъ
временъ тихій шелестъ б лаго лотоса на тяжкій,
непонятиый бредъ зд шней любви:—„Я любила тебя,
мальчикъ ^іі-^-—
Больной, неразр шимый вопросъ затрагиваетъ
зд сь Брюсовъ. вопросъ не одного нашего времени,
вопросъ в ковъ, вопросъ о томъ, можно ли въ любви всец ло овлад ть душой другого такъ, чтобы она
ужене была чужой!.. Но вопросъ в дь остается безъ
отв та, и для женщины Брюсова вс чужіе, даже въ
33
любви! Вс чужіе, и поэтому вс одинокіе,—въ самый
великій часъ, когда кажется—два сушества^слились
въодну гармонію—чужіе, далекіе... Любовь,—это в дь
призывъ души къ тому неизв стному, котораго
ждутъ всю жизнь и который стоитъ за чериой зав сой жизни, знаешь, что только онъ одинъ—божество,
онъ одинъ—спасенье, но вс реальные люди, которые над ваютъ его маску, не онъ, не тотъ, ради
котораго рождена душа, все и вс —лишь т ни его,
лишь намеки, а онъ—только безнадежная скорбь
усталаго сердца, только мечта! И не оттого-ли Брюсовская женщина отталкиваетъ вс хъ и никому не
можетъ отдать своей жизни, что вс , которыхъ она
любила и любитъ—только т ни того единственнаго,
желаннаго и неизв стнаго, который не придетъ НРІкогда, который—мечта? Всюду ищетъ душа знакомаго лика, въ радужной см н лицъ, ласкъ и восторговъ тоску свою больную и истерзанную распииаетъ въ безсильи, пусть кружится, кружится міръ,
переломляясь во миожеств ц луемыхъ глазъ, пусть
множится и разсыпается лепестками усталыми чудный цв токъ мечты, намъ дана лишь одна реальность!.. И ч мъ сильн е, ч мъ безумн е любовь—
мечта все далыпе, все гуще туманы тоски, а вокругъ
просятся въ душу самые обыдениые, самые скучные
люди, а вокругъ все одно и то-же, изо дня въ день,
то, что было, что будетъ всегда!
И въ любви—одиночество. Но одиночество, возносящее на вершины, одиночество, распаляющее душу въ жажд
обнять и задушить въ своихъ объятьяхъ весь міръ! И убившему себя Волод , и убившбму мужа Модесту, и множеству мужчинъ, стоящихъ за ними, и земной любви—рабской и узкой,
з
34
она отв чаетъ однимъ признаніемъ: „Такой меня
создалъ Богъ или жизнь, и я хочу оставаться самсі
собой. Мн , какъ спутникъ, какъ другъ, какъ любовникъ, нуженъ челов къ, который былъ бы способенъ меня, понимать всю, отв чать на вс . запросы
моей душиР Если н тъ такого одного, мн нужно
4
Z- ДВОРІХЪ, троихъ, пятерыхъ, почемъ я знаю, сколько!
Пусть онъ, Владиміръ, усложняетъ и возвышаетъ
свою душу, пусть онъ дорастетъ до меня, пусть онъ
одол етъ меня въ поединк любви,—и я буду рада
оказаться поб жденной. Но поддаваться, или прптворяться поб жденной, я нехочу!"...
g
Итакъ, любовь—роковой поединокъ. И кто скажетъ, что въ этихъ словахъ Брюсовъ не правъ? 11
его женщина—это именно та жестокая и властная
владычица, которая сама привыкла поб ждать, но,
когда ее поб ждаетъ мужчина,—она покоряется, она
дрожитъ въ атрастной истом , она блаженствуетъ,
въ тайникахъ душрі своей—загадочной и странной,
ненавидя своего поб дителя п готовя ему злую, коварную месть! Таинственная см сь первобытной зв риности съ современностыо—соедиыяется въ ней еще
съ загадочностью сфинкса, съ развращешіостыо куртизанки, съ грубостью и деспотизмомъ древнихъ
ассирійскихъ, египетскихъ царицъ и очаровательною покорностыо т хъ рабынь-эфіопокъ, которыя въ
одномъ изъ его стихотвореній отравили свою повелителышцу! Брюсовъ любитъ подстерегать женщину
въ минуту страсти,—и эта страсть у него изображена съ какой то демонической силой, это страсть
Карамазовская, сжигающая, сверхчелов ческая, на
дн которой—преступленье, на дн которой—черная
и холодная смерть!
35
У
Я вид лъ женщину. Крнвясь отъ мукъ,
Она безстыдно открывала т ло,
И каждыіі стонъ ея былъ дикій звукъ.
Бя лицо отъ боли пос р ло,
Шла кровь изъ сдавленныхъ зубами губъ,
Съ упорной яростыо она гляд ла,
И смыслъ р чей ея былъ странно грубъ.
Когда порой ея слаб лп схватки,
Она молчала тягостно, какъ трупъ.
И посл вновь металась въ лихорадк ,
И мучась, вся вытягивалась вновь,
И, видимо, ей вс казалпсь гадки.
Въ ней все угасло—разумъ и лгобовь,
Хот лось одного: уйти отъ боли...
Пьянящпмъ запахомъ царпла кровь.
0 д вушки! 0, мотылъки на вол !
Васъ на балу звенящій вальсъ влечетъ,
Вы въ нашей жизни какъ цв ты магноліп!
Но каждая узнаетъ свой чередъ,
И, корчась, будетъ припадать на ложе,
Глаза сжимая, пскривляя ротъ...
Вс станете зв рями—тоже! тсше!
Но, какъ у Достоевскаго, реальность Брюсовскихъ
женщинъ, воплощенная въ чудесную, пластическую,
поющую упругимъ ритмомъ форму, перазлучна
съ т ми неземными, полными божественнаго безумія чертами, которыя вселяютъ въ душу и благогов ніе, и восторгъ, и идею бездонности прозрачной
и синей, какъ въ апр льскій день весенняго чуда!..
И въ т хъ кровавыхъ, часто кошмарныхъ оргіяхъ
страсти, и въ мукахъ земли, и въ мучительныхъ
надрывахъ пола,—у него все же, несмотря ыа npe^
обладаніе жгучихъ формъ т лесности, въ женщин
мы находимъ мистическій элементъ, то, что окружаетъ женщину сіяніемъ алмазно-чистымъ, пламенни-скорбнымъ, то, что Данте преобразилъ въ единую
36
мечту, то, ради чего Вертеръ бросился въ океанъ
забвенья, что у Ал. Блока приняло чудотворный ликъ
Прекрасной Дамы, то, что на язык поэтовъ, на дн
душъ, опьяненныхъ экстазомъ, въ часъ великаго
чуда всей жизни носитъ странно - звучное имя:
Беатриче!
Беатриче!... He идея, не умственная мудрость—
Софія—безстрастно философическая, н тъ, это—рыданіе, рыданіе души, увид вшей въ праздник плоти печальный конецъ, увид вшей въ ея поб д
муку невыносимую и страшиую, муку не по силамъ, муку, идущую къ Богу путями нев домымп,
въ паденіяхъ, порокахъ, въ разврат
пьяномъ, въ
позорахъ земли черной и угрюмой, повисшей въ
в чности на проклятыхъ тяжелыхъ ц пяхъ!...
Беатриче! Восторгъ и печаль безотв тной любви, когда какъ икоыу, воздвигабшь на крыльяхъ
блаженства страданье души — д тской и мудрой
безумно!... Беатриче! Въ страстныхъ вопляхъ ниспадающнхъ земныхъ одеждъ, за усталыми гранями т леснаго,—внезапный, пурпурно страстный
возгласъ „осанна!",—и вся жизнь сожжена, и багряными свитками пламени рушится въ бездну, гд
Демонъ жуткій, прекрасный, печальный мапитъ въ
подземиыя глуби незд шиихъ надеждъ!... Беатриче!
Бо тьм умиранія и терній—магическій символъ возврата къ райскимъ нап вамъ, къ преображенію дней
утомленныхъ, дней черныхъ, мрачныхъ—въ чертоги
небесъ!...
Въ той женщин , что душу художника разрываетъ когтями кровожаднаго тигра, женщин Бодлэра, Брюсовъ нашелъ свой обликъ, это она манитъ
его въ пучину страсти, это она говоритъ эти безум-
37
ныя, эти в чныя слова о любви, о б дномъ сердц
любви, принесенномъ въ жертву ей:
Онъ дышетъ мной! Я идоловъ античныхъ
Хочу собой для міра воскресить!
Вся въ золото од нусь; благовонный
Заставлю нардъ мн жечь и фиміамъ;
Въ его душ кол нопреклоненноіі
Какъ божеству себ воздвигну храмъ.
А, утомясь кощунственой забавоіі,
Я коготь свой безумцу покажу
И въ грудь вонзпвъ, со см хомъ путь кровавый
Какъ гарпія до сердца проложу.
И это сердце розовое выну,
Какъ изъ гн зда дрожащаго птенца
И на об дъ любимой кошк кіщу,
И трепетомъ упыось его конца!
Но и зд сь сказалась душа поэта, душа женственности, душа любви: эту жестокую, демоыическую женщину знаетъ Брюсовъ лишь какъ реальность земли, какъ тяжелую форму, тягот ющую надъ
жизнью художника в чной трагедіей! Но любитъ оыъ
не ее—не эту,—въ трагической маск насм шку бездушнаго т ла, которбе вдохновеніе его превращаетъ
въ храмъ, н тъ, это только маска одна, только то,
что видятъ вс
и зовутъ привычнымъ понятіемъ:
женщина земная! На самомъ же д л
онъ любитъ
другую, ту, что просв чиваетъ во многихъ лицахъ,
что им етъ много изм нчивыхъ обликовъ и вид ыій,
но в чно одна, отъ в ка едина, во множеств нап вовъ одинъ основной нап въ, въ многообразіи
страстей—одна непорочная страсть, Д ва-кумиръ,—
Бёатриче! И зд сь снова воскресаетъ странная загадка любви и женщины, ненайденный смыслъ, беззакатный св тъ, в чно лазурная молодая весна! Лю-
38
бимъ красоту земную, глаза, черты, голосъ, движенія, но откуда же эта щемящая и вм ст съ т мъ
бол зненно сладостная тоска, рождающая въ душ
смутное воспомршаніе о какой-то безумной жизни,
невозвратной, о какомъ-то невыносимомъ, но чисто
святомъ счастьи—нав ки утраченномъ, о какомъ-то
Лик чудесномъ, бездонно прекрасномъ, но уже забытомъ, забытомъ нав ки, оставившемъ только одно
томленье, только одн слезы восторга и боли, только
одну безнадежность Мечты'?!
Какъ сладостно на голосъ Красоты,
Закрывъ глаза—стремитьея въ безнадежность,
И бросііть лшзнь въ кшіящую мятежность!
Какъ сладостно стор ть въ огн мечты,
Въ безумномъ сн , гд слпты „я" п „ты",
Гд ранитъ на смерть лезвеямп н жность!
Этотъ Ликъ—неизм иный, похороненный еще
до рожденія,, но всегда воскресающій, всегда единственный и л<:еланный, является поэту во дни его
іоности, во дни весны безмятежиой и сказочной, въ
чарахъ первой любви, оставляющей сл дъ навсегда!
Я изм нилъ. но ты не изм нила,
Лишь отошла, поникнувъ головой,
Когда меня смутнла злая спла.
0, какъ я могъ пожертвовать тобоіі!
И женщин пзъ плоти и изъ кровп
Какъ предпочелъ небесньтй образъ твой!
Но лишь съ тобой мн счастье было внов .
Въ часы луны, у переп вішхъ струй,
На лояг —у палящихъ изг ловій,
Прильнувъ къ груди, вішвая поц луй,
Невольно я тебя искалъ очамп,
Тебя я жаЖдалъ!... В рь и не ревнуіі!
39
Попрежнему твой ликъ виталъ надъ снами!
Кого-бъ я ни ласкалъ, дрожа, любя,
Я счастливъ былъ лишь тайньши мечтами,—
Во вс хъ, во вс хъ лаская лишь тебя!
Быть можетъ, лгобовь,-—лишь одно воспоминаніе
объ утраченной божественности челов ка—тамъ, въ
в кахъ!? Быть можетъ, странныя предчувствія, весеннія грезы, необъяснимыя чары, боль отъ тоски и
жажда тоски—лишь повторенія образовъ утраченнаго рая въ круговорот временъ? И быть можетъ Она
живетъ въ душ и, когда засыпаетъ сознаніе,—дышетъ въ лицо ароматомъ т хъ странныхъ, забытыхъ
цв товъ, что сорвала жел знаЯ рука пошлой и постылой жизни?... И бываютъ странныя встр чи, жуткія встр чи, когда міръ вдругъ просв чиваетъ неземною далыо, и б лыя крылья души рвутся въ эти
дали, и просятъ возврата, и просятъ забвенья, отдыха, конца, лишь бы вернулось хоть на мигъ одинъ
то таинственное и жуткое бытіе въ мірахъ нев д о
маго царства, на блаженной, на невозвратной земл !
Блпзъ медлительнаго Нила, тамъ, гд озеро Мерида
въ царств пламеннаго Ра,
Ты давио меня любпла, какъ Озііриса Изида, другъ,
царица и сестра!
И клонила шірампда т нь ыа наши вечера.
Вспомни тайну первой встр чи, день, когда во храм
пляски увлекли насъ въ темный кругъ,
Часъ, когда погасли св чи, и когда, какъ въ странной
сказк , каждый каждому былъ другъ,
Наши р чи, наши ласки, счастье, вспыхнувшее вдругъ!
Разв
ты, въ сіяньи бала, легкій станъ склонивъ мн
въ руки, черезъ зав су временъ,
He разслышала кимвала, не постигла гилгновъ звуки
и толпы отв тный стонъ?
He сказала, что разлукн—конченъ, конченъ долгій сонъ!
40
Наше ечастье—прежде было, наша страсть— воспоминанье, наша жизнь—не въ первый разъ,
И за времениой могилой, неугаспіія желанья съ прежией
силой дышатъ въ насъ,
Какъ близъ Нпла, въ часъ свпданья, въ роковой н
краткій часъ!
Онъ пщетъ ее всюду, какъ ищутъ чуда, средь
пьяныхъ ласкъ жизни, средь пожаровъ страстей.
Она нав ваетъ глубокіе сны и ледяной, неподвижной втирушей проникаетъ къ нему, и даритъ мертвый ужасъ такихъ необычпыхъ, такихъ страшныхъ
ласкъ, что посл
этого онъ чуждъ вс мъ женщинамъ земиымъ. А вотъ, на улиц , сойдя съ конки,
въ стальномъ вихр уличпой суеты она сііова идетъ
къ нему навстр чу, опьяняя безумнымъ восторгомъ,
какъ и тогда, на балу. Царица неземная въ форм земной, преходящей, спова приходитъ зат мъ, чтобывлить
ядъ тоски неизл чимой, надолго, до повой встр чи съ
нею—единственной—Прекрасною Д вой—Беатриче!
Съ конки сошла она шагомъ богіши
(Лплія б лая, взросшая въ тин )
Долго смотр лъ я на правпльность лнній
Молодого лпца.
Сумракъ холодный лежалъ безъ конца,
Небеса были зв здны и синн.
Она подняла накпдку на плечи.
Я оскорбить не осм лился встр чи,
Были ненужны и тягостны р чи
Зд сь на земл !
Контуръ ея затерялся во мгл .
Гор ли кругомъ погребальныя св чи.
Да! Я провид лъ тебя въ багрянпц ,
Въ золотой діадем ... Надменной Царицеп
Ты справляла тріумфъ въ покоренной столиц ...
41
Чу! Крики безчисленныхъ устъ!
Н тъ, тротуаръ озареныый безмолвенъ и пустъ,
Лишь фонарп уб гаютъ впередъ вереницей.
Такова любовь: круговоротъ мучительныхъ исканій чуда въ линіяхъ померкшихъ, въ формахь
усталыхъ, въ тяжкомъ дыму чадной, надрывающей
душу тоски! И счастливъ тотъ, кто въ этой жизни
поэтъ: онъ можетъ творить чудеса, и даже ту тоску,
отъ которой задыхаются люди, отъ которой сходятъ
съ ума, поэтъ можетъ облечь въ серебристыя одежды мечты своей—прекрасной и чз^дной! Это мечта
о невозможномъ, о можетъ быть навсегда закрытыхъ царскихъ вратахъ безумно желаннаго алтаря,
за которыми стоитъ чудо! И если даже н тъ его, a
есть лишь одна о немъ молитва, то разв
не прекрасна она, разв тотъ восторгъ, который въ ней—
можетъ съ ч мъ либо сравниться? Разв слова ея—
слова грусти и наслажденья грустью,—не покоряютъ
душу в чнымъ своимъ смысломъ, смысломъ святой
и великой любви:
Царица думъ и вс хъ желаній! Ты
He явпшь лика. Взоровъ безмятежность
Мн не покажешь. Ты не примешь н жность
Моихъ усталыхъ губъ. Ты „безнадежность"
Дашь мн девизомъ. Тайну Красоты
Дано мн знать ЛІШІЬ въ призрак мечты...
И буду я надъ пропастыо мечты
Стоять, склоняясь, повторяя: „ты?"
Любуясь ликомъ в щей красоты.
И пусть звучитъ въ моихъ стпхахъ мятежность!
Тамъ вся любовь, вся страсть моя, всян жность,—
Но ихъ, см ясь, в нчаетъ Безнадеяшость.
III.
Всякій узнаетъ, что онъ смертенъ весь,
безъ воскрес нія, и прим тъ смерть гордо
и спокойно, какъ богъ. Онъ тъ гордости
пойметъ, что ему яечего роптать за то,
что жизнь есть мгновенье, и возлюбитъ
брата своего уже безъ всякой мзды. Любовь будетъ удовлетворять лишь мгновенію жизни, но одно уже сознаніе ея мгновенности усилитъ огоць ея настолько, насколько прежде расплывалась она въ ушіваніяхъ на любовь загробную и безконечыую.
Достоевскій.
И крикъ восторга въ небо кпнетъ
Моя сожженная душа!
Валерій Врюсовъ.
Можно любить жйзнь, какъ самую сущность, или
какъ форму, можно любить жизнь и съ людьми и безъ
людей, хотя съ людьми—безконечно трудно, иыогда
, иевозможно!... Жизнь отвлеченную отъ людей, жизыь
какъ идею, но идею такъ сказать, т лесно воплопі;енную, осязательную,—Достоевскій поиялъ можетъ
Оыть какъ никто—глубоко и кровыо, и когда открылась
предъ нимъ страшная глубина ея,—она, только она
и опьянила и отравила его, а люди, а все ви шнее,
ненужное, преходящее,—отступило на второй планъ,
людей и д йствительность онъ былъ въ силахъ пре, обрязить, создать по своему подобію, сд лать таки-
43
ми, какими они были ему нужны, ибо онъ былъ великій творецъ!.., Это не значитъ, однако, что онъ
игнорировалъ эту вн шшоіо челов ческую жизнь,
или, какъ многіе, носящіе названіе поэтовъ,—проходилъ мимо нея съ гордымъ видомъ миршаго поб дителя,—н тъ, эта-то ви шняя, ежедневная, челов ческая лшзнь и истерзала и истомила, и иадорвала
(то душу, изъ этого-то страдаиья онъ и прріготовплъ
себ ОПЬЯІІЯІОШ;ІЙ ядъ преобраоюаюгцаго творчества!
X Кто ищетъ смысла жизни, тотъ можеіч^ запутаться,
^
ІІ
ОольшГи овз^мип :-ініі тн. і к<'.я,_'?С5акъ ЛТЯЧПРТ^^ ряппутывать то, что ітапуталосъ въ УТОМЪ пскаіііп. то тутъ
уже, если оиъ захочетъ быть справедливьтмъ и искроііiniM'b до ііопца,—пе миіювать сумасшолшаго дома, п .
иа нто ухлопывается не одна жизнь, оооёеншЬ тктшь
русской души, русской по цреимущессвуі Жизнь До- ^
стоевскаго была необычайно міюгообразна, не было
челов ка. который бы прошелъ сквозь такое множество ..
самыхъ противоположныхъ, самыхъ разыообразныхъ
между собой переживаній! Но въ то время, когда z4
онъ искалъ этого смысла, этого таішственнаго неизв стнаго русской души, въ результат рождались дв
. одинаково ядовитыя и одинаково убійствеіпіыя идеп: [
пдея проклятія и идед.Бога!... Искаыіе и искательство
могутъ въ конечномъ счет давать только эти никому
ненужиые и во всякомъ случа ,—доволыю плачевиые
результаты! Но въ промежуткахъ между этими переживаніями, а иногда въ течеиіе ц лыхъ періодовъ
жизни Достоевскій просто и пепосредственно при- /
иималъ самоё жизнь, какъ таковую, принималъ
инстинктъ, принималъ любовь, принималъ жеиственность, какъ основной иервъ сущаго, какъ томительную и таинственную душу міра,—и вотъ тогда-
44
то въ его творчеств появлялпсь самые роскошные,
самые жизненные ростки, изъ которыхъ удалось ему
создать подъ конецъ,—пышный и жгучій букетъ въ
„Братьяхъ Карамазовыхъ"! Въ этомъ, я бы не сказалъ припятіи жизни, а ея ощущеніи и воспріятіп,
не было ничего предвзятаго, ничего догматическаго,
все это свершалось посредствомъ дара интуиціи и
иитуиціи геніальной, вотъ отчего картина жизни шэ
была только картиной, a—психологической симфо- •
иіей вселенной, въ которой можпо найти больше поучительнаго и любопытнаго, ч мъ это кажется на
самомъ д л !...
И кто знаетъ, можетъ быть, въ этой именно мук •
жизни, въ этомъ геніальномъ пронпкновеніи къ самымъ
сокровеннымъ, къ самымъ основнымъ источникамъ
бытія. въ этихъ полубредовыхъ, полукошмарныхъ
пережпваніяхъ въ сфер любви, страсти, похоти п
гр ха,—Достоевскій, безсознательно, ощупыо находилъ какой-то высшій смыслъ, какое-то новое метафизическое оправданіе міра, только на этотъ разъ
это не была польза отъ вновь найденныхъ истинъ,
это было что-то далеко стоящее отъ всякой пользы,
какова бы она ни была -жизнеішая, или философская, это было н что псвысказанное и вм ст съ
т мъ драгоц нпое до бол зненности,—^быть можетъкрасота, быть можетъ—иовоявлешюе чудо земли!... .4
*• Явленіе характерное и мало изв стное профессіональнымъ философамъ: ч мъ меньше мучаешься /і
надъ загадками жизни, ч мъ меныпе думаешь, a
больше живешь. болыпе переживаешь, больше любишь и болыпе страдаешь, т мъ ясн е и глубже иа
\
чинаешь понимать самоё жизнь!!... Икакими безсильными и см шными тогда кажутся вс въ пот лица .
45
изготовленныя системы, теоріи и догматы, какимъ
ненужнымъ и жалкимъ кажется этотъ „умственный",
жптейскій и философскій грузъ, который земля въ
безконечномъ круженіи своемъ испепеляетъ въ прахъ,
іісчезаіощій въ в чности! Ч мъ больше напрягаетъ
мелов къ свой узкій мозгъ, выжимая изъ него несчастныя крупицы истинъ, которыя давно ужъ были,
давно изношены, давно истл ли, т мъ болыпе онъ
песчастенъ въ своей самоув ренности! А вотъ предъ
нимъ стоитъ сама загадочная и въ глубин глубинъ •
все же прекрасная жизнь, и манитъ въ неизв данІІЫЯ чертоги, въ непі)оходимыя д вственныя свои
чащи! И все равно—проклинаетъ ли ее челов къ,
или осмысливаетъ, или освятцаетъ, она все такъ же
загадочна, все такъ же безотв тна, все такъ же мучительно и жестоко прекраспа!... И вотъ въ н драхъ
ея стоятъ неподвижііо какъ сфиыксы, т три загадкіг,
мимо которыхъ не въ силахъ пройти ииодинъ челов къ,
т три зав тныя и свящеиныя тайны, предъ которыми въ ужас трепещетъ душа: любовь, г^ хъ,
престушіеніе!
^^^'
Полная біографія Достоевскаго—д ло будущаго.
Она кое-что покажетъ, кое-что разъяснитъ, во всякомъ случа это будетъ довольно непріятиый сюрпризъ вс мъ любящимъ добро, вс мъ „ИСТІІННЫМЪ
христіанамъ". Но мн кажется, что такой біографіей
иногда можетъ быть и самое творчество писателя,
его книги и то, что въ нихъ... А Достоевскій въ
книгахъ своихъ воплотился весь, болыпе, ч мъ какой либо другой писателъ, в дь книги эти—это его
жизнь, его сокровенная тайна, его плоть и кровь,
вотъ отчего он такъ потрясаютъ, вотъ отчего глубина ихъ неизм рима и ц нность ихъ в чна!
40
To, что теперь зовутъ „карамазовщиной",—это можетъ-быть самая богатая сторона жизни и творчества
Достоевскаго, во всякомъ случа , сторона еще мало
ося щенная и мало изв стная! To, что сконцентрировалось въ братьяхъ Карамазовыхъ и ихъ отц ,мучило Достоевскаго всю л^изнь, мучило не меныпе,
ч мъ Богъ!
Что ято было?—сказать нельзя, или в рн е нельзя
сказать, не опошливъ, не исказивъ того, что не поддается точному опред ленію, что есть, можетъ быть,
сама жизнь, сама ея дымящаяся внутренность! Но
д ло-то вовсе и не въ опред леніи... Зд сь ц лое
море самыхъ многообразныхъ переживаній, зд сь лабиринтъ безъ выхода, зд сь жуткая чаща изв чпыхъ тайнъ—непроходимая! Достоевскому было дано "
откровеніе, что „красота лііръ спасетъ", это откровеніе таилось внутри „карамазовщины", оно было
подземнымъ динамитомъ, повлекшимъ за собой бурные потоки горячей лавы, сжигающей своимъ паляіцимъ жаромъ весь этотъ міръ, міръ души одинокой
и вн жизненной, потом что познавшей жизнь слишкомъ по божественному, а не по челов ческп!
Да, это красота! - - думаешь, созерцая созданные Достоевскимъ образы, какъ наприм ръ образы
Настасьи Филипповны, Грушеньки,—но сколько въ
пей муки, сколько трагическаго! Что-то неукладывающееся въ рамки обыденщины, что-то истинно богочелов ческое, что-то истинно религіозное прошло
сквозь эту красоту и возвысило ее до какихъ-то застывшихъ въ в чности символовъ!... (Вдумываясь въ
психологііо этихъ лицъ, всматриваясь въ ихъ поражающія черты, невольно приходишь къ мысли, что
можетъ быть въ нихъ воплотился крикъ д ши ху-
47
дожника, но крикъ не челов ческій, крикъ обезум вшаго восторга, что эти лица впитали въ
себя его кровь, его душу, его любовь, что этотъ
надрывъ влюбленности далъ имъ какую-то в чную
жизнь, и что всл дствіе этого они перестали быть
людьми, а сд лались неумирающими символами красоты, той красоты, о которой зналъ одинъ лишь Достоевскій и которая стаду такъ называемыхъ „здоровыхъ" людей вовсе и непонятна! Чары жешцины,
женской красоты, чары в чной женственности, разлитыя среди молчанія земли какъ упоителышй хмель,—
это была мука Достоевскаго, но мука самая сладостная и самая творческая, изъ этой муки онъ приготовилъ себ упоительное зелье, въ ней онъ прозр лъ
ту пропасть, что на дн своемъ таитъ великую таинственную радость!
Изъ-за этой красоты Достоевскій заставляетъ
мучиться такихъ прямо другъ другу противоположныхъ людей, какъ едоръ Павловичъ и Иванъ Карамазовы, какъ Свидригайловъ и князь Мышкинъ,
какъ Ставрогинъ и Алеша Карамазовъ, мало того,
ради этой красоты онъ готовъ принести жертву. ибо
любовь его есть жертва, ибо любовь его таптъ въ
себ гибель!...
\Все для любви, ибо все—любовь,—это зііалъ не
одинъ Димитрій Карамазовъ, это было в домо
и самому Достоевскому, каждыіі созданиый имъ
женскій образъ—это приступъ такой любви, и любвп
не столько къ самому этому образу, сколько къ той
мук , которая окруя^аетъ его, къ т мъ переживаніямъ, которыя связаны съ нимъ! Ибо мука эта
огромна, ибо переживанія этп образуютъ новый міръ,
недоступный взорамъ людей!... Вотъ, около Грушень-
48
•
ки,—простой д вушки съ румянымъ русскимъ лпцомъ, вокругъ образа, можетъ быть абстрактной идеи,
можетъ быть только мечты,—создается ц лая трагедія, убійство, смердяковщина, ц лая уголовщина,
и все это на мой взглядъ, вовсе не оттого, что у
нея много инфернальнаго, а отх.ого, что пригрезившійся въ мечтахъ ликъ невидимый и страшный
своею красотой, вызвалъ надрывъ. вызвалъ молитву,
вызвалъ восторгъ въ душ ,—и вотъ и земля, и
предметы, п люди иаряжаются въ одежды. в домыя
только одному ихъ творцу, и вотъ д йствительность
преображается въ коіпмарное царство пріізраковъ,
сиовъ іі вид ній, д йствителыюсть какъ бы перестаетъ быть реалыюй, ибо кто вид лъ такихъ людей, которые у Достоевскаго? Кто вид лъ такихъ
женщішъ?.. Все это далеко отъ д йствительности,
все это по времепамъ кажется романтнкой, все это
вн -жизнеипо, потому что символично, ибо Достоевскій въ тво])честв своемъ болыпе визіоперъ, боль•Уше пророкъ, ч мъ худонгникъ-реалистъ! „Страшно
много тайнъ!—говоритъ Дмнтрій Карамазовъ Алеш ,—слишкомъ много загадокъ угнетаютъ на земл
челов ка. Разгадывай какъ знаешь и выл зай сухъ
изъ воды! Красота! Перенести я притомъ не могу, что
ІІНОЙ, высшій даже сердцемъ челов къ и съ умомъ вы
сокимъ, начинаетъ съ идеала Мадоины, а коичаетъ
идеаломъ Содомскимъ! Еще страшн е кто уже съ
идеаломъ Содомскимъ въ душ не отрицаетъ и идеалы Мадонны, и горитъ отъ него сердце его, и воистшіу, воистину горитъ, какъ и въ юиые безпороч^ные годы!"...
^
Вотъ въ этихъ то словахъ вся трагедія любви! И не только любви, а.ц лой жизни! Ибо изъ за нея
49
погибъ ые одинъ Митя, а также такой, казалось бы,
испорченный и истл вшій челов къ, какимъ является Карамазовъ-отецъ! Испорченность его прямо таки каррикатурна, развращенность его слишкомъ ужъ
сгущенна, но въ этой то сгущенности заключается
и что такое, что заставляетъ думать, что можетъ
быть, этотъ, вс ми презираемый челов къ, есть самый полножизненный челов къ, ибо никто, мол«етъ
быть, не возлюбилъ такъ жизнь, какъ едоръ Павловичъ, возлюбилъ до ужаса, до пресыві;енья, до какого то неутолимаго голода, не меныпе возлюбилъ,
ч мъ самъ Достоевскій...
„Сладострастье—буря, болыпе бури—восклицаетъ
Достоевскій устами Мити,—Jfpacom,a—это страшная
и уоісасная вещь! Страшная, потому что неопред лимая, и опред лить нельзя, потому что Богъ задалііі
одн загадки. Тутъ берега сходятся, тутъ вс npoijl
тивор чія влтст живутъ!".
'*
Посмотрите, что эта буря сд лала съ Дмптріемъ, — и вы поймете всю глубокость этихъ
. словъ. Но не меныпе Дмптрія мучился, переживая эту бурю и Достоевскій. И въ этомъ бурномъ, стихійномъ пере киваніи, въ этихъ сладострастныхъ до ужаса, до. изступленія восторгах7>.
въ^томъ пантеистическомъ вознесеніи до пебесъ
челов ческой прпроды, слышится что-то ужъ сліппкомъ торжественное, какъ бы литургійное, ибо
зд сь челов къ всего себя отдаетъ въ жертву, съ
высоты бросается въ пропасть бездониуіо, въ душ
свовй раздуваетъ пламя, и вся жизиь горитъ, вся
жизнь въ вихр безумія, въ лихорадочномъ упоеніи
уносится сквозь земное въ высоту безм рную!..
Страсть—это стихія, которой покоряется вся вселен4
50
ная, страсть—это единственное оставшееся на сгнивгаей земл насл діе чудесныхъ и сказочныхъ врем нъ, это сила, двигающая горами и превращающая
въ жалкія щепки рахитичное зданіе культуры,
страсть это отрава, прошікающая въ душу челов ка
п д лающая его безстрашнымъ, обезум вшимъ, иногда преступнымъ! Страсть разрушаетъ и сжигаетъ все вокругъ, кошмарнымъ огнемъ бреда озаряетъ мрачные своды житейской тюрьмы, вселяетъ
палящій вихрь разнообразныхъ чувствъ въ существо
челов ка, отъ проклятья ведетъ къ восхваленію, къ
восторгу, къ тому забвенному, истомленному состоянію молитвы, которое въ силахъ былъ выразить
одинъ лишь Вагнеръ въ своемъ „Лоэнгрин "... И
кто охваченъ ею, кто любитъ, для кого любовь и безуміе—одно, тотъ, иезам тно для самого себя, совершаетъ чудеса въ этой жизни, ибо для него уже не
существуетъ ни граиицъ, ни рамокъ, ни условностей,
ни запрета, ни догматовъ, онъ самъ, по своей вол , внутрентіёіРсшгой^свбей раздвигаетъ все это, разбпваетъ въ дребезги, уничтожаетъ все, онъ какъ богъ
творитъ для себя новую землю, на него сходитъ затменіе, блаженное затменіе, въ которомъ исчезаютъ, умираютъ вс ліоди, вс Челов ческія отношенія, весь
жизненыый механизмъ, онъ какъ ясновидящій проходитъ сквозь адскій ужасъ жизни, не зам чая его, онъ
какъ загипнотизироваыиый,—не видитъ и не слышитъ
вокругъ ничего, кром своей любви, для него вся
жизнь—гор ніе, пламень, восторгъ, для него вс
дни—лишь ступени къ тому алтарю, гд видн ется
измучившій всю душу божественный ликъ! Пусть
все это лишь призракъ одинъ, пусть бол знь, пусть
самогипнозъ, но счастье въ томъ, что онъ живетъ
51
полной жизнью, что онъ не чувствуетъ ни скуки,
ни с рой тоски, ни угнетеняости будней, что онъ
творитъ изъ себя, творитъ что то огромное, необъятное, безумное, что какую то дикую и ликующую
п снь поетъ душа его,—и онъ поетъ, надрываясь,—
весь какъ изступленный, весъ какъ грозный и пламенный богъ!
Пусть сторонится жизнь,—поетъ душа Дмитрія,—
пусть трепещутъ люди,—любовъ идетъ въ міръ! Любовь идетъ въ пышныхъ царственныхъ одеждахъ, п
херувимскимъ св томъ озаренъ ея отрашный ликъ, и
власть ея безм рна, и сила ея выше вс хъ силъ земли!
Молчалнво склоняются предъ нею вс , вс безсильны
передъ нею и вс любятъ ее тревояшою и рабскою
любовью! Она опьяняетъ такими чарами, которыя
остаются надолго, тя^келымъ бредомъ остаются въ
душ , опа преобралсаетъ темное, жалкое, низкое существо челов ка, до бсшества, до челов кобога она
возноситъ его, она поб ждаетъ самое страшное въ
жизни—смерть, ибо для того, кто любитъ—н тъ смерти,
онъ не чувствуетъ ея, онъ не можетъ ея чувствовать,
потому что огонь его сжигаетъ всякій мракъ и всякое
умираніе, потому что любовь сильн е смерти и значитъ сильн е всего!..
Ліабовь—это причудливо н жныіі цв ток?. папоротника, который цв тетъ въ - -томную ночь жизни
и цв тетъ Лиіпь одно мгновенье... Одно мгновенье,
и въ мгновеньи этомъ ц лая жизнь, ц лая мука,
ц лая красота, это мгновенье можетъ быть по
сил своей какъ в чность, но оно исчезаетъ въ
темнойнбчи ыавсегда, оно невозвратно, и потому
такъ драгоц нно,—оно невозвратно, но оно оставляетъ
въ душ
тяжкій и мучительно-сладостный сл дъ
52
• навсегда!.. Какъ часто бываетъ любовь одной лишь
молитвой, однимъ лишь мучительнымъ неудовлетвореннымъ желаніемъ, и тогда она прекрасна,
она до того прекрасна, что съ нею легко умереть.
/ Это любовь Вертера, любовь идущая въ в чность и
загадочная и священная,—в чностью манящая изъ
глубршы глубинъ! Но еще чаще любовь—это ядовитый цв токъ гр ха, это нев домая красота преступленья, соединяющая въ себ вс пороки міра, всю
ёго извращенность, апо еозъ сладострастья ради самого сладострастья, какое то бол зненное желаніе
выпить для утоленія своей нечелов ческой л^ажды
всю богатую многообразіемъ ощущепій чашу жизни,
выпить до самаго дна! Такую любовь зналъ Достоевскій, о такой любви говоритъ онъ устами Мити
Карамазова: „Что уму представляется позоромъ, то
сердцу сплошь красотой. Въ Содом ли Красота?
В рьТ^что^Твъ- С дом -то она и сидитъ для огромнаго болыпипства людей,—зналъ ты эту тайну иль
н тъ? Ужасно то, что красота есть не_только
страшная, но и таинственная вещь. Тутъ дьяволъ
съ Богомъ борется, а поле битвы—сердца людей!"../
^ Искать смысла въ жизни—многотрудное занятіе,
всякій смыслъ будетъ лишь созданіемъ нашего мозга,
а жизнь... жизнь останется безсмысленной, какъ была,
какъ есть, какъ будетъ. Гораздо важн е найти забвенье, хотя бы для того, чтобы хоть на минуту почувствовать себя свободнымъ! Но кто узналъ отраву
Красоты, кто узналъ любовь,—тотъ см ется надъ
всякимъ смысломъ, въ голов у него все пошло кругомъ, въ душ у него бушуетъ ц лый адъ!...
Жизнь челов ческая — это одно непрерывное
распятье, одна с рая однообразная тоска, одна без-
53
надежность, а кто созналъ это, тотъ ищетъ спасенья
всюду, тотъ самъ создастъ изъ себя пожаръ и безуміе,
ибо одна лишь жертва, одно лишь всесожженіе спасаютъ отъ тоски! Въ страшныхъ мукахъ носитъ челов къ по земл свою отяжел вшую душу, но пора и
отдохнуть, но кто не зналъ, что такое восторгъ,
тотъ не челов къ, а мученикъ, но довольно уже на
земл мучениковъ, с рая, пыльная тоска ложится
на душу отъ ихъ в чнаго и, главное, ненужнаго,
никому ненужнаго,—страданья! He мертвый покой,
не забвенье измученныхъ мертвецовъ нужно принять,
нужно принять красоту полной жизни, красоту любви, красоту безумнаго счастья, такого счастья, котпрое д лаетъ людей богами, вкусившими отъ древа
жизни и въ ббзуміи своемъ познавшими добро и зло!..
Если мучаетъ тайна, то не дрожать предъ ыею надо,
в чпая дрожь надо ла, нужно сорвать съ нея вс покровы, вс одежды, вс обмаычивыя и мпшурныя
украшенья, и впиться въ наготу ея жадными поц луями, упиться ею до пресыщепности, въ обладаніи
оті рывшейся тайной вкусить страшный ядъ, ядъ разрушающій мозгъ и всякое' сознаніе, ядъ разверзаюіціи
багряныя бездпы въ душ !
Карамазовы вовсе й не думаютъ о смысл жизііп,
они закружплись, въ дикой, безумной, выпіибаіощей
вс силы пляск закружились около женщины,—оиа
отравила воздухъ вокругъ сладкимъ блаженствомъ,
жгучимъ желаніемъ, пьяиымъ восторгомъ, она электрической силой пронзила т ла и зажгла кровь б шеиствомъ сладострастья,—какъ они кружатся, извиваются, точно де моны въ преисподней, они не знаютъ
покоя, но зато они знаютъ, что такое-жизнь!... И
тольки они одші... Пусть см-Ьются фплософы п мулрг-
54
цы, копошась надъ мертвою падалыо истины, которая давно умерла и которой н тъ, они не знаютъ
восторга, ие знаютъ радостей, а зд сь у Карамазовыхъ свершается пиръ лшзпи, бушующій, дикій,
страстиый шір,ъ,^во имя Красоты,—и только зд сь
зиаютъ, что такое упоеыіе, и только зд сь знаютъ,
какова должиа быть жпзнь!... Ибо если все—суета,
п все сгніетъ, а это знаютъ пе только Карамазовы,
это прекрасио в даютъ и вс мудрые міра сего,—то
\j пусть сгоритъ въ одиой б шеиоп оргій вся жгізііь\Ліусть
псе существо преобі)азіітся въ одиыъ сплошіюй ликуюіцій гимнъ въ честь красоты, пусть вс минуты и вс
дни, и вс слезы, и вс надежды, п вс бродящія силы
см шаются въ одыу стііхіпиую бурю, п пусть она
пройдетъ итъ одиого края земли до другого, опустошая п сжигая все, пбо божественное чудо по-!
знается лишь въ бур и въ страстп!
N
Надъ умирающей землей, вокругъ костра любви,
поется литургііческій гпмыъ Тангейзера Веііеі) , гимнъ
души охвачеішой пожаромъ страсти, пусть умираетъ
. земля, пусть умираютъ люди,—радость любви настаетъ, радость преображенія, радость безумія!
„Ахъ Алеша, жаль, что ты до восторга пе доду^іывался!"—говоритъ Дмитрій брату, это онъ открываетъ ему чуледый міръ. Въ этомъ восторг чадпое
что-то, нездоровое, — слишкомъ болыюй, слишкомъ
ужъ жизненный этотъ восторгъ, но в дь челов къ
горитъ одпігь лпіпь |)азъ въ жпзгіп, слиіпкомъ
боптся пепла челов къ, й все раздуваетъ пламя
свое, раздуваетъ б шенно, словно желая собственнымъ восторгомъ вышибпть изъ мозга своего идею
коица!... Но бываютъ минуты, когда въ этомъ урагап любовыаго похмелья совершенно утрачивается
55
не только сознаніе конца и гибели, но вообще всякое
сознаніе, вотъ тогда-то иаступаетъ полное блаженство!*В дь вліобленный челов къ это по прершуществу пьяиый челов къ, въ этомъ все счастье любви!
И пусть боится онъ отрезвленія, воистину, оно въ
тысячу разъ ужасн е смерти! И пусть не ищетъ онъ
дна въ обладаніи, чаото дио это ощущается раньше
временп!... И пусть остерегается онъ самоанализа, | /
пбо кто философствуетъ, любя, тотъ не любитъ! Тайну .
единствениую сохранили людп, еще философія и
иаука поіцадили ее, не умертвили еще, но, можетъ
быть, любовь силыі е всякой науіш и всякой философіи, можетъ быть она выше всякой жизни, ибо
таитъ въ себ жизнь вознесшуюся до самыхъ небесъ!.. т
Безумыый бредъ, жестокое томленіе, вулканическое кип ніе страстей испытываетъ влюбленный
Дмитрій, о, можгю сказать положа руку на сердце,
что въ такомъ состояніи онъ ни мало не заботптся V
о томъ, есть ли истина и нужиа ли она, им етъ лп
жизыь смыслъ или н тъ, онъ такъ далекъ отъ этого,
для него никакихъ вопросовъ не существуетъ, онъ л
весь охваченъ безуміемъ свонмъ, и пусть знаютъ
несчастпые мученики истииы, что онъ переживаетъ
и ощущаетъ н что такое, о чемъ не снилось имъ
никогда, что онъ бродитъ надъ такими безднамп,
что сердце содрогается въ ужас , глядя внизъ, что
въ своемъ экстаз онъ приближается къ такимъ
тайнамъ и къ такимъ загадкамъ, которьш никогда,
никогда не откроются челов ческому познанію и в чпо
будутъ представлять изъ себя недостижимое, неразгадаиное, что оиъ на путяхъ своихъ проходитъ сквозь
такую муку, которая способиа убить, но никогда ие
можетъ пощадить челов ка, и мука эта—это драго-
56
ц нііый алмазъ, несознанное чудо этой жизии, и
пусть ыикто не стремится разгадать ее, или объясішть челов ческими. словамрі, она безпощадна и
нерушпма, какъ в чный и грозный сфинксъ надъ
пустынею уходящихъ в ковъ!
/-Зачастую гибелыіа эта мука, но кто гибиетъ любя,
тотъ пережилъ самое святое изъ всего, что есть
въ жизни! Любовь его безпоіцадиа п гибелыіа
п какъ хищиый зв рь выпиваетъ изъ него по
капл всю ЖІІЗНЬ и вс силы, по съ каждой раной
восторгъ все силн е, но съ каждою новою мукой всс
ярче озаряются св томъ; экстаза измучениыя черты!
Что таков красота? Этотъ основной вопросъ эстетикн тысячу разъ пережевывался профессіональнымп эстетами, но что осталось отъ ихъ' объяснеиін
и споровъ, но вылилась ли хоть въ одномъ изъ
нихъ сущность красоты? А вотъ Дмитрій Карамазовъ—челов къ малообразованный, малокультурныГі
и, можетъ быть, потому ум ющій всею душою, вс мъ
существомъ своимъ отдаваться своимъ пережива- •
ніямъ, этотъ челов къ не даетъ себ отчета, что
такое красота, а между т мъ онъ ее прекрасно понимаетъ, онъ склоняется предъ нею съ благогов ніемъ... И онъ въ глубин глубинъ знаетъ больше,
ч мъ эстеты, что такое красота... Ибо только безумно
влюблеытіые въ Красоту постигли всю ея глубину...
И они хранятъ молчаыье. и они носятъ въ душ
своей н кую великую тайну, и они живутъ этой
тайной... Дмитрія осл пила красота, онъ весь отдался
служеиію ей, онъ готовъ отдать за нее всю свою
жизнь, но разв
опъ въ силахъ постичь, почему
именно въ Грушеньк воплотплась она, почему въ
ея т л воскресла мечта всей Жизни, почему именно
57
въ этомъ^^инфернальномъ изгиб " затаился божествениый ядъ, отравившій всю душу, вс мысли, всю
жизнь?... И кто скажетъ, кто отв титъ—почему?... To,
что въ челов к кажется обыкновеннымъ, мимо чего •
равнодушію проходятъ толпы людей, можетъ поразить, можетъ обезсил ть, можетъ замучить и довести до безумія, до преступленія, до святотатствеинаго кощунства!... И сколько бы ни писалось эстетическихъ трактовъ, объяснить причину этого явлеиія невозмолшо, оыо выше челов ческаго пониманія,
оно загадочно и таинственно, и именно всл дствіе
этого им етъ такую огромную ц ну!... Кто знаетъ,
можетъ быть, въ одиомъ созерцаніи красоты, въ
одномъ восторг предъ нею таится ц лая бездна
лубоко-религіозныхъ пережііваиій, а разв это не
можетъ освятить челов ка, разв это не въ силахъ
освятить всю жизнь и сд лать изъ нея одинъ величественный храмъ, храмъ этому нев домому и в чпо _
живому, в чно могущественному божеству? Въ томъ
то гі трагедія любви, что сущность красоты нав ки
закрыта для взоровъ людскихъ и, значитъ, застраховаиа отъ пошлости, что глубина ея бездонна,—и никакое обладаиіе, никакая жертва не смогутъ исчерпать
ея, разгадать загадку,—вотъ почему красота подобна
злов щему очарованію улыбки Джіоконды, такъ много
об щающей, но ничего, кром муки, не дающей въ
отв тъ! Волшебныя чары таятся въ Грушеньк , но "—•
Дмитрія он только все болыпе и болыпе опьяняютъ,
жгучія жала впиваются въ душу его, а она сладко
см ется и все кружитъ въ безконечномъ лабирипт
страданья, и все манитъ, словно русалка, въ глухія
чащи безумія—все далыпе, всеглубже, туда, гд .то „чт1*
уму кажется позоромъ, то сердцу—сплошь красотой!"Г.. ,
58
.
~-
^
„Я говорю теб : изгибъ. У Грушеньки, шельмы, /
есть такой одинъ изгибъ т ла, онъ и на ножк^
у нея отразился, даже въ пальчик -мизинчик на
л вой ножк отозвался... Вид лъ, ц ловалъ, но и
только—клянусь!"...
Въ этомъ брошенномъ вскользь Митиномъ признаніи, іможетъ быть, заключается вся сущность, вся
трагедія его любви!.. И въ самомъ д л , одинъ какой нибудь такой изгибъ, одно движеніе, одинъ взглядъ,
и вся душа горитъ, и все кругомъ провалилось въ
бездну, и въ глубоко^гь молчанірі притаившагося къ
б шеному прыжку челов ка-зв ря только слышио,
какъ шумитъ море обезум вшей, кипящей крови!..
V
Это грозитъ гибелью, или оргіей, похожею на гибель,
оргіей, въ которую превоплотится вся жизнь, но страшно именно то, что зд сь челов къ безсиленъ, что
сильн е челов ка, сильн е разума именно этотъ пожаръ, этотъ палящій, проклятый надрывъ челов ческой природы, эта безумная страсть, сила которой
творитъ все новые и иовые міры, какъ въ заколдо.•ванной сказк , и міры исчезаютъ въ пожар , и
/клубится въ чадномъ дыму всесожжеиія вся вселенная, и вотъ челов къ какъ богъ, и ему уже
\все позволено, и для него уже не существуетъ ни.
преградъ, ни законовъ, ни общественныхъ столповъ,
пбо онъ любитъ, это любовь сд лала его такимъ
свободнымъ, такимъ безстрашнымъ, ибо любовь—это
свободный в теръ—ураганъ, сметающій съ лица земли всякое "'рабство и всякое безсиліе!.. Отчего? Кто
знаетъ!.. Именно и хорошо все то,, что необъяснимо!.. Достоевскій и не пытается объяснить, онътолько фактъ констаігтируетъ и фактомъ любуется, ибо
. это д йствительно прекрасная и великол пная кар-
59
тина! „Тутъ... тутъ, братъ, н что, чего ты теперь
не поймешь. Тутъ влюбится челов къ въ какую нибудь красоту, въ т ло женское, или даже только въ
часть одну т ла женскаго (это сладострастникъ можетъ поыять), то и отдастъ за псе собствеиныхъ
д тей, продастъ отца и мать, Россію и отечество;
будучи честенъ, пойдетъ и украдетъ; будучи кротокъ—зар жетъ, будучи в ренъ—изм нитъ"...
A
А самъ Митя отв тить на это свид тельство
можетъ только утвердителыю, онъ чувствуетъ, что
въ немъ н что огромное, н что жизненное кипитъ
и бушуетъ, Митя въ любви своей отчаяішый, оиъ
знаетъ и видитъ, что не сдобровать ему въ виду
всего этого, что нужно свершить какой то безумный
подвигъ, ибо огонь вр зался палящей раной въ его
существо. „Потому что, если ужъ полечу въ бездну,
то такъ-таки прямо, головой внизъ и вверхъ пятами
и даже доволенъ, что именно въ унизительномъ такомъ положеніи падаю и считаю это для себя кра- V
сотой! И вотъ въ самомъ-то этомъ позор я вдругъ
начинаю гимнъ. Пусть я проклятъ, пусть я низокъ
и подлъ, но пусть и я ц лую край той ризы, въ
которую облекается Богъ мой; пусть я иду въ то же
самое время всл дъ за чортомъ, но я все таки и
Твой сынъ, Господи, и люблю Тебя, и ощущаю радость, безъ которой нельзя міру стоять и быть!"...
Все, что произошло въ сел Мокромъ, въ эту
! ночь страсти и иьянаго разгула, явилось только пол1
нымъ расцв томъ бродящихъ силъ, только завершеА
ніемъ всего, только апо еозомъ всего... Зд сь такъіі
ярко сказалась правда Митиныхъ сливъ: „широкъче-і ,
лов къ, слишкомъ широкъ, я бы сузилъ!"
Широкъ челов къ! — восклицаетъ Достоевскін,
любуясь богатырскимъ Митинымъ разгуломъ. Оыъ
• >
60
словпо думаетъ: ридите ли вы этого челов ка, видите
лп его безудержную силу, его безстрашную волю, его
ліікующій, Діонисовскій восторгъ? Ему все—море по
кол на, онъ весь кипитъ, онъ съ презр ніемъ плюетъ
на вашу мерзкую землю, на ваше рахитичное безсиліе,
на вашу надо вшую тоску, ему все позволено, ибо
слишкомъ возлюбилъ онъ свободу, ибо слишкомъ
возлюбилъ онъ любовь!
И въ самомъ д л , кто сравнится съ Митей
въ ту минуту, когда онъ взваливаетъ на плечи плюгавенькаго Грушенькинаго жениха и съ поб доноснымъ видомъ уноситъ его прочь, когда онъ •
бушуетъ, рветъ и мечетъ, какъ разъяренный зв рь,
когда въ багровомъ туман
нахлынувшаго страшнаго веселья утопаетъ вся будничная. надо вшая, затхлая д йствительность?! И что вся многотрудная, кропотливая, чахлая жизнь челов ка-тружешіка, челов ка-работника мысли, челов ка книжнаго и безспльнаго,—передъ одной этой минутой
вспыхнувшей страсти, передъ этимъ вулканическимъ
огнемъ, передъ этой бурей обезум вшихъ, разсвир п вшпхъ чувствъ! Иногда челов къ до конца жизни бродитъ по темнымъ. затхлымъ долинамъ тоски
своей и не находитъ ничего подобнаго даже во сн ,
а зд сь д йствительность преобразилась въ пышный
урагаиъ чудод йственнаго, волшебпаго празднества,
зд сь жизнь утонула въ мор б шенаго упоенія,
зд сь челов къ воистину богомъ сталъ и преклонилась предъ нимъ въ страх иужас вся вселенная!
Правда, въ этой мгновенной поб д истощились вс
силы, и никогда уже она не повторится, но что
лучше,—бещв тная в чность тоски передъ неизв стнымъ, или это одно мгновенье, мгновенье царствен- .
(И
нр.го величія, мгновенье божеской, безултой, страшной
любви?...
Если бы челов къ научился ц нить эти невозвратыыя мгновенья, эти блестящія ракеты вспыхивающихъ чувствъ, эти магическія, волшебныя картпны опьяняющихъ настроені і,—можетъ быть, легче
было бы ему понять все богатство свое и всю потрясающую красоту жизни, которая познается такъ
р дко!... /^
Всли бы онъ хоть разъ одинъ, хоть въ бреду,
хоть во си силой любви своей сд лался богомъ и
бросилъ дерзкій вызовъ вс мъ страшилищамъ жизни,
вс мъ призракамъ н вид ніямъ, вс мъ истинамъ не
стоющимъ гроша,—если бы въ этой чудесной интуиціи предстала предъ нимъ цв тущая, лазурная, пахучая земля, онъ понялъ бы тогда все безсиліе свпего проклятія и всю безм рную силу восторга, опъ
въ безумномъ весельи бросился бы иа роскошнзчо
грудь земли, покрывая ее страстными поц луями,
орошая ее своими слезами, слезами страданья и
любви!
Грушенька—это безконечность красоты, это разлитый по жиламъ и бурно кипящій кровавый огонь
восторга, того восторга, сущность котораго знаетъ
одинъ лишь Дмитрій! Можетъ быть нарочно Достоевскій выдумалъ себ эту Грушепьку, чтобы вдругъ
весь міръ заверт лся въ чаду, но это хорошо—если
ужъ охватила душу мечта,^—пусть гибнетъ и душа,
и міръ, и вся вселенная, лишь-бы минута, минута
одна—богатство летучее—вышла ярка, лишь-бы хоть
въ минут одной уничтожилась вся боль земли,
весь ужасъ ея, лишь-бы хоть въ минут
одной
62
сверкнула молнія поб ды надъ челов ческимъ! ^Кить
\ ] в дь можно лишь безсознательно, всякое сознаніе
V губитъ, убиваетъ жизнь, не иадо сознаяія! Карамазовы устроили себ изъ жизни оргію, тамъ преступленіе см няется надрывомъ молитвы, и молитва исчезаетъ въ адскомъ пламени страсти, мучительная
инквизиція отъ женщины искривляетъ лицо въ истерзанную маску страданья, а потомъ опять тяжкій
сшшнъ и опять голодное завываніе тоски, но надъ
безднами протянуты спасительные канаты минутъ,
но минуты идутъ въ в чность, но каждая посл дующая минута должна заглушить собой тоску отъ
минуты уже умершей!... А самое главное для нихъ—
^выдумать такую минуту, которая свела бы съ ума!...
Это будетъ страшное мгновенье—мпріады самыхъ
противоположныхъ чувствъ см шаются въ одинъ
отрадно мрачный хаосъ ужаса, а потомъ пронзитъ
его пламенная стр ла, разверзающая небо, и запоютъ серафимы тихую, тихую, р ющую надъ спаленными крыльями, надъ обугленными дущами
п снь воскресенья, и вдругъ, безсильно барахтаясь
среди осл пительной наготы открывшагося счастья,
обезум вшее отъ нечелов ческаго желанія сердце
найдетъ одну желаниую, опьяняющую, истерзанную
мелодію—и въ ней обр тетъ свою прекрасную и
^ отчаяниую гибель навсегда! Тамъ, въ т ни сгущеныыхъ проваловъ бушующей страсти скрывается Гру^ шенька, но не видно лица ея» и лицо ея зд сь не при
чемъ, важно одно лишь очарованье отъ нев домаго, отъ
погибгааго въ мукахъ мечты Лика, погибшаго для памяти надолго, вплоть до пробужденія отъ заколдованнаго сна! И если бы взгляиуть прямо въ это лицо—
то можетъ-быть, оно расплылось бы въ тающій хохотъ
63
пустоты, ибо всюду ищутъ окончательнаго облика,
в рнаго, яснаго, отчетливаго, какъ та будничная
дебелая старуха, отъ которой б гутъ въ такой паник , всюду ищутъ и находятъ одни лишь предчувствія, одни ожиданья, отрекаются отъ д йствительыости ц ною адскихъ мукъ, завораживаютъ ее обезсиливающими, гашишными чарами, лишь бы исчезла,
лишь бы отошла хоть на время, не мучила, пощадріла, гнилого дыхаиія ея боятся, убійственной, плоской прозы разложеиія страшатся, ибо пресл дуетъ
ихъ все одна и та же безпощадная истина, что д йствительность—смерть! Но образъ Грушеньки вби- '
раетъ въ себя д йствительность и преображаетъ въ
красоту, въ красоту живую, мучительную, желаемую,
обладаемую даже, но выходящую за пред лы умо- \
постиженія, красоту безъ названія, безъ опред ленія,
ибсм/ опред лить красоту — значитъ снова увид ть
/
?
смерть.
Г\
—Карамазовы првзираютъ смеряъгг-тзнамена,т€*ьн в—
явленіе! Можетъ быть, въ минуты отрезвленья, посл
иочныхъ оргій, посл пьянаго сна, въ угнетающемъ
чувств сознанія они и видятъ ея призракъ, чувствуютъ весь ужасъ связанныхъ съ нею вопросовъ
(какъ это случилось съ Иваноімъ Карамазовымъ), но
въ то время, когда они во власти любви. смерти
н тъ, но когда они молятся на Грушеньку и б гаютъ
за ней, путаясь въ с тяхъ страсти и падая, и снова
зажигаясь для новыхъ оргій, для новыхъ преступленій, для новыхъ интригъ, смерть уходитъ, смерть
утопаетъ въ золотыхъ волнахъ беззакатнаго счастья!.. л
Осл пляющая истина, истина выше вс хъ истинъ ^
на земл : любовь поб оісдаетъ смерть, любовь поб эюдаетъ вс чсловіьчсскіе воиросы. .іюбовь ссть восіірс-
64
сенье въ беззакатную зарю восторга! Великая тайна,
великій загадочный Сфинксъ, она застилаетъ вс
тернистые пути облаками счастья и на вс томительно скучные боли земли набрасываетъ багряный,
но атласисто н жный, ыо прекрасный какъ весеиній
разсв тъ—покровъ своего страданья! Оно родило поэзію, музыку, творчество, оно родило великихъ геніевъ, оно одно в чно и неизм нно и неисчерпаемо
до конца! Грушенька вливаетъ ядъ этого страданьяі
въ души Карамазовыхъ безсознательно, но она зпаетъ,
что страданье есть залогъ безумной любви, она запутываетъ вс пути и создаетъ преступленье, ибо таково
назначізыье красоты: раскрывать горизонты безумія,
уводить въ томителыіыя дали, пав ки отнимать
желанье достиженья, или путъ достижеыья превра-,
А щать въ мучительную пытку боли! Таинство красоты позпается только въ любви, недаромъ Митя
бросаетъ своему Богу всю душу въ ликующемъ гимн , недаромъ же. онъ такъ прославляетъ природу,
только любовь даетъ ключъ къ нав кп запертымъ
дверямъ этой тайны, но все лишь въ томъ, что если
двери откроются, челов къ умретъ. Словами Іеговы
говоритъ сфинксъ красоты челов ку: если увидишь
меня, если откроешь тайну мою, смертыо умрешь!
Это откровепье спято храыитъ челов къ въ глубии
душевной, изъ за этого-то онъ и боится стать челов кобогомъ, ибо страшно ему увид ть предъ собою
конецъ... Достиженіе всего, открытіе вс хъ тайнъ,
разр шеыіе вс хъ загадокъ есть конецъ, ужасъ
котораго въ тысячу разъ сильн е ужаса смерти,—а если такъ, то пусть ые будетъ конца, пусть
этотъ конецъ знаетъ лишь одинъ Богъ, а я буду
только челов къ, и не потому, что челов ку богомъ
не хочется быть, а потому, что выгодн е взвалить
на отв тственность Бога животный страхъ передъ
концомъ! Такъ поступали и поступаютъ вс , такъ
поступилъ и Дмитрій Карамазовъ; хоть и простоватъ
онъ былъ, а вся трагедія конца ему была изв стна, хоть онъ отъ Грушеньки ничего не получилъ, a
только ногу ея ц ловалъ и всл дствіе этого еще^
находился далеко отъ коні],а!
Хоть и осл пила его страсть, ио все, что мучи'
ло Ивана—и ему в домо. „Новый челов къ пойдетъ,
это-то я понимаю, а все-таки Бога жалко!"—гово- /
ритъ онъ Алеш ... Еще-бы, ему-то, Дмитрію, Бога-то
и должно жал ть, и онъ изъ т хъ, которые безъ Бога
и шагу въ жизни не сд лаютъ, въ этомъ отношеніи
между нимъ и Нитцше разницы никакой, оба потеряли Бога и оба жал ютъ объ этомъ! Но страшенъ
конецъ, страшно очутиться вдругъ на такой вершин , гд уже в чное знаніе и в чное достиженіе и
кром этого ничего н тъ, скука должно быть неисц лимая въ этомъ состояніи! Недаромъ-же Дмитрій
такъ отчаянно возвращается къ Богу отъ своихъ
сверхчелов ческихъ мыслей, впрочемъ, не только
Дмитрій, вс , вс наши мыслители, вс философы,
пророки, поэты,—дойдя въ своихъ исканіяхъ до самой
вершины, вдругъ съ страшною силою, точно обжегшись,—бросаются внизъ, назадъ, б гутъ безъ оглядки,
стучатъ зубами, визжатъ отъ отраха, и то и д ло
кричатъ: „подавайте теперь намъ Бога, довольно уже,
силъ н тъ, дайте духъ перевести!"... Имъ просто жалко/
тепленькаго насиженнаго м стечка, просто головка
разбол лась отъ длиннаго путешестія, просто хочется
спрятаться за что-нибудь, хотя-бы мертвое, но могущее спасти отъ конца. А иногда просто предпочи5
GG
таютъ дурачками прикинуться, лишь-бы только не
брать на себя похищеннаго у Бога знанія конца!...
Такова челов ческая храбрость, и не потому, что
челов къ трусливъ (вотъ Кирилловъ, Нитцше, Иванъ
Карамазовъ не побоялись же), а потому, что участь
этихъ непрем нно ведетъ за собой смерть, ведетъ
гибель или дряхлое старческое состояніе. Пожить
еще хочется, вотъ въ чемъ все д ло, и еще какъ
хочется, и еще какъ пожить! Челов къ, понявшій
что такое конецъ, нзъ кожи л зетъ вонъ, чтобы захлебнуться жизныо до удушья, впитываетъ съ какою-то
собачьею жадностыо въ себя вс сокп жизни, все,
л что для другнхъ кажется нестоющимъ внимаыія...
і Вотъ, паукъ ползетъ,—говоритъ Кирилловъ дередъ
концомъ—и ему хорошо, что паукъ ползетъ..і Когда
художникъ Левитанъ былъ тяжело боленъ, онъ понялъ, что такое смерть, не такъ понялъ, какъ вс
люди, а какъ понимаютъ т , которые сознаютъ, что
смерти имъ не изб жать, что смерть есть конецъ. И
тогда вырвались у него зам чательныя слова, въ
которыхъ жажда жизни выступаетъ со всей откров нностыо: „Дайте мн только выздоров ть—и я
совс мъ иначе буду писать. Теперь, когда я такъ
^ много выстрадалъ, теперь я знаю, какъ писать".
Дмитрій слышалъ, что будто идутъ люди, которые станутъ богами, а одипъ изъ этихъ людей—
его братъ... Карамазовская натура въ этихъ людяхъ
нав рное будетъ преобладать, ибо у кого же и стихія,
у кого же и вызовъ, какъ не у Кара.мазовыхъ?
Но Митеньк все это мало поиятно, и мало нужно...
Изъ этого онъ почерпнулъ одно лишь понятіе минуты, какъ страшной бездны в чности—и знаетъ
онъ, что эта минута лишь въ одной любви! И это
У
67
откровеніе какъ нельзя лучше подошло къ нему! Ибо
онъ способенъ п ть гимны, ц ловать землю, упиваться Грушенькиной ножкой, сочинятъ стихи, полныё наивнаго восторга передъ жизныо, а до остального у него мало д ла, и въ этомъ отношеніи онъ
правъ, и недаромъ же онъ дышитъ здоровьемъ, молодостыо, красогой, силой, отвагой, у него отъ всего
одна защита —^оровеннвлій'. куіяшсьХ^-У него поучиться жизни могъ бы не только братецъ Иванъ,
но и тотъ, который написалъ о сил столько отчаянныхъ книгъ, скрывающихъ въ себ отчаянное, худосочное безсиліе—Нитцше. Нитцше упивался т мъ,
что ие было доступно ему въ этомъ мір , гд Діонисовскія и Элевзинскія таинства, которыя онъ такъ
боготворилъ. см нились худосочнымъ развратикомъ
въ кафешантанахъ, онъ для того, чтобы забыть объ
этой позорыой для иашего в ка метаморфоз , безчисленное множество разъ хаживалъ въ оперу слушать „Карменъ" Бизе, такъ какъ Діонисовскій элементъ, закліочающійся въ этой опер —позволялъ ему,
конечно, интеллектуально лишь,—переживать нав ки
утраченную для него д йствительность! И какъ бы
позавидовалъ онъ Дмитрію Карамазову, который т мъ
и счастливъ, что никогда не бралъ пера въ руки,—
и могъ изъ жизни своей сд лать одну божественную
оргію. Посмотрите, какъ онъ упивается однимъ лишь
желаніемъ Грушеньки: въ голов шумитъ, радость, дикая, страстная, первобытная" радость распираетъ его
грудь, кровыо жгучею и опьяняющею разливается по
жиламъ, вызываетъ слезы д тскаго восторга на глазахъ, онъ куда-то уносится, куда-то летитъ на внезапно выросшихъ орлиныхъ крыльяхъ, и въ пьяномъ
зарев любви его,—вся д йствительность становится
68
\/
лишь подножіемъ у ногъ загадочной и мучительной
инфернальницы —Грушеньки!
И разв не хорошо, когда онъ, весь завороженный, въ пьяномъ восторг противопоставляетъ всей
гнилой д йствительности свой сверкающій золотистыми искрами счастья вызовъ.
— „Пей и не фантазируй! Жизнь люблю, слишкомъ ужъ жизнь полюбилъ, такъ слишкомъ, что и
мерзко! Довольно! За жпзнь, голубчикъ, за жизнь
предлагаю тостъ! Женщину я люблю, женщину! Что
есть женщина? Царица земли! Выпьемъ за жизнь,^
милый братъ! Что можетъ быть дороже жизни? Ничего, вичего! За жизнь и за одну царицу изъ царицъ!"
(„Братья Карамазовы").
IV.
...Тамъ-же, гд сказано объ „образ и
подобін Божі мъ", сказано и „плодитесь,
множитесь!" Несчастная книжность, несчастная интеллигентность сд лала то, что
челов къ мыслитъ себя „подобіемъ Божіимъ", когда строчитъ газетную статыо
или брошюру, а не когда носитъ на рукахъ больного ребенка, не когда мать кормитъ его грудыо, не когда родители зачннаютъ его. Проклятое скопчество, родитель сухой и суетной интеллигентности.
Н тъ, явно надо перем нить вс мотивы
релпгіозности, всю мотивировку отношеній
къ Богу и связи съ нимъ.
В. Розановъ.
Полюбить жизнь болыпе, ч мъ ея смыслъ, по- •
любить жизнь безсмысленную, страшную, злую—это
желаніе терзало Достоевскаго всю жизнь, ибо только
отъ надрыва любви къ жизни рождается и страданье,
и геніальное творчество, и религія!... Этотъ надрывъ ,
любви рождаетъ и проклятье и разрушеніе, но в дь
неизв стно еще, можетъ быть, проклятіемъ и разрушеніемъ освящается и преображается міръ, можетъ
быть, въ ту минуту, когда проклятье достигнетъ
свбего наивысшаго апогея, вдругъ, изъ глубины глубинъ, изъ глухихъ подземелій, изъ замученнаго челов ческаго сердца, брызнетъ живительная великая
сила! Ибо что есть проклятье, какъ не титаниче-\
70
ская, молніеносная молитва, призывающая къ очищенію весь міръ? Ибо что есть разрушеніе, какъ не
религіозное д йство въ предчз^вствіи будущаго воскресенья?.., Трудно себ представить большаго бунтовщика, ч мъ Иванъ Карамазовъ, онъ билетъ свой
Богу возвращалъ и требовалъ отчета за слезинку
замученнаго ребенка, одыако же, кто, какъ не онъ,
открылъ Алеш ту страшнуіо жажду жизни, ту инстинктивнуіо любовь къ ней, которыя надрывали,
именно надрывали все его существо?... Любопытная,
крайне любопытная черта:—и въ Бога не в руешь,
и чорта призываешь, и весь міръ испепелить стремишься, іі при всемъ этомъ (а можетъ быть въ глубин всего этого) трепетно, беззав тпо, и тревожно
любишь жизиь, любишъ ея инстинктъ, ея безм рную
красоту и т бродящія въ себ СРІЛЫ, ЧТО позволяютъ
теб такъ мощно проклинать, такъ яростно разрушать!... И кто знаетъ, можетъ быть и разрушенье-то
и проклятье-то—отъ избытка этихъ силъ^ отъ бури
разбушевавшихся инстинктовъ, не находящихъ себ
исхода, в чно безпокойныхъ?... А можетъ быть проклинаемъ-то потому только, что пошлость заслонила
намъ самое священное м сто въ жизни, что грязь
покоится при входЬ въ святое святыхъ, что слишкомъ
возлюбили мы Красоту и святость, чтобы примириться
съ этимъ осквернепіемъ? Кто знаетъ? Все это глубоко скрывается и кр пко закрыто отъ взоровъ!
—„Я сейчасъ зд сь спд лъ и, знаешь, что говорилъ себ : не в руй я въ жизнь, разув рься въ
дорогой женщин , разув рься въ порядк
вещей,
уб дись даже, что все, напротивъ, безпорядочный,
проклятый и, можетъ быть, б совскій хаосъ, порази
меня хоть вс ужасы челов ческаго разочарованія,—a
я все-таки захочу жить и ужъ какъ припалъ къ этому
кубку, то не оторвусь отъ него, пока его весь ие
осилю! Впрочемъ, къ 30 годамъ нав рно брошу кубокъ, хотъ и не допыо всего, и отойду... не знаю
куда!"...
... — Я спрашивалъ себя много разъ: есть ли
въ мір такое отчаянье, чтобы поб дило во мн эту
изступленную и неприличную, можетъ быть, жажду
жизни, и р шилъ, что кажется н тъ такой... Черта-то
она отчасти Карамазовская, это правда, жажда-то
эта жизни; несмотря ни на что, въ теб она тоже
непрем нно сидитъ, но почему же она подлая? Центростремительной силы еще страшно много на нашей
планет , Алеша. Жить хочется, и я живу, хотя бы
и вопрекп логик .
„Пусть я не в рю въ порядокъ вещей, но дороги
мн клейкіе, распускаіощіеся листочки, дорого голубое небо, дорогъ иной челов къ, котораго иной разъ
пов ришь ли, не знаешь, за что и любишь, дорогъ
иной подвигъ челов ческій, въ который давно уже
можетъ быть, пересталъ и в рить, а все-таки по
старой памятрі чтишь его сердцемъ!"...
Эта великая сила, животная сила,^—проявляется
въ челов к именно въ т моменты, когда, кажется,
все ужъ погибло и погибло навсегда, когда все испробовано и брошены вс надежды. когда кажется, что
въ мір есть одно только отчаянье! И сила жизни і
;
спасаетъ. Какъ непоб димый магнитъ, она тянетъ
къ себ челов ка, какъ дурманъ,—опьяняетъ его
голову, тяяшимъ томленіемъ, страстной тоскою манитъ въ нераскрытыя н дра свои!... Куда и къ чему?— л
Неизв стыо! Можетъ быть зат мъ, чтобы познать еще
болъшее страданье п еще сильн йшій ужасъ, можетъ
72
быть туда, гд н тъ никакого ужаса, гд все просто
и все радостно, какъ солнечный майскій день! Челов къ повинуется и идетъ, но что видитъ онъ на
пути своемъ, что слышитъ онъ, что переживаетъ онъ
тогда,—никто не знаетъ, ибо это самое опасное м сто на его пути, когда обыкновенно идешь съ зажмуренными глазами и въ молчаньи таишь великій
страхъ! Логика_вообще ужасная вещь, нер дко она
приводитъ къ неизб жной гибели, къ тупику, но че-.
лов къ можетъ перехитрить и логику во имя своего
спасенія и въ этомъ ему приходитъ на помощь
жизненный инстинктъ! И въ тотъ часъ, когда откроется предъ нимъ глубина жизни, ея кипящій водоворотъ, ея магическая сила, онъ пошлетъ къ чорту
всякую логику, всякій разумъ, всякое мышленье,-—за
одну минуту страстнаго упоенія, за одинъ экстазъ
восторга, за одинъ поц луй любви!... Іібо челов къ
всегда челов къ...)_^-^^'
Страданье изуродовало міръ, оно отравило колодцы любви! Люди такъ измочалились и такъ
испошлились благодаря прославляемому прогрессу,
что на самое святое въ челов к наложено клеймо
презр нія, что самое жизненное въ немъ названо неприличнымъ и возбуждающимъ негодованіе!... Есть
ч мъ возмутиться, ибо не равносильно ли это убійству жизни?... Есть надъ ч мъ посм яться, ибо разв
не см шно, когда стыдятоя самого себя?!...
Любовь для неба п земли святыня
И только для людей порокъ она;
Во всей прщюд дишитъ сладострастье
И только люди покупаютъ счастье.
Въ этихъ словахъ Лермонтова таится весь ужасъ
земли, ужасъ царствующей пошлости, ужасъ измель-
73
чанья, нравственннаго уродства всего челов чества!...
Зд сь можетъ быть скрывается еще н что, слишкомъ
глубокое, чтобы выразить и объяснить словами, но
н что такое, что можетъ не только заставить призадуматься, но всю жизнь и все творчество свое употребить на в чное подчеркиваніе этого гнуснаго преступленія противъ святости жизни!.,. Эти словапоэта—
какъ бы эпиграфъ къ творчеству выдающагося мыслителя нашихъ дней, еще неоц неннаго, еще слишкомъ глубокаго, чтобы могла понять его толпа—
В. В. Розанова.
Вотъ философъ, который весь вышелъ изъ Карамазовщины, изъ адскаго кип нія жизни, изъ неотравленнаго колодца такихъ глубинъ, о которыхъ
намъ, современникамъ, можетъ быть и не снилось
еще!... Несомн нно, онъ отъ едора Павловича, плоть
отъ плоти, кость отъ костей его, это можетъ быть
возмужавшій и созр вшій монашекъ Алеша, можетъ
быть перешедпгій границу тридцатил тняго возраста
Иванъ, можетъ быть углубившійся и побывавшій
около очаговъ культуры—Дмитрій!... Многому поучился онъ и у Достоевскаго и у русскаго духовенства и у русской жизни, но вс свои помышленья
и силы онъ направилъ совс мъ въ другую сторону,
гд Достоевскій только временно побывалъ, но вся м
его философія, иесмотря на кр пчайшія узы poдcтвaJ
не только чужда духовенству и вообще христіанству,
но прямо враждебыа ему, направлена противъ самой \
его сущности, и тамъ, гд онъ особенно смакуетъ
христіанство, гд его анализъ по отношенііо къ посл днему слишкомъ тонокъ и остръ, тамъ-то онъ
является опаснымъ врагомъ христіанства, такъ сказать бунтовщикомъ н можно безъ сомн нія сказать,
74
что Розановъ это зм я отогр тая на лон христіанства!... Мудрая и безпощадная зм я!... Онъ для нихъ
и непонятенъ, и чуждъ, и далекъ, и когда онъ съ
ними особеыно н жно и любовно ц луется, тогда-то
онъ и опасенъ, тогда-то поц луи его—поц луи
Іуды, но Іуды неизм римо глубокаго, одареннаго,
я бы даже сказалъ—геніальнаго!... Все, что открылъ въ своихъ исканіяхъ Розановъ, все, что
выстрадалъ и пережилъ—представляетъ богатую соб-s
ственность, но только для него самого, ибо никто его
такъ не пойметъ, какъ онъ самъ, ибо никто не сможетъ пройти около его святого м ста, не опошливъ
его и не исказивъ, до того испорчены и развращены люди, которые называютъ развратникомъ Розанова въ простот сердечной! И онъ въ этомъ отношенірі индивидуалистъ^а?' excellence, индивидуалистъ,
равный по сил одному лишь Ницше, недаромъ л^е
говорятъ о немъ: „русскій Ницше".
Только въ одной Россіи возхможно такое явленіе,
какъ Розановъ! Только одна Россія таитъ въ своихъ
дикихъ д вственныхъ н драхъ скрытыя богатства,
чуждыя всему міру, таитъ такія чудеса и такія диковины, предъ которыми еще не настало время преклониться Европ , хотя н тъ сомн нія, что тако
время придетъ! Въ этомъ челов к бездна русскаго,
глубоко русскаго, зд сь и отчаянная жажда жизни, и
б шеный Карамазовскій размахъ, и ехиднеыькое юродство, и на ряду съ самыми бунтовскими, самыми
анархистскими идеями — Меыыпиковскій консерватизмъ пзъ „Новаго Времени"... Характерно, что эту-то
посл днюю черту только и видятъ въ Розапов , онъ
широкой публик и изв стенъ-то какъ талантливый
фельетонистъ изъ „Новаго Времени", а болыпе о
немъ мало кто и знаетъ.
75
Хотя это вполн естественно... Популярнымъ
Розанову быть не время и нв м сто... Можетъ быть,
въ древней Эллад его идеи вызвали бы всеобщій
восторгъ и сд лали бы его кумиромъ, но въ наше
время ему могутъ только удивляться, какъ р дкой
диковин , а его эллинская мудрость вызываетъ только печальную улыбку на увядшемъ, дрябломъ, сморщенномъ лиц современнисти!...
Христіанство умертвило жизнь!—вотъ основнаяі
и зав тная мысль въ міровоззр ніи Розанова... Христіанство изгнало изъ жизни любовь и предало проклятыо. радости и наслажденья любви, христіанство
отравило и замучило челов ческую сов сть сознаніемъ гр ховности этой жизни,-—въ этомъ, по мн нію Розанова, заключается изв чная трагедія челов чества!... Тяжкія узы наложило на себя оно, оно
отреклось во имя небеснаго царства (для Розанова
это равносилыю смерти) отъ богатыхъ даровъ жизни,
оно тысячел тнимъ аскетизмомъ своимъ извратило
и развратило челов ческую природу, извратило до
такой степени, что то, что казалось прежде святымъ,
намъ кажется низкимъ и преступнымъ! Страданье
возвело оно въ культъ, призракомъ смерти, смертными чарами зачаровало вс эти дни, улыбки веселья, розы любви, тайну рожденья, земныя заботы
осудило какъ искушенье дьявола, гробъ сд лало оно
кораблемъ вс хъ стремленій, могилу — пристаныо
вс хъ кораблей!... Такое пониманіе христіанства Розановъ обосновалъ необычайно талантливо и остроумно, съ такими предпосылками онъ въ своихъ книгахъ идетъ все глубже и глубже, къ корнямъ всего
земного, и вскрываетъ онъ эти корни ум ло и
ловко!...
^
J76_
У
Радость замучили люди, они убиваютъ въ себ
очарованье пола и красоту любви,—вотъ скорбь Розанова! Онъ негодуетъ на современность, онъ страстно нападаетъ на выродившійся аскетизмъ современныхъ христіанъ не какъ диллетантъ въ христіанств , a
какъ глубокій и тонкій его знатокъ *). Его помыслы постоянно направлено къ тому, чтобы обнаружить сквозь
видимые покровы глубину жизни и €я красоту, чтобы
найти въ проявленіяхъ челов ческой мысли нужныя
для его философскаго бунтарства устои и на нихъ
строить свои излюбленныя теоріи о брак , о семь ,
о тайнахъ и загадкахъ пола, о д торожденіи, о той
лазурной, великой, нав ки утраченной радости, которую онъ противопоставляетъ христіанству.
N
Новый зав тъ чуждъ ему, хотя онъ глубоко его
понимаетъ, времеыами любитъ, его Богъ—это Богъ
. Ветхаго Зав та, Іегова карающій, безликій и стихійный, Богъ Авраама, Іакова, Моисея, Богъ рождающій и любящій рожденье, Богъ дающій всему челов честву едиыый зав тъ: „плодитесь и размножай*) Творчество Розанова, его душа до того усложнены, до того
уклончивы п многообразны, что въ одной стать невозможно дать опред ленной характерпстики. нельзя охватпть всего Розанова. Много у
него различныхъ ликсшъ и маски его безчисленны. До сущности же
І доксшаться трудно, а если п постигнешь ее,—то она сейчасъ же ста; нетъ новой ыаской, и снова таииственно засм ется, и снова псчезнетъ
во тьм . Й вотъ это-то и есть то, что я особенно ц ню въ этомъ художник . Ибо отъ всЬхъ скрываться п уходпть, и уклоняться, изм няжіь безконечно, в чно подв ргая изд вк вс старанія критиковъ
умертвить жпвую глубь формулой нли буквой, пли пошпостью фразъ,—
не значитъ ли это носпть въ себ богатство тайны великой, не значитъ ли это въ загадк сво й хранить для себя одного свою душу?
Язычникъ и христіанинъ въ немъ сплетены почти что неотд лимо. И не знаешь, который глубже. Одна книга „Темный Лнкъ''—ц лый л съ загадочнаго. Въ н й онъ в хрнстіанинъ больше, ч мъ гд
либо въ другомъ ы ст , Къ ней и вообще къ христіанству Розанова
"я еще возвращусь въ своей книг : „Религія".
77
тесь и наоеляйте землю!"... Отсюда эти вспышки его
любви къ еврейству, къ его патріархальному быту,
полному земляного очарованья, къ его культу плодовитости, къ его привязанности къ земнымъ заботамъ и всему земному, благоустрояющему, полножизненному!... Отсюда это страстное любованіе той
гармоніей, тою р дкою лучистою любовыо, т мъ тайнымъ очарованіемъ, которое открывается ему въ
анализированіи еврейской половой лшзни, семьи и
брака... Отсюда его страстная любовь къ земл , къ
вопросамъ и загадкамъ земнымъ, у него есть даже
дв толстыя книги посвященныя по преимуществу
разводу!
Въ Розанов много языческаго—это несомн нно.
0 немъ можно не задумываясь сказать, что онъ
язычникъ до мозга костей!... Язычникъ, весь погруженный въ солнечную зарю челов чества, язычникъ
ліобящій свою землю и ея богатые дары,—язычникъ,
влюбленный въ божественный ликъ в чной женственнооти, которая грезится ему и въ снахъ" и на яву,
ароматъ которой, вкусъ которой, очарованіе которой онъ ищетъ въ каждомъ движеніи жизни, въ
каждомъ ея излом , въ каждомъ ея проявленіи,
іищетъ и нахоцитъ, ибо кто знаетъ, можетъ быть вся
Ырирода пресыщена женственностыо, и чары ея сквозь
^сумракъ жизни стрзгятся какъ запахъ пышныхъ,
красныхъ, чувственно роскошныхъ розъ!? И не зд сь,
не въ холодныхъ Петербургскихъ дыяхъ живетъ Розаыовъ, оыъ живетъ въ давнопрошедпшхъ временахъ
с дой древности, его душа пребываетъ то въ разнузданномъ Вавилон , гд свершается религіозный
культъ въ честь богини Милитты, той богини, которая олицетворяетъ собою творческую лшзнь природы,
78
то среди религіозныхъ праздиествъ въ честь Изиды
въ Египт , гд ппрамиды, гд сфипксы, гд волшебная тайна, въ жертвоприношеніяхъ въ честь
Баалъ-Пеора въ степяхъ излюбленной Древней Іудеи,
въ афродизійскихъ, элевзпнскихъ таинствахъ грековъ, тамъ, гд дв лазурныя бездиы—небо и море
сливались въ одномъ пламеныомъ поц лу божественной любви, тамъ, гд в чно движетъ и дышетъ
Деметра, гд сіяетъ Аполлонъ, гд
въ п нистыхъ
волнахъ жизненнаго моря всегда и в чно рождается
Афродита!...
Ибо все, что отъ жизыи,—священно и радостно,
ибо все, что отъ избытка жизни,^—не требуетъ оправданія, пбо миогообразность и загадочная сложиость
челов ческой природы бол е ц нна и бол е любопытна, ч мъ сама жизнь!... Поэзія Розанова—это
Соломонова п снь п сней, п снь любовнаго похмелья,
восхваленія жизни и т ла, обожествленіе т ла, ликующій гимнъ прекрасному т лу, половой экстазъ
воплощенный въ в чность, ибо все, что отъ радости,
должно застыть въ в чности, какъ изваяніе нерушимаго идола;—поэзія Розанова—это беременность
престар лой Сарры и плодоносная красота красавицы
Ревекки; поэзія Розанова—это поэзія ночи любви,
когда въ тайникахъ челов ческой природы свершается зачатье и готовится міру- новое рожденье и
значитъ, новая жизнь, быть можетъ новая красота^
новое чудо!... А все, что вн рожденья, вн плодородія, вн земли, то для него равнодушно и можетъ
и ые существовать, ибо вн кизненыо, а онъ в чпо
хлопочетъ, в чно суетится, в чно заботится, чтобы
всюду была жизнь, чтобы всюду цв ла любовь, чтобы
всюду зелен ла весна, до того сіяетъ въ немъ этотъ
79
солнечный теплый св тъ, что даже въ монастыряхъ
онъ видитъ жизнь, и въ Саровской пустын , среди
угрюмаго молчанья л совъ, онъ улыбается и восклицаетъ: ИИ капустка на грядкахъ хороша! И камень
чуденъ, очень чуденъ! И все кругомъ чудно и
хорошо!"...
-'
Но д ло-то не въ одной этой жажд жизни, не
въ рдпой любви къ земл ,—въ Розанов живетъ
еще другая идея, другая зав тная мечта, которая
именно и д лаетъ его новымъ и необычнымъ для
совремешюсти. Это — идея святости плоти, идея
преображенія не только челов ка, но воего міра въ
любви, идея освященія жизни во имя ея в чнаго
торжества! Для язычника, воздвигающаго храмъ Фаллусу, эта идея не представляетъ собой ничего чуждаго, бол е того,—онъ, можетъ быть, самъ внутри
себя, впутри своей жпзни носитъ эту идею, какъ
свою собственную сущность, ибо для язычника, особенно для эллина—челов ческое т ло и половая
жизнь были ч мъ-то естественно священнымъ, ибо
высшей святыни, ч мъ самъ челов къ, для него, въ
сущности, не было!... Но намъ все это представляется
совершепно въ другомъ св т , благодаря христіанству, наложившему узы на плоть и . сд лавшему
плоть нпзкой и преступной, мы уже отучились вид ть все это глазами непорочными, глазами д тей,
все это, несмотря на всю вопіющую важность свою
для жизни, для насъ постыдно, мы стыдимся говорить объ этомъ, стыдимся обнажать, кутаемъ въ непроницаемыя одежды прпличія, что иесомн нно,—
признакъ нравственной извращенности! Осквернены
колодцы жизни, ыечиста челов ческая сов сть, поблекла и вянетъ любовь!—^восклицаетъ Розаыовъ...
80
Мало кто его слышитъ, а еще меныпе поыимаетъ,
въ сует базарной пошлости, на рынкахъ грязи и
убогаго разврата вс заняты другимъ, совс мъ другимъ; но кто знаетъ, кому дороже челов къ—христіанину-ли, любующемуся проявлепіемъ въ немъ
аскезы и обрекаіощему на в чныя муки вторую
душу—плоть, или Розанову—для котораго именно
эта-то плоть и составляетъ нерушимую святыню?...
Вотъ какія совс мъ новыя, совс мъ необычныя
для нашего слуха слова говоритъ Розановъ въ своей
зам чательной стать
„Объ Іисус сладчайшемъ и
горькихъ плодахъ міра":—„Во Христ прогорькъ міръ,
и имеыно отъ Его сладости. Какъ только вы вкусите
сладчайшаго, неслыхаинаго, подлинно-небеснаго, такъ
вы потеряли вкусъ къ обыкновенному хл бу. Кто-же
посл ананасовъ схватится за картофель? Это есть
свойство вообще идеализма, идеальнаго, могущественнаго. Великая красота д лаетъ насъ безвкусными
къ обыкновенному. Все обыкновенно сравнительно съ
Іисусомъ"... Христіанство это сладкая смертная отрава, Розановъ этимъ какъ бы хочетъ подчеркнуть
свою любим йшую, свою зав тную мысль о гибели
земыого, плотскаго, т леснаго подъ эгидою христіанства! Онъ говоритъ: „Подъ такимъ угломъ зр нія
христіанство есть мистическая п снь переходу изъ
земного житія, всегда и непрем нно гр шнаго, въ
в чную жизнь—тамъ. Хорошая религія? Конечно,—
но^не отрицайте же, что это есть величайшій пессимизмъ и глубочайшее отрицаніе земли и земного,
стихій планетныхъ, лунныхъ, солнечныхъ, но въ
основ всего—родительскихъ, рождающихъ. Передъ
мистицизмомъ похоронъ что значитъ „Исаія ликуй!в
или „жена да убоится своего мужа", наибол е му-
81
зыкальныя и выразительныя м ста в нчанія? Вотъ
ужъ раціонализмъ, вотъ краткословіе и грубословіе,
т. е. не въ смысл , а въ музык . Музыкантъ, съ
такою прилежностыо сложпвшій нап вы: „ид -же
н сть печаль и воздыханіе, ыо жизнь безконечная",
отмахнулся отъ брачущихся: „Э—пусть вамъ діаконъ
прооретъ: „жена да боится своего мужа". Очевидно—
религія тамъ, въ могил : зд сь-же, гд начинается,
гд будетъ, черезъ д тей и роледенье, уб ганіе отъ
могилы—есть только впаденіе въ гр хъ, выступленіе
въ океанъ „жала сатаниискаго". Сатана—жизнь:
Богъ—смерть. („Темный Ликъ" стр. 87—88).
Но не думайте. что эти слова — только бунтъ,
только Іудино злословіе... 0, н тъ, быть можетъ сами
христіане не знаютъ такой любви ко Христу и къ
церкви, которая у Розанова!... Онъ понимаетъ всю
красоту ея, именно-то красоту христіанской религіи
онъ и любитъ паче всепз, но его душа лежитъ не зд бь,
его душа и его мысль не ум щаются зд сь, и не
потому, что узки рамки (христіанство это в дь океанъ
великій, все геніальное тонетъ въ немъ, навсегда,
невозвратно, это пристань для вс хъ), а потому, что
онъ—сынъ земли, в рный и любящій сынъ, потому
что не хочетъ онъ страданья, не хочетъ трагедіи,
нбо въ нихъ гибель жизни, божественнаго дара, чудод йственнаго цв тка, который цв тетъ одно мгновенье, а потомъ—увяданье, гибель, мракъ, пустота,
нав ки, невозвратно (какой ужасъ въ этой в чной
пустот , зач мъ же еще заживо стремиться къ ней?)...
Н тъ, нужно беречь этотъ цв токъ, онъ такъ н женъ,
такъ хрупокъ, нужно впитать въ него всю живоносную влагу вселенной, и пусть оыъ будетъ
роскошенъ, пусть ароматъ его опьянптъ всякое соо
знаніе, всякое „умствованіе", (ибо разумъ великій и
разумъ малый одинаково подлежатъ уничтоженііо),
пусть великая жажда, великая любовь, огненная
плоть разгорятся въ пламенный костеръ роскошнаго
цв тенія, пусть это цв теніе длится безконечно, пока
плодоносящія зерна не истощатся въ немъ!...—Чело
в къ—бездна всякихъ пороковъ и гр ха, н что, что
подлежитъ исправленію и искупленііо—гласитъ законъ міра, христіанство... Челов къ—это н что святое и плоть его должна быть священна, ибо изъ нея
рождаются жизнь и любовь,—два чуда, два божества,
два прекрасныхъ идола всей моей жизни,—восклицаетъРозановъ... Это голосъ вопііощаго въ пустын ,
голосъ возставшаго изъ мертвыхъ посл тысячел тняго сна язычника... Но русскій челов къ и въ язычеств
ищетъ святости, ищетъ религіозыаго оправданія... Но
его язычество религіоано по существу, ибо на немъ
строится вся жизнь... Вотъ это-то и ость самая зам чательная сторона въ творчеств Розанова!... Посмотрите ближе на вашу жизиь, на вашъ полъ, на
вашъ бракъ!—говоритъ онъ. Тамъ мерзость запуст нія на м ст святомъ, тамъ пошлость превратилась въ
грязное гніеніе, тамъ—самое ужасное преступленіе
. на земл , ибо полъ чрезъ распятіе т ла уже оскверненъ, но истина въ томъ, что полъ—основа жизни,
основа наивысшей и иаибезумы йшей красоты иа
земл и поэтому подлежитъ освященію, но пусть
разрушится жизыь трусливая, заморенная и с ренъкая, будемъ жить какъ боги по ту сторону добра и
зла, какъ боги, вновь увид вшіе свой утрачениый
рай!... „И я вообгце думаю—говоритъ въ одномъ м ст Розановъ,—что въ наше время хорошо сохранить
д тство, а серьезному взрослому душою засыпать и
83
потихоньку просыпаться въ тотъ древній міръ, когда
люди не задыхались подъ ватною одеждой, подъ книгами, подъ утренними газетами, а умывали утромъ
руки въ солнечныхъ лучахъ и солнце золотило ихъ
смуглую кожу!" ...*).
Какія слова! Какая идея въ замученномъ, умирающемъ, выдохшемся мір ! Какая мечта—волшебная, почти сказочная!... В дь это протестъ противъ
всей нашей жизни, противъ ёя измельчанія, противъ
ея угасанія! В дь это какой-то св жій, пахучій, благодатный в теръ изъ т хъ странъ, изъ т хъ временъ, гд люди жили какъ гордые и безстрашные
боги Олимпа и были равны имъ и вступали съ ними
въ родство,—и не было страха, не было отчаянья,
не было смерти, потому что была только одна св тлая влюбленность въ жизнь и только въ жизнь!...
А теперь? Гд это живое, бродящее, богоборческое,
богоравиое? Гд эта нав ки утраченная, самозабвенная влюбленность? Гд это бурлящее, кр пкое вино
въ лшлахъ, вино, опьяняющее разумъ и дающее
крылья?... Его н тъ—скорбитъ Розагювъ. Есть христіанство, поб дившее міръ, но и погубившее его.
Христіанство культивируетъ пессимизмъ, смерть,
отчаянье, гибель,—вотъ трагедія міра, вотъ трагедія
замученной и проклятой плоти!... НоХристова—келья,
а міръ—не Христовъ. „Мужайтесь, нын Я поб дилъ
міръ": никакъ гуманистамъ-христіанамъ не удастся
сломпть это и н которыя другія столь же основиыя,
таинственныя, необходимыя изреченія Христа, Міръ
естественный, натуральный песомн нно не Христовъ,
ибо если-бы онъ былъ уже изначала и по существу
*) Курсивъ ыой. А. 3.
84
своему не „Христовъ", то не зач мъ было Христу и
приходпть! Фраза Тертулліана, безчисленное множество разъ повторенная. что „душа челов ческая есть
no природ своей хррістіанка"—одна изъ самыхъ
ложныхъ, ошибочныхъ фразъ, съ которою не согласится ни одппъ монастырь. Напротивъ, „душа челов ческая есть по природ язь^«ш(а", которая воспитывается къ христіанству только черезъ т сыую
„дверь" безчисленныхъ отреченій (Марія отреклась /
отъ всего, чтобы только Іисуса слушать)... Какова
„естествеиная душа челов ка"—это она показала
памятно и документально до Христа, въ Ахилл
и Тирсисит , Платон
и Эпикур , въ Сократ
и Сулл , въ Нерон и Кроткомъ Тит , „ут шеніи
рода челов ческаго" (прозваніе). Древность, язычество,—это и есть Humanitat, чистая и исключительная челов чность, новыя п снп которой зап лп Гете
и Шиллеръ:
Радость, ты искра небесъ, ты божественна,
Дочь Елисейскпхъ полей,
Мы, упоенные, входимъ торжественно
Въ область святыни твоей".
Сумракъ заслонилъ улыбку, горечь поб дила
радость. Невольно вспоминаются слова Нитцше: „И '•
не иначе ум ли они любить своего бога, какъ распявъ
челов ка.—Они думали жить какъ трупы; въ черныя
одежды облекли они т ло свое; и даже изъ р чей
ихъ я слышу еще зловоыіе склеповъ. И кто живетъ
вблизи ихъ, живетъ вблизи черныхъ прудовъ, откуда жаба, въ сладкой задумчивости, поетъ свою
п сню". („Такъ говорилъ Заратустра").
Съ какою жадностыо ищетъ этой улыбки, этой
влюбленности Розановъ во Христ . Но напрасны его
85
упоиски, и онъ въ коыц концовъ заявляетъ: „Христосъ
н-икогда не см ялся... Я не помню, улыбался ли
Христосъ?" („Темный Ликъ"). И еще: „я предложу
вамъ представить одну РІЗЪ юныхъ женъ евангельскихъ, или котораго-нибудь апостола,—извините за
см лость,—влюбленнымъ. Я извиняюсь, и вы чувствуете, что я долженъ былъ извиниться. Отчего?
По міровой несовм стимости влюбленія и Евангелія. л
Я не читалъ „Жизни Іисуса" Ренана, но слыхалъ,
всегда въ словахъ глубочайшаго негодованія, что
дерзость этого французскаго вольнодумца простерлась до того, что которое-то изъ евангельскихъ лицъ
оыъ представляетъ влюбленнымъ... Ни см ха, ни
влюблвнности н тъ въ Еваигеліи, и одна капля того
и другого испепеляетъ во страиицы чудной книги,
„раздираетъ зав сы" христіанства. Да, „мертвые"
возстали, когда умеръ Хррістосъ: но зато таинственная „зав са Соломонова храма"—она „разодраласі/...
А в дь „законъ" этого храма состоялъ, между прочимъ, въ томъ, что при постройк его нельзя было
употребить, какъ инструментъ или какъ части, хотя
бы крошечнаго кусочка жел за: ибо „изъ жел за—
оружіе, а оно „укорачиваетъ эюизнь". Стало быть,
тайная мысль храма—„удлиненіе оісизніі" („Темный
Ликъ", 256)...
Такихъ страницъ вы найдете у Розанева. множество. Въ нихъ весь онъ, вся его ^уша... Какая-то
горячая лава струится изъ этихъ страницъ, какое-то
ожиданіе, какая-то новая, св тозарная в сть!... И посмотрите, какъ онъ любитъ землю и все, что связано
съ землей и съ тайной рожденья, и съ тайной
любви,—какъ онъ ц луетъ каждую травку, каждый
цв токъ, каждое живое с мя... Откуда это?... Лучше
86
не спрашивать, откуда... Можетъ быть ужаснулись
бы, если бы узнали... Но можно догадываться, и есть
I на основаніи чего догадываться!... В дь, можетъ быть,
" смерть, та смерть, которая его такъ раздражаетъ въ
христіанств , можетъ быть эта-то самая смерть, проникновенно сознанная, и заставляетъ Розанова такъ
жадно пить жизнь, такъ страстно на нее молиться,
можетъ быть та самая трагедія, отъ которой онъ
отвернулся съ отвращеніемъ,-—и научила его возлюд бить радость? Радость—это в дь что-то легконосное,
сквозное облачко, какая-то головокружительная пляска
въ высот , надъ страшной глубиной, и конечно, съ
зажмуренными глазами! Радость—это в дь едииственное л карство отъ безумія!.., И миогіе, мыогіе,
и Розановъ въ томъ числ , взглянувшіе внизъ съ
высоты въ головокружителыіую и манящую бездну,—
отвернулись отъ нея, побл дн вшіе, съ дрожыо во
всемъ т л , съ паническимъ страхсшъ поб жали
отъ нея, и вотъ, одинъ изъ нихъ, вм сто того, чтобы
умереть отъ испуга,—пришелъ къ радости, къ искупительному источнику любви, къ чарамъ в чной женственности... Но не все ли равыо. какъ спастись, безразлично!... Лишь бы только спастись!
^
Челов къ, говоритъ Розановъ, долженъ радоваться: онъ можетъ любить, онъ можетъ рождать! Н тъ
тайны большей, ч мъ тайна любви, на этой тайи
зиждется вся эта земля, вс эти зв зды, вся красота
природы, если тайну любви постигъ,—все, что нужно
для твоего спасенія постигъ!... Какъ просто, и вм ст
съ т мъ, сколько мучительной глубины въ этой простот !... Челов къ—это что-то безумно живоносное, что-то
г таящее въ себ миріады жизней, миріады міровъ!...
„Челов къ—говоритъ Розановъ — весь есть только
87
трансформація пола, только модификація пола, и
своего и универсальнаго!" („Люди луннаго св та").
Мы живемъ въ мір женственности... Въ этомъ
таится какой-то еще нев домый міру восторгъ, въ
этомъ разлито какое-то опьяняющее, в чно спасительное, в чно религіозное томленіе... Ибо женствен-|
ность, женокое,—это можетъ быть аттрибуты нев домаго божества... У Розанова по этому поводу создалась ц лая метафизика. Въ „Людяхъ луынаго св та"
книг , которую лучше было бы назвать метафизикой
пола, а не христіанства, ыаходимъ такія слова: „Я
все сбпваіось говорить, по старому: „Богъ", когда
давно надо говорить Боги; ибо в дь.лхъ_^ва, Элогимъ, а ые дш-ахъ (ед. число). Пора оставлять эту
нав янную намъ богословскимъ иедомысліемъ ошиб-1
ку. Два Бога—мужская сторона Его и сторона—жен- \
ская. Эта посл дняя есть та „В чная Женственность", \
міровая женственность, о которой начали теперь г о
ворить повсюду. „По образу и подобію Боговъ (Элогимъ) сотвореиное" все и стало или „мужомъ" или
„женою", „самкою", или „самцемъ" отъ яблониидо
челов ка. „Д вочки"—конечно въ Отца Небеснаго, a
мальчики—въ Матерь Вселенной! Какъ и у людей: дочери—въ отца, сыновья—въ мать! („Люди лун. св та").
Повторяю, правъ былъ Иванъ Карамазовъ, постигшій это внутреннее очарованіе міра, и съ страстиою жаждою прильнувшій къ кубку жизни. Правъ
онъ и тогда, когда этотъ восторгъ, это томленіе онъ
выражаетъ въ словахъ, обращенныхъ къ Алеш :
.„Собственнымъ умиленіемъ упыось. Клейкіе весенніе
лнсточки, голубое небо люблю я, вотъ что! Тутъ не
умъ, не логика, тутъ нутромъ, тутъ чревомъ любишь, первыя свои молодыя силы любишь!"...
88
Несомы нно, правъ и Иванъ, правъ и Розановъ.
Только все д ло-то въ томъ, что сущность не въ
ихъ умилепіи и не въ ихъ экстаз , а въ чемъ-то
другомъ, очень далеко отъ пихъ стоящемъ, тамъ
именно, куда они не хотятъ, боятся взглянуть, въ
той области, отъ которой они навсегда отвернулись!...
Ибо какъ ни хороша эта радость, какъ ни эстетично
1
это язычество, но оно въ сущности, хорошо какъ
настроеніе, какъ переживаніе момента, но строить
на немъ всю жизнь—это хотя и возможио, но слишкомъ ужъ узко, я бы сказалъ:—скучио!... Догмати, ческое язычество, язычество, низведенное съ высоты
{ ^іечты въ реальную челов ческую жизнь,—какъ скоро
зд сь испаряются вс геніальные Розановскіе замыслы, какъ слишкомъ быстро куда-то исчезаетъ
всякая эстетика, всякое очарованіе, всякое безуміе,
какъ незам тно все это зам няется все той же на• до вшей, с рой тоской д йствительности!... Принять
д йствительность за то только, что въ ней таится
геніальная идея д торожденія,—это'слишкомъ ужъ
примитивно, до см пгаого^^ишітивыо, несмотря на
всю сложность скрывающойся въ пемъ идеи! Но идея
одно, а жизнь—другое, совс мъ другое, и въ томъ-то
и весь ужасъ, что жизнь своимъ убожествомъ и
своею пошлостыо убиваетъ всякую, самую возвышенную идею. Вс замыслы Розанова при попыткахъ реализаціи разсыпаются въ прахъ, и остается
отъ этого только одна скука, только одинъ в чный
и нич мъ не заглушаемый кошмаръ!
Слишкомъ возлюбили мы свою глубину, чтобы [
пром нять ее на самое яркое сверканіе торжествующей д йствительности, слишкомъ возлюбили мы свою
скорбь, чтобы зам нить ее маленькими радостями этой
89
жизни! Да, маленькими радостями, ибо ^кто прини- si
маетъ жизнь во имя мечты о великой радости, тотъ
долженъ л«ить только ея измельчаніемъ, ибо въ пред лахъ реальнаго не за что ухватпться, и все великое обращается въ пошлость тоски! Объ этомъ
самъ Розановъ прекрасно знаетъ, онъ какъ бы боится
даже отв тить на вопросъ, какимъ образомъ возможно осуществить въ жизни его теоріи, a
когда отв чаетъ, то простота отв та далека отъ
всякой геніальности... Въ одномъ м ст онъ такъ
все это. рисуетъ: „Вы не можете доказать, а я не
хочу доказывать. Столъ долженъ быть сытенъ и
вкусенъ, жена добра и красива, д ти—хороши и ихъ
много: деньги въ достатк и съ запасомъ, домъ для
себя и для гостей. Иначе, иной путь ведетъ вовсе
не къ объ данію, бездомности, уб ганію отъ сос дства, къ выгону гостей или всеобщему раззыакомленію. Отвратительно и не понимаю, почёму биже- A
ственно!"... Если это объясыеніе, если это оюизнь, та
безумни радостная жизнь, что грезится въ языческой
мечт , то и объ этомъ можно сказать, что это не
только не божественно и не только отвратительно,
но просто пошло! И стоило же, было же во имя чегОі
отворачиваться отъ Христа! Гд же не то что геніальность, но даже та пресловутая эстетика, за которую Розановъ такъ любитъ хвататься, анализируя
христіанство?... Ея н тъ въ этомъ всемъ, самъ Розановъ это признаетъ въ сл дующихъ словахъ: „Эстетика это мигъ, а в чность—именно не эстетика, и
даже что-то отрицательное въ отношеніи ея. Зд сь
права земли, права безобразнаго или вообще не кпасиваго. Эстетически можно умереть, а прожить—никакъ нельзя эстетически, и зд сь—права жизни,
90
реализма"... Разв этимъ не сказано все? Разв это
не говоритъ само за себя?... Н тъ, если такъ осуществляется эта радость, если таковъ ея реальный
видъ. то лучше, въ тысячу разъ лучше христіанская смерть... И сама святая плоть не есть ли это
только мечта, мечта лучшихъ дней этой жизни, a
въ жизни—ОДБО настроеніе, минута одного настроенія, а въ жизни—чаша ея, тотъ кубокъ, который
пьетъ такъ жадно Иванъ Карамазовъ—все сильн е
дрожитъ въ рукахъ, и дно ея все ближе, и в чиая
пустота, в чная скука все явственн е, все неопред ленн е! „Я в дь сказалъ теб : мн бы только до
тридцати л тъ дотяиуть, а тамъ—кубокъ объ полъ.
— А клейкіе листочки, а дорогія могилы, а голубое небо, а любимая женщина? Какъ же жить-то
будешь, ч мъ ты любить-то ихъ будешь?—горестно
восклицаетъ Алеша"...
Гд найти отв тъ? Въ томъ-то п вся трагедія,
что его и найти нельзя, что вопросы одни, вопросы
всюду, на каждомъ шагу, а отв та н тъ... И не въ
природ это русскаго челов ка—отв ты давать. Розановъ попробовалъ дать отв тъ и спасовалъ передъ
д йствительностыо, а отв тъ-то получился скучный...
-і:-Вопросы любитъ русскій челов къ, а не отв ты, до
того возлюбилъ вопросы, что даже самая возможность отв та вызываетъ въ немъ печальную улыбку
, сбмн нш-Ь.. Отчего это? He оттого ли, что слишкомъ
глубока, неизм римо глубока его скорбь, что слиіпкомъ велика трагедія, что слишкомъ сердцу дорога
безысходность? Радость призываемъ всею душой, но
когда обр таемъ ее, ужасаемся и стремимся убить
ее всяческими проклятіями, горькими слезами залить
св тъ души! Неисц лима наша тоска и мучительна
91
наша рана, и еслрі возлюбили мы редрігію скорби,
если все стремится въ насъ къ ней, то не значитъ
ли это, что мы нав ки погибли для той языческой
гармоніи, о которой говоритъ Розановъ? И не правъ
ли въ словахъ своихъ Иванъ Карамазовь: „Люди
сами, значитъ, виноваты: имъ даиъ былъ рай, они
захот ли свободы и похитили огонь въ небеси, сами
зная, что станутъ ыесчастны, значитъ, нечего ихъ
жал ть. 0, по моему, по жалкому, земному эвклпдовскому уму моему, я знаю лишь то, что страданія
есть, что виновныхъ н тъ, что все одно изъ другого
выходитъ прямо и просто, что все течетъ и уравнов шивается,—но это в дь лишь эвклидовская дичь,
в дь я знаю же это, в дь жить по ней я не могу-же
согласиться! Что мн въ томъ, что виновныхъ н тъ
и что все прямо и просто одно изъ другого выходитъ, и что я это знаю—мн надо возмездіе, иначе
я в дь истреблю себя!"...
Какъ все это далеко отъ Розановской прославляемой гармоніи! Какъ все это далеко отъ его
мечты! Онъ такъ хорошо изучилъ трагедію хрпстіанства, трагедію русской души, это ужъ одно доказываетъ, что знаетъ онъ., вид лъ онъ ту глубину, которая открылась ему въ этомъ ночномъ царств и
отъ которой онъ въ испуг поб жалъ прочь!... Еслп
ужъ въ этомъ случа челов къ заговоритъ о радости, значитъ онъ увид лъ н что такое страшное въ
глубин своей, что ему нужно уже л читься, нужно
см хомъ своимъ заглушать уныніе, нужно хоть
искусственнымъ св томъ осв тить таинственные
своды темной ночи!... Ибо онъ вид лъ Ликъ Христовъ,
онъ вид лъ больное страданье Его, онъ вид лъ всю
безысходную красоту Его, и нельзя, невозможно пред-
92
положить, чтобы не понялъ онъ, отчего, откуда это
страданье? Онъ побывалъ въ подземельяхъ челов ческаго духа и стало ему тамъ холодно, стало нестерпимо, но великую истину онъ вынесъ оттуда: „религія
реальна и в чна, но только разсмотр ть-то ее мооюно
изъ подземелій и страданія\"... Отчего? Да не оттого
/ли, чт(У ч мъ глубже внизъ, въ тайники челов ческой души, т мъ больше страхъ, т мъ сильн е мучптельная рана, т мъ безысходн е скорбь, требующая забвенья, только одного забвенья... He оттого ли,
что какъ только все поймешь—туп етъ разумъ, и
хочется скор е во имя своего спасенія отказаться
отъ этого пониманія, оглушить себя ч мъ-то, хочется хоть радостью исц лить себя на время, хоть
настроеніемъ, хоть чарами женствеиности ут шить
А совс мъ уже никуда негодную жизнь?!
J
Вотъ былъ писатель—Михаилъ Пантюховъ, до
того проникшій въ глубину и такое что-то въ этой глубин увид вшій, что ііичего ему посл этого не оставалось, какъ добровольно пойти въ психіатрическую
больницу и умолкнуть тамъ иавсегда, для себя, для
себя одного сохранить свою тайну и съ нейумереть...
И этотъ челов къ, уходя изъ міра, написа^ь въ
своемъ дневник такія слова: „Вс идеи доведены
до конца. Вн Христа—пустота, пустота, пустота!"...
Этотъ какъ никто друтой созналъ всю необходимость
радости, всю необходимость ут шенія, но и онъ нашелъ эту радость тоже во Христ ; то-есть въ Бог
.страдаиья, въ Бог горькой РІ печальной любви!
"Да, христіанство—это волшебная красота ночи,
это подземное царство скорби—правильно это понялъ
Розановъ. Только можетъ быть это не христіанство,
а сама русская душа?... Можетъ быть это ея очаро-
93
ваніе, ея красота, которую прпнялъ онъ захристіанство?... Какъ бы то ни было, онъ раздражается, что
зд сь много скорби, много унынія, что отъ языческаго солнца оно отвернулось и спрятапось въ глубину долинъ... Была же в роятно какая-нибудь прпчина, недаромъ же это свершилось. Ho о причип
иужно молчать, Розанову то болыпе другихъ нужно
молчать, но кто ум етъ чувствовать безмолвіе, тотъ
пойметъ и безъ словъ...
„Св те тихій, святыя славы"—поется въ христіанскомъ церковыомъ п споп ніи... И еще есть
тамъ мудрыя, знаменательныя слова: „пришедше на
Западъ солнца, вид вше св тъ вечерній!"... Вотъ,
кому эти люди молятся, св ту вечернему, полному
грусти, полному невыразимаго очарованья, св ту
потухающей печали... И въ ночь идутъ, и видятъ
неразгаданные сыы... И въ снахъ живутъ... Какъ
хорошо Розановъ понимаетъ эту ночиую жизнь! Въ
одномъ м ст онъ говоритъ: „День и ночь им ютъ
совс мъ разную ПСРІХОЛОГІЮ ВЪ себ ; я хочу сказать,
что не только изм няется психика людей въ это
время, но что, какъ будто, и сама природа на ночь
воодушевляется совс мъ другимъ воодушевленіемъ,
нежели какое влад етъ ею днемъ... Ночь бол е одушевлена, ч мъ день; но не раціоналыіымъ одушевленіемъ, а полетомъ скор е мистическихъ сторонъ
души. Тогда молятся, тогда изобр таютъ стихп, тогда
слушаютъ музыку, мечтаютъ: все—посл захода
солнца, или ран е восхода его!"... Вотъ въ этомъ-то
таинственномъ царств Розановъ и понялъ и почувствовалъ тотъ великій надрывъ, то великое томленіе
духа, ту тоску, отъ которыхъ поб жалъ отсюда, далеко поб л^алъ, въ глубокую древность, къ давно
94
умершему язычеству. Такъ спасаются отъ трагедіи...
Но вотъ т спятся въ душу все т же в чные, незабвенные, болящіе вопросы, все мучаетъ неразгаданность ихъ! Отчего же трагедія в чна, несмотря
на яркое сознаніе, что радость есть, что радость возможна? Отчего то, ч мъ можно жить—безуміе и красота—открываются только въ одномъ мгновеньи и
хорошрі какъ мгновенье, какъ настроеніе одно?...
Отчего мечта только можетъ одушевлять жизнь, a
реальная д йствптельность, будничная жизнь есть
кошмаръ, въ которомъ клейкіе листочки покрываются
с рою пылыо тоски, въ которомъ голубое небо застилается туманомъ, въ которомъ женщины проходятъ вдаль, оставляя въ душ
одну лишь горечь
пресыщенья?...
Эти вопросы останутся в чной загадкой. Но Розанову н тъ до этого д ла. И онъ правъ... Ибо несравненно счастлив е тотъ челов къ, который непосредственно отдается хоть маленькой, хоть земной, хоть
низкопробной радости, ч мъ тотъ, который надорвалъ
себя трагедіей неразр шимыхъ вопросовъ. Ибо, въ
конц концовъ, клейкіе листочки, голубое небо,_женщины—дороже всего, дороже вс хъ вопросовъ, ибо
хбть на минуту даютъ безумный восторгъ, отъ котораго гаснетъ вся жизнь. Ибо—великую истину говоритъ Розановъ въ предисловіи къ своей книг :
„Люди луннаго св та".
„Если даэюе все поймемъ, то самое это пониманіе бросимъ въ огонь!
... Ибо уже лучше пусть померкнетъ умъ, нежели чтобы погасла жизнь".
V.
Въ посл дней жестокости—есть бездонность
н жности
И въ Божіей правд —Божій обман-Б^:
3. Гиппіусъ.
Николай Ставрогинъ—это, можетъ быть самое
ц льное, самое выдержанное, самое яркое созданіе
Достоевскаго... Впрочемъ, можетъ быть и не созданіе,
а мечта. Это не первая его мечта и не посл дняя,
у него ихъ много, все творчество его—углублечная
до надрывнаго экстаза мечта... Хоть и не завидяая,
тяжелая была жизнь Достоевскаго, но все же—онъ
былъ уже счастливъ т мъ, что всегда у него им лась мечта и что предавался онъ ей всей силою
своей души. Это и спасало. С рые Петербургскіе дни,
кошмаръ повисшихъ надъ истомленной душой будней,
страхъ передъ пустотой и передъ голодной смертыо,
эпилепсія и другія бол зни, а главное тоска,—все
это какъ нельзя лучше располагало къ мечті... У
него даже по этому поводу есть знаменательныя
слова: „Всякое раннее утро, петербургское въ томъ
чиол , им етъ на природу челов ка отрезвляющее
д йствіе. Иная пламенная ночная мечта, вм ст съ
утреннимъ св томъ и холодомъ, совершенно даже
испаряется, и мн самому иногда случалось припо-
96
минать no утрамъ иныя свои ночныя, только что
минувшія грезы, а иногда и поступки, съ укоризною
и стыдомъ. Но мимоходомъ, однако, зам чу, что
считаю петербургское утро, казалось бы, самое прозаическое на всемъ земномъ шар ,—чуть ли не самымъ фантастическимъ въ мір . Это мое личное
воззр ніе или, лучше сказать впечатл ніе, но я за
него стою. Въ такое петербургское утро, гнилое,
сырое и туманное, дикая мечта какого-нибудь Пушкинскаго Германа изъ „Пиковой Дамы" (колоссальное лицо, необычайный, совершенно Петербургскій
типъ—типъ изъ Петербургскаго періода!)—мн кажется, должна еще бол е укр питься. Мн сто разъ,
среди этого тумана, задавалась странная, но навязчивая грёза: ПА что какъ разлетится этотъ туманъ
и упдетъ кверху, не уйдетъ-ли съ нимъ вм ст и
весь этотъ гнилой, склизлый городъ, подымется съ
туманомъ п исчезнетъ какъ дымъ, и останется прежнее финское болото, а посреди его, пожалуй, для
красы. бронзовый всадникъ на жарко дышащемъ,
загнанномъ кон ? Однимъ словомъ, не могу выразить моихъ впечатл ній, потому что все это фантазія, наконецъ, поэзія, а стало быть—вздоръ; т мъ
не мен е, мн часто задавался и задается одинъ
і уже совершенно безСіМысленный вопросъ: „Вотъ они
вс кидаются и мечутся, а почемъ знать, можетъ
быть, все это чей-нибудь сонъ-, и ни одного-то челов ка зд сь н тъ настоящаго, истиннаго, ни одного
поступка д йствительнаго? Кто-нибудь вдругъ проснется, кому это все грезнтся—и вдругъ все исчезнетъ". („Подростокъ")...
^
Эти слова крайне характерны для Достоевскаго!
Вотъ, ч мъ онъ себя т шилъ и спасалъ,—мечтами
выіпе жизни, грезами ставшими для него не только
д йствительиостыо, но ч мъ-то гораздо важн е д йствительнострі. Такъ воскресали лица, такъ рождались геніальныя идеи. И все это уже потому ц нн е всякаго, самаго первосортнаго реализма, что въ
этомъ мы ВІІДІШЪ символъ внутренняго міра художника, символъ души его,—такой необычной, такой
всегда неизм нно и в чно загадочной и незд шней!
Да, незд шней въ томъ смысл , что въ челов че- ^
скомъ муравейник то, что являлось для него мукой,
болящей загадкой, или крестомъ,—то для стада всегда
курьезно, всегда ненормально и всегда до см шного
ненужно! И вотъ этой-то своей чертой Достоевскій, л
можно сказать—переросъ міръ, сталъ выше міра и
вн міра,—сталъ въ в чности... И не писателя это
твореніе, ибо вс писатели—большіе и малые, и т ,
которыхъ теперь возводитъ на пьедесталы толпа,—
пройдутъ въ конц концовъ мимо, и если останется
отъ ихъ „геніальпости" что-либо, то во всякомъ случа ,—малая толика, а Достоевскій,—тотъ будетъ
стоять в чно и для каждой эпохи, для каждаго в ка
будетъ всегда новой загадкоп и той красотой, что
рождаетъ въ душ совершеныо новые міры,—ибо онъ
слишкомъ ужъ далеко шагнулъ... Словно родился
изъ творческихъ его тайнъ безконечный лабиринтъ
безконечныхъ, манящихъ въ безконечность путей—и
вотъ путп эти прошли сквозь грядущіе в ка, и ждутъ
пока время не донесетъ къ нимъ эту землю, а можетъ быть, эти пути уже ушли въ такую страшную
даль, что ихъ уже не догонитъ земля?! Вотъ почему
поднятый недавно въ русской журналпстик вопросъ
о такъ называемомъ „преодол ніи" Достоевскаго,—
кажется празднымъ... В дь для общественнаго мн 7
98
нія Достоевскій не только безусловно „преодолимъ",
но и непонятенъ, и неыуженъ, и чуждъ, и, еще я
бы сказалъ—вреденъ. Ненуженъ въ томъ смысл ,
что никакая обществеиная пошлость не въ силахъ
опошлить хоть единое м сто изъ Достоевскаго, на
такой недосягаемой высог стоитъ онъ надъ нею, a
чуждъ потому, что слишкомъ глубокъ, до того глу^ бокъ, что^огда говорятъ о немъ люди общественнаго пошиба, то въ болыпинств случаевъ говорятъ не
о немъ, а о своемъ его непониманіи, а въ этомъ
„преодол ніе" дается безъ особаго труда!
л случа
Для того, чтобы создать Николая- Ставрогина,
нулшо далеко было шагнуть Достоевскому. Въ этомъ
случа какъ нельзя сильн е обнаружился его в щій
пророческій даръ! Въ наши дни Ставрогинъ кажется
то Оскаръ Уайльдомъ, то Фалькомъ, то к мъ-то еще
бол е близкимъ и современнымъ, словно вышедшимъ изъ глубины нашего духа, словно символическимъ изображеніемъ загадочныхъ письменъ творчества... Излюбленная это, видно, была мечта! Мечта
и, вм ст съ т мъ—живой челов къ, который ходитъ среди людей и гипнотизируетъ. Загадка и красота, возведепная въ такую степень, что не хочется
в рить, что живой челов къ можетъ быть такъ красивъ! He челов ческая красота, а скор е—демоническая, и, хотя Ставрогинъ и ув ряетъ, что его б сеиокъ просто „изъ неудавшихся, съ насморкомъ",
но это кажется одной лишь скромностыо. Слишкомъ
ужъ сложный и слишкомъ глубокій это челов къ—
Николай Ставрогинъ!
Прошлое Ставрогина покрыто мракомъ ыеизв стности, онъ въ „Б сахъ" если и появляется время
отъ времени, то больше молча, и вотъ это-то молча-
99
ніе его производитъ необычайно силыюе впечатл ніе... Молчитъ, промолвитъ небрежно одно-два слова—
и веоь тутъ, а вокругъ иего свершаются чары, онъ
создаетъ настроеніе, онъ влюбляетъ и мучаетъ однимъ
движеніемъ, или поворотомъ головы, или взглядомъ!
Всегда изысканно од тый, всегда безукоризненно
св тскій,—оыъ однако все это носитъ на себ безъ
мал йшаго отт нка напряженія, какъ настоящій врожденный аристократъ; появляясь среди этого сброда
золотушныхъ б сенятъ,—онъ сразу. же выд ляется,
сразу покоряетъ, приковываетъ, въ душныхъ и черненькихъ комнатахъ провинціальнаго городка онъ
безсознательно чертитъ лицомъ и фигурой музыкальный рисунокъ тайны! Странные поступки чередуются
съ рафинированною в жливостыо скучающаго дэнди,
вокругъ него въ паник кружатся и пляшутъ какіято зат йливыя, очень сумеречныя, туманныя т ни...
И дамы шепчутъ, вздыхая въ углахъ „ужь не великій ли Розенкрейцеръ, или кровожадный убійца?"...
И досадливо кусаютъ губы салонные львы... И лицо
у него удивительное, незд шнее и не жизненное,
словно заперъ онъ отъ вс хъ кр пко и на-глухо свою
душу, словпо вышибъ изъ нея жизнь, и это отразилось на лиц ... Словно великая усталость, та наша,
современная усталость, о которой поэтъ говоритъ,
что она „выше горъ", истомила до того все его существо, что сталъ оыъ подобенъ смерти и стало лицо
бл дной застывшей маской, наводящей ужасъ, вызывающей ледяные уколы страха... Среди д йствительности это лицо-маспа до того необычно, до того странно, что это ужъ одно служитъ побужденіемъ къ преклонеиію или къ любопытству, Можетъ быть,—впервые люди увид ли, что такое маска страданья,—и
100
стало имъ страшно... Словно сверхжизненный символъ великой боли, великаго надрыва низшелъ къ
нимъ, РІ они впервые увид ли то, чего нельзя вид ть,
что можно только чувствовать въ р дкія минуты,
или предугадывать! Это выше ихъ пониманія, что
челов къ властенъ выбросить въ ЛРІЦО свое всю свою
умирающую отъ боли душу и потомъ великою силою воли приказать лицу застыть въ мрамор холоднаго, брезгливаго равнодушія!
Вотъ онъ прошелъ мимо нихъ какъ загадка, ибо
глубина его закрыта отъ вс хъ! Вотъ оиъ наводитъ
холодныя чары и взглядомъ однимъ соблазняетъ
женщинъ, и это потому, что влад етъ онъ силой
смотр ть на все и на вс хъ съ высоты своего презр нія. Иногда кажется, что онъ держитъ судьбы
вс хъ этихъ людей въ рукахъ своихъ, но это обманъ,
это оттого, что онъ одинъ ереди нихъ знаетъ великую тайну презр нія и тихой ненависти ко всему
р шительно, что вокрзтъ... И многіе думаютъ—онъ
поб дилъ міръ,—но это тоже обманъ, онъ только
посм лъ уничтожить въ себ всю ц нность міра, онъ
посм лъ все отвергнуть и надъ вс мъ поставить
в чный крестъ и надъ вс мъ посм яться, уже для
этого одного нужиа нечелов ческая сила, уже это
одно можетъ сд лать лнцо маской смертельной б лизпы!
Тамъ, въ прошломъ, за границей, которое неизв стно, во всякомъ случа —мало изв стно и только
мелькаетъ въ отрывкахъ разговоровъ,—тамъ Николай
Всеволодовичъ былъ вдохновителемъ и невольнымъ
учителемъ не только такихъ незаурядныхъ людей,
какъ Кирилловъ, или Шатовъ, или Верховенскій, но
п всего русскаго движенія и т хъ чисто русскихъ,
101
съ закваской саташшскаго аыархизма идей, которыя
потомъ развились въ Шигалевщину и въ странное
челов кобожество Кириллова! Вс ему ч мъ-то обязаны, каждый носитъ въ себ невольное благогов ніе передъ его геніальнымъ умомъ, каждый на случайно и небрежно брошениой имъ мысли,—строитъ
ц лое міровоззр ніе, ц лую систему самыхъ дикихъ,
самыхъ дерзкихъ идей, для нихъ Ставрогршъ не
только вдохновеніе, но н что врод божества, какойто властный идолъ, которому они поклоняются, какая-то сверхчелов ческая и обезсиливающая красота...
„Ставрогинъ, вы красавецъ!—истерически вскрикиваетъ ошал вшій Петръ Степановичъ Верховенскій,
словно предъ иконой молитвенно скрещиваетъ руки
этотъ ни во что нев руіощ^й типичный нигилистъ—
,.зііаете-ли, что вы красавецъ! Въ_ва£Ъ_всеі^_дсфіоже
то, что вь^-Дногда- тір -~эаіі^е_знаете:_Р, я васъ изучилъ! Я на васъ часто сбоку, изъ угла гляжу! Въ
васъ даже есть простодушіе и наивность, знаете-ли
вы это? Еще есть, есть! Вы должно быть, страдаете,
и страдаете искренно, отъ этого простодушія. Я люблю
красоту. Я нигилистъ, но люблю красоту. Разв нигплисты красоту не любятъ? Они только идоловъ не
любятъ, а я люблю идола! Вы мой идолъ! Вы никого не оскорбляете, и васъ вс ненавидятъ, вы смотрите вс мъ ровней, и васъ вс боятся, это хорошо.
Къ вамъ никто не подойдетъ васъ потрепать по
плечу. Вы ужасный аристократъ. Аристократъ, когда
идетъ въ демократію, обаятеленъ! Вамъ ничего не
значитъ пожертвовать жизнью, и своею и чужою. Вы
именно таковъ, какого надо. Мн именно такого
надо, какъ вы. Я никого кром васъ не знаю. Вы
предводитель, вы солнце, а я вашъ червякъ"... Онъ
102
вдругъ поц ловалъ у нето (Ставрогина) руку. Холодъ прошелъ по спин Ставрогиііа, и онъ въ пспуг вырвалъ свою руку. Они остановились.—Пом шанный!—прошепталъ Ставрогипъ". („Б сы").
Что-то безумное въ этомъ, почти всеобщемъ, преклоненіи... Словно колеблется предъ челов ческими
глазами таинствениая зав са, а за нею сіяетъ какое-то незд шнее солнце, словпо душу охватилъ восторгъ передъ чудомъ, передъ ыевозхможнымъ, которое, однако, возможно, и вдругь, среди жизнж, маленькіе люди ув ровали въ сверхчелов ческую силу,
ув ровалн въ сказочиаго, волшебнаго, но живаго, но
возможнаго Ивана Царевича, прекраснаго жуткою
красотою, но съ мертвенно бл днымъ лицомъ, неподвижнымъ какъ маска! И свершилось н что немыслимое, почти чудод йствешюе: вотъ сказкой стала
жизнь, сказкой, тихо рыдающей въ серафпческихъ
звукахъ опьянеиія!
„Вспоміште^ что вы значили въ моей жизни,
Ставрогпнъ!-'—вырывается вдругъ у Кириллова. И
этотъ, ни передъ ч мъ ые преклоняющійся челов къ,—тоже подверженъ таипственной в р въ Ивана
Царевича, пбо, можетъ быть, то, на чемъ онъ строптъ
все свое міровоззр иіе, разврілось изъ одноіі только
небрелгію брошеыной Ставрогинымъ мысли! Ибо, можетъ быть, pie родплась бы въ немъ идея о челов кобожеской сил , если бы пе Ставрогшіъ!
Что такое пощечрша Шатова, даііная Ставрогину, какъ пе возмущеніе дути передъ безсознательной молитвой на этого челов ка, какъ не безспльный протестъ противъ его власти? В дь самъ зке
Шатовъ признается въ этомъ Ставрогину: „я ые для
того подходилъ, чтобы васъ наказать; когда я под-
103
ходилъ, я не зналъ, что ударю... Я за то, что вы
такъ много значили въ моей эісизни... Я..."
И Шатовъ, ув ровавшій въ Бога и въ Россію, у
ув ровавшій по вин Ставрогина, по вин безсознательной для посл дняго, въ сущности, не въ Бога
в рувтъ, и не Богу молится,—а все тому же таинственному и загадочному принцу Гарри, все тому-же
общему идолу, мучительно прекрасной мечт Достоевскаго, возставшему изъ сказочныхъ чудод яній
Ивану Царевичу! ...—Я ц ломудріе им ю, но я не
побоялся моего нагиша, потому что со Ставрогинымъ
говорилъ. Я не боялся окаррикатурить великую мысль,
потому что Ставрогинъ слушалъ меня... Разв я не
буду ц ловать сл довъ вашихъ ногъ, когда вы уйдете?
Я не могу васъ вырвать изъ моего сердца, Николай
Ставроггтъ!...
— Мн жаль, что я не могу васъ любить, Шатовъ!—
холодно проговорилъ Николай Всеволодовичъ"...
На мутыо-с ромъ фон стоитъ какъ ВОПЛОТРІВШІЙСЯ
призракъ удушливаго сна, сна объ убійственной, сладострастно-больной красот , и ледяной холодъ струптея отъ Аполлонова гордаго и величественнаго лица,
й кажётоя, что гнилую мглу тошнотворной д йствительности зачерпііула чзгдотворная рука, осл шіла
внрзашюю ракетой изъ міровъ подземныхъ, изъ міровъ
тихихъ, дальнихъ, подвластныхъ Сатан ... Съ мертвенной улыбкой демона стоитъ надъ Шатовской
мольбой, надъ вс ми „идеямп" и иадъ вс ми богами... „Волосы что-то ужъ очень черны, св тлые
глаза что-то ужъ очень спокойны и ясны, цв тъ
лица что-то ужъ очень н женъ и б лъ, румянецъ
что-то ужъ слишкомъ ярокъ и чистъ, зубы какъ
жемчужипы, губы какъ коралловыя,—казалось бы
104
писаный красавецъ, а въ то же время какъ будто и
отвратптеленъ, съ лицомъ нашшинающимъ маску"...
Откуда это? Отчего челов къ, можетъ быть, такой же, какъ вс , можетъ быть, слаб йшій изъ
вс хъ, — производитъ такое странное впечатл ніе,
вызываетъ столь разнор чивыя чувства? Ужъ не
оттого ли, что онъ ум ло запечаталъ отъ вс хъ свою
душу п никто не знаетъ, какова она въ сущности?
Ужъ не потому-ли, что этотъ челов къ совс мъ
ушелъ изъ жизни на такія вершины, гд сл пнутъ
глаза пошляковъ, откуда уже нельзя возвратиться,
откуда лишь можно гляд ть на людей усталыми
взорами н мой и застывшей скорби! Этотъ челов къ
могъ добывать пзъ себя, если нужно было, титанпческую силу, но пе зналъ, зач мъ она и къ чему ее
приложить, онъ ум лъ создавать мысли, открывающія ц лые міры, зажигающія нев домые горизонты
въ сердцахъ слушателей, опьяняющія геніалънымъ
прозр ніемъ, но въ глубин души страдалъ отъ сознанія, что и он —ничто передъ той пустотой, которая вокругь, онъ нарочно наводилъ мысль другпхъ па то, что казалось ему лишь карточнымъ домикомъ, и когда кто либо хватался об ими руками
за это хрупкое Ставрогинское созданіе, и не только
хватался, но съ воодушевленіемъ располагался въ
немъ на ц лую жизнь, радуясь, что наконецъ нашелъ успокоеніе въ тепленыюмъ м стечк ,—тогда
Ставрогинъ, находящій мгновенное удовольствіе въ
созерцаніи этой комедіи,—брезгливо морщился и отХодилъ, обдавая обезум вшаго ученика холодомъ
молчаливаго презр нія... Ибо противно было ему,
что люди такъ скоро могутъ успокоиться на первомъ
попавіпемся обман , ибо скучно было ему вид ть^
105
какъ они съ радостыо гибнутъ въ с тяхъ, собственпоручно изготовленпыхъ, ибо невыносимо мучительно
было ему вид ть всюду и везд все одно и то же,
что было отъ в ка, что будетъ всегда! Онъ завидовалъ имъ, что они мен е взыскательны, ч мъ онъ,
что маленькіе обмаыы, маленькія идейки, ничего пестоющія общія м ста и то, что казалось ему лишь
игрушкой,—они д лали сразу ч мъ-то великимъ,
ч мъ-то святымъ, сразу же сгибались передъ
„идеями" въ три погибели, принимали на в ру, принимали радостно, и погибали во сн ! Ему же—и только
одному ему—было в домо, что жизнь—безконечная
трясииа, а вс идеи, вс выходы, вс религіи и вс
пристанища—только злов щіе провалы въ этой трясин , ему было противно тонуть въ нихъ, какъ вс
и гибнуть какъ вс , противпо потому что безсмысленно... Онъ ненавид лъ себя самого и относился
къ себ съ той-же брезгливой гримасой, что и къ
другимъ, оттого что не могъ войти въ колею, даже
тогда, когда это было нужно, не могъ ни разу въ
жизни ув ровать въ то, что д лалъ самъ, онъ былъ
только искуснымъ актеромъ всюду и везд , опъ
ум лъ играть самыми возвышепными чувствами и
мыслями лишь для того, чтобы увид ть эффектъ отъ
игры и посм яться надъ ыимъ, ему были см шны
и противны вс челов ческіе подвиги, вс жертвы
и распятья во имя правды, и не потому что онъ не
допускалъ возможности какой бы то ни было правды,
а потому лишь, что всякая подобная правда казалась ему слишкомъ маленькой, слишкомъ ужъ нестоющей вниманія! У пего въ мозгу словно заложенъ
былъ таинственный микроскопъ, благодаря которому
все въ мір для него подвергалось измельчанію. Все
106
было мелко и ничтожно и главпое—непреодолпмо
см шно! Всякая трагедія для пего была ие столько
трагедіей, сколько трагикомедіей, его созыаніе было
магическимъ зеркаломъ, въ которомъ все и вс принимали уродливую, каррпкатургіую и жалкую форму!...
Онъ пробовалъ самому увлечься, самому статъ д йствіемъ, но холодный анализъ п врожденпая иронія
всюду преграждали вс пути... Онъ не боялся уже
иичего и не могъ воодушевпться иич мъ, онъ могъ
казаться поб дптелемъ п героемъ не потому, что миогое поб дилъ, ио потому, что все для него потеряло
ц ну п смыслъ, потому что все въ одинаковой м р
было ненужно н жалко! Кто потерялъ вс надежды,
вс устои и догматы, тотъ уже и безстрашенъ, тотъ
. ко всему относится съ одинаковымъ презр ніемъ. To,
что казалось друпімъ въ Ставрогин силой, то для
него самого было однимъ лпшь погребепнымъ въ
душ отчаяніемъ! Такіе люди, правда, ыеизм римо
безстрашны и непзм рнмо холодны, но они же и
безгранично несчастны, несчастп е вс хъ на земл !
І^
Жизнь Ставрогиыа— это в чное скитаніе по
распутьямъ, это в чная борьба съ самимъ собой, это
тяжелая и ііенужная для него ноша! Въ то время,
какъ ПІатовъ, воспользовавшись теоріей Ставрогина находптъ Бога и весь зажигается, Николай Всеволодовичъ брезгливо морщится, даже улыбки ие можетъ
найти въ себ ... Ибо опъ говорплъ Шатову не о Бог ,
а о трагедіи исканія Бога, о той трагедіи, которая
можетъ коснулась когда-то и его самощ, онъ говорилъ ему зам чательныя слова, слова в чныя и
иезабвенныя о томъ „что разумъ и наука въ жизни
иародовъ всегда, теперь и сначала в ковъ, исполпяли лишъ должность второстепенную и служебиую;
107
«
такъ и будутъ исполнять до конца в ковъ. Народы
слагаются и движутся силою иною, повел ваіощею и
господствующеіо, но происхожденіе которой иеизв стно и необъяснимо. Эта сила есть сила неутомимаго
желангя дойти до коща и въ то же время конецъ
отрицающая". („Б сы").
Доморощенный анархизмъ Верховенскихъ п компаніи тоуке исходитъ отъ Ставрогина, но на ыпхъ
то посл дній смотритъ какъ ыа стаю жалкихъ собакъ. Онъ одипъ знаетъ объ этомъ н что такое, о
чемъ и не мерещилось Верховенскимъ, онъ знаетъ,
что все это попытки слабыя и ничтожныя, ибо н тъ
въ челов к той силы, которая бы смогла смести
съ лица земли то, что м шаетъ жить! Что если бы
явилась такая сила хоть единый разъ, если бы челов къ смогъ хоть на минуту богомъ стать, то сверпшлось бы все, кончилось бы все и времени болъгае
не существовало! Кириллову вздумалось овлад тъ
этой силой, онъ в ритъ въ свою миссііо в рою ребенка, онъ торжественио ув ряетъ, что онъ поб дплъ
страхъ жизни силою челов кобога, что онъ самый
первый, что онъ вдругъ захочетъ и времени больше
пе будетъ, и смерти больше не будетъ, онъ спасетъ
всю вселенную, проявивъ нечелов ческую волю, и
все это свершится въ ту мрінуту, когда онъ убьетъ
себя... Кирилловъ въ эту идею, идею самую геніальную и вм ст самую сумасбродную изъ вс хъ идей—
вложилъ всю свою душу и жизнь, онъ ею живетъ,
это его одежда и пища и религія, болыпе ему пичего не надо! И ему хорошо! Н тъ словъ, чтобы выразить его восторгъ! Но каково-то Ставрогину, созерцающему эту картину! Ему и завидно, и грустно,
но болыпе см шно! Ему см шно, что этотъ челов къ
108
сталъ в рующимъ до ребячества только всл дствіе
того курьезнаго случая, что ему удалось превратить
въ идею, въ догматъ геніальный Ставрогинскій парадоксъ, что то, что было для Ставрогина лишь
изящной игрушкой умственной утонченности, зд сь
по какой-то неизв стной сил превратилась въ ц лое
міровоззр ніе, въ ц лый религіозный догматъ, и
этотъ челов къ не только ув ровалъ въ него, не
только принялъ, но своею собственною добровольною
с.мертыо готовъ доказать свою в ру! См шно, и вм ст съ т мъ любопытно. Холодный, изящный, усталый, не изм няя масочнаго выражеыія лица, Ставрогпиъ спрашиваетъ:
- Вы стали в ровать въ будущую в чную жизнь?
- Н тъ, не въ будущую в чную, а въ зд шнюю
в чную. Есть минуты, вы доходріте до минутъ, и
время вдругъ оетанавливается и будетъ в чно.
— Вы над етесі? дойти до такой минуты?
— Да.
— Это врядъ ли въ наше время возможііо,—тоже
безъ всякой ироніи отозвался Николай Всеволодовичъ,
медленно и какъ бы задумчиво.—Въ Апокалипсис
ангелъ клянется, что времени больше не будетъ.
— Знаю. Это очень тамъ в рно: отчетливо и
точио. Когда весь челов къ счастья достигнетъ, то
времени больше не будетъ, потому что не надо. Очень
в рная мысль.
— Куда-жъ его спрячутъ?
— Никуда не спрячутъ. Время не предметъ, a
идея. Погаснетъ въ ум .
— Старыя фнлософскія м ста, одн и т же съ
начала в ковъ, съ какимъ-то брезгливымъ сожал ніемъ пробормоталъ Ставрогинъ. (^Б сы").
109
Эта посл дняя фраза зам чательно характерна
для Ставрогина... Въ томъ, что находилъ въ исканіяхъ и то, что люди съ видомъ мудрецовъ преподносили какъ откровенія,—все это ужъ старо и для
давнопрошедшихъ в ковъ было т мъ же, что и для
насъ, а главное,—ненадежыо и для него—увы!—даже
при всемъ его желаніи—недоступно... Кто знаетъ,
быть можетъ, и въ т времена, когда Шатовъ изъ
Америки писалъ ему душураздирающія письма, и
тогда, когда вс они какъ стая голодныхъ волковъ
кружились за граыицей около интернаціоналки,—Ставрогинъ не разъ покушался на какой-нибудь подвигъ,
всею душой хот лъ чего-то, что могло-бы хоть оправдать его жизнь, но не хватало ув реыгюсти, что за
вс мъ этимъ не таится какой-либо новый обмаыъ,
какая-либо новая ловушка, какое-нибудь новое слово
на в чно старомъ м ст ,—пошлое, избитое, какъ
вся эта жизнь! Какъ хитрый искуситель искушалъ
онъ другихъ великими замыслами и разбрасывалъ
ихъ небрежными мановеніями, какъ неим ющее уже
для него ц ыы золото, и когда эта жадная свора
набрасывалась на это и пожирала и насыщалась
этимъ навсегда и болыпе ужъ ей ничего не нужно
было,—въ немъ презр ніе къ ихъ сытости см нялось
отвращеніемъ и онъ нарочно отрекался отъ своихъ
собственныхъ словъ, словно изъ чувства гадливости,
что онъ являлся участникомъ чего-то мелкаго и ничтожнаго! „Если вы отступились теперь отъ тогдашнихъ словъ про народъ, то какъ могли вы ихъ тогда
выговорить, вотъ что давитъ меня теперь!—говоритъ
ему Шатовъ...—„He шутилъ же я съ вами и тогда;
уб ясдая васъ, я можетъ, еще болыае хлопоталъ о
себ , ч мъ о васъ,—загадочно произнесъ Ставрогинъ"...
110
Bee же, хоть и иесчастенъ въ глубин
этотъ
челов къ, но ему в дома одна мысль, о которой вс
онн не только не им ютъ понятія, ио пришли бы въ
ужасъ, еслп бы оыа стала имъ в дома. Эту мысль
Ставрогинъ ыоситъ въ себ какъ глубоко зас вшую
въ душ заразу, и если что убьетъ его, то именно
она—эта мысль, мысль о томъ, что ие только вс '
великіе замыслы, но вс попытки къ спасенію близятся къ концу, что ничего и тъ, кром пустотьт,
что силыі е и выше всякой глубины велпкая, без- і
м рпая усталость!
~~&сяг загадочность его заключается именно въ
томъ, что до этой мысли, до мысли полнаго отрицанія всего никто не додумывался, а онъ одинъ ее
хранилъ въ себ какъ тайну, бол е того,—онъ весь
ушелъ въ нее, онъ закутался въ ея черное покрывало, но отъ людей хранилъ какъ святыню, ибо
зналъ, что для подобныхъ истинъ не пришелъ еще
часъ! Но ничто такъ не покоряетъ людей, какъ это
загадочное молчаніе, эта запечатанная, но всв же
чувствующаяся, тайиа!.. Ч мъ сложн е чвлов къ,
т мъ болыпе и многор чив е окружающее
его *
молчаніе, т мъ сильи е власть его надъ людьми! S
И кто болыпе вс хъ сможетъ посм яться ыадъ \
всею ихъ мудростью, того они и вознесутъ, и кго
окажетъ имъ побольше презр нія, тотъ ихъ больше
всего заинтересуетъ. А Ставрогинъ хоть и среди
нихъ находится, но, въ сущности—онъ отд ленъ
отъ нихъ невидимой для ихъ глазъ чертой—и никогда, никому не позволитъ онъ приблизиться за
черту, ибо оиъ слишкомъ дальній для пихъ! Пусть
людн мучаются,—думаетъ этотъ повелитель сердецъ,—пусть изводятъ себя и другихъ какою угодно
Ill
ложыо, я буду стоять надъ ними и улыбаться, пусть
себ кружатся! Міровую скорбь они возлюбили, отдаютъ себя въ жертву, просиживаіотъ ночи надъ
помертв вшей пылью в ковъ—и пусть, а я могу
лишь удержаться, чтобы ые з внуть имъ въ лицо,
а они ув рены, что я съ иими. Вотъ волнуется,
извивается, копошится челов ческая масса и это
похоже на б готню отвратительныхъ и вонючихъ
крысъ, вотъ взв шиваютъ судьбы міра, вотъ выдумываютъ боговъ и разрушаютъ ихъ, но однаминута
моей безм рной усталости стираетъ все это въ прахъ!
Карабкаются на высочайшія горы, сдираютъ шкуру
съ ближпяго и посылаютъ проклятья дальнему, но
я уже не могу какъ прежде см яться надъ ними,
мой см хъ тонетъ въ мрачномъ предчувствіи того
посл дняго часа, къ которому на невидимыхъ
крыльяхъ летитъ весь міръ, я вижу какъ тонутъ въ
пучин страшной тьмы вс челов ческія созданья,
все что отъ жизни, все, что им етъ смыслъ, я вижу
какъ надъ скелетомъ вселенной грохочетъ громовымп раскатами хохоть изиачальной и холодной в чности!
He жпзнь это, а словно идетъ челов къ и
тащитъ за собой свой разложившійся трупъ! Св тлые
глаза у пего и ясные, но кто взглянетъ въ нихъ
поближе,—тотъ увидитъ въ нихъ ужасную, см ющуюся надъ вс мъ міромъ пустоту! Лиза, та, что
подошла и взглянула,-—не обмерла, не ужаснулась,
она подарила его лишь однішъ уничтожающимъ,
невыносимымъ для него презр ніемъ! Лиза ждала
увнд ть въ любовномъ опьяпеніи сверхчелов ка, какого-то демона, который бы раздвниулъ зав су
мерзішй, тошной жизші, но вм сто этого предъ ней
112
предсталъ весь трагикомизмъ гальванизированнаго
трупа, который въ своей усталости дошелъ до того,
что не можетъ нич мъ отв тить на чувства отдающейся ему женщины, кром все той же брезгливой
улыбки сожал нія! И Лиза—богато одарениая, утонченная натура, не смогла понять Ставрогина^ ибо
слишкомъ онъ дальній даже для своей любви! Истерііческая барышня хот ла озадачить его см лой выходкой, прямо съ бала явилась къ нему ночыо, думала, что этимъ покоритъ, удивитъ! 0, иронія,—
было же ч мъ и кого удивлять! Кажется,—уже не
осталось на земл для него ничего больше, что
могло бы его удивить!
Недаромъ же говоритъ ему пл неныый имъ
Шатовъ: „ 0, вы не бродите съ краю, а см ло летите
внизъ головог ". И Шатовъ правъ, Ставрогинская жизнь
представляла богатое по содержанію зр лище. Онъ
побывалъ всюду и везд , и въ темныхъ закоулкахъ,
и на высочайшихъ горахъ, онъ исколесилъ вс дороги, заглянулъ во вс знанія, и всюду и всегда не
скользилъ по поверхпости, а бросался внизъ головой
въ самую отчаянную глубину вс хъ вещей. Что можетъ быть опасн е этого? Во миогихъ случаяхъ челов къ едва живымъ выйдетъ, а вся б да Ставрогина, что онъ вышелъ изъ этихъ глубпнъ и остался
живымъ! Всякая глубина ведетъ за собой ядъ всеотрицанія, но ясно, что это хорошо лишь на одну
минуту, ради эстетическихъ эмоцій, и плохо придется тому, кто посм етъ вынести на плечахъ это
бремя! Поистин участь величайшихъ мучениковъ
вплоть до Христа—ничто въ сравненіи съ этимъ
состояніемъ! Недаромъ же у Ставрогина какъ-то
вырвались по этому поводу весьма любопытныя слова,
113
за которыя тотчасъ же ухватился Шатовъ, какъ за
основной рычагъ: „He вы ли!—кричитъ Шатовъ ему—
говорили мн , что если бы математически доказали
вамъ, что истина вн Христа, то вы бы согласились лучше остаться со Христомъ, нежели съ истиной?" („Б сы"). Для Шатова эти Ставрогинскія слова
послужили вторымъ рожденіемъ, но если бы онъ
зналъ, какую иронію, какую боль нроніи вложилъ
въ нихъ его учитель! Шатовъ и Шатовцы ухватились за Христа съ остервененіемъ, ибо онъ нуженъ
имъ для міросозерцанія, для диссертацій на тему о
трехъ постасяхъ, для какой-нибудь претолстой и
водянистой кииги, врод „Оправданія добра", онъ
накоиецъ нуженъ иі іъ какъ удобныя ширмочки для
самаго настоящаго безв рія (в дь Шатовъ на вопросъ Ставрогина „в руете ли вы въ Бога",—не
отв тилъ утвердительно, ибо побоялся солгать, a у
современныхъ Шатовцевъ болыпе позы, ч мъ настоящей религіозности—факты, которые едва ли кто
будетъ оспаривать)...
Для Ставрогина ж Христосъ не могъ быть ни
ч мъ инымъ, какъ только синонимомъ полн йшаго
безсилія, полн йшаго отчаянья, ибо хорошо онъ понималъ великую истину, что Христосъ—:есть__освященіе безсилія, таинство безут шнаго отчаянья, . по .
крайыей м р —для него самого! Но главное, что
подтверждаетъ это—то, что Ставрогинъ не остался
со Христомъ, но не принялъ также и ни одной изъ
истинъ! He осталоя со Христомъ потому, что не хот лъ обмана, не ув ровалъ въ истину, потому что
главн йшая истина, которую удалось ему открыть—
была ложь! И кром того, Христосъ-то въ конц л
концовъ хорошъ въ минуту глубокаго отчаянья, или
8
114
no крайней м р —за часъ до смерти, а Ставрогинъ
былъ молодъ, былъ красивъ и безъ женщины прожить не могъ, а порочная, утонченно-порочная его
натура манила его въ такія дебри, передъ которыми
ц ломудренный Шатовъ (в дь отъ его ц ломудрія
и жена-то сб жала къ Ставрогину) только ужаснулся
бы съ негодованіемъ! 'Карамазовскій паукъ въ немъ
разостлалъ ц лую паутину самыхъ порочн йшихъ,
самыхъ дикихъ, самыхъ преступныхъ мыслей, которыя онъ не колебался приводить въ исполненіе.
Ему было все равно, что д лать и какъ д лать, лишь
бы все это только заставило его хоть разъ въ жизни
сладострастно содрогнуться и этимъ хоть на минуту
чудоставить себ полное забвенье... Онъ тоже знаетъ,
что въ самыхъ дикихъ противоположностяхъ, въ самыхъ убійственныхъ порочныхъ инстинктахъ, въ самыхъ запрещенныхъ плодахъ міра сего кроется н кая острая сила наслажденья, а ему именно и хот лось, чтобы наслажденіе было острое до боли, всякія, самыя прекрасныя нормальныя наслажденія уже
л не доставляли ему никакого удовлетворенія! Недаромъ же Верховенскій готовилъ для него роль новаго Стеньки Разина по необыкиовенной способности
его (Ставрогина) къ преступлеыію!... Ее даромъ же
Шатовъ такъ его упрекаетъ: „Правда-ли, будто вы
ув ряли, что не знаете различія въ красот между
какою-нибудь сладострастною, зв рскою шуткою и
какимъ угодно подвигомъ, хотя бы даже жертвой
жизнію для челов чества? Правда-ли, что вы въ
обоихъ полюсахъ нашли совпаденіе красоты, одинаковость наслажденія?... А правда-ли—продолжаетъ
вспоминать Шатовъ Ставрогинское прошлое,—правда
ли, что вы принадлежали въ Петербург къ скот-
115
скому сладострастному секретному обществу? Правда
ли, что маркизъ де-Садъ могъ бы у васъ поучиться?
Правда-ли, что вы заманивали и развращали д тей!
Говорите, не см йте лгать!
— Я эти слова говорилъ, но д тей не я обижалъ, произнесъ Ставрогинъ, но только посл слишкомъ долгаго молчанія"...
Это карамазовское богатство ощущеній соблазняло очень принца Гарри. Въ этомъ онъ не только
хот лъ забыться, ему это нравилось именно своело
опасностью, своею противоположностыо всякому нормальному челов ческому чувству, можетъ быть, въ
этомъ многообразномъ мір такъ называемыхъ противоестественныхъ страстей ему открывалась возможность хоть разъ въ жизни ощутить настоящій
потрясающій страхъ, см шанный съ какимъ-то нечелов ческимъ наслажденіемъ, хоть разъ въ жизни
не только на словахъ, но въ чувств испытать свою
способность къ преступленгіо, ибо только такія переживанія могли дать ему почувствовать, что онъ еще
живетъ, а не умеръ! Тамъ, гд царитъ пресыщенность вс мъ, что есть въ жизни—тамъ подобные
пзпги являются ч мъ-то вполн естественнымъ, спасительнымъ даже! Ибо что такое пресыщеніе, какъ
не переходъ къ наслажденіямъ, полярно противоположнымъ всему, что у людей принято п освящено
обычаемъ? Можетъ быть, т мъ, которые ищутъ какойто еще нев домой страны любви, нул^но извратить
всякое нормальное челов ческое чунство и не потому,
что нормальное претитъ своимъ убожествомъ, а потому, чтобы испытать наипорочн йшее чувство—
чувство, которое можетъ вызвать б шеиство сладострастья, а в дь сладострастье для Ставрогина иногда
116
является единственною заманкою къ жизни! Пусть
такія поступки Ставрогина кажутся для вс хъ и
постыдными и подлежащими общественному осужденію, и грубо животными, но самъ-то онъ хранитъ
и въ этихъ своихъ переживаніяхъ глубочайшую
тайну, которую онъ не откроетъ никому. Шатовъ
и подобные ему могутъ только возмутиться, но
какой-нибудь Неронъ пли Цезарь Борджія, или Екатерина Медичи поняли бы Ставрогина и безъ его
прпзнаній.
Однажды ему вздумалось жениться на урод ,
на какой-то идіотической хромоножк . И онъ женился.
И только безмолвное молчаніе Ставрогина послужило
отв томъ на страстные упреки Шатова по этому
поводу:—„Вы женились по страсти къ мучительству,
по страсти къ угрызенію сов сти, по сладострастію
нравственному. Тутъ былъ нервный надрывъ... Вызовъ нравственному смыслу былъ уоюъ слишкомъ прельстителенъ! Ставрогинъ и плюгавая, скудоумная,
нпщая хромоножка! Когда вы прикусили ухо губернатору, чувствовали вы сладостраотіе? Чувствовали'?"... To же самое чувство испытывалъ Ставрогинъ,
когда говорилъ каторжнику едьк : „р жь еще,
обокради еще!" и съ б шенымъ хохотомъ бросалъ
ему въ лицо бумажки ассигнацій...
Но какъ бы ни многообразно было все это, но
п отъ этого мерзитъ... Ибо какъ бы ни ярка была
жизнь, конецъ всему же близокъ, конецъ ближе,
ч мъ смерть! И это ужасаетъ, это заставляетъ Ставрогіша съ ожесточеніемъ бросаться изъ стороны въ
сторону, пока наконецъ овлад ла имъ кошмарная
спячка въ Швейцаріи, въ кантон Ури, въ угрюмомъ
и холодномъ одиночеств .
X
117
Зд сь понадобилась тихая и кроткая Даша въ
качеств сид лки... Ставрогиыъ зналъ, что ему понадобится когда-нибудь сид лка, для этой роли Даша
была ему и нужна... „Когда позовете—приду!'1,—она
какъ собачка... И оттого, что она такъ откровенна
въ своей собачьей преданности,—Ставрогину какъ-то
особенно мерзко... А другая—Лиза—та слишкомъ
гордая, чтобы унизиться, но и она пресл довала его
всюду, пока не уб дилась, что онъ и отъ любви далекъ! А какая у нея была на его счетъ мечта! Опа
тоже его еще съ Лозанны „выдумала", какъ и Шатовъ, какъ и Верховенскій, она в рила, что этотъ
челов къ есть необыкновенный челов къ (хотя,
въ чемъ его необыкновенность — врядъ ли ясно
сознавала, а когда въ ту ночь пришла, то потребовала именно самаго обыкновеннаго)... Вся Лиза—точно
предсмертный его призракъ, призракъ того, что гюгибло и уже не вернется никогда. Можетъ быть, въ
первый разъ ему захот лось искренно полюбить, не
играя, но для любви уже не хватило силъ... И въ
тумаыный часъ того рокового утра, посл бала, когда
они разстались, Ставрогинъ понялъ, что отъ него
ушла посл дняя женщина! Эту-то ужъ хот лось ему
самому заворожить, но она оказалась слишкомъ разочарованной.
Но ни Лиза, ни кто-либо другой не знали трагедіи Ставрогина, не могли узнать! He было тогда
еще для нея словъ. Только въ наши дни Нитцше
геніально обрисовалъ Ставрогинскую трагедію въ
сл дующихъ словахъ: „Челов къ есть существо темное и сокровенное; и если у зайца есть семь кожъ,
то челов къ можетъ семижды семьдесятъ разъ сдирать самого себя, и BCC же не сможетъ сказать „вотъ
118
это—подлинно ты, это уже не оболочка". Къ тому
же—такое раскапываніе самого себя и насильственное нисхожденіе въ глубины своего сущеотва по блил айшему пути есть мучительное и опасное начина* ніе. Какъ легко челов къ можетъ при этомъ такъ
повредить себ , что уоісъ никакогі врачъ не исц 'литъ его!*...
VI.
Когда я былъ еще совс мъ молодымъ
юногаей и съ серьезностью взрослаго соединялъ глупую мечтательность мальчика,
я мечталъ: если бы обладать такой сшгой,
чтобы покорять всякую женщину.
Мечты эти были ц лой поэмой безконечнаго, ц ломудреннаго сладострастья,
поэмой, въ которую каждая краснвая моладая лсенщина должна вписать свою п
нарядную н нагую строфу. Буд^н взрослымъ, я оставался такиімъ же мечтателемъ, и смотр лъ на женскую красоту,
какъ на единственное счастье, данное •
природой челов ку.
' М. Арцыбашевъ. („Изъ записокъ
одиого ч лов ка").
... Положеніе каждаго челов ка есть
положеніе приговореннаго къ смертной
казни.
М. Лрцыбашевъ.
Теперь, когда такъ ясно стало, что за границами челов ческаго лежитъ пустота, когда раздуть челов ка н тъ силъ, особенно трагикомичны всякія потуги создать н что стоящее надъ челов ческимъ! Такъ
было съ „Санинымъ" Арцыбашева... Несомн нно, чтб
никакихъ претензій на абсолютное значеніе своего
героя Арцыбашевъ не питалъ и питать не могъ, ибо
область его—обыденное, челов ческое—слишкомъ челов ческое, толпа же сама возвела Санина въ званіе
120
сверхчелов ка, ибо этотъ великол пный символъ всего
скотскаго, низко-животнаго, грубаго и пошлаго, что
только есть въ челов к ,—какъ нельзя лучше пришелся по вкусу стаду, и стадо почуяло быка и преклонилось предъ своимъ царемъ!...'
Если поставить Санина рядомъ съ Дмитріемъ
Карамазовымъ, то, несмотря на то, что на первый
взглядъ зам чаешь между ними н которую общность,
разница все-же болыпая! Н тъ сомн нія, оба они
стихійны и оба дышатті страстыо, и оба дышатъ
силой, но, если сравнивать обоихъ, то Дмитрій кажется благороднымъ, озареннымъ, героическимъ богомъ, а Санинъ—простымъ и разнузданнымъ животнымъ! И не они являются причиной этого контраста (сами-то они, быть можетъ въ чемъ-нибудь
и сошлись бы), а ихъ творцы! Достоевскій до того
былъ геніаленъ, что даже изъ низкаго, карамазовскаго, удалось ему создать царство духа и указать
необъятные горизонты, Арцыбашевъ весь—челов ческая плоть, весь—земля, весь—обыденность... Въ
этомъ отношеніи онъ—единственный въ русской литератур ... Этотъ талантливый художникъ зам чателенъ своимъ землянымъ, сгущеннымъ, вульгарнымъ реализомъ, великою и страшною искренностыо
въ этомъ реализм и т мъ, что ум етъ носить па
своихъ плечахъ,—безстрашно и непоколебимо,—невыносимый, но проникновенно понятый ужасъ челов казв ря!... Такъ понимать и творить животность челов ка, животпость обнаженную, нич мъ не прикрашениую, такую, какой никто не видитъ, проникать
въ самые низы челов ческой природы, и въ свир пой первобытности современнаго зв ря увид ть чтото жгучее, непоб димое, страпшое, отъ чего н тъ
121
изл ченія, что в чно, какъ в чна земля,—этого, кром
Арцыбашева, никому изъ русскихъ писателей не
дано!...
Зв рь въ челов к ! Сколько глубокаго въ этомъ
понятіи, сколько сложнаго, несмогря на всю его простоту, п сколько страшнаго! Въ мір Достоевскаго
карамазовскій духъ все-же духъ, зд сь сладострастье
духовно и сложио до мистичности, зд сь въ провалахъ пола, надъ пропастями безумной страсти витаетъ Богъ, зд сь Дмитрій съ восторгомъ молится
на „царицу души своей" и тамъ, гд Санинъ ограничился бы мужицкимъ насиліемъ въ лодк или
гадкой выходкой простого парня,—Митя восторженно
благороденъ, Митя ц луетъ Грушенькину ногу съ
рыцарскимъ благогов ніемъ, Митя изъ подземелій
страсти, изъ т хъ „переулочковъ", изъ кошмарныхъ
уголочковъ, гд —бунтъ, гд „укусы фаланги",—начинаетъ гимнъ своему Богу!...
Хоть и все низменное въ Карамазовыхъ, но у
нпхъ же рядомъ съ идеаломъ Содомскимъ и идеалъ
Мадонны, и гор ніе ихъ проникаетъ за граніі, и въ
гор ніи—духъ въ вид голубин ,—Алеша,—старецъ
Зосима,—восторгъ!...
Ширина и глубина творческаго духа спасли Достоевскаго отъ понятія челов ка-зв ря, отъ животности ради животности, отъ тусклаго затменія на одной
точк ! Арцыбашевъ же на всю жизнь застылъ въ
созерцаніи этой точки, она у него—единственная...
Можетъ быть, потому, что то, что увид лъ онъ въ
этой точк ,—до того ужаснуло, до того его обезсил ло, что н тъ уже силы оторваться отъ нея, повернуть голову... Можетъ быть потому, что правда
земли, правда жестокая и злая правда единствен-
122
ная,—сд лала для него недоступной всякую ложь,
какова бы она ни была, ложь ли искусства, или
ложь религіозная, она ошеломила его, она всец ло и
нав ки овлад ла имъ, она открыла предъ нимъ такую пропасть, такую головокружительыую и безысходную, что глаза его закрылись для вс хъ возможностей, для вс хъ выходовъ и впитали въ душу только
то—черное, грубое, жестокое, что таится въ земл ,
что таится въ челов к подъ одеждами, подъ нарядами, подъ обманчивымъ слоемъ культурности, подъ
масками, подъ в чною ложыо—страшною и неотразимо-властною, которую вс любятъ, безъ которой
не могутъ жить!
Зв рь въ челов к !... Онъ умертвилъ не одну
(
душу и не одного Золя сд лалъ догматикомъ на
всю жизнь, онъ пробивается всюду, онъ царитъ во
• вс в ка и надъ вс ми народами, онъ тихо и злобно
см ется надъ усиліями челов ческими убить его
власть, убить его жаркое, сладострастное дыханіе, и
никакая культура не въ силахъ уничтожить его...
Зв рь раздвинетъ страшными лапами непрочныя
построенія культуры, и. какъ до культуры царилъ
въ чистомъ вид , такъ теперь царитъ въ извращенномъ, пусть убиваютъ его аскеты и в рующіе,—онъ
н жно-утонченнымъ сладострастіемъ захихикаетъ
даже въ молитв , и въ самое святое, что осталось у
челов ка,—въ чашу в ры,'. вольетъ губительно-смертельный свой ядъ! Свинцовымъ ужасомъ онъ нави"" саетъ надъ мечтами, надъ храмами, надъ мольбою
д тей, въ ночи изв чной тоски, въ темныя ночи,
когда св тъ погасъ, когда бол знь, когда умираніе,—
мохнатымъ страшилищемъ. гулко чавкая лапами, проходитъ мимо души, въ порывы святые, въ б лосн ж-
123
ные восторги весеннихъ надеждъ роняетъ с мя не^/
нависти, крови, мщенья, жестокихъ, безпощадны^ъ
мукъ,—и с мя восходитъ въ кровавомъ дымухпоб .доносно св тящаго солица, и на замучеыной/на изгаженной, на смрадной земл , сквозь жяр ый лоскъ
жизни, сквозь душыу.ю вонь разложенія, сквозь плачъ
и рыданіе, сквозь страсть и тоску,—тускло п неподвижно св титъ намъ властыый зв риный глазъ!
Карамазовы любятъ зв ря РІ культивируютъ его
безсознательно, любятъ плоть и пзъ плоти строятъ
храмъ, но вотъ, средк этого ада плотскаго, по временамъ вспыхиваютъ огоньки молитвы, но вотъ—въ
самомъ надрыв зв ря, у нихъ вдругъ раздается голосъ херувима изъ горнихъ высотъ,, и бездна вверху
засіяетъ надъ бездной внизу... Арцыбашевъ никогда
не посмотр лъ вверхъ, говорилъ о бездн вверху
по Фейербаху и повторялъ за зженную семинарщину
господъ Ракитиныхъ (разсказъ „Богъ"). Свою мрачную, горькую, мужицкую, выстраданную правду о
жизни не хот лъ пром нять ни на что... Ц льную,
единую свою правду спряталъ на груди какъ амулетъ,
и съ презр нной усм шкой раздавилъ, какъ жалкое
нас комое,—своего Ланде. Ужасъ отъ голаго зв ря
затуманилъ сознаніе, горькую чашу свою выпплъ и
махнулъ рукой на весь прогрессъ, на вс общественныя игрушки, которыми прежде т шился, и съ р дкою искренностью, которая у него какъ-то особенно
посл довательна,—во всеуслышаніе заявилъ, что находится у посл дней черты!...
Напрашивается невольно любопытное сравненіе:
философскій насл дпикъ Карамазовыхъ — Розановъ,
который въ „Людяхъ луннаго св та" будто идетъ
невольно по сл дамъ едора Павловича, хотя въ
»
124
другомъ смысл и метафизически—и Арцыбапіевъ...
Оба говорятъ объ одномъ и томъ-же, видятъ одно
и то же, живутъ однимъ и т мъ-же, по одинъ не
понимаетъ другого, одинъ презираетъ другого, хотя
близость и родственность несомн нна...
Отъ такого сравыечія однако вопросъ только
выиграетъ.
Понятіе пола, какъ основы, какъ первоисточника
жизни, роднитъ этихъ двухъ, полярныхъ между собой,
художниковъ. Но въ то время, какъ Розановъ видитъ въ этомъ идею, метафизическую глубину, Арцыбашевъ пораженъ и потрясенъ однимъ фактомъ
пола, его реальностыо, его элементариой, вн шней,
видимой формой, грубостью проявленія, животной силой жизни, которая у ыего всегда сл по-стихійна.
хаотична и ужасна, ужасна до боли, до нутрянаго
крика, до оц пен нія!.. И кто знаетъ, можетъ-быть, это
элементарное, это общечелов ческое, это первобытное понятіе глубоко зас ло и въ самой культурной
утонченности Розанова и мучаетъ его не меныпе,
ч мъ простого дикаря, но ему легко накинуть воздушный плащъ мистическаго на жаркій ужасъ в чно яшвого зв ря, ему легко вывести зат йливые
узоры геніальныхъ мыслей на этомъ плащ и утончить покровъ до мимозности, до прекраснаго, до шелковаго, а все-же то, что скрывается подъ этимъ—
одинаково страшно и одинаково безобразно и до боли—неизв стно!.. Онъ дошелъ въ своемъ завораживающемъ обоготвореніи зв ря до того, что душу
принесъ въ жертву полу, говоря, что душа,—только
імодификація пола, что „душа есть только фупкція
пола, что полъ есть ноуменъ души, полъ—невидимый, безцв тный, неосязаемый,—есть сотворяющій
125
душу и т ло съ его формами". („Люди луннаго св та и , стр. 162, прим чаніе)... Арцыбашеву власть пола не меныпе ясна и ощутима, но его поражаетъ
грубая поверхность тайны, его мучитъ скотская сила, влекущая чуждыхъ себ людей другъ къ другу,
превращающая жизнь въ невыносимо жестокое желаніе, посл удовлетворенія котораго въ душ —брезгливость, отвращенье, страхъ* сила, ради которой
онъ отказался отъ вс хъ возвышенныхъ чувствъ,
всл дствіе чего въ разсказахъ его н тъ людей, a
есть только самцы и самкрі!.. И его влечетъ глубина, но это не глубина любви, не глубина таинства,
это темный, ревущій, хохочущій водоворотъ животныхъ инстинктовъ, безобразиая каша т леснаго, потрясающій ужасъ кроваваго моря, которое хлещетъ
вокругъ всего, въ которомъ т ло, жизнь, смерть—плаваютъ безвольно, подчиняясь нев домымъ сріламъ! *)...
Современныхъ людей онъ творитъ, на фон кулътурной жизни, ыо они такъ поразительно похожи на
какихъ-то первобытныхъ дикарей, на мужиковъ, на
самыхъ примитивныхъ безсмысленныхъ животныхъ,
неуклюже од тыхъ въ европейскія платья!.. И онъ
всегда подчеркпваетъ это, видитъ только это, поглощенъ только этимъ, словно желая сказать: долой
вс маски, вс лжпвыя украшенія лшзни, всякія
красивыя слова, вотъ внутри васъ сидитъ чудище
съ налитыми кровью глазами и лопаетъ вашъ мозгъ,
вашу безсильную культуру, брызгая черной слюной вокругъ, изд ваясь надъ всякой падеждой спастись отъ него!.. Вы—только зв ри! Загляните въ
глубину души и вы ужаснетесь, тамъ н тъ ничего
*) Въ этомъ отпошеніи весьма ннтересенъ одпнъ изъ лучшпхъ его
разсказовъ: „Кровь".
126
благороднаго, ничего возвышеннаго, ничего святого,
тамъ только—грязь и томленіе стать выше грязи,—
томленіе безнадежпое, жалкое, — душу свою убить
надо, отречься отъ нея надо, ибо душа вм ст съ
грязью плаваетъ въ крови, и не знаешь, куда спрятаться, чтобы забыться, чтобы прихлопнуть сумасшедшій крикъ ужаса въ себ , крикъ безграничнаго отчаяыья, смертельный крикъ придавленнаго горя и
тоски! Зв риное желаніе жизни см шивается съ паническимъ страхомъ, и хочется б жать, а б жать
некуда, ибо на вс хъ путяхъ стоитъ только смерть,
но лучше кровыо упиться и пьяыымъ животностью
стать, ч мъ принять ледяную пустоту уничтоженія!
^І
Это обвиненіе челов ка въ животности—Розанова ыичуть не смутило бы. Наоборотъ, онъ радуется,
когда челов ка сравниваютъ съ животнымъ, въ
этомъ ему открывается особенный смыслъ, и вотъ
какъ онъ отв чаетъ однажды на это обвиненіе, которое встр чаетъ въ прпсланной ему брошюр о брак н коего г. Фози: „Вотъ дуракъ: да ч мъ жнвотныя плохи'? Египтяне ихъ почитали за святыхъ,
и мы тол^е считаемъ ихъ безгр шн е людей. Между
т мъ у животныхъ самецъ и самка не могутъ далге
встр тпться, чтобы сейчасъ-же самецъ не началъ
особеыыымъ образомъ ласкать и н жить самку, т.-е.
они находятся въ постоянномъ, непрерывнолгъ половомъ возбужденіи. И—невинны. Урокъ мудрецамъ и
. М3тдречихамъ". („Люди лупнаго св та" стр. 114, прим чаніе; курсивъ Розанова)... Нарисовапная зд сь
картина то и д ло повторяется у Арцыбашева, но
вызываетъ далеко не умилителыіыя чувства и въ
самомъ автор и въ читателяхъ... Розановъ восхищается и гиворитъ: ііевинно! Арцыбашевъ содро/
і
127
гается, сгущаетъ нарочно краски, и вопитъ: безобразно, отвратительыо, преступно!... Но оба не могутъ оторваться отъ картины, видятъ только ее, думаютъ только о ней, творятъ только ее!.. Можетъбыть настоящія животныя и невинны, говоритъ Арцыбашевъ, но люди въ образ животныхъ хуже первыхъ, подл е и невыносимо уродлив е (кто прочтетъ
его разсказъ: „Ужасъ", тотъ невольно согласится
съ этимъ)...
Вотъ поглядите!—говоритъ Арцыбашевъ, ведя
за собою въ обыденнзю жизнь мудрецовъ и теоретиковъ—вотъ присмотритесь къ тому, что меня измучило,—и тогда судите!
И вотъ передъ нами, передъ философскою нашею мудростыо—его разсказъ: ,,Жеыа", который я
считаю самымъ лучшимъ его приизведеніемъ, не го
воря уже о необычайной его для негохарактерности!..
Въ этомъ разсказ Арцыбашевъ затроиулъ самый набол вшій вопросъ современности:—вопросъ
о брак и о ліобви въ брак , вопросъ о тайн и крушеніи этой тайны подъ вліяніемъ обыденности, вопросъ о животности въ челов к и свободномъ, первобытномъ инстинкт , словомъ—зд сь сконцентрировались, какъ въ фокус , в.с мотивы его творчества,
отчего разсказъ является особенгю интересньшъ!..
Какъ далеко отъ описаннаго въ этомъ разсказ
брачнаго сожительства двоихъ оуществъ,—типично
животныхъ и стихійно оильныхъ,—Розановская теорія о брак , какъ таинств , о религіозномъ значеніи материыства, обо всемъ, что д лаетъ книги его
иіітересными и необычными для нашего времени!..
За то мы видимъ зд сь обнажеішую правду жизни,
видимъ безстрастно точно отраженные факты д й-
128
ствительности, видимъ то, передъ ч мъ вс закрываютъ глаза, но что своею внутренней мукой вопитъ
изв чно и не находитъ ни отв та, ни разр шенія
НРІГД , ни въ книгахъ, ни въ жизни, несмотря на
свою вопіющую простоту!
Герой разсказа—молодой художникъ, полюбилъ
д вушку, сошелся съ нею и потомъ женился на ней,
но не по внутренней ыеобходимости, а потому, что
такъ было нужно другимъ, которые это иустроили!..
Напрасно искать зд сь у Арцыбашева великой любви, той любви, при св т которой вся д йствительность можетъ стать чудомъ, о такой любви никто
изъ его героевъ п понятія не им етъ, вс сходятся
случайно и снюхиваются, какъ т животныя, которыхъ такъ умиленно описываетъ въ вышеприведенной цитат Розановъ, грубо и дико предаются наслажденію и потомъ, съ враждебною ненавистью
другъ къ другу, расходятся, ощущая, что чужды
другъ другу и далеки, какъ были прежде!.. Въ мужчинахъ не ищите поэзіи любви, въ женщииахъ—тоже, мужчины—или нападающіе, разгорячеыные, грубые самцы, или рахитичные выродки, лепечущіе
безпрестанно о смерти, жепщиыы—всегда одинаковы,
какъ-бы ни разпопбразилъ Арцыбашевъ своп сюжеты—он всегда до скучнаго однообразны; онъ
оішсаніе ихъ ограничиваетъ всегда тремя качествами: высокая, стройная и красивая, къ этому иногда
присоединяются эпитеты: полная, или худощавая,
хотя болыпею частыо—вс —полныя, непрем нно полныя, краснощекія и здоровыя, что д лаетъ ихъ похожими больше на какихъ-то жпвотныхъ, коровъ, чтоли, а не яа ясенщпнъ!..
Жена художника въ разсматриваемомъ нами
разсказ тоже была „высокая, стройная и красивая
129
женщина". Случилось же все это просто, будто въ
насм шку, при чемъ она была только самкой въ самомъ первобытномъ значеніи этого слова, а онъ—
самцемъ, и если и говорптся въ разсказ о какой-то
бывшей между ними любви, то это одни слова, ибо
эта любовь такая-же, какъ та, которую находитъ Розановъ у сніохиваіощихся животныхъ!
Хотя Арцыбашевъ силыю настаиваетъ на томъ,
что это—любовь. И трудно ему не пов рить, в дь
въ той жизни, которую онъ знаетъ и которую описываетъ,—любовь бываетъ только такая...
Художнпкъ любилъ свою жену, т.-е. настолько
любнлъ, насколысо можетъ любить челов къ-зв ръ,
воспоминаніе же о ихъ свиданіяхъ въ рощ , у насыпи, гд проходилъ по здъ, когда они еще не были
связаны узами брака и когда наслаждепіе этихъ здоровыхъ, могучихъ людей было особеино остро,—осталось въ душ художника навсегда. Зд сь Арцыбашевъ V
какъ-бы хочетъ подчеркнуть свою излюбленную мысль, |
что счастье—только въ свободной любви, только въ \
минутномъ наслажденіи, что любовь не терпитъ никакихъ узъ, ннкакихъ обязашюстей, никакихъ жертвъ,
навсегда оставляя въ душ очарованіе т хъ минутъ,
когда „все было наполнено однимъ жгучимъ, неизъяснимо прекраснымъ, могучимъ и см лымъ наслажденіемъ жизнью"...
Но когда они пов нчались и стали жить вм ст , когда томительно-с рая скука жизни з вая, раскрыла свою бездонную пасть,—все очарованье любви, и наслажденіе той чудной ночи, у насыпи, въ
рощ , и новизна тайны и самая тайна,—мгновенно
исчезли!.. Все, что было у него й у нея ново и оба- /^
ятельно—прі лось, сущность взаимная потеряла свою
9
130
красоту, свое обаяніе,—наслажденье и краоота наслажденья стали невыносимы, находясь во власти
времени и привычки... Жизнь убила любовь, жизнь
стала смертью... И какъ мучительно и вм ст съ
т мъ—до ужаса правдиво, герой разсказываетъ объ
этомъ своемъ ощущеніи: „Мн было странно и трудно сознавать, что я уже не одинъ, что всякое слово
и д ло мое страшно отзывается въ другомъ челов к , который видитъ, чувствуетъ и думаетъ совс мъ не то и не такъ, какъ я...—И съ перваго же
дня исчезло все то красивое, таинственное и сильное, что давала намъ ночная страсть. Тысячи мелочей, сухихъ и суровыхъ, поднялись откуда-то безтолковой массой и сд лали все некрасивымъ, простымъ и ничтожнымъ. Въ первый разъ въ жизнп
мн стало стыдно того, что было „я": было стыдно
своей б дности, было стыдно интересоваться пошлостями жизни, д лать некрасивыя отправленія, было
стыдно од ваться прп жен . Несв жее б лье, случайная рвота, протертый замасленный пиджакъ, то
маленькое м сто, которое я занималъ въ общеотв ,—
все было мелко и уничтожало безъ сл да тотъ красивый и сильный образъ, который создали въ ея
глазахъ ночь, роща, лунный св тъ, моя сила и
страсть"...
Напрасно ищу я у Розанова^—защитиика брака—
хотя бы одного м ста, которое смогло бы своимъ
объясыеніемъ уничтожить это описаніе могущества
пошлости... Кто зыаетъ, можетъ быть, весь этотъ
ужасъ обыденной жизни им етъ для него совершенно ипое значеніе, можетъ быть, все это мелкое, повседневное, житейское дороже для него всякихъ абсолютовъ. но ясно, что все зд сь описанное до того
131
не гармоыируетъ съ понятіемъ брака, какъ таинства,
что само это слово: „таинство" звучитъ въ этомъ
чаду какъ что-то чуждое и безсилыюе искупить великій ужасъ жизпи!... На сторон Арцыбашева сама
жизнь, ыа стороп Розаиова—философскія теоріи, кто
поб дитъ—неизв стпо, по ужасъ останется ужасомъ,
несмотря на всю челов ческую изобр тательность,
ыесмотря ыа все желаніе подчинить его своей вол !...
„Поэзія новобрачія,—восклицаетъ, развивая свои
удивительныя теоріи Розановъ—„и обычаи новобрачія
трогательны и всемірны... Какъ бы сл довало собрать
эти лучшіе челов ческіе обычаи, для нихъ не нашлось ни Кир евскаго, ни Рыбникова, ни ІПейна!.,.
(„Люди лун. св.".—129).
Увы!—отв чаетъ жизиь устами Арцыбашева,—
та жизнь, которая не терпитъ иикакихъ теорій, которая изд вается кадъ всякой философіей и надъ
всякой наукой, которая страшыа, безгранично страшна,
несмотря на всевозможныя метафизическія ут шенія!
„Поселплись мы въ город , въ пеболыпой, не
нами обставлешюй компат , гд было чистенько и
аккуратно, и оттого всякій стулъ, лампа, кровать
говорилп простымъ п скучпымъ ЯЗЫКОМЪ 0 долгой
однообразной жизни... И жена какъ то сразу опустилась, отяжел ла^іі^удшілась^) Черезъ три дня она
уже была для меня такоіо-же~понятной и обыкновепной, какъ всякая женщина въ домахъ и на улицахъ,
и даже болыпе. Утромъ, еще иеумытая и непрпчесанная, оиа казалась гораздо хуже лицомъ, косила
талейку изъ желтой чесучи, которая такъ же мокро
пот ла подъ мышками, какъ и пиджакъ ея брата.
Она много ла и ла иекрасиво, ыо очень аккуратно,
легко раздражалась и ску ала!...
132
„И еще болыпе поднялось съ пола жизни, какъ
пыль, мелочей, которыя уже не были мелочами, потому что назойливо и властно, какъ законъ, л зли
въ глаза, требовали серьезнаго вииманія, напряженія
душевныхъ силъ, поглощавшаго жизнь. Когда я былъ
одинъ, я не боялся за себя, если у меня не было
ч^его-либо—платья, шіщи, квартиры,—я могъ уйти
куда-нибудь, хоть въ ночлежку, искать на сторон ,
могъ побороть тяжесть нужды юморомъ и беззаботностью, и было всегда легко и свободно, и не было
границъ моей жизни, а когда насъ стало двое, уже
нельзя было ни уйти, ни забыть ничего, а надо было
во что-бы то ни стало заботиться, чтобы „было" все,
и нельзя было двинуться съ м ста, какъ будто изъ
т ла вошли въ тяжелую землю корни. Можно было
весело терп ть самому, но нельзя было спокойно
знать, что терпитъ другой челов къ, дорогой теб и
связанный съ тобой на всю жизнь. Если бы даже и
удалось забыть, уйти, то это не было бы уже легкостью, а жестокостыо. И гд бы я ни былъ, что бы
ни д лалъ, мелочи неотступно шли теперь за мной,
напоминали о себ каждую минуту, наполняли душу
тоской и страхомъ!..."
Такимъ образомъ, ни жизнь, ни теоріи не смогли
заворожить ІІОШЛОСТИ, въ которую облекаетъ обыденность свободное, какъ в теръ п могучее, какъ стихія
чувство. И, словно изд ваясь надъ всякими измышленіями, надъ умомъ челов ческимъ, надъ всей хитростыо философіи, торжествуетъ простая и старая,
избитая и постылая французская пословица: „le ma
nage est le tombeau de Vamour".
Гд же в чность, гд та безконечная ночь сладострастья, которую такъ поэтически любитъ опи-
133
сывать Розановъ? Гд томительная бездна любви, которая в нчаетъ два существа неизъяснимо-прекрасной
гармоніей?
Въ отв тъ на это герой разсказа отв чаетъ скучными, давно выцв тшими словами, въ которыхъ вопло
тилась Арцыбашевская правда, и кажется, что эти
слова свинцовымъ бременемъ прихлопнули всю жизнь:
„Дни шли. Я любилъ жену, и она любила меня, но
уже новой, спокойной, неинтересной любовью собственника, въ которой было болыпе потребности и
привязанности, ч мъ страсти и силы. И иногда просто даже странно было вспомнить, что все „это" сд лалось именно и только ради страсти"...
Арцыбашевъ видитъ д йствительность не глазами поэта, а глазами простого смертнаго и правда
ея, какова бы она ни была, дороже ему всякаго возвышеннаго обмана!...
И правдаего въ томъ, что плоть, что родовой ,
актъ, что наслажденіе—гр хъ, тотъ первородный
гр хъ, изъ-за котораго люди лишились спасенья,
тотъ гр хъ, который страхомъ тупымъ и тяжелымъ
наполняетъ душу его героевъ... Властный и чадный
фатумъ „Крейцеровой сонаты" Толстого виситъ надъ
Арцыбашевымъ неподвижною и непреодолимою тяжестью!
Какъ все это далеко, слишкомъ далеко отъ того
теоретическаго поэтизированія, которое составляетъ
idee fixe въ творчеств Розанова, ибо въ жизни, по
словамъ Арцыбашева, все это несравненно проще...
„Чудное соединеніе мужчииы и женщины!—востор- ^
женыо восклицаетъ Розановъ,—„какъ прекрасно: такъ
же, какъ обоняніе цв тка, какъ вкушеніе отъ виноградной лозы, какъ любованіе на зв здное небо,—но
134
только глубже и внутренн е. Все, все, что сказалъ
Лермонтовъ въ стихотвореыіи: „Когда волнуется }келт ющая нива"—все это д йствіе на душу ц лостной
природы повторяется, но глубже, въ д йствіи на челов ка родового акта и его сопутствующихъ обстоятельствъ, любви и семьи. Да и понятно, ибо актъ
этотъ есть узелъ природы. (Люд. лун. св та, 132 стр.;
курсивъ Розанова)...
У Арцыбашева же остается только паническій,
тупой страхъ, только гадлпвость, только желаніе забыться... Арцыбашевъ ушічтоліепъ безсмысленностью
животной силы, потрясенъ стихійпостыо природы, но
какъ отъ искупительной идеи Толстого, такъ равио
іі отъ пантеизма Розанова—онъ далекъ.
„... Я изр дка незам тно взглядывалъ на нее,
и мн казалось въ эту минуту страннымъ, что она
можетъ такъ спокойно и самоув ренно сид ть и
смотр ть на вс хъ при мы , что ей не стыдно того,
что было въ рощ .
„Въ темнот мн опять пришло въ голову: почему жен не было стыдно іпого, что происходило
между нами въ рогц ? Почему же это бцло тайной?...
Или вообгце это вовсе не стыдно, а хорошо, или она—
безстыдная, наглая и развратная. Если это хорошо,
то зач мъ вс прячутся съ этиліъ, и зач мъ мы пов нчались; а если дурно, значитъ она—развратная,
падшая, и зач мъ тогда я женился на ней? Почему
я думаю, что она не будетъ 7пеперь, тайно отъ меня,
какъ прежде отъ вс хъ, отдаваться другимъ, какъ
отдавалась мтъ?" *)...
*) Курсивъ мой. А. 3.
135
Спутанный, могучій, силыіый, кр пкій зв рь жаждетъ свободы и дикаго разгула—это его назначеніе, ему т сно и душно задыхаться въ узкихъ кл ткахъ челов ческой пошлости, онъ привыкъ стр лой
носжться по цв тущей, по пахучей, по родной земл ,
привыкъ кь свисту в тра, къ раскатамъ бури, къ
стихшмъ вольнымъ, свнр пымъ, жгучимъ, какъ его
душа, онъ изъ низиыъ, пзъ болотъ стоячихъ, изъ
ямъ вошочихъ, бездонно скучыыхъ,—рвется всей
грудыо, вс мъ напряженіемъ сильыаго т ла къ палящимъ ласкамъ родного солнца, къ играмъ безпечнымъ средь нивъ, средь бора, средь чащъ т нистыхъ, рвется къ вакханкамъ, къ оргіастической
пляск , къ безумному пиру безстыдно-пьяныхъ, ди- -"^тпкихъ ласкъ, рвется къ восторгу какой-то пав-;
грач нной, яервобытной, д тскисчастлпиой'весеииси .зар , и ему стращн , п ёму
ООЛЫІО срынаться съ высоких'1
)учъ свопхъ стремлеыій и падать позорно внизъ, въ муравейкикъ,
въ такъ ненавистный, мелочный, грязный^ проклятый
міръ!... Смотришь на героевъ Арцыбашева и удрівляешься, откуда они зд сь, среди гнили, среди
смерти, среди безнадежнаго разложенія; словно кентавры, словно сатиры, словно богатыри изъ сказочныхъ временъ, съ этимъ потрясаіощимъ избыткомъ
животной силы, съ этими геркулесовскими мускулами,
съ этими краснощекими, глупыми, роскошнымрі лицами, которыя отливаютъ солнцемъ, румянцемъ не
зд шнимъ и не нашимъ, игрой плоти и торжествомъ
плоти!... И, когда наблюдаешь, какъ эти молодцы
врываются въ жизнь, ломаютъ преграды, законы,
заставы съ трескомъ, съ гуломъ, съ хохотомъ, когда
видишь эту жирную, влажную массу мяса, крови и
136
мышцъ,—то невольно завидуешь ихъ состоянію, ибо
^ такіе-то и могутъ быть хозяевами жизни, такіе все
могутъ, ибо обладаютъ двумя сокровищами, которыя
движутъ прогрессомъ ижпзныо:—глупостыо и силой!...
Эти даже и Дмитрія превзошли, ибо Дмитрію
изв стно и благородство, и уваженіе къ чужой личности, и онъ не лишенъ пзв стной религіозности,
то есть опять таки лишній и ненужный для жизші челов къ, а эти только хохочутъ надъ всякими чело
в ческими законами, изд ваются надъ т мъ, надъ
ч мъ самые отважные сверхчелов ки могутъ изд ваться разв лишь на бумаг , изд ваются надъ челов ческой сов стъю, надъ моральнымъ долгомъ, надъ
страданіемъ другого челов ка, надъ семейными обязанностями, надъ судьбой собственныхъ д тей, какъ
будто все это и вправду только лишь прос^ьія игрушки;
• разрзгіііпготъ всс, см ются овоими голі
•'Ткалш надъ вс мъ, п ішчто, р шйтельно итічто не
іиижетъ іфьградить ихъ шумное и веселое шествіе
къ зв риному богу солнца!... Грустная, но правдивая мысль приходитъ на помощь передъ этимъ загадочнымъ явленіемъ: жизнь можетъ поб дить не
челов къ, какимъ-бы геніалыіымъ онъ ни былъ, a
только зв рь. Челов къ-зв рь,—вотъ кому прпнадлежитъ будущее и счастье пародовъ, эта идея взб сила-бы Ницше, и еще какъ-бы взб сила, но все-же
и онъ бы не могъ не согласиться съ этимъ...
/
Худолшику надо ло семейное счастье, ему „было
мучительно, такъ, какъ мучительно здоровому и веселому животному, пущенріому въ луга съ веревкой
на ногахъ"... Беременность жены возбуледаетъ въ
немъ только отвращеніе, это ему кажется безсмыслицей, а жизяь съ женой, ради жены и ради ребенка—
137
гнуснымъ рабствомъ... Если бы Розановъ употребилъ
всю силу, всю зм иную логику своихъ доказательствъ,
чтобы уб дить его, что материнство есть чудо, и что
теперь-то и началась вся поэзія жизни—этотъ типичный Арцыбашевскій герой могъ бы отв тить
т мъ-же, что и жен : „всю жизнь свою въ жертву
приносить, перенести все свое „я" въ другого челов ка, въ жену-ли, въ ребеыка... Да съ какой стати?
За что? Если ты раба по природ , такъ т мъ хуже
для тебя, а я не хочу...—Ч мъ объяснить, чтодаже
Библія говоритъ, что Богъ далъ материнство, какъ
наказаніе, а люди сд лали изъ этого радость?"...
Худояшикъ бросаетъ жену и идетъ, какъ Сашшъ,
навстр чу своему солнечному, жестокому божеству,
только посл этого онъ можетъ свободно вздохнуть,
только теперь сознаніе собственной свободы наполняетъ его душу счастьемъ, только теперь видъ чужихъ жеищинъ зажигаетъ его похоть, и онъ прп
этомъ чувствуетъ, что „это именыо то, что больше
всего нужно и мн , и всему живому"...
Въ то время, когда онъ началъ тяготиться женой,
когда желаніе свободы до боли мучило его, у него
вырывается признаніе, признаніе, въ которомъ находится вся индивидуалистическая теорія Арцыбашева,
зд сь и элементъ Санина, и все, что оправдываетъ
д йствія его героевъ: „И тутъ мн въ первый разъ
пришло въ голову, что и вс люди, не одна жена,
по какому-то праву хотятъ подчинить мои мысли
своимъ, заставить меня в рить и чувствовать такъ,
какъ в рятъ и чувствуютъ они. И такая злость охватила меня при этомъ, что мн захот лось крикнуть,
ударить жену, бросить въ нее ч мъ нибудь тяяіелымъ, РІ уйти куда-то, на край св та, отъ вс хъ
138
людей, отъ всего того, что оыи выдумали, дурыо
устроили, признали хорошимъ и заставляютъ меня
признать!"...
„He можетъ быть два челов ка въ плоть едину!—заявляетъ герой Арцыбашева, наперекоръ Розанову, наперекоръ всему міру: „любовь приходитъ и
любовь уходитъ, какъ все, а н тъ конца желанію
яшть"!.,.
Ловк моментъ!—печально сов туетъ Арцыбашевъ своимъ созданіямъ—мпнутой любуйся и минутой яшви, землю ц луй, пей наслажденье всюду, гд
только можно, все остальное—тяжелый бредъ. Ужаежо
пить до дна, ибо бездонность невыносима, бездонность
это—та в чность, понятіе которой отравляетъ минуты
твоей радости, о какъ счастливы животныя, которыя
не знаютъ, что такое в чность!... А пить хочется долго,
ибо мучаетъ, ,.жгучее, могучее, любопытное я^еланіе
жить", но дрожишь ты, чувствуя дыханье смерти,
которая вышибетъ кубокъ изъ рукъ въ ту минуту,
которая неизв стна!... 0, какъ счастливы жпвотныя,
которыя не знаютъ, что такое смерть!...
В чность, в чность челов ческой природы и_
смерть—вотъ что отравило Арцыбашеву минуты дюбованія созданнымъ имъ царствомъ зв рей! Это—
другой лейтмотивъ его творчества, не мен е потрясающій, ч мъ первый!... Но оба сливаются въ одно
ревущее, черное море изв чной тоски, но оба терза/
ютъ душу міра животнымъ крикомъ. но оба творятъ
безобразную красоту понятія: жить.
Подпрапорщикъ Гололобовъ укралъ уКириллова
идею спасенья отъ смерти, смертью смерть поб дить
хот лъ, отравилъ блаженныя минуты благообразнаго
доктора глубоко понятой идеей смерти, идеей в ч-
139
паго уничтоженія. И Арцыбашевъ ужаснулся, п съ
т хъ поръ идетъ борьба между животной силой и
СРІЛОЙ смерти, заканчиваясь въ роман : „У посл дней
черты" ц лой философіей смерти.
Напуганііый смертью Гололобова благообразный
докторъ пришелъ тоже въ ужасъ, и вотъ слова его—
такія простыя, такія обыкиовенныя слова, а между
т мъ, сколько въ нихъ ужаса, сколько в чиаго
смысла, сколько крика всей земли, всего міра, вс хъ
приговоренныхъ къ смерти людей:
„Меыя ужъ ие будетъ... Неужели-же?... Ну, конечно! Все будетъ: и деревья, и люди, и чувства—
много пріятныхъ чувствъ, любовь и все такое, а меня пе будетъ. Я даже смотр ть на это ие буду. He
буду даже знать, есть-ли все это, или н тъ! То-есть
даже не то, что „не буду знать", а просто меня совершенно не будетъ! Просто? н тъ, это не просто, a
ужасно, жестоко и безсмысленно! Зач мъ-же я тогда
жилъ, старался, считалъ это хорошимъ, a то дурнымъ, думалъ, что я умн е другихъ? Все равно меня
не будетъ!... И меня черви съ дятъ... Долго будутъ
сть, а я буду лежать неподвижио. Ояи будутъ сть,
копошиться... б лые, склизкіе... Пусть лучше меня сожгутъ... Н тъ, это тоже ужасно! Зач мъ-же я жплъ!"
(„Подпрапорщикъ Гололобовъ").
Такой паническій страхъ смерти пресл дуетъ
Арцыбашева всюду, и ч мъ животн е его герои,
т мъ сильы е страхъ, т мъ безысходн е!... А вотъ,
посмотрите, какъ удивительно легко, какъ спокойно
относится къ этому вопросу Розановъ, который.до.
того опьяненъ, до того поглощенъ плотыо, что она
кажется ему даже сильн е смерти! Ради этого каждый можетъ Розанову позавидоватъ, каждый въ про-
140
стот душевной скажетъ: „а ну-ка, хоть на время,
хоть на минуту одну стану мистикомъ, авось отлегнетъ отъ сердца тяжесть"!... Но, увы, и имъ приходится отв тить: много званныхъ, да мало избранныхъ! Для того, чтобы выдумать подобное ут шеніе,
которое себ изобр лъ Розановъ, нужно иногда ц лую жизнь думать, пройти сквозь всяческіе искусы,
сквозь всевозможныя хитрости, до того довести себя,
что уже никакой чортъ тебя ые сум етъ провести
за носъ, и вотъ тогда-то,—взять перо и безъ смущенья, безъ дрожи, безъ сомн нія написать нижесл дующее: „Смерть есть не смерть окончательная,
а только способъ обновленгя: в дь въ д тяхъ въ
точности я живу, въ нихъ живетъ моя кровь и т ло, и, сл довательно, буквально я не умираю вовсе,
а умираетъ только мое сегодпяшнее имя. Т ло же и
кровь продолжаютъ жить; и въ ихъ д тяхъ—снова,
и, зат мъ опять въ д тяхъ—в чно: только бы зпачитъ „рождалось", а „я—никогда не умру"...*).
У
Хоть и мистическое объясненіе, а пахнетъ отъ
него наивнымъ матерьялизмомъ! И, каково подумаешь ут шенье, славно написано, а не уб дитъ даже
любого гимназиста!
л
И Л. Толстой хот лъ было ут шить себя подобными разсужденьями, да ничего не вышло, и отказался отъ всякихъ разсужденій, погибъ!
Арцыбашевъ, хоть и матеріалистъ, а отъ подобнаго объясненія ему однако ни тепло, ни холодно,
онъ, прочтя это, только рукой махнетъ, и на жизнь
*) И въ другомъ м ст : „Я не понимаю, къ ч му въ эту полную
чашу бытія вводить непрем нно и преднам ренно скорбь? Ну, прцдетъ
смерть, умремъ: ова уже поб ждена т мъ, что мы, двое умирающихъ родителей, оставляемъ четверыхъ яЪтей. Ари м тика... („Темн. Ликъ", 107).
141
сошлется, непрем нно на факты грубой, зв рской,
обыденной яшзни, и Розанова поведетъ, и скажетъ:
„поглядите, пошохайте! только не слишкомъ, чтобъ
не стошнило!"
И вотъ каковъ этотъ фактъ Арцыбашева: живутъ въ разсказ „Изъ записокъ одного челов ка"
молодые, любящіе другъ друга, сильные, здоровые
люди—мужъ и жена. Жена, конечно „высокая, полпая и красивая", мужъ—не хуже ея, жизнь ихъ—
одна поэма любви и сладострастья, взаимнаго понимаиія и уваженія, поэма „сильныхъ бедеръ, груди
и покатыхъ плечъ, созданиыхъ для ласки", словомъ
весь лшвотный міръ зд сь въ полномъ расцв т ...
Идиллія несомн нно въ Розановскомъ дух , зд сьто ему и случай лишній разъ полюбоваться. посмаковать н создать два-три афоризма подъ вліяніемъ
семейнаго счастья.
Но вдругъ, случилось самое неожиданное—жена
случайно забол ваетъ, и приходитъ та самая смерть,
которую Розановъ въ своей книг отогналъ двумя
щелчками своего метафизическаго пера... И вотъ
тутъ-то передъ нами вознпкаетъ такая поразительно
страшная и поразителыю в рная картпна, которую
просто нельзя потомъ изгладить изъ своей паліяти,
которая вс ми своими подробностями возбуладаетъ
такой ужасъ, что отъ него нельзя отд латься нпкакими силами!
„Я пикогда н забуду т хъ двухъ часовъ, когда мы
перевозпли гробъ съ трупомъ Нины Александровны. Мы
шли за гробомъ, и его тяжкая, уродливая голова качалась
надъ нами. Тамъ, въ ней, въ т сномъ, деревянномъ череи , должно быть, такъ-же качалась п глухо стукала о доски, мертвая, закостен лая головка. Изъ щели гроба торчала
чистая, б лая кисея, прохвачепная гвоздями, точно сталь-
142
ньтми зубами, ядовито вонзившимися въ чистое, молодое
т ло. И изъ этой-же щели—сладко нудной волной уже
шелъ трупный запахъ и тяжелымъ, гнуснымъ облакомъ тяунулся за гробомъ. Ковчено все, и\уа женщина, коснуться
н жнаго т ла которой было бы счастьемъ для каждаго живого челов ка, та женщпна, которая всю жизнь старалась
украшать своей красотой, изящностью и н жностью, теперь,
уже не зная того, душила насъ трупнымъ смрадомъ, воз
буждая тошноту н мучптельпое для сознанія чувство
^л. омерзенія.
„Я обманывалъ себя, старался не слышать этого сладкаго смрада и больше всего на св т боялся, чтобы моя
неволі)Ыая бл дность и судороги на лиц , когда смрадъ іюпадалъ въ ротъ, ие бьыш зам тны Ііванову. Страшпымъ
успліемъ мозга я старался попять, что должеыъ думать и
чувствовать ояъ, самый близкій къ пей, связавный съ
этимъ самымъ разлагающнмся т ломъ памятью о прекрасныхъ, таивствеввыхъ ласкахъ, о нагот его, о той душ ,
которая жила въ немъ и которая была изв стна ц ликомъ
только ему одыому"...
Посл такой правды жизни, посл такого запаха, посл такихъ ощущеній, я думаю, не легко придется
самом}' мистическому изъ вс хъ мистиковъ, н миновать и ему страха—животнаго, паническаго страха, который роладается ночыо и, крадучись, со страшною тихостью подходитъ къ душ , и охватываотъ скользкими руками шею, и давитъ, и замораживаетъ, и превращаетъ все т ло въ неподвижный ледяной столбъ, и
кажется, что этотъ замерзшій ужасъ сильн е міра,
^сильи е Бога!... И проклянетъ въ эту минуту миотикъ
всяі^ую логику, всякія книжиыя ут шенія, всякія хитрости и лазейки въ дебряхъ лукавой ворожбы надъ
міромъ, проклянетъ все и, стиснувъ зубы, замретъ
въ отчаянной злоб , съ шевелящимпся отъ страха
^волосами, а воспомипаніе объ этомъ сладко-приторномъ запах , струящемся изъ гроба, хоть на минуту
143
вычеркнетъ изъ мозга все обаяніе мудрыхъ, красивыхъ и геніальныхъ фразъ...
Что и говорить, сильна смерть, но сильна и животность героевъ Арцыбашева. Вотъ, еще не усп ли
похоронить жену, а Ивановъ уже думаетъ, какъ
бы найти другую женщину и въ ней воскресить то,
что для него выше всего на св т !...
И злоба закипаетъ въ автор записокъ, и ему
хочется ударить Иванова „по щек , по бл дной,
плоской щек подлаго, притворявшагося самца, которому пужна была только новая самка!"...
Ужасъ передъ жизнью, передъ настоящей, не
книжной жизнью охватываетъ тогда автора записокъ,
и ему хочется проклясть Арцыбашевское царство
ужаса, сладострастья и смерти, т.-е. проклясть самое
жизнь:
„Ч мъ болыпе любви,—говоритъ онъ—т мъ ужас- ,
н е горе смерти любимаго челов ка. А оно будетъ,
и мы знаемъ это, знаемъ в рн е и точи е, ч мъ
что бы то ни было на св т . Раио или поздно при- 7
детъ смерть и разлучитъ людей, бросивъ одного въ
пустоту, какъ заброшеннаго щенка.
„Я одииъ стою передъ лицомъ смерти, и когда
она придетъ, умру одиыъ, безъ горя и муки, только
со страшной злобой въ душ къ тому, кто далъ
мн челов ческую жизнь и челов ческую смерть!"...
VII.
Въ тайномъ ужас есть сладкое томленье,
Чего-то новаго призывь и откровенье.
А. Майковъ.
Карамазовское царство—жестокое царство... Зд сь
красота обезображена надрывомъ, и въ надрыв тонетъ любовь, и люОовь—какъ ядъ губительный, какъ
та „страпшая сказка" Гейне, въ которой жестокость
и счастье—одно!... Они вс зд сь—уже пропащіе,
ибо кто ув руетъ въ безуше, кто душу запродастъ
демону сладострастья, кто полетитъ въ бездну вверхъ
пятами,—тому спасенья ужън тъ и не будетъ!... Зд сь
хоть и все—любовь, но все—трагичыо! Это у обыденныхъ людей любовь—радость, у этихъ-же есть другая
радость, радость распятья на крест страсти, радость
гибели... Онивс гибпутъ. He могутъ спастись. Для KO
TO женщина стала богомъ,—тотъ уже забылъ, что такое
/ спасенье!... Ибо если религія,—то,—для того, чтобы
все спокойно было и передохнуть можно было,—ликъ
божества долженъ быть на недоступной высот , гд то очень вверху н чтобы даже нев домы были черты! Если же увидишь лицо идола въ живомъ челов к , если поймешь, что въ немъ—и тайна, и ужасъ,
и бредъ,—тогда гд -же взять силы, чтобы вынести
муку, чтобы сберечь огопь?... Зд сь—почти каждая
145
женщина—запечатанный сосудъ тайны, и въ ней
зд шнія черты будто все-же ыезд шнія, и въ ней
лицо изм нчиво до сладостнаго, до томительнаго
обмана!... Катерича Николаевна въ „Подростк " уклончива, зыбкая, см хомъ колдуетъ... И отца, и сына, и многихъ—мастерски мучитъ, чадомъ загадочной сущности опьяняетъ, терзаетъ... и въ ней—„вс
порокии\
Полина въ „Игрок " до того кружитъ и жалитъ,
что руки кусаелпь, услышавъ шорохъ платья, а „когда она разъ въ зал съ Де-Гріе разговаривала долго и горячо и такъ на него смотр ла, то потомъ,
когда я къ себ пришелъ ложиться спать, вообразилъ, что она дала ему пощечину, только что дала,
стоитъ передъ нимъ и на него смотритъ... Вотъ съ
этого-то вечера я ее и полюбилъ"... Даже Лиза
Хохлакова—д вочка, и та поверхъ тайны врожденной, нев домой—истерикой колдуетъ, кровь любитъ,
уколы любитъ... Царевна-колдунья, она ворожитъ
надъ жестокостью и мукой души своей ее освящаетъ... Пытки міру готовитъ... Рождаетъ злые замыслы, злые соблазны... В дь это отъ нея родился Сологубовскій „Нюренбергскійпалачъ" и многоедругое!...
Она такая молоденькая, л тъ пятнадцати кажется,
не болыпе, и такая уже хищная, и такая усталая
отъ душураздйрающей нпквизиторской грезы своей!...
Въ книг гд -то вычитала, что будто мальчика распяли, прибплп гвоздями и распяли,—и ей хорошо!...
Алеша съ недоуім ніемъ (нав рыое съ недоум ніемъ)
глядитъ на ея бл дно-желтое пскаженное лицо и не
в ритъ, и спрашиваетъ: „хорошо"?...
— „Хорошо. Я иногда думаю, что это я сама
распяла. Опъ виситъ и стонетъ, а я сяду противъ
10
146
него и буду ананасный компотъ
сть. Я очепь
люблю компотъ. Вы любите?" — („Братья Карамазовы")..,
И на личик —тусклое озареніе... Это Карамазовская сила разрушенья сказалась. Самъ Достоевскій, тотъ самый, про котораго пишутъ, что онъ—
христіанинъ и христіанинъ прим рный (есть такіе,
что пишутъ)—сидитъ въ этомъ уродливомъ т льц ,
мелкимъ б сомъ сидитъ и сотрясаетъ, и ей хочется
крикнуть, хочется забыться, но соблазны все остр е,
заманчив е, но желанія все разрушительн е!...
— „Я ужасно хочу зажечь домъ, Алеша,—нашъ
домъ, вы мн все не в рите?... я хочу д лать злое,
а иикакой тутъ бол зни н тъ.
— Зач мъ д лать злое?
— А чтобы нигд ничего не осталось. Ахъ,
какъ бы хорошо, кабы ничего не осталось. Знаете,
Алеша, я иногда думаю над лать ужасно много зла
и всего сквернаго, и долго буду тихонько д лать,
и вдругъ вс узнаготъ. Вс меня обступятъ и будутъ показывать на меня пальцами, а я буду
на вс хъ смотр ть. Это очень пріятно. Почему это
такъ, пріятно, Алеша? („Братья Карамаз.").
Истомила себя надрывами, закружилась въ томительной пляск плоти... „Иэта—уже предлагается':..
Какіе соблазны зд сь идутъ отъ женщинъ! Духъ
перевести нельзя!... Уводятъ въ такія дали, толкаютъ
на такія преступленія, манятъ такими об щаньями,
что все только кружится, все багров етъ, пламенемъ
страсти хлещетъ въ глаза... И каждый дрожитъ,
уходитъ въ себя, и каждый создаетъ свою ;;страшную сказку", чтобы въ ея бреду исчезала д йствительность, чтобы въ ея волхвованіяхъ рыдали
147
пропасти незд шнихъ міровъ, чтобы сквозь тусклую
скуку, окуку безумную—^вдругъ сверкнули серебристыя вершины восторга! Версиловъ — философъ,
(это в дь онъ сказалъ, л тъ за 30 до Льва Шестова:
„житъ съ идеями скучно, а безъ идей веегда весело"). Хотя философія-то его барская, усталая, отъ
л ни болыпе, отъ пустоты сн дающей философствуетъ, а все-же опъ—игрушка въ щупальцахъ Карамазовскаго нас комаго, онъ изъ ревности можетъ
сбросить съ себя всю свою барскую корректную напыщенность и становится вдругъ свир пымъ зв ремъ, не хуже Митеныш, икону—символъ всего духовнаго, благоустрояющаго, ради чего вериги носилъ,—разбиваетъ, ничуть не задумываясь—и, схвативъ на руки женщиыу, вымотавшую всю его душу,—носитъ ее по компат какъ пом шаниый, какъ
разъяренный левъ, наслаждающійся поб дой своей...
Убить ее хочетъ, но убить мало, разв есть на св т такая смерть, которая смогла-бы убить ревиость?
Кровь по капл высосать хочетъ, за жизнь, укушенную проклятымъ нас комымъ, отмстить хочетъ, но
разв возможно убить любовъ, которая сильн е смерти? Кто дошелъ въ любви до отчаянья, до посл дией обнаженности, тому лечиться остается разв одпимъ лишъ сумасшедствіемъ, да и это врядъ-ли
поможетъ. Овлад ть душой другого—это значитъ
уничтожить его, но уничтожить Катерину Николаевну
не легко было, она сама его уничтожила!... И погибъ... И вс карамазовскіе гибнутъ... Мочи н тъ,
Именно отъ этой-то „женской живодерности", о
которой говоритъ Митя—и гибнутъ! Ибо „такая, я теб скажу, живодерность въ нихъ сидптъ, во вс хъ
148
до единой, въ этихъ ангелахъ-то, безъ которыхъ
жить-то намъ невозможно!" („Бр. Кар.")...
И' ч мъ болыпе жестокости въ женщин , т мъ
болыпе ее и любишь—старая истина... Но этою истиной зд сь вс упиваются, ею живутъ, л чатся ею
отъ тОіМительной скуки пресыщенья!... А это главное!
Ибо кто скуку ч мъ-нибудь убить можетъ, — тотъ
значитъ и силенъ!... Вс задыхаются, неч мъ спастись, неч мъ заполнить пустоту, и никто ни о чемъ
не думаетъ, только о спасеньи, и все равно для
нихъ—какой ц ной, лишь-бы забыться!
Особеыно герой „Игрока" въ этомъ отношеніи
изобр тателенъ. И, когда слушаешь его призианія,—
лишній разъ уб ждаешься, какъ далеко шагнулъ
для своего времени Достоевскій: писано въ 1867 году, а читая думаешь, что писалъ какой-нибудь Габріэль д^ннунціо.
— Ну, да, да, мн отъ васъ рабство—наслажденіе. Есть, есть наслажденіе въ посл дней степени
приниженности и ничтожества, — продолжалъ я бредить. — Чортъ знаетъ, можетъ-быть, оно есть и въ
кнут , когда кнутъ ложится на спину и рветъ въ
клочки мясо... Удовольствіе всегда полезно, а дикая, безпред льная власть—хоть надъ мухой—в дь
это тоже своего рода наслажденіе.
— „Челов къ деспотъ отъ природы и любитъ
быть мучителемъ. Вы ужасно любите.
„Глаза мои налились кровью. На окраинахъ губъ
запеклась п на. А что касается Шлагенберга, то
клянусь честью, даже и теперь: если-бъ она тогда
приказала мн броситься внизъ, я бы бросился!
Если-бъ для шутки одной сказала, если-бъ съ презр ніемъ, съ плевкомъ на меня сказала.,—я-бы и
тогда соскочилъ! („Игрокъ").
149
Карамазовское царство—паучье царство... Безобразное, липкое въ паутин сладострастья нас комое повисло надъ міромъ души и царитъ... И челов къ—самъ словно нас комое, иногда—даже раздавленное, но изъ глубины раздавленной посылающее гимнъ проклятья и восторга!... И во всемъ этомъ—
ужасъ! Тотъ тихій, безсловеспый ужасъ, что застилаетъ вс выходы непроглядною пеленою тупого безстрастья, тотъ ужасъ, что осуждаетъ челов ка на
безсмертное созерцаніе паучьяго царства!... Недаромъ
же у Свидригайлова даже сама в чность представляется въ вид бани съ пауками!... Отъ нас комаго видно никуда не уйдешь, никакая религія, ни
логистика, ыи философія не могутъ пзбавить челов ка отъ его власти! У Карамазовыхъ видно^—сладострастье в чно!... Даже за гробомъ нельзя представить едора Павловича безъ женщины, для него,
такъ же, какъ и для Розанова, смерти не существуетъ, смерть для нихъ, пожалуй, можетъ тоже
Лизаветой Смердящею стать, до того они влюблены
въ жизнь! едоръ Павловичъ въ этомъ отношеніи—
самое крупное нас комое,, самое жирное... До неприличія полюбилъ онъ женщину, что-то поистин
страшное есть въ этой припадочной, юродивой любви,
и каягется, что этотъ паукъ—самое сильное изъ
вс хъ созданій... Въ самомъ д л , можно любить
жизнь, но въ м ру, нужно же, въ самомъ д л , и о
смерти подумать! едоръ Павловичъ предоставляетъ
вс философскія разсужденія Смердякову, какъ бы
въ насм шку, какъ бы желая этимъ сказать, что
это „передовое мясо" все можетъ безстрашно и безбол зненно переварить, всякіе, внушающіе тревогу
вопросы, а онъ-то самъ будетъ только посм иваться,
150
похихикпвать, подзадоривать! А д ла-то у него до
этого мало, несмотря иа то, что глупымъ его нельзя
назвать! Онъ дожилъ до старости и ни разу не испыталъ никакихъ треволненій, ни разу не ужаснулся
передъ смертыо и передъ в чпостыо, ни разу не
тюдумалъ о Бог . о смысл жизни,—женщина заслонила все!... Если даже в чность—продолженіе паучьяго царства, то чего же тревожиться-то? Сладострастье
и смерть—какое страныое сопоставленіе!... едору
Павловичу кажется, что въ женщинахъ-то и в чность.
и все, что оправдываетъ жизнь. Каждая для него—
предметъ пожеланія, какова бы она ни была, лишь-бы
только женщина!... Зд сь забота Достоевскаго о неоскуд ыіи жизненныхъ соковъ достигаетъ наивысшей степени юродства, и странно слышать, какъ
разглагольствуетъ объ этомъ патріархъ карамазовщины:
— „ Д точки, поросяточки вы малепькіе, дляменя...
даже во всю мою жизнь не было безобразной женщины, вотъ мое правило! Мсшете вы это поиять?...
По моему правилу во всякой женщин можно найти
чрезвычайно, чортъ возьми, интересное, чего ни у
которой другой не найдешь—только надобно ум ть
находить, вотъ гд штука! Это талантъ. Для меня
мовешекъ не существовало: ужъ одно то, что она
женщина, ужъ это одно половиыа всего... но гд
вамъ это понять?" („Братья Карамазовы").
Любопытыо до крайности, что въ философской
карамазовщин , у ея представителя—Розанова, мы
находимъ точно такія же слова, но только конечно,—
зд сь карамазовское нас комое проявляется куда
курьезн е, ч мъ у едора Павловича, хотя для Розанова это очень характерно.
151
„Ha в ки-то, на нашъ „в чный бракъ"—и „за
денъги" на многихъ нельзя жениться; ну, а временно
при свобод хоть на завтра развода—конечно уже
не было такого урода изъ д вушекъ, которую „познать" р шительно отказался бы всякій... Вотъ ужъ
тамъ и „ленъ курящійся" не загашивался, и „трость
падломленная" не переламывалась. Зам тимъ, что
великая есть доблесть, великое служеніе Богу (вотъ
гд настоящее „монашество" какъ „жертва Богу")
заключается въ женптьб на т хъ д вушкахъ, вдовахъ, вообще женскихъ существахъ, которыя „никому
не понадобились", „иикому не нравятся", некрасивенькихъ, елабенькихъ, невидненькихъ: но „тяжкихъ
бременъ" не ыадо возлагать, и. конечно можно над яться на охотную женитьбу на такихъ лишь при
многоженств , которое да будетъ благословенно меэюду
прочимъ и за это, что при многоженств возможно
брать некрасивыхъ, „космическихъ сиротъ", космическое ^убожество", производя отъ него ииогда красив йшія лозы: ибо „убогія" съ лнца своего, въ пол
бываютъ часто геніалыіы, воспріимчивы, страстны,
„похотливы". („Люди луннаго св та", стр. 16—17).
Вс эти люди надорвали свою плоть въ постоянномъ гор ніи, для нихъ только полъ былъ жизныо
и только въ пол —ц ль... Надрывъ же безм рпо
углубляетъ душу, до такого состоянія доводитъ ее,
что тутъ ужъ и сама инквизиторская пытка пе поможетъ, нужно принять отчаянье какъ посл дній
источиикъ ут шенія... А съ отчаяньемъ трудно жить,
певозможно жить... И бродишь въ туманахъ дней ,
усталыхъ, дней пос д вшихъ отъ горя, какъ душа
твоя,робкостремишьсявъподвалы, гд с рыя, мокрыя,
вонючія л стшщы, гд гнилое дыхаыіе родиого без-
152
силья;.. Гд нибудь, въ черненькомъ трактирчик
скрипучій хохотъ тоски заливается въ органной аріи,
кошмарныя, истомлегшыя маскп людей какъ рваныя
лохмотья, пьяный впзгъ, пьяиый плачъ, слабенькій
развратикъ, а къ окнамъ, вспот вшимъ отъ людскихъ испареній—прильнуло и смотритъ вышівающимъ взглядомъ сумасшедшее, паучье лицо нудной
В чности!... И Версиловъ, и Свидригайловъ сюда
стремятся, въ эти переулочки, въ эти подозрительные трактирчикп, словно чуя душой, что зд сьто и сгущается чернымъ безуміемъ тоска ихъ, словно чуя, что въ этомъ-то сгущеніи, въ этомъ посл днемъ надрыв
всей лшзни страданье преображается въ облегченность!... Но слабый крикъ замираетъ, но боль все сильн е, но жизнь все безц льн е... Ибо горе тому, кто, полюбивъ черное страданье свое, отречется отъ всякаго ут шенія, отъ
всякой Божіей милости, отъ вс хъ путей Божіихъ...
Въ этой жизни, гд одно лекарство—Христосъ,—людямъ, отказавшимся отъ л ченія, суждено безыадежно и безполезно погибнуть!... Въ этой жизніі глубину
души нужно заливать ч мъ-ыибудь, лишь бы забыться, лпшь бы перевестп духъ, и если кто не захочетъ
крестъ нести п душу иетомить страданьемъ, если
гюнад ется на себя, то разв въ конц концовъ это
не покажется преступленіемъ? А въ паучьемъ царств не видно пи зги, зд сь душу запродали плоти
и порокъ сд лалп содержаніемъ бытія... Зд сь бунтъ
учинили и опьяннлись- бунтомъ, ыо гд -же выходъ,
гд окно, изъ котораго бы хлыиулъ св жій воздухъ,
ибо вс задыхаются, вс удушьемъ собственнымъ
опьяняютъ себя?... Версиловъ в рилъ въ исходъ, но
до т хъ поръ, пока ц пи отъ женщины были ослаб-
153
лены; когда же рванула ихъ и позвала, п поманпла—
рабской стала душа, рабствомъ упилась, въ рабство
ув ровала, ибо это рабство для него свято!... А Свидригайловъ—тотъ обезум лъ отъ ііскушеиій паучьяго
царства и проклялъ надежду, какъ вс ... Ставрогинъ
зке даже изъ отрицапія ничего не могъ выжать, кром скуки... Иванъ Карамазовъ ув ровалъ въ чорта...
Зд сь эта в ра какъ нельзя ум стн е... Полъ,—женщина,—дьяволъ, это и колдуетъ зд сь, и это же
губитъ на в къ!
Тпхій ужасъ безумія, соыный лепетъ тоски, вм сто надежды—грустная гирлянда почерн вшихъ розъ
вс хъ пороковъ... И усталость... И пресыщенье...
И страхъ...
А въ посл днемъ отчаяныі, въ посл днемъ надрыв —тамъ, гд хочется конецъ увид ть и концомъ упиться—безобразная ^шска Лизаветы Смердящей, какъ безстыдно разложившійся трупъ на порог
в чности.
Угрюмая зд сь любовь, любовь истомляющая,
любовь—бездна тоски по безумію... Дьявольскими чарами опьяияетъ любовь челов ка, но н тъ надежды
спастись... Лиза ждала отъ Ставрогина чуда, какъ
можетъ быть, и Свидригайловъ—отъ Дуни... Но и
зд сь Достоевскому пррішлось обезобразить чудо свое.
въ любимую паучыо страпшую маску воплотить его...
И не во имя того, чтобы застыла тоска, н тъ, можетъ быть,—во имя спасенія... Для т хъ, которые
жаждутъ истішы и ищутъ ее—для т хъ уготовано
ут шеніе привычное и ыеизб жное:—только Христосъ!..
Для карамазовцевъ, отрекіпихся отъ добра и отъ
зла во имя наслажденія,—безуміе изобр ло тоже
н что врод спасеиія:—что-то сложное, уходящее въ
154
в чпость путями муки, что-то измученное, уродливое и безсловесное, о чемъ грезятъ безнадежно
болыіые въ темную ночь... Любовь?... Дьяволъ?...
Голго а страсти?... Неизв стно! Въ томъ-то и прелесть заключается этого ут шенія, что оно—неизв стно... У безумія в дь СВОРІ пути—алогическіе,
безсловесные, кошмарные, и в руютъ-то въ нихъ
одии лишь умершіе для жизни, а отъ нихъ едва-ли
добьешься толку... Однако, у Нитцше, у Эдгара По,
у Бодлэра, у Вр.убеля они были. несомн нно были:
даже изступленные, даже забывгаіе землю, даже Ріскал ченные до смертельной усталости,—даже и т
(можетъ быть, по иыерціи изв чной, можетъ быть по
традиціи'?) тоже им ютъ свою надежду, своего обезображеннаго, истомленнаго Христа!.., Такова видио
общая судьба!...
Одиночество—уд лъ иелшогихъ, да и то см ияется часто сумасшедшимъ домомъ, пбо отклика,
ласки, великой любви жаждетъ душа и въ одииочеств , ибо иельзя псц литься самому, такъ челов къ устроенъ, ііужно, даже когда ненавидишь весь
родъ челов ческій,—ждать исц ленія отъ другого...
Для в рующихъ исц леніе является во всякую мииуту, зд сь символъ спасаетъ; все, чего нельзя получить отъ людей и отъ міра, все, что невозможно,
ибо его и тъ, они воплощаютъ въ символъ, и этимъ
живутъ, п дышатъ, и наслаждаются... Одшіъ символъ
(„пустой внутри" — говоритъ разсудокъ, — „полный
тайны и жизни"—говоритъ душа)—и жизнь спасеыа,
и голодъ утоленъ, и веселая надежда скрашиваетъ
жпзнь, словно у челов ка, который положилъ въ
банкъ капиталъ и этимъ себя обезпечилъ! Хитрость
(безсознательная, или созііательная—не важно), но во
155
всякомъ случа завидная... Въ подвалахъ же и въ
паучьемъ царств не знаютъ, что такое хитрость,
имъ это недоступно... Но нужно не меныпе, ч мъ
кому бы то ни было. Зд сь в рятъ и над ются,
что безуміемъ станетъ вся жизнь, что безуміе дастъ
откровенье... Зд сь чуда ждутъ.
„Мн всегда казалось—говоритъ Лиза Ставрогииу—„что вы заведете меня въ какое-нибудь м сто,
гд живетъ огромный злой паукъ въ челов ческгй
ростъ, и мы тамъ всю жизнь будемъ на него гляд ть и его бояться. Въ томъ и пройдетъ наша взаилтая любовь" *) („Б сы").
Каково чудо? Каково ожиданіе'? Только содрогнутся многіе и, пожавъ плечами,—въ недоум піи
мимо пройдутъ! А зд сь, у нихъ это называется чудомъ!... Огромное страшилище, паучье лицо Медузы опрокинулось надъ карамазовскимъ царствомъ
и кровь сосетъ, и наводитъ больные сны, и баюкаетъ скорбною п сныо, и страхомъ жестокимъ колдуетъ! Всякая надежда отравлена жутью, свершаются
превращенія, нас комыя—гладкія, огромныя, безобразныя—мучаютъ, изводятъ, мелкіе черти водятся
всгоду, ихъ видятъ не одни моиахи у Зосимы,
они грезятся и Лиз Хохлаковой, прыгаютъ, корчатся, чары наводятъ, душу терзаютъ, хохочутъ, влекутъ. „Будто я въ моей комнат со св чкой, и вдругъ
везд черти, во вс хъ углахъ, и подъ столомъ, и
двери отворяютъ, а ихъ тамъ за дверями толпа и
имъ хочется войти и меня схватить. И ужъ подходятъ, ужъ хватаіотъ. А я вдругъ перекрещусь, и онп
вс назадъ, боятся, только не уходятъ совс мъ, a у
*) Курсивъ мой. А. 8.
156
дверей стоятъ и по угламъ, ждутъ. И вдругъ мн
ужасыо захочется вслухъ начать Бога бранить, вотъ и
начну бранить, а онп-то вдругъ опять толпой ко мн ,
такъ и обрадуются, вотъ ужъ и хватаютъ меня опять,
а я вдругъ опять перекрещусь—а онп вс ыазадъ.
Ужасно весело, духъ зампраетъ" („Братья Карамазовы"). У Свидригайлова такихъ явлепій было хоть
отбавляй, а однако участь его та же, что и Ставрогина: не выдержалъ на себ карамазовской тяжести,
не выдержалъ больной и пустой тоски!... Пришлось
уступпть смерти... Воля Достоевскаго безпощадна:
кхо нагр шипъ, кто осм лился выйти пзъ рамокъ,
тотъ должеиъ во что бы то ни стало покаяться, a
не покается—смерть ему... Достоевскій все пресіуплеиье свое на Христа взвалилъ, зналъ, что Христосъ/
все приметъ. Такъ д лаютъ вс . Этимъ и спассяі
Но Свидригайлову это не было дано (для этого в дь
даръ особый требуется), ему и вс мъ карамазовцамъ
суждено было подъ задщт Й дьявола жить, но такъ
какъ дьяволъ предоставляетъ челов ку свободу и
одипочество п пикакого обмана не можетъ дать,—
трудно приходится ув ровавішшъ въ него!... Никакого ут шенія придумать нельзя, а безъ ут шенья
прожить разв только идіотъ можетъ, особешю трудно т мъ безъ ут шенья жить, которые еще во гр х
пребываютъ, зло любятъ, порокъ любятъ!... Сильные, погибшіе душой въ разврат , какъ
едоръ
Павловичъ—т выдержать могутъ, но остальные'?
Свидригайлову это состояніе очень я домо было, недаромъ же у него вырвались такія любопытныя слова:
„вс хъ весел й тотъ и живетъ, кто вс хъ лучше
себя сум етъ надуть"!
Свидригайловъ вн шией своей стороной—родной
братъ Ставрогипа. Т же поступки, то же циниче-
157-
ское презр ніе къ міру, та же трагическая маска на
лиц , излюбленная маска Достоевскаго... „Это было
какое-то странное лицо, похожее какъ бы на маску:
б лое, румяное, съ румяными алыми губами, съ
св тлоб локурою бородой и съ довольно еще густыми б локурыми волосами. Глаза были какъ-то слишкомъ голубые, а взглядъ ихъ какъ-то слишкомъ
тяжелъ и неподвиженъ. Что-то было ужасно непріятное въ этомъ красивомъ и чрезвычайно моложавомъ, судя по л тамъ, лиц "... Но въ то время,
какъ для Ставрогина закрыты вс возможности и
вс выходы, у Свидригайлова все-же возникаютъ
просв ты въ иные міры, и зд сь выступаетті другая
сторона карамазовщины—мистическая. Этотъ злов щій мистицизмъ прорісходитъ несомн нно отъ полового надрыва, отъ излишней проникновенности къ
корыямъ жизни, отъ безконечно длящагося бреда,
бреда страсти, чаднаго бреда, изводящаго... Тихое
очарованіе просв чиваетъ сквозь кошмарную усталость души, сквозь жестокость, сквозь отраву разврата, въ порок и въ разврат
застыла жизнь,
расцв ла огненнымъ цв томъ, далыпе идти некуда
и нельзя, а жить хочется, какая-то „кошачья жажда
жизни" (слова Достоевскаго) изводитъ душу, но вотъ
уже выпиты вс сокп жизни, все ея очарованіе, вся
ея красота и наслажденіе, и въ глубин ^—тошнота
отъ прикосновенія къ злов щей твердости дна... Кто
изм рилъ глубину, тому остается испробовать новыхъ путей въ ширину, ширь разв ваетъ призраки,
уводитъ въ безконечность, пров триваетъ до облегченности, до подозрительной облегченности,—Свидригайлову эта ширь не совс мъ улыбается, карамазовская глубь ближе, родн е... Ч мъ глубже въ
158
подвалы, ч мъ глубже въ грязь узенькихъ, черненькихъ переулочковъ,—т мъ онъ себя лучше чувствуетъ, въ глубин души своей самъ себя распинаетъ, онъ в дь всего больше клоаки любитъ,
„клоаки и именно съ грязнотцой!"... Зд сь, можетъбыть, въ какомъ-то юродивомъ униженіи самого
себя, въ терзаніи ранъ души своей—таится больной
восторгъ...
И Свидригайловъ—этотъ румяный, злов пііе руМуаный челов къ, тоЖе ухватился за бол знь, какъ
за средство проникнуть изъ глубины куда-нибудь,
все равно куда, лишь бы отдохнуть отъ карамазовскихъ ужасовъ, лишь бы отвести глаза наконецъ отъ
паучьяго очарованія!... Какъ и Версиловъ,—онъ хватается за еоломинку в ры, изъ бездпы стремится
вверхъ, на безуміе, на бол зпь свою возлагаетъ смутныя чаянія! Призраки любитъ, копшары, вид нія,
въ немъ фантастика карамазовщшіы, въ немъ—утонченная сказка сладострастныхъ грезъ. „Привид нія—
это, такъ сказать, клочки и отрывки другихъ міровъ,
ихъ начало. Здоровому челов ку, разум ется, ихъ
незач мъ вид ть, потому что здоровый челов къ есть
наибол е земной челов къ, а стало быть, долженъ
жить одною зд шнею жизпыо, для полноты и для
порядка. Ну, а чуть забол лъ, чуть нарушился земной порядокъ въ организм , тотчасъ и начинаетъ
сказываться возмояшость другого міра, и ч мъ больше боленъ, т мъ и соприкосновеніе съ другимъ мь
ромъ больше, такъ что, когда умретъ совс мъ челов къ, то прямо и перейдетъ въ другой ыіръ",..
Въ этихъ словахъ—искры надеждъ Достоевскаго на религіозное возрождеиіе, это уже отголоски
другого міра, лежащаго ви границъ карамазовщины,
159
но далекъ Свидригайловъ отъ того, чтобы придавать имъ особенное значеніе, его сущность—только
въ страсти и въ паучьихъ очарованіяхъ, ему в дома
тайна обмана, тайна, которую онъ не пром няетъ ни
на одну изъ челов ческихъ истинъ.
Власть дьявола разрушаетъ вс пути. власть
дьявола закружитъ душу въ трагическомъ лабиринт безысходности. Карамазовы хорошо знаютъ,
что вн „переулочковъ и трактирчиковъ" лежитъ
гибель, противор чащая ихъ выстраданной, „кошачьей" жажд жить.
Карамазовское царство—царство обреченное на
гибель. Зд сь всюду—разложенье, впереди—никакихъ
перспективъ.
Ибо ничто такъ не ужасаетъ и не обезсиливаетъ,
какъ глубина плоти. Просто не привыкъ челов къ
одной плотью жить, наслаждеыье не привыкъ освящать, любовь д лать таинствомъ.
Въ этомъ отношеніи Розановъ правъ: религію
грусти возлюбили мы паче всего... Понад яться на
плоть страшно, безуміе любви принять страпшо... A
гд -же торжество личности, какъ не въ любви и въ
пол ? В дь любовь это и есть анархія личности,
сосредоточеніе себя ыа своемъ я, обоготвореніе себя!... Зд сь-то и рождаются самые удрівительные міры, зд сь-то и жизнь становится особенно интересной, особенно многообразной, полной красоты, таинственнаго смысла! Но зд оь-же. на трагедіи Карамазовыхъ, видно крушеніе попытокъ построить жизнь
единственно на личности. Челов ческое „я"—самая
опасная вещъ въ мір : кто погрузится въ эти н дра, кто закружится въ водоворот глубины, тому
уже суждено погибнуть, тутъ ужъ и спасенье потре-
ICO
буется, спасенье станетъ ч мъ-то необходршымъ, и
краха индивидуализма не изб жать!... Это самая удивительная тайна изъ вс хъ тайнъ челов ческихъ.
Тогда трагедія над ваетъ злов щую маску (Ставрогинъ, Свидріігаііловъ), тогда трагедія и безуміе одпо (Иванъ Карамазовъ,) тогда носятъ вериги, в руютъ въ возрожденье духа, съ страшнымъ бунтомъ
соединяя молитву (Версиловъ)...
Неизм рима глубина личности, но все это, по
Достоевскому, одыо преступлвнье, всего этого не вынести челов ку, нужно пскать искупленья, нужно
принять наказаніе...
Тотъ, кто не побоялся глубины—тотъ выдержитъ... Но разв есть такой? Разв не вс или
стремятся обратно, на плоскуіо поверхность жизни,
или, когда уже стремиться поздно, попадаютъ въ
сумасшедшій домъ? Зд сь—тайна, в домая т мъ
лишь, которые приііяліі на себя об тъ в чнаго молчанія.
Если кто ие побоится безумія—тому зд сь рай,
по какъ поступить т мъ, что и въ безуміи хотятъ
найти ут шенье? Въ этомъ отношеніи судьба Ивана
Карамазова очень интересна: онъ всю силу безумія
п всю силу зла и всю полезность всего этого хорошо уразум лъ, но его ужаснула судьба всего міра,
его ужаснула в чность тоски.
Ищущимъ это состояніе хорошо в домо...1'Вс
ищупце ліаждутъ истииу найти, но когда между ними и между истиной вдругъ возникаетъ бездна,—они
чувствуютъ что-то ужасающее, и навсегда отказыва^ ются искать!.. Сь Иваномъ Карамазовымъ случилось
то же,—Достоевскій ловко усп лъ въ эту минуту переА бросить мостикъ между Карамазовщиной и религіей,—
161
но Ивану едоровичу стало не по себ . Какъ и
Ставрогинъ,—онъ чувствуетъ въ душ своей убійственную пустоту. Да и не удивительно: онъ понялъ,
что такое тотъ пресловутый круговоротъ в чности,
который Нитцше приводилъ въ умиленіе, а Карамазова да и вс хъ, кто пойметъ,—только ужаснулъ
своей безц льностыо:
„Теперешняя земля, можетъ, сама-то билліонъ
разъ повторялась; ну, отживала, леден ла, трескалась, разсыпалась, разлагалась на составныя начала, опять вода яже б надъ твердію, потомъ опять
комета, опять солнце, опять изъ солнца земля,—
в дь это развитіе, можетъ, уже безконечно разъ повторяется, и все; въ одномъ и томъ же вид , до
черточки. Скучйща неприличн йшая... („Братья^Ка—
рамазовы").
Если такова окончательная ц ль всякаго исканія, всей жизни и вс хъ стремленій, то кто можетъ
не позавидовать Карамазовымъ и ихъ апо еозу наслажденья? Кто не пойметъ очарованья минуты, кто
сможетъ устоять передъ дьявольскими искушеньями?
_Ибо, въ конц -концовъ—важно одно: лишь бы
забыться;—хоть хитростью, хоть обманомъ,—но тбльjco забыться, прихлопнуть разсудокъ, въ забвеньи
своемъ уничтожить мысль о томъ, что ни ц ли, ни
истины н тъ и не можетъ быть...
Важно одно: спасенье придумать, вс свои силы употребить на изобр теніе спасенья... Ибо поистин „вс хъ весел й тотъ и живетъ, кто вс хъ лучше себя сум етъ надуть!".
1 9 1 0 — 1 9 1 2 г.
' •
ПОДПОЛЬЕ. Пси?(ологическія параллели. Книга I. Доаоевскій; Леонидъ Дндреевъ;
. Сологубъ; Л, Шестовъ;
^лекс й Ремизовъ, Ми?(. Пантю?(овъ. Изданіе журнала „Искусаво и печатное д ло". 1911. (Д на 1 рубль.
СВЕР^ЧЕЛОВЪКЪ НПДЪ БЕЗДНОЙ. Религія подвига
(Левъ Толстой), Мистика жизни и смерти (Ж. Роденба^ъ и
Б, Зайцевъ). Пси^ологія самоубійства, 1911. Ц на 1 рубль.
Готовятея къ печатм:
РЕЛИГІЯ. Пси^ол. парал. книга третья. Достоевскій, Н,
Т\. Бердяевъ^ С. Н. Булгаковъ; (Яндрей Б лый, Длександръ
Блокъ, 3, Н. Гиппіусъ, Александръ Добролюбовъ, Вячеславъ
ИвановЪ; Д. С. Мережковскій, Еп. Ми^аилъ; Н. Минскій, Иванъ
!іовиковъ; Гр, Петровъ^ В, Свенцицкій; Д. В. Философовъ,
ВЕРТЕРЪ и ДОНЪ-ЖУПНЪ. (Философія любви),
ГОГОЛЬ и ЧЕ^СОВЪ.
Ц на 1 рубль.
Главный складъ изданій въ магазинЪ ЛЕОНА ИДЗИКОВСКАГО.
(Кіевъ, Кр щатикъ, № 29).