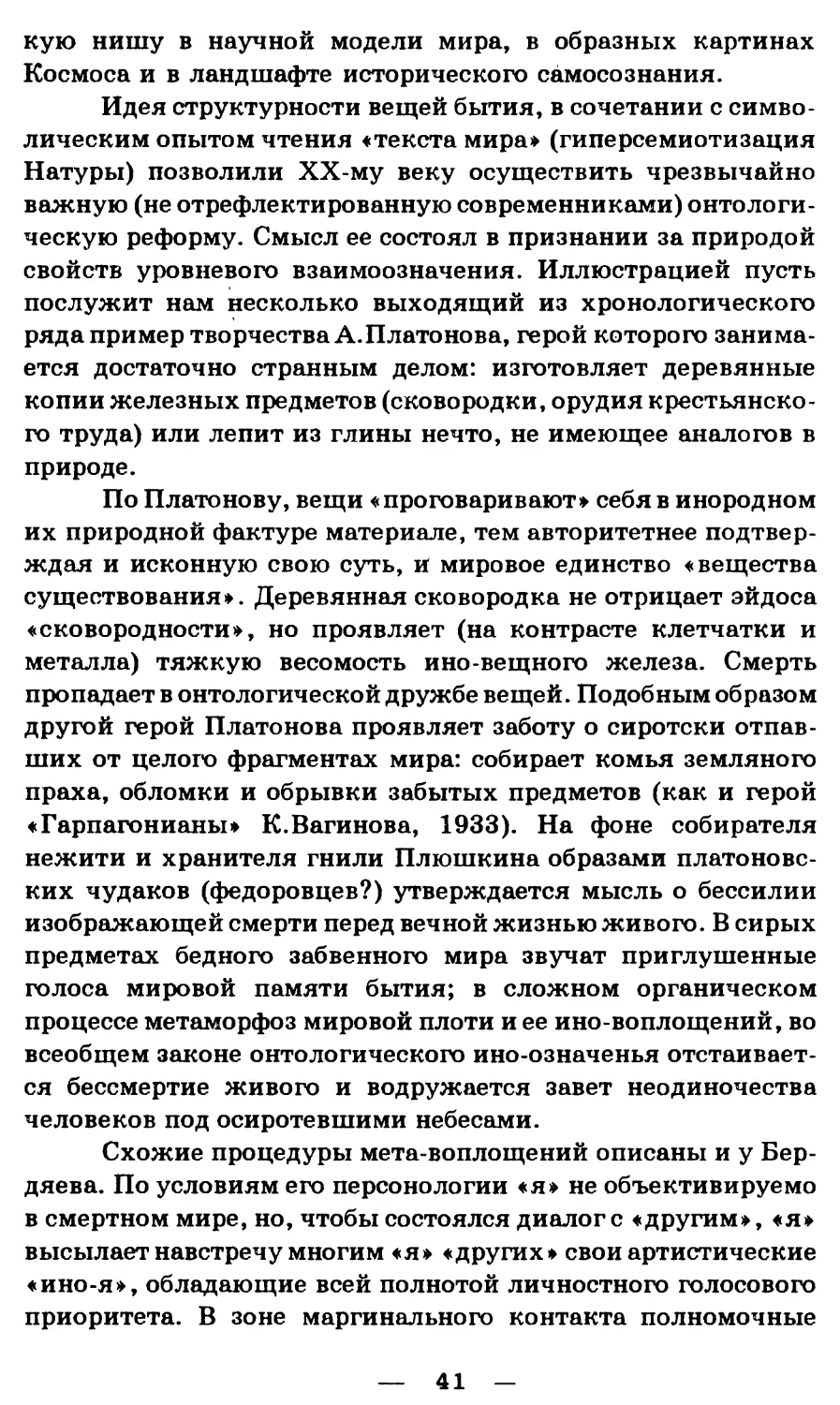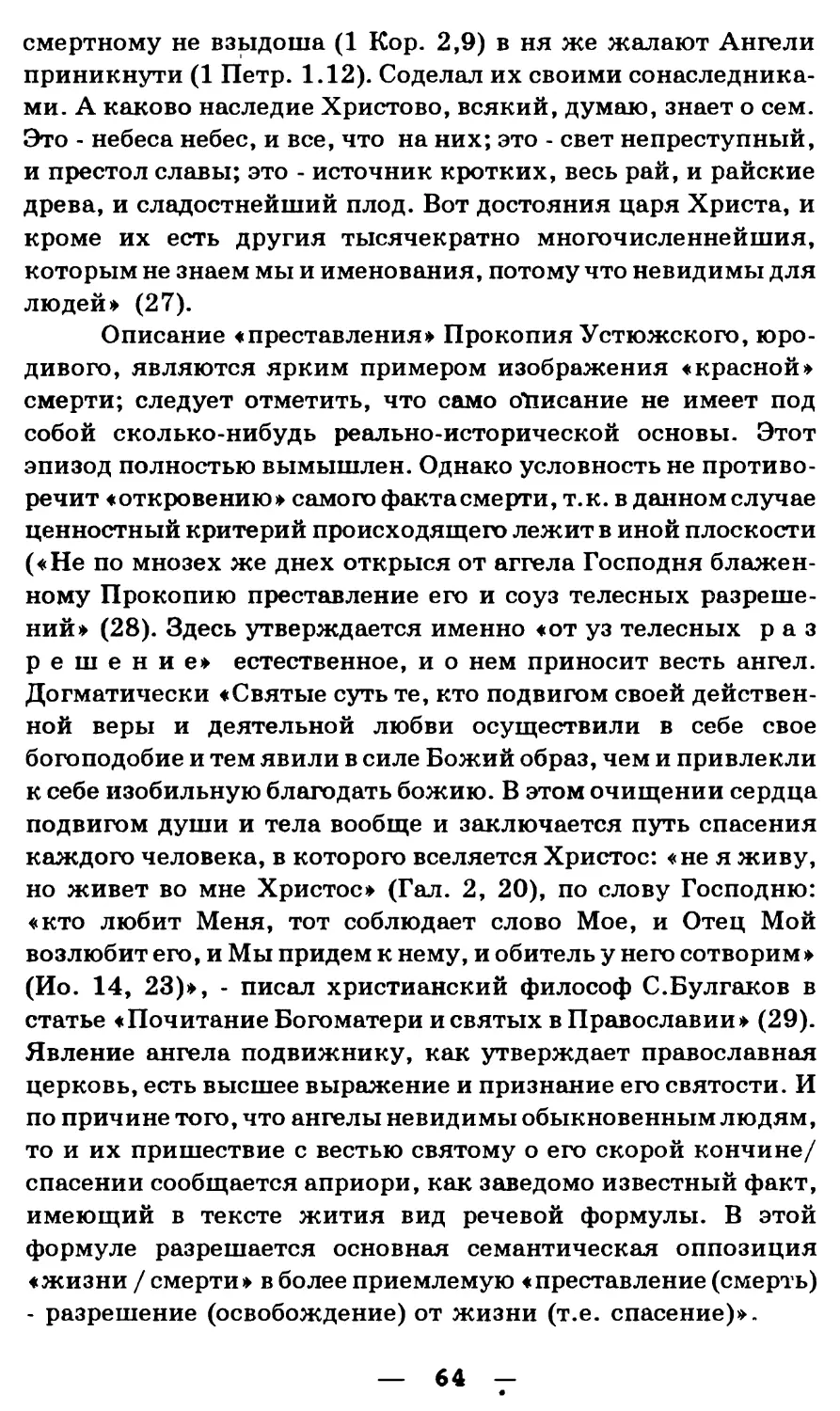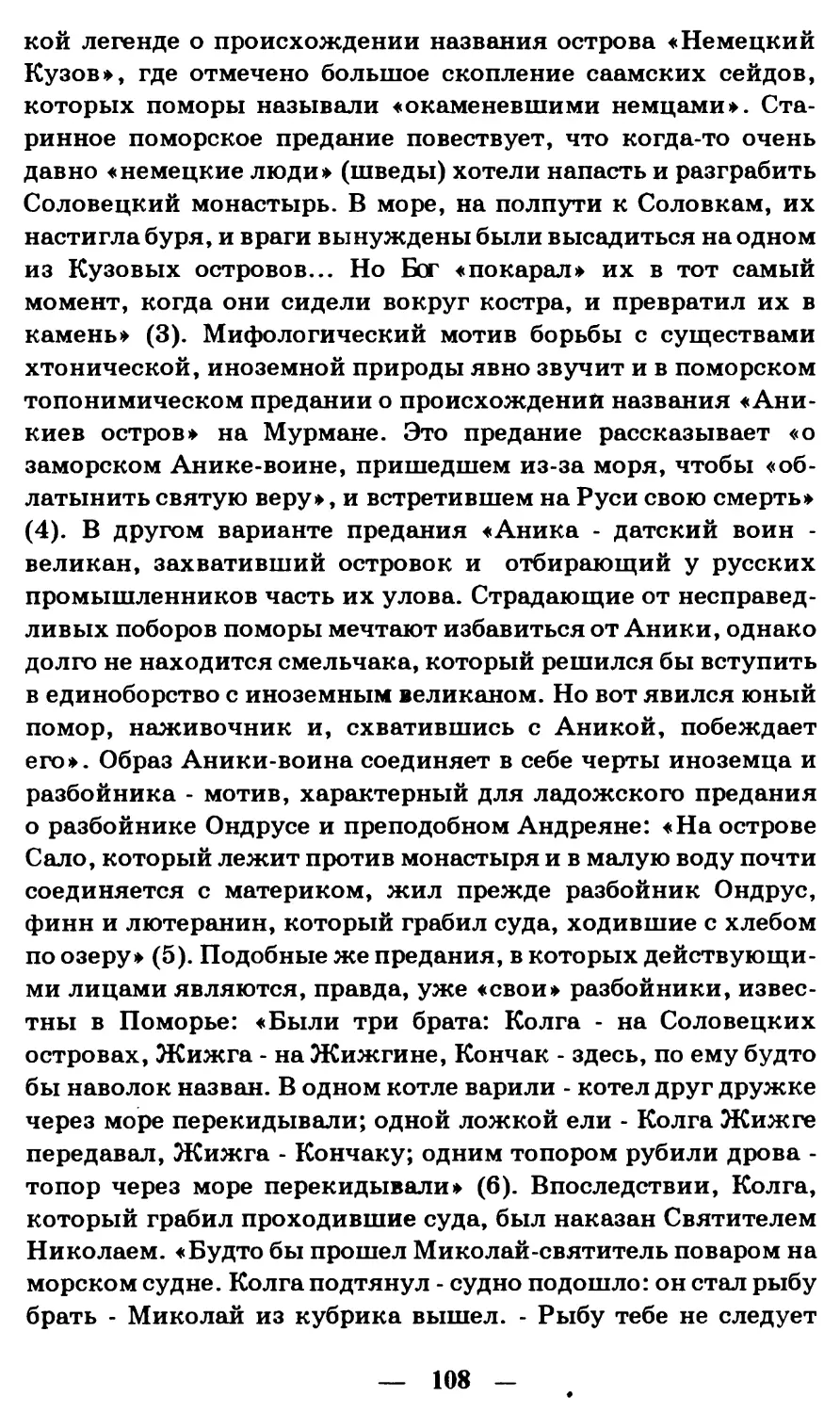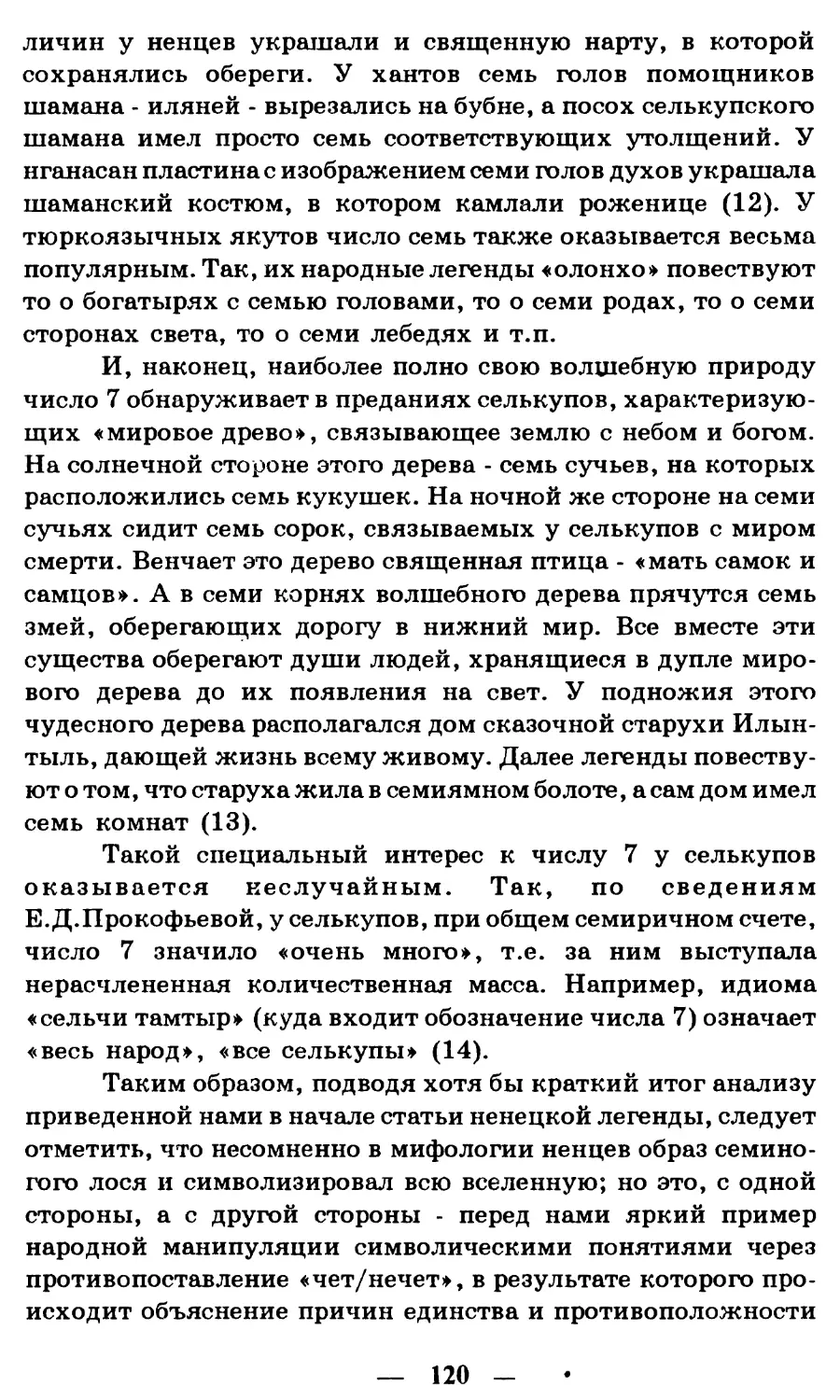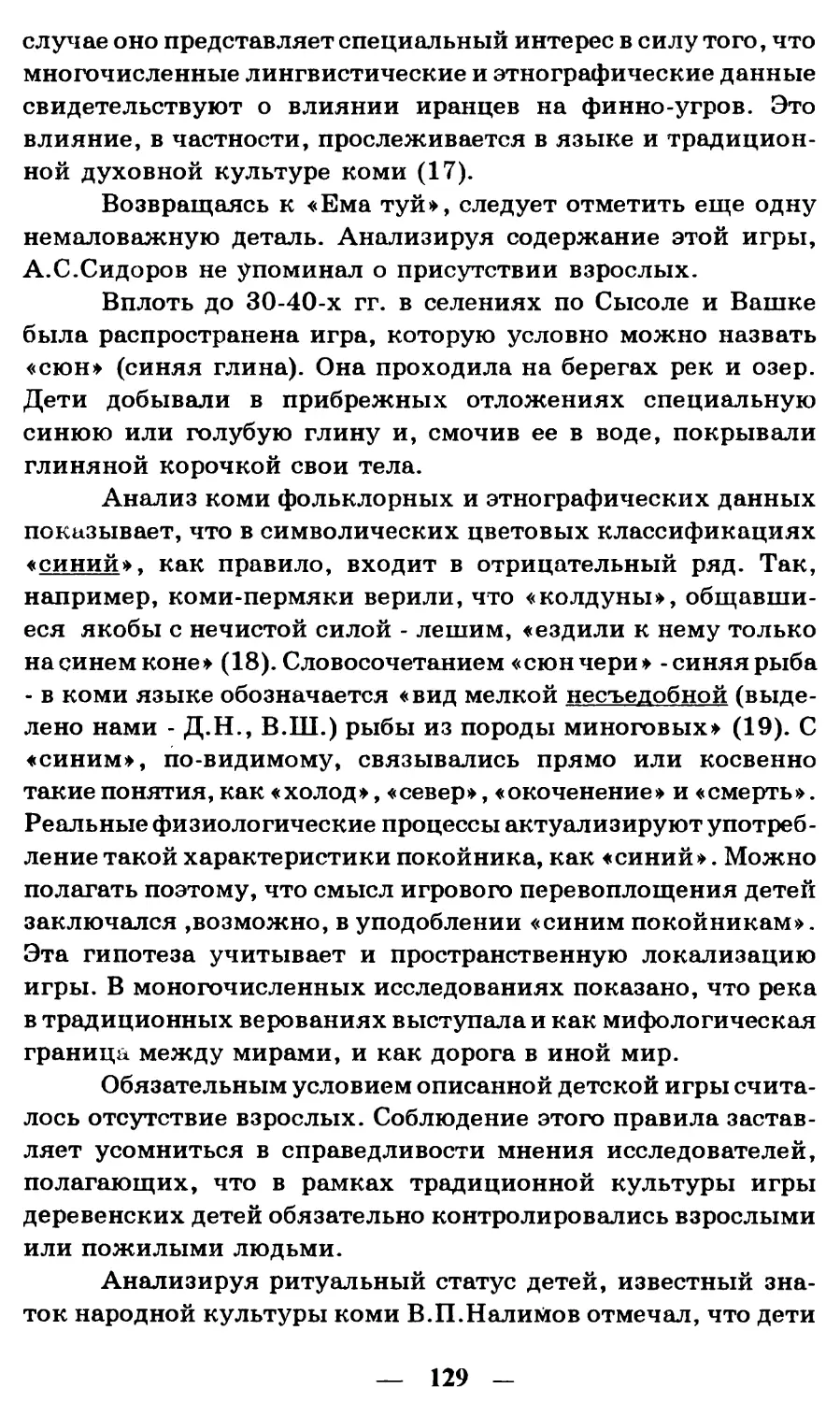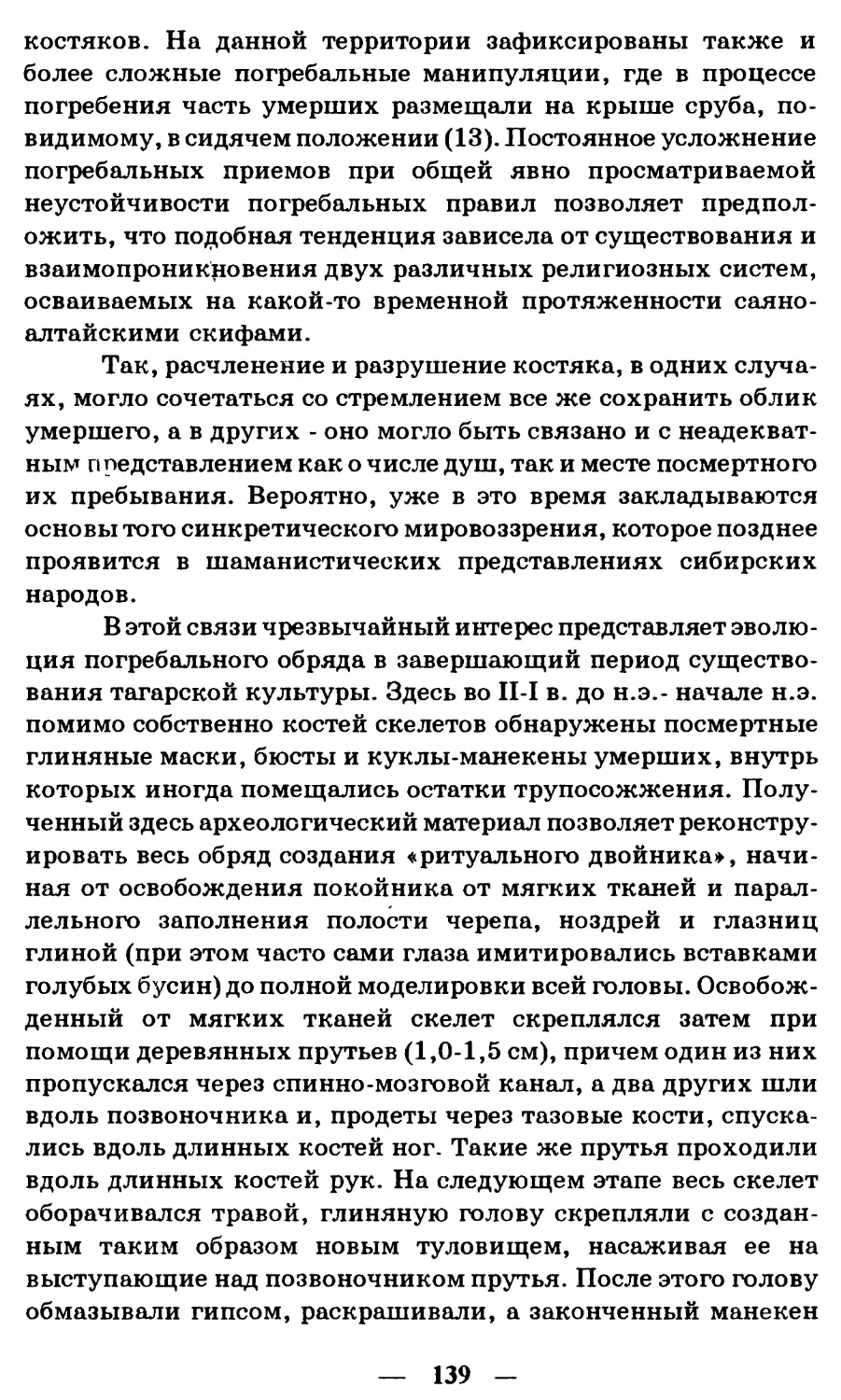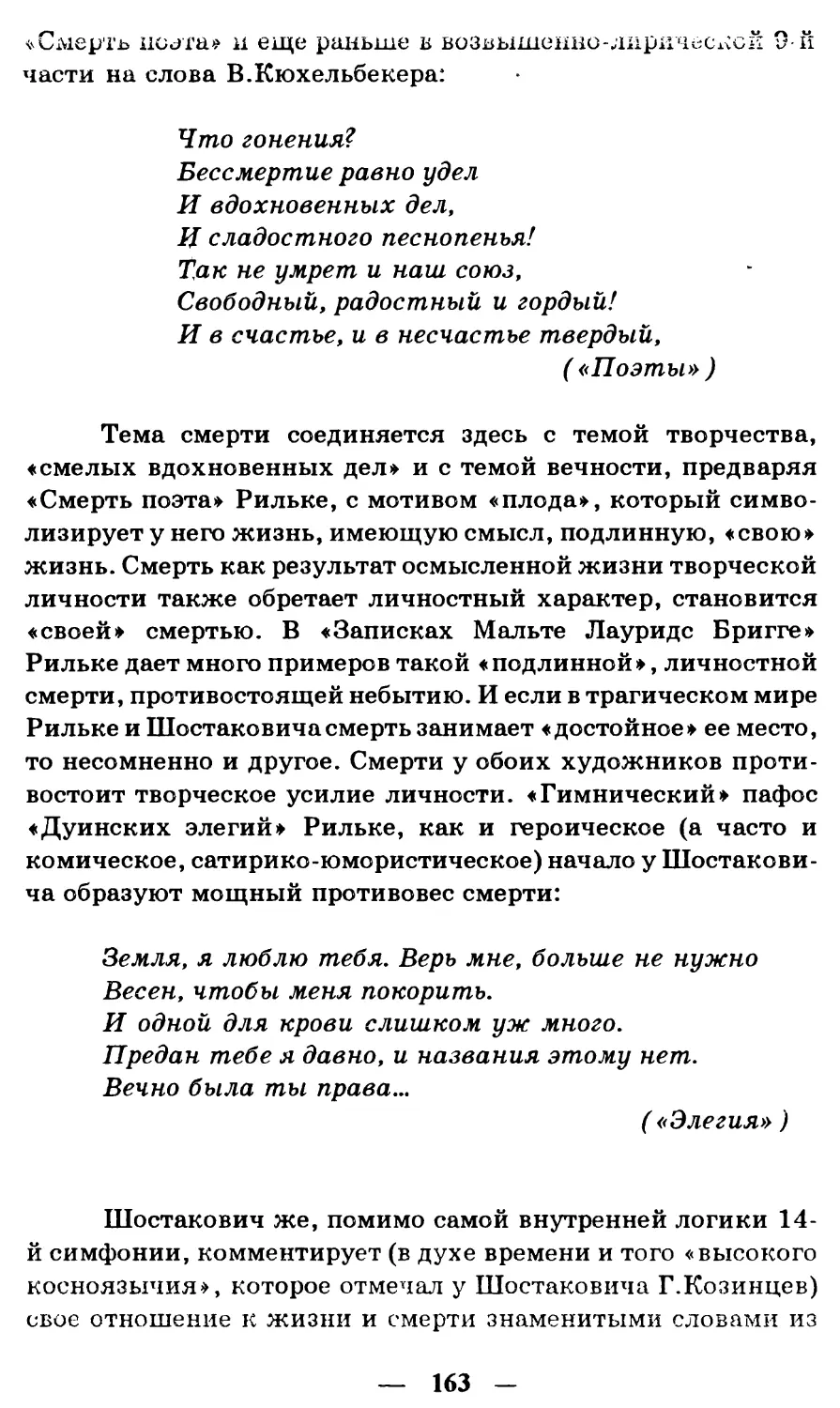Автор: Семёнов В.А. Несанелис Д.А.
Теги: культура этнография археология феномен смерти
ISBN: 5-87237-027-Х
Год: 1994
Текст
эдямерть
л как
Феномен
КУЛЬТУРЫ
АО
ш
Сыктывкарский государственный университет
СМЕРТЬ
КАК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ
Межвузовский сборник
научных трудов
Сыктывкар 1994
В предлагаемом сборнике опубликованы материлы 3-й
школы - семинара по семиотике культуры, посвященные пробле-
мам отражения темы смерти в этнографии, литературе и археоло-
гии.
Коллективный рецензент: сектор этнографии ИЯЛИ Коми науч-
ного центра УрО РАН.
Редколлегия
В.А.Семенов - отв. редактор; Д.А.Несанелис - отв. за выпуск;
А.Ф.Белоусов - ИРЛИ (Пушкинский дом).
ISBN 5-87237-027-Х
© Сыктывкарский
ун-т, 1994.
© В. Липин, обложка,
1994.
Вместо предисловия
Вряд ли можно указать другую категорию, которая бы
одновременно так повелительно притягивала и отталкивала
человечество, как Смерть. Разве что - Жизнь, которая в извест-
ной перспективе и должна рассматриваться как подготовка к
смерти. В отечественной религиозной и философской традиции
есть обращения к теме смерти. Достаточно вспомнить «Слово о
смерти» епископа Игнатия Брянчанинова или «Поэму о смерти»
Л.П.Карсавина. Вряд ли может вызывать сомнение то, что оба
сочинения навеяны как строками пасхального тропаря, так и
«любовью к отеческим гробам», столь отчетливо и пронзительно
отразившейся и в живописи. Вспоминаются, например, лирически
окрашенные «кладбищенские» пейзажи Марии Якунчиковой.
В тот период нашей истории, начало которого знаменует-
ся 1917 годом, размышления и рассуждения о смерти были не
только не актуальны, но даже как бы и «неудобны», что было
вполне логично для идеологии общества, для которого «Ленин и
теперь живее всех живых». Имплицитно могло подразумеваться,
что харизма вождя распространяется на всех причастных делу
революции. Примечательны в этом отношении строки Николая
Асеева о «площади Красной», на которой собирается «красный
народ». Едва ли не единственными областями жизнедеятельнос-
ти, где занятия темой смерти как категорией культуры были
достаточно узаконены, оставались археология и этнография.
Эти науки основное внимание уделяли погребальному обря-
ду, интерпретация которого зачастую полностью зависела от
социального заказа. По словам В.Н.Топорова, возрождение «куль-
та покойных» на нашей отечественной ниве начинается с середи-
ны 50-х годов. Оно было связано, видимо, с некими более общими
тенденциями духовных поисков и устремлений. В той или иной
степени они стимулировали и научные разыскания, результаты
которых оформлялись на конференциях и симпозиумах 80-х годов,
посвященных проблемам балто-славянских культур. Подходы к
данной проблематике, продемонстрированные на этих симпозиу-
мах, свидетельствовали о преодолении строгой «академичнос-
ти» и о зародившемся стремлении к междисциплинарному синте-
зу явлений культуры. Прошедшие недавно на Соловках (1987), в
Великом Устюге (1988), Сыктывкаре (1991) семинары продемон-
стрировали возможности семиотического подхода при анализе
культур разных этносов. Школа-семинар в Сыктывкаре была
специально посвящена проблемам смерти как феномену культу-
ры. Некоторые результаты этих обсуждений представлены на
страницах предлагаемой книги.
3
А.ФЛелоусов
Санкт-Петербург
Из истории русской
«кладбищенской» поэзии:
стихотворение К.Случевского
«На кладбище»
Одним из стихотворений, которые принесли широкую
известность молодому Случевскому, было стихотворение «На
кладбище». Оно появилось среди стихотворений, опублико-
ванных в первом номере «Современника» за 1860 г. и
открывших для читателей и критики поэта, который до того
печатался во второразрядных изданиях. Эти стихотворения
стали предметом острой полемики между Аполлоном Григорь-
евым и сотрудниками сатирического журнала «Искра», где
восторженный отзыв Григорьева вызвал негативную реакцию
и предопределил отрицательное отношение к творчеству пре-
вознесенного критиком поэта (1). Здесь его стихотворениям
отказали в каких бы то ни было достоинствах и сразу же
занялись высмеиванием их «странностей». Именно с пародии
на стихотворение «На кладбище» и начинается дискредита-
ция поэзии Случевского, которая приводит к тому, что поэт
надолго перестает печатать свои стихи. Это свидетельствует
о явной необычности данного стихотворения.
Между тем его название заявляет вполне традиционную
тему.
Она возникает в атмосфере острых переживаний быстро-
течности и конечности человеческой жизни, столь характер-
ных для людей XVIII в., утрачивающих чувство своей сопри-
частности к круговороту природного и родового, космического
бытия. Одним церковным «словом», проповедовавшим «жизнь
вечную», справиться с тревогами и страхами секуляризовав-
4
шегося общества было невозможно. Христианская философия
смерти стала источником светского, поэтического «утешения»
широкой публики. Основополагающую роль сыграла дидакти-
ческая поэма «Жалоба, или Ночные мысли о жизни, смерти
и бессмертия» английского поэта и священника Эдуарда
Юнга. Лирико-патетические рассуждения о бренности земной
жизни, неотвратимости смерти и бессмертии души, которым
предается автор поэмы, находясь на кладбище, вызвали массу
откликов и подражаний. Образцом юнговской традиции в
русской поэзии является поэма Сергия Ширинского-Шихма-
това «Ночь на гробах» (1812), которая начинается характер-
ным образом посетителя кладбища:
Блажен, кто в мире сем воюя с суетами,
Скучая пышными ничтожества мечтами,
Для отдыха души, охотно каждый день,
Спешит под смертную, безмолвну, мрачну тень,
К усопшей братии, под ветвил унылы!
Кто любит посещать пустынныя могилы,
Между гробами жить, и взвешивать свой прах,
И верой исторгать из сердца смертный страх,
И в смерти почерпать бессмертия доводы! (2)
Образовался особый литературный «жанр», известный
под названием «кладбищенской поэзии».
Выдающееся место в многообразной и разнородной по
своему составу «кладбищенской поэзии» занимает «Элегия,
написанная на сельском кладбище» Томаса Грея, русский
перевод которой, выполненный Жуковским, по праву счита-
ется «началом истинно-человеческой поэзии в России» (3).
Юнговская проповедь бессмертия сменяется здесь размышле-
ниями о продолжении существования умерших в земной
жизни, чему способствует любовь к ним живых, не только
хранящих память об умерших, но и одушевляющих их прах.
Они оказали огромное влияние на сентиментальную «кладби-
щенскую поэзию», для которой свидание, контакты живых с
мертвыми
(чья...тень священная и образ вечно милый
Воскреснут, оживут в душе твоей унылой (4)
5
столь же важны, как и приготовление человеком себя к
смерти, когда он
С священною думой о тленьи
Блуждает вечерней порой
В безмолвном усопших селеньи,
С настроенной к смерти душой (5).
А в принципе - видимо, еще существеннее, так как
воплощают собой сентиментальный идеал «человечности»:
Я видел Пельского в жилище
Усопших, посреди могил: *
Он там рекою слезы лил!..
Там было и его гульбище,
Равно прелестное для нас,
Равно любивших и любимых,
Ко гробу сердцем приводимых!.. (6)
Элегическая тема обреченности человека на смерть
смягчается и идиллическим образом сельской жизни, опреде-
лившим характерный тип описания кладбища в русской
поэзии (ср. стихотворение Пушкина «Когда за городом,
задумчив, я брожу...»).
Альтернативой идиллическому пейзажу Грея - Жуков-
ского выступает элегическое описание кладбища, сложивше-
еся под влиянием меланхолических пейзажей Оссиана (см.
начало «Элегии» Андрея Тургенева). Оно получило широкое
распространение в романтической поэзии, где «унылый»
пейзаж отражает мрачное, подавленное состояние находяще-
гося на кладбище поэта. Осознание своего исконного одино-
чества в мире не позволяет ему обольщаться мыслью о
посмертном бытии в чьей-то чужой памяти. Идиллическую
картину ухоженного сельского кладбища вытесняет испол-
ненный грусти вид заброшенных могил, обитатели которых
давно забыты и никому не известны. Однако страшит не
только будущее забвение. Вместе с памятью об умерших
сомнительным становится и сам загробный покой. Вновь
оживают традиционные «ужасы могилы»: гниение, распад и
превращение в прах человеческого тела. А вслед за этим
предвидится абсолютное небытие, «холодный сон могилы».
6
Вот почему романтик не желает быть похороненным на
кладбище, о чем заявляется еще в «Весеннем успокоении»
Людвига Уланда:
О, не кладите меня
В землю сырую -
Скройте, заройте меня
В траву густую.
Пускай дыханье ветерка
Шевелит травою -
Свирель поет издалека,
Светло и тихо облака
Плывут надо мною (7).
Отказываясь от основных идей сентиментальной «кладби-
щенской поэзии», романтики видят в кладбище одно лишь
пространство смерти.
Это соответствовало атеистической тенденции в роман-
тизме. Ср.:
При свете вечера унылы
Кладбища томные могилы.
В средине их с своим крестом,
Могилам остальным подобно,
Высоко церковь - Божий дом -
Стоит, как памятник надгробный
Погибшей веры... Жизни дух
Здесь вовсе замер и потух (8).
Однако отношение к кладбищу как к пространству смерти
свойственно и ортодоксально веровавшим романтикам. Изо-
бражая жизнь, цветение кладбищенской природы:
Сквозь деревья освещаются гробницы,
По плитам скользит узорчатая тень;
В знойном воздухе поют и реют птицы,
Над усопшими ликует красный день.
Разрослись деревья; преизбыток силы
Дышит в каждой жилке влажного листа,
7
И кругом, куда ни взглянешь на могилы,
И цветы нарядны, и трава густа... -
Алексей Жемчужников не может примириться с «этой ложью
обольстительного сна». Она опровергается «правдой смерти,
правдой тленья», из которой исходит церковь. Об этом
напоминается в конце стихотворения Жемчужникова «На
кладбище» (1855):
И, мгновенной жизнью пользуясь беспечно,
Проходили люди шумною толпой;
А во храме пели радосты жизни вечной,
Грустно пели: со святыми упокой... (9)
Восхищение жизненной силой и красотой кладбищенской
природы характерно для какого-нибудь язычника. Ср. язычес-
кий мотив приобщения человеческого праха к вечной жизни
природы в стихотворении Майкова «На могиле» (1850):
Сладко мне быть на кладбище, где спишь ты, мой милый...
Нет разрушенья в природе! нет смерти конечной! #
Чадо ума и души - твоя мысль - пронесется к потомкам...
Здесь же, о друг мой - мне с трепетом сердце сказало -
В этой сребристой осоке и в розах, в ней пышно цветущих,
В этих дубках молодых есть уж частица тебя (10).
Христианскому же мироощущению, которое проникнуто идеей
бренности всего живого, близок и важен лишь символический
смысл кладбищенской природы (когда «могильные цветы»,
например, воспринимаются как знак, как свидетельство
будущего «воскресения»:
Они над пеплом разрушенья,
На человеческих гробах,
Растут залогом воскресенья
В других неведомых странах! (11)
Следовало помнить, что кладбище - особая, «Божья нива».
Отметим, что падение интереса к кладбищу происходит
по мере того, как в русской поэзии утверждаются возникшие
под влиянием христианского спиритуализма романтические
приоритеты духовного бытия. «Мертвое тление гробов» дока-
8
зывалось и естественными науками, которые играли все
большую роль в общественном сознании. Впрочем, они не
разъясняли всех «тайн» могилы:
В мире тленья не выносит
Ум - свидетельства немых.
И, бескрылый, робко просит
Убежать скорей от них, -
чем герой стихотворения Полонского «На кладбище» (1857)
и оправдывает свои страхи на ночном кладбище:
Так и кажется, что тени
Мертвых колокол сзовет..
На церковные ступени
Призрак сядет и вздохнет;
Иль, костлявыми руками
Мертвеца приподнята,
Глухо стукнет за кустами
Надмогильная плита.
Однако даже ему ясно, что это - пережиток прошлого,
унаследованный им от «отцов» и памятный по «сказочным
рассказам» няни. А главное - он отступает от заветов «жрицы
мысли», как называет поэт современную Музу: «не бояться /
/ Ни живых, ни мертвецов» (12). Обнаруженная в бумагах
Фомы Опискина поэма «Анахорет на кладбище» лишь опро-
вергает претензии героя повести Достоевского «Село Степан -
чиково и его обитатели» (1859) на роль властителя дум
русского общества середины XIX в. Характерным для этой
эпохи является предпочтение, которое Надежда Хвощинская
оказывает альбому перед кладбищем: если альбом в ее
стихотворении «Кладбище» (1859) предстает хранилищем
мыслей и чувств людей, то кладбище - только хранилищем их
трупов. От этого зависит не только настроение, но и поведение
поэтессы на кладбище:
И по кладбищу я всегда без размышленья
Спешу пройти, без чувств, разбора зла, добра,
Воспоминания, - почти без сожаленья... (13)
9
Отступление Хвощинской от традиционного стандарта
поведения на кладбище все же не идет ни в какое сравнение
с тем, что изображается в первой строке стихотворения
Случевского:
Я лежу себе на гробовой плите.
Столь свободного и абсолютно независимого от обстоятельств
поведения поэта на кладбище («лежу себе»), пожалуй, еще не
встречалось в нашей лирике. Это был явный вызов литератур-
ному этикету «кладбищенской» поэзии. Ср. предупреждение
Альфонса Ламартина:
И горе смертному, который в сих местах
Бестрепетно - себе подобных попирает (14).
Впрочем, среди «смертных» были и такие, кому это позволя-
лось. В стихотворении Державина «Цыганская пляска» (1805)
предметом поэтического вдохновения выступает пляска цыга-
нок на кладбище:
Под лесом нощию сосновым,
При блеске бледных луны,
Топоча по доскам гробовым,
Буди сон мертвой тишины (15).
Обычным людям, а тем более поэтам не полагалось вести себя,
подобно бесстыдным «Вакховым жрицам». В сравнении со
скаканием цыганок по могилам лежание героя Случевского
«на гробовой плите» кажется не таким уж большим грехом.
А между тем все зависит от позы, расположения человека на
могиле.
Можно было не только бродить по кладбищу или стоять,
прислонившись к надгробию, но - и усесться на могильный
камень, наконец, даже лежать на нем (в порыве горя или
желая услышать голос из загробного мира). Однако лежать
полагалось обязательно лицом вниз, обратившись к самой
могиле, как это делает герой сочиненных некиим X «Вечеров
на кладбище» (1837), который, «облокотись на камень,
прилег на чьей-то свежей могиле, только что устланной
дерном», а затем «приник к могиле, чтоб узнать, выкликнуть
из нее тайну, разгадку жизни, мысленно сделав заклинание
10
могильным теням» (и, действительно, через некоторое время,
когда он, задремав, «уже представлял собой подобие мертве-
ца», раскрывается одна из могил и появляется скелет -
«толкователь и путеводитель по подземным палатам») (16).
Видеть могилу (могилы) - необходимо для общения с умерши-
ми. Это условие распространяется на все поведение человека
на кладбище, где он познает тайну смерти или же приготов-
ляет себя к неизбежному концу. Ср. в «Дневнике одной
недели» Радищева: «На месте сем, где царствует вечное
молчание, где разум затей больше не имеет, ни душа желаний,
поучимся заранее взирать на скончание дней наших равнодуш-
но, - я сел на надгробном камне, вынул свой запасной обед и
ел с совершенным души спокойствием;
- приучим заранее зрение наше к тленности и разрушению,
воззрим на смерть» (17).
Однако «смерти» герой Случевского как раз и не видит.
Приведем полный текст стихотворения «На кладбище»:
Я лежу себе на гробовой плите,
Я смотрю, как ходят тучи в высоте,
Как под ними быстро ласточки летят
И на солнце ярко крыльями блестят.
Я смотрю, как в ясном небе надо мной
Обнимается зеленый клен с соной,
Как рисуется по дымке облаков
Подвижной узор причудливых листов.
Я смотрю, как тени длинные растут,
Как по небу тихо сумерки плывут,
Как летают, лбами стукаясь, жуки,
Расставляют в листьях сети пауки...
Слышу я, как под могильною плитой
Кто-то ежится, ворочает землей;
Слышу я, как камень точат и скребут
И меня чуть слышным голосом зовут:
- Слушай, милый, я давно устал лежать!
Дай мне воздухом весенним подышать,
Дай мне, милый мой, на белый свет взглянуть,
Дай расправить мне придавленную грудь.
В царстве мертвых только тишь да темнота,
11
Корни цепкие, да гниль, да мокрота;
Очи впавшие засыпаны песком,
Череп голый мой источен червяком,
Надоела мне безмолвная родня:
Ты не ляжешь ли, голубчик, за меня?
Я молчал и только слушал: под плитой
Долго стукал костяною головой,
Долго корни грыз и землю скреб мертвец,
Копошился и притихнул наконец.
Я лежал себе на гробовой плите,
Я смотрел, как мчались г^учи в высоте,
Как румяный день на небе догорал,
Как на небо бледный месяц выплывал,
Как летали, лбами стукаясь, жуки,
Как на травы выползали светляки... (18)
Взгляд поэта устремлен в небо. А значит, он лежит
лицом вверх, на спине, - поза, весьма характерная для
романтического времяпрепровождения. Ср. огаревский «Пол-
день» (1841):
Полуднем жарким ухожу я
На отдых праздный в темный лес,
И там ложусь, и все гляжу я
Между вершин на даль небес.
И бесконечно тонут взоры
В их отдаленьи голубом;
А лес шумит себе кругом,
И в нем ведутся разговоры:
Щебечет птица, жук жужжит,
И лист засохший шелестит,
На хворост падая случайно -
И звуки все так полны тайной...
В то время странным чувством мне
Всю душу сладостно объемлет;
Теряясь в синей вышине,
Она лесному гулу внемлет
И в забытьи каком-то дремлет (19).
12
Вглядываясь в небеса, поэт тянется ввысь, к бесконеч-
ному и безграничному - к вечности. Вслушиваясь в звуки
окружающей природы, поэт приобщается к тайнам бытия.
Отрешенный от всего суетного и пошлого, он блаженствует,
ощущая себя частью открывшейся ему высшей, подлинной
жизни. Взгляд вверх создает идеальные условия для роман-
тического расположения духа.
Все это следует иметь в виду, рассматривая стихотворе-
ние Случевского. Хотя его содержание ограничивается описа-
нием окружающего мира, оно проникнуто романтическим
мироощущением. Окружающий мир предстает здесь в гораздо
более романтическом виде, чем в цитированном выше стихот-
ворении Жемчужникова, которому, на наш взгляд, Случевс-
кий обязан не только целым рядом образов своего природоопи-
сания, но и редким для того времени стихотворным размером
(шестистопный бесцезурный хорей). Жизнь природы в сти-
хотворении Случевского наполнена движением, различными
формами деятельности - наконец, олицетворена: вплоть до
типичного для романтического пейзажа элемента эротики -
«Обнимается зеленый клен с сосной». Весьма, кстати сказать,
неуместного в связи с изображением кладбища (ср. рассужде-
ния известного сентименталистского писателя Бернардена
Сен-Пьера: «Будем насаждать <...> деревья, исполненные
печальных выражений на могилах наших друзей. Растения
суть буквы в книге природы; и кладбище должно быть
училищем нравственности» (20).
Однако описания самого кладбища в стихотворении нет.
Оно отсутствует, потому что кресты, надгробия и т.п. просто
не попадают в поле зрения лежащего на могиле поэта. Для того
чтобы увидеть кладбище, нужно изменить позу, лечь лицом
вниз. Любопытно, как в этой связи возникает «кладбищенс-
кая» тема в стихотворении Полонского «Корабль пошел
навстречу темной ночи...» (1859):
Корабль пошел навстречу темной ночи...
Я лег на палубу с открытой головой;
Грустя, в обитель звезд вперил я сонны очи,
Как будто в той стране таинственно-немой
Для моего чела венец плетут Плеады,
И зажигают вечные лампады,
И обещают мне бессмертия покой.
13
Но вот - холодный ветр дохнул над океаном;
Небесные огни подернулись туманом.
И лег я ниц с покрытой головой,
И в смутных грезах мне казалось: подо мной
Наяды с хохотом в пучинный мрак ныряют,
На дне его могилу разгребают -
И обещают мне забвения покой (21).
Основной парадокс стихотворения Случевского - нахо-
дясь на кладбище, поэт не обращает на это никакого внима-
ния. Абсолютное равнодушие его к месту своего пребывания
объясняется тем, что за устремленным ввысь, к небесам,
романтиком располагается отвергаемый им мир пошлости и
прозы, ненавистное ему материальное, плотское бытие. Ср.
типично романтическое выступление против человека, пред-
ставляющего мир пошлости и прозы:
Где прежний образ твой, где лик первоначальный,
Дарованный тебе верховным бытием?
Нет! благ утраченных, ты только труп печальный,
Скелет, коснеющий в ничтожестве своем! (22)
Здесь этим «низким» миром и выступает реальный
«низ» - содержимое кладбища: мертвецы. Характерно, в
каком прозаическом виде изображен мертвец в стихотворении
Случевского: это выражается как бытовыми интонациями его
монолога (с обращениями типа «голубчик»), так и весьма
непоэтичными подробностями его действий (вроде «копоше-
ния»). Мертвец оказывается «низким» не только по месту
нахождения, но и по будничности, «приземленности» своей
натуры, что и подчеркивается его образом. Возвышенному
«поэту» противостоит (и угрожает) «обыватель», погружен-
ный в отвратительную обстановку могильного «быта». Вос-
производится основное для романтической культуры противо-
поставление духовной деятельности косному, материальному
существованию.
Выведенного Случевским мертвеца, конечно, трудно
назвать типичным «обывателем». Он слишком похож на тех
активных представителей загробного мира, которыми роман-
тики пугали своих современников. В известной пародии
14
Николая Ломана эпизод с мертвецом ассоциируется с баллад-
ным сюжетом:
Вспомнил случай я другой, еще страшней:
Вспомнил нищего, разрушенный гранит,
И восставшего из гроба страшный вид,
Ветра свист, луны дрожащий свет,
Мертвеца протест и нищего ответ (23).
Хотя излюбленный романтиками жанр очень богат на
подобного рода «кладбищенские» сцены, беспокойных мер-
твецов можно было встретить и за его пределами. В романти-
ческой лирике, например: напомню о протесте романтика
против могильного существования. Ср.:
Я не хочу в гробнице хладной
Под жестким мрамором лежать;
Я не хочу в темнице смрадной
Тревожным сном опочивать (24).
Известно, сколь важна эта проблематика для поэзии
Лермонтова. Отсюда, из мира кошмарных романтических
предвидений своей будущей судьбы скорее всего и появляется
беспокойный мертвец Случевского. Однако появляется он
здесь для того, чтобы показать истинную сущность кладбища,
заключающего в себе лишь неодухотворенную плоть земного
бытия (ср. стихотворение Хвощинской «Кладбище»). Обра-
щенная к поэту просьба мертвеца поменяться местами явля-
ется ни чем иным, как обычной для романтика угрозой его
поэтическому существованию со стороны «обывателя», оли-
цетворяющего собой агрессивное начало косной материи,
которая постоянно борется с духовным бытием, стремясь
умертвить дух, лишить его жизненного пространства. Все это
и позволяет понять, что в паре с «поэтом» выступает его
традиционный оппонент - «обыватель».
Отсутствие какой бы то ни было реакции на обнаружи-
вающегося мертвеца удостоверяет высокую поэтическую нату-
ру героя стихотворения Случевского. Он отрешен от матери-
альной прозы жизни, невозмутим и безучастен ко всему, что
его окружает. Это - образец чистой созерцательности, бесстрас-
15
тно фиксирующей происходящее: «Я молчал и только слу-
шал. ..» Отметим, что ему было на что ориентироваться в этом
плане: «поэтическая деятельность, - писал в статье «О
стихотворенияхФ.Тютчева» (1859)ревнитель «зоркого созер-
цания» Фет, - очевидно слагается из двух элементов: объек-
тивного, представляемого миром внешним, и субъективного,
зоркости поэта - этого шестого чувства, не зависящего ни от
каких других качеств художника» (25).
Можно предположить и влияние шопенгауэровской
концепции искусства. Мыслями философа об «эстетическом
созерцании», в котором поэт выступает как чистый безволь-
ный субъект, освобожденный от всего, что связывало его с
земной, плотской жизнью, вполне соответствует полная
пассивность героя стихотворения, особенно заметная на фоне
активно копошащегося под могильной плитой мертвеца. Во
всяком случае он не впадает в забытье, как герой огаревского
«Полдня» после испытанных там зрительных, а потом и
слуховых ощущений окружающего мира. Вслед за тем, как
«притихнул» мертвец, внимание поэта вновь переключается
на созерцание жизни природы.
Опять открывается беспредельность космоса. Взгляд
заново скользит сверху вниз: возобновляется фиксация
изменений, движения, безостановочного процесса жизни.
Объектом внимания «чистого» лирика, пассивно созерцающе-
го возвышающийся над ним мир, является активная жизне-
деятельность природы, изменчивость бытия. Дело идет к
ночи, но жизнь не замирает, как это характерно для элегичес-
кой традиции, восходящей к «Сельскому кладбищу» Грея -
Жуковского. Вместе с тем именно она не только задает сам
принцип изображения жизни во времени, на фоне смены дня
ночью, но и заявляет о себе в конкретных образах природо-
описания Случевского: «ласточки», «бледный месяц», даже
вызвавшие много толков «жуки» хорошо известны в «клад-
бищенской» поэзии еще со времен «Сельского кладбища» (ср.:
«Лишь изредка, жужжа, вечерний жук мелькает»).
Обратим внимание, в каком непривычном (прозаичес-
ком) виде представлен поэтом традиционный образ: «Как
летают,.лбами стукаясь, жуки». Отнюдь неспроста эти «жуки»
дважды упоминаются в стихотворении Случевского. Они
указывают на основной принцип его поэтики, который опре-
16
деляет не только подробности, но и всю структуру стихотво-
рения. Этот принцип не исчерпывается одной лишь «прозаи-
зацией» традиционного поэтического материала. Очень важ-
ную роль играет подстановка, замена обычных элементов
«кладбищенской» топики другими образами, часто совершен-
но им противоположными.
Это особеннно отчетливо просматривается в персонажах
стихотворения. Взволнованного и почтительного посетителя
кладбища, «почивших друга» сменяет абсолютно свободный
человек, отрицающий не только всякие житейские условнос-
ти, но и вообще - земную жизнь романтик, отвернувшийся от
нее и устремленный вверх, к небесам, поэт.
Что сравнится с тихой грустью
В час полночной тишины?
А слезу над прахом друга
Что под солнцем заменит? -
восклицала одна из сентиментальных посетительниц кладби-
ща (26). Ответ Случевского: «чистое созерцание», которым
поглощен романтический поэт. Вместо «вкушающего мир»
покойника представлен крайне недовольный своей участью
мертвец (который, между прочим, потому и «долго корни
грыз»), враждебный, чуждый романтическому поэту и прези-
раемый им обыватель. Очень странные фигуры возникают на
овеянном сентиментальной меланхолией поэтическом клад-
бище: общение посетителя кладбища с его обитетателями
подменяется характерной для романтической культуры кол-
лизией - конфликтом между «поэтом» и «обывателем». Общая
схема традиционного «кладбищенского» сюжета сохраняет-
ся, но - в существенно преобразованном, трансформированном
виде, что отстраняет и освежает «наивное», по определению
Аполлона Григорьева, «сопоставление жизни живых с жиз-
нию мертвеца», в котором критик видел смысл стихотворения
«На кладбище» (27).
Между тем это «наивное» сопоставление явилось ре-
зультатом серьезных творческих усилий автора стихотворе-
ния. Основной принцип его поэтики вернее всего определить
как принцип изменения традиционного поэтического матери-
ала. Он проявляется даже в самой стихотворной форме
17
Случевского: парная рифмовка обнажает исконную «песен-
ную» природу заимствованного у Жемчужникова шестистоп-
ного бесцезурного хорея, который выступает здесь как анти-
под русскому «александрийскому стиху». Этот цезурованный
шестистопный ямб с парной рифмовкой употреблялся для
рассуждений о «важных материях» и потому играл существен-
ную роль в русской «кладбищенской» поэзии.
Вызов ее традициям слишком уж нарочит, а ревизия
сентиментального наследия в ней произведена столь скрупу-
лезно и последовательно, что стихотворение Случевского
оставляет впечатление эксперимента. Опробование основных
романтических клише в новом для них контексте, романти-
зировавшее «кладбищенскую» тему, свидетельствует не столько
о романтической настроенности автора стихотворения, сколь-
ко об известной его склонности «выступать под чужой маской»
и «заимствовать чужую форму» (28). Все это потребовалось
только для того, чтобы опровергнуть одну из поэтических
традиций. Молодой Случевский презирал «бесхарактерность»
привычек, традиций и ходячих представлений:
Что город наш? Как прежде, вечно хмурен,
Бесхарактерен в самых мелочах;
Больницы полны, тюрьмы также полны,
Есть новые дома, казармы, кабаки.
На улицах спешат, на кладбищах рыдают... (29 ).
Этот эксперимент не имел серьезных последствий для его
дальнейшего творчества. Он лишь обозначил интерес к «клад-
бищенской» проблематике, которая станет важной темой
поэзии Случевского. Вопреки тому, что изображается в сти-
хотворении «На кладбище», могила вновь окажется «алта-
рем» (ср.:
Оттого-то и холм, бывший только холмом,
Став могилой - становится вдруг алтарем!..( 30 ),
а из общения «жильца земли с жильцом могил» в том «царстве
безмолвствующего духа», которым предстанет кладбище у
Случевского (31), пойдут
... первые движенья
Неудержимо мощных сил... (32).
Вообразив себя обитателем потустороннего мира, поэт подроб-
18
но опишет свое духовное инобытие в циклах «Загробных
песен» и «В том мире» (1902-1903). Автор стихотворения «На
кладбище» не перепечатывал его в сборниках и собраниях
своих стихотворений именно потому, что оно было не более,
чем данью, принесенной молодым поэтом времени, веяния
которого многое объясняют в раннем творчестве Случевского.
Литературная «игра» Случевского кое-кому показалась
(и не без оснований) чем-то вроде того «смешного каламбура»,
который услышал на кладбище герой некрасовской «Утренней
прогулки» (33). Между тем она отражает вполне определен-
ную тенденцию в «кладбищенской» поэзии середины XIX в.
Эта тенденция заключается не столько в том, что вариациям
«унылого», романтического кладбища (см. цикл Всеволода
Крестовского «На кладбище» (34) отчетливо противополага-
ется изображение кладбища, представляющее его - уже без
всяких оговорок (как это было в стихотворении Жемчужни-
кова) - миром живой жизни (ср.: Между густо поросших
могил,
По кладбищу я долго бродил,
И весеннего солнца лучи
Были ласково так горячи,
kkk
И с природой во мне заодно
Билось сердце, веселья полно.
И дышал я так сладко в тот миг
Полнотой ощущений живых,
И душа молодая моя
Познавала всю власть бытия!
Что мне было до темных могил,
По которым я, весел, бродил? (35).
Важнее другое: «кладбищенская» тема становится от-
крытой для литературной «игры». Образцом Случевскому
могла служить та же «Утренняя прогулка» Некрасова (36).
Опубликованная в «Современнике» за год до появления там
стихотворения Случевского, она представляет собой снижен-
ный, пародийный вариант меланхолически-сентиментальных
описаний прогулок по кладбищам (как, например, шаликов-
ского «Кладбища»). Эксперименты подобного рода весьма
19
показательны для литературного процесса в обществе, отка-
зывавшемся от культурного опыта предшествующей эпохи.
Любопытно, что спустя некоторое время лирическая
схема Случевского наполнится современным бытовым содер-
жанием. На кладбище «придет <...>, уляжется на зеленой
могиле, разложит перед собою книгу какого-нибудь латинско-
го писателя и читает, а то свернет книгу, подложит ее под
голову да смотрит на небо» (37) один из новых героев русской
литературы - бесцеремонный «кутейник»-семинарист. Изо-
бражая чудаковатого искателя народной правды отрешенным
от земной жизни, романтическим созерцателем, Лесков многое
объясняет в характере и трагической судьбе своего Овцебыка.
***
1. См.: Григорьев Ап. Беседы с Иваном Ивановичем о
современной нашей словесности и о многих других вызываю-
щих на размышления предметах // Сын Отечества. 1860. N
6. С. 166-168; Знаменский Пр. <Курочкин В.С.> Критик,
романтик и лирик (Опыт дидактической комедии, в прозе, без
интриги и без действия) // Искра. 1860. N 8. С. 86-91. В этом
же номере «Искры» напечатана и пародия Николая Ломана
на стихотворение «На кладбище» (см.: Гнут И.Л. <Ломан
Н.Л.> Литературные вариации // Искра. 1860.
N 8. С. 94).
2. Шихматов Сергий. Ночь на гробах: Подражание
Юнгу. СПб., 1812. С. 5.
3. Определение Владимира Соловьева (см.: Соловьев
Владимир. Стихотворения и шуточные пьесы. Л., 1974. С.
118).
4. Тургенев Андрей. Элегия // Поэты 1790-1810-х
годов. Л., 1971. С. 243.
5. Мещевский АЛ. Селянин // Там же. С. 716.
6. Карамзин Н.М. Стихи на скоропостижную смерть
Петра Афанасьевича Пельского // Карамзин Н.М. Поли. собр.
стих. М.; Л., 1966. С. 297.
7. Цитируется в переводе Тютчева (см.: Тютчев Ф.
Стихотворения. СПб., 1854. С. 124).
8. Огарев Н.П. Стихотворения и поэмы. Л., 1956. С.
292-293.
20
9. Жемчужников А. На кладбище // Отеч. зап. 1855.
N 10. С. 239-240.
10. Майков А. На могиле // Современник. 1853. Nil.
С. 79.
11. Губер ЭЛ. Сочинения. СПб., 1859. Т. 1. С. 93.
12. Полонский ЯЛ. Стихотворения (Дополнение к
стихотворениям, изданным в 1855 г.). СПб., 1859. С. 38-40.
13. Хвощинская Н. Кладбище // Иллюстрация. 1859.
N 52. С. 19.
14. Цитируется в переводе Александра Норова (см.:
Французская элегия XVIII-XIX веков в переводах поэтов
пушкинской поры. М., 1989. С. 391). Здесь и далее в цитатах
подчеркнуто нами.
15. Державин [Г.Р.] Стихотворения. Л., [1933]. С. 336.
См. также комментарий Г.А.Гуковского к этому стихотворе-
нию (с. 524-525).
16. Вечера на кладбище: Оригинальные повести из
рассказов могильщика. Сочинение X. М., 1837. Ч. 3. С. 222-
223.
17. Радищев А.Н. Поли. собр. соч. М.; Л., 1938. Т. 1.
С. 142.
18. Случевский К. На кладбище // Современник. 1860.
N 1. С. 325-326.
19. Огарев Н. Стихотворения. М., 1859. С. 19.
20. Цит. по: Левицкий Н. Картинное описание кладби-
ща. (Из Сен-Пьера) // Тр. студентов-любителей отеч. словес-
ности в Имп. Харьковском ун-те. Харьков, 1819. С. 175.
21. Полонский ЯЛ. Стихотворения. С. 58.
22. Губер ЭЛ. Сочинения. Т. 1. С. 14.
23. Гнут И.Л. <Ломан Н.Л.> Литературные вариации
// Искра. 1860. N 8. С. 94. Имеется в виду сниженный,
пародийный вариант балладного сюжета - скабреозное стихот-
ворение «На кладбище ветер свищет...*. Хранящийся в ОР
ГПБ рукописный сборник 1865 г. содержит следующий текст
этого стихотворения, приписанного здесь Баркову:
Меж кустами ветер свищет,
На кладбище все молчит...
Сняв штанишки, нищий дрищет
На изломанный гранит!...
21
Вдруг он слышит: середь ночи
Пробуждается мертвец
И кричит, что было мочи:
- Обосрал меня, подлец!
- Поделом-те мука - вору...
Кто велел тебе вставать,
Сукин сын, в такую пору,
Когда хочется мне срать!
Приводится и вариант первой строки: «На кладбище
ветер свищет». В рукописном сборнике 1886 г. стихотворение
начинается иначе - «Светит месяц на кладбище» (ср. начало
баллады Людвига Уланда «Утешение» в переводе Жуковско-
го: «Светит месяц; на кладбище // Дева в черной власянице
// Одинокая стоит...»). Этими сведениями я обязан
В.Н.Сажину, которому приношу свою искреннюю благодар-
ность.
24. Губер Э.И. Сочинения. Т. 1. С. 88.
25. Фет А. О стихотворениях Ф.Тютчева // Русское
слово. 1859. N 2. С. 65.
26. Иванчин-Писарев Н. Утехи страждущих // Иван-
чин-Писарев Н. Соч. и переводы в стихах. М.» 1819. С. 160.
27. См.: Григорьев Ап. Беседы с Иваном Ивановичем о
современной нашей словесности. С. 168.
28. См.: Брюсов Валерий. К.К.Случевский. Поэт про-
тиворечий // Брюсов Валерий. Далекие и близкие: Статьи и
заметки о русских поэтах от Тютчева до наших дней. М., 1912.
С. 41.
29. Случевский К. Странный город (Монолог из коме-
дии) // Иллюстрация. 1859. N 53. С. 43.
30. Случевский К. Острая могила // Случевский К.
Стихотворения. СПб., 1880. С. 45.
31. См.: Михайлов Д. К.К.Случевский // Михайлов Д.
Очерки русской поэзии XIX в. Тифлис, 1904. С. 428-429.
32. Случевский К. Сказал бы я так много, много... //
Случевский К. «Песни из Уголка». СПб., 1902. С. 86.
33. В «Утренней прогулке» реальный смысл приобрета-
ет поговорка «из огня - в воду»: сначала гроб с покойником
приходится спасать из горящего дома, а затем его опускают
22
в могилу, куда уже набралось по колено воды (см.: Некрасов
Н. Утренняя прогулка // Современник. 1859. N 1. С. 307-
311). Обычной для каламбура игре слов в стихотворении
Случевского соответствует игра образов.
34. См.: Крестовский. На кладбище // Общезанима-
тельный вестник. 1857. N 20. С. 721-722.
35. Вердеревский В. На кладбище // Русский вестник.
1861. N 2. С. 890.
36. О влиянии поэзии Некрасова на творчество Случев-
ского см.: Мазур Т.П. Некрасов и К.К.Случевский // Некра-
совский сб. Вып. 8. Л., 1983.
37. Лесков Н.С. Собр. соч.: В 11 т. М., 1956. Т. 1. С.
45.
А. В. Востриков
Санкт-Петербу рг
Убийство и самоубийство в деле чести
Честь, point a honneur, была основой сословного этичес-
кого самосознания дворянства. Для урегулирования конфлик-
тов, возникавших в сфере чести, существовали различные
механизмы, среди которых доминирующее место, безусловно,
занимала дуэль. Дуэль - это ритуал благородного разрешения
и прекращения конфликтов, затрагивающих личную честь
дворянина; он состоит из оскорбления, вызова и его принятия,
боя и примирения (прекращения дела); кульминацией дела
чести является поединок - бой между двумя соперниками на
благородном смертоносном оружии, проходящий в присутст-
вии секундантов по заранее установленным правилам, состав-
ленным в соответствии с кодексом или традицией.
Многочисленные критики дуэли отождествляли ее с
убийством и (или) само убийством. Целью этого довольно
простого риторического приема, основывающегося на фор-
мальном сходстве, было свести сложный ритуал к «простому*,
♦ не ритуально му* преступлению. Вот образцы подобной логи-
ки: «Поединок - (...) это убийство дневное, руководствуемое
23
правилами!.. (...) Какая странная, какая чудовищная изыс-
канность определила законы делу беззаконному, рассчитала
возможности смертоубийства ..!» (1).
И еще цитата: «Дуэлист - самоубийца в существе дела.
О том, что в данном случае может привзойти и сплошь и рядом
привходит еще и убийство, уже не говорим ... «(2).
Церковь не видела в дуэли ритуала; погибших дуэлян-
тов она требовала хоронить за кладбищенской оградой, как
самоубийц, а оставшихся в живых не допускала к причастию
и предавала церковному покаянию (правда, на практике все
эти требования исполнялись далеко не всегда, но это уже
другой вопрос).
Однако в сближении дуэли с убийством и самоубийством
есть и более глубокий смысл. Представление о том, что честь
дороже жизни, ритуально реализуется в дуэли. Но в опреде-
ленных ситуациях и убийство, и самоубийство оказываются
функционально сходными с дуэлью. Именно такие ситуации
и являются предметом настоящей работы.
1. Самоубийство было одним из возможных вариантов
выхода («ухода») в том случае, если дело чести по каким-либо
причинам не может закончиться поединком, если, пользуясь
тогдашним языком, оскорбление «не омылось кровью» и, в
силу этого, стало бесчестием.
2. Самоубийство было более предпочтительным (по
сравнению с другими вариантами), когда невозможность
поединка обусловливалась объективно слишком значитель-
ным неравенством между соперниками.
Наиболее очевидной ситуацией такого рода должно
было быть самоубийство оскорбленного императором или
членом императорской фамилии. Вот ситуация, в которой в
роли оскорбителя выступил цесаревич Константин. Дело было
в Варшаве в 1816 г. Однажды, на разводе, цесаревич приказал
двум польским офицерам взять ружья и стать в ряды. Офицеры
выполнили это оскорбительное приказание (означавшее, прак-
тически, разжалование), но сразу после развода все общество
офицеров собралось и решило, что терпеть далее подобные
оскорбления недопустимо. Один из них, капитан Велижек,
адъютант генерала Красинского, отправился в собрание гене-
ралов и стал упрекать их, что «они заботятся только о своих
выгодах, забывая отечество и своих подчиненных», «что,
24
будучи лишь капитаном, он считает однако своим долгом
действовать так, как подобало бы генералам, если бы они
сознавали долг чести », - т.е. пойти к цесаревичу и потребовать
объяснений. За такую выходку Велижека посадили под
домашний арест, и тогда все офицеры собрались у него и «дали
ДРУГ другу слово умереть за благо отечества и за своих
товарищей, если с ними не переменят обращения. После этого,
в течение трех дней, пятеро офицеров (включая Велижека)
покончили с собой. Константин, узнав все перипетии развития
этого дела, поручил генералу Тулинскому извиниться от его
имени, но тот сделал это весьма высокомерно, и один из
оскорбленных (Шуцкий) потребовал «удовлетворения для
себя лично». - «Уж не хотите ли вы стреляться с великим
князем?» - «Да, разумеется», - ответил Шуцкий, - и был
посажен под арест. К нему специально приставили человека,
но он воспользовался минутной возможностью и пытался
повеситься на галстуке. История закончилась тем, что Кон-
стантин пришел на гауптвахту и сказал, что он готов выйти
на поединок с обиженным офицером, чтобы загладить свой
непростительный поступок. Цесаревич настаивал на поединке
даже тогда, когда и сам Щуцкий, и общество офицеров
заявили, что они вполне удовлетворены, и примирение скре-
пилось только объятием «по русскому обычаю»(3).
Сходный сюжет мы встречаем в рассказе
М.С.Ращаковского (хотя он явно легендарен и записан много
лет спустя по памяти, но, видимо, отражает распространенные
представления о подобных конфликтах): «Знаете эту историю
с государем Александром Третьим, когда он еще наследником
был? Под горячую руку, на параде, где он командовал,
выматерил одного поручика. Тот ему письмо: дескать, так как
я наследника престола на дуэль вызвать не могу, то требую,
чтобы вы письменно извинились передо мною. Если к такому-
то часу не получу извинения - покончу самоубийством. Ну, как
известно, Александр был царь умный и толковый, но грубо-
ватый человек. Не извинился. И офицер этот, конечно,
застрелился. Так Александр Николаевич заставил сына идти
за гробом этого офицера, которого хоронила вся гвардия,
пешком через весь Петербург!»(4).
Такие самоубийства, конечно же, случались очень ред-
ко. Поединок с монархом или наследником престолав принци-
25
пе невозможен (хотя Константин Павлович в вышеприведен-
ной ситуации и некоторых других бравировал готовностью
дать «благородное удовлетворение»), и это отчасти смягчало
психологическую безысходность ситуации. Император или
наследник престола представлялись стоящими выше сослов-
ных законов, верноподданнические чувства преобладали над
чувством собственного достоинства и облегчали компромисс.
Самоубийство замещалось демонстративной подачей в отстав-
ку, как это было, например, в столкновении Константина
Павловича с офицерами кавалергардского полка (в 1805 г.)
или Николая Павловича с капитаном дейб-гвардии егерского
полка В.Норовом (в 1822 г.).
Существенно меняется ситуация, если обидчиком яв-
ляется вельможа, «временщик». Для него право пренебречь
требованиями чести не оправдывается текущей в жилах
царской кровью и божественным предназначением - это подлое
право, выслуженное хитростью и коварством, «мгновенная
слава» (набор характеристик из стихотворения К.Рылеева «К
временщику»). В таком случае отказ дать удовлетворение
обиженному определяется не столько невозможностью пое-
динка, сколько нежеланием его, подкрепленным грубой силой
и властью. Если обиженный не смиряется, а кончает жизнь
самоубийством, то это становится актом политического про-
теста, и может привести к политическим результатам (отстав-
ка, опала), как, например, в истории, связанной с
А. Аракчеевым:» ... в январе 1798 года гнев его разразился над
подполковником Леном, сподвижником Суворова и георгиев-
ским кавалером; он обругал Лена самыми позорнейшими
словами. Несчастная жертва его гнева, он, молча выслушав
брань и возвратившись домой, написал письмо к Аракчееву и
затем застрелился. К счастию, подполковник Лен был лично
известен государю...; поэтому трагическая кончина славного
офицера возбудила общее внимание и наделала много шуму в
городе. Император потребовал письмо Лена. (...) Все эти
служебные подвиги Аракчеева вызвали, наконец, неудоволь-
ствие государя; на этот раз Павел внял общему воплю и
расстался со своим любимцем»(5).
3. Ситуации, описанные в п.2, возникают в результате
конфликта двух лиц. Для таких конфликтов основным
способом разрешения является дуэль, а вое остальные ее
26
дополняют. Если же дворянин оказывался обесчещенным не
другим дворянином, а некими безликими обстоятельствами
или собственными легкомысленными или недостойными пос-
тупками, то самоубийство могло стать единственно возмож-
ным выходом.
Традиционный сюжет - самоубийство после крупного
проигрыша или растраты казенных денег. Классическая
ситуация такого рода описана в «Войне и мире». Николай
Ростов проиграл в карты Долохову 43 тысячи. Он пытается
сохранить внешнее спокойствие и даже веселость, но мысли
уже о другом: «Все кончено, я пропал! - думал он. - Теперь пуля
в лоб - одно остается.» - И снова, уже дома: «Боже мой, я
погибший, я бесчестный человек. Пулю в лоб - одно, что
остается...»(6). Бесчестие здесь, конечно, не в самом факте
проигрыша, а в том, что денег этих у Ростова нет, и чем
расплачиваться - неизвестно. Когда отец соглашается упла-
тить, то размышления о бесчестии и самоубийстве отпадают.
Вот еще одна аналогичная ситуация: «Вчера младший
сын графа Федора Григорьевича Орлова, Федор, проиграв 190
тысяч в карты, застрелился; но как пистолет был очень набит
и заряжен тремя пулями,то разорвало ствол, и заряд пошел
назад и вбок. Убийца спасся чудесным образом; однако ж лицо
все обезображено, и правое плечо очень ранено. Он останется
жив, однако»(7).
Другой традиционный сюжет - самоубийство разобла-
ченного шулера или вора. Так, пойманный на краже кошелька
поручик Телянин вызывает у однополчан презрение не только
самим поступком, но и тем, что ему не достает духа закончить
дело единственно возможным для благородного человека
способом, т.е. застрелиться:
«- (...) Что же, мерзавец-то этот куда делся? (...)
- Сказался больным, завтра велено приказом исклю-
чить, - проговорил Денисов.
- Это болезнь, иначе нельзя объяснить, - сказал штаб-
ротмистр.
- Уж там болезнь не болезнь, а не попадайся он мне на
глаза - убью! - кровожадно прокричал Денисов»(8).
Любопытно, что в вышеописанной ситуации возможна
аберрация, и уже дуэль заменяет самоубийство - если разобла-
ченный шулер вызывает (пытается вызвать) на дуэль своего
27
разоблачителя. Вот ситуация, описанная в письме
Е.Д.Щепкиной (жены известного актера): * Некий офицер
Козлов собирался «наверняка» обыграть своего однополчани-
на Корсакова в карты, но был разоблачен, выключен из полка.
Козлов вызвал Корсакова на дуэль, но тот не принял вызов.
Тогда к Корсакову поехал отец Козлова: «Хочу, чтобы сын мой
имел удовлетворенье, все равно он в полку замаран, пусть
лучше умрет». Дуэль состоялась, и Корсаков был тяжело
ранен (9). Здесь принятие вызова самим своим фактом
означает определенную реабилитацию соперника, признание
за ним права на благородное удовлетворение.
4. В определенных ситуациях и убийство дополняет
дуэль в урегулировании отношений чести и становится иден-
тично самоубийству в случае невозможности дуэли, но иначе
сориентировано. Если самоубийство было предпочтительным,
когда препятствием поединку служило объективное неравен-
ство, то убийство выходило на первый план, когда поединку
препятствовала недостойная позиция обидчика.
5. Убийство могло последовать, если обидчик отказывал
в удовлетворении по «неблагородным» мотивам. В свое время
наделала много шума следующая история. Действительный
статский советник Апрелев в день своей свадьбы был зарезан
неким чиновником Павловым. Вся общественность «восстала
против гнусного убийцы», его велено было в 24 часа осудить
военным судом. Уже после суда он открылся в письме к
Николаю I. Оказалось, что Апрелев за шесть лет до этого
соблазнил сестру Павлова, жил с ней, обещал на ней женить-
ся, прижил двух детей - и затем женился, но на другой. Павлов
послал Апрелеву вызов и письмо матери невесты - и получил
ответ, что «девицу Павлову можно удовлетворить деньгами».
Новое оскорбление и невозможность благородного разрешения
ситуации сделала криминальное убийство единственно воз-
можным выходом (даже самоубийство невозможно, т.к. реаль-
ный объект бесчестия - сестра и ее дети). Наказание было
изменено, и Павлов отправился на Кавказ солдатом с правом
выслуги (типичное наказание для дуэлянтов) (10).
6. Препятствием поединку могла служить и непомерная
жестокость или унизительность оскорбления. Оскорбление (в
норме) является частью дуэльного ритуала, оно очень жестко
регламентировано; целью его является поединок. Если оскор-
28
бление имеет целью не поединок, а бесчестие, то и соперник
освобождается от обязанности следовать «благородным пра-
вилам». А.Н.Вульф в своем дневнике описал подобную ситу-
ацию: «Эти дни случилось трагическое происшествие в Вит-
генштейнском полку; один офицер (Борский) застрелил тоже
своего полка казначея Кагадеева, за то, что тот, наделав ему
грубостей, дал щелчок в нос. Мне кажется поступок Борского
весьма простительным и гораздо рассудительнее дуэли; с
человеком, который унизил себя до того, что позволил себе
делать обиды равному себе, с которыми сопряжено так
называемое бесчестие, нельзя иметь поединка, и обиженный
вправе убить его, как собаку» (11).
А вот романтический вариант того же сюжета из повести
А.Бестужева-Марлинского «Страшное гаданье». Герой увозит
возлюбленную Полину от нелюбимого мужа, но тот настигает
беглецов. «... я отвечал на его упреки учтиво, но твердо,... что
если он хочет благородного удовлетворения, я готов завтра
поменяться пулями!
- Вот мое удовлетворение, низкий обольститель! -
вскричал муж ее и занес дерзкую руку... (...) В глазах у меня
померкло, когда удар миновал мое лицо: он не миновал моей
чести! Как лютый зверь кинулся я с саблею на безоружного
врага, и клинок мой погрузился трижды в его череп, прежде
чем он успел упасть на землю»(12).
7. Любопытны пограничные ситуации, когда убийство
и самоубийство оказываются равно возможными, и, следова-
тельно, выбор оказывается очень значимым. Описанному
нами в п.2 самоубийству после оскорбления, Нанесенного
Аракчеевым, можно противопоставить зеркальную ситуацию.
А.Я.Булгаков рассказал о странной встрече, произошедшей у
него на станции в Мытищах сразу же после того, как он узнал
о смерти Александра I. Некий отставной гвардии капитан
после совместного возлияния открылся, что едет в Грузино,
чтобы убить Аракчеева: «Он должен пасть от моей руки. Меня
дворянство не подкупило, заговора нет: я это один захотел,
один исполню, и не ядом, не ножом, а пистолетом. У меня есть
два турецкие пистолета: один для него, а ежели по несчастию
не попаду в него, то другой будет для меня самого». Этот
отставной капитан видит в себе спасителя Отечества и
государя, но вместе с тем постоянно проглядывает оскорблен-
29
ная дворянская честь: «Стыдно, что никто меня еще не
предупредил». Наутро отставной капитан также узнал о
смерти Александра, план его обрушился, обессмыслился, и
сам он уехал (13).
8. В определенных ситуациях даже невозможность
поединка с монархом могла осознаваться как усугубление
бесчестия. Именно так, по многим воспоминаниям, понимал
дело А.Якубович. Вот одна из его «пламенных речей» в
пересказе К.Рылеева: «Я знаю, с кем я говорю, и потому не
буду таиться. Я жестоко оскорблен царем. Вы, может,
слышали. - Тут, вынув из бокового кармана полуистлевший
приказ по гвардии (очевидно, о переводу его в армию на Кавказ
за участие в дуэли Завидовского с Шереметевым. - А.В.) и
подавая оный мне, он продолжал все с большим и большим
жаром. - Вот пилюля, которую я восемь лет ношу у ретивого,
восемь лет жажду мщения. - Сорвавши повязку с головы, так
что показалась кровь, он сказал: - Эту рану можно было
залечить на Кавказе без ваших Арентов и Буяльских, но я
этого не захотел и обрадовался случаю хоть с гнилым черепом
добраться до оскорбителя. И наконец, я здесь, и уверен, что
ему не ускользнуть от меня. Тогда пользуйтесь случаем,
делайте, что, хотите!»(14).
9. Готовность убить соперника в случае отказа от
поединка, «зарезать ночью из-за угла» (Грушницкий - Печо-
рину) часто объявлялась на ранних стадиях развития дела
чести, особенно в бретерской среде. Иногда обиженный (или
оба) просто демонстративно хватался за оружие, как, напри-
мер, в « Выстреле »: « ... я сказал ему на ухо какую-то плоскую
грубость. Он вспыхнул и дал мне пощечину. Мы бросились к
саблям; дамы попадали в обморок; нас растащили, и в ту же
ночь поехали мы драться». Это была, конечно же, только
демонстрация, вводящая определенную модальность в даль-
нейшее развитие дела чести.
10. Таким образом, убийство и самоубийство могут
выступать в качестве дополнительного элемента дела чести
или заменять его в целом или его части. Такая готовность
убийства и самоубийства «вписаться» в дело чести иногда
выходила на поверхность и становилась очевидной.
В первую очередь это касается так называемой «амери-
канской дуэли», по правилам которой соперники бросают
30
жребий, и вытянувший «смерть» должен застрелиться в
заранее определенный срок. Одна из самых скандальных
«американских дуэлей» в России произошла в 1861 г. в
Варшаве. Генерал-губернатор А. Д.Герштенцвейг не согласил-
ся с непоследовательными и слишком мягкими, по его
мнению, мерами наместника графа К.К.Ламберта в отноше-
нии польских «демонстрантов и бунтовщиков» и в порыве
гнева наговорил дерзостей, назвал Ламберта изменником,
кричал, чуть ли не угрожал кулаками. Попытки окружающих
помирить поссорившееся начальство не имели успеха; попыт-
ки доказать невозможность дуэли между столь высокими
чинами (занимающими две важнейшие должности в Польше!)
наткнулись на непримиримость обоих - после таких оскорбле-
ний нужно драться! Чтобы избежать излишней огласки,
остановились на американской дуэли. Посредник - генерал
Хрулев - завязал на одном конце носового платка узелок, весь
платок взял в руку, так что торчали два совершенно одина-
ковых уголка, и предложил тянуть. Соперники взялись за
уголки и вытянули платок из кулака - узелок оказался на
стороне Герштенцвейга. Это озачало, что он должен застре-
литься в течение суток. Герштенцвейг уехал домой, привел в
порядок свои дела и пустил себе пулю в лоб - очень неудачно,
прожил еще 20 дней и умер под ножом хирурга. Ламберт
послал императору прошение об отставке и, не дожидаясь
ответа, уехал за границу, где вскоре умер (15).
Для нас в этой истории особенно любопытно, как легко
поединок разложился на два самоубийства (из которых одно
должно состояться, а другое - нет).
Столь же легко поединок разлагался на два убийства
(реальное и потенциальное). Так называемая «дуэль через
платок» представляла собой следующую процедуру: из двух
пистолетов заряжается только один, затем оба пистолета
предлагаются соперникам; они выбирают оружие и становятся
друг напротив друга, держа в правой руке пистолет (стволом
вниз или вверх), а в левой - конец носового платка. По команде
секунданта соперники одновременно наводят пистолеты и
стреляют - точнее, стреляет только один, и с такого ничтож-
ного расстояния почти наверняка наносит смертельную рану.
Еще более наглядна, хотя и явно легендарна, история,
рассказанная в «Воспоминаниях» Ф.В.Булгарина (действие
31
происходит в действующей армии в одном из европейских
походов началаXIX в.): «Русский гусарский офицер поссорил-
ся с прусским, за картами. Дошло до вызова. Прусский офицер
был отличный стрелок, бил ласточек на лету, и не хотел иначе
драться, как на пистолетах. - «Итак, ты непременно хочешь
убить меня!» - сказал русский офицер. - «Одним дерзким будет
меньше на свете,» - хладнокровно отвечал пруссак. -»Быть
так, - возразил русский офицер, - я плохой стрелок - но мечи
банк, а я поставлю жизнь на карту... Если ты убьешь карту
- можешь убить меня, как медведя, а если карта выиграет, я
убью тебя.» - Прусский офицер сперва не соглашался, но
товарищи его, думая, что это шутка, уговорили его принять
предложение русского. Прусский офицер начал метать - и дал
карту. Все думали, что тем дело и кончится, но русский сказал
хладнокровно: «Пойдем в сад - и разделаемся!» Множество
офицеров обеих армий следовали толпою за прусским офице-
ром, который шел, улыбаясь, и остановился в большой аллее.
Явился русский офицер с охотничьим ружьем, взятым у
хозяина. - «Уменя нет с собою пистолетов, но убить можно и
этим, - примолвил он. - Становись, в тридцати шагах!» -
Пруссак и все окружающие его все еще думали, что это только
шутка, и прусский офицер, проигравший жизнь, стал на
позицию. Русский прицелился, спустил курок, и пруссак упал
мертвый. Пуля попала в самое сердце. Присутствующие
невольно вздрогнули от ужаса, и не знали, что делать...-» Я
не шучу жизнью, - сказал русский офицер. - Если б я проиграл
жизнь, то не принял бы ее в подаяние, и заставил бы его убить
меня...»(16).
11. В тех случаях, когда убийство и самоубийство
включались в систему отношений чести, они отчасти подчи-
нялись некоторым общим принципам ритуализации. В час-
тности, это видно из отношения к оружию. Для самоубийства
оказывался предпочтительным «благородный»пистолет. Это
подтверждается, в частности, и статистическим материалом,
приведенным в исследовании А.В.Лихачевао самоубийствах,
хотя принятая в нем классификация мотивов не учитывает
сословной семиотики поведения (17). Убийство же (особенно
подготовленное, а не спонтанное) чаще совершалось « недуэль-
ным» оружием (кинжал и т.п.).
Однако и убийство, и самоубийство в деле чести осозна-
вались как исключительные, экстремальные поступки (в
отличие от дуэли), и соответствующая установка не позволила
выработать устойчивый общепринятый ритуал, аналогичный
вендетте или харакири.
***
1. Ростопчина Е.П. Поединок // Русская романтическая
новелла. М., 1989. С.250.
2. Бронзов А. «Христианское» самолюбие // Христиан-
ское чтение. 1897. 4.8. С.250.
3. Шильдер Н.К. Императбр Александр Первый: Его
жизнь и царствование. СПб, 1898. Т.4. С.18-21.
4. Разгон Л. Непридуманное // Юность. 1988. N 5. С.
29.
5. Шильдер Н.К. Указ. соч. СПб., 1897. T.I. С. 182-183.
6. Толстой Л.Н. Поли. собр. соч. М.; Л., 1930. Т.10.
С.55, 58.
7. Выдержки из записок А.Я.Булгакова // Русский
Архив. 1867. Стлб. 1362-1363 (запись от 24.01.1812).
8. Толстой Л.Н. Указ. соч. Т.9. С.165.
9. Щепкин М.С.: Жизнь и творчество. М.,1984. T.I.
С.277 (апрель 1857 г.).
10. Никитенко А.В. Дневник. СПб.,1904. T.I. С.274-
275 (апрель-май 1836 г.).
11. Вульф А.Н. Дневники. М.,1929. С.245-246 (запись
от 24.12.1829).
12. Бестужев-Марлинский А.А. Соч. М.,1958. T.I.
С.338.
13. Русский Архив. 1873. Стлб.1529-1552.
14. Восстание декабристов: Материалы. М.; Л.,1925.
T.I. С. 107-108. Ср. предсмертную записку капитана Велиже-
ка (п.1): «Я считаю долгом предупредить вас, чтобы вы не
доводили моих соотечественников до отчания, которое легко
может довести кого-либо из них до преступления, от коего я
отказался по зрелом обсуждении» (Шильдер Н.К. Указ. соч.
СПб.,1898. Т.4. С.451).
15. Мартьянов П.К. Дела и люди века. СПб.,1893. Т.2.
С.266-288.
16. Булгарин Ф. Воспоминания. СПб.,1847. Ч.З. С.155-
159.
33
17. Лихачев А.В. Самоубийство в Западной Европе и
европейской России. СПб.,1882. С.223.
КТ.Исупов
Санкт-Петербу рг
Русская философия смерти
(XVIII-XX вв.)
Смерть не имеет собственного бьГгийного содержания.
Она живет в истории мысли как квазиобъектный фантом,
существенный в бытии, но бытийной сущностью не обладаю-
щий. Танатология молчаливо разделила участь математики
или утопии, чьи «объекты» - суть реальность их описания, а
не описываемая реальность. Если в архаическом мифе и
образах искусства смерть еще может получать эстетические
объективации, если историческая психология изучает эволю-
цию идеи смерти (1), что позволяет выйти на специфическую
типологию культур (2), то философия смерти так и не
родилась: проблемная фактура танатологии без остатка про-
ецировалась в витальный план.
Светская философия XVIII в. остро переживает забро-
шенность одинокого человека в бытии и истории (3). Смерт-
ный в смертном мире, человек истории есть дитя страха
смерти. Идеи метемпсихоза и палингенеза не раз окажут ему
компенсаторные услуги, благодаря которым ужас кончины
снимается в образах за-бытийной вечности. Эстетика естества
и эстетика истории смыкались для мыслителя позапрошлого
столетия в зрелище судьбы частного гражданина. Эстетизация
судьбы связана с пониманием жизни и смерти как взаимно-
структурирующих и взаимно-изображающих принципов бы-
тия. Изображающая смерть (в реальности наличного мира)
тем отличнаот смерти изображенной (в символе и эмблеме),что
первая лишена собственного «места» в бытии, а вторая
наделена зримой реальностью в той мере, какая ей положена
по чину художества. Кардинально смыслоразличаясь в обще-
жизненной материи, жизнь и смерть взаимно изображают друг
34
друга (это естественный агрегат Натуры). Коль скоро смерть
- это производное («про-изведение») жизни, она есть смерть
изображающая. В самом свойстве зрелищно представить и
житие человеческое, и удел тварной Вселенной смерти дана
последняя возможность удержаться на краю бытия, чтобы
отразить жизнь и очертить конфигурации ее в форме обращен-
ной (отпроецированной вовне) перспективы. Чтобы сохранить
недискретную картину мира, смерть была допущена XVIII-м
веком в ее композицию на правах эстетически превращенной
(и тем - онтологически реабилитированной) формы. Избыто-
чествующая во времени жизнь пространственно обнимается
смертью как формой самой себя; форма есть умирание; ре-
форма смерти есть размыкание ее объятий. Так пульсирует
превозмогающее свой тварный энтропийный избыток Бытие.
Жизнь, изображаемая смертью, явлена в феномене человека
как Божьей твари: бессмертная душа, оплотненная (означен-
ная, изображенная) смертным телом. Тело (изображающая
смерть) может быть понято как часть натурального ландшаф-
та. А.Радищев («О человеке», 1792-6) (4), как и М.Щербатов
(«Размышление о смертном часе», «Разговор о бессмертии
души» - оба 1788), не разделяют скептического взгляда
европейских просветителей на «тайны гроба». Механистичес-
кие картины мира, в которых смерть - лишь причина в ряду
причин, окрепнут в эпоху позитивизма и плоского семинарско-
го материализма. На русской почве интерес к смерти питался
разнородными тенденциями. С одной стороны, на Руси хорошо
помнили святоотеческий тезис Иоанна Дамаскина: «Филосо-
фия есть помышление о смерти» (Диалектика, 3, pQ 94, 534
В; ср. у Платона: Федон 67 е). С другой стороны, любопытство
к смерти мотивировано и мистическими текстами в масонском
обиходе. Масонам удалось создать концепцию поступка, в
свете которой безнадежная необратимость времени резко
повысила в ранге моральную ответственность «я» в мире
других и всех «я» пред Богом. Любовь к ближнему оказалась
сублимантом страха смерти, а созерцание тленных футляров
существования принудило к идее нравственного самосовер-
шенствования.
В пестрой картине типов поведения эпохи можно на-
звать только одну специфично русскую форму самоотвержен-
ного (и даже экстремального в своем надчеловеческом героиз-
35
ме) вызова смерти и смертности: юродство. В трагической
фигуре «божьего шута» (так назовет Л.Карсавин юродивого в
своей «Поэме о Смерти», 1932) на Руси состоялась первая
смерть изображающей смерти: она поражена в правах онтоло-
гической изобразительности, потому что ее не замечают.
Юродивый презрел свое тело и тем «выпал» из сплошь
детерминированного смертью натурального ландшафта смер-
тного мира.
В XIX в. усилились интонации, с которыми в проповед-
нической литературе рассуждают о «смерти второй». В сочи-
нениях святителя Игнатия Брянчанинрва вся жизнь малых
мира сего рассмотрена в тени угрозы человеку от мирового
Ничто (5). Удвоение смерти создало миф об эволюции смерти.
Горизонт смерти-кончины не стал ближе, но оказывался все
притягательнее. Идея судьбы как школы смерти - не новая,
но православная этика придала ей интригующий характер (6).
Когда-то «memento тоге» означало: «торопись жить», а
теперь: «торопись умереть» и «учись умирать».
Персонологическая проработка темы смерти в XIX в.
принадлежит не философам, а писателям. В творчестве Пуш-
кина окончательно снимается запрет на исследование проблем
смерти и судьбы. Пушкин не отворачивался от горестного
зрелища изображающей смерти, но он, свидетель пластично
иерархизированного мира, предпочел смерть изображенную.
Пушкин не был одержим кошмаром Страшного Суда, как
Чаадаев; не стал поэтом мировой меланхолии и скорби.
Расставивший все вещи мира на свои места, Пушкин - демиург
русского эстетического Космоса - изобразил смерть как загадку
в ряду загадок бытия, но... не более. Смерть и жизнь «сняты»
для него в общем порядке Бытия. Этого эстетического такта
не хватило В.Печерину, автору мистерии «Торжество Смерти»
(1837), который знал только один способ личного противос-
тояния мировому Хаосу: эстетизация жизни, организованной
как «роман» (7).
Трагическая акцентуация смерти пред и ринита Тютче-
вым, автором монументальных свидетельств изображающей
смерти (Malari,а, 1830 ). Классический репертуар романтичес-
кого танатосаТютчев осложняет темами смертоносной любви
поэта-небожителя и эротического суицида.
Подлинным культом смерти отмечена проза Гоголя.
36
Давно известно особое пристрастие Гоголя к изображению
мертвецов, всяческой нежити. Логика абсурда в «Ревизоре» и
поэтика загробья в «Мертвых душах» порождают фантасма-
горию монстров, князей тлена, зооморфных чудовищ. Живое
и мертвое меняются местами. Однако гоголевский театр теней
не стал эпосом Смерти. Зло в Гоголе захлебнулось собствен-
ным избытком: в тексте поэмы нашли свое место и пиршес-
твенные образы, и историософия надежды, и то, что М.Бахтин
назвал «катарсисом пошлости».
На Гоголе русская культура почти исчерпала позитив-
ные попытки понять смерть в пределах эмпирии.
Эмпирическая смертность живого не загадочна, ибо в
ней, внутри фиксированной опытом общей судьбы, еще нет
полноты практики Провидения, загадочного по определению.
Трансцендентная загадка смерти оформляется, когда ее начи-
нают понимать как иное жизни. О каких поступках может
идти речь применительно к «той» жизни? Но речь идет: в
смертную судьбу вносится фабульный (событийно протяжен-
ный) момент-вектор посмертного пребывания в его трансцен-
дентных качествах. Смерть в аспекте конечного перестала
удовлетворять мысль и стала бесконечной, обнаружила типы
и структуры, стала жизненной проблемой. Теперь вопрос о
смерти - это вопрос о смысле смерти, а мертвого смысла не
бывает. Бесконечная смерть - амбивалентный перевертыш
бесконечной жизни.
В творчестве Достоевского голос тоскующей смертной
твари обрел звенящую напряженность вопля. Взыскание
бессмертия стало главным делом жизни и центральным
вопросом космодицеи. Если нет бессмертия, то весь мир -
насмешка над человеком (исповедь Ипполита в «Идиоте»,
1868). Смерть перечеркивает смысл бытия, и герой «Карама-
зовых» готов «вернуть билет» Творцу. Шатов в «Весах»
(1871-2) затевает люциферианский онтологический бунт про-
тив Бога, выгнавшего первых прекрасных детей человечества
в трудный и смертный мир. Ситуация изгнания из Рая
травестируется устами героя. Реплика ветхозаветного Змия
Эдемского «вы будете как боги» (Быт. 3,5) обретает вид: «кто
смеет убить себя, тот бог» (8). Дневниковая запись,сделанная
Достоевским в дни смерти первой жены («Маша лежит на
столе. Увижусь ли с Машей?») формулирует тезисы антропо-
37
дицеи в аспекте христологии и программу грядущего Всеедин-
ства, в котором сохранены приоритеты личности («Мы будем
- лица»). В картине мира Достоевского и в представленной им
дуальной топологии внутреннего человека линии Эроса и
Танатоса прочерчены во взаимно сопряженных объемах. Это
мировые оси бытия, острия которых теряются друг в друге за
пределами исторического времени - в метабытийном Соборе
лиц ангельского жития. Внутри истории смерть непобедима,
а попытки прижизненно остаться при Христовом идеале
смертоносны для ближнего. Так, «князь Христос» (Мышкин)
становится героем трагической вины и источником гибели для
других. Его сознание гаснет в миру раньше телй, и он не узнает
смерти.
Л.Толстой пытался создать философию смертной телес-
ности. Ближайший объект таких текстов, как «Записки
сумасшедшего» (1844-1901), «Смерть Ивана Ильича» (1884-
6), «Хозяин и работник» (1895) - смертное мучение бытовой
плоти, «всей кожей» отвращающей приближение кончины
(9). Тема этих вещей - страх смерти (10). Для героев Толстого
изображающая смерть обтекает всю поверхность человека,
залепляя ему глаза на все возможные просветы в иное жизни.
Смерть тотально объемлет мир, насколько тотален и ветхоза-
ветный страх пред Богом - Хозяином и подателем жизни и
кончины земного века. Толстой думал о « религии смерти », что
« необходима для нравственной жизни» (11). С этой целью и
был, очевидно, издан своего рода учебник смерти (12). В
художественной прозе Л.Толсто го, образы смерти (вниматель-
но изученные Буниным в книге «Освобождение Толстого»,
1937) впечатляют полнотой соматического переживания, и
все же концептуальное недоумение автора перед проблемой в
интонациях ответа так и не разрешилось.
В.Соловьев проницательно указал на истинный источ-
ник предсмертных терзаний Ивана Ильича: героя пожирает
тоска по собственной смерти, его сознание не разомкнуто
навстречу смерти другого, - и тем оно лишает себя благородной
альтернативы страха - катарсиса, который ждал его на пути
сочувственного внимания к ближнему (13). По Соловьеву,
замкнутость на мысли о личной смерти - это результат
богоборческого посягания на Божье дело и Божье ведение.
Страх смерти - искус человекобога (2, 98; 2, 315). Поздний
38
Соловьев отстаивает мысль о «разумной вере» во «всеобщее
воскресение всех», поскольку только оно и есть «подлинный
документ подлинного Бога» (2, 733), удостоверяющий и
человека как центральную ценность Божьего мира.
Конфессиональный догмат о воскресении современник
Соловьева развернул в практическую программу воскрешения
отцов. Автор этого проекта извлек из потрясшего его зрелища
изображающей смерти не те уроки, что достались Л.Шестову
(он счел смерть Экзистенциальной насмешкой над здравым
смыслом) или Бердяеву (расколовшему свою картину мира
Смертью на двуплан Бытия). Замысел Федорова был вполне
демиургический: осуществить онтологическую реформу Все-
ленной, изгнать из не смерть и тем устранить главный ущерб
бытия. Федоров был охвачен эмпатией сиротства (и биографи-
ческого, и космического); своим долгом он положил научить
людей тому, как вернуться к братскому состоянию (14).
Русская философия смерти пытается в XIX в. замкнуть
перспективы дольнего мира на образы спасенных лиц
(Достоевский), Всеединство вечного Воскресения (Соловьев),
в утопиях тотально воссозданных поколений (Федоров) и
грядущего царства «бессемейных святых» (Розанов). Эти
мифологемы вошли в религиозный опыт следующего века, но
претерпели существенную переадресацию: XIX в. любил жизнь
и мог еще благоговеть перед ее возможностями. Начальные
десятилетия нашего века вручили философам в качестве
ближайшего объекта новый тип человека, жить не желающего
и изверившегося в жизненных ценностях. Новая иммортоло-
гия по многим направлениям развивается в формах филосо-
фической профилактики суицида. В глазах XX в. Космос
изображающей смерти отчетливо и неотвратимо преобразует-
ся в трагедию вселенского самоубийства.
Революции и войны воздвигли вокруг свидетеля XX в.
живые картины изображающей смерти. В искусстве авангарда
рухнула классическая геометрия прямой перспективы и эсте-
тика жизне подобия. В литературе импрессионизм размыл ясно
очерченные контуры внешнего мира, а символизм и вовсе
заменил их мифологической конструкцией. Мифология миро-
вого Зла, танатоса и эстетские программы суицида заняли в
быте и творчестве символистов центральное место. Футуризм
избрал поэтику насилия и идеологию разрушения «старого
39
мира». Ситуация человека, стоящего перед угрожающим ему
извне миром усилилась кризисом внутреннего человека: ни-
цшеанство и психоанализ, релятивистские концепции в фи-
зике и космогогии, неокантианская гносеология и культурфи-
лософия агонизирующей Европы довершили разгром традици-
онных гуманистических ценностей путем простой перемены
знака. На аксиологической шкале эпохи меняются местами
«варварское» и «культурное» (типа «панмонголизма»), «бес-
стыдное» и «целомудренное» (заменафилософии Эроса «пол-
овым вопросом»), «иллюзорное» и «настоящее» («неужели я
настоящий, и действительно смерть придет?»).
Явление религиозного ренессанса стало и мировоззрен-
ческой «суммой» этих процессов, и отчаянной попыткой
вернуться к целостной картине мира, к богочеловеческому
диалогу в богооставленном мире. «Пещера Платона» и «Иов
на пепелище» стали навязчивыми образами философской
прозы, а мистериальная этика жертвы и тревога за судьбу
«другого» - основными ее мотивами. Размыкание вплотную
придвинувшегося горизонта изображающей смерти осущес-
твляется необычным для прошлого века способом: путем
перебора ее экзистенциальных посулов. Чтобы уяснить оксю-
моронный смысл этого подхода, скажем, что культурное
сознание могло устоять перед эпидемией ранних уходов и
гибелью привычного интеллектуального уюта только одним
манером: сделав смерть маленькой. В реальном бывании
изображающая смерть не объективируема, но ее можно пред-
ставить изображенной, играть с ней, как с псевдо-объектом.
ХХ-й век вспомнил о пространственных интерпретациях
изображенной смерти в виде закрытых, довлеющих себе
объемах (вроде идиллии остановленного времени в «Старос-
ветских помещиках»). Иначе говоря, «объект» философско-
эстетической танатологии обретает очертания и пластику
скульптуры, возникает скульптурика смерти. Смерть,
успокоенная в «своем» пространстве, позволяет обойти ее
кругом, разглядеть с разных дистанций и в разных ракурсах,
к ней применимы теперь инструменты измерения и навыки
достраивания пластических структур, она может быть «раз-
. мягчена» в целях концептуальной формовки и комбинирова-
ния в составе пространственных ансамблей мировоззренчес-
кой архитектуры, ей можно подыскать «свою» онтологичес-
40
кую нишу в научной модели мира, в образных картинах
Космоса и в ландшафте исторического самосознания.
Идея структурности вещей бытия, в сочетании с симво-
лическим опытом чтения «текста мира» (гиперсемиотизация
Натуры) позволили ХХ-му веку осуществить чрезвычайно
важную (не отрефлектированную современниками) онтологи-
ческую реформу. Смысл ее состоял в признании за природой
свойств уровневого взаимоозначения. Иллюстрацией пусть
послужит нам несколько выходящий из хронологического
ряда пример творчества А. Плато нова, герой которого занима-
ется достаточно странным делом: изготовляет деревянные
копии железных предметов (сковородки, орудия крестьянско-
го труда) или лепит из глины нечто, не имеющее аналогов в
природе.
По Платонову, вещи «проговаривают» себя в инородном
их природной фактуре материале, тем авторитетнее подтвер-
ждая и исконную свою суть, и мировое единство «вещества
существования». Деревянная сковородка не отрицает эйдоса
«сковородности», но проявляет (на контрасте клетчатки и
металла) тяжкую весомость ино-вещного железа. Смерть
пропадает в онтологической дружбе вещей. Подобным образом
другой герой Платонова проявляет заботу о сиротски отпав-
ших от целого фрагментах мира: собирает комья земляного
праха, обломки и обрывки забытых предметов (как и герой
«Гарпагонианы» К.Вагинова, 1933). На фоне собирателя
нежити и хранителя гнили Плюшкина образами платоновс-
ких чудаков (федоровцев?) утверждается мысль о бессилии
изображающей смерти перед вечной жизнью живого. В сирых
предметах бедного забвенного мира звучат приглушенные
голоса мировой памяти бытия; в сложном органическом
процессе метаморфоз мировой плоти и ее ино-воплощений, во
всеобщем законе онтологического ино-означенья отстаивает-
ся бессмертие живого и водружается завет неодиночества
человеков под осиротевшими небесами.
Схожие процедуры мета-воплощений описаны и у Бер-
дяева. По условиям его персонологии «я» не объективируемо
в смертном мире, но, чтобы состоялся диалоге «другим», «я»
высылает навстречу многим «я» «других» свои артистические
«ино-я», обладающие всей полнотой личностного голосового
приоритета. В зоне маргинального контакта полномочные
41
вестники «я» общаются с вестниками «другого» на границах
личностей. Целокупная и бессмертная монада «я» изъята из
тления и сохранена для богочеловеческого диалога и выхода,
по смерти тела, в метаисторию, в завременные недра Троицы.
Эсхатологическая гносеология Бердяева не отрицает учение о
бессмертии души и вечной жизни духовного Собора посмертно-
го человечества. В его трагической картине мира смерть являет
собой непобедимое зло разъединения и разобщения живой
материи. Оно преодолевается в борьбе человека за целостность
субъективного самоодержания и позитивно разрешается в
возможностях не вполне ясного «многопланового перевопло-
щения». Увлеченность идеей метемпсихоза множества рус-
ских философов XX в. делает весьма условной их верность
христианству с его строгим историзмом и убежденностью в
единократностн исторического события.
Обращенная онтология смерти раскрыта в центральном
памятнике философской танатологии века - книге С.Булгакова.
В диалектике взаимоозначающей тварно-нетварной Софии
одолена Смерть как наследие падшего бытия. Приятие смер-
тной муки бессмертным существом - Спасителем и Искупите-
лем мира - укореняет возможность победы над тленом в
смысловом теле Слова Завета, в событии кеносиса и в
обетовании будущего века. Голгофа есть распятие смертного
и воскресение в смерти. Умирание есть отпадение в одиночес-
тво гибнущей твари. Но в смерти, говорит Булгаков, «я познал
себя включенным в полноту, в апокалипсис, в откровение
будущего века».
Сегодняшним увлеченным читателям сочинений на тему
«жизнь после жизни» (15), в которых обобщен клинический
опыт самонаблюдений агонизирующих пациентов (т.е. изуче-
ны мгновения не «после», а «вместо» жизни), неплохо было
бы вслушаться в то рассуждение Булгакова, где утверждается,
что «умирание само по себе не знает откровения о загробной
жизни и о воскресении. Оно есть ночь дня, сам первородный
грех» (16).
Игра уровнями бытия и зеркально отраженными иерар-
хиями - предмет онтологической игры со смертью в мистерии
Карсавина « Поэма о Смерти». Обыгрывается ситуация прения
Иова с Богом. Устами подвергаемого инициации ветхозавет-
ного героя задан, как мы помним, специфично новозаветный
42
вопрос: «Как оправдается человек перед Богом?» (Иов. 9,1);
«Когда умрет человек, то будет ли он опять жить?» (Иов. 14,
14). В карсавинском изводе антропологии человек осущес-
твляет в своей судьбе восхождение к «симфонической личнос-
ти» - единомножественному сообществу спасенных. Индивид
(«момент-личность») означивает свое сущностное со-присут-
ствие Симфонии в иерархиях, растущих по вертикали и вверх
в метафизическом пространстве Собора. Как деревянная ско-
вородка платоновского героя моделирует свой металлический
прототип, так и индивид Карсавина воплощен в человеческих
мощностях высшего порядка («О личности», 1929). В «Поэме
о Смерти» идет не лишенная травестийного риска игра по
переводу традиционных аргументов теодицеи в план оправда-
ния человека. Новый Адам Карсавина берет на себя роль...
искупителя Бога как «Своего Другого». Бог спасен и оправдан
в человеке полнотой страдальческого жития на земле. Чело-
веку надлежит исполнить крестный замысел до конца (во
фргм. 138; «(...) Будем вместе жить этой несовершенной
жизнью»). Так у нового Адама-Искупителя появляется над-
ежда положительного ответа на вопрос: «Умру ли я Божьей
смертью?» (в контексте: «Не будет ли напрасной моя жертва
и мое сораспятие Господу?»). Религиозная философия Тана-
тоса в творчестве Карсавина подошла к черте, за которой
взыскание «Божьей смерти» по факультативному смыслу
словосочетания готово означить смерть самого Бога. Если в
единомножественной фактуре Симфонии «я» жертвует своей
самостью ради универсального сверхличного синтеза, то,
вопреки намерениям Карсавина, эта картина метаистории не
нуждается ни в Боге как инициаторе Собора, ни в смерти как
разлучной инспирации, коль скоро финальный замысел Богос-
троительства - спасение личного человека - при этом не
осуществляется по слову Завета. Отдаленно брезжущий про-
блемный фон поэмы (христианство как историческая неудача)
приближается к тексту вплотную и даже сливается с ним,
насыщая его атмосферой почти веселого отчаяния.
Сходную картину единомножественной мистерии «я»,
поднявшихся к «Верховному «Я»» (целокупному Организму
наследников спасения), построил А. Мейер («Заметки о смысле
мистерии (Жертва)», 1933; «Глория (О Славе)», 1932-6).
Отдельный сюжет в истории русского Танатоса состави-
43
ла изображенная смерть, в частности, в литературе. Первое
десятилетие века отмечено приоритетным влиянием этой
темы; в параллель ей философская публицистика культиви-
рует апокалипсис культуры, эсхатологические пророчества и
образ Антихриста. В 1910 г. выходит альманах «Смерть» с
обзором литературной танатологии (17), а еще раньше -
группа «Литературного распада» с позиций почти марксис-
тского иммортализма подвергает критике декадентски-богем-
ное любование смертью (18). Будущий историк отечественной
мысли о смерти оценит и импрессионистическую прозу Рафа-
ила Соловьева («Философия смерти». М., 1906), и испове-
дальный анализ страха смерти в романе В.Свенцицкого
«Антихрист» (1908), и тексты Ф.Сологуба - поэта трагичес-
кого пессимизма (19).
Иммортология серебряного века охотно развивает иду-
щие от Достоевского аналогии идейного иллюзионизма всяко-
го рода и смерти как последнего миража. «Общественные
идеалы» получают новое испытание «перед лицом смерти»:
«Разве смерть не будет так же пожирать всех рождающихся
людей, когда в России наступит другой общественный строй? »
- резонно замечает герой скандальной исповеди/ - (...). Я
слишком знаю смерть (...), чтобы закружиться в ребяческом
вихре «освободительного движения» (20). Прямым ответом
этой реплике является маленький трактат Е.Н.Трубецкого,
«Достаточно совершить прогулку на кладбище, тут мы найдем
безобразную, возмутительную пародию на все наши идеалы и
формулы. (...) Разве смерть не превращает в недостойный
обман все наши святыни? (...) Деспотизм есть смерть. (...) В
основе нашей жизни лежит вера в скрытый для нас разум
вселенной. (...) В бессмертии смысл свободы и ее ценность. (...)
Признание свободы - это та дань уважения, которую мы
платим бессмертию» (21).
Проблемы эстетической танатологии развернуты в ан-
тропологических сочинениях М.Бахтина 20-х гг. По его
мысли, «я» не в состоянии осознать событие своей смерти со
своего собственного места. Она может быть лишь увидена
♦другим», в видении которого моя жизнь получает эстетичес-
кое спасение-завершение: «Память о законченной жизни
другого (...) владеет золотым ключом эстетического заверше-
ния личности. (...) Помыслить мир после моей смерти я могу,
44
конечно, но пережить его эмоционально окрашенным фактом
моей смерти, моего небытия уже я не могу изнутри себя самого,
я должен для этого вжиться в другого или в других, для
которых моя смерть, мое отсутствие будет событием их жизни;
совершая попытку эмоционально (ценностно) воспринять
событие моей смерти в мире, я становлюсь одержимым душой
возможного другого, я уже не один, пытаясь созерцать целое
своей жизни в зеркале истории, как я бываю не один, созерцая
себя в зеркале». Особую ценность для истории Танатоса
представляет анализ Бахтиным изображенной смерти у Досто-
евского (в его мире «смерть ничего не завершает, потому что
она не задевает самого главного в этом мире - сознание для
себя») и Л.Толстого (для овеществленного сознания его героя
смерть обладает «завершающей и разрешающей силой») (22).
Опыт изображенной смерти у Достоевского и Л .Толстого
лег в основу книги Л.Шестова «На весах Иова» (1929).
Шестов наследует экзистенциальную тревогу «парадоксалис-
та» , в которой сублимировано недоумение подпольного мыс-
лителя Достоевского перед абсурдом смерти как самоочевид-
ной онтологической бессмыслицы; внятна ему и смертная
тоска овнешненного тленной телесностью героя Толстого.
Перед зрелищем смерти изображающей, т.е. перед живой
жизнью, упакованной в футляры смерти, Шестов формулиру-
ет долг философа: не мириться с противоречиями бытия, но
«вырваться, хотя бы отчасти, при жизни, от жизни». В
интонациях Иова богооставленного автор «Откровения смер-
ти» (1915) твердит о напрасном даре, доставшемся человеку:
разумение и объяснение. Одна мысль о смерти приносит
мыслителю физическое ощущение бессилия перед титаничес-
кими стенами плотно слежавшегося праха, которые обступа-
ют личность по всему периметру его дольней платоновской
пещеры.
В контраст шестовскому отчаянию русская традиция
Танатоса знает и смиренные размышления И.Ильина: в книгу
«Поющее сердце» (Мюнхен, 1958) он включил «Письмо о
смерти» и «Письмо о бессмертии», в которых православная
дидактика Танатоса строится в традиционном европейском
аспекте достоинства личности.
Концепции воскрешения и метаисторических аннигиля-
ций смерти в XX в. перестали выполнять компенсаторные
45
функции (по отношению к страху жизни и страху смерти).
Они, конечно, сохранились в списке предметов богословских
дискуссий и конфессиональных предпочтений, но по эту
сторону бытия все чаще смотрят на них с чувством некоторой
неловкости.
Русская традиция знает абсолютную посюстороннюю
альтернативу смерти; история ее философского осмысления
практически не изведана. Это - метафизика детства. В фено-
мене ребенка отечественной мысли открылась та единственная
ниша в космосе изображающей смерти, в которой Танатос
априорно упразднен. В детях дана субстанция жизненности и
онтологическая иллюстрация бессмертья. Дети - черновики
бессмертных существ: и внутри своего родового неиндивиду-
ализированно-мифологического сознания, и в нежном цвете-
нии мировой плоти. Мифологема детства освящает витальную
достоверность человекоявленья в бытии и весь человеческий
план Божьего домостроительства. Дети - самые надежные
вестники Божьей правды; на них осуществляется свидетель-
ское предстательство мировой надежде и первопамять древне-
го Эдема, в них сбывается подлинник Завета. В глазах
С.Булгакова, детским миром «устанавливается некое средин-
ное, переходное состояние между ангельским и человеческим
миром (...). Онтологическое раскрытие природы и предназна-
чения этого детского мира, по-видимому, переходит за грань
этого века. Он имеет свое онтологическое основание в том
освящении детского возраста, которое дано Спасителем,
прошедшим и младенчество в своем воплощении» (23). Свя-
тоотеческая мифологема человечества как Детского Собора
чад Божьих закреплена в отечественной словесности образом
«детской церкви» (М.Бахтин): клятвой детей на могиле Коли
Красоткина в финале «Братьев Карамазовых». «Детское» в
мире взрослых призвано, по Достоевскому, вернуть человека
в до-греховное состояние; таков в «Идиоте» кн.Мышкин. В
ребенке просветляется темная, падшая природа дольней
твари: «В сиянии младенца есть ноуменальная, по-ту-светная
святость, как бы влага по-ту-стороннего света, еще не сбежав-
шая с ресниц его» (24).
Философия смерти создается взрослыми людьми, их
угрюмому позитивизму мы обязаны маскировкой танатологии
под какие-нибудь «этюды оптимизма» (25). В детях открыта
46
творческая юность мира и рвущая смертные оковы витальная
энергетика. Так полагал автор жизненной концепции «твор-
ческого поведения* - М.Пришвин: «Если творчество есть сила
освобождения от цепей, то это же самое творчество может и
сковать цепь: как сохранить силу творчества до решимости
схватиться с самой смертью? (...). Сила творчества сохраня-
ется теми же самыми запасами, какими сохраняется на земле
вечное детство жизни во всех его видах» (26).
Мысль гёроя Достоевского о невозможности оправдания
мира, стоящего на крови ребенка, запала в память русской
культуры. В картине мира А. Плато нова рушится мироздание,
если в нем погибает его центральная ценность и предмет
культа: ребенок. Мир, в котором нашлось место для детских
могил, не готов для жизни: «Жить на земле, видно, нельзя
еще, тут ничего не готово для детей» (27).
Параллельно литературно-эстетической метафизике и
теологии детства (28) развиваются и культурно-исторические
его трактовки. Они связаны со специфическими рефлексами
«русского эллинства», которыми так плотно насыщены тек-
сты, вроде «Младенчества» Вяч.Иванова и мемуаров о своем
детстве П.Флоренского.
В греческой детской Европы мы получили культурный
иммунитет от смерти. За нашими плечами - опыт ее отрицания
в масштабах исторически адекватного возраста. Пастернак
писал в «Охранной грамоте»: «В возрастах отлично разбира-
лась Греция. Она остерегалась их смешивать. Она умела
мыслить детство замкнуто и самостоятельно, как заглавное
интеграционное ядро (...). Какая-то доля трагизма, по ее
мысли, должна быть собрана достаточно рано в наглядную,
мгновенно обозримую горсть. Какие-то части здания, и среди
них основная арка фатальности должны быть заложены
разом, с самого начала, в интересах его будущей соразмернос-
ти. И, наконец, в каком-то запоминающемся подобии,быть
может, должна быть пережита и смерть» (29).
Культурология Смерти и метафизика Танатоса, встре-
тившись на почве эллинских симпатий русской мысли, при-
дали ей особый привкус трагического оптимизма. Мандельш-
там, твердо знавший, что культура не ведает смерти, готов
распространить эллинскую иммортологию на все историческое
содержание христианства: « Христианский мир - организм,
47
живое тело. Ткани нашего мира обновляются смертью. При-
ходится бороться с варварством новой жизни, потому что в
ней, цветущей, не побеждена смерть! Покуда в мире существу-
ет смерть, эллинизм будет, потому что христианство э л
линизирует смерть. Эллинство, оплодотворенное смертью,
есть христианство» (30).
Русские интуиции смерти и опыт ее переживания в
родной словесности и искусстве почти не изучены. Настоя-
тельной современной потребностью, отвечающей духовной
конъюнктуре дня, является собирание и издание памятников
отечественного размышления над смертью. Уже само по себе
это дело есть борьба со смертью. Музыкой смерти переполнен
кризисный космос нашей культуры. Но партитура ее неплохо
изучена русскими мыслителями. Наш долг - вернуться к этим
страницам и заново перелистать их в прощальном Свете
Невечернем плывущего во тьму второго тысячелетия.
***
1. См.: Гуревйч А.Я. Смерть как проблема отечествен-
ной антропологии: О новом направлении в зарубежной исто-
риографии // Одиссей. Человек в истории. Исследования по
социальной истории и истории культуры. М., 1989. С. 114-
135; Новикова О.А. К вопросу о восприятии смерти в Средние
века и Возрождении (На материале испанской поэзии) //
Культура Средних веков и Нового времени. М., 1987. С. 51-
59; Семина К.А. Археология и социология смерти (Анализ
исследований 80-х гг.) // Личность и общество в религии и
науке античного мира (Современная зарубежная историогра-
фия): Реферат.сб. М., 1990. С. 91-107; Гайденко II.II. Смерть
// Филос. энциклопедия. Т. 5. М., 1970. С. 34-36.
2. Седов Л. Типология культур по критерию отношения
к смерти // Синтаксис (Париж). 1989. N 26. С. 159-192;
Семиотика культуры: Ш Всесоюз. школа-семинар, 15-20
сентября 1991: Тез. докл. Сыктывкар, 1991.
3. Топоров В.Н. О космологических источниках ранне-
исторических описаний // Тр. по знаковым системам. Т. 6.
Тарту, 1973.
4. Радищев А.Н. О человеке, его смертности и бессмер-
тии // Он же. Избр. филос. произв. М., 1949. С. 312-313.
48
5. Брянчанинов И. Слово о смерти. 6-е изд. М., 1900;
Он же. Слово о человеке // Богословские тр. Т. 29. М.» 1988.
С. 285-320. См. некоторые материалы последующих полемик
о смерти: Тохарский А. О страхе смерти // Вопр. философии
и психологии. 1897. Кн. 40. N 6; Эрн Вл. Социализм и
проблема свободы // Живая Жизнь. 1907. N 2. С. 68-87 (Ч.
Ш статьи); Розанов В. Вечная тема // Новое время (Пб.), 1908.
4/17 января. N 11427. С. 3; Мережковский Д. Мистические
хулиганы // Свободные мысли (Пб.). 1908. 28 января. N 38.
С. 2; Розанов В. Еще раз о вечной теме // Новое время (Пб.).
1908. 23 февраля / 6 марта. N 11476. С. 4-5; Он же. Смерть...
и что за нею // Смерть: Альманах. СПб., 1910. С. 143-163;
Он же. Святость и смерть // Новый путь. 1903. N 7.
6. См., в частности: Савонарола Дж. Проповедь об
искусстве хорошо умирать // Вестник РХД (Париж; Нью-
Йорк; Москва). 1981 (Ш IV). N 135. С. 99-124; См. анализ
темы «искусства умирания»: Хейзинг Й. Осень Средневе-
ковья. Гл. IX. М., 1988. С. 149-163; См. эту же тему в
проповеднической традиции русской прозы: Светлов П.Я.
Любовь и смерть // Киевлянин. 1899. N 132; О страхе смерти
// Там же. 1901. N 25; О смысле смерти // Там же. 1901. N
53; Гермоген (К.П.Добронравов). Утешение в смерти близких
смерти. 11-е изд. СПб., 1903; Монах Митрофан. Как живут
наши умершие и как будем жить и мы после смерти: По учению
православной Церкви, по предчувствию общечеловеческого
духа и по выводам науки. 5-е изд. СПб., 1889 (М., 1991);
Иоанн, еп. Тайна смерти // Домашняя беседа. 1869. N 48.
7. Печерин В.С. Замогильные записки (Apologia pro vita
mea) // Русское общество 30-х гг. XIX в. : Мемуары современ-
ников / Под ред. И.А.Федосова. М., 1989. С. 149.
8. Достоевский Ф.М. Полн.собр.соч.: В 30 т. Т. X. Л.,
1974. С. 92. Собеседник Шатова возражает в интонациях
уравновешенного рационализма: «Человек смерти боится,
потому что жизнь любит (...), и так природа велела» (Там же.
С. 93). Ср.: «Если бы наш ужас перед уничтожением был
изначальным аффектом, а не действием присущей нам вообще
любви к счастью, то он скорее доказывал бы смертность души.
(...) Смерть в конце концов неизбежна, однако человеческий
дух не сохранился бы, если бы природа внушила нам отвра-
щени ; к смерти» (Юм Д. Сеч.: В 2 т. Т. 2. М., 1965. С. 806).
49
9. Ср.: «Если смерть - величайшая опасность, то
надеются на жизнь; если же узнали о еще боле ужасной
опасности, то надеются на смерть. И если опасность так
велика, что смерть стала надеждой, то отчаяние есть отсут-
ствие возможности смочь умереть» (Кьеркегор С. Болезнь к
смерти (1849) // Антология мировой философии: В 4 т. Т. 3.
М., 1971. С. 731).
10. О страхе смерти см.: Шперк Ф.Э. О страхе смерти и
принципе жизни. СПб., 1895; Лифтон Р., Ольсон Э. Жизнь
и умирание: Реферат Д.Ляликова // Буржуазные психоанали-
тические концепции общественного развития: Реферат, сб.
М., 1980. С. 64-92; Сабиров В.Ш. Проблема страха смерти в
современной танатологии // Философские аспекты духовной
культуры. М., 1984.
11. Толстой Л.Н. <0 значении религии жизни и религии
смерти> // Полн.собр.соч.: В 90 т. Т. 17. М., 1936. С. 356.
12. О смерти: Мысли разных писателей: Собрал
Л.Н.Толстой. М., 1908. Не без влияния этой антологии в XX
в. написалась книга: Андреевский С.А. Книга о смерти
(Мысли и воспоминание). Т. 1-2. Ревель; Берлин, 1922. (См.
рец. Д.Философова: За свободу (Варшава). 1923. 3 января).
13. Соловьев В.С. Соч.: В 2 т. 2-у изд. Т. 2. М., 1990.
С. 526-528 (Далее в тексте указываем том и страницу этого
издания). Ср.: «Жизньобладает бесконечной ценностью лишь
в том случае, когда субъект в качестве духовного, самостоя-
тельного субъекта является единственной действительностью;
в справедливом ужасе он должен считать себя отрицаемым
смертью» (Гегель Г.В.Ф. Философия религии: В 2 т. Т. 2. М.,
1977. С. 193). Соловьев утверждает: «То, что (...) смерть есть
необходимость безусловная - для этого нет даже тени разум-
ного основания» (Цит. изд. С. 527).
14. Федоров Н.Ф. Соч. М., 1982. С. 109; Ср.: Брюсов
В. О смерти, бессмертии и воскрешении // Вселенское дело.
Вып. 1. Одесса. 1914.
15. См., например: Жизнь земная и последующая /
Сост. П.С.Гуревич, С.Я.Левит. М., 1991.
16. Булгаков С.Н. Софиология смерти // Вестник РХД.
1978. N 127. С. 18-41; 1979. N 128. С. 13-32; Он же. Жизнь
за гробом. 2-е изд. Париж, 1987; Флоровский Г. Смерть на
Кресте. Париж, 1930 (англ.); Ильин В.Н. Профанация траге-
50
дии: Утопия перед лицом любви и смерти // Путь. 1933. Т.
40. С. 54-63; Он же. Великая Суббота: О тайне смерти и
бессмертия // Путь. 1938. Т. 57. С. 48-57; Ср.: Флоренский
П.А. Рецензия на сочинение (...) «Метафизика смерти в
произведениях Тургенева и Достоевского» // Богословский
Вестник. 1913. Т. 1. N 4. С. 411-413; Он же. Не восхищение
непщева (Фил. 2. 6-8) // Богословский Вестник. 1915. Т. 2.
С. 512-562.
17. Абрамович Н.Я. Смерть и художники слова //
Смерть: Альманах. СПб., 1910. С. 209-284.
18. В первом выпуске «Литературного распада» опубли-
кованы статьи М.Морозова «Перед лицом смерти» (ср. Горс-
кий А. Пред лицом смерти. Б/м., 1928) и П.Юшкевича «О
современных философско-религиозных исканиях» (СПб., 1908).
19. См., в частности, его сб. «Жало смерти» (М., 1904;
Рец.: Иванов Вяч. Рассказы тайновидца // Весы. 1904, N 8).
См. тематически близкие из великого множества подобных
вещей: Мережковский Д.С. Смерть: Петербургская поэма //
Северный Вестник. 1891, N 3, 4; Свенцицкий В. Смерть:
Драма. М., 1909; Сергеев-Ценский С. Смерть. М., 1908 и т.п.
20. Свенцицкий В.В. Антихрист: Записки странного
человека. 2-е изд. СПб., 1908. С. 42.
21. Трубецкой Е.Н. Свобода и бессмертие // Русская
мысль (Прага; Берлин). 1922. Кн. Ш (март). С. 167-168; Он
же. Смысл жизни. М., 1918 (Гл. П).
22. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.,
1979. С. 93, 315. Ср. в полилоге Н.М.Бахтина, брата
М.М.Бахтина: «(...) Только для вещей существует конец -
случайное, извне приходящее уничтожение. Для живого
смерть - не просто конец, но всегда завершение» (Бахтин Н.
Похвала Смерти // Звено (Париж). 1926. N 198. С. 5). Один
из собеседников цитируемого симпосиона Н.Бахтина убежден
в мысли, что с гибелью тела погибает душа. Эта реплика
обращена против всей традиции понимания телесности как
наследницы преображающего ее Воскресения (См., в частнос-
ти: Лосский Н.О. О воскресении во плоти // Путь, 1931. N
26. С. 62-85; Ильин В. Воскресение Христово новая тварь и
суд мира // Вестник РХД. 1950. N 1-П. С. 13-17; Семенов-
Тянь-Шанский А. Смерть и воскресение Христово // Вестник
РХД. 1971. N 100. (П). С. 34-43). Из современных трактовок
51
см.: Трубников H.H. Проблемы смерти, времени и цели
человеческой жизни // Филос. науки. 1990. N 2. С. 104-115;
Дубровский Д.И. Смысл смерти и достоинство человеческой
личности // Филос. науки. 1990. N 5. С. 116-120; Линник
Ю. Бессмертие: Новая иммортология. Петрозаводск, 1990;
Фролов О. О жизни, смерти и бессмертии // Вопр. философии,
1983. N 1, 2; Минеев В.В., Нефедов В.П. От смерти к жизни:
Идеи русского космизма и проблема нового понимания смерти
и бессмертия: Эссе / Препринт N 936. Красноярск, 1989
(Библиография: С. 45-9); По проблеме эвтаназии: На границе
жизни и смерти. М., 1989; ЮдинБ.Г. Право на добровольную
смерть: За и против // О человеческом в человеке / Под ред.
И.Т.Фролова. М., 1991. С. 247-261; О трактовках смерти в
западной традиции см.: Курцман Дж.,Гордон Ф. Да сгинет
смерть. 2-е изд. М., 1987; Давыдов Ю.Н. Миф о «танатосе»,
Или диалектика субстантивированного «нет» // Идеалисти-
ческая диалектика в XX столетии. М., 1987. С. 304-326;
Надточий Э.В. Власть насилия над жизнью и смертью //
Тоталитаризм как исторический феномен. М., 1989. С. 332-
350; Исаев С.А. Теология смерти: Очерки протестантского
модернизма. М., 1991.
23. Булгаков С.Н. Друг Жениха: О православном
почитании Предтечи. Париж, 1927. С. 224 (Ср.: Мережков-
ский Д.С. Реформаторы: Лютер, Кальвин, Паскаль. Брюссель,
1990. С. 130-132).
24. Розанов В.В. Семья как религия // Русский Эрос,
или Философия любви в России / Сост. В.П.Шестаков; Комм.
А.Н.Богословского. М., 1991. С. 134, сноска.
25. Волжский (А.С.Глинка). Проблема смерти у проф.
Мечникова // Новый путь. 1904. N 10. С. 69-87.
26. Пришвин М. Незабудки. М., 1969. С. 59.
27. Платонов А. Течение времени. М., 1971. С. 22. У
Платонова мы встречаем две модели смерти: 1) смерть ломает
внешние тела полулюдей-полупокойников. Это напоминает
механическое саморазрушение: тело как бы обрушивается
вовнутрь собственного каркаса (см.: Подорога В.А. Евнух
души (Позициячтения и мир Платонова) // Вопр. философии,
1989. N 3. С. 21-26); 2) смерть «снята» в мифологемах
«рождение-соитие-смерть», «колыбель-гроб», «мать-невеста-
сестра» и других этого ряда.
52
28. См.: Семенов-Тянь-Шанский А. О детях // Вестник
РХД. 1954. N 32 (П). С. 14-17.
29. Пастернак Б. Охранная грамота. Л., 1931. С. 16.
30. Мандельштам О. Пушкин и Скрябин // Вестник
РХД. 1965. N 72/73. (1-П). С. 67.
А .Н.Власов
Сыктывкар
Эпизод «преставления» святого
как структурный элемент житийного текста
(на материале памятников
Устюжской литературной традиции)
В православном катехизисе еп. Александра (Семенова-
Тян-Шанского) в ст. 32 «Христианин перед лицом смерти»
записано: «Ужасна смерть, но в ней мера всего высокого, мера
достоинства человека. Готовностью умереть измеряется храб-
рость, верность, надежда, любовь, вера... Истинный христи-
анин готов принять как насильственную, так и обычную
смерть от болезни или от старости. Принятием смерти изме-
ряется его вера в Воскресение и во всеблагость Божию.
Христианин должен иметь «память смертную», то есть не
забывать своей смертности и того, что конечное торжество
света явится только по воскресении мертвых. Но готовность
к смерти не означает, что земная жизнь теряет свою цену.
Напротив, она остается величайшим благом, и христианин
призван к полноте настоящей жизни, поскольку он может
наполнить каждое мгновение ее светом Христовой любви. И
только истинный христианин может это сделать» (1).
Приведение текста этой статьи из авторитетного для
православных христиан свода основных правил является
своего рода регламентирующей установкой в вопросе отноше-
ния человека к смерти. В ней содержится, в свете основных
догматов христианского вероучения, решение одного из самых
трагических противоречий «смерти / жизни ». Смерть понима-
ется как мера всего высокого и достоинства человека, а в
«памяти смертной» утверждается ценность настоящей жизни
человека.
53
Отношение к этому вопросу соответственно становится
одним из краеугольных в теософских и полемических сочине-
ниях учителей церкви и их более поздних последователей, а
также для древнерусских писателей житий святых. В житиях
святых «смерть» героя становится средоточием и эпицентром
повествовательной структуры. Вокруг этой основной цели
повествования концентрируются основные идеи повествова-
тельного текста. «Поиск умиления в умирании, сколь чуждое
словарному употреблению понимание смерти умиляющей -
исходит из той же традиции мысли и чувствования, для
которой в таинстве перехода в иную жизнь проявляется
«правдабожия»,... примиряющая, все прощающая. Кончина
святого всегда «в бозе», в этом для жития ее смысл» (2).
Понятие «смерти» в древнерусских житиях непременно
коррелирует с такими понятиями, как «страдание», «страсть»,
«страх», «подвиг». А само слово «смерть» зачастую заменя-
ется равными по значению, но стилистически неравноценны-
ми: «преставление», «успение», «покой».
Представление о «смерти» как о конце и начале, как о
некоем переходном состоянии человека согласуется с мыслью
о воздаянии на Страшном суде. Страшный суд - этб устойчи-
вый в мифологическом смысле образ и ценностный ориентир
христианского вероучения для всех живущих и умерших, это
своего рода итог и граница вообще жизни как во времени, так
и в пространстве. Представления о Страшном суде легли в
основу христианской эсхатологии и во многом определяли
умонастроение и миросозерцание носителей культуры. «Суд
вторично умершего Иисуса Христа над всеми когда-либо
жившими людьми, воскресающими во плоти для этого суда и
получающими по приговору судьи сообразно со своими делами
вечное блаженство в раю или вечное наказание в аду» (3).
В этом смысле Страшный суд как бы возвращает
человеческую историю к моменту первотворения и установле-
ния настоящего порядка: «В присутствии всех ангелов судья
воссядет на престоле, перед которым соберутся «все народы»
(Матф. 25, 31-32), и свершится суд: оправданные станут по
правую руку от судьи (счастливая сторона), осужденные - по
левую (Матф. 25, 34-46)» (4).
Особую роль в систематизации образов Страшного суда
из раннехристианских и средневековых писателей сыграл
54
Ефрем Сирин (IV в.), который писал: « Ясно представим себе,
что хотя нас теперь и тысячи, но в день смерти один по одному
пойдем отсюда, и каждому будут сопутствовать только дела
его, то, что он делал худого или доброго. О том помышляй,
о том заботься, как бы возмочь тебе избежать гнева, ибо
невозможно нам избегнуть рук создавшего нас, по слову
сказавшего: Камо пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего камо
бежу (Пс. 138; 7)? Итак никто да не обольщает сам себя:
должно нам предстать судилищу Христову (Рим. 14, 10), где
вся нага и объявлена пред очима Его (Евр. 4,13), где
предстанут тысячи тысяч и тьма тем святых Ангелов и все
силы небесные подвигнутся. И где тогда будут высокоумие и
надменность? Где тогда расточительность, угрозы и суетное
высокомерие? Кто постоит пред страшным прещением Анге-
лов божиих? Представим себе, что предавшие себя Христу и
благоугодившие Ему в веке сем, будут судить нас, как
написано: Не весте ли яко святии мирови имут судити (I Кор.
6, 2)? Ибо они, будучи подобострастными нам человеками в
мире, благоугодили Богу, а мы делая лукавое, прогневляем
Бога» (5).
Наряду с образами Страшного суда, «смерти после
смерти», христианская эсхатология активно разрабатывает
близкие понятия: «памяти», «посмертного существования».
Эти категории в едином семантическом поле «смерти» носят
ярко выраженный нравственно-назидательный характер, т.к.
в них содержится прямая взаимосвязь между оппозиционны-
ми парами: «временная жизнь / временная смерть» и «вечная
жизнь / вечная смерть» (т.е. мука). «Память» в этом случае
служит своеобразным медиатором, с помощью которого устра-
няется нежелательный исход человеческого бытия - «вечная
мука». Чаша весов на момент Страшного суда может вполне
поддаваться регулированию благодаря «памяти» смертных о
их делах на земле, человек по своей воле может оказаться в
числе судей, не дожидаясь суда, а не среди судимых.
Возможности обрести «небесное царство» (или «вечный
покой») сразу же после временного (земного) бытия достойны
только святые и праведные люди, которые оставили о себе на
земле добрую память (или память о своем подвиге). По словам
Ефрема Сирина: «Радостна и любезна всегда Ангелам и
человекам память святых, потому что и мы в подражание им,
55
подвиаемся в подобной их ревности любить Бога. Стреми-
тельне огня объемлет она сердца, убеждает пренебречь
суетньй мир и все его приятности, отрешает парящий ум наш
от вре.ного житейского сообщества, от любви родителей, от
благорасположения братьев, от заботы о жене и детях и о
всяко* имуществе, окрыляет помысл, чтоб от всего земного
возносился он к небесному, отсылает нас ликовать с Ангела-
ми, епз здесь предстоять Божественному престолу Всевышня-
го, прбывая в теле подражать бесплотным, и ходя по земле
мудрствовать небесное...» (6).
1оэтому общим местом патристики является утвержде-
ние, чю святой подвизаете^ не ради царства (награды), а ради
приверкенности к Богу (7).
1риведем еще одну любопытную статью «О концы, к
нему яе создан есть человек» из сборника «Диоптра»: «Азесмь
Альфа и Омега, начало и конец (Ап. 1), глаголет Господь.
Исходгг реки из моря и паки возвращают в море. Всяческая
естестенные приводятся ко своему концу. Бог есть море,
отнюдг же изшед еси, к нему же яко ко истинному и
превеликому нашему центру и концу последуем, желает ити
душа jaina. И не можеши почивати в каковой вещи настоя-
щей, jko той есть последний конец ея, к нему же создана
бысть.Созда нас Бог себе ради, и непокойно содея сердце наше,
дондехе не приидет к нему чудо поистину есть, яко егда вся
твари юделовают сие, нанеже созданы быша: един человек
есть сатротивоборен и не тщится получити конца своего. Не
созда 'Я да полагавши последний конец в вещех мирских, но
в Бозе Зверие, их же созда Бог земли ради. К земли зрят,
ходяпа четырма ногама. Но человек, созданный ради небеси,
горе 1 небеси воздеянно лице имать. Почто убо толма
прист1ащаешися к вещем тленным: сердце свое приложи к
оной 31МЛИ горней, идеже насладишися оных нетленных благ.
Не пршепляйся тако к вещем видимым, но наипаче горе к
невид]мым шествуй. Не медли в суе на пути, но праволучно
иди к юнцу, к нему же создан еси. Чесо ради созда тя Бог; разве
да нас.аждаешися его. Той есть конец твои, глаголет псалом-
щик, ьли кто вселится в гору твою (Пс. 14). Отвещевает: иже
не пршт на суе душу свою. Всуе кто приемлет что, егда сего
не пркмлет во назнаменателъный конец (Пс. 23). Всуе ризу
купилэси, аще никогда же в ню облачишися. Всуе приял еси
56
душу, аще тоею не твориши дел, к ним же создана есть. Созда
Бог память, да воспомянеши его. Разум, им же познаеши его.
Волю, ею же любиши его. Елма убо созда тя Бог, да любиши
его и ему работавши, праведно есть, да сие прекратное время
подаси, во еже получити сеи преблагородный конец, к нему же
создан еси. Иже имать душу, и живет, аки не има ей, и иже
ум свои и волю порабощает приобретати, чести и богатства,
сей отщетевает душу свою, понеже на сие несть созданна.
Блаженство есть последний конец человеческий, к нему же
всяческая иная устрояются. Не полагай последняго конца
своего во всех вещех земленных, яко ни в честех, ни в
богатствах, ни в научении, ни во иной коей вещи обрящеши
покоя. Отими сердце свое от всех вещей земных. Бога единаго
люби от него же и его же ради создан еси. Презри настоящий
век и получиши желаемый конец. Сей един разум доволно тя
могл бы увещати, дабы еси презирал суету мира, аще точию
помнишися созданна на небо, да не пристращаешися к вещем
худым. И тако посем будеши в мире покоин, и на небеси вечно
блажен и преславен» (8).
Здесь вновь в достаточно кратком виде сформулировано
основное правило жизни христианина и цель его конечного
земного бытия. В свете этих представлений обратим внимание
только на одну идею - о возможности достигнуть небесного
царства в результате праведной жизни на земле и о конечности
всего сущего на ней. Более ясно излагается мысль о том, как
преодолеть посмертное ожидание Страшного суда, в Словах
Симеона Нового Богослова: « Бежим же от прелестей мира сего
и его обманчивых радостей и утешений и к единому устремимся
Христу, Спасителю душ наших... Не будем дожидаться узреть
его в будущей жизни, но здесь в этом мире подвизаемся узреть
его» (9). Видимо, эта мысль занимала христианское сознание
более, чем другие.
С одной стороны, она легла в основу житийного фабу-
лата, присутствовала в литургической практике (имеем в виду
не только особые чины об усопших и отдельные песнопения,
произносимые в любой службе в память о святых). С другой
стороны, память о смерти и загробном воздаянии по делам
человеку являлась сквозной темой в повестях и статьях
сборников, типа Синодика, настенных изображениях сцены
Страшного суда на западной стороне внутри храмов (10). Эти
57
сцены были словно специально предназначены для того, чтобы
прихожанин, уходя из церкви, постоянно помнил о своем
смертном часе. Если жития святых служили своеобразными
образцами праведной жизни, то в повестях из Синодика
изображались примеры неправедного жития, как живой укор
и напоминание о будущем наказании. Таким образом, отно-
шение к смерти занимало одно из ключевых положений в
становлении народного православия. Различные нюансы в
развитии этого базового комплекса в народном мировоззрении
представляют собой интересные аспекты в истории духовной
культуры России.
Попытка обнаружить связь между установками в отно-
. лении к смерти и самосознанием личности в позднем Средне-
вековье на примере памятников письменности региональной
литературной традиции Устюга Великого и Сольвычегодска
является целью настоящей работы.
Рассмотрим в свете основных положений христианской
церкви, как трактовался местными агиографами сам факт
смерти святого. При этом напомним, что определенный- тип
подвижничества святого требовал и соответствующего канона
житийного, в конечном счете, имел влияние на создание
типического стиля поведения главного героя жития. Устюж-
ская агиографическая традиция разработала в основном два
вида подвижничества: преподобного (иноческий путь) и юро-
дивого Христа ради (путь в миру). Среди устюжских местноч-
тимых святых к первому относятся: преподобные - Симон
Воломский, Логгин Коряжемский, Христофор с Малой Коря-
жемки, Иоанн и Мария из г.Устюга, патроны Иоанно-
Предтеченского монастыря, Киприан, начальник Устюжско-
го Архангельского монастыря; и ко второму: Прокопий
Устюжский, Иоанн Устюжский, Иоанн Самсонович Сольвы-
чегодский, Иродион, Фома, Михаил Сольвычегодские юроди-
вые, Андрей юродивый Тотемский.
В этих известных для древнерусского читателя типах
святости реализовались как бы крайние точки в достижении
посмертного царства небесного. Причем обе они исключали
обычный тип жизненного поведения, т.к. и в том, и в другом
случае святые вынуждены были «бежать» мира людей, одни
вели иноческий образ жизни, а другие, приняв на себя
добровольный подвиг юродства, отказались или презрели
58
«красоту мира», находясь среди людей. Поэтому «смерть»
святых трактовалась не иначе как и «соуз телесных
разрешение» (11).
Однако совершенно противоположное представление о
смерти нам рисуют повести из Синодика Великоустюжского
Архангельского монастыря, в которых рассказывается о
посмертных мытарствах грешников; предназначены они были
для широкого круга читателей. Так, в «Повести о девице» из
этого сборника повествуется о том, что «некая девица таила
блудны грех многое время и в том гресе умре. И по смерти судом
божиим показася в муках страшных отцу своему духовному.
И тот вопросиша ю о сем. Она же поведа ему, еже жабы на очах
за безстыдной взор мой, стрелы во ушах за слышание словес
праздных и пение, огнь изо уст за безстыдное целование,
гадины перси мои ссут, иже поспущах на ся бесстыдно, псы
руце мои кусают за обнимание мое. Посем змии огнены занесе
ю во огнь» (12). Подобные живописные зарисовки, как
правило, сопровождались изображением суда над грешницей.
Эти небольшие рассказы словно оттеняли праведную жизнь
святых и находились на противоположном полюсе представ-
лений о смерти. Между двумя этими «крайностями» (добро-
детелью и грехом) проходила жизнь простого человека.
Определенный интерес представляет собой изображение
смерти подвижников в житиях. Несмотря на то, что в
устюжской агиографии было всего два вида подвижничества,
в котором не нарушалось каноническое изображение смерти
житийного героя (это почти всегда «красная смерть»), авторы
житийных текстов в этом случае прибегали к различным
художественным и риторическим приемам. Наиболее харак-
терным из них является ретардация сюжетного действия:
попытка задержать привычный ход событий и тем самым
удержать внимание читателя именно на этом эпизоде; прием,
применяемый в эпическом повествовании. Зачастую смерть
героя сопровождалась изображением «знамения» или «чуда»,
которые происходили в это время. «Смерть» должна была
показаться необычной среди обычных вещей, она должна
была служить своеобразным сигналом, чтобы изменить на-
строение читателя. Недаром смерть героя сопровождается
риторическими плачами, молитвами, похвалой святому. Воз-
можно, для агиографа это служило последним всепримиряю-
59
щим аккордом, на котором заканчивается повествование
основной части житийного текста. В этой финальной сцене
гармонически примиряются сострадание и страх, т.е. насту-
пает действие катарсиса (13).
Характерным выражением этого чувства можно счи-
тать, к примеру, слова из похвалы Симону Воломскому: «О
Симоне, весь еси наш сладость и желание и любовь ненасыт-
ная, воистинну доброта неизреченная! Твоими молитвами и
нас сподоби наслаждатися владычны красоты; и душевныма
очима видети, яко уготова Бог любящим его, идеже преиде от
силы в силу, и от благодати в благодать, и от памяти
в память вечную, от ныняшняго мятежа в будущую
нескончаемую радость и веселие. Нам же сие дерзостно есть
рещи, яков же гроздь в листвии, оставленными учеником
открыся. О чюдотворче, на него же упова Христа, Бога, Спаса
Нашего, и о нас того мала не престаи подати отпущение
прегрешением нашим и милость в день праведнаго его стр
ашнаго суда, и избавления нам от вечныя муки, и
достигнута праведных жизни, иже верою и любовию пречис-
тую память твою творящих идеснаго стояния сподобися
о Христе Иисусе Господе Нашем. Ему же слава и держава
купно со безначалным его Отцем и Пресвятым и Благим и
Животворящим Его Духом» (14).
Такой композиционный элемент житийной схемы, как
«Преставление святого», является важным семантическим
компонентом в архитектонике текста жития как целого.
«Преставление» (или «смерть») житийного героя становится
своеобразным центром, вокруг которого сконцентрированы
основные семантические поля словесной структуры на любых
уровнях ее организации.
«Смерть» организует событийную канву жизнеописа-
ния, суть которого заключается в следующей схеме: «рожде-
ние» - «подвиг» - «смерть» («преставление») - «подвиги»
(«чудеса» после смерти). Причем, если земная жизнь святого
ограничена во времени историческом, то подвиги святого после
смерти (посмертного причисления к лику святых) ориентиро-
ваны на бесконечность (незавершенность).
Обратимся к преподобническому типу Жития Симона
Воломского. В нем эпизод «преставления святого» не выделен
в отдельную главу, но начинается, как и в других житиях, с
60
известной формулы: « Искони же ненавидей добра враг диавол,
злу же радуяся и наводя на вся по Бозе живущая» (15).
Условно можно эту формулу обозначить как формулу -
«искушение». Затем следует сюжетное повествование о слу-
чившемся со святым, представляющее собой своеобразную
декодировку формульного зачина эпизода в реально-истори-
ческом плане. В Житии Симона Воломского орудием дьявола
выступали некие люди, которые хотели отнять у Симона
царскую жалованную грамоту на земли и имущество монасты-
ря. Они, после одной неудачной попытки запугать героя,
выбрали время, когда святой остался один в монастыре, а его
люди ушли на праздник Прокопия в Устюг Великий, напали
на монастырь и схватили Симона (16).
После этой своеобразной экспозиции данного эпизода
агиограф образно рисует сцену мучения святого «немилости-
выми» и «окаянными» убийцами: «И пришедше окаяннии
убийцы нощию в то пустынное место. И обретоста преподобна-
го единаго пребывающа, и похватиша святаго, яко злии
волцы. И много мучиша различно: раны многия наложиша
ему и огнем жгоша, да отдаст им царскую грамоту» (17).
Условно обозначая эту сцену как формулу - мучение, отметим,
что она реализуется сюжетно в двух планах: в одном (реаль-
ном) заключено действие врагов по отношению к герою, в
другом (часто риторическом) - ответное действие (отношение)
героя на мучения. Как правило, это обращение к ним
посредством прямой речи, чтобы выиграть время для предсмер-
тной молитвы (и причастия) (18). Действия героя здесь носят
ярко выраженный ритуальный характер и скорее выписывают
обряд подготовки человека, осознавшего близкую смерть.
Момент этот мучителен для героя и крайне важен, т.к. в нем
совершается настоящий подвиг его временной жизни: «И
сотворя молитву сице рекл: «Владыко, Господи Иисусе Хрис-
те, приемли с миром дух мой, и поели аггела своего мирна, от
пресвятыя славы своей наставляюща, усердна ко Трисо л печ-
ному божеству да не возбранене ми будет восход от началника
тмы со отступными его силами, и не посрами мене пред аггелы
твоими, и лику избранных мя притчи». И востав от молитвы,
причастися святых страшных и бесмертных Христовых тайн.
Изыде преподобный Симон и рече им: «Господне мои, творити,
яко же хощете» (19).
61
Поэтому, не нарушая динамики сюжетного повествова-
ния, этот эпизод текста разрешается собственно сценой
убийства, или возвратом к первому реальному сюжетному
плану: «Они же каменносердцем суровии и злии убийцы
похватишаего. И паки много мучиша, наругашася ему, и нози
разбодашатело его. И наконец честную его и аггелом говенную
главу усекоша и повергоша тело его близ келии его» (20).
В описании сцены физической смерти героя, как мы
видим, разрешается одна из основных структурно-семантичес-
ких оппозиций «смерти как житейской страсти» и «смерти как
духовного подвига». Здесь сводятся воедино и две речевые
стихии текста: нарративная и риторическая, живописная и
отвлеченно-нравственно-назидательная. И, наконец, послед-
няя сцена этого эпизода представляет собой многофигурную
композицию, выражающую формульную ситуацию «смерти-
горя», и состоит из следующих элементов: «памяти» («сконча
же ся преподобный отец и священномученик Симон в лето
7149 (1641) месяца июлия в 12 день на память святых
мучеников Прокла и Лария» (21), «освидетельствования
факта смерти и обретения тела мученика» («Тело же препо-
добного отца священномученика Симона лежаще на земли
многия дни никим же невредимо: ни от зверей, ни от птиц, ни
от скота, ту живущаго. Кровь же его, течащая из святаго тела
его, ссядеся, яко камень. Пришедше людие от града Устюга,
и видеша преподобнаго Симона, лежаща мертва на земли зело
умучена и огнем опалена и уронена, и по главу усечено. И
повержено умученное святое тело его около келии его» (22).
Описание, точнее, обозначение во времени и пространстве
явления «смерти» святого носит статический характер и
чрезвычайно сакрализовано. Деталями такой сакрализации
можно считать и приуроченность дня смерти святого к памяти
святых мучеников Прокла и Лария (23), и то, что тело Симона,
пролежав несколько дней на земле, оказалось невредимым
(24), и то, что кровь мученика запеклась и стала, как камень
и др.
Вслед за таким описанием повествуется о действиях
людей, обнаруживших тело мученика. Действия эти носят
ритуальный характер и представляют собой скорее церемонию
похорон: « И взяша тело его оттуду и понесоша на рамех своих
во святую церковь Всемирного Воздвижения Честнаго и
62
Животворящего Креста Господня. Плачуще и рыдающе со
многими слезами, яко лишимися таковаго отца и началника
своего. И призвашаот града Устюга от обители Архангельско-
го монастыря иеромонаха Ефрема. И певше надгробныя со
псалмы и песньми, и погребоша тело преподобнаго отца
священномученика честно. И положиша святаго мощи близ
церкви о левую сторону, юже сам созда» (25). Наконец, весь
эпизод « преставления святого » завершается формульной кон-
цовкой: « Всех же лет живота его преподобномученика Симона
65 лет и десять месяцев» (26). Она логически завершает, в
целом, жизнеописание мученика.
Композиционно-стилистическая стройность эпизода
«преставления святого» создается благодаря смысловой за-
вершенности в нем основных тем и мотивов житийного
повествования и особого значения его в христианской книж-
ной традиции богослужебной практике христиан. Так, именно
факт смерти святого становился отправным в традиции его
почитания и празднования в христианском календаре со дня
его памяти. Зловещее противопоставление «смерти / жизни»
разрешается введением новой оппозиционной пары праздно-
вания дня памяти смерти (праздник-смерти). Подтверждение
этой мысли мы можем обнаружить и в словах отцов церкви:
«Так мученики всецело от всего сердца предавали себя Богу,
потому пренебрегали самую смерть и все неприязненные
угрозы мучителей, будучи готовы на поругания, на мучитель-
ные истязания, на различные терзания всего тела. Хребты
свои отдавали на разсечение. За сие мученики приняли от Бога
силу мужественно претерпевать все страдания, не чувстви-
тельны были ко всякой казни, терпя как бы в чужом теле...
От сего воспламеняясь и пылая гневом, как лютые звери
рычали на мучеников, криком своим побуждая исполнителей
казни сильнее терзать святые тела святых подвижников...
Поэтому и по смерти действуют они как живые, исцеля-
ют больных, изгоняют бесов, и силою Господа отражают
всякое лукавое влияние их мучительского владычества. Ибо
святым мощам всегда присуща чудодействующая благодать
Св.Духа. Поелику мученики мужественно, с великим терпе-
нием, исповедали Христа пред человеками; то и Он провозгла-
сил их пред Отцем и Ангелами своими, и обетовал им блага,
их же око не виде, и ухо не слыша, и на сердце человеку
63
смертному не взыдоша (1 Кор. 2,9) в ня же жалают Ангели
приникнути (1 Петр. 1.12). Соделал их своими сонаследника-
ми. А каково наследие Христово, всякий, думаю, знает о сем.
Это - небеса небес, и все, что на них; это - свет непреступный,
и престол славы; это - источник кротких, весь рай, и райские
древа, и сладостнейший плод. Вот достояния царя Христа, и
кроме их есть другая тысячекратно многочисленнейший,
которым не знаем мы и именования, потому что невидимы для
людей» (27).
Описание «преставления» Прокопия Устюжского, юро-
дивого, являются ярким примером изображения «красной»
смерти; следует отметить, что само описание не имеет под
собой сколько-нибудь реально-исторической основы. Этот
эпизод полностью вымышлен. Однако условность не противо-
речит «откровению» самого факта смерти, т.к. в данном случае
ценностный критерий происходящего лежит в иной плоскости
(«Не по мнозех же днех открыся от аггела Господня блажен-
ному Прокопию преставление его и соуз телесных разреше-
ний» (28). Здесь утверждается именно «от уз телесных раз
решение» естественное, и о нем приносит весть ангел.
Догматически «Святые суть те, кто подвигом своей действен-
ной веры и деятельной любви осуществили в себе свое
богоподобие и тем явили в силе Божий образ, чем и привлекли
к себе изобильную благодать божию. В этом очищении сердца
подвигом души и тела вообще и заключается путь спасения
каждого человека, в которого вселяется Христос: «не я живу,
но живет во мне Христос» (Гал. 2, 20), по слову Господню:
«кто любит Меня, тот соблюдает слово Мое, и Отец Мой
возлюбит его, и Мы придем к нему, и обитель у него сотворим»
(Ио. 14, 23)», - писал христианский философ С.Булгаков в
статье «Почитание Богоматери и святых в Православии» (29).
Явление ангела подвижнику, как утверждает православная
церковь, есть высшее выражение и признание его святости. И
по причине того, что ангелы невидимы обыкновенным людям,
то и их пришествие с вестью святому о его скорой кончине/
спасении сообщается априори, как заведомо известный факт,
имеющий в тексте жития вид речевой формулы. В этой
формуле разрешается основная семантическая оппозиция
«жизни / смерти» в более приемлемую «преставление (смерть)
- разрешение (освобождение) от жизни (т.е. спасение)».
64
Поэтому сам факт « исхода» души святого имеет в житии
символическое значение. Он обретает своеобразные «меты» во
времени и в пространстве физическом. Например, умирать
Прокопий уходит ночью на мост, который ведет к вратам
монастыря Михаила Архангела, который находится побли-
зости от другого монастыря Введения Богородицы. Через три
дня тело Прокопия находят лежащим на голой земле невре-
димым. До погребения тело переносят в собор Успения
Богородицы, хоронят же Прокопия на берегу реки Сухоны
около камня, на котором святой любил сидеть, молясь за
плавающих по воде. Упоминание этих мест в период с момента
смерти до погребения святого явно несет дополнительную
смысловую нагрузку, обозначая некое культурное пространст-
во. Затем там возникают общепринятые в христианском
отношении культовые знаки: крест, часовня, (именно там, где
умер Прокопий), церковь (именно там, где он погребен). Таким
образом, описание в житии реального пространства, связан-
ного с моментом смерти героя, и закрепление его в тексте имеет
значение ритуально-обрядового, священного пространства и
становится местом для всеобщего поклонения устюжан. В
народном сознании этот переход из реального в сакральный
план сопровождался также и сакрализацией всего событийно-
го ряда. Весть о смерти святого должна была выпадать из
будничного порядка вещей. При этом отметим, что «случай-
ность» события служит своеобразным стимулом для закреп-
ления его в памяти носителей традиции, тем же знаком
высшего порядка. Все это дополняет значительность смерти
героя и переводит ее в плоскость вселенской значимости. С
этой точки зрения следует оценивать сообщение в тексте
Жития Прокопия Устюжского о том, что летом вдруг выпа-
дает снег («И абие воста буря внезапу велика зело со многим
снегом тоя нощи и паде снегу на две пяди во граде Устюэе и
около града во всех весех на всякия овощи земныя и на хлебныя
нивы» (30). Сообщение об этом необычном явлении в тексте
обретает свойство нарратива. Это позволяет вскрыть в нем
некий глубинный смысл: снег, который не губит земные
плоды, снег, который символизирует чистоту, снег, который
сохраняет тело святого невредимым, снег, который символи-
зирует «белую смерть» (тихую, спокойную, невидимую и др.),
и т.п. Следует упомянуть, что в Житии Прокопия большую
65
роль играет вообще семантический ряд близких по значению
к образу «снега» понятий: «зимний мраз» (см. «Чудо святого
о зимнем мразе», «холод», «стужа», связанные с описанием
душевного состояния и подвигом народа. Обратим внимание
только на то, что в тексте жития многократно повторяется
фраза: «И многое и великое себе терпение показуя, от зимняго
мраза померзая, и в летнее время от солнечнаго зноя изгара-
ше...»(31).
Таким образом, трактуя смерть героя как некое состо-
яние перехода из этого мира в иной, можно предположить, что
основная целевая установка всего жития заключается в
разрешении основной оппозиции «состояния/перехода» при-
енительно к главному объекту повествования.
С той же тщательностью мотив «преставления святого»
разрабатывается и в другом местном Житии Иоанна Устюж-
ского, юродивого. Иоанн сам узнает о дне своей кончины:
«Разумев же блаженный еже к Господу отхождение свое и
исход душевный и разрешение от соуз телесных». Затем
возносит молитву к Богородице «о сущих в бедах и во скорбех,
на конец о всем мире» и ложится на землю, словно один из
нищих. Смерть святого для окружающих знаменуется не-
обычным событием: «Тайного солнца пламень и столп огнен
до небеси явися». Следует отметить, что горожане также, как
и в Житии Прокопия, обнаруживают тело Иоанна нетленным,
а «неции ж искуснии видеша лице святаго, яко аггела божия,
и тело плоти его, аки снег» (32).
В редакции XVII в. эпизод «преставления святого»
дополнен философскими сентенциями на тему «смерти правед-
ника» , в них особенно подчеркивается мысль бессмертия героя
благодаря вечной о нем памяти: «Блаженный сей Иоанн
изволи на земли потрудитися Господа ради, и странник быв,
ненавидим и обидим от человек, биение и поругание прйим.
Ныне же предстоит у престола всех Царя и Бога с лики святых
и праведных. Мы же, отцы и братия, да не дерзнем похулити
дивнаго сего угодника божия, видевше и слышавше еже и при
животе сый многа чюдеса сотворити, такожде и по святом его
преставлении многа чюдеса и исцеление подает с верою
приходящим. Како убо подобает нам похвалити по достоя-
нию, якоже святый Давид рече: « В память вечную будет
праведник, возвеселится праведник о Господе и уповает на нь,
66
честна перед Господем смерть преподобных его». Якоже
премудрый Соломон рече: «Память праведнаго с похвалами
бывает, и благословение Господне на главе его, праведник аше
постигнет скончатися. в покои будет, похваляему праведнику
- радость люд ем, безсмертие бо есть память его, яко от
Господа познавается и от человек и угодна Господеви душа
его». Еже память праведнаго радостны и веселы нас творит,
его же поминаем Днесь. Не яко да нашими похвалами лучше
сподобитися, но яко да воспоминаем мы по возможному
подобии будем, и вси праведники единаго бо естества быша.
Не в той же ли воздухи землю населяху, но величеством
желания к божии любви себе издаша вся возможна чюдеса
творяху. Зрим убо добраго сего подвижника творяща велия
чюдеса. О богомудре Иоанне, не забуди ны, но молися Христу
Богу о нас грешных, яко да твоими молитвами благодать
божия осенит души наши, и просветит нас светом разума
истины, и наставит на путь правый, вводяще в Царство
небесное бесконечное и блаженное» (33).
Таким образом, формула «вечной памяти - бессмертия»
героя заменяет неразрешимую и трагическую для человека
коллизию смертного конца. Именно поэтому логически этот
эпизод в житии заканчивается, как правило, «Похвалой
святому». Причем агиограф реализует все тот же семантичес-
кий ряд: смерти - исхода - преставления - покоя - вечной
памяти - бессмертия - небесного царства и т.п.
Даже в поздних по времени написания житиях устюж-
ских авторов, таких, как Житие Андрея Тотемского (XVIII в.)
(34), эпизод смерти героя описывается в деталях. Святой знает
о дне своей смерти: «Уведе же свое от суетнаго и мало
временнаго жития сего в вечное блаженство преселение...»
Далее описывается церковный ритуал приготовления к момен-
ту исхода души (35). Следующим типическим эпизодом
является описание сцены всенародного прощания со святым;
точно так же, как и в других житиях, смерть сопровождается
неким чудесным явлением. Здесь оно заключалось в том, что
пономарь Иоанн, доверенный Андрея юродивого после проща-
ния с ним еще живым вышел из кельи, когда он вернулся туда
снова, то «видев блаженнаго на одре лежаща, уже умерша, и
руце на персех крестообразно, имуща, и келия его исполнися
благоухания» (36).
67
Несмотря на то, что текст Жития Андрея Тотемского
имеет сравнительно небольшой объем и ближе к проложным
типам житийных текстов, все же эпизод «преставления
святого» выписан с особой тщательностью.
Подобную же закономерность можно наблюдать и в
кратких житийных повестях конца XVII в. Речь идет в данном
случае о Житии сольвычегодского юродивого Иоанна Самсо-
новича (37). В тексте этой повести эпизод смерти также
выделен структурно. Приведем его в полном объеме: «От того
блаженного многия пророчества были и исполнялися и о
зачатии младенцев женам многим пророчествовал сокровен-
ными речьми своими, а не в яве. Еще же ему живу сущу,
спрашивал его архимандрит, где б его погрести тело. Он же,
моля, глаголя, чтоб погребли вкупе со юродивыми. Архиман-
дрит к нему сказал, что земля мерзла в том месте. Он же,
предвозвещая, глаголя: «Будет не мерзла». И по проречению
его могилу копали всю талу, а мерзлой земли не было по
словеси его. И то дивно всему народу, яко зима и мразу сущу,
не бысть земля мерзлою. И тако блаженный Иоанн житель-
ство свое в юродстве скончеваше, терпя Господа ради мраз и
зной, желая царства небеснаго и блаженной вечности. Егдаже
нача блаженный изнемогати, тогда призва к себе преждеречен-
наго архимандрита Герасима и к нему пред образом Спаса
исповедовал, не яко юрод, но в целости умней, со многими
слезами, и причастися тела и крови Господа Бога и Спаса,
Иисуса Христа от руки иеромонаха Сергия в том же монастыре
в поваренной келии. И по причащении не многих днех отиде
в вечное блаженство в лето 7177-го генваря против 28 числа
в нощь. Слышано же бысть блаженнаго преставление во всем
граде, и стекашеся не токмо мужие, но и жены и всякий
возраст человеческаго рода, множество народа на погребение.
И архимандрит Герасим со всеми градскими священниками
пев над мощьми его погребалная по правилам святых апостол.
И погребе честныя его мощи в той же обители пресвятыя
владычицы нашея Богородицы и приснодевы Марии честнаго
и славнаго ея во храм Введения от церковный стены с протчими
прежде почившими блаженными Михаилом, Фомою, Ироди-
оном месяца генваря в 29 день в пяток» (38).
Сопоставляя эпизод этой повести с другими, можно
утверждать, что все они имеют характер «общего места» (loci
68
communes) и состоят из одинаковых по смыслу формульных
элементов, при этом представляя только один из его тексту-
альных вариантов.
В кратких текстах о жизни местных святых типа
летописных сказаний этот эпизод может принимать вид
заключительной фразы-резюме. Например, в Сказании о
Николо-Коряжемском монастыре эта фраза имеет вид двух
небольших периодов текста: «И пожив богоугодно в посте, и
молитвах, и трудех, начальник бысть обители сей, течение
сконча и веру соблюд, преставися к Богу в вечную жизнь в лето
7048 году февраля в 10 день.
Его же строения во обители сей божие милосердие
образы и ризы и до днесь свидетельствуют. Есть же и доныне
близ церкви Николы чюдотворца во ограде кладезь, его же
ископах преподобный отец наш Логин при своем животе
своими руками, и с того же кладезя братия почерпают воду на
всякую потребу со благодарением» (39).
В Сказании о Христофоровой пустыни формула «пре-
ставления» старца Христофора отсутствует, т.к. о его смерти
не сохранилось никаких свидетельств (40). Подчиняясь зако-
нам жанра, агиограф заменяет эпизод преставления общими
рассуждениями о смерти праведников. Что и является в
структуре повествования функционально заменой недостаю-
щего звена. Начинается этот эпизод с общеизвестной формулы
«человек перед лицом смерти», которая реализуется в следу-
ющих словах: «По некоем же времени Богу единому владельцу
и со детелю всея твари, Господу и Спасу нашему Исусу Христу,
сведущу всея видимая и невидимая, творимо человеки или
добро, или зло. Ничто же от него утаено есть и воздает в день
тот судный страшнаго и грознаго своего втораго пришествие
вся комуждо по делом» (41).
Далее следует пространное рассуждение на тему правед-
наго и неправеднаго пастыря овец христовых и рассказ о
смерти насильственной (ср.: преподобнический тип жития и
насильственную смерть Симона Воломского) Никиты Стол-
пника Переяславского чудотворца. Что касается самого Хрис-
тофора, то автор среди этих рассуждений замечает только о его
внезапном и никому не ведомом исчезновении из пустыни:
«Како сей началник Христофор от сего пустыннаго места и от
святыя обители отлучися никому неведущу и неслышимо.
69
Или сам некия ради потребы, либо где отоиде и скончася. Аще
бы и тако бысть но развие в дальних странах и людям его
неведущим. И се бывает на пути зверь человека похищает и
раздовляет» (42). Таким образом разрешается в этом Сказа-
нии ситуация гибели героя; автор, не отступая от историчес-
кой правды, все же не нарушает и структурную целостность
рассказа о святом.
Рассматривая проблему смерти в контексте средневеко-
вой литературной традиции, следует отметить, что решение ее
имеет важное значение в истории русской духовной культуры.
Описание смерти в различных средневековых жанрах дает
возможность обнаружить различные аспекты народного миро-
воззрения. С одной стороны, в агиографических жанрах
разрабатывался канон так называемой «идеальной» смерти
высокого героя (святого), мифологически приравненный к
эпической бессмертности. С другой стороны, это картины ада
и муки грешников, которые живописуют конечный исход
человеческой жизни. Дуальность как свойство народного
сознания здесь обнаруживается в возникновении напряжения
между двумя видами смерти (праведника и грешника). В
границах этих как бы максимально разведенных представле-
ний складывается ментальность устюжан. Обращаясь к про-
блеме смерти на примере ограниченного круга памятников
(временем и территорий), возможно установить основные
параметры регионального сознания. Представления о смерти
являются в этом случае ярким показателем устойчивости
архетипических моделей народного миросозерцания и ценнос-
тных установок носителей традиции. Поэтому восприятие и
переживание людьми смерти, «... вычленение ее в качестве
антропологического аспекта социально-культурной системы
вполне оправданно и дает возможность в новом ракурсе и более
глубоко и многосторонне увидеть целое - общественную жизнь
людей, их ценности, идеалы, их отношение к жизни, их
культуру и психологию» (43).
***
1. Православный катехизис / Епископ Александр (Се-
менов-Тян-Шанский). М., 1990. С. 111.
2. Берман Б.И. Читатель жития (Агиографический
70
канон русского средневековья и традиция его восприятия)
// Худож. язык средневековья. М., 1982. С. 169-170.
3. МНМЭ. М., 1989. Ч. 2. С. 469.
4. Там же.
5. Творения иже во святых отца нашего Ефрема Сирина.
М., 1849. Ч. 2. С. 296 (♦Поучение 39 О непослушных и о
воскресении, о страхе Божием и о будущем суде»).
6. Ефрем Сирин. Указ. соч. Ч. 3. С. 127. («Похвальное
слово славным мученикам во всем мире пострадавшим»).
7. См., например: Житие и избранные места из творений
преподобного Макария Египетского. М., 1912. С. 36.
8. Диоптра. Кутейская тип., 1651. Л. 332-334.
9. Слова преподобного Симеона Нового Богослова. М.,
1862. С. 63.
10. Приведем подробную выписку описания живописно-
го изо'бражения Страшного Суда по Строгановскому живопис-
ному подлиннику XVIII в.: «С краю горний Иерусалим, а в нем
церкви и полаты, а во дверях ангелы и место ликов: первый
лик - преподобных жен, второй - мучеников, третий -
страстотерпцев, четвертый - преподобных, пятый - святите-
лей, шестой - пророков. От города облик силы, а в облаке Отец
на престоле, а около херувимы маленькие, Сын благословля-
ется от Отца, и потом идет к Отцу, потом Отец и Сын сели в
облаке. Под ними лавка, а под ногами у Них многоочитые. От
ног их пошла река, и тут отпадший лик, и престол криво
стоит, а отпадшие пошли в огонь. Под облаком и под силою
Господь возсел судить на престоле славы Своея, облик круг-
лый, около престола Херувимы невелики, по сторонам престо-
ла стоят Пресвятая Богородица и Предтеча, у ног Адам и Ева.
По обе стороны сидят на престолах двенадцать апостолов с
книгами, над каждым по два ангела... А сидят они пониже
престола Господня, между ними престол, а на нем завеса
храма, Евангелие и Крест. Под престолом сосуд и гвозди, а за
престолом два ангела держат по свитку. В первом свитке
писано: «Приидите благословении Отца Моего, наследуйте
уготованное вам царствие от сложения мира». В другом
свитке: «Престол Господен стояще, и свет возсиявше правды».
Под престолом облачек, из него рука, в руке души праведных,
и на двух перстах висят мерила праведныя, под мерилом стоит
душа (праведная) нагая. А другой ряд - грядут на суд. Первый
71
лик пророков, второй - апостолов, третий - мучеников,
четвертый - святителей, пятый - праведных отцев, шестой -
мучениц, седьмой - преподобных жен. На стороне Моисей
показывает жидам Христа, в руке свиток, а в нем писано: «Аз
вам дах закон, вы же не послушаете мене». А стоят: 1) Жиды,
2) Литва, 3) Арапы синие, 4) Индияне, 5) Израильтяне Песьи
Главы, 6) Турки, 7) Срацыны, 8) Немцы, 9) Ляхи, 10) Русь.
Под ними море и земли - кругло: отдают телеса мертвых. Да
тут же Правда Кривду стреляет и Кривда пала со страхом. Да
Христос в кругу, в образе оленя, об одном роге, а в другом кругу
- убил царство антихристово; в третьем кругу антихристово
царство под море шло. А повыше убийство Каиново: Авель
падши на колени, плачется, оглянулся назад, а дьявол под
локоть тычет Каина. И от того места идут бесы к мерилу со
грехами, и на мерило падают, их числом пять. И два ангела
со скипетрами колют бесов от мерил. У ада из горла вышел
змей, главою досягает даже до престола, а по нем мытарства.
Ангел несет души праведных. А от ангела к краю гора, на горе
одр, на одре Лазарь убогий, у главы царь Давыд сидит с
гуслями, да три ангела наклонились, принимают душу Лаза-
реву. Иоанн Синайской горы в ногах стоит, сед, борода
длиннее Власьевой, к концу уже. В другом месте от рая (в
других списках: от края) Иоанн идет, в руке клюка, ряска -
вохра с белилами. Лев оглянулся, несет мантию в пасти. Под
тою горою Пречистая в винограде. Два ангела: один держит
крест, а другой копье и трость. Пречистая сидит на престоле.
А от винограда пониже ангел показывает Даниилу четыре
царства погибельных: первое Вавилонское, второе Мидское,
третье Перское, четвертое Римское, еде есть антихристово на
море огненном. Под тем местом гора, на горе ангел со
скипетром, бьет грешных и гонит в озеро огненное, и дьяволы
ведут их связанных в огонь, а иные бьют их молотами. Идут
в ад и плачутся игумены и игуменьи, и старцы, и попы, и
священники всякого чина, за ними князья и бояре, и все судьи
немилостливые и неправедные: оборачиваются назад и пла-
чут. И духовные люди идут во ад, которые не радели о своем
стаде, и о своем спасении, и не исправясебя, служили. За ними
идут молодые люди, которые не соблюдали заповедей божиих,
не почитали отцев и матерей, и до брачнаго сочетания блудно
жили, сами наги, связаны по ногам. А под ними лежат жены
72
блудницы, головами в огонь, и иные многие грешники в
разных муках и томлениях, одни наги, другие одеты, лица же
их помрачнены. Сатана сидит в огне на аде. За ним столп,
прикован цепью, Иуда на коленях, огненный. Тут же сила его
тьмо-образная. Над огнем одр, на одре лежит богатый, и бесы
из него душу принимают. Ангел ударил скипетром в груди. Три
раба около плачут. А за головою четыре царства зверинными
образами: первое, как медведь, второе, что лютый зверь
пардос, голова человечья в венце, и два крыла, третье, как
львица, четвертый весьма страшен, голов и рогов десять. От
огня гора и столп. У столпа блудник привязан и тут стоит
ангел. И подпись глаголет: «Что стоивши, чело вече, и
позираеши на рай и на муку? Блуда бо ради лишен бысть
блаженнаго рая, а милостыни ради лишен вечныя муки».
Затем лики святых идут в рай. Петр отмыкает рай, а Павел
свиток держит. В свитке писано: «Приидете, благословении
и праведнии, в рай невозбранно». Ангел сверху венцы накла-
дывает. В раю сидят Авраам, Исаак и Иаков. Авраам сед,
космат, риза вохра, испод лазорь. Исаак сед, космат же, риза
верх прозелен, испод вохра. Иаков рус, риза бакон, испод
празелен. В недрах у них младенцы. И меж ними разбойник
с крестом. И оттуда иноки полетели в высоту. А всем
освященным чинам и старцам, согрешившим, котел кипящ.
Мука клеветникам - за языки повешены, а плясуны - за пуп.
Мука татям и разбойникам - за ноги повешены в огонь. Мука
князьям и боярам, и судиям неправедным - червь неусыпаю-
щий. Мука лихву емлющим и сребролюбцам - бесы им в горло
льют растопленное серебро; а они в огне сидят и не хотят пить,
отворачиваются, а бесы шелепами их бьют. А которые творили
блуд с попадьями и старицами, с просвирнями и с кумами, и
с сестрами - повешены в огне за хребты. Да бес, весь мохнат,
носит в руке цветки красные и кидает на людей. К кому цветок
прильнет, и тот, стоя на молитве, не слушает пения и чтения,
на сон склоняется и пустошное мыслит. А который человек
молитву к Богу возносит с прилежанием, стоя в церкви, или
где в другом месте, и Бога призывает, и к тому человеку цветы
не прилипают. Подпись у пророка Даниила в свитке: «Аз,
Даниил, видех, яко Сын человеческий идяше по облаком и
доиде до Ветхаго деньми». (См.: Буслаев Ф.И. Русские
иконописные подлинники. М., 1866. С. 133-138).
73
11. Эта формула является типичной для житийной
литературы.
12. См.: НРБ. Великоустюжское собрание (ф. 122); N
33. Л. 1 об. и др.
13. См.: Берман Б.И. Там же. С. 166*167.
14. См.: ГИМ. Синодальное собрание. N 406. Л. 35.
15. См.: Там же. Л. 30.
16. См.: Там же.
17. См.: Там же. Л. 29*33.
18. Напомним, что правила приписывали умирающему
христианину, что в предчувствии смерти он должен исповедо-
ваться, обратиться с молитвой к Богу и принять причастие
Святых Тайн.
19. ГИМ. Синодальное собрание. N 406. Л. 30.
20. Там же.
21. Там же. Л. 35.
22. Там же.
23. Там же.
24. Там же.
25. Там же.
26. Там же.
27. Ефрем Сирин. Указ. соч. С. 127-128 («Похвальное
слово славным мученикам во всем мире пострадавшим»).
28. Житие Прокопия Устюжского. СПб., 1893. С. 40.
29. Булгаков С. Православие. М., 1991. С. 261.
30. Житие Прокопия Устюжского. С. 41.
31. Там же. С. 42.
32. Житие Иоанна Устюжского // НРБ. Музейное
собрание. N 1365. Л. 193-215.
33. См.: БАН. 45.10.2. Л. 184.
34. См.: Памятники письменности в музеях Вологодс-
кой области: Каталог-путеводитель. Вологда, 1989. С. 263-
272.
35. Там же. С. 265.
36. Там же.
37. ГПБ. Q. IV. N 403. 183 об. - 189.
38. Там же. Л. 188.
39. Памятники письменности в музеях Вологодской
области... Ч. I. Вып. 2. С. 401-405.
40. См.: Власов А.Н. О памятниках устюжской литера-
— 74 —
турной традиции XVI-XVII вв. (Создатели и составители
некоторых литературных произведений В.Устюга и Соли
Вычегодской) // Книжные центры Древней Руси XI-XVI вв.
СПб., 1991. С. 313-327.
41. Там же. С. 320.
42. Там же. С. 321.
43. См., например, о новом направлении в исторической
антропологии: Гуревич А.Я. Смерть как проблема историчес-
кой антропологии: о новом направлении в зарубежной исто-
риографии // Одиссей. М., 1989. С. 114-135.
Т. Ф. Волкова
Сыктывкар
Повести и легенды о табаке
в контексте мифопоэтических представлений
о смерти
Изучение рукописных сборников, переписывавшихся и
читавшихся в крестьянской среде на Русском Севере (в том
числе и в старообрядческих районах на территории Коми
республики), показало, как широк и разнообразен по жанрам
и темам был круг литературных интересов крестьян-старооб-
рядцев, в духовной жизни которых книга всегда занимала
важнейшее место. Особенно любили они назидательное чте-
ние, в увлекательной форме объяснявшее истоки и причины
тех или иных запретов, укоренившихся в строгом быту
старообрядцев и составлявших основу старообрядческой эти-
кц. К числу таких произведений относится и Повесть о табаке,
дошедшая до нас в двух сюжетных вариантах, а также
отдельные назидательные статьи, духовные стихи и устные
предания, развивающие тему пагубного воздействия на чело-
века этого ♦ проклятого богом» зелья (1).
Распространившись в течение XVI в. по всей Европе,
табак к концу столетия достиг и России (2). Способствовали
этому прежде всего англичане. В 1553 г. в Англии образова-
лась компания, деятельность которой была нацелена на
открытие новых стран и распространение торговли. Ею была
организована экспедиция в Белое море. Возглавивший ее
75
Канцелюр, перезимовав в Архангельске, прибыл в Москву к
Ивану Грозному, который принял его очень лаского и передал
с ним послание к королеве Елизавете о своем желании
наладить торговлю с Англией. Послание возымело действие,
и Канцелюр был уполномочен королевой заключить с русским
правительством торговое соглашение, причем его компания
приобрела монопольное право на торговлю с Россией. Агенты
этой компании и занесли в Россию обычай курения табака,
однако широкое распространение он получил здесь лишь в
следующем столетии. Известный русский историк прошлого
века Н.И.Костомаров, восстанавливая по различным источ-
никам картину русского быта в XVI-XVII вв., посвятил
несколько страниц и курильщикам табака. «Были такие
охотники до табаку, что готовы были отдать за него послед-
нюю деньгу и почти всегда платили за него вдвое и втрое против
настоящей цены, потому что был запрещен. Табаком по
России торговали удалые головы, готовые рисковать и позна-
комиться с тюрьмой и кнутом, лишь бы копейку зашибить.
При продаже табаку его называли не настоящим именем, а
каким-нибудь условным названием, например, «свекольный
лист», «толченый яблочный лист». Описывает Костомаров и
сам процесс курения, несколько отличный от современного:
«Табак курили не из чубука, а из коровьего рога, посередине
которого вливалась вода и вставлялась трубка с табаком
большой величины. Дым проходил через воду. Курильщики
затягивались до того, что в два или в три приема оканчивали
большую трубку и нередко ослабевали и падали без чувств»
(3).
К середине XYII в. табакокурение на Руси приняло
такой размах, что против него объединились светские и
духовные власти. Этой вредной привычке приписывали мно-
гочисленные пожары, которые были в те времена страшным
бедствием для деревянных русских городов. В 1634 г. табак
был проклят патриархом, а затем был издан указ царя
Михаила Федоровича о том, «чтоб нигде русские люди и
иноземцы всякие табаку у себя не держали и не пили, и
табаком не торговали». Нарушителям же указа карающие
органы должны были «чинити наказанье большое без поща-
ды, под смертною казнью, и дворы их и животы имая,
продавати, а дениги имати в государеву казну». Эта политика
76
в отношении табака была продолжена и Алексеем Михайло-
вичем. В ♦Соборное уложение» 1649 г. была включена особая
статья, определявшая виды наказаний курильщикам и рас-
пространителям табака:»А которые стрельцы и гулящие и
всякие люди с табаком будут в приводе дважды или трижды:
и тех людей пытав и не одинова, и бити кнутом на козле или
по торгам; а за многие приводы таких людей пороти, ноздри
и носы резати, а после пыток и наказанья ссылати в дальние
городы, где государь укажет, чтоб на то смотря, иным не
повадно было сделать»(4).
Легализация торговли табаком и курения произошла
лишь в петровскую эпоху. Указом 1697 г. «всяких чинов
людям» дозволены были употребление и продажа табака,
который был объявлен казенной доходной статьей. Такая
политика Петра не могла не вызвать недовольства духовенст-
ва. В «Деяниях Петра Великого» И.П.Голикова описывается
любопытный пример разрешения царем одного из «табачных»
конфликтов с церковью. Вернувшись из-за границы, Петр
отдал торговлю табаком в Москве на откуп одному купцу за
15 тысяч рублей в год. Патриарх же этого откупщика со всем
его семейством отлучил от церкви. Узнав об этом, Петр повел
себя как тонкий политик и «умел уговорить патриарха к
перемене его мыслей: он представил ему, что употребление
табаку допущено в России для иностранцев, приезжающих и
живущих в ней и чего запретить им не можно, а привычка у
них к оному так велика, что если запретить его, то значит...
запретить их въезд в Россию»(5). Доводы царя возымели
действие, и патриарх снял с торговца табаком и его домочадцев
свое проклятие.
Однако запреты, снятые государством с табака, не
изменили резко негативного отношения к нему церкви. Еще
в начале XVII в. на Руси была переведена с греческого книга,
в которой табак назван «проклятым» и «богомерзким», а
употребление его - смертным грехом, лишающим человека
Божьего благословения. Эта идея впоследствии стала усилен-
но разрабатываться в церковной литературе. В одной из
рукописей, входивших в коллекцию Румянцевского музея,
Н.И.Костомаровым было найдено сочинение, объясняющее
«механизм» пагубного воздействия табака на человека и
содержащее предписание, какие церковные наказания должен
77
нести курильщик:»Который человек начнет дерзати сию
бесовскую и богоненавистную и святыми отреченную табаку,
то в того человека мозг ускрутит и вместо того мозга впадет
в главу его тая смердящая воня, изгубит в нем весь мозг его,
начнет тако смердящая тая воня пребывати во главе его, но
и во всех костех его тая смердящая воня вселится вместо
мозгов. И аще ли кий человек которым ухищрением начнет
творити таковое дело бесовское, таковому бо человеку не
подобает в церковь Божию входити и креста и Евангелия
целовати, и причастия отнюдь не давати, свещи или просфоры
или ефиману и всякого приношения, и с людьми ему не мытися
и не ясти, дондеже престанет от таковыя дерзости»(6).
Однако в народе отношение к табаку и его потребителям
было не столь категоричным и однозначным. Об этом свиде-
тельствуют прежде всего пословицы, сконцентрировавшие в
своей афористической поэтике этические и эстетические пред-
ставления народа. В большинстве из них табак и его куриль-
щики и нюхари явно осуждаются:»Испила баба табаки, да
несет, что от собаки»; «Кто курит (нюхает) табаки, тот хуже
собаки»; «Кто табак пьет да курит, тот святой дух из себя
турит». Однако наряду с таким отношением к табаку в русских
пословицах встречается и прямо противоположное: «Кто
курит (нюхает) табачок, тот Христов (царев) мужичок»; «Кто
не нюхает табаки, тот не стоит и собаки».
Иное отношение к табаку мы находим в легендах и
преданиях, объясняющих его происхождение. При всем раз-
нообразии их сюжетов, легенды эти можно разделить на
несколько групп с объединяющим центральным мотивом. В
основе большинства из них лежат древние мифологические
верования о произрастании различных трав и деревьев на
могилах добродетельных и порочных людей сообразно свойст-
вам умерших. Красивые цветы и кустарники (розы, лилии,
боярышник), согласно этим представлениям, украшают моги-
лы добрых, хороших и зачастую несчастных, гонимых людей,
а такие «дурные», некрасивые травы, как крапива или волчец
появляются на могилах скверных, порочных, злых людей (7).
В фольклоре и литературе всех европейских народов имеются
сюжеты, построенные на этом мотиве.
Появление в Европе табака - чужеродного растения,
поразившего европейцев своими наркотическими свойствами,
78
одурявшего тех, кто его употреблял, должно было получить
в народном сознании соответствующее осмысление. Почва для
этого была подготовлена древними верованиями о происхож-
дении трав, закрепленными в фольклоре и литературе. Новое
губительное «зелье», безусловно, могло соединиться в созна-
нии народа только с порочными людьми. Так, по-видимому,
зародилось первоначальное ядро легенды о табаке - мотив
произрастания его из праха грешного человека. Этот мотив в
разных вариантах мы находим в устных преданиях, как у
русского, так и у других европейских народов.
Чаще всего героиней таких преданий становится пороч-
ная женщина, т.к. нашим предкам именно женщина казалась
ближе стоящей к природным силам и более интимно с ними
связанной. Так, например, в орловской легенде, записанной
в начале века Л.И.Ивановым в с. Богодухове Орловского
уезда, рассказывается о том, что к одному острову прибило
волной труп женщины-блудницы. Позднее из желудка ее
выросла трава, которую стали курить и нюхать (8). Ярослав-
ские крестьяне-старообрядцы также считали табак «нечис-
тым» растением, так как он вырос, по их представлениям, на
могиле девки-блудницы (9).
Во многих народных поверьях о табаке рядом с образом
блудницы возникает и образ соблазнителя-черта, толкающего
человека на разведение и курение проклятого зелья. Так,
например, в станице Червленой от терских казаков была
записана следующая легенда: «Дело это было тогда, когда
народ был строгий и суровый. Одна девка согрешила, ее убили
и закопали при дороге, далеко от селения... Прошло много
времени; на могиле выросла какая-то особенная трава с
широкими листьями. Шел путник, и черт надоумил его
сорвать листик травы. Тот свернул его, зажег и ему понрави-
лось. Ему захотелось вырвать траву с корнем. Стал рвать: рыл,
рыл, и дорылся: корень-то как раз выходил из с...ля. Так вот
она откуда, эта травка-то поганая»(10).
Иногда блудница, из праха которой вырастает табак, в
народном сознании соединялась с тем или иным библейским
образом соответствующей «окраски». Так, например, кресть-
яне Екатеринославской губернии считали, что табак вырос на
могиле блудницы, «шо голову Предтеч! зияла» (11).
Реже произрастание табака связывалось в народных
79
легендах с грешниками-мужчинами. В журнале «Киевская
старина» в конце прошлого века А.Катрухиным был опубли-
кован пересказ любопытной легенды, услышанной им в вагоне
поезда от соседа «дида»(12). Окруженный пятью или шестью
случайными дорожными знакомыми, он развлекал их своими
рассказами. Поводом к пересказу истории о происхождении
табака послужила реплика одного из слушателей - молодого
парня, который, развязав кисет с табаком и сделав цигарку,
посетовал на то, что курение считается грехом, как бы
призывая спутников поговорить на эту тему. «Дид» при этом
замечании «оживился, поднял голову, обвел всех глазами и
с какой-то торжественной ноткою в голосе резко и громко
проговорил, что нет в табаке ни греха, ни спасения». Даль-
нейший рассказ призван был раскрыть смысл этого утвержде-
ния. Суть его сводилась к следующему. Единственному сыну
«царя Давыда» полюбилась служанка его матери, «така с себе
гарна,така брава, така краля, шо и не сказаты». Притворив-
шись больным, царевич добивается того, что мать посылает
девушку принести ему в комнату еды и начинает ♦ с т!ею
дивчиной женихаться». Однако служанка оказалась не робко-
го десятка и решила постоять за свою честь. Как ни уговаривал
ее царь утаить случившееся, дело дошло до суда. По его
решению царевича казнили и похоронили в степи, за городом.
Такая трагическая развязка неожиданным образом подейство-
вала на истицу: девушка внезапно затужила и стала регулярно
посещать могилу казненного соблазнителя:» упаде пластом на
ней й тужить и розлываеться..., а слезы ти с очей... так и
капотят, и льются на землю». От этих слез и выросло на той
могиле зелье, «таке гарне, зелене, высоке, та кучеряве, як
капуста».
Таким образом, согласно сюжету данной легенды, табак
вырос из почвы, соединившей в себе грех и раскаяние. А чтобы
окончательно оправдать пристрастие к табаку курильщиков,
в конце легенды вводится мотив Божественного покровитель-
ства раскаявшейся девице. Она молит Бога о том, чтобы зелье,
выросшее от ее слез, полюбили все люди на свете. Так и
случилось, - заканчивает свое повествование рассказчик и,
подводя итог, повторяет произнесенное в начале рассказа
философское резюме:»От теперь и разсудите самы, чи воно
грих, чи ни! Нема шякого а ни гриха, а ни спасешя...».
80
Попытку оправдать курение, связав его не с адом, а с
небесами, мы находим и в ряде других народных преданий. Их
объединяет мотив похорон «чертовой матери» (или «чертовой
тещи»), на которые черт приглашает любителей табака, в
надежде, что вызываемые им слезы создадут пристойную
моменту атмосферу. При этом, как правило, противопостав-
ляются два вида употребления табака: нюхание и курение.
Так, одна волынская легенда рассказывает о том, что черт,
когда умерла «чортовамати», посадил на ее могиле «зьллячко»,
а затем научил людей «те зьлля терти и нюхати», чтобы,
чихая, они поминали его мать. Однако в ход событий
вмешивается апостол Петр, который бросает людям с неба
«люльку», чтобы те «зьлля не нюхали, а курили i часто
плювали на чортову мат!р»(13). Другая украинская легенда
более детально и несколько иначе разрабатывает тот же мотив.
На поминках «чортовой матери», которые устроил «старший
чорт», после горилки, калачей и вина на стол перед гостями
был поставлен горшок с тертым табаком. Нанюхавшись его,
гости стали чихать и обливаться слезами, что весьма утешило
чертей. Как и в предыдущей легенде, в ход событий вмеши-
ваются небожители. Посредником между богом и людьми здесь
выступает «премудрый Соломон». «Убравсьа в сьв]аточне
шматье, вичесав голову, надыв чорну Кучму (меховую шапку-
ушанку)» , он отправляется «до пана Бога» и советует ему дать
людям табак и трубку, чтобы после каждой затяжки они
приговаривали:»Тьфу на чертову маму!»(14).
Интересное объяснение популярности табака дает ли-
товская легенда, согласно которой табак первоначально рос в
раю, но за горечь его оплевали другие райские растения. Чтобы
утешить табак, бог пообещал, что люди будут его держать и
почитать. Так и случилось. Но все же, добавляет легенда,
курильщики обычно сплевывают, затянувшись, так, как
табак некогда оплевали в раю(15).
Однако версия о «райском» происхождении табака не
получила широкого распространения в устной традиции.
Большинство дошедших до нас преданий так или иначе
связывают появление табака и его распространение с силами
ада. В одних случаях дьявол стоит за спиной у грешников,
толкая их на блуд и прочие прегрешения и тем самым готовя
почву для произрастания «душе пагуб но го зелья», а в других
81
- непосредственно участвует в насаждении и распространении
табака среди людей. В целом ряде легенд произошло переос-
мысление первоначального мотива «трава на могиле грешни-
ка», и грешный человек уступил место черту. Так, один из
рассказов, бытовавших на Буковине, повествует о том, как
дьявол, приняв вид монаха, поселился в монастыре св.
Василия и прожил в нем шесть лет, никем не разоблаченный.
Однако от зорких глаз св. Василия все же не ускользнуло то,
что этот монах регулярно скрывался из церкви в определенный
момент службы - «при начале Херувимской», и однажды
святой отец «запечатлел знаменем креста все входы и выходы
церкви ». Когда подошел момент дьяволу покинуть службу, он
не смог выйти из храма ни через дверь, ни через окна. Тогда
он поспешил «на верх купола, но не будучи в состоянии выйти
и здесь... вдруг пролился среди церкви, обратившись в
деготь». Тогда св. Василий повелел монахам отнести камень,
облитый дьявольским дегтем, в глубокий овраг неподалеку от
церкви.»Из этого дегтя вырос впоследствии большой тучный
бурьян, т.е. тютюн»(16).
Другая буковинская легенда рассказывает романтичес-
кую историю несчастной любви демона к некой «боярской
дочери». Согласно легенде, «два демона захотели взять себе
в жены дочь одного барина, но местный священник отказался
обвенчать ее с ними. Старший демон, рассерженный тем, что
не мог исполнить своего желания, пошел и повесился на одном
тополе. Младший демон... испугался и бросился очертя голову
в ад». Далее на сцену выходит «наибольший из демонов» -
Искариот (так народное сказание переосмыслило образ еван-
гельского Иуды, предавшего Христа!). Бросившись к мертвому
демону, он обнаруживает «множество тютюна, выросшего из
мертвого тела». Искариот посылает на землю трех своих слуг,
дабы они всюду сеяли эту демоническую траву» (17).
В других преданиях произрастанию табака способствует
лишь кровь или моча представителей бесовского племени.
Так, согласно монгольской легенде о происхождении табака,
он вырос на месте, где на землю упала кровь из утробы
дьяволицы (шимиуса) (18), а румынское предание рассказы-
вает о его произрастании из семян тыквы, предварительно
пропитанной мочой демонов(19).
В ряде легенд связь с первоначальным мотивом произ-
82
растания табака из трупа грешника уже утрачена, и проклятое
Богом зелье напрямую связывается с адом. Так, в селе
Кологривовке Саратовской губернии от одного старообрядца
была записана следующая легенда. «Когда-то давным-давно,
несколько веков тому назад, люди, заселявшие эту землю,
были великими грешниками. Потом они вдруг раскаялись, и
их Бог простил, так что на них не осталось никакого греха,
и более они не согрешили. Бесы, вознегодовавшие на это,
стали всячески делать искушения, но люди уже тому не
поддавались и продолжали жить безгрешными. Тогда Сатана
приказал своим бесам на дде ада отыскать такую траву, о
которой еще мало кто и из бесов знал, да и то только из
старших, именно табак». Далее рассказывается о том, что
посланцы Сатаны искали в аду табак «ровно три года».
Особый интерес в этой легенде представляет вторая часть,
описывающая разработанную бесами методику вовлечения
людей в греховное занятие - курение «адской» травки.
♦Сатана приказал сделать в каждом селе по лавочке. Приказ-
чиками в них были бесы, понятно, только в образе человека.
В лавках был разный табак, папиросы, трубки, спички и
бумага». Но люди вначале проходили мимо табачных лавочек,
не обращая на них внимания. Тогда «один бесенок» (по-
видимому, более всего проникший в психологию людей) подал
собратьям остроумный совет.По его подсказке «сами же бесы,
под видом православных людей, стали подходить к лавкам,
покупать сначала трубку, потом табак и спичек». На улице
они закуривали, привлекая людей к необычному своему
занятию. Тут же объявились любопытные, которые «стали у
бесов спрашивать, как и где можно эту штуку сделать». Те,
понятно, были рады, что их затея удалась, и старались
привлечь к греховному занятию как можно больше православ-
ных. «Так вот с того времени пошел табак этот, бесова трава,
пошел с ним и другой грех. Люди через это опять обратились
в грешников», - закончил свой рассказ саратовский старо-
вер(20).
Следует заметить, что именно в старообрядческой среде
сложились и получили широкое распространение, а затем и
письменное закрепление, наиболее обличительные, поражаю-
щие своим натурализмом и резкой негативной оценкой при-
страстия к табаку, легендарные сюжеты. До какой степени
83
доходила у староверов ненависть к «бесовскому зелью»,
можно судить, например, по сказке о Трофиме Безштанном,
записанной в конце прошлого века на Кавказе, в станице
Слепцовской у терских казаков (21).
По сюжету сказки, Трофим, за свою бедность прозван-
ный Безштанным, не выдержав нищенской жизни, уходит в
разбойники. Однако нажитое убийством и грабежом богатство
начинает со временем тяготить Трофима, и он раздает «все до
нитки» соседям, а сам отправляется к «ворожею-старцу»,
чтобы узнать, как отмолить грехи и попасть в царствие
небесное. Старец дает Трофиму три черных ярки и говорит:
«Паси этих ярок до тех пор, пока оне не сделаются белыми.
А как сделаются белыми, так и грех твой с души снимется».
Прошло двадцать лет, но, несмотря на молитвы и праведную
жизнь Трофима, его ярочки никак не хотели белеть. И вот
однажды «видит он около дороги, недалеко от него, остано-
вился большой обоз чумаков, возов сто. Отпрягли чумаки
волов, сварили себе кашу, поели и полегли все спать. Увидел
это Трофим и думает: «Стар я уже стал, а ярки мои не белеют.
Видно, греха своего мне не замолить. Все едино придется
умирать окаянным, так сделаю же я вот что: перебью всех этих
чумаков и овладею их добром. Грешить - так уж грешить!» Как
подумал, так и сделал - поубивал всех чумаков до единого, а
потом решил ознакомиться с содержимым их повозок. Но, к
его изумлению, «какому возу не сунется, а там табак один».
Трофим не знал, что это за трава и зачем она понадобилась
погубленным им людям да еще в таком количестве. «Рассер-
дился он, что ничем не мог поживиться, и решил сжечь весь
этот обоз. Положил он в кучу всех убитых людей, постаскал
с возов весь табак на мертвых и зажег». Когда табак и побитые
чумаки сгорели, Трофим пошел было своей дорогою, «да вдруг
видит - что вместо трех черных ярок, каких он пас, стоят
белые, белые как снег, три ярочки».
Объяснение чуду дает герою все тот же старец-ворожей:
♦Теперь с души твоей снят грех. Хоть ты и много загубил
людей на своем веку, но грех тебе простился». Основой для
прощения, оказывается, стало невольно совершенное Трофи-
мом благое дело - «ты сжег дьявольское зелье - табак. Не убей
ты чумаков и не сожги их табак, зелье это пошло бы в мир,
промеж людей и сколько бы людей осквернилось этой нечистой
84
силой, приняло бы греха на свою душу. А теперь твоя душа
чиста, и ты во много раз больше спас людей от греха, чем их
загубил».
Таким образом, мораль этой сказки утверждала, что
убийство многих людей меньший грех, чем употребление
табака.
Некоторые из рассмотренных выше легендарных моти-
вов дожили в устной традиции до наших дней. Из материалов
опроса, проведённого летом 1991 г. в селе Усть-Цильма
Т.И.Бабиковой, явствует, что глубже всего укоренилось в
народном сознании предание о блуднице, проклятой Богом, на
могиле которой выросло «пагубное зелье» - табак. Так,
например, Ирина Васильевна Носова историю появления
табака изложила следующим образом: «Жила-была блудни-
ца, которая всю жизнь свою провела в песнях, плясках.
Жители подсказывали ей вести иной образ жизни, призывали
обратиться к Богу. Однако она не слушала их и в один прекрасный
день провалилась под землю. На том месте стала расти трава,
которая влекла к себе всех: и «слабые» начали ее курить. Куривших
стали считать грешниками».
Другая устьцилемка - Анастасия Михайловна Бабикова
(д. Коровий ручей) передала легенду, нам пока еще не
встретившуюся ни в публикациях, ни в устной традиции. На
вопрос, почему старообрядцы считают чай и табак «поганы-
ми», она ответила так: «Когда Исуса распяли, все травы
поклонились, а табак и чай - нет».
Мы попытались показать развитие основных сюжетных
мотивов в легендах и преданиях о табаке. Однако «душепа-
губное» зелье, распространившееся во всей Европе, оставило
след не только в устно-поэтической традиции европейских
народов, но и в средневековой письменности. В древнерусских
рукописных сборниках XVII-XIX вв. дошло до нас несколько
разных литературных произведений, посвященных теме про-
исхождения и распространения среди людей табака. Наиболее
часто в рукописях встречается сочинение, имеющее длинное
название «Сказание от книги, глаголемыя Пандок, о храни-
тельном былии, мерзком зелии, еже есть траве табаце, откуду
бысть, и како зачатся, и разсеяся по вселенной, и всюду
бысть». Относительно источника этого сказания, обозначен-
85
но го в заглавии - «книги Пандок», можно лишь строить
предположения. Некоторые исследователи отождествляют ее
с переведенной на Руси в начале XYII в. с греческого книгой,
в которой курение изображено как смертный грех, а табак -
как проклятая богом трава(22). Однако вопрос о происхож-
дении «Сказания... о траве табаце» до сих пор остается не
решенным, так как произведение еще очень мало изучено.
Ученые прошлого и начала нынешнего столетия высказывали
две гипотезы о его возникновении. Согласно одной, оно
является переводным памятником, согласно другой - сложи-
лось самостоятельно уже на русской почве. Н.И.Костомаров,
первый издатель «Сказания» по списку, хранящемуся сейчас
в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге,
в послесловии к изданию попытался нарисовать образ пред-
полагаемого создателя повести. Возможно, пишет историк,
это был какой-то грамотей XYII в., наслушавшийся в детстве
рассказов бабушек и тетушек о разных травах, вырастающих
на могиле добрых и порочных людей, а впоследствии начитав-
шийся в рукописных сборниках переводных повестей благо-
честивого содержания. Из этой смеси впечатлений и образов
и могла выйти из-под его пера повесть о происхождении табака
(23). В этой характеристике просматривается главная особен-
ность поэтики «Сказания о траве табаце» - соединение древних
языческих верований с образностью переводных повестей,
широко распространенных в древнерусской письменности.
Что же представляет собой эта повесть как памятник
литературы? Композиционно она делится на три части:
рассказ о блудодеянии, обретение табака на могиле блудницы
и назидание курильщикам. Действие «Сказания» отнесено к
♦ апостольским временам» - начальному периоду распростра-
нения христианства, и разворачивается в «Эллинской земле»,
в граде Еладетере, во владениях некоего царя Ане пеня.
Героями повествования - жертвами губительной травы, явля-
ются многочисленные «эллины», а избавителем героев от
порока табакокурения - эллинский епископ.
Своеобразным прологом к рассказываемой легендарной
истории служит пророчество о появлении на земле табака,
возводимое автором к «Откровению Иоанна Богослова» («Фе-
олога»). Здесь в повествование вводится апокалиптический
образ блудницы Иезавели, которой Господь, согласно Откро-
86
вению (2: 20-23), дал время раскаяться, но она отвергла
покаяние и потому была проклята Богом. Затем его сменяет
образ Вавилонской блудницы, основанный на тексте 17-й
главы Апокалипсиса: «жена оболчена в порфиру и в червле-
ницу и позлащенна златом и камением дрягим, и бисером,
имущи чащу злату и руце полну мерзостей и скверн любоде-
яния, и начале ея написано тайно: «Вавилон великий*. Мати
любодейцам и мерзостем земским имать приити от бездны в
пагубу. И удивятся живущии на земли... От вина ярости ея
любодеяния напои вся языки, и купцы земсти от силы пищи
ея разбогатеша...(л.124 об.-125) (24).
Эти строки «Сказания*, позаимствованные из автори-
тетного библейского источника, служат автору основой для
перехода к теме его сочинения: «Слышите и разумейте, како
Дух Свитый назнамена о сем хранительном былии - мерском
зелии табачной траве* (л. 125).
Далее в повествование вводится главное действующее
лицо - враг рода человеческого дьявол. При этом автор
использует один из известных сюжетов Священного Писания
(более разработанный в апокрифах, нежели в канонических
книгах Нового завета) - о посещении Иисусом Христом после
смерти на кресте и погребения преисподней, где сын Божий,
сокрушив «врата медные* и «вереи железные*, повергает
своего главного антагониста, царя ада Сатану, сковывает его
цепью и изводит в рай ветхозаветных пророков. Дьявол, по
версии «Сказания*, не терпя своего посрамления, задумывает
насадить на земле «плевел*, чтобы совратить род человечес-
кий - «избранников Божиих*. Из последующего повествова-
ния становится ясно, что «плевел* этот не что иное, как табак,
прельстивший тысячи людей. История же его появления на
земле и распространения среди людей, согласно «Сказанию*,
такова.
Однажды ночью некоему «царю ельлинскому, именем
Анепсию* привиделся загадочный сон. Он увидел «деву некую
в царском одеянии*, которая вошла и воссела на его царском
престоле. Была она «лицем чермна и образом доброзрачна*.
Вокруг ее толпилось множество народа. При этом «человецы
старыя* и «мужи*, полюбовавшись на нее, вдруг начинали
трепетать, изнемогать и замертво падали у подножия трона.
Вслед за ними и «младые юноши», желая разглядеть между
87
трупами прекрасную «деву», «воз ле гше на трупы», также
взирали на нее и затем от страха умирали на месте. Вслед за
ними и младенцы «восхотеша тое деву видети», также
карабкались по трупам и, взглянув на нее, «такожде помро-
ша». В результате вокруг трона образовалась целая гора
трупов, так что сам Анепсий никак не мог разглядеть из-за них
виновницу всех этих смертей. «И ужасеся серцем, и пренеможе
духом»(л.127).
Пробудившись от страшного сна, царь Анепсий не
захотел поведать его ни царице, ни боярам. Заподозрив, что
сон этот предвещает «премногия бури», Анепсий решает
бежать из своего царства, «мало с собою пищу взя».
Три дня и три ночи шел беглец без еды и питья, «смиряя
себе постом и путешествием и трудом». В награду за его
смирение Бог посылает к нему в образе старца-монаха своего
ангела, который объясняет Анепсию значение загадочного
страшного сна: сон этот предвещдет воцарение в мире ♦ любо-
деицы», через которую получат люди «былие травное и
хранительное», начнут его «садити в садах своих и расплодят
веселия ради, и нарекут имя ей табака». А вкусив его, «будут
растлении умом», начнут «обмирати» и «трестися» - «пьян-
ства ради»(л. 128 об). Вырастет эта пагубная трава на могиле
закоренелой блудницы, историю которой ангел также поведал
царю Анепсию: «Бысть некая черноризица, именем Иезавель,
блудивши. От блуда же заченши дщерь и рождыпи, и
воспитана бысть до двоюнадесять лет. И внидет в ню сатана,
и распалит ю на блуд... и облудящися трицесять лет. И дал
ей Бог время, да покается. И видев ю Бог не покаевшуся, посла
ангела своего и повеле земли раступитися. И раступися земля
на тридесять локот и пожре ю в себя живу»(л.128-128 об.).
Далее в ход событий снова вмешивается Сатана - «любодей-
чивый демон», который «во чреве ея почерпе, в ложеснах ея,
чашу полну мерзости и скверности любодеяния и покропи на
землю над трупом блудницы тоя»(л.128 об.). Из этой-то земли, по
рассказу ангела, и вырос табак, одуряющее действие которого
и увидел в пророческом сне царь Анепсий. Наяву же губитель-
ное действие «хранительного былия» на «еллинов» царю
Анепсию (по предсказанию Божественного посланца) предсто-
яло увидеть лишь через двенадцать лет.
Успокоенный разъяснениями ангела, Анепсий возвра-
88
щается домой и в течение 12-ти лет хранит в тайне и свой сон,
и встречу с таинственным ♦ кажеником ». По прошествии же
предсказанного срока один врач по имени Тремикур, «родом
ельлин», однажды «изыде на поле врачебнаго былия искати»
и на том месте «над некоею пропастию», где когда-то ангел
Господень поразил за грехи «беззаконную блудницу», находит
ранее неизвестную ему траву. Подстрекаемый Сатаной, Треми-
кур срывает траву и нюхает ее «на прелесть будущему роду».
Аромат загадочного растения оказывает на него неожиданное
действие - врач вскоре «обвеселися, яко забыти ему вся печали
житейския». Сразу оценив удивительные свойства обретенной
травы, Трамикур выкапывает ее и сажает в своем огороде. И
с тех пор начал он «весел ходити, аки пьян». Соседи
Тремикура весьма заинтересовались источником такого посто-
янного «веселья» врача, а узнав, что опьяняет его растущая
в его «саду» трава, развели ее в своих огородах. «И обонева-
юще ноздрями своими, и пьянствовати начата». Многие же
♦ на огнь того былия полагающе и дым его цевицами вдыхаху
во уста... и инии обмирают, ови умирают, инии яко мертвы:
лицы раслаблены, умом растлены, вертящеся, безчинно ходя-
ще, пьянствующе»(л.129 об.). И вот однажды толпа таких
«вертящихся», «падающих» и «беснующихся» курильщиков
появилась перед «царевыми палатами». Анепсий стал рас-
спрашивать их: «Чесо ради сия гибель... или откуду пьянство
имати?» Ельлини же в пьянстве не признались («сказуют, яко
хлебнаго пития и секера не имеют у себя») и только под пыткой
рассказали царю источник своего «веселья» - «зелие
некое страньно », которое они получили от врача Тремику-
ра. Вызванный к царю врач на его расспросы «сказа место»,
♦ идеже сначала восприясте и корень взят того семени, того
зелия, нарицаемаго табак», и повел туда Анепсия. Когда царь
со своими приближенными пришел на то «пустое место»,
слуги по его распоряжению «ископаша... яму глубоку до
три десяти лакоть и болыпи» и на ее дне «обретоша труп
мерзок, смраден и зловонен, смердящ», от которого остались
«едины кости... главный и афендроновыя
(тазобе д ре иные)» (л. 13 0 об.).
Путем расспросов собравшихся местных жителей о
событиях 12-летней давности Анепсий уразумел, что перед
ним могила той самой блудницы, о которой поведал ему
89
«каженик », встреченный царем во время его бегства из дому,
а трава, что выросла над ее грешными останками - это
сатанинское зелье, которым лукавый «враг» задумал погубить
христиан.
Открытие это привело Анепсия к твердому решению
«прияти святое крещение». По его просьбе Тремикур отыски-
вает среди «еллинов» его царства единственную христианку,
которая и знакомит царя-язычника с основами христианского
учения, показывает ему образ распятого Христа и Богоматери,
носимый на груди и сообщает имя и место проживания
христианского епископа, который и обратил ее в Христову
веру.
Погруженный в размышления об услышанном от деви-
цы-христианки, Анепсий «успе». Во сне ему является ангел
Господень (на этот раз уже, по-видимому, в своем подлинном
ангельском обличье) и повелевает Анепсию вызвать к себе
епископа Иоиля, о котором поведала ему девица: «той пути
вся яже ко спасению тебе скажет*. А чтобы царь не
колебался, ангел признается, что это он много лет назад в
пустыне повелел ему вернуться в оставленный дворец.
Пробудившись от сна, Анепсий тотчас же посылает за
епископом. Иоиль, явившись по зову царя, в течение десяти
дней основательно знакомит его с христианским вероучением.
«И умяхчи царю сердце», так что тот «начат приимати в себе
семя Божественных словес». По завершении «теоритической
подготовки» Анепсий принял крещение под именем Алексий,
а вместе с ним крестилось и «множество князей и бояр, и
народа много...»(л.133).
Дальнейшее повествование передает пространную бес-
еду Анепсия с епископом, в которой царь, теперь уже христи-
анин, подробно пересказывает епископу все события, связан-
ные с обретением табака. Услышав этот рассказ, епископ
погружается в молитвы и постится сорок дней, после чего ему,
так же, как и Анепсию, является «ангел Господень», повеле-
вающий Иолию проклясть «плод тое травы», которую «посея
сатана... на земли над проклятою плотию», дабы от тех, кто
«тем проклятым былием по неведением обоняет», «Бог от
царства своего небеснаго отлучил, и царския пищи лишил, и
в муки лютыя вложил». А те, кто «престанет от сего вкуса и
покается», тот «малую отраду и ослабу приимет себе и между
90
раем и мукою учинен будет», но в рай все же не попадет.
Каждый же нераскаявшийся курильщик «вечный враг Богу
будет, его же имя от книг животных потребится, и связан
будет по рукам и по ногам, и вверженбудеткдияволувоад, ,
диавол же посадит его вееру кипящую»(л. 134 об.-135).
Далее в речи ангела развиваются эсхатологические
мотивы, причем источником грядущих бед человечества,
ведущих его к гибели, рисуется «проклятое» табачное «зелье»,
которое, по пророчеству ангела, прельстит множество людей:
они будут им «увиваться» и забудут о покаянии. «И отвратит
лице свое Господь праведное от них... и возненавидят друг
друга, и востанут отцы на сынов своих, а сынови имут
противитися отцем своим, и не станут слушати Божественнаго
Писания... И вознинавидят богат убога. И не престанет род
земный воеватися, и востанут язык на язык и царство на
царство, и будет всем погуба велия...»(л.135). Предвидя все
эти бедствия, Господь и «повеле сей мерский скверный и
смрадный плод прокляти».
Выполнив божественную миссию, ангел «абие невидим
бысть», а епископ собрал церковный собор и «прокля плод
той». Те эллины, что приняли вместе с Анепсием крещение,
повинуясь Божьему наказу, немедленно «искорениша» в
своих «вертоградах» проклятую траву, но осталось и много
некрещенных. Они-то, «Божию закону не повинующуся», и
развезли «по дальним странам поганым, сиречь некрещеным,
и тамо того былия расплодиша и всюды разведоша: в немцы,
в турки, в татары и черкасы». Проник табак и в христианские
страны, так что многие из христиан, подобно «поганым»,
теперь «жаждут смрада онаго и скверны смердящия вкусити,
и с погаными муку вечную себе исходатайствуют»(л. 135 об.).
И начало происходить во многих странах, говорится
далее в «Сказании», предреченное ангелом: земля начала
содрогаться и «по многим местам разседошася и провалишася
и море от предел своих изыде»(л.136).
Завершается основное повествование эпизодом еще од-
ного явления ангела Господня епископу. В речи ангела
развиваются уже звучавшие ранее назидательные мотивы и реко-
мендации епископу, как относиться к любителям табака -
живым и умершим: нельзя «телес их с верными погребати,
ниже близ святыя церкви », ни творить над ними молитвы, « ни
91
приношения за их взимати», поскольку табачники «Богу
врази, а диаволу друзи в животех своих». Тот же из них, кто
«восхощет исправитися» и «злых» адских мук избыть,
оставив греховное увлечение, «седьмолетен запрещением яко
блудник подлежит». По истечении же семи лет такого раска-
явшегося курильщика церковь уже может принять в свое
лоно, «не яко врага его имея, но яко брата, утешая любовию
и приветом сердъца» (л. 136 об.).
На этом в ряде списков «Сказание» и заканчивается.
Однако во многих других списках к пересказанному выше
сюжету добавлен еще один, действие которого отнесено к более
позднему времени по сравнению с историей, в которой участво-
вали царь Анепсий, врач Тремикур и епископ Иоиль. В этом
эпизоде действуют и другие герои: некая «недужная девица»
Фекла и пресвятая Богородица, которая является Фекле на
«Красной горе», исцеляет ее, а затем поручает ей идти в мир
и возвещать людям « повеление Божие», в котором наряду с
требованием почитания господних праздников и воскресных
дней, приношения пожертвований церкви звучит и запрет на
«питие» табака, при этом последствиям курения придается
«космический» масштаб: «Егда кто его (табак) испиет, в то
время земля дрогнет. Богородица вострепещет у Божия пре-
стола, свято небо колыбнется» (л. 137). В наставлениях
Богородицы, обращенных к Фекле, повторяются эсхатологи-
ческие мотивы, которыми насыщены последние страницы
основного текста «Сказания»: «Уже бо Божий мечь на выи
изъостристе, хощет вас посеши внезапу. Жены ваши и чада
в плен пойдут и гладом помрут и в поганыя земли за
оскверненное ваше питие разсеяно будет. Поля ваша запус-
теют, и жита родить не станут... Красота сел ваших опустеет,
и от страха погибнете! (л. 137 об.-138). Заканчивает Богоро-
дица свою речь призывом ко всем христианам «творити»
любовь, «хранить» посты, каяться в грехах, регулярно
посещать церковь - «уже бо страшный суд готовится», после
чего «невидима бысть». «Девица же Фекла в последнем роде
на пропитание православным христианом предашася»(л.138).
Ученые предполагают, что этот последний эпизод более
позднего происхождения, чем весь остальной текст повести.
Он, по выражению В.Н.Перетца, «явственно не вяжется с
общей композицией рассказа» (25). По мнению другого
92
исследователя «Сказания» - А.Н.Веселовского, эпизод о
явлении Богородицы недужной Фекле представляет собой
попытку «местного прурочения чуда с запрещеним табака»,
ведь действие в нем переносится из греческой обстановки на
Красную гору, которая может быть соотнесена с Красной
горой, упоминаемой в чуде («На обличение инем человекам,
пиющим носом проклятую траву святыми отцами зовомой
табак»), входящем в известную Повесть о чудесах от нерукот-
ворного образа в Устюжской области на Красной горе (26).
Что же касается основного текста «Сказания», то в его
сюжете, как мы постарались показать в подробном пересказе,
легендарный мотив о блуднице, из тела которой произрос
табак, получил чисто книжную обработку, при этом состави-
тель «Сказания» соединил в своем повествовании традицион-
ные литературные приемы разных жанров - агиографии, с ее
чудесами и видениями, апокрифических и эсхатологических
сочинений, переводных повестей (27).
***
1. В нескольких списках «Повесть о табаке» известна
и на европейском Северо-Востоке. Так, о печорских списках
см.: Малышев В.И. Сведения о собраниях рукописей и
старопечатных книг в некоторых городах северных областей
// ТОДРЛ. Л.,1940. Т.4. С.247-253; Он же. Отчет о коман-
дировке в село Усть-Цильму Коми АССР // Там же. М.;
Л.,1949. Т.7. С.469-480. Один из списков был выявлен нами
в собрании Коми республиканского историко-краеведческого
музея (шифр Р-49) и подготовлен к публикации.
2. Сведения о распространении табака в Европе подроб-
но изложены в книге: Рагозин Е.И. История табака и система
налога на него в Европе и Америке. Спб.,1871.
3. Костомаров Н.И. Очерк домашней жизни и нравов
великорусского народа в XYI и XYII столетиях. Спб.,1860.
С.145.
4. Соборное уложения царя Алексея Михайловича 1649
г./ Под ред. К.А.Софроненко. М.,1957. Гл. 25. Ст.16. С.448.
5. Голиков И.П. Деяния Петра Великого. 2-е изд.
М.,1843. Т.15. С.34.
6. Костомаров Н.И. Очерк домашней жизни... С.145.
93
7. Перетц В.Н. Отчет об экскурсии семинария русской
филологии в Киев 30 мая -10 июля 1915 г. Киев, 1916. С.129.
8. Иванов А.И. Верования крестьян Орловской губернии
// Этнографическое обозрение. М.,1900. Т.47. N 4. С. 118.
9. Балов А.В. Очерки Пошехонья. Гл.8: Пища и питье
// Этнографическое обозрение. М.,1899. Т.40-41. N 1-2.
С.223.
10. Малявкин Г. Станица Червленая Кизлярского отде-
ла Терской области // Этнографическое обозрение. М.,1891.
Т.10. N 3. С.58-59.
11. Драгоманов М.П. Малорусские предания и расска-
зы. Киев, 1876. С.13.
12. Катрухин А. Рассказы о происхождении табаку //
Киевская старина. 1890. Т.30. N 8. С.326-329.
13. Звщки взявся тютюн? (народная легенда) // Рада.
Киев,1908. N 212. 17 сент.
14. Табака и тютюн // Жите I слово: Вютник л!тератури,
1стори I фольклору. Льв1в, 1895. С.374-375.
15. Приложение к отчету А.Л.Погодина о поездке в
Ковенскую губернию летом 1893г.: О табаке (Записано от
Ивана Чепурова) // Живая старина. 1894. Вып. 2. С.257.
16. Веселовский А.Н. Разыскания в области русских
духовных стихов. СПб., 1883. С.88-89.
17. Там же. С.88.
18. В.В. Этнографические мелочи из жизни монголов. II:
Табак // Живая старина. 1910. Вып. 1-2. С.175.
19. Веселовский А.Н. Разыскания в области русских
духовных стихов. С.86-88.
20. К легендам и поверьям о табаке: I. Откуда взялся
табак? (Сооб. П.М.Сухов) // Этнографическое обозрение.
1898. Кн.36. N 1. С.156.
21. Семенов П. Несколько страничек из жизни казаков
станицы Слепцовской Сунженского отдела Терской области
(Сказки про табак) // Сб. мат-лов для описания местностей
и племен Кавказа. Тифлис, 1893. Вып. 16. С. 198-203.
22. Львов Д.М. Легенда о происхождении табака // Изв.
Общества археологии, истории и этнографии. Казань, 1898.
Т.14. Вып. 6. С. 594.
23. Костомаров Н.И. Легенда о происхождении табака
(импер. публ. библиотеки, собрание Погодина, N 1364) //
94
Пам-ки старинной русской литературы, издаваемые
Г.Кушелевым-Безбородко / Под ред. Н.Костомарова. СПб.,
1860. Вып. 2. Сказания, легенды, повести, сказки и притчи.
С. 435.
24. Здесь и далее текст «Сказания» цитируется по
списку КРИКМ (р-49). Курсивом выделены слова, исправлен-
ные по изданию Н.И.Костомарова в ПСРЛ.
25. Перетц В.Н. Отчет об экскурсии семинария русской
филологии в Киев 30 мая - 10 июня 1915 г. С.130.
26. Там же. С.131.
27. В рукописном отделе Библиотеки Академии наук
Украины хранится список повести, в основе которого лежит
все тот же народный сюжет о происхождении табака из трупа
блудницы, но, по мнению В.Н.Перетца, испытавший значи-
тельно меньше литературных влияний. См.: Сб. старообряд-
ческих сочинений пер. пол. XVIII в. КДА Аа. 117. Издание
текста повести о табаке по этому списку: Перетц В.Н. Отчет
об экскурсии семинария русской филологии в Киев... 1915.
С. 149-152. Непосредственное обращение к тексту этого спис-
ка выявляет ряд дополнительных контаминаций с индо-
иранскими мифопоэтическими представлениями. Так, в тек-
сте описывается девица, зачавшая от пса, будучи в затворе,
и из «срама» которой после ее удавления произрос табак.
В.Велинова
Болгария
Семиотический анализ «слов» Климента
Охридского (к вопросу о понимании термина
«смерть» в раннесредневековой
болгарской литературе)
Рэй Бредбери назвал одну из своих последних книг
«Смерть - это занятие одинокое». Такое название вполне
отвечает миропониманию современного человека, растерянно-
го дитя концаXX в., для которого мгновение смерти является
95
самым конечным пунктом его жизненного пути, рубежом, за
которым он не находит никого и ничего, кроме своего
одиночества и ощущения собственной ничтожности по срав-
нению с окружающим миром. Одним словом, для нашего
современника смерть - это конец всего. Не надо забывать об
этом, если мы хотим точнее понять мир человека средневековья,
для которого все проявляется как раз наоборот - смерть
становится начальным моментом бытия; она является момен-
том ритуальным и никакого одиночества в ней нет, поскольку
личность, дух человеческий впервые может прямо общаться
с богом.
Христианская религия выработала очень четко и де-
тально свою эсхатологию (1), придавая ей не столько оценоч-
ную, сколько нравственно-дидактическую глубину. Критери-
ем бытия человека после смерти является его нравственная
сущность в земном бытии. Поэтому формируется совершенно
иное представление о смерти.
Среди болгарских книжников раннего средневекового
периода (кон. IX - нач. X вв.) самым оригинальным является
Климент Охридский. Он первым затронул главные вопросы
христианской философии и эсхатологии и оказал большое
влияние на формирование основных категорий средневековой
культуры болгарского государства. В его «Словах» всегда
присутствует полемический момент - изобличение языческой
древности. И это вполне понятно - аудитория Климента
состояла из новообращенных христиан. И поэтому вызывают
интерес способы, с помощью которых он вырабатывает новую
ценностную систему - христианскую. Выбранные мною «Сло-
ва» Климента - «Слово о Святой Троице, о Сотворении мира
и об Апокалипсисе», «Слово похвальное Иоанну Крестите-
лю», «Слово о Творении Божии, о смертной кончине и о
покаянии» - связаны с самыми главными категориями хрис-
тианской религиозной жизни. На основе текстуального ана-
лиза этих произведений я постараюсь выявить важнейшие
смысловые центры и сделать из них семиотическую модель
понятия «смерть» - поскольку для средневековья оно являет-
ся важнейшей категорией жизни. Пусть это не прозвучит
парадоксально, но стоит вспомнить латинское выражение
«Memento тоге», принятое как официальное приветствие
внутри некоторых монашеских орденов, чтобы почувствовать
96
специфическую атмосферу средневековой духовной жизни.
Ведь для нее жизнь - лишь тень, а смерть - наоборот, стоит
выше жизни.
Итак, приступая к анализу вышеназванных «Слов»
Климента, сделаем оговорку, что нас будут интересовать
только те части текста, где рассматривается тема смерти. Не
будем затрагивать проблему цитат из Священных книг,
поскольку семиотическая модель интересуется прежде всего
индивидуальными словесными знаками, выработанными ав-
тором. Поэтому всегда указываются те места, где Климент
воспользовался библейскими текстами. Их присутствие в
авторском тексте является знаком другого порядка - элемен-
том взаимодействия текста с его непосредственным контекс-
том. Вот почему я постараюсь выделить авторские словесные
знаки - они дают информацию об индивидуальном, специфи-
ческом в понимании универсальных категорий жизни. Все
выбранные мною тексты Климента являются богослужебны-
ми, что дает основание в конце статьи сделать некоторые
выводы о процессе культурного семиозиса.
Начиная анализ со «Слова о Святой Троице, о Сотворе-
нии мира и об Апокалипсисе» (далее - ССТ), отмечу, что все
три «Слова» Климента - проповеди нравственного богословия
(2). Этот факт свидетельствует о том, что христианизация
(принятие новой религии) началась с нравственного воспита-
ния индивида, а философская экзегеза была сформирована
гораздо позже.
Итак, ССТ состоит из нескольких основных смысловых
частей: о Святой Троице, о Сотворении, о грехопадении, об
очищении в день Апокалипсиса. В этой последовательности
данные понятия показывают верующему человеку всю хрис-
тианскую историю: от возникновения бытия до его конца.
Первая часть (о Св. Троице) - самая большая по объему
в тексте. Автор предлагает обширное толкование центрально-
го понятия христианства. «В этих трех лицах Бог является
неделимым, одною властью, одной силой охватывая все.
Одинаковой властью обладают все три лика: поэтому, говоря
Бог, я понимаю и Отца, и Сына, и Святого Духа». Понятие
сущности Св. Троицы позволяет автору создать первый
уровень в семантике целого: это уровень всех понятий,
связанных с небесной жизнью. В таком порядке Климент
97
расставляет воинство небесное и ипостаси, т.е. образы Св.
Троицы. Итак, вся первая часть «Слова» принадлежит небес-
ному и раскрывает высший смысл христианской космогонии
и космологии. И, словно в зеркальной композиции, последняя
часть «Слова» тоже затрагивает проблему высшего божьего
промысла, реализованного в Апокалипсисе.Там подробно
описывается Второе пришествие Сына человеческого для суда
над живыми и мертвыми и воздаяния каждому соответственно
его делам. «Воистине придет Господь как молния в неизречен-
ной славе и перед Ним пойдут множество ангелов. Небо
потрясется, земля потрясется, звезды упадут, водные источ-
ники высохнут, солнце потемнеет...». Вот такая космическая
катастрофа будет началом очищения всего человеческого рода.
Таким образом, первая и последняя части ССТ составляют
своеобразную семантическую рамку. Она определяет первый
смысловой уровень текста - это уровень, где совмещаются все
идеальные понятия христианской философии. Поэтому в
целом текст существует как бы в контексте небесного совер-
шенства и божественной вечности.
Во второй части ССТ Климент вводит новую тему - о
сотворении мира Господом Богом. Следуя библейскому расска-
зу, он ничего не прибавляет, а лишь создает образ Эдема,
Земного рая, покинутого человеком из-за грехопадения. Пос-
леднее является своеобразным рубежом на семантическом
уровне - если до грехопадения речь шла о вещах небесных, то
с этого момента говорится уже о земной греховной жизни
человека. Вот почему грехопадение Адама и Евы представля-
ется Климентом как прообраз смерти человека. Ведь прароди-
тели человеческого рода умерли для блаженной райской жизни
и подверглись тлению и страданию.
Данными фрагментами «Слова» и семантическими цен-
трами Климент как бы подготавливает свою аудиторию
воспринять самое главное - почему Бог послал человеку
смерть, и как должен человек вести себя, чтобы достойно
умереть. Развивая далее свою идею, автор снижает смысловой
уровень - он переходит к житейским проявлениям Святой
Троицы.
Для человека, временного и тленного, самое главное
проявление могущества Бога двояко - это закон и благодать.
Оба понятия подчинены идее смерти: несмотря на то, что
98
они являются отрицанием конца тленного, автор доказывает,
что этим сам Бог захотел помочь своему творению: «Господь
Бог наш милости своей ради больше не мог смотреть на падение
человеческого рода. Поэтому он послал ему Закон как дар
небесный: наконец-то Сам Господь милосердный и человеко-
любивый не смог смотреть на свое творение, которое стало
покорно злым бесам, сошел с неба и подарил нам благодать».
Так Климент намечает основные способы спасения души и
только тогда подходит к центральному понятию - грехопаде-
ние как смерть на земле, как конец человеческой жизни. Но
в указанном выше контексте смерть является уже только
моментом проверки нравственности, после которого наступит
вечная и истинная жизнь для праведных. Иными словами,
Климент как бы нейтрализует страх смерти и показывает
человеку возможность преодолеть его. Центральным в ССТ
является понятие о грехопадении как о смерти на земле,
соответствующее грехопадению праотцов. Так вырабатывает-
ся первый словесный знак - «грех/смерть» - в контексте
проповеди. «Мертвыми надо считать грешных, которые про-
винились и поэтому должны мучаться».
Возникает вопрос, каким же образом спастись? Рассмот-
рим новую пару понятий, на первый взгляд лежущую вне этого
семантического круга, - крещение и покаяние. Однако в
глубинной смысловой структуре слова они занимают точно
определенное место. Так как закон и благодать воспринима-
ются как проявления Св.Троицы на спасение человеческого
рода, то крещение и покаяние становятся самыми важными
актами в жизни человека, с помощью которых он сопротив-
ляется «греху/смерти» (3). Крещение при рождении и пока-
яние при смерти рамкируют праведную жизнь, которая одна
может победить смерть. И тогда человека ожидает и очищение
в день Страшного суда. Теперь вспомним первый семантичес-
кий уровень - рамку, которую выработал Климент: Святая
Троица и сакральное мгновение Сотворения, с одной стороны,
и Апокалипсис, Страшный суд, вместе с очищением - с другой.
В контексте этого первого плана и понятие очищения моди-
фицирует свой смысл: оно соответствует повторному сотворе-
нию человека праведного, который воскреснет для вечной
жизни на небе. Автор указывает на это с помощью метафор и
цитат из Евангелия. Здесь словесным знаком является цита
99
та, что объясняется важностью самого акта повторного
сотворения. Ведь это и есть преодоление смерти: «грехопаде-
ние/смерть» уступает праведному человеку, и он «возрожда-
ется / сотворяется снова». Таким образом, в конце «Слова»
автор возвращается к изначальному смысловому плану, но
уже тогда, когда он прошел весь путь земного несовершенства.
Вот почему и вся глубинная семантическая структура
«Слова» не касается просто «сюжетных единиц», а тяготеет
к своему смысловому центру, к важнейшему знаку, вырабо-
танному Климентом - «грехопадение / смерть». Так само
понятие «смерть» является средоточием всех христианских
универсалий и в семиотическом плане может быть знаком
каждой из них, в зависимости от контекста.
Все смысловые и внутритекстовые связи, формирующие
семиотическое понятие «смерть», выглядяттак, как показано
на рис. 1.
Рис.1
Хорошо видно, что главным стал смысловой центр
«грехопадение/смерть», причем взаимозаменяемость словес-
ных компонентов эксплицируется в тексте: «Мертвыми надо
считать грешных». Смерть как понятие получает целый ряд
новых дополнительных значений - оно становится знаком
других понятий, т.е. вырабатывается его семиотический ряд.
Теперь придется остановиться более подробно на поня-
тии «крещение» - не столько потому, что оно признано
религией таинством, а потому, что крещение - это сознатель-
ный акт выбора, знак принадлежности к христианской рели-
100
гии. Если человек не примет крещения, то он становится вне
тех людей, которые идут путем спасения (4).
Теме крещения Климент посвятил «Слово похвальное
Иоанну Крестителю» (далее - СПИК). Оно отличается от
обычной для Климента модели похвального слова. Автор
подчеркнул экзегетический момент, поскольку хорошо пони-
мал важность толковавшегося в нем понятия. Кроме того,
сама фигура Иоанна Крестителя, стоящая на рубеже между
Ветхим и Новым заветами, полна смысловых нюансов.
В начале произведения словесный знак задается при
помощи евангельской цитаты: «Исус пришел из Галилеи в
Иордан к Иоанну, чтобы тот его крестил» (Мт. 3:13). Все
СПИК находится в зависимости от этого библейского эпизода
и сакрального смысла крещения. Автор показывает первооб-
раз крещения, чтобы подчеркнуть значение подобного акта в
жизни христианина. При конкретном толковании «Слова»
сразу выделяются две семиотические пары: «Первая жизнь -
это жизнь человека в раю, откуда был изгнан наш праотец
Адам. Он, ставши смертным, родил нас в скорби, а мы
подверглись тлению. А воскресение - это баня «пакибытийс-
кая», крещение пресвятое, которым сам Господь Бог нас
обновляет и мы становимся участниками в Его славе нетлен-
ной, если сохраним крещение свое чистым». В этом отрывке
текста сразу выделяются слова-знаки. И их организация
опять тяготеет к смысловому центру «грехопадения/смерти»,
который в данном случае является имплицитным: Адам стал
смертным после «выпадения» из рая, т.е. после грехопадения.
Так «грехопадение/смерть» снова становится организующим
центром. А крещение как понятие входит в пару «крещение/
воскресение». Обе пары являются антимоническими: грехопа-
дение - условие смерти, крещение - условие воскресения, т.е.
отрицание смерти. В СПИК автор создал своеобразный анти-
знак, вернее, отрицательный знак, подчеркивая таким обра-
зом внутреннюю напряженность всей христианской эсхатоло-
гии. В ней всегда «смерть/грехопадение» преодолевается
«воскресением/крещением/очищением/покаянием». По силе
антиномичности в семиотических парах СПИК понятие
«смерть» является средоточием смысла.
Интересно, что и фигура Иоанна Крестителя подчинена
крещению, несмотря на то, что «Слово» посвящено ему. И это
101
тоже получает свое объяснение в контексте богословского
смысла образа Крестителя. Он является связующим звеном
между Ветхим и Новым заветом - он пророк (в ветхозаветной
традиции), но и креститель (в новозаветной). В некотором
смысле он стоит даже выше самого Иисуса, и, следовательно,
крещение есть самое главное в жизни каждого христианина.
♦Он (Иоанн - В.В.) трояк: пророк, предтеча, креститель.
В жизни он ни с кем не сравним, но только уподобился
ангелам, самым высшим ангелам, потому что он единствен-
ный, совершив страшное таинство Божественного промысла
и приступив трепетно к Неприступному, коснулся Его головы,
говоря: «Я должен креститься от Тебя, а ты пришел ко мне?»
А Господь сказал ему: «Если Я не крещусь от тебя, то никогда
земной царь не крестится от убогого священника. Я пришел,
чтобы дать пример своему созданию, которое, идя по Моим
стопам, войдет в Горний Иерусалим».
Для Климента крещение является не только христиан-
ским таинством, но и важнейшей его миссионерской судьбой,
так как он был епископом Охридской архиепископии, где
языческие традиции оставались живыми долго после приня-
тия христианства. И отголоски той языческой среды мы
находим в СПИК - описание бесовских песен, плясок нагими,
сыроядения (5). Но мы не станем рассматривать данный нюанс
борьбы христианства с язычеством, поскольку крещение
всегда является актом индивидуального выбора для каждого.
Вот почему и семиотическая модель СПИК выглядит
проще, чем в ССТ. Ведь в СПИК семиотическому анализу
подверглись лишь те отрывки, в которых есть связь с нашей
центральной темой (см. рис. 2).
покаяние (4)
102
В этой семиотической модели «грехопадение/смерть»
является отрицательным знаком, поскольку все связанные с
ним понятия отрицают и преодолевают его. Но, как было
сказано выше, это является результатом внутренней антино-
мичности христианской философии. И если в ССТ Климент
смог построить последовательную сюжетную линию, то в
СПИК это не удалось, и автор был вынужден обнаружить
антиномическую пару (6).
Третье «Слово о Творении Божии, о смертной кончине
и о покаянии» (далее - СТБ) еще в предисловии эксплицирует
свой смысловой центр. Но и здесь, как и в предыдущих
произведениях, вырабатывается новый знак, стоящий в цен-
тре семиотической модели.
«Слово» начинается библейским рассказом о сотворе-
нии мира и о человеческом бытии в Эдеме. Этот сюжет хорошо
знаком, но если в ССТ основным мотивом было представление
Святой Троицы, то в СТБ - это мотив о вечном, нетленном,
небесном блаженстве. И второе - падение Адама в СТБ
представляется не как знакомый нам уже знак «грехопадение/
смерть», а как сама смерть, кончина тленного, маловремен-
ного, земного. «Но мы (люди - В.В.) предпочли древо, несущее
смерть, и не захотели сохранить древо жизни. За эту провин-
ность смерть вошла в нас, удаляя тело от души, ведя людей
к покаянию». Знакомые нам понятия - «смерть», «покаяние»
- предстают здесь в новом свете - покаяние является резуль-
татом мысли и смерти. Вот почему в СТБ на первый план
выступает новый смысловой центр - покаяние. Оно, кажется,
организует всю глубинную смысловую структуру «Слова»,
поскольку все время речь идет о нем. Во-первых, покаяние -
это самый важный акт человека перед окончанием его земной
жизни: « Бог укрыл от нас смертный час, чтобы всегда мы были
готовы к покаянию». Во-вторых - воскресение после смерти
возможно лишь при соблюдении обета покаяния. «Все мы в
одно мгновении воскреснем для суда над нами о совершенных
грехах. А покаяться, значит: бояться зла, оросить слезами
грехи свои, забыть зло». Итак, основная часть текста СТБ
посвящена покаянию. Но существует и второй уровень воспри-
ятия текста, ключ к которому дает автор еще в начале: «Если
человек умрет без покаяния, зачем тогда он родился? » Смерть
представлена рядом с покаянием, словно две стороны одного
103
листа. Смерть требует покаяния, покаяние совершается толь-
ко перед лицом Смерти. И сразу внутренний смысл «Слова»
попадает в зависимость от этого нового контекста - «смерть/
покаяние». И если вспомнить, что библейский рассказ о
райской жизни человека имплицирует и тему «грехопадение/
смерть» (ср. в СТБ «... мы предпочли древо, несущее смерть
и не захотели сохранить древо жизни»), то мы получим целый
семиотический ряд понятий о смерти: «смерть/грехопадение/
покаяние».
Ниже приводится схема смысловых уровней в СТБ (ср.
ее с рис.1):
Божие творение (1)
грехопадние/смер^ть/^каяние^(2)^^
смерть ____> покаяние
воскресение^ покаяние
вечная слава^>смирение
Рис. 3
Итак, после текстуального анализа «Слов» и сопостав-
ления семиотических моделей каждого из них можно обоб-
щить семиотические представления о смерти в раннесредневе-
ковой болгарской культуре. Составляя данную абстрактную
семиотическую модель, я выбрала центральным то понятие,
которое неизменно присутствует во всех трех произведениях
Климента и подчиняет себе смысловые уровни текста: «грехо-
падение/смерть/покаяние». Несмотря на различные вариан-
ты, главным является смерть, конец земного, тленного. Все
остальные понятия соотносятся с этим словом. Смерть явля-
ется универсальным знаком средневековой культуры, В ней
содержатся все проанализированные нами дополнительные
понятия. Вот схема семиотической модели понятий о смерти:
104
И, наконец, покажем более наглядно, что представление
о смерти как о всеобщей универсалии характерно для всего
средневекового общества периода IX-X вв. Постараемся объ-
яснить это при помощи иконографического материала Охрид-
ской церкви Св.Богородицы Периблепта, где сохранились
ранние иконографические схемы времен Климента.
Одно из изображений посвящено Архангелу Михаилу.
Как изЬестно, он считается проводником мертвых душ и в
иконографии XIII-XIV вв., всегда изображается у головы
умершего, вытаскивающим душу изо рта человека. Но,
оказывается, это позднее явление. В рассматриваемой мною
иконографической схеме Архангел изображен как владелец
неба, как царь, т.е. он приближается в Иисусу. В руках у
Архангела скипетр, на голове корона. Этими царскими атри-
бутами подчеркивается его место в небесной иерархии - это
более ранняя иерархия, которая стоит ближе к иудейской
традиции. Архангел Михаил уподобляется Христу Пантокра-
тору, т.е. символическому образу небесного царя. Этот факт
дает нам основание считать, что в ранней болгарской иконог-
рафии владелец душ умерших считался как бы равным самому
Царю Небесному, отсюда и большое внимание теме смерти.
Ранняя средневековая литургическая практика стремилась к
упорядочению слова и образа, чтоб сделать возможным их
синкретическое восприятие или, согласно неоплатонической
эстетической доктрине - объединить чувственное и духовное.
Итак, имея в виду раннее происхождение приведенного
материала (X в.), можно сказать, что в данной неофитской
эпохе основные христианские категории воспринимались на-
глядно и комплексно: слово вместе с росписями, с храмовым
пространством, с культовым действием. Позже эта связь
105
ослабевает, так как развитие художественного языка способ-
ствовало отделению слов от образов.
***
1. В ранний период развития христианства в Болгарском
государстве (X в.) богословское освещение проблемы смерти
касалось прежде всего так называемой большой эсхатологии,
т.е. Страшного суда, ожидающего воскресший человеческий
род. Видимо, здесь сказалось влияние еще нерасчлененного
сознания языческого коллектива. Малую же эсхатологию мы
обнаруживаем лишь в одном - в покаянии перед смертью. (Ср.:
Доннини А. У истоков христианства / Пер. с итал. М., 1979;
Миркови Л. Православна литургика. Београд, 1966).
2. Все тексты приводятся по изданию: Охридски Кл.
Събрани съчинения: В 3 т. Т. 1. София, 1971; Т. II. София,
1976; Т. III. София, 1972.
3. Иоанн Предтеча и Кръстител / Изд. Т. Поптодоров.
София, 1937.
4. Так, например, Василий Великий говорите крещении
и о буквальном материальном принятии божественной благо-
дати: «Креститься - значит исполниться благодатью бо-
жией.. ., а исполниться божией благодатью - значит тело свое,
члены свои, душу свою исполнить благодатью божией».
5. Добрев Ив. Бил ли е Климент епископ на Драговощи-
на? // Старобългарска литература. София, 1964. Кн. 14. В
этой статье подробно объясняется, какими были остатки
языческой древности в тех областях, где проповедовал Кли-
мент Охридский.
6. Внутренняя логика текста отразилась и на компози-
ции произведений. В первом случае, когда сюжетная линия
последовательная, знак тоже является началом семиотичес-
кого ряда (ССТ). А во втором случае, когда композиция
нарушилась, мы видим как будто две самостоятельные смыс-
ловые части (СПИК).
106
Н М. Теребихин
Архангельск
Мифология островной культуры
Русского Севера
В религиозно-мифологических представлениях многих
народов мира остров как элемент сакральной географии
наделялся хтонической семантикой и связывался с топогра-
фией мира мертвых. Поэтому остров занимал важное место в
пространственной организации погребального ритуала, яв-
лялся конечной точкой путешествия души умершего человека
в загробное царство. Мифологический образ острова мертвых
нашел реальное отражение в археологических древностях
Европейского Севера (неолитический могильник на Южном
Оленьем острове Онежского озера; средневековые саамские
погребальные комплексы на Кузовах, Кемских, Соловецких
островах Белого моря и т.д.). Традиция погребения умерших
на острове сохранялась у карел до недавнего времени (1).
Островные могильники функционировали не изолирова-
но, но вместе с другими культовыми объектами (лабиринтами,
сейдами и т.п.) входили в состав святилища, топография
которого превращала остров в сакральный центр «иного
мира». Восприятие острова как сакрального центра иного
мира ярко проявляется и в севернорусских преданиях о чуди.
В Пудожском уезде на Водлозере «до сих пор показывают на
Кинг-остров, на котором, по преданию, были уничтожены
остатки разбитой Чуди, спасшейся на этот остров: тут и легла
вся Чудь. Этот остров считался священным: он порос лесом и
рубить этот лес считалось греховным и опасным (2). В
пудожском предании мы встречаем практически весь набор
семантических мотивов, связанных с образом острова. Остров
как элемент сакральной географии соотносится с центром
иного мира в его хтонической (остров мертвых) и этнической
(чудской остров) ипостасях. С островом связан мотив «борь-
бы/поединка» хаотического (чудского) начала с мироустрои-
тельным движением славяно-русской колонизации. В северно-
русских преданиях раскрывается хтонический образ острова
как места, где обитают иноземцы, разбойники и змеи. Связь
острова с иноэтничной средой прослеживается в топонимичес-
107
кой легенде о происхождении названия острова «Немецкий
Кузов», где отмечено большое скопление саамских сейдов,
которых поморы называли «окаменевшими немцами». Ста-
ринное поморское предание повествует, что когда-то очень
давно «немецкие люди» (шведы) хотели напасть и разграбить
Соловецкий монастырь. В море, на полпути к Соловкам, их
настигла буря, и враги вынуждены были высадиться на одном
из Кузовых островов... Но Бог «покарал» их в тот самый
момент, когда они сидели вокруг костра, и превратил их в
камень» (3). Мифологический мотив борьбы с существами
хтонической, иноземной природы явно звучит и в поморском
топонимическом предании о происхождений названия «Ани-
киев остров» на Мурмане. Это предание рассказывает «о
заморском Анике-воине, пришедшем из-за моря, чтобы «об-
латынить святую веру», и встретившем на Руси свою смерть»
(4). В другом варианте предания «Аника - датский воин -
великан, захвативший островок и отбирающий у русских
промышленников часть их улова. Страдающие от несправед-
ливых поборов поморы мечтают избавиться от Аники, однако
долго не находится смельчака, который решился бы вступить
в единоборство с иноземным великаном. Но вот явился юный
помор, наживочник и, схватившись с Аникой, побеждает
его». Образ Аники-воина соединяет в себе черты иноземца и
разбойника - мотив, характерный для ладожского предания
о разбойнике Ондрусе и преподобном Андреяне: «На острове
Сало, который лежит против монастыря и в малую воду почти
соединяется с материком, жил прежде разбойник Ондрус,
финн и лютеранин, который грабил суда, ходившие с хлебом
по озеру» (5). Подобные же предания, в которых действующи-
ми лицами являются, правда, уже «свои» разбойники, извес-
тны в Поморье: «Были три брата: Колга - на Соловецких
островах, Жижга - на Жижгине, Кончак - здесь, по ему будто
бы наволок назван. В одном котле варили - котел друг дружке
через море перекидывали; одной ложкой ели - Колга Жижге
передавал, Жижга - Кончаку; одним топором рубили дрова -
топор через море перекидывали» (6). Впоследствии, Колга,
который грабил проходившие суда, был наказан Святителем
Николаем. «Будто бы прошел Миколай-святитель поваром на
морском судне. Колга подтянул - судно подошло: он стал рыбу
брать - Мико лай из кубрика вышел. - Рыбу тебе не следует
108
брать, разве твоя тут доля есть? А он - тебе дела нету. Миколай
его ключкой хлопнул по голове - и пар вышел» (7). Вероятно,
именно эта связь острова с хтонической (воровской, разбой-
ной) стихией объясняет происхождение одного из наиболее
устойчивых топосов русского фольклора - обраэ острова
Буяна, этимология которого указывает не только на «безгра-
ничность» моря-океана, но и на «пограничность» самого
острова, поскольку в северных говорах «буй» означает рубеж,
межу, границу. Приведенная топонимическая легенда, объяс-
няющая происхождение названия островов Белого моря,
интересна еще и тем, как поморы воспринимали своего
небесного ангела-хранителя Св.Николая. Для них он - Мико-
лай - святитель, свой, русский «запазушный» Бог, который
может быть обыкновенным помором и исправно нести службу
на камбузе.
К циклу преданий об этиологии островной топонимики
примыкают предания, основанные на змееборческих мотивах:
♦ В Кандалакшской губе есть группа каменистых островов,
называемых Робьяками. На одном из этих Робьяков жил
некогда страшный змей, наводивший ужас на береговых
жителей. Но, подобно всем злодеям, притеснявшим поморов,
он тоже погиб от руки человека, неизвестно откуда пришед-
шего и куда исчезнувшего. До сих пор на островке том туземцы
показывают большой четвероугольный камень с отверстием в
средине, под которым начинается глубокая пещера, служив-
шая жилищем страшного чудовища» (8). «Змеиная» природа
острова отчетливо проступает в островных преданиях Онеж-
ского озера: «Около Петрозаводска, на Онежском озере есть
Мать-остров. На нем водится много змей. И люди боятся туда
ходить. Там никто не живет. В народе говорят, что тут
большой клад схоронен, поэтому змей без свету не живет» (9).
♦ В деревне Кижи существует предание, что св.Митр.Филипп
до своего пострижения жил будто бы в соседней Жариской
деревне у одного богатого крестьянина работником. Он оста-
вил о себе память. Один раз он заклял на южном конце острова
змей, которые развелись там в большом количестве и мешали
пастись скотине» (10). Змееборческий мотив, прослеживае-
мый в беломорских и онежских преданиях, соотносит остров
с топографией основного мифа о поединке бога-громовержца
с его противником Змеем, который происходил в самое
109
сакральное время и в самом сакральном месте (центр мира).
Следовательно, остров выступает как некий «пуп земли»,
поднявшийся из вод мирового хаоса во времена творения.
Связь острова с первобытным хаосом, с началом космо-
генеза, когда земля (твердь) стала отделяться от воды,
прослеживается в цикле преданий о плавакицих_островах£ В
онежском предании о построении Кижской Преображенской
церкви рассказывается о том, как «в один праздник, когда
цветет рожь, во время, когда там была обедня, полдень, из той
противоположной стороны, где много островов, приплыл
остров. С этого острова выскочили разбойники в масках -
лошадиные головы и хвосты, - в руках с кинжалами» (11).
Мотив плавающего острова, некотором обитают разбойники,
дополняется мотивом вещей птицы (петуха), перевозящей
остров с места на место. В пудожской топонимической легенде
о происхождении названия «Петуний остров» говорится о том,
что «этот остров лежал прежде недалеко от реки Илексы и
ведомый петухом прибыл к деревне Большой Куль-наволок,
недалеко от которой он остановился. Вещий петух затем
улетел, а остров стоит до сих пор и прозван в память того, что
привез его петух, Петуньим островом» (12). Петух - это вещая
птица, занимающая маргинальное положение в круговороте
времени (на границе дня и ночи). Н.Н.Харузин отмечает, что
у крестьян Пудожского уезда петух «помещается в разряд
птиц, есть которых грешно» (13).
В преданиях о плавающих островах не только раскры-
вается маргинальная, хтоническая природа острова, но и
прослеживается его соотнесенность с временами землеустрое-
ния, когда из недр первобытного хаоса водной стихии подни-
малась земля, когда рождающийся космос находился в рассе-
янном, «плавающем» состоянии. Следовательно, предания о
плавающих островах вписываются в круг космогонических
мотивов, связанных с сюжетом основного (змееборческого)
мифа. Вместе с тем, Нельзя не указать на возможность
складывания этих преданий под воздействием автохтонной
(саамской) островной культуры и островной мифологии.
Саамским шаманам - нойдам для переправы через водные
препятствия «не требовалась лодка: достаточно было отрезать
кусок земли, прочитать заклинания и можно было пускаться
в плавание на нем как на плоту. Но здесь шамана подстерегала
ПО
опасность: если кто-то окликал его по имени, то плот
превращался в остров, а нойда - в камень. Очевидно, именно
так и появились многочисленные острова на озерах Лаплан-
дии» (14). Как видим, типологическое сходство севернорус-
ских преданий о плавающих островах, об «окаменевших
немцах» и лопарских мифологических рассказов о нойдах -
несомненно. Кроме того, если учесть более развитый уровень
островной культуры мифологии саамов, то необходимо
признать и ее воздействие на складывание севернорусской
островной модели мира, в которой до начала освоения Севера
существовал лишь «теоретический» образ «моря-окияна» и
«острова Буяна». Но каковы бы ни были исходные основания
формирования севернорусской островной культуры, сложив-
шийся в ней образ острова, соотносился с универсальными
мифологическими идеями центра иного мира и, одновременно,
его границы. Синонимичность центральности острова и его
маргинальности объясняется определенными закономернос-
тями «в пространственной организации потустороннего мира,
в котором не только всякий «центр» обладает маргинальными
свойствами, но и граница, обычно выступающая в виде
трудного препятствия, зачастую имеет признаки «центра» и
потенциально может стать им. Так, море на пути героя
оказывается либо преградой, которую необходимо преодолеть,
либо самой областью потустороннего мира, в центр которой
надо проникнуть» (15).
Маргинальные свойства острова ярко раскрываются в
истории Аникиева острова в Баренцевом море, который и
русскими, и иноземными мореходами воспринимался как
пограничный пункт, расположенный на символической грани-
це, разделяющей «немецкие земли» («Дацка», «Норвега») и
♦ Русь». На одной из каменных плит Аникиева острова
проходящие мимо него мореходы оставляли свои автографы.
Среди них встречаются имена русских поморов с Онеги, Кеми,
Сумы, Мудьюга и т.д. «Для поморов, изведавших опасности
и трудности плавания в дальнюю «дацку сторону», благопо-
лучное возвращение к родным берегам становилось радостным
и торжественным моментом. Тут, по пути домой, достигнув
первых камней родной земли, и было уместно поставить на
Аникиевой плите свое имя» (16). Подобными же маргиналь-
ными свойствами границы «Руси» обладал остров Сосновец,
111
на котором «стоит одинокий некрасивый маяк, а рядом сотни,
целое кладбище саженных крестов, поставленных здесь по
обычаю и обету поморами при благополучном возвращении с
Мурмана» (17). Установление обетных крестов на острове
символизировало достижение границ Руси и типологически
соответствовало лиминальной фазе переходного ритуала, в
процессе которого мореход-странник очищался от скверны
заморских земель и приобщался к родному космосу. Обычай
воздвижения обетных крестов был широко распространен в
Поморье: «Там и сям прорезаются в ночном полумраке
деревянные кресты, которыми уставлены чуть не вплотную все
берега и острова Белого моря, все перекрестки и выгоны
городов и селений Архангельской губернии. Кресты эти
ставятся по обету или местными жителями или богомольца-
ми, идущими в Соловецкий» (18). Столь значимое место
образа Креста в семантическом фонде севернорусской морской
культуры объясняется выдвинутым, маргинальным положе-
нием Поморья, его непосредственной соотнесенностью с про-
странствами иного мира. Поэтому кресты, «которыми устав-
лены чуть не вплотную все берега и острова Белого моря»,
создавали своеобразную сакральную границу, защищавшую
поморский космос от вторжения разрушительных сил потус-
тороннего (заморского) мира. Остров с воздвигнутыми на нем
обетными крестами не только отмечал границы Руси, но
служил и «ковчегом спасения». Особой славой «острова
спасения» у поморов пользовался остров Моржовец, распола-
гавшийся в самом горле Белого моря при выходе в Ледовитый
океан. Поморы говорили, что в гибельных случаях относа
морского «нам остров Моржовец подспорье хорошее: все
больше на него попадаем» (19).
Остров являлся не только границей, разделяющей все
мировое пространство на посюстороннее и потустороннее, но
и центром иного мира. Центральное местоположение острова
в системе координат сакральной географии обусловило превра-
щение его в центр монастырской жизни Русского Севера.
Выбор острова в качестве одного из главнейших мест для
строительства монастырей был не случаен, но напротив,
однозначно определен архаичной хтонической семантикой
острова как мира мертвых, а также самой телеологией
монашеского подвига. По словам св. Игнатия Брянчанинова,
112
♦ инок - истинная вдовица, для которой мир должен быть
мертвым» (20). Монах, отрекающийся от мира и удаляющий-
ся в пустыню, руководствуется заповедью апостола Павла:
♦Для меня мир распят, и я для мира». Монахи - это
♦ непогребенные мертвецы». Определяя смысл пострижения в
схиму, архимандрит Афанасий писал: ♦Но смысл его ясен. Это
- умирание заживо. И ничего нет страшного. Наоборот. Кто
всю жизнь занят ♦памятью смерти», тот знает, что такое
сладость и радость этого внутреннего делания... От того
некоторые схимники и спят во гробах, и роют заранее себе
могилу, и заготовляют облачения на смерть... Таков идеал
монашества - умереть ранее смерти» (21). Как видно из
приведенных высказываний, телеология монашеской жизни,
направленная на уход от мира, на ♦умирание заживо»,
абсолютно полно соответствовала архаичной семантике ос-
тровного пространства, воплощавшего образ неотмирного
царства мертвых. Вот эта связь христианских представлений
о смерти с географией иного мира была глубоко вскрыта о.
П.Фло ре неким: ♦Относительно элевзинских мистерий древ-
ние говорили, что смысл их - научить географии иного мира,
так, что попадая туда после кончины, душа не растерялась и
не заблудилась, но пошла, как по знакомой местности. Эта
мысль должна быть, однако, углублена и усилена. Духовное
воспитание должно дать не карту иного мира, а укрепить
жиненные связи с ним» (22). Конкретизируя мысль
П. А.Флоренского, можно было бы сказать, что здесь речь идет
о различении двух видов смерти: языческой и христианской
(православной). Во-первых, язычество отличается от христи-
анства скрупулезным исследованием устройства иного мира,
составлением его крупномасштабных географических карт,
которые используются в ритуалах переходного цикла. Во-
вторых, если для языческого сознания мотив смерти является
окказиональным, то истинно православное сознание в каж-
дый данный момент времени живет переживанием смерти.
Проводя различие в целом, можно сказать, что христианское
чувство смерти является более проникновенным, более духов-
ным, более напряженным и личностным по сравнению с
языческим мифоритуальным сценарием ♦проводов на тот
свет». Христианское переживание смерти отличается и от
современного секуляризованного отношения к ней: ♦Язык
ПЗ
давно уже различил эти два вида кончины, смерть и успение,
как нечто глубоко несходное, какими бы близкими они не
казались физиологически стороннему наблюдателю... Те, кто
умер при жизни и в ком уже произошло таинственное
рождение, они не видят смерти и не умирают» (23). Поэтому
смысл монашеского подвижничества на острове мертвых
заключался в ♦ смертном попрании смерти», в подготовке себя
к Успению. Достижение подобного состояния смерти при
жизни было возможно лишь при условии выхода за пределы
человеческого жизненного пространства и достижения обето-
ванной земли, локализованной в ином измерении. Именно
такой землей, расположенной в самом ♦пекле» потусторонней
реальности, и являлся остров, превратившийся в сакральный
центр Северной Фиваиды.
***
1. Сурхаско Ю.Ю. Семейные обряды и верования карел.
Л., 1985. С. 89.
2. Харузин Н.Н. Из материалов, собранных среди
крестьян Пудожского уезда Олонецкой губернии. М., 1889. С.
32.
3. Мулло И.М. Памятники древней культуры на Кузо-
вых островах // Археология и археография Беломорья.
Архангельск, 1984. С. 53.
4. Кошечкин Б.Н. Имена на скале. Архангельск, 1991.
С. 8.
5. Криничная Н.А. Предания Русского Севера. СПб.,
1991. С. 148.
6. Там же. С. 138.
7. Там же.
8. Там же. С. 126.
9. Олонецкий сборник. Петрозаводск, 1902. Вып. 4. С.
63.
10. Там же.
11. Криничная Н.А. Предания... С. 45.
12. Харузин Н.Н. Из материалов... С. 33.
13. Там же.
14. Рыков В. Шаманы Лапландии // Наука и религия.
1991. N 8. С. 59.
114
15. Неклюдов С.Ю. О кривом оборотне (к исследованию
мифологической семантики фольклорного мотива) // Пробле-
мы славянской этнографии. Л., 1979. С. 135.
16. Кошечкин Б.Н. Имена на скале. С. 24-25.
17. Львов Е. По студеному морю. М., 1895. С. 82.
18. Максимов С.В. Год на Севере. Архангельск, 1984.
С. 98-99.
19. Там же. С. 44.
20. Настольная книга священнослужителя. М., 1988.
Т. 6. С. 535.
21. Архимавдрит Афанасий. Старый Валаам // Рус-
ский паломник. 1990. N 2. С. 107.
22. Флоренский ILA. Отец Алексий Мечев // Москва.
1990. N 12. С. 171.
23. Там же.
В. А.Семенов
Сыктывкар
О некоторых способах организации
и описания космоса народами
уральской языковой семьи
(к интерпретации числовых дефиниций)
В 1988 г. от жителя поселка Варьеган Нижневартовско-
го р-на Тюменской об л. ненца Аули Иуси нами был записан
один из вариантов широкораспространенной среди сибирских
народов легенды о космической охоте. По рассказу Аули,
♦Тяптукаге» (небесный гусь с антропоморфными чертами)
гнался по Млечному пути за семиногим лосем (так и теперь
лесные ненцы называют созвездие Большая Медведица), и в
конце концов, догнав семиногого лося, небесный охотник
оторвал ему три ноги. По его мнению, люди иначе никогда не
смогут добыть это животное. Таким образом, семиногий лось
остался созвездием на небе, а в своем обычном виде служит
людям на земле.
Как представляется, отдельные детали данного переска-
за требуют дополнительного комментирования. Во-первых,
115
заслуживает внимание само сопоставление образа лося и
созвездия, а, во-вторых, само это сопоставление открывает
нам особую ♦космическую» природу образа лося в традицион-
ных мифопоэтических представлениях. И действительно,
образ лося в искусстве народов Евразии занимает важное место
на протяжении уже нескольких тысячелетий. В контексте
рассматриваемой здесь темы нам представляются наиболее
информативными изображения рожающих лосих на Ангаре,
контурные изображения лося с обозначением сердца из Фин-
ляндии и Западной Сибири, изображения головы лося, высту-
пающее в виде ростра лодок, на скалах Белого моря и в
Финляндии. В скульптуре малых форм - это роговые жезлы,
моделирующие голову лося, из О ле Неостро веко го могильника
в Карелии и со стоянки Швянтойи в Литве. По времени данный
мотив можно отнести к неолитическому пласту древностей.
В эпоху раннего средневековья антропоморфизирован-
ные изображения лося реализуются в плоском бронзовом
культовом литье Прикамья и Европейского Северо-Востока.
Из других археологических находок этого периода обращает
на себя внимание плоское бронзовое изображение всадника на
мифическом животном (лосе-коне ?), к анализу которого мы
вернемся ниже (1).
Другие значимые параллели этим археологическим сви-
детельством особого места образа лося в мировоззрении
народов Евразии мы находим среди этнографических матери-
алов. Это не только многочисленные ♦ шаманские» изображе-
ния лося, о которых речь будет еще впереди, но и изображения
лося на русских вышивках: здесь небесные лоси, по мнению
Б.А.Рыбакова, окружают ♦богиню рода» - Рожаницу (2).
Представляется, что во всех перечисленных примерах
при изображении лося учитывалась ♦космическая» природа
этого образа. Подобное содержание угадывал еще
В.И.Равдоникас, интерпретируя карельские изображения.
Показательно, что он довольно смело сопоставлял изображе-
ния лодок, украшенных лосиными головами, с солнечными
ладьями египетского Ра (3). Несмотря на отдаленность парал-
лели, такое сопоставление выглядит тем не менее весьма
корректно, так как носы некоторых лодок, изображенных на
скальных галереях Швеции, Финляндии, Урала и Зап.Сибири,
венчало именно солнце. Существенно, что образ лося здесь не
116
только несомненно изоморфен космическому объекту - солнцу,
но и, вероятно, передает саму идею движения, связи между
миром людей и миром богов (предков). Предполагаемый нами
изоморфизм находит подтверждение в названиях реальных
космических объектов. Так, ♦Лосем» (Сохатым) называли
созвездие Большой Медведицы на Руси, впервые об этом
упоминается в «Хождении затри моря» Афанасия Никитина.
В польской народной традиции под названием «Лосиная
звезда» скрывается Полярная звезда, что само по себе акту-
ализирует данный мотив в мифопоэтической перспективе (4).
Под названием «Лось» Большая Медведица фигурирует и в
словаре многих народов Сибири. При этом значимую подроб-
ность в мифологическом контексте носит название Большой
Медведицы у лесных ненцев, являющееся предметом рассмот-
рения в данной работе.
В культурологическом аспекте необходимо добавить,
что выступая персонификацией космических объектов, столь
значимых в календарно-хозяйственном цикле народов, сохра-
нявших традиционный уклад жизни, образ лося неизбежно
становился особым символом, знаком, отражающим отноше-
ния «человек-природа» на различных уровнях. Такому выво-
ду как будто не противоречат и данные индоевропеистики.
Так, словарь Фасмера, демонстрируя общую корневую основу
для многих индоевропейских языков, обнаруживает в верхне-
немецком диалекте значение «рыжеватый», «желтый». Как
кажется, подобное наблюдение подтверждает вывод о том, что
у индоевропейских народов лось выступал прежде всего в своей
мифоэпической ипостаси, и в этом своем качестве был изомор-
фен таким символам, как «солнце», «богатство» и т.п.
Характерно, что подобная связь угадывается и за
русским названием «сохатый». Все тот же словарь Фасмера
передает корень «соха» в значении: «палка с перекладиной»,
«палка с развилкой», «опора», «кол», что может быть
отнесено и к обозначению самих лосиных рогов, в свою
очередь, сопоставимых с мифологическим «древом жизни». В
символическом плане очевидно, что за термином «сохатый»
угадывается тогда передача идеи расстояния, передвижения.
В контексте подобных сопоставлений показательно значение
русского слова «посох», который выступает параллельно и
символом власти, метафорически представляя при этом все то
117
же «древо жизни». В этом же значении в самом общем плане
слово «лось» выступает и в финно-угорских языках, что
подтверждает универсальность данного символа в культуре
многих народов Евразии.
В то же время данные лингвистики могут быть убеди-
тельно дополнены этнографическими параллелями. Так, до-
лганам солнце представлялось в виде гигантского лося. У
эвенков-орочонов, наоборот, именно лось похитил солнце, в
результате чего началась космическая охота. По более ранним
представлениям эвенков, погоня сказочного медведя Манги за
лосем обусловила смену дня и ночи (5). Анализ подобных
мифов убедительно выявляет тесную связь образа лося с
образом солнца, при этом и сами рога метафорически олицет-
воряют солнечные лучи.
Во всей совокупности данных мифологический небесный
лось выступает олицетворением божественных животворя-
щих сил (6). В то же время в мифологии лось начинает
связываться с нижним миром, с царством предков. Так,
согласно эвенкийской традиции дух-предок уводит человечес-
кую душу шамана в «нижний» мир к подножию дерева, где ее
ожидает мать-лосиха. Мать-лосиха пожирает человеческую
душу шамана и рождает его главную душу, которая и
осуществляет во время камланья связь между миром людей и
миром предков. В преданиях североамериканских индейцев
лось выступает в роли демиурга, т.е. существа, творящего
мир.
Представление о лосе как существе, связанном с потус-
торонним миром, нашло отражение в обрядовой практике
многих сибирских народов. У тех же эвенков бытовал обря-
довый танец, имитировавший охоту на небесного лося, по
окончании которого шаман разламывал на части фигурку
лося, раздавая куски участникам обряда (7). Характерно, что
именно в разломанном виде часто выступает и сопровождаю-
щий покойника погребальный инвентарь, как бы символизи-
руя будущее вторичное рождение. Знаменательно, что лоси-
ные фигурки использовал шаман во время изгнания болезни
(8). В схожем контексте следует интерпретировать и обряд
поедания фигурок лося, вылепленных из теста, во время
медвежьего праздника у манси.
Отдельные ритуальные предметы, моделированные в
118
виде лося, не просто символизировали инои мир, но и
передавали идею передвижения, служили как бы волшебным
звеном, связывающим «тот» и «этот» свет. Не вызывает
сомнения смысл шаманского посоха у эвенков, который
увенчивался скульптурным изображением головы лося, а в
основании был моделирован в виде лосиного копыта (9).
Отдаленно назначение космического лося переносить душу в
мир «иной» угадывается и за образом ведьмы-лосихи в
скандинавской «Саге о Вольсунгах», которая, пожирая по
ночам спутников Сигмунда, как бы переносила их души в мир
мертвых. Уже упоминавшиеся выше «жезлы» из Карелии и
Прибалтики, по мнению Б.А.Рыбакова, являются деталью
шаманского костюма во время путешествия в мир богов и
предков.
С идеей движения в потусторонний мир связан зачастую
и образ небесного охотника, преследующего лося по Млечному
Пути. Выше мы уже упоминали волшебного Небесного гуся
ненецких преданий. Запечатленный на рисунках из Якутии и
в бронзовой пластике, он предстает перед нами и в образе
антропоморфного существа с руками-крыльями и трехпалыми
ногами. Характерно, что на описанной выше бляшке из
томского музея небесный гусь богатырь сопоставим с мансий-
ским божеством Мир-Сусне-Хумом, в котором, по мнению
Н.В.Полосьмак, угадываются и черты иранского Митры.
Быть может, подобные изображения Небесного гуся, спуска-
ющегося верхом на лосе-коне в «нижний» мир, проливает свет
и на происхождение такого фольклорного персонажа лесных
ненцев, как «семиногая лошадь», дух которой вызывали
шаманы во время камлания.
Вслед за этим сюжетом уместно перейти к анализу
числовых характеристик символической картины мира, как
раз и нашедших отражение в рассказе старого ненца. В этой
связи необходимо вспомнить о том, что исторические предания
ненцев повествуют о старике-первопредке, имевшем семь
сыновей, и что отражением единства мира, выраженного через
число семь, является семиликий идол Весяко, выступавший
главным объектом поклонения нао.Вайгач (10). По рассказам
ненцев, культовое священное место могла символизировать и
лиственница с семью стволами, которая контаминировалась,
очевидно, с образом «древажизни» (11). Характерно, что семь
119
личин у ненцев украшали и священную нарту, в которой
сохранялись обереги. У хантов семь голов помощников
шамана - иляней - вырезались на бубне, а посох селькупского
шамана имел просто семь соответствующих утолщений. У
нганасан пластина с изображением семи голов духов украшала
шаманский костюм, в котором камлали роженице (12). У
тюркоязычных якутов число семь также оказывается весьма
популярным. Так, их народные легенды «олонхо» повествуют
то о богатырях с семью головами, то о семи родах, то о семи
сторонах света, то о семи лебедях и т.п.
И, наконец, наиболее полно свою волшебную природу
число 7 обнаруживает в преданиях селькупов, характеризую-
щих «мировое древо», связывающее землю с небом и богом.
На солнечной стороне этого дерева - семь сучьев, на которых
расположились семь кукушек. На ночной же стороне на семи
сучьях сидит семь сорок, связываемых у селькупов с миром
смерти. Венчает это дерево священная птица - «мать самок и
самцов». А в семи корнях волшебного дерева прячутся семь
змей, оберегающих дорогу в нижний мир. Все вместе эти
существа оберегают души людей, хранящиеся в дупле миро-
вого дерева до их появления на свет. У подножия этого
чудесного дерева располагался дом сказочной старухи Илын-
тыль, дающей жизнь всему живому. Далее легенды повеству-
ют о том, что старуха жила в семиямном болоте, а сам дом имел
семь комнат (13).
Такой специальный интерес к числу 7 у селькупов
оказывается неслучайным. Так, по сведениям
Е.Д.Прокофьевой, у селькупов, при общем семиричном счете,
число 7 значило «очень много», т.е. за ним выступала
нерасчлененная количественная масса. Например, идиома
«сельчи тамтыр» (куда входит обозначение числа 7) означает
«весь народ», «все селькупы» (14).
Таким образом, подводя хотя бы краткий итог анализу
приведенной нами в начале статьи ненецкой легенды, следует
отметить, что несомненно в мифологии ненцев образ семино-
гого лося и символизировал всю вселенную; но это, с одной
стороны, а с другой стороны - перед нами яркий пример
народной манипуляции символическими понятиями через
противопоставление «чет/нечет», в результате которого про-
исходит объяснение причин единства и противоположности
120
мира людей и царства богов (предков), разделение «горнего»
и «дольнего» в повседневной жизнедеятельности перед лицом
вечности.
***
1. Полосьмак Н.В. Мир-Сусне-Хум-небесный всадник
// Военное дело древнего и средневекового населения Северной
и Центральной Азии. Новосибирск, 1990. С. 191. Рис. 11:3.
2. Маслова Г.С. Орнамент русской народной вышивки.
М., 1978. С. 78. Рис. 30:а.
3. Равдоникас В.И. Элементы космических представле-
ний в образах наскальных изображений // Советская архео-
логия. 1937. IV. С. 28-29.
4. Рыбаков В.А. Язычество древних славян. М., 1981.
С. 54.
5. Анисимов А.Ф. Космологические представления на-
родов Севера. М.; Л., 1959. С. 11, 15.
6. Мазин А.И. Традиционные верования и обряды
эвенков-орочонов. Новосибирск, 1984. С. 11-12.
7. Василевич Г.М. Древние охотничьи и оленеводческие
обряды эвенков Ц СМАЭ. М.; Л., 1957. Т. XVII. С. 157-159.
8. Иванов С.В. Скульптура народов севера Сибири XIX
- первой половины XX вв. Л., 1970. С. 175.
9. Иванов С.В. Скульптура народов... С. 163, 164. Рис.
144. С. 50.
10. Вениамин, архим. Образ жизни мезенских самоедов
Г/ ВРГО. СПб., 1855. С. 123.
11. Хомич Л.В. Религиозные культы ненцев // Памят-
ники культуры народов Сибири и Севера / СМАЭ. Л., 1977.
Т. XXIII. С. 13.
12. Иванов С.В. Скульптура народов... С. 32, 60, 104,
123.
13. Прокофьева Е.Д. Представления селькупских ша-
манов о мире // СМАЭ. М.; Л., 1961. С. 57, 61-62.
14. Прокофьева Е.Д. Представления селькупских ша-
манов... С. 66.
121
Д.А .Несанелис, В.Э.Шарапов
Сыктывкар
Тема смерти в детских играх:
опыт этносемиотического анализа
(по материалам традиционной
культуры коми)
Габриэль Гарсиа Маркес однажды заметил по поводу
романа «Сто лет одиночества», что рассматривает его как
«всего лишь поэтическое воплощение своего детства». Мно-
гозначительное «всего лишь» находит разнообразные парал-
лели в суждениях многих замечательных предшественников
и современников колумбийского писателя. Литература и
кинематограф последних лет не оставляют сомнений в том, что
«счастливое детство» продолжает ассоциироваться отнюдь не
в последнюю очередь с играми, забавами и развлечениями.
Достаточно упомянуть талантливый фильм «Лапта», сюжет
которого построен на том, что «отцы» возрождают в игре
особую атмосферу увлекательного состязания с присущими
ему азартом и духом подлинного товарищества и вовлекают
в лапту (хотя и не без труда и лишь в заключительном эпизоде)
«детей», восстанавливая тем самым нарушенную связь поко-
лений.
Воспоминаниям о детстве и детских играх нередко
бывает присущ ностальгический оттенок. «Игры детства-
малолетства с подобными себе малютками-ровесниками. Только
о Вас подумаю, брызнут крупные слезы», - писал в начале
нашего века коми литератор А.А.Чеусов (1).
Не менее выразителен фрагмент коми свадебного причи-
тания, адресованного девушкой-невестой своему брату:
Меня, бедняжку, много раз
Ты катал в самых лучших санях.
Меня, бедняжку, много раз
Водил на пение и игры (2).
Расставание с «пением и играми» оценивается как одна из
наиболее горьких утрат.
«Игры детства-малолетства» продолжают привлекать
122
внимание не только писателей и художников, но и ученых.
Описание и изучение детских игр различных народов относит-
ся, несомненно, к числу наиболее перспективных задач совре-
менной этнографии детства. Актуальность исследования этой
проблемы обусловливается тем, что в игре, по словам И.С.Кона,
«формируются... общие навыки социального поведения, осно-
вополагающие системы ценностей, ориентация на групповые
или индивидуальные действия. Изучение детской игры броса-
ет свет на самые общие ценностные ориентации культуры и
тенденции ее развития» (3).
В одном из недавних исследований по социальной
педагогике отмечалось, что в пределах традиционного сель-
ского пространства дети всегда имели для игр «свою автоном-
ную территорию во дворе, в доме, на улице». Вместе с тем
подчеркивается, что «улица лишь казалась безнадзорной,
взрослые (особенно бабушки, дедушки на завалинках, скаме-
ечках у крыльца) всегда контролировали ситуацию» (4). Это
последнее утверждение не лишено известных оснований.
Очевидно, однако, что «цензура коллектива» могла осущес-
твляться отнюдь не столь явно, жестко и прямолинейно. В
пользу такого допущения свидетельствуют, в частности,
этнографические данные об играх коми детей, связанных
прямо или косвенно с темой смерти.
Описание одной из игр, имеющих отношение к обсуж-
даемой теме, принадлежит известному этнографу
В.П.Налимову. Оно относится к началу XX в. «Летом дети
часто роют ямочку в земле около наружных углов избы и
играют в похороны. Это предвещает смерть кого-нибудь из
членов того дома, около угла которого рыли дети ямочки. Я
смог лично наблюдать ужас взрослых в деревне Седъяков
(часть села Выльгорт), узнавших, что маленькие ребята рыли
около их дома ямочки и играли в похороны» (5). Это описание
абсолютно не оставляет сомнений в том, что игра в похороны
разыгрывалась детьми в отсутствие взрослых.
Достоверность описания В.П.Налимова вполне под-
тверждается экспедиционными материалами, полученными
авторами не только в сысольских (Выльгорт), но и в вычегод-
ских селах (Керчомья, Деревянск). В этих селениях девочки
и мальчики хоронили в земле тряпичную куклу, для которой
изготавливался миниатюрный гроб-колода. Похороны сопро-
123
вождались исполнением фрагментов плачей, заимствованных
из репертуара взрослых (6). Дети хоронили кукол на окраине
деревни, в лесу или другом укромном месте, что избавляло
играющих от присутствия взрослых.
Близкий вариант игры зафиксирован в селе Летка
Прилузского района. Там в игре принимали участие девочки
12-14 лет. Они вырезали из крупной картофелины антропо-
морфную фигурку, на лице которой обознчали глаза, уши, нос
и рот. Из травы делали волосы и прикрепляли их к голове.
Картофельного человечка хоронили в неглубокой ямке, над
которой затем насыпали невысокий холмик. На вершине
холма устанавливали крест, сделанный из Небольших щепок.
В приведенном описании обращает на себя внимание упоми-
нание о чертах лица картофельного человечка. Известно, что
в традиционных культурах многих народов Севера и Сибири
соблюдался запрет на обозначение у кукол рта, носа, глаз и
ушей. Считалось, что изображение этих черт лица может
сделать куклу опасной для человека (7).
Авторами статьи был проведен любопытный экспери-
мент, косвенно связанный с обсуждаемой темой. Четырех лет-
ней Насте было предложено нарисовать мертвого человека.
Она изобразила его в соответствии со схемой, используемой
ею для контурного обозначения на бумаге кукол: туловище без
рук и голова без глаз, рта и ушей (см. рис.на след. с.). Этот
рисунок точно повторяет особенности, присущие традицион-
ным матерчатым куклам коми. В известном смысле куклы без
лица соотносились, по-видимому, с миром предков. Показа-
тельно в этом отношении замечание одного хантыйского
информанта, наблюдавшего затем, как его дочь шила тряпич-
ную куклу: «Странно, что во всех играх эти куклы всегда
спят» (8).
Антропоморфные деревянные изображения духов-хра-
нителей у хантов, напротив, всегда наделяются чертами лица.
Рот, глаза и уши вырезаются в последнюю очередь. Эта
символическая операция предшествует ритуальному оживле-
нию онгона. Имеются, таким образом, достаточные основания
полагать, что процедура вырезания черт лица у антропомор-
фного картофельного человечка могла восприниматься как
игровой акт оживления, предшествующего и как бы акценти-
рующего последующее умервщление и захоронение куклы.
124
Мама, л и кукла
Mefufi^btu человек
Рисунки Насти Ромашкиной (4 года)
Своеобразием отличалась игра в покойника, известная
в прошлом в селе Читаево Прилузского района. Несколько
девочек и мальчиков семи-одиннадцати лет собирались позд-
ней весной или ранним летом на лугу вблизи села. По жребию
или считалке определяли водящего, которому предстояло
выполнить роль умершего. Весьма любопытно, что, по словам
информантов, ребят, «желавших исполнять эту роль, всегда
было немало*.
Мнимый покойник ложился на землю, а все остальные
рвали траву и укрывали ему «тело». При этом плакали и
причитали: «Почему ты нас оставил?», «Почему ушел от
нас?», «Вернись обратно».
Когда трава полностью покрывала «покойного», произ-
носились поминальное слово, а затем играющие, как бы забыв
о недавних похоронах, переходили к разговорам на интересу-
ющие их темы. Тем временем покойник резко и неожиданно
поднимался и бросался в погоню за разбегавшимися игроками.
Тот, до кого он дотрагивался рукой, становился водящим и
игра начиналась вновь (9).
125
Исключительно интересная детская игра, имеющая
отношение к теме смерти, была зафиксирована современни-
ком Налимова А.С.Сидоровым в селениях по р.Вашке. Она
называлась «кар туй» («дорога в город») или «Йома туй»
(дорога к Еме). «Игра состоит в том, что один из детей идет
впереди других и, волоча одну свою ступню по пыльной
уличной дороге, делает этим непрерывную тропочку, а все
остальные следуют за ним по пыльной тропочке. Интерес игры
заключается в том, чтобы тропка была как можно извилистее,
замысловатее... со многими отступлениями в сторону, а
иногда и назад, причем время от времени эта тропочка
приводит в замкнутый четырехугольник, в котором на время
се играющие собираются, а затем тропа и следование по ней
продолжается дальше, пока это не надоест играющим» (10).
Говоря о генезисе описанной игры, А.С.Сидоров отмечал, что
«оригиналом для нее послужил городищенский быт», пос-
кольку дорога к поселению и к кладбищу была «известна не
всем, а только посвященным» (11). Этот вывод может быть
дополнен аргументами иного рода.
В игровой хромоте детей и их движении по намерено
извилистому пути могли отразиться восходящие к глубокой
древности представления о путешествии в мифологическую
страну мертвых. Об этом свидетельствует и название игры -
«дорога к Еме». По мнению В.Н.Белицер, древние коми
считали Ему злым божеством, способным посылать голод и
болезни (12). Весьма примечательно, что по народным пред-
ставлениям Ема являлась супругой Ворса (лешего), набор
характеристик которого не оставляет сомнений в его изнаноч-
ной природе (13).
Игровые действия детей находят очевидные параллели
в погребальной обрядности коми. Уместно упомянуть, что
кладбища в коми деревнях, как и на Русском Севере, часто
располагались за рекой. Гроб было принято выносить не через
входную дверь, а через взвоз, располагающийся в противопо-
ложной части жилища. На обратном пути с кладбища
запрещалось оборачиваться и смотреть назад. Подобное пред-
писание, вероятно, носило универсальный характер. Его
нарушение, как известно, превратило жену Лота в соляной
столб, а Эвридику заставило вернуться в царство теней.
Эти обычаи и предписания отражают представления о
126
необычном («извилистом») пути, соединяющим мир живых и
мир предков. В этом отношении выразительная этнографичес-
кая параллель игре «дорога к Еме» может быть увидена в
одном из погребальных обычаев нганасанов. После похорон
они, по сведениям А.А.Попова, «в течение нескольких часов
ездили по тундре во всевозможных направлениях и только
после этого отправлялись по своим чумам» (14).
В связи с излагаемыми наблюдениями уместно процити-
ровать комментарий к плану на обложке знаменитой книги
Умберто Эко «Имя розы». В нем отмечается, что план
лабиринта, украшавшего пол собора в Реймсе, был уничтожен
в XVIII в. по требованию настоятеля Жакмара, «которого
раздражало, что дети во время священных служб, играя,
исследуют извилистые дорожки - разумеется, с превратными
целями» (15). В рассматриваемом контексте мотивировка,
связывающая «извилистые пути» с «превратными целями»,
представляется весьма выразительной (Ср. также высказыва-
ние героя романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богомате-
ри» Пьера Гренгуара: «Будь прокляты все перекрестки! Это
дьявол сотворил их по образу и подобию своих вил» (выделено
нами - Д.Н., В.Ш.).
В июне 1992 г. один из авторов статьи работал в
этнографической экспедиции вместе с сыном Глебом (6 лет).
Однажды ему было предложено прочертить по песчаной дороге
линию, ведущую к Еме или Ворса. Мнение Глеба было
интересно учесть, так как, во-первых, он проводит немало
времени со своей коми бабушкой в деревнях Айкино и Тыдор,
сохраняющих народные традиции, а во-вторых, Глеб уже
сопровождал этнографов в течение двух предшествующих
сезонов, что позволило ему много узнать о персонажах коми
фольклора и мифологии. Выполняя просьбу, Глеб прочертил
на земле длинную и очень извилистую линию, а затем
повторил рисунок уже на бумаге (см. рис. на след, странице).
Сравнение рисунка Глеба с планом лабиринта из книги
Умберто Эко, приведенными традиционными обычаями и
игрой «Ема туй» позволяет говорить об архетипических
истоках образа «извилистого пути». Вместе с тем следует
обратись внимание на замечание В.Н.Т орова о том, что
противопоставление прямого и извилистое туги было особен-
но актуально для дре; неиранской традии т ; *6). В данном
127
£м,а faju (2)ofu)ia к.
Рисунок Глеба Несанелиса (6 лет)
128
случае оно представляет специальный интерес в силу того, что
многочисленные лингвистические и этнографические данные
свидетельствуют о влиянии иранцев на финно-угров. Это
влияние, в частности, прослеживается в языке и традицион-
ной духовной культуре коми (17).
Возвращаясь к «Ема туй», следует отметить еще одну
немаловажную Деталь. Анализируя содержание этой игры,
А.С.Сидоров не упоминал о присутствии взрослых.
Вплоть до 30-40-х гг. в селениях по Сысоле и Вашке
была распространена игра, которую условно можно назвать
«сюн» (синяя глина). Она проходила на берегах рек и озер.
Дети добывали в прибрежных отложениях специальную
синюю или голубую глину и, смочив ее в воде, покрывали
глиняной корочкой свои тела.
Анализ коми фольклорных и этнографических данных
показывает, что в символических цветовых классификациях
«синий», как правило, входит в отрицательный ряд. Так,
например, коми-пермяки верили, что «колдуны», общавши-
еся якобы с нечистой силой - лешим, «ездили к нему только
насинемконе» (18). Словосочетанием «сюнчери» -синяярыба
- в коми языке обозначается «вид мелкой несъедобной (выде-
лено нами - Д.Н., В.Ш.) рыбы из породы миноговых» (19). С
«синим», по-видимому, связывались прямо или косвенно
такие понятия, как «холод», «север», «окоченение» и «смерть».
Реальные физиологические процессы актуализируют употреб-
ление такой характеристики покойника, как «синий». Можно
полагать поэтому, что смысл игрового перевоплощения детей
заключался ,возможно, в уподоблении «синим покойникам».
Эта гипотеза учитывает и пространственную локализацию
игры. В моногочисленных исследованиях показано, что река
в традиционных верованиях выступала и как мифологическая
граница между мирами, и как дорога в иной мир.
Обязательным условием описанной детской игры счита-
лось отсутствие взрослых. Соблюдение этого правила застав-
ляет усомниться в справедливости мнения исследователей,
полагающих, что в рамках традиционной культуры игры
деревенских детей обязательно контролировались взрослыми
или пожилыми людьми.
Анализируя ритуальный статус детей, известный зна-
ток народной культуры коми В.П.Налимов отмечал, что дети
129
и старики часто рассматриваются сельским миром в качестве
сильных и умелых лекарей, способных помочь тяжелоболь-
ным людям (20). Интересно, что если в качестве лекаря
приглашали старуху, то предпочтение, согласно Налимову,
отдавали женщине, живущей за ручьем (рекой). В этом
предписании, акцентирующем тему реки как мифологической
границы, проявились верования о связи знахарей с предками,
в мире которых, как предполагалось, находились опыт и
мудрость. Учитывая это, символическое сближение таких
возрастных категорий, как «дети» и «старики», представля-
ется весьма выразительным.
Следует подчеркнуть, что иногда целительские способ-
ности детей оценивались даже выше стариковских.
В.П.Налимов полагал, что такая иерархия построена на
критериях достижения половой зрелости и утраты сексуаль-
ной активности. Если старики уже не вступали в половые
контакты, то дети еще не достигли соответствующего физи-
ологического рубежа. Это наблюдение согласуется с данными
А.С.Сидорова, по которым коми крестьяне во время отхожих
промыслов лечили заболевших мочой подростка, «еще не
знавшего женщину» (21).
Вероятно, символическая бесполость определенным
образом ассоциировалась как с понятием «ритуальной чисто-
ты», так и с предполагаемым характером загробной жизни.
Н.И.Дукарт, изучавшая святочную обрядность коми,
описала интересное гадание с участием детей, приуроченное к
Васильеву дню. «Поздно вечером, в канун Васильева дня, они
искали на полу зерно, и если находили его, то считалось, что
год будет урожайным, в пртивном случае - неурожайным»
(22). Пространственно-временная организация святочных
гаданий способствовала актуализации представлений о проти-
вопоставлении чужого и своего, мира предков и мира живых.
Особое значение эти оппозиции приобретали на стыке старого
и нового года. Поэтому участие детей в гадании именно
Васильева дня (1 января старого стиля) оказывается важным
аргументом в пользу идеи о том, что дети, по народным
представлениям, могли вступать в контакт с предками легко
и непринужденно.
Эта идея отразилась в некоторых коми быличках,
повествующих о том, что дети, унесенные нечистой силой,
130
попадают на время в страну усопших предков. Возвращаясь
домой, дети - герои быличек рассказывают, что «были все это
время у родных», «ели-пили за праздничным столом» или
«катались с родственниками на санках» (ср. отождествление
в русских народных верованиях понятий «праздник» и «без-
временье», «смерть», выявленное на основании анализа зна-
чительного этнолингвистического материала Т. А.Бернштам).
Взрослых же героев подобных быличек нечистая сила, как
правило, таскает несколько дней по реке (т.е. по символичес-
кой границе между мирами, которая, что особенно важно,
остается все-таки непреодоленной) и затем выбрасывает на
берег в нескольких километрах от селения.
Излагаемые идеи, можно полагать, отчасти переклика-
ются с известными строками О.Э.Мандельштама:
О, как мы любим лицемерить
И забываем без труда
То, что мы в детстве ближе к смерти
Чем в наши зрелые года.
Прозаическое рассуждение на близкую тему находим у
Л.П.Карсавина: «Цоэт не живет, но ничего не знает и лишь
в детском неведении своем велик неизреченною мудростью.
Однако не дети ли становятся стариками, и не в детство ли
впадают старики» (23). Представления об особой связи детей
с загробным миром отчетливо проявляются в хантыйском
космогоническом предании, в котором Светлый Отец (демиург)
рассуждает о строении мира: «Мертвый мир я изначально
предписал... если его не предписать, где тогда поместятся
подрастающие девочки и подрастающие мальчики?..» (24).
Еще раз возвращаясь к описанию игры «Ема туй»,
следует специально подчеркнуть, что извилистая линия,
отмечающая многосложные перемещения детей, возвраща-
лась периодически к некой исходной точке. Иными словами,
путь по «пыльной тропке» оказывался в конечном счете
круговым. Чрезвычайно интересной в этом отношении анало-
гией можно считать ритуальный сбор трав на Иванов день,
описанный специалистом по народной медицине коми
И.В.Ильиной: «В ночь или на рассвете 24 июня (по старому
стилю) женщины, одетые в чистые белые одежды, переправ-
131
лялись на луга, расположенные за рекой и, идя по кругу,
собирали лекарственные растения» (25).
В связи с игрой «Ема туй» следует обратиться к
былинкам о людях, унесенных нечистой силой, персонифици-
рованной в образе духа ветра Шувгея (26). На р.Вашке (т.е.
в том же районе, где А.С.Сидоровым была зафиксирована игра
«Ема туй») авторами записаны свидетельства информантов о
том, что дети представляли Шувгея в виде хоровода: «...много
мальчиков и девочек будто бы собиралось в круг, все тебе
радуются, тянут за руки... Ты можешь еще от них уйти, если
только кто-то за тебя прочитает молитву. А за кого не
помолятся, - тот в руках беса и ходит...» В приведенном
описании отчетливо проявляются представления о высокой
степени сакральности кругового движения. В данном случае
его возможный финал задается противопоставлением двух
крайних ситуаций, соотносимых либо с церковной молитвой,
либо с бесом.
В.Н.Топоров, обсуждая вопрос о понятии «пути» в
мифопоэтических представлениях, писал: «Неким образом
небесного (солнечного) пути может быть и реальный путь
(нередко именно круговой, или предполагающий, во всяком
случае, возврат к исходной точке), совершаемый, например,
некоторыми автохтонными австралийскими племенами по
своей племенной территории... Сходное движение по перимет-
ру пространства («круговой путь») предполагается и в специ-
альных ритуалах освоения нового пространства, его освеще-
ния... и в выборе места для поселения или для отдельного
дома... и в обведении невесты вокруг некоего символа,
совершаемого под руководством жреца типа реконструирован-
ного Хокартом «открывания дверей» (27). Развивая эти идеи,
В.Н.Топоров подчеркивал, что «...проделанный круговой
путь имеет целью освоение внутреннего пространства и
усвоение его себе через познание его самого и его вещно-
объектной сферы, через изгнание злого, деструктивного нача-
ла» (28). В типологическом отношении этот вывод, несомнен-
но, распространяется на приведенные выше примеры.
Если гипотеза, согласно которой содержание игры «Ема
туй » отражает представление о царстве мертвых, справедливо,
то окажется, что круговое движение юных игроков не только
намечало (или воспроизводило) путь в страну смерти, но и
132
несло в себе победу, преодоление смерти на ее собственной
территории.
Таким образом, детские игры со смертью, находившиеся
под формальным запретом, обусловливались и как бы прово-
цировались мифопоэтической концепцией жизненного пути,
отразившейся в символической половозрастной структуре
традиционной сельской общины.
Можно полагать также, что репертуар и содержание
рассмотренных игр, предполагающих своеобразный контакт с
миром предков и царством смерти, свидетельствуют об импли-
цитно присущей детским играм идее преодоления тварности и
небытия.
***
1. Чеусов А. К зыряноведению // Этнографическое
обозрение. 1904. N 2. С. 159.
2. Лыткин Г.С. Зырянские народные произведения.
СПб., 1901. С. 36.
3. Кон И.С. Этнография детства: Историографический
очерк // Этнография детства. М., 1983. С. 45.
4. Социальная педагогика. Свердловск, 1989. С. 27.
5. Налимов В.П. Материалы по этнографии зырян и
пермяков // Архив финно-угорского общества. I.I.38. С. 149.
6. См.: Несанелис Д.А. Несколько замечаний о соотно-
шении игры и этикета в традиционной культуре северной
деревни // Устные и письменные традиции в духовной
культуре Севера. Сыктывкар, 1989. С. 124.
7. См.: Тагер Е. Искусство и быт Севера // На Северной
Двине: Сб. Архангельского общества краеведения. Архан-
гельск, 1924. С. 34; Павлииская Л.Р. Игрушка и мир ребенка
в традиционных культурах Сибири // Традиционное воспита-
ние детей у народов Сибири. Л., 1988. С. 244-245.
8. Полевые наблюдения авторов.
9. Сведения об этой игре любезно предоставлены авто-
рам преподавателем Коми пединститута Н.Е.Слепчиной.
10. Сидоров А.С. Памятники древностей в пределах
Коми края // Коми му. 1926. N 6. С. 28.
11. Там же.
12. Белицер В.Н. Очерки по этнографии народов коми.
М.; Л., 1958. С. 318.
133
13. См.: Жаков К.Ф. Этнологический очерк зырян //
Живая старина. 1901. Вып. I. С. 17.
14. Попов А.А. Душа и смерть по воззрениям нганасанов
// Природа и человек в религиозных представлениях народов
Сибири и Севера. Л., 1976. С. 41.
15. Эко У. Имя Розы. М.» 1985. С. 313.
16. Топоров В.Н. Пространство и текст // Текст:
Семантика и структура. М.» 1983. С. 269.
17. См., например: Стеблин-Каменский И.М., Семенов
В. А. Несколько замечаний о персонификации у коми Северно-
го ветра (Войпеля) //Семиотика культуры. Сыктывкар, 1991.
С. 69-71.
18. Грибова Л.С. Пермский звериный стиль. М., 1971.
С. 81.
19. См.: Налимов В.П. К вопросу о первоначальных
половых отношений полов у зырян // Семья и социальная
организация финно-угорских народов. Сыктывкар, 1991. С.
21.
20. См.: Налимов В.П. Там же.
21. Сидоров А.С. Знахарство, колдовство и порча у
народа Коми. Л., 1928. С. 91.
22. Дукарт Н.И. Святочная обрядность коми конца XIX
- начала XX вв. // Традиционная культура и быт народа коми.
Сыктывкар, 1978. С. 100.
23. Карсавин Л.П. Поэма о Смерти. Л., 1991. С. 7.
24. Мифы, предания, сказки хантов и манси. М., 1990.
С. 291.
25. Ильина И.В. Как в старину лечились // Родники
Пармы. Сыктывкар, 1989. С. 97.
26. См.: Лимеров П.Ф. «Шувгей» - мифологический
персонаж удорских коми // Уральская мифология. Сыктыв-
кар, 1992. С. 80-83.
27. Топоров В.Н. Пространство и текст. С. 266.
28. Там же. С. 266-267.
134
Вл. А.Семенов
Санкт-Петербу рг
«Ритуальный двойник» в похоронном обряде
саяно-алтайских скифов
(Эволюция погребального обряда
кочевников Южной Сибири)
В самых различных Евразийских культурах от Египта
до Китая прослеживается стремление сохранить (законсерви-
ровать) тело (облик или образ) умершего человека. Как
противоположность традиции «сохранения» может быть рас-
смотрена кремация и иные акты уничтожения трупа, связан-
ные с той или иной религиозной концепцией. Но довольно
часто обычай сохранения трупов или их скорейшей кремации
объясняется из утилитарных надобностей. Так, в одном
случае это происходит якобы из-за длительного времени,
прошедшего со дня смерти до времени погребения, в другом -
из-за опасности заражения оспой, чумой и т.п.(1). Надо
отметить, что в большинстве известных случаев мумификации
подвергаются лица высокородного происхождения (правите-
ли, культурные герои или иные носители царского «фарна»).
Это может происходить как при ингумации, так и при
кремации умершего, когда от смерти до погребения проходит
месяц и более (2).
Для индоевропейской традиции характерно создание
«ритуального двойника» умершего, который замещает покой-
ного во время погребального действия (3). Вероятно, при
обряде кремации «ритуальный двойник» или субститут умер-
шего мог рассматриваться как временное пристанище души
или одной из душ, не покидающей тело после его смерти. В
погребальном обряде саяно-алтайских скифов наблюдается
тенденция погребения наиболее «влиятельных» представите-
лей скифского общества на переходных («пороговых») времен-
ных рубежах. Так, курган Аржан, в котором был погребен
варварский владыка (?) так называемого аржанского племен-
ного союза, сооружался осенью, вероятно, в сентябре. В этот
же период совершены захоронения в пазырыкских курганах
135
Алтая (4). Можно предположить, что у скифов Новый год
приходился именно на осень. В рамках календарно-хозяй-
ственной деятельности именно на осень приходилось возвра-
щение с летних пастбищ. В контексте же мифопоэтических
представлений скифов особо значимым оказывалось и то, что
на этот период приходилось начало рева оленей. Роль же
почитания оленя в мировоззрении скифов давно стала общим
местом в науке (см. значение оленя в прикладном искусстве,
сакрализация оленя в погребальном обряде - оленьи маски на
лошадиных мордах, оленные камни и т.п.).
В более Широком спектре параллелей известно, что до
XIII в. монголы отмечали Новый год также осенью. Согласно
китайским хроникам, тюкуэсцы умерших хоронили «весной
и летом», когда «лист на деревьях и растениях начнет желтеть
и опадать»(5). Согласованность более поздних письменных
источников о степных народах, занимающих территории,
близкие к Саяно-Алтайскому нагорью, с данными археологии
скифов допускает их ретроспективное использование при
реконструкции погребального обряда ранних кочевников. К
сожалению, в них не содержится сведений об изготовлении
ритуального двойника. Такую роль у древних тюрок могли
выполнять каменные изваяния и балбалы. Напротив, в
культурах, так или иначе связанных происхождением с
выходцами из восточноевропейских степей, отмечается захо-
ронение костей умерших, предварительно очищенных от
мягких тканей. В афанасьевских могильниках встречаются
кости неполных скелетов со следами зубов волка или собаки
(6). В эпоху средней бронзы, как в Туве, так и в Хакассии,
встречаются захоронения неполных скелетов или только
черепов (окуневская культура). В могилах «андроновцев»
отмечена и кремация. В западном ареале андроновской куль-
туры, где кремация вообще преобладает над ингумацией,
изготавливали при отправлении погребального ритуала, по
предположению М.П.Грязнова, погребальную «куклу», в
которую помещали остатки трупосожжения. Вероятно, как
раз здесь мы и сталкиваемся с идеей ритуального двойника,
«заместителя» умершего.
Во всех культурах скифского типа Саяно-Алтая может
быть в погребальном обряде вычленено местное субстратное
влияние - захоронения в каменных ящиках в положении
136
скорченных на боку (Тува) или вытянутых на спине (Мину-
синская котловина). Причем каменные ящики, существовав-
шие на раннем этапе, сменяются большими деревянными
срубами на позднем. В Туве для этого времени зафиксированы
случаи захоронения разрозненных костей, и имитировавших
погребение на боку.Такая манипуляция с костями и располо-
жение их якобы в анатомическом порядке, вероятно, свиде-
тельствует, что в ряде случаев захоронения умерших прохо-
дили спустя длительный срок после их смерти (7). При этом
неизвестно ни одного случая искусственной мумификации
умерших, в противоположность более широкой в этом плане
практике на Алтае. В то же время на Алтае попытка сохранить
нетленным «внешний вид» усопшего через искусственную
мумификацию сопровождалась и дополнительными операци-
ями по изменению их облика. Так, мужчину, захороненного
во 2-м Пазырыкском кургане, предварительно оскальпирова-
ли, а затем наложили на голову другие волосы, а на лицо -
искусственную бороду (8). При этом волосы и ногти, удален-
ные или еще при жизни, или в результате погребальных
церемоний после смерти, иногда также помещались в могилу.
Так, в 5-м Пазырыкском кургане вместе с покойником были
обнаружены специальные мешочки, наполненные волосами и
ногтями умершего (9). Имеющиеся материалы не позволяют
определить, как широко обычай этот был распространен в
скифское время, поскольку только «ледяные» курганы Алтая
сохранили органику в достаточно представительном наборе. В
то же время в более широком культурно-историческом контек-
сте параллели такой ритуальной практике удается обнару-
жить. В первую очередь речь идет о народах, чья ритуальная
практика в той или иной мере восходит еще к иранской
традиции, таких, например, как русские или коми (10). В
иранской же мифологии обнаруживается объяснение некото-
рых погребальных приемов скифов, зафиксированных архео-
логически. Так, в могильнике Шибе были обнаружены остан-
ки погребенного с зашитыми глазами. Показательно, что в
иранском пантеоне существует бог судьбы-времени Зрван,
который именно и зашивает глаза умершим (11).
За самим зашиванием глаз, использованием наглазни-
ков и погребальных масок проскальзывает не только мифо-
поэтический мотив взаимной слепоты, оказывающийся уни-
137
версальным при описании природы иного мира, но и отзвуки
колдовской практики, направленной на нейтрализацию вре-
доносности «взгляда» покойника. В то же время здесь на
Саяно-Алтае идея вторичного рождения в погребальной прак-
тике реализуется различными путями. Так, в одном случае
практикуется намеренное разрушение трупа: освобождение
скелета от мягких тканей, дальнейшее расчленение его, т.е.
проявляется стремление дать душеъ свободный выход из
заключавшего его тела. Собственно, подобные представления
о путях скорейшей и наиболее свободной реинкарнации
обслуживает и кремация покойника, дополненная взглядами
на волшебную природу земного и небесного огня. В целом эта
индо-арийская ритуальная линия была дополнительно разви-
та в ведической и зороастрийской практике.
В другом случае, налицо стремление сохранить именно
данное тело, предполагающее надежду на реинкарнацию
именно данного субъекта в его прежнем облике, т.е. «воскре-
сение из мертвых». Возможно, последняя тенденция в погре-
бальном обряде обнаруживает истоки в ближневосточной
традиции, с которой скифы могли познакомиться за время
своего легендарного пребывания в Малой Азии. Ведь харак-
терно, что именно причерноморские скифы мумифицировали
своих умерших, о чем мы находим свидетельства еще у
Геродота (Геродот. IV. 71). Этот же источник повествует и о
том, что забальзамированный труп царя обвозят по подвлас-
тной ему территории, а на годовых поминках все участники
обкуриваются коноплей, сжигаемой на раскаленных камнях.
Примечательно, что в одном из погребений Пазырыка (Алтай)
были обнаружены также зерна конопли, помещенные в
бронзовый котелок. Известно на Алтае и использование
погребальных повозок, копирующих свадебные колесницы
периода Сражающихся Царств (12).
Эти и другие черты, прослеженные в погребальном
обряде пазырыкцев, позволяют уверенно отнести и все насе-
ление, оставившее рассматриваемые захоронения, к скифо-
сакскому миру. Сходные погребальные обряды обнаружива-
ются в этот период в Минусинской котловине. Здесь, наряду
с захоронением освобожденных от мягких тканей скелетов,
известны и случаи перезахоронения умерших, сопровождав-
шиеся при этом расчленением или ритуальным разрушением
138
костяков. На данной территории зафиксированы также и
более сложные погребальные манипуляции, где в процессе
погребения часть умерших размещали на крыше сруба, по-
видимому, в сидячем положении (13). Постоянное усложнение
погребальных приемов при общей явно просматриваемой
неустойчивости погребальных правил позволяет предпол-
ожить, что подобная тенденция зависела от существования и
взаимопроникновения двух различных религиозных систем,
осваиваемых на какой-то временной протяженности саяно-
алтайскими скифами.
Так, расчленение и разрушение костяка, в одних случа-
ях, могло сочетаться со стремлением все же сохранить облик
умершего, а в других - оно могло быть связано и с неадекват-
ным представлением как о числе душ, так и месте посмертного
их пребывания. Вероятно, уже в это время закладываются
основы того синкретического мировоззрения, которое позднее
проявится в шаманистических представлениях сибирских
народов.
В этой связи чрезвычайный интерес представляет эволю-
ция погребального обряда в завершающий период существо-
вания татарской культуры. Здесь во П-I в. до н.э.- начале н.э.
помимо собственно костей скелетов обнаружены посмертные
глиняные маски, бюсты и куклы-манекены умерших, внутрь
которых иногда помещались остатки трупосожжения. Полу-
ченный здесь археологический материал позволяет реконстру-
ировать весь обряд создания «ритуального двойника», начи-
ная от освобождения покойника от мягких тканей и парал-
лельного заполнения полости черепа, ноздрей и глазниц
глиной (при этом часто сами глаза имитировались вставками
голубых бусин) до полной моделировки всей головы. Освобож-
денный от мягких тканей скелет скреплялся затем при
помощи деревянных прутьев (1,0-1,5 см), причем один из них
пропускался через спинно-мозговой канал, а два других шли
вдоль позвоночника и, продеты через тазовые кости, спуска-
лись вдоль длинных костей ног. Такие же прутья проходили
вдоль длинных костей рук. На следующем этапе весь скелет
оборачивался травой, глиняную голову скрепляли с создан-
ным таким образом новым туловищем, насаживая ее на
выступающие над позвоночником прутья. После этого голову
обмазывали гипсом, раскрашивали, а законченный манекен
139
выставлялся на специальной земляной площадке для про-
щальных обрядов. Вероятно, для скрепления скелета были
проделаны и обнаруженные отверстия в костях погребенного в
Башадарском кургане, а совсем не для консервирования
костного мозга, как полагал С.И.Руденко (14).
В целом устанавливается длительный и сложный про-
цесс подготовки умершего для его транспортировки в иной мир
с последующей реинкарнацией. Сюда можно отнести и различ-
ные стадии обработки трупа, мумификацию и, как ее транспо-
зицию, - очищение скелета от мягких тканей, захоронение
только костей или погребального манекена. В этом же плане
может быть рассмотрено и последующее разрушение скелетов
умерших, уже находящихся в погребальной камере, о чем
свидетельствуют материалы раскопок в Туве.
На более широком культурно-историческом фоне обра-
щают на себя внимание факты захоронений очищенных от
мягких тканей скелетов в Чатал-Хююке, лицевые урны
лужицкой культуры, антропоморфизированные саркофаги
древних египтян, уже в исторической традиции создание на
могилах скульптурных портретов умерших. В качестве значи-
мых, хотя и более общих аналогий, выступают куклы,
используемые и в других обрядах, засвидетельствованные
данными этнографии: куклы в шаманских мистериях сибир-
ских народов, деревянные куклы, используемые при закладке
нового дома в качестве жертвоприношения у коми-пермяков,
погребальные куклы в детских играх в «покойника» у коми,
использование кукол в свадебной обрядности у коми и у
русских. Вероятно, везде здесь мы имеем дело с какими-то
формами сакрализации человеческой личности, с подготовкой
живущего или умершего для утверждения в мире предков-
богов. Таким образом, создание ритуального двойника в
обрядах через апелляцию к тотемному двойнику обеспечивало
достижение «социальных связей» между отдельными частями
Космоса.
***
1. Руденко С.И. Культура населения Центрального
Алтая в скифское время. М.; Л.,1960. С.361.
2. Топоров В.Н. Конные состязания на похоронах //
/
140
Исследования в области балто-славянской духовной культу-
ры: Погребальный обряд. М.,1990. С.12-47. См. также чин
погребения русских царей, тела которых бальзамировались в
ожидании посещения представителей всех русских земель.
Так, например, Александра I погребли через 3 месяца после
смерти. Показательно, что близкая идея нашла свое абсурдное
решение при бальзамировании целого ряда коммунистических
вождей, которых, лишив погребения, через целую систему
идеологических воздействий на массовое сознание фактически
внедрили в живую культуру.
3. Иванов Вяч.Вс. Реконструкция структуры и семанти-
ки индоевропейского погребального обряда // Исследования
в области ... С.6.
4. Грязнов М.П. Аржан: Царский курган раннескифско-
го времени. Л.,1980. С.46.
5. Бичурин Н.Я. Собрание сведений о народах, обитав-
ших в Средней Азии в древние времена. М.; Л.,1950. 4.1.
С.230.
6. Грязнов М.П., Вадецкая Э.Б. Афанасьевская культу-
ра // История Сибири. Л.,1968. Т.1. С.159-165.
7. Мандельштам А.М. Исследования на могильном поле
Аймырлыг// Древние культуры Евразийских степей. Л., 1983.
С.25-33.
8. Руденко С.И. Второй Пазырыкский курган. Л., 1948.
С.110.
9. Руденко С.И. Горноалтайские находки и скифы. М.;
Л.,1952. С.266.
10. Семенов В.А. Традиционная семейная обрядность
народов Европейского Севера. СПб.,1992. С.44-48.
11. Васильков Я.В. К вопросу о связи гоголевского Вия
с праиндоиранским божеством смерти // Семиотика культу-
ры: Ш Всесоюз. летняя школа-семинар. Сыктывкар, 1991.
С.35-36.
12. Руденко С.И. Культура населения ... С.223-245.
13. Курочкин Г.Н. Могильник Интикуль как своеобраз-
ный эталон погребального памятника тагарской культуры
// Древние культуры и археологические изыскания. СПб., 1991.
С.21-24.
14. Кузьмин Н.Ю., Варламов О.Б. Особенности погре-
бального обряда племен Минусинской котловины на рубеже
141
н.э. (опыт реконструкции) // Метод, проблемы археологии
Сибири. Новосибирск, 1988. С. 146-155.
Л.М.Макарова
Сыктывкар
Смерть в мировоззрении
национал-социализма
Вести речь о смерти при помощи однозначного толкова-
ния ее как физического небытия, по-видимому, недостаточно,
поскольку это означало бы сведение жизни только к биологи-
ческому существованию, вне социальной значимости челове-
ка. В любом историческом периоде понятие жизни индивиду-
ума всегда связано с характеристикой и его социального
статуса, от которого зачастую зависят возможности защиты
жизни. В разных условиях меняется относительная ценность
признаков жизни (1). Так, в XX в. на первый план выдвига-
ется проблема прав человека, среди которых - понятие
самоценности человеческой личности, право распоряжаться
собственной судьбой. С этой точки зрения физическая кончина
может оказаться вторичным явлением относительно сущес-
твования, лишенного содержания и смысла (2).
Однако, поскольку в самом факте умирания для чело-
века всегда содержалось нечто не рационализируемое, большое
место в его представлениях продолжали занимать религиоз-
ные объяснения случившегося, включая подсознательные
апелляции к дохристианским верованиям. Наиболее важным
среди других представлялся вопрос посмертного существова-
ния, судя по тому вниманию, какое христианство всегда
уделяло погребению, посещению заботливо сохраняемой мо-
гилы, наконец поклонению мощам христианских святых. С
долей условности можно бы считать это частичным сохране
нием бессмертия, своеобразной альтернативой самой пугаю-
щей стороне смерти - забвению.
Погребальный обряд строго соотносился с качеством
142
прожитой жизни с точки зрения общепринятых норм и
ценностей, поэтому малейшие отклонения в его отправлении,
а тем более отказ церковников играли роль общественного
осуждения, переходя из религиозной сферы в моральную.
Изначально можно было говорить о достойной и недостойной
смерти. Понятие достойной смерти в традиционной морали
оказалось наиболее устойчивым ценностным показателем.
Все три стороны вопроса - жизнь, так называемое
бессмертие и смерть - интегрированы в универсальное понятие
человеческой личности, поэтому любые попытки идеологичес-
кого вмешательства в одну область с неизбежностью должны
вызвать сдвиги в других.
Поправку в сложившуюся системы представлений внес-
ла первая мировая война с ее миллионами погибших (3).
Наступил некоторый сдвиг в ключевом понятии - ценности и
значимости человеческой жизни. В уточнение к прежним
представлениям о достойной смерти получило распростране-
ние понятие смерти героической, в сражении. В некоторых
странах, в частности в Германии и Италии, пропаганда
использовала это обстоятельство для апологии милитаризма.
За счет увеличения числа насильственных смертей прервалась
связь между жизнью и смертью как ее прямым завершением.
В дальнейшем принятая система понятий должна была
претерпеть трансформацию при столкновении с национал-
социализмом. Нацистам требовалось приспособить существу-
ющие представления о смерти, сформированные христианст-
вом, к программе уничтожения политических и иных против-
ников.
Репрессивные программы для своей легитимации всегда
требуют идеологического обоснования, а поскольку рацио-
нальные объяснения массовых уничтожений не выдерживают
критики, выдвигаемые концепции ориентируются в основном
на нерационализируемые системы ценностей. Так был создан
социальный миф, имевший в основе тезис об особых свойствах
арийской крови, единственно носители которой предназначе-
ны для господства над миром. Создавалась бинарная модель
общества, с противопоставлением своих и чужих. Убийство в
этих условиях приобретало сакральный оттенок, представля-
лось необходимым и законным действием.
Миф исключал рациональное осмысление действитель-
на
ности, поэтому возможность общественности влиять на собы-
тия оказалась ограниченной, от населения зачастую требова-
лось апробировать уже не только принятое, но и реализован-
ное решение. Мифологизация жизни приобрела настолько
широкий масштаб, что рядовые обыватели оказались участни-
ками гигантского маскарада, систематически подкрепляемого
театрализованными мистериями на темы германского про-
шлого и грядущих побед. Разрыв с реальными представлени-
ями увеличивался по мере поражения нацизма.
Поскольку в первую очередь изменениям должна была
подвергнуться социальная структура общества, миф обслужи-
вал фашистскую стратификацию, которой соответствовала
вариативность жизненного цикла. В зависимости от расовой
чистоты дозировались социальные и политические права.
Максимальное выражение эта кампания нашла в Нюрнбергс-
ких законах. Уже в 1935 г. был принят закон о немецком
гражданстве, по которому ликвидировались гражданские
права евреев (4). Проблема решалась поэтапно, начиная с
изоляции части населения в гетто, концлагеря, тюрьмы. При
всем различии назначения этих средств они имеют общую
черту - десоциализацию личности, для которой наступала
гражданская смерть, а в результате расширялись возможнос-
ти и физического уничтожения.
Смертная казнь, в цивилизованном обществе отменен-
ная или сокращенная до минимальных пределов, здесь теряла
характер правового процесса, превращаясь в биологическое
уничтожение людей, в том числе по частным мотивам. Правда,
по мере укрепления нацистского режима правительство ста-
ралось бороться с бесконтрольными расправами, по крайней
мере на территориях, включенных в рейх, поскольку правовой
беспредел, возникающий в этом случае, оставлял слишком
много свободы исполнителям. Но вместе с тем террор продол-
жал оставаться средством укрепления власти, в частности для
СС. Поэтому смерть можно рассматривать как функциональ-
ную сторону режима.
При помощи постоянной угрозы смерти, с одной сторо-
ны, и безнаказанности самых изощренных убийств - с другой,
происходило формирование особой ментальности фашистско-
го типа. Создавались две на первый взгляд противоположные
категории (в германской терминологии - сверхчеловека и
144
недочеловека), но на практике единые в отказе от общечело-
веческой системы ценностей.
Как в Германии, так и за ее пределами, в районах
военных действий и на оккупированных территориях, террор
применялся для регулирования состава и численности населе-
ния. Характерно, что на территории Германии принудитель-
ная смерть не приобретала масштабов геноцида, потенциаль-
ные жертвы предварительно выселялись за ее пределы. Осо-
бенностью тоталитарных режимов является создание специ-
альных мест для уничтожения - концлагерей, размещавшихся
по преимуществу в особо отведенных районах. Типичным
примером лагерей такого рода являлся Освенцим. В лагерях
проблема умерщвления из моральной превращалась в техни-
ческую, ограниченную лишь пропускной способностью средств
уничтожения (печей, газовых камер). Орудием уничтожения
являлись и особо жестокие условия содержания и труда
узников. Введение института концлагерей свидетельствовало
о превращении массовых убийств из исключительного средст-
ва в постоянный атрибут реальности.
Если в правовом государстве сохраняется органичность
естественной смерти, то в данном случае происходит, по
терминологии А.Битова, «отлучение от причины смерти» (5),
убийство осуществляет исполнитель, никак не связанный с
жертвой. Этому способствовала и технологизация процесса,
позволявшая исполнителю сохранять эмоциональную дис-
танцию по отношению к результатам своих действий (6).
Из естественного процесса смерть превратилась в край-
нюю форму деперсонализации, окончательного лишения ин-
дивида не только социальной, но и биологической свободы,
поскольку решение о зарождении и прекращении жизни, в том
числе и генетически, через стерилизацию, стало прероргативой
фашистского государства.
В массовом сознании четко работало лишь разграниче-
ние «свой»-»чужой», что же касается передачи государству
власти над жизнью германских граждан, по-прежнему нужна
была апелляция к общественному мнению. В некоторых
случаях одобрения не было. Так, нацистам удалось открыто
ввести в практику уничтожения неизлечимо больных. Для
обработки общественного мнения в 1941 г. был выпущен на
экраны фильм «Я обвиняю» с пропагандой эвтаназии (7).
145
Однако население воспротивилось этому шагу. Высказыва-
лись, в частности, опасения, что среди жертв окажутся
чистокровные арийцы и даже герои войны. Между тем поня-
тию достойной смерти эвтаназия не соответствовала, так как
принудительное умерщвление допускалось традиционной
моралью только в качестве меры наказания. В результате
реализация программа была отложена.
Необходимость считаться с общественным мнением
обусловливалась озабоченностью сохранения стабильности в
обществе, что возможно лишь при условии устойчивости
традиционной морали основной части населения. Поэтому
также лагеря уничтожения и другие места массовых репрессий
нацисты размещали на маргинальных территориях, погра-
ничных между рейхом и оккупированными землями, стараясь
создать пояс отчуждения между узниками и метными жите-
лями, в основном за счет замены коренного населения региона
немецкими колонистами.
Этой же цели служили попытки многопланового камуф-
ляжа, выраженного прежде всего языковыми средствами.
Неоднократно в официальных документах менялись названия
концлагерей с целью скрыть их назначение. Все эти меры
нацистов свидетельствуют о том, что государство не обладало
полнотой власти над жизнью подданных.
Неотъемлемое свойство жизни - память о человеке, в
первую очередь как представителе рода, продолжающем его
историю. Поэтому шагом к погружению в небытие, помимо
социальной изоляции, можно считать замену личного имени,
наиболее явного средства самоидентификации личности, но-
мером в концлагере. Происходит крайняя деиндивидуализа-
ция, утрата бессмертия как способа сохраниться в памяти
других. На этом фоне физическая смерть, сохраняя биологи-
ческое значение, играет второстепенную роль относительно
социального небытия. Психологический эффект этого обсто-
ятельства оказывался настолько значительным, что посте-
пенно мог привести к потере смысла существования. С точки
зрения психиатра В.Франкла, бывшего узника концлагеря,
этим обстоятельством можно объяснить самоубийство в усло-
виях, когда жизнь могла ежесекундно оборваться и без усилий
со стороны заключенного. Понимание смерти личностью,
таким образом, не всегда подразумевает исключительно физи-
146
ческую кончину. Человек перестает осознавать себя таковым,
когда исчезает ощущение его нужности, теряются контакты
с другими людьми. Поэтому специфической чертой антифа-
шистской борьбы в концлагерях, где в основном речь шла о
выживании, становится не просто сохранение биологического
существования, но и стремление всеми силами воспрепятство-
вать деградации личности.
Франкл приводит и другую причину концлагерных
самоубийств: стремление сохранить независимость, умереть
«своей», осмысленной, а не навязанной извне смертью (8).
Такой акт, вероятно, можно считать модификацией достойной
смерти применительно к экстремальным условиям.
Представления о смерти можно считать идентичными у
тюремщиков и заключенных. Биологическая смерть не всегда
считалась самодостаточной и у нацистов. Недостаточно было,
например, простого физического уничтожения политических
и идеологических противников. Необходимо было первона-
чально добиться их дискредитации, поскольку иначе остава-
лось в силе понятие смерти мученической или героической и
в итоге - преодоление смерти-забвения. Главным оказалось
стирание памяти. Способ дискредитации соотносился с лич-
ностью и еще более со статусом противника и опирался на
общепринятую систему ценностей. Так, священнослужите-
лям обыкновенно приписывались преступления против нрав-
ственности, политических противников обвиняли в государ-
ственной измене. В таком случае сохранялась видимость
легитимности как репрессий, так и осуществлявшей их
власти.
Погребение также оказывалось сферой манипуляций.
Нацистский тезис о сверх- и недочеловеке предусматривал не
только два вида смерти: героическую и смерть-уничтожение,
но и соответствующие им особенности погребения. Жертвам
массовых уничтожений не полагалось ни индивидуальных
захоронений, ни кладбищ в привычном понимании слова, ни
погребального обряда. Такая ликвидация останков противо-
речила традиционным представлениям о погребении, ее цель
- не сохранить, а уничтожить память о погибших, ликвидируя
следы совершенного преступления.
Героическая смерть как таковая не является чуждой
массовому сознанию. Онаапеллирует к языческим ценностям,
147
провозглашает презрение к старости и восхваляет воинствен-
ность. Почва для культивирования таких взглядов была
подготовлена первой мировой войной. Впрочем, нацисты,
учитывая результаты этой войны для Германии, чаще и
охотнее апеллировали к героизму древних германцев (9) или
восхваляли жестокости периода империи Оттонов.
В новейшее время героическая смерть стала одним из
проявлений полного подчинения человека нуждам общества.
Это тем более ясно, что сам по себе героизм - явление
исключительное, обусловленное несоответствием целей и
средств. Такой героизм может быть лишь очередной иллюстра-
цией мифа. Не случайно тема жертвенности и героической
смерти в безнадежной ситуации все шире пропагандировалась
в Германии по мере приближения конца войны.
В случае героической смерти бессмертие реализовалось
также в духе скорее языческой, чем христианской традиции
- при помощи создания мавзолеев и монументов иного рода,
помещаемых уже не в местах погребения, а среди живущих -
как правило, на площадях, где эти памятники организуют
пространство и в какой-то степени выступают силой, консо-
лидирующей живых. Подобное свидетельство некрофильских
тенденций в идеологии является результатом продвинутой
мифологизации, ориентированной на символы, а не на живых
людей.
В некоторых случаях бессмертие начиналось при жизни.
Так, вплотную прилегает к понятию бессмертия фашистская
сакрализация харизматического лидера. Она реализуется при
помощи перенесения на фигуру лидера атрибутики, прежде
употреблявшейся лишь для поклонения Богу. Заимствуемые
внешние формы - например помещение над алтарем в храме
изображения Гитлера - приобретают новое значение обожес-
твления, отнюдь не тождественное прежней иконе. Налицо
здесь стремление воспользоваться уже готовыми, апробиро-
ванными методами для сообщения им нового содержания,
отвечающего целям нацизма: обоснованию единоличной влас-
ти фюрера в обстоятельствах ее недостаточной легитимности.
Концепция фашистского третьего рейха, хотя и апеллировала
к реально существовавшим двум империям, была по сути
эсхатологической, в ней ясно просматривается хилиастичес-
кая идея. Возможно, этим объясняется и мессианизм фюрера,
148
и попытки использования трансформированной ортодоксаль-
ной религии вместо ее упразднения как конкурирующей
идеологии. Самое понятие бессмертия в этих условиях пере-
стает зависеть от реальной смерти. Распространяется это не
только на фюрера, но и на другие фигуры режима - в частности
при попытках создать собственную галерею героев и мучени-
ков.
Распространение принудительной смерти ставит на по-
вестку дня вопрос о роли в нацистском обществе палачей.
Американский политолог М.Баркин полагает, что именно к
нацистам восходит идея намеренных поручений заказов на
преступление с целью изоляции от нормальной жизни в
обществе (10). Действительно, когда основным занятием
становится террор, жизнь превращается в абсурд, и вернуться
в общество эти люди уже не могут. Максимально такая роль
отводилась СС как организации, воплощающей миф крови, в
первую очередь за счет отбора туда наиболее ценных с расовой
точки зрения индивидуумов. В силу своей исключительности
СС претендовала на роль расовой элиты в германском общес-
тве, хотя она имела преимущество лишь перед низшими
расами, что подчеркивалось привлечением СС для охраны
концлагерей.
С другой стороны, методы, при помощи которых СС
утверждала свое могущество, в корне расходятся с представ-
лениями об элите, поскольку палачи и полиция в традицион-
ных обществах не только не являются привилегированной
категорией, но принадлежат к числу изгоев, так как постоян-
ный контакт со смертью и преступлением отчуждает. Поэтому
и в нацистской Германии этот вопрос не мог быть решен
однозначно. Послевоенная перспектива для СС предполагала
их изоляцию путем создания особого замкнутого ордена за
пределами собственно Германии, в Бургундии, где они стали
бы элитой для порабощенных народов. При отсутствии
элементарных правовых гарантий для населения оккупиро-
ванных территорий и терроре как постоянном институте там,
вероятно, могла бы идти речь именно о такой элите, поскольку
традиционные элитные структуры, сформировавшиеся там
ранее на основе происхождения, состояния и власти, оказа-
лись бы в зависимости от окупантов.
В нацистском мировоззрении прослеживается попытка
149
обоснования власти над жизнью населения. Но, расшатывая
традиционные мировоззренческие стереотипы, нацисты огра-
ничились расовым противопоставлением, оставляя в непри-
косновенности представления о смерти применительно к
лицам, обладающим гражданскими правами. Для покушения
на их жизнь требовалась хотя бы видимость индивидуального
обоснования и апелляция к общественному одобрению. Такая
попытка совмещения подходов привела к созданию мифоло-
гизированной идеологии, в результате внедрения которой
жизнь как антипод смерти утратила сущностные характерис-
тики, связанные с понятием свободы личности, и преврати-
лась в лишенный смысла ритуал, адекватный нежизни.
Однако прежний закон соответствия жизни и смерти
остался: с уменьшением ценности жизни смерть начала играть
соответственно большую роль в жизни общества, вторгаясь в
повседневность. Созданная на основе мифа крови нацистская
модель сверх- и недочеловека, объединенная антигуманизмом,
сохранила единство и в типе смерти, неестественной в обоих
случаях, и в особенности захоронения, поскольку к обоим
вариантам применялись манипуляции с посмертной памятью
- искусственное ее возвеличение или столь же искусственное
стирание.
Вопрос об отношении к смерти оказался, таким образом,
ключевым для мировоззренческой характеристики фашизма.
***
1. Л.Ржевский, выдвигая универсальные признаки
жизни, помимо биологического существования, которое он
считает доминирующим, отмечает еще наличие сознания и
контактов: Rzhevsky L. A typology of cultures based on
attitudes to death // Survey. 1976. N 1. P. 94.
2. Такую точку зрения выдвигают, в частности, экзис-
тенциалисты. См., напр.: Ясперс К. Смысл и назначение
истории. М., 1991. С. 160.
3. Германия в этой войне потеряла 2 млн. человек
погибшими и пропавшими без вести. В предшествующей
франко-прусской войне немецкие потери составили 28 тыс.
чел., из них 12 тыс. - в результате болезней. См.: Worterbuch
zur deutschen Militargeschichte. Berlin, 1985. S. 143; V.
2. S. 1071.
150
4. Nazi conspiracy and aggression. Washington, 1946. V.
1. P. 980-982.
5. Новый мир. 1990. N 2. C. 143.
6. Фромм Э. Некрофилы и Адольф Гитлер // Вопр.
философии. 1991. N 9. С. 89.
7. Manveil R. Film and second world war. South Bruns-
wick; New York, 1974. P. 96.
8. Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 1990. С.
152.
9. 0 трансформации германских языческих богов в богов
войны и о германском милитаризме писал специалист по
примитивным культам Ж.Дюмезиль: Dumezil G. Mythes et
dieux des Germains. Paris, 1939. P. 153-155.
10. Barkin M. Disaster and the millennium. New Haven;
London, 1974. P. 118.
E. Хелльберг-Хирн
Хельсинки
Живая и мертвая вода
Тема живой и мертвой воды связана в русской традиции
прежде всего с волшебными сказками. Мотив оживления
убитого и растерзанного на части героя с помощью живой воды
обычно сопровождается мотивом добывания целительной
воды из чудесного колодца или источника в волшебном саду.
Представление о живой и мертвой воде восходит к мифам
об умирающем и воскресающем боге или тотеме. В амбивален-
тной символике воды воплощаются одновременно силы жизни
и царство смерти. Эта двойственность выражена разделением
функций живой и мертвой воды при оживлении героя. В
волшебной сказке оно обыкновенно протекает так:
1. разрозненные части тела убитого героя срастаются
воедино с помощью мертвой воды;
2. в восстановленное, но еще бездыханное тело вместе
с живой водой вливается новая жизнь и герой просыпается от
смертного сна; живую воду вливают ему в уста или окропляют
151
ею тело героя. Иногда роль живой воды выполняет слеза
волшебной царевны, упавшая ему на лицо или на грудь.
С темой волшебной воды связаны сказочные мотивы
омовения, купания, орошения и выпивания разнообразных
жидкостей магического свойства, возвращающих герою силы,
молодость, красоту, зрение, здоровье и т.п. Волшебная влага
хранится в колодцах и источниках, путь к которым полон
препятствий. Добывание волшебной воды может стать одной
из трудных задач, предложенных герою.
В роли волшебного помощника, приносящего в клюве
целительную воду, часто выступает ворон: птица, традицион-
но связанная с потусторонним миром. Для оживления героя
ворон добывает и живую, и мертвую воду.
Источники целительной воды часто расположены рядом
друг с другом - это ключи, колодцы, фонтаны, ручейки и реки
с живой и/или мертвой водой, расположенные в райском саду,
где растут также и золотые, или молод ильные яблоки. В
русских сказках эти два мотива - добывание живой воды и
молодильных яблок - нередко связаны между собой. В
некоторых вариантах живая вода течет с рук или тела
волшебной девицы, хозяйки райского сада.
Нетрудно обнаружить многочисленные мифологические
параллели этих сказочных мотивов. Райский сад, деревья с
волшебными плодами, целительные источники, напитки,
дающие вечную жизнь - сома, нектар, амброзия - или золотые
яблоки Гесперид и скандинавской богини Идун принадлежат
к набору мифологем, описывающих потусторонний мир как
страну бессмертия.
С другой стороны, комплекс оживления сказочного
героя может быть сопоставлен с мифом об Озирисе. Фольклор-
ные отголоски этого мотива мы находим в известной сцене
оживления Лемминкяйнена в Калевале. Лемминкяйнен погиб
в мертвых водах Маналы на границе мира людей и потусто-
роннего мира. Его растерзанное на куски тело мать героя
собирает воедино, прикладывая друг к другу выловленные из
воды отдельные части мертвого тела.
Подобно Изиде, по кускам собиравшей тело Озириса и
вернувшей его к жизни с помощью целительных бальзамов и
заклинаний, мать Лемминкаяйнена оживляет сына волшеб-
ной мазью, принесенной пчелкой с неба, и магическими
152
заклинаниями, родственными как русским заговорам «от
крови», так и многочисленным вариантам так называемого
Второго Мерзебургского заклинания о сращении жил и суста-
вов.
Оживление героя может быть также сопоставлено с
шаманской инициацией, одним из важных моментов которой
является возрождение расчлененного и вновь собранного тела
будущего шамана.
Ритуальная смерть инициируемого находится в генети-
ческой связи с ритуалами жертвоприношений и расчленением/
растерзанием/умерщвлением тотема с целью его последующе-
го возрождения, преодоления смерти и умножения жизни.
Русская - и шире славянская - традиция дает достаточно
примеров символической связи воды с идеей оживления,
обновления, новой или будущей жизни. И языческие, и
христианские обряды включают элементы очищения водой,
погружения в воду, окропления или обрызгивания, процедуры
освящения или очищения воды, а также ритуальное исполь-
зование особой святой, чистой, новой или живой воды -
например дождевой, вытопленной из снега или собранной из
капель росы, очищенной угольком, серебром и золотом или
освященной в церкви.
Ритуальное потопление чучела и разнообразные жертвы
воде - хлеб-соль, венки, монеты, домашние животные - могут
быть истолкованы как магические попытки вызвать к жизни
силы, проводником которых является вода.
Природные свойства воды в контексте традиционной
культуры переосмыслены как магические. Разнообразные
мифологические связи воды с потусторонним миром позволя-
ют рассматривать ее как универсальный медиатор. В роли
посредника между мирами вода выступает не только в обшир-
ных комплексах аграрных и переходных обрядов, но и в
магической практике - прежде всего в гаданиях и заговорах.
В гаданиях вода, аналогично зеркалу, способна отразить
знание будущего, свойственное потустороннему миру. Харак-
терно, что в гаданиях с водой (например, в подблюдных
гаданиях святочного цикла) один и тот же ответ может
означать или смерть, или брак, т.е. умножение жизни.
Таким образом, вода в мифопоэтической традиции
включена в архаически нерасчлененный комплекс жизни/
153
смерти. Антропоморфизм и космизм мифологического мышле-
ния превращают воду из неживой материи в живую силу. И
в каждой капле живой воды отражается целый мир магичес-
ких представлений.
Ю. Пентикайнен
Хельсинки
Смерть без статуса
в народных представлениях финнов
Представляется, что умершие, которых можно отнести
к категории « мертвых без статуса», могут быть рассмотрены
как с религиозной, так и с чисто социологической точки
зрения. Мертвые без статуса - это те, чья смерть с общепри-
нятой точки зрения не является нормальной. Такие покойни-
ки находятся как бы в состоянии перехода, сравнимого в
известном смысле с пребыванием в Чистилище по мировоззре-
нию католиков.
Мертвые без статуса - это то, что принято называть
«неприкаянными» душами. Подобные представления широко
представлены и у финнов. Например, к числу грехов, из-за
которых душа становилась неприкаянною, староверы относи-
ли захоронение с серебряным крестом на шее.
В шведско-финской традиции, соблюдавшейся до конца
XIX в., получила разработку даже взаимозависимость чинов
погребения от характера смерти. Всего выделялось 4 разряда
похорон, из которых 2-4 относились к умершим необычной
смертью.
Так, во вторую группу входили: мертворожденные,
некрещеные, совершившие самоубийство в припадке, опойцы
и те, кто подвергся медицинскому вскрытию.
В третью группу включались погибшие на дуэли, жив-
шие неправедной жизнью («безбожники»), детоубийцы, не-
опознанные и обезглавленные покойники. Для этой категории
умерших церковная служба не полагалась, и их хоронили на
самых непрестижных участках кладбища.
Самые «позорные» похороны связывались с четвертой
154
группой умерших, которых хоронили в лесу. К этой группе
относились отлученные от церкви, самоубийцы и казненные.
Таким образом, религиозные предписания во многом совпада-
ли с народными представлениями о статусе умершего и о путях
его утверждения в ином мире. В этом смысле наиболее
показательным примером выступает отношение к некреще-
ным младенцам.
В XIX и в начале XX вв. было предложено несколько
гипотез, реконструирующих существо обрядов, направленных
на поддержание отношений между живыми и мертвыми, хотя
большинство из них достаточно открыты для критики. Более
приемлемыми представляются взгляды, по которым смерть и
потусторонняя жизнь являются просто новым состоянием.
Этот переход к смерти подобен и переходам при жизни между
различными социальными статусами человека. Например,
рождение, детство, половая зрелость, помолвка, свадьба,
беременность и т.п. Как и в древности, эти переходные
состояния и поныне или вообще сакрализуются, или, хотя и
вызывают более светское отношение, но все же остаются
весьма значимыми в общественном смысле. На широком фоне
обряды жизненного цикла как собственно переходные были
впервые рассмотрены ван Геннепом, который выделил в них
как бы три зоны: разделения, маргинальную, объединения.
С точки зрения подобных воззрений финские погребаль-
ные материалы в качестве источника для реконструкции
обрядов перехода еще не рассматривались. Как показывают
финские материалы, основное содеожание погребальных ри-
туалов можно свести к проблеме перехода покойника в мир
умерших и восстановление социума для его дальнейшего
функционирования в мире живых. Совершенно очевидно, что
в сакральном смысле при реконструкции отношений между
живыми и мертвыми речь должна идти прежде всего о
родственных группах, где старший в роду как бы выступает
мифическим предком (живым покойником). По образному
выражению Марти Хаавио: «семья включает всех, независимо
- живут ее члены на земле или под землей».
В каком-то смысле мертвые постоянно предъявляют
претензии к живым от организации похорон и поминальных
церемоний до ежегодного выделения части урожая, как это
вытекает из карельской традиции. Сюда же следует отнести
155
и угощение умерших, направленное на то, чтобы семья не
забывала своих покойников и не манкировала традициями.
Уно Харвасовершенно верно отмечал:» В каждой фазе жизни
человек или семья обращается к мертвым. Умерший является
хранителем морали и права, гарантом единства общества. В
этом отношении даже Всевышний не может конкурировать с
ним на том свете».
В рамках внутрисемейных отношений тем не менее
встреча с умершим безопасна только в установленные поми-
нальные дни, когда такой контакт приобретает «обществен-
ное» звучание. В другое же время такая встреча опасна.
Особенно это относится ко времени поминального цикла
непосредственно после смерти. В Карелии, например, первые
6 недель считаются особенно опасными как для ближайших
родственников, так и для лиц, непосредственно участвовав-
ших в обряжении и погребении усопшего. Даже причитания,
обращенные к покойному, просят его не возвращаться быстро
домой в виде страшного привидения, а прилететь в виде души-
птицы весной или в другое санкционированное обрядом время.
При этом в границах внутрисемейных отношений объ-
ектом посмертного поклонения становился только такой
умерший, чья смерть сопровождалась специальными обряда-
ми со стороны родственников, а не мертвые вообще. Финские
верования придают особое значение данной разнице между
умершими родственниками и мертвыми как таковыми. Это
противопоставление особенно выразительно выступает в со-
держании быличек о домашних привидениях. Так, по скан-
динавским источникам домашние привидения могут быть
условно поделены на две группы: «виновные» и «невинные».
В первую групппу привидений попадали те, кто совер-
шил преступления при жизни: детоубийцы, злодеи, преступ-
ники, воры, ведьмы, похитители государственных печатей,
обжоры, пьяницы, картежники, передвигающие межевые
камни, обращавшиеся за помощью к дьяволу, безбожники,
убийцы и самоубийцы. Ко второй группе относятся «неугомон-
ные», чье появление в мире живых не может быть объяснено
как наказание за проступки при жизни. В свою очередь, эта
категория привидений может быть разделена на несколько
дополнительных подгрупп: 1) заботливые - матери, умершие
от родов, ревнивые мужья, обязавшиеся жениться, ответ-
156
ственные за детей или собственность, не исполнившие долг;
2) неудовлетворенные - не по правилам обряженные, непогре-
бенные или погребенные не по их желанию, захороненные в
сырых местах, те, о ком говорят или слишком много (праздно),
или вообще не печалятся; 3) мстители - те, с кем плохо
обращались при жизни, заколдованные, убитые, убитые дети;
4) нарушители - различные полтергейсты.
В общем плане покойники без статуса могут быть
разделены с точки зрения ритуала на несколько категорий: 1)
погребенные по неполному ритуалу; 2) не имеющие родствен-
ников, которые бы их снарядили бы в путь; 3) по характеру
смерти не могущие добраться до царства мертвых и поэтому
постоянно возвращающиеся в мир живых. Другим примером
«особенных» мертвецов могут служить младенцы, которые не
получили имени (некрещеные) или незаконно рожденные. Это
показывает, что сам обряд наречения имени обеспечивает
новорожденному определенный социальный статус, без кото-
рого в случае смерти такой младенец становится покойником
без статуса.
Характерно, что, согласно скандинавской традиции,
наречение имени как бы предшествовало крещению и тем
самым выдавало свою еще «языческую» природу. Согласно
некоторым сагам, отец принимал ребенка, поливал его водой
и давал имя. Попытка бросить ребенка, еще не получившего
имя или не припавшего к материнской груди, не считалась
преступлением. Зато традиция осуждала людей, которые
бросили своих детей, уже «политых» водой. Согласно обыч-
ному праву, практикующемуся в скандинавской провинции,
в разделах наследования, наречение имени и кормление
грудью является достаточным для подтверждения прав насле-
дования.
В народных представлениях, дети, погребенные без
соблюдения ритуала, оказывались подвешенными между не-
бом и землей. Подобные представления существовали и в
отношении некрещеных детей, которые якобы живут в возду-
хе, ездят на ветре. Характерно, что в скандинавской традиции
существуют региональные отличия в определении критериев
для определения посмертного статуса ребенка. Так, в Ислан-
дии, Норвегии, западной Швеции и Лапландии к покойникам
без статуса относят некрещеных детей. В восточной же
157
Швеции, Лапландии и Финляндии к такому разряду причис-
лялись те, кто был захоронен в неосвященную могилу.
Характерно, что эти различия принадлежат к отношениям
между миром живых и мертвых, так как в обоих случаях
мертвые как бы не имеют имени и места погребения именно
в мире живых.
Т. А.Опарина
Новосибирск
Структура потустороннего мира
в представлениях Стефана Зизания
о посмертной судьбе души
С именем Стефана Зизания связан один из ярких
моментов православной полемики конца XVI в. киевской
митрополии, входившей в состав Речи Посполитой. Его
анти латинское сочинение - «Казанье св. Кирилла Иерусалим-
ского о Антихристе» (Вильно, 1696) - в противостоянии
южнозападнорусских католиков и православных приняло
черты лозунга борьбы православной стороны. Несколько
позже, переведенное в начале XVII в. в России и изданное под
названием «Кириллова книга», «Казанье» стало одним из
центральных авторитетов при формировании раннестарооб-
рядческой идеологии.
В «Казанье» при споре с католиками были использова-
ны выработанные протестантской литературой анти латинс-
кие аргументы: источником такого рода послужил трактат
Зибранта Люберта (что не снимало антиреформационной
критике внутри «Казанья»). Это обстоятельство послужило
причиной обвинений со стороны католических и униатских
оппонентов в еретичестве (т.е. уступках радикальным течени-
ям в отходе от общехристианского канона) «Казанья». Сле-
дует отметить, что при многовековом бытовании памятника
в России, ему ни разу, в том числе и в период антистарообряд-
ческой критики, не было инкриминировано еретичество.
Католическими же авторами указывалось на отрицание пос-
мертного суда в «Казанье».
158
Сюжеты посмертного и Страшного судов не имеют в
«Казанье» самостоятельного значения. Автор обращается к
ним при попытке доказать несостоятельность важного элемен-
та католической теологии - учения о чистилище. В то же время
Стефан Зизаний, очевидно, учитывал критику реформацион-
ных течений, указывающих на противоречивость признания
двух судов для души: посмертного и Страшного. Новацией
Стефана Зизания явилось стремление построить целостную,
логически объяснимую и внутренне не противоречивую догма-
тическую концепцию, с рационально состыковывающимися
компонентами посмертного и Страшного судов, молитв за
умерших и неприятием православием чистилища.
В контексте традиции киевской митрополии Стефан
Зизаний настаивает на приоритете Большой эсхатологии
перед малой, усиленном в его произведении радикальным
эсхатологическим пафосом. Обращаясь к теме двух судов,
Стефан Зизаний все же пытается ответить на вопрос: где
находятся души умерших после смерти до второго пришествия
Христа? (Следует учитывать, что подходы к этой проблеме,
куда более осторожные, можно найти в ранних русских
памятниках, в частности у Кирилла Туровского, предпол-
ожившего возможное существование промежуточной стадии).
Стефан Зизаний вводит две ступени в местопребывании
душ усопших: до Страшного суда души грешников находятся
в аду, праведников - в раю: после вынесенного Христом
окончательного решения для каждой души и восстания тел,
соответственно - в пекле и царстве небесном. В этой схеме рай
и ад приобретают черты временности и неокончательности.
Безусловно, что отправной точкой поисков Стефана Зизания
послужили тексты Писания и отцов церкви, свидетельствую-
щих, что муки ада есть лишь тень грядущих после возрожде-
ния тел наказаний.
Ад характеризуется Стефаном Зизанием как преиспод-
няя, абсолютная и всепоглощающая тьма (что соответствует
Ветхозаветному шеолу - Пс. 29; Пс. 87. 7, 13; Иезек. 28, 8;
Вт. 32,2; Иов. 10, 92), пекло - как огненная сила возмездия
(что сопоставимо с Новозаветной гееной - Мф. 13, 42; Мф. 10,
28; Мф. 5, 22; Мк. 9, 43-48; Апок. 19, 20; Апок. 20, 94; Ефрем
Сирин). Разрывая в описаниях преисподней характеристики
тьмы и огня (объединенные в священных текстах), Стефан
159
Зизаний снимает тему очистительной функции огня (абсолю-
тизированном в католическом учении о чистилище). Создан-
ная Стефаном Зизанием двучленная структура потустороннего
мира позволяет отбросить в его картине чистилище. Сам же
католический постулат подвергнут в «Казанье» гневной и
эмоциональной критике.
Следует отметить, что объективно Стефаном Зизание не
отрицался посмертный суд. По крайней мере, решение о
грешности или же праведности души выносится сразу после
смерти, иона направляется в ад или рай до восстания тел в день
Страшного суда и получения в совокупности души и тела
вечной жизни или вечной смерти. Автор «Казанья» замечает,
что после смерти лишь «гръхи малый теперь не судят».
Вероятно, что последующей богословской православной мыслью
и на Украине, и в России логичная схема Стефана Зизания не
была воспринята. Но, видимо, она не была и отождествлена
с еретичеством. В восприятии памятника в России данная
концепция, скорее всего, упускалась, а акцент в прочтении
всего сочинения ставился на эсхатологических предсказаниях
и абсолютизации Большой эсхатологии.
В.С.Манаков
Сыктывкар
Рильке и Шостакович:
преодоление смерти
Имена двух выдающихся художников XX в. поставлены
рядом не случайно. Глубинно связанный с русской культурой
конца XIX - нач. XX вв. австрийский поэт Р.М.Рильке
впервые в полный голос «зазвучал» в любимой им стране в 60-
е гг. Конечно, Рильке знали у нас и раньше: знали Пастернак
и Цветаева, выходили отдельные его переводы, читали его по-
немецки. Но для широкого читателя он был открыт книжеч-
кой переводов Т.Сильман. Именно она попала к лежавшему
в больнице и задумывавшему симфонию о смерти
Д.Д.Шостаковичу. Два стихотворения Рильке - «Смерть
поэта» и «Всевластна смерть...» (Der Toddes Dichters; Der
160
Todist grob) - заняли в 14-й симфонии Шостаковича достойное
место: именно они венчают финал произведения, играя роль
своеобразного итога, обобщения всей проблематики произве-
дения.
Культурологический анализ проблемы смерти у Рильке
и Шостаковича позволяет сделать некоторые обобщения об
отношении к смерти и трагическому, во многом противопо-
ложных (и внутренне чем-то близких) культурах: европейской
начала XX в. и советской периода «оттепели».
Тема смерти занимает большое место в творчестве
Рильке. Одна из его поэтических книг называется «О бедности
и смерти», в названия многих стихов включено слово «смерть»
(«Опыт смерти», «Смерть поэта»). Многие страницы романа
«Записки Мальте Лауридс Бригге» посвящены осмыслению
проблемы смерти. О ней же Рильке размышляет в письмах,
статьях и т.д.
Осмысление проблемы смерти у Рильке должно быть
рассмотрено в культурном контексте эпохи. Решающим мо-
ментом здесь явилось, с одной стороны, формирование мента-
литета, который характеризуется «тенденцией к вытеснению
смерти из коллективного сознания»; общество «ведет себя
так, как будто вообще никто не умирает, и смерть индивида
не пробивает никакой бреши в структуре общества. В наиболее
развитых странах Запада кончина человека обставлена так,
что она становится делом одних только врачей и предприни-
мателей, занятых похоронным бизнесом» (А.Я.Гуревич).
С другой стороны, растет сопротивление подобной «ме-
дикализированной», извращенной, безличностной, «непод-
линной» смерти. И Рильке одним из первых активно выступил
против профанации таинства смерти, в защиту смерти
личностной, вытекающей из подлинной, духовно осмыслен-
ной жизни. Проблематика эта со всей остротой и бескомпро-
миссностью была поставлена в конце XIX в. Л.Толстым («Три
смерти», «Смерть Ивана Ильича», «Исповедь», «Живой
труп» и др.). Рильке, хорошо знавший и любивший творчество
Толстого, не прошел мимо этой проблемы.
Трактовка Рильке проблемы смерти будет подхвачена
экзистенциалистами и, в частности, М.Хайдеггером, написав-
шим исследование о Рильке и создавшим категорию «Бытие-
к-смерти» (Sein-Zum-Tode). Рильке пророчески предсказал
161
эскалацию «конвейерной» смерти в XX в.: смерти в газовых
камерах концлагерей, на воркутинском морозе, в Хиросиме и
Нагасаки и т.п. Он, как и его современник и земляк Ф.Кафка,
предвидел грядущий абсурд массового истребления, геноцида
по отношению к целым народам. Но он и сопротивляется
этому, следуя за великим Толстым и всей «святой» русской
литературой. Предотвратить «неподлинную», «омассовлен-
ную» (ср. в связи с этим знаменитый трактат Х.Ортеги-и-
Гассета «Восстание масс»), «среднестатистическую» смерть
может только духовно богатая личность.
Афористически точно Рильке сформулировал свое кредо
в трехстишии:
О боже, дай каждому его собственную смерть,
Умирание, которое вытекает из той жизни,
В которой была любовь, смысл и нужда.
Только творческая личность, по Рильке, может проти-
востоять распаду, хаосу и небытию. Поэтому тема смерти у
Рильке органично сочетается с темой творчества, искусства и
образом творца, преодолевающего смерть. Следуя традициям
немецкого романтизма (Новалис, Гофман и др.), Рильке
противопоставляет смерти фигуру художника, поэта-демиор-
га, возводящего в вечность «все здешнее».
Две эти темы - смерти и творчества - создают два мощных
полюса, в силовом поле которых живет подлинная трагедия.
Этот трагедийный канал остро почувствовал
Д.Д.Шостакович, который поставил рядом в финале 14-й
симфонии два стихотворения Рильке, являющиеся инвариан-
тными для его представлений о жизни и смерти.
Симфония заканчивается словами:
Всевластна смерть.
Она на страже и в счастья час.
В миг высший жизни она в нас страждет,
Ждет нас и жаждет и плачет в нас.
Однако подлинным смыслом симфонии (и это подтвер-
ждает сам композитор) является мысль о преодолении смерти
в творчестве, которая звучит в предваряющей финал части
162
«Смерть поэта» и еще раньше в возвышенно-лирпчесА<сй 9-й
части на слова В.Кюхельбекера:
Что гонения?
Бессмертие равно удел
И вдохновенных дел,
И сладостного песнопенья!
Тдк не умрет и наш союз,
Свободный, радостный и гордый!
И в счастье, и в несчастье твердый,
( «Поэты» )
Тема смерти соединяется здесь с темой творчества,
«смелых вдохновенных дел» и с темой вечности, предваряя
«Смерть поэта» Рильке, с мотивом «плода», который симво-
лизирует у него жизнь, имеющую смысл, подлинную, «свою»
жизнь. Смерть как результат осмысленной жизни творческой
личности также обретает личностный характер, становится
«своей» смертью. В «Записках Мальте Лауридс Бригге»
Рильке дает много примеров такой «подлинной», личностной
смерти, противостоящей небытию. И если в трагическом мире
Рильке и Шостаковича смерть занимает «достойное» ее место,
то несомненно и другое. Смерти у обоих художников проти-
востоит творческое усилие личности. «Гимнический» пафос
«Дуинских элегий» Рильке, как и героическое (а часто и
комическое, сатирико-юмористическое) начало у Шостакови-
ча образуют мощный противовес смерти:
Земля, я люблю тебя. Верь мне, больше не нужно
Весен, чтобы меня покорить.
И одной для крови слишком уж много.
Предан тебе я давно, и названия этому нет.
Вечно была ты права...
(«Элегия»)
Шостакович же, помимо самой внутренней логики 14-
й симфонии, комментирует (в духе времени и того «высокого
косноязычия», которое отмечал у Шостаковича Г.Козинцев)
свое отношение к жизни и смерти знаменитыми словами из
163
романа «Как закалялась сталь»: «Жизнь дается человеку
только один раз...».
Трактовка темы смерти у Шостаковича очень многопла-
нова, и я не буду ее касаться во всей полноте. Отмечу лишь,
что она не сводима только к констатации абсолютности смерти
и творчества как победы над смертью. В 14-й звучат и
гротескные, и эпические, и зловеще-шутовские («песни и
пляски смерти»), и пронзительно-лирические грани темы.
Важно показать связь двух художников в трактовке темы
смерти. Если у Рильке образ «неподлинной» смерти еще
предвосхищает страшную мясорубку XX в. (репетиция, прав-
да, уже была - первая мировая), то Шостакович создает свою
«симфонию смерти» в конце века, когда все ужасы уже
пережиты, в том числе и самим Шостаковичем. 14-я подводит
итог «веку-волкодаву», подтвердившему предчувствие ав-
стрийского лирика: «грядущий хлам» обезличил все - искус-
ство и творчество, жизнь и смерть. Произошло то, о чем
предупреждал другой поэт (Б.Брехт): «Если за человеком
хорошо не следить, то его можно в мясника превратить».
Тема смерти для Шостаковича, как и для Рильке, имеет
не только глубоко личностный, но и философски-обобщенный
смысл. Интересно в связи с этим хотя бы кратко осветить
контекст, в котором задумывалась и создавалась 14-я симфо-
ния (ее премьера состоялась в 1969 г.).
Интерес к теме смерти в 60-е гг. был связан с той
социальной и духовной атмосферой, которая сложилась в
стране после XX съезда. Общество узнало правду о сталинских
лагерях, продолжала изучаться история злодеяний фашистов
(в 13-й симфонии Шостакович использует текст поэмы
Е.Евтушенко «Бабий яр»). Издаются произведения Кафки,
Сартра, Камю. В работе Э.Соловьева об экзистенциализме
(1966) впервые вместо зловещих этикеток типа «Смертяшки-
ны во Франции» или «черные космополиты» дается глубокий
анализ нравственно-психологического содержания этой фило-
софии. Выходят исследования о С. Кирке го ре, М. Хайдеггере и
др. Все это не могло не стимулировать философскую и
художественную рефлексию о смерти. В то же время в силе
были предрассудки в отношении к философии смерти, которые
западногерманский поэт Г.Грасс обобщил в едких стихах:
164
Этот плач - вредный плач.
Тех, кто плачет, ждет палач.
Если кто-то плачет, значит
Недоволен тот, кто плачет...
Смерть - вреднейшая уловка,
Налицо - перевербовка.
Нам не может быть не враг,
Тот, кто умер просто так.
( «Детская песенка» )
Нужно было определенное мужество, чтобы посвятить
целое произведение теме смерти. Шостакович, правда, посто-
янно подчеркивал оптимистическое звучание 14-й («Я хочу,
чтобы после исполнения симфонии слушатели уходили с
мыслью: «Жизнь прекрасна»). Нельзя сомневаться в искрен-
ности этого признания композитора, но и некоторая доля
лукавства, видимо, присутствует в подобной трактовке сим-
фонии. Симфония, безусловно, одно из значительных сочине-
ний на тему смерти, когда-либо написанных в мировой
музыке. Ее трагический пафос может быть сравним с выходив-
шими в это время произведениями А.И.Солженицына.
Встреча двух выдающихся художников XX в. - Рильке
и Шостаковича - в 14-й симфонии свидетельствовала о том,
что, несмотря на казенный пафос и героизм социалистического
реализма, в обществе формируется новый менталитет. И тема
смерти явилась одним из важнейших индикаторов обществен-
ных настроений. Подлинный успех премьеры симфонии (а
автор присутствовал на первых исполнениях в Ленинграде и
Москве) свидетельствовал о том, что глубокая философская
рефлексия о смерти не является только уделом элиты, но
«овладевает массами». Без такой рефлексии (Рильке и Шос-
такович настойчиво побуждают к ней) невозможна зрелая
личность. Но наше общество только еще вступает на путь
покаяния и трагического катарсиса, и творчество великого
лирика и великого музыканта должно помочь ему в этом.
165
Н.Н. Чеснокова
Сыктывкар
ЖИЗНЬ НА ПОГОСТЕ.
ПРЕДКИ ЗЫРЯН УЖГОВСКИХ
В ИХ СОВРЕМЕННОМ ВОСПРИЯТИИ
И В АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКАХ
В современных коми селениях (как и на любых сельских
островках среди индустриализованного мира) и собственно пог-
ребальный обряд, и связанные с культом предков ритуалы, и дру-
гие проявления этнографической «некросферы» обнаруживаются
только в рудиментарном виде.
Нетолько описать сколько-нибудь целостные циклы, свя-
занные с окончанием-продолжением жизни, но даже отметить их
остаточные феномены возможно только путем исследовательской
реконструкции, восстановления элементов в теоретической
структуре.
Археологическая статистика сама по себе абсолютно невы-
разительна в качестве средства для таких реконструкций. Неред-
ко практикуемая «прямая» компаративистика этнографических
и археологических данных в их «чистом виде» тем более безре-
зультатна (точнее, ее любые результаты, скорее всего, являются
мнимыми результатами): данные обеих дисциплин неполны и
деструкгурированы, аппараты дисциплин не стыкуются; в итоге,
взаимное наращение данных дает ложный результат. Необходимы
интеграционные междисциплинарные процедуры, с одной сторо-
ны,внутридисциплинарные накопления данных до структур,
ориентированных на итоговую интеграцию, с другой стороны.
Такой методологический аппарат поиска данных для ре-
конструкции «пассеистического» пласта оказывается необходи-
мым даже при исследовании такого заведомо особенного в истори-
ко-этнографическом отношении места, как с.Ужга Койгородского
района Республики Коми.
Первое письменное упоминание об особой Ужговской волос-
ти и роспись ее угодий (территория почти совпадает с современ-
ным Койгородским районом: в нее не входит только Кобра, но вхо-
дят верхокамские речки, которые теперь вне границ района) име-
ем в Жалованной грамоте Ивана III1485 г. [1].
-166-
С XVI в. центр этой, одной из самых крупных в Северном
Приуралье, волости - Ужгинский погост, теперь д.Погост - окраин-
ная часть с.Ужга.
Жизнь старой Ужги (и ритуализированная, и обыденная)
оказывается заметно ориентированной на умерших предков,
включая подсознательное связывание с ними судьбы деревни и
своих личных судеб.
Собранные данные представим наложенными на топогра-
фический план (рис.1).
Топография в черте деревни (топография
семантических, эмоционально окрашенных и поведенческих сос-
тавляющих) может быть описана в 17-ти объектах (рис.1): 8 из них
- в набережной части и представляют собственно «погост», 3 объек-
та - на приречной периферии деревни и связаны с влиянием шевы
[2], еще 4 - сравнительно новые объекты на подгорной и приречной
окраинах деревни и связаны с функциями современной деятель-
ности.
1. Место кладбищ XIX- начала XX вв., значительно застроен-
ное или занятое огородами. Кладбищенское происхождение этой
части общеизвестно, не вызывает опасений ни для проживания
здесь, ни для земляных работ (многие расскажут о своих «наход-
ках» здесь). Отношение к месту почтительное, но это же место и
самое, пожалуй, замусоренное в деревне.
Социальный, возрастной и профессиональный состав жите-
лей этой части очень пестрый, но именно здесь - двухэтажный
барак, обитатели которого - коренные местные жители, но без домо-
хозяйства.
2. Перестроенное деревянное здание бывшей (до 1920-х гг.)
церкви; известно также каждому, ремонтированное, но пустую-
щее; здесь, конечно, также было кладбище, теперь совершенно сни-
велированное.
3. Стела в память односельчан, погибших в Великой Отечес-
твенной войне отличается от множества подобных стел, установ-
ленных в каждом коми селе, местоположением. Она располагается
не около сельсовета или клуба, как принято в других селах, а на
«погосте».
4. Старый нежилой дом сельского священника: «поп-дом»,
известный любому жителю.
5. Отдельно стоящая береза - место собраний и встреч жите
-167-
Рис. 1. Археолого-этнографический комплекс Погост.
Ситуационный план (нумерация объектов - по тексту)
-168-
лей, место сбора для общественных сельскохозяйственных работ и
в прежнее, и в настоящее время.
8. Кладбище, вероятно, XIX в. (может быть, и более древнее),
предшествовавшее кладбищу около церкви (?) или дублировавшее
его (?). Место низкое, над устьем пересохшего ручья, размываемое.
По словам жителей, периодически вымываются гробовые доски и
кости. Отношение к нему, похоже, двойственное: почтительное
(захоронены предки), но боязливое, если не несколько брезгливое
(не «заложные» ли покойники там, выяснить не удалось).
9. Место деревянной часовни XIX в. Старики ее уже не
видели.
10. «Иордань» нар.Сысоле. Использовалась на памяти по-
жилых людей.
6, 7,15, 16 - объекты па периферии «п о г о с т а» с
отрицательным знаком, со знаком опасности:
6. Дом «шевы». Шева - феномен коми традиции, вредоносное
начало, поселяющееся в человеке, обычно в женщине (и человек, и
начало именуются шевой). Это не совсем колдунья, поскольку зло
может происходить от нес помимо се воли, но и не только субстан-
ция, поскольку зло происходит из ее действий. Зло (собственно
шева) подобно заболеванию, постигшему человека, - порча. Шеву
можно вселить и изгнать. Выражается в обессиливании, корчах,
истериках и прочих признаках. Женщина-шева обычно известна
во всех деревнях данной сельской округи. Ее злая сила, считается,
передается, как правило, дочери. Ужгинская шева - пожилая
женщина довольно крупного телосложения (большинство женщин
этой округи невысокого роста, худощавые). Ходит с тростью, выде-
ляется теплой одеждой и большими шерстяными шапками, кото-
рые носит даже в теплую погоду. О ней рассказывают посторонне-
му крайне редко, только в очень доверительных беседах. Приписы-
вают ей вину в заболеваниях (истощение, заболевание костей и
головы и тому подобное). Рассказывают, как была однажды уста-
новлена ее вина в заболевании: больная обратилась к знахарке из
села Визинга (150 км от Ужги, но это ближайшая знахарка, которая
не менее сильна, чем ужгинская шева), знахарка заговорила воду
в ведре и велела женщине смотреть на воду; та увидела в воде лицо
шевы; болезнь несколько ослабла, но совсем не исчезла В домах
тех, на кого напущена шева, брать что-либо съестное не стоит.
Нельзя женщину-шеву фотографировать - будет вредить со сним-
ка. Рассказывали о том, как она брала злую силу у своей матери,
-169-
когда та умирала, а будущая шева, склонясь, смотрела ей в глаза,
просила: «Отдай силу!» Шеву зовут Анной, называть ее фамилию
все молчаливо уклонились [3].
7. Дом на окраине деревни (и близ кладбища, вышепрону-
мерованного 8), принадлежащий родственникам шевы. Вызывает
отрицательную оценку и опасения: в нем, говорят, постоянно кто-
нибудь умирает. Хозяева в нем постоянно не живут (ночуют в
другом доме), безуспешно пытаются продать.
16. Дом, в котором живет женщина, на которую была напу-
щена шева. В нем, как упоминалось, есть не следует. Сама хозяйка
дом не любит, хотя ведет хозяйство, но ночует в другом доме.
15. Часть реки ниже иордани и деревни с кладбищами.
Здесь купаться не рекомендуется (без рациональных причин).
Считается, что в Тихонов день, в праздник этой деревни (28 июня),
кто-то должен утонуть в Сысоле ниже Погоста (а глубина здесь
редко более 1 м). Действительно, к несчатью, именно в этот день в
один из сезонов нашей экспедиции именно так произошло, и не с
погулявшим сельчанином: утонула семилетняя девочка, утром
этого дня (рабочего дня, праздничной суматохи не было) поехав-
шая в соседнюю деревню, - и говорили об этом, почти как о долж-
ном.
Объекты N 17 (рис.1) - современный административный и
торговый центр всего с. Ужга. Здесь многоквартирный дом, клуб, и
все-таки здесь не наблюдается концентрации общественной жиз-
ни.
Гуляние Тихонова дня происходит на «погосте»: в те дома
идут в гости.
«Приходит» Тихонов день с холмов к северо-востоку от д.По-
гост, со стороны удаленной, уже почти нежилой, части Ужги. В этот
день, считается, должна быть, кроме утопленника, сильная гроза
(в период нашего пребывания ее все-таки не было - объясняли
«другими временами», когда все нарушилось; был сильнейший
пожар на сеносушилке без явных причин - это было воспринято
как эквивалент).
Кто такой Тихон - не может, по существу, обьяснить никто
(св. Тихону посвящен один из престолов церкви в с.Палауз в со-
седнем районе в часе езды от Ужги, но с ним праздник соотносят
редко, а о самом святом рассказывать не могут). Сам вопрос вызы-
вает удивление: Тихон - предок (абстрактней) и все.
Холмы, и не только те, откуда начинался когда-то Тихонов
-170-
день, отмечены вниманием. Картина округи д.П о г о с т
заслуживает описания и в восприятии жителей, и по докумен-
тальным (археологическим) данным.
Жителям д.Погост присуще редкостное ощущение ландшаф-
та округи (в радиусе около 3 км).
Оно выражено в обилии микротопонимов (нарицательных и
собственных) и точек, неименованных, но адекватно понятных
собеседникам-информантам по множеству примет, приписывае-
мых этим точкам. В действительности эти «приметы» либо неза-
метны для постороннего (они часто просто тривиальны и могут
быть соотнесены с какой угодно другой точкой), либо не существуют
вовсе: это некая топографическая «конвенция» старожилов-одно-
сельчан.
Оно выражено также в готовности поведать был ички, свя-
занные с отдельными малыми урочищами. Сюжеты совершенно
обыденны: шел некто, встретил кого-то (такого же обычного встреч-
ного из своих же односельчан) и далее в том же духе, - но повество-
вания эмоциальны, заметно приятны рассказчикам.
В этой топографической картине выделены отдельные хол-
мы, родники и отдельные участки поля и леса.
Выделенные жителями Погоста объекты, нужно отметить, в
большинстве достаточно обычны (верхнесысольская долина изоби-
лует поднятиями и провалами ледникового возраста). Их класси-
фикация (отмеченные в названиях и рассказах и не отмеченные
все остальные) не выглядит обоснованной какими-либо естествен-
но-географическими или хозяйственными особенностями объек-
тов. Жители соседних деревень эти же точки (в том числе, и на
равном с Погостом удалении) уже не отмечают, знают о них понас-
лышке.
Среди них визуально примечательны только холмы за юго-
западной окраиной деревни ( NN11-12): со стороны реки они отк-
рываются над крутой сысольской излучиной тремя шлемо-
видными вершинами и контрастным цветом песчаного обнаже-
ния. Из других точек видны их необычные контуры, напоминаю-
щие ступенчатые пирамиды, и узкие овраги между холмами, по-
хожие на искусственные рвы.
По народной версии, это насыпные сооружения неизвестно-
го времени. Часть сельчан утверждает, что здесь похоронены их
предки.
На распаханной поверхности среднего и нижнего (рис.1:12)
-171-
холмов нами найдены мелкие фрагменты лепной керамики срав-
нительно раннего возраста (без абсолютной датировки, но древнее
XVII в.). В свое время жители находили здесь монету начала XVII
в. [4]. Постоянны находки человеческих костей, высыпающихся с
надбережной стороны верхнего холма (N 11), - остатки кладбища
неизвестного времени (вероятнее, 150-200 лет назад).
Частично такая моделировка крутого берега могла произой-
ти при многолетнем распахивании, в период устройства заводс-
кой пристани в XVIII-XIX вв. также могли быть произведены ка-
кие-то планировки поверхности.
С другой стороны, жители Погоста в рассказах игнорируют
весьма достопримечательное (и по историческому факту, и по
своеобразному виду «музея под отрытым небом») место рядом с
деревней - руины пристани XYIII в.: видимо, это чужое заводское
место никак не включалось в деревенскую картину, хотя конечно
же, многие ужгинцы здесь в свое время работали.
«Свой» ландшафт жители Погоста, конечно, регулярно ис-
пользуют и посещают. Эта часть их быта никак не регламентирова-
на современным распорядком землепользования (жители Погоста
равно с жителями других ужгинских деревень - работники одного
совхоза, их рабочий день может проходить, Как и у остальных
ужгинцев, вне «своей» округи, а жители других деревень могут
оказаться по наряду в погостинских урочищах; личные же участки
все они имеют при своих домах, без выхода в округу). Поэтому
«традиционные деревенские маршруты» (за ягодами-грибами, с
выпасом личного скота, молодежные прогулки) можно считать
дополнительной этнографической информацией.
У жителей Погоста таких маршрутов три, к северу и к запа-
ду от деревни (рис.1). Каждая точка вдоль них описана в былин-
ках, связывается каким-либо образом с отдаленными предками, а
конечные точки - с «чудью».
На «маршруте 1» точка N 21 - родник, общеизвестный в де-
ревне («вы его сразу найдете, он дышит»); он совершенно заглох-
ший (мы искали его около недели), но наше недоумение рассеялось
однажды, 16 августа: из устья родника весь день шла высокая,
видимая издалека струйка пара, к вечеру исчезнувшая. Родник
находится в ложбине, над которой возвышается холм Чудь-гу (N
20). Здесь отдыхают пастухи, прежде чем гонят стадо дальше в лес
(как оказалось, только до половины августа - до «дыхания» родни-
ка). Здесь с нами еще здоровались, чего не делали глубже в лесу.
-172-
Здесь, на Чудь-гу и на полях вокруг, видимо, места старин-
ных селищ: встречаются фрагменты архаичной гончарной керами-
ки. Эти места не обозначены в переписях последних двух веков, по
памяти старожилов, здесь никто не жил: вероятнее, эти местиа
обитались в XYI-XYIII в.в.
За лесом после Чудь-гу следует небольшая росчисть Кваш-
ня-керос (N 22) - конечная точка выгона стад, место, где в 1930-е г.г.
жители Погоста сажали картошку. Устройство картофельных по-
лей на расстоянии 3 км от деревни, в то время как между ними и
деревней, а также вокруг нее, остаются неиспользуемыми сколько
угодно точно таких же по качеству площадей (без административ-
ных запретов), невозможно объяснить рациональным крестьянс-
ким расчетом.
К предыдущей информации примыкают «нештатные» то-
пографические ситуации. В период наших экспедиционных работ
случился большой лесной пожар размахом на 20 км к северу от
Квашни-керос, но около нее огонь удалось подавить. Вид выгорев-
ших лесов и факт остановвки огня у заветного урочища (буквально
на его границе), кажется, еще более усилили особое к нему отноше-
ние.
Здесь в 1939 г. П Д.Степанов обнаружил скопление неорна-
ментированной керамики, 1рузило, обломок железного предмета и
бронзовый бубенчик, который датируется XII-XIII в.в. [5]. Далее к
северу, уже довольно в глухом лесу, мы обнаружили скопления
гончарной керамики, - вероятно, следы обитания 2-3 века назад
(рис.1: N 23).
Восточнее Квашни-керос удалось обнаружить могильник
XIII в. (pnc.l.N 24) Ужга-1, исследованный экспедицией СГУ «Па-
мятники истории и культуры »[6].
Погребальные ямы имеют обычную форму и размеры: прямо-
угольные и вытянуто-овальные, в среднем 1,9 х 0,6 м, некоторые
немного больше или меньше. Ямы образуют нечеткие ряды вдоль
края возвышенности, ориентированы меридианально с небольши-
ми отклонениями, - все обычно для средневековых могильников
Северного Приуралья.
Не вполне обычно то, что во всех погребениях зафиксирован
обряд трупоположения с так называемым расчленением погребен-
ных и кучным захоронением их останков на ограниченных участ-
ках в придонной части могил.
-173-
В трех погребениях могильника Ужга-1 обнаружены прак-
тически целые черепа. Во всех трех случаях черепа, как и другие
останки, захоронены не в анатомическом порядке. Между тем,
напомним, это ингумация. Наличие черепа проясняет топографию
захоронения, поэтому опишем эти случаи (погребения 3,13 и 15)
более подробно.
В северо-западной части погребения 3, ца достаточном уда-
лении от северной стенки, обнаружен череп молодой женщины,
обращенный лицевой стороной на запад, украшенный низкой бус
и пронизок вокруг налобья. За теменной частью черепа в верти-
кальном положении находилась железная поясная пряжка, поза-
ди затылочной части положен железный дверной замок, - можно
сказать, классическая атрибутика «замыкания покойника».
Череп окружен (бессистемно) фрагментами разных частей
костяка, среди которых нижние трубчатые кости, фрагменты пле-
чевого пояса и другие. В других частях того же погребения 3 нахо-
дились скопления мелких косточек - также в смешанном, неана-
томическом состоянии: большое скопление у северо-западного
угла (среди них косточки второго черепа, а также и метаподия), у
северо-восточного угла (в том числе, фрагменты фаланги, за-
пястья, большой и малой берцовых, бедренной и другие), несколько
меньшие скопления вдоль восточной стенки (в том числе, содер-
жавшее вместе фрагменты черепные, фаланги, бедра, большой бер-
цовой и другие).
Скопления локализированы при трех углах (в отдельных
углисто-песчаных линзах размерами 30-40 м в поперечнике) и
рассеяны в юго-восточном секторе погребальной ямы. У южной
стенки погребения 3 найден бронзовый перстень, судя по размеру,
женский.
Если погребение 3 крупных размеров (2,50 х 2,40 м), то про-
чие ямы имеют совершенно обычную для могил величину и форму.
В погребении 13 Ужги-1 череп без нижней челюсти лежал
(лицевой частью на запад) у южной стенки. Останки ингумации
все в южной же половине погребения, вдоль него на дне: в центре -
бедренные, сбоку - плечевая, южнее - большая берцовая, плечевая
и неопределимые; картина, не соответствующая анатомическому
порядку (если не вообразить фантастическое для древних коми:
погребенный согнут сидя, головой вперед).
Железные наконечники стрел сопровождали погребение:
один - острием в восточную стенку, другой - ближе к середине,
-174-
третий между останками и западной стенкой. В центре погребе-
ния находился железный, согнутый предмет. Два бронзопроволоч-
ных колечка (диаметром по 16-17 мм) находились на противопо-
ложных стенках.
В погребении 15 Ужги-1 в центре вдоль ямы - крупный фраг-
мент доски, в северо-восточном углу - череп (лицевой частью на
восток) поверх трех крупных фрагментов других частей костяка
(таза, бедра и плеча) и рядом с большой берцовой. Сопровождали
захоронение два железных предмета к северу и к югу от центра
ямы.
Прочие захоронения Ужги-1 - также ингумации и также у
дна обычных грунтовых могил. В принципе они однотипны с опи-
санными погребениями, но содержат не целые черепа, а их мелкие
фрагменты.
В погребении 2 останки в двух скоплениях: вблизи северо-
восточного угла (фрагменты плечевого пояса, малая берцовая и
другие) и при южной стенке (определим фрагмент нижней челюс-
ти); особняком, у середины западной стенки, находилась сломан-
ная (две половины друг на друге) малая берцовая кость. При пер-
вом скоплении5 бусин и спиралевидная пронизка, при втором -
еще одна бусина.
В погребении 14 очень мелкие черепные фрагменты погре-
бенного (может быть, не одного), два зуба неопределимые рассыпа-
ны также двумя полосами (шириной около полуметра каждая): от
северо-восточного угла до западной стенки (с постепенным углуб-
лением) и вблизи юго-западного угла. Фрагменты черепа были
среди косточек в обеих противоположных частях. При скоплениях
находилось по два мелких бронзовых украшения (пронизки и
привески). В центре могилы, среди большого пространства без
материала, лежали две кости (бедренная и берцовая) и дугообраз-
ный железный фрагмент.
Этот вариант, - скопления косточек, ссыпанные от двух
противоположных углов в сопровождении мелких бронзовых ук-
рашений, разделенные пустым интервалом, а также разновид-
ность - с помещением железных (круглых и согнутых) предметов, -
встретится и в могильнике Ужга-2.
Тот же вариант - захоронение только в одной из половин
ямы.
В погребении 1 Ужги-1 фрагменты костяка (плечевого пояса,
верхних и нижних конечностей, позвонок и 30 неопределимых) и
-175-
мелкие черепные косточки залегали на участке 70 х 70 см в север-
ной половине. Вокруг, по северной стенке и углам, найдены 6 мел-
ких бронзовых украшений (пронизки, бубенчик, привеска) и 2 бу-
сины.
Погребение 1 отличается отсутствием характерной приуро-
ченности рассыпанных в могиле останков только к одному из се-
верных углов. Наземный (на уровне древней поверхности) комп-
лекс находился у его северо-западного угла. Это темноцветная
линза 1,60 х 0,95 м, глубиной 3-8 см, вытянутая под прямым уз лом к
погребению, содержавшая до пяти десятков мельчайших челове-
ческих косточек (большинство - черепные, а также фрагменты
фаланги, метаподий, лучевых), мелкие украшения (2 бусины, бу-
бенчик и привеска), железную дужку и истлевшее нечто деревян-
ное с железной пряжкой.
Вряд ли это поминальный комплекс, - может быть, наземное
погребение или остатки того, что ссыпано в яму погребения 1 (ее
северо-западный угол почти смыкается с углом линзы). В погребе-
нии 8, которое находится в 1 м к северо-западу от этой линзы (в
другом ряду, чем погребение 1), скопление костных останков
(очень мелких, определима только одна черепная косточка) с
фрагментами бронзовых украшений (щиток подвески, накладки)
приурочено к юго-западному углу - точно против описанной лин-
зы.
Сходная ситуация в 0,4 м от восточной стенки погребения 6:
на древней дневной поверхности линза (около 0,30 м в поперечни-
ке) с органическими включениями, с более, чем сотней человечес-
ких (черепные, зуб, позвонок, ребро и неопределимые) очень мел-
ких косточек, с бронзовой зооморфной подвеской и деформирован-
ным железным обломком. Против линзы в погребальной яме 6 и
концентрировались останки, окруженные (3 бубенчика и бусина).
В двух погребениях У жги-1, в 11-м и 9-м, специфические
находки сделаны у южных краев. Погребение 11 (без костных ос-
танков, со спиралевидной пронизкой у середины восточной стен-
ки и фрагментом подвески в северо-восточном углу) содержало па
придонном уровне вблизи южной стенки две находки, которые
можно определить как «жертвенный комплекс»: зуб лошади и,
ниже, железный нож.
В погребении 9 (в самом длинном: 2,60 м) северная половина
пуста, костные останки (грудного пояса и неопределимые) в 0,60-
0,75 м от южной стенки, при ней - деревянная конструкция: при
-176-
юго-западном и юго-восточном углах и частично вдоль стенок
зафиксированы обугленные плашки в три ряда на высоту 16-26 см
(три венца?) и крупная необожженная доска под одним из углов.
У нижних «венцов» найдены два ножа: один (необычно
крупный) лежал на обугленной плашке вдоль восточной стенки,
другой уходил острием в угли южной стенки. В центре обугленной
конструкции находился бронзовый перстень (по размеру, мужс-
кой).
Наличие мелкого медного предмета при южной стенке отме-
чено выше в погребениях 1 и 3. Железные острые предметы (нако-
нечники стрел), в том числе помещенные острием в стенку, отме-
чены выше в погребении 13 с черепом. Железные вещи характери-
зуют также захоронения 10 и 12.
В погребении 10 фрагменты костяка рассыпаны узкой поло-
сой от северо-западного угла до центра северной половины ямы,
постепенно углубляясь (зубы, берцовая, черепная,); у восточной
стенки лежали крупные части черепа. Верхние точки полосы ос-
танков отмечены находками мелких железных фрагментов, а
нижняя - находкой железного кресала (N 212) - известного погре-
бального атрибута с «огненно-культовой» семантикой.
В погребении 12 на дне, у центра, железная пряжка и оско-
лок малахитовой пластинки. Верхние края стенок, где сосредото-
чены останки, отмечены несколькими железными фрагментами.
Погребения с отчлененными черепами, с расчлененными и
кучно захороненными костяками - не новость в финно-угорской
археологии. Более того, В.В.Седов считает такую обрядность «свой-
ственной всему финно-угорскому миру» и «несомненно связан-
ной с их древними мифологическими представлениями», публи-
кует свод примеров захоронения умерших с отчлененной головой,
зафиксированных в самых разных областях ареала, в двух основ-
ных типах: 1) тело погребено по обычаю соответствующей культуры,
но голова помещена особо (в ногах, в особой камере могилы, среди
костей жертвенных животных, с особым убранством); 2) погребе-
ние только головы [7].
Т.В.Истомина выделила погребения с черепами в центре
как особый специфический тип захоронений перми вычегодской,
отметив его на многих могильниках культуры древних коми [8]. По
данным в обобщающей работе ЭА.Савельевой, количество таких
погребений 21, или 1,8 % всех вымских погребений [9].
У других соседей древних ужговцев, родановцев Северного
-177-
Прикамья, намеренно разрушенные костяки зафиксированы в
одном могильнике (в Аверинском I, датирующемся XII-XIV вв.), в
13-ти из 19-ти сохранившихся ингумаций: нижние половины ске-
летов целы, а верхние, в перемешанном состоянии, находятся на
них [10].
Могильник Ужга-1, в сравнении с этими данными, отлича-
ется, во-первых, тем, что здесь разрушения костяков (и в большин-
стве погребений черепов также) полное, а их захоронение произ-
ведено ссыпанием останков с одного или одновременно двух краев
(углов) могильной ямы, а во-вторых, тем, что это не отдельные
случаи, а практика на всем древнем кладбище. Даже единствен-
ное детское захоронение (погребение 4) представлено двумя детс-
кими зубами в центре маленькой могильной ямы.
Захоронения с отсеченной головой, отдельно головы, с расч-
лененной верхней частью костяка и подобных типов исследовате-
ли чаще всего ставят в связь с «реинкарнацией - верой в возрож-
дение души, которая... обитает в голове и волосах... или которая (по
повериям коми, например) является двойной и в одной своей
части остается в теле и после смерти человека. Отсечение головы
лишало душу возможности к возрождению...» [11 ]. Обезврежива-
ние тех, кто при жизни был связан с нечистой силой, у кого была
подменена душа (в голове) - цель рассечения покойного по этой
версии. У родановцев, по наблюдениям РД.Голдиной и ВА.Кана-
нина, с этой целью могилы перекапавались их современниками,
разрушались уже погребенные костяки [12]. В историческое время
такую практику имели ханты. Уже христианизированные финны
умершим самой «нечистой» категории, убийцам детей, отрубали
голову, в соответствии с народной традицией, перешедшей в госу-
дарственную норму [13].
ЭА.Савельева и Т.В.Истомина иначе объясняют этот обряд у
предков коми; связывают его с символикой продолжения жизни, с
представлениями, согласно которым расчленение способстует
возрождению [14].
Древние ужговцы, устраивая могильник к северу от совре-
менного Погоста должны были опасаться всех погребенных там.
Ужга-1 в таком случае может быть интерпретирована как кладби-
ще «залежных покойников» целиком. Однако, и второй могильник,
синхронный первому, к западу от Погоста у р.Сысолы по результа-
там раскопок первых восьми погребений перспективен на точно
такую же картину.
-178-
Могильник Ужга-2 (на рис.1 - объект N 25), как и первый,
находится на завершающем отрезке «деревенского маршрута» и
так же на склоне холма, так же детально «размеченного» в местной
микротопонимике. Юго-западная часть холма называется «Ти-
хон-гу дор» («сямами, с могилами Тихона»), южная - «Паля-яг»
(«лес Пали»). Как и в первом случае, место связывается с чудью (но
гораздо реже фигурирует в рассказах), в том числе, с зарытыми
Тихоном кладами, с золотом в ямах (но не с погребениями). Кто
был Тихон, не знают («кто-то из первых жителей», но не святой
Тихон, не тот, чей день празднуется), его причисляют (как и Палю)
к «предкам».
Ряды могильника XIII в. занимают западный склон Тихон-
гу-дора. Из 40-50 погребений раскопками исследовано 8 [15].
Как и на первом могильнике, все захоронения совершены в
обычных (прямоугольных, около 2 м в длину) грунтовых ямах по
обряду ингумации. При некоторых отличительных особенностях (в
частности, где гораздо большее количество мелких и мельчайших
костных останков) погребения типичны по описанным уже приз-
накам: останки ссыпаны на небольших участках при одном из
углов ямы или при диагонально-противоположных углах [16]. На
данном могильнике это - северо-западный и юго-восточный углы.
И здесь останки окружены редкими экземплярами сопровождаю-
щего инвентаря: мелкими украшениями, железными режущими и
колющими предметами, «замыкающими» атрибутами. Как и в
первом могильнике, в части погребений Ужги-2 зафиксированы
обугленные фрагменты деревянных внутримогильных конструк-
ций - вероятно, срубных, со столбиками на углах.
В погребении 16 Ужги-2 зафиксированы остатки такой кон-
струкции, срубно-столбовой, возможно, с настилом по дну и, очень
вероятно, двухчастной. В юго-восточном углу и в направлении от
него к центру найдено 72 мелких косточки (плечевого пояса, ко-
нечностей, лопатки и таза взрослого человека, до трех десятков
черепных косточек, фрагменты челюсти и зуб). Создалось впечат-
ление, что фрагментированный, рассыпающийся костяк был поло-
жен в этой половине ямы ногами к северу, к центру погребения,
вдоль восточной стенки конструкции, начиная от ее юго-восточно-
го угла (без места для головы), а фрагменты черепа рассеяны по
всему участку с останками.
На уровне останков вдоль восточной стенки найдены два
железных предмета. Несколько необычная находка на втором сни-
-179-
зу «венце», кремневый скребок на сегментовидном отщепе, в пог-
ребении могильника XIII в. может быть объяснена как «подъемка»,
сделанная средневековым населением на стоянке (рис.1: N 26)
эпохи бронзы-железа (вспомним заметку А.С.Сидорова о сборах
древних кремневых орудий подчеремскими крестьянами, чуть ли
не мешками хранившими их по домам; в эпоху до появления
кремневого ружья скребок мог послужить либо огнивом, либо осо-
бенной вещью).
На втором, северном участке погребения 16 среди 47 необож-
женных косточек «анатомический порядок» также отсутствует, но
преобладает расположение верхних фрагментов костяка ближе к
северной стенке, а южнее их - нижних фрагментов. При останках
обнаружены косточки жертв: двух особей бобра и неопределимого
млекопитающего. Вблизи восточной стенки находились оселок,
железное шило и железный клин, а обломок железного ножа - у
северо-западного угла.
Два железных круглых фрагмента с клепками найдены у
дна ямы в ее срединной части - между участками рассыпанных
останков.
В погребениях 14 и 22 Ужги-2 скопления косточек находи-
лись вблизи северо-западного угла. В погребении 14 на участке 0,3
х0,3 м, несколько углубляясь к центру погребения, более десятка
человеческих косточек (среди них две черепные), в сопровожде-
нии жертвенного млекопитающего (вид неопределим) и спирале-
видной пронизки; по стенкам ямы - мелкие украшения (6 бусин и
бубенчик).
В погребении 22 костные останки (более 30, большинство
черепных, а также ребро, позвонок и неопределимые) рассыпаны
двумя узкими полосами от северо-западного угла к северной
стенке и к центру. Вокруг них многочисленные (29 экз.) мелкие ук-
рашения, которые образуют нечеткие ряды в плане северной поло-
вины ямы: вероятно, останки ссыпаны на нечто расшитое спирале-
видными пронизками и медными трубочками, с бусинами и кони-
ческой пронизкой в центре, с бубенчиками и привеской. Неболь-
шое количество косточек (среди них определимы черепные) ссыпа-
но также от юго-восточного угла того же погребения. В центре пог-
ребения - железное кольцо.
Самый, может быть, важный факт погребения 22 Ужги-2 ус-
тановлен остеологом: по определению П АКосинцева, здесь предс-
тавлено, весьма вероятно, более одной особи. Поскольку абсолютное
-180-
большинство останков - черепные косточки, фактически речь идет
о захоронении двух или более черепов вблизи северо-западного
угла.
Захоронено не менее двух человек и в погребении 17 Ужги-2
(заключение П А.Косинцева). Здесь представлен уже известный
по Ужге-1 (погребения 9 и 13) вариант захоронения с железными
острыми предметами в стенках и углах деревянной внутримо-
гильной конструкции: нож воткнут на уровне древней дневной
поверхности острием к столбику в углу могильного сруба, а плохо
сохранившийся черешковый предмет, возможно, наконечник
стрелы - острием под основание того же столбика, другое острие -
под основание диагонально-противоположного столбика; нако-
нечник стрелы и коррозированный предмет уходят остриями в
обугленные плашки восточной стенки.
Погребение 15 Ужги-2 в северной половине не содержало
находок. В центральной части найдены черепная кость человека,
обломок железного ножа, железный наконечник стрелы, у середи-
ны западной стенки - три железных наконечника стрел (рядом,
остриями на север вдоль стенки) и еще два (один на другом, остри-
ями навстречу предыдущим), вблизи юго-западного угла - фраг-
мент еще одного.
Магическо-обереговая функция острых железных предме-
тов (в частности, стрелы - символа мужского начала, власти, воз-
действия на природу) уже около столетия обсуждается в этногра-
фической литературе [17], обычай втыкания их в стенки срубов
или под их углы достаточно известен и по археологическим, и по
этнографическим данным, в том числе у коми [18]. Точно так же не
нуждаются в дополнительном обсуждении такие погребальные
атрибуты как железное кресало (погребение 10 Ужги-1) и его ана-
лог в кремне (погребение 16 Ужги-2) [19], железный замок (погре-
бение 3 Ужги-1) [20] и его каменная параллель - оселок (погребе-
ние 16 Ужги-2), который, возможно, несет знаковость и всех пере-
численных предметов вместе [21]. Это - атрибутика замыкания-
размыкания покойника, как и окружение его останков украшени-
ями [22]. Последние в Ужге-1 и Ужге-2 только мелкие и незатейли-
вые, в отличие от выразительных убранств, которыми окружались
отсеченные останки на Выми и на Каме. Помещение останков при
углах внутримогильных срубов также вполне объяснимо: как ме-
тафора красного утла.
Менее понятен факт наличия сразу двух синхронных и
’181-
сравнительно близко расположенных могильников с описанным
обрядом, если исходить из посылки, что расчлененные погребен-
ные - «заложные», порченые и вредоносные. Однако, как раз такие
междисциплинарные транспозиции как заманчивая для архео-
лога возможность перенести к объяснению своего материала то, что
зафиксировано у хантов или финнов нового времени, проблема-
тичны.
То, что стало ритуалом особых ситуаций, за пол-тысячеле-
тия до того могло быть обычной нормой (возможно, для данной
группы населения, поскольку, как известно, всеобщей нормой XIII
в. было все-таки обычное трупоположение), или реликтовой обыч-
ной нормой (поскольку, если справедливо, что в эпоху средневе-
ковья расчленение костяков было специфически финно-угорским
обрядом, то в предыдущие эпохи его этнический ареал гораздо
шире), или еще чем-то, а так же и мерой для ограждения от покой-
ников или для их защиты.
Нельзя совершенно исключить и возможность вскрытия пог-
ребений, намеренного разрушения костяков и перезахоронения
смешанных останков в нештатных ситуациях: так поступали сла-
вяне нового времени [23] и другие двоеверующие. Нельзя совер-
шенно исключить реализацию никакой из возможных идей о свя-
зи миров, поскольку и составляющие этих идей, и звенья практики
их воплощения, и предметные кодировки перемещаются в своих
рядах.
В данном случае можно не сомневаться только в том, что
археологическая эмпирика непротиворечива семиотической кон-
цепции: топография внутри могильных срубов и вещный набор
при их простоте и однотипности дают «чистую» картину, которая
на этнографических материалах коми-зырян реконструируется
ВА.Семеновым [24].
Особая некро-идеология древней Ужги транслировалась,
конечно, в мировосприятие современной Ужги. Хронологического
перерыва и этнических перемен между ними, весьма вероятно,
вообще не было. Между временем описанных могильников и пись-
менно зафиксированной Ужгой 1486 г. (с подробнейшими перечис-
лениями в Грамоте, не оставляющими сомнений в основательнос-
ти освоения) около двух веков, в течение которых предположи-
тельно существовало, в частности, селище Ужга-4 на южном скло-
не того же холма Тихон-гу-дор (рис.1: N 27). Легендарная чудь
182
Ужги относится ктипу «своей чуди»: ее считают здесь предками,
претерпевшими какие-то беды (голод, болезни).
«Деревенский маршрут» N 2 современных жителей Погоста,
окончание которого (с поворотом назад или с неглубоким перехо-
дом вглубь противоположного берега р.Сысолы, навстречь «марш-
руту 3») на холме Тихон-гу-дор, проходит у «холмов предков»
(рис.1: NN11-12), включает современное кладбище (рис.1: N 29),
Паля-яг и неизвестное жителям селище XVI-XVIII вв. Ужга-5 (N
28). Это - аналог «маршрута 1», который также проложен через
неизвестные современным жителям археологические остатки се-
лищ XVI-XVIII вв. (рис.1: N 18). «Маршрут 2» также заканчивается
огородами в лесу, но скот сюда не гоняют. «Маршрут 2» обходит
стороной старинную заводскую пристань (N 13), где в Ужгу ведет
наиболее короткая и удобная дорога: ни одного встречного на ней и
несобранные ягоды вдоль нее.
«Маршруты 3» начинается противсакрализованной зоны
д.Погост и через брод ведет на левый берег, который также указыва-
ется как место жилищ чуди, но реже и без вразумительного ответа,
«своя» ли это чудь. Маршрут 3 используется для пастьбы, в основ-
ном до Тихонова дня и с половины августа. Этнографически и ар-
хеологически этот маршрут еще не исследовался.
Четвертым «маршрутом», с холмов с востока-северо-восто-
ка, пользуется не сельчанин, а приходит, напомним, Тихонов
День: там, в своеобразном «красном углу» округи мыслится перво-
поселение «своей» чуди - неопределенная часть натурного прост-
ранства предков (эпифеномен такого восприятия в виде органи-
зации крестного хода широким кольцом по лесам и полям сельской
округи зафиксирован по воспоминаниям старожилов Нючпаса в
Койгородском же районе).
Погост и его округа - территория деревни с зонами священ-
ной, портящей и порченой, река с зонами очищения и жертвы,
незаселенная округа с «маршрутами» космологического содержа-
ния - конечно, единый идеальный комплекс современого восприя-
тия сельчан (ими самими, естественно, не анализируемый), озна-
ченный в привычно-бытовом коде. Подобные пространственные
организации теоретизированы в этнологической семиотике, в ра-
ботах А ББайбурина особенно.
Совершенно нормальное сельское восприятие «всего вмес-
те»: с чудью, с шевой, с Тихоновой грозой и утопленниками, с одной
стороны, с сиюминутными заботами и лозунгами, с другой стороны
183-
- абсолютно типичная северно- крестьянская неэкзальтирован-
ность и способность интегрировать разные идеологии. Крестьянс-
кая умиротворенность, может быть, позволяет жить атеизму, ре-
ликтам христианства и языческому подсознанию вместе и нераз-
дельно. Такой тип духовной культуры не нуждается в специаль-
ном «спасении». Пассеистический пласт этой культуры, как изло-
жено выше, имеет натурно-топографическое структурообразова-
ние. Сохранение исторического ландшафта здесьусловие сохра-
нения традиционной культуры.
* * *
1. Доронин П. Документы по истории коми // Историко-фи-
лологический сборник. Вып.4. Сыктывкар, 1958.
2. Шева - один из видов порчи (в отличие от насылаемой
магическими действиями бесовской силой, от сглаза и других
видов порчи), известных у коми, - феномен, отмеченный в свое
времяГ.СЛыткиным в Словаре коми языка, документально опи-
санный А.С.Сидоровым(Знахарство, колдовство и порча у наро-
да коми. Материалы по психологии колдовства. Л., 1928. С.69-92),
зафиксированный и другими исследователями. География этого
феномена, как он описан в литературе, ограничивается восточной
частью Вычегды, средней Печорой и Ижмой, Удорой. Сысольская
шева (из с.Визинга) описана только однажды (в том же труде
А.С.Сидорова, с.72).
3. Здесь имена информантов не приводим (публикация -
уже вмешательство в жизнь Погоста, что нежелательно). Описа-
ния и ссылки см. в научном отчете по программе «Народы России»:
Археолого-этнографические комплексы Погост и Возино в Респуб-
лике Коми. Сыктывкар, 1992 (научн.рукНеснокова Н.Н, испол-
нители: Добычин Г.Н. и др.).
4. Савельева ЭА., Малышев Н.П. Отчет об археологических
исследованиях Северодвинской экспедиции в 1974 г. // Научный
архив Института археологии РАН. Р-1. Л.40.
5. Степанов П.Д. Отчет об археологических работах по
р.Сысоле. Сыктывкар, 1939 // Архив Коми республиканского крае-
ведческого музея. И нв. N142, А-23.
6. Добычин Г.Н., Чеснокова Н.НОтчет о раскопках Уж-
гинского могильника в Койгородском районе Коми ССР в 1991 г. //
Научный архив Института археологии РАН. Р-1. - 31 лл.
-184-
7. Седов В.В. Об одной особенности погребальной обряднос-
ти финно-угров//Древности славян и финно-угров. Спб., 1992. С.91-
94.
8. Истомина Т.В.Погребальный обряд перми вычегодской.
Автореф. дис... К.И.Н.Л., 1984. С.10-11.
9. Савельева ЭАВымские могильники XI-XIV вв. Л .,1987.
С17.
10. Голдина Р.Д., Капанин В.А.Средневековые памятни-
ки верховьев Камы. Свердловск, 1989. С.38-39. •
11. Седов В.В Указ. соч. С.94.
12. Голдина Р.Д., Кананин В.А. Указ.соч. С.38-39.
13. Пентикайнен Юха. Покойники без статуса // Семиоти-
ка культуры: Тезисы докладов III Всесоюзной школы-семинара, 15-
20 сент. 1991 г. Сыктывкар, 1991. С.68-69.
14. Савельева Э.А., Истомина Т.НДдеологические пред-
ставления древних коми по данным погребального обряда // Фин-
но-угры и славяне: Проблемы историко-культурных контактов.
Сыктывкар, 1986г. С83.
15. Чеснокова Н.Н., Волокитин А.В., Добычин Г.Н.,
Кожухова Н.А. Отчет о работах экспедиции «Памятники истории
и культуры Коми» Сыктывкарского госуниверситета в 1992 г. // На-
учный архив Института археологии РАН. Р-1, б.н. Лл. 74-ТДрбы-
чин Г.Н.,Чеснокова Н.Н. СЬчет о раскопках Ужгинских 1 и 2 мо-
гильников в Койгородском районе республики Коми в 1993 г. //
Научный архив Института археологии РАН. Р-1, б.н.. - 50 лл.
16. Остеологические определения по могильникам Ужга-1 и
Ужга-2 выполненыП.А.Косинцевьн^Уральское отделение РАН),
которому автор искренне благодарен: без квалифицированных
определений этих многочисленных, крайне фрагментированных
мелких останков никакие реконструкции, обряды не были бы воз-
можны.
17. Одна из недавних публикаций с библиографией на эту
тему: Кызласов ИЛ. Ранние формы осознанного воздействия че-
ловека на природные силы //Археологические источники об общес-
твенных отношениях эпохи средневековья. М.,1988. С.143-166.
18. Сидоров А.СУказ. соч. С.123-131.
19. 0 языческой символике кресал - публикация и библиог-
рафия: Голубева Л.А Семантика изображений на огнивах с
бронзовыми рукоятями // Материалы по археологии Европейского
Север-Востока. Вып. 12. Сыктывкар, 1993. С.176-184.
•185-
20. 0 замках в магической практике зырян: Сидоров А.С.
Указ. соч. С.149-150.
21. Семенов В.А.Традиционная духовная культура коми-
зырян: Ритуал и символ. Сыктывкар, 1991. С.45-47.
22. 0 бронзовых шумящих подвесках в магической практике
зырян: Сидоров А.С Указ. соч. С.130.
23. Виноградова Л.Н. Чтобы покойник «не ходил»: комп-
лекс мер в составе погребального обряда // Истоки русской культу-
ры (археология и лингвистик): Тезисы докладов. М., 1993. С.41-42.
24. Семенов В.АУказ.соч. С.39-59.
186-
СОДЕРЖАНИЕ
Вместо предисловия 3
Белоусов А.Ф. Из истории русской «кладбищенской» поэзии:
стихотворение К.Случевского «На кладбище» 4
Востриков А.В. Убийство и самоубийство в деле чести 23
Исупов К.Г. Русская философия смерти (ХУШ-ХХ вв.) 34
Власов А.Н. Эпизод « преставления » святого как структурный
элемент житийного текста (на материале памятников Устюжской
литературной традиции) 53
Волкова Т.Ф. Повести и легенды о табаке в контексте
мифопоэтических представлений о смерти 75
Великова В. Семиотический анализ «слов» Климента Охридского
(к вопросу о понимании термина «смерть» в раннесредневековой
болгарской литературе) 95
Теребихин Н.М. Мифология островной культуры Русского
Севера 107
Семенов ВА.О некоторых способах организации и описания
космоса народами уральской языковой семьи (к интерпретации
числовых дефиниций) 115
Несанелис ДА., Шарапов В.Э. Тема смерти в детских играх:
опыт этносемиотического анализа (по материалам традиционной
культуры коми) 122
Семенов ВлА. «Ритуальный двойник» в похоронном обряде
саяно -алтайских скифов (Эволюция погребального обряда
кочевников Южной Сибири) 135
Макарова Л.М.Смерть в мировоззрении национал-социализма 142
Хелльберг-Хирн Е. Живая и мертвая вода 151
Пентикайнен Ю.Смерть без статуса в народных представлениях
финнов 154
Опарина ТА. Структура потустороннего мира в представлениях
Стефана Зизания о посмертной судьбе души 158
Манаков В.С.Рильке и Шостакович: преодоление смерти 160
Чеснокова Н.Н. Жизнь на погосте. Предки зырян ужговских в их
современном восприятии и в археологических источниках 166
187-
Смерть как феномен культуры
Межвузовский сборник научных трудов
Отв. редактор В АСеменов
Редактор М АИльина
Компьютерный набор и верстка: МАИльина, Е.БКокшарова
Технический редактор С.Б.Свигзова
Корректор В.В.Ганова
Подписано в печать 15.03.94. Формат 60x84/16. Бумага тип. № 2.
Печать офсетная. Усл.пл. 11. Уч.-издл. 10,2.
Тираж £00 экз. С. 145. Заказ № 59.
ИПОСГУ.
167001. Сыктывкар, Октябрьский пр., 55.