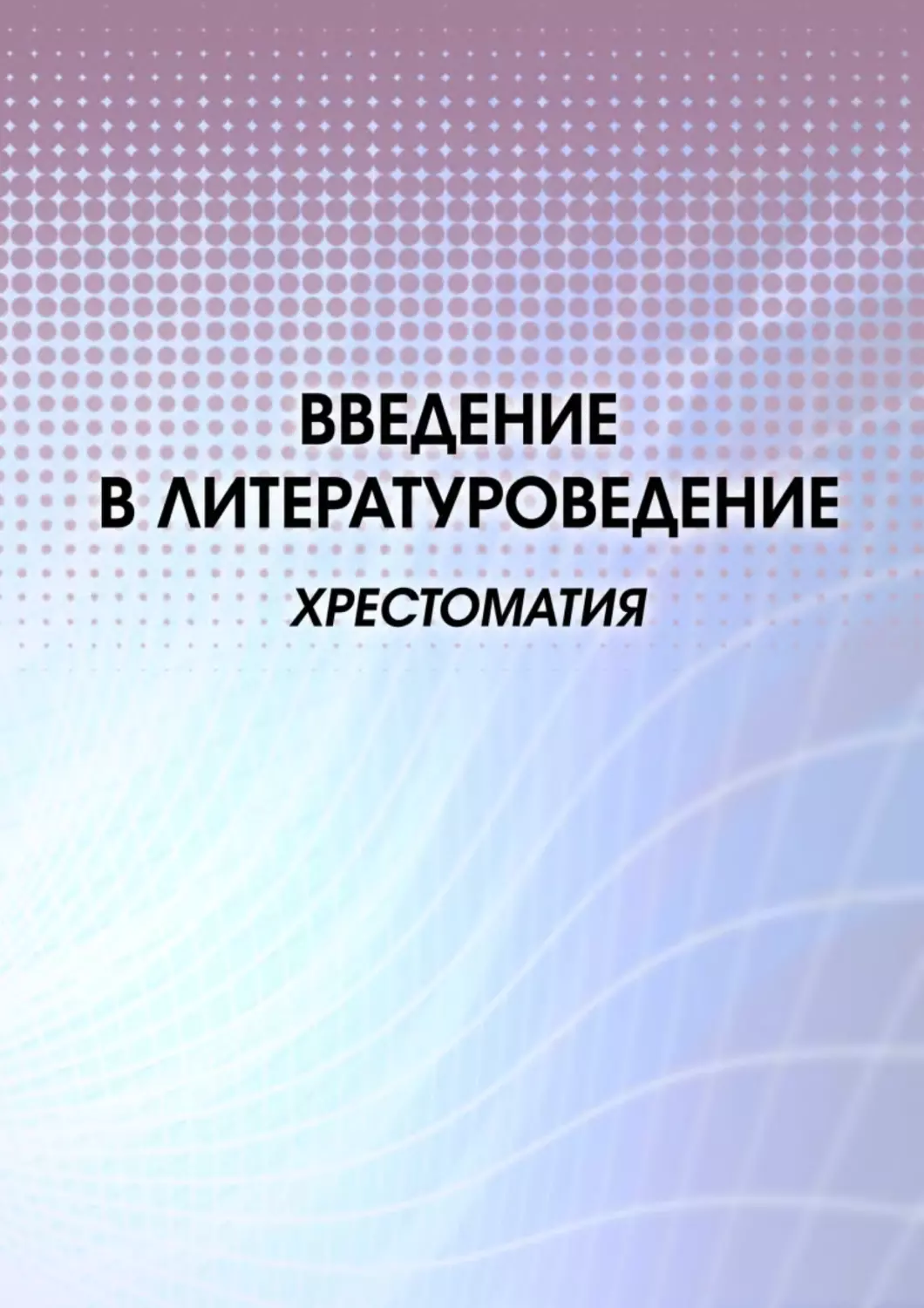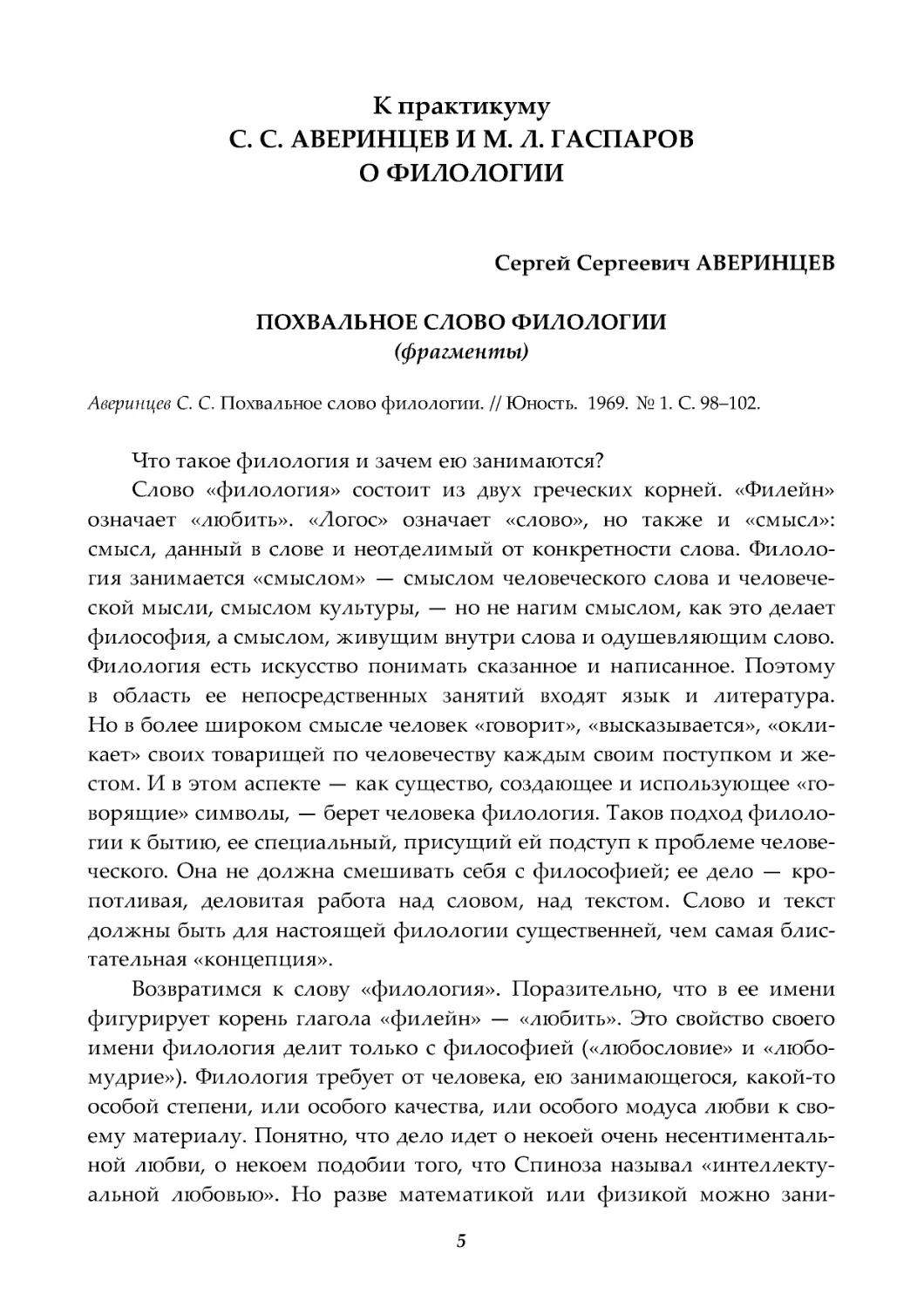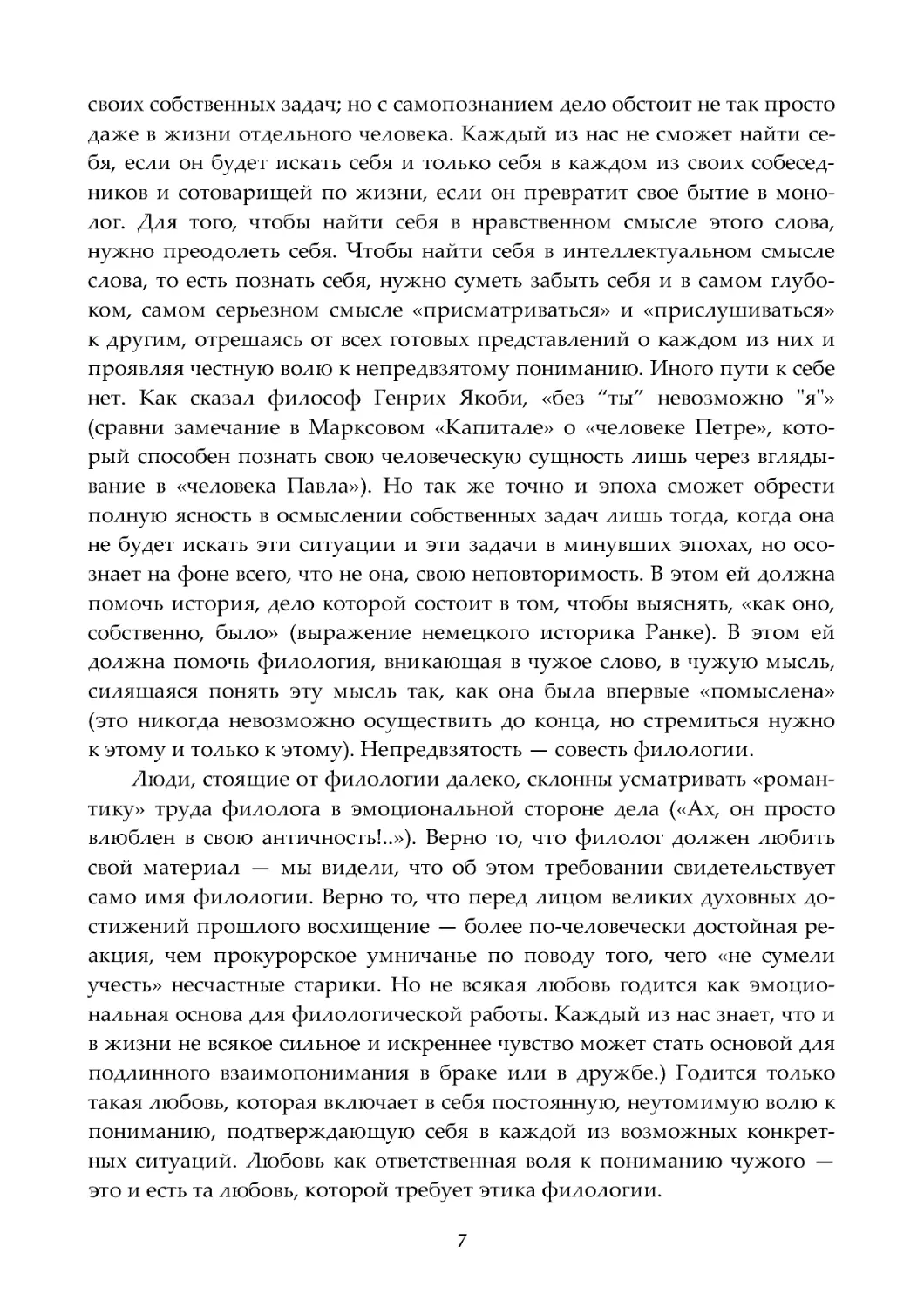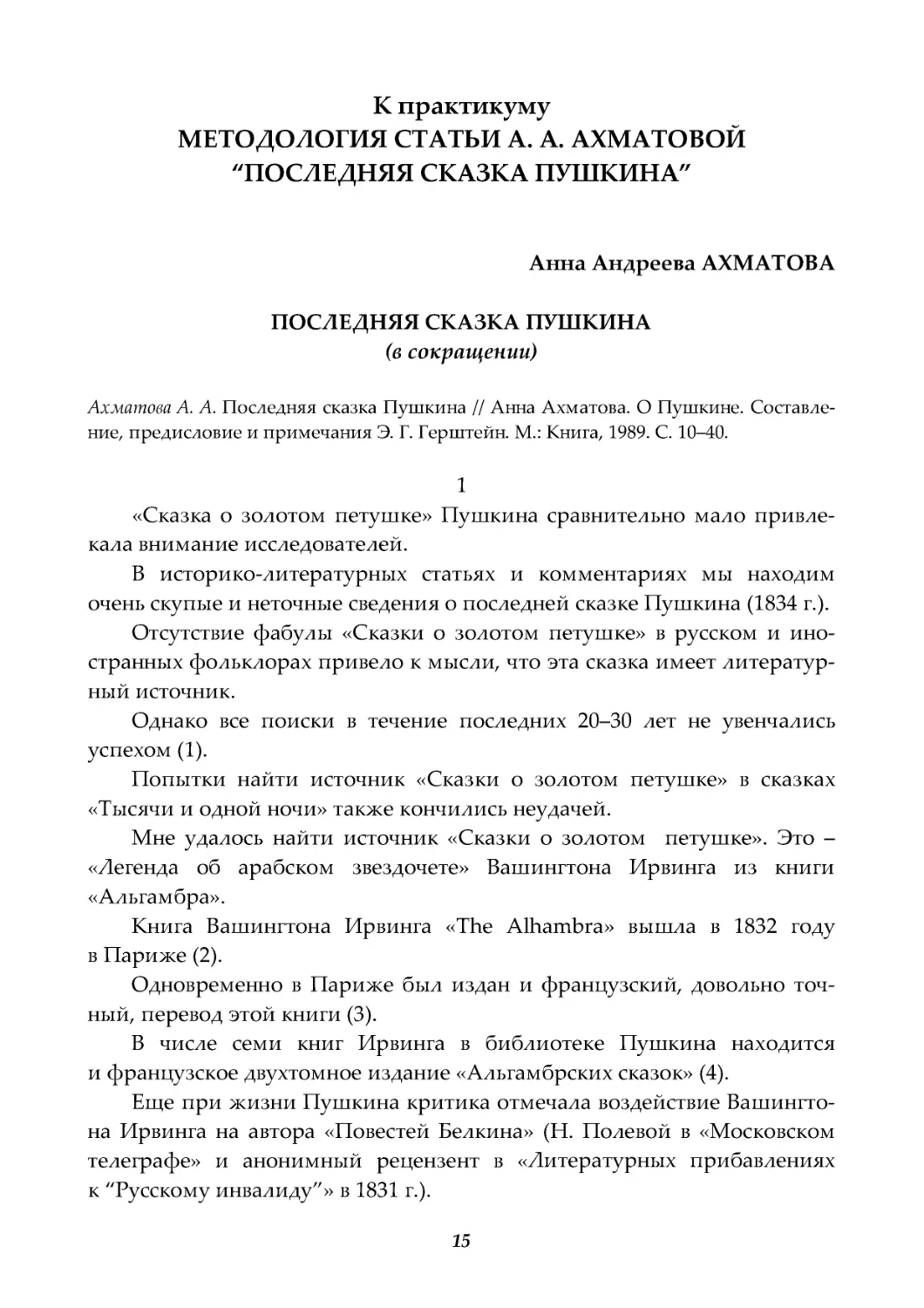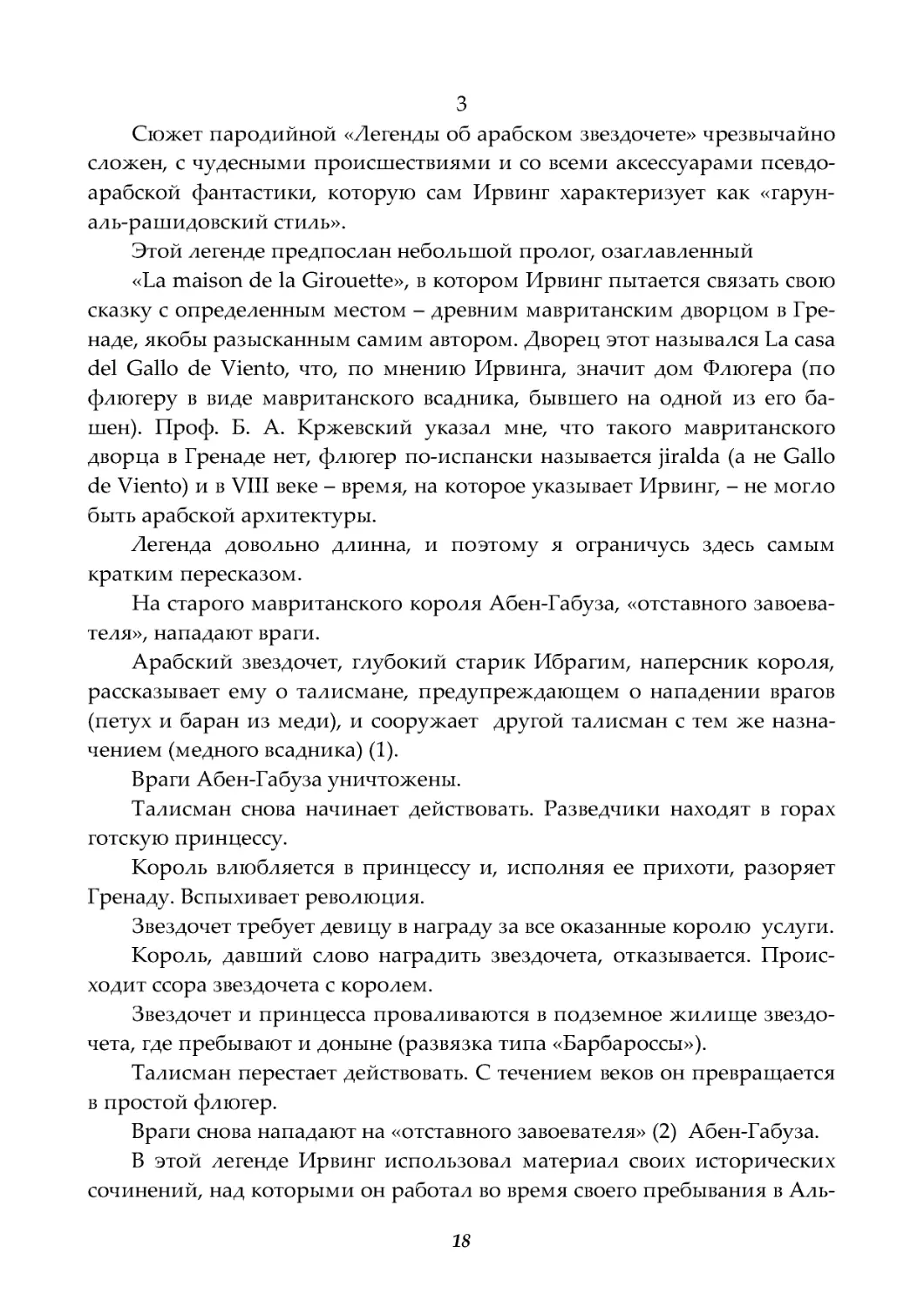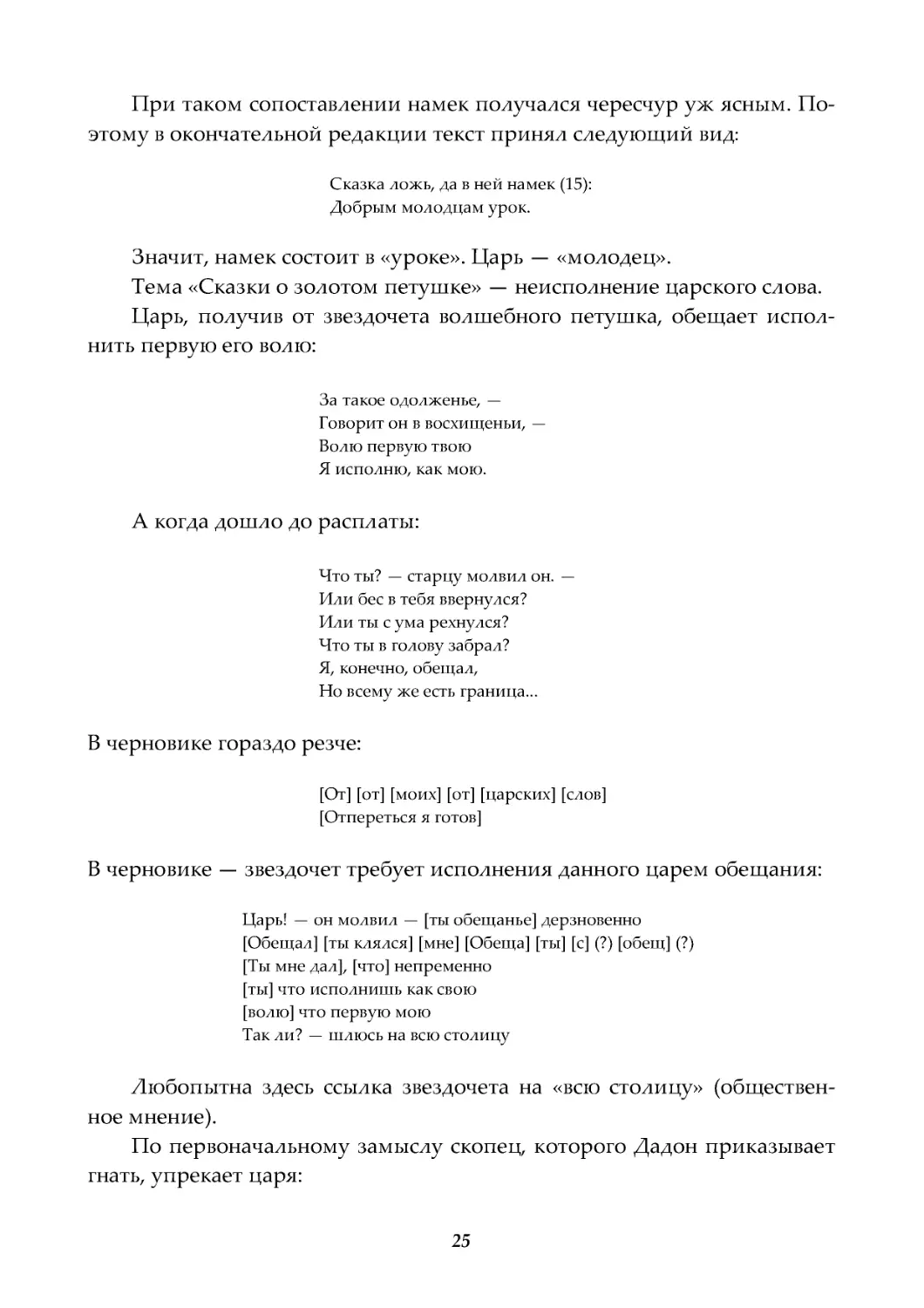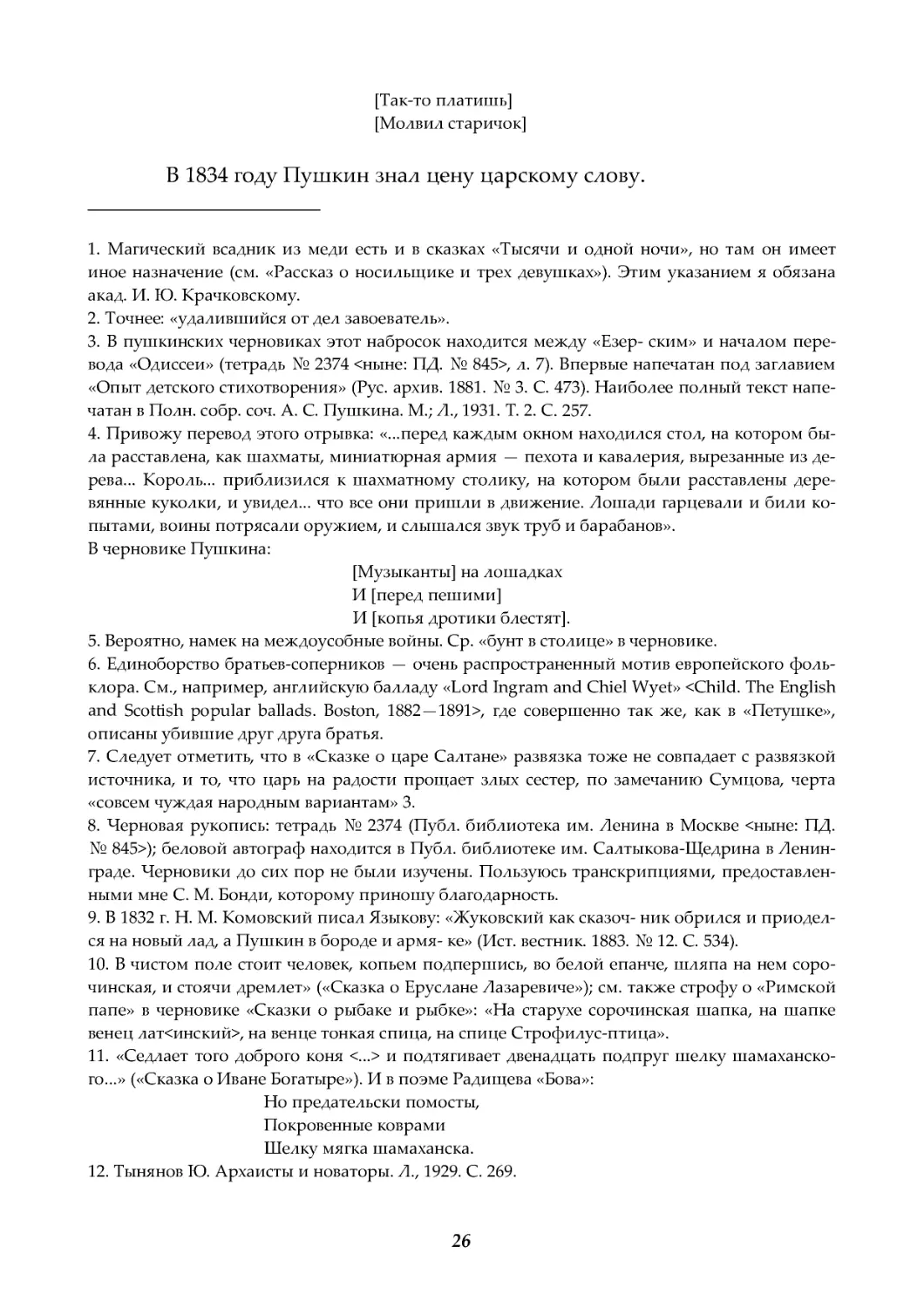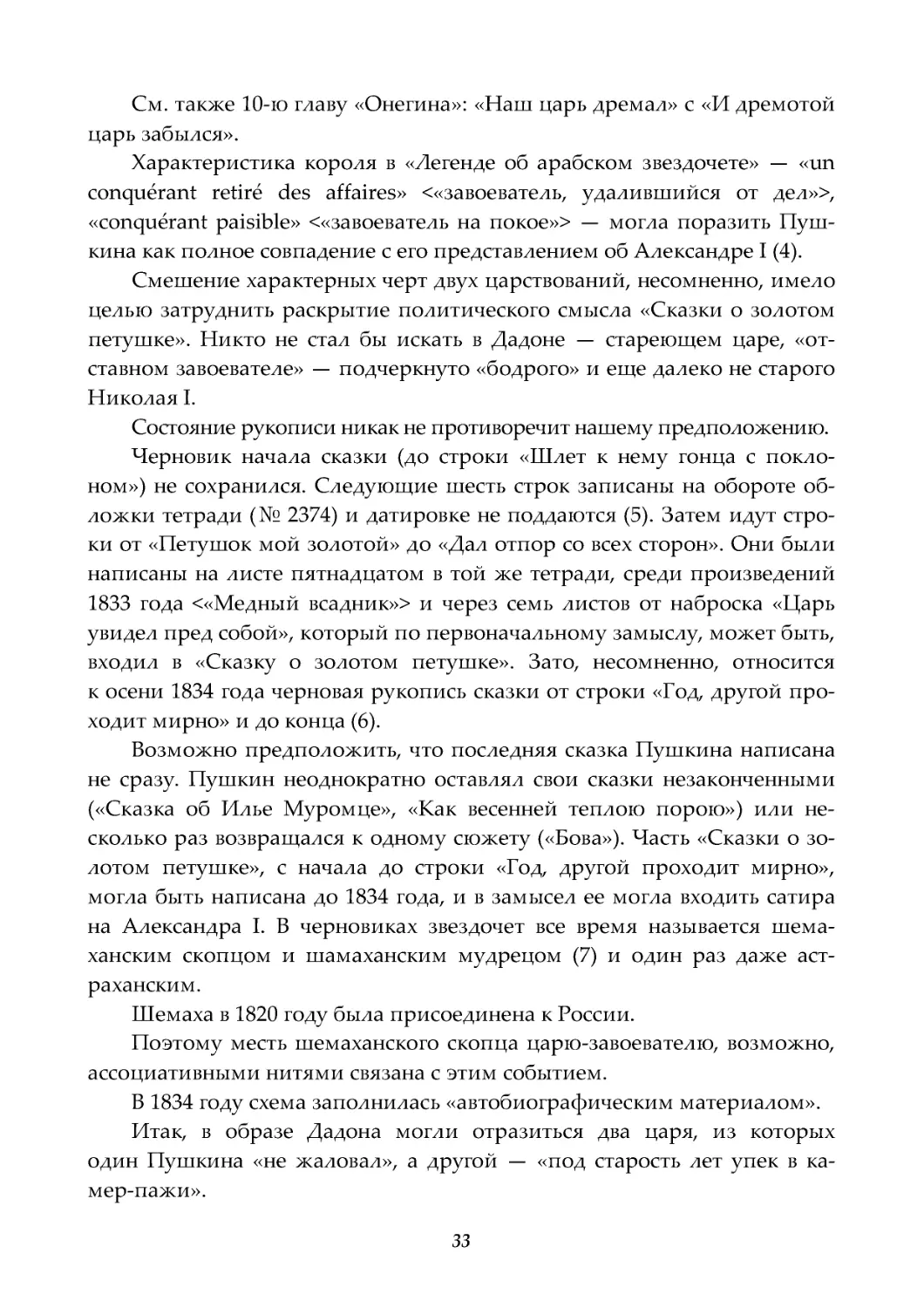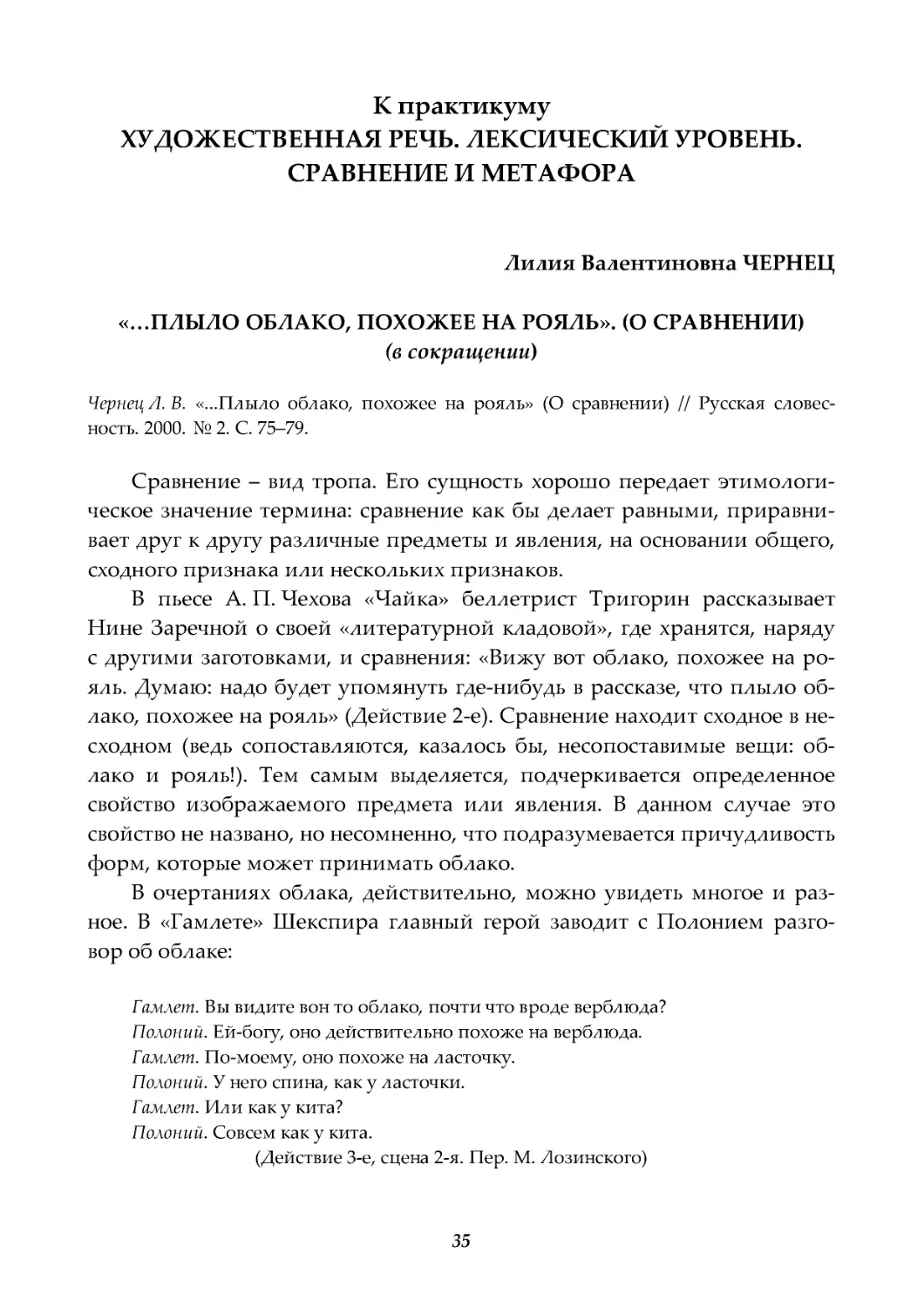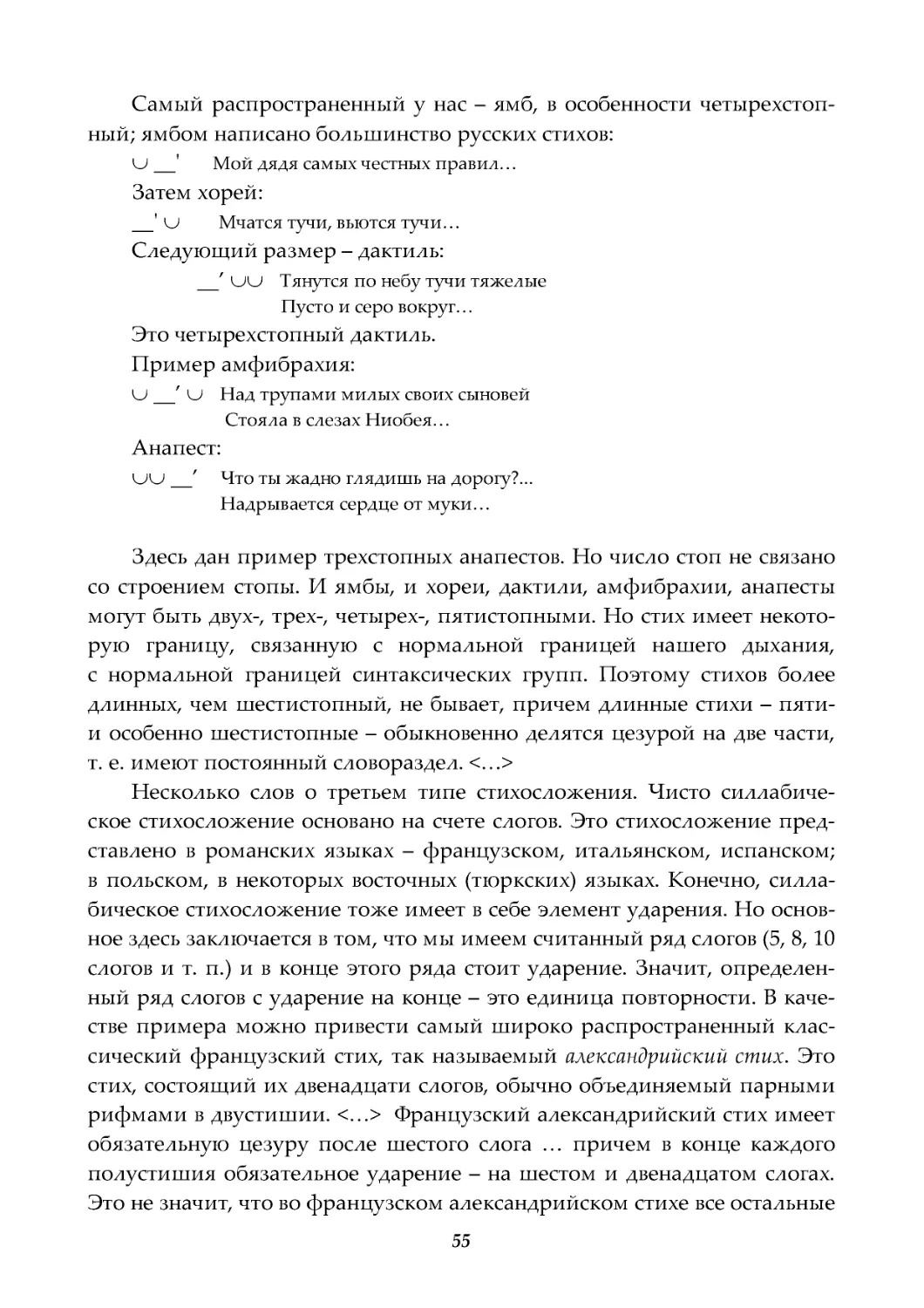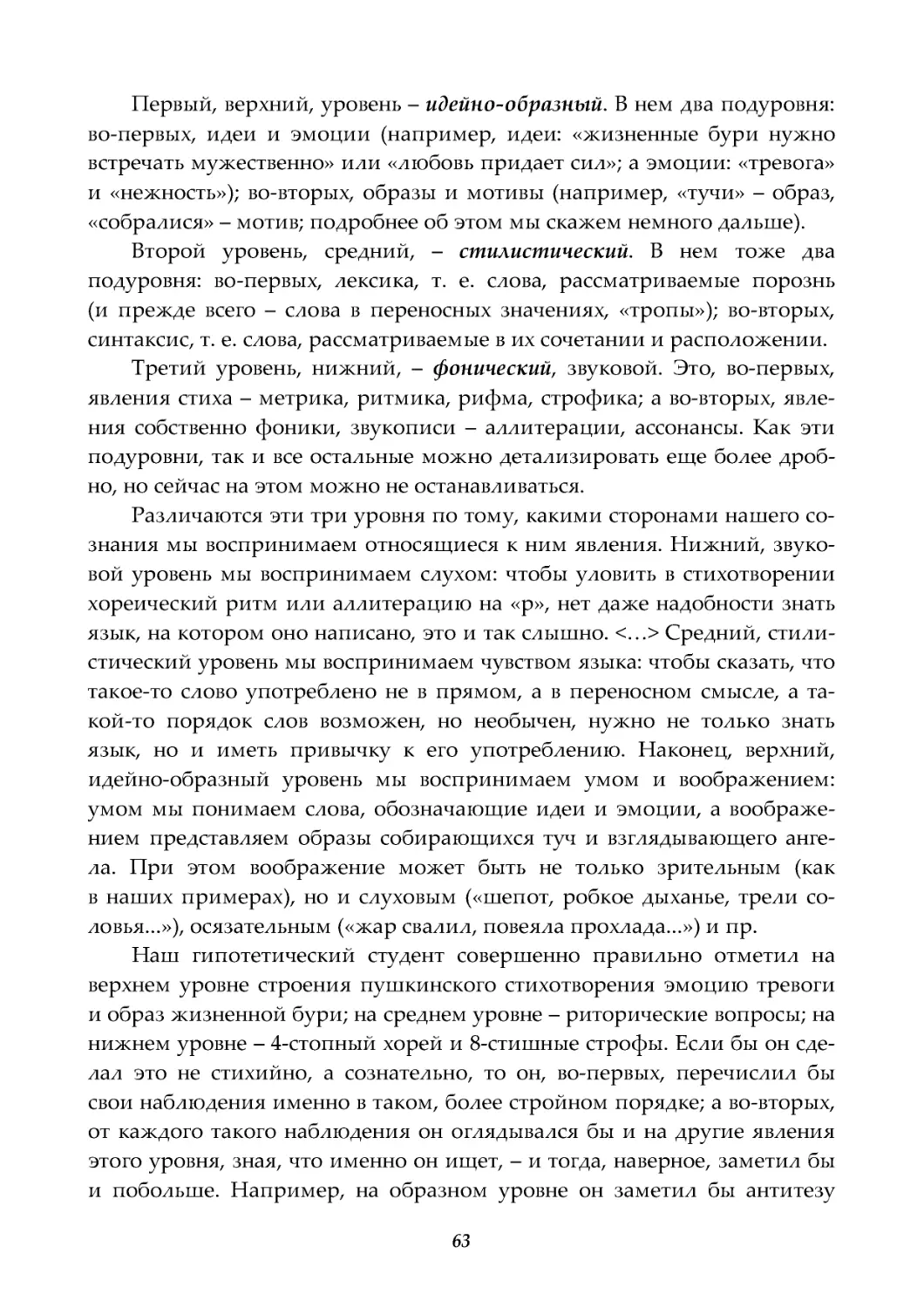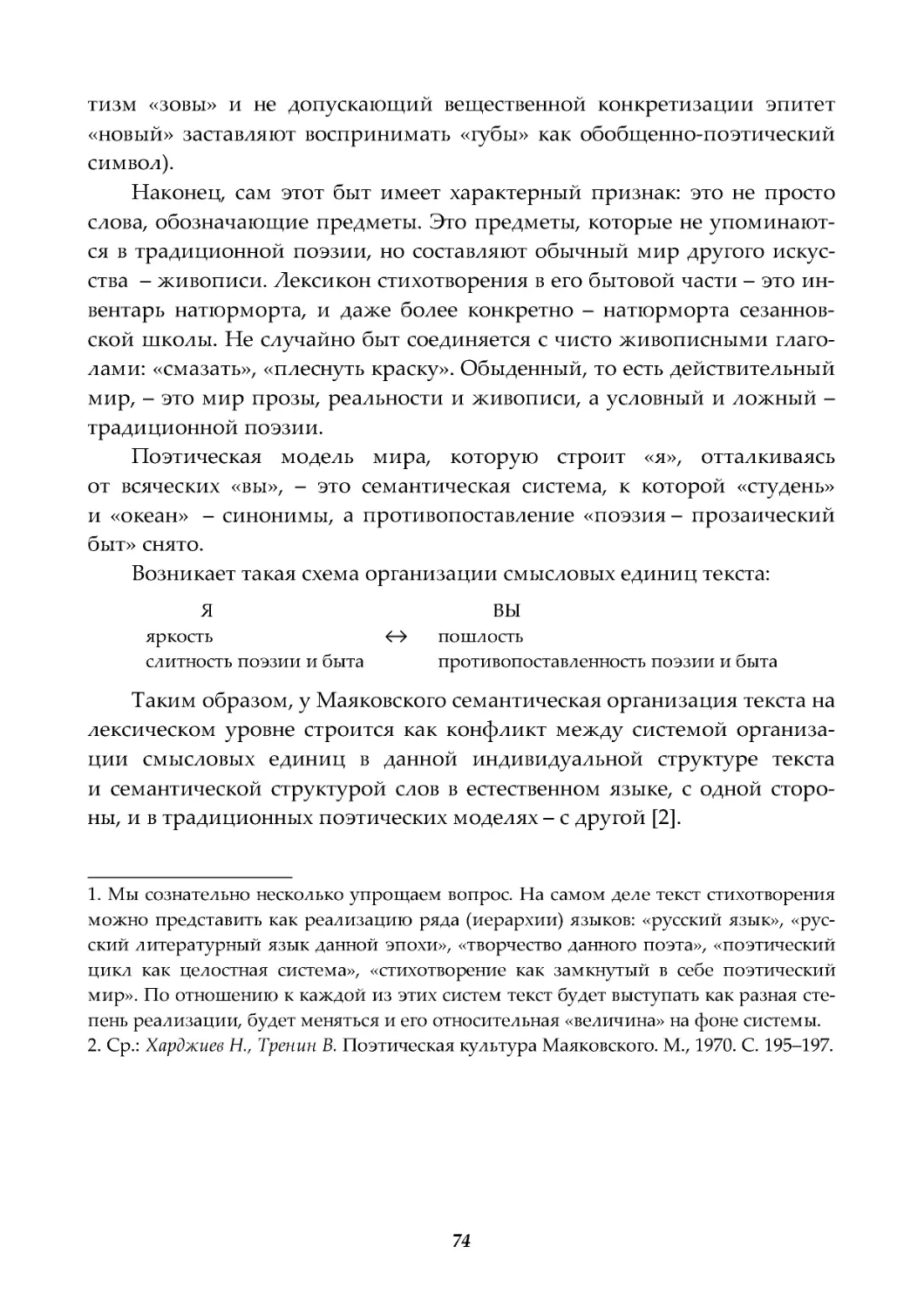Текст
Министерство просвещения Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический
университет им. Л. Н. Толстого»
Факультет русской филологии и документоведения
Кафедра русского языка и литературы
ВВЕДЕНИЕ
В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
Хрестоматия
Тула
ТГПУ им. Л. Н. Толстого
2021
2
ББК 83я73
В24
Рецензент –
кандидат филологических наук Т. Б. Богатырева
(Тульский государственный университет)
Составитель –
кандидат филологических наук И. В . Ерохина
В24
Введение в литературоведение: Хрестоматия [Электронный ре‐
сурс] / Сост. И. В. Ерохина. – Электрон. дан. – Тула: Тул. гос. пед. ун‐т
им. Л. Н. Толстого, 2021. – 1 электрон. опт. диск (CD‐ROM). – Ми‐
нимальные систем. требования: Intel Celeron 1700 Mhz и выше,
128 Мб RAM, 300 Мб на винчестере, ОС Microsoft Windows 7
и выше; дисковод CD‐ROM 2x и выше, SVGA 64 Mb; мышь. – Загл.
с этикетки диска. – ISBN 978‐5‐6045162‐1‐8.
Хрестоматия входит в учебно‐методический комплекс дисциплины
«Введение в литературоведение», изучаемой на первом курсе бака‐
лавриата направления 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки), направленность (профили) Русский язык
и Литература. В пособии представлены тексты, знакомство с которыми
необходимо для подготовки практикумам.
ББК 83я73
ISBN 978‐5‐6045162‐1‐8
© И. В. Ерохина, составление, 2021
© ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2021
3
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие ......................................................................................................... 4
К практикуму «С. С. Аверинцев и М. Л. Гаспаров о филологии» ........ 5
Аверинцев С. С. Похвальное слово филологии ................................................. 5
Гаспаров М. Л. Филология как нравственность ............................................... 11
К практикуму «Методология статьи А. А. Ахматовой
“Последняя сказка Пушкина”» ..................................................................... 15
Ахматова А. А. Последняя сказка Пушкина................................................... 15
К практикуму «Художественная речь. Лексический уровень.
Сравнение и метафора» ................................................................................. 35
Чернец Л. В. «...Плыло облако, похожее на рояль». (О сравнении) ........... 35
Чернец Л. В. «Ночевала тучка золотая...». (О метафоре )............................. 41
К практикуму «Ритмическая организация стиха»................................. 51
Жирмунский В. М. Метрика. Ритмическая организация стиха ................. 51
Гаспаров М. Л. Логаэды стопные и строчные .................................................. 57
Логаэды античного образца:
алкеева и сапфическая строфы ............................................... 59
Дольник 3‐иктный и 4 иктный ................................................ 60
К практикуму «Методика имманентного анализа
стихотворного текста» .................................................................................... 61
Гаспаров М. Л. «Снова тучи надо мною...»:
методика анализа стихотворного текста ........................................................ 61
Лотман Ю. М. Лексический уровень стиха .................................................... 71
К практикуму «Поэма как лироэпический жанр.
Исторические трансформации поэмы».................................................... 75
Жирова Е. Д. Поэма как жанр. Принципы и приемы ее изучения............ 75
4
ПРЕДИСЛОВИЕ
Эта хрестоматия подготовлена как приложение к учебно‐мето‐
дическому пособию «Введение в литературоведение. Семинары и прак‐
тикумы». В ней собраны научные работы ведущих отечественных лите‐
ратуроведов, необходимые для теоретической подготовки к выполнению
заданий практикумов. Этим определяется и ее структура: работы рас‐
пределены и сгруппированы в соответствии с темами, рассматриваемы‐
ми на практических занятиях курса. Для удобства работы первокурсни‐
ков с научными текстами, большинство из них представлено в значи‐
тельном сокращении, что помогает начинающим филологам сосредото‐
чится на материале, имеющем непосредственное отношение к решению
практических задач.
Все примечания, постскриптумы и списки литературы, кроме спе‐
циально обозначенных, принадлежат авторам работ.
5
К практикуму
С. С. АВЕРИНЦЕВ И М. Л. ГАСПАРОВ
О ФИЛОЛОГИИ
Сергей Сергеевич АВЕРИНЦЕВ
ПОХВАЛЬНОЕ СЛОВО ФИЛОЛОГИИ
(фрагменты)
Аверинцев С. С . Похвальное слово филологии. // Юность. 1969. No 1. С. 98–102.
Что такое филология и зачем ею занимаются?
Слово «филология» состоит из двух греческих корней. «Филейн»
означает «любить». «Логос» означает «слово», но также и «смысл»:
смысл, данный в слове и неотделимый от конкретности слова. Филоло‐
гия занимается «смыслом» — смыслом человеческого слова и человече‐
ской мысли, смыслом культуры, — но не нагим смыслом, как это делает
философия, а смыслом, живущим внутри слова и одушевляющим слово.
Филология есть искусство понимать сказанное и написанное. Поэтому
в область ее непосредственных занятий входят язык и литература.
Но в более широком смысле человек «говорит», «высказывается», «окли‐
кает» своих товарищей по человечеству каждым своим поступком и же‐
стом. И в этом аспекте — как существо, создающее и использующее «го‐
ворящие» символы, — берет человека филология. Таков подход филоло‐
гии к бытию, ее специальный, присущий ей подступ к проблеме челове‐
ческого. Она не должна смешивать себя с философией; ее дело — кро‐
потливая, деловитая работа над словом, над текстом. Слово и текст
должны быть для настоящей филологии существенней, чем самая блис‐
тательная «концепция».
Возвратимся к слову «филология». Поразительно, что в ее имени
фигурирует корень глагола «филейн» — «любить». Это свойство своего
имени филология делит только с философией («любословие» и «любо‐
мудрие»). Филология требует от человека, ею занимающегося, какой‐то
особой степени, или особого качества, или особого модуса любви к сво‐
ему материалу. Понятно, что дело идет о некоей очень несентименталь‐
ной любви, о некоем подобии того, что Спиноза называл «интел лекту‐
альной любовью». Но разве математикой или физикой можно зани‐
6
маться без «интеллектуальной любви», очень часто перерастающей
в подлинную, всепоглощающую страсть? Было бы нелепо вообразить,
будто математик меньше любит число, чем филолог — слово, или, луч‐
ше сказать, будто число требует меньшей любви, нежели слово.
Не меньшей, но существенно иной. Та интеллектуальная любовь, кото‐
рой требует — уже самым своим именем! — филология, не выше и не
ниже, не сильнее и не слабее той интеллектуальной любви, которой тре‐
буют так называемые точные науки, но в чем‐то качественно от нее отли‐
чается. Чтобы уразуметь, в чем именно, нам нужно поближе присмот‐
реться уже не к наименованию филологии, а к ней самой. Притом мы
должны отграничить ее от ложных ее подобий.
Существуют два, увы, весьма распространенных способа придавать
филологии по видимости актуальное, животрепещущее, «созвучное со‐
временности» обличье. Эти два пути непохожи один на другой. Более
того, они противоположны. Но в обоих случаях дело идет, по моему
глубокому убеждению, о мнимой актуальности, о мнимой жизненности.
Оба пути отдаляют филологию от выполнения ее истинных задач перед
жизнью, перед современностью, перед людьми.
Первый путь я позволил бы себе назвать методологическим пани‐
братством. Строгая интеллектуальная любовь подменяется более или
менее сентиментальным и всегда поверхностным «сочувствием», и все
наследие мировой культуры становится складом объектов такого сочув‐
ствия. Так легко извлечь из контекста исторических связей отдельное
слово, отдельное изречение, отдельный человеческий «жест» и с торже‐
ством продемонстрировать публике: смотрите, как нам это близко, как
нам это «созвучно»! Все мы писали в школе сочинения: «Чем нам близок
и дорог...»; так вот, важно понять, что для подлинной филологии любой
человеческий материал «дорог» — в смысле интеллектуальной любви —
и никакой человеческий материал не «близок» — в смысле панибрат‐
ской «короткости», в смысле потери временнoй дистанции.
Освоить духовный мир чужой эпохи филология может лишь после
того, как она честно примет к сведению отдаленность этого мира, его
внутренние законы, его бытие внутри самого себя. <...> Когда современ‐
ность познает иную, минувшую эпоху, она должна остерегаться про‐
ецировать на исторический материал себя самое, чтобы не превратить
в собственном доме окна в зеркала, возвращающие ей снова ее собствен‐
ный, уже знакомый облик. Долг филологии состоит в конечном счете
в том, чтобы помочь современности познать себя и оказаться на уровне
7
своих собственных задач; но с самопознанием дело обстоит не так просто
даже в жизни отдельного человека. Каждый из нас не сможет найти се‐
бя, если он будет искать себя и только себя в каждом из своих собесед‐
ников и сотоварищей по жизни, если он превратит свое бытие в моно‐
лог. Для того, чтобы найти себя в нравственном смысле этого слова,
нужно преодолеть себя. Чтобы найти себя в интеллектуальном смысле
слова, то есть познать себя, нужно суметь забыть себя и в самом глубо‐
ком, самом серьезном смысле «присматриваться» и «прислушиваться»
к другим, отрешаясь от всех готовых представлений о каждом из них и
проявляя честную волю к непредвзятому пониманию. Иного пути к себе
нет. Как сказал философ Генрих Якоби, «без “ты” невозможно ʺяʺ»
(сравни замечание в Марксовом «Капитале» о «человеке Петре», кото‐
рый способен познать свою человеческую сущность лишь через вгляды‐
вание в «человека Павла»). Но так же точно и эпоха сможет обрести
полную ясность в осмыслении собственных задач лишь тогда, когда она
не будет искать эти ситуации и эти задачи в минувших эпохах, но ос о‐
знает на фоне всего, что не она, свою неповторимость. В этом ей должна
помочь история, дело которой состоит в том, чтобы выяснять, «как оно,
собственно, было» (выражение немецкого историка Ранке). В этом ей
должна помочь филология, вникающая в чужое слово, в чужую мысль,
силящаяся понять эту мысль так, как она была впервые «помыслена»
(это никогда невозможно осуществить до конца, но стремиться нужно
к этому и только к этому). Непредвзятость — совесть филологии.
Люди, стоящие от филологии далеко, склонны усматривать «роман‐
тику» труда филолога в эмоциональной стороне дела («Ах, он просто
влюблен в свою античность!..»). Верно то, что филолог должен любить
свой материал — мы видели, что об этом требовании свидетельствует
само имя филологии. Верно то, что перед лицом великих духовных до‐
стижений прошлого восхищение — более по‐человечески достойная ре‐
акция, чем прокурорское умничанье по поводу того, чего «не сумели
учесть» несчастные старики. Но не всякая любовь годится как эмоцио‐
нальная основа для филологической работы. Каждый из нас знает, что и
в жизни не всякое сильное и искреннее чувство может стать основой для
подлинного взаимопонимания в браке или в дружбе.) Годится только
такая любовь, которая включает в себя постоянную, неутомимую волю к
пониманию, подтверждающую себя в каждой из возможных конкрет‐
ных ситуаций. Любовь как ответственная воля к пониманию чужого —
это и есть та любовь, к оторой требует этика филологии.
8
Поэтому путь приближения истории литературы к актуальной ли‐
тературной критике, путь нарочитой «актуализации» материала, путь
нескромно‐субъективного «вчувствования» не поможет, а помешает фи‐
лологии исполнить ее задачу перед современностью. При подходе
к культурам прошедшего мы должны бояться соблазна ложной понят‐
ности. Чтобы по‐настоящему ощутить предмет, надо на него натолк‐
нуться и ощутить его сопротивление. Когда процесс понимания идет
слишком беспрепятственно, как лошадь, которая порвала соединявшие
ее с телегой постромки, есть все основания не доверять такому понима‐
нию. Всякий из нас по жизненному опыту знает, что человек, слишком
легко готовый «вчувствоваться» в наше существование, — плохой собе‐
седник. Тем более опасно это для науки. Как часто мы встречаем «ин‐
терпретаторов», которые умеют слушать только самих себя, для которых
их «концепции» важнее того, что они интерпретируют! Между тем сто‐
ит вспомнить, что само слово «интерпретатор» по своему изначальному
смыслу обозначает «толмача», то есть перелагателя в некотором диалоге,
изъяснителя, который обязан в каждое мгновение своей изъясняющей
речи продолжать неукоснительно прислушиваться к речи изъясняемой.
Но наряду с соблазном субъективизма существует и другой, проти‐
воположный соблазн, другой ложный путь. Как и первый, он связан
с потребностью представить филологию в обличье современности. Как
известно, наше время постоянно ассоциируется с успехами технического
разума. Сентенция Слуцкого о посрамленных лириках и торжествую‐
щих физиках — едва ли не самое затасканное из ходовых словечек по‐
следнего десятилетия. Герой эпохи — это инженер и физик, который
вычисляет, который проектирует, который «строит модели». Идеал эпо‐
хи — точность математической формулы. Это приводит к мысли, что
филология и прочая «гуманитария» сможет стать современной лишь
при условии, что она примет формы мысли, характерные для точных
наук. Филолог тоже обязывается вычислять и строить модели. Эта тен‐
денция выявляется в наше время на самых различных уровнях — от се‐
рьезных, почти героических усилий преобразовать глубинный строй
науки до маскарадной игры в математические обороты. Я хотел бы, что‐
бы мои сомнения в истинности этой тенденции были правильно поня‐
ты. Я менее всего намерен отрицать заслуги школы, обозначаемой
обычно как «структурализм», в выработке методов, безусловно оправды‐
вающих себя в приложении к определенным уровням филологического
материала. Мне и в голову не придет дикая мысль высмеивать стиховеда,
9
ставящего на место дилетантской приблизительности в описании стиха
точную статистику. Поверять алгеброй гармонию — не выдумка челове‐
коненавистников из компании Сальери, а закон науки. Но свести гармо‐
нию к алгебре нельзя. Точные методы — в том смысле слова «точность»,
в котором математику именуют «точной наукой», — возможны, строго
говоря, лишь в тех вспомогательных дисциплинах филологии, которые
не являются для нее специфичными. Филология, как мне представляет‐
ся, никогда не станет «точной наукой»: в этом ее слабость, которая не
может быть раз и навсегда устранена хитрым методологическим изобре‐
тением, но которую приходится вновь и вновь перебарывать напряже‐
нием научной воли; в этом же ее сила и гордость. В наше время часто
приходится слышать споры, в которых одни требуют от филологии объ‐
ективности точных наук, а другие говорят о ее «праве на субъектив‐
ность». Мне кажется, что обе стороны неправы.
Филолог ни в коем случае не имеет «права на субъективность», то
есть права на любование своей субъективностью, на культивирование
субъективности. Но он не может оградиться от произвола надежной
стеной точных методов, ему приходится встречать эту опасность лицом
к лицу и преодолевать ее. Дело в том, что каждый факт истории челове‐
ческого духа есть не только такой же факт, как любой факт «естествен‐
ной истории», со всеми правами и свойствами факта, но одновременно
это есть некое обращение к нам, молчаливое окликание, вопрос. Поэт
или мыслитель прошедшего знают (вспомним слова Баратынского):
И как нашел я друга в поколеньи,
Читателя найду в потомстве я.
Мы — эти читатели, вступающие с автором в общение, аналогичное
(хотя никоим образом не подобное) общению между современниками
(«...И как нашел я друга в поколеньи»). Изучая слово поэта и мысль
мыслителя прошедшей эпохи, мы разбираем, рассматриваем, расчленя‐
ем это слово и эту мысль, как объект анализа; но одновременно мы поз‐
воляем помыслившему эту мысль и сказавшему это слово апеллировать
к нам и быть не только объектом, но и партнером нашей умственной ра‐
боты. Предмет филологии составлен не из вещей, а из слов, знаков, из
символов; но если вещь только позволяет, чтобы на нее смотрели, сим‐
вол и сам, в свою очередь, «смотрит» на нас. Великий немецкий поэт
Рильке так обращается к посетителю музея, рассматривающему антич‐
ный торс Аполлона: «Здесь нет ни единого места, которое бы тебя не ви‐
10
дело.
—
Ты должен изменить свою жизнь» (речь в стихотворении идет
о безголовом и, стало быть, безглазом торсе: это углубляет метафору,
лишая ее поверхностной наглядности).
Поэтому филология есть «строгая» наука, но не «точная» наука. Ее
строгость состоит не в искусственной точности математизированного
мыслительного аппарата, но в постоянном нравственно‐интеллек‐
туальном усилии, преодолевающем произвол и высвобождающем воз‐
можности человеческого понимания. Одна из главных задач человека на
земле — понять другого человека, не превращая его мыслью ни в под‐
дающуюся «исчислению» вещь, ни в отражение собственных эмоций.
Эта задача стоит перед каждым отдельным человеком, но и перед всей
эпохой, перед всем человечеством. Чем выше будет строгость науки фи‐
лологии, тем вернее сможет она помочь выполнению этой задачи. Фи‐
лология есть служба понимания.
Вот почему ею стоит заниматься.
11
Михаил Леонович ГАСПАРОВ
ФИЛОЛОГИЯ КАК НРАВСТВЕННОСТЬ
Гаспаров М. Л. Филология как нравственность / Гаспаров М. Л. Записи и выписки. М.,
2001. С. 98–100.
Филология – наука понимания. Слово это древнее, но понятие – но‐
вое. В современном значении оно возникает в XVI–XVIII вв. Это время,
когда складывалась основа мышления современных гуманитарных
наук – историзм. Классическая филология началась тогда, когда человек
почувствовал историческую дистанцию между собою и предметом свое‐
го интереса – античностью. Средневековье тоже знало, любило и ценило
античность, но оно представляло ее целиком по собственному образу
и подобию: Энея– рыцарем, а Сократа– профессором. Возрождение
почувствовало, что здесь что‐то не так, что для правильного представле‐
ния об античности недостаточно привычных образов, а нужны
и непривычные знания. Эти знания и стала давать наука филология.
А за классической филологией последовали романская, германская, сла‐
вянская; за филологическим подходом к древности и средневековью –
филологический подход к культуре самого недавнего времени; и все это
оттого, что с убыстряющимся ходом истории мы все больше вынуждены
признавать близкое по времени далеким по духу.
Признание это дается нелегко. Мышление наше эгоцентрично,
в людях других эпох мы легко видим то, что похоже на нас, и неохотно
замечаем то, что на нас не похоже. Гуманизм многих веков сходился на
том, что человек есть мера всех вещей, но когда он начинал прилагать
эту меру к вещам, то оказывалось, что мера эта сделана совсем не по че‐
ловеку вообще, ато по афинскому гражданину, то по ренессансному
аристократу, т о по новоевропейскому профессору. Гуманизм многих ве‐
ков говорил о вечных ценностях, но для каждой эпохи эти вечные цен‐
ности оказывались лишь временными ценностями прошлых эпох, уре‐
занными применительно к ценностям собственной эпохи. Урезывание
такого рода – дело несложное: чтобы наслаждаться Эсхилом и Тютче‐
вым, нет надобности помнить все время, что Эсхил был рабовладелец,
а Тютчев – монархист. Но ведь наслаждение и понимание – вещи раз‐
ные. Вечных ценностей нет, есть только временные, поэтому постигать
их непосредственно нельзя (иначе как в порядке самообмана), а можно,
12
лишь преодолев историческую дистанцию; и наводить бинокль нашего
знания на нужную дистанцию учит нас филология.
Филология приближает к нам прошлое тем, что отдаляет нас от не‐
го,
–
учит видеть то великое несходство, на фоне которого дороже
и ценнее самое малое сходство. Рядовой читатель вправе относиться
к литературным героям «как к живым людям»; филолог этого права не
имеет, он обязан разложить такое отношение на составные части – на
отношение автора к герою и наше к автору. Говорят, что расстояние
между Гаевым иЧеховым можно уловить интуитивно, чутким слухом
(я в этом не уверен). Но чтобы уловить расстояние между Чеховым
и нами, чуткого слуха уже заведомо недостаточно. Потому что здесь
нужно уметь слышать не только Чехова, но и себя – одинаково со сторо‐
ны и одинаково критически.
Филология трудна не тем, что она требует изучать чужие системы
ценностей, атем, что она велит нам откладывать на время в сторону
свою собственную систему ценностей. Прочитать все книги, которые чи‐
тал Пушкин, трудно, но возможно. А вот забыть (хотя бы на время) все
книги, которых Пушкин не читал, а мы читали, гораздо труднее. Когда
мы берем в руки книгу классика, то избегаем задавать себе простейший
вопрос: для кого она написана? – потому что знаем простейший ответ
на него: не для нас. Неизвестно, как Гораций представлял себе тех, кто
будет читать его через столетия, но заведомо ясно, что не нас с вами. Есть
люди, которым неприятно читать, неприятно даже видеть опубликован‐
ными письма Пушкина, Чехова или Маяковского: «ведь они адресованы
не мне». Вот такое же ощущение нравственной неловкости, собственной
неуместной навязчивости должно быть у филолога, когда он раскрывает
«Евгения Онегина», «Вишневый сад» или «Облако в штанах». Искупить
эту навязчивость можно только отречением от себя и растворением
в своем высоком собеседнике.
Филология начинается с недоверия к слову. Доверяем мы только
словам своего личного языка, а слова чужого языка прежде всего испы‐
тываем, точно ли и как соответствуют они нашим. Если мы упускаем это
из виду, если мы принимаем презумпцию взаимопонимания между пи‐
сателем и читателем, мы тешим себя самоуспокоительной выдумкой.
Книги отвечают нам не на те вопросы, которые задавал себе писатель,
а на те, которые в состоянии задать себе мы, а это часто очень разные
вещи. Книги окружают нас, как зеркала, в которых мы видим только
собственное отражение; если оно не всюду одинаково, то это потому, что
13
все эти зеркала кривые, каждое по‐своему. Филология занимается имен‐
но строением этих зеркал – не изображениями в них, а материалом их,
формой их изаконами словесной оптики, действующими в них. Это
позволяет ей долгим окольным путем представить себе и лицо зеркаль‐
ных дел мастера, и собственное наше лицо – настоящее, неискривленное.
Если же смотреть только на изображение («идти по ту сторону слова»,
как предлагают некоторые), то следует знать заранее, что найдем мы там
только самих себя.
За преобладание в филологии спорят лингвистика и литературове‐
дение, причем лингвистика ведет наступательные бои, а литературове‐
дение оборонительные (или, скорее, отвлекающие). Думается, что это не
случайно. Фи лология началась с изучения мертвых языков. Все мы зна‐
ем, что такое мертвые языки, но редко думаем, что есть еще и мертвые
литературы, и даже на живых языках. Даже читая литературу XIX века,
мы вынуждены мысленно переводить ее на язык наших понятий. Язык
в самом широком смысле: лексическом (каждый держал в руках «Сло‐
варь языка Пушкина»), стилистическом (такой словарь уже начат для
поэзии XX в.), образном (на основе частотного тезауруса: такие словари
уже есть для нескольких поэтов), идейном (это самая далекая и важная
цель, но и к ней сделаны подступы).
Только когда мы сможем опираться на подготовительные работы
такого рода, мы сможем среди умножающейся массы интерпретаций
монолога Гамлета или монолога Гаева выделить хотябы те, которые
возможны для эпохи Шекспира или Чехова. Это не укор остальным ин‐
терпретациям, это лишь уточнение рубежа между творчеством писате‐
лей и сотворчеством их читателей и исследователей.
И еще одно есть преимущество у лингвистической школы перед ли‐
тературоведческой. В лингвистике нет оценочного подхода: лингвист
различает слова склоняемые и спрягаемые, книжные ипросторечные,
устарелые и диалектные, но не различает слова хорошие и плохие. Ли‐
тературовед, наоборот, явно или тайно стремится прежде всего отделить
хорошие произведения от плохих и сосредоточить внимание на хоро‐
ших. «Филология» значит «любовь к слову»: у литературоведа такая лю‐
бовь выборочней и пристрастнее. От пристрастной любви страдают
и любимцы и нелюбимцы. Как охотно мы воздаем лично Грибоедову
и Чехову те почести, которые должны были бы разделить с ними Ша‐
ховской и Потапенко! Было сказано, что в картинах Рубенса мы ценим не
только его труды, но и труды всех тех бесчисленных художников, кото‐
14
рые не вышли в Рубенсы. Помнить об этом – нравственный долг каждо‐
го, а филолога – в первую очередь.
Ю. М. Лотман сказал: филология нравственна, потому что учит нас
не соблазняться легкими путями мысли. Я бы добавил: нравственны
в филологии не только ее путь, но и ее цель: она отучает человека от ду‐
ховного эгоцентризма. (Вероятно, все искусства учат человека само‐
утверждаться, а все науки – не заноситься). Каждая культура строит свое
настоящее из кирпичей прошлого, каждая эпоха склонна думать, будто
прошлое только о том и заботилось, чтобы именно для нее поставлять
кирпичи. Постройки такого рода часто разваливаются: старые кирпичи
выдерживают не всякое новое применение. Филология состоит на такой
стройке чем‐то вроде ОТК, проверяющего правильное использование
материала. Филология изучает эгоцентризмы чужих культур, и это ве‐
лит ей не поддаваться с воему собственному: думать не о том, как созда‐
вались будто бы для нас культуры прошлого, ао том, как мы сами
должны создавать новую культуру.
15
К практикуму
МЕТОДОЛОГИЯ СТАТЬИ А. А. АХМАТОВОЙ
“ПОСЛЕДНЯЯ СКАЗКА ПУШКИНА”
Анна Андреева АХМАТОВА
ПОСЛЕДНЯЯ СКАЗКА ПУШКИНА
(в сокращении)
Ахматова А. А. Последняя сказка Пушкина // Анна Ахматова. О Пушкине. Составле‐
ние, предисловие и примечания Э. Г. Герштейн. М.: Книга, 1989. С. 10–40.
1
«Сказка о золотом петушке» Пушкина сравнительно мало привле‐
кала внимание исследователей.
В историко‐литературных статьях и комментариях мы находим
очень скупые и неточные сведения о последней сказке Пушкина (1834 г.).
Отсутствие фабулы «Сказки о золотом петушке» в русском и ино‐
странных фольклорах привело к мысли, что эта сказка имеет литератур‐
ный источник.
Однако все поиски в течение последних 20–30 лет не увенчались
успехом (1).
Попытки найти источник «Сказки о золотом петушке» в сказках
«Тысячи и одной ночи» также кончились неудачей.
Мне удалось найти источник «Сказки о золотом петушке». Это –
«Легенда об арабском звездочете» Вашингтона Ирвинга из книги
«Альгамбра».
Книга Вашингтона Ирвинга «The Alhambra» вышла в 1832 году
в Париже (2).
Одновременно в Париже был издан и французский, довольно точ‐
ный, перевод этой книги (3).
В числе семи книг Ирвинга в библиотеке Пушкина находится
и французское двухтомное издание «Альгамбрских сказок» (4).
Еще при жизни Пушкина критика отмечала воздействие Вашингто‐
на Ирвинга на автора «Повестей Белкина» (Н. Полевой в «Московском
телеграфе» и анонимный рецензент в «Литературных прибавлениях
к “Русскому инвалиду”» в 1831 г.).
16
Вопрос о непосредственном влиянии Ирвинга на Пушкина до сих
пор остается открытым (5).
Сам Пушкин упоминает об Ирвинге только один раз в своем пере‐
сказе биографии Джона Теннера (1836 г.).
____________________
1. Указание В. Сиповского (Сиповский В. Пушкин: Жизнь и творчество. СПб., 1907.
С. 470) на сказку Клингера «Le coq d’or» как на источник «Сказки о золотом петуш‐
ке» — совершенно неосновательно.
2. The Alhambra of the New Sketch Book by Washington Irving. Paris, 1832
(W. Galigna ni).
3. Les contes de l’Alhambra precedes d’un voyage dans la province de Grenade; traduits
de Washington Irving par m‐lle A. Sobry. Paris, 1832 (H. Fournier). T . I —II).
4. No 1019, «разрезан, помет нет» (см.: Модзалевский Б. Библиотека Пушкина. СПб.,
1910.
5. М. П. Алексеев доказал, что «История села Горюхина» Пушкина и «История Нью‐
Йорка» Ирвинга — вещи одного жанра (см.: К истории села Горюхина // Пушкин:
Статьи и материалы. Одесса, 1926. Вып. 2).
2
В 20–30‐х годах XIX века Вашингтон Ирвинг был очень популярен
в России. Многочисленные переводы его произведений находятся во всех
наиболее известных журналах того времени: «Московском телеграфе»,
«Вестнике Европы», «Атенее», «Сыне отечества», «Телескопе» и «Лите‐
ратурной газете». Поэтому «Альгамбрские сказки» вскоре после того,
как были изданы в Париже, сделались предметом обсуждения русских
журналов.
Уже в июльском номере «Московского телеграфа», вышедшем в ок‐
тябре 1832 года, появилась первая рецензия на «Les contes de l’Alhambra».
<...>
Перевод одной из «Альгамбрских сказок», о котором рецензент
«Московского телеграфа» дал неодобрительный отзыв, был помещен
в IX части «Телескопа» (сентябрь) <...>
В особом примечании издатель характеризует эту вещь как «народ‐
ную испанскую сказку, обработанную В. Ирвингом».
Обещанный рецензентом «Московского телеграфа» перевод одной
из цикла «Альгамбрских сказок» был напечатан в No 21 и 22 (ноябрь).
Это перевод «Истории о принце Ахмеде‐аль‐Камеле» <...>
Таким образом, «Альгамбрские сказки» были полностью переведе‐
ны на русский язык вскоре после появления английского и французско‐
17
го изданий. Однако, по неизвестным нам причинам, этот перевод остал‐
ся ненапечатанным (1).
Наконец в «Библиотеке для чтения» 1835 года, в IX томе, где впервые
была напечатана «Сказка о золотом петушке», появилась статья «Ва‐
шингтон Ирвинг»,
представляющая собой перевод из «Revue
Britannique» (1834, XII). Здесь дана следующая характеристика «Аль‐
гамбрских сказок»:
«“Альгамбрские повести” непосредственнее принадлежат вымыслу
<автор статьи сравнивает «Альгамбру» с «Летописями покорения Грена‐
ды»>; но с романтическими преданиями там смешаны путевые воспо‐
минания, в которых и та же свежесть и та же прелесть, что в описаниях
Sketch Book».
Большая часть «Альгамбрских сказок» – это новеллы о мавритан‐
ских кладах.
В письмах Ирвинга из Альгамбры он неоднократно упоминает
о своем проводнике Матео Хименесе, рассказы которого он записал.
Впрочем, сам Ирвинг разоблачает свой метод «воссоздания» народ‐
ных легенд:
«Познакомив... читателя с местностью Альгамбры, я теперь перейду
к области чудесных легенд... которые я усердно собирал... пользуясь все‐
возможными рассказами и малейшими намеками, как пользуется ар‐
хеолог несколькими уцелевшими буквами почти стертой надписи, что‐
бы восстановить какой‐нибудь исторический документ» (гл. «Местные
предания») (2).
Кроме цикла новелл о кладах, в книге находятся: легенда «История
о трех прекраснейших принцессах» и две пародийные волшебные сказ‐
ки — «Легенда о принце Ахмеде‐аль‐Камеле» и «Легенда об арабском
звездочете».
_______________________
1. Из цикла «Альгамбрских сказок» были напечатаны: в 1835 г. в «Сыне отечества» (No 70) —
«Альгамбрская роза», в 1836 г.
—
«Губернатор Манко» («Сорок одна повесть лучших ино‐
странных писателей». Ч. IX). Полный перевод «Альгамбры» был издан в 1879 г.: Ирвинг В.
Путевые очерки и картины / Перевел с англ. А. Глазунов. М., 1879. См. также: Наследство
Мавра и Арабский Астролог. Испан ские легенды: Соч. В. Ирвинга. М., 1889.
2. 19 октября 1830 г. Ирвинг писал из Лондона: «Я закончил три сказки из “Альгамбры”
и работал над тремя другими. Долгоруков, про‐ читавший законченные, очень одобритель‐
но о них отзывается, а он по своему знанию страны, тех мест и народа может судить о вер‐
ности местного колорита этих произведений» (The Life and Letters of Washington Irving. T. 1.
P. 521). <...>
18
3
Сюжет пародийной «Легенды об арабском звездочете» чрезвычайно
сложен, с чудесными происшествиями и со всеми аксессуарами псевдо‐
арабской фантастики, которую сам Ирвинг характеризует как «гарун‐
аль‐рашидовский стиль».
Этой легенде предпослан небольшой пролог, озаглавленный
«La maison de la Girouette», в котором Ирвинг пытается связать свою
сказку с определенным местом – древним мавританским дворцом в Гре‐
наде, якобы разысканным самим автором. Дворец этот назывался La casa
del Gallo de Viento, что, по мнению Ирвинга, значит дом Флюгера (по
флюгеру в виде мавританского всадника, бывшего на одной из его ба‐
шен). Проф. Б
.
А. Кржевский указал мне, что такого мавританского
дворца в Гренаде нет, флюгер по‐испански называется jiralda (а не Gallo
de Viento) и в VIII веке – время, на которое указывает Ирвинг, – не могло
быть арабской архитектуры.
Легенда довольно длинна, и поэтому я ограничусь здесь самым
кратким пересказом.
На старого мавританского короля Абен‐Габуза, «отставного завоева‐
теля», нападают враги.
Арабский звездочет, глубокий старик Ибрагим, наперсник короля,
рассказывает ему о талисмане, предупреждающем о нападении врагов
(петух и баран из меди), и сооружает другой талисман с тем же назна‐
чением (медного всадника) (1).
Враги Абен‐Габуза уничтожены.
Талисман снова начинает действовать. Разведчики находят в горах
готскую принцессу.
Король влюбляется в принцессу и, исполняя ее прихоти, разоряет
Гренаду. Вспыхивает революция.
Звездочет требует девицу в награду за все оказанные королю услуги.
Король, давший слово наградить звездочета, отказывается. Проис‐
ходит ссора звездочета с королем.
Звездочет и принцесса проваливаются в подземное жилище звездо‐
чета, где пребывают и доныне (развязка типа «Барбароссы»).
Талисман перестает действовать. С течением веков он превращается
в простой флюгер.
Враги снова нападают на «отставного завоевателя» (2) Абен‐Габуза.
В этой легенде Ирвинг использовал материал своих исторических
сочинений, над которыми он работал во время своего пребывания в Аль‐
19
гамбре. Эти сочинения: «История покорения Гренады» (изд. в 1829 г.),
«Легенды о завоевании Испании» (изд. в 1835 г.) и «Магомет и его пре‐
емники», вышедшее только в 1850 году.
Ирвинг – великий мистификатор, продолжатель традиций Аддисона.
За три года до выхода «Альгамбрских сказок» он выпустил «Исто‐
рию покорения Гренады». Эта книга принадлежит к распространенному
в то время жанру исторических хроник. Повествование ведется от имени
вымышленного циклизатора, монаха Антонио Агапида.
Не касаясь сложного и требующего особого исследования вопроса
о близости «Легенды об арабском звездочете» к испанскому фольклору
и так называемым пограничным романсам, отмечу только, что из этой
хроники взяты главные персонажи «Легенды об арабском звездочете».
Биография Абен‐Габуза во многом повторяет биографию Мулей‐Абен‐
Гассана, отца Боабдила, последнего мавританского короля. Звездочет
Ибрагим – безымянный араб‐волшебник, принимавший участие в за‐
щите Малаги. Готская принцесса – пленная христианская девушка, од‐
на из жен короля Мулей‐Абен‐Гассана.
Знакомство Пушкина с «Альгамбрскими сказками» Ирвинга можно
датировать 1833 годом.
К этому времени относится черновой набросок «Царь увидел пред
собой...» (3). Первые десять строчек этого наброска, до сих пор не подда‐
вавшегося никакому комментарию, представляют собой, как нами уста‐
новлено, стиховой «пересказ» куска «Легенды об арабском звездочете»,
не использованного Пушкиным в
«Сказке о золотом петушке».
Приведу параллельные тексты:
Царь увидел пред собой
Столик с шахматной доской.
Вот на шахматную доску
Рать солдатиков из воску
Он расставил в стройный ряд.
Грозно куколки стоят,
Подбоченясь на лошадках,
В коленкоровых перчатках,
В оперенных шишачках,
С палашами на плечах...
... Devant chacune de ces fen?tres ?tait une
table sur laquelle on avait rang?, comme des
?checs, une petite arm?e infanterie et
cavalerie... le tout sculpt? en bois.
...Le roi... s’approcha de l’?chiquier sur
lequel les petites figures de bois ?taient rang?es
et vit... qu’elles ?taient toutes en mouvement.
Les chevaux caracolaient et battaient du pied,
les guerriers brandissaient leurs armes, on
entendait... le son des trompettes et des
tambours... (4)
20
Эти фигурки — магические изображения вражеских войск, которые
при прикосновении волшебного жезла либо обращались в бегство, либо
начинали вести междоусобную войну и уничтожали друг друга. И тогда
та же участь постигала наступающего неприятеля.
Насколько близка фабула «простонародной» сказки Пушкина к ле‐
генде Ирвинга, становится ясным при параллельном сличении:
Негде , в тридевятом царстве,
В тридесятом государстве,
Жил‐был славный царь Дадон.
Смолоду был грозен он
И соседям то и дело
Наносил обиды смело,
Но под старость захотел
Отдохнуть от ратных дел
И покой себе устроить;
Тут соседи беспокоить
Стали старого царя,
Страшный вред ему творя.
Чтоб концы своих владений
Охранять от нападений,
Должен был он содержать
Многочисленную рать.
Воеводы не дремали,
Но никак не успевали.
Ждут, бывало, с юга, глядь —
Ан с востока лезет рать!
Справят здесь, — лихие гости
Идут от моря. Со злости
Инда плакал царь Дадон,
Инда забывал и сон,
Что и жизнь в такой тревоге!
«Жил однажды мавританский король
по имени Абен‐Габуз... Это был завоева‐
тель, уже удалившийся на покой, — други‐
ми словами, про‐ ведя все молодые годы
в беспрерывных набегах и грабежах, теперь
состарившись и одряхлев, он ничего другого
не желал, как жить со всеми в мире... без‐
мятежно наслаждаться жизнью во владени‐
ях, некогда отнятых им у соседей. Случи‐
лось, однако, что этому королю... пришлось
вести борьбу с молодыми соперниками...
Некоторые отдаленные области его госу‐
дарства, которые в дни былой его мощи
и пикнуть не смели под его железной дла‐
нью, вздумали бунтовать. И несчастный
Абен‐Габуз, которому, таким образом, гро‐
зили одновременно извне и изнутри, жил...
в постоянных тревогах, не зная, с какой сто‐
роны ожидать ему нападения. Напрасно
построил он сторожевые башни и повелел,
чтобы особые войска постоянно охраняли
все входы и выходы... Бывал ли когда‐
нибудь столь миролюбивый, живущий на
покое завоеватель в более трудном положе‐
нии, чем бедный Абен‐Габуз?»
[В статье Ахматовой цитируется
французский текст сказки Ирвинга, здесь
и далее мы заменяем его переводом, сделанным
Э. Г. Герштейн в комментарии. – И. Е.].
Сходство ситуаций полное. Отсутствует только мотив восстания
провинций. «Биографии» царя Дадона и короля Абен‐Габуза совпада‐
ют. Отмечу, что у героев других пушкинских сказок (Салтан, Елисей
и др.) «биография» отсутствует.
21
Вот он с просьбой о помоге
Обратился к мудрецу,
Звездочету и скопцу...
Вот мудрец перед Дадоном
Стал и вынул из мешка
Золотого петушка.
«Посади ты эту птицу, —
Молвил он царю, — на спицу;
Петушок мой золотой
Будет верный сторож твой:
Коль кругом все будет мирно,
Так сидеть он будет смирно;
Но лишь чуть со стороны
Ожидать тебе войны,
Иль набега силы бранной,
Иль другой беды незваной (5),
Вмиг тогда мой петушок
Приподымет гребешок,
Закричит и встрепенется
И в то место обернется».
Царь скопца благодарит,
Горы золота сулит.
«За такое одолженье, —
Говорит он в восхищеньи, —
Волю первую твою
Я исполню, как мою».
«Появился при его дворе некий престаре‐
лый арабский лекарь... и в скором времени
ст
а
лб
л
и
ж
а
йшим с
о
в
етник
о
мк
о
ро
л
я
...
Абен‐Габуз жаловался... что приходится
постоянно быть настороже... Астролог ему
на это ответил: “Узнай, о государь, что...
видел я великое чудо... На некоей горе сто‐
ял баран, а на нем петух — оба медные,
и они вращались на стержне. Всякий раз,
когда той стране угрожало вражеское наше‐
ствие, баран поворачивался в сторону не‐
приятеля, а петух принимался кричать, тем
самым предупреждая жителей города об
опасности и указывая, откуда та грозит”».
«Сколь велик господь! — воскликнул Абен‐
Габуз.
—
Каким сокровищем был бы для
меня та‐ кой баран... и петух, которые пре‐
дупреждали бы меня в случае опасности.
Насколько спокойнее спал бы я в моем
дворце, когда бы та‐ кие часовые охраняли
мой сон! Добудь мне эту благословенную
стражу и владей всеми богатствами моей
сокровищницы»
У Ирвинга волшебные талисманы не разговаривают (медный пе‐
тух, медный всадник). У Пушкина золотой петушок иронизирует над
царем. <...>
Диалог царя с воеводой дан в плане гротеска. В сказке Ирвинга, не‐
смотря на общий иронический тон повествования, аналогичный эпизод
не имеет подобной окраски.
Дальше у Пушкина следует вставной эпизод с царскими сыновьями
и поход царя, отсутствующие в легенде Ирвинга.
У Ирвинга воины короля отправляются в горы – место, указанное
талисманом, где они не встречают ни одного неприятеля, но находят
готскую принцессу. Они приводят ее к Абен‐Габузу. <...>
У Пушкина ситуация гораздо сложнее, чем у Ирвинга. Царь влюб‐
ляется в Шамаханскую царицу над трупами своих сыновей (6).
Последнее и самое значительное совпадение мы видим в сцене рас‐
платы. <...>
У Пушкина отказ звездочета от царских милостей и требование
Шамаханской царицы ничем не мотивированы. В легенде Ирвинга звез‐
22
дочет — женолюб, и он отказывается от наград, предлагаемых королем,
потому что владеет волшебной книгой царя Соломона. В черновике
и еще в беловике Пушкин называет звездочета — шамаханским, т. е. союз‐
ником Шамаханской царицы. Тогда бы было ясно, отчего он ее требует.
Развязка «С казки о золотом петушке» существенно отличается от
источника. Когда Абен‐Габуз не исполняет обещания, волшебный флю‐
гер (медный всадник) только перестает предупреждать его о приближе‐
нии опасности. В пушкинской же сказке талисман (золотой петушок)
является орудием казни царя‐клятвопреступника и убийцей (7).
Пушкин как бы сплющил фабулу, заимствованную у Ирвинга, неко‐
торые звенья выпали, и отсюда – фабульные невязки, та «неясность» сю‐
жета, которая отмечена исследователями. Так, например, у Пушкина не
перенесены «биографии» звездочета и принцессы, что создает некото‐
рую таинственность.
В отличие от других «простонародных» сказок Пушкина, в «Сказке
о золотом петушке» отсутствует традиционный сказочный герой, от‐
сутствуют чудеса и превращения.
Очевидно, что в легенде Ирвинга Пушкина привлек не «гарун‐аль‐
рашидовский стиль».
Все мотивировки изменены в сторону приближения к «натуралис‐
тичности», и очень усилен сатирический характер.
Так, например, если у Ирвинга Абен‐Габуз засыпает под звуки вол‐
шебной лиры или просто говорит в начале: «Как спокойно я спал бы
в моем дворце, имея таких сторожей...», у Пушкина Дадон спит в начале
сказки на все лады. Междоусобие в горах в легенде мотивируется дей‐
ствием талисмана, в «Сказке о золотом петушке» – причиной естествен‐
ного характера – ревностью и т. д.
У Пушкина все персонажи снижены.
Дадон, как и Абен‐Габуз, – «отставной завоеватель», но «миролюби‐
вый» король мавров кровожаден, а царь – ленивый самодур. (Самое имя
царя взято из «Сказки о Бове Королевиче», где Дадон – «злой» царь.)
В юношеской поэме Пушкина «Бова» Дадон – имя царя‐«тирана», кото‐
рого Пушкин сравнивает с Наполеоном.
В сказке Ирвинга главные персонажи, король и звездочет, тоже
грозный, – пародийны, Пушкин же иронизирует только над царем, об‐
раз которого совершенно гротескный. Звездочет – таинственный, и Пуш‐
кин говорит о нем с нежностью: «Весь как лебедь поседелый». Сцена
встречи Дадона с Шамаханской царицей («и в шатер свой увела») за‐
23
ставляет вспомнить о «Сказке о Еруслане Лазаревиче», причем в черно‐
вике сходство более явственное:
Что же меж высоких гор
Белый шелковый шатер (шелк Шемахи)
В том шатре сидит девица
Шамаханская царица.
А в лубочном издании «Сказки о Еруслане»: «И наехал в чистом по‐
ле на бел шатер, в котором сидели три прекрасные девицы, дочери царя
Бугригора. Таковых прекрасных более на свете нет».
Далее следует любовная сцена в шатре и убийство двух сестер.
«Сказка о золотом петушке», включенная самим Пушкиным в цикл
его «простонародных сказок» (и обычно рассматриваемая в ряду других
пушкинских сказок), носит на себе яркий отпечаток «простонародности».
Сличение черновика и белового автографа «Сказки о золотом пе‐
тушке» (8) показывает, что Пушкин в процессе работы снижал лексику,
приближая ее к просторечию (9).
Приведем несколько примеров.
Царь к окошку, — что ж на спице (черн.)
Царь к окошку, ан на спице (оконч. ред.)
Что же? меж высоких гор
И промеж высоких гор
Ты [старик] мудрец с[о] ума сошел
[Видно] Или ты с ума рехнулся?
Вспыхнул царь — так же нет
Плюнул царь: Так лих же, нет!
Крикнул [Царь] и в то же время
Охнул раз, — и умер он.
Жанром простонародной сказки мотивирован ввод элементов
фольклора: «п обитая рать, побоище», «сорочинская шапка» (10), шема‐
ханский «белый шатер», эпитет «шамаханский» (в народных сказках
обычно — «шамаханский шелк») (11) и др.
Из фольклора заимствован и традиционный зачин:
Негде , в тридевятом царстве...
а также:
Его за руку взяла
И в шатер свой увела.
24
Бутафория народной сказки служит здесь для маскировки полити‐
ческого смысла.
Так в XVIII веке жанр «арабской» сказки часто служил шифром для
политического памфлета или сатиры («Каиб» Крылова). Так Державин
называет Сенат Диваном. Примером использования русского фольклора
для выпадов против самодержавия может служить «Бова» Радищева, ко‐
торому Пушкин подражал в своем лицейском «Бове» и о котором он
вспомнил в 33—34 годах в статье «Александр Радищев».
Ю. Н. Тынянов вскрыл двупланность семантической системы Пуш‐
кина: «На “Моцарта и Сальери” благодаря его семантической двуплано‐
вости обиделся Катенин... а “Пир во время чумы” написан во время хо‐
лерной эпидемии. Семантическая структура трагедии костюмов, данная
на иноземном материале, была полна современным автобиографиче‐
ским материалом» (12).
В «Сказке о золотом петушке» содержится ряд намеков памфлетно‐
го характера (13). Но элементы «личной сатиры» зашифрованы с особой
тщательностью. Это объясняется тем, что предметным адресатом был
сам Николай I.
Ссора звездочета с царем имеет автобиографические черты. В чер‐
новой и даже беловой рукописях намеки совсем прозрачны. В черновике:
Но с [царями] плохо вздорить.
Тут же слово «царями» зачеркнуто и заменено «могучим»:
Но с могучим плохо вздорить (14).
Однако в беловом списке Пушкин восстанавливает первую редакцию:
Но с царями плохо вздорить.
В печатной редакции намек снова «зашифрован»:
Но с иным накладно вздорить.
Это, в свою очередь, вызвало изменение текста «нравоучительной»
концовки. Эту концовку Пушкин перенес из «Сказки о мертвой ца‐
ревне»:
Сказка ложь, да нам урок,
А иному и намек.
25
При таком сопоставлении намек получался чересчур уж ясным. По‐
этому в окончательной редакции текст принял следующий вид:
Сказка ложь, да в ней намек (15):
Добрым молодцам урок.
Значит, намек состоит в «уроке». Царь — «молодец».
Тема «Сказки о золотом петушке» — неисполнение царского слова.
Царь, получив от звездочета волшебного петушка, обещает испол‐
нить первую его волю:
За такое одолженье, —
Говорит он в восхищеньи, —
Волю первую твою
Я исполню, как мою.
А когда дошло до расплаты:
Что ты? — старцу молвил он. —
Или бес в тебя ввернулся?
Или ты с ума рехнулся?
Что ты в голову забрал?
Я, конечно, обещал,
Но всему же есть граница...
В черновике гораздо резче:
[От] [от] [моих] [от] [царских] [слов]
[Отпереться я готов]
В черновике — звездочет требует исполнения данного царем обещания:
Царь! — он молвил — [ты обещанье] дерзновенно
[Обещал] [ты клялся] [мне] [Обеща] [ты] [с] (?) [обещ] (?)
[Ты мне дал], [что] непременно
[ты] что исполнишь как свою
[волю] что первую мою
Так ли? — шлюсь на всю столицу
Любопытна здесь ссылка звездочета на «всю столицу» (обществен‐
ное мнение).
По первоначальному замыслу скопец, к оторого Дадон приказывает
гнать, упрекает царя:
26
[Так‐то платишь]
[Молвил старичок]
В 1834 году Пушкин знал цену царскому слову.
_________________________
1. Магический всадник из меди есть и в сказках «Тысячи и одной ночи», но там он имеет
иное назначение (см. «Рассказ о носильщике и трех девушках»). Этим указанием я обязана
акад. И. Ю. Крачковскому.
2. Точнее: «удалившийся от дел завоеватель».
3. В пушкинских черновиках этот набросок находится между «Езер‐ ским» и началом пере‐
вода «Одиссеи» (тетрадь No 2374 <ныне: ПД. No 845>, л. 7). Впервые напечатан под заглавием
«Опыт детского стихотворения» (Рус. архив. 1881. No 3. С. 473). Наиболее полный текст напе‐
чатан в Полн. с обр. соч. А . С. Пушкина. М.; Л., 1931. Т. 2. С. 257.
4. Привожу перевод этого отрывка: «. .. перед каждым окном находился стол, на котором бы‐
ла расставлена, как шахматы, миниатюрная армия — пехота и кавалерия, вырезанные из де‐
рева... Король... приблизился к шахматному столику, на котором были расставлены дере‐
вянные куколки, и увидел... что все они пришли в движение. Лошади гарцевали и били ко‐
пытами, воины потрясали оружием, и слышался звук труб и барабанов».
В черновике Пушкина:
[Музыканты] на лошадках
И [перед пешими]
И [копья дротики блестят].
5. Вероятно, намек на междоусобные войны. Ср. «бунт в столице» в черновике.
6. Единоборство братьев‐соперников — очень распространенный мотив европейского фоль‐
клора. См., например, английскую балладу «Lord Ingram and Chiel Wyet» <Child. The English
and Scottish popular ballads. Boston, 1882—1891>, где совершенно так же, как в «Петушке»,
описаны убившие друг друга братья.
7. Следует отметить, что в «Сказке о царе Салтане» развязка тоже не совпадает с развязкой
источника, и то, что царь на радости прощает злых сестер, по замечанию Сумцова, черта
«совсем чуждая народным вариантам» 3.
8. Черновая рукопись: тетрадь No 2374 (Публ. библиотека им. Ленина в Москве <ныне: ПД.
No 845>); беловой автограф находится в Публ. библиотеке им. Салтыкова‐Щедрина в Ленин‐
граде. Черновики до сих пор не были изучены. Пользуюсь транскрипциями, предоставлен‐
ными мне С. М. Бонди, которому приношу благодарность.
9. В 1832 г. Н. М. Комовский писал Языкову: «Жуковский как сказоч‐ ник обрился и приодел‐
ся на новый лад, а Пушкин в бороде и армя‐ ке» (Ист. вестник. 1883. No 12. С. 534).
10. В чистом поле стоит человек, копьем подпершись, во белой епанче, шляпа на нем соро‐
чинская, и стоячи дремлет» («Сказка о Еруслане Лазаревиче»); см. также строфу о «Римской
папе» в черновике «Сказки о рыбаке и рыбке»: «На старухе сорочинская шапка, на шапке
венец лат<инс кий>, на венце тонкая спица, на спице Строфилус‐птица».
11. «Седлает того доброго коня <...> и подтягивает двенадцать подпруг шелку шамаханско‐
го...» («Сказка о Иване Богатыре»). И в поэме Радищева «Бова»:
Но предательски помосты,
Покровенные коврами
Шелку мягка шамаханска.
12. Тынянов Ю. Архаисты и новаторы. Л., 1929. С . 269.
27
13. Эти намеки, а также ироническое отношение к главному персонажу, царю Дадону, вы‐
звали предположение, что «Сказка о золотом петушке» — «затушеванная политическая са‐
тира» (см.: 1) Пушкин А. Сказки / Ред., вступ. статья и объясн. А. Слонимского. М.; Л., 1930.
С. 25—29 (изд. для детей); 2) Пушкин А. С. Полн. собр. соч. М.; Л., 1931. Т. 6. С. 331 (путеводи‐
тель по Пушкину)).
14. Ср.: «И новый царь, суровый и могучий».
15. Во всех изданиях Пушкина после слова «намек» стоит не двоеточие, как в беловой руко‐
писи, а запятая (по записи в дневнике Пушкина) или знак восклицательный.
4
Положение, в котором оказался Пушкин к 1834 году, можно охарак‐
теризовать следующей строкой из «Езерского» (1):
Прощен и милостью окован.
К этому времени окончательно выяснилось, что первая царская ми‐
лость — освобождение от цензуры — на деле привела к двойной цензу‐
ре — царской и общей.
После запрещения целого ряда произведений 11 декабря 1833 года
Пушкину был возвращен «Медный всадник» с замечаниями царя, кото‐
рые заставили Пушкина расторгнуть договор со Смирдиным.
Другим проявлением царской милости было дарование Пушкину
звания камер‐юнкера двора его величества (31 декабря 1833 г.).
Можно считать установленным, что своего камер‐юнкерства Пуш‐
кин не простил царю до самой смерти (2).
История отношений Пушкина с двором после пожалования ему
низшего придворного чина, а также ссора с царем в связи с перлюстра‐
цией письма к жене достаточно освещены в целом ряде работ.
25 июня 1834 года Пушкин отправил Бенкендорфу письмо с прось‐
бой об отставке.
Прошению об отставке предшествовала перлюстрация письма
Пушкина к жене (от 20–22 апреля).
Пушкин писал: «Видел я трех царей: первый велел снять с меня кар‐
туз и пожурил за меня мою няньку; второй меня не жаловал; третий
хоть и упек меня в камер‐пажи под старость лет, но променять его на
четвертого не желаю; от добра добра не ищут. Посмотрим, как‐то наш
Сашка будет ладить с порфирородным своим тезкой; с моим тезкой
я не ладил. Не дай бог ему итти по моим следам, писать стихи да ссо‐
риться с царями!»
Здесь Пушкин, несомненно, вспоминал о своем стихотворении
«Моя родословная» (1830):
28
Упрямства дух нам всем подгадил:
В родню свою неукротим,
С Петром мой пращур не поладил
И был за то повешен им.
Его пример будь нам наукой:
Не любит споров властелин*.
Историю своих отношений с царями Пушкин связывает с темой
о взаимоотношениях рода Пушкина с династией Романовых.
Письмо Пушкина было доставлено к царю, который не постыдился
в том признаться и дал «ход интриге, достойной Видока и Булгарина».
Свою запись в дневнике по этому поводу Пушкин заканчивает очень
резким выпадом по адресу Николая: «...что ни говори, мудрено быть са‐
модержавным».
Монарх подтвердил это мнение Пушкина, поручив Бенкендорфу
«объяснить ему всю бессмысленность его поведения и чем все это может
кончиться...».
Бенкендорф «объяснил », и Пушкин взял обратно прошение об
отставке: «На днях хандра меня взяла, подал я в отставку, но получил
<...> от Бенкендорфа такой сухой абшид, что я вструхнул, и Христом
и богом прошу, чтоб мне отставку не давали» (письмо к жене, первая
половина июля).
Обращаясь к Бенкендорфу с просьбой об отставке, Пушкин в то же
время просит не запрещать ему вход в архивы.
То, что Пушкин в минуту наибольшего раздражения против царя
все же просит о незапрещении доступа в архивы, доказывает, какое важ‐
ное значение он придавал этому и каким ударом должен был быть для
него отказ.
С начала 30‐х годов на своих исторических работах Пушкин намере‐
вался построить не только свое материальное благополучие, но все от‐
ношения с царем и «высшим светом». Ни «Евгений Онегин», ни «Полта‐
ва», ни «Борис Годунов» не могли принести ему того общественного по‐
ложения, без которого жизнь в Петербурге казалась ему неприемлемой.
Еще в 1831 году Пушкин писал Бенкендорфу: «Не смею и не желаю
взять на себя звание Историографа после незабвенного Карамзина; но
могу со временем исполнить давнишнее мое желание написать Исто‐
рию Петра Великого и его наследников до государя Петра III».
И смел, и желал.
29
Вспомним, с какой радостью сообщает он ближайшим друзьям,
Нащокину и Плетневу, что царь разрешил ему доступ в архивы для
написания «Истории Петра Великого» (3).
В биографии Пушкина этот вопрос имеет очень серьезное значение.
30‐е годы для Пушкина — это эпоха поисков социального поло‐
жения. С одной стороны, он пытается стать профессиональным лите‐
ратором, с другой — осмыслить себя как представителя родовой
аристократии.
Звание историографа должно было разрешить эти противоречия.
Для Пушкина это звание неотделимо было от образа Карамзина —
советника царя и вельможи, достигшего высокого придворного положе‐
ния своими историческими трудами.
Однако Николай I и его приближенные вовсе не предназначали
Пушкина для такой высокой роли.
А. Н. Вульф в феврале 1834 года записал в своем дневнике:
«Самого же поэта я нашел <...> сильно негодующим на царя за то,
что он одел его в мундир, его, написавшего теперь повествование о бунте
Пугачева и несколько новых русских сказок. Он говорит, что он возвра‐
щается к оппозиции...» (4).
Эта запись представляет большой интерес как сообщением о воз‐
вращении Пушкина к оппозиции, так и указанием на то, что Пушкин
считал себя оскорбленным именно как автор «Истории Пугачева» и рус‐
ских сказок. (Карамзин тоже писал русские сказки.)
Описывая в дневнике свою первую встречу с Николаем после пожа‐
лования придворного звания, Пушкин отмечает, что говорил с царем
о Пугачеве (утверждал себя как историограф (5)), а за камер‐юнкерство
его не благодарил (что было явным нарушением этикета).
После всего сказанного становится понятным, что категорический
отказ на просьбу не закрывать архивы мог расцениваться Пушкиным как
жест «самовластного помещика», который хотел таким образом уни‐
чтожить все его планы.
Под знаком ссоры с царем прошло все лето 1834 года. Пушкин сдал‐
ся, но примирение все же не состоялось (6).
25 августа, за 5 дней до открытия Александровской колонны, Пуш‐
кин покинул Петербург, «чтобы не присутствовать на церемонии вместе
с камер‐юнкерами».
Отъезд Пушкина из столицы, чуть не накануне торжества, несо‐
мненно, был демонстрацией.
30
Запись об этом, сделанная им в дневнике спустя три месяца, сви‐
детельствует о том, что отношение Пушкина к своему положению не
изменилось.
Находясь проездом в Москве (8 и 9 сентября), Пушкин в письме
к А. И. Тургеневу с иронией отзывается о своей придворной карьере:
«Благодарен Полевому за его доброе расположение к историографу
Пугачева, камер‐юнкеру и проч.».
13 сентября Пушкин приехал в Болдино, где он собирался писать.
Об этом он сообщает жене (15 сентября): «Написать что‐нибудь мне бы
очень хотелось. Не знаю, придет ли вдохновение». Но болдинская осень
1834 года была для Пушкина самой бесплодной. Кроме «Сказки о золо‐
том петушке» он ничего не написал.
Беловая рукопись помечена 20 сентября.
А 26 сентября А. М. Языков, посетивший Пушкина в Болдине, пи‐
сал: «...он мне показывал историю Пугачева <...> несколько сказок в сти‐
хах, в роде Ершова, и историю рода Пушкиных» (7).
Можно предположить, что Языков был первым слушателем
«Сказки о золотом петушке».
«Сказка о золотом петушке», встреченная молчанием критики,
впервые была напечатана в апрельской книжке «Библиотеки для чте‐
ния» 1835 года.
Пушкину не удалось избегнуть подозрения цензуры. Цензор Никитен‐
ко не пропустил три стиха сказки. Приведу запись из дневника Пушкина:
«Цензура не пропустила следующие стихи в сказке моей о золотом
петушке:
Царствуй, лежа на боку
и
Сказка ложь, да в ней намек,
Добрым молодцам урок.
Времена Красовского возвратились. Никитенко глупее Бирукова».
Здесь мы видим обычный выпад Пушкина против цензуры (а быть
может, и желание сохранить эти строчки хотя бы в дневнике). Однако
столкновение с цензурой не было для Пушкина неожиданным.
Беловая рукопись носит следы предварительной «авторской» цен‐
зуры. В следующем отрывке:
31
Царь скликает третью рать
И ведет ее к востоку,
Помолясь Илье пророку —
Последняя строка в печатной редакции приняла такой вид:
Сам не зная, быть ли проку.
Изменена одна строка и в эпизоде ссоры звездочета с царем.
Царь в ответ на требование звездочета говорит:
И зачем тебе девица?
Полно, сводник, что ли, я?
Эту строку нельзя было представить ни в какую цензуру.
Окончательная редакция:
Полно, знаешь ли, кто я?
Наконец, в строке, которая представляет собой как бы ключ ко вто‐
рому смысловому плану «простонародной» сказки:
Но с царями плохо вздорить —
слишком явный выпад заменен полунамеком:
Но с иным накладно вздорить (8).
Так, в письмах к жене (1834 г.) Пушкин называет царя «тот».
______________________
1. 1833 г., осень.
2. См. черновики статьи Пушкина о Вольтере (1836), исследованные Ю. Г. Оксманом <Пуш‐
кин А. С. Собр. соч. М., 1962. Т. 6. С. 499>.
3. Письмо к Плетневу (от 22 июля 1831 г.): «. ..царь взял меня в службу — но не в канцеляр‐
скую, или придворную, или военную, — нет, он дал мне жалование, открыл мне архивы,
с тем, чтоб я рылся там и ничего не делал. Это очень мило с его стороны, не правда ли?»
Письмо к Нащокину от 3 сентября 1831 г.: «... царь <...> взял меня в службу, т. е. дал жалова‐
ния и позволил рыться в архивах для составления Истории Петра I. Дай бог здравия царю!»
4. Майков Л. Пушкин. СПб., 1899. С . 208.
5. Описывая свое представление вел. кн
.
Елене Павловне, Пушкин не забывает отметить:
«. .. говорила с о мной о Пугачеве».
6. О ссоре с царем Пушкин упоминает еще два раза: 1) в письме к жене от 11 июля: «. .. на
днях я чуть было беды не сделал: с тем чуть было не побранился — и трухнул‐то я, да и
грустно стало. С этим поссорюсь — другого не наживу. А долго на него сердиться не умею;
хоть и он не прав»; 2) в дневнике: «22 июля. — Прошедший месяц был бурен. Чуть было не
поссорился я со двором — но все перемололось. — Однако это мне не пройдет».
32
7. Ист<орический> вестник. 1883. Т. 14. No 12 . С. 539. «Родословная Пушкиных» всегда была
для А. С. чем‐то оппозиционным или, во всяком случае, полемическим.
8. Ср. также: «Иной... Боюсь назвать, но признаны всем светом» («Горе от ума»).
5
Эпизод с царскими сыновьями, вставленный Пушкиным в фабулу,
заимствованную у Ирвинга, разбивает «Сказку о золотом петушке» на
три части. Первая часть — с начала до строки «Шум утих, и царь забыл‐
ся». Вторая часть — до строки «Пировал у ней Дадон», третья — от
«Наконец и в путь обратный» и до конца.
Мы уже видели, что смысловая двупланность сказки о ссоре царя с
звездочетом может быть раскрыта только на фоне событий 1834 года.
Но первая часть сказки заставляет предполагать и другое. Дело в
том, что в облике царя подчеркнуты лень, бездеятельность, «желание
охранять свои лавры» (см. «Легенду об арабском звездочете»). Далее чер‐
ты эти совсем исчезают.
Пушкин никогда не считал Николая I ленивым и бездеятельным. Но
черты эти он всегда приписывал Александру I: «Наше царское правило:
дела не делай, от дела не бегай» («Воображаемый разговор с императо‐
ром Александром I», 1822, «Noёl», «Ты и я»).
И много позднее, в 1830 году:
Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда.
И также:
Я всех уйму с моим народом, —
Наш царь в покое говорил.
Биография «отставного завоевателя» (1) Дадона вполне подходит
к этому образу (2). Известно, что мистически настроенный Александр
общался с масонами, а также прорицателями и ясновидцами (3)
и в конце жизни мечтал о том, чтобы удалиться на покой.
Смолоду был грозен он
..............
Но под старость захотел
Отдохнуть от ратных дел
И покой себе устроить.. .
33
См. также 10‐ю главу «Онегина»: «Наш царь дремал» с «И дремотой
царь забылся».
Характеристика короля в «Легенде об арабском звездочете» — «un
conquérant retiré des affaires» <«завоеватель, удалившийся от дел»>,
«conquérant paisible» <«завоеватель на покое»> — могла поразить Пуш‐
кина как полное совпадение с его представлением об Александре I (4).
Смешение характерных черт двух царствований, несомненно, имело
целью затруднить раскрытие политического смысла «Сказки о золотом
петушке». Никто не стал бы искать в Дадоне — стареющем царе, «от‐
ставном завоевателе» — подчеркнуто «бодрого» и еще далеко не старого
Николая I.
Состояние рукописи никак не противоречит нашему предположению.
Черновик начала сказки (до строки «Шлет к нему гонца с покло‐
ном») не сохранился. Следующие шесть строк записаны на обороте об‐
ложки тетради (No 2374) и датировке не поддаются (5). Затем идут стро‐
ки от «Петушок мой золотой» до «Дал отпор со всех сторон». Они были
написаны на листе пятнадцатом в той же тетради, среди произведений
1833 года <«Медный всадник»> и через семь листов от наброска «Царь
увидел пред собой», к оторый по первоначальному замыслу, может быть,
входил в «Сказку о золотом петушке». Зато, несомненно, относится
к осени 1834 года черновая рукопись сказки от строки «Год, другой про‐
ходит мирно» и до конца (6).
Возможно предположить, что последняя сказка Пушкина написана
не сразу. Пушкин неоднократно оставлял свои сказки незаконченными
(«Сказка об Илье Муромце», «Как весенней теплою порою») или не‐
сколько раз возвращался к одному сюжету («Бова»). Часть «Сказки о зо‐
лотом петушке», с начала до строки «Год, другой проходит мирно»,
могла быть написана до 1834 года, и в замысел ее могла входить сатира
на Александра I. В черновиках звездочет все время называется шема‐
ханским скопцом и шамаханским мудрецом (7) и один раз даже аст‐
раханским.
Шемаха в 1820 году была присоединена к России.
Поэтому месть шемаханского скопца царю‐завоевателю, возможно,
ассоциативными нитями связана с этим событием.
В 1834 году схема заполнилась «автобиографическим материалом».
Итак, в образе Дадона могли отразиться два царя, из которых
один Пушкина «не жаловал», а другой — «под старость лет упек в ка‐
мер‐пажи».
34
___________________
1. Четверостишие 1829 г., описывающее бюст Александра I, озаглавлено: «К бюсту завоева‐
теля». В «Age of bronze» <«Бронзовом веке»> Байрона об Александре I «coxcomb tzar»
и «imperial dandu» — оба слова значат щеголь.
2. «Возвращается Дадон», ср. с «Возвращением Александра I» <«Александру»>.
3. Голицын, Татаринова, Крюденер и др. Накануне Аустерлицкого сражения Александр I
имел продолжительную беседу со скопцом Кондратием Селивановым, который, как гово‐
рили в Петербурге, предсказал ему поражение.
4. Александр I был фигурой европейской. Пушкин в сатирике и мистификаторе Ирвинге
мог заподозрить желание в испанской сказке сознательно изобразить Александра I (подав‐
ление Испанской революции Александром I).
5. Нахождение этих строк на обложке тетради само по себе говорит за то, что вещь создава‐
лась с перерывами.
6. Она написана после стихотворения «Он между нами жил», датированного 10 августа
1834 г.
7. В беловике видна попытка окончательно отделаться от Шемахи: Распахнулся... и девица
[Черноброва, круглолица], [Шамаханская царица].
Последняя строка была изменена на «Черноброва, круглолица», но затем снова восстановле‐
на.
20 марта 1931 – 20 января 1933 <1930–1950‐е ?>
35
К практикуму
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕЧЬ. ЛЕКСИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ.
СРАВНЕНИЕ И МЕТАФОРА
Лилия Валентиновна ЧЕРНЕЦ
«...ПЛЫЛО ОБЛАКО, ПОХОЖЕЕ НА РОЯЛЬ». (О СРАВНЕНИИ)
(в сокращении)
Чернец Л. В. «. . .Плыло облако, похожее на рояль» (О сравне нии) // Русская словес‐
ность. 2000. No 2. С. 75–79.
Сравнение – вид тропа. Его сущность хорошо передает этимологи‐
ческое значение термина: сравнение как бы делает равными, приравни‐
вает друг к другу различные предметы и явления, на основании общего,
сходного признака или нескольких признаков.
В пьесе А. П . Чехова «Чайка» беллетрист Тригорин рассказывает
Нине Заречной о своей «литературной кладовой», где хранятся, наряду
с другими заготовками, и сравнения: «Вижу вот облако, похожее на ро‐
яль. Думаю: надо будет упомянуть где‐нибудь в рассказе, что плыло об‐
лако, похожее на рояль» (Действие 2‐е). Сравнение находит сходное в не‐
сходном (ведь сопоставляются, казалось бы, несопоставимые вещи: об‐
лако и рояль!). Тем самым выделяется, подчеркивается определенное
свойство изображаемого предмета или явления. В данном случае это
свойство не названо, но несомненно, что подразумевается причудливость
форм, которые может принимать облако.
В очертания х облака, действительно, можно увидеть многое и раз‐
ное. В «Гамлете» Шекспира главный герой заводит с Полонием разго‐
вор об облаке:
Гамлет. Вы видите вон то облако, почти что вроде верблюда?
Полоний. Ей‐богу, оно действительно похоже на верблюда.
Гамлет. По‐моему, оно похоже на ласточку.
Полоний. У него спина, как у ласточки.
Гамлет. Или как у кита?
Полоний. Совсем как у кита.
(Действие 3‐е, сцена 2‐я . Пер. М . Лозинского)
36
Независимо от иронического подтекста этого диалога (Гамлет при‐
творяется сумасшедшим и испытывает терпение Полония, решившего
во всем с ним соглашаться), показателен выбор главным героем предме‐
та речи: все возникшие ассоциации трудно оспорить. (Не исключено,
что тригоринское уподобление облака роялю навеяно Шекспиром: ведь
«Чайка» пронизана реминисценциями из «Гамлета»).
Сравнение выявляет какое‐то свойство, признак предмета через его
сближение с другим предметом, где есть тот же признак. Получается как
бы система зеркал, обнаруживающая подобия, часто неожиданные
и поразительные. Одновременно сравнение характеризует субъекта вы‐
сказывания (персонажа, повествователя, лирического героя и т. д.), вы‐
бравшего образ для сравнения. Так, увиденное Тригориным сходство
между облаком и роялем выдает в этом любителе рыбной ловли мело‐
мана и театрала, во всяком случае человека, для которого рояль – при‐
вычная деталь интерьера.
Сравнение включает в себя три основных компонента. По определе‐
нию М. А. Петровского, этот «термин поэтики обозначает сопоставле‐
ние изображаемого предмета, или явления, с другим предметом по об‐
щему им обоим признаку, т.наз. tertium comparationis, т. е. третьему
элементу сравнения» (1). Однако сходный признак предметов не всегда
называется, хотя всегда мыслится, как, например, в сравнении облака
с роялем. Сравнения могут быть полными и неполными. В полном вари‐
анте названы сами предметы или явления (то, что сравнивается, и то,
с чем сравнивается, это члены сравнения) и сближающий их признак
(т. е. основание сравнения). Образ, поясняющий, оттеняющий предмет
речи, обычно вводится с помощью союзов: как, будто, словно, точно, по‐
добно тому как и т. п. В нижеследующих примерах основания сравнений
выражены различными частями речи (глаголом или прилагательным):
«Как пахарь, битва отдыхает», «Дорога, как змеиный хвост, / Полна
народу, шевелится» (А. С . Пушкин. Полтава); «Словно как мать над сы‐
новней могилой, / Плачет кулик над равниной унылой» (Н. А. Некрасов.
Саша); «Как мошки зарею, / Крылатые звуки толпятся» (А. А . Фет. «Как
мошки зарею...»); «Я видел горные хребты, / Причудливые, как мечты...»
(М. Ю. Лермонтов. Мцыри); «Строен твой стан, как церковные свечи...»
(А. А. Блок. Девушка из Spoleto); «Снег, словно мед ноздреватый, / Лег под
прямой частокол» (С. А. Есенин. «Снег, словно мед ноздреватый...»).
Конструкция с союзом как (и другими подобными союзами) не
единственная синтаксическая форма сравнения. С той же целью упо‐
37
требляются словесные обороты: быть похожим на кого‐то (что‐то), напо‐
минать кого‐то (что‐то) и пр. Так, Пушкин в поэме «Полтава» подчер‐
кивает красоту и грацию героини (Марии Кочубей): «Ее движенья / То
лебедя пустынных вод / Напоминают плавный ход, / То лани быстрые
стремленья» (сравнения выдержаны в духе народно‐ поэтической тра‐
диции). А в «Демоне» Лермонтова неуловимость облика главного героя
передана посредством сравнения, которое можно назвать индивидуаль‐
но‐авторским: «Он был похож на вечер ясный: / Ни день, ни ночь, ‐ ни
мрак, ни свет!». Естественным связующим звеном между членами сравне‐
ния выступает сравнительная степень прилагательного: «Опрятней модного
паркета / Блистает речка, льдом одета» (Пушкин. Евгений Онегин); «Гра‐
финя Эмилия ‐ / Белее чем лилия...» (Лермонтов. «Графиня Эмилия»);
«Руки белей бересты» (Есенин. «Снег, словно мед ноздреватый...»).
Нередко вводимый образ выражен существительным в творитель‐
ном падеже: «Звездой блестят ее глаза» (Пушкин. Полтава); «Вмиг огнем
лицо все вспыхнуло, / Белым снегом перекрылося» (А. В. Кольцов. Раз‐
лука); «Вечер синею свечкой звезду / Над дорогой моей засветил» (Есе‐
нин. «Я по первому снегу бреду...»); «Я волком бы выгрыз бюрократизм»
(В.В. Маяковский. Стихи о советском паспорте). Этот тип сравнения, по‐
видимому, возник на почве мифологического сознания. А
. А. Потебня
отмечал, что в сравнениях «творительный падеж напоминает превраще‐
ния» и происхождение этой формы «может быть отнесено к тому вре‐
мени, когда человек не отделял себя от внешней природы» (2). «Твори‐
тельный превращения» (есть такой термин) часто встречается в фольк‐
лоре, средневековых литературах. Вот один из характерных примеров –
из «Слова о полку Игореве»: «На Дунае Ярославнин голос слышится, /
кукушкою безвестною рано кукует: / Полечу, – говорит, – кукушкою по
Дунаю...» (пер. Д. С. Лихачева). В новой литературе такое сравнение не
менее условно, чем другие тропы. Но во власти поэта – оживить прием
и напомнить о древнем мотиве превращения, оборотничества, как это
сделал Блок в одном стихотворении: «Мой милый, будь смелым / И бу‐
дешь со мной. // Я вишеньем белым / Качнусь над тобой. // Зеленой звез‐
дою / С востока блесну, // Студеной волною / На панцырь плесну, // Ру‐
салкою вольной / Явлюсь над ручьем...» («Мой милый, будь смелым...»;
межстрофные границы обозначены двумя косыми линиями).
Поскольку в данном типе сравнения нет союзов – связок и одновре‐
менно «разделителей» сопоставляемых предметов, последние сближены
здесь более тесно. Напротив, в отрицательных сравнениях подчеркнуто не
38
сходство, а различие, границы между членами сравнения: «Что не кон‐
ский топ, не людская молвь, / Не труба трубача с поля слышится, / А по‐
годушка свищет, гудит, / Свищет, гудит, заливается» (Пушкин. Песни
о Стеньке Разине); «Не воздух, а золото, / Чистое золото, / Пролито
в мир» (С. М. Городецкий. «Не воздух, а золото...»). Отрицательные
сравнения также очень древние (не случайна их высокая частотность
в произведениях фольклора, средневековых литератур и соответствую‐
щих стилизациях), однако моложе конструкций с «творительным пре‐
вращения»: они отразили процесс разложения мифологического созна‐
ния, проявившийся в разграничении человека и природы, живого и не‐
живого. А. Н. Веселовский, рассматривавший тропы в аспекте историче‐
ской поэтики, видел в отрицательном сравнении выход из параллелиз‐
ма» человеческой жизни и природных явлений и одновременно – сту‐
пень, предшествующую собственно сравнению: «Процесс совершился
в такой последовательности формул: человек – дерево; не дерево, а чело‐
век; человек, как дерево»(3).
Во всех приведенных сравнениях указан сходный, общий признак
сопоставляемых предметов. Это полные сравнения, отличающиеся от‐
носительной ясностью выражения мысли.
В стихотворении Пушкина «Зимний вечер» сближены очень дале‐
кие друг от друга предметы, явления: буря и зверь, буря и дитя, буря
и путник запоздалый, и основание для сравнений – разнообразный шум
бури, быстро меняющийся характер этого шума:
Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя,
То по кровле обветшалой
Вдруг соломой зашумит,
То, как путник запоздалый,
К нам в окошко застучит.
Находясь внутри «вет хой лачужки», лирический герой прежде всего
слышит зимний вечер, бурю на дворе: она то завоет, то заплачет, то
в окошко застучит. Если исключить из текста эти глаголы, образы поте‐
ряют определенность: их можно будет домысливать в разных направле‐
ниях: например, бурю – уподобить зверю по результатам «действия»
(стихия, уничтожающая все и вся), назвать ее капризным, своенравным
39
ребенком и пр. Единство впечатления в пушкинском описании зимней
бури создается прежде всего благодаря совокупности слуховых образов
(в их ряду – шум соломы по кровле обветшалой – выразительная деталь,
но не сравнение). <...>
Однако в сравнениях не всегда обозначены их основания, часто
опускаются и союзы (как, будто и пр.). Такие неполные сравнения нужно
домысливать.
«Может, вместо зимы на полях / Это лебеди сели на
луг...» (Есенин. «Я по первому снегу бреду...») – здесь не назван белый
цвет, ассоциирующийся и с зимой, и с лебедями. Иногда одно из сходств
указано, но не оно главное: «Руки милой – пара лебедей – / В золоте во‐
лос моих ныряют» (Есенин. «Руки милой – пара лебедей...»). Воображе‐
ние восполняет умолчание, чуть намеченный цветовой контраст: белые
(как лебеди) руки в «золоте волос». Неполные сравнения, по‐видимому,
в большей степени активизируют восприятие; они в целом характернее
для поэтики XX в., тяготеющей к недоговоренности. Суть сравнения мо‐
жет раскрываться не сразу: «Что почек, что клейких заплывших огарков /
Налеплено к веткам! Затеплен / Апрель» (Пастернак. Весна). В самом
сравнении подчеркнуто внешнее подобие: набухшие почки на ветках
напоминают заплывшие огарки. Но «тайнопись» изображения раскры‐
вается в следующем предложении: «Затеплен апрель». Набухшие поч‐
ки – знак вешнего тепла, заплывшие огарки – догоревшие свечи, отдав‐
шие веткам свое тепло; сравнение продолжает тему, заявленную в на‐
звании стихотворения, – «Весна». Автор, наконец, может нарочито укло‐
няться в сравнении от конкретизации, создавать многозначный, но по‐
романтически неопределенный образ: «Ты – как отзвук забытого гимна /
В моей черной и дикой судьбе» (Блок. Из цикла «Кармен»).
Все же сравнения – не только полные, но и неполные, не только про‐
зрачные, но и многосмысленные, – рационалистичнее метафор. Ведь оба
члена сравнения в нем названы, причем используются их прямые номи‐
нации. Относительная обособленность сопоставляемых предметов спо‐
собствует появлению развернутых сравнений, требующих соответству‐
ющего пространства текста: не простого, а сложного предложения‐
периода или нескольких предложений. О разрастании вводимого обра‐
за в целую систему образов, в повествовательный или описательный
эпизод убедительно писал М. А. Петровский: «Метафора – тождество,
сравнение – раздельность. Поэтому образ, привлекаемый для сравнения,
легко развертывается в совершенно самостоятельную картину, связан‐
ную часто только в одном каком‐нибудь признаке с тем предметом, ко‐
40
торый вызвал сравнение. Таковы пресловутые гомеровские сравнения.
Поэт развертывает их, как бы забывая и не заботясь о тех предметах, ко‐
торые они должны изображать. Tertium comparationis дает лишь повод,
толчок для отвлечения в сторону от главного течения рассказа»(4). <...>
Сравнение – всегда интерпретация, оценка предмета речи, его опи‐
сание на другом языке. Оно характеризует говорящего (автора‐
повествователя, лирического героя, персонажа) подчас в большей степе‐
ни, чем представляет предмет речи. Если рассматривать сравнения
в произведении в пределах образа автора, то можно согласиться с Е. Фа‐
рыно, считающим этот троп формой явного «присутствия» автора в тек‐
сте: «...Сравнения являют собой явный уровень моделирования и сохра‐
няют разъединенность между составляемым миром и языком его описа‐
ния. То, с чем сравнивают, то, что вводится при помощи слов ʺкакʺ, ʺбуд‐
тоʺ, ʺсловноʺ, ʺпохожеʺ, ʺточь‐в
‐
точьʺ, при помощи конструкций с ʺка‐
затьсяʺ и ʺвыглядетьʺ или косвенных падежей – все это получает статус
внешнего по отношению к создаваемому миру языка описания, средства
интерпретации и т. п. Поэтому там, где вводятся сравнения, в текст все‐
гда включен и сам автор (литературный субъект), не скрывающий своего
присутствия»(5). <...>
О познавательных и экспрессивных возможностях сравнений свиде‐
тельствует их важная, иногда ведущая роль в композиции произведе‐
ний: не только стихотворений («Цветы последние милей...» Пушкина,
«Поэт», «Тучи» Лермонтова, «Слезы людские, о слезы людские...»,
«Фонтан» Ф. И. Тютчева, «Фонарики» В. Я. Брюсова, «Клен ты мой опав‐
ший, клен заледенелый...» Есенина), но и произведений повествова‐
тельных, драматических (символический образ репья, обрамляющий
повесть «Хаджи‐Мурат» Л. Н. Толстого, лейтмотив «леса» в комедии
А. Н. Островского «Лес»).
_________ ______ ______
1. Петровский М. Сравнение // Литературная энциклопедия. Словарь литературных
терминов: В 2 т. М.; Л., 1925. Т. 2. С. 860.
2. Потебня А. А. Эстетика и поэтика. М., 1976. С. 223.
3. Веселовский А. Н . Историческая поэтика. М., 1989. С. 145–146.
4. Петровский М. Сравнение. С. 861.
5. Faryno Jerzy. Введение в литературоведение. Katowice, 1980. Ч. 3. С. 29.
41
Лилия Валентиновна ЧЕРНЕЦ
«НОЧЕВАЛА ТУЧКА ЗОЛОТАЯ...». (О МЕТАФОРЕ )
(в сокращении)
Чернец Л. В. «Ночевала тучка золотая...» (О метафоре) // Русская словесность. 2000.
No 6. С. 73–78.
Метафора (греч. metaphorá – «перенос») – троп, перенос названия
с одного предмета на другой на основании их сходства. Так, в стихотво‐
рении М. Ю. Лермонтова «Утес» действия, свойства, переживания чело‐
века переносятся на двух «персонажей» произведения – «старый утес»
и «тучку золотую»:
Ночевала тучка золотая
На груди утеса‐великана.
Утром в путь она умчалась рано,
По лазури весело играя;
Но остался влажный след в морщине
Старого утеса. Одиноко
Он стоит, задумался глубоко
И тихонько плачет он в пустыне.
В основе стихотворения – параллелизм между природой и челове‐
ческой жизнью, здесь пейзаж – иносказание, истинная тема – одино‐
чество (его может испытывать только человек), мимолетность счастья.
В выражении этого психологического содержания важны и грамматиче‐
ские категории (утес и тучка – существительные мужского и женского ро‐
да), и использование слова «пустыня» (в романтической поэзии пусты‐
ня – символ одиночества; так, в лермонтовском стихотворении «Благо‐
дарность» лирический герой «благодарит» «за жар души, растраченный
в пустыне...»), и в особенности контрастные ряды олицетворяющих мета‐
фор: тучка ночевала, умчалась, весело играя; утес одиноко стоит, задумался
глубоко, плачет, в морщине старого утеса – влажный след. В этой метафо‐
рической цепи влажный след прочитывается как слеза (перифраз), старый
утес – как старый человек; его контекстуальный антоним – «золотая» (ме‐
тафорический эпитет), вместе с «лазурью» – это яркие цвета тучки.
Из других видов иносказания метафора родственна сравнению, что
неоднократно подчеркивалось уже античными теоретиками поэтиче‐
42
ского и ораторского искусства. Для Аристотеля «очевидно, что все удач‐
но употребленные метафоры будут в то же время и сравнениями,
а сравнения, [наоборот, будут] метафорами, раз отсутствует слово срав‐
нения [«как»]» (1). Деметрий (I в. н. э .) считает сравнение, «по существу,
развернутой метафорой» (2), а Квинтилиан (I в. н. э.) называет метафору
«сокращенным сравнением» («О воспитании оратора»).
Действительно, многие метафоры как будто поддаются «переводу»
их в сравнения. Например, фразу «...остался влажный след в морщине /
Старого утеса» можно, в экспериментальных целях, развернуть следую‐
щим образом: «в углублении на поверхности утеса, как в морщине на
лице, остался влажный след, похожий на слезу». Но, конечно, такое
«уточнение» смысла начисто уничтожает эстетическую выразительность
аналогии. Метафора замечательна именно своим лаконизмом, недого‐
воренностью и тем самым – активизацией читательского восприятия.
В отличие от сравнения, где оба члена (то, что сравнивается, и то,
с чем сравнивается) сохраняют свою самостоятельность (хотя ее степень
в типах сравнения различна (3)), метафора создает единый образ, как бы
размывает границы между предметами или понятиями. Сущность ме‐
тафоры хорошо передают слова Б. Л. Пастернака:
Перегородок тонкоребрость
Пройду насквозь, пройду, как свет.
Пройду, как образ входит в образ
И как предмет сечет предмет.
(«Волны»)
Слитность впечатления достигается даже в двучленной метафоре (где
названы оба члена сравнения, а иногда даже основание для сравнения):
«жизни мышья беготня» (А. С. Пушкин. «Стихи, сочиненные ночью во
время бессонницы»); «ситец неба такой голубой» (С. А. Есенин. «Баллада
о двадцати шести»); «флейта водосточных труб» (В. В. Маяковский. «А вы
могли бы?»); «астраханская икра асфальта» (О. Э. Мандельштам. «Еще
далеко мне до патриарха...»); «версты обвинительного акта» (Б. Л. Пас‐
тернак. «Лейтенант Шмидт». Ч. 3); «глазунья луны» (И. А. Бродский. «Ти‐
хотворение мое, мое немое...»). В таких метафорах есть почти все компо‐
ненты сравнения, недостающее подразумевается: жизнь подобна мышь‐
ей беготне, небо кажется голубым ситцем, в одосточные трубы [звучат]
как флейта, асфальт [черен] будто астраханская икра, обвинительный
акт словно версты [очень длинный], луна похожа на глазунью.
43
Но в поэзии содержателен выбор синтаксической структуры: гени‐
тивная метафора (названная так по существительному, стоящему в ро‐
дительном падеже, лат. genetivus – «родительный») воздействует на чи‐
тателя иначе, чем сравнение, выражающее, казалось бы, ту же мысль.
При трансформации двучленной генитивной метафоры в сравнение
«исчезает именно метафоричность» (4).
В одночленной метафоре тот или иной член сравнения опущен, но
приведено или хотя бы намечено основание для сравнения, аналогию по‐
могает понять и ближайший контекст. В переносном значении могут
выступать слова, относящиеся к разным частям речи. Метафоры‐сущест‐
вительные: «перлы дождевые» (Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза»), «закат
в крови» (А. А. Блок. «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...»), «песни
ветровые» (Блок. «Россия»), «глаза газет» (Маяковский. «Мама и убитый
немцами вечер»). Глагольные метафоры: «солнце смотрит на поля» (Тют‐
чев. «Неохотно и несмело...»), «низкий дом без меня ссутулится» (Есе‐
нин. «Да! Теперь решено. Без возврата...»), «исколесишь сто лестниц»
(Маяковский. «Прозаседавшиеся»). Метафорические эпитеты, выражен‐
ные прилагательными, наречиями, причастиями: «Как сладко в тишине у
брега струй плесканье!» (В. А. Жуковский. «Вечер»), «печальные поляны»
(Пушкин. «Зимняя дорога»), «отдыхающее поле» (Тютчев. «Есть в осени
первоначальной...»), «каменное слово» (А. А. Ахматова. «И упало камен‐
ное слово...»).
Уже из этой подборки видно, что отдельная метафора «узнается»
в словосочетании, состоящем из двух‐трех слов: закат в крови, дом ссуту‐
лится, печальные поляны. Однако в художественной речи функции мета‐
форы – познавательная, оценочная – раскрываются в более или менее ши‐
роком контексте, в частности во взаимодействии метафор друг с другом.
В словосочетании нередко соединены две метафоры и более, создающие
один целостный образ, и они могут иметь разное грамматическое выра‐
жение: «пустынные глаза вагонов» (Блок. «На железной дороге»), «...И очи
синие, бездонные // Цветут на дальнем берегу» (Блок. «Незнакомка»), «об‐
наженные груди берез» (Есенин. «Я по первому снегу бреду...»), «Пусть ве‐
тер, рябину занянчив, // Пугает ее перед сном» (Пастернак. «Иней»).
Как и в других тропах (метонимия, синекдоха), в поэтической мета‐
форе переносное значение слова не вытесняет основного: ведь в совме‐
щении значений и заключается действенность метафоры. Если же слово
в устойчивых сочетаниях с другими словами утрачивает свое исходное,
основное значение, «забывает» о нем, оно перестает восприниматься как
44
иносказание; переносное значение становится основным. Такими стер‐
тыми (сухими) метафорами изобилует наша повседневная речь: дождь
идет, часы стоят, солнце село; ход доказательств, голос совести; вырасти
в специалиста, собрать мысли и т. д.; они закрепляются как термины
в научной речи: воздушная подушка, поток нейтронов, поток сознания,
грудная клетка. Есть и так называемые вынужденные метафоры, высту‐
пающие в качестве основного названия (номинации) предмета: ножка
стула, горлышко бутылки, гусеничный трактор. Все это языковые метафоры,
т. е., в сущности, не метафоры.
В стилях речи, где ценится прежде всего ясность смысла и недопус‐
тимы кривотолки, где коммуникативная функция важнее эстетической
(например, деловые бумаги, в особенности юридические документы,
технические инструкции и пр.), метафоричность слова гасится очень
быстро. Живая метафора здесь – «инородное тело», и смешение стилей
порождает комический эффект. «Естественное место метафора находит
в поэтической речи (в широком понимании этого термина), в кото‐
рой она служит эстетической (а не собственно информативной) цели.
[...] Возможная неоднозначность метафоры согласуется с множественнос‐
тью интерпретаций, допускаемых поэтическим текстом» (5).
Однако и в художественной речи неизбежно стирание метафор,
и последствия этого процесса здесь болезненны в отличие от некоторых
«стерильных» функциональных стилей. Когда‐то свежие и выразитель‐
ные, поэтические метафоры от частого повторения превращаются
в штампы, побуждая писателей к обновлению поэтического языка. В эпо‐
ху господства индивидуальных стилей в литературе (XIX–XX вв.) штампы
в речи «автора» (повествователь, лирический герой и др.), в том числе
заезженные метафоры, – предмет постоянной головной боли писателей;
оригинальность стиля – важнейший критерий оценки произведения
в литературной критике. Так, А. П . Чехов, любивший строить речь своих
комических персонажей из блоков готовых риторических приемов
(вспомним, например, слова главного героя в рассказе «Толстый и тон‐
кий»: «Милостивое внимание вашего превосходительства... вроде как бы
живительной влаги...»), решительно изгонял подобные обороты из речи
повествователя. Характерны советы Чехова начинающим авторам: «Те‐
перь уж только одни дамы пишут «афиша гласила», «лицо, обрамлен‐
ное волосами..» (6). <...>
Богатые коллекции метафор‐штампов собраны в пародиях – художе‐
ственном и одновременно литературно‐критическом жанре. С помощью
45
пародий литература быстрее освобождается от рутинных приемов; в ис‐
торической же ретроспективе эти концентраты штампов интересны как
знаки той или иной литературной эпохи. Так, увлечение романтиков
«пейзажем души» в зеркале анонимной пародии «К луне» (1842) пред‐
стает как привычный набор антропоморфных метафор и сравнений:
Туманною и мрачной мглою
Оделся вечный небосклон;
И туч громадной пеленою
Весь горизонт загроможден.
И вот луна, как бы ошибкой,
Взошла и мир дарит улыбкой.
Как упоительно светло
Ее роскошное чело!
Она, как дева, в мраке ноч и
Свои пронзительные очи
На землю с лаской навела,
И разбросала кудрей волны
На мрачный лес, молчанья полный,
И страсть в груди моей зажгла (7).
<...>
В традиционном учении о тропах и фигурах метафора также глав‐
ный троп, наиболее ярко демонстрирующий выразительные возмож‐
ности поэтической и ораторской речи. У Аристотеля (в его «Поэтике»
и «Риторике») метафора, в соответствии с этимологией (греч. «пере‐
нос»), – родовое понятие, охватывающее разные виды переносов значения
слова: «Метафора есть перенесение необычного имени или с рода на вид,
или с вида на род, или с вида на вид, или по аналогии» (8). Впоследствии
термин закрепился лишь за четвертым видом переноса в этом перечне
(первые же два вида – синекдоха, третий – метонимия). Но подробно
Аристотель останавливается именно на переносах по аналогии, потому
что такие метафоры «наиболее заслуживают внимания» (9). Он разъяс‐
няет суть переноса, например: «что старость для жизни, то и вечер для
дня; поэтому можно назвать вечер старостью дня, а старость – вечером
жизни или, как Эмпедокл, закатом жизни» (10) подчеркивает вырази‐
тельность метафор, изображающих вещь «наглядно», «в действии»,
«представляющих неодушевленное одушевленным». Примеры черпают‐
ся из Гомера: «Под гору камень бесстыдный назад устремлялся в доли‐
ну» (описание труда Сизифа в «Одиссее», песнь XI, стих 598); «...бушует //
46
Много клокочущих волн многошумной пучины – горбатых, // Белых
от пены, бегущих одна за другой непрерывно» («Илиада», песнь XIII,
стихи 797–799). Восхищаясь этими «горбатыми» волнами, он замечает:
«[Здесь поэт] изображает все движущимся и живущим, а действие есть
движение» (11).
Неоднократно подчеркивает Аристотель познавательную ценность
уподоблений: «метафоры нужно заимствовать... из области предметов
сходных, но не явно сходных, подобно тому как и в философии считается
свойством меткого [ума] видеть сходство и в вещах, далеко отстоящих
одни от других»; «приятны хорошо составленные загадки: [они сообща‐
ют некоторое] знание, и в них употребляется метафора» (12). Вообще, из
различных способов выражения, по Аристотелю, «всего важнее – быть
искусным в метафорах. Только этого нельзя перенять от другого; это –
признак таланта, потому что слагать хорошие метафоры – значит под‐
мечать сходство» (13). «Метафора в высокой степени обладает ясностью,
приятностью и прелестью новизны, и нельзя заимствовать ее от друго‐
го лица» (14).
Суждения Аристотеля о метафоре (в современном значении терми‐
на) легли в основу последующих «риторик» и «поэтик». В то же время
теория метафоры, как и учение о тропах в целом, постепенно развивает‐
ся, появляются новые положения, уточнения. <...>
В рамках риторической традиции разработана классификация мета‐
фор, в ее основе – классы сопоставляемых предметов. Итоговой можно
считать схему, представленную в «Риторике» М. В. Ломоносова (1748).
Здесь названы четыре вида переносов «речений» (слов): «1) когда рече‐
ние, к бездушной вещи надлежащее, переносится к животной, напри‐
мер: твердый человек вместо скупой; каменное сердце, то есть несклонное;
мысли колеблются, то есть переменяются; 2) когда речение, к одушевлен‐
ной вещи надлежащее, переносится к бездушной: угрюмое море, лице
земли, луга смеются, жаждущие пустыни, земля, плугом уязвленная, необуз‐
данные ветры; 3) когда слово от неживотной вещи к неживотной же пе‐
реносится: в волнах кипящий песок вместо мутящийся; небо звездами рас‐
цветает вместо светит; 4) когда речения переносятся от животных к жи‐
вотным вещам: алчный взор, летающие мысли, лаятель Зоил» (15).
Эта классификация применяется и в настоящее время, в особенно‐
сти деление метафор на овеществляющие (первый тип, выделенный Ло‐
моносовым) и олицетворяющие, или антропоморфные (второй тип).
В то же время выделяются другие виды метафор. Так, для поэтического
47
языка XIX–XX вв. характерны так называемые отвлеченные метафоры,
представляющие отвлеченное (абстрактное) через конкретное (и наобо‐
рот): «В бездействии ночном живей горят во мне // Змеи сердечной угры‐
зенья» (Пушкин. «Воспоминание»; здесь благодаря метафоре в слове
«угрызенья» оживает его этимологическое значение: змея грызет серд‐
це); «И в воздухе за песней соловьиной // Разносится тревога и любовь»
(А. А. Фет. «Еще майская ночь»); «Но только – лживой жизни этой румя‐
на жирные сотри...» (Блок. «Да. Так диктует вдохновенье...»); «желтый
ужас листьев» (Пастернак. «Ложная тревога») (16). Вообще словарь писа‐
теля группируется по тематическим группам (семантическим полям),
и приоритетность определенной лексики, участвующей в образовании
метафор, позволяет судить о точке зрения, ценностях автора. <...>
Но все это не отменяет исходной классификации, предложенной
в риторической теории тропов. <...>
Историческая подвижность принципов образования и употребления
метафор, их происхождение, соответствие природе мышления – круг вопро‐
сов, интенсивно разрабатываемых в литературоведении и языкознании
XIX – XX вв. (в отечественной науке особенно важны труды основателя
исторической поэтики А. Н. Веселовского, ученых психологической школы
во главе с А. А. Потебней). Метафора рассматривается не просто как
«украшение» речи, технический прием (к которому можно прибегнуть
или не прибегнуть), она одно из проявлений постоянной работы мысли.
Изучать метафору – значит изучать законы мышления, поскольку она
«вездесущий принцип языка» (17).
Неосознанная метафоричность – характерное свойство первобытно‐
го мышления, когда люди еще не отделяли себя от природы, переноси‐
ли на нее собственные действия и переживания. Так возникали «метафо‐
ры языка; наш словарь ими изобилует, но мы орудуем многими из них
уже бессознательно, не ощущая их когда‐то свежей образности; когда
«солнце садится», мы не представляем себе раздельно самого акта, несо‐
мненно живого в сознании древнего человека...» (18). Подобные выраже‐
ния, рожденные на почве первобытного анимизма, закрепляются в язы‐
ке. С разложением мифологического сознания их метафоричность осо‐
знается, и она подчеркивается, оживляетс я в новых контекстах. Метафо‐
ра становится языком искусства. <...>
Будучи общеязыковым явлением, метафора наиболее полно рас‐
крывает свои возможности в художественной речи, основная функция
которой – эстетическая. Ведь метафора, выделяя посредством аналогии
48
какой‐то один признак, свойство предмета, не столько называет (обозна‐
чает) его, сколько характеризует, создает живое представление, образ.
Этим она соприродна искусству в целом. По словам А. А . Потебни, акту‐
альным и сегодня, «всякое искусство есть образное мышление, т. е
.
мышление при помощи образа» (19).
В художественных произведениях, особенно поэтических, одиноч‐
ные метафоры сравнительно редки. Обычно они выстраиваются в цепь,
систему: так возникают развернутые метафоры. В «Слове о полку Иго‐
реве» сражение русичей с половцами изображается с помощью систе‐
мы метафор. Битва последовательно сопоставляется с севом: «Черная
земля под копытами костьми была засеяна и кровью полита: горем
взошли они по Русской земле»; со свадьбой: «тут кровавого вина недо‐
стало; тут пир закончили храбрые русичи: сватов напоили, а с ами по‐
легли за землю Русскую»; с молотьбой: «На Немиге снопы стелют голо‐
вами, молотят цепами булатными, веют душу от тела» (пер.
Д. С. Лихачева). Язык описания смертоносного события, сближающий
его с событиями, действиями жизнеутверждающими, усугубляет тра‐
гическую суть изображаемого.
Метафора может выступать основным конструктивным приемом,
доминантой стиля произведения, а иногда и творчества писателя в це‐
лом. «Поэтом метафоры» назвал Блока В. М. Жирмунский (20).
Иногда (а у «поэтов метафор» – часто) вводимые цепями метафори‐
ческие образы настолько ярки, развернуты и наглядны, что как бы за‐
слоняют собой предмет речи, говорят о реализации метафоры. Таково,
например, стихотворение Пастернака «Импровизация».
Я клавишей стаю кормил с руки
Под хлопанье крыльев, плеск и клекот.
Я вытянул руки, я встал на носки,
Рукав завернулся, ночь терлась о локоть.
И было темно. И это был пруд
И волны. – И птиц из породы люблю вас,
Казалось, скорей умертвят, чем умрут
Крикливые, черные, крепкие клювы.
И это был пруд. И было темно.
Пылали кубышки с полуночным дегтем.
И было волною обглодано дно
У лодки. И грызлися птицы у локтя.
49
И ночь полоскалась в гортанях запруд.
Казалось, покамест птенец не накормлен,
И самки скорей умертвят, чем умрут
Рулады в крикливом, искривленном горле.
О чем это стихотворение: о музыке, извлекаемой из клавиш рояля?
о крикливых птицах, которых «кормит» лирический герой? о ночном
пруде и шуме воды «в гортанях запруд»? Эти три темы (три мотива) ас‐
социативно связаны. Одна из ассоциаций – звук. Клавиши и птицы сли‐
ты в единый образ в метафорах: «Я клавишей стаю кормил с руки // Под
хлопанье крыльев, плеск и клекот», «...Рулады в крикливом, искривлен‐
ном горле» (здесь горло – синекдоха, обозначающая птицу). Птицы и
ночной пруд, волны объединены тоже благодаря метафорам: «Ночь по‐
лоскалась в гортанях запруд»; «гортани запруд» соотнесены с «крикли‐
вым, искривленным горлом» (звуковой повтор: гортань, горло – как бы
закрепляет аналогию). Другая сквозная ассоциация – цвет, сближаю‐
щий птиц («черные клювы»), пруд («и было темно», «ночь полоскалась в
гортанях запруд») и музыку («ночь терлась о локоть»). Черный, ночной
цвет (исполняется ноктюрн?) не единственный в стихотворении: «Пыла‐
ли кубышки с полуночным дегтем», «И было волною обглодано дно // У
лодки. И грызлися птицы у локтя». Эти метафоры, по‐видимому, воз‐
вращают читателя к клавишам рояля, к их бело‐черной гамме. В слож‐
ной образной системе «Импровизации» исходная тема – игра на рояле,
но слышим мы крики птиц и шум волн. Доминанта стиля – именно ме‐
тафора, на что настраивает уже первая строка: «Я клавишей стаю кор‐
мил с руки...».
Вероятно, стихотворение Пастернака можно прочесть, домыслить и
иначе. Оно многозначно, чему в немалой степени способствуют метафо‐
ры.
_________ ______ ______
1. Аристотель. Риторика // Античные риторики. М., 1978. С. 134–135.
2. Деметрий. О стиле // Античные риторики. С . 251.
3. См.: Чернец Л. В. «. ..Плыло облако, похожее на рояль» (О сравнении) // Русская сло‐
весность. 2000. No 2.
4. Григорьев В. П. Поэтика слова. М., 1979. С. 215–216.
5. Арутюнова Н. Д. Метафора // Русский язык: Энциклопедия. М., 1979. С. 141.
6. Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем. Письма: В 12 т. М., 1978. Т . 6. С. 48.
7. Русская стихотворная пародия: XVIII – начало ХХ в. Л., 1960. С. 370–371.
8. Аристотель. О поэтическом искусстве. М., 1957. С. 109.
9. Аристотель. Риторика // Античные риторики. С. 143.
50
10. Аристотель. О поэтическом искусстве. С. 110.
11. Античные риторики. С. 145–146.
12. Там же. С. 146.
13. Аристотель. О поэтическом искусстве. С. 117.
14. Античные риторики. С. 130.
15. Ломоносов М. В . Соч. М., 1957. С. 340.
16. Об этом виде метафоры см.: Томашевский Б. В . Теория литературы. Поэтика.
–
М., 1996. С
. 54–55; Кожевникова Н. А. Словоупотребление в русской поэзии начала
XX века. М., 1986. С. 89–92.
17. Ричарде Айвор А. Философия риторики / Пер. с англ. // Теория метафоры: Сб. пе‐
реводов. М., 1990. С. 46.
18. Веселовский А. Н . Историческая поэтика. М., 1989. С. 102.
19. Потебня А. А. Теоретическая поэтика. М., 1990. С. 163.
20. Жирмунский В. М. Поэтика Александра Блока //Жирмунский В. М. Теория лите‐
ратуры. Поэтика. Стилистика. М., 1977. С. 206).
51
К практикуму
РИТМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТИХА
Виктор Максимович ЖИРМУНСКИЙ
МЕТРИКА. РИТМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТИХА
(фрагменты)
Жирмунский В. М. В ведение в литературоведение. Курс лекций / Под ред. З. И. Плав‐
скина, В. В. Жирмунской. Изд. 2‐е . М.: Едиториал УРСС, 2004. С. 258–281.
Обратимся теперь к метрике как учению о звуках поэтической речи,
об организации звуков в художественном произведении как поэтиче‐
ской фонетике. <...>
Существуют разные системы стихосложения, которые зависят от
особенностей языка. Особенности языка подсказывают, какие фонети‐
ческие элементы могут рассматриваться в искусстве как сильные или
слабые.
Есть две основные системы метрики, два типа стихосложения. Пер‐
вый из них основан на чередовании долгих и кратких, на долготе, на
длительности звуков, второй – на чередовании ударных и неударных, на
принципе ударности. Тип стихосложения, основанный на длительности,
носит название метрического стихосложения (слово «метрический» здесь
употребляется в несколько ином смысле, чем в слове «метрика»: «метри‐
ка» – более широкое понятие). Тип стихосложения, основанный на чере‐
довании ударных и неударных, носит название тонического стихосложе‐
ния (слово «тон» употребляется здесь в старинном смысле для обозначе‐
ния). От свойств языка зависит, какой принцип – долготы или краткости
или ударности и неударности – выступает на первый план.
Для того чтобы появилось стихосложение, основанное на долготе
и краткости, нужно, чтобы в данном языке долгие и краткие имели са‐
мостоятельное значение. В русском языке нельзя построить стихосложе‐
ние на долготе и краткости, потому что долгие и краткие в русском язы‐
ке не имеют фонологического значения, не играют принципиальной ро‐
ли. Особенности немецкой и английской фонетики определяют иные
трудности для построения стихосложения на принципе долготы и крат‐
кости. В германских языках долгота и краткость связаны с моментом
ударения, различаются только под ударением. Значит, здесь долгота
52
и краткость не является принципиальным, решающим моментом, тем
более, что в этих языках очень сильное ударение. Между тем, в грече‐
ском и латинском языках ударение носило другой характер. Оно было
музыкальное, а не экспираторное, как в большинстве новоевропейских
языков, и не играло решающей роли, а долгота и краткость выступали
на первый план. Именно поэтому здесь сложилась метрическая система
стихосложения.
<...> Основной принцип счета сильных и слабых слогов в античной
метрике – это соотношение долгого и краткого слога: долгий слог счита‐
ется равным двум кратким. Из этого следует, что здесь, как и в музыке,
долгие, т.е . двойные по времени, ноты могут быть разделены на две
кратких, и, напротив, две кратких могут быть объединены в одну долгую,
т.е . два кратких слога могут быть заменены одним долгим.
Слог является долгим по природе и по положению. Долгим по
природе называется такой слог, который заключает в себе долгую глас‐
ную либо дифтонг, считающийся долгой гласной. Долгим по положе‐
нию считается такой слог, в котором за краткой гласной следуют две со‐
гласных; эти две согласных делают слог долгим.
Единица повторности в метрическом стихе – стопа. Стопа, как еди‐
ница повторности, определяет закон, по которому чередуются долгие и
краткие. <...> Стопа соответствует тому, что мы в музыке называем так‐
том. Следовательно, стопа – не реальная единица человеческой речи, как
слово, это сочетание долгих и кратких в известном порядке, которое за‐
кономерно повторяется, причем такое сочетание не должно непременно
совпадать с границей слова, так же как и в песне такт необязательно сов‐
падает с границей слова.
Какие же стопы дает нам античная метрика? Прежде всего это
группы двусложных стоп:
краткий + долгий __ ямб
долгий + краткий
__
хорей
Назову еще две двусложные стопы <>, которые знала античная мет‐
рика. Это стопа, состоящая из двух кратких , которая носит название
«пиррихий»; и стопа, состоящая из двух долгих __ __, которая носит
название «спондей».
Теперь трехсложные стопы:
один долгий + два кратких
__
дактиль;
два кратких + один долгий
__ анапест;
краткий + долгий + краткий
__
__
амфибрахий.
53
(Этот последний случай античные теоретики не рассматривали,
а новые теоретики его ввели и для античного стиха и дали ему античное
название «амфибрахий», т. е . двуручный).
Античная метрика знает и другие трехсложные стопы, но эти стопы
не имеют значения для европейской метрики. Античная метрика знает
и четырехсложные стопы <...>. Но эти стопы также не имеют значения
для нашего стихосложения и поэтому не будут здесь упоминаться за ис‐
ключением, пожалуй, одного лишь типа четырехсложной стопы. Это
стопы, которые называются пеонами. Они имеют один долгий и три
кратких. Пеоны могут быть четырех родов, в зависимости от того, где
стоит долгий. Если долгий стоит на первом месте ...
–
пеон первый, ес‐
ли долгий на втором месте ... – пеон второй; если долгий на третьем ме‐
сте ...– пеон третий, если долгий на четвертом месте ...– пеон четвертый.
Таковы основные стопы античной метрики. Стих заключает опреде‐
ленное количество стоп. В качестве примера можно привести тот стих
античной метрики, который имеет наибольшее распространение в
наших подражаниях античной метрике, так называемый гекзаметр. Это
шестистопный дактиль... Шестая стопа более короткая, чем остальные,
она состоит из двух, а не трех слогов и представляет собой хорей, либо
спондей; окончание стиха часто имеет особое строение. Еще один важ‐
ный момент в гекзаметре – это его цезура. Цезурой называется обяза‐
тельное сечение, деление стиха. Длинный стих большей частью распада‐
ется на полустишия, делится цезурой, т. е
.
сечением, на два полусти‐
шия – равных или неравных – это зависит от особенностей стиха. Гекза‐
метр имеет обыкновенно цезуру на третье стопе, либо после долгого,
либо после первого краткого, но только не после второго краткого. <...>
Скажем стих, которым по‐гречески начинается «Одиссея» ... в из‐
вестном переводе Жуковского ... звучит так: «Муза, скажи мне о том
многоопытном муже, который...»
Когда мы воспроизводим гекзаметр на русском языке, то, как всегда
при переводе античной метрики на нашу, мы заменяем долгие ударны‐
ми, краткие неударными. <...>
Второй тип стихосложения – тоническое – основан ... на чередова‐
нии ударных и неударных слогов. Мы имеем три основных вида тониче‐
ского стихосложения, которые встречаются в истории русского, немец‐
кого и английского стиха (французский в этом смысле более ограничен
в своих возможностях). Первый тип – чисто тонический стих, или, иначе
54
говоря, акцентный стих; второй тип – силлабо‐тонический стих; третий
тип – силлабический стих. «Syllaba» по‐гречески и по‐латыни значит
слог. Следовательно, силлабический стих – «слоговой»; силлабо‐
тонический построен на сочетании принципа счета слогов с принципом
ударности; чисто тонический основан только на принципе ударности.
Стих силлабо‐тонический – это классический русский стих. <...>
Чисто тонический, или акцентный, стих основан только на счете
ударений; число слогов между ударениями может быть различно, явля‐
ется переменной величиной. Мы можем записать формулу этого стиха
таким образом:
ХХХХ
Три ударения определяют характер стиха. Между ними может быть
разное число неударных: Х = 0, 1, 2, 3 ... и т. д. Практически в русском чи‐
сто тоническом стихе, которым пользуется наша книжная поэзия, число
слогов между ударениями равно либо одному, либо двум1. Значит, дело
сводится к тому, что между ударениями могут стоять то один неудар‐
ный, то два неударных слога. <...> Примером такого рода стиха могут
служить многие стихотворения поэтов ХХ века. Тот необычный ритм,
который имеется в стихах Блока, ... состоит в том, что это ... дольники,
т.е . стих распадается не на стопы, а на неравные по числу слогов доли,
объединяемые ударениями <...>
Число неударных между ударениями меняется, величина эта непо‐
стоянная.
Третий вид тонического стиха – силлабо‐тонический стих, т. е. клас‐
сический русский стих. В приведенной выше формуле мы сделаем Х по‐
стоянной величиной, скажем, сделаем Х = 1, и тогда получим:
|__ʹ| __ʹ| __ʹ|
Между ударениями постоянное число неударных. Такой стих мож‐
но разделить на повторяющиеся единицы, т.е . получить опять стопы, но
не метрические, основанные на длительности, а стопы, основанные на
ударности и неударности. Следовательно, в силлабо‐тоническом стихе
мы имеем единицей повторности тонические стопы.
Какие же стопы имеются в нашем стихе?
1 В. М. Жирмунский имеет здесь в виду широкое распространение дольника в русской
поэзии ХХ века. Однако акцентный стих также был популярен в книжной поэзии
ХХ века, особенно в поэзии авангарда (так называемая «литературная тоника») или
в ритмических подражаниях народно‐песенному тоническому стиху. Формула доль‐
ника: Х = 1 и 2. (Прим. сост.)
55
Самый распространенный у нас – ямб, в особенности четырехстоп‐
ный; ямбом написано большинство русских стихов:
__ʹ
Мой дядя самых честных правил...
Затем хорей:
__ʹ
Мчатся тучи, вьются тучи...
Следующий размер – дактиль:
__’ Тянутся по небу тучи тяжелые
Пусто и серо вокруг...
Это четырехстопный дактиль.
Пример амфибрахия:
__’ Над трупами милых своих сыновей
Стояла в слезах Ниобея...
Анапест:
__’
Что ты жадно глядишь на дорогу?...
Надрывается сердце от муки...
Здесь дан пример трехстопных анапестов. Но число стоп не связано
со строением стопы. И ямбы, и хореи, дактили, амфибрахии, анапесты
могут быть двух‐, трех‐, четырех‐, пятистопными. Но стих имеет некото‐
рую границу, связанную с нормальной границей нашего дыхания,
с нормальной границей синтаксических групп. Поэтому стихов более
длинных, чем шестистопный, не бывает, причем длинные стихи – пяти‐
и особенно шестистопные – обыкновенно делятся цезурой на две части,
т. е. имеют постоянный словораздел. <...>
Несколько слов о третьем типе стихосложения. Чисто силлабиче‐
ское стихосложение основано на счете слогов. Это стихосложение пред‐
ставлено в романских языках – французском, итальянском, испанском;
в польском, в некоторых восточных (тюркских) языках. Конечно, силла‐
бическое стихосложение тоже имеет в себе элемент ударения. Но основ‐
ное здесь заключается в том, что мы имеем считанный ряд слогов (5, 8, 10
слогов и т. п.) и в конце этого ряда стоит ударение. Значит, определен‐
ный ряд слогов с ударение на конце – это единица повторности. В каче‐
стве примера можно привести самый широко распространенный клас‐
сический французский стих, так называемый александрийский стих. Это
стих, состоящий их двенадцати слогов, обычно объединяемый парными
рифмами в двустишии. <...> Французский александрийский стих имеет
обязательную цезуру после шестого слога ... причем в конце каждого
полустишия обязательное ударение – на шестом и двенадцатом слогах.
Это не значит, что во французском александрийском стихе все остальные
56
пять слогов ударений не имеют <...> Но эти ударения могут стоять
в любом порядке.
В русском стихосложении александрийским стихом называют шес‐
тистопный ямб... Шестистопный ямб тоже имеет обязательную цезуру
после шестого слога, т. е. после третьей стопы.
57
Михаил Леонович ГАСПАРОВ
ЛОГАЭДЫ СТОПНЫЕ И СТРОЧНЫЕ
Гаспаров М. Л. Русский стих начала ХХ века в комментариях. 3‐е и зд. М.: КДУ, 2004.
С. 137–142.
No 126
Я живу в пустыне, вдали от света,
Один ветер вольный вокруг гуляет,
Не нужна мне только свобода эта.
И что делать с нею, душа не знает.
Не ищу я больше земного клада,
Прохожу все мимо, не глядя в очи,
И равно встречаю своей прохладой
Молодых и старых, и дни, и ночи.
Огоньки мелькают чужих желаний...
Вот подходит утро в одежде сизой;
Провожаю ночь я до самой грани
И целую край золотистой ризы.
А. Герцык, (1910)
No 127
Речи погасли в молчании,
Слова как дымы.
Сладки, блаженны касания
Руки незримой.
Родина наша небесная
Горит над нами,
Наши покровы телесные
Пронзило пламя.
Всюду одно лишь Веление...
(Как бледны руки!)
Слышу я рост и движение
Семян в разлуке.
58
Сердце забило безбрежное
Борьбу и битвы.
Тихо встает белоснежное
Крыло Молитвы.
А. Герцык, (1910)
No 128
Как в истерике, рука по гитаре
Заметалась, забилась, — и вот
О прославленном, дедовском Яре
Снова голос роковой поет.
Выкрик пламенный, — и хору кивнула,
И поющий взревел полукруг,
И опять эта муза разгула
Со нно смотрит на своих подруг.
В черном черная, и белы лишь зубы,
Да в руке чуть дрожащий платок,
Да за поясом воткнутый, грубый,
Слишком пышный, неживой цветок.
Те отвыкнуть от кочевий успели
В ресторанном тепле и светле.
Тех крестили в крестильной купели,
Эту — в адском смоляном котле!
За нее лишь в этом бешеном сброде,
Задивившись на хищный оскал,
Забывая о близком походе,
Поднимает офицер бокал.
С. Парнок, (1916)
Греческое слово логаэд по‐русски означает «прозо‐песня», т. е. как бы
стихи менее правильные, более приближенные к прозе, чем обычные.
Выражалась эта «прозаизация» в том, что обычные стихи состояли из
однородных стоп, а логаэды — из разнородных стоп, но в твердой по‐
стоянной последовательности: например, два хорея, дактиль и еще два
хорея. (Такой размер назывался «сапфический 11‐сложник» — по имени
поэтессы Сапфо; именно им написано первое стихотворение А. Герцык.)
В стихе такого рода метр, т. е
.
упорядоченное чередование сильных
59
и слабых мест, налицо, но уловить его труднее, потому что периодич‐
ность этого чередования больше: расположение ударений повторяется
не из стопы в стопу, а из стиха в стих. Такие размеры — с правильным
чередованием неоднородных стоп — иногда называют стопными логаэ‐
дами. Эта периодичность может стать еще больше: из двустишия в дву‐
стишие, — например, все нечетные стихи составлены из дактилей, а чет‐
ные — из ямбов. (Именно так — чередованием 3‐ст. дактиля и 2‐ст. ямба —
написано второе стихотворение А. Герцык.) Такие размеры — с пра‐
вильным чередованием неоднородных строк — иногда называют строч‐
ными логаэдами. Строчные логаэды могут включать в себя стопные лога‐
эды как составную часть. Например, в стихотворении С. Парнок о цы‐
ганской певице (Яр — ресторан в старой Москве со знаменитым цыган‐
ским хором) первые строки всех строф представляют собой стопный ло‐
гаэд: два хорея и два анапеста; вторые и третьи строки — 3‐ст. анапесты,
а четвертые — 5‐ст. хорей. Таким образом, середина строфы как бы под‐
хватывает анапестический ритм начального логаэда, а конец строфы
возвращает к его хореическому ритму; периодичность повторяющегося
расположения ударений — из четверостишия в четверостишие.
ЛОГАЭДЫ АНТИЧНОГО ОБРАЗЦА:
АЛКЕЕВА И САПФИЧЕСКАЯ СТРОФЫ
Излюбленной областью применения логаэдических размеров были
переводы и подражания античным лирическим стихам. Здесь подлин‐
ники представляли собой упорядоченное чередование долгих и кратких
слогов, а имитации — безударных и произвольноударных слогов. Так,
«алкеев 11‐сложник» получал вид UXU‘U/ʹUU ʹUX; «алкеев 10‐
сложник» — XUUʹUXUʹU; «алкеев 9‐сложник» — UXUXUXUʹU;
«сапфический 11‐сложник» — XUXUʹ/UUʹU ʹU; «адоний» —
X U U ʹ U. Почти все эти размеры разлагаются лишь на неоднородные
стопы (какие?) и, стало быть, являются стопными логаэдами. Далее,
упорядоченно чередуясь, они образуют 4‐стишные строфы: алкееву (два
алкеевых 11‐с ложника, 9‐сложник и 10‐сложник) и сапфическую (три
сапфических 11‐сложника и адоний); в составе этих строф они являются,
таким образом, также и строчными логаэдами.
Эти строки и строфы получили свои названия от имен древне‐
греческого поэта Алкея и поэтессы Сапфо (или Сафо), которые жили ок.
60
600 г. до н. э. на эгейском острове Лесбос. Среди отрывков их стихов со‐
хранились два четверостишия (сомнительной подлинности), в которых
Алкей признается в своем нескромном желании, а Сапфо его вразумля‐
ет. Модест Гофман в своей ранней книжке стихов («Гимны и оды», почти
все — античными размерами) развернул эти отрывки в два небольших
стихотворения, написанных соответственно алкеевой и сапфической
строфой. Цезура в 11‐с ложных строках (Гофман ее строго соблюдает) у
Алкея и Сапфо отсутствовала и была введена в эти размеры только рим‐
ским поэтом Горацием (I в. до н. э.). <...>
ДОЛЬНИК 3‐ИКТНЫЙ И 4 ИКТНЫЙ
(фрагмент)
Гаспаров М. Л. Русский стих начала ХХ века в комментариях. 3‐е и зд. М.: КДУ, 2004.
С. 155–157.
Слово дольник происходит от слова «доля», имеющего более ши‐
рокий смысл, чем слово «стопа»: стопы в силлабо‐тонической строке все‐
гда равносложны (или двусложны, или трехсложны), а доли в дольнико‐
вой строке могут быть то двусложны, то трехсложны. Поэтому мы назы‐
ваем дольник переходной формой от силлабо‐тоники к чистой тонике
и измеряем в нем длину стиха не числом стоп, а числом сильных мест
(актов), слабые интервалы между которыми колеблются от 1 до 2 слогов.
Таким образом, ритмическое ожидание не исчезает, но становится рас‐
плывчатее. В стихотворении, написанном силлабо‐тоническим анапес‐
том, стих, начинающийся «Над Невой завывает...», может иметь только
одно продолжение — слово типа «сирена», чтобы последний между‐
иктовый интервал был такой же двусложный, как и первый. В стихотво‐
рении же, написанном дольником, такое начало может иметь два про‐
должения: как «Над Невой завывает сирена» (оба интервала двуслож‐
ные), так и «Над Невой завывает буря» (второй интервал односложный);
но, например, вариант «Над Невой завывает ураган» (второй интервал
трехсложный) уже невозможен. Гексаметр был 6‐иктным дольником; но
самыми употребительными размерами дольника, освоенными в начале
XX в., были 3‐иктный и 4‐иктный.
61
К практикуму
МЕТОДИКА ИММАНЕНТНОГО АНАЛИЗА
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
Михаил Леонович ГАСПАРОВ
«СНОВА ТУЧИ НАДО МНОЮ...»
МЕТОДИКА АНАЛИЗА СТИХОТВОРНОГО ТЕКСТА
(в сокращении)
Гаспаров М. Л. Избранные труды. Т . II. О стихах. М., 1997. С. 9–20.
<...> Речь пойдет об анализе «имманентном» – то есть не выходящем
за пределы того, о чем прямо сказано в тексте. Это значит, что мы не бу‐
дем привлекать для понимания стихотворения ни биографических све‐
дений об авторе, ни исторических сведений об обстановке написания, ни
сравнительных сопоставлений с другими текстами. В XIX в. филологи
увлекались вычитыванием в тексте биографических реалий, в XX в. они
стали увлекаться вычитыванием в нем литературных «подтекстов» и
«интертекстов», причем в двух вариантах. Первый: филолог читает сти‐
хотворение на фоне тех произведений, которые читал или мог читать
поэт, и ищет в нем отголоски то Библии, то Вальтера Скотта, а то по‐
следнего журнального романа того времени. Второй: филолог читает
стихотворение на фоне своих собственных сегодняшних интересов и вы‐
читывает в нем проблематику то социальную, то психоаналитическую,
то феминистическую, в зависимости от последней моды. И то и другое –
приемы вполне законные (хотя второй – это по существу не исследова‐
ние, а собственное творчество читателя на тему читаемого и читанного
им); но начинать с этого нельзя. Начинать нужно со взгляда на текст
и только на текст – и лишь потом, по мере необходимости для понима‐
ния, расширять свое поле зрения. <...>
Возьмем для примера ... стихотворение Пушкина «Предчувствие»,
1828 года.
Снова тучи надо мною
Собралися в тишине;
Рок завистливый бедою
Угрожает снова мне...
62
Сохраню ль к судьбе презренье?
Понесу ль навстречу ей
Непреклонность и терпенье
Гордой юности моей?
Бурной жизнью утомленный,
Равнодушно бури жду:
Может быть, еще спасенный,
Снова пристань я найду,
Но, предчувствуя разлуку,
Неизбежный грозный час,
Сжать твою, мой ангел, руку
Я спешу в последний раз.
Ангел кроткий, безмятежный,
Тихо молви мне: прости,
Опечалься: взор свой нежный
Подыми иль опусти;
И твое воспоминанье
Заменит душе моей
Силу, гордость, упованье
И отвагу юных дней.
Скорее всего, отвечающий студент начнет говорить об этом стихо‐
тв орении так. «В этом произведении выражено чувство тревоги. Поэт
ждет жизненной бури и ищет ободрения, по‐видимому, у своей возлюб‐
ленной, которую он называет своим ангелом. Стихотворение написано
4‐стопным хореем, строфами по 8 стихов. В нем есть риторические во‐
просы: “сохраню ль к судьбе презренье?..” и т. д.; есть риторическое об‐
ращение (а может быть, даже не риторическое, а реальное): “тихо молви
мне: прости”». Здесь, наверное, он исчерпается. <...>
Ответ получился не особенно удачный. Между тем, на самом деле
студент заметил все нужное для ответа, только не сумел все это связать
и развить. Он заметил все самое яркое на всех трех уровнях строения
стихотворения, но какие это уровни, он не знал. А в строении всякого
текста можно выделить такие три уровня, на которых располагаются все
особенности его содержания и формы. <...> Это выделение и разделение
трех уровней было предложено в свое время московским формалистом
Б. И. Ярхо [Ярхо 1925, 1927]. Здесь его система пересказывается с некото‐
рыми уточнениями.
63
Первый, верхний, уровень – идейно‐образный. В нем два подуровня:
во‐первых, идеи и эмоции (например, идеи: «жизненные бури нужно
встречать мужественно» или «любовь придает сил»; а эмоции: «тревога»
и «нежность»); во‐вторых, образы и мотивы (например, «тучи» – образ,
«собралися» – мотив; подробнее об этом мы скажем немного дальше).
Второй уровень, средний, – стилистический. В нем тоже два
подуровня: во‐первых, лексика, т. е
.
слова, рассматриваемые порознь
(и прежде всего – слова в переносных значениях, «тропы»); во‐вт орых,
синтаксис, т. е. слова, рассматриваемые в их сочетании и расположении.
Третий уровень, нижний, – фонический, звуковой. Это, во‐первых,
явления стиха – метрика, ритмика, рифма, строфика; а во‐вторых, явле‐
ния собственно фоники, звукописи – аллитерации, ассонансы. Как эти
подуровни, так и все остальные можно детализировать еще более дроб‐
но, но сейчас на этом можно не останавливаться.
Различаются эти три уровня по тому, какими сторонами нашего со‐
знания мы воспринимаем относящиеся к ним явления. Нижний, звуко‐
вой уровень мы воспринимаем слухом: чтобы уловить в стихотворении
хореический ритм или аллитерацию на «р», нет даже надобности знать
язык, на котором оно написано, это и так слышно. <...> Средний, стили‐
стический уровень мы воспринимаем чувством языка: чтобы сказать, что
такое‐то слово употреблено не в прямом, а в переносном смысле, а та‐
кой‐то порядок слов возможен, но необычен, нужно не только знать
язык, но и иметь привычку к его употреблению. Наконец, верхний,
идейно‐образный уровень мы воспринимаем умом и воображением:
умом мы понимаем слова, обозначающие идеи и эмоции, а воображе‐
нием представляем образы собирающихся туч и взглядывающего анге‐
ла. При этом воображение может быть не только зрительным (как
в наших примерах), но и слуховым («шепот, робкое дыханье, трели со‐
ловья...»), осязательным («жар свалил, повеяла прохлада...») и пр.
Наш гипотетический студент совершенно правильно отметил на
верхнем уровне строения пушкинского стихотворения эмоцию тревоги
и образ жизненной бури; на среднем уровне – риторические вопросы; на
нижнем уровне – 4‐стопный хорей и 8‐стишные строфы. Если бы он сде‐
лал это не стихийно, а сознательно, то он, во‐первых, перечислил бы
свои наблюдения именно в таком, более стройном порядке; а во‐вторых,
от каждого такого наблюдения он оглядывался бы и на другие явления
этого уровня, зная, что именно он ищет, – и тогда, наверное, заметил бы
и побольше. Например, на образном уровне он заметил бы антитезу
64
«буря – пристань»; на стилистическом уровне – необычный оборот «твое
воспоминанье» в значении «воспоминание о тебе»; на фоническом
уровне – аллитерацию «снова... надо мною», ассонанс «равнодушно бури
жду»ит.п.
Почему именно эти и подобные явления (на всех уровнях) привле‐
кают наше внимание? Потому что мы чувствуем, что они необычны, что
они отклоняются от нейтрального фона повседневной речи, который мы
ощущаем интуитивно. Мы чувствуем, что когда в маленьком стихотво‐
рении встречаются два риторических вопроса подряд или три ударных
«у» подряд, то это не может быть случайно, а стало быть, входит в худо‐
жественную структуру стихотворения и подлежит рассмотрению иссле‐
дователя. Филология с древнейших времен изучала в художественной
речи именно то, чем она непохожа на нейтральную речь. Но не всегда
это давалось одинаково легко.
На уровне звуковом и на уровне стилистическом выявить и система‐
тизировать такие необычности было сравнительно нетрудно: этим заня‐
лись еще в античности, и из этого развились такие отрасли литературо‐
ведения, как стиховедение (наука о звуковом уровне) и стилистика (наука
о словесном выражении: тогда она входила в состав риторики как теория
«тропов и фигур». Характерен самый этот термин: «фигура» значит «по‐
за» – как всякое необычное положение человеческого тела мы называем
«позой», так и всякое нестандартное, не нейтральное словесное выраже‐
ние древние называли стилистической «фигурой»).
На уровне же образов, мотивов, эмоций, идей – то есть всего того,
что мы привыкли называть «содержанием» произведения, – выделить
необычное было гораздо труднее. Казалось, что все предметы и дей‐
ствия, упоминаемые в литературе, – такие же, как те, которые мы встре‐
чаем в жизни: любовь – это любовь, которую каждый когда‐нибудь пе‐
реживал, а дерево – это дерево, которое каждый когда‐нибудь видел; что
тут можно выделять и систематизировать? Поэтому теории образов
и мотивов античность нам не оставила, и до сих пор эта отрасль филоло‐
гии даже не имеет установившегося названия: иногда (чаще всего) ее
называют «топика», от греческого «топос», мотив; иногда – «тематика»;
иногда – «иконика» или «эйдо(ло)логия», от греческого «эйкон» или
«эйдолон», образ. Теорию образов и мотивов стало разрабатывать лишь
средневековье, а за ним классицизм, в соответствии с теорией простого,
среднего и высокого стиля, образцами которых считались три произве‐
дения Вергилия: «Буколики», «Георгики» и «Энеида». Простой стиль,
65
«Буколики»: герой – пастух, атрибут его – посох, животные – овцы, козы,
растение – бук, вяз и пр. Средний стиль, «Георгики»: герой – пахарь, ат‐
рибут – плуг, животное – бык, растения – яблоня, груша и пр. Высокий
стиль, «Энеида»: герой – вождь, атрибут – меч, скипетр, животное – конь,
растения – лавр, кедр и пр. Все это было сведено в таблицу, которая
называлась «Вергилиев круг»: чтобы выдержать стиль, нужно было не
выходить из круга приписанных к нему образов. Эпоха романтизма
и затем реализма, разумеется, с отвращением отбросила все эти пред‐
писания, но ничем их не заменила, и от этого ощутимо страдает и лите‐
ратурная теория и литературная практика. <...> А это совсем не шутка,
потому что состав такой описи есть не что иное, как художественный
мир произведения – понятие, которым мы пользуемся, но редко предс‐
тавляем его себе с достаточной определенностью.
Вот этот самый важный и в то же время самый неразработанный
уровень строения поэтического произведения – уровень топики, уровень
идей, эмоций, образов и мотивов, все то, что обычно называют «содер‐
жанием», – мы и постараемся формализовать и систематически описать
в наших разборах. В самом деле, когда нам дают для разбора прозаиче‐
ское произведение, то мы можем пересказать сюжет и добавить к этому
несколько разрозненных замечаний о так называемых художественных
особенностях (т. е. о стиле) – в учебниках обычно это так и делается –
и выдать это за анализ содержания и формы. А в лирических стихах, где
сюжета нет, как мы будем выявлять и формулировать содержание? Все
знают традиционный тип развернутых заглавий китайской классиче‐
ской лирики (примеры условные): «Проезжая мост Ханьгань, поэт видит
журавлей в небе и вспоминает покинутого друга», «Зимуя в горах
Чжицзы, поэт размышляет о беге времени и о судьбе императора Хоу».
Так и мы для пушкинского стихотворения предложили пересказ: «Поэт
ждет жизненной бури и ищет ободрения у возлюбленной». Было бы
драгоценно составить хотя бы по такому типу свод формулировок со‐
держания русской классической лирики. Но это задача величайшей
трудности. Я составил такие формулировки к одной только книге стихов
позднего Брюсова, и это была каторжная работа.
Как же следует подступаться к анализу поэтического произведе‐
ния – к ответу на вопрос: «расскажите об этом стихотворении все, что вы
можете»? В три приема. Первый подход – от общего впечатления:
я смотрю на стихотворение и стараюсь дать себе отчет, что в нем с пер‐
вого взгляда больше всего бросается в глаза и почему. Наш гипотетиче‐
66
ский студент перед стихотворением Пушкина поступал именно так,
только не вполне давал себе отчет, почему. Предположим, что мы не
умнее его и от общего впечатления ничего сказать не можем. Тогда
предпринимаем второй подход – от медленного чтения: я медленно чи‐
таю стихотворение, останавливаясь после каждой строки, строфы или
фразы, и стараюсь дать себе отчет, что нового внесла эта фраза в мое по‐
нимание текста и как перестроила старое. (Напоминаем: речь идет толь‐
ко о словах текста, а не о вольных ассоциациях, которые могут прийти
нам в голову! такие ассоциации чаще могут помешать пониманию, чем
помочь ему.) Но предположим, что мы так тупы, что нам и это ничего
не дало. Тогда остается третий подход, самый механический, – от чте‐
ния по частям речи. Мы вычитываем и выписываем из стихотворения
сперва все существительные (по мере сил группируя их тематически),
потом все прилагательные, потом все глаголы. И из этих слов перед
нами складывается художественный мир произведения: из существи‐
тельных – его предметный (и понятийный) состав; из прилагательных –
его чувственная (и эмоциональная) окраска; из глаголов – действия
и состояния, в нем происходящие.
В самом деле, что такое образ, мотив, а заодно и сюжет? Образ – это
всякий чувственно вообразимый предмет или лицо, т. е. потенциально
каждое существительное; мотив – это всякое действие, т. е. потенциаль‐
но каждый глагол; сюжет – это последовательность взаимосвязанных
мотивов. Пример, предлагаемый Б. И. Ярхо: «конь» – это образ; «конь
сломал ногу» ‐ это мотив; а «конь сломал ногу ‐ Христос исцелил коня» –
это сюжет («типичный сюжет повествовательной части заклинания на
перелом ноги», педантично замечает Ярхо). Все мы знаем, что слова
«сюжет», «мотив» и, особенно, «образ» употребляются в самых разнооб‐
разных значениях; но эти представляются всего проще и понятнее, этим
словоупотреблением мы и будем пользоваться.) Итак, попробуем таким
образом тематически расписать все существительные пушкинского
стихотворения. Мы получим приблизительно такую картину:
тучи
(тишина)
буря
(пристань)
рок
беда
судьба
жизнь
разлука
час
дни
презренье
непреклонность
терпенье
юность
воспоминанье
душа
сила
ангел
(2 раза)
рука
взор
67
гордость
упованье
отвага
Какие у нас получились группы слов? Первый столбец – явления
природы; все эти слова употреблены в переносном значении, метафори‐
чески, мы понимаем, что это не метеорологическая буря, а буря жизни.
Второй столбец – отвлеченные понятия внешнего мира, по большей ча‐
сти враждебные: даже жизнь здесь – «буря жизни», а час – «грозный
час». Третий столбец – отвлеченные понятия внутреннего мира, душев‐
ного, все они окрашены положительно (даже «к судьбе презренье»).
И четвертый столбец – внешность человека, он самый скудный: только
рука, взор и весьма расплывчатый ангел.
Что из этого видно? Во‐первых, основной конфликт стихотворения:
мятежные внешние силы и противостоящая им спокойная внутренняя
твердость. Это не так тривиально, как кажется: ведь в очень многих сти‐
хах романтической эпохи (например, у Лермонтова) «мятежные силы» –
это силы не внешние, а внутренние, бушующие в душе; у Пушкина
здесь – не так, в душе его спокойствие и твердость. Во‐вторых, выражает‐
ся этот конфликт больше отвлеченными понятиями, чем конкретными
образами: с одной стороны – рок, беда и т. д
. , с другой – презренье,
непреклонность и т. д. Природа в художественном мире этого стихотво‐
рения присутствует лишь метафорически, а быт отсутствует совсем
(«пристань», и в прозаическом‐то языке почти всегда метафорическая,
конечно, не в счет); это тоже не тривиально. Наконец, в‐третьих, душев‐
ный мир человека представлен тоже односторонне: только черты воли,
лишь подразумеваются эмоции и совсем отсутствует интеллект. Худо‐
жественный мир, в котором нет природы, быта, интеллекта, – это, ко‐
нечно, не тот же самый мир, который окружает нас в жизни. Для фило‐
лога это напоминание о том, что нужно уметь при чтении замечать не
только то, что есть в тексте, но и то, чего нет в тексте.
Посмотрим теперь, какими прилагательными подчеркнуты эти
существительные, какие качества и отношения выделены в этом худо‐
жественном мире:
завистливый рок,
гордая юность,
неизбежный грозный час,
68
последний раз,
кроткий, безмятежный ангел,
нежный взор,
юные дни.
Мы видим ту же тенденцию: ни одного прилагательного внешней
характеристики, все дают или внутреннюю характеристику (иногда даже
словами, производными от уже употребленных существительных: «гор‐
дая», «бурная», «юные»), или оценку («неизбежный грозный час»).
И, наконец, глаголы со своими причастиями и деепричастиями:
глаголы состояния – утомленный, спасенный, жду, предчувствуя,
опечалься;
глаголы действия – собралися, угрожает, сохраню, заменит, понесу,
найду, хочу, сжать, молви, подыми, опусти.
Глаголов действия, казалось бы, и больше, чем глаголов состояния,
но действенность их ослаблена тем, что почти все они даны в будущем
времени или в повелительном наклонении, как нечто еще не реализо‐
ванное («понесу», «найду», «молви» и т. д
.), тогда как глаголы состоя‐
ния – в прошедшем и настоящем времени, как реальность («утомлен‐
ный», «жду», «предчувствуя»). Мы видим: художественный мир стихо‐
творения статичен, внешне выраженных действий в нем почти нет, и на
этом фоне резко вырисовываются только два глагола внешнего действия:
ʺподыми иль опустиʺ. Все это, понятным образом, работает на основную
тему стихотворения: изображение напряженности перед опасностью.
<...> Таков вырисовывающийся перед нами художественный мир
стихотворения Пушкина. Чтобы он приобрел окончательные очертания,
нужно посмотреть в заключение на три самые общие его характеристи‐
ки: как выражены в нем пространство, время и точка авторского
(и читательского) зрения [выделено нами.
–
И. Е.]? Точка авторского
зрения уже достаточно ясна из всего сказанного: она не объективна,
а субъективна, мир представлен не внешним, а внутренне пережитым –
«интериоризованным». Для сравнения можно вспомнить написанное
в том же 1828 году стихотворение «Анчар», где все образы представлены
отстраненно, и даже то, что анчар – «грозный», а природа – гневная, не
разрушает этой картины; интериоризация изображаемого прорывается
только в единственном слове «бедный (раб)» в конце стихотворения.
А пространство и время – что из них выражено в пушкинском
«Предчувствии» более ярко? У нас уже накоплено достаточно наблюде‐
ний, чтобы предсказать: по‐видимому, следует ожидать, что простран‐
69
ство здесь выражено слабей, потому что пространство – вещь наглядная,
а к наглядности Пушкин здесь не стремится; время же выражено силь‐
ней, потому что время включено в понятие ожидания, а ожидание опас‐
ности – это и есть главная тема стихотворения. И действительно, на про‐
тяжении первых двух строф мы находим единственное пространствен‐
ное указание «снова тучи надо мною», и лишь в третьей строфе в этом
беспространственном мире распахивается только одно измерение – вы‐
сота: «взор свой нежный подыми иль опусти», – как бы измеряя высоту.
Вширь же никакой протяженности этот мир не имеет. Любопытно
и здесь привлечь для сравнения «Анчар» – стихотворение, в котором
наглядность и пространственность (вширь!) для поэта важнее всего.
В «Анчаре» перед взглядом читателя проходит такая последователь‐
ность образов. Сперва: пустыня‐вселенная – анчар посреди нее – его вет‐
ви и корни – его кора с проступающими каплями ядовитой смолы (по‐
степенное сужение поля зрения). Затем: ни птиц, ни зверей вокруг анча‐
ра – ветер и тучи над пустыней – мир людей по ту сторону пустыни (по‐
степенное расширение поля зрения). Короткая кульминация – путь че‐
ловека пересекает пустыню к анчару и обратно. И концовка: яд в руках
принесшего – лицо принесшего – тело на лыках – князь над телом –
княжьи стрелы, разлетающиеся во все концы света (опять постепенное
расширение поля зрения – до последних «пределов»). Именно такими
чередованиями «общих планов» и «крупных планов» обычно организо‐
вывается пространство в поэтических текстах; Эйзенштейн блестяще со‐
поставлял это с кинематографическим монтажом.
Время, наоборот, представлено в «Предчувствии» с все нарастающей
тонкостью и подробностью. В первой строфе противопоставлены друг
другу прошлое и будущее: с одной стороны, «тучи собралися» – прошлое;
с другой – будущее, «сохраню ль к судьбе презренье, понесу ль навстречу
ей непреклонность и терпенье...?»; и между этими двумя крайностями
теряется настоящее как следствие из прошлого, «рок... угрожает, снова
мне». Во второй строфе автор сосредоточивается именно на этом про‐
межутке между прошлым и будущим, на настоящем: «бури жду»,
«сжать твою... руку я спешу»; и лишь для оттенения того, куда направлен
взгляд из настоящего, здесь присутствует и будущее: «может... пристань
я найду». И наконец, в третьей строфе автор сосредоточивается на пре‐
дельно малом промежутке – между настоящим и будущим. Казалось
бы, такого глагольного времени нет, но есть наклонение – повелительное,
которое именно и связывает настоящее с будущим, намерение с испол‐
70
нением: «тихо молви мне», «попечалься», «взор свой... подыми иль опусти».
И при этом опять‐таки для направления взгляда продолжает присут‐
ствовать будущее: «твое воспоминанье заменит душе моей...». Таким об‐
разом будущее присутствует в каждой строфе, как сквозная тема тревоги
автора, а сопоставленное с ним время все более приближается к нему:
сперва это прошедшее, потом – настоящее, и наконец – императив, ру‐
беж между настоящим и будущим. <...>
Р. S . Есть два термина, которые не нужно путать: «анализ» и «интерпретация». «Анализ»
этимологически значит «разбор», «интерпретация» – «толкование». Анализом мы занимаемся
тогда, когда общий смысл текста нам ясен (т. е. поддается пересказу: «Поэт ждет жизненной бу‐
ри...»), и мы на основе этого понимания целого хотим лучше понять отдельные его элементы. Ин‐
терпретацией мы занимаемся тогда, когда стихотворение – «трудное», «темное», общее понима‐
ние текста «на уровне здравого смысла» не получается, т.е . приходится предполагать, что слова в
нем имеют не только буквальное, словарное значение, но и какое‐то еще. Когда мы говорили, что
«буря» у Пушкина – не метеорологическое явление, а жизненная невзгода, мы уже вносили в анализ
элемент интерпретации. «Буря» – это метафора общераспространенная; но есть и метафоры
индивидуальные, с ними трудней – «Солнце» у Вяч. Иванова – символ блага, а у Ф. Сологуба – сим‐
вол зла. Чтобы понять это, мы должны выйти за пределы имманентного анализа: охватить зрени‐
ем не одно отдельное стихотворение, а всю совокупность стихов Иванова или Сологуба («кон‐
текст») и даже всю совокупность знакомой им словесности, прошлой и современной («подтекст»).
Тогда нам станут яснее отдельные места разбираемого стихотворения, а опираясь на них, мы
сможем прояснить и все (или почти все) стихотворение – как будто решая ребус или кроссворд.
При анализе понимание движется от целого к частям, при интерпретации – от частей к целому.
Только – повторяем – не нужно привносить в интерпретацию наших собственных интересов: не
нужно думать, что всякий поэт был озабочен теми же социальными, религиозными или психоло‐
гическими проблемами, что и мы.
_________________
1. Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста. М.; Л., Просвещение, 1972.
2. Ярхо Б. И. Границы научного литературоведения// «Искусство». 1925. No 2; 1927.
No1.
3. Ярхо Б. И. Простейшие основания формального анализа // Ars poetica, I. М, 1927.
71
Юрий Михайлович ЛОТМАН
ЛЕКСИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ СТИХА
(в сокращении)
Лотман Ю. М
.
Анализ поэтического текста // Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии.
СПб.: Искусство – СПБ, 1996. С. 91–94.
Стихотворение состоит из слов. Кажется, нет ничего очевиднее этой
истины. И тем не менее, взятая сама по себе, она способна породить из‐
вестные недоразумения. Слово в стихе – это слово из естественного язы‐
ка, единица лексики, которую можно найти в словаре. И тем не менее
оно оказывается не равно самому себе. И именно сходство, совпадение
его со «словарным словом» данного языка делает ощутимым различие
между этими – то расходящимися, то сближающимися, но отделенны‐
ми и сопоставленными – единицами: общеязыковым словом и словом в
стихе.
Поэтический текст представляет собой особым образом организо‐
ванный язык. Язык этот распадается на лексические единицы, и законо‐
мерно отождествить их со словами естественного языка, поскольку это
самое простое и напрашивающееся членение текста на значимые сег‐
менты. Однако тут же обнаруживаются и некоторые трудности. В каче‐
стве текста на некотором языке: русском, эстонском или чешском – сти‐
хотворение реализует лишь некоторую часть лексических элементов
данного языка. Употребленные слова входят в более обширную систему,
которая лишь частично реализуется в данном тексте.
Если мы рассматриваем данный поэтический текст как особым об‐
разом организованный язык, то последний будет в нем реализован пол‐
ностью. То, что представляло часть системы, окажется всей системой [1].
<...>
В этом смысле стихотворение как целостный язык подобно всему
естественному языку, а не его части. Уже тот факт, что количество слов
этого языка исчисляется десятками или сотнями, а не сотнями тысяч,
меняет весомость слова как значимого сегмента текста. Слово в поэзии
«крупнее» этого же слова в общеязыковом тексте. Нетрудно заметить,
что, чем лапидарнее текст, тем весомее слово, тем большую часть данно‐
го универсума оно обозначает.
72
Составив словарь того или иного стихотворения, мы получаем–
пусть грубые и приблизительные – контуры того, что составляет мир, с
точки зрения этого поэта.
<...> словарь данного поэтического текста будет представлять, в пер‐
вом приближении, его универсум, а составляющие его слова – заполне‐
ние этого универсума. Отношение между ними воспринимается как
структура мира.
Поэтический мир имеет, таким образом, не только свой список
слов, но и свою систему синонимов и антонимов. Так, в одних текстах
«любовь» может выступать как синоним «жизни», в других – «смерти».
«День» и «ночь», «жизнь» и «смерть» могут в поэтическом тексте быть
синонимами. Напротив того, одно и то же слово может быть в поэзии не
равно самому себе или даже оказываться собственным антонимом.
Жизнь – это место, где жить нельзя...
(М. Цветаева. «Поэма конца»)
Дом – о так мало домашний...
(М. Цветаева. «Дом»)
Но эти же самые слова, получая в поэтической структуре особый
смысл, сохраняют и свое словарное значение. Конфликт, напряжение
между этими двумя типами значений тем более ощутимы, что в тексте
они выражены одним и тем же знаком – данным словом.
А ВЫ МОГЛИ БЫ?
Я сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана;
я показал на блюде студня
косые скулы океана.
На чешуе жестяной рыбы прочел я зовы новых губ.
Авы
ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте водосточных труб?
(В. Маяковский)
73
Словарь стихотворения
я
вы
карта
будни
краска
стакан
блюдо
студень
скулы
океан
чешуя
рыба
зов
губы
ноктюрн
флейта
труба
косые
жестяная
новые
водосточная
смазать
плеснуть
показать
прочесть
сыграть
мочь
сразу
из
на
а
Прежде всего бросается в глаза номинативный характер словаря:
мир текста определяется предметами. Вся именная лексика стихотворе‐
ния легко членится на две группы: в одну войдут слова со значениями
яркости, необычности и необыденности (краска, океан, флейта, нок‐
тюрн); в другую– бытовая, вещная, обиходная лексика (блюдо студня,
чешуя жестяной рыбы, водосточные трубы). За каждой из этих групп
стоит традиционное осмысленное в свете литературной антитезы: «поэ‐
тическое – непоэтическое». А поскольку тексту сразу же задана оппози‐
ция «я – вы», то сама собой напрашивается интерпретация этого проти‐
вопоставления:
я
поэзия
яркость
вы
быт
пошлость
Но текст Маяковского не только вызывает в памяти такую систему
организации «мира слов» этого текста, но и опровергает ее.
Во‐первых, вся система глаголов, играющая в поэтической картине
роль связок между именами‐понятиями, указывает не на отгорожен‐
ность «бытового» и «поэтического» полей значений, а на их слитость: это
глаголы контакта: «прочесть», «показать» – или художественного дей‐
ствия: «сыграть». И они раскрывают для «я» поэтические значения не
вне, а в толще бытовых значений. «Океан» как символ поэзии найден
в студне, а в чешуе жестяной рыбы прочитаны «зовы новых губ» (поэ‐
74
тизм «зовы» и не допускающий вещественной конкретизации эпитет
«новый» заставляют воспринимать «губы» как обобщенно‐поэтический
символ).
Наконец, сам этот быт имеет характерный признак: это не просто
слова, обозначающие предметы. Это предметы, которые не упоминают‐
ся в традиционной поэзии, но составляют обычный мир другого искус‐
ства – живописи. Лексикон стихотворения в его бытовой части – это ин‐
вентарь натюрморта, и даже более конкретно – натюрморта сезаннов‐
ской школы. Не случайно быт соединяется с чисто живописными глаго‐
лами: «смазать», «плеснуть краску». Обыденный, то есть действительный
мир, – это мир прозы, реальности и живописи, а условный и ложный –
традиционной поэзии.
Поэтическая модель мира, которую строит «я», отталкиваясь
от всяческих «вы», – это семантическая система, к которой «студень»
и «океан» – синонимы, а противопоставление «поэзия – прозаический
быт» снято.
Возникает такая схема организации смысловых единиц текста:
Я
яркость
слитность поэзии и быта
↔
ВЫ
пошлость
противопоставленность поэзии и быта
Таким образом, у Маяковского семантическая организация текста на
лексическом уровне строится как конфликт между системой организа‐
ции смысловых единиц в данной индивидуальной структуре текста
и семантической структурой слов в естественном языке, с одной сторо‐
ны, и в традиционных поэтических моделях – с другой [2].
______________________
1. Мы сознательно несколько упрощаем вопрос. На самом деле текст стихотворения
можно представить как реализацию ряда (иерархии) языков: «русский язык», «рус‐
ский литературный язык данной эпохи», «творчество данного поэта», «поэтический
цикл как целостная система», «стихотворение как замкнутый в себе поэтический
мир». По отношению к каждой из этих систем текст будет выступать как разная сте‐
пень реализации, будет меняться и его относительная «величина» на фоне системы.
2. Ср.: Харджиев Н., Тренин В. Поэтическая культура Маяковского. М., 1970. С. 195–197.
75
К практикуму
«ПОЭМА КАК ЛИРОЭПИЧЕСКИЙ ЖАНР.
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ПОЭМЫ»
Евгения Дмитриевна ЖИРОВА
ПОЭМА КАК ЖАНР. ПРИНЦИПЫ И ПРИЕМЫ ЕЕ ИЗУЧЕНИЯ
(в сокращении)
Жирова Е. Д . Жанровая природа произведения и его школьный анализ в единстве
формы и содержания: учебное пособие к спецкурсу. Тула: Изд‐во Тул. пединститута,
1992. С. 8–17.
Сопоставление высказываний о поэме поэтов разных эпох, мировоз‐
зрений и национальностей позволяет заметить удивительное единодушие
их в понимании возможностей жанра, в ощущении вечного в историче‐
ском, когда речь идет о жанре, в определении его поэтики и своих задач.
Цель своей «Божественной комедии» Данте видел в том, чтобы
вырвать людей из состояния убожества и привести к счастью. Тот вид
философии, который вы поэме является руководящим, считает он,
есть этика, так как поэма написана не для умозрительных целей,
а для действия.
С Данте во многом перекликается романтик Перси Биши Шелли.
В «Предисловии к поэме “Восстание Ислама” он пишет: «Гармонию
стиха, воздушную игру вымысла, быстрые и тонкие переходы чувства, –
словом, все, из чего обычно слагается поэма, я пытаюсь заставить слу‐
жить высокой нравственной цели...», «я избрал повесть о человеческих
страстях в их наиболее общем виде... и взывающую... к чувствам, кото‐
рые живут в каждом человеке». Этими чувствами он называет «благо‐
родное восхищение принципами свободы и справедливости», «веру
и надежду на будущее». Поэма его – «это ряд картин, показывающих ду‐
ховное развитие человека, стремящегося к совершенству и полного люб‐
ви к людям» (1). <...>
«Поэма – это попытка осмыслить время в масштабах значительно
больших, чем лирическое стихотворение или повесть. Поэма дает наи‐
большие возможности поэтически увидеть и осознать связь времен
и их движение. Именно она дает ощущение временной перспективы» (2).
76
Итак, интерес к важнейшим проблемам устройства человеческого
общества, беспокойство о будущем мира, благородство и грандиозность
цели, стремление указать человечеству путь к самосовершенствованию
и постижению высшего разума, сила мысли, вдохновляющаяся страст‐
ностью, – вот непременные качества поэмы как жанра. <...>
...даже далеко не полный перечень высказываний поэтов о жанре
дает представление о таких типологических свойствах поэмы, как свое‐
образная итоговость по отношению к предшествующему ей периоду
творчества поэта; определяющая роль в ней авторского «я», его концеп‐
ции мира; стремление говорить «о времени и о себе», глобальность
масштабов; высокое напряжение чувств, повышенная эмоциональность;
показ характера и темы в развитии; сюжетно‐обостренное повествова‐
ние, условные драматические столкновения; отказ от описательности;
особое соотношение частей, чередование лирических интонаций. <...>
Характеристика поэмы как жанра подразумевает и ее родовую спе‐
цифи ку. Это жанр лиро‐эпический. <...>
...будучи жанром лиро‐эпическим, поэма, с одной стороны, стре‐
мится к охвату огромных событий, к осмыслению происходящего
в большой перспективе, к ответу на коренные вопросы жизни общества
и человека. С другой стороны, картина действительности в поэме рису‐
ется синтетически‐обобщенно, без сколько‐нибудь подробных описаний
и детализации, неизбежных в других формах повествования. Это оказы‐
вается возможным потому, что в поэме находит выражение метафори‐
ческое мышление.
Особое соотношение лирического и эпического начал в поэме выс‐
тупает в сквозных метафорических образах. Жанрообразующим для по‐
эмы становится метафорический образ пути. В этом образе и авторское
отношение к действительности, мировосприятие поэта, т. е. лирическое
начало, в нем и основа эпичности поэмы, так как изображение героя
в пути диктует необходимость сюжета. В этом «образе‐истолковании
взятой художником жизненной сферы... реальной коллизии», если вос‐
пользоваться выражением В. Камянова (3), заключен пафос синтеза, поз‐
воляющий прочесть поэму как поэтическое целое. Образ этот органичен
для поэмы с ее динамикой, остротой конфликта <...>. Поэтому герой
поэмы – это человек, народ, история в пути, в преодолении, в развитии.
Сюжет в поэме поэтому условный, в нем всегда содержится фило‐
софский подтекст, общечеловеческое содержание. «Побег из плена»,
«человек в пути» – этот образ может выступать как организующее нача‐
77
ло фабулы поэмы («Шильонский узник» Байрона, «Кавказский плен‐
ник» Пушкина...) и ли составлять основу сюжета авторской мысли, явля‐
ясь той сверхзадачей, которой подчиняется композиция и вся структура
поэмы («Кому на Руси жить хорошо» Некрасова...).
Поэма, таким образом, двупланна. Второй план, составляющий фи‐
лософский подтекст поэмы, выражает наиболее глубинные, существен‐
ные тенденции в развитии жизни общества.
Двупланность характерна и для героя поэмы. Об этом убедительно
пишет Л. С. Мелихова: «Для сохранения жанровой целостности поэмы
необходимо соблюдение противоречия, которое в ней является фунда‐
ментальным. С одной стороны, обыкновенный, даже заурядный герой:
строго локализованные в своем времени, своей социальной среде чинов‐
ник («Медный всадник»), крестьянка («Мороз, Красный нос»), красно‐
гвардейцы («Двенадцать») или солдат («Василий Теркин»). Но с другой
стороны, лицом к лицу с этим обыкновенным миром внезапно стано‐
вится нечто, мыслимое лишь как явление вечное и непреходящее: герои
«Двенадцати» Блока встретились с Иисусом Христом, и, не произойди
эта встреча, не было бы поэмы. Происходит некое соприкосновение су‐
щего с бывшим, изменяющегося с неизвестным, становящегося с закон‐
ченным» (4). Добавим, что, соотнося этого «заурядного» героя с «вечным,
непреходящим», поэма тем самым лишает героя заурядности, «геро‐
изирует» его и располагает для этого специфическими приемами, пере‐
водящими участников конфликта «в одну плоскость» (5). <...> Воспева‐
нию человека в поэме служит и «героическое» его отношение к природе.
Под этим определением Гегель подразумевал изображение героя ча‐
стью природы и одновременно противоборствующей ей силой. Стоит
вспомнить такие поэмы, как «Мцыри» Лермонтова, «Двенадцать» Блока.
<...> Таким образом, для поэмы характерна и своя мера условности
в изображении человека и жизненного конфликта. Характер героя в по‐
эме раскрывается лишь в той мере и в том ракурсе, какие необходимы
для выявления сути данного жизненного противоречия. Это достигается
тем, что герой изображается, как писал В. Г. Белинский, «только в самые
свои торжественные проявления, в самые лирические свои минуты»,
Именно вокруг этих отдельных ключевых, узловых моментов жизни ге‐
роя и сосредоточено действие.
Изображение этих «лирических минут» героя влечет повышенную
эмоциональность стиля поэмы, необходимость «исповеди» героя. Мо‐
нологическая форма поэмы или обилие монологов‐исповедей даже
78
в поэме эпической, ее «исповедальный» характер отмечается современ‐
ными авторами поэмы и критикой.
Таким образом, лирическое начало поэмы проявляется не только
в метафорическом образе, определяющем структуру поэмы, но и в по‐
строении сюжета с его «вершинностью, недосказанностью, отрывочно‐
стью» (В. М. Жирмунский), в характере изображения героя, его воспева‐
нии. Монолог лирического героя или персонажа поэмы содержит вос‐
поминание о пережитом, раздумье над вопросами социально‐философ‐
скими, этико‐нравственными, его психологические переживания. <...>
Воля автора находит отражение и в стихотворной речи в поэме.
На особую роль стихотворной речи внимание обратила Л. С. Мелихова,
называя ее «залогом взаимной неотделимости поэта и героя», «невоз‐
можности полной эмансипации героя». «Стихотворная речь, – пишет
она, ‐ входит в задание поэмы, утверждая и подчеркивая отношение ху‐
дожника к герою как к своему творению». Как и герои поэмы, автор ее
тоже способен общаться с двумя мирами: он вместе со своими героями,
«которых он научил говорить и писать стихами», и в то же время «оста‐
ется здесь, с нами» (6).
Авторское присутствие выражено и в лирических отступлениях, об‐
ращениях к герою, вмешательстве в характеристики персонажей, учас‐
тие в их судьбе. «больше самого себя в поэме» (7) – эти слова А. Твардов‐
ского отражают существенную черту жанра, хотя в зависимости от ха‐
рактера лирического героя, его отношения к персонажу поэмы характер
лиро‐эпизма может меняться.
____________________________
1. Шелли П. Б. Письма. Статьи. Фрагменты. М.: Наука, 1072. С. 368–369.
2. Кугультинов Д. Ответ на анкету «ЛО» // Литературное обозрение. 1974.No 10. С. 53.
3. Камянов В. Поэтический мир эпоса: О романе Л. Н. Толстого «Война и мир». М.:
Сов. писатель, 1078. С. 288.
4. Мелихова Л. С. Человек в поэме (к специфике жанра) // Проблемы теории и исто‐
рии литературы. М.: Изд‐во МГУ, 1971. С. 191.
5. Благой Д. Д . Мастерство Пушкина. М.: Сов. писатель, 1955. С. 208–209.
6. Мелихова Л. С. Указ. соч. С. 190.
7. Твардовский А. Статьи и заметки о литературе. М.: Сов. писатель, 1957. С. 143.
Учебное издание
ВВЕДЕНИЕ
В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
Хрестоматия
Составитель –
ЕРОХИНА Ирина Владиславовна
Публикуется в авторской редакции.
Минимальные системные требования:
Intel Celeron 1700 Mhz и выше,
128 Мб RAM, 300 Мб на винчестере, ОС Microsoft Windows 7 и выше;
дисковод CD‐ROM 2x и выше, SVGA 64 Mb; мышь.
Тульский государственный педагогический
университет им. Л. Н . Толстого.
300026, Тула, просп. Ленина, 125.
www.tsput.ru. E ‐mail: info@tsput.ru
Объем данных: 2,7 Мб.
Подписано к использованию: 18.11.2021.
Заказ 21/037. «С» 1899.