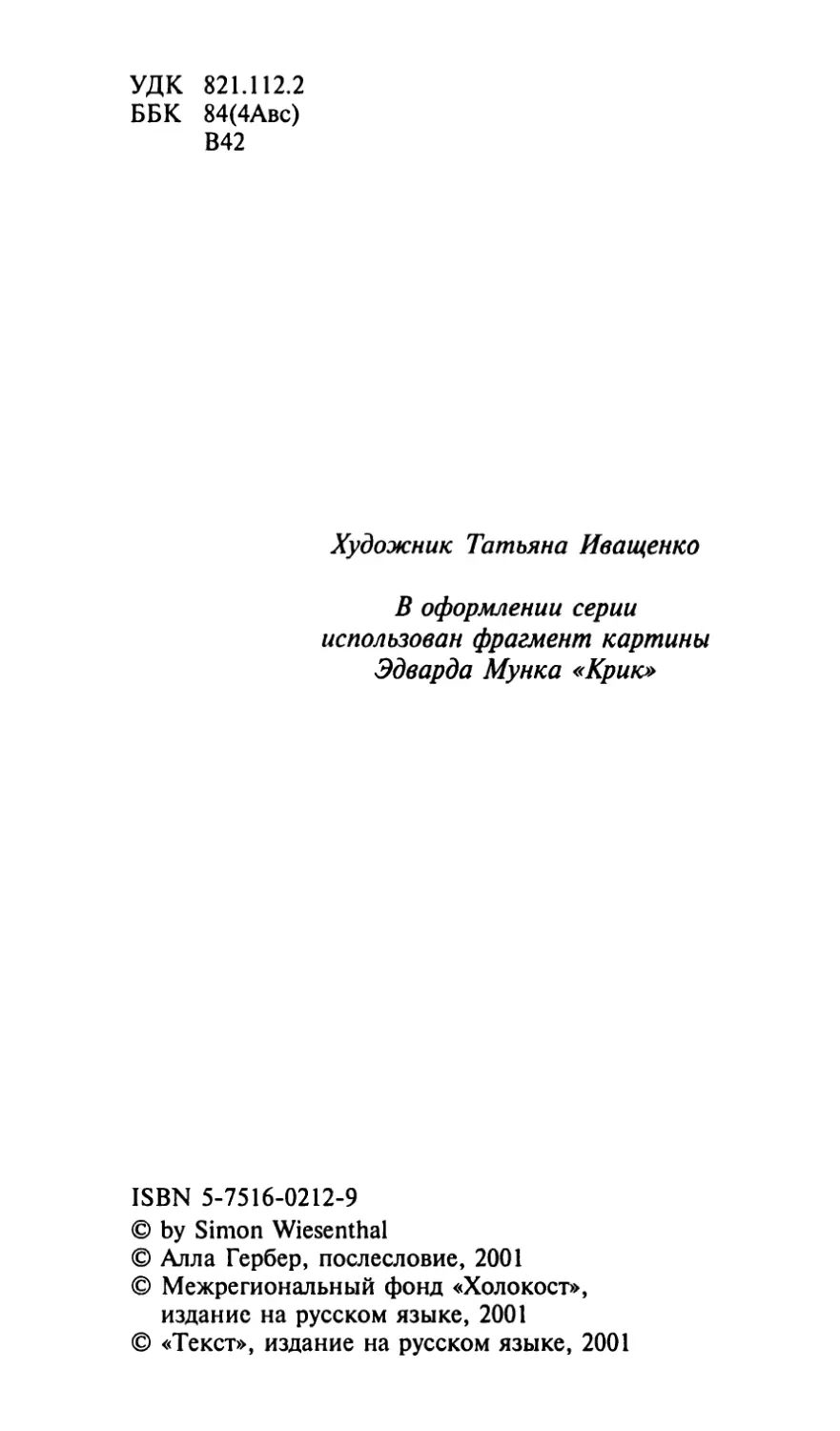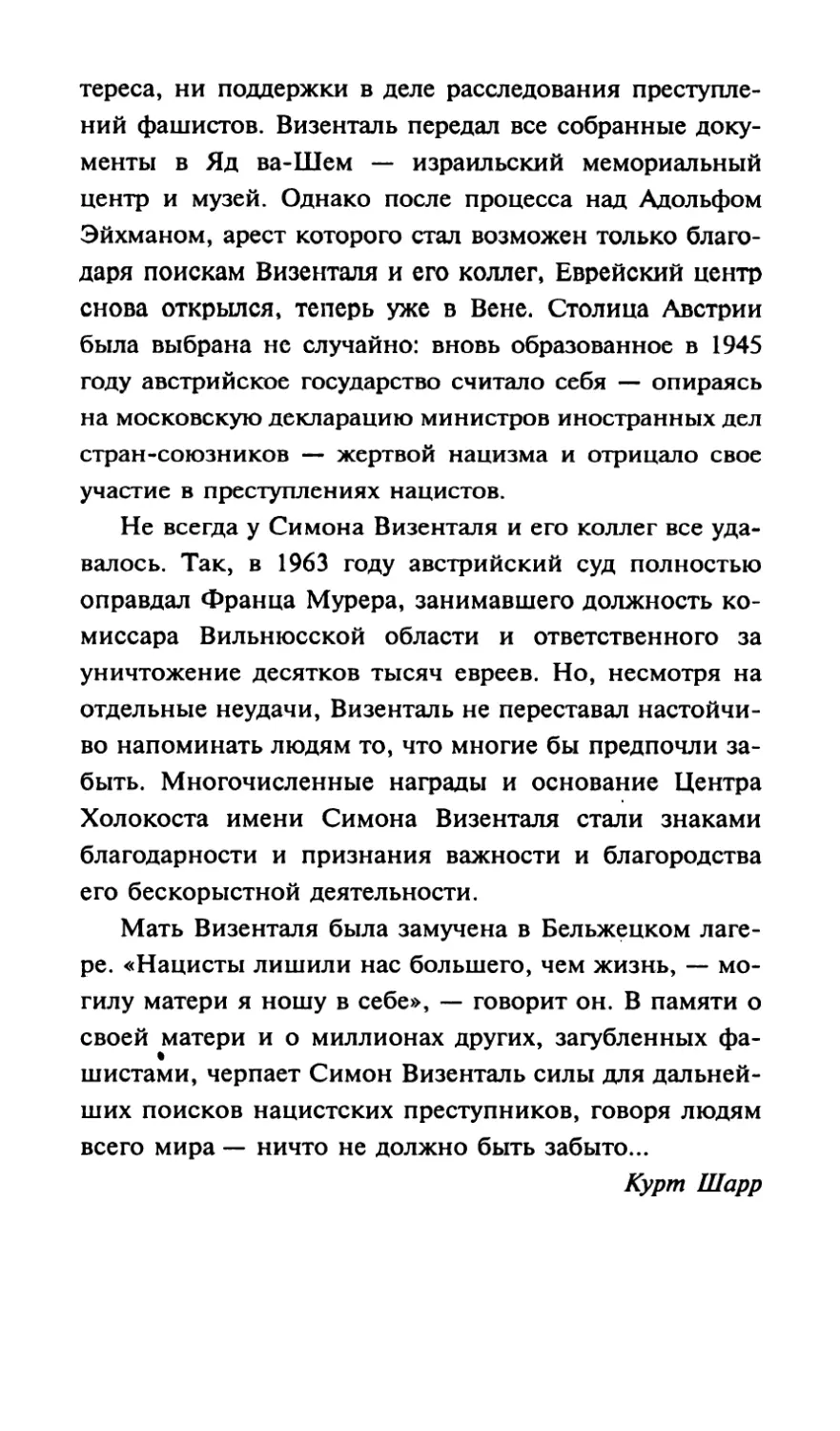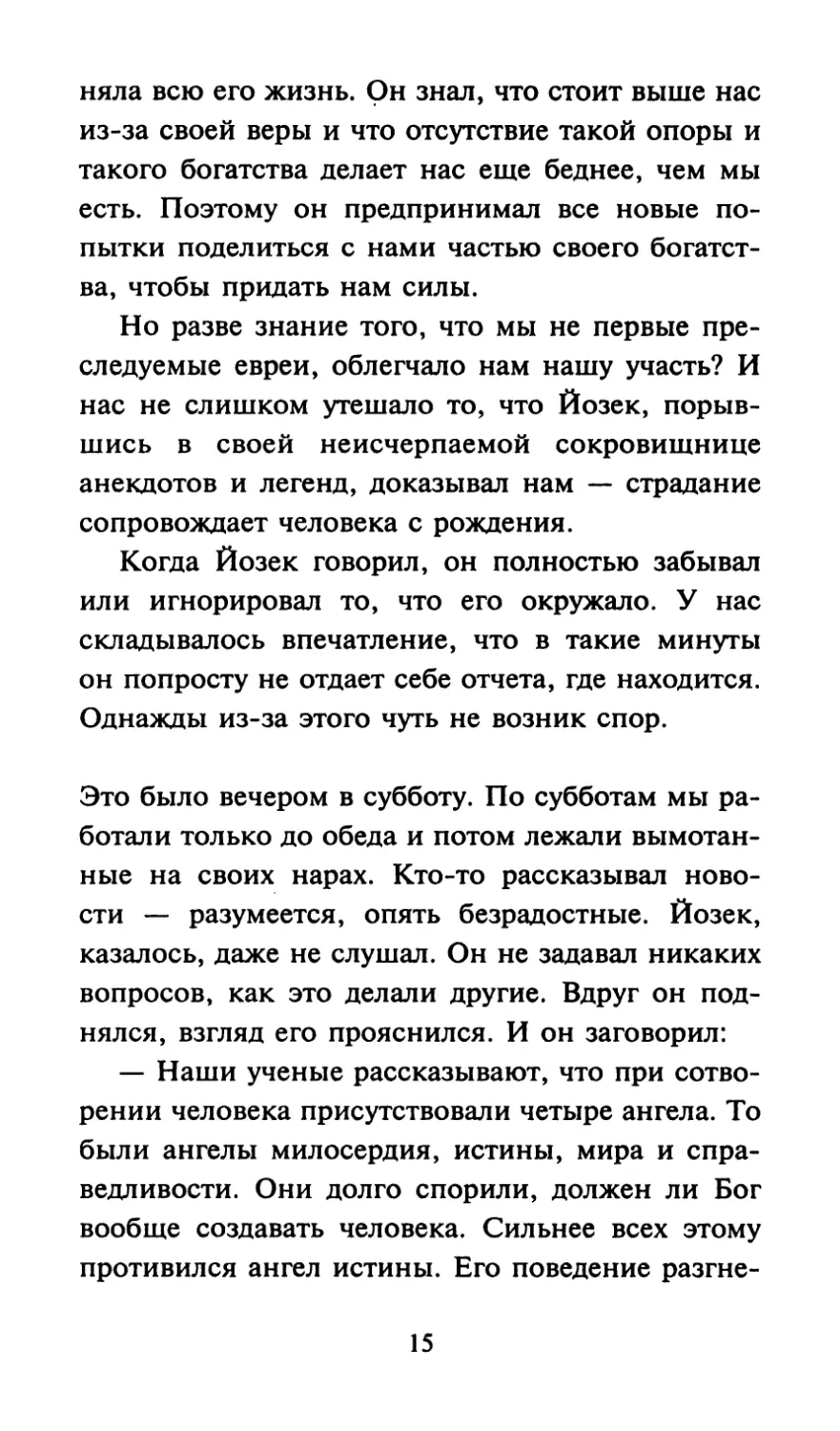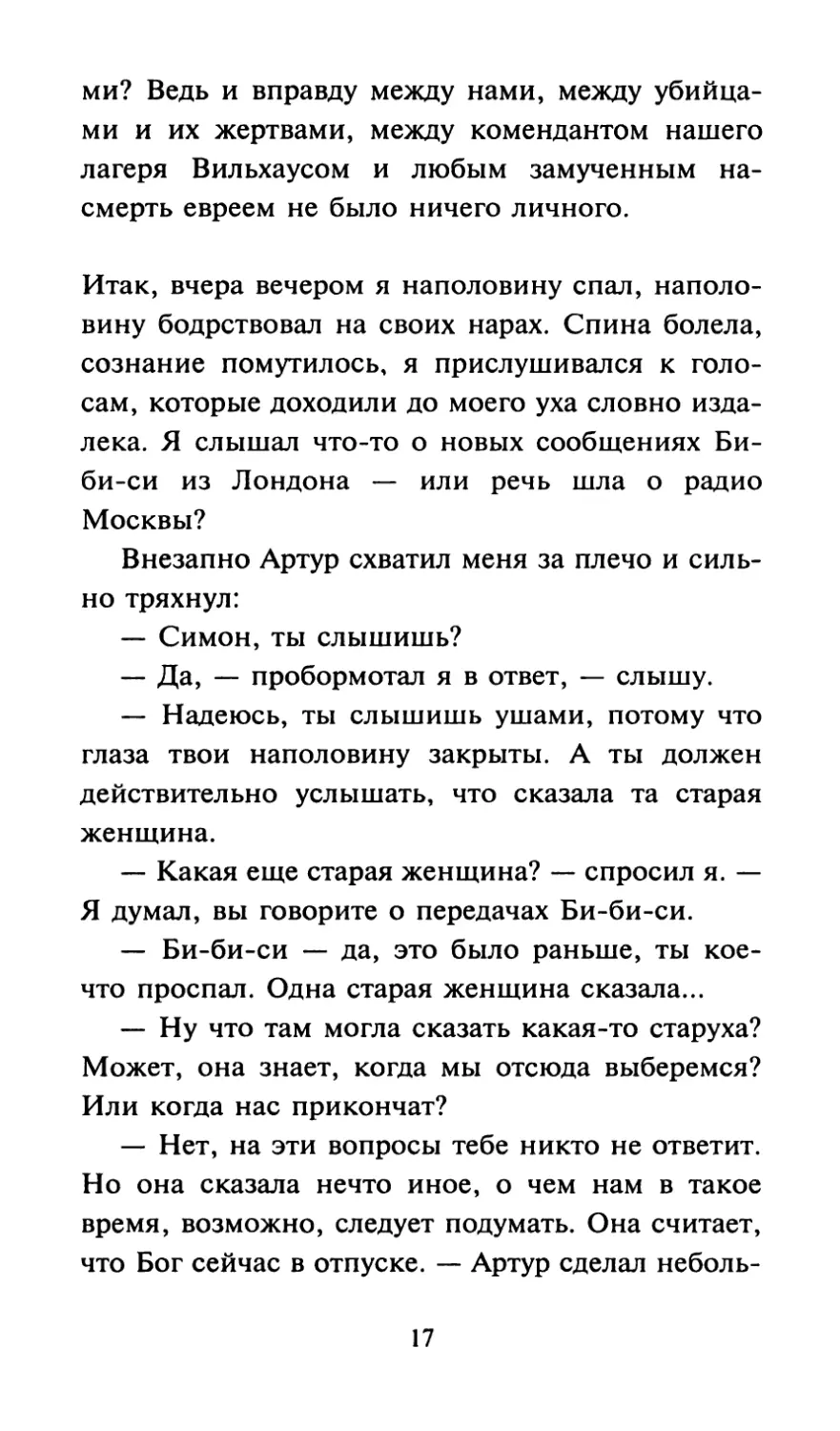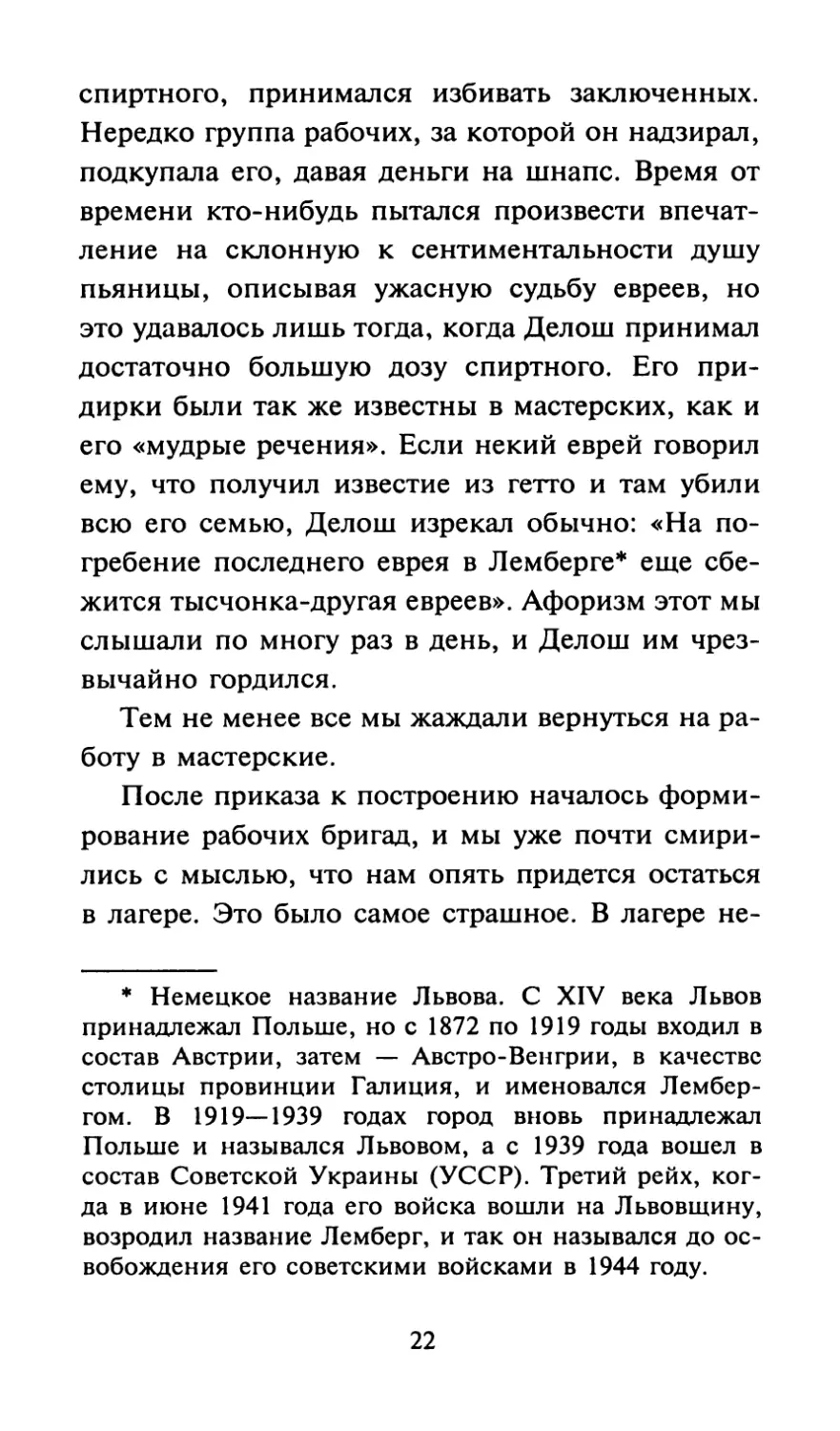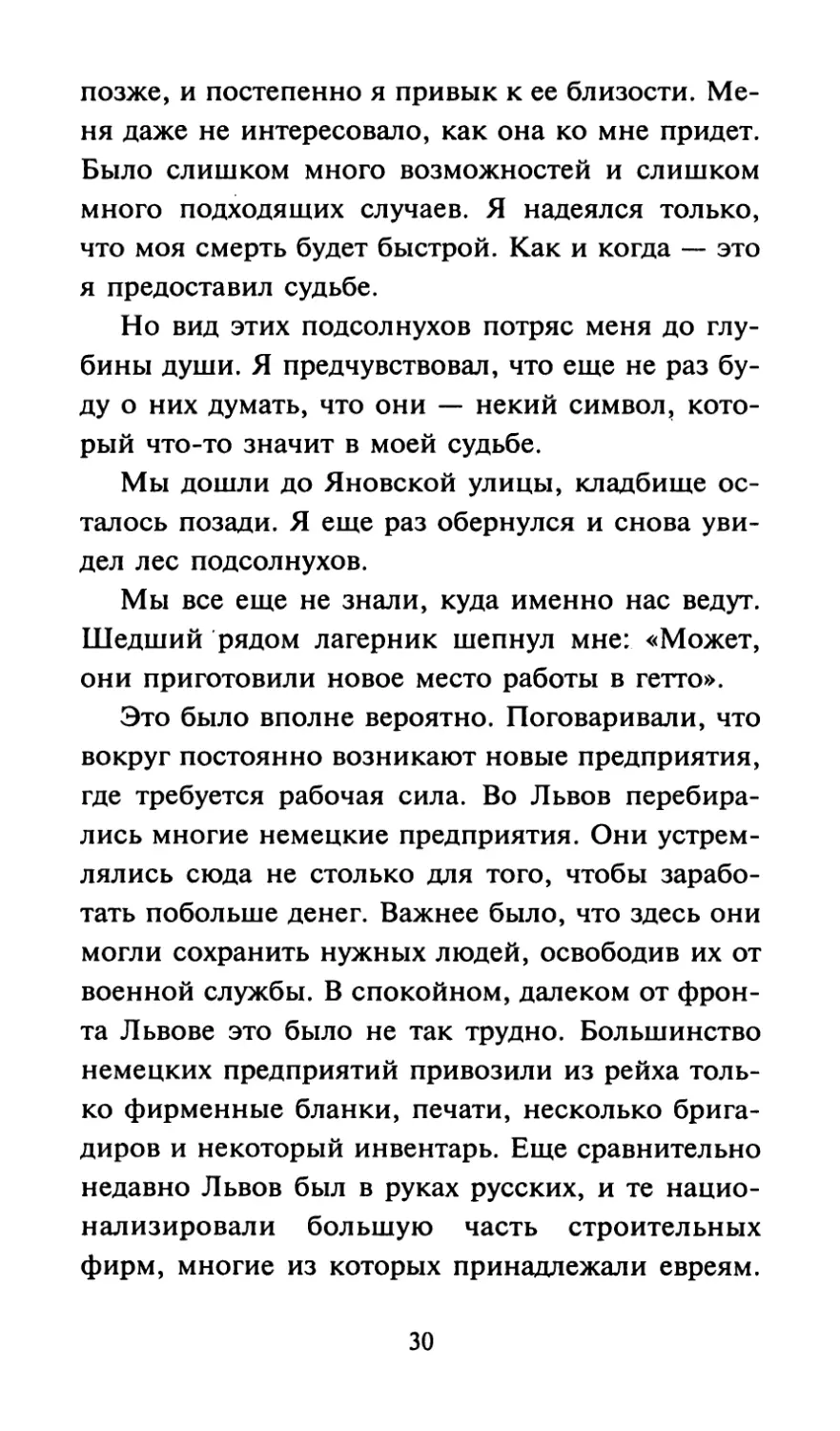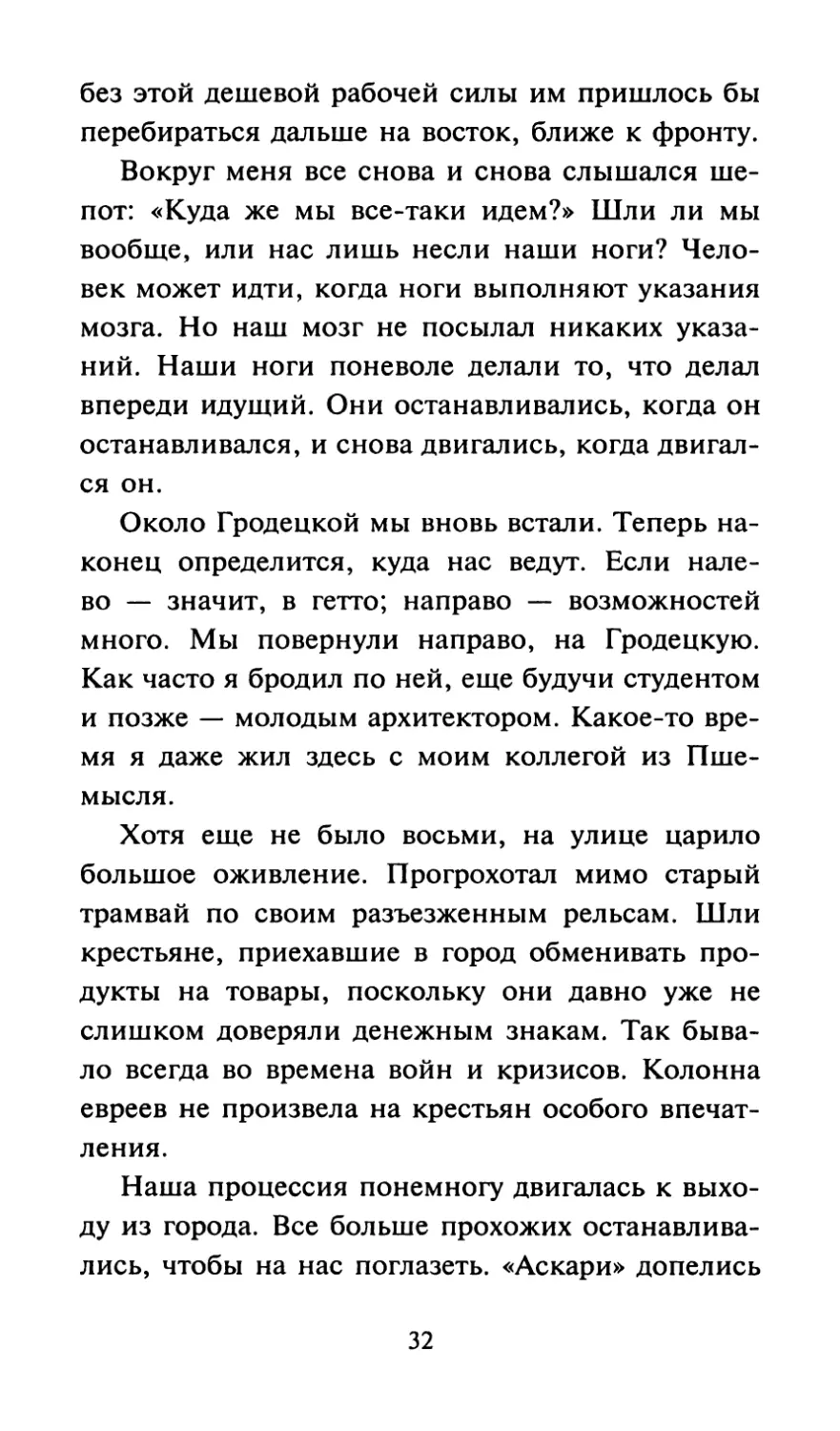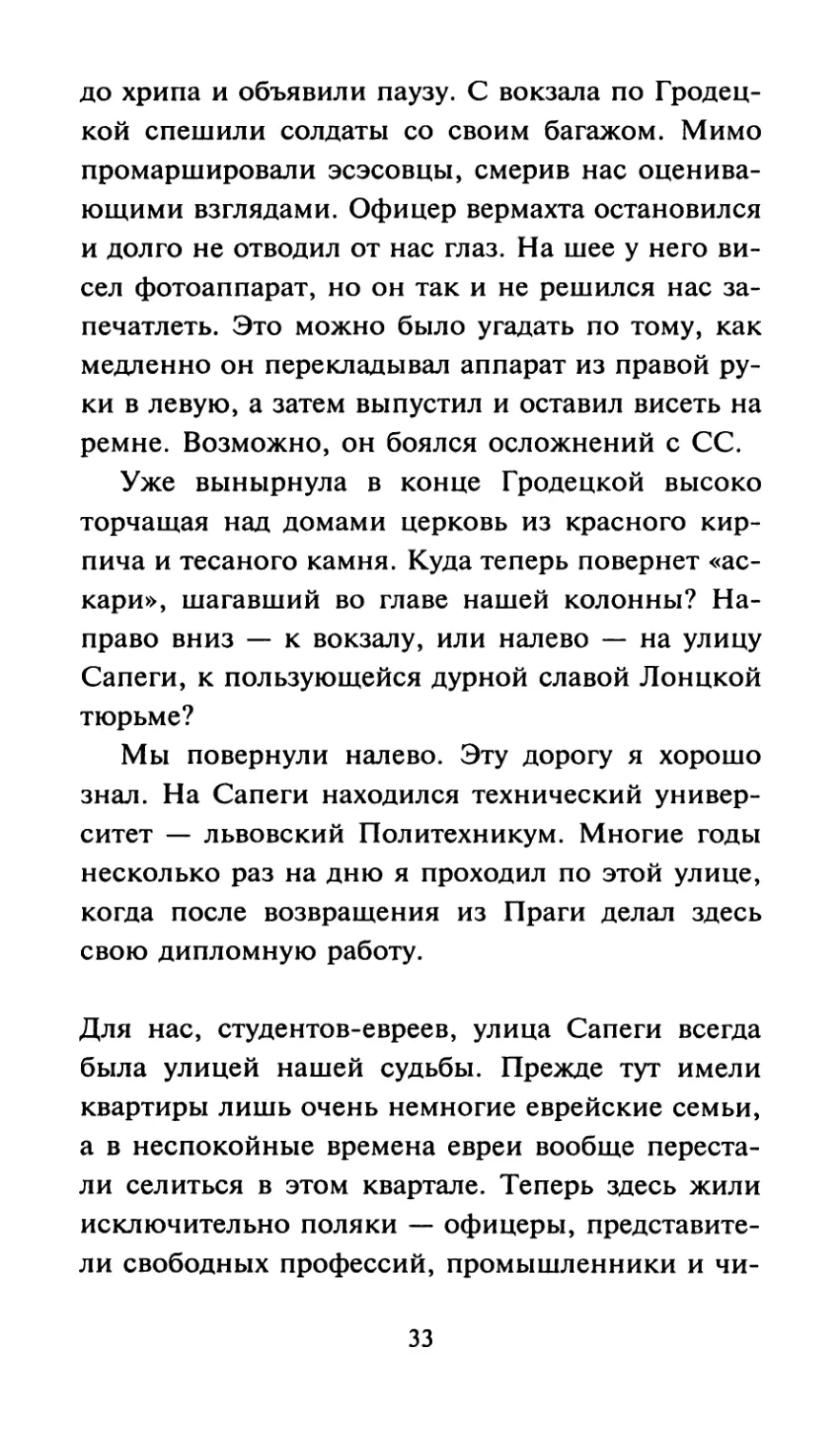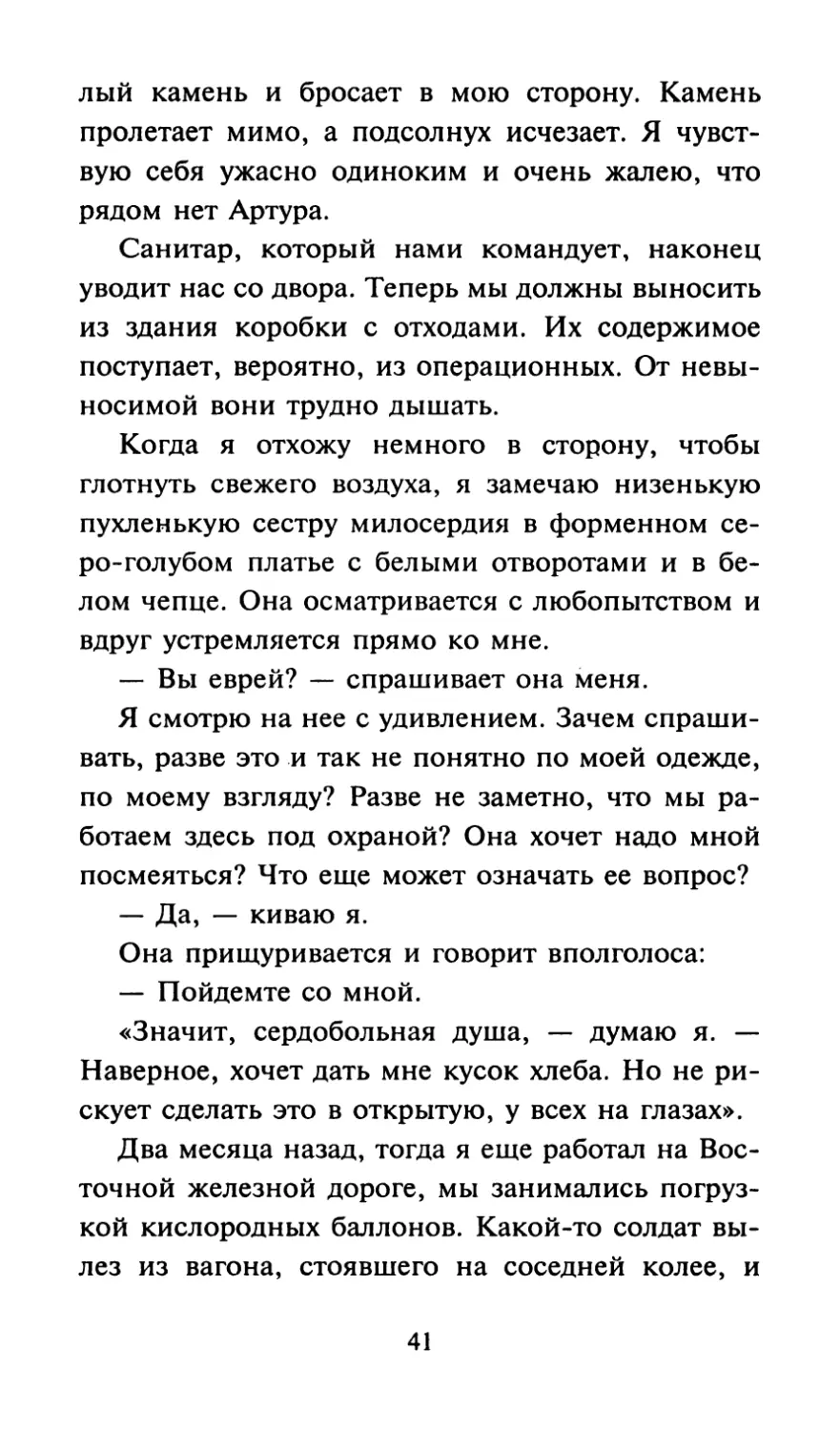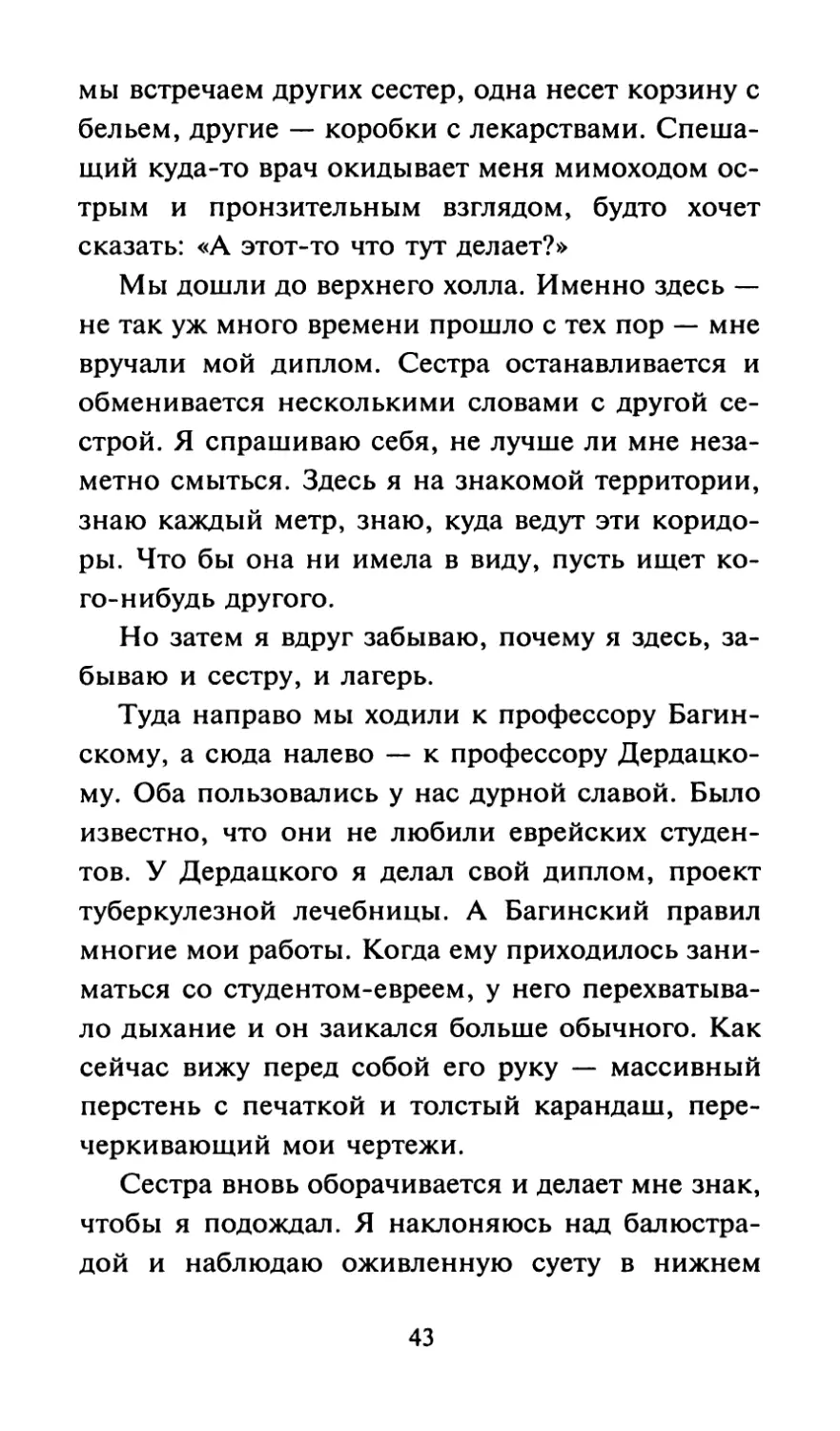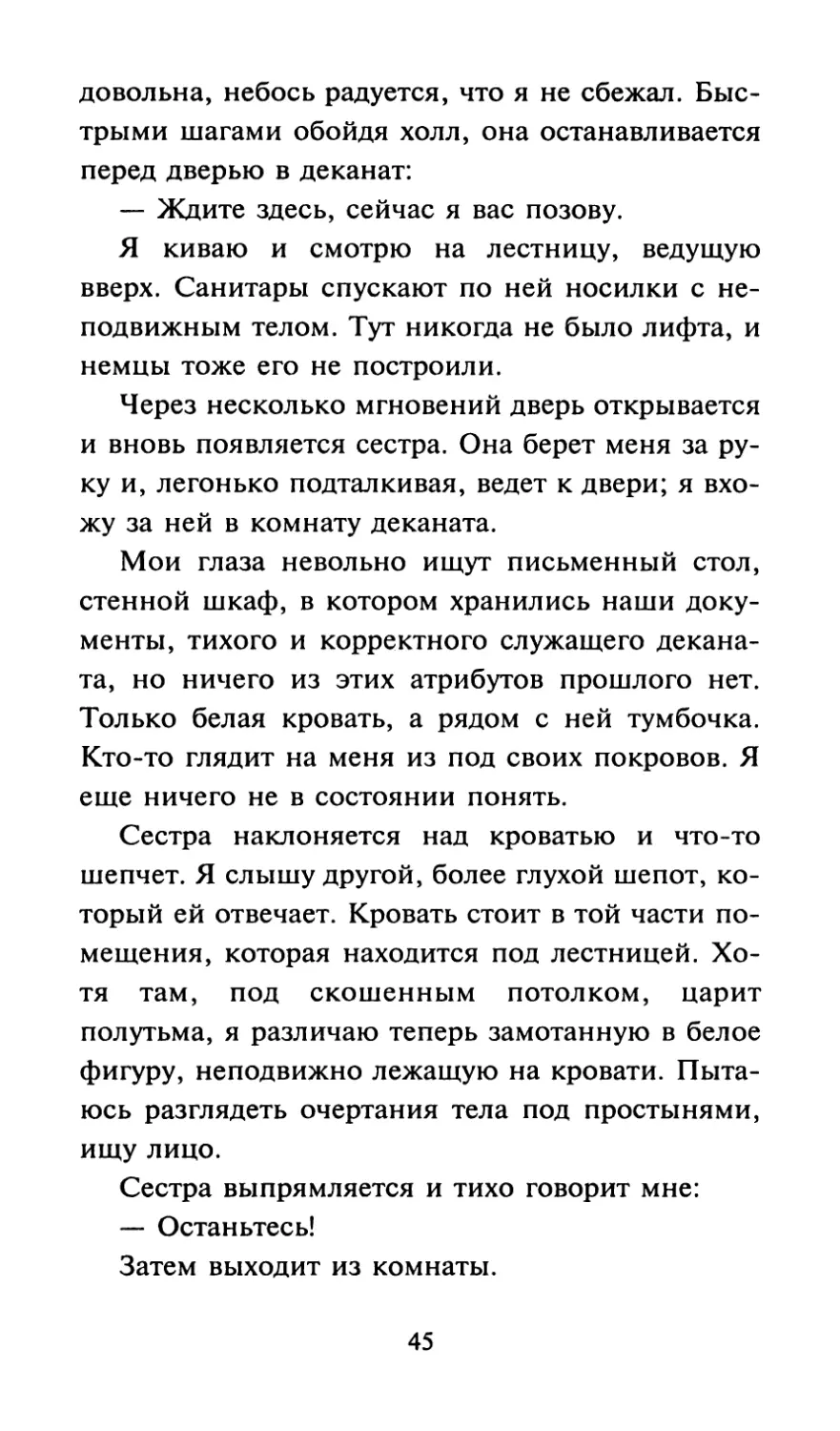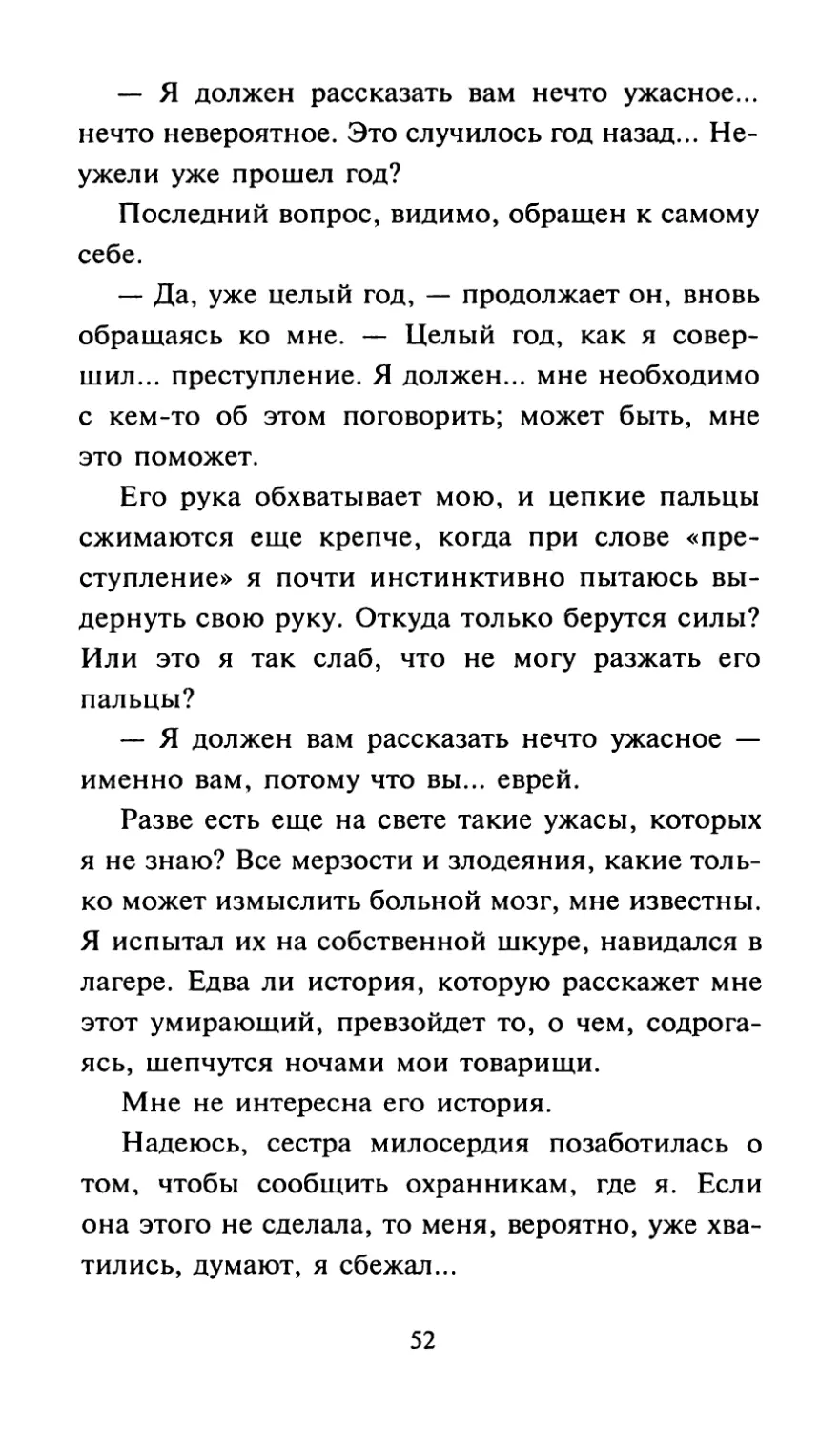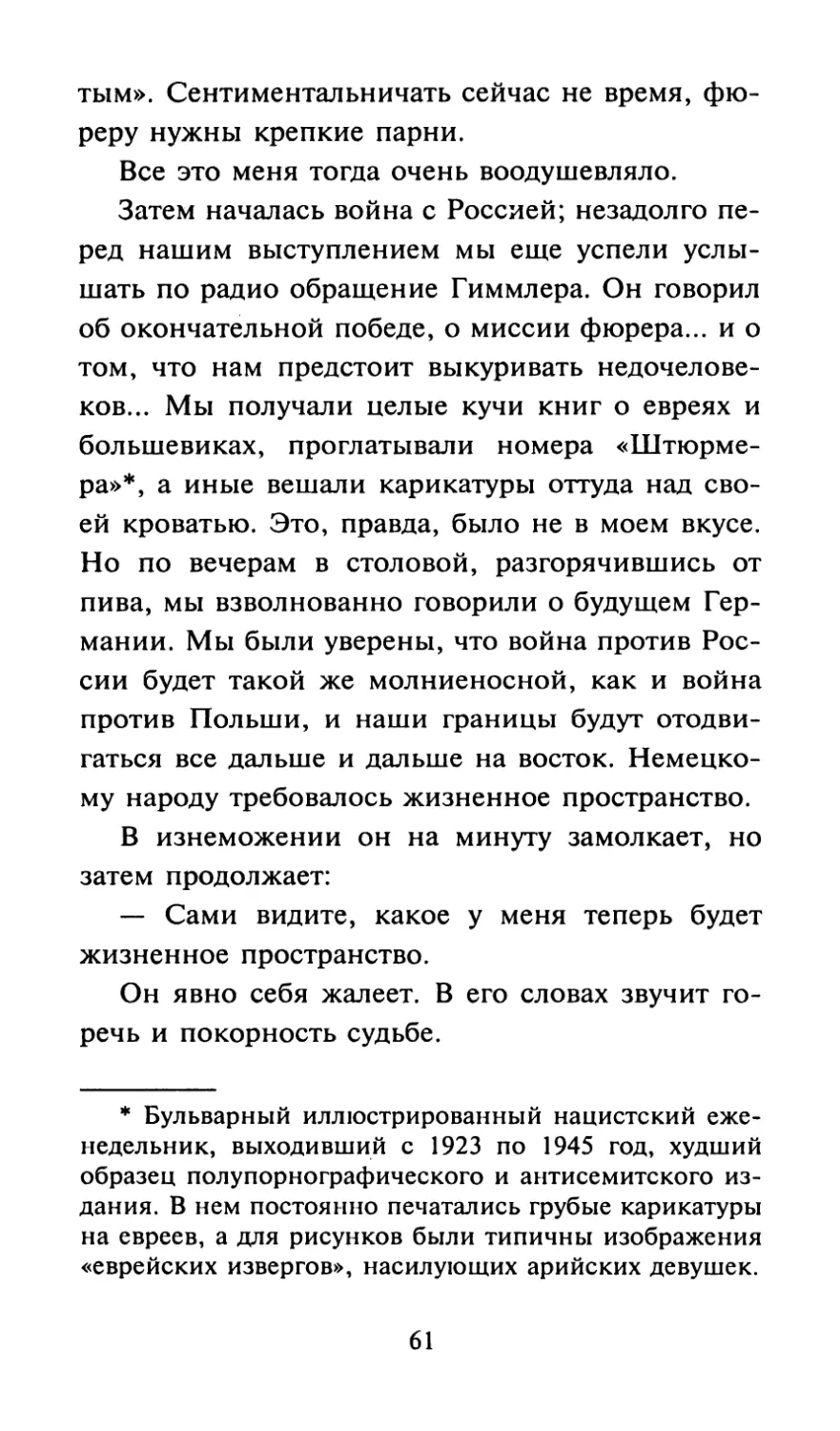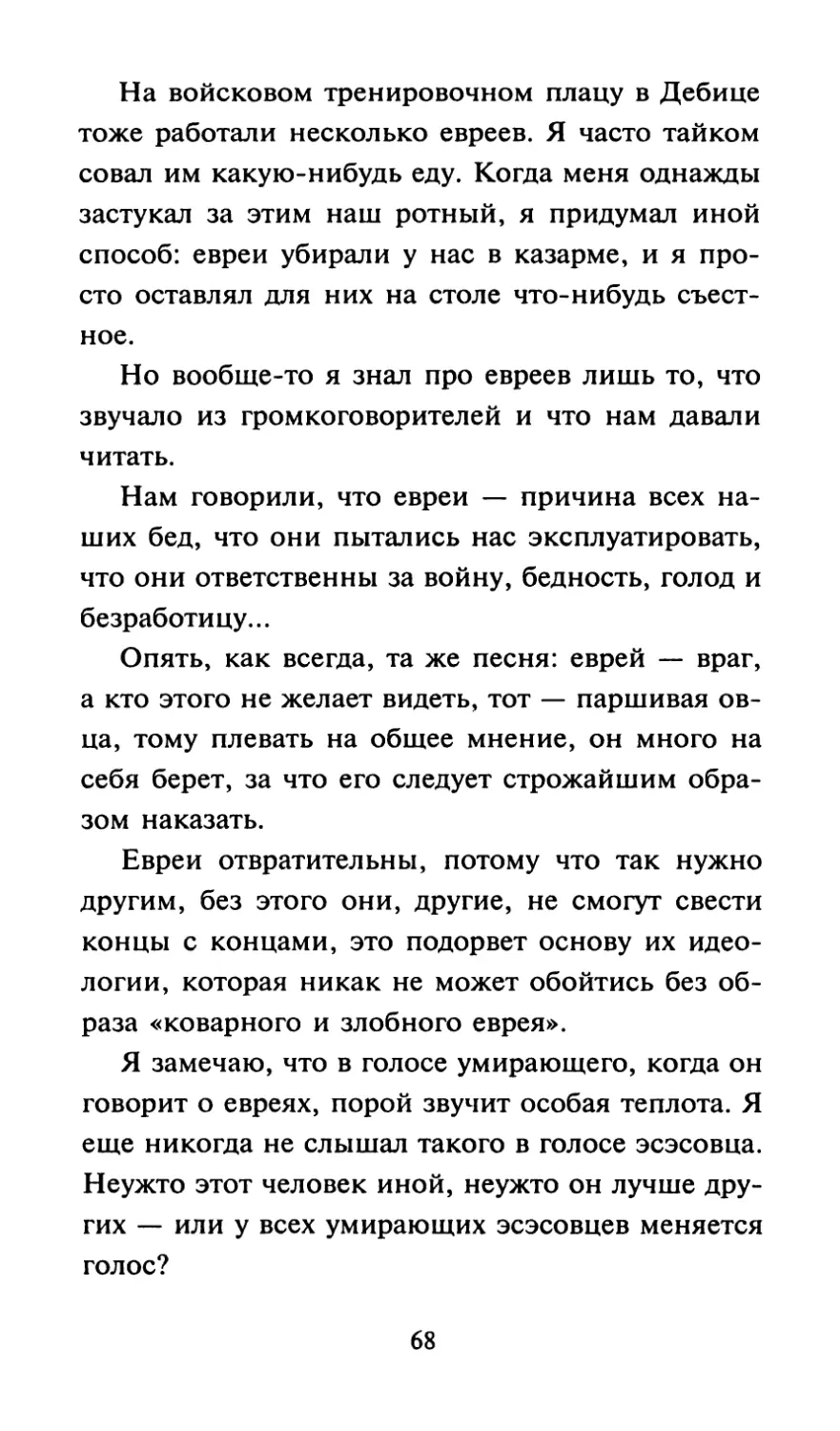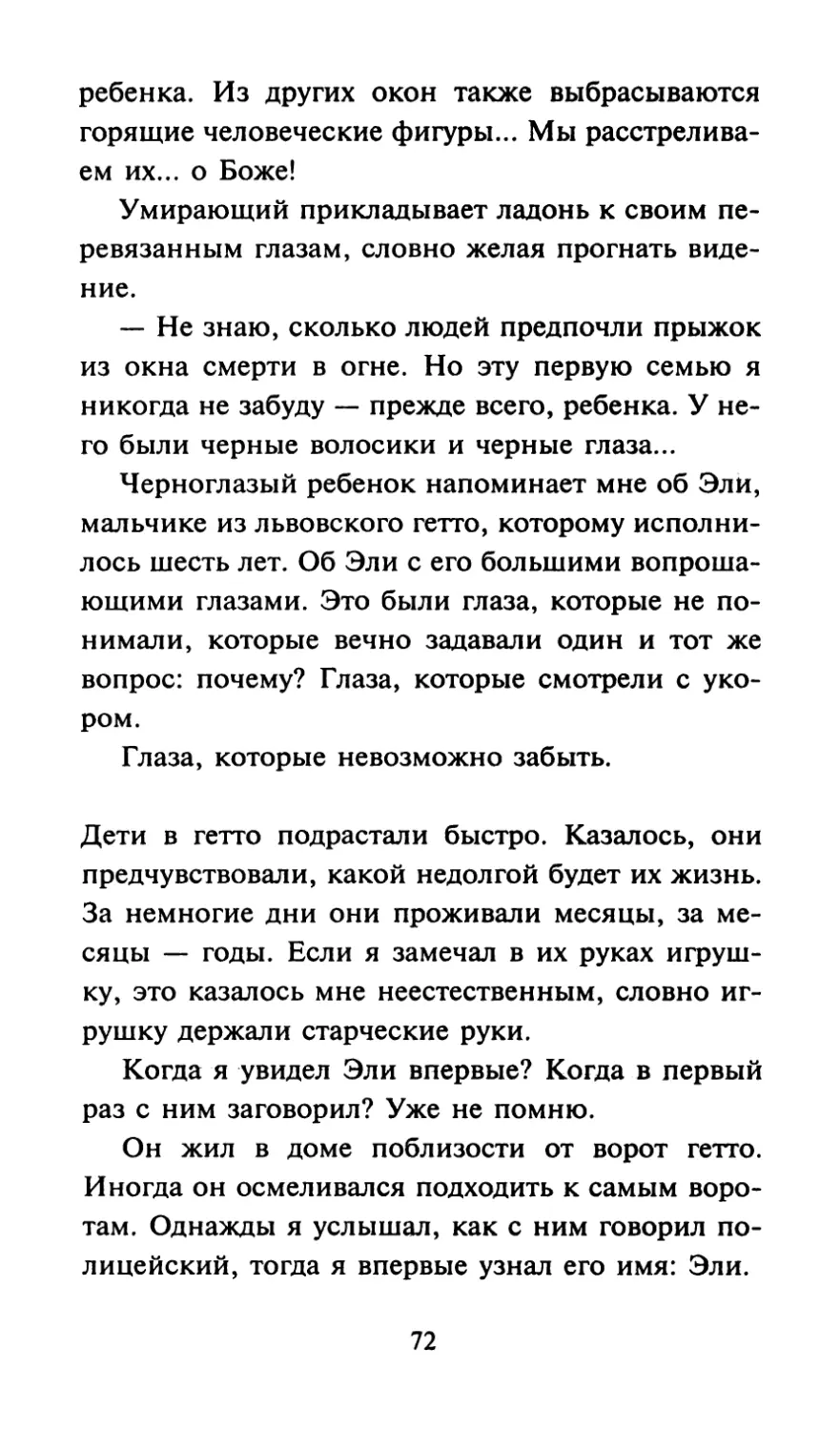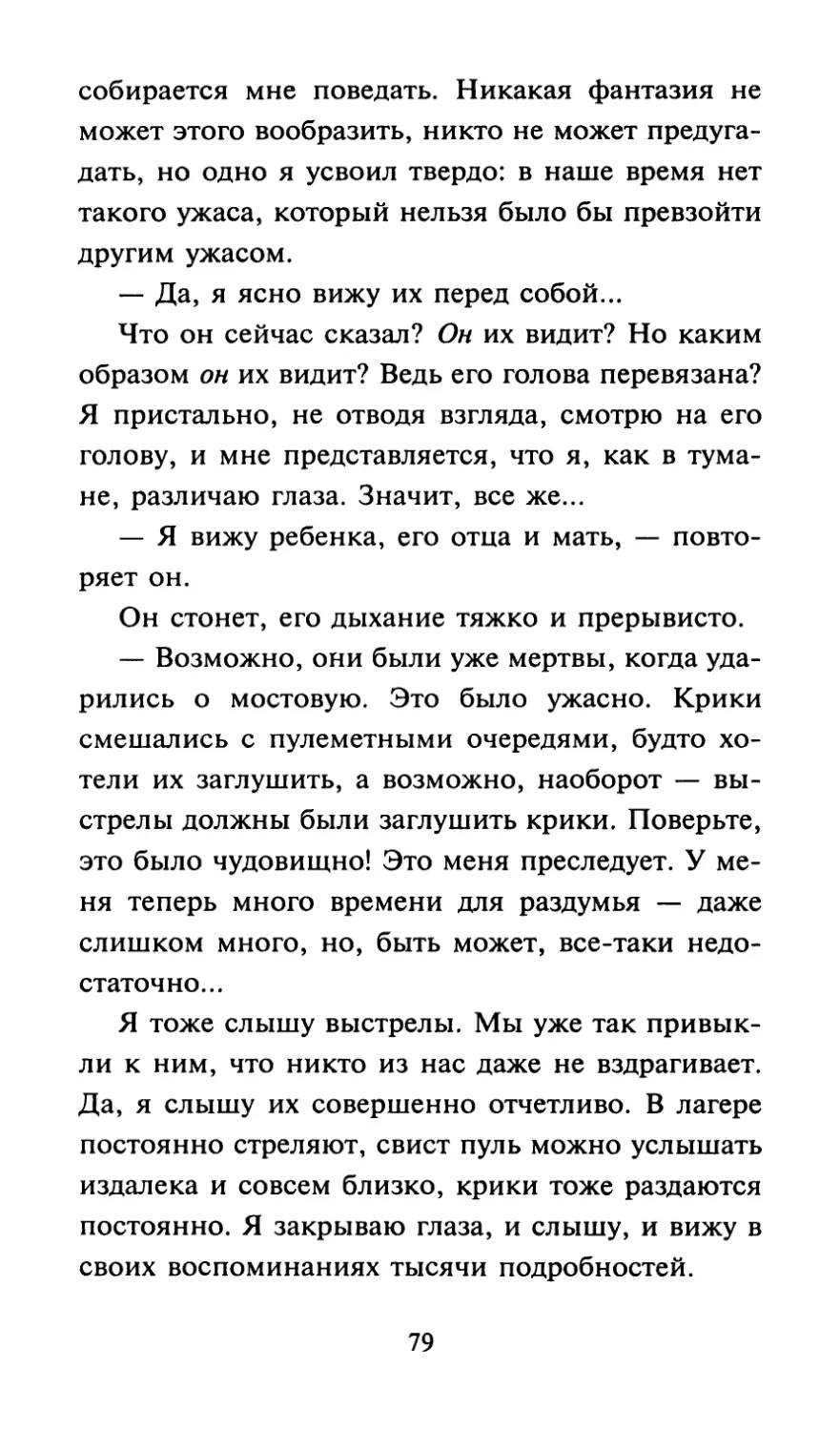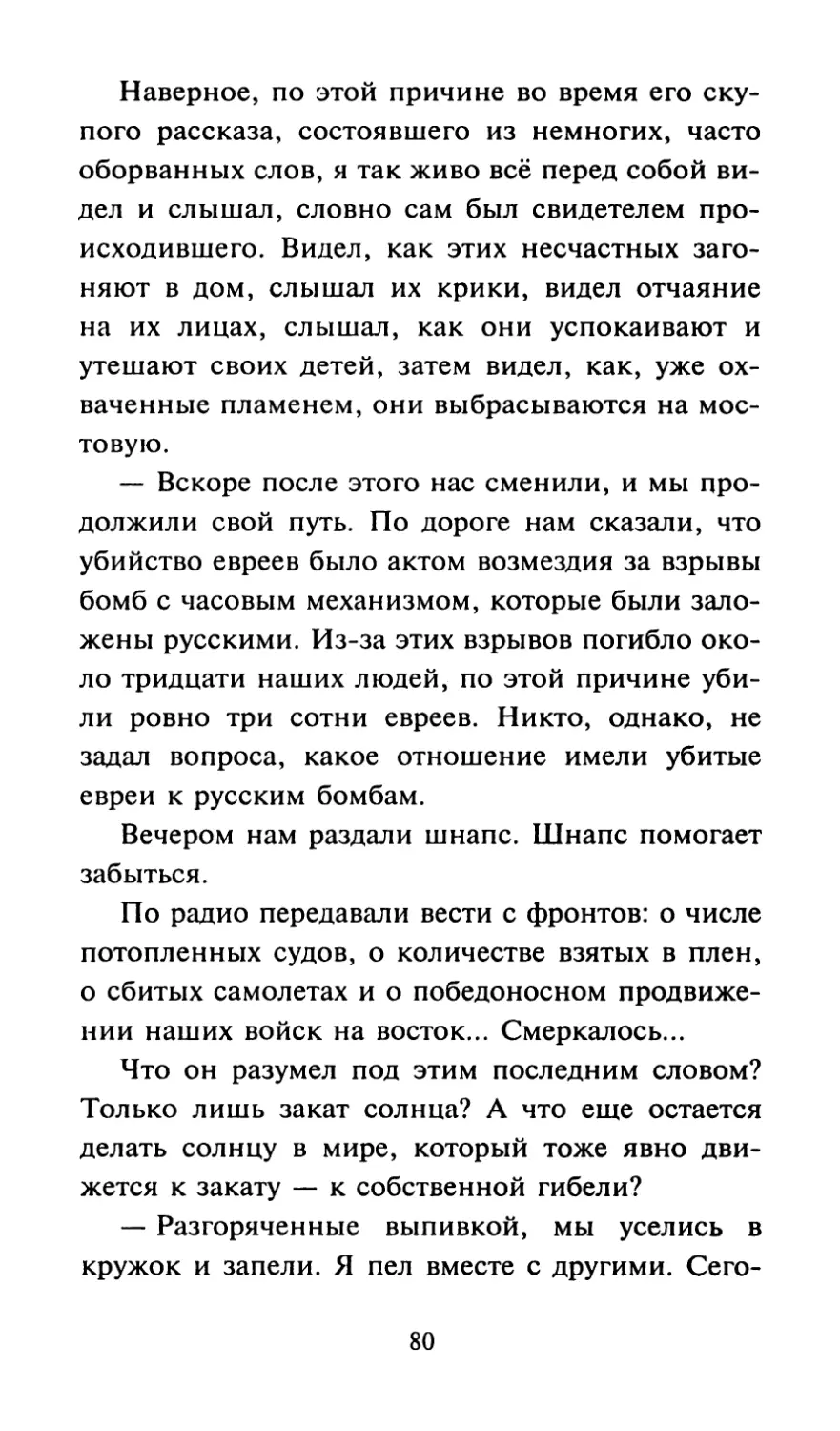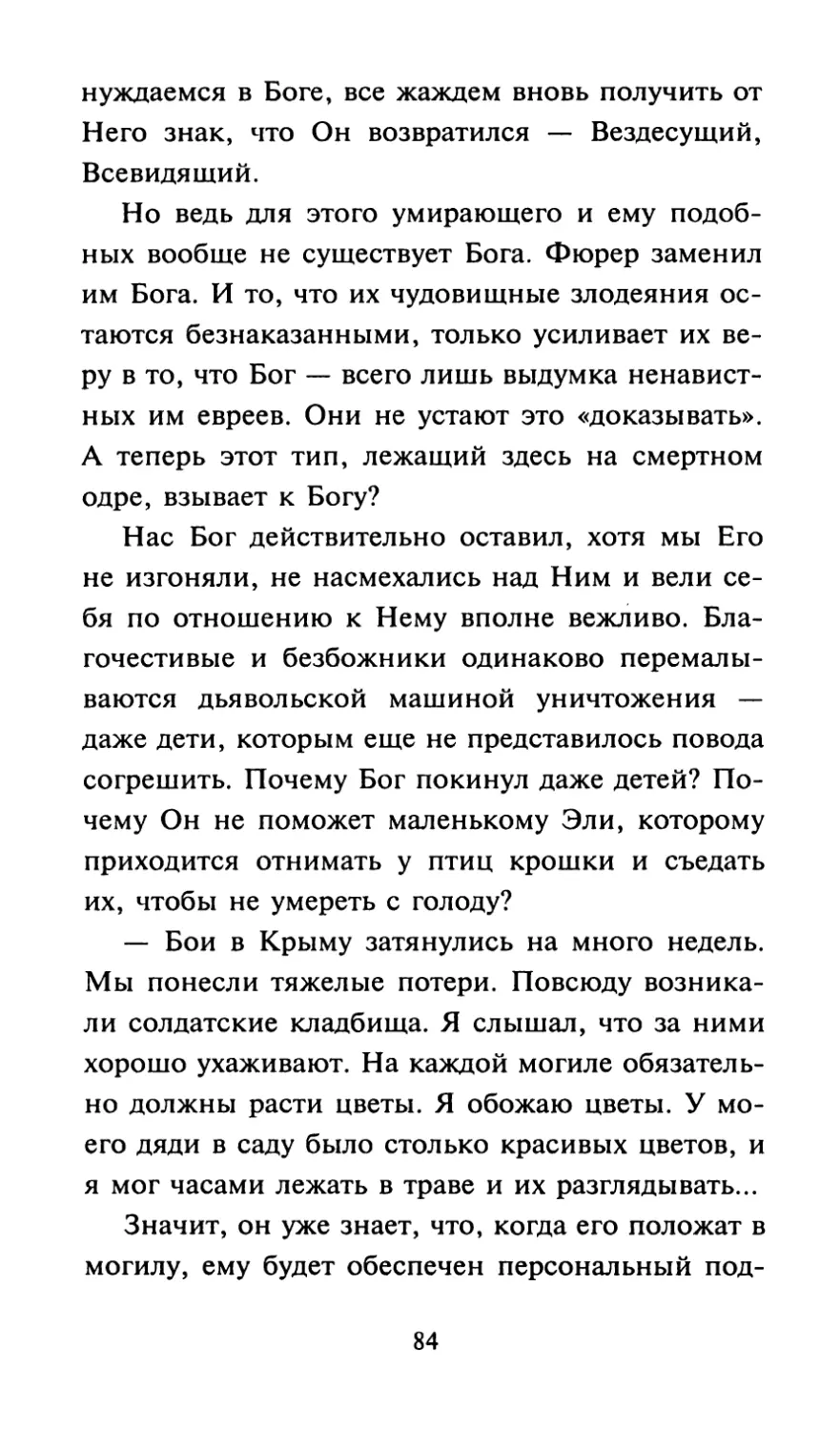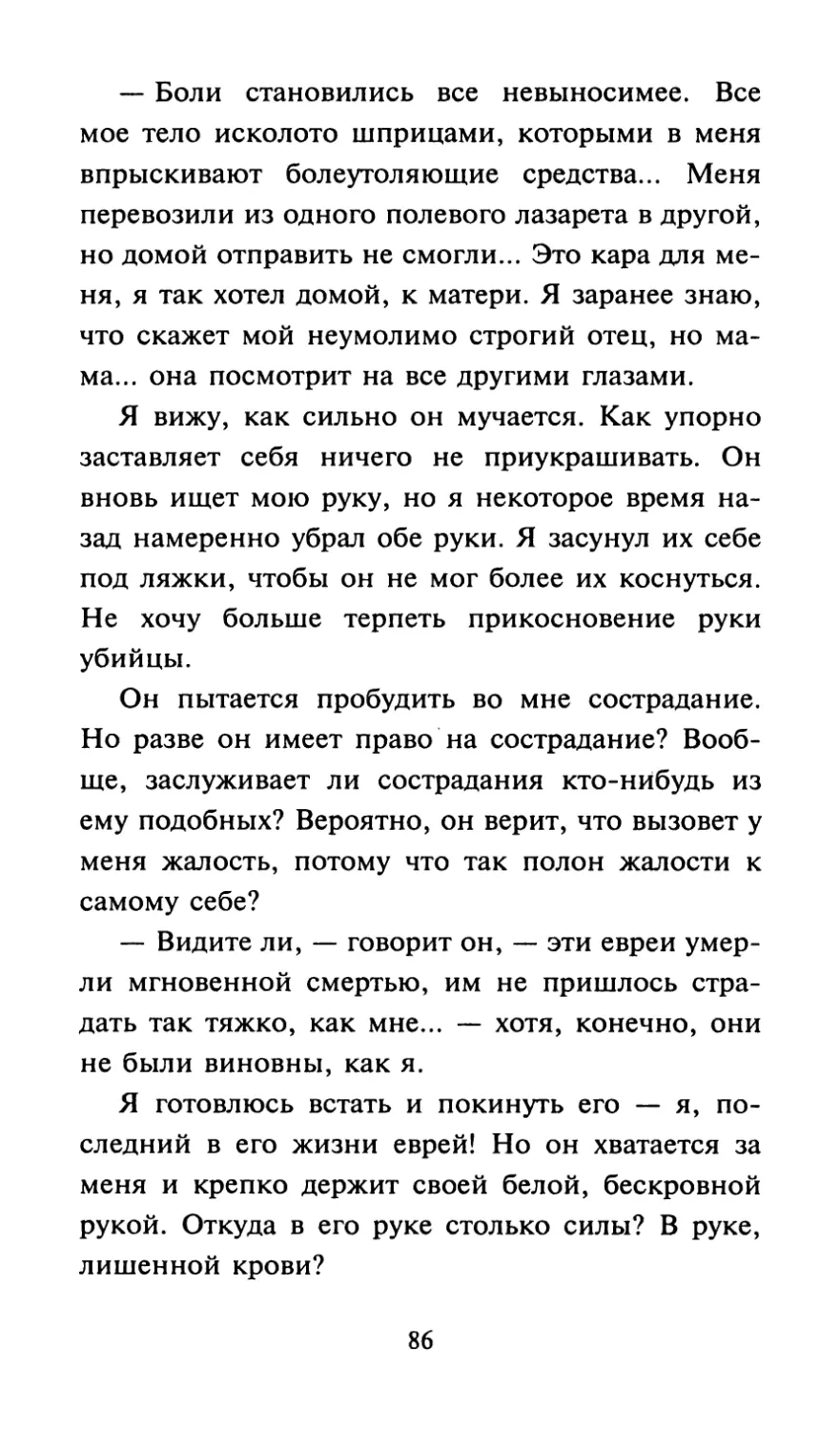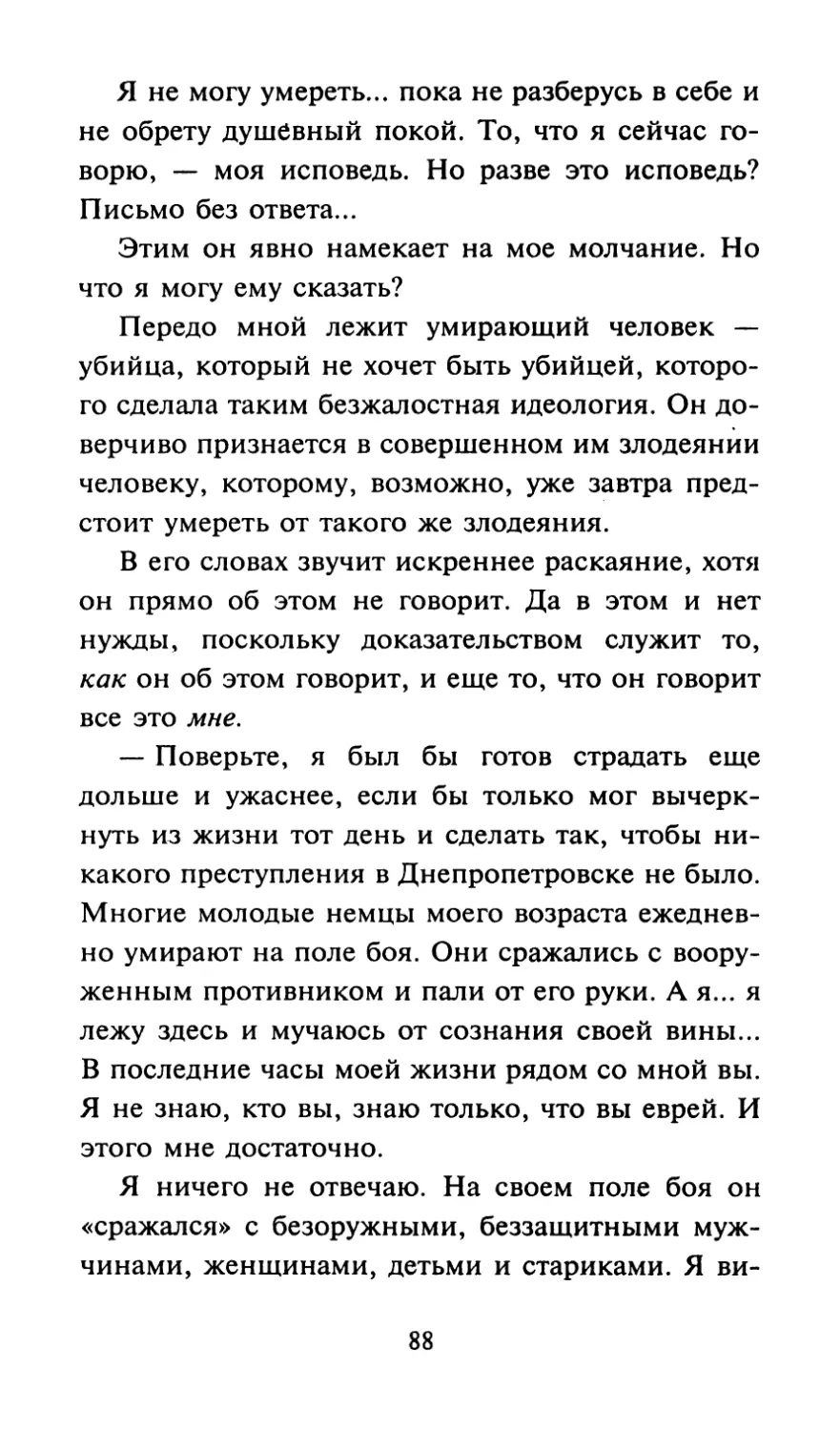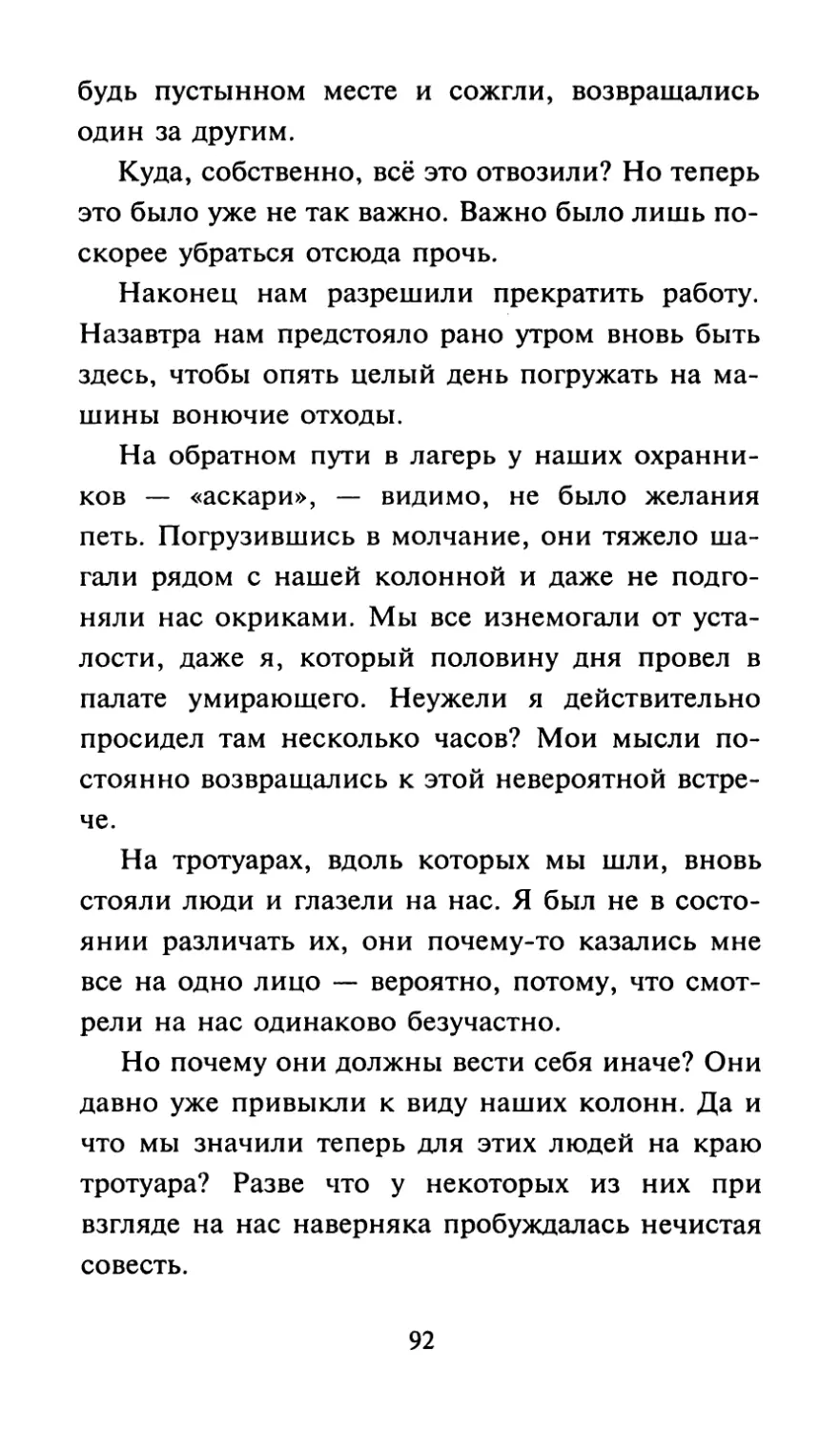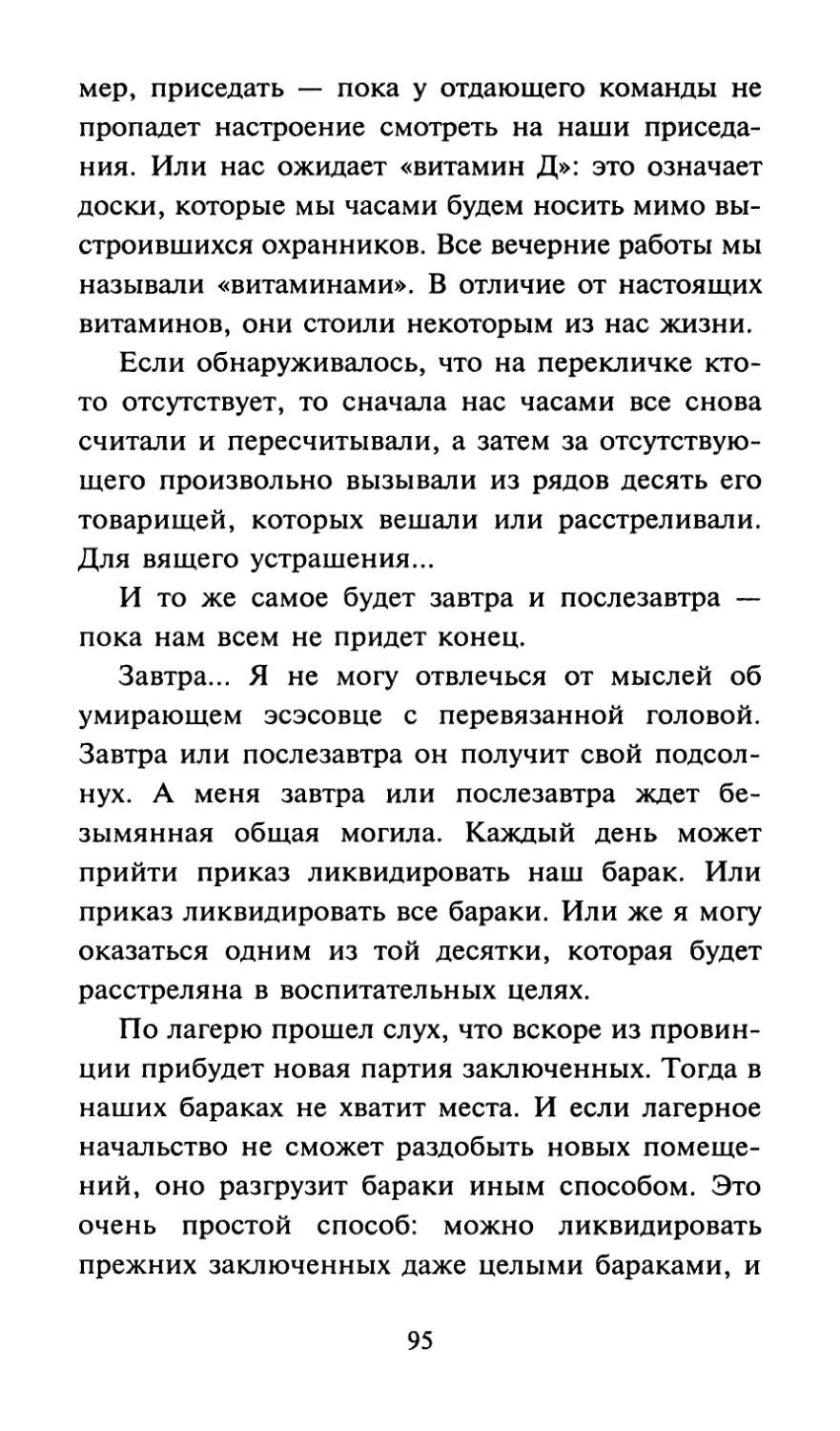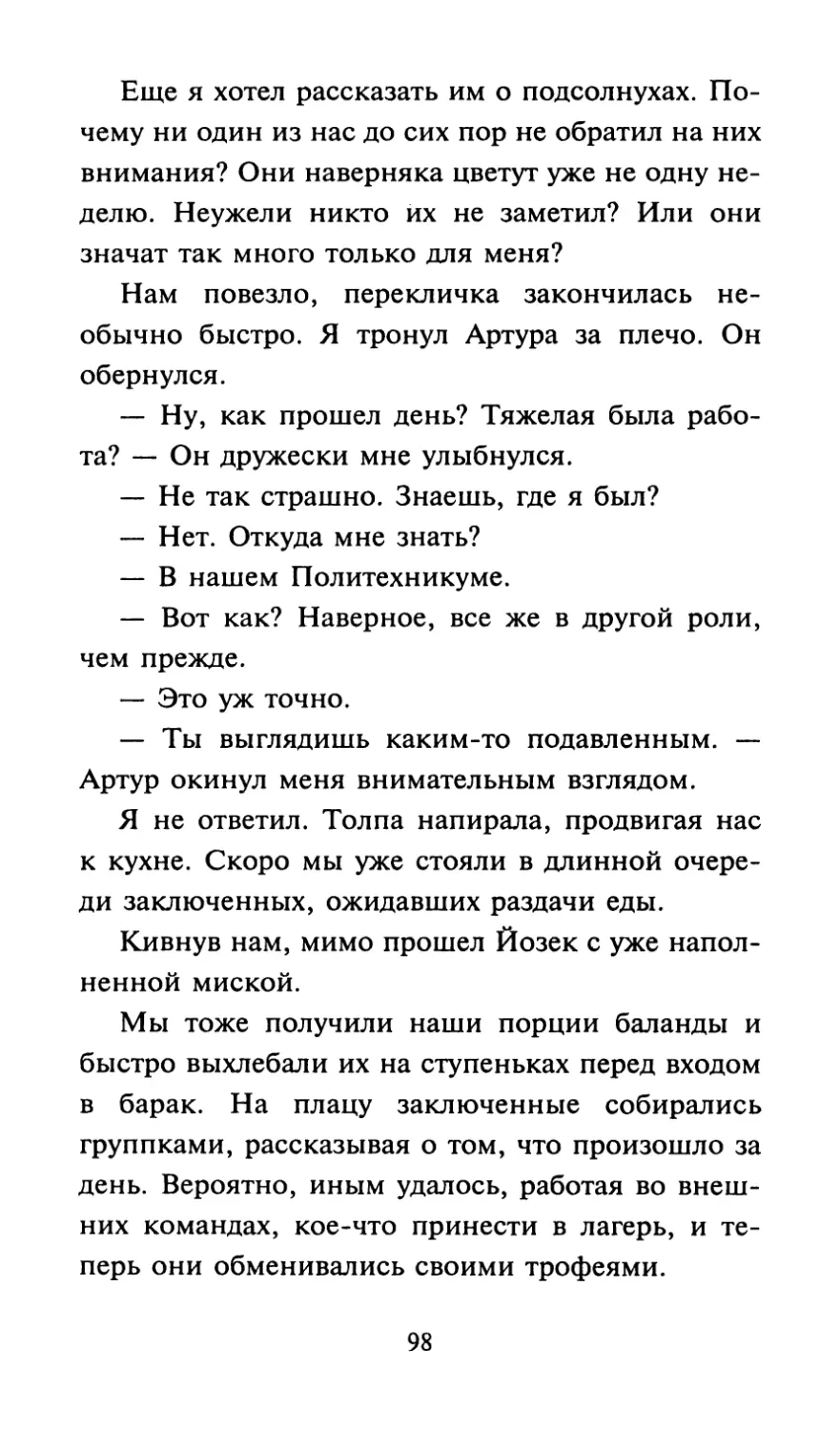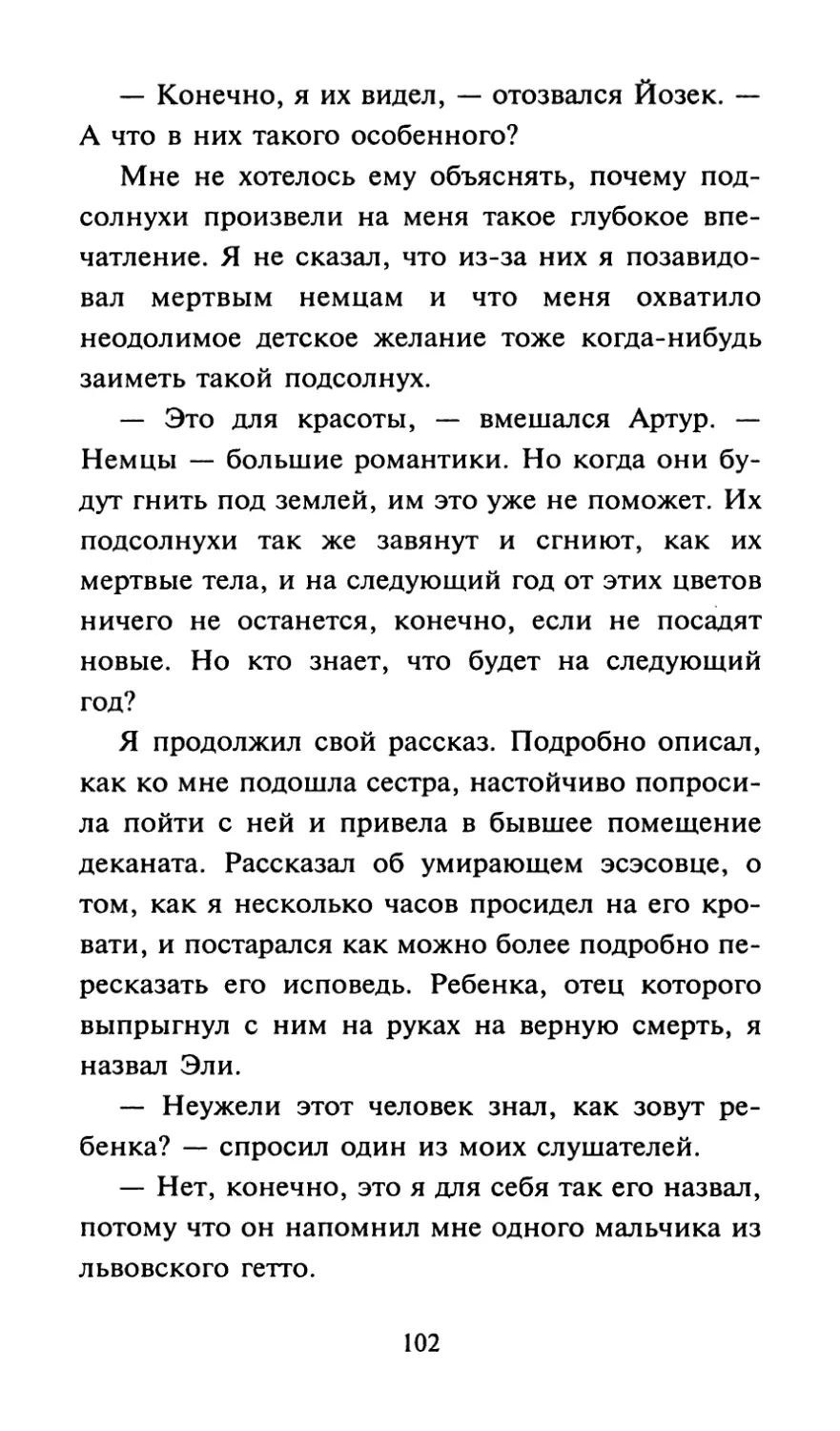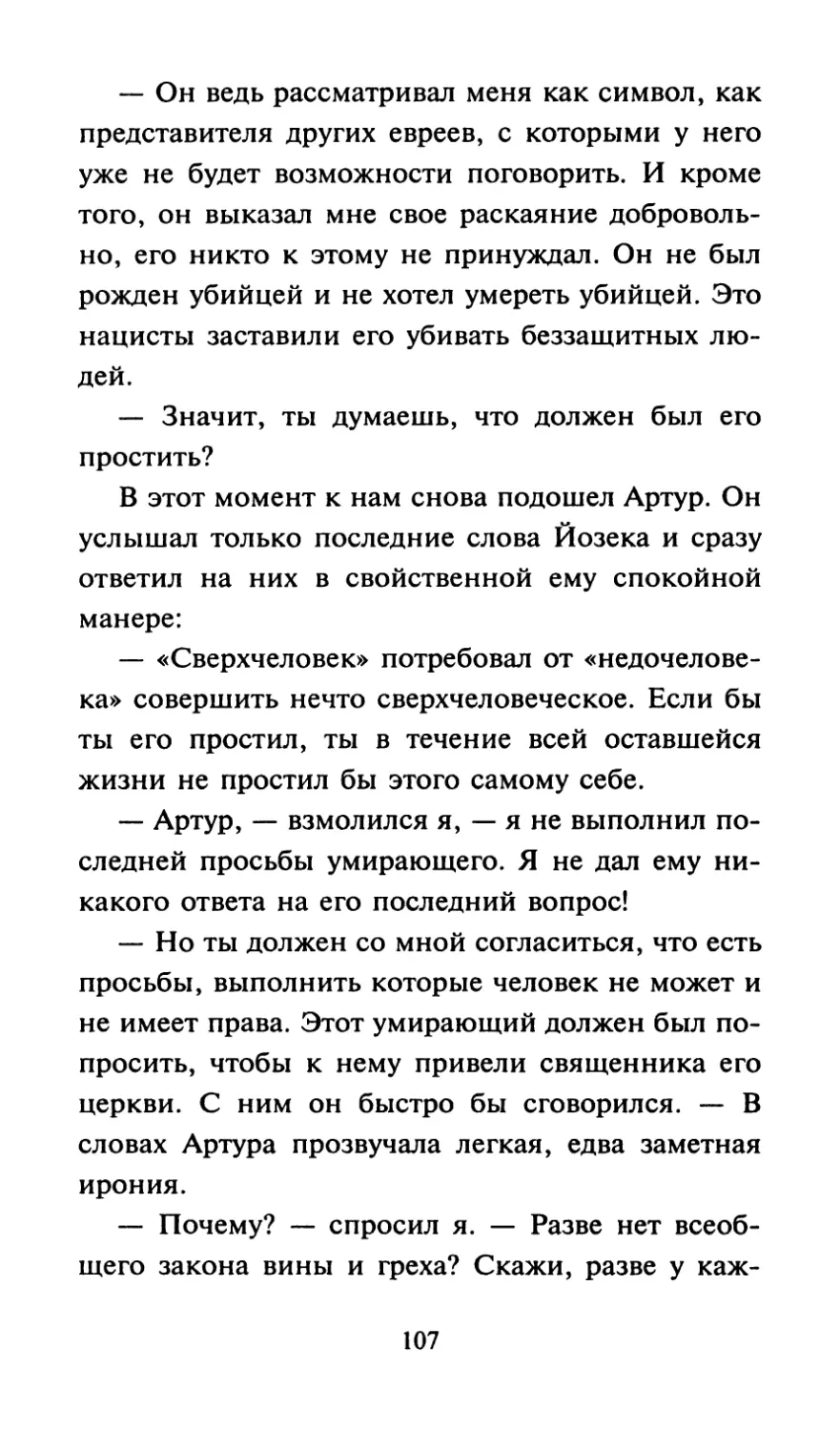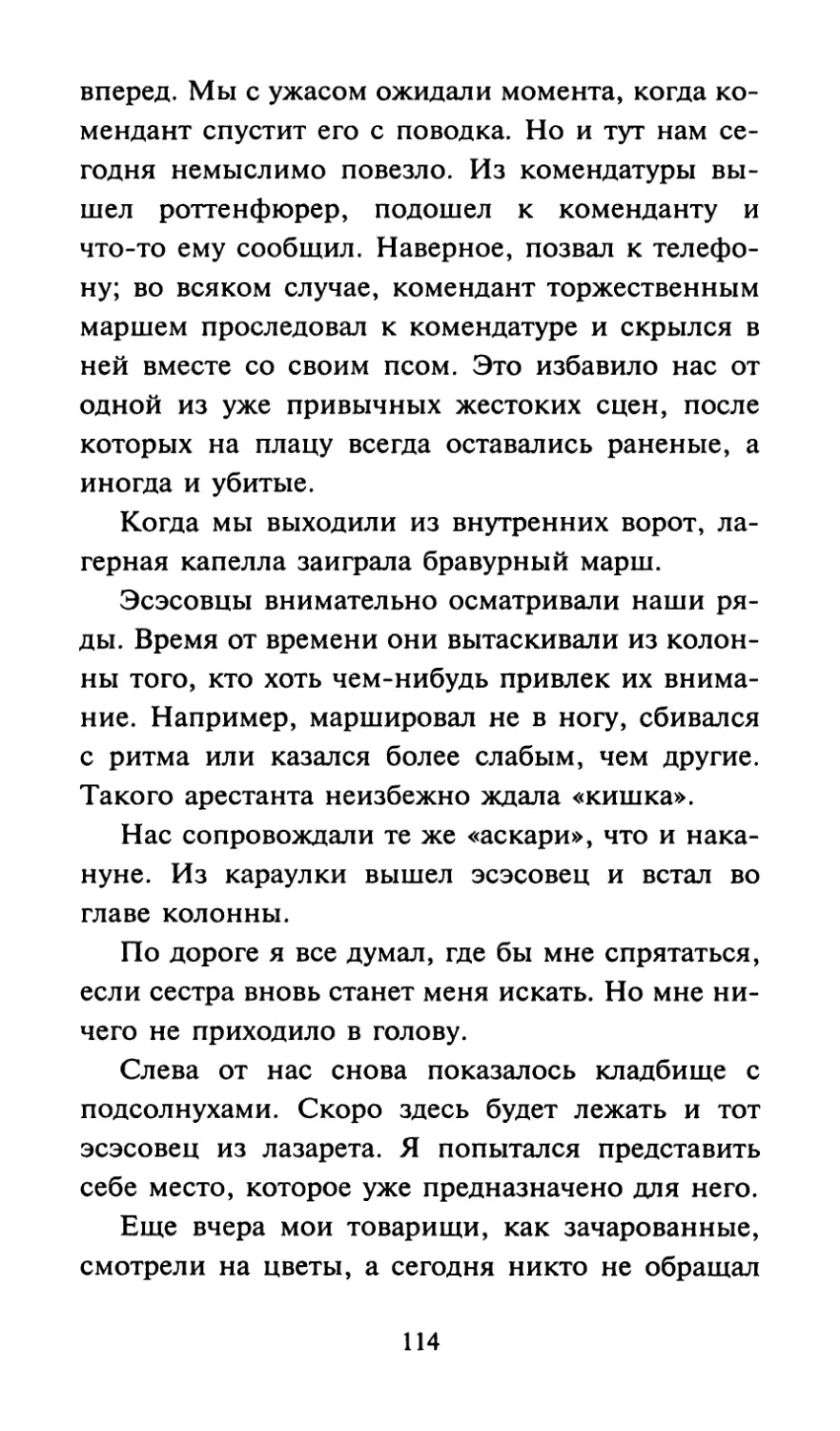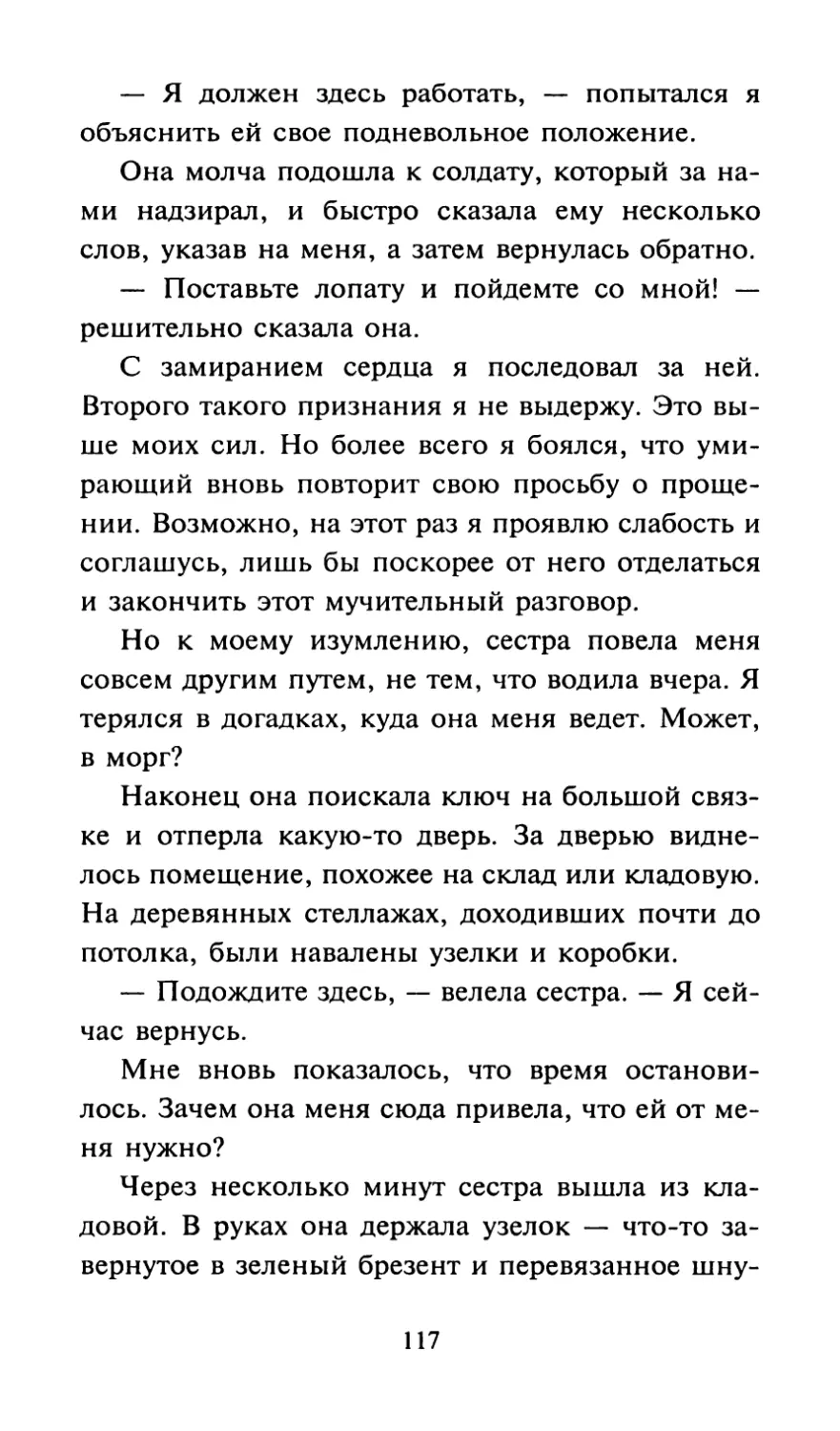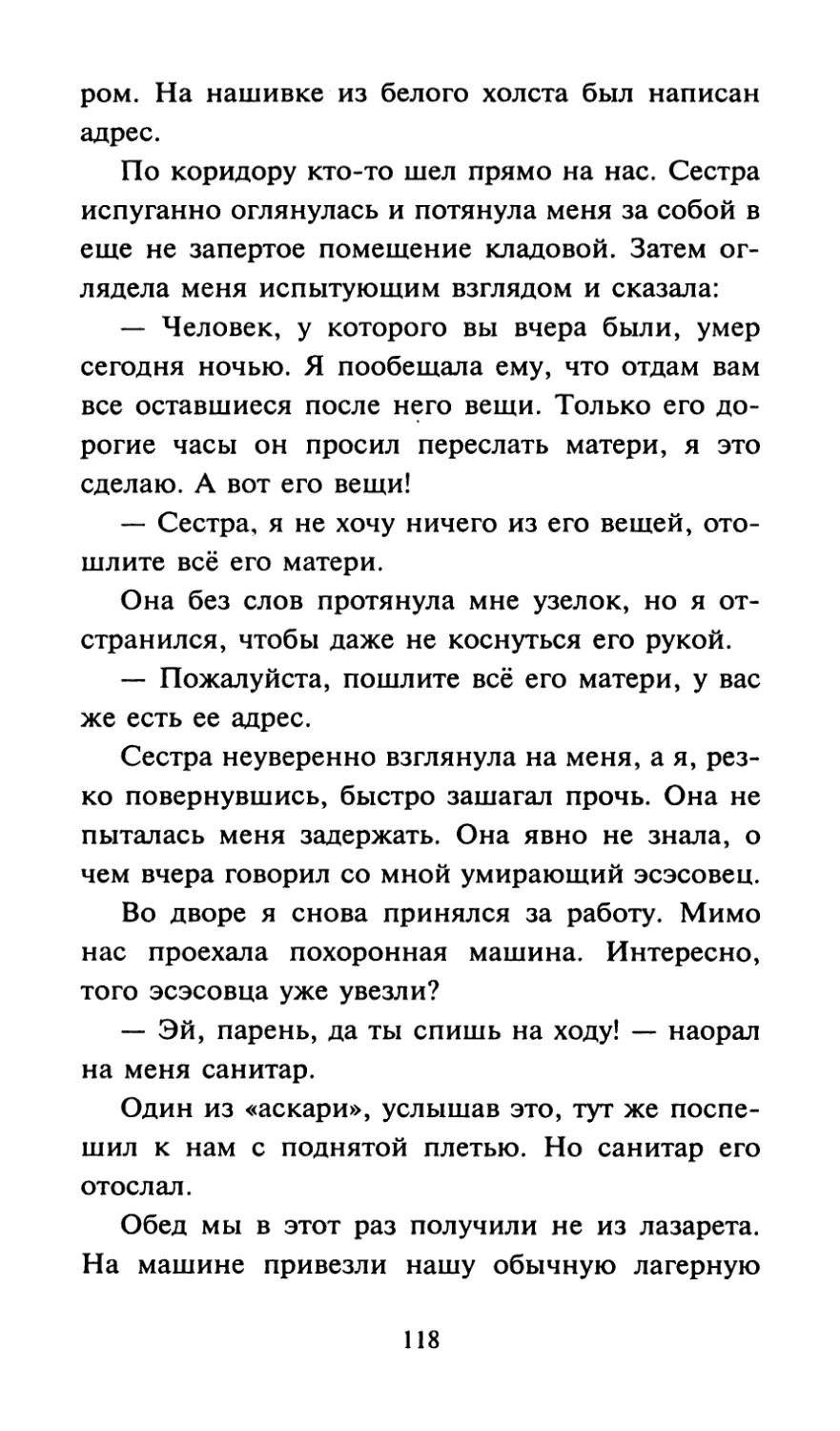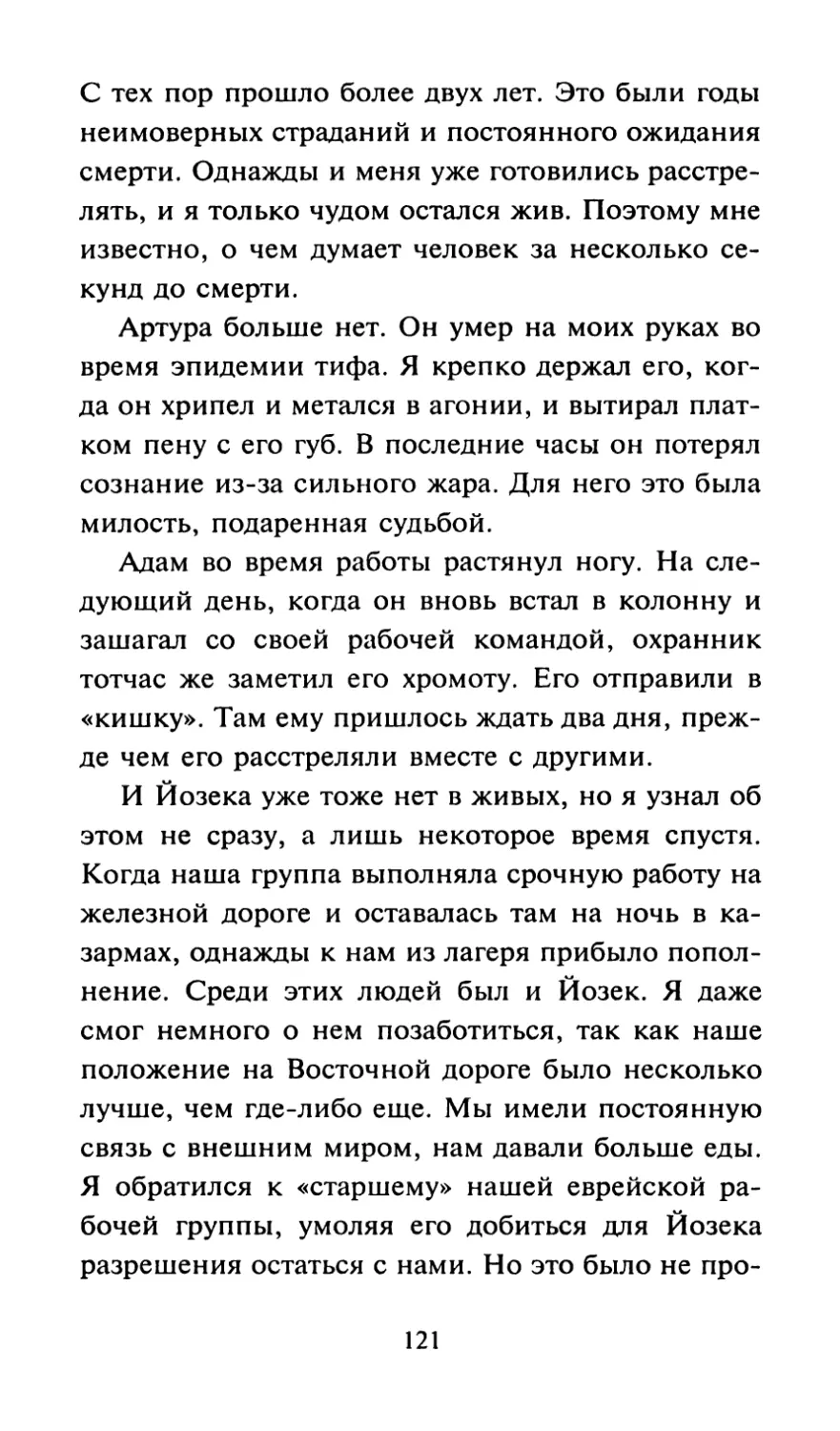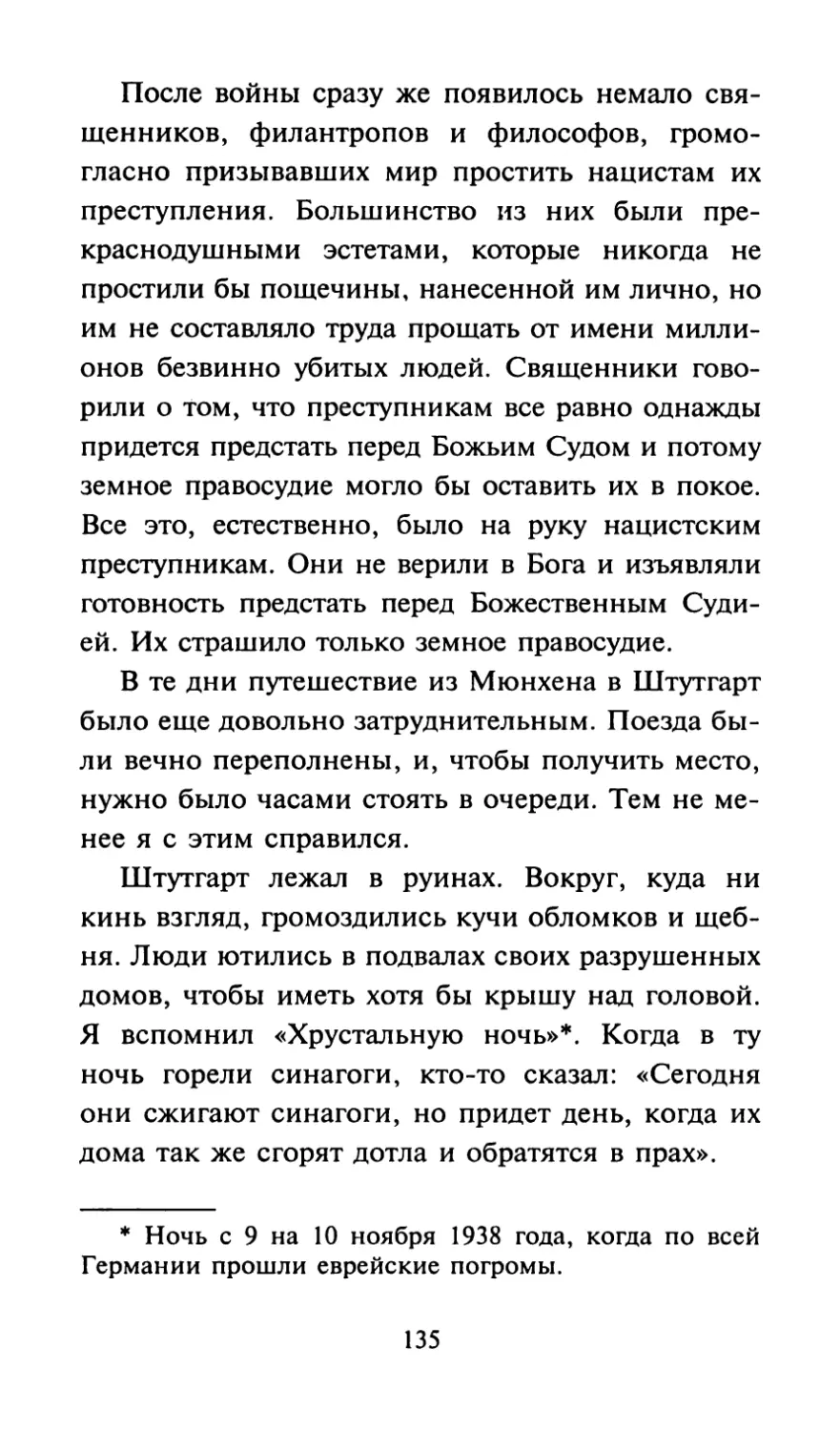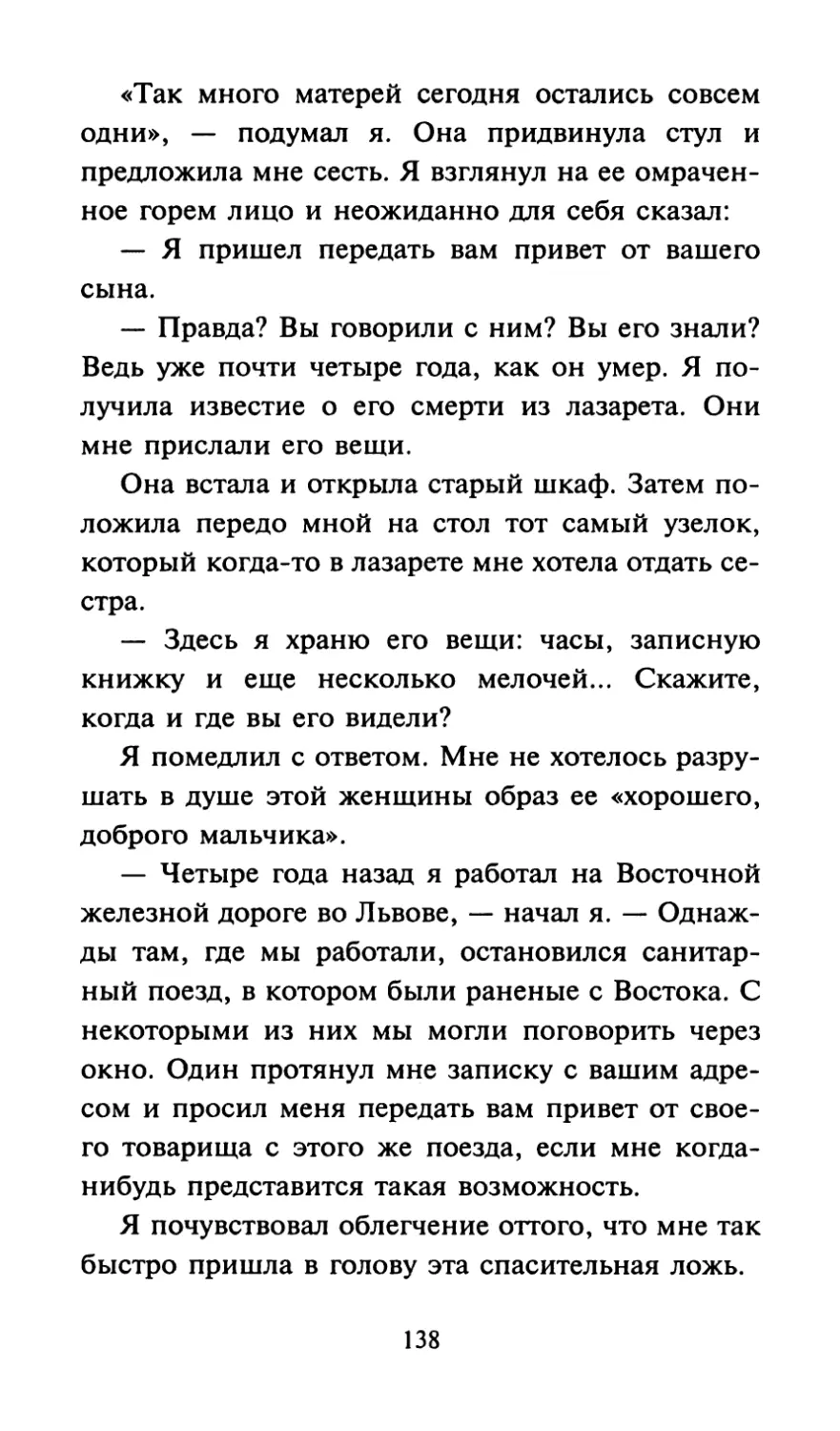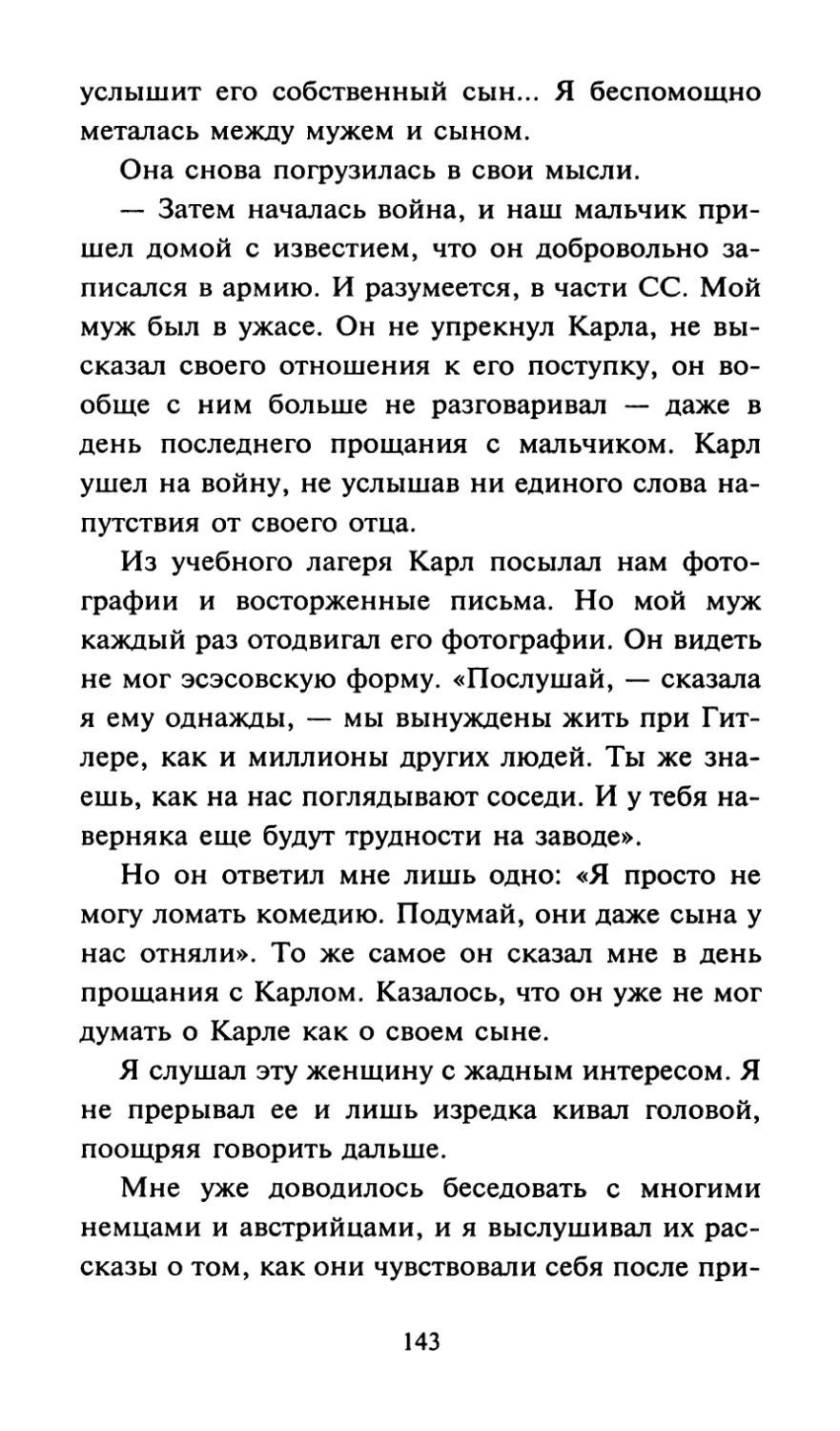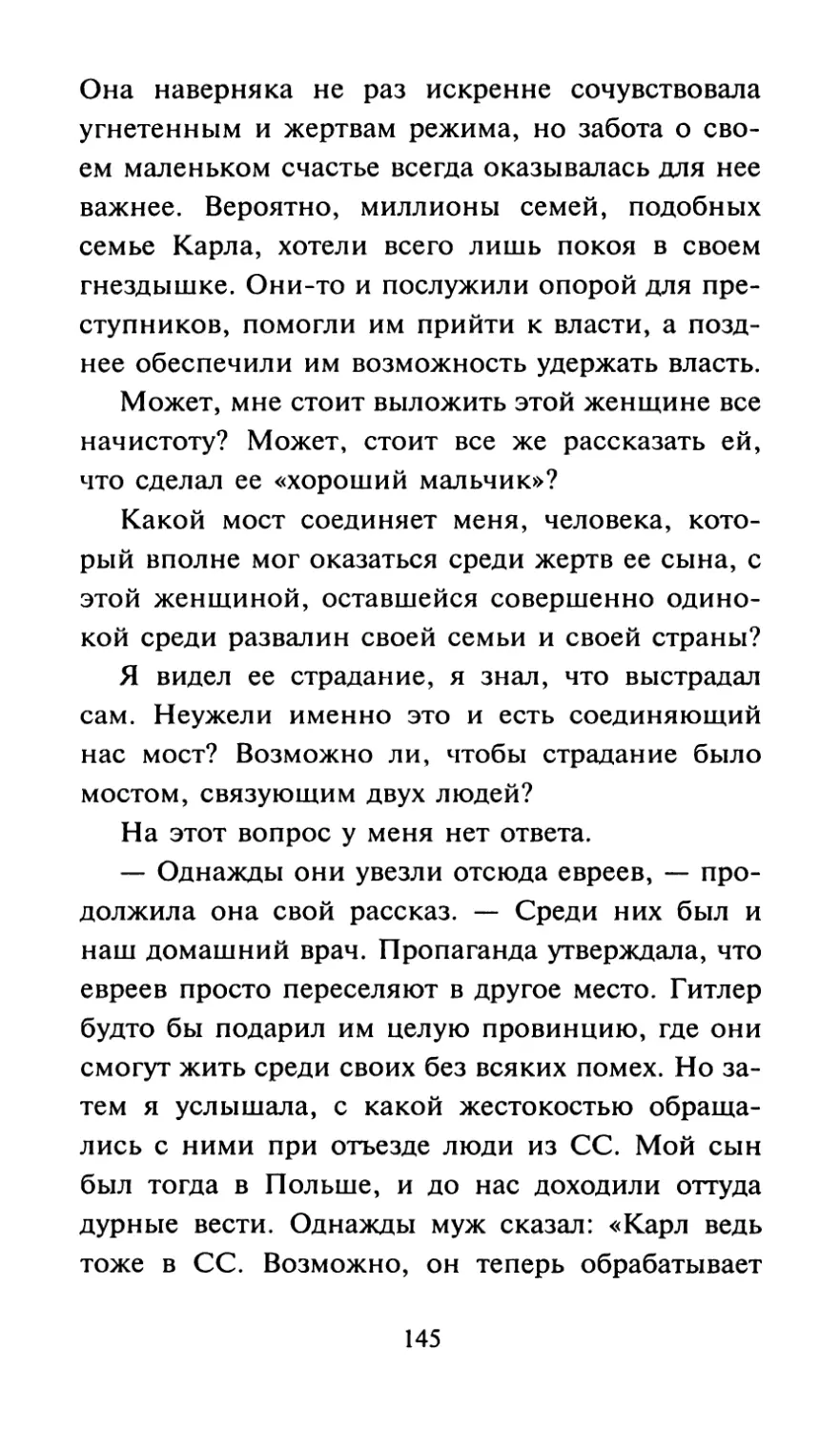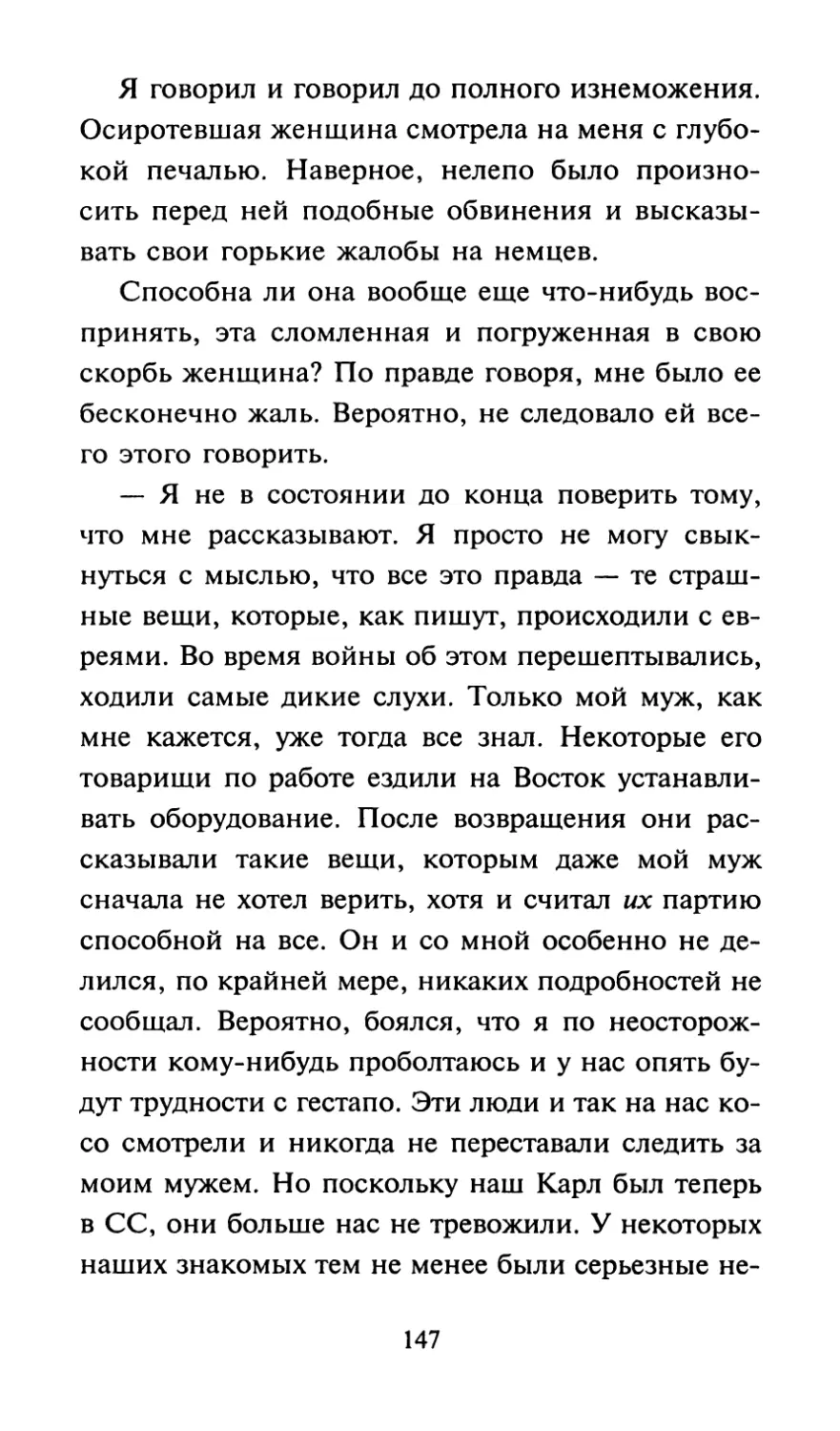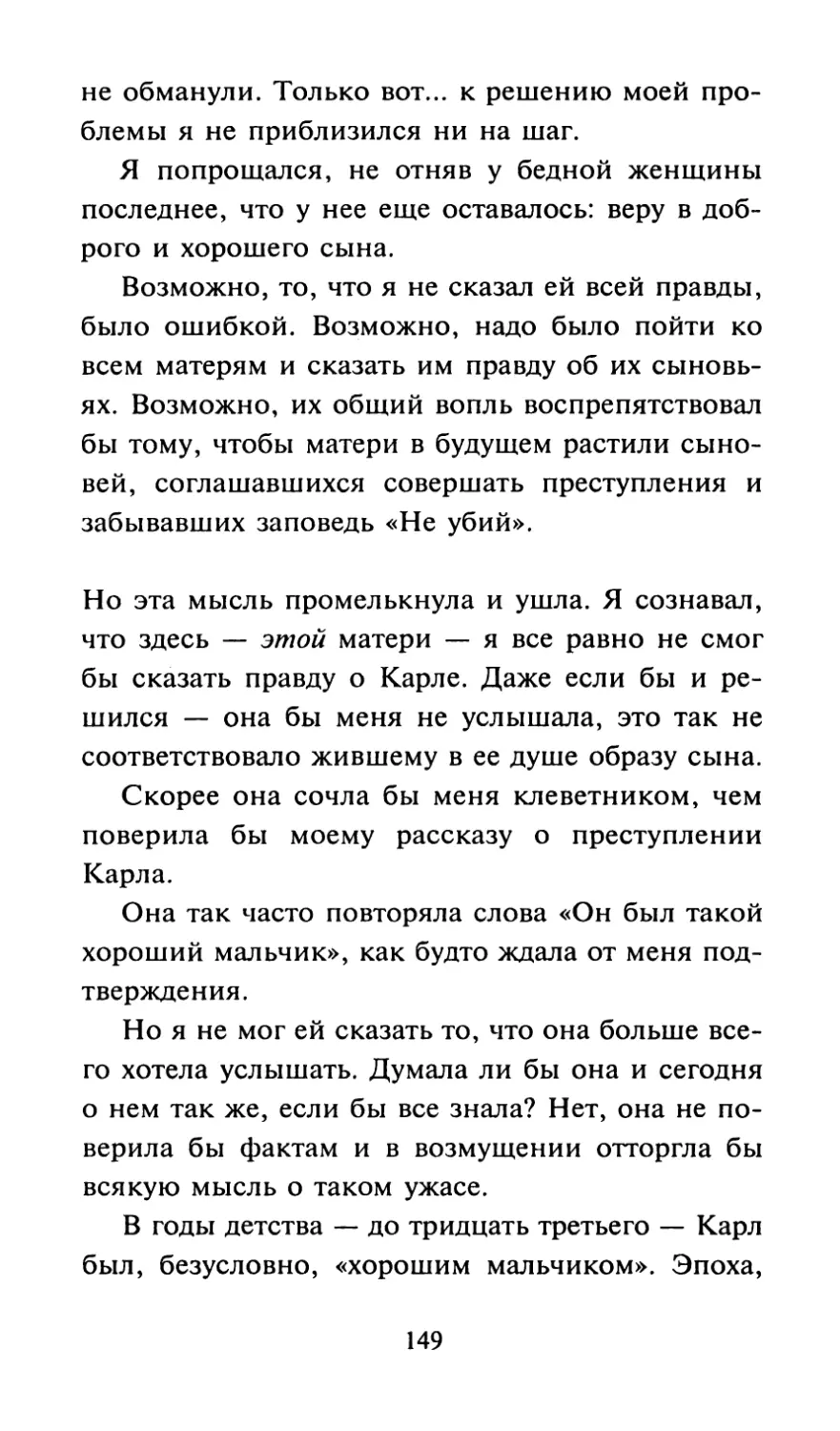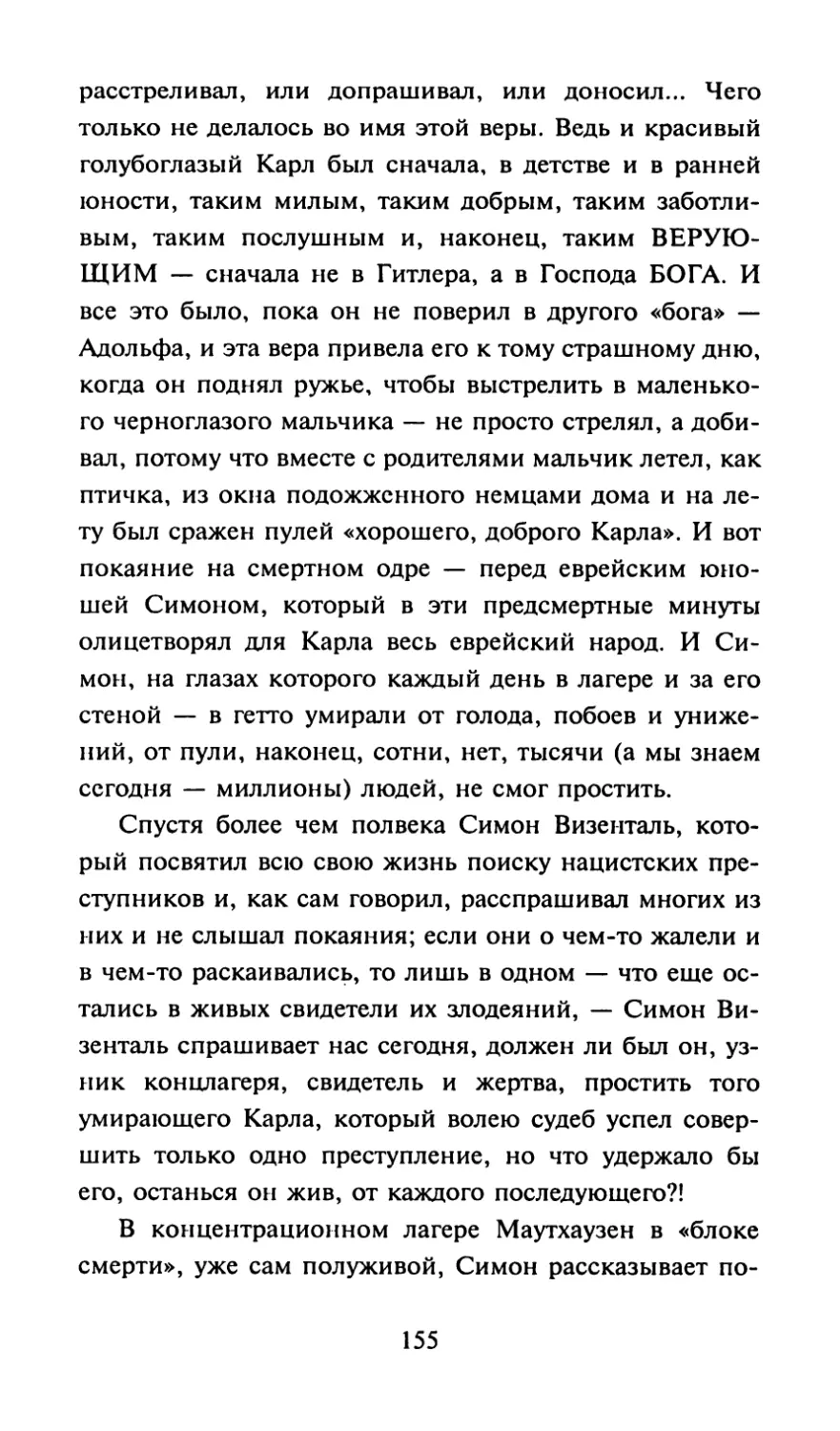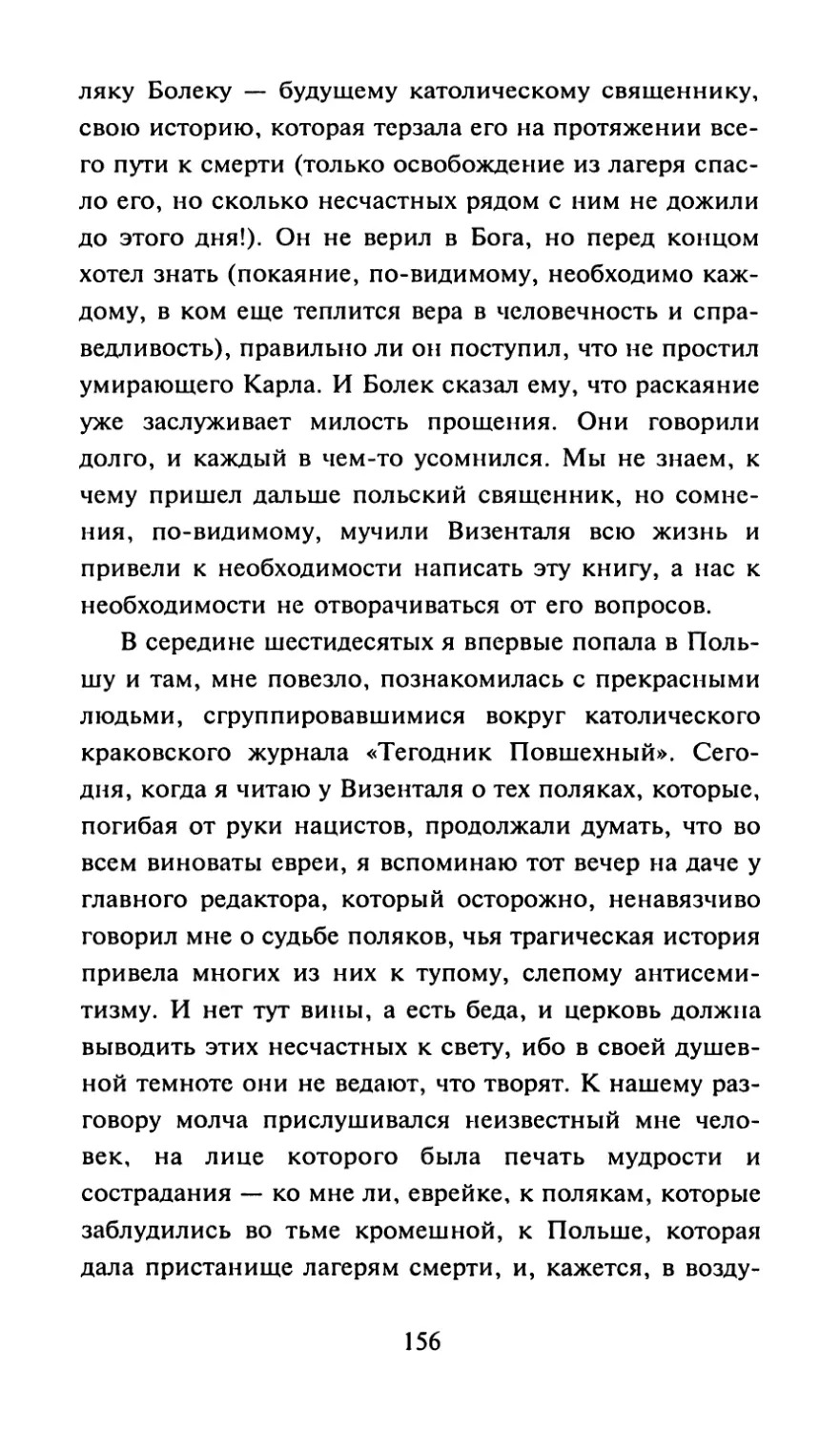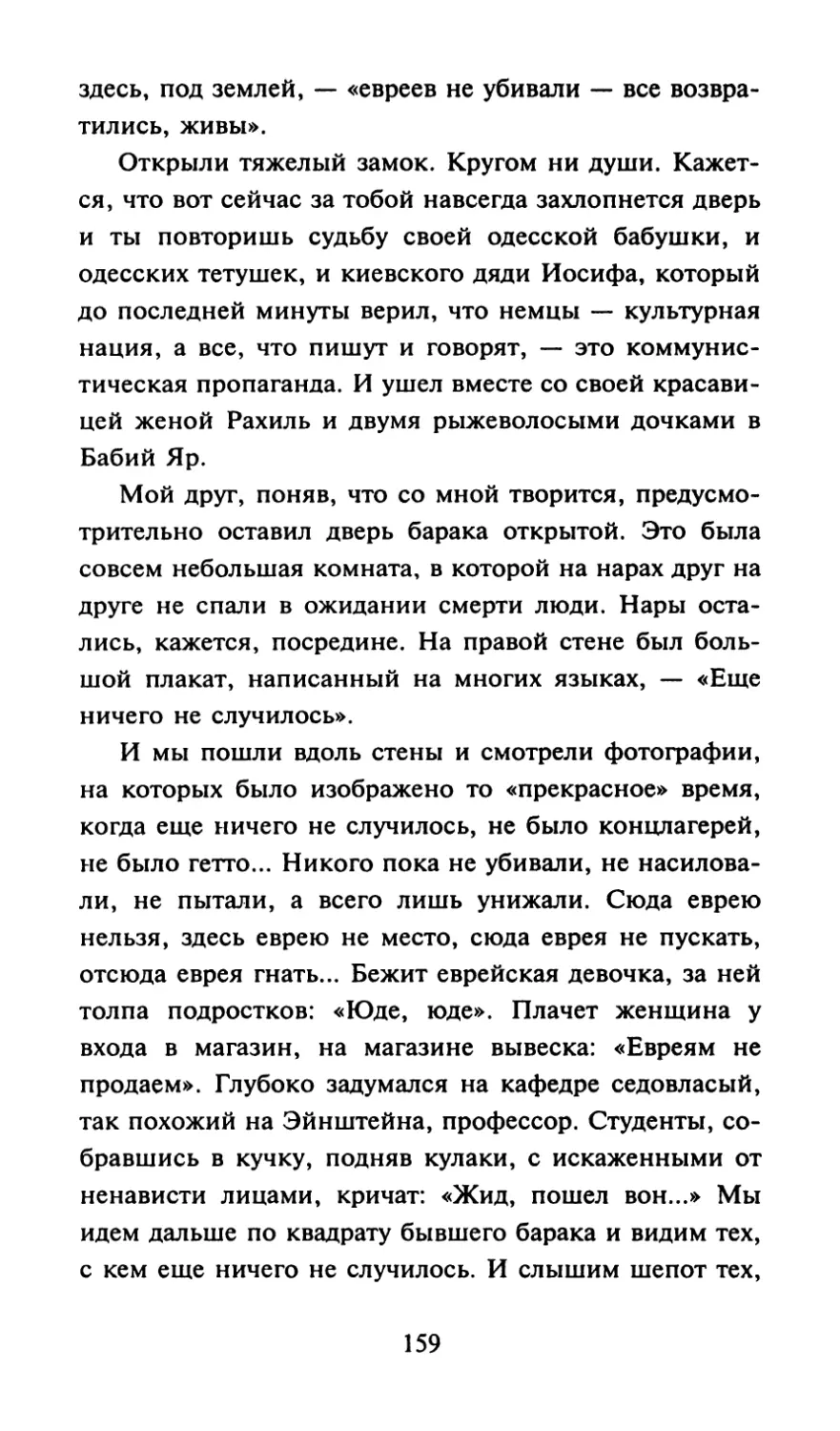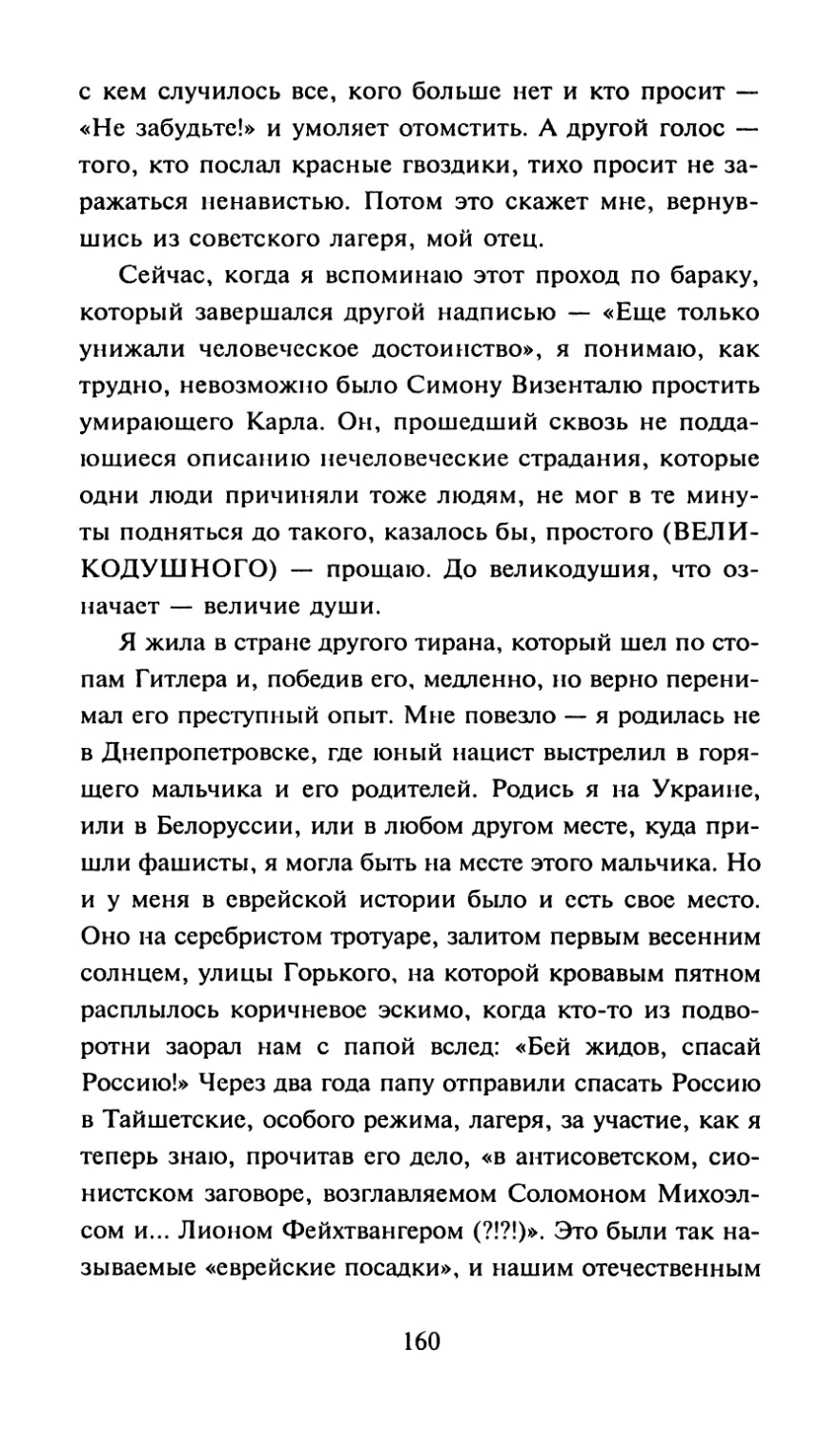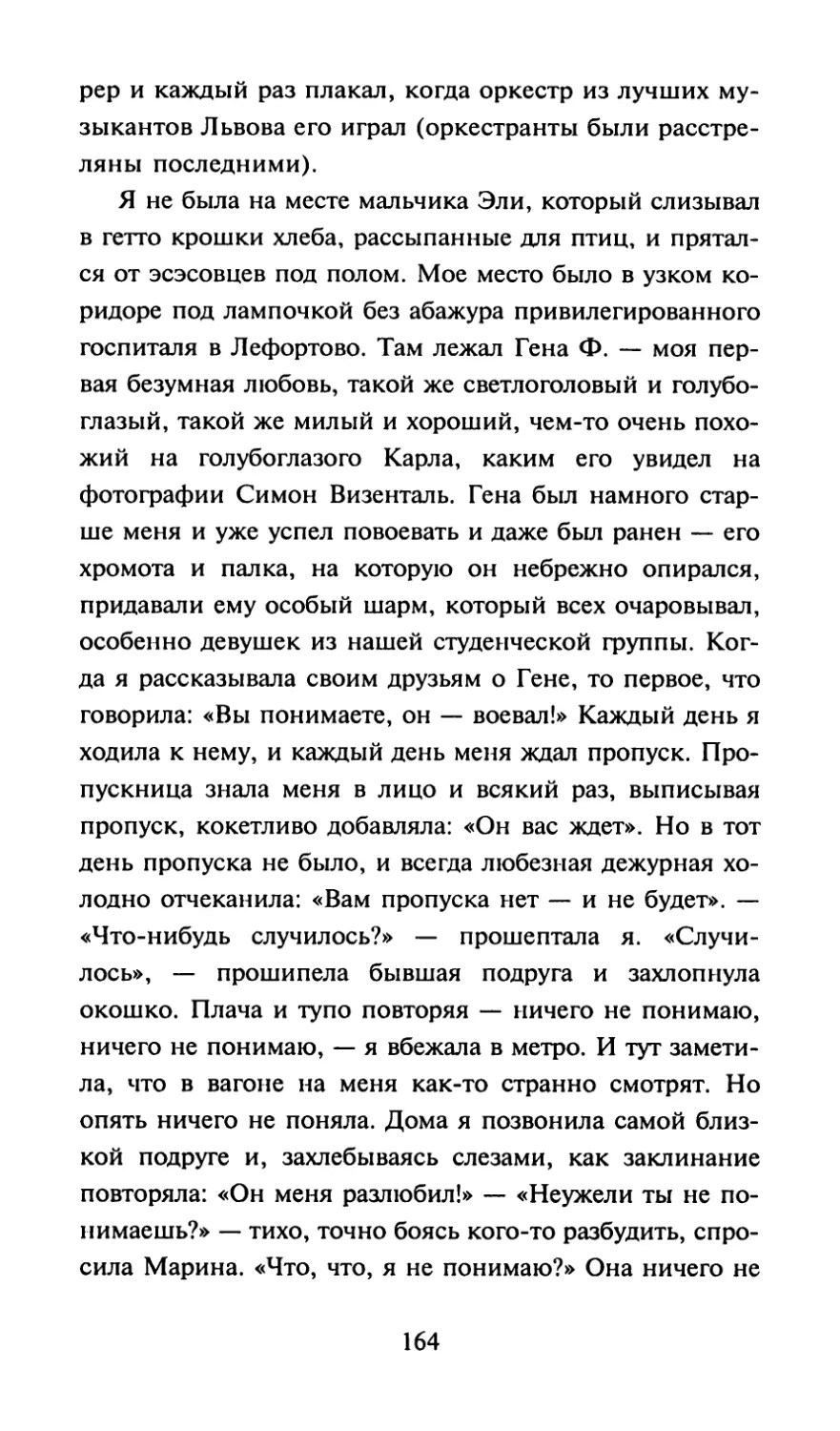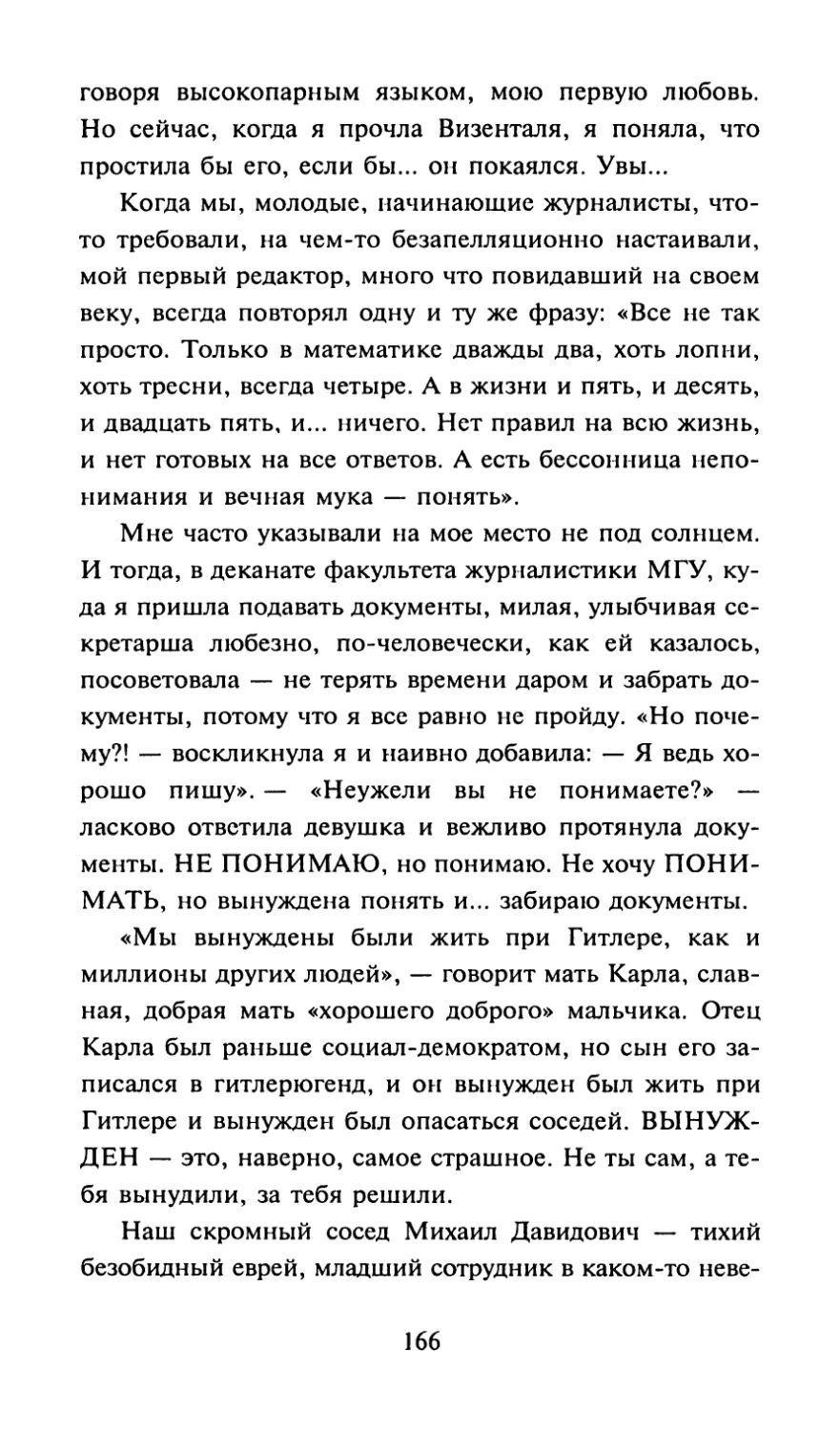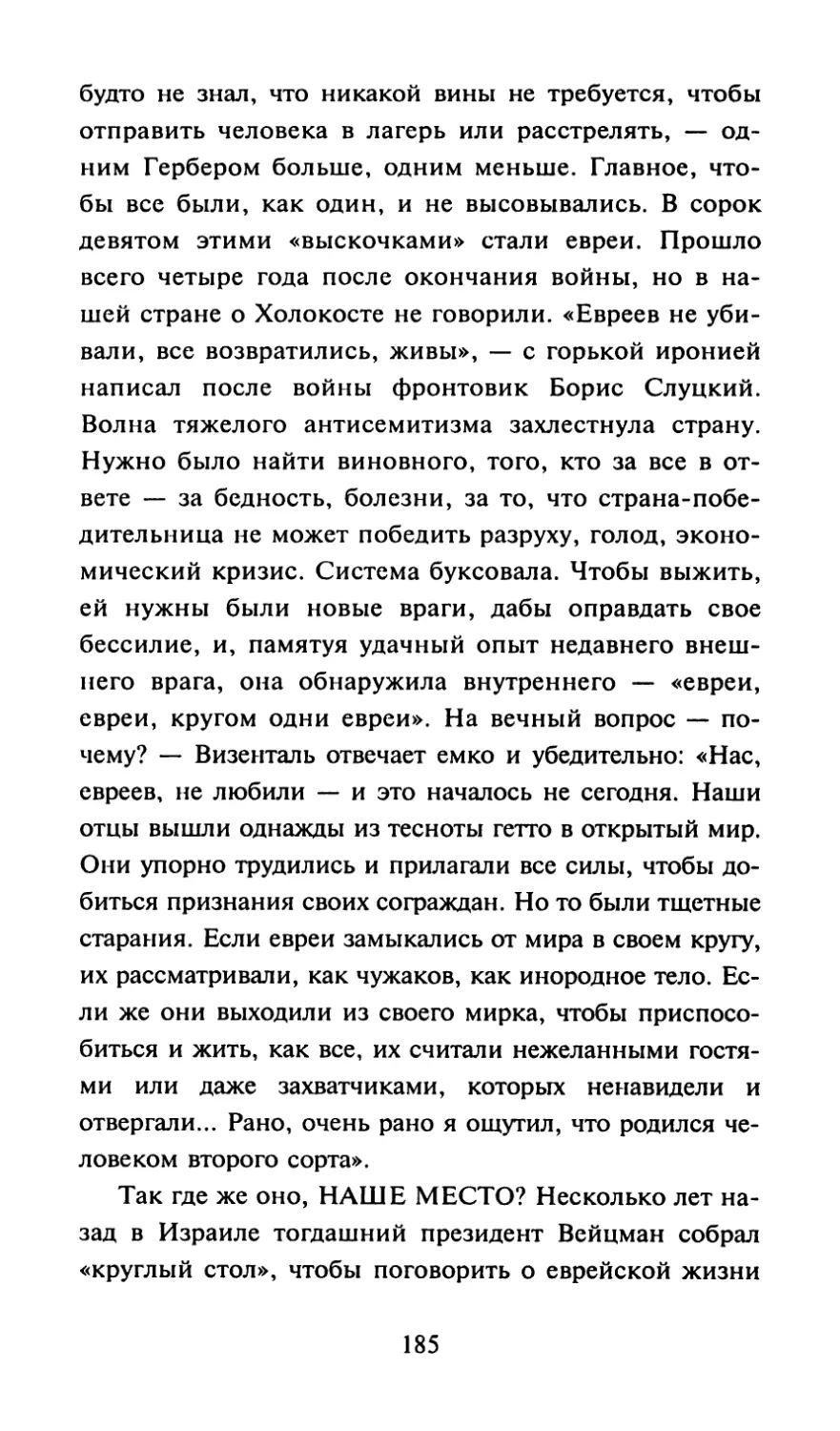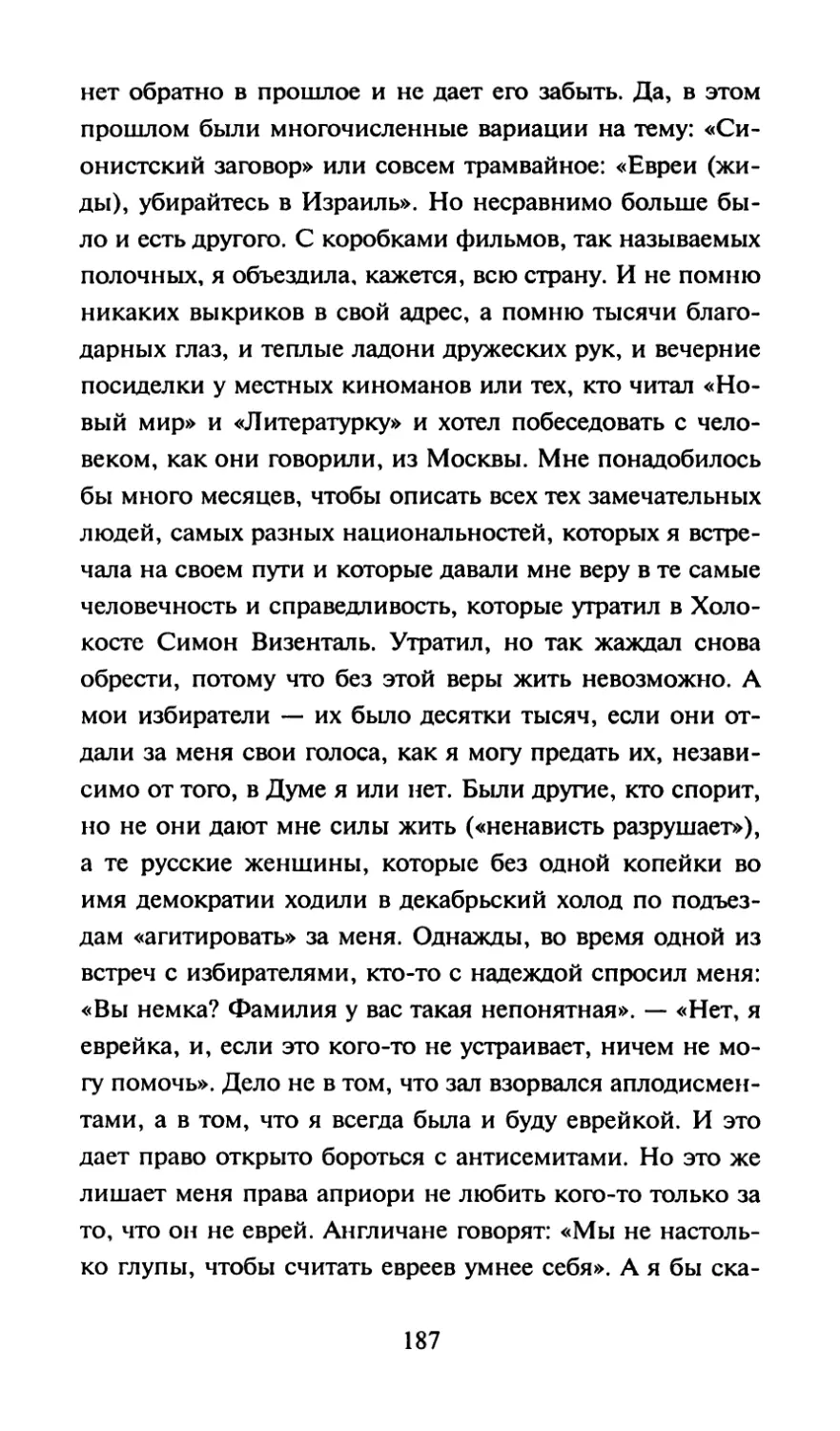Автор: Визенталь С.
Теги: художественная литература на немецком языке художественная литература история история ссср третий рейх история второй мировой войны геноцид холокост
ISBN: 5-7516-0212-9
Год: 2001
Книга издана при поддержке
благотворительной организации
Институт «Открытое общество»
(Фонд Сороса)— Россия
в рамках программы
«Горячие точки»
УДК 821.112.2
ББК 84(4Авс)
В42
Художник Татьяна Иващенко
В оформлении серии
использован фрагмент картины
Эдварда Мунка «Крик»
ISBN 5-7516-0212-9
© by Simon Wiesenthal
© Алла Гербер, послесловие, 2001
© Межрегиональный фонд «Холокост»,
издание на русском языке, 2001
© «Текст», издание на русском языке, 2001
«НАЦИСТЫ ЛИШИЛИ НАС
БОЛЬШЕГО, ЧЕМ ЖИЗНЬ, - МОГИЛУ МАТЕРИ
Я НОШУ В СЕБЕ»
Симон Визенталь родился 31 декабря 1908 года в ма¬
леньком галицийском городке Бучаче, тогда принадле¬
жавшем Австро-Венгрии. В конце Первой мировой
войны городок заполнили банды Петлюры. Симон тог¬
да был еще слишком мал и, конечно, не мог понимать
фанатизм и бесчеловечность антисемитизма, но маль¬
чику в полной мере предоставили возможность ощу¬
тить, что это такое. Однажды маленький Симон брел
по улице, неся горстку муки, которую соседка одолжи¬
ла его матери. Вдруг какой-то казак, шедший мимо, за¬
махнулся нагайкой и рассек ребенку бедро. Шрам от
этой раны остался у Симона на всю жизнь, а тот день
во многом определил его судьбу: с 1945 года все свои
силы Симон Визенталь отдает активной борьбе с ра¬
сизмом, с любыми проявлениями фашизма. По всему
миру разыскивает он нацистских преступников, стара¬
ясь уберечь от забвения преступления фашистов и со¬
хранить память об их жертвах.
В 1928 году Визенталь поступил на факультет архи¬
тектуры Пражского университета, который закончил в
1932 году. Позднее, уже во Львове, несмотря на то что
высшие учебные учреждения разрешалось посещать
ограниченному числу евреев, ему удалось стать дипло¬
5
мированным инженером и получить работу в архитек¬
турной мастерской. В 1936 году Визенталь женился на
подруге детства, Циле. Они и сейчас вместе.
В 1939 году Советский Союз и Германия договори¬
лись о разделе Польши. Во Львов вошли советские
войска. Визенталь, потеряв место в мастерской, был
вынужден работать техником на фабрике. Лишь благо¬
даря счастливому стечению обстоятельств ему удалось
избежать депортации в Сибирь.
В 1941 году, после нападения Германии на Совет¬
ский Союз, семье Визенталь, как и другим евреям, бы¬
ло приказано перебраться во львовское гетто. Симон
раздобыл для Цили фальшивые польские документы, и
ее, как польку, отправили на принудительные работы в
Германию. Возможно, это спасло ей жизнь. Для само¬
го же Визенталя все годы войны прошли под знаком
постоянной угрозы смерти. Он прошел не один ла¬
герь был и в Яновском лагере во Львове, и в Бухен¬
вальде, и в Маутхаузене. 5 мая 1945 года он, выйдя из
Маутхаузена и вновь обретя свободу, поставил перед
собой две цели: во-первых, жить, несмотря на все ужа¬
сы, свидетелем которых он оказался за годы войны, а
во-вторых — служить делу справедливого возмездия и
увековечения памяти жертв фашизма. В 1946 году у Си¬
мона и Цили родилась дочь — Паулина. Девочка росла
без бабушек и дедушек — все родственники Визента¬
лей, без исключения, стали жертвами Холокоста.
Уже в 1946 году, живя в Линце, Визенталь приступил
к организации Еврейского центра, где должны были
храниться материалы для будущих процессов над на¬
цистскими военными преступниками. В 1954 году центр
пришлось закрыть — шла «холодная» война, и со сторо¬
ны государств, бывших союзников, уже не было ни ин¬
6
тереса, ни поддержки в деле расследования преступле¬
ний фашистов. Визенталь передал все собранные доку¬
менты в Яд ва-Шем — израильский мемориальный
центр и музей. Однако после процесса над Адольфом
Эйхманом, арест которого стал возможен только благо¬
даря поискам Визенталя и его коллег, Еврейский центр
снова открылся, теперь уже в Вене. Столица Австрии
была выбрана нс случайно: вновь образованное в 1945
году австрийское государство считало себя — опираясь
на московскую декларацию министров иностранных дел
стран-союзников — жертвой нацизма и отрицало свое
участие в преступлениях нацистов.
Не всегда у Симона Визенталя и его коллег все уда¬
валось. Так, в 1963 году австрийский суд полностью
оправдал Франца Мурера, занимавшего должность ко¬
миссара Вильнюсской области и ответственного за
уничтожение десятков тысяч евреев. Но, несмотря на
отдельные неудачи, Визенталь не переставал настойчи¬
во напоминать людям то, что многие бы предпочли за¬
быть. Многочисленные награды и основание Центра
Холокоста имени Симона Визенталя стали знаками
благодарности и признания важности и благородства
его бескорыстной деятельности.
Мать Визенталя была замучена в Бельжецком лаге¬
ре. «Нацисты лишили нас большего, чем жизнь, — мо¬
гилу матери я ношу в себе», — говорит он. В памяти о
своей матери и о миллионах других, загубленных фа-
шистами, черпает Симон Визенталь силы для дальней¬
ших поисков нацистских преступников, говоря людям
всего мира — ничто не должно быть забыто...
Курт Шарр
ПОДСОЛНУХ
Что сказал мне Артур сегодня ночью? Я напря¬
женно стараюсь вспомнить. Что-то очень важное.
Если бы только не эта вечная усталость!
Я стоял на аппельплаце*, где медленно соби¬
рались заключенные. Они только что получили
«завтрак» — темную горькую бурду, которую
охранники величественно именовали кофе. Что¬
бы не опоздать на поверку, беднягам приходи¬
лось заглатывать эту отраву уже на ходу.
Я не взял кофе, мне не хотелось протискивать¬
ся сквозь толпу. Плац перед кухней был люби¬
мым местом охоты для многочисленных садистов
из рядов СС. Обычно они прятались за бараками,
чтобы внезапно, как стервятники, наброситься
оттуда на беззащитных лагерников. Каждый день
там были раненые. Это входило в «программу».
Безмолвные и подавленные, мы стояли беспоря¬
дочной толпой на плацу, ожидая приказа к по¬
* Центральная площадь в немецком концлагере, где
проводились ежедневные построения и пересчеты за¬
ключенных. Appell — общий сбор, поверка (нем.).
11
строению. Но в тот момент я не думал об опас¬
ностях, которые подстерегали нас почти постоян¬
но; мои мысли все снова возвращались к тому
разговору, который был у нас прошлой ночью.
Да, теперь я наконец вспомнил.
Было уже поздно. Мы лежали во тьме, невольно
прислушиваясь к сдавленным стонам, тихому
шепоту, а порой, когда кто-нибудь поворачивал¬
ся с боку на бок на своих деревянных нарах, к
жутковатому скрипу, словно здесь, вокруг нас,
бродили призраки. Лица лежащих были неразли¬
чимы. Только по голосу можно было понять, кто
гов'орит.
Накануне днем двое из нашего барака побыва¬
ли в гетто. Шарфюрер* им разрешил. Минутный
каприз? Возможно, в сочетании с небольшим
подкупом? Я этого не знал. Вероятнее всего, ка¬
приз и только — чем мог лагерник подкупить
шарфюрера?
Теперь они рассказывали.
Артур сидел на корточках, наклонив голову,
чтобы не пропустить ни единого слова. Они пе¬
ресказывали новости о жизни за стенами лагеря,
о ходе войны. Я лежал рядом в состоянии полу-
сна-полубодрствования.
Людям в гетто было известно многое. До нас,
лагерников, доходила лишь малая часть того, что
* Унтер-офицер в войсках СС.
12
они знали. Нам приходилось соединять и сопо¬
ставлять отдельные сведения из скудных сообще¬
ний тех, кому в течение дня довелось работать
вне лагеря и кто краем уха мог услышать, что
рассказывают друг другу поляки или украинцы —
правду, слухи. Иногда первый встречный мог
украдкой шепнуть нам на ходу какую-нибудь но¬
вость — из сострадания или в утешение.
Порой доходившие до нас новости были хоро¬
шими, но и тогда мы первым делом спрашивали
себя: истина это или ложь во спасение? Зато пло¬
хим новостям мы верили сразу и без тени сомне¬
ния — к ним мы уже привыкли. Они обгоняли
одна другую, и каждая следующая превосходила
предыдущую своими ужасами. Сегодняшние вес¬
ти были хуже вчерашних, но мы знали, что завт¬
рашние будут еще кошмарнее.
Казалось, сама удушливая атмосфера в бараке
настраивала наши мысли на худшее. Неделями
мы спали, плотно притиснутые друг к другу, в тех
же пропотевших одеждах, в которых работали
днем. Некоторые были так измотаны, что давно
уже не снимали на ночь обувь. Время от времени
кто-то вскрикивал во сне, — должно быть, ему
привиделось что-то страшное или его толкнул
спавший рядом сосед. Лишь наполовину откры¬
тое оконце на крыше барака — прежде здесь бы¬
ла конюшня — пропускало слишком мало возду¬
ха, чтобы хватило кислорода для ста пятидесяти
человек, спавших на битком набитых многоэтаж¬
ных нарах.
13
Наспех собранные и по воле случая оказавши¬
еся вместе, здесь лежали бок о бок представители
самых разных слоев общества. Богатые и бедные,
образованные и невежды, добрые и бессердечные,
сохранившие мужество и отупевшие, безучастные
ко всему. Одинаковая судьба сделала их похожи¬
ми друг на друга. Тем не менее постепенно обра¬
зовывались маленькие группы, более тесные со¬
общества людей, которые в иной обстановке,
возможно, никогда бы не возникли. Завязывались
дружеские отношения, люди менялись местами в
бараке, передвигались, теснились, чтобы оказать¬
ся поближе друг к другу.
В группе, к которой принадлежал я, ближе
всех других мне были двое: мой старый друг Ар¬
тур и сравнительно недавно появившийся в лаге¬
ре еврей по имени Йозек. Йозек был глубоко ре¬
лигиозным человеком. Его веру могли — самое
большее — ранить обстоятельства, в которых мы
жили, а также открытые и скрытые провокации
со стороны окружающих, но никто и ничто не
могло ее поколебать. Ему впору было позавидо¬
вать. У Йозека на всё находился ответ, в то вре¬
мя как мы, остальные, напрасно искали ответа,
приходя из-за этого в отчаяние. Его невозмути¬
мое спокойствие иной раз выводило нас из себя.
Артур, чье восприятие жизни во многом опреде¬
ляла ирония, реагировал на слова Йозека особен¬
но нервно, а иногда насмешливо и гневно.
Я в шутку называл Йозека «рабби». Он не был
раввином, он был коммерсантом, но вера запол¬
14
няла всю его жизнь. Он знал, что стоит выше нас
из-за своей веры и что отсутствие такой опоры и
такого богатства делает нас еще беднее, чем мы
есть. Поэтому он предпринимал все новые по¬
пытки поделиться с нами частью своего богатст¬
ва, чтобы придать нам силы.
Но разве знание того, что мы не первые пре¬
следуемые евреи, облегчало нам нашу участь? И
нас не слишком утешало то, что Йозек, порыв¬
шись в своей неисчерпаемой сокровищнице
анекдотов и легенд, доказывал нам — страдание
сопровождает человека с рождения.
Когда Йозек говорил, он полностью забывал
или игнорировал то, что его окружало. У нас
складывалось впечатление, что в такие минуты
он попросту не отдает себе отчета, где находится.
Однажды из-за этого чуть не возник спор.
Это было вечером в субботу. По субботам мы ра¬
ботали только до обеда и потом лежали вымотан¬
ные на своих нарах. Кто-то рассказывал ново¬
сти — разумеется, опять безрадостные. Йозек,
казалось, даже не слушал. Он не задавал никаких
вопросов, как это делали другие. Вдруг он под¬
нялся, взгляд его прояснился. И он заговорил:
— Наши ученые рассказывают, что при сотво¬
рении человека присутствовали четыре ангела. То
были ангелы милосердия, истины, мира и спра¬
ведливости. Они долго спорили, должен ли Бог
вообще создавать человека. Сильнее всех этому
противился ангел истины. Его поведение разгне¬
15
вало Бога, и в качестве наказания Он изгнал ан¬
гела истины на землю. Однако другие ангелы мо¬
лили Бога о прощении, покуда Он наконец не
внял им и не вернул провинившегося к Себе на
небо. Ангел истины принес с собой комок земли,
промокший от его собственных слез: так он пла¬
кал потому, что был изгнан с неба. И из этой
пригоршни земли Бог создал человека.
Артур не мог более сохранять спокойствие и
перебил его:
— Йозек, я готов тебе поверить, что из этого
пропитанного слезами комка земли Бог создал
еврея. Но не станешь же ты меня убеждать, что
из того же самого материала Он слепил и нашего
лагерного коменданта Вильхауса?
— Ты позабыл о Каине, — парировал Йозек.
— Это ты забыл, где находишься! Каин убил
Авеля во гневе, но он его не мучил и не терзал.
Авель был братом Каина, а нас с нашими убий¬
цами ничего не связывает.
Я видел, что Йозек глубоко уязвлен, и, чтобы
успокоить друзей, вмешался в разговор:
— Артур, ты забываешь о тысячелетиях разви¬
тия и о так называемом прогрессе.
На это оба лишь горько рассмеялись — мы
жили не в то время, когда уместно было употреб¬
лять такие слова.
Собственно, вопрос, заданный Артуром, был
не так уж необоснован. Неужели мы действитель¬
но все сотворены из одного материала? Если так,
почему одни стали убийцами, а другие — жертва¬
16
ми? Ведь и вправду между нами, между убийца¬
ми и их жертвами, между комендантом нашего
лагеря Вильхаусом и любым замученным на¬
смерть евреем не было ничего личного.
Итак, вчера вечером я наполовину спал, наполо¬
вину бодрствовал на своих нарах. Спина болела,
сознание помутилось, я прислушивался к голо¬
сам, которые доходили до моего уха словно изда¬
лека. Я слышал что-то о новых сообщениях Би-
би-си из Лондона — или речь шла о радио
Москвы?
Внезапно Артур схватил меня за плечо и силь¬
но тряхнул:
— Симон, ты слышишь?
— Да, — пробормотал я в ответ, — слышу.
— Надеюсь, ты слышишь ушами, потому что
глаза твои наполовину закрыты. А ты должен
действительно услышать, что сказала та старая
женщина.
— Какая еще старая женщина? — спросил я. —
Я думал, вы говорите о передачах Би-би-си.
— Би-би-си — да, это было раньше, ты кое-
что проспал. Одна старая женщина сказала...
— Ну что там могла сказать какая-то старуха?
Может, она знает, когда мы отсюда выберемся?
Или когда нас прикончат?
— Нет, на эти вопросы тебе никто не ответит.
Но она сказала нечто иное, о чем нам в такое
время, возможно, следует подумать. Она считает,
что Бог сейчас в отпуске. — Артур сделал неболь¬
17
шую многозначительную паузу, как бы для того,
чтобы я смог полностью осознать его слова. —
Что ты об этом думаешь, Симон? — спросил он
наконец.
— Не мешай мне спать, — пробурчал я вместо
ответа. — Можешь разбудить меня, только если
Он вернется из отпуска.
В первый раз с тех пор, как мы живем в этой
конюшне, я услышал, что мои друзья хохочут,
или это мне приснилось?
Мы все еще ждали приказа на построение. По
всей видимости, произошла какая-то задержка.
Поэтому я смог сразу же спросить Артура, что
была сном и что реальностью.
— Артур, о чем мы говорили ночью? О Боге?
О Боге в отпуске?
— Йозек был вчера в гетто и встретил там од¬
ну пожилую женщину. Он спросил ее о новостях.
Но она лишь взглянула на небо и вполне серьез¬
но сказала: «О Боже Всемогущий, вернись же
скорее из Своего отпуска и посмотри на Свою
землю!» Йозек это запомнил и даже нисколько не
рассердился на эту женщину.
— И это для вас новость? Новость, что мы жи¬
вем в мире, оставленном Богом?
Я знаю Артура очень давно. Когда я был начи¬
нающим архитектором, я уже обрел в нем одно¬
временно и советчика и друга. Мы стали с ним
как родные братья, он — адвокат и писатель, с
его всегдашней легкой иронической улыбкой на
18
устах, и я — очень медленно свыкшийся с тем,
что мне никогда больше не придется строить до¬
ма, в которых будут жить свободные и счастли¬
вые люди. Однако часто наши мысли шли разны¬
ми путями. Артур жил как бы уже в ином мире;
он предвидел события, которые, возможно, про¬
изойдут лишь через много лет. Он, правда, тоже
не верил, что мы переживем это бесчеловечное
время, но был убежден, что в итоге немцы не
уйдут от кары. Пусть они прежде погубят нас и
миллионы других невинных людей, однако все
содеянное ими станет причиной их собственной
гибели.
А я все больше жил настоящим: голод, уста¬
лость, тревога о близких, унижения... Прежде
всего унижения!
Где-то я прочитал, что, если человек по-на¬
стоящему верит в Бога, его веру сокрушить не¬
возможно. Но даже если когда-то я считал это
правдой, жизнь в лагере научила меня иному.
Невозможно быть верующим в мире, в котором
в человеке не видят человека и постоянно «дока¬
зывают» тебе, что ты не человек. Тут поневоле
начнешь сомневаться и перестанешь верить в
миропорядок, где есть место Богу. Поневоле по¬
веришь, что Бог «в отпуске». Иначе то, что тво¬
рится здесь, было бы попросту невозможно. Он
точно куда-то отлучился. А заместителя у Него
нет. Слова той старой женщины нисколько меня
не удивили. Она лишь сказала то, что я давно
чувствовал.
19
Вот уже восемь дней как мы снова в лагере. Од¬
нажды вечером нас вернули сюда из рабочей ко¬
манды, трудившейся в ремонтных мастерских
Восточной железной дороги, — как было сказа¬
но, всего на один день, якобы для новой регист¬
рации. Каждая такая регистрация таила в себе
новые опасности, которые невозможно предста¬
вить в нормальной жизни. Чем чаще нас регист¬
рировали, тем меньше нас оставалось. Регистра¬
ция на языке СС — не только проверка по
списку, это еще: чистка, бесконечные обыски,
новое распределение, отбраковка тех, кто уже не
нужен, и выдворение их из лагеря, — как прави¬
ло, их ожидала смерть! На собственном горьком
опыте мы научились не доверять словам, чье пер¬
воначальное значение будто бы безобидно: по от¬
ношению к нам ничего безобидного здесь никог¬
да не делали. Во всем звучал обман — и все
оказывалось обманом.
Более двух сотен заключенных еще недавно
работали в железнодорожных мастерских. Каж¬
дое утро мы выходили на перекличку в надеж¬
де, что сегодня наконец оттуда кто-нибудь при¬
дет и заберет нас с собой. Работа там отнюдь не
была легкой, но в мастерских мы могли почти
свободно передвигаться по территории и не
должны были возвращаться на ночь в лагерь.
Только еду нам доставляли из лагеря — и вкус у
нее был соответственный. Однако охраняли нас
в мастерских железнодорожные полицейские,
так что мы, по крайней мере, были ограждены
20
от непредсказуемых злобных выходок охранни¬
ков из СС.
Некоторые мастера и бригадиры даже заботи¬
лись о том, чтобы работа на железной дороге не
казалась нам однообразной и скучной. Многие
из здешних рабочих воспринимались немцами
как люди второго сорта. Только фольксдойчи*
были в лучшем положении. Что же касается
вольнонаемных поляков и украинцев, то они об¬
разовывали особую прослойку между немцами,
всемогущей «расой господ», и евреями, заклей¬
менными как «недочеловеки». С ужасом они
ждали наступления дня, когда на земле не оста¬
нется ни одного еврея, — ведь тогда отлаженные
механизмы машины уничтожения могут заняться
ими.
Но и фольксдойчи не всегда чувствовали себя
уверенно. Многие из них выдавали свой страх
тем, что старались вести себя более «по-немец¬
ки», чем иной немец. Правда, находились и та¬
кие, кто проявлял к нам сострадание. Время от
времени они тайком совали нам кусок хлеба и за¬
ботились о том, чтобы работа не была для нас
слишком обременительной.
Среди тех, кто без всякого приказа выполнял
и перевыполнял свою норму жестокости, был
старик, звавшийся Делош, горький пьяница, ко¬
торый, когда ему в очередной раз не хватало
* Этнические немцы, проживавшие не в Германии,
а в других европейских странах.
21
спиртного, принимался избивать заключенных.
Нередко группа рабочих, за которой он надзирал,
подкупала его, давая деньги на шнапс. Время от
времени кто-нибудь пытался произвести впечат¬
ление на склонную к сентиментальности душу
пьяницы, описывая ужасную судьбу евреев, но
это удавалось лишь тогда, когда Делош принимал
достаточно большую дозу спиртного. Его при¬
дирки были так же известны в мастерских, как и
его «мудрые речения». Если некий еврей говорил
ему, что получил известие из гетто и там убили
всю его семью, Делош изрекал обычно: «На по¬
гребение последнего еврея в Лемберге* еще сбе¬
жится тысчонка-другая евреев». Афоризм этот мы
слышали по многу раз в день, и Делош им чрез¬
вычайно гордился.
Тем не менее все мы жаждали вернуться на ра¬
боту в мастерские.
После приказа к построению началось форми¬
рование рабочих бригад, и мы уже почти смири¬
лись с мыслью, что нам опять придется остаться
в лагере. Это было самое страшное. В лагере не¬
* Немецкое название Львова. С XIV века Львов
принадлежал Польше, но с 1872 по 1919 годы входил в
состав Австрии, затем — Австро-Венгрии, в качестве
столицы провинции Галиция, и именовался Лембер¬
гом. В 1919—1939 годах город вновь принадлежал
Польше и назывался Львовом, а с 1939 года вошел в
состав Советской Украины (УССР). Третий рейх, ког¬
да в июне 1941 года его войска вошли на Львовщину,
возродил название Лемберг, и так он назывался до ос¬
вобождения его советскими войсками в 1944 году.
22
прерывно что-то строили, здесь можно было по¬
лучить распределение на садовые работы или в
лагерные мастерские, попасть в команду уборщи¬
ков — но любой из этих вариантов был очень опа¬
сен, много опаснее, чем «нормальная» жизнь ев¬
рея в то время. Каждый день в лагере кого-то
убивали: заключенного могли повесить, затоптать
сапогами, бросить на растерзание специально
обученным свирепым псам, нещадно избить или
унизить любым мыслимым и немыслимым спосо¬
бом. Среди нас было немало таких, кто не мог
этого больше выносить и добровольно кончал
счеты с жизнью. Они теряли при этом всего лишь
несколько дней, недель или месяцев жизни, зато
избавляли себя от бесчисленных истязаний и мук.
Работа в лагере означала, что охранять тебя
будет не один эсэсовец — их будет много. Не¬
редко охранники, чтобы скоротать время, шата¬
лись гурьбой от одного рабочего места к друго¬
му, без разбора избивали всякого, кто попадался
им под руку, или доносили в комендатуру о яко¬
бы выявленных случаях саботажа, за чем неиз¬
бежно следовала суровая расправа. Если хотя бы
один эсэсовец утверждал, что люди не работали,
остальные охранники его поддерживали — за¬
ключенные могли демонстрировать, что именно
они сделали, но это уже не имело никакого
смысла. Слово охранника из СС никогда не под¬
вергалось сомнению.
Распределение по рабочим командам было уже
почти закончено, и мы, те, кто работал в желез¬
23
нодорожных мастерских, сильно приуныли. Ви¬
димо, в нас там больше не нуждались. Значит,
снова будем работать в лагере и поджидать гнус¬
ностей со стороны эсэсовцев. Но тут к нам подо¬
шел роттенфюрер* и отсчитал примерно пятьде¬
сят человек. Я попал в эту новую группу, а
Артур — нет. Мы построились в колонну по три
и миновали внутренние ворота. В качестве охра¬
ны к нам присоединились шесть «аскари», то есть
русских перебежчиков или пленных, которых
обязали служить у немцев. Слово «аскари» воз¬
никло во время Первой мировой войны — так
называли негритянские команды в составе коло¬
ниальных войск немецкой Восточной Африки.
По необъяснимым причинам эсэсовцы теперь
стали именовать так своих русских пособников.
«Аскари» помогали охранникам в концлагерях и
хорошо, даже слишком хорошо, усвоили, чего от
них хотят немцы. Большинство вполне оправды¬
вали эти ожидания. Их жестокость можно было
унять лишь с помощью подкупа. Лагерные капо**
и бригадиры старались поддерживать с ними не¬
плохие отношения, раздобывая для них, по мере
возможности, шнапс и сигареты. После этого во
внелагерных командах, находившихся под их ох¬
раной, заключенные могли передвигаться более
свободно.
* Унтер-офицер войск СС.
** Надзиратели из числа заключенных.
24
«Аскари» главным образом следили за выпол¬
нением одного правила: заключенные в строю
должны петь! Музыке в лагере вообще придава¬
лось большое значение. Здесь имелась даже своя
симфоническая капелла. Исполнители — только
заключенные — были когда-то лучшими музы¬
кантами Львова и окрестных городов и месте¬
чек. Унтер-штурмфюрер* СС Рихард Рокита, в
прошлом скрипач одной силезской кофейни,
буквально души не чаял в «своей» капелле. Он,
который ежедневно без разбора убивал заклю¬
ченных просто из-за непреодолимой тяги к
убийству, тешил свое тщеславие лишь одним:
капеллой! Он предоставил музыкантам отдель¬
ное помещение для жилья и прямо-таки баловал
их. Однако они, как и все остальные, не имели
права покидать лагерь. По вечерам для служак
из СС они играли Баха, Грига или Вагнера. Од¬
нажды Рокита привел с собой композитора-
шансонье Зигмунта Шлехтера и приказал ему
сочинить «Танго смерти». Каждый раз, когда ор¬
кестр играл это танго, глаза у садиста-изверга
Рокиты были на мокром месте.
Рано утром под звуки оркестра заключенные
покидали лагерь и отправлялись на работу. Эсэ¬
совцы педантично следили за тем, чтобы мы мар¬
шировали красиво и в такт музыке, а выйдя за
ворота, начинали петь.
* Офицерское звание в частях СС, соответствующее
званию лейтенанта.
25
Существовал определенный тип лагерных пе¬
сен. Их тексты, хаотическое сочетание русских,
польских и немецких слов, представляли собой
пеструю смесь меланхолии, мрачного юмора и
скабрезностей. «Аскари» были особенно по вкусу
пошловатые стишки. Все снова и снова они тре¬
бовали повторения той или иной песни. Когда
мы ее запевали, их губы растягивались в широкой
ухмылке и лица утрачивали привычную жест¬
кость.
Как только мы выходили за внешние ворота,
нам сразу становилось легче дышать. Вне ограды
из колючей проволоки воздух был словно свежее
и прозрачнее — мы видели людей и дома уже не
сквозь ощетинившуюся колючками сетку, и их
уже не заслоняли наблюдательные вышки.
Время от времени прохожие останавливались
и с любопытством смотрели на нас, но руки, ка¬
залось уже готовые подняться и помахать нам,
бессильно опускались. Люди боялись, что эсэсо¬
вец заметит их дружеский жест. Это и вправду
было опасно.
Война почти ничего не изменила в городе.
Фронт был далеко, за тысячу километров, и лишь
редкое появление на улицах людей в военной
форме напоминало о том, что мирной жизни
пришел конец.
Один из «аскари» затянул песню, мы подхва¬
тили ее, хотя в душе нам было совсем не до пе¬
ния. На краю тротуара стояли люди и смотрели
на нас. Женщины, услышав неприличные слова
26
песни, пристыженно отворачивались. Естествен¬
но, наших «аскари» это очень веселило. Охран¬
ник отделился от колонны и подошел к тротуару,
чтобы заговорить с юной девушкой. Мы не слы¬
шали, что он ей сказал, однако легко могли себе
это представить. Девушка покраснела и быстро
отошла в сторону.
Наши взгляды искали в толпе на тротуаре зна¬
комые лица. Но люди упорно смотрели в землю
перед собой, им явно не хотелось увидеть среди
нас своих знакомых.
На лицах прохожих читалось, что они уже
полностью списали нас со счетов. Жители Льво¬
ва давно привыкли к виду истерзанных и изму¬
ченных евреев. Они смотрели на нас, как в иных
случаях смотрят на стадо коров, которых гонят на
пастбище... или на бойню. В такие минуты меня
порой охватывало чувство, что весь мир в загово¬
ре против нас и без возражения, даже без сочув¬
ствия принял нашу судьбу.
Я отводил глаза, не желая больше вглядывать¬
ся в эти лица с их ханжеским состраданием. Спо¬
собны ли вообще эти люди на искреннее чувст¬
во? Разве некоторые из них не думают: хорошо,
что еще остались евреи; пока они есть, нацисты
не тронут нас?
Я вспомнил об одной встрече, глубоко взволно¬
вавшей меня несколько дней назад, — это было
неподалеку отсюда. Когда нас вели назад в ла¬
герь, мимо прошел человек, которого я прежде
27
знал, — один из моих университетских однокаш¬
ников, теперь польский инженер. Возможно, он
боялся открыто со мной поздороваться. Он лишь
подмигнул мне, и в его глазах ясно читалось
удивление, что я еще жив. Для него мы были
почти уже мертвы. Словно каждый из нас таскал
в кармане свое свидетельство о смерти, на кото¬
ром осталось только проставить дату.
На одном из перекрестков наша колонна внезап¬
но остановилась.
Я попытался посмотреть через головы впереди
стоявших и понять, что нас задержало, но ниче¬
го не увидел. Возможно, какая-нибудь фура пере¬
секала нашу дорогу. В конце концов, нам это все
равно. И тут я заметил слева от дороги солдат¬
ское кладбище. Здесь тоже была ограда из колю¬
чей проволоки, но не слишком высокая. Прово¬
лока протянута сквозь редкие кусты и более
низкие заросли растений, но между кустами хо¬
рошо видны расположенные ровно, как по ли¬
нейке, ряды могил.
И на каждой могиле прямой, как солдат, тя¬
нулся ввысь подсолнух.
Я смотрел как завороженный. Казалось, голо¬
вки цветов, как зеркала, улавливают солнечные
лучи и по длинным стеблям направляют их вниз,
во тьму могил. Мой взгляд проследил путь от
цветка к могиле. И затем дальше, в глубь земли,
в склеп; на мгновение мне показалось, что я ви¬
жу перед собой не подсолнух, не кладбище, а пе¬
28
рископ. Пестрые бабочки порхали от цветка к
цветку. Не переносили ли они послания от моги¬
лы к могиле? Не нашептывали ли они что-то
каждому цветку, чтобы тот затем передал это по¬
слание мертвым? Да, они наверняка это делали;
так мертвые получали свет солнца и вести из ми¬
ра живых.
И вдруг я почувствовал дикую зависть к мерт¬
вым солдатам. У каждого из них есть свой под¬
солнух, который каким-то образом связывает его
с миром живых, у каждого — бабочки, которые
прилетают на его могилу. А я попаду в едва за¬
бросанную землей общую яму, где буду лежать на
трупах, а на мне будут громоздиться другие мерт¬
вецы.
Никакой подсолнух не пошлет мне свет в эту
смрадную тьму, и бабочки не прилетят ко мне в
это жуткое место.
Не помню, сколько времени мы там простояли.
Кто-то сзади толкнул меня в спину, колонна сно¬
ва пришла в движение. Но и на ходу я оборачи¬
вался и смотрел на подсолнухи. Их были сотни,
может быть, тысячи, не счесть, цветущее, сверка¬
ющее изобилие.
И погребенные под ними не утратили связи с
миром живых. Даже в смерти они сохраняли свое
превосходство...
Признаться честно, я очень редко думал о
смерти. Я знал, что она для меня неизбежна, что
она меня ожидает в скором времени, раньше или
29
позже, и постепенно я привык к ее близости. Ме¬
ня даже не интересовало, как она ко мне придет.
Было слишком много возможностей и слишком
много подходящих случаев. Я надеялся только,
что моя смерть будет быстрой. Как и когда — это
я предоставил судьбе.
Но вид этих подсолнухов потряс меня до глу¬
бины души. Я предчувствовал, что еще не раз бу¬
ду о них думать, что они — некий символ, кото¬
рый что-то значит в моей судьбе.
Мы дошли до Яновской улицы, кладбище ос¬
талось позади. Я еще раз обернулся и снова уви¬
дел лес подсолнухов.
Мы все еще не знали, куда именно нас ведут.
Шедший рядом лагерник шепнул мне: «Может,
они приготовили новое место работы в гетто».
Это было вполне вероятно. Поговаривали, что
вокруг постоянно возникают новые предприятия,
где требуется рабочая сила. Во Львов перебира¬
лись многие немецкие предприятия. Они устрем¬
лялись сюда не столько для того, чтобы зарабо¬
тать побольше денег. Важнее было, что здесь они
могли сохранить нужных людей, освободив их от
военной службы. В спокойном, далеком от фрон¬
та Львове это было не так трудно. Большинство
немецких предприятий привозили из рейха толь¬
ко фирменные бланки, печати, несколько брига¬
диров и некоторый инвентарь. Еще сравнительно
недавно Львов был в руках русских, и те нацио¬
нализировали большую часть строительных
фирм, многие из которых принадлежали евреям.
30
Когда русские отступали, они, конечно, не смог¬
ли взять с собой строительное оборудование и
инструменты. Все, что они оставили, поступило
на «склад трофеев» и распределялось между
вновь открывающимися немецкими предприяти¬
ями.
О рабочей силе тоже можно было не беспоко¬
иться. Пока еще во Львове хватало евреев, и ра¬
бочие руки доставались новым предприятиям за¬
дешево, почти задаром. Фирма лишь должна
была быть признана «важной в военном отноше¬
нии». Поэтому, естественно, здесь процветали
протекция и взяточничество. Кто имел связи, тот
получал разрешение основать некий филиал не¬
мецкого предприятия на оккупированной терри¬
тории, и к нему тут же направлялись в качестве
дешевой рабочей силы сотни евреев, и, помимо
того, он получал еще и солидный машинный
парк. Людей, привезенных фирмачом из Герма¬
нии, не призывали на военную службу и не по¬
сылали на фронт. В немецком квартале Львова в
их распоряжение предоставлялись очень краси¬
вые квартиры, покинутые состоятельными поля¬
ками и евреями, — представители «расы господ»
должы были жить, не испытывая никаких не¬
удобств.
Евреям было выгодно, что столько немецких
предприятий решили здесь обосноваться. Работа
во «внешних», внелагерных, командах не была
чересчур тяжелой, большей частью руководители
производств боролись за «своих евреев», так как
31
без этой дешевой рабочей силы им пришлось бы
перебираться дальше на восток, ближе к фронту.
Вокруг меня все снова и снова слышался ше¬
пот: «Куда же мы все-таки идем?» Шли ли мы
вообще, или нас лишь несли наши ноги? Чело¬
век может идти, когда ноги выполняют указания
мозга. Но наш мозг не посылал никаких указа¬
ний. Наши ноги поневоле делали то, что делал
впереди идущий. Они останавливались, когда он
останавливался, и снова двигались, когда двигал¬
ся он.
Около Гродецкой мы вновь встали. Теперь на¬
конец определится, куда нас ведут. Если нале¬
во — значит, в гетто; направо — возможностей
много. Мы повернули направо, на Гродецкую.
Как часто я бродил по ней, еще будучи студентом
и позже — молодым архитектором. Какое-то вре¬
мя я даже жил здесь с моим коллегой из Пше-
мысля.
Хотя еще не было восьми, на улице царило
большое оживление. Прогрохотал мимо старый
трамвай по своим разъезженным рельсам. Шли
крестьяне, приехавшие в город обменивать про¬
дукты на товары, поскольку они давно уже не
слишком доверяли денежным знакам. Так быва¬
ло всегда во времена войн и кризисов. Колонна
евреев не произвела на крестьян особого впечат¬
ления.
Наша процессия понемногу двигалась к выхо¬
ду из города. Все больше прохожих останавлива¬
лись, чтобы на нас поглазеть. «Аскари» допелись
32
до хрипа и объявили паузу. С вокзала по Гродец-
кой спешили солдаты со своим багажом. Мимо
промаршировали эсэсовцы, смерив нас оценива¬
ющими взглядами. Офицер вермахта остановился
и долго не отводил от нас глаз. На шее у него ви¬
сел фотоаппарат, но он так и не решился нас за¬
печатлеть. Это можно было угадать по тому, как
медленно он перекладывал аппарат из правой ру¬
ки в левую, а затем выпустил и оставил висеть на
ремне. Возможно, он боялся осложнений с СС.
Уже вынырнула в конце Гродецкой высоко
торчащая над домами церковь из красного кир¬
пича и тесаного камня. Куда теперь повернет «ас-
кари», шагавший во главе нашей колонны? На¬
право вниз — к вокзалу, или налево — на улицу
Сапеги, к пользующейся дурной славой Лонцкой
тюрьме?
Мы повернули налево. Эту дорогу я хорошо
знал. На Сапеги находился технический универ¬
ситет — львовский Политехникум. Многие годы
несколько раз на дню я проходил по этой улице,
когда после возвращения из Праги делал здесь
свою дипломную работу.
Для нас, студентов-евреев, улица Сапеги всегда
была улицей нашей судьбы. Прежде тут имели
квартиры лишь очень немногие еврейские семьи,
а в неспокойные времена евреи вообще переста¬
ли селиться в этом квартале. Теперь здесь жили
исключительно поляки — офицеры, представите¬
ли свободных профессий, промышленники и чи¬
33
новники. Их сыновей называли «золотой молоде¬
жью» Львова. Но для нас, еврейских студентов,
эта молодежь была какой-угодно, только не «зо¬
лотой». Однако выходцами из ее рядов оказыва¬
лось большинство студентов Технического и
Сельскохозяйственного университетов. Среди
них было много любителей всяческих потасовок,
хулиганов и антисемитов, и часто евреи, попав¬
шие в их руки, оставались лежать на земле с тя¬
желыми ранами и увечьями. Эти молодые люди
всаживали в трости бритвенные лезвия и таким
оружием наносили удары своим еврейским кол¬
легам. Тем, кто обладал типично еврейской
внешностью, лучше было не показываться здесь
вечерами, когда молодцы из национал-демокра-
тической партии или из ОНР (национал-радика-
лы) применяли свои антиеврейские лозунги на
практике. Лишь очень редко здесь появлялись
полицейские, чтобы защитить очередную жертву,
которой угрожала расправа.
Уму непостижимо, что в то время, когда до
зубов вооруженный Гитлер уже стоял на запад¬
ной границе Польши и с явным аппетитом по¬
глядывал на ее территорию, готовясь скушать и
эту страну, молодые и старые польские «патри¬
оты» думали только об одном: о евреях и о сво¬
ей к ним ненависти. В Германии день за днем
запускали все новые заводы, чтобы поднять во¬
енно-промышленный потенциал на недосягае¬
мую высоту, прокладывали стратегически важ¬
ные дороги в направлении Польши и призывали
34
в армию все больше молодых немцев. Но поль¬
ский парламент этим не занимался, у него были
более важные задачи: чтобы создать евреям
трудности с получением кошерного мяса, депу¬
таты обсуждали проект закона о запрете дея¬
тельности еврейских резников, производивших
ритуальный забой скота.
За такими парламентскими дискуссиями чаще
всего следовали уличные потасовки, потому что
еврейская интеллигенция была антисемитам как
бельмо на глазу.
За два года до начала войны радикалы приду¬
мали «День без евреев». С его помощью они на¬
деялись удержать на максимально низкой отмет¬
ке число евреев с университетским образованием,
а посему старались чинить еврейским студентам
всяческие помехи при сдаче экзаменов. В такие
«праздничные дни» нас поджидали перед дверьми
высших учебных заведений банды разнузданных
буршей из различных студенческих корпораций с
транспарантами, на которых было написано:
«День без евреев». Дату такого дня радикальные
студенты определяли сами, и обычно она совпа¬
дала с днем экзаменов. Таким образом, «День без
евреев» был своеобразным «праздничным днем» с
нефиксированной датой. Поскольку земля, при¬
надлежавшая Техническому университету, счита¬
лась экстерриториальной, полиция могла вме¬
шаться в столкновения только после того, как
этого настойчиво потребует ректор. Однако
обычно ректор был всего лишь игрушкой в руках
35
радикалов. Хотя последние составляли не более
двадцати процентов от общего числа студентов,
но, как и повсюду, меньшинство господствовало
здесь над трусливым пассивным большинством.
Преобладающей массе студентов и в голову не
приходило выступить в защиту евреев или хотя
бы в защиту справедливости и порядка. Они не
хотели привлекать к себе внимания и предпочи¬
тали заниматься собственными проблемами, ос¬
таваясь безразличными к судьбе еврейских сту¬
дентов.
Среди преподавателей существовали прибли¬
зительно те же группировки. Некоторые профес¬
сора были заядлыми антисемитами, но и у других
еврейские студенты едва ли могли добиться пере¬
носа срока экзамена, если имели несчастье,
столкнувшись с травлей и насилием, не попасть
в назначенный день в аудиторию. Для тех евреев,
которые были выходцами из бедных семей, поте¬
ря семестра неминуемо означала конец обучению
в университете. Поэтому им ничего не остава¬
лось, как рисковать и приходить в училище даже
в антисемитские «праздничные дни». Это приво¬
дило к настоящему фарсу. В дни экзаменов на
соседних улицах поблизости от технического
университета или какого-либо другого высшего
учебного заведения дожидались своих пациентов
кареты «скорой помощи». В эти дни на них был
большой спрос. Там же присутствовала и поли¬
ция, чтобы вмешаться, если издевательства и из¬
биения будут продолжены за пределами универ¬
36
ситетской территории. Время от времени особен¬
но лихих забияк и членовредителей арестовывали
и привлекали к суду. Через несколько недель или
месяцев они выходили из тюрьмы героями. У
каждого на лацкане пиджака красовалась нашив¬
ка с изображением тюремной решетки. Ведь они
пострадали за «национальное дело». Мало того
что они завоевывали этим огромный авторитет
среди своих единомышленников из числа студен¬
тов, они пользовались также немалыми привиле¬
гиями и у некоторых профессоров. Естественно,
никому и в голову не приходило исключить их из
университета.
Такие воспоминания одолевали меня, когда я те¬
перь под охраной «аскари» проходил мимо хоро¬
шо знакомых домов. Я внимательно оглядывал
прохожих. Среди них могут быть и мои бывшие
коллеги по университету. Этих я узнаю сразу:
обычно, как только они замечали кого-то, похо¬
жего на еврея, их лица мгновенно преобража¬
лись, наполняясь ненавистью, глаза сужались, а
углы рта презрительно опускались вниз. Слиш¬
ком часто видел я это в годы моего студенчества,
чтобы когда-нибудь позабыть.
Где они сейчас, эти гордые патриоты, всегда
мечтавшие о «Польше без евреев»? День, когда
евреев больше не будет, уже близок, их мечта
почти что осуществилась. Только вот Польши то¬
же уже нет.
37
Мы остановились перед университетом. Здесь все
осталось таким же, как было прежде. Главное
здание, постройка в стиле неоклассицизма в тер¬
ракотовых и желтых тонах, стоящее немного в
стороне от улицы, окружено низкой каменной
оградой с торчащими из нее железными прутья¬
ми. В период экзаменов я часто ходил вдоль этой
ограды, высматривая сквозь прутья студентов-ра¬
дикалов, вооруженных толстыми бамбуковыми
палками и поджидающих очередную жертву, в то
время как над широкими входными воротами
плескался на ветру транспарант «День без евре¬
ев». От ворот до портала вооруженные студенты
становились шпалерами и окидывали каждого,
кто намеревался войти, подозрительным взгля¬
дом.
И вот я снова стою перед этими воротами. Нет
транспаранта, нет студентов со шпицрутенами,
жаждущих прогнать сквозь строй каждого еврея,
только несколько стоящих в карауле немецких
солдат и табличка над входом с надписью: «Ре¬
зервный лазарет». Эсэсовец из лагеря быстро что-
то говорит солдату из охраны, и ворота открыва¬
ются. Мы идем вдоль ухоженных газонов,
сворачиваем перед главным входом налево и,
огибая здание, попадаем во двор. Двор лежит в
глубокой тени. Санитарные машины въезжают и
выезжают из него, два или три раза нам прихо¬
дится останавливаться, чтобы пропустить их. За¬
тем нас передают санитарному фельдфебелю,
38
чтобы он разделил нас на группы и приставил к
работе.
У меня странное чувство, все кажется мне ка¬
ким-то чужим, незнакомым, словно я вовсе не
учился здесь несколько лет. Я пытаюсь вспом¬
нить, приходил ли я когда-нибудь сюда, на этот
двор. Впрочем, что мне было здесь искать? Мы
всегда бывали рады, если нам просто удавалось
незаметно войти в здание и выйти из него.
Во дворе стоит множество огромных бетонных
контейнеров. Они доверху набиты окровавлен¬
ными бинтами и другим использованным перевя¬
зочным материалом. На земле грудами валяются
пустые коробки, мешки и прочая упаковка. Одна
из наших групп уже работает лопатами и вывали¬
вает содержимое контейнеров в кузова двух гру¬
зовиков. Воздух пропитан зловонием, смесью из
острых запахов медикаментов, дезинфекции и
тления.
Деловито пробегают сестры милосердия из
Красного Креста и солдаты санитарного батальо¬
на. «Аскари» покинули вонючий двор и устрои¬
лись неподалеку на солнечном газоне. Они сво¬
рачивают цигарки — скручивают трубочки из
газетной бумаги и набивают их табаком, как при¬
выкли делать еще в России.
Несколько легкораненых и выздоравливаю¬
щих сидят на скамейках, греясь на солнышке, и
наблюдают за «аскари». Несмотря на то что «ас-
кари» носят немецкую военную форму, немцы
сразу распознают в них русских и смеются над их
39
толстыми, как бревна, цигарками. Мы слышим,
что они спрашивают о нас.
Один из раненых встает со скамейки и подхо¬
дит к нам поближе. Он рассматривает нас без ка¬
ких-либо эмоций, будто мы животные в зоопар¬
ке, только сидим не в клетке и он видит нас не
через решетку. Вероятно, он размышляет, как
долго нам еще осталось жить. Потом указывает на
свою забинтованную руку на перевязи и кричит:
— Еврейские свиньи, это вы сделали, это ва¬
ши братья, проклятые коммунисты, мне устрои¬
ли! Но погодите, скоро вы все сдохнете — все до
единого!
Другие сидящие на соседних скамейках солда¬
ты, кажется, не разделяют его ненависти. Это
можно определить по выражению их лиц. Они
бросают на нас сочувственные взгляды, один за¬
думчиво покачивает головой. Но никто из них не
осмеливается хоть что-либо произнести вслух.
Солдат, который подходил к нам, бормочет себе
под нос еще несколько проклятий, затем вновь
усаживается на скамейку и продолжает греться на
солнышке.
«Какой подлый негодяй, — думаю я, — как он
смеет оскорблять невинных, несчастных людей,
лишенных возможности защитить себя; а когда
эта дрянь подохнет, небось на его могиле тоже
будет расти один из тех подсолнухов и охранять
его». Я задумчиво смотрю ему вслед, но вижу не
его, а подсолнух. Мой взгляд явно раздражает
солдата. Он поднимает с земли небольшой круг¬
40
лый камень и бросает в мою сторону. Камень
пролетает мимо, а подсолнух исчезает. Я чувст¬
вую себя ужасно одиноким и очень жалею, что
рядом нет Артура.
Санитар, который нами командует, наконец
уводит нас со двора. Теперь мы должны выносить
из здания коробки с отходами. Их содержимое
поступает, вероятно, из операционных. От невы¬
носимой вони трудно дышать.
Когда я отхожу немного в сторону, чтобы
глотнуть свежего воздуха, я замечаю низенькую
пухленькую сестру милосердия в форменном се¬
ро-голубом платье с белыми отворотами и в бе¬
лом чепце. Она осматривается с любопытством и
вдруг устремляется прямо ко мне.
— Вы еврей? — спрашивает она меня.
Я смотрю на нее с удивлением. Зачем спраши¬
вать, разве это и так не понятно по моей одежде,
по моему взгляду? Разве не заметно, что мы ра¬
ботаем здесь под охраной? Она хочет надо мной
посмеяться? Что еще может означать ее вопрос?
— Да, — киваю я.
Она прищуривается и говорит вполголоса:
— Пойдемте со мной.
«Значит, сердобольная душа, — думаю я. —
Наверное, хочет дать мне кусок хлеба. Но не ри¬
скует сделать это в открытую, у всех на глазах».
Два месяца назад, тогда я еще работал на Вос¬
точной железной дороге, мы занимались погруз¬
кой кислородных баллонов. Какой-то солдат вы¬
лез из вагона, стоявшего на соседней колее, и
41
подошел ко мне. Он сказал, что наблюдает за на¬
ми уже некоторое время и понял, что мы слиш¬
ком тощие и хлипкие для такой работы; видимо,
страдаем от недоедания.
— Здесь в моем ранце хороший кусок хлеба.
Возьми его!
Я спросил:
— Почему бы вам самому не достать этот ку¬
сок и не дать его мне?
— Нам запрещено что-нибудь давать евре¬
ям, — был ответ.
— Знаю, — сказал я, — а все-таки лучше дай¬
те мне его вы.
Он усмехнулся:
— Нет, возьми сам. Тогда я смогу не кривя ду¬
шой поклясться, что я тебе ничего не давал.
Я невольно вспомнил об этом случае, когда
последовал за сестрой милосердия в глубь здания.
От толстых каменных стен веет освежающей
прохладой. Сестра идет довольно быстро. Куда
же она меня ведет? Если она взяла меня с собой,
только чтобы что-нибудь мне тайком сунуть, то
ведь это можно сделать и здесь, перед лестницей.
Тут свидетелей нет, во все стороны, вдоль и по¬
перек, никого не видно.
Но сестра оборачивается лишь однажды, слов¬
но желая удостовериться, что я все еще за ней
иду.
Мы поднимаемся по лестнице. Лестница ка¬
жется мне незнакомой, не могу припомнить, что
я когда-нибудь здесь бывал. На следующем этаже
42
мы встречаем других сестер, одна несет корзину с
бельем, другие — коробки с лекарствами. Спеша¬
щий куда-то врач окидывает меня мимоходом ос¬
трым и пронзительным взглядом, будто хочет
сказать: «А этот-то что тут делает?»
Мы дошли до верхнего холла. Именно здесь —
не так уж много времени прошло с тех пор — мне
вручали мой диплом. Сестра останавливается и
обменивается несколькими словами с другой се¬
строй. Я спрашиваю себя, не лучше ли мне неза¬
метно смыться. Здесь я на знакомой территории,
знаю каждый метр, знаю, куда ведут эти коридо¬
ры. Что бы она ни имела в виду, пусть ищет ко¬
го-нибудь другого.
Но затем я вдруг забываю, почему я здесь, за¬
бываю и сестру, и лагерь.
Туда направо мы ходили к профессору Багин-
скому, а сюда налево — к профессору Дердацко-
му. Оба пользовались у нас дурной славой. Было
известно, что они не любили еврейских студен¬
тов. У Дердацкого я делал свой диплом, проект
туберкулезной лечебницы. А Багинский правил
многие мои работы. Когда ему приходилось зани¬
маться со студентом-евреем, у него перехватыва¬
ло дыхание и он заикался больше обычного. Как
сейчас вижу перед собой его руку — массивный
перстень с печаткой и толстый карандаш, пере¬
черкивающий мои чертежи.
Сестра вновь оборачивается и делает мне знак,
чтобы я подождал. Я наклоняюсь над балюстра¬
дой и наблюдаю оживленную суету в нижнем
43
холле. Вносят и выносят носилки с ранеными.
Непрерывно кто-то входит и выходит. Ковыляют
солдаты на костылях. Одни носилки с раненым
оставляют в холле. Раненый смотрит вверх, на
меня. Черты его лица искажены болью.
И снова меня пронизывает воспоминание, ча¬
стичка моего прошлого. Это было в 1936 году во
время студенческих беспорядков. Антисемитски
настроенные банды буршей перебросили тогда
одного еврейского студента через балюстраду, и
он упал в нижний холл. Он лежал там, где теперь
лежит этот солдат, возможно, даже на том самом
месте.
За дверью у балюстрады находился тогда дека¬
нат факультета архитектуры. Туда мы сдавали на¬
ши студенческие книжки, чтобы нам отметили
посещение лекций. Руководил деканатом тихий
чиновник, очень вежливый, очень корректный.
Мы никогда не знали, как он относится к евре¬
ям. На наши приветствия он всегда отвечал под¬
черкнуто вежливо, но соблюдая дистанцию. Он
держал нас на расстоянии, которое мы ощущали
почти физически. Или то была наша сверхчувст¬
вительность, принуждавшая нас делить всех лю¬
дей на две категории: на тех, кто хорошо отно¬
сится к евреям, и на тех, кто их не любит?
Конечно, это было следствием постоянной трав¬
ли. Нам почти никогда не встречались люди, ко¬
торым евреи были просто безразличны.
Сестра подходит ко мне и вырывает меня из
моего прошлого. По ее глазам заметно, что она
44
довольна, небось радуется, что я не сбежал. Быс¬
трыми шагами обойдя холл, она останавливается
перед дверью в деканат:
— Ждите здесь, сейчас я вас позову.
Я киваю и смотрю на лестницу, ведущую
вверх. Санитары спускают по ней носилки с не¬
подвижным телом. Тут никогда не было лифта, и
немцы тоже его не построили.
Через несколько мгновений дверь открывается
и вновь появляется сестра. Она берет меня за ру¬
ку и, легонько подталкивая, ведет к двери; я вхо¬
жу за ней в комнату деканата.
Мои глаза невольно ищут письменный стол,
стенной шкаф, в котором хранились наши доку¬
менты, тихого и корректного служащего декана¬
та, но ничего из этих атрибутов прошлого нет.
Только белая кровать, а рядом с ней тумбочка.
Кто-то глядит на меня из под своих покровов. Я
еще ничего не в состоянии понять.
Сестра наклоняется над кроватью и что-то
шепчет. Я слышу другой, более глухой шепот, ко¬
торый ей отвечает. Кровать стоит в той части по¬
мещения, которая находится под лестницей. Хо¬
тя там, под скошенным потолком, царит
полутьма, я различаю теперь замотанную в белое
фигуру, неподвижно лежащую на кровати. Пыта¬
юсь разглядеть очертания тела под простынями,
ищу лицо.
Сестра выпрямляется и тихо говорит мне:
— Останьтесь!
Затем выходит из комнаты.
45
С кровати до меня доносится слабый, преры¬
вистый голос:
— Пожалуйста, подойдите ближе, я не могу
говорить громко.
Я уже могу рассмотреть лежащего на кровати
человека. Белые, бескровные руки на одеяле, го¬
лова, полностью замотанная бинтами; свободны
только рот, нос и уши.
Меня все еще не отпускает чувство нереально¬
сти происходящего. Ситуация таит в себе нечто
жуткое: руки, как у мертвеца, бинты, скрываю¬
щие лицо, само место, где происходит эта стран¬
ная встреча.
Я не знаю, кто этот раненый, но хорошо по¬
нимаю, что он может быть только немцем.
Поколебавшись, я присаживаюсь на край кро¬
вати. Раненый, должно быть, это замечает, так
как тихо говорит:
— Пожалуйста, придвиньтесь еще ближе, на¬
прягать голос мне слишком тяжело.
Я выполняю его просьбу. Почти бескровная
рука хватается за мою руку, он немного припод¬
нимается в кровати. Меня опять охватывает тре¬
вожное чувство: я не знаю, что все это значит, эта
ирреальная сцена — сон или явь? Я сижу в своей
изодранной робе узника из немецкого концлаге¬
ря в комнате нашего бывшего деканата Львовско¬
го технического университета, превращенного
ныне в лазарет, сижу в одной из палат этого ла¬
зарета, вернее — в палате умирающего.
46
Мои глаза тем временем привыкли к полу¬
тьме. Я замечаю на белой повязке желтые пятна.
Должно быть, следы мази или гноя. Это придает
замотанной голове еще более странный вид. Я
сижу как прикованный на кровати и не могу
оторвать взгляда от этого человека. Серо-желтые
пятна на повязке, кажется, двигаются и образу¬
ют перед моими глазами все новые загадочные
фигуры.
— Жить мне осталось недолго, — шепчет едва
слышно раненый, — знаю, что скоро конец.
Он замолкает. Думает, как ему продолжить,
или сказанное слишком сильно его взволновало?
Теперь я вижу его совсем близко. Он очень ху¬
дой, выглядит совсем обескровленным, под ру¬
башкой ясно обрисовываются кости. Как будто
хотят прорваться сквозь высохшую кожу.
Его слова меня не трогают. Обстоятельства, в
которых я вынужден жить, убили во мне способ¬
ность испытывать ужас при соприкосновении со
смертью. Смерть, болезнь, страдания стали для
нас, евреев, постоянными спутниками, они нас
больше не потрясают.
Менее чем за две недели до этого разговора, во
время моей работы на Восточной железной доро¬
ге, мне велено было зайти на склад, где хранился
цемент. Войдя в складской сарай, я услышал
страдальческий стон и пошел на голос. Между
мешками с цементом лежал и горько стонал один
47
из заключенных. Я спросил его, что с ним случи¬
лось.
— Мне конец, — с трудом выдавил он, — я
умираю. Ни один человек на свете не сможет мне
помочь, и никто не будет сожалеть о моей смер¬
ти. — И затем, словно покорившись судьбе, он
добавил: — Мне всего двадцать два года.
Я сразу же выбежал из сарая и кинулся искать
лагерного врача. Тот только пожал плечами и от¬
вернулся.
— Сегодня здесь работают двести человек.
Шестеро из них умирают.
Он даже не спросил, где найти умирающего.
— Твой долг позаботиться о нем, — сказал я с
упреком.
— Я все равно ничем не смогу ему помочь.
— Но ты как врач обладаешь большей свобо¬
дой, тебе легче будет оправдать свое отсутствие
перед охранниками, чем мне. Умирать таким
одиноким и всеми брошенным ужасно. Помоги
ему, по крайней мере, в его последний час.
— Ну хорошо, согласен, — ответил врач. Но я
был уверен, что никуда он не пойдет. Он тоже ут¬
ратил всякое сочувствие к человеческим страда¬
ниям.
Вечером при перекличке на плацу рядом с
первой шеренгой лежало шесть трупов. Их тоже
посчитали. Счет сошелся.
— Я знаю, что каждую секунду умирают тысячи
людей, — говорит раненый. — Смерть сейчас по¬
48
всюду, она перестала быть редкостью и чрезвы¬
чайным событием. Я примирился с тем, что ско¬
ро уйду из жизни. Но прежде я хотел бы погово¬
рить о том, что меня сейчас особенно мучит. Без
этого я не смогу умереть спокойно.
Он тяжело дышит. У меня жуткое ощущение,
будто он впивается в меня взглядом через повяз¬
ку. Возможно, он смотрит сквозь желтые пятна.
Хотя они не на высоте глаз, я чувствую, что он за
мной наблюдает. Причем так, чтобы я не мог
этого заметить.
— Мне сказала одна сестра, — продолжает
он, — что во дворе работают еврейские заклю¬
ченные. До этого она передала мне письмо от ма¬
тери... прочла его... и опять ушла. Я здесь лежу
уже три месяца. И я принял решение... я долго об
этом думал... Когда сестра снова пришла, я по¬
просил ее мне помочь: если у нее получится, при¬
вести ко мне какого-нибудь еврейского заклю¬
ченного. Но только осторожно, чтобы никто не
заметил. Сестра понятия не имеет, почему я ее об
этом попросил. Она ушла, не дав мне никакого
ответа.
Я уже потерял всякую надежду, что она пойдет
ради меня на такой риск. Но она вернулась и
шепнула, что за дверью взаправду стоит еврей.
Она сказала это таким тоном, будто выполнила
последнюю просьбу умирающего. Она ведь пре¬
красно знает, каковы мои дела. Да я и сам знаю,
что лежу в палате смертников. В безнадежных
случаях они охотно оставляют человека умирать в
49
одиночестве, — наверное, чтобы он не мешал
другим.
Кто он, этот мужчина, возле которого я сижу?
О каком таком важном деле ему необходимо со
мной поговорить? Возможно, он еврей, который
маскируется под немца, и перед смертью хочет
увидеть своего соплеменника. Потому что теперь
ему уже больше нечего бояться. Мне рассказыва¬
ли в гетто и позже в лагере, что в Германии бы¬
ли евреи с виду совсем как «арийцы»; некоторые
из них с фальшивыми документами проникали в
вермахт, а иные, лишь бы уцелеть, даже находи¬
ли прибежище в СС. Может, этот раненый как
раз из таких? Или он только наполовину еврей,
родившийся от смешанного брака?
Когда раненый немного переменил положе¬
ние, я заметил, что, оказывается, его другая рука
лежит на письме, которое теперь соскользнуло на
пол. Я нагнулся, поднял письмо и снова положил
его на одеяло.
Я не коснулся его руки, но он сразу отозвался
на мое движение, хотя не мог его видеть.
— Благодарю вас, это письмо от моей мате¬
ри. — Как тихо слетают с его губ эти слова.
У меня вновь возникает чувство, что он меня
видит.
Его рука нащупывает письмо, придвигает его
ближе, как будто от соприкосновения с этой бу¬
магой он может вновь обрести хоть немного си¬
лы и мужества.
50
Я невольно вспоминаю о своей матери. Она
никогда больше не пришлет мне ни одного пись¬
ма. Пять недель тому назад ее увезли из гетто при
очередной селекции. Единственное, что у нас ос¬
талось после всех грабежей, — это золотые часы,
и я сунул их матери в надежде, что, может, ей
удастся откупиться, когда за ней придут. Сосед¬
ка, у которой был еще не просроченный
«шайн»*, рассказала мне позже, что произошло с
теми часами. Мама отдала их украинскому поли¬
цаю, который пришел ее забирать. Он взял часы
и ушел, но уже через несколько минут вернулся
и вывел ее во двор. Там она вместе с другими
отобранными дожидалась грузовика, который
увез ее туда, откуда уже не шлют писем...
Время остановилось.
— Меня зовут Карл. Я добровольно вступил в
войска СС. Конечно... когда вы слышите слово
СС...
Он запинается. Такое впечатление, что у него
комок в горле и он судорожно пытается его про¬
глотить. Я не думаю больше, что он еврей или
наполовину еврей, который спрятался, надев не¬
мецкую форму. Как вообще я мог себе это вооб¬
разить? Но в такие времена возможно самое не¬
вероятное.
* Выдаваемое немцами так называемое «удостовере¬
ние ремесленника», то есть «нужного работника», вре¬
менно защищавшее его обладателя от угона на рас¬
стрел.
51
— Я должен рассказать вам нечто ужасное...
нечто невероятное. Это случилось год назад... Не¬
ужели уже прошел год?
Последний вопрос, видимо, обращен к самому
себе.
— Да, уже целый год, — продолжает он, вновь
обращаясь ко мне. — Целый год, как я совер¬
шил... преступление. Я должен... мне необходимо
с кем-то об этом поговорить; может быть, мне
это поможет.
Его рука обхватывает мою, и цепкие пальцы
сжимаются еще крепче, когда при слове «пре¬
ступление» я почти инстинктивно пытаюсь вы¬
дернуть свою руку. Откуда только берутся силы?
Или это я так слаб, что не могу разжать его
пальцы?
— Я должен вам рассказать нечто ужасное —
именно вам, потому что вы... еврей.
Разве есть еще на свете такие ужасы, которых
я не знаю? Все мерзости и злодеяния, какие толь¬
ко может измыслить больной мозг, мне известны.
Я испытал их на собственной шкуре, навидался в
лагере. Едва ли история, которую расскажет мне
этот умирающий, превзойдет то, о чем, содрога¬
ясь, шепчутся ночами мои товарищи.
Мне не интересна его история.
Надеюсь, сестра милосердия позаботилась о
том, чтобы сообщить охранникам, где я. Если
она этого не сделала, то меня, вероятно, уже хва¬
тились, думают, я сбежал...
52
Это не дает мне покоя. Я слышу за дверью го¬
лоса, но, узнав голос сестры, успокаиваюсь.
— Должно было пройти время, прежде чем я
понял, какой грех взял на душу.
Я смотрю на его перевязанную голову. Я еще
не знаю, в каком преступлении он хочет мне
признаться, но уверен — после его смерти и на
его могиле будет расти подсолнух. Я совершенно
отчетливо вижу, как цветок уже заранее повора¬
чивается к окну, через которое солнце шлет свой
свет на это смертное ложе.
Почему я вижу подсолнух уже сейчас? Потому
что позже он всегда будет с умершим, он будет
стоять на его могиле, как часовой, и осуществ¬
лять его связь с жизнью.
Я завидую этому раненому из-за его подсол¬
нуха.
И еще я завидую ему потому, что в последние
минуты жизни он сможет думать о своей живой
матери, которая ждет его и тревожится о нем в
родительском доме.
— Я не родился убийцей. Убийцей меня сде¬
лали...
Он задыхается.
- Я из Штутгарта, сейчас мне двадцать один.
Слишком рано умирать — я так мало еще полу¬
чил от жизни...
«Конечно, рано, — думаю я. — Но кто об этом
спрашивает? Разве нацисты спрашивали, успели
ли получить что-нибудь от жизни наши дети?
Разве дети спрашивали, не слишком ли рано им
53
умирать? Разве кто-нибудь спросил меня об этом
или еще спросит?»
Он говорит, будто угадывая мои мысли:
— Знаю, о чем вы сейчас думаете, и вас пони¬
маю. Но ведь я имею право сказать, что еще так
молод...
Мой отец работал мастером на заводе. Он был
убежденным социал-демократом. После тридцать
третьего года у него возникли из-за этого непри¬
ятности, и не у него одного. Моя мать искренне
и глубоко верила в Бога и меня старалась воспи¬
тать в том же духе, я даже прислуживал в церкви
и был признанным любимчиком нашего священ¬
ника. Мои товарищи по школе постоянно над
этим подшучивали, что очень огорчало маму, но
в конце концов она сдалась: перестала вечно чи¬
тать мне нравоучения, напоминать о Боге и о мо¬
ем перед Ним долге. Ведь я у нее единственный.
А отец никогда ни во что не вмешивался и мол¬
чал.
Отец все время боялся, что я расскажу в гит¬
лерюгенде, о чем говорят мои родители... Наш
баннфюрер* требовал, чтобы мы всегда помнили
об интересах нашего дела... даже дома. И если ус¬
лышим, что кто-нибудь недоволен или ворчит,
обязаны ему об этом сообщить. Некоторые так и
поступали. Я никогда ничего не сообщал. Тем не
* Нацистский функционер, наставник молодежи,
руководитель какого-либо подразделения в организа¬
ции гитлерюгенд.
54
менее родители испытывали передо мной страх.
Они сразу же замолкали, как только я к ним при¬
ближался. Их недоверие обижало меня. Но серь¬
езно задуматься об этом у меня тогда не было
времени. Жаль...
В гитлерюгенде я нашел новых друзей, мой
день был заполнен до предела. После школы
большинство из нашего класса шли в наш
центр — гитлерюгендхайм — или на спортпло¬
щадку. Мой отец очень редко говорил со мной
теперь и при каждом разговоре был крайне осто¬
рожен. Сегодня я знаю, что его тогда мучило, —
я часто вижу, как он сидит в своем кресле и ча¬
сами о чем-то размышляет, не произнося ни сло¬
ва...
Когда началась война, я записался доброволь¬
цем. Естественно, в СС. Я был далеко не един¬
ственным из наших ребят, почти половина их
пошла на войну добровольно — особо не заду¬
мываясь, словно на танцульку или на загородную
прогулку. Мама при прощании плакала. Когда я
закрывал за собой дверь, я услышал слова отца:
«Теперь они забрали у нас еше и нашего ребен¬
ка. Добром это не кончится».
Тогда меня ужасно возмутили эти слова, я го¬
тов был вернуться и крикнуть ему в лицо, что он
просто не понимает времени, в которое мы жи¬
вем. Но я не вернулся, мне не хотелось еще боль¬
ше омрачать наше прощание безобразной сце¬
ной.
55
То, что отец сказал тогда маме, было, вероят¬
но, последним, что я от него услышал. Очень
редко я находил в конце маминого письма собст¬
венноручно приписанный им привет. Чаще мама
извинялась за него: он-де мне ничего не написал,
потому что еще не вернулся с завода, а письмо
она хочет отослать без промедления. Но я знал,
что это пустые отговорки.
Раненый делает паузу и тянется за стаканом с
водой, стоящим на тумбочке. Хотя он вроде бы
никак не может его видеть, он сразу же его нахо¬
дит. Отпивает глоток и уверенно ставит стакан на
место, прежде чем я успеваю ему помочь. Дейст¬
вительно ли его дела так плохи, как он говорит?
— Сначала мы попали в учебный лагерь, рас¬
положенный на большом тренировочном пла¬
цу, — здесь мы прошли нашу первую военную
подготовку. Мыс восторгом слушали по радио о
победоносном походе на Польшу, проглатывали
все сообщения об этом в газетах и беспокоились
лишь об одном: что война слишком быстро за¬
кончится и мы уже никому не понадобимся. При
этом мне так хотелось что-то испытать, хоть не¬
много повидать свет, чтобы было потом, чем по¬
хвалиться дома... Мой дядя всегда так захватыва¬
юще рассказывал о войне с Россией, как они
загнали тогда «Иванов» в Мазурские болота. Я то¬
же мечтал поучаствовать в чем-то подобном...
Я сижу как на угольях и пытаюсь высвободить
свою руку из крепко обхвативших ее пальцев. Я
хочу уйти. Но, похоже, он говорит со мной и при
56
помощи руки. Пальцы усиливают нажим — слов¬
но умоляют не покидать его. Возможно, рука за¬
меняет ему глаза, кажется, что он почти в них не
нуждается. Я спрашиваю себя, а действительно
ли у него под повязкой есть глаза?
Повернувшись, я оглядываю комнату. Мой
взгляд падает на окно. Через него видна часть за¬
литого солнцем дворового фасада и косая линия
тени от крыши здания — четкая, без какого-либо
перехода, граница между светом и тьмой.
Теперь он рассказывает о своей службе в окку¬
пированной Польше, упоминает какое-то место:
кажется, Райхсхоф. Мне не хочется его переспра¬
шивать.
К чему вообще все эти долгие предисловия?
Он должен наконец сказать, что ему от меня
нужно, меня ему не требуется щадить.
Я чувствую дрожание его руки, пользуюсь мо¬
ментом и вырываю свою руку. Но он вновь хва¬
тает ее и шепчет: «Пожалуйста». Может, хочет та¬
ким образом придать силы себе — или мне? — он
ведь знает, что сейчас последует?
— И затем... затем случилось ужасное... Но
прежде я должен еще немного рассказать вам о
себе.
Вероятно, он ощущает мое беспокойство. Не¬
ужели заметил, что я снова и снова смотрю в сто¬
рону двери? Во всяком случае, он говорит:
— Не бойтесь, сюда никто не войдет, сестра
обещала мне за этим проследить...
57
Хайнц, мой школьный товарищ, который так¬
же оказался вместе со мной в Польше, называл
меня мечтателем. Даже не знаю толком почему,
возможно, потому, что я всегда был весел и всем
доволен и смотрел на жизнь сквозь розовые оч¬
ки — до того самого дня, когда это случилось...
Хорошо, что Хайнц не слышит меня сейчас.
Лишь бы мама никогда не узнала, на что я ока¬
зался способен. Пусть сохранит в душе образ сво¬
его хорошего мальчика — так она меня всегда на¬
зывала. Пусть всегда видит меня таким, каким
хотела видеть.
У нас дома, на нашей улице, она читает всем
соседям мои письма, и соседи... говорят ей, что
ее сын ранен, сражаясь за фюрера и отечество...
Вы ведь знаете все эти фразы...
Его голос теперь полон горечи, словно он ста¬
рается намеренно причинить себе боль.
— В воспоминаниях моей мамы я по-прежне¬
му тот же веселый, шаловливый и беззаботный
мальчуган. Я был полон задора. Какие только
шутки мы не откалывали, как только не озорни¬
чали... Во время моего армейского обучения я од¬
нажды чуть не угодил на «губу», потому что ста¬
роста моей комнаты посчитал, что мои шутки
заходят слишком далеко...
Он продолжает говорить о своей юности и о
своих товарищах, и мои мысли тоже переносятся
назад, в те годы, когда и я был весел и любил по¬
шутить. Я словно вижу лица моих друзей — од¬
нокашников в Праге. Мы тоже любили всяческие
58
проделки. Мы тоже были молоды, и впереди бы¬
ла вся жизнь.
Но это было давно и едва ли взаправду. Что
общего может быть между моей и его юностью?
Разве мы с ним не из разных миров? Где они те¬
перь, друзья из моего мира? Еще в лагере или уже
гниют в безымянной общей могиле? А где его
друзья? Они живы, или, по крайней мере, на
каждой из их могил цветет подсолнух и стоит
крест с высеченным на нем именем?
Я спрашиваю себя, почему я, еврей, должен
выслушивать исповедь этого умирающего вояки.
Если он и вправду вновь обрел веру в христиан¬
ские заповеди, пусть позовет священника. Воз¬
можно, тот помог бы ему на пороге смерти. Хотя
есть ли в лазарете священники? Пожалуй, здесь
легче найти еврея.
А кому я смогу исповедаться, когда придет
мой конец? И будет ли у меня за душой нечто, в
чем нужно признаваться на исповеди? Во всяком
случае, так много времени, как у него, мне никто
на это не даст. Да и ни малейшей потребности
исповедоваться у меня нет. Меня убьют, как и
многих других. Скорее всего, конец моей жизни
наступит неожиданно и я даже не успею подгото¬
виться к встрече с несущей мне смерть пулей.
Он все еще рассказывает о своей юности, буд¬
то читает вслух. Неужто он просил привести ме¬
ня только для этого? Однако хочет он того или
нет, но его слова заставляют меня вспоминать о
собственной юности. А я не хочу больше об этом
59
думать. Моя юность уже так далеко в прошлом,
что кажется мне нереальной. Мне представляет¬
ся, что я всегда жил здесь, в лагере, да и рожден
на свет был лишь для того, чтобы из меня тяну¬
ли жилы дьяволы в человеческом образе: срывая
зло на мне, «недочеловеке», они пытаются рас¬
квитаться со мной за свои расовые комплексы.
Воспоминания о прошлом ослабляют меня, а я
хотел бы остаться сильным. Только у сильного
есть шанс выжить в эти мрачные времена и до¬
жить до смерти тех, кто так убежден в своем бес¬
конечном превосходстве над нами. Я еще не
окончательно потерял веру в то, что мир когда-
нибудь воздаст им за их злодеяния — несмотря на
их кичливые сообщения о своих победах, на без¬
мерное ликование по поводу выигранных битв и
на их безграничную заносчивость. Еще наступит
день, когда нацистам придется страдать так же,
как нынче евреям.
Все во мне противится тому, чтобы сидеть
здесь и слушать его рассказ.
Умирающий, должно быть, это чувствует, он
выпускает письмо и опять хватается за мою руку.
Его движение так трогательно беспомощно, что
мне внезапно становится его жаль. Я остаюсь, хо¬
тя очень хочу уйти. Он торопливо продолжает:
— В последнюю весну мы заметили, что втай¬
не от нас что-то готовится. Старшие офицеры все
чаще повторяли, что нам предстоит нелегкое ис¬
пытание во имя великого дела. Никто не должен
ударить лицом в грязь — оказаться «желторо¬
60
тым». Сентиментальничать сейчас не время, фю¬
реру нужны крепкие парни.
Все это меня тогда очень воодушевляло.
Затем началась война с Россией; незадолго пе¬
ред нашим выступлением мы еще успели услы¬
шать по радио обращение Гиммлера. Он говорил
об окончательной победе, о миссии фюрера... и о
том, что нам предстоит выкуривать недочелове¬
ков... Мы получали целые кучи книг о евреях и
большевиках, проглатывали номера «Штюрме-
ра»*, а иные вешали карикатуры оттуда над сво¬
ей кроватью. Это, правда, было не в моем вкусе.
Но по вечерам в столовой, разгорячившись от
пива, мы взволнованно говорили о будущем Гер¬
мании. Мы были уверены, что война против Рос¬
сии будет такой же молниеносной, как и война
против Польши, и наши границы будут отодви¬
гаться все дальше и дальше на восток. Немецко¬
му народу требовалось жизненное пространство.
В изнеможении он на минуту замолкает, но
затем продолжает:
— Сами видите, какое у меня теперь будет
жизненное пространство.
Он явно себя жалеет. В его словах звучит го¬
речь и покорность судьбе.
* Бульварный иллюстрированный нацистский еже¬
недельник, выходивший с 1923 по 1945 год, худший
образец полупорнографического и антисемитского из¬
дания. В нем постоянно печатались грубые карикатуры
на евреев, а для рисунков были типичны изображения
«еврейских извергов», насилующих арийских девушек.
61
Я бросаю взгляд за окно и замечаю, что грани¬
ца между светом и тьмой сдвинулась и теперь она
проходит по другим окнам внутреннего фасада.
Солнце поднялось и сияет высоко в небе. Одно
из окон открывается, впускает солнечный луч и,
сразу же вновь захлопнувшись, его отражает.
Этот блеск действует на меня как сигнал, подан¬
ный мне с помощью зеркала.
Тогда мы готовы были видеть тот или иной
символ в любом явлении. Это было время неслы¬
ханного расцвета мистики и суеверия. Как часто
в лагере я слышал от товарищей истории, про¬
никнутые мистицизмом. Но ведь все окружающее
казалось нам невозможным и нереальным, землю
заселили странные мистические существа: Бог
был в отпуске, и в Его отсутствие другие взяли на
себя ответственность подавать нам знаки и отве¬
чать за их толкование. В нормальное время мы
бы высмеяли любого, верившего в сверхъестест¬
венные силы. Но теперь мы ожидали от них все¬
го. Мы ловили каждое слово, произнесенное оче¬
редным лагерным предсказателем судьбы или
гадальщиком на картах. Нередко мы цеплялись за
совершенно бессмысленные толкования, ибо
только они могли посулить нам хоть малейшую
надежду на перемену к лучшему. Извечный ев¬
рейский оптимизм полностью отключал наш
разум. Но ведь в такие времена разум вообще не¬
уместен. Разве в мире, которым правили нацис¬
ты, было хоть что-то от разума и логики? И в ре¬
зультате люди предавались нелепым фантазиям,
62
чтобы хоть ненадолго позабыть об ужасной, ис¬
полненной трагизма действительности. Разум
был им в этом помехой, а не опорой. Мы убега¬
ли в наши сны-грезы и делали всё, чтобы подоль¬
ше не пробуждаться.
Я забываю на миг, где нахожусь. И вдруг слы¬
шу жужжание — это муха, вероятно привлечен¬
ная запахом гноя, кружит над головой умираю¬
щего. Он не может ее видеть, не может видеть и
то, как я отгоняю ее движением руки. Но долж¬
но быть, он как-то это ощущает.
— Спасибо, — шепчет он.
Только тогда до меня доходит, что я, безза¬
щитный «недочеловек», только что, не задумы¬
ваясь, словно это само собой разумеется, оказал
услугу, принес облегчение такому же беззащит¬
ному «человеку высшей расы».
— В конце июня из нас сформировали штур¬
мовую команду и повезли на грузовиках на
фронт. Вокруг, насколько хватал глаз, простира¬
лись поля пшеницы. Наш роттенфюрер сказал,
что Гитлер правильно выбрал срок для похода на
Россию — мы еще успеем собрать весь урожай.
Мы тоже считали это правильным. Во время на¬
шего долгого пути мы видели на обочинах дорог
трупы русских, обгорелые танки, брошенные гру¬
зовики, мертвых лошадей. Порой там лежали и
раненые, беспомощные, никто не обращал на
них внимания, их крики и стоны сопровождали
нас постоянно.
63
Один из моих товарищей вдруг плюнул в сто¬
рону несчастных. Я спросил его, зачем он это
сделал. Он ответил просто: «Никакой пощады
ивану!» Это была фраза нашего командира.
Слова умирающего эсэсовца звучат как сухая
военная сводка. Так обычно пишут военные ре¬
портеры. В голосе нет и намека на волнение. Ча¬
сто он употребляет трафаретные, газетные фразы.
— В конце концов мы прибыли в одну укра¬
инскую деревню. Здесь произошло наше первое
столкновение с врагом. Мы обстреляли покину¬
тый жителями дом, в котором укрепились рус¬
ские. Когда мы взяли дом штурмом, мы нашли
там только несколько раненых, до которых нам
не было никакого дела. Вернее, это мне не было
до них никакого дела, а наш роттенфюрер... он
добил двух из них меткими выстрелами.
С тех пор как я лежу здесь, в лазарете, я часто
мысленно возвращаюсь к этим дням и заново их
переживаю. Только теперь я вижу всё точнее и
четче... Теперь у меня есть много времени.
Бои были страшные, бесчеловечные. Некото¬
рые из наших ребят едва их выдерживали. Когда
об этом проведал наш гауптштурмфюрер*, он за¬
орал на нас: «Вы что, думаете, русские обраща¬
ются с нами иначе? Вам достаточно посмотреть,
как они поступают со своими. Вспомните тюрь¬
мы, где полно трупов. Они просто убивают своих
* Воинское звание в войсках СС, соответствующее
званию капитана.
64
заключенных, если не могут взять их с собой. Кто
призван творить историю, не должен обращать
внимания на такие пустяки».
Как-то вечером один мой друг отвел меня в
сторону, чтобы поговорить о том, что его ужаса¬
ет. Но на полуслове запнулся и замолчал. Он мне
не доверял.
Как все это похоже. Два года назад я был в
Одессе. Там один человек рассказывал мне, что
перестал доверять своему лучшему другу, после
того как тот захотел излить душу и начал ему жа¬
ловаться. Террор разделяет друзей, сеет недове¬
рие — и там, и тут.
— Мы продолжали творить историю. День за
днем мы слушали сообщения о наших победах,
нам все время твердили, что войне вот-вот насту¬
пит конец. И Гитлер говорил это, и Гиммлер...
Странно, для меня он теперь действительно на¬
ступил...
Он опять тяжело дышит. Сглатывает мокроту.
Внезапно за спиной слышен какой-то шум. Я
оборачиваюсь. Я и не заметил, что дверь приот¬
крылась. Но он услышал:
— Сестра, пожалуйста...
— Хорошо, не беспокойтесь, я только хотела
заглянуть.
Дверь снова закрывается.
— В жаркий летний день мы вошли в Днепро¬
петровск. Там осталось много брошенных авто¬
мобилей и артиллерии. Много орудий в полной
исправности. Заметно, что русские отступали в
65
большой спешке. Дома горят, улицы перекрыты
наспех сооруженными баррикадами, которые ни¬
кто уже не защищает. Наши саперы разгребают
баррикады. Среди штатских было много жертв.
На тротуаре, вытянувшись во весь рост, лежала
мертвая женщина, возле нее сидели на корточках
и плакали двое маленьких детей.
Когда нам скомандовали привал, мы присло¬
нили наши винтовки к стене дома, уселись пря¬
мо на тротуар и закурили. Вдруг раздался взрыв.
Мы посмотрели на небо, там не было видно ни¬
каких самолетов. Только по облакам пыли мы за¬
метили, что впереди недалеко от нас взлетел на
воздух целый комплекс зданий. Вскоре мимо
промчались санитарные автомобили. На месте
взрыва осталось много убитых и раненых.
Нередко при отступлении русские минировали
дома и целые кварталы. Стоило только войти в
такой дом, как он взрывался. Один мой товарищ
утверждал, что русские переняли эту тактику у
финнов. Я был рад, что мы так вовремя сделали
привал. В который раз мы отделались лишь лег¬
ким испугом.
Внезапно рядом с нами остановилась откры¬
тая легковушка. Оттуда вылез незнакомый нам
эсэсовский офицер и подозвал к себе нашего
роттенфюрера. Затем подъехали несколько грузо¬
виков и перевезли нас в другую часть города. Тут
все вокруг выглядело столь же страшно, как и
там, где мы были прежде.
66
Нас высадили на площади. Оглядевшись, мы
увидели на другой стороне большую группу лю¬
дей, которую плотным кольцом окружала охрана.
Сначала я подумал, что это штатские, которых
предстоит вывезти из города: ведь кое-где еще,
возможно, продолжаются бои. Но затем по наше¬
му подразделению пробежал шепоток: «Это ев¬
реи». Я еще никогда в жизни не видел столько
евреев. В моем городе жило прежде несколько се¬
мей, но они почти все уехали, когда Гитлер при¬
шел к власти. Немногие оставшиеся вскоре вне¬
запно исчезли. Рассказывали, будто бы их
переселили в гетто. Потом о них просто забыли.
Только моя мама как-то раз упомянула нашего
старого домашнего врача, который тоже был ев¬
реем и о котором она очень горевала. Она забот¬
ливо сохраняла все его рецепты, так как полно¬
стью ему доверяла. Но однажды аптекарь сказал,
что впредь ей следует выписывать лекарства у
другого врача — он, аптекарь, больше не может
выдавать их по рецептам, полученным от еврея.
Мама была этим крайне возмущена, а отец лишь
взглянул на меня и промолчал.
Что писали в газетах о евреях, мне, наверное,
не нужно вам пересказывать. Едва ли кто-нибудь
осмеливался сказать о них что-то, противореча¬
щее общему мнению, которое выдавала нам наша
пропаганда. Позднее в Польше я видел евреев,
которые сильно отличались от тех, что я помнил
по Штутгарту.
67
На войсковом тренировочном плацу в Дебице
тоже работали несколько евреев. Я часто тайком
совал им какую-нибудь еду. Когда меня однажды
застукал за этим наш ротный, я придумал иной
способ: евреи убирали у нас в казарме, и я про¬
сто оставлял для них на столе что-нибудь съест¬
ное.
Но вообще-то я знал про евреев лишь то, что
звучало из громкоговорителей и что нам давали
читать.
Нам говорили, что евреи — причина всех на¬
ших бед, что они пытались нас эксплуатировать,
что они ответственны за войну, бедность, голод и
безработицу...
Опять, как всегда, та же песня: еврей — враг,
а кто этого не желает видеть, тот — паршивая ов¬
ца, тому плевать на общее мнение, он много на
себя берет, за что его следует строжайшим обра¬
зом наказать.
Евреи отвратительны, потому что так нужно
другим, без этого они, другие, не смогут свести
концы с концами, это подорвет основу их идео¬
логии, которая никак не может обойтись без об¬
раза «коварного и злобного еврея».
Я замечаю, что в голосе умирающего, когда он
говорит о евреях, порой звучит особая теплота. Я
еще никогда не слышал такого в голосе эсэсовца.
Неужто этот человек иной, неужто он лучше дру¬
гих — или у всех умирающих эсэсовцев меняется
голос?
68
— Затем последовал приказ. Мы идем на этих
сжавшихся в тесную кучу евреев. Их полторы или
две сотни, среди них много детей, которые в упор
глядят на нас испуганными глазами. Лишь неко¬
торые из детей тихо, почти неслышно, плачут.
Матери держат на руках младенцев. Молодых
мужчин почти не видно, зато много женщин и
стариков.
Когда я подхожу ближе, я вижу их глаза. В
них — страх, неописуемый страх, словно они
смотрят на свою приближающуюся смерть. Похо¬
же, они знают, какая им уготована участь...
Грузовик подвозит канистры с бензином. Не¬
которые из нас получают приказ выгрузить их и
занести внутрь дома. Самым сильным из евреев
велят тащить их на верхние этажи. Они делают
это — тупо, безразлично, как автоматы.
Потом мы начинаем загонять евреев в дом. У
одного из наших шарфюреров в руках вдруг ока¬
зывается плеть. Он лупцует ею тех, кто недоста¬
точно быстро двигается. На евреев обрушивается
поток бранных слов, пинки ногами. Дом не осо¬
бенно большой, в нем всего три этажа. Я не
представляю, как они все в нем поместятся, но
через несколько минут на улице уже нет ни од¬
ного еврея.
Он замолкает, а мое сердце колотится так, что
готово выпрыгнуть из груди.
Я ясно вижу перед собой эту сцену. Ситуация
мне хорошо знакома. Я тоже мог бы оказаться
среди тех, кого загоняют в дом, куда предвари¬
69
тельно занесли канистры с бензином. Я почти
физически ощущаю, как там тесно, в этом доме,
как они стоят там, прижатые друг к другу, пла¬
чут и причитают. Они догадываются, что сейчас
с ними сделают, и я, естественно, догадываюсь
тоже.
Тут приезжает еще один грузовик, битком на¬
битый евреями. Их также загоняют в дом к тем,
другим. Затем входную дверь запирают. Напротив
уже установлен пулемет.
Я знаю, что будет дальше. Уже больше года мы
живем под немцами. До нас доходили слухи о по¬
добном из Белостока, Бродов, Гродека. Метод
всегда один и тот же. Этому человеку нет нужды
продолжать свой рассказ.
Я хочу встать. Но он просит умоляющим голо¬
сом:
— Пожалуйста, останьтесь. Я должен доска¬
зать вам остальное.
Сам не могу понять, что меня еще удержива¬
ет. В его голосе звучит нечто мешающее мне по¬
следовать велению сердца и разума и сломя голо¬
ву бежать прочь. Возможно, втайне я хочу
услышать именно от него, как бесчеловечно жес¬
токи по отношению к нам эсэсовцы.
— Когда сообщают, что все готово, мы отсту¬
паем на несколько шагов, достаем ручные грана¬
ты и по команде бросаем их в открытые окна.
Один взрыв следует за другим... О, Боже!
Он запинается и опять приподнимается в кро¬
вати.
70
Я чувствую, как он дрожит всем телом.
— Мы слышим крики и видим, как пламя пе¬
рекидывается с этажа на этаж... Мы держим на¬
готове наши винтовки, чтобы стрелять в тех, кто
попытается вырваться из этого ада.
Из дома доносится страшный душераздираю¬
щий вопль. Дым застилает нам глаза, трудно ды¬
шать...
Его рука вновь становится потной. Собствен¬
ный рассказ, видимо, настолько его потрясает,
что он весь покрывается пбтом. Сначала я этого
не замечаю, но затем выдергиваю свою руку. Он
тотчас же хватает ее снова, его пальцы сгибаются
и обхватывают ее чуть ли не железной хваткой.
— Пожалуйста, пожалуйста, — умоляет он, —
не уходите, я должен досказать вам, я еще не до¬
шел до самого главного.
Если перед этим я еще сомневался, о чем он
хочет мне поведать, то теперь все сомнения отпа¬
ли. Я осознаю, с каким невероятным напряжени¬
ем он собирает силы для последнего признания.
Всю свою оставшуюся энергию он употребляет
на то, чтобы рассказать мне свою историю до са¬
мого ее горького финала.
— В окне второго этажа я вижу мужчину, ко¬
торый держит на руках маленького ребенка.
Одежда на нем уже горит. Рядом с ним стоит
женщина, явно мать ребенка. Свободной рукой
мужчина закрывает ребенку глаза — затем взби¬
рается на подоконник и спрыгивает вместе с ним
вниз на улицу. Секунду спустя то же делает мать
71
ребенка. Из других окон также выбрасываются
горящие человеческие фигуры... Мы расстрелива¬
ем их... о Боже!
Умирающий прикладывает ладонь к своим пе¬
ревязанным глазам, словно желая прогнать виде¬
ние.
— Не знаю, сколько людей предпочли прыжок
из окна смерти в огне. Но эту первую семью я
никогда не забуду — прежде всего, ребенка. У не¬
го были черные волосики и черные глаза...
Черноглазый ребенок напоминает мне об Эли,
мальчике из львовского гетто, которому исполни¬
лось шесть лет. Об Эли с его большими вопроша¬
ющими глазами. Это были глаза, которые не по¬
нимали, которые вечно задавали один и тот же
вопрос: почему? Глаза, которые смотрели с уко¬
ром.
Глаза, которые невозможно забыть.
Дети в гетто подрастали быстро. Казалось, они
предчувствовали, какой недолгой будет их жизнь.
За немногие дни они проживали месяцы, за ме¬
сяцы — годы. Если я замечал в их руках игруш¬
ку, это казалось мне неестественным, словно иг¬
рушку держали старческие руки.
Когда я увидел Эли впервые? Когда в первый
раз с ним заговорил? Уже не помню.
Он жил в доме поблизости от ворот гетто.
Иногда он осмеливался подходить к самым воро¬
там. Однажды я услышал, как с ним говорил по¬
лицейский, тогда я впервые узнал его имя: Эли.
72
Лишь очень редкий ребенок решался подойти
к входу в гетто. Здесь его подстерегали опаснос¬
ти, и Эли это знал. Инстинкт заменял ему разум.
Эли — уменьшительно-ласкательная форма от
имени Элиас или, как я учил в школе, от имени
Элияху — Элияху Ханави, пророка. Это имя про¬
буждало во мне воспоминания о том времени,
когда я сам был ребенком.
В пасхальные дни, во время праздничной тра¬
пезы, седера, на столе среди прочей посуды сто¬
ял большой, с замысловатыми украшениями, ку¬
бок с вином, который никому не дозволялось
трогать. Когда наступала очередь произнести оп¬
ределенную молитву, одного из детей посылали
открыть дверь: в комнату должен был войти про¬
рок и отпить из этого кубка. Мы, дети, в ожида¬
нии чуда смотрели на дверь широко раскрытыми
глазами, но, конечно, так ни разу никого и не
увидели.
Моя бабушка постоянно уверяла меня, что
пророк действительно пьет из этого кубка. Когда
я затем с любопытством заглядывал в кубок и ви¬
дел, что он все еще полон, бабушка говорила:
«Он выпивает ровно столько, сколько содержит¬
ся в одной слезинке».
Почему она так говорила? Разве одна слезин¬
ка — это все, что мы можем предложить пророку?
Со времени исхода евреев из Египта на про¬
тяжении жизни бесчисленных поколений мы
празднуем праздник Пасхи в память об этом ис¬
торическом событии. И с тех самых пор сущест¬
73
вует обычай ставить на стол самый красивый ку¬
бок с вином для Элияху Ханави.
Нам, детям, он представлялся защитником и
в детских фантазиях выступал в различных обра¬
зах. Бабушка рассказывала, что он лишь очень
редко показывается людям. Он может предстать
перед ними в образе крестьянина, купца, нище¬
го и даже в образе ребенка. И в благодарность за
защиту, которую он нам обеспечивает, он полу¬
чает на праздник самый красивый кубок, на¬
полненный самым лучшим вином, но пьет из
него очень мало — лишь одну-единственную
слезинку.
Маленький Эли словно чудом выживал после
многочисленных акций, направленных против
детей как «не работающих и бесполезных едо¬
ков». Взрослых на весь день уводили на работу
вне гетто, и это время эсэсовцы обычно исполь¬
зовали для того, чтобы ловить и забирать детей.
Но всегда некоторым из них каким-то образом
удавалось спрятаться.
Дети научились это делать. Родители устраива¬
ли им под полом, в печке или в шкафу с двойны¬
ми стенками тайные убежища, где они могли схо¬
рониться, и со временем у детей, как бы малы
они ни были, развилось обостренное шестое чув¬
ство опасности.
Но и люди из СС тоже кое-чему научились:
они отыскивали самые потаенные укрытия и ча¬
сто оказывались победителями в этой игре в
прятки, которая давно уже перестала быть игрой
74
даже для самых маленьких детей. Каким-то обра¬
зом дети предчувствовали, что с ними случится,
если их найдут.
Эли был одним из последних детей, которых я
видел в гетто. Каждый раз, когда я приходил ту¬
да из лагеря — а некоторое время у меня был спе¬
циальный пропуск для прохода в гетто, — я ис¬
кал глазами Эли, и когда я его видел, то был
уверен, что в данную минуту никакой опасности
нет.
В гетто уже тогда царил голод, и на улицах ле¬
жали умершие от голода люди. Как ни предосте¬
регали еврейские полицейские родителей Эли,
как ни советовали они не подпускать мальчика к
воротам, он снова и снова подходил к ним. Ведь
даже немецкий полицейский, охранявший воро¬
та, давал ему иногда что-нибудь поесть.
Однажды в очередной раз я пришел в гетто, но
не встретил возле ворот Эли. Я увидел его позже,
он стоял у окна, и его маленькая ручка шарила по
подоконнику. Затем он подносил пальцы ко рту.
Когда я подошел ближе и понял, что он делает, у
меня на глазах выступили слезы: он собирал
хлебные крошки, которые кто-то высыпал на по¬
доконник для птиц.
Наверняка он думал, что птицы могут найти
корм и за пределами гетто, в городе, где доста¬
точно добрых людей, которые, однако, из-за тру¬
сости и страха никогда не осмелятся дать кусок
хлеба голодному ребенку, если это еврейский ре¬
бенок.
75
Перед воротами гетто часто стояли женщины
с мешками, полными хлеба или муки. Они пыта¬
лись совершить с обитателями гетто выгодные
для себя сделки, получив у них в обмен на хлеб и
муку хорошую одежду, серебряные столовые при¬
боры или ковры. Но вряд ли у кого-нибудь из ев¬
реев еще сохранилось что-то ценное для обмена.
Во всяком случае, родителям Эли определенно
нечего было предложить за буханку хлеба.
Сколько детей в гетто ели крошки, насыпан¬
ные для птиц, чтобы не умереть с голоду? И как
долго можно поддерживать жизнь такими крош¬
ками?
Группенфюрер СС Кацман — пресловутый
Кацман — знал, что, несмотря на непрерывные
обыски, в гетто еще оставались дети. И тогда в
его извращенном сознании возник дьявольский
план: детский сад! Он приказал через юденрат*
объявить, что в гетто запланировано открытие
детского сада — для него уже подготовлены по¬
мещения и найдена руководительница. Она бу¬
дет присматривать за детьми, пока родители на
работе.
Евреи, вечные и неисправимые оптимисты,
увидели в этом добрый знак. Некоторые даже
* Еврейский совет, учрежденный в 1941 году адми¬
нистративный орган, якобы ведавший вопросами ев¬
рейского самоуправления. Юденраты создавались и в
гетто на территории многих оккупированных стран Ев¬
ропы.
76
утверждали, что отныне будут запрещены расст¬
релы. Кто-то вроде сам слышал по американско¬
му радио, будто Рузвельт пригрозил немцам ре¬
прессиями, если те не прекратят убивать евреев.
Поэтому теперь немцы демонстрируют свою гу¬
манность.
Другие распространяли слухи о международ¬
ной комиссии, которая намерена посетить гетто.
Им собираются показать детский сад — как вы¬
веску, наглядный пример человечности, проявля¬
емой немцами по отношению к евреям.
Советник по уголовным делам из гестапо, не¬
кий Энгельс, пожилой седовласый человек, по¬
явился в гетто вместе с членом юденрата и лично
убедился, что для детского сада действительно
выделены светлые, уютные комнаты. Он выразил
мнение, что в гетто наверняка еще найдется до¬
статочно детей, которые захотят посещать дет¬
ский сад, и обещал дополнительное снабжение
продуктами. И гестапо в самом деле прислало
вслед за этим банки со сгущенным молоком и ка¬
као.
Родители голодающих детей в конце концов
решились и стали отводить своих малышей в дет¬
ский сад. Ожидали приезда объявленной комис¬
сии Красного Креста. Она, конечно, так никогда
и не приехала. Зато однажды утром приехали три
грузовика с эсэсовцами. На них увезли всех де¬
тей.
77
Можно представить, какие душераздирающие
сцены разыгрывались возле детского сада вече¬
ром, когда родители вернулись с работы.
Однако через несколько недель я снова увидел
Эли. Его детский инстинкт подсказал ему в то ут¬
ро остаться дома.
Для меня черноглазый мальчик, о котором упо¬
минает лежащий в кровати человек, — это Эли.
Его личико неизгладимо запечатлелось в моей
памяти. Он был последним еврейским ребенком,
которого я вообще видел, и для меня все эти не¬
счастные дети выглядят, как Эли.
Если до этого момента я испытывал к умира¬
ющему нечто вроде сочувствия, то теперь от него
не осталось и следа. Прикосновение умирающего
эсэсовца причиняет мне почти физическую боль.
Я отдергиваю руку.
Он что-то невнятно бормочет. Я даже не вслу¬
шиваюсь. Мои собственные мысли уносят меня
далеко отсюда, хотя я все еще нахожусь здесь, в
этой комнате, для того чтобы выслушать то, что
он так настоятельно пожелал мне поведать. Но
мне кажется, что он тоже позабыл о моем присут¬
ствии, как я некоторое время назад позабыл о
нем. Он говорит тихо, однотонно, словно про се¬
бя; больной, долго лежащий в отдельной палате,
часто ведет разговоры с самим собой. О чем он
сейчас говорит: о том, собственно, что и хотел
мне рассказать, или о таких вещах, которые ему
даже трудно выговорить? Кто знает, что он еще
78
собирается мне поведать. Никакая фантазия не
может этого вообразить, никто не может предуга¬
дать, но одно я усвоил твердо: в наше время нет
такого ужаса, который нельзя было бы превзойти
другим ужасом.
— Да, я ясно вижу их перед собой...
Что он сейчас сказал? Он их видит? Но каким
образом он их видит? Ведь его голова перевязана?
Я пристально, не отводя взгляда, смотрю на его
голову, и мне представляется, что я, как в тума¬
не, различаю глаза. Значит, все же...
— Я вижу ребенка, его отца и мать, — повто¬
ряет он.
Он стонет, его дыхание тяжко и прерывисто.
— Возможно, они были уже мертвы, когда уда¬
рились о мостовую. Это было ужасно. Крики
смешались с пулеметными очередями, будто хо¬
тели их заглушить, а возможно, наоборот — вы¬
стрелы должны были заглушить крики. Поверьте,
это было чудовищно! Это меня преследует. У ме¬
ня теперь много времени для раздумья — даже
слишком много, но, быть может, все-таки недо¬
статочно...
Я тоже слышу выстрелы. Мы уже так привык¬
ли к ним, что никто из нас даже не вздрагивает.
Да, я слышу их совершенно отчетливо. В лагере
постоянно стреляют, свист пуль можно услышать
издалека и совсем близко, крики тоже раздаются
постоянно. Я закрываю глаза, и слышу, и вижу в
своих воспоминаниях тысячи подробностей.
79
Наверное, по этой причине во время его ску¬
пого рассказа, состоявшего из немногих, часто
оборванных слов, я так живо всё перед собой ви¬
дел и слышал, словно сам был свидетелем про¬
исходившего. Видел, как этих несчастных заго¬
няют в дом, слышал их крики, видел отчаяние
на их лицах, слышал, как они успокаивают и
утешают своих детей, затем видел, как, уже ох¬
ваченные пламенем, они выбрасываются на мос¬
товую.
— Вскоре после этого нас сменили, и мы про¬
должили свой путь. По дороге нам сказали, что
убийство евреев было актом возмездия за взрывы
бомб с часовым механизмом, которые были зало¬
жены русскими. Из-за этих взрывов погибло око¬
ло тридцати наших людей, по этой причине уби¬
ли ровно три сотни евреев. Никто, однако, не
задал вопроса, какое отношение имели убитые
евреи к русским бомбам.
Вечером нам раздали шнапс. Шнапс помогает
забыться.
По радио передавали вести с фронтов: о числе
потопленных судов, о количестве взятых в плен,
о сбитых самолетах и о победоносном продвиже¬
нии наших войск на восток... Смеркалось...
Что он разумел под этим последним словом?
Только лишь закат солнца? А что еще остается
делать солнцу в мире, который тоже явно дви¬
жется к закату — к собственной гибели?
— Разгоряченные выпивкой, мы уселись в
кружок и запели. Я пел вместе с другими. Сего¬
80
дня я спрашиваю себя, как я мог тогда петь. Воз¬
можно, я хотел одурманить себя этим пением. На
время мне это удалось. То, что случилось, куда-
то ушло, стало представляться нереальным. Но
ночью... ночью все вернулось...
Товарища, который спал на соседней койке,
звали Петер, он, как и я, был из Штутгарта. Он
спал беспокойно, вертелся с боку на бок и что-то
еле слышно бормотал. Я приподнялся в кровати
посмотреть, что с ним. В темноте я не смог раз¬
глядеть его лица, лишь расслышал слова «нет,
нет» и «я не хочу». Утром по лицам некоторых
товарищей я смог определить, что они тоже про¬
вели беспокойную ночь. Но никто не захотел об
этом говорить, мы попросту избегали друг друга.
Однако наше смятение не укрылось от взгляда
роттенфюрера.
«Эй вы, довольно распускать сопли! — гром¬
ко одернул нас роттенфюрер. — Парни, так де¬
ло не пойдет! Это война, а не детская забава!
Нужно быть сильным! Поймите, ведь это же бы¬
ли не наши люди! Еврей — да он вообще не че¬
ловек! Еврей повинен во всех наших бедах! И
если их расстреливают, на это нельзя реагиро¬
вать, словно это кто-то из нас — все равно, муж¬
чина, женщина или ребенок. Они не такие, как
мы! Они подлежат ликвидации, просто ликвида¬
ции! Мы и по сей день были бы рабами других
народов, если бы проявили мягкотелость, но
наш фюрер!»
81
Рассказчик, должно быть, сообразил, что я мо¬
гу воспринять его последние слова так, будто он
хочет оправдать себя. Поэтому он останавливает¬
ся посередине фразы.
— Видите ли... — начинает он, но не продол¬
жает.
Что он хотел сказать? Что-то, что помогло бы
ему себя успокоить? Что должно было объяснить,
зачем он вообще рассказывает мне всю эту исто¬
рию? Но больше он к этому не возвращается.
— Наш отдых длился недолго. Уже к полудню
мы двинулись дальше, ведь мы стали теперь час¬
тью штурмовой команды. Нам предоставили
транспорт и перебросили нас в зону боевых дей¬
ствий. Но и здесь первое время мы почти не стал¬
кивались с противником лицом к лицу. Против¬
ник покидал деревни и небольшие поселки, часто
оставляя их без боя. Лишь в отдельных случаях в
процессе отступления происходили небольшие
стычки. Все же Петер был ранен, а Карлхайнц
убит. Затем мы снова стали на отдых, и нам дали
время, чтобы помыться и написать письма. Наши
разговоры касались самых различных тем, но о
произошедшем в Днепропетровске мы, словно по
уговору, не обмолвились ни словом...
Я навестил Петера. Он получил пулевое ране¬
ние в живот, но еще был в сознании. Он узнал
меня и глядел умоляющими глазами. Я присел
возле его кровати, и он сказал мне, что его ско¬
ро вывезут в тыл. И еще он сказал: «Те люди в го¬
рящем доме, ты ведь знаешь...» — и в этот мо¬
82
мент потерял сознание. Бедный Петер. Он умер с
мыслью о самом ужасном, что ему до сей поры
довелось пережить.
В коридоре слышны шаги. Я перевожу взгляд
на дверь и встаю. Он это замечает.
— Пожалуйста, останьтесь, сестра дежурит сна¬
ружи, сюда никто не войдет. Я не задержу вас на¬
долго, но я должен еще сказать вам нечто важное...
Против собственной воли я снова сажусь, но
намерен исчезнуть сразу же, как только войдет
сестра.
Что он может мне еще сказать? Что он не
единственный, кто убивал евреев, что он лишь
убийца среди других убийц?
— В течение следующих недель мы сильно
продвинулись и вошли на территорию Крыма.
Говорили, что здесь нам предстоят жестокие
схватки, русские окопались, и война перестает
быть прогулкой, как до сих пор. Придется вести
ближние бои, лицом к лицу с противником...
Он запинается все чаще. Он явно переоценил
свои силы. Его дыхание становится неровным,
горло пересыхает. Он шарит рукой в поисках ста¬
кана с водой.
Я не трогаюсь с места. Достаточно того, что он
ощущает мое присутствие.
Он находит стакан и жадно пьет.
Затем вздыхает и шепчет:
— О Боже! О Боже!
Он обращается к Богу? Но Бога нет — Бог в
отпуске, как сказала та женщина в гетто. Мы все
83
нуждаемся в Боге, все жаждем вновь получить от
Него знак, что Он возвратился — Вездесущий,
Всевидящий.
Но ведь для этого умирающего и ему подоб¬
ных вообще не существует Бога. Фюрер заменил
им Бога. И то, что их чудовищные злодеяния ос¬
таются безнаказанными, только усиливает их ве¬
ру в то, что Бог — всего лишь выдумка ненавист¬
ных им евреев. Они не устают это «доказывать».
А теперь этот тип, лежащий здесь на смертном
одре, взывает к Богу?
Нас Бог действительно оставил, хотя мы Его
не изгоняли, не насмехались над Ним и вели се¬
бя по отношению к Нему вполне вежливо. Бла¬
гочестивые и безбожники одинаково перемалы¬
ваются дьявольской машиной уничтожения —
даже дети, которым еще не представилось повода
согрешить. Почему Бог покинул даже детей? По¬
чему Он не поможет маленькому Эли, которому
приходится отнимать у птиц крошки и съедать
их, чтобы не умереть с голоду?
— Бои в Крыму затянулись на много недель.
Мы понесли тяжелые потери. Повсюду возника¬
ли солдатские кладбища. Я слышал, что за ними
хорошо ухаживают. На каждой могиле обязатель¬
но должны расти цветы. Я обожаю цветы. У мо¬
его дяди в саду было столько красивых цветов, и
я мог часами лежать в траве и их разглядывать...
Значит, он уже знает, что, когда его положат в
могилу, ему будет обеспечен персональный под¬
84
солнух. Этот убийца будет чем-то владеть даже
после смерти. А я, чем буду владеть я?
— Мы приближались к Таганрогу. Там прочно
укрепились русские. Мы залегли в холмистой ме¬
стности, и от их передовых позиций нас Отделяли
едва ли сто метров. Их артиллерия работала не¬
прерывно. Мы засели в своих окопах и, стараясь
прогнать страх, пустили по рядам фляги со шнап¬
сом. Ждали команды, чтобы идти в атаку. Когда
команда наконец последовала, мы выбрались из
окопов и побежали вперед. Но я вдруг остановил¬
ся и застыл на месте как вкопанный. На меня что-
то нашло. Мои руки, до того крепко державшие
винтовку с примкнутым штыком, начали дрожать.
И тут я совершенно отчетливо увидел ту охва¬
ченную огнем семью — отца с ребенком на руках
и позади них мать, — они шли мне навстречу.
«Нет, во второй раз я не буду в них стрелять!» —
молнией пронеслось у меня в голове... И в этот
миг рядом со мной разорвалась граната. Я поте¬
рял сознание.
Очнувшись в лазарете, я понял, что ослеп. Ли¬
цо искромсано, на груди и спине тоже множест¬
во ран. Мое тело было одной сплошной раной.
Одна из сестер рассказывала мне, что хирург из¬
влек из меня целую банку гранатных осколков.
Чудо, что я вообще еще жив, — фактически я уже
мертв...
Он вздыхает. Его мысли вновь сосредоточива¬
ются на собственной персоне, он полон жалости
к самому себе.
85
— Боли становились все невыносимее. Все
мое тело исколото шприцами, которыми в меня
впрыскивают болеутоляющие средства... Меня
перевозили из одного полевого лазарета в другой,
но домой отправить не смогли... Это кара для ме¬
ня, я так хотел домой, к матери. Я заранее знаю,
что скажет мой неумолимо строгий отец, но ма¬
ма... она посмотрит на все другими глазами.
Я вижу, как сильно он мучается. Как упорно
заставляет себя ничего не приукрашивать. Он
вновь ищет мою руку, но я некоторое время на¬
зад намеренно убрал обе руки. Я засунул их себе
под ляжки, чтобы он не мог более их коснуться.
Не хочу больше терпеть прикосновение руки
убийцы.
Он пытается пробудить во мне сострадание.
Но разве он имеет право на сострадание? Вооб¬
ще, заслуживает ли сострадания кто-нибудь из
ему подобных? Вероятно, он верит, что вызовет у
меня жалость, потому что так полон жалости к
самому себе?
— Видите ли, — говорит он, — эти евреи умер¬
ли мгновенной смертью, им не пришлось стра¬
дать так тяжко, как мне... — хотя, конечно, они
не были виновны, как я.
Я готовлюсь встать и покинуть его — я, по¬
следний в его жизни еврей! Но он хватается за
меня и крепко держит своей белой, бескровной
рукой. Откуда в его руке столько силы? В руке,
лишенной крови?
86
— Меня таскали из лазарета в лазарет, домой
меня так и не отвезли. Но об этом я уже гово¬
рил... Я знаю, как со мной всё обстоит. С тех пор
как я лежу здесь, я постоянно вспоминаю... об¬
речен вспоминать тот страшный день в Днепро¬
петровске. Скорее бы все это кончилось! Но я
еще не могу умереть, увы, это зависит не от ме¬
ня — хотя, поверьте, я так часто этого желаю...
Временами я надеялся, что врач сам сделает мне
спасительный укол. Я молил его дать мне воз¬
можность заснуть и ничего не чувствовать. Но у
него нет ко мне жалости. Другим умирающим он
уже делал такие уколы и освобождал их от беспо¬
лезных страданий, я это знаю. Возможно, его ос¬
танавливает моя молодость. Ведь на табличке,
что висит в ногах кровати, обозначена дата мое¬
го рождения; может, это его удерживает? Поэто¬
му я вынужден лежать здесь и ждать смерти. Ме¬
ня мучают ужасные боли. Но еще больше мучает
совесть. Тот горящий дом и падающие из окна
отец, мать и ребенок не дают мне покоя.
Он замолкает и, напрягаясь, ищет слова.
Кажется, сейчас он наконец откроет, что ему
от меня нужно. Не потребовал же он найти меня
и привести сюда только для того, чтобы заполу¬
чить слушателя.
— В детстве я всей душой верил в Бога и в
церковные заповеди. Тогда все для меня было го¬
раздо проще. Если бы я еще сегодня мог так ве¬
рить, мне наверняка не было так тяжело умирать.
87
Я не могу умереть... пока не разберусь в себе и
не обрету душевный покой. То, что я сейчас го¬
ворю, — моя исповедь. Но разве это исповедь?
Письмо без ответа...
Этим он явно намекает на мое молчание. Но
что я могу ему сказать?
Передо мной лежит умирающий человек —
убийца, который не хочет быть убийцей, которо¬
го сделала таким безжалостная идеология. Он до¬
верчиво признается в совершенном им злодеянии
человеку, которому, возможно, уже завтра пред¬
стоит умереть от такого же злодеяния.
В его словах звучит искреннее раскаяние, хотя
он прямо об этом не говорит. Да в этом и нет
нужды, поскольку доказательством служит то,
как он об этом говорит, и еще то, что он говорит
все это мне.
— Поверьте, я был бы готов страдать еще
дольше и ужаснее, если бы только мог вычерк¬
нуть из жизни тот день и сделать так, чтобы ни¬
какого преступления в Днепропетровске не было.
Многие молодые немцы моего возраста ежеднев¬
но умирают на поле боя. Они сражались с воору¬
женным противником и пали от его руки. А я... я
лежу здесь и мучаюсь от сознания своей вины...
В последние часы моей жизни рядом со мной вы.
Я не знаю, кто вы, знаю только, что вы еврей. И
этого мне достаточно.
Я ничего не отвечаю. На своем поле боя он
«сражался» с безоружными, беззащитными муж¬
чинами, женщинами, детьми и стариками. Я ви¬
88
жу горящих людей, выбрасывающихся из окна
навстречу неминуемой гибели. Я тоже мог бы
оказаться среди этих людей, и воспоминание о
моей смерти помешало бы очередному эсэсовцу
укрыться от брошенной в него гранаты.
Он выпрямляется и складывает руки, словно
для молитвы.
— Я хочу уйти из жизни с миром, и для этого
мне нужно...
Чувствую, что какие-то слова он просто не в
состоянии выговорить. Я ведь здесь для того, что¬
бы его ободрить. Но я молчу.
— Знаю: то, что я вам рассказал, чудовищно.
Но в долгие ночи, когда я лежал без сна и ждал
смерти, я все время ощущал потребность расска¬
зать это какому-нибудь еврею... и попросить его
о прощении. Я только не знал, остались ли еще
евреи...
Я понимаю, что, вероятно, требую от вас
слишком многого, почти невозможного. Но без
вашего ответа я не смогу уйти из жизни со спо¬
койной душой.
В комнате воцаряется тишина, тревожная ти¬
шина.
Я смотрю в окно. Противоположный фасад за¬
лит потоками света. Должно быть, уже полдень,
думаю я, солнце стоит высоко. На двор падает
только совсем маленькая треугольная тень.
Какой контраст между сияющим солнечным
светом снаружи и тенью бесчеловечного времени
в этой комнате умирающего.
89
Тут лежит в кровати человек и хочет умереть с
миром в душе, но он этого не может, потому что
его не оставляет в покое совершенное им ужас¬
ное преступление. А рядом сидит другой человек,
обреченный на смерть, но он не хочет умирать,
потому что желает дожить до того дня, когда при¬
дет конец череде таких преступлений.
Двух людей, которые никогда не знали друг
друга, судьба свела вместе на несколько часов.
Один ожидает помощи от другого. Но тот сам
беспомощен и не может ничего для него сделать.
Я встаю, смотрю на умирающего, на его сло¬
женные руки. Между ними, мне чудится, восста¬
ет и расцветает подсолнух.
Я решился. Не произнеся ни слова, я выхожу
из комнаты.
Той сестры милосердия перед дверью больше
нет. Я забываю, где нахожусь, не иду к лестнице,
по которой меня провела сюда сестра. Но знако¬
мым путем, как привык ходить в свои студенчес¬
кие годы, я спускаюсь вниз по лестнице, ведущей
к главному входу. Только когда я замечаю броса¬
емые на меня удивленные взгляды сестер и вра¬
чей, я понимаю, что выбрал не тот путь. Но я не
поворачиваю назад. Никем не задержанный, я
выхожу через портал и огибаю здание в поисках
своих товарищей.
Сияющее солнце стоит в зените.
Мои товарищи сидят на траве и черпают ложка¬
ми суп из своих мисок. Я тоже внезапно ощущаю
90
голод: я еще успел вовремя, чтобы под конец по¬
лучить кое-какую еду.
Эту еду нам сегодня предоставил лазарет.
Мои мысли все еще в комнате умирающего
эсэсовца. Встреча с ним далась мне нелегко, она
взбудоражила меня.
— Где ты пропадал? — спросил меня один из
лагерников. Я не знал его имени. Всю дорогу от
лагеря он шел рядом со мной. — Я уж подумал,
ты смылся. Хорошенькая встреча ожидала бы нас
тогда в лагере.
Я промолчал.
Сгорая от любопытства, он задал следующий
вопрос:
— Тебе что-нибудь дали?
И он заглянул в мой пустой мешок для хлеба,
который я, как и все заключенные, носил через
плечо.
Он бросил на меня недоверчивый взгляд, буд¬
то хотел сказать: «Тебе наверняка что-то дали, но
ты не сознаешься, чтобы ни с кем не делиться».
Я не стал его разубеждать и промолчал.
— Ты что, злишься? — задал он следующий
вопрос.
— Вовсе нет, — ответил я. Я не хотел с ним го¬
ворить. Не сейчас.
После короткой паузы мы снова принялись за
работу. Контейнерам, которые мы уже опустоши¬
ли, казалось, не было конца. Грузовики, увозив¬
шие отходы, чтобы их вывалили их в каком-ни¬
91
будь пустынном месте и сожгли, возвращались
один за другим.
Куда, собственно, всё это отвозили? Но теперь
это было уже не так важно. Важно было лишь по¬
скорее убраться отсюда прочь.
Наконец нам разрешили прекратить работу.
Назавтра нам предстояло рано утром вновь быть
здесь, чтобы опять целый день погружать на ма¬
шины вонючие отходы.
На обратном пути в лагерь у наших охранни¬
ков — «аскари», — видимо, не было желания
петь. Погрузившись в молчание, они тяжело ша¬
гали рядом с нашей колонной и даже не подго¬
няли нас окриками. Мы все изнемогали от уста¬
лости, даже я, который половину дня провел в
палате умирающего. Неужели я действительно
просидел там несколько часов? Мои мысли по¬
стоянно возвращались к этой невероятной встре¬
че.
На тротуарах, вдоль которых мы шли, вновь
стояли люди и глазели на нас. Я был не в состо¬
янии различать их, они почему-то казались мне
все на одно лицо — вероятно, потому, что смот¬
рели на нас одинаково безучастно.
Но почему они должны вести себя иначе? Они
давно уже привыкли к виду наших колонн. Да и
что мы значили теперь для этих людей на краю
тротуара? Разве что у некоторых из них при
взгляде на нас наверняка пробуждалась нечистая
совесть.
92
Я вгляделся в лица людей пристальнее. Мы
шли теперь довольно медленно, так как тащив¬
шаяся перед нами по мостовой груженая конная
повозка поневоле принуждала нас не торопиться.
Наверняка среди них были и те, кто когда-то
в университете от души развлекался в преслову¬
тый «День без евреев». Разве одни немецкие на¬
цисты навлекли на нас эти невероятные бедст¬
вия? Разве не были замешаны в этом и все
другие, которые спокойно и без малейшего про¬
теста наблюдали, до какой степени можно уни¬
зить человека? Впрочем, были ли мы для них все
еще людьми?
Два дня назад заключенные, недавно посту¬
пившие в лагерь, рассказали нам очень грустную,
но также очень показательную историю о том,
как публично повесили трех евреев. Повешенные
еще болтались на веревках, и какой-то большой
шутник прицепил к каждому из них лист бумаги,
на котором было написано: «Кошерное мясо».
Столпившиеся вокруг смеялись до коликов над
этой удачной шуткой. И все время подходили но¬
вые зрители, которые останавливались и получа¬
ли удовольствие от этого презабавного спектакля.
И только одна женщина выразила возмущение
такой бестактностью. Толпа тут же накинулась на
нее и избила.
При общественных экзекуциях нацисты все¬
гда заботились о наличии зрителей. Они исполь¬
зовали эти публичные казни как средство запу¬
гивания и верили, что таким способом им
93
удастся подавить в зародыше всякое сопротивле¬
ние. Помимо того, им был известен антисемит¬
ский настрой довольно значительных слоев насе¬
ления, для которых эти казни были чем-то вроде
удовлетворения требований «хлеба и зрелищ» в
древнем Риме. Как рассказывали в лагере, мно¬
гим людям все это очень нравилось. Они не мог¬
ли насытиться, повсеместно расписывая и без¬
мерно приукрашивая все детали этих зверств, и
говорили о казнях, как о захватывающих цирко¬
вых представлениях. Вероятно, среди тех, кто
стоял сейчас на тротуаре и глазел на нас, были и
такие типы. Ибо я слышал смех. Возможно, их
лицевые мускулы растягивались сами собой, воз¬
бужденные зрелищем марширующего «кошерно¬
го мяса».
В конце Гродецкой улицы мы свернули нале¬
во — на Яновскую. Нам пришлось остановиться,
пропуская вереницу переполненных трамваев.
Люди гроздьями висели в дверях, цепляясь за по¬
ручни. Уставшие за день, они стремились побыст¬
рее попасть домой к своим семьям, вместе поси¬
деть за столом, накрытым к ужину, поиграть в
карты, поспорить о политике и послушать ра¬
дио — возможно, даже запрещенные заграничные
радиостанции. Их всех объединяло одно: у них
были мечты и надежды. Нас же вечером построят
на вечернюю поверку и, в зависимости от настро¬
ения эсэсовца, принимающего рапорт, заставят по
команде делать те или иные гимнастические уп¬
ражнения. Один или два часа мы будем, напри¬
94
мер, приседать — пока у отдающего команды не
пропадет настроение смотреть на наши приседа¬
ния. Или нас ожидает «витамин Д»: это означает
доски, которые мы часами будем носить мимо вы¬
строившихся охранников. Все вечерние работы мы
называли «витаминами». В отличие от настоящих
витаминов, они стоили некоторым из нас жизни.
Если обнаруживалось, что на перекличке кто-
то отсутствует, то сначала нас часами все снова
считали и пересчитывали, а затем за отсутствую¬
щего произвольно вызывали из рядов десять его
товарищей, которых вешали или расстреливали.
Для вящего устрашения...
И то же самое будет завтра и послезавтра —
пока нам всем не придет конец.
Завтра... Я не могу отвлечься от мыслей об
умирающем эсэсовце с перевязанной головой.
Завтра или послезавтра он получит свой подсол¬
нух. А меня завтра или послезавтра ждет бе¬
зымянная общая могила. Каждый день может
прийти приказ ликвидировать наш барак. Или
приказ ликвидировать все бараки. Или же я могу
оказаться одним из той десятки, которая будет
расстреляна в воспитательных целях.
По лагерю прошел слух, что вскоре из провин¬
ции прибудет новая партия заключенных. Тогда в
наших бараках не хватит места. И если лагерное
начальство не сможет раздобыть новых помеще¬
ний, оно разгрузит бараки иным способом. Это
очень простой способ: можно ликвидировать
прежних заключенных даже целыми бараками, и
95
тогда освободится достаточно места для вновь
прибывших.
Мы переживали подобное каждые два месяца.
Это помогало естественному процессу уменьше¬
ния нашей численности и все более приближало
командование к вожделенной цели: сделать Гали¬
цию и Львов «свободными от евреев».
Узкие грязно-серые дома на Яновской несли
на себе очевидные следы войны. Фасады пестре¬
ли многочисленными выбоинами от пуль и ос¬
колков, во многих окнах не было стекол, и окон¬
ные проемы закрыли картоном или заколотили
досками. Яновская была продолжением одного
из главных шоссе, ведущих во Львов, по ней ча¬
ще всего въезжали или входили в город. Именно
здесь происходили наиболее ожесточенные схват¬
ки, велся отчаянный огонь с обеих сторон, преж¬
де чем немцам удалось захватить Львов.
Когда дома кончились, глазу вновь открылись
длинные ряды могил на солдатском кладбище.
Подсолнухи выглядели теперь иначе, чем утром.
Их цветы повернулись и смотрели в другую сто¬
рону. Закатное солнце подарило им красноватое
мерцание, а на вечернем ветру они едва заметно
подрагивали. Казалось, они шепотом переговари¬
ваются друг с другом. Неужели они содрогаются
от вида угрюмых оборванных заключенных, кото¬
рые плетутся мимо них тяжелым, усталым ша¬
гом?
96
Когда мы приблизились к лагерю, «аскари» по¬
дали команду «запевай». Теперь они снова зорко
следили за тем, чтобы мы шагали в ногу и плечом
к плечу. Ведь здесь уже мог оказаться комендант,
который вышел бы понаблюдать за возвращаю¬
щимися арестантами. Он требовал, чтобы из лаге¬
ря стройными рядами выходили и так же входили
обратно сплошь веселые и поющие люди. «Аска¬
ри» должны были помогать коменданту сохранять
внешние приличия и следить за тем, чтобы за¬
ключенные вне лагеря производили благоприят¬
ное впечатление. Нас обязывали прямо-таки из¬
лучать радость, и пение являлось важной частью
этого спектакля.
Горе нам, если сыгранный спектакль не удов¬
летворял коменданта! Тогда нам приходилось не¬
сладко. И сопровождавшим нас «аскари» тоже
грозили неприятности, ведь в конце концов они
были всего лишь русские.
К счастью, коменданта нигде не было видно.
Мы смогли спокойно войти в лагерь, пристроив¬
шись в хвост другой рабочей группы, и встать
вместе со всеми на плацу.
В соседней колонне я заметил Артура и украд¬
кой ему подмигнул. Я буквально сгорал от нетер¬
пения рассказать ему обо всем, что со мной про¬
изошло в лазарете. И с Йозеком мне тоже надо
было об этом поговорить.
Я умирал от желания узнать, что скажут по по¬
воду моей истории эти столь разные люди.
97
Еще я хотел рассказать им о подсолнухах. По¬
чему ни один из нас до сих пор не обратил на них
внимания? Они наверняка цветут уже не одну не¬
делю. Неужели никто их не заметил? Или они
значат так много только для меня?
Нам повезло, перекличка закончилась не¬
обычно быстро. Я тронул Артура за плечо. Он
обернулся.
— Ну, как прошел день? Тяжелая была рабо¬
та? — Он дружески мне улыбнулся.
— Не так страшно. Знаешь, где я был?
— Нет. Откуда мне знать?
— В нашем Политехникуме.
— Вот как? Наверное, все же в другой роли,
чем прежде.
— Это уж точно.
— Ты выглядишь каким-то подавленным. —
Артур окинул меня внимательным взглядом.
Я не ответил. Толпа напирала, продвигая нас
к кухне. Скоро мы уже стояли в длинной очере¬
ди заключенных, ожидавших раздачи еды.
Кивнув нам, мимо прошел Йозек с уже напол¬
ненной миской.
Мы тоже получили наши порции баланды и
быстро выхлебали их на ступеньках перед входом
в барак. На плацу заключенные собирались
группками, рассказывая о том, что произошло за
день. Вероятно, иным удалось, работая во внеш¬
них командах, кое-что принести в лагерь, и те¬
перь они обменивались своими трофеями.
98
Я невольно перевел взгляд на «кишку», узкий
огороженный проход, огибавший внутреннюю
часть лагеря. Он выводил к песчаным карьерам,
где обычно производились расстрелы.
Иногда там, в «кишке», люди по два, а то и по
три дня дожидались своей очереди. Эсэсовцы ли¬
бо выводили отдельных людей из бараков, либо
находили их в городе, где те скрывались. Так как
СС работало «рационально», им было удобнее рас¬
стреливать не поодиночке, а сразу целую группу, и
нередко проходило несколько дней, прежде чем
заключенных накапливалось достаточно и, по
мнению эсэсовца, ответственного за расстрелы,
«имело смысл» выводить их к карьерам.
В тот вечер в «кишке» было пусто. Артур объ¬
яснил мне почему.
— Сегодня их там было пятеро. Им не при¬
шлось особенно долго ждать, Кауцор вскоре всех
вывел. Один из нашего барака знал этих людей,
он рассказал, что их захватили врасплох в городе:
они прятались в хорошо замаскированном убе¬
жище.
Артур говорил совершенно спокойно, будто
сообщал что-то будничное, само собой разумею¬
щееся.
— С ними был ребенок, — продолжил он, не¬
много помолчав, и теперь его голос уже не казал¬
ся таким спокойным. — Светленький, с чудесны¬
ми волосиками. Совсем не похож на еврея. Его
родителям стоило отдать его в арийскую семью,
он бы там нисколько не выделялся.
99
Я снова вспомнил об Эли.
— Артур, я должен тебе кое-что рассказать. В
нашем Политехникуме сейчас лазарет, и там со
мной произошла странная история. Не могу по¬
забыть о ней и не могу решить, был ли я прав. Ты
наверняка станешь надо мной смеяться, но все
же мне хотелось бы знать, что ты об этом ска¬
жешь. Кому, как не тебе, судить.
— Ну, выкладывай!
— Не сейчас. Лучше немного позже. Хочу,
чтобы Йозек тоже слышал.
Нужно ли мне вообще рассказывать им о встре¬
че с эсэсовцем? Я невольно подумал о тех пятерых
в «кишке», которых сегодня лишили жизни.
Какое мне, собственно, дело до этого немца,
разве его судьба должна волновать меня больше,
чем судьба пятерых расстрелянных? Возможно,
будет лучше, если я вообще никому не расскажу
о часах, проведенных мной в комнате умирающе¬
го, утаю это даже от своих друзей? Что может
сказать мне циник Артур? Наверняка лишь что-
нибудь вроде этого: «Взгляните-ка на него, он не
в силах позабыть умирающего эсэсовца, когда
здесь часами мучают и убивают столько евреев».
И еще добавит то, что меня глубоко заденет: «Ты,
верно, заразился от нацистов и поверил, что нем¬
цы лучше нас, вот и не можешь выбросить из го¬
ловы этого типа».
Затем он начнет припоминать все новые исто¬
рии о преступлениях нацистов, о том, как они
поступали с нами и с нашими близкими. В кон¬
100
це концов он доведет меня до того, что мне ста¬
нет стыдно.
Возможно, все же лучше затаиться и промол¬
чать.
Но по крайней мере, о подсолнухах на солдат¬
ском кладбище я должен им рассказать.
Я вышел на аппельплац поздороваться и пого¬
ворить с несколькими знакомыми.
Внезапно кто-то отчетливо прошептал:
— Шесть!
То был условленный пароль, возвещавший по¬
явление эсэсовцев. Я поспешил назад к Артуру,
все еще сидевшему на ступеньках, и сел рядом с
ним. Два эсэсовца подошли к бараку, в котором
размещалась лагерная капелла.
— Так что же ты хотел нам рассказать? — по¬
интересовался Артур.
— Я передумал, ничего вам не расскажу. Ско¬
рее всего, вы меня не так поймете, или даже об¬
ругаете, или...
— Или что? Говори же! — настаивал Артур.
Я молчал.
— Ну, как знаешь. — Артур встал. Казалось,
он был раздосадован.
Два часа спустя я все же не выдержал и всё им
рассказал.
Мы сидели на нарах в нашем душном бараке.
Я рассказал сначала о нашем походе в город и о
подсолнухах.
— Неужели ни один из вас их не видел? —
спросил я.
101
— Конечно, я их видел, — отозвался Йозек. —
А что в них такого особенного?
Мне не хотелось ему объяснять, почему под¬
солнухи произвели на меня такое глубокое впе¬
чатление. Я не сказал, что из-за них я позавидо¬
вал мертвым немцам и что меня охватило
неодолимое детское желание тоже когда-нибудь
заиметь такой подсолнух.
— Это для красоты, — вмешался Артур. —
Немцы — большие романтики. Но когда они бу¬
дут гнить под землей, им это уже не поможет. Их
подсолнухи так же завянут и сгниют, как их
мертвые тела, и на следующий год от этих цветов
ничего не останется, конечно, если не посадят
новые. Но кто знает, что будет на следующий
год?
Я продолжил свой рассказ. Подробно описал,
как ко мне подошла сестра, настойчиво попроси¬
ла пойти с ней и привела в бывшее помещение
деканата. Рассказал об умирающем эсэсовце, о
том, как я несколько часов просидел на его кро¬
вати, и постарался как можно более подробно пе¬
ресказать его исповедь. Ребенка, отец которого
выпрыгнул с ним на руках на верную смерть, я
назвал Эли.
— Неужели этот человек знал, как зовут ре¬
бенка? — спросил один из моих слушателей.
— Нет, конечно, это я для себя так его назвал,
потому что он напомнил мне одного мальчика из
львовского гетто.
102
Я рассказывал и рассказывал, и когда нена¬
долго замолкал, чтобы собраться с мыслями, то
мои слушатели нетерпеливо требовали продолже¬
ния. Почему они не насмехались надо мной, по¬
чему не бранились, как я ожидал? Я ведь думал,
что моя история вызовет у них именно такой от¬
клик. Когда под конец я сообщил им, что умира¬
ющий просил у меня прощения за свое преступ¬
ление, а я ушел от него, не произнеся ни слова,
я увидел на губах Йозека едва заметную улыбку.
Мне было ясно, что это знак одобрения, и я кив¬
нул ему. Первым молчание нарушил Артур:
— Одним меньше!
Эти слова точно выразили то, что все мы тог¬
да чувствовали. Но — несмотря на это — ответ
Артура чем-то меня не удовлетворил.
Один из заключенных, который вообще вы¬
сказывался очень редко — его звали Адам, — за¬
думчиво произнес:
— Ты, значит, видел умирающего убийцу. Хо¬
тел бы я видеть это хоть десять раз на дню. Такие
посещения больных мне бы не наскучили.
Я не мог осуждать его за такой цинизм. Он
изучал строительное дело в нашем Политехнику¬
ме, но вынужден был прервать учебу, когда нача¬
лась война. После прихода русских работал на
стройке. Все, чем владела его семья, было нацио¬
нализировано. Когда осенью 1940 года началась
большая волна депортаций в Сибирь, которая
распространялась на всех лиц «чуждого социаль¬
ного происхождения», и прежде всего на тех, кто
103
принадлежал к зажиточным слоям общества, он
вместе со своей семьей месяцами прятался от
властей.
При нашей первой встрече в лагере он сказал
мне:
— Видишь, стоило все же прятаться от рус¬
ских. Если бы они меня зацапали, я был бы сей¬
час в Сибири. А так я все еще здесь. Правда, та¬
кое ли уж это большое преимущество...
Казалось, он относился ко всему, что твори¬
лось вокруг, совершенно безучастно. Его невеста
была в гетто, и до него доходили о ней лишь
скудные сведения. Она как будто должна была
исполнять какую-то работу в одной из войсковых
частей вермахта.
Уже в первые дни после прихода немцев его
родители погибли. Он был к ним очень привязан.
Иногда, из-за своей внешней отрешенности, он
казался мне каким-то лунатиком. Он все больше
отдалялся от других, и мы не вполне понимали
причину такого отдаления. Но затем и нам стало
не лучше, чем ему. Мы тоже получили известия о
гибели почти всех своих близких.
Моя история, кажется, частично вывела его из
привычной апатии.
После моего рассказа все долго молчали.
Затем Артур поднялся и перешел к другим на¬
рам, где кто-то пересказывал переданные по ра¬
дио последние известия. Другие тоже разошлись
и занялись своими делами.
Только Йозек остался рядом со мной.
104
— Знаешь, — начал он, — когда я услышал о
твоей встрече с эсэсовцем, я сначала испугался,
что ты и в самом деле его простишь. Но ты сде¬
лал бы это от лица людей, которые вовсе не дава¬
ли тебе таких полномочий. То зло, что причини¬
ли тебе лично, ты можешь при желании простить
и забыть. За это ты будешь отвечать только пе¬
ред самим собой. Но, поверь мне, было бы ве¬
личайшим грехом взвалить на свою совесть чу¬
жие муки.
— Но мы, — заметил я, — общность, спаянная
единой судьбой, где одному приходится отвечать
за других.
— Послушай, друг, — продолжал Йозек. — В
жизни каждого человека бывают удивительные
моменты, которые почти никогда не повторяют¬
ся, и именно такой ты пережил сегодня. Поверь
мне, что это так, даже если нам сейчас не под си¬
лу рассуждать обо всем спокойно и беспристраст¬
но. Конечно, задача оказалась для тебя не про¬
стой. И по тебе заметно, что ты не вполне собою
доволен. Но могу тебя успокоить: в твоем поло¬
жении я действовал бы точно так же. Возможно,
с той лишь разницей, что я не простил бы этого
человека совершенно сознательно и с полной
убежденностью в своей правоте. Ты сделал это
скорее неосознанно. И теперь не знаешь, пра¬
вильно ли ты поступил. Уверяю тебя: ты сделал
все совершенно правильно. Ты не можешь про¬
щать ему то зло, которое он причинил другим.
Лицо Йозека преобразилось.
105
— Я верю в «хаолам эмес», то есть в жизнь по¬
сле смерти — в другом, лучшем мире. Там мы все
встретимся, когда умрем. И что было бы, если бы
ты его простил? Разве не пришли бы к тебе тог¬
да те мертвые из Днепропетровска и не спросили
бы тебя: «Кто дал тебе право прощать нашего
убийцу?»
Я задумался об этом и в сомнении покачал го¬
ловой.
— Йозек, — сказал я, — ты слишком все уп¬
рощаешь; вероятно, потому, что так сильна твоя
вера в Бога. Я мог бы привести тебе много возра¬
жений, хотя и не считаю, что поступил непра¬
вильно, и я не захотел бы ничего изменить, даже
если бы мог. Скажу тебе лишь одно, и мне инте¬
ресно, что ты на это ответишь: тот эсэсовец дей¬
ствительно проявил глубокое, искреннее раская¬
ние, он ни разу не попытался смягчить или
приукрасить то, что совершил. Я видел, что это
действительно его мучит...
Йозек перебил меня:
— Эта мука есть лишь малая часть его наказа¬
ния — заслуженного им наказания. Ибо написа¬
но: не убий!
— Однако, — продолжал я, — у него нет боль¬
ше времени покаяться в своих преступлениях или
их загладить.
— Что ты разумеешь под словом «загладить»?
Наконец он, как и хотел, загнал меня в угол.
Я не знал ответа на его вопрос и попытался зай¬
ти с другого конца.
106
— Он ведь рассматривал меня как символ, как
представителя других евреев, с которыми у него
уже не будет возможности поговорить. И кроме
того, он выказал мне свое раскаяние доброволь¬
но, его никто к этому не принуждал. Он не был
рожден убийцей и не хотел умереть убийцей. Это
нацисты заставили его убивать беззащитных лю¬
дей.
— Значит, ты думаешь, что должен был его
простить?
В этот момент к нам снова подошел Артур. Он
услышал только последние слова Йозека и сразу
ответил на них в свойственной ему спокойной
манере:
— «Сверхчеловек» потребовал от «недочелове¬
ка» совершить нечто сверхчеловеческое. Если бы
ты его простил, ты в течение всей оставшейся
жизни не простил бы этого самому себе.
— Артур, — взмолился я, — я не выполнил по¬
следней просьбы умирающего. Я не дал ему ни¬
какого ответа на его последний вопрос!
— Но ты должен со мной согласиться, что есть
просьбы, выполнить которые человек не может и
не имеет права. Этот умирающий должен был по¬
просить, чтобы к нему привели священника его
церкви. С ним он быстро бы сговорился. — В
словах Артура прозвучала легкая, едва заметная
ирония.
— Почему? — спросил я. — Разве нет всеоб¬
щего закона вины и греха? Скажи, разве у каж¬
107
дой религии своя особенная этика, свои особен¬
ные ответы?
— Вероятно, да.
Больше говорить было не о чем. Все, что во¬
обще можно было об этом сказать — в этом ок¬
ружении и в это ужасное время, — было уже ска¬
зано. Позже мы более не затрагивали эту тему.
Чтобы отвлечь нас, Артур сообщил нам по¬
следние новости, которые сам только что узнал.
Но я слушал его вполуха.
Мысленно я все еще находился в комнате
умирающего.
Возможно, Артур был все же не прав. Вероят¬
но, его слова о «сверхчеловеке», потребовавшем
от «недочеловека» нечто сверхчеловеческое, были
всего лишь эффектной фразой, которая, хотя и
звучала убедительно, не содержала в себе дейст¬
вительного ответа. Эсэсовец вовсе не выступал
передо мной в роли надменного представителя
высшей расы. Очевидно, мне не удалось изобра¬
зить всё так, как я это пережил: обреченный на
смерть «недочеловек» у смертного одра обречен¬
ного на смерть эсэсовца... Возможно, я не смог
передать саму гнетущую атмосферу, царившую в
комнате умирающего, и его отчаяние при мысли
о совершенном им злодеянии, которое так отчет¬
ливо проступало в его словах.
И вдруг меня одолело сомнение: а было ли все
это на самом деле, действительно ли я побывал
сегодня в нашем старом деканате?
108
Все происшедшее вдруг показалось мне подо¬
зрительным и нереальным, как само наше суще¬
ствование в те дни.
Нет, этого просто не могло быть; наверняка
это всего лишь грезы, порожденные голодом и
отчаянием. Теперь все это казалось мне таким
странным! Как вся наша жизнь!
Заключенного в лагере постоянно гнали туда
или сюда, и он поневоле должен был учиться
подчиняться и идти, куда его гонят. Здесь ничто
более не следовало законам нормальной, при¬
вычной жизни, все имело иную, собственную ло¬
гику. Какие законы здесь вообще еще действова¬
ли? Только закон смерти — он один оставался
надежной исходной точкой для всех наших рас-
суждений. Только он был надежен, только на не¬
го можно было опереться, и только он был окон¬
чателен. Все остальное оказывалось не столь
важным. И это приводило ко всеобщей пассив¬
ности. Мы всегда говорили себе, что этот единст¬
венный закон неизбежно будет исполнен; мы го¬
ворили себе также, что мы тут ничего не можем
изменить. Это нас парализовало, и унылая апа¬
тия, в которой все мы пребывали, была отчетли¬
вым проявлением безнадежности нашего здешне¬
го существования.
Ночью во сне я увидел Эли. Его лицо показалось
мне еще бледнее, чем обычно, в глазах застыл не¬
мой, никогда не получавший ответа вопрос: по¬
чему? Отец нес его на руках навстречу мне. Ког¬
109
да они подошли ближе, он закрыл глаза мальчи¬
ка ладонью.
За их спиной бушевало чудовищное море ог¬
ня, оно гнало их вперед, ко мне. Я протянул Эли
руку, но он уже был лишь бесформенным, окро¬
вавленным куском плоти...
— Что ты кричишь? Сюда может прийти ох¬
рана!
Артур тряс меня за плечо. Слабый свет лам¬
почки, падавший с потолка, на мгновение осве¬
тил его лицо.
Я еще не совсем проснулся. Перед моими гла¬
зами танцевало нечто похожее на перевязанную
голову с желтыми, причудливыми пятнами на
грязно-белых бинтах. Или это тоже сон? Я видел
все вокруг словно сквозь матовое стекло.
Артур заметил, что я не отошел ото сна.
— Я принесу воды; возможно, у тебя жар.
Он снова встряхнул меня. Только теперь я по-
настоящему его увидел и все вспомнил.
— Артур, — пробормотал я, запинаясь, — Ар¬
тур, я не хочу завтра снова идти на работу в тот
лазарет.
— Во-первых, это уже не завтра, а сегодня, а,
во вторых, тебя, может быть, назначат в другую
команду. — Артур пытался меня успокоить. Он
говорил со мной, как с ребенком: — Теперь, по¬
сле встречи с умирающим эсэсовцем, ты бо¬
ишься смотреть в лицо смерти? Но вспомни,
сколько ты видел евреев, брошенных подыхать,
но почему-то раньше ты не кричал по ночам.
НО
Смерть — наша постоянная спутница, разве ты
позабыл? Естественно, она не щадит и эсэсов¬
цев.
Едва ты вчера вечером заснул, как сюда вло¬
мились охранники, чтобы увести одного из нас —
того, что лежал в самом заднем ряду, в углу. Они
дотащили его только до двери барака. Там он
окончательно обессилел и упал. Без единого
вскрика. Он был мертв. Проснись по-настояще¬
му, встань и пройди со мной! Взгляни на него,
тогда ты поймешь, что слишком уж расчувство¬
вался из-за своего эсэсовца.
Почему Артур так выделил слова «своего эсэ¬
совца»? Хотел меня задеть?
Он заметил, как я вздрогнул.
— Чуткость сегодня — роскошь, которую мы
себе позволить не можем. Ни ты, ни я.
— Артур, — повторил я, — я не хочу больше в
лазарет.
— Если тебя туда распределят, ты ничего не
сможешь сделать. Другие будут туда рваться,
только чтобы провести день вне лагеря. — Мне
кажется, Артур не вполне меня понял.
— Я еще не рассказал вам о людях, стоявших
на тротуарах. Я не хочу больше никого из них ви¬
деть. Не хочу, чтобы они видели меня. Я не нуж¬
даюсь в их сочувствии!
Тут Артур сдался. Он повернулся на своих на¬
рах на другой бок и сразу заснул.
Я старался не поддаваться сну. Боялся повто¬
рения моего кошмара. Но тут я ясно увидел пе¬
111
ред собой людей, стоящих на улице. И до меня
внезапно дошло, что наш разрыв с окружающим
миром окончателен, его уже не устранить. Нас,
евреев, не любили — и это началось не сегодня.
Наши отцы вышли однажды из тесноты гетто в
открытый мир. Они упорно трудились и прилага¬
ли все силы, чтобы добиться признания своих со¬
граждан. Но то были тщетные старания. Если ев¬
реи замыкались от мира в своем кругу, их
рассматривали как чужаков, как инородное тело.
Если же они выходили из своего мирка, чтобы
приспособиться и жить, как все, их считали не¬
желанными гостями или даже захватчиками, ко¬
торых ненавидели и отвергали. Рано, очень рано
я ощутил, что родился человеком второго сорта.
Один умный человек сказал мне однажды, что
евреи — это соль земли. Поляки, как видно, по¬
лагали, что их земля пересолена. Возможно, по¬
этому мы лучше, чем евреи других стран, были
подготовлены к тому ужасу, что нам преподнесли
нацисты. И вероятно, поэтому мы оказались бо¬
лее способными к сопротивлению.
С самого нашего рождения мы жили вместе с
поляками, с ними росли, с ними ходили в шко¬
лу. И, несмотря на все это, оставались для них
чужими. Лишь очень редко между евреем и неев-
реем протягивалась нить взаимного понимания.
И в этих отношениях ничего не изменилось до
сегодняшнего дня, хотя и поляки теперь стали
порабощенным народом. Даже объединенные об¬
щим несчастьем, мы были разделены непреодо¬
112
лимыми барьерами, сломать которые были про¬
сто не в состоянии.
Я не хотел больше видеть этих людей на ули¬
цах и, вопреки всем опасностям, предпочел бы
остаться в лагере.
Утром во время поверки мы вновь стали ря¬
дом. Я надеялся, что хотя бы Артур попадет в од¬
ну команду со мной, если меня снова заставят
идти в лазарет. И тогда я попрошу сестру, когда
она опять за мной придет, взять вместо меня Ар¬
тура. Но возможно также, что нас опять заберет
кто-нибудь с Восточной железной дороги. Ин¬
спектор пообещал это нашему «главному еврею».
Тут на плац вышел лагерный комендант. Он
отнюдь не всегда присутствовал при утренних по¬
верках, вчера, например, его не было. Он привел
на поводке большого черного добермана. Рядом с
комендантом стали старший офицер, отвечавший
за перекличку, и другие эсэсовцы. Сначала всех
заключенных пересчитали. К счастью, число со¬
шлось.
Затем комендант выкрикнул во все горло:
— Построиться по рабочим командам! Распре¬
деление вчерашнее!
На плацу началась дикая суматоха. Ведь пер¬
воначально заключенным было велено постро¬
иться не по командам, а по баракам. Коменданту
наше перестроение по рабочим группам показа¬
лось недостаточно быстрым. Он начал орать.
Услышав грозный голос хозяина, доберман
стал проявлять признаки беспокойства и рваться
113
вперед. Мы с ужасом ожидали момента, когда ко¬
мендант спустит его с поводка. Но и тут нам се¬
годня немыслимо повезло. Из комендатуры вы¬
шел роттенфюрер, подошел к коменданту и
что-то ему сообщил. Наверное, позвал к телефо¬
ну; во всяком случае, комендант торжественным
маршем проследовал к комендатуре и скрылся в
ней вместе со своим псом. Это избавило нас от
одной из уже привычных жестоких сцен, после
которых на плацу всегда оставались раненые, а
иногда и убитые.
Когда мы выходили из внутренних ворот, ла¬
герная капелла заиграла бравурный марш.
Эсэсовцы внимательно осматривали наши ря¬
ды. Время от времени они вытаскивали из колон¬
ны того, кто хоть чем-нибудь привлек их внима¬
ние. Например, маршировал не в ногу, сбивался
с ритма или казался более слабым, чем другие.
Такого арестанта неизбежно ждала «кишка».
Нас сопровождали те же «аскари», что и нака¬
нуне. Из караулки вышел эсэсовец и встал во
главе колонны.
По дороге я все думал, где бы мне спрятаться,
если сестра вновь станет меня искать. Но мне ни¬
чего не приходило в голову.
Слева от нас снова показалось кладбище с
подсолнухами. Скоро здесь будет лежать и тот
эсэсовец из лазарета. Я попытался представить
себе место, которое уже предназначено для него.
Еще вчера мои товарищи, как зачарованные,
смотрели на цветы, а сегодня никто не обращал
114
на них никакого внимания. Лишь немногие бро¬
сали беглый взгляд в сторону кладбища. Однако
я обводил глазами ряд за рядом, чуть не спотыка¬
ясь о ноги идущего передо мной.
На Гродецкой беззаботно играли дети. Им не
нужно было прятаться при виде человека в воен¬
ной форме. Понимают ли эти ребятишки, какие
они счастливцы?
Заключенный, шагавший рядом со мной, ука¬
зал мне на одного из прохожих:
— Видишь того типа в тирольской шляпе? Ну
да, в шляпе с пером!
— Конечно, немец, — сказал я.
— В известной степени. Теперь он фолькс-
дойч, а еще три года назад был ярым поляком.
Я хорошо его знаю, он жил недалеко от моего
дома. Когда грабили еврейские магазины, он
бросался одним из первых и, когда избивали ев¬
рейских студентов, тоже бил одним из первых.
Естественно, когда пришли русские и стали ис¬
кать функционеров из местных, он немедленно
объявился и заявил о своей готовности им слу¬
жить. Такие типы всегда на стороне победите¬
лей. Теперь он фольксдойч. Вероятно, раскопал
какого-нибудь немецкого предка. Но спорю, что
еще недавно он не знал и десяти немецких слов.
Нацисты нуждаются в подобных людях. Без их
помощи им не обойтись.
Действительно, до нас постоянно доходили
слухи о фольксдойчах, которые стремились стать
стопятидесятипроцентными немцами. Во время
115
работы в городе нам приходилось всячески их ос¬
терегаться. Они изо всех сил старались доказать,
что не напрасно получают свои особые продо¬
вольственные карточки для фольксдойчей. Неко¬
торые, пытаясь компенсировать свое неудовле¬
творительное знание немецкого языка, были
нарочито грубы с поляками и евреями. Привиле¬
гированное положение им предстояло еще заслу¬
жить, и поэтому существование поляков и евреев
было им как нельзя кстати.
Когда мы наконец оказались в университет¬
ском дворе, «аскари» тотчас, как и вчера, улег¬
лись на газоне и вновь стали скручивать цигарки.
Нас уже поджидали два знакомых грузовика.
Контейнеры были доверху набиты вонючими от¬
ходами. У стены стояли лопаты, каждый из нас
взял по одной.
Я хотел взобраться на один из грузовиков. Мо¬
жет, там сестра меня не найдет. Но солдат сани¬
тарной службы уже выделил для этой работы че¬
тырех заключенных и счел, что этого достаточно.
И тут я снова увидел ту сестру милосердия,
она с ищущим взглядом переходила от одного к
другому.
Неужели это должно повториться? Неужели
он что-то еще хочет мне сказать? Она ведь легко
может убедить его, что она меня не нашла... Но
вот она уже стоит передо мной.
— Пожалуйста, — сказала она, — пойдемте со
мной.
116
— Я должен здесь работать, — попытался я
объяснить ей свое подневольное положение.
Она молча подошла к солдату, который за на¬
ми надзирал, и быстро сказала ему несколько
слов, указав на меня, а затем вернулась обратно.
— Поставьте лопату и пойдемте со мной! —
решительно сказала она.
С замиранием сердца я последовал за ней.
Второго такого признания я не выдержу. Это вы¬
ше моих сил. Но более всего я боялся, что уми¬
рающий вновь повторит свою просьбу о проще¬
нии. Возможно, на этот раз я проявлю слабость и
соглашусь, лишь бы поскорее от него отделаться
и закончить этот мучительный разговор.
Но к моему изумлению, сестра повела меня
совсем другим путем, не тем, что водила вчера. Я
терялся в догадках, куда она меня ведет. Может,
в морг?
Наконец она поискала ключ на большой связ¬
ке и отперла какую-то дверь. За дверью видне¬
лось помещение, похожее на склад или кладовую.
На деревянных стеллажах, доходивших почти до
потолка, были навалены узелки и коробки.
— Подождите здесь, — велела сестра. — Я сей¬
час вернусь.
Мне вновь показалось, что время останови¬
лось. Зачем она меня сюда привела, что ей от ме¬
ня нужно?
Через несколько минут сестра вышла из кла¬
довой. В руках она держала узелок — что-то за¬
вернутое в зеленый брезент и перевязанное шну¬
117
ром. На нашивке из белого холста был написан
адрес.
По коридору кто-то шел прямо на нас. Сестра
испуганно оглянулась и потянула меня за собой в
еще не запертое помещение кладовой. Затем ог¬
лядела меня испытующим взглядом и сказала:
— Человек, у которого вы вчера были, умер
сегодня ночью. Я пообещала ему, что отдам вам
все оставшиеся после него вещи. Только его до¬
рогие часы он просил переслать матери, я это
сделаю. А вот его вещи!
— Сестра, я не хочу ничего из его вещей, ото¬
шлите всё его матери.
Она без слов протянула мне узелок, но я от¬
странился, чтобы даже не коснуться его рукой.
— Пожалуйста, пошлите всё его матери, у вас
же есть ее адрес.
Сестра неуверенно взглянула на меня, а я, рез¬
ко повернувшись, быстро зашагал прочь. Она не
пыталась меня задержать. Она явно не знала, о
чем вчера говорил со мной умирающий эсэсовец.
Во дворе я снова принялся за работу. Мимо
нас проехала похоронная машина. Интересно,
того эсэсовца уже увезли?
— Эй, парень, да ты спишь на ходу! — наорал
на меня санитар.
Один из «аскари», услышав это, тут же поспе¬
шил к нам с поднятой плетью. Но санитар его
отослал.
Обед мы в этот раз получили не из лазарета.
На машине привезли нашу обычную лагерную
118
пищу — дурно пахнущую баланду, которая высо¬
копарно именовалась «суп». Тем не менее, стос¬
ковавшись по горячему, мы в мгновение ока опу¬
стошили наши миски. Вокруг нас стояли солдаты
и глазели на нас так, будто они присутствуют при
кормлении зверей в зоопарке.
Остаток дня я провел как в трансе. Стоя на
плацу во время вечерней поверки, я едва мог
вспомнить, когда и как вернулся в лагерь. Даже
подсолнухов я на обратном пути не заметил.
Позднее я сообщил друзьям о смерти эсэсов¬
ца, но это не произвело на них особого впечатле¬
ния. Вся эта история была для них уже не инте¬
ресна. Мои друзья сочли, что я поступил
правильно, ничего не взяв из вещей умершего. А
Йозек высказался так:
— В твоей вчерашней истории имеется не¬
сколько пунктов, над которыми, пожалуй, следо¬
вало бы еще поразмышлять. Я охотно поговорил
бы об этом с реб Шломо, но, к сожалению, его
больше нет в живых. Он легко сумел бы тебе до¬
казать, что ты вел себя абсолютно правильно, а
так, я боюсь, ты еще долго будешь мучиться из-
за этой истории. Притом я действительно убеж¬
ден, что тебе не нужно больше об этом думать.
Ты не имел права его простить, ты не мог его
простить, и ты не должен был брать его вещи —
все это совершенно бесспорно.
После недолгого молчания он продолжил:
— В Талмуде сказано...
119
Артур буквально обрушился на Йозека — не¬
поколебимое самообладание на сей раз ему изме¬
нило:
— Оставь его, не своди его с ума, ты же ви¬
дишь, ему и так все это снится, и он кричит во
сне! Кто знает, может, уже следующей ночью
произойдет несчастье. Достаточно хоть одному из
караульных услышать крик, как тот, недолго ду¬
мая, всадит ему пулю в лоб. Как будто вы не зна¬
ете таких случаев!
А ты, — обратился Артур ко мне, — прекрати
наконец это безумие! Твое самоистязание ни к
чему не приведет. Если нам суждено пережить
эту эпоху — во что я лично не верю — и если
снова возродится разумный мир с людьми, ува¬
жающими мнение друг друга, то у нас будет до¬
статочно времени для дискуссий о вине и проще¬
нии. Тогда прозвучат голоса «за» и «против», и
найдутся люди, которые никогда не простят тебе,
что ты его не простил. Но тот, кто здесь не был
и не испытал всего этого на собственной шкуре,
все равно нас никогда до конца не поймет. А се¬
годня ломать над этим голову и дискутировать —
роскошь, которую мы не можем себе позволить.
Артур прав, я вынужден был это признать. Но¬
чью я спал глубоким сном, и мне не снился Эли.
Во время следующей утренней поверки нас
уже поджидал инспектор Восточной железной
дороги. Мы смогли вернуться на свои прежние
рабочие места в железнодорожных мастерских.
120
С тех пор прошло более двух лет. Это были годы
неимоверных страданий и постоянного ожидания
смерти. Однажды и меня уже готовились расстре¬
лять, и я только чудом остался жив. Поэтому мне
известно, о чем думает человек за несколько се¬
кунд до смерти.
Артура больше нет. Он умер на моих руках во
время эпидемии тифа. Я крепко держал его, ког¬
да он хрипел и метался в агонии, и вытирал плат¬
ком пену с его губ. В последние часы он потерял
сознание из-за сильного жара. Для него это была
милость, подаренная судьбой.
Адам во время работы растянул ногу. На сле¬
дующий день, когда он вновь встал в колонну и
зашагал со своей рабочей командой, охранник
тотчас же заметил его хромоту. Его отправили в
«кишку». Там ему пришлось ждать два дня, преж¬
де чем его расстреляли вместе с другими.
И Йозека уже тоже нет в живых, но я узнал об
этом не сразу, а лишь некоторое время спустя.
Когда наша группа выполняла срочную работу на
железной дороге и оставалась там на ночь в ка¬
зармах, однажды к нам из лагеря прибыло попол¬
нение. Среди этих людей был и Йозек. Я даже
смог немного о нем позаботиться, так как наше
положение на Восточной дороге было несколько
лучше, чем где-либо еще. Мы имели постоянную
связь с внешним миром, нам давали больше еды.
Я обратился к «старшему» нашей еврейской ра¬
бочей группы, умоляя его добиться для Йозека
разрешения остаться с нами. Но это было не про¬
121
сто, помочь кому-то одному нам почти никогда
не удавалось. Тогда мы попытались уговорить од¬
ного из бригадиров, чтобы он попросил дополни¬
тельных постоянных рабочих из лагеря. Но и тут
мы тоже ничего не добились.
Через несколько дней в мастерские вновь
пришла подсобная группа из лагеря, но уже без
Йозека. Он заболел, и его включили в команду,
работавшую в лагере. Поскольку у него была вы¬
сокая температура, он время от времени, когда
силы его покидали, присаживался на землю. То¬
варищи Йозека предостерегали его несколько
раз, как только вблизи показывался эсэсовец. Но
Йозек так ослаб, что уже не мог встать. И тогда
его сразила пуля. В наказание за «уклонение от
работы».
Из всех людей, которых я прежде хорошо
знал, почти никого не осталось в живых. Скоро
должна прийти и моя очередь.
Однако мое время, видимо, еще не истекло.
Смерть все еще не желала меня прибрать.
Когда немцы начали отступать под натиском
Красной Армии, лагерь был расформирован, и
длинные колонны заключенных под охраной
многочисленных эсэсовцев двинулись на запад в
другие лагеря. Мне довелось пережить кошмар¬
ное пребывание в Плашуве, познакомиться с
Гросс-Розеном и Бухенвальдом, прежде чем
окольными путями, с заходом в различные пере¬
сылочные лагеря и перевалочные пункты, я нако¬
нец добрался до Маутхаузена.
122
Там я сразу же попал в блок шесть — в «блок
смерти». В преддверии предстоящего всеобщего
краха, естественно, было слишком неэкономно
тратить на каждого заключенного отдельную пу¬
лю. Даже через газовую камеру, хотя она давно
уже работала в усиленном режиме, невозможно
было пропускать столь гигантское число смерт¬
ников. Над крематориями днем и ночью — как
памятник человеческому безумию — стоял дохо¬
дивший до неба черный дым.
Но, несмотря на все это, помещения, куда
складывали покойников, были постоянно пере¬
полнены. Поэтому совершенно излишне было
ускорять «естественный» процесс смерти. Зачем
поставлять такое количество трупов одновремен¬
но? Недоедание, истощение и болезни, которые
часто были совсем не опасны, но ослабленных
заключенных валили с ног почище чумы, обеспе¬
чивали смерти более медленный, но столь же на¬
дежный ход.
Нас, заключенных из блока шесть, даже не за¬
ставляли работать. Эсэсовцев мы почти не виде¬
ли. Мы видели только мертвых, которых через
регулярные промежутки времени выносили чуть
более сильные товарищи по бараку. И мы видели
вновь прибывших, которые сразу же занимали
места умерших.
Мы невыносимо страдали от голода. Узников
«блока смерти» почти не кормили. Раз в день нам
разрешали на короткое время выйти из барака. И
тогда мы бросались на землю и рвали скудную
123
траву, чтобы хоть как-то заглушить чувство голо¬
да. После таких «выходов на природу» у перено¬
счиков трупов прибавлялось работы, так как
многие желудки уже не переносили подобной пи¬
щи. Трупы наваливали на специальные ручные
тележки, и их всегда было чем загрузить.
Здесь у меня появилось много времени для
раздумий. Было ясно, что немцы движутся к сво¬
ему концу. Но и наш конец был неотвратим. Хо¬
рошо отлаженная машина уничтожения продол¬
жала работать как бы сама собой, торопясь
истребить последних уцелевших свидетелей чудо¬
вищных преступлений. Я тогда уже предчувство¬
вал то, что сегодня подтверждено фактами: как
только американцы начнут приближаться к лаге¬
рю, нас всех планировалось убить.
«Полчаса до свободы, но лишь пять минут до
смерти» — так выразился тогда один из заклю¬
ченных.
Тощий, как скелет, я теперь почти постоянно
лежал на нарах. Порой казалось, что окружающее
мне лишь грезится, а глаза смотрят на все словно
сквозь пелену тумана. Причиной такого состоя¬
ния, несомненно, был голод. Часто я отключался
и впадал в беспокойный полусон.
Однажды ночью, в полузабытьи, я вновь
увидел перед собой эсэсовца из львовского ла¬
зарета.
С той далекой поры я о нем больше не думал.
Было столько всего более важного, а кроме того,
вечный голод нередко мешал мне ясно мыслить и
124
предаваться воспоминаниям. Но теперь, когда
все, о чем я еще мог думать, было додумано до
конца и я чувствовал, что от смерти меня отделя¬
ют только считанные дни, ну, самое большее, не¬
дели, мои мысли вернулись к тому эсэсовцу и его
предсмертной исповеди, и в моем воображении
внезапно ожил его образ.
Правда, глаза его больше не были скрыты по¬
вязкой. Они гневно глядели на меня сквозь ма¬
ленькие прорези в марлевой оболочке.
Он что-то нес перед собой — верно, тот узе¬
лок, который я тогда не захотел взять у сестры
милосердия. Я вскрикнул.
В нашем блоке имелся даже врач, молодой ев¬
рей из Кракова, с которым я иногда беседовал. В
ту ночь он как раз дежурил.
Я до сих пор не знаю, зачем нужен был врач в
блоке шесть. Он никому реально не мог помочь,
так как в его аптечке хранились только красные
таблетки неясно от чего и немного бумажной ва¬
ты. Зато можно было во всеуслышание говорить,
что врач из числа заключенных обслуживает пол¬
торы тысячи смертников из блока шесть.
— Что с тобой такое? — Врач уже стоял возле
моих нар. На нарах нам приходилось спать вчет¬
вером, и, естественно, мой крик разбудил и трех
остальных. — Что с тобой? — повторил он. —
Принести тебе воды?
— Нет, это был только сон.
— Только сон? О, как давно я не видел ника¬
ких снов! Хочу, чтобы и мне вновь что-нибудь
125
приснилось. Засыпая, я каждый раз заказываю
себе сон, который унес бы меня далеко отсюда, в
лучший мир. Но мое желание никогда не испол¬
няется. Я сплю без снов... У тебя был хороший
сон?
— Мне снился мертвый эсэсовец, — сказал я.
— Ты, верно, спятил. Впрочем, я тоже хотел
бы видеть во сне мертвых эсэсовцев. К сожале¬
нию, они все еще живы.
Я знал, что мой ответ покажется ему нелепым,
но я был слишком слаб, чтобы все ему объяснить.
И кроме того, какой это имело смысл здесь, в
«блоке смертников», откуда ни один из нас не
выйдет живым?
Поэтому я промолчал.
В ту же ночь умер один из моих соседей по на¬
рам; прежде он был судьей в Будапеште. Теперь
у нас стало чуть больше места, и мы, оставшие¬
ся, размышляли, стоит ли нам вообще сообщать
о том, что он «выбыл». Спать вчетвером на нарах,
два метра в длину и один в ширину, было невы¬
носимо. Но ведь надолго утаить освободившееся
место все равно не удастся.
Когда два дня спустя прибыла новая партия
заключенных, к нам на нары определили молодо¬
го поляка. Его звали Болек, и он попал сюда из
Освенцима, который «очищали» перед приходом
русских. Болек был по натуре крепким, выносли¬
вым, пожалуй, с виду чуть простоватым. Он ни¬
когда не терял самообладания и, казалось, владел
126
собой в любой ситуации. Чем-то он напоминал
мне Йозека, хотя внешне между ними не было ни
малейшего сходства. Я принял его сначала за
смышленого, начитанного паренька из крестьян¬
ской среды.
В Маутхаузене никто из заключенных не спра¬
шивал другого о происхождении и профессии;
мы довольствовались тем, что каждый из нас со¬
общал о себе сам. Наше прошлое, наши сослов¬
ные различия здесь не имели значения, мы были
равны во всем, кроме одного: возможно, кому-то
предстояло умереть чуть раньше, а другому —
чуть позже.
Болек рассказывал нам о людях, которые по¬
гибли на пути из Освенцима в Маутхаузен. Они
либо умерли с голоду в дни бесконечно долгого
переезда по железной дороге, либо обессилели и
упали замертво во время продолжавшихся с утра
до вечера пеших переходов, или же их застрели¬
ли, потому что они не могли больше идти.
Однажды утром я услышал, как Болек тихонь¬
ко бормочет себе под нос молитву на польском
языке. Это было непривычно. В концентрацион¬
ном лагере молились очень немногие. Когда тебя
постоянно и безвинно мучают, нелегко сохранить
веру...
Постепенно я узнал, что Болек до своего вне¬
запного ареста перед зданием Варшавской духов¬
ной семинарии изучал теологию. В Освенциме с
ним обращались бесчеловечно. Эсэсовцы знали,
что он будущий священник, и придумывали для
127
него все новые унижения. Его вера, однако, оста¬
лась непоколебимой.
Когда однажды ночью он лежал рядом со
мной на нарах и мы оба не спали, я рассказал ему
о том, что мне пришлось пережить в львовском
лазарете.
— И они тоже не все одинаковые, — сказал
он, когда я закончил рассказ. Затем сел на нарах
и молча, невидящим взглядом уставился в пус¬
тоту.
— Болек, — продолжал допытываться я, — ес¬
ли бы нацисты не напали на Польшу, ты был бы
сейчас священником. Что ты скажешь о моей ис¬
тории? Должен ли я был его простить? Имел ли
я вообще право прощать? Что говорит по этому
поводу твоя религия? Как поступил бы ты на мо¬
ем месте?
— Стоп! Немного повремени! Ты просто засы¬
пал меня вопросами. Давай не так быстро! Я
вполне могу понять, почему ты все это время
хранил эту историю в своей памяти, хотя с той
поры тебе пришлось так много пережить. Оче¬
видно, твое подсознание не удовлетворено тем,
как ты себя тогда повел. Во всяком случае, имен¬
но так я тебя понял. Или я ошибаюсь?
Верно ли то, что сказал мне Болек, неужто
причина моего беспокойства в моем подсозна¬
нии? Но что иначе заставляло меня все снова и
снова мысленно возвращаться к той встрече в ла¬
зарете? Почему я еще не покончил с этой исто¬
рией? Почему эта встреча для меня не заверше¬
128
на? Последний вопрос казался мне наиболее важ¬
ным.
Несколько минут Болек молчал, но его глаза
не отрывались от моего лица. Казалось, он тоже
позабыл о месте и времени нашей беседы.
— Не думаю, что отношение мировых религий
к проблеме прощения так уж различно, — заго¬
ворил он наконец. — Если и есть отличие, то
скорее в практике, чем в принципе. Конечно,
простить ты можешь лишь то зло, которое при¬
чинили тебе самому. Но с другой стороны, к ко¬
му должен был этот человек из СС обратиться за
прощением? Ведь все, кто от него пострадал,
мертвы.
— Следовательно, ты не считаешь, что он по¬
требовал от меня нечто такое, чего я просто не
мог ему дать?
— Видишь ли, наверняка он обратился к тебе
потому, что рассматривал евреев как некую общ¬
ность, сплоченную единой судьбой. И ты, при¬
надлежащий к этой общности, стал для него в ка¬
кой-то мере единственным шансом получить
прощание.
Слова Болека напомнили мне, как во время
исповеди умирающего мне действительно посто¬
янно казалось, что он рассматривает встречу со
мной как последнюю возможность облегчить
свою совесть.
Но разве я не пытался высказать подобные со¬
ображения в разговоре с Йозеком? Однако Йозек
129
меня тогда убедил. И я успокоился и во всем с
ним согласился. Или то было заблуждение?
А Болек продолжал:
— Не думаю, что тот эсэсовец тебе лгал. Гля¬
дя в глаза смерти, обычно не лгут. Видимо, на
смертном одре он возвратился к вере своих дет¬
ских лет и, наверное, почил с миром, потому что
ты выслушал его исповедь. Для него это была на¬
стоящая исповедь, хоть и без священника.
Благодаря этой исповеди — даже если это и не
была вполне настоящая исповедь — он освободил¬
ся от греха и отошел в иной мир с легкой душой,
и все потому, что ты его выслушал. Его вера к не¬
му вернулась. Он снова стал тем мальчиком, кото¬
рый, как ты говоришь, получил религиозное вос¬
питание и усердно посещал церковь.
— Прекрати! — прервал я Болека. — Ты явно
становишься на его сторону. Я знаю так же хоро¬
шо, как и ты, что лишь очень редко эсэсовцев
воспитывали как атеистов. Но ни у кого из них
не сохранилось в душе хоть какого-то почтения к
учению своей церкви.
— Сейчас речь не о том. Я тоже в Освенциме
много размышлял об этой проблеме. Я страдал
там вместе с евреями. И если мне будет суждено
выжить и я приму когда-нибудь сан священника,
я должен буду каждый раз взвешивать, что мне
сказать о евреях. Ты ведь знаешь, что именно в
Польше церковь всегда была особенно враждебна
по отношению к евреям. Но вернемся к твоей ис¬
тории! Итак, этот человек во Львове выказал са¬
130
мое искреннее раскаяние за совершенные им
злодеяния — так, во всяком случае, ты мне все
это описал.
— Да, — подтвердил я Болеку, — я и сегодня
еще в этом убежден.
— Следовательно, — серьезно сказал Болек, —
на основании раскаяния он заслужил милость
прощения.
— Но кто в таком случае должен его прощать?
Я? Кто меня на это уполномочил?
— Ты забываешь, что этот человек стоял на
пороге смерти и у него уже не было времени ис¬
купить свое преступление, не было возможности,
творя добро и помогая живым, хоть как то загла¬
дить свои грехи перед мертвыми.
— Может, и так. Но разве справедливо, что он
обратился ко мне? У меня же не было права про¬
щать его от имени других. Что он надеялся от ме¬
ня услышать?
— Видишь ли, — без колебаний ответил Бо¬
лек, — в нашей религии раскаяние есть важней¬
шее условие прощения... И ведь он раскаялся! А
кроме того, тебе следовало бы подумать и о дру¬
гом: перед тобой лежал человек на смертном од¬
ре и ты не выполнил последнюю просьбу умира¬
ющего!
— Знаешь, это именно то, что больше всего
меня мучит. Но есть просьбы, которые выпол¬
нить невозможно. Должен признаться, я испыты¬
вал сострадание к этому человеку. Но уверен¬
ность, что он обратился ко мне не по адресу и что
131
я не могу выполнить его просьбу, была сильнее
всякого сострадания.
Мы еще долго говорили друг с другом, но к
единому мнению так и не пришли. Напротив, те¬
перь уже Болек усомнился в правоте своего пер¬
воначального суждения — что я должен был про¬
стить умирающего, — а я более, чем когда-либо,
не был уверен, что действовал правильно.
Однако тот разговор не прошел бесследно для
нас обоих. Он, будущий католический священ¬
ник, и я, еврей, изложили друг другу свои аргу¬
менты, и каждый лучше понял точку зрения дру¬
гого.
Когда наконец пробил час освобождения, для
многих из нас было уже слишком поздно.
Большинство выживших собирались группами
и отправлялись в путь, чтобы добраться до дома.
Болек тоже вернулся на родину. Два года спустя
я услышал от кого-то, что он серьезно болен. О
его дальнейшей судьбе я ничего больше узнать не
смог.
Мое возвращение домой было невозможно.
Польша стала для меня сплошным кладбищем, в
ее земле покоились все мои родные и близкие.
Новую жизнь нельзя начинать на кладбище, где
каждое дерево, каждый камень напоминали мне
о трагедии, в которой я чудом уцелел. Я не желал
также встречаться ни с кем из тех, кто был хоть
как-то причастен к нашим страданиям.
132
Вскоре после освобождения я подключился к
работе Комиссии по расследованию нацистских
преступлений. Пережитое глубоко подорвало
мою веру в справедливый мир. Я надеялся, что
работа в Комиссии поможет мне вновь обрести
надежду, поверить в справедливость и человеч¬
ность и во все то, что необходимо для жизни, по¬
мимо еды и жилья.
Летом 1946 года я с женой и несколько наших
друзей совершили поездку в окрестности Линца*.
Мы расстелили одеяло на холме и смотрели отту¬
да на залитый солнцем ландшафт. Поскольку ме¬
ня все еще утомляли длинные пешие прогулки,
мне одолжили бинокль, чтобы я с его помощью
любовался природой. Таким образом я мог до¬
стичь хотя бы глазами того места, куда ноги не
желали меня нести.
Оглядываясь вокруг, я обнаружил выглядывав¬
ший из-за кустарника цветущий подсолнух. Я
встал и медленно пошел к нему. Лишь прибли¬
зившись, я увидел, что там росли и другие под¬
солнухи, просто они были не такие высокие, как
тот, что я заметил вначале. Я стоял, погрузив¬
шись в свои мысли, и думал о солдатском клад¬
бище во Львове, о лазарете и о мертвом эсэсов¬
це, на могиле которого наверняка тоже посадили
подсолнух...
* Город в Верхней Австрии, неподалеку от которо¬
го находился Маутхаузен, последний концлагерь в
жизни Визенталя, откуда он был освобожден.
133
Когда я возвратился к своим друзьям, они по¬
смотрели на меня с тревогой.
— Ты такой бледный, — сказали они.
Мне не хотелось в тот момент рассказывать им
о моей встрече в лазарете. Я уже так давно сам об
этом не вспоминал. И вдруг подсолнух встал
передо мной как напоминание и упрек. Почему
упрек? Разве мне есть в чем себя упрекать?
Я вспомнил, с какой любовью тот человек го¬
ворил о своей матери. Внезапно я вновь явствен¬
но увидел перед собой белую нашивку с ее име¬
нем и адресом — на узелке с оставшимися после
него пожитками.
Две недели спустя я поехал по делам в Мюн¬
хен. Я решил воспользоваться случаем и заехать в
Штутгарт. Мне хотелось встретиться и погово¬
рить с его матерью. Возможно, тогда у меня по¬
явится более отчетливое представление о его лич¬
ности. Меня побуждало к этому уж точно не
любопытство, скорее некое неопределенное чув¬
ство долга... и надежда наконец-то действительно
решить проблему, связанную с этим беспокоя¬
щим мою душу воспоминанием.
В те годы мир с каждым днем получал все бо¬
лее точные сведения о чудовищных масштабах
преступлений нацистов. То, чему сначала никто
не хотел верить, — слишком это было неслыхан¬
но, чтобы быть правдой, — подтверждалось новы¬
ми доказательствами. В том-то как раз и состояла
сила нацйстов, что они совершали преступления,
которые до того никто не мог и вообразить.
134
После войны сразу же появилось немало свя¬
щенников, филантропов и философов, громо¬
гласно призывавших мир простить нацистам их
преступления. Большинство из них были пре¬
краснодушными эстетами, которые никогда не
простили бы пощечины, нанесенной им лично, но
им не составляло труда прощать от имени милли¬
онов безвинно убитых людей. Священники гово¬
рили о том, что преступникам все равно однажды
придется предстать перед Божьим Судом и потому
земное правосудие могло бы оставить их в покое.
Все это, естественно, было на руку нацистским
преступникам. Они не верили в Бога и изъявляли
готовность предстать перед Божественным Суди¬
ей. Их страшило только земное правосудие.
В те дни путешествие из Мюнхена в Штутгарт
было еще довольно затруднительным. Поезда бы¬
ли вечно переполнены, и, чтобы получить место,
нужно было часами стоять в очереди. Тем не ме¬
нее я с этим справился.
Штутгарт лежал в руинах. Вокруг, куда ни
кинь взгляд, громоздились кучи обломков и щеб¬
ня. Люди ютились в подвалах своих разрушенных
домов, чтобы иметь хотя бы крышу над головой.
Я вспомнил «Хрустальную ночь»*. Когда в ту
ночь горели синагоги, кто-то сказал: «Сегодня
они сжигают синагоги, но придет день, когда их
дома так же сгорят дотла и обратятся в прах».
* Ночь с 9 на 10 ноября 1938 года, когда по всей
Германии прошли еврейские погромы.
135
На столбах и остатках стен были прикреплены
записки, с помощью которых люди пытались
найти потерявшихся родных. Родители искали
детей, дети — родителей.
Я спросил про улицу, на которой, как было
указано в том адресе, жила мать эсэсовца. Мне
сказали, что та часть города особенно пострадала
от бомбардировок и почти всех жителей при¬
шлось эвакуировать из-за опасности обвалов.
Но я приехал в Штутгарт с твердым намерени¬
ем найти мать того немца и узнать от нее как мож¬
но больше о жизни ее сына, чтобы образ, так дол¬
го хранившийся в моей памяти, стал более емким
и достоверным. Итак, поскольку никакой транс¬
порт туда не ходил, я отправился в путь пешком.
Наконец я добрался до того места и оказался
перед почти разрушенным домом, в котором ча¬
стично сохранились квартиры нижнего этажа. Я
поднялся по наполовину обрушенным пыльным
ступеням и постучал в потрескавшуюся деревян¬
ную дверь. Я уже подумал, что мне придется уйти
отсюда несолоно хлебавши, потому что в кварти¬
ре, казалось, никого не было. Но затем скрипу¬
чая дверь вдруг отворилась, и маленькая изящная
женщина пригласила меня войти.
— Вы фрау Мария С.? — спросил я.
— Да, — ответила она.
— Могу я поговорить также и с вашим мужем?
— Нет, его больше нет в живых, я — вдова.
Я огляделся в комнате, куда она меня ввела.
Стены, изборожденные мелкими трещинами, по¬
136
толок с отслоившейся штукатуркой. Над комодом
за стеклом и в рамке немного криво висела фото¬
графия красивого юноши со светлыми ясными
глазами. Один ее угол был обвязан черной траур¬
ной лентой. Сомневаться не приходилось, это был
он — ее единственный сын. Я подошел поближе и
посмотрел в глаза, которые никогда не видел.
— Это мой сын Карл, — сказала она вдруг за¬
дрожавшим печальным голосом. — Он погиб.
— Я знаю.
Я еще не сказал ей, почему я здесь; более то¬
го, я еще даже не решил, что вообще ей скажу.
По дороге в Штутгарт я много об этом думал.
Сначала у меня возникло только желание погово¬
рить с его матерью. Но действительно ли я хотел
при этом услышать подтверждение тому, что он
мне о себе сообщил? Или втайне надеялся узнать
нечто противоположное? Ведь это многое бы для
меня упростило. Чувство симпатии к нему, от ко¬
торого я так и не смог полностью избавиться,
возможно, тогда бы исчезло.
Я упрекал себя в душе, что не продумал зара¬
нее план разговора. И вот я стою перед ней и не
знаю, как мне его начать.
Я молча продолжал рассматривать фотогра¬
фию Карла, не в состоянии отвести взгляд от его
лица. Женщина это заметила.
— Это мой единственный сын, такой милый и
хороший мальчик. Сколько его сверстников уже
мертвы. Но что поделаешь, сегодня в мире так
много бед и страданий. А я осталась совсем одна.
137
«Так много матерей сегодня остались совсем
одни», — подумал я. Она придвинула стул и
предложила мне сесть. Я взглянул на ее омрачен¬
ное горем лицо и неожиданно для себя сказал:
— Я пришел передать вам привет от вашего
сына.
— Правда? Вы говорили с ним? Вы его знали?
Ведь уже почти четыре года, как он умер. Я по¬
лучила известие о его смерти из лазарета. Они
мне прислали его вещи.
Она встала и открыла старый шкаф. Затем по¬
ложила передо мной на стол тот самый узелок,
который когда-то в лазарете мне хотела отдать се¬
стра.
— Здесь я храню его вещи: часы, записную
книжку и еще несколько мелочей... Скажите,
когда и где вы его видели?
Я помедлил с ответом. Мне не хотелось разру¬
шать в душе этой женщины образ ее «хорошего,
доброго мальчика».
— Четыре года назад я работал на Восточной
железной дороге во Львове, — начал я. — Однаж¬
ды там, где мы работали, остановился санитар¬
ный поезд, в котором были раненые с Востока. С
некоторыми из них мы могли поговорить через
окно. Один протянул мне записку с вашим адре¬
сом и просил меня передать вам привет от свое¬
го товарища с этого же поезда, если мне когда-
нибудь представится такая возможность.
Я почувствовал облегчение оттого, что мне так
быстро пришла в голову эта спасительная ложь.
138
— Так, значит, вы его даже не видели? —
спросила она.
— Нет, — ответил я. — Вероятно, он был
слишком тяжело ранен, чтобы подойти к окну.
— Но как же тогда он мог написать запис¬
ку? — задала она следующий вопрос. — У него
ведь были поранены глаза. И все письма, кото¬
рые он мне присылал, ему приходилось дикто¬
вать сестре из лазарета.
— Может быть, он попросил написать эту за¬
писку своего товарища, — не совсем уверенно
сказал я.
— Да, — сказала она после некоторого разду¬
мья. — Скорее всего, так и было. Мой сын был
ко мне очень привязан. Он использовал каждую
возможность, чтобы мне написать. Между ним и
отцом не было такого взаимопонимания, хотя
отец любил его так же сильно, как я.
Она прервалась на минуту и обвела взглядом
комнату, словно в поисках чего-то несуществую¬
щего.
— Простите меня, пожалуйста, что ничего не
могу вам предложить, — сказала она вслед за
тем. — Я бы охотно чем-нибудь вас угостила, но
вы же знаете, как мы живем сегодня. У меня до¬
ма ничего нет, и едва ли я смогу что-нибудь до¬
стать.
Я встал и снова подошел к висящей на стене
фотографии. Я не знал, как побудить ее к тому,
чтобы она хоть немного рассказала мне о своем
сыне.
139
— Вы можете снять фотографию со стены, —
дружески предложила она.
Я осторожно снял портрет с гвоздя и положил
на стол.
— Это на нем форма? — спросил я.
— Да, ему было тогда шестнадцать, и он был в
гитлерюгенде, — ответила она. — Моему мужу
это было не по душе. Знаете, муж был убежден¬
ный социал-демократ, и после тридцать третьего
года у него возникли серьезные трудности, пото¬
му что он не хотел вступать в партию. Сегодня я
этому рада. Конечно, по той же причине он за
все эти годы не продвинулся по работе; на заво¬
де, где он работал, его при всех назначениях об¬
ходили. Только во время войны его сделали на¬
конец мастером, потому что все более молодые
были призваны в армию. Но не прошло и меся¬
ца — это было почти точно через год после того,
как мы получили известие о смерти сына, — и их
завод разбомбили. При этом оказалось много
жертв — среди них и мой муж.
Она сложила руки с беспомощно трогатель¬
ным выражением лица.
— Так я осталась одна. Живу теперь только
воспоминаниями о муже и сыне. Я могла бы по¬
ехать к своей сестре, но не хочу покидать этот
дом. Здесь жили еще мои родители, здесь родил¬
ся мой сын. Здесь все напоминает мне о былых
счастливых временах, и для меня оставить этот
дом — словно отречься от своего прошлого.
140
Мои глаза остановились на висевшем на стене
распятии. Женщина проследила мой взгляд.
— Этот крест я нашла в развалинах одного до¬
ма. Он был почти полностью погребен под мусо¬
ром, только одна рука Христа торчала наружу и,
словно жалуясь, вздымалась к небесам. Посколь¬
ку его никто не искал, я решила взять распятие к
себе. С тех пор я чувствую себя немного менее
одинокой.
Может быть, эта женщина тоже считала, что
Бог отсутствовал, был в отпуске и лишь теперь,
увидев все эти развалины, вернулся в наш мир?
Еше прежде, чем я успел додумать до конца эту
мысль, она продолжила начатый разговор:
— То, что с нами случилось, есть Божья кара.
Мой муж сразу же, как они пришли к власти,
сказал мне, что добром все не кончится, и это
были пророческие слова. Я постоянно о них ду¬
маю и никак не могу их позабыть.
Однажды наш мальчик ошеломил нас извести¬
ем, что он вступил в гитлерюгенд. А ведь я вос¬
питала его очень религиозным. Вы видите, как
много образов святых здесь в комнате. Большую
их часть мне, конечно, пришлось снять после
тридцать третьего года — сын меня попросил. Его
товарищи насмехались над ним, говорили, что он
помешался на церкви. И он рассказывал мне об
этом с таким упреком, словно я в этом виновата.
Вы, верно, сами знаете, как тогда настраивали
наших детей против Бога и против собственных
родителей. Мой муж не был особенно верующим.
141
Он редко ходил в церковь, да и священников не
любил. Но нашего приходского священника он в
обиду не давал. Я бывала так счастлива, когда
наш священник хвалил Карла — мой мальчик
всегда был его любимцем.
Глаза женщины наполнились слезами. Чтобы
скрыть это, она взяла в руки рамку с фотографи¬
ей и поднесла к лицу. Слезы падали на стекло.
Я вспомнил виденную однажды в музее ста¬
рую картину: мать держит в руках портрет свое¬
го давно пропавшего сына. Сейчас эта картина
ожила.
— Ах, — вздохнула она, — если бы вы знали,
какой славный мальчик был наш Карл. Всегда и
во всем старался помочь. Без всяких просьб с мо¬
ей стороны таскал из подвала уголь, ходил за по¬
купками — он всегда радовался и гордился, если
мог мне помочь по хозяйству. И в школе он сна¬
чала был примерным учеником — пока не всту¬
пил в гитлерюгенд; после этого он сильно пере¬
менился. С той поры он больше не ходил в
церковь.
Она немного помолчала, высморкалась и про¬
должила:
— Казалось, с той поры что-то в нашей семье
разладилось. Мой муж все больше молчал, но я
видела, как он от этого страдает. Если, например,
он хотел рассказать мне, что кого-то арестовало
гестапо, то сначала озирался, чтобы удостове¬
риться, нет ли поблизости Карла; боялся, что его
142
услышит его собственный сын... Я беспомощно
металась между мужем и сыном.
Она снова погрузилась в свои мысли.
— Затем началась война, и наш мальчик при¬
шел домой с известием, что он добровольно за¬
писался в армию. И разумеется, в части СС. Мой
муж был в ужасе. Он не упрекнул Карла, не вы¬
сказал своего отношения к его поступку, он во¬
обще с ним больше не разговаривал — даже в
день последнего прощания с мальчиком. Карл
ушел на войну, не услышав ни единого слова на¬
путствия от своего отца.
Из учебного лагеря Карл посылал нам фото¬
графии и восторженные письма. Но мой муж
каждый раз отодвигал его фотографии. Он видеть
не мог эсэсовскую форму. «Послушай, — сказала
я ему однажды, — мы вынуждены жить при Гит¬
лере, как и миллионы других людей. Ты же зна¬
ешь, как на нас поглядывают соседи. И у тебя на¬
верняка еще будут трудности на заводе».
Но он ответил мне лишь одно: «Я просто не
могу ломать комедию. Подумай, они даже сына у
нас отняли». То же самое он сказал мне в день
прощания с Карлом. Казалось, что он уже не мог
думать о Карле как о своем сыне.
Я слушал эту женщину с жадным интересом. Я
не прерывал ее и лишь изредка кивал головой,
поощряя говорить дальше.
Мне уже доводилось беседовать с многими
немцами и австрийцами, и я выслушивал их рас¬
сказы о том, как они чувствовали себя после при¬
143
хода к власти национал-социалистов. Большин¬
ство утверждали, что они были против, но очень
боялись соседей. А соседи наверняка очень боя¬
лись их. И все эти страхи собирались, сгущались
и образовывали гигантский ком страха, поглотив¬
ший чуть ли не всю страну.
Но это — лишь одна сторона. Конечно, было
много людей, подобных родителям Карла. Но как
же много было других, которым не требовалось по¬
коряться и страшиться, потому что они стали час¬
тью этого нового движения? Потому что национал-
социализм стал исполнением их самых заветных
желаний, потому что он полностью соответствовал
их природе. Потому что благодаря национал-соци¬
ализму им, незначительным и безвестным, удалось
выйти в люди и занять более высокое положение.
То, что это происходило за счет других, их не вол¬
новало. Они оказались в стане победителей и к по¬
бежденным не испытывали ничего, кроме презре¬
ния — презрения более сильного к более слабому,
«человека высшей расы» к «недочеловеку».
Именно трусость привела к тому, что сыновья
трусов сделались убийцами, хотя их родители,
безусловно, этого не хотели. Но национал-соци¬
ализм стал преступлением не в одну ночь. Эта
преступная система строилась и отлаживалась
долго и поэтапно. И к виновным принадлежат
все те, кто сказал «да» уже на первом этапе.
Я смотрел на сидящую передо мной женщину;
она, без сомнения, была человеком с добрым
сердцем, хорошей матерью и хорошей женой.
144
Она наверняка не раз искренне сочувствовала
угнетенным и жертвам режима, но забота о сво¬
ем маленьком счастье всегда оказывалась для нее
важнее. Вероятно, миллионы семей, подобных
семье Карла, хотели всего лишь покоя в своем
гнездышке. Они-то и послужили опорой для пре¬
ступников, помогли им прийти к власти, а позд¬
нее обеспечили им возможность удержать власть.
Может, мне стоит выложить этой женщине все
начистоту? Может, стоит все же рассказать ей,
что сделал ее «хороший мальчик»?
Какой мост соединяет меня, человека, кото¬
рый вполне мог оказаться среди жертв ее сына, с
этой женщиной, оставшейся совершенно одино¬
кой среди развалин своей семьи и своей страны?
Я видел ее страдание, я знал, что выстрадал
сам. Неужели именно это и есть соединяющий
нас мост? Возможно ли, чтобы страдание было
мостом, связующим двух людей?
На этот вопрос у меня нет ответа.
— Однажды они увезли отсюда евреев, — про¬
должила она свой рассказ. — Среди них был и
наш домашний врач. Пропаганда утверждала, что
евреев просто переселяют в другое место. Гитлер
будто бы подарил им целую провинцию, где они
смогут жить среди своих без всяких помех. Но за¬
тем я услышала, с какой жестокостью обраща¬
лись с ними при отъезде люди из СС. Мой сын
был тогда в Польше, и до нас доходили оттуда
дурные вести. Однажды муж сказал: «Карл ведь
тоже в СС. Возможно, он теперь обрабатывает
145
нашего врача. Раньше врач обрабатывал малень¬
кого Карла — а теперь все наоборот».
Мой муж не захотел мне объяснить, что он
имеет в виду. Но я заметила, как он сам при этом
мучается, и у меня тоже стало очень нехорошо на
душе.
Внезапно женщина посмотрела на меня более
внимательно.
— Вы ведь не немец? — нерешительно спроси¬
ла она.
— Нет, — ответил я. — Я еврей.
От этого ответа она немного смутилась. Тогда
все немцы смущались, оказавшись лицом к лицу
с евреями.
— Здесь, в нашем городе, — робко проговори¬
ла она, — мы всегда жили с евреями очень мир¬
но и в полном согласии. Мы ведь, конечно, не
виноваты в их судьбе.
— Да, — сказал я, — так утверждают сегодня
все. Вам я даже верю. Но есть много других, пове¬
рить которым я никогда не смогу. Это еще будет
предметом долгого спора, кто виноват в судьбе ев¬
реев. Но уже есть нечто не подлежащее сомнению:
ни один немец не может уклониться от ответствен¬
ности. Даже если он лично в тех преступлениях не
участвовал, ему все равно придется нести безмерно
тяжелую ношу стыда. Как представитель своего на¬
рода, человек не может просто выйти на любой ос¬
тановке, словно пассажир из трамвая, и уйти
прочь. И еще: потребностью невиновных должно
стать их отречение от виновных.
146
Я говорил и говорил до полного изнеможения.
Осиротевшая женщина смотрела на меня с глубо¬
кой печалью. Наверное, нелепо было произно¬
сить перед ней подобные обвинения и высказы¬
вать свои горькие жалобы на немцев.
Способна ли она вообще еще что-нибудь вос¬
принять, эта сломленная и погруженная в свою
скорбь женщина? По правде говоря, мне было ее
бесконечно жаль. Вероятно, не следовало ей все¬
го этого говорить.
— Я не в состоянии до конца поверить тому,
что мне рассказывают. Я просто не могу свык¬
нуться с мыслью, что все это правда — те страш¬
ные вещи, которые, как пишут, происходили с ев¬
реями. Во время войны об этом перешептывались,
ходили самые дикие слухи. Только мой муж, как
мне кажется, уже тогда все знал. Некоторые его
товарищи по работе ездили на Восток устанавли¬
вать оборудование. После возвращения они рас¬
сказывали такие вещи, которым даже мой муж
сначала не хотел верить, хотя и считал их партию
способной на все. Он и со мной особенно не де¬
лился, по крайней мере, никаких подробностей не
сообщал. Вероятно, боялся, что я по неосторож¬
ности кому-нибудь проболтаюсь и у нас опять бу¬
дут трудности с гестапо. Эти люди и так на нас ко¬
со смотрели и никогда не переставали следить за
моим мужем. Но поскольку наш Карл был теперь
в СС, они больше нас не тревожили. У некоторых
наших знакомых тем не менее были серьезные не¬
147
приятности из-за разговоров — случалось, на них
доносили их лучшие друзья.
Однажды муж рассказал мне, что один человек
из гестапо был у него на заводе, так как там то¬
же работали иностранцы. Гестаповец расследовал
какой-то случай саботажа и, как со многими дру¬
гими, долго беседовал с моим мужем, но затем
сказал: «Ну, вы у нас в любом случае вне подо¬
зрения, ведь ваш сын в СС».
Когда муж пришел затем домой и рассказал
мне об этом, он горько добавил: «Они поставили
весь мир с ног на голову. То, что меня больше
всего в жизни ранит, стало теперь моей защи¬
той». Он просто не мог этого понять.
Я взглянул на женщину, которая так покорно
и печально сидела в своей комнате, полной вос¬
поминаний. Я мог легко представить себе, как
она здесь живет, как время от времени берет в ру¬
ки узелок своего сына, последний его привет,
словно этот узелок все еще принадлежит ему.
— Я даже верю, — сказала она, — что произо¬
шло много страшного. Но Карл определенно не
совершал ничего дурного. Он всегда был таким
порядочным, мой Карл, какой опорой стал бы он
мне теперь, когда мой муж умер.
Я подумал о бесчисленных матерях, которые
сегодня, как и она, остались совсем одни.
Итак, ее сын не лгал мне, его родительский
дом был точно таким, каким он мне его описал.
Был ли я этим доволен? Собственно говоря, мне
следовало быть довольным уже потому, что меня
148
не обманули. Только вот... к решению моей про¬
блемы я не приблизился ни на шаг.
Я попрощался, не отняв у бедной женщины
последнее, что у нее еще оставалось: веру в доб¬
рого и хорошего сына.
Возможно, то, что я не сказал ей всей правды,
было ошибкой. Возможно, надо было пойти ко
всем матерям и сказать им правду об их сыновь¬
ях. Возможно, их общий вопль воспрепятствовал
бы тому, чтобы матери в будущем растили сыно¬
вей, соглашавшихся совершать преступления и
забывавших заповедь «Не убий».
Но эта мысль промелькнула и ушла. Я сознавал,
что здесь — этой матери — я все равно не смог
бы сказать правду о Карле. Даже если бы и ре¬
шился — она бы меня не услышала, это так не
соответствовало жившему в ее душе образу сына.
Скорее она сочла бы меня клеветником, чем
поверила бы моему рассказу о преступлении
Карла.
Она так часто повторяла слова «Он был такой
хороший мальчик», как будто ждала от меня под¬
тверждения.
Но я не мог ей сказать то, что она больше все¬
го хотела услышать. Думала ли бы она и сегодня
о нем так же, если бы все знала? Нет, она не по¬
верила бы фактам и в возмущении отторгла бы
всякую мысль о таком ужасе.
В годы детства — до тридцать третьего — Карл
был, безусловно, «хорошим мальчиком». Эпоха,
149
презревшая милосердие и человечность, сделала
из него убийцу.
Мой образ Карла обрел наконец полноту. Он
стал почти завершенным, можно сказать, почти
совершенным, насколько последнее слово вооб¬
ще можно употребить при таких обстоятельствах.
Теперь добавился и его внешний облик: когда я
был у его матери, я долго всматривался в лицо на
фотографии.
Итак, я знаю его детство и знаю преступление,
которое он совершил. Я доволен собой — тем, что
удержался и не рассказал матери о совершенном
им преступлении. Я повторял себе, что поступил
правильно. Ведь при том, как она теперь жила, от¬
нять у этой женщины последнее, чем она еще вла¬
дела, было также равносильно преступлению.
Я часто думаю о юном эсэсовце. Он возвраща¬
ется ко мне каждый раз, когда я вхожу в больни¬
цу или в госпиталь, вижу сестру милосердия или
встречаю человека с забинтованной головой.
Или когда я вижу подсолнух...
И я думаю также о том, что каждый день на
земле рождаются люди, подобные ему, которые,
возможно, завтра уже поддадутся на пропаганду и
позволят использовать себя в преступных целях.
Человечество непрерывно старается предотвра¬
щать грядущие катастрофы. Успехи медицины
дают нам надежду на то, что однажды будут по¬
беждены все болезни. Но сможем ли мы когда-
150
нибудь достичь того, чтобы люди, подобные Кар¬
лу, не становились убийцами?
Моя работа сводит меня со многими убийцами. Я
расспрашиваю их, выслушиваю свидетелей, при¬
нимаю участие в судебных процессах — и вижу,
как ведут себя убийцы перед судом.
/ Во время штутгартского процесса о преступле¬
ниях нацистов во Львове только один человек из
всех сидевших на скамье подсудимых выразил
раскаяние. Он признавался даже в тех поступках,
у которых не было свидетелей. Почти все осталь¬
ные с ожесточением пытались оспорить доказа¬
тельства, подтверждавшие истину. Некоторые
«раскаивались» лишь в одном: в том, что еще ос¬
тались в живых свидетели их злодеяний.
Я часто пытался представить себе, как вел бы
себя тот юный эсэсовец, если бы спустя четверть
века его привлекли бы к суду и посадили на ска¬
мью подсудимых. Сказал бы он сегодня те же
слова, что говорил мне за день до своей смерти в
бывшем помещении нашего деканата? Признал
бы он перед судом то, в чем исповедовался, гля¬
дя в глаза смерти? Вопрос можно перевернуть:
раскаялись бы в своих злодеяниях люди, сидящие
сегодня на скамье подсудимых, если бы в то вре¬
мя они были смертельно ранены и оказались на
пороге смерти?
Возможно, созданный мною образ юного эсэ¬
совца лучше, чем его реальный прототип. Я ведь
увидел его впервые не расхаживающим по лагерю
151
с плеткой в руке, а произносящим на смертном
ложе покаянную исповедь и претендующим на
то, что он является неким исключением среди
окружающих его вояк из СС.
Но был ли он в самом деле исключением?
На этот вопрос у меня нет ответа. Я ведь дол¬
жен учитывать и то, что, если бы он не был смер¬
тельно ранен гранатой под Таганрогом, ему пред¬
ставилась бы еще не одна возможность совершать
новые преступления. Первое преступление, пер¬
вое убийство всегда даются человеку тяжелее, чем
последующие. Удержало бы Карла потрясение,
испытанное им при виде горящего дома и гибну¬
щих людей, от совершения второго, третьего и
последующих преступлений?
Я довольно подробно знаком с биографиями
многих нацистских преступников — и знаю, что
никто из них не был прирожденным убийцей. Все
они были прежде крестьянами, ремесленниками,
служащими, государственными чиновниками, ка¬
ких мы ежедневно во множестве встречаем на ули¬
це. В детстве они, наверное, посещали воскресную
школу при церкви, и, вероятно, ни один из них не
вышел из среды профессиональных преступников.
И все-таки они стали убийцами — убийцами по
убеждению. Когда они достают из шкафа свое эсэ¬
совское обмундирование, они оставляют там вмес¬
те со штатской одеждой свою совесть.
Я не знаю, как они восприняли свое первое
преступление, но знаю, что никто из них не ог¬
раничился «только одним» преступлением.
152
Когда я слышу дерзкие ответы и вижу издева¬
тельские ухмылки иных обвиняемых, мне трудно
представить, что тот юный эсэсовец вел бы себя
так же...
Но это всего лишь мои размышления, говоря¬
щие в его пользу. И однако... должен ли был я,
41мел ли я или кто-либо еще право его простить?
Но сегодняшний мир требует от нас прощения
даже тех, кто снова и снова провоцирует нас сво¬
им поведением. Он требует от нас, чтобы мы
подвели наконец черту под прошлым и вели себя
так, словно ничего особенного не случилось.
И многие из тех, кто перенес неслыханные
страдания в то ужасное время и порой все еще
чувствуют себя узниками этого ада, немеют перед
этим требованием прощения.
Этот вопрос переживет все судебные процессы
и сохранит свою актуальность даже тогда, когда
преступления нацистов останутся в далеком про¬
шлом.
Поэтому я задаю его людям, которым, как я
полагаю, есть что сказать по этому поводу, ибо
события, породившие этот вопрос, могут повто¬
риться. Знаю, что многие поймут меня и одобрят
мою позицию по отношению к умирающему эсэ¬
совцу. Но я знаю также, что столь же многие осу¬
дят меня за то, что я не облегчил смерть раскаяв¬
шемуся убийце.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
«Мело, мело по всей земле, во все пределы...» Вот уже
какой день не останавливается этот поток снега, и под
его белыми кружевами притаились, замерли в ожида¬
нии неведомого деревья. Стоят, как невесты, и ждут
призыва любви-весны. Я сижу за своей старенькой
пишущей машинкой и вижу ту свечу, что горела на
ЕГО столе и освещала черные дороги, по которым
гнала революция ЕГО героя — доктора Живаго. Мо¬
жет, потому, что пишу эти строки в Переделкине, ка¬
ким-то непостижимым образом переплелись в моем
воображении те подсолнухи, которые в почетном кара¬
уле замерли на могилах немецких солдат в книге Си¬
мона Визенталя, и эта бесконечная метель, заметавшая
следы нашей собственной кровавой истории.
Смутное время порождает смутные предчувствия и
мистические совпадения. И дом Пастернака с его тра¬
гической судьбой не в Германии — в России, и могила
его здесь рядом, и та, с желтым подсолнухом, «хороше¬
го, доброго мальчика Карла», кажется, тоже где-то сов¬
сем близко, на поле, где покоятся старые большевики.
Там, у Визенталя, на каждой могиле прямой, как сол¬
дат на параде, тянулся ввысь подсолнух, а здесь серые
карлики — каменные доски, а под ними те, кто искрен¬
не верил, как «хороший мальчик Карл», и во имя веры
154
расстреливал, или допрашивал, или доносил... Чего
только не делалось во имя этой веры. Ведь и красивый
голубоглазый Карл был сначала, в детстве и в ранней
юности, таким милым, таким добрым, таким заботли¬
вым, таким послушным и, наконец, таким ВЕРУЮ¬
ЩИМ — сначала не в Гитлера, а в Господа БОГА. И
все это было, пока он не поверил в другого «бога» —
Адольфа, и эта вера привела его к тому страшному дню,
когда он поднял ружье, чтобы выстрелить в маленько¬
го черноглазого мальчика — не просто стрелял, а доби¬
вал, потому что вместе с родителями мальчик летел, как
птичка, из окна подожженного немцами дома и на ле¬
ту был сражен пулей «хорошего, доброго Карла». И вот
покаяние на смертном одре — перед еврейским юно¬
шей Симоном, который в эти предсмертные минуты
олицетворял для Карла весь еврейский народ. И Си¬
мон, на глазах которого каждый день в лагере и за его
стеной — в гетто умирали от голода, побоев и униже¬
ний, от пули, наконец, сотни, нет, тысячи (а мы знаем
сегодня — миллионы) людей, не смог простить.
Спустя более чем полвека Симон Визенталь, кото¬
рый посвятил всю свою жизнь поиску нацистских пре¬
ступников и, как сам говорил, расспрашивал многих из
них и не слышал покаяния; если они о чем-то жалели и
в чем-то раскаивались, то лишь в одном — что еще ос¬
тались в живых свидетели их злодеяний, — Симон Ви¬
зенталь спрашивает нас сегодня, должен ли был он, уз¬
ник концлагеря, свидетель и жертва, простить того
умирающего Карла, который волею судеб успел совер¬
шить только одно преступление, но что удержало бы
его, останься он жив, от каждого последующего?!
В концентрационном лагере Маутхаузен в «блоке
смерти», уже сам полуживой, Симон рассказывает по¬
155
ляку Болеку — будущему католическому священнику,
свою историю, которая терзала его на протяжении все¬
го пути к смерти (только освобождение из лагеря спас¬
ло его, но сколько несчастных рядом с ним не дожили
до этого дня!). Он не верил в Бога, но перед концом
хотел знать (покаяние, по-видимому, необходимо каж¬
дому, в ком еще теплится вера в человечность и спра¬
ведливость), правильно ли он поступил, что не простил
умирающего Карла. И Болек сказал ему, что раскаяние
уже заслуживает милость прощения. Они говорили
долго, и каждый в чем-то усомнился. Мы не знаем, к
чему пришел дальше польский священник, но сомне¬
ния, по-видимому, мучили Визенталя всю жизнь и
привели к необходимости написать эту книгу, а нас к
необходимости не отворачиваться от его вопросов.
В середине шестидесятых я впервые попала в Поль¬
шу и там, мне повезло, познакомилась с прекрасными
людьми, сгруппировавшимися вокруг католического
краковского журнала «Тегодник Повшехный». Сего¬
дня, когда я читаю у Визенталя о тех поляках, которые,
погибая от руки нацистов, продолжали думать, что во
всем виноваты евреи, я вспоминаю тот вечер на даче у
главного редактора, который осторожно, ненавязчиво
говорил мне о судьбе поляков, чья трагическая история
привела многих из них к тупому, слепому антисеми¬
тизму. И нет тут вины, а есть беда, и церковь должна
выводить этих несчастных к свету, ибо в своей душев¬
ной темноте они не ведают, что творят. К нашему раз¬
говору молча прислушивался неизвестный мне чело¬
век, на лице которого была печать мудрости и
сострадания — ко мне ли, еврейке, к полякам, которые
заблудились во тьме кромешной, к Польше, которая
дала пристанище лагерям смерти, и, кажется, в возду¬
156
хе до сих пор пахнет гарью от газовых печей... До кни¬
ги Визенталя мне оставалось тридцать пять лет. Но я
тогда впервые задумалась о вине, ответственности и
прощении. Человек в черном (а был он одет в черный,
застегнутый наглухо сюртук) потом еще долго говорил
со мной на польском, а я на русском, но мы почему-
то прекрасно понимали друг друга. Вспоминаю, что
наш разговор то и дело возвращался к войне, к еврей¬
ской судьбе и, конечно, к Польше, которая оказалась
рядом с этой судьбой и повернулась к ней спиной, к
Польше, которая оказалась жертвой и палачом одно¬
временно.
Теперь (читаю у Визенталя) знаю, что Гитлер уже
стоял на западной границе Польши, готовясь скушать
эту страну, а польский парламент обсуждал проект за¬
кона о запрете деятельности еврейских резников, дабы
отнять у верующих евреев кошерное мясо. Теперь знаю
и о погроме, который учинили поляки вернувшимся по¬
сле войны на родину евреям — совсем недалеко от Ос¬
венцима, но ничто не позволит забыть слова неизвест¬
ного мне тогда господина в черном о том, что нельзя
судить всех оптом, ибо «не судите, да не судимы будете».
На следующее утро я впервые ехала в Освенцим с мо¬
им другом-католиком, депутатом Польского сейма. Ког¬
да я вошла в машину, то увидела, что на заднем сиденье
горят сотни красных гвоздик. Грешница, я подумала, что
все это мне от верного поклонника. Но почему по доро¬
ге в Освенцим? «Это от Войцеха Войтылы — нашего
Краковского Кардинала — ты с ним вчера разговарива¬
ла. Он попросил, чтобы ты положила их к камню, кото¬
рый там лежит в память о евреях, замученных и убитых
в Освенциме. А еще он передал тебе Библию и вот эту
книгу «Восстание Варшавского гетто»... Пройдут годы, и
157
нынешний Папа Римский, Иоанн Павел II, мой удиви¬
тельный собеседник, покается за вину католической
церкви перед евреями. ЕГО Библию я храню и надеюсь
передать ее внукам и правнукам.
В то лето или в тот месяц, сейчас уже не помню,
концентрационный лагерь Освенцим (точнее, его му¬
зей) был закрыт на ремонт. И только усилиями моего
спутника-депутата хранитель открыл нам барак, чья
экспозиция была посвящена уничтожению евреев в
Освенциме. После я узнала, что сам музей был закрыт,
потому что уточнялась национальная принадлежность
уничтоженных в лагере Смерти.
К власти пришел антисемит генерал Мочар, и по
его приказу корректировались цифры погибших — «ев¬
реев не убивали — все возвратились, живы».
В каждом народе есть свои выродки, не будем счи¬
тать, у кого больше. Но генерал, пересчитав убиенных,
лишил десять тысяч права на память после смерти, от¬
нял у нас правду о жертвах того безумия, которое на¬
зывается нацизм. Что-то очень похожее на историю
памятника, который возвышается ныне над оврагами
Бабьего Яра. Сколько времени потребовалось, чтобы
встал этот памятник, сколько людей выдворили из
страны за живую память о мертвых, сколько еще лет
прошло, пока не восстановили подлинные цифры и не
признали наконец, что именно здесь было за несколь¬
ко дней расстреляно сто пятьдесят тысяч евреев. Но то
в Киеве. А вот в Ростове-на-Дону, где в одночасье бы¬
ло расстреляно тридцать пять тысяч евреев в Змиев-
ской балке, так похожей на Бабий Яр, нет ни слова на
громадном монументе, воздвигнутом вообще в память
неизвестно о ком. И никто туда не ездит, и никто не
хочет, будто сговорились, помнить, чьи кости лежат
158
здесь, под землей, — «евреев не убивали — все возвра¬
тились, живы».
Открыли тяжелый замок. Кругом ни души. Кажет¬
ся, что вот сейчас за тобой навсегда захлопнется дверь
и ты повторишь судьбу своей одесской бабушки, и
одесских тетушек, и киевского дяди Иосифа, который
до последней минуты верил, что немцы — культурная
нация, а все, что пишут и говорят, — это коммунис¬
тическая пропаганда. И ушел вместе со своей красави¬
цей женой Рахиль и двумя рыжеволосыми дочками в
Бабий Яр.
Мой друг, поняв, что со мной творится, предусмо¬
трительно оставил дверь барака открытой. Это была
совсем небольшая комната, в которой на нарах друг на
друге не спали в ожидании смерти люди. Нары оста¬
лись, кажется, посредине. На правой стене был боль¬
шой плакат, написанный на многих языках, — «Еще
ничего не случилось».
И мы пошли вдоль стены и смотрели фотографии,
на которых было изображено то «прекрасное» время,
когда еще ничего не случилось, не было концлагерей,
не было гетто... Никого пока не убивали, не насилова¬
ли, не пытали, а всего лишь унижали. Сюда еврею
нельзя, здесь еврею не место, сюда еврея не пускать,
отсюда еврея гнать... Бежит еврейская девочка, за ней
толпа подростков: «Юде, юде». Плачет женщина у
входа в магазин, на магазине вывеска: «Евреям не
продаем». Глубоко задумался на кафедре седовласый,
так похожий на Эйнштейна, профессор. Студенты, со¬
бравшись в кучку, подняв кулаки, с искаженными от
ненависти лицами, кричат: «Жид, пошел вон...» Мы
идем дальше по квадрату бывшего барака и видим тех,
с кем еще ничего не случилось. И слышим шепот тех,
159
с кем случилось все, кого больше нет и кто просит —
«Не забудьте!» и умоляет отомстить. А другой голос —
того, кто послал красные гвоздики, тихо просит не за¬
ражаться ненавистью. Потом это скажет мне, вернув¬
шись из советского лагеря, мой отец.
Сейчас, когда я вспоминаю этот проход по бараку,
который завершался другой надписью — «Еще только
унижали человеческое достоинство», я понимаю, как
трудно, невозможно было Симону Визенталю простить
умирающего Карла. Он, прошедший сквозь не подда¬
ющиеся описанию нечеловеческие страдания, которые
одни люди причиняли тоже людям, не мог в те мину¬
ты подняться до такого, казалось бы, простого (ВЕЛИ¬
КОДУШНОГО) — прощаю. До великодушия, что оз¬
начает — величие души.
Я жила в стране другого тирана, который шел по сто¬
пам Гитлера и, победив его, медленно, но верно перени¬
мал его преступный опыт. Мне повезло — я родилась не
в Днепропетровске, где юный нацист выстрелил в горя¬
щего мальчика и его родителей. Родись я на Украине,
или в Белоруссии, или в любом другом месте, куда при¬
шли фашисты, я могла быть на месте этого мальчика. Но
и у меня в еврейской истории было и есть свое место.
Оно на серебристом тротуаре, залитом первым весенним
солнцем, улицы Горького, на которой кровавым пятном
расплылось коричневое эскимо, когда кто-то из подво¬
ротни заорал нам с папой вслед: «Бей жидов, спасай
Россию!» Через два года папу отправили спасать Россию
в Тайшетские, особого режима, лагеря, за участие, как я
теперь знаю, прочитав его дело, «в антисоветском, сио¬
нистском заговоре, возглавляемом Соломоном Михоэл-
сом и... Лионом Фейхтвангером (?!?!)». Это были так на¬
зываемые «еврейские посадки», и нашим отечественным
160
фашистам было все равно, кого ставить во главе несуще¬
ствующего заговора, хоть Эйнштейна, хоть Иисуса Хри¬
ста — лишь бы по национальности был еврей. В 1949 го¬
ду — в стране, победившей фашизм, — начинался свой
поход против евреев. Еще ничего не случилось, но уже
тысячи сидели только за то, что были безродными кос¬
мополитами, то есть попросту евреями.
Мое место и на том обледеневшем мосту на станции
Мытищи, по которому мы скользили с мамой на почту
(только там принимали в лагерь посылки), падая и ро¬
няя драгоценные продукты, которые, как потом узнали,
никогда не доходили до адресата. Но я хорошо помню
это свое место в длинной, на сутки, очереди, в промерз¬
лом зимой предбаннике, куда в комнату почты пускали
по одному, издеваясь над нашей молчаливой покорнос¬
тью судьбе. А когда папу арестовывали, мое место было
между сетчатой кроватью и старым буфетом в нашей
маленькой комнате в коммуналке. Оттуда, не шелохнув¬
шись, я смотрела на отца: он сидел на своем месте, на
которое ему указали отечественные гестаповцы («си¬
деть, не шевелиться»), — рядом с мамой. Я помню его
развязавшиеся шнурки на полуспустившихся пижамных
штанах, мамину руку в его руке и еле слышное: «Я ни в
чем не виноват». А потом, когда уводили, он встал пе¬
ред мамой на колени и сквозь слезы сказал: «Прости».
Я тогда впервые увидела, как мой сильный, могучий
папа заплакал. И дальше он тоже занял свое место —
сначала в Лефортово, потом в Бутырке, перед столом
следователя, на котором возвышались роскошные хру¬
стальные графины с пузырчатой холодной водой, и три
дня — в боксе, куда приносили баланду из селедки, ко¬
торую разум приказывал не есть, а голод не слушался
разума. «Подпишите, что вы член Международной сио¬
161
нистской организации, и я дам вам воды». Отец ничего
не подписал. За что и был отправлен на десять лет в
Тайшетские, особого режима, лагеря в барак № 27.
Я узнала номер барака и даже номер его койки
спустя много (очень много) лет в Израиле, в городе
Арад, на встрече со своими возможными избирателя¬
ми. Дело в том, что бывшие граждане России, имев¬
шие российские паспорта, были прикреплены к тому
Центральному округу в Москве, от которого в 1999 го¬
ду я баллотировалась в Государственную Думу. Вот
там, в белокаменном городе Арад, после выступления
ко мне подошел глубокий старик и показал пожелтев¬
шую от времени когда-то белую тряпочку, на ней чер¬
нильным карандашом были написаны номер барака и
койки, которая была рядом с койкой моего папы —
Ефрема Гербера. «Я хорошо помню вашего отца — его
нельзя забыть. Это был очень высокий, очень худой и
очень красивый человек. За президентскую внешность
мы называли его Президентом. У него был прекрас¬
ный голос, и, когда мы строем шли на работу, вохров-
цы заставляли его запевать бодрые советские песни.
Нам хотелось есть и спать, а им хотелось, чтобы мы
пели. Особенно это было трудно в морозы, и ваш бед¬
ный папа сорвал голос. За голос его приглашали петь
на торжественные вечера в день Октябрьской револю¬
ции или 1 Мая, что, наверно, спасло ему жизнь, по¬
тому что он дважды умирал от дистонии, но началь¬
ники его подкармливали, чтобы он мог петь. Иногда,
когда были силы, он пел нам в бараке чудесные ро¬
мансы. Особенно я хорошо помню вот этот...» Старик
застенчиво улыбнулся и запел: «Мы сидели с тобой у
заснувшей реки, с тихой песней прошли мимо нас ры¬
баки...» Так вот почему папа потерял голос — он ни¬
162
когда нам об этом не рассказывал, впрочем, как и о
многом другом из той страшной лагерной жизни. На¬
верно, он жалел нас и не хотел, чтобы его, как гово¬
рил, ночные кошмары стали нашими. «Я вернулся,
чтобы жить, — сказал он однажды, — и не хочу му¬
чить ни себя, ни вас...»
Непостижимо, потому что читаю сегодня у Симона
Визенталя про «аскари» — русских перебежчиков или
пленных, которые особенно старались, помогая охран¬
никам в концлагерях. «Эсэсовцы педантично следили
за тем, чтобы мы маршировали красиво, а выйдя за во¬
рота, начинали петь», — пишет Визенталь. И в том
строю, только в другом конце, было место моего отца-
запевалы. Господи, почему он мне не рассказал, что
именно они пели. Может быть, «Эх, хорошо в стране
Советской жить...» или — «Утро красит нежным светом
стены древнего Кремля...»?! Но ведь и я пела в детстве
эти песни, больше того, я любила их. Значит, в том хо¬
ре было и мое место! Я — та девочка, которая пела эти
песни, но и та, которая сжалась в комочек между бу¬
фетом и кроватью и слушала, как наш гестаповец чи¬
тает по складам переписанные кем-то стихи Маргари¬
ты Алигер, тогда ходившие по рукам: «И, в чужой
печурке руки грея, я осмелилась спросить: «Кто же
мы такие?» «Мы —- евреи! Как ты смела это поза¬
быть?» Потом эти стихи вместе с моими школьными
чертежами («советского завода план») стали единст¬
венными доказательствами причастности папы к сио¬
нистской организации и к его вредительской деятель¬
ности на заводе, где он много лет был главным
инженером. Все это сейчас воспринимается как пол¬
нейший абсурд. Но ведь не меньший, чем «танго смер¬
ти», которое заказал для смертников унтерштурмфю-
163
pep и каждый раз плакал, когда оркестр из лучших му¬
зыкантов Львова его играл (оркестранты были расстре¬
ляны последними).
Я не была на месте мальчика Эли, который слизывал
в гетто крошки хлеба, рассыпанные для птиц, и прятал¬
ся от эсэсовцев под полом. Мое место было в узком ко¬
ридоре под лампочкой без абажура привилегированного
госпиталя в Лефортово. Там лежал Гена Ф. — моя пер¬
вая безумная любовь, такой же светлоголовый и голубо¬
глазый, такой же милый и хороший, чем-то очень похо¬
жий на голубоглазого Карла, каким его увидел на
фотографии Симон Визенталь. Гена был намного стар¬
ше меня и уже успел повоевать и даже был ранен — его
хромота и палка, на которую он небрежно опирался,
придавали ему особый шарм, который всех очаровывал,
особенно девушек из нашей студенческой группы. Ког¬
да я рассказывала своим друзьям о Гене, то первое, что
говорила: «Вы понимаете, он — воевал!» Каждый день я
ходила к нему, и каждый день меня ждал пропуск. Про-
пускница знала меня в лицо и всякий раз, выписывая
пропуск, кокетливо добавляла: «Он вас ждет». Но в тот
день пропуска не было, и всегда любезная дежурная хо¬
лодно отчеканила: «Вам пропуска нет — и не будет». —
«Что-нибудь случилось?» — прошептала я. «Случи¬
лось», — прошипела бывшая подруга и захлопнула
окошко. Плача и тупо повторяя — ничего не понимаю,
ничего не понимаю, — я вбежала в метро. И тут замети¬
ла, что в вагоне на меня как-то странно смотрят. Но
опять ничего не поняла. Дома я позвонила самой близ¬
кой подруге и, захлебываясь слезами, как заклинание
повторяла: «Он меня разлюбил!» —- «Неужели ты не по¬
нимаешь?» — тихо, точно боясь кого-то разбудить, спро¬
сила Марина. «Что, что, я не понимаю?» Она ничего не
164
ответила. И только вечером, когда такой хороший Гена,
такой храбрый и такой умный, позвонил мне и так же
тихо спросил: «Неужели ты не понимаешь?» — я нако¬
нец поняла. Герой войны с фашистами не мог принять
меня, ему это было неудобно, потому что в тот день вся
страна прочитала в «Правде» «исповедь» никому доселе
не известного доктора Лидии Тимашук, которая больше
не могла молчать и поведала всему миру о врачах-отра¬
вителях, в основном еврейской национальности. На сле¬
дующий день я своими глазами увидела, как разъярен¬
ные женщины вытащили из-за конторки аптеки всеми
любимого старенького провизора Арона Моисеевича и с
криком: «Ты травишь наших детей!!!» — начали его бить.
«Однажды они увезли отсюда евреев. Среди них
был и наш домашний врач... Пропаганда утверждала,
что евреев просто расселяют в другое место. Но затем
я услышала, с какой жестокостью обращаются с ними
люди из СС. Мой сын был тогда в Польше, и до нас
доходили дурные вести. Однажды муж сказал: «Карл
ведь тоже в СС. Возможно, он теперь обрабатывает и
нашего врача. Раньше врач обрабатывал маленького
Карла, а теперь все наоборот» — это слова матери Кар¬
ла из книги Симона Визенталя.
Через несколько дней мне позвонила мать Гены и
сказала, что Гена просил передать, что пока он не мо¬
жет со мной видеться, что придется подождать, когда
ситуация изменится. Он был секретарем комитета ком¬
сомола. Может быть, никто не говорил ему, что нель¬
зя встречаться с девушкой-еврейкой. Он сам так ре¬
шил. Как бы мне хотелось сейчас написать нечто
романтическое, что-то вроде того — через годы мы
встретились, и он сказал: «Прости». А я? Простила бы
я его? Он ведь никого не убивал — он просто «убил»,
165
говоря высокопарным языком, мою первую любовь.
Но сейчас, когда я прочла Визенталя, я поняла, что
простила бы его, если бы... он покаялся. Увы...
Когда мы, молодые, начинающие журналисты, что-
то требовали, на чем-то безапелляционно настаивали,
мой первый редактор, много что повидавший на своем
веку, всегда повторял одну и ту же фразу: «Все не так
просто. Только в математике дважды два, хоть лопни,
хоть тресни, всегда четыре. А в жизни и пять, и десять,
и двадцать пять, и... ничего. Нет правил на всю жизнь,
и нет готовых на все ответов. А есть бессонница непо¬
нимания и вечная мука — понять».
Мне часто указывали на мое место не под солнцем.
И тогда, в деканате факультета журналистики МГУ, ку¬
да я пришла подавать документы, милая, улыбчивая се¬
кретарша любезно, по-человечески, как ей казалось,
посоветовала — не терять времени даром и забрать до¬
кументы, потому что я все равно не пройду. «Но поче¬
му?! — воскликнула я и наивно добавила: — Я ведь хо¬
рошо пишу». — «Неужели вы не понимаете?» —
ласково ответила девушка и вежливо протянула доку¬
менты. НЕ ПОНИМАЮ, но понимаю. Не хочу ПОНИ¬
МАТЬ, но вынуждена понять и... забираю документы.
«Мы вынуждены были жить при Гитлере, как и
миллионы других людей», — говорит мать Карла, слав¬
ная, добрая мать «хорошего доброго» мальчика. Отец
Карла был раньше социал-демократом, но сын его за¬
писался в гитлерюгенд, и он вынужден был жить при
Гитлере и вынужден был опасаться соседей. ВЫНУЖ¬
ДЕН — это, наверно, самое страшное. Не ты сам, а те¬
бя вынудили, за тебя решили.
Наш скромный сосед Михаил Давидович — тихий
безобидный еврей, младший сотрудник в каком-то неве¬
166
домом научном институте, каких в советские времена
было пруд-пруди, — он так любил свою белокожую
хрупкую жену Лилю и маленькую дочку с большими
черными, как у Эли, глазами. Они тихо, как-то незамет¬
но, жили в угловой маленькой комнате нашей шикарной
коммуналки (когда-то вся квартира принадлежала бога¬
тому нэпману, который поверил в новую экономичес¬
кую политику и, естественно, сел в Бутырку за свою
доверчивость), так вот, другой сосед — бывший буден-
новец, а ныне домоуправ, вынудил его подписать поклеп
на моего папу, и он, став «источником», как это у них
называлось, подписывал донос. Он дружил с нами, как
и вся его семья, и вовсе не хотел отправить Ефрема в ла¬
герь. Но был ВЫНУЖДЕН, ибо в противном случае, как
обещал ему бывший лихой боец, его посадят — он ведь
и сам еврей, а евреи, как известно, все равно в чем-то
виноваты. В папином Деле — совсем недавно мне дали
его прочесть — «источник» занимает СВОЕ МЕСТО, я
это увидела своими глазами. Когда папа вернулся, он
рассказал нам об очной ставке со свидетелем его «пре¬
ступлений» нашим застенчивым Михаилом Давидови¬
чем. Тот, не глядя на папу, повторял за следователем —
«да, я видел... да».
Помню, в своем юношеском максимализме я была
непреклонна: «Ты должен его найти (он сразу уехал из
нашей квартиры), ты должен ему отомстить!» Вот тог¬
да-то отец сказал: «Больше всего я не хотел бы его
встретить. Мне нечего ему сказать. Я не буду сводить
счеты ни с ним, ни с миром — ненависть разрушает. Я
вернулся, чтобы жить...»
Все не просто... Я сижу перед столом-платформой
главного редактора ведущей газеты. Он с явным удо¬
вольствием дочитывает мой первый в его газете мате¬
167
риал. Пришло время, незабвенная «оттепель», и я пи¬
шу открыто, остро, смело... Так мне, по крайней мере,
казалось. Сегодня понимаю всю условность и жалкость
этой «смелости», но по тем временам... «Прекрасно, —
говорит наконец Главный, — печатаю...» Я аж задохну¬
лась от счастья. «Но... с одним условием — вы берете
псевдоним. Например, Алова или Гербова... Ну какой
хотите, только фамилия должна быть другая». Я знала,
что этот момент когда-нибудь наступит, но все равно
была к нему не готова и молчала. «Так что, реше¬
но?» —- прервал затянувшуюся паузу Главный. И тут я
наконец открыла рот: «Решено, Алексей Иванович, я
никогда этого не сделаю, и прежде всего потому, что
ПОНИМАЮ, почему ВЫ меня об этом просите».
В далеком детстве я пришла домой, рыдая, потому
что Толик, сын нашей дворничихи, кривляясь и гри¬
масничая, дразнил обидным, как он полагал, словом —
«еврейка». И было почему-то и впрямь очень обидно.
Плача, я побежала домой за защитой: «Папа, он назвал
меня еврейкой!» — «Так что же ты плачешь? — удивил¬
ся отец. — Быть еврейкой так же прекрасно, как гру¬
зинкой, русской, украинкой...» Вот это — так же пре¬
красно — я запомнила на всю жизнь. Вспомнила и
тогда, когда от меня потребовали сменить мою еврей¬
скую фамилию на Иванову или Петрову...
«К тому же я очень любила своего отца — Ефрема
Гербера» (папы уже не было к тому времени в живых).
Разговор был окончен, и я встала, но вместе со мной
встал и Главный. Он обошел свой гробовидный стол,
подошел ко мне и сказал только одно слово: «УВА¬
ЖАЮ». С тех пор печатал всегда.
Предположим, он занимал высокий пост и мог позво¬
лить себе роскошь уважать еврейку только за то, что она,
168
вопреки государственным установкам, не боится ею
быть. Так что же здесь правило и что исключение? И как
отделить тех, кто был ВЫНУЖДЕН и шел на подлость
по чужой недоброй воле, от тех, кто мог убить или уже
убил?
«Убей его!» — взывал поэт, и тысячи шли убивать и
быть убитыми, защищая свою Родину — Советский
Союз.
«Убей его! — кричал Гитлер. — Это они, евреи, ви¬
новаты во всех ваших бедах. Это они пытались вас экс¬
плуатировать, они ответственны за войну, голод и без¬
работицу»... И эсэсовцы шли убивать, спасая СВОЮ
страну. Можно ли сравнивать тех, кто спасал от фаши¬
стов, и тех, кто ими был или был под ними?! Низкий
поклон воевавшим в ту Отечественную войну, — на¬
шим солдатам. Но ведь и мы, до войны и после, в еди¬
нодушном порыве посылали на каторгу собственных
«врагов народа». «Молчаливое большинство» — это то¬
же поддержка, и бесконечное «за», когда ум и совесть
были — «против». Многие были ВЫНУЖДЕНЫ, но
многие, включая того же Фейхтвангера, искренне за¬
блуждались и, более того, искренне верили Вождю и
Учителю. Кто они —- жертвы или палачи?
Мой добрейший киевский дядя, светлейшей души
человек, который ушел из благополучной интеллигент¬
ной семьи в рабочий класс, чтобы служить делу ком¬
мунизма, — кем он был? До конца своих дней простым
шофером. На похоронах его ребята — водители Второ¬
го киевского таксомоторного парка все, как один, го¬
ворили, что не было в городе человека честнее, чем он.
Мой голубоглазый дядя прошел весь фронт, дошел до
Берлина, был дважды тяжело ранен. Но никогда ему не
было так тяжело, как в последние годы, а потом и дни
169
его жизни. Он знал, что я среди демократов, что ни¬
когда не была в коммунистической партии и терпеть ее
не могла, знал, что ратовала за суд не над ним — ком¬
мунистом и ему подобными, а над тем режимом, кото¬
рый заставил себе служить сотни тысяч таких, как мой
дядя, — вот этого я больше всего не могу простить это¬
му режиму. Одних он уничтожал физически, других,
что не менее страшно, морально, притворяясь всечело¬
веческим духовником. «Неужто вся моя жизнь зря?» —
спросил дядя незадолго до кончины. Могла ли я ска¬
зать: «Да, ты ошибся»? Нет, не могла — ведь он уми¬
рал, и я не имела душевного права отнять у него его
единственную веру. Нет, его единственную жизнь. Он
не чувствовал себя ни в чем виноватым, ему не в чем
было раскаиваться — он шел за идеей и не хотел, не
мог признать, что эту идею давно уничтожили те, кто
клялись в верности ей и, как профессиональные раз¬
вратники, тут же предавали. Я перечитала книгу Симо¬
на Визенталя несколько раз. И чем дольше читала, тем
больше возникало вопросов и тем меньше ответов.
Вот уже семь лет, как я посвятила себя изучению Хо¬
локоста. Случайно ли это получилось? Нет, но моя до¬
рога к нашему центру «Холокост» была длинной. На ней
следы моей одесской бабушки — грузная, больная, она
умерла по дороге в гетто, и ее двух дочерей и двух вну¬
ков, которых гнали по Дерибасовской в гетто. И киев¬
ского брата бабушки, профессора химии, дяди Иосифа с
женой и двумя дочерьми. Всякий раз, когда я бываю в
Киеве, иду в Бабий Яр, чтобы бросить в овраг цветы —
ему и всем тем, кто был рядом с ним. На моей дороге в
«Холокост» желтые лимоны на том проклятом мосту в
Мытищах, которые выпали из сумки, когда мама, по¬
скользнувшись, выронила из рук сумку и лимоны пока¬
170
тились вниз, на железнодорожное полотно, и тут же бы¬
ли раздавлены скорым поездом. И на нем я сама в узком
коридоре лефортовского госпиталя. И я в деканате уни¬
верситета, где мне, еврейке, указали на дверь. И я в за¬
ле Дома литераторов, в который ворвались семьдесят
фашистов из общества «Память», и кто-то вонючий и
наглый прошипел мне в лицо: «А тебя, жидовка, мы за¬
режем в собственной постели». И снова я, на сей раз в
душном зале Московского городского суда, где месяц
шел процесс над предводителем этой шайки антисеми¬
тов, которые ворвались в Дом литераторов с плакатами:
«Евреи, убирайтесь в Израиль», «Россия без евреев»...
Месяц я сидела в горсуде, изнемогая от жары и выслу¬
шивая каждый день «любезности» от их сторонников,
которых всегда было много, а нас, демократов, как все¬
гда, мало. Но я поклялась, что процесс этот состоится,
и, как бы мне ни было душно и тошно в том зале среди
отечественных штурмовиков, я не позволю себе отсижи¬
ваться дома и демонстрировать в уютной обстановке
свое к ним презрение, ибо, как утверждали мои коллеги:
«Собака лает, ветер носит». Ошиблись коллеги — кучка
маргиналов со временем превратилась в отряды хорошо
организованных чернорубашечников РНЕ.
На том пути к нашему центру «Холокост» много че¬
го было. И академгородок под Новосибирском, кото¬
рый из колыбели науки превратился в колыбель анти¬
семитов («Очень много младших научных сотрудников,
которым никогда не суждено стать старшими», — объ¬
яснил мне этот феномен русский интеллигент, профес¬
сор из того же академгородка). И антисемитские реп¬
лики народных избранников в Государственной Думе,
среди которых была и я. И просительное моих уважае¬
мых коллег «Тебе не надо», когда я вскакивала, чтобы
171
ответить на очередной антисемитский бред так называ¬
емого коммуниста или либерального демократа. Чтобы
оправдать это свое «НАДО», я поехала баллотироваться
на следующий срок в Еврейскую автономную об¬
ласть — не потому, что там много евреев, а потому, что
так называется — «Еврейская...», чтобы стать легитим¬
ной еврейкой в Думе. И очень много нормальных лю¬
дей, независимо от их национальности, проголосовали
за меня. Но не меньше оказалось и других... И тогда я
пришла к Холокосту — к необходимости понять и...
тут, казалось бы, самый момент добавить — простить.
Но снова и снова это невозможность понять, а значит,
простить.
Помню, когда я во второй раз приехала в Освенцим,
какой-то юноша, постояв для наглядности в бывшей га¬
зовой камере, выходя, развел руками и сказал своей
спутнице: «Я думал, что будет страшнее». Значит, он,
вполне нормальный на вид парень с университетским,
между прочим, значком, допускает, что может быть еще
страшнее. Самое простое крикнуть ему вслед: «Подо¬
нок». Но ведь все не просто —• учил меня мой мудрый
первый редактор. Когда «Память» ворвалась в Дом лите¬
раторов, я хорошо помню, что рядом с чувством омерзе¬
ния и ненависти было и другое — жалости. Было, бы¬
ло — не имею права об этом забывать. Это прыщавые,
желтолицые мальчики, — наверно, родители никогда их
не кормили, не давали в школу яблоко, не хвалили, не
дарили всякие детские замечательные глупости, а может,
гнали на улицу, когда напивались, а может, и вообще до¬
мой не пускали. А это женщина с авоськой, которая
громче всех орала: «Жиды, убирайтесь...» — что она ви¬
дела в этой жизни, если пришла на «акцию» с куском
сыра в этой самой авоське? Наверно, ей объяснили, что
172
в ее нищей жизни виноваты... евреи, как объяснили это
когда-то немцам, и те же прыщавые мальчики, а потом
и откормленные и выхоленные эсэсовцы пошли за Гит¬
лером в поход на евреев. И снова спрашиваю себя: «И
кто тут палач, кто жертва и когда жертва становится па¬
лачом?!» Есть закон, он обязан карать тех, кто открыто
нарушает его. Судить генерала, который сегодня, а не
шестьдесят лет назад призывает «мочить» жидов, а во¬
одушевленная его громогласным призывом толпа с бле¬
ском в глазах кричит: «Давай» или: «Любо», что зна¬
чит — правильно. Но что делать с толпой, которая всегда
не любит тех, кто не похож, и, объединенные своей по¬
хожестью («серые наступают — серые побеждают»), по¬
хожие преследуют непохожего: будь он в очках (было та¬
кое), в шляпе (и это было), в узких брюках (и через это
прошли), рыжий, с длинным носом или с лицом кавказ¬
ской национальности?
Напечатали когда-то в «Комсомолке» мою статью
под названием «Непохожий». Речь шла об одном удиви¬
тельном мальчике из Кисловодска. Был тот мальчик че¬
тырнадцати лет ни на кого не похож. Сочинял стихи,
дарил девочкам цветы и писал им оды, все отдавал —
велосипед, конфеты, приготовленный мамой завтрак в
школу, за что не раз был наказан той же мамой. Весной
уходил с урока — смотреть, как прилетают птицы, рас¬
крываются почки на деревьях и расцветают первые цве¬
ты... Над ним смеялись, называли недоделанным: а он
был НЕПОХОЖИМ. Он был — поэтом. Я приехала в
Кисловодск по письму его одноклассницы, которая
просила «Комсомолку» помочь Вите, над которым все
смеются, «а у него такие прекрасные стихи». Поехала,
написала — в защиту непохожего. А через пять лет он
приехал в Москву отомстить «проклятой журналистке»,
173
которая испортила ему жизнь. Потом, когда мы с ним
подружились, он рассказал, каким адом стала его жизнь
после моей статьи. Если раньше над ним посмеивались
и мама иногда наказывала, то после злополучной пуб¬
ликации его просто-напросто затравили — теперь уже
все: и учителя, и соседи, и домашние, и одноклассники.
Довели до такого состояния, что он убежал из города в
деревню, к бабушке, а теперь мыкается по стране и не
может найти себе пристанища. А ведь я хотела помочь
ему, образумить тех, кто смеялся над ним. В результате
его не только не поняли, а вконец затравили. Эта исто¬
рия ничему не научила меня. Я по-прежнему защищаю
непохожих. Но всегда вспоминаю того мальчика и, ко¬
леблясь, мучаясь, все-таки встреваю в очередную исто¬
рию, потому что не знаю иных способов остановить на¬
ступление серости, кроме как стать у нее на пути.
Я пришла в «Холокост» не только для того, чтобы
не дать забыть, но и для того, чтобы не дать повторить.
Путь был длинным, фактически вся жизнь. Но и се¬
годня я знаю только то, что ничего не знаю. Нет, нет,
конечно, знаю — тысячи фактов того безумия, в кото¬
рое дал себя втянуть культурный, как принято было го¬
ворить, народ — немцы. Тысячи фактов той индустрии
смерти, которую творили над ни в чем не повинными
людьми самые остервенелые из них. Не скажу, что ду¬
мала до того, что было страшнее. Страшней не бывает.
Но больше всего меня мучают те, кто жил рядом с мо¬
ей бабушкой, играл в шахматы с моими племянниками,
кто с удовольствием ел фаршированную рыбу у моей
тети Рахиль, а потом безучастно смотрел им вслед, ког¬
да они шли в гетто или в Бабий Яр. Знаю — страх, тут
все ясно — жизнь одна, и ни на какую другую рассчи¬
тывать не приходится. Это тот единственный случай,
174
когда все просто, и я никогда не стану осуждать тех, кто
не пошел за своими соседями в гетто или Яр (были и
такие, но они святые, а святых не может быть много,
иначе мы бы давно жили в раю, а мы по-прежнему жи¬
вем на земле). Но вот безучастность, привычка, равно¬
душие... Я не могу с этим смириться, хотя понимаю,
что слаб человек. В книге Симона Визенталя самые
пронзительные для меня страницы даже не те, которые
про ужасы «жизни» в лагере, а те, которые про соседей.
Была такая песенка (я узнала ее после войны) — песен¬
ка про Ростов-город, Ростов-Дон, где жили, любили,
ходили с подружками гулять... «Улица Садовая, скаме¬
ечка кленовая — эх, Ростов-город, Ростов-Дон»... По¬
том пришла война суровая, и те, кто гулял по Садовой,
ушли на фронт и не все вернулись... А те, кто остался...
Об этом в песенке ни слова нет. Ныне, повторяю, на
Змиевской балке сооружен мемориал. Когда-то здесь
горел вечный огонь, но давно погас — «никто не забыт,
ничто не забыто». В этом овраге, так похожем на те, что
в Бабьем Яру, расстреляли за несколько дней тысячи
людей. Были среди них и военнопленные, были и каза¬
ки, и армяне, и русские, но больше всего было евре¬
ев —• тридцать пять тысяч человек. Как когда-то в Ки¬
еве, власти Ростова еще не решились выбить на
памятнике чудовищную цифру. Не потомки ли они тех,
кто смотрел со скукой, или с презрением, или радостью
на своих соседей, которых вели в Змеевскую балку на
массовое убийство, когда другие равнодушно бежали по
своим делам? Или с любопытством глазели, или отво¬
рачивались, чтобы не видеть чужой беды. Последние
были не самыми худшими из людей — не исключено,
что все это им было отвратительно, что они пережива¬
ли за своих евреев, но что они могли сделать, в лучшем
175
случае — отвернуться, банальная, скажем прямо,
мысль, но она только тогда становится открытием, ког¬
да ты сам к ней пришел.
Помню, когда я попала в знаменитый, миллион раз
описанный, концлагерь Маутхаузен, меня, конечно,
потрясли бараки и все, что в них, а в экспозициях му¬
зея — о них. Но больше всего — толпы счастливых ав¬
стрийских мужчин, женщин и детей, забрасывающих
«оккупантов» цветами. На мониторах многочисленных
компьютеров хохотала, вопила, что-то орала возбуж¬
денная от счастья «поверженная» Австрия. Вместе со
мной смотрели на своих дедушек и бабушек австрий¬
ские дети. «Они должны знать правду, — мягко пояс¬
нил директор этого музея смерти. — Но, поверьте, бы¬
ли и другие, только они не попали в кадр — это ведь
немецкая хроника...» Но когда я бродила вечером по
тихим улочкам зеленого городка Маутхаузен и засыпа¬
ла в просторном белостенном номере старой гостини¬
цы, которая была и тогда, когда здесь проходили ко¬
лонны смертников, я не могла отделаться от мыслей об
этих других, что спали под теплыми перинами, видели
сны на шелковых подушках и гнали от себя мысли о
тех, кто гнил в бараках, никогда не зная, доживет ли до
утра. Все рядом. На столбе вывеска: «До концентраци¬
онного лагеря-музея Маутхаузен два километра, до
ближайшего ресторана — пятьсот метров». Я пошла в
этот достопримечательный своей кухней ресторанчик,
словно созданный для влюбленных — так уютно сидеть
за его деревянными столиками под шелковыми крас¬
ными абажурами, пила благоухающий кофе с малень¬
кими венскими пирожными и думала только об одном:
так было и тогда, когда Симон Визенталь доживал по¬
следние минуты в «блоке смерти». Судьба пощадила
176
его, оставила жить, чтобы он посвятил свою жизнь по¬
искам нацистских преступников. Но сейчас, когда я
читаю в его книге о блоке шесть — «блоке смерти», где
заключенных даже не заставляли выходить на работу —
недоедание, истощение, болезни валили с ног почище
чумы — и где они в короткие минуты прогулок броса¬
лись на землю и ели скудную траву, я вспоминаю те
пирожные и ароматный кофе в маленьком ресторанчи¬
ке, в котором тогда также потрескивали дрова в ками¬
не и кто-то читал газету, а кто-то объяснялся любимой
в любви, и... не могу ни смириться, ни охватить разу¬
мом, сердцем это такое банальное — все рядом.
«Вы еврейка?» — спросил меня симпатичный хозя¬
ин ресторанчика и на мое «да» — только тяжело вздох¬
нул и больше не сказал ничего. Значит, кто-то и тогда
вздыхал и не хотел верить тому, что происходило все¬
го лишь в двух километрах от его города. А кто-то ра¬
довался, что дело идет, ресторан процветает, потому
что «сотрудники» лагеря часто по вечерам приезжали
сюда поужинать после трудового дня.
Сегодня, когда читаю «Подсолнух» Симона Визента¬
ля, меня тоже потрясают спокойные улицы Львова, на
которых мирная нормальная жизнь, как будто нет гетто
и нет совсем рядом концентрационного лагеря. Война
почти ничего не изменила в городе. Грохотали старые
трамваи по своим разъезженным рельсам. Шли крестья¬
не обменивать продукты на товар. Колонна евреев, в ко¬
торой и Симон Визенталь, ни на кого не производит
особого впечатления. Кто-то в любопытстве глазеет, кто-
то, не останавливаясь, бежит дальше, чтобы не встре¬
титься глазами с бывшими знакомыми, — это из книги.
У той истории была своя предыстория. Много раз
студент Львовского политехнического Симон Визенталь
177
проходил по этим улицам. Он знал здесь каждый дом,
каждый подъезд. Улица Сапеги, Гродецкого, Янов¬
ская — сколько раз гулял по ним, сколько раз слышал
вслед оскорбительные антисемитские выкрики. И
сколько раз евреи, попадавшие в руки студентов-хули¬
ганов, оставались лежать на земле с тяжелыми ранами и
увечьями. «Эти молодые люди всаживали в трости брит¬
венные лезвия и таким оружием наносили удары своим
еврейским коллегам» — это тоже из книги. Неудиви¬
тельно, что жители Львова быстро привыкли к виду ис¬
терзанных и измученных евреев. «Они смотрели на нас,
как, в иных случаях, смотрят на стадо коров, которых
гонят на пастбище или... на бойню». Никто никогда не
остановил тех юных жителей Львова, которые избивали
студентов-евреев палками с бритвенными лезвиями.
Что же теперь было удивляться, что жители Львова бы¬
стро привыкли, и все-таки это не одно и то же — созна¬
тельно творить зло или привыкнуть к тому, что его тво¬
рят другие. Но какая же тонкая кожица отделяет
активное зло от пассивного его созерцания.
Сказано ведь — «не переступи». Но часто мы сами
даже не замечаем, что уже — переступили и нужно сов¬
сем немного, чтобы сделать следующий шаг. Всего один
шаг, и ты уже не свидетель, а соучастник преступления.
Я часто думаю, что потенциал добра и зла в человеке
одинаков. Только почему зло с такой легкостью себя ре¬
ализует, а добро корячится в родовых муках и куда ре¬
же оповещает мир о своем появлении на свет?
Вот почему в истории Холокоста для меня самые
страшные страницы, которые про соседей. Про тех, с
кем дружили, советовались, обсуждали чужие новости,
доверяли свои тайны. Сколько этих сюжетов в истории
Холокоста, и они потрясают меня больше всего. Как не
178
могу спокойно читать у Визенталя про улицу Гродецкого
и улицу Сапеги, про университет, где все осталось таким
же, как было прежде. Правда, там и до войны студенты-
радикалы устраивали «День без евреев». Но были и дру¬
гие студенты — с ними смеялись, сидели в читальном за¬
ле, ходили в деканат, где сейчас был «резервный
лазарет». Все рядом — «два километра до концентраци¬
онного лагеря Маутхаузена и пятьсот метров до ближай¬
шего ресторана...». Надо остановить зло вовремя, пока
оно не разгулялось и не надышалось свободой вседозво¬
ленности. Иногда оно открыто заявляет о себе. Но чаще
не обнаруживает себя и, притаившись, ждет своего часа.
Недавно один журналист спросил меня: «Чего вы бо¬
итесь больше всего?» — «Входить вечером в подъезд», —
ответила я и сама себя испугалась — ведь совсем недав¬
но я ничего не боялась. Вседозволенность зла. Того зла,
которое, обрядившись в черное, выбрасывает руку в
приветственном «Хайль». Того, кто, заняв пост губерна¬
тора, считает, сколько еврейской крови у его предшест¬
венника, и никто его не одергивает. Того, кто в кресле
другого губернатора не стеснялся повторять со слов Гит¬
лера, что все зло от сионистов, то есть от евреев. И про
заговор не забыл, и про то, что разоряют и продают
страну, тоже припомнил — видно, хорошо изучил труды
фюрера. А лидер «партии власти», между прочим член
правительства, не скрывал от нас, соотечественников,
своего сожаления, что такой замечательный губернатор
сам ушел со своего поста. И опять — всеобщее молча¬
ние. А для некоторых, не исключено, и ликование.
Семьдесят чернорубашечников приходят в форме с фа¬
шистской свастикой на рукавах в консерваторию — по¬
слушать Вагнера. Зал колыхнулся и тут же успокоился —-
никто не встал и не сказал: «Пока в зале КОНСЕРВА-
179
ТОРИИ фашисты, концерт не может начаться». Не ска¬
зал этого прославленный дирижер. Я спросила бывшего
на том концерте интеллигентного, опять же милейшего
человека: «Как же так, почему никто не вышел?» Он от¬
ветил: «Не было повода — ведь они вели себя спокой¬
но». В консерватории они не посмели вести себя ина¬
че — их час еще не настал. Но если мы так же спокойно
будем ждать, когда он настанет, боюсь, ждать придется
недолго. В других городах они давно завладели лодочны¬
ми станциями, стадионами, спортивными школами, и
пока мы ждем, когда они осмелеют и обнаглеют, они
тренируют мускулы и набираются пропагандистской
ярости. Я не их боюсь, я боюсь темноты, которая за ни¬
ми. Но как высветить ее?
Книга Симона Визенталя сама, как подсолнух на
нескучен ном поле зла, светится умом и благородством.
После войны он не вернулся в Польшу — новую жизнь
нельзя было начинать на кладбище, где каждое дерево,
каждый камень напоминали ему о той трагедии, в ко¬
торой он чудом уцелел. Он надеялся, что «работа в ко¬
миссии поможет вновь обрести надежду, поверить в
справедливость и человечность, во все то, что необхо¬
димо человеку, помимо еды и жилья». Сила этой ма¬
ленькой повести в громадности сомнений, во множе¬
стве вопросов и изматывающем душу поиске ответов
на них. В ней нет ни ненависти, ни озлобленности —
в ней есть боль. Он был в аду при жизни и не вернул¬
ся в рай. Он ничего не забыл и по сей день не устает в
свои девяносто два года искать преступников — тех, на
ком лежит ответственность за содеянные преступле¬
ния. И память мучает его не только злом содеянным,
но и трагедией, порожденной этим злом. Да, прежде
всего трагедией народа, потерявшего шесть миллионов
180
лишь за то, что они были евреями. Но была и другая
трагедия — трагедия таких мальчиков, как «милый и
хороший Карл», сотни тысяч ему подобных — одурма¬
ненных миазмами зла. Трагедия тех, кого сковал страх,
трагедия тех, кто привык видеть чужое страдание и
гнать его от себя, как назойливую муху. Трагедия мол¬
чаливого большинства, онемевшего не столько от стра¬
ха, сколько от безразличия. «Моя хата с краю, ничего
не знаю» — сколько горя мы узнали, благодаря много¬
численным крайним, живущим по принципу «нас не
трогай, и мы не тронем».
Книга Симона Визенталя — это подсолнух не на
могиле. Эти гордые, обращенные к солнцу цветы на¬
поминают мне несломленных, непреклонных в своем
достоинстве людей. Не отчаяние после прочтения
«Подсолнуха», а вера в Человека, который силен со¬
мнениями, а не утверждениями. В конце книги Визен¬
таль не подводит черту, а приводит к вопросу: «Должен
ли, мог ли он простить?»
В годы детства — до тридцать третьего — Карл был,
безусловно, «хорошим мальчиком». «Эпоха, презрев¬
шая милосердие и человечность, сделала из него убий¬
цу» (Визенталь). Да, то была эпоха, презревшая со¬
весть, порядочность, достоинство, честь... Сколько
людей было у нее на поводу! Но сколько противостоя¬
ли, каждый в силу своих возможностей, и не теряли
человеческого достоинства, когда его унижали. Один
предавал, другой спасал, один отворачивался, другой,
хоть взглядом, хоть словом, шел навстречу. И правед¬
нику, спасшему еврея, и соседу, отдавшему маленькой
еврейской девочке кусок хлеба, — для всего этого тре¬
бовалось, казалось бы, совсем немного, но и очень,
как выяснилось, много — быть ЧЕЛОВЕКОМ. Самое
181
высокое призвание человека — быть им. Но как же это
непросто!
Быть ЧЕЛОВЕКОМ — не данность, а выбор, кото¬
рый требует мужества, и потому вправе ли мы клей¬
мить тех, у кого не хватило на это сил? Кто не убивал,
но и не спасал, не доносил, но и не отказывался поно¬
сить в общем хоре, прячась за чужие спины? Вправе ли
мы судить их? Нет, пусть живут, но и прощать нет сил.
Когда трусость и мелкость человека загоняют меня
в угол и становится так плохо, что хоть в петлю лезь, я
призываю на помощь тех, кого теперь буду называть
подсолнухами за их несгибаемую порядочность.
«Сможем ли мы когда-нибудь достичь того, чтобы
люди, подобные Карлу, не становились убийцами?» —
это, наверно, самый главный вопрос из тех, многочис¬
ленных, который поставил перед нами, своими читате¬
лями, Симон Визенталь. Не знаю. Но одно все-таки
знаю — если есть на свете такие люди, как Визен¬
таль, — сможем. Понимаю, они и раньше были, что не
помешало фашизму на какое-то время победить. Они
и сейчас есть, а национал-патриоты во всем мире под¬
нимают голову, и в том числе в стране, победившей
фашизм. Но усилиями Визенталя и таких, как он, со¬
бираются в Стокгольме на Всемирный конгресс главы
государств, чтобы сказать —- память о Холокосте жжет
наши сердца, и мы сделаем все, чтобы каждый школь¬
ник знал о Холокосте, и каждый государственный муж
остановил фашизм в его зародыше. Это мощно, гром¬
ко, это на самом верху. А мне хочется спуститься вниз,
к самым обыкновенным людям, которые возвышались
подсолнухами во мраке страха и морального растления.
И возникают из небытия скромные, незаметные для
истории люди, которые продемонстрировали мне вели¬
182
чие души. Они не совершали подвиг — они просто оста¬
вались людьми, чей нравственный кодекс был их сутью,
а не «моральным кодексом коммуниста», который не
имел никакого отношения ни к человеку, ни к его мора¬
ли. Вот приходит вечером «поразмять мозги» (как он го¬
ворил) большеголовый, худой, прокуренный до хрипоты
Федор Кондратьевич — папин друг, обыкновенный ин¬
женер — не главный, не полуглавный. Выпивается, на¬
верно, литр чая, съедаются все бабушкины оладушки и,
ничего не решив, как всегда, не договорив про что-то са¬
мое важное, они расходятся. Дядя Федор уходит, оставив
в пепельнице кучу выкуренных до основания папирос,
на вешалке, как всегда, или кашне, или перчатки. «Это
чтобы вернуться», — говорил он на пороге. Но однажды
он не вернулся — папу арестовали, а наш любимый Фе¬
дор Кондратьевич тяжело заболел и вскоре умер. Его же¬
на потом рассказала нам, что, когда его вызвали на Лу¬
бянку, он собрался и пошел — не пошел, а с трудом
дошел. Вечером того же дня, хотя он понимал, что теле¬
фон прослушивается, он позвонил маме и попросил ее
прийти. Он рассказал, что на допросе говорил о папе
только хорошие слова («А какие я еще мог говорить о
Ефреме?»), что когда увидел папу, то заплакал — «так
Ефрем похудел — кожа да кости». Когда папа вернулся,
первое, что он спросил: «Жив ли Федор?» И еще сказал,
что все эти страшные годы в лагере вспоминал, с каким
достоинством Федор вел себя на очной ставке, и на все
угрозы следователя засадить его Федор Кондратьевич —
истинно русский интеллигент, как всегда говорил о нем
папа, — отвечал: «Я знаю Ефрема двадцать лет, он чест¬
нейший человек». Допрос длился шесть часов, дядя Фе¬
дор два раза терял сознание, но они ничего от него не
добились.
183
Когда папу арестовали, то многие родные и знакомые
от нас отвернулись. Всех, кажется, перещеголял мамин
двоюродный брат, профессор консерватории, известный
пианист. Он, помнится, послал к нам свою домработни¬
цу и просил никогда им не звонить и, само собой, не
приходить. Я взбесилась, а мама сказала: «Бедный пуган-
ный-перепуганый еврей, забудем о нем». Когда папа
вернулся, дядя попросил у него прощения, и папа... про¬
стил, и мама. А я долго не могла, хотя очень любила хо¬
дить в их уютный дом, слушать музыку. А сейчас про¬
щаю. Все они (не буду перечислять, кто отказался от нас
тогда) прошли обработку сталинским режимом, все, так
или иначе, что-то получили от него и не хотели терять —
нет, нет — не званий, не денег, а просто элементарную
возможность жить. Они не предавали, не доносили, они
спасались как могли, и в этом их самоотлучении от про¬
каженных срабатывал элементарный инстинкт самосо¬
хранения. И потому я продолжаю утверждать, что даже
элементарная порядочность требовала от человека сме¬
лости, ибо боялись все. Страх парализовал совесть, но не
только страх. Сквозь пропагандистскую мясорубку про¬
шли все и где-то в глубине души полагали, что, если взя¬
ли, значит, что-то все-таки было. Даже мой папа, я хо¬
рошо это помню, когда начались «еврейские посадки»,
сказал как-то: «Меня это не коснется, я ни в чем не ви¬
новат». И это после того, как был в тридцать седьмом
расстрелян его брат, а в сорок первом на двадцать пять
лет осужден за «пораженческие разговоры» другой. Вот
что само ужасное — подмена человека. Он уже не был
самим собой, он был частью целого, его винтиком, и
сам, как под массовым гипнозом, не ведал, что говорил
и что думал. И когда папу забирали, он тоже, как в гип¬
нотическом сне, повторял, что ни в чем не виноват, как
184
будто не знал, что никакой вины не требуется, чтобы
отправить человека в лагерь или расстрелять, — од¬
ним Гербером больше, одним меньше. Главное, что¬
бы все были, как один, и не высовывались. В сорок
девятом этими «выскочками» стали евреи. Прошло
всего четыре года после окончания войны, но в на¬
шей стране о Холокосте не говорили. «Евреев не уби¬
вали, все возвратились, живы», — с горькой иронией
написал после войны фронтовик Борис Слуцкий.
Волна тяжелого антисемитизма захлестнула страну.
Нужно было найти виновного, того, кто за все в от¬
вете — за бедность, болезни, за то, что страна-побе¬
дительница не может победить разруху, голод, эконо¬
мический кризис. Система буксовала. Чтобы выжить,
ей нужны были новые враги, дабы оправдать свое
бессилие, и, памятуя удачный опыт недавнего внеш¬
него врага, она обнаружила внутреннего — «евреи,
евреи, кругом одни евреи». На вечный вопрос — по¬
чему? — Визенталь отвечает емко и убедительно: «Нас,
евреев, не любили — и это началось не сегодня. Наши
отцы вышли однажды из тесноты гетто в открытый мир.
Они упорно трудились и прилагали все силы, чтобы до¬
биться признания своих сограждан. Но то были тщетные
старания. Если евреи замыкались от мира в своем кругу,
их рассматривали, как чужаков, как инородное тело. Ес¬
ли же они выходили из своего мирка, чтобы приспосо¬
биться и жить, как все, их считали нежеланными гостя¬
ми или даже захватчиками, которых ненавидели и
отвергали... Рано, очень рано я ощутил, что родился че¬
ловеком второго сорта».
Так где же оно, НАШЕ МЕСТО? Несколько лет на¬
зад в Израиле тогдашний президент Вейцман собрал
«круглый стол», чтобы поговорить о еврейской жизни
185
в разных странах... Я тогда, впрочем, как и сейчас, бы¬
ла переполнена ненавистью к нашим неофашистам и
пламенно говорила только об этом. В какой-то мо¬
мент, когда моя речь была, по-видимому, особенно
эмоциональной, президент прервал меня: «Зачем вы
там сидите? Приезжайте сюда. Здесь — ваша Родина».
Я растерялась и ничего не могла ответить. Повесть Си¬
мона Визенталя снова поставила передо мной этот веч¬
ный вопрос: «Где мое место?»
«Мело, мело по всей земле...» — наверно, самое про¬
стое было бы ответить, что мое место здесь, ну скажем, в
Переделкине, где жили и творили русские писатели...
Мое место здесь не потому что, я «писатель» (избави
Бог), а потому, что моя родина — русский язык. Я мол¬
чу на нем, вижу сны, страдаю, радуюсь... Но и это не то,
хотя и много. Здесь могилы моих родителей, мужа, тету¬
шек и дядюшек, которых я бесконечно любила. По суб¬
ботам мы собирались у кого-нибудь из них за большим
столом, покрытым белой, жесткой крахмальной скатер¬
тью... Дядя Давид, родня моя, тетя Аленька, которую
обожали за ее доброту и красоту до глубокой старости все
мои друзья... Тетя Зина — она перечитывала все мои ду¬
рацкие статьи и восторгалась, искренне и смешно: «Нео¬
быкновенно замечательно...» И дядя Ленечка, и другая
тетя Зиночка — святые люди, не обидевшие мухи, что
раздражало соседей в их многокомнатной коммуналке, и
они не раз слышали вслед: «Вот, евреи, все прикидыва¬
ются...» Они не обижались, потому что в той же комму¬
налке были другие соседи, которые любили пить чай с
моим дядей Леней и говорить с ним о политике, а тетя
Зиночка угощала их мацой, а они всегда приносили ей на
Пасху кулич и крашеные яйца. Все было. Все это пере¬
плелось в моей памяти в одну тяжелую косу, которая тя¬
186
нет обратно в прошлое и не дает его забыть. Да, в этом
прошлом были многочисленные вариации на тему: «Си¬
онистский заговор» или совсем трамвайное: «Евреи (жи¬
ды), убирайтесь в Израиль». Но несравнимо больше бы¬
ло и есть другого. С коробками фильмов, так называемых
полочных, я объездила, кажется, всю страну. И не помню
никаких выкриков в свой адрес, а помню тысячи благо¬
дарных глаз, и теплые ладони дружеских рук, и вечерние
посиделки у местных киноманов или тех, кто читал «Но¬
вый мир» и «Литературку» и хотел побеседовать с чело¬
веком, как они говорили, из Москвы. Мне понадобилось
бы много месяцев, чтобы описать всех тех замечательных
людей, самых разных национальностей, которых я встре¬
чала на своем пути и которые давали мне веру в те самые
человечность и справедливость, которые утратил в Холо¬
косте Симон Визенталь. Утратил, но так жаждал снова
обрести, потому что без этой веры жить невозможно. А
мои избиратели — их было десятки тысяч, если они от¬
дали за меня свои голоса, как я могу предать их, незави¬
симо от того, в Думе я или нет. Были другие, кто спорит,
но не они дают мне силы жить («ненависть разрушает»),
а те русские женщины, которые без одной копейки во
имя демократии ходили в декабрьский холод по подъез¬
дам «агитировать» за меня. Однажды, во время одной из
встреч с избирателями, кто-то с надеждой спросил меня:
«Вы немка? Фамилия у вас такая непонятная». — «Нет, я
еврейка, и, если это кого-то не устраивает, ничем не мо¬
гу помочь». Дело не в том, что зал взорвался аплодисмен¬
тами, а в том, что я всегда была и буду еврейкой. И это
дает право открыто бороться с антисемитами. Но это же
лишает меня права априори не любить кого-то только за
то, что он не еврей. Англичане говорят: «Мы не настоль¬
ко глупы, чтобы считать евреев умнее себя». А я бы ска¬
187
зала: «Мы, евреи, достаточно умны, чтобы не бояться
считать других умнее себя».
Исход в Израиль — это не переезд, не географичес¬
кое понятие, это Исход внутри тебя. Я могу жить, где
угодно, но я дочь Израиля, потому что принадлежу его
народу. Однако родина моя — Россия. Здесь я росла,
любила, прощалась, встречалась... Она дала мне так
много, и я немало вложила в нее. Пусть мои вклады не
велики, но они наработаны всей жизнью, и, даже когда
я теряла, я тут же что-то обретала, и никто не заставит
меня бросить мое богатство — мою трудную, мучитель¬
ную, но, для меня, как и для каждого, значительную
жизнь. Кто знает, если бы я столько не ездила и столь¬
ких прекрасных людей не повстречала на своем пути,
может, я бы не выдержала испытание Холокостом. И
поехала на свою, и впрямь историческую, Родину.
Человек силен не ненавистью к человеку, а верой в
него. Источником зла всегда был вакуум любви. Со
стен нашего центра, где всегда представлены материалы
о Холокосте, со страниц книг нашей библиотеки на ме¬
ня смотрят жертвы чудовищного зла. И очень трудно,
поверьте, сохранить эту веру в человека, когда знаешь,
видишь, как победоносно зло. Но я и мои товарищи
здесь, чтобы это никогда не повторилось.
Могла бы я простить Карла? Тогда, наверно, — не
смогла бы. Как не прощаю и по сей день тех, кто тво¬
рил зло в моей стране, — они не покаялись. Но ведь
Карл покаялся. Простим его.
Алла ГЕРБЕР
Симон Визенталь, давая разрешение на публикацию
«Подсолнуха» в России, просил закончить книгу та¬
ким вопросом к читателям:
«Я оставил умирающего, не сказав ему ни слова.
Как поступили бы вы на моем месте?»
Если у вас есть ответ на этот вопрос, пришлите его
по адресу: 113035 Москва, Садовническая ул., 52/45,
Межрегиональный фонд «Холокост», Алле Гербер.
СОДЕРЖАНИЕ
Курт Шарр
«Нацисты лишили нас бблыпего,
чем жизнь, — могилу матери я ношу в себе»
ПОДСОЛНУХ
9
Алла Гербер. Послесловие
154
Симон Визенталь
Подсолнух
ПОВЕСТЬ
Редактор И.В.Опимах
Визенталь С.
В42 Подсолнух: Повесть: Пер. с нем.: Послесловие А.Гер-
бер — М. Текст, 2001. — 191 с.
ISBN 5-7516-0212-9
Симон Визенталь (р. 1908) — известный австрийский общест¬
венный деятель, публицист, всю свою жизнь посвятивший розы¬
ску и преданию суду нацистских преступников. Герой его авто¬
биографической повести, бывший узник концлагеря, не может
забыть встречу с умирающим офицером СС, перед смертью пы¬
тавшимся покаяться и получить прощение за участие в массовых
убийствах евреев. Как становятся фашистами? В чем природа
антисемитизма? Можно ли простить и забыть Холокост? И все¬
гда ли можно простить раскаявшегося преступника? Эти и мно¬
гие другие вопросы ставит перед читателем Визенталь.
УДК 821.112.2
ББК 84(4Авс)
Лицензия ИД № 03308 от 20.11.2000
Подписано в печать 25.04.2001. Формат 60 х 90/16-
Усл. печ. л. 12. Уч.-изд. л. 6,47. Тираж 4000 экз. Изд. № 353.
Заказ № 3415
Издательство «Текст»
125299 Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 7/1
Тел./факс: (095) 150-04-82
E-mail: textpubl@mtu-net.ru
http://www.mtu-net.ru/textpubl
Представитель в СПб. и «Книга — почтой»: (812) 311-96-31
Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленных диапозитивов
в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»
143200 г. Можайск, ул. Мира, 93
Симон ВИЗЕНТАЛЬ родился
в 1908 году в Галиции. После
окончания Пражского университета ; • Z \
работал во Львове. Почти четыре года
провел в нацистских концлагерях,
пережив кошмар Бухенвальда
и Маутхаузена. После освобождения *
все свои силы Визенталь отдал * 1
поиску скрывающихся от правосудия
нацистских преступников. Благодаря
Визенталю и его сподвижникам
перед судом предстали Адольф Эйхман
и комендант Треблинки Франц
Штангль. Многое Визенталь делает
и для увековечивания памяти жертв
Холокоста. Он — автор нескольких
книг, посвященных геноциду евреев
во время Второй мировой войны.