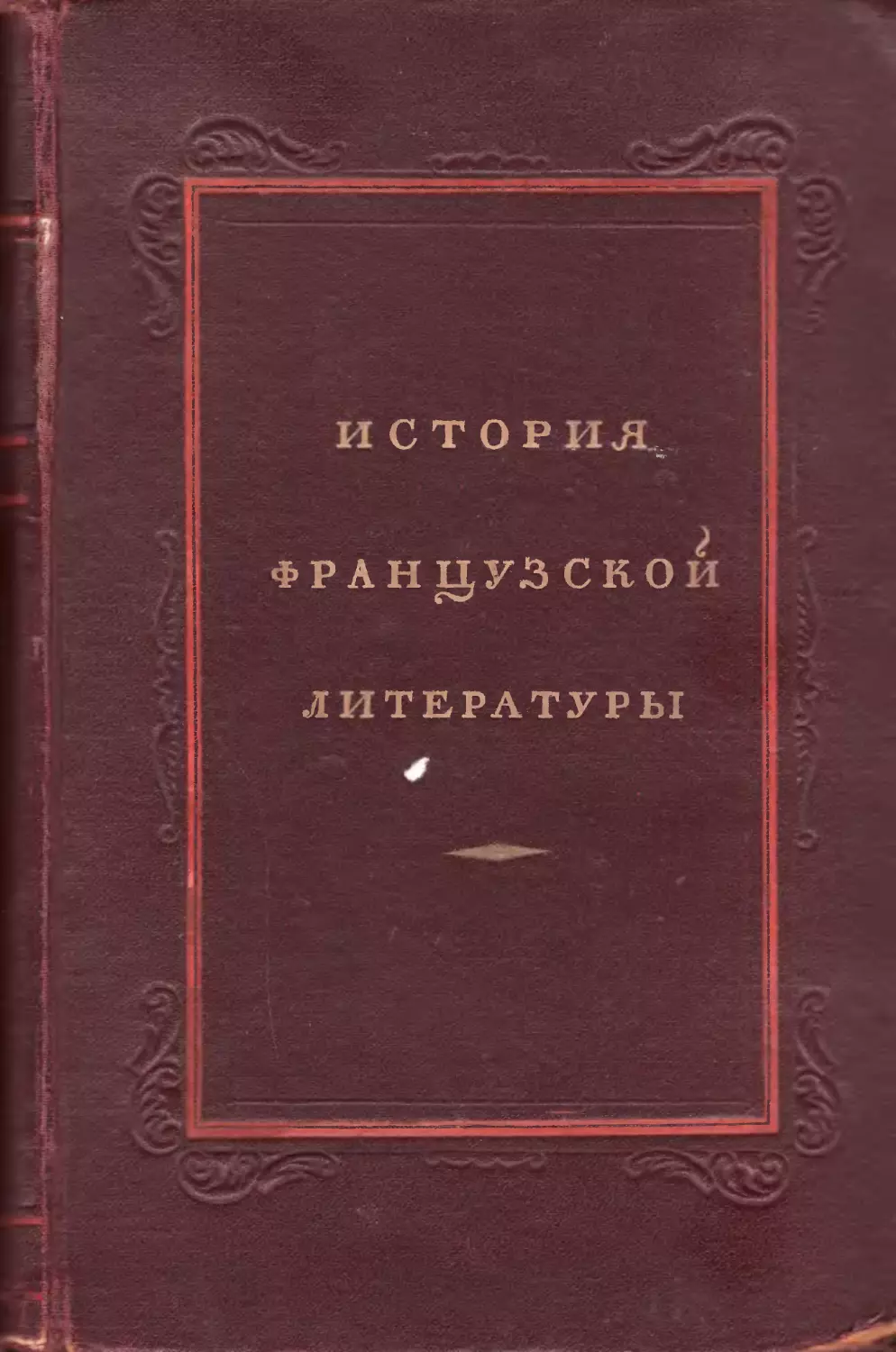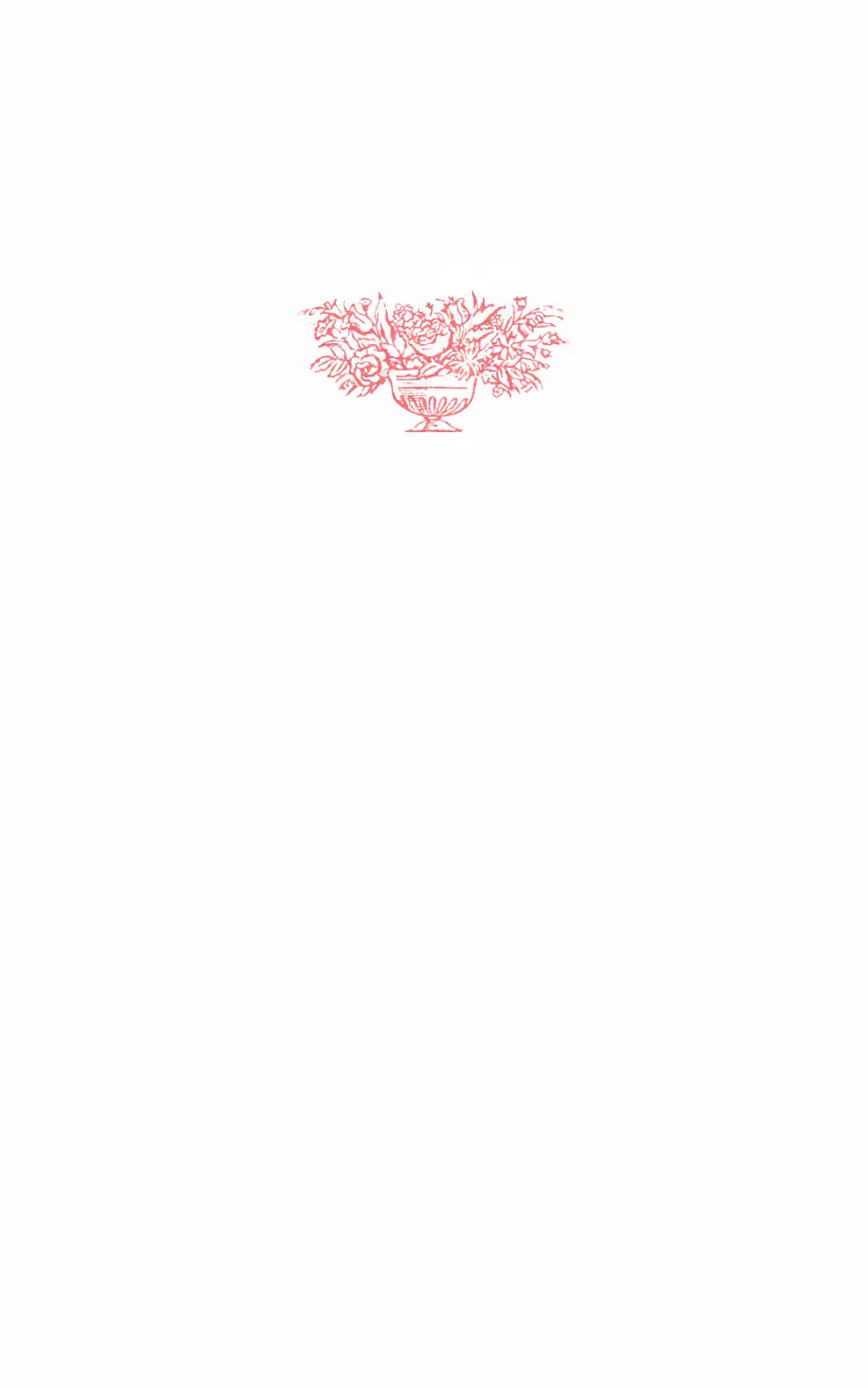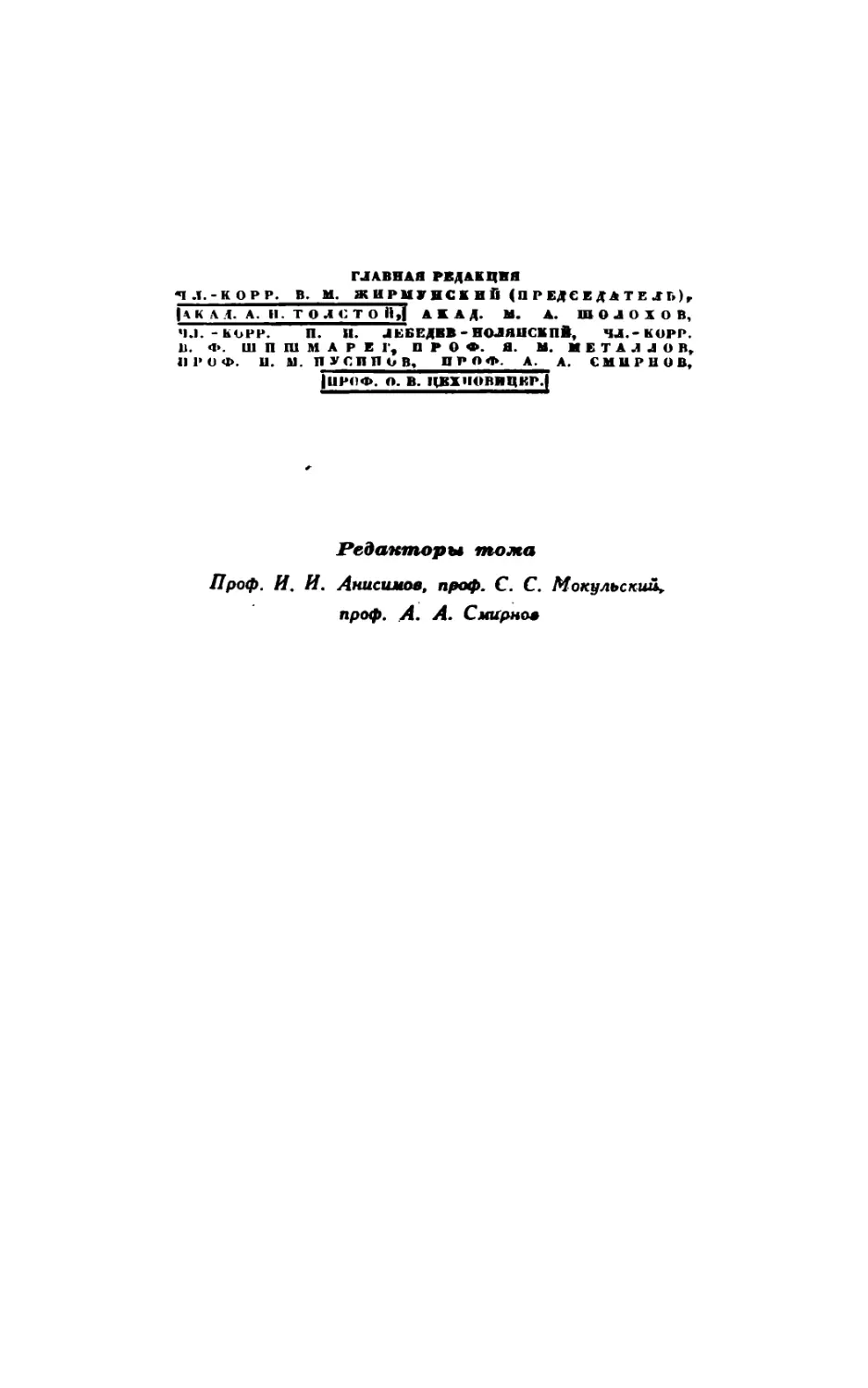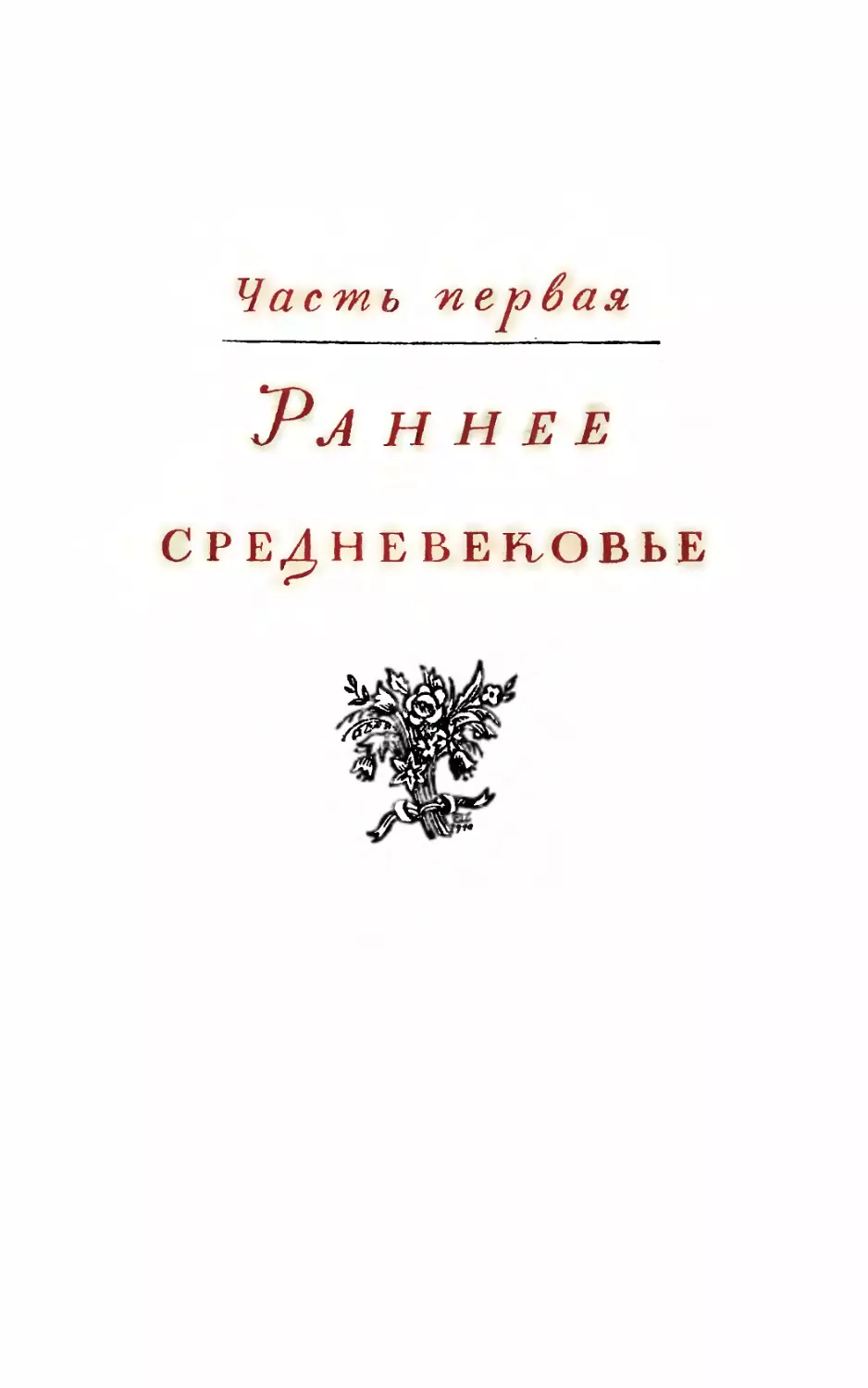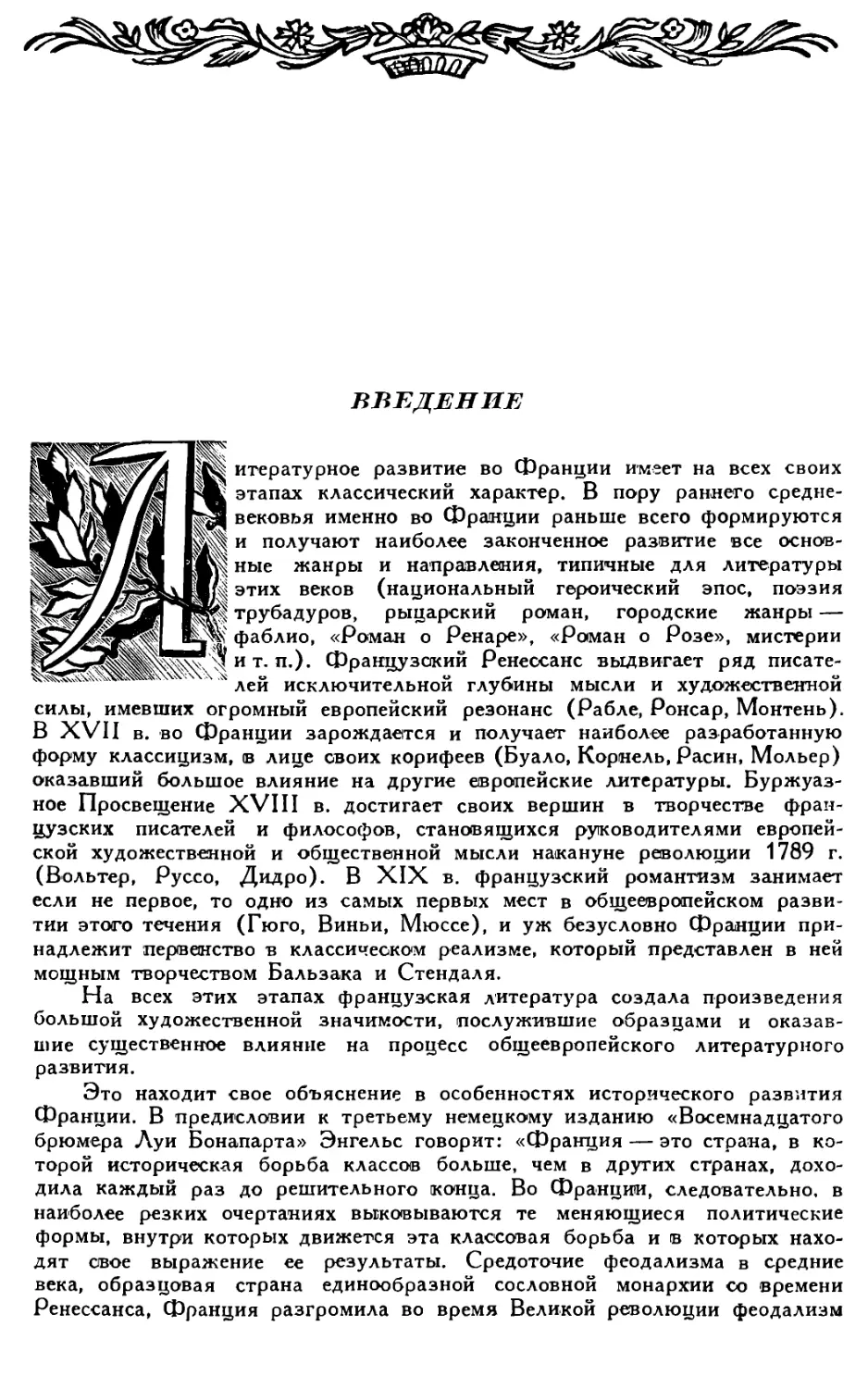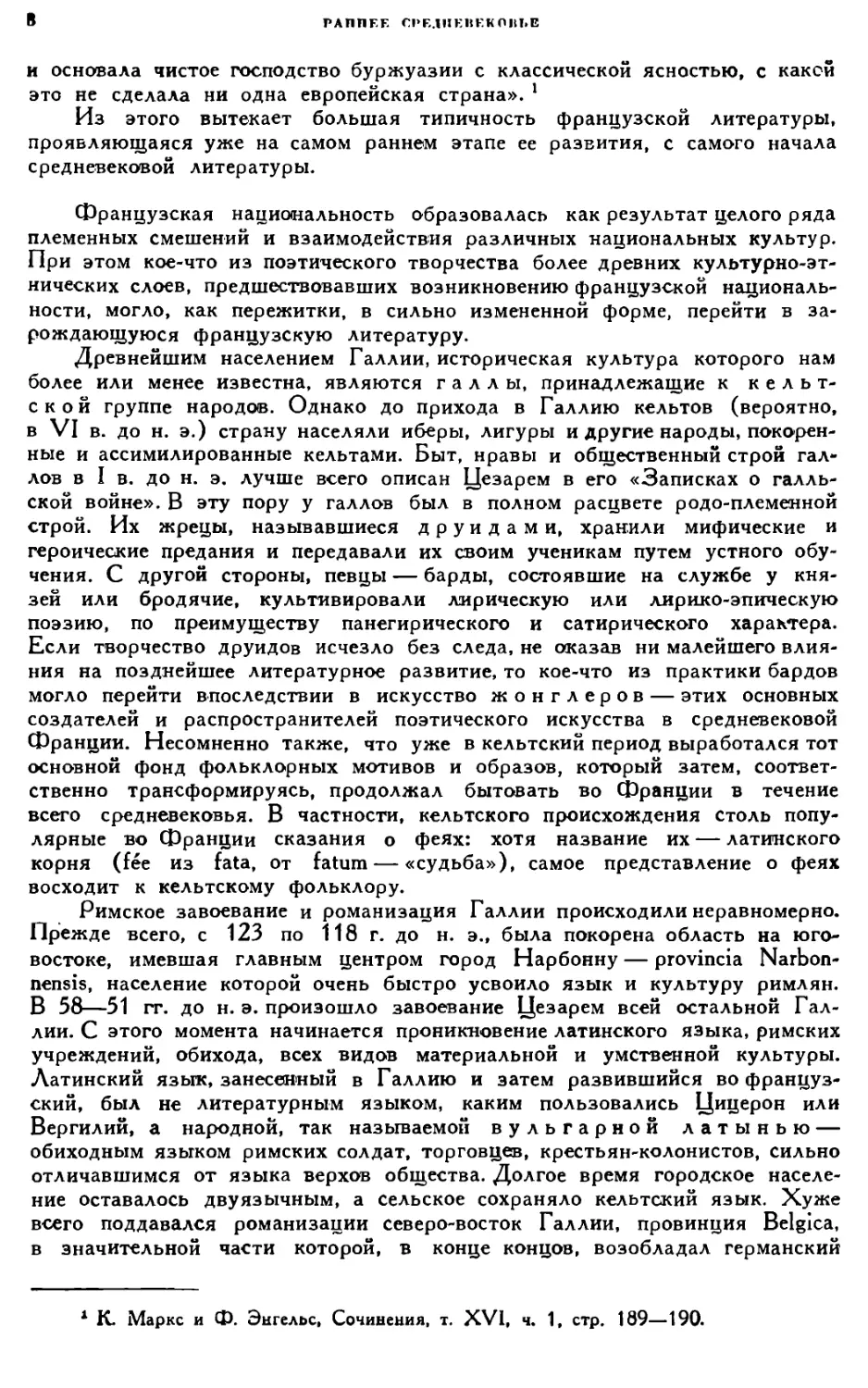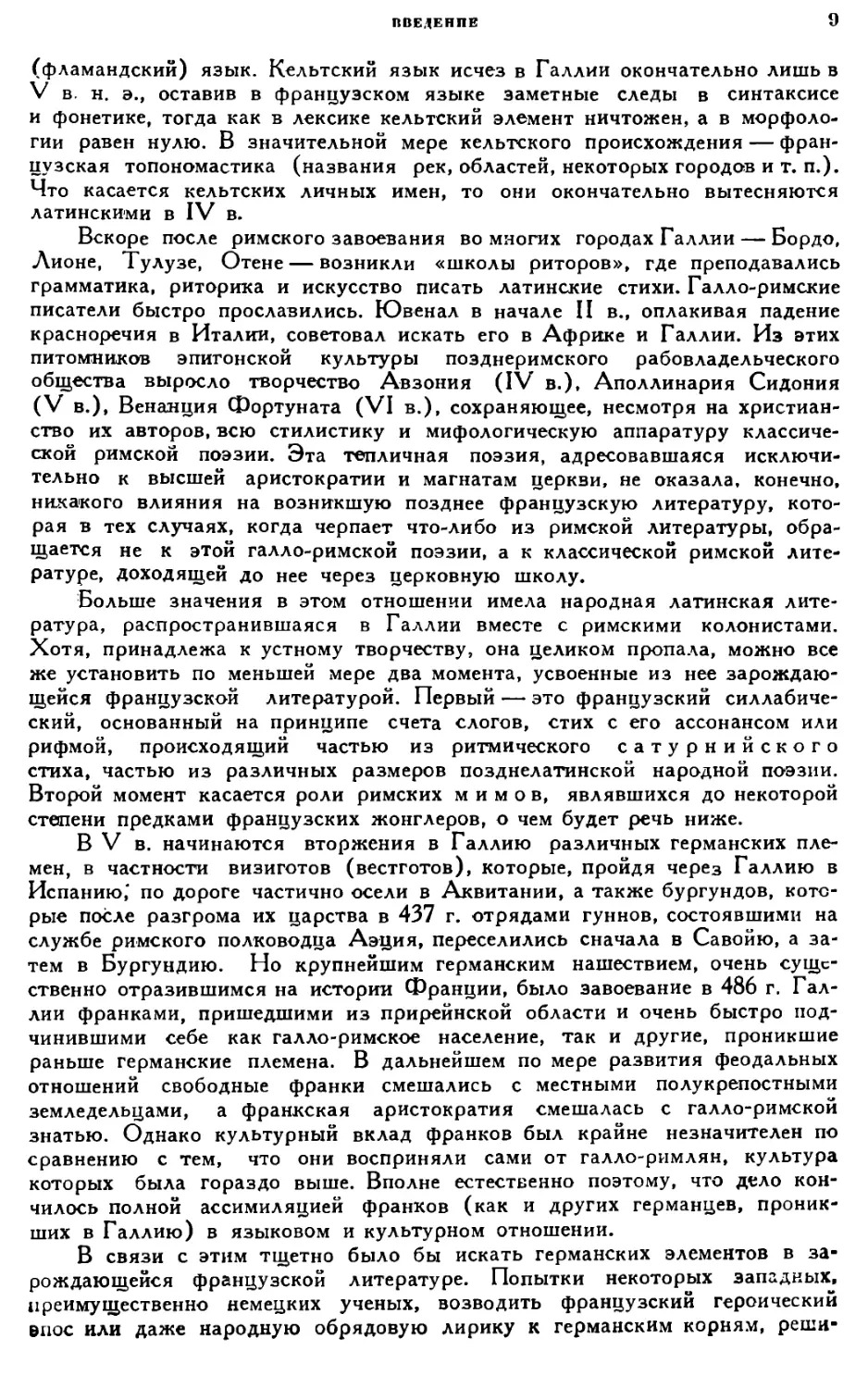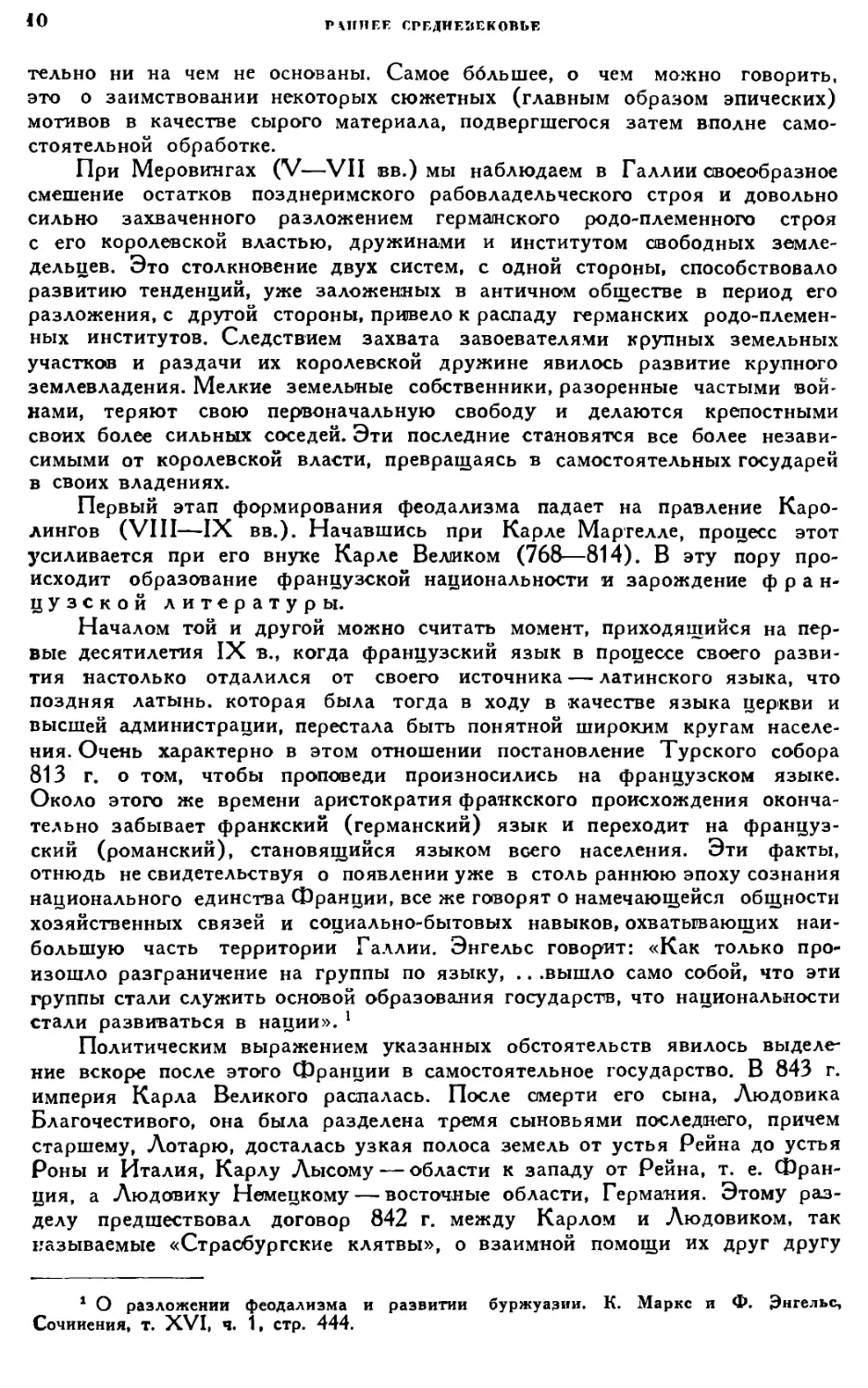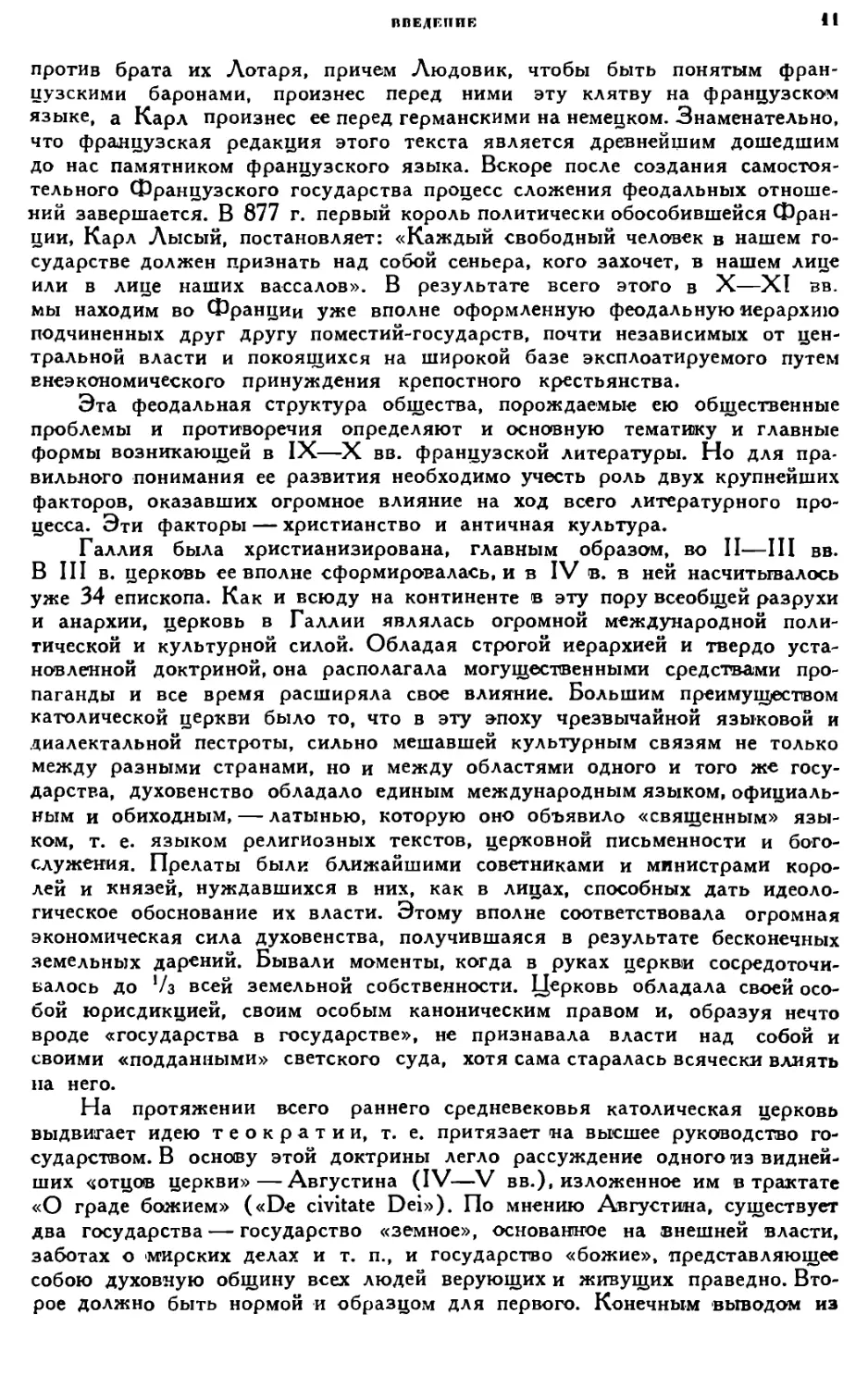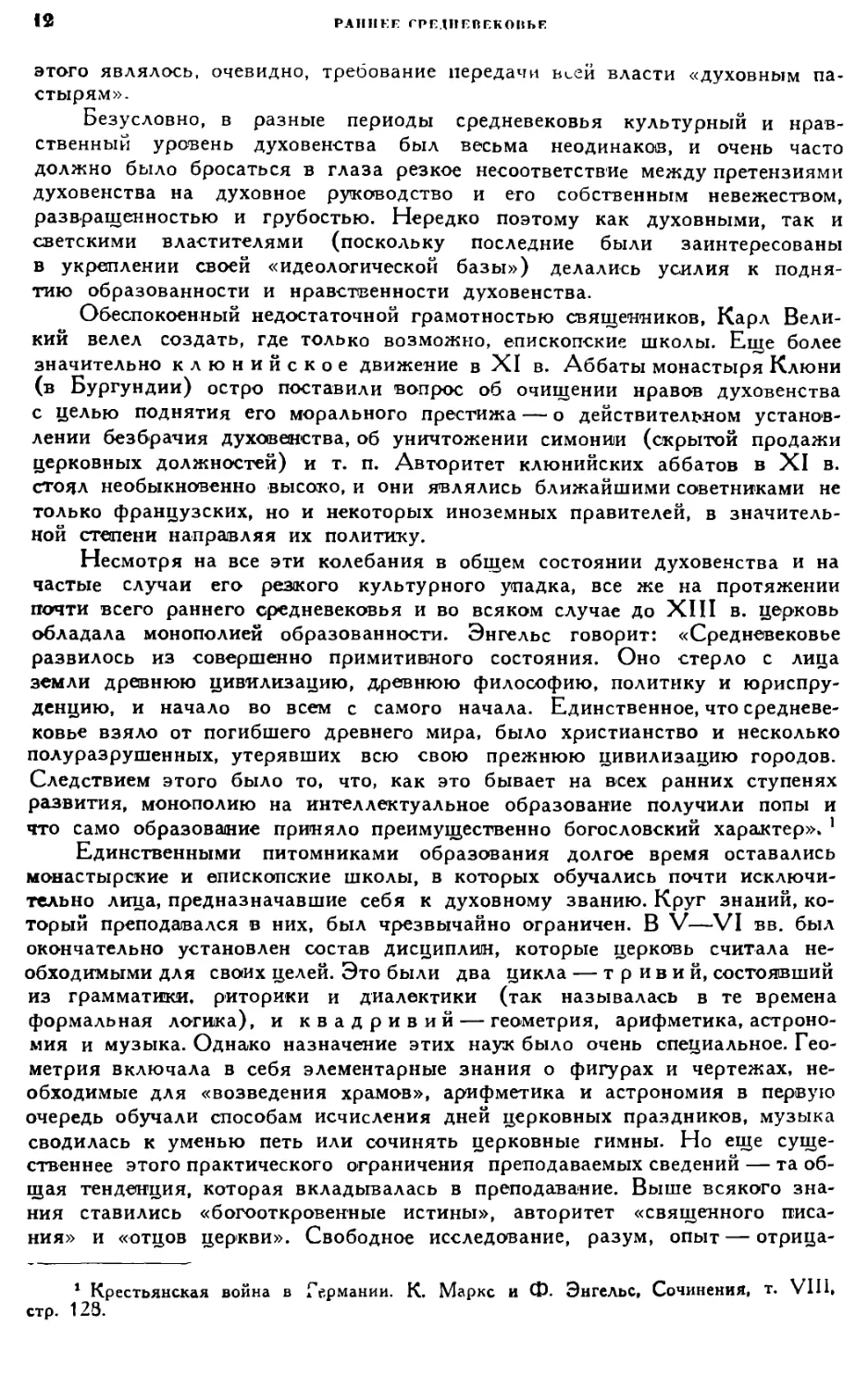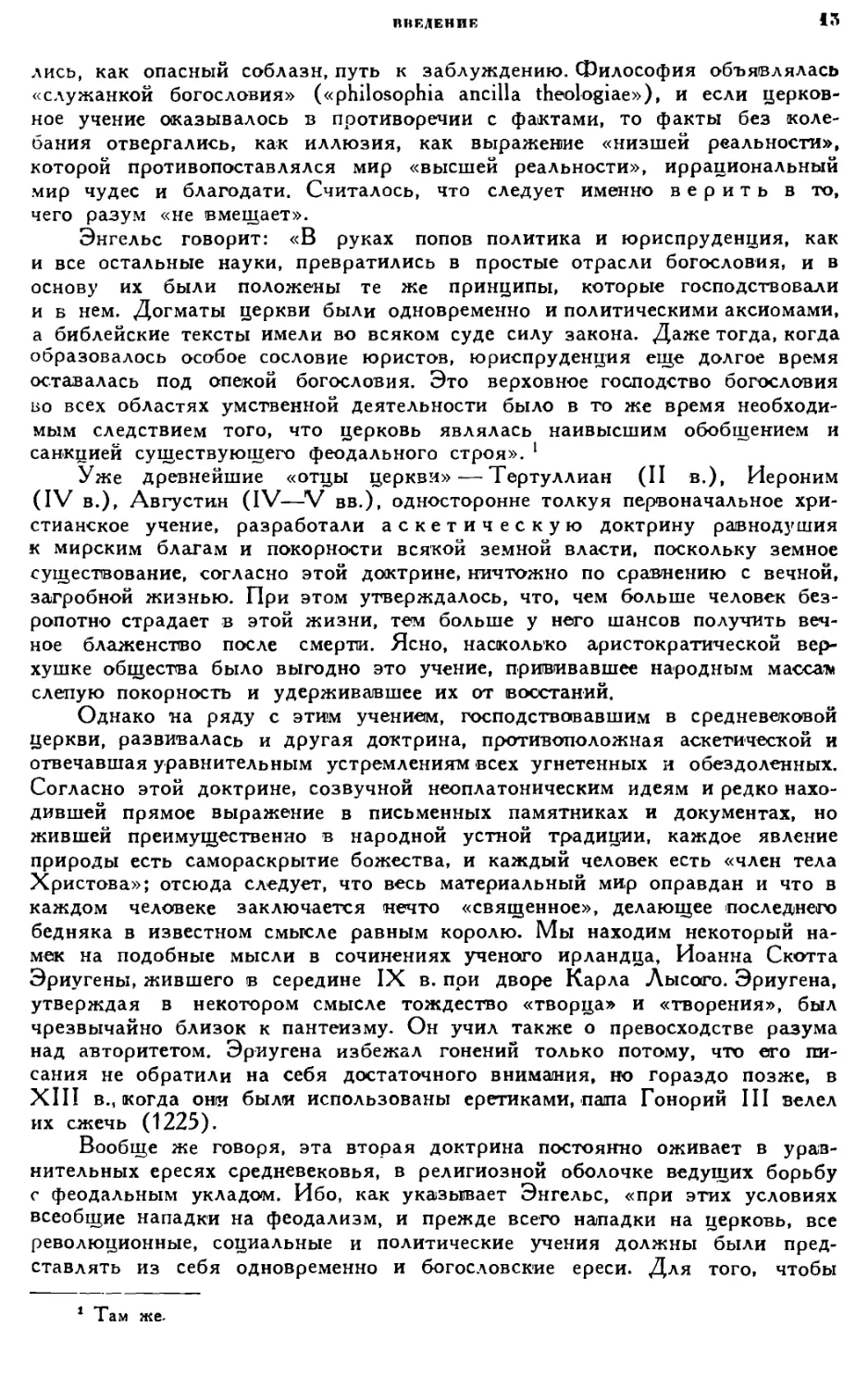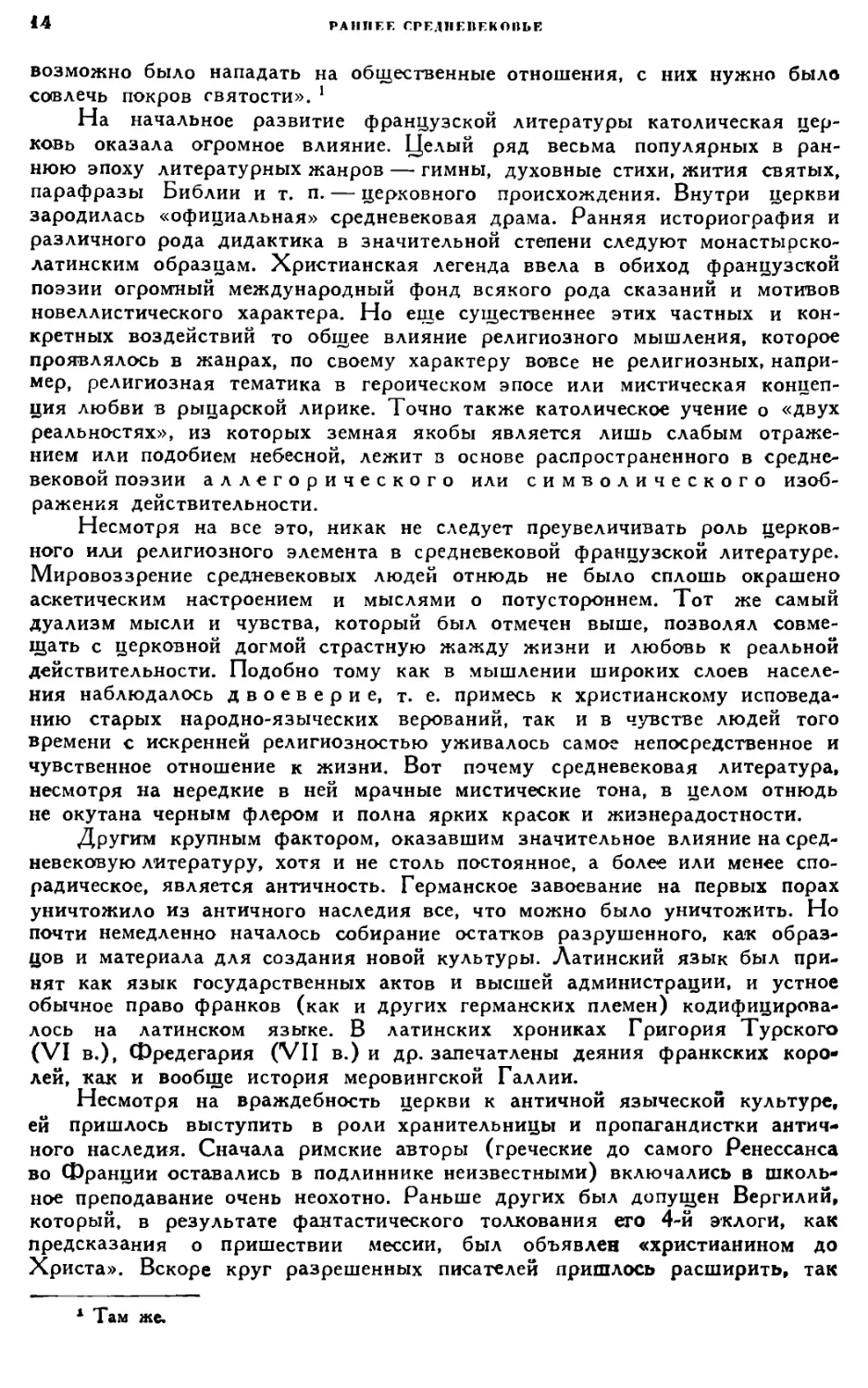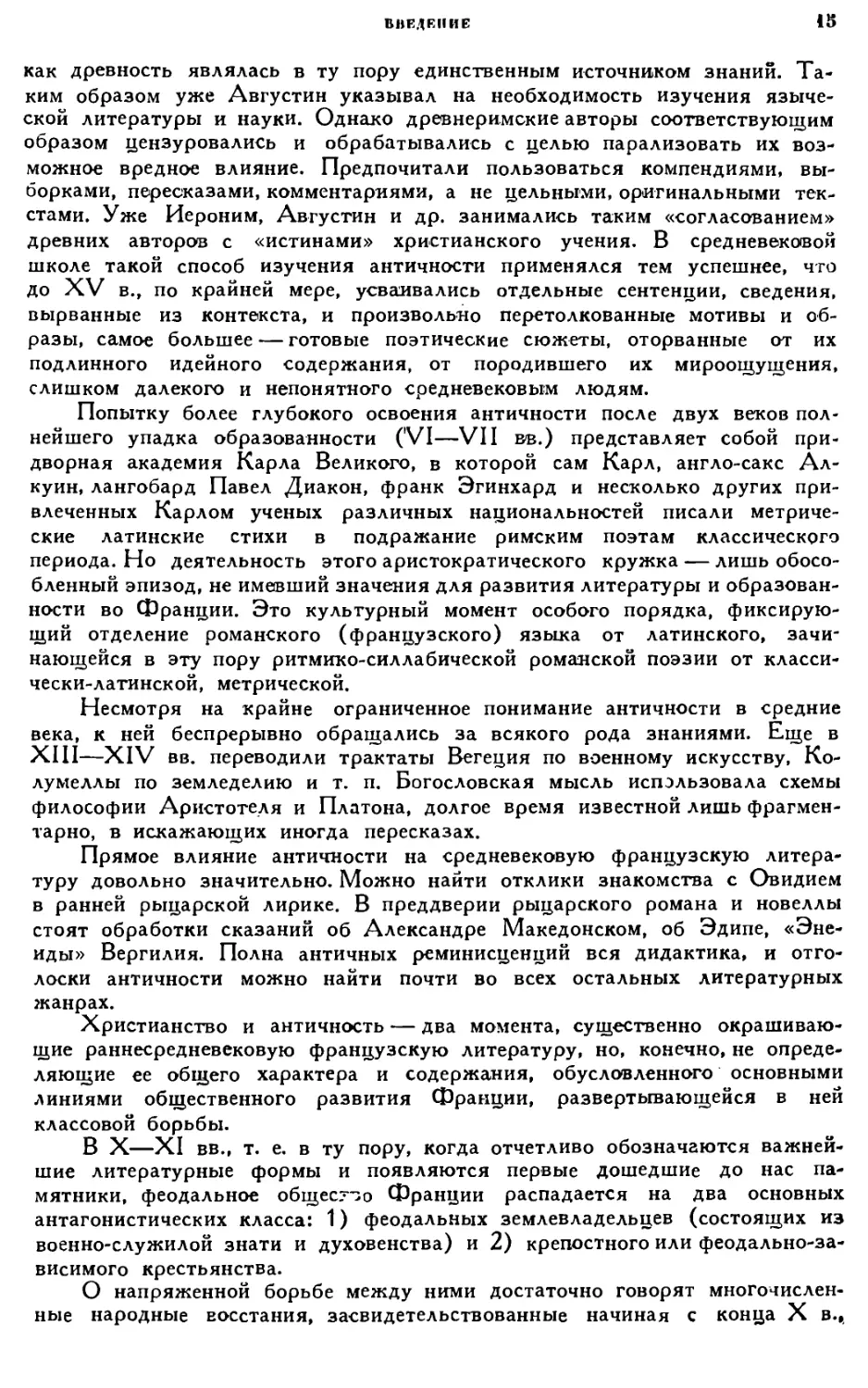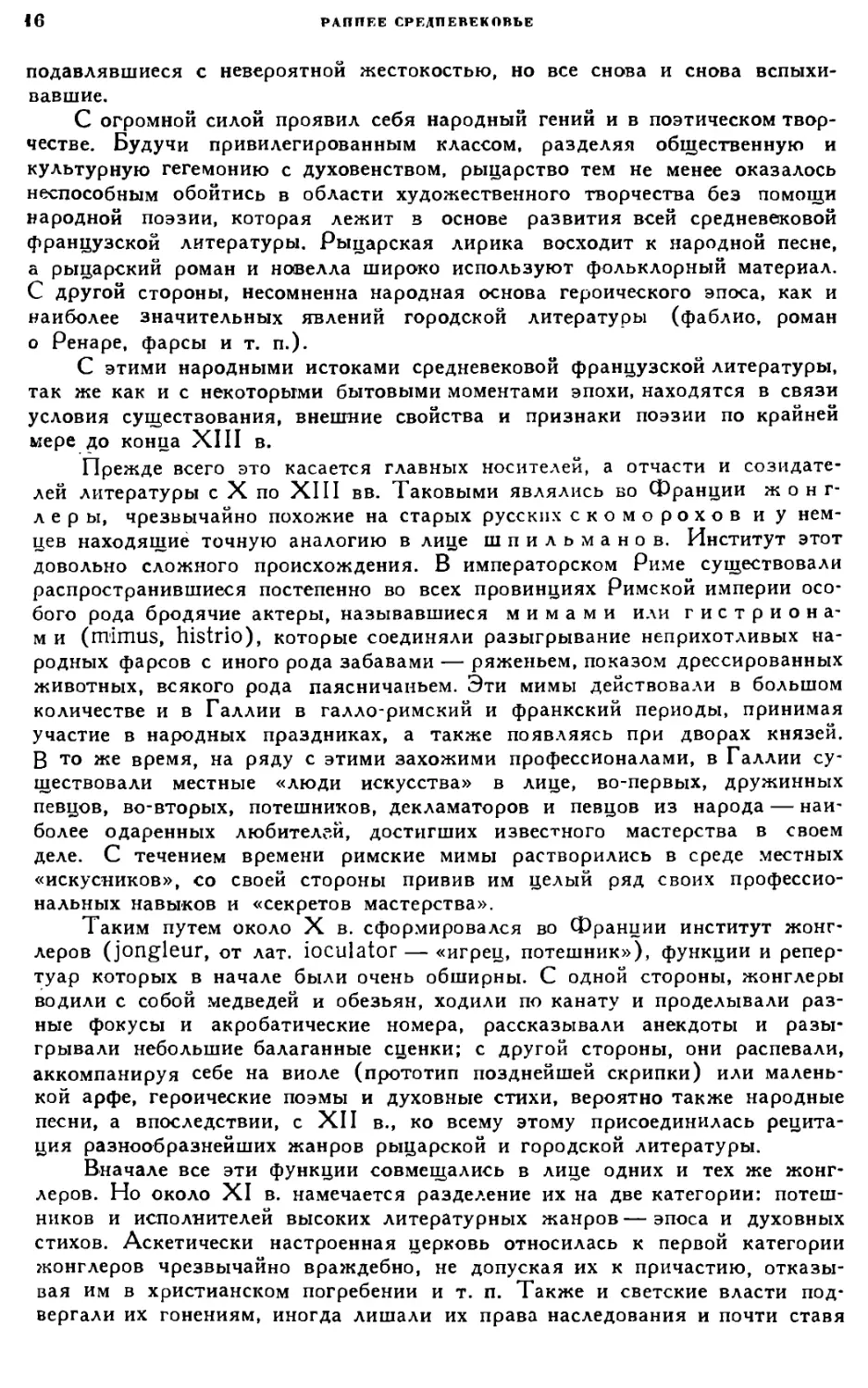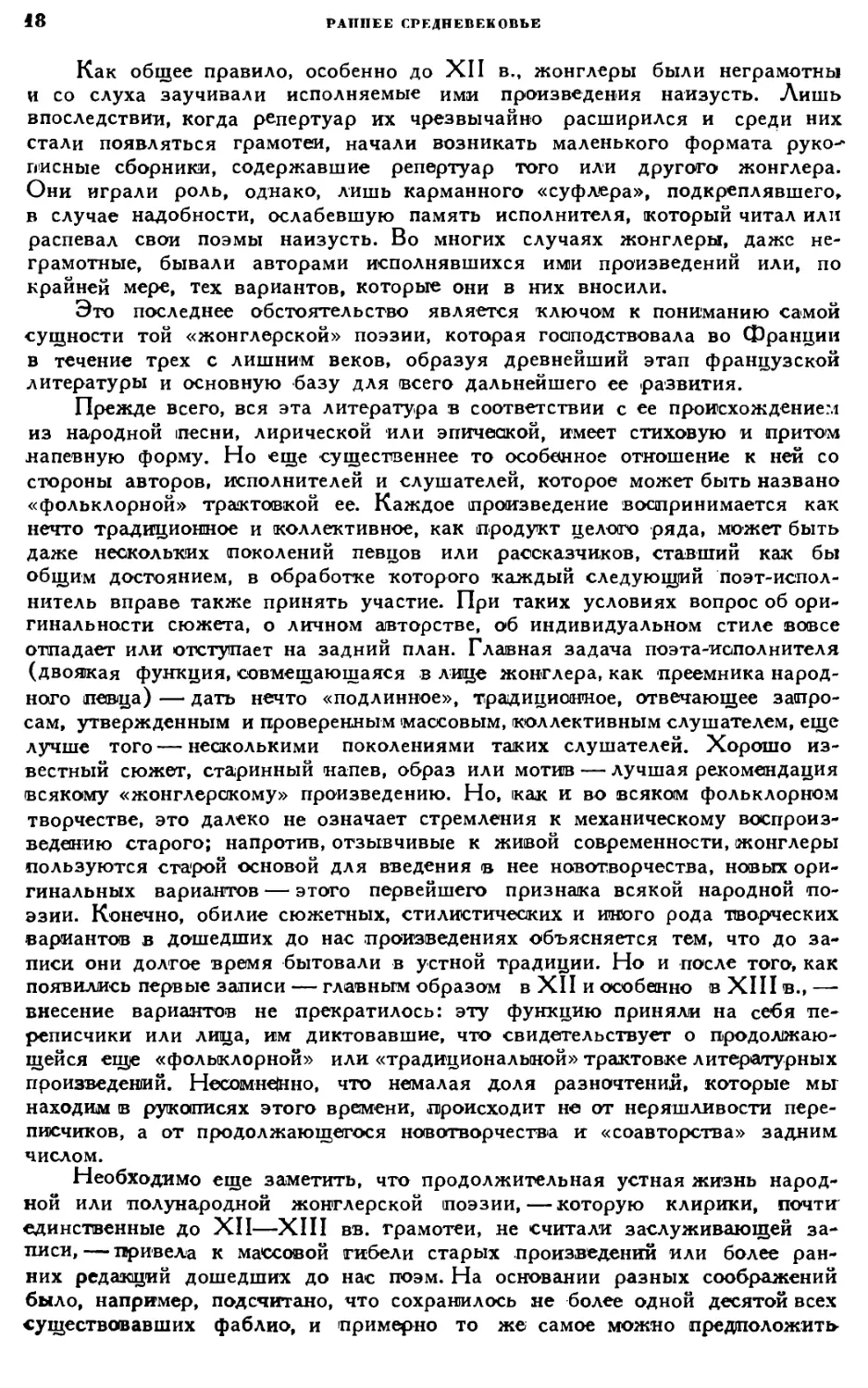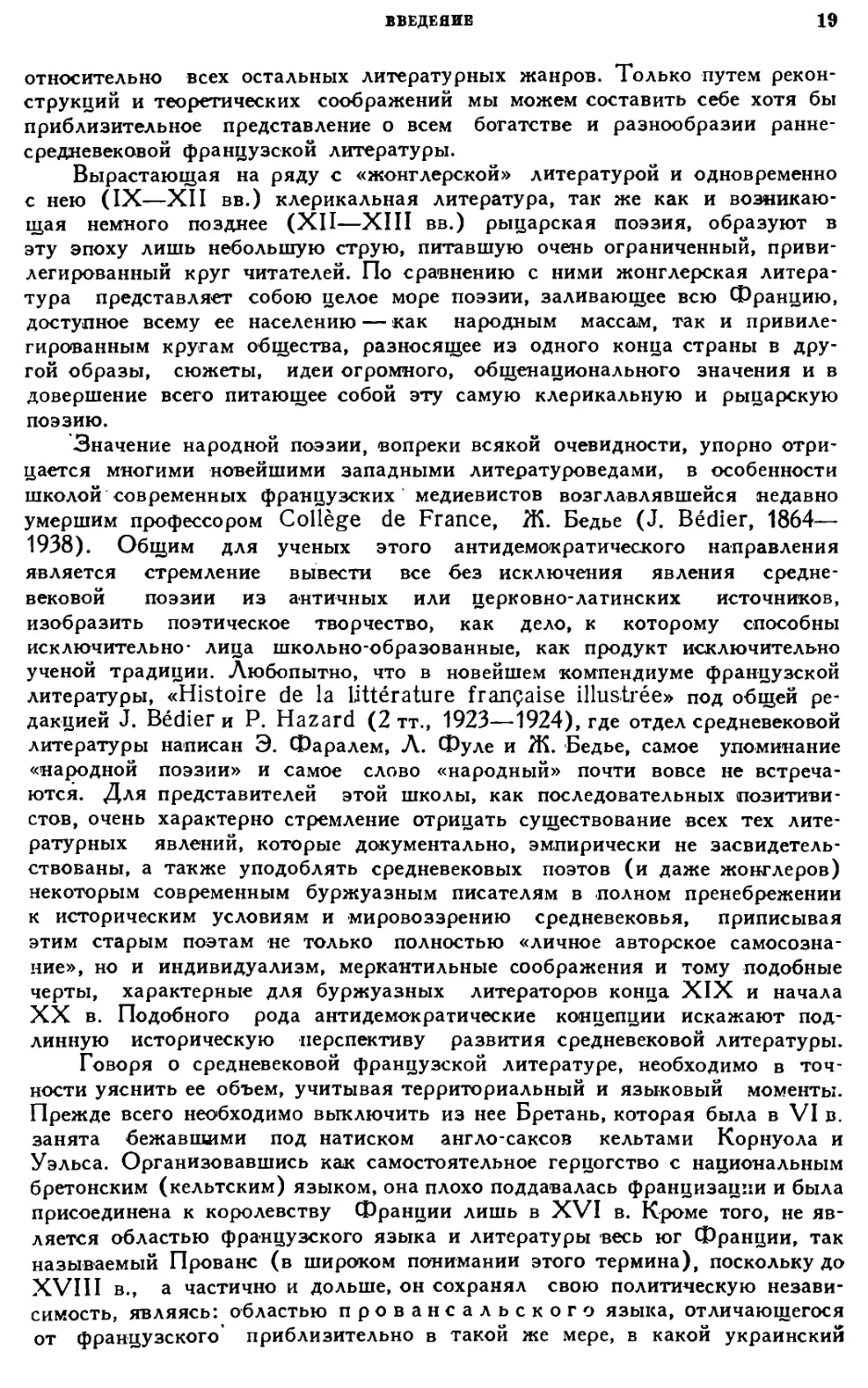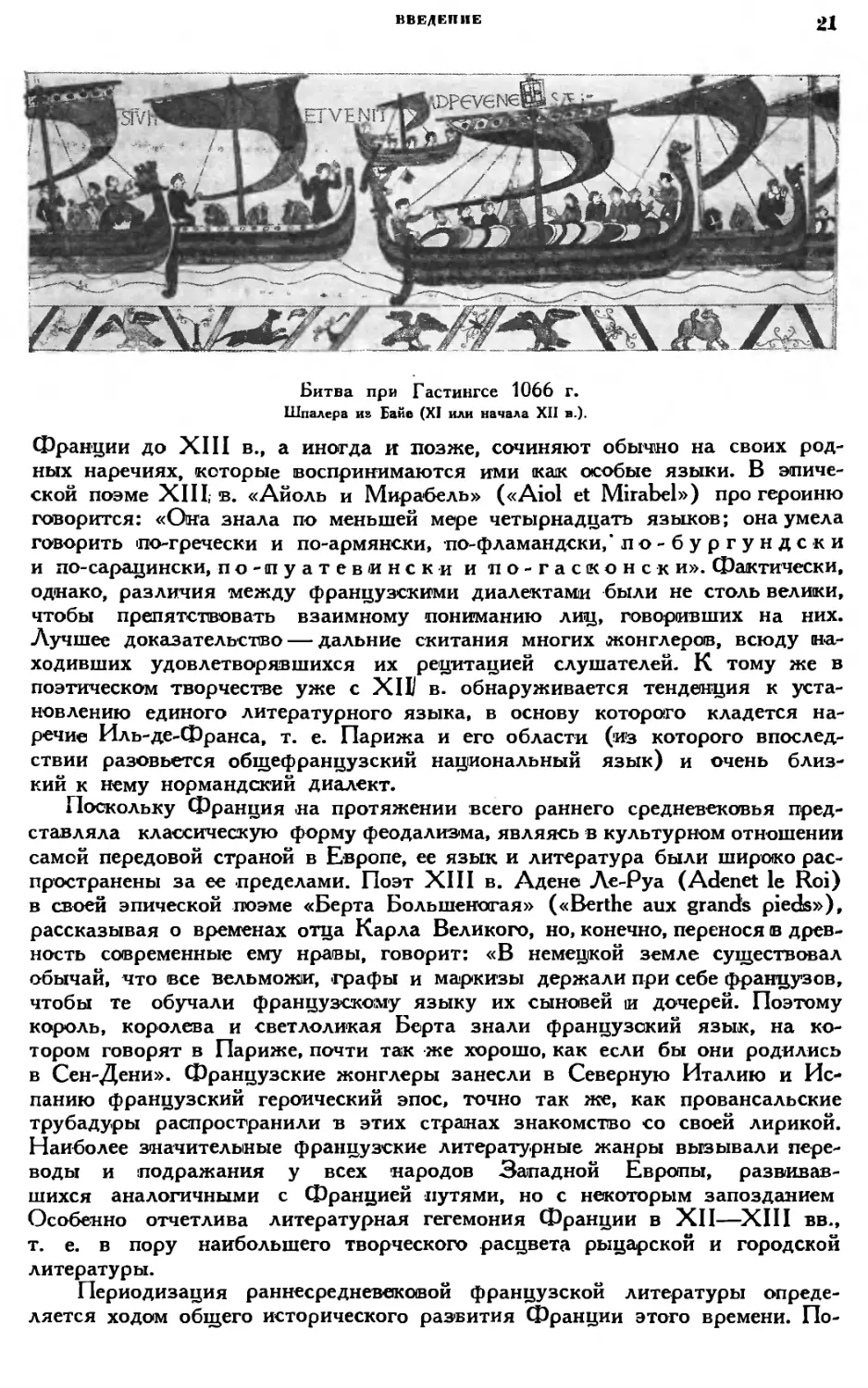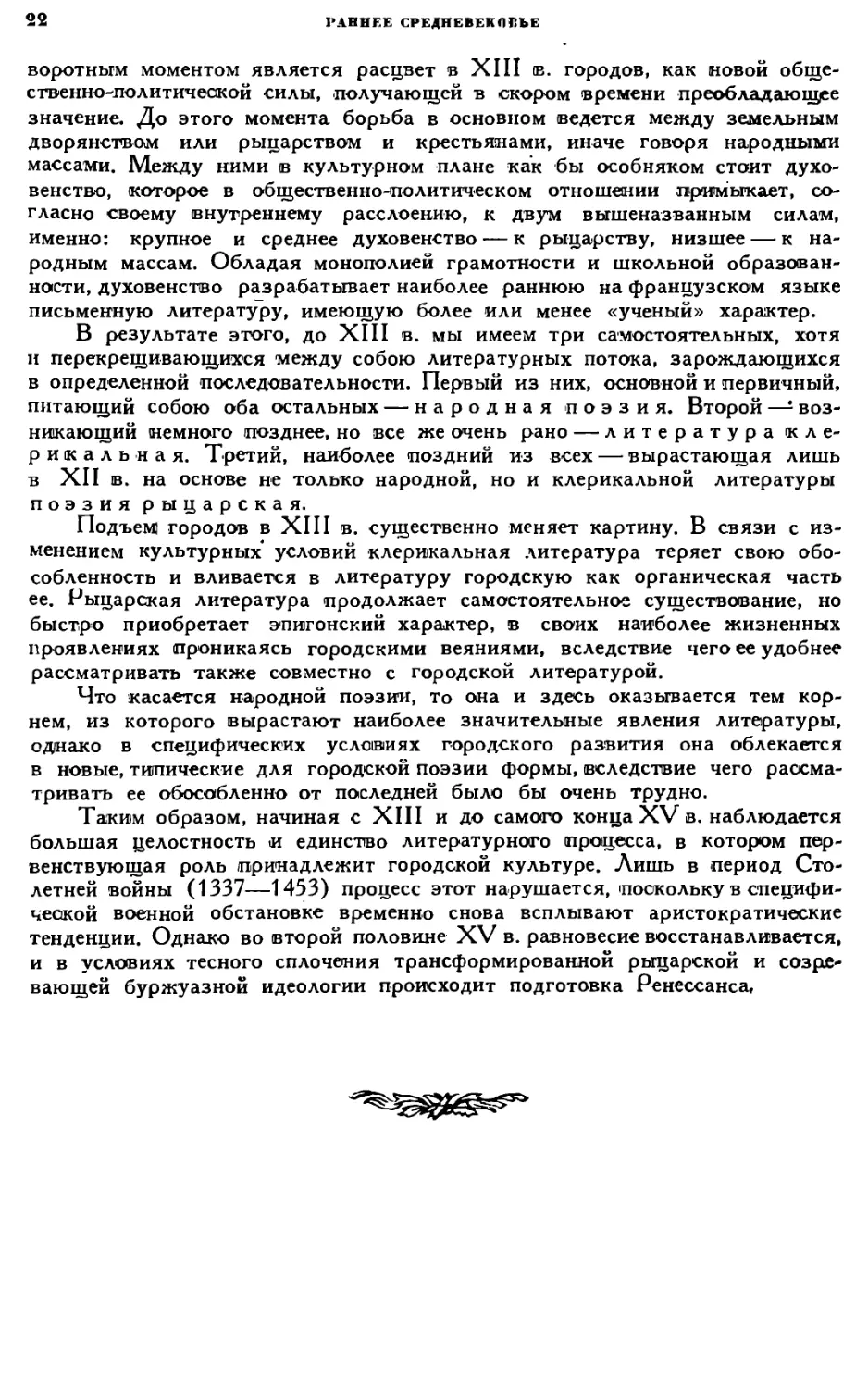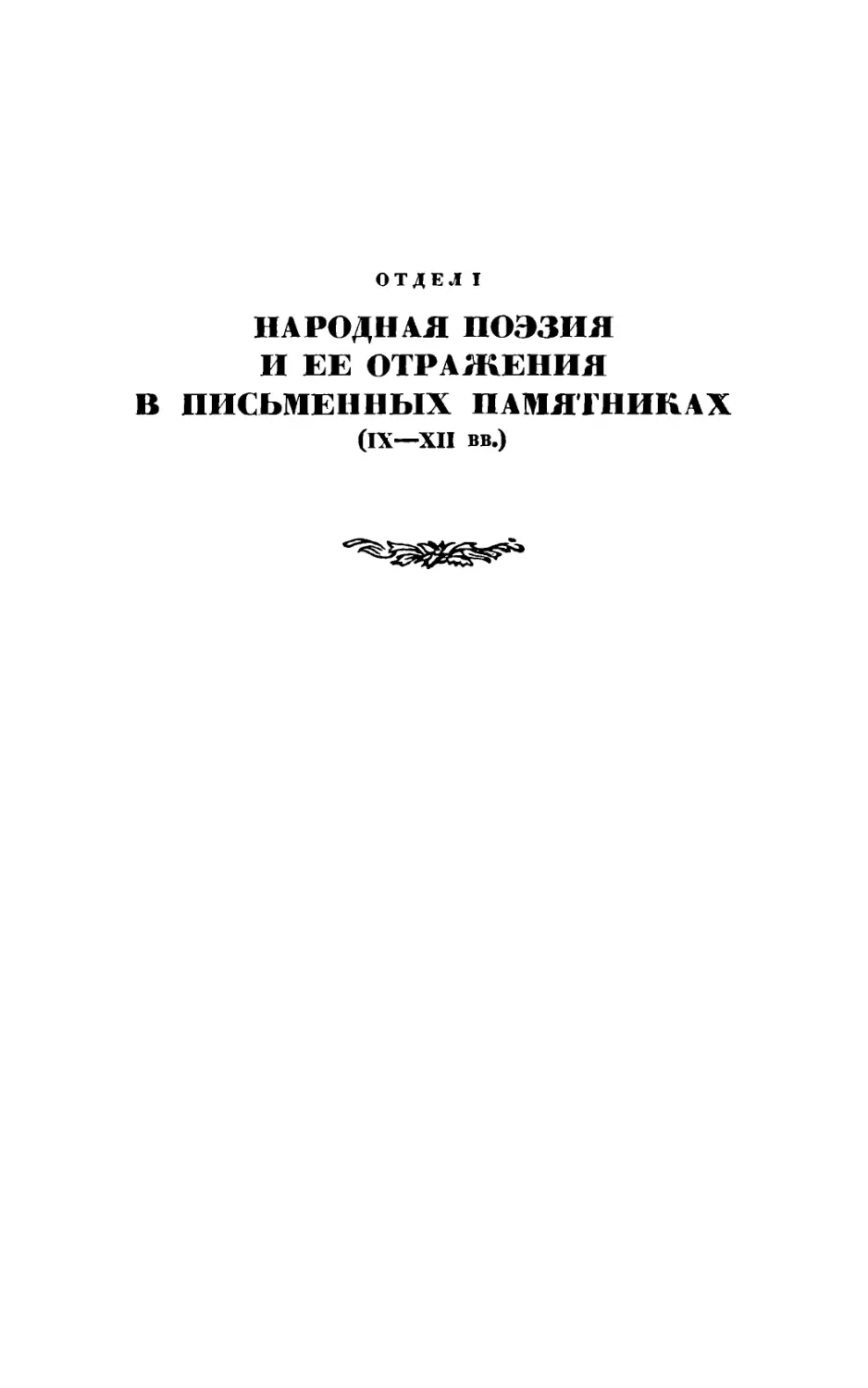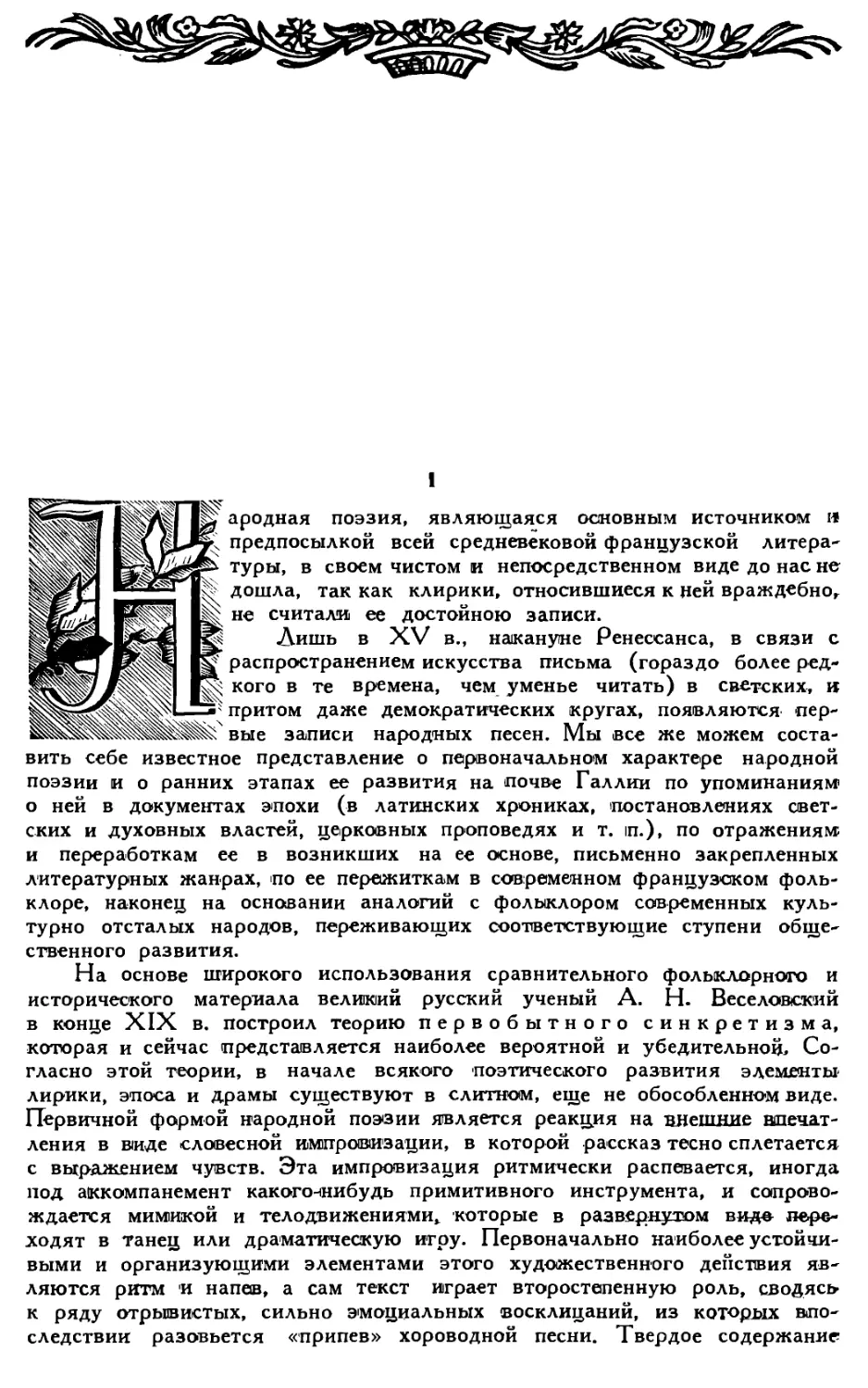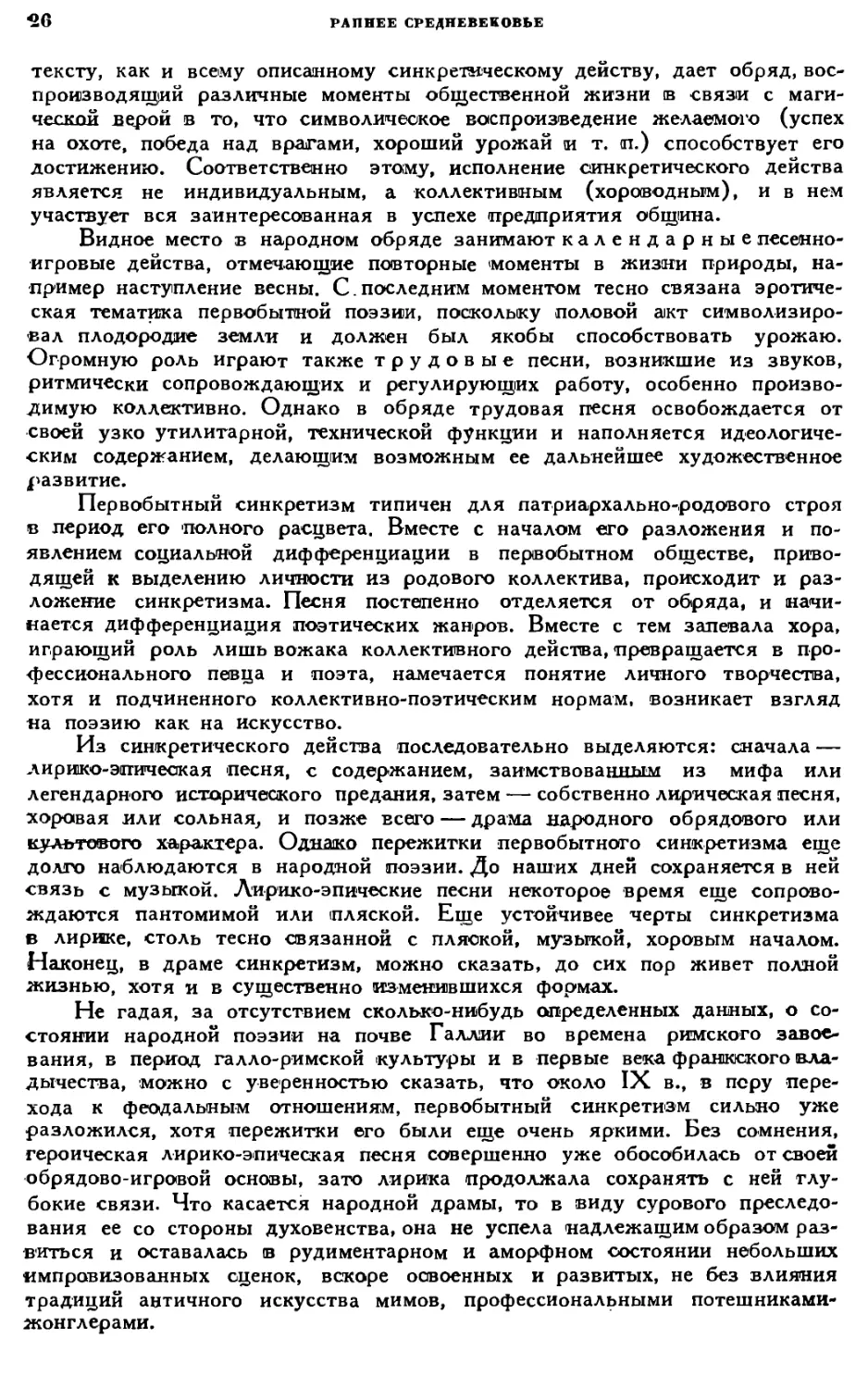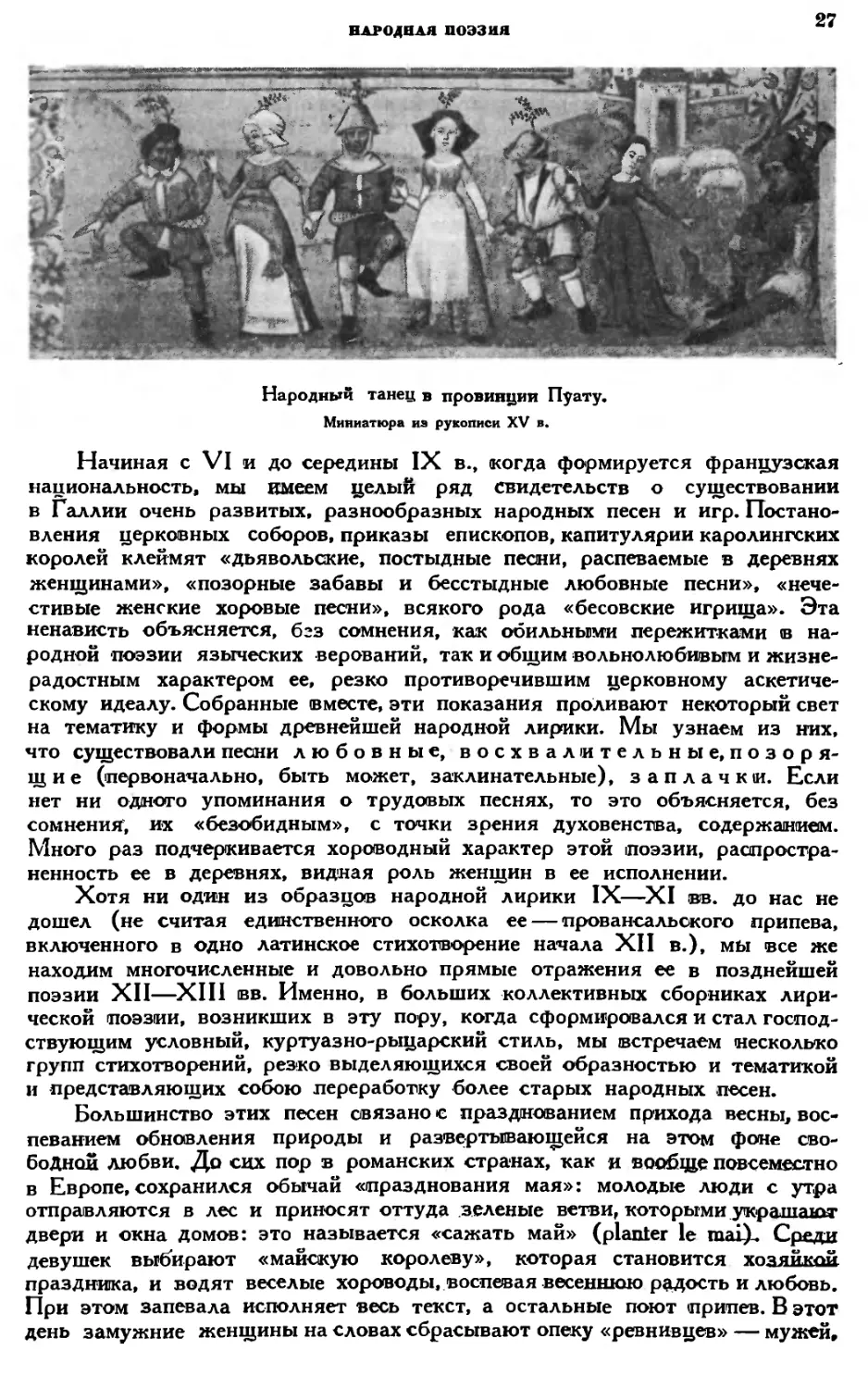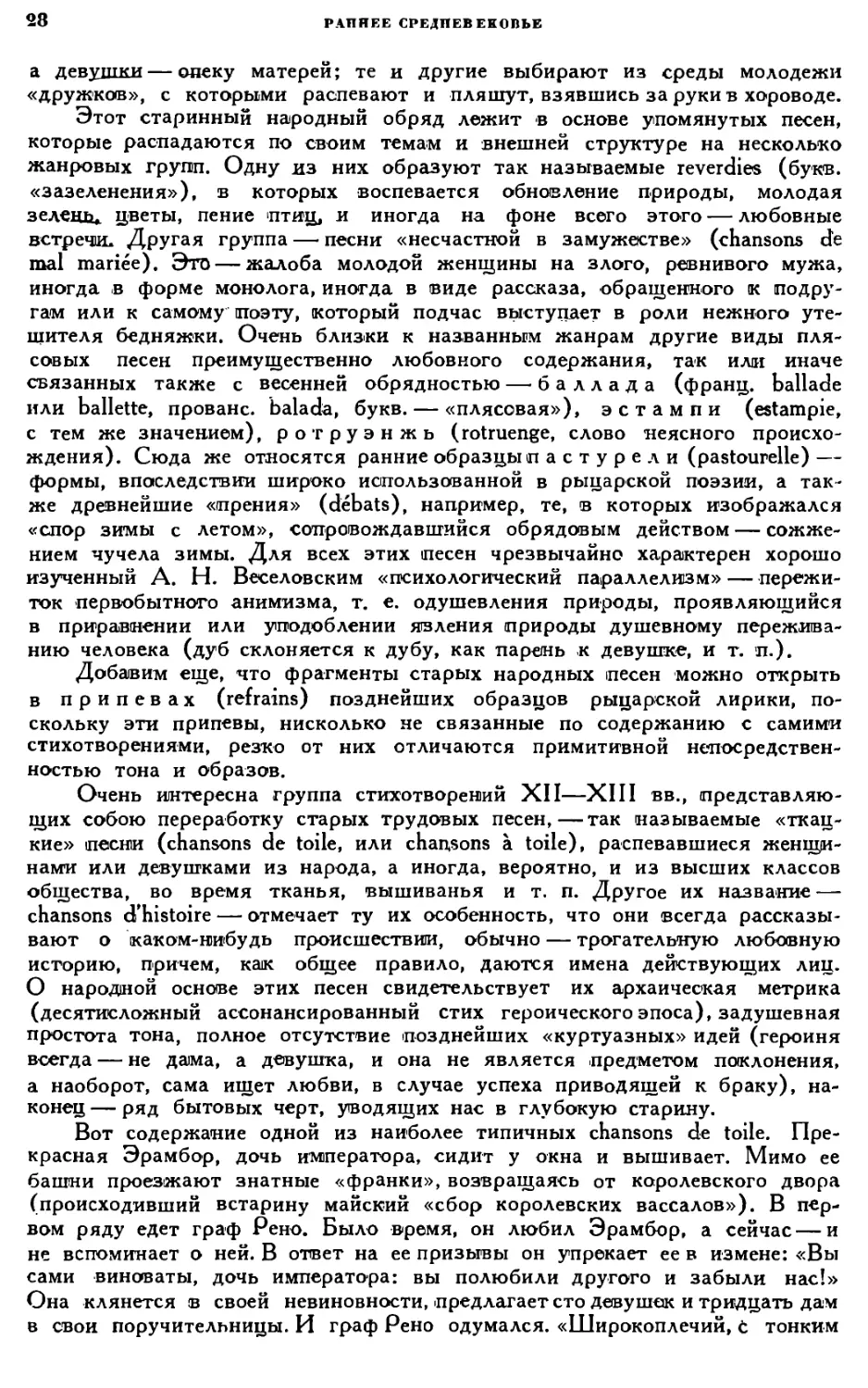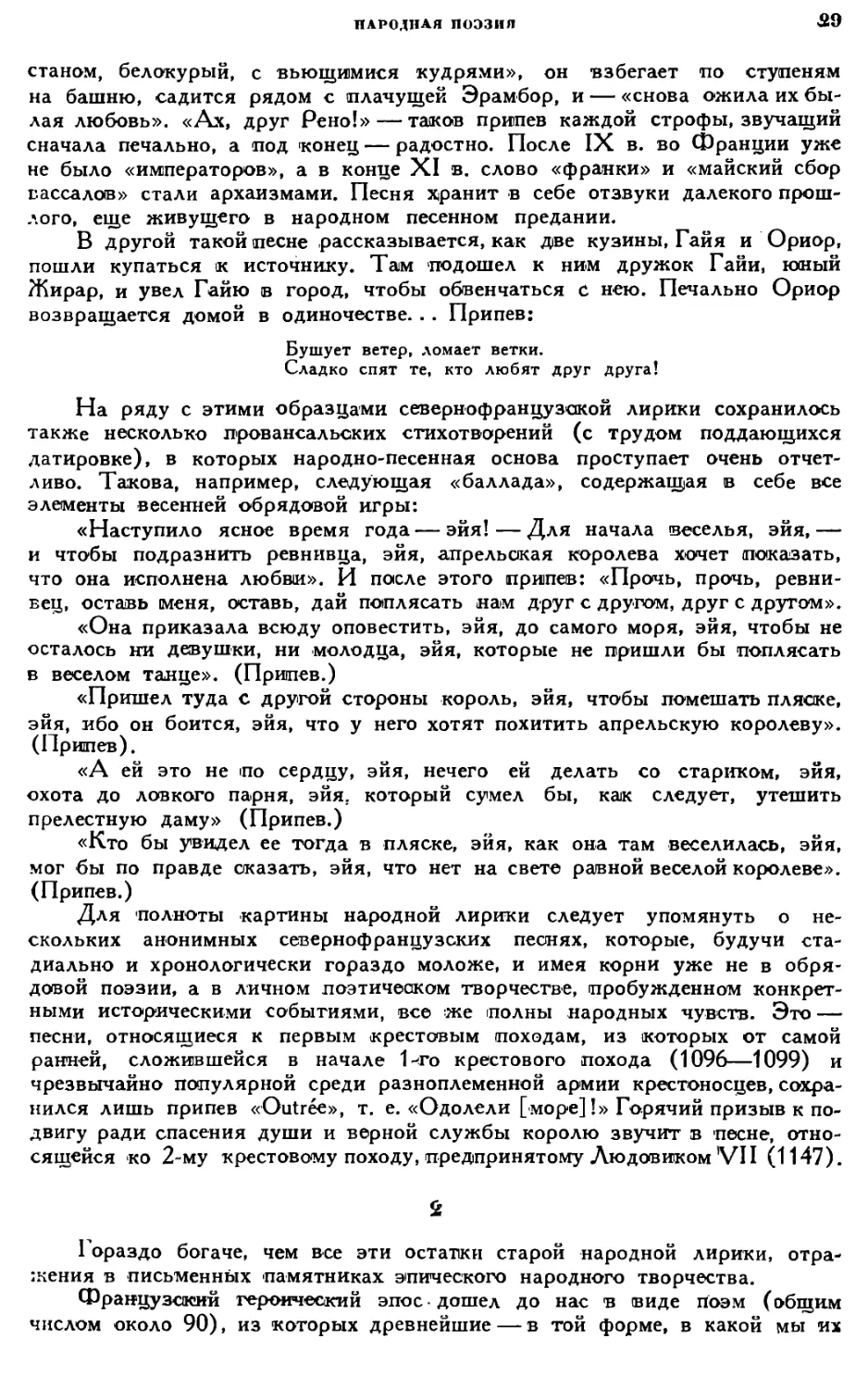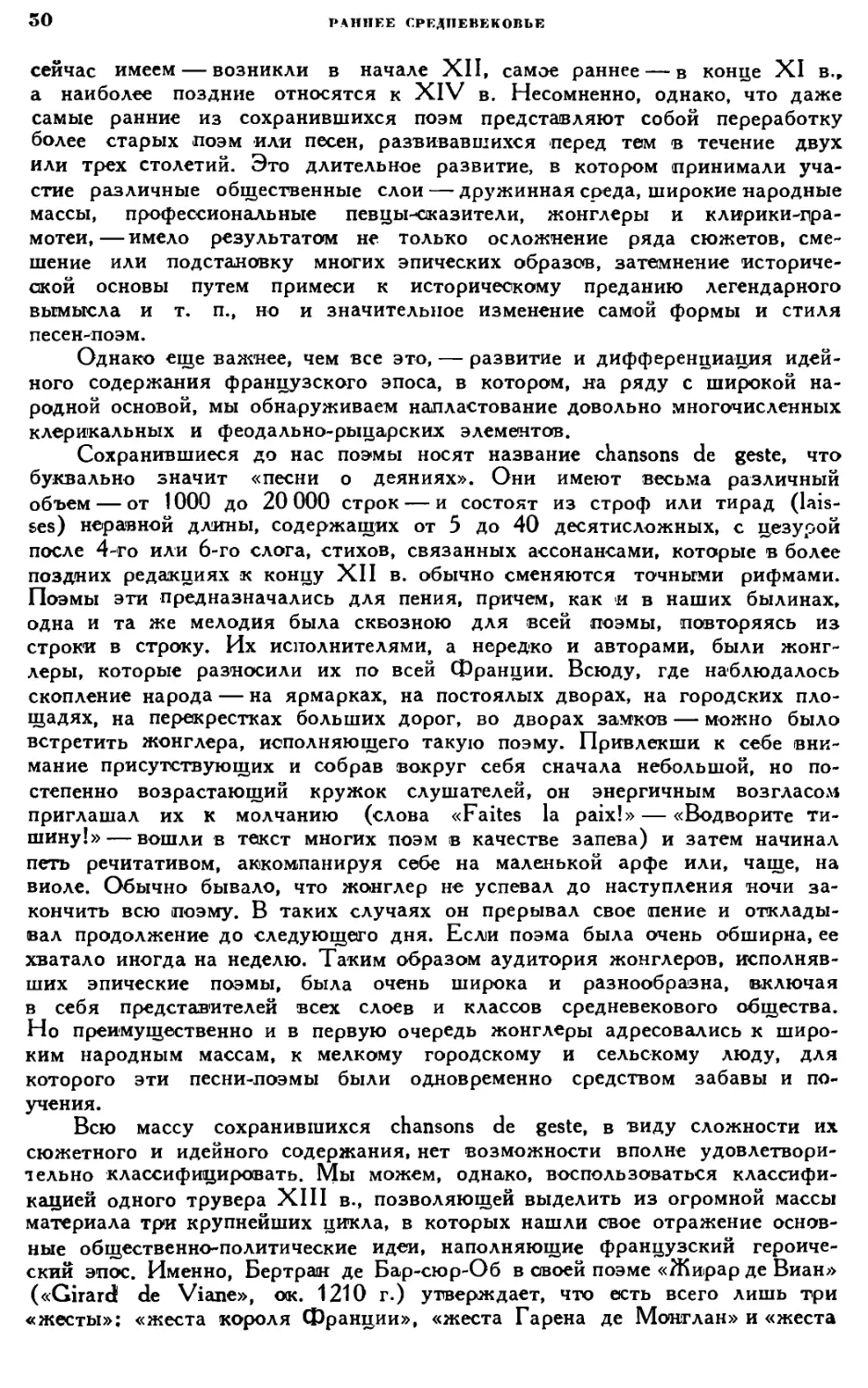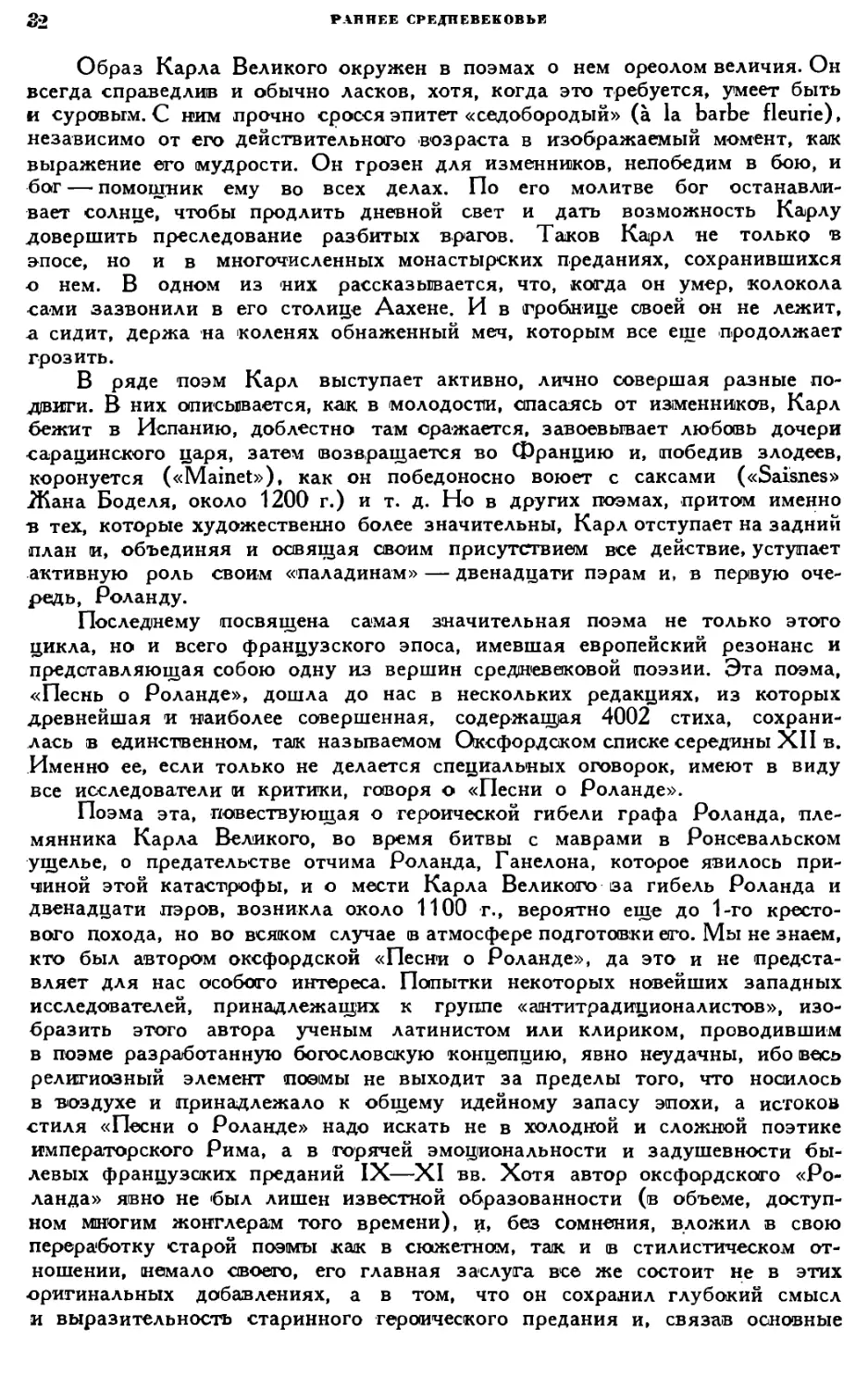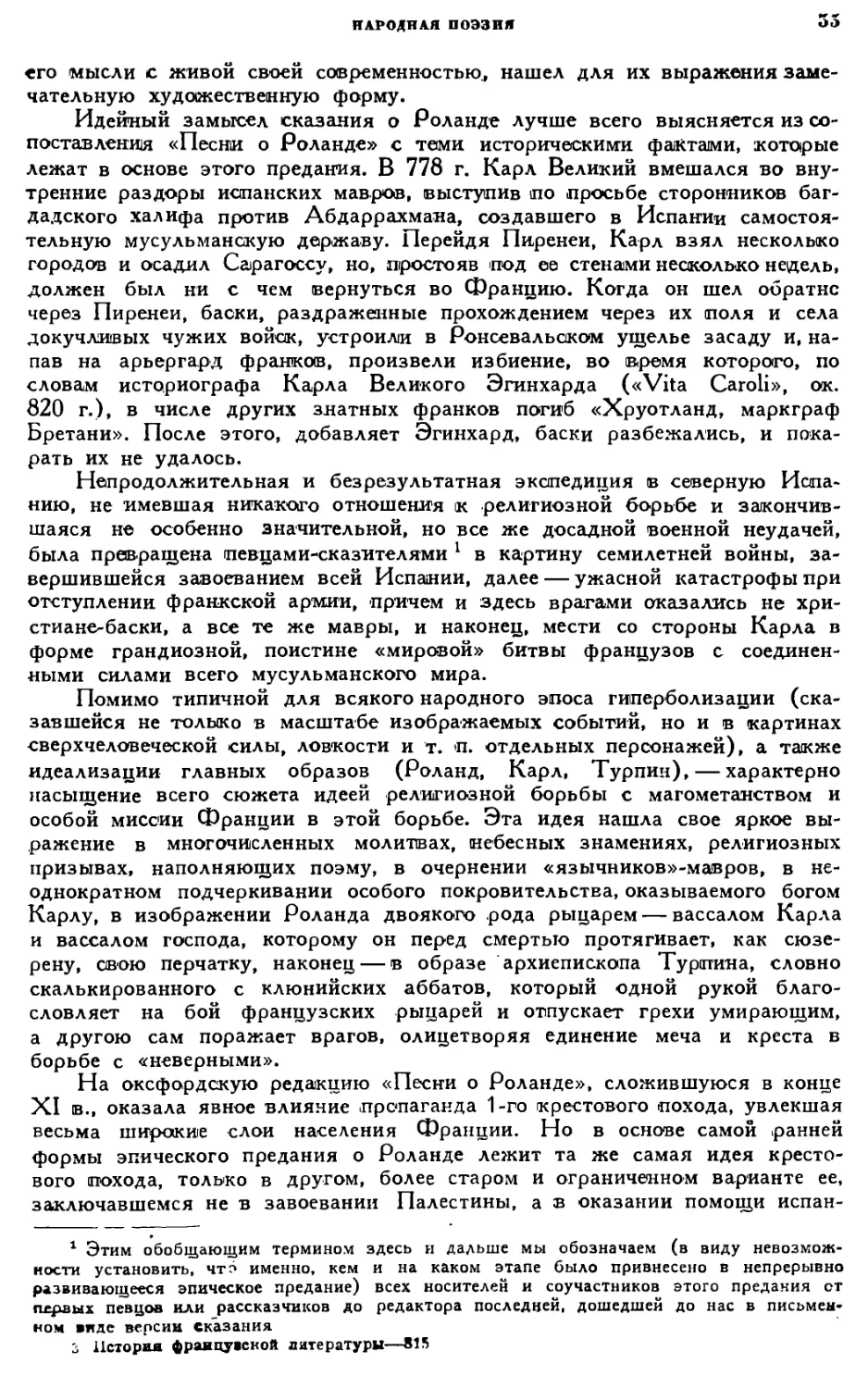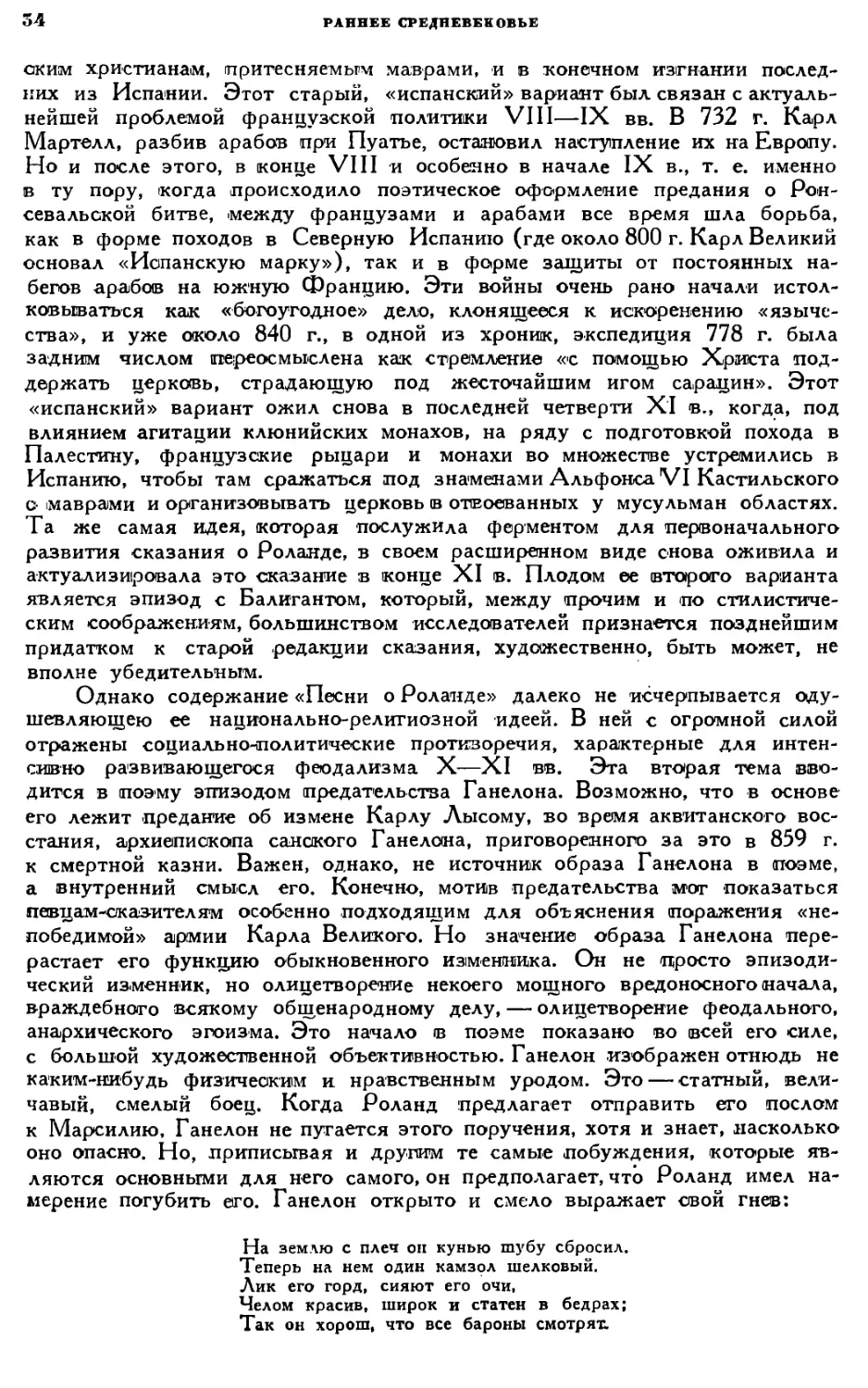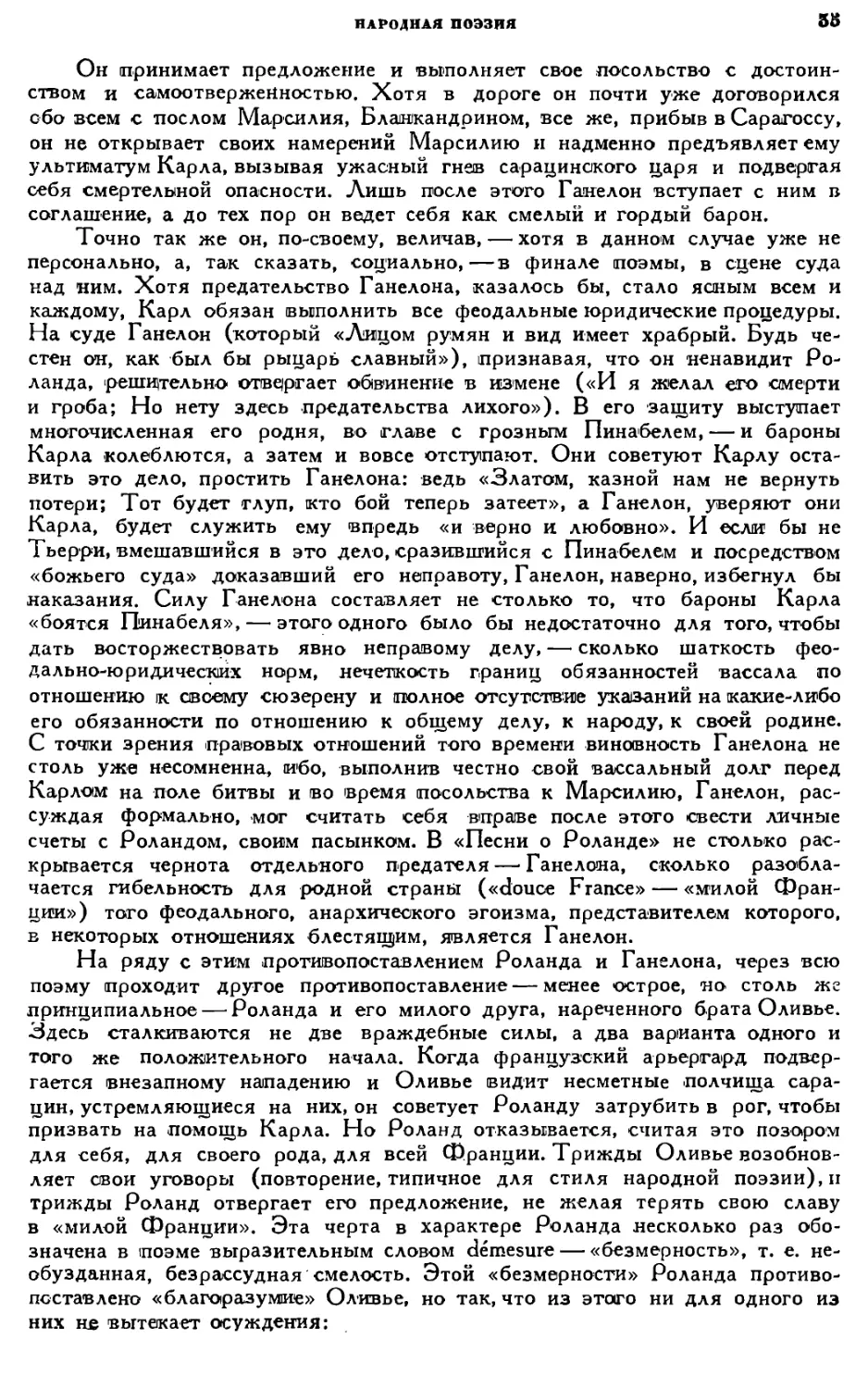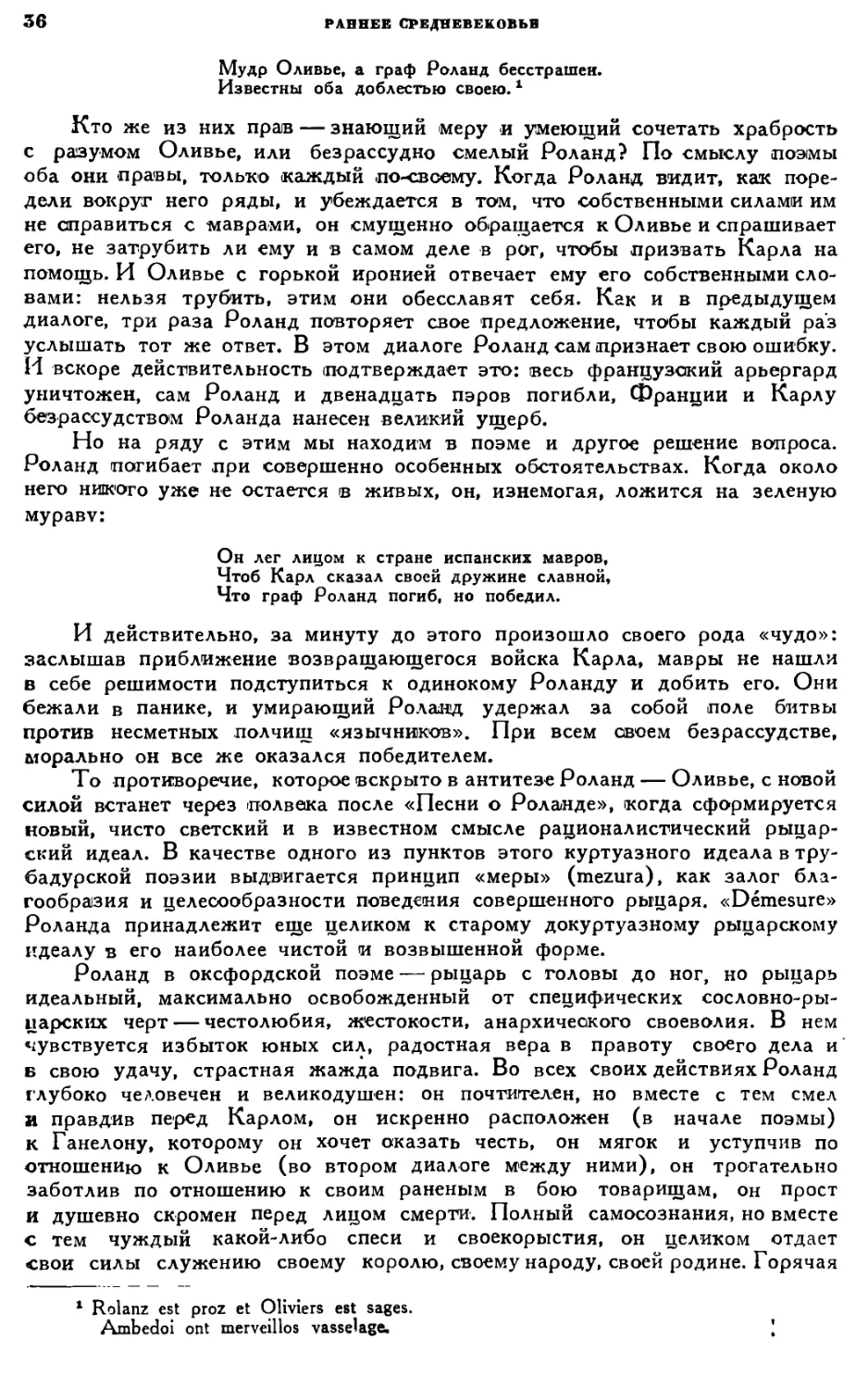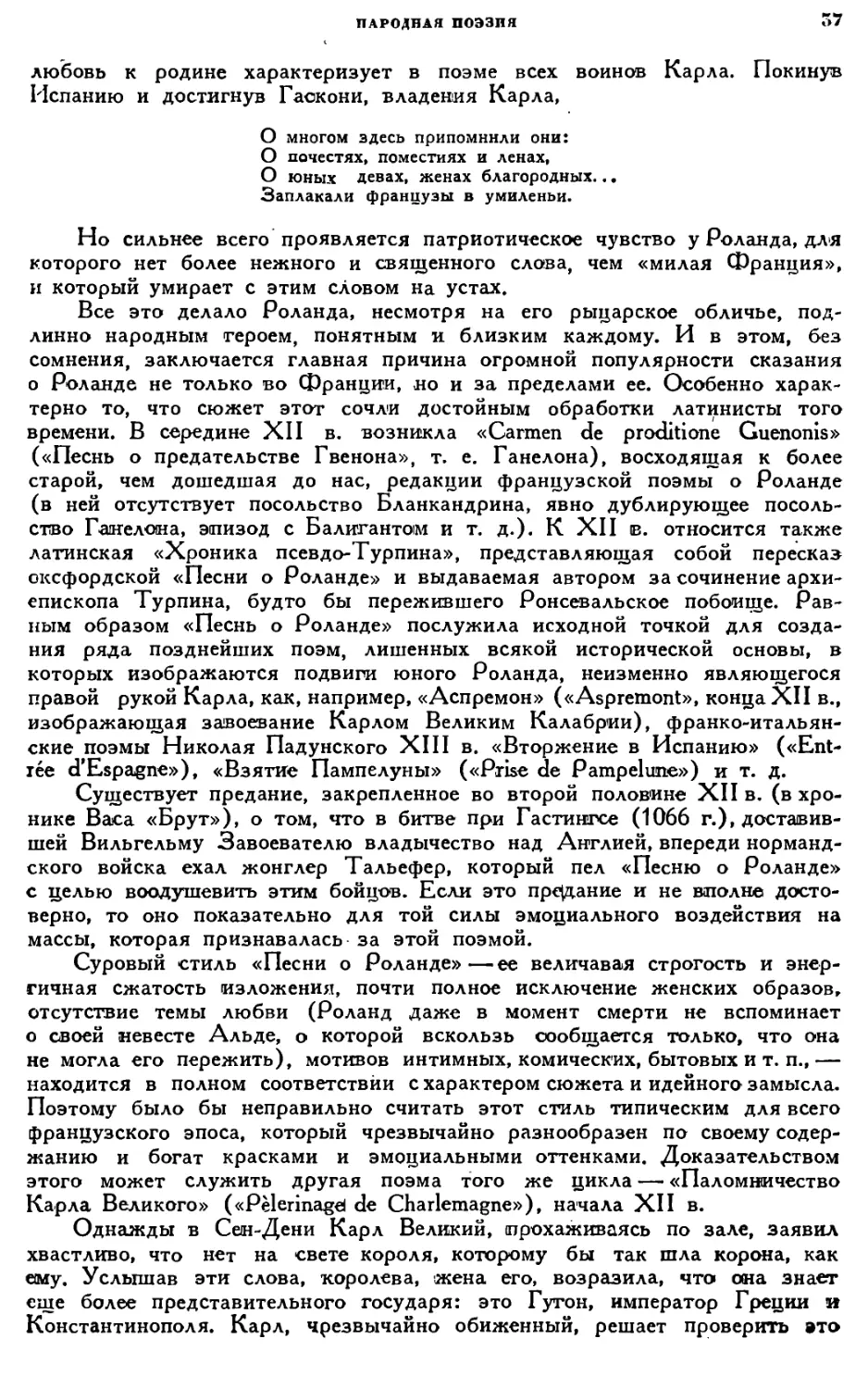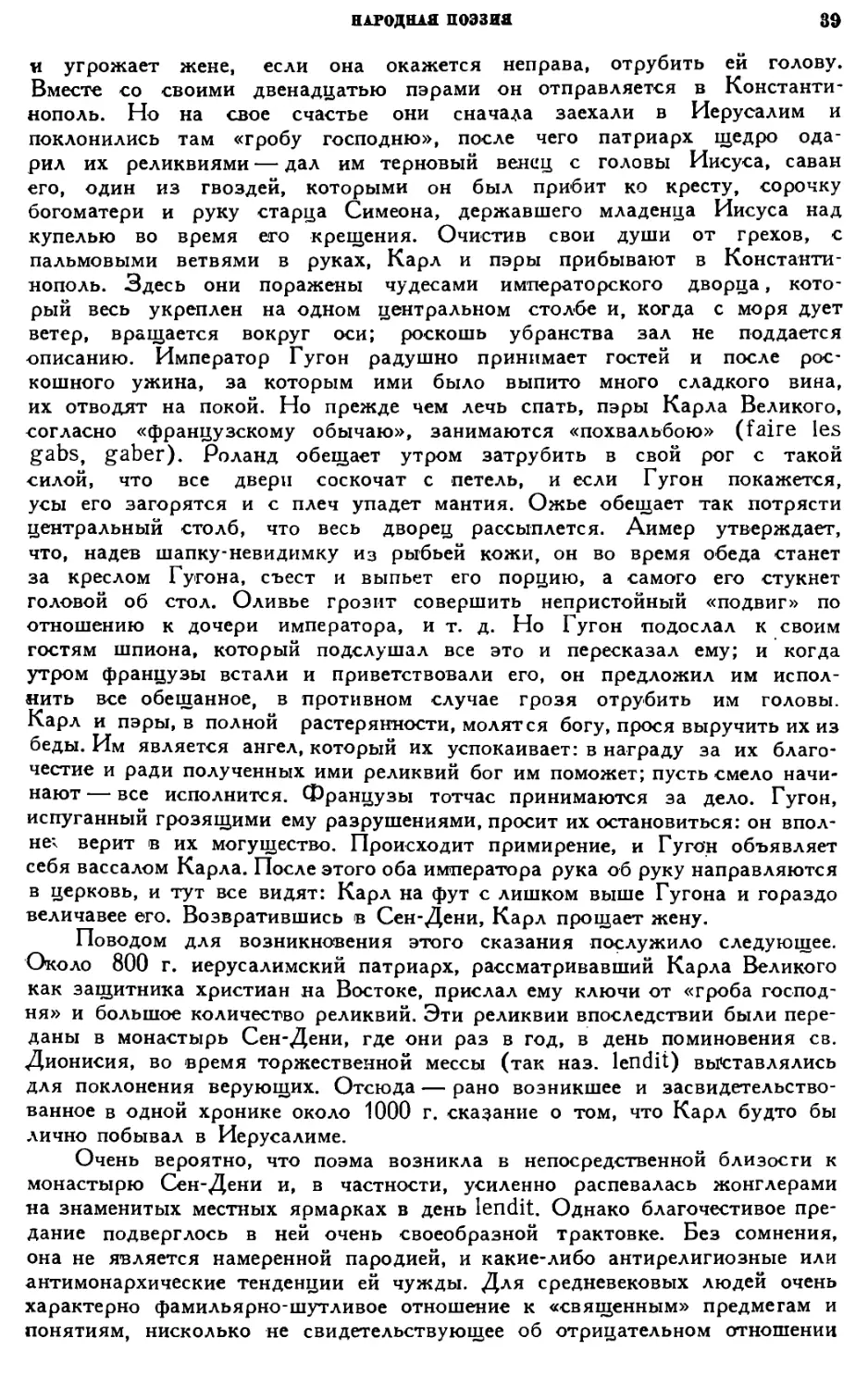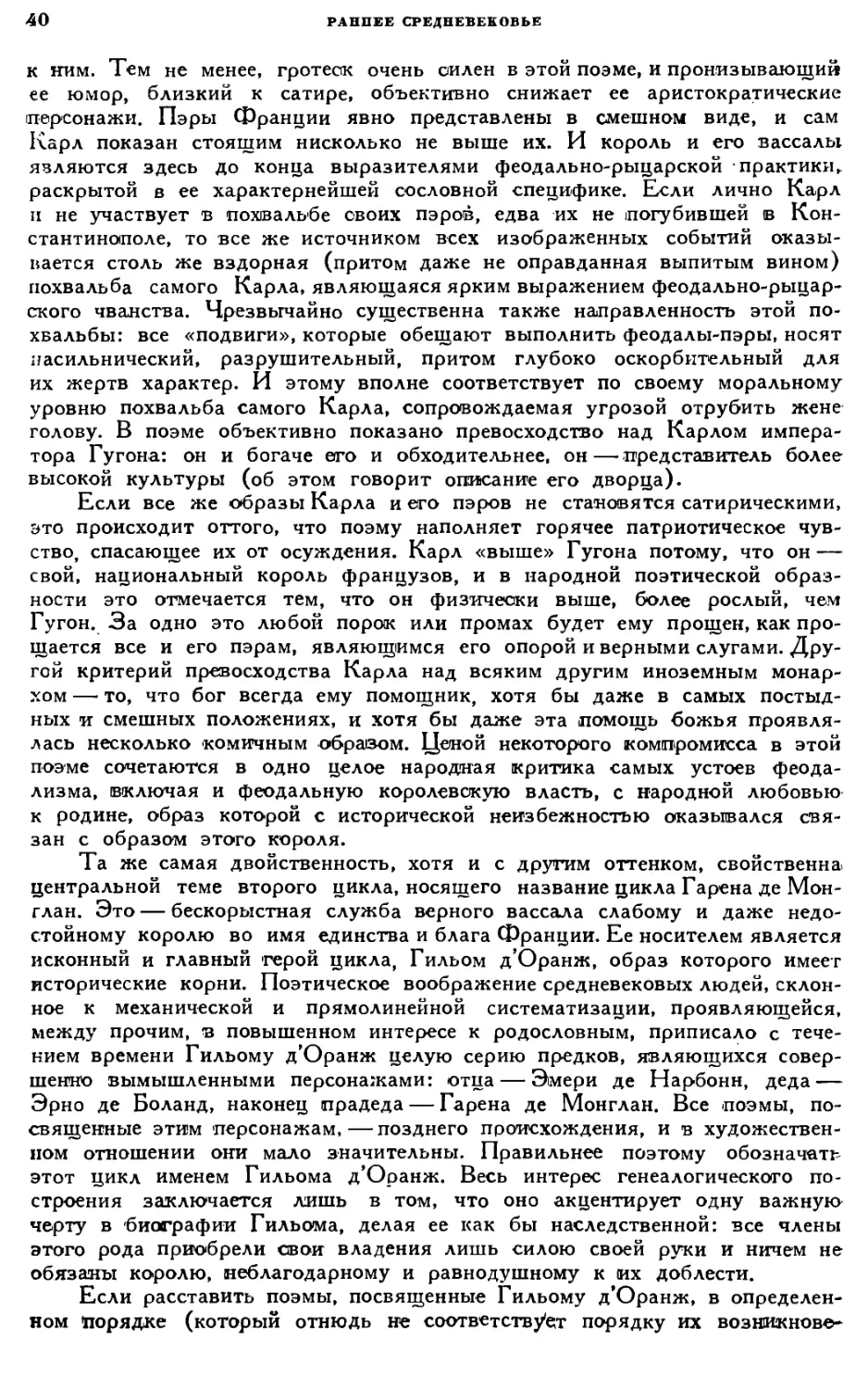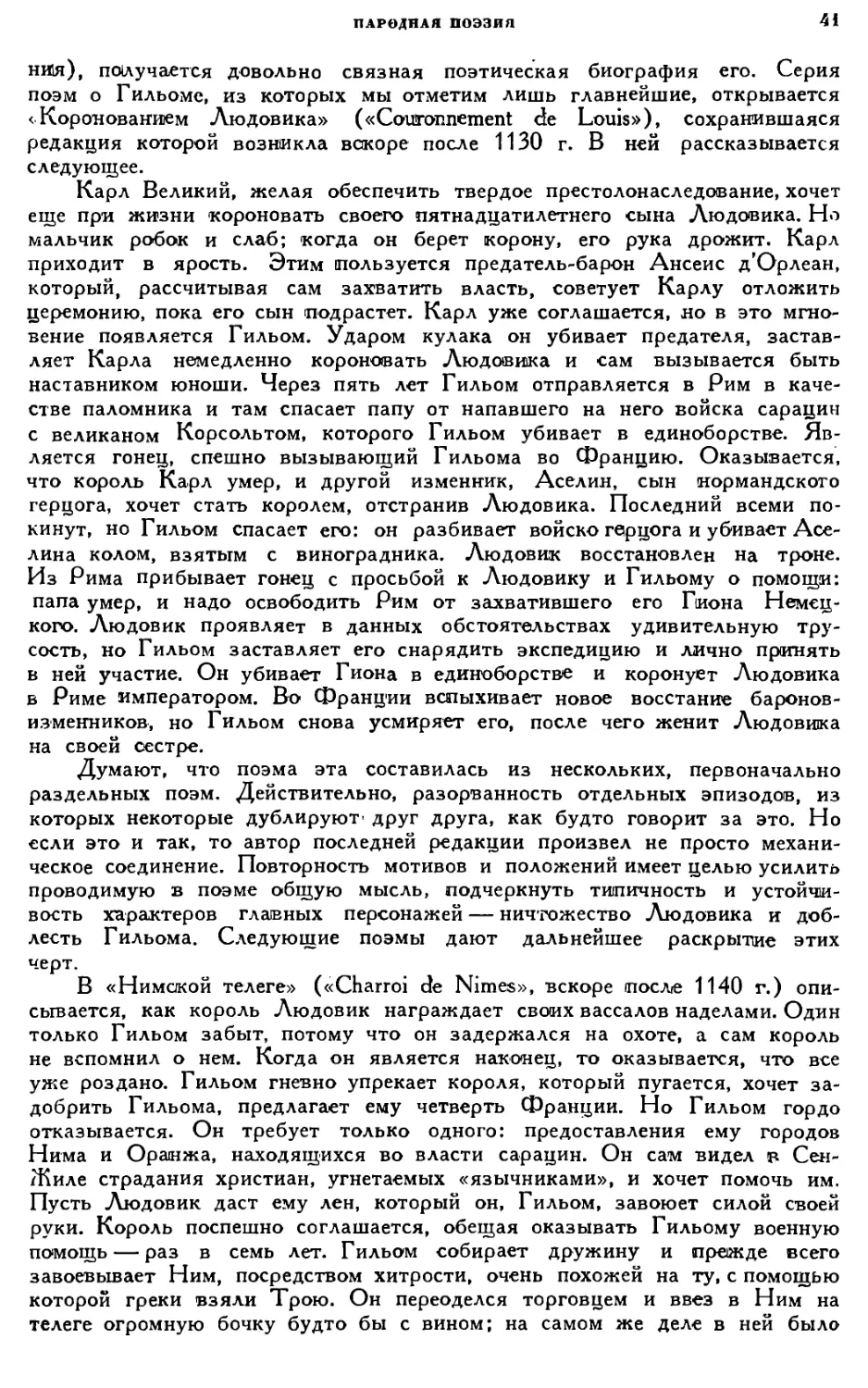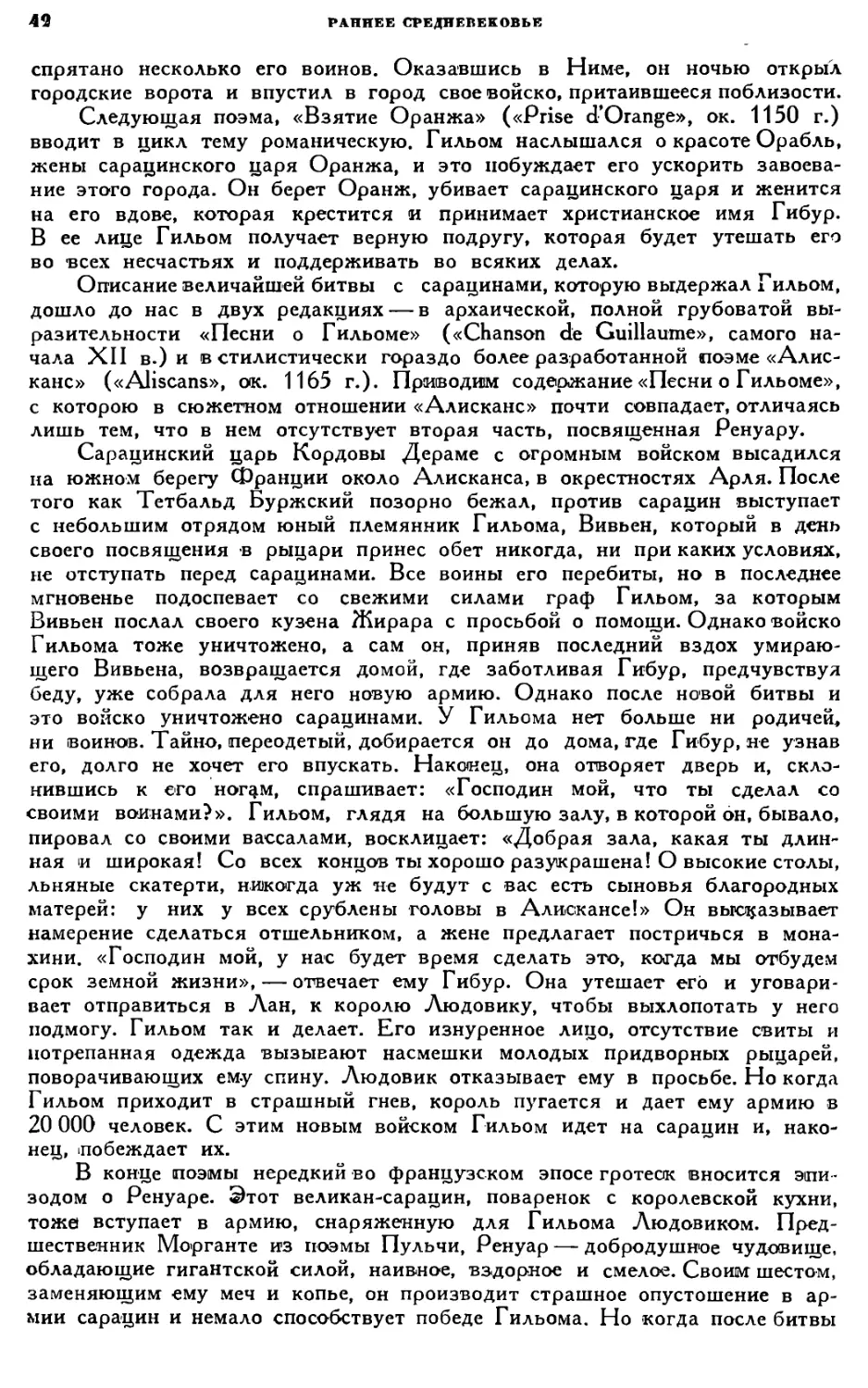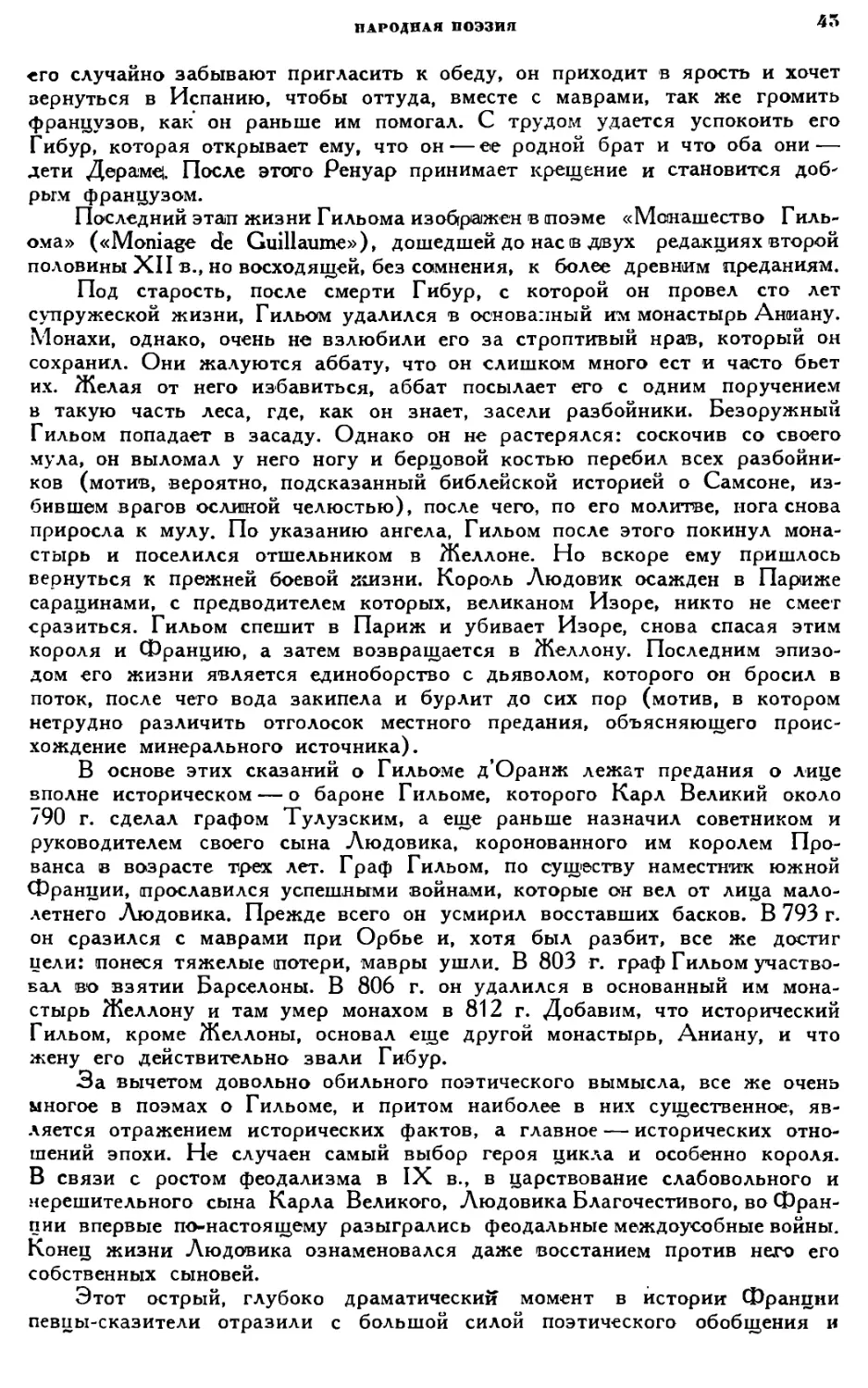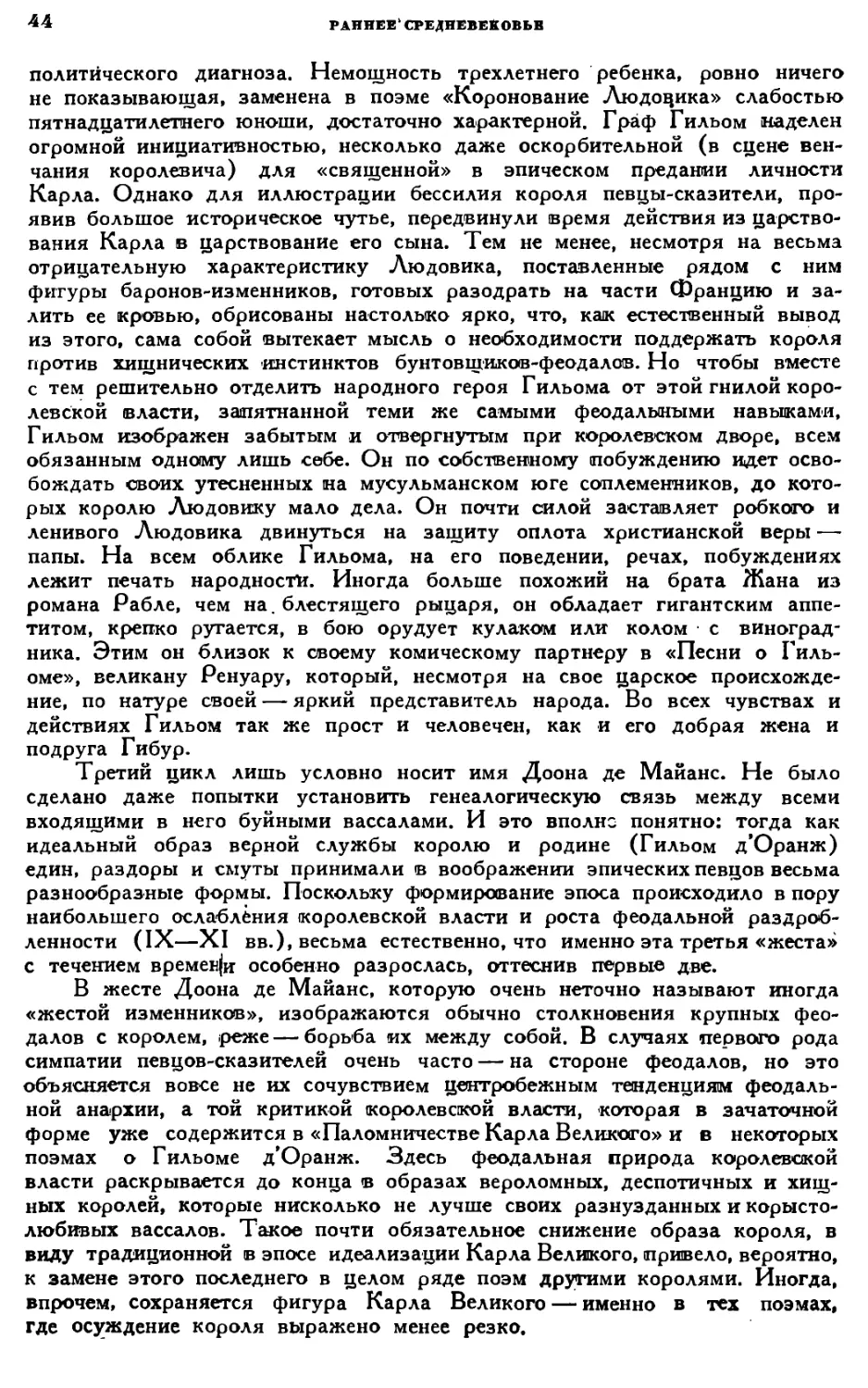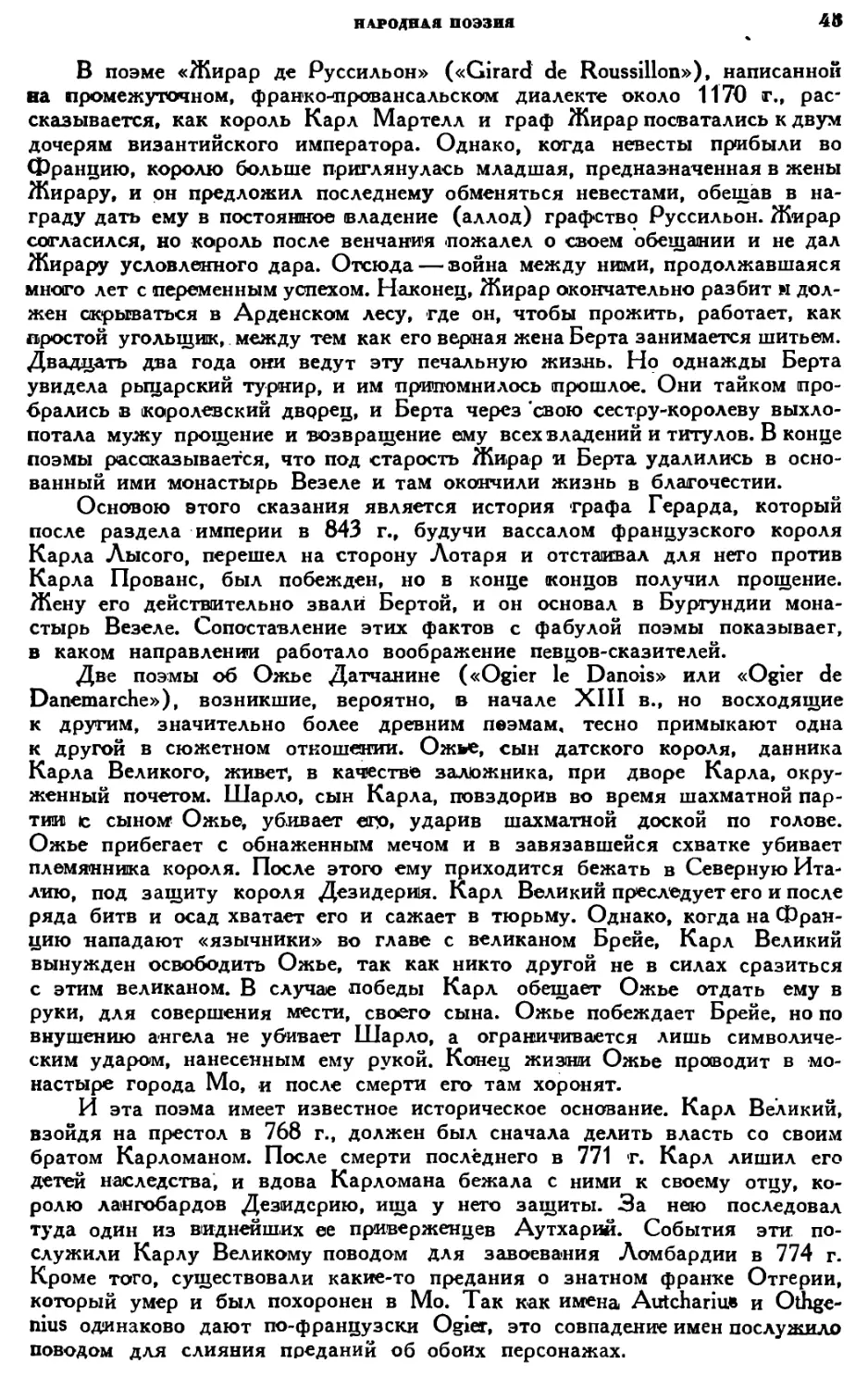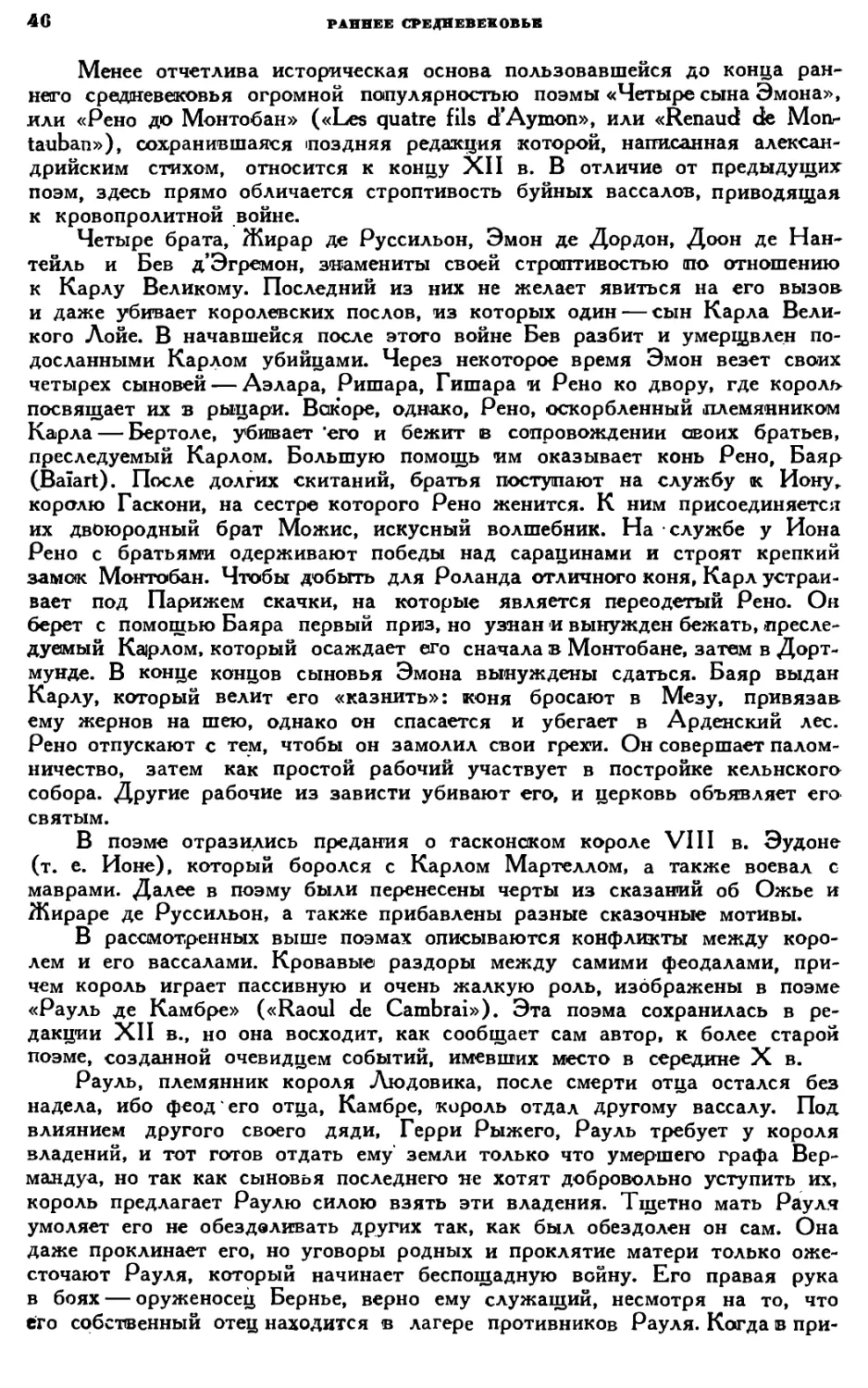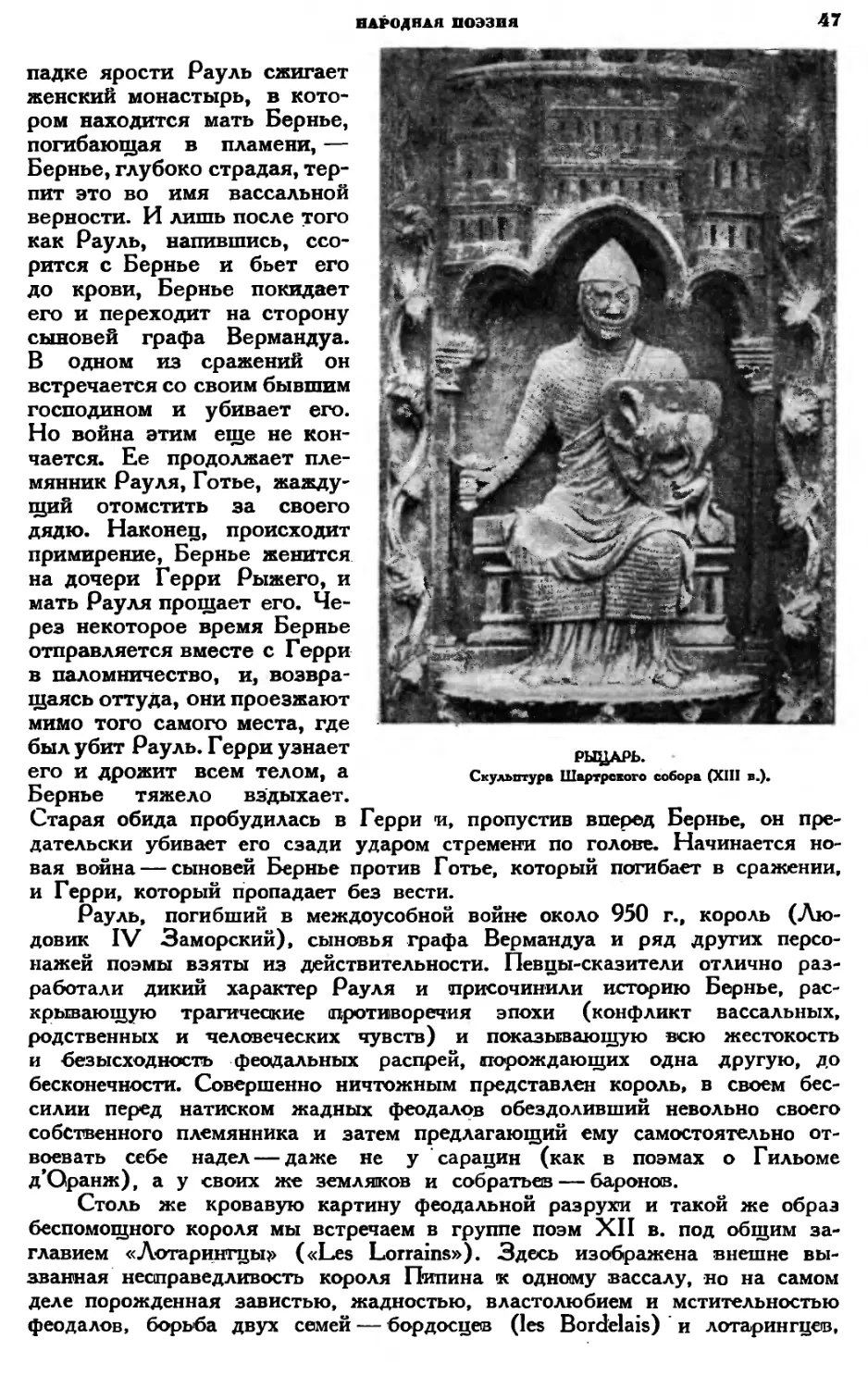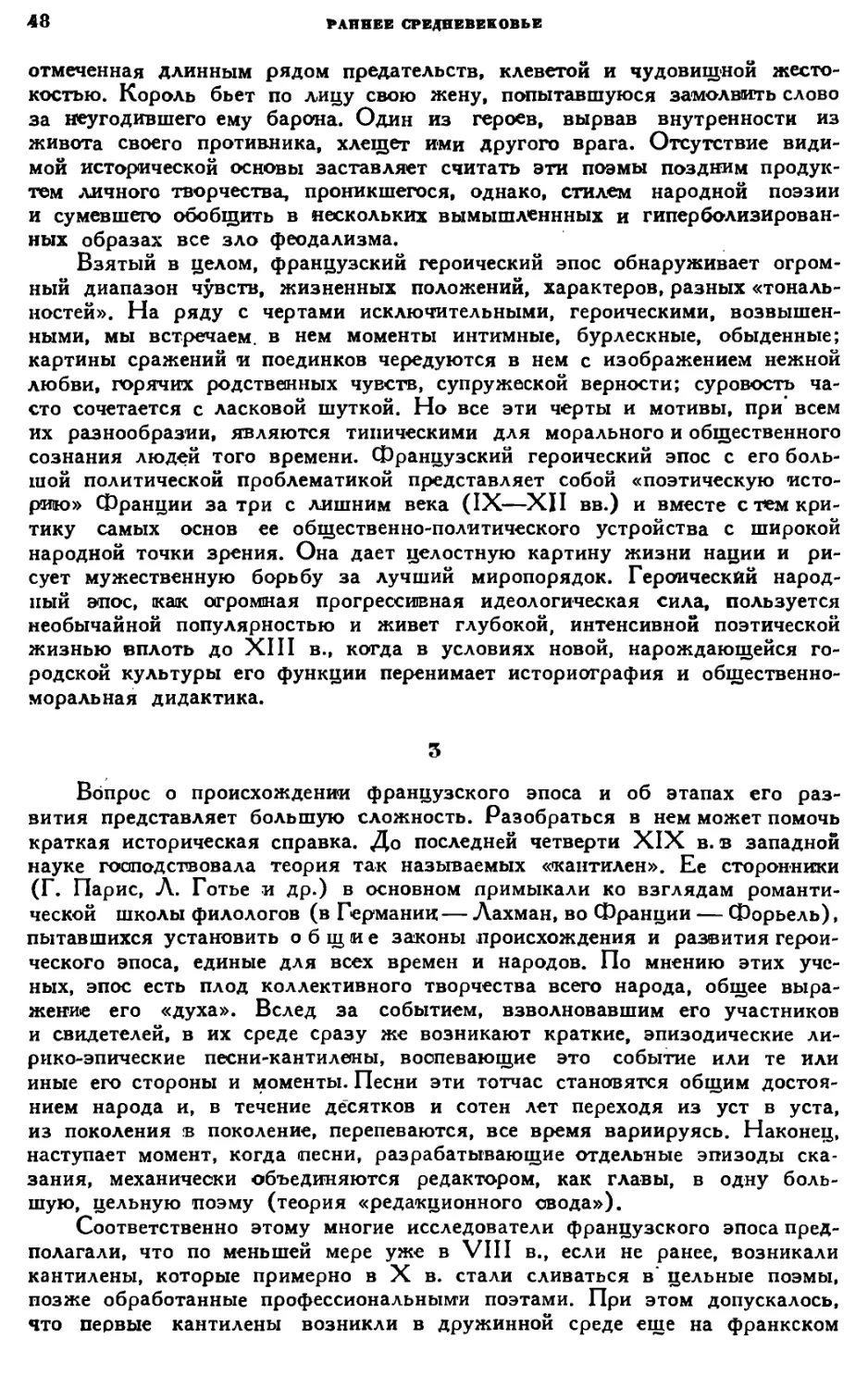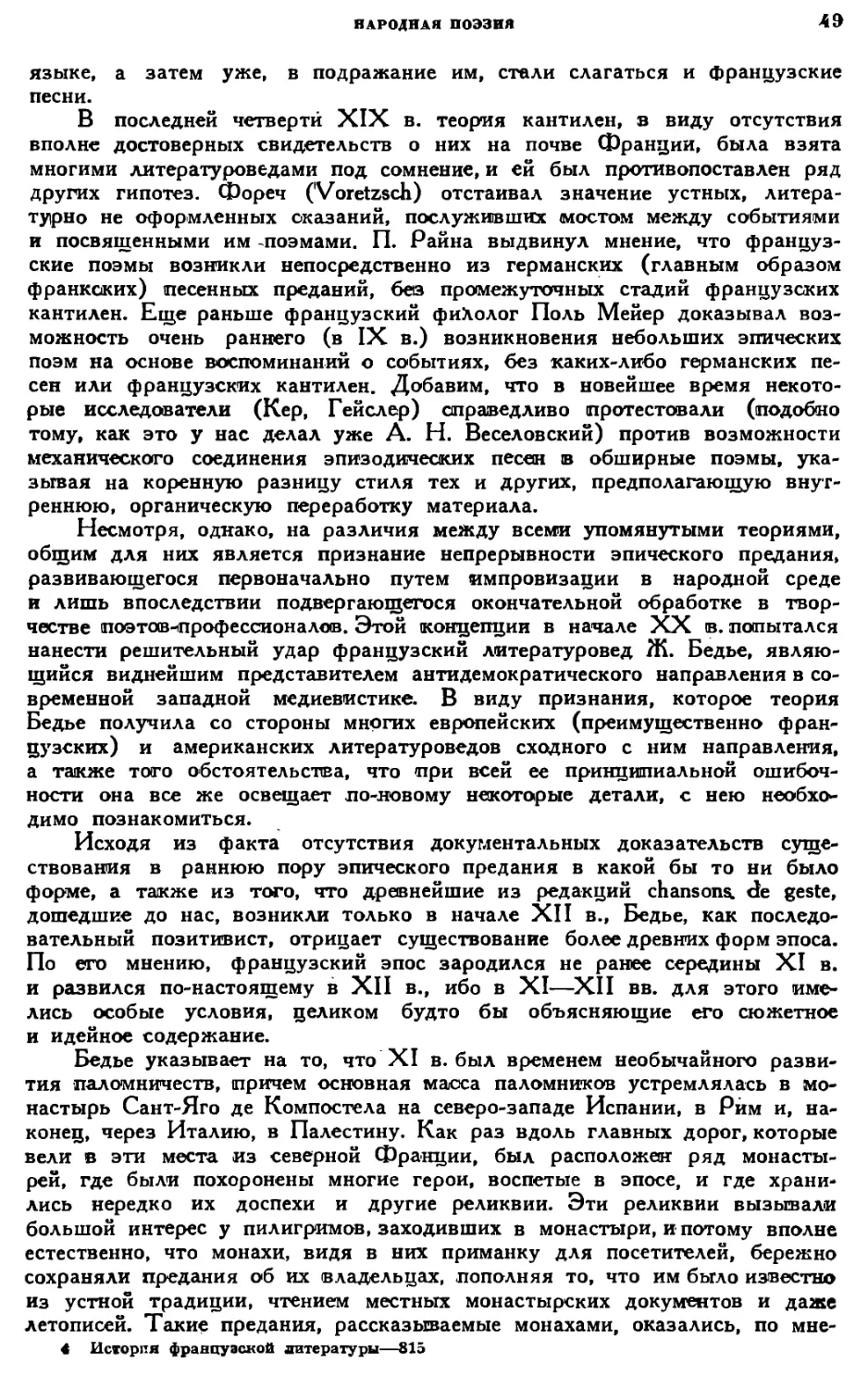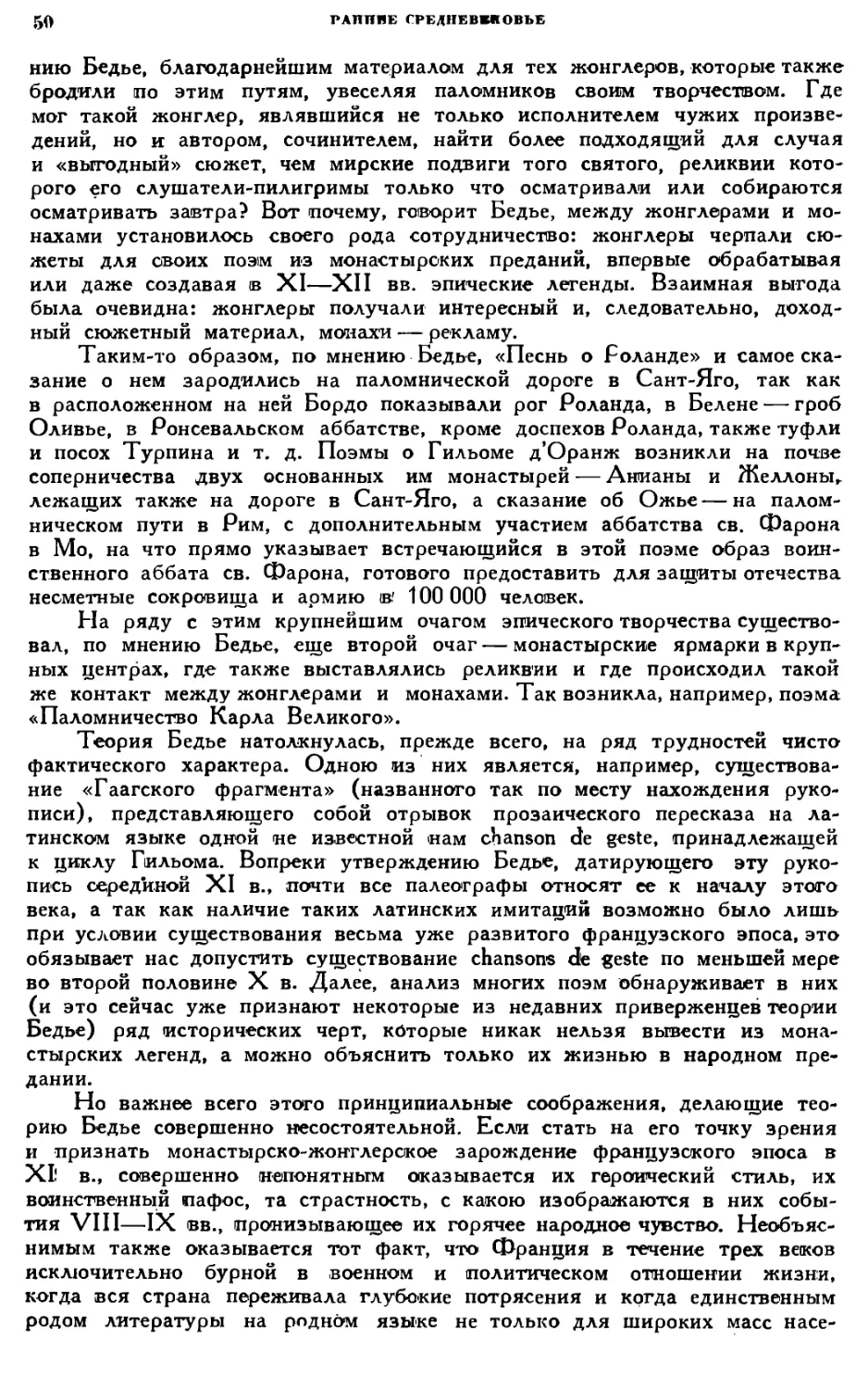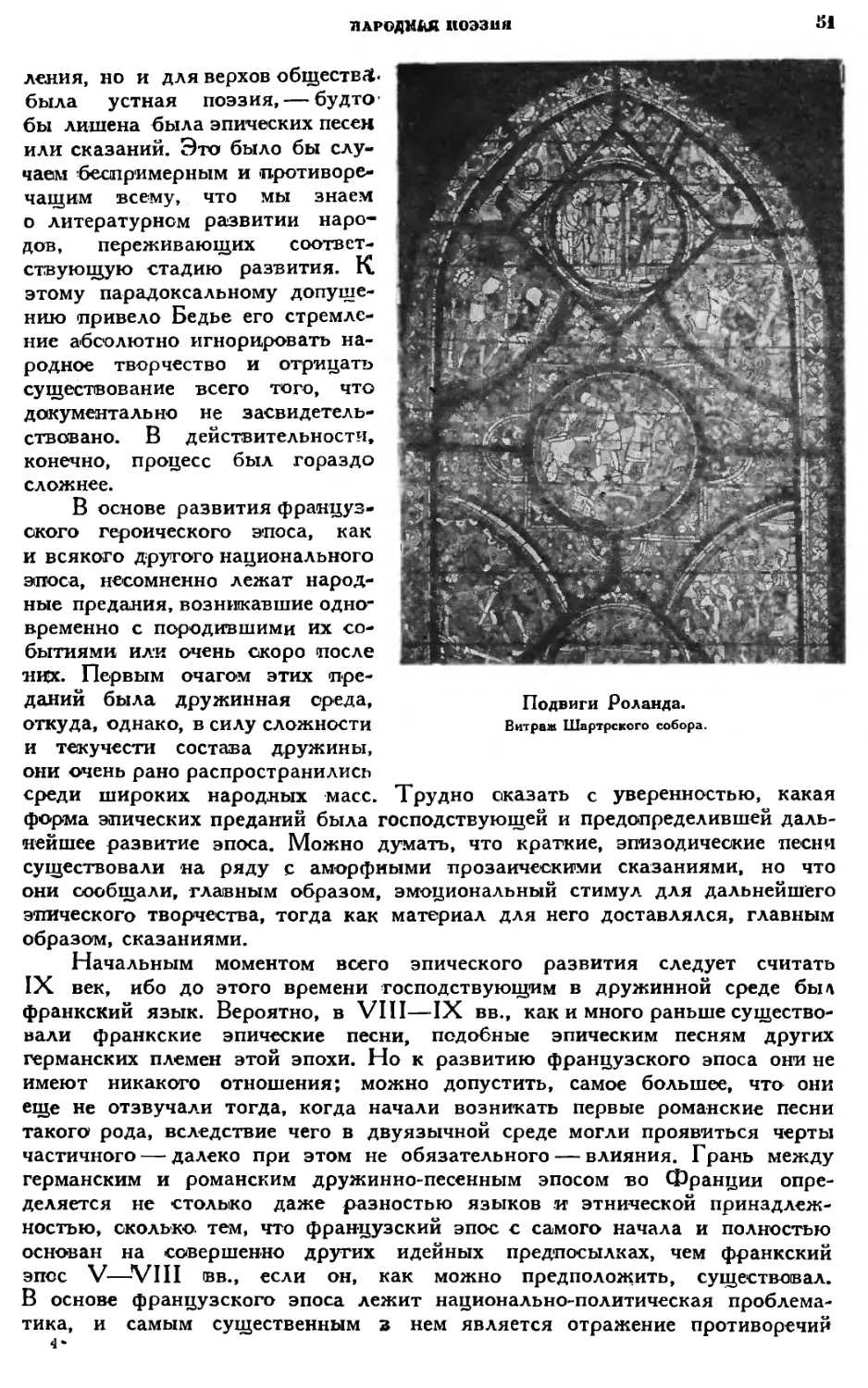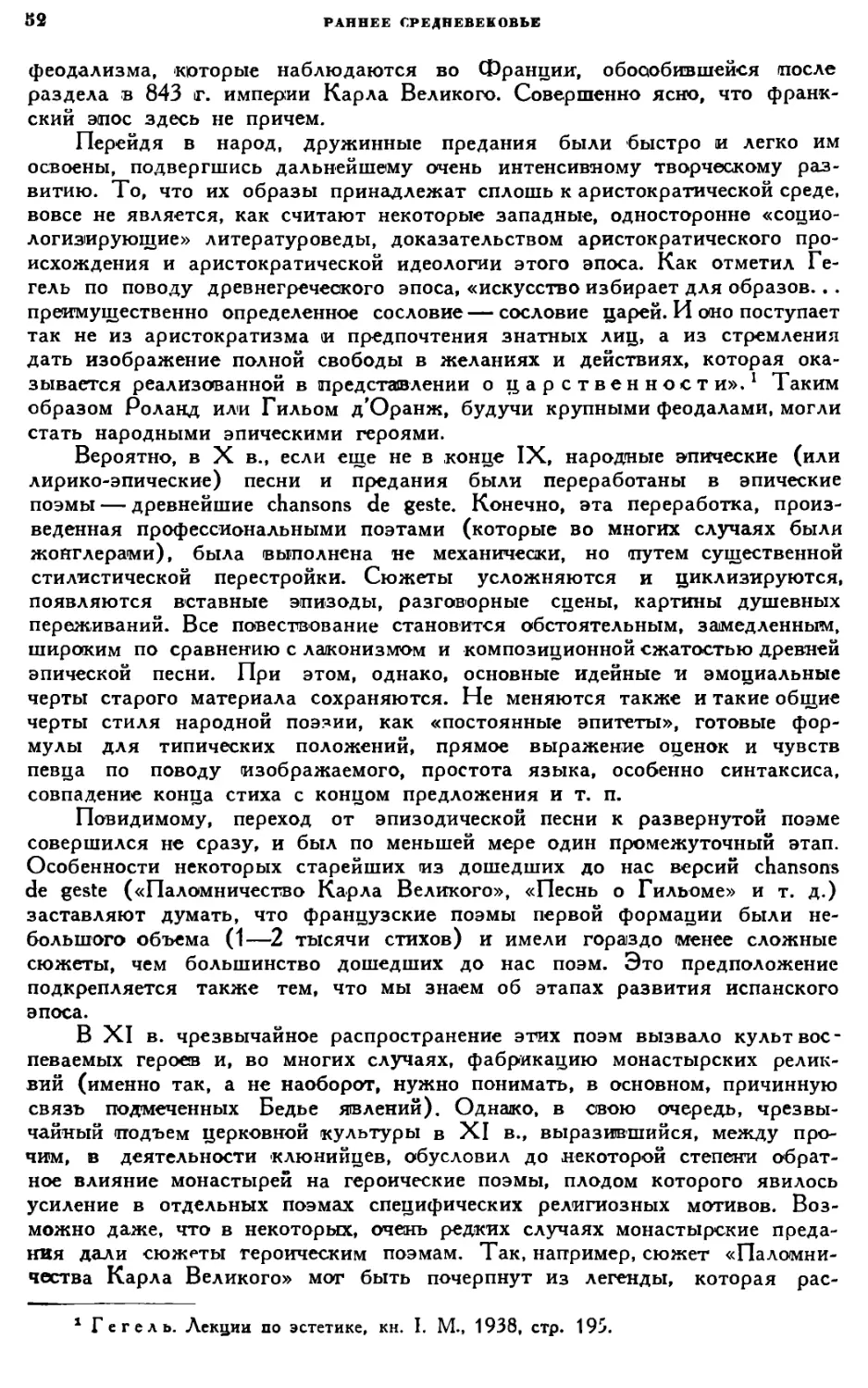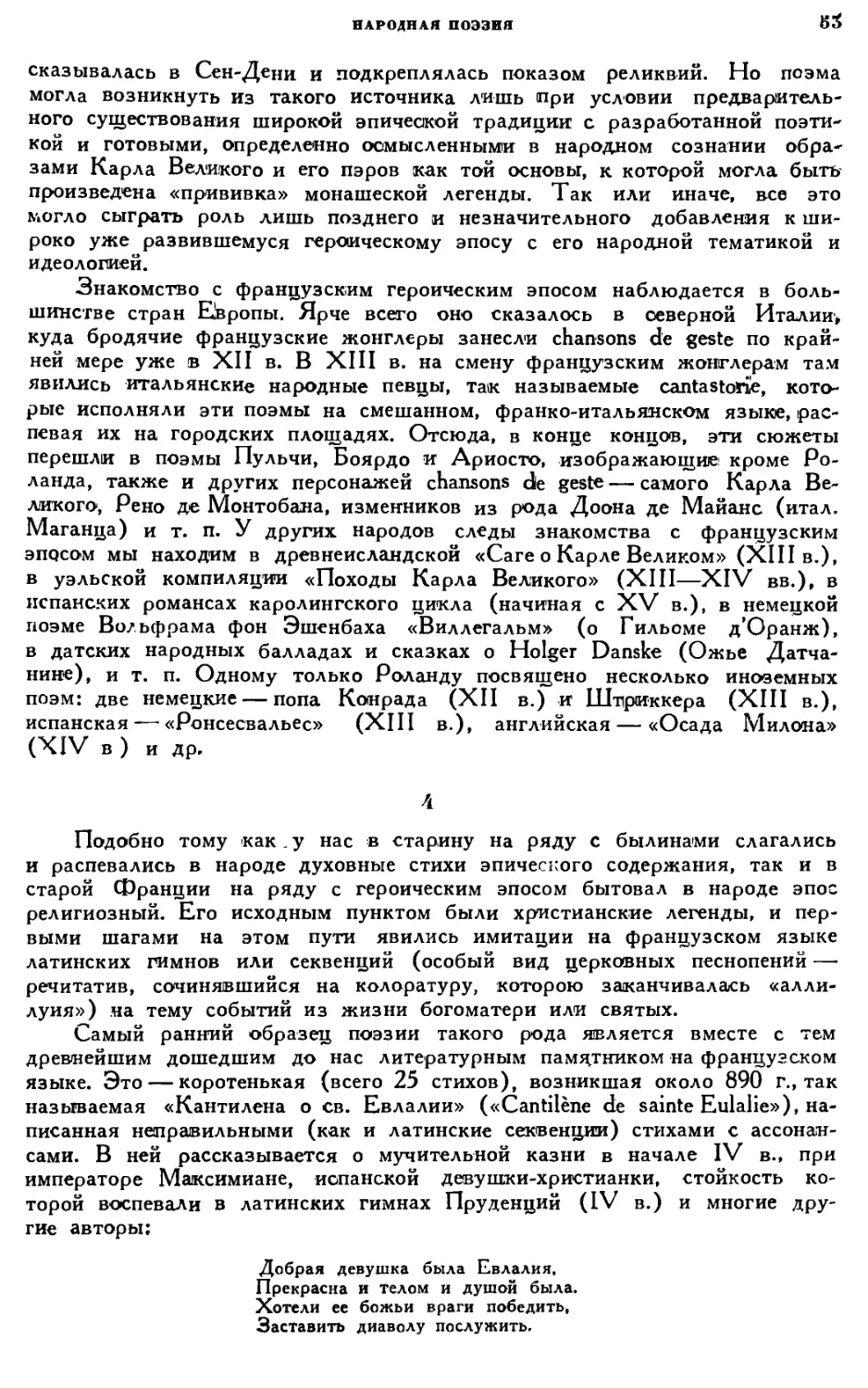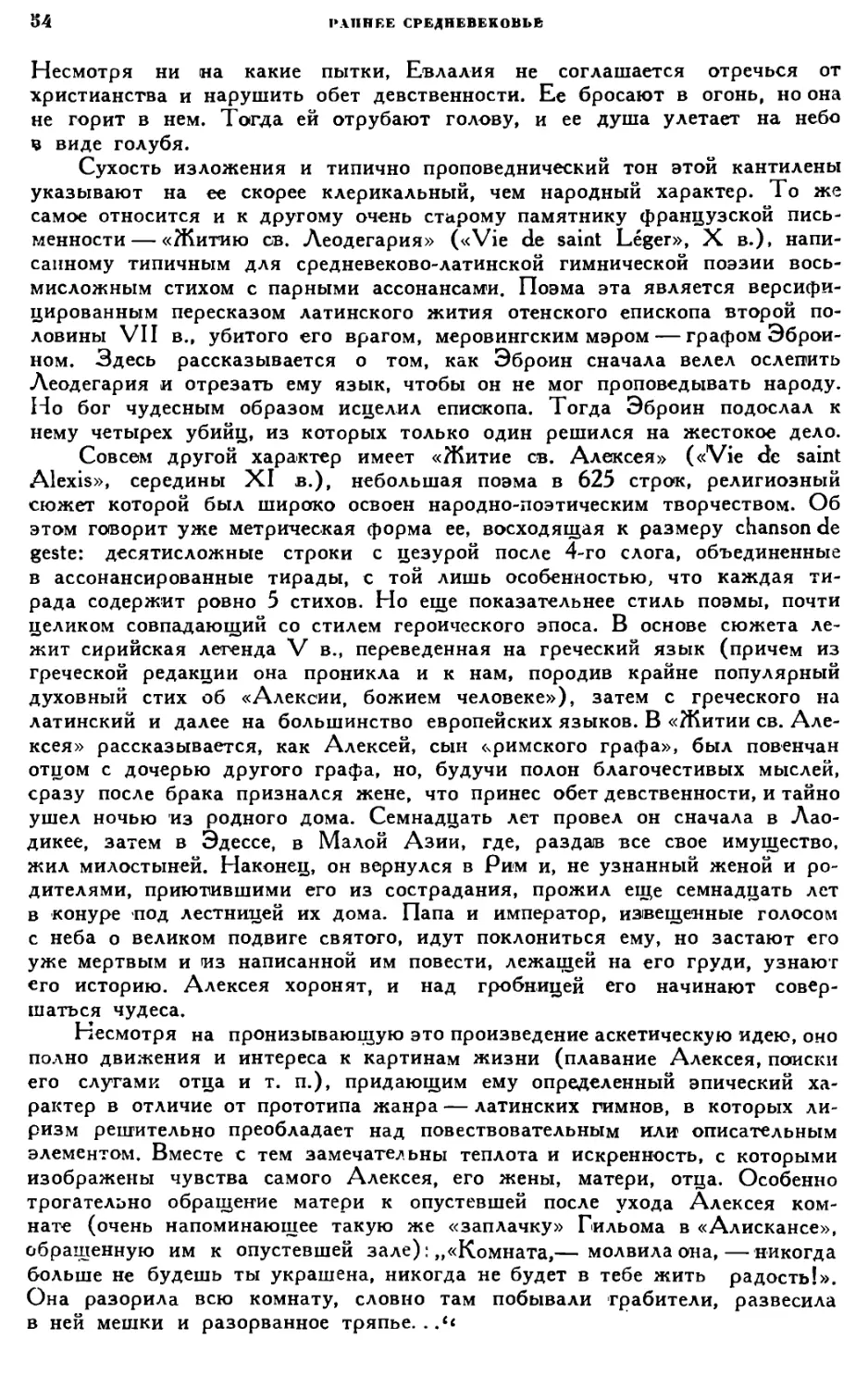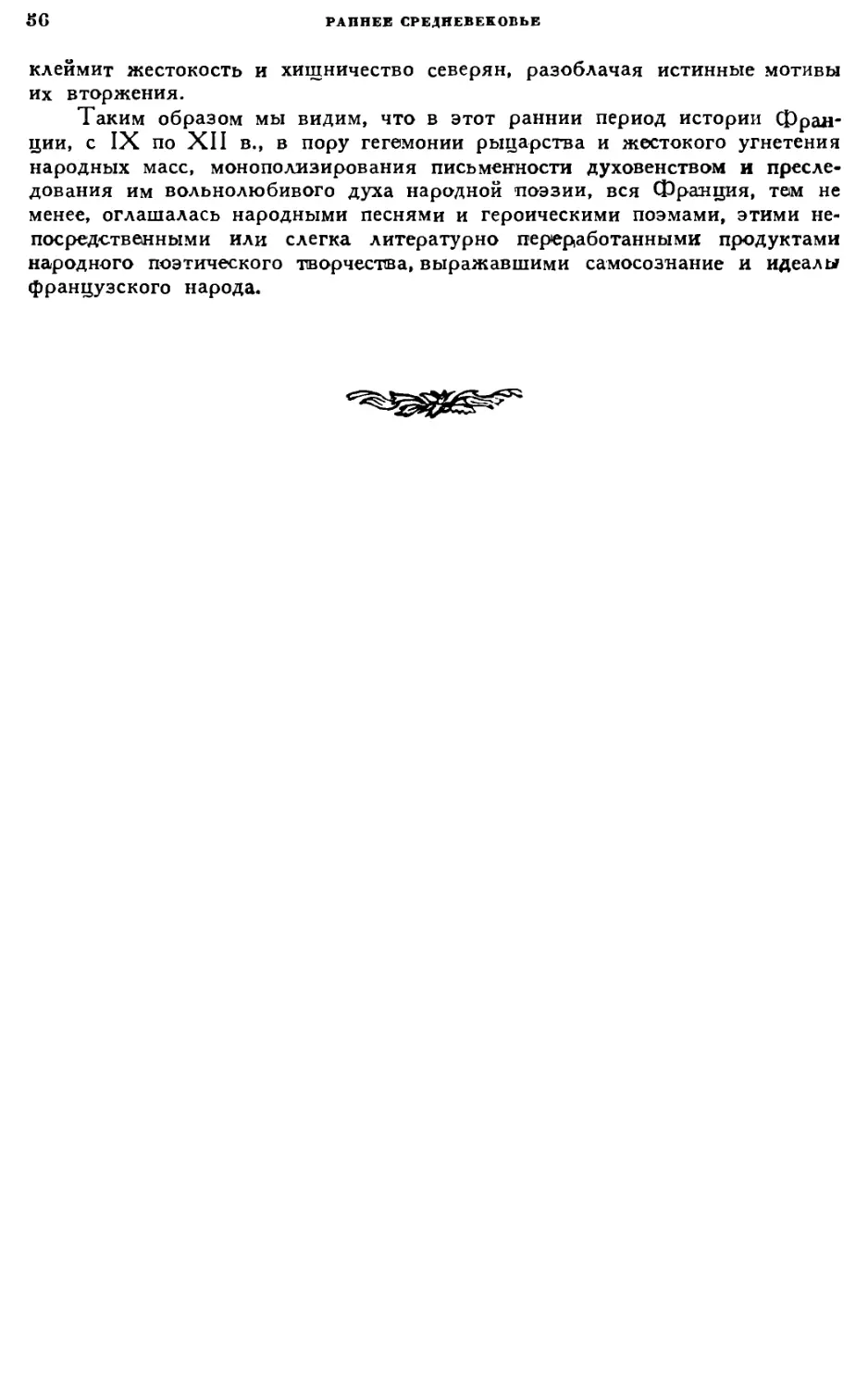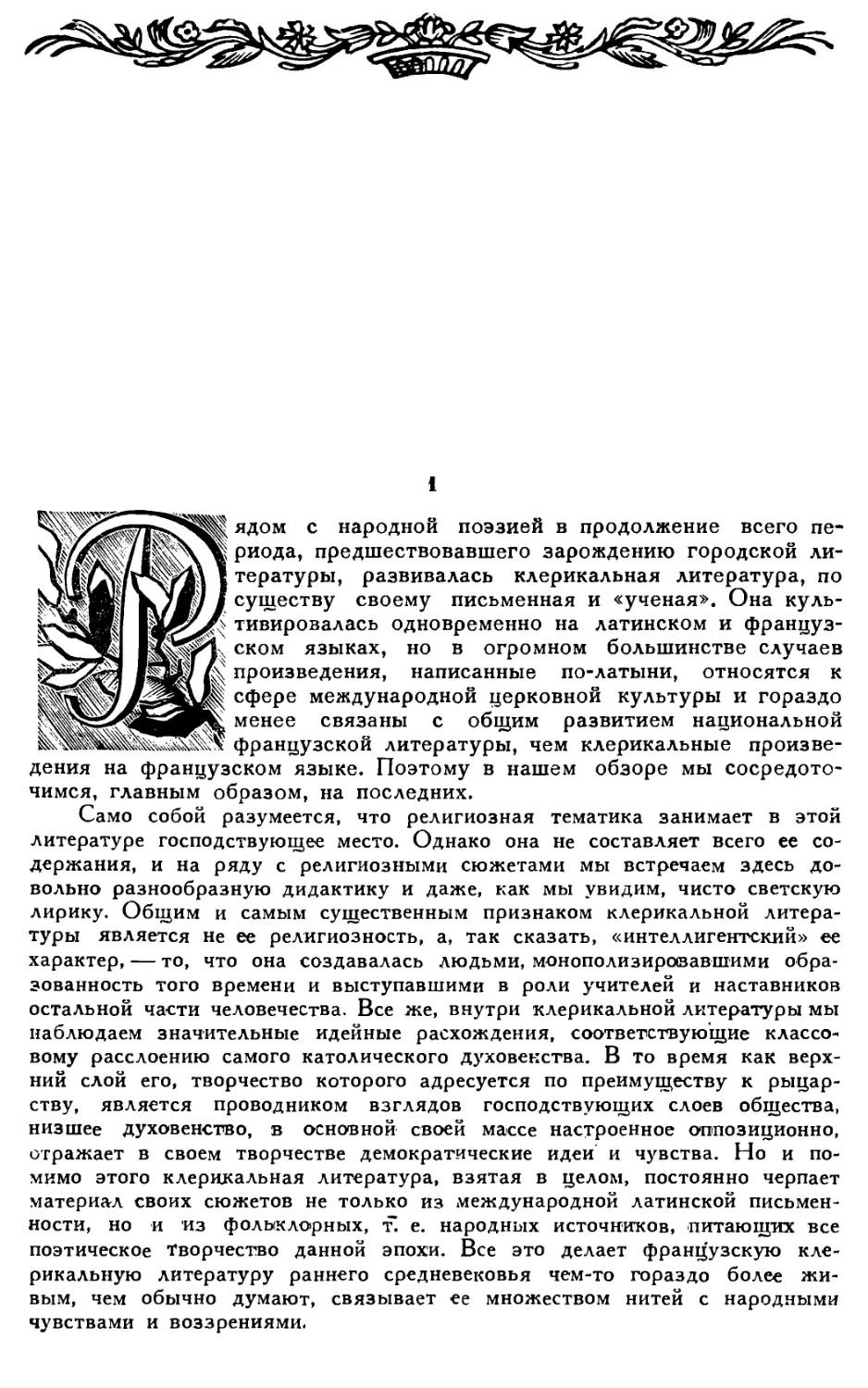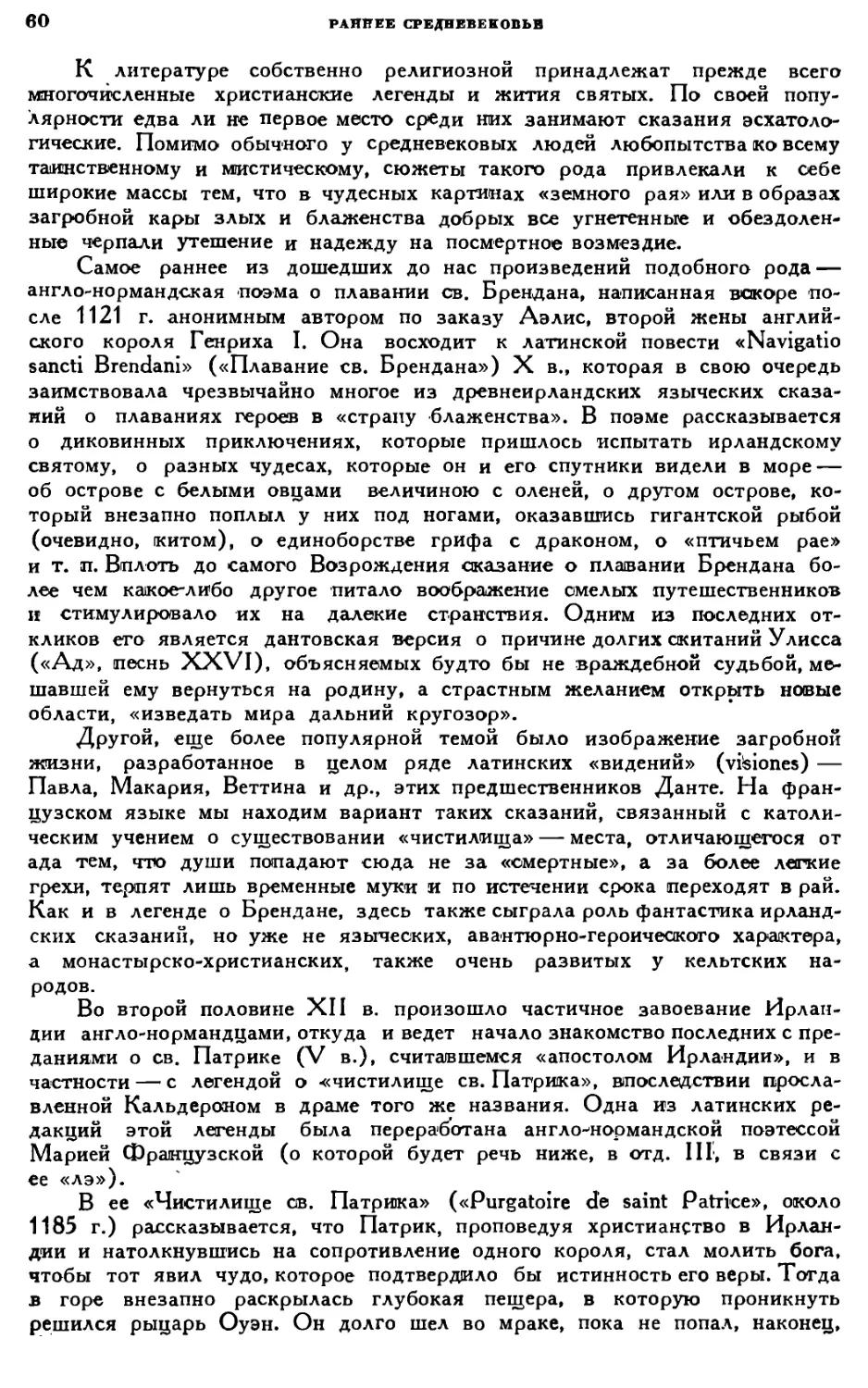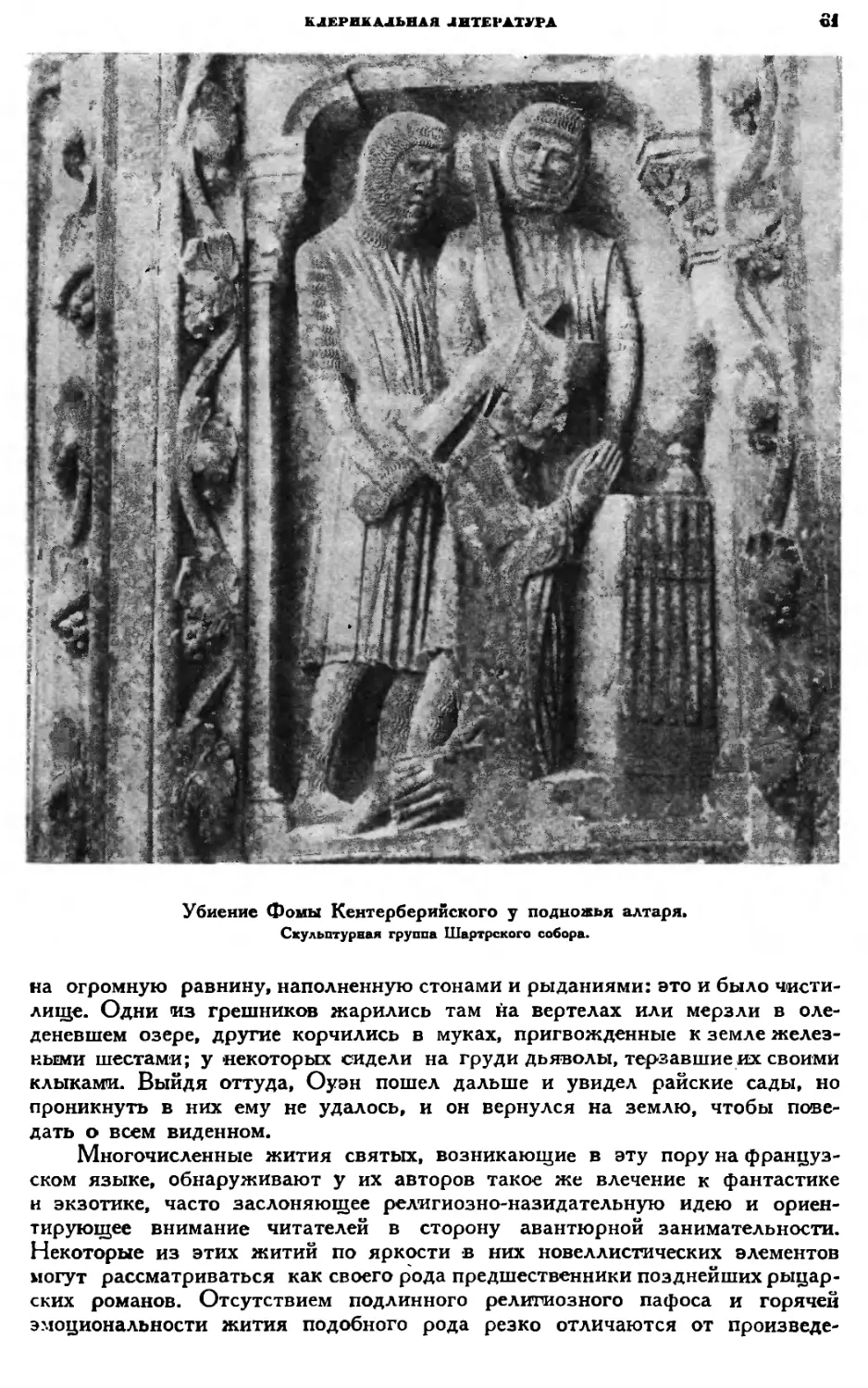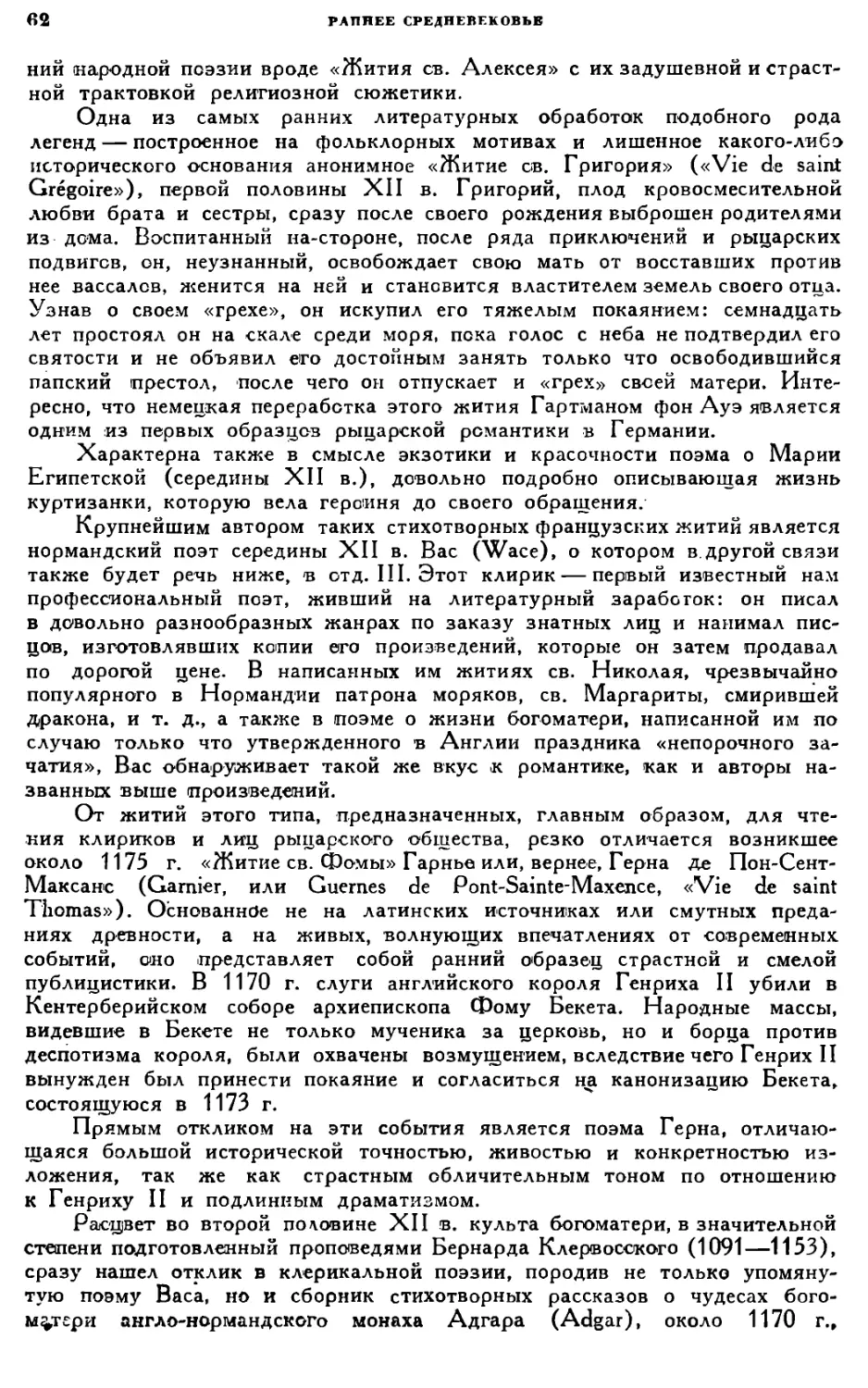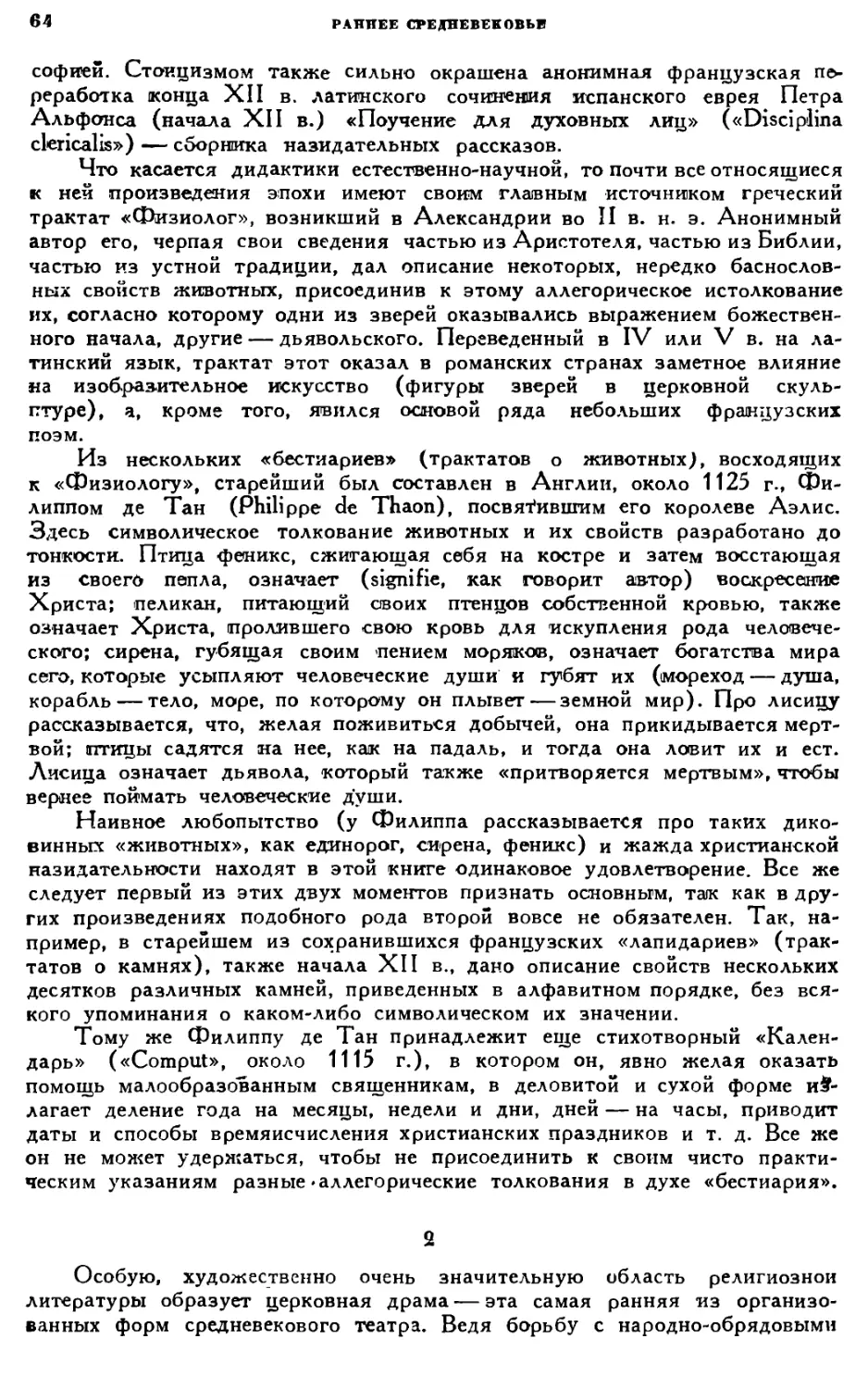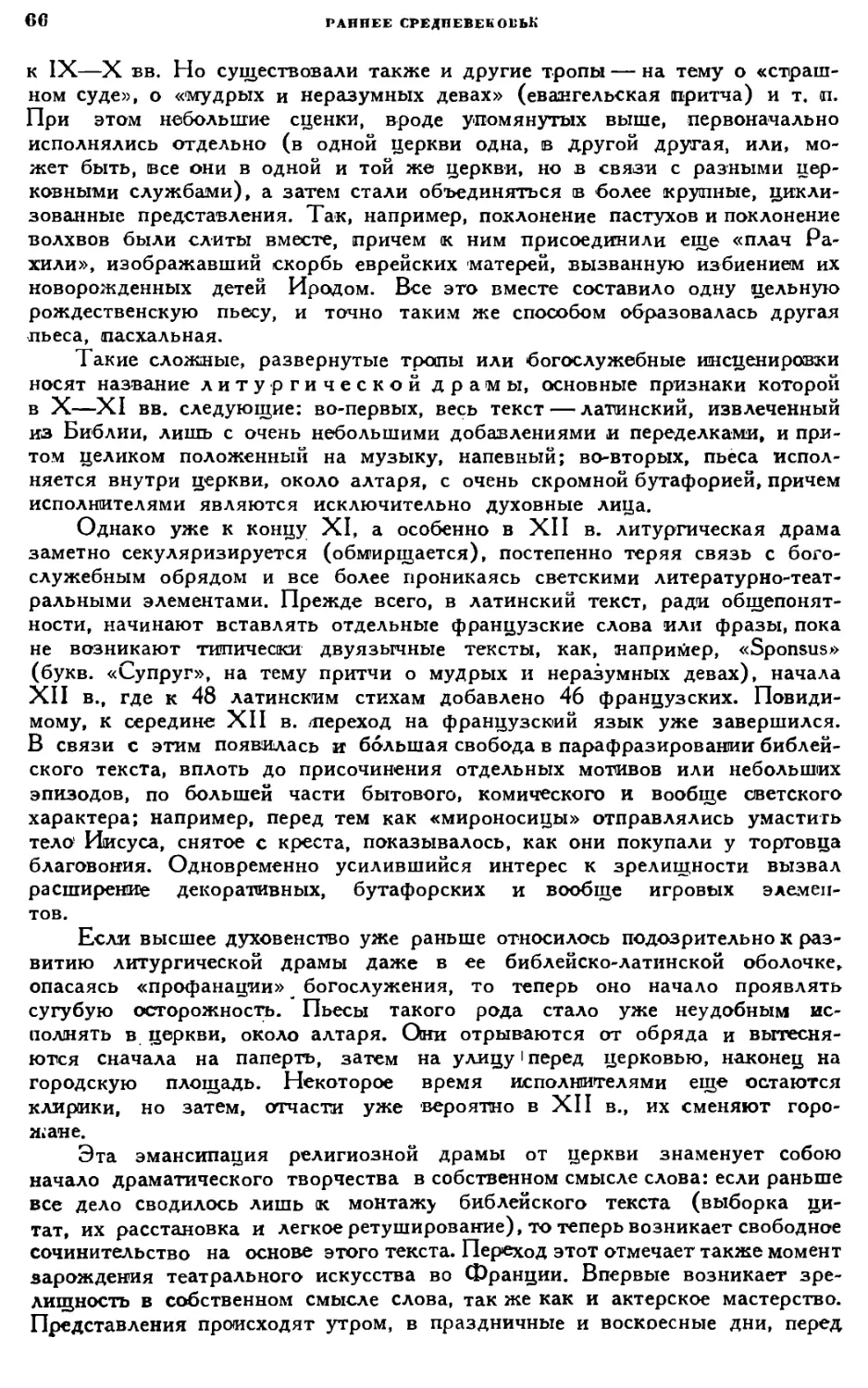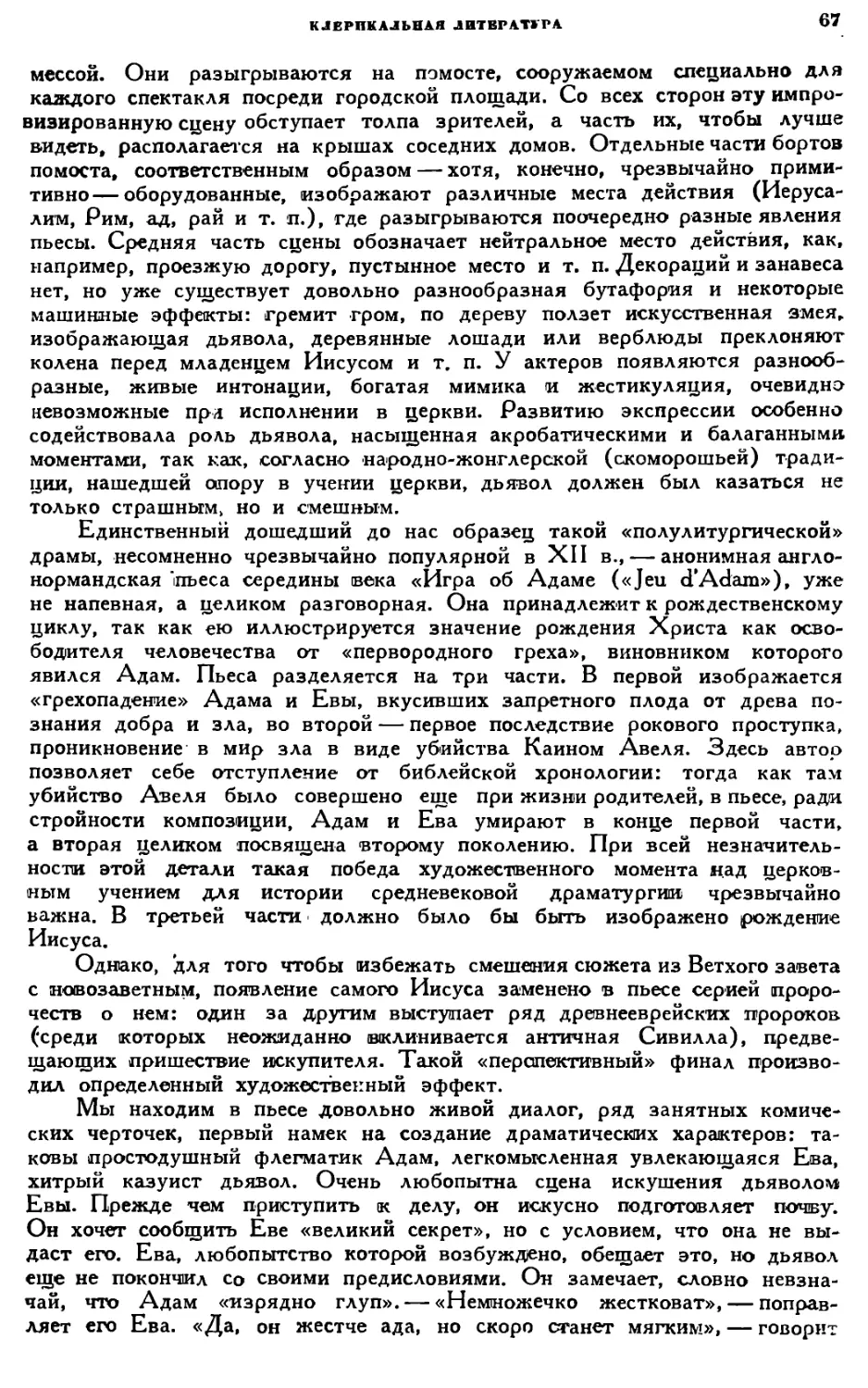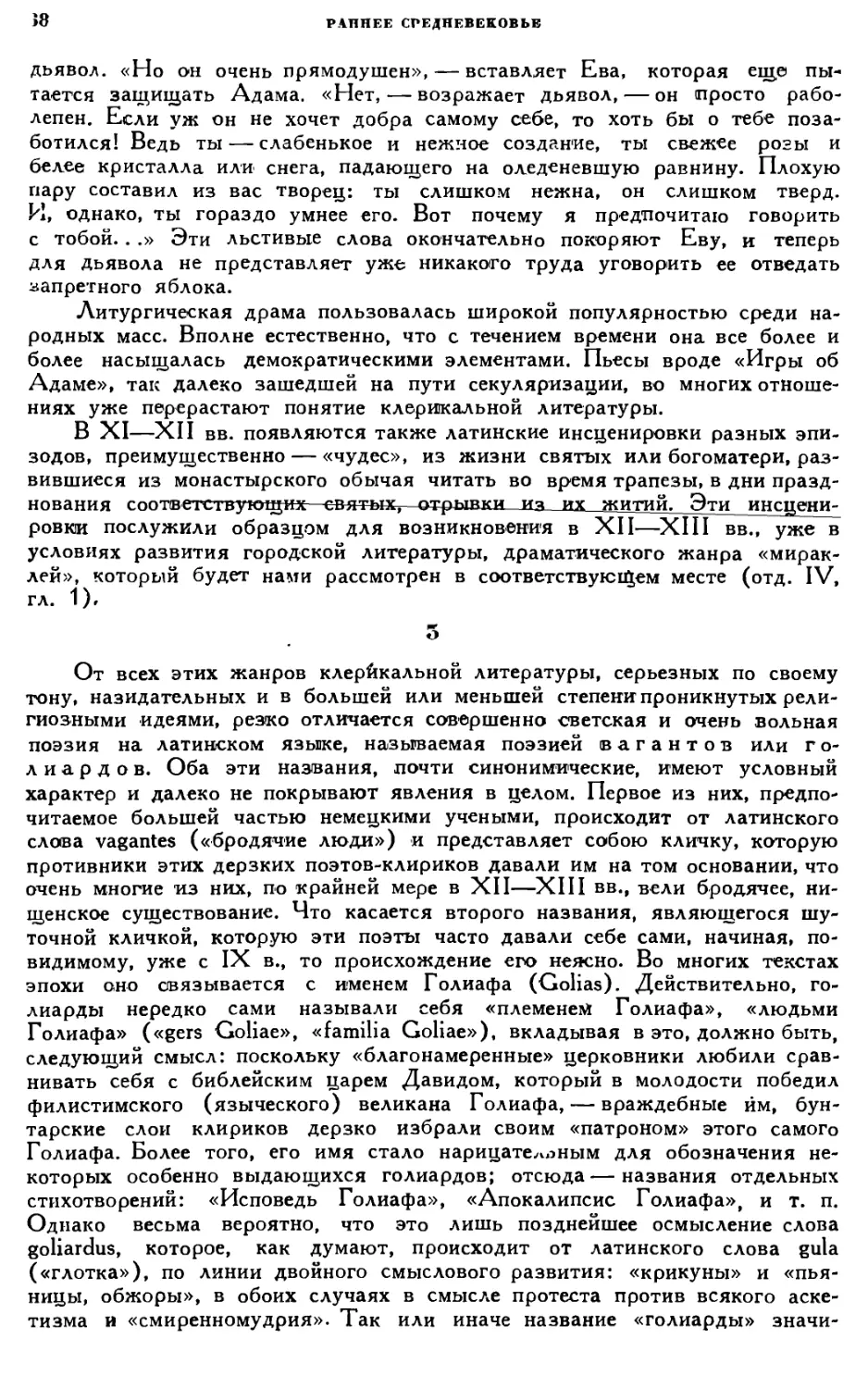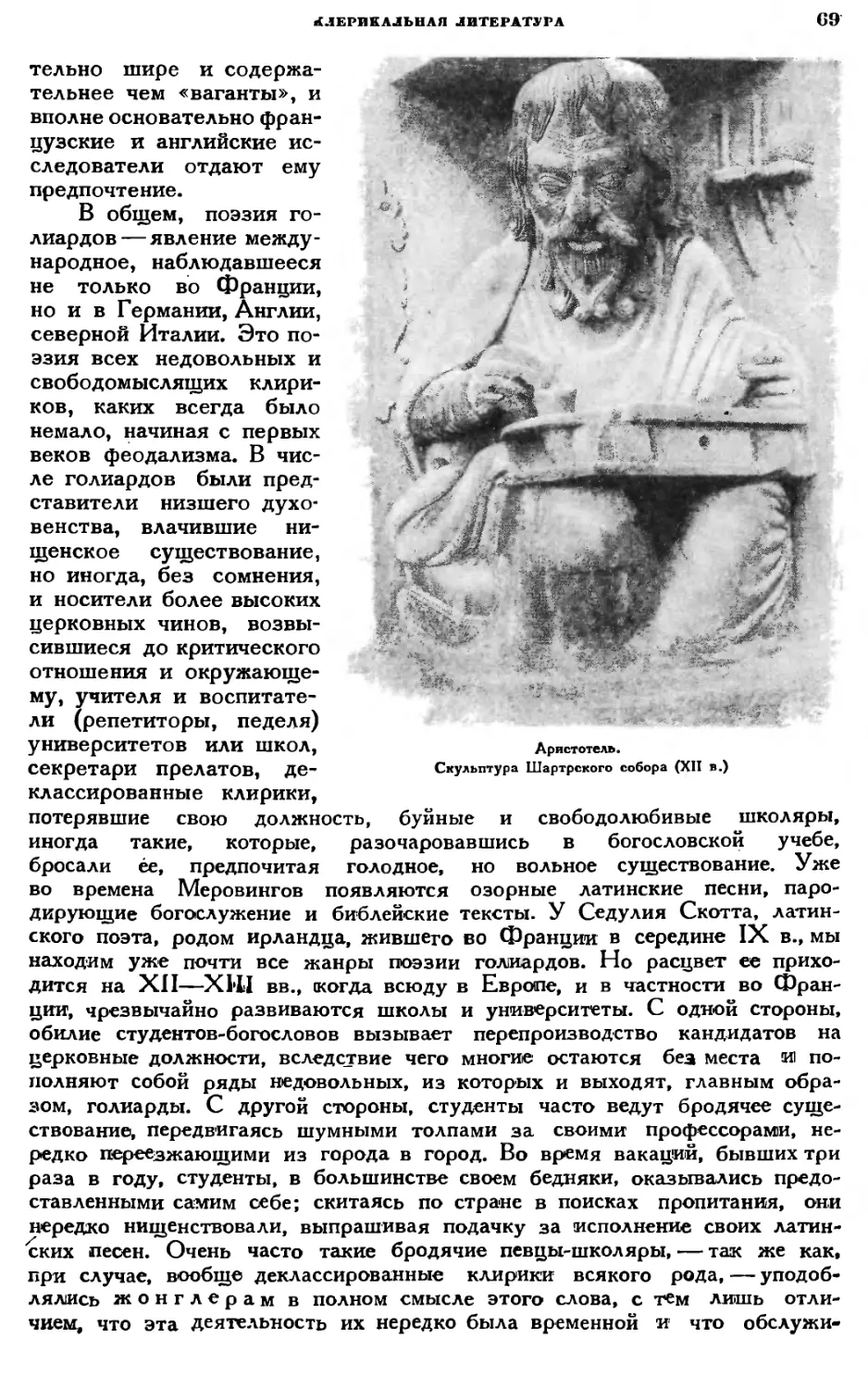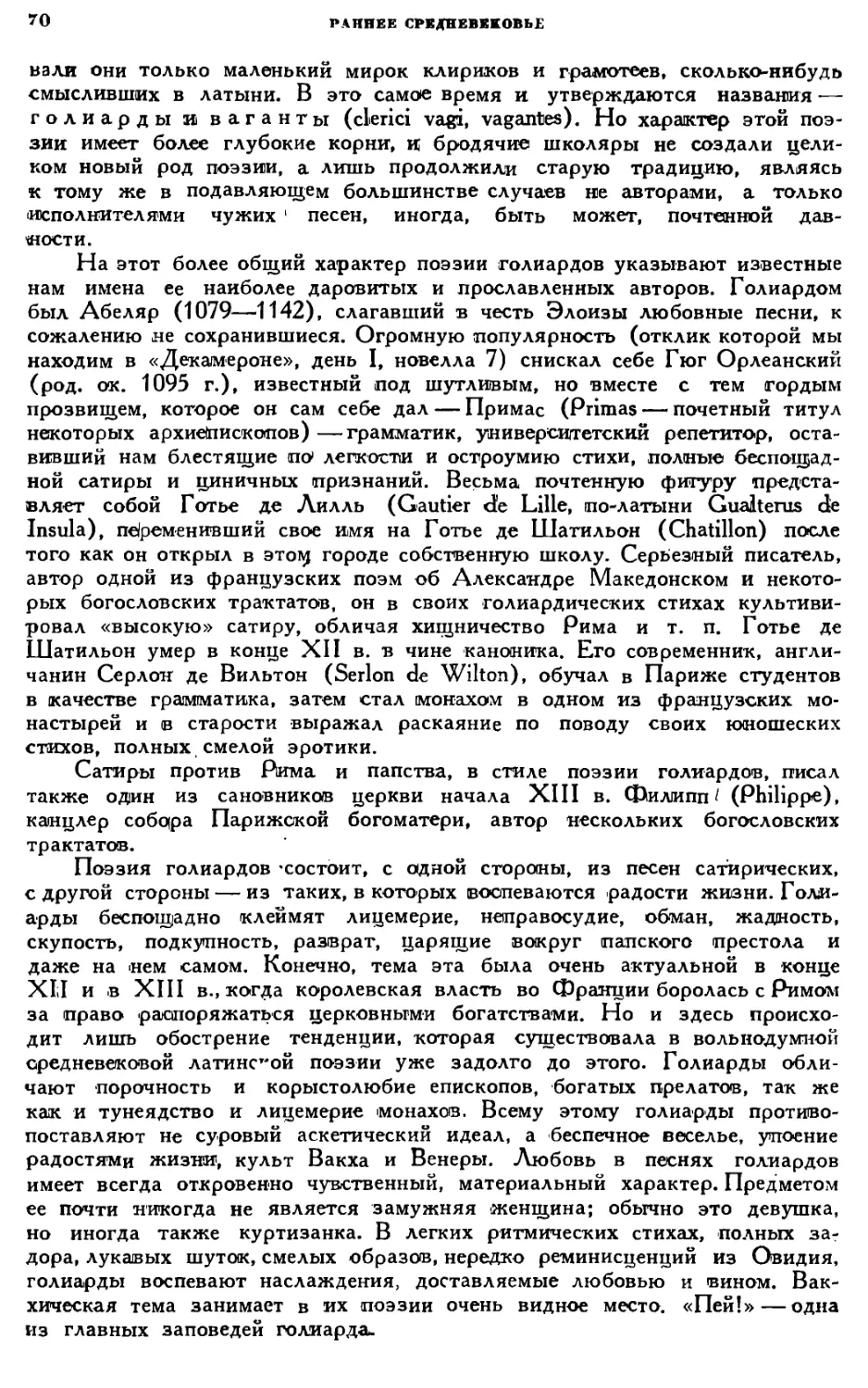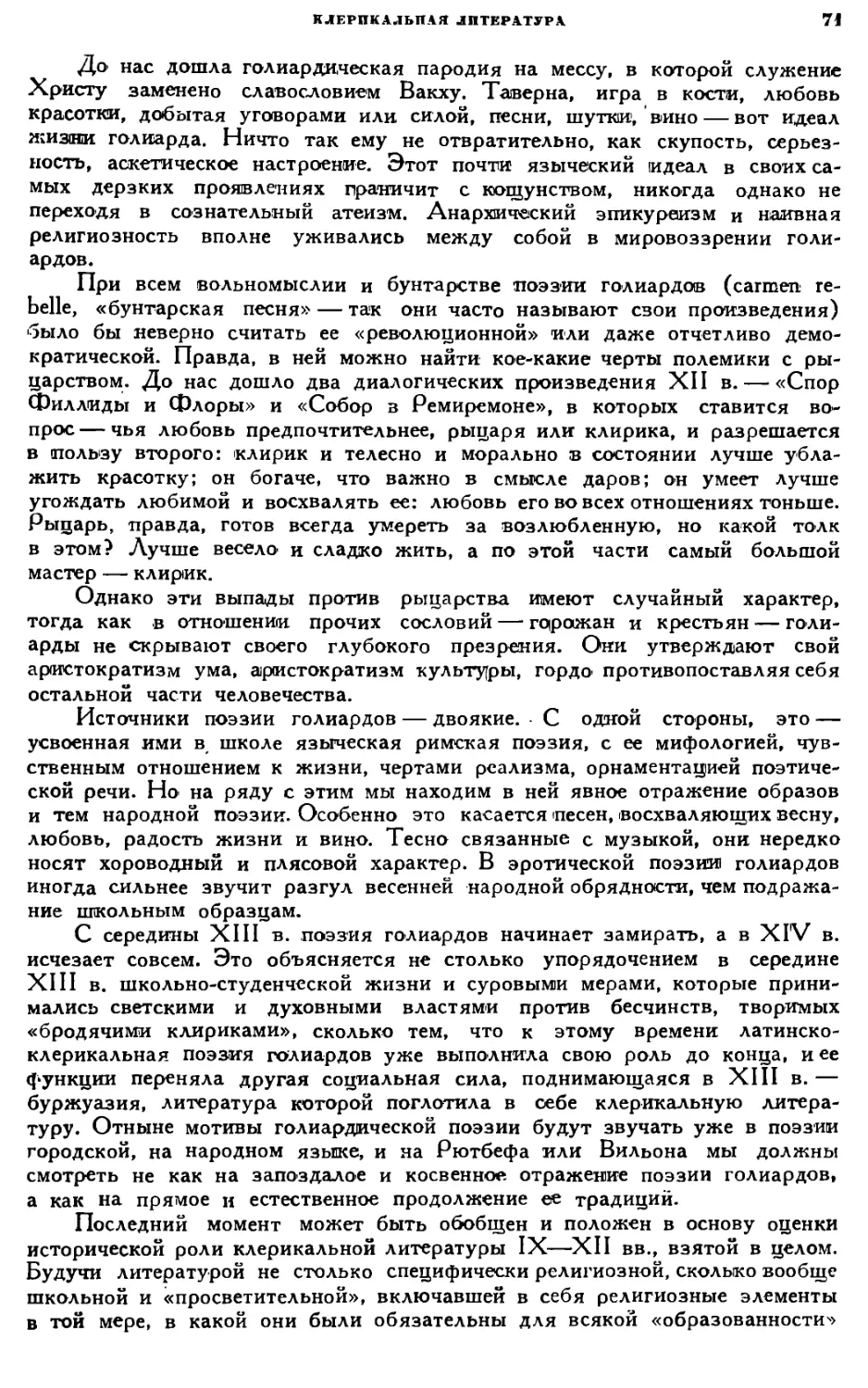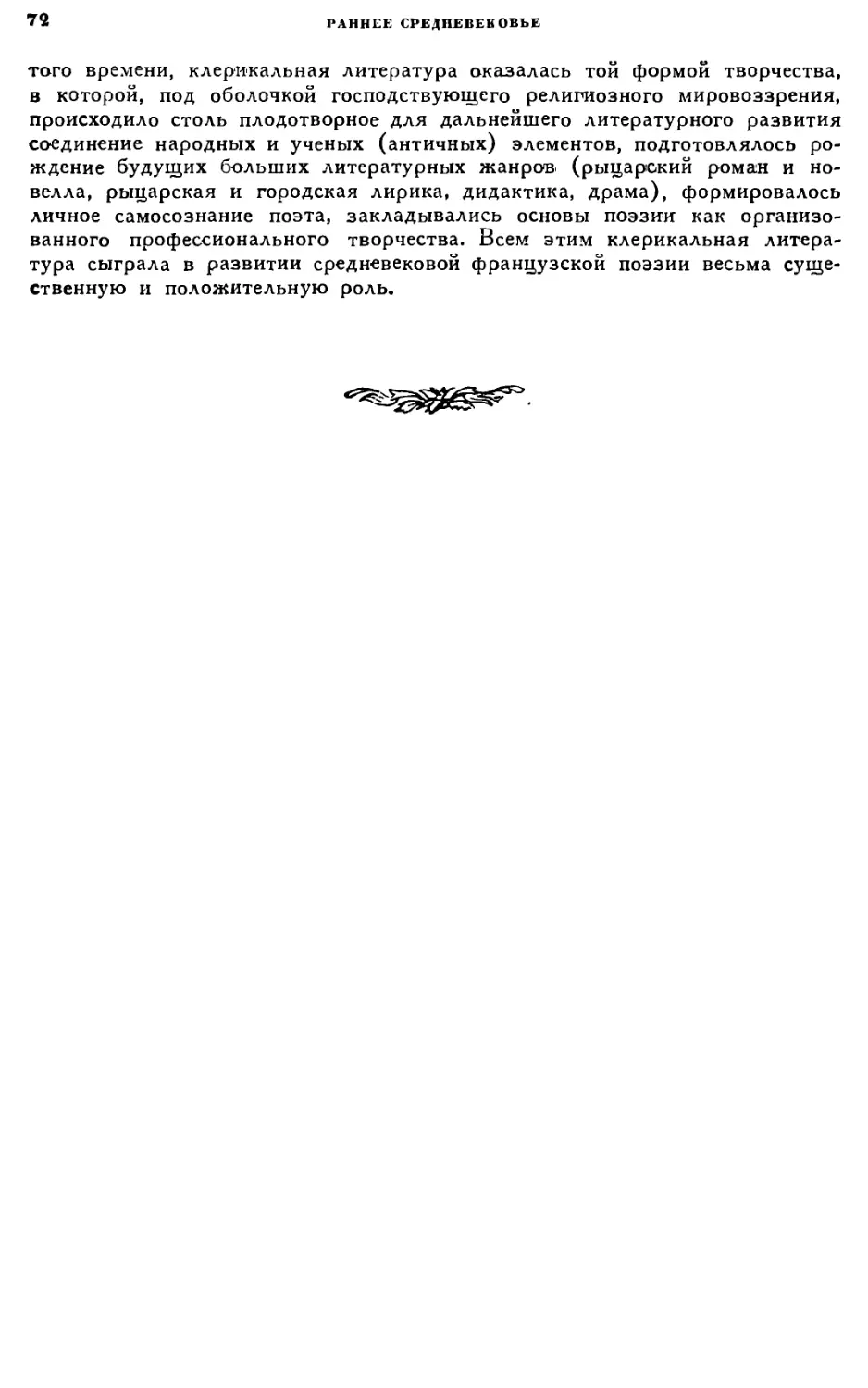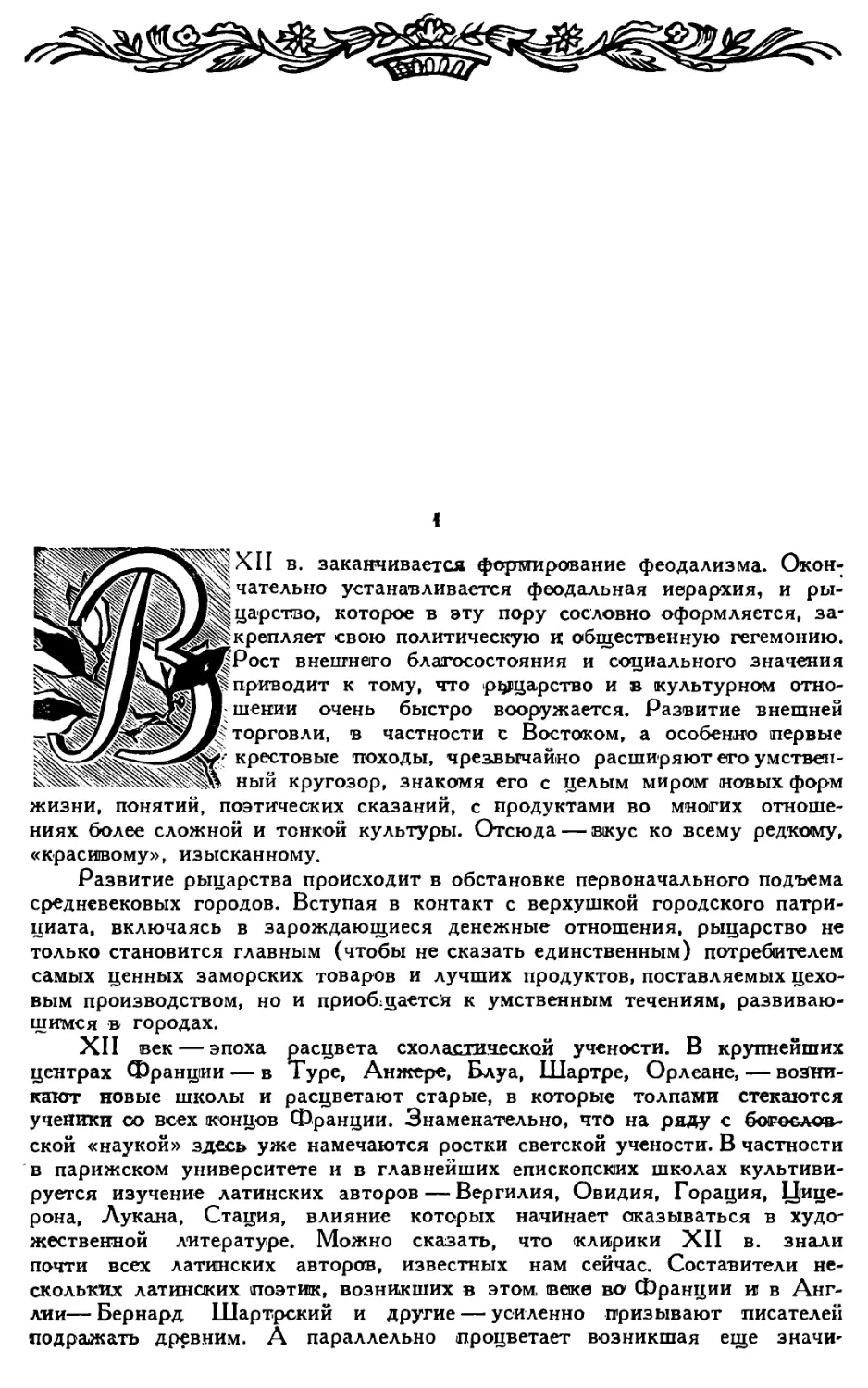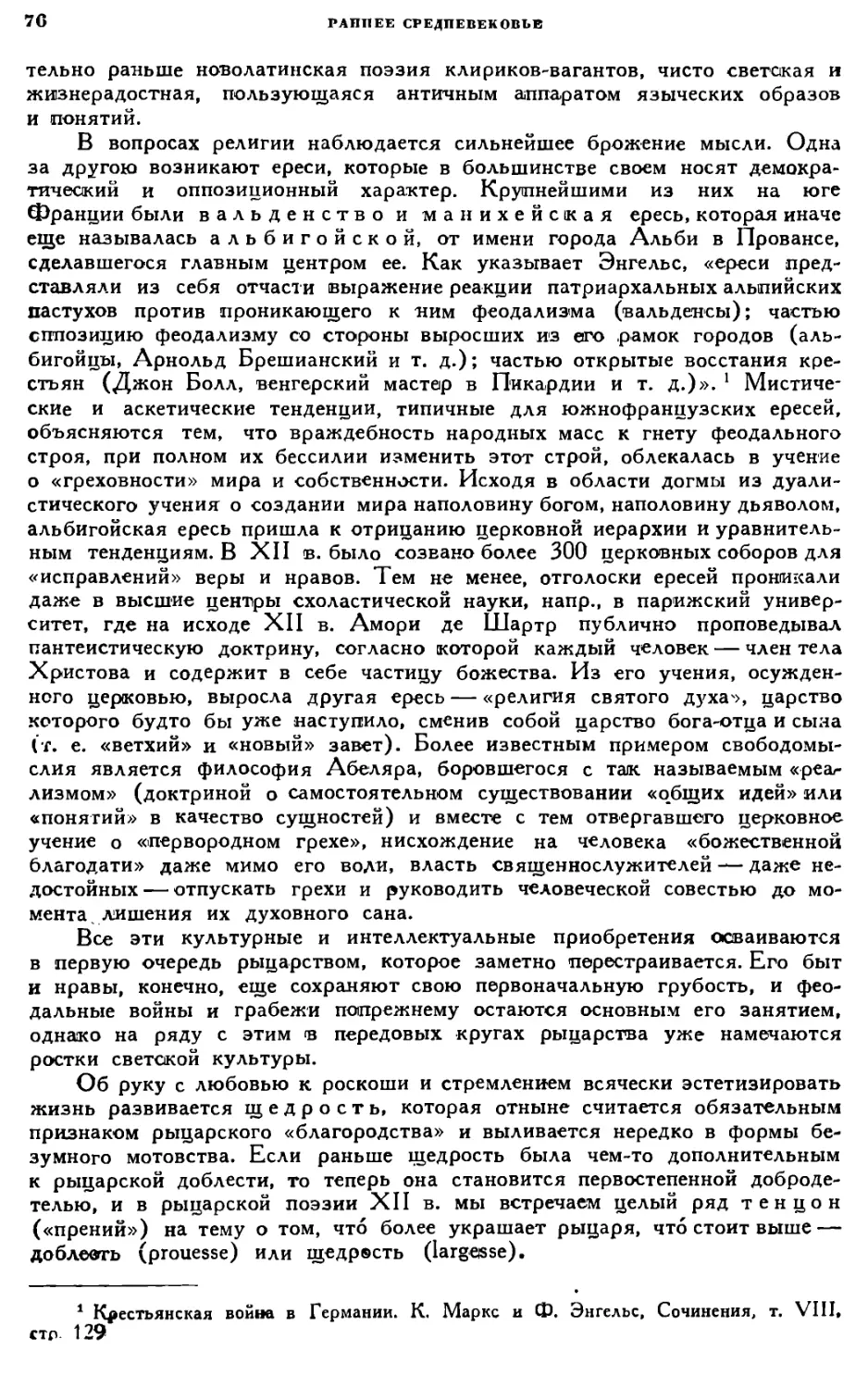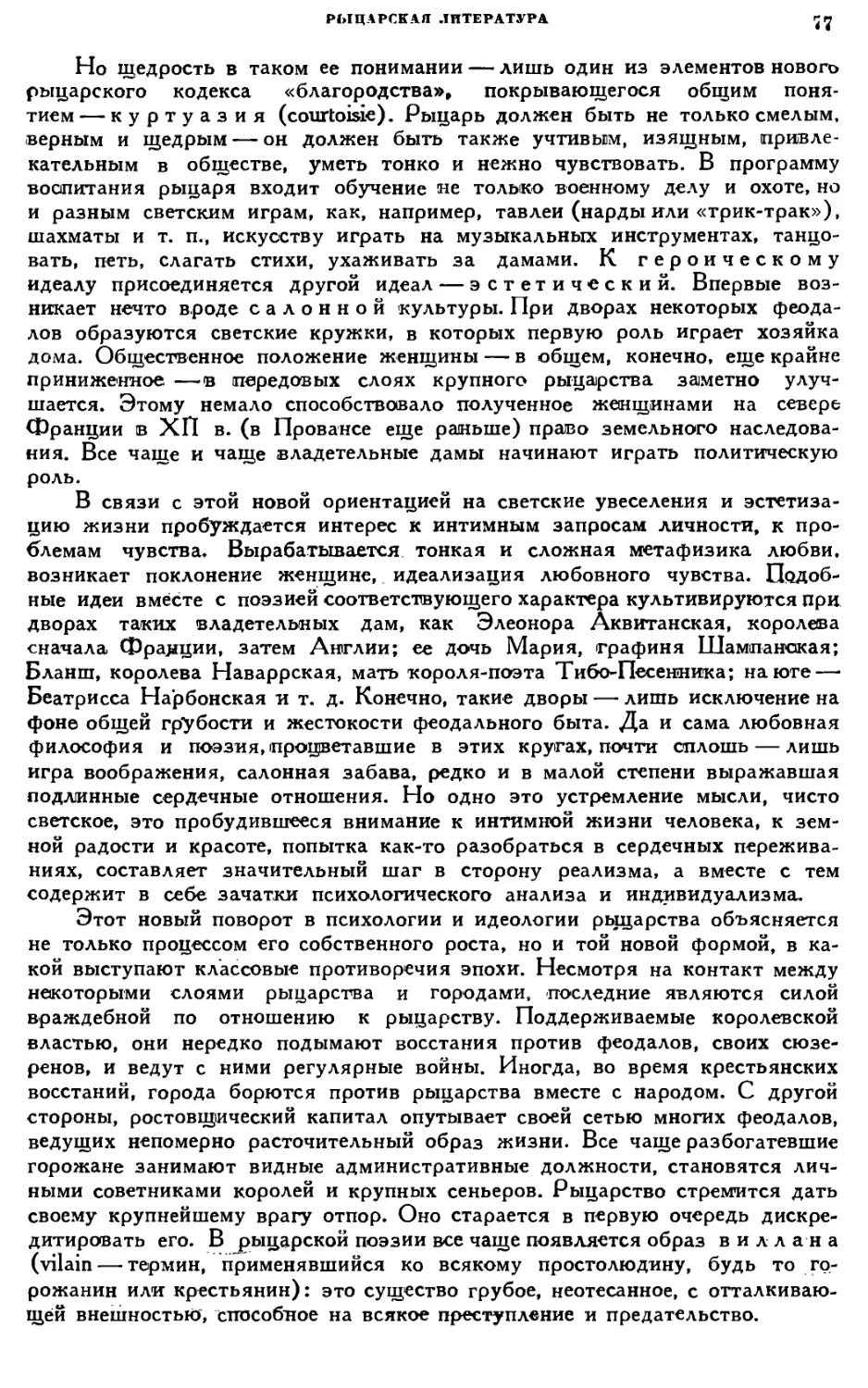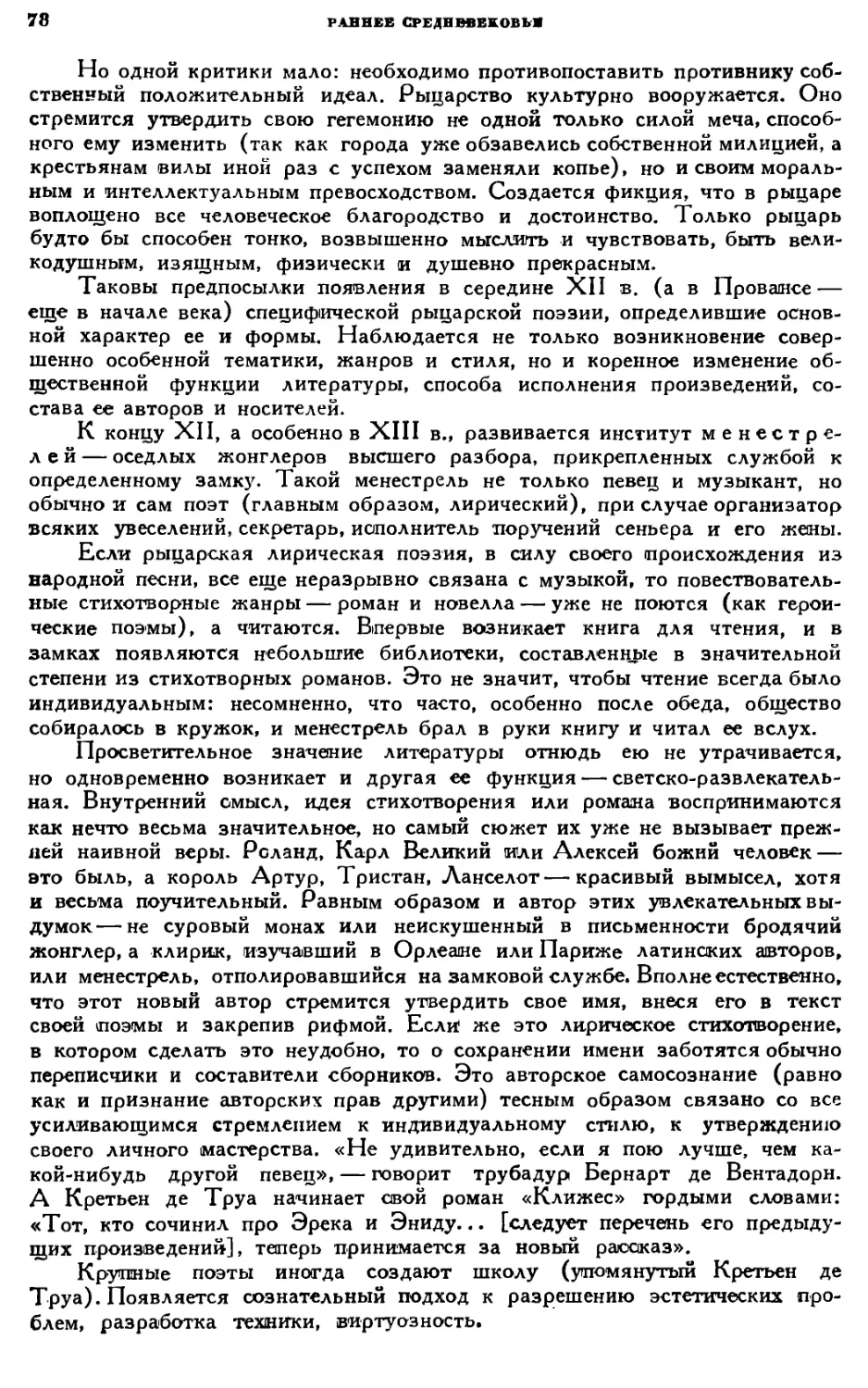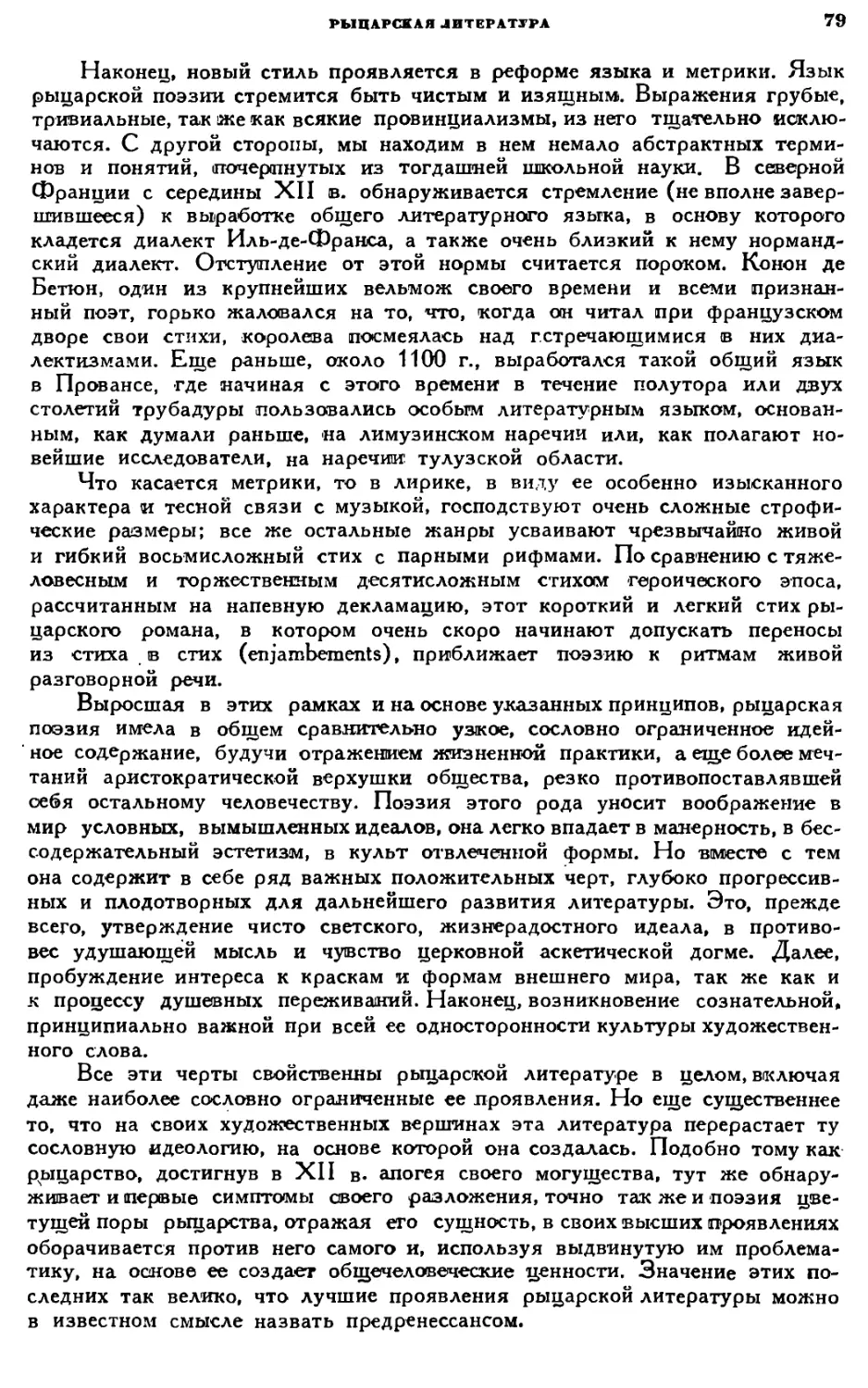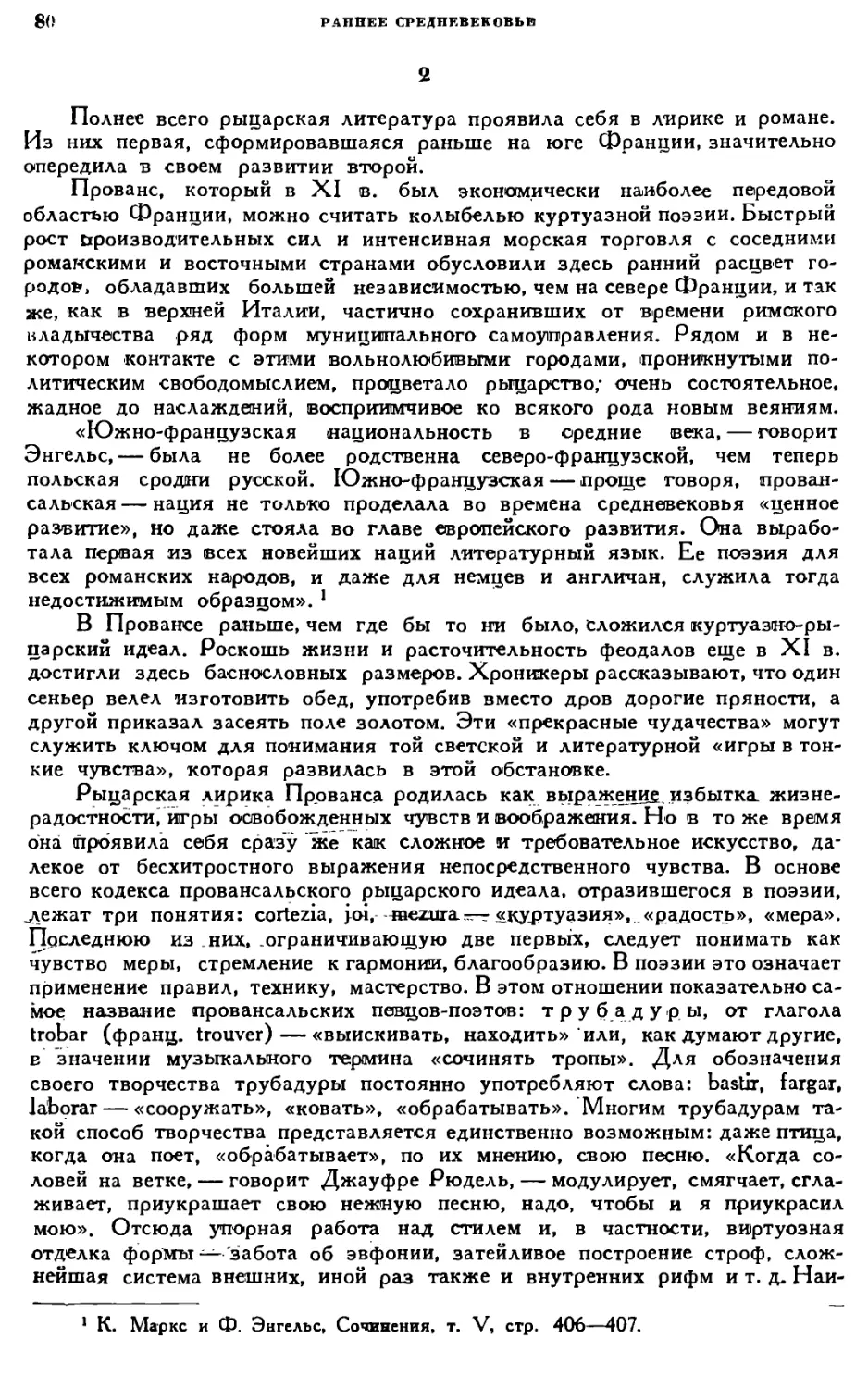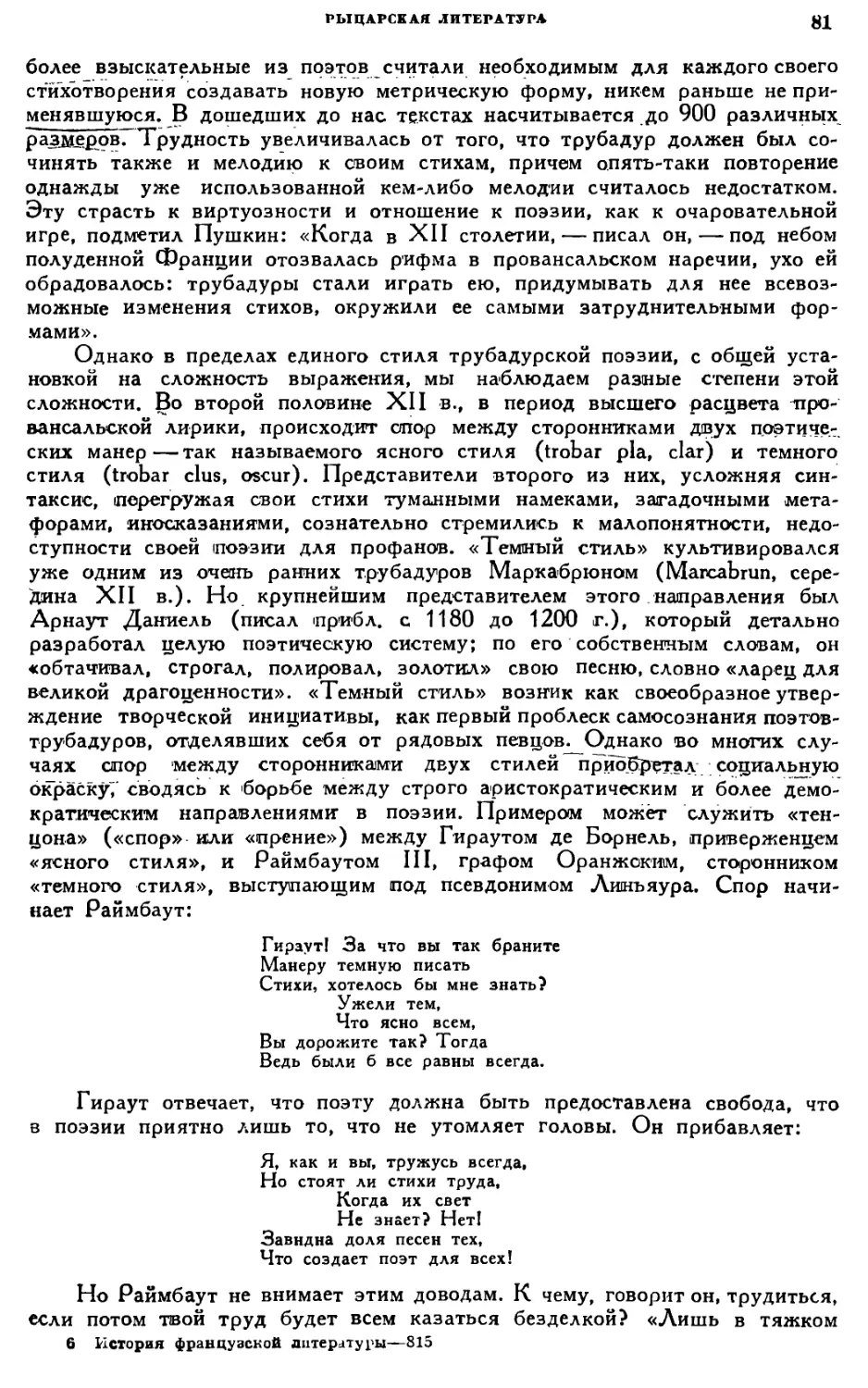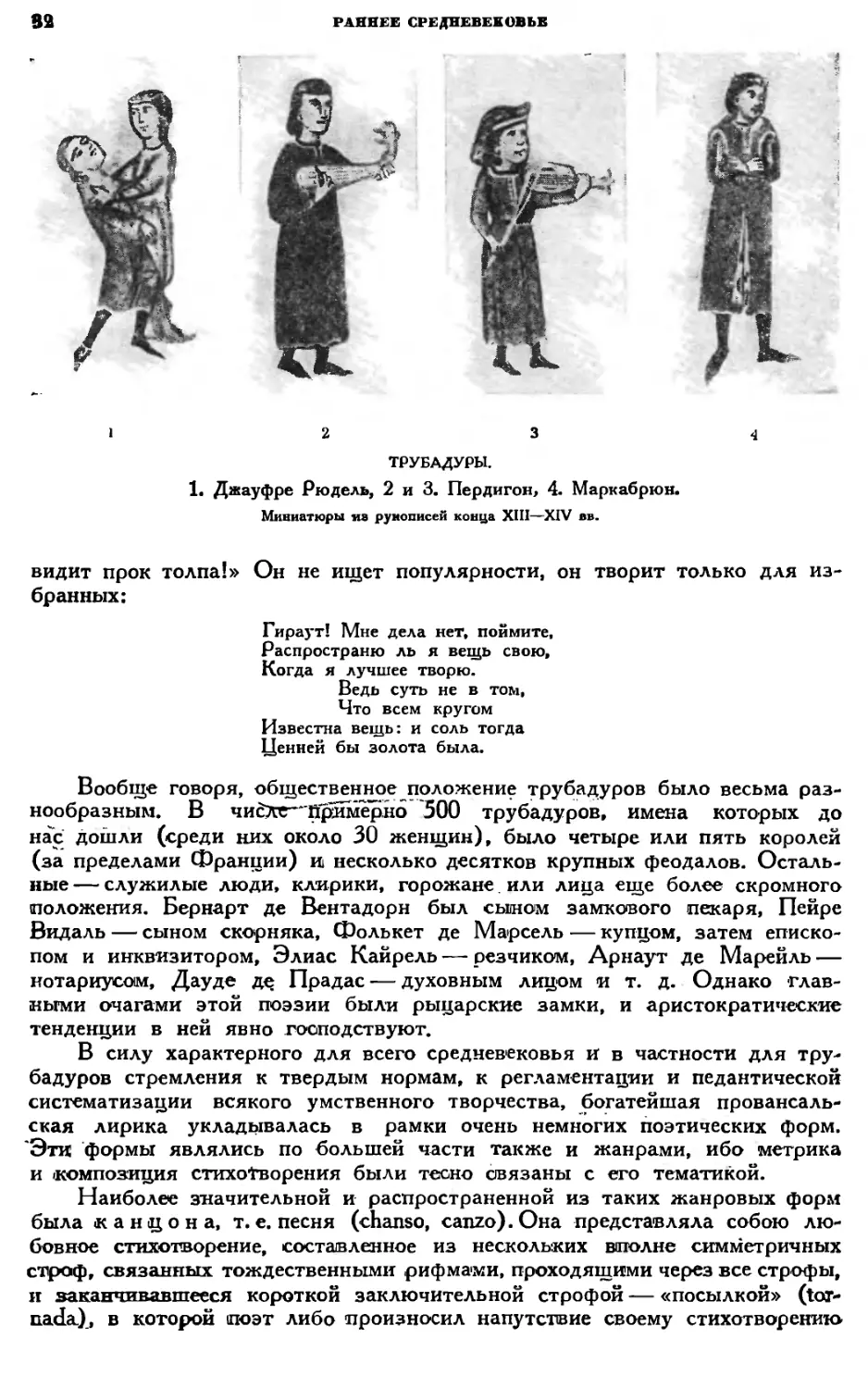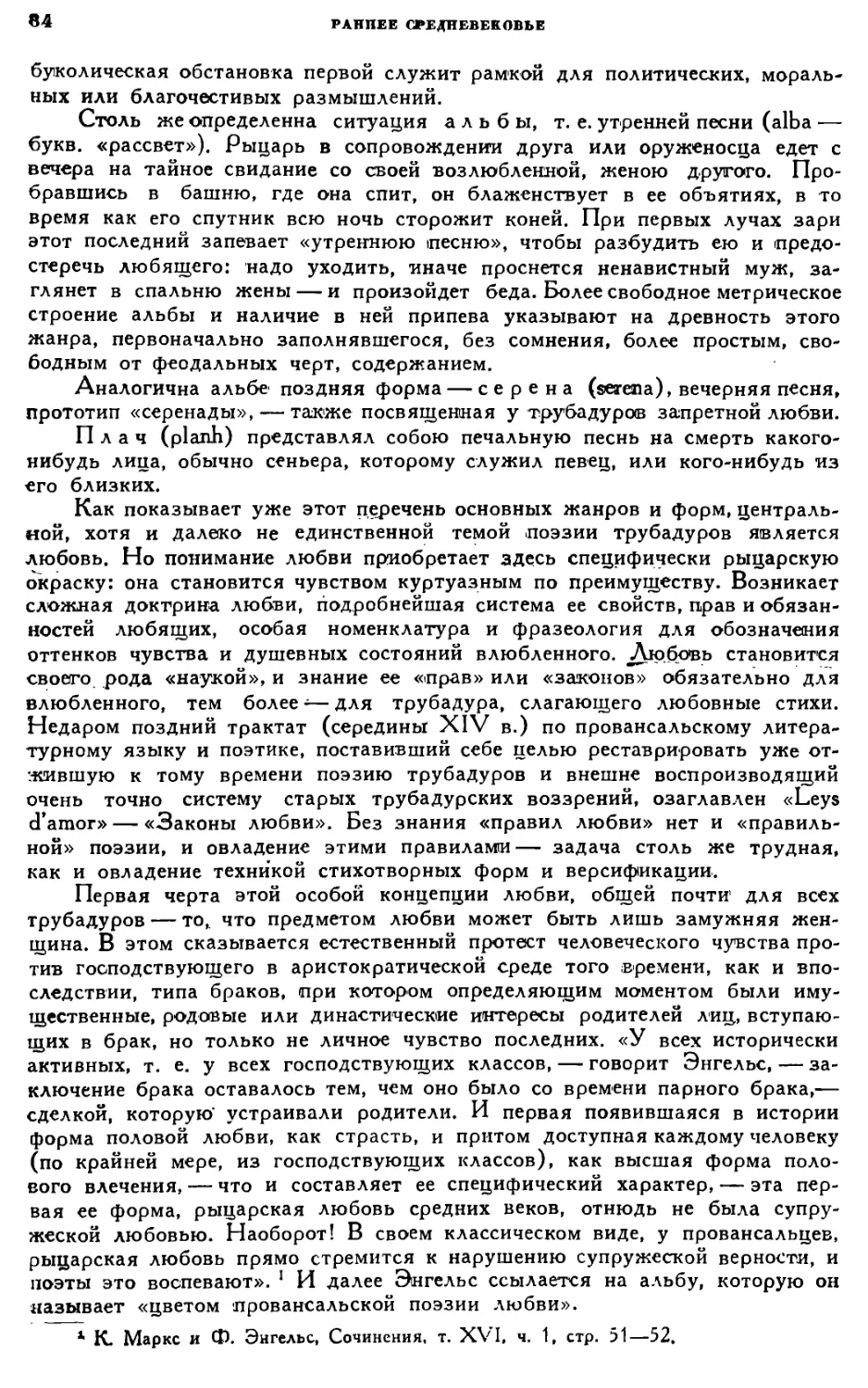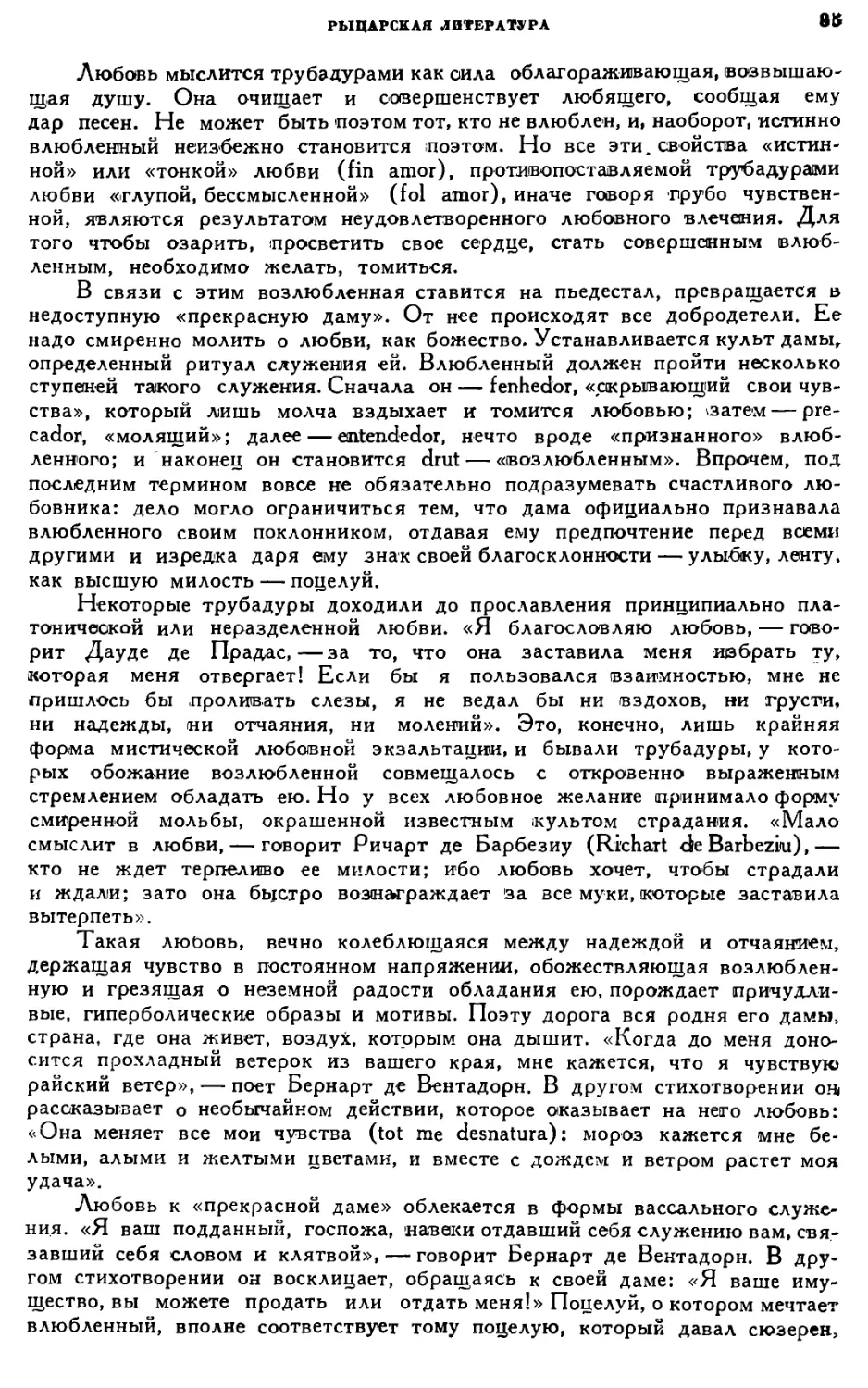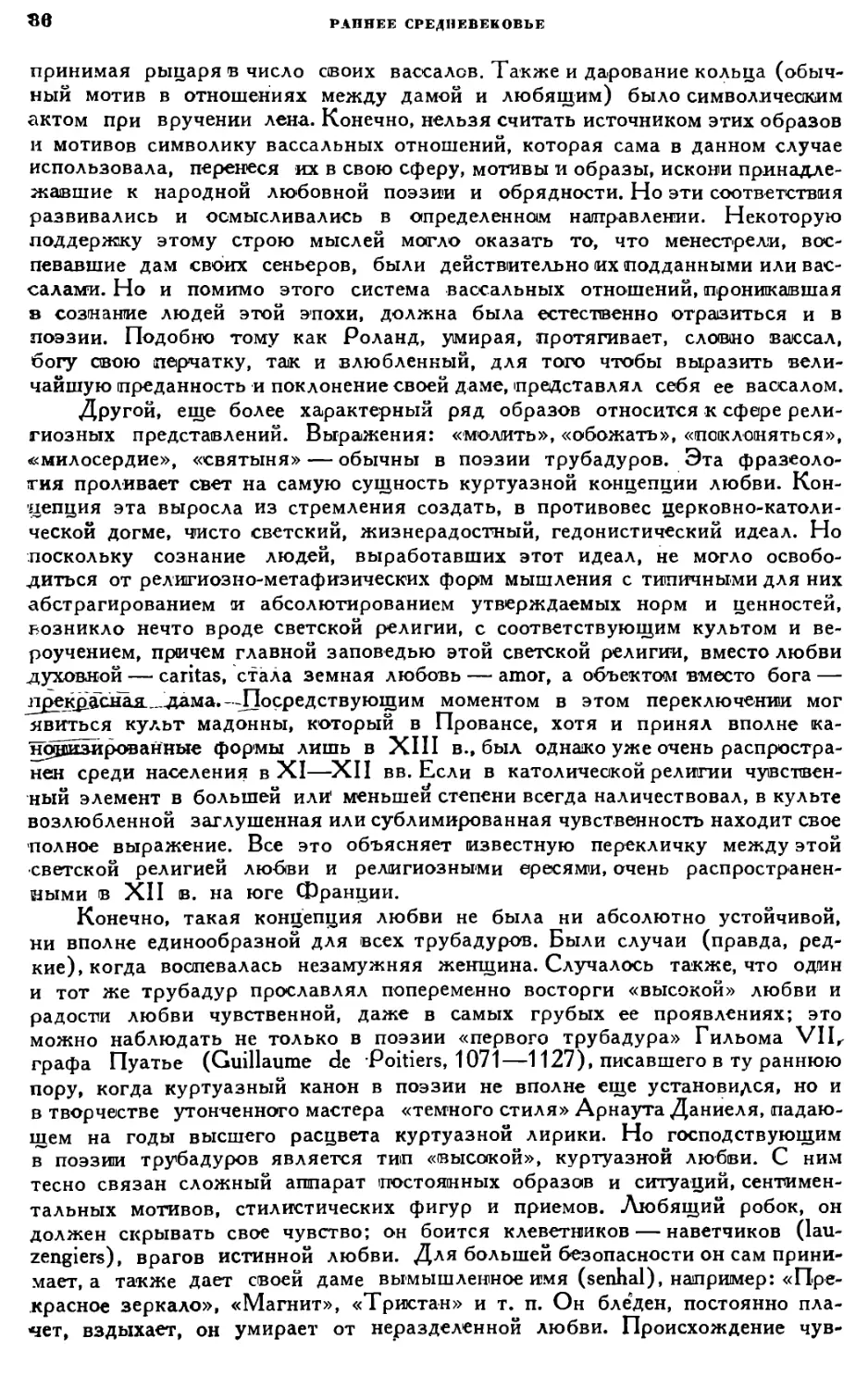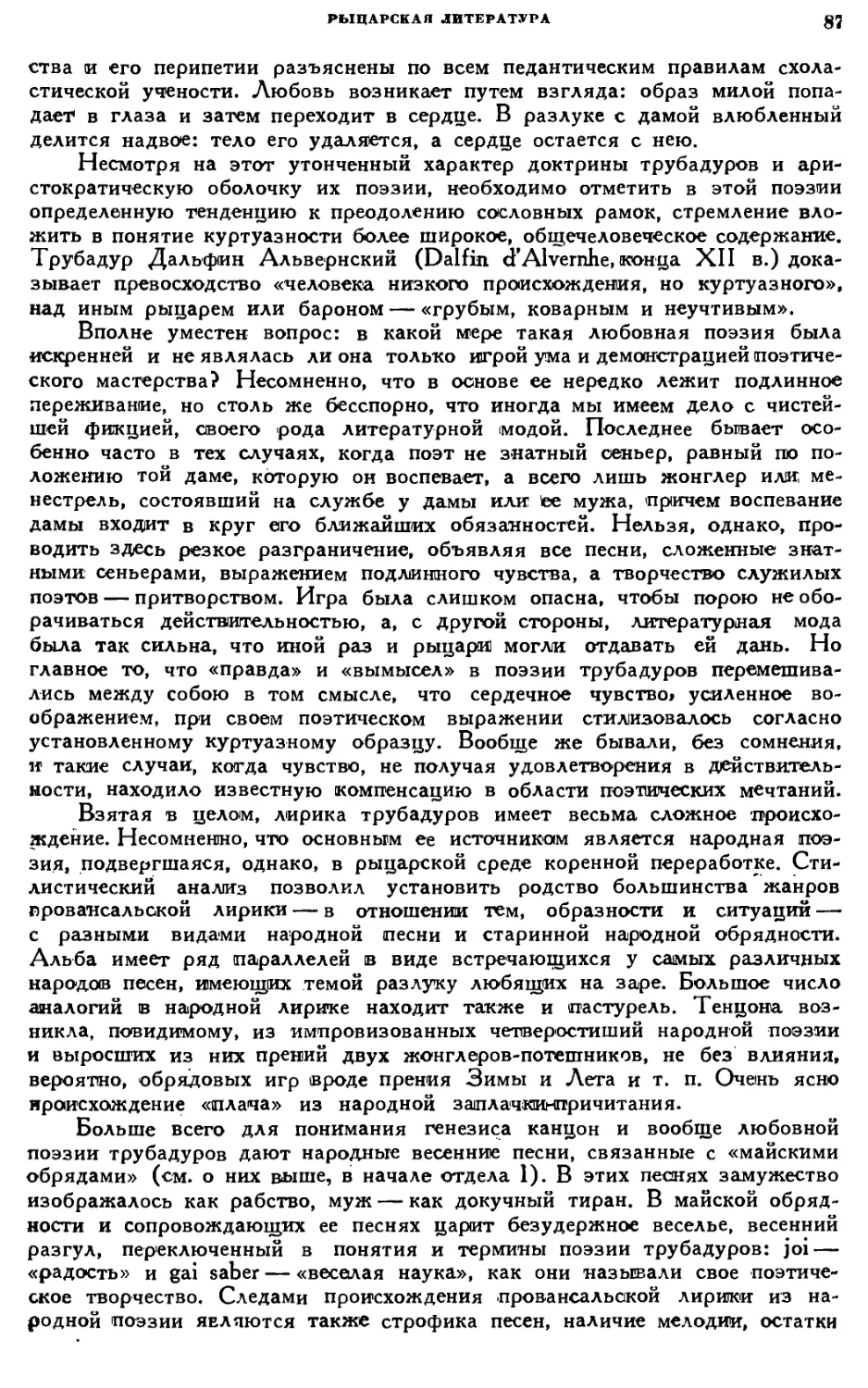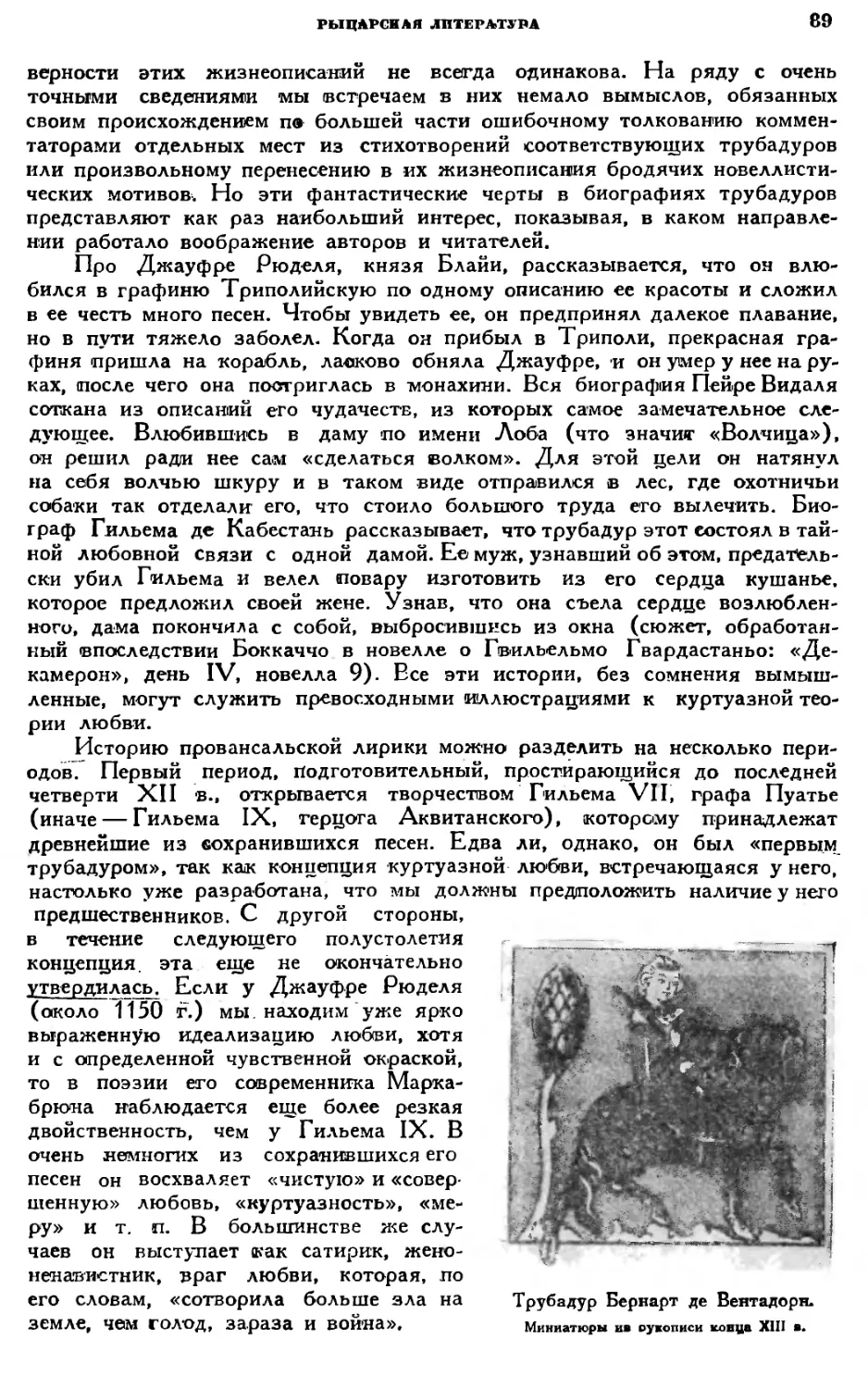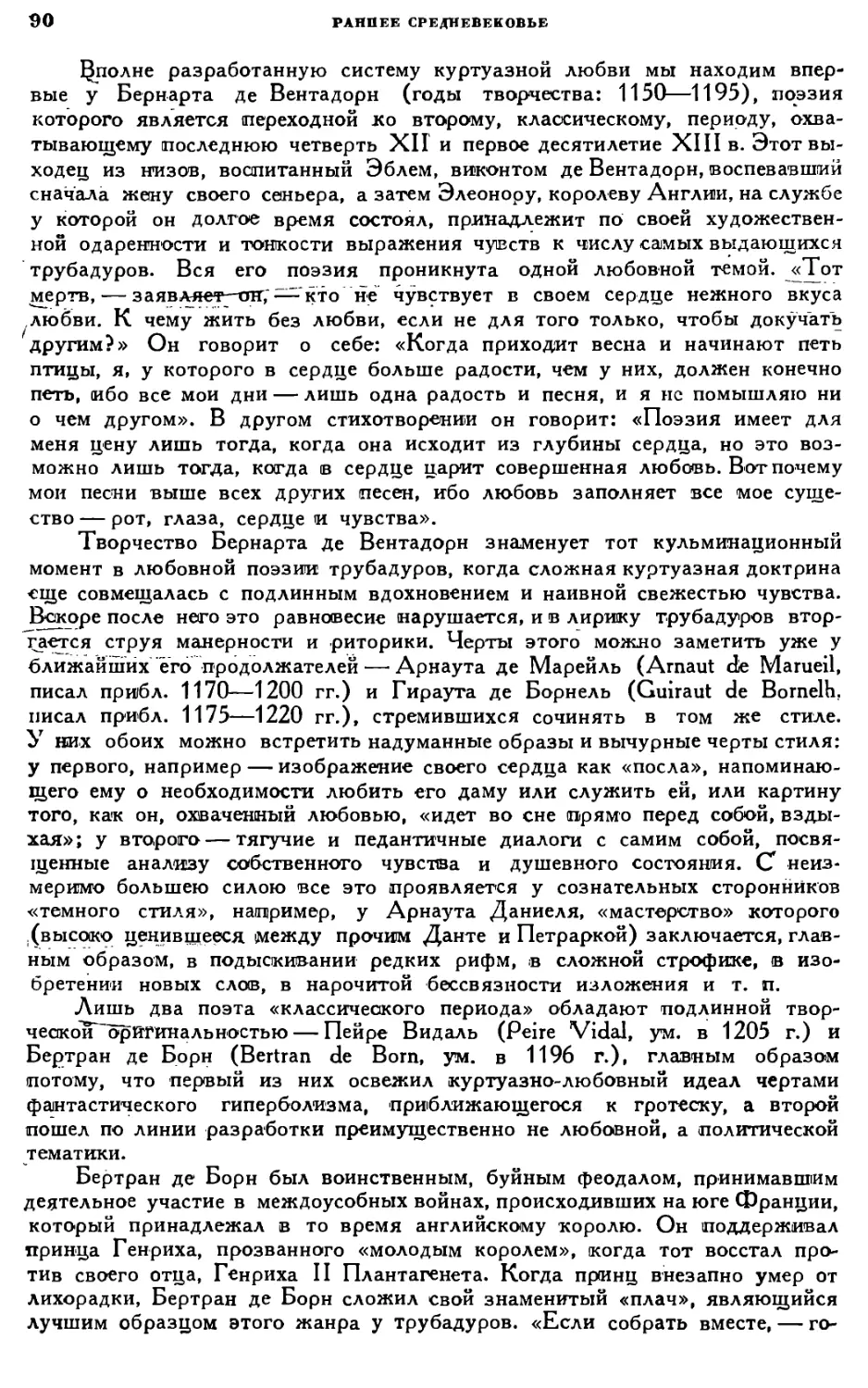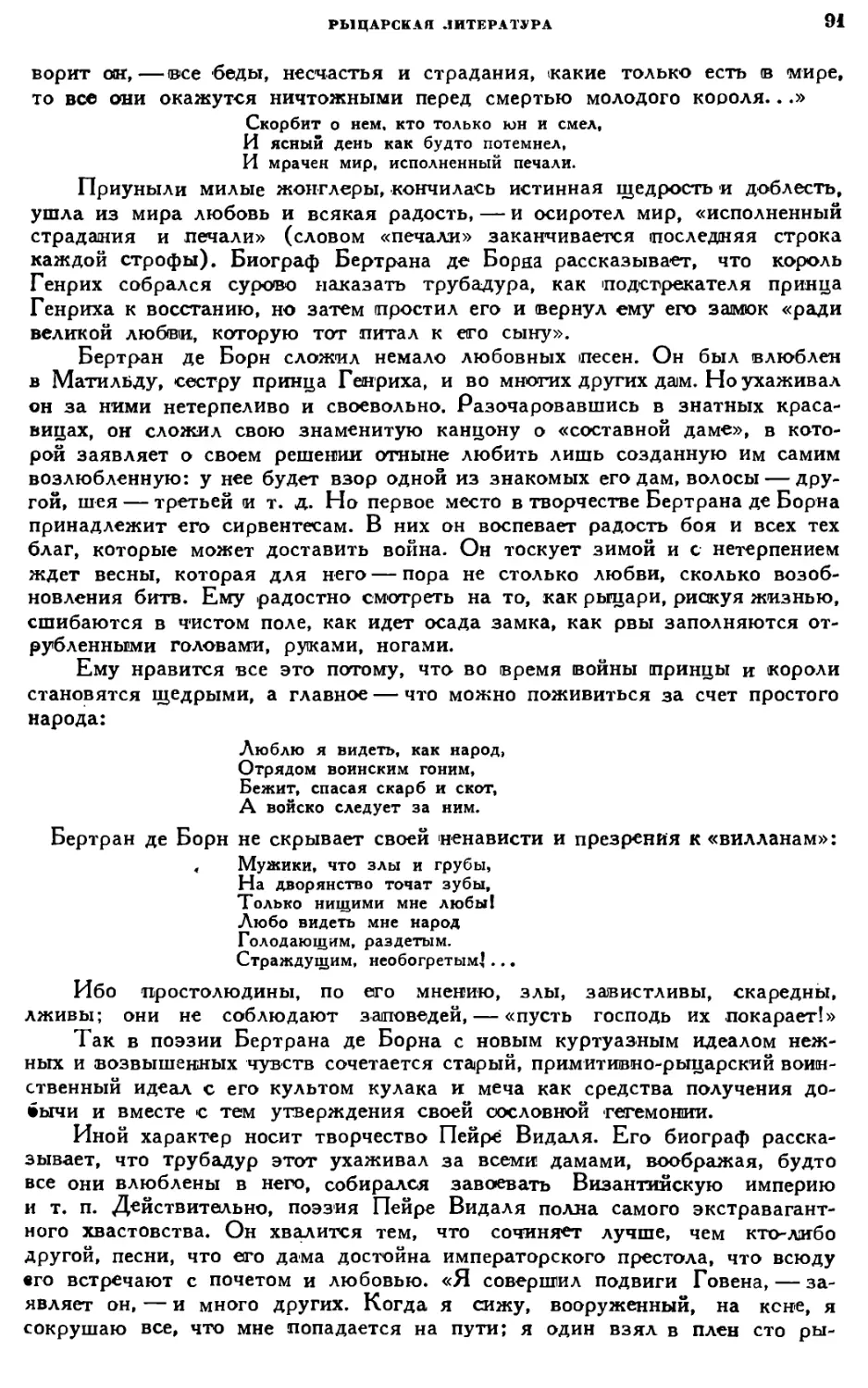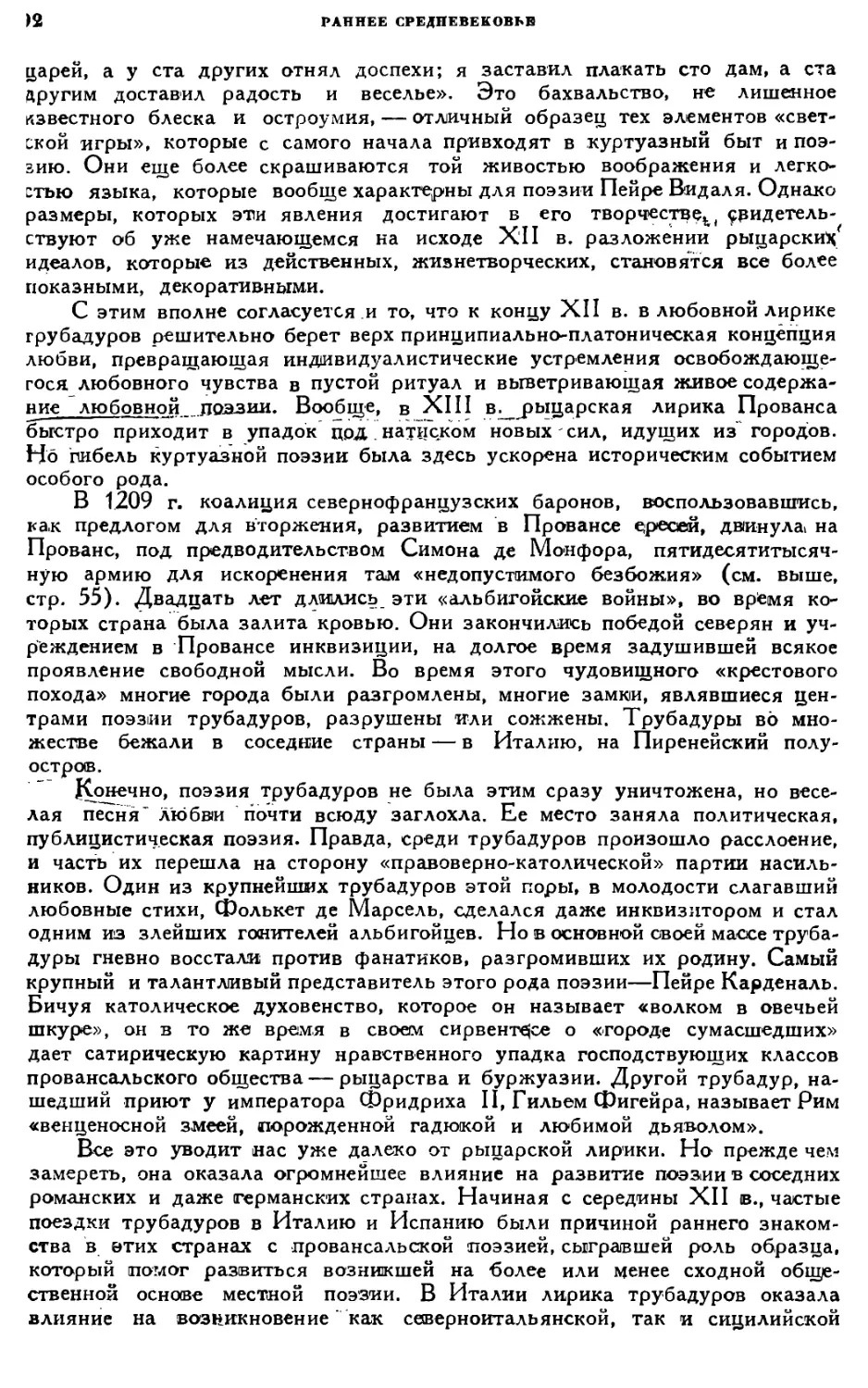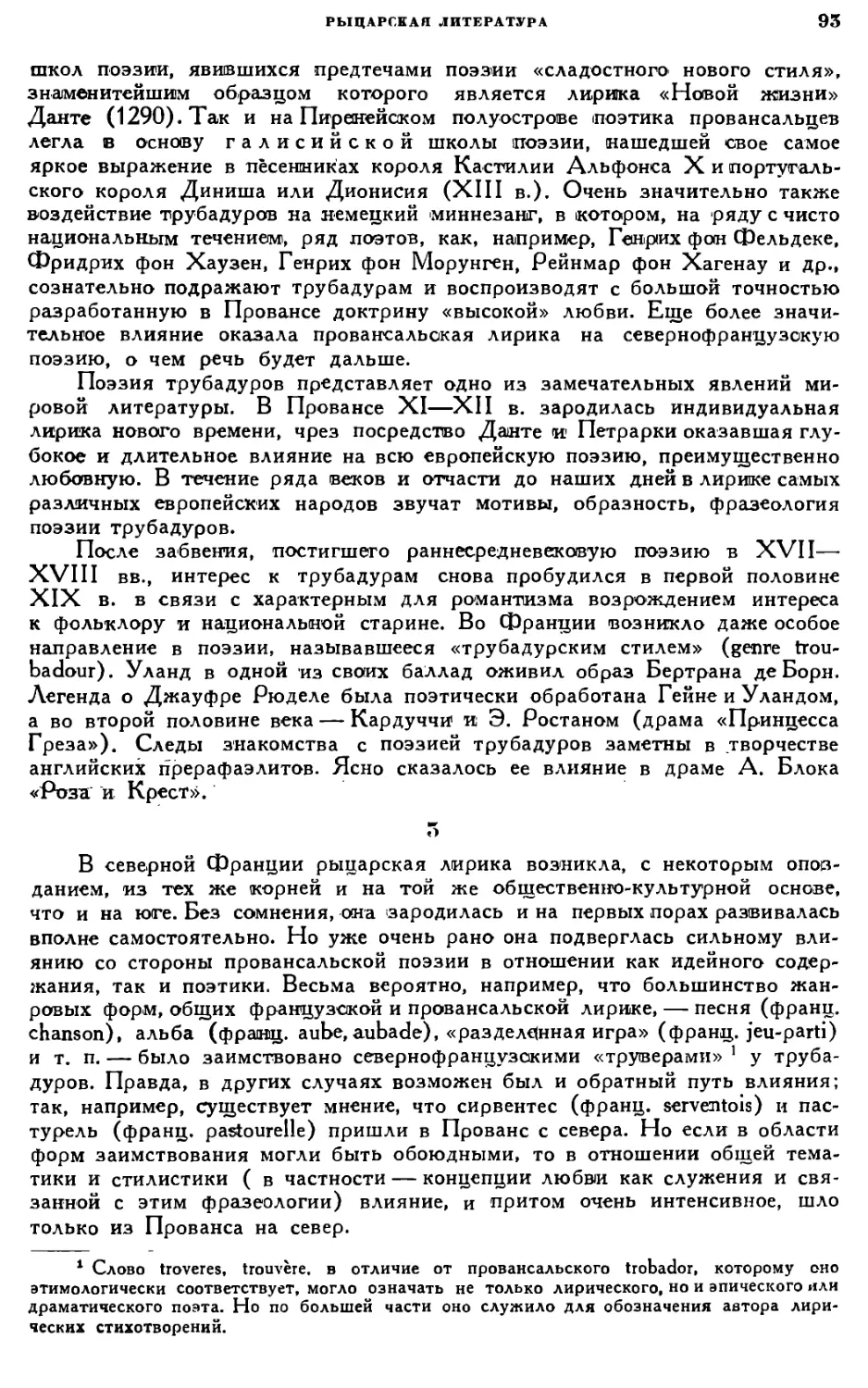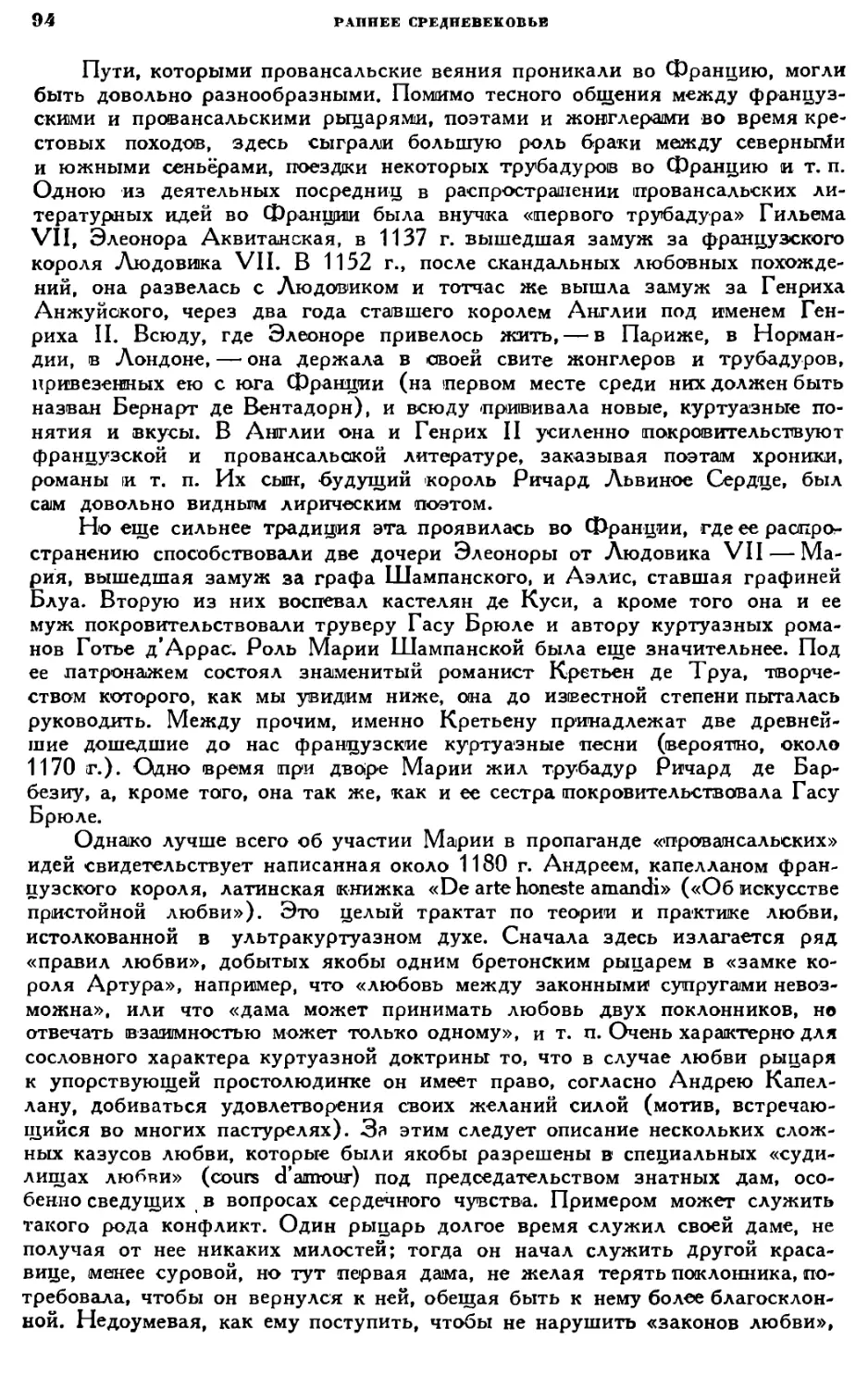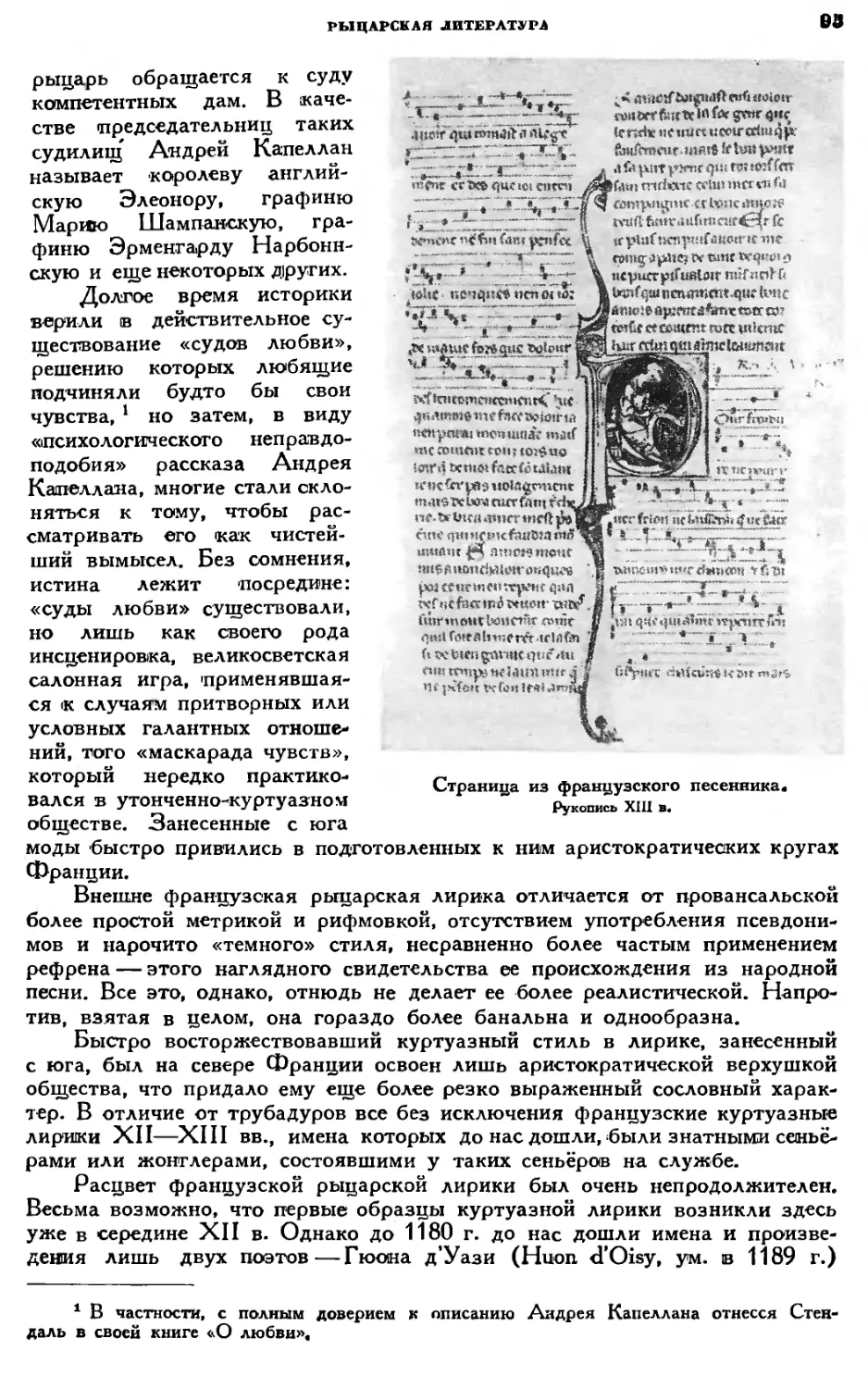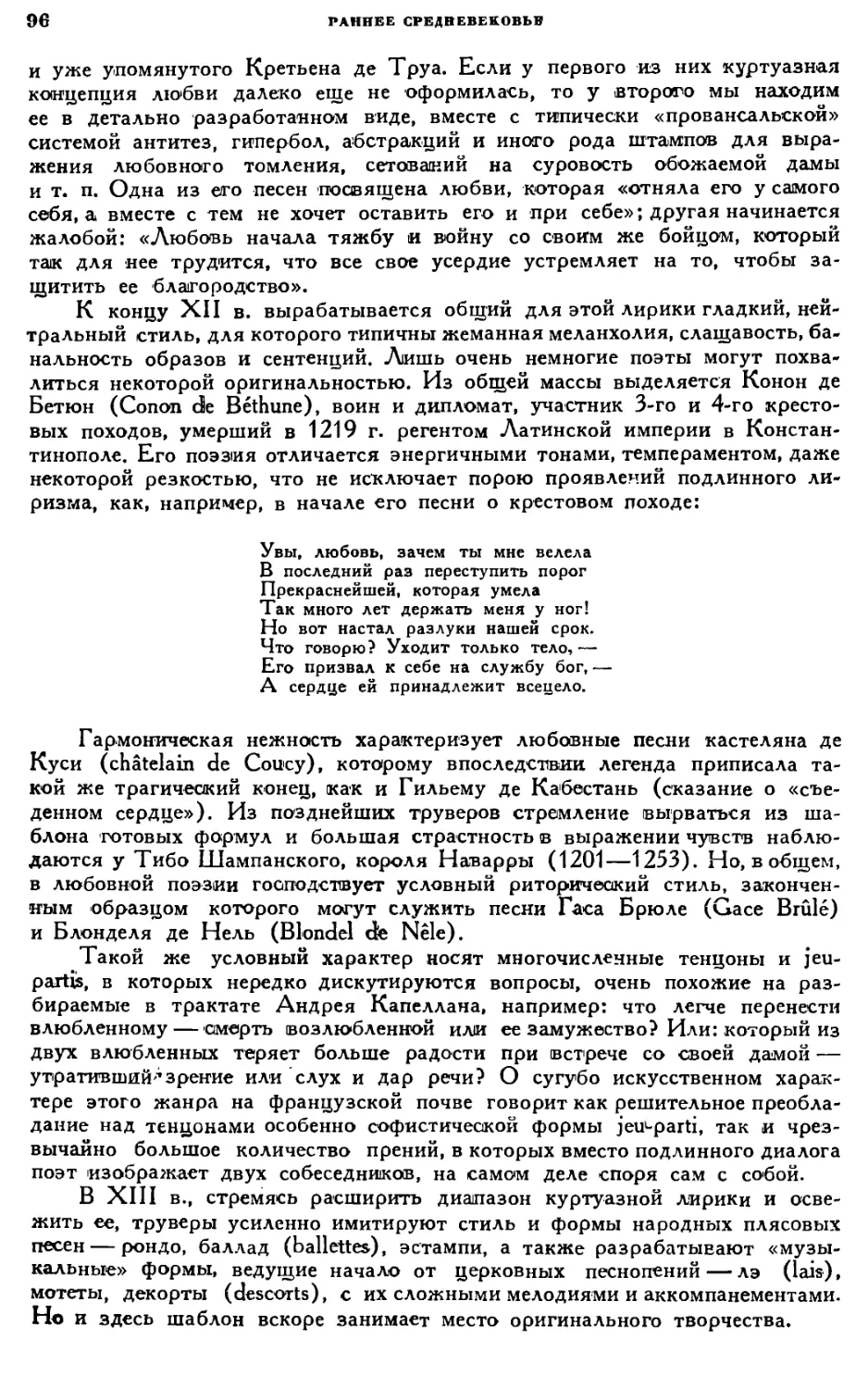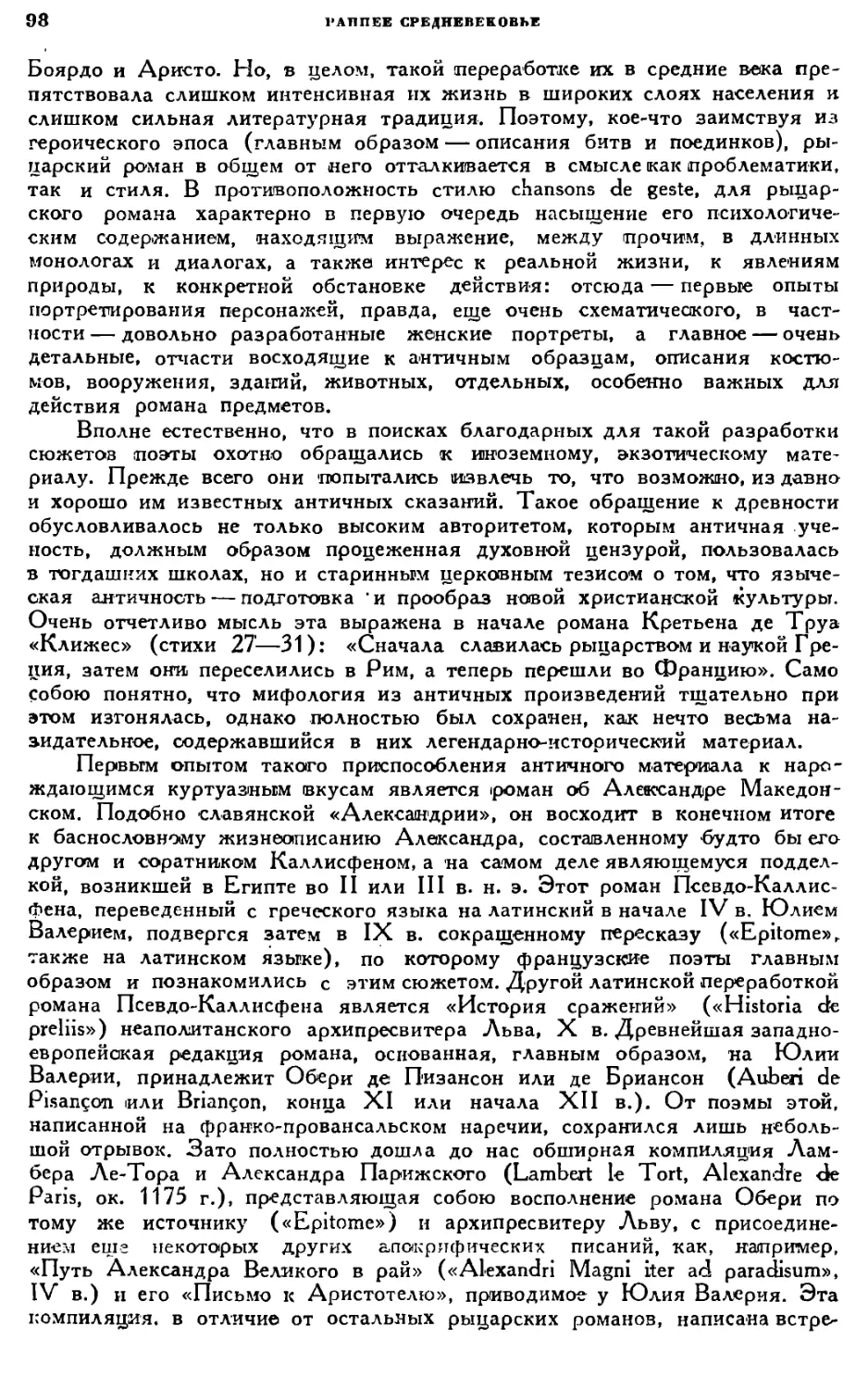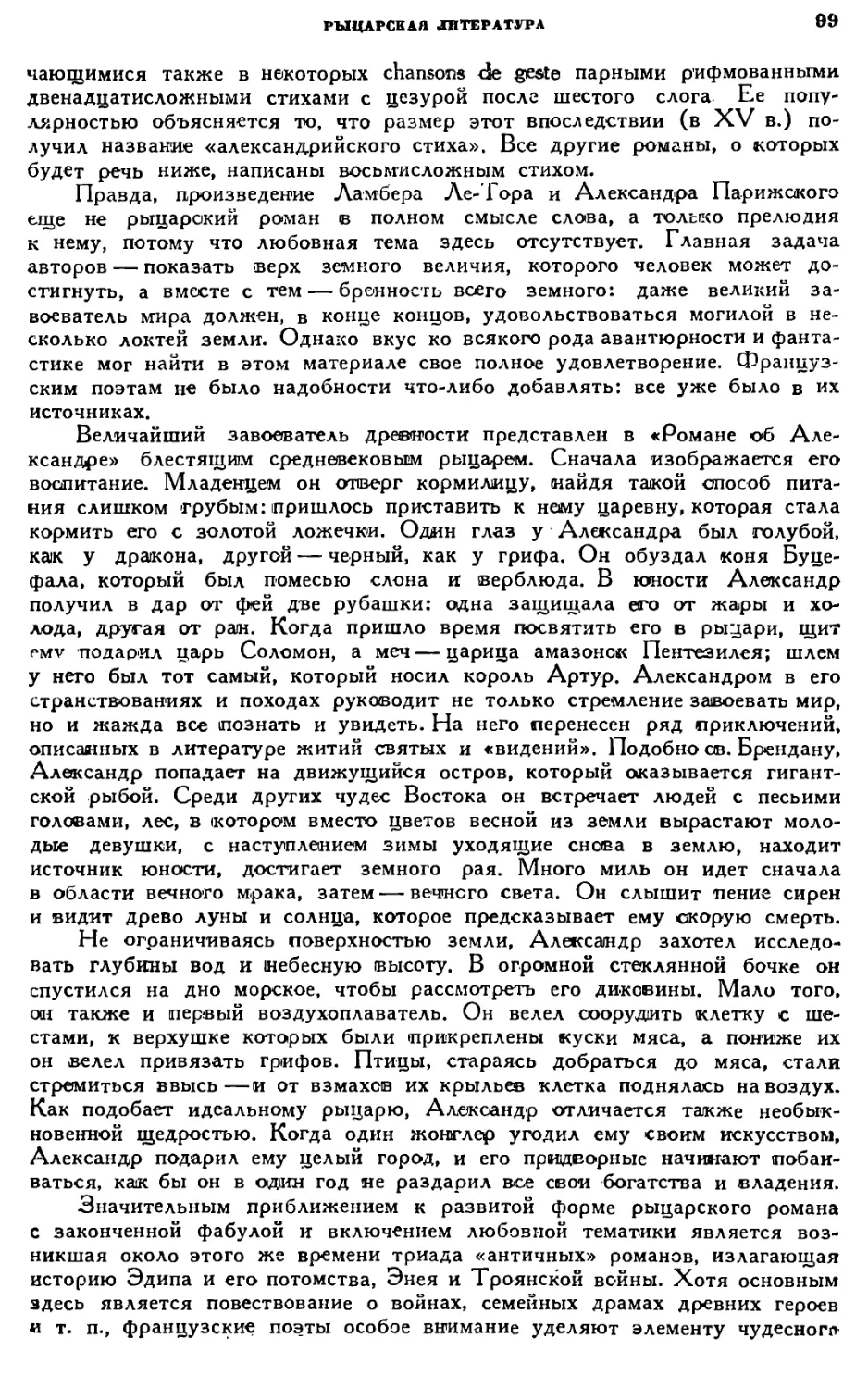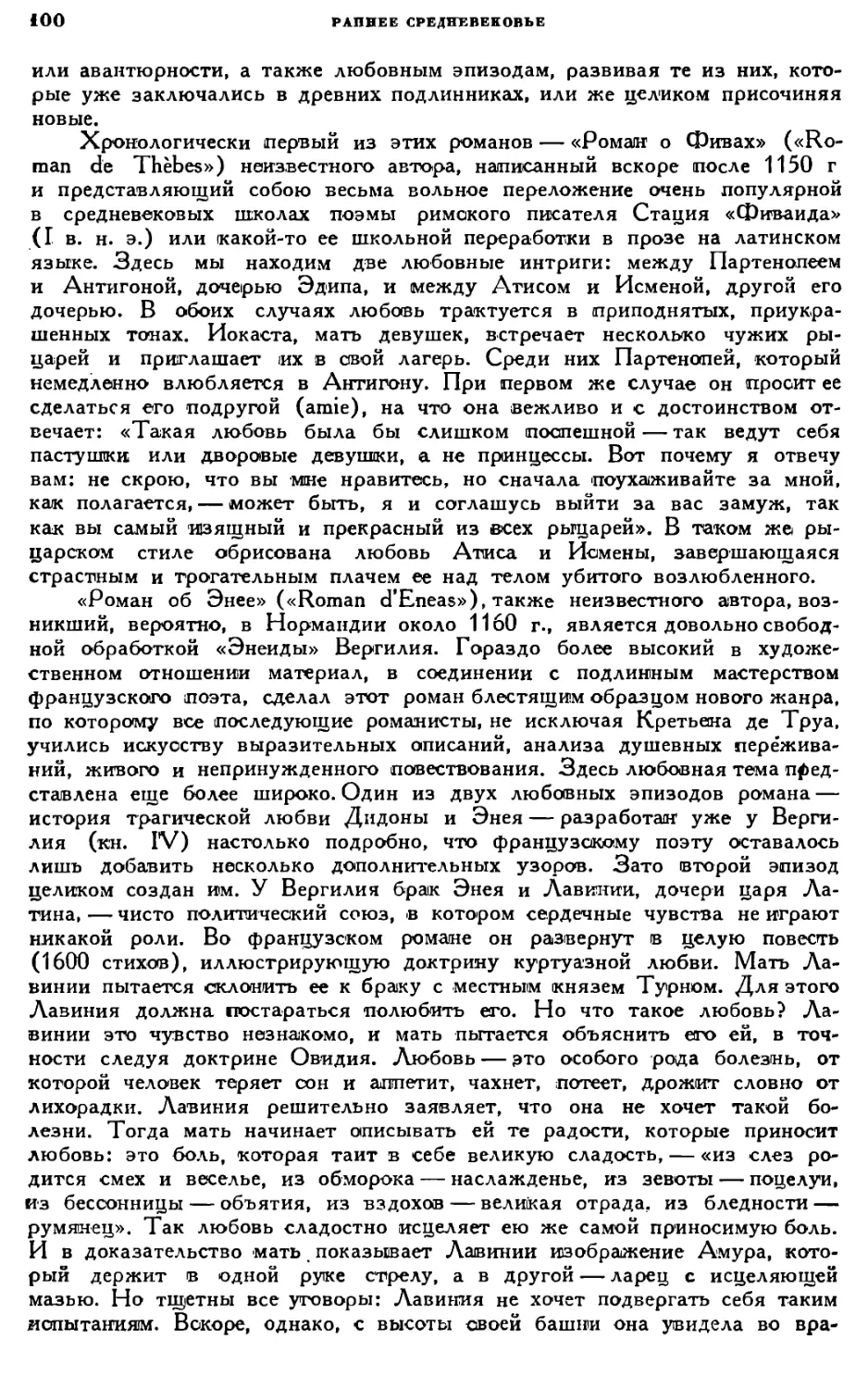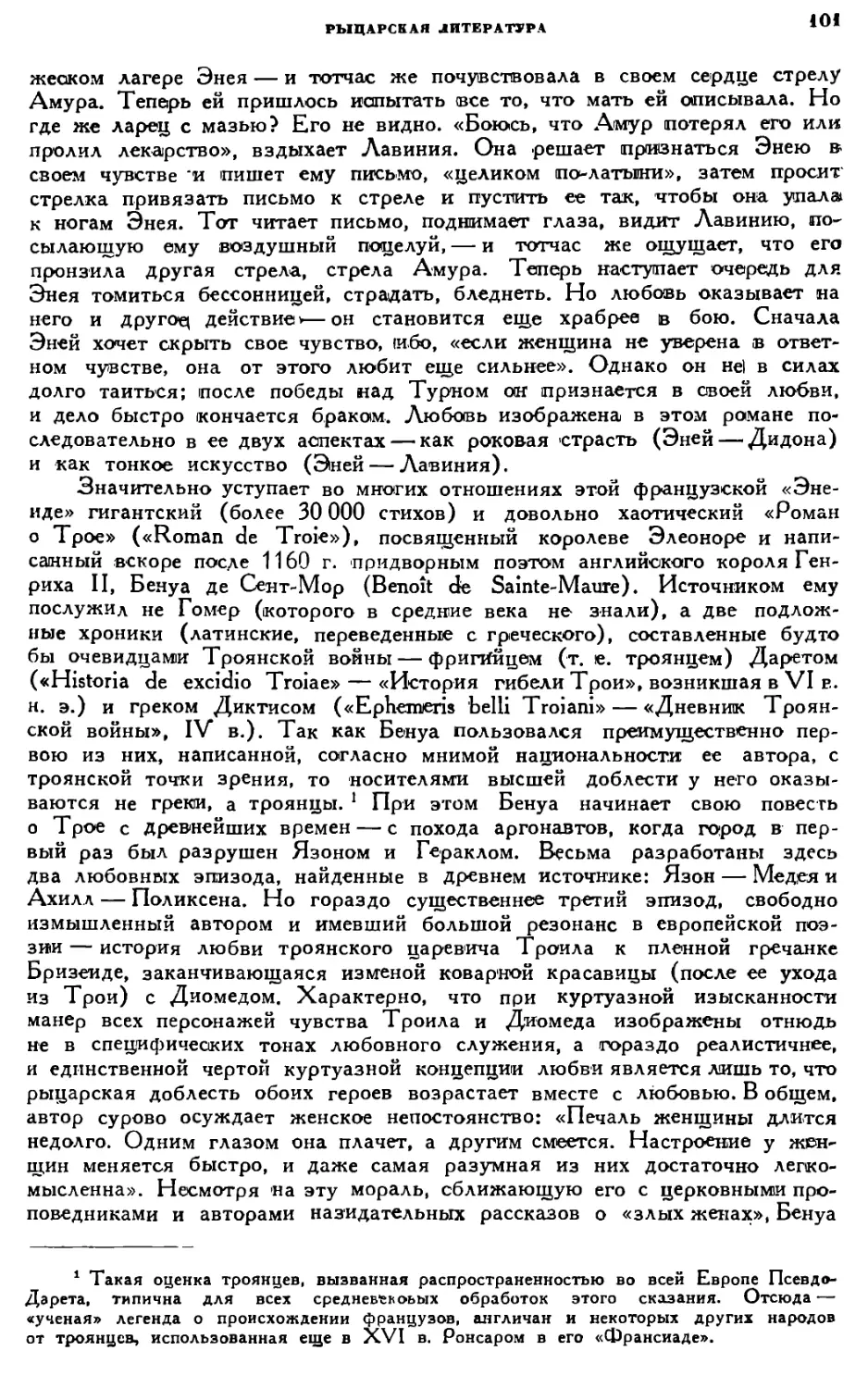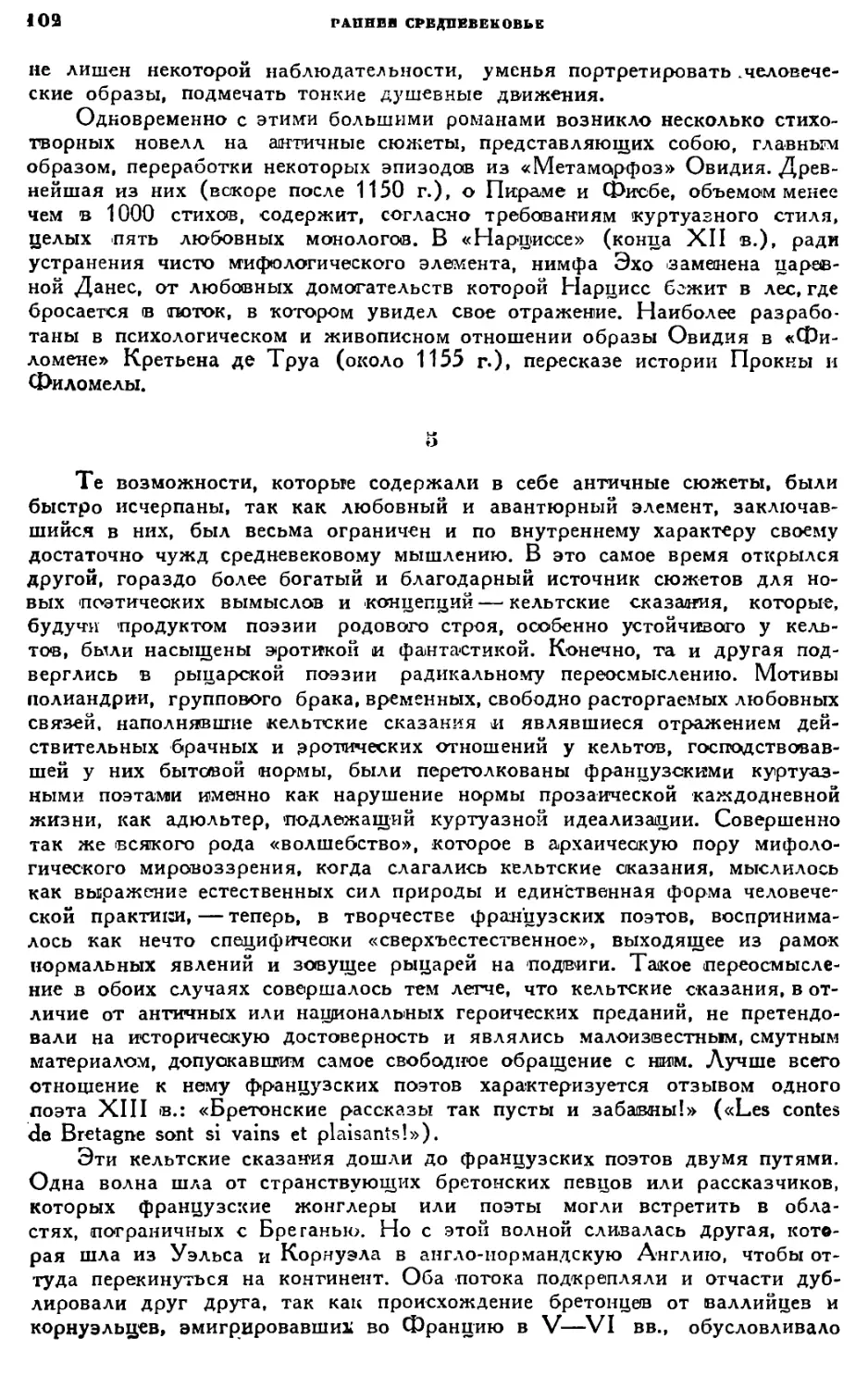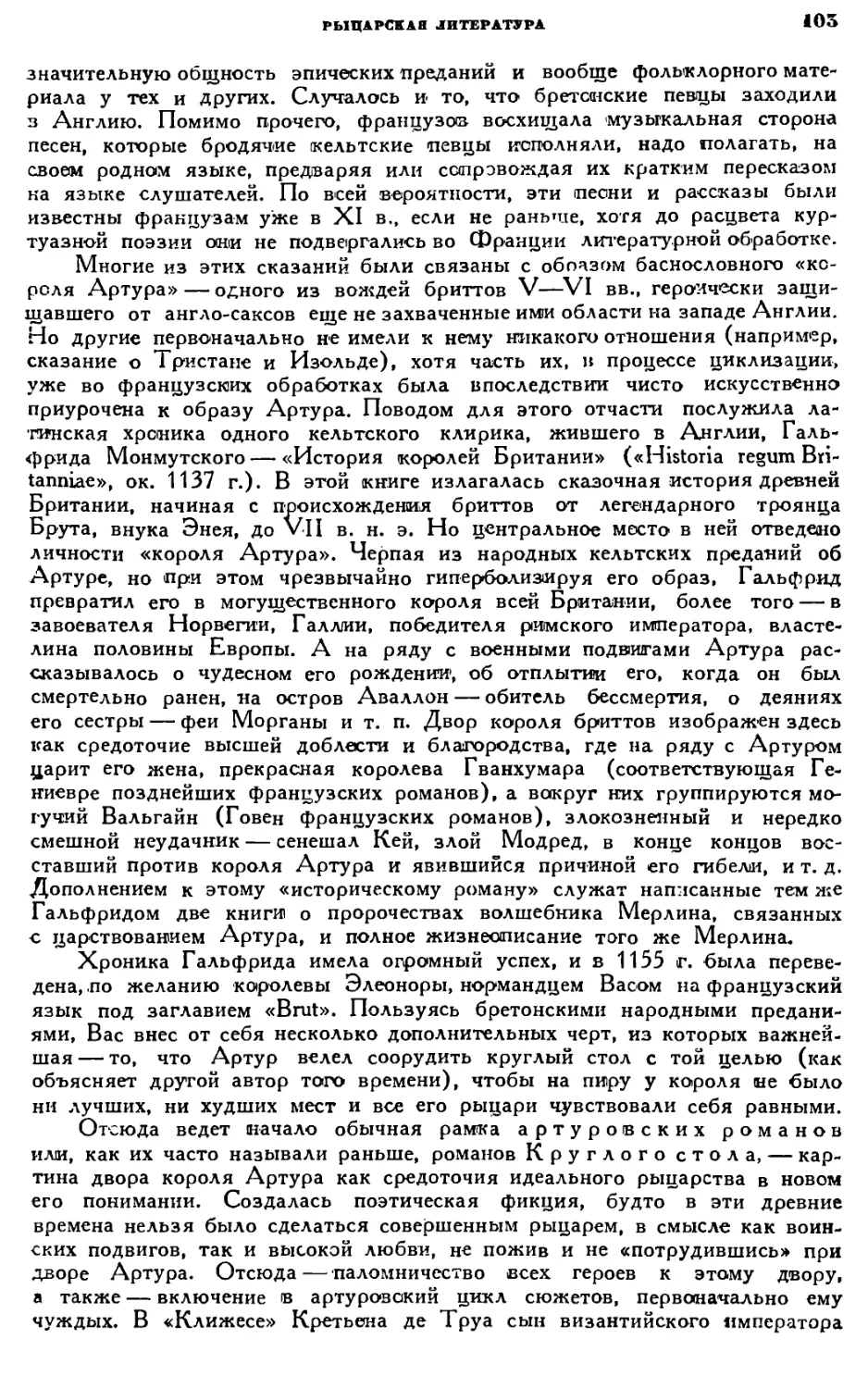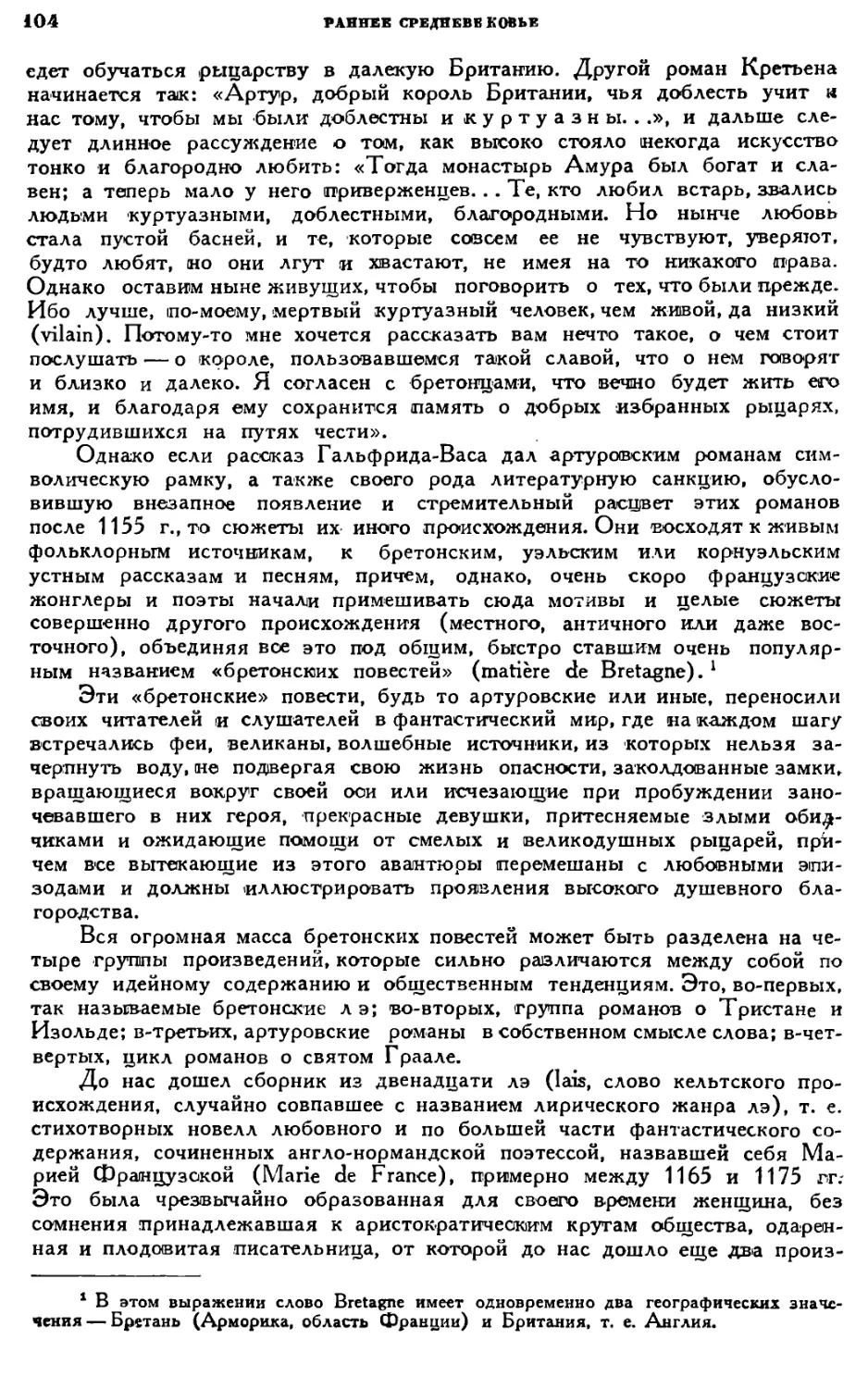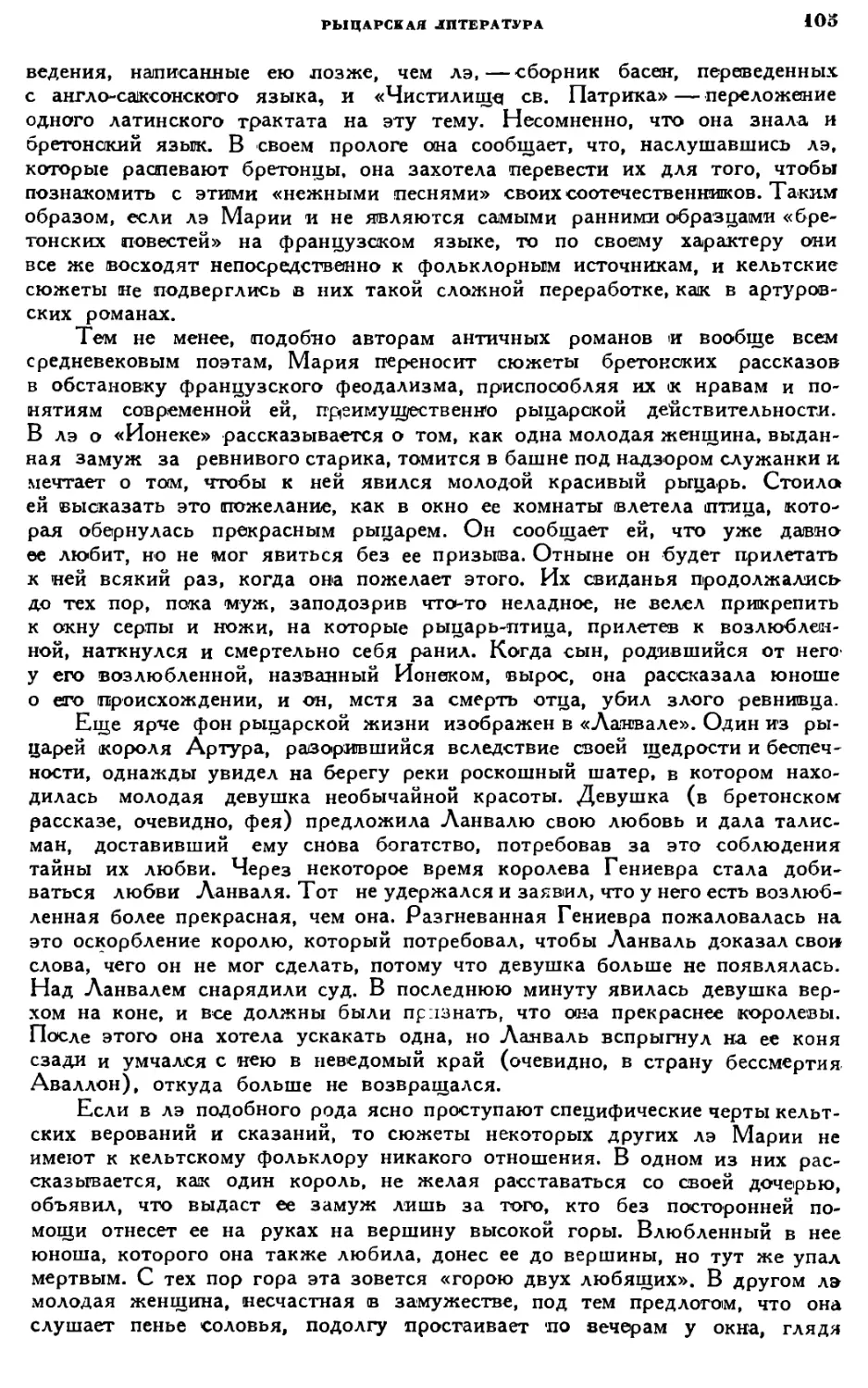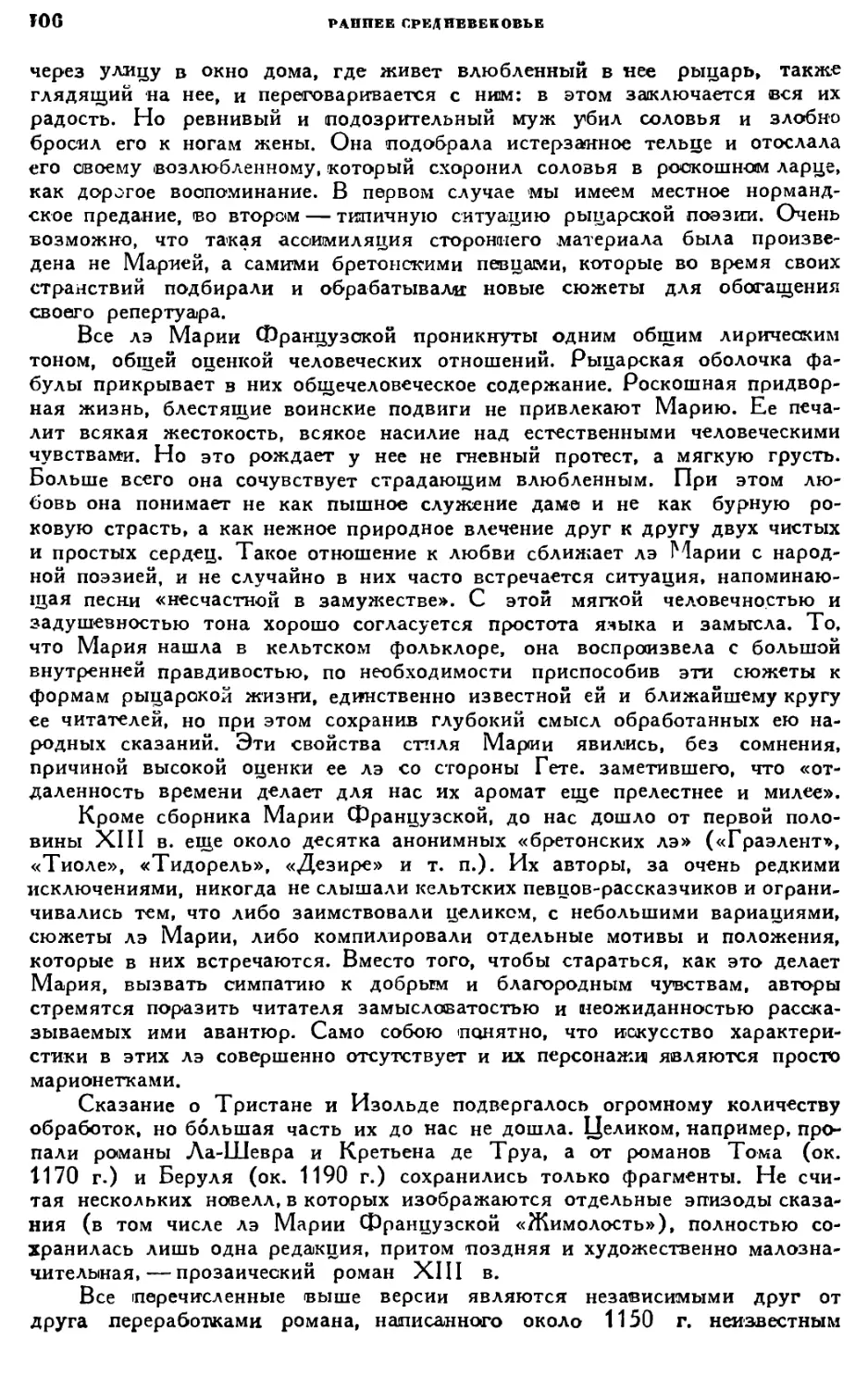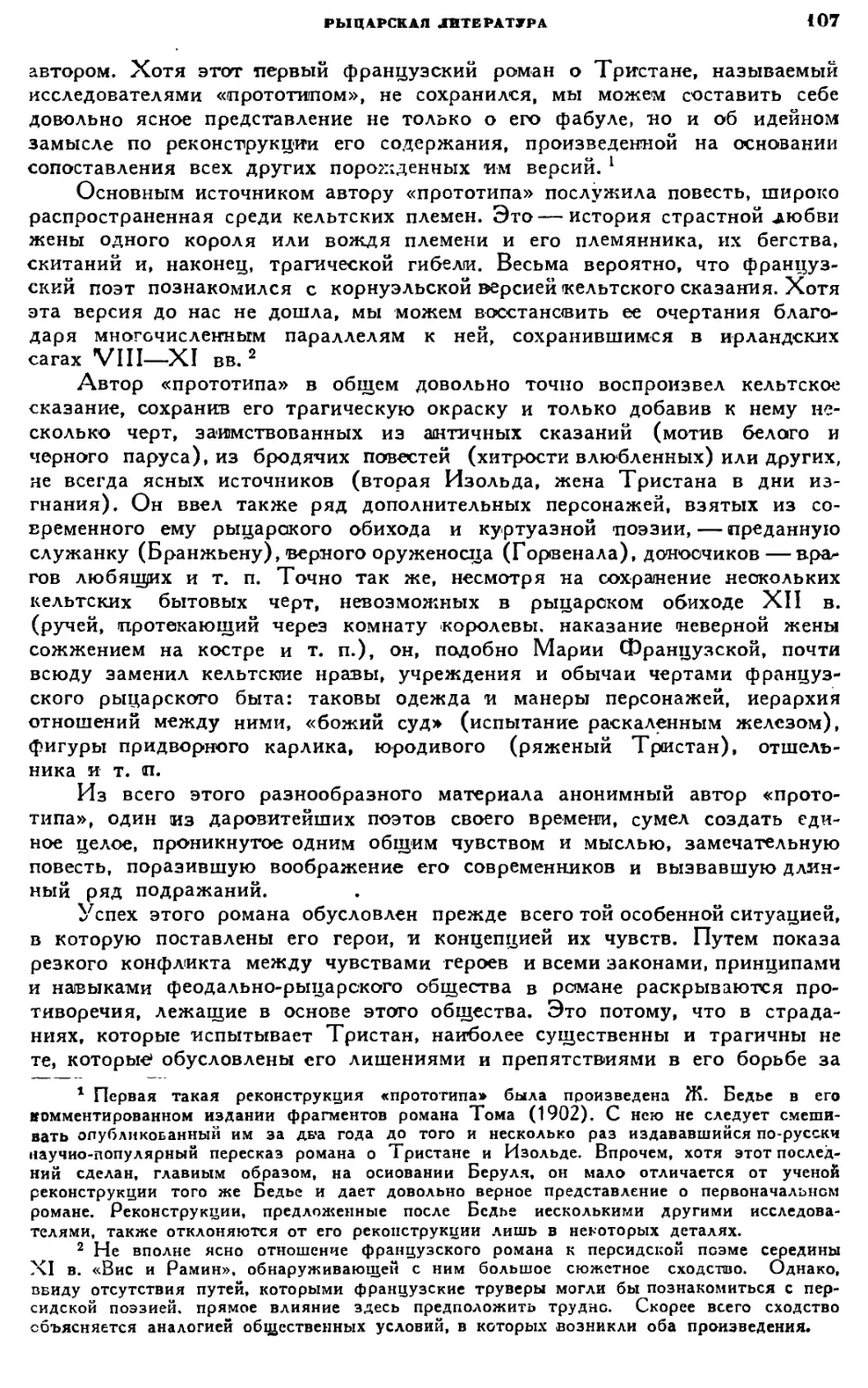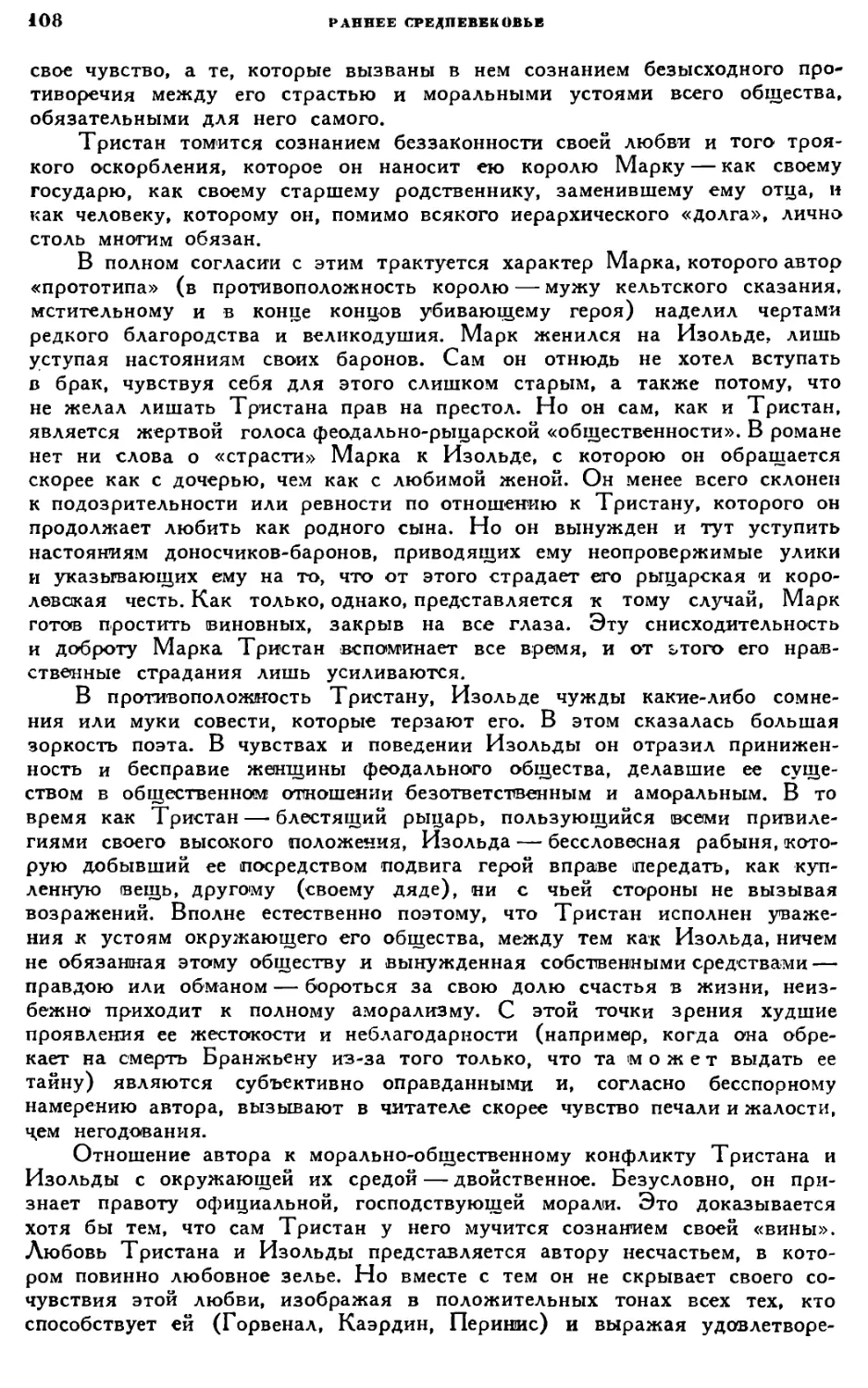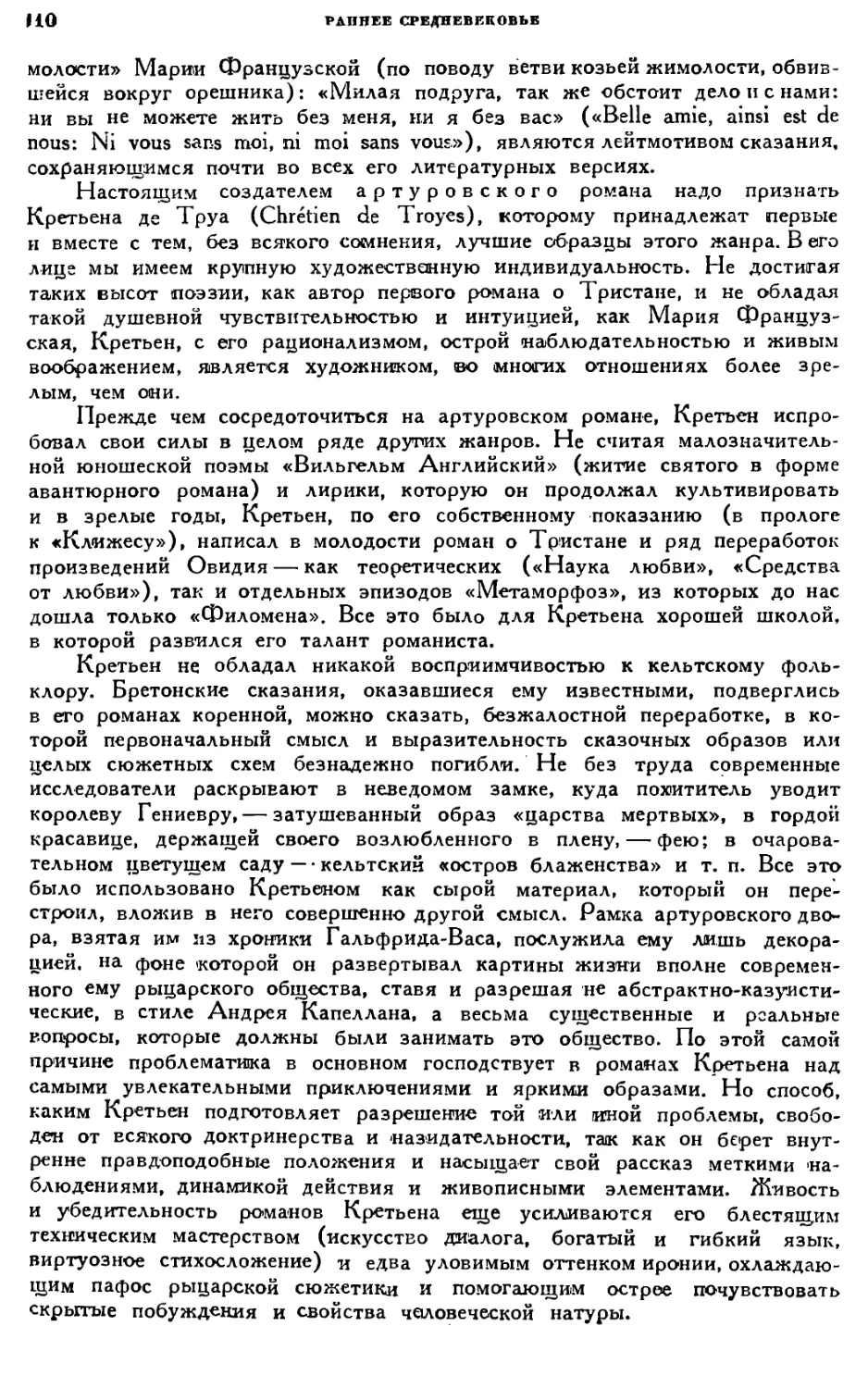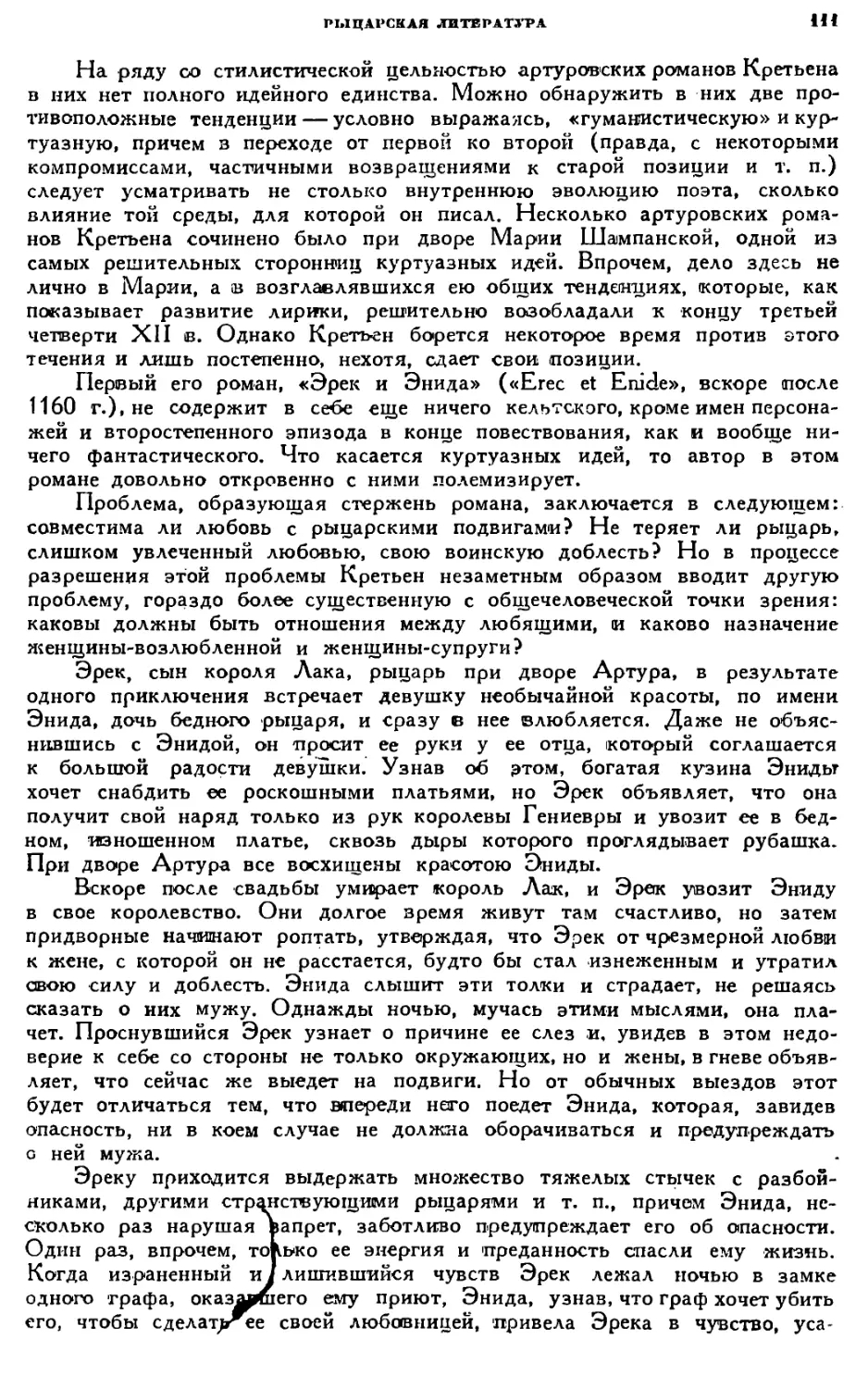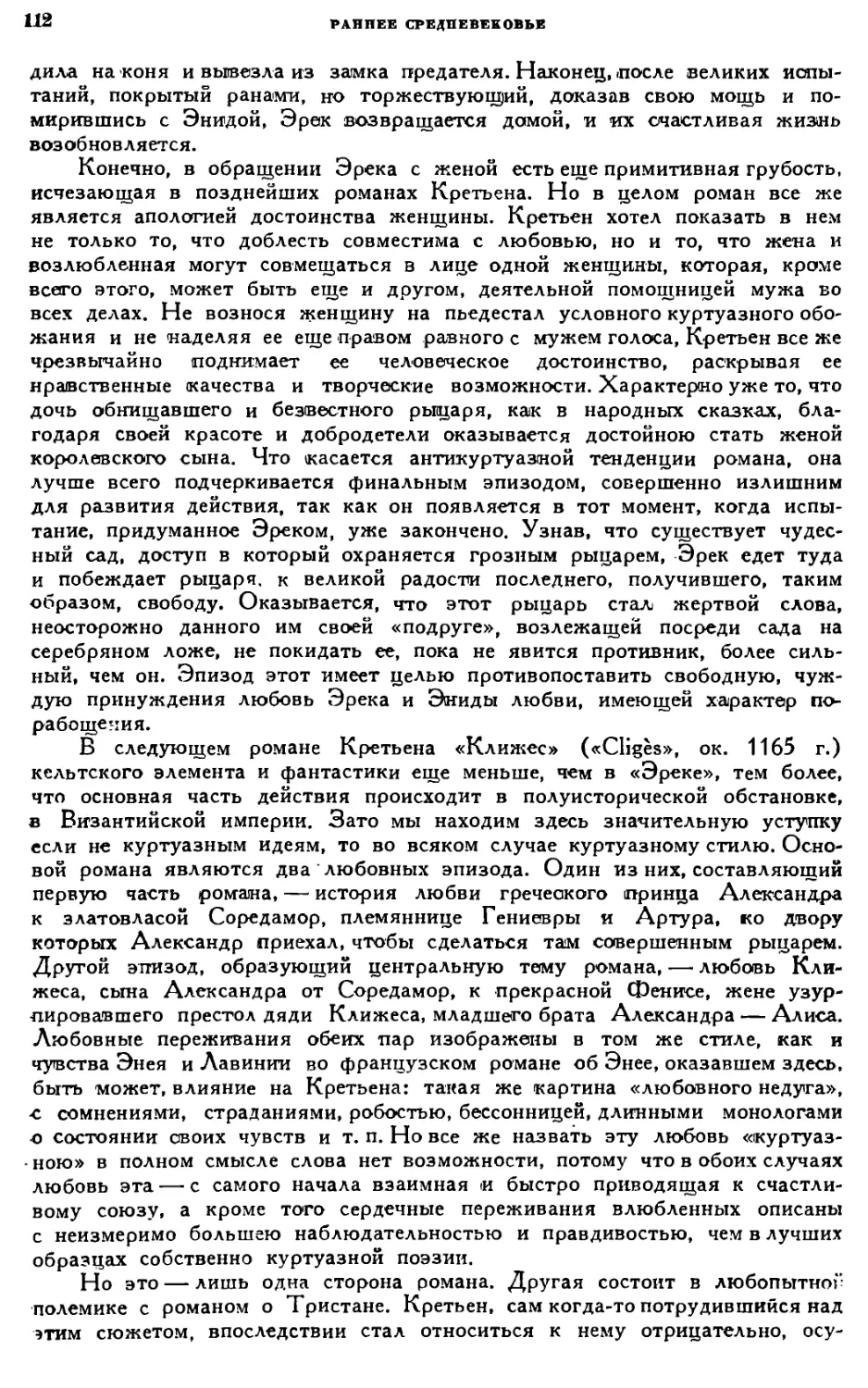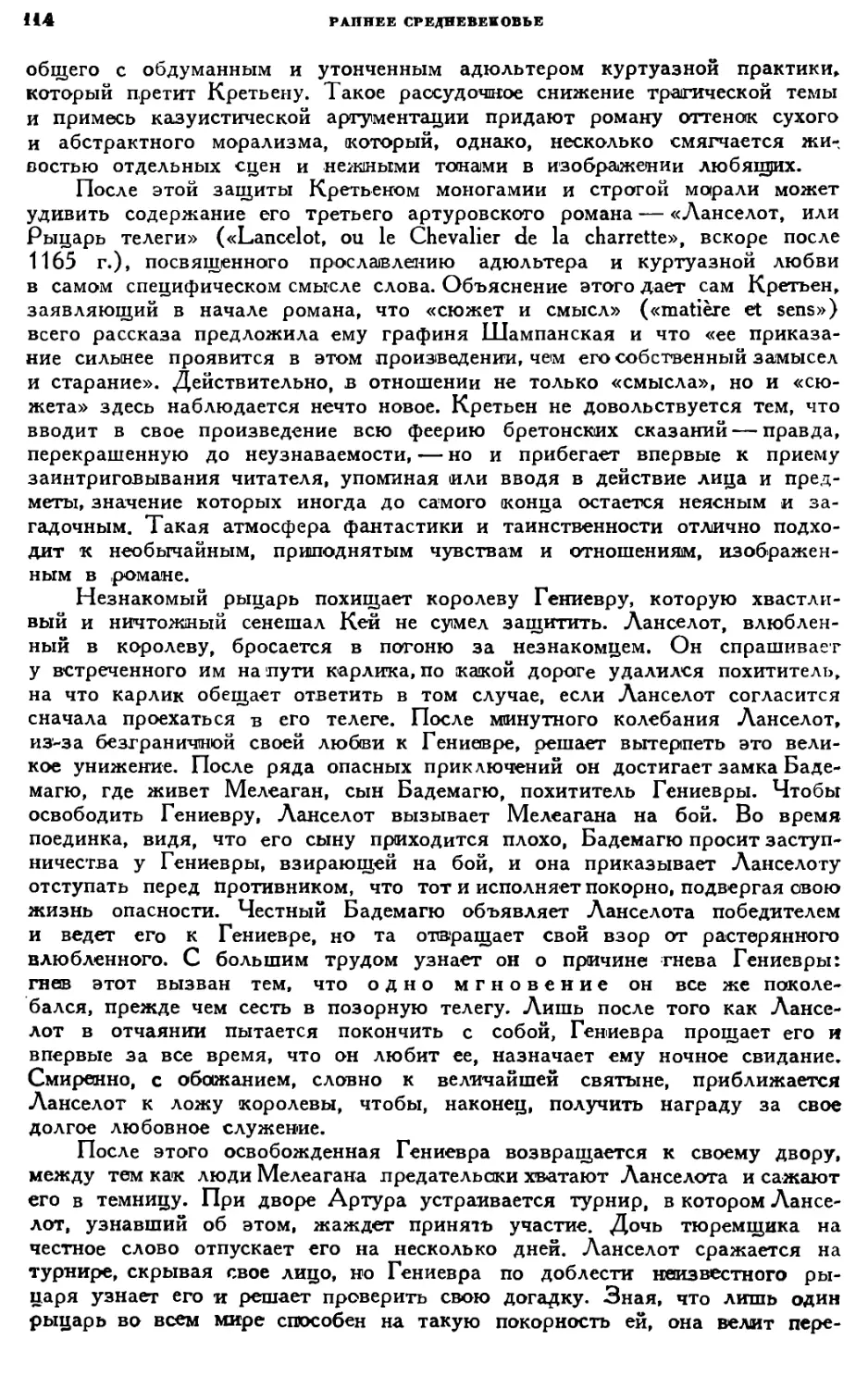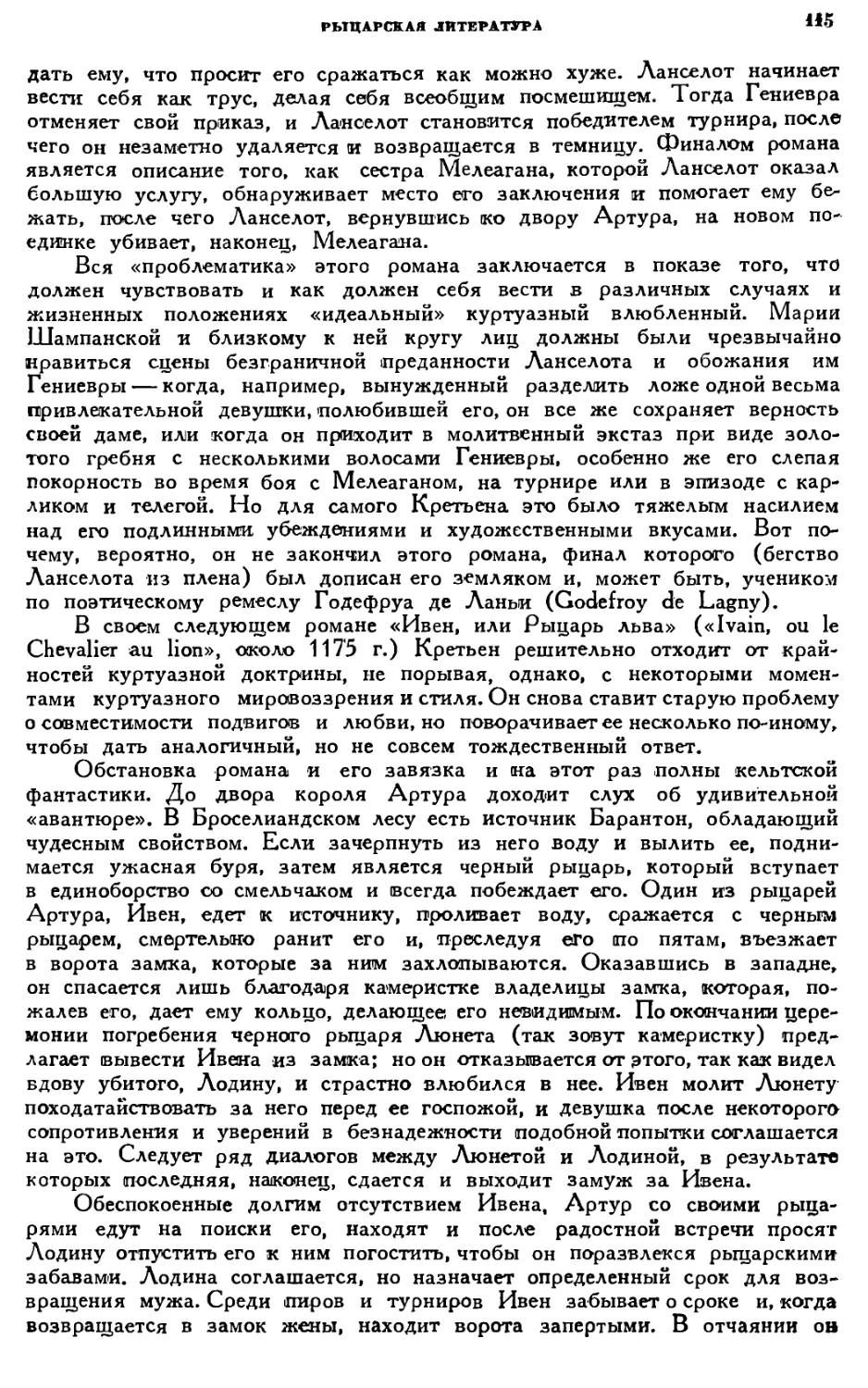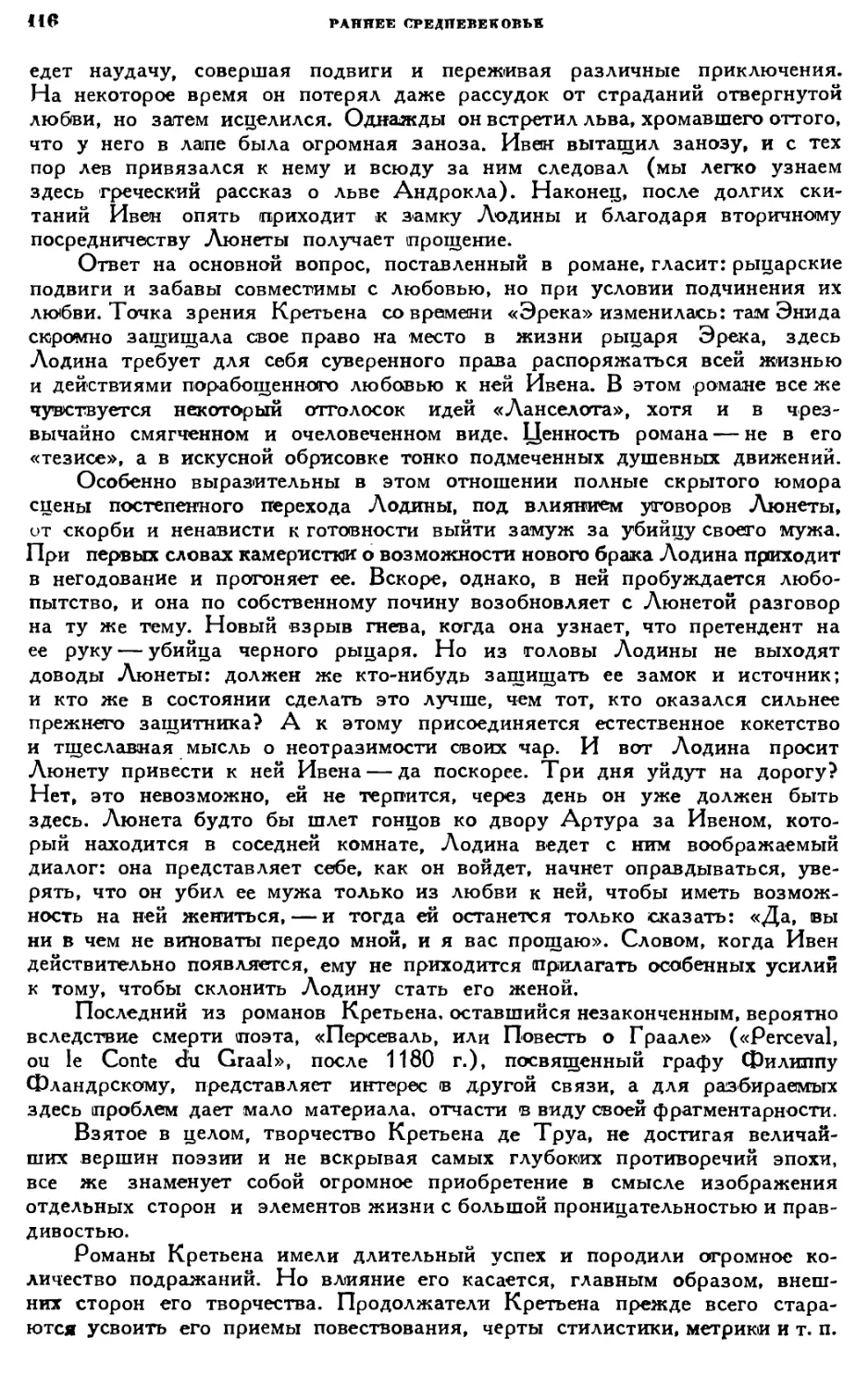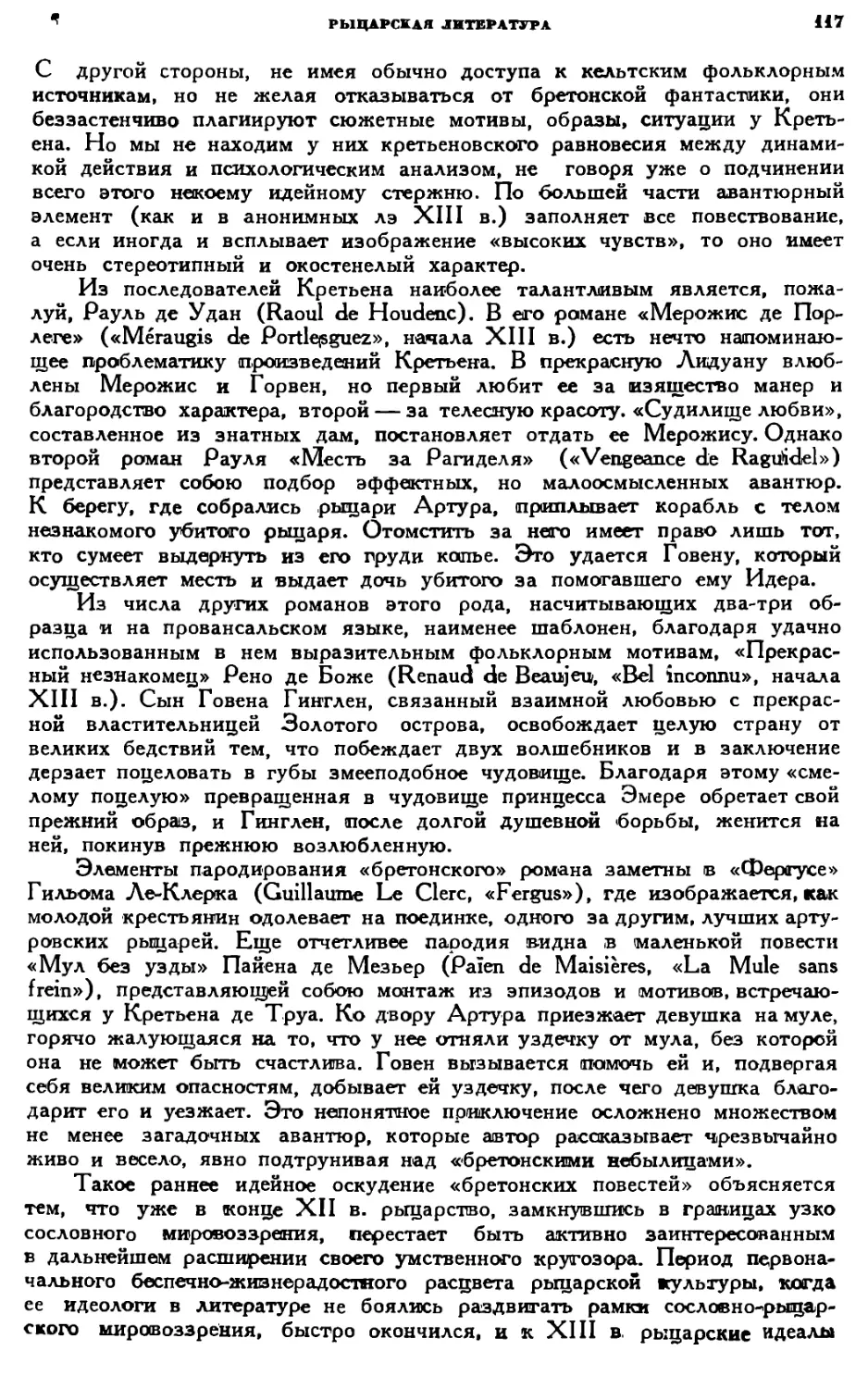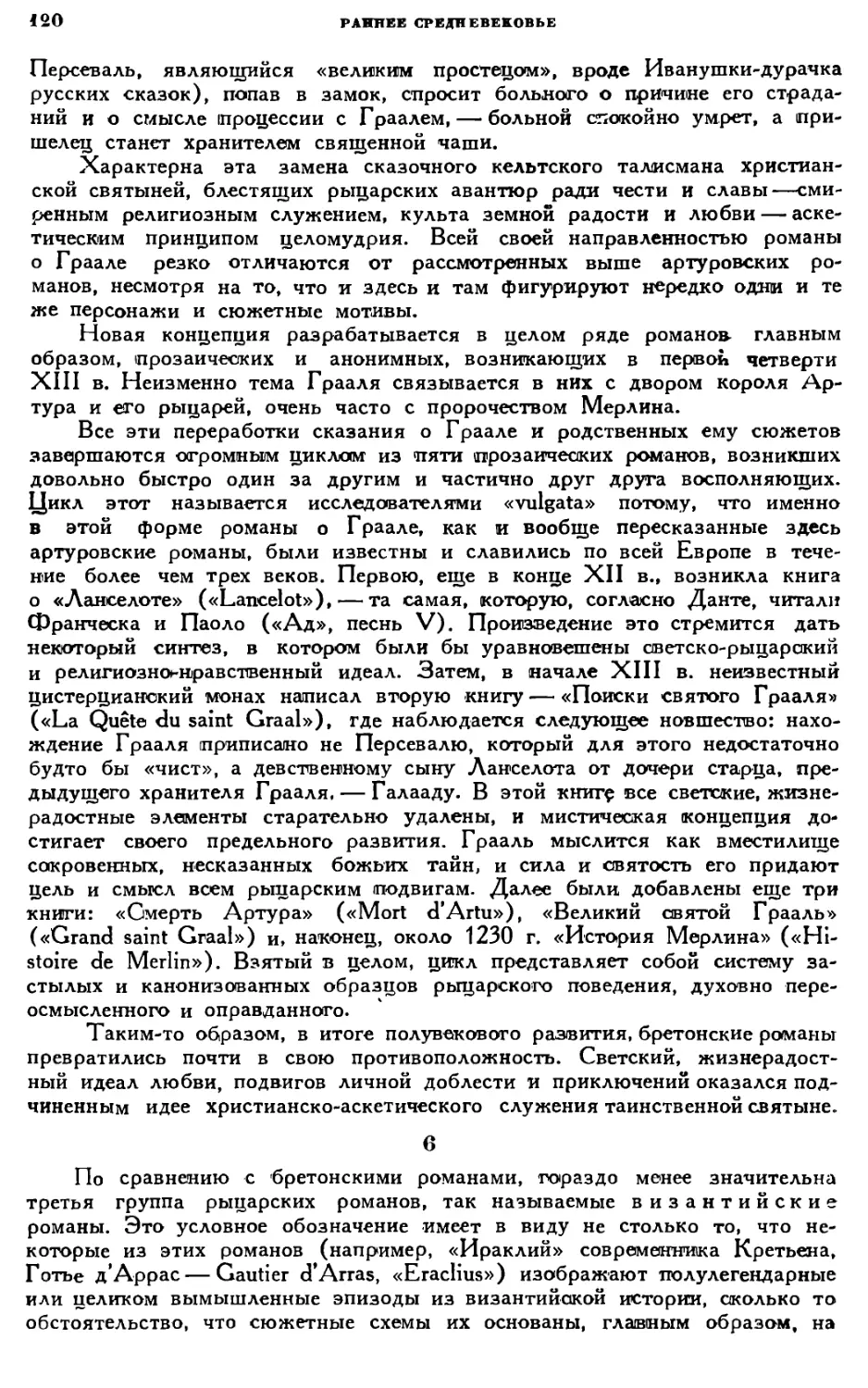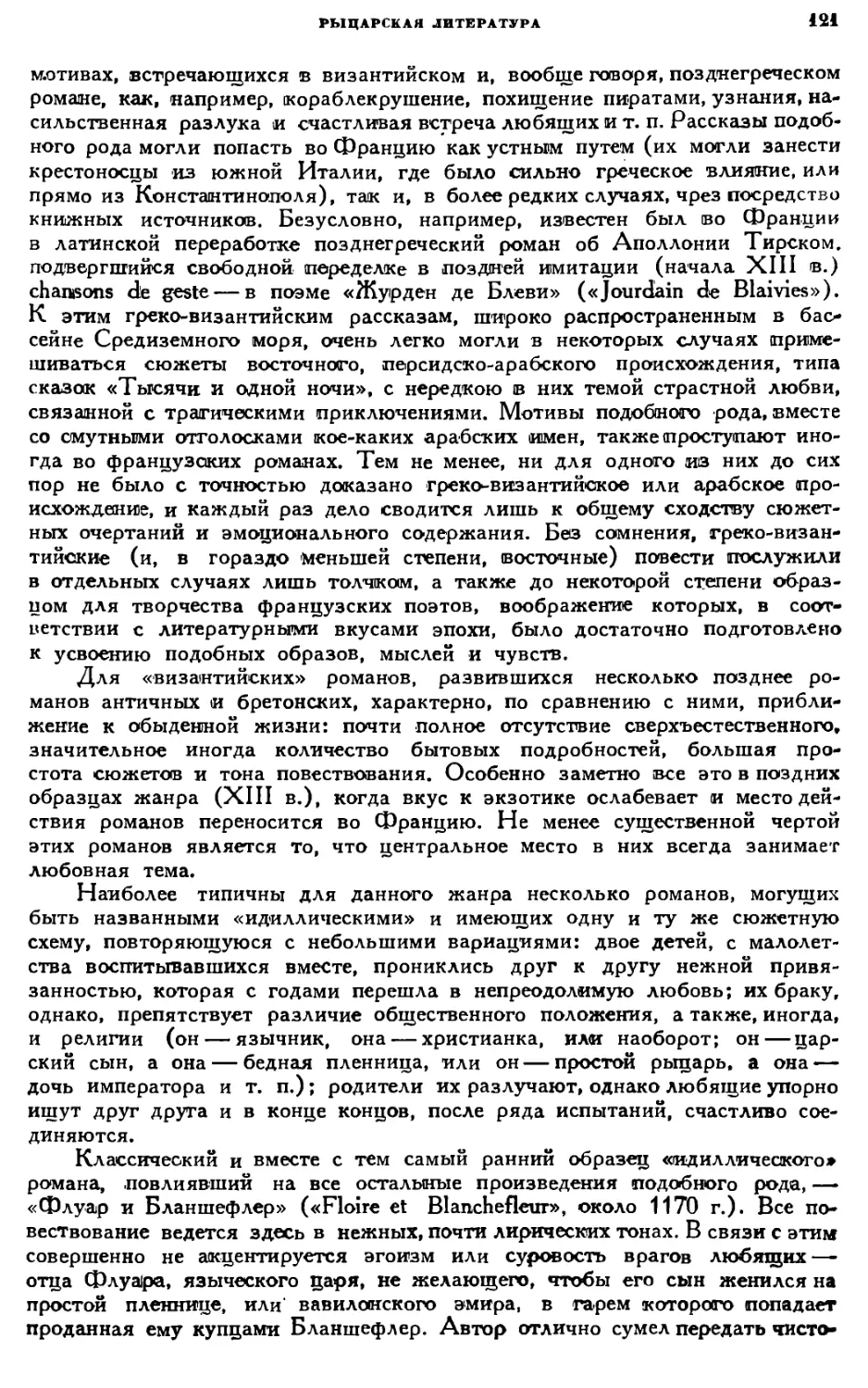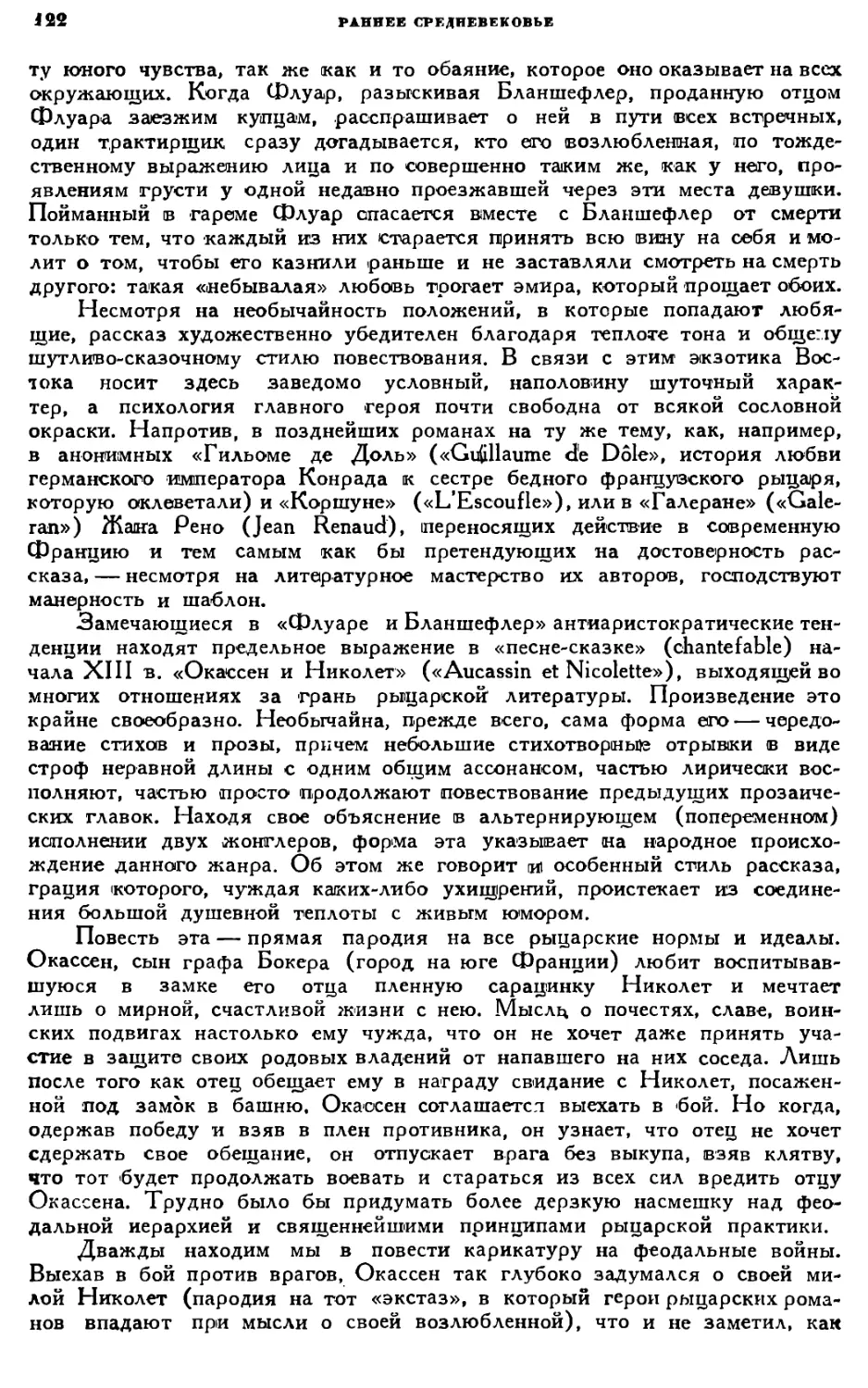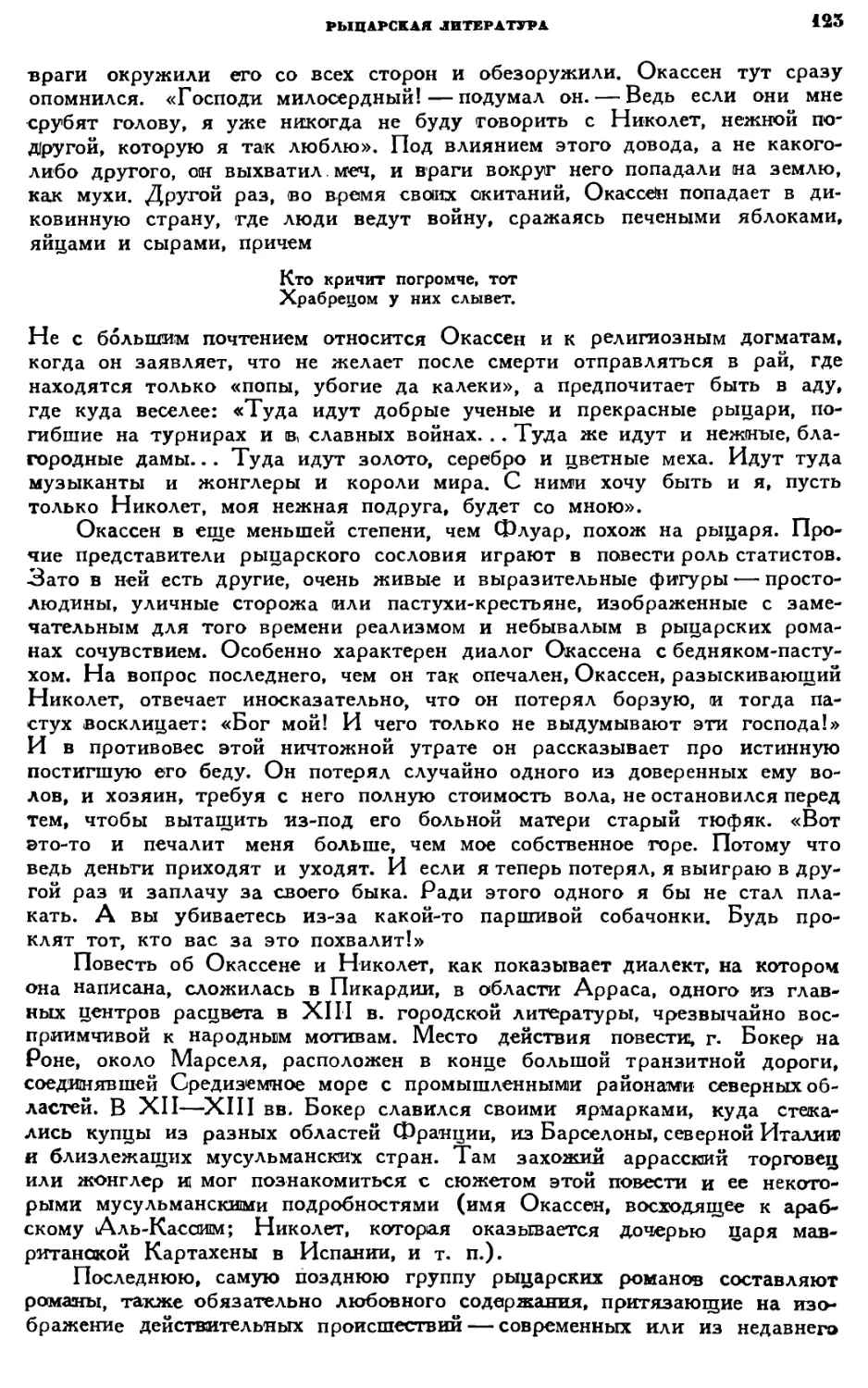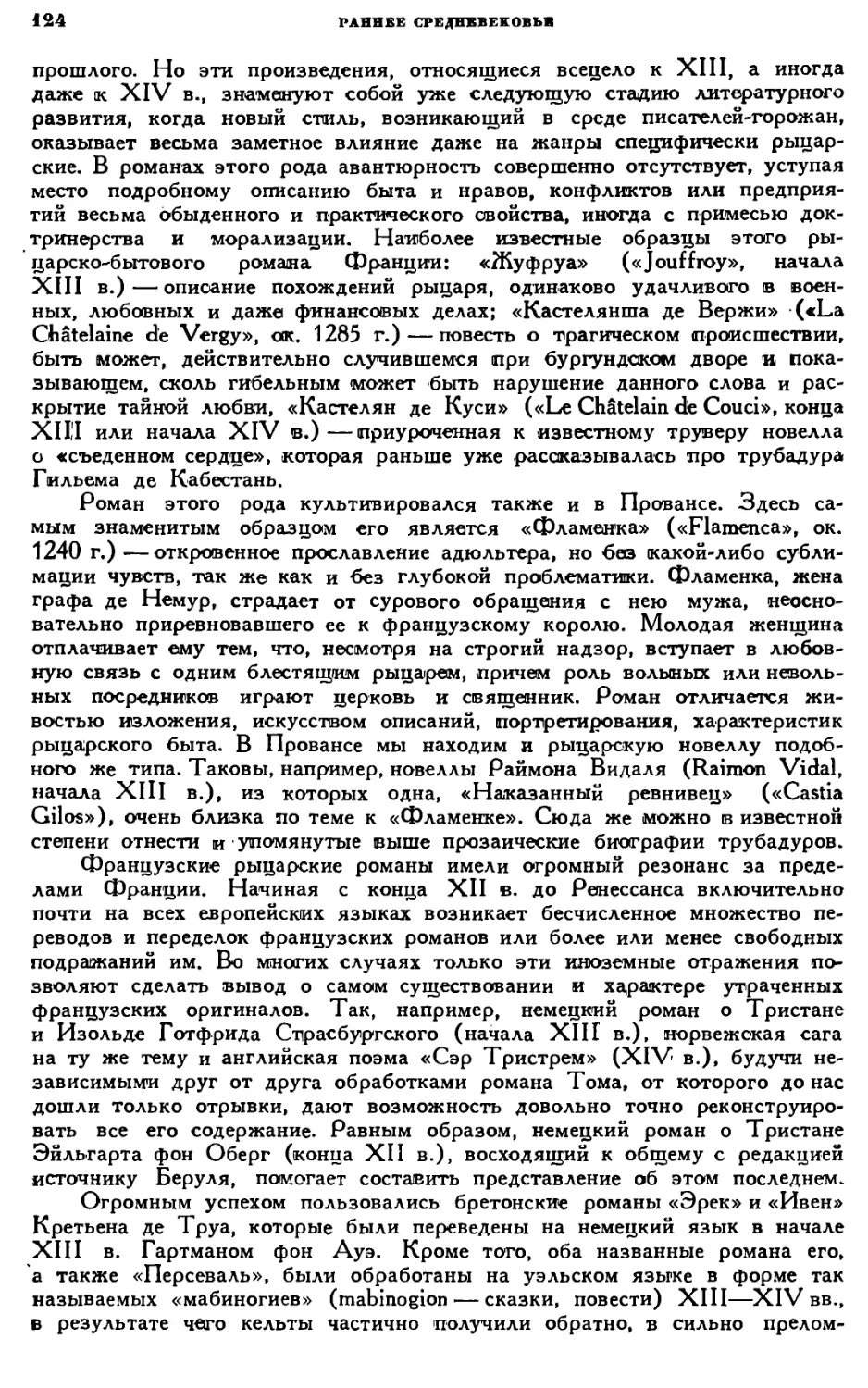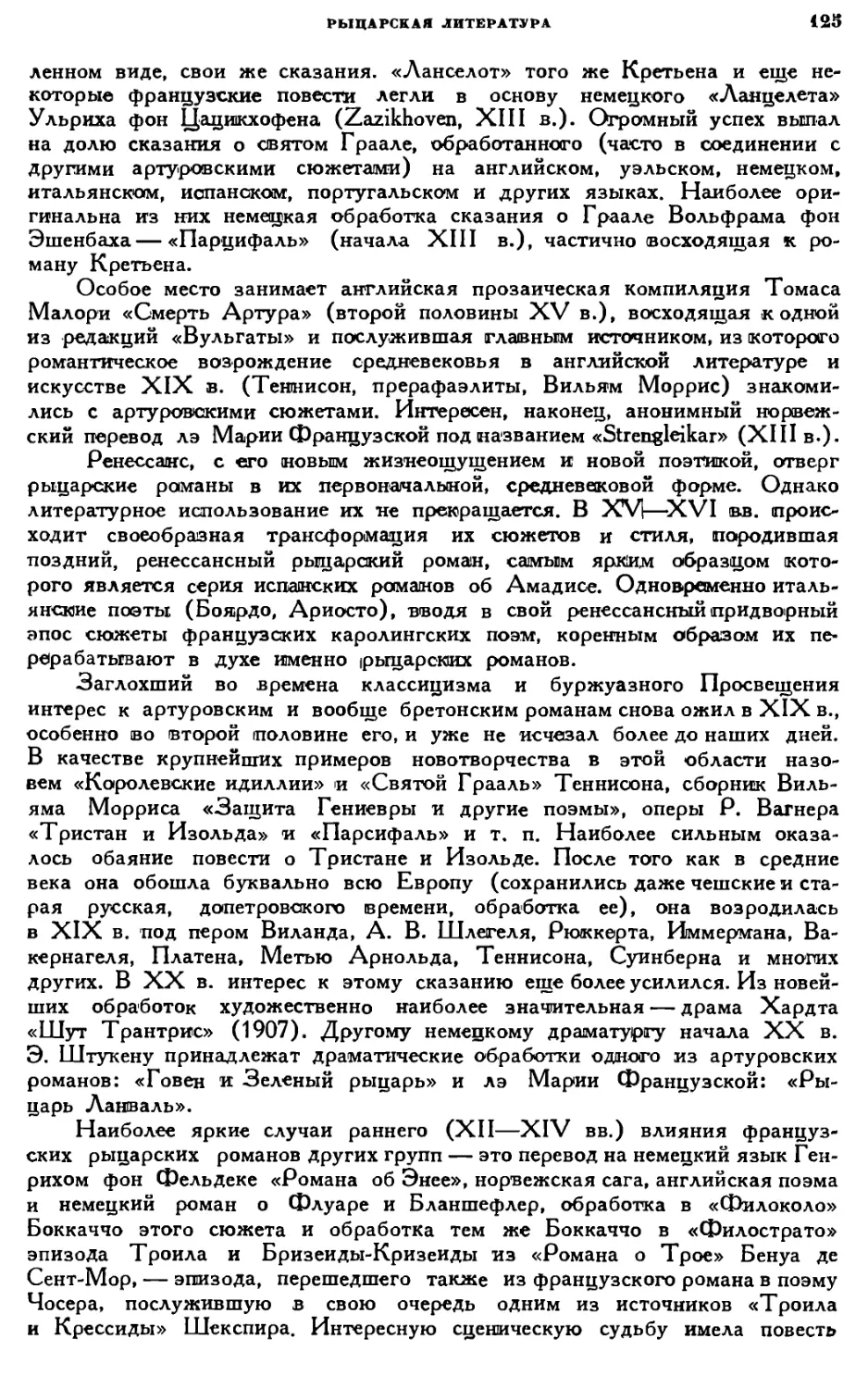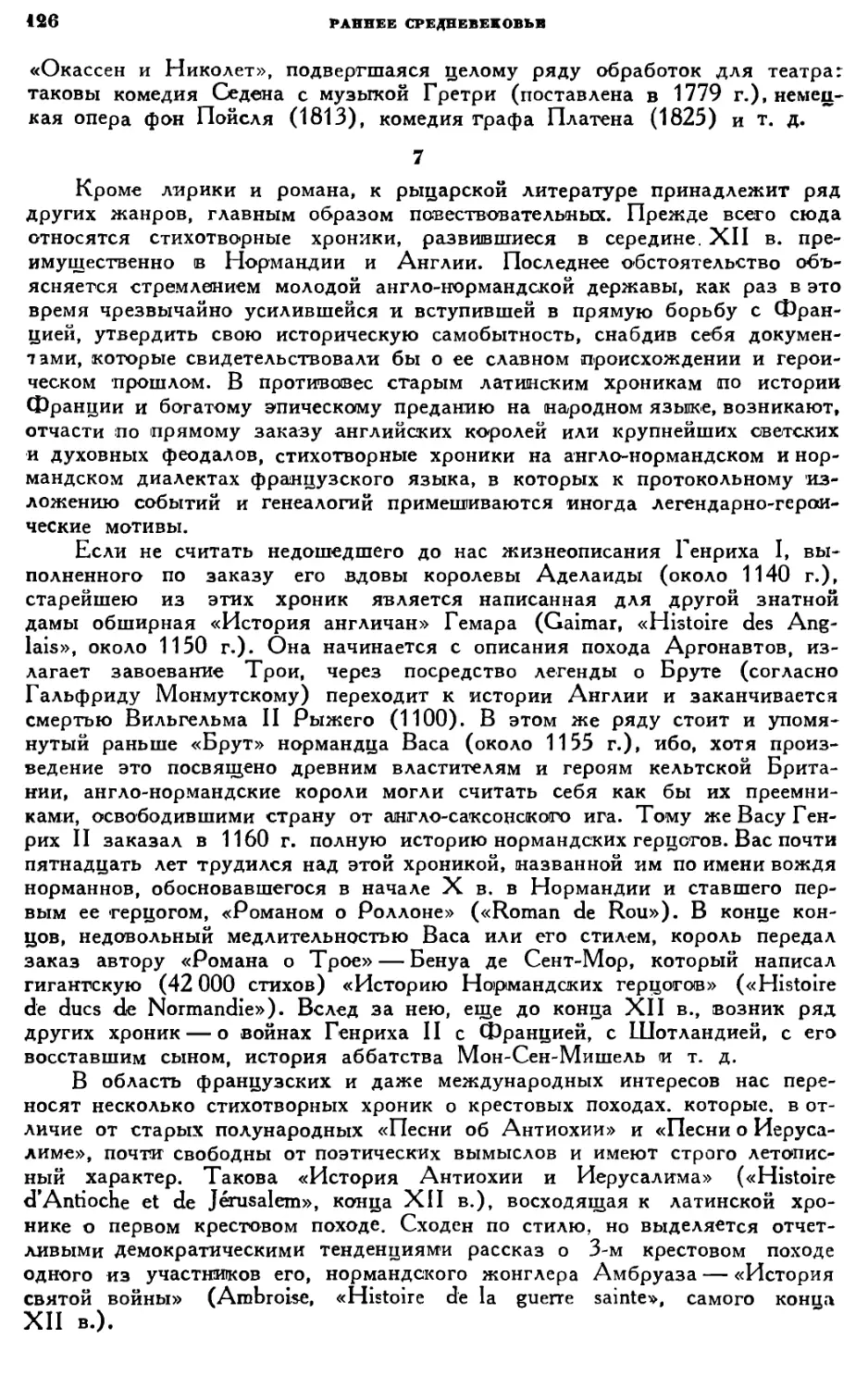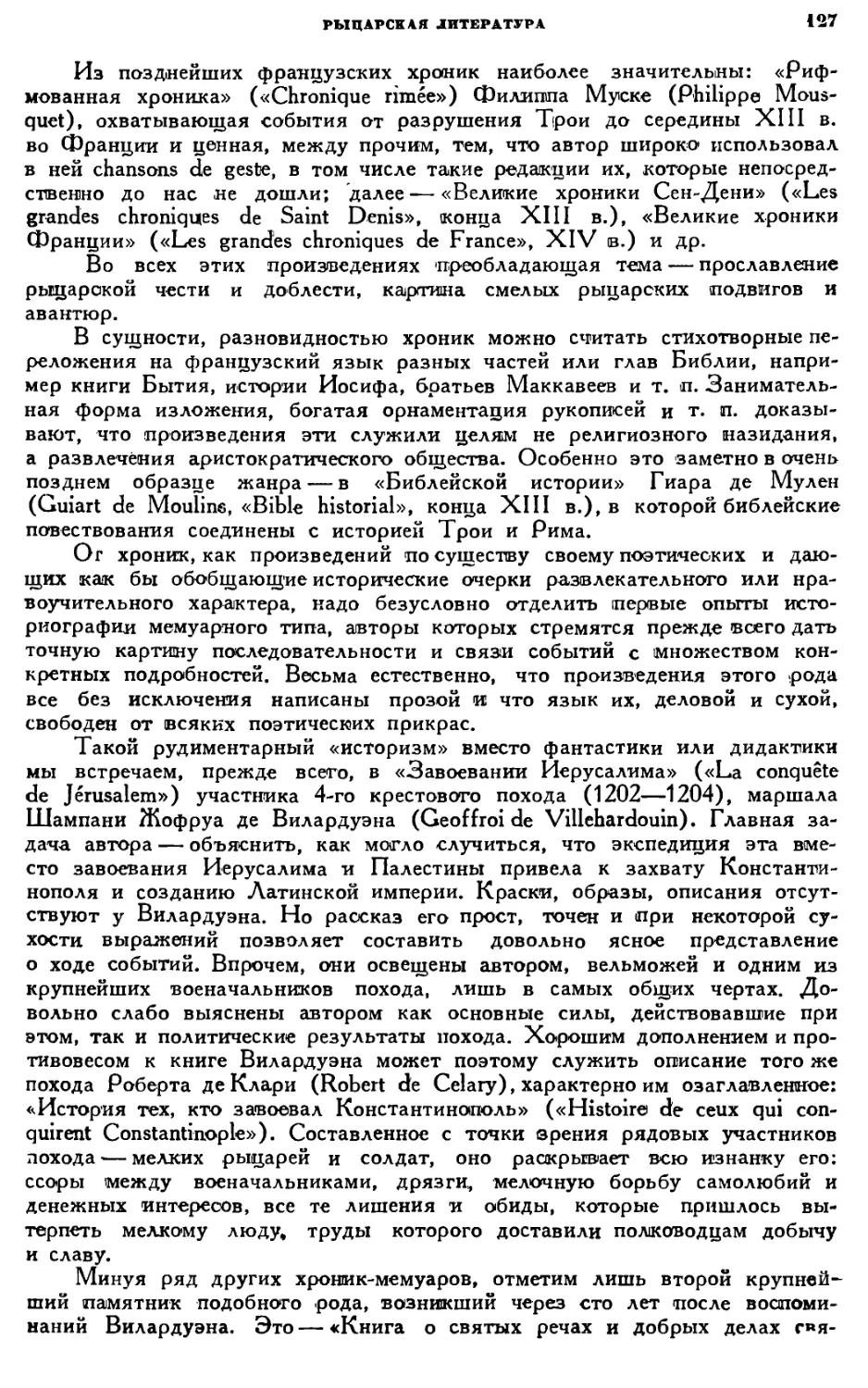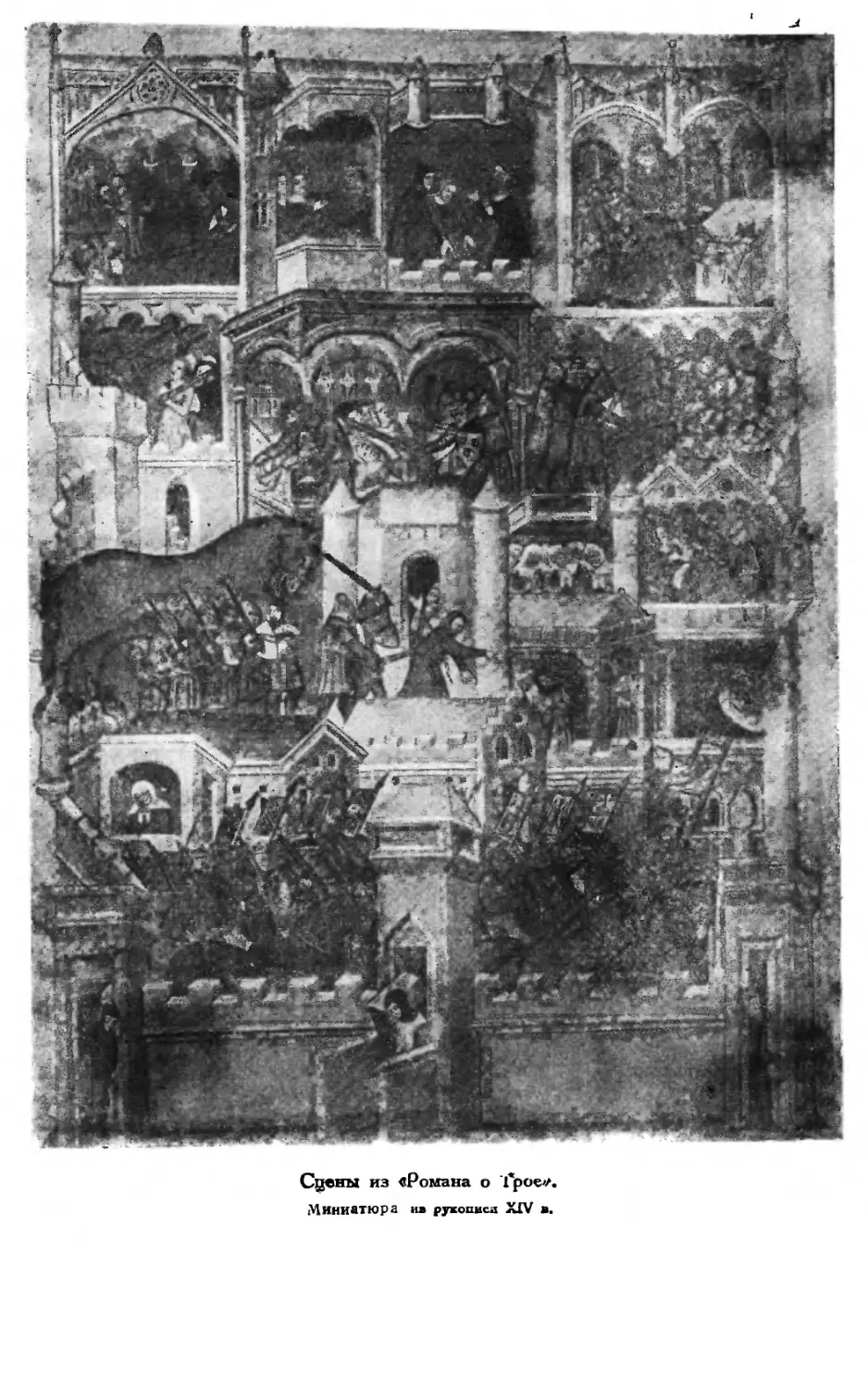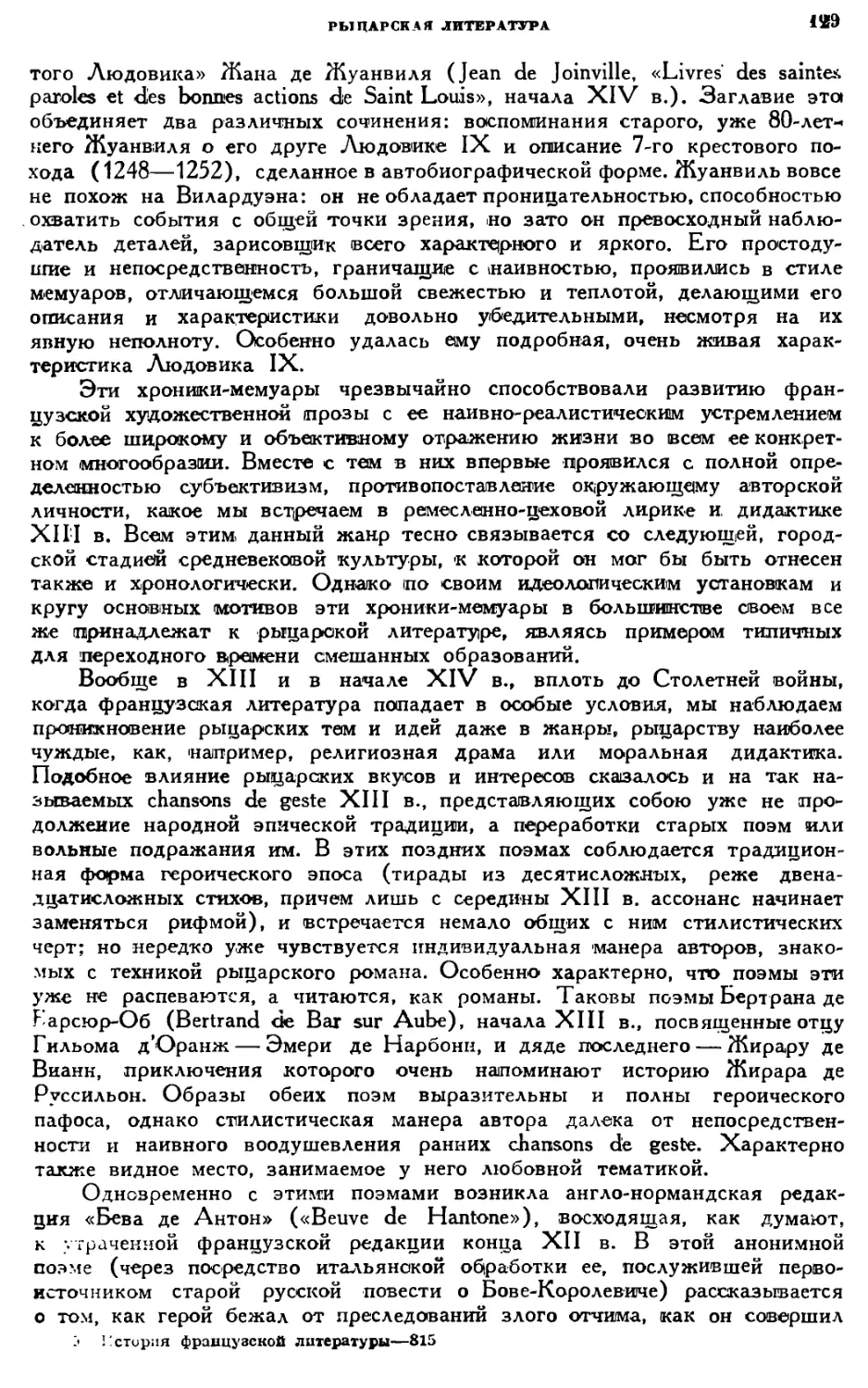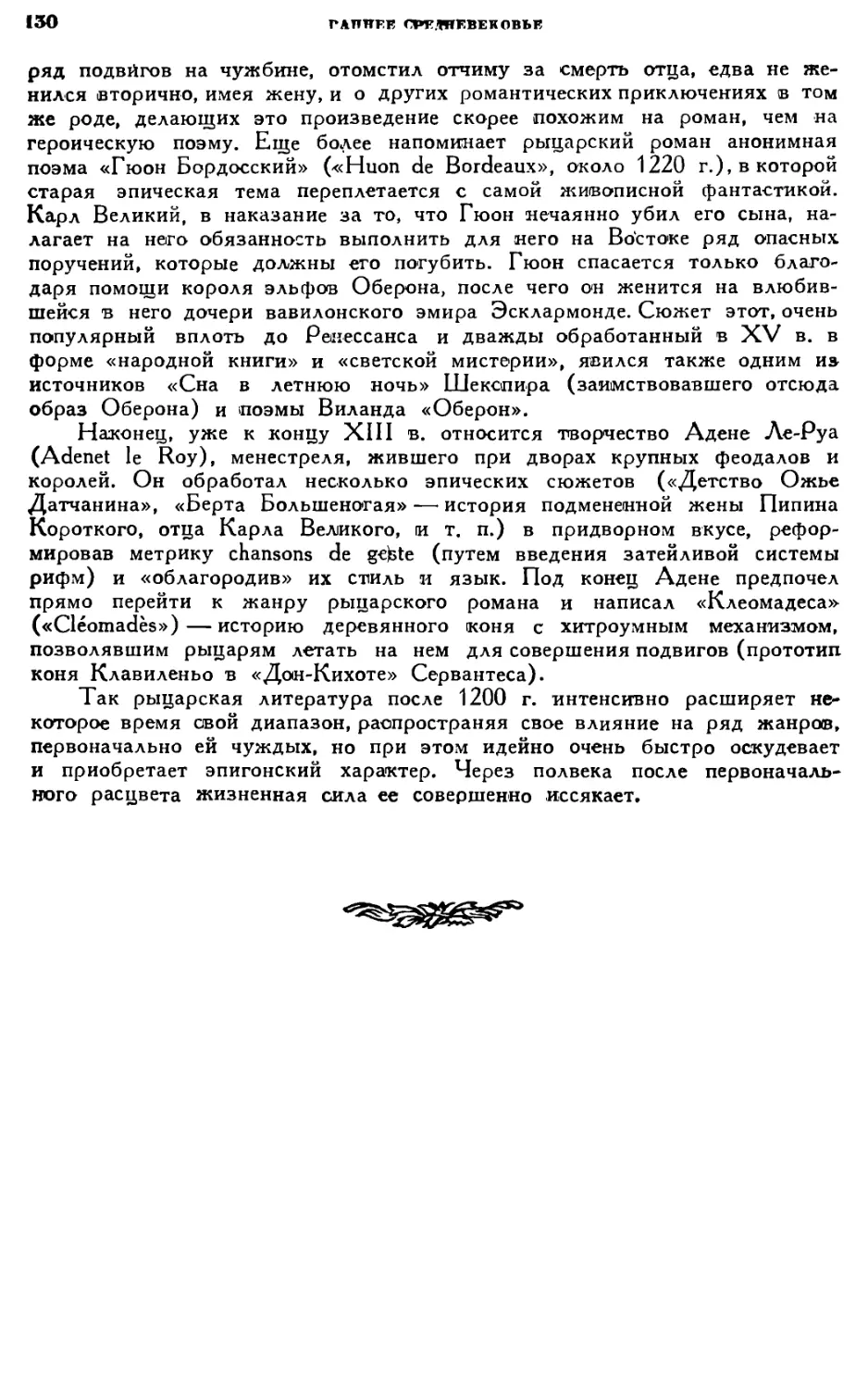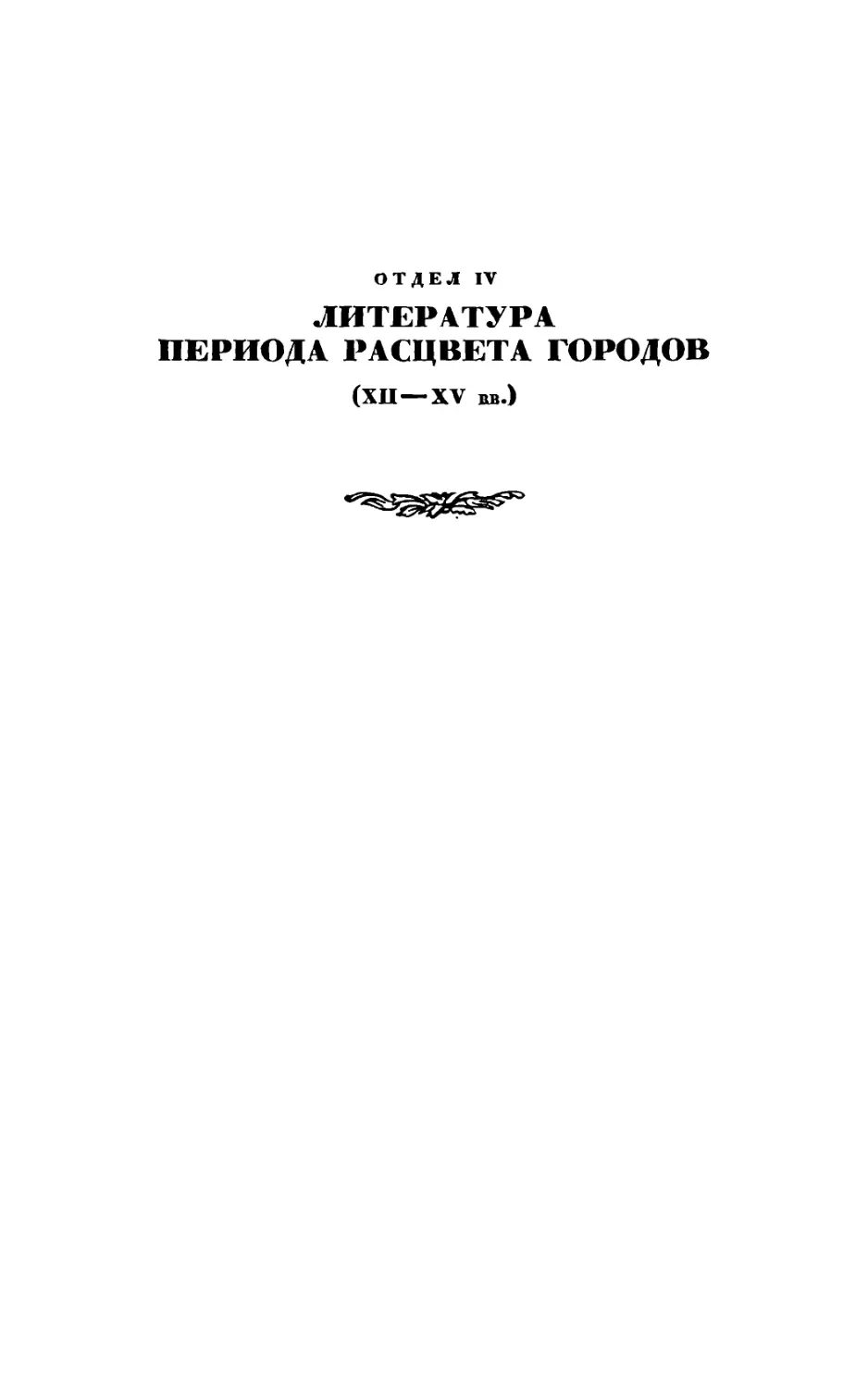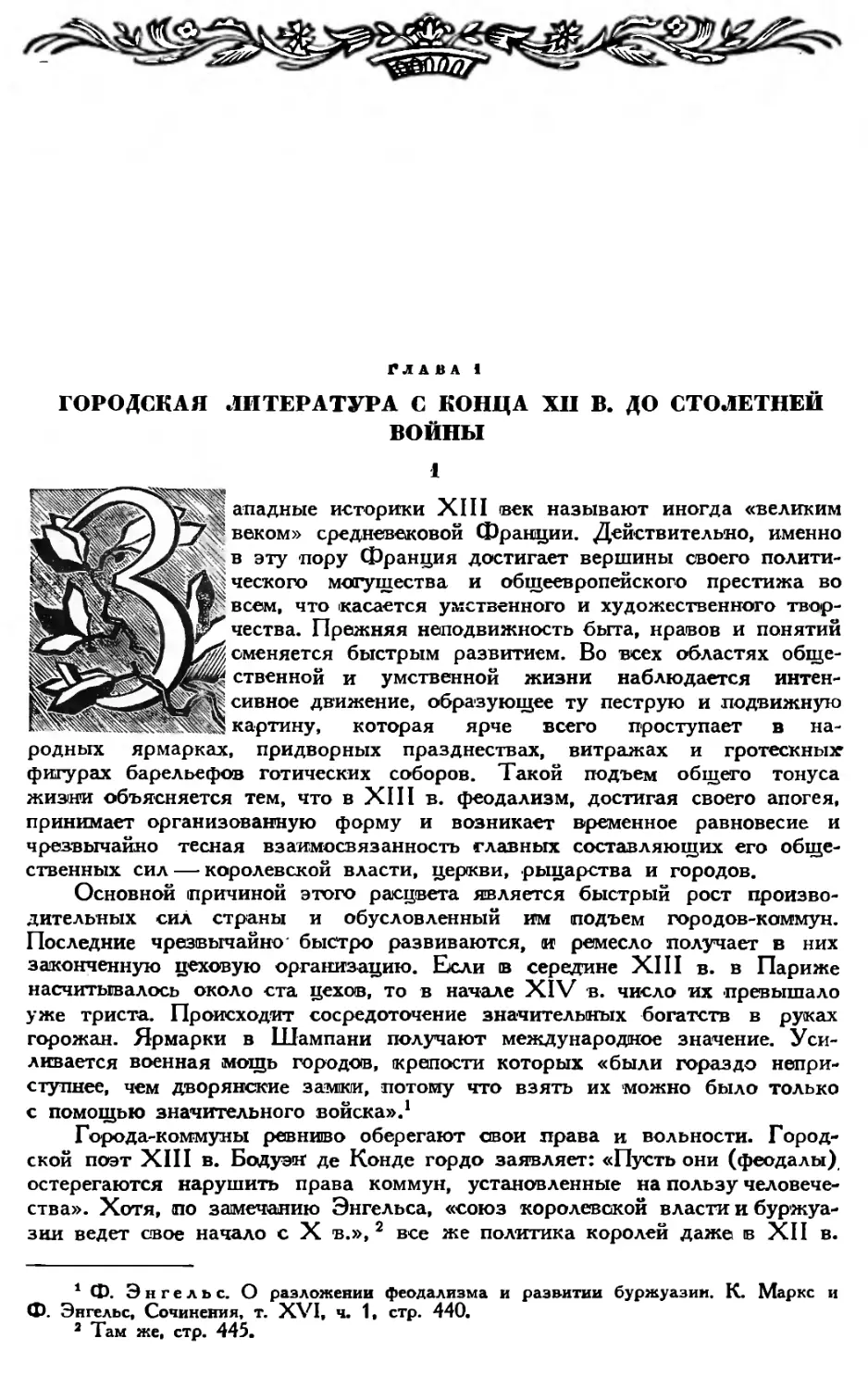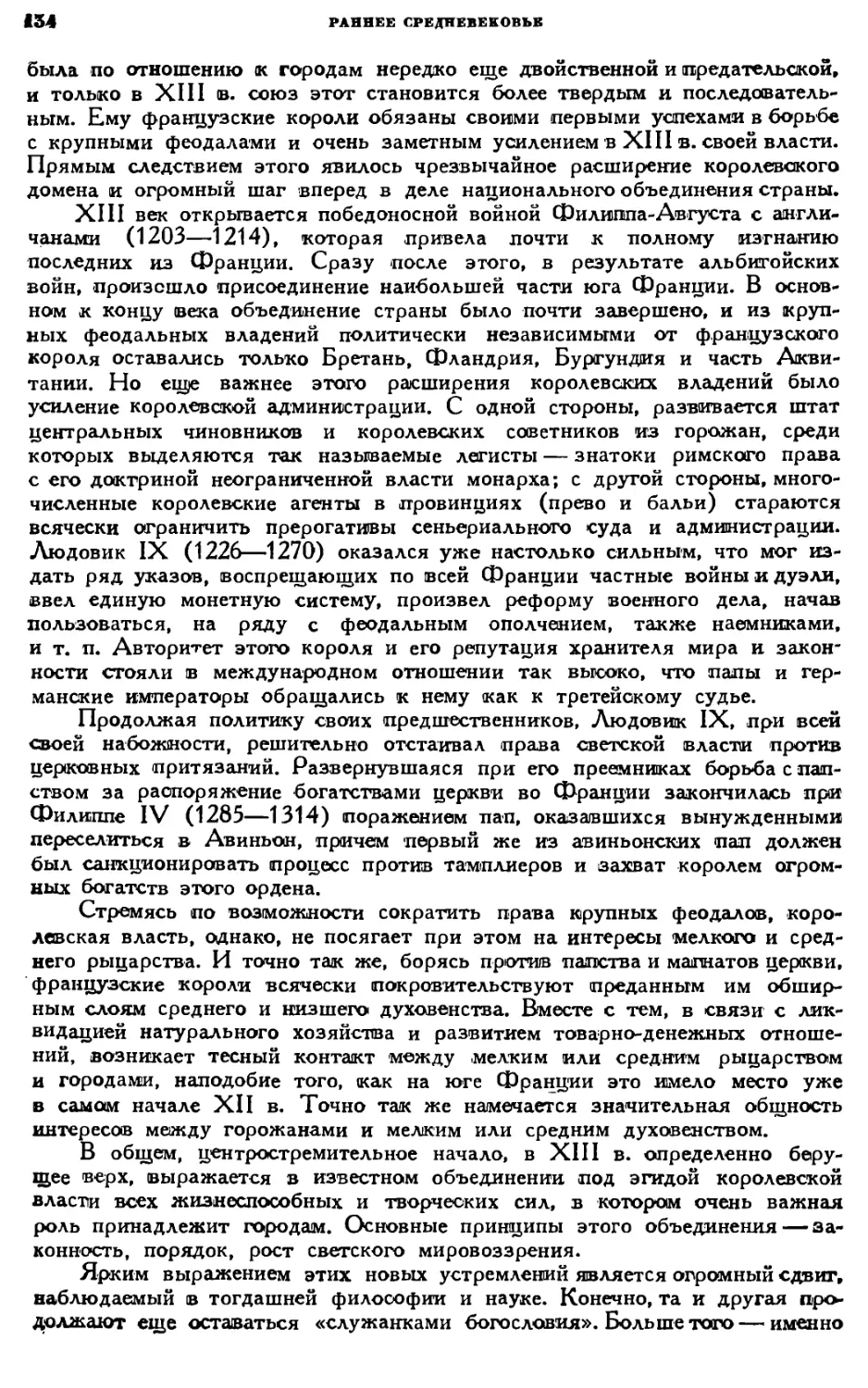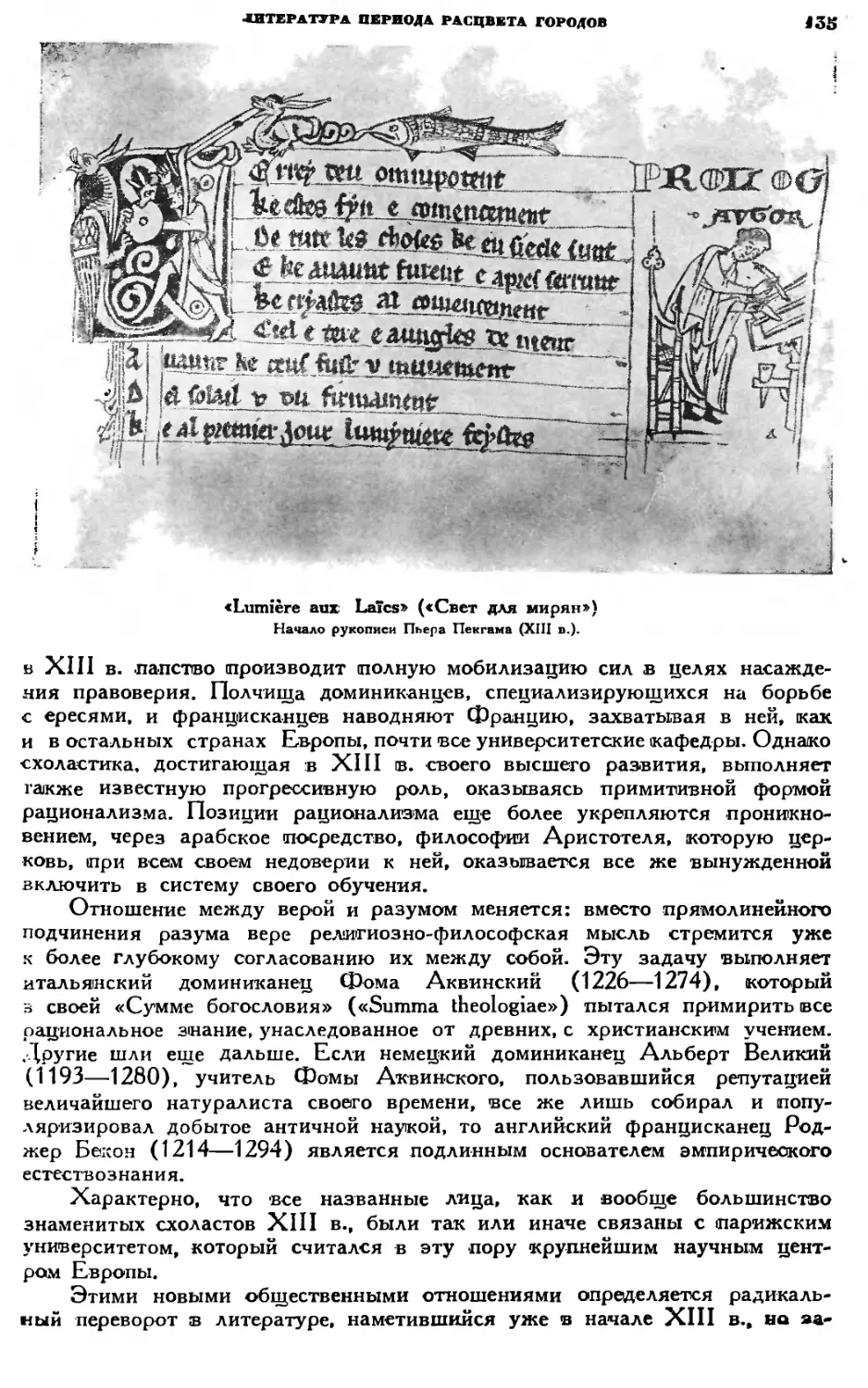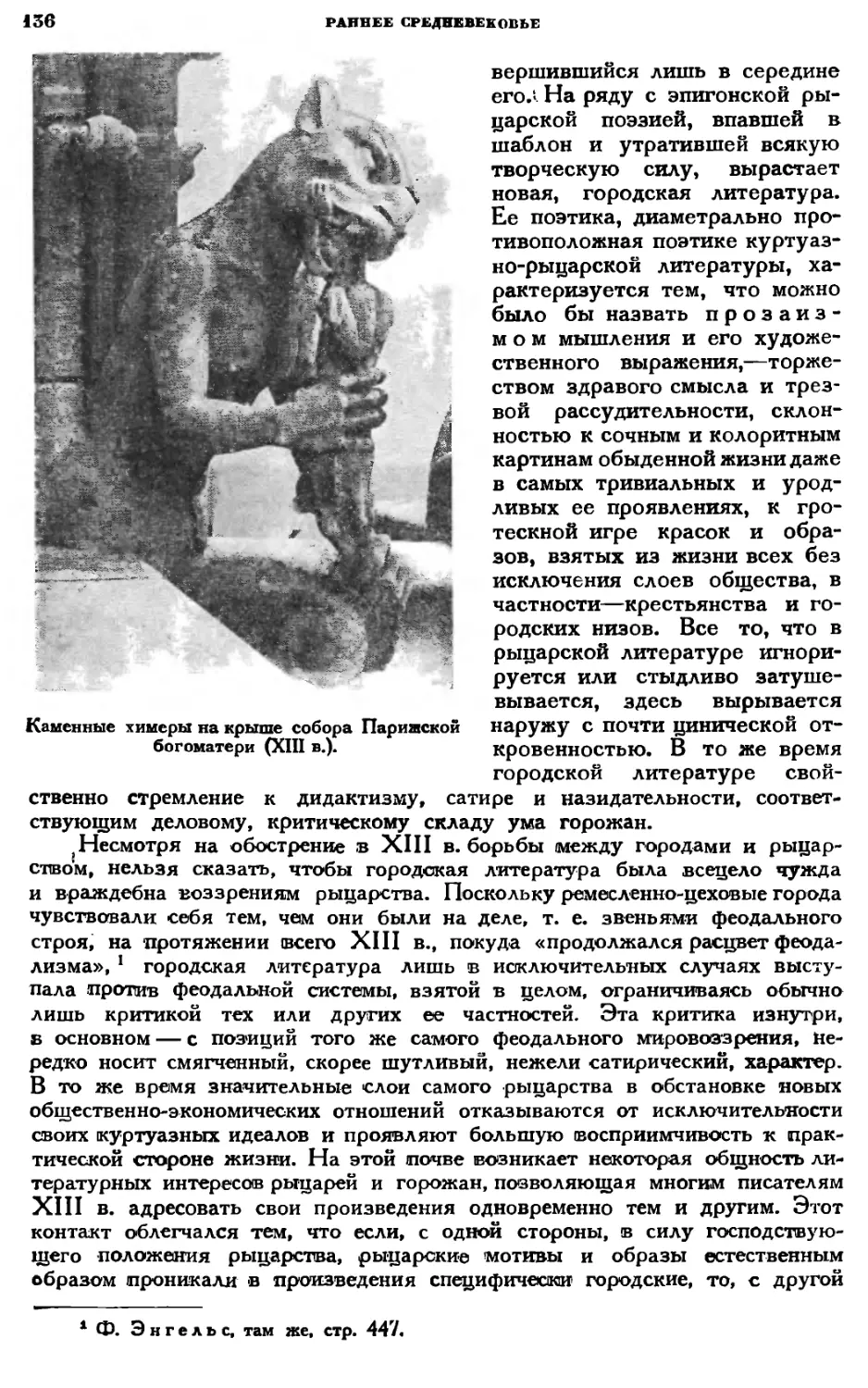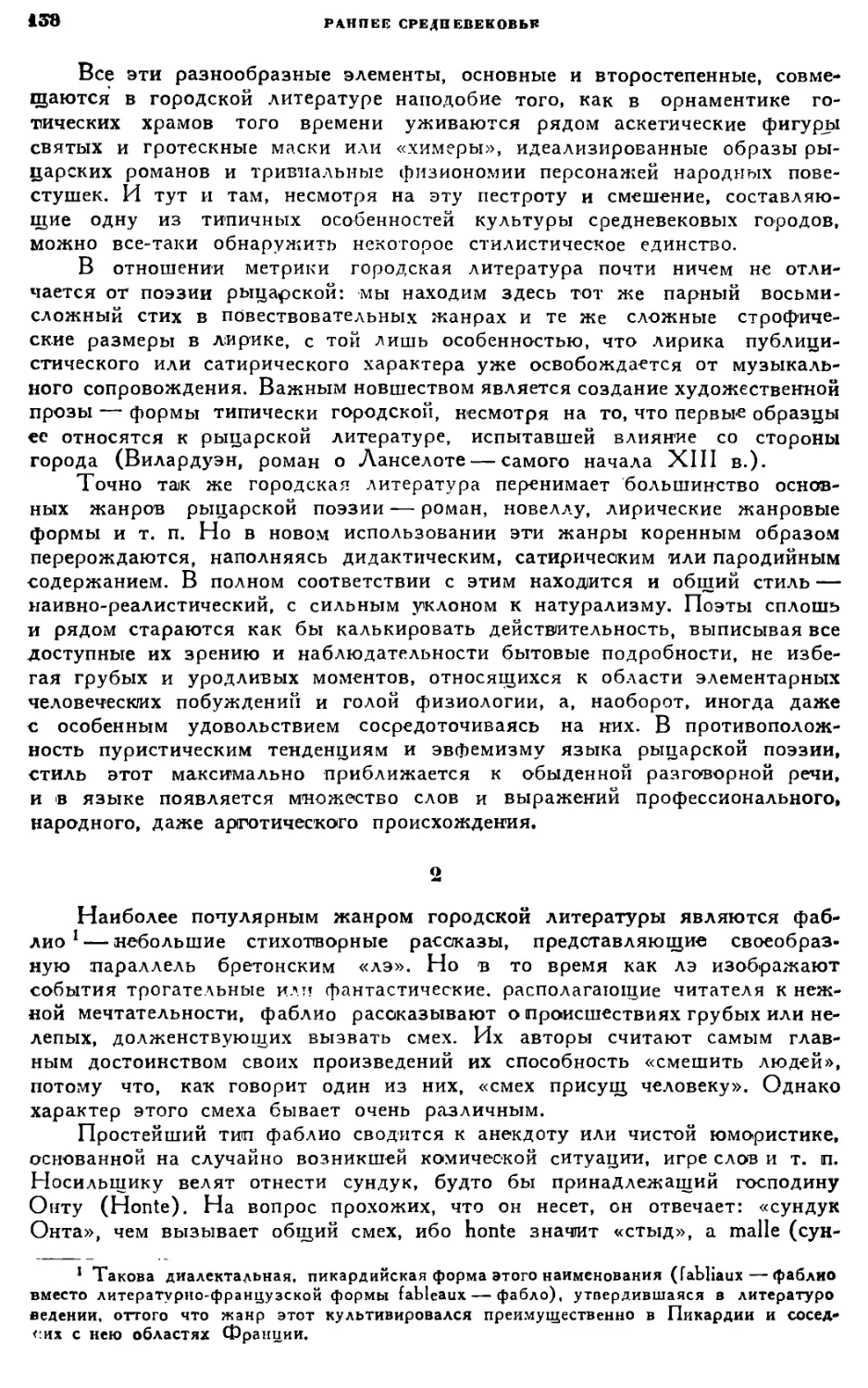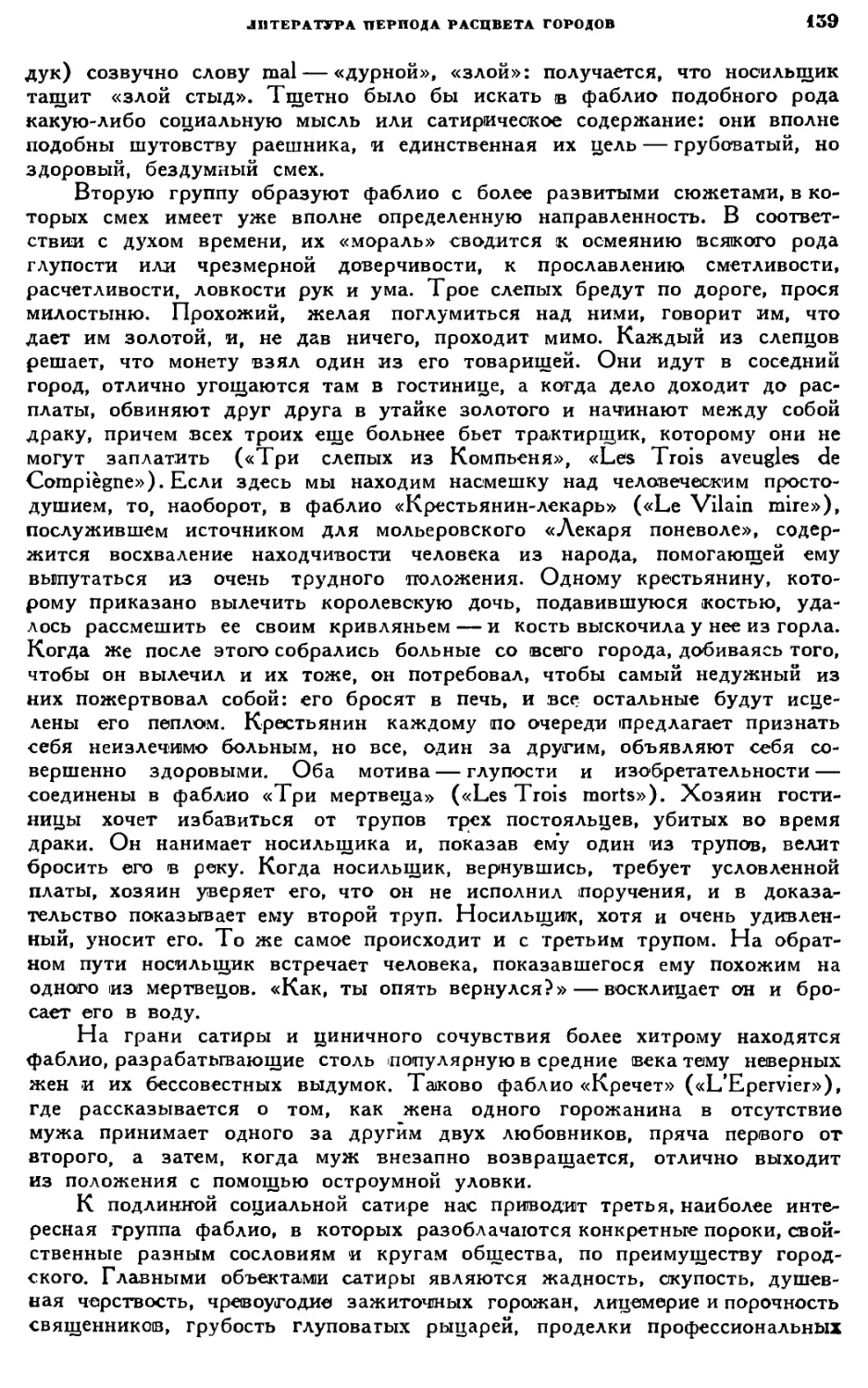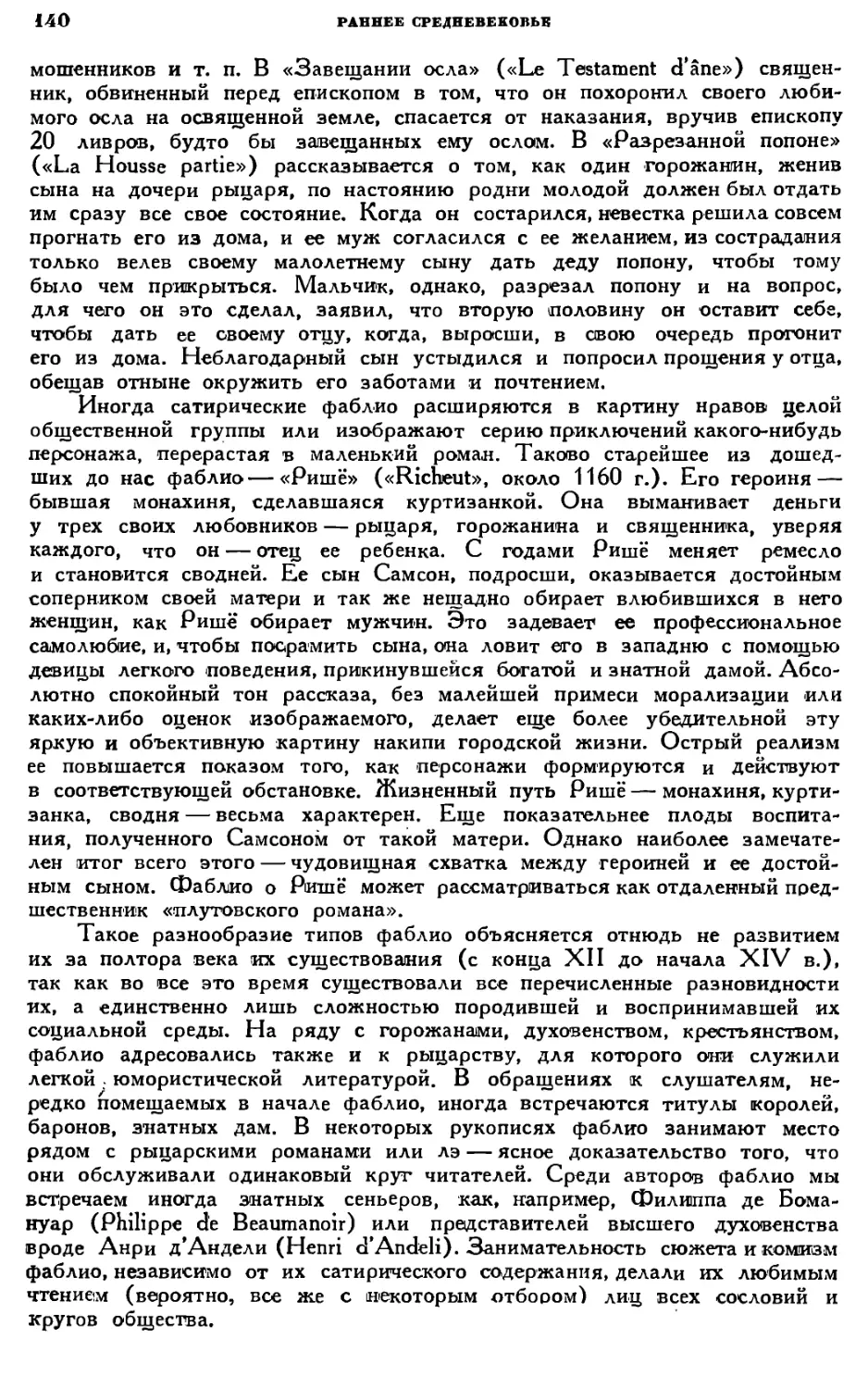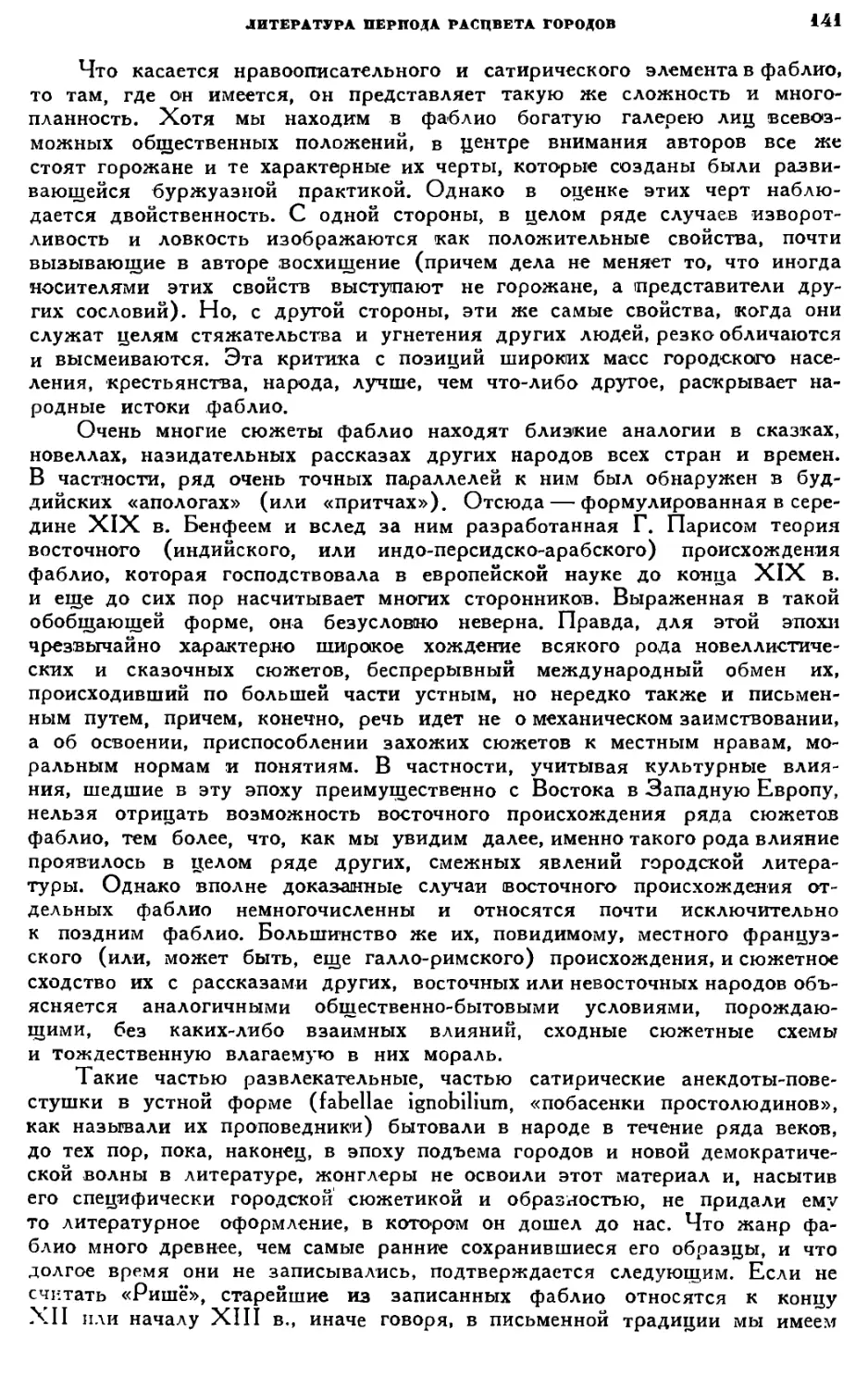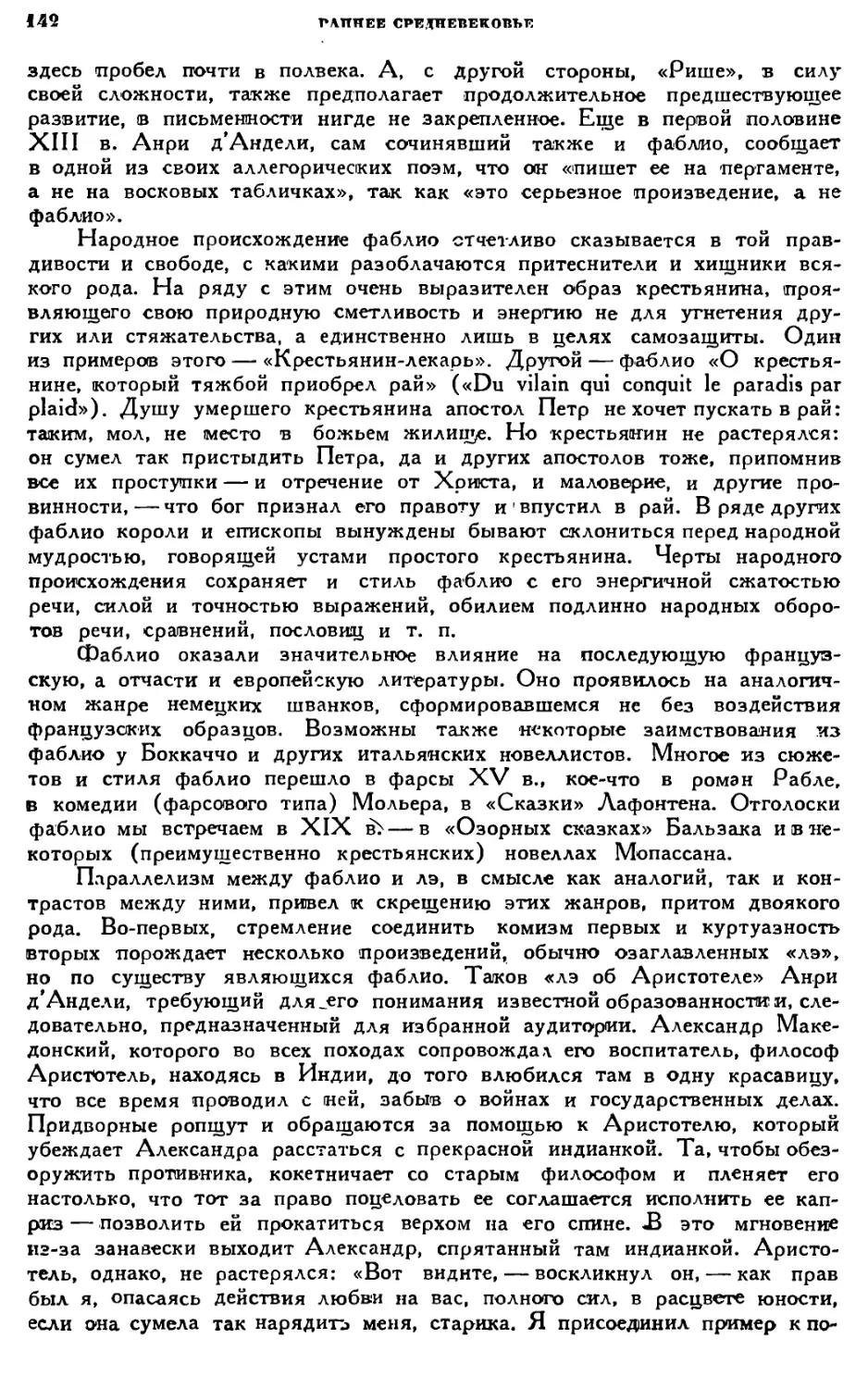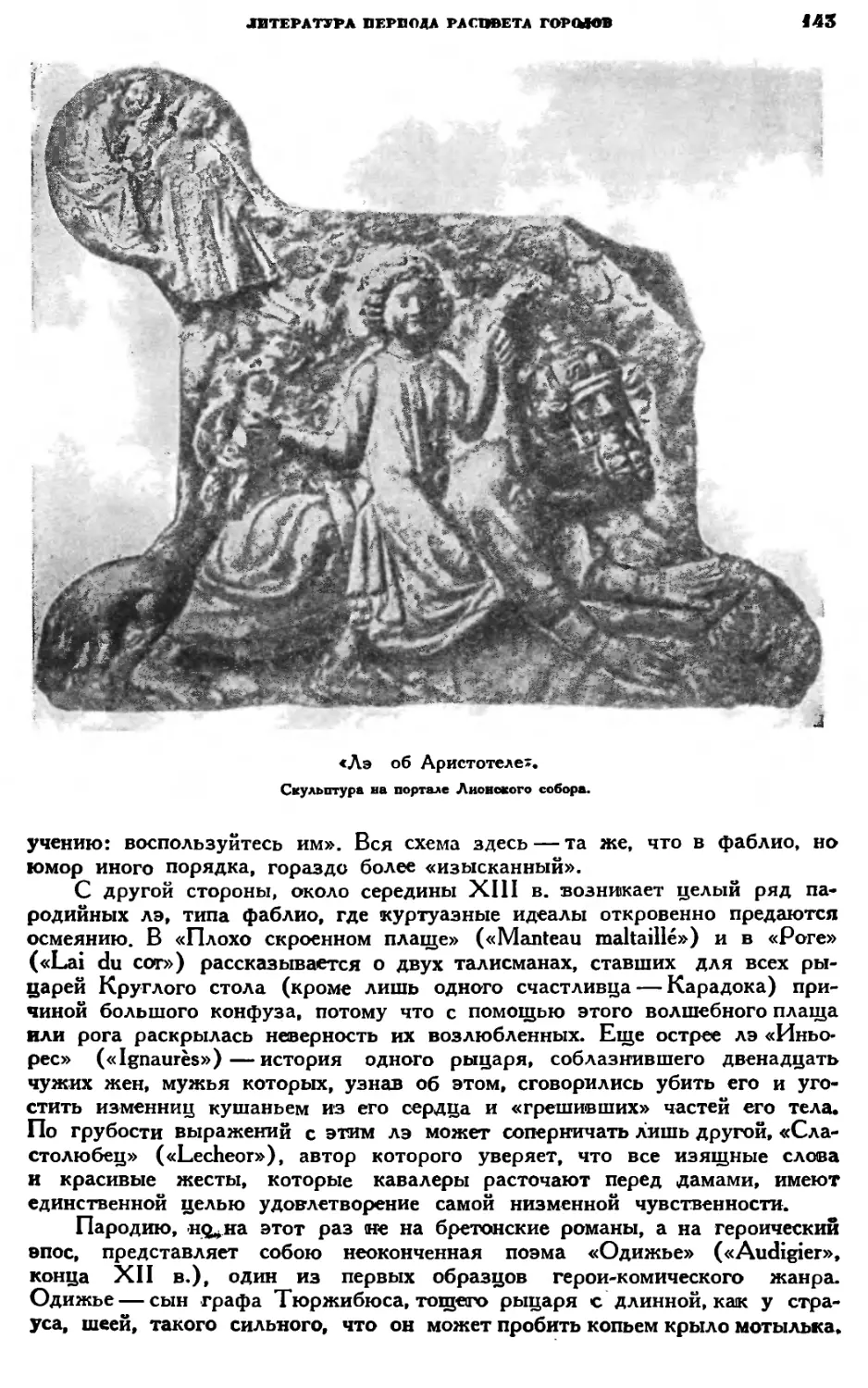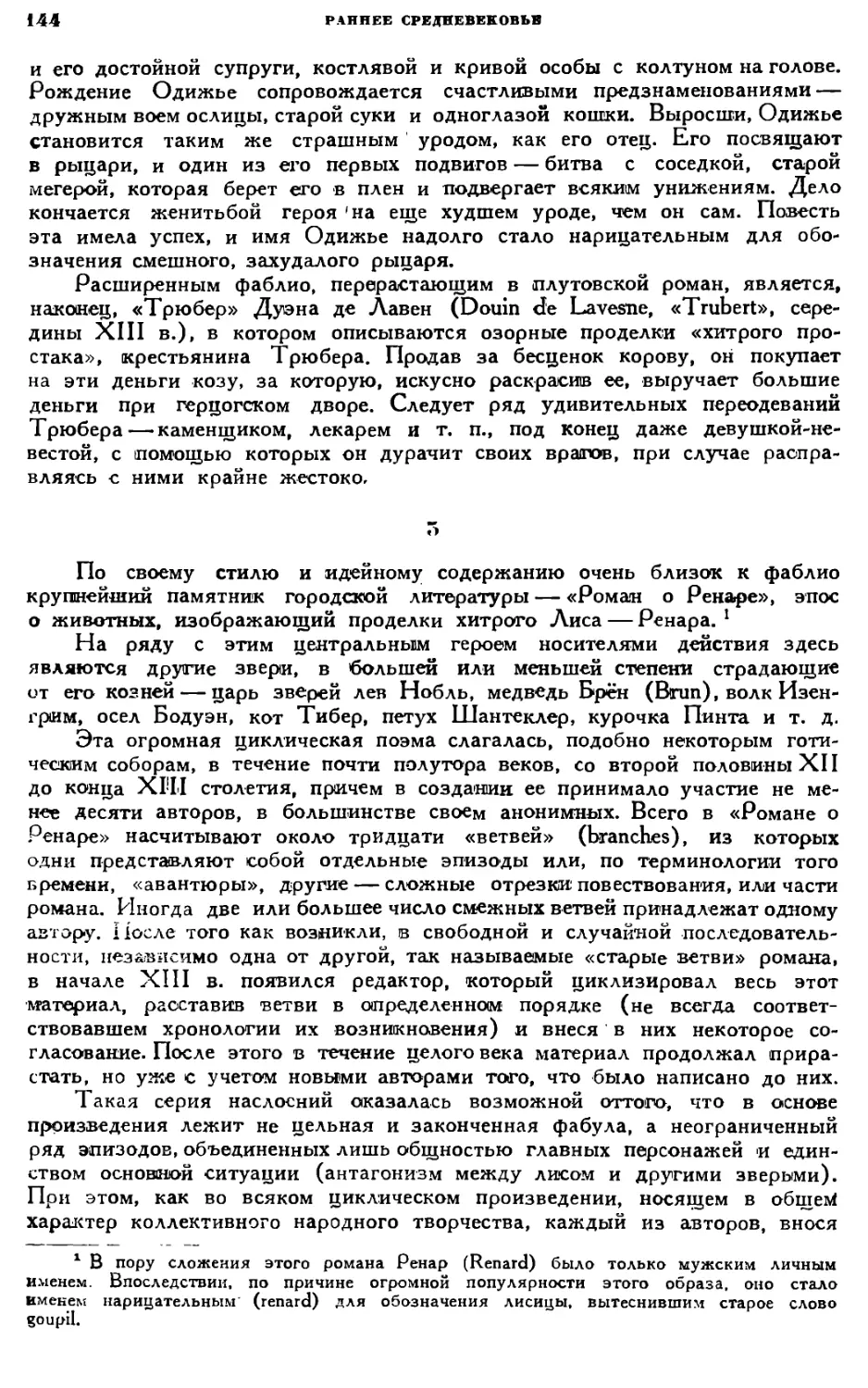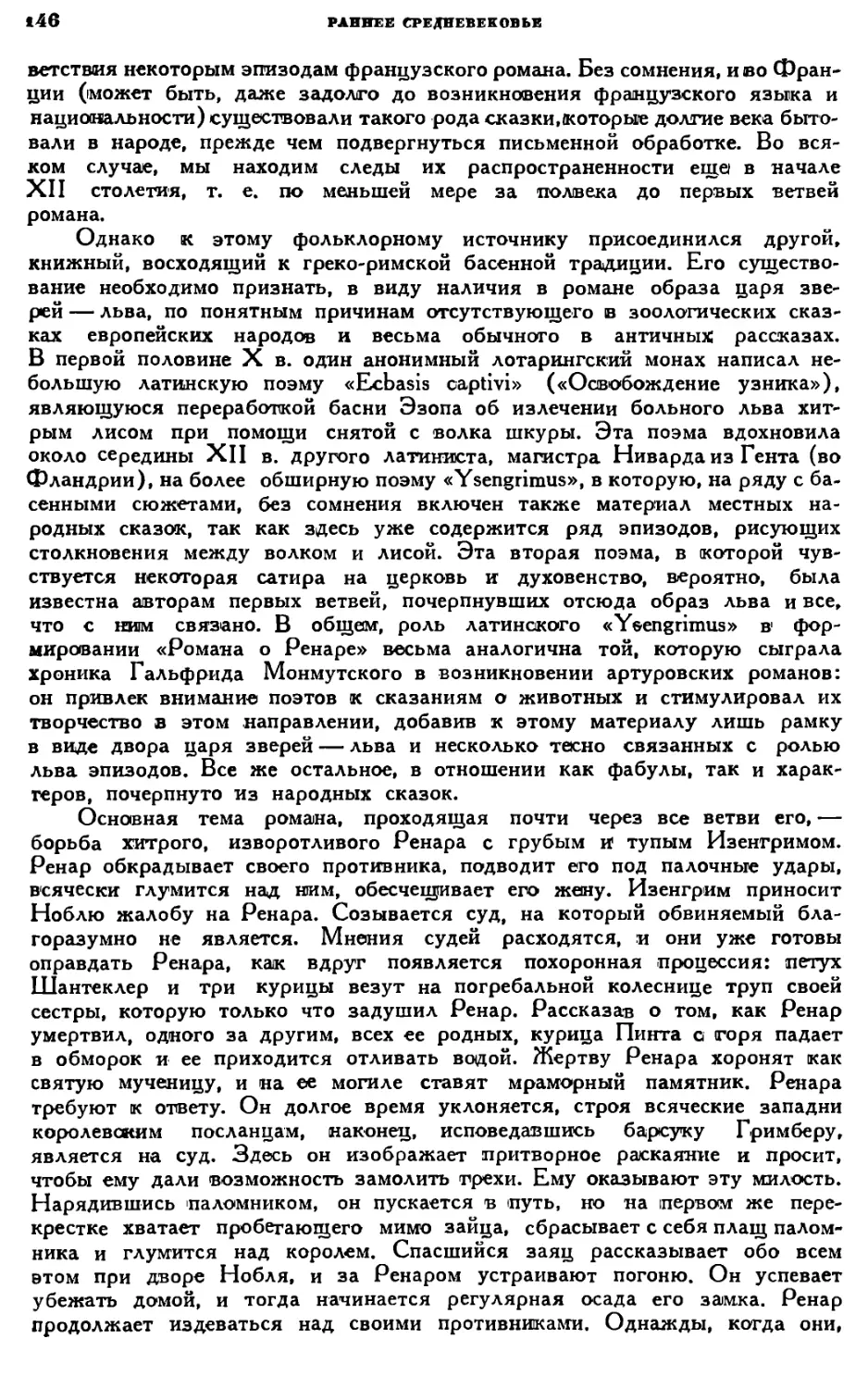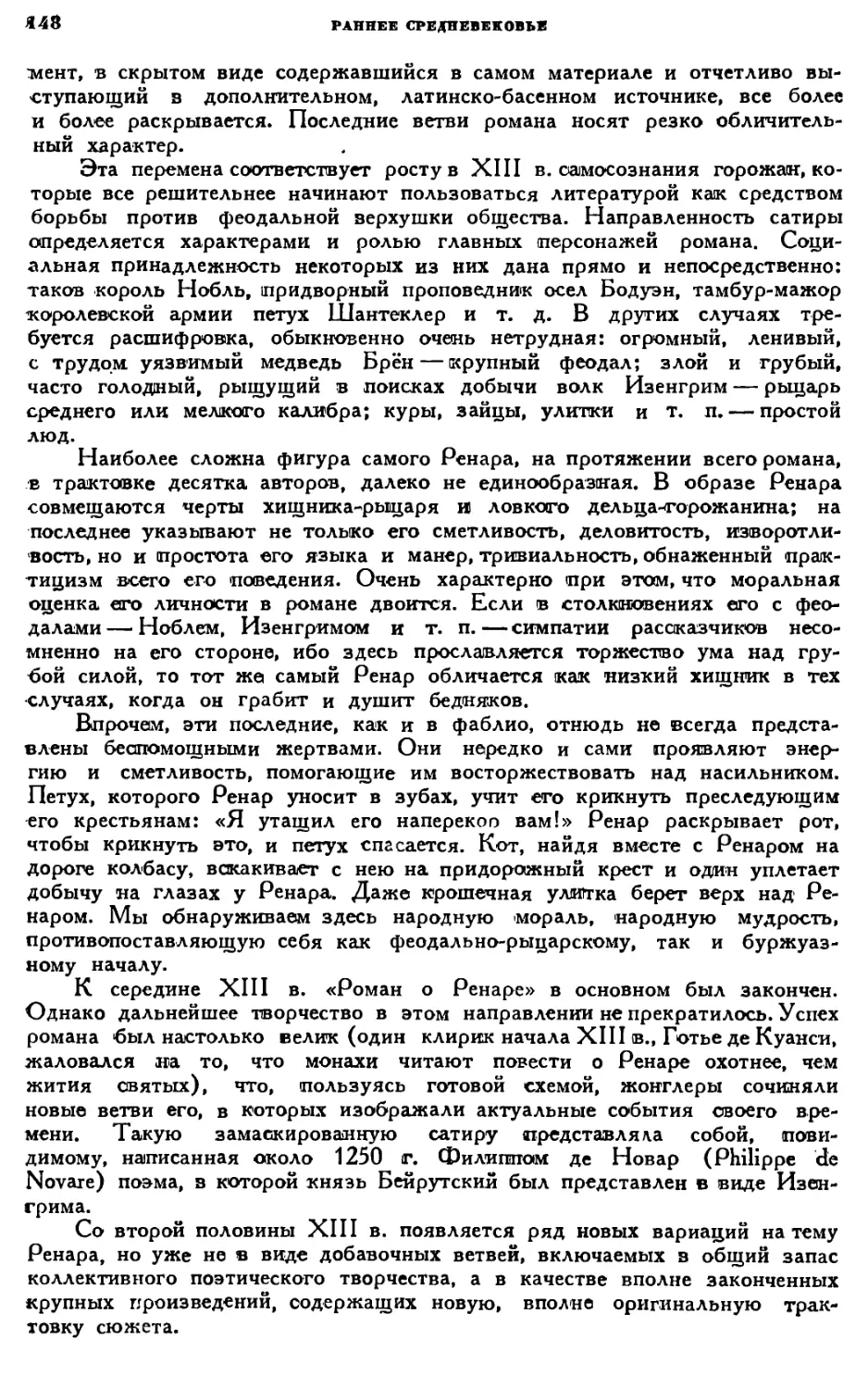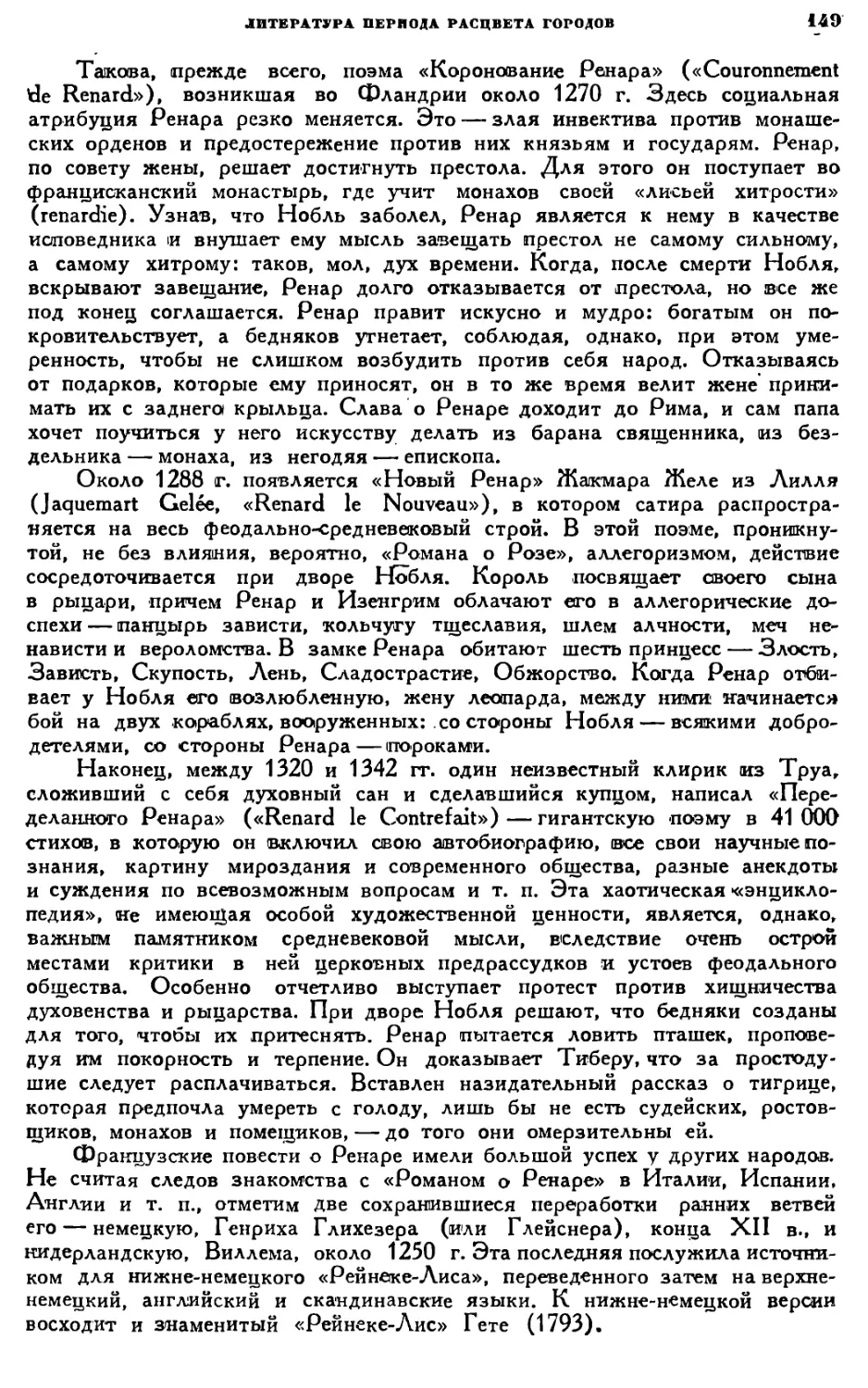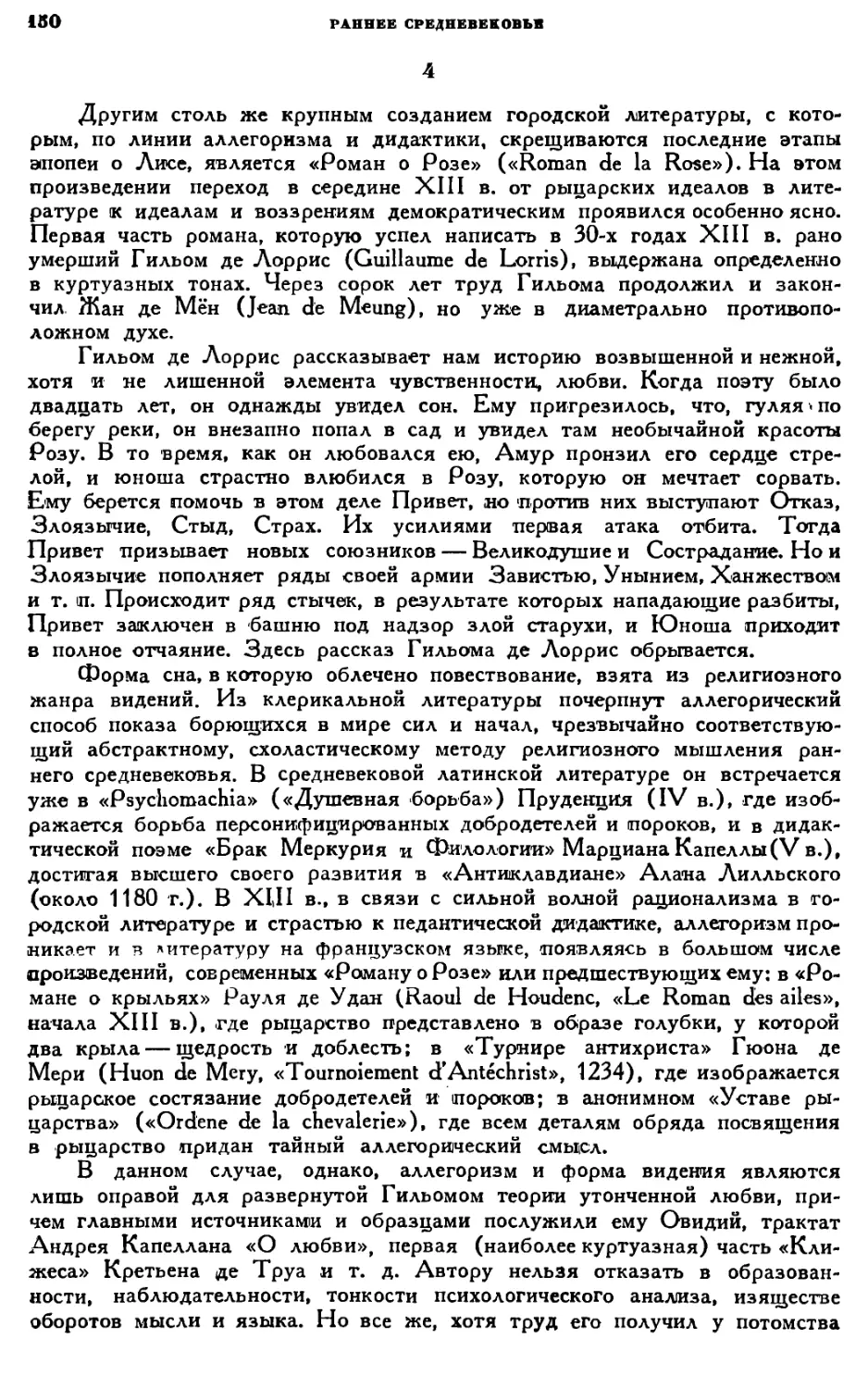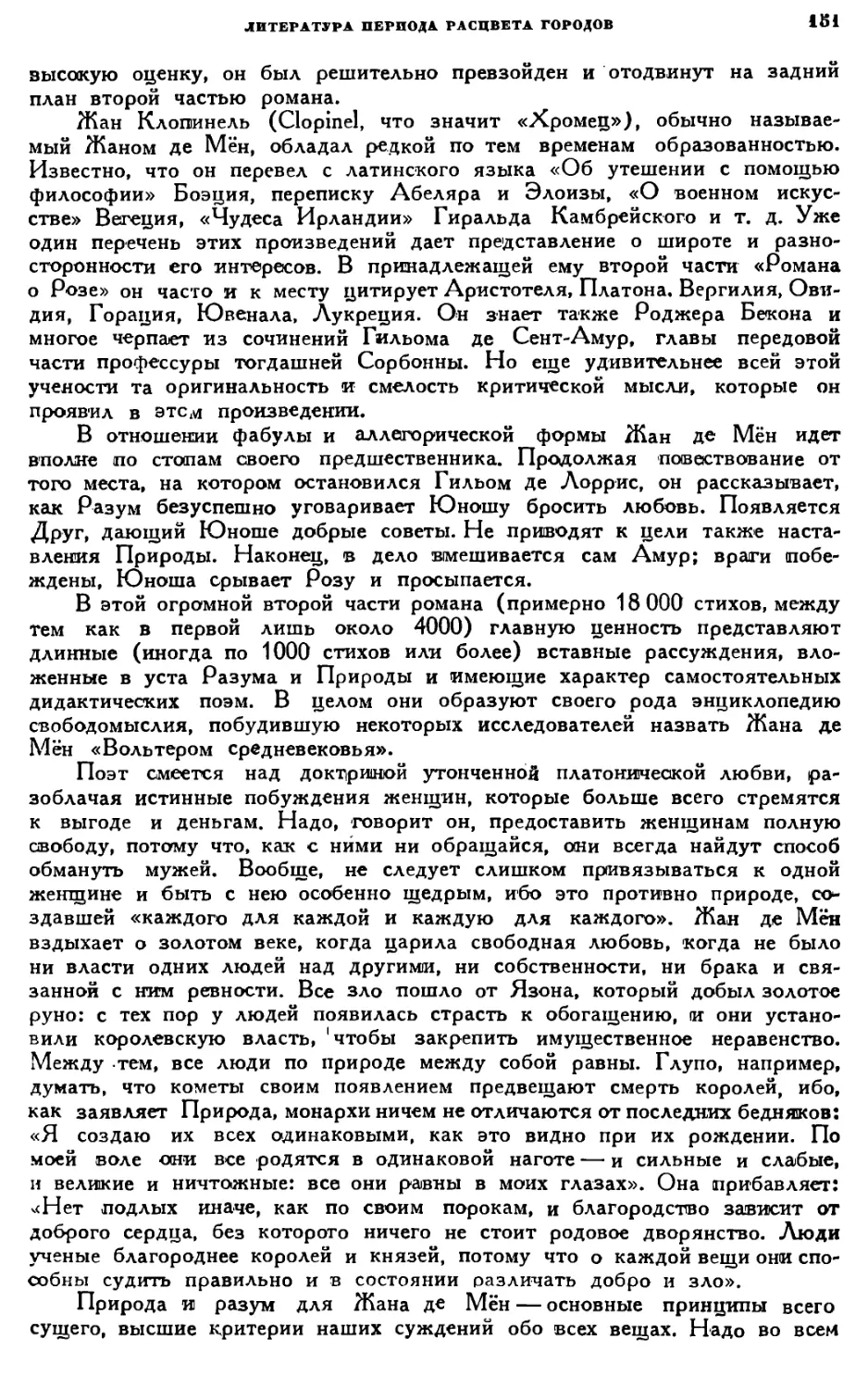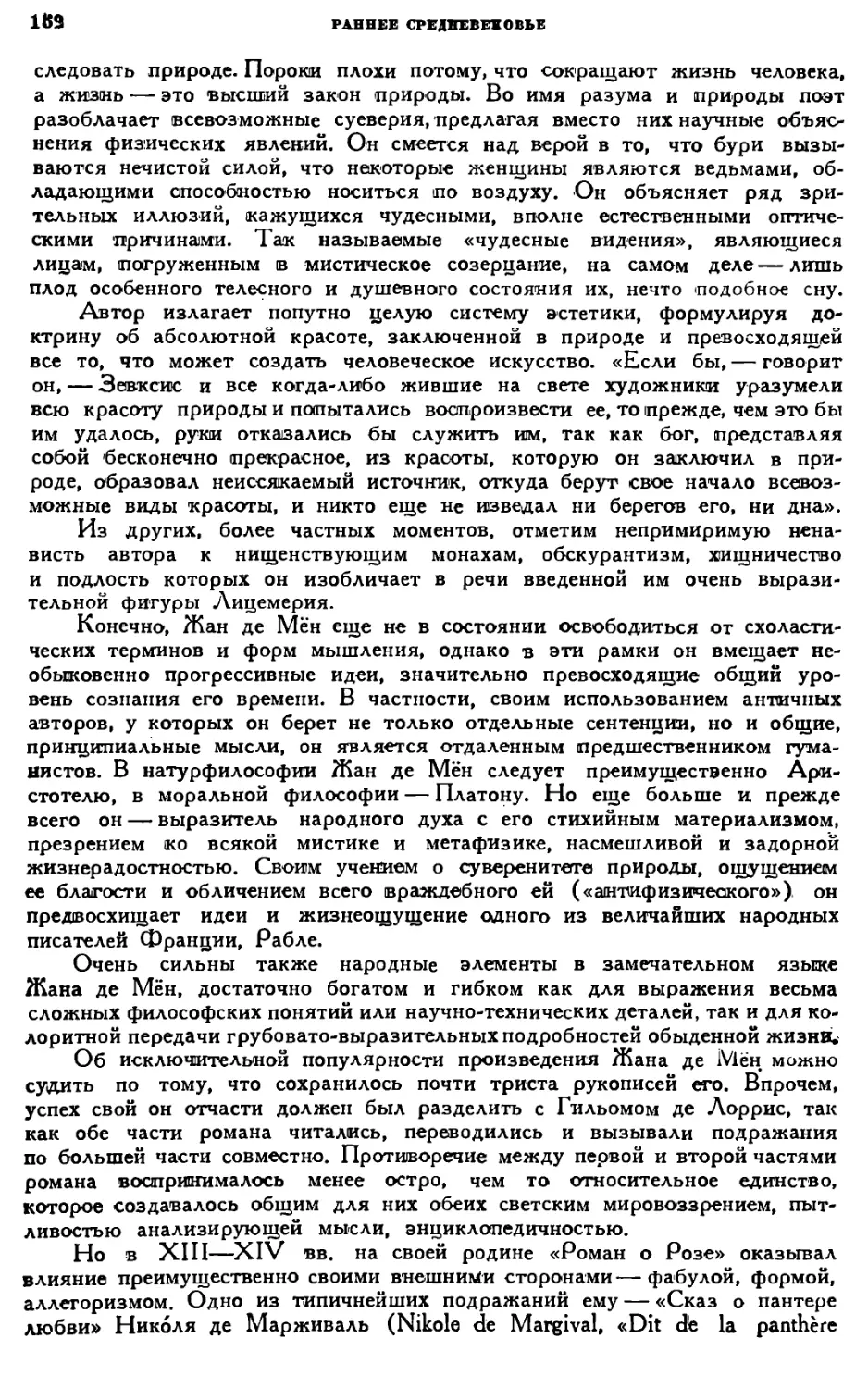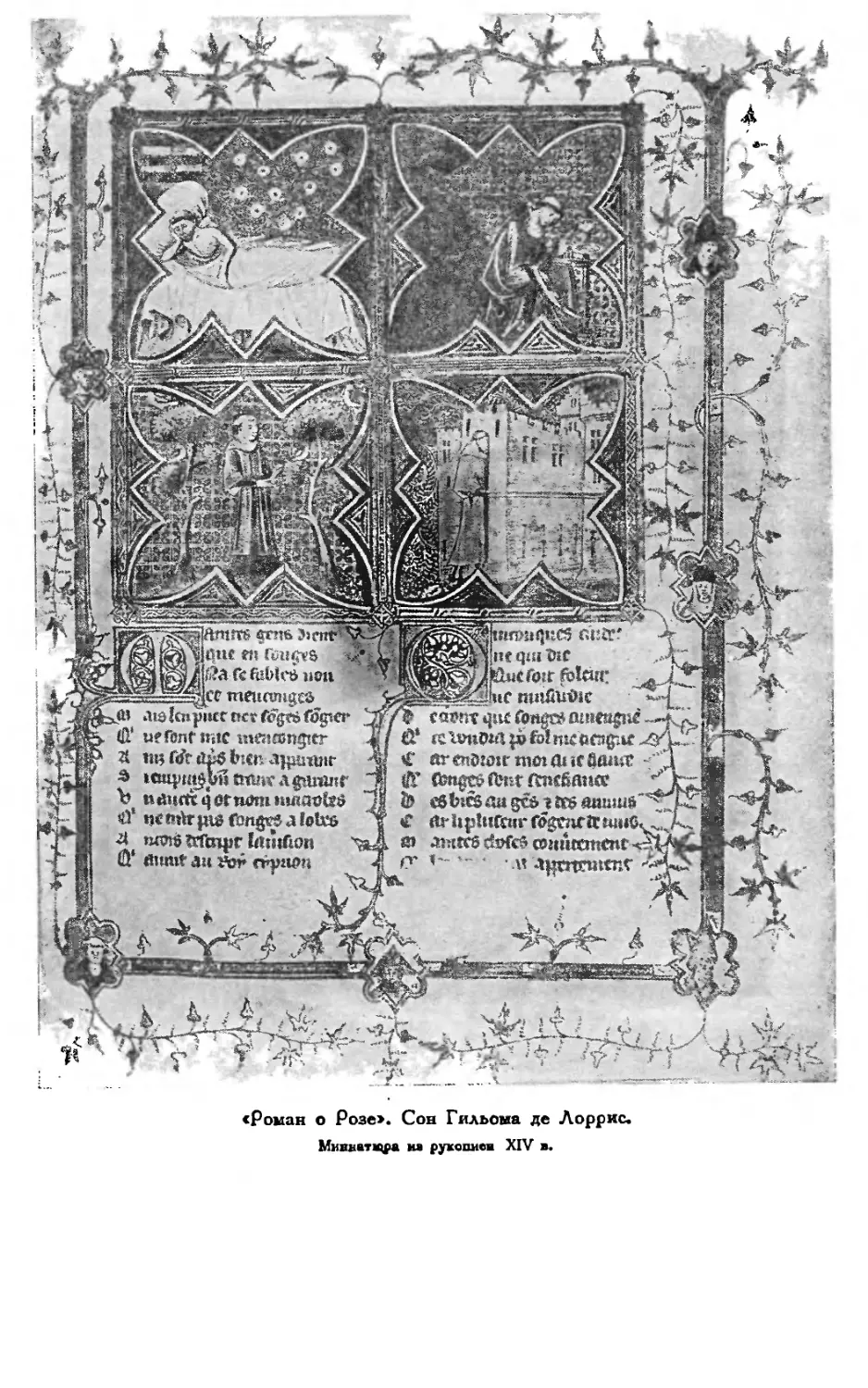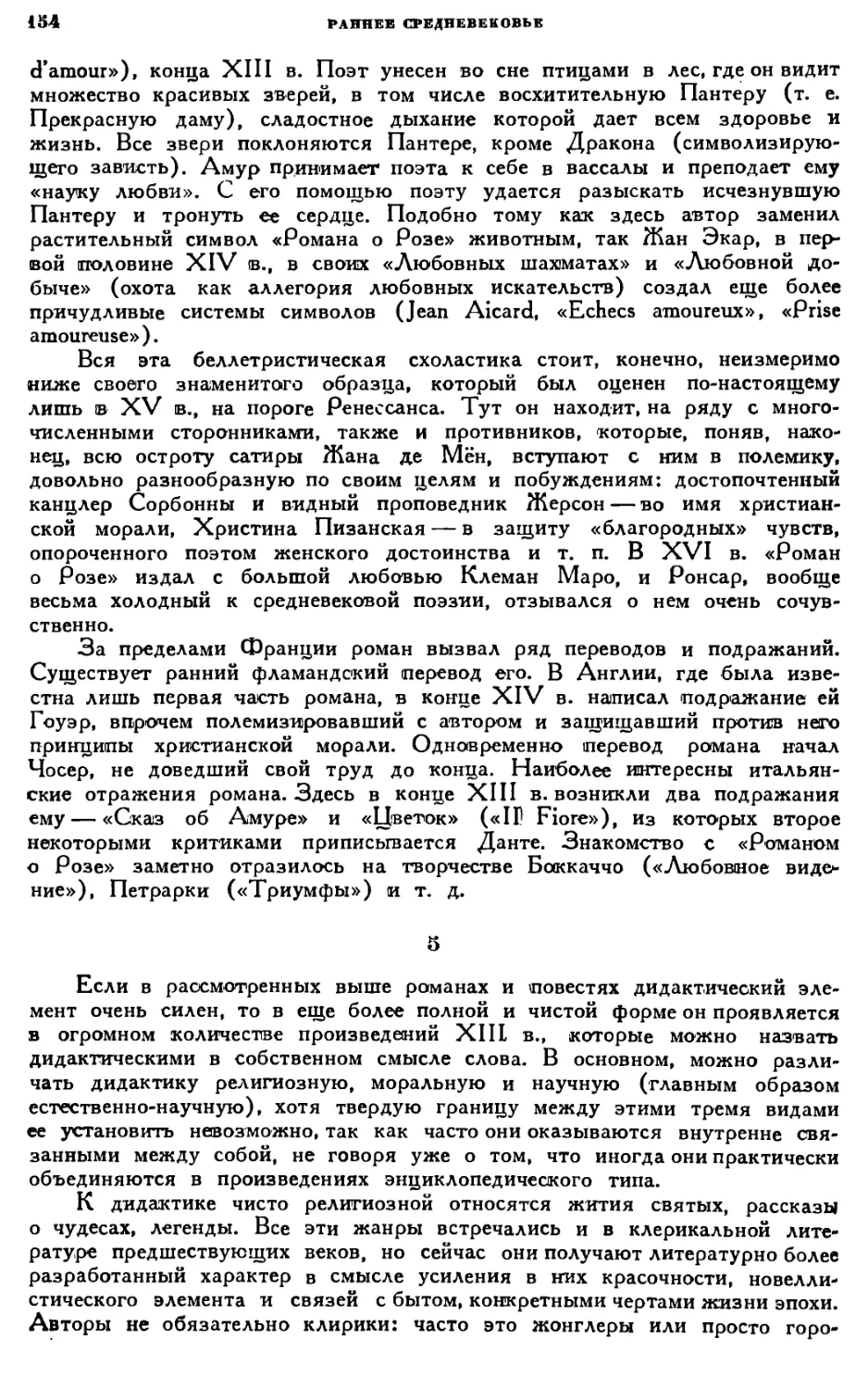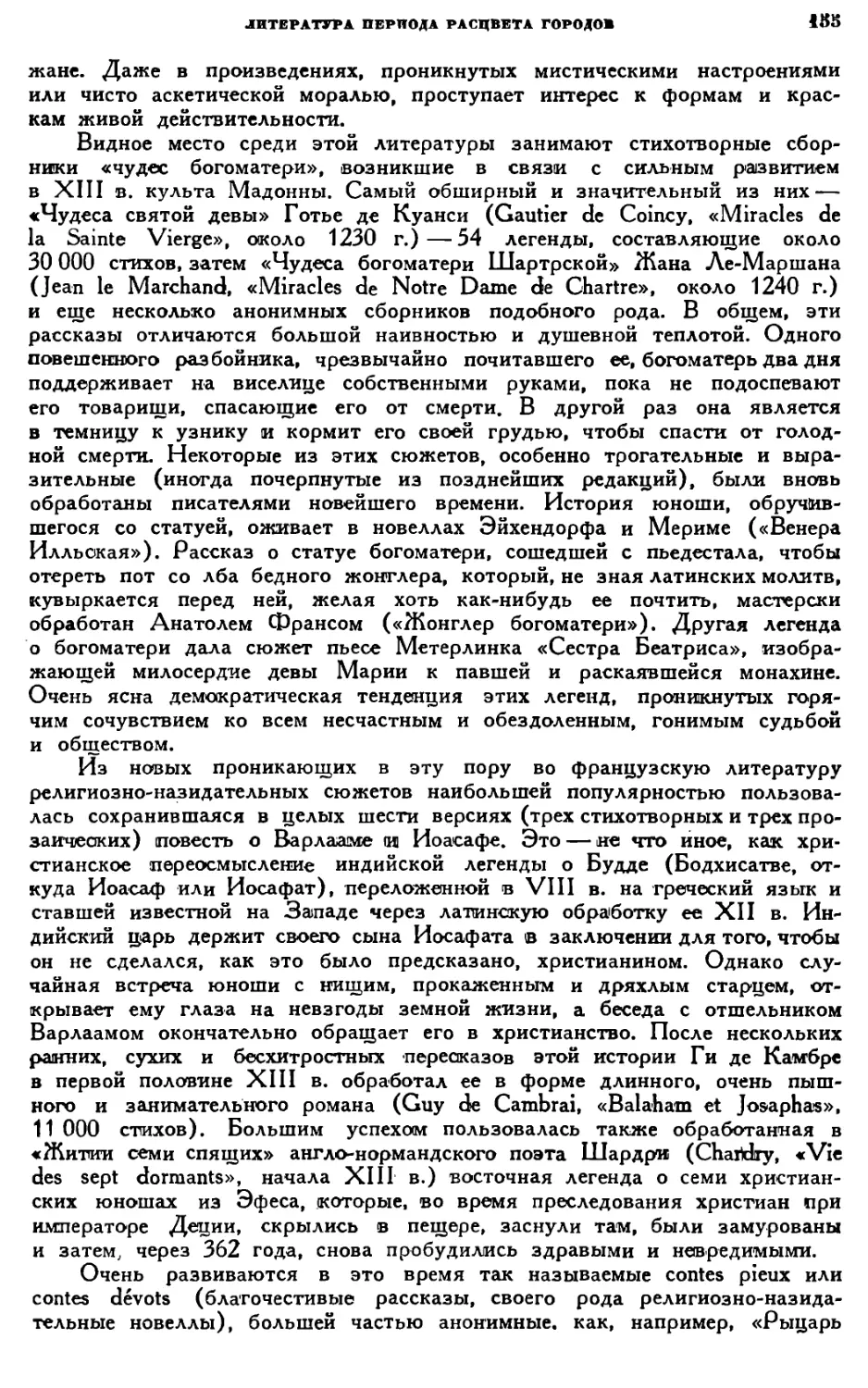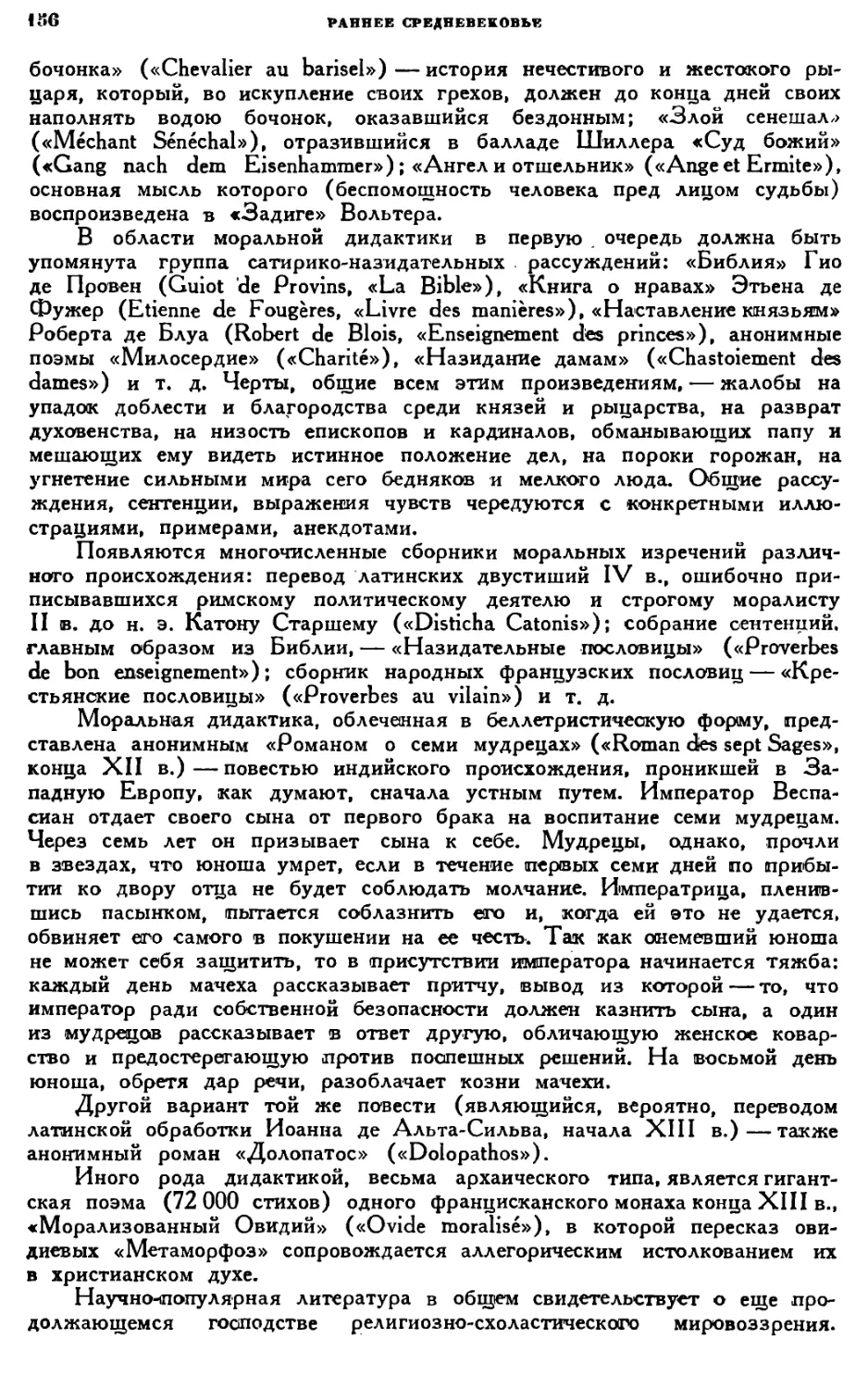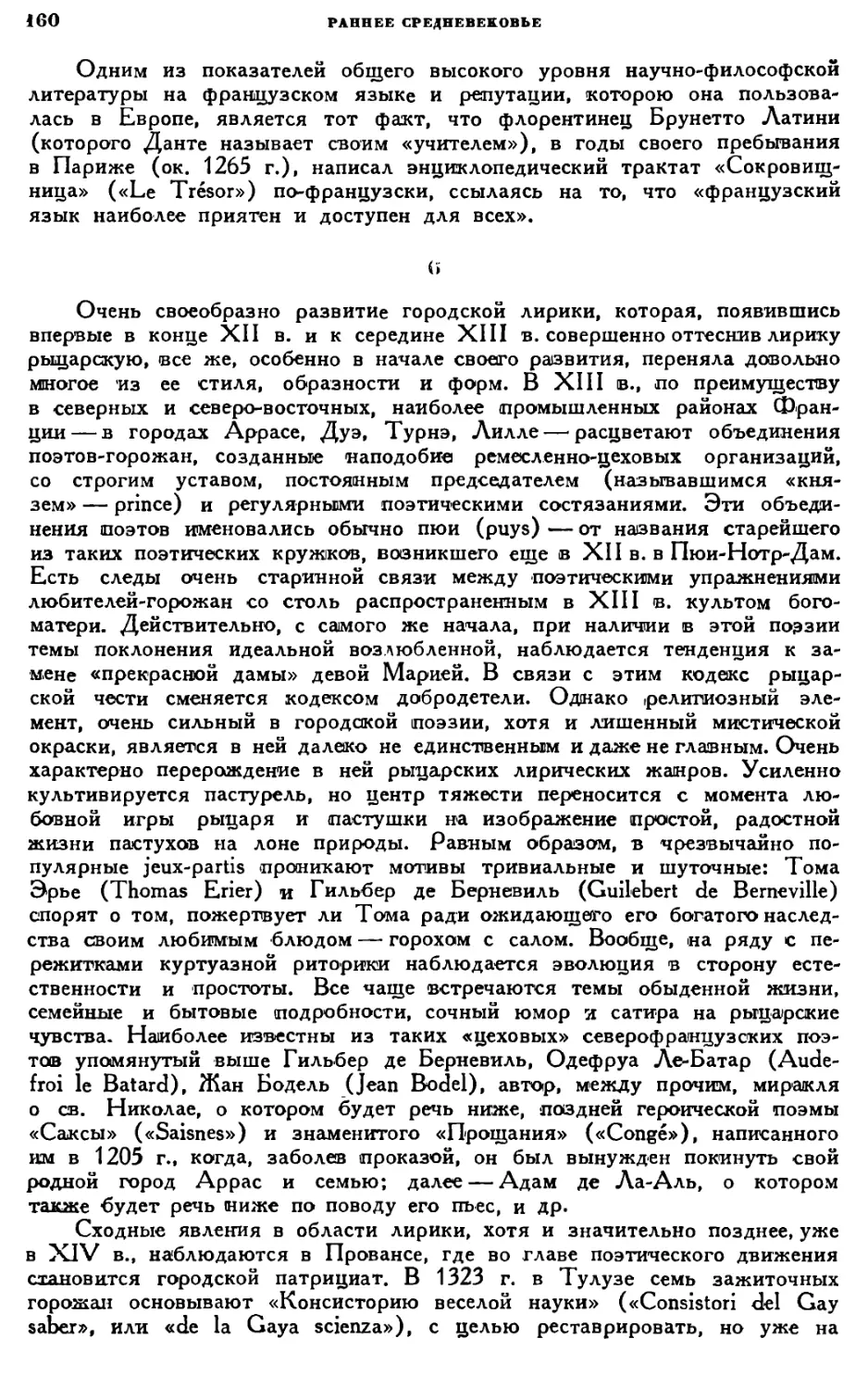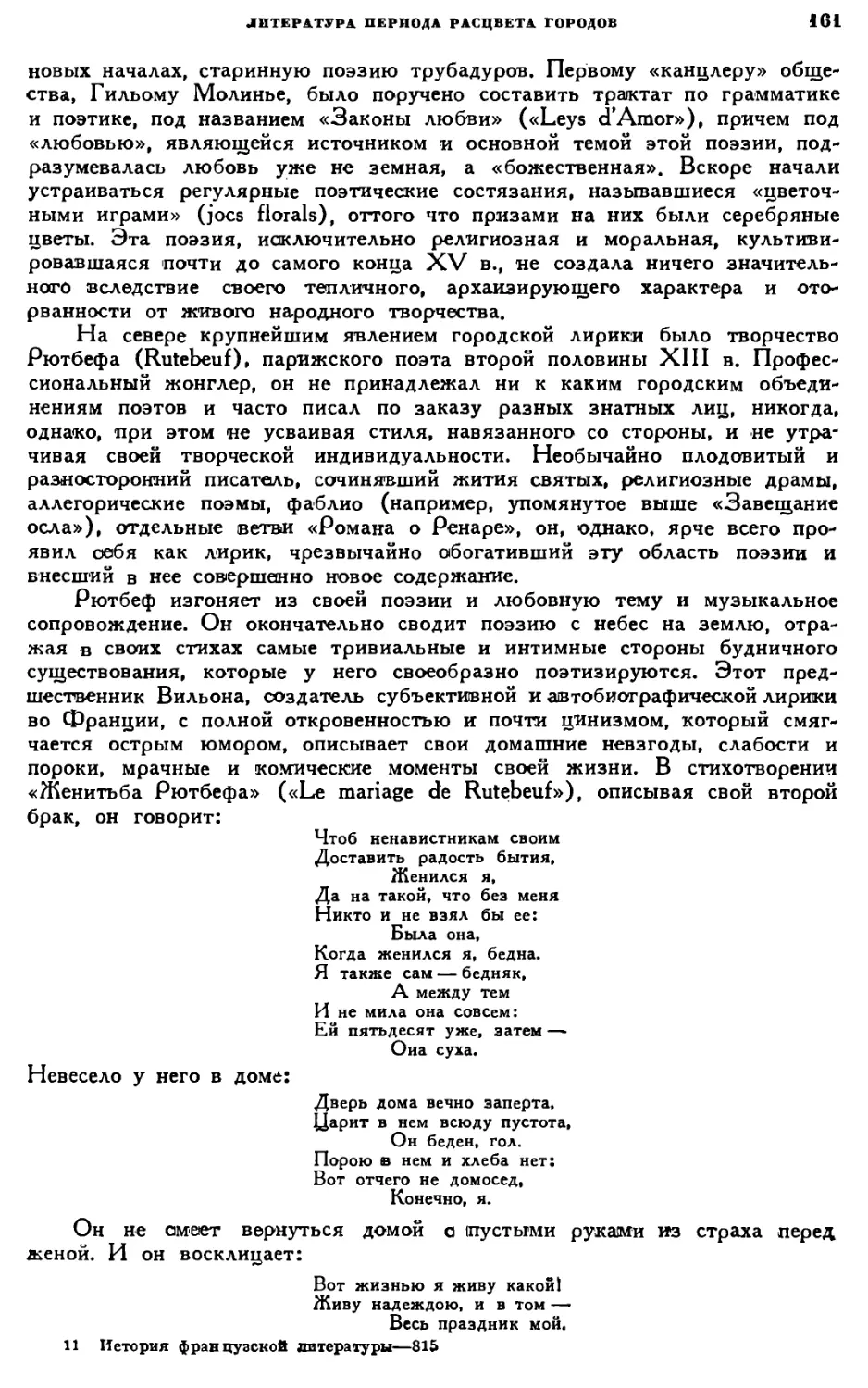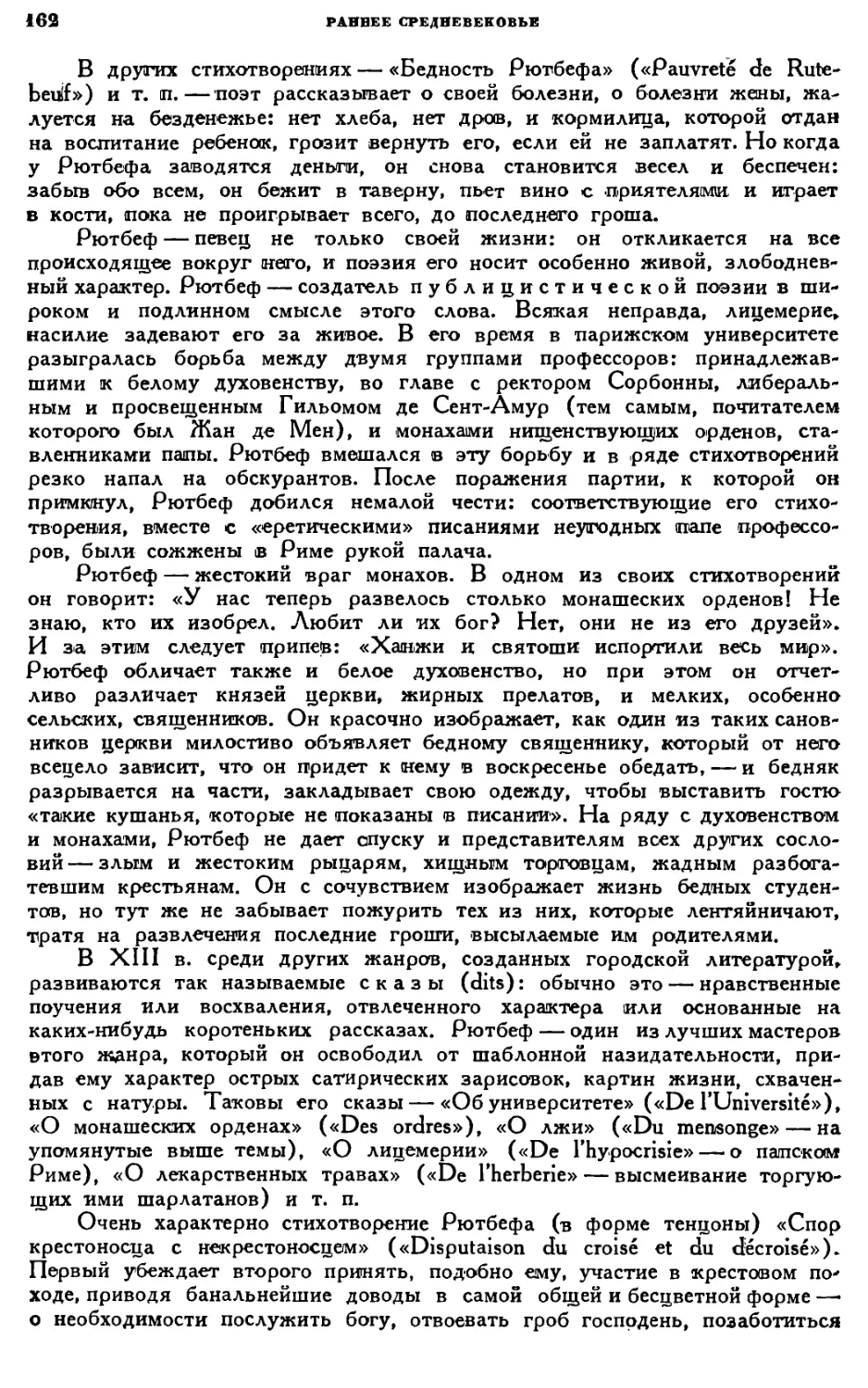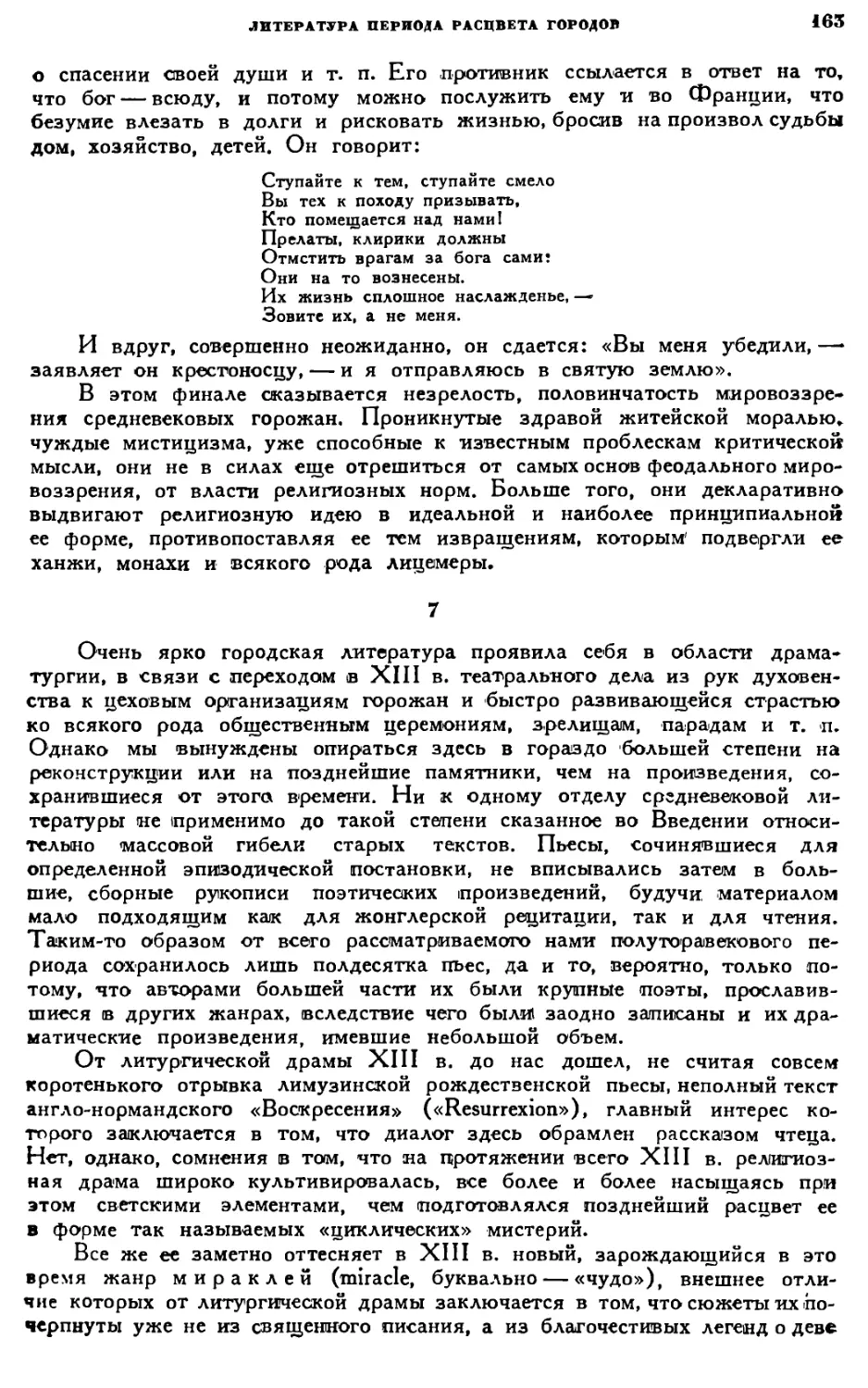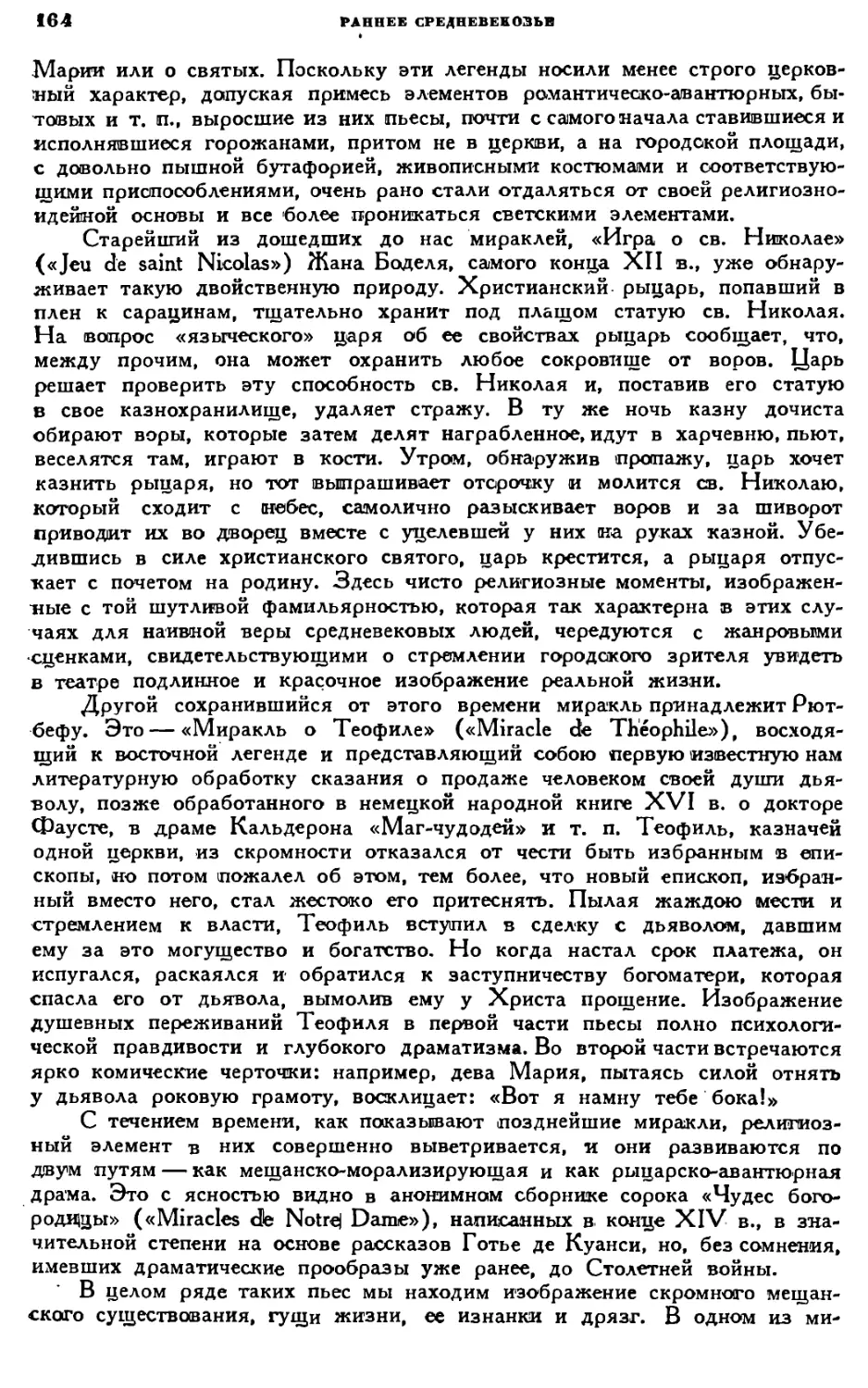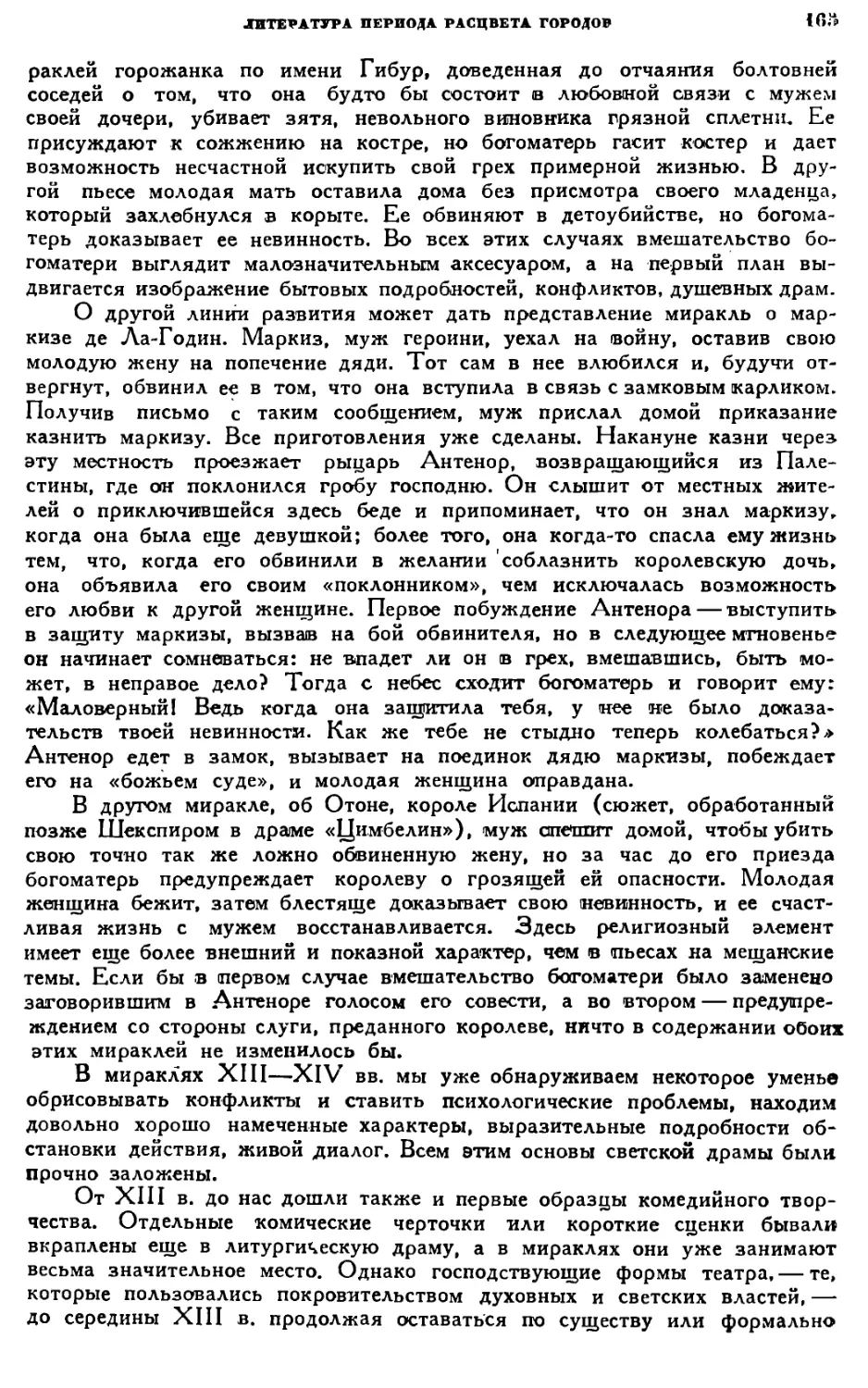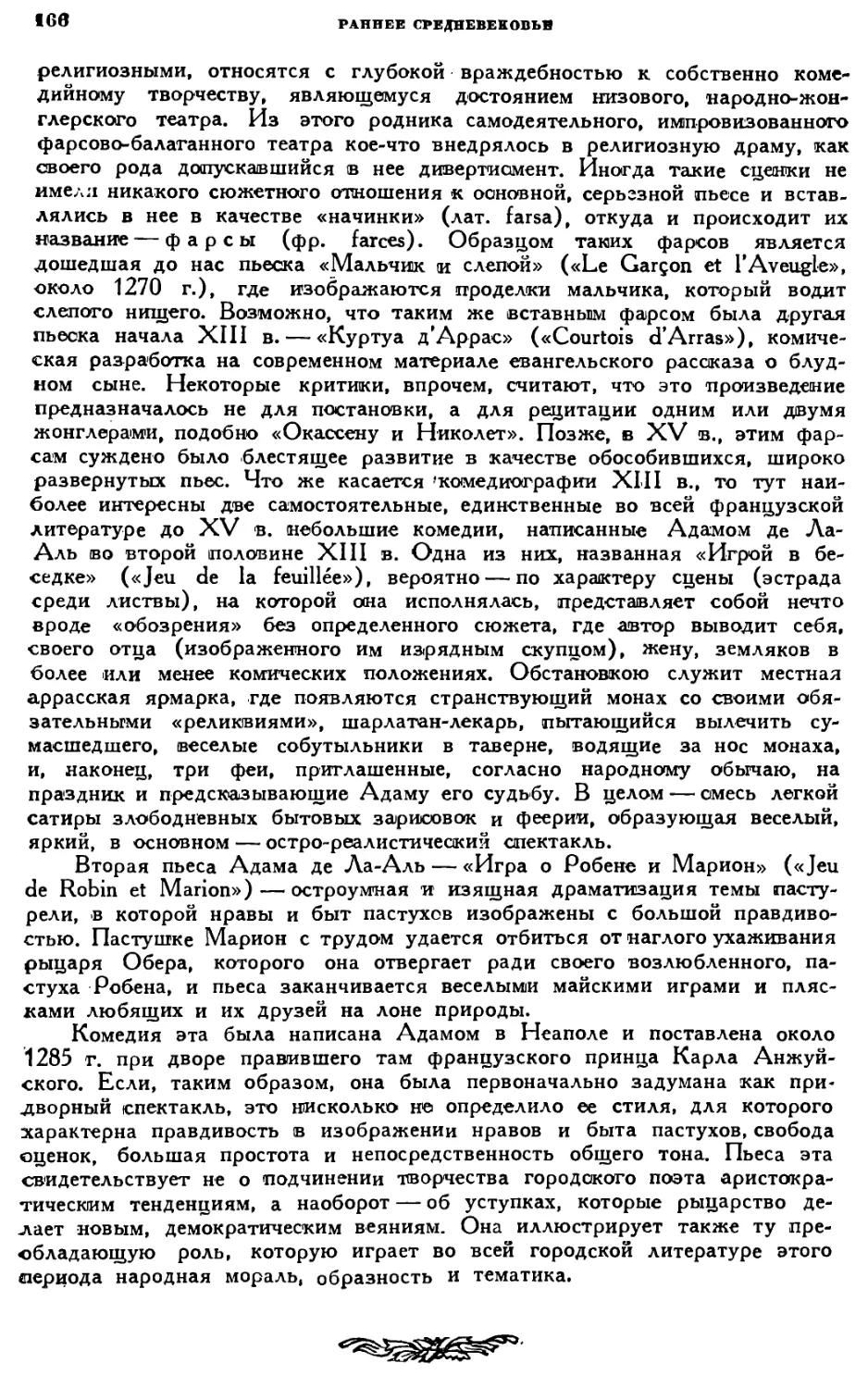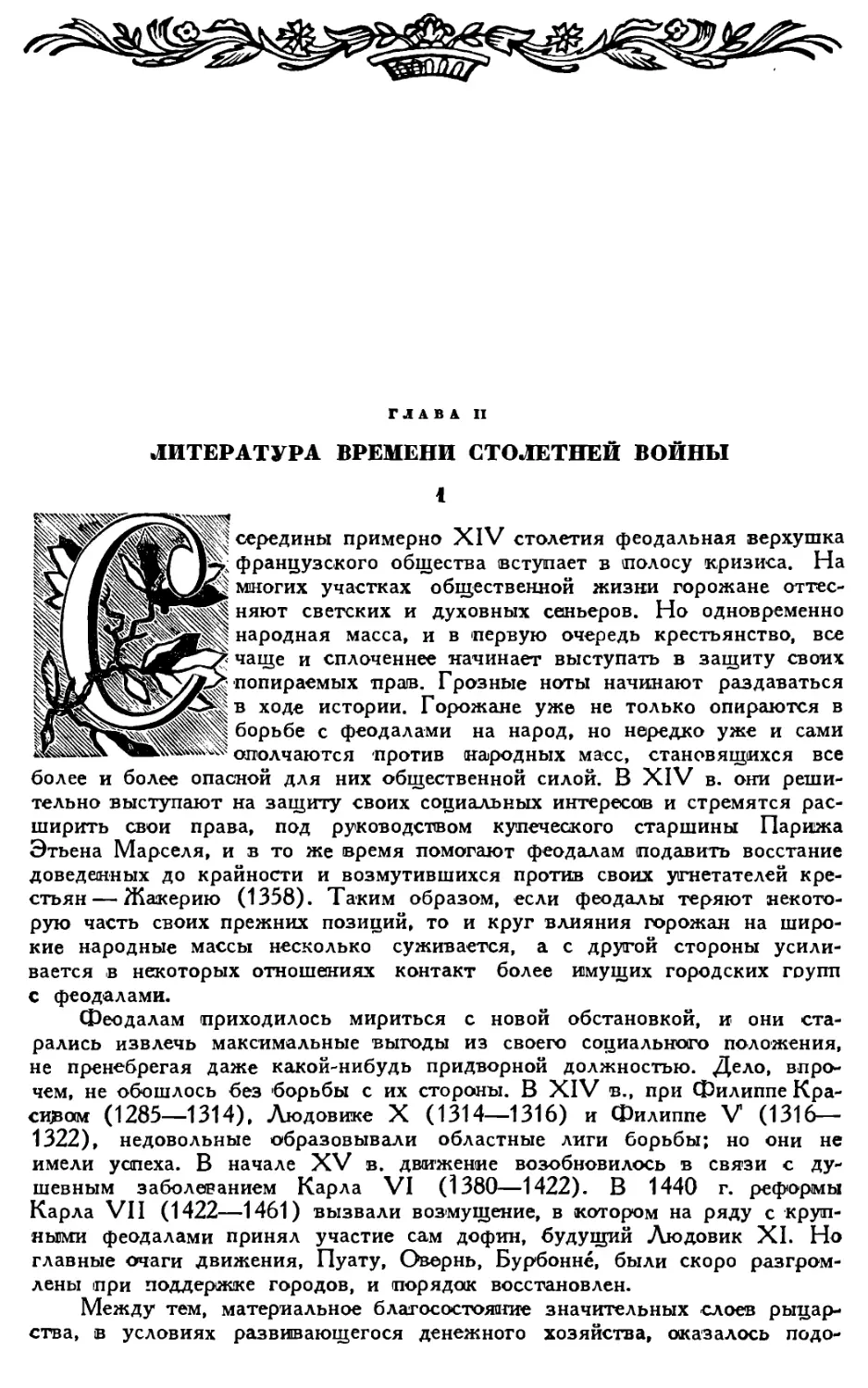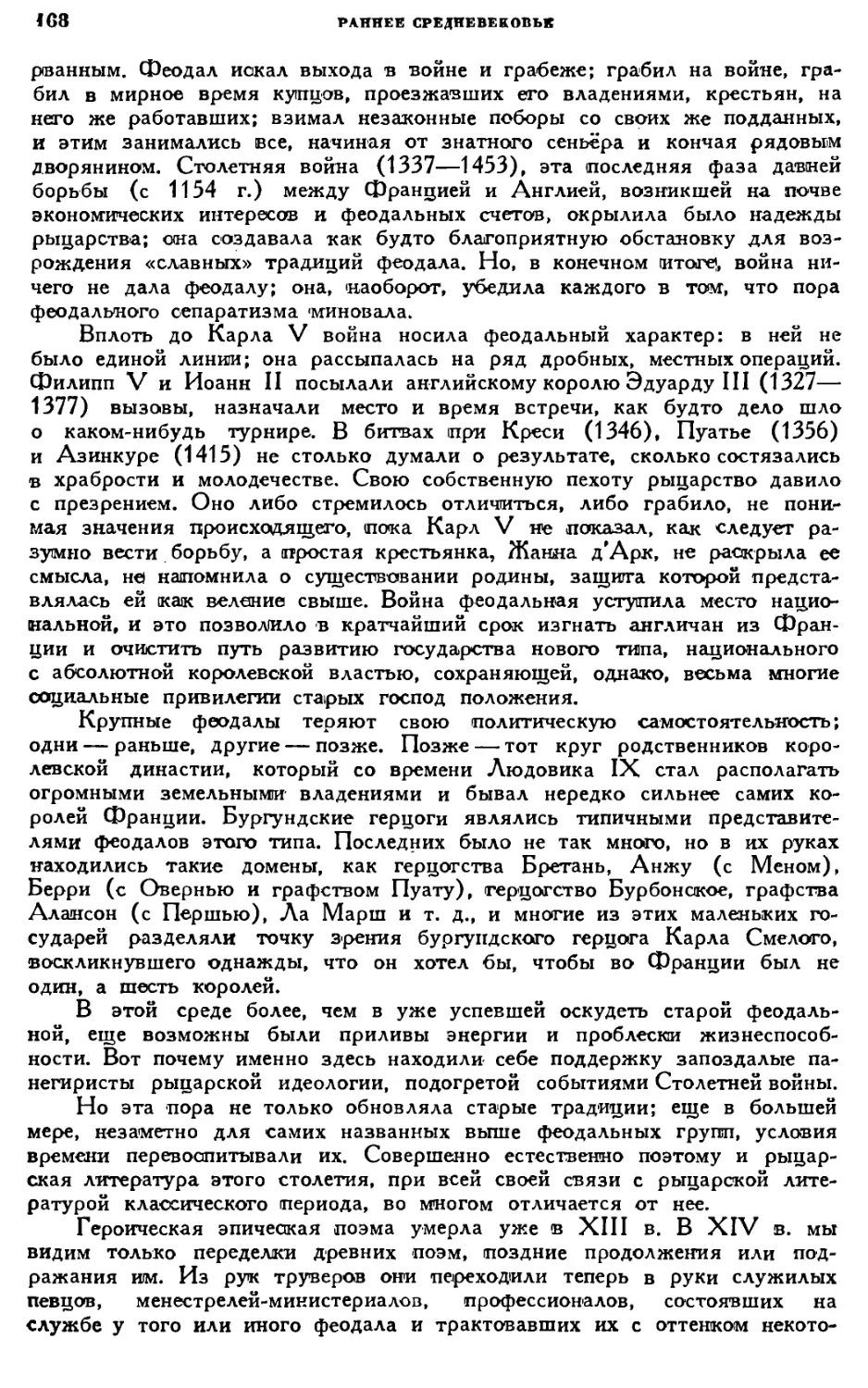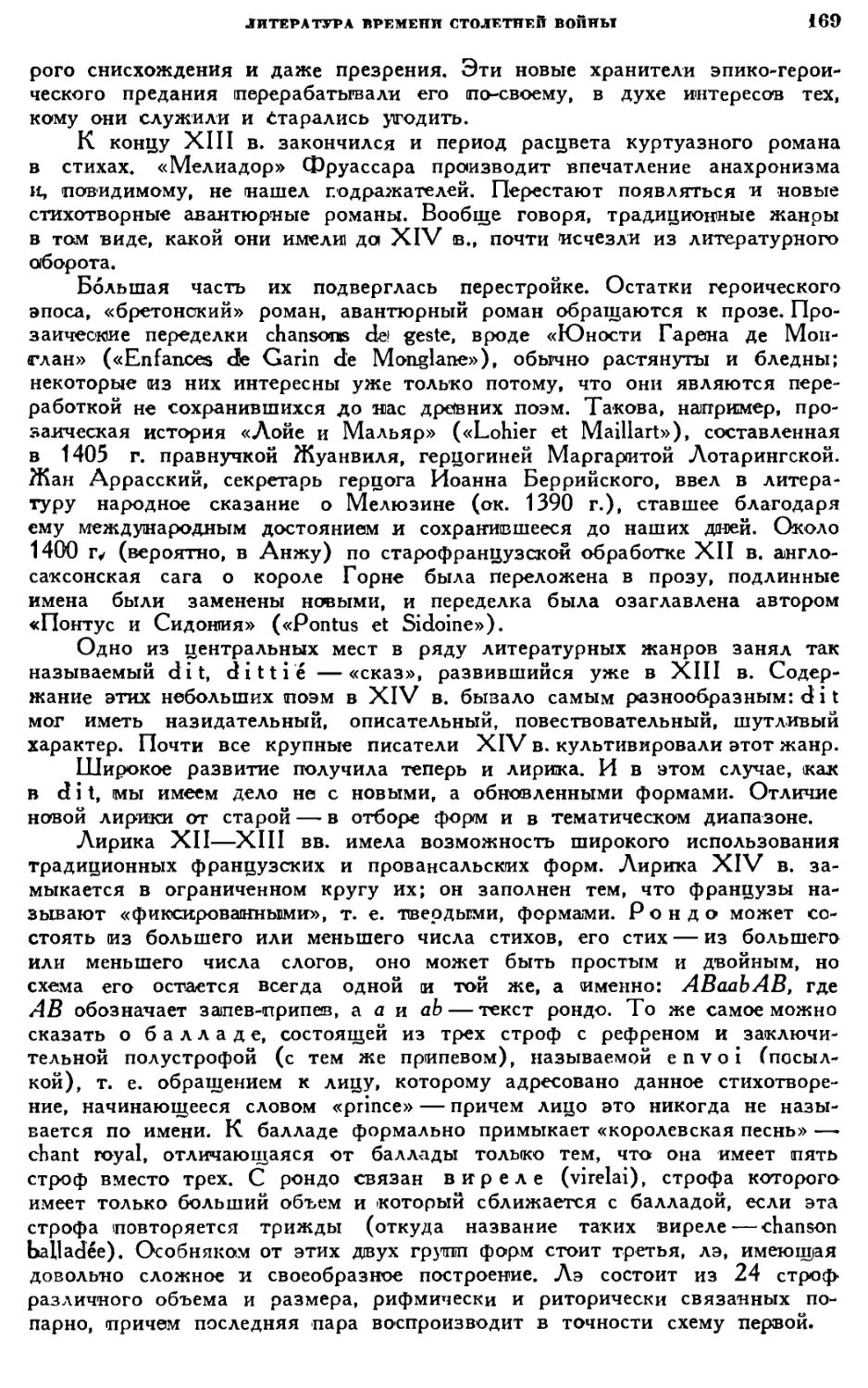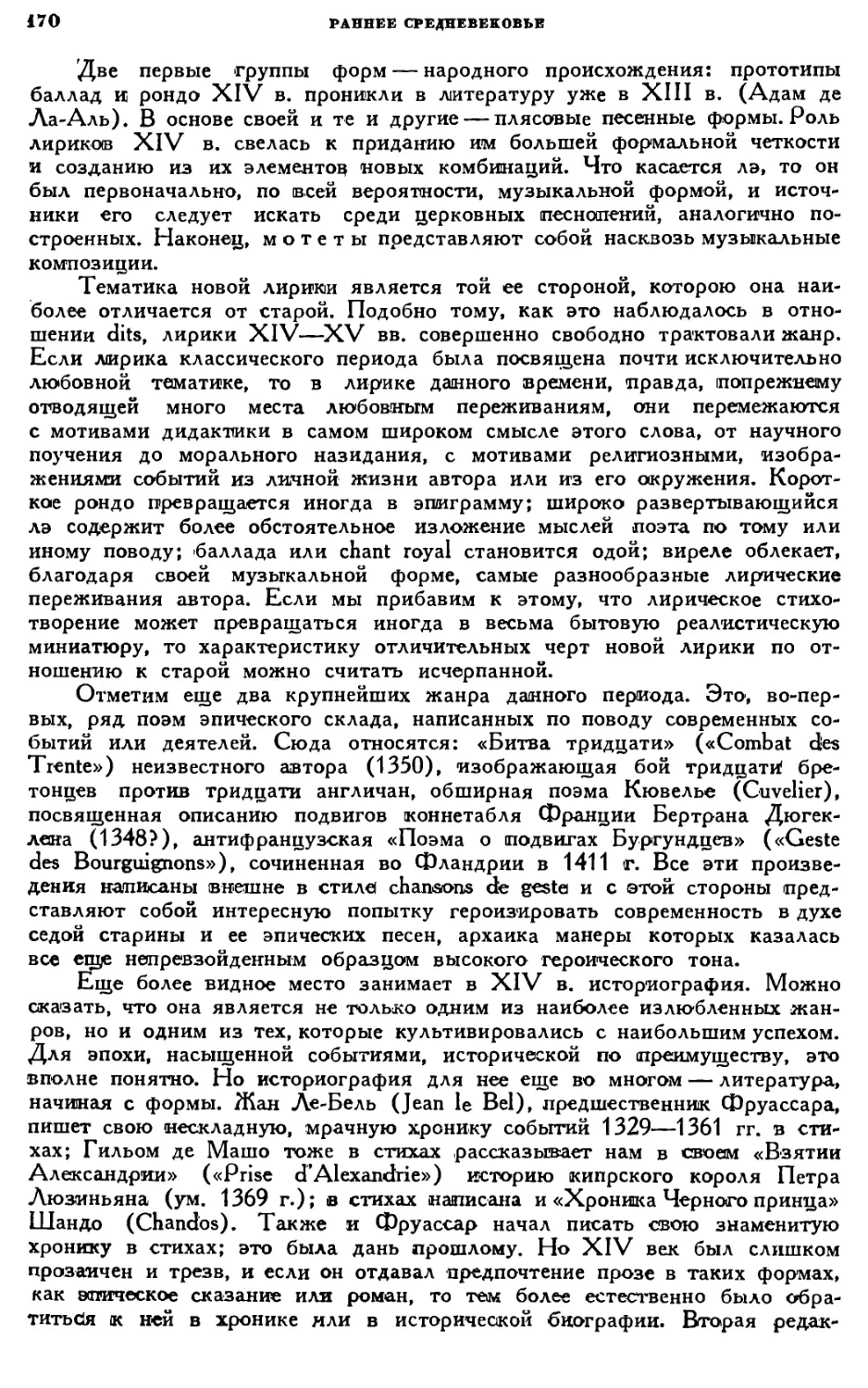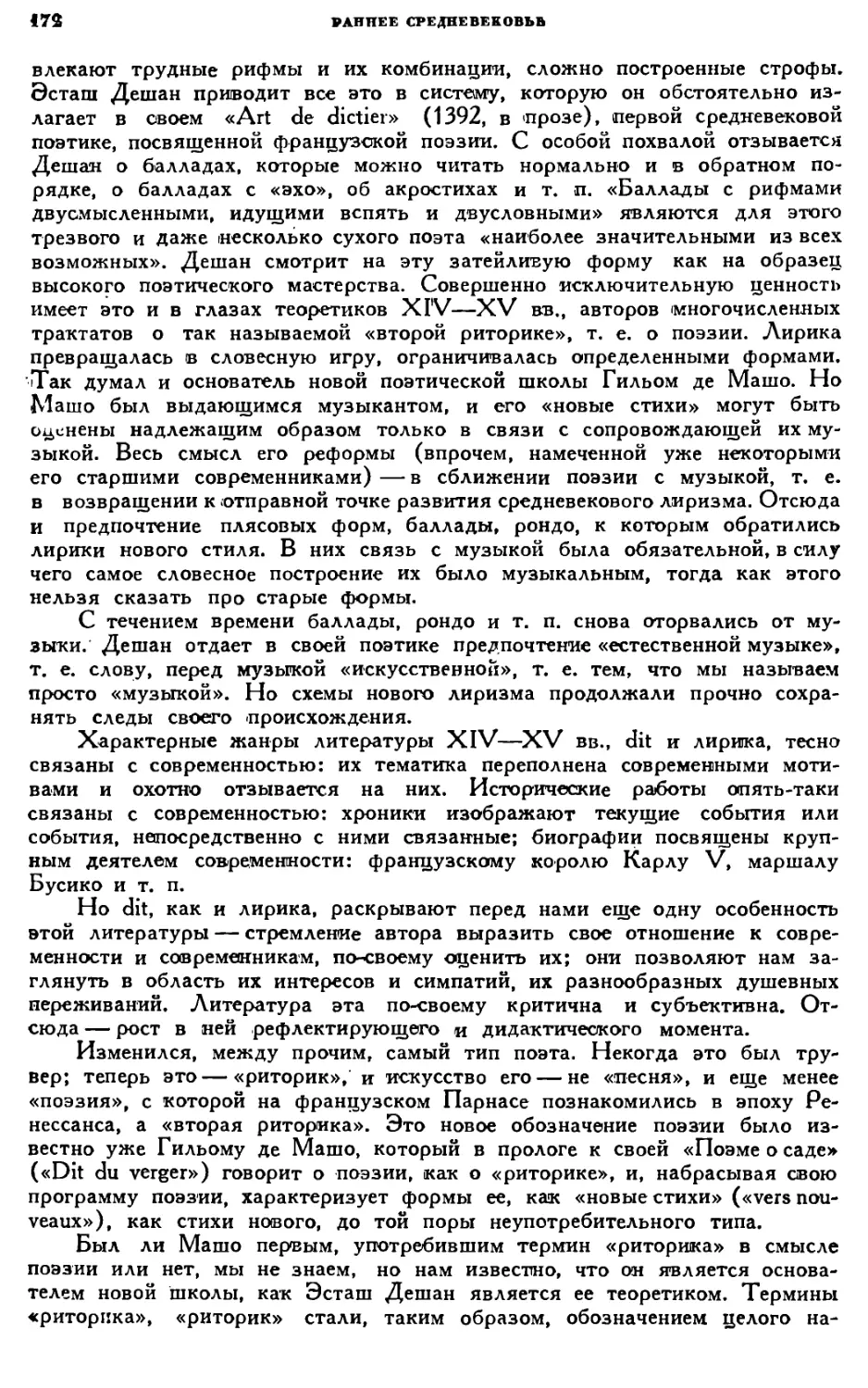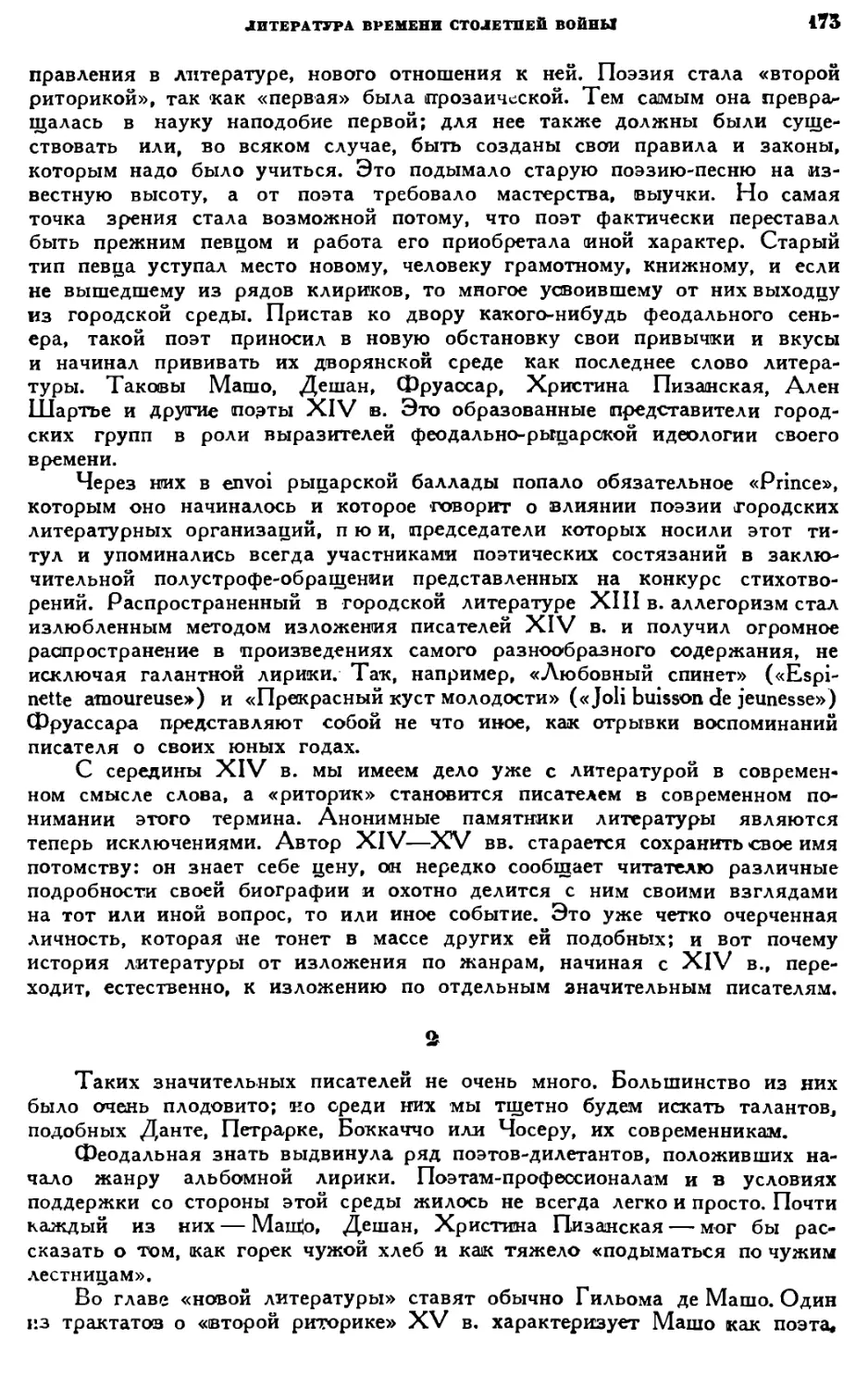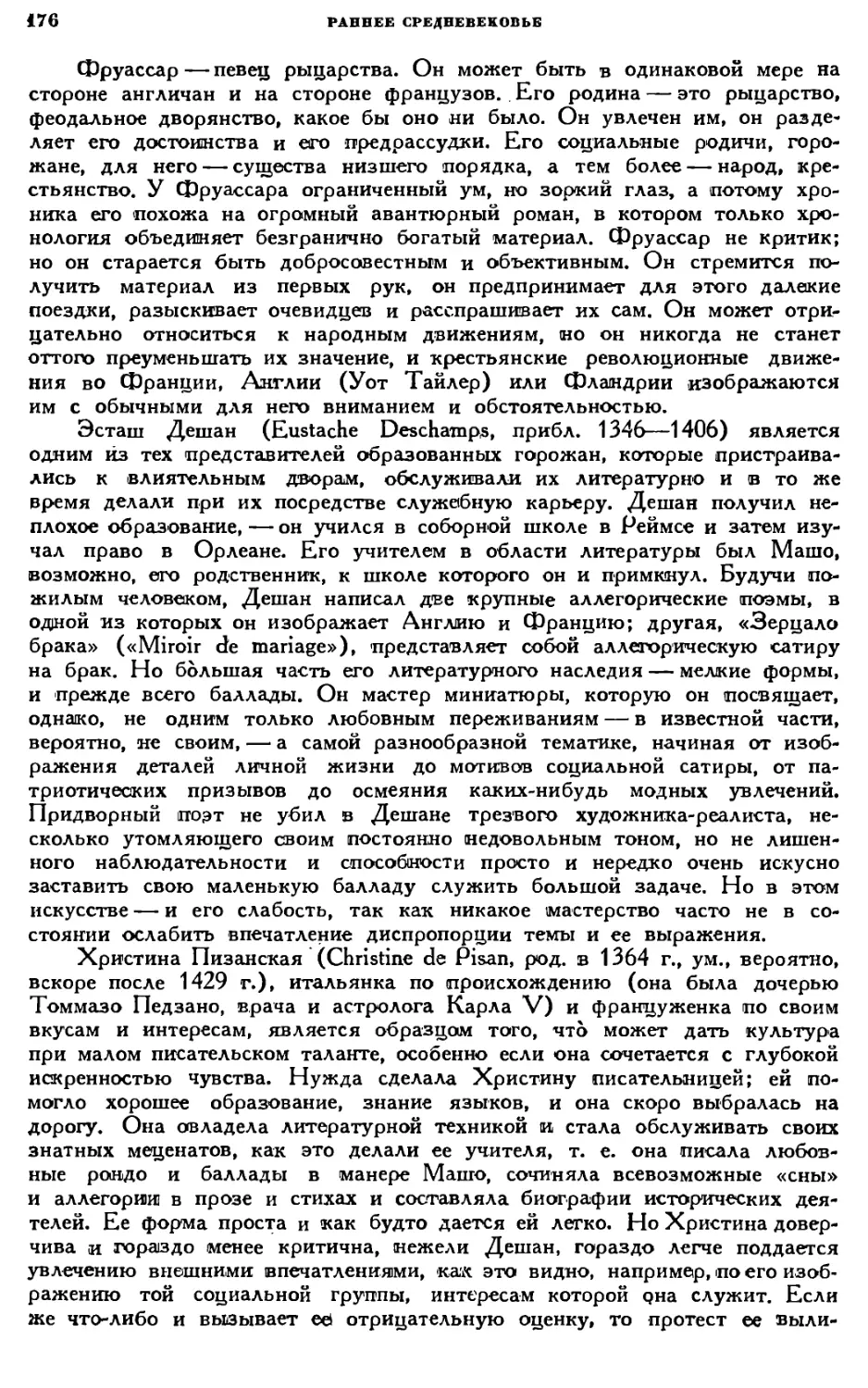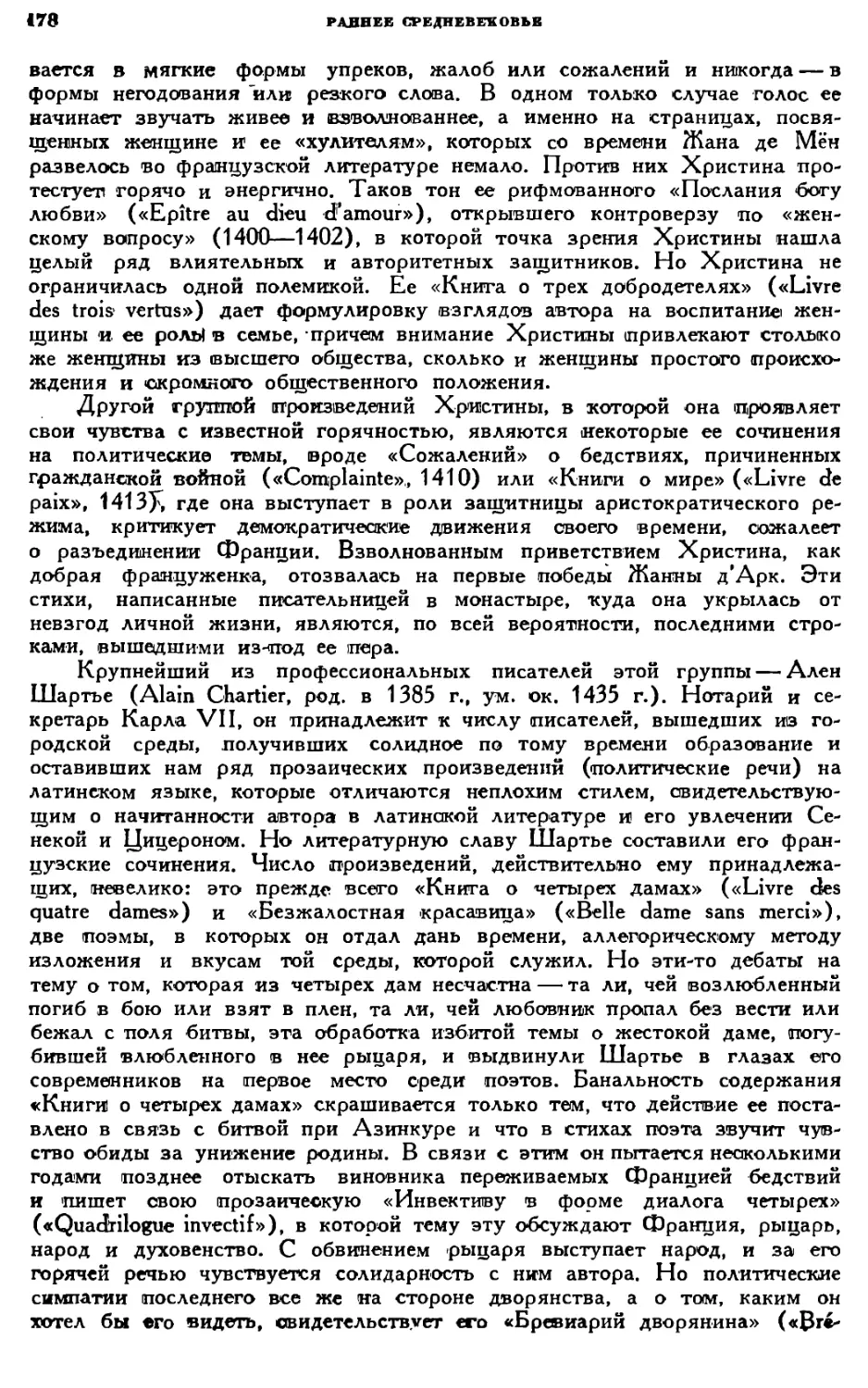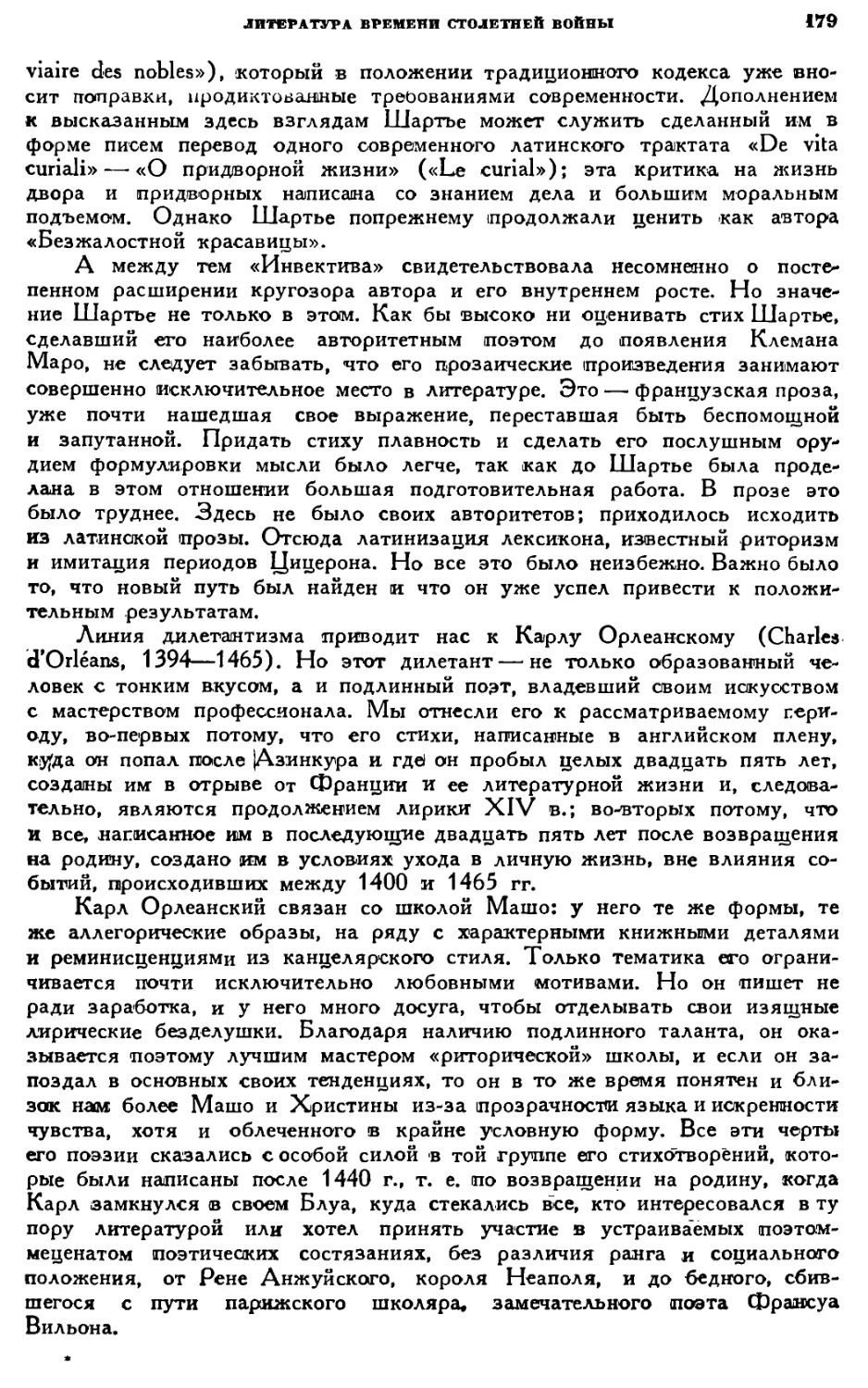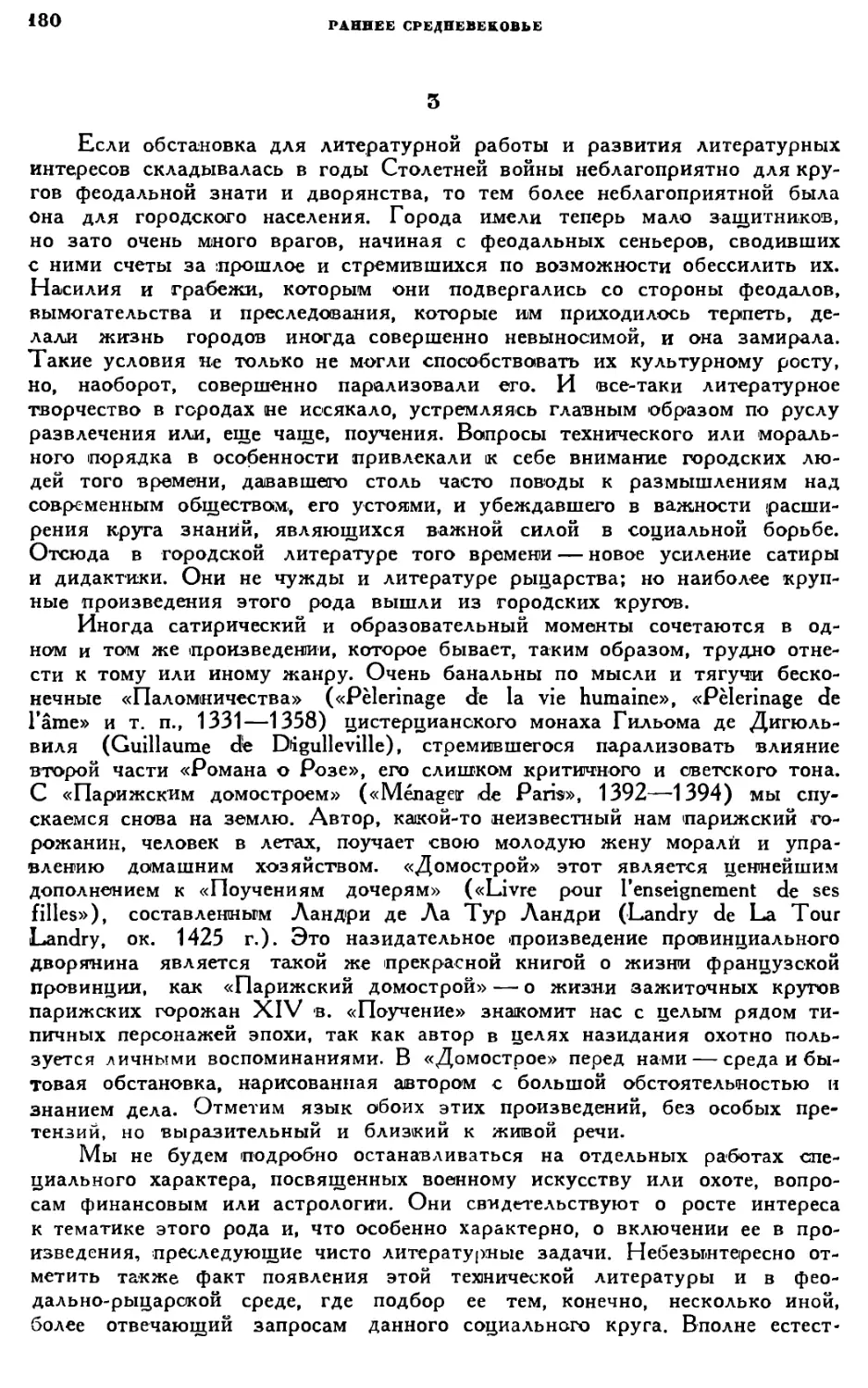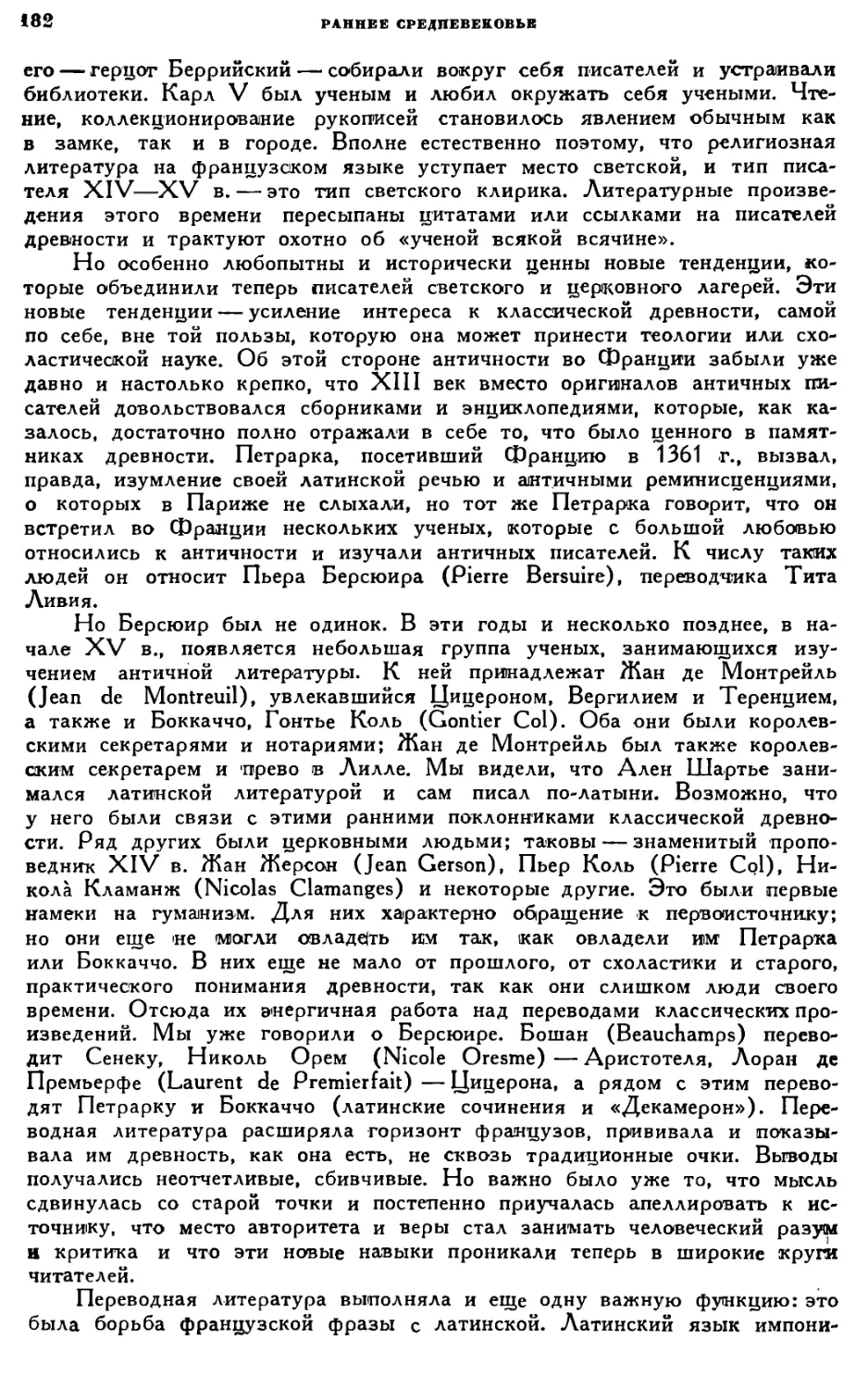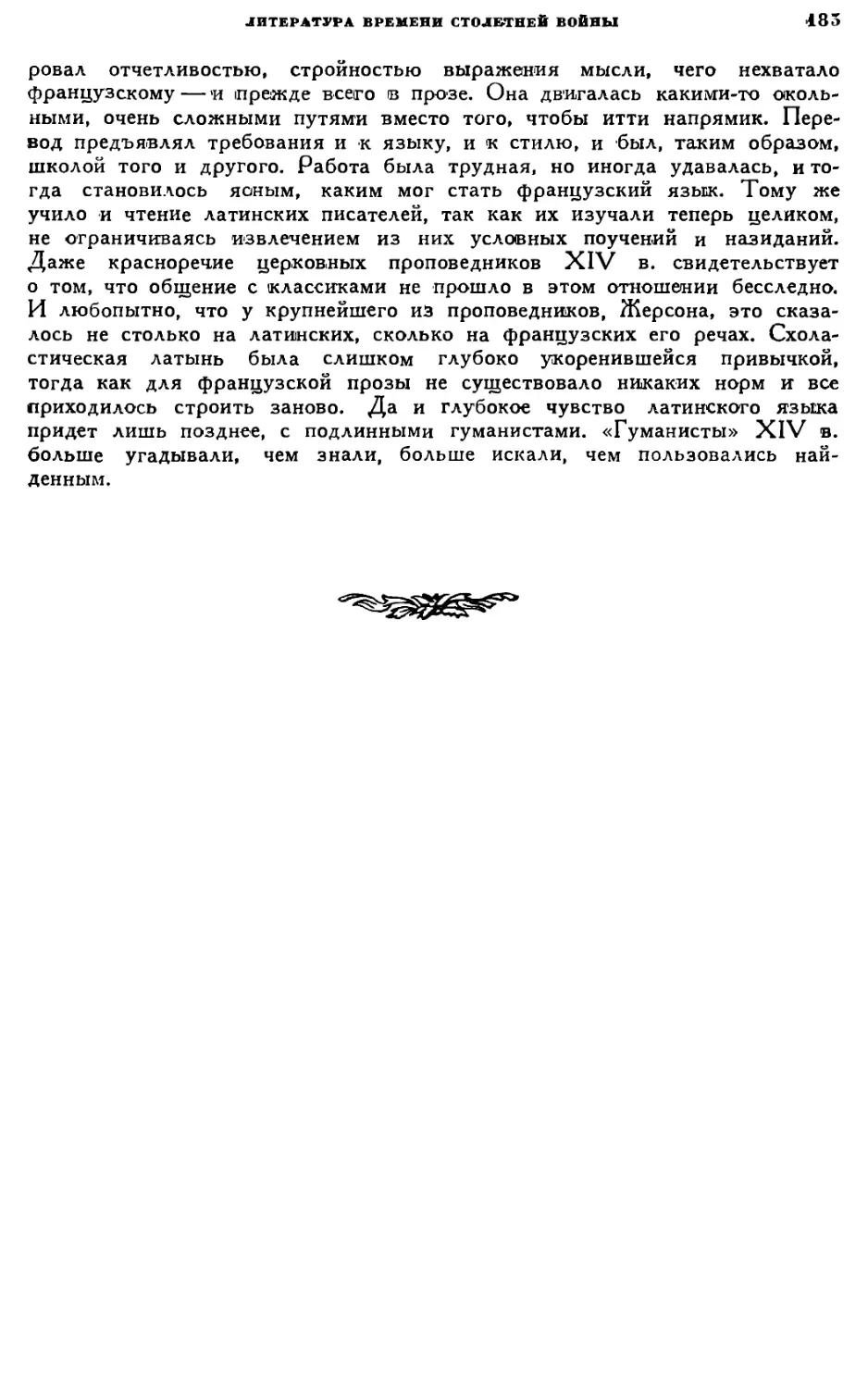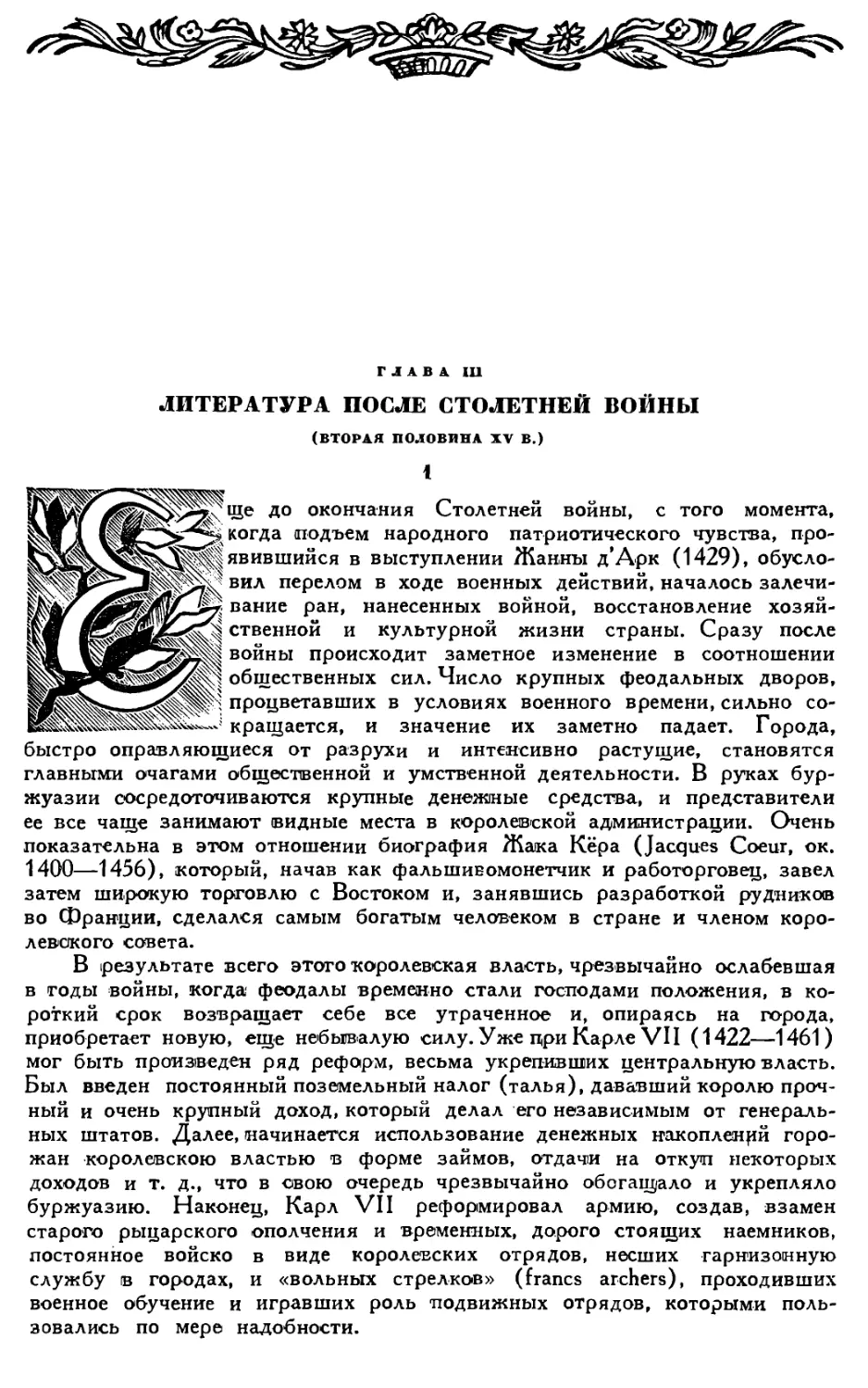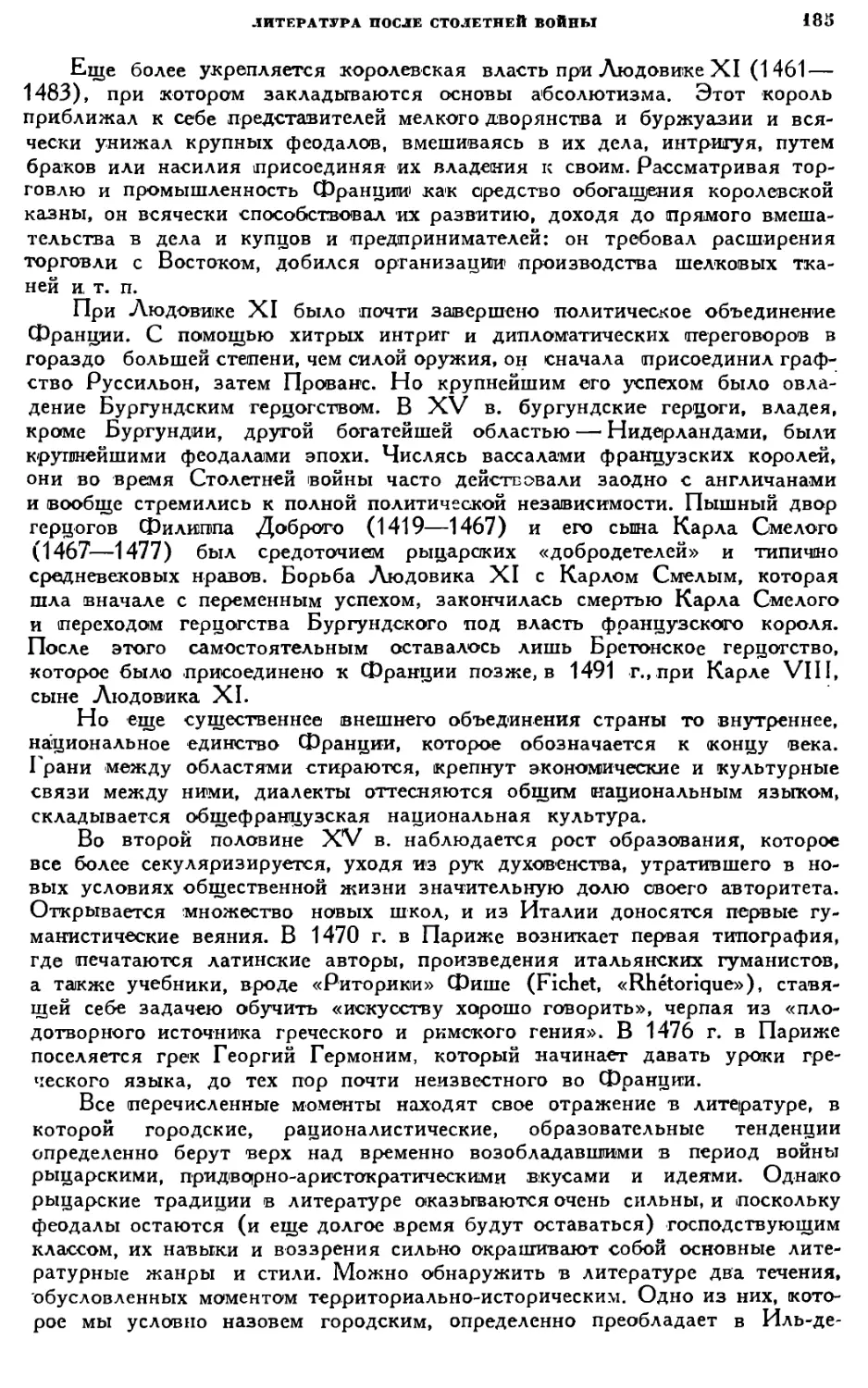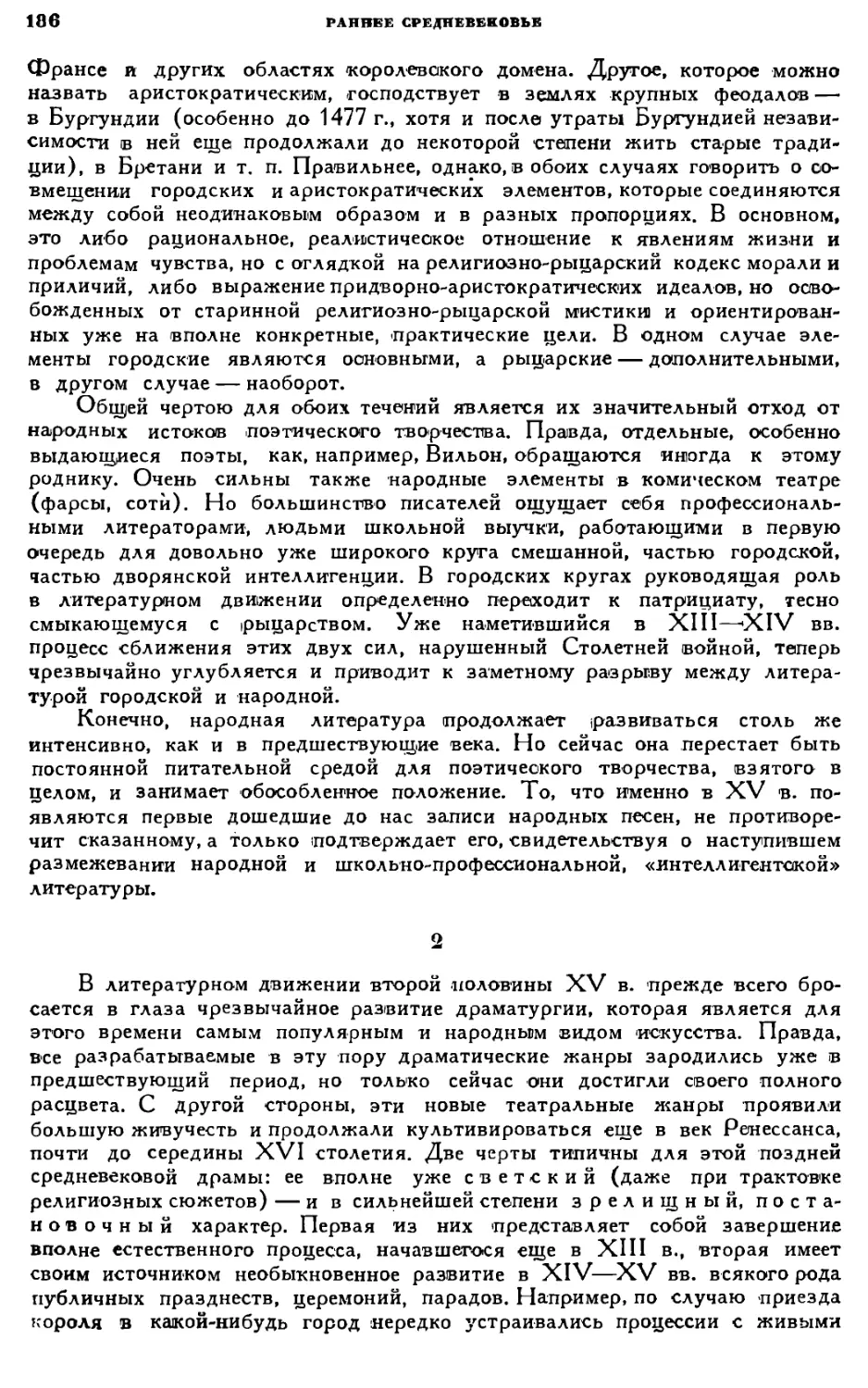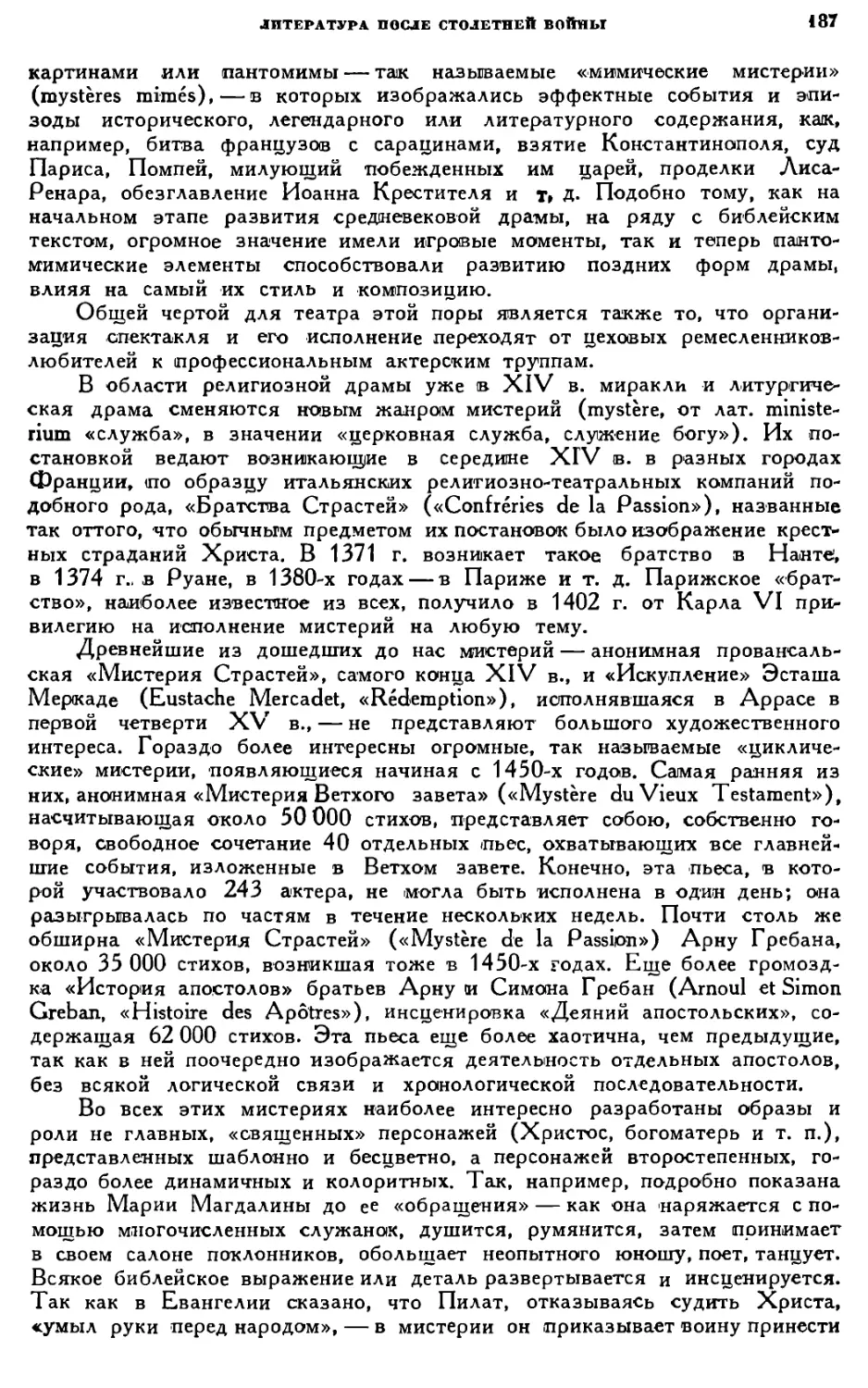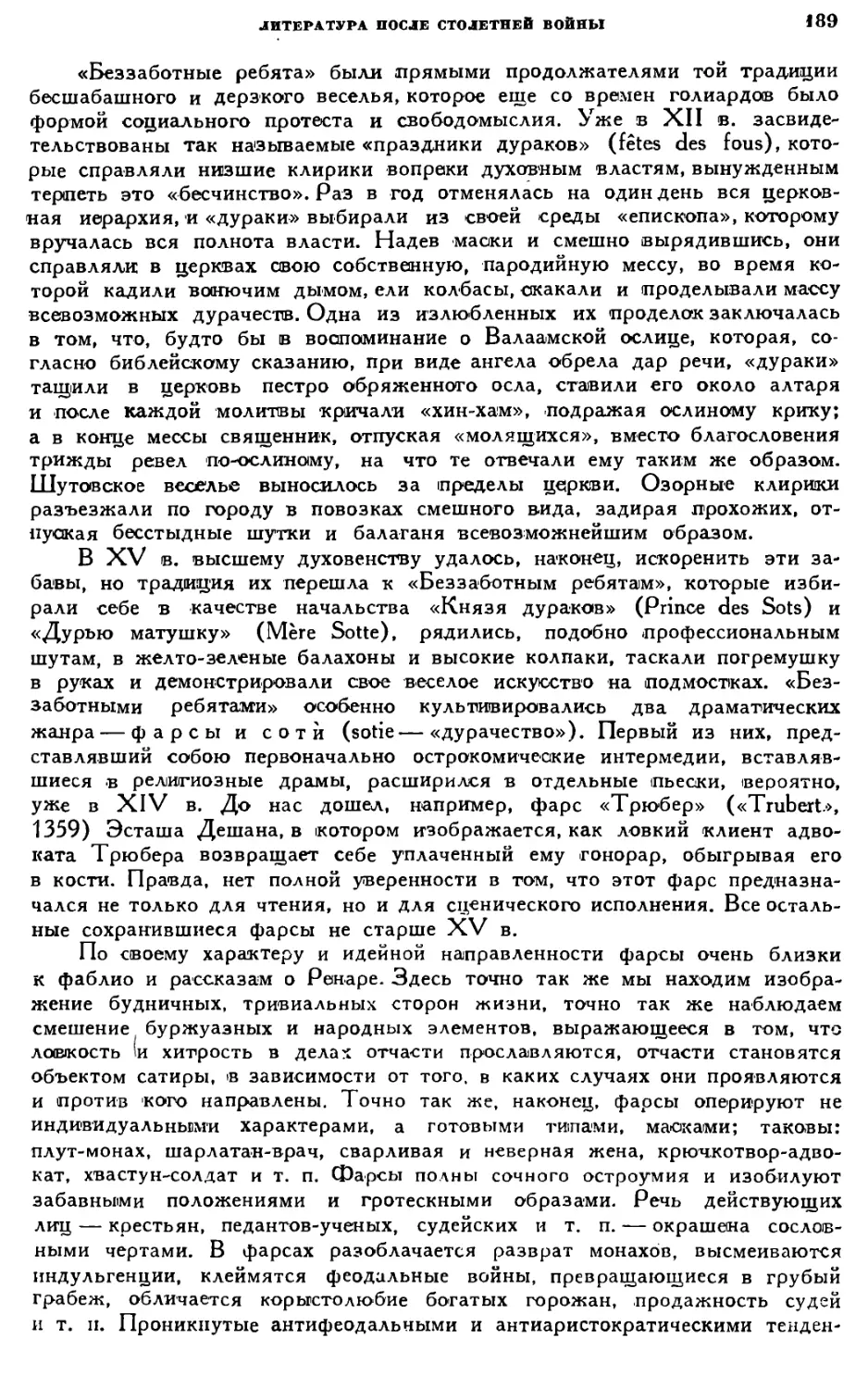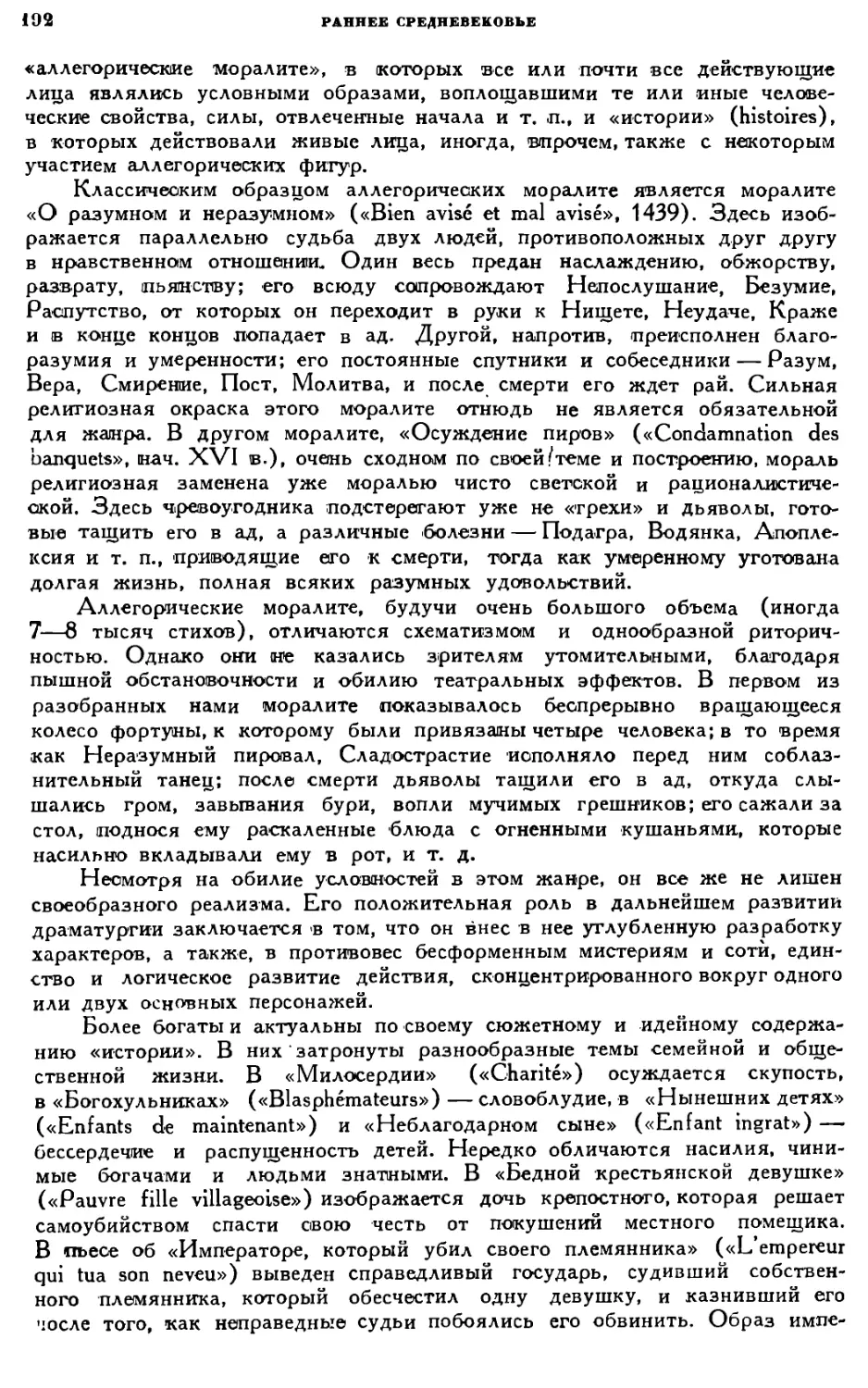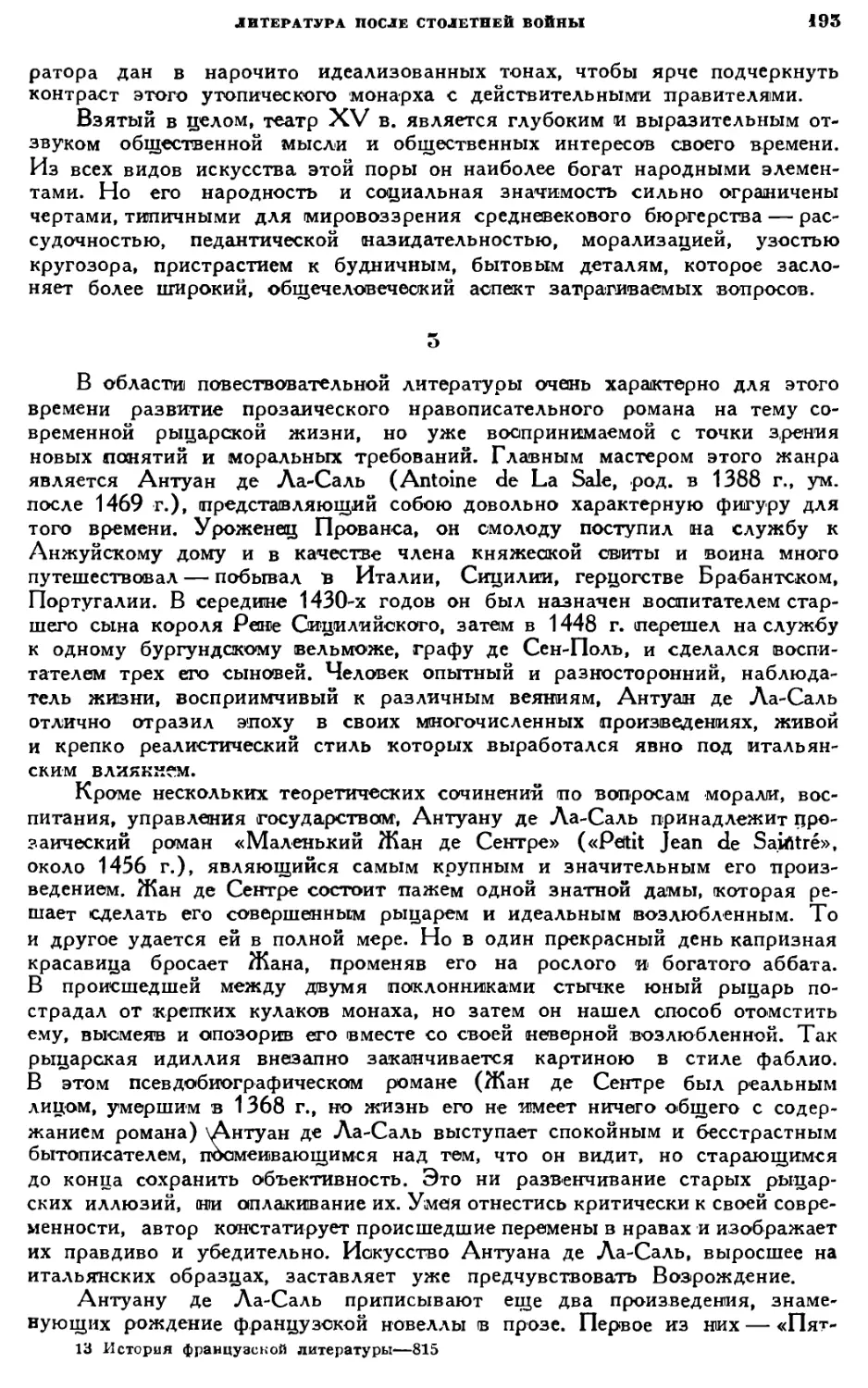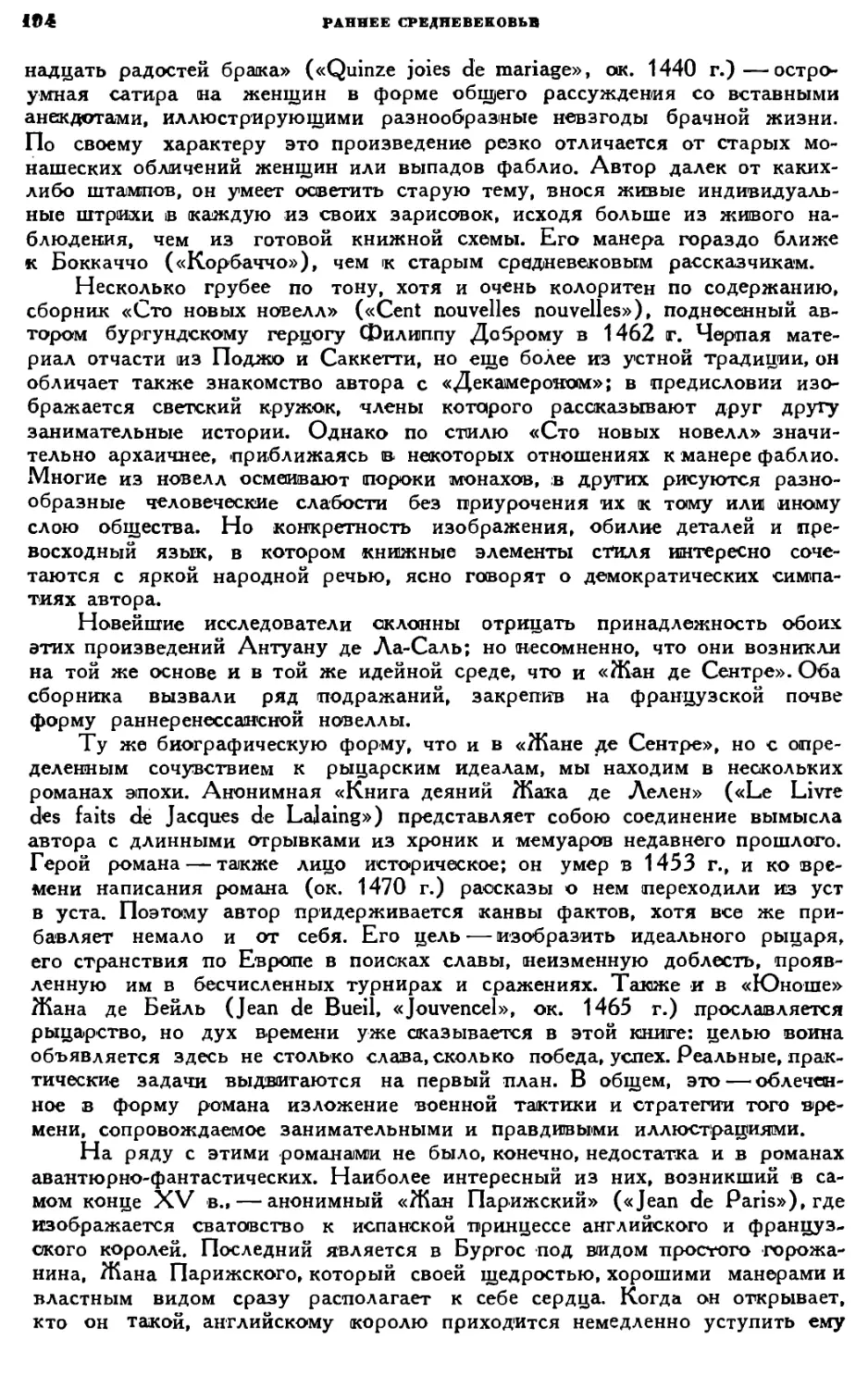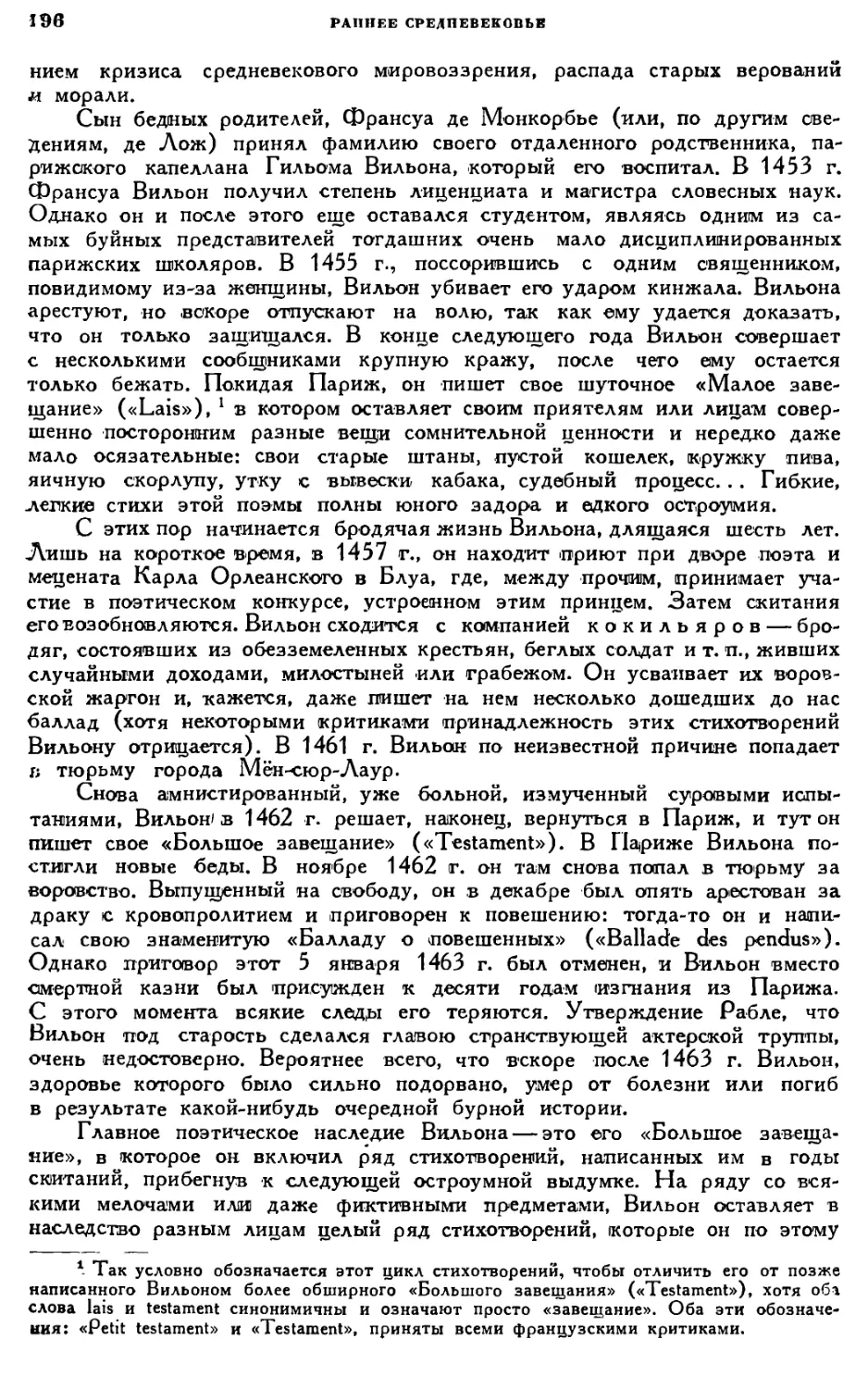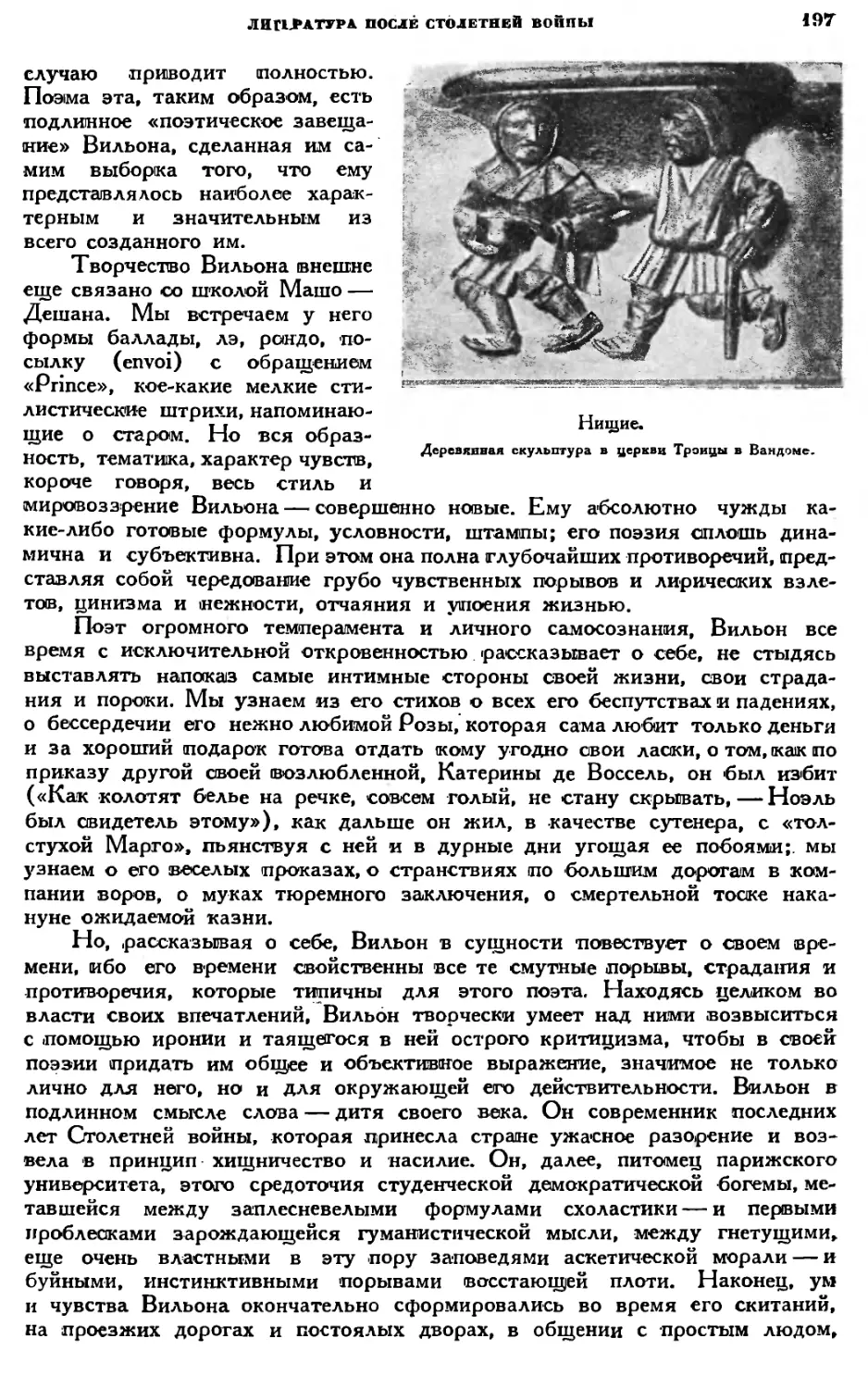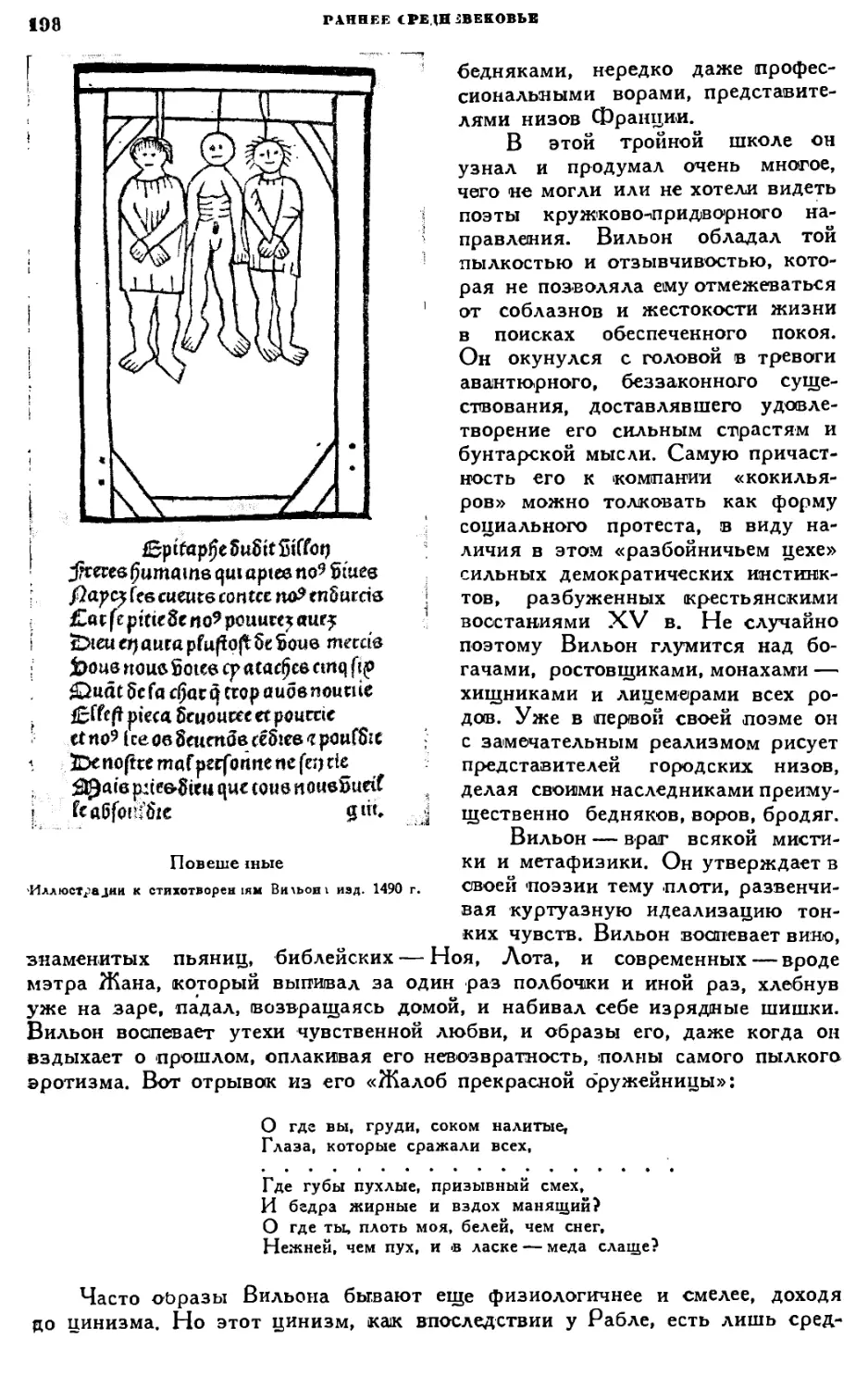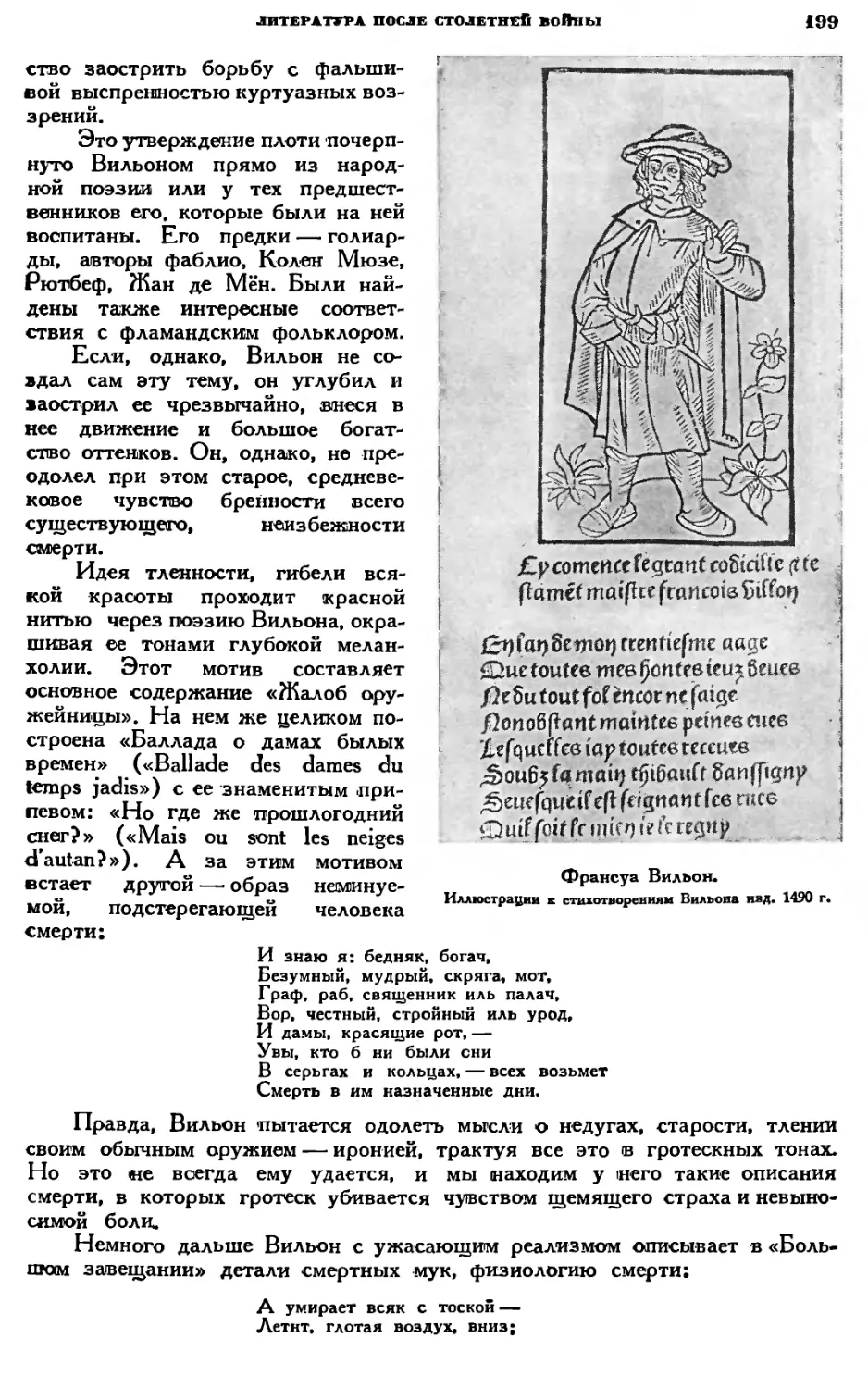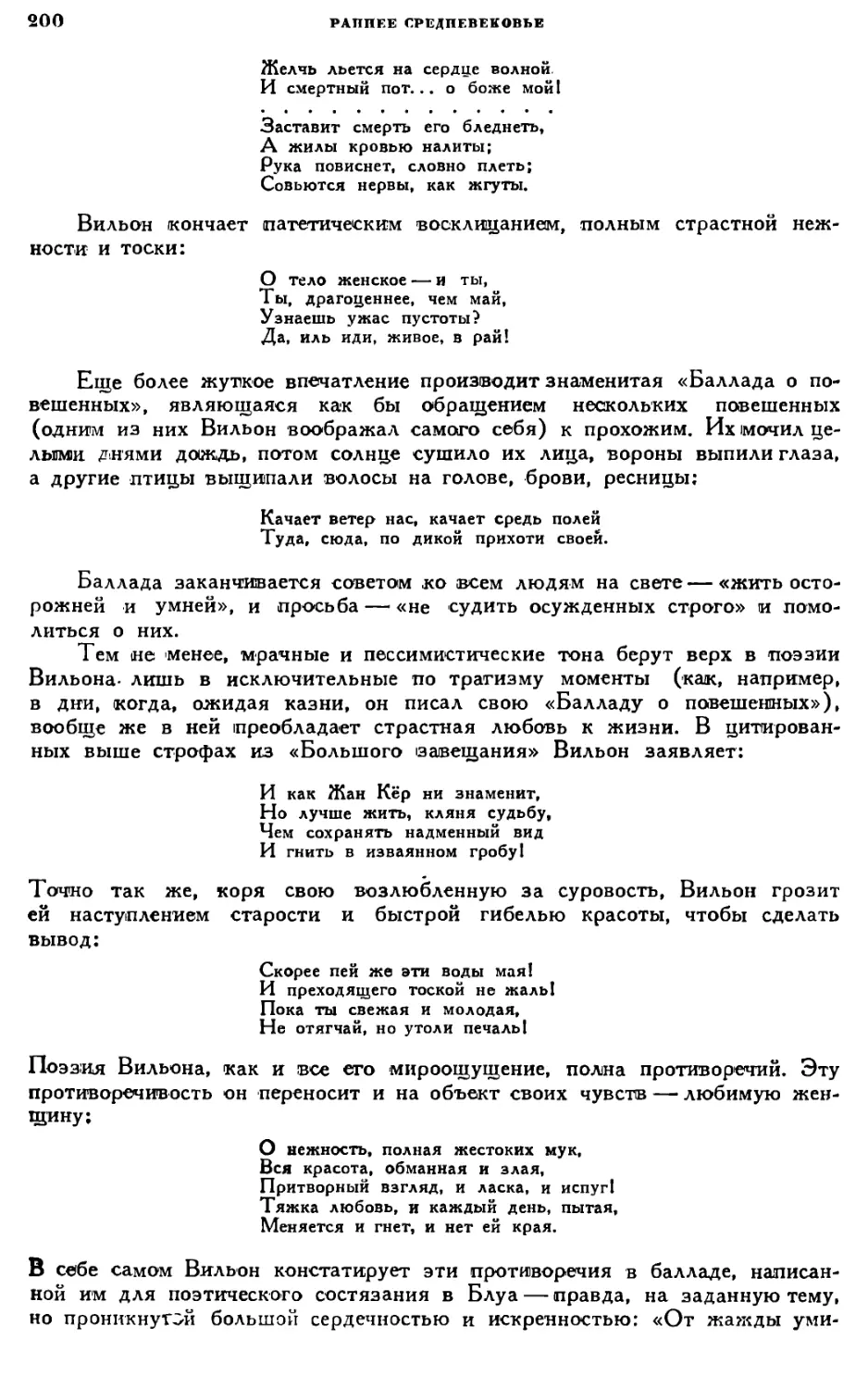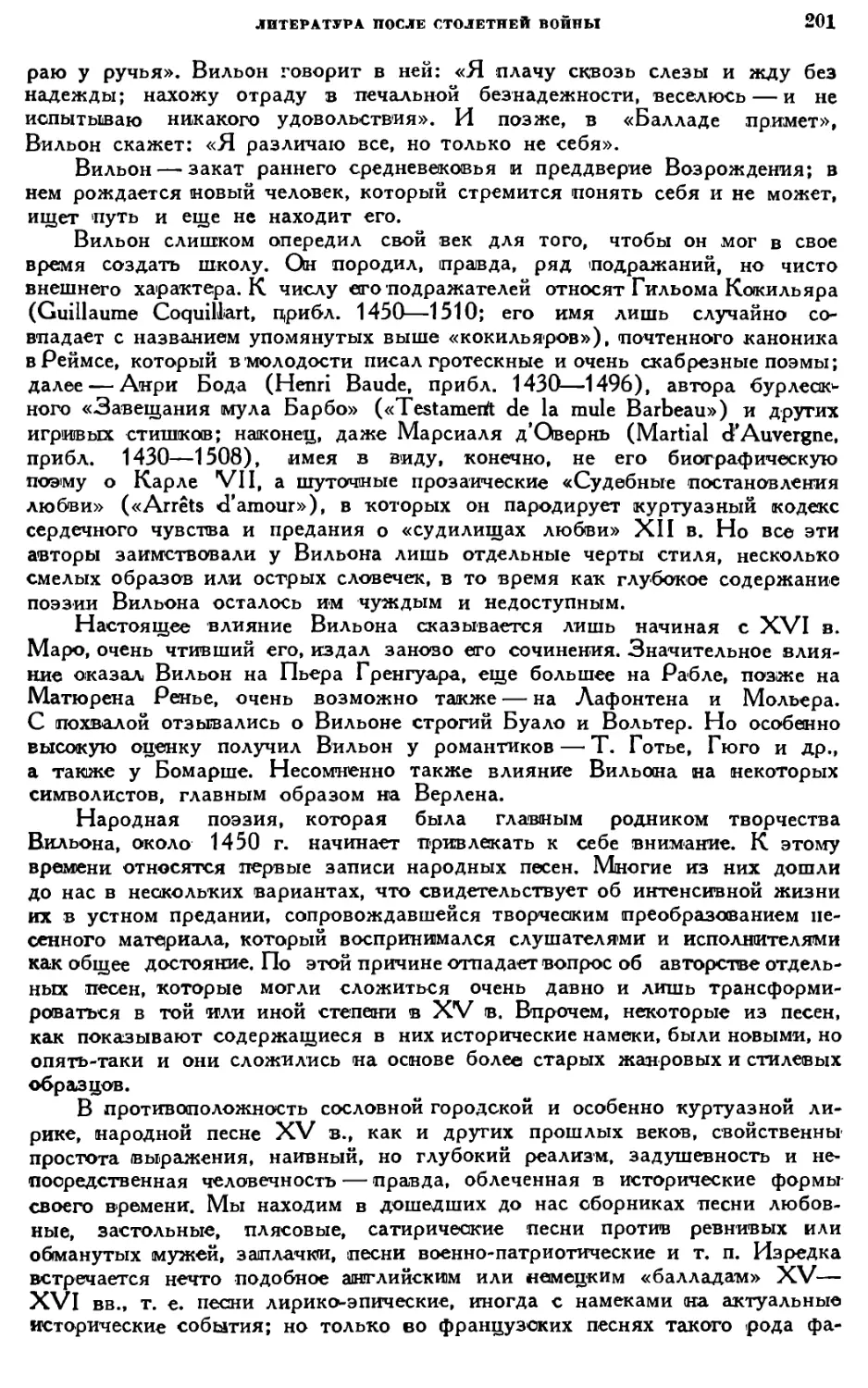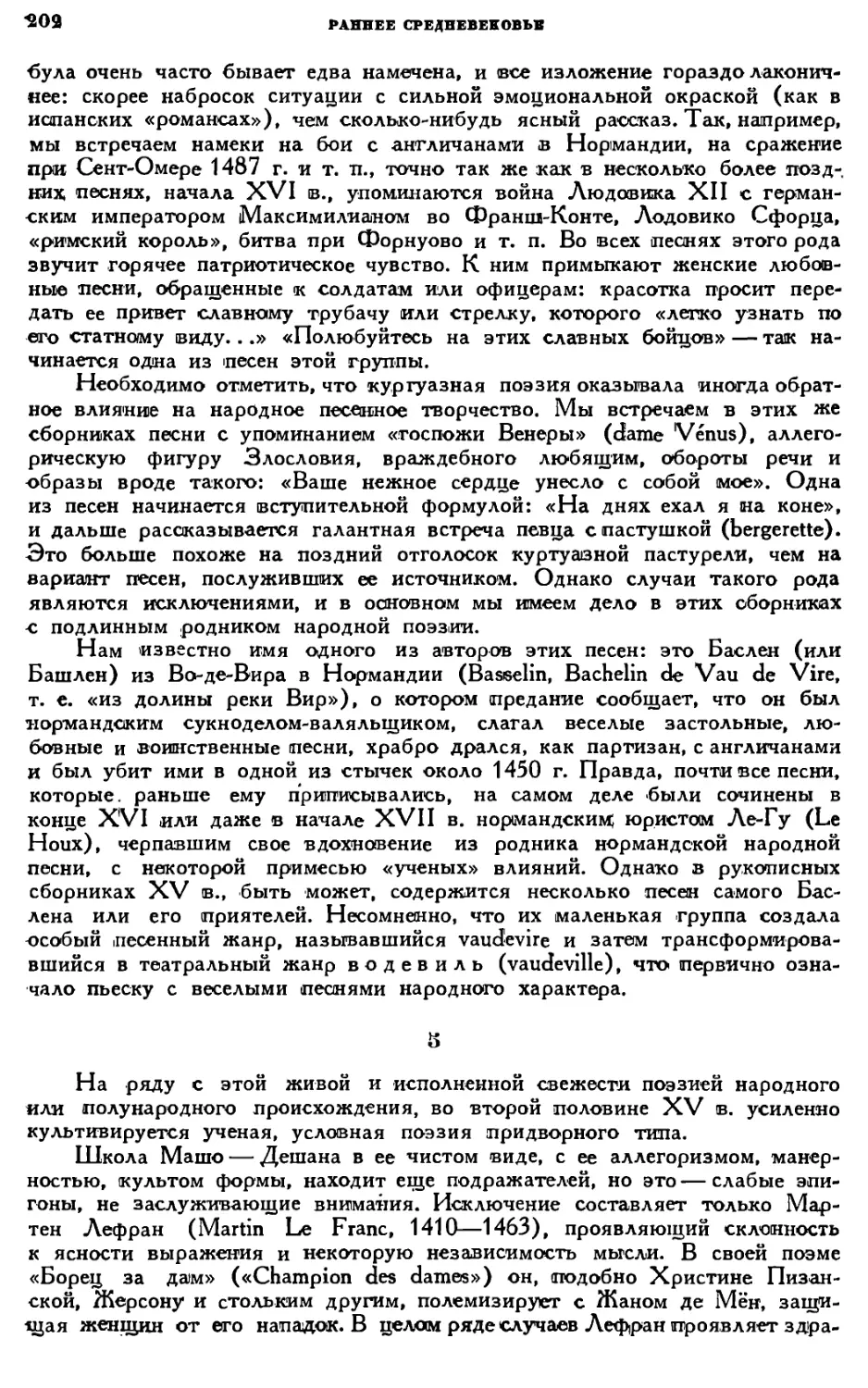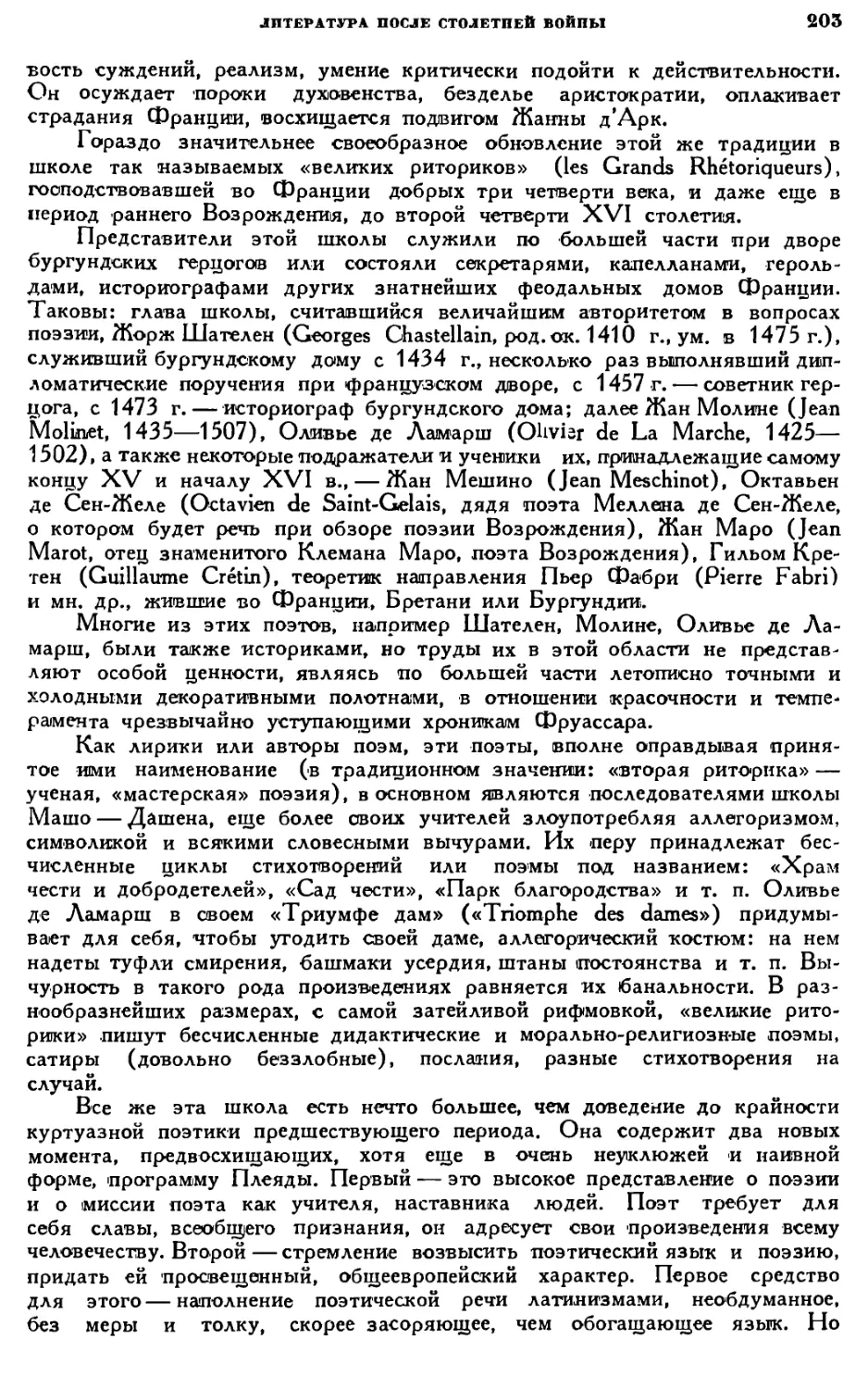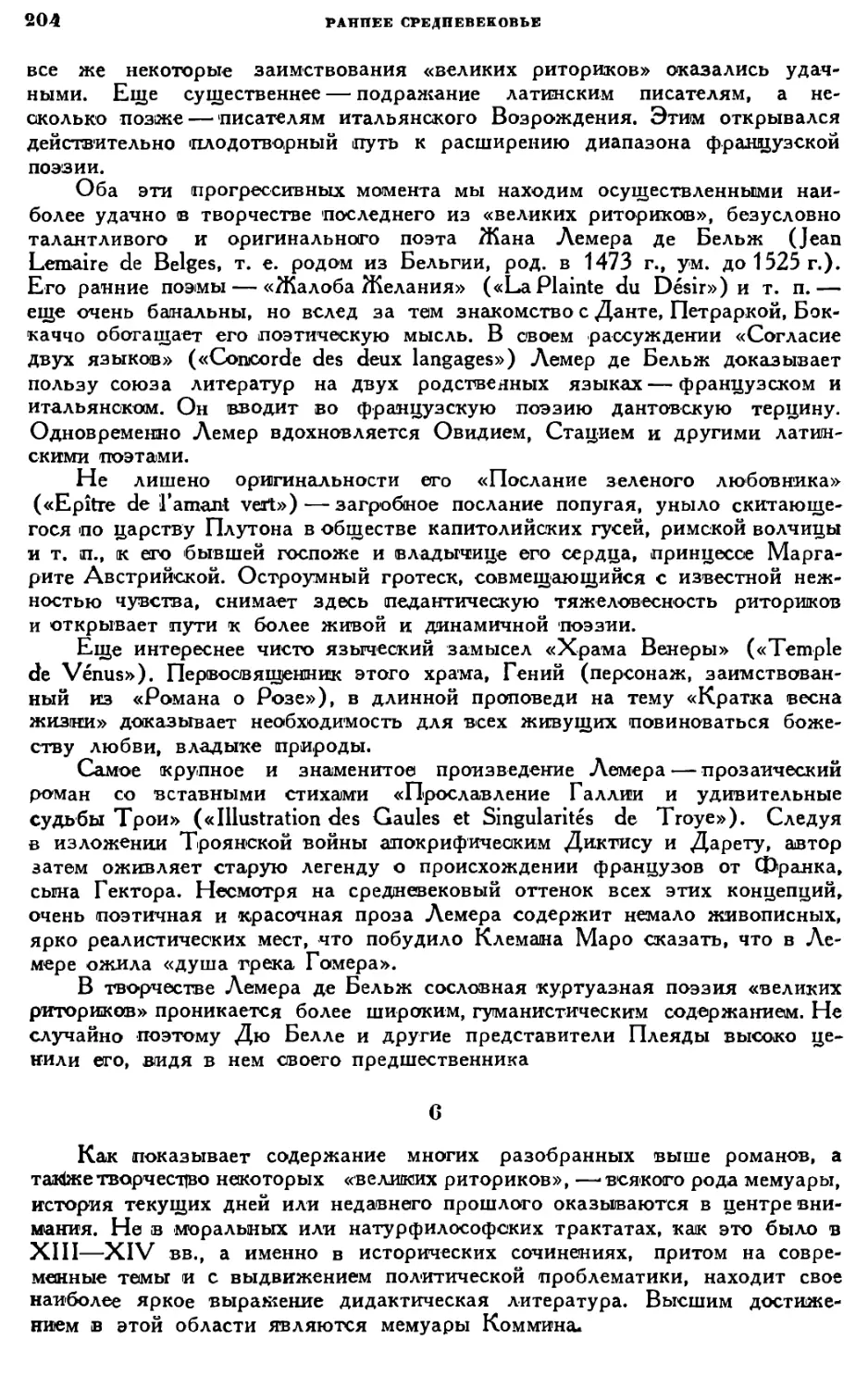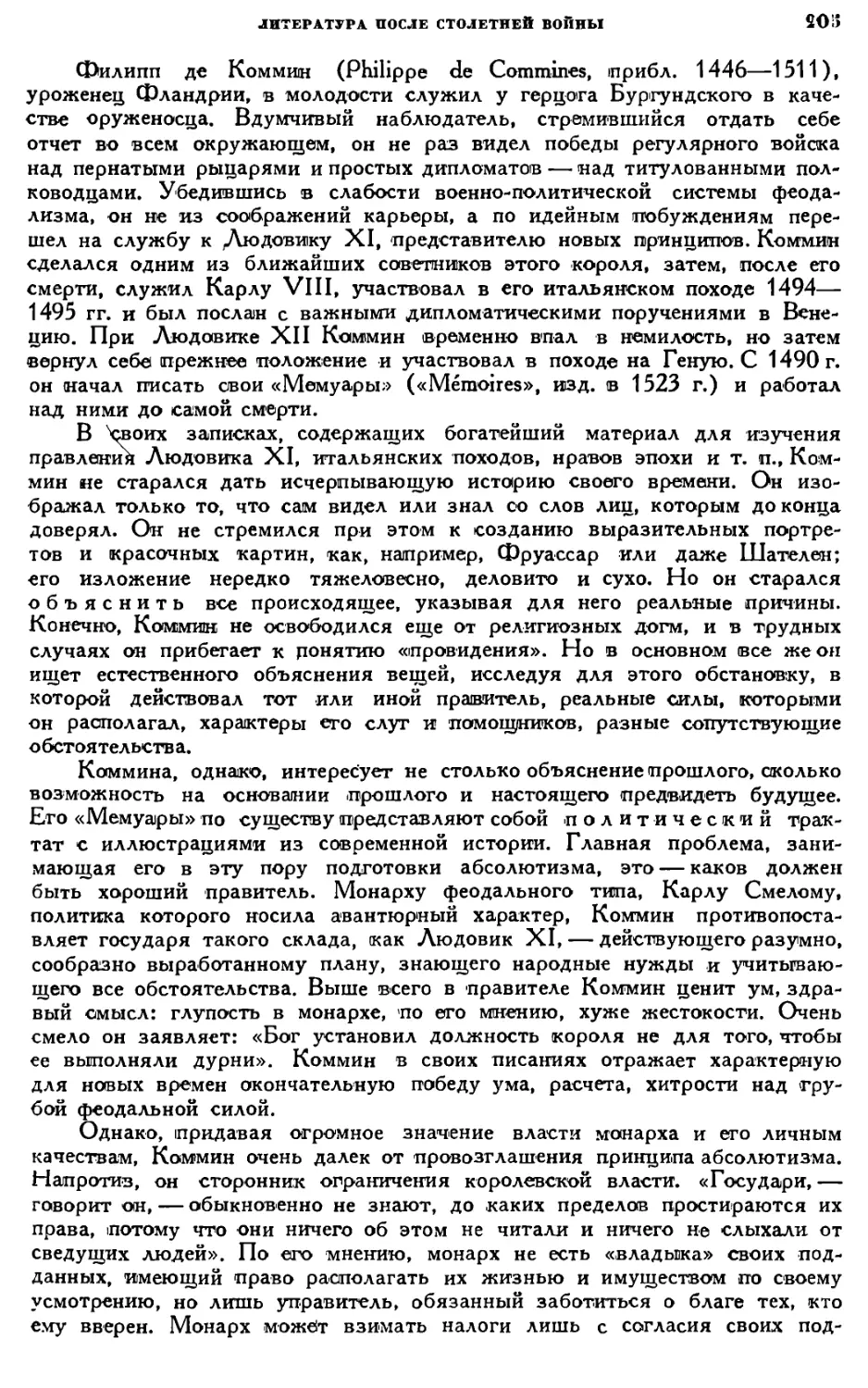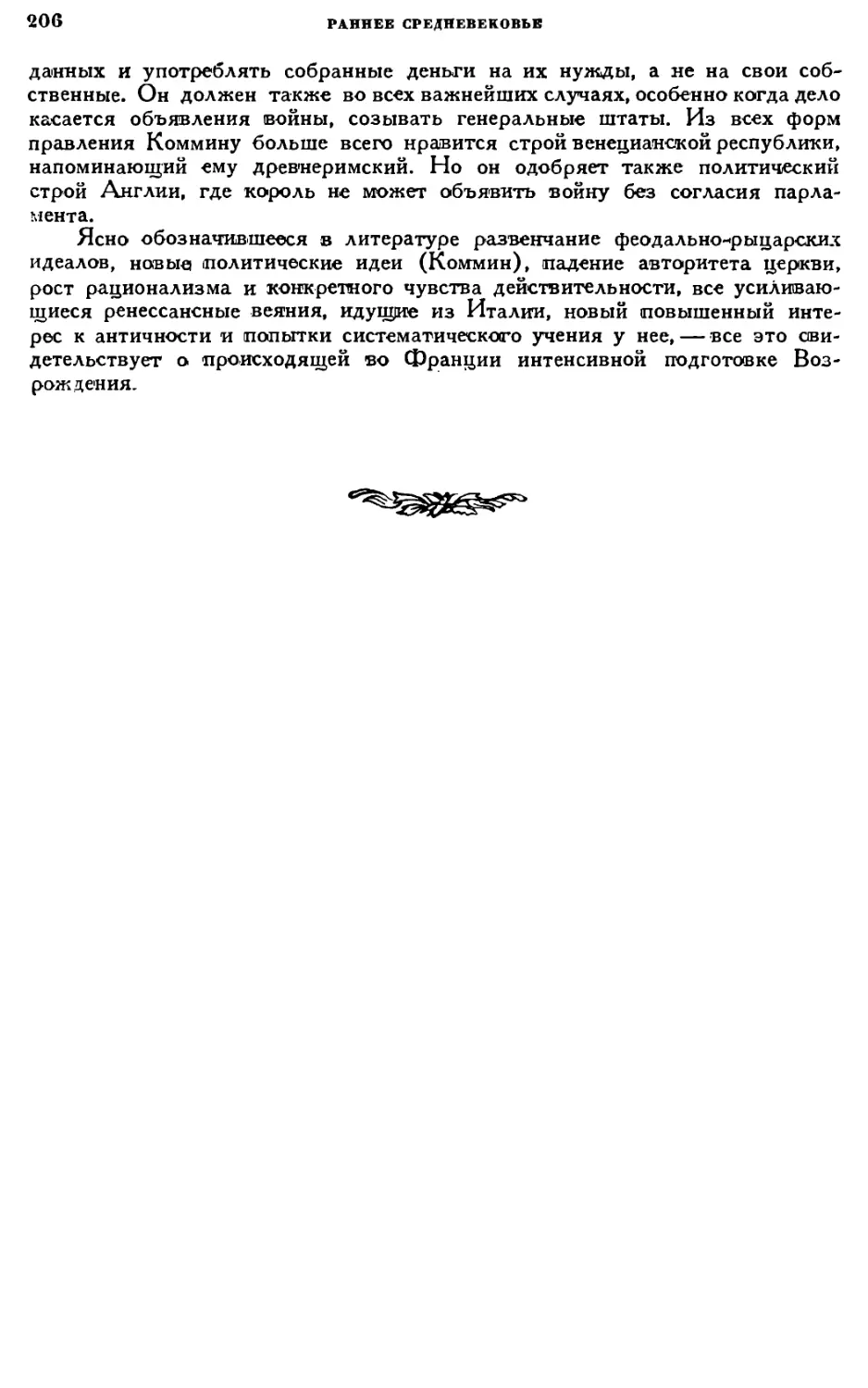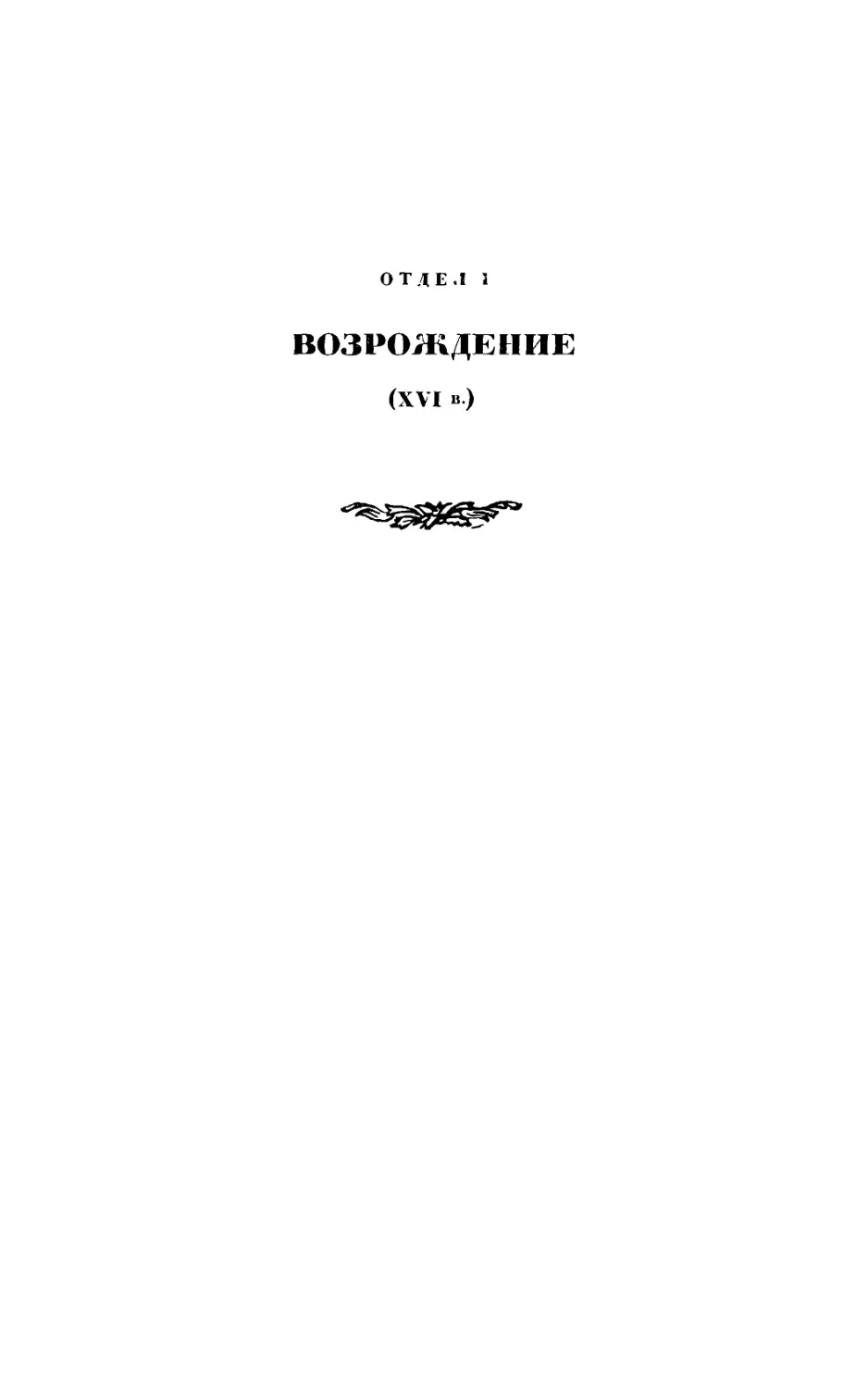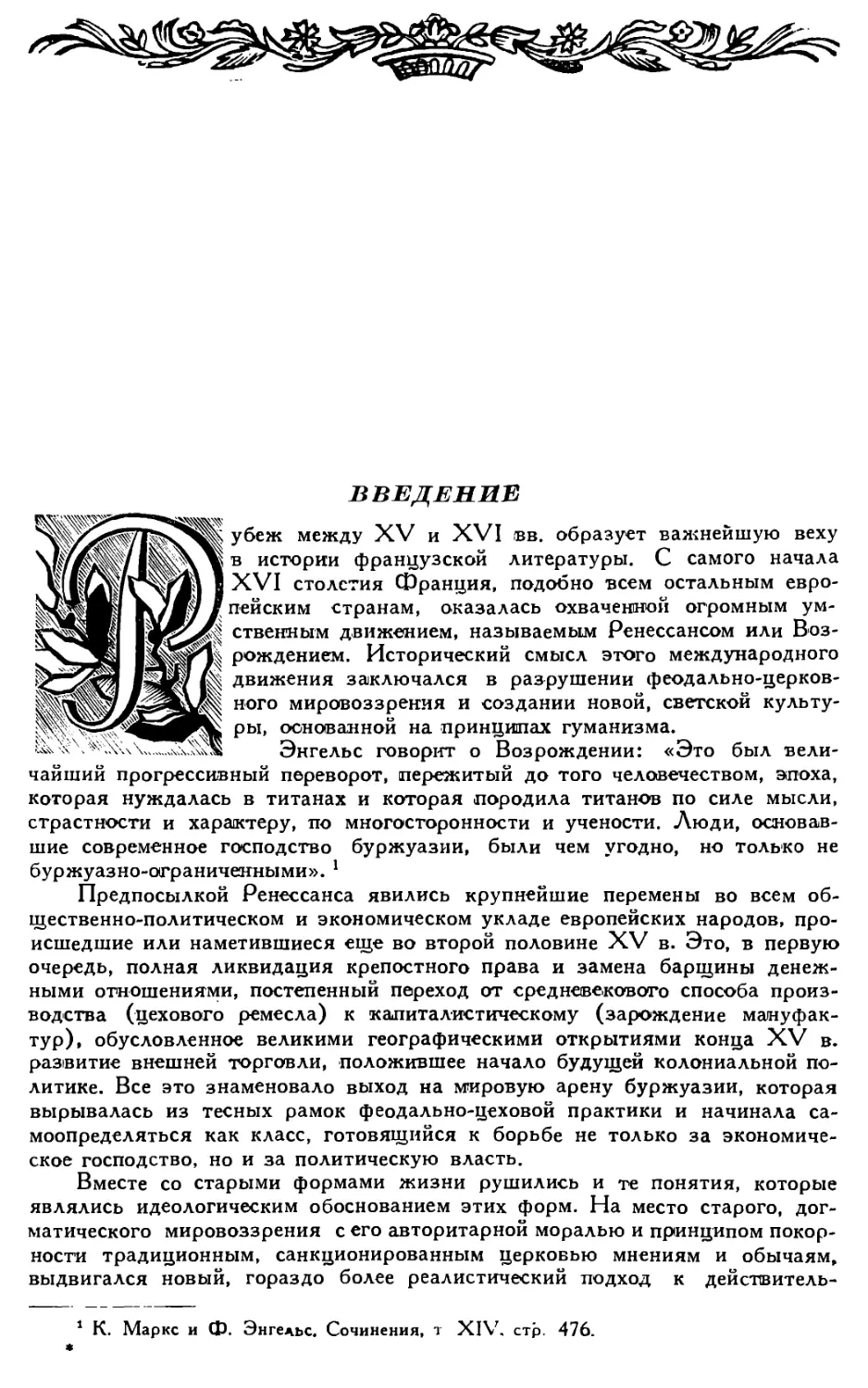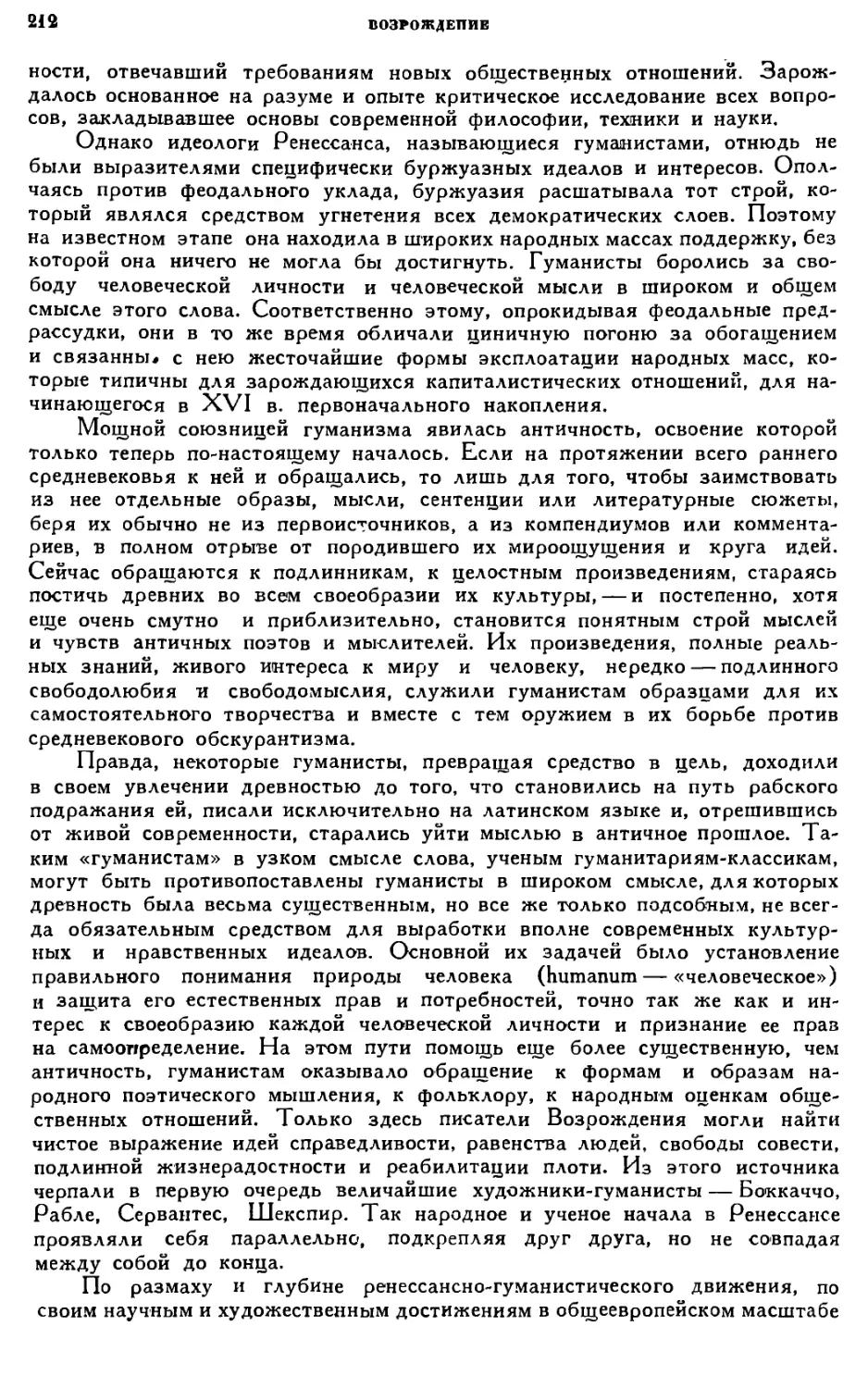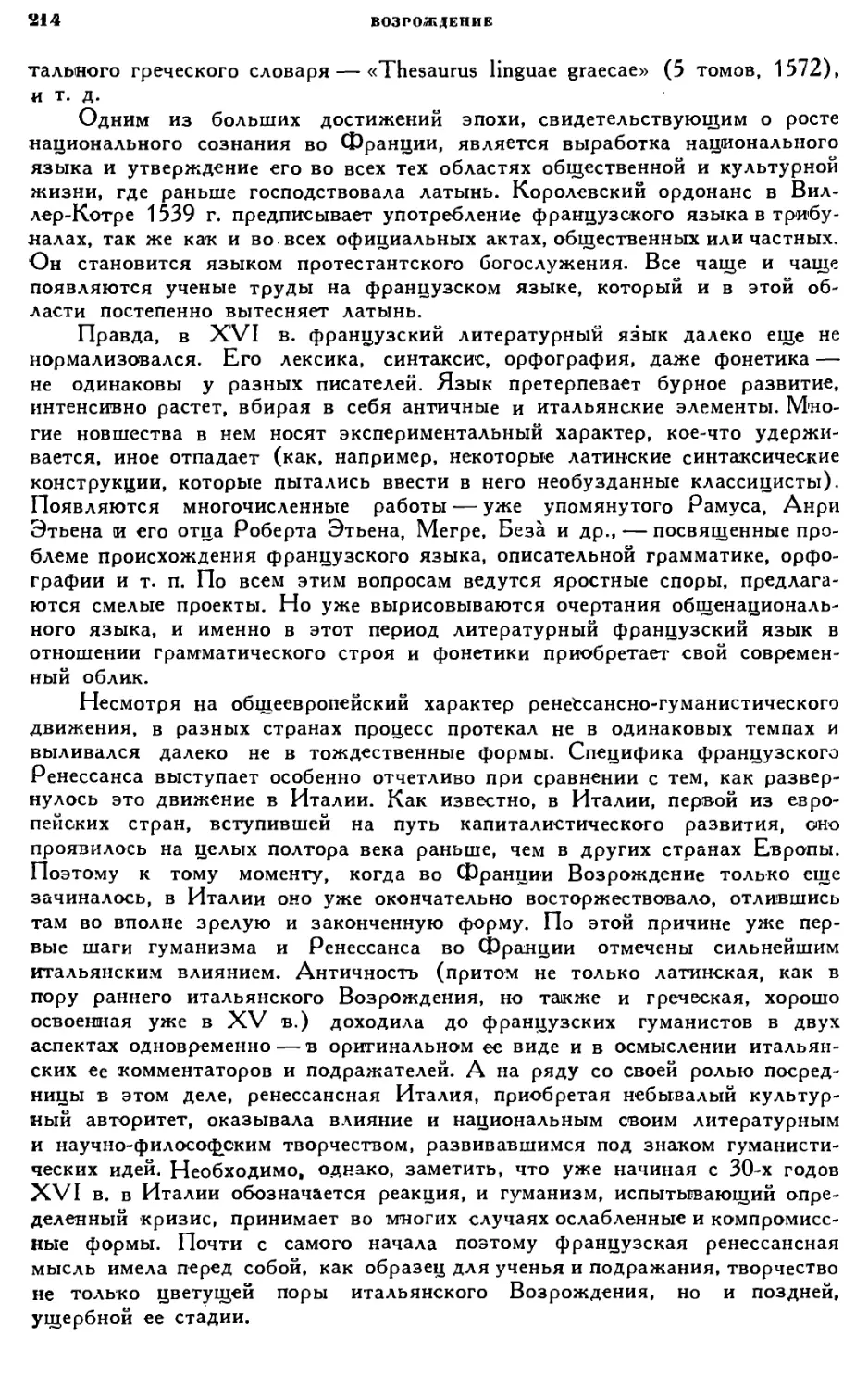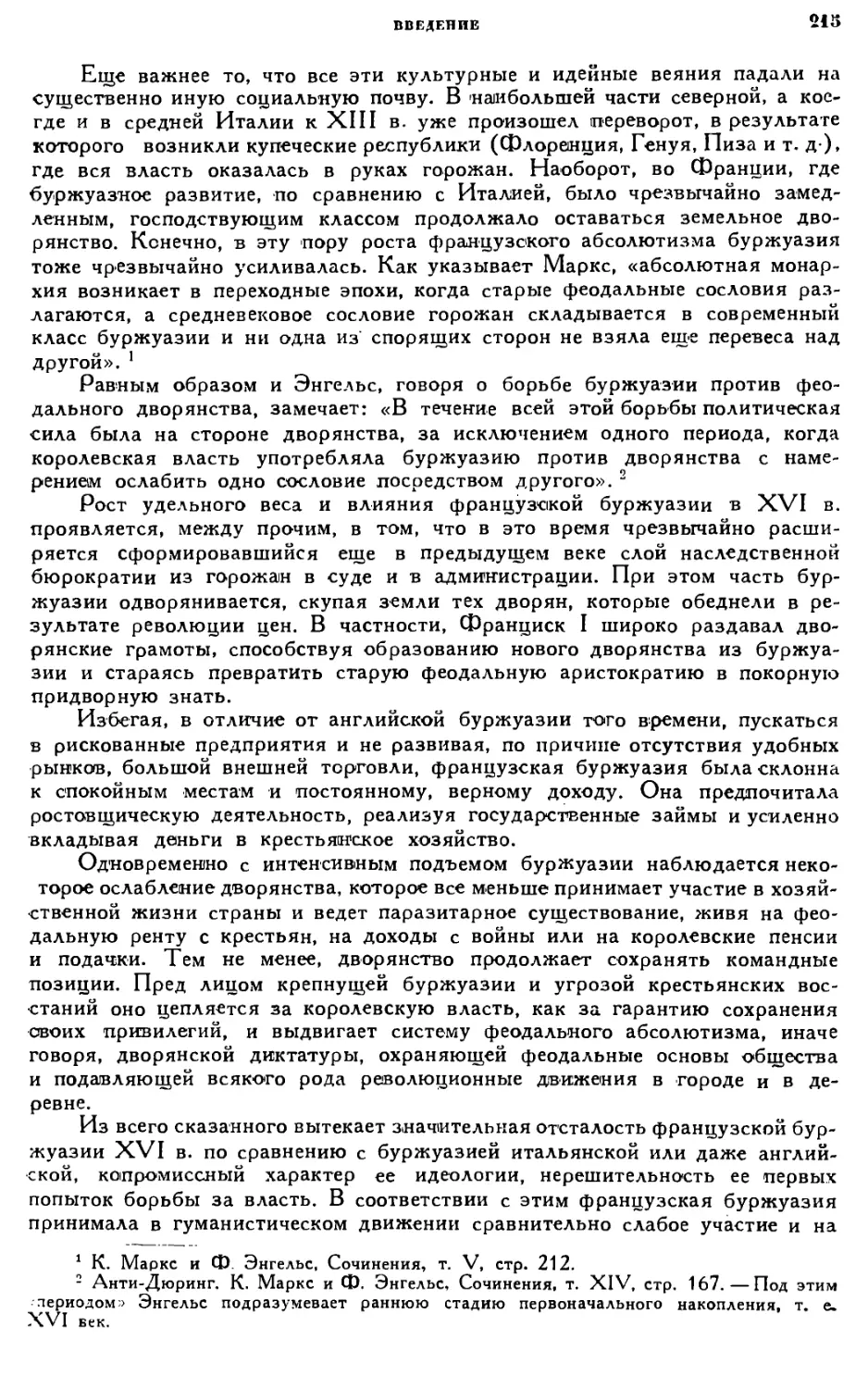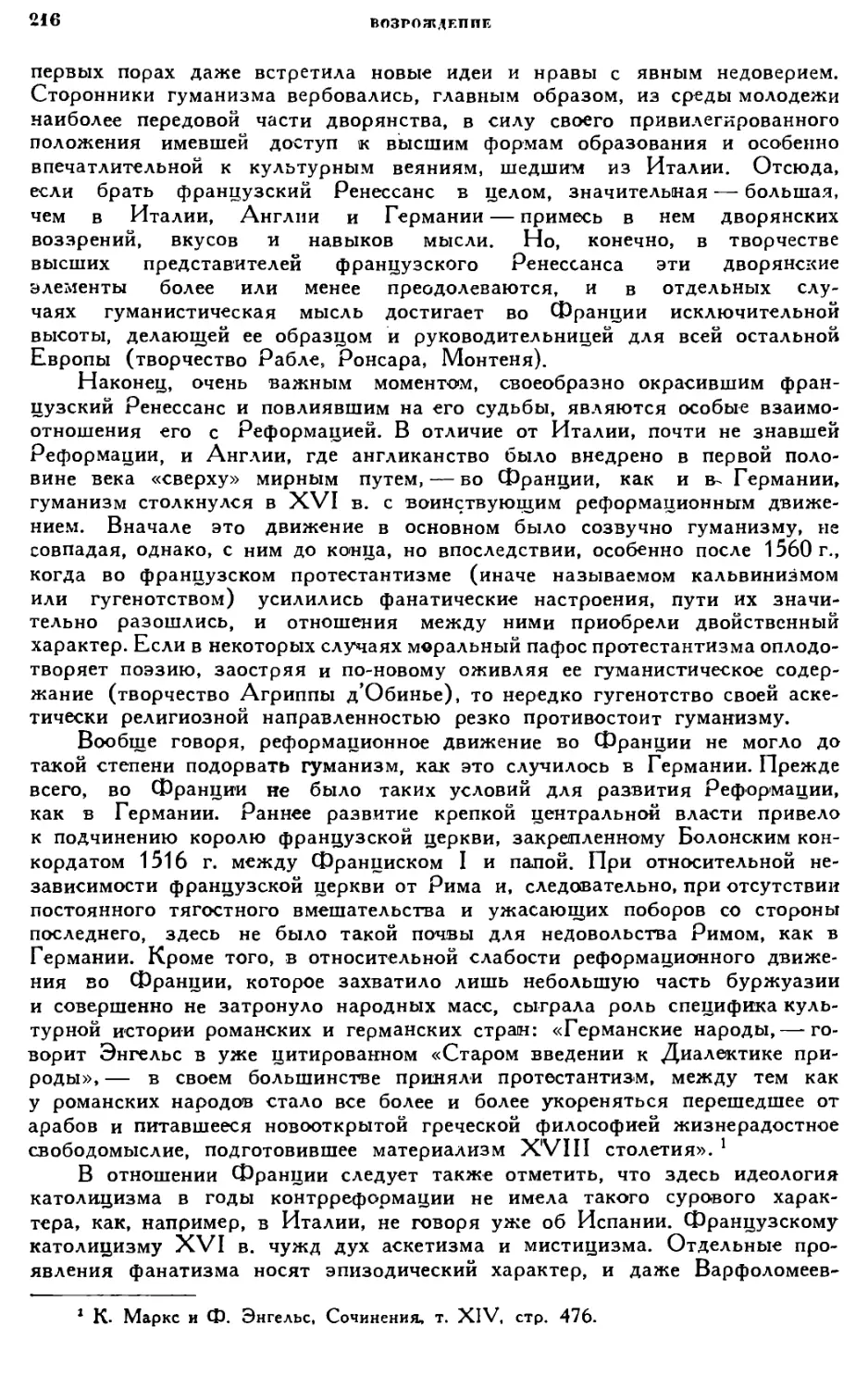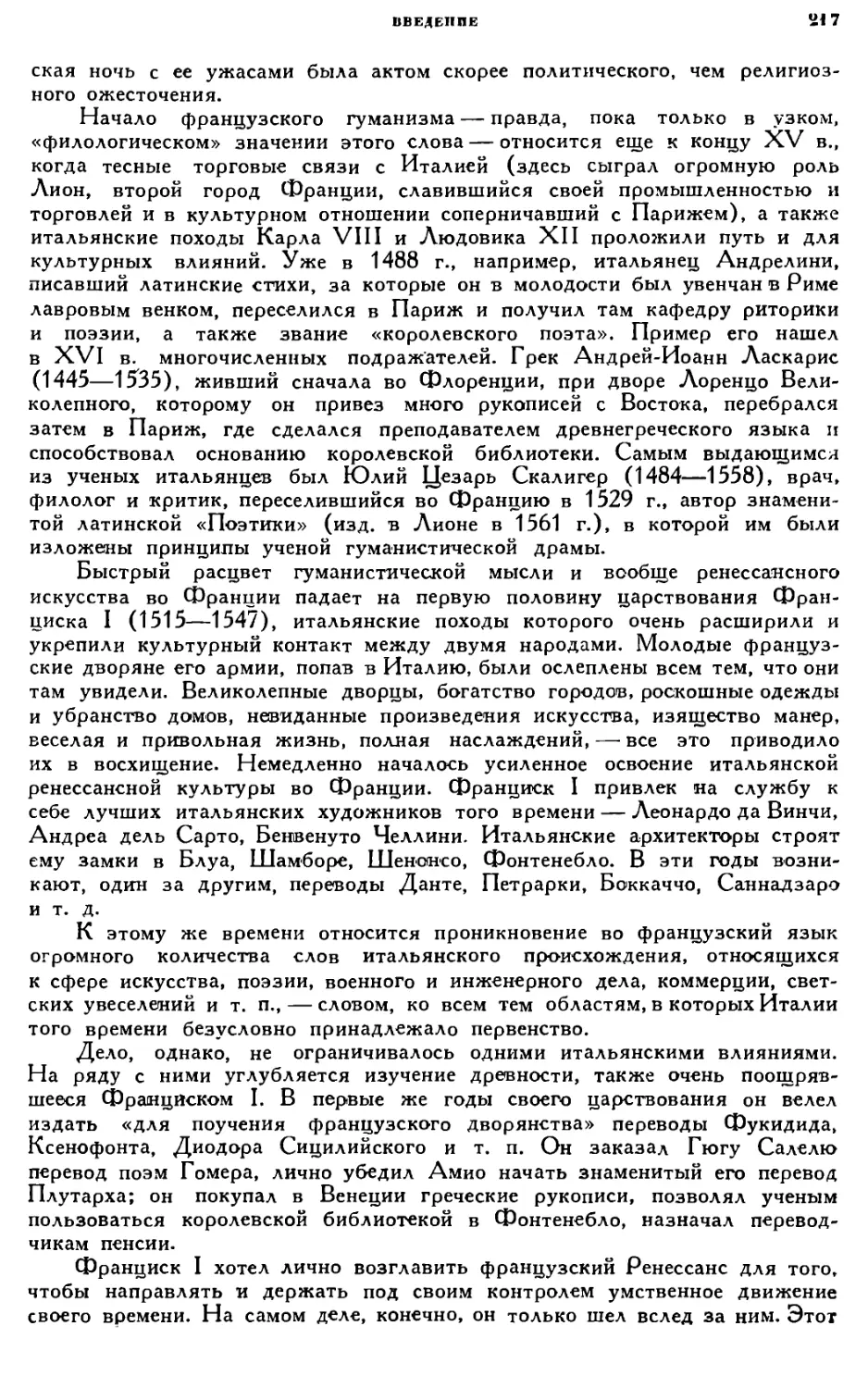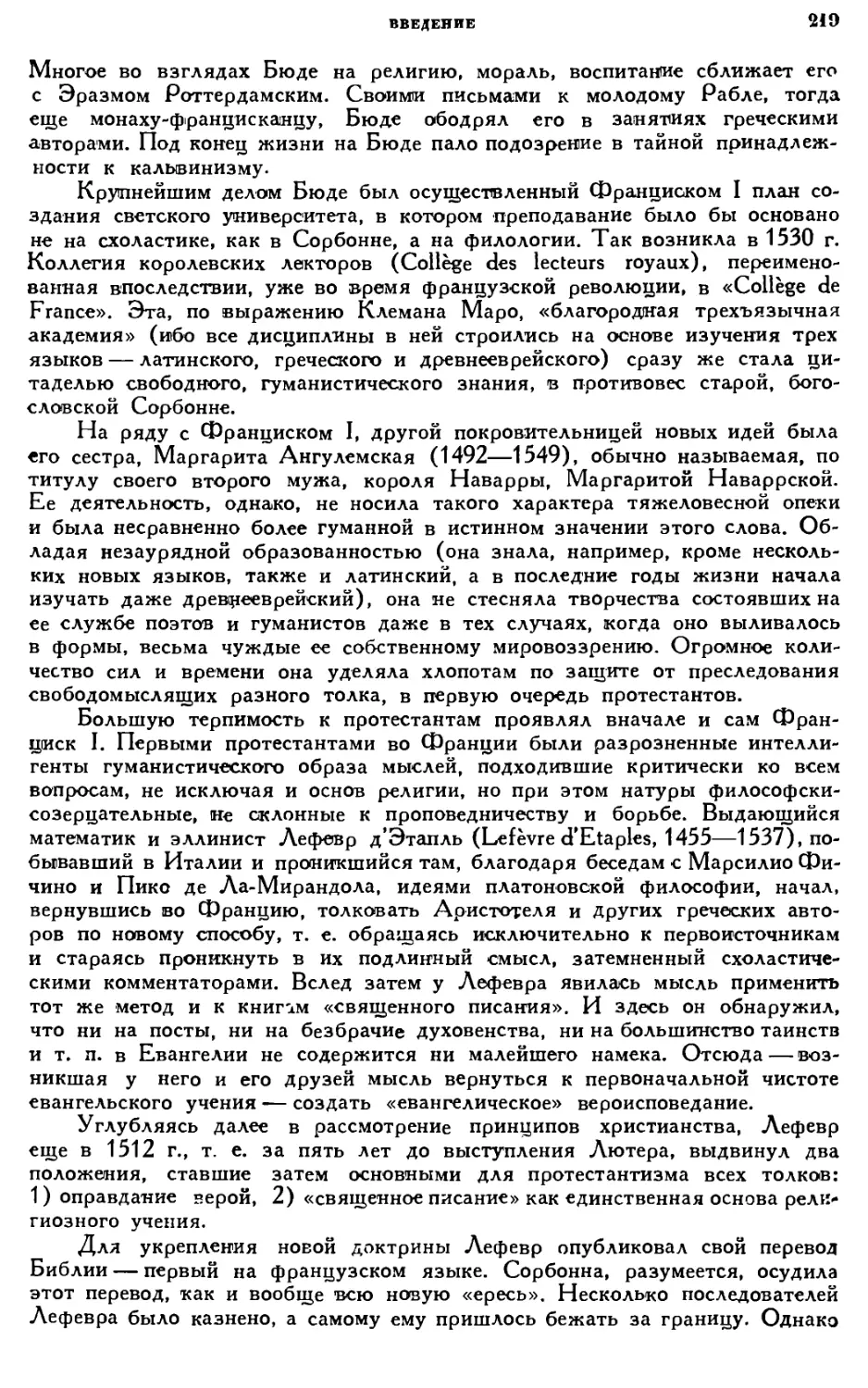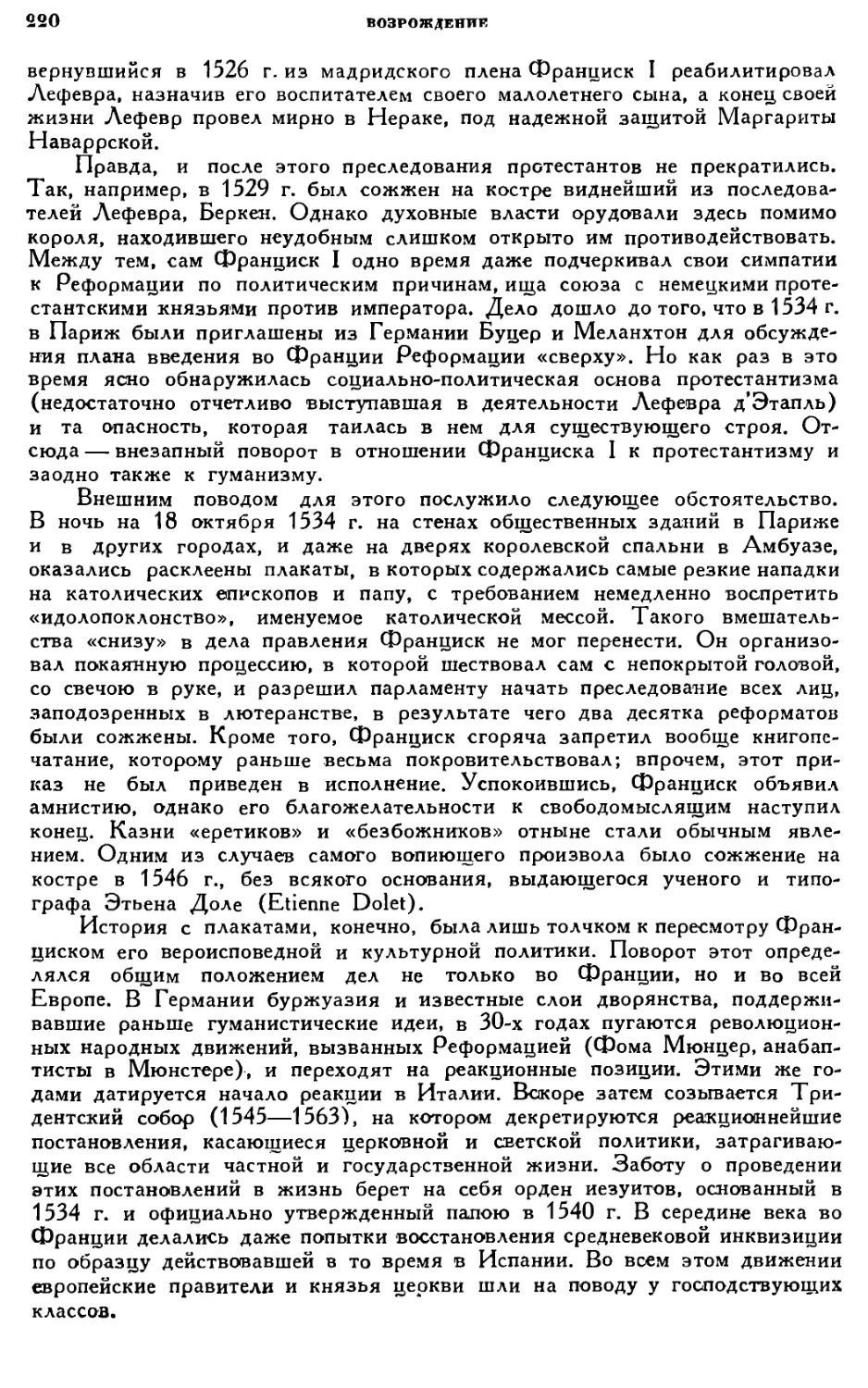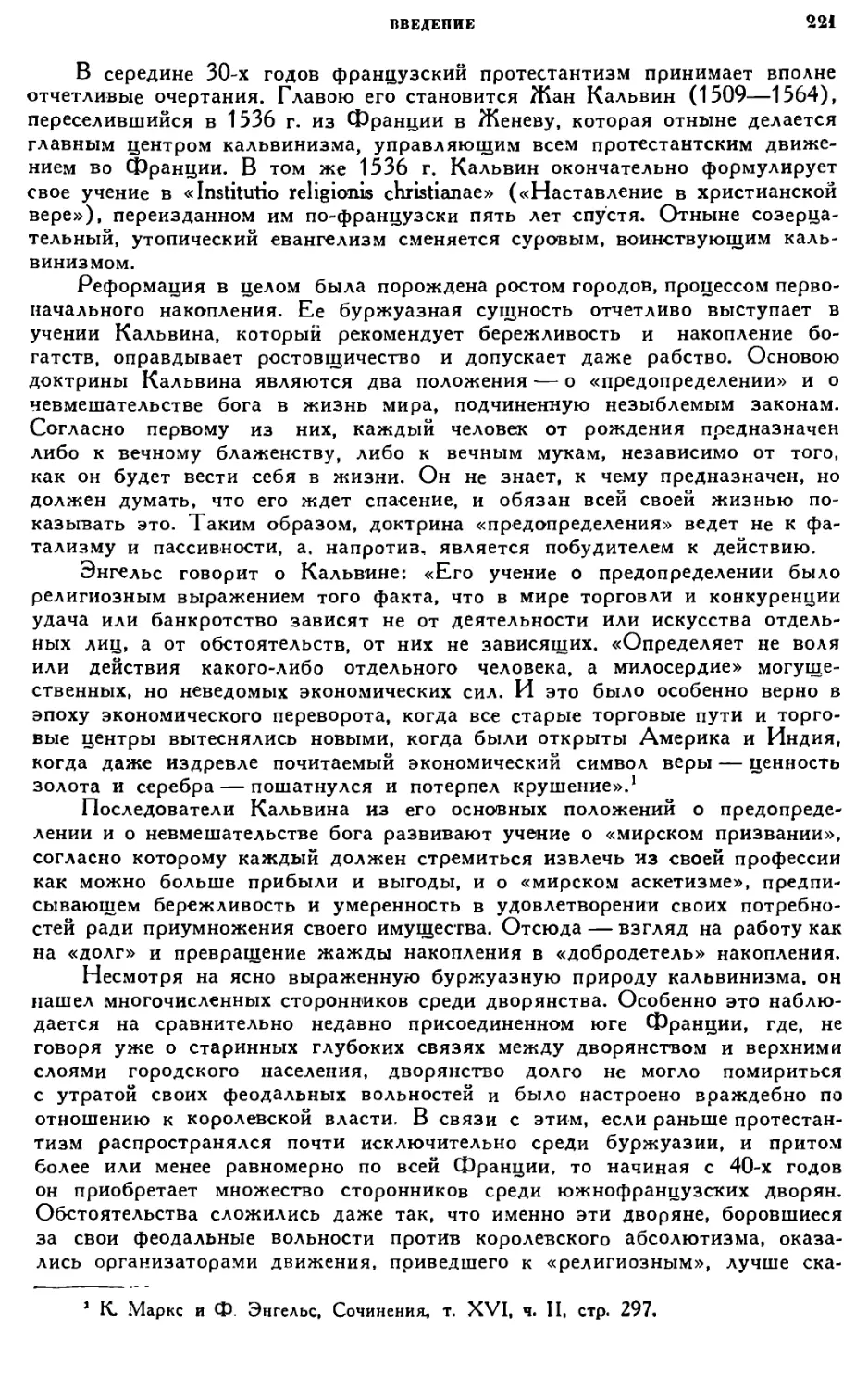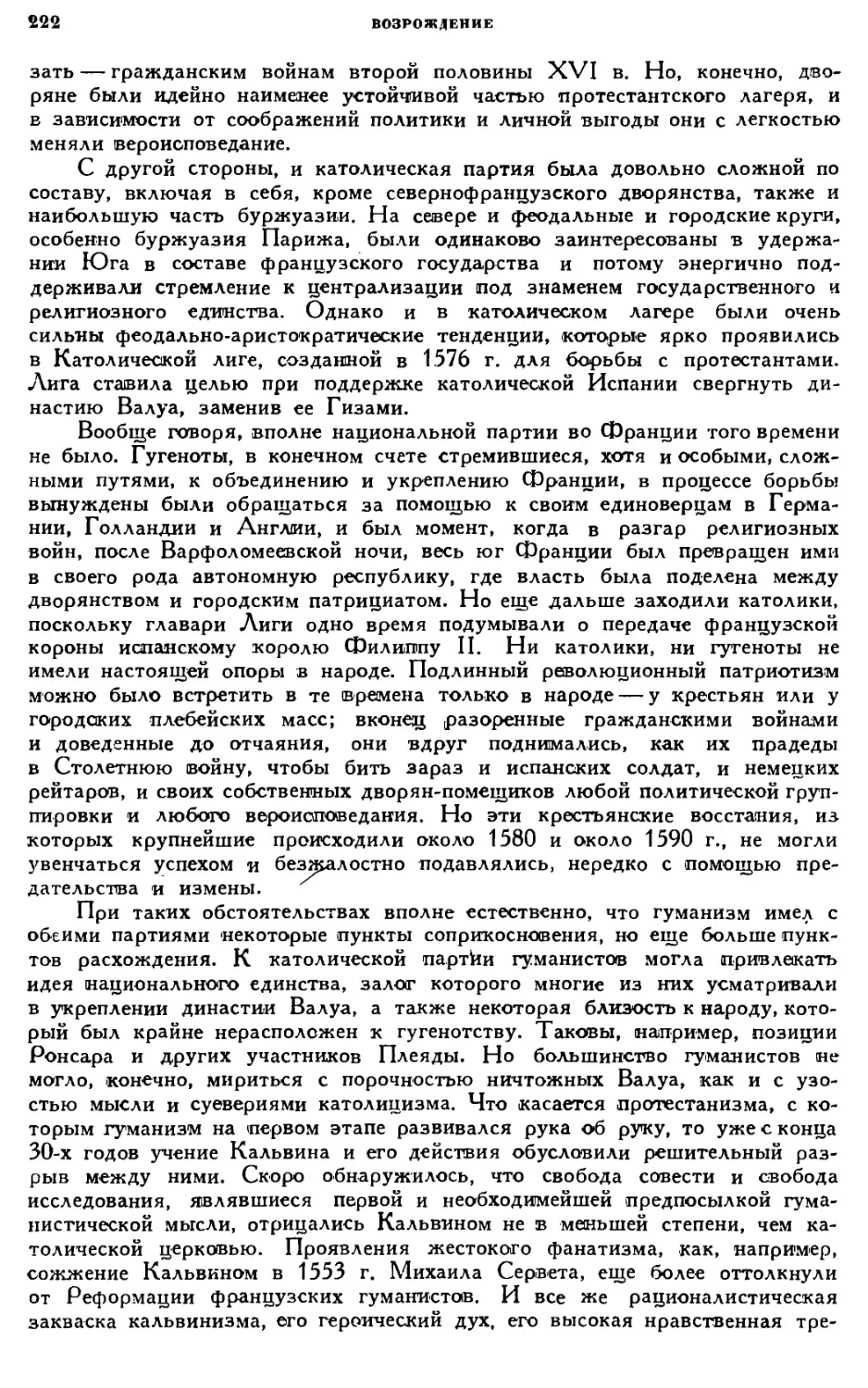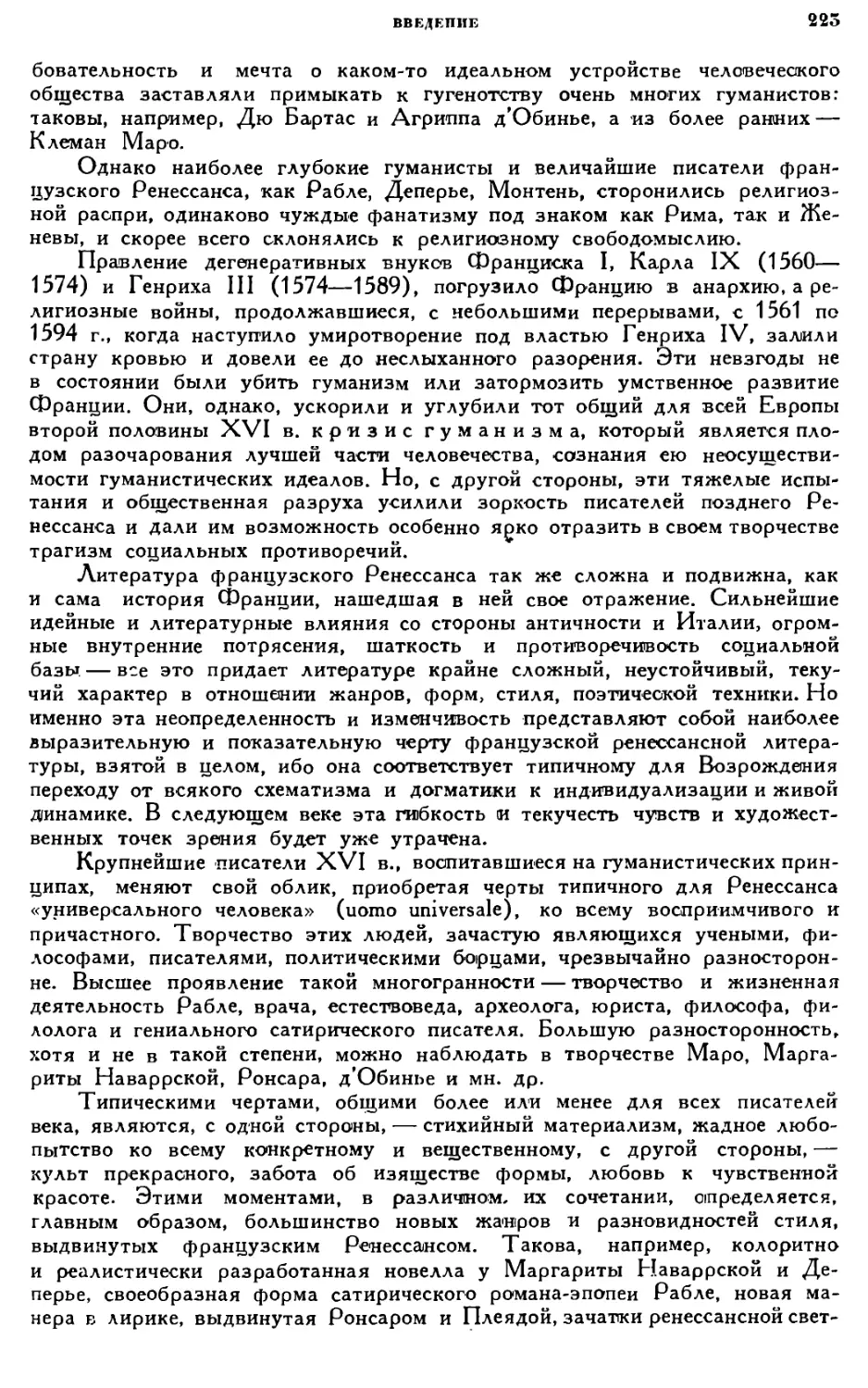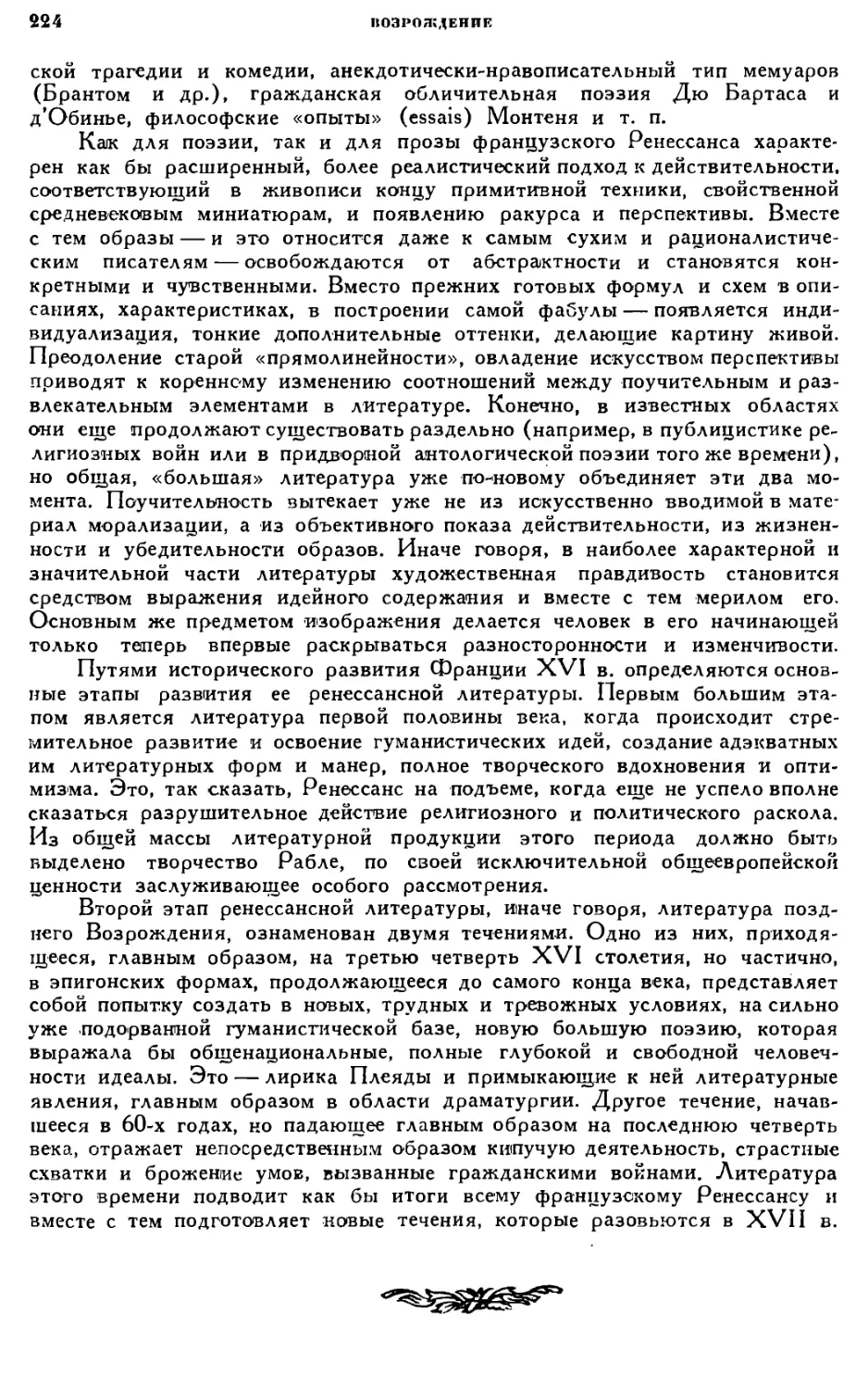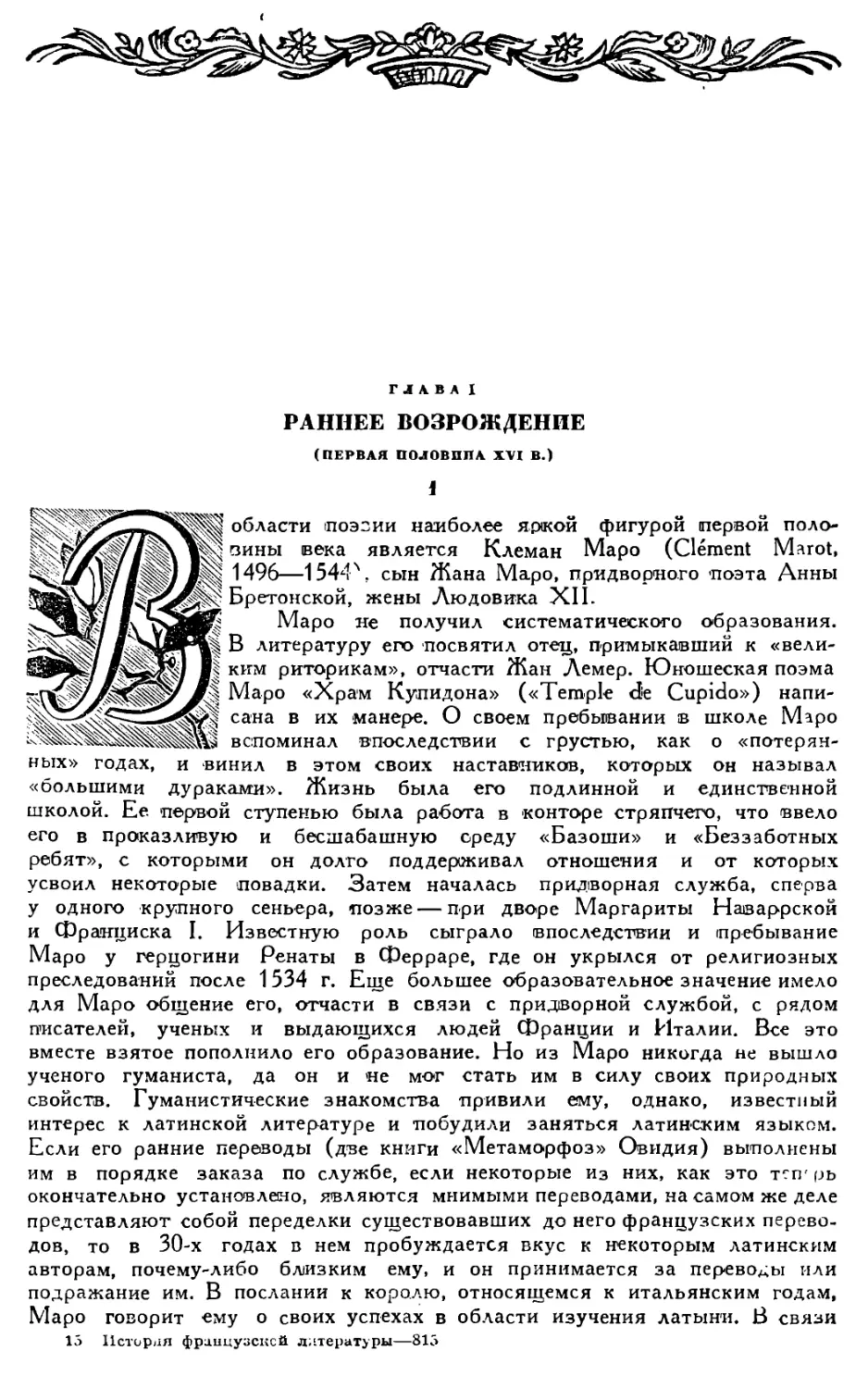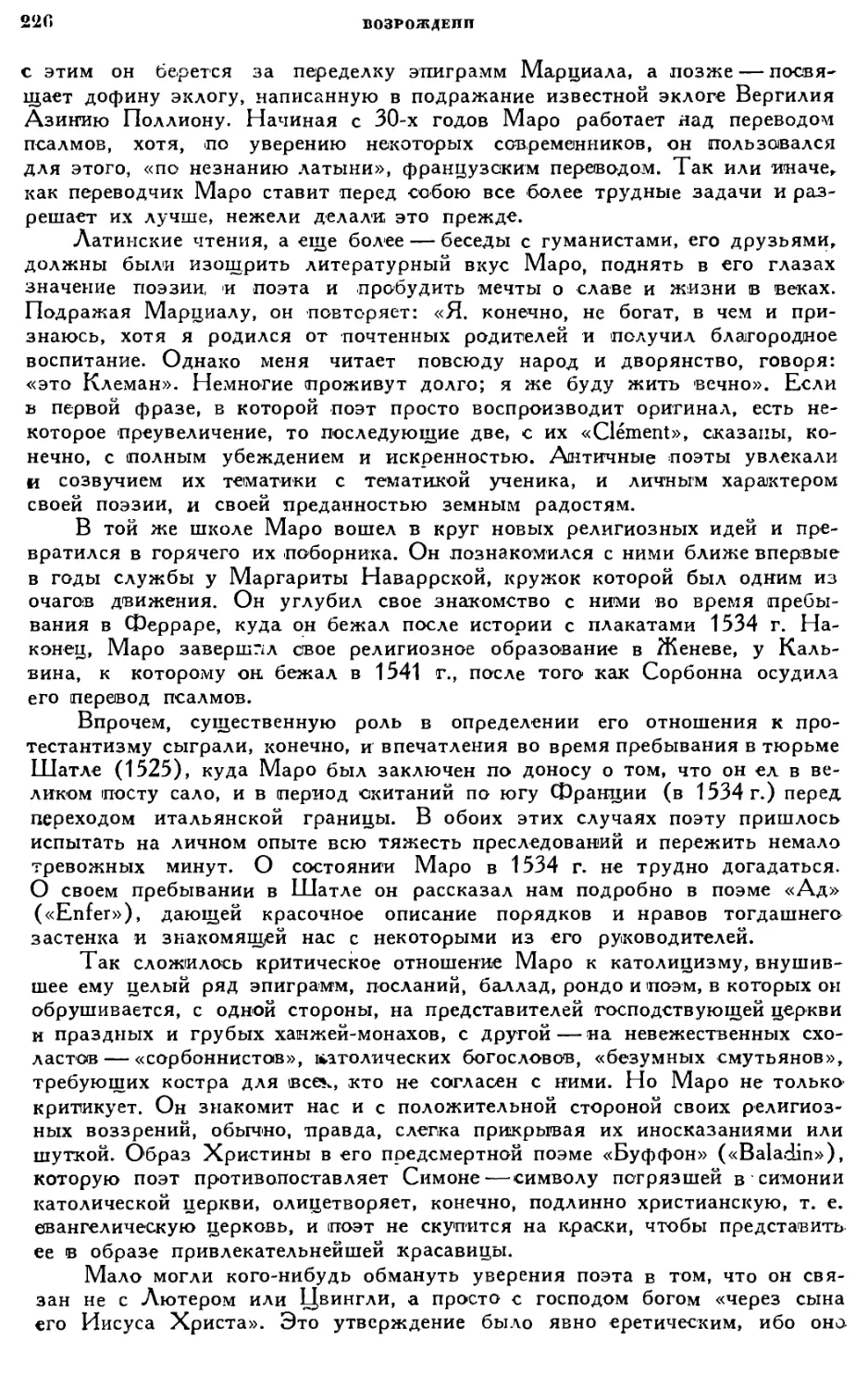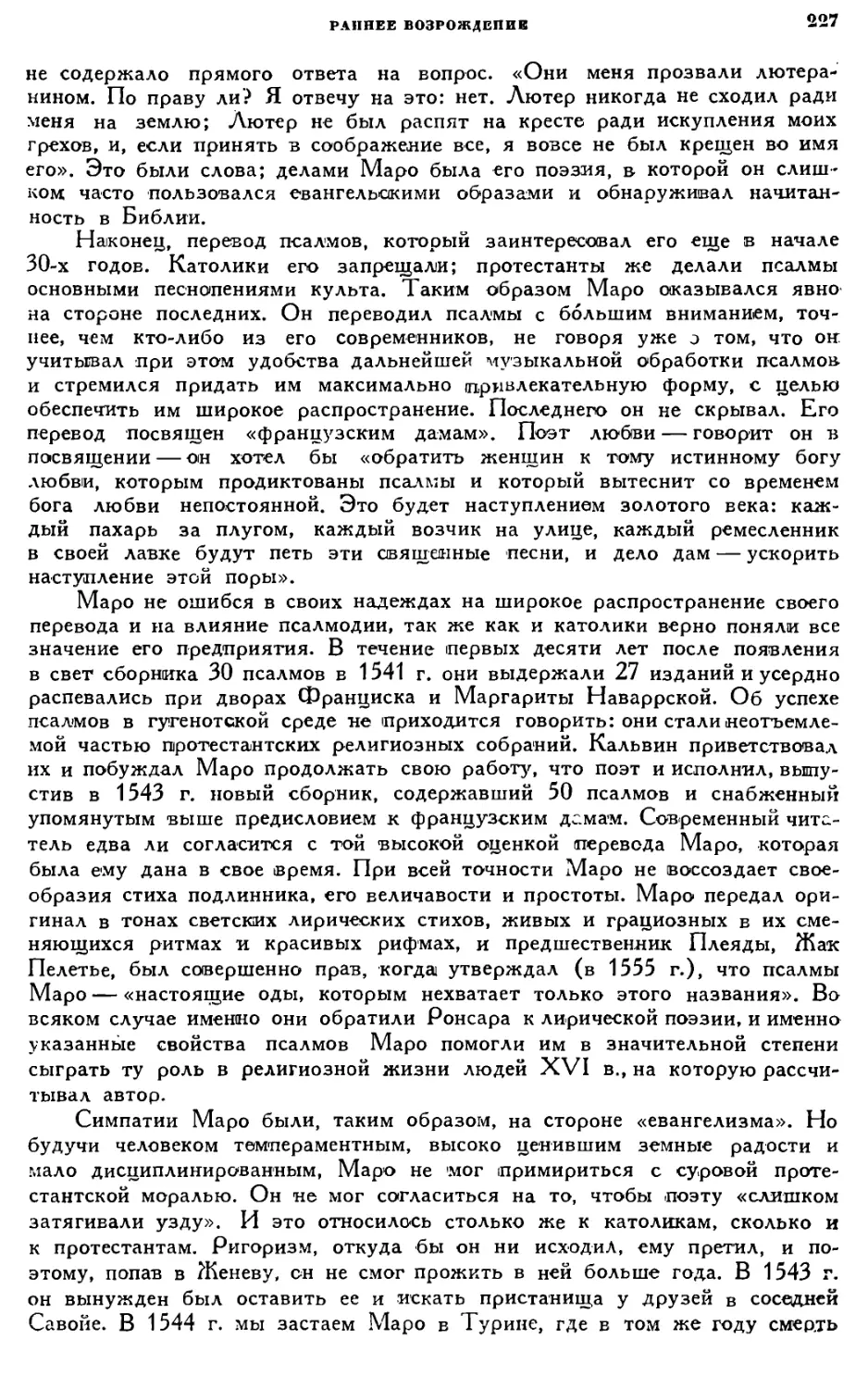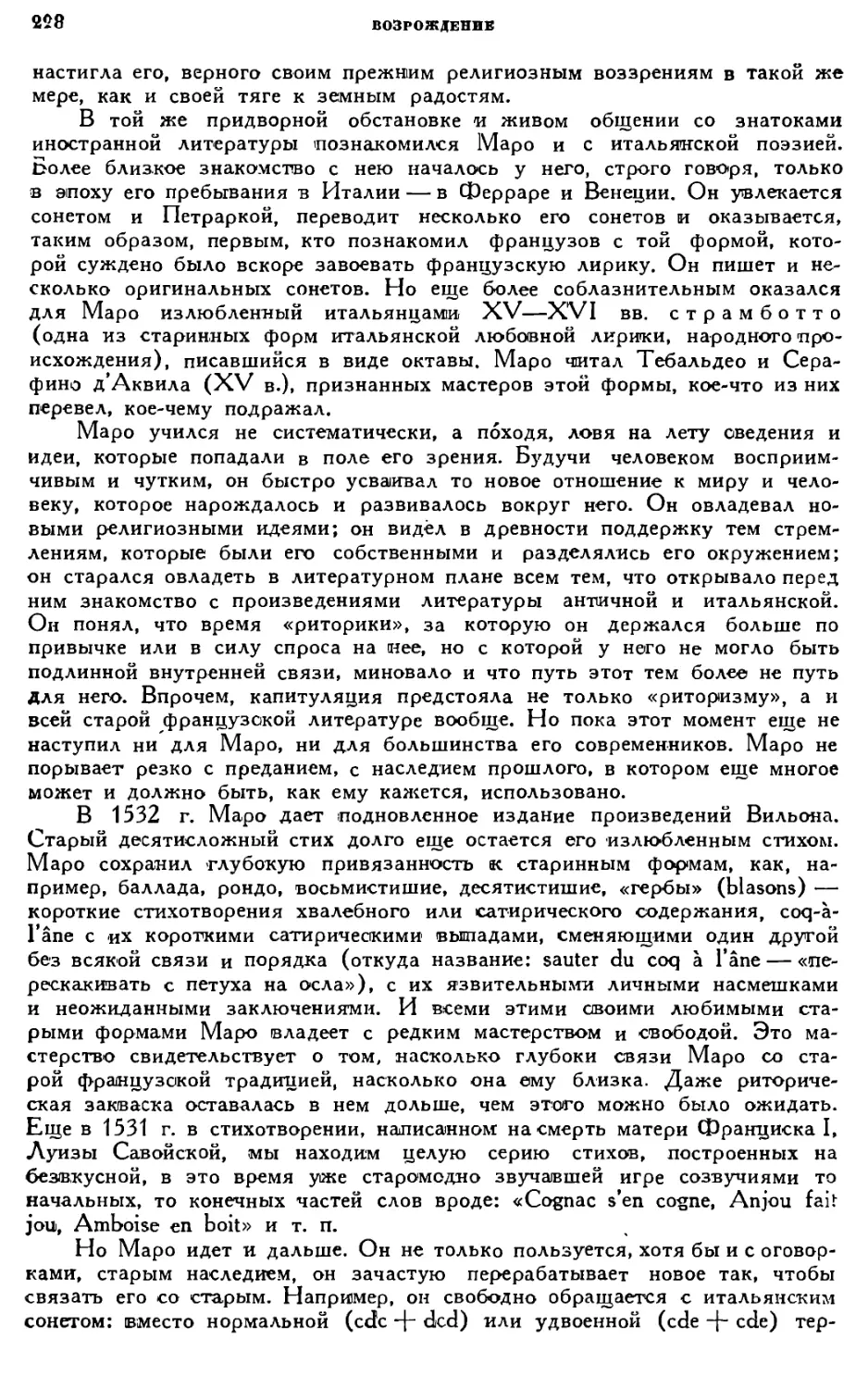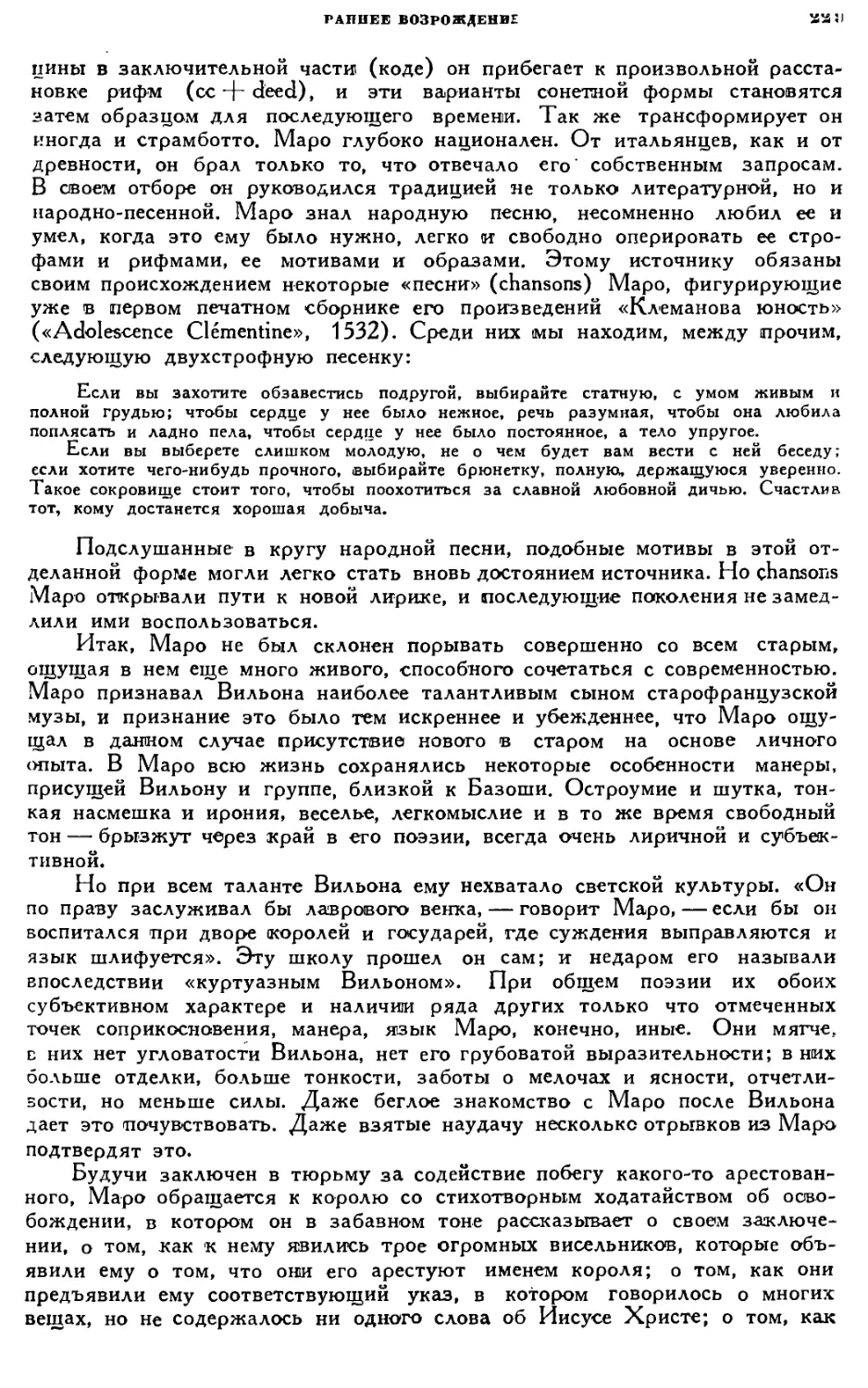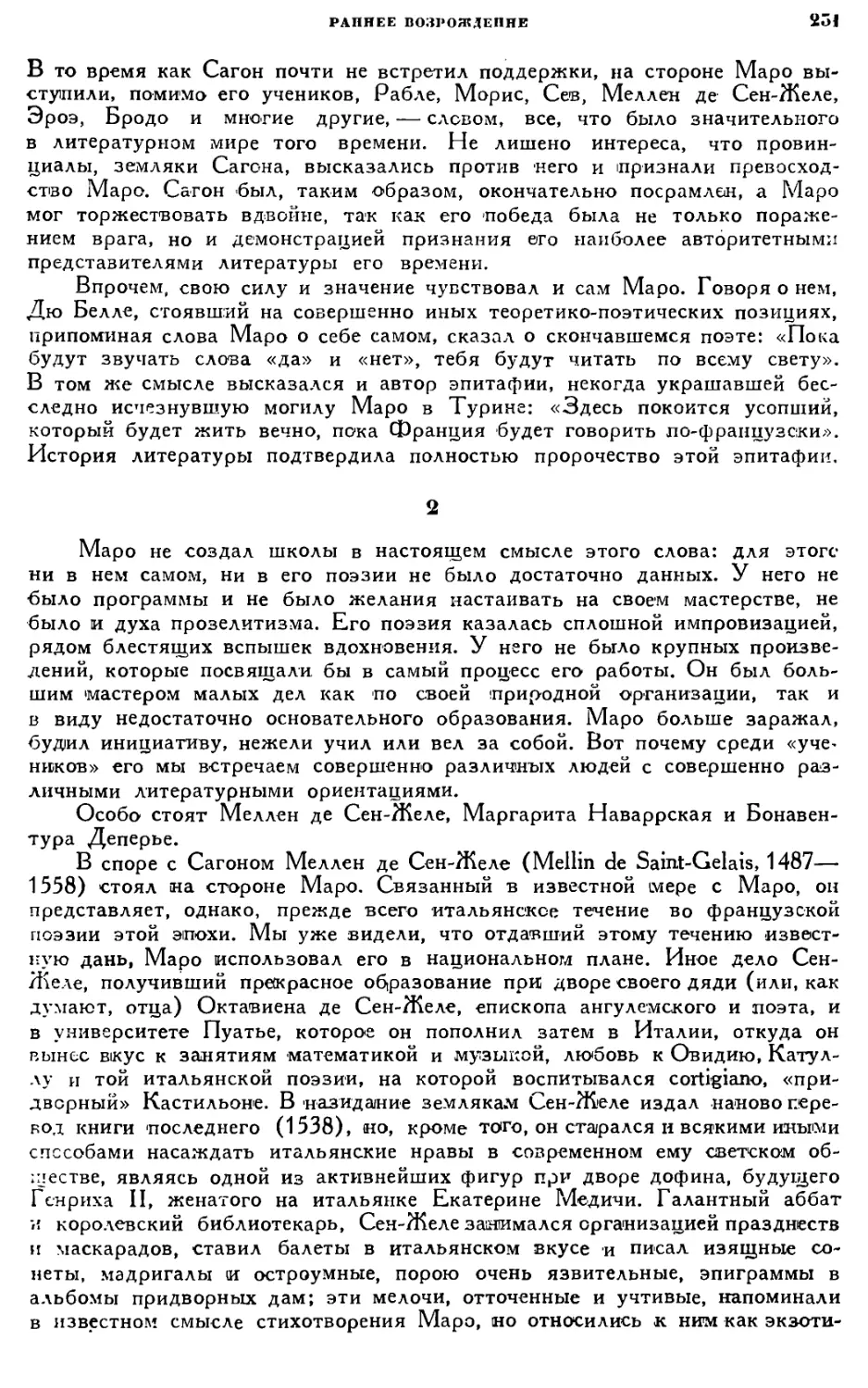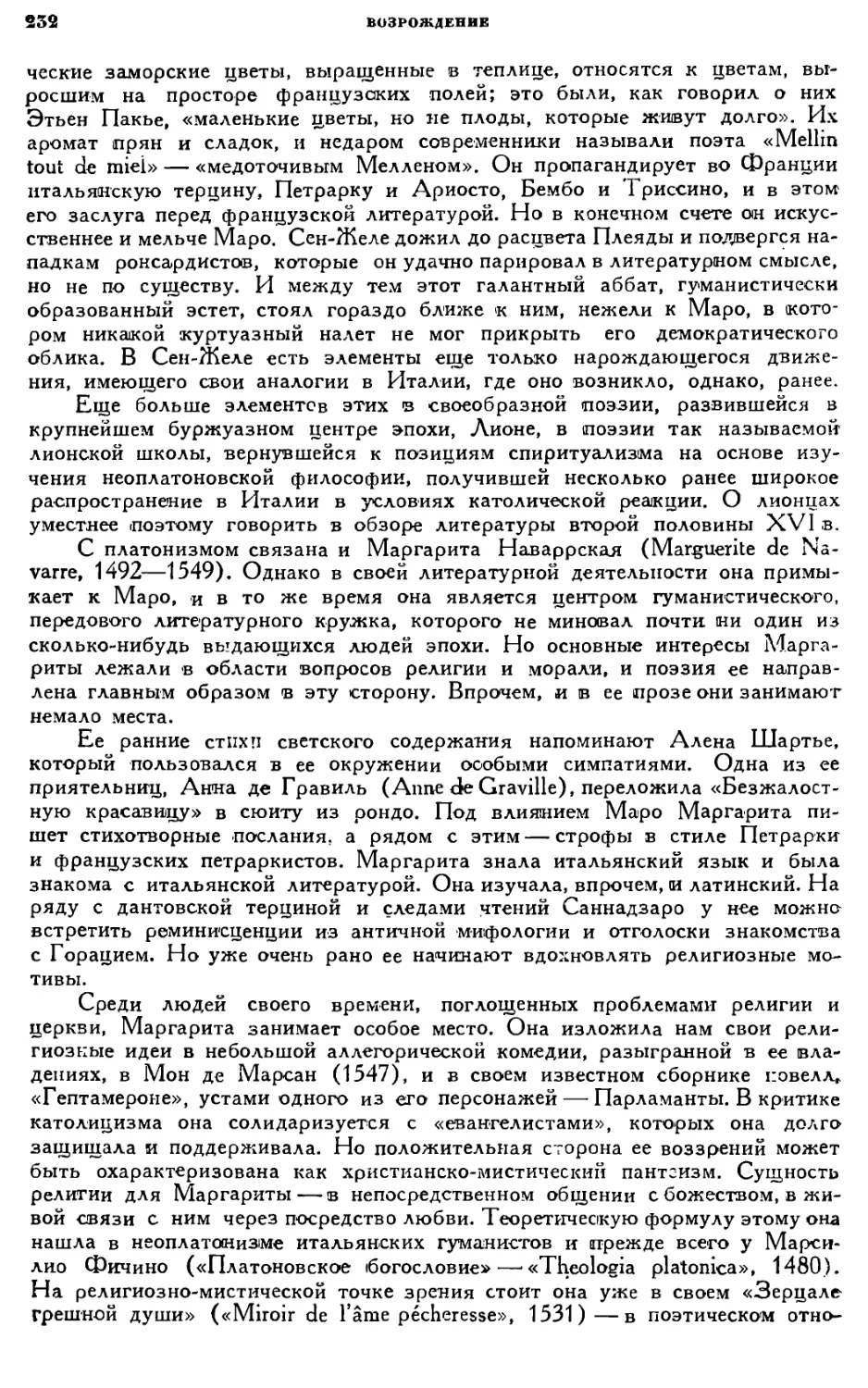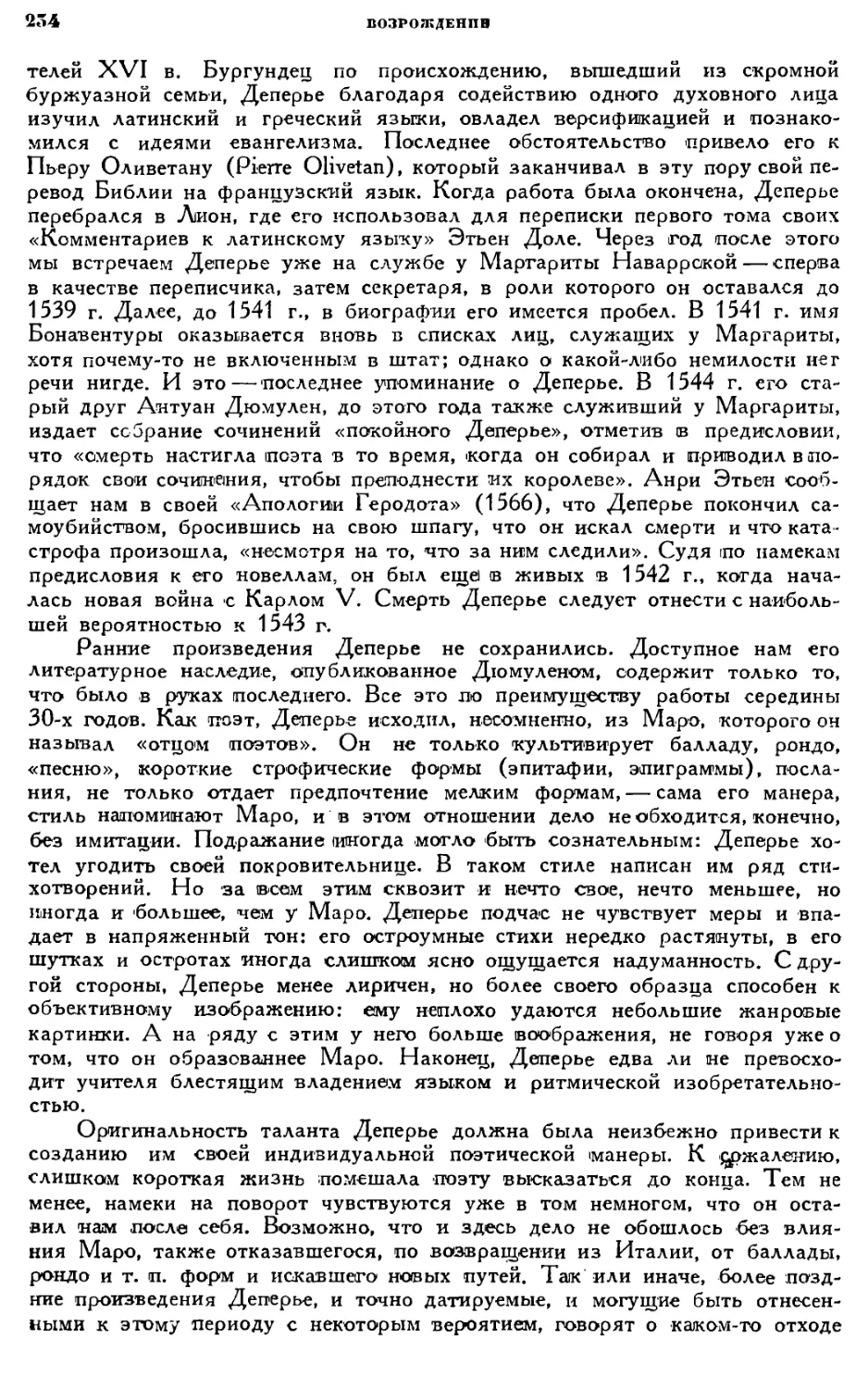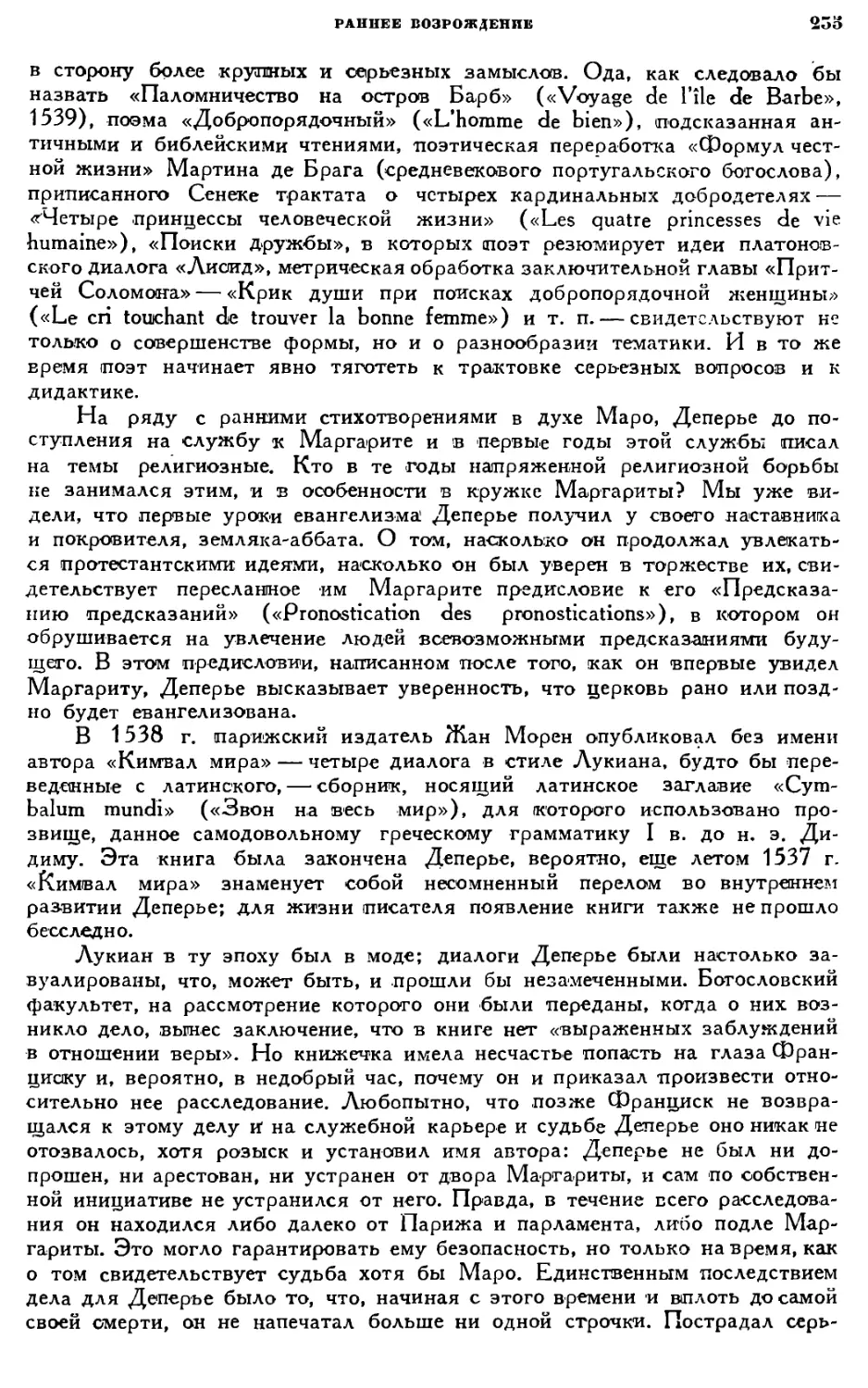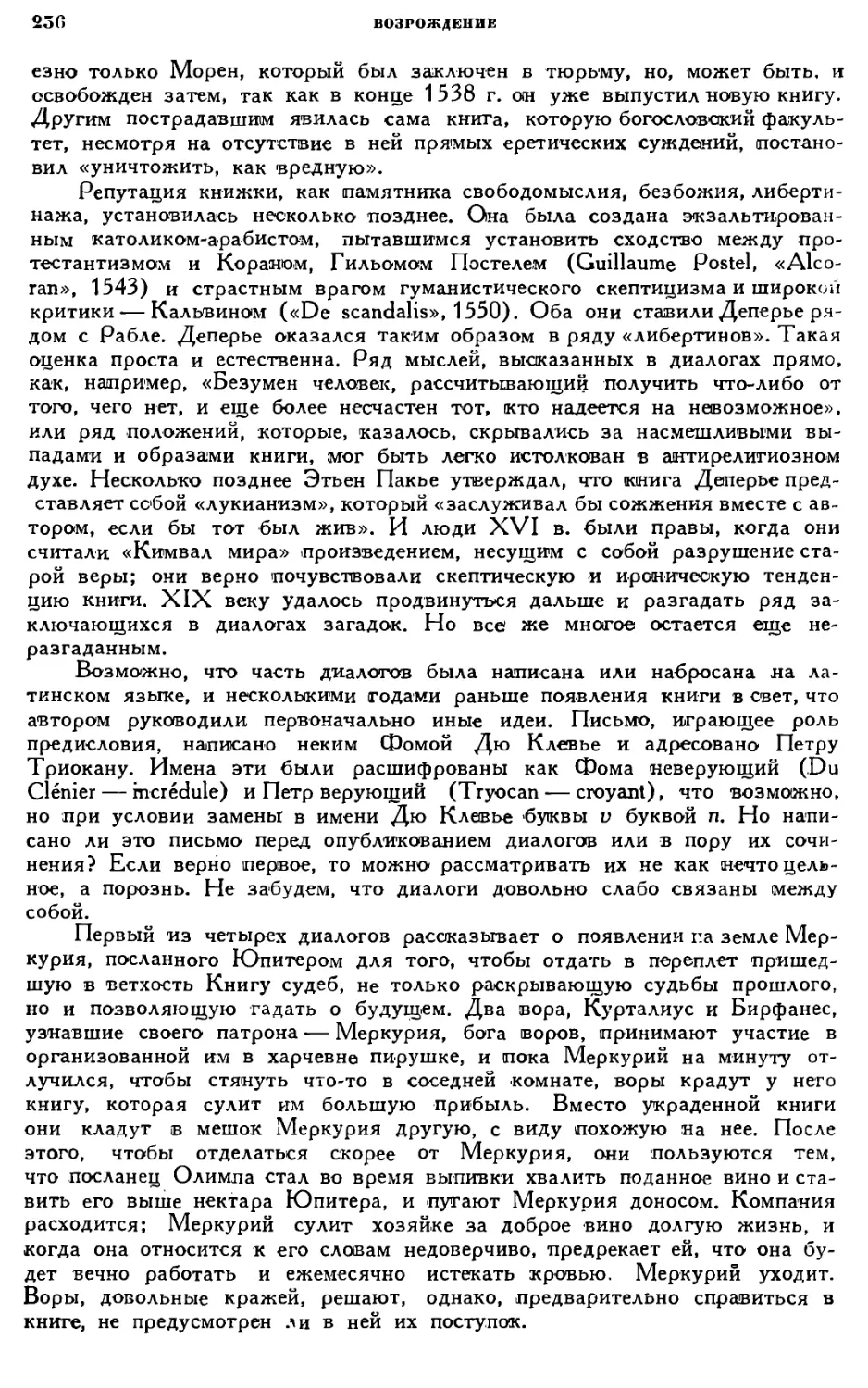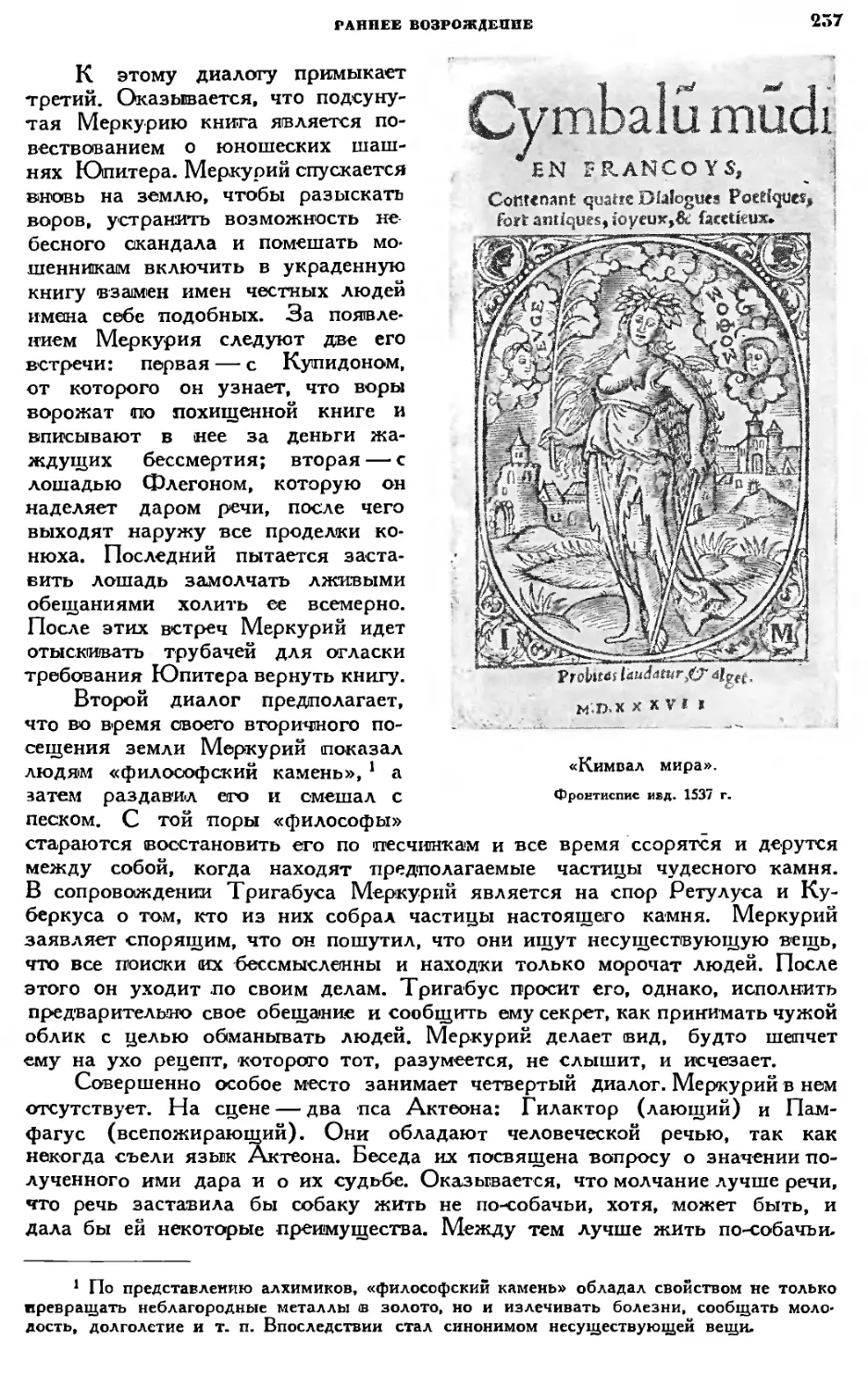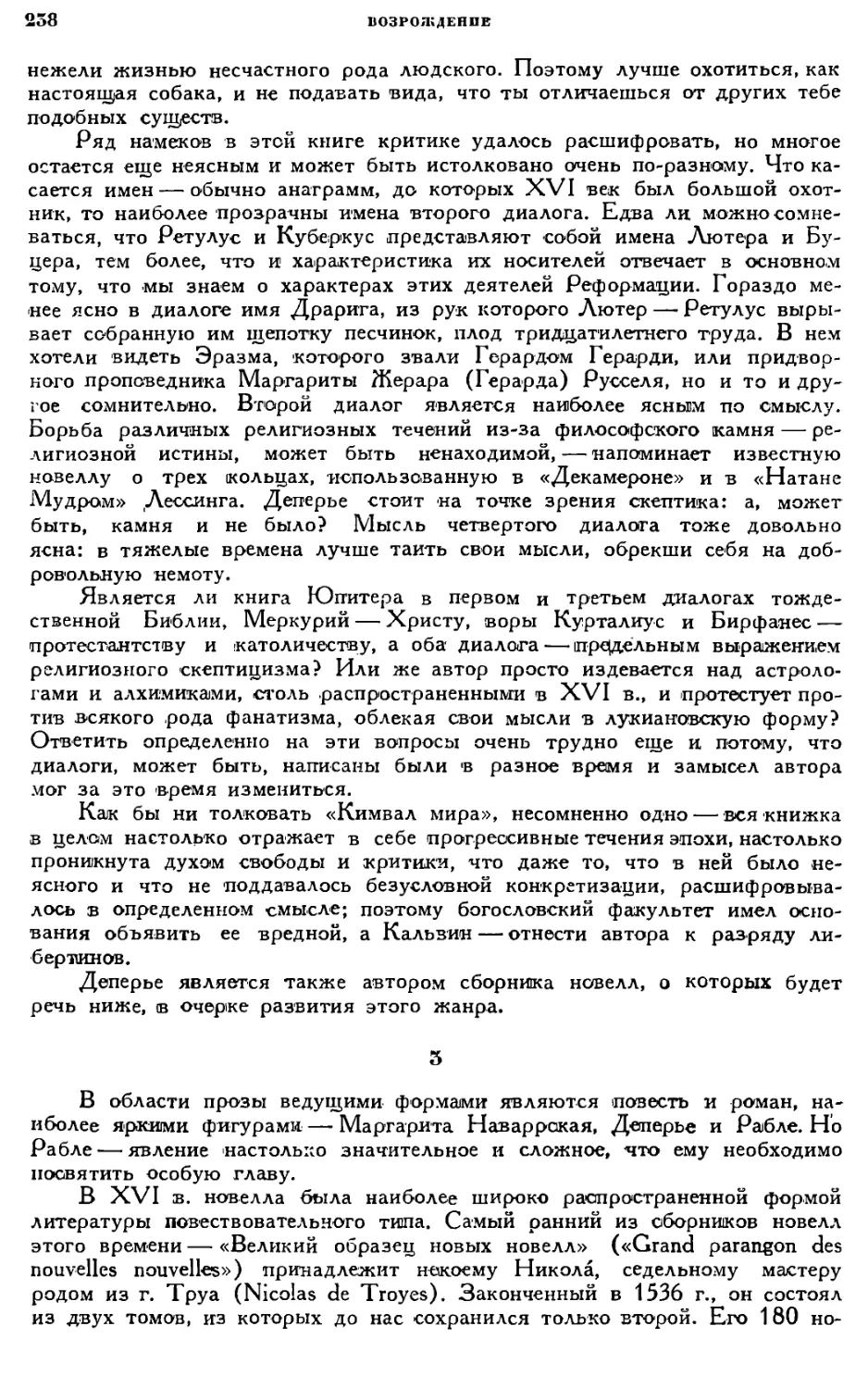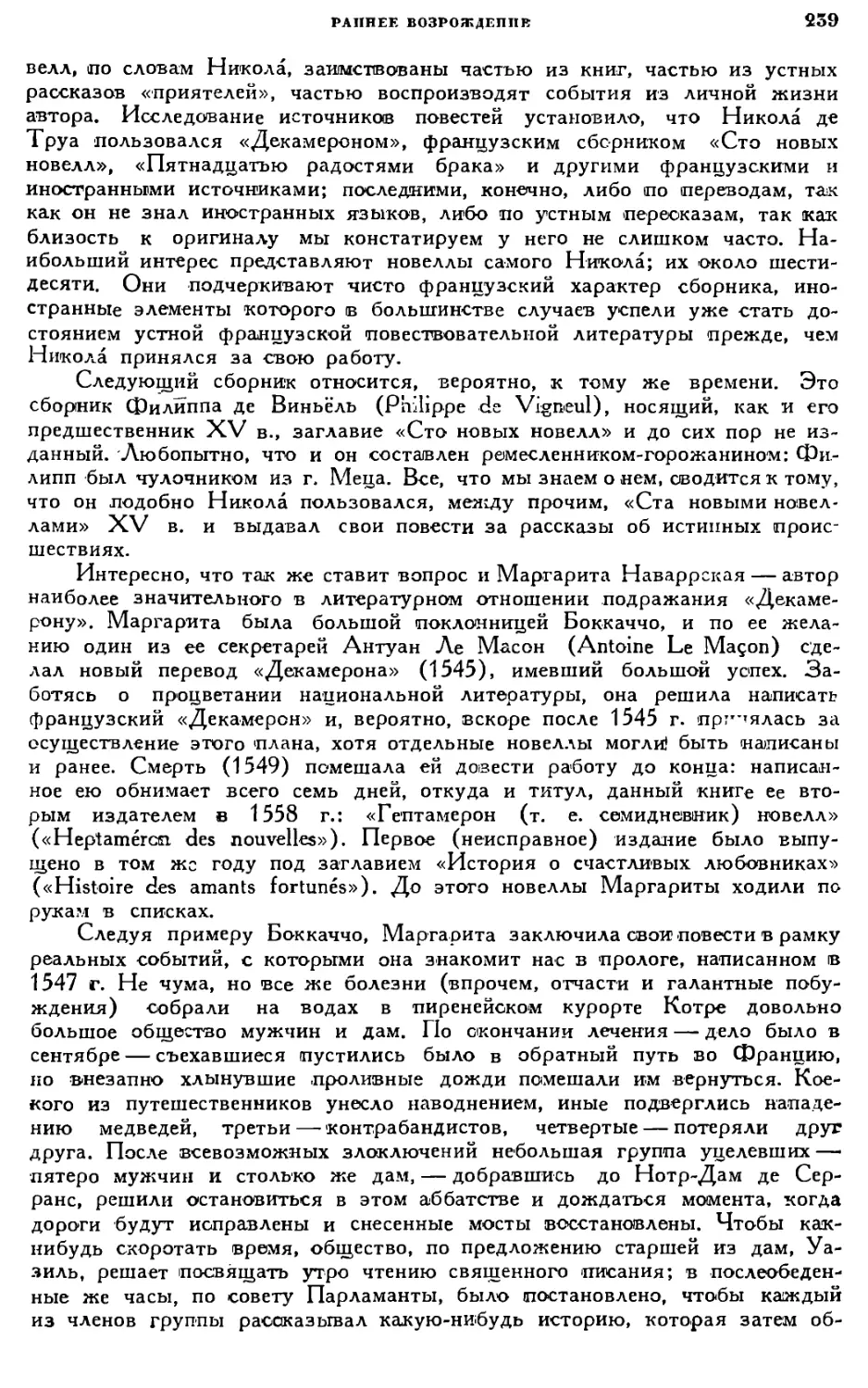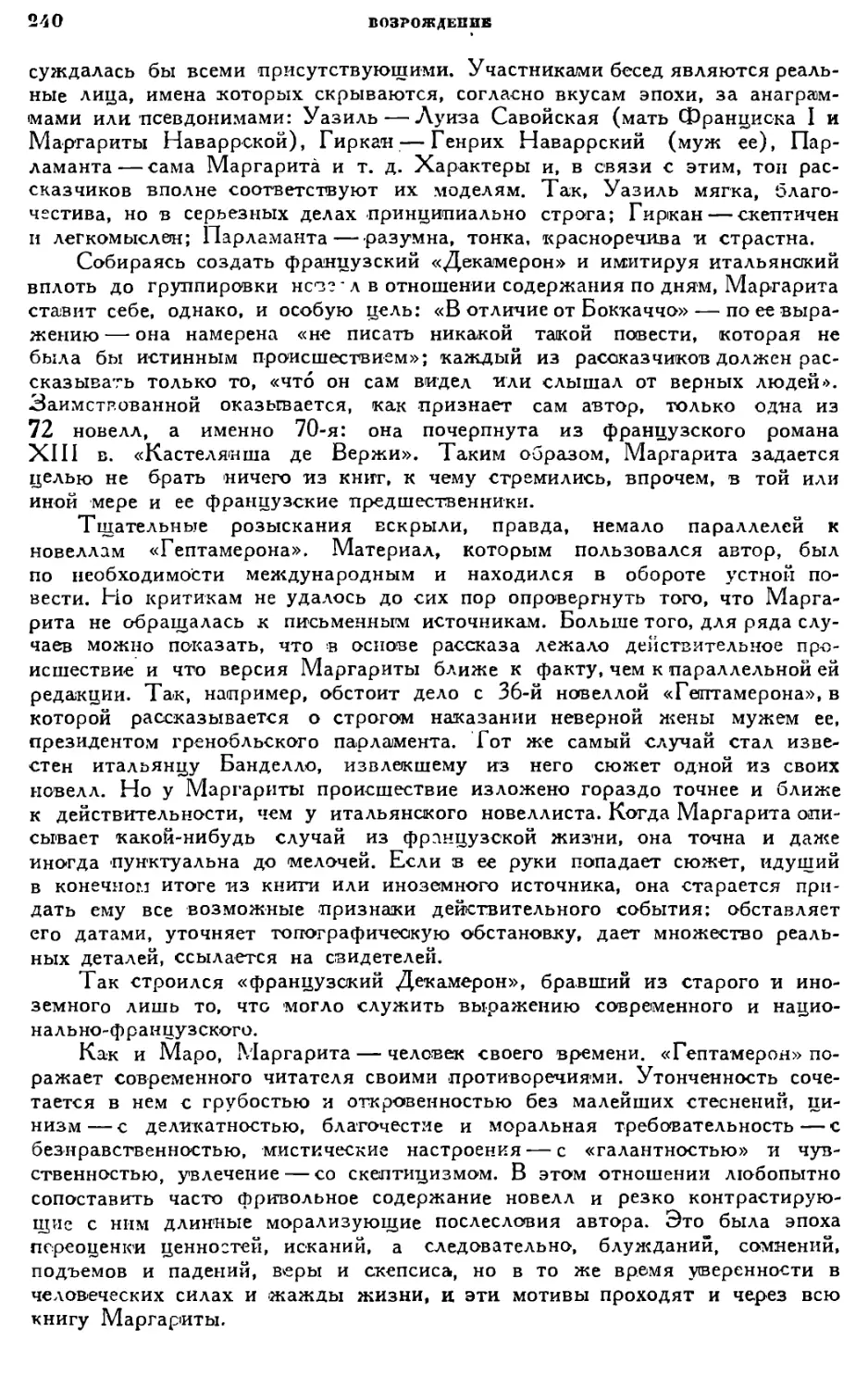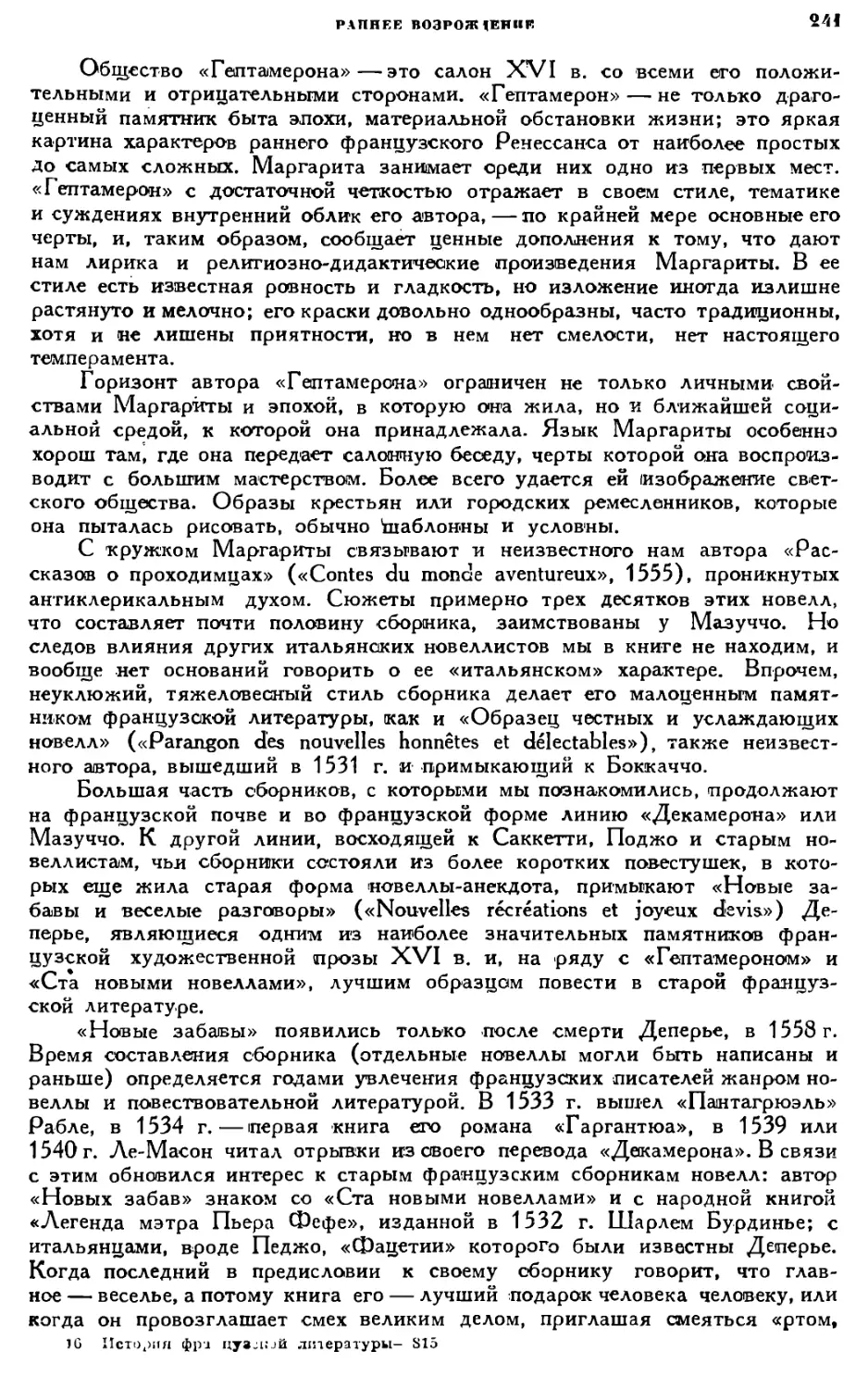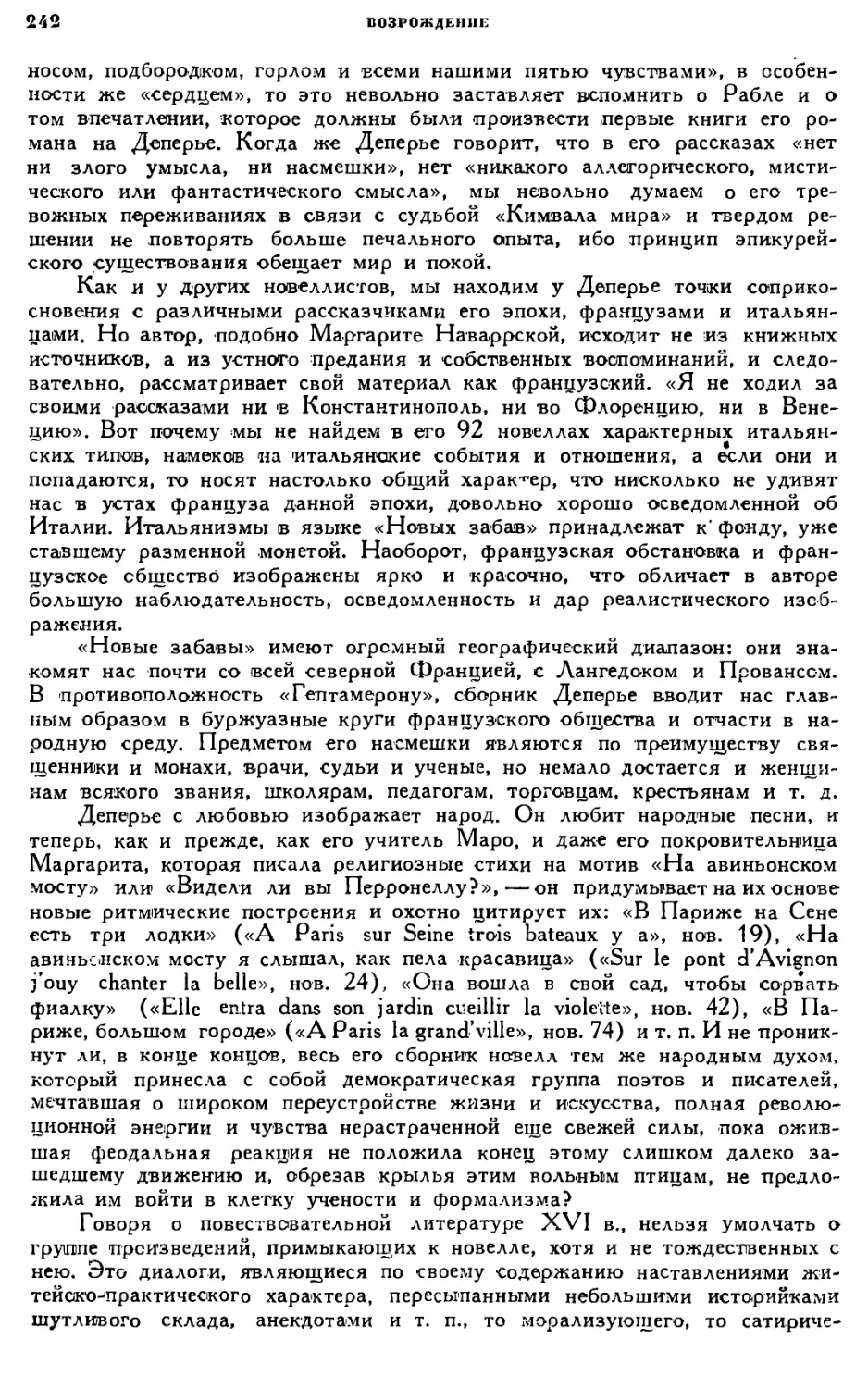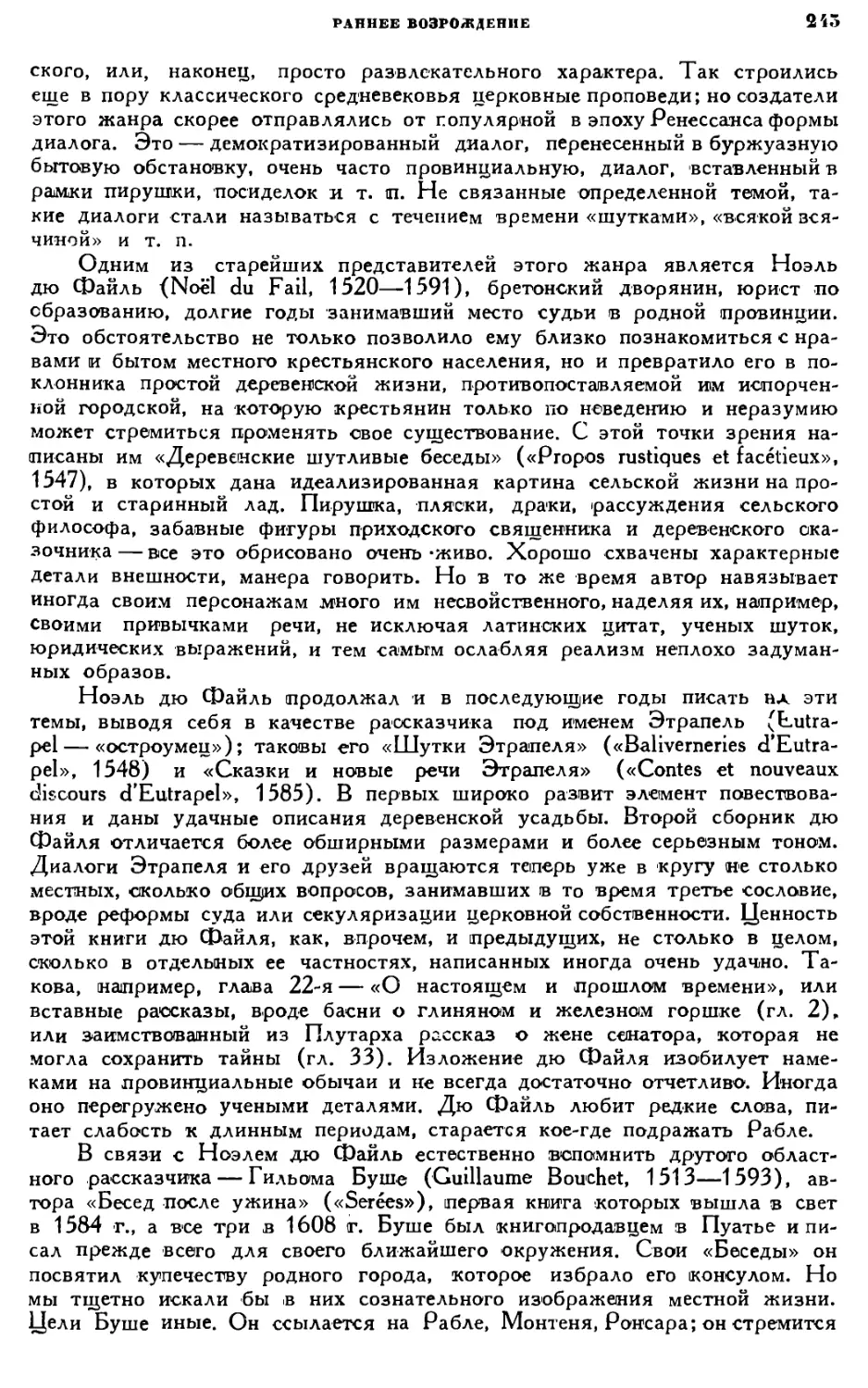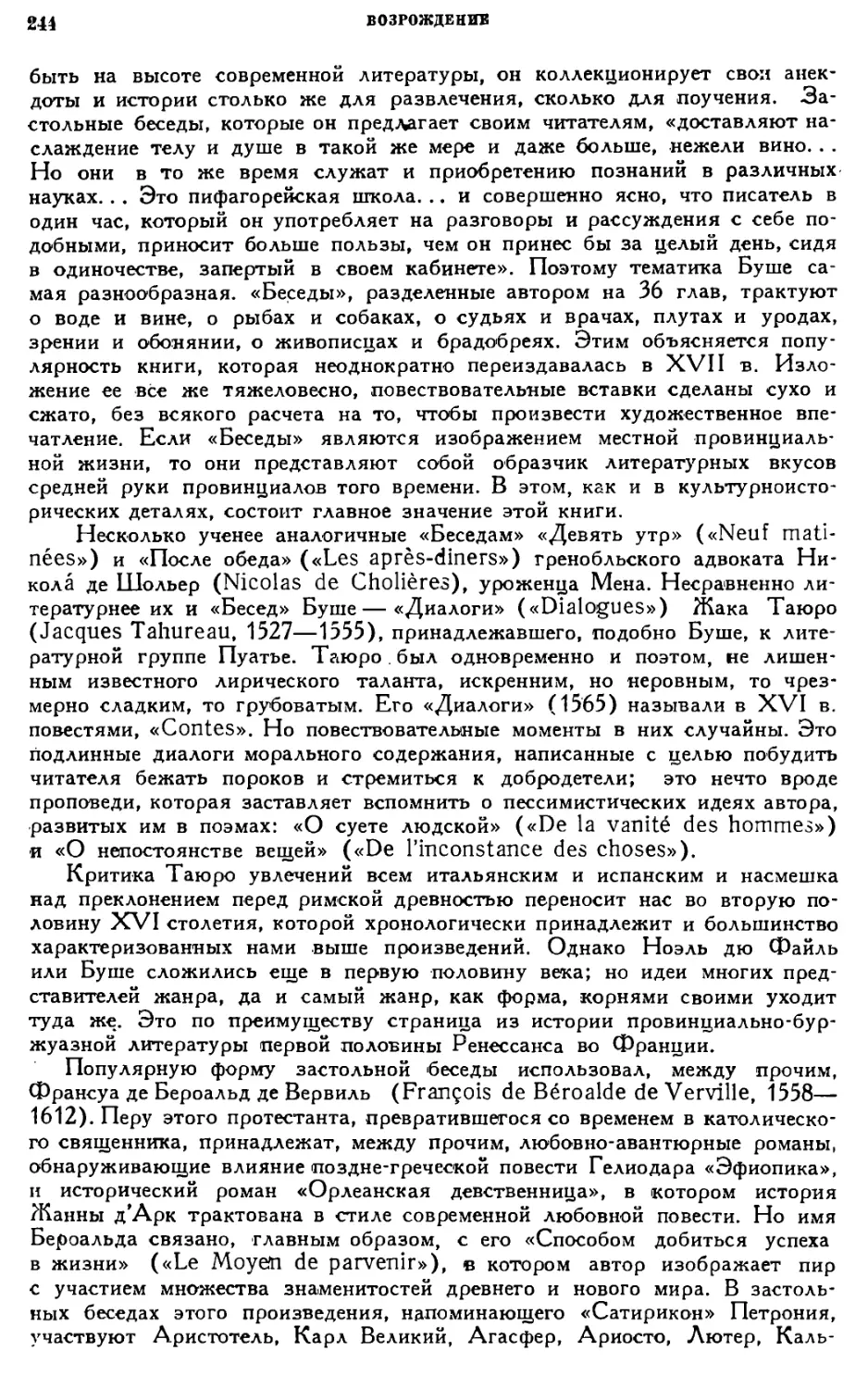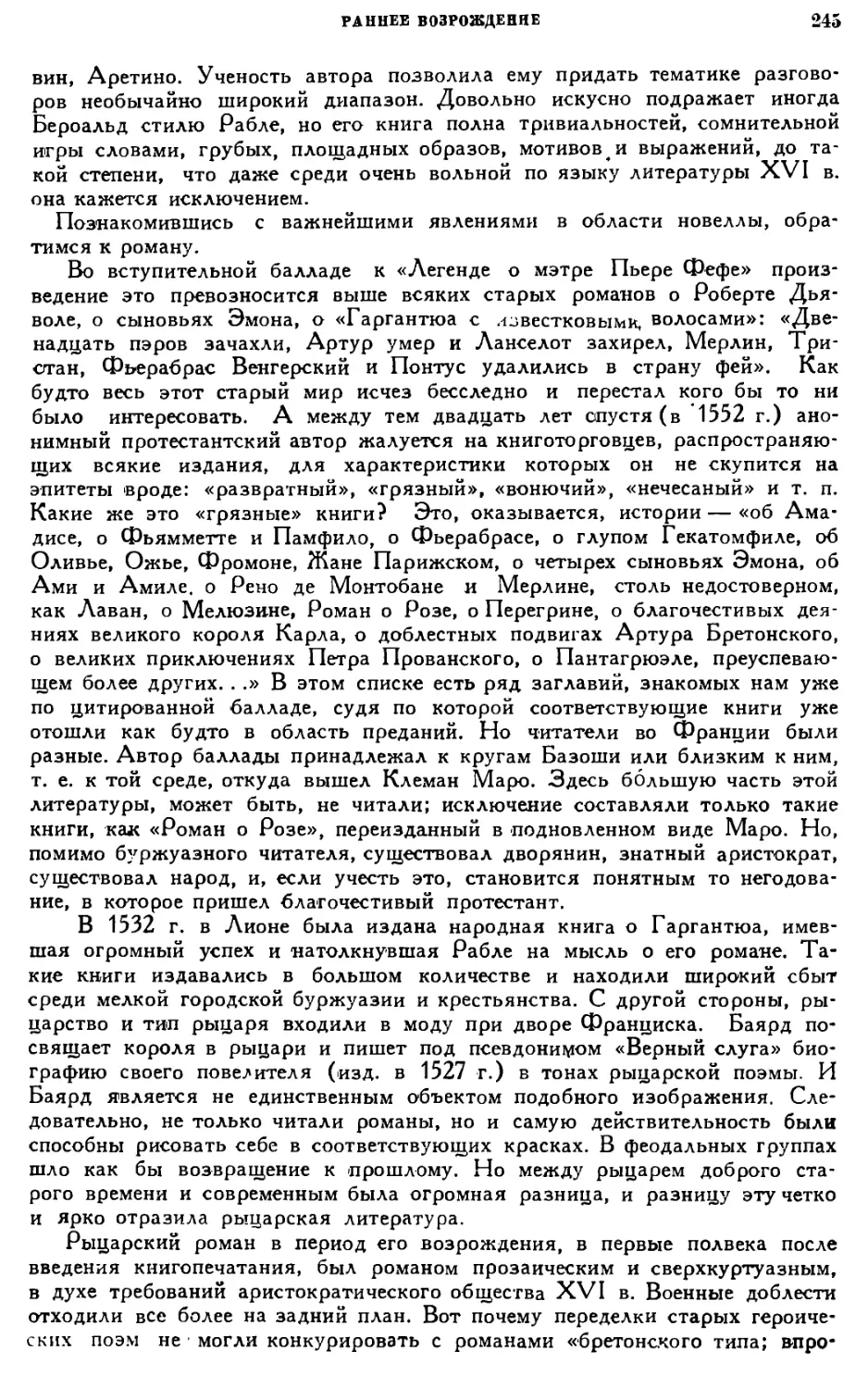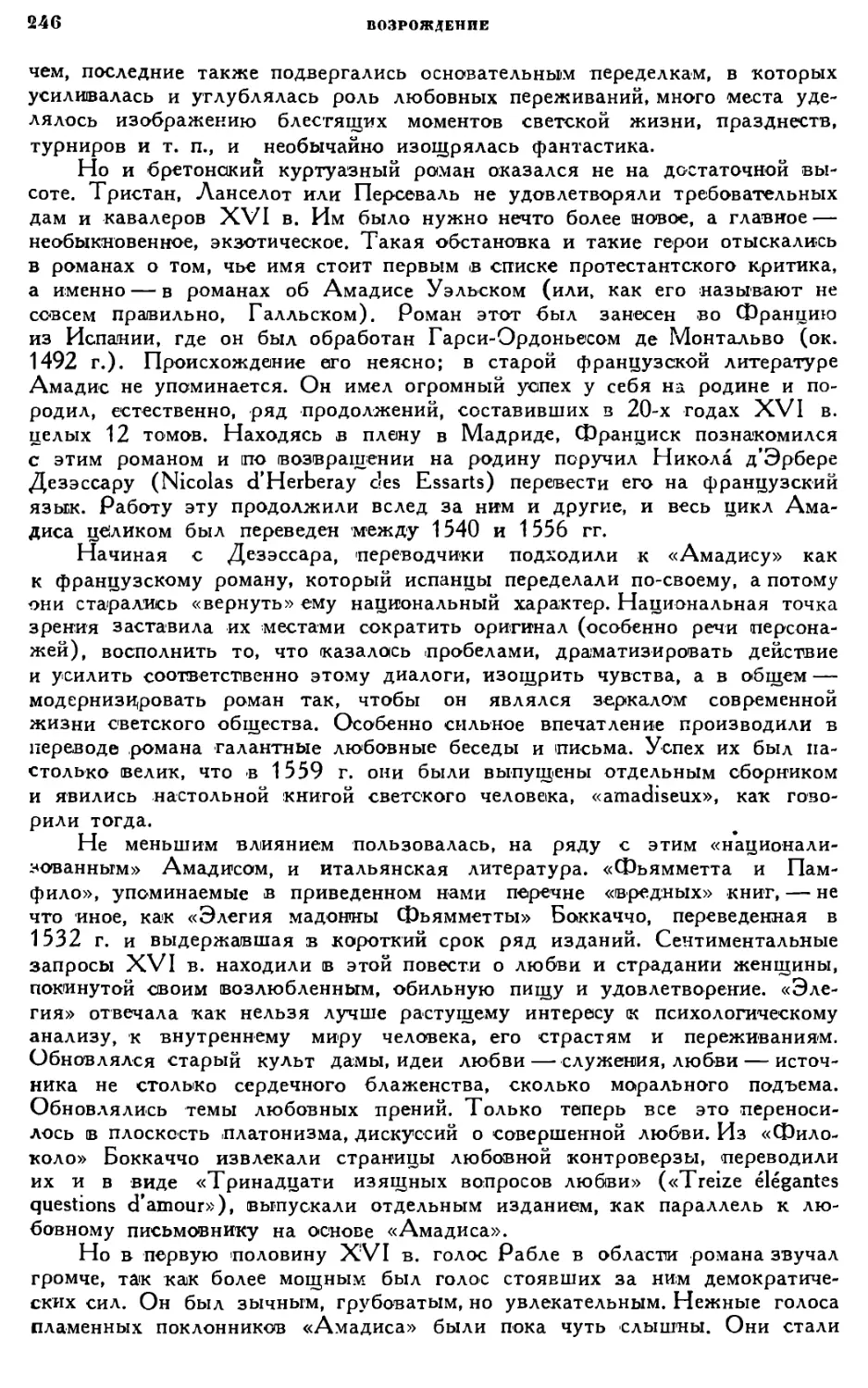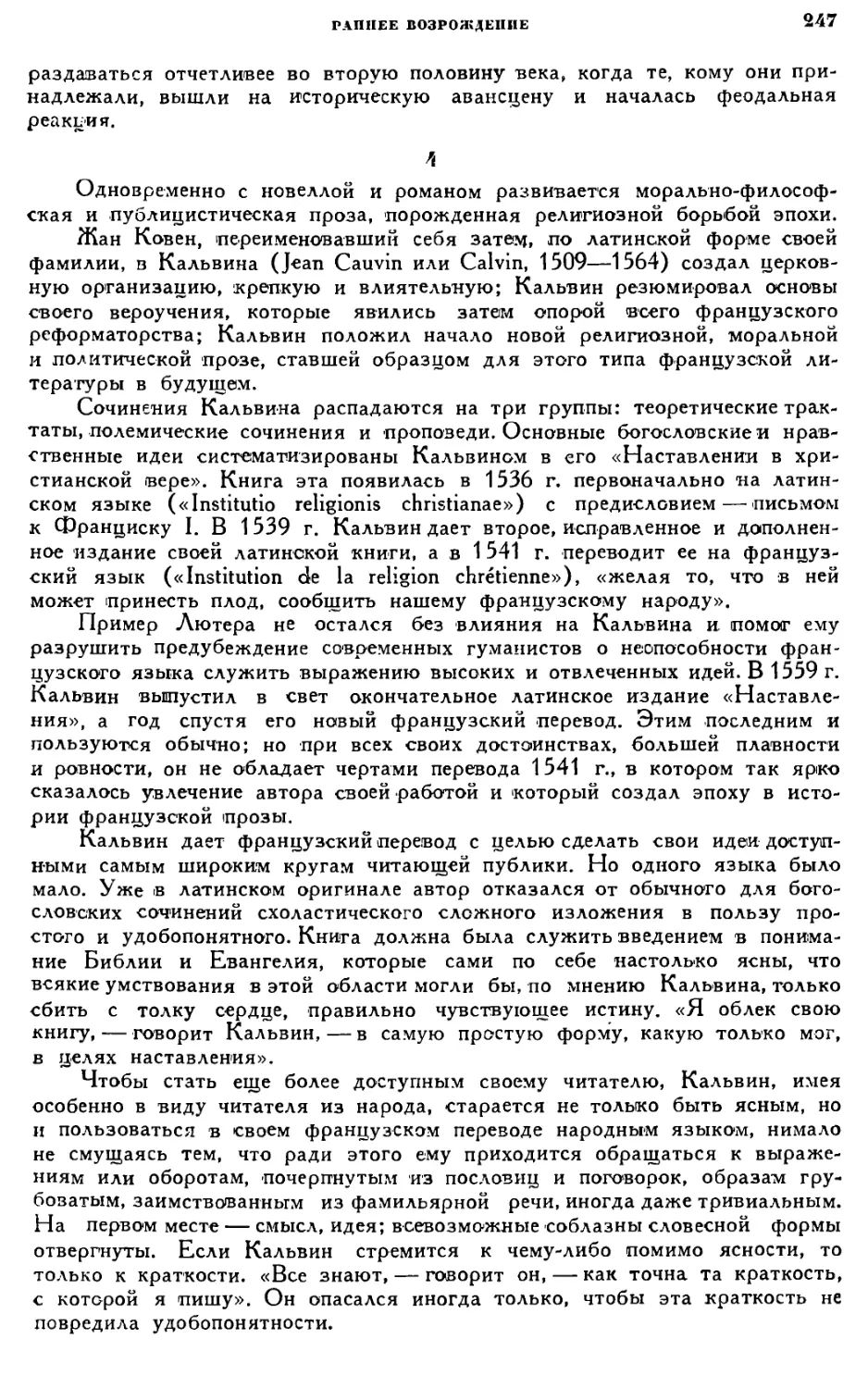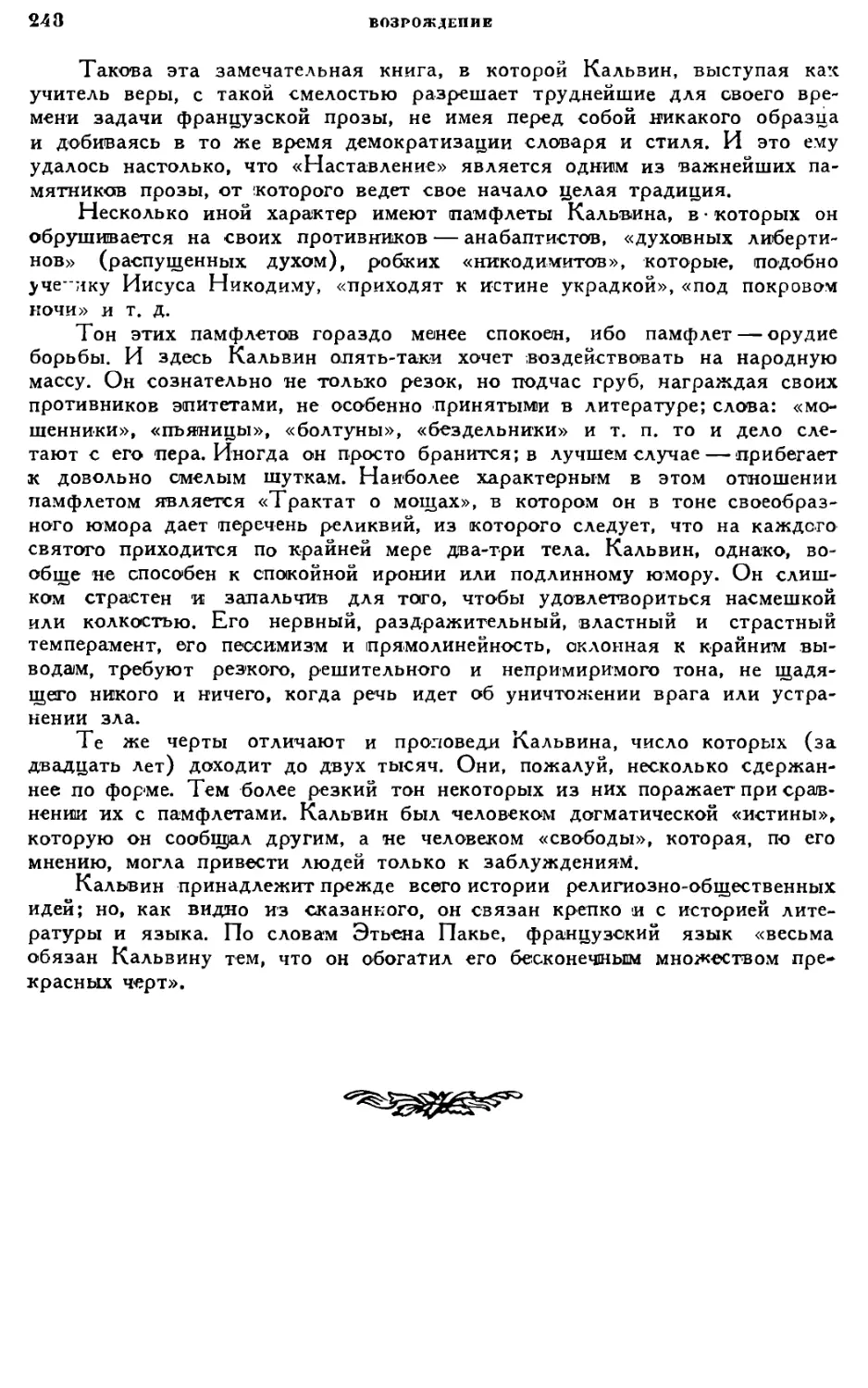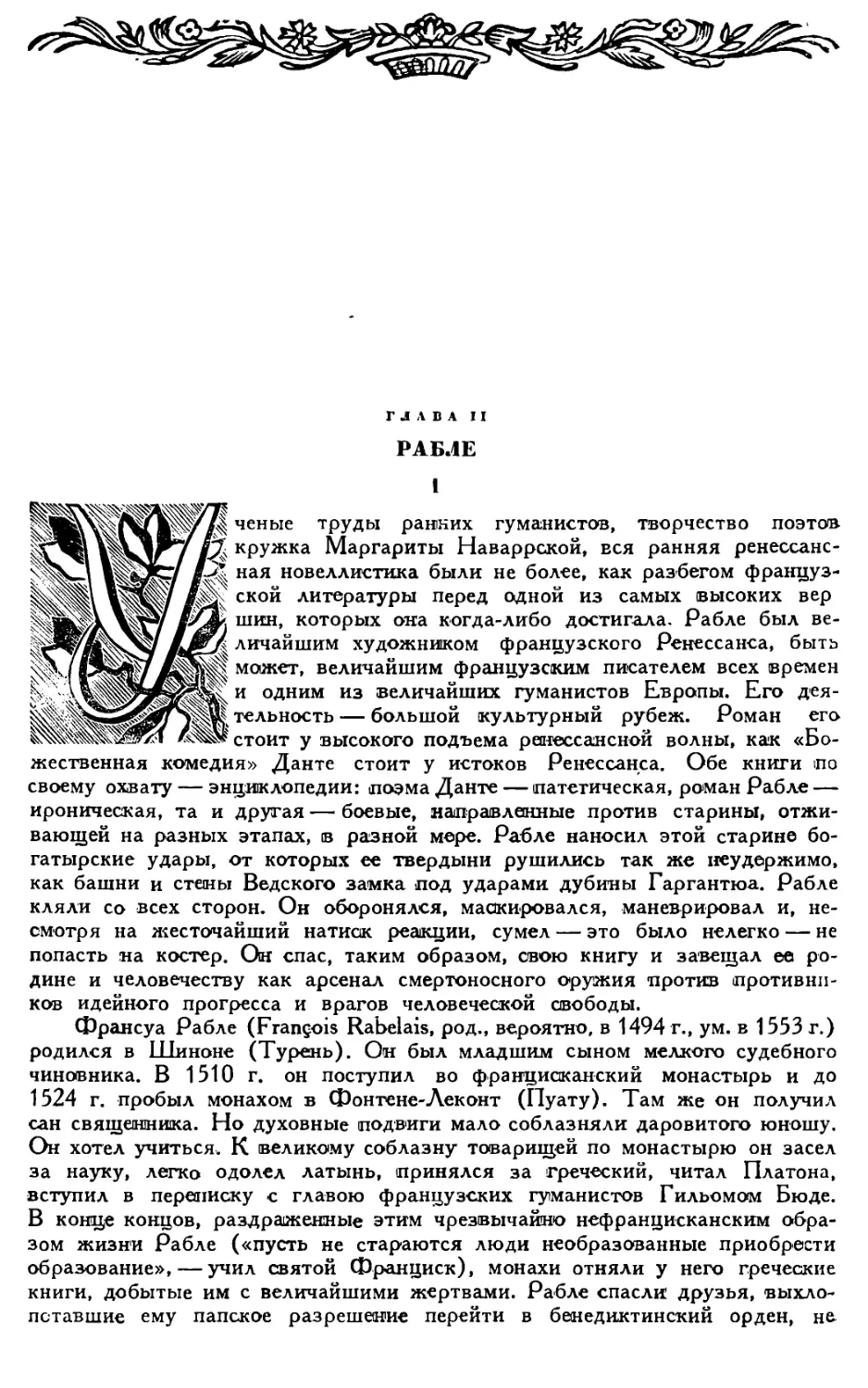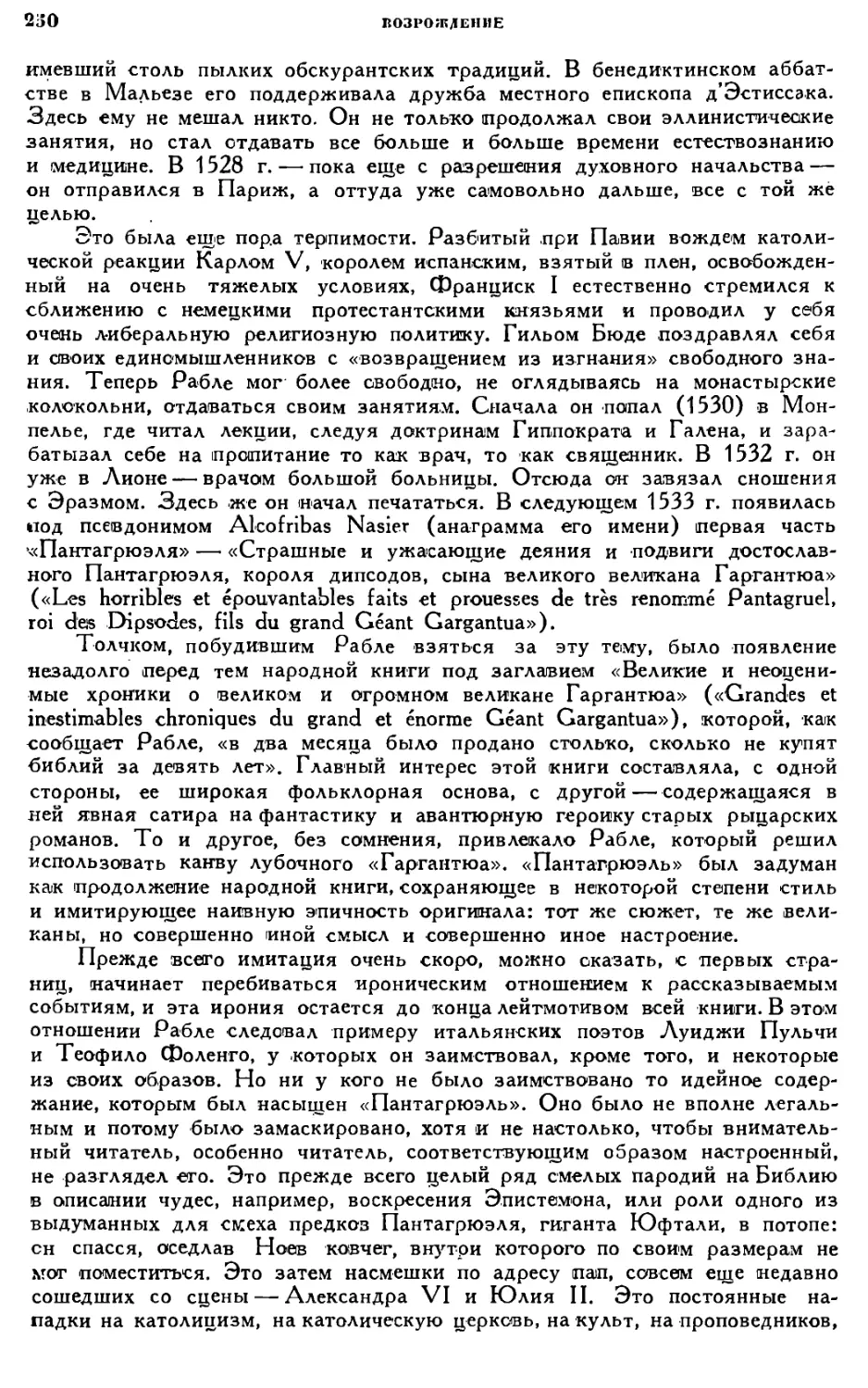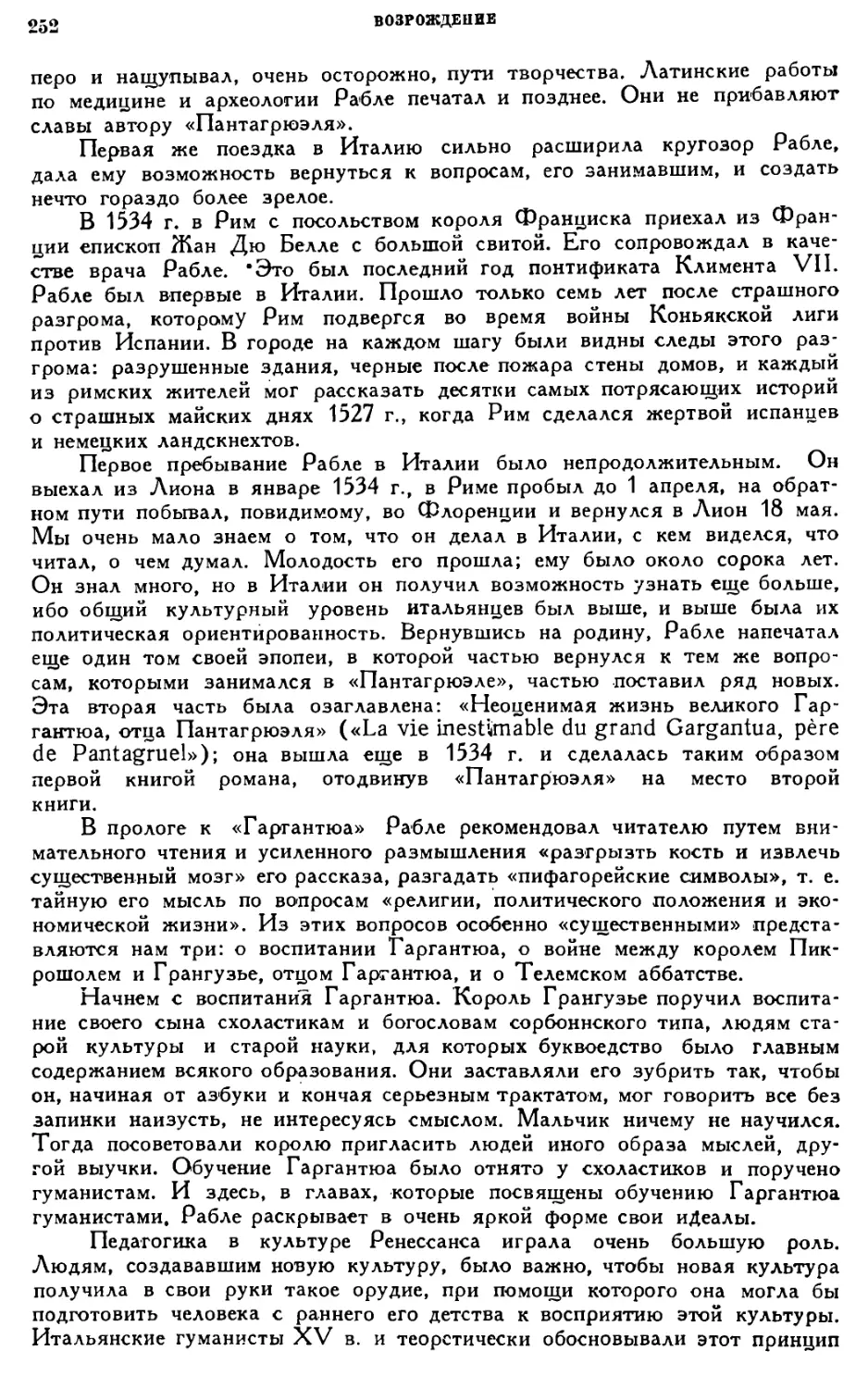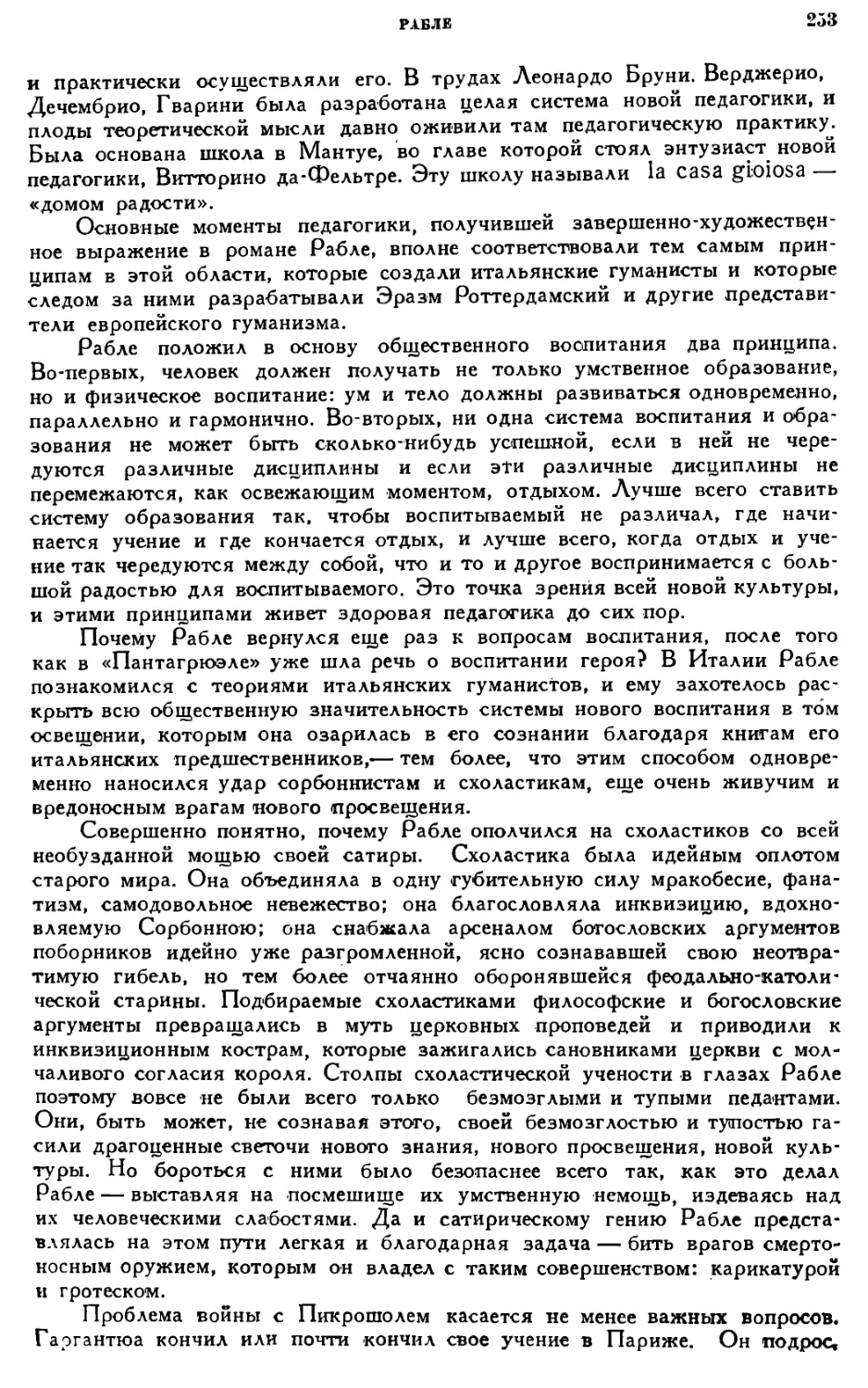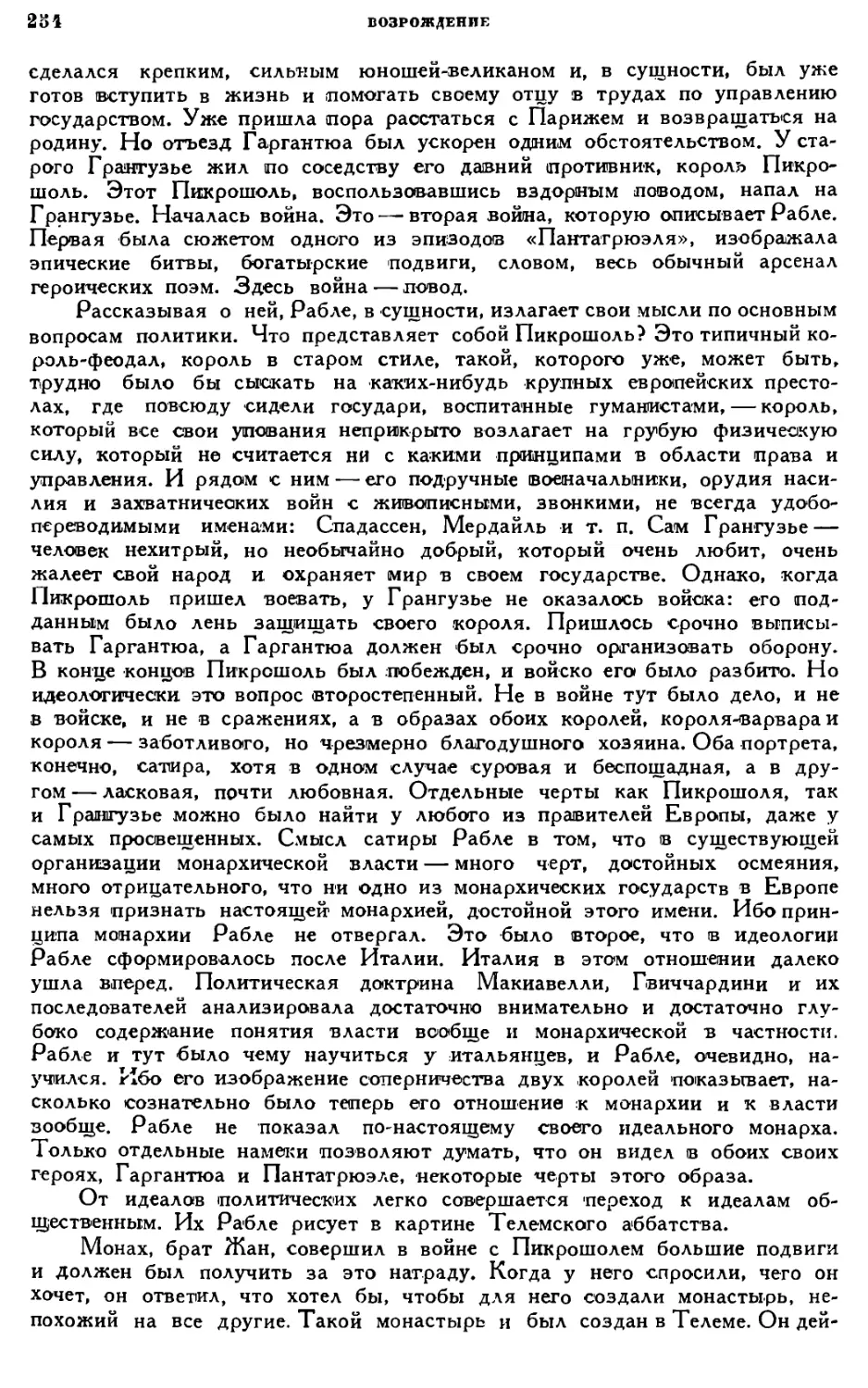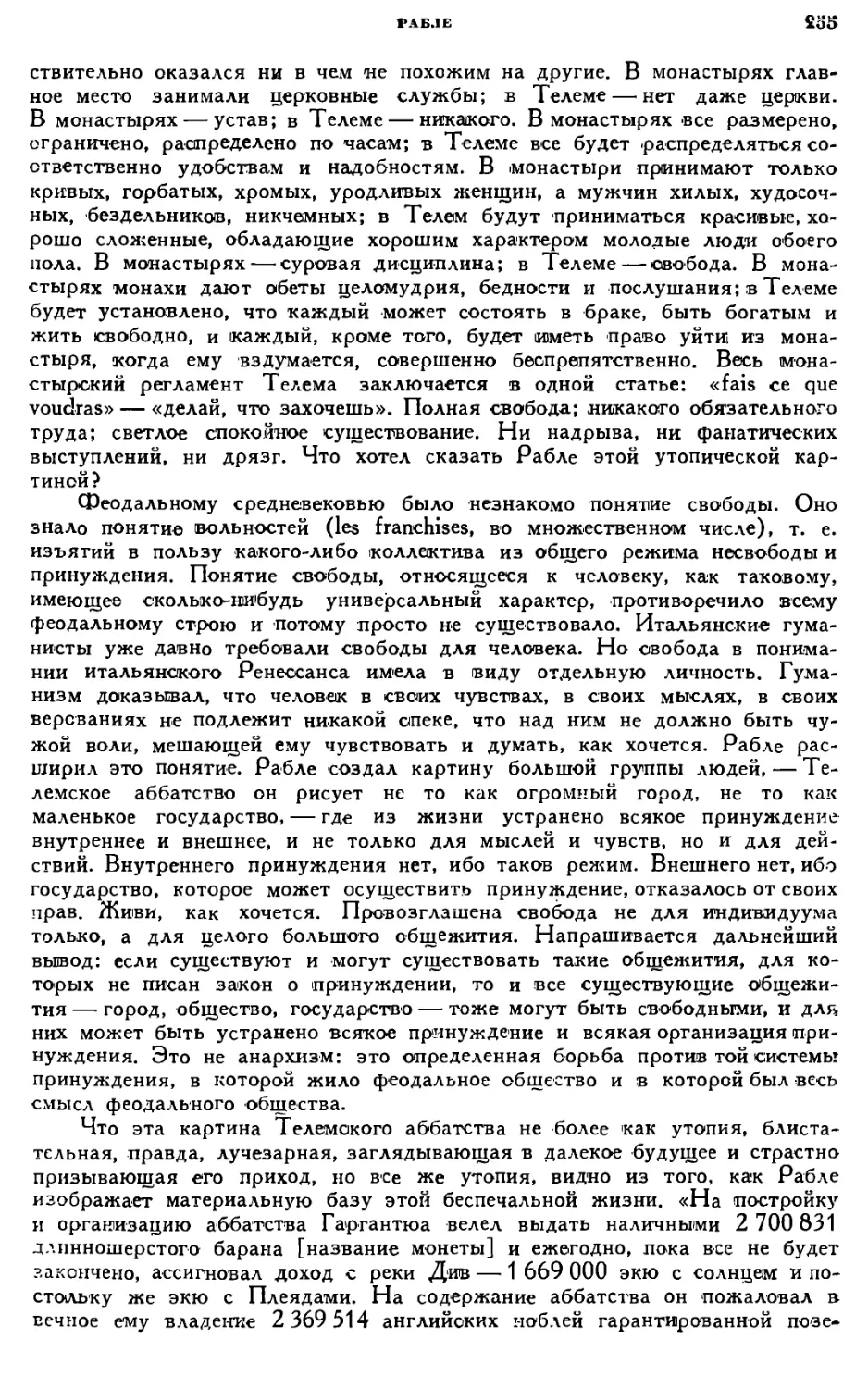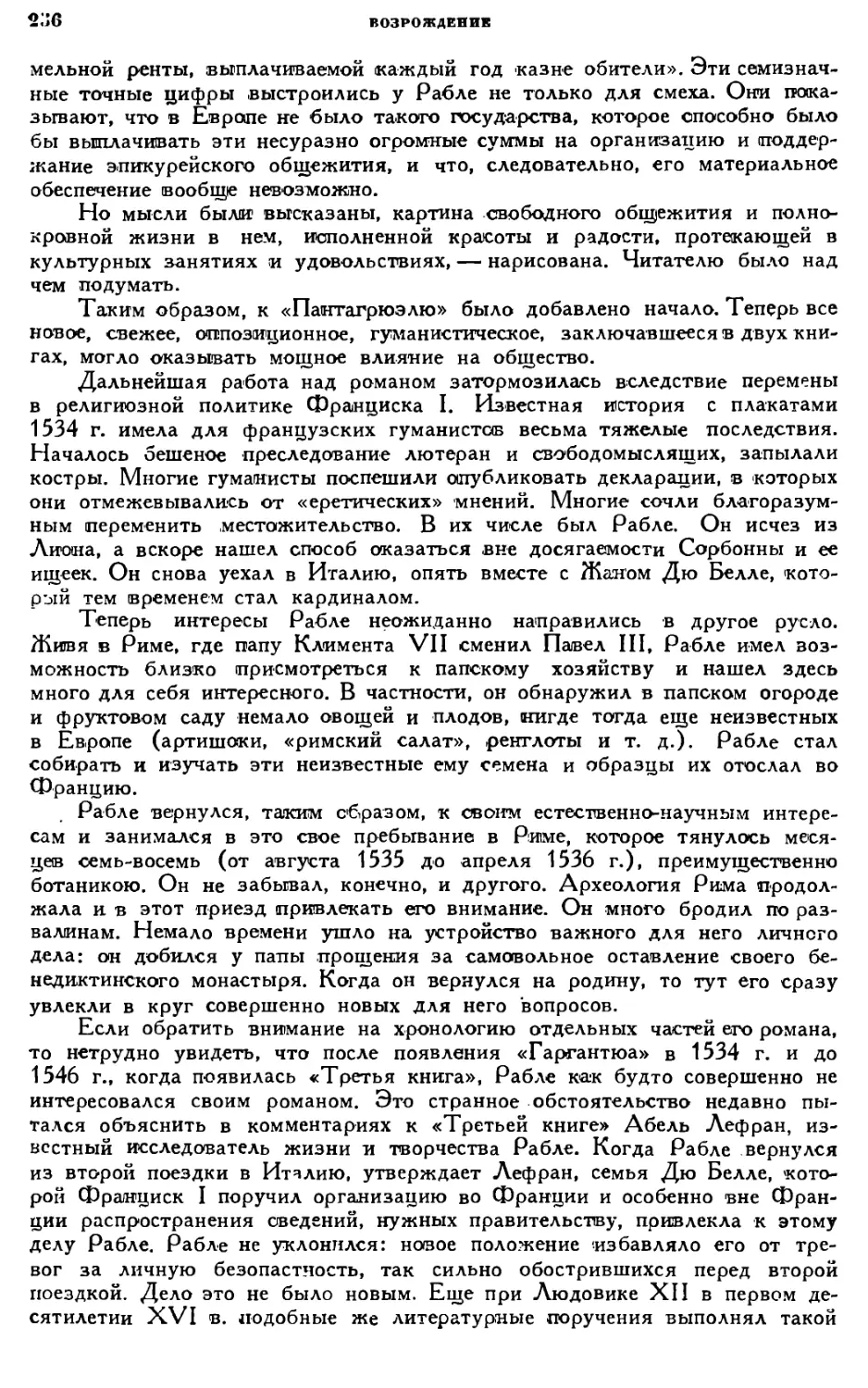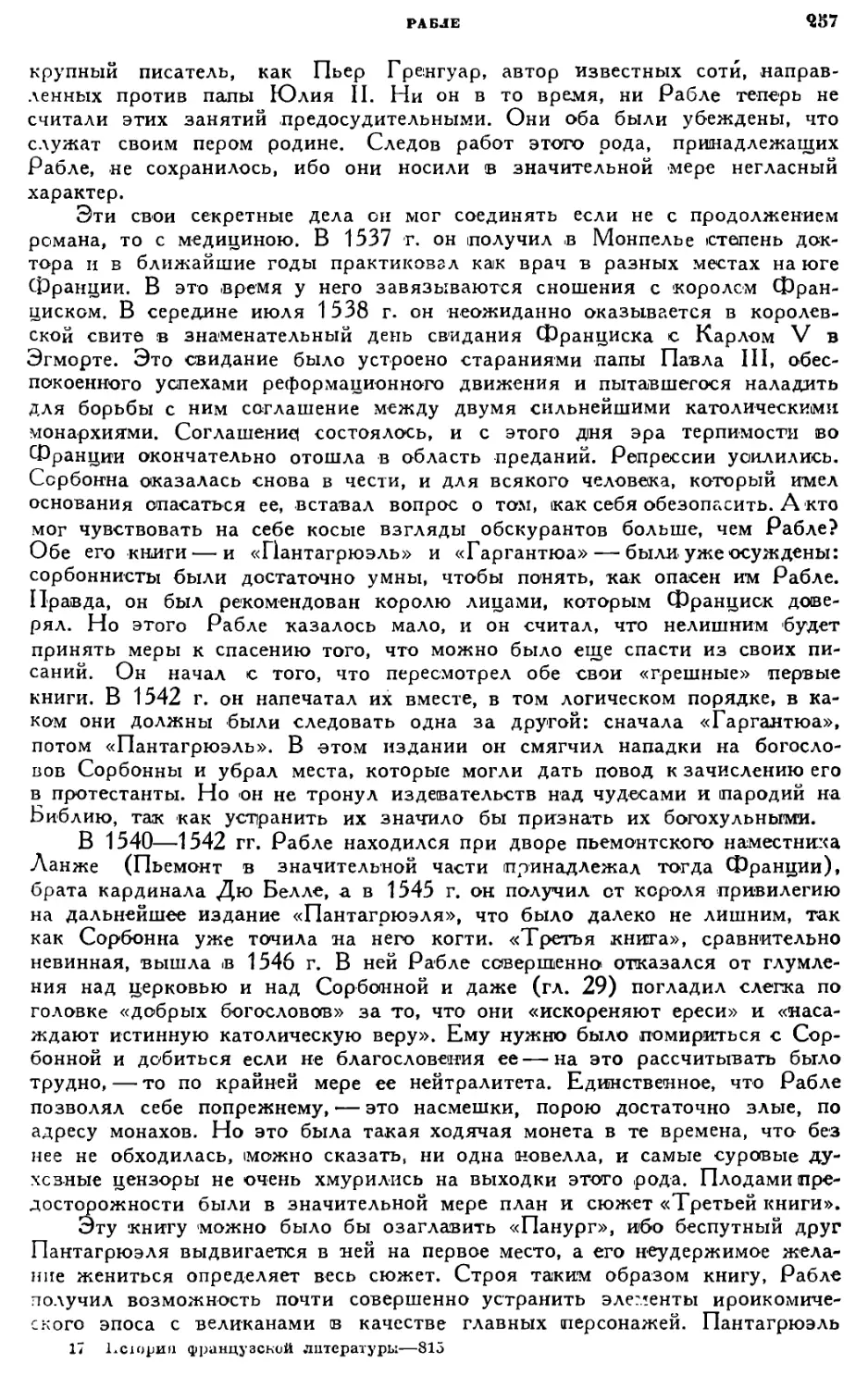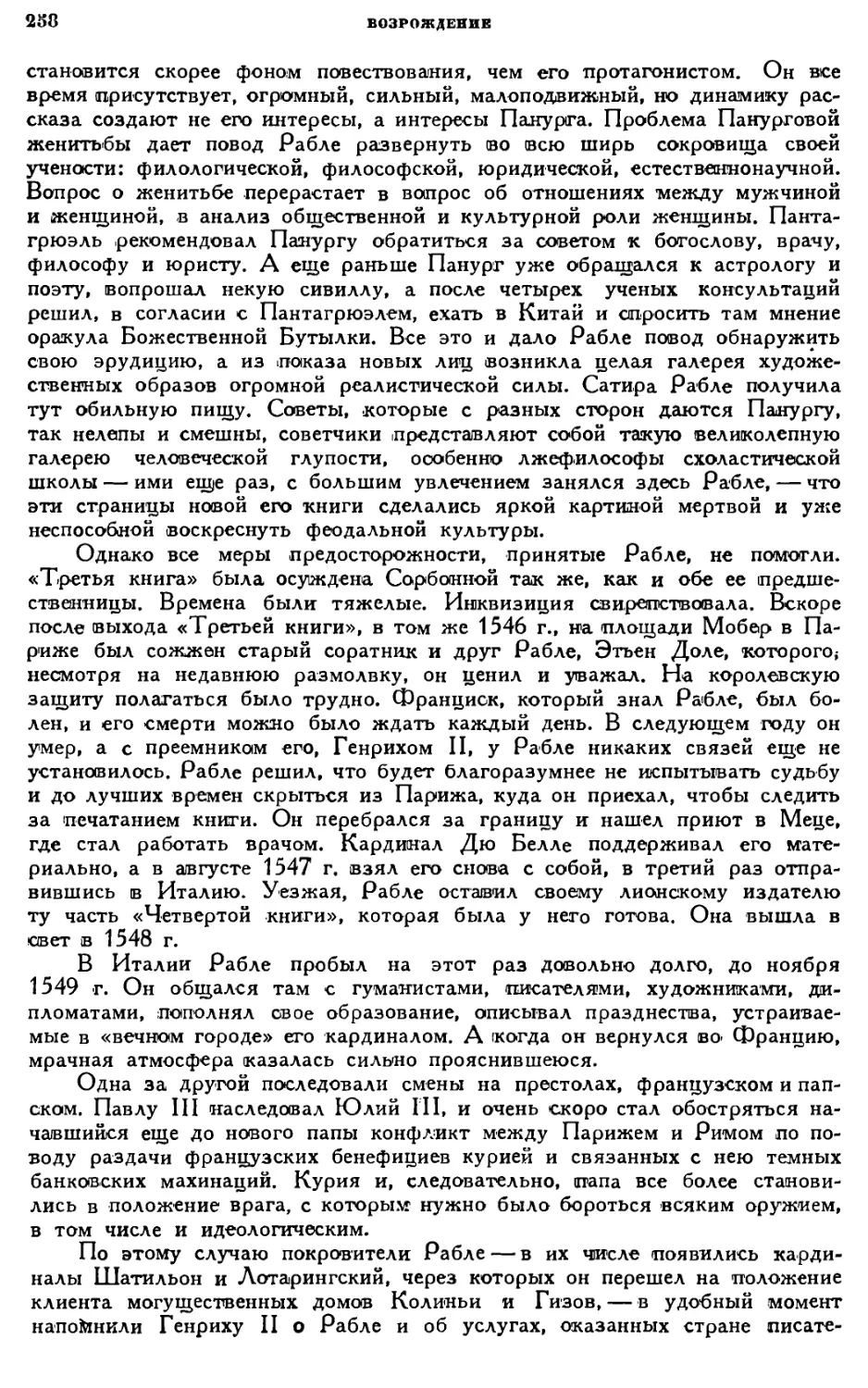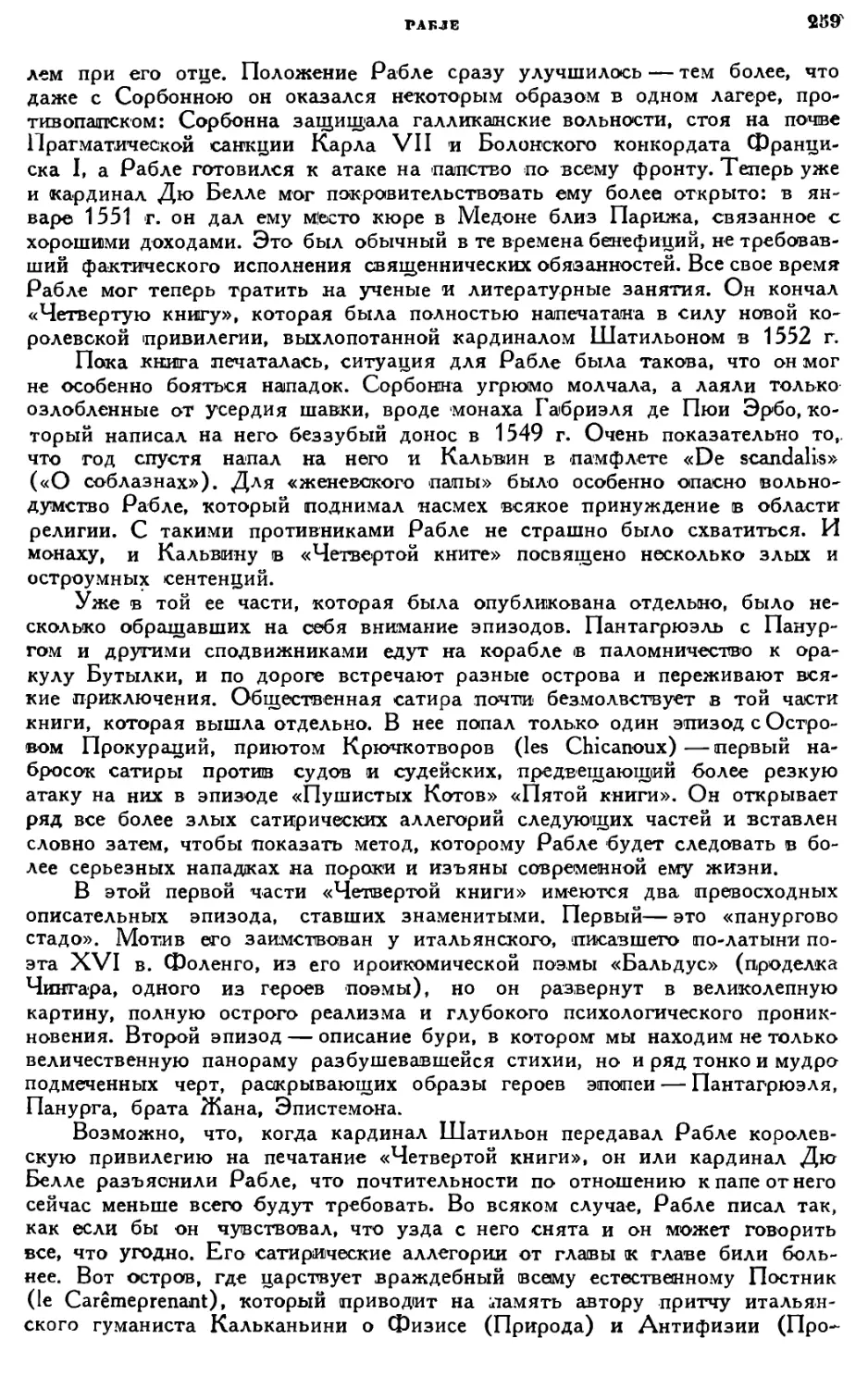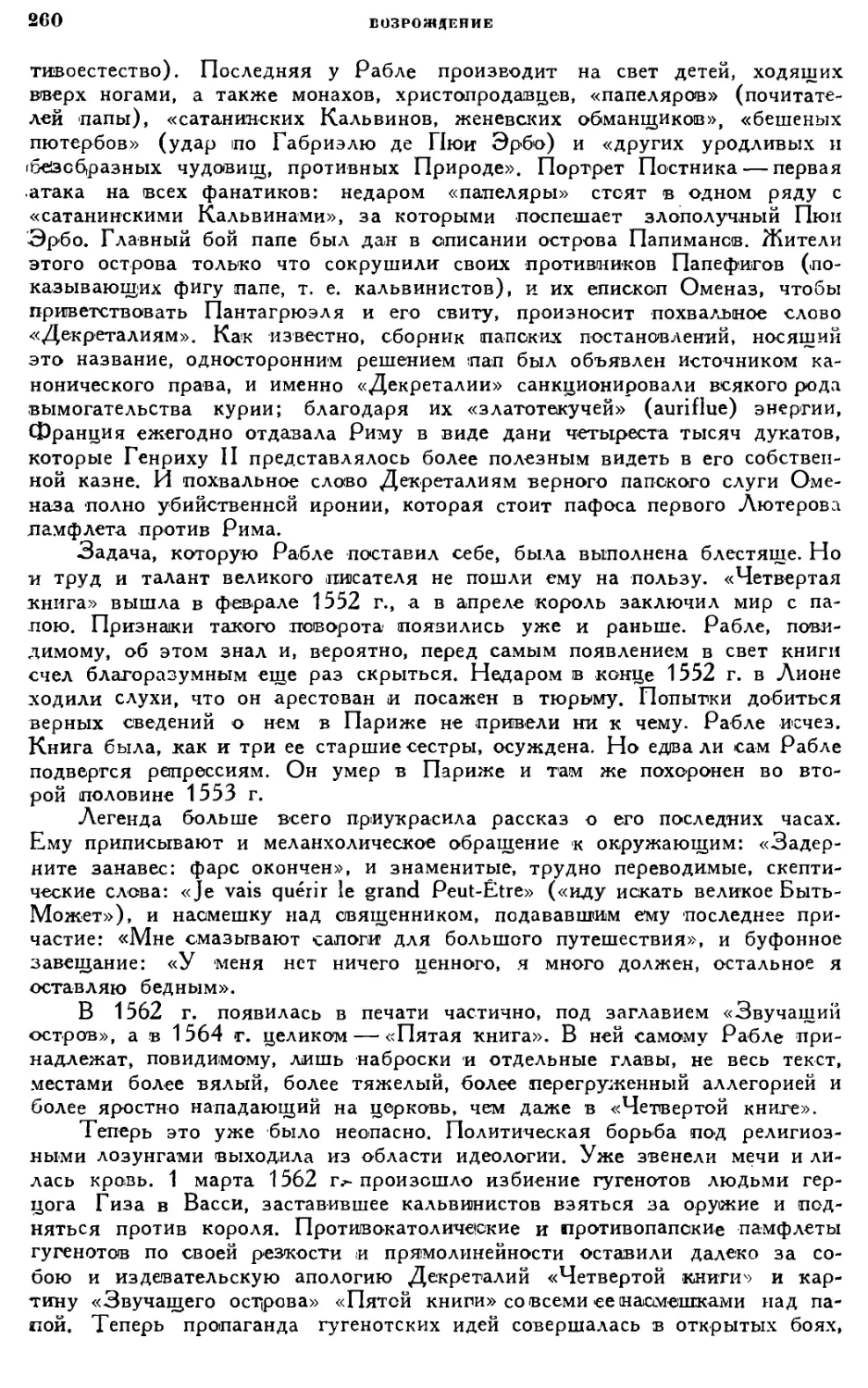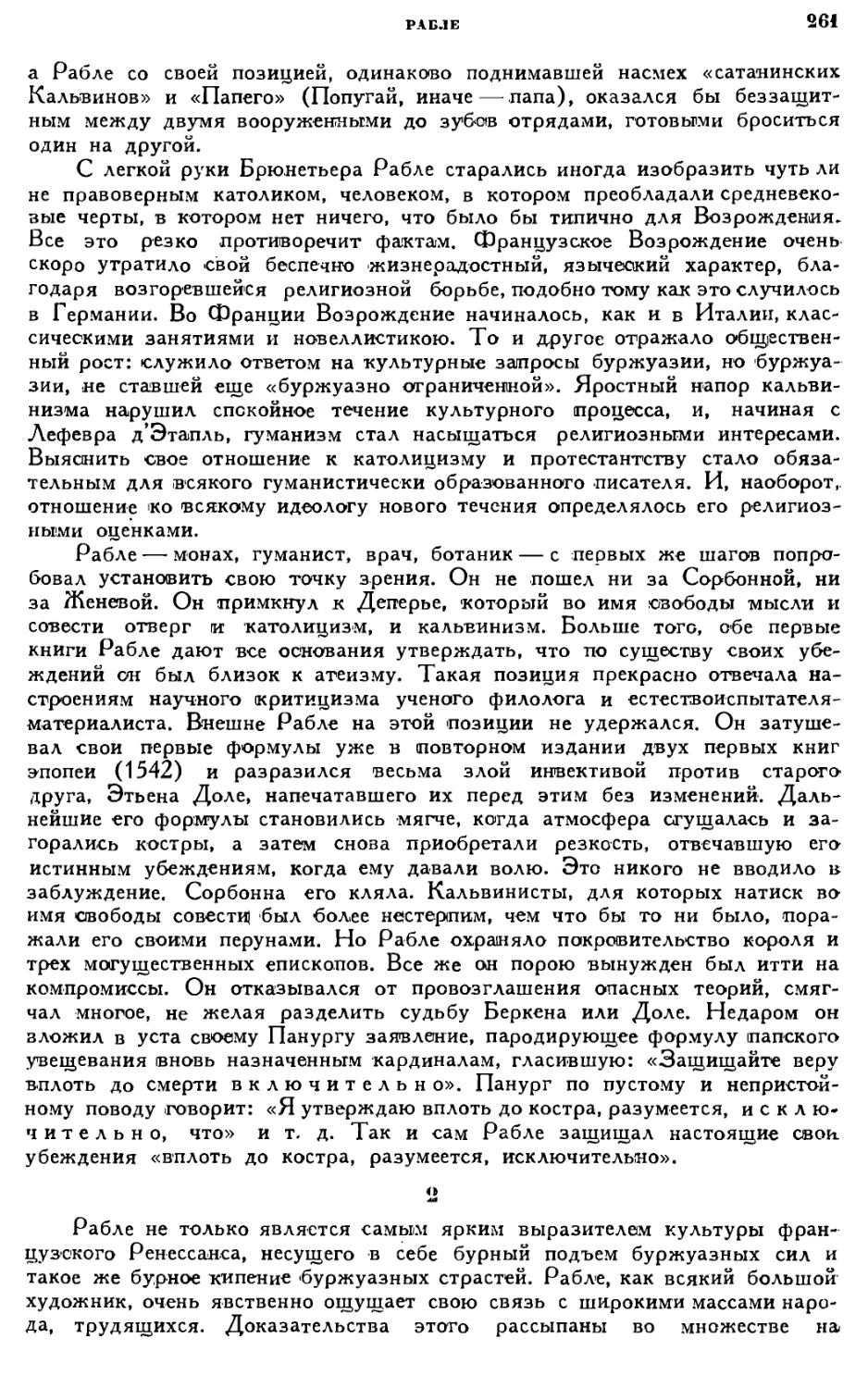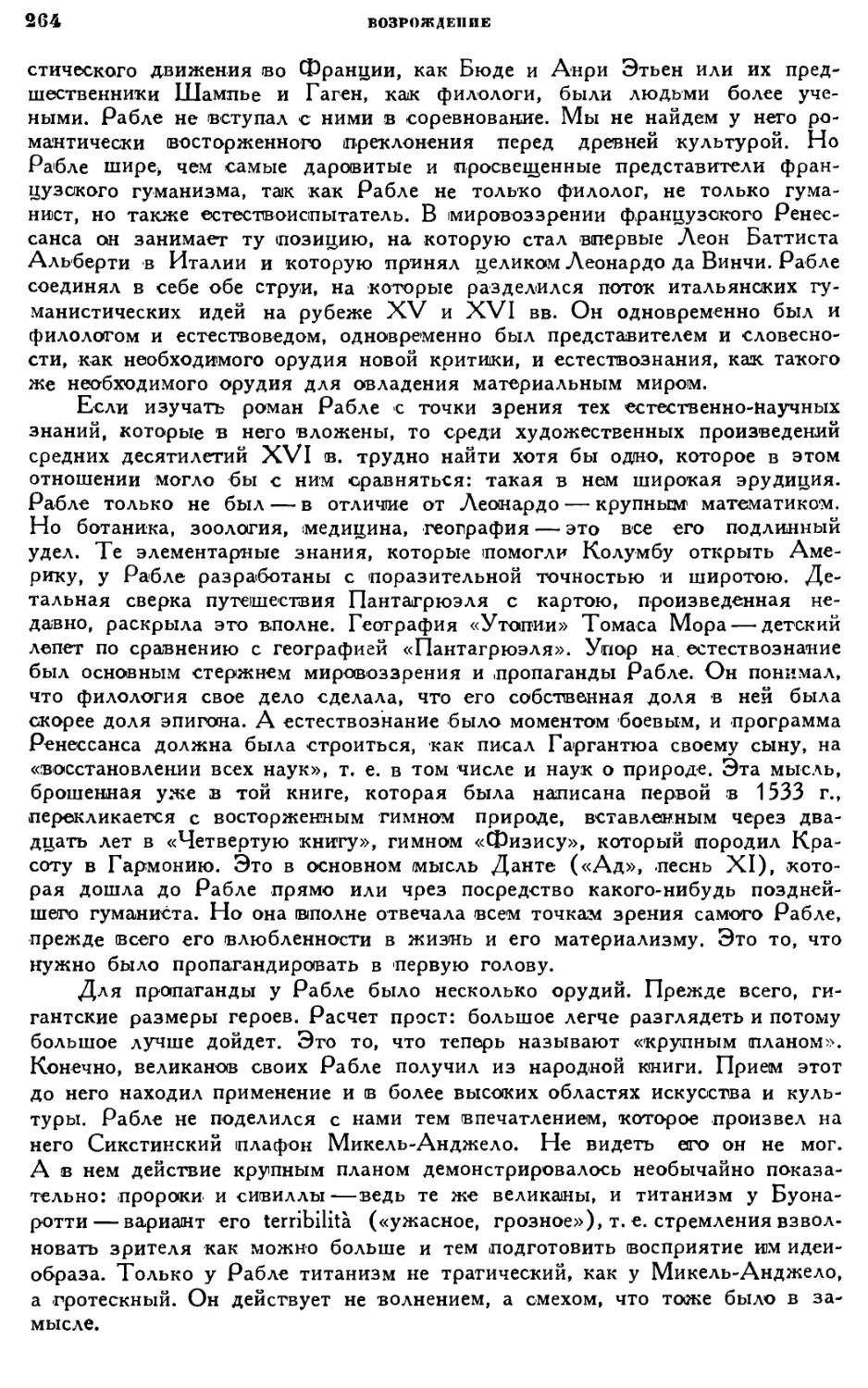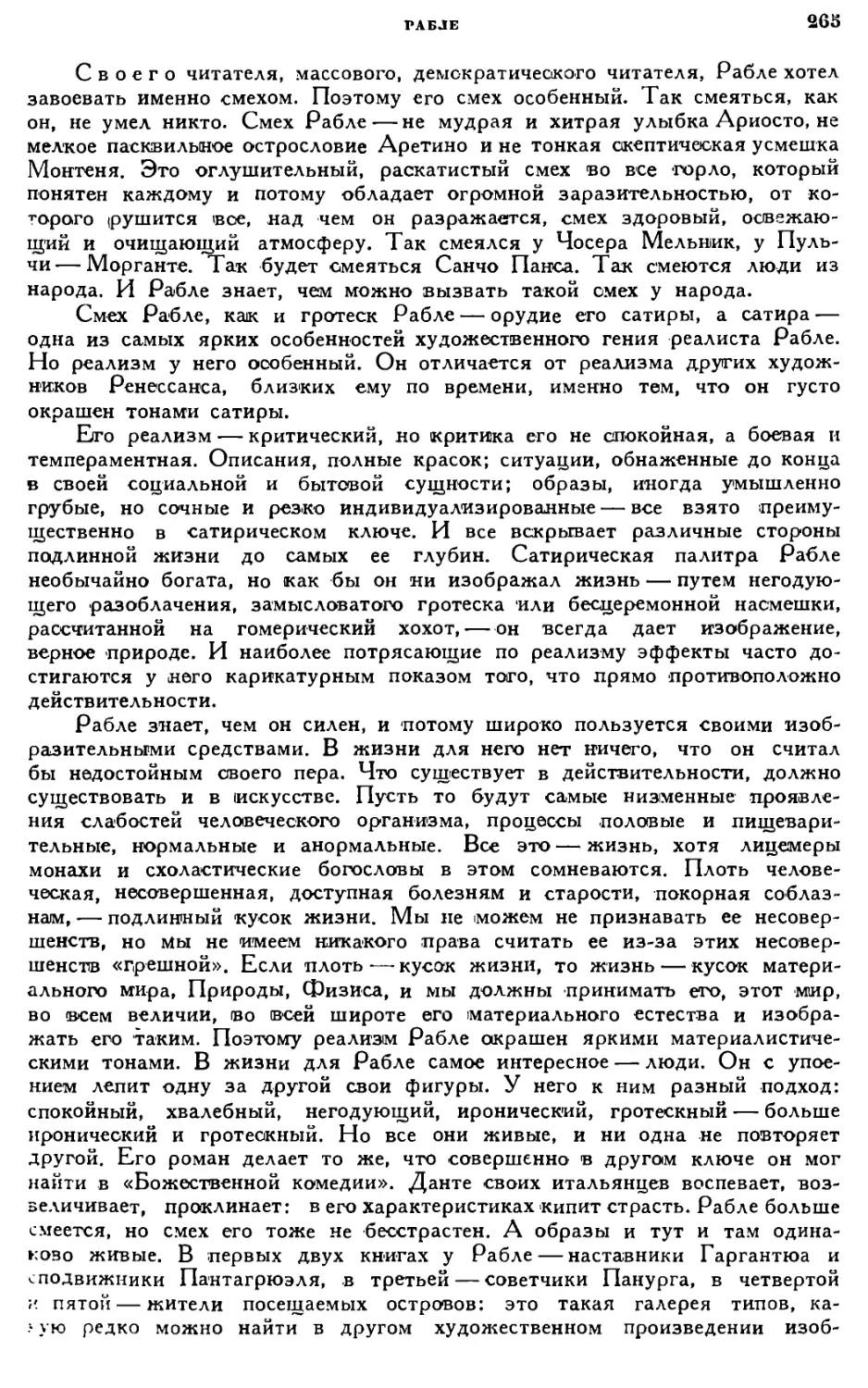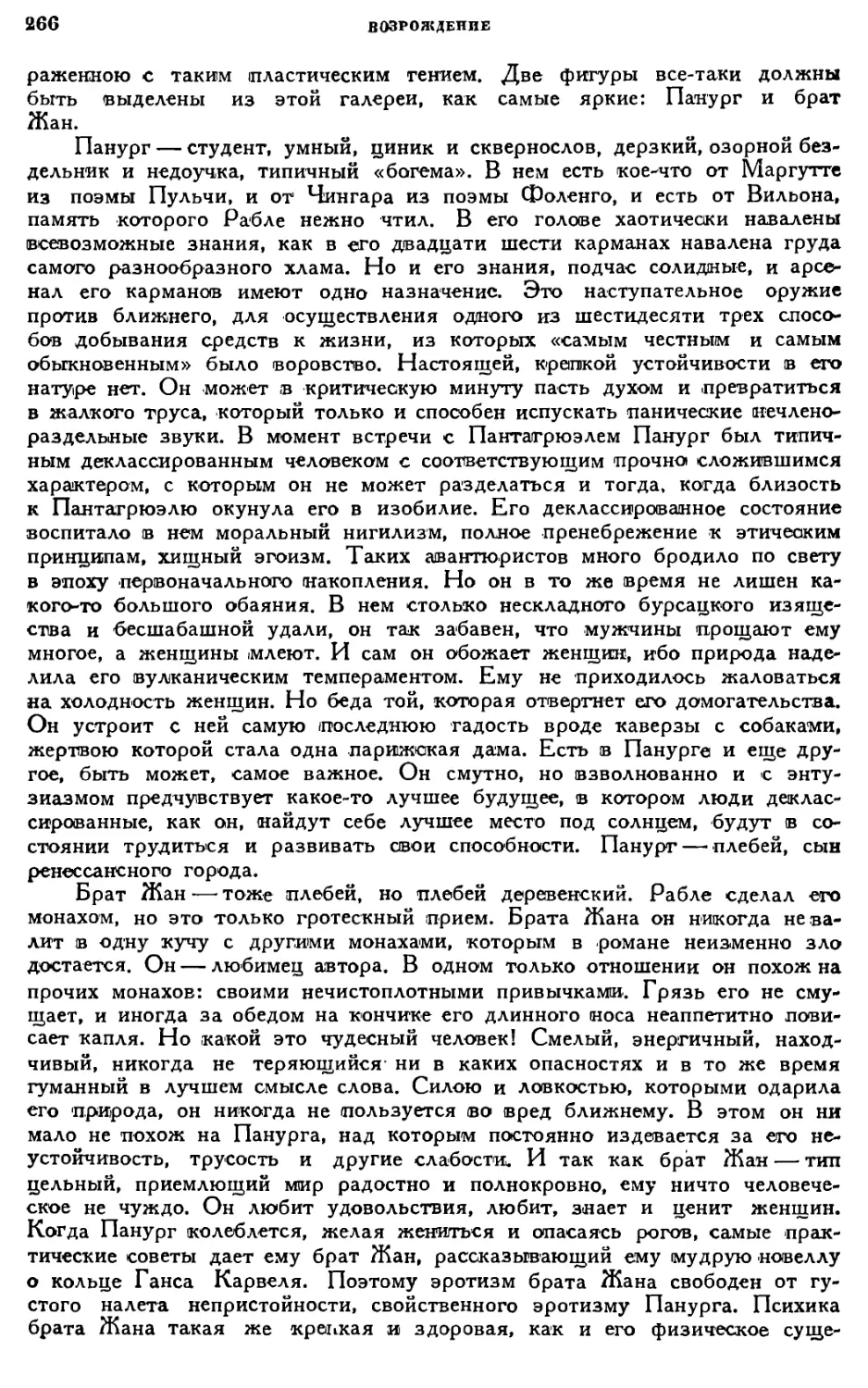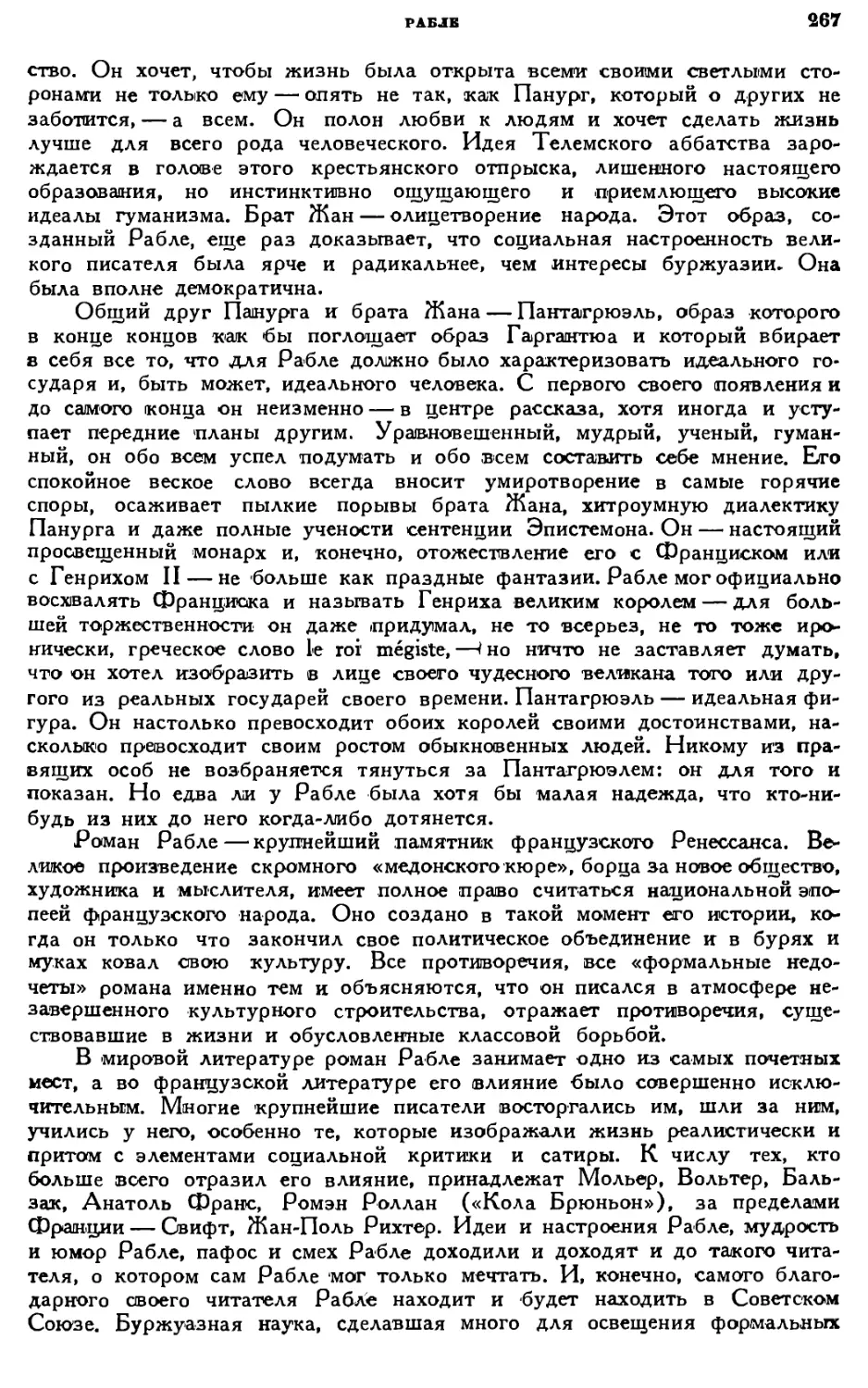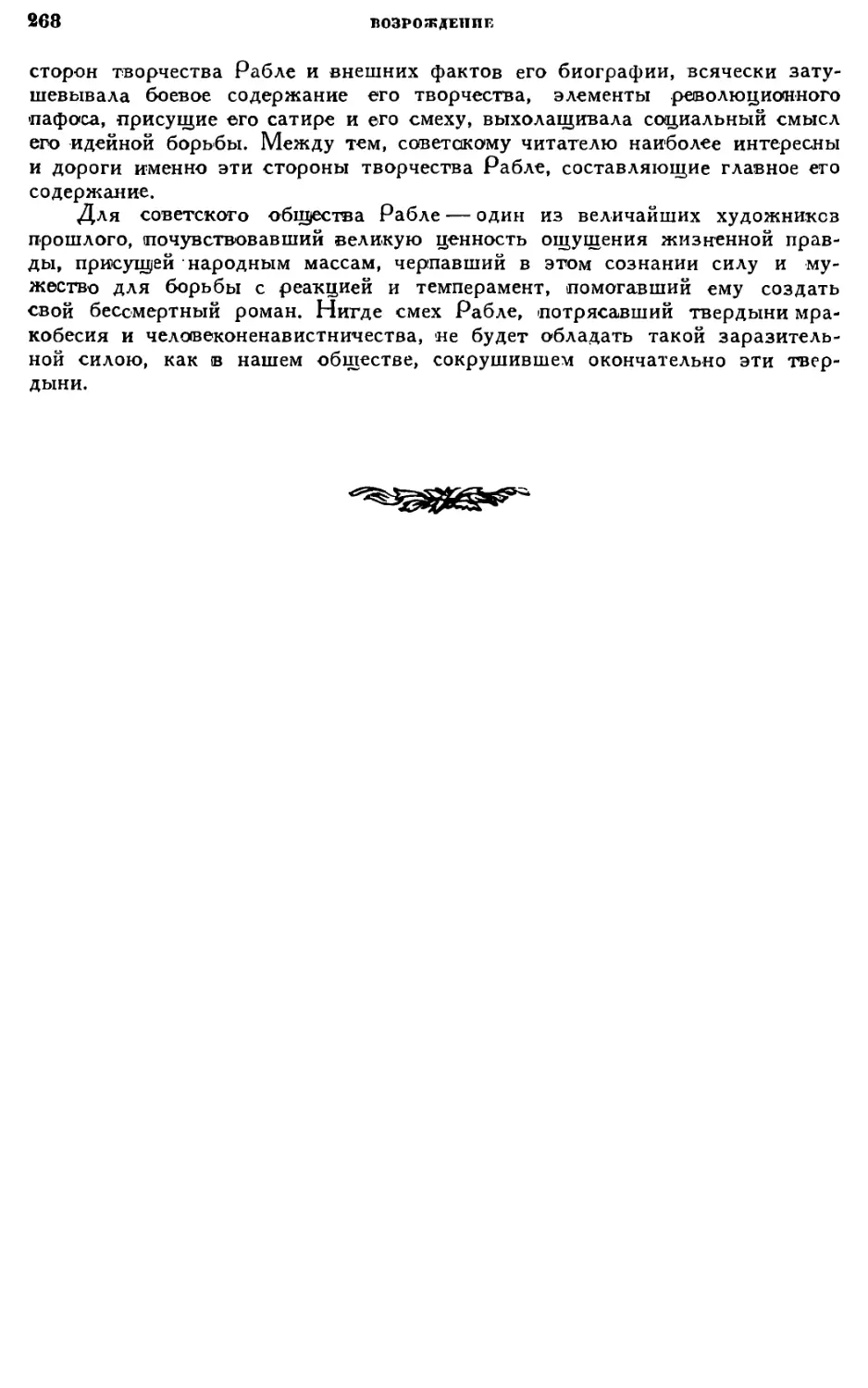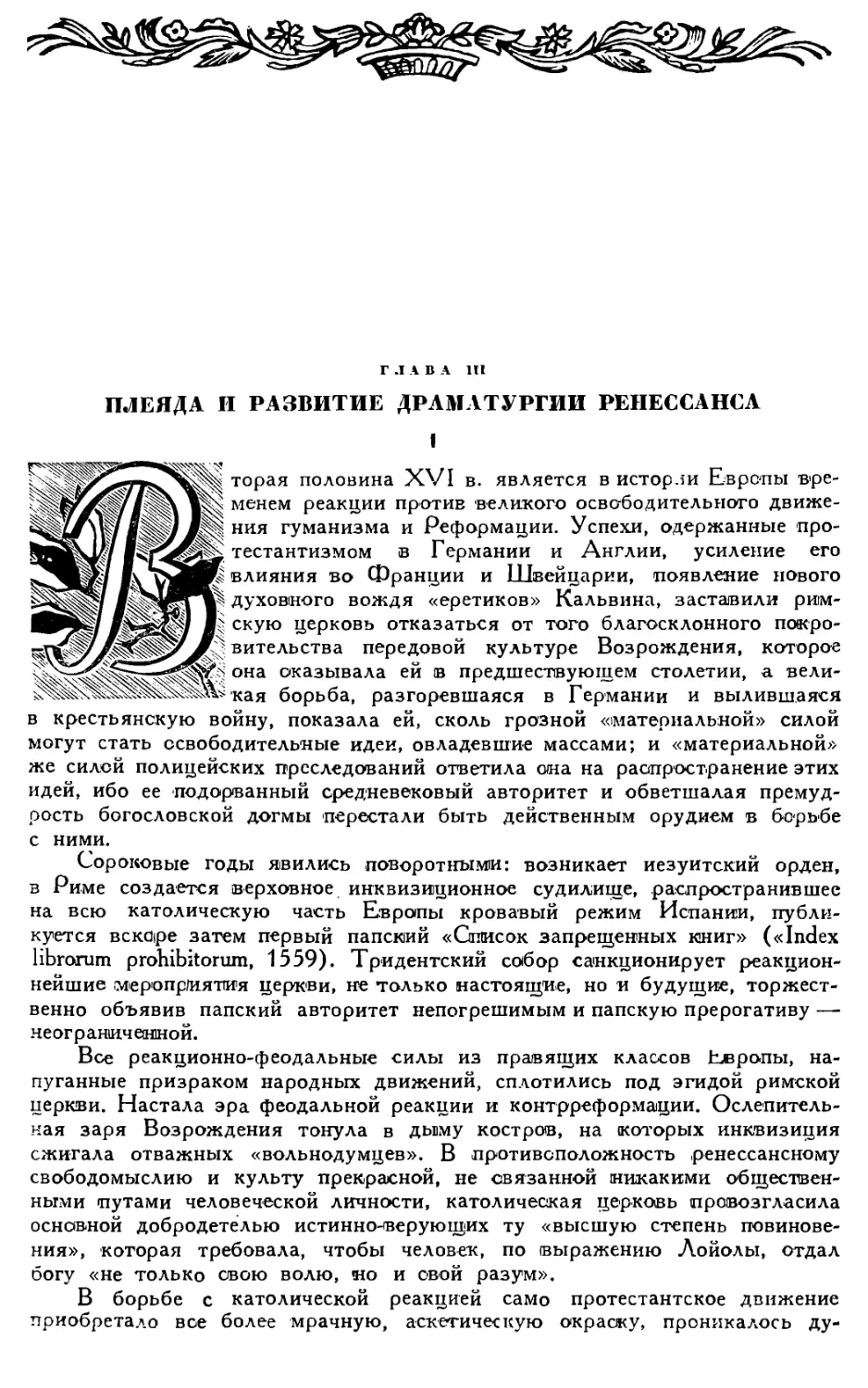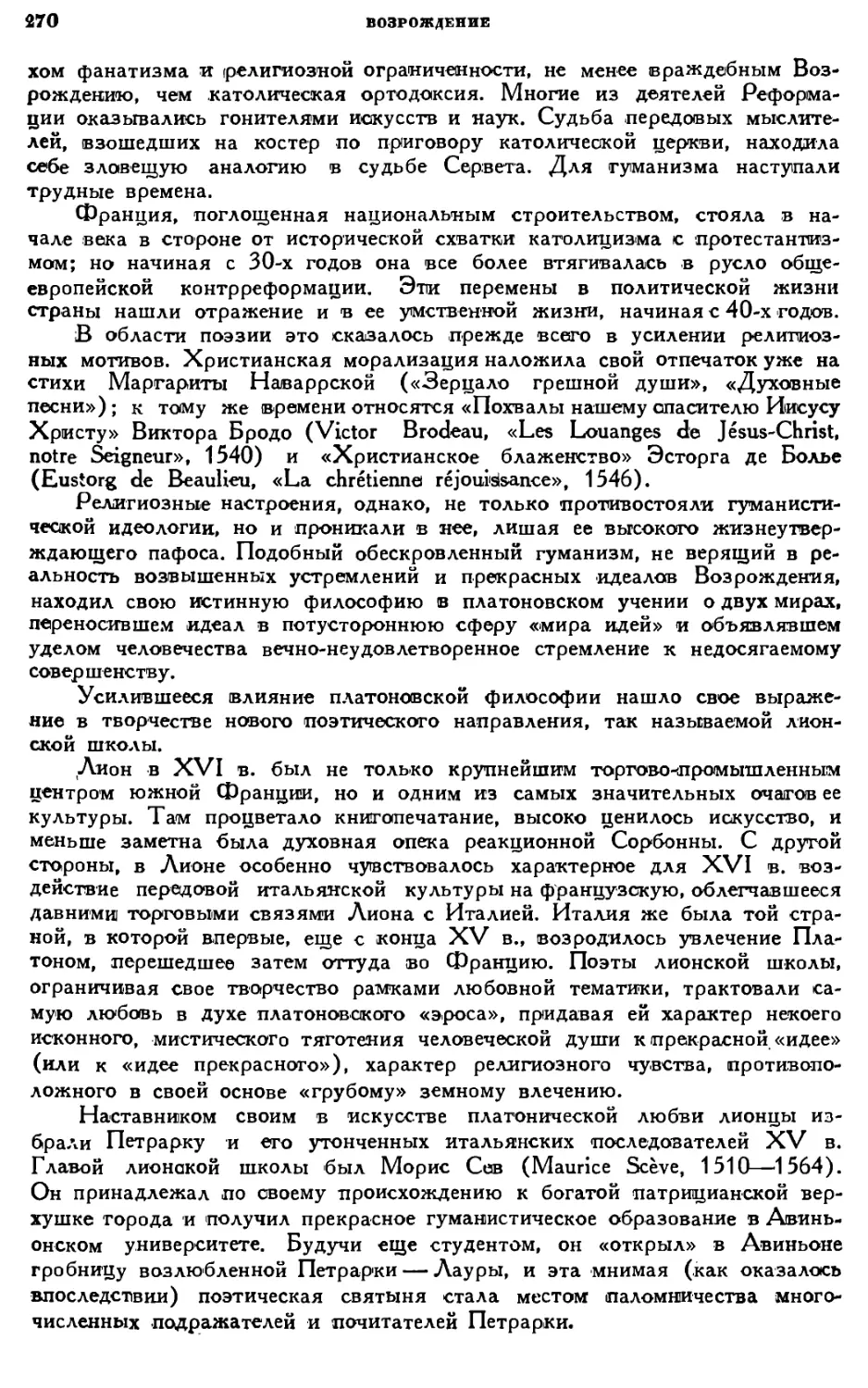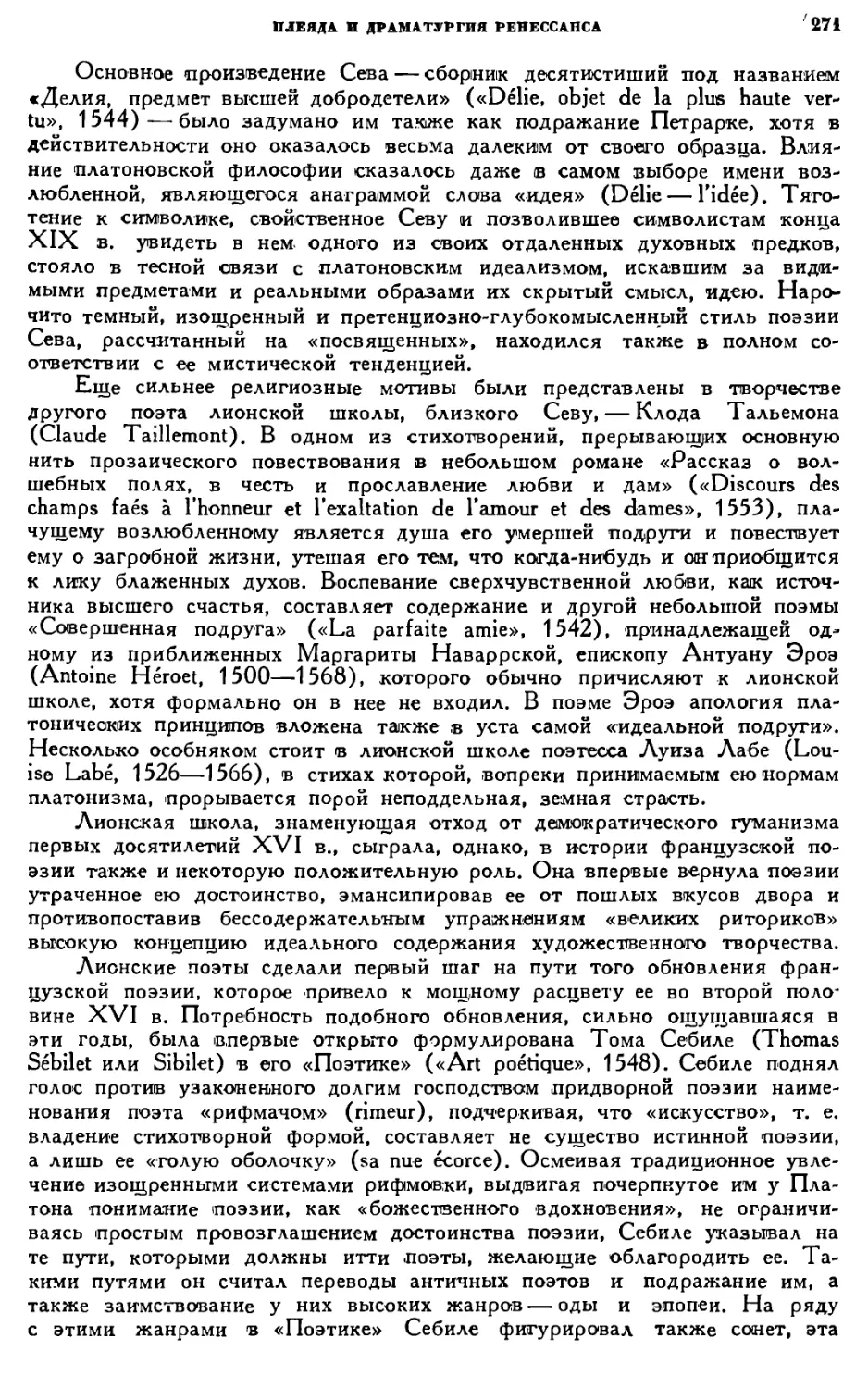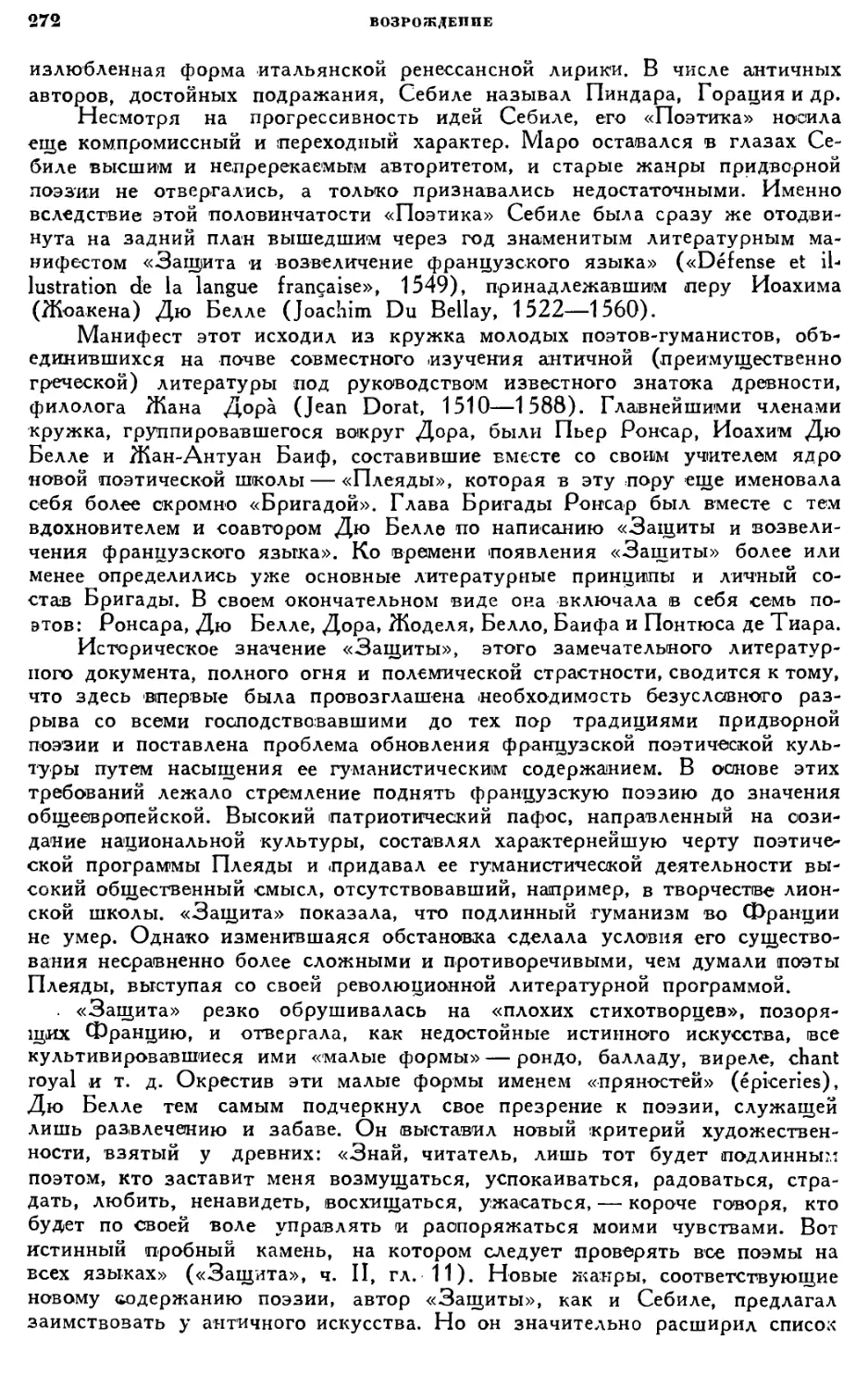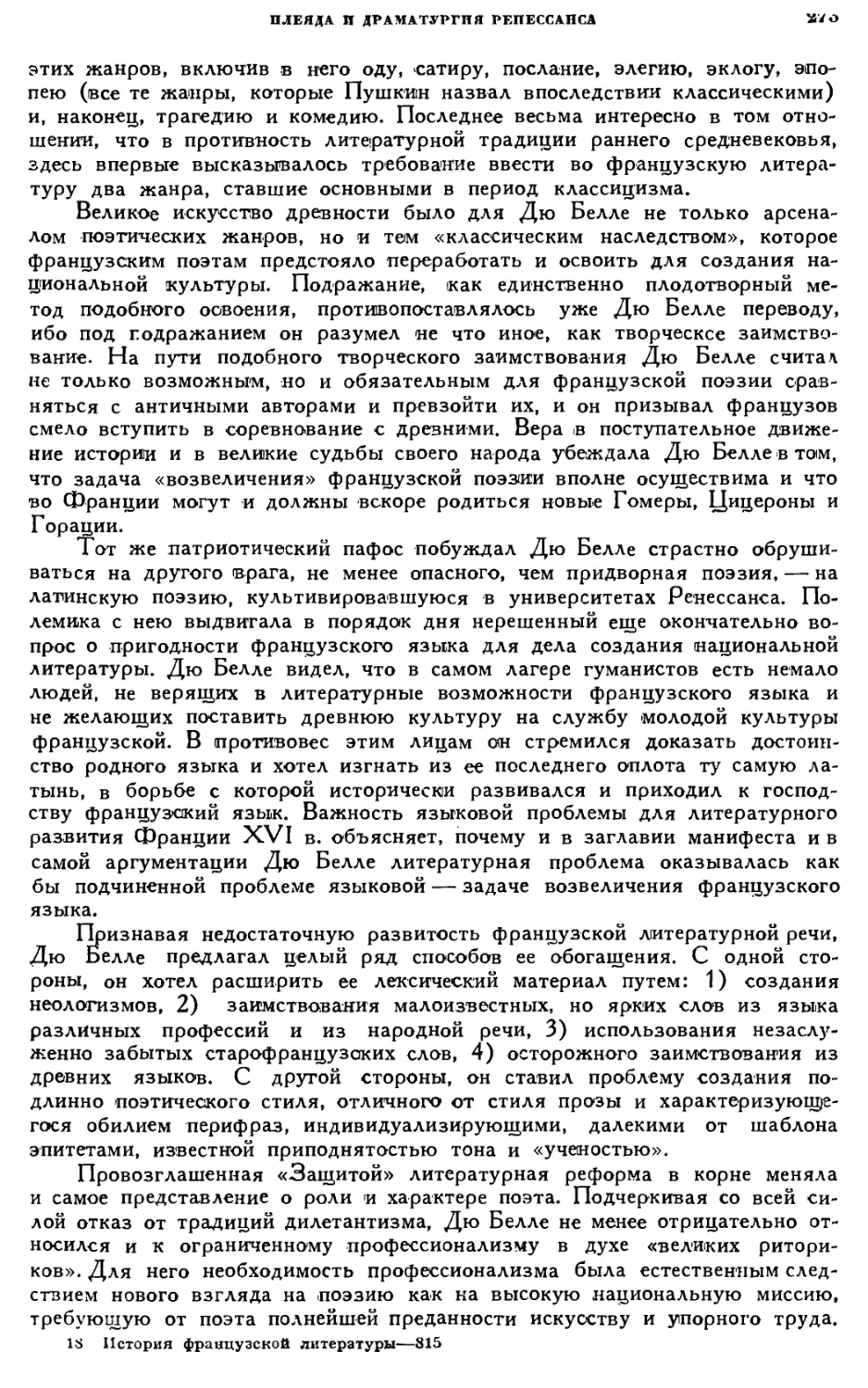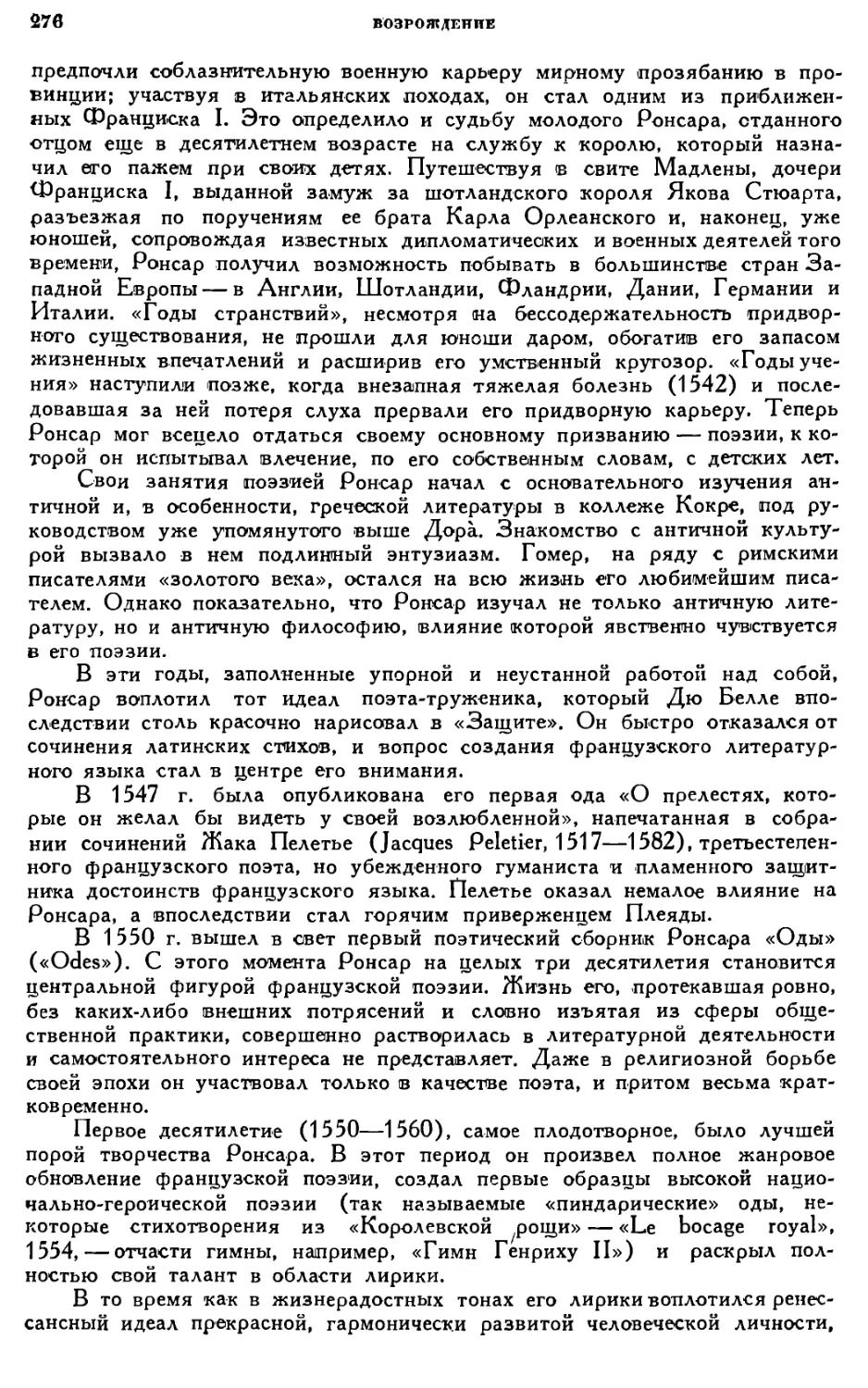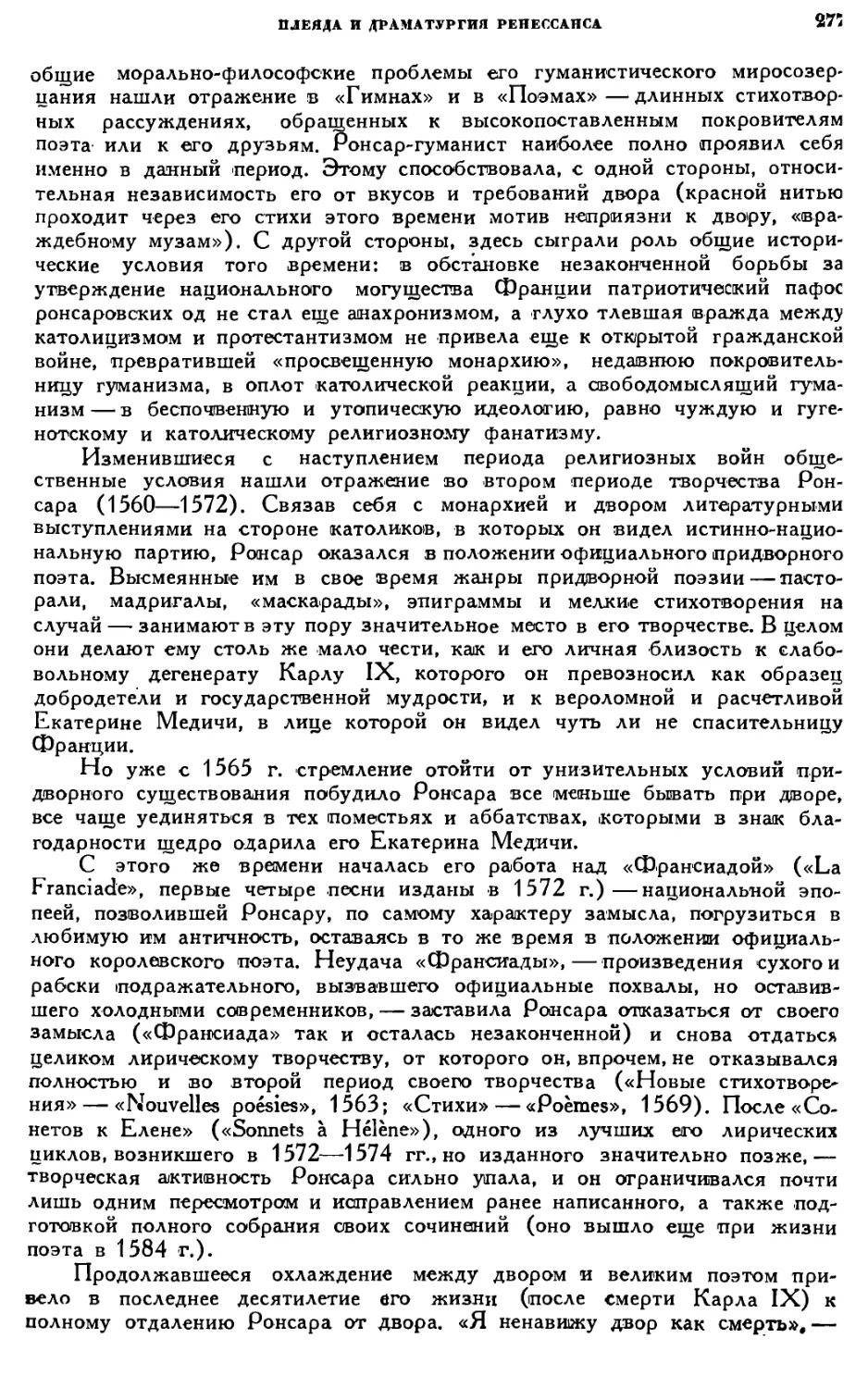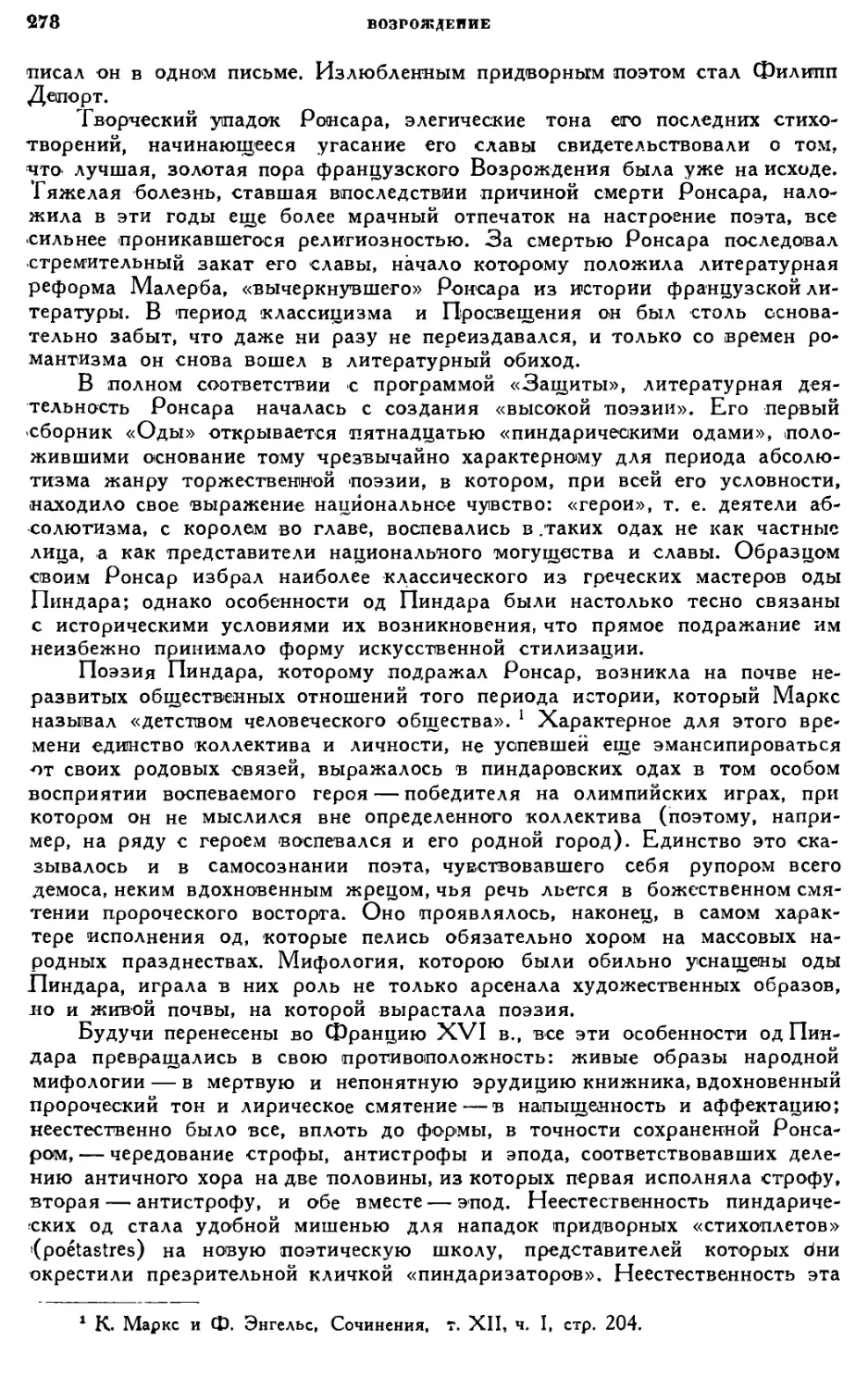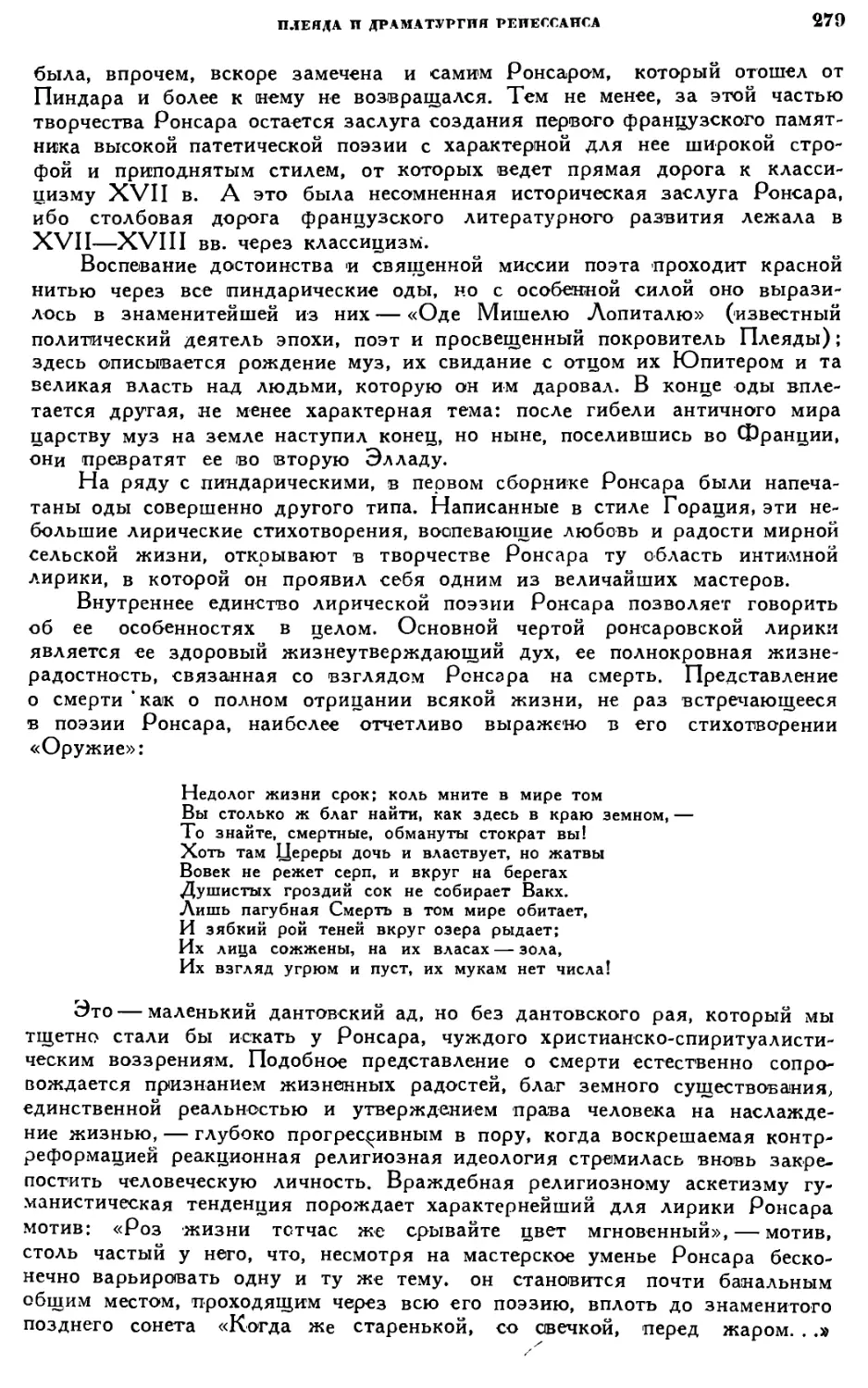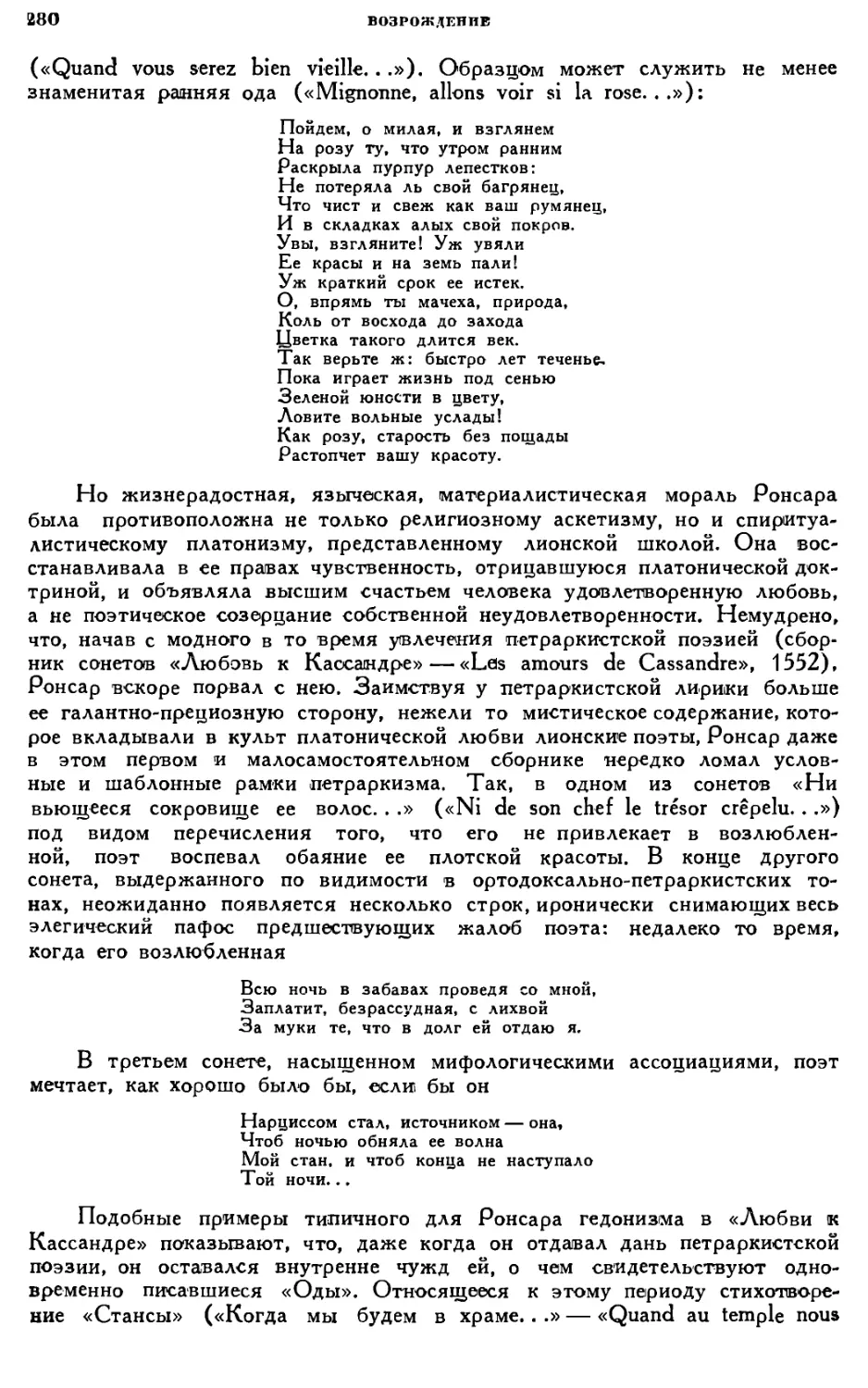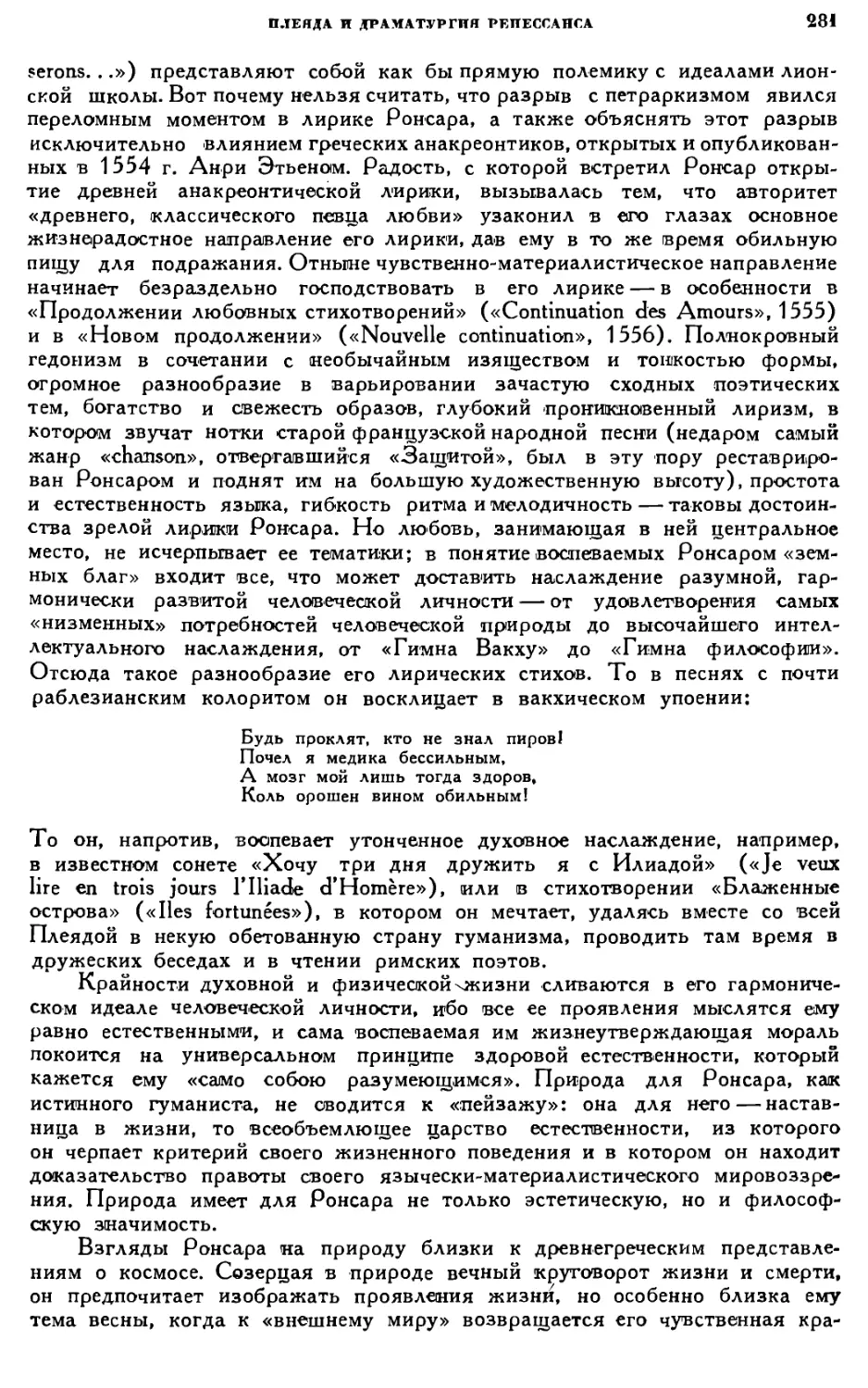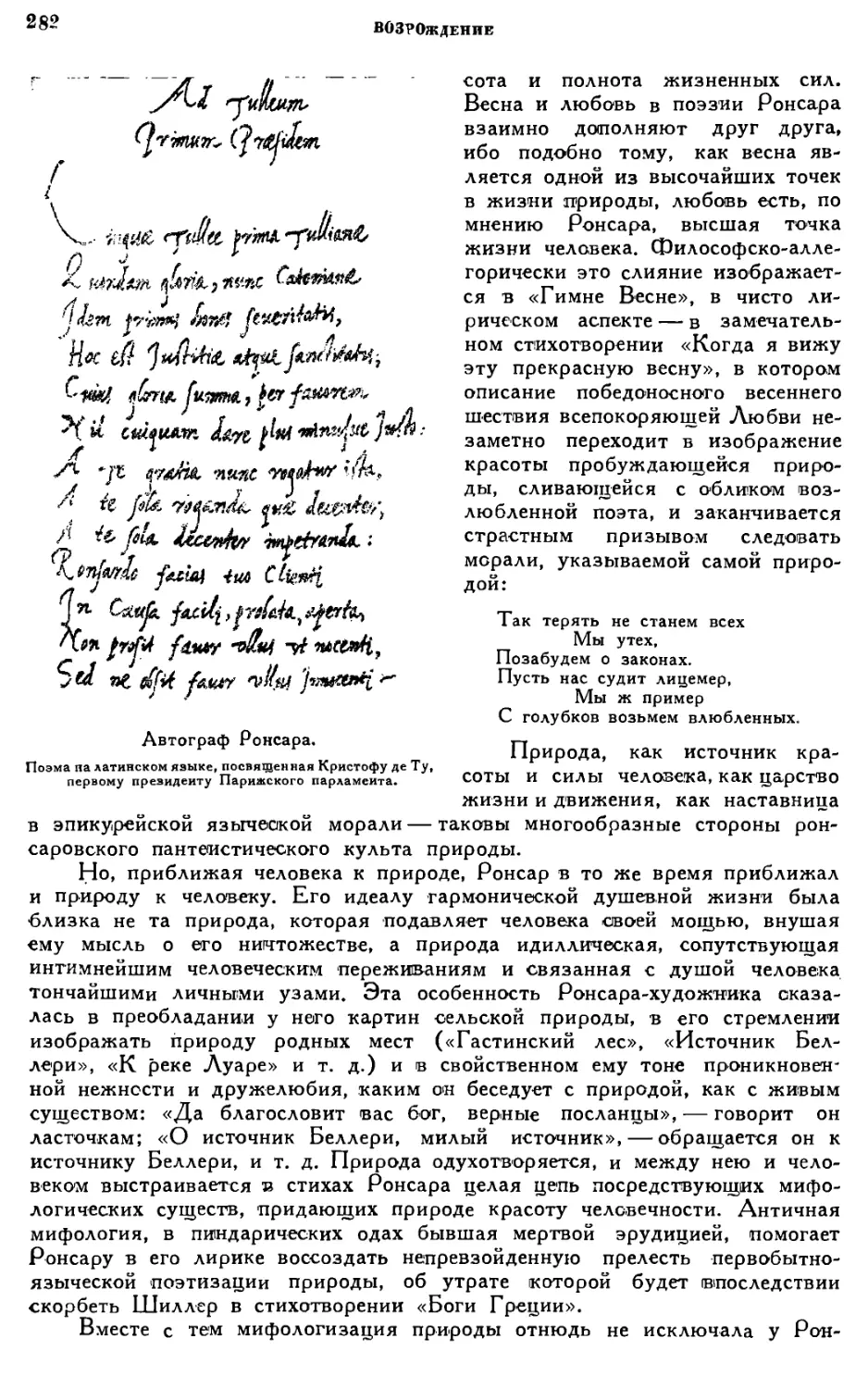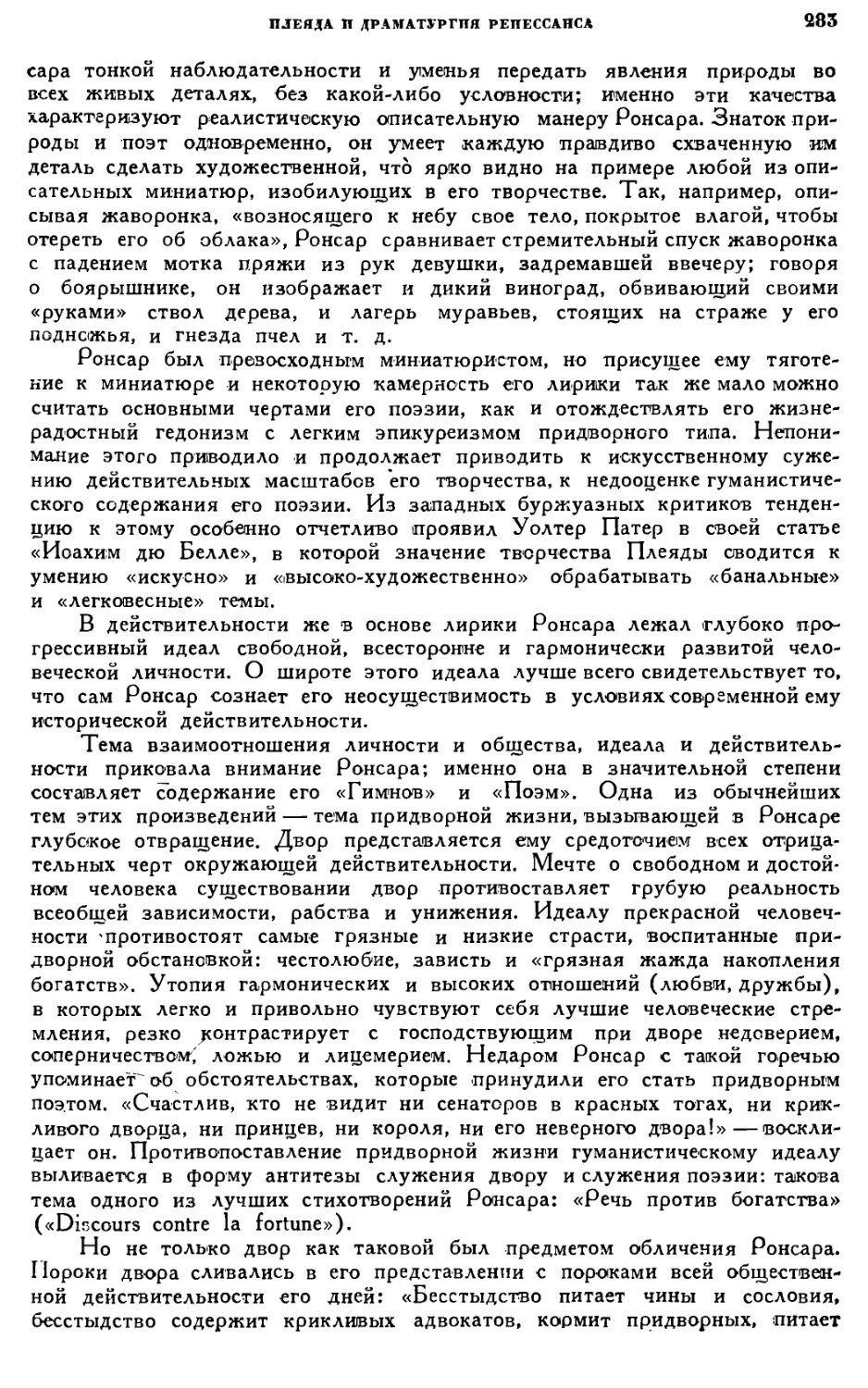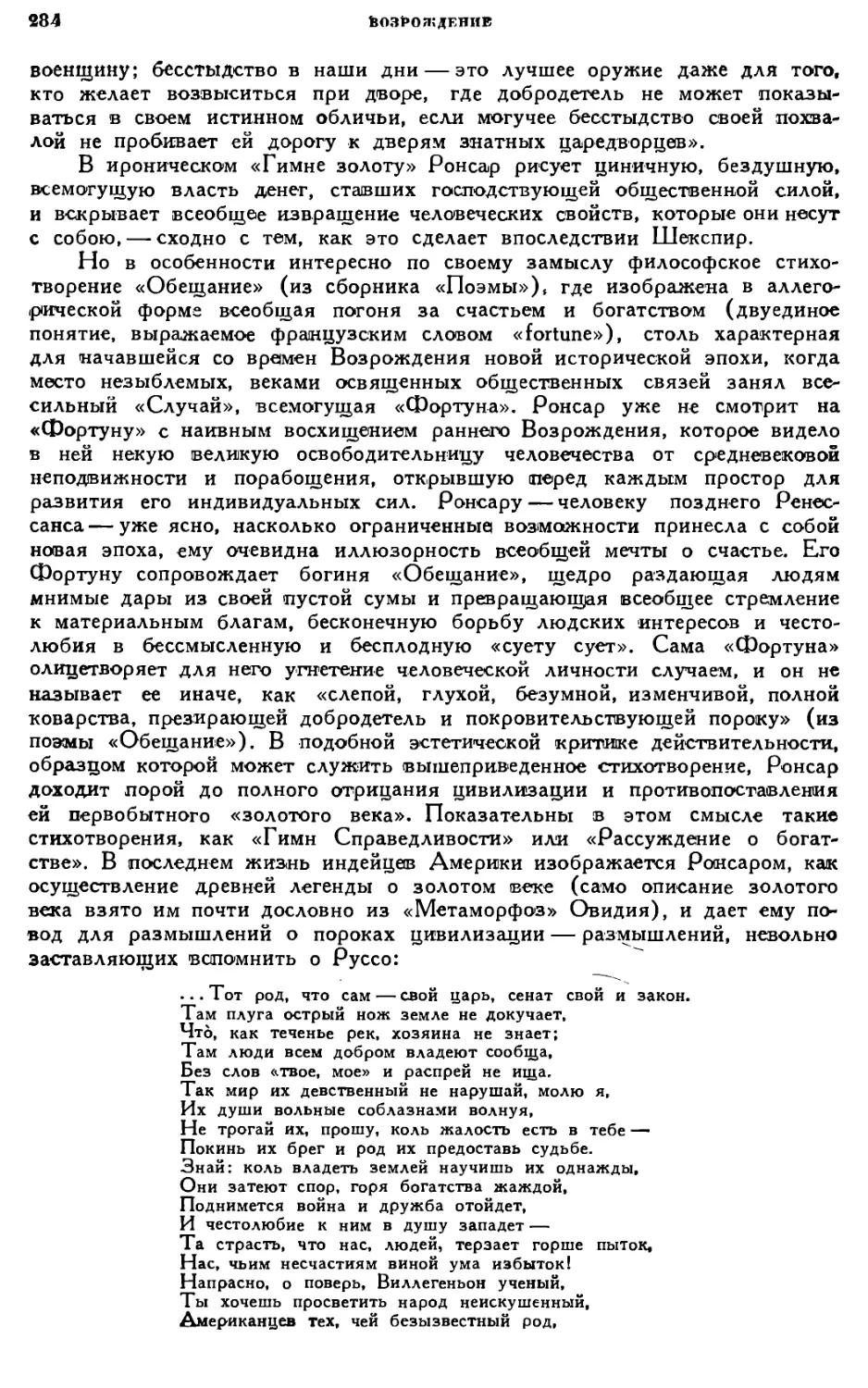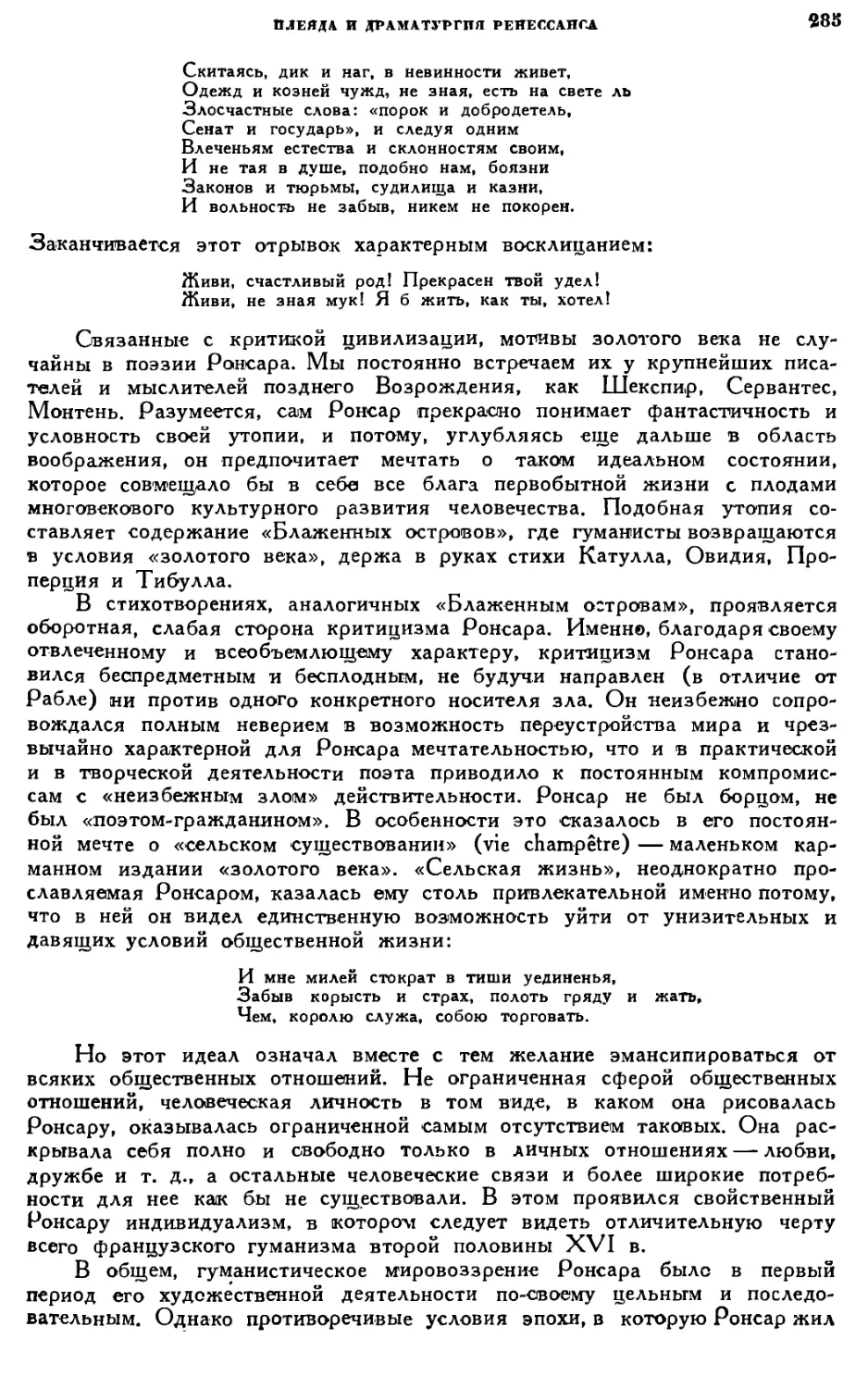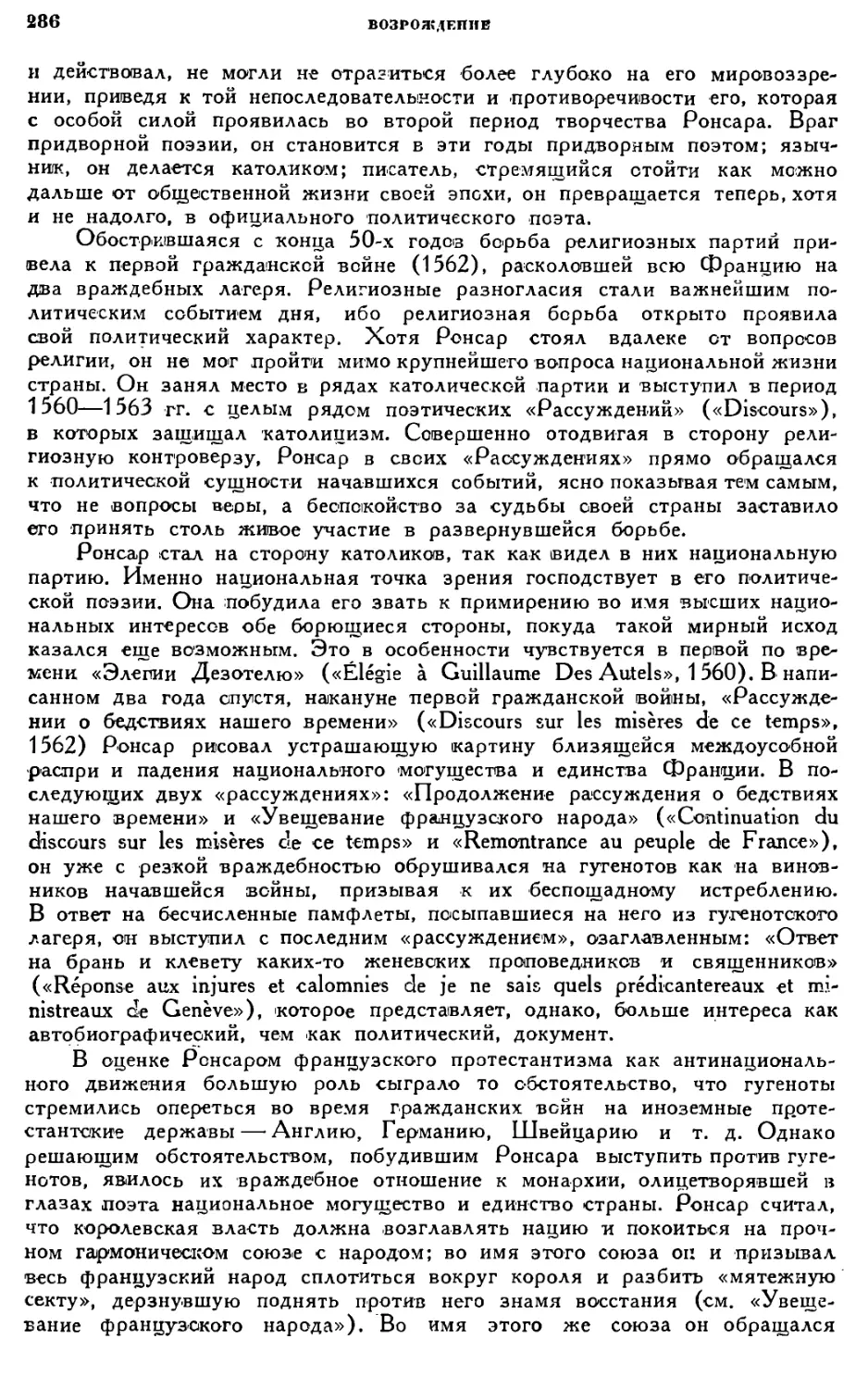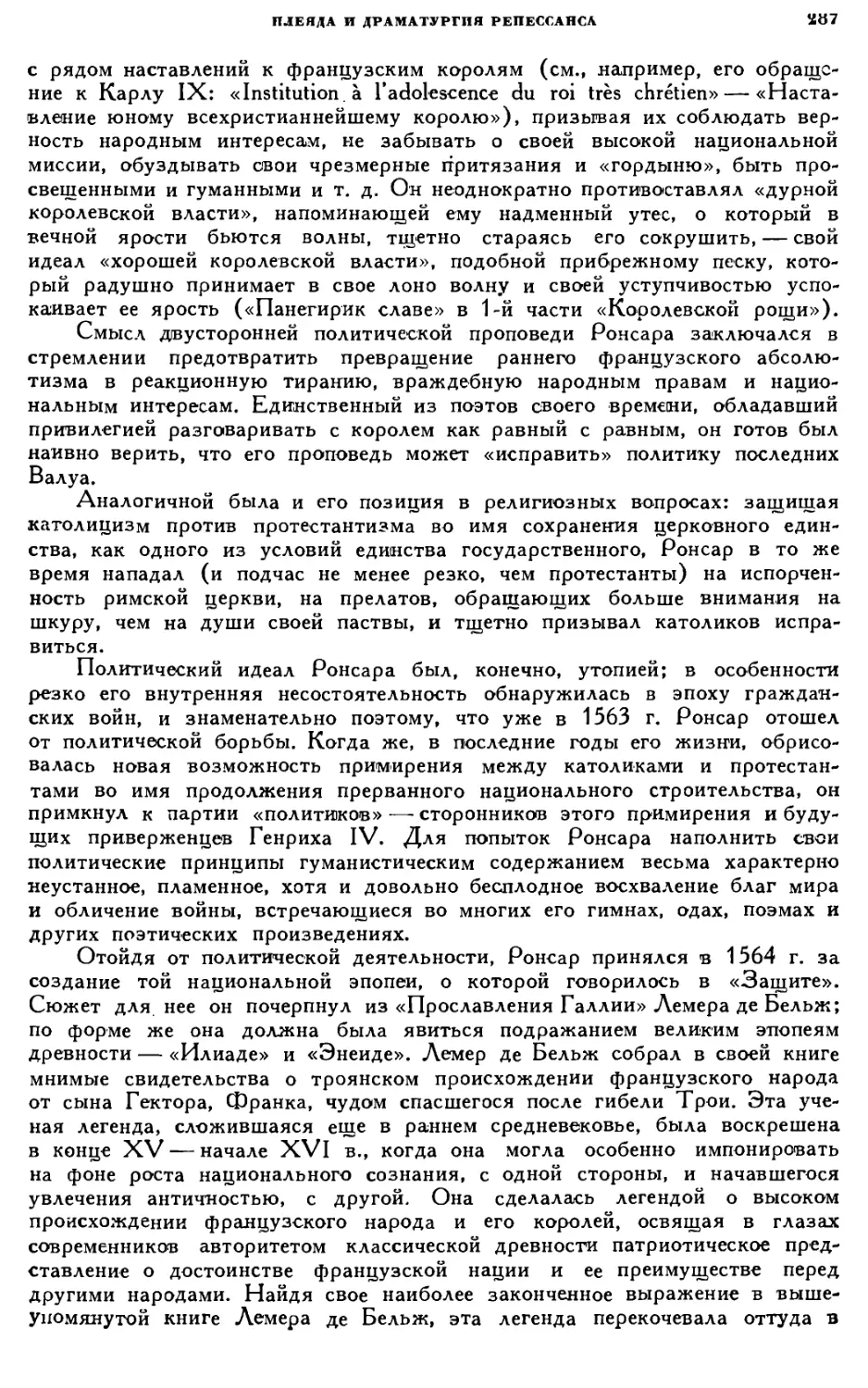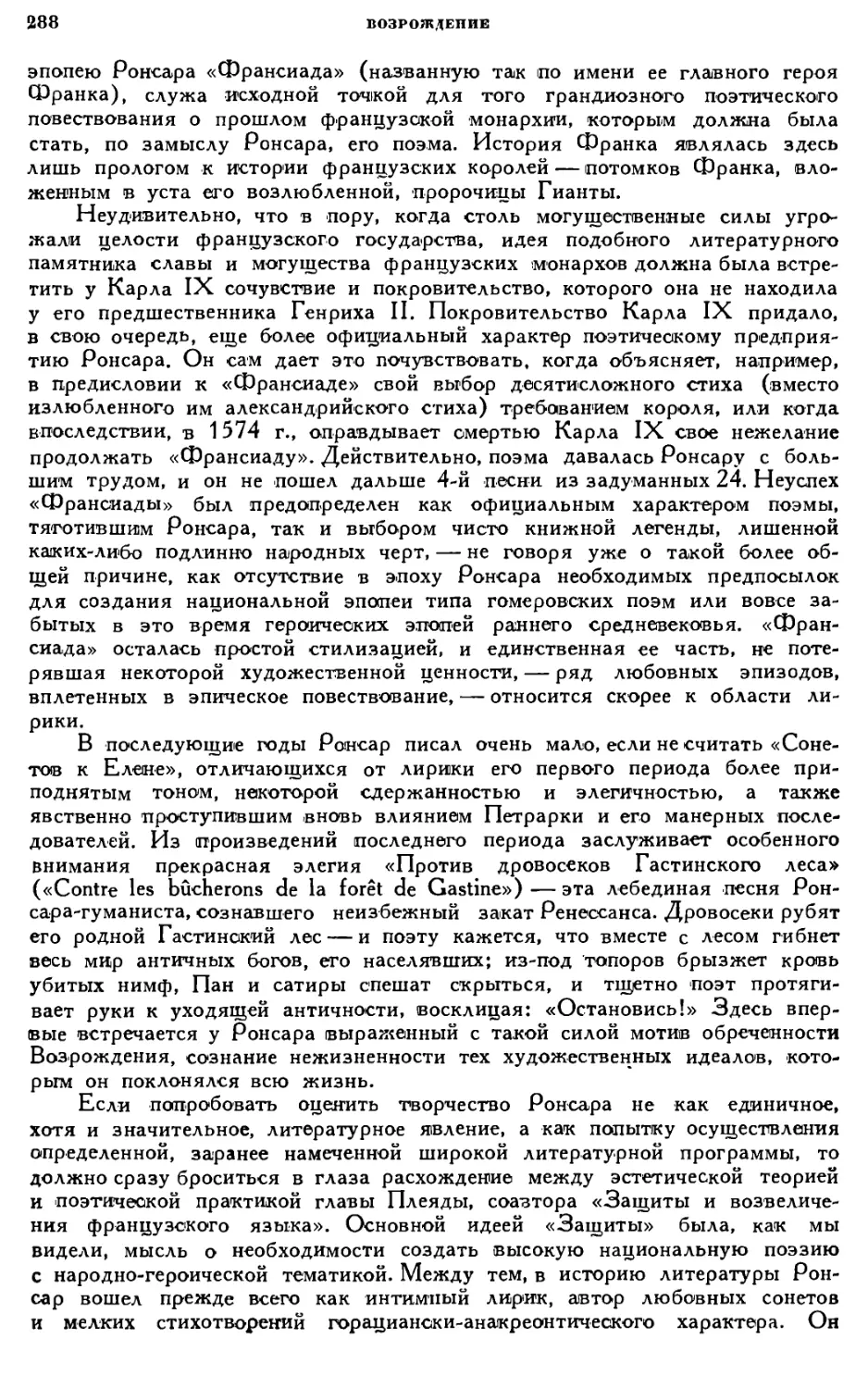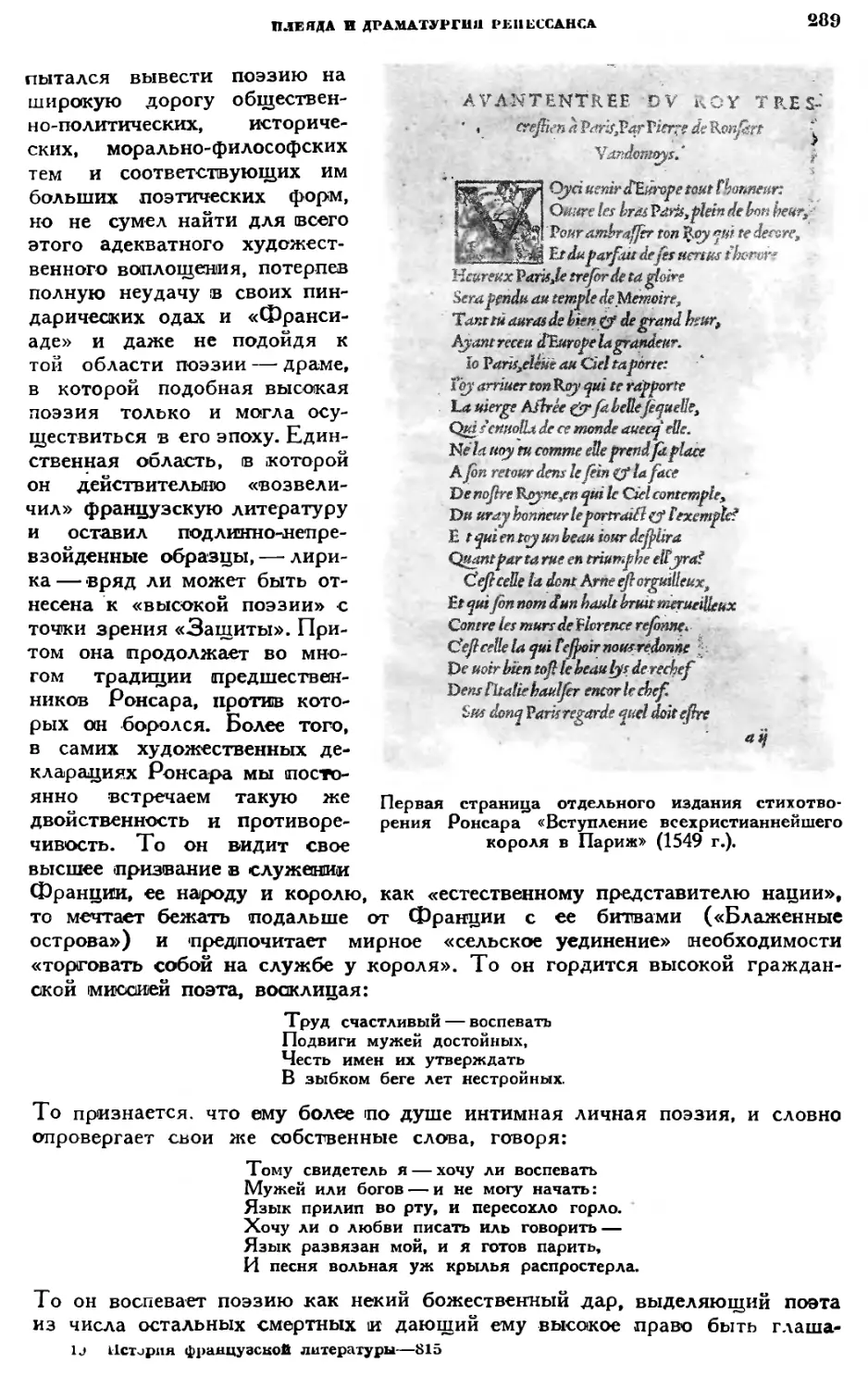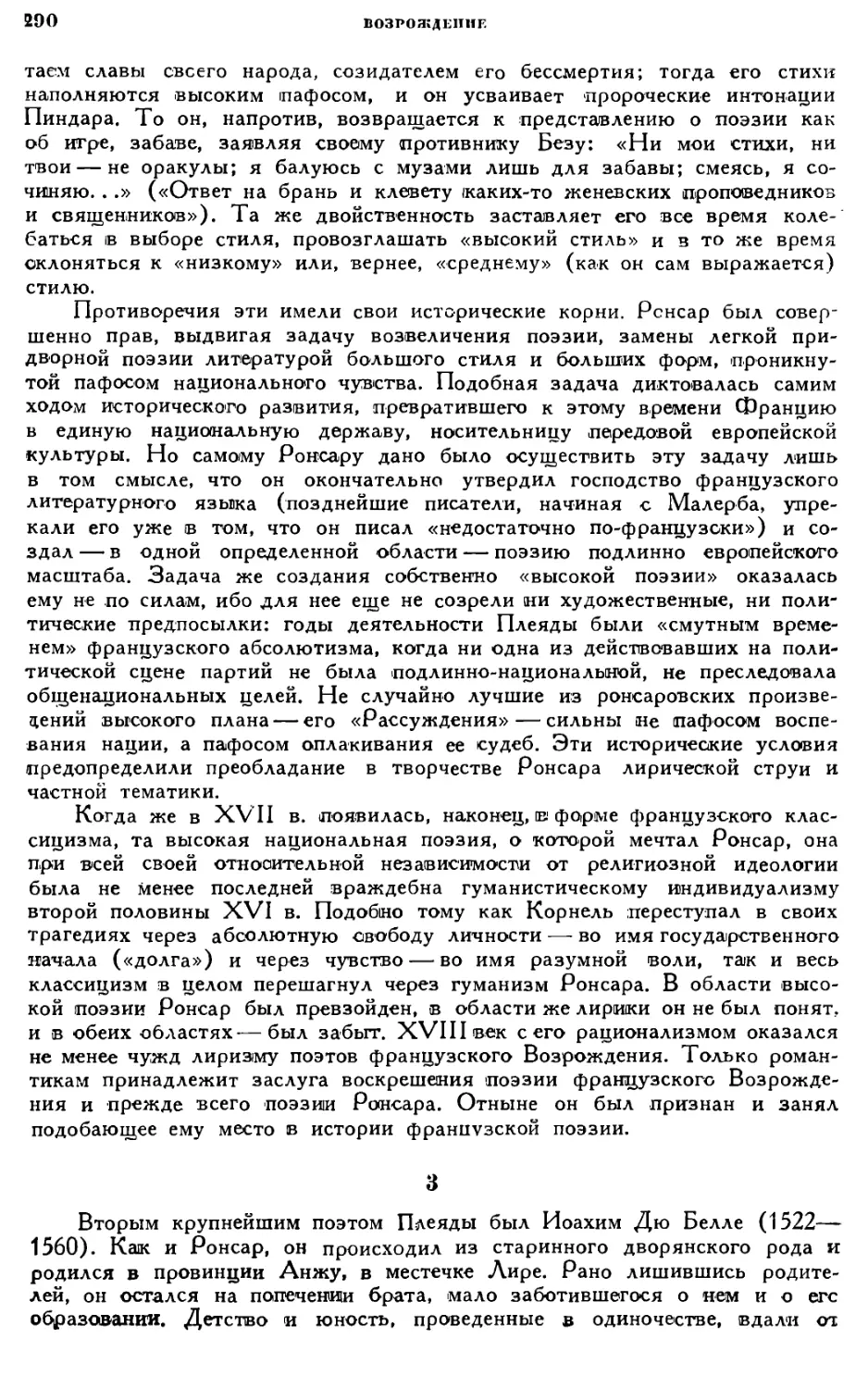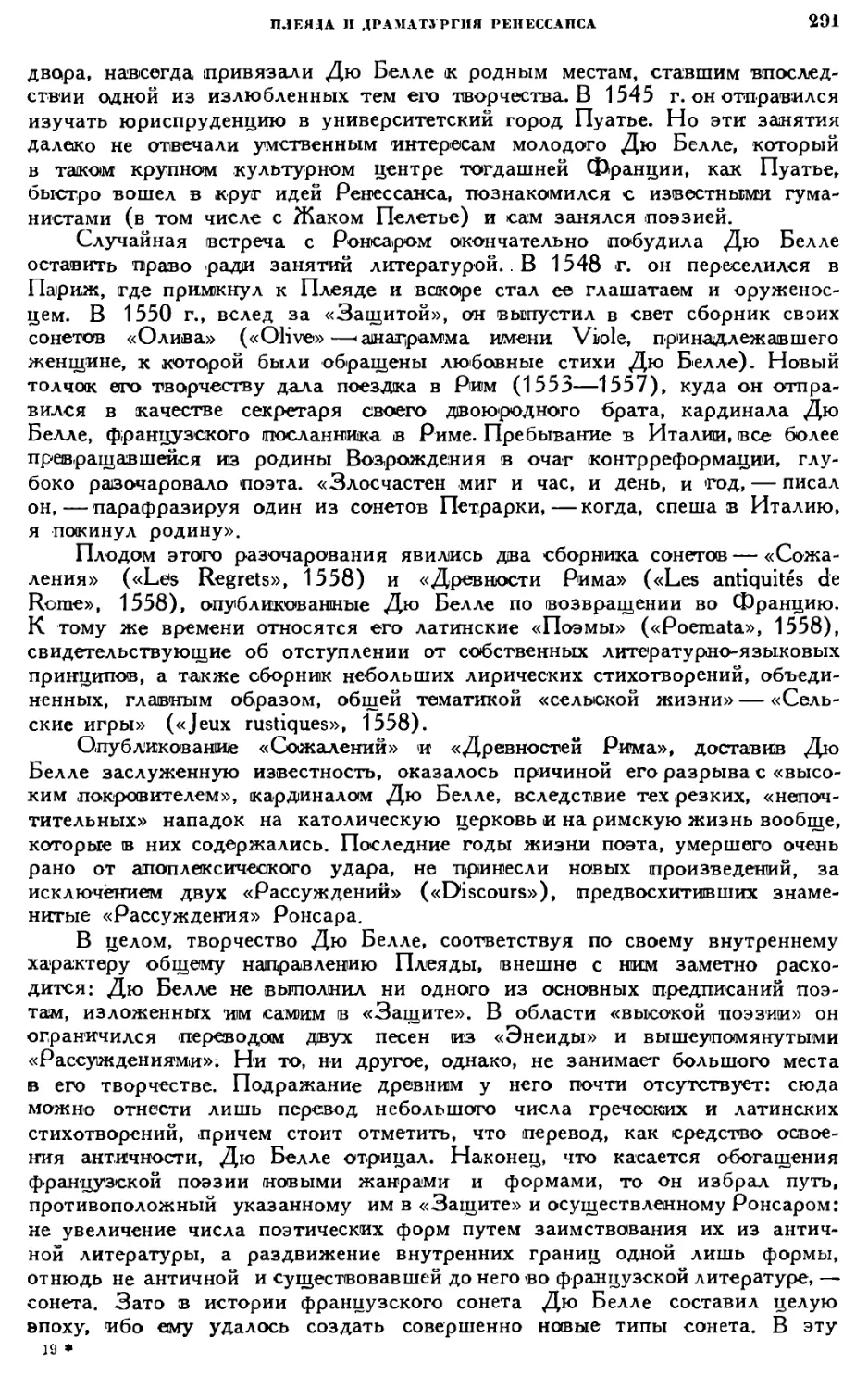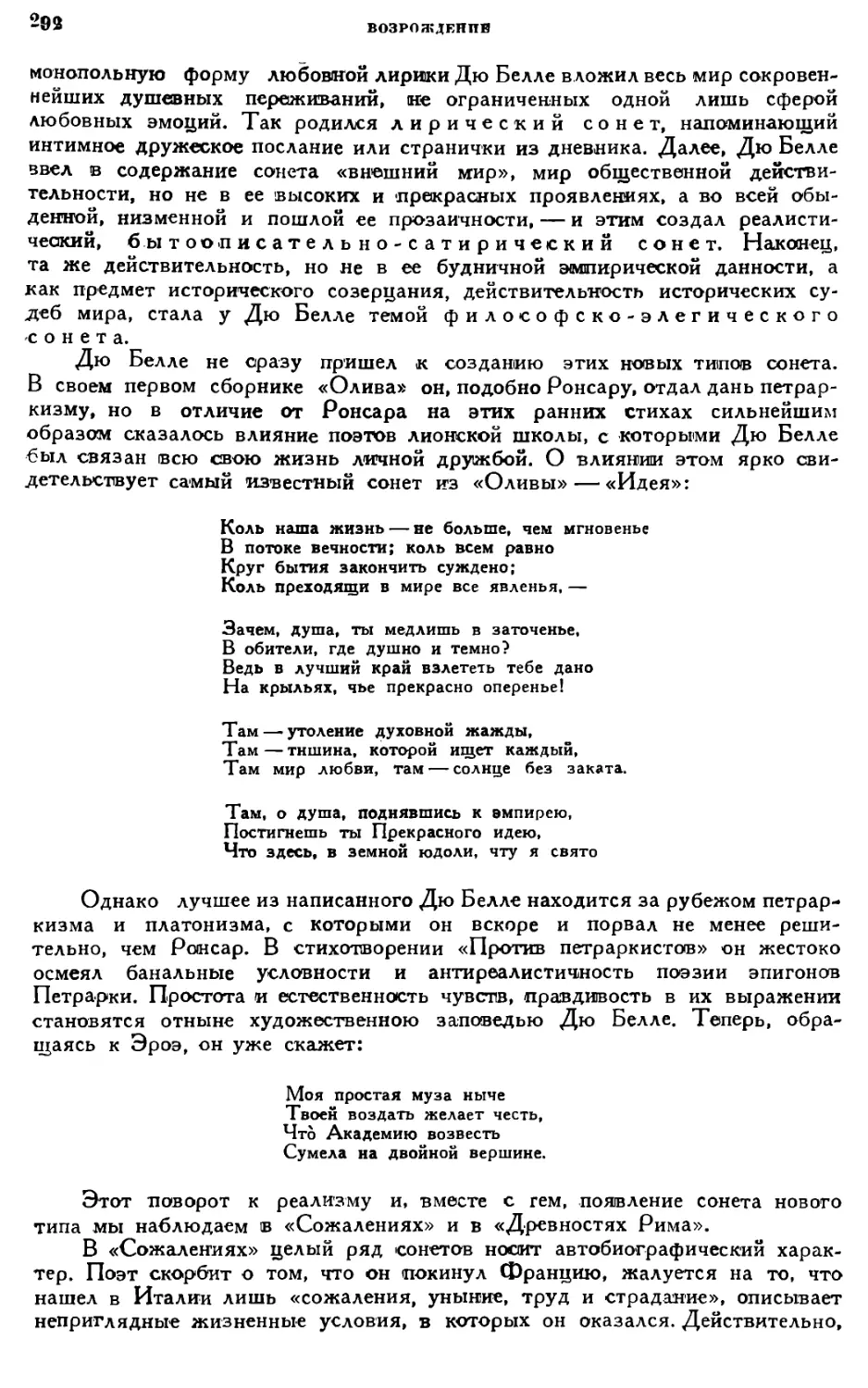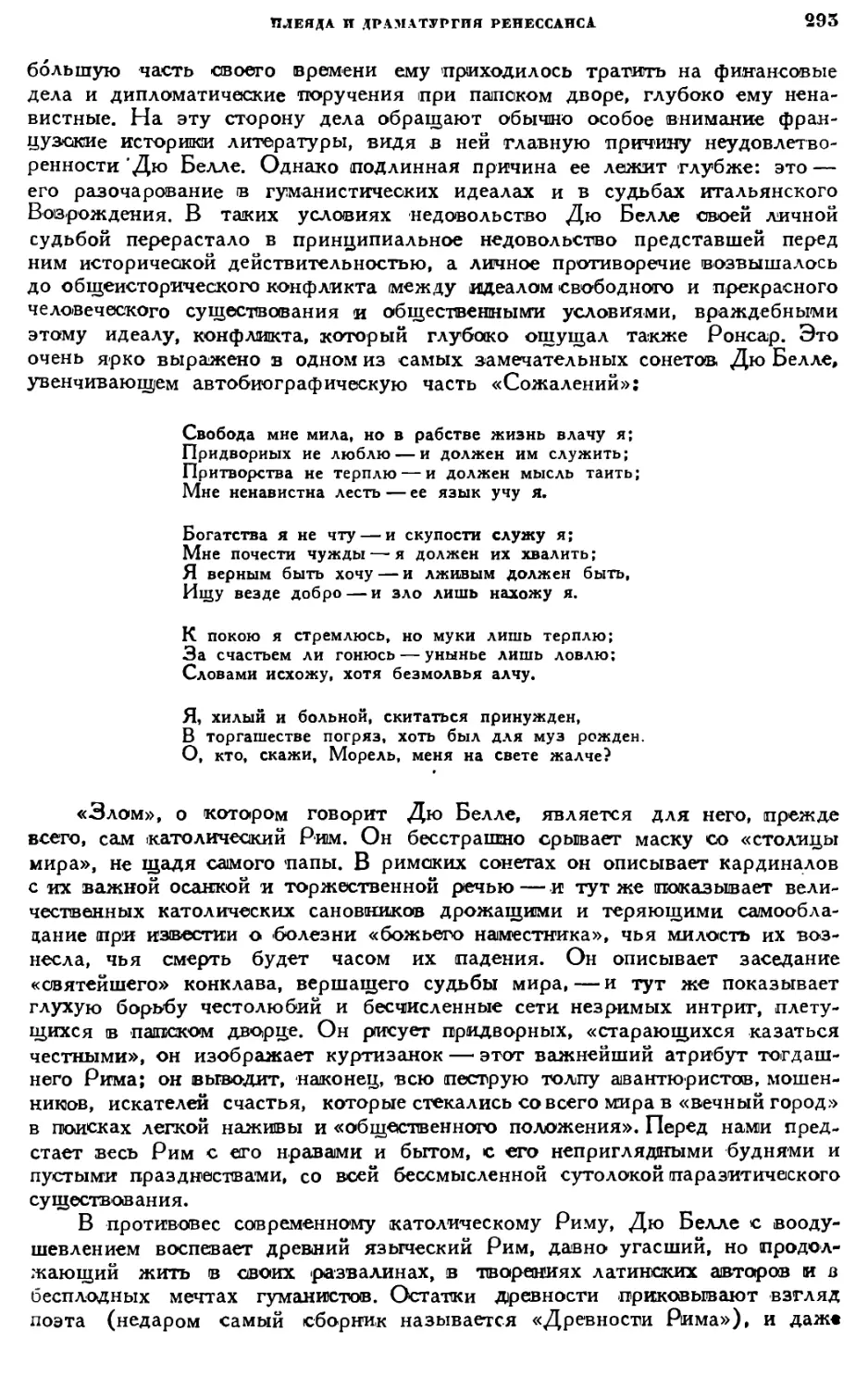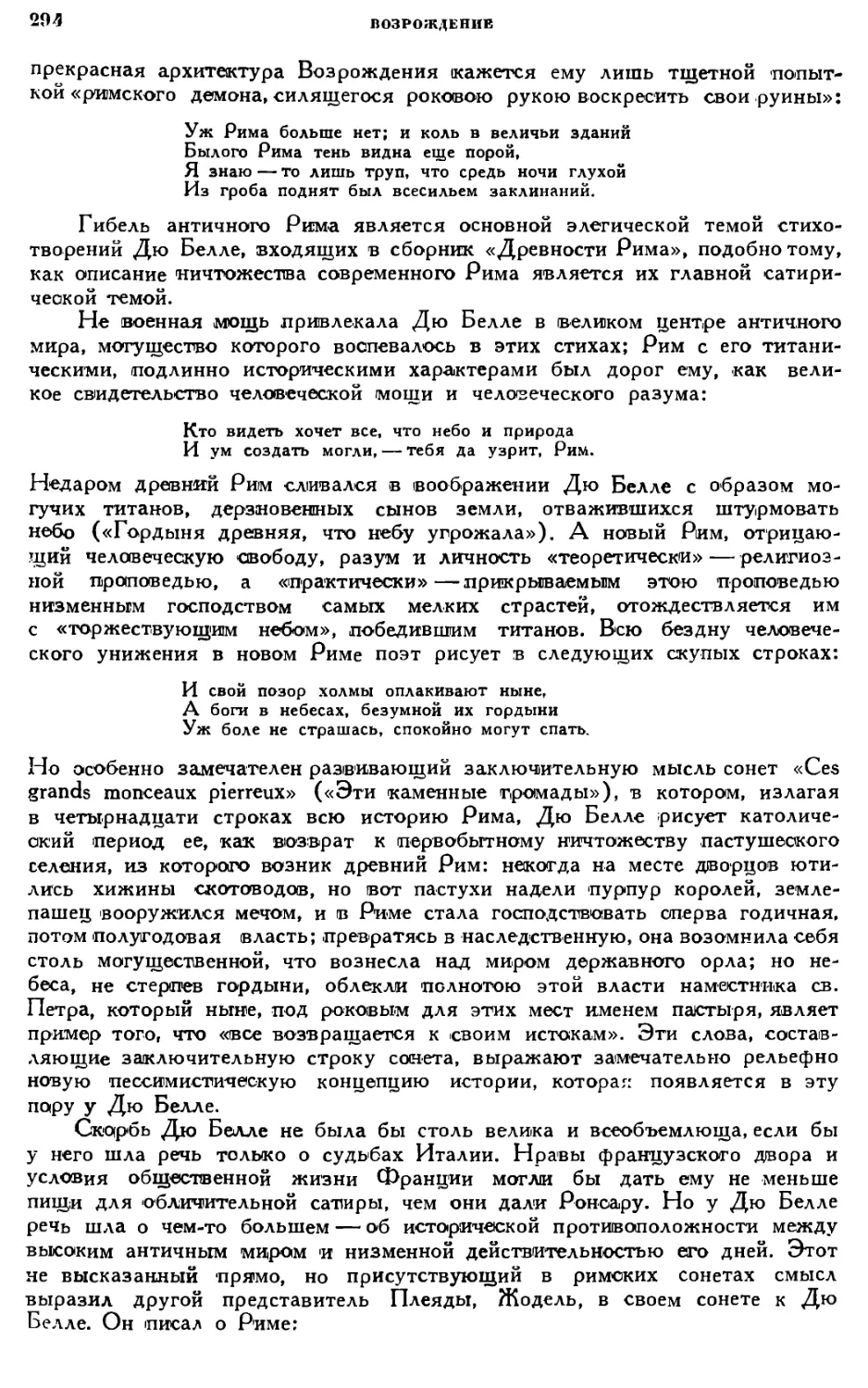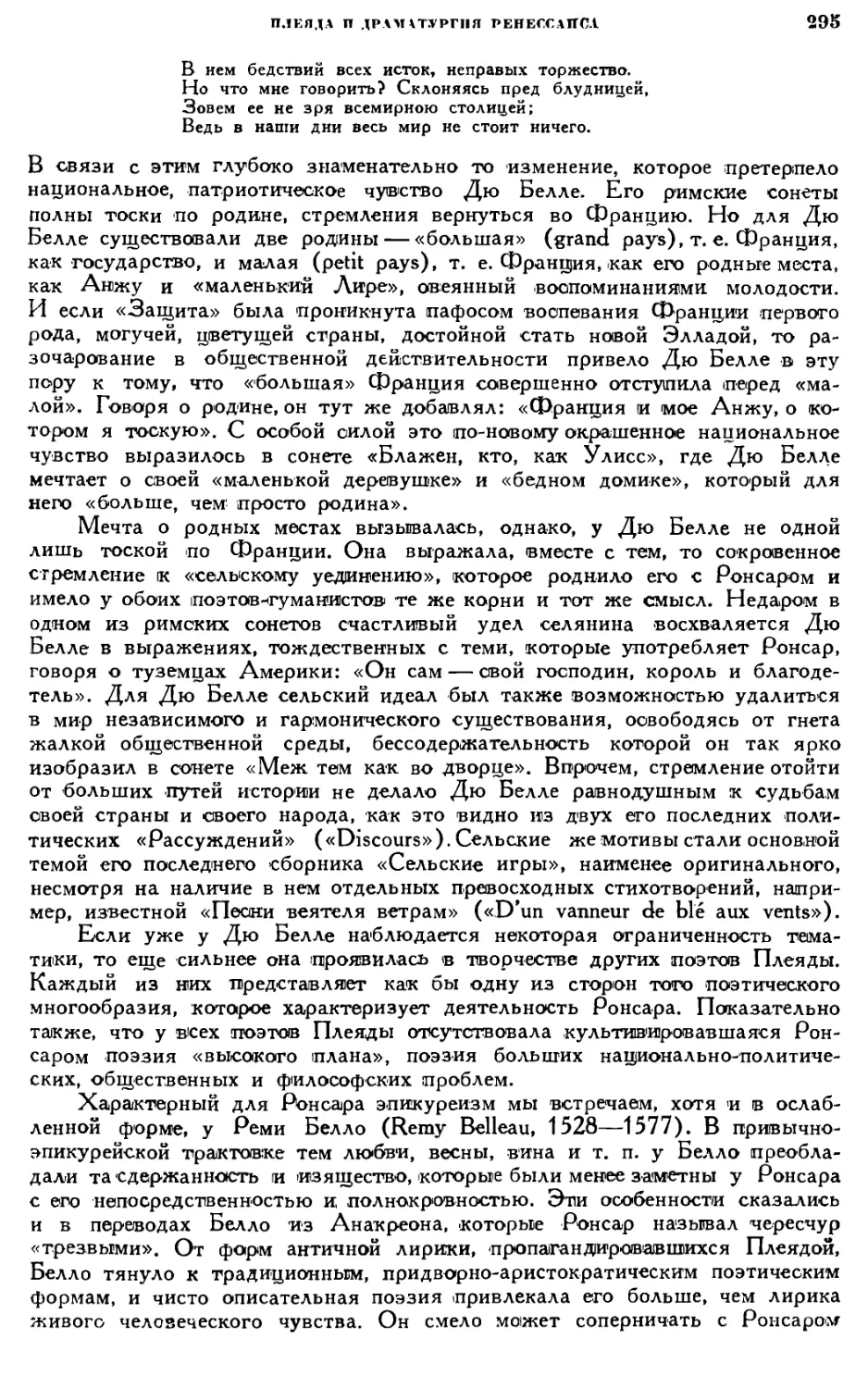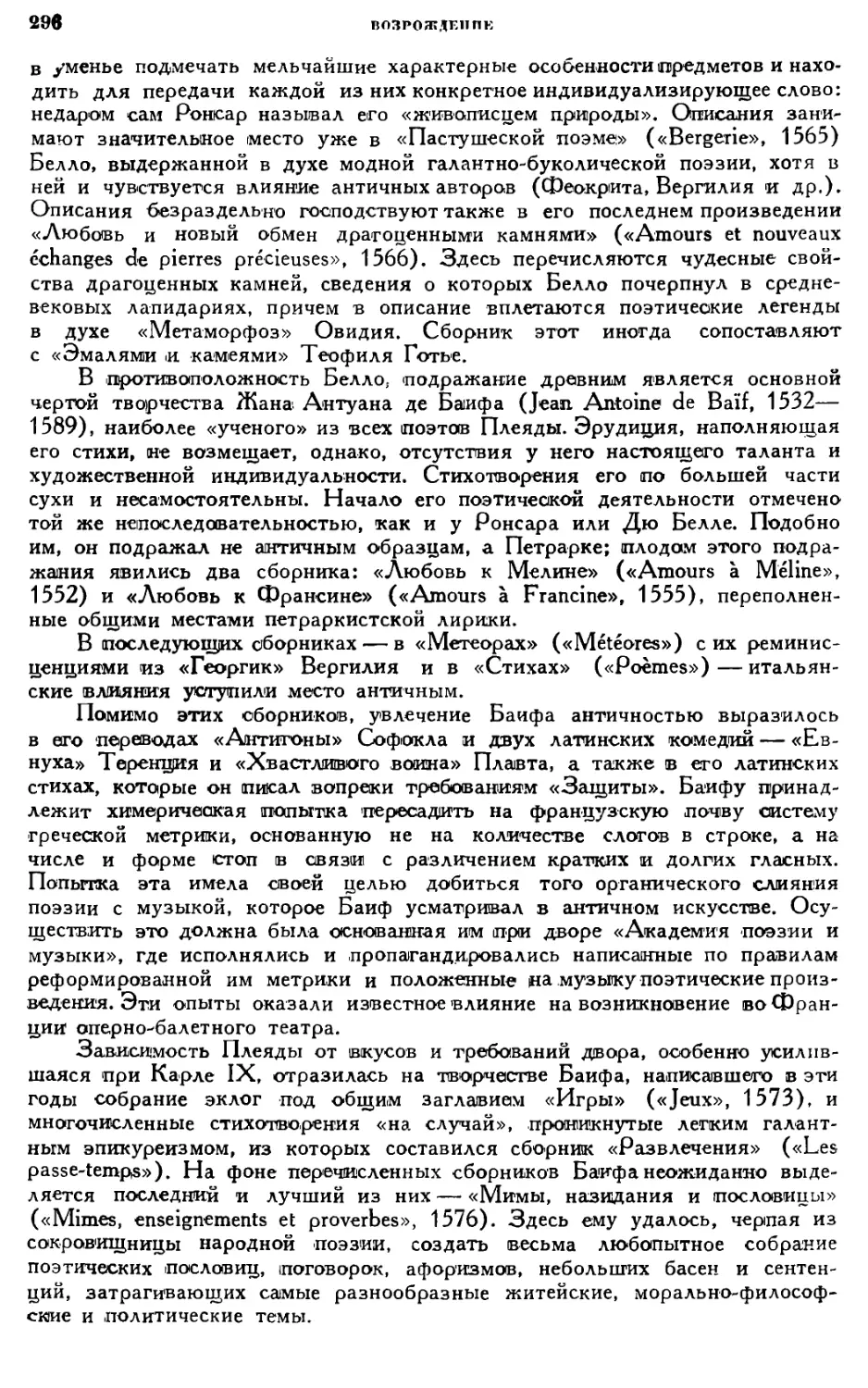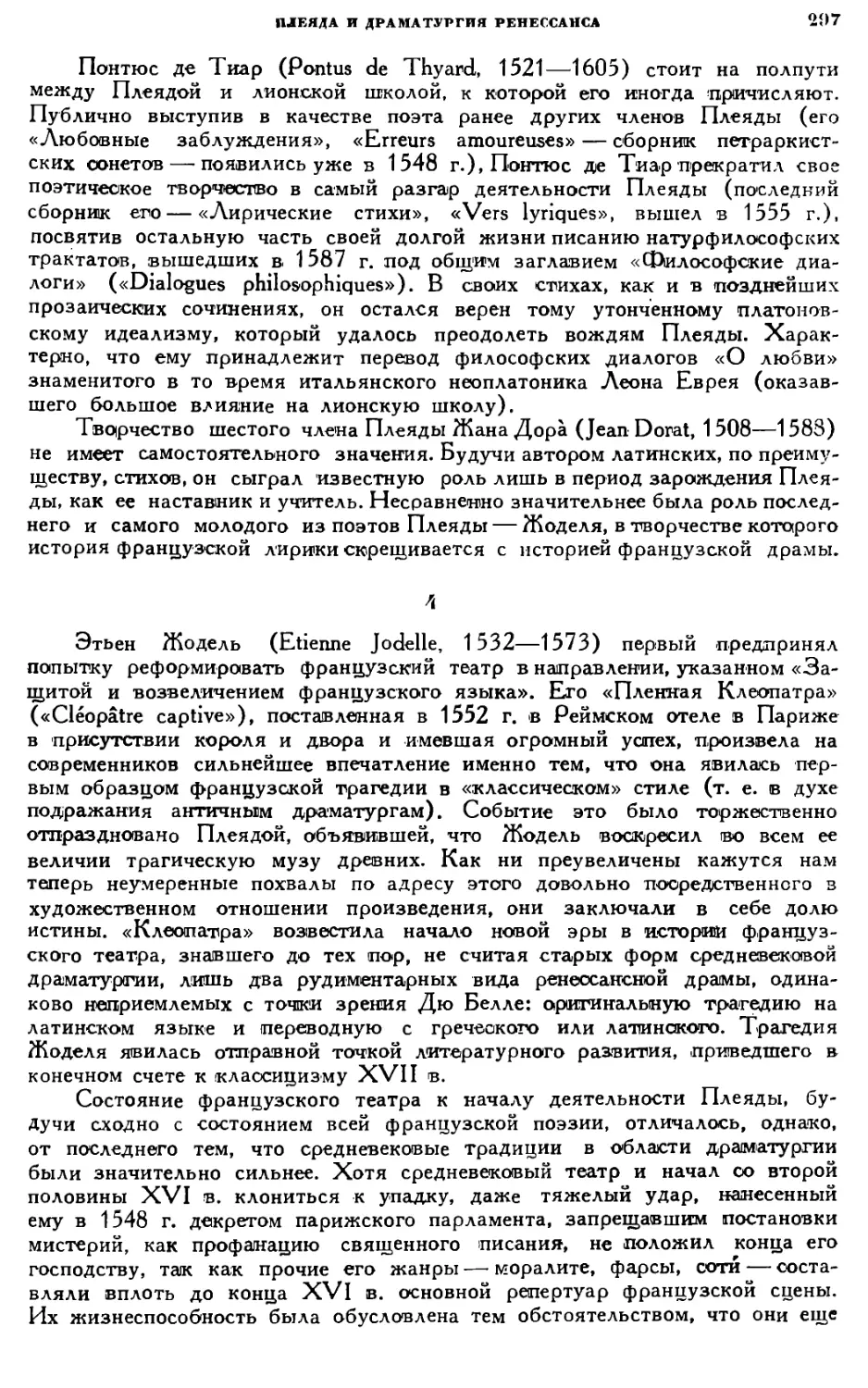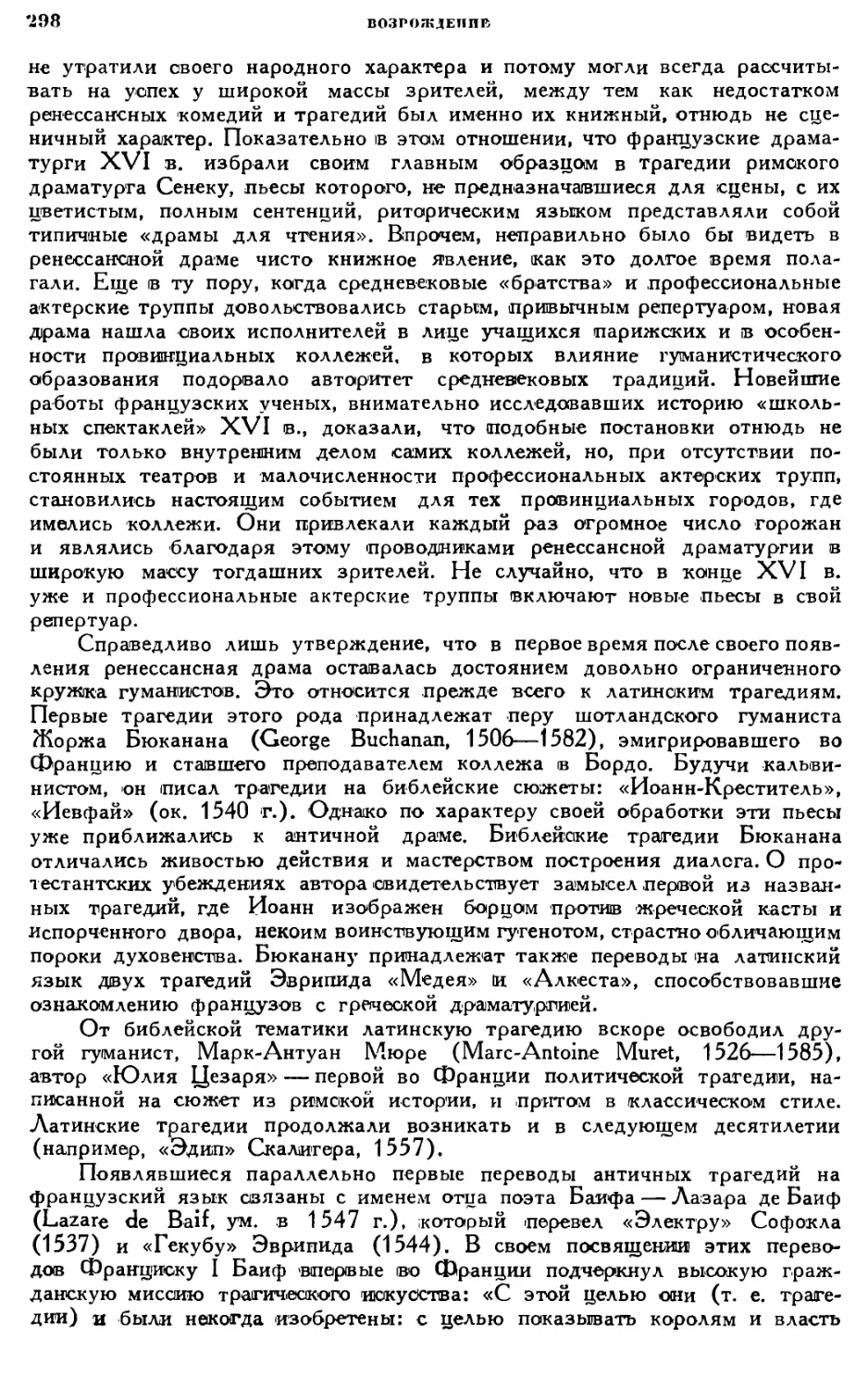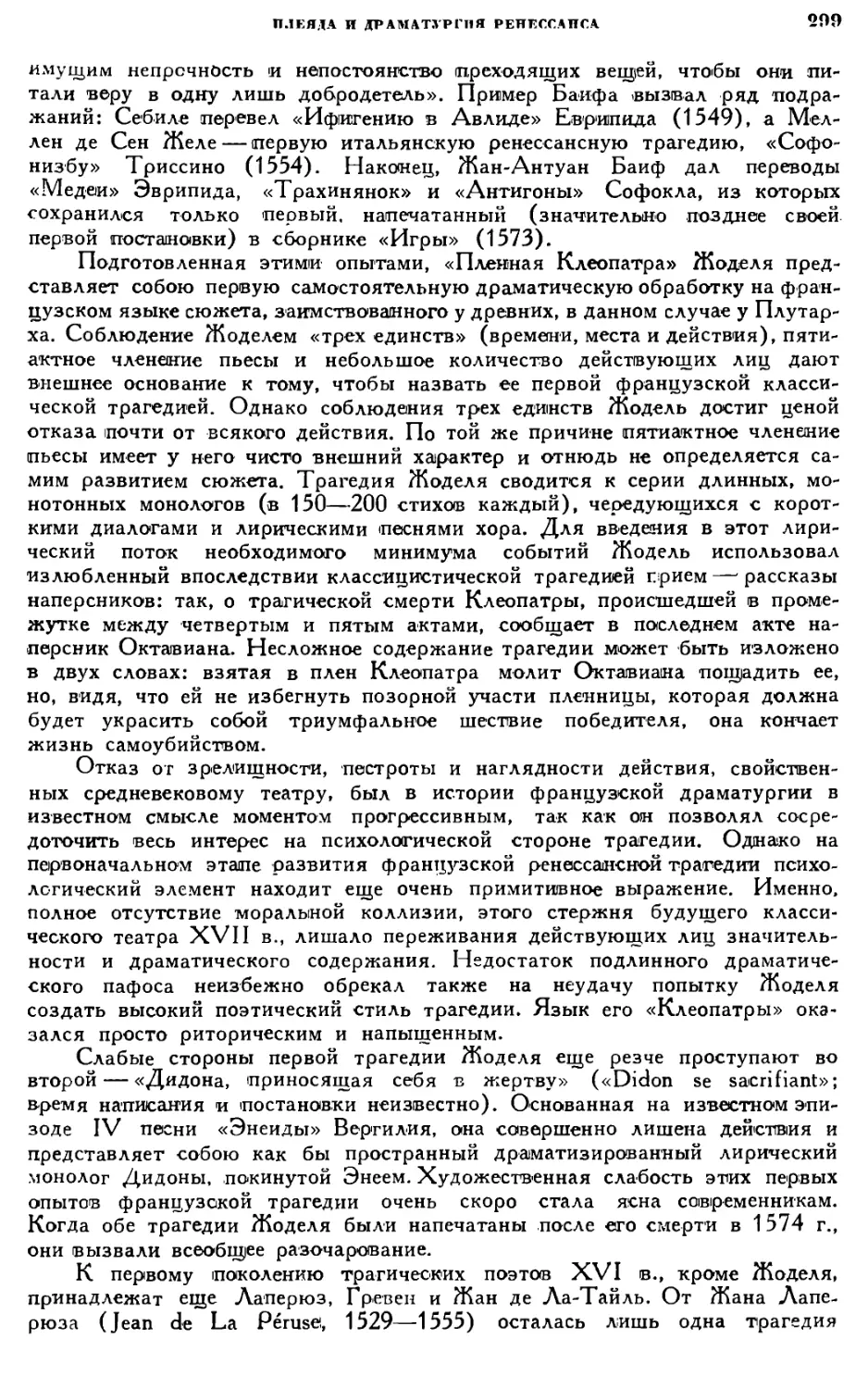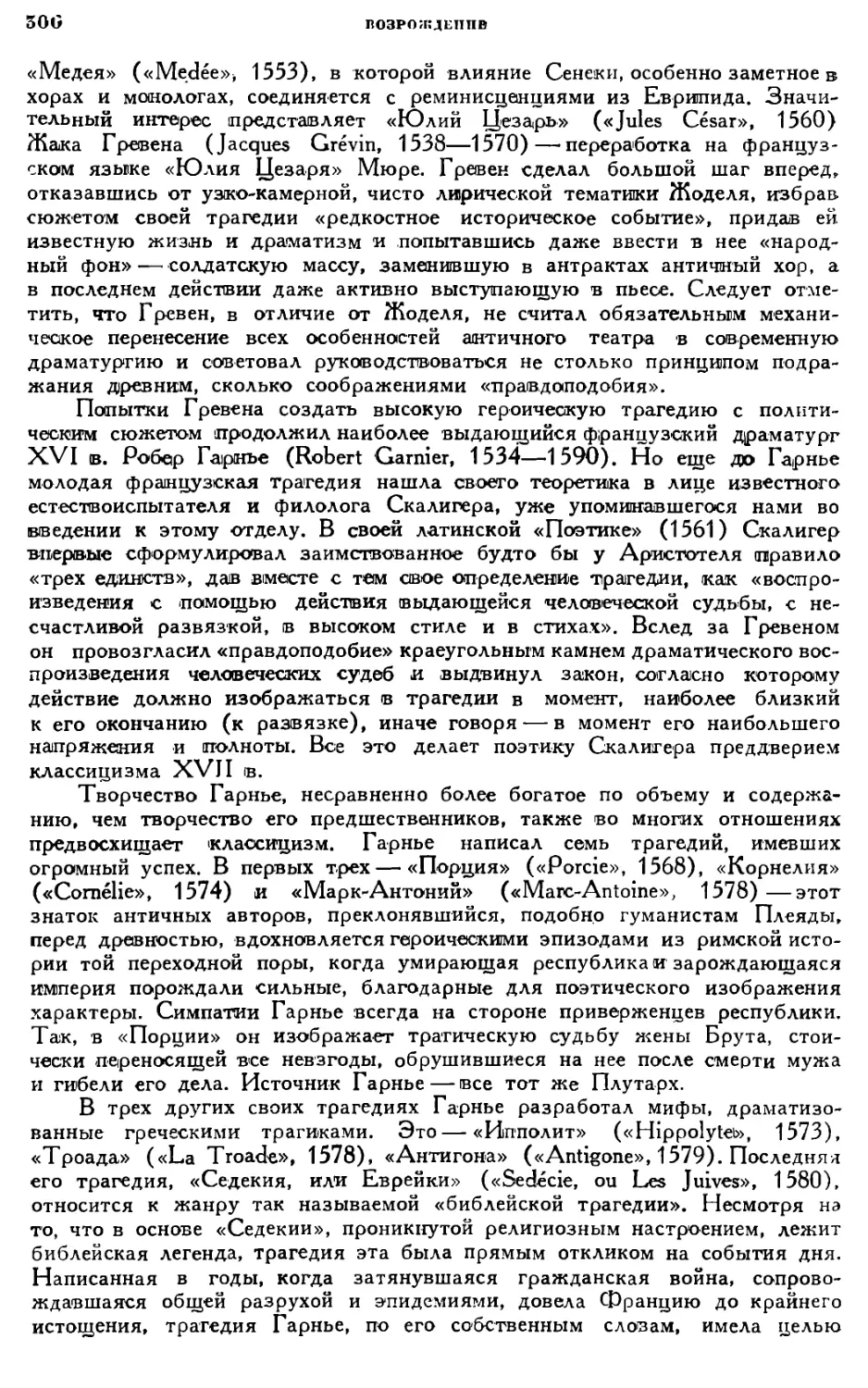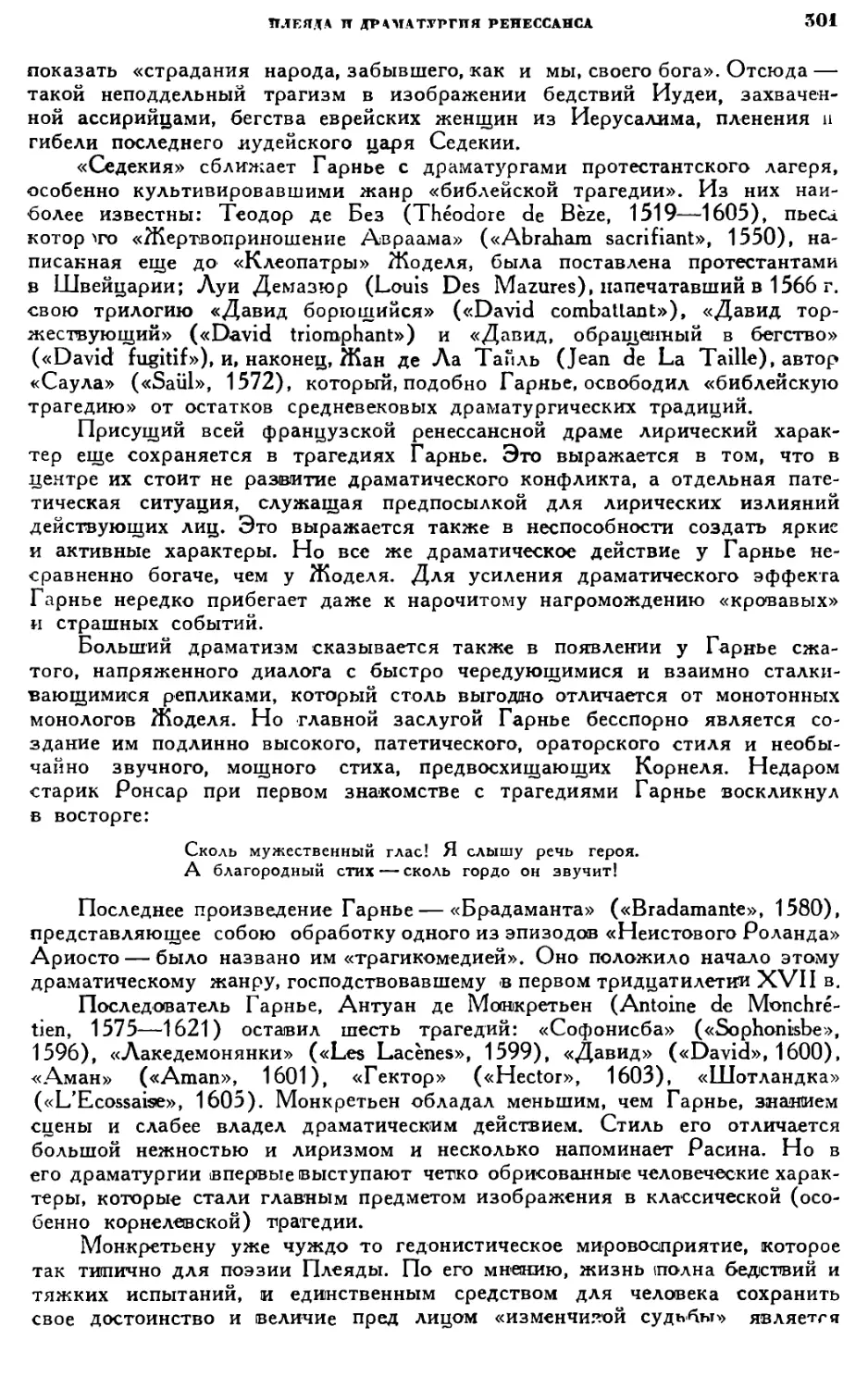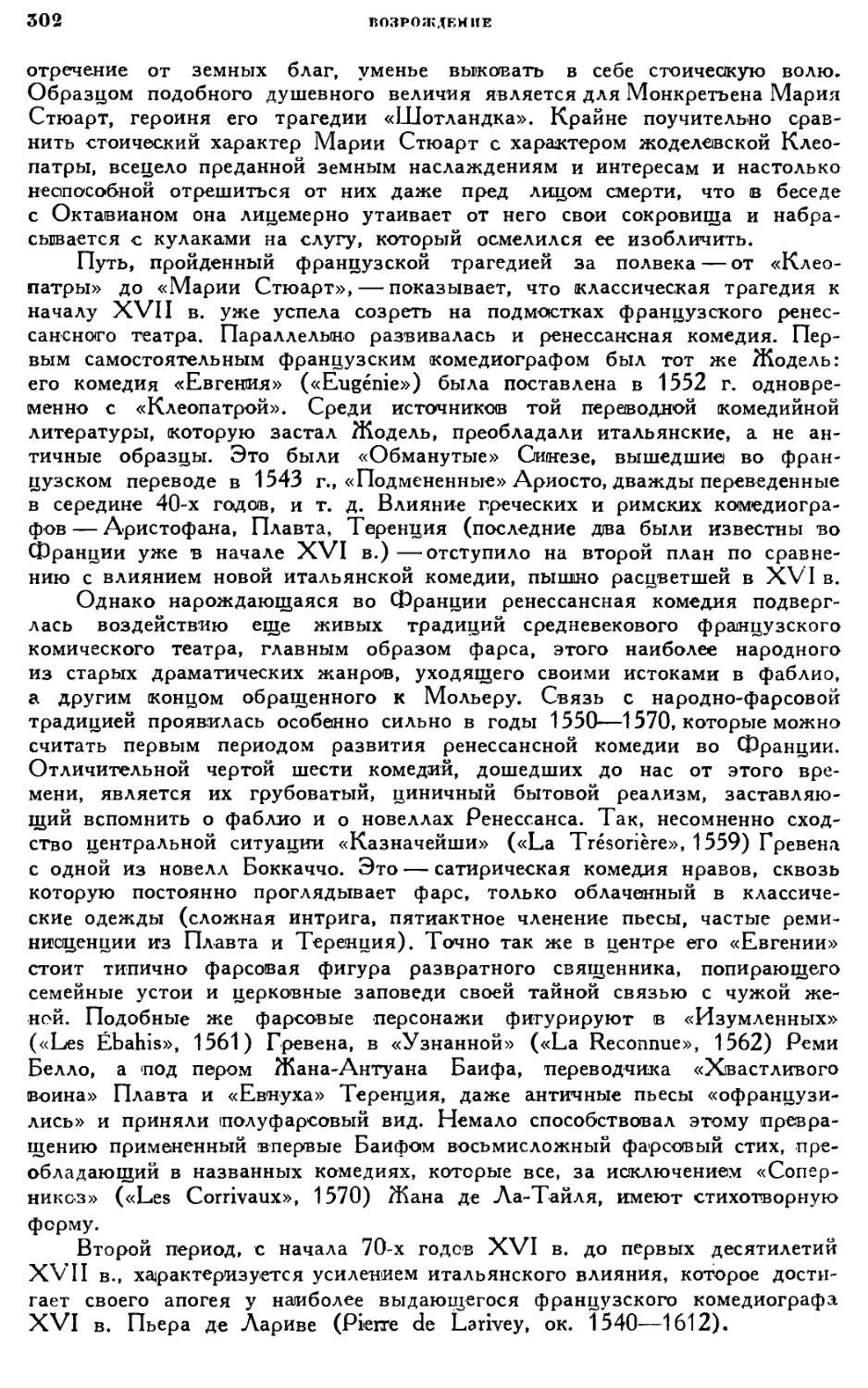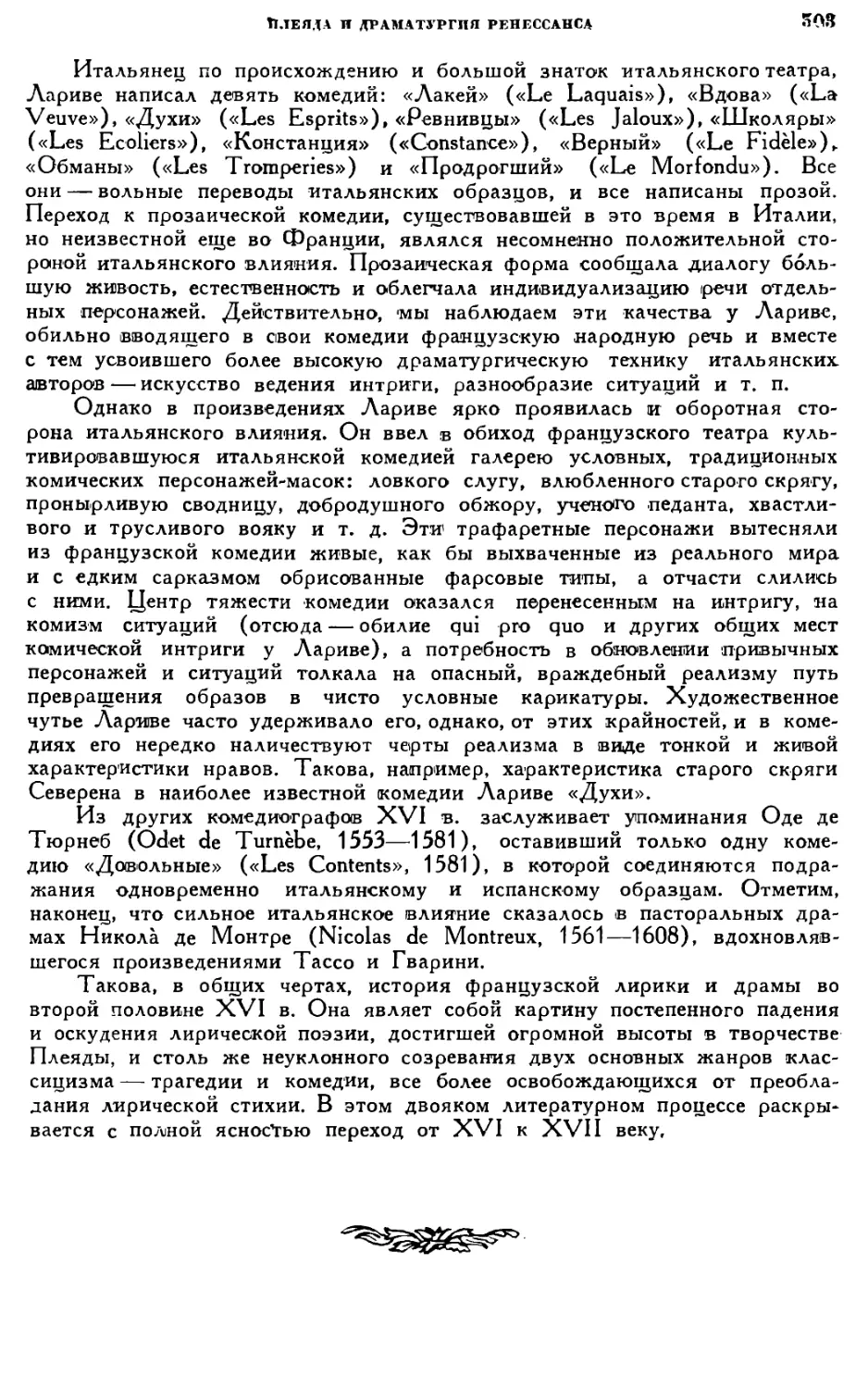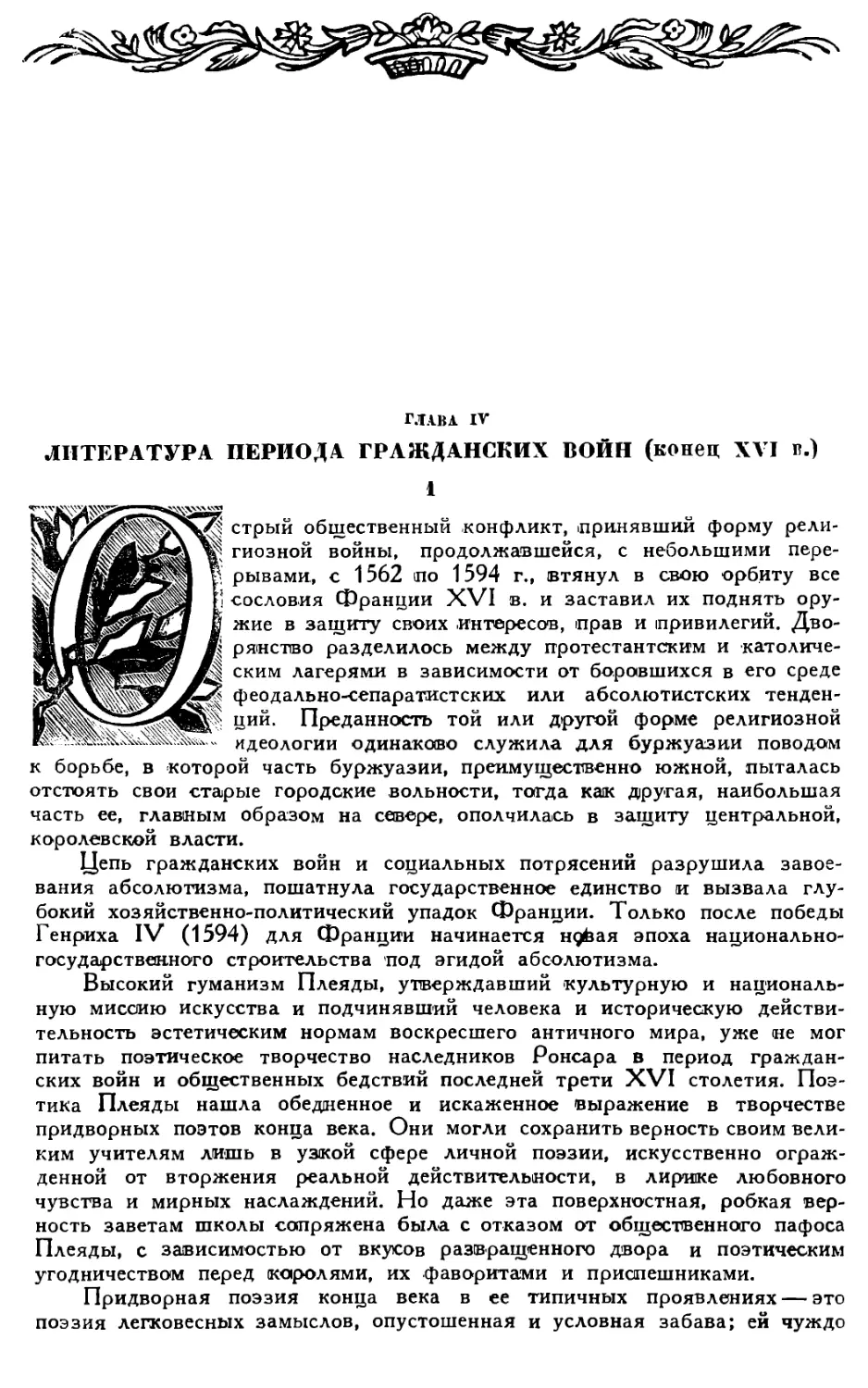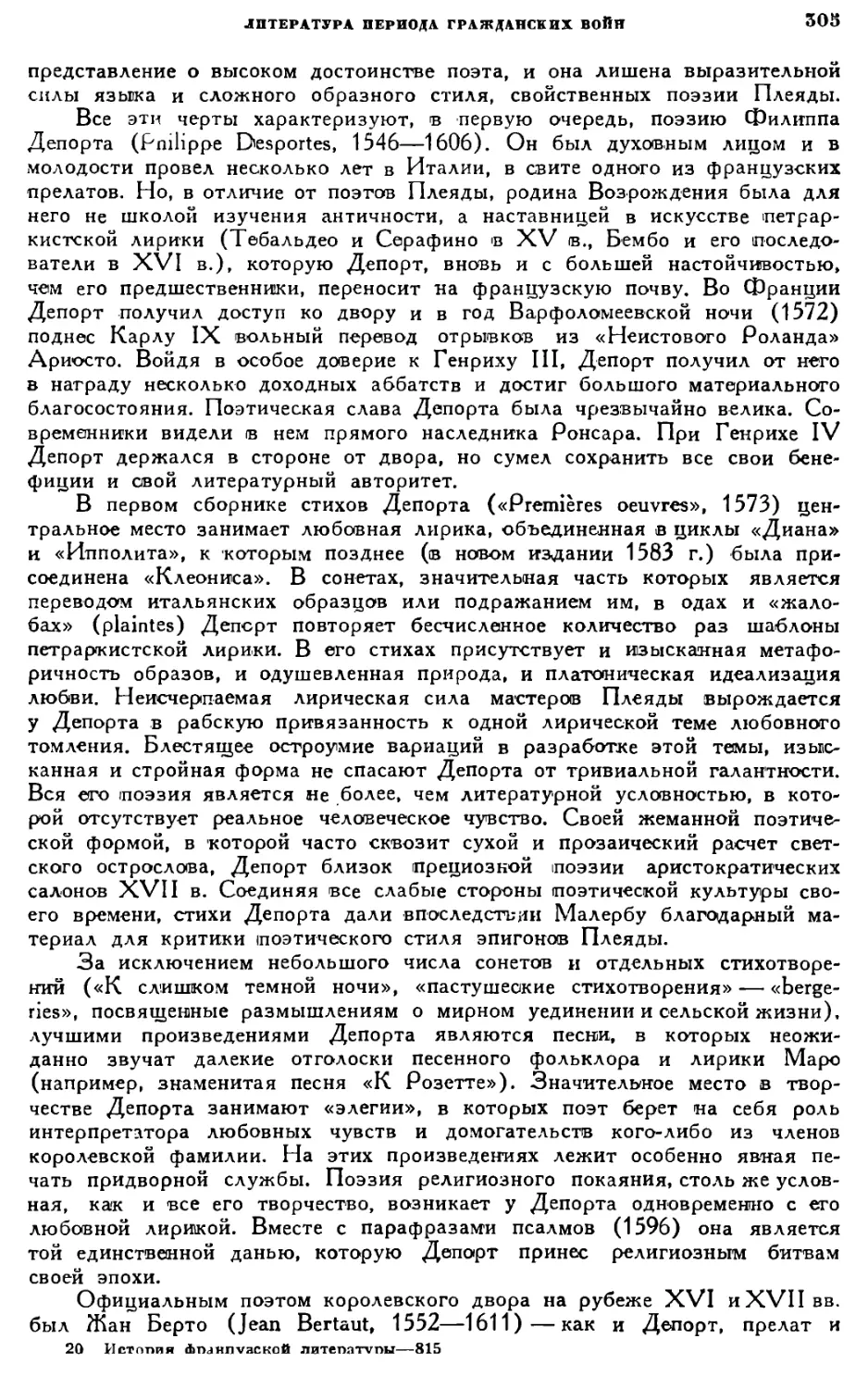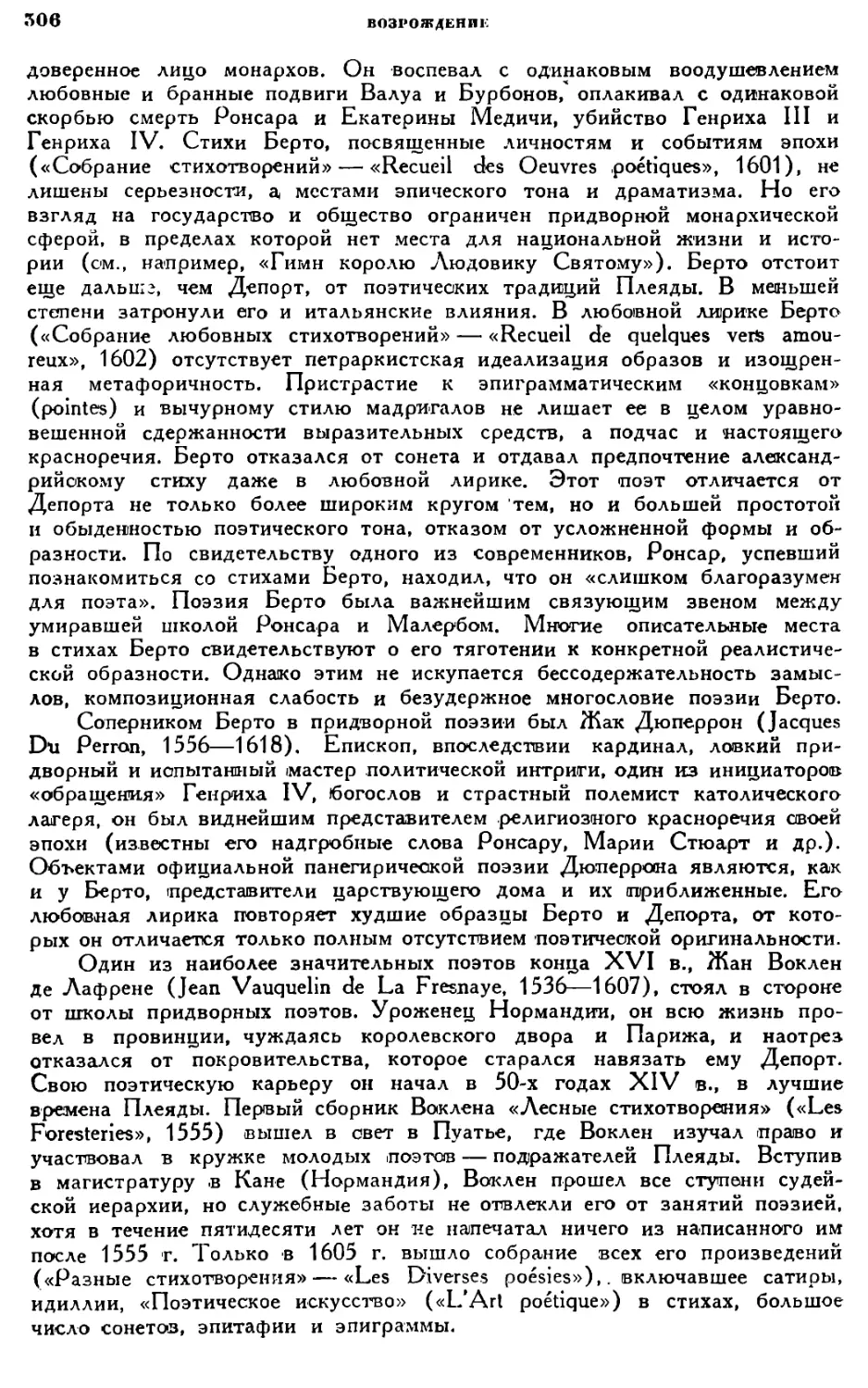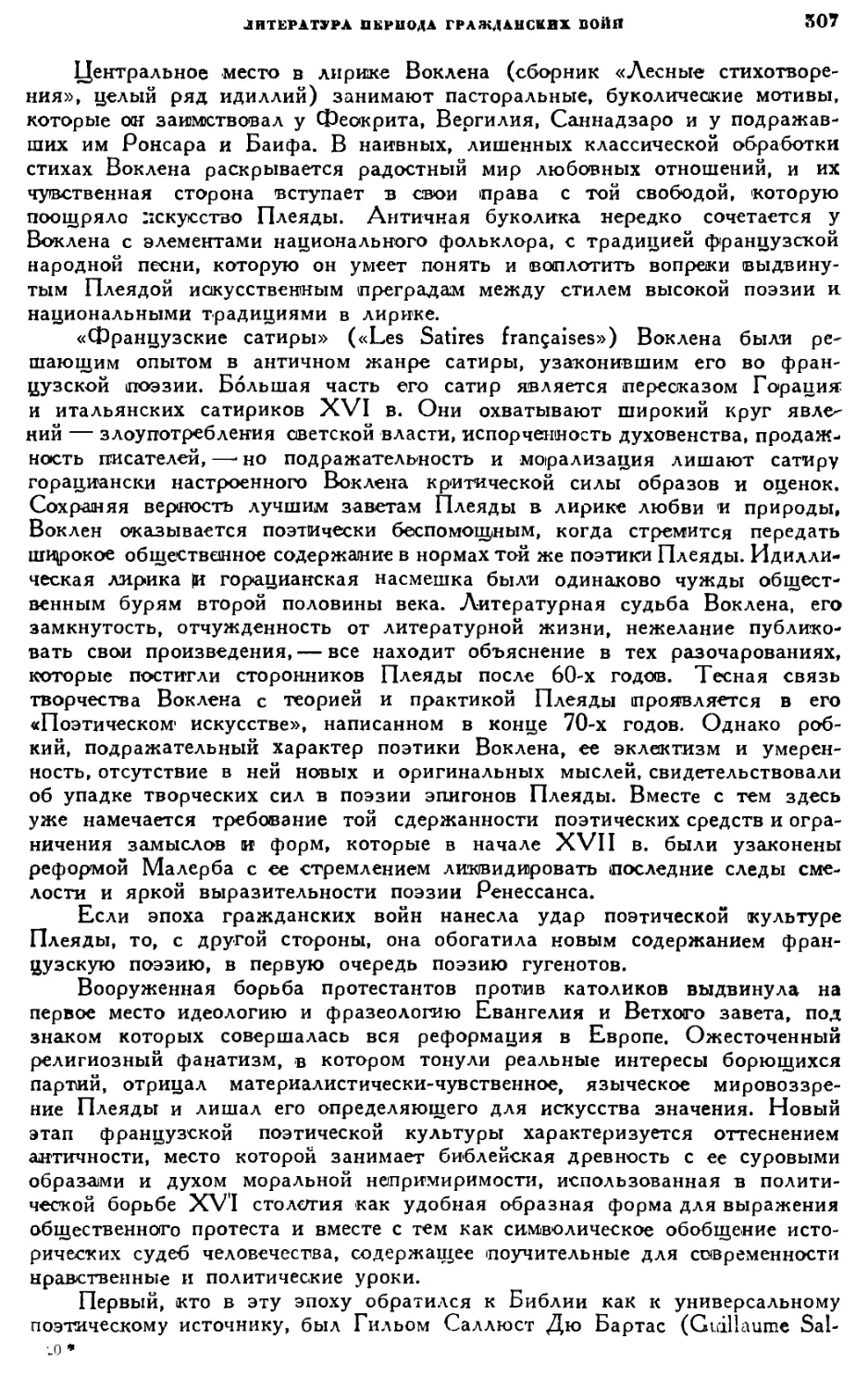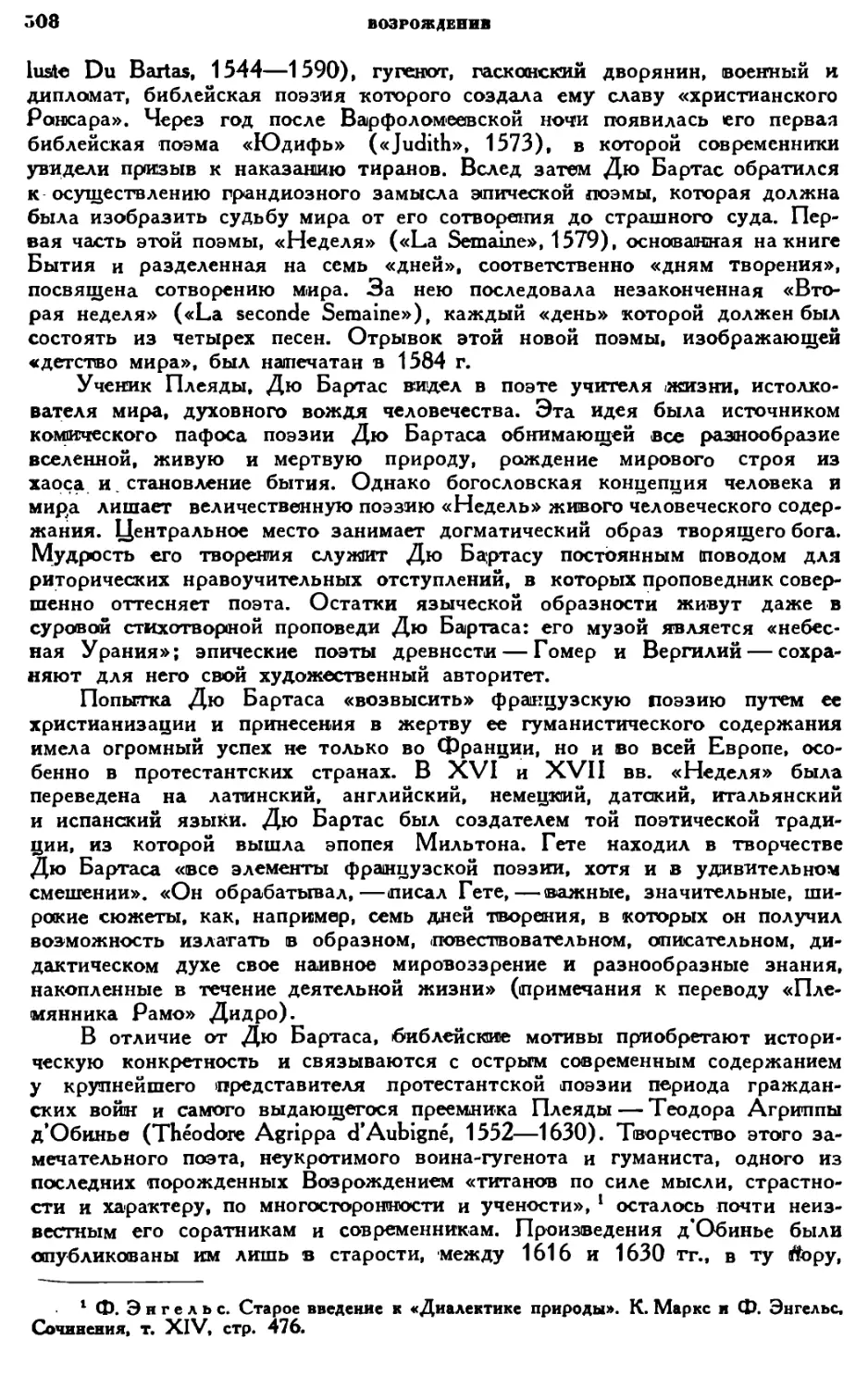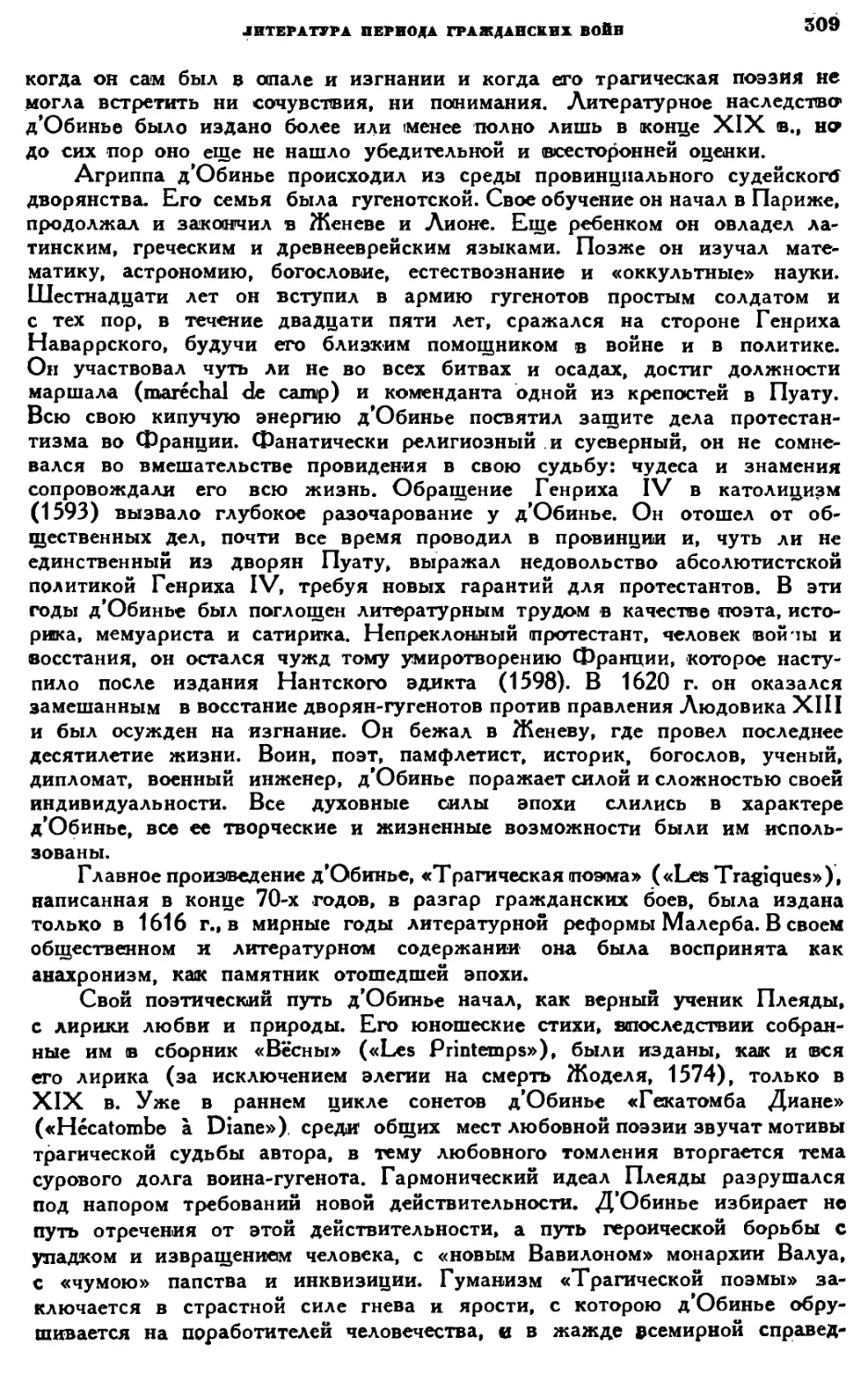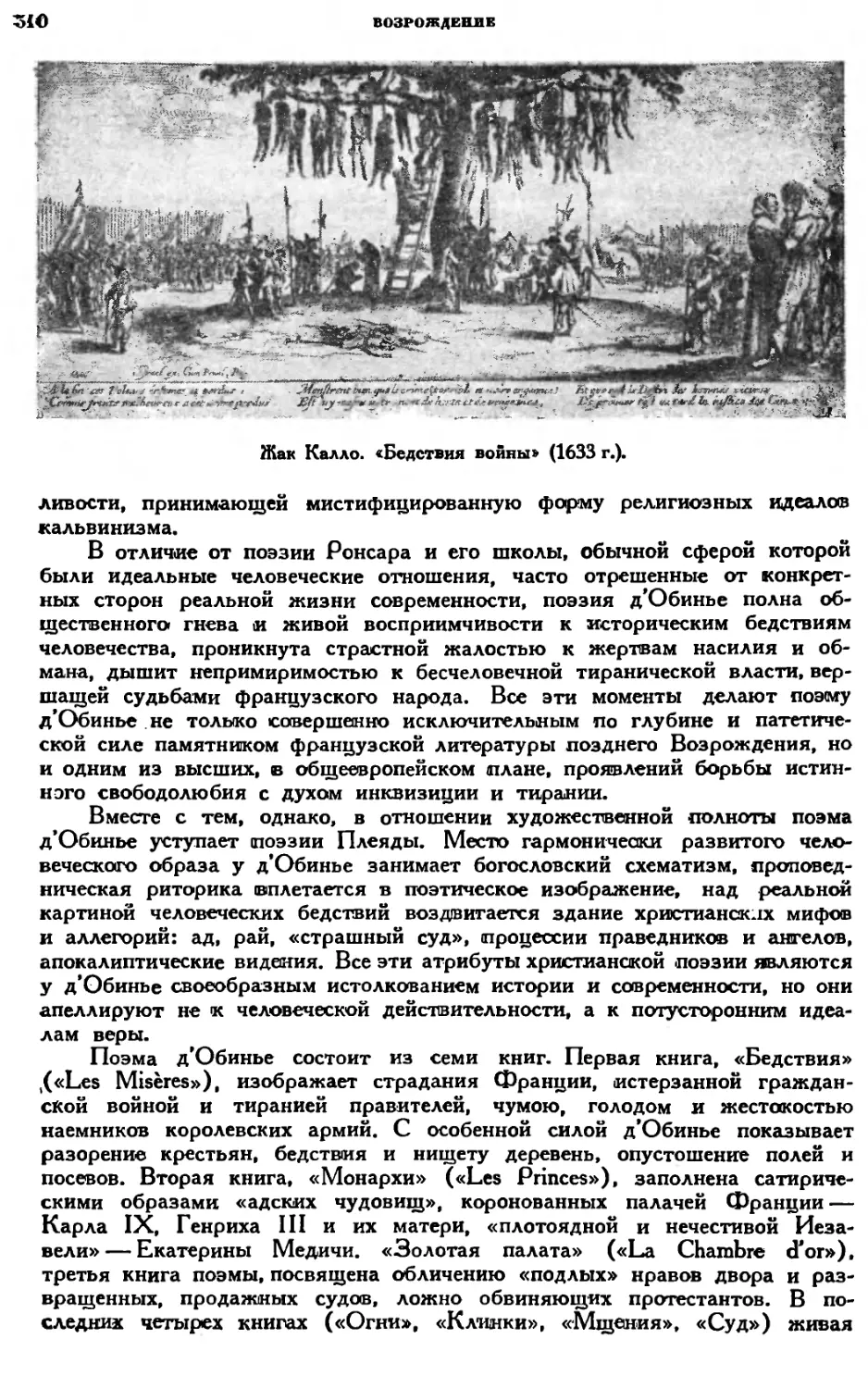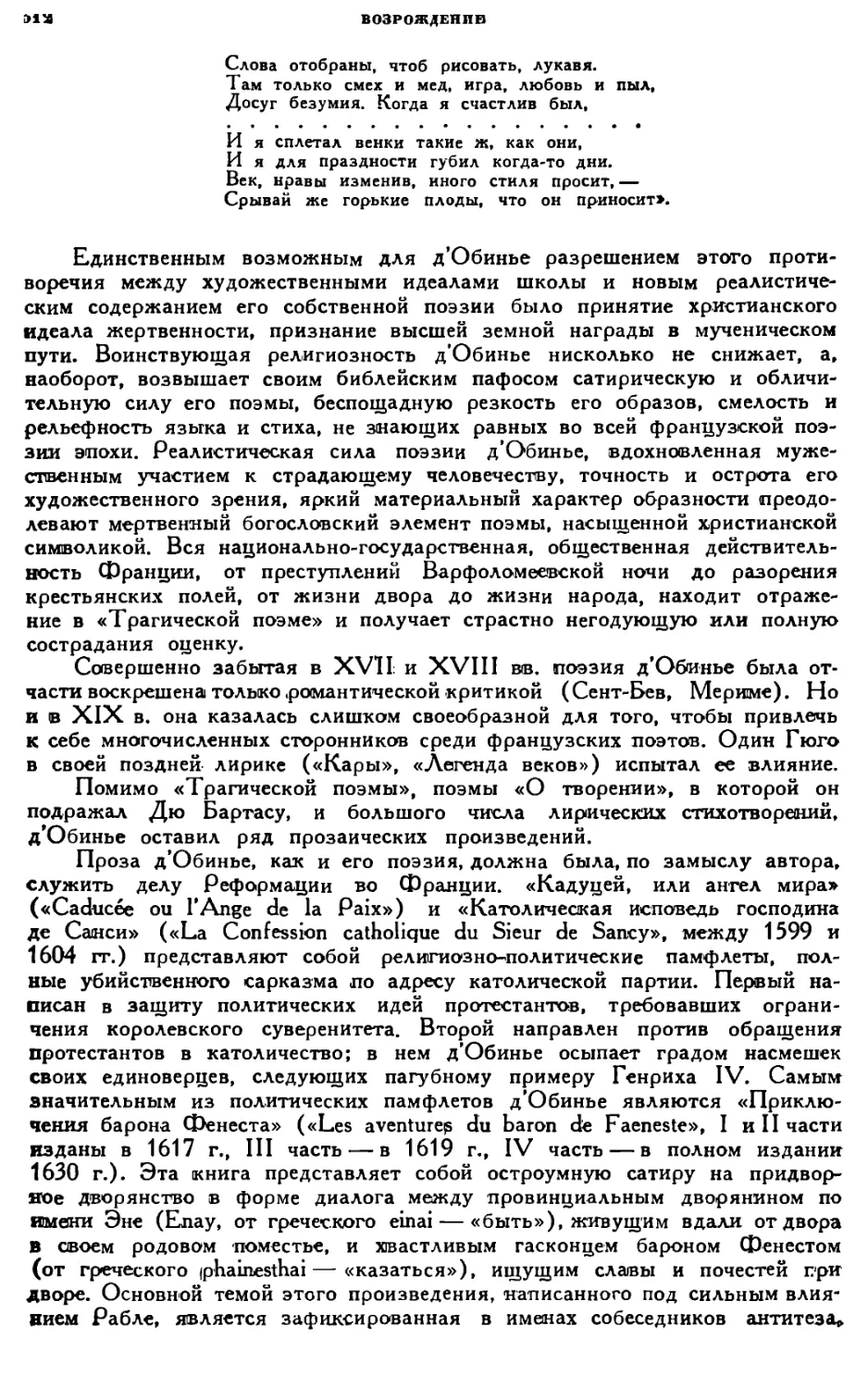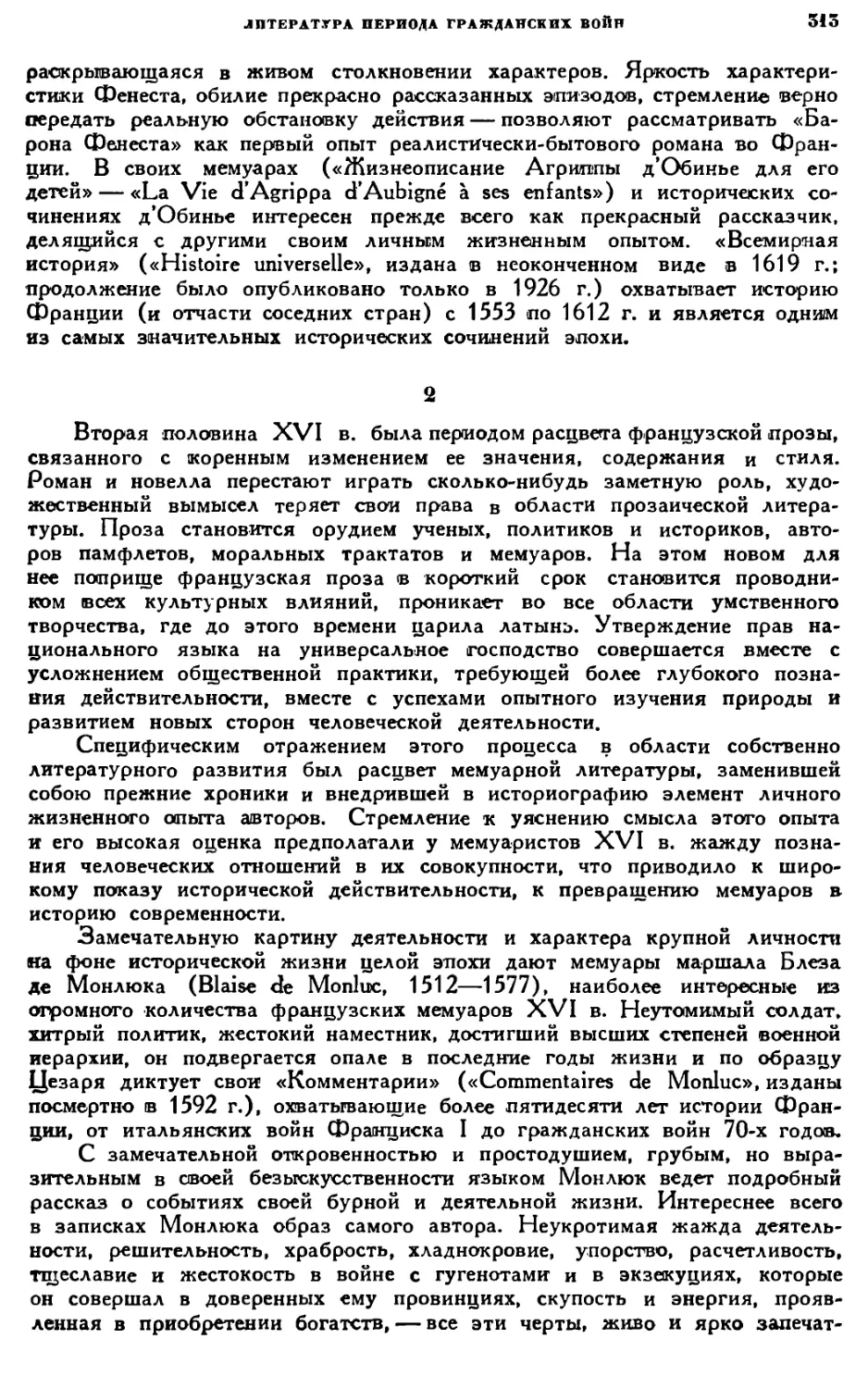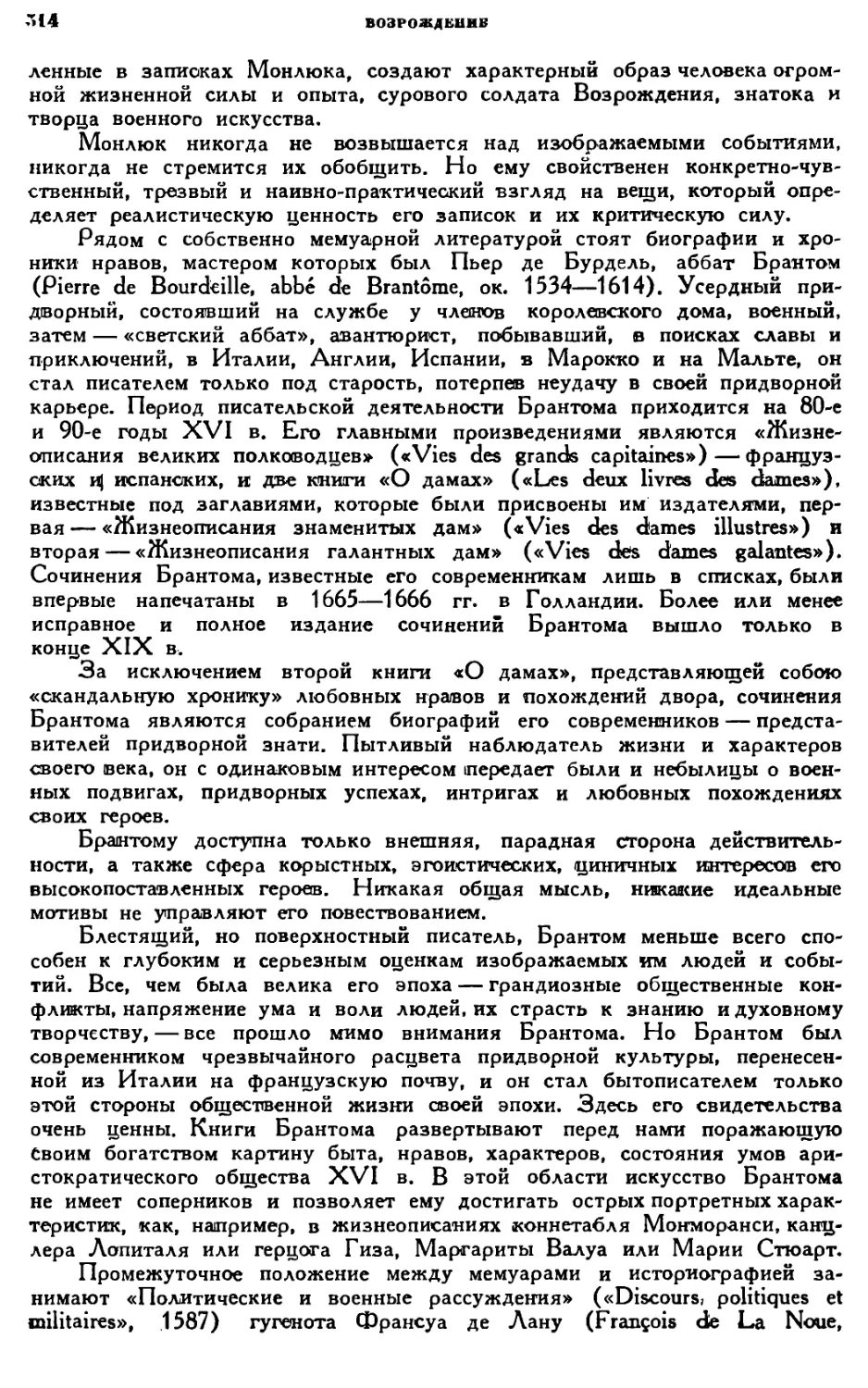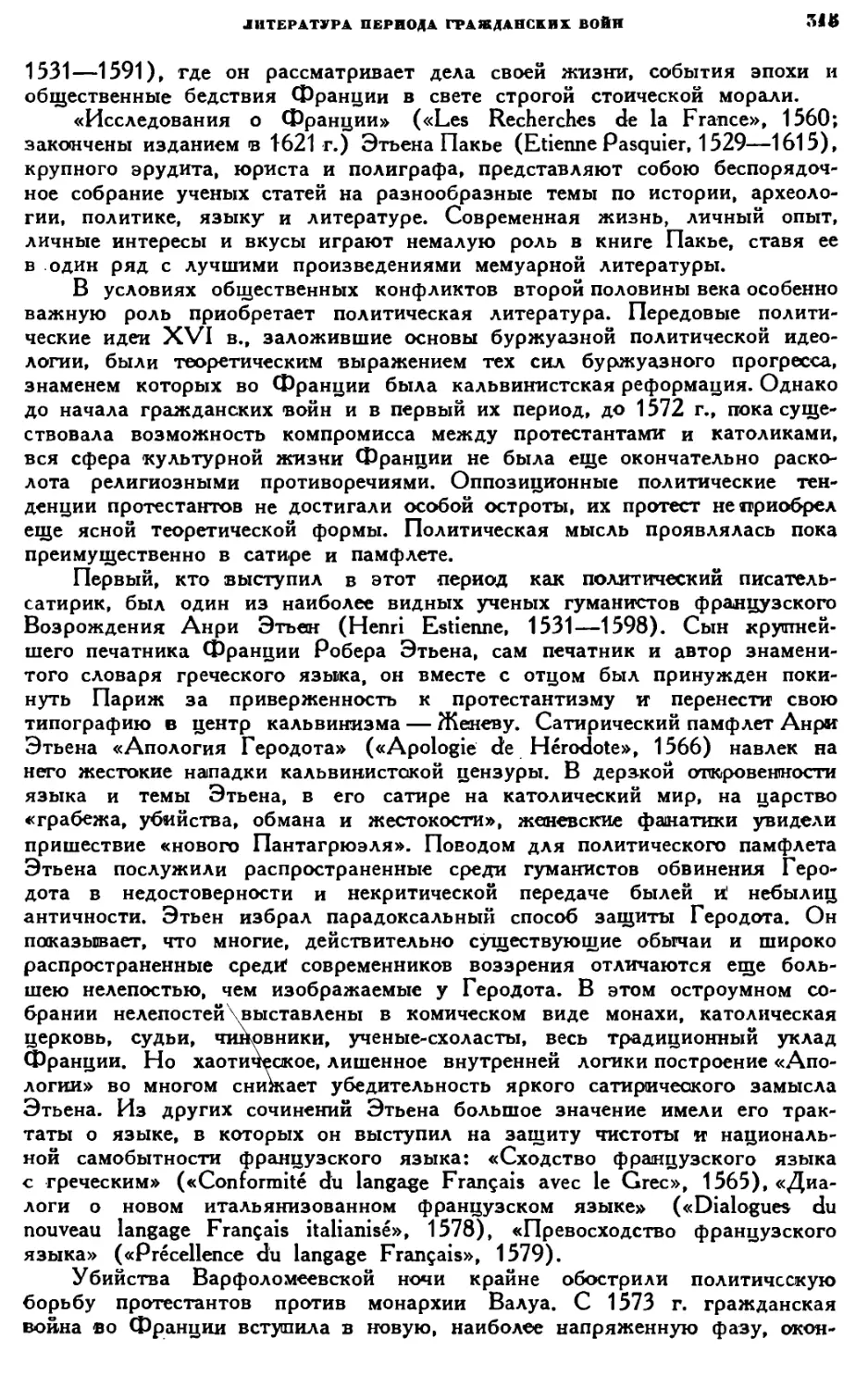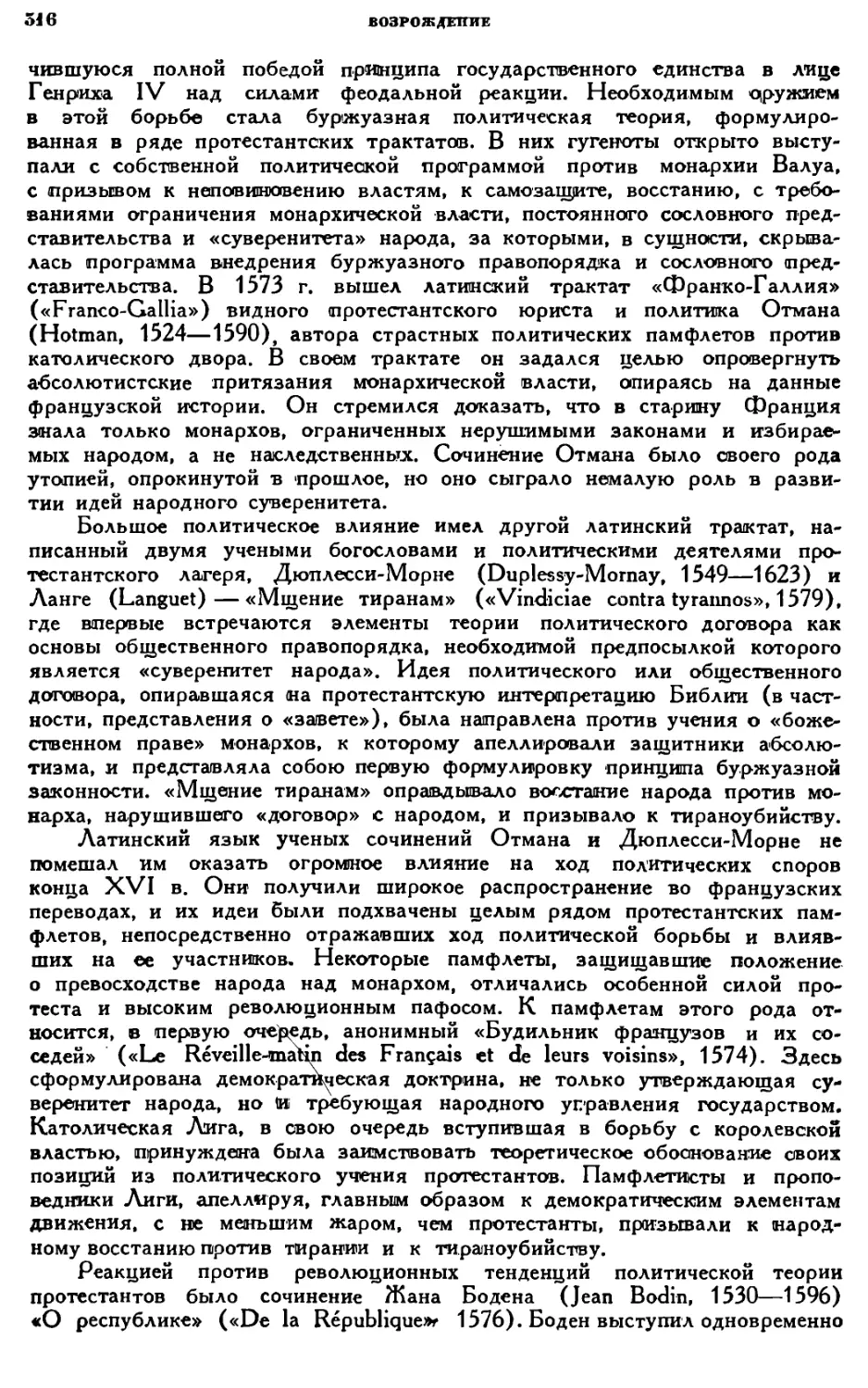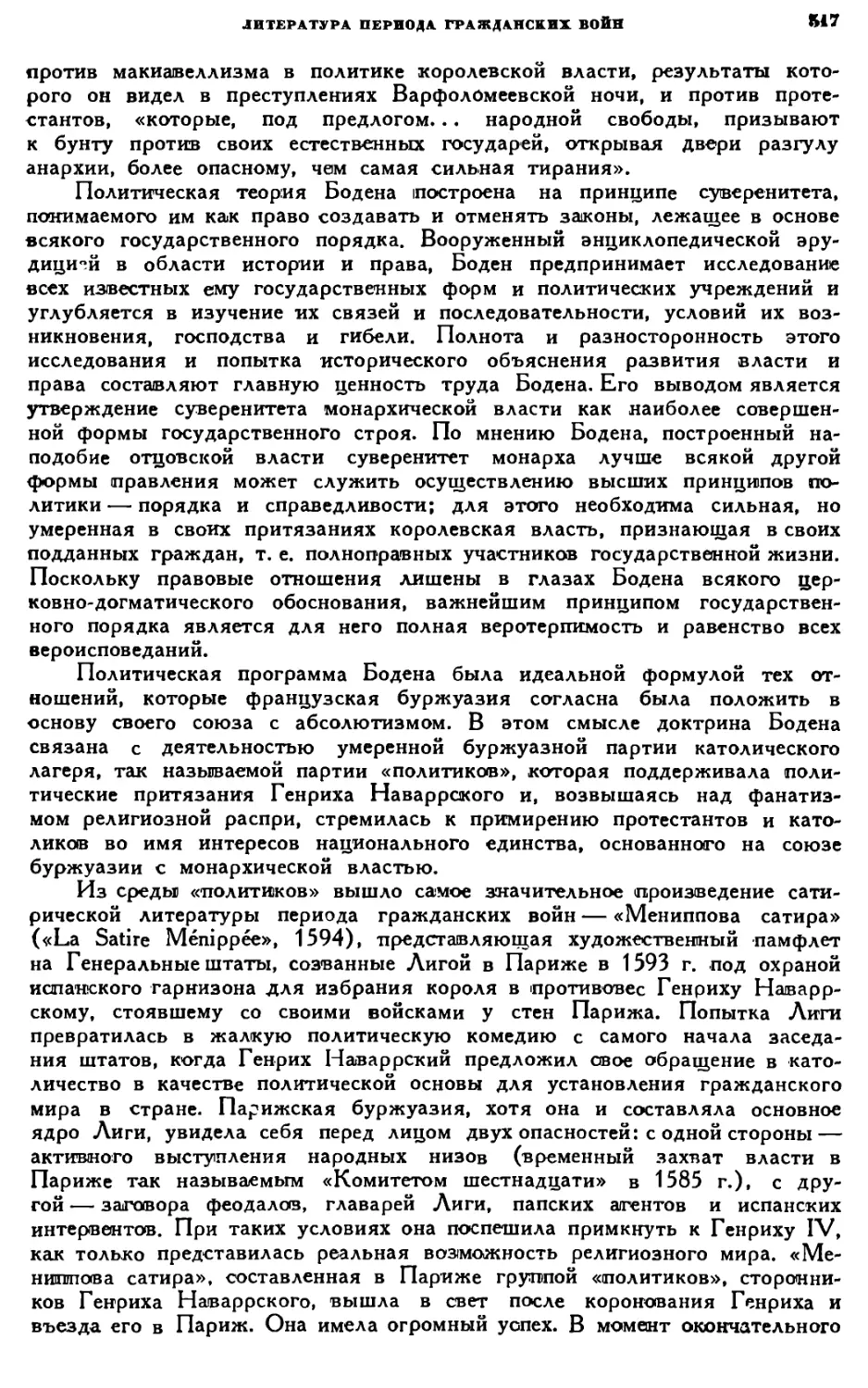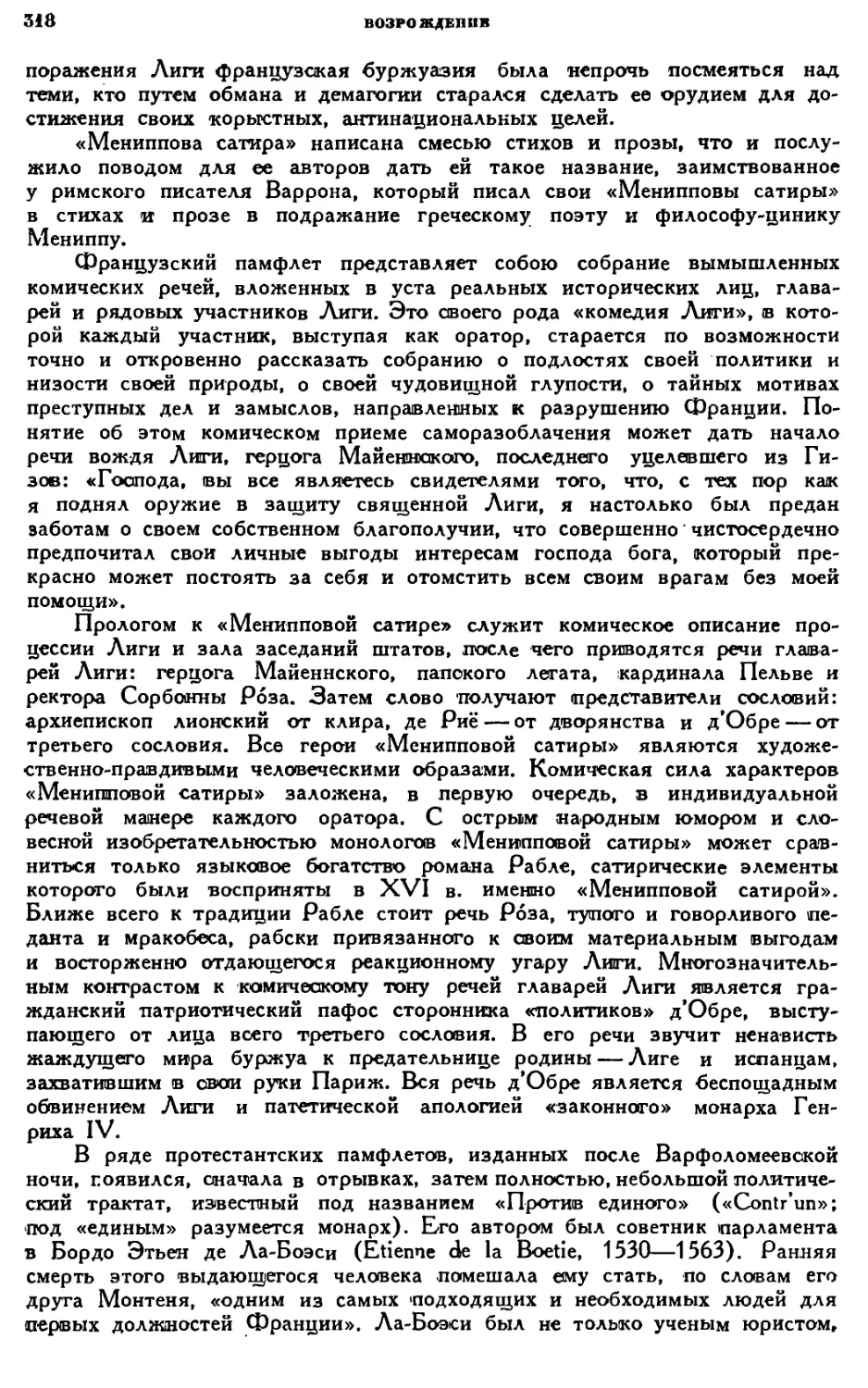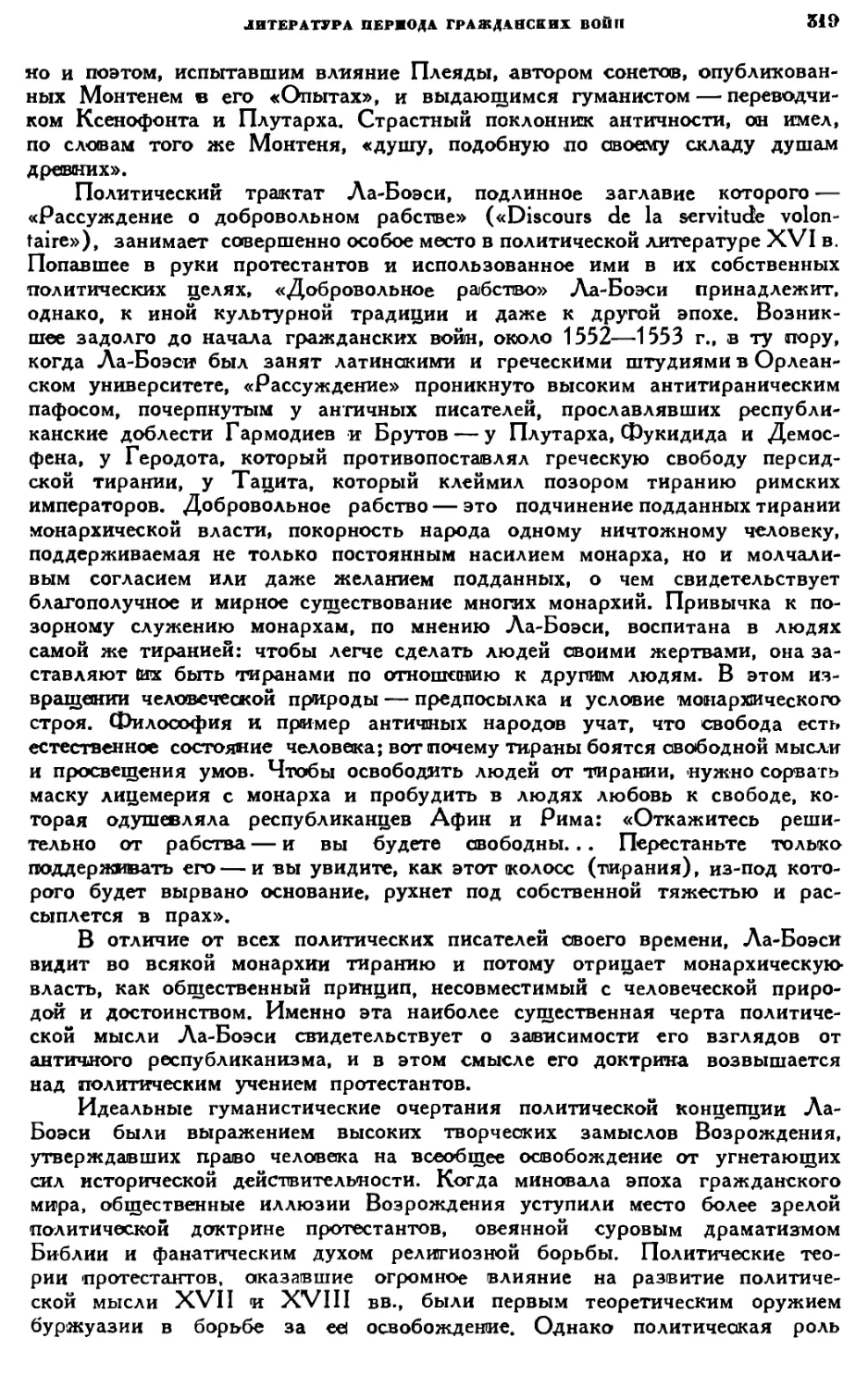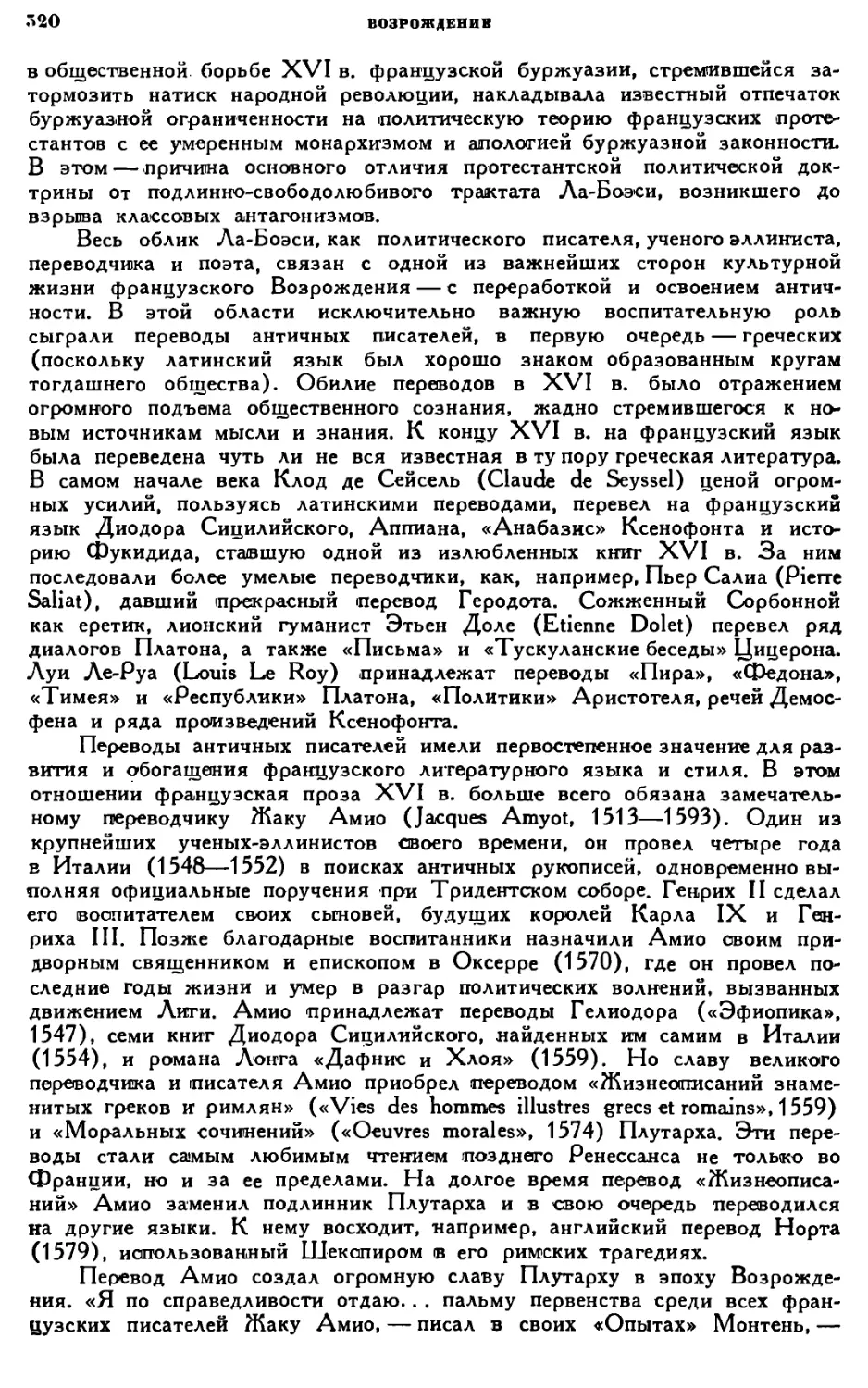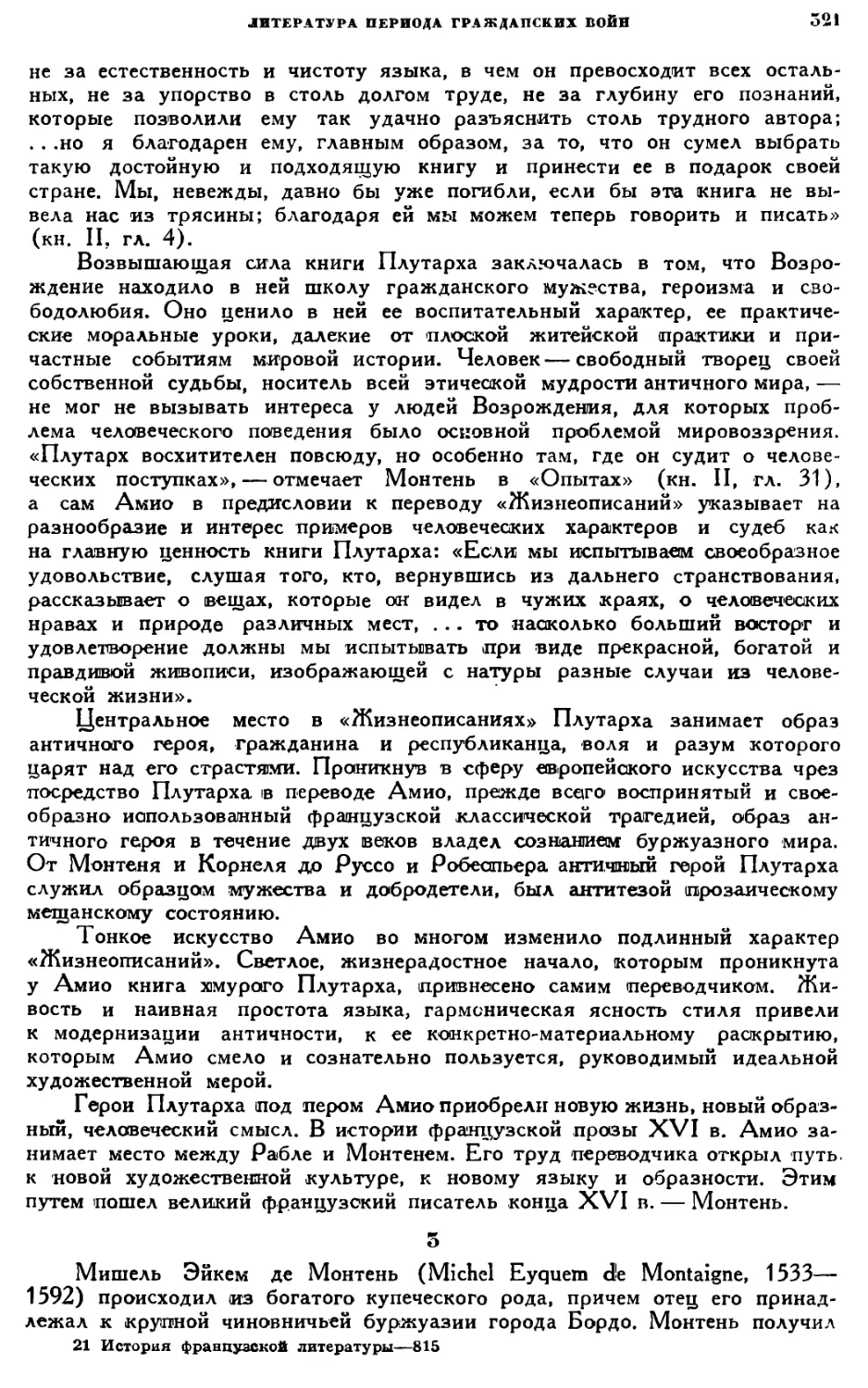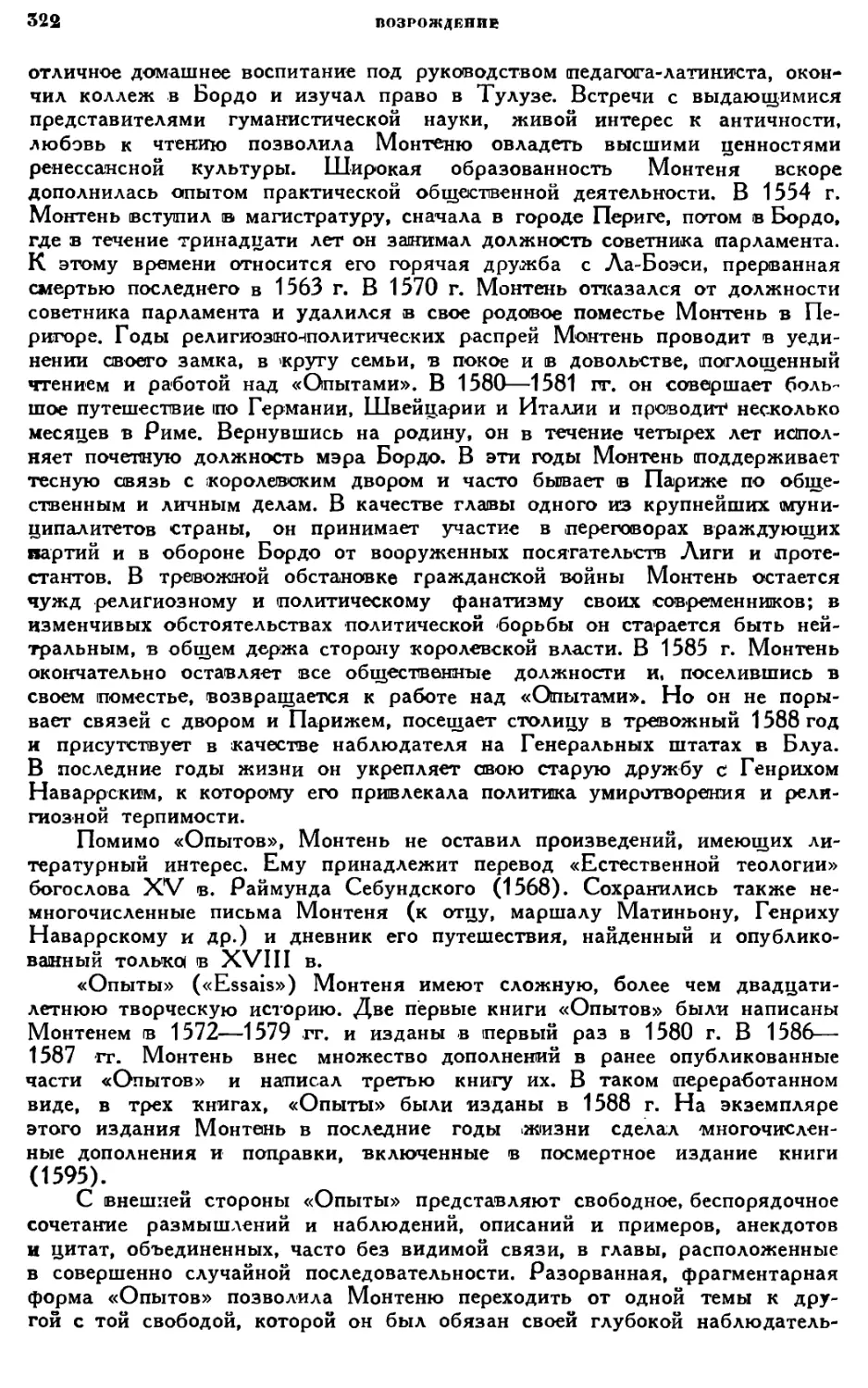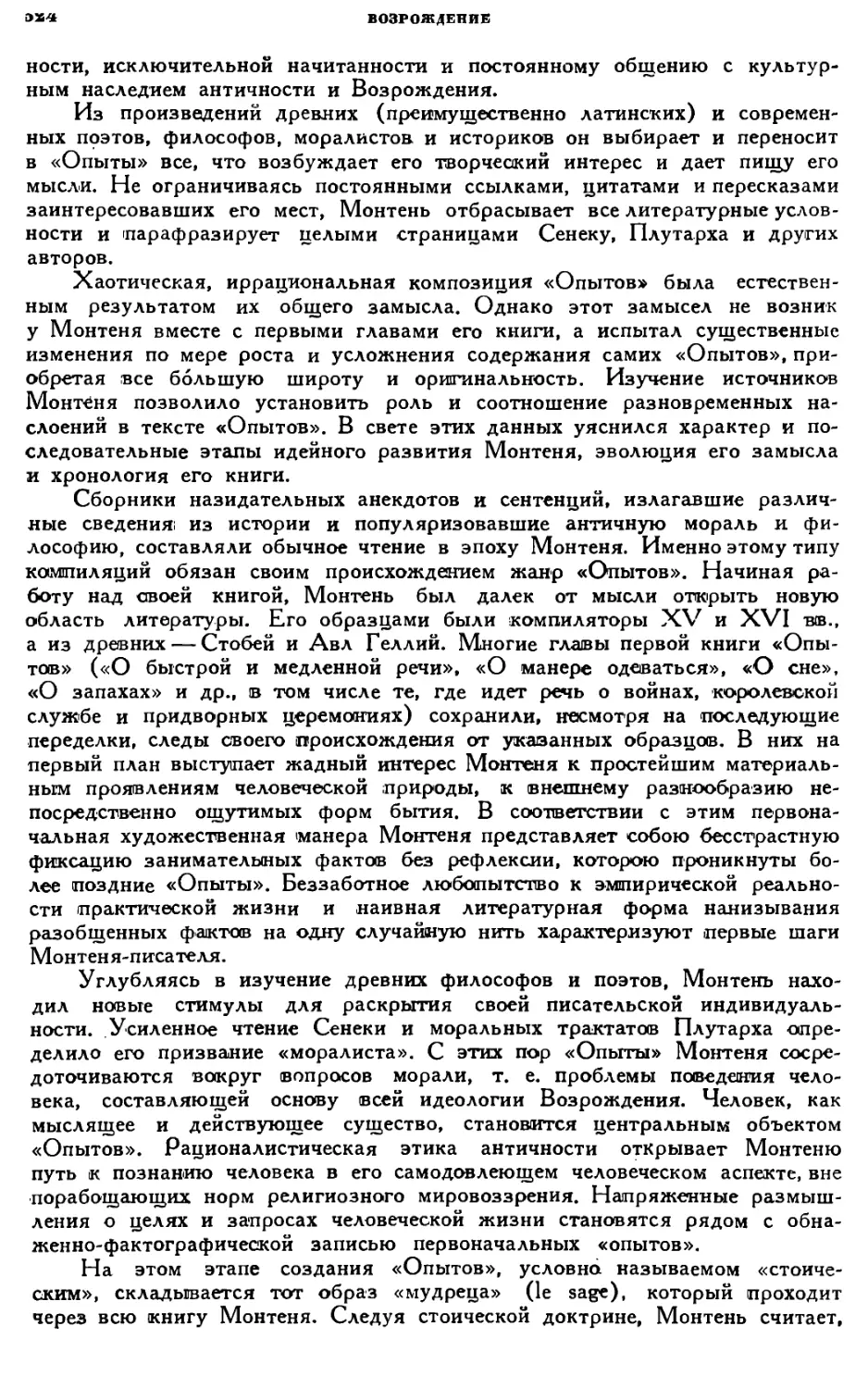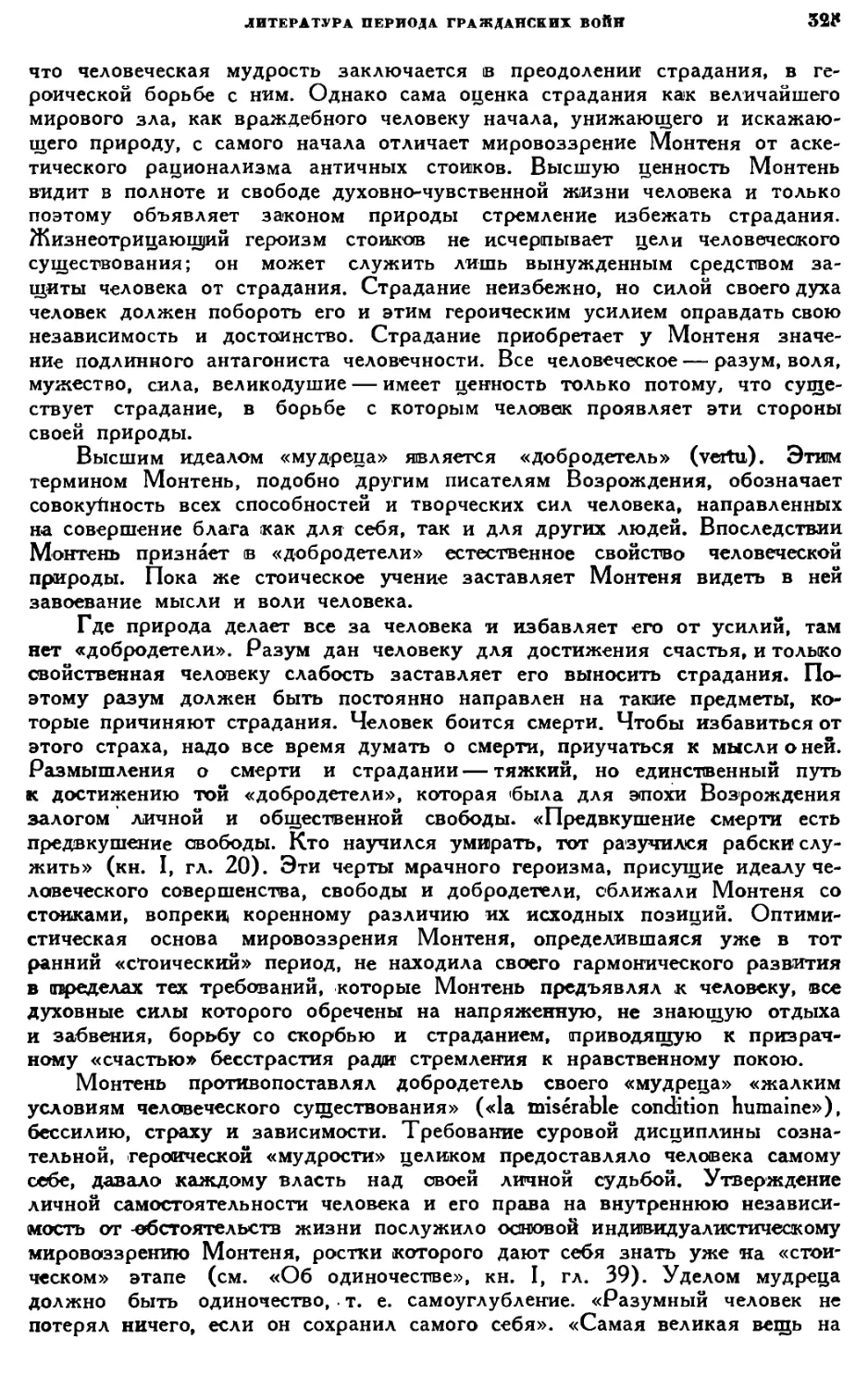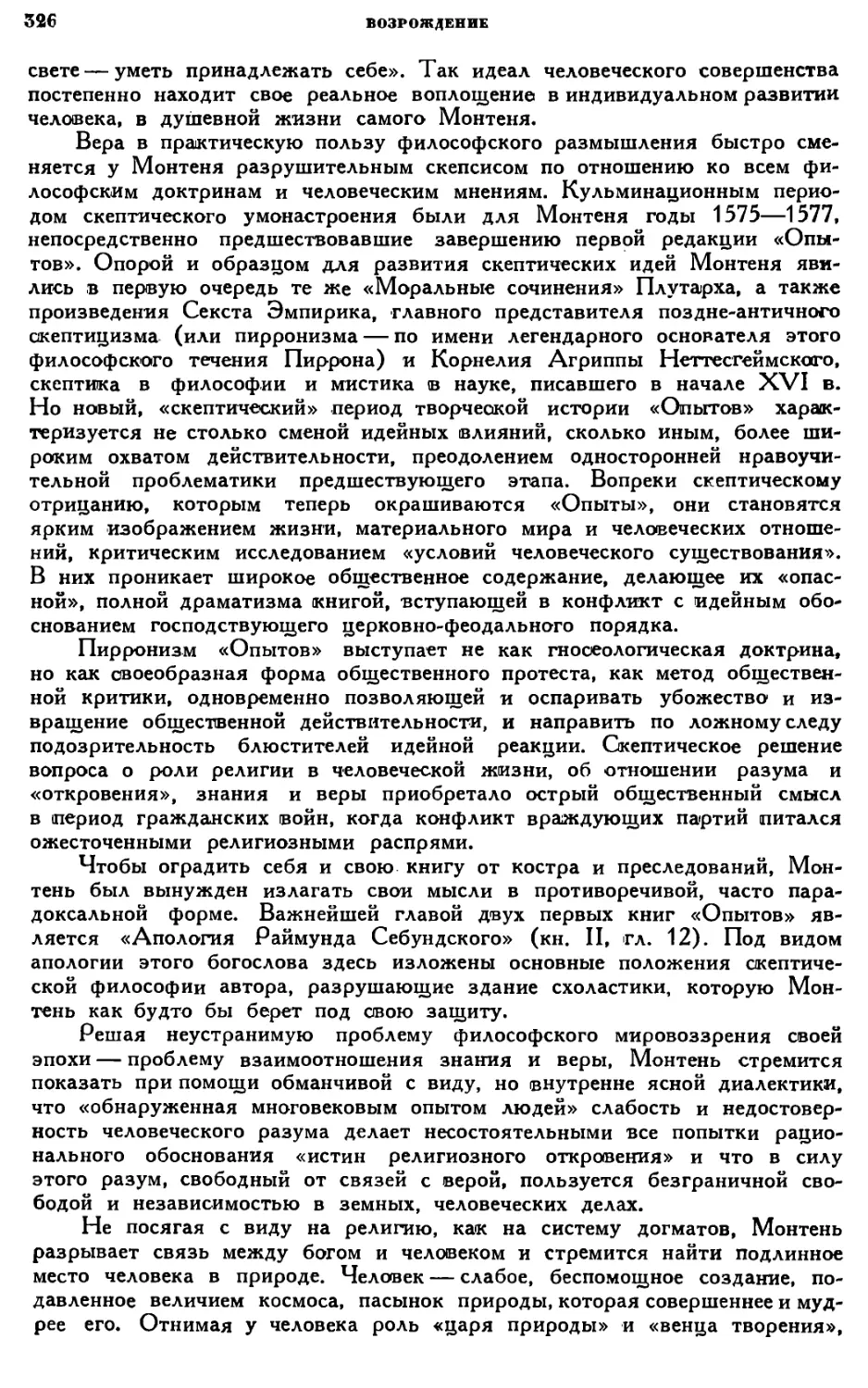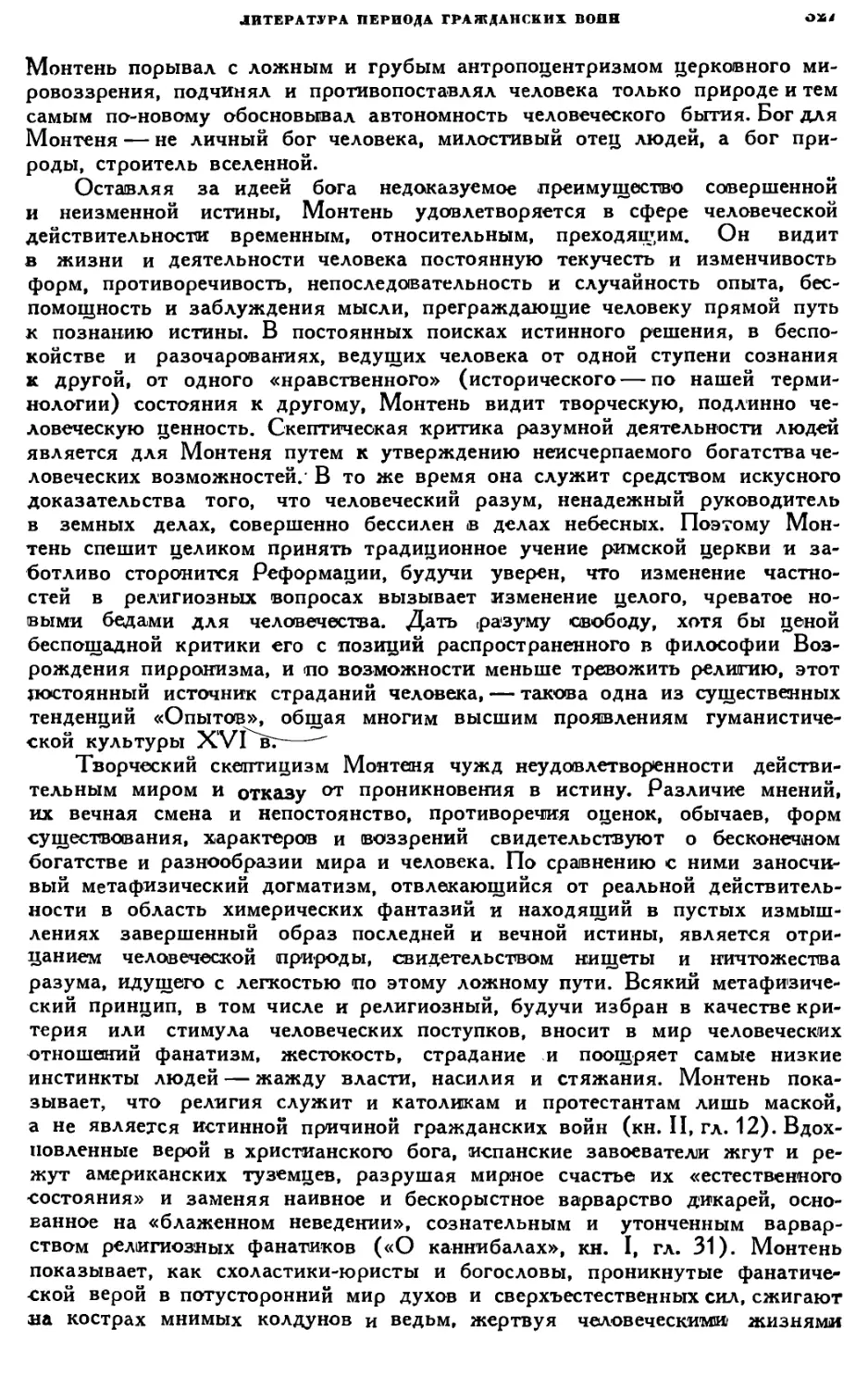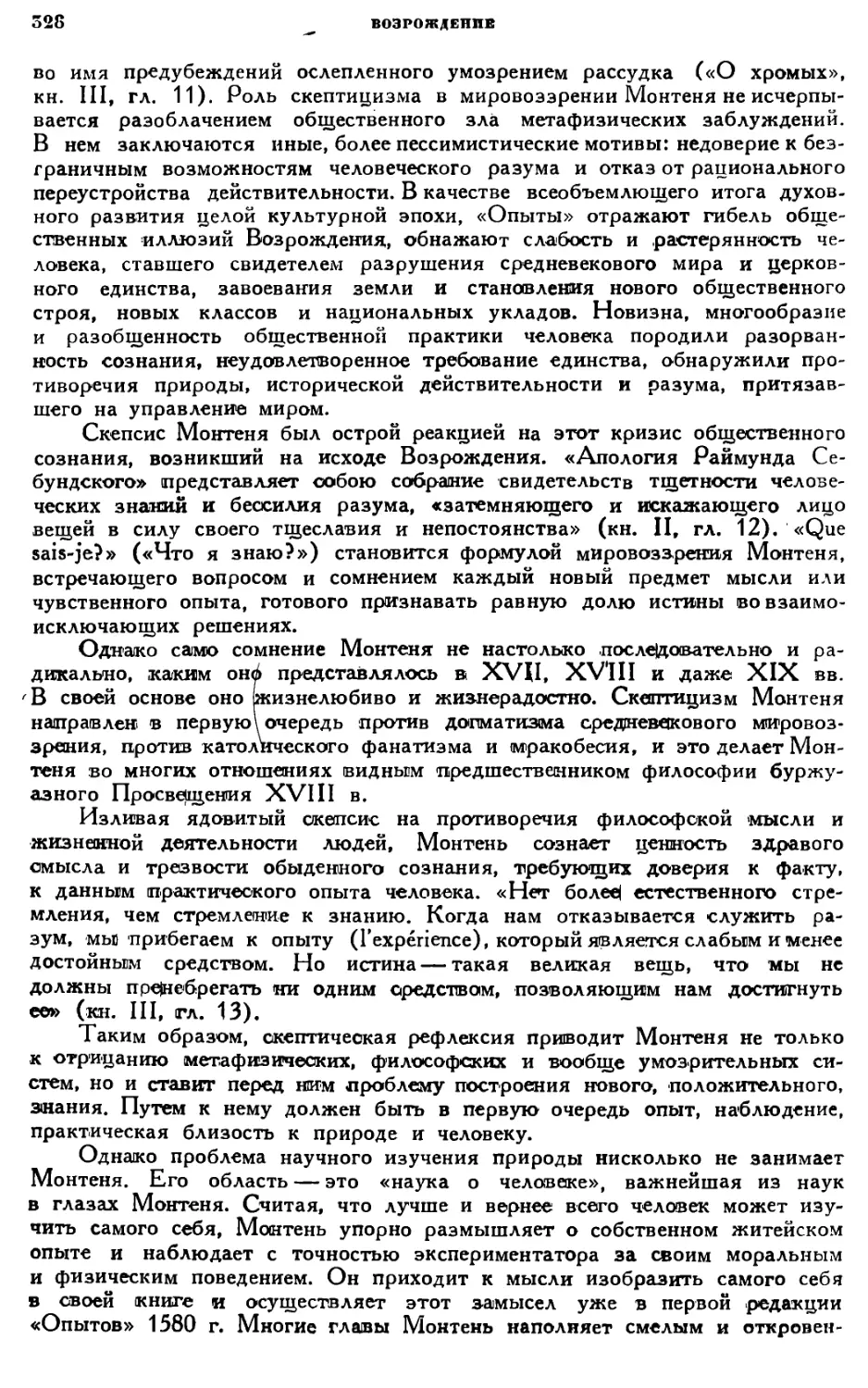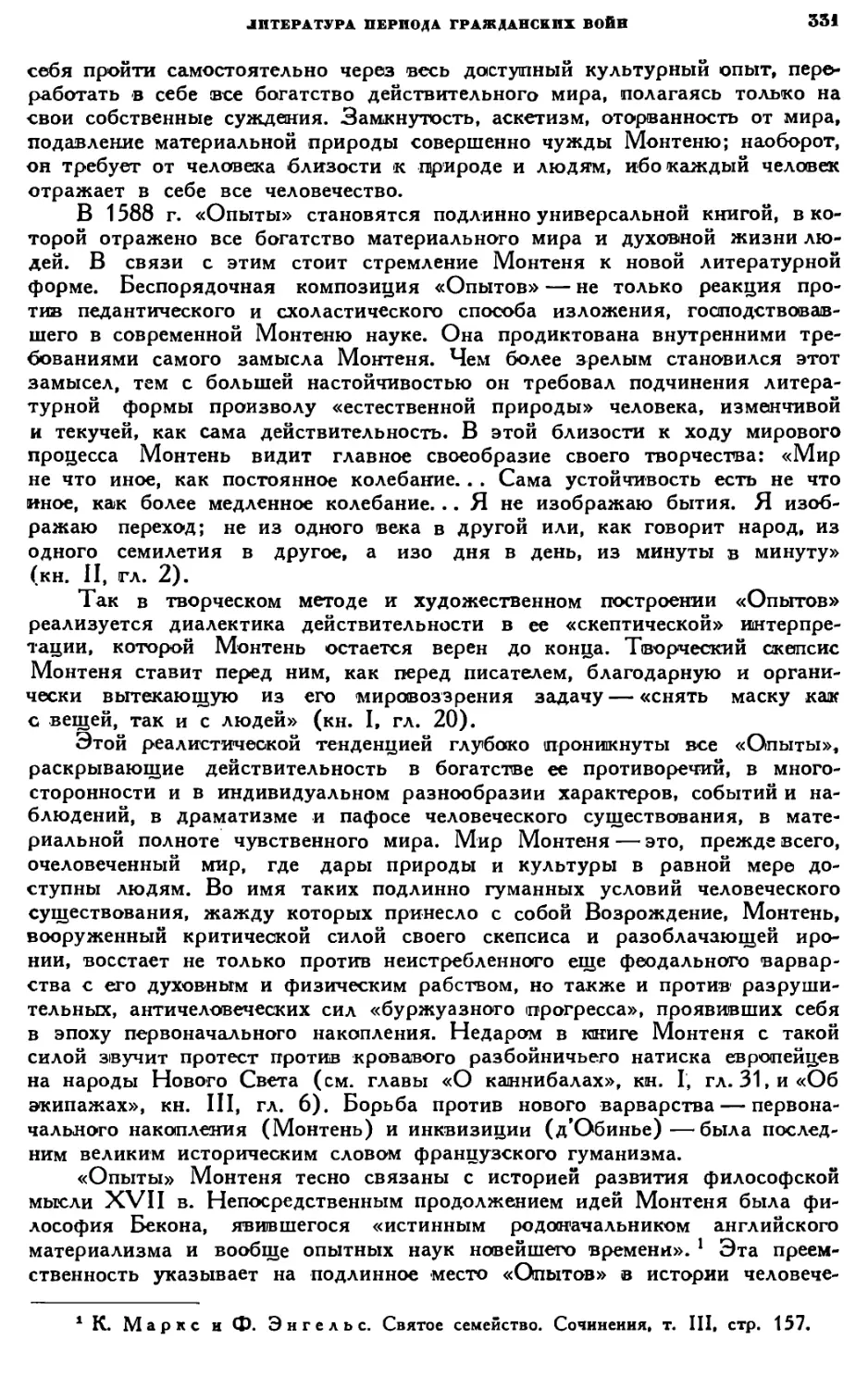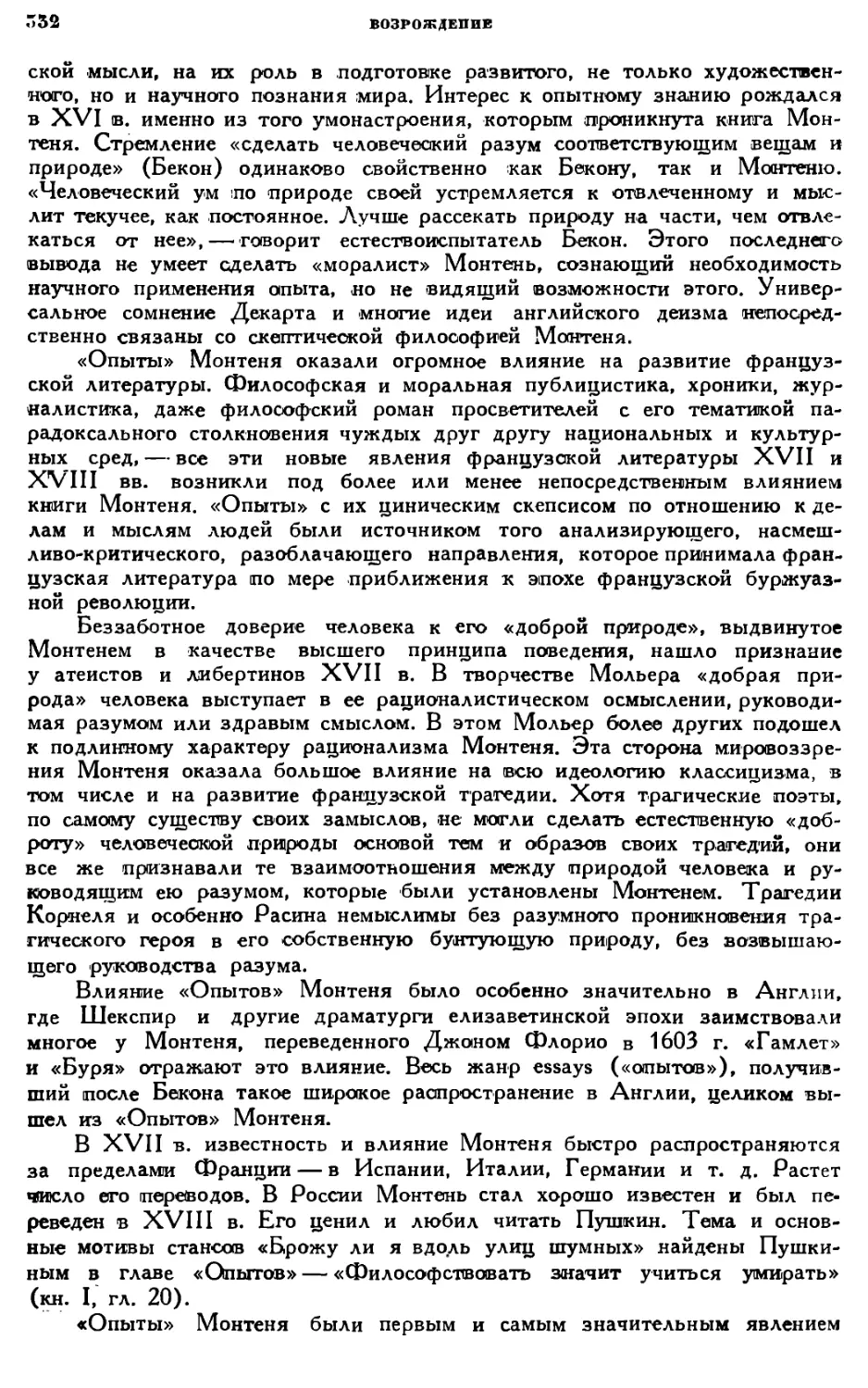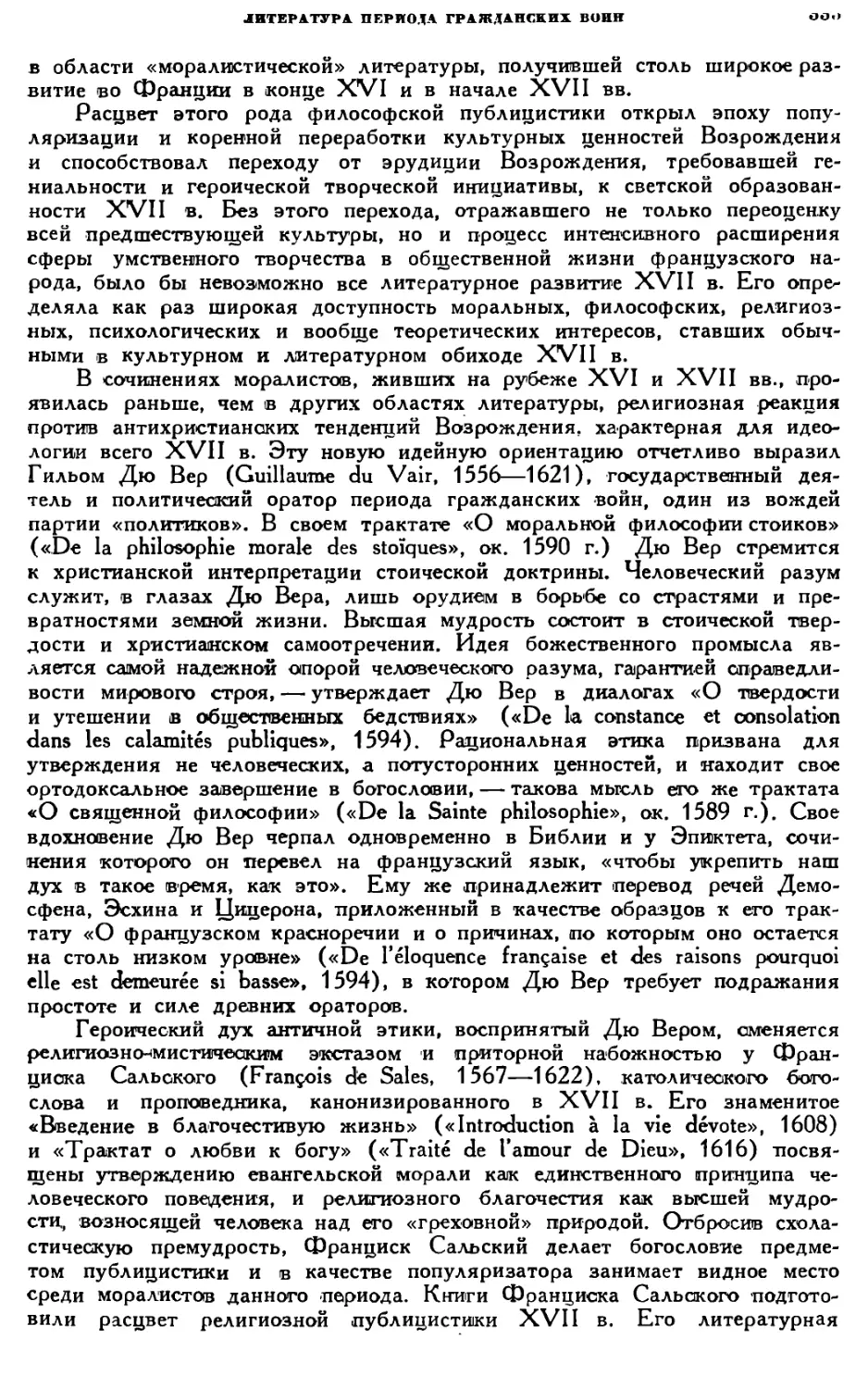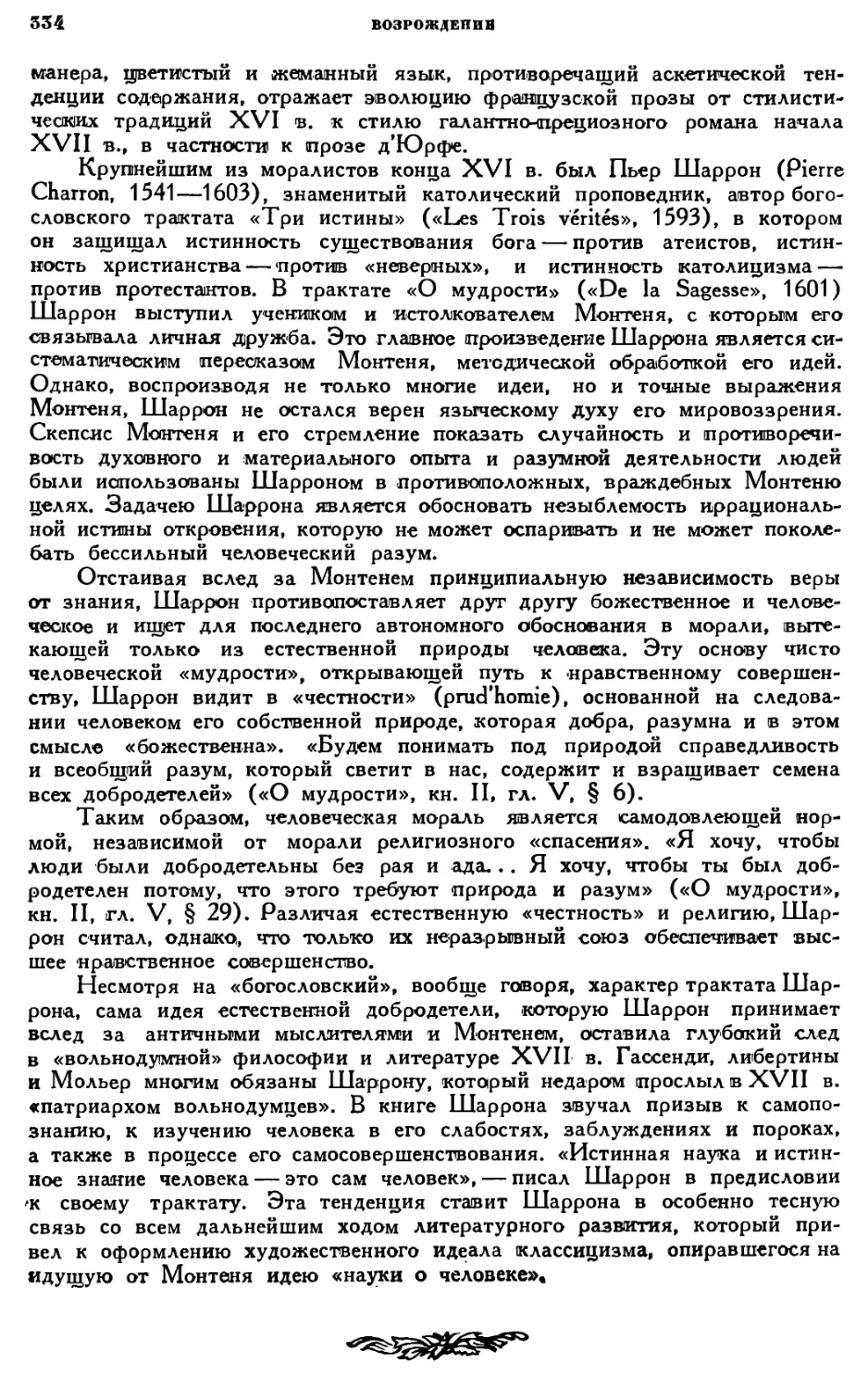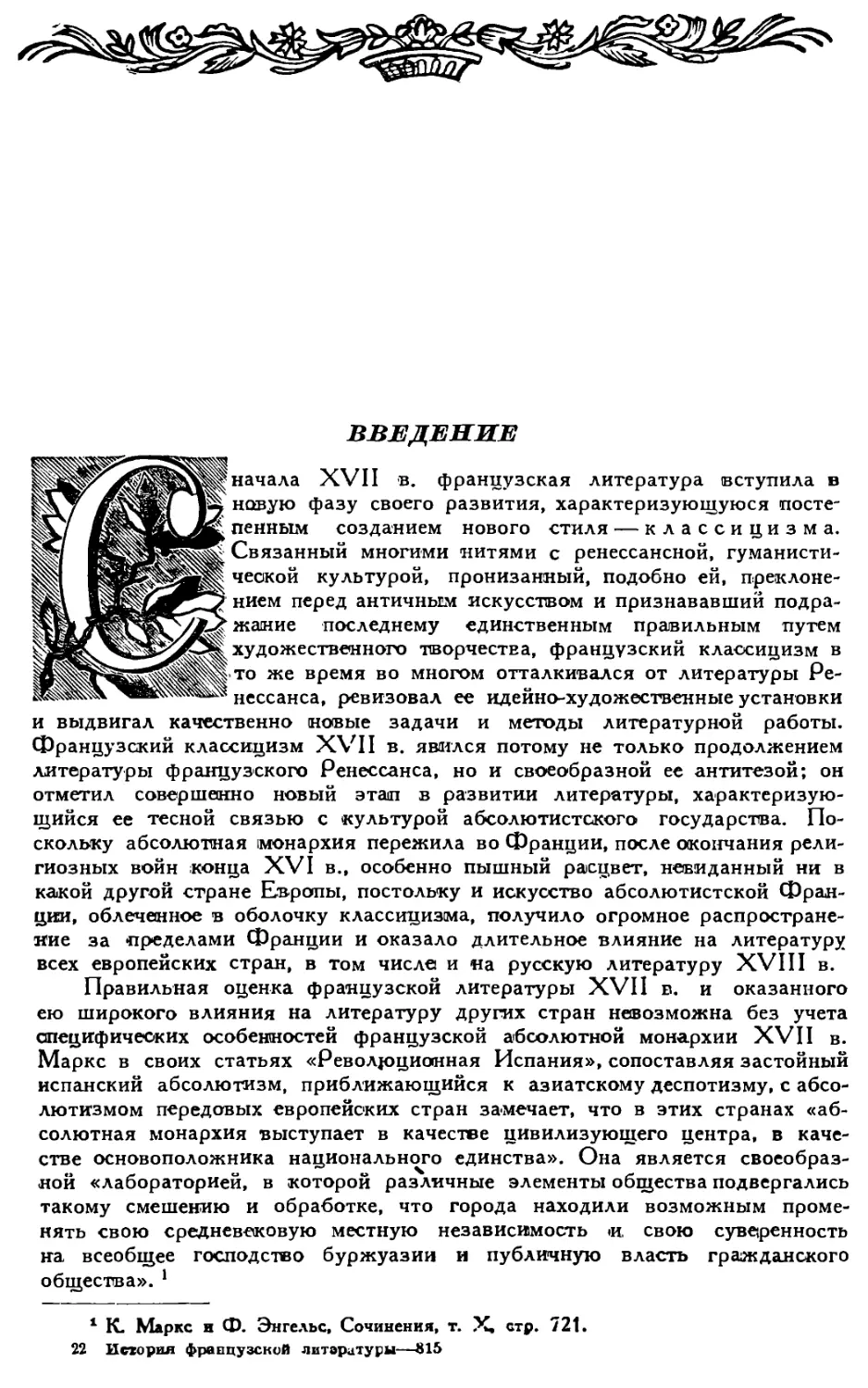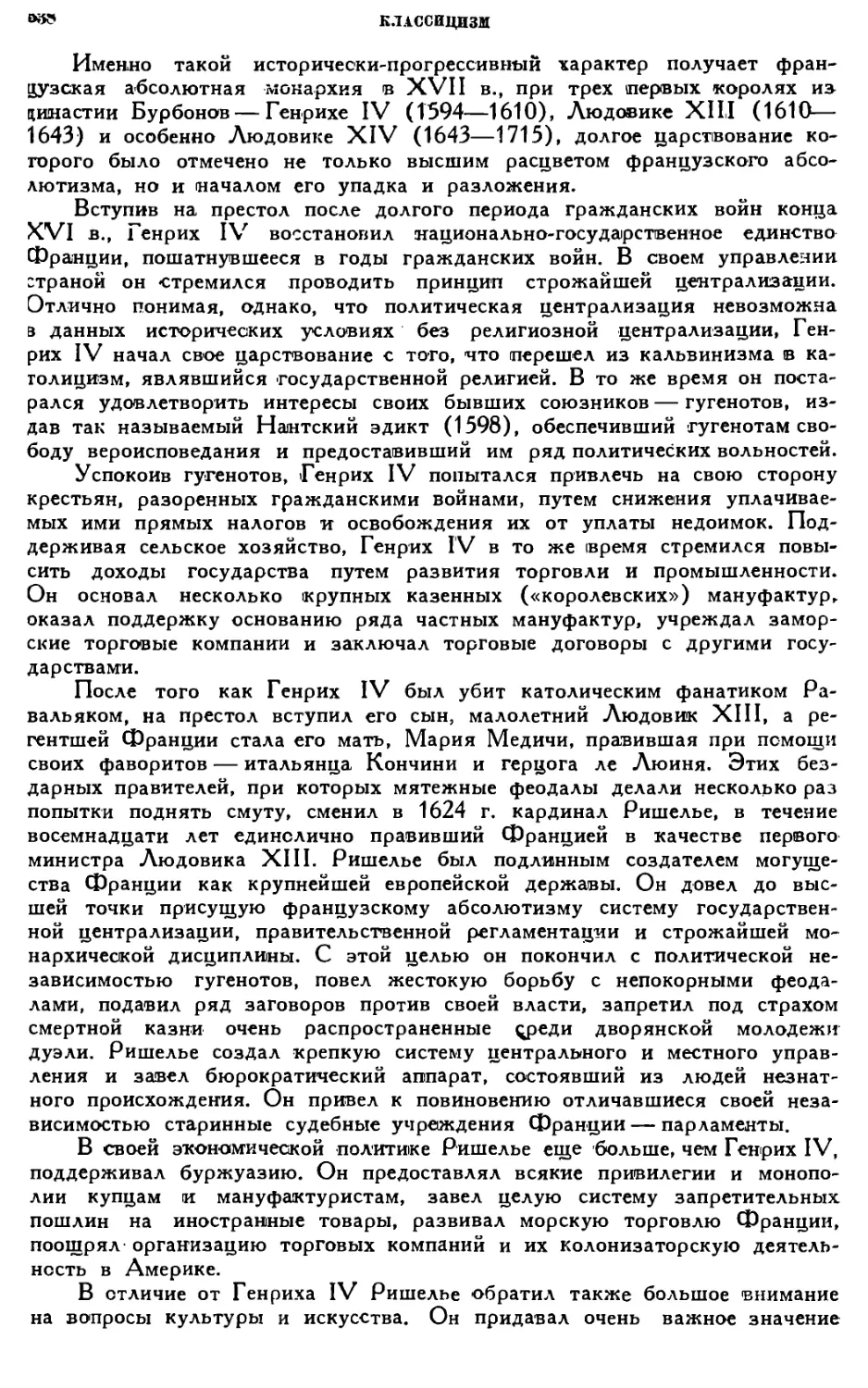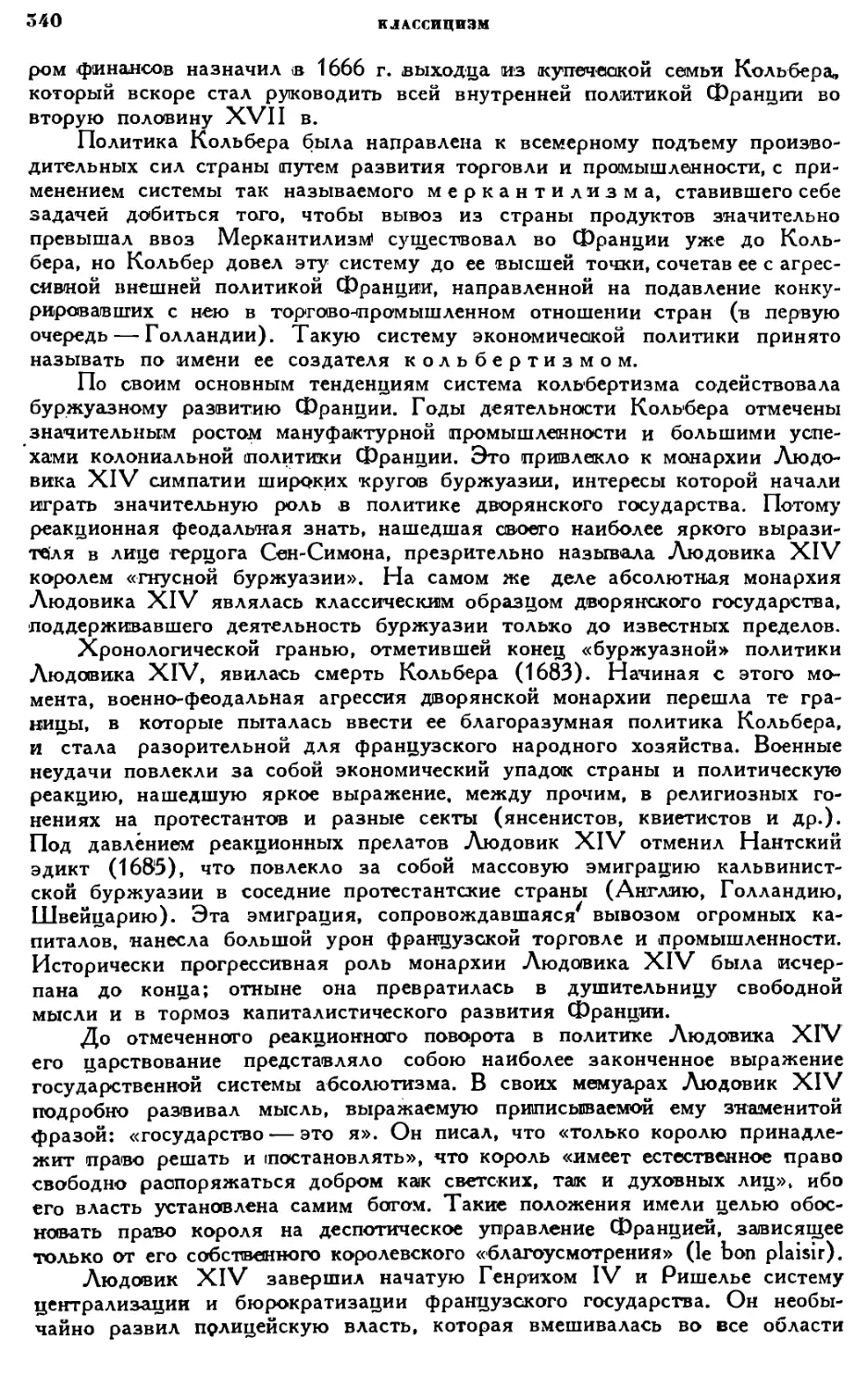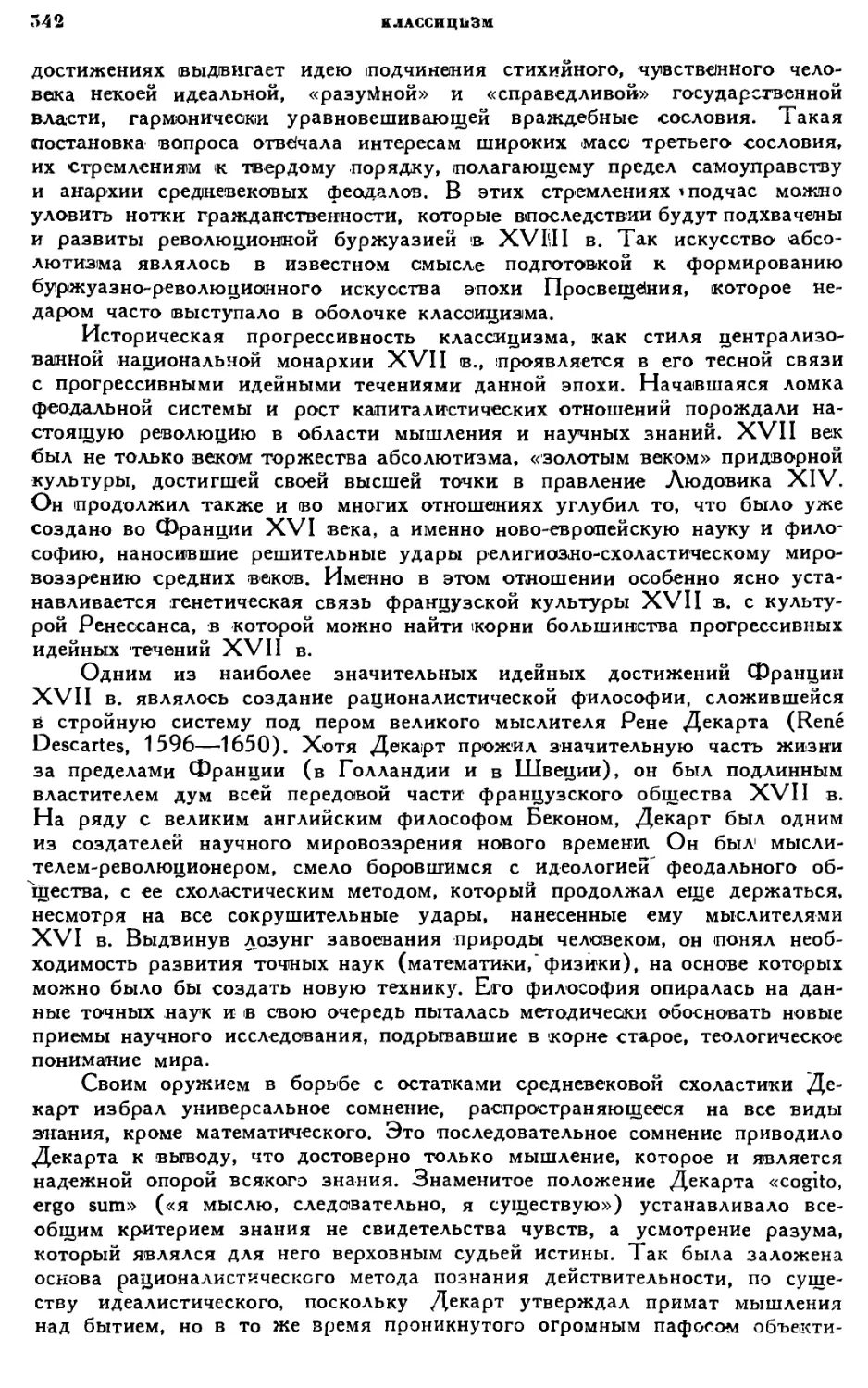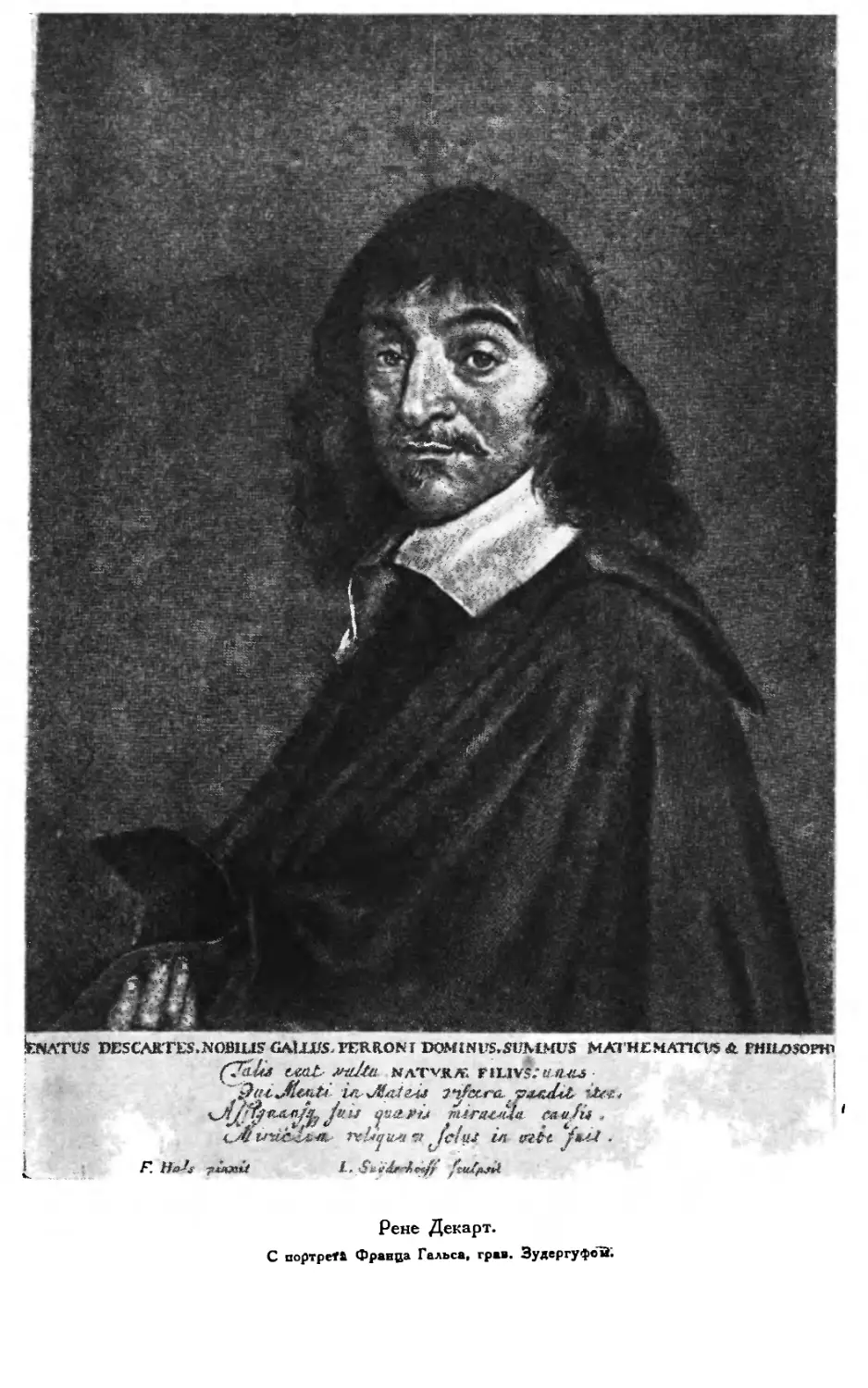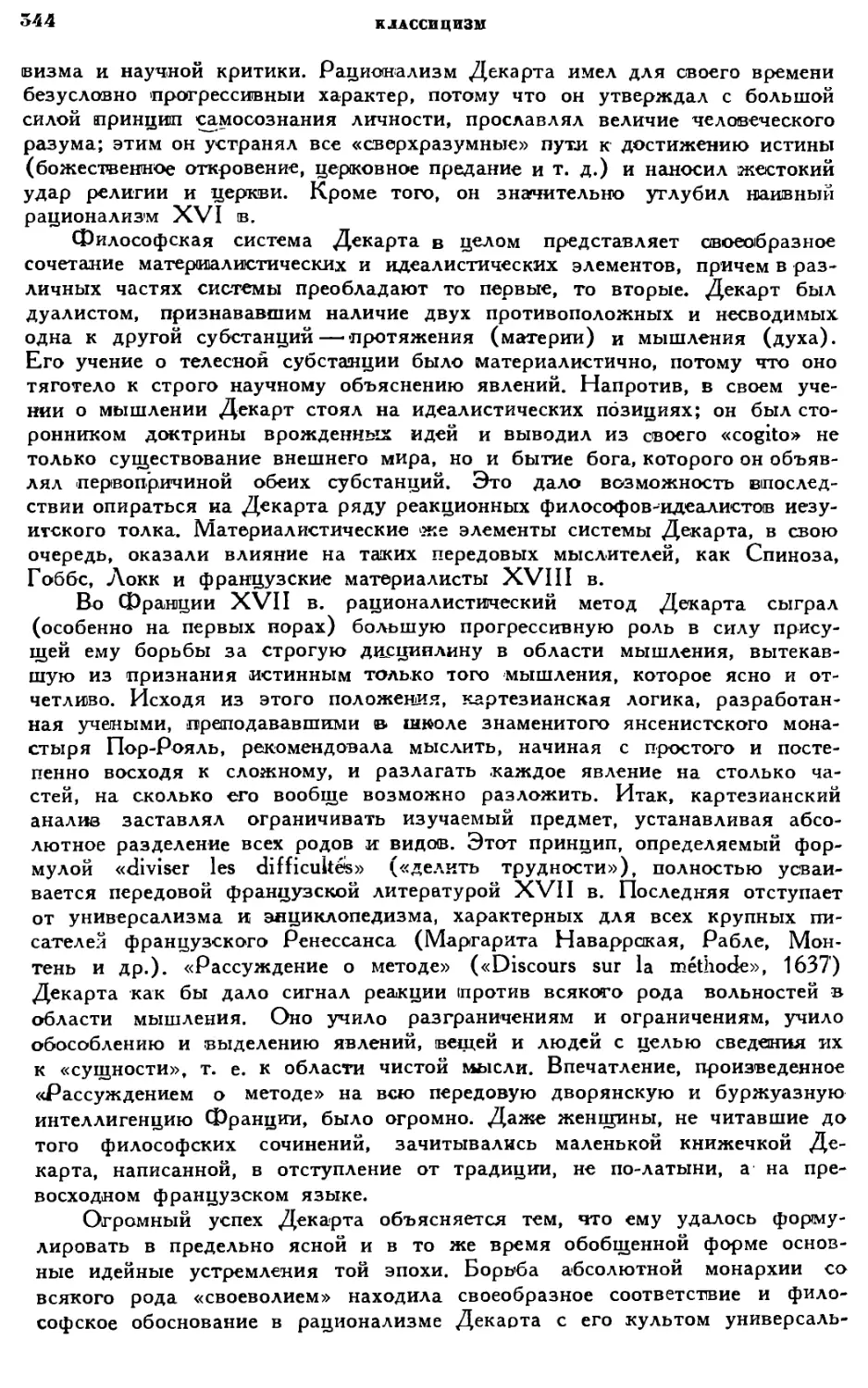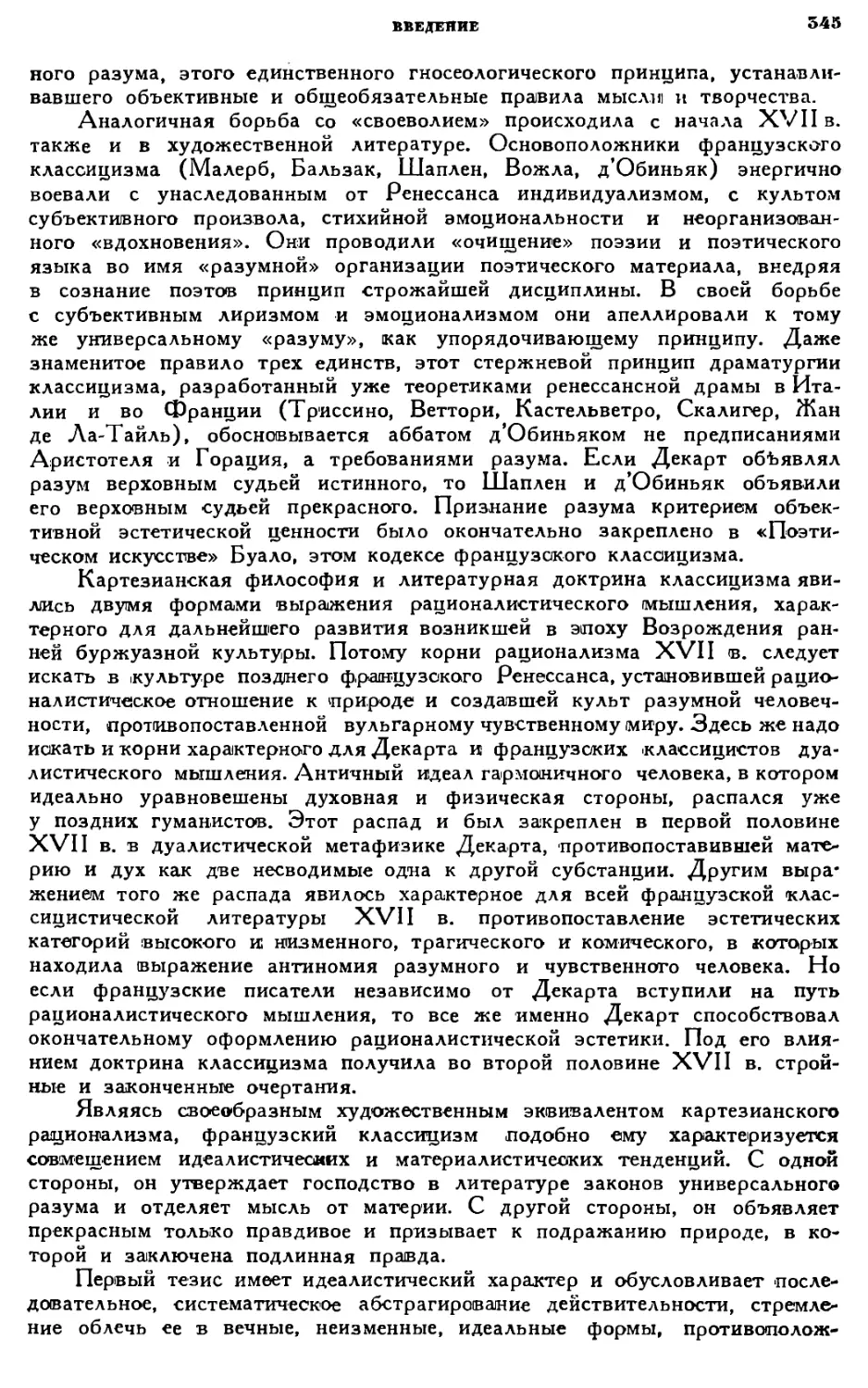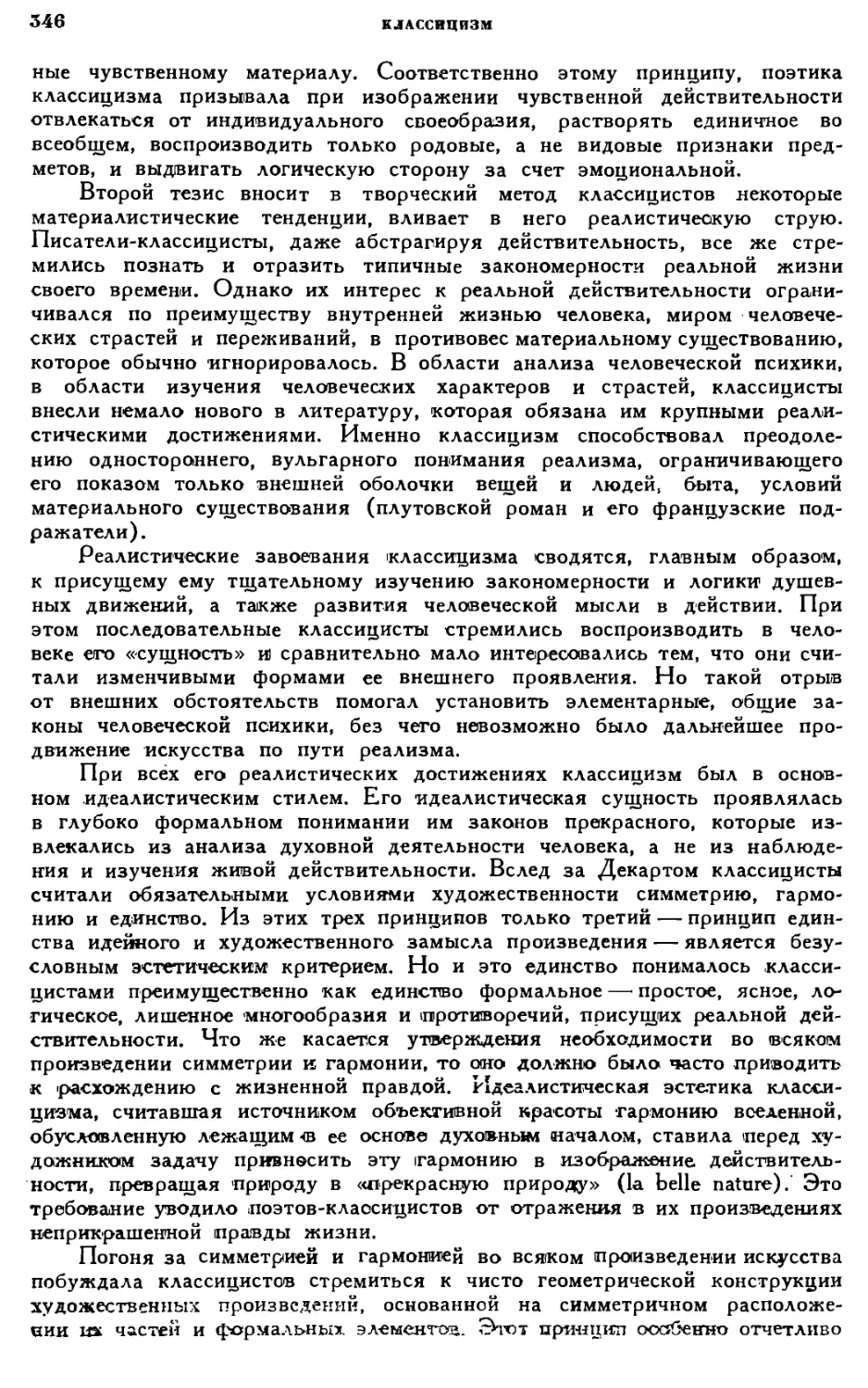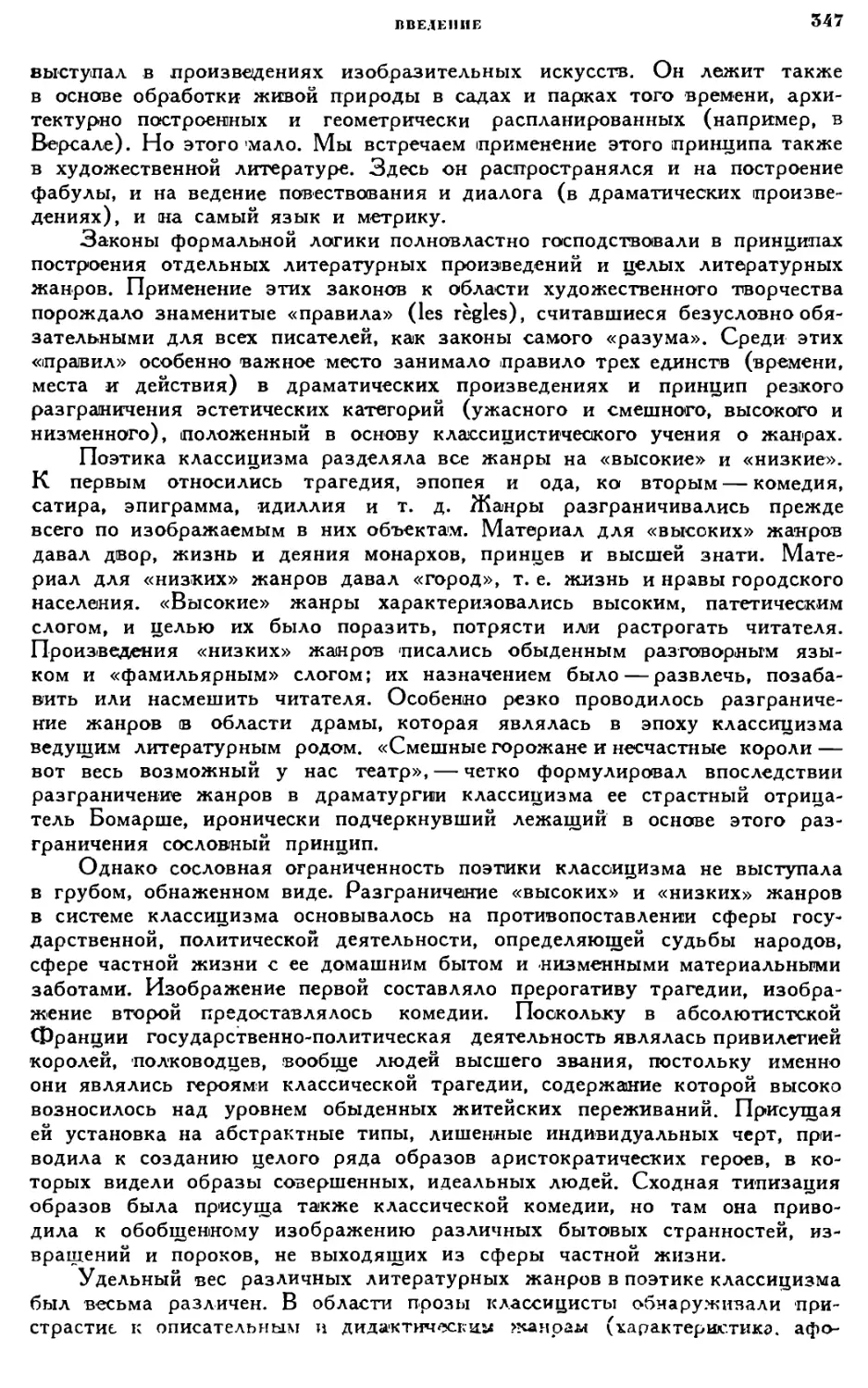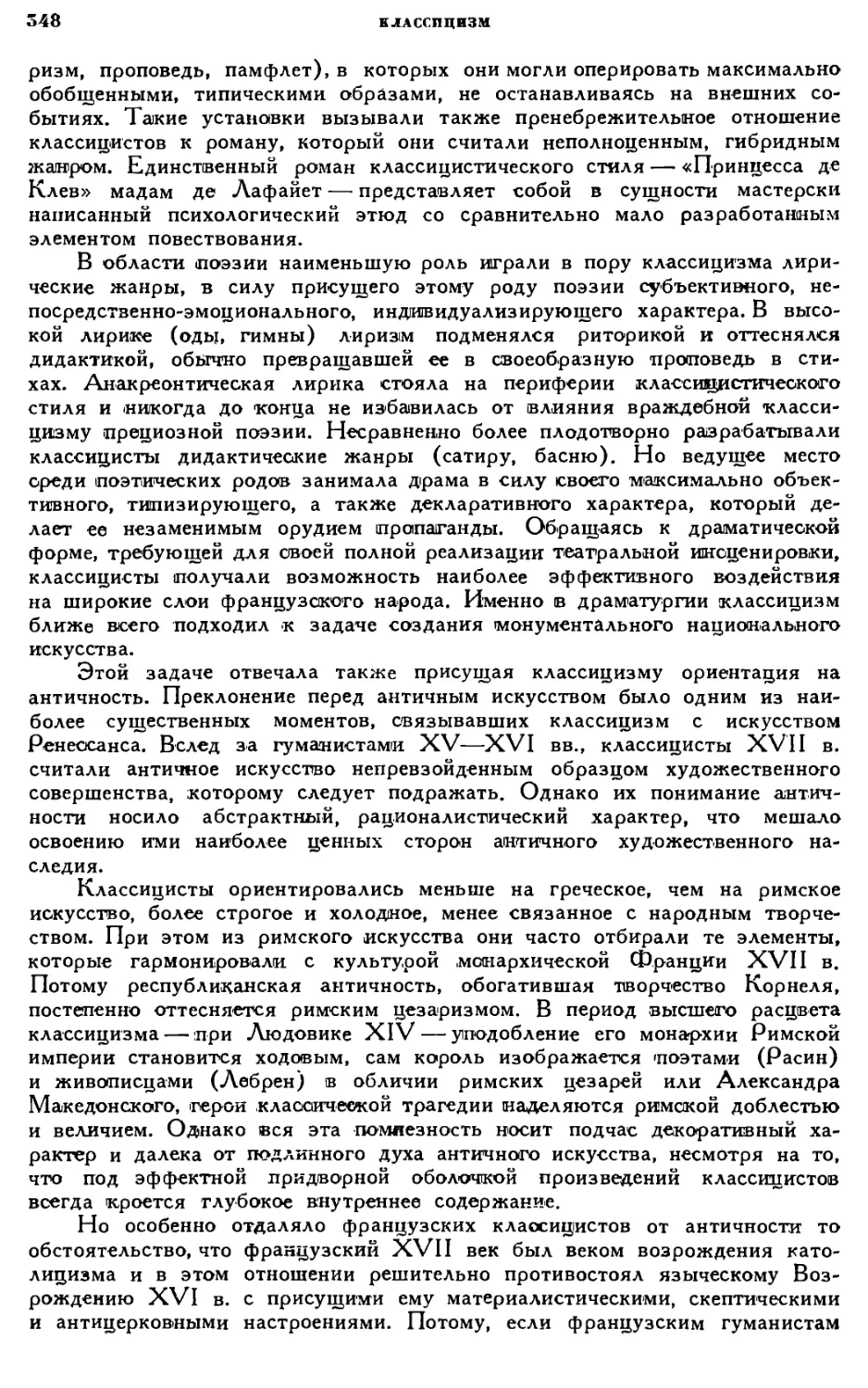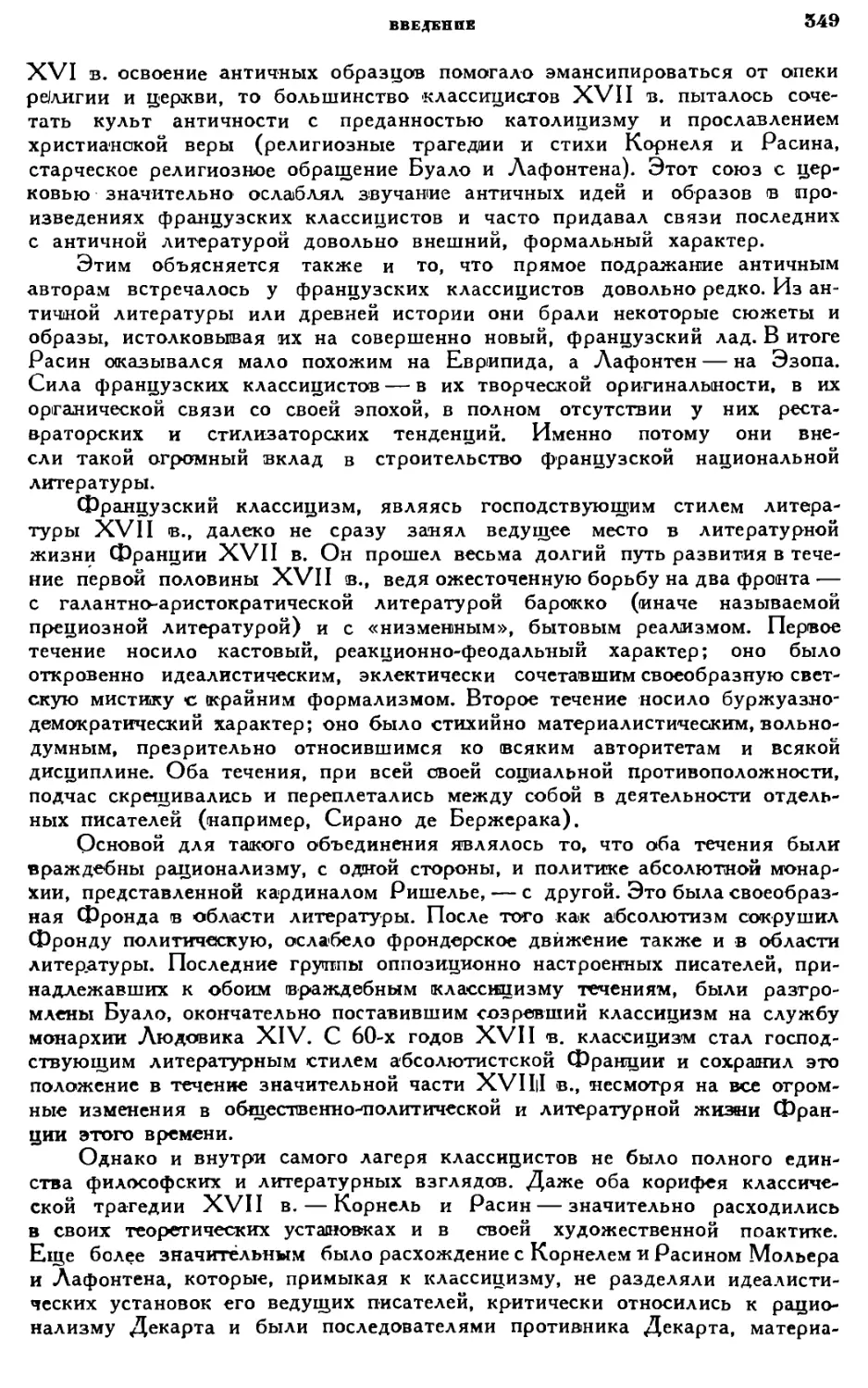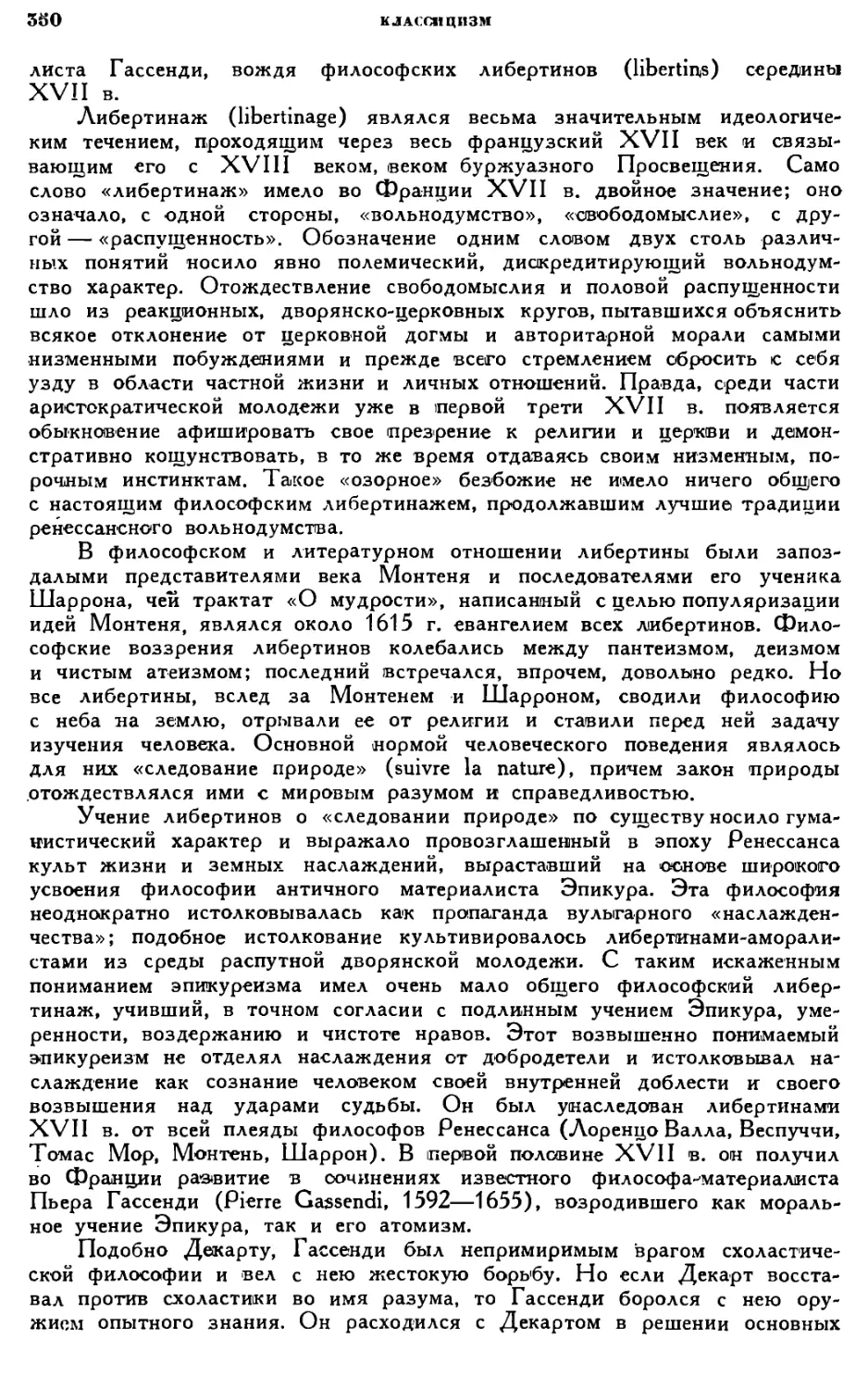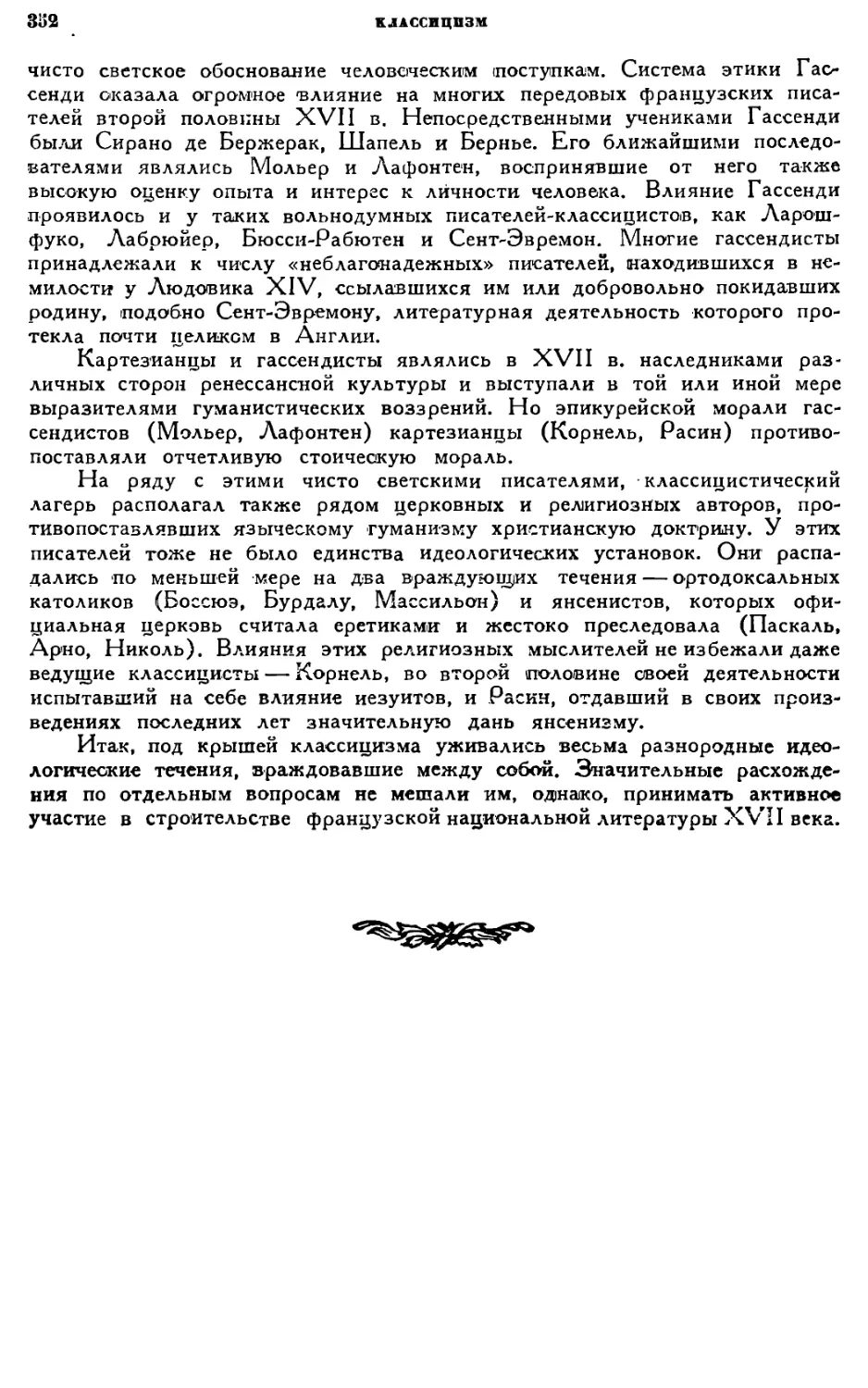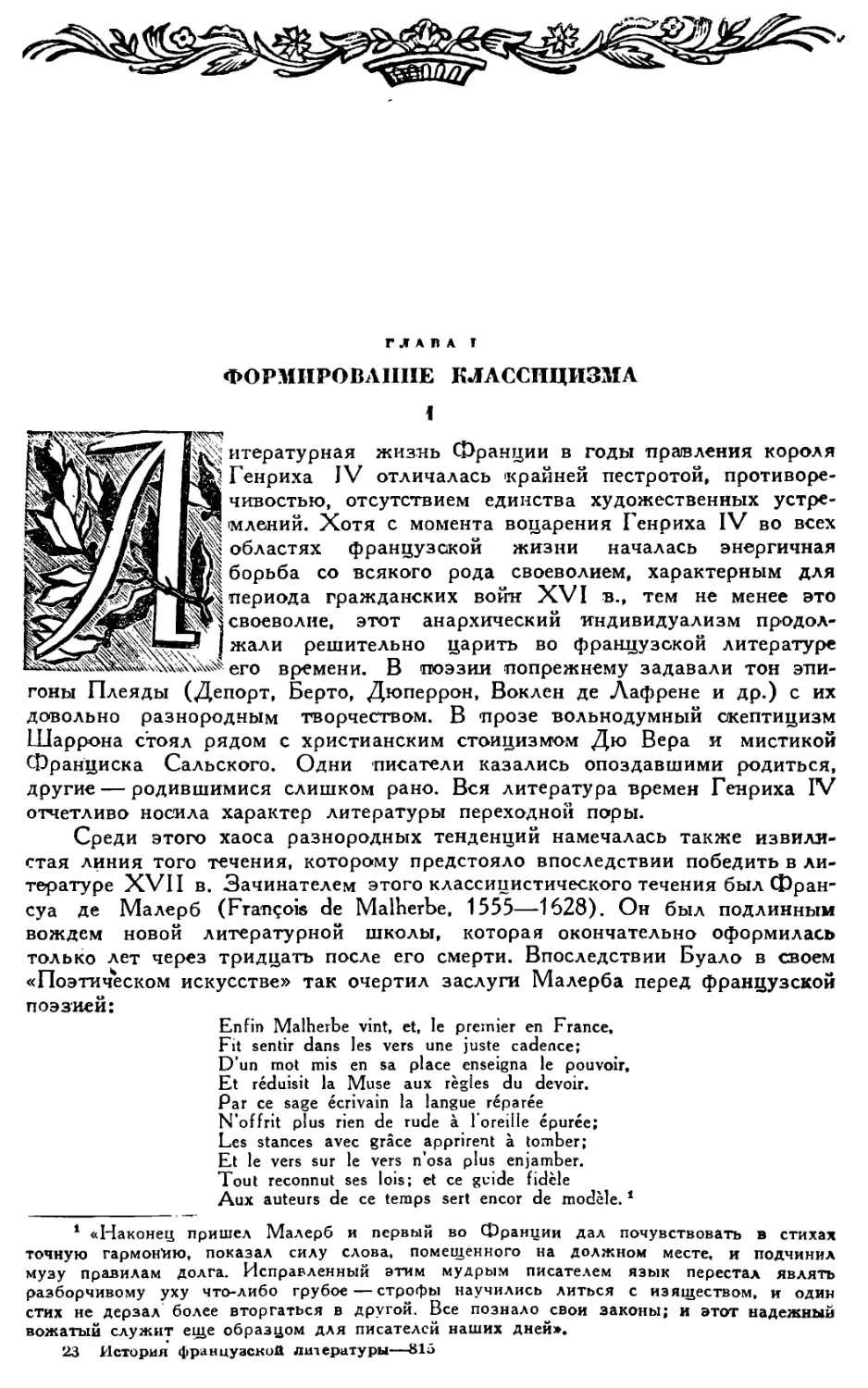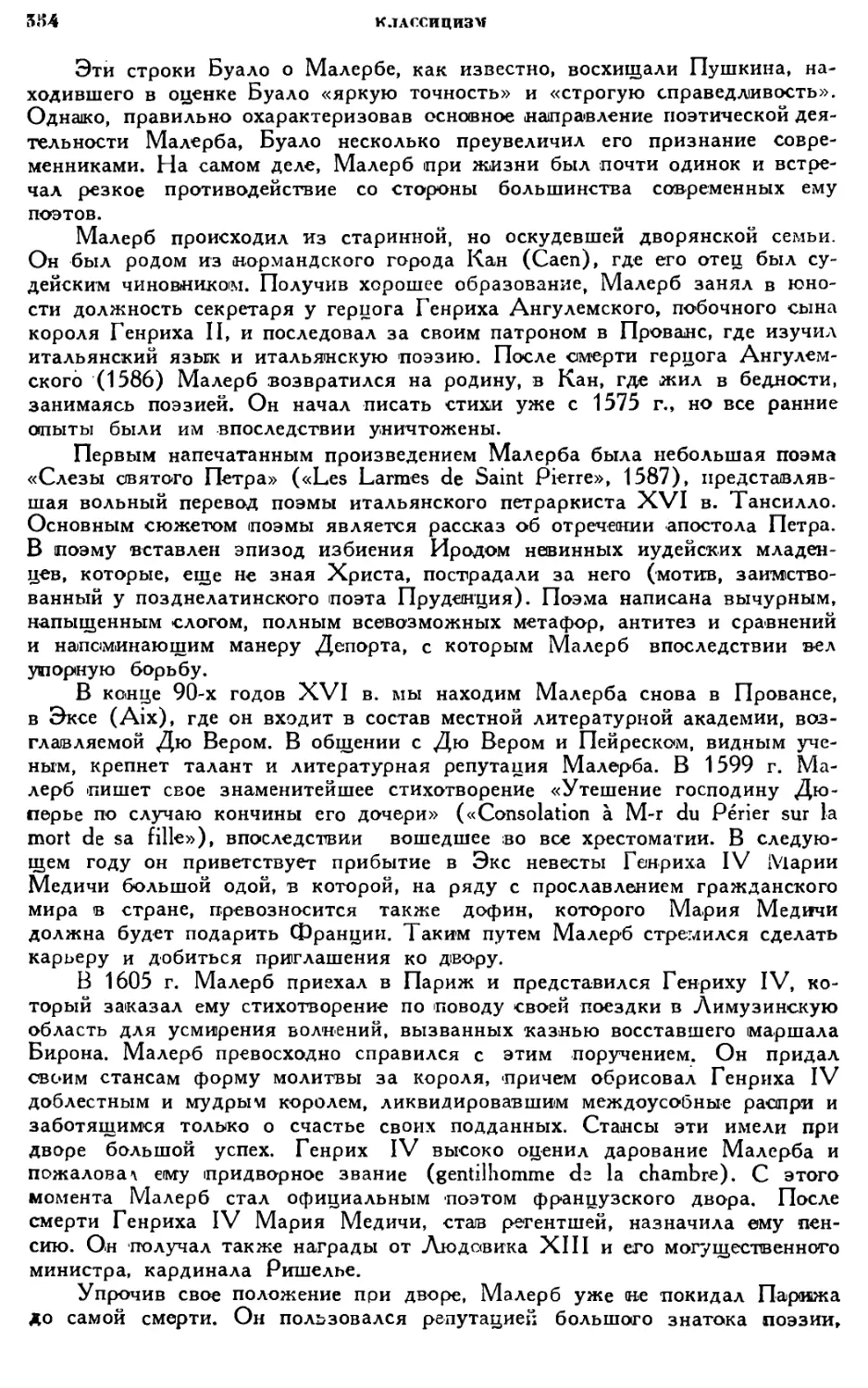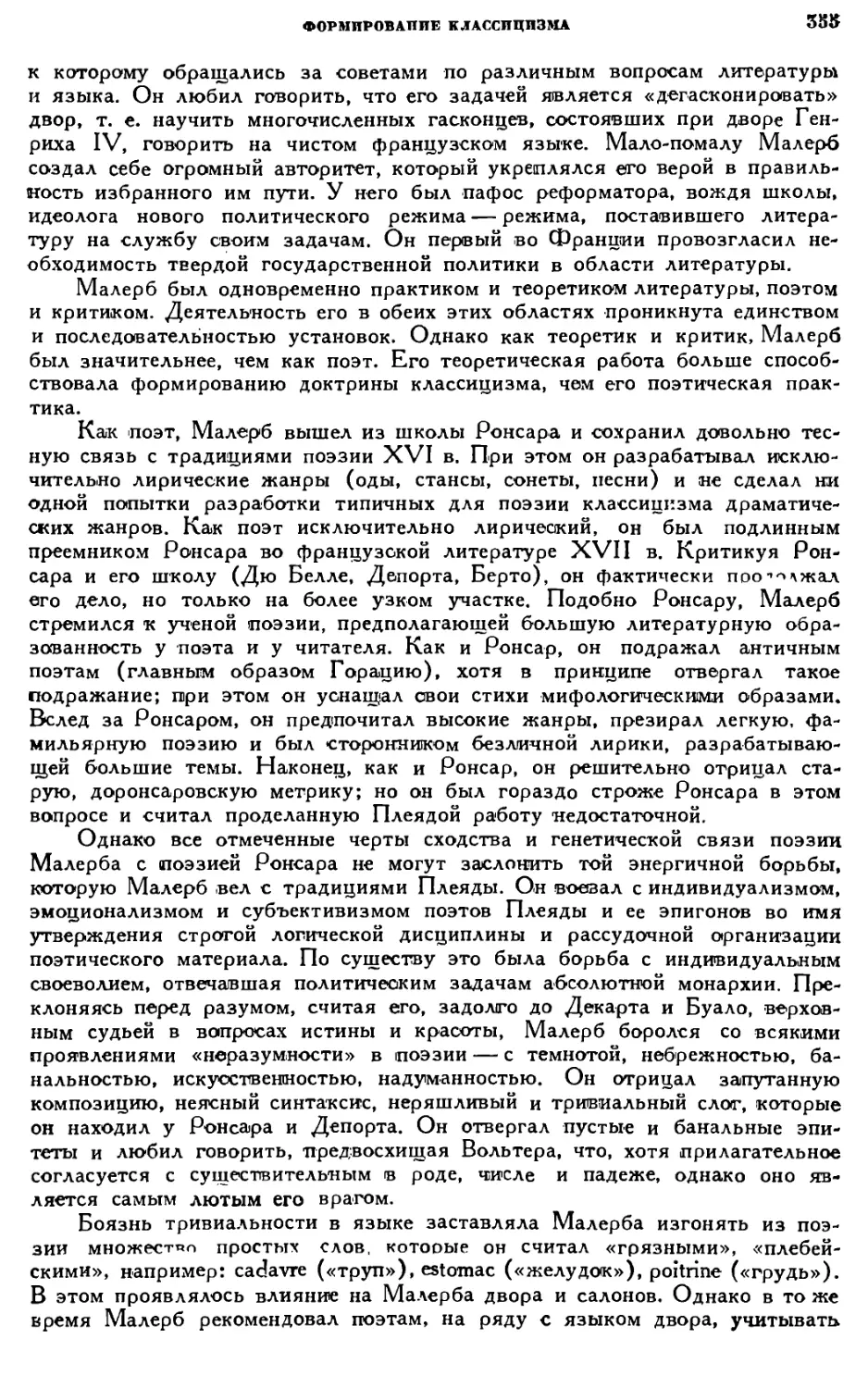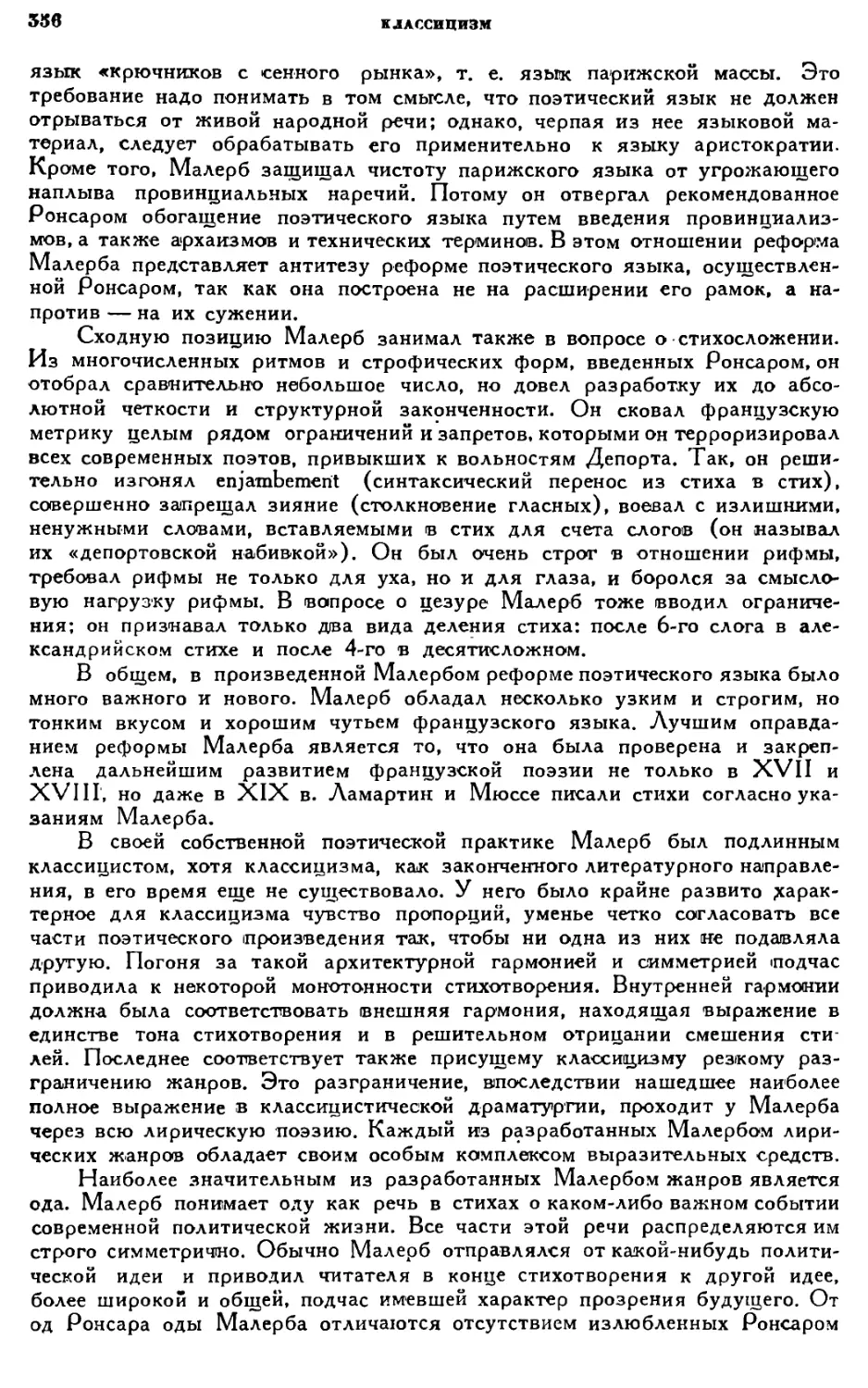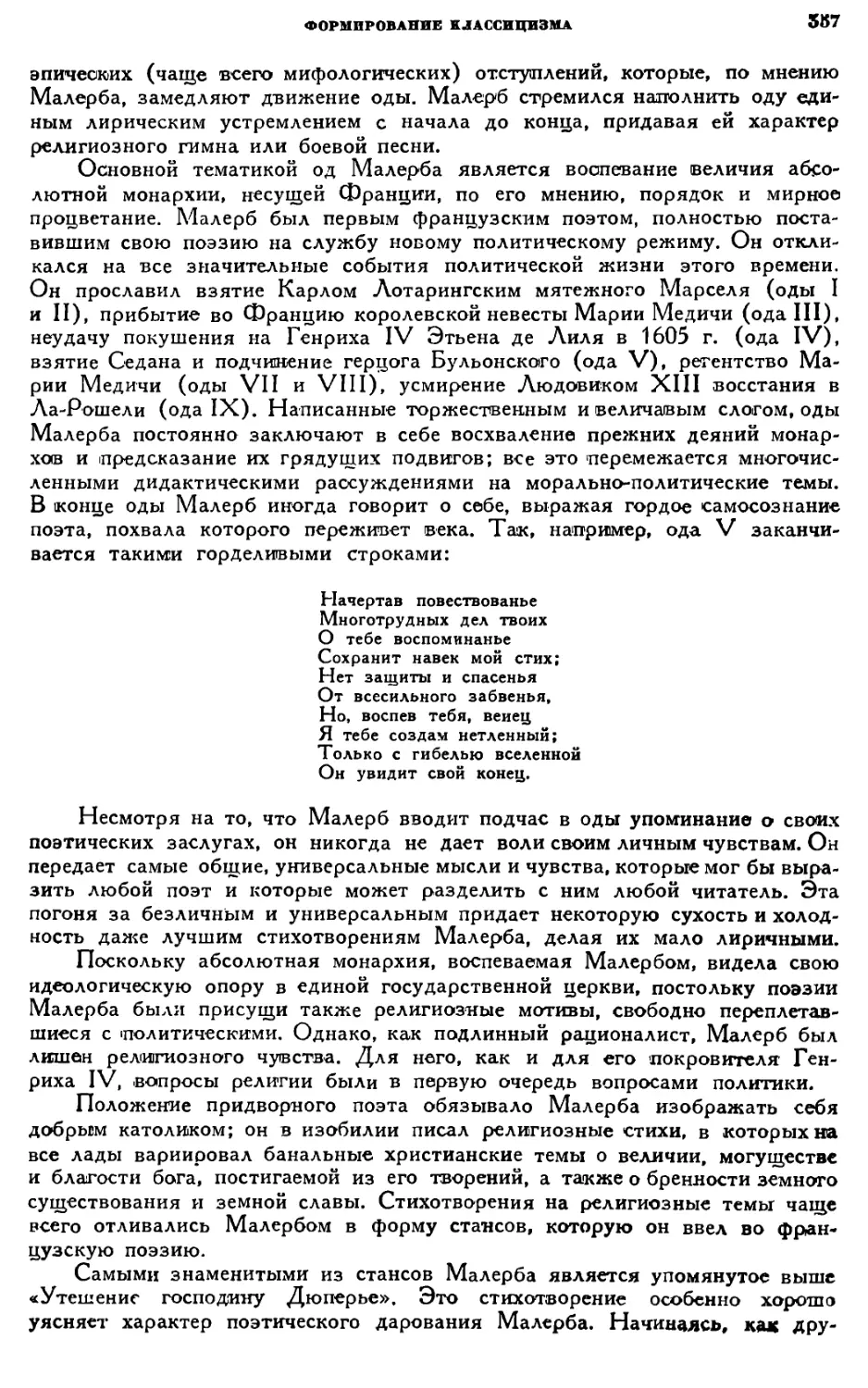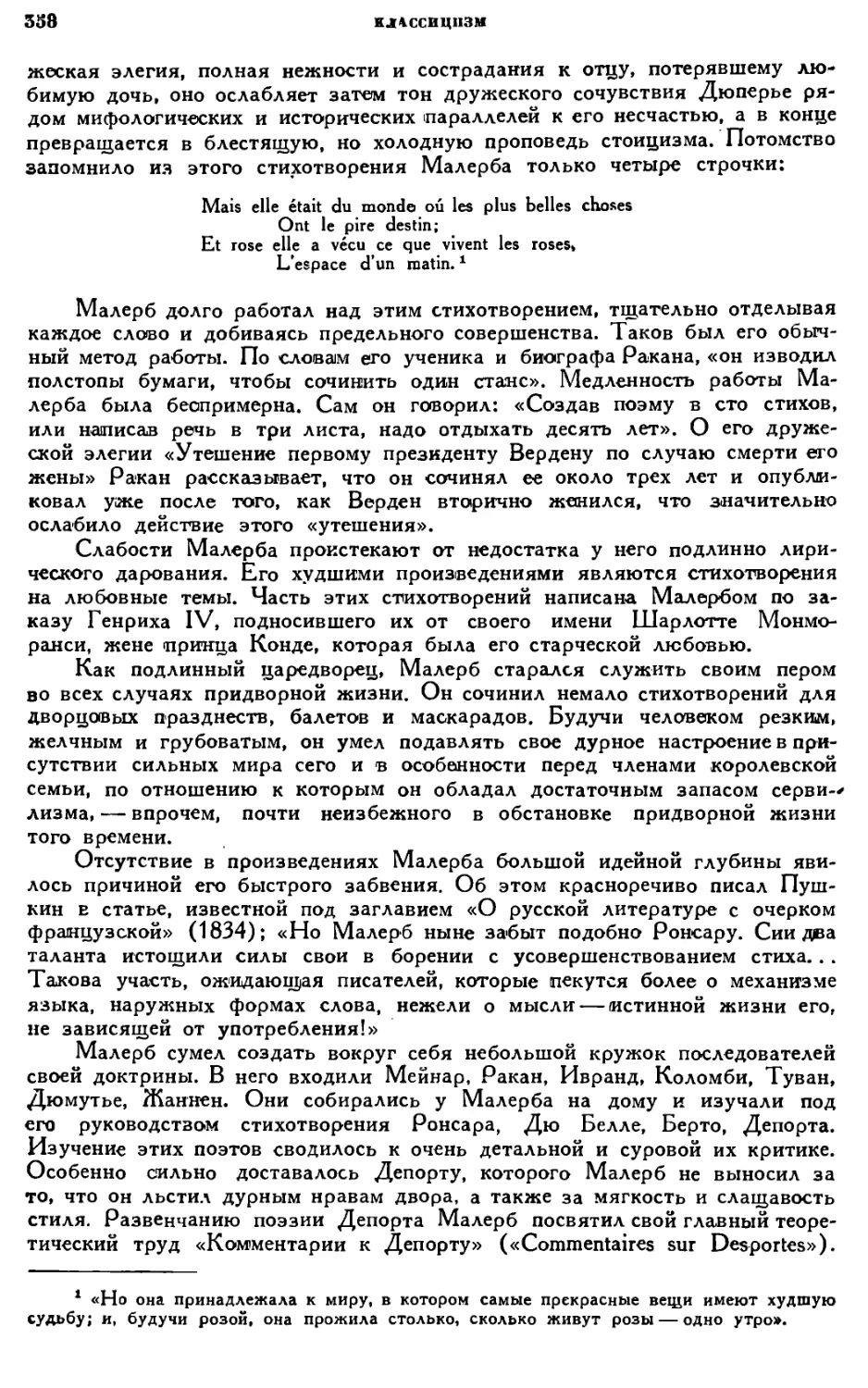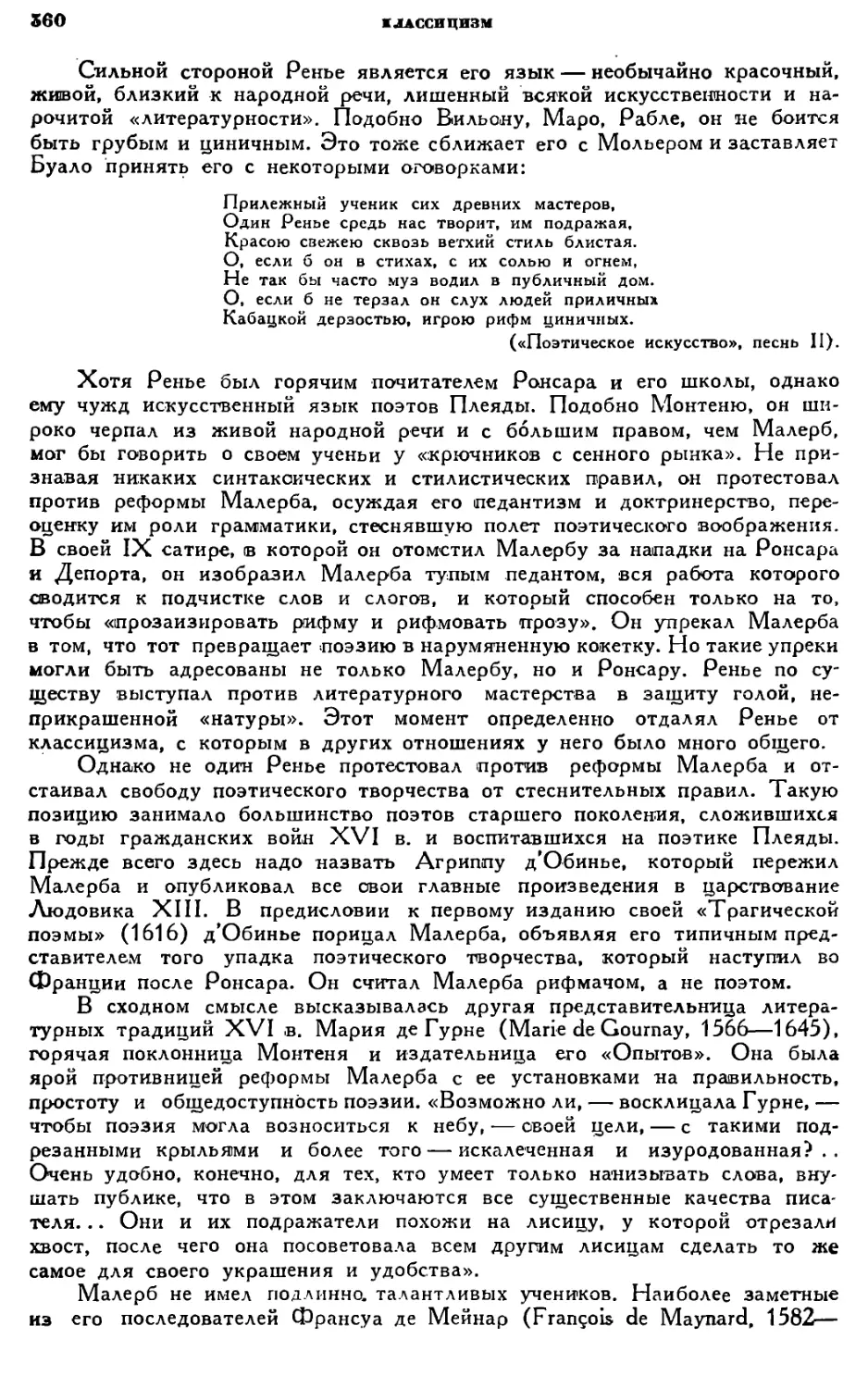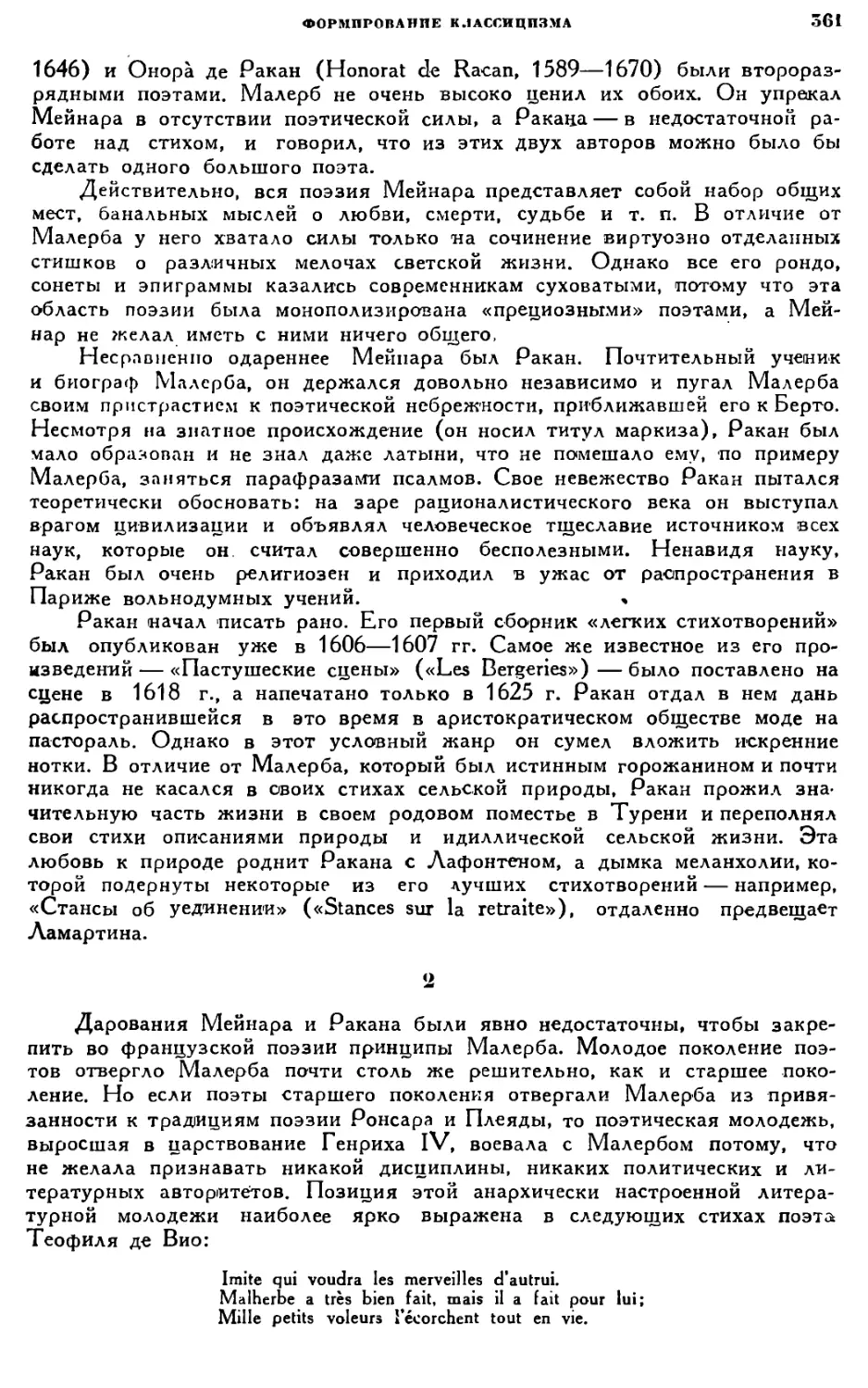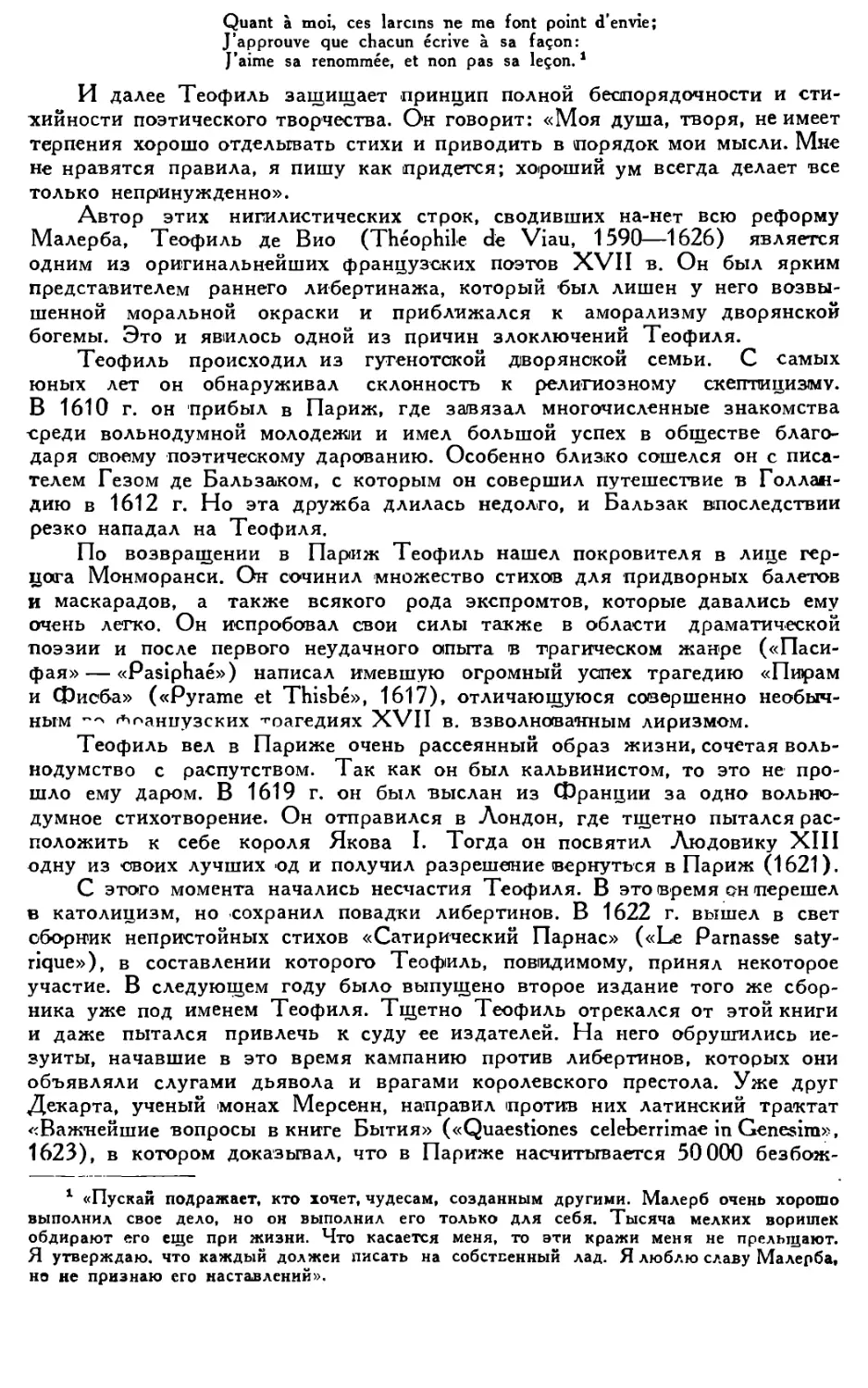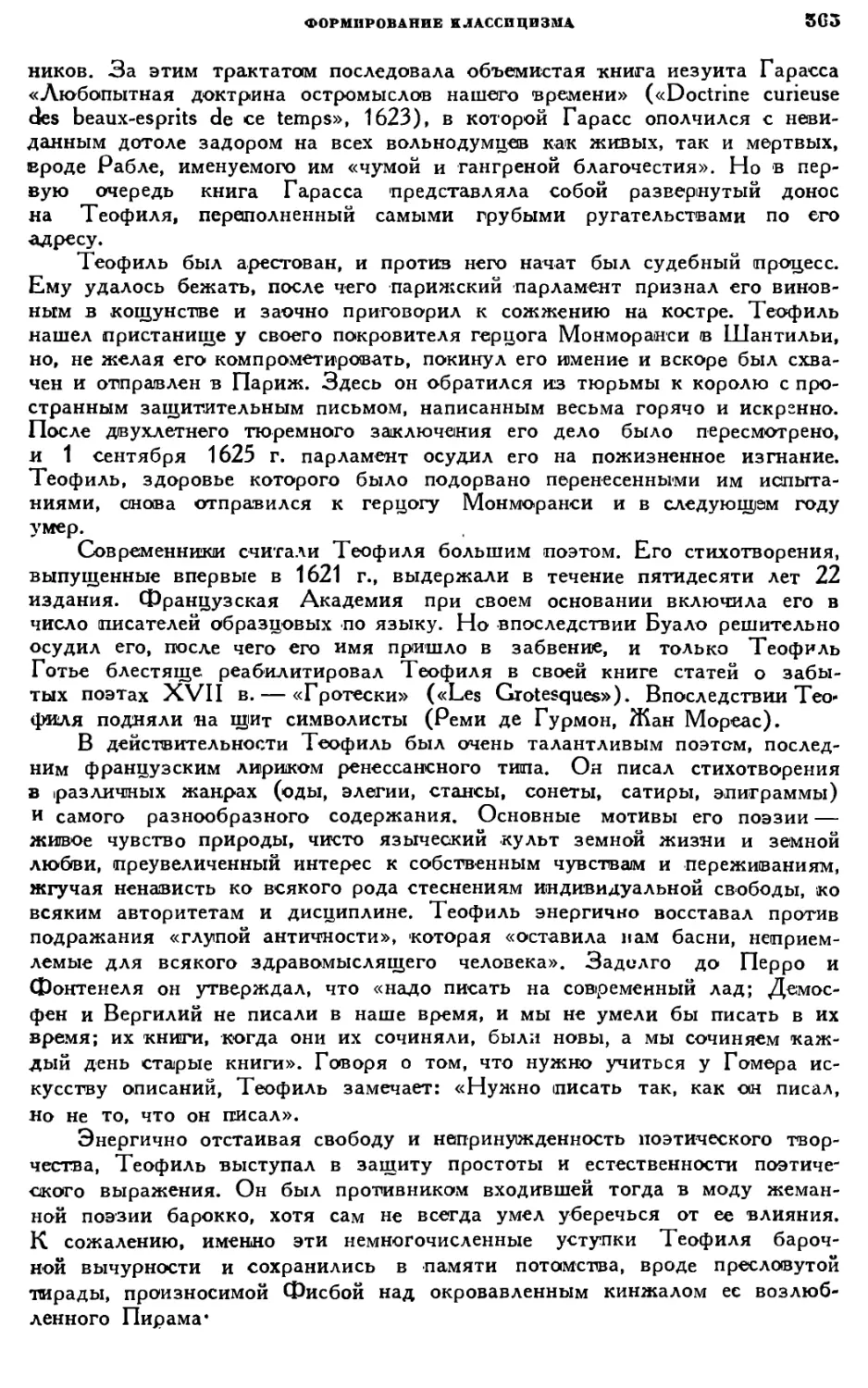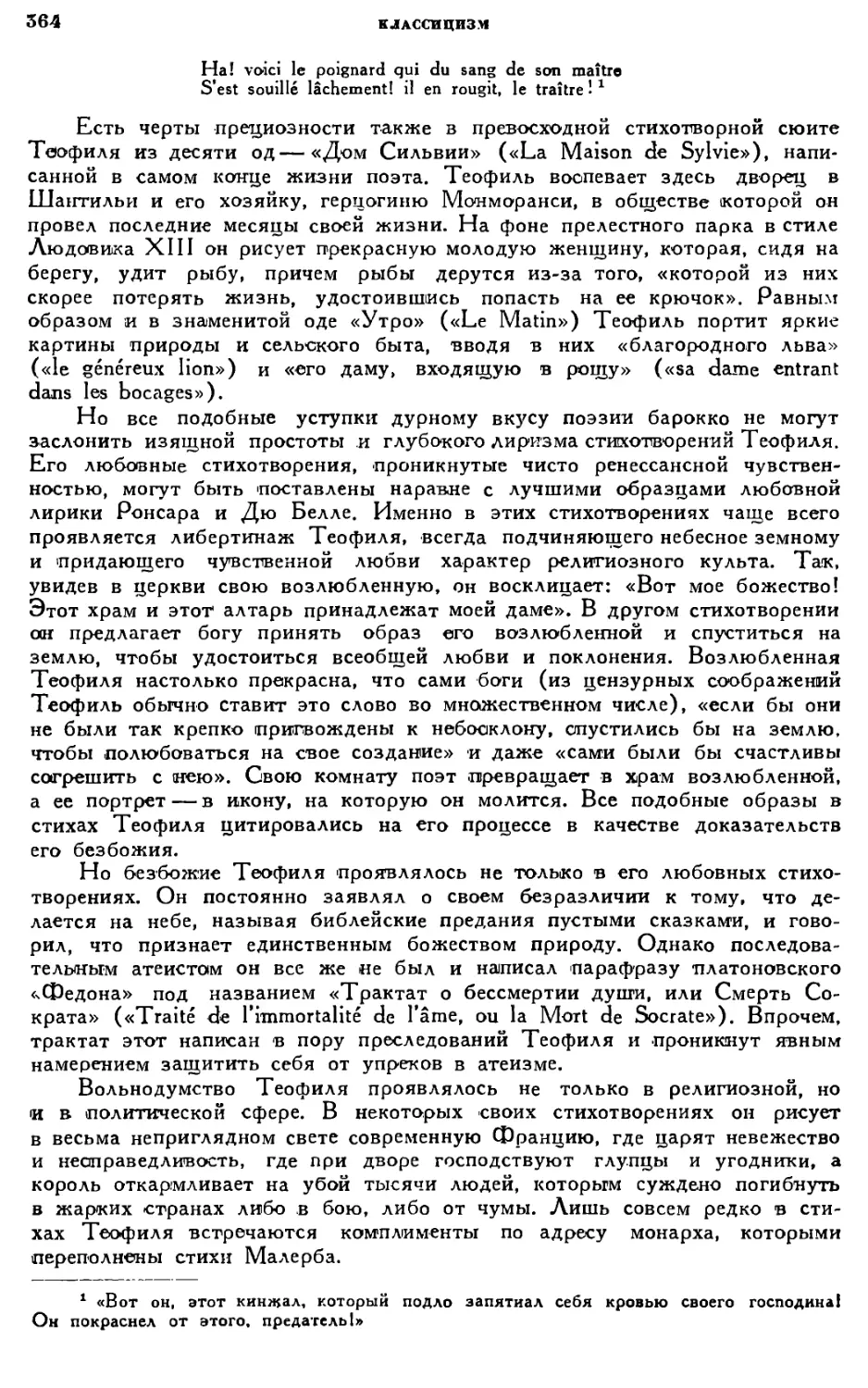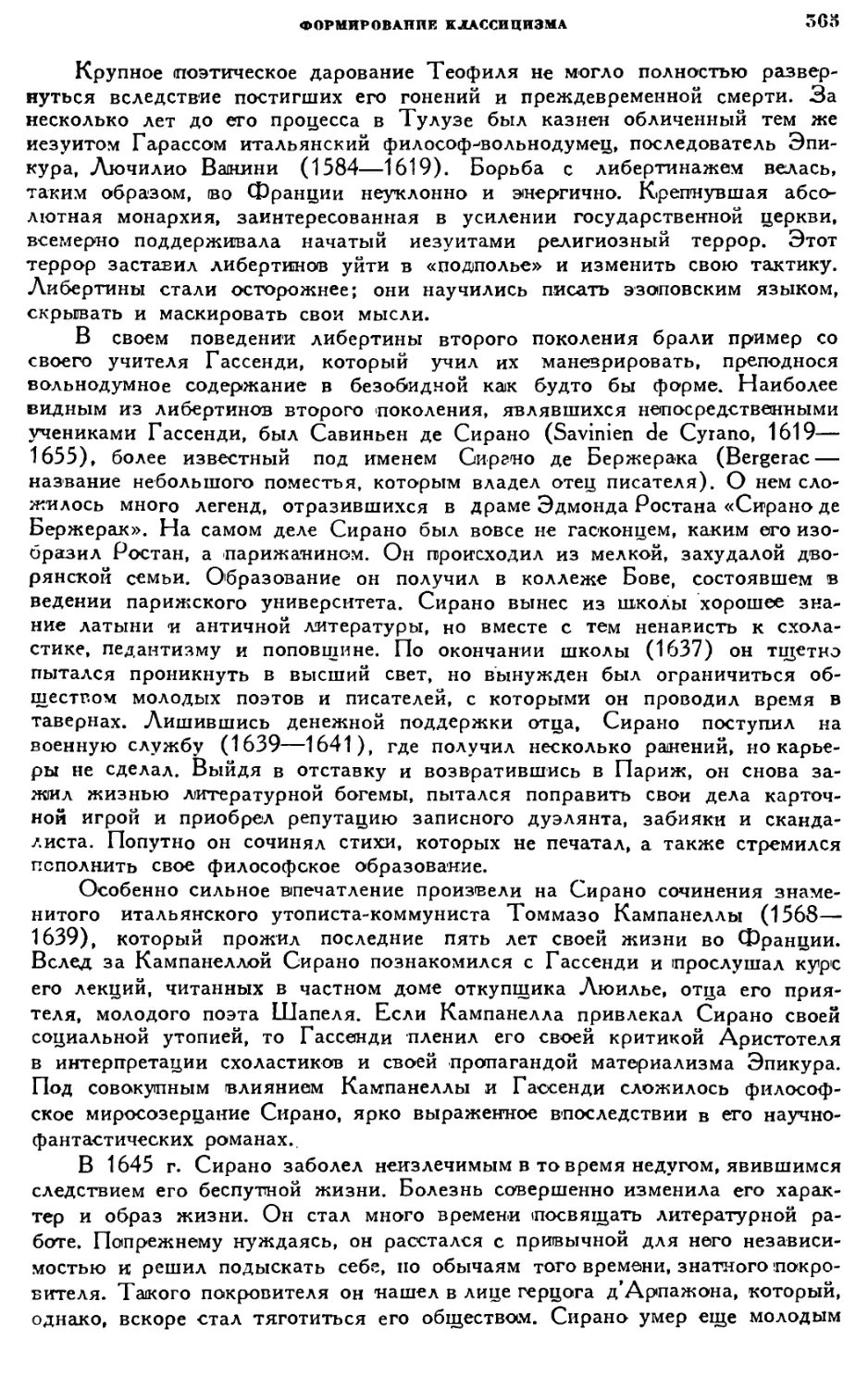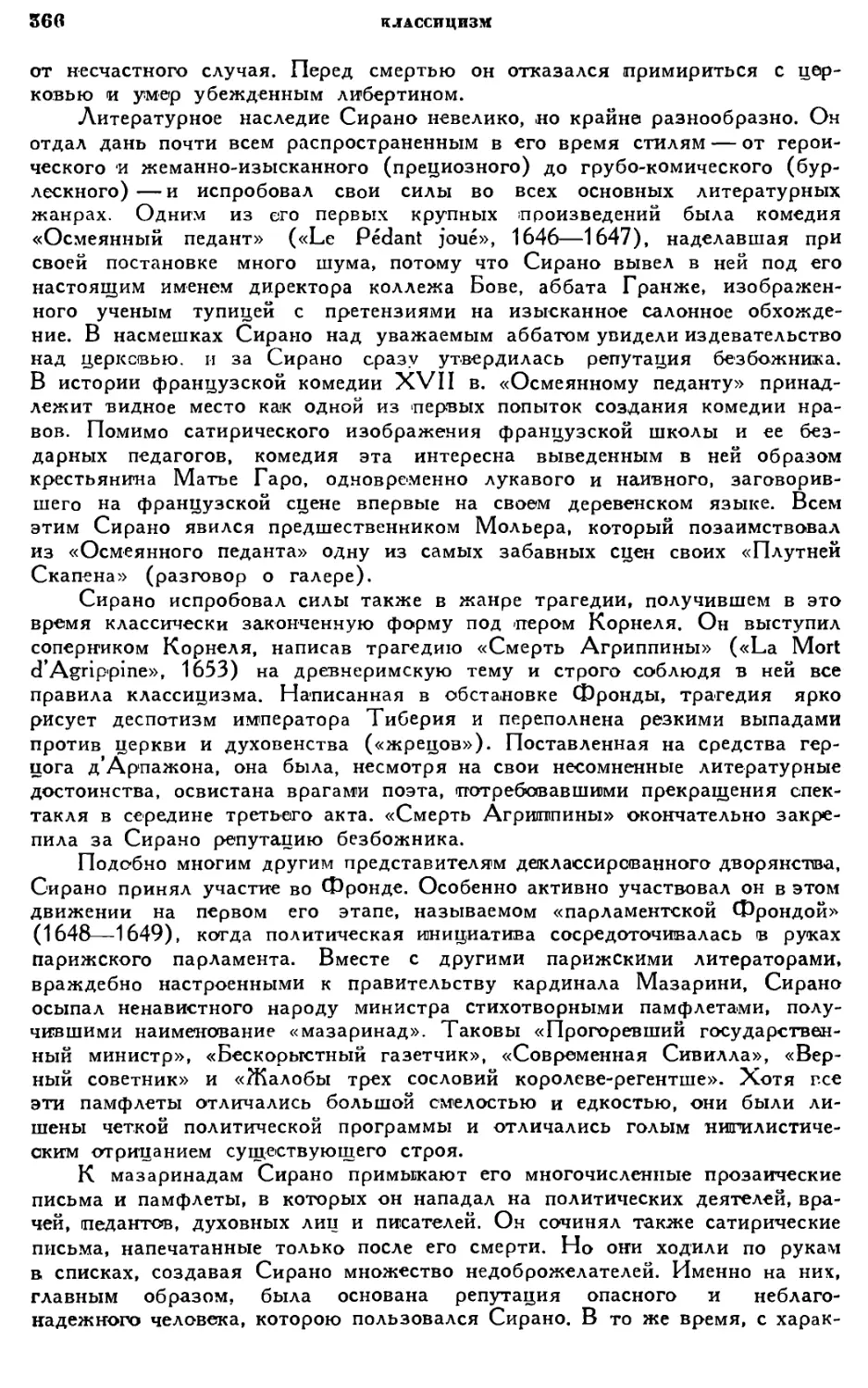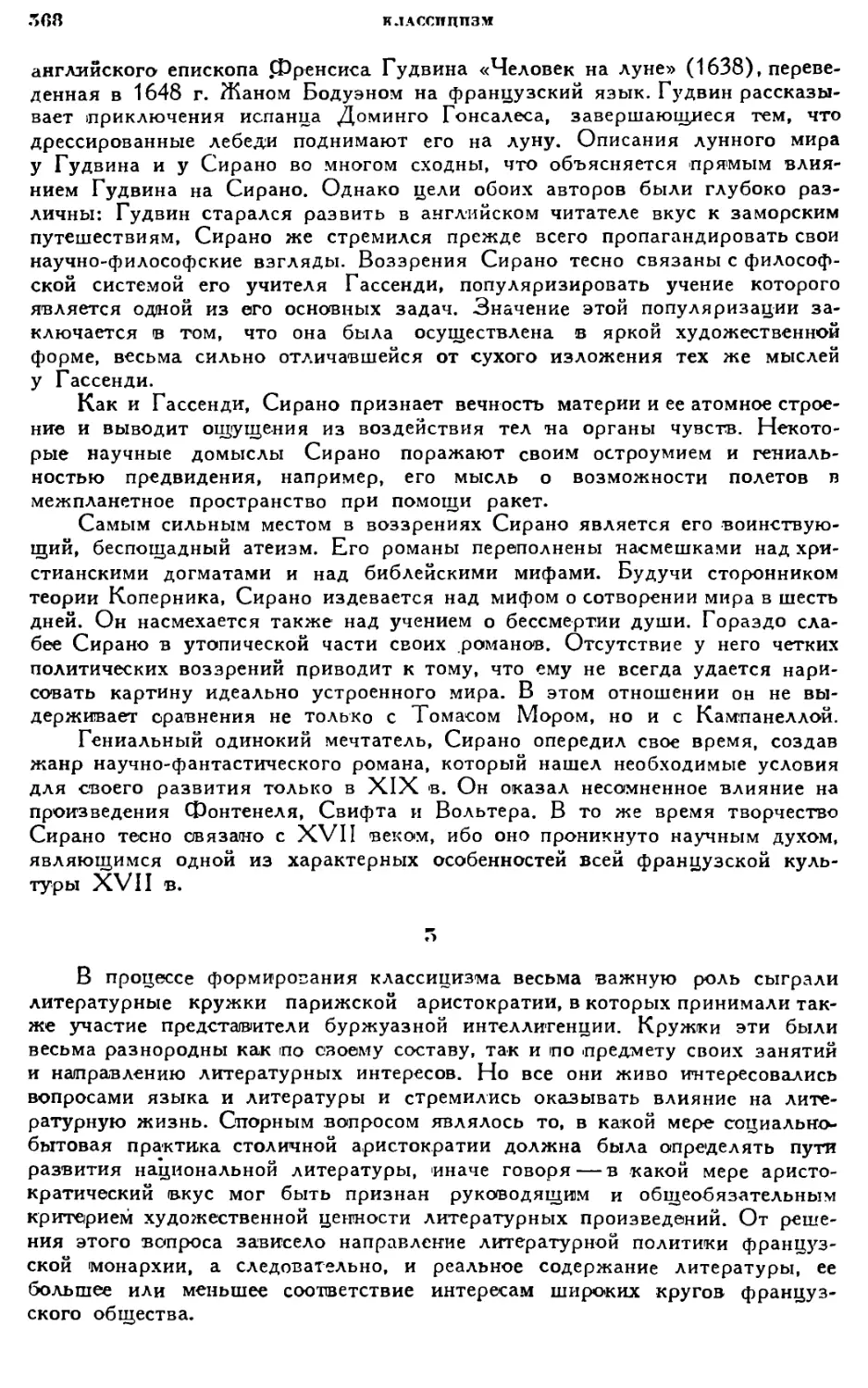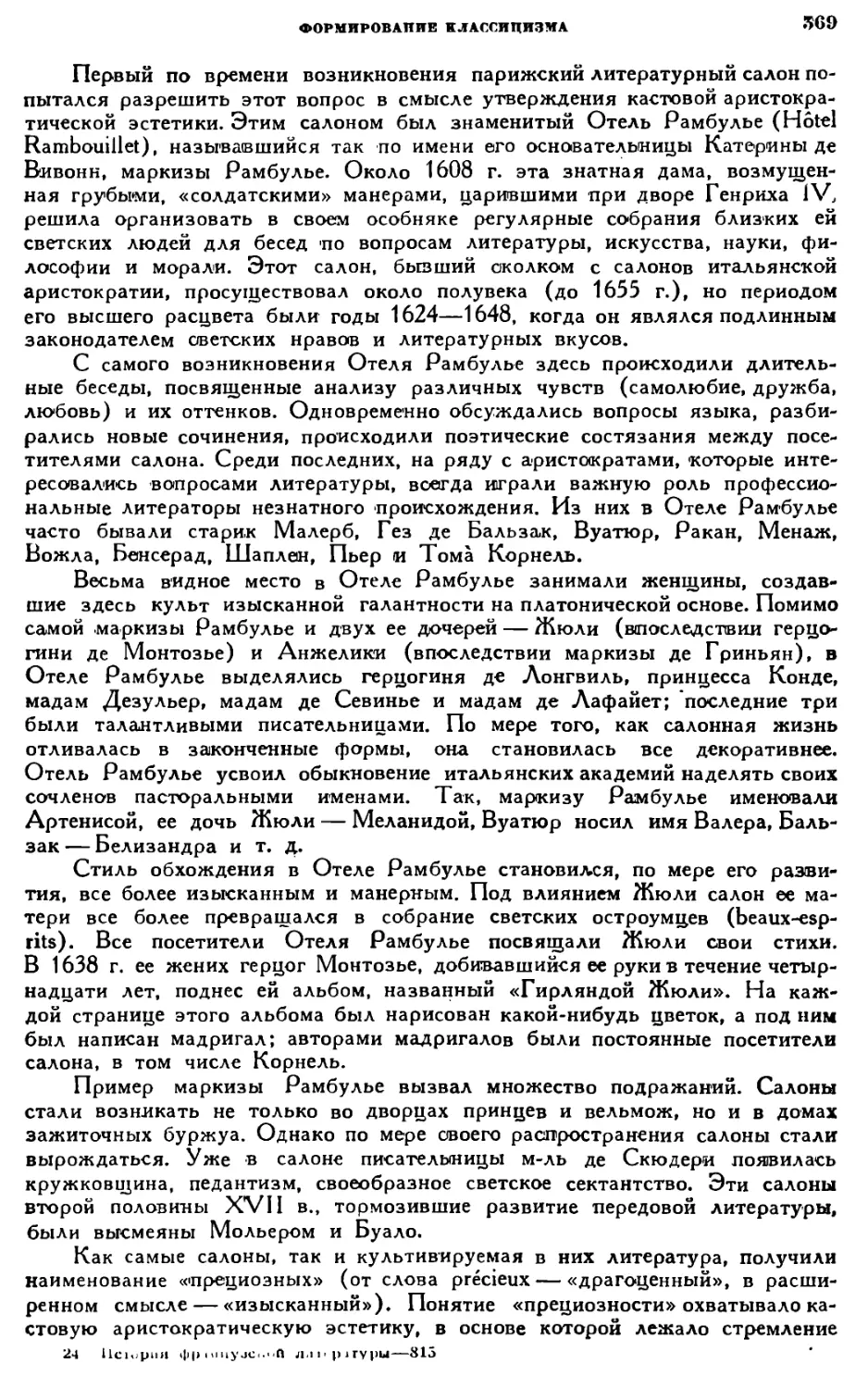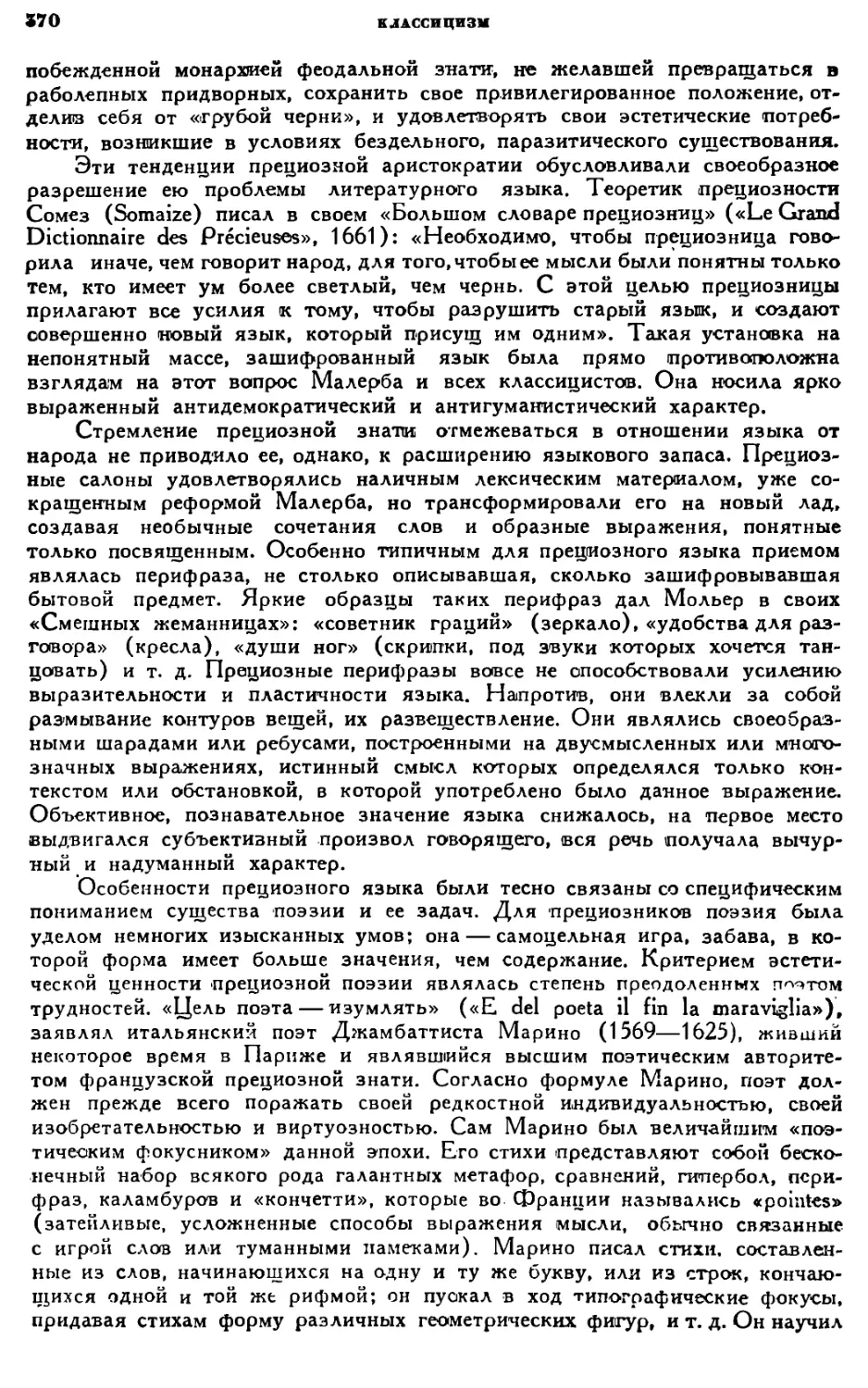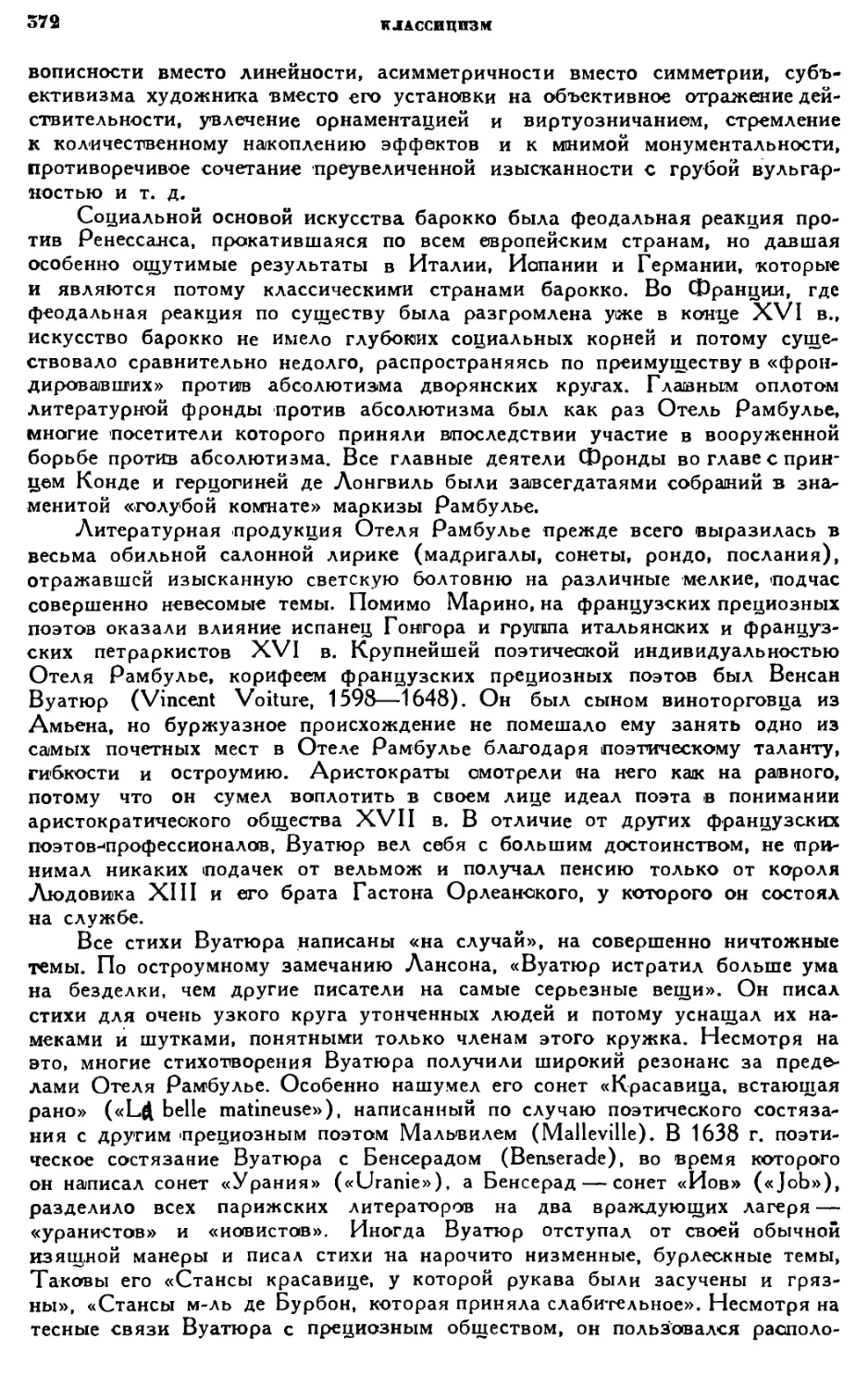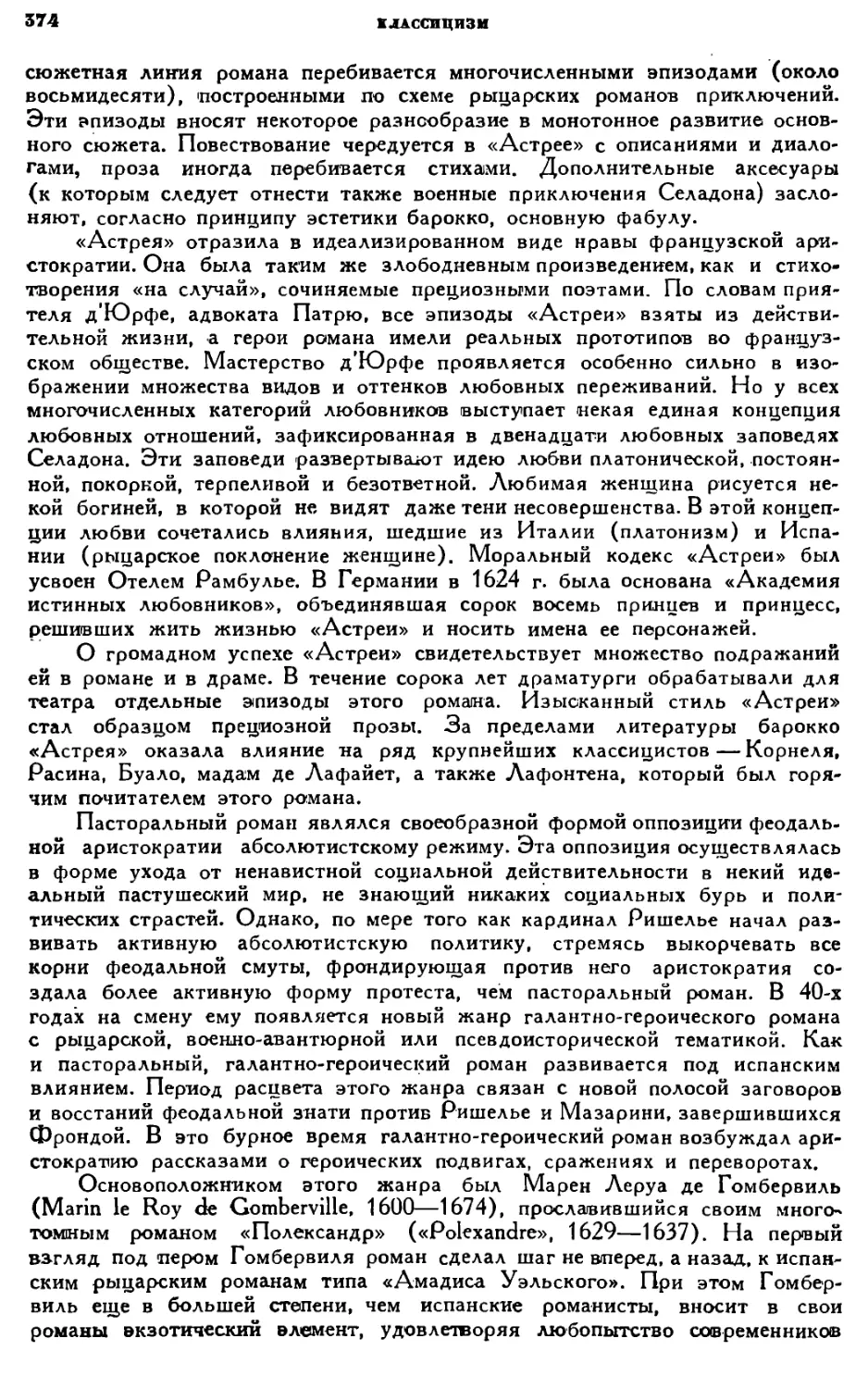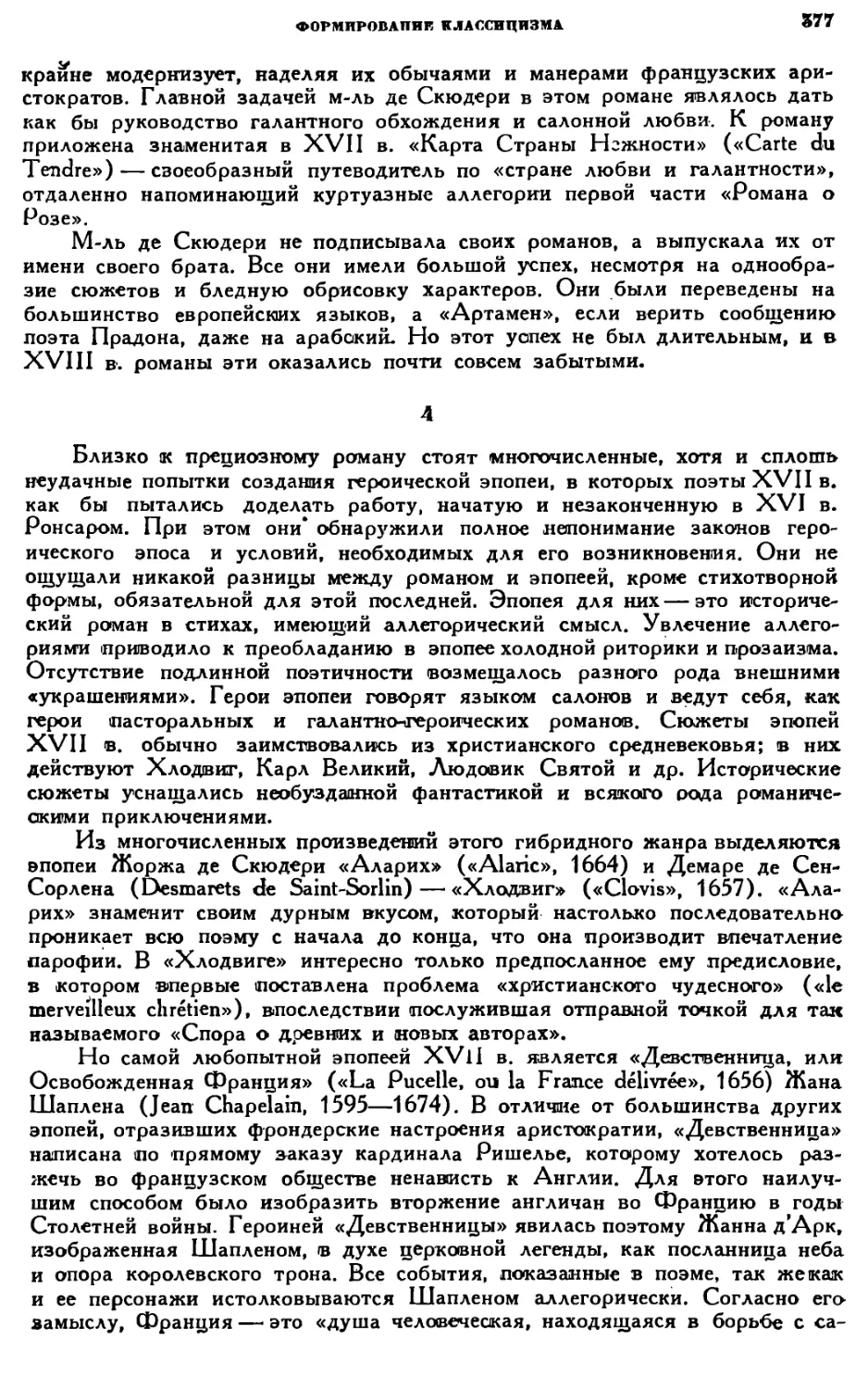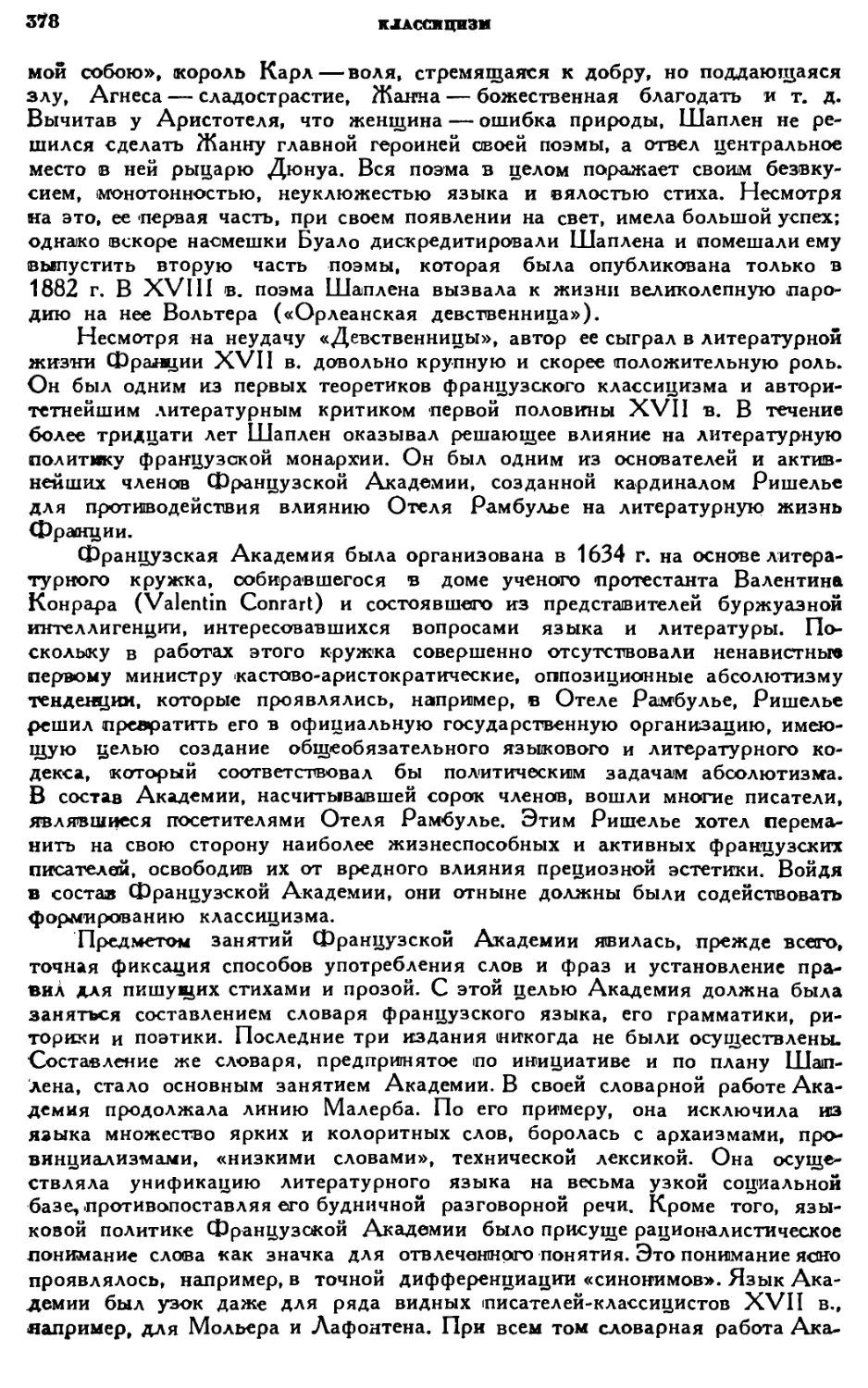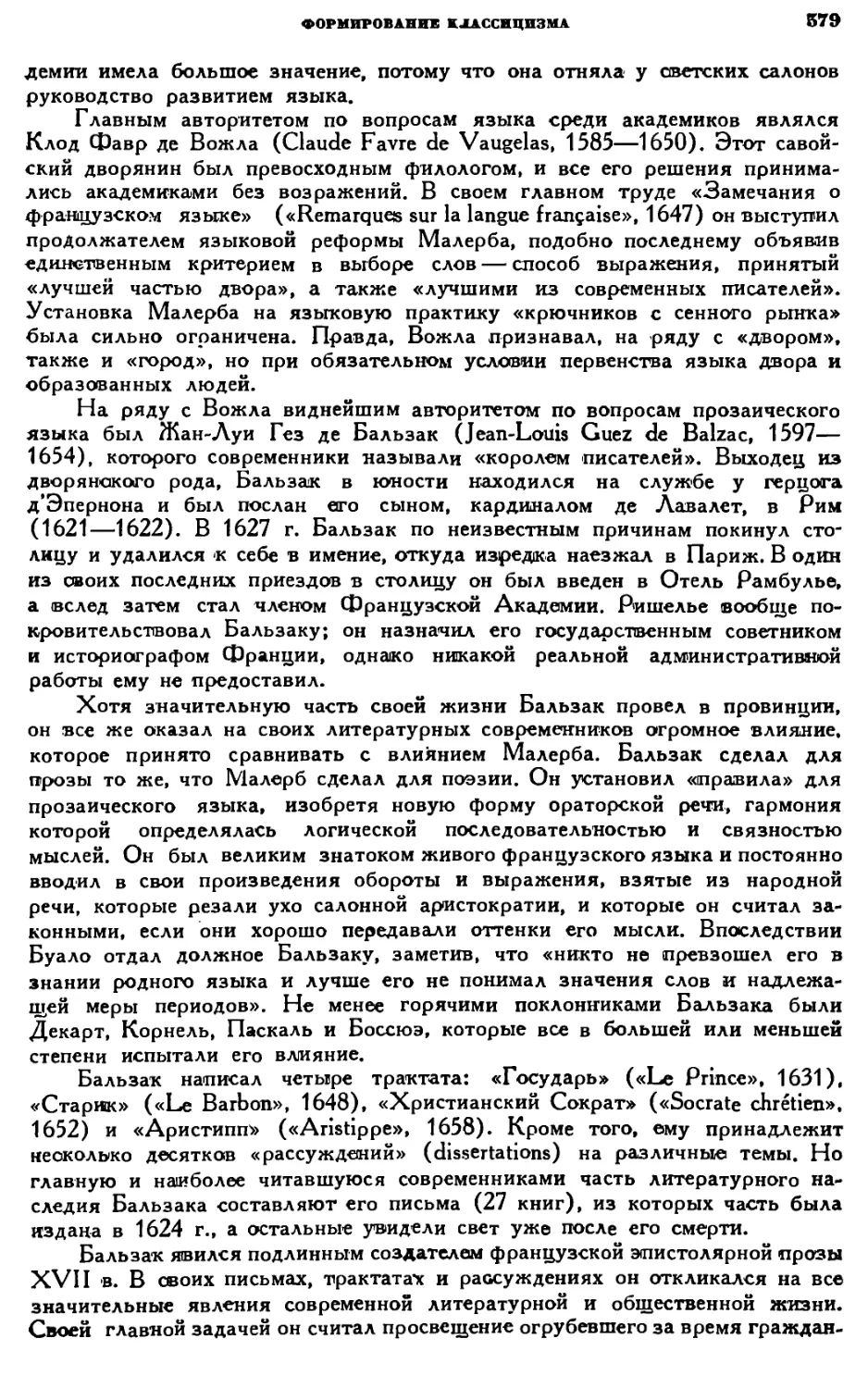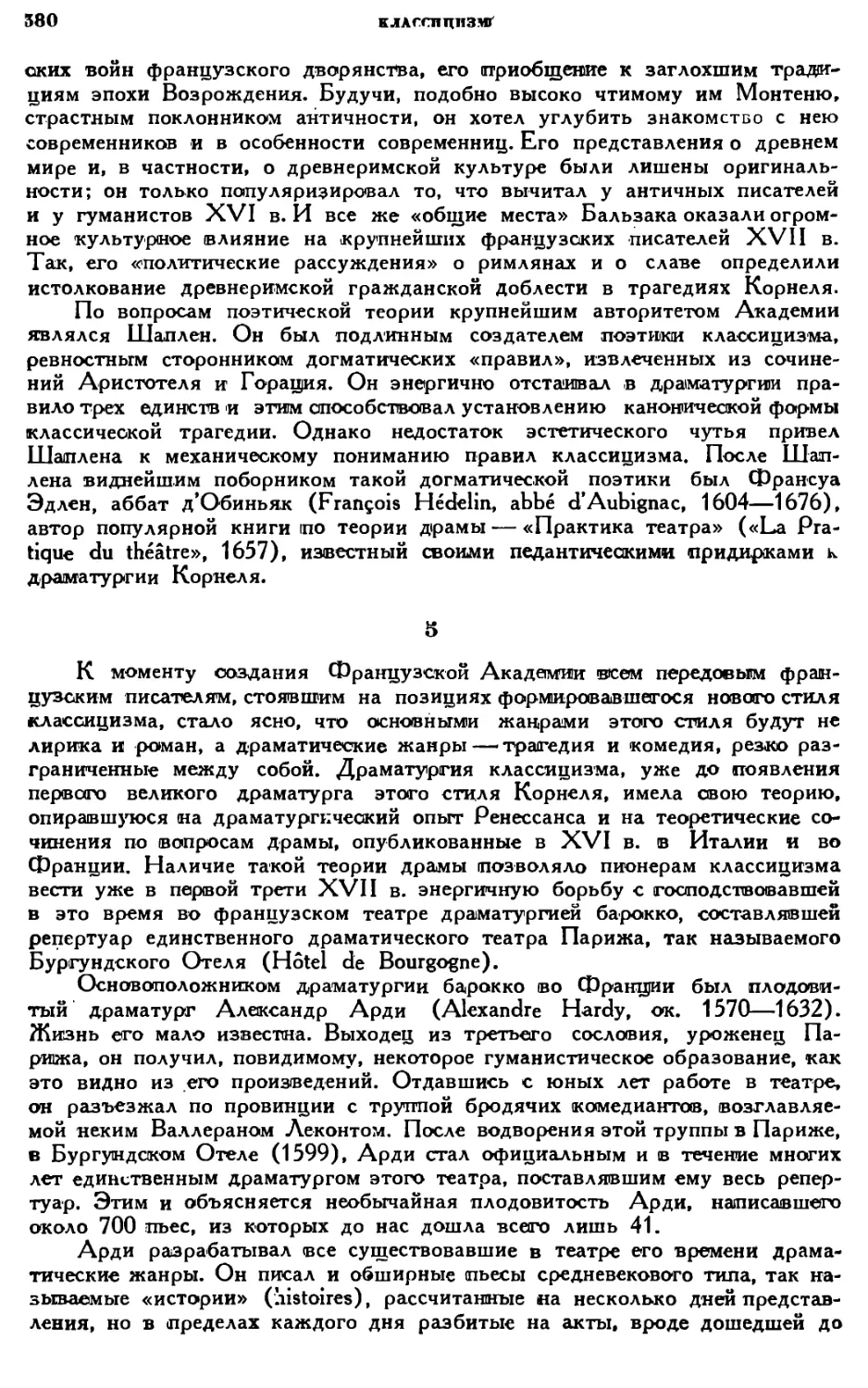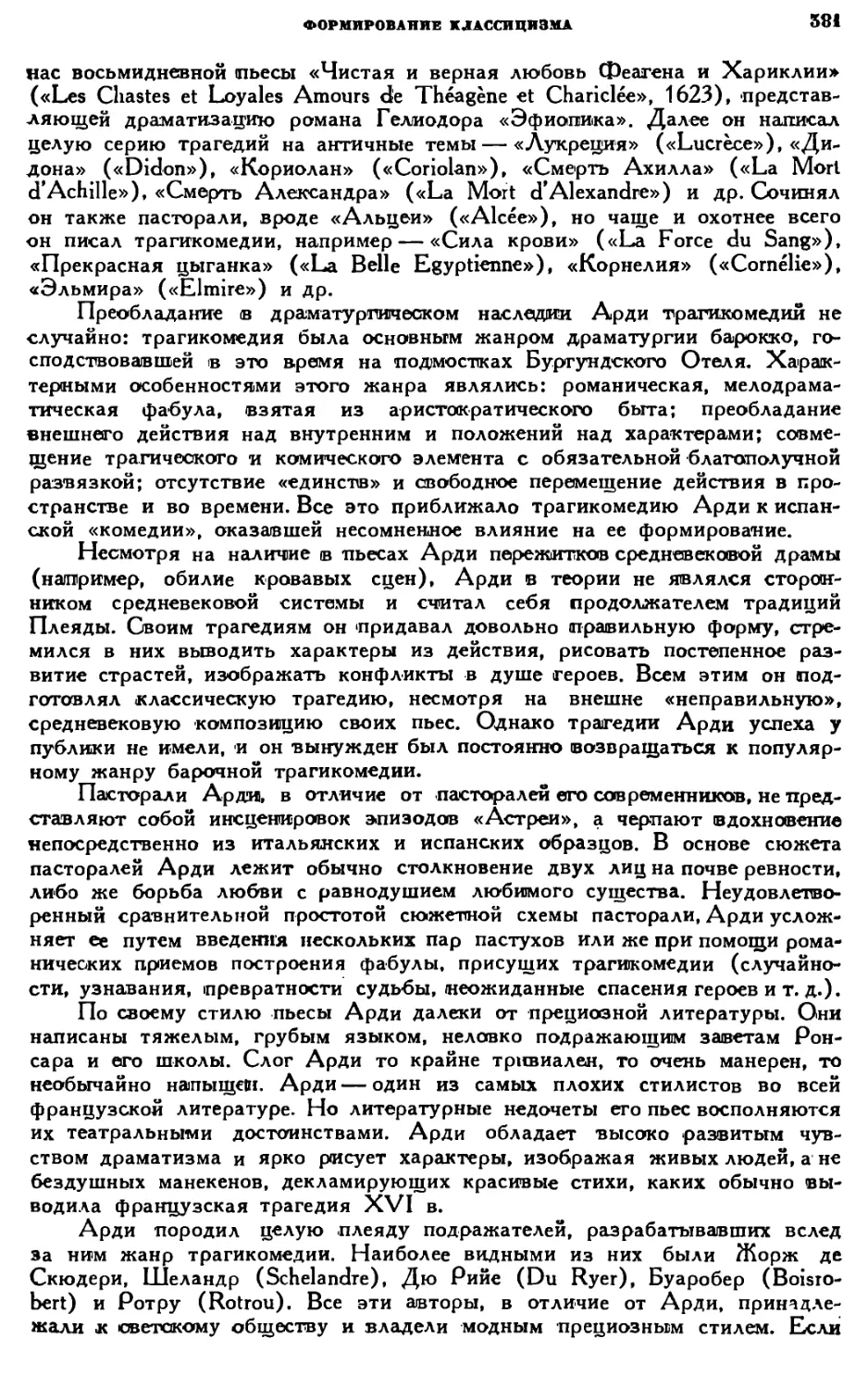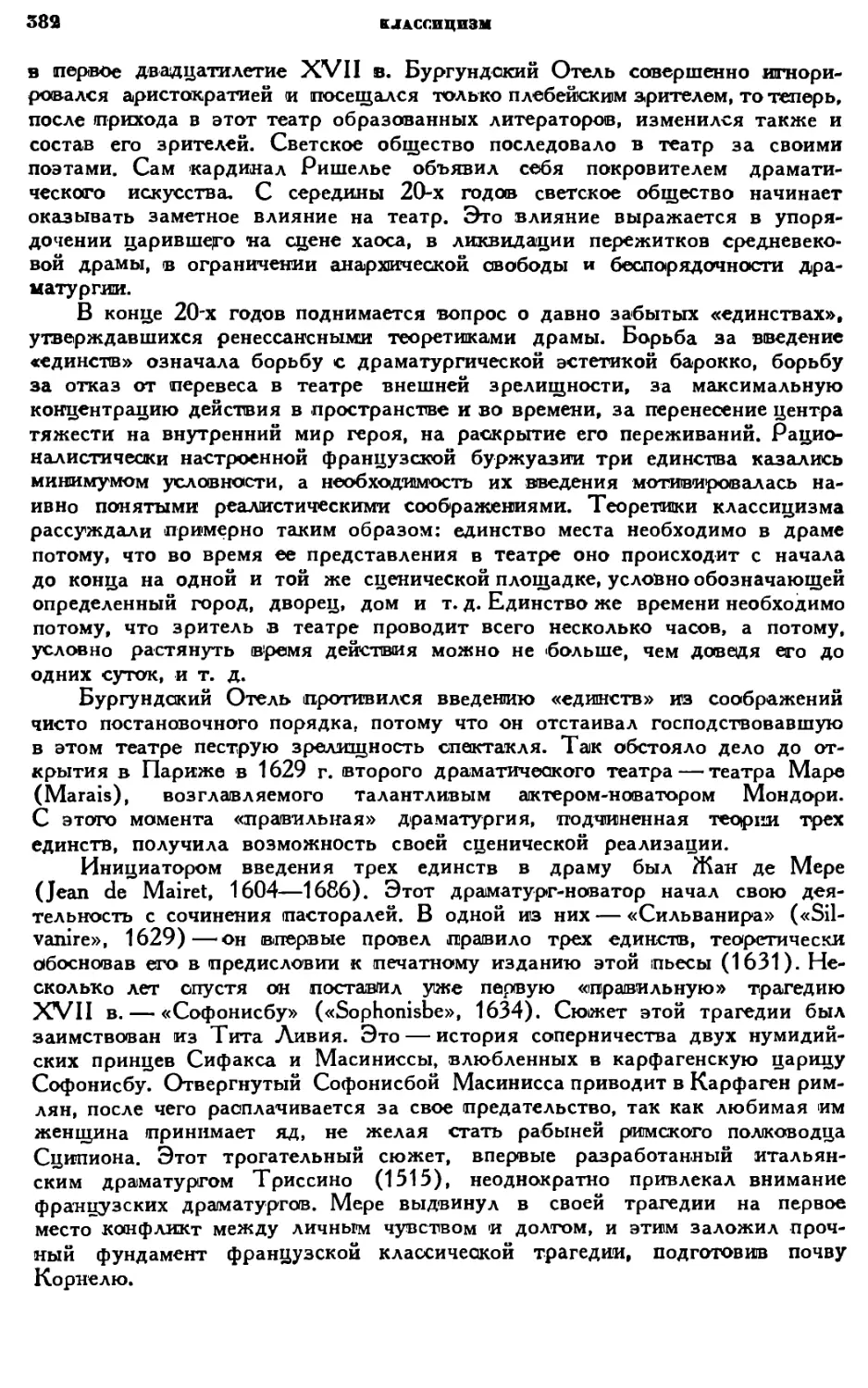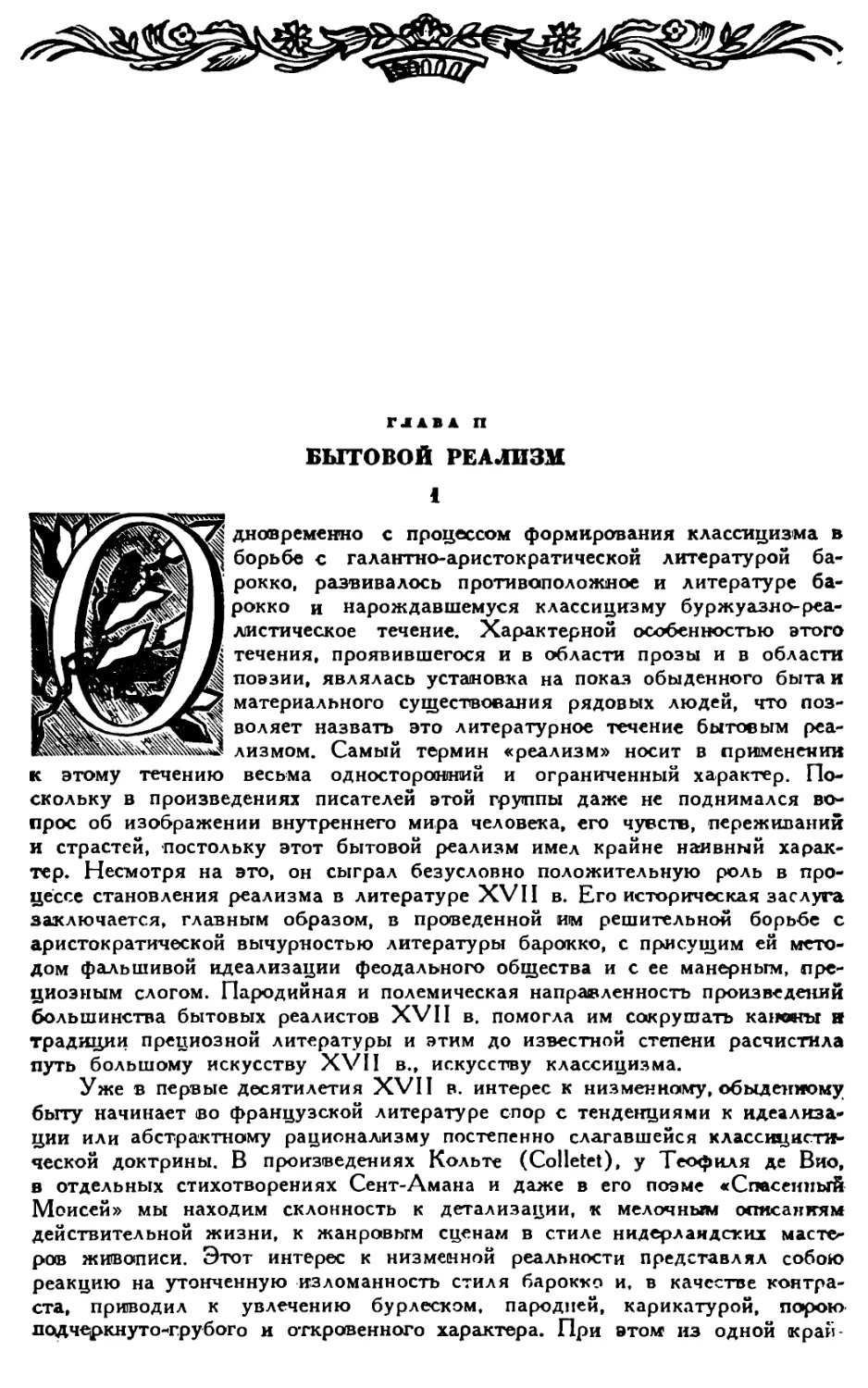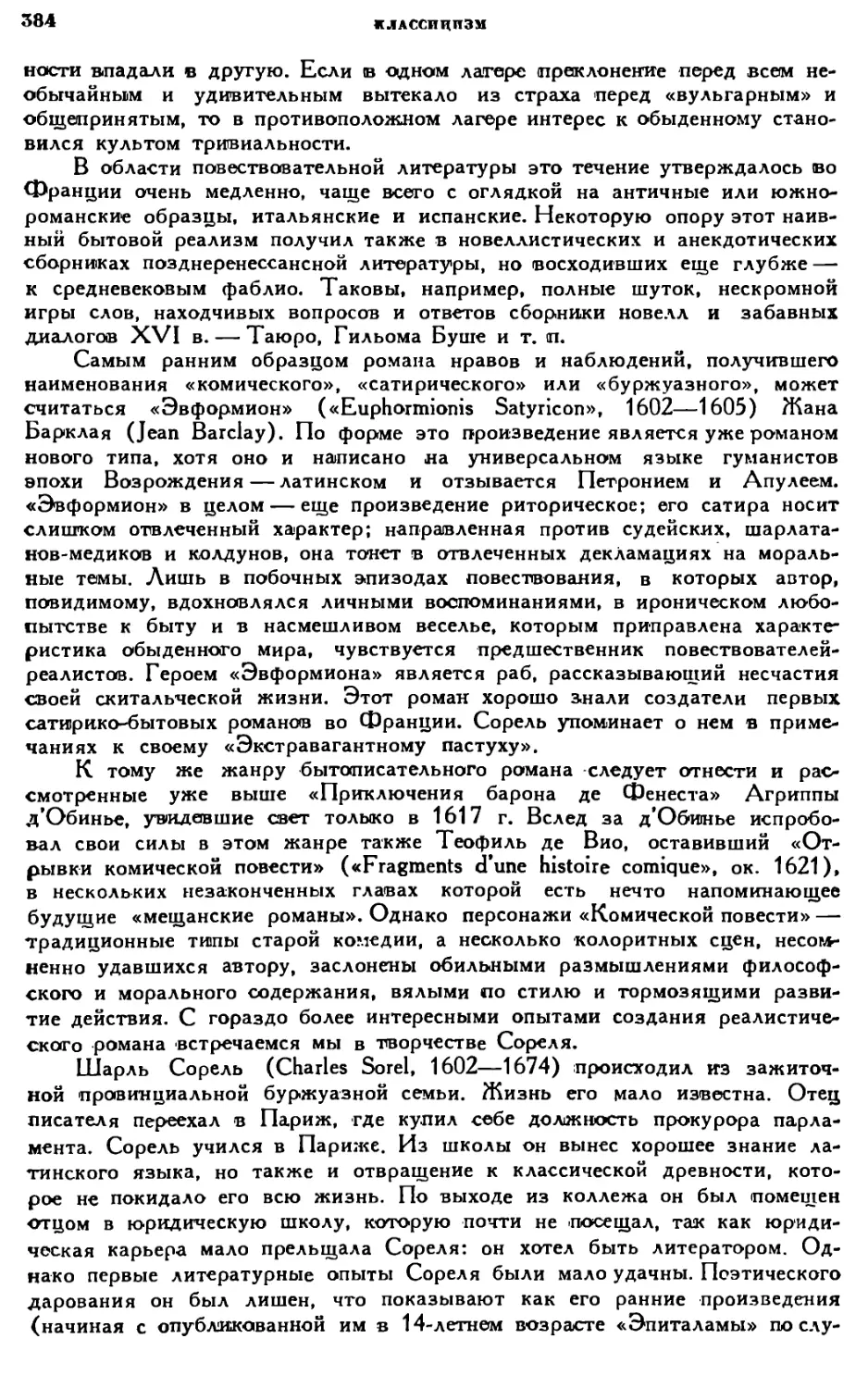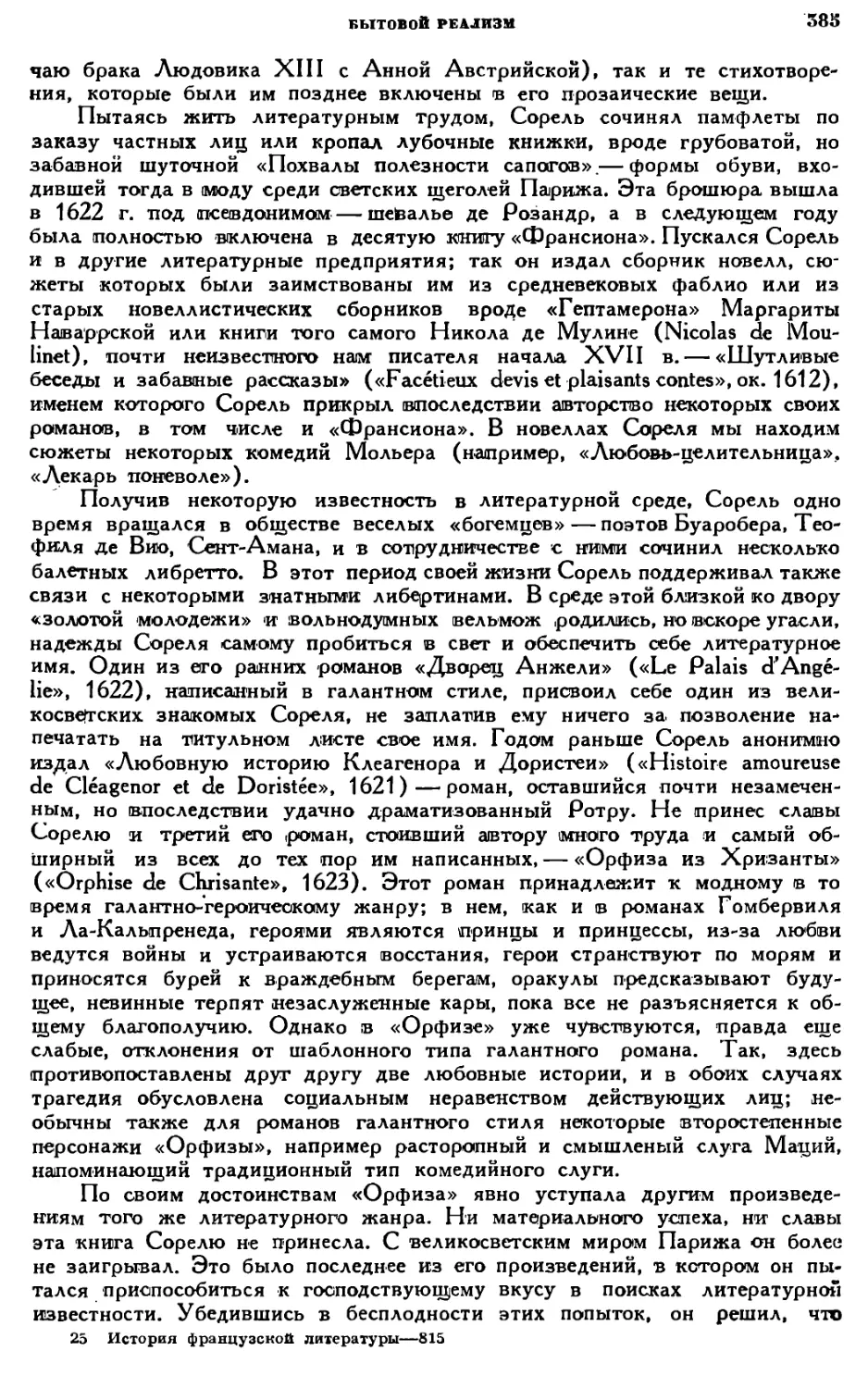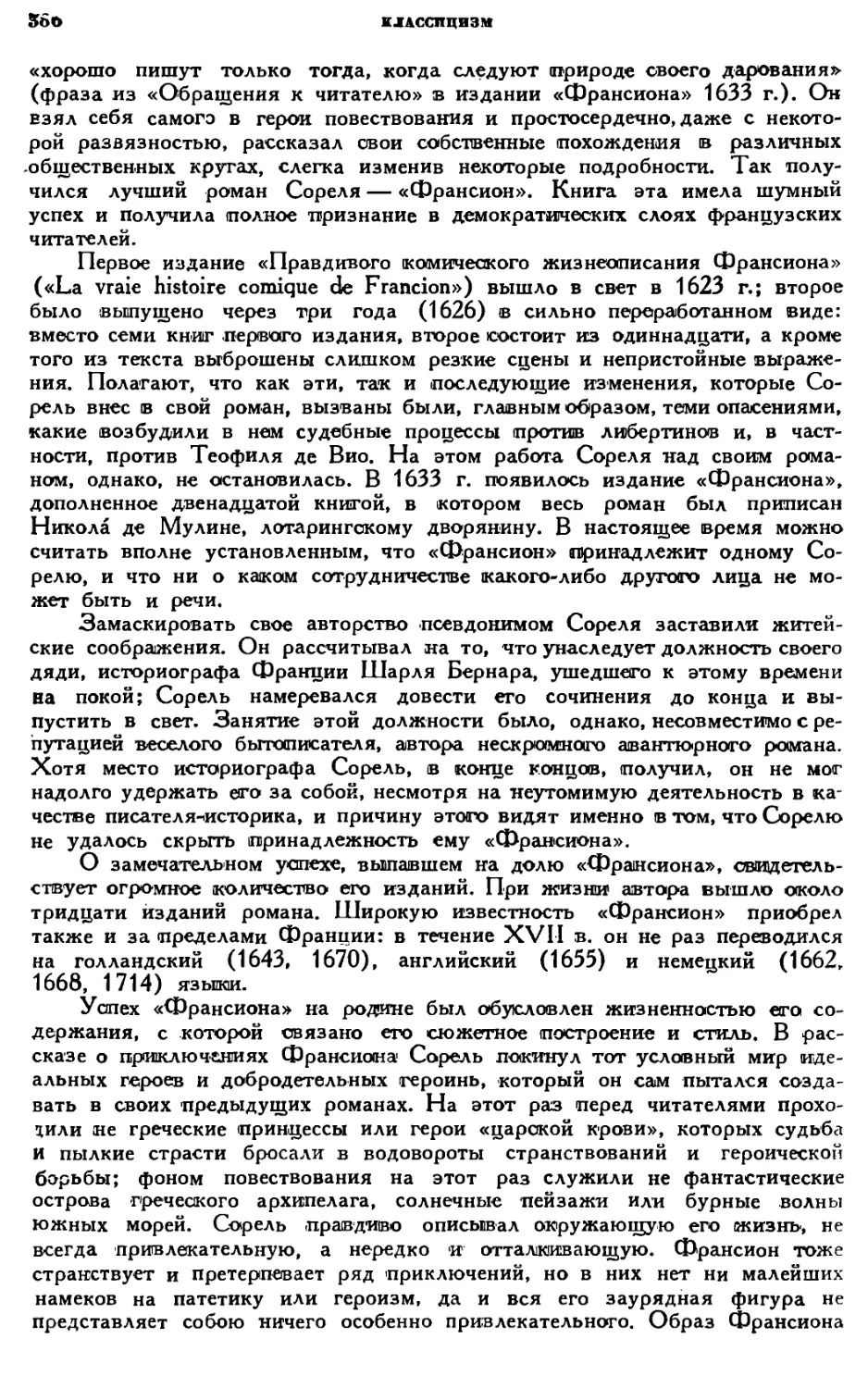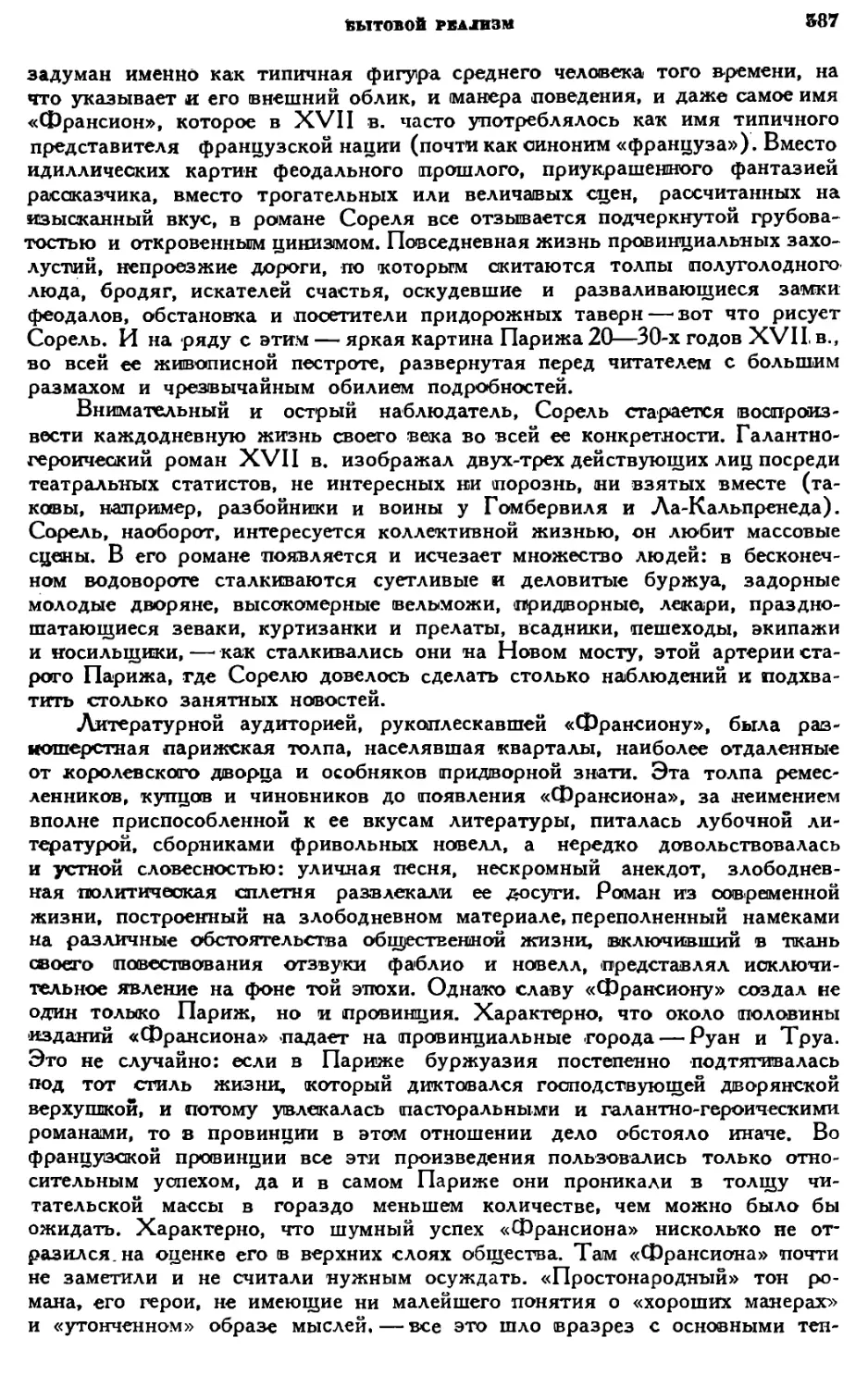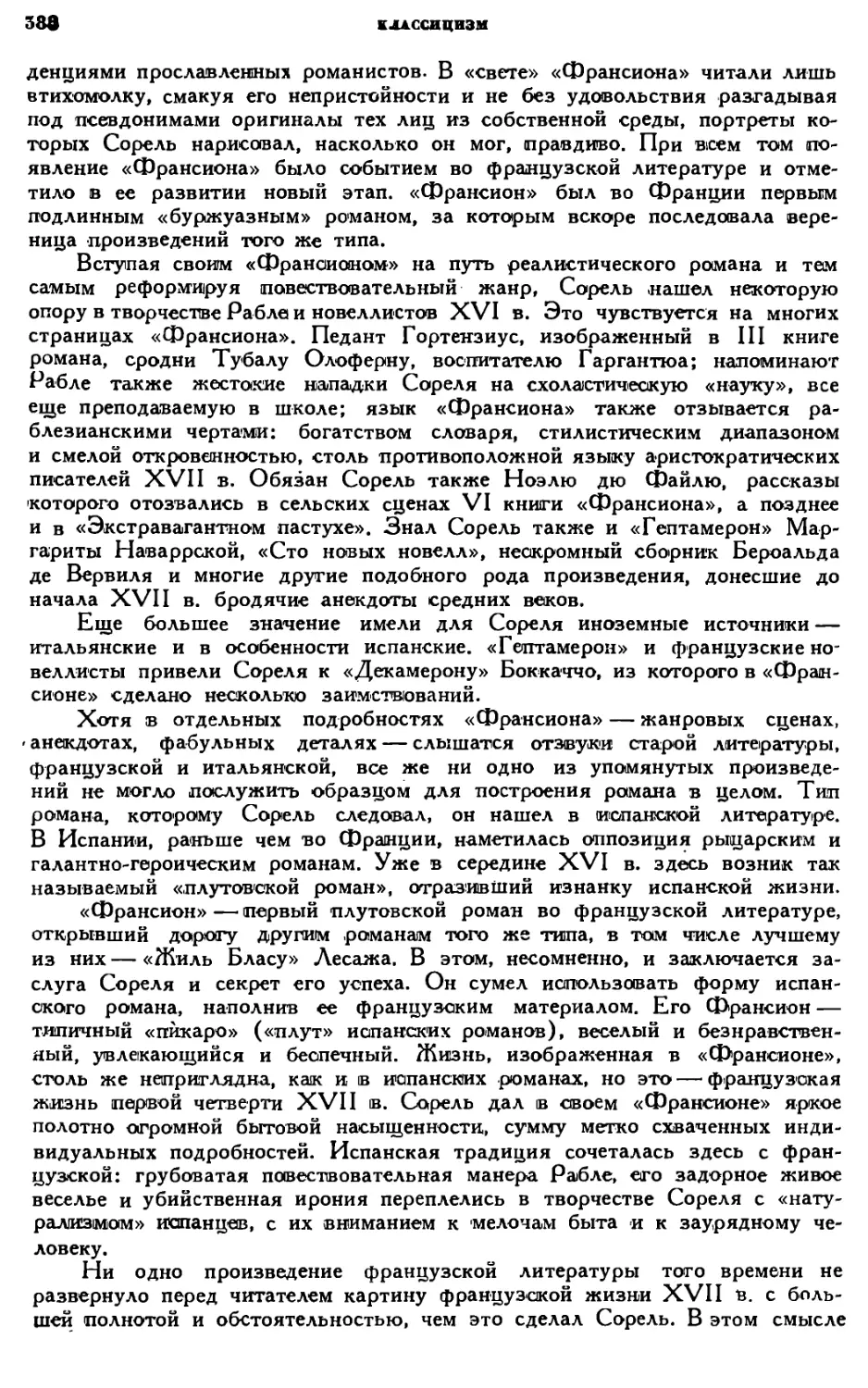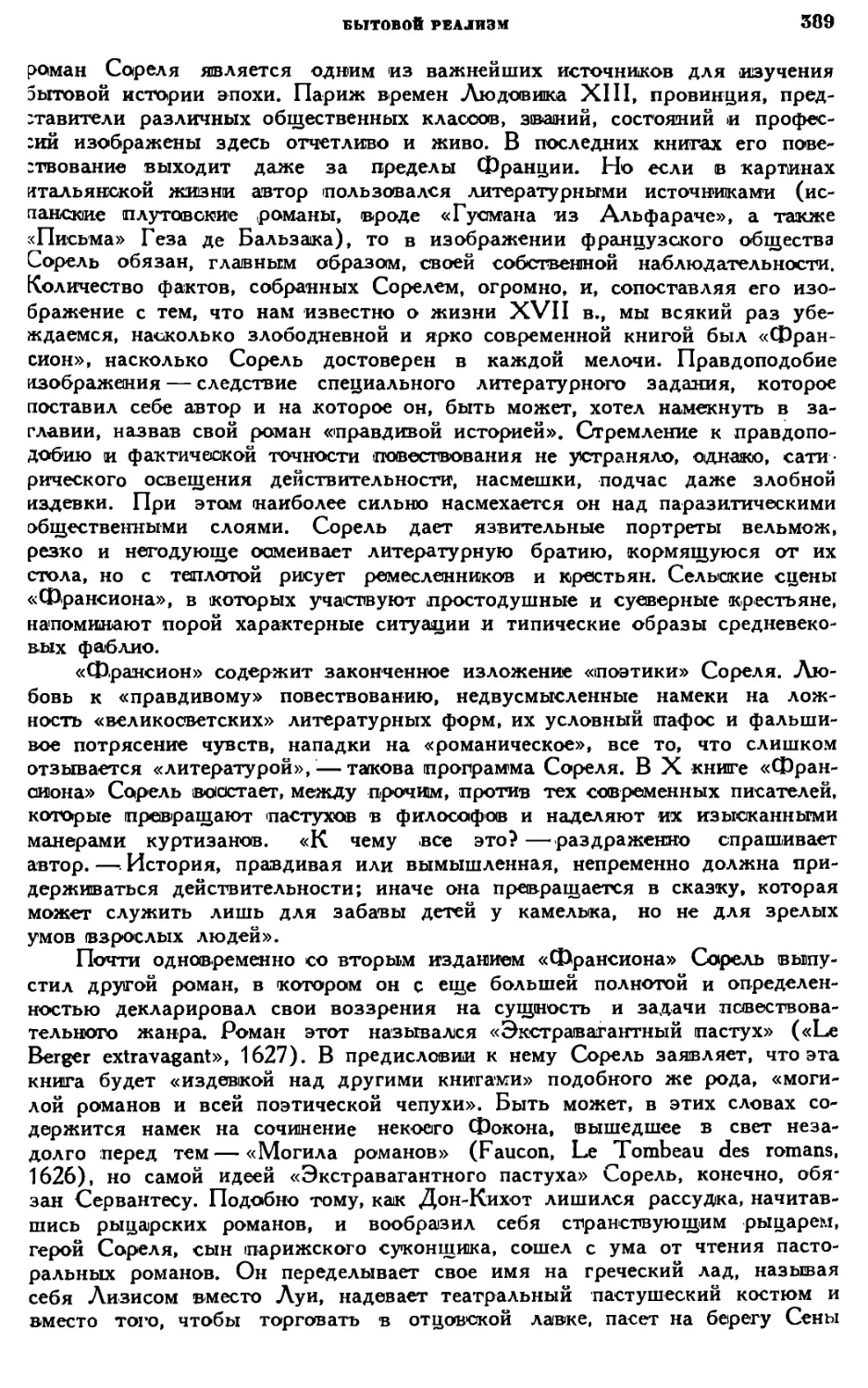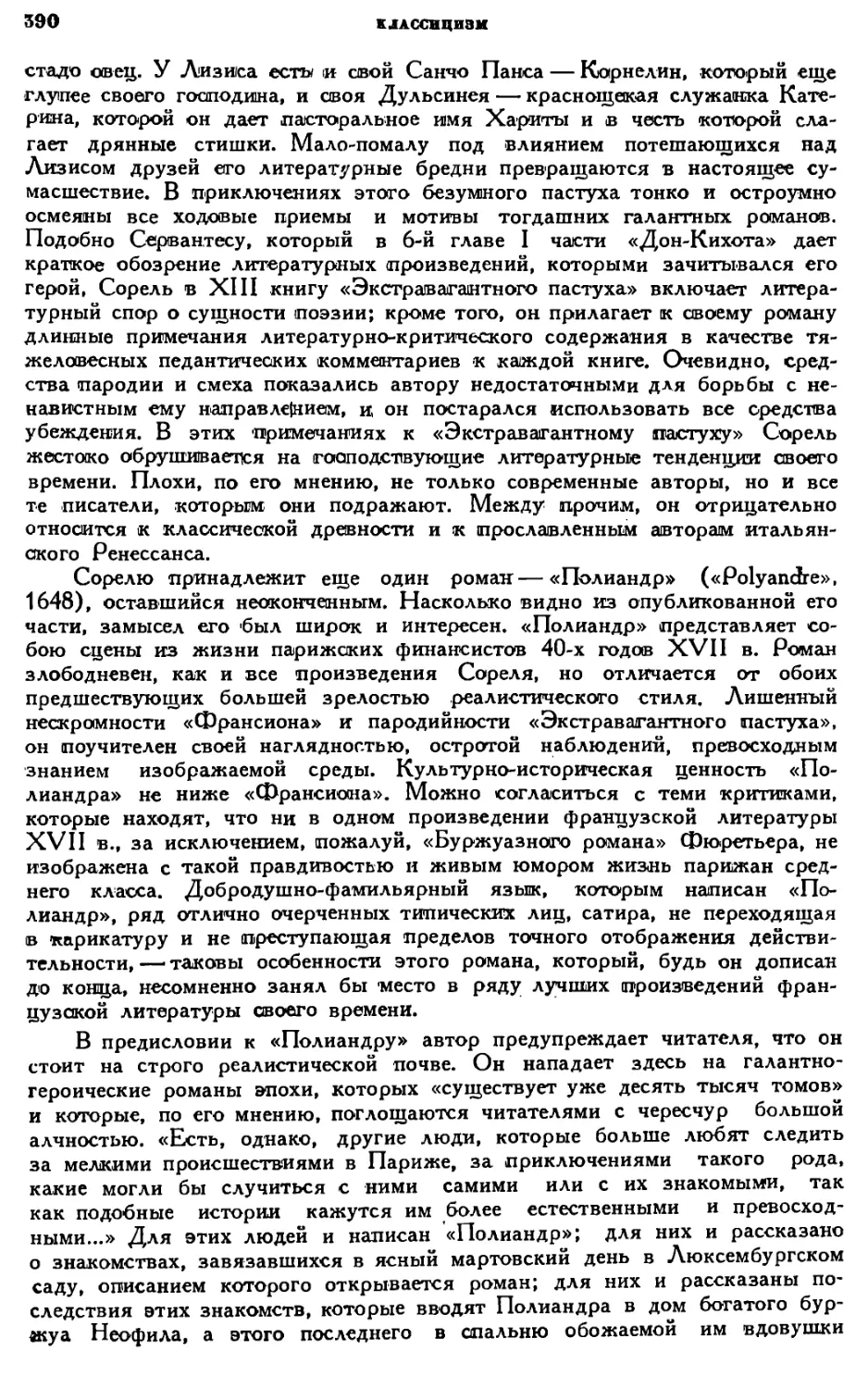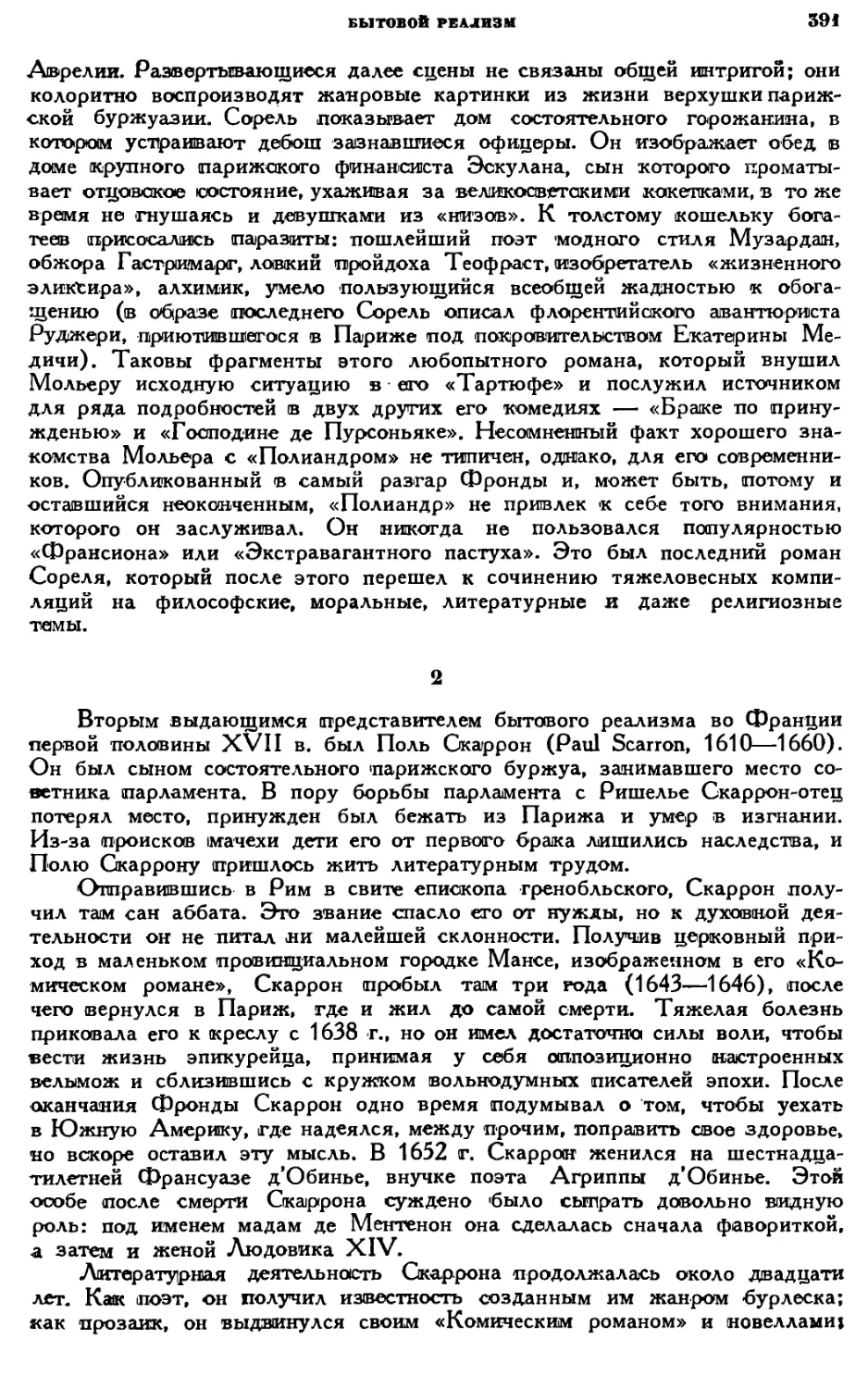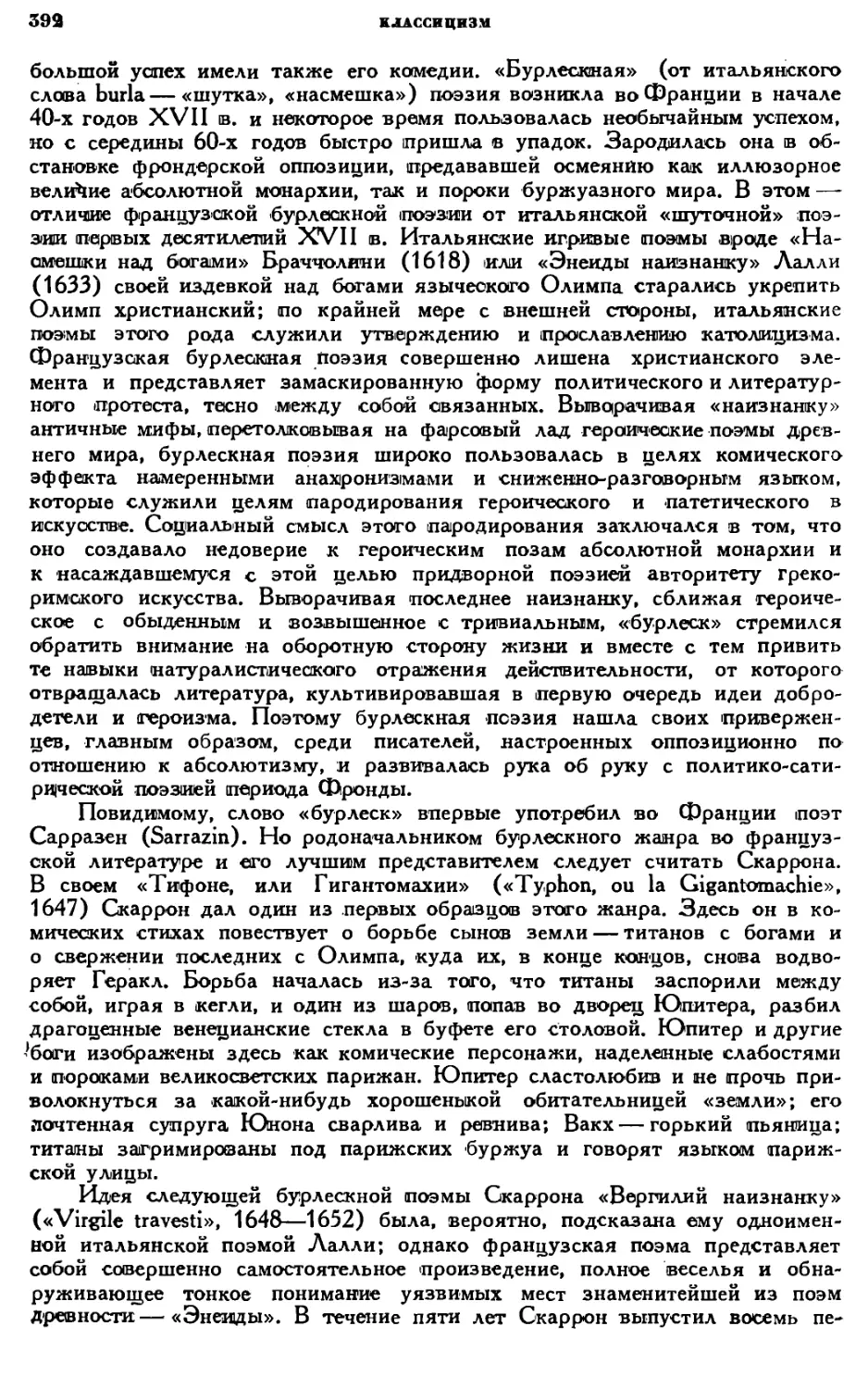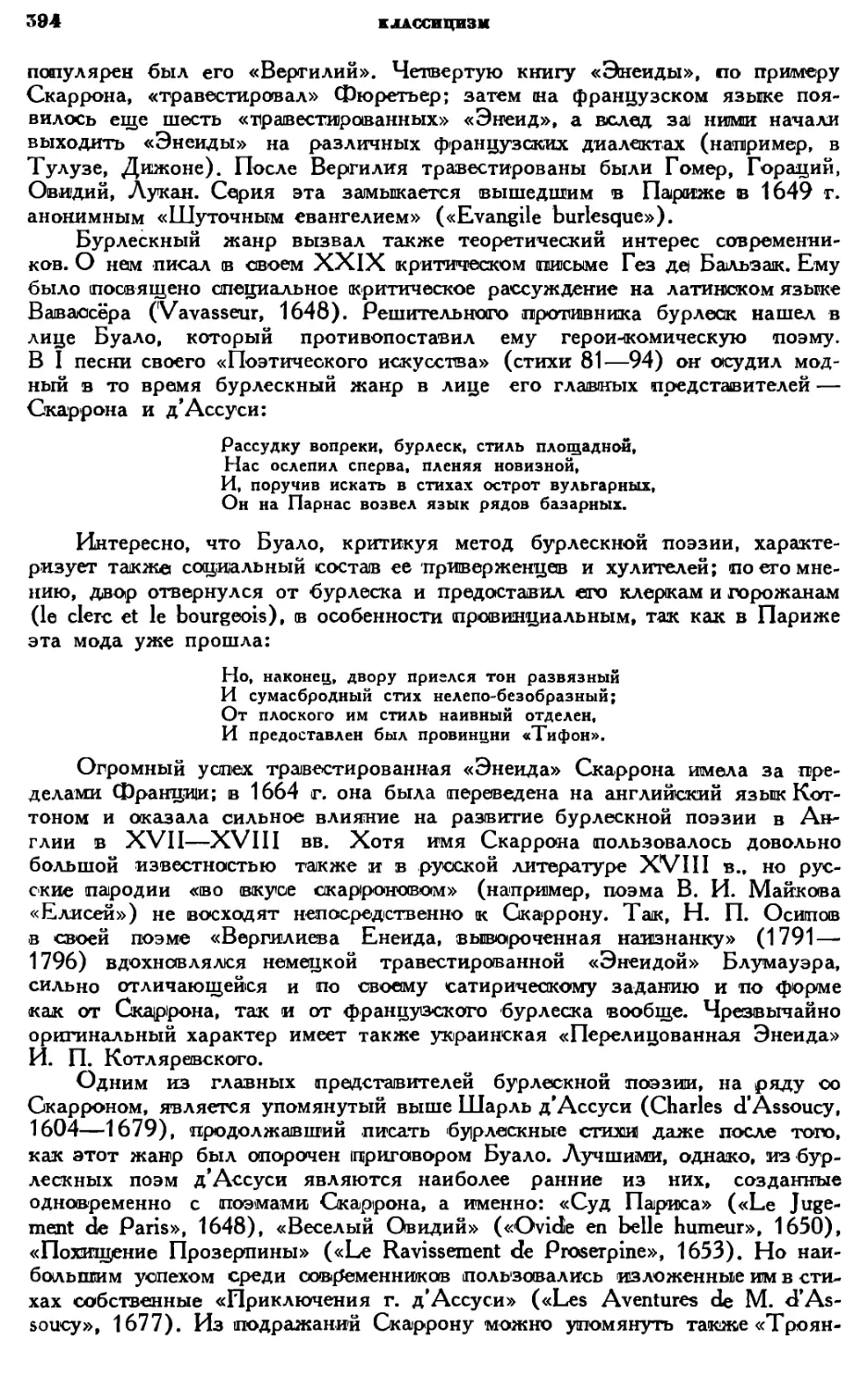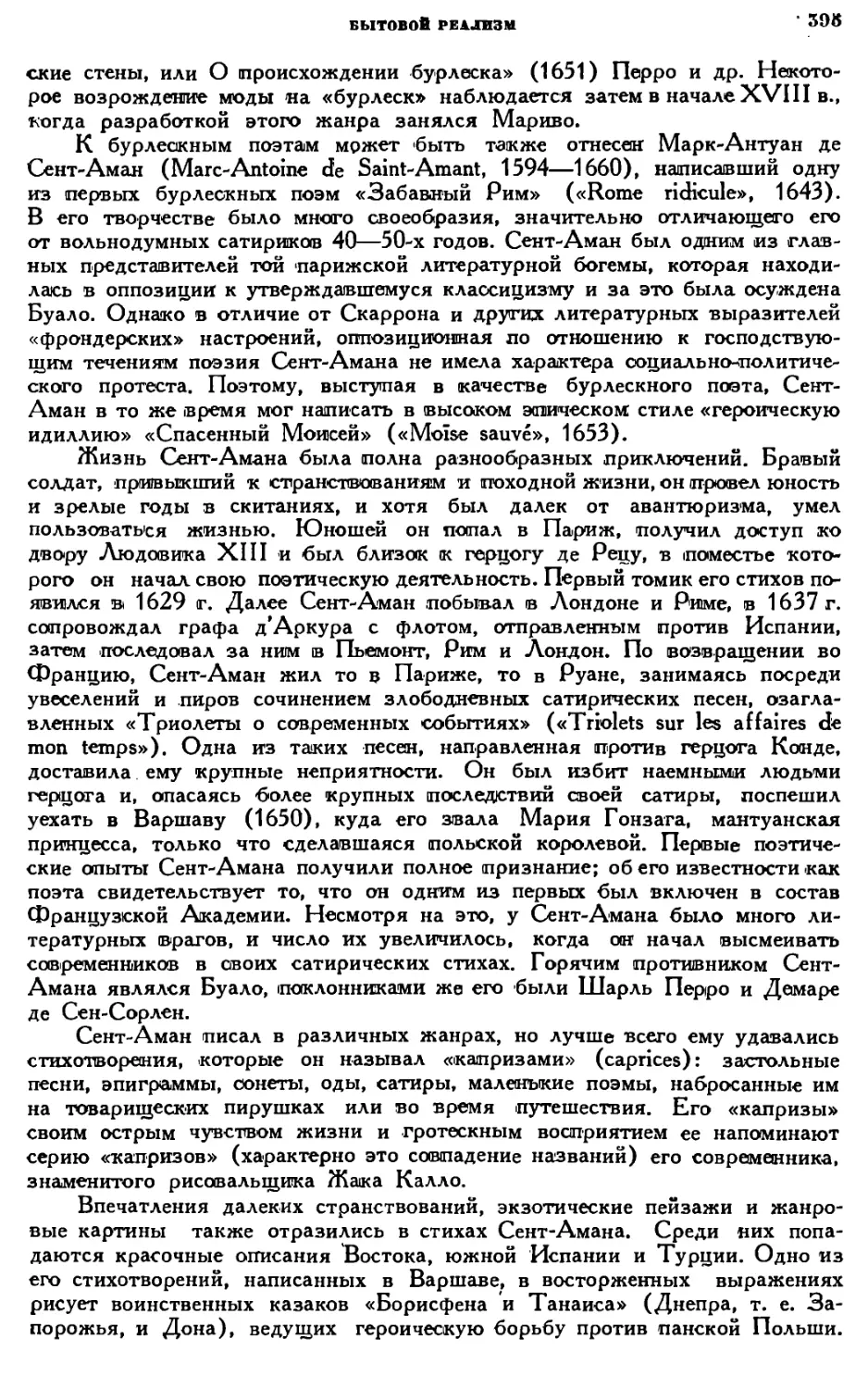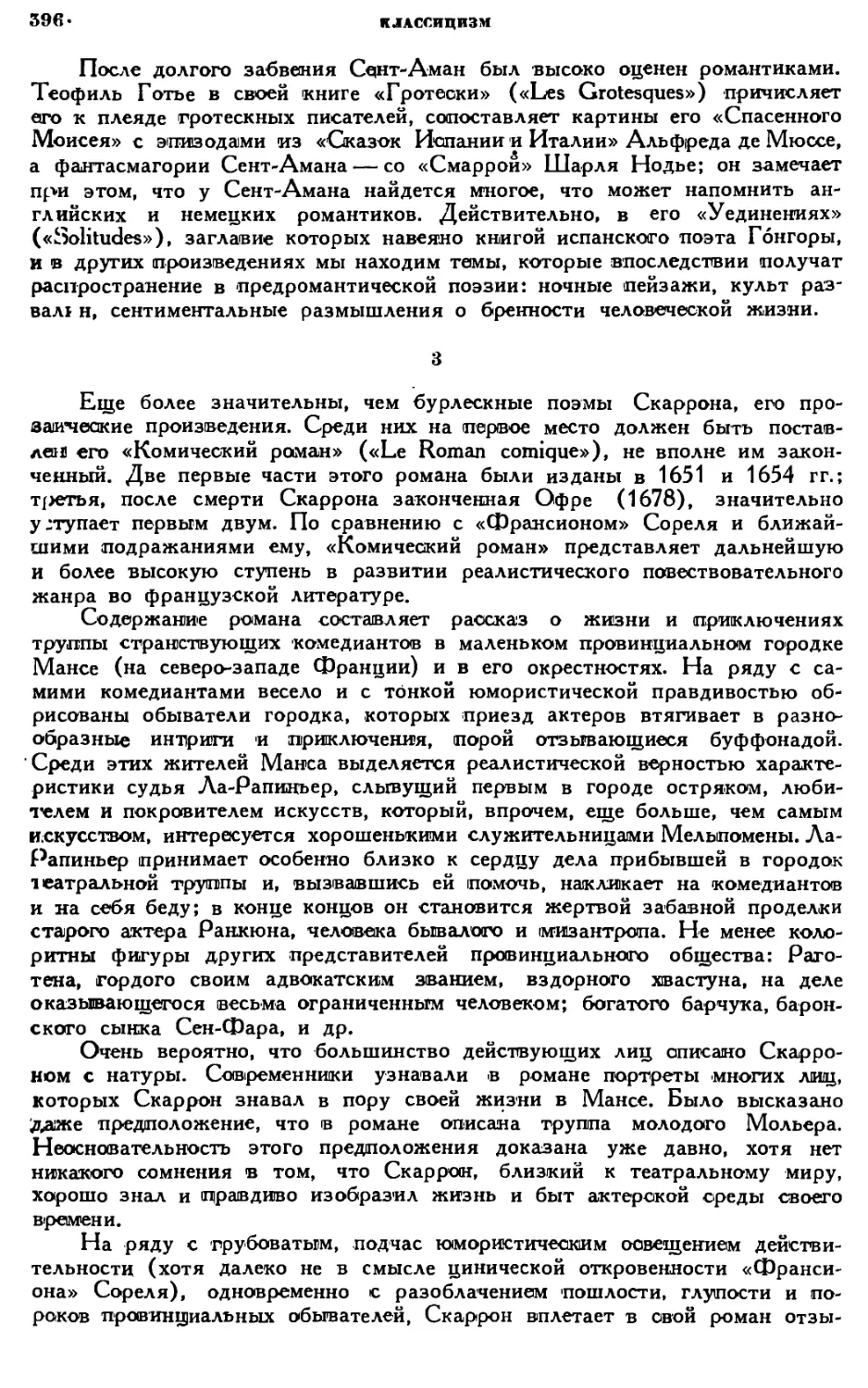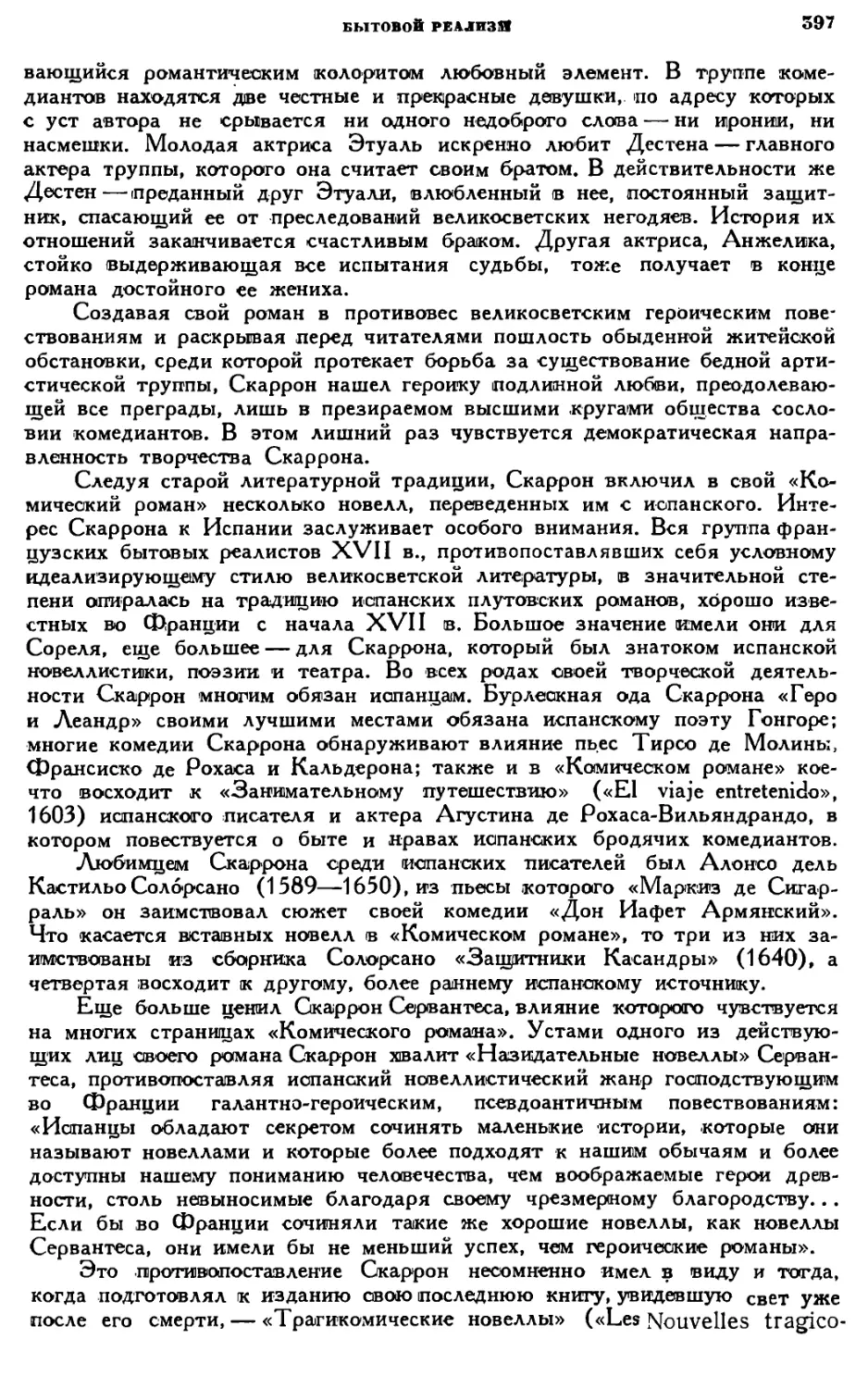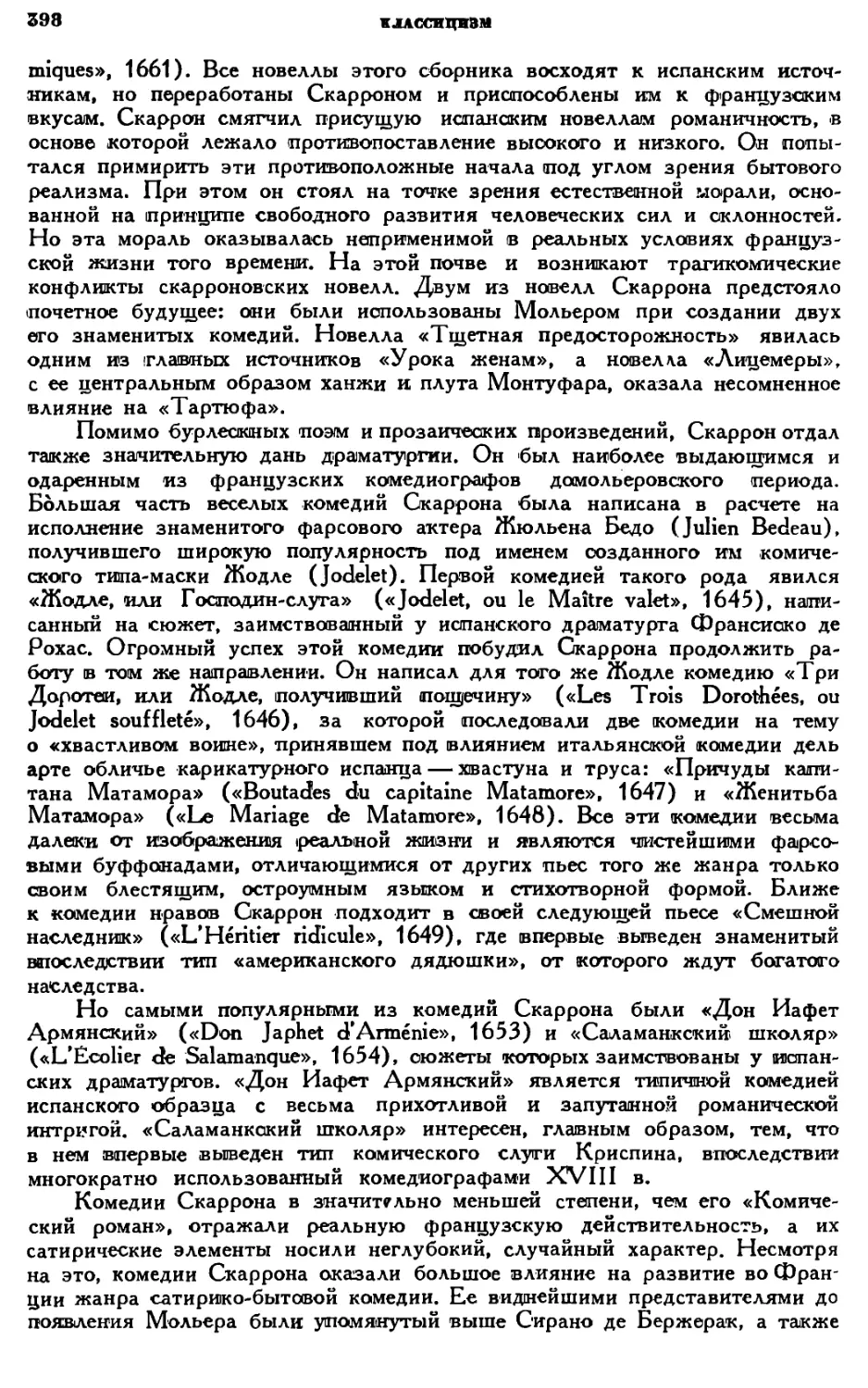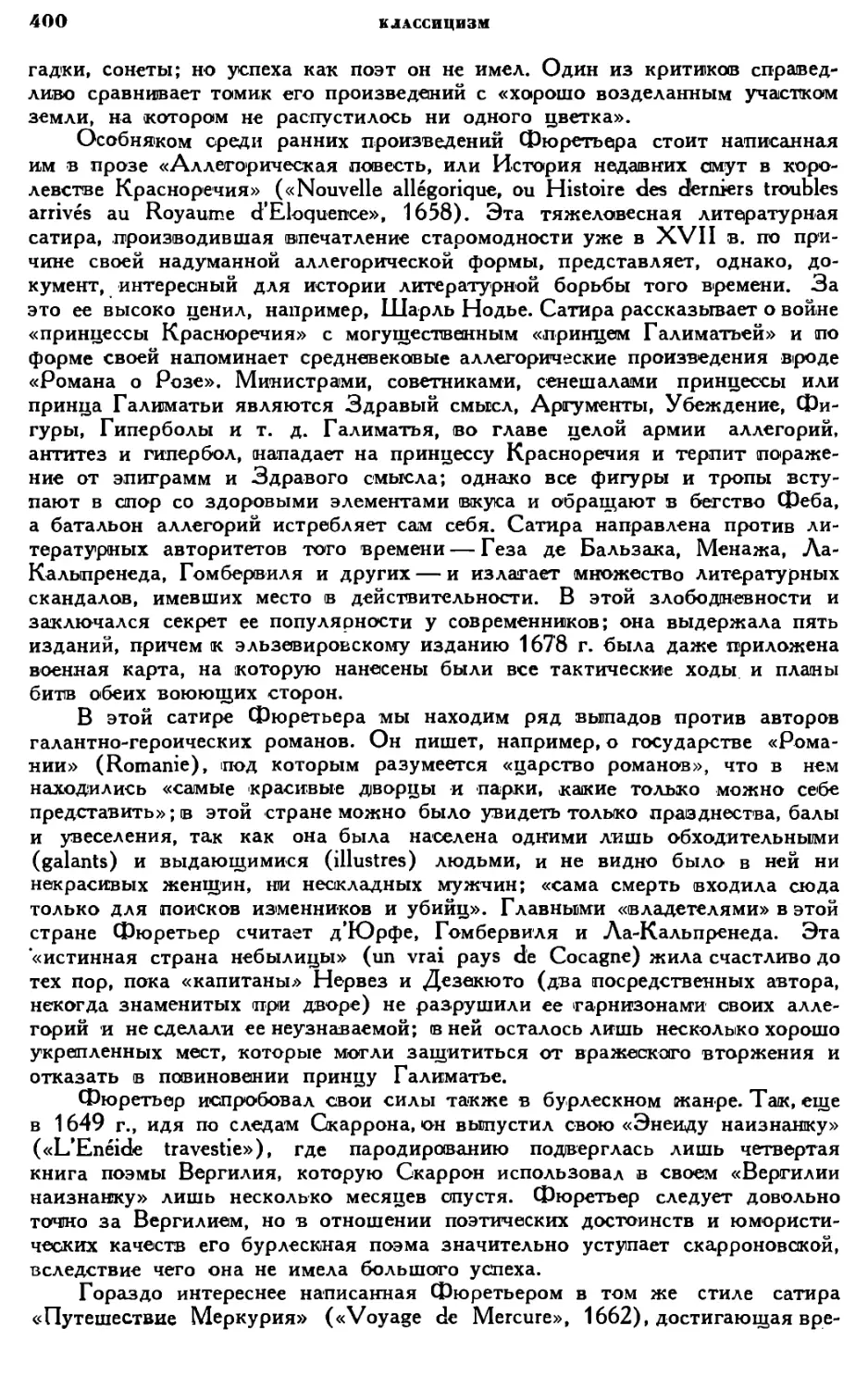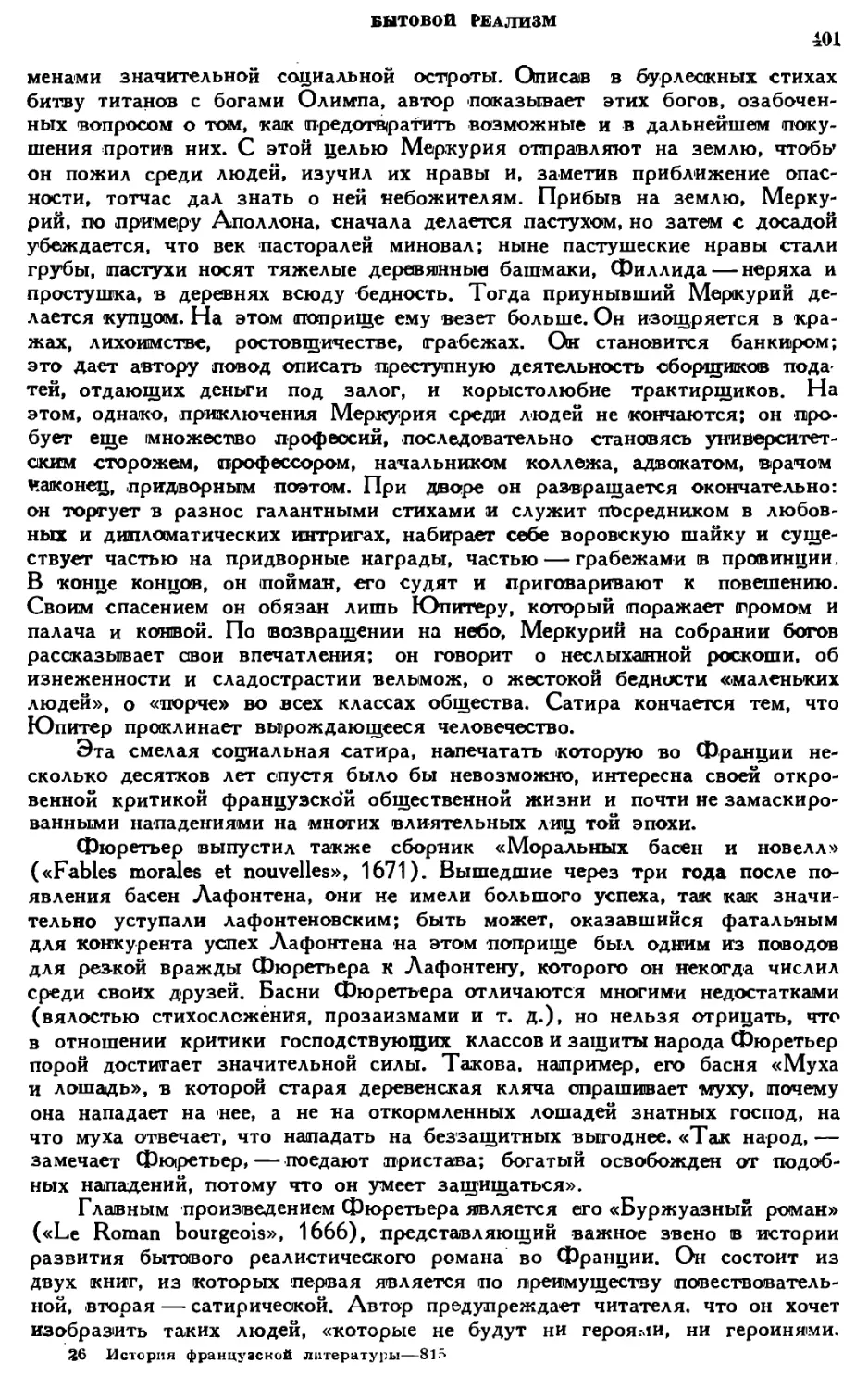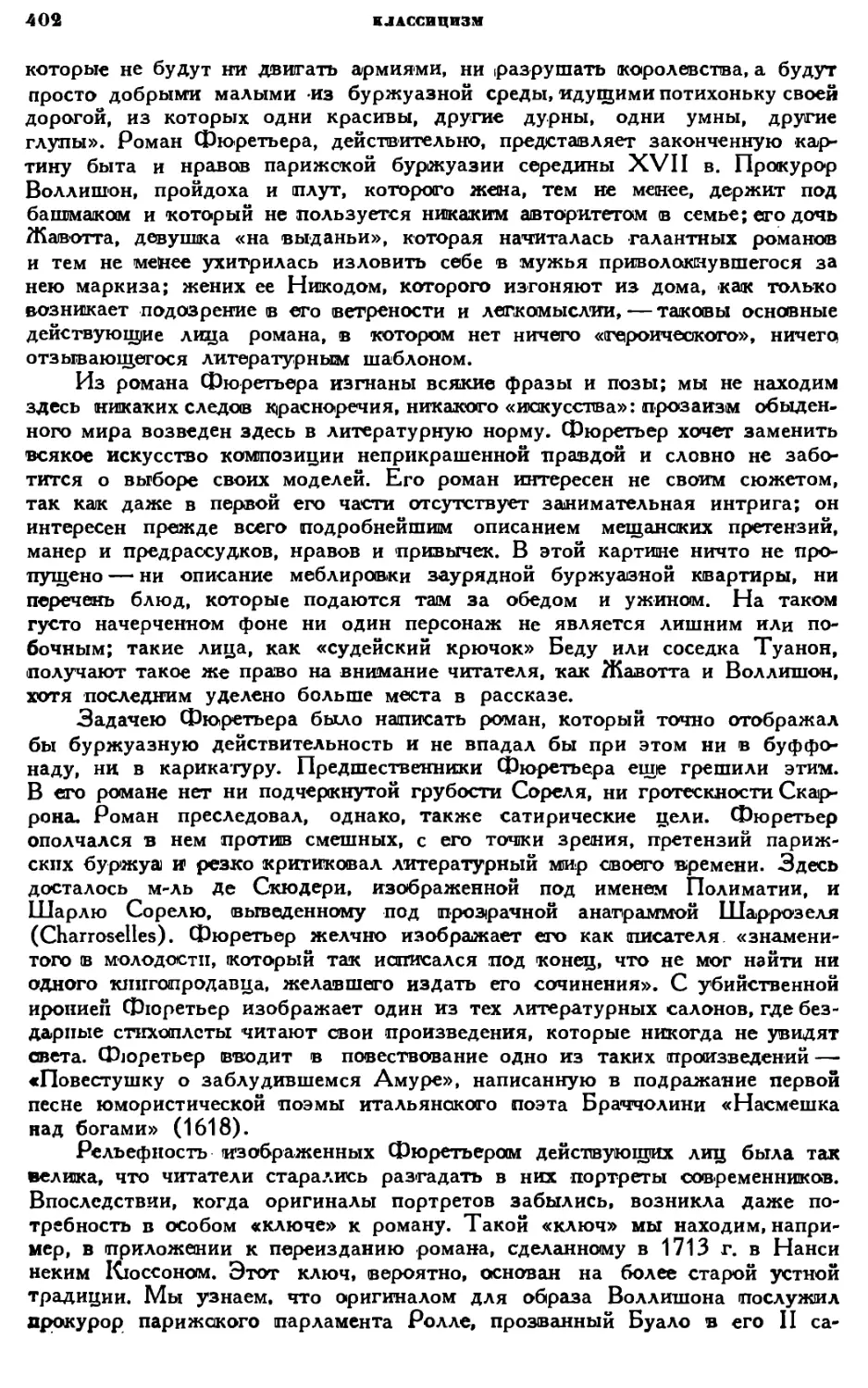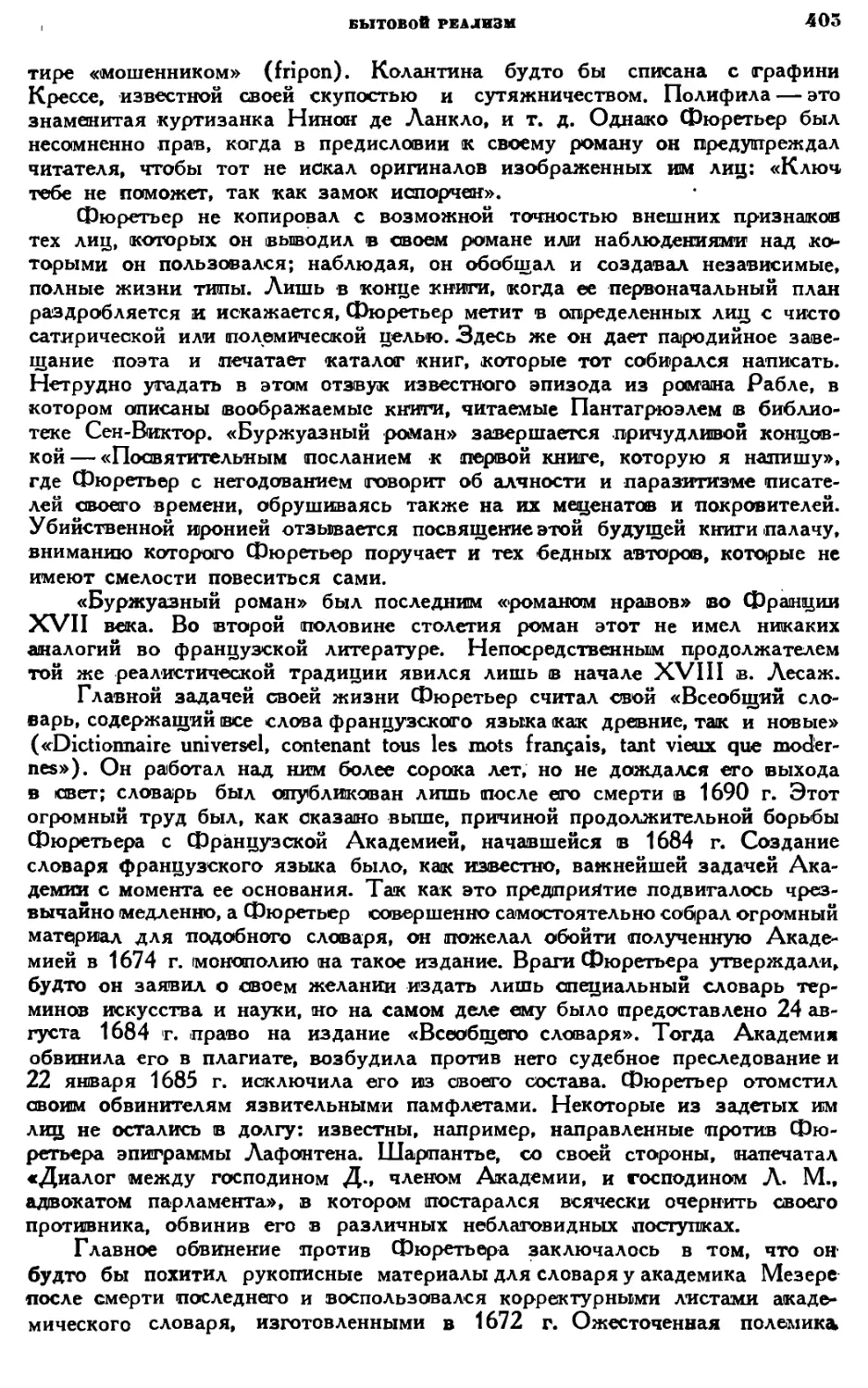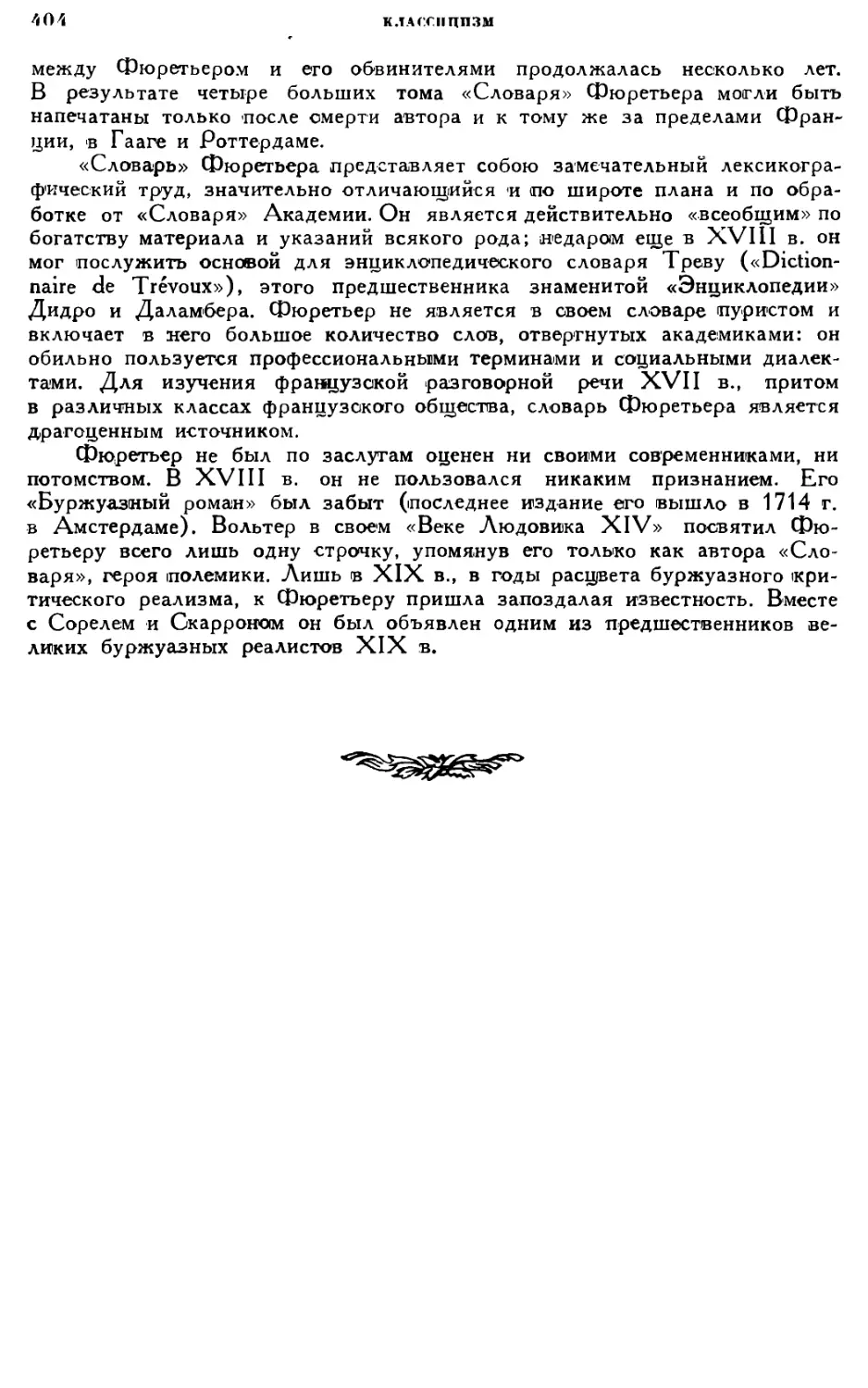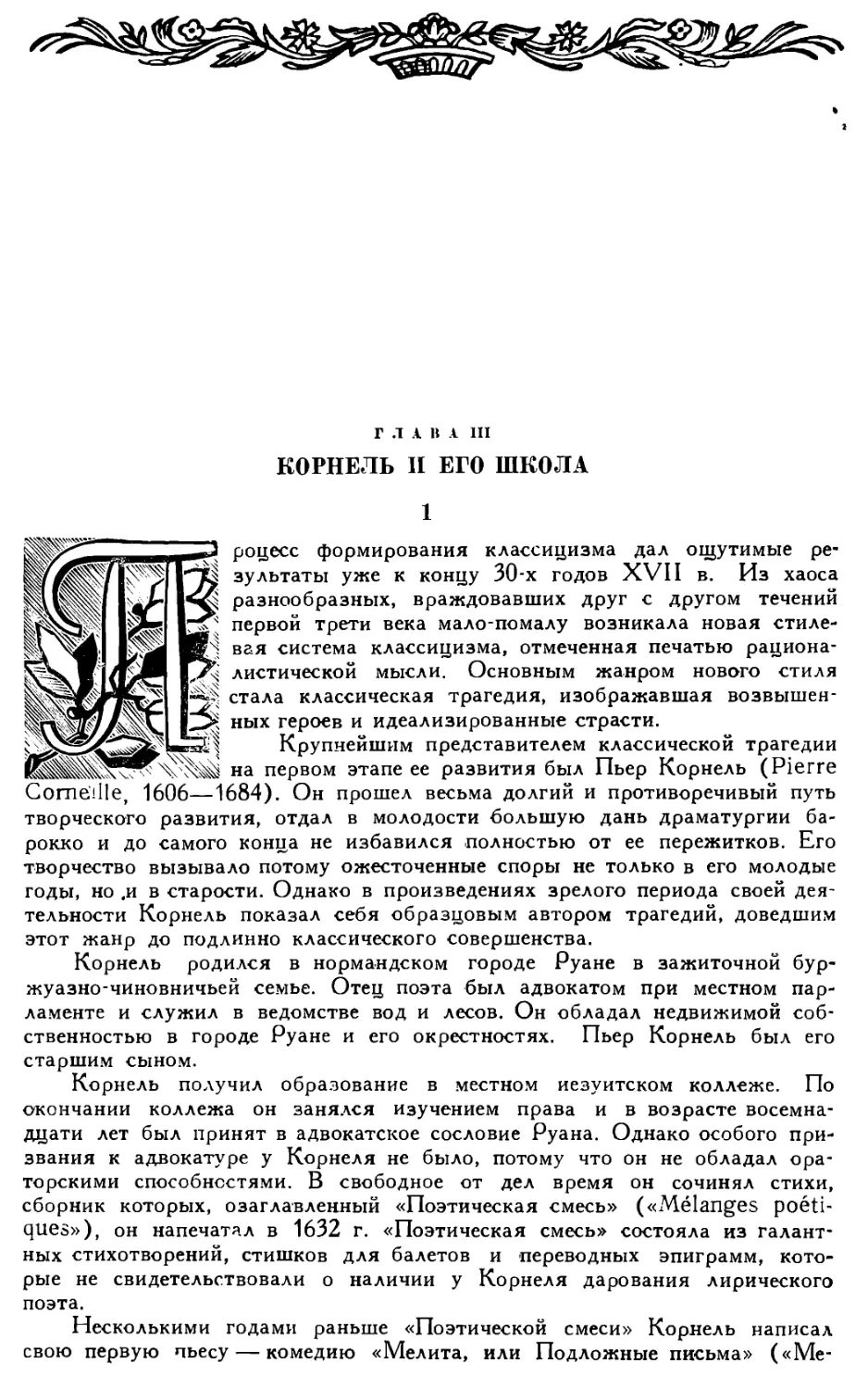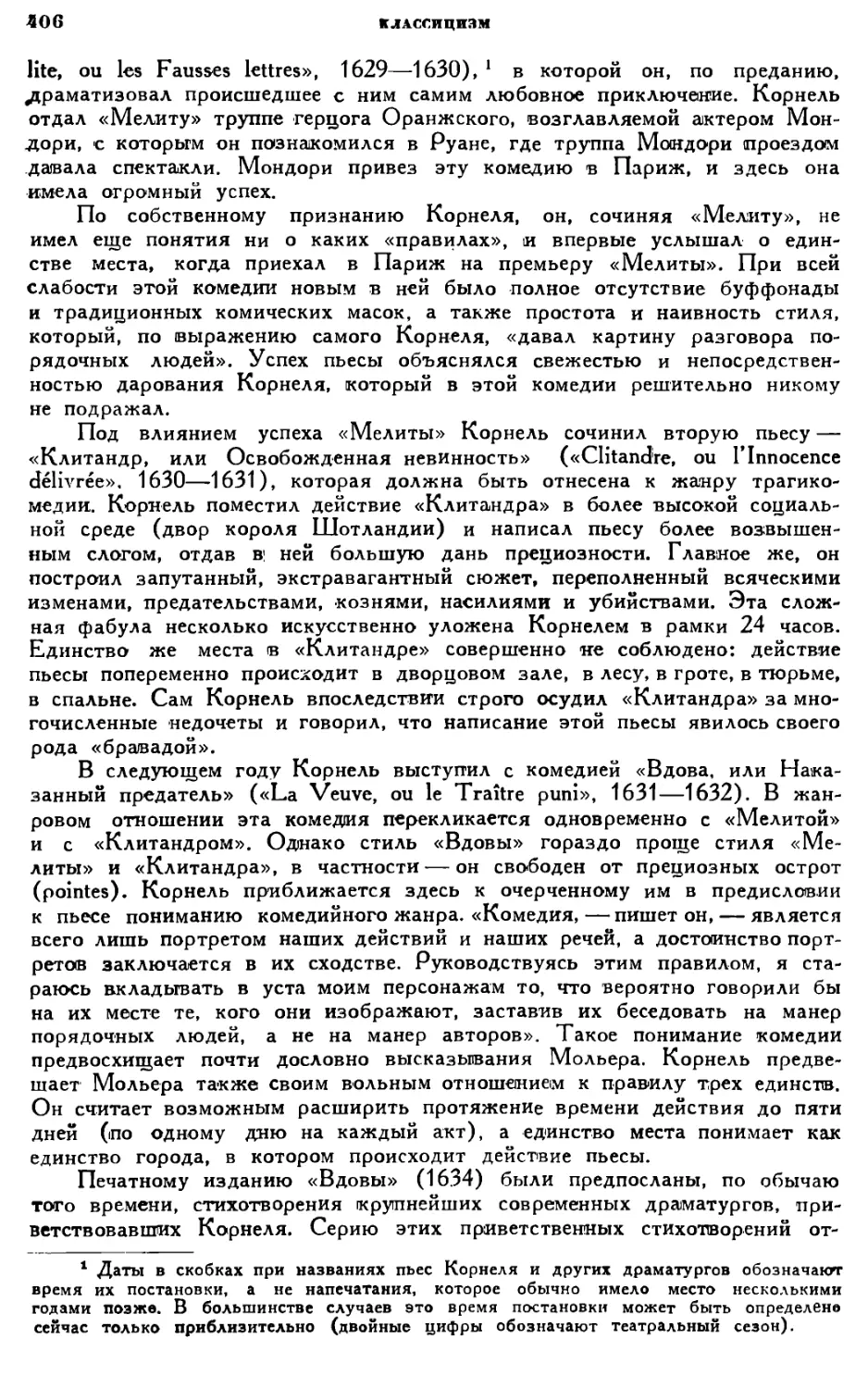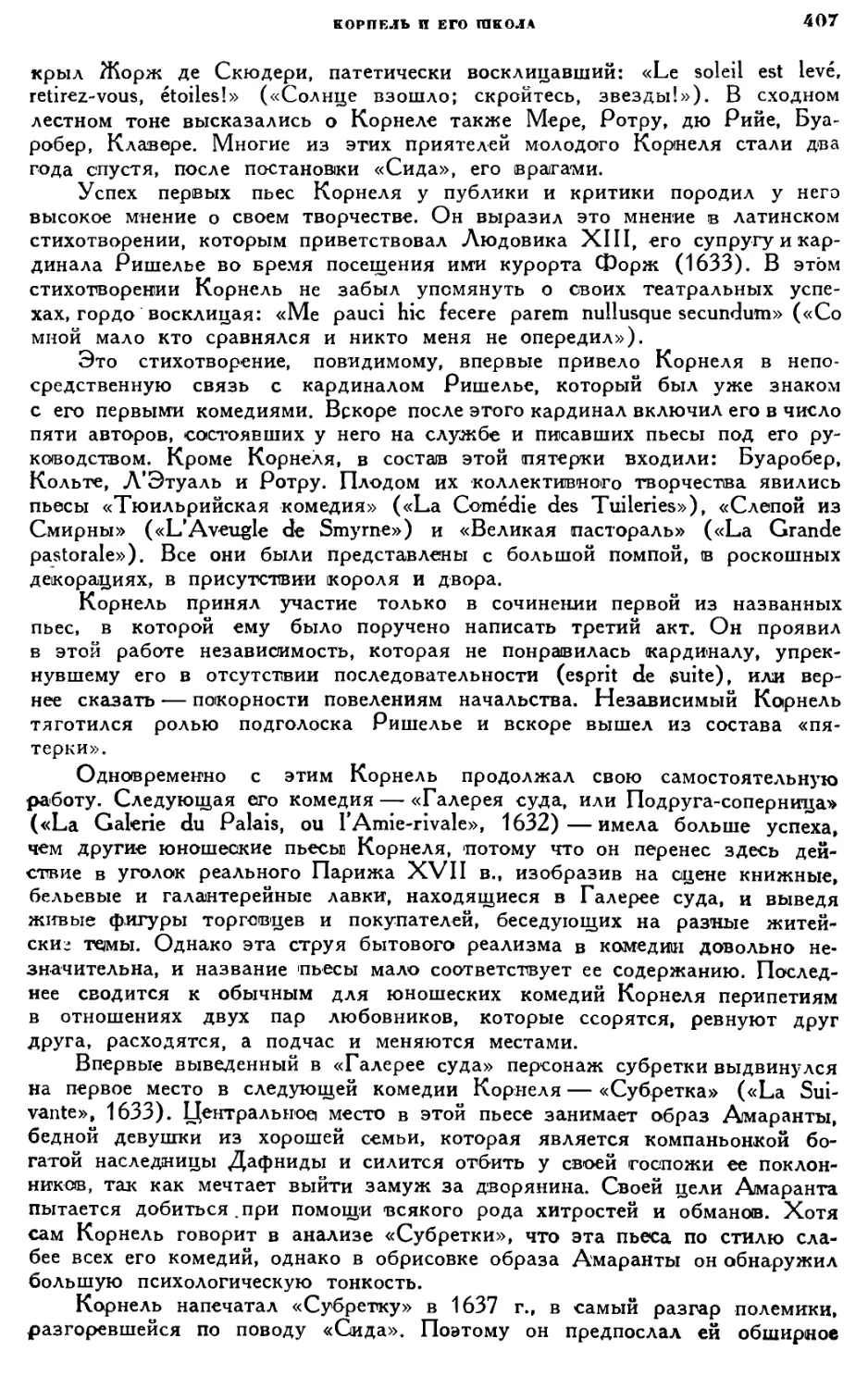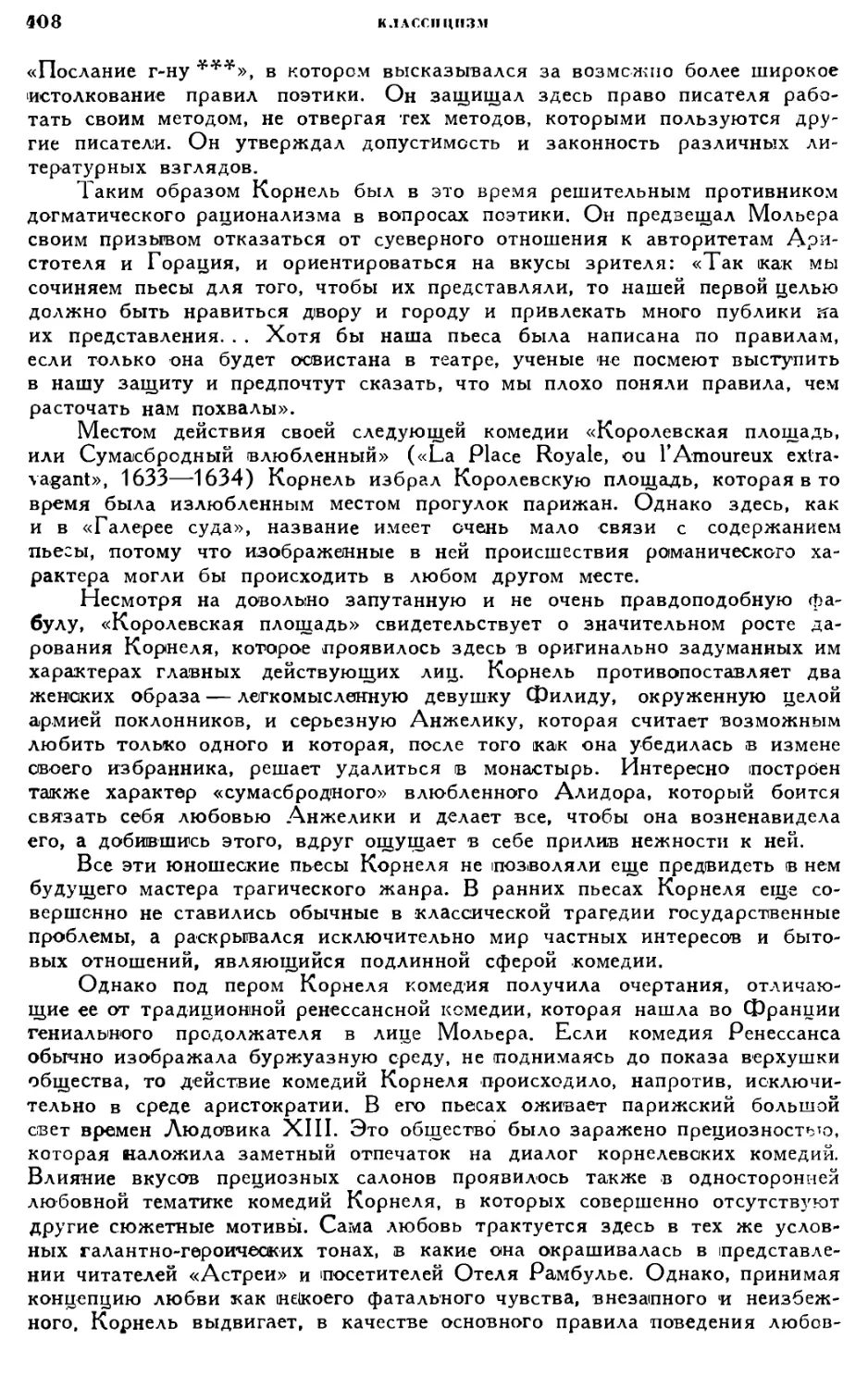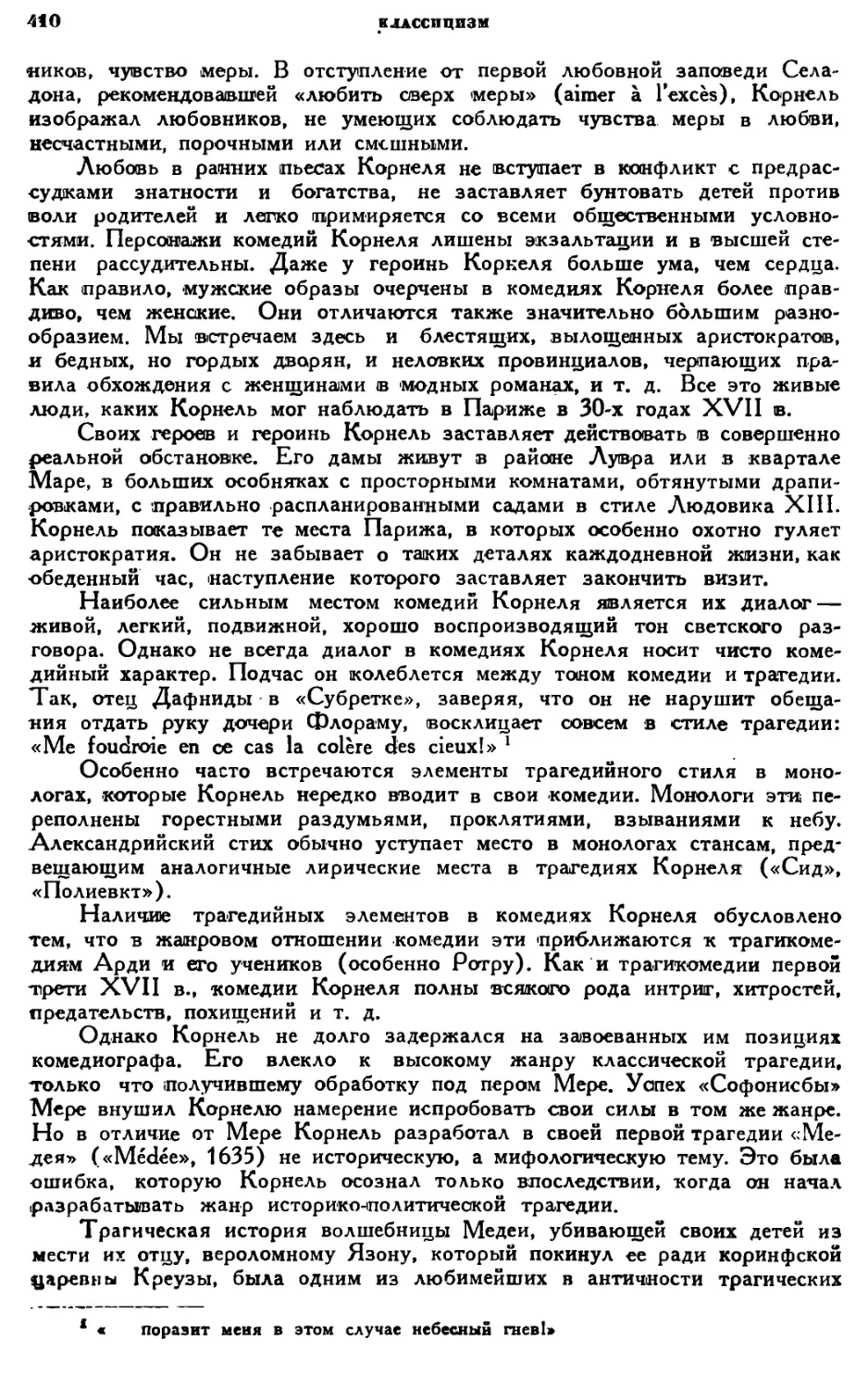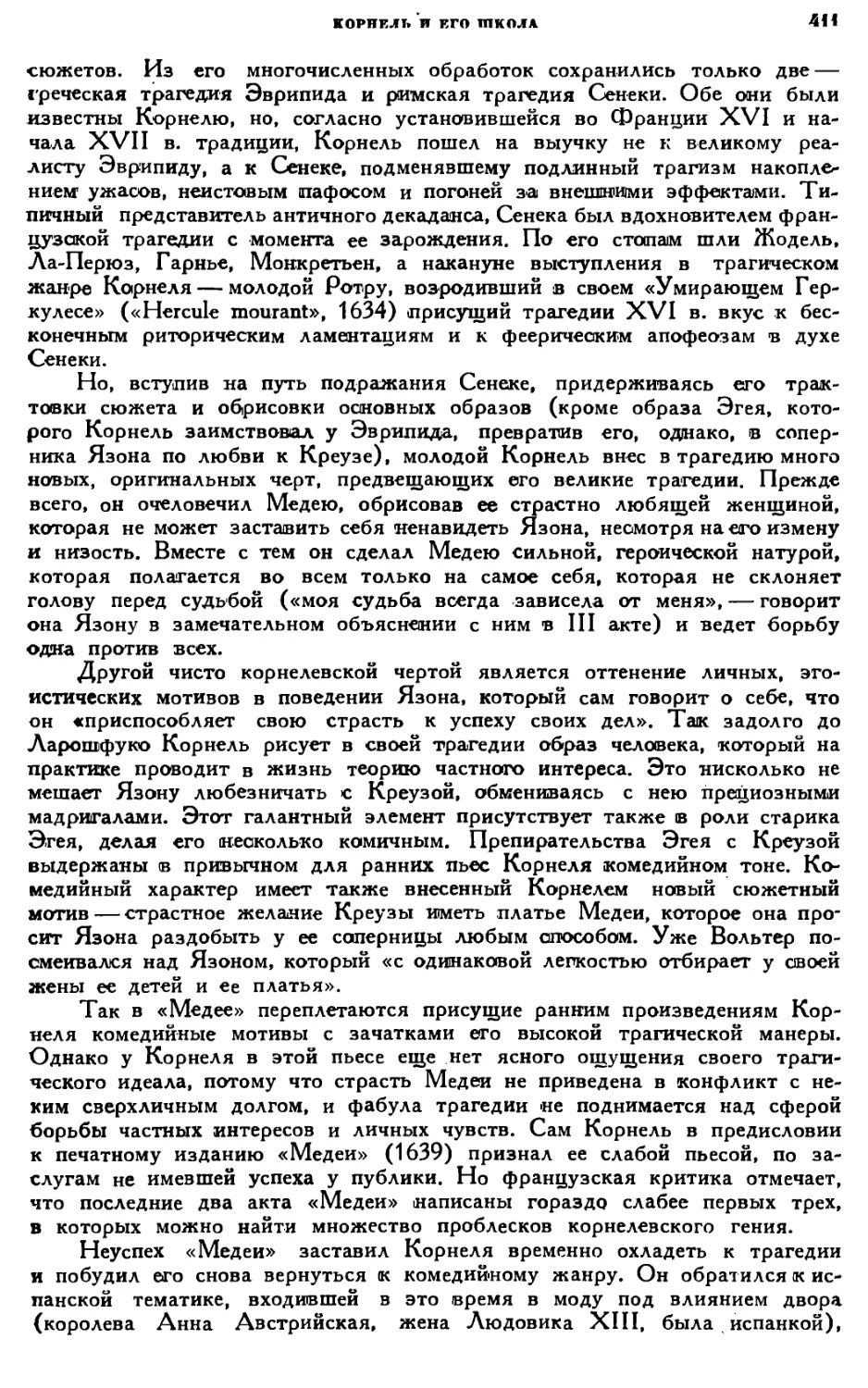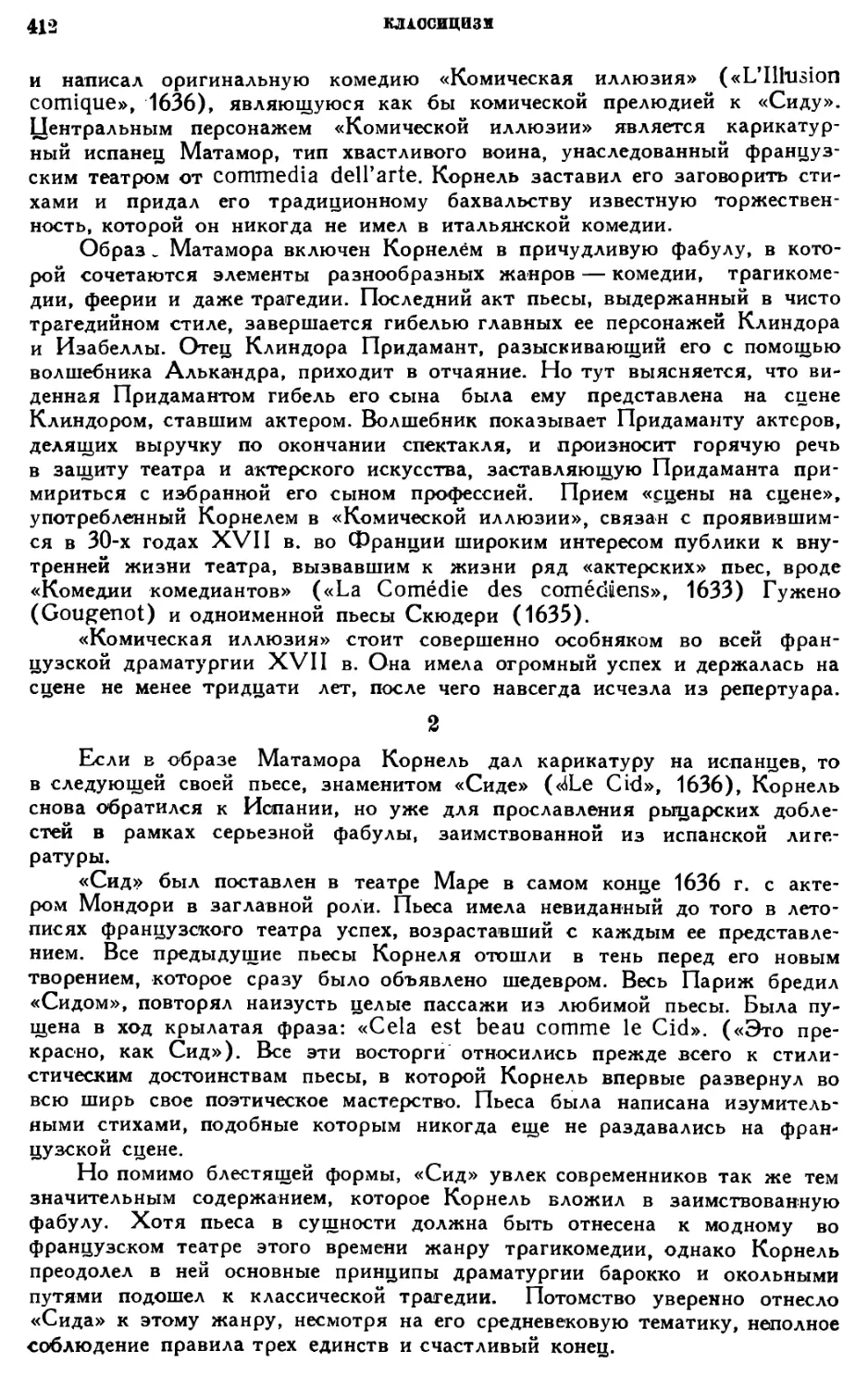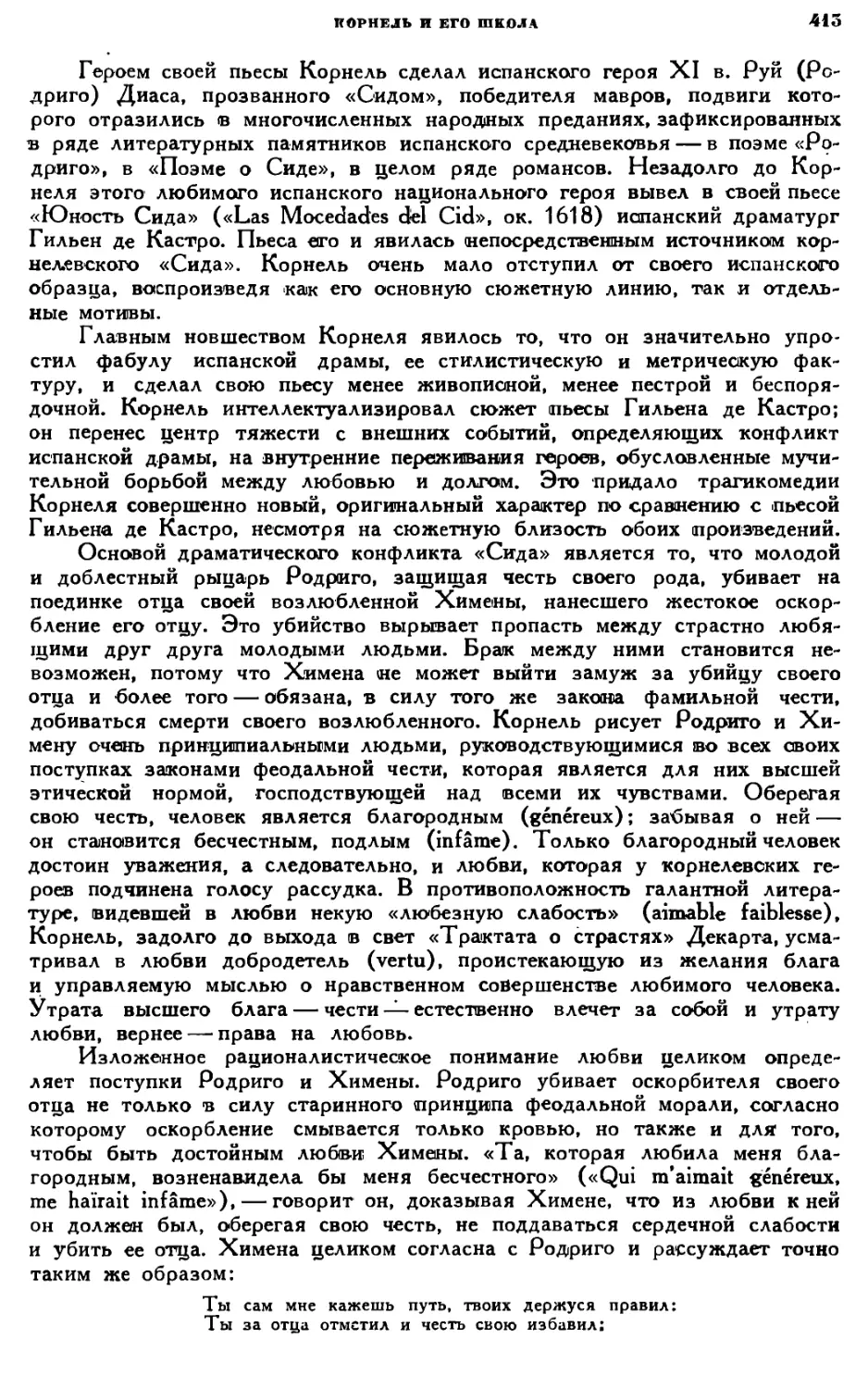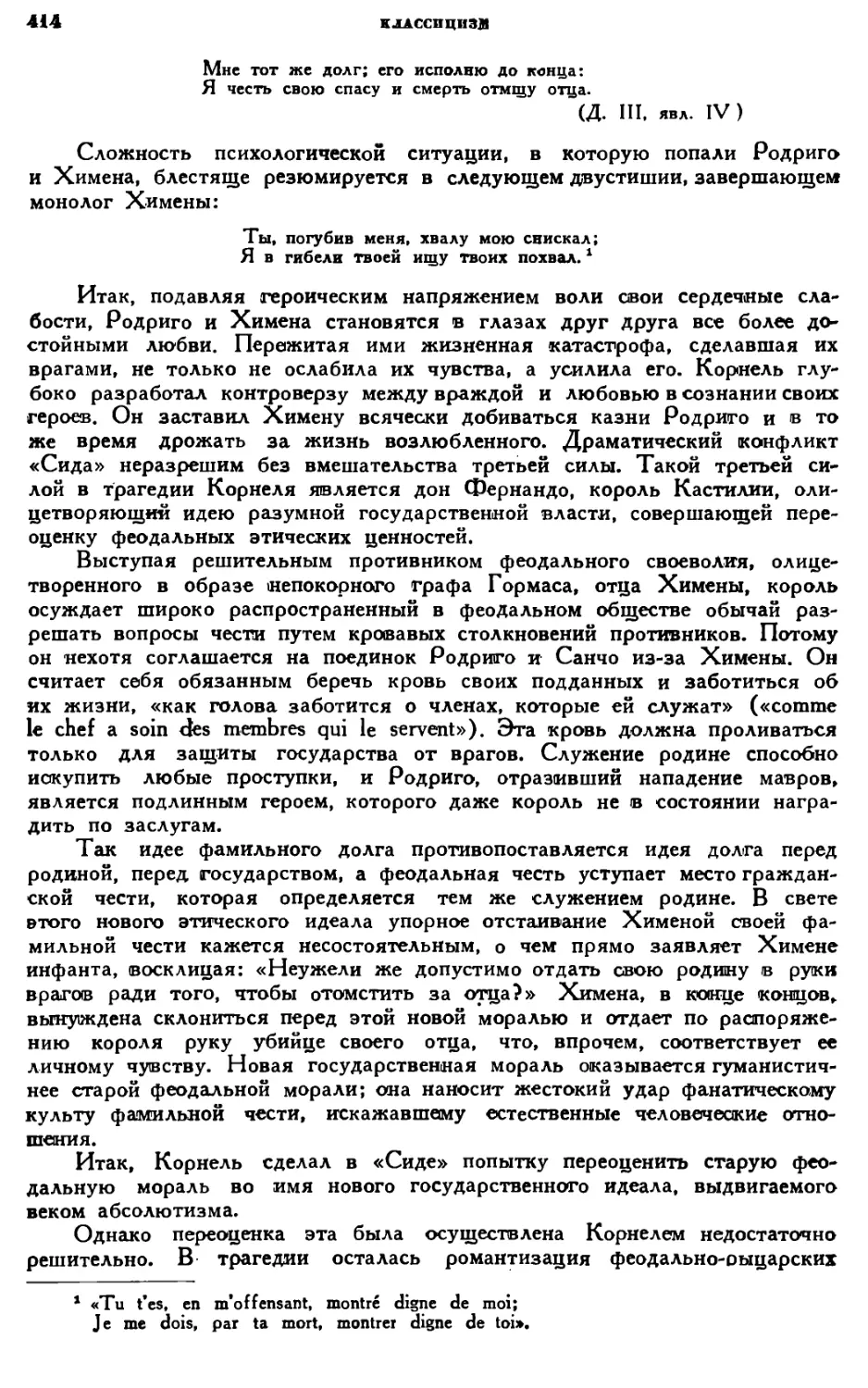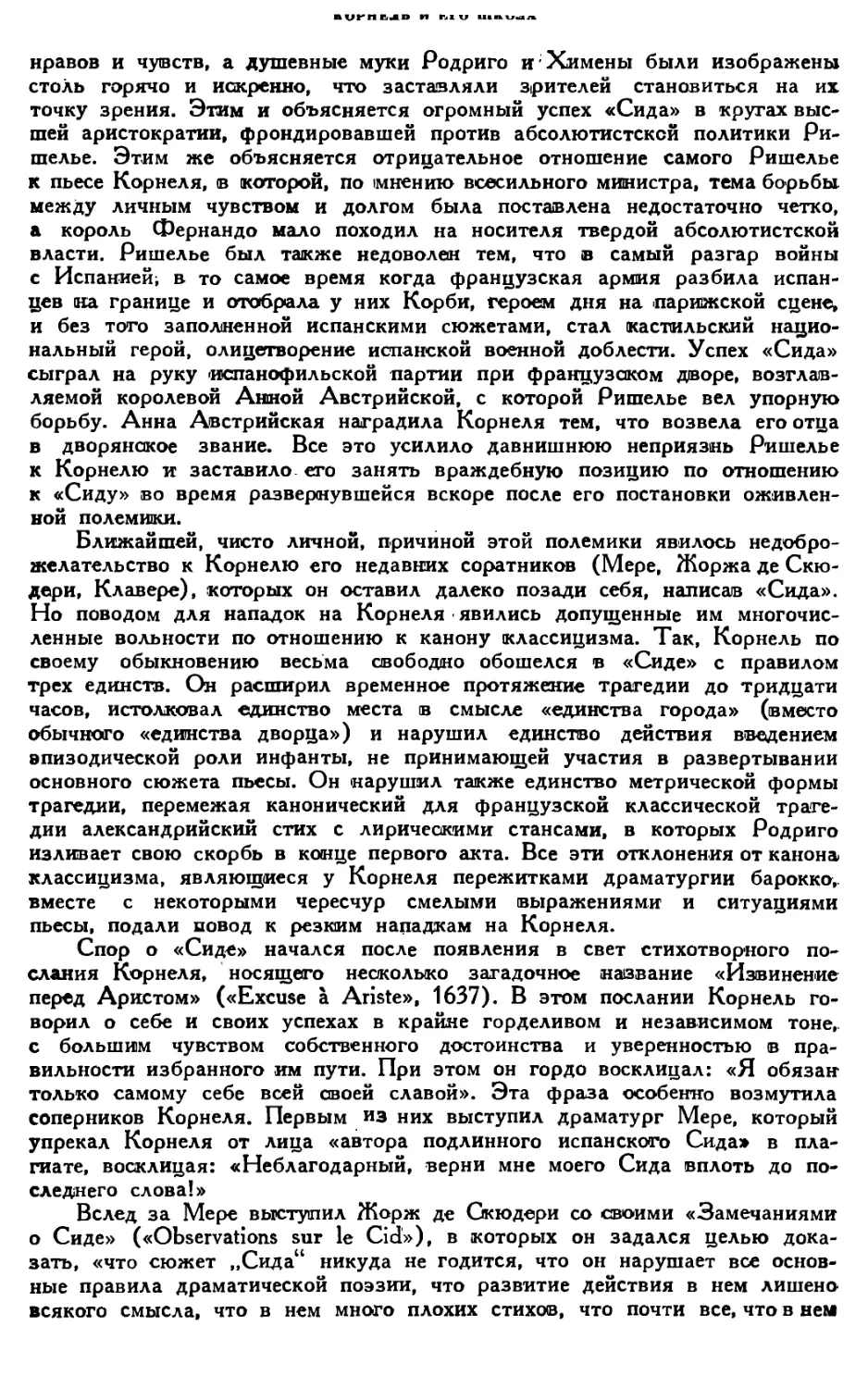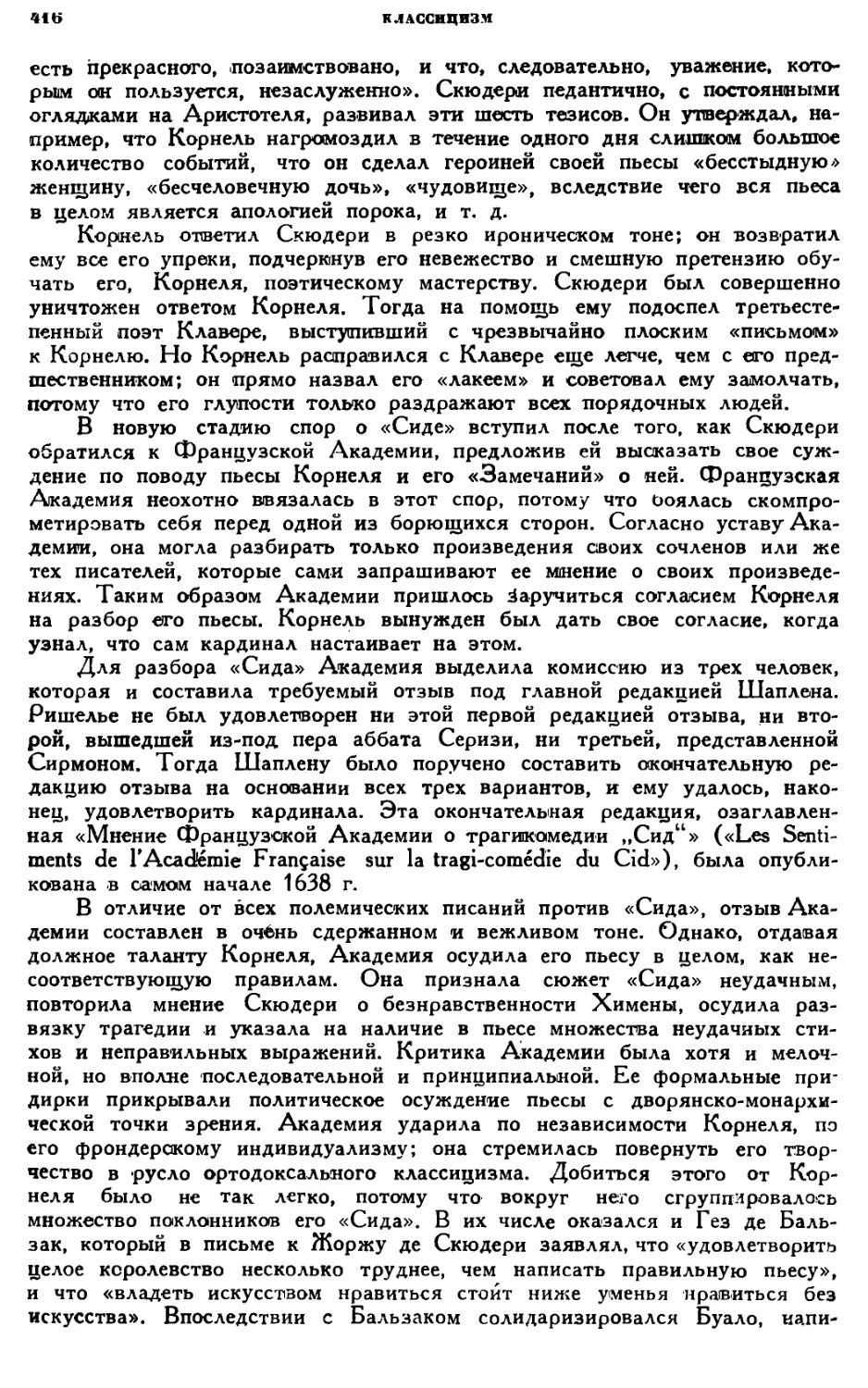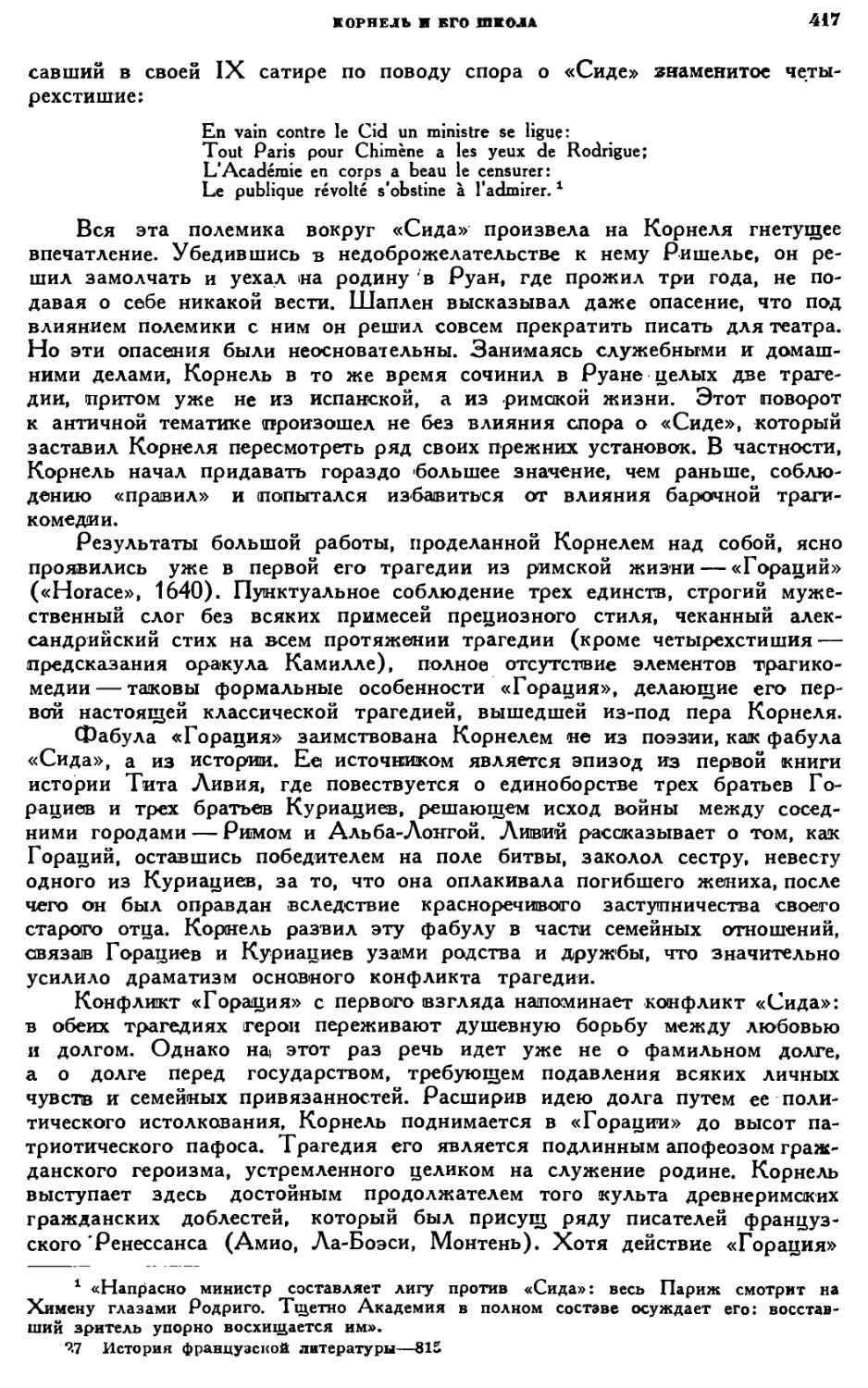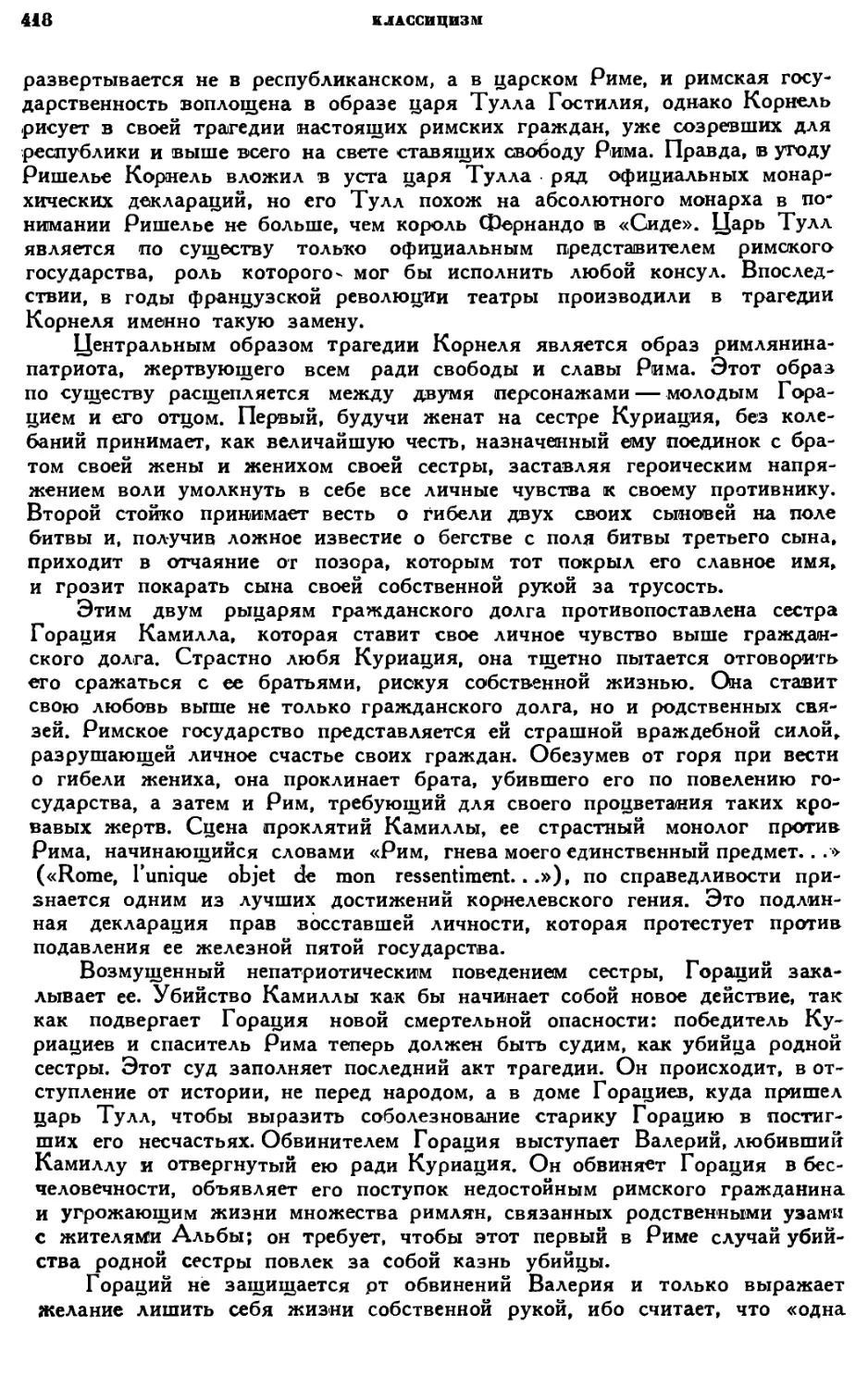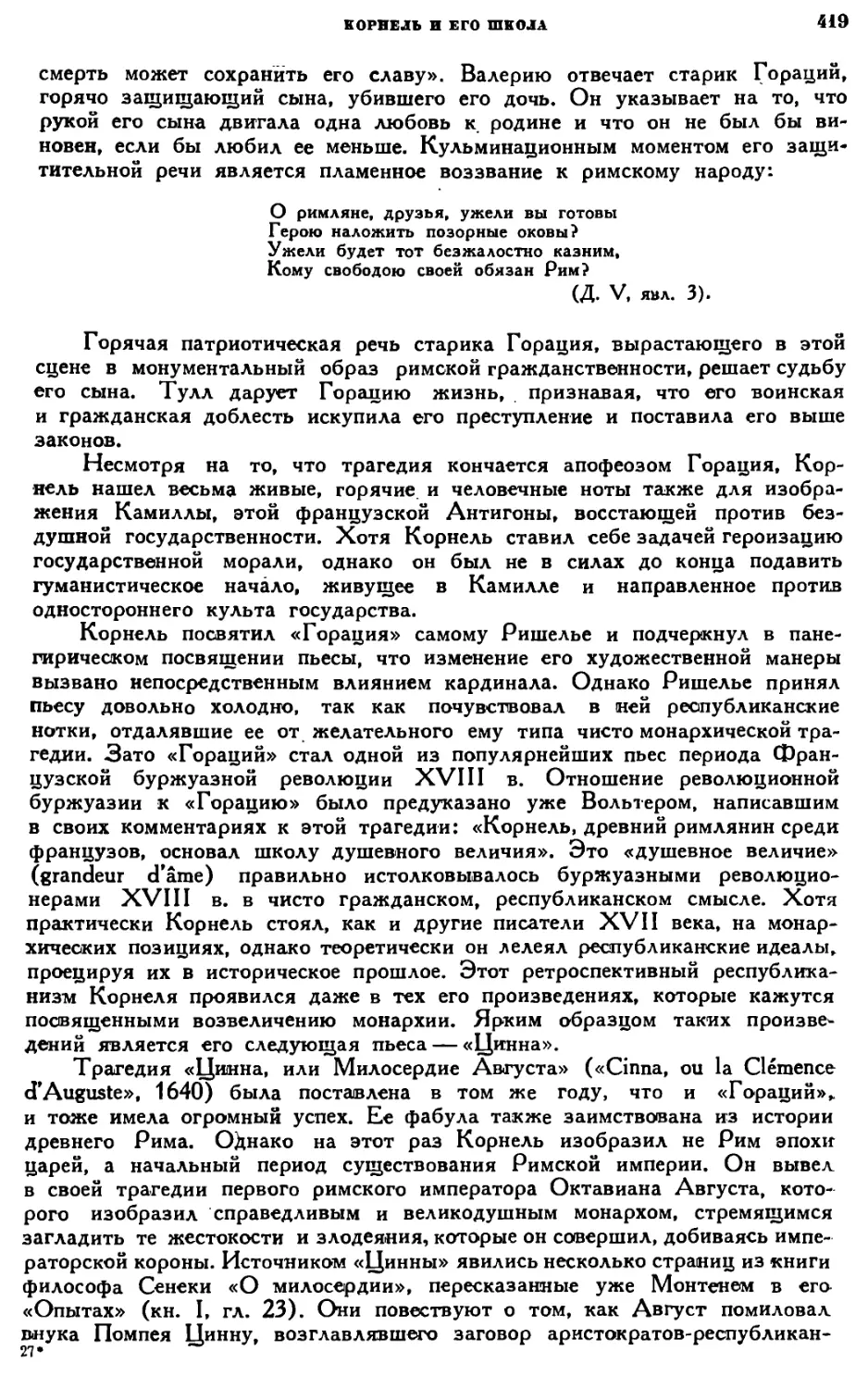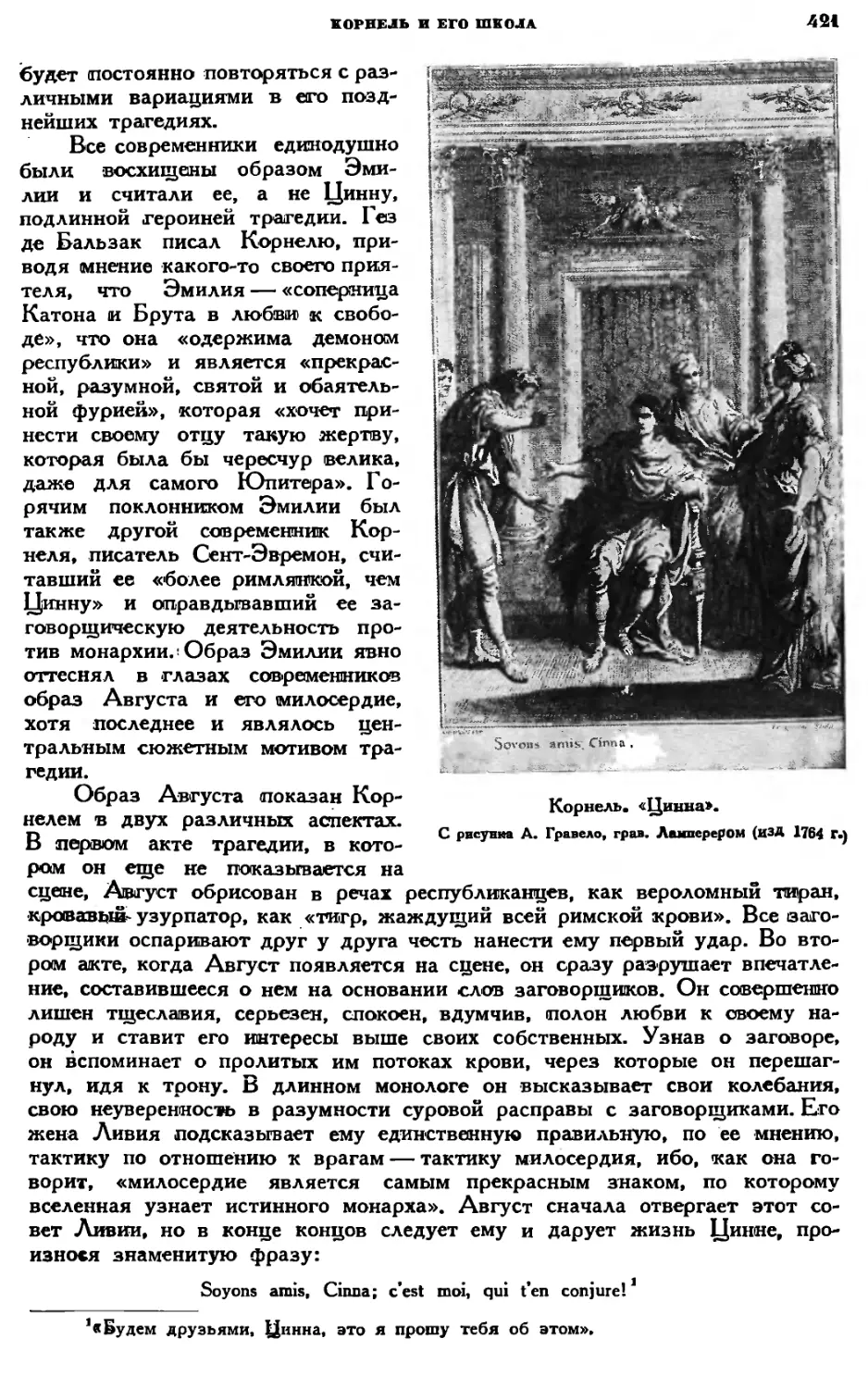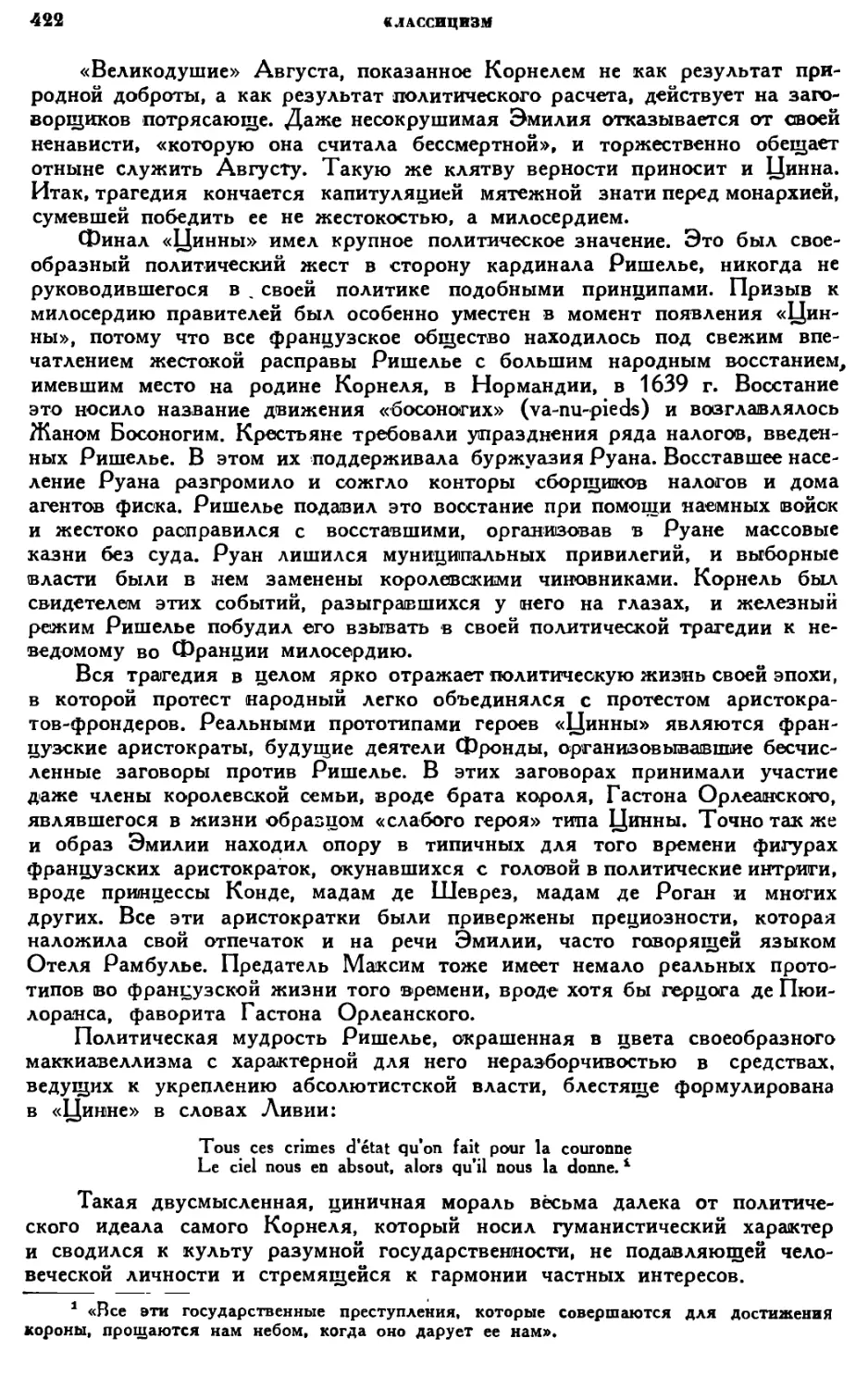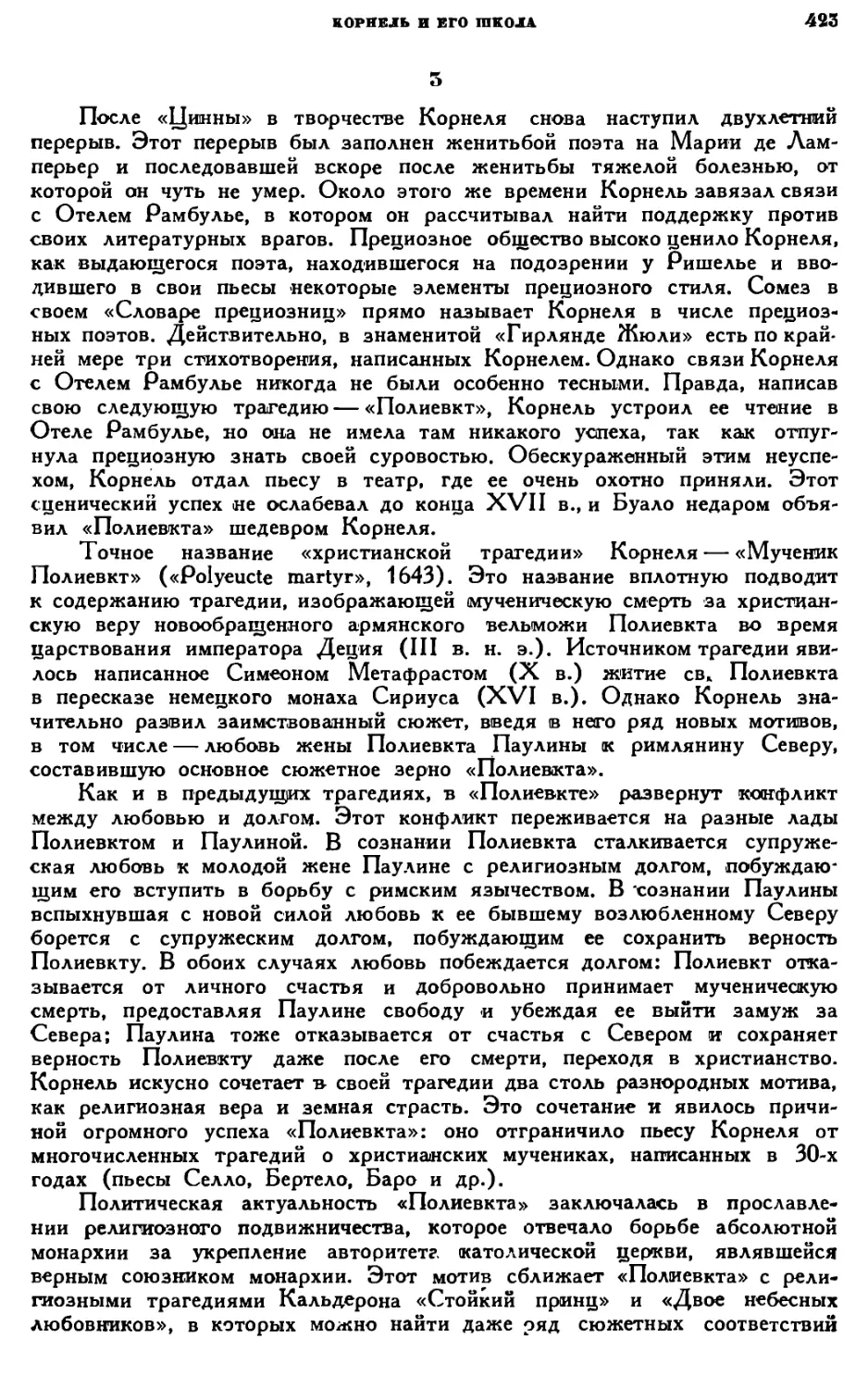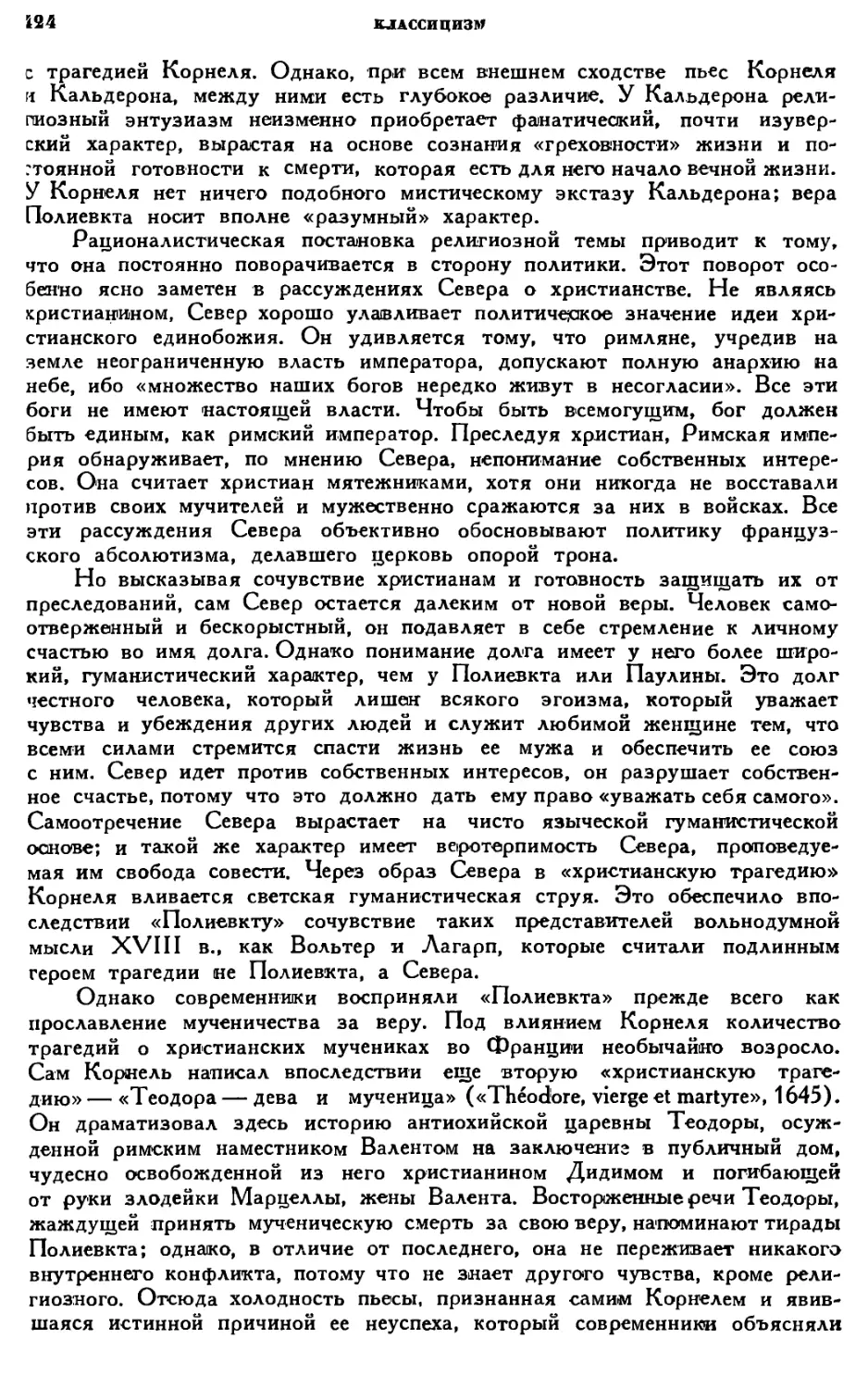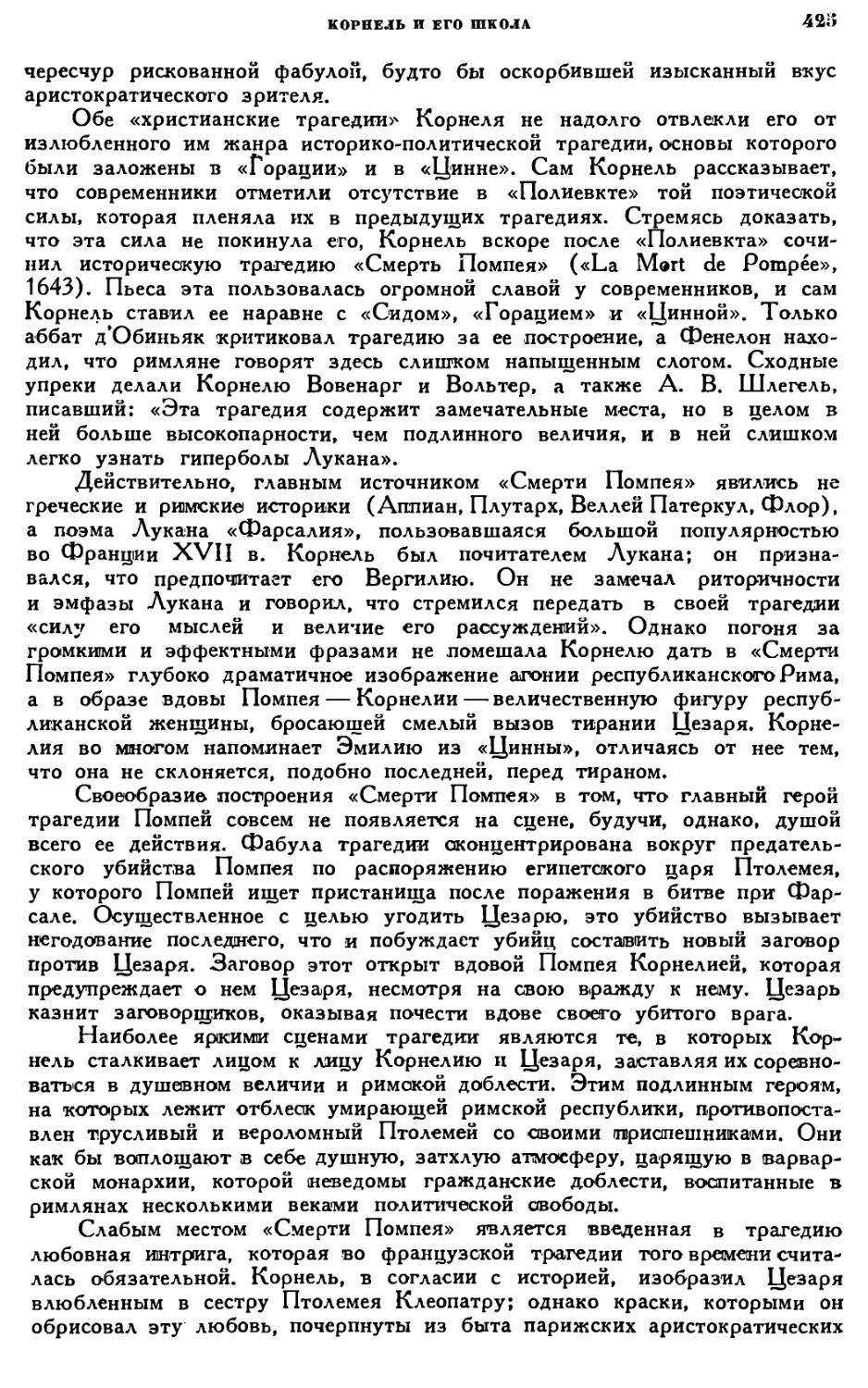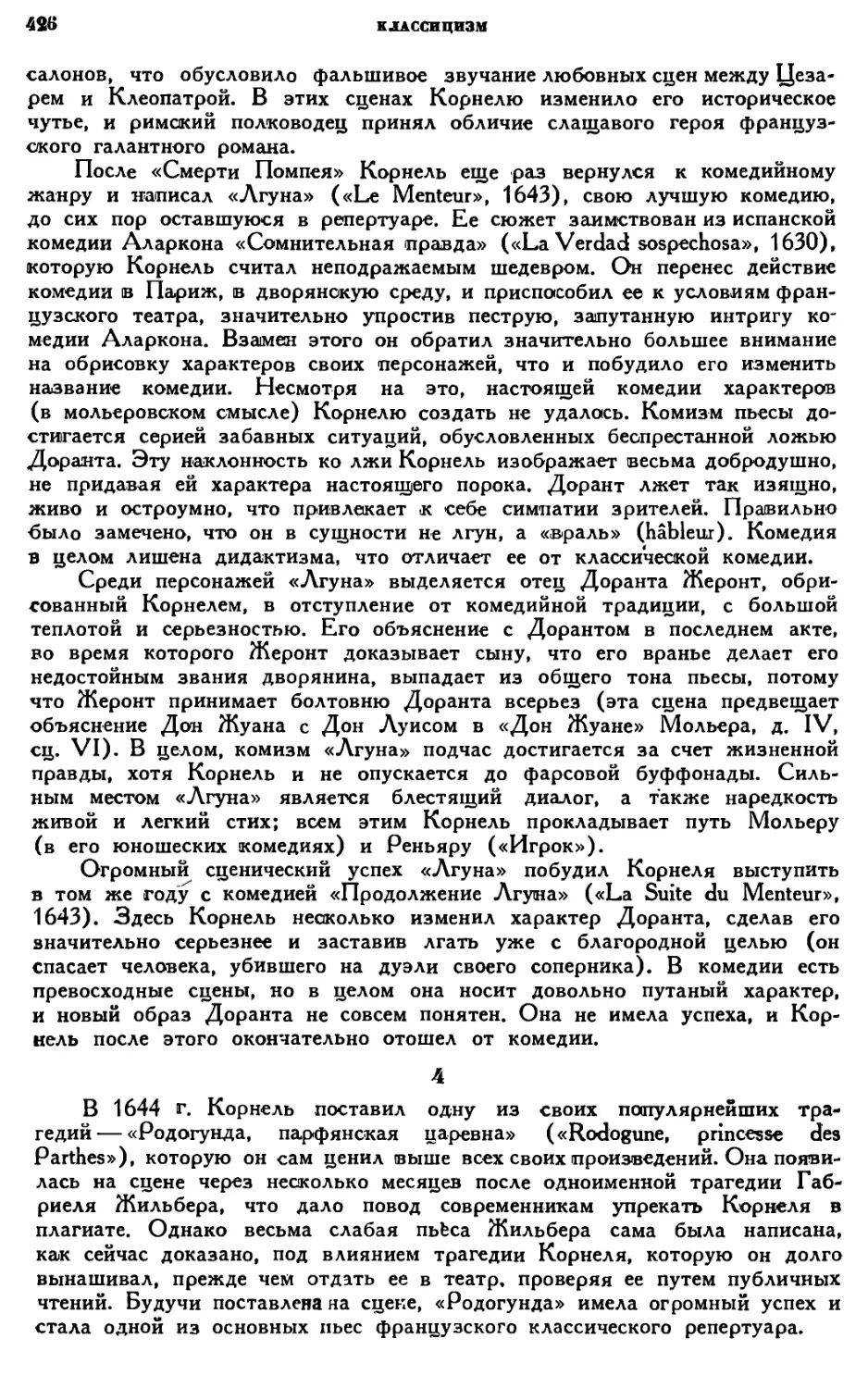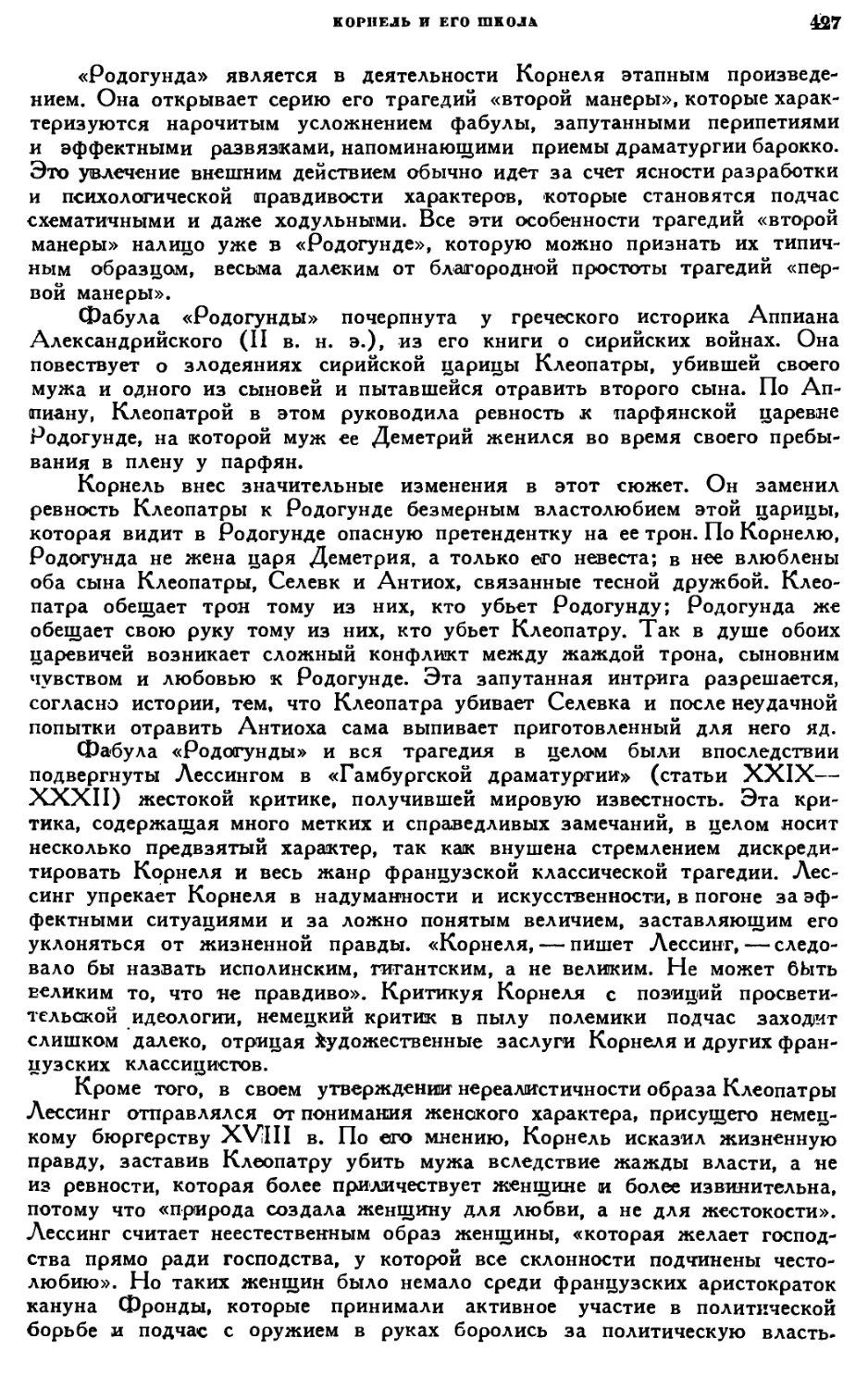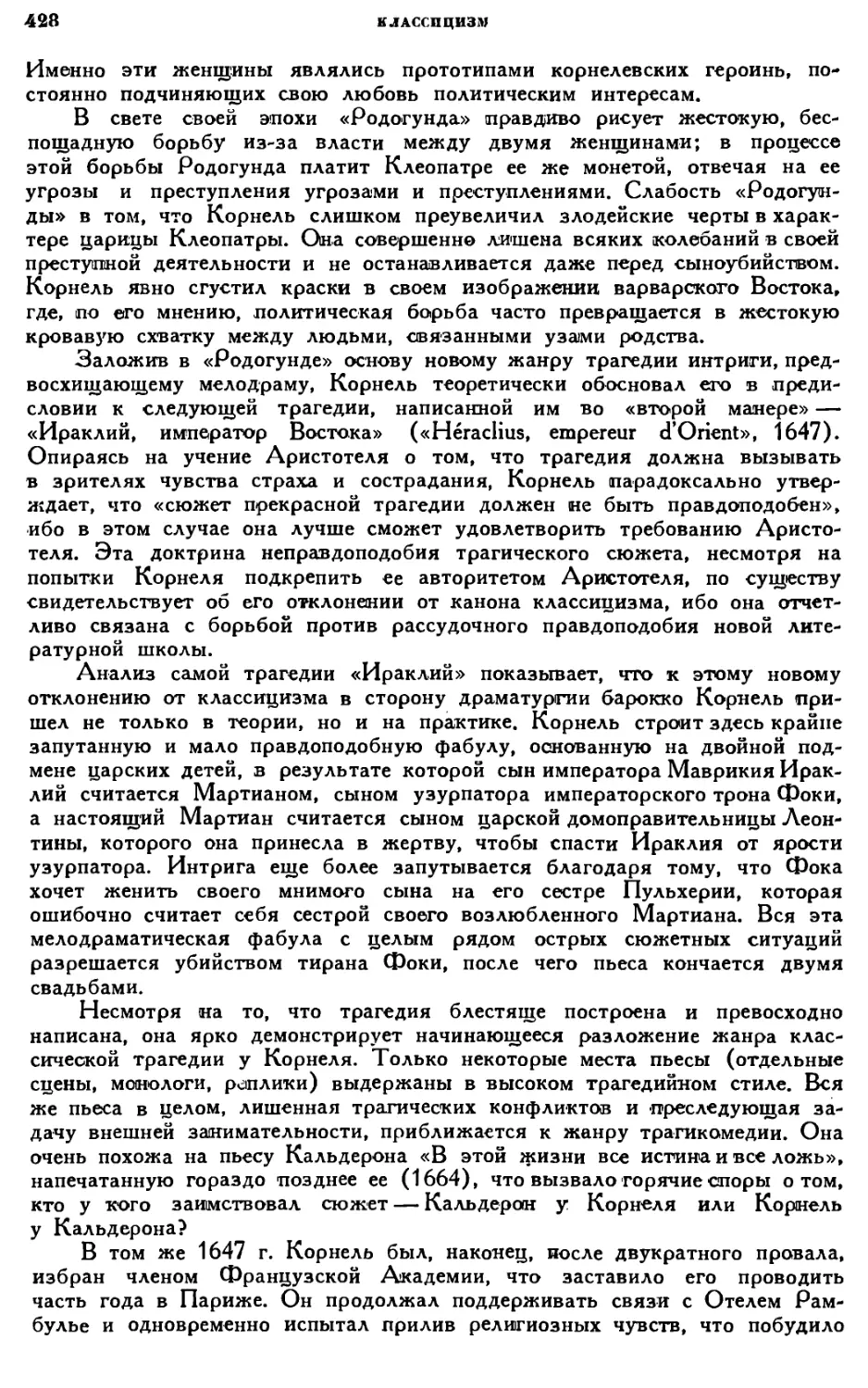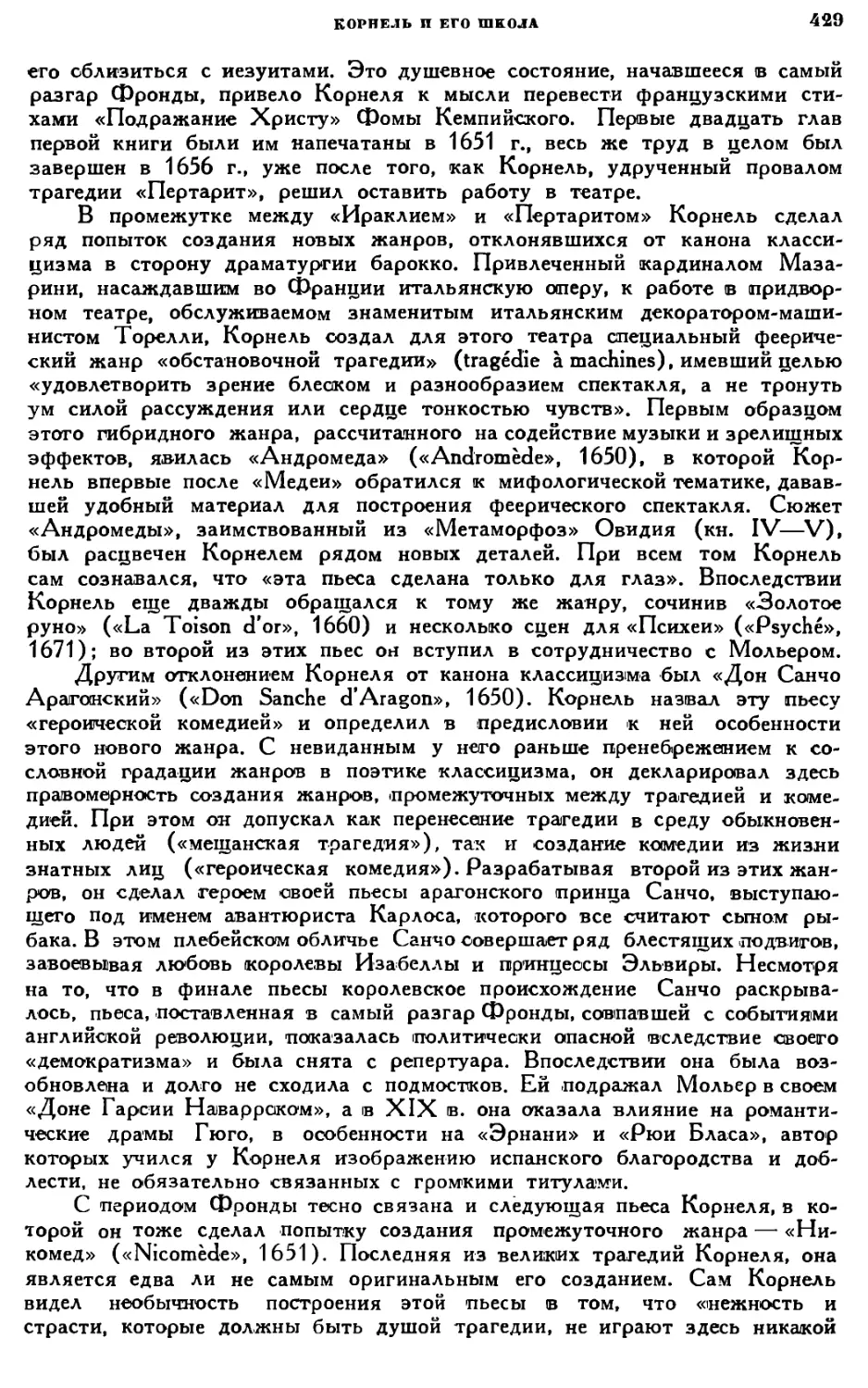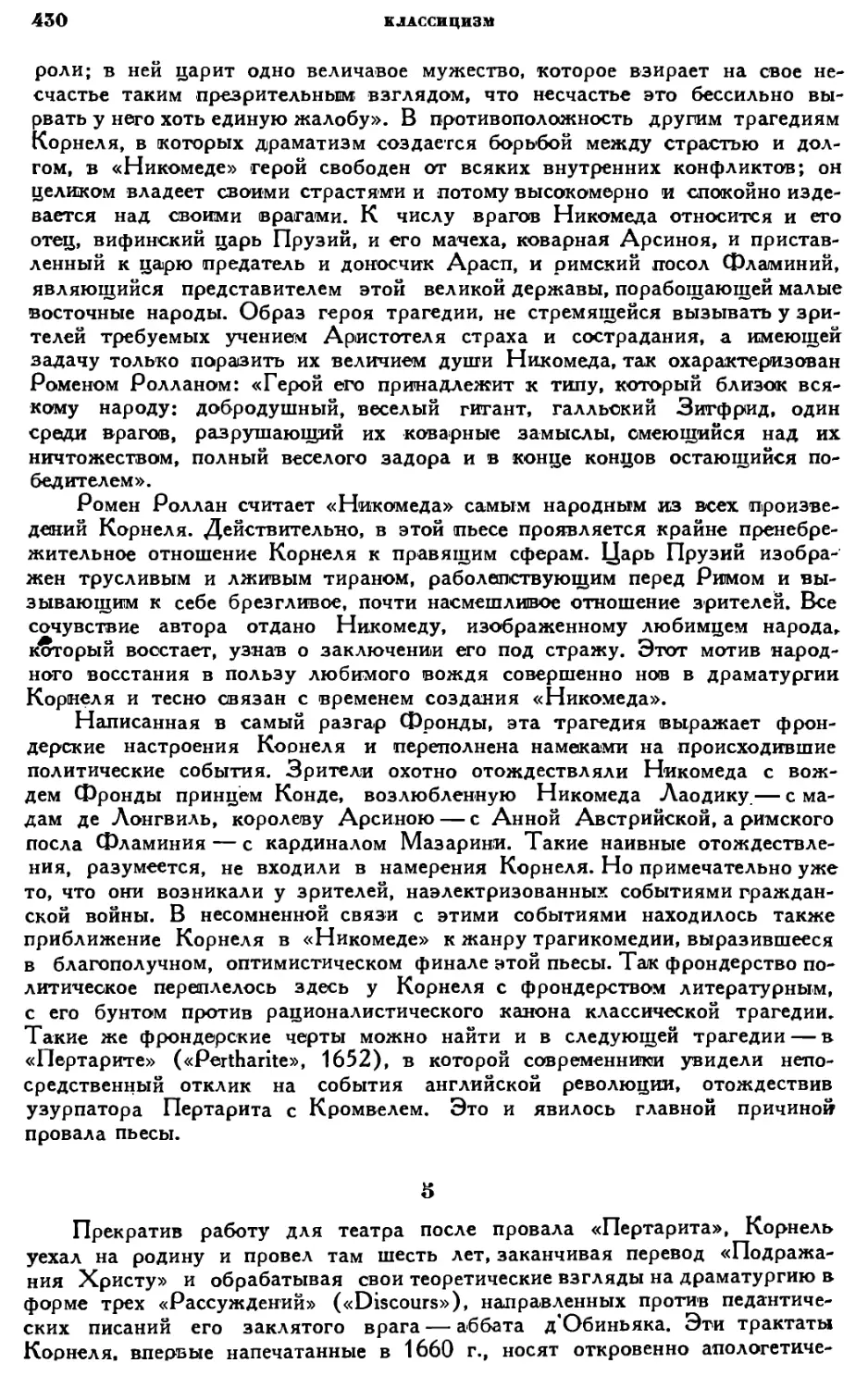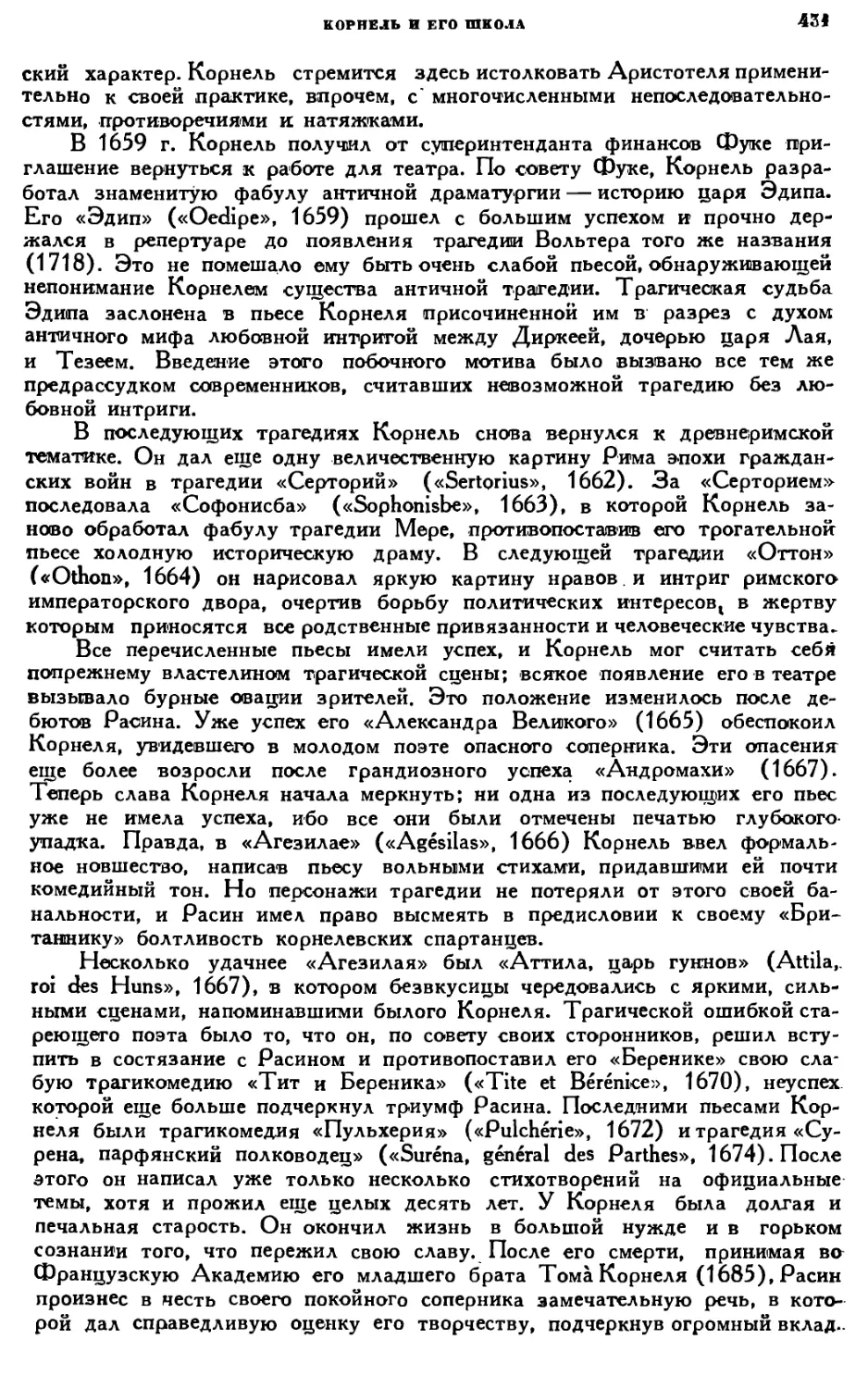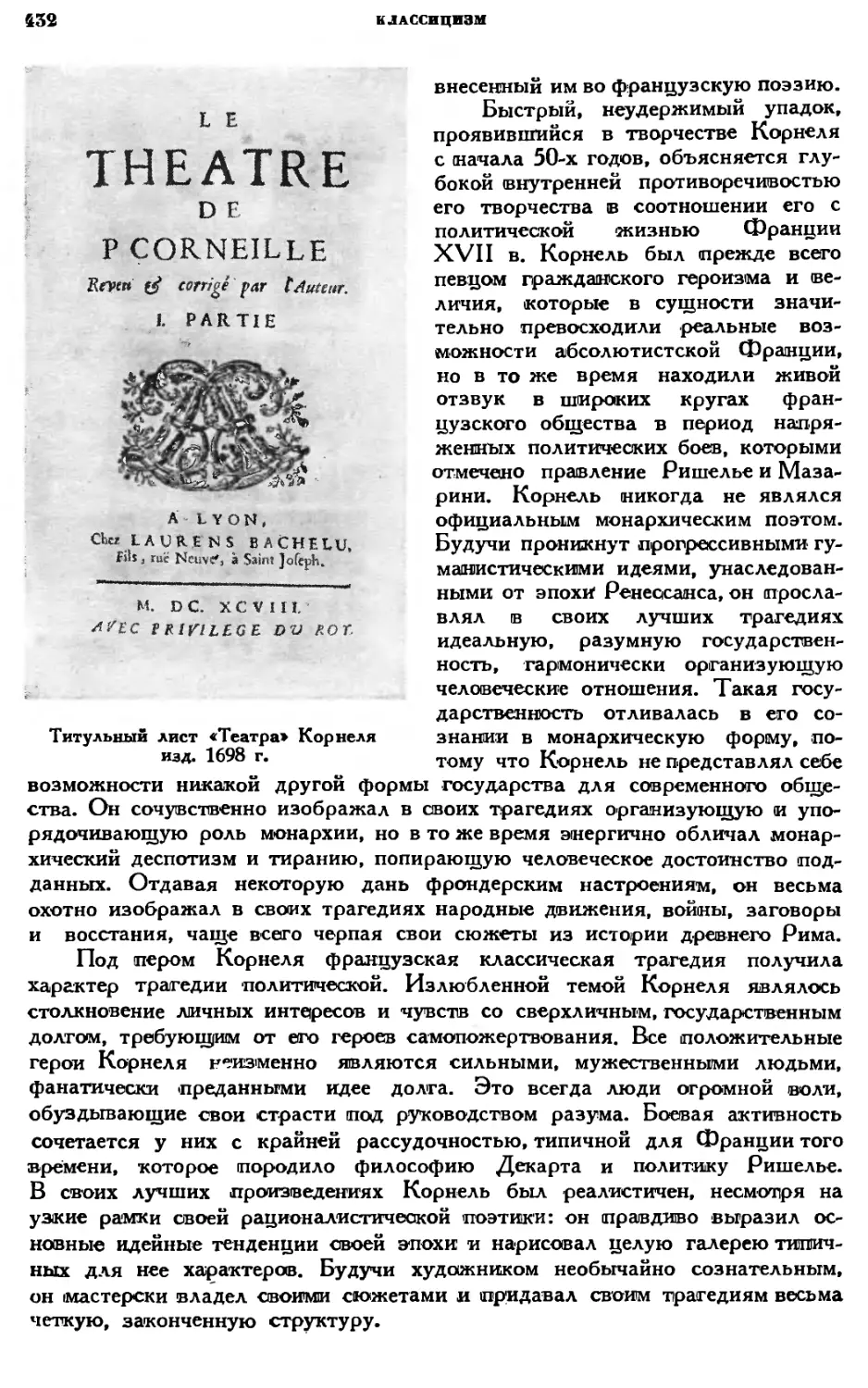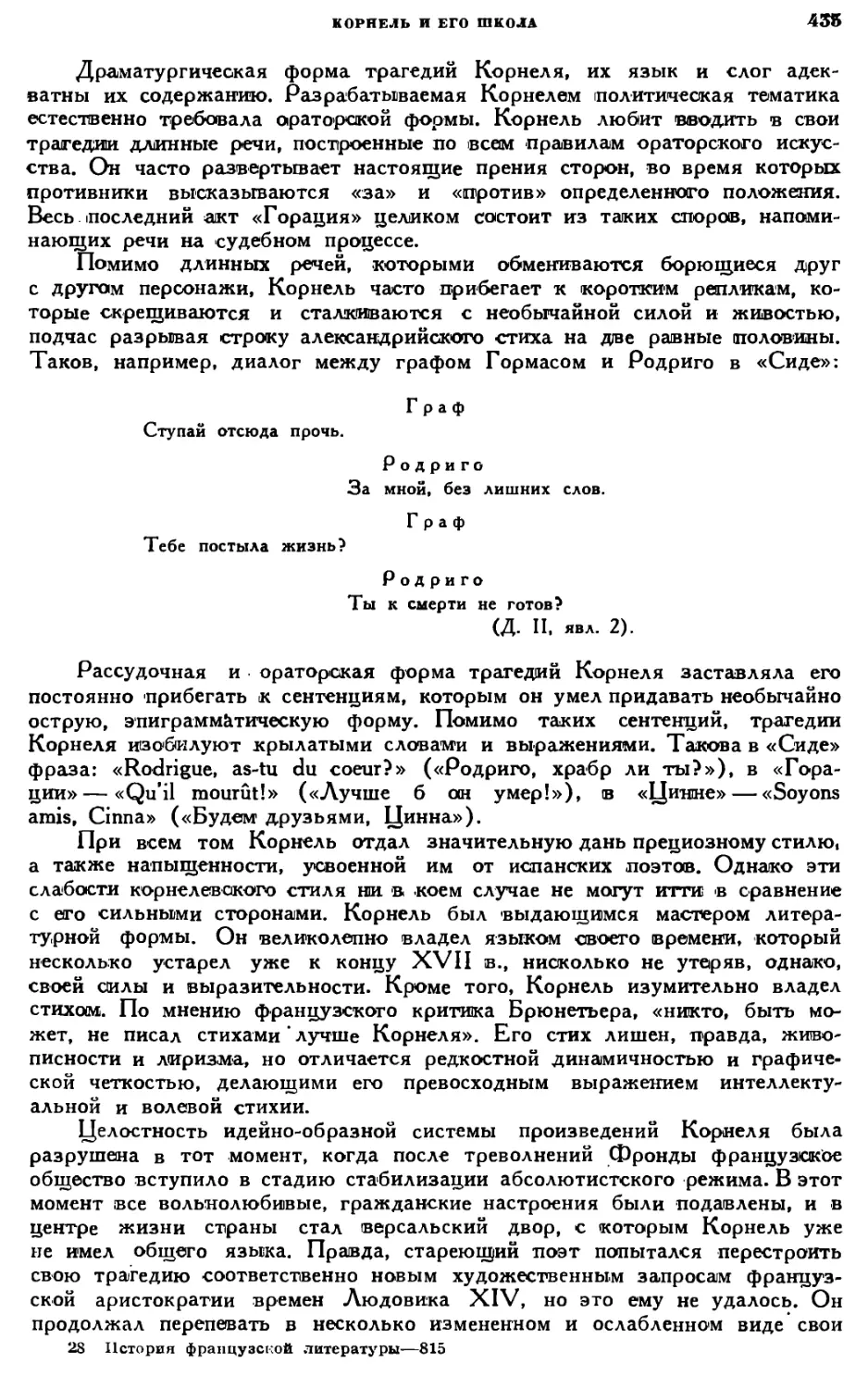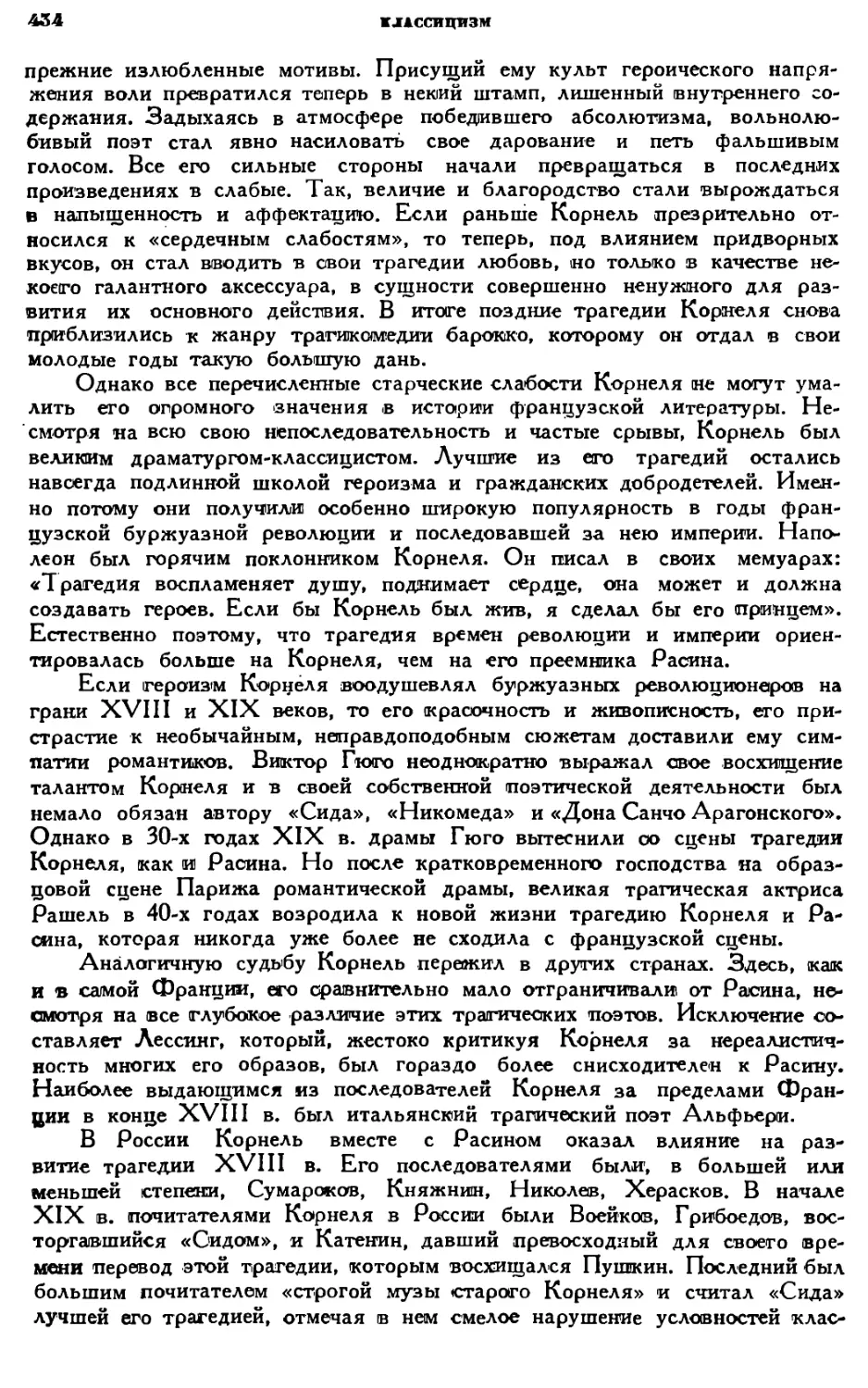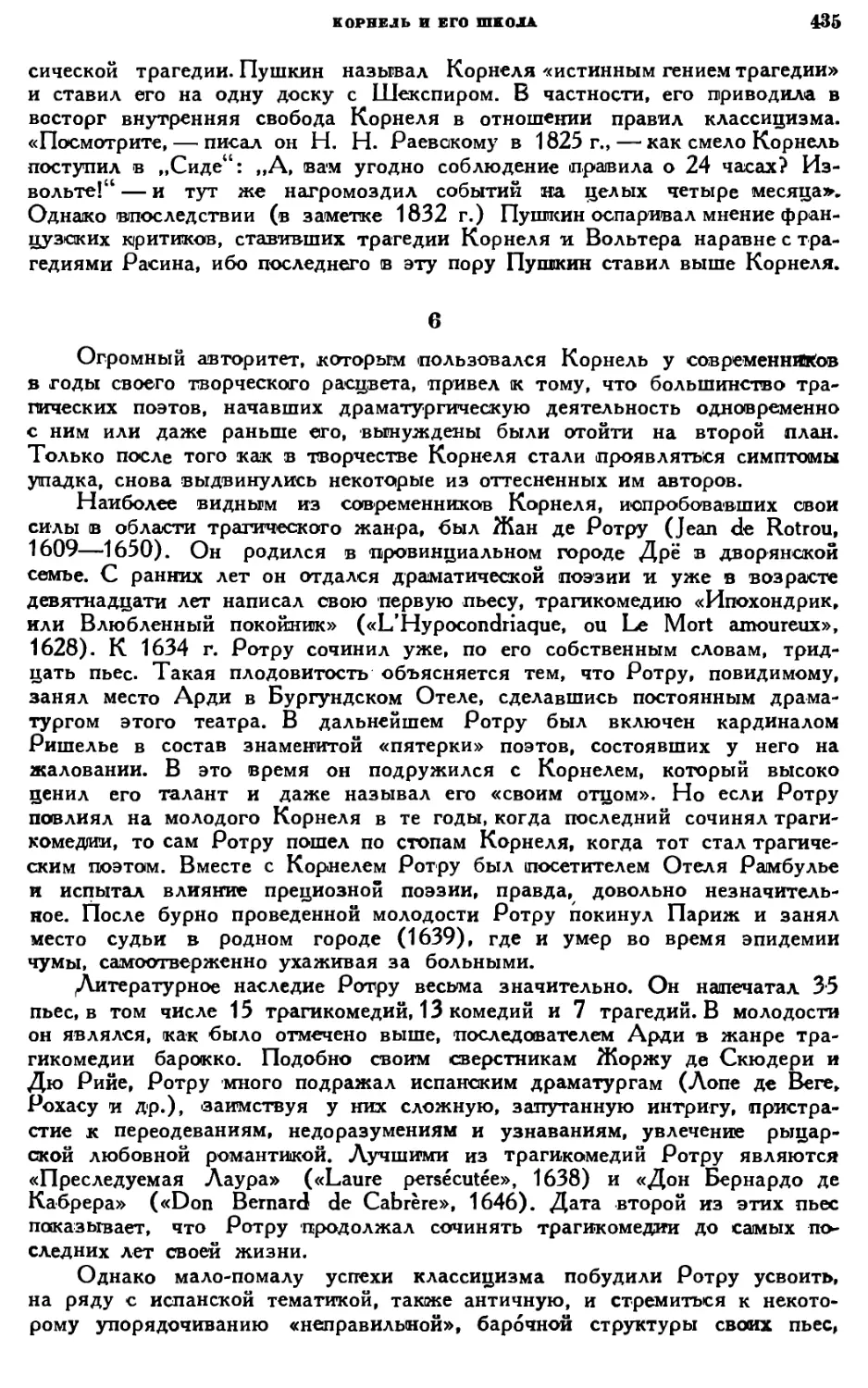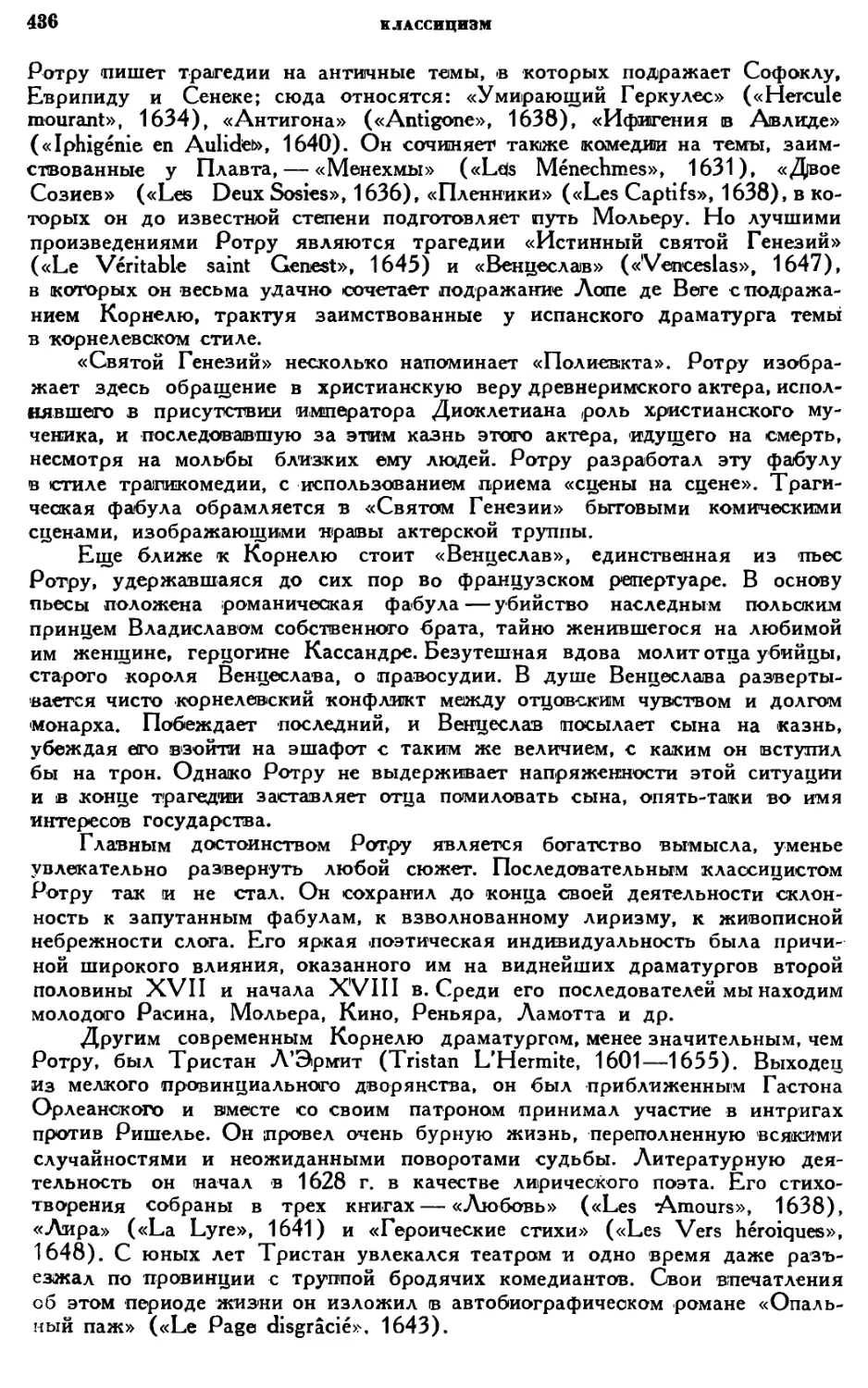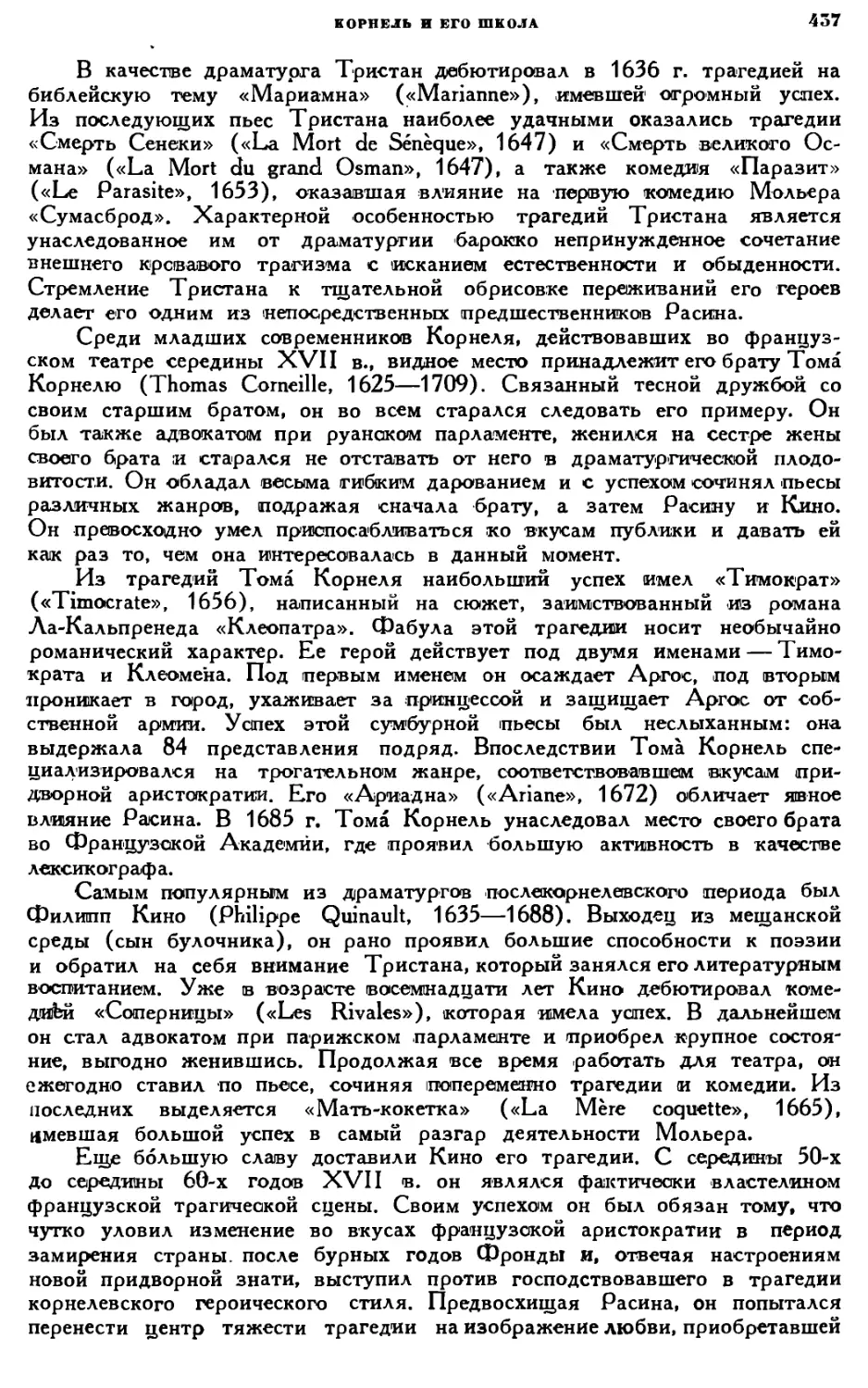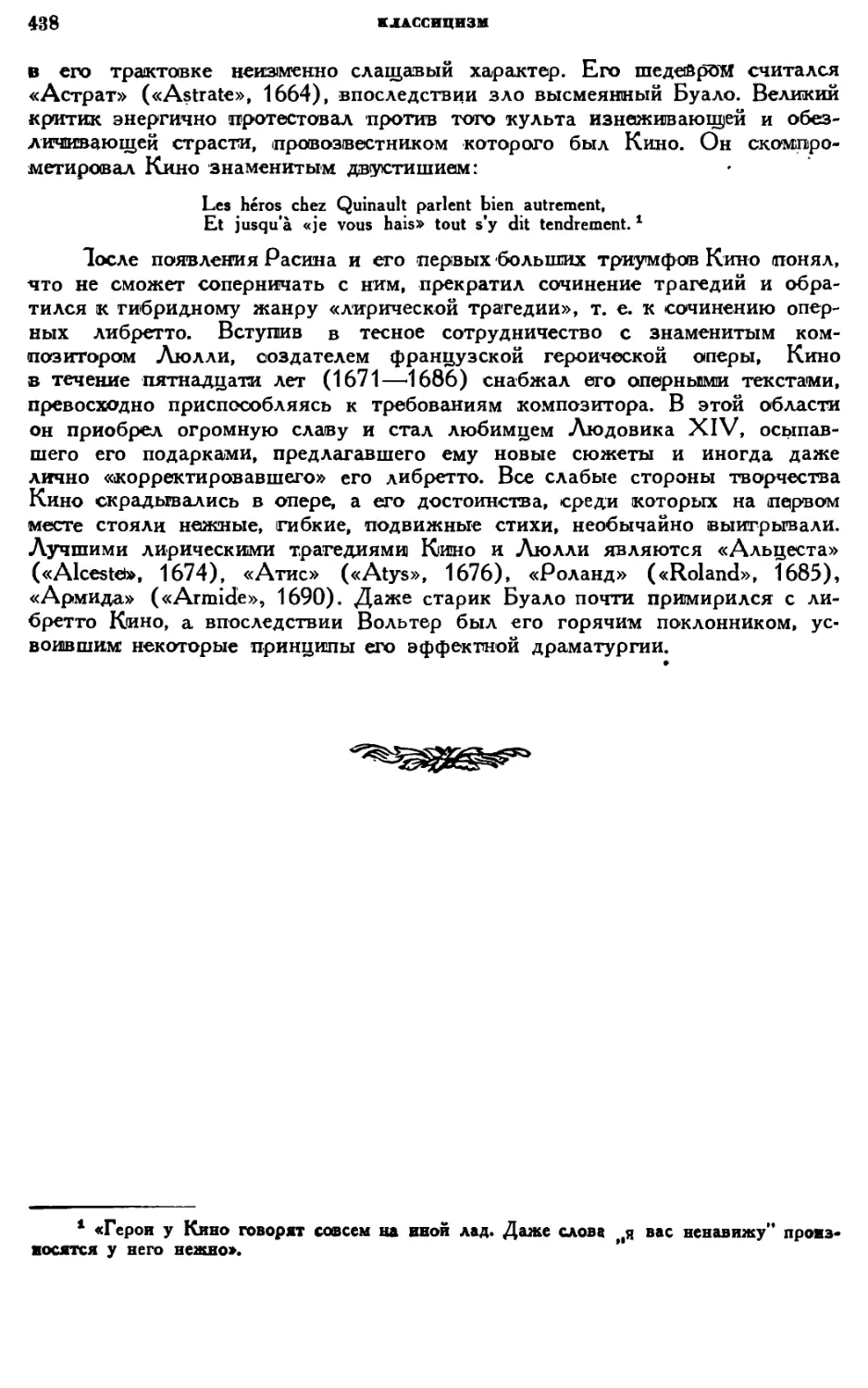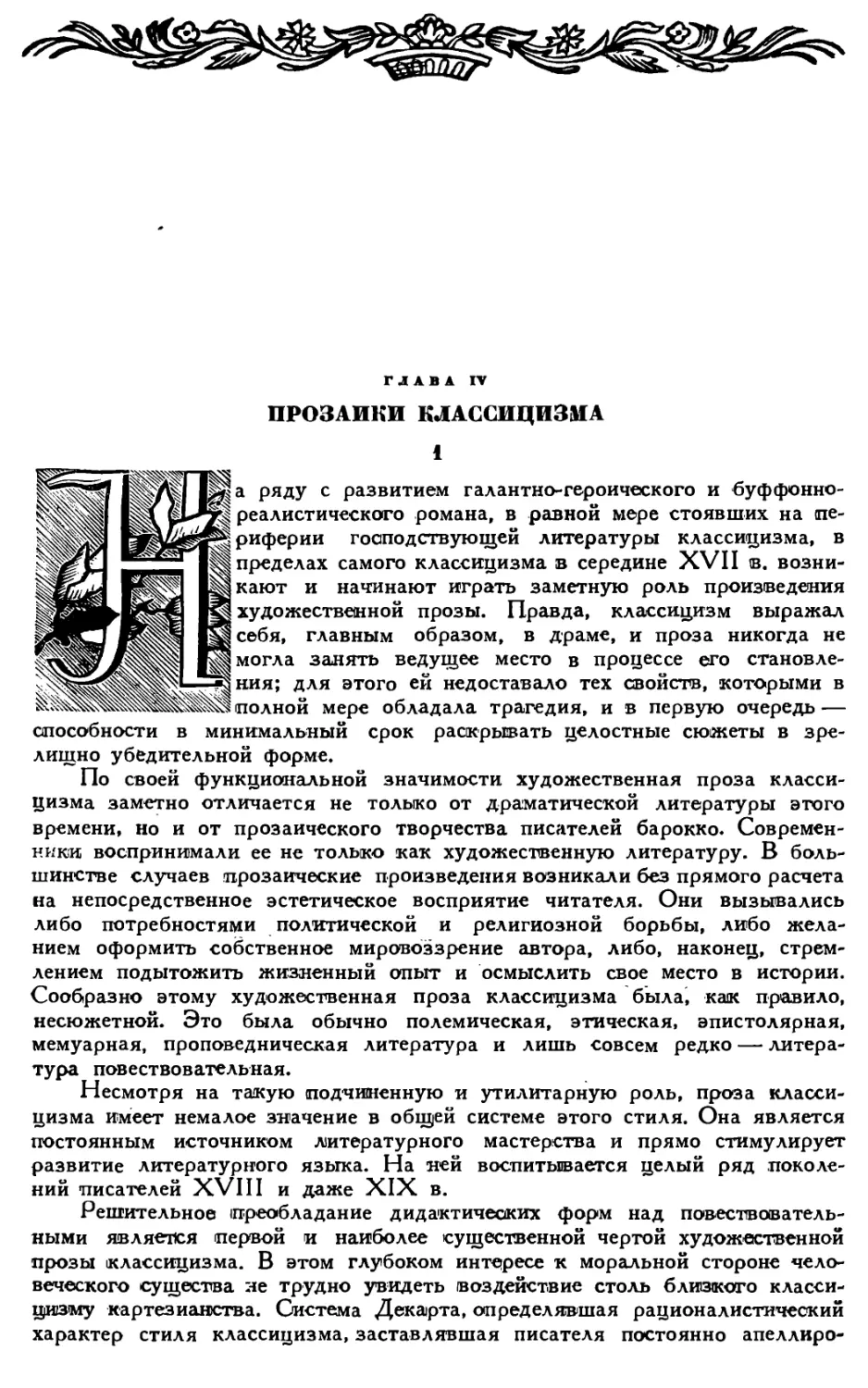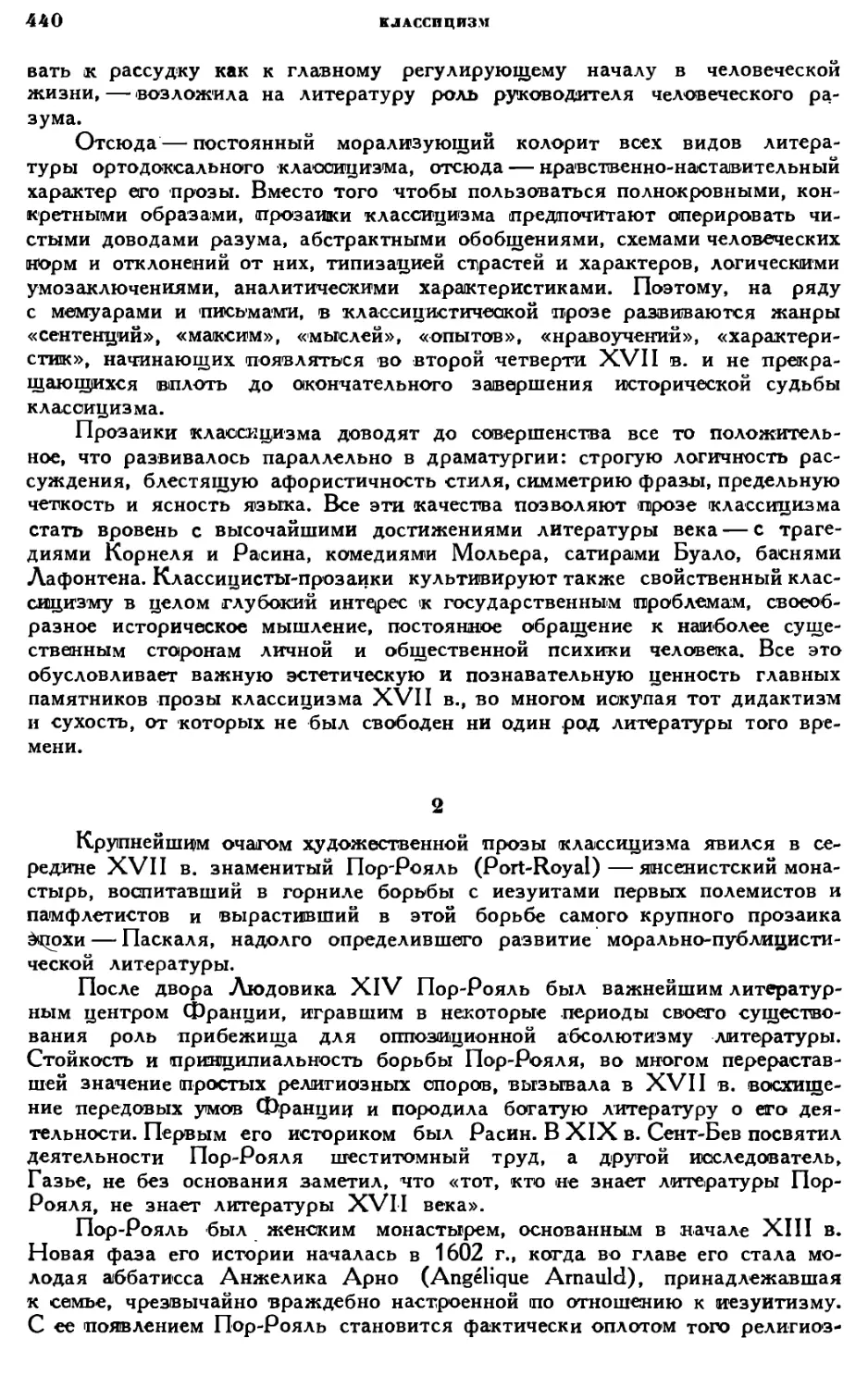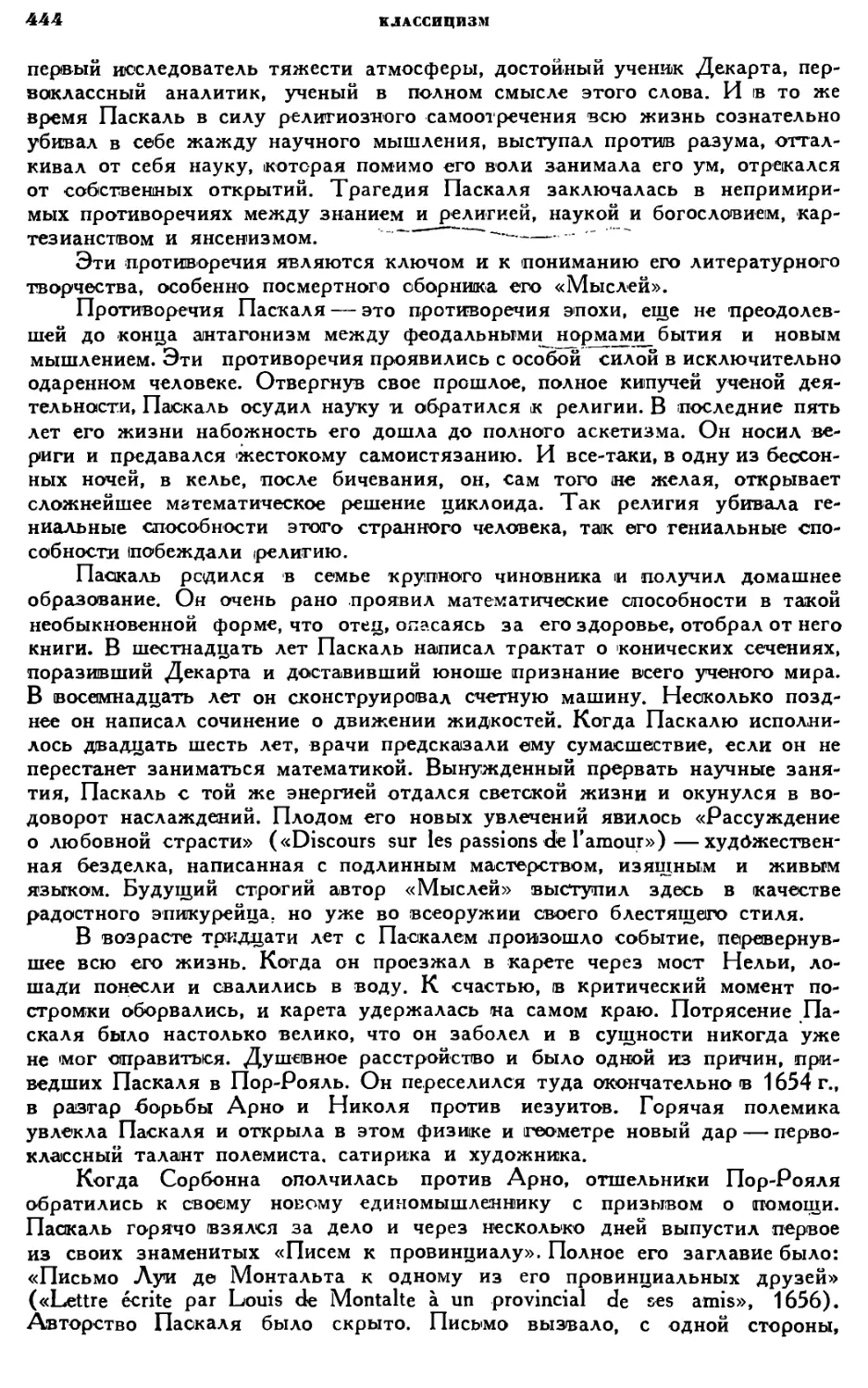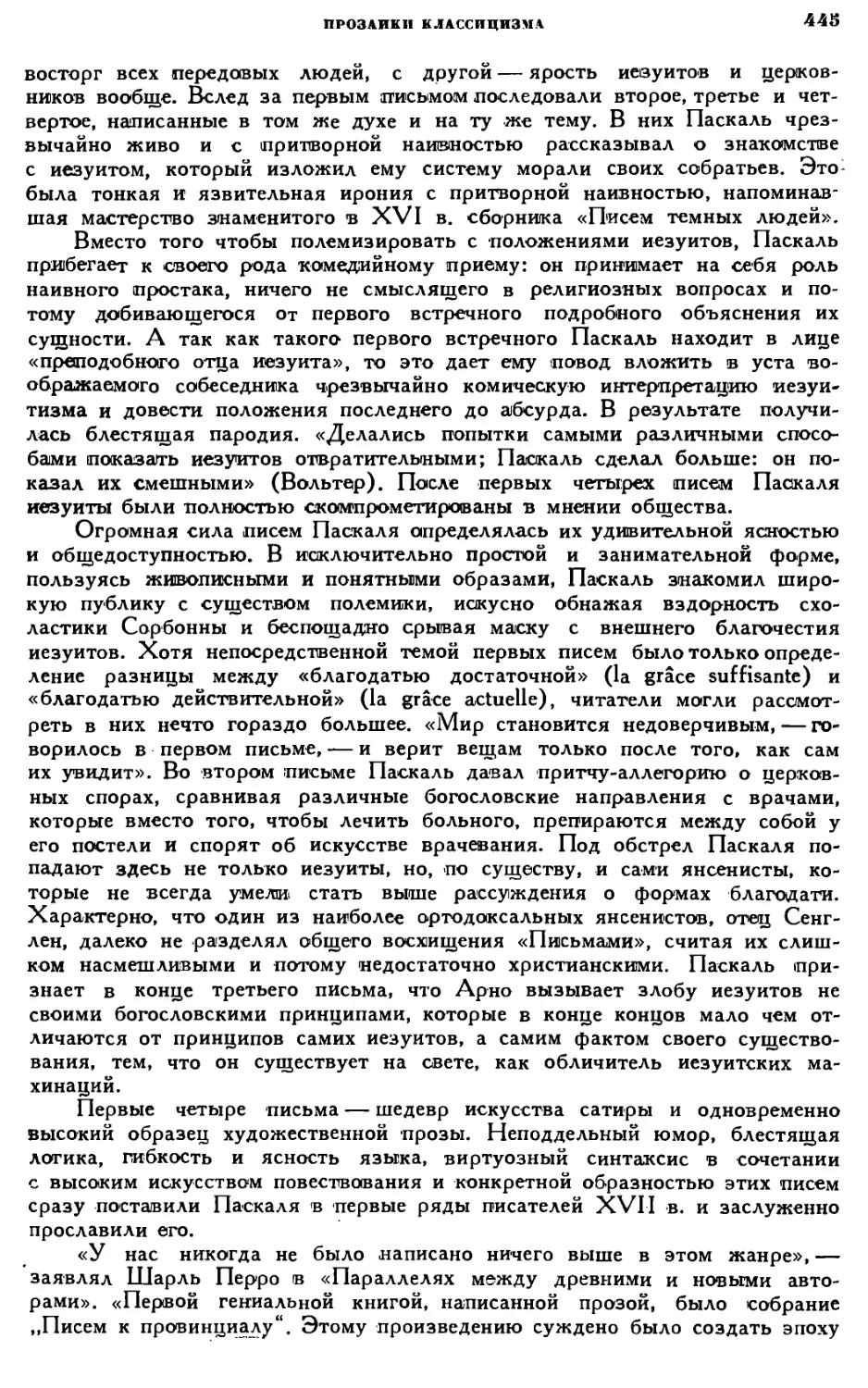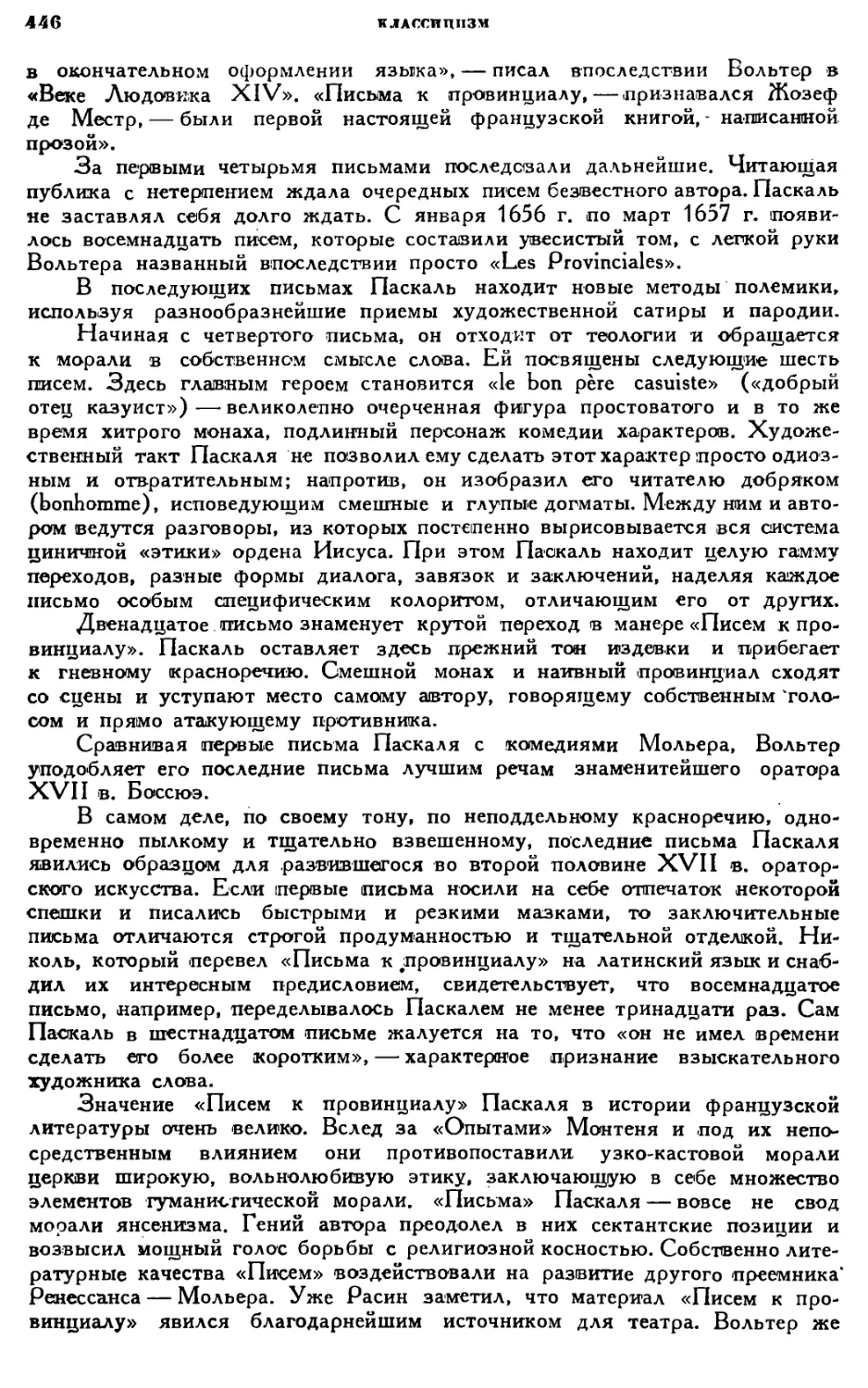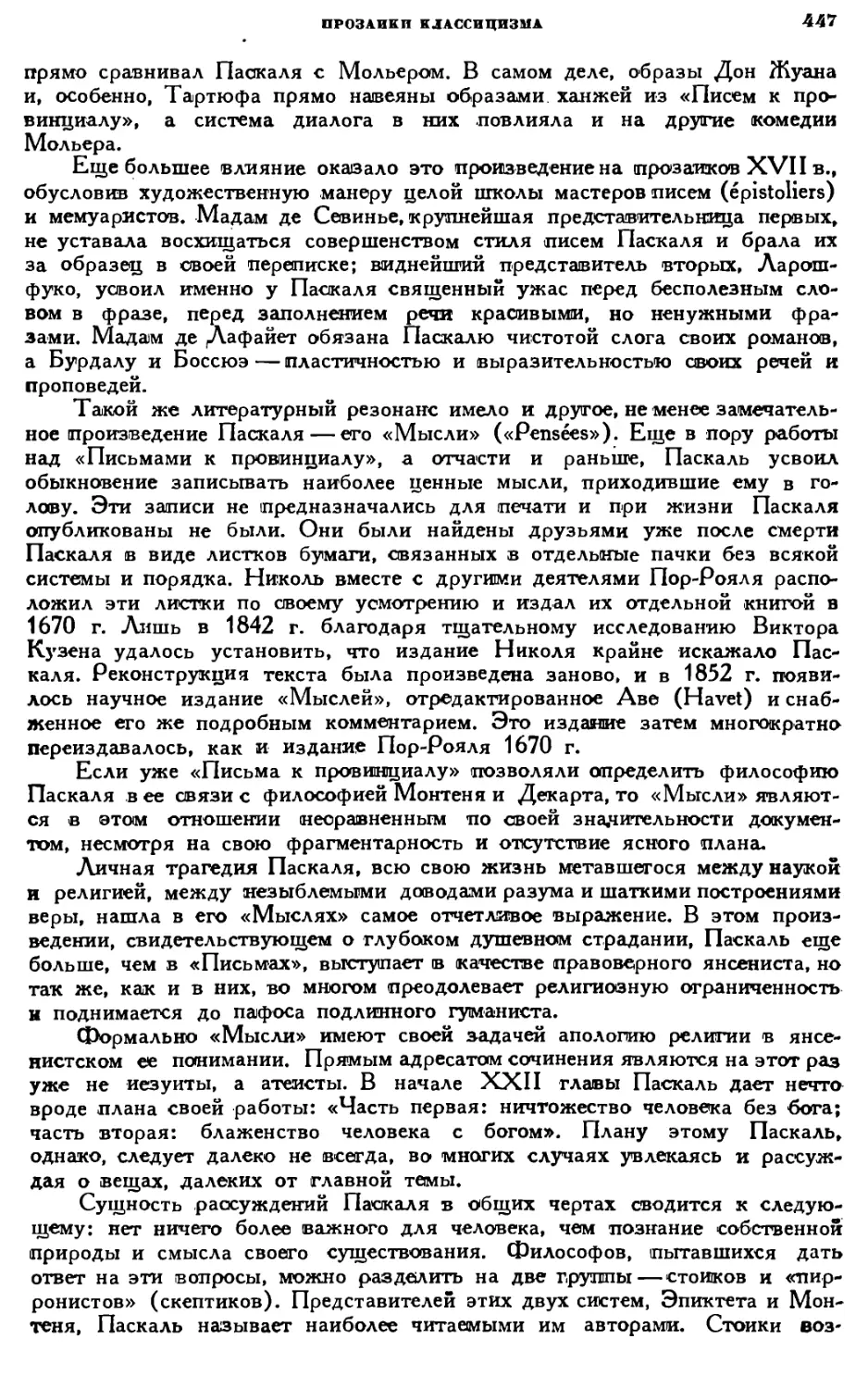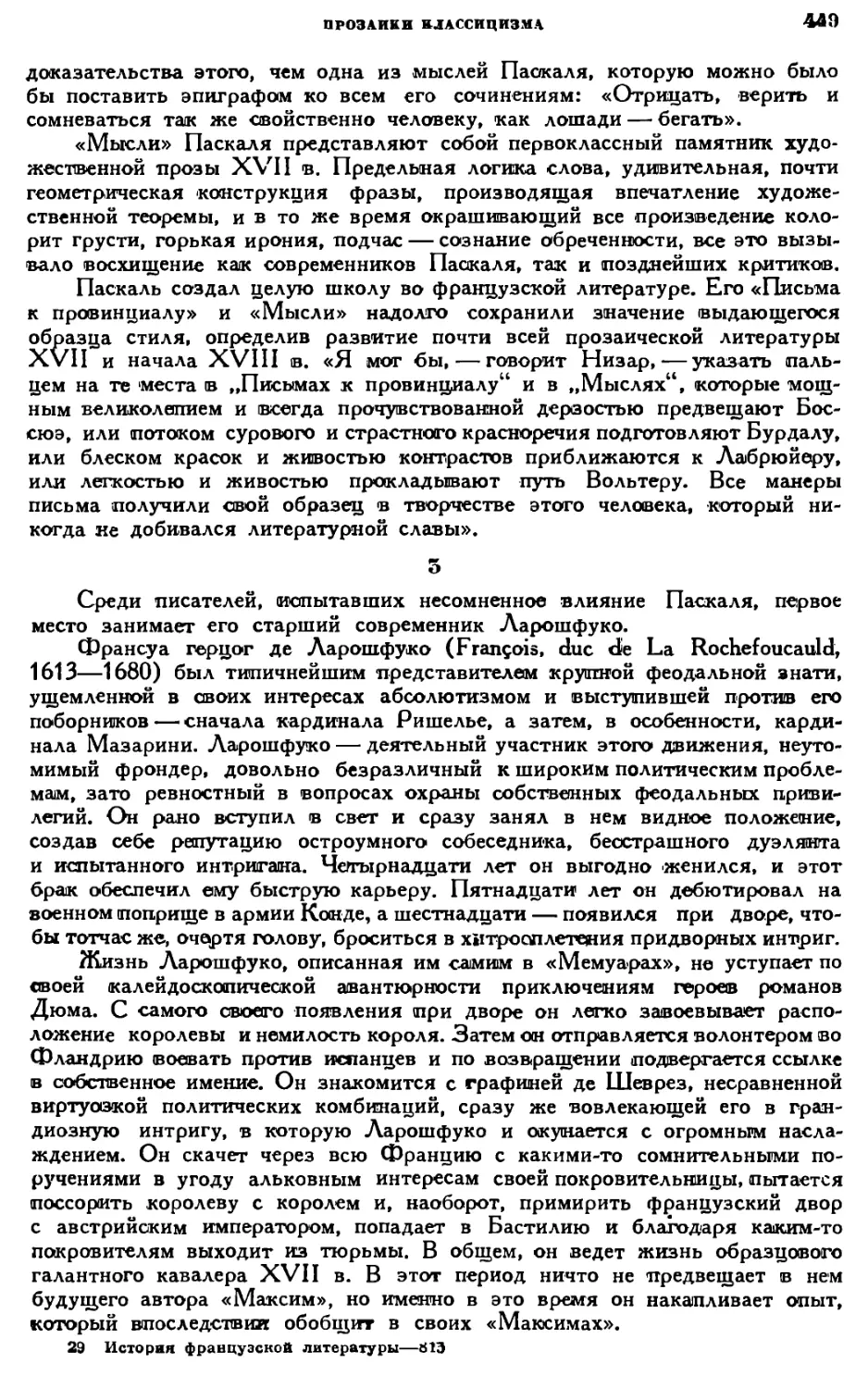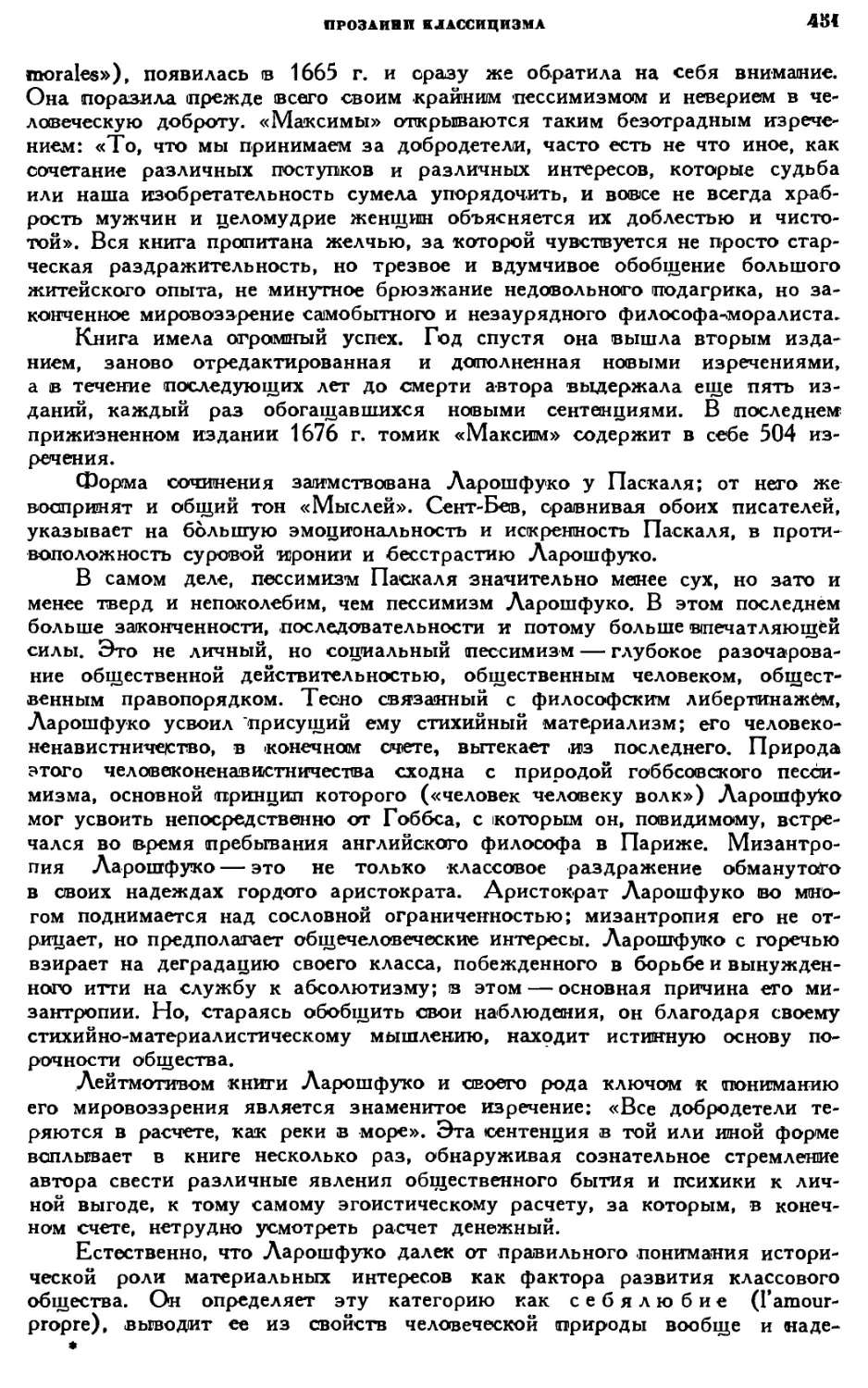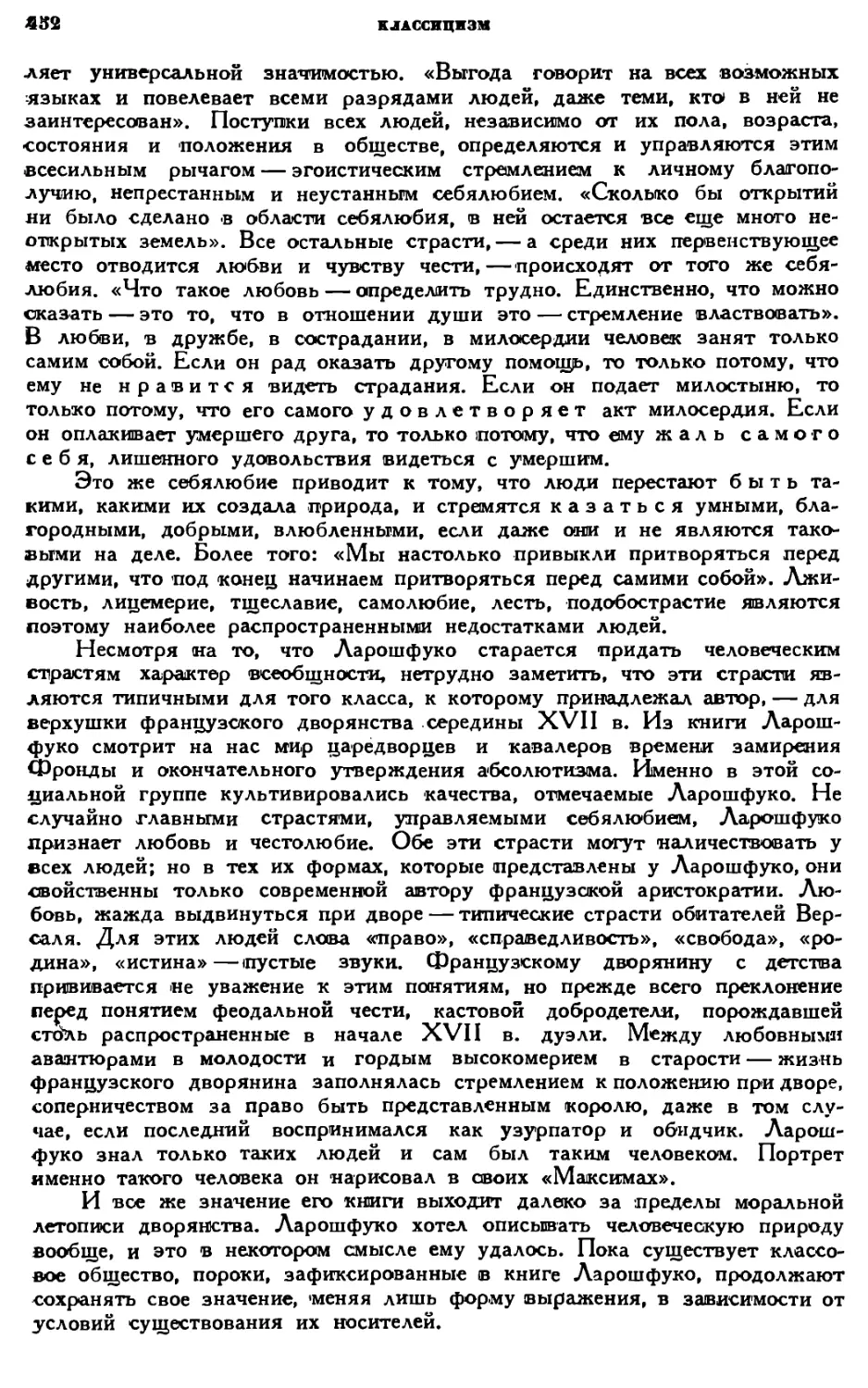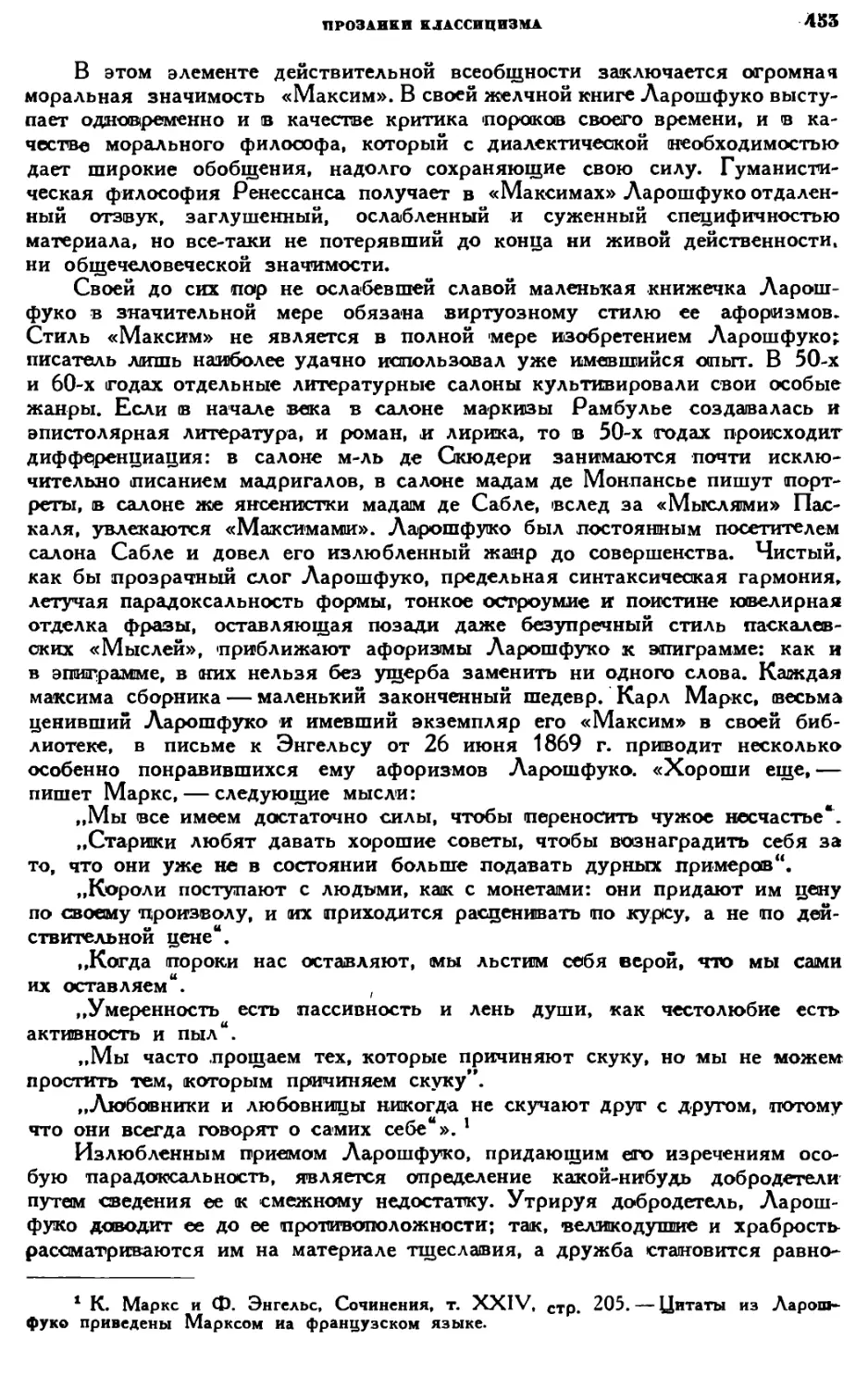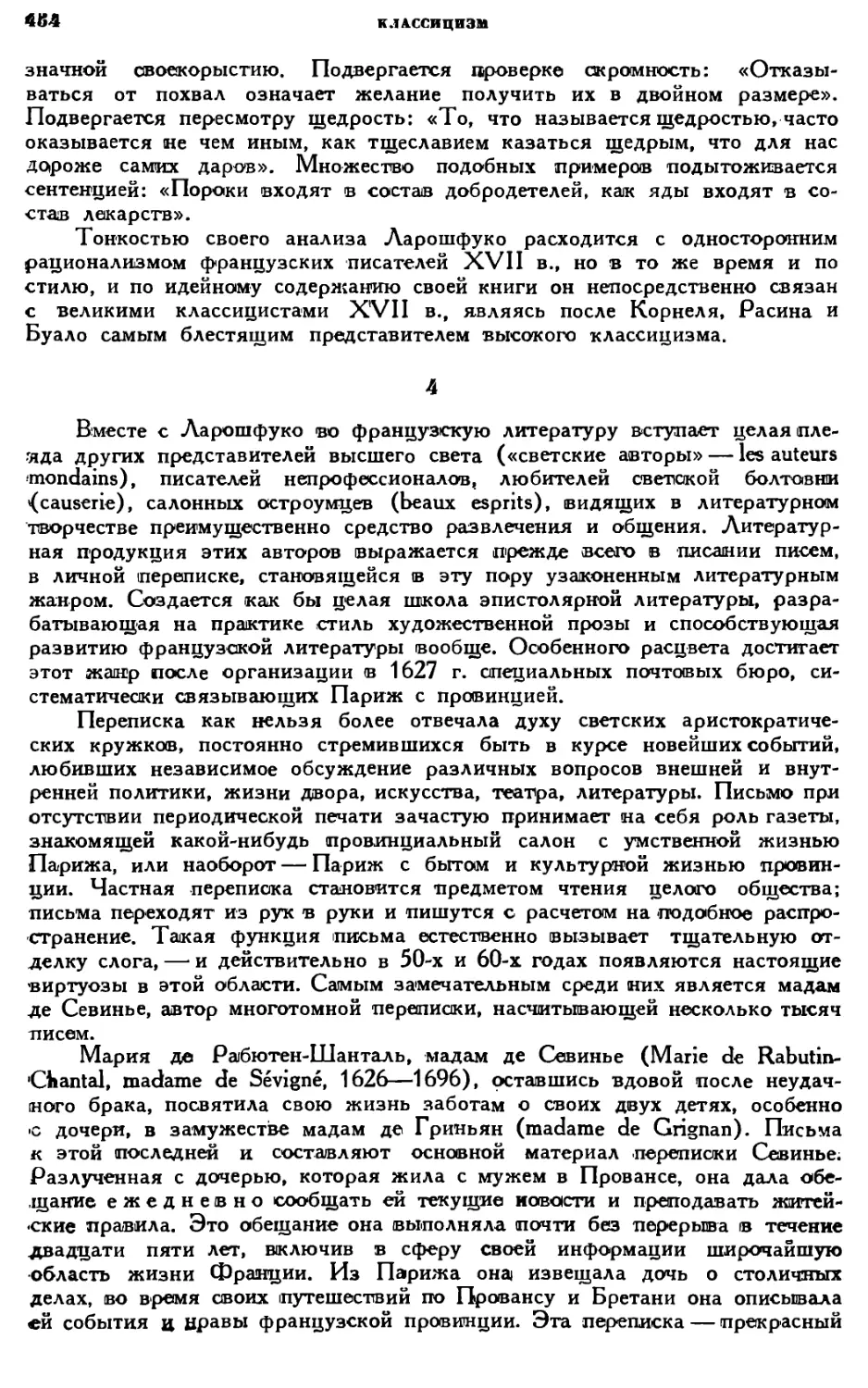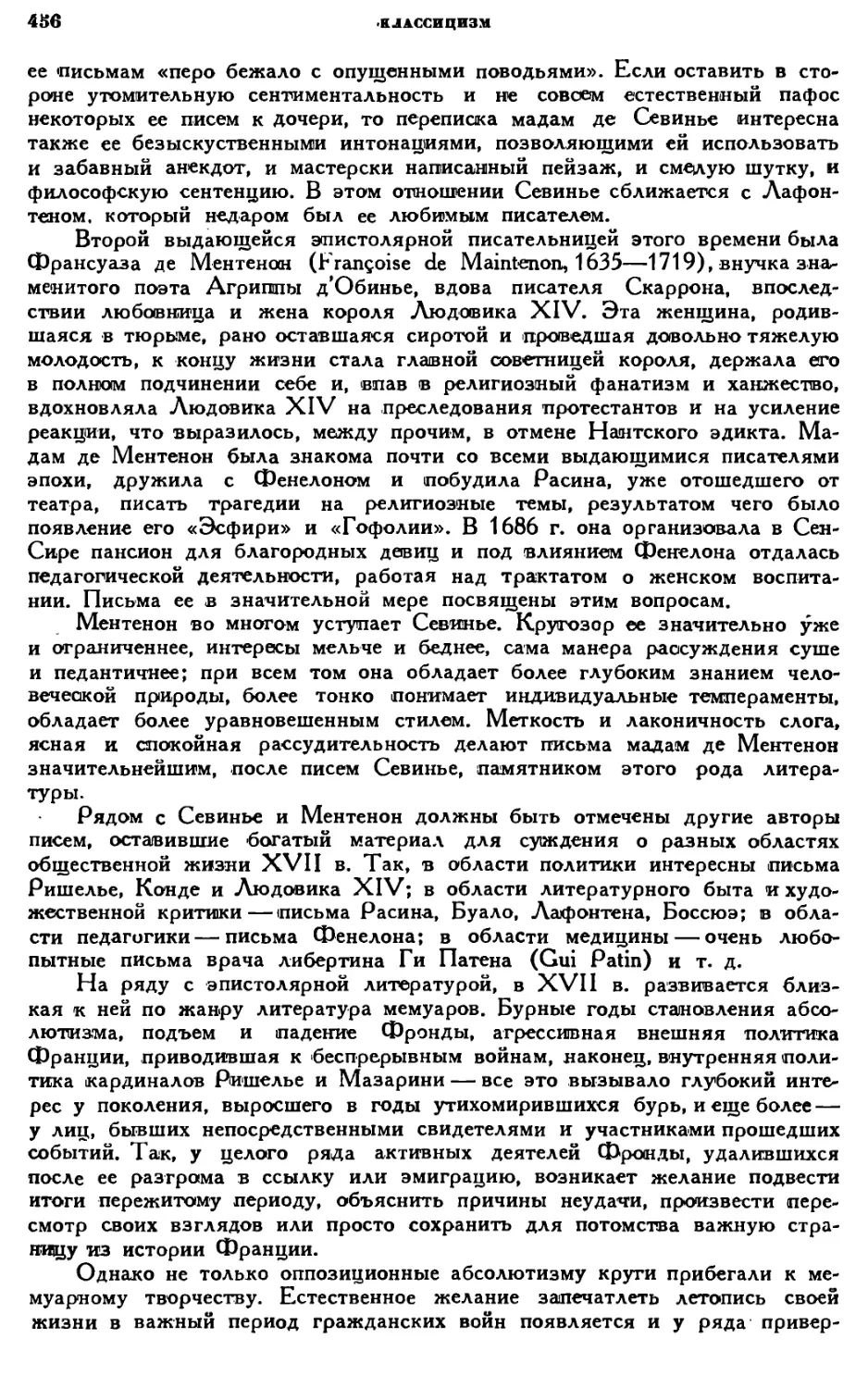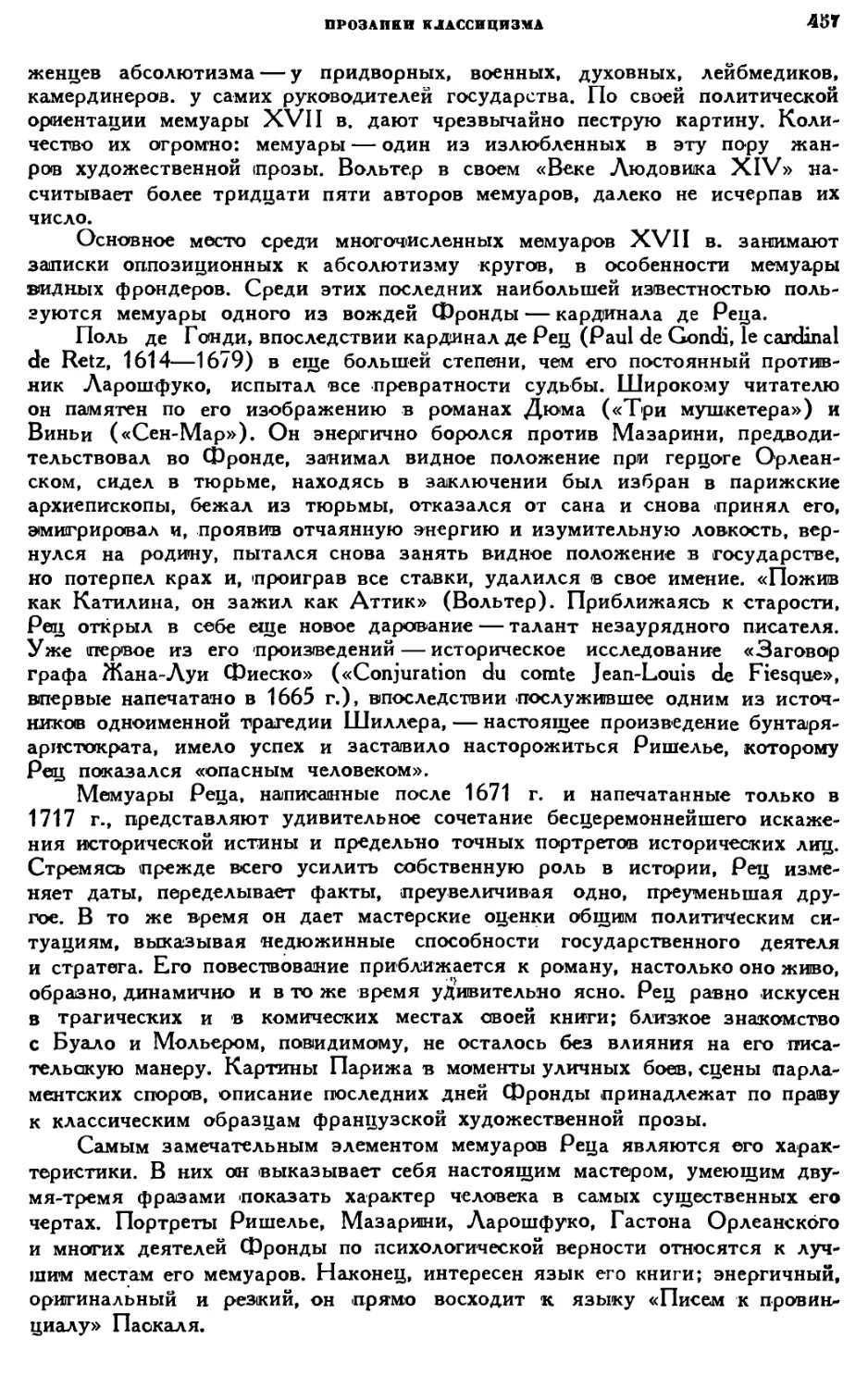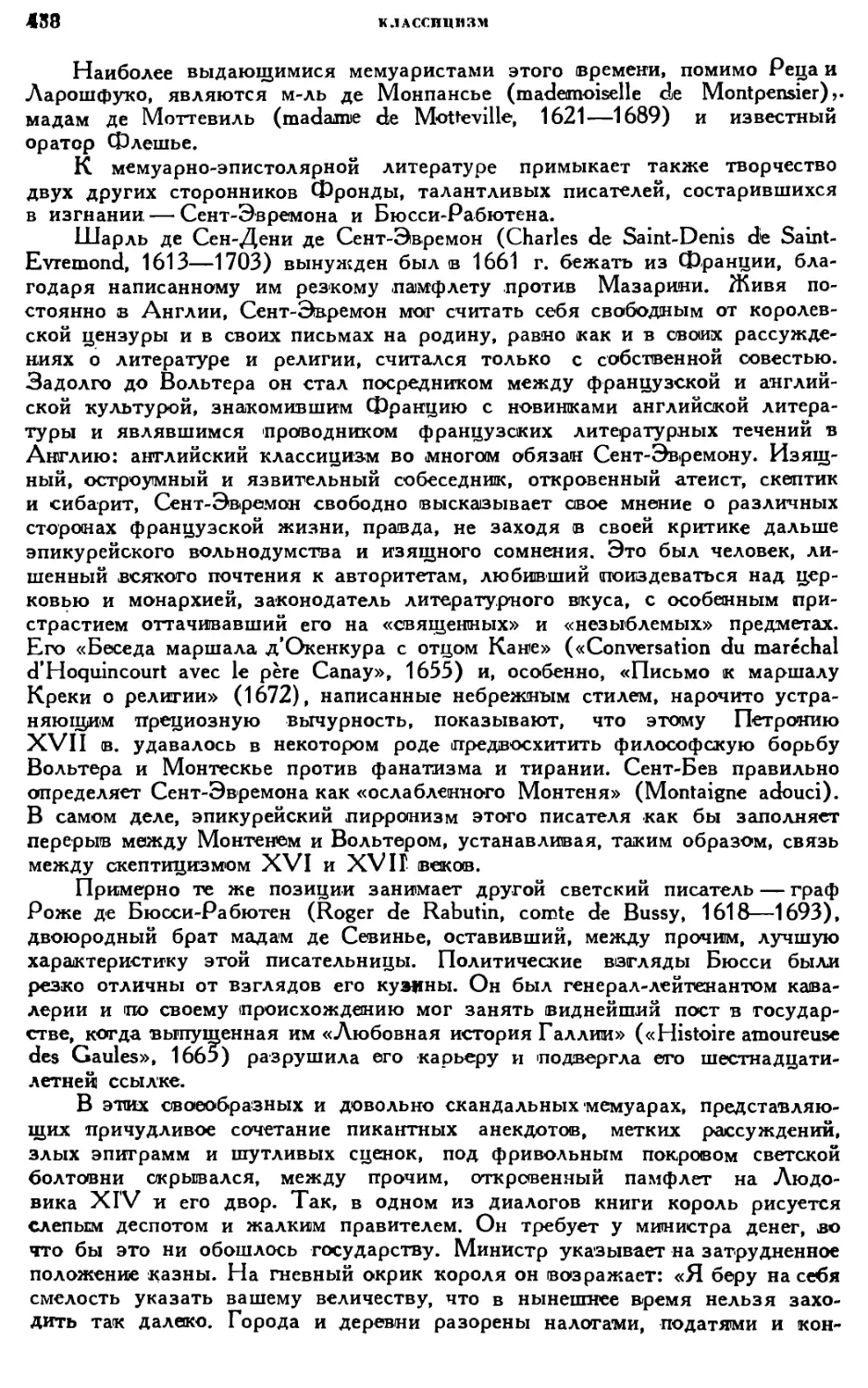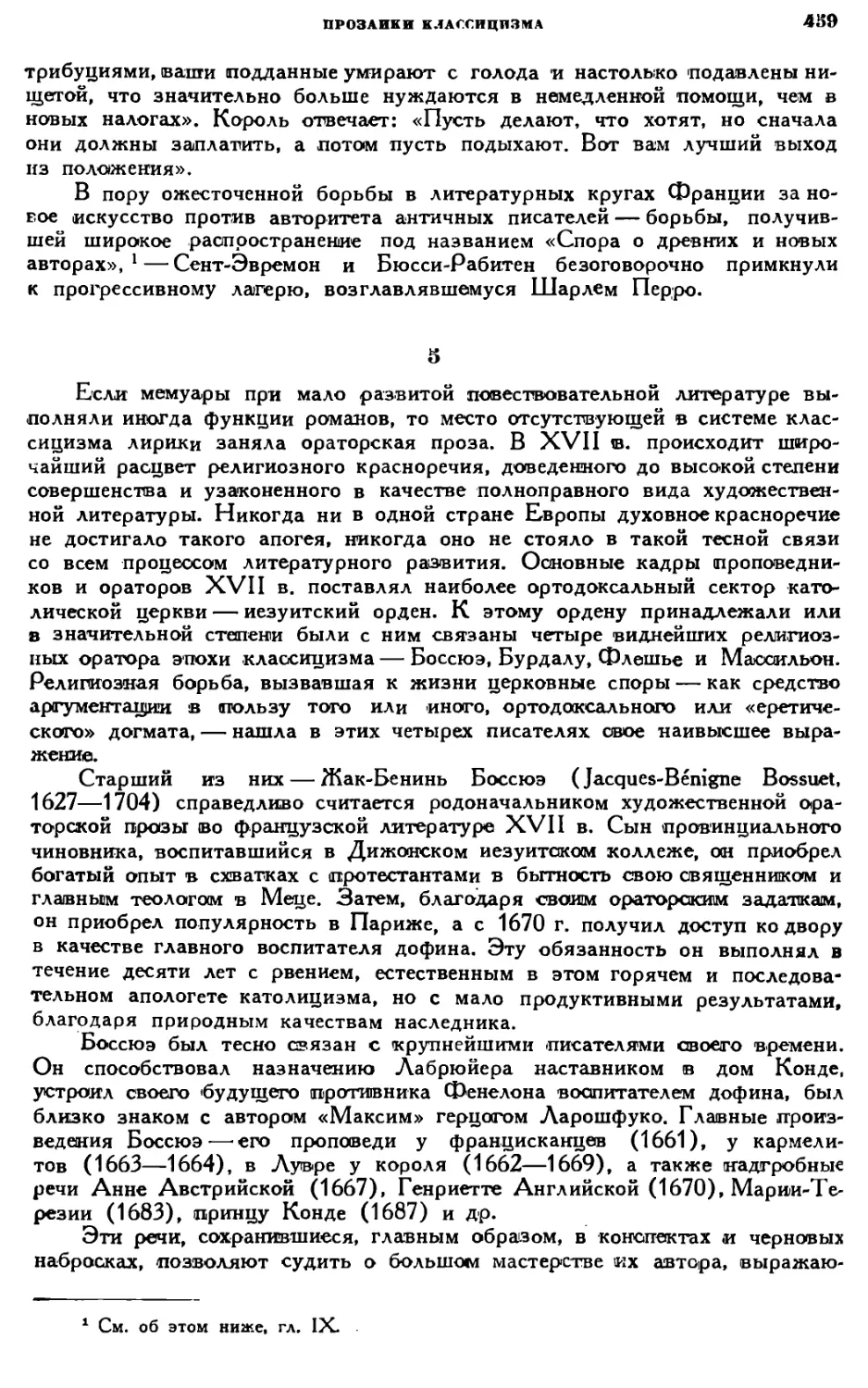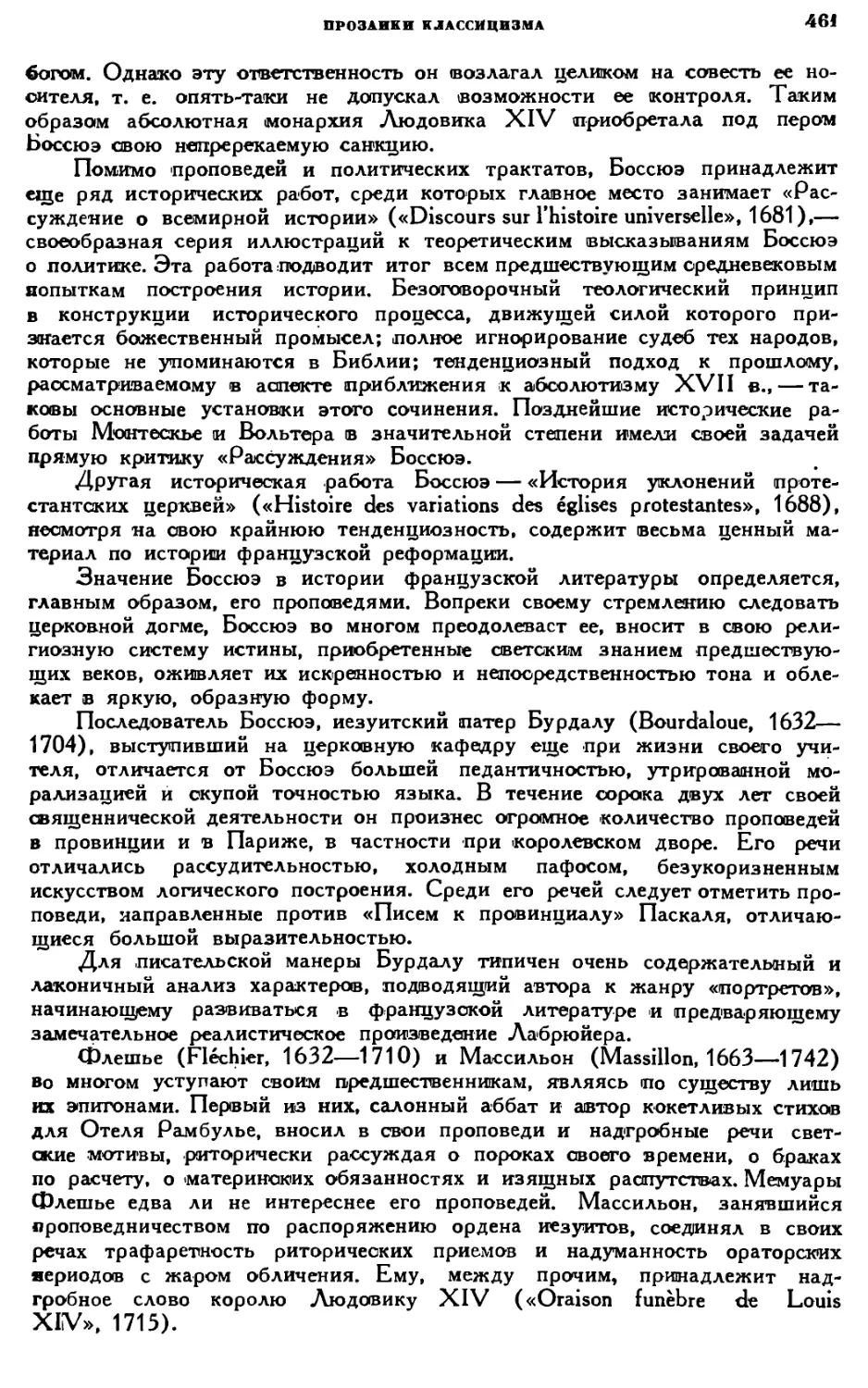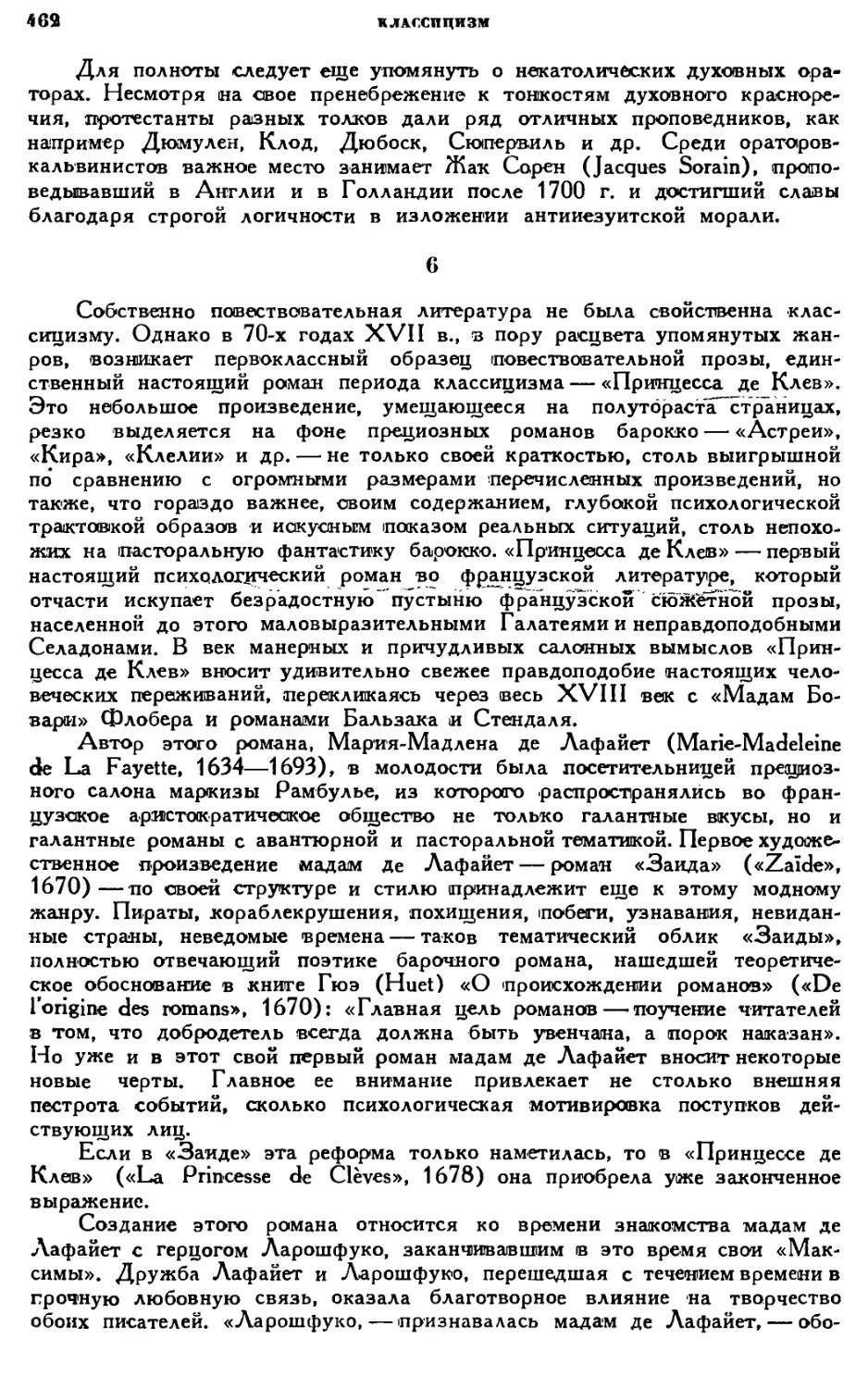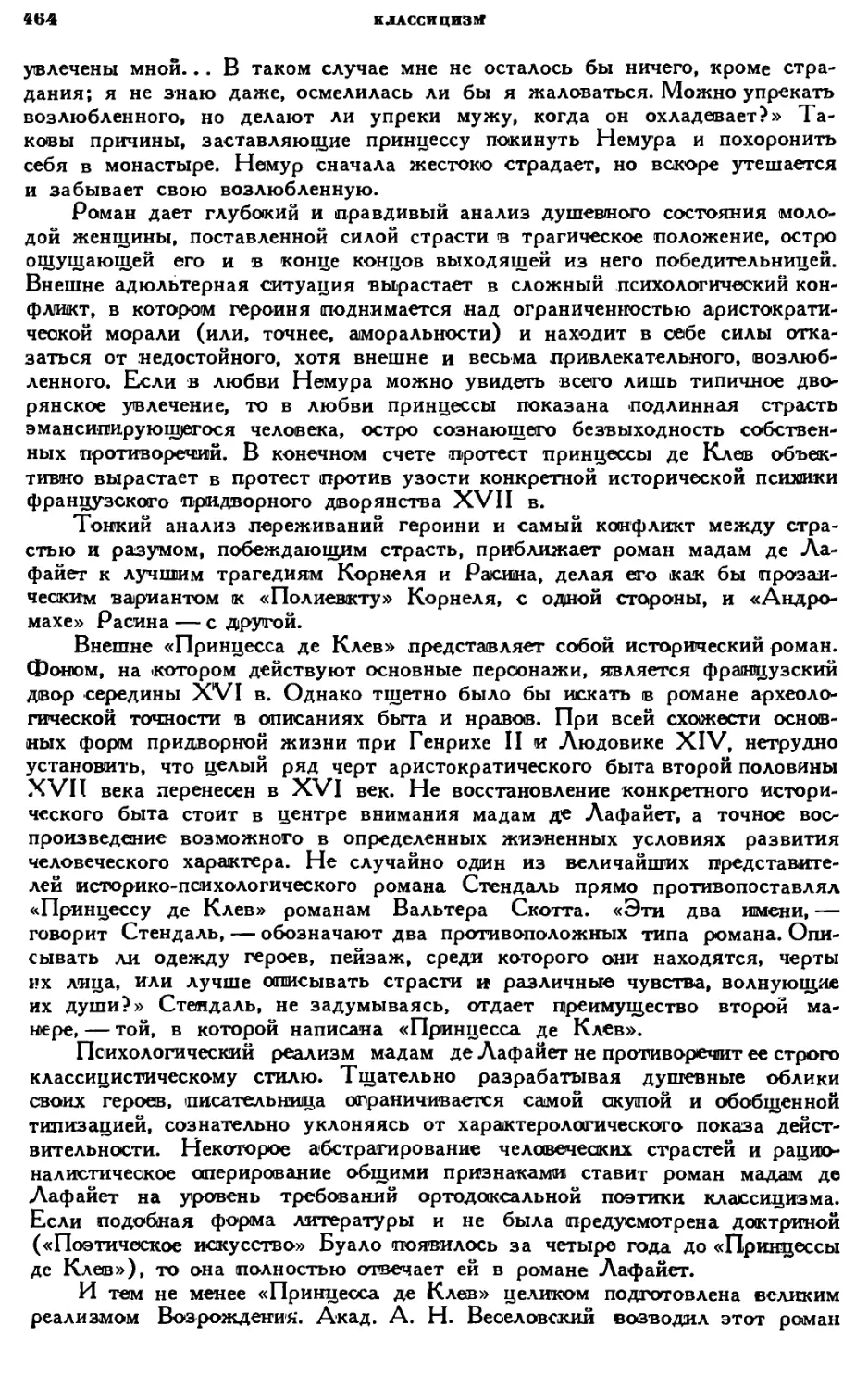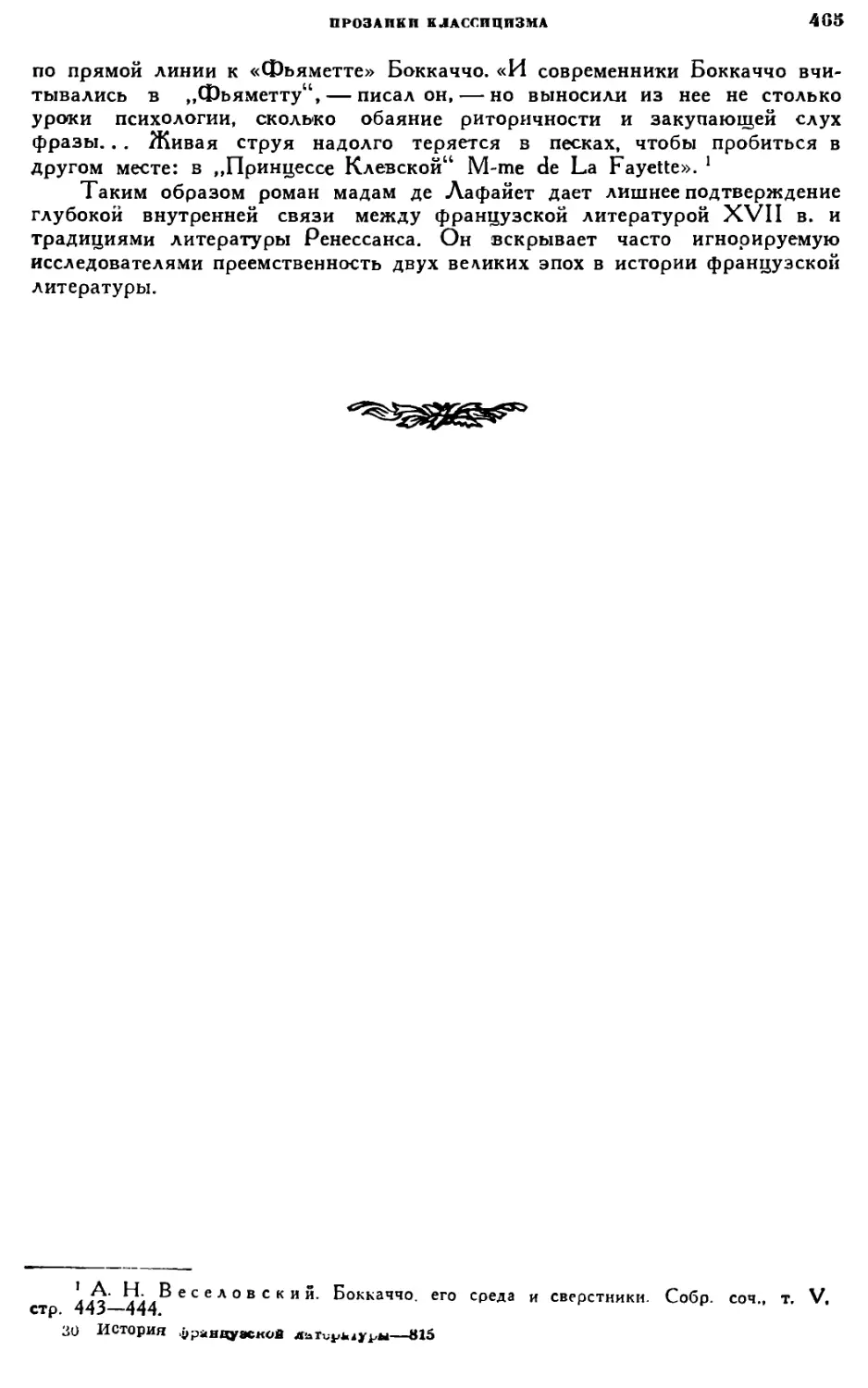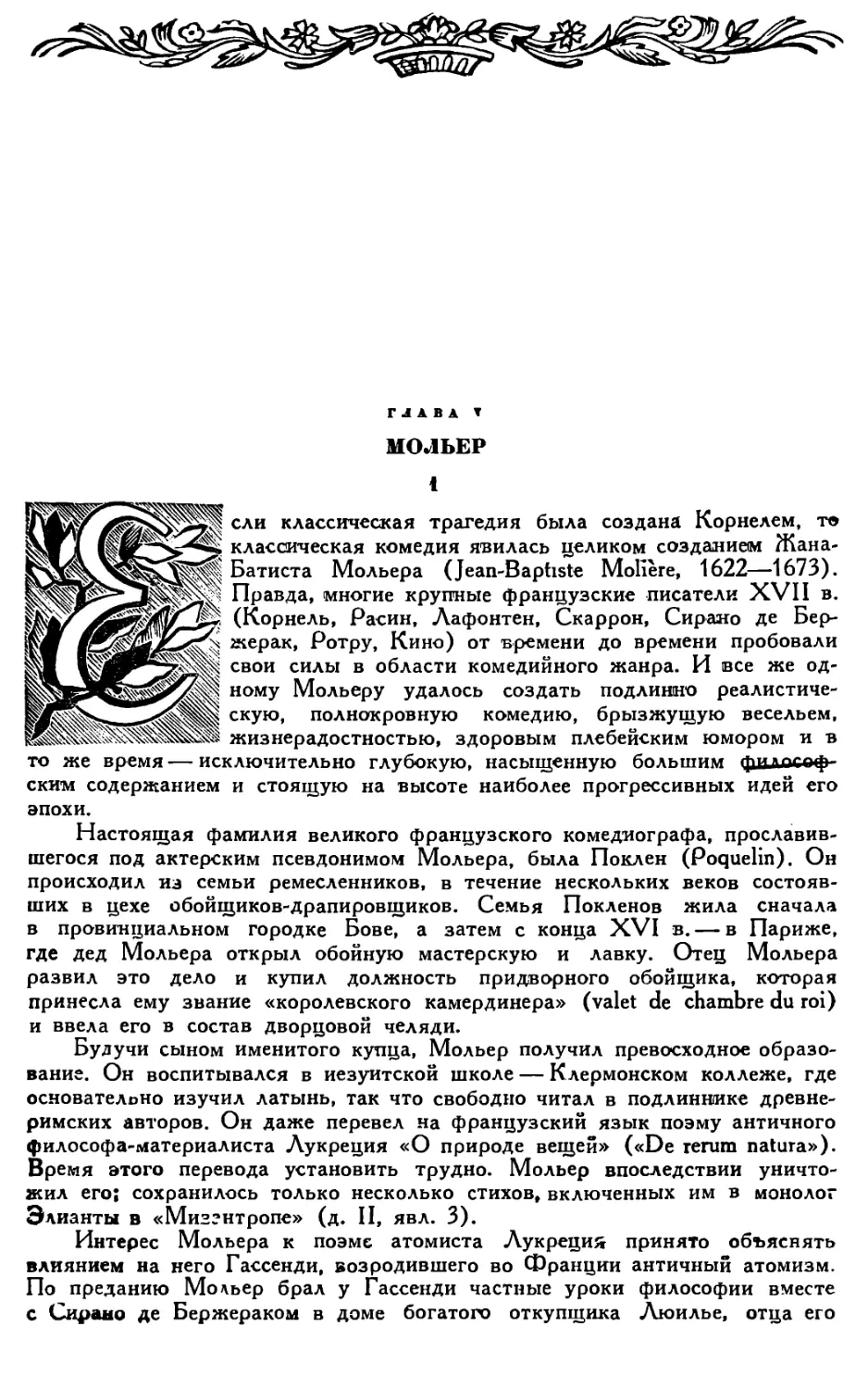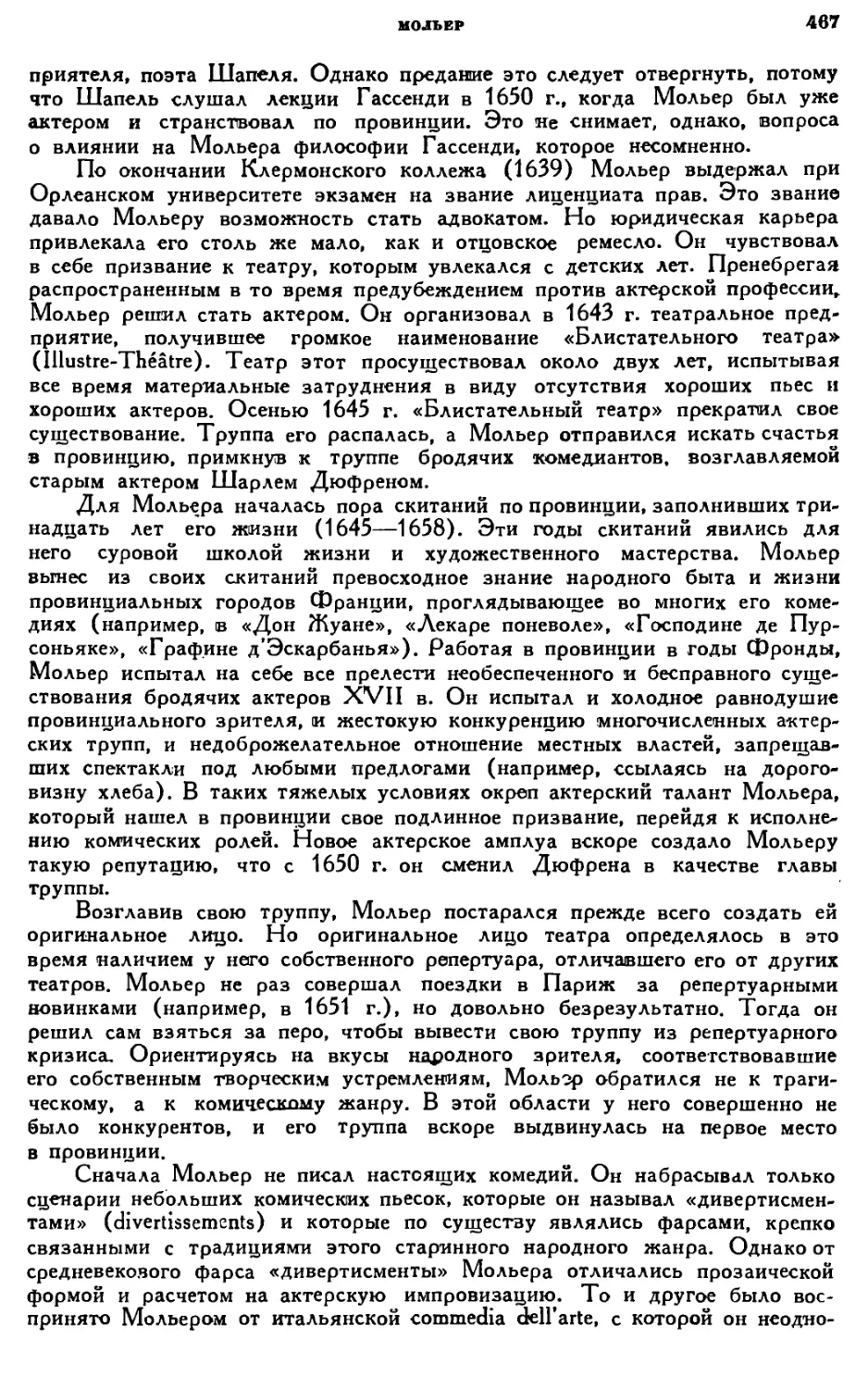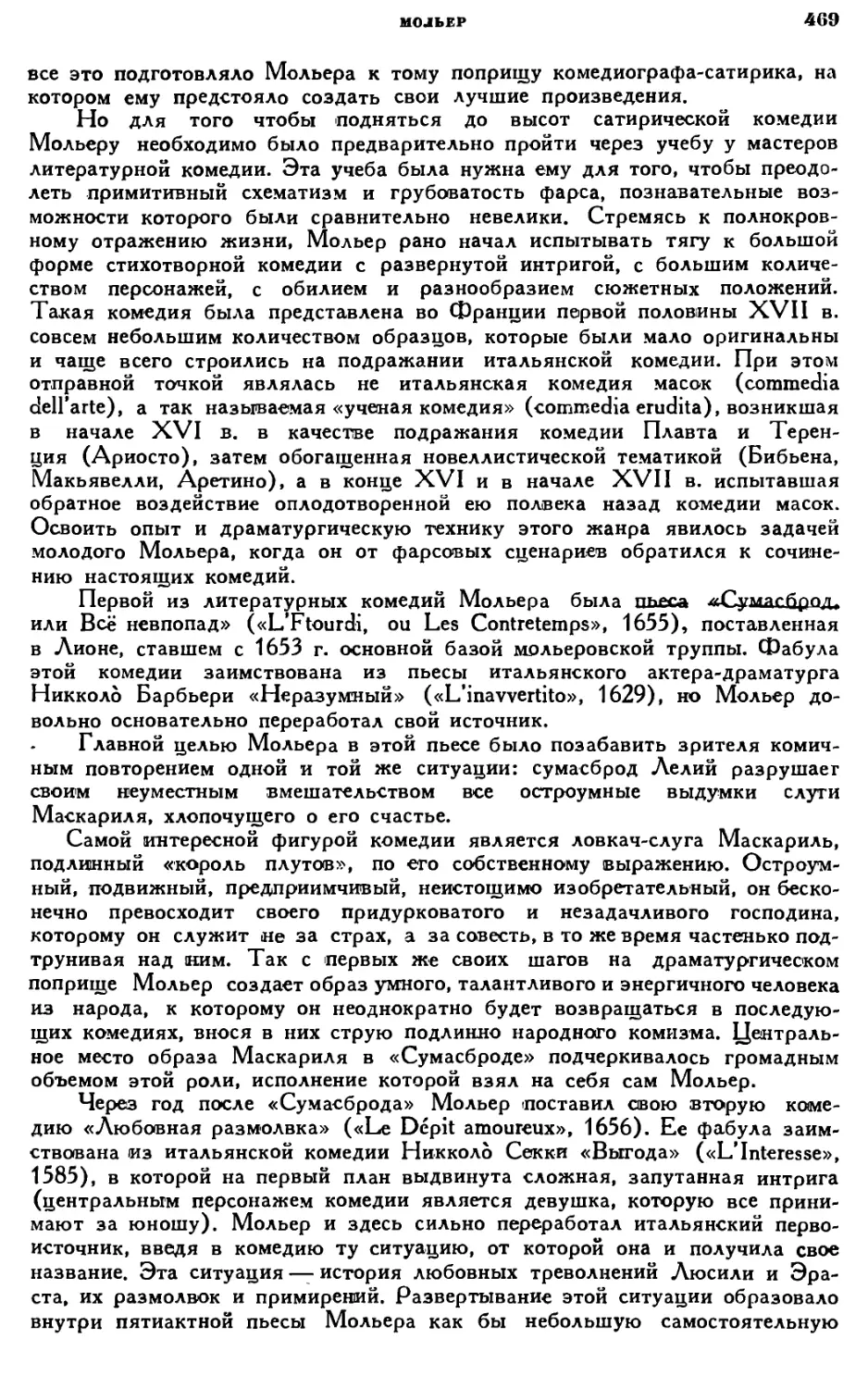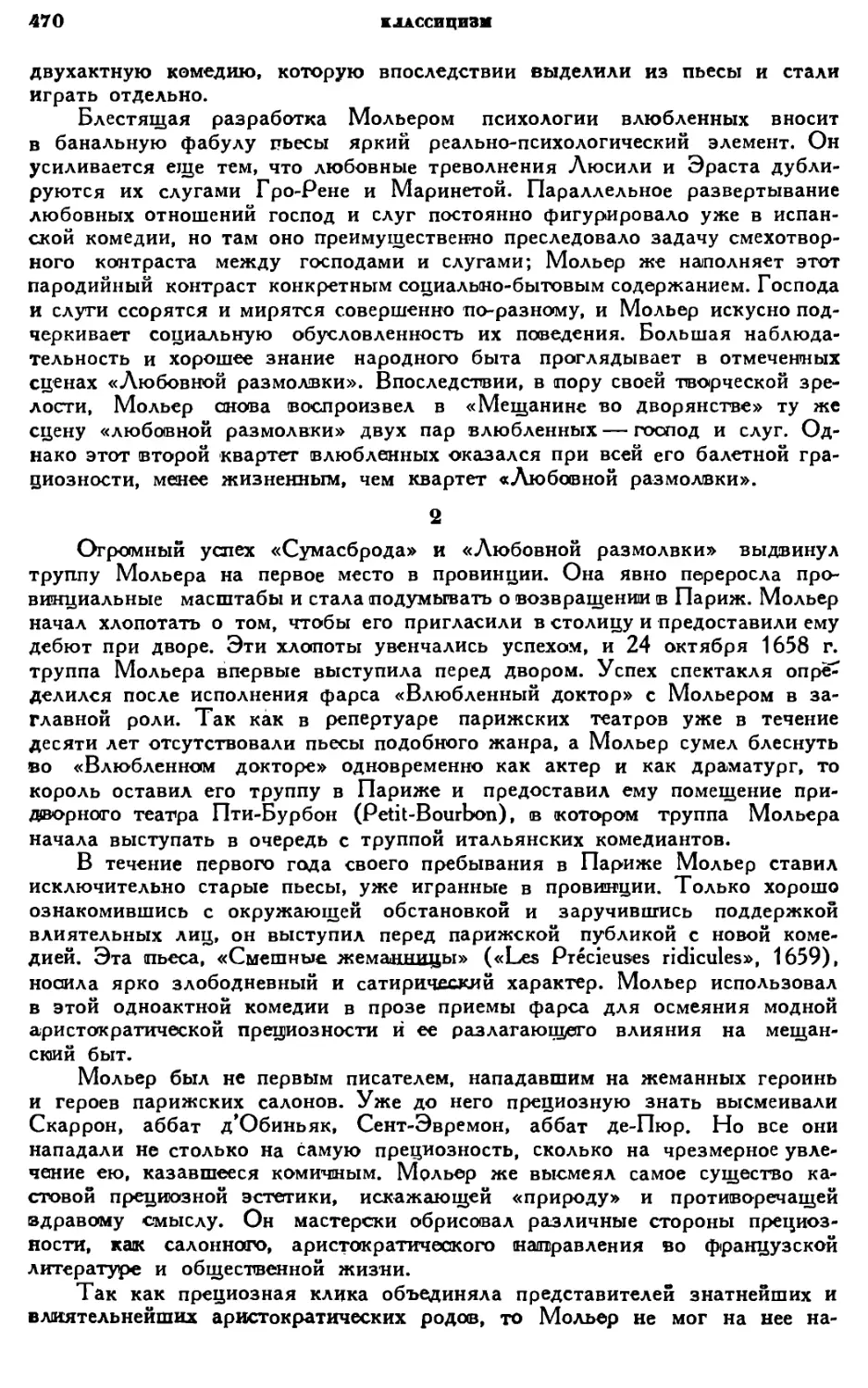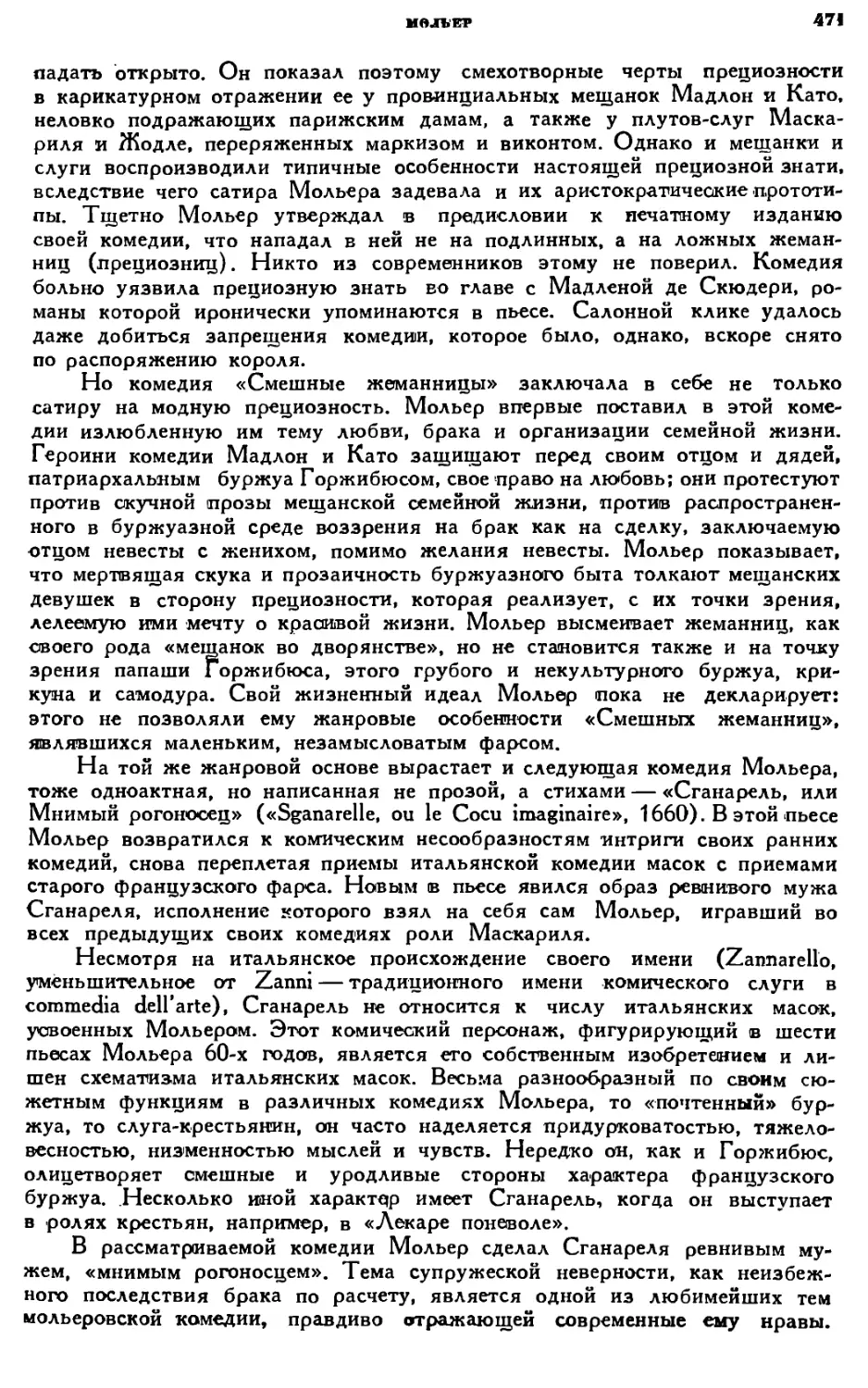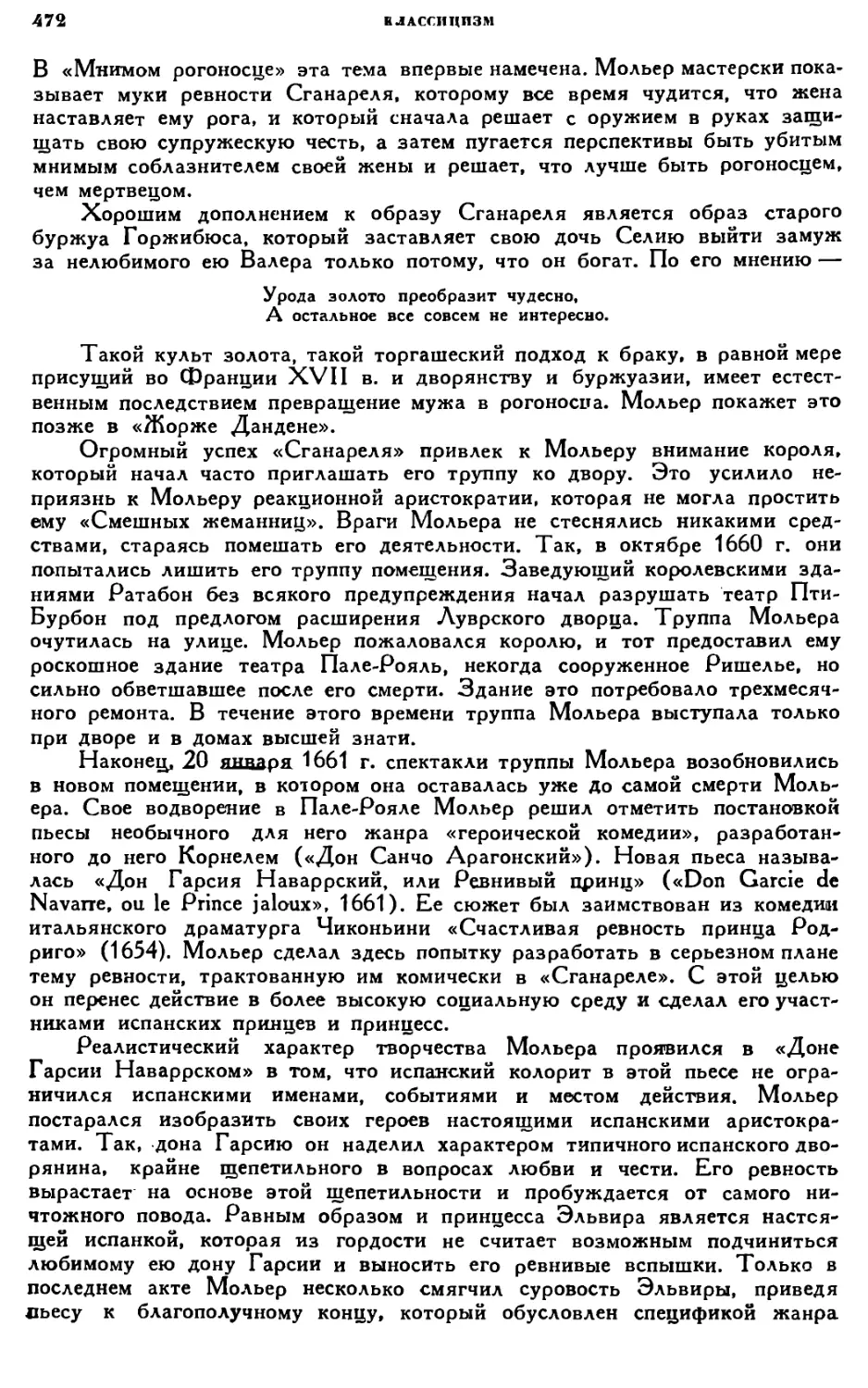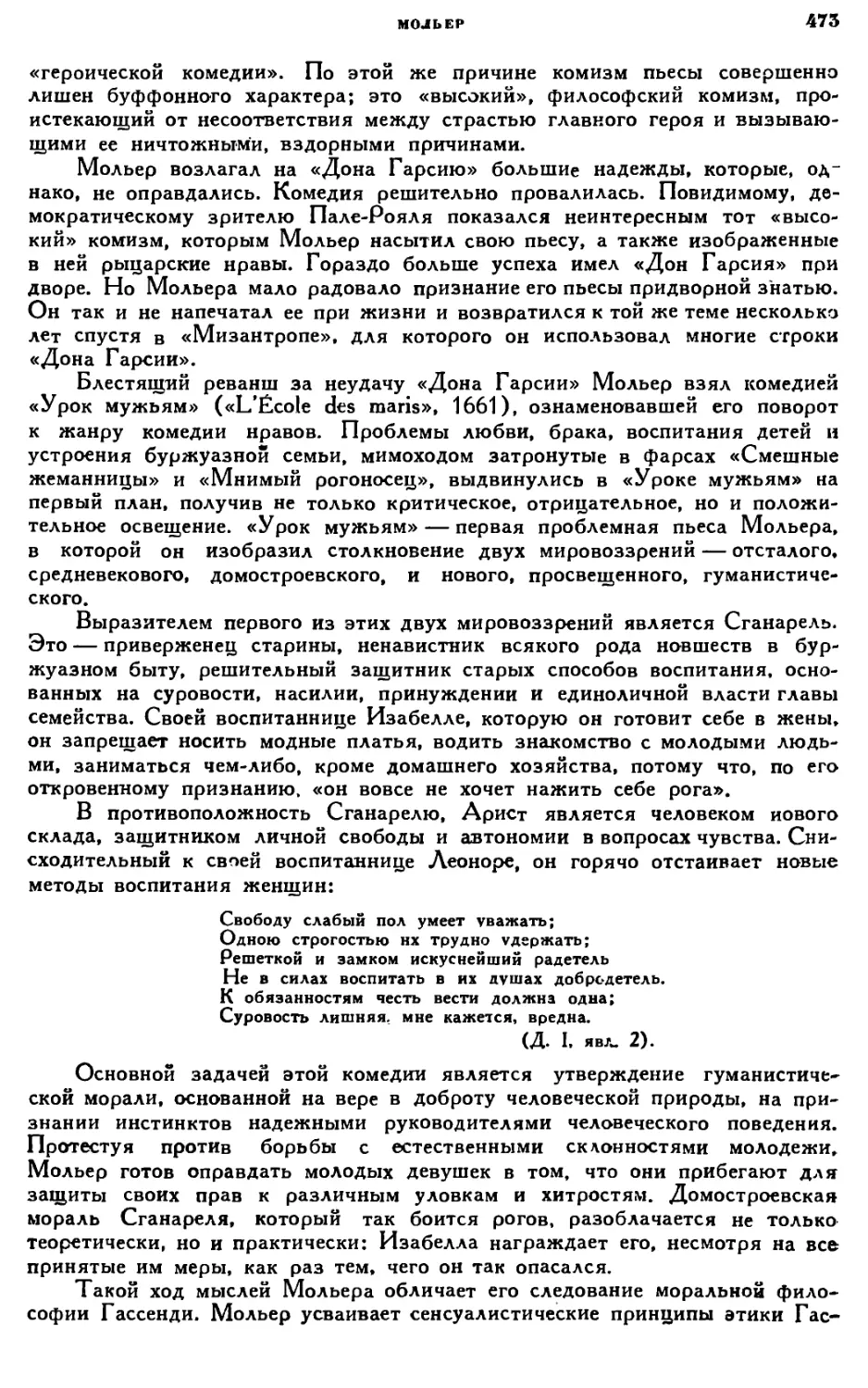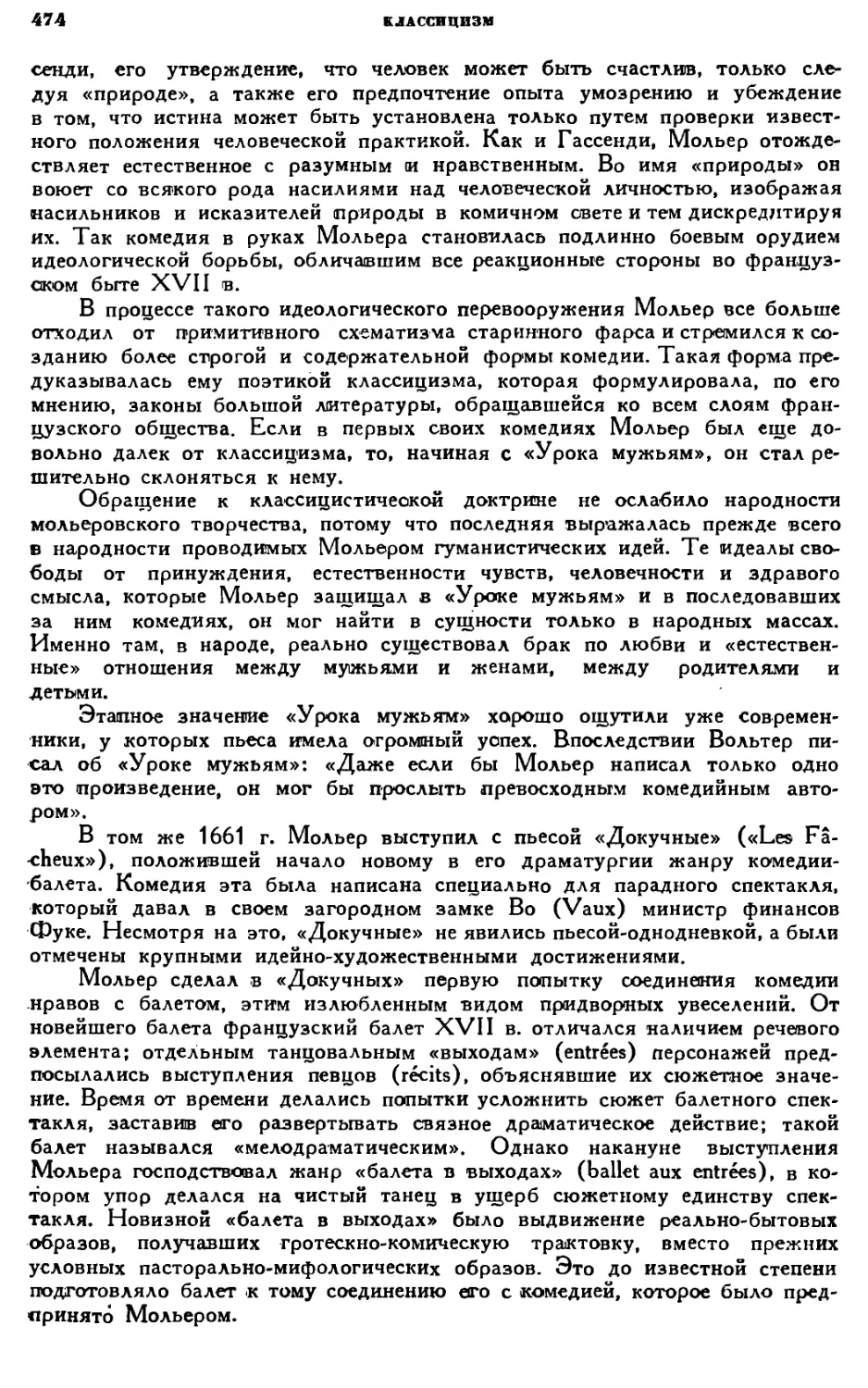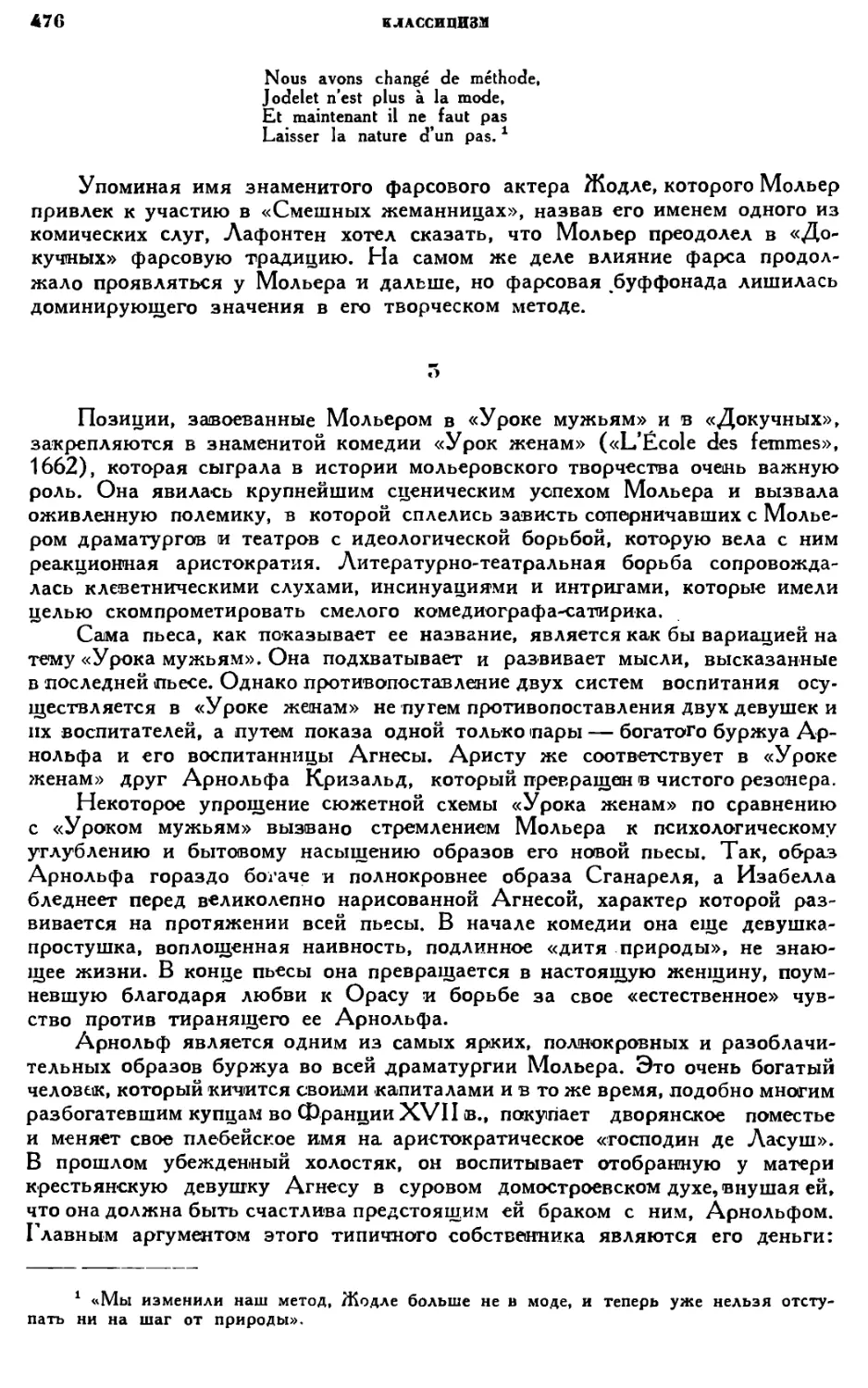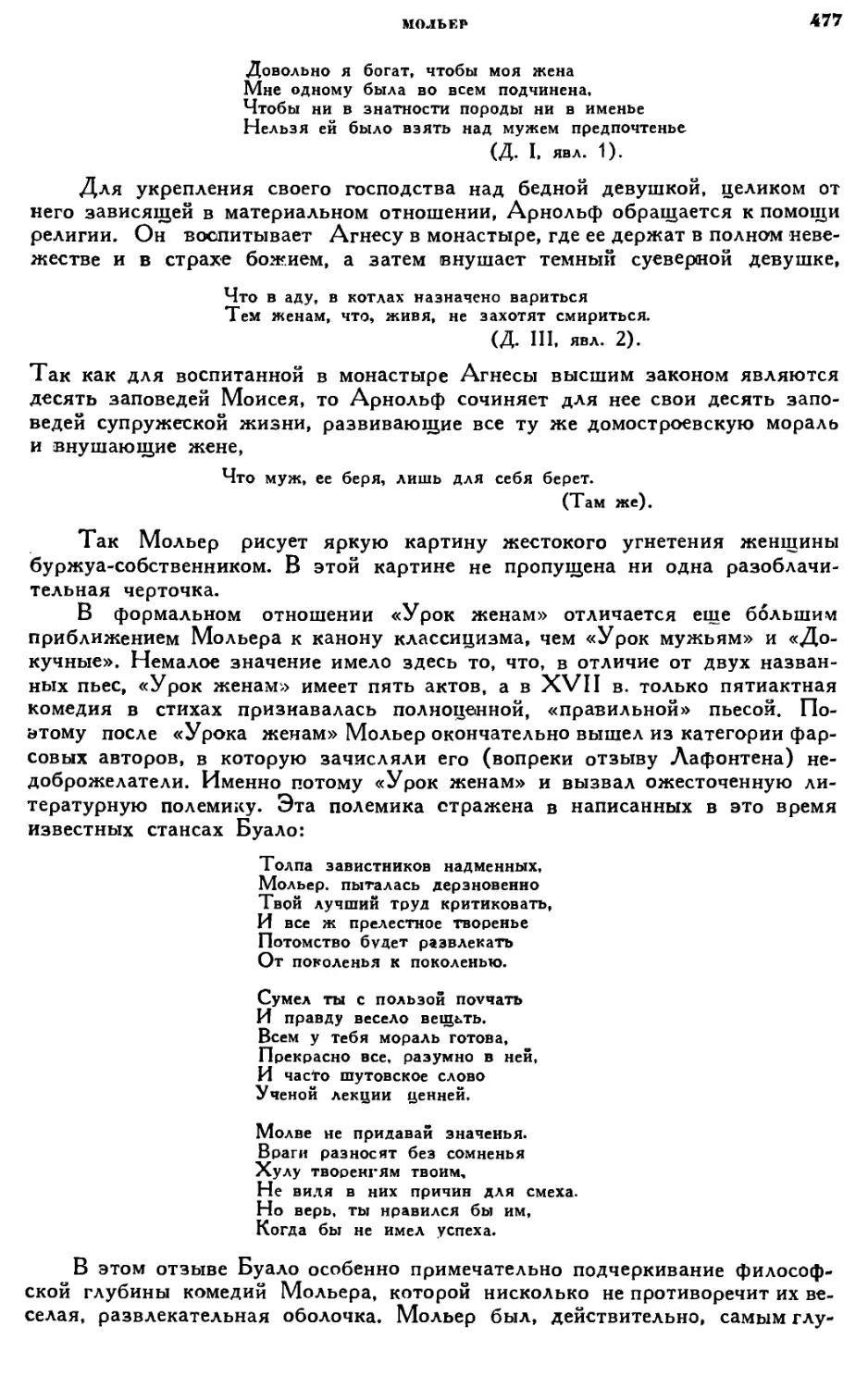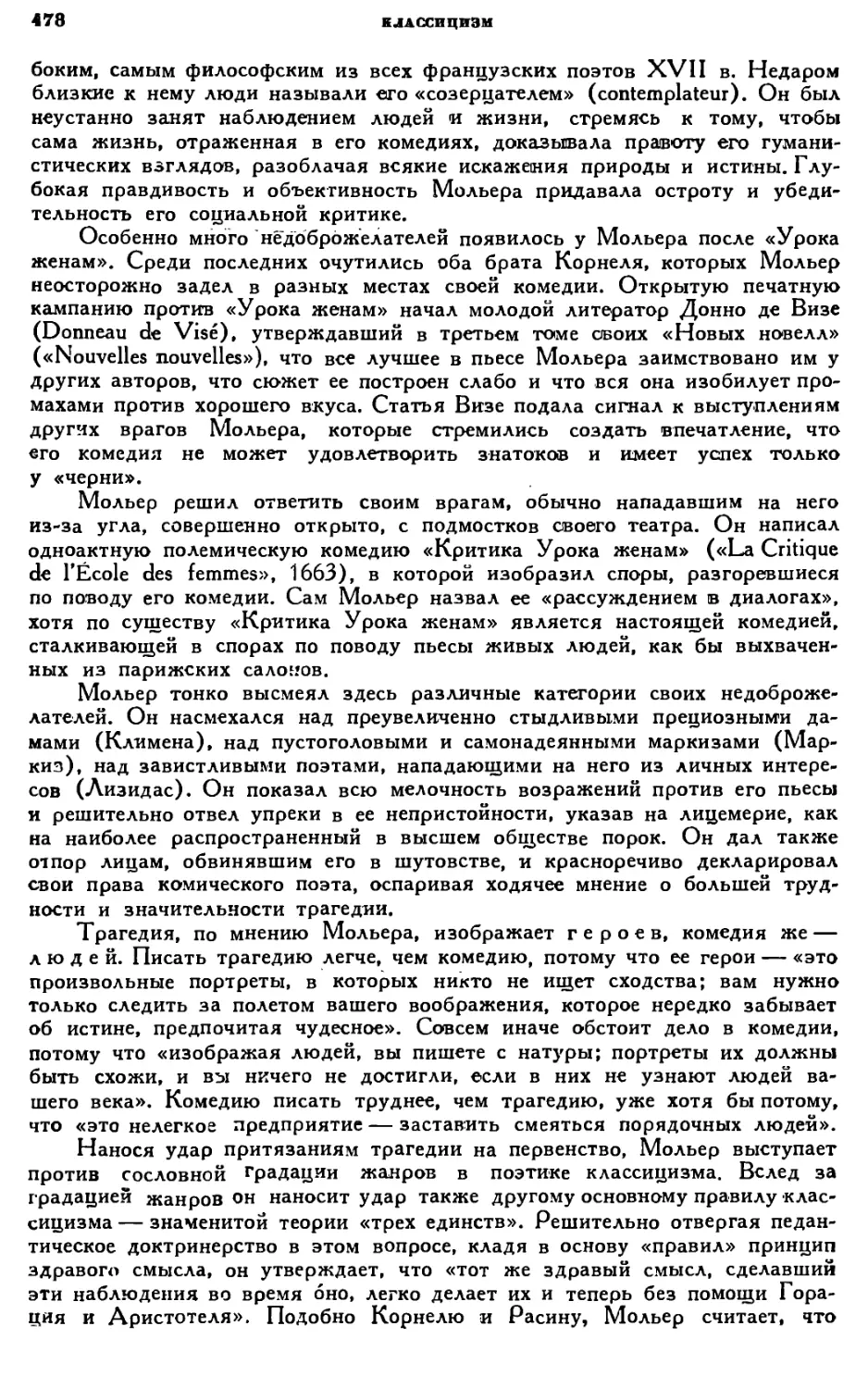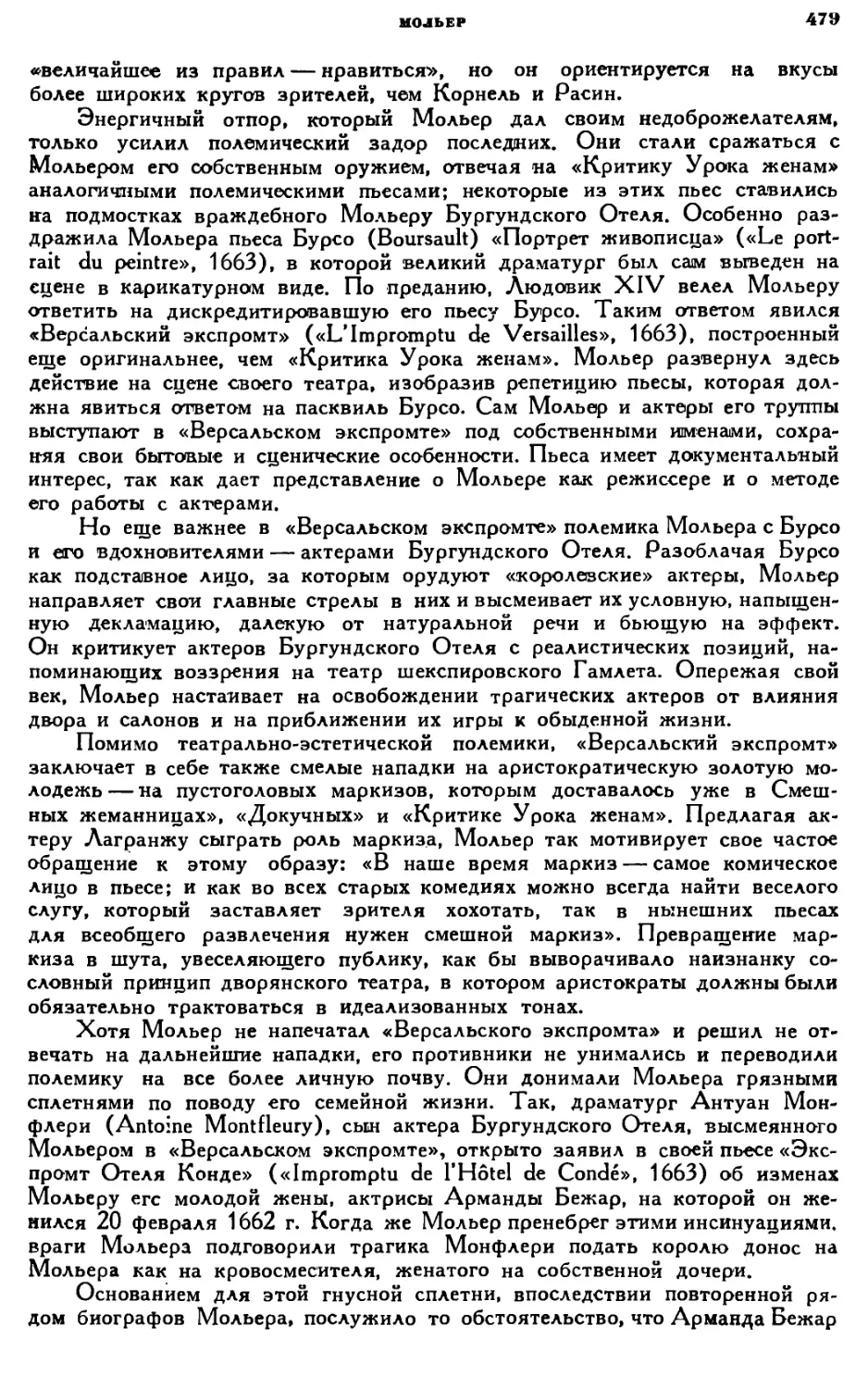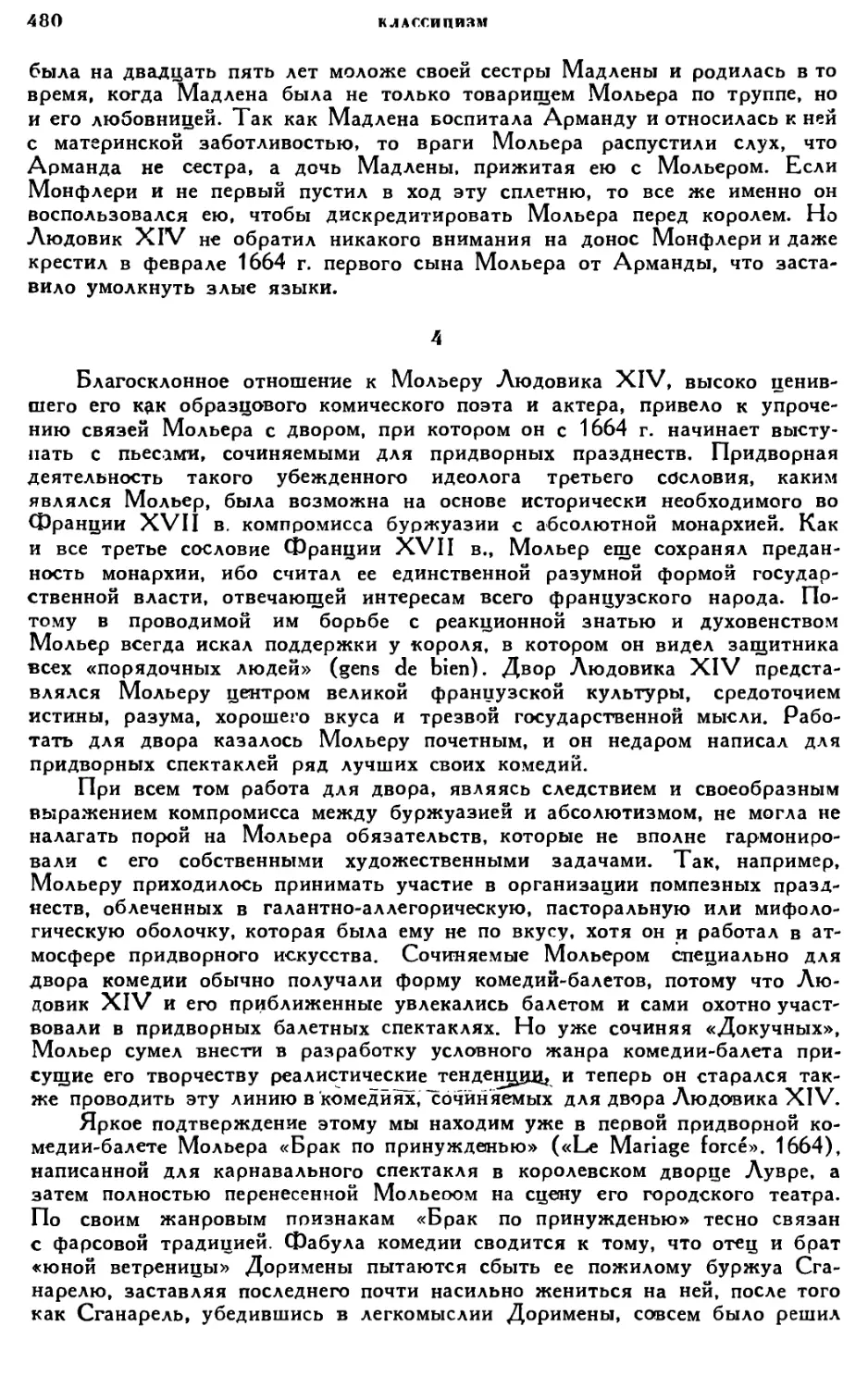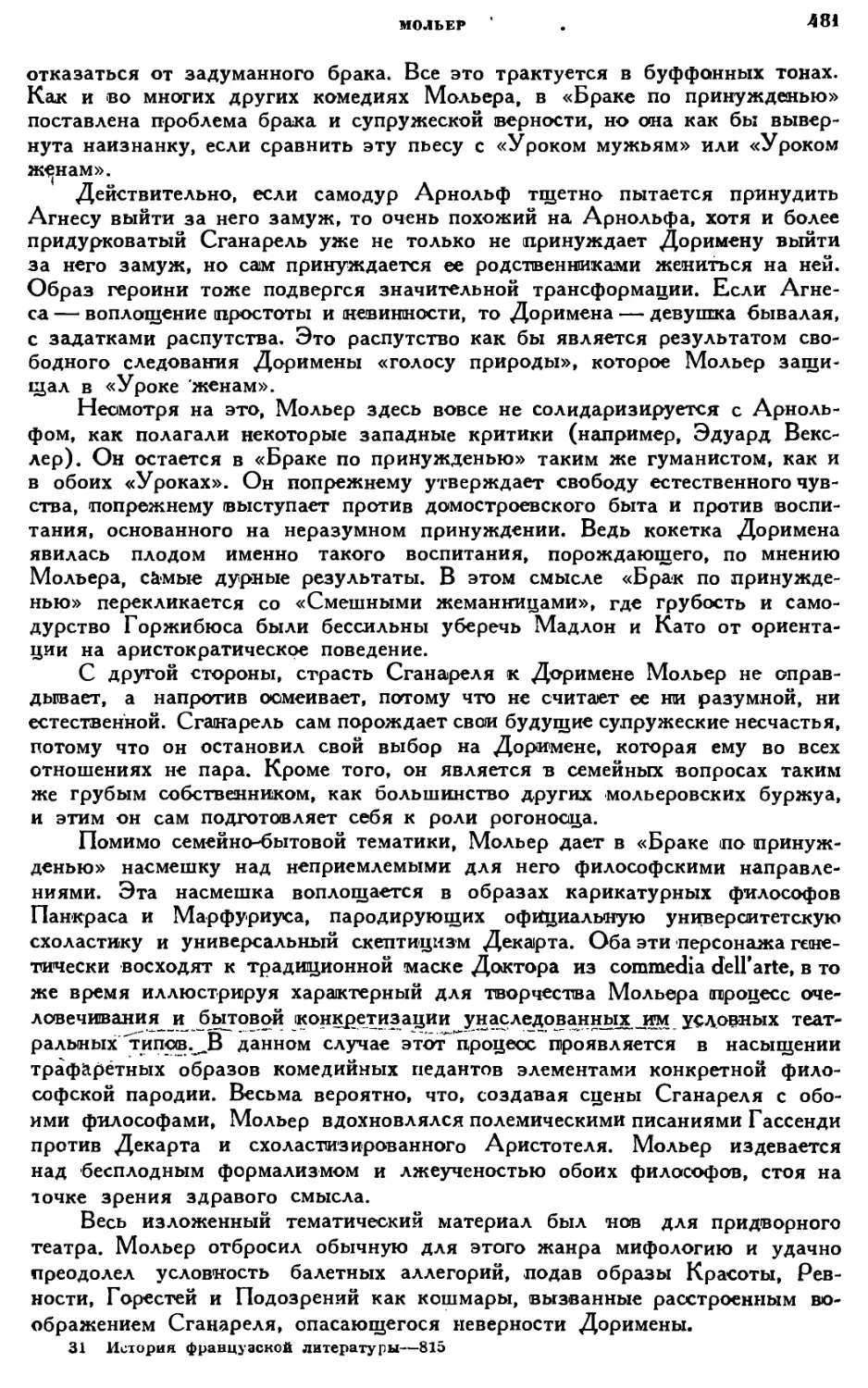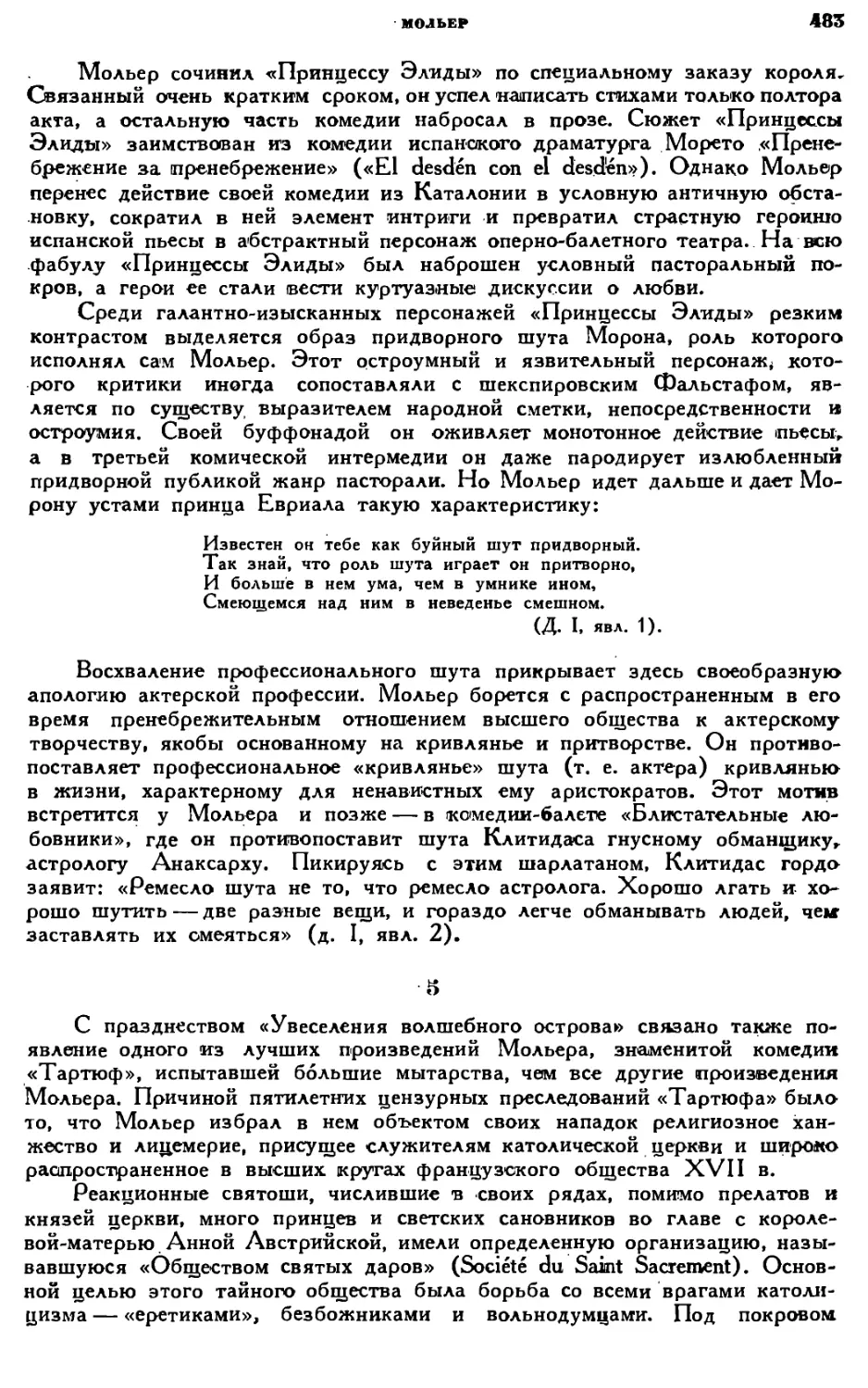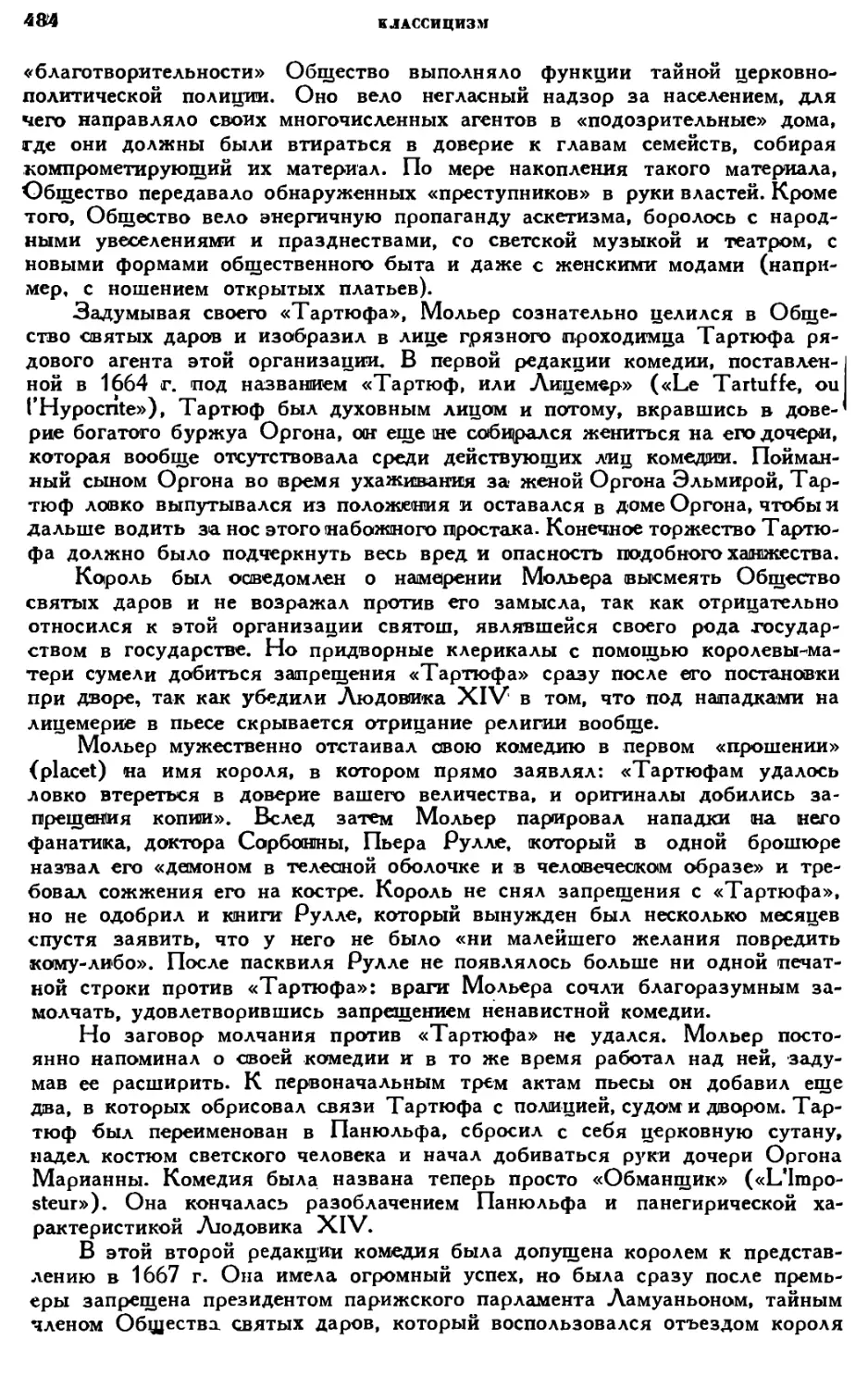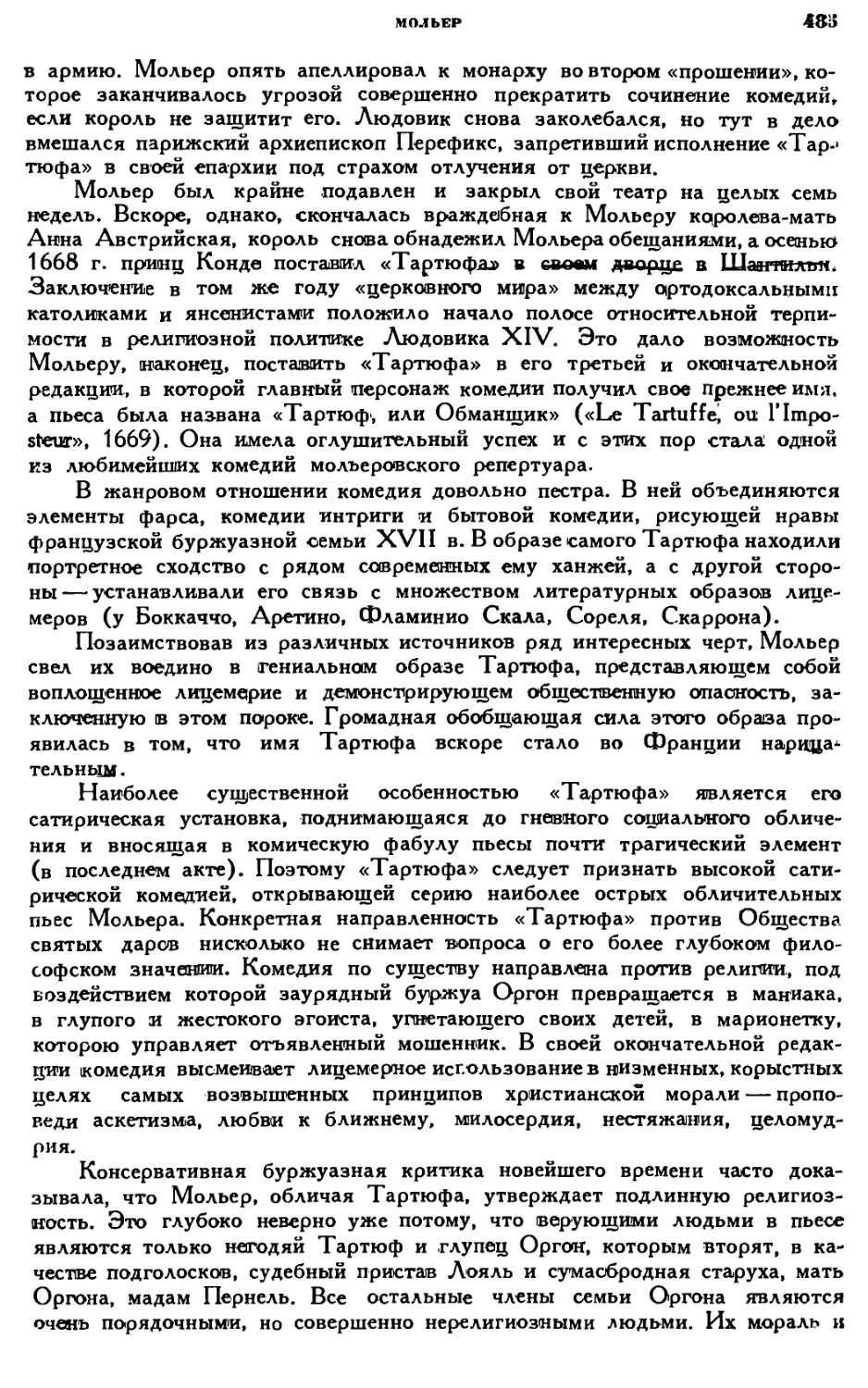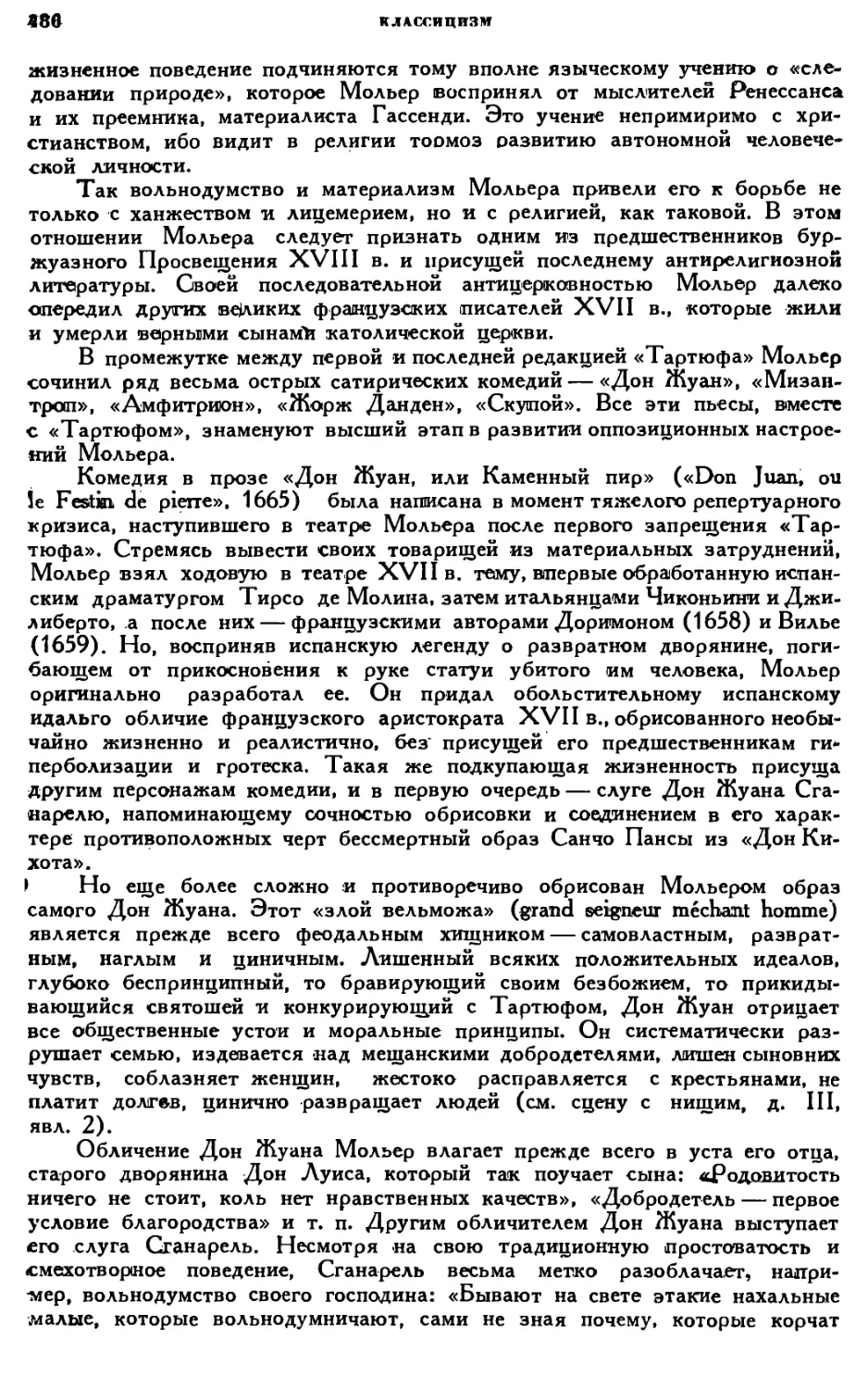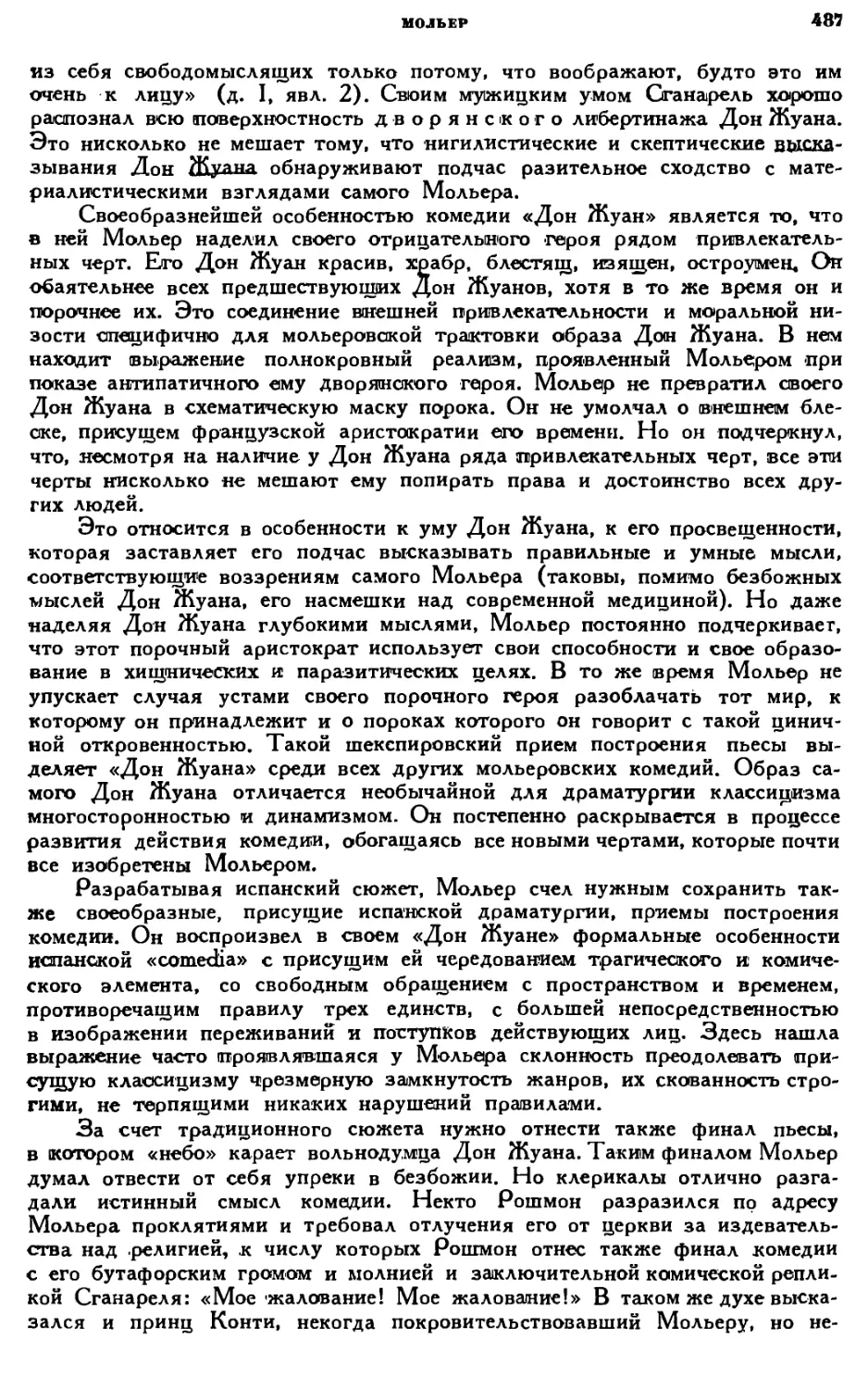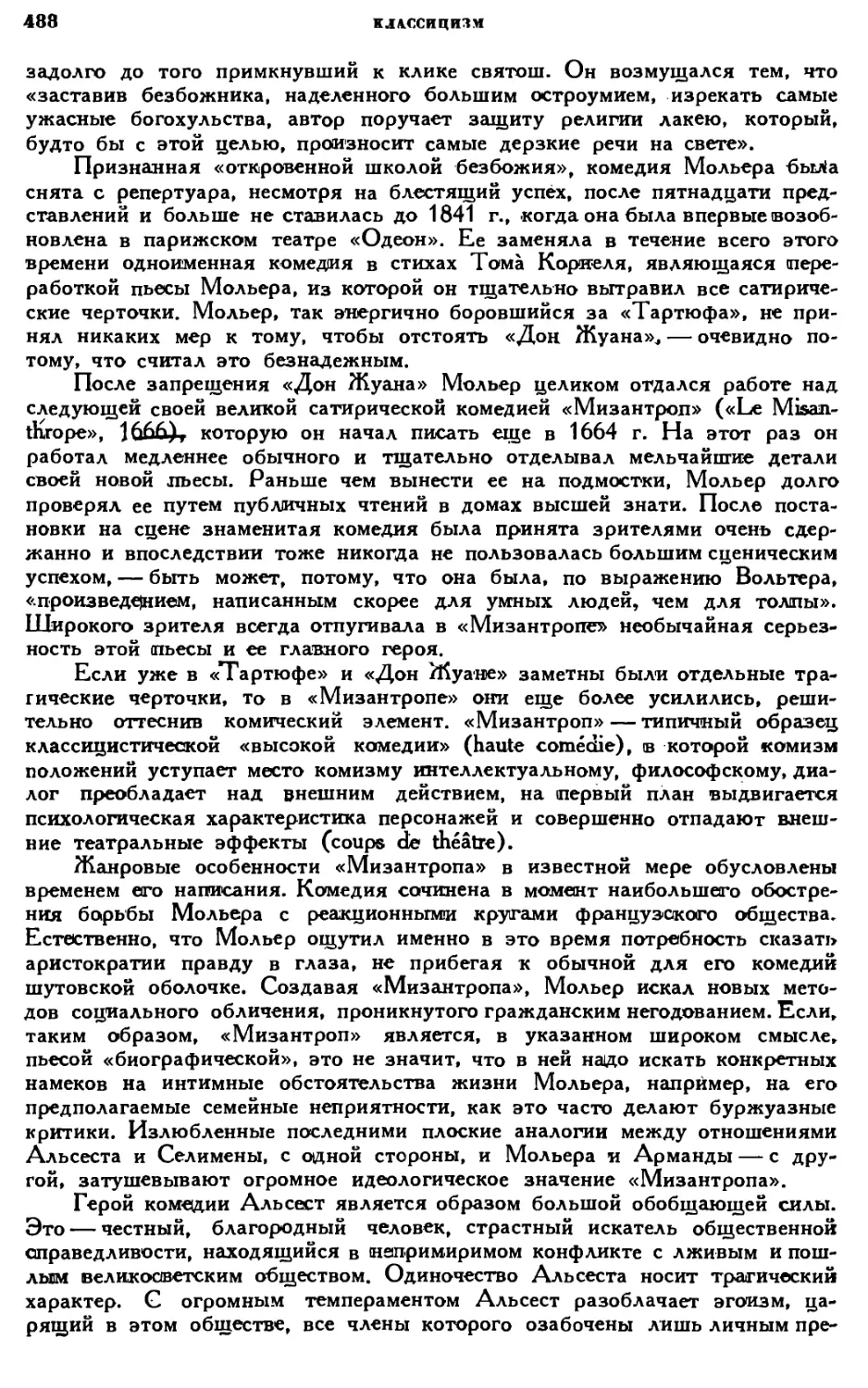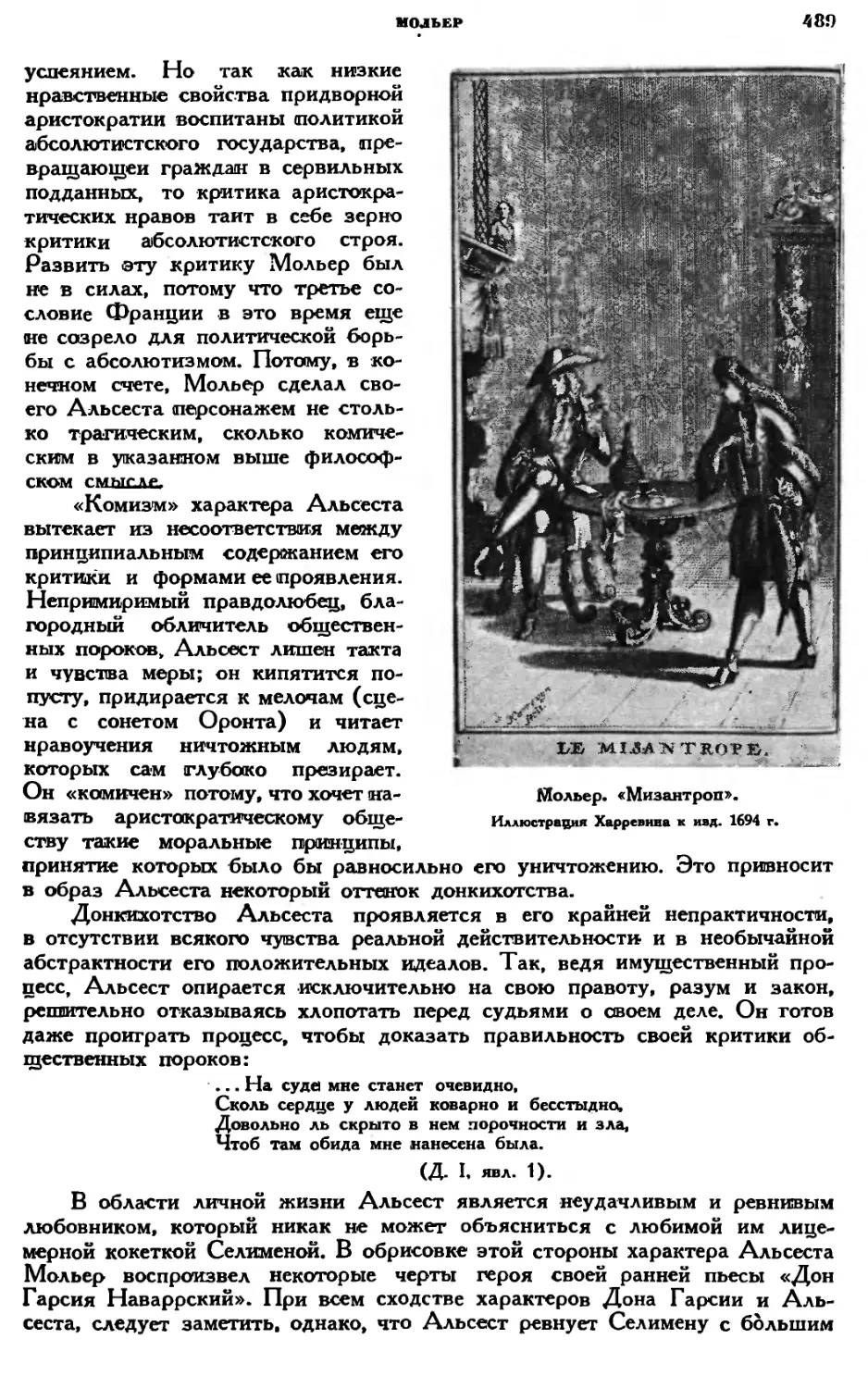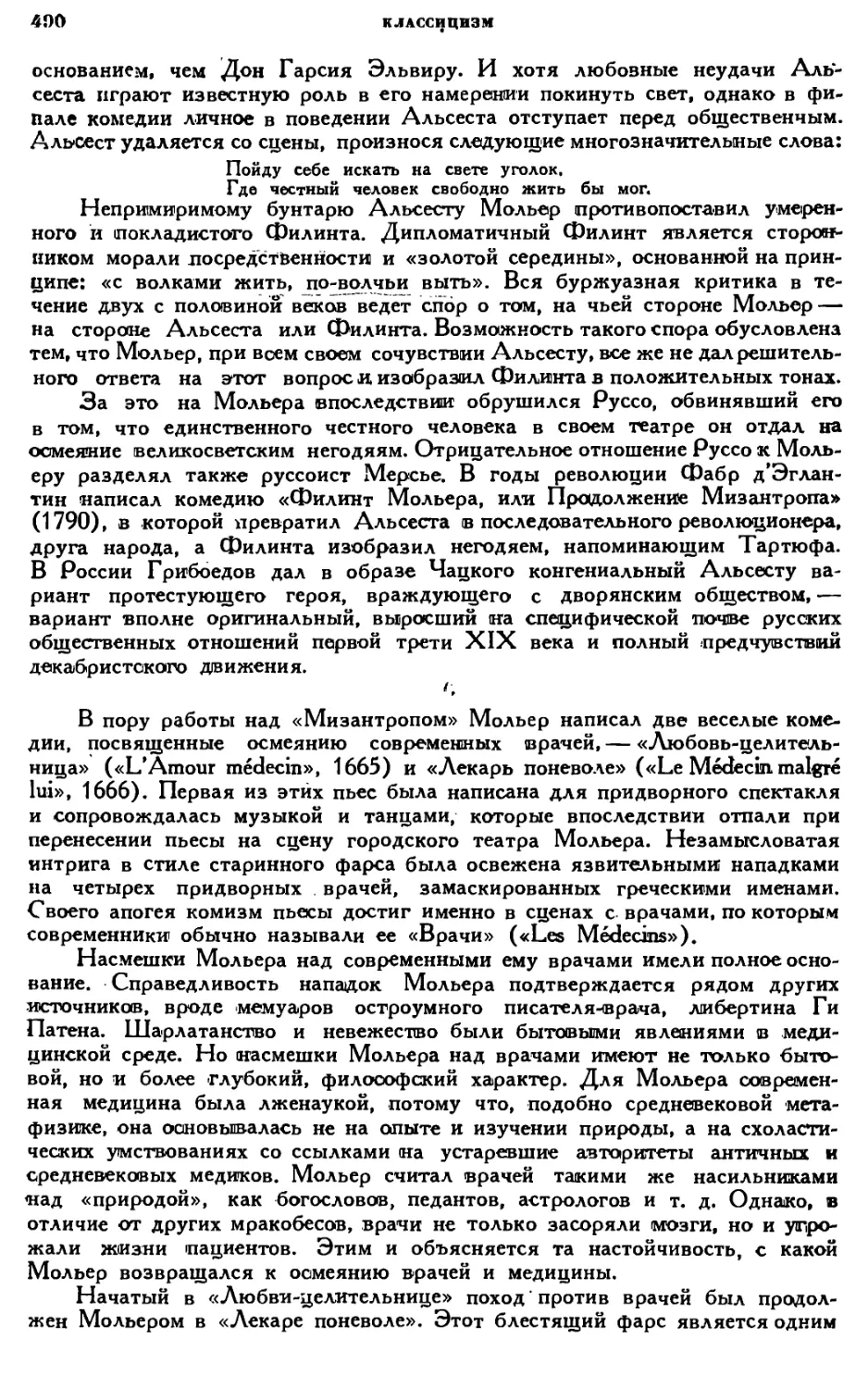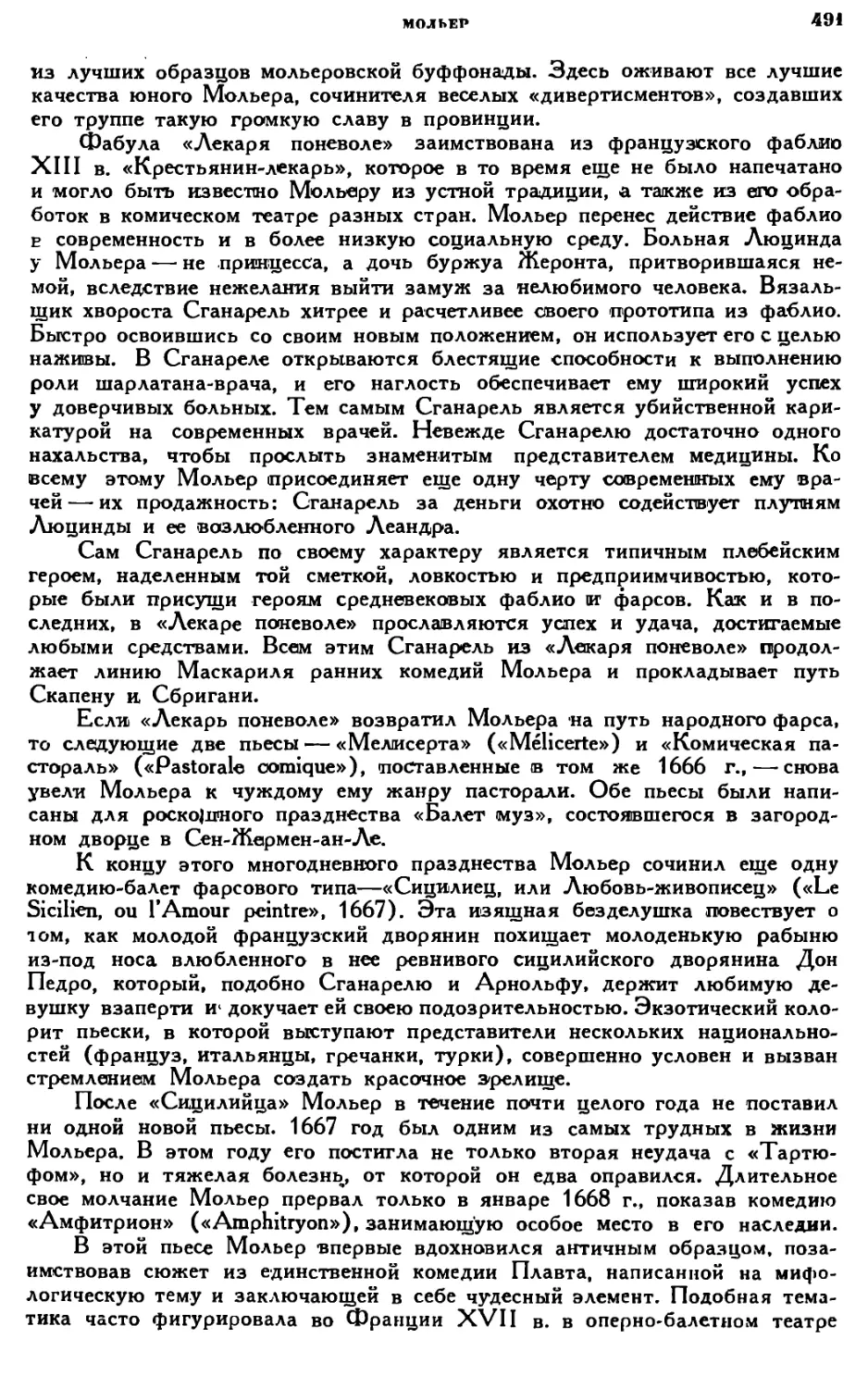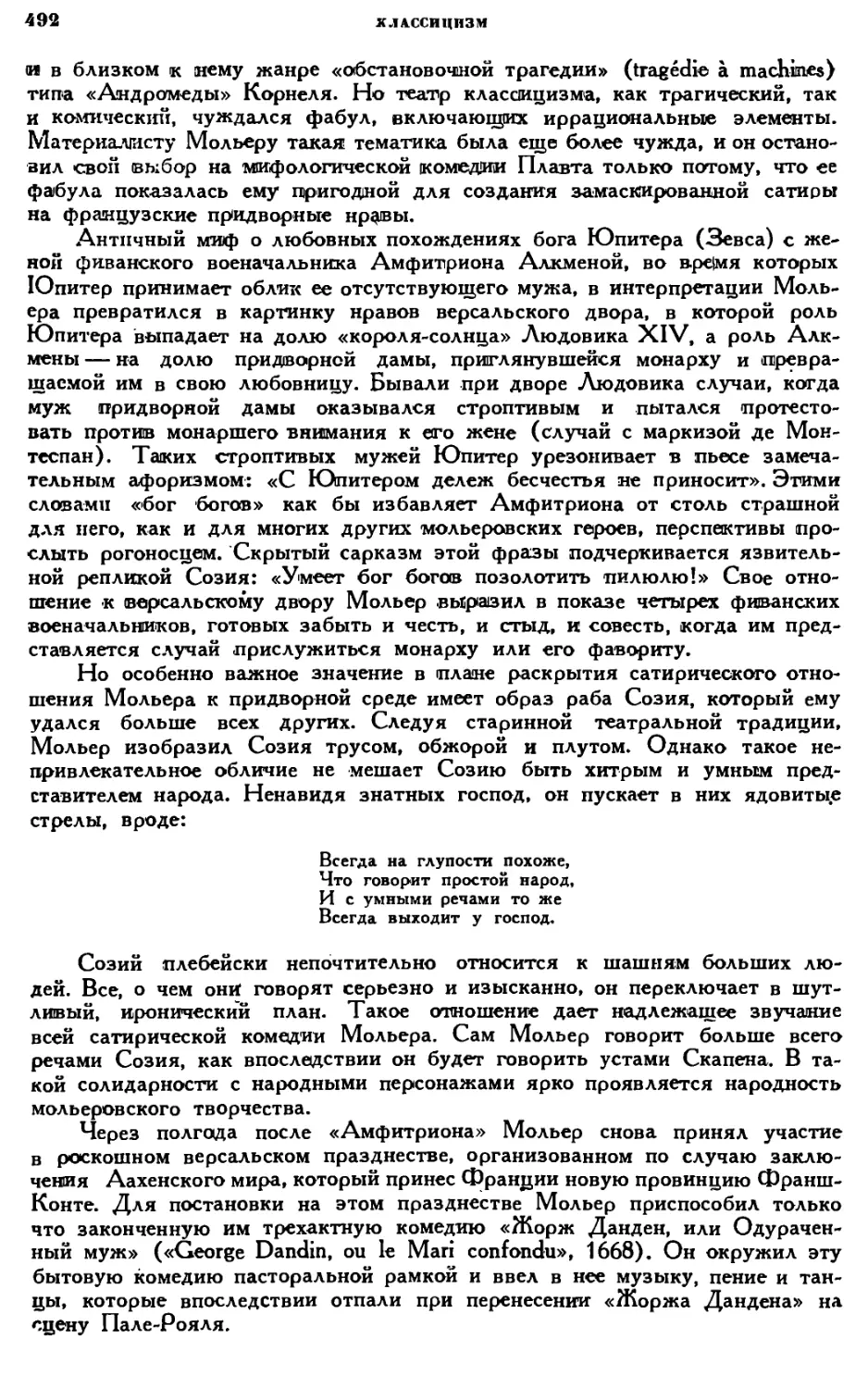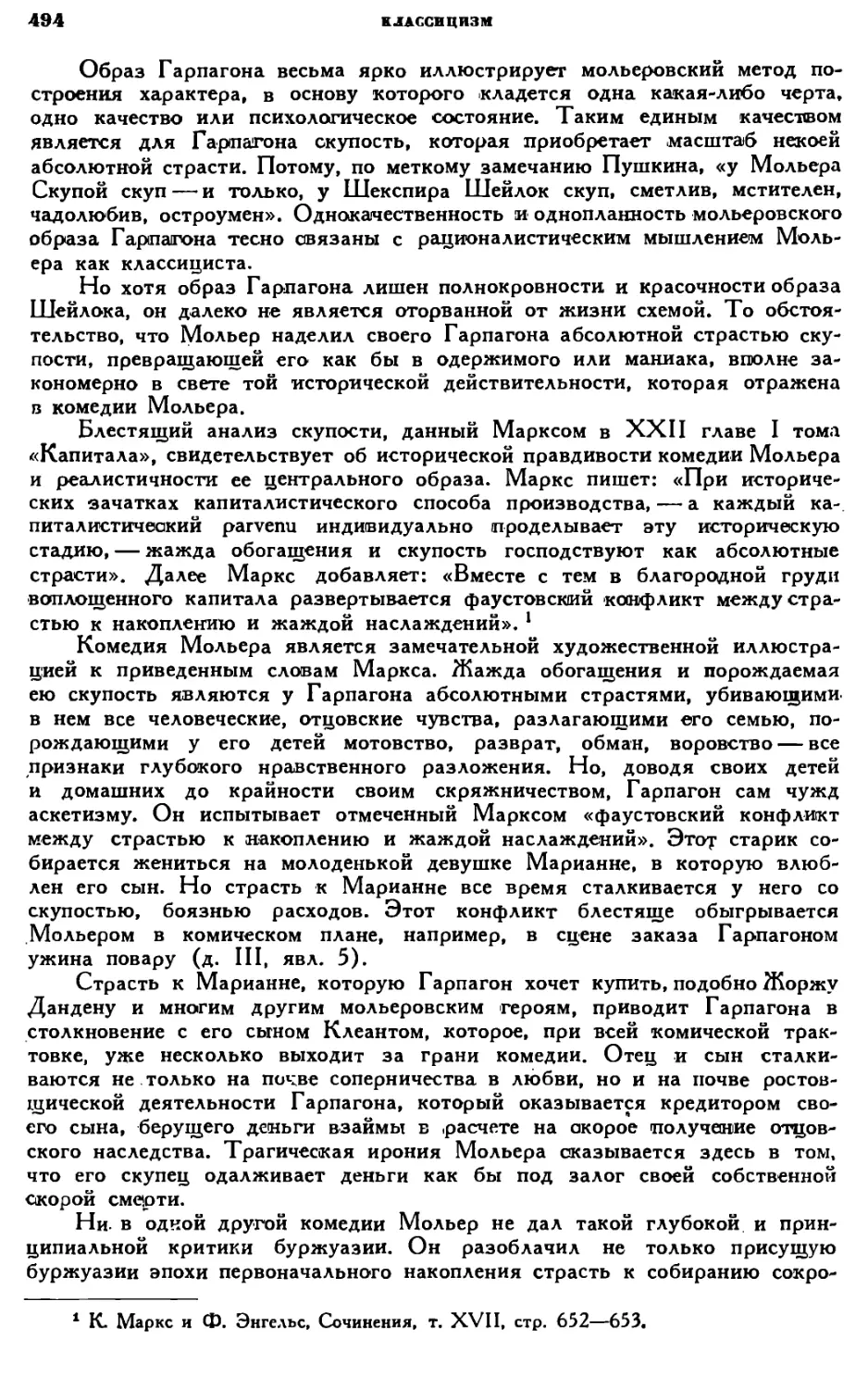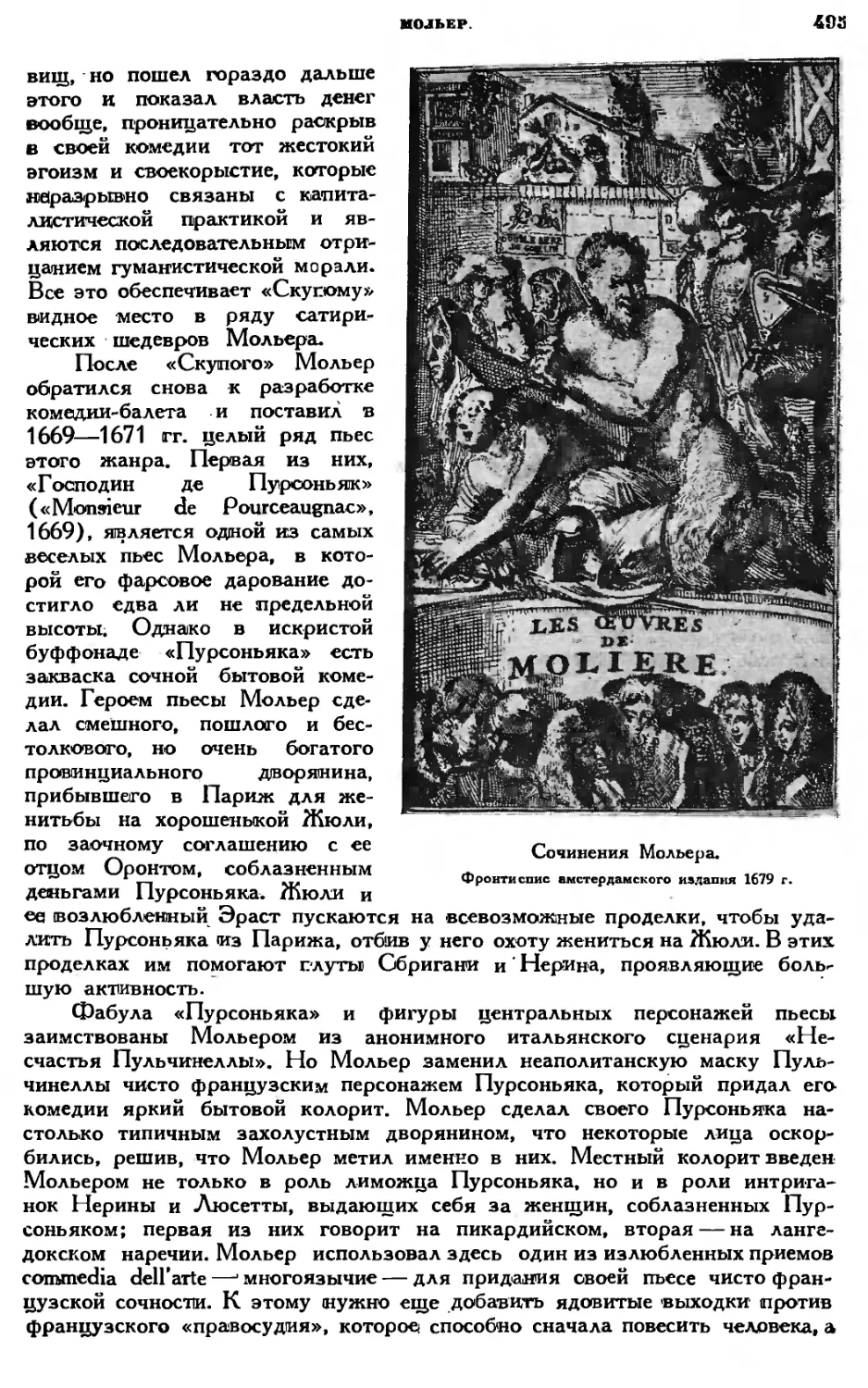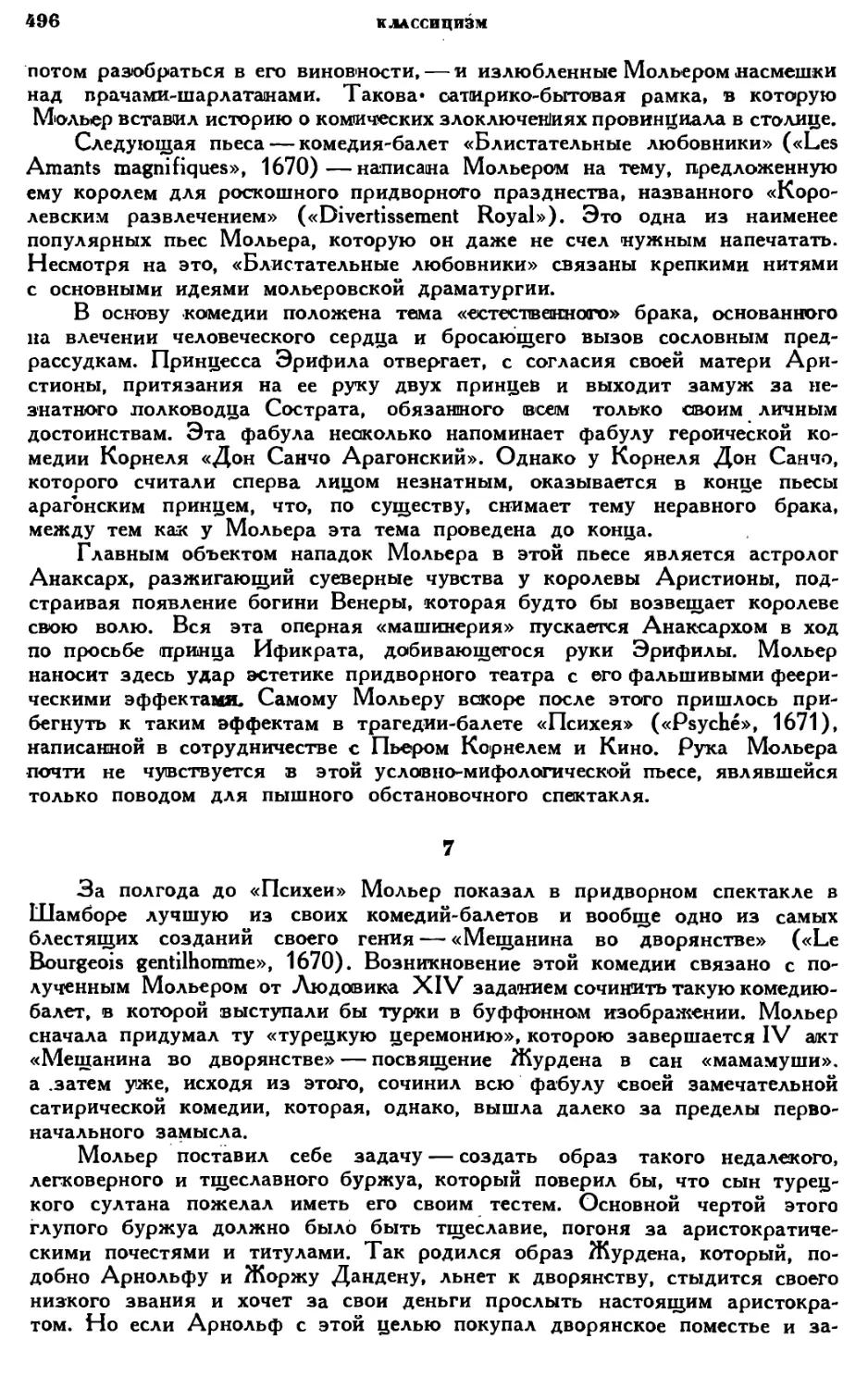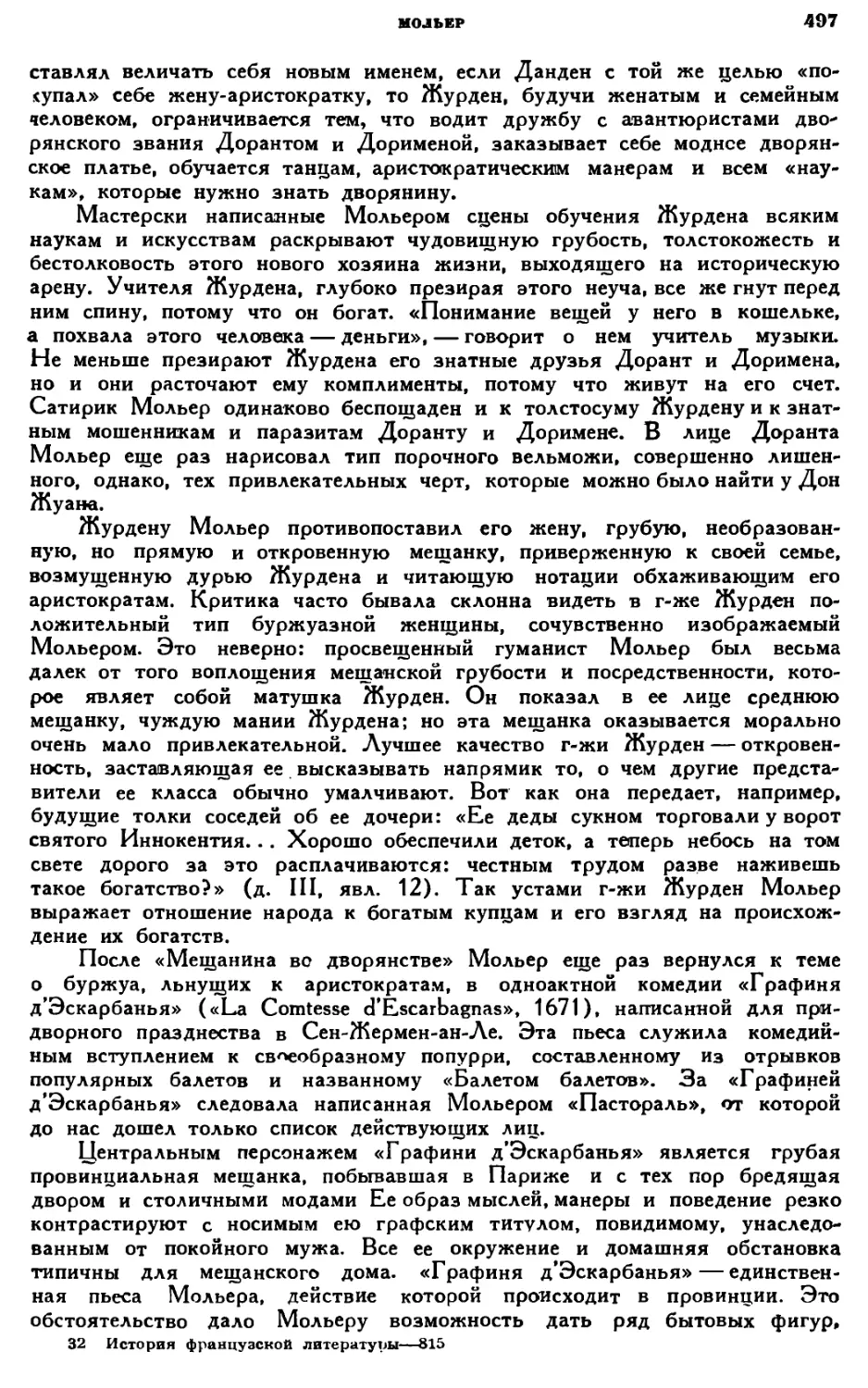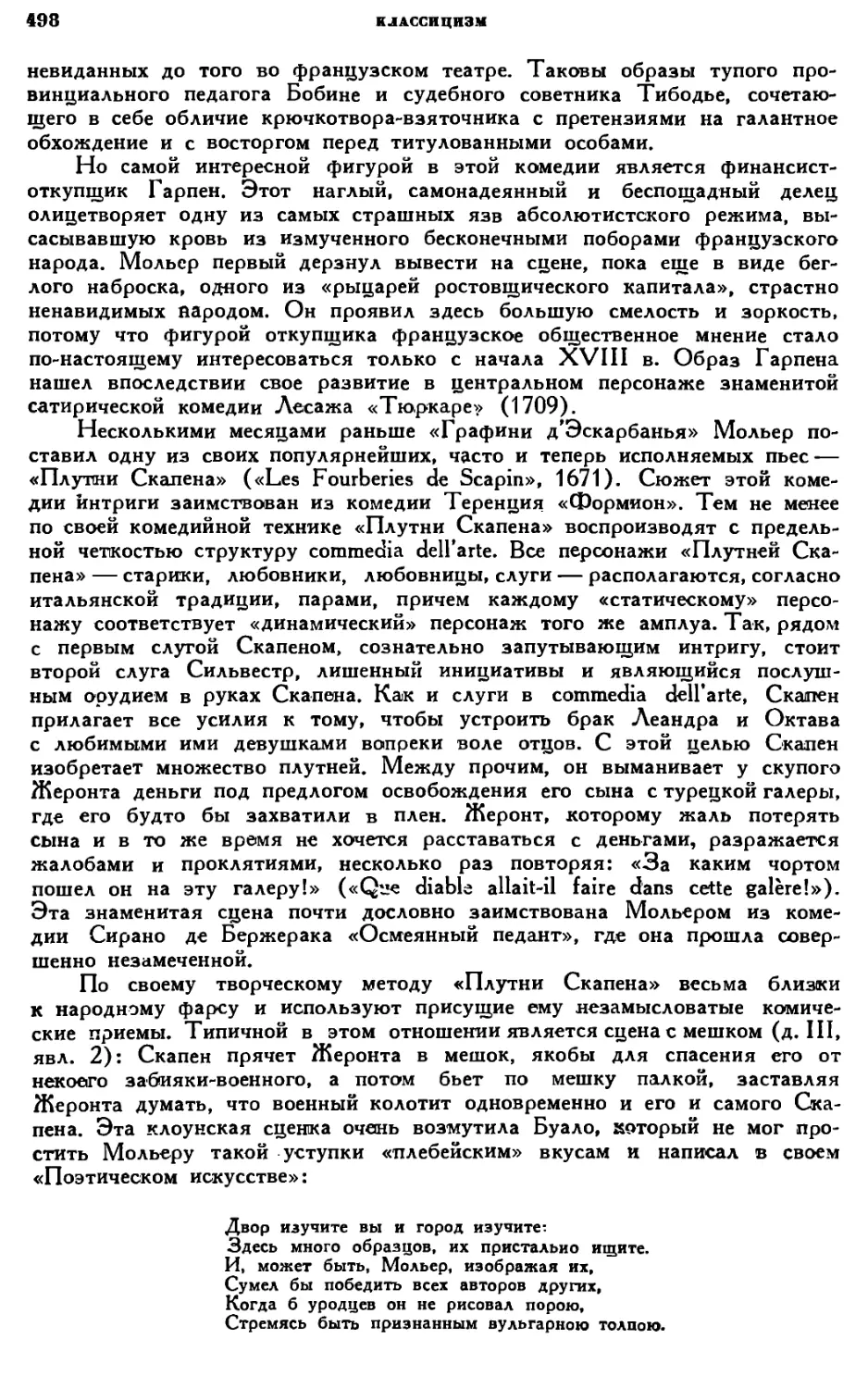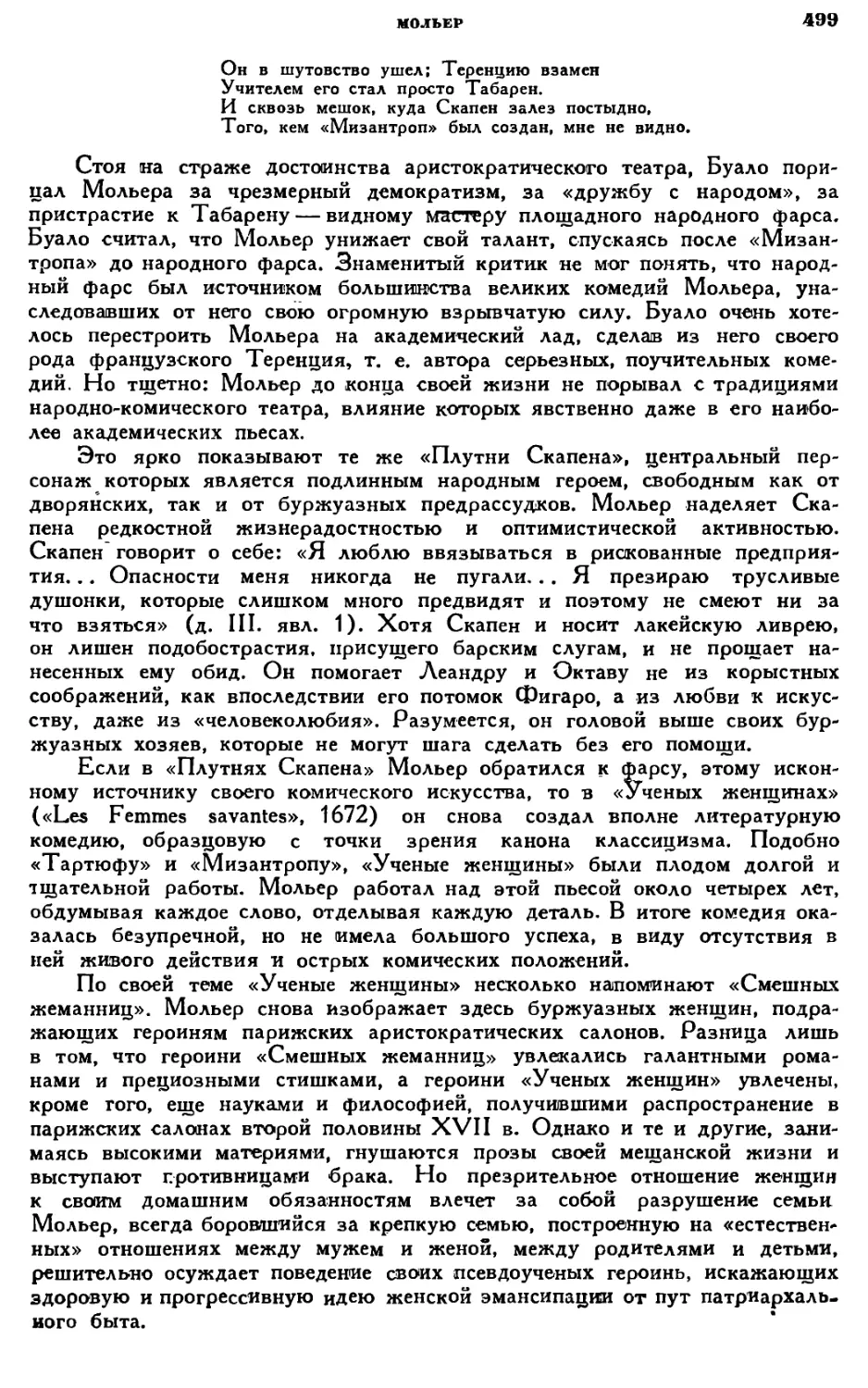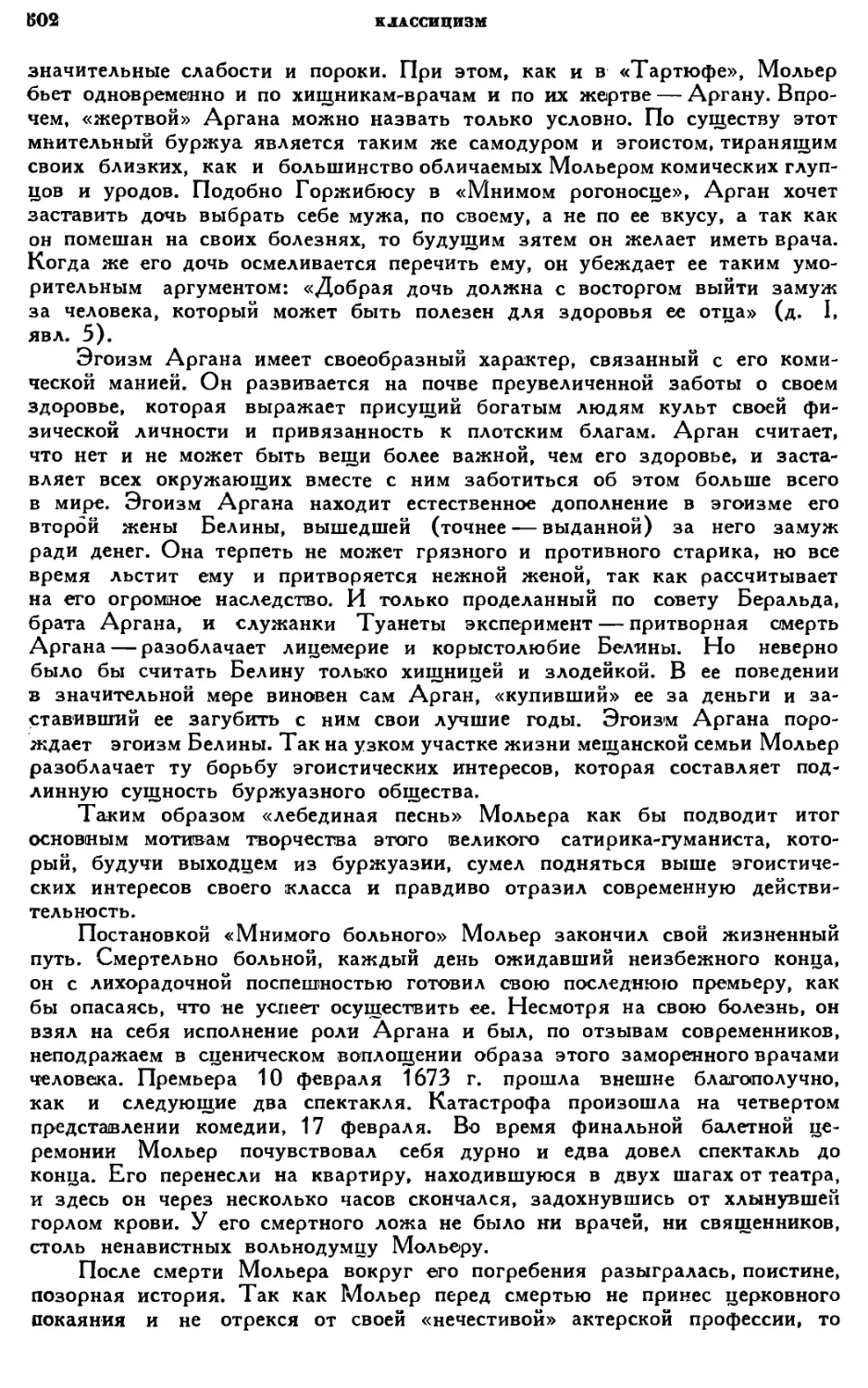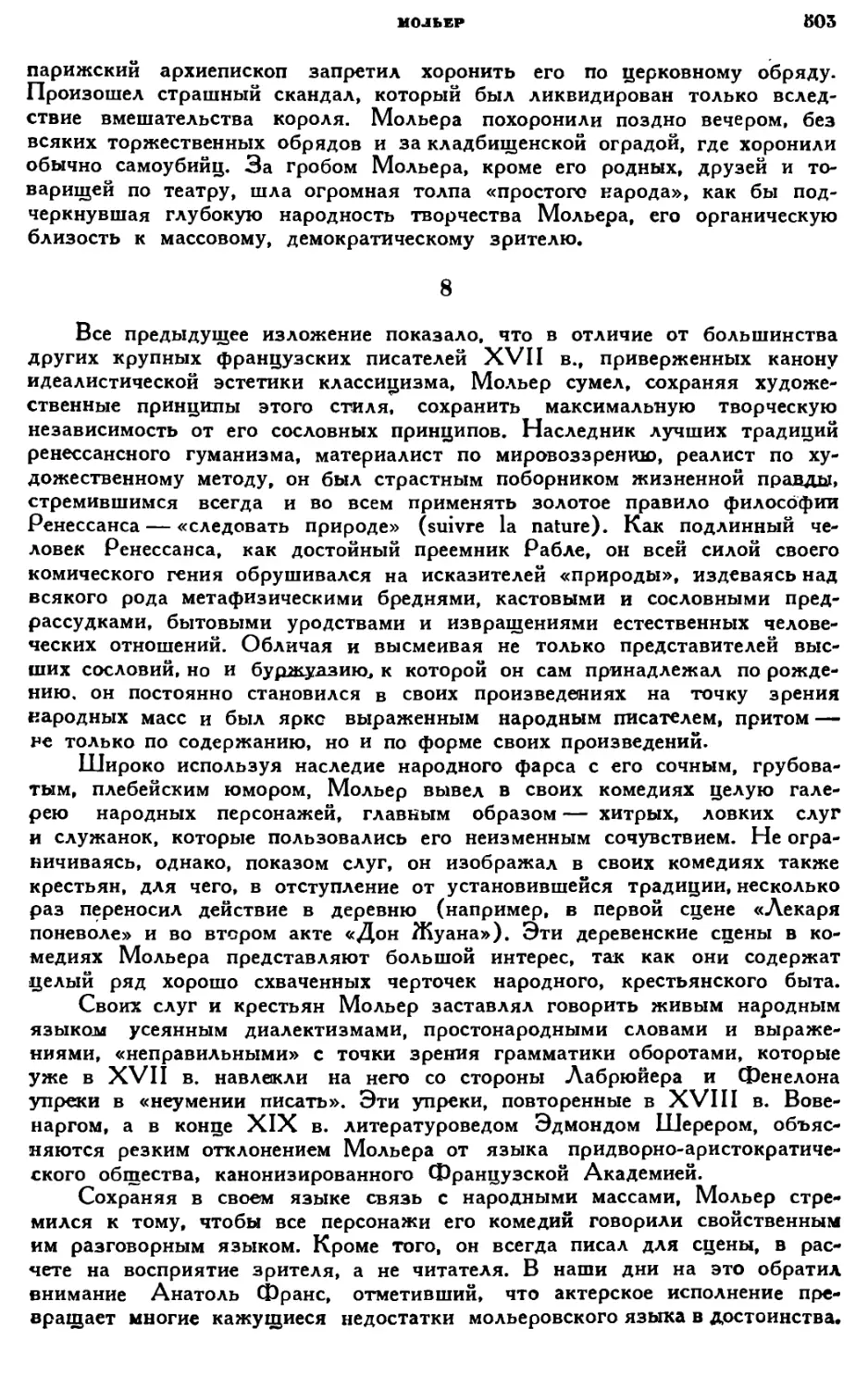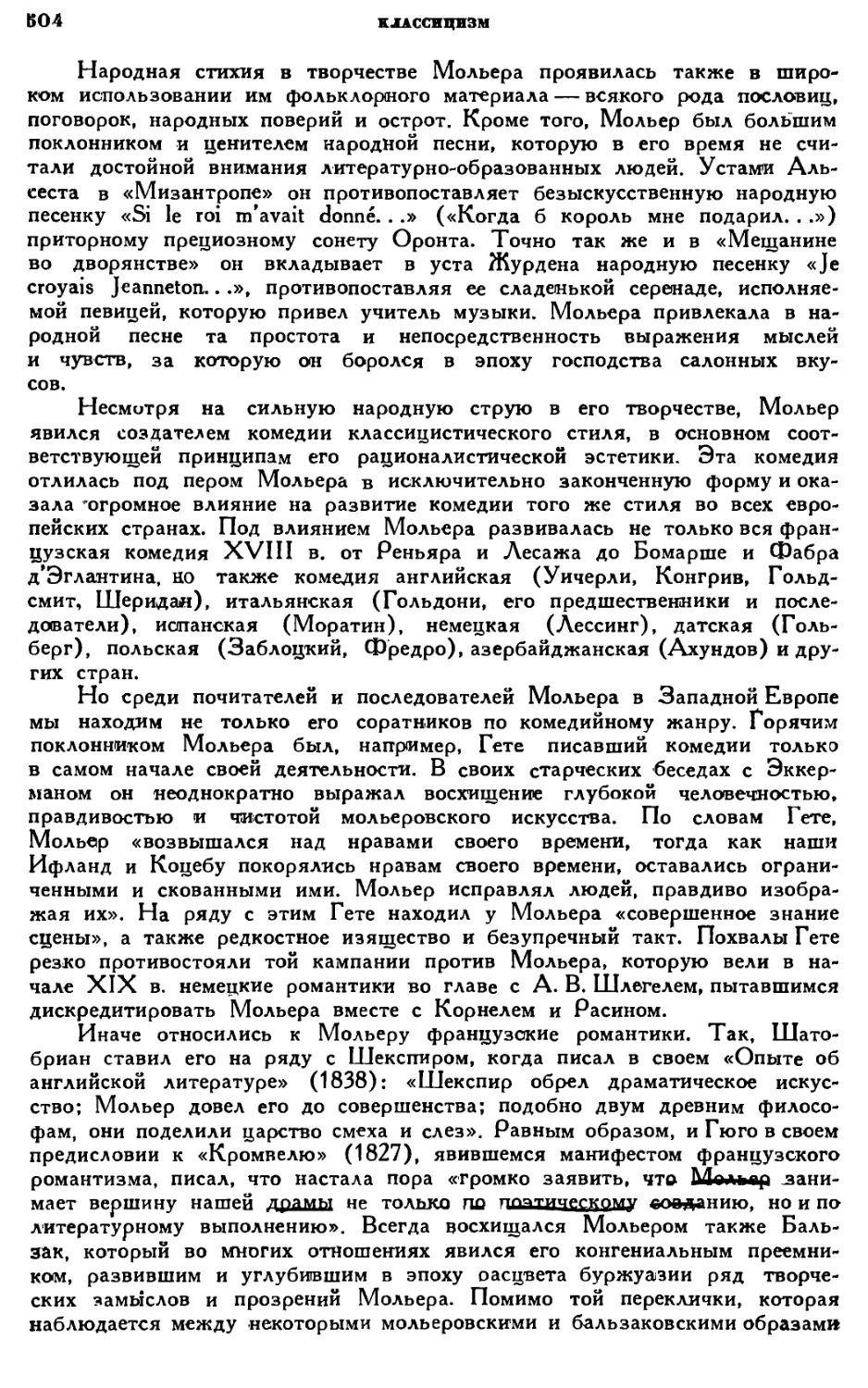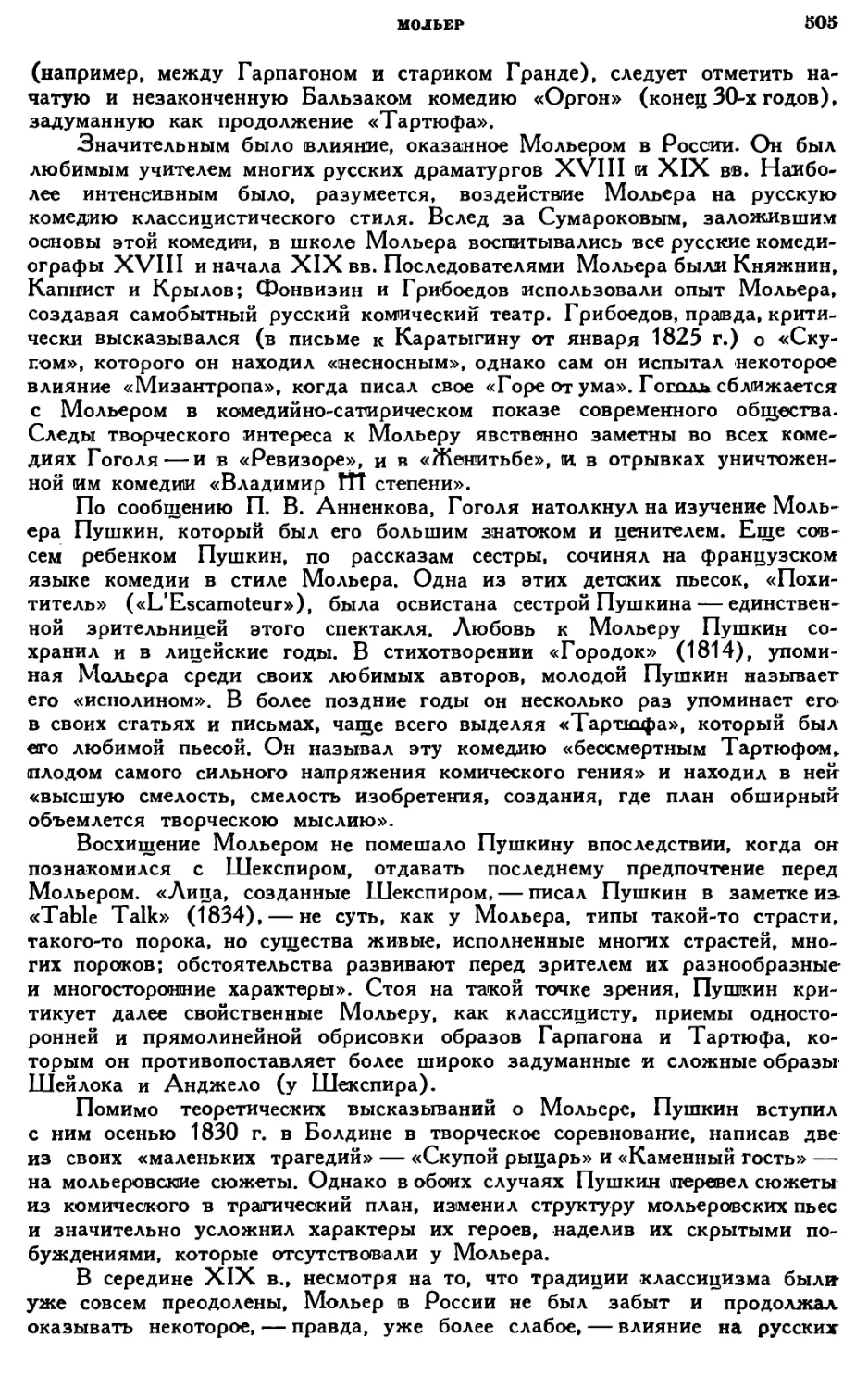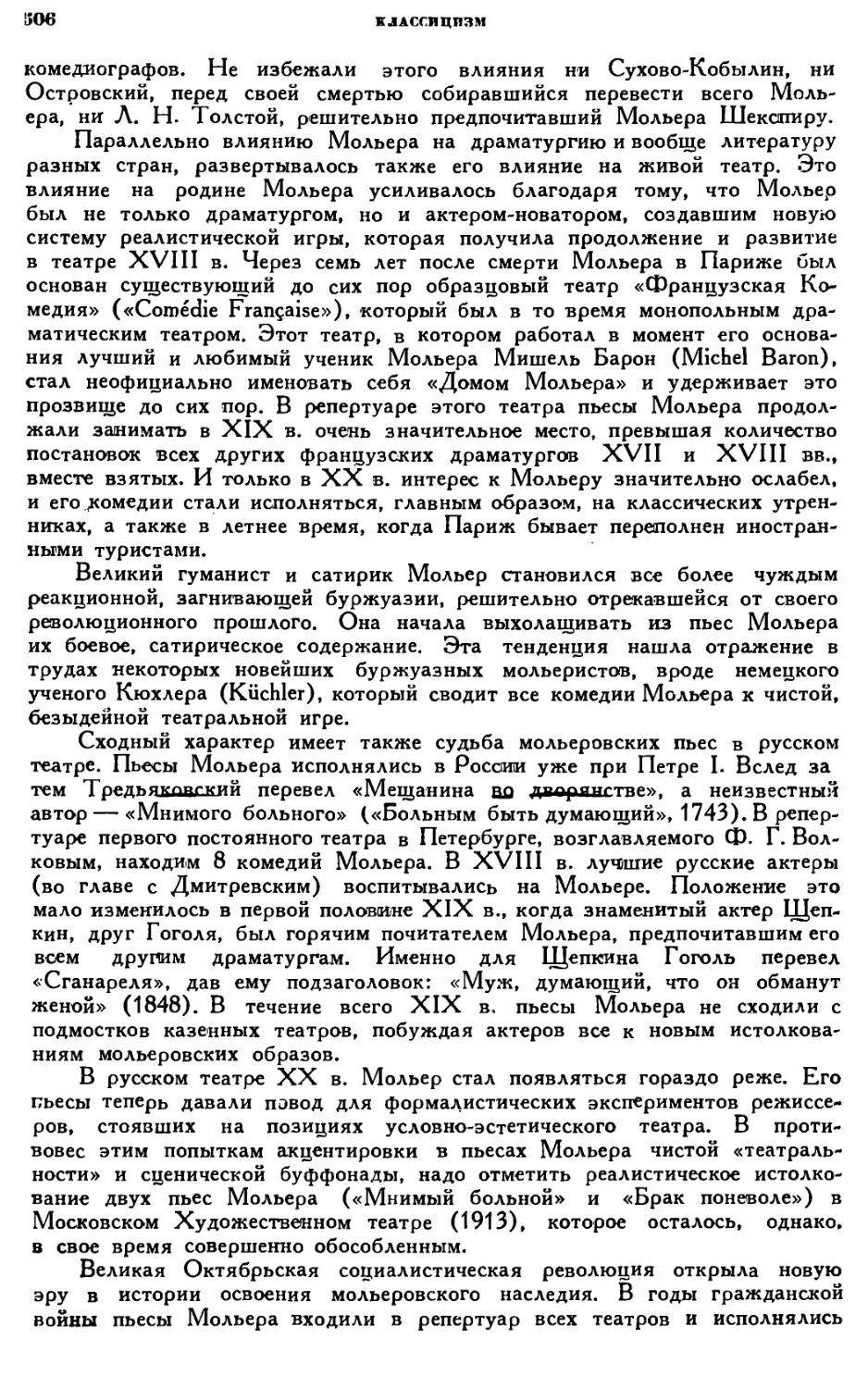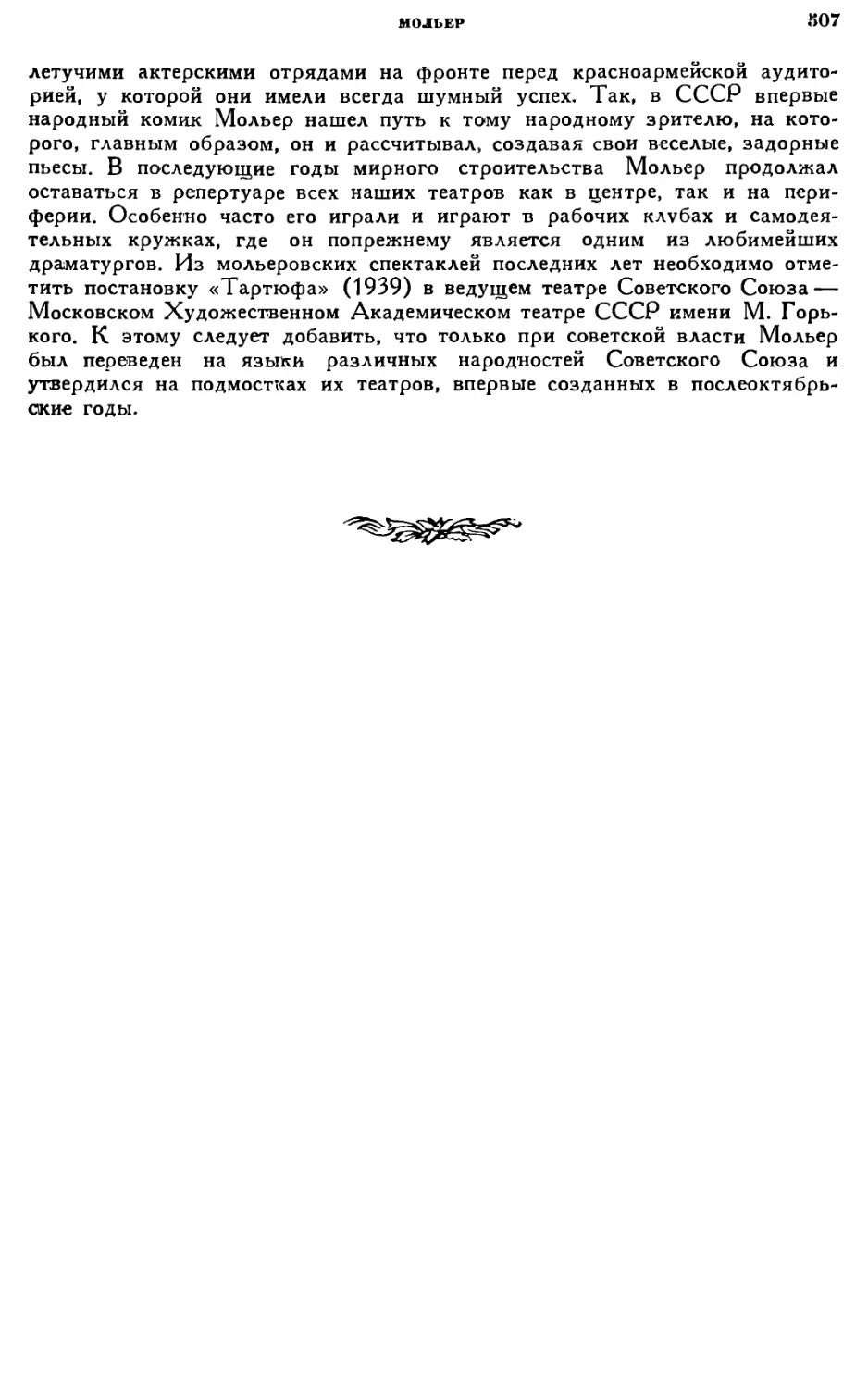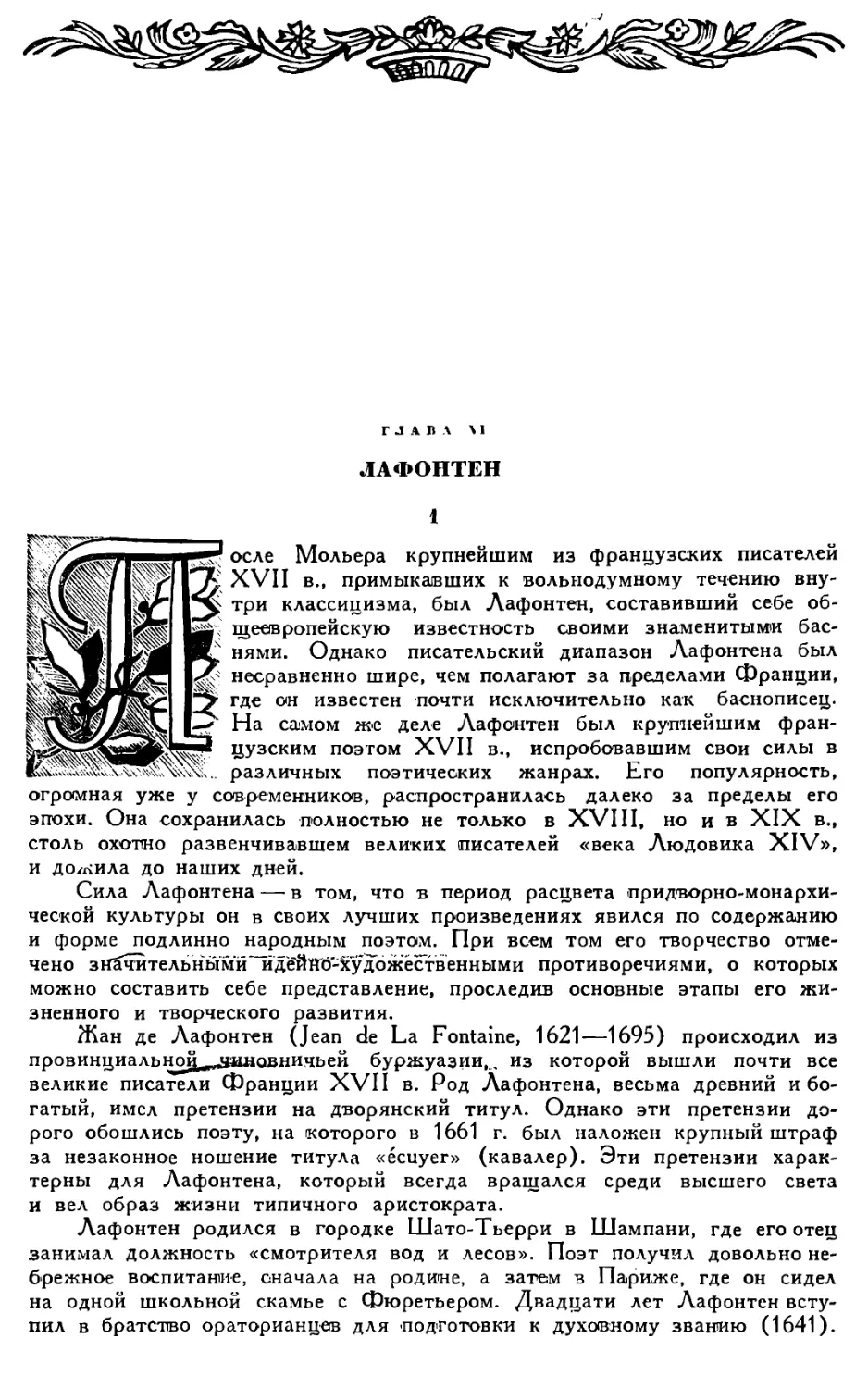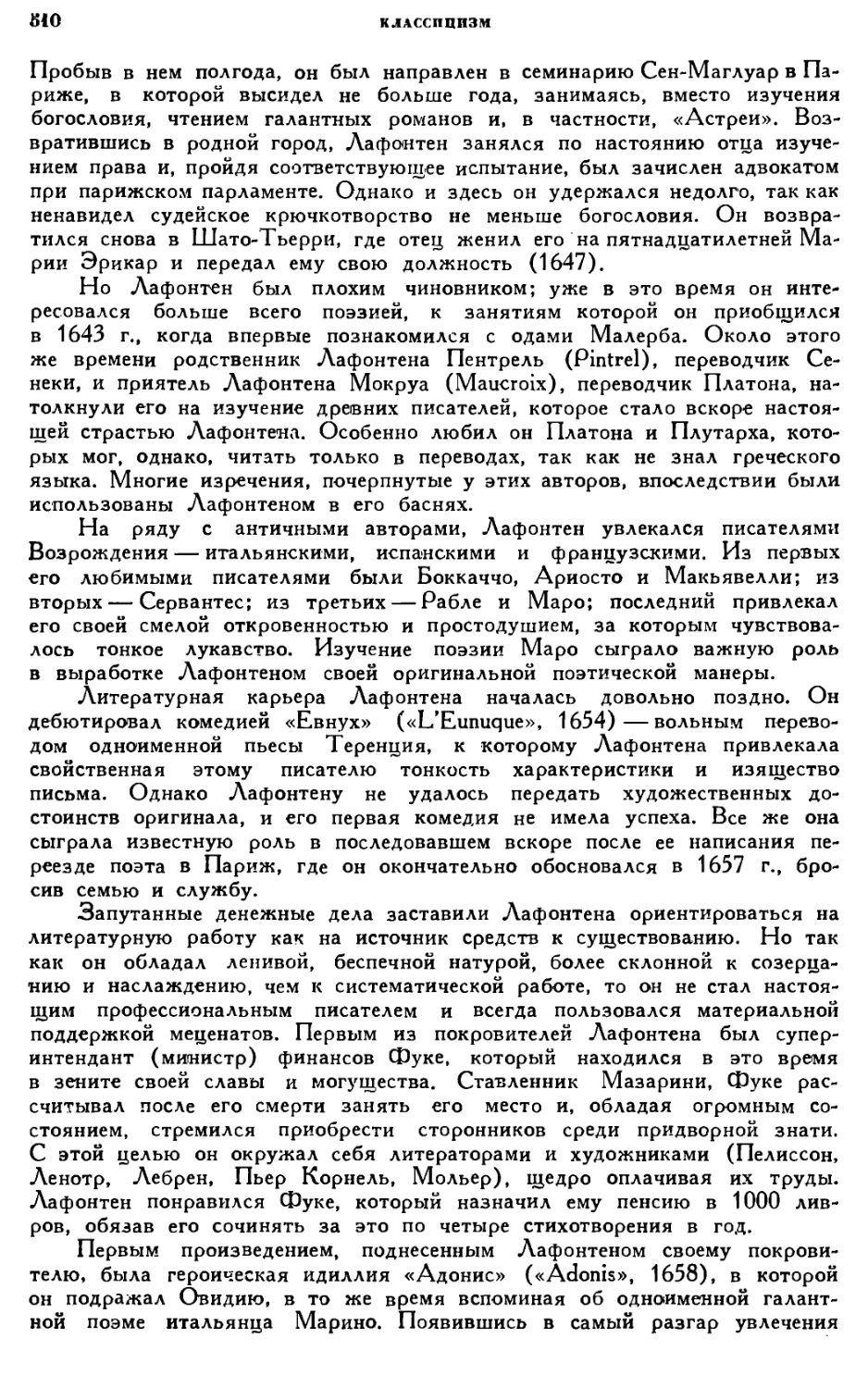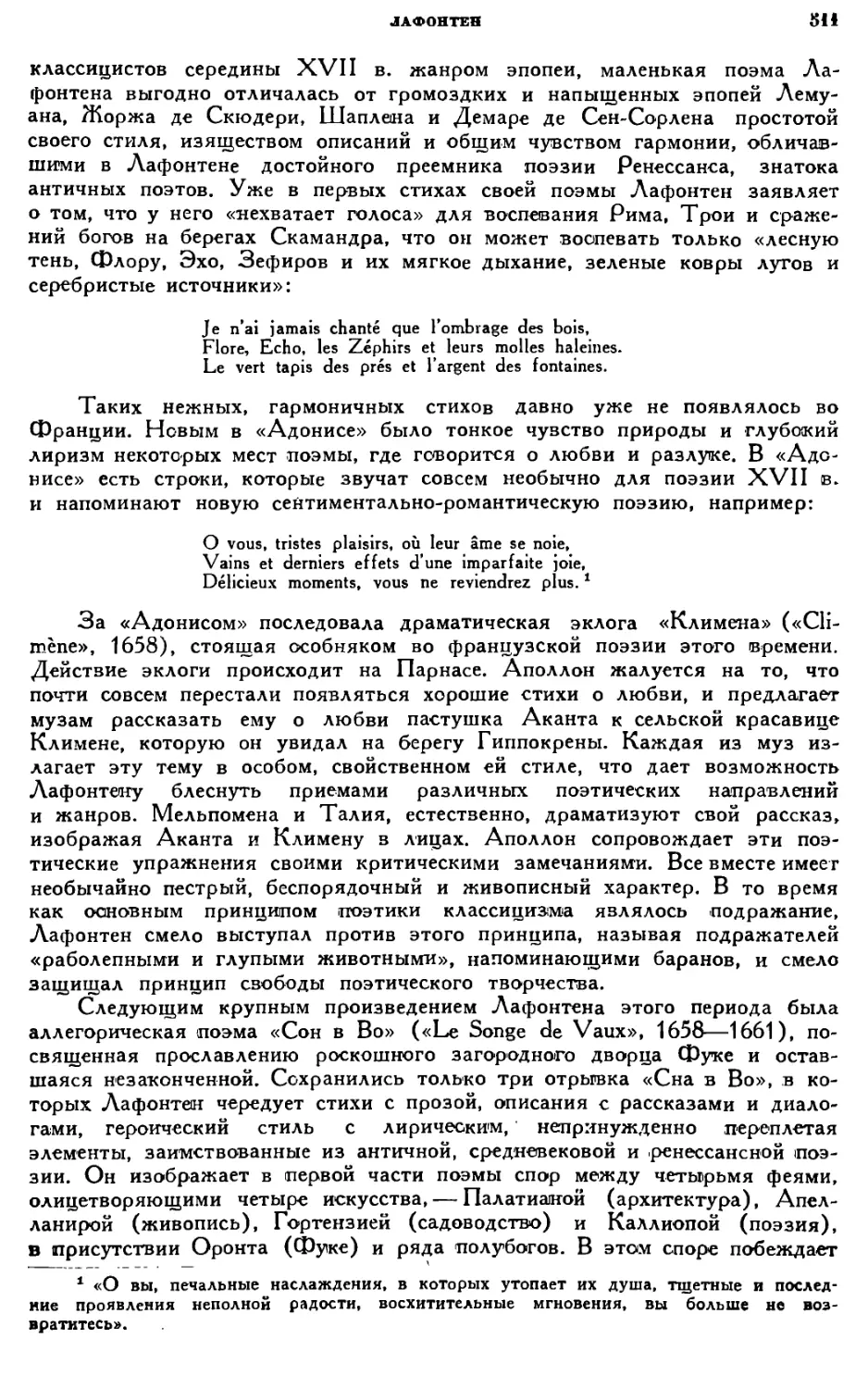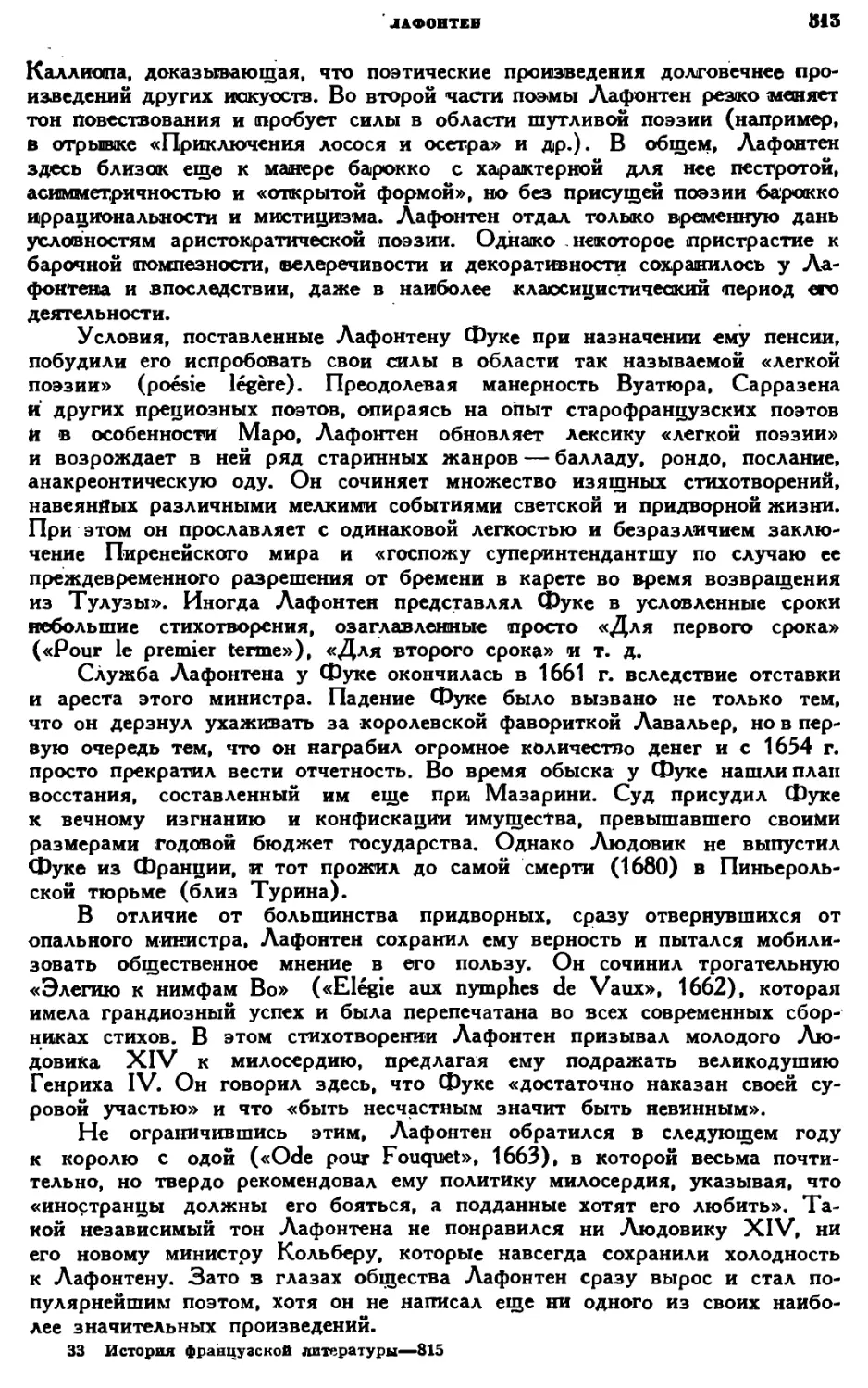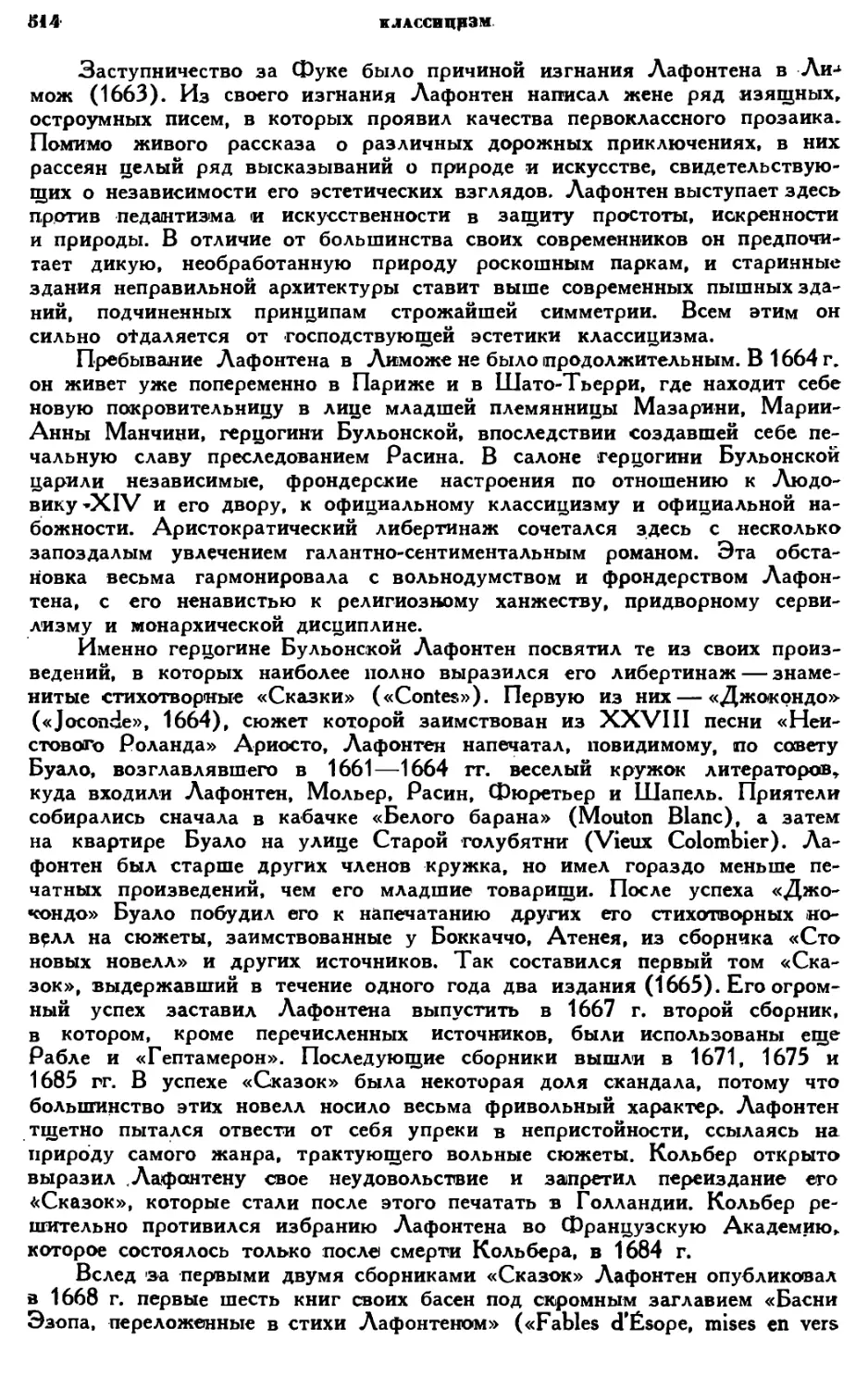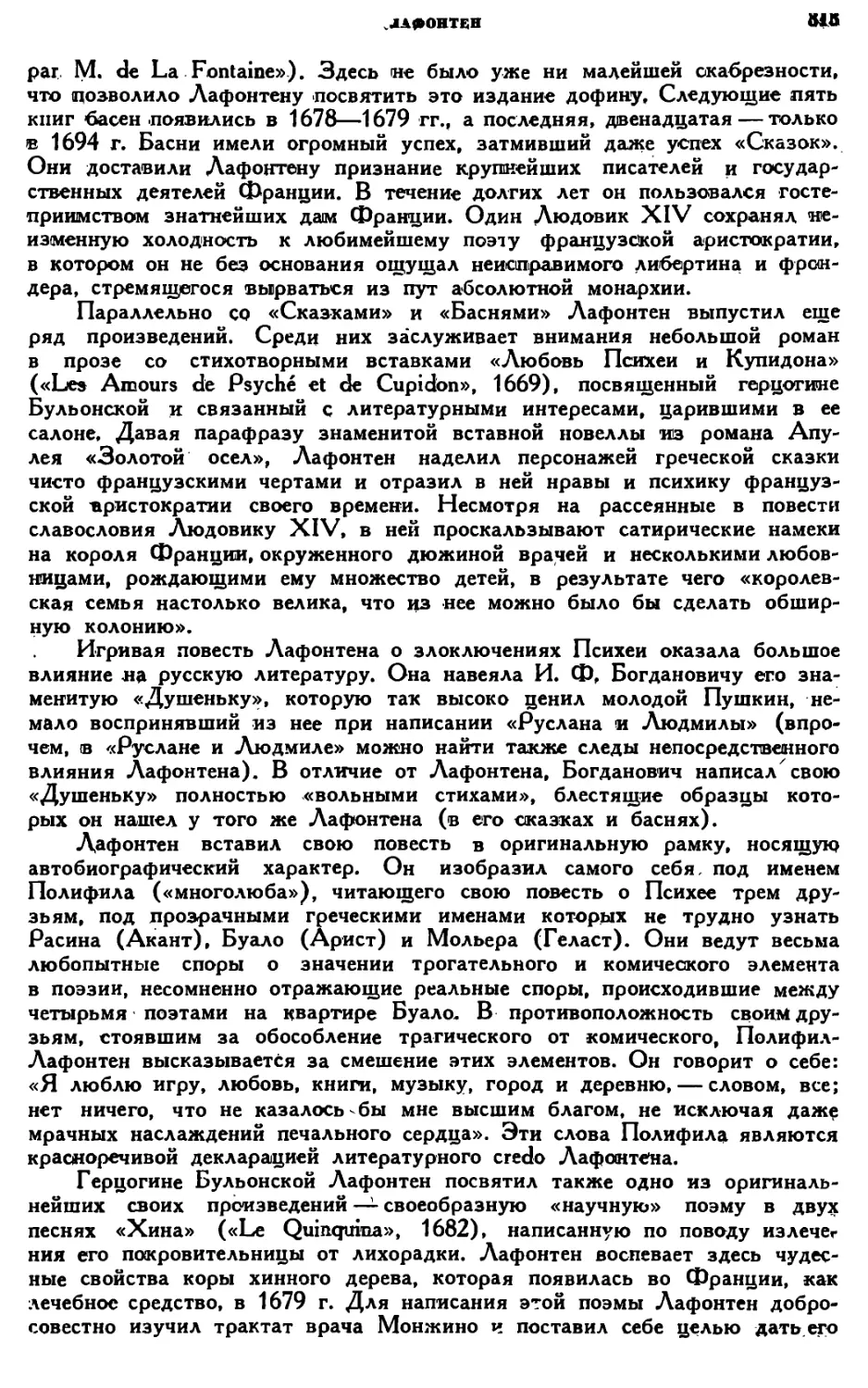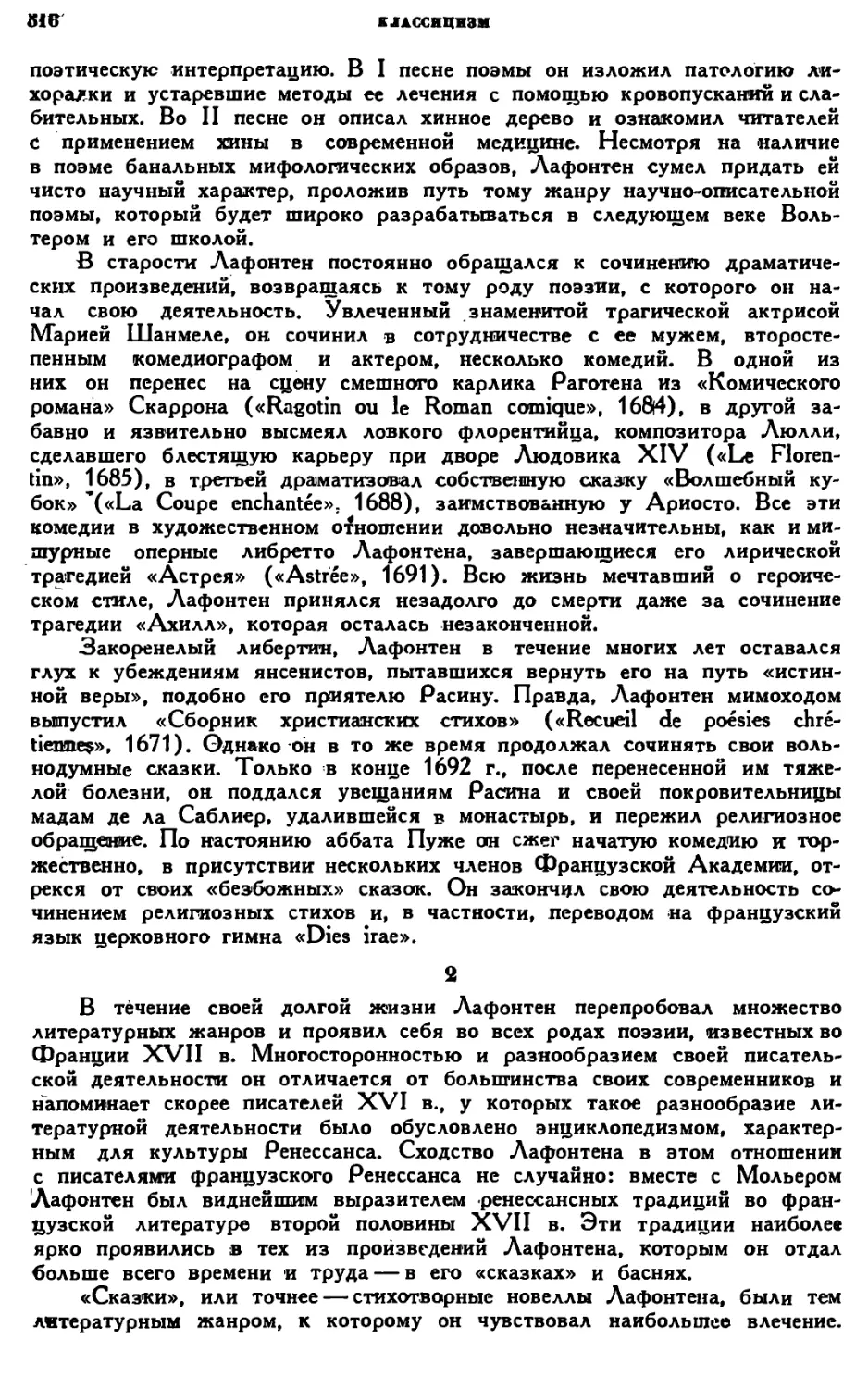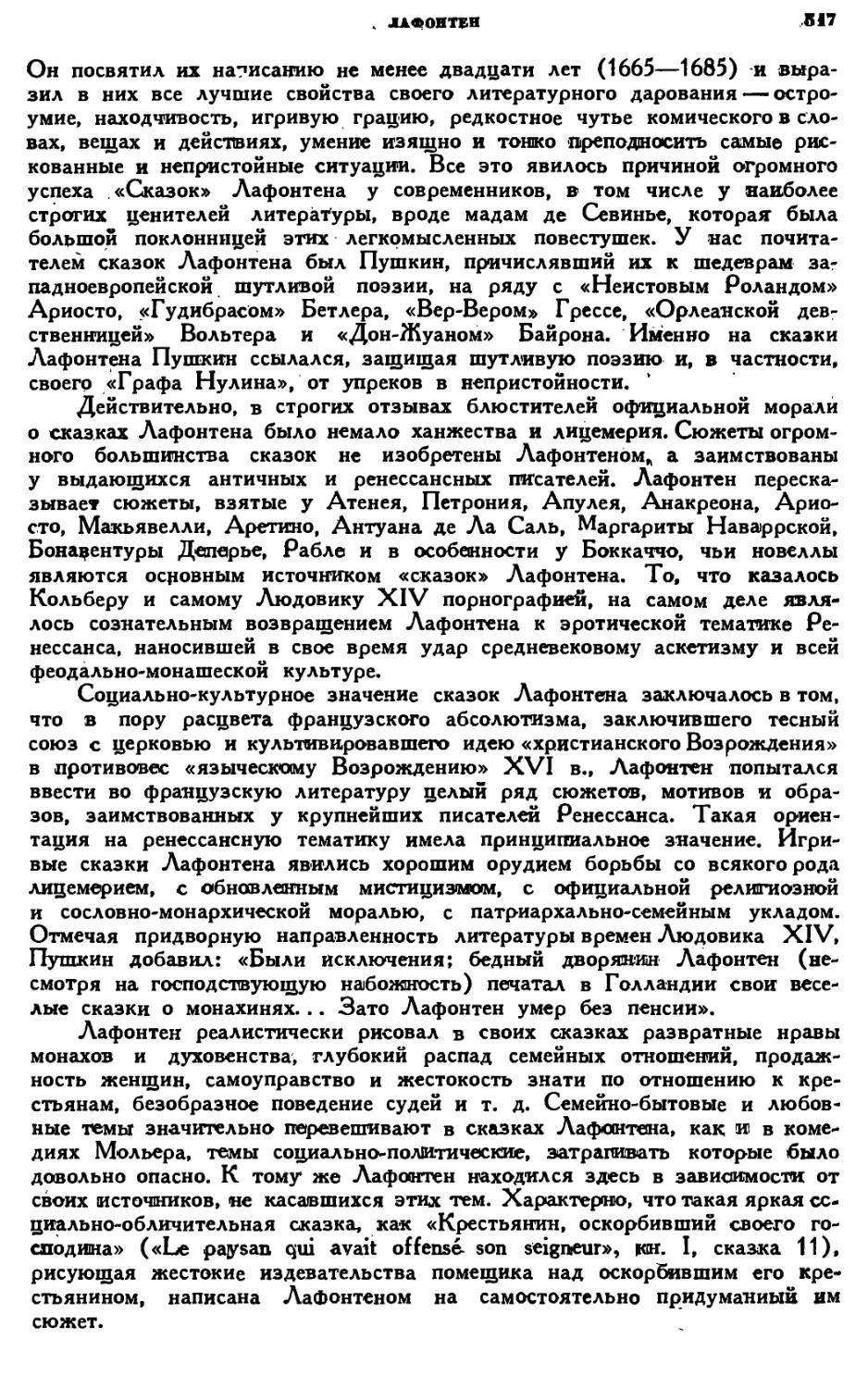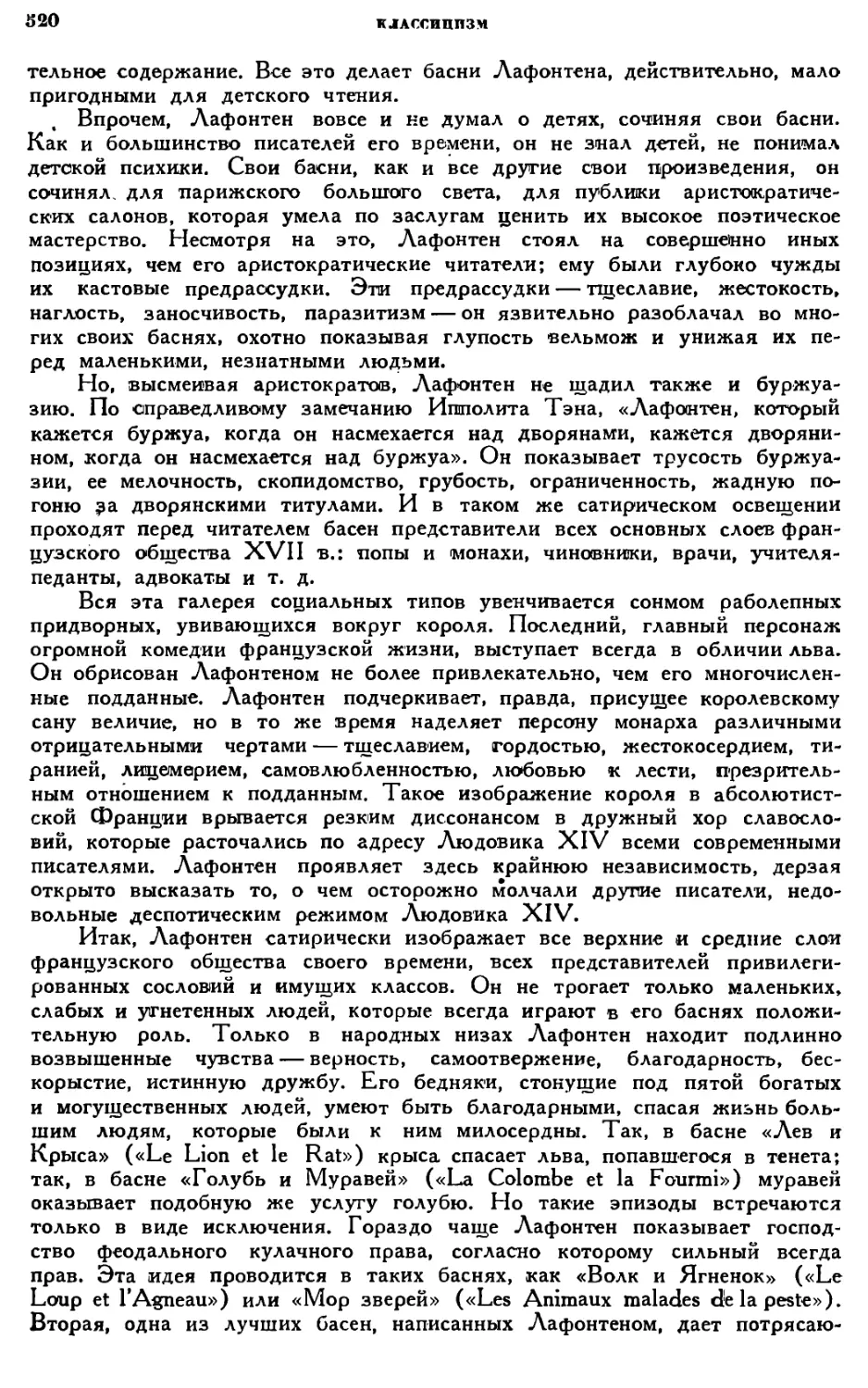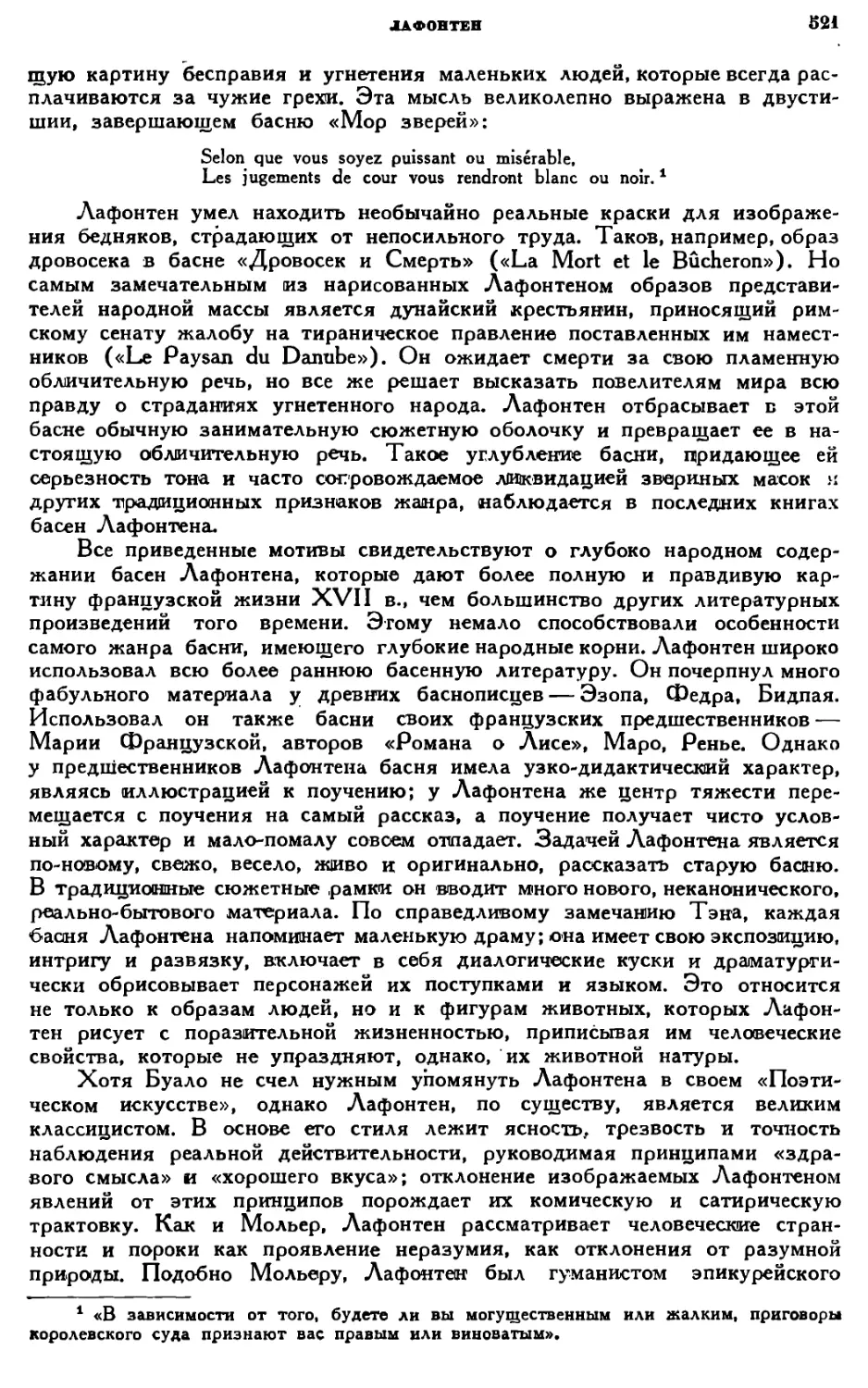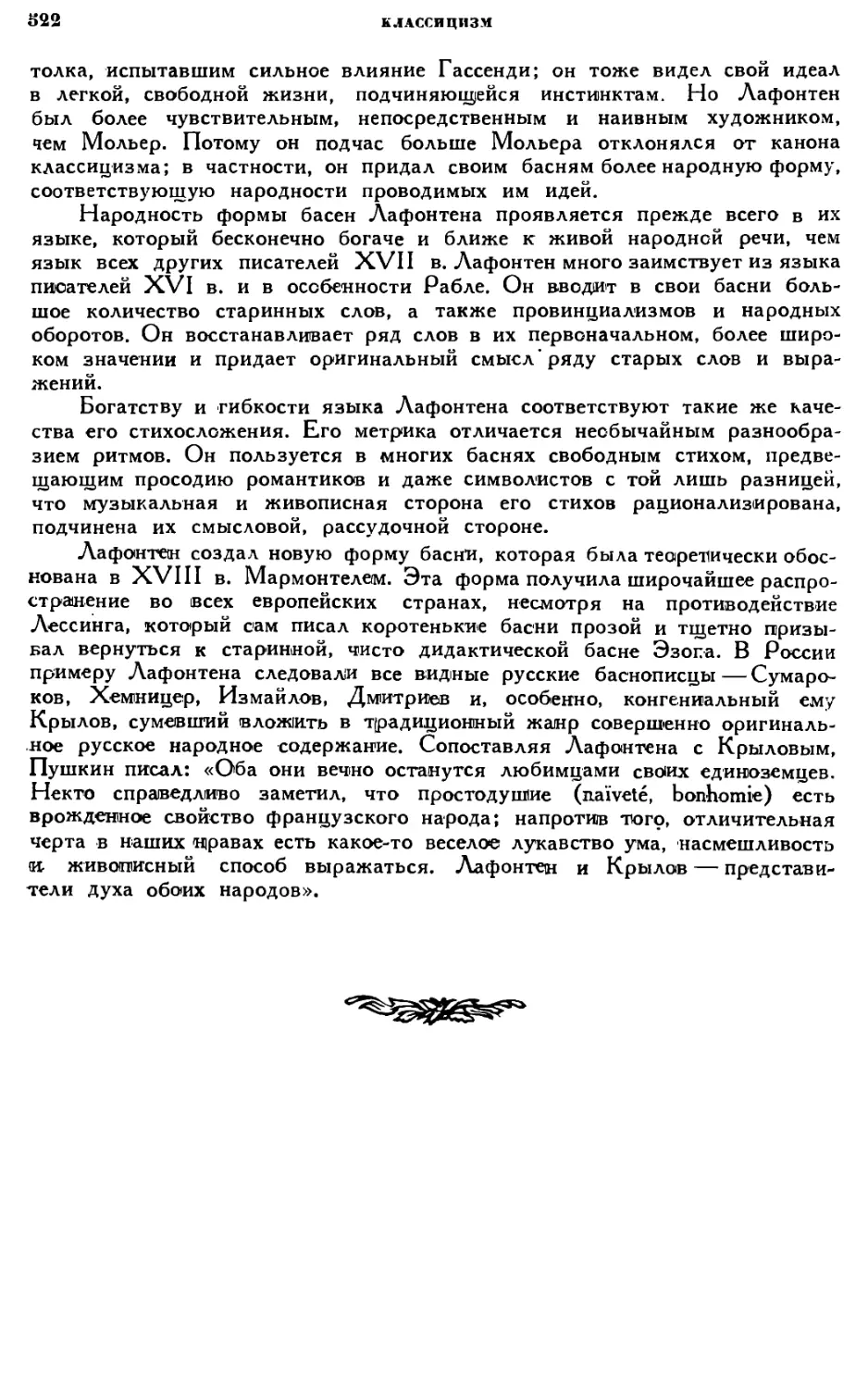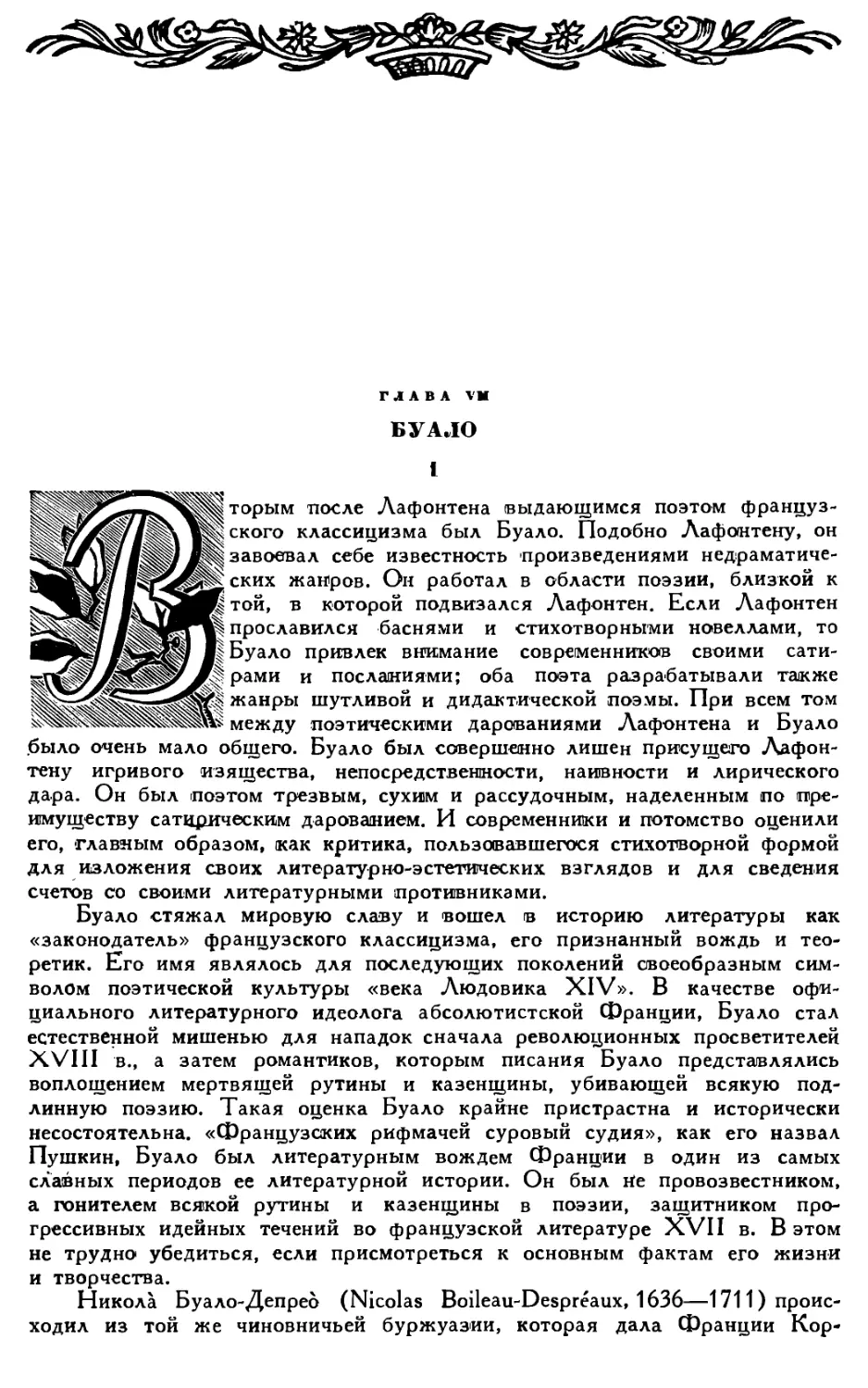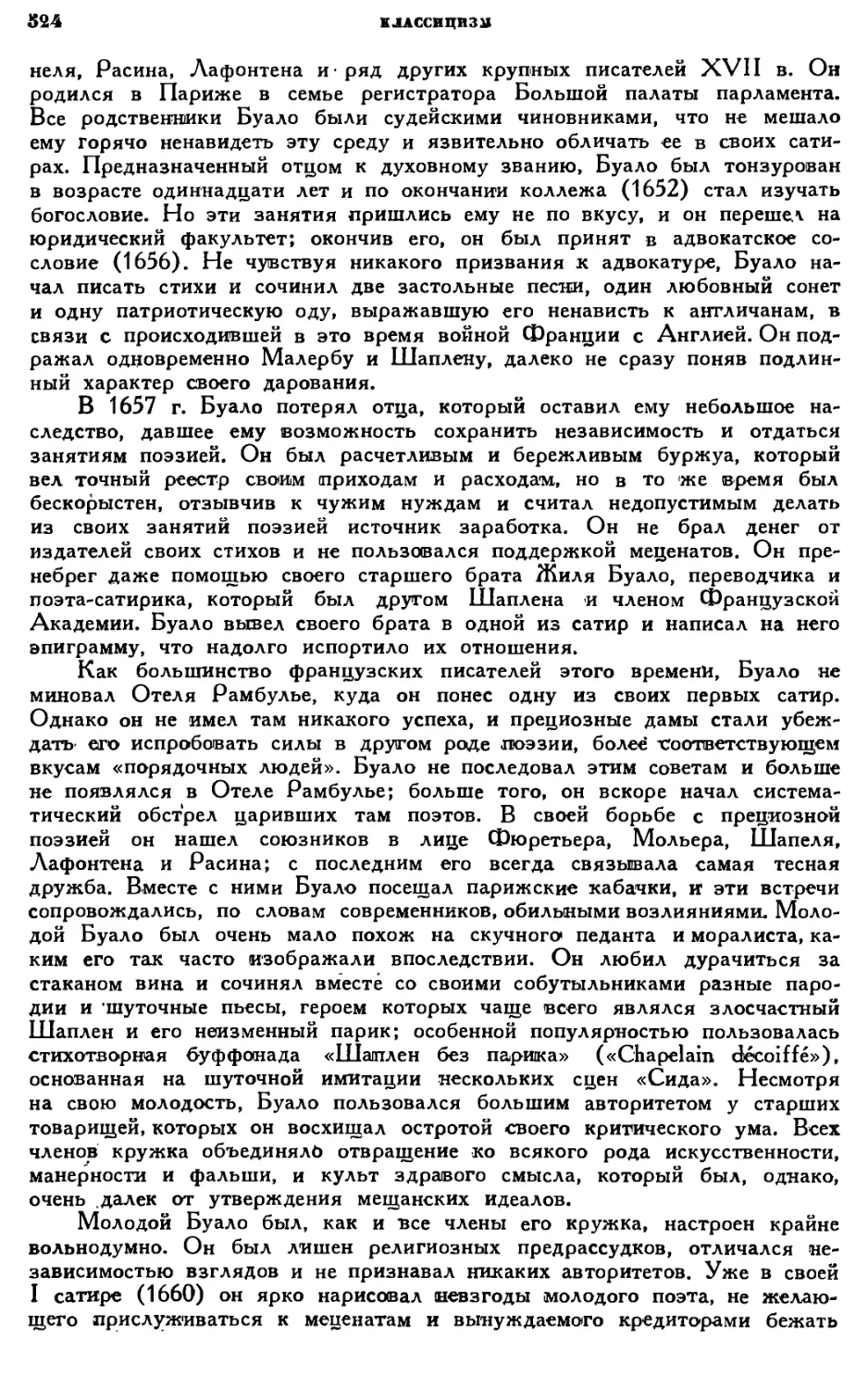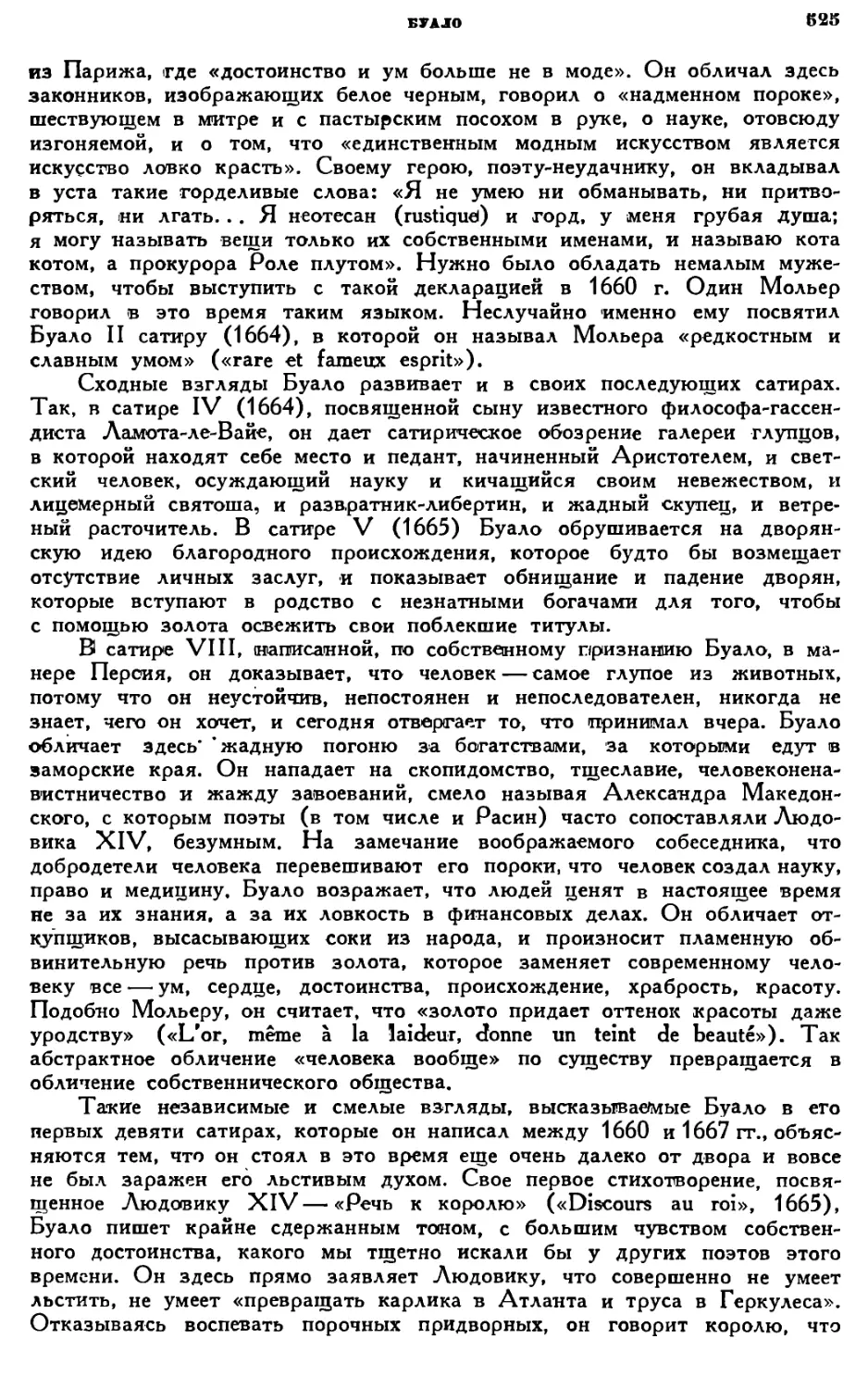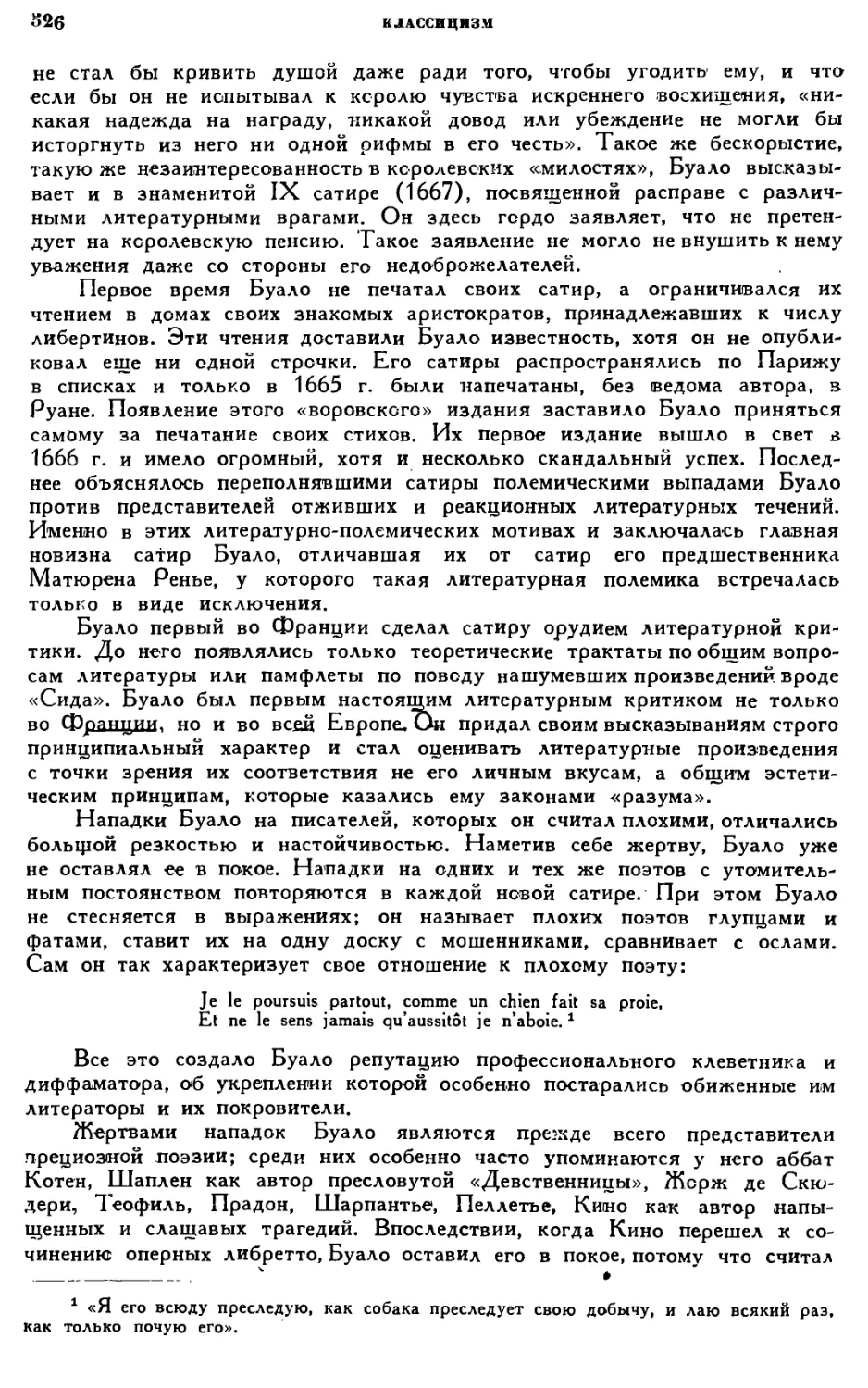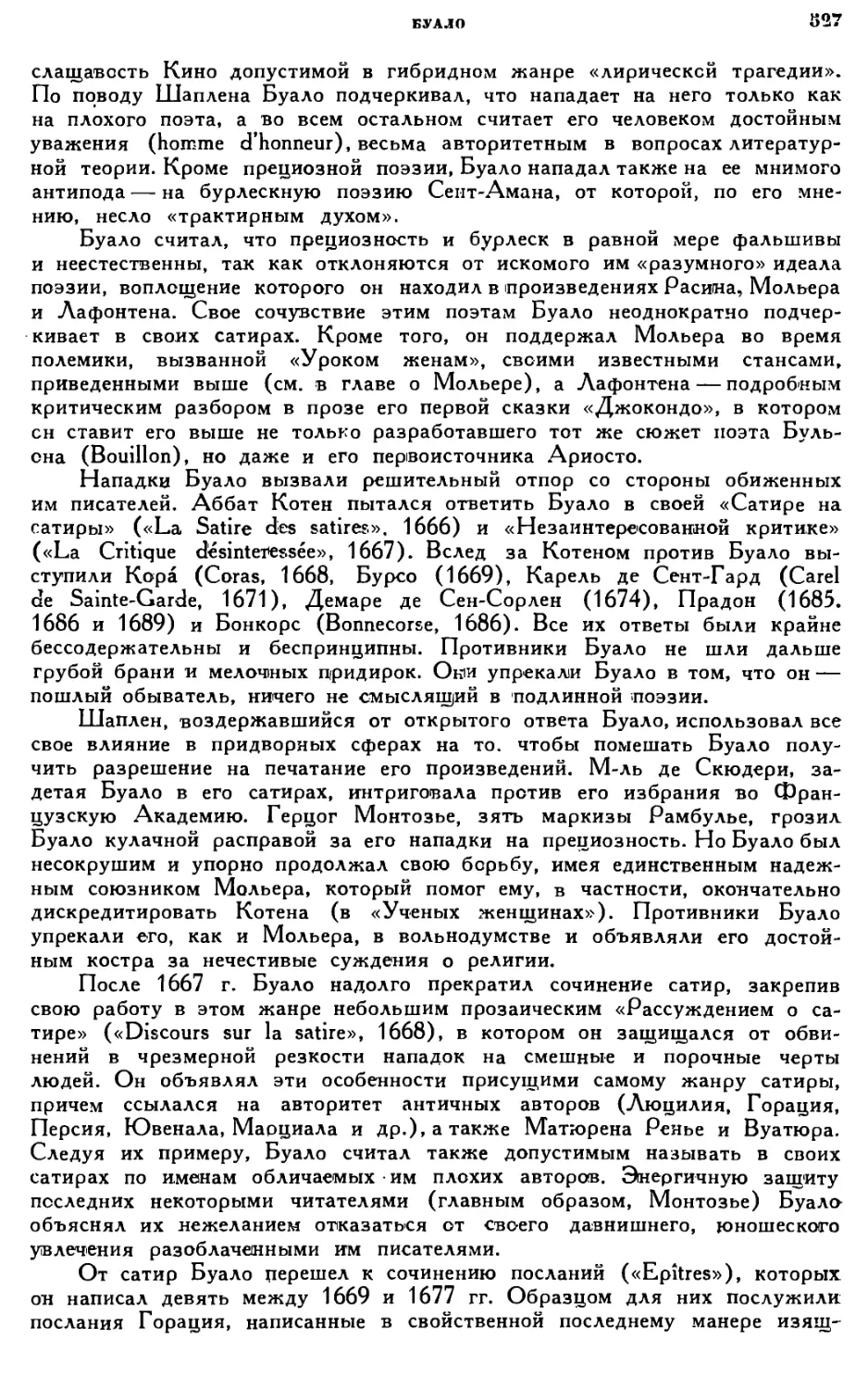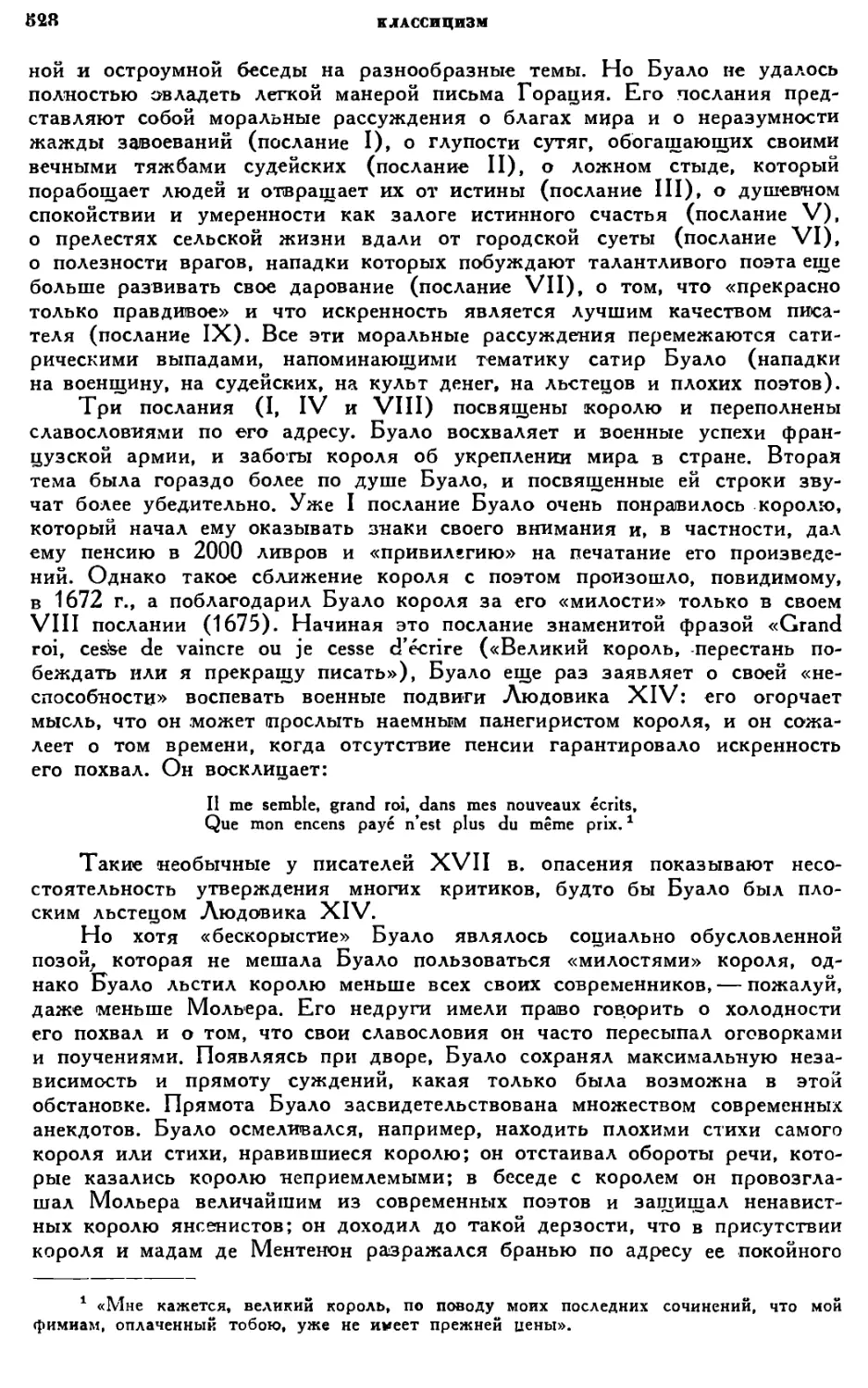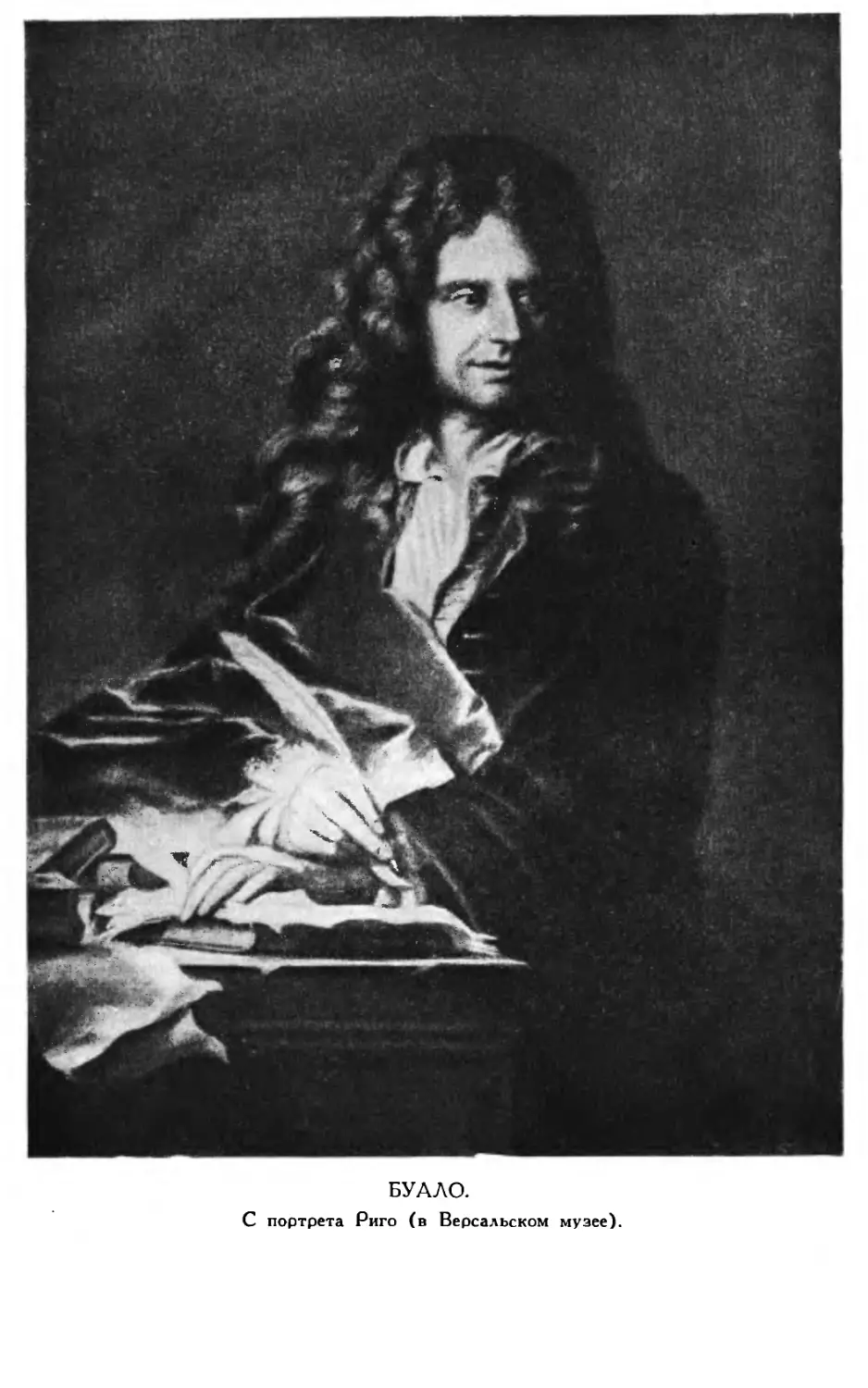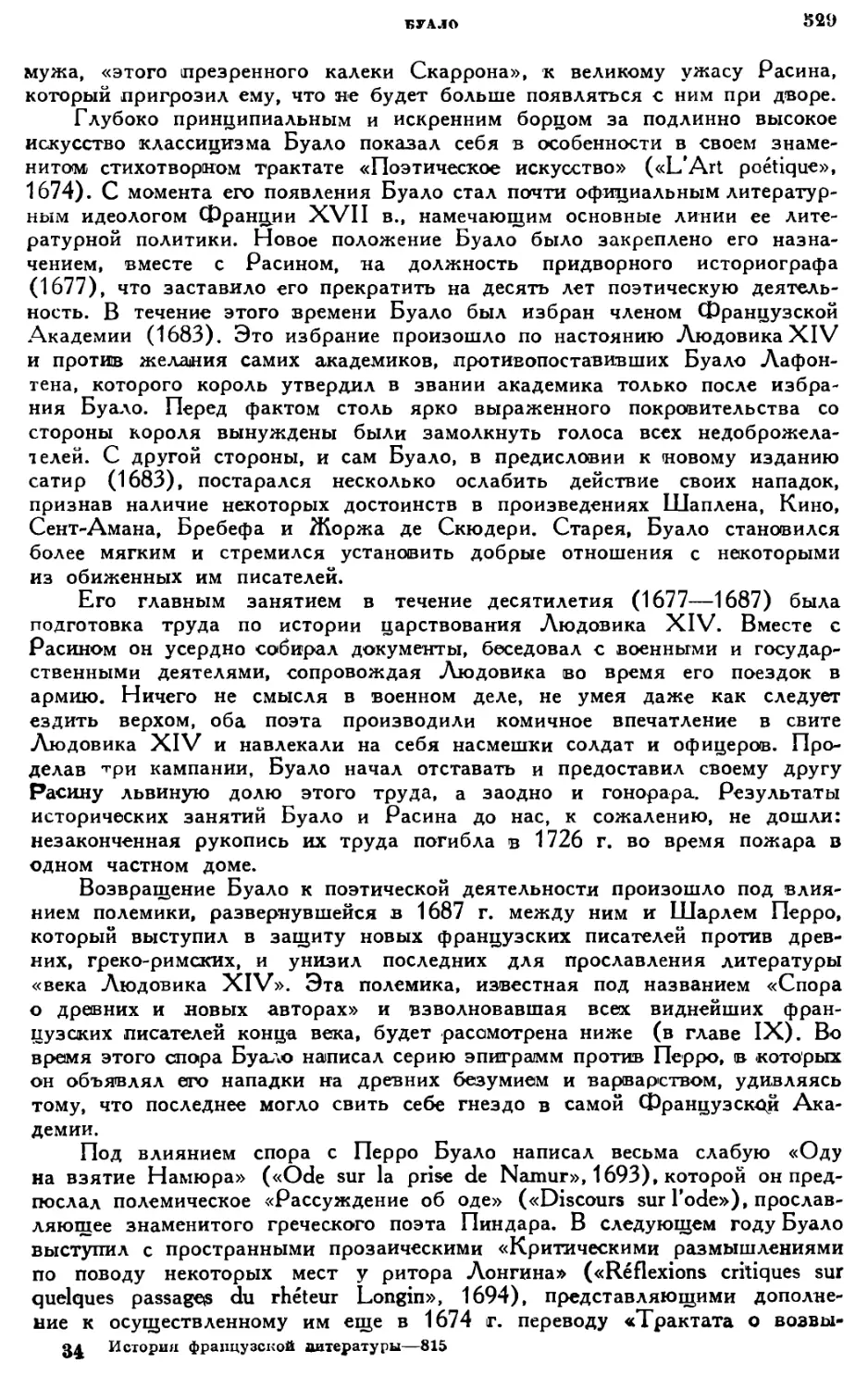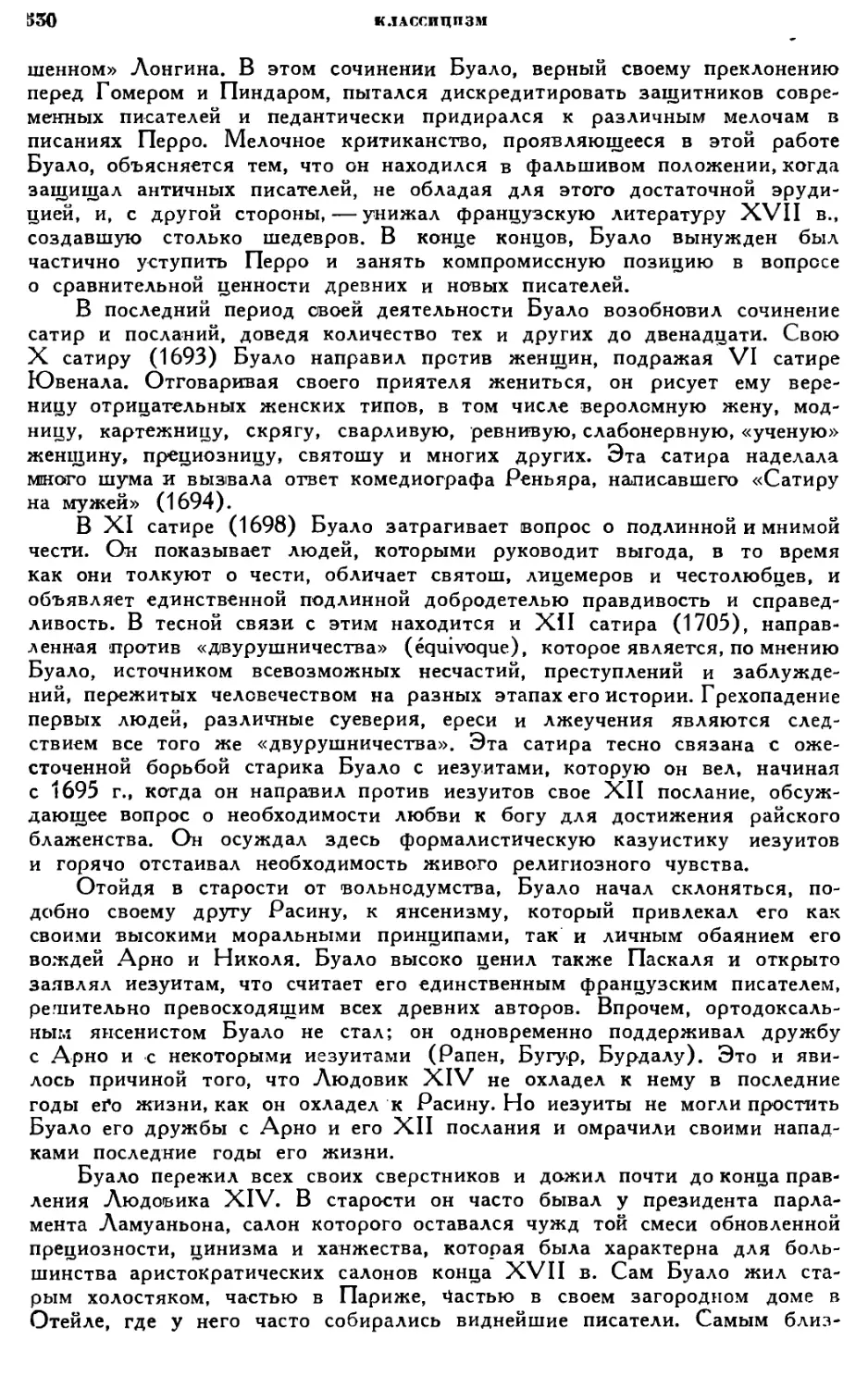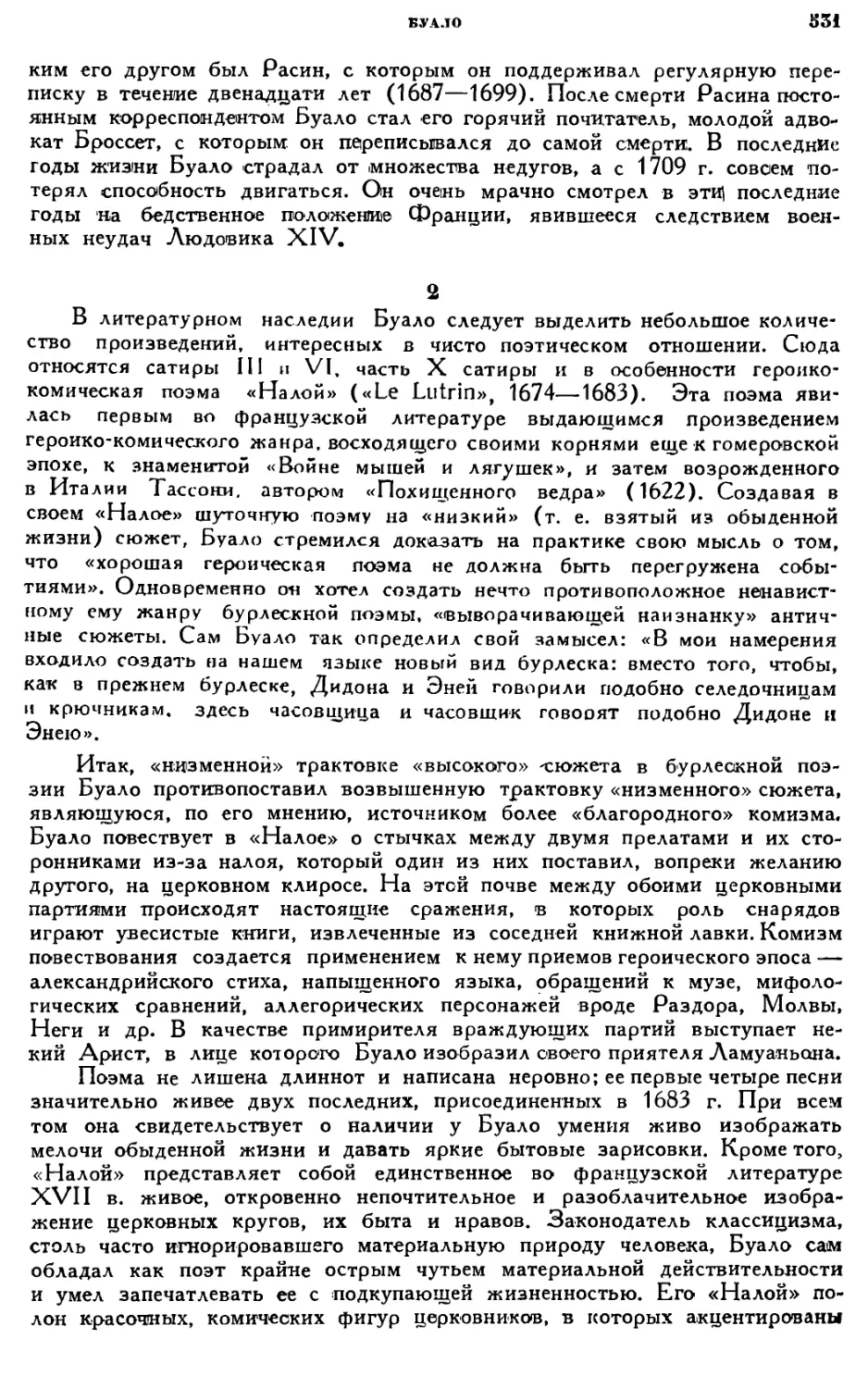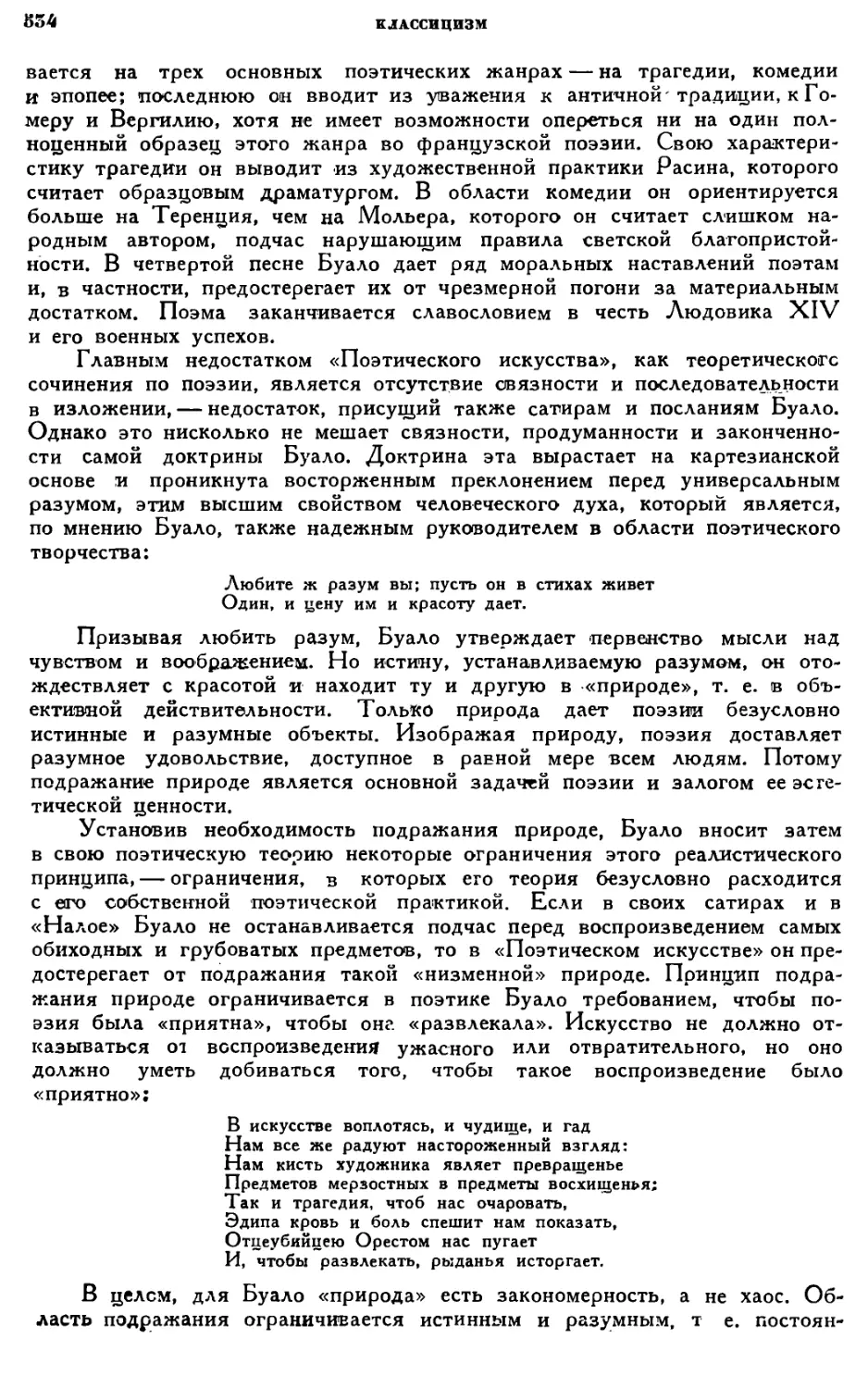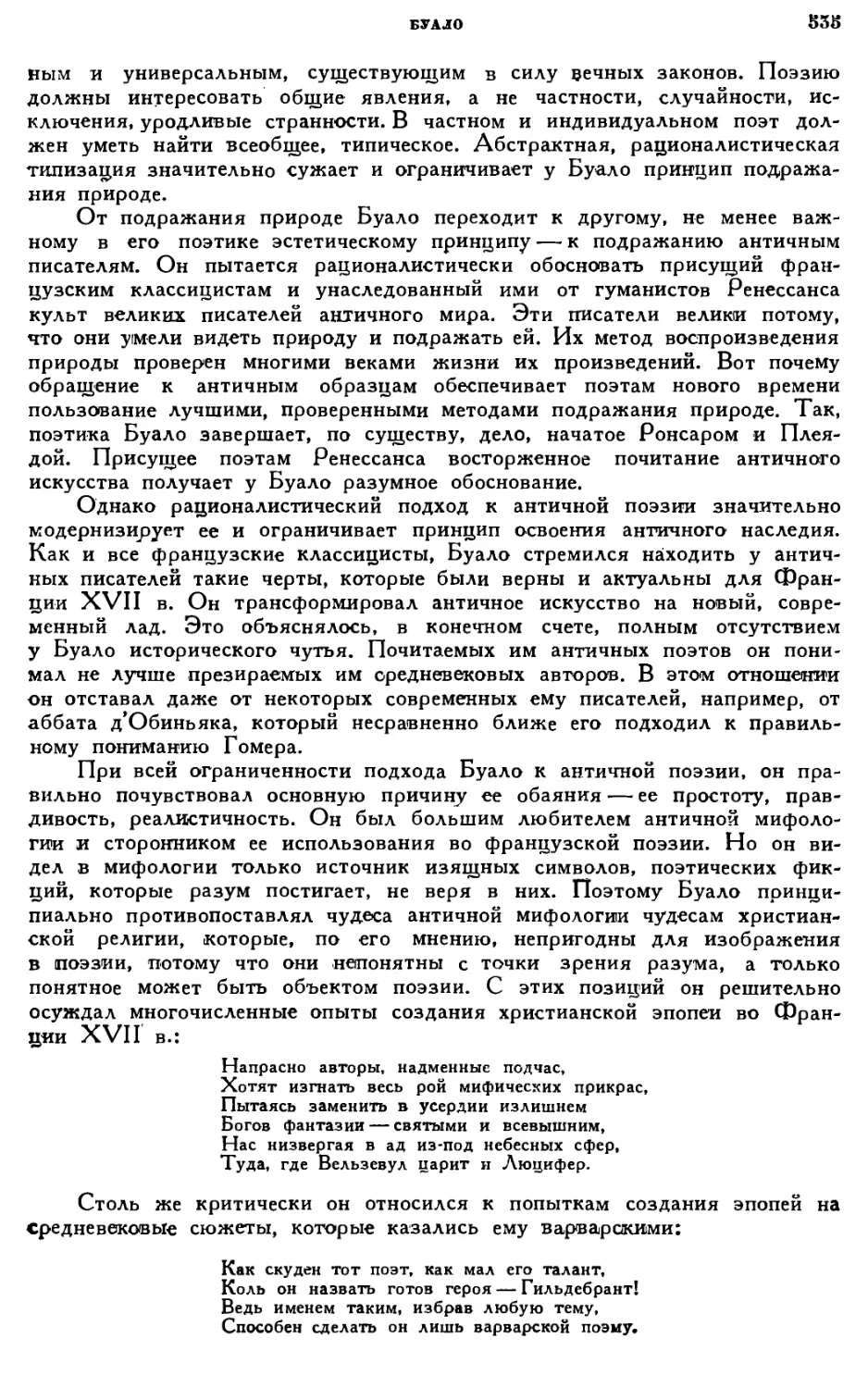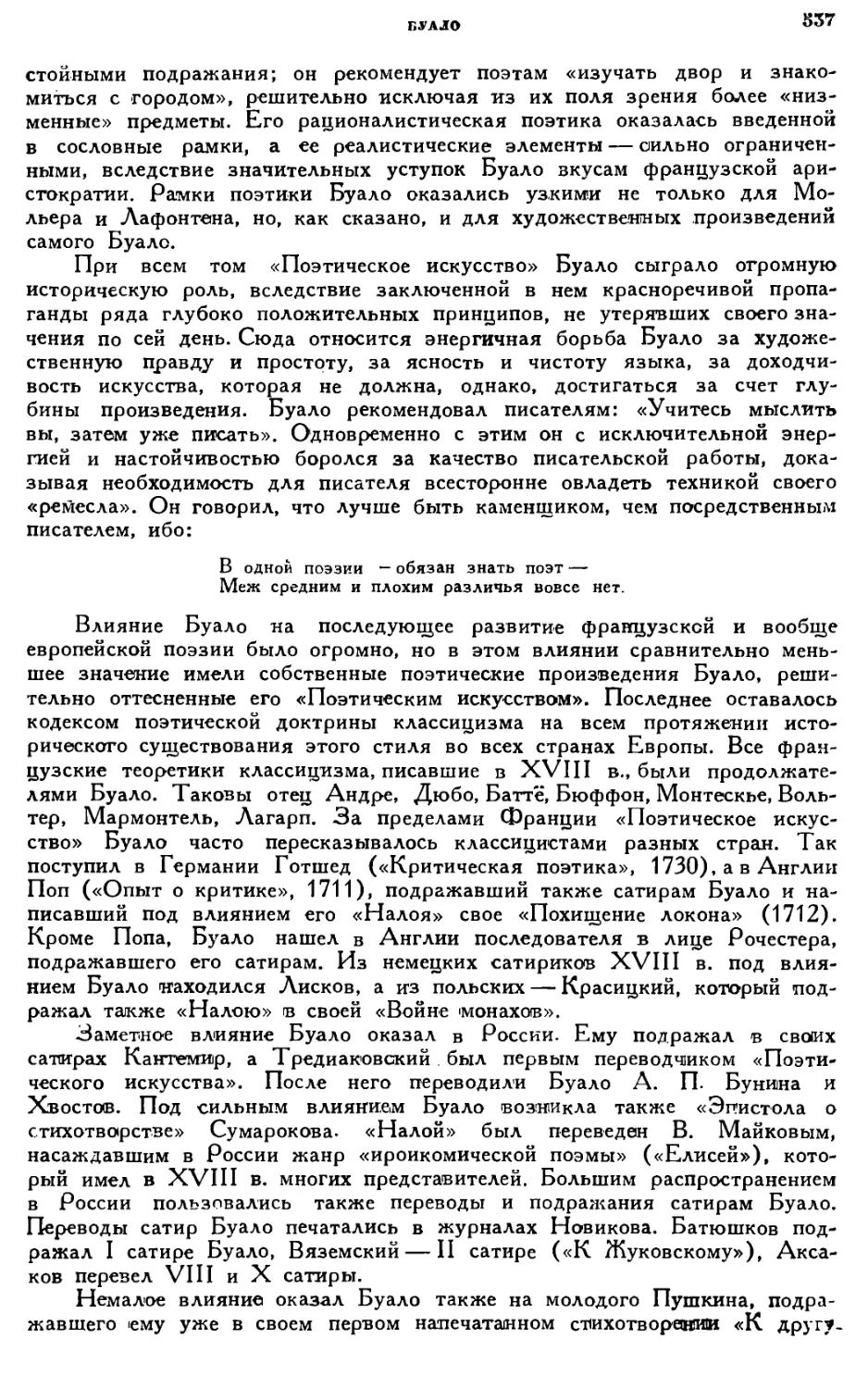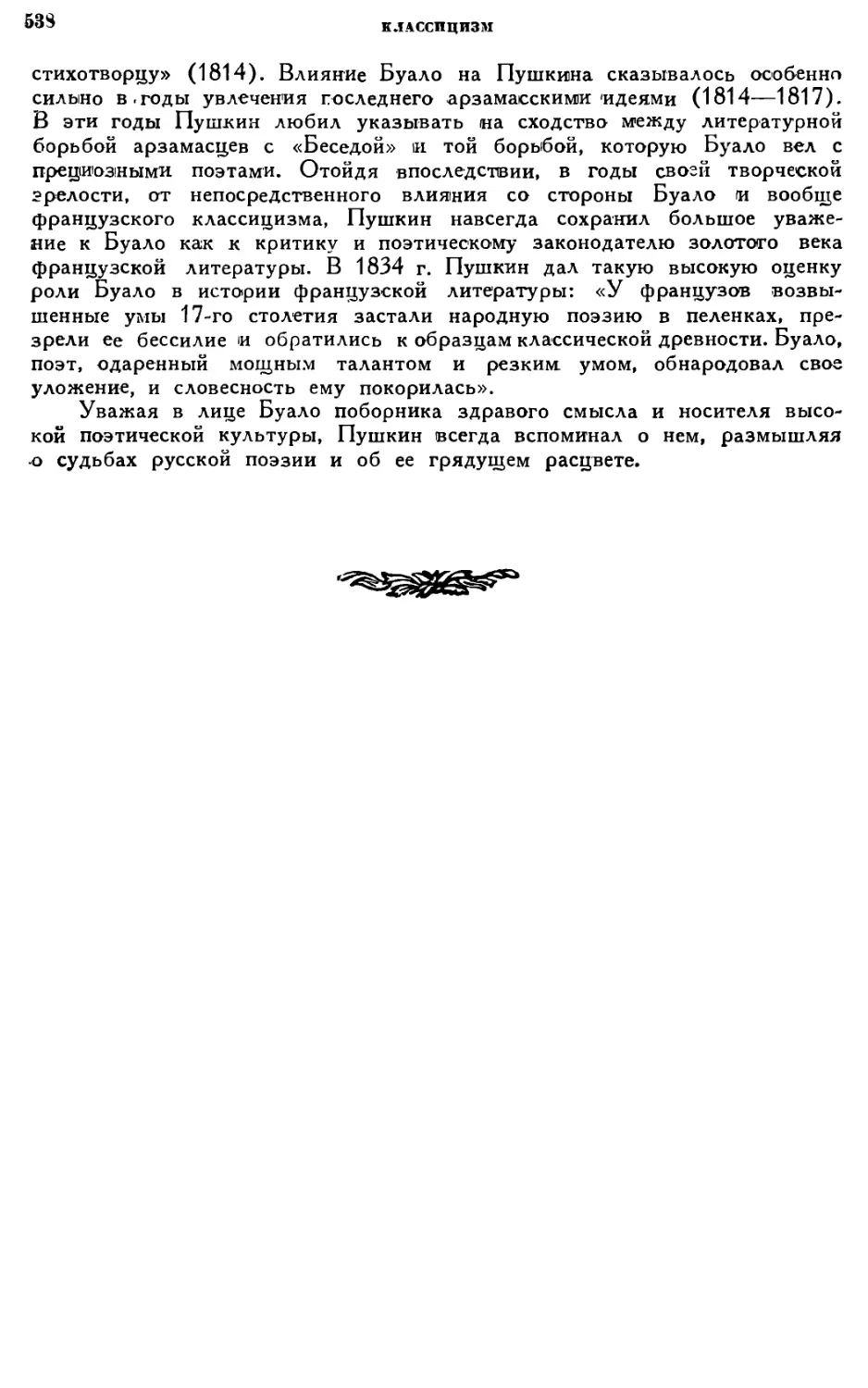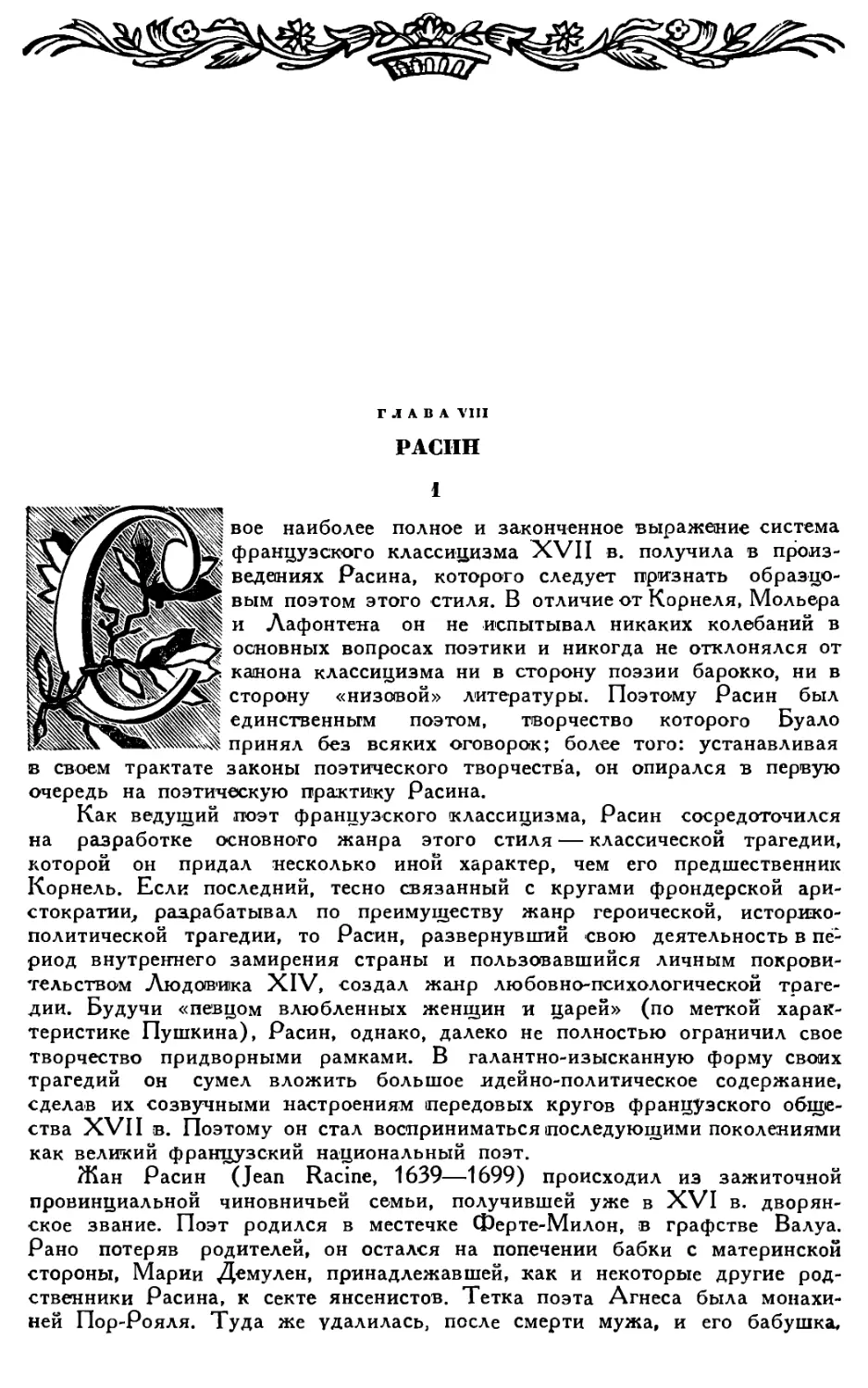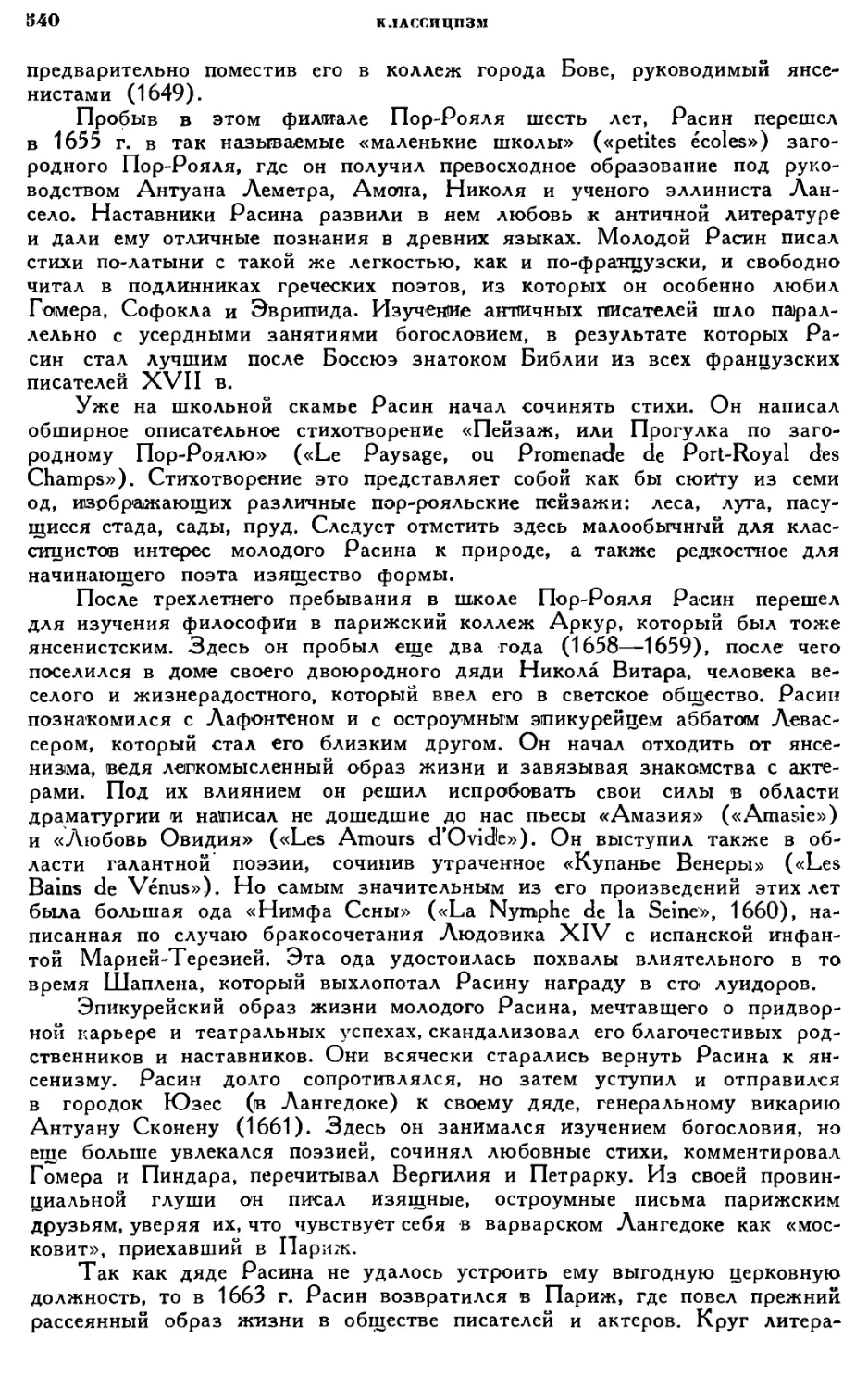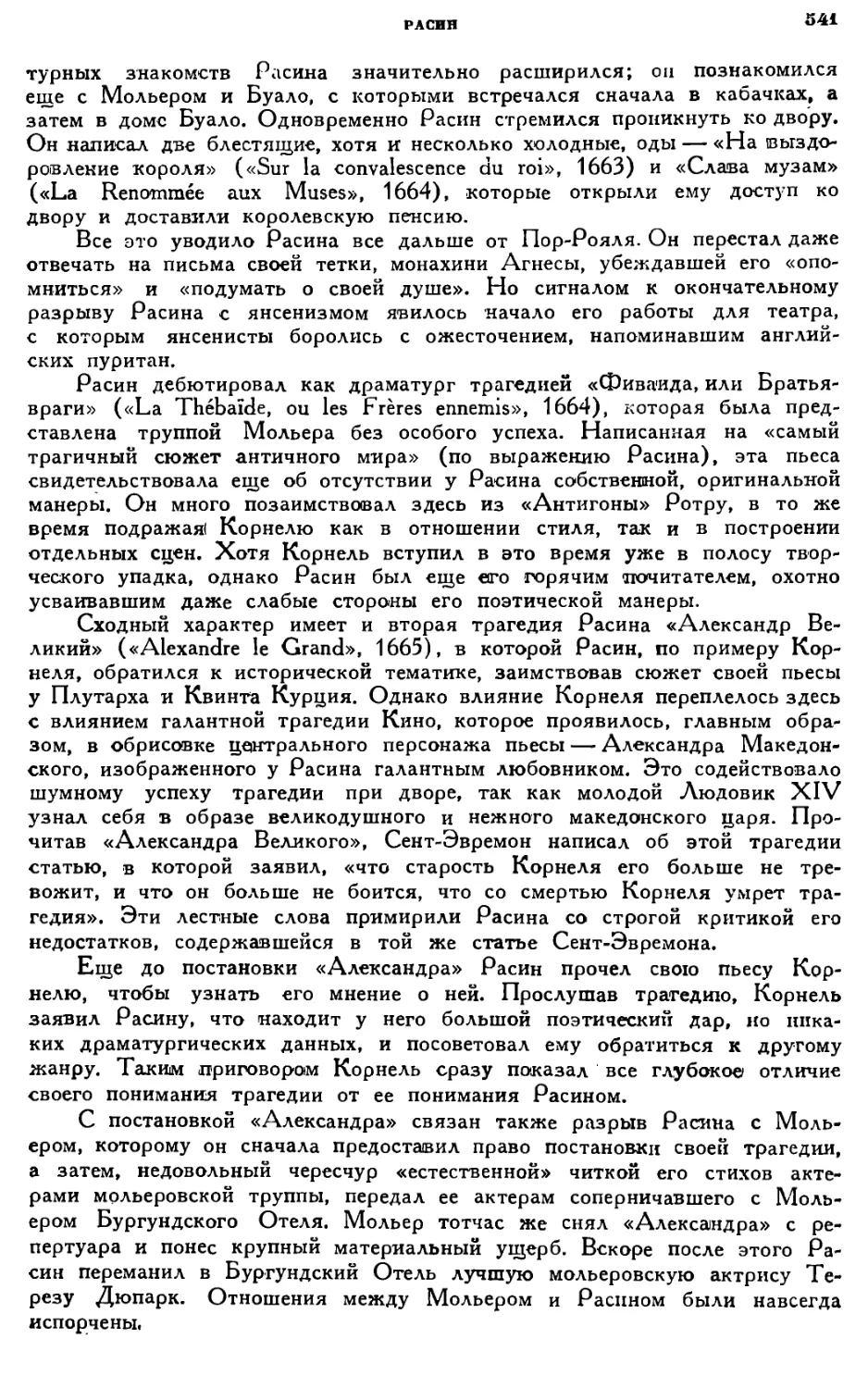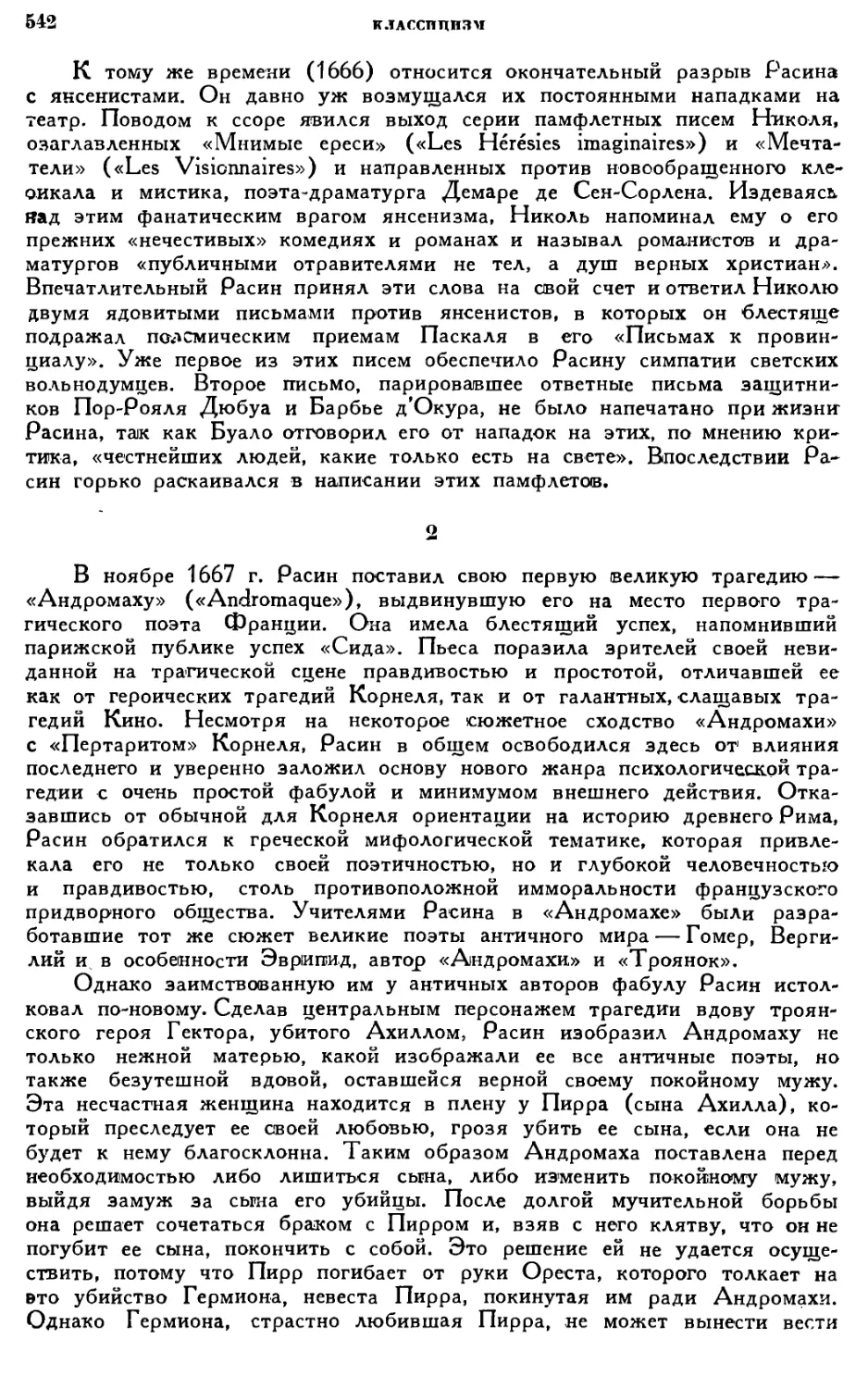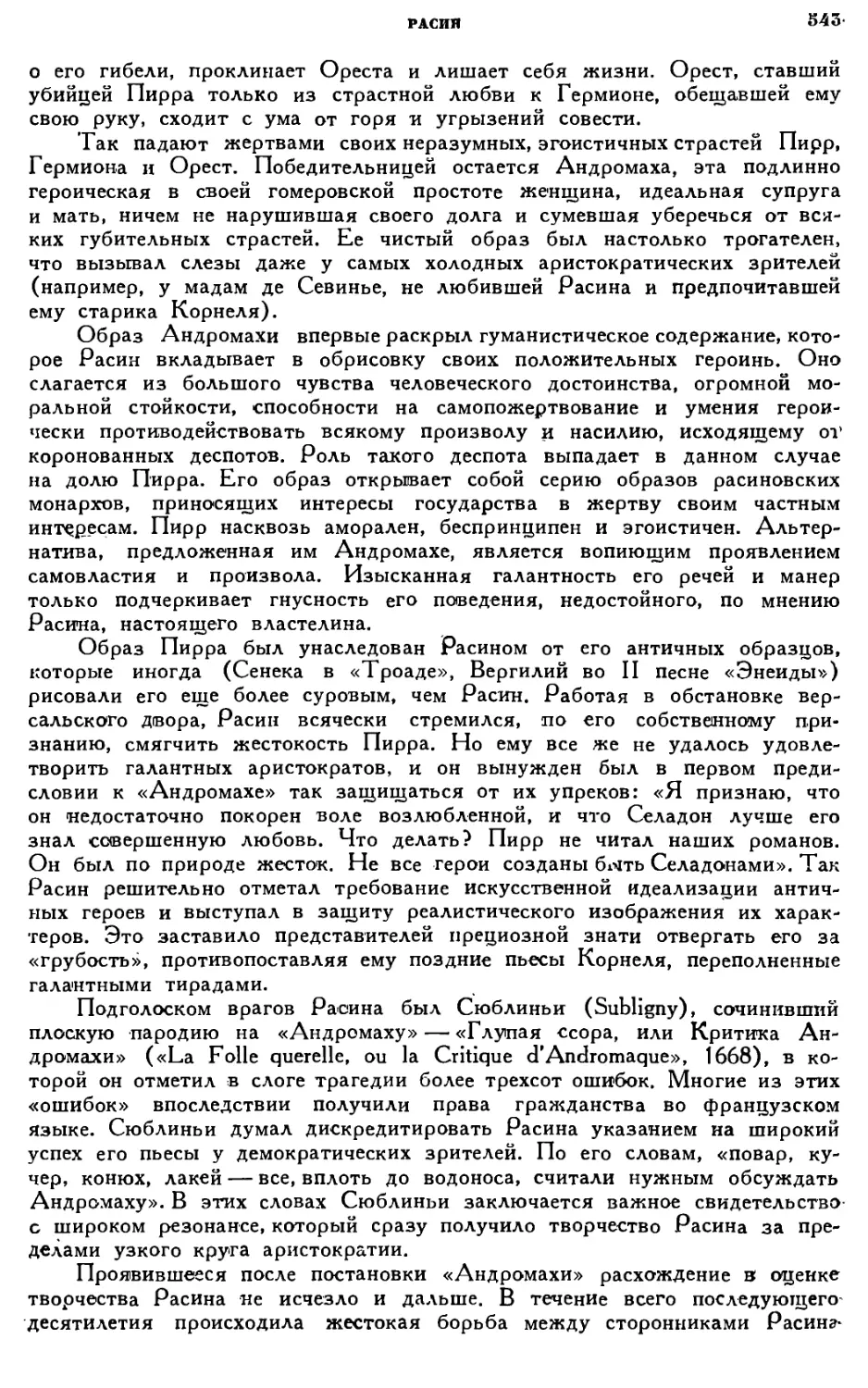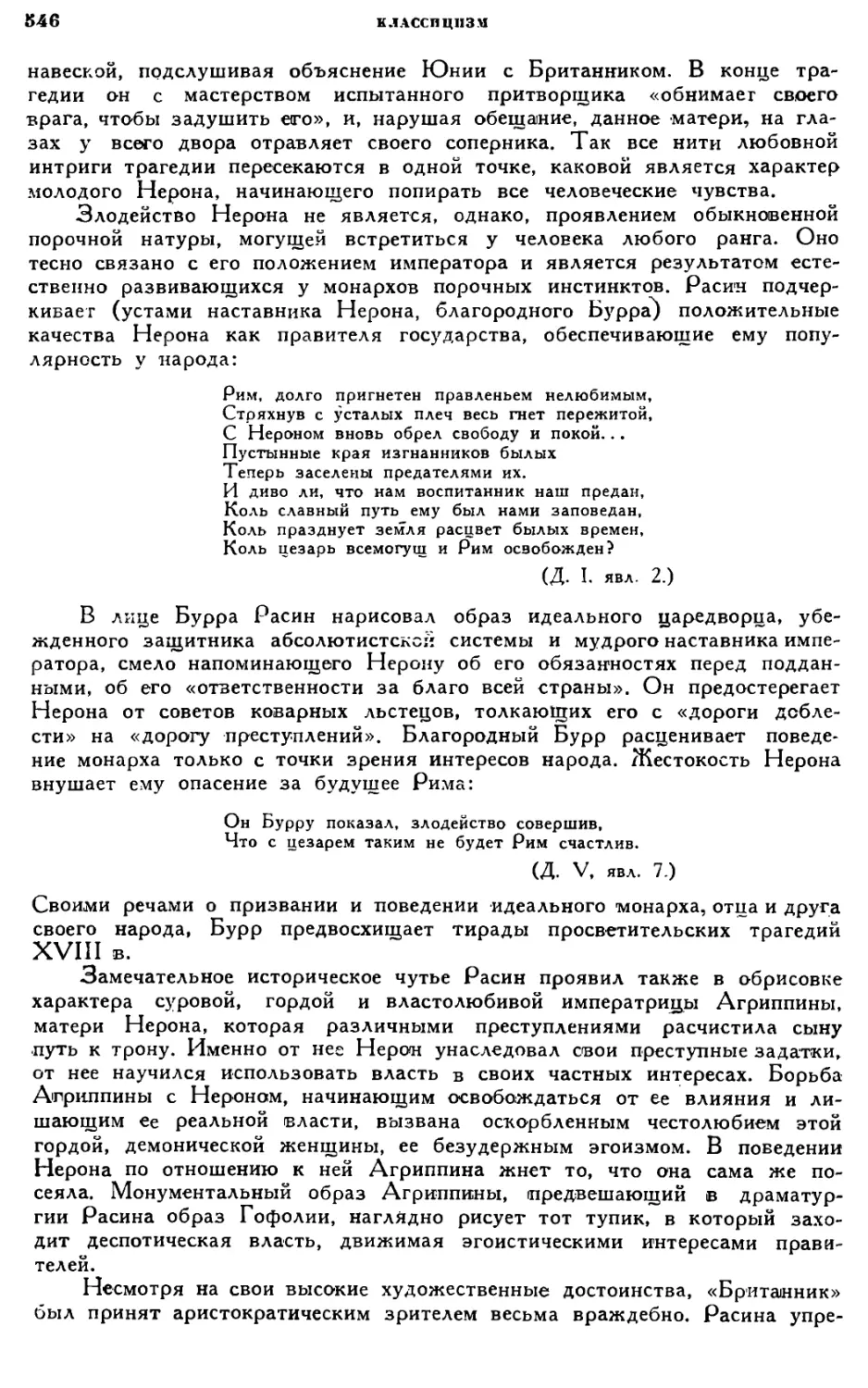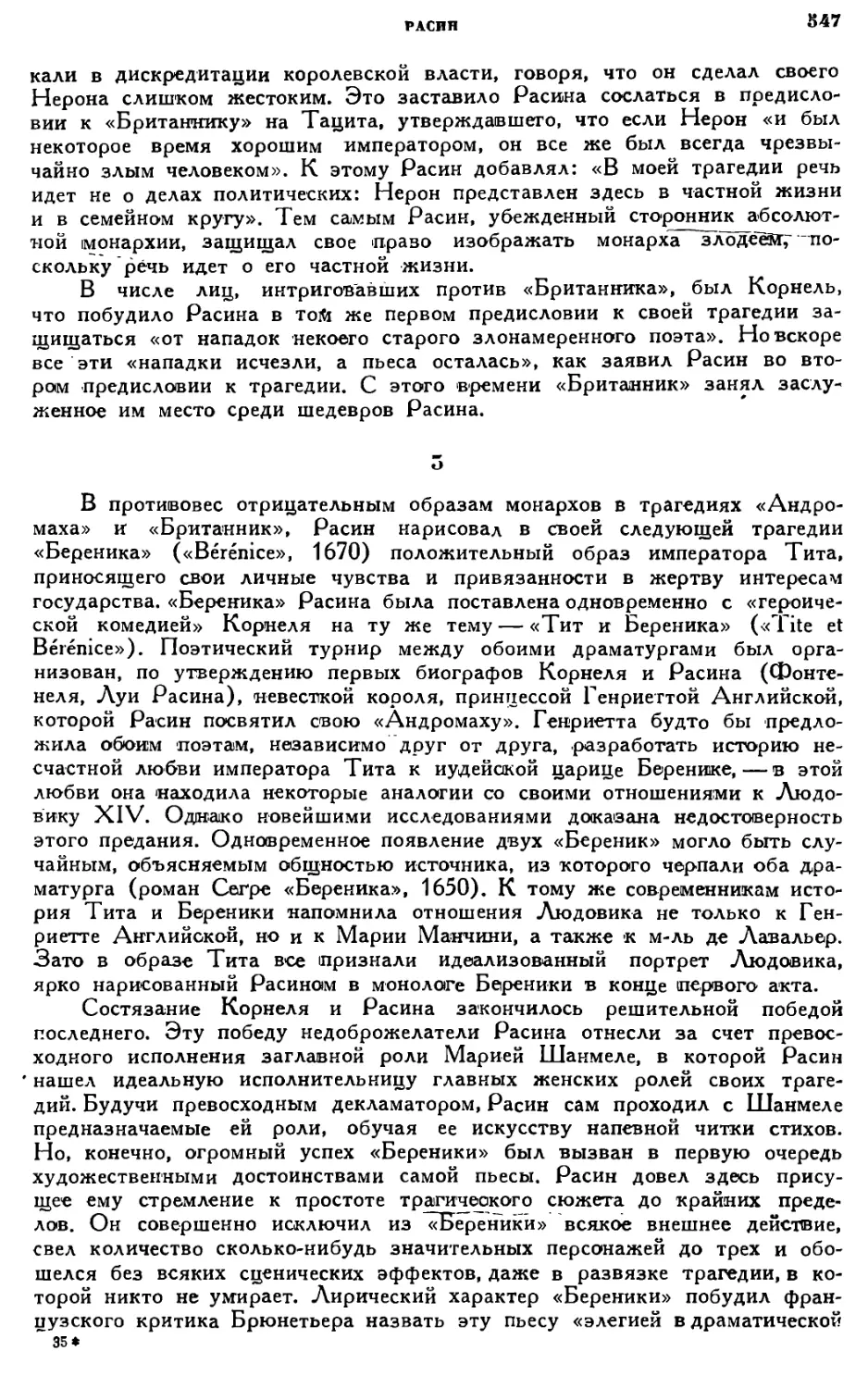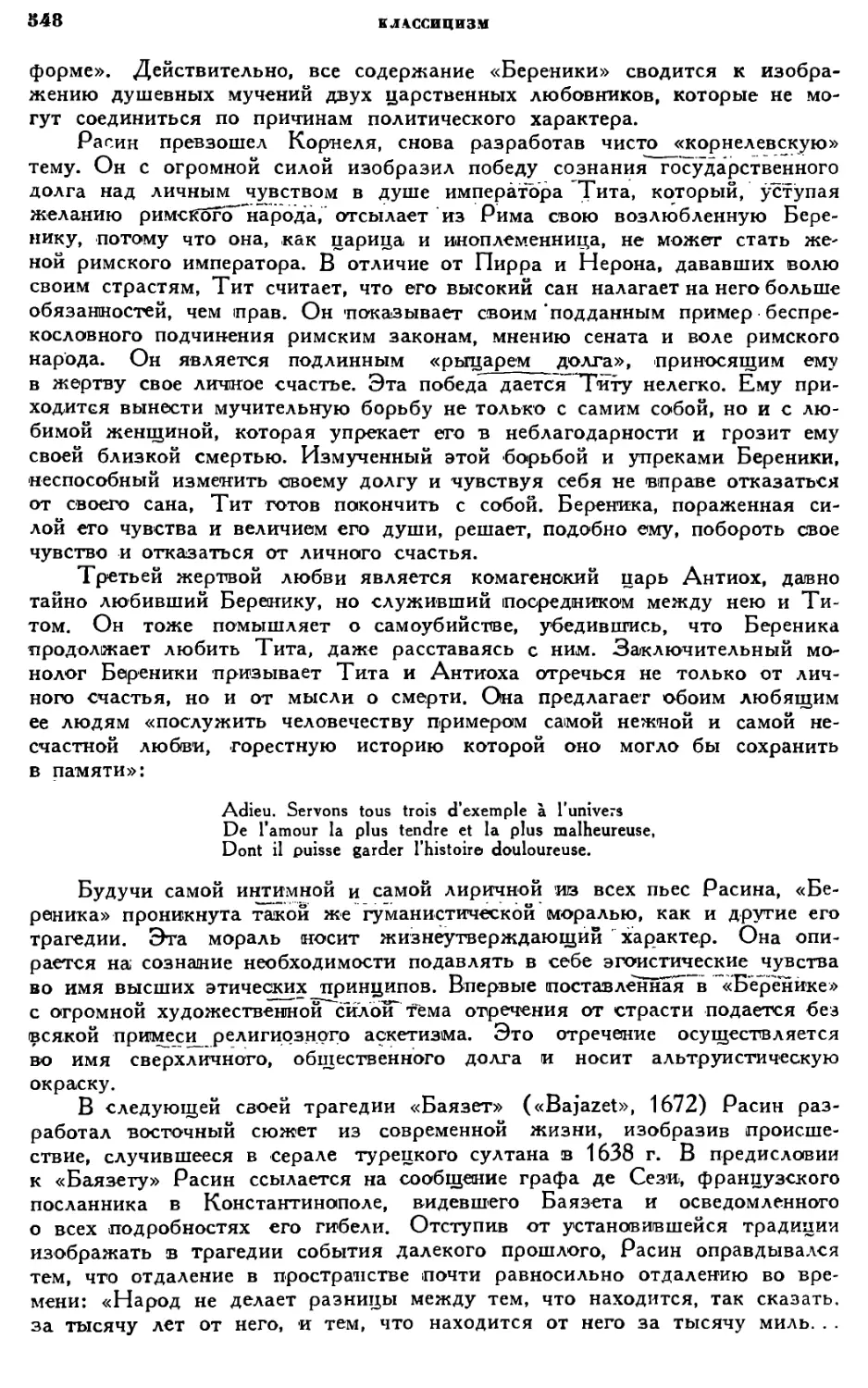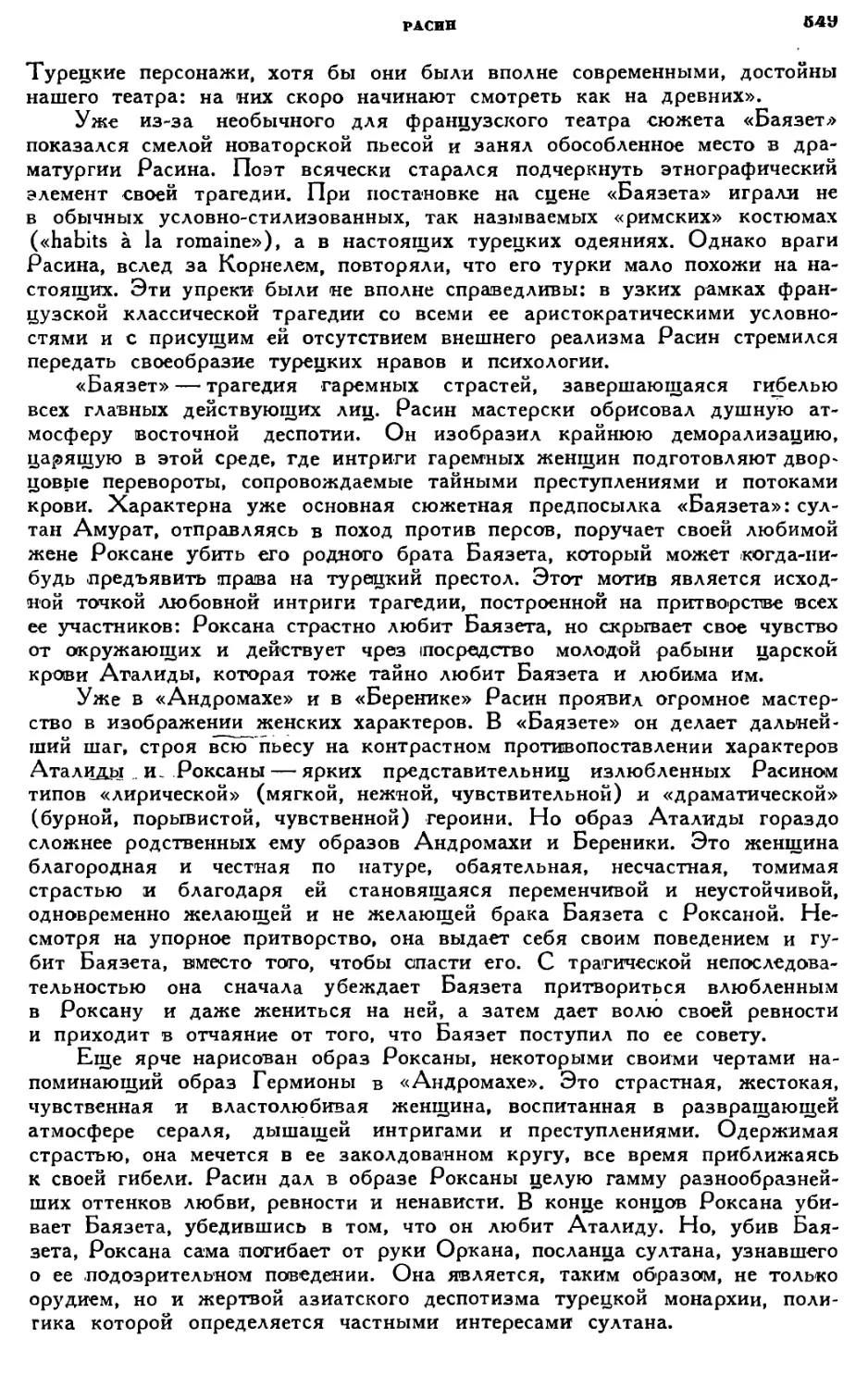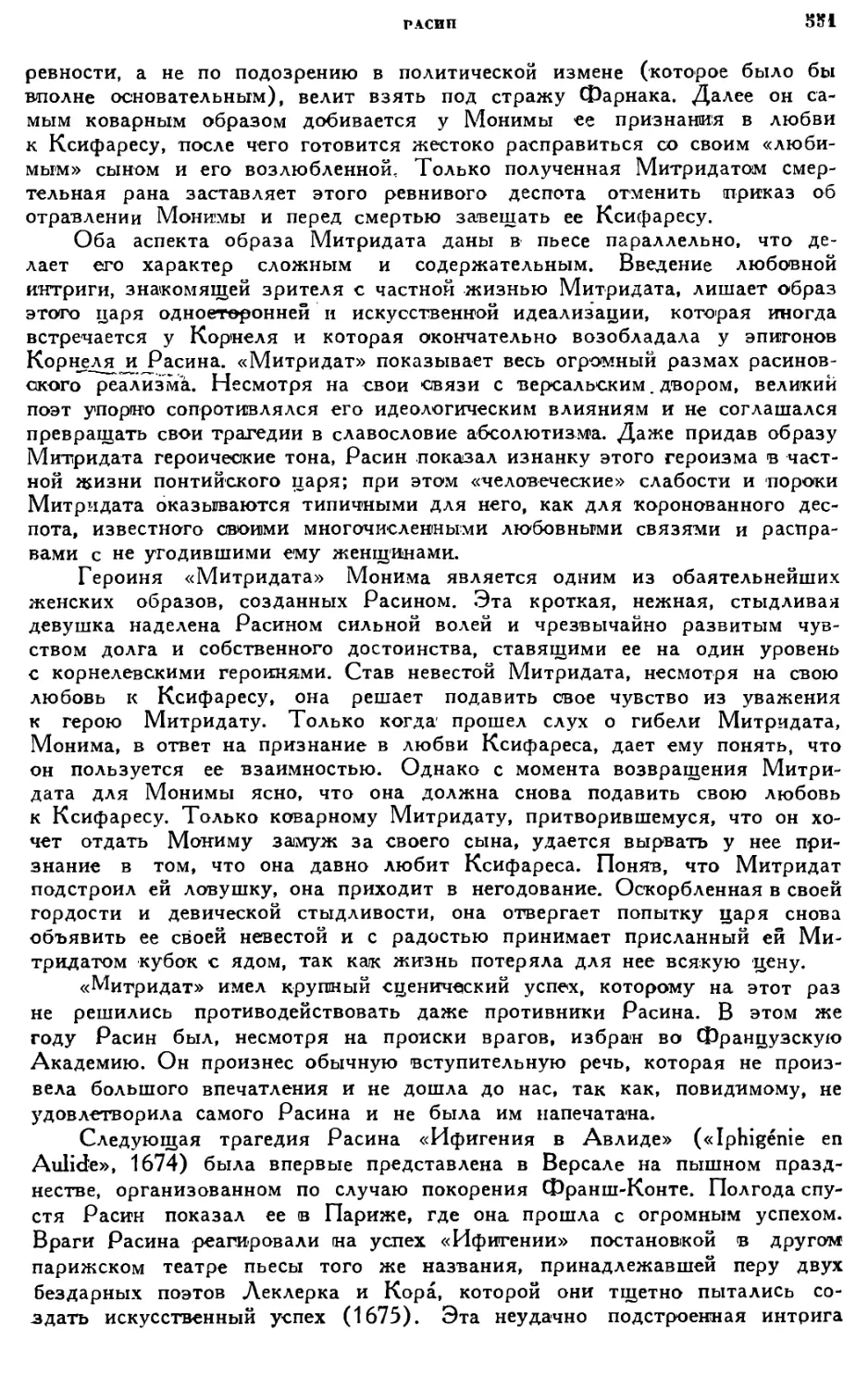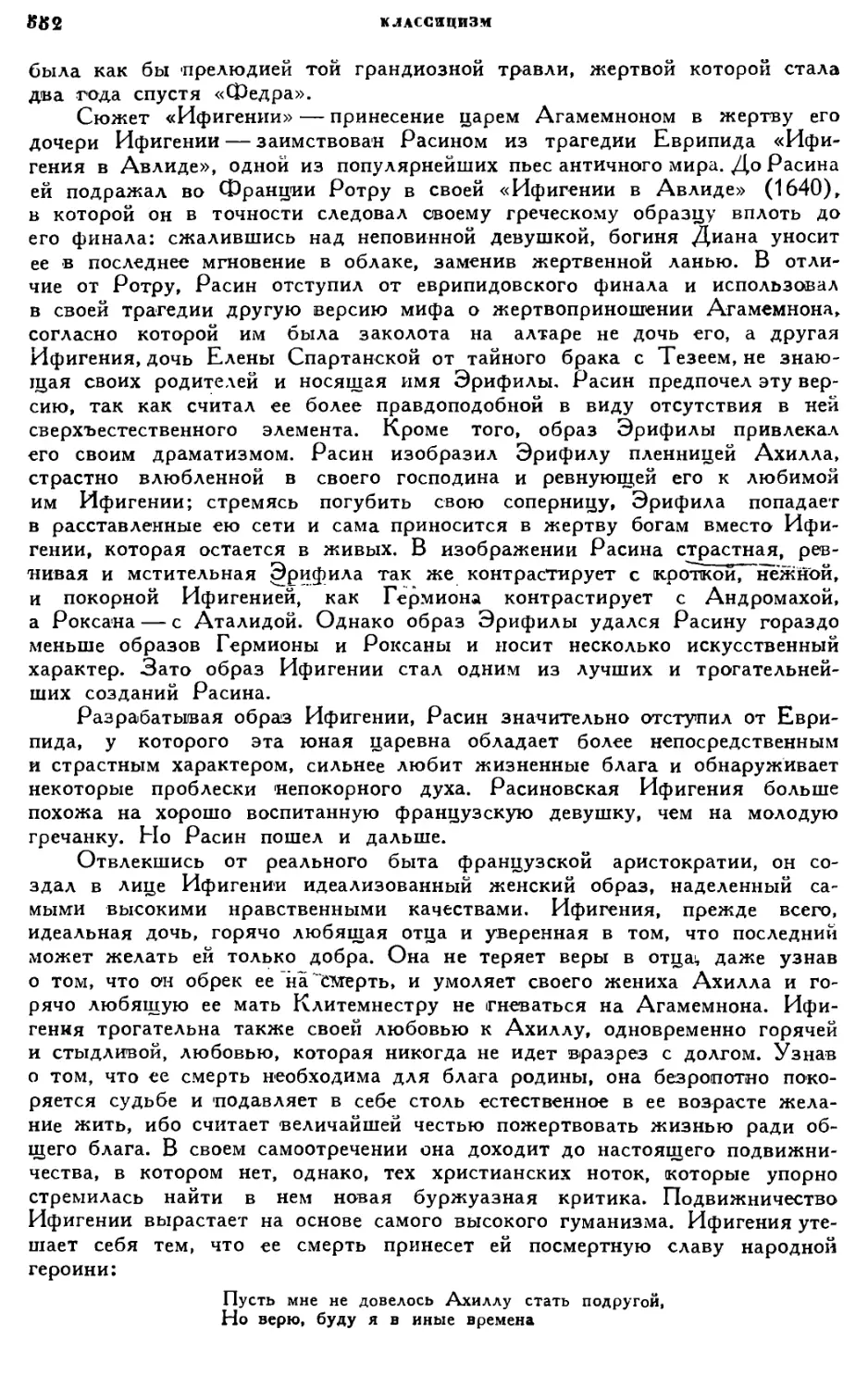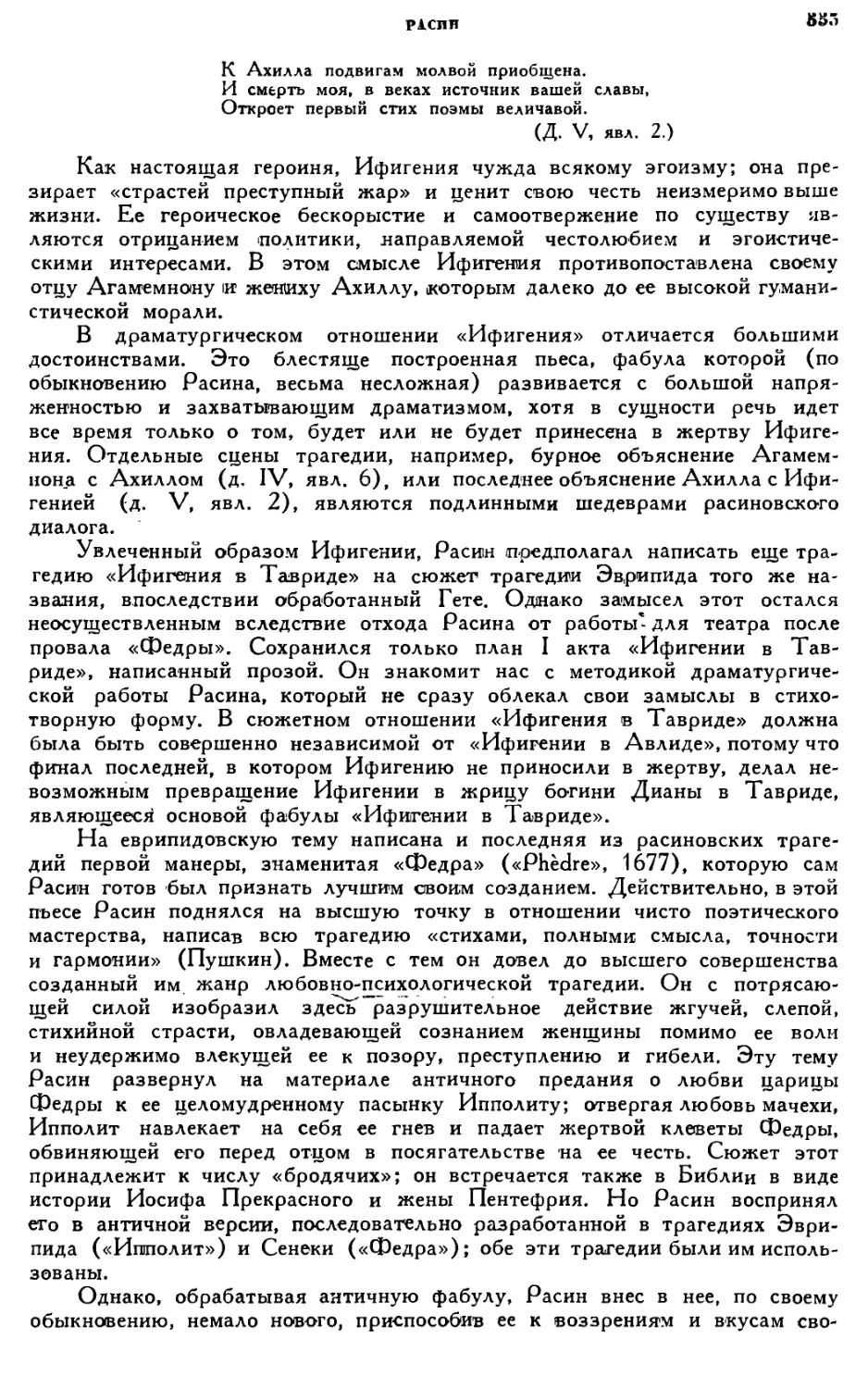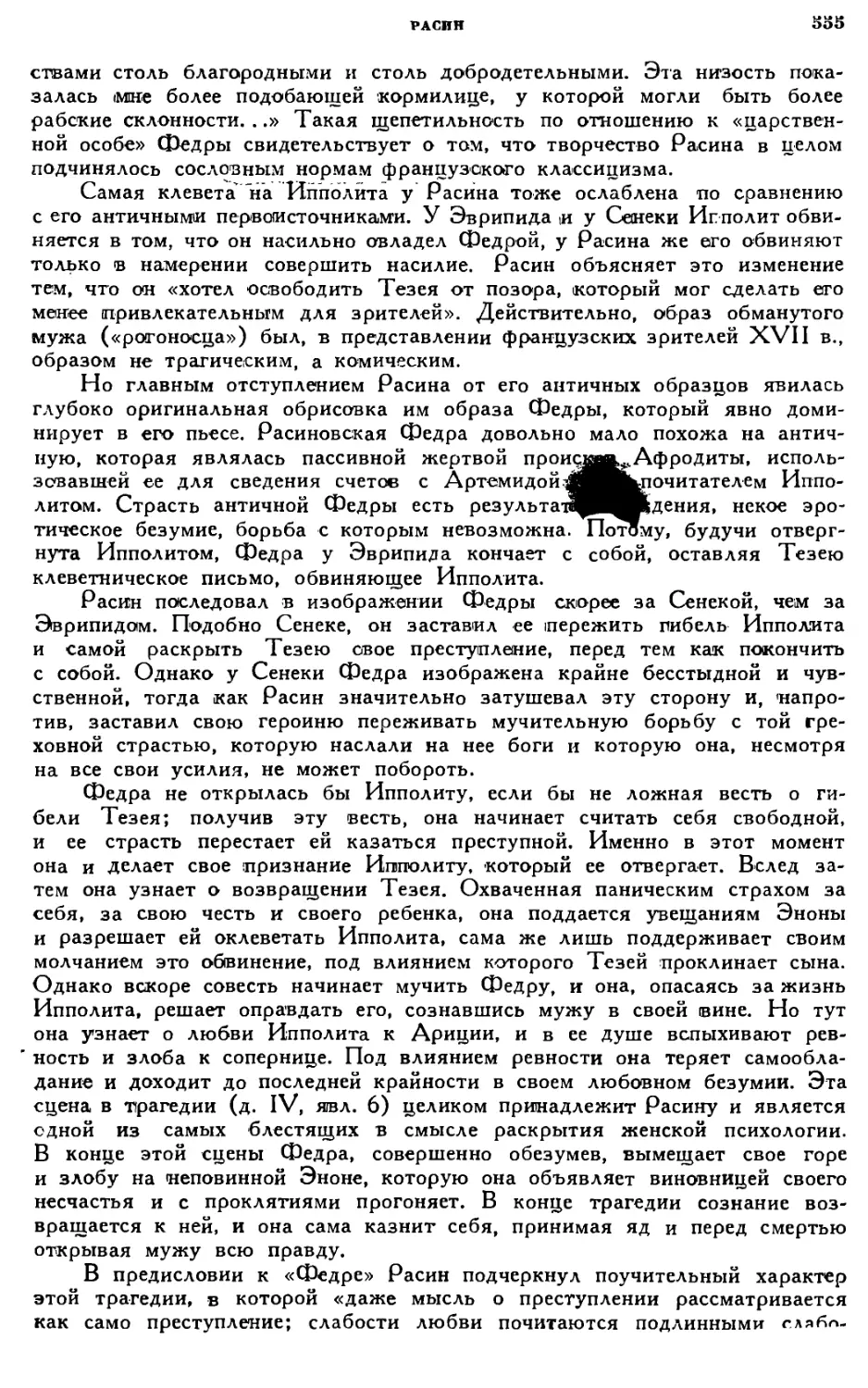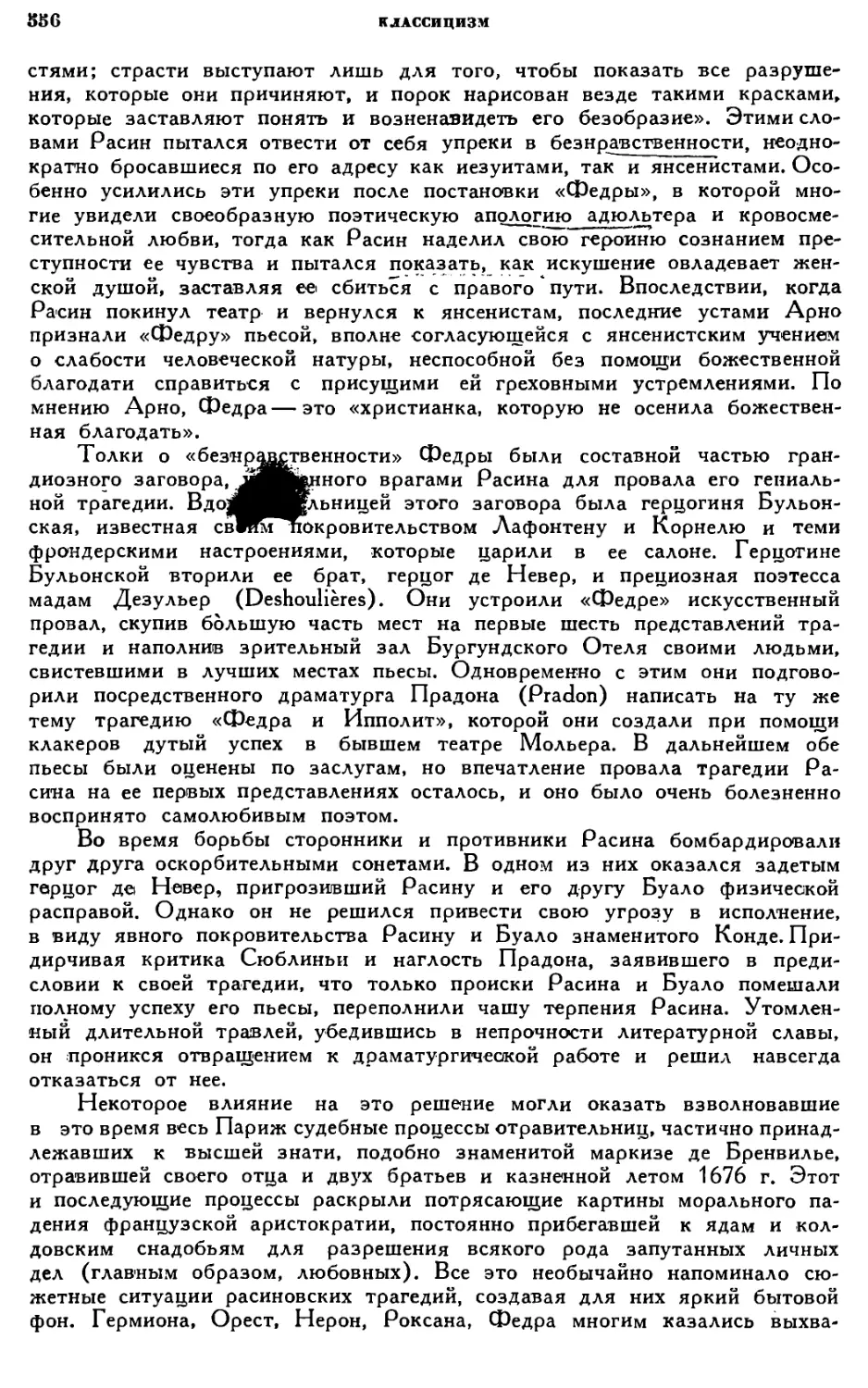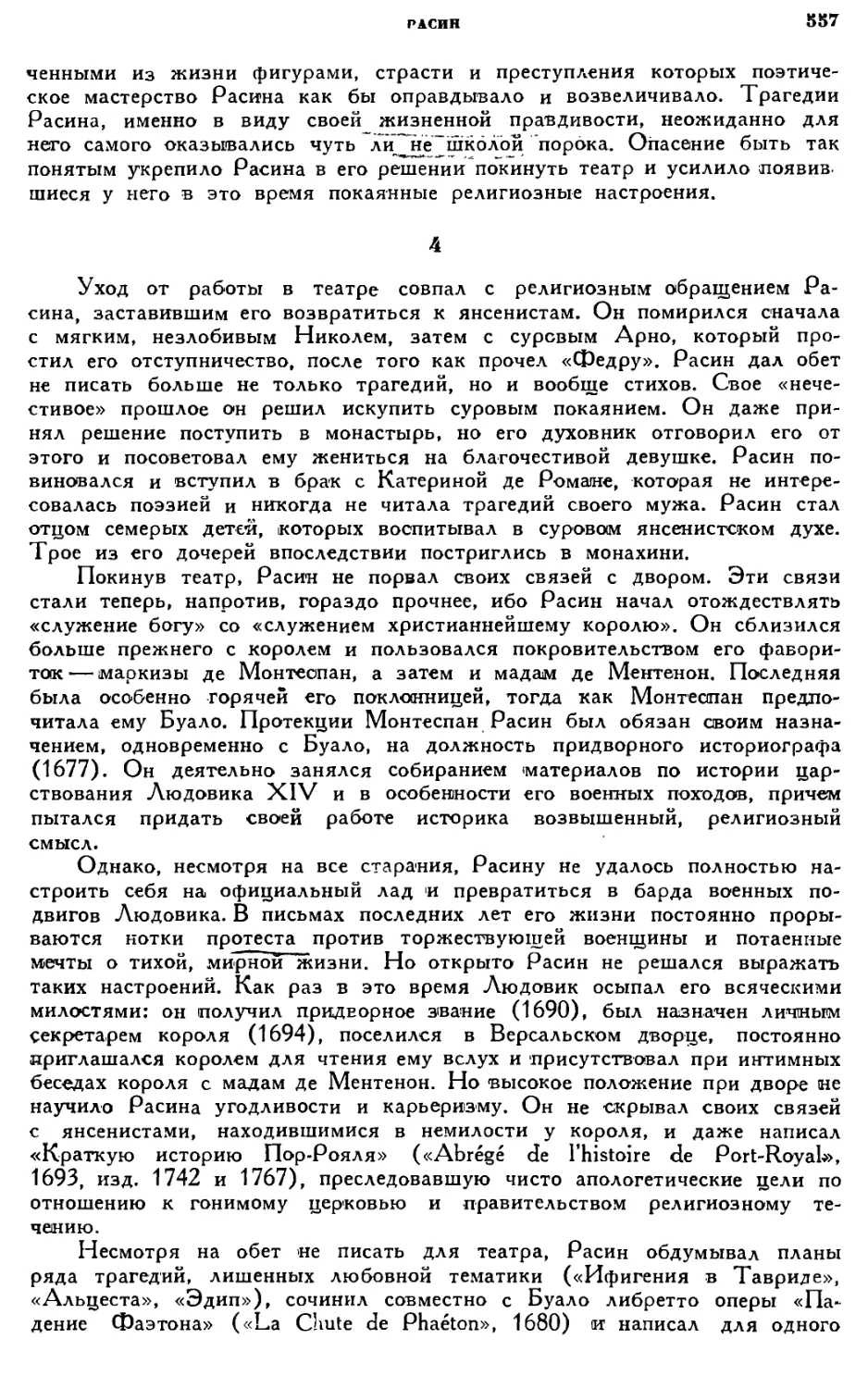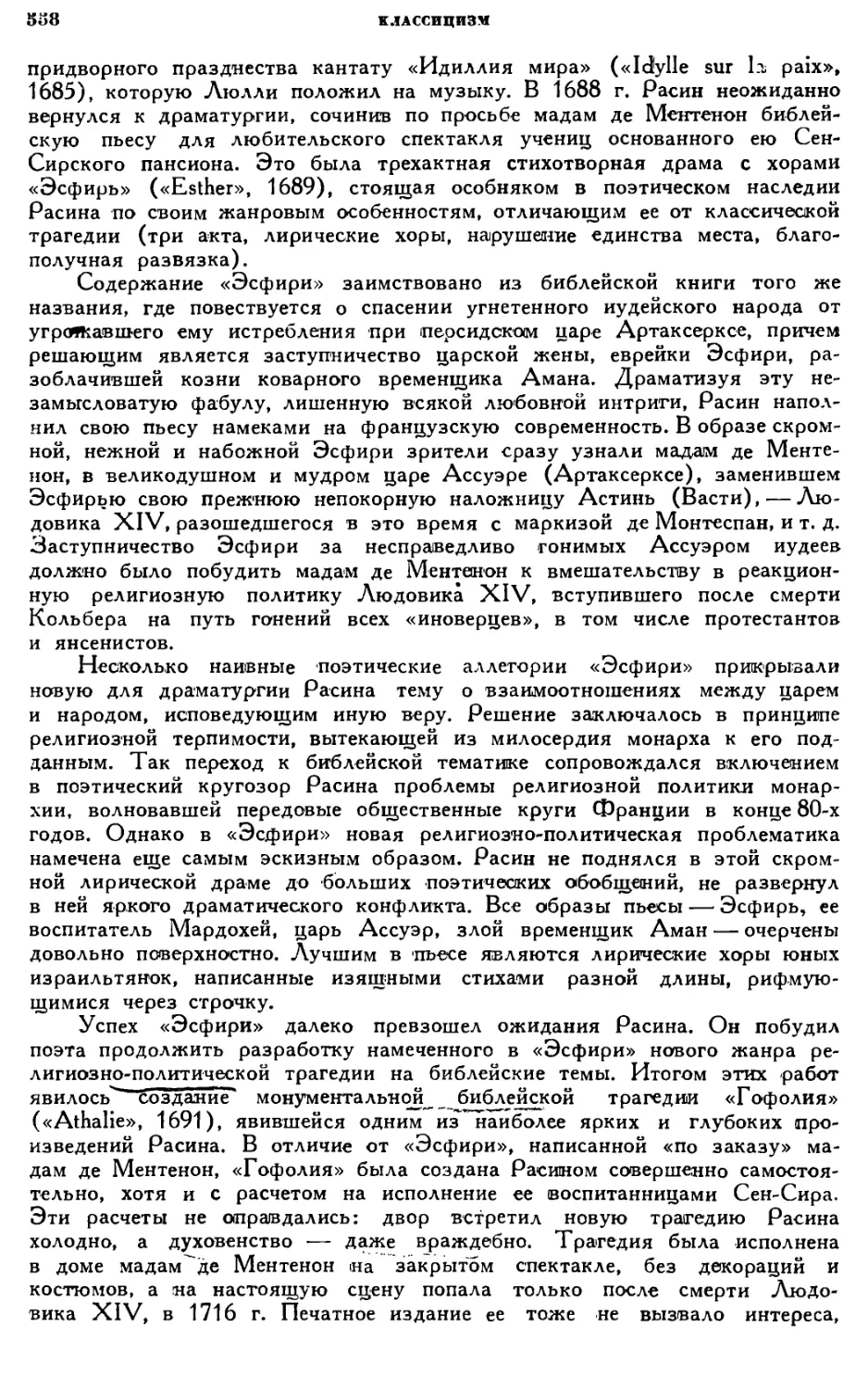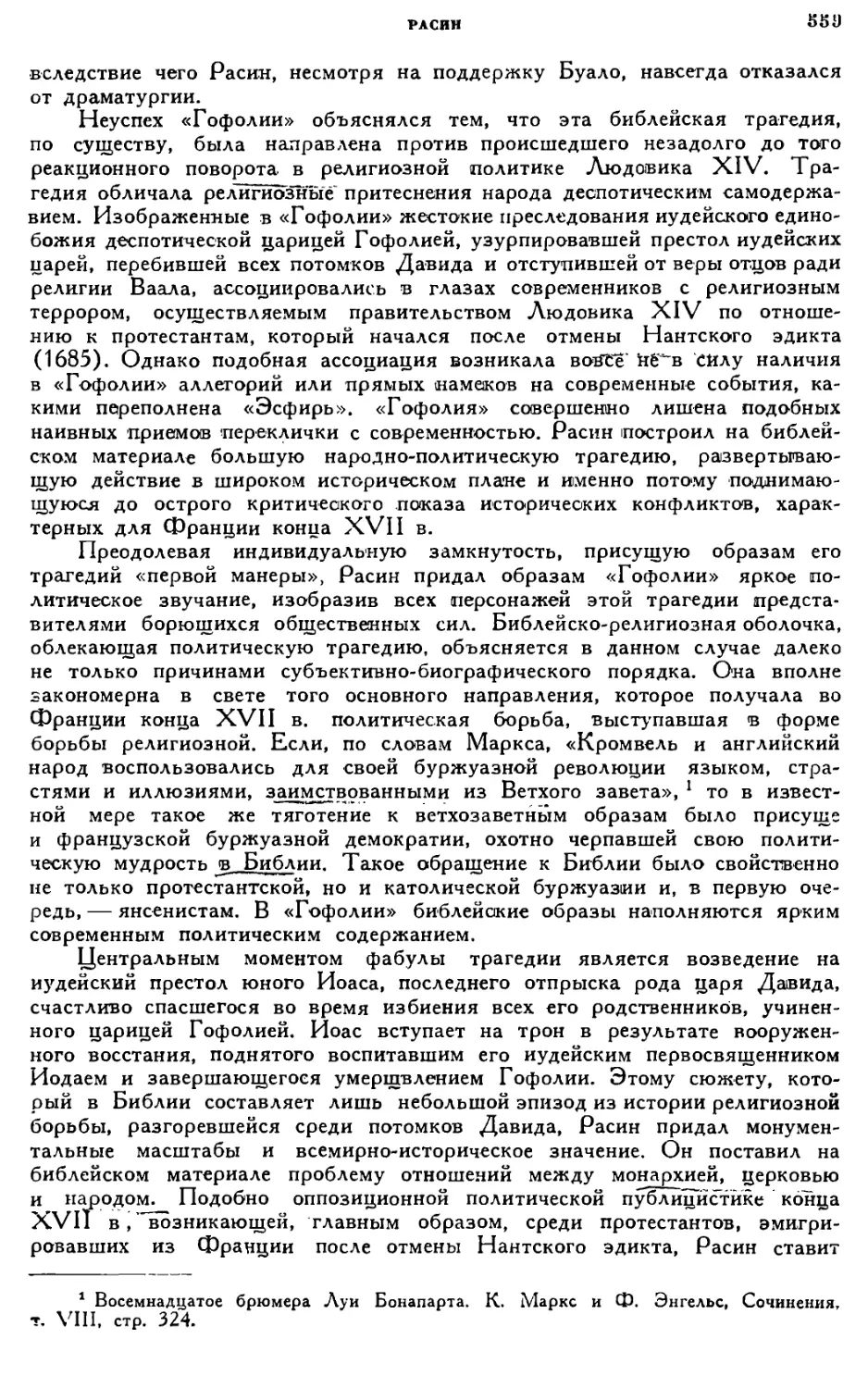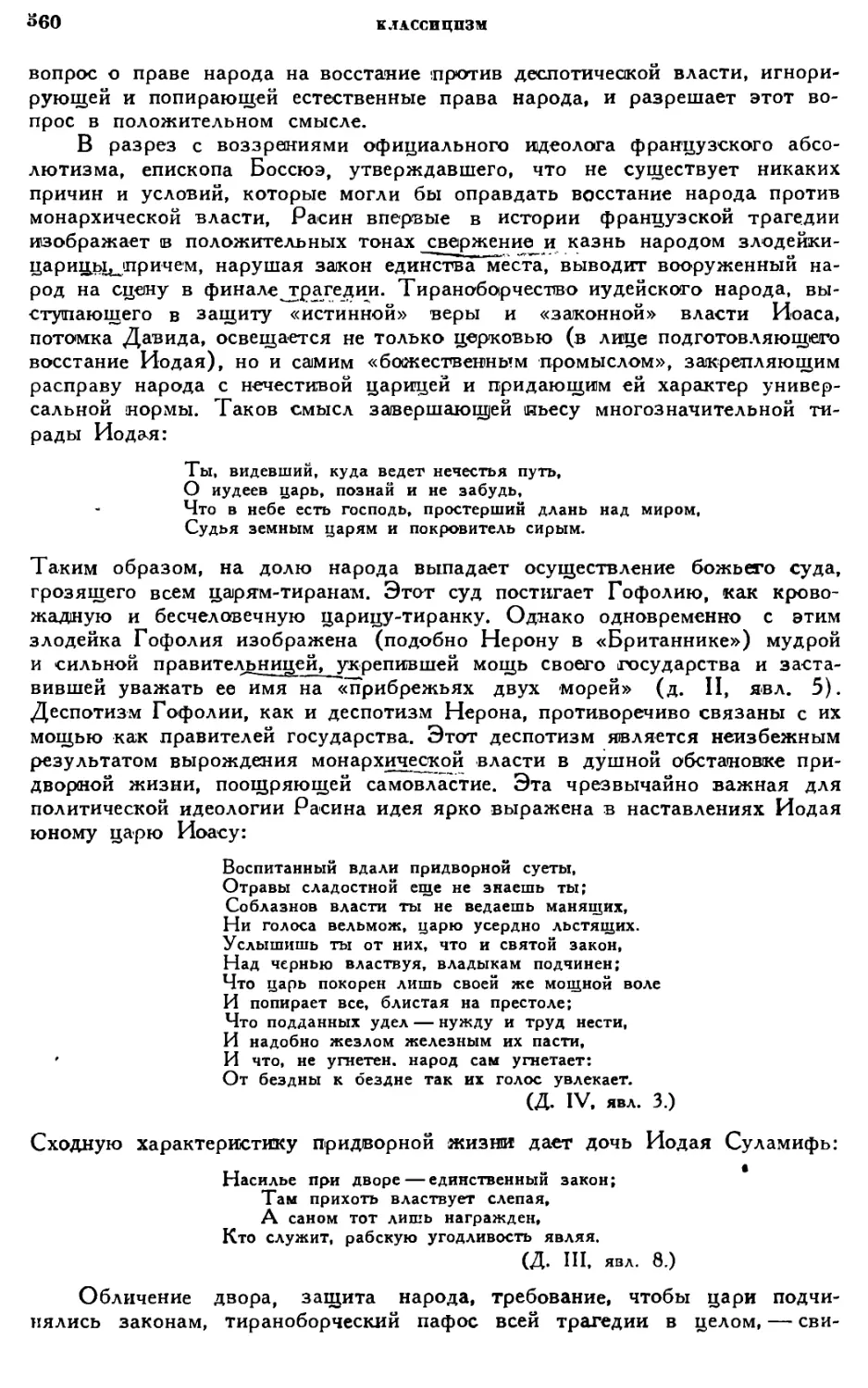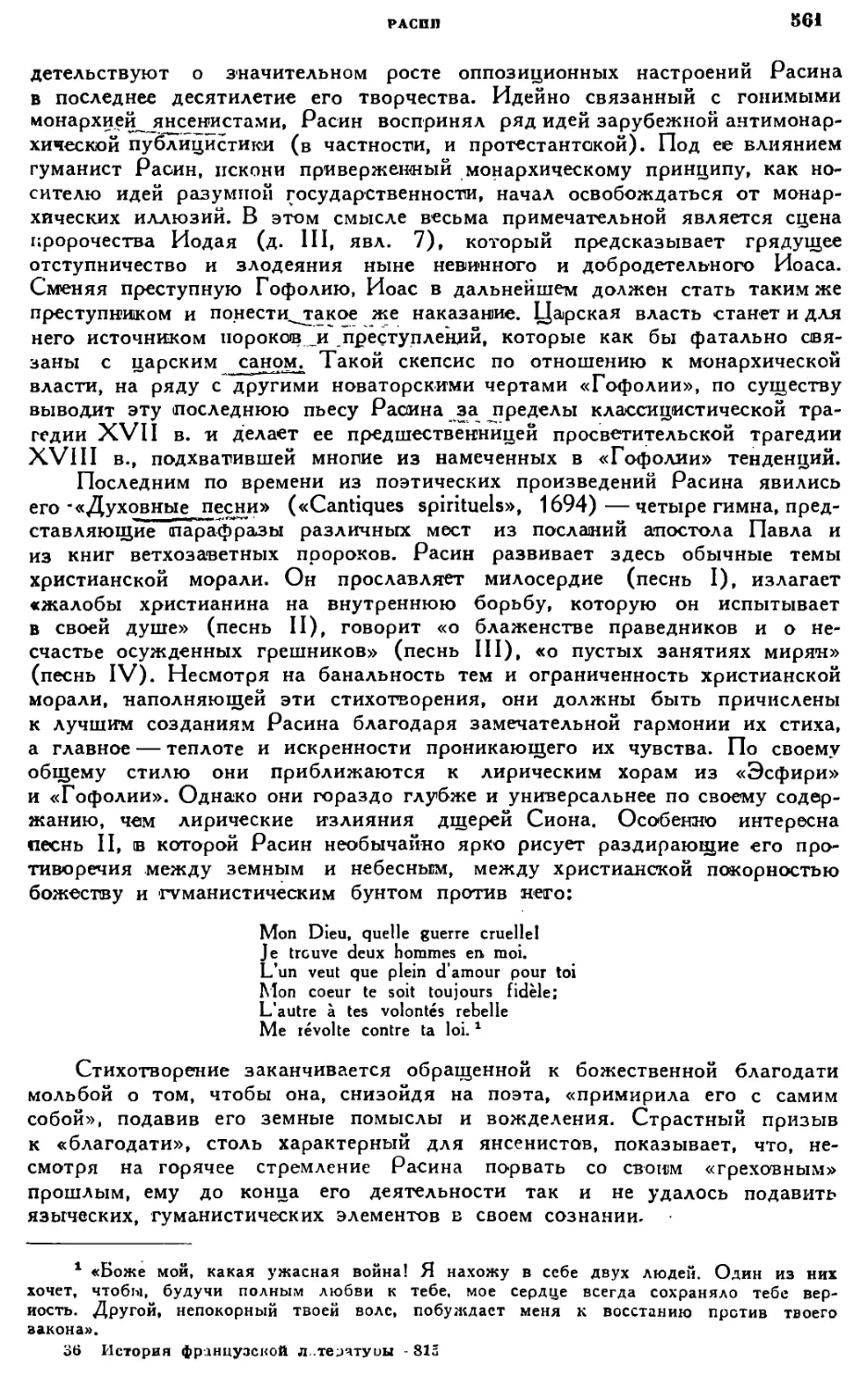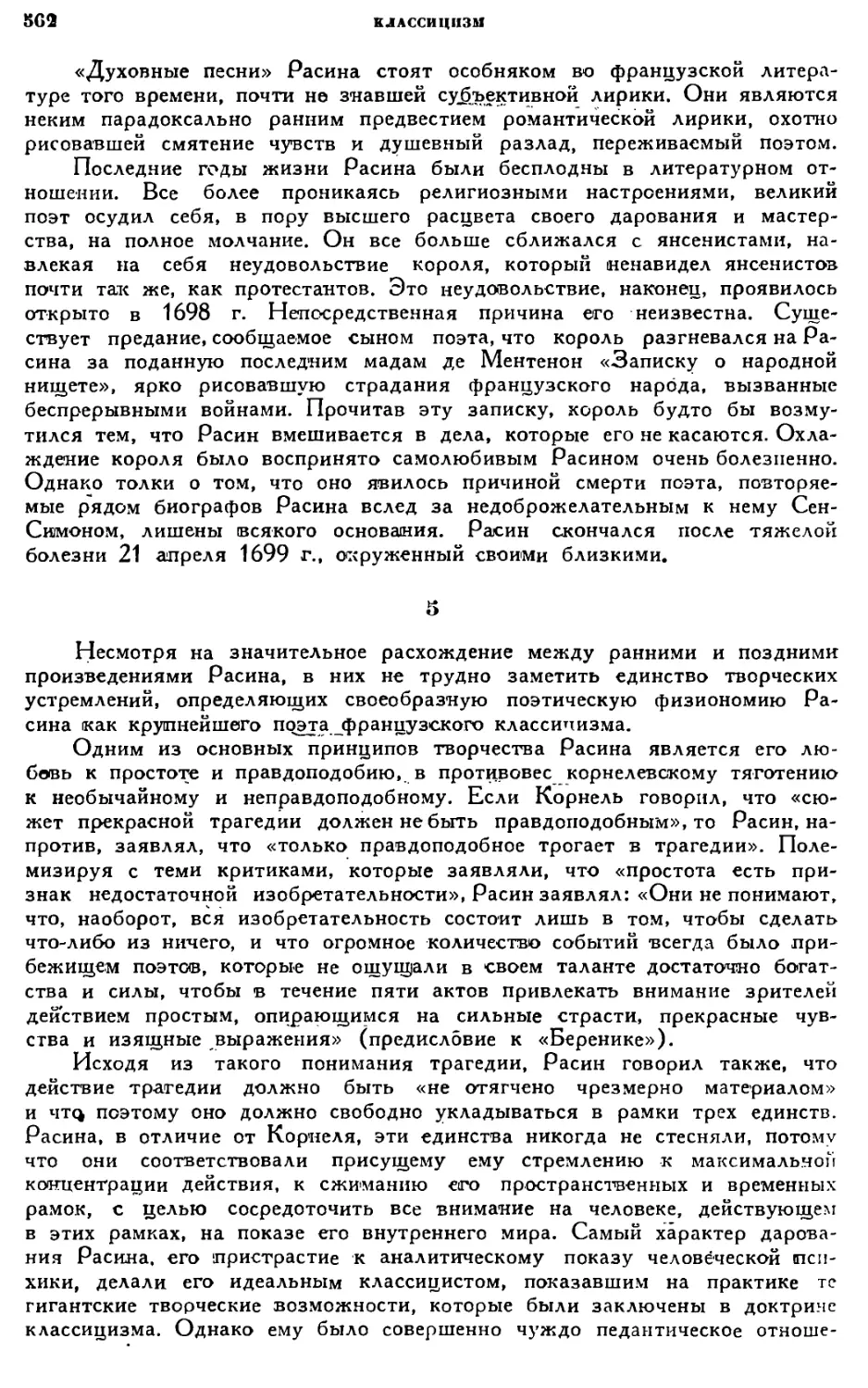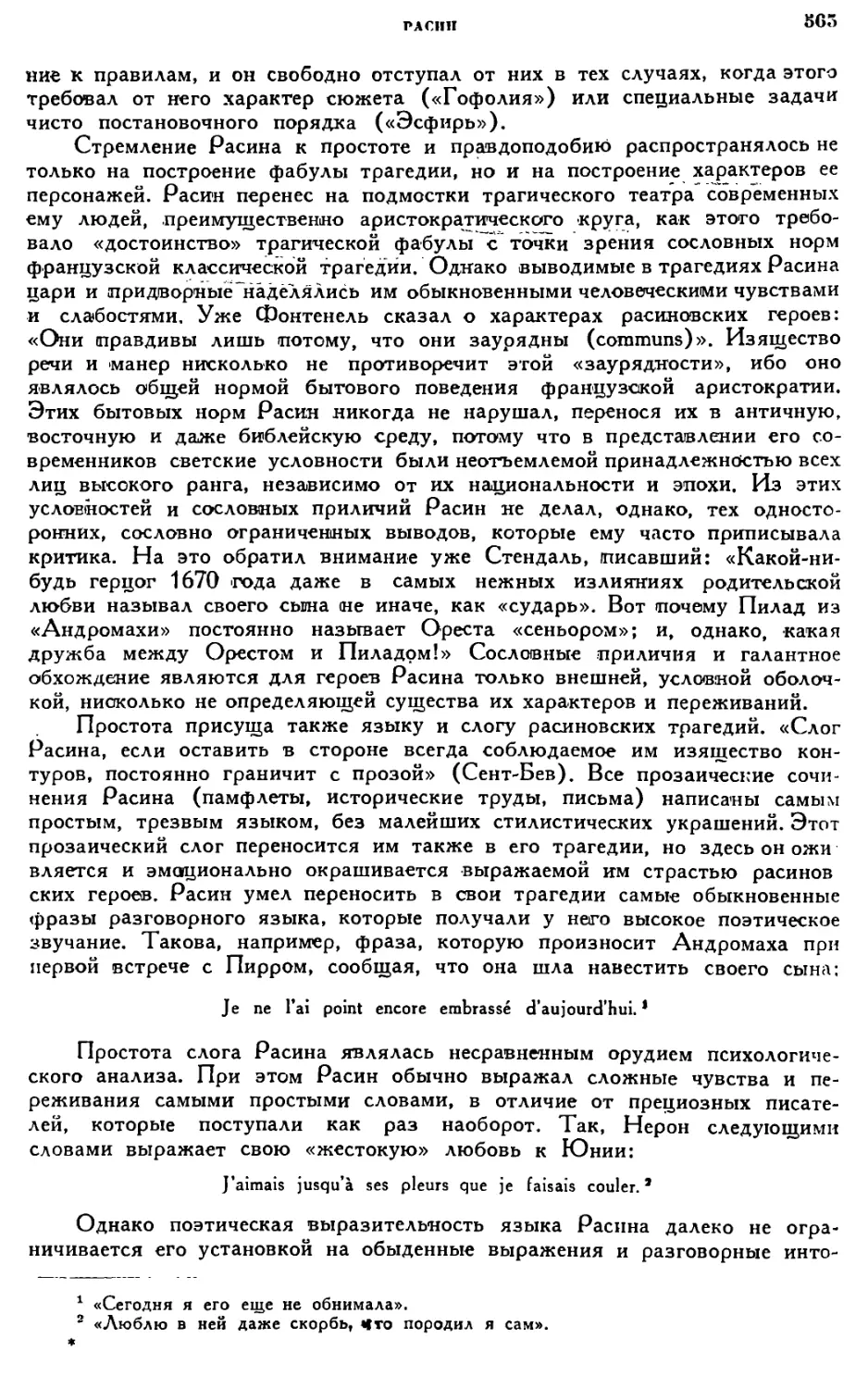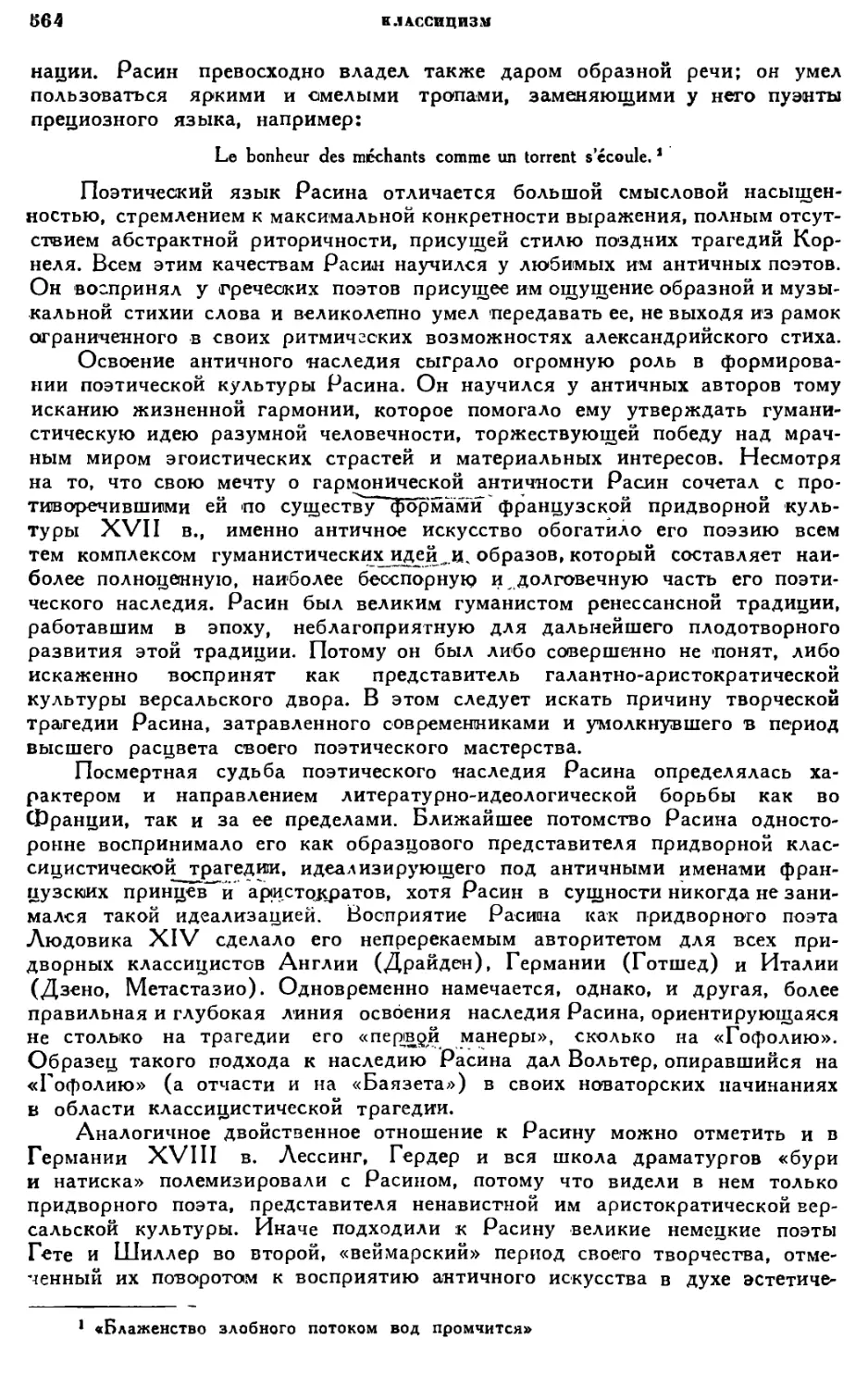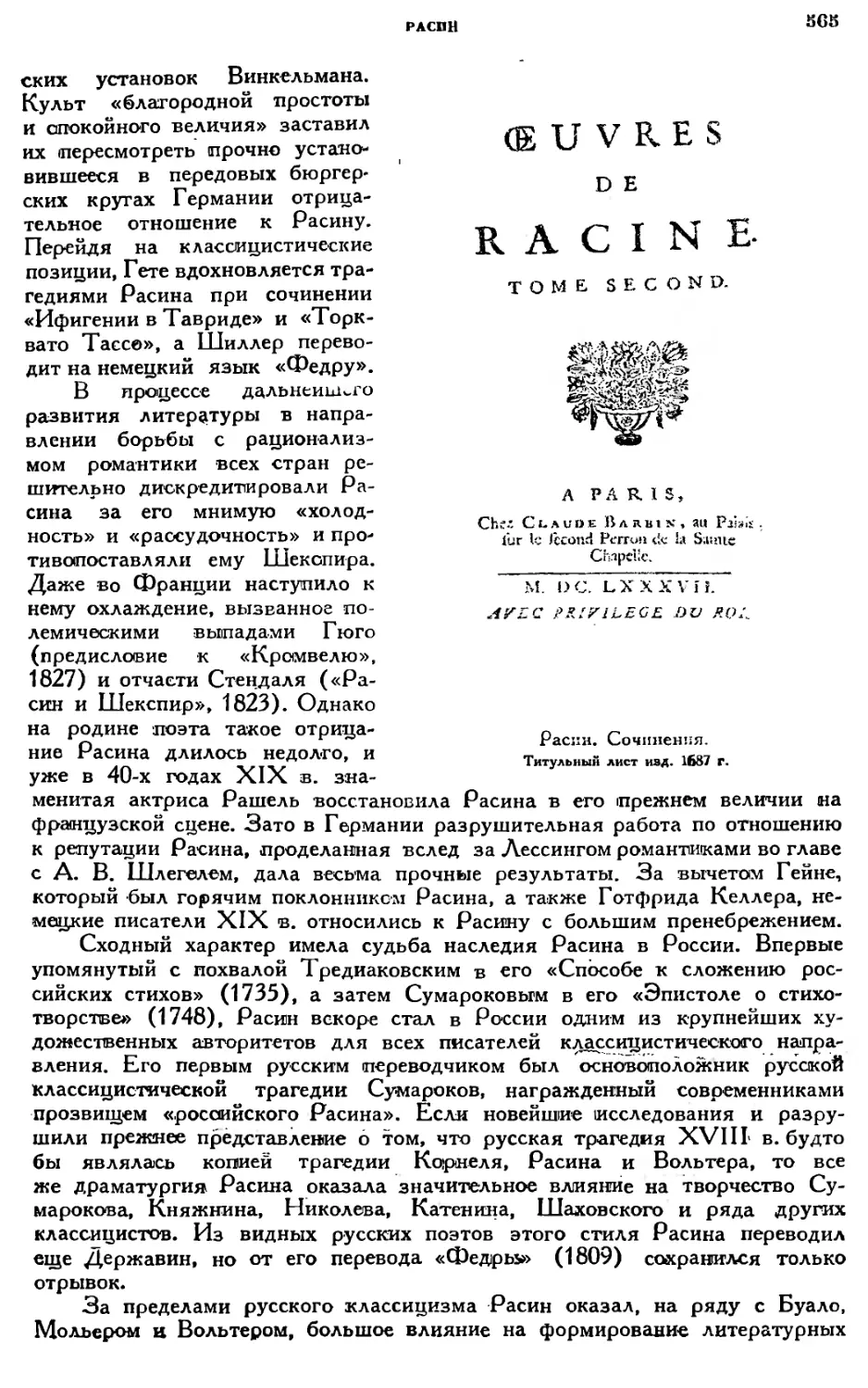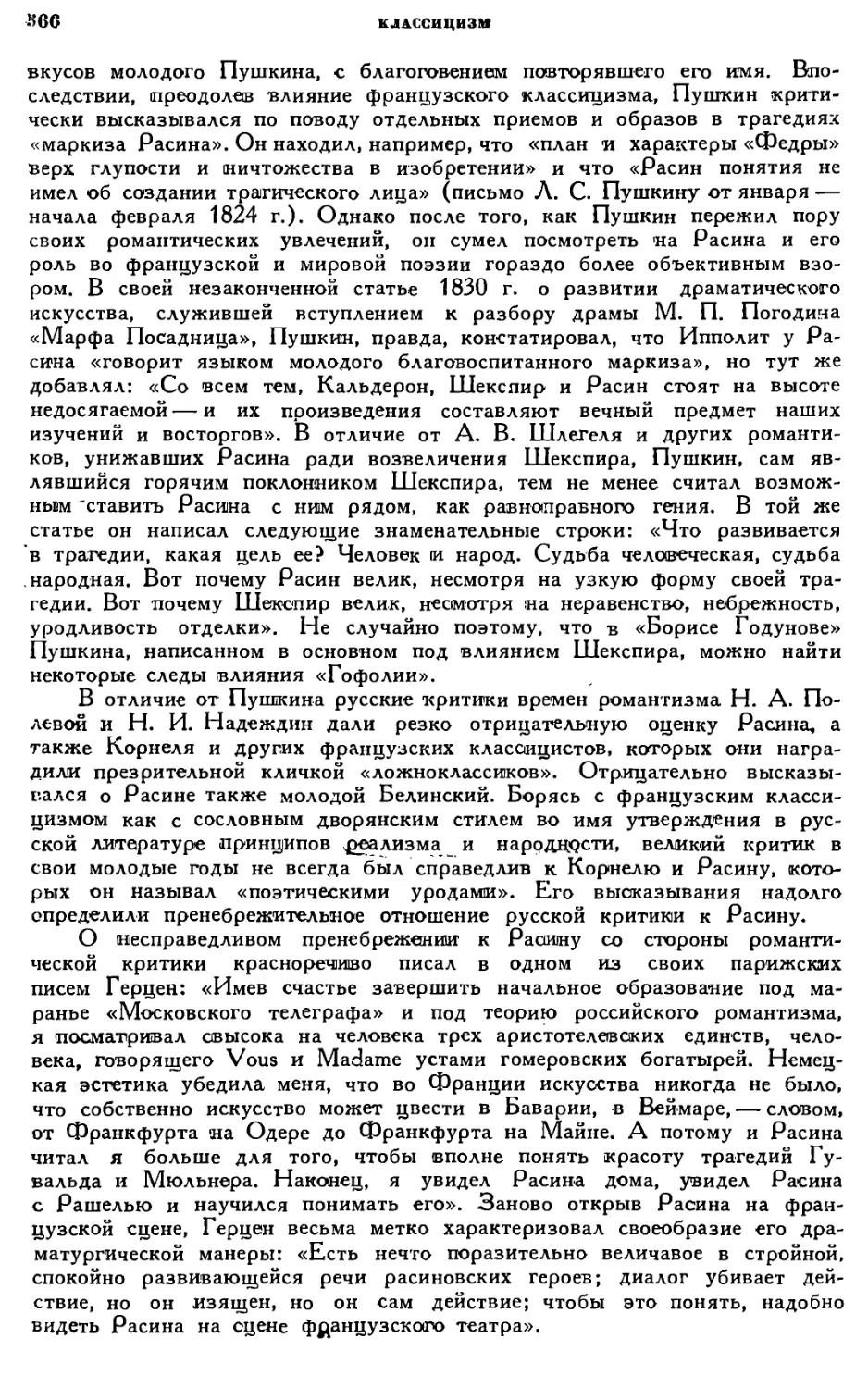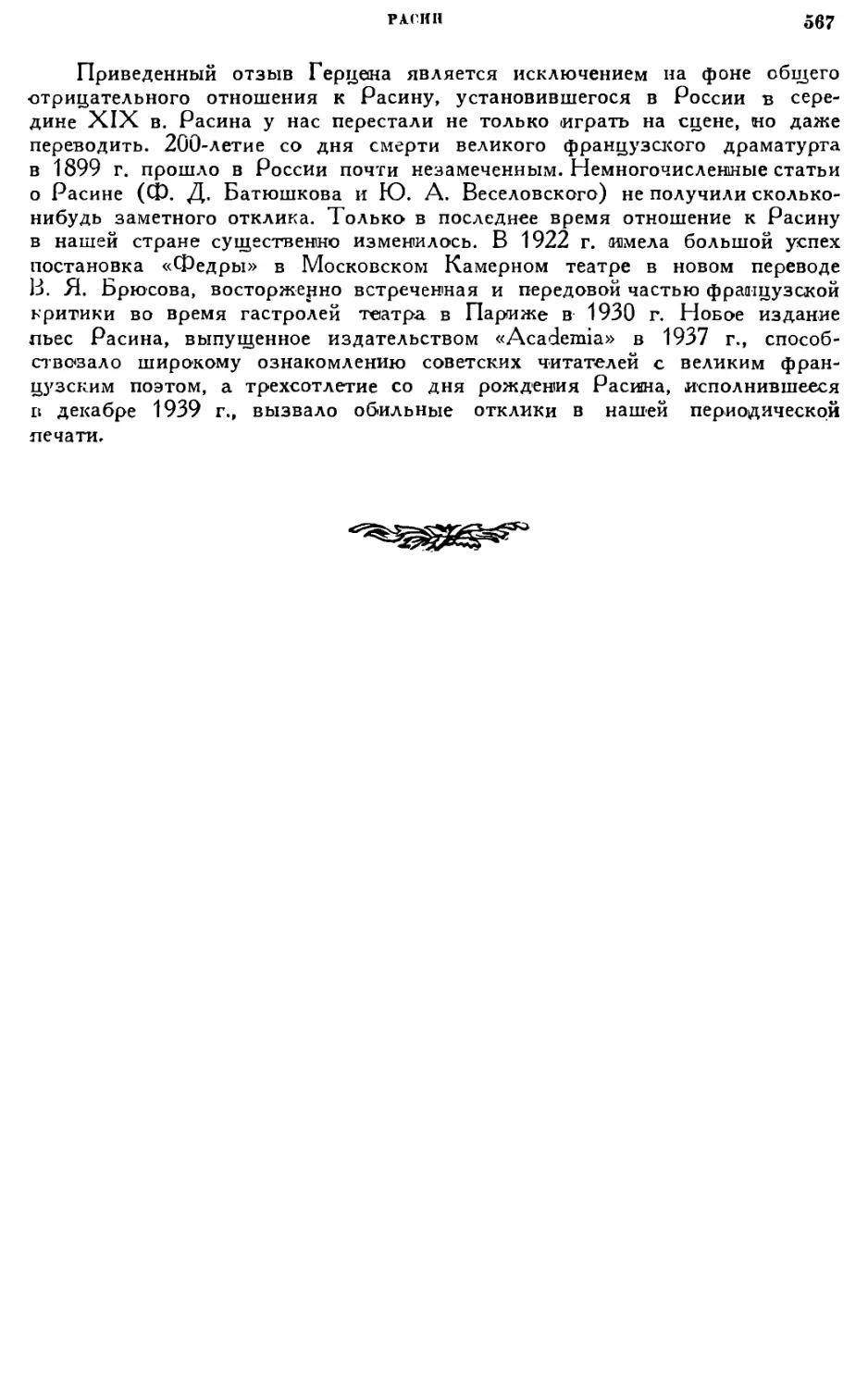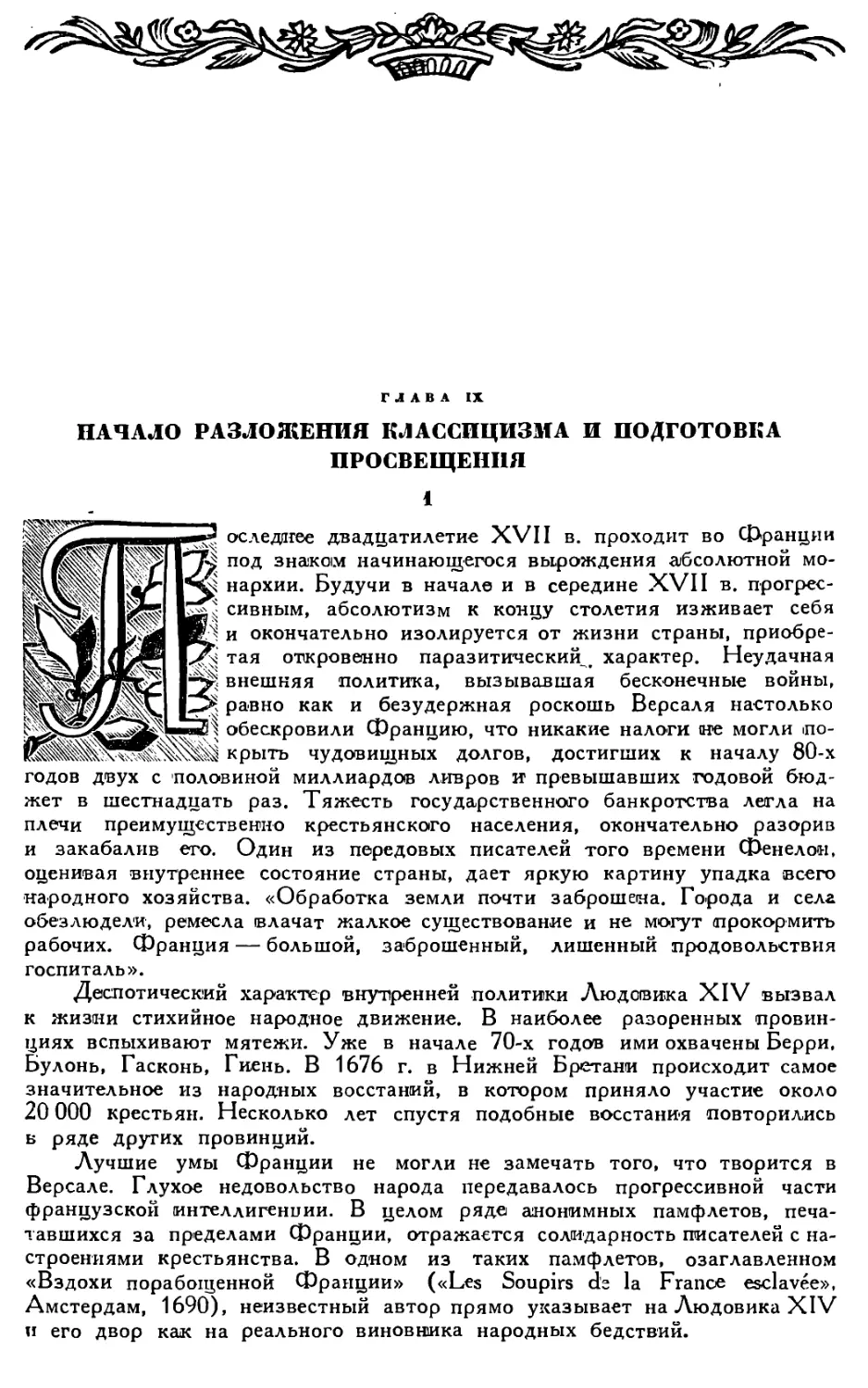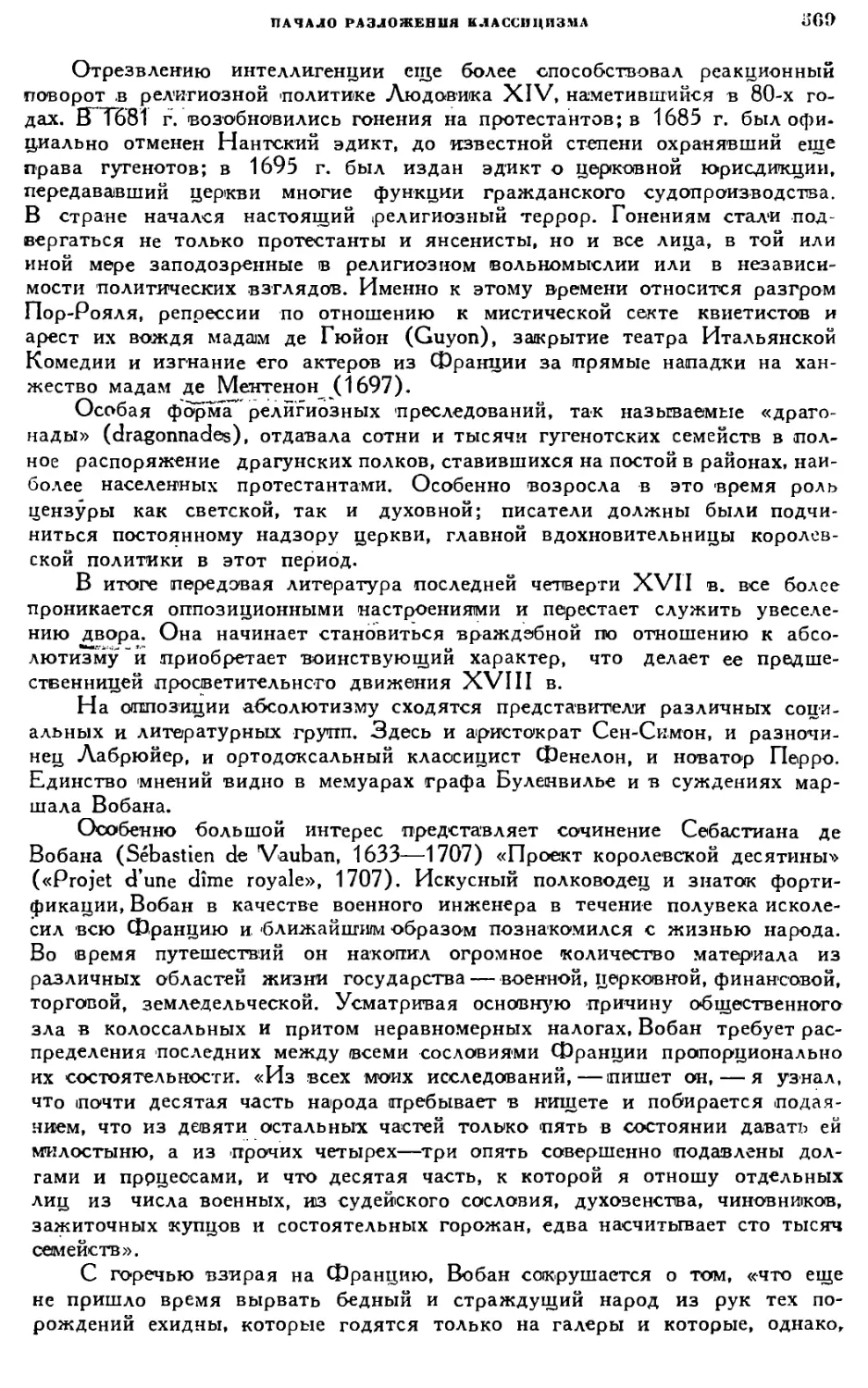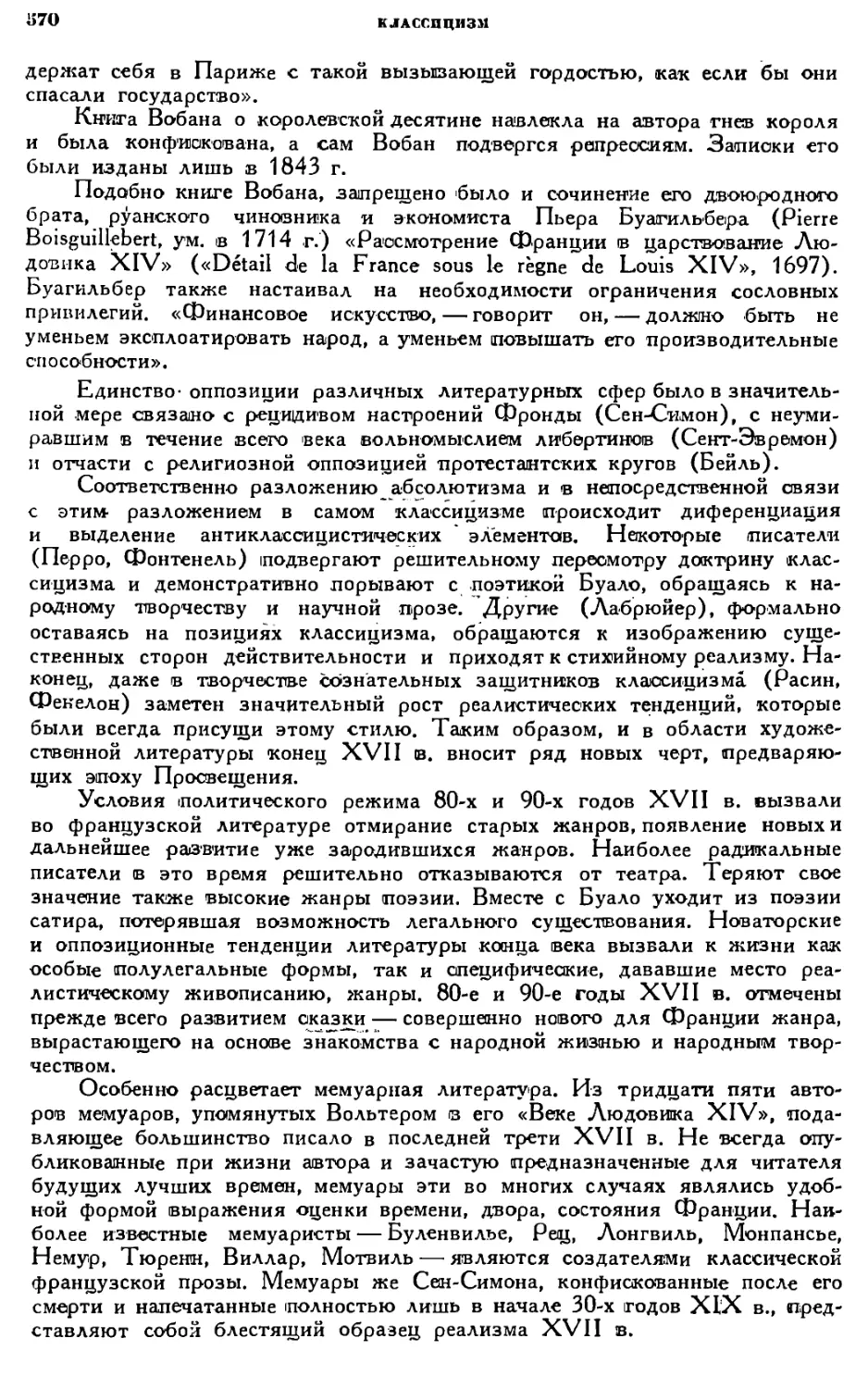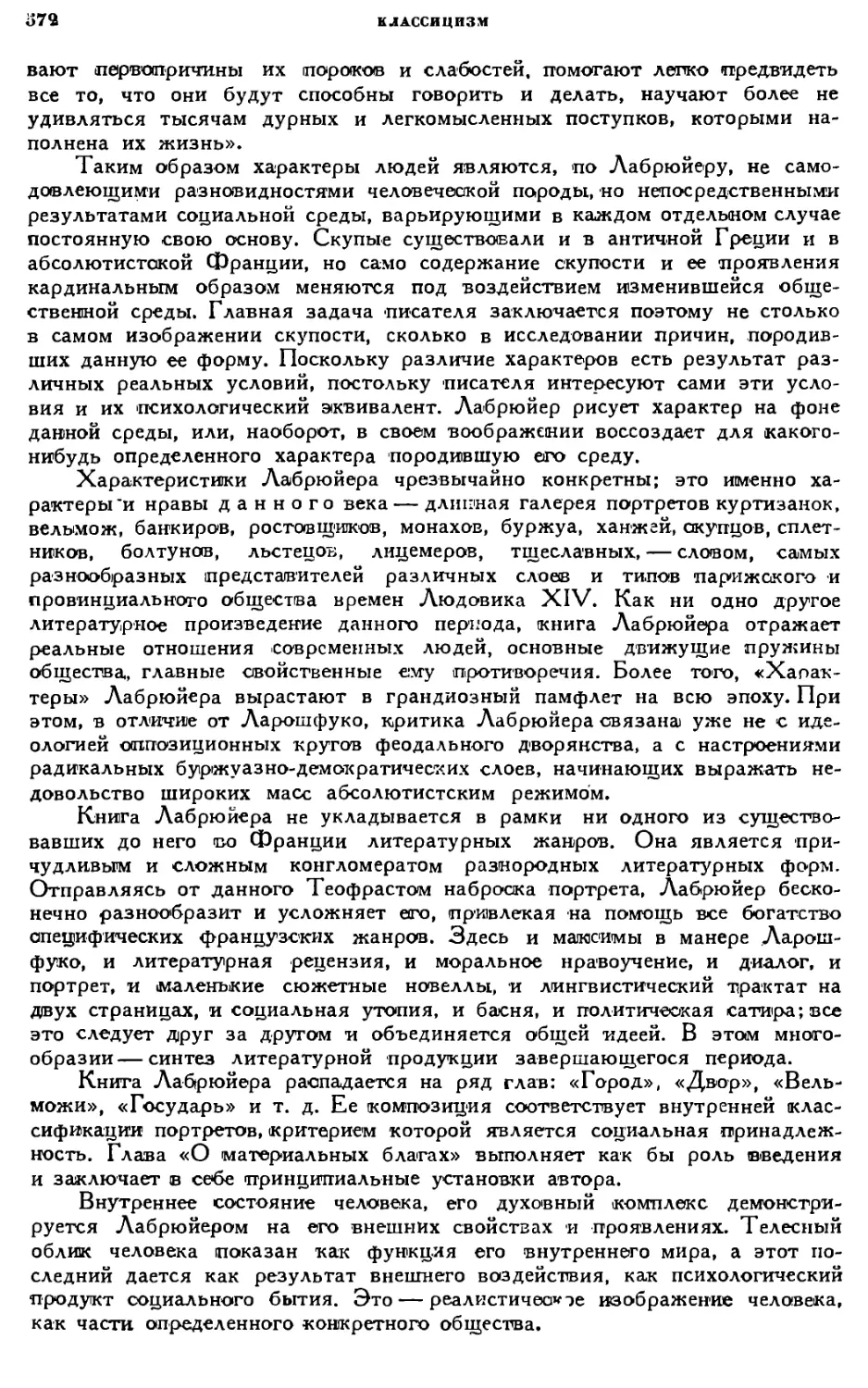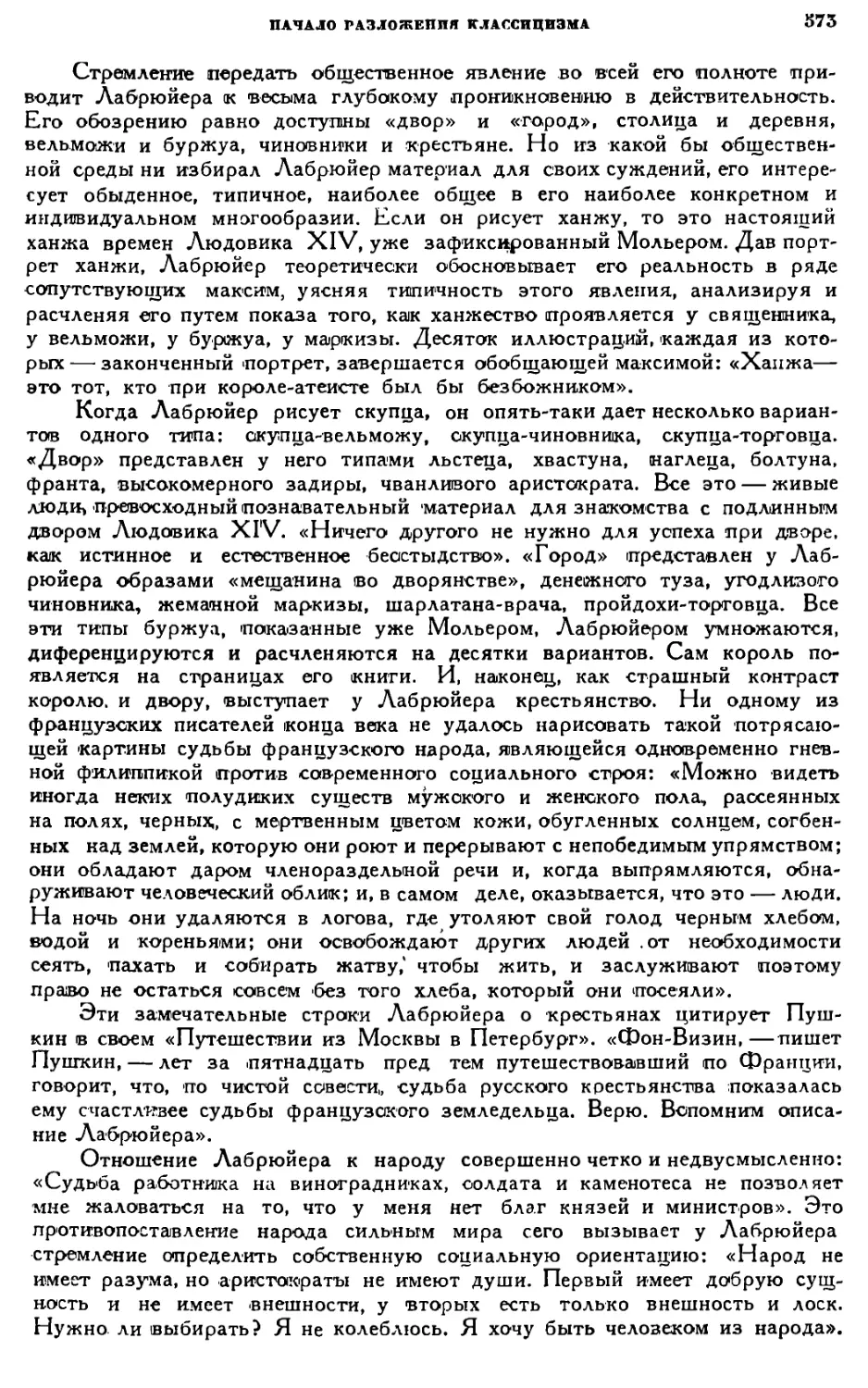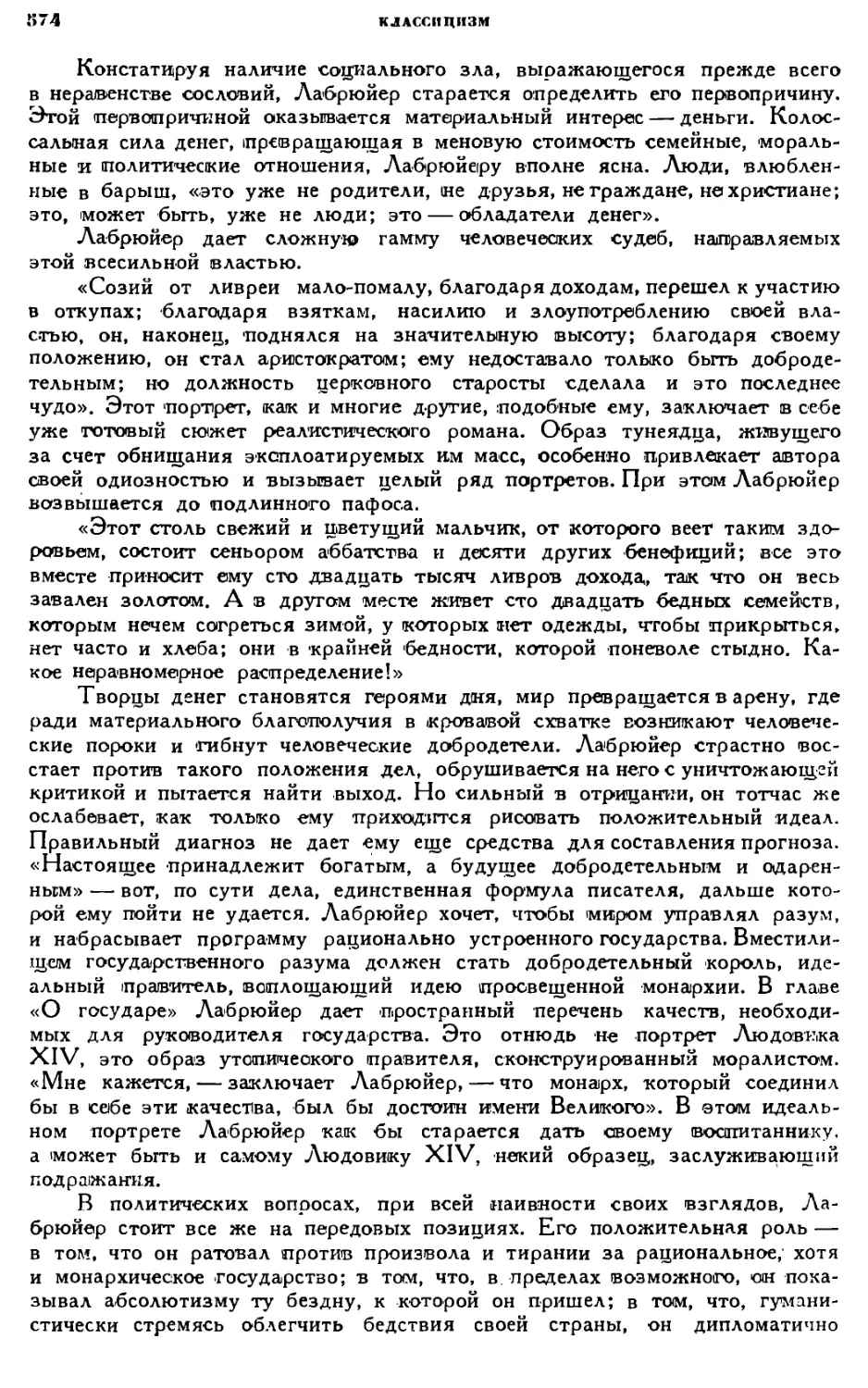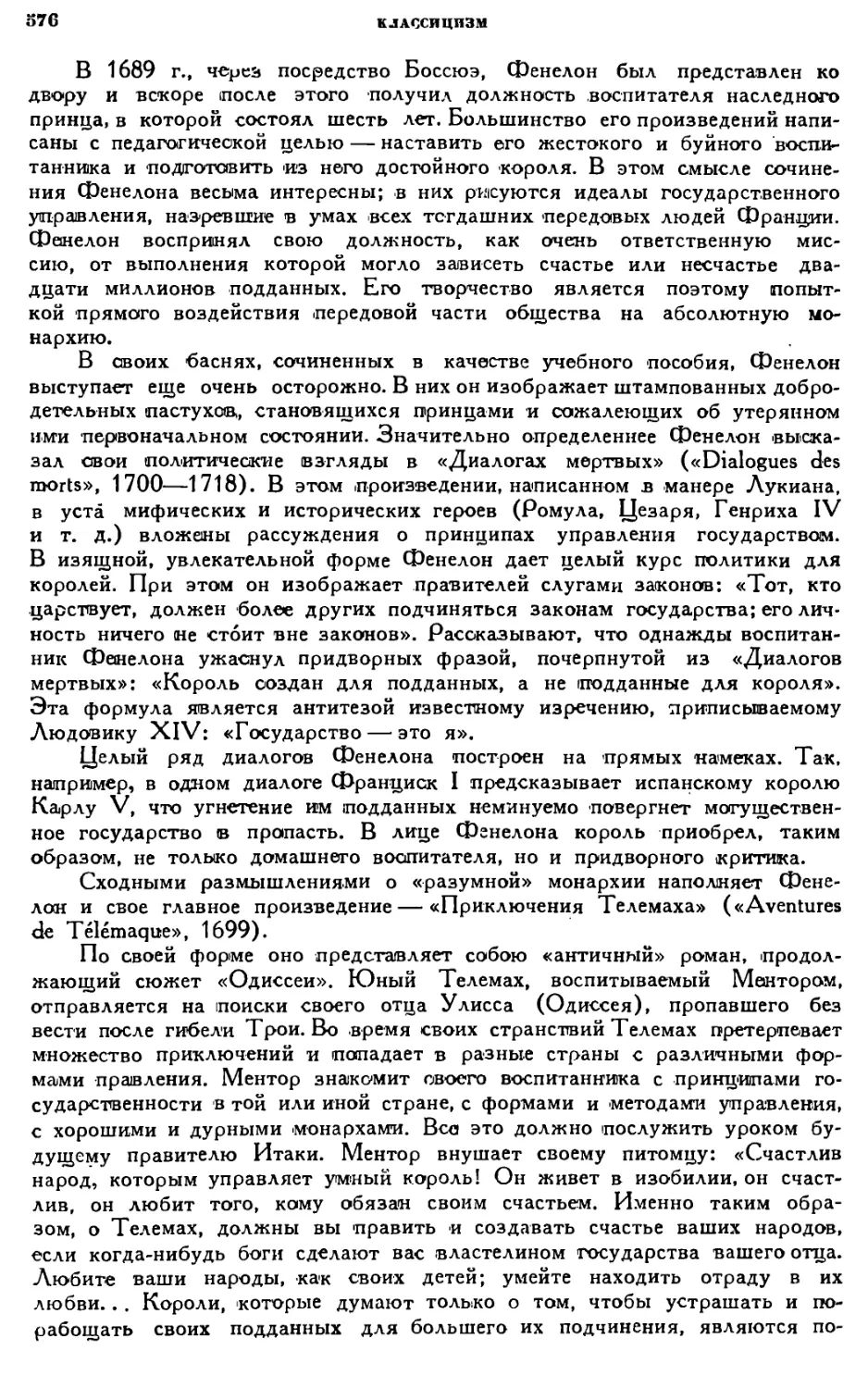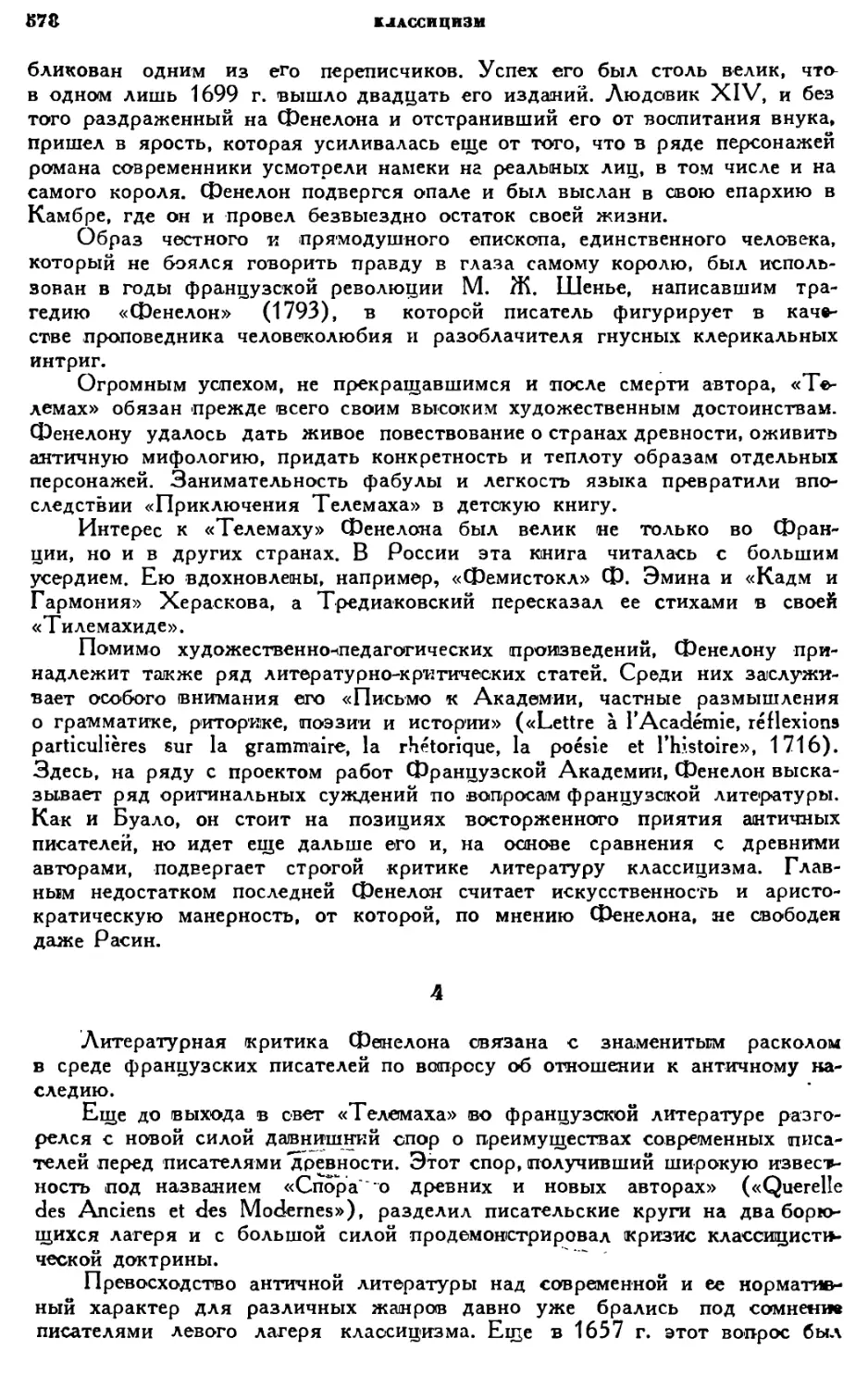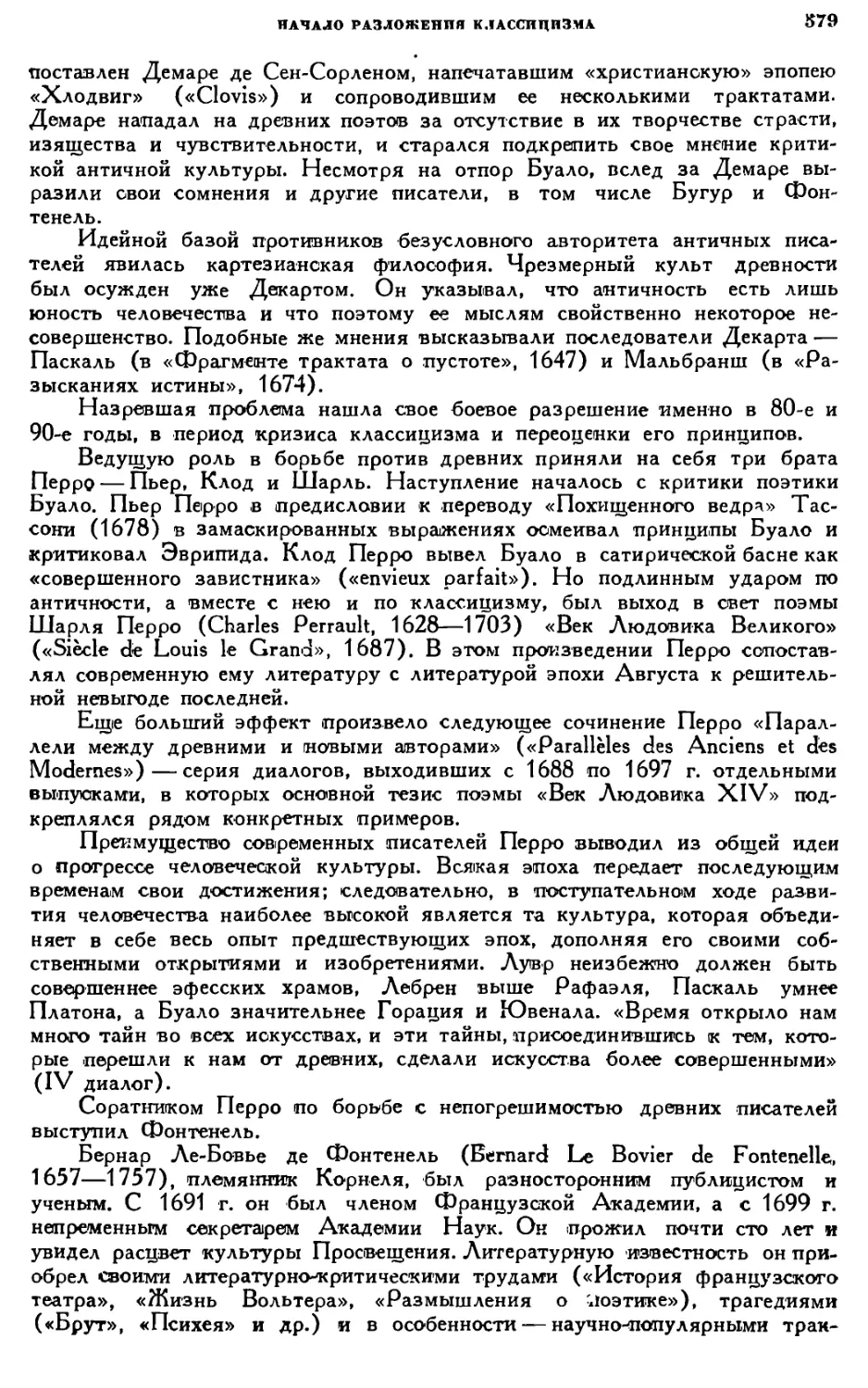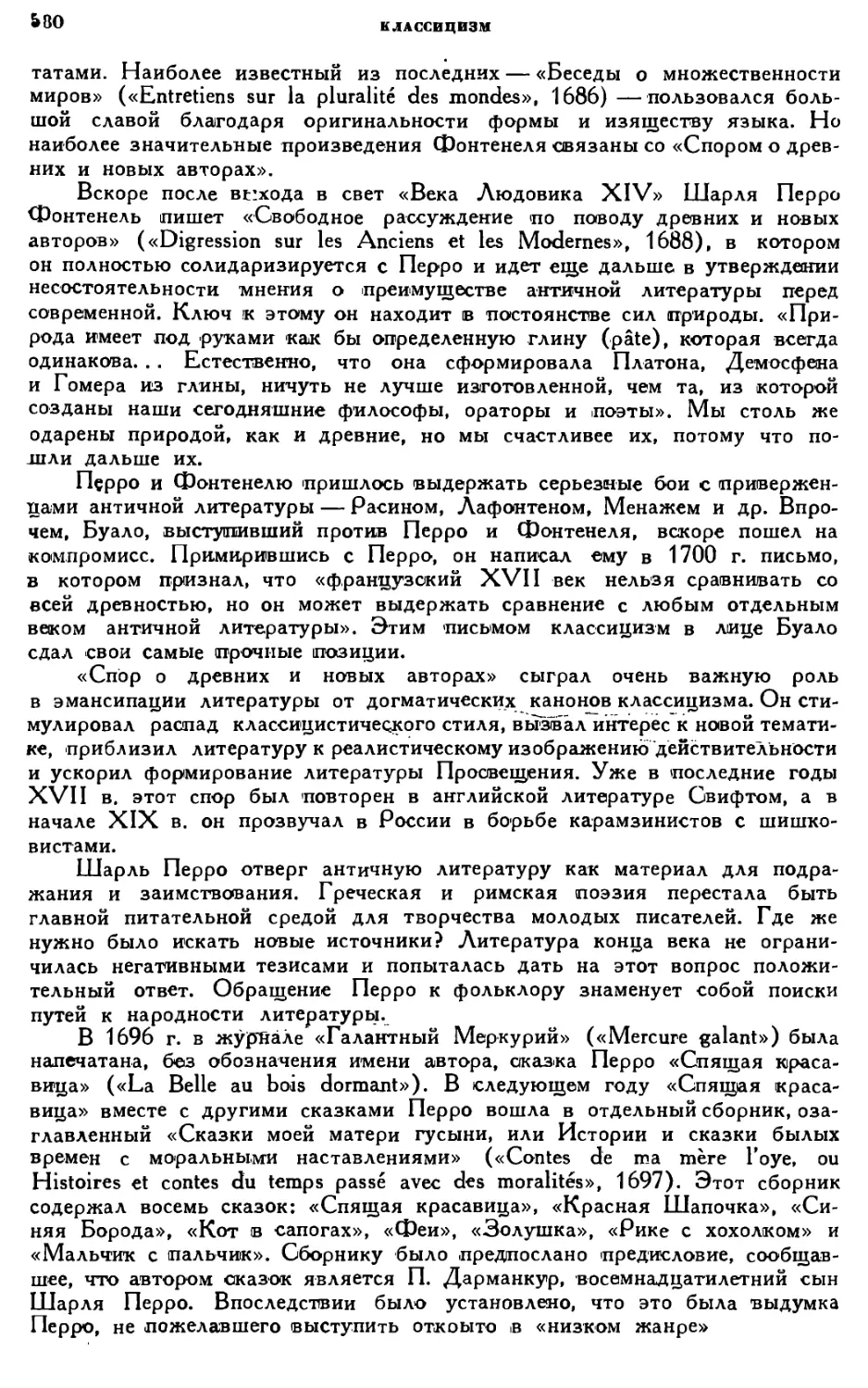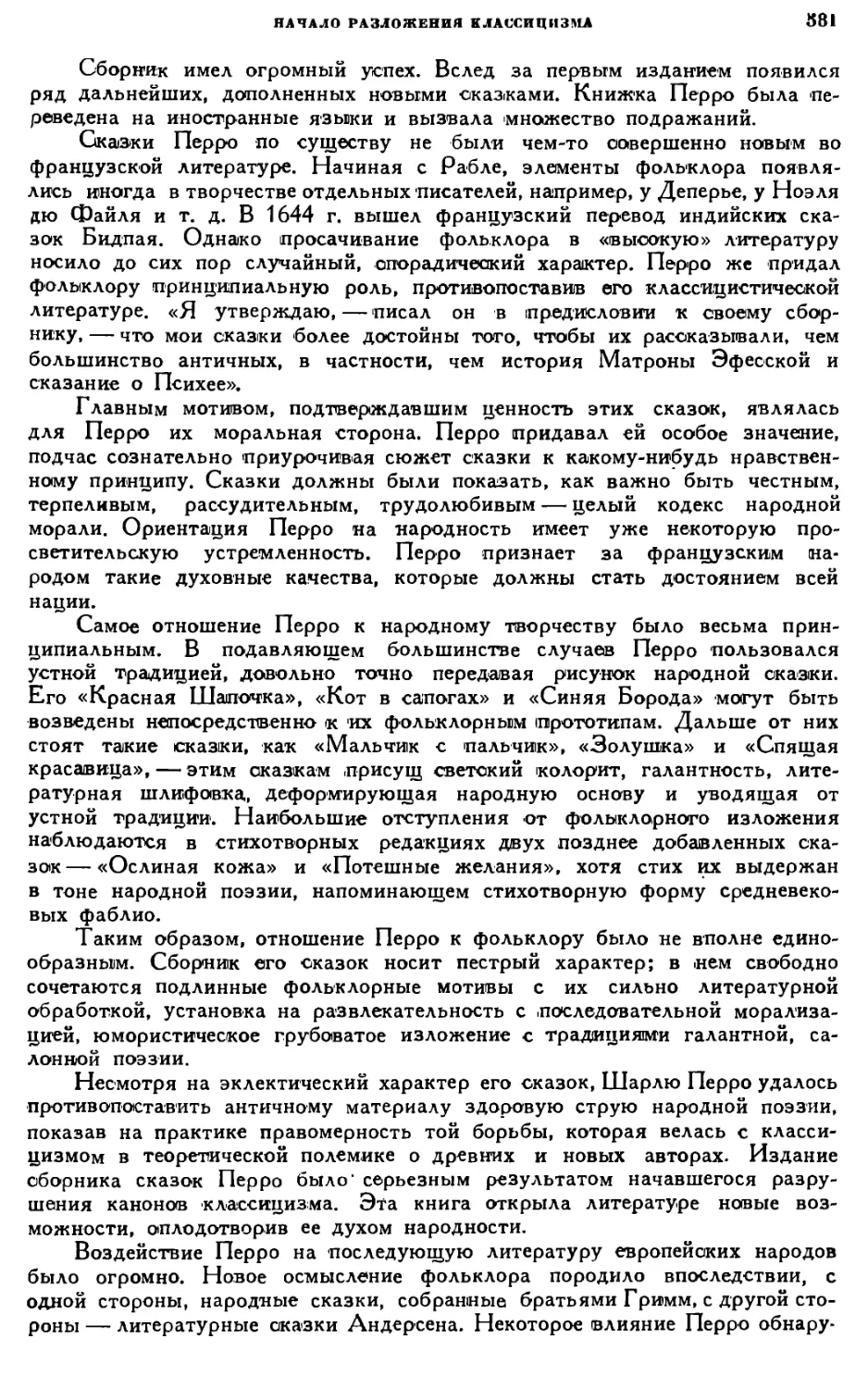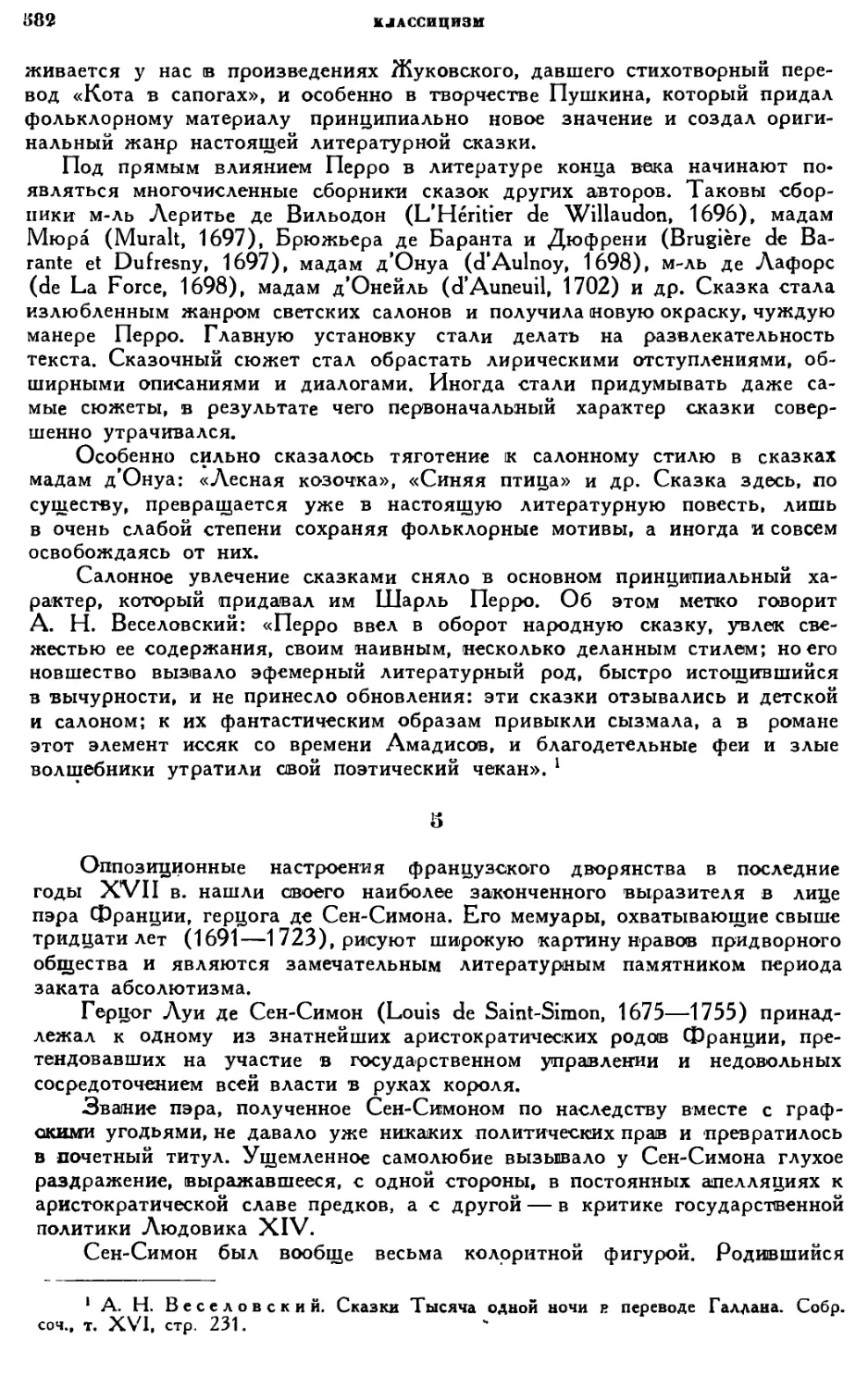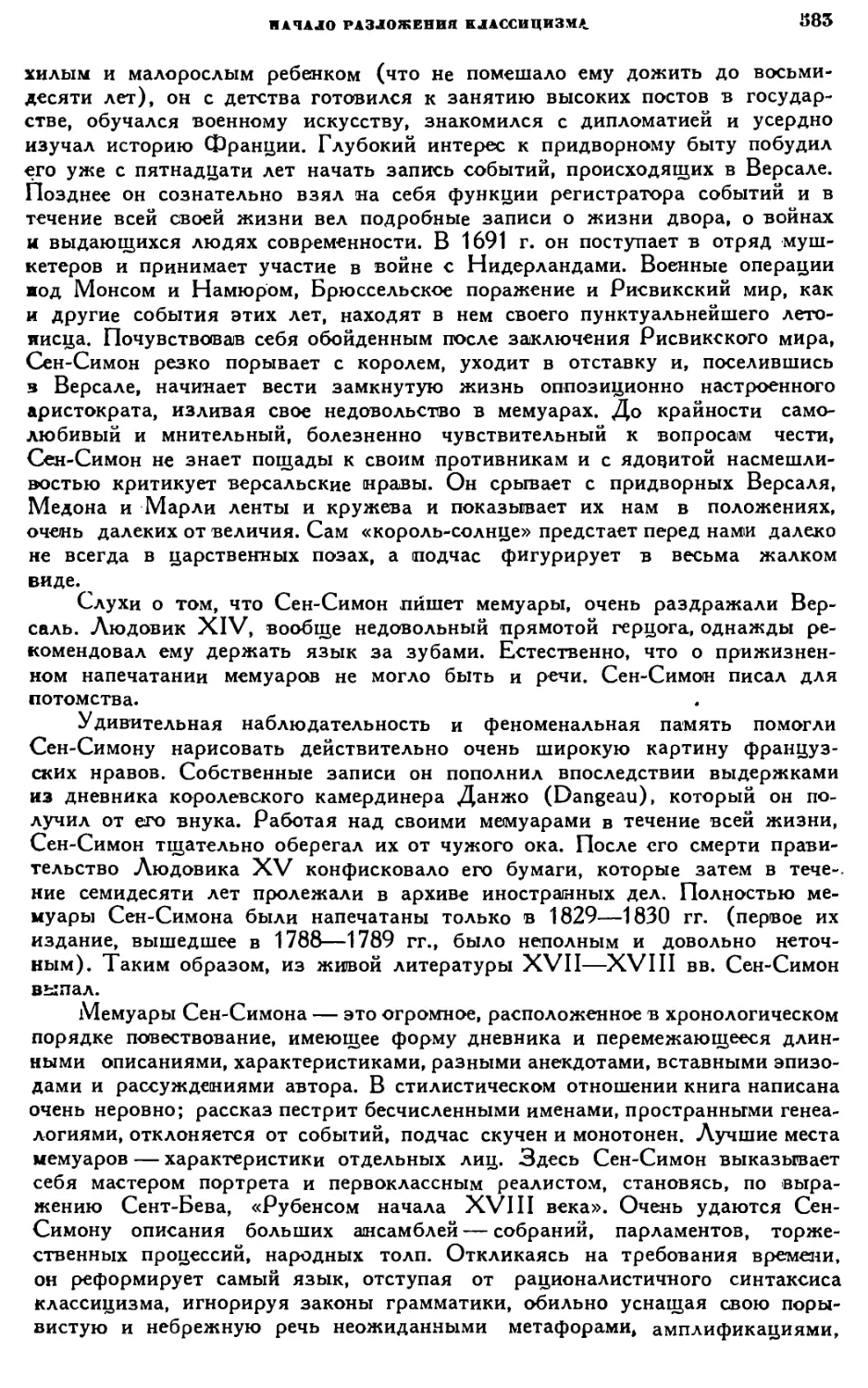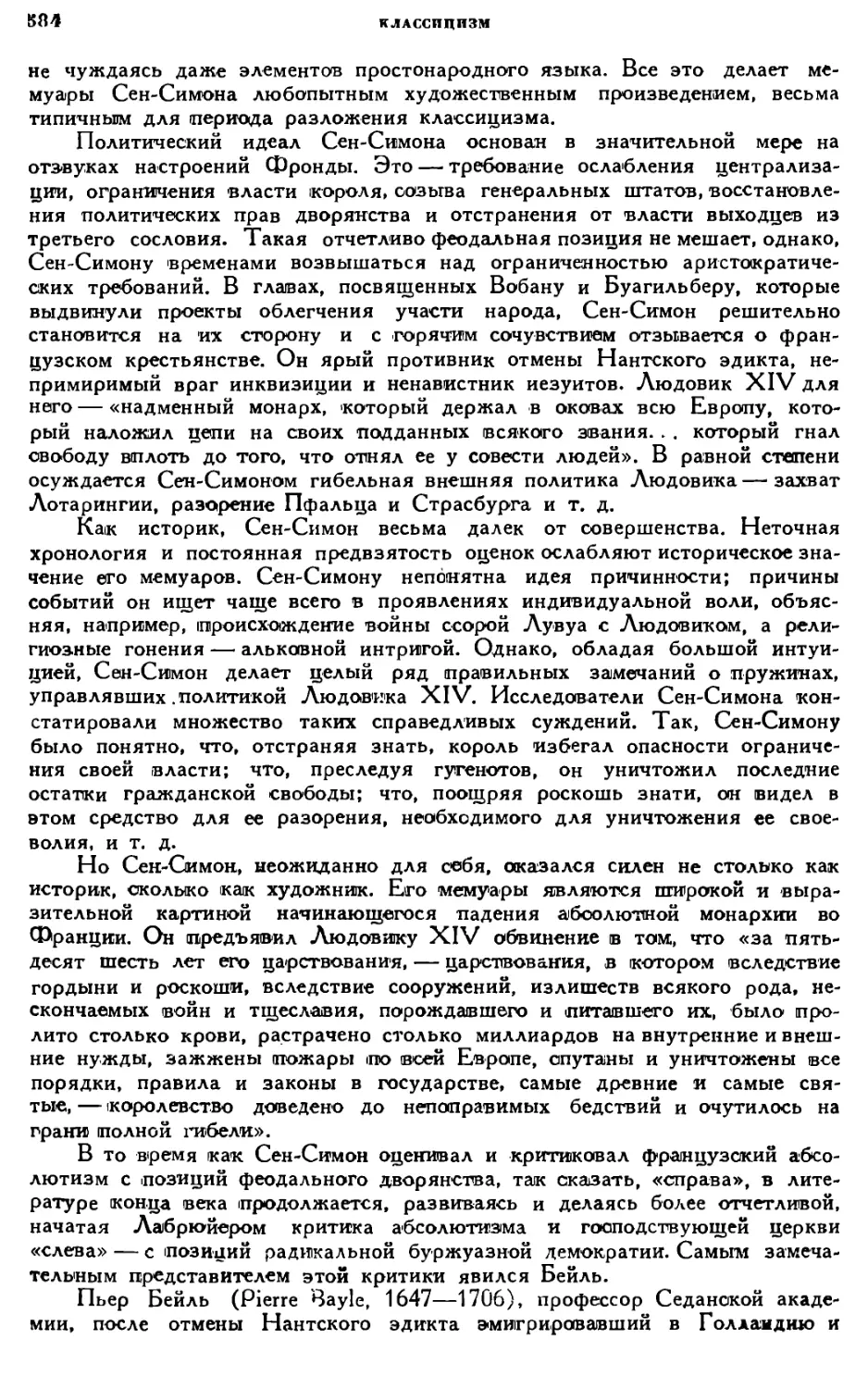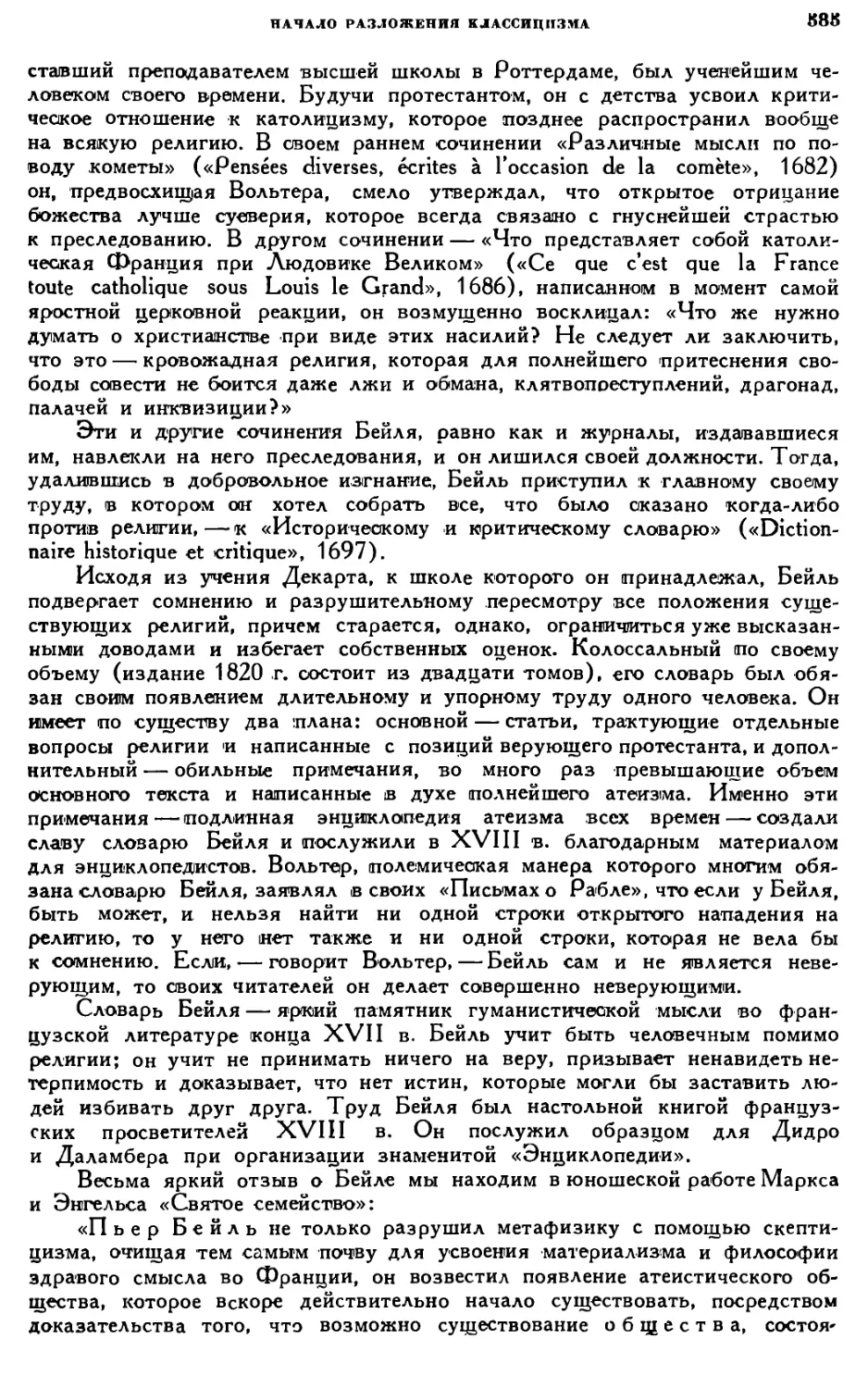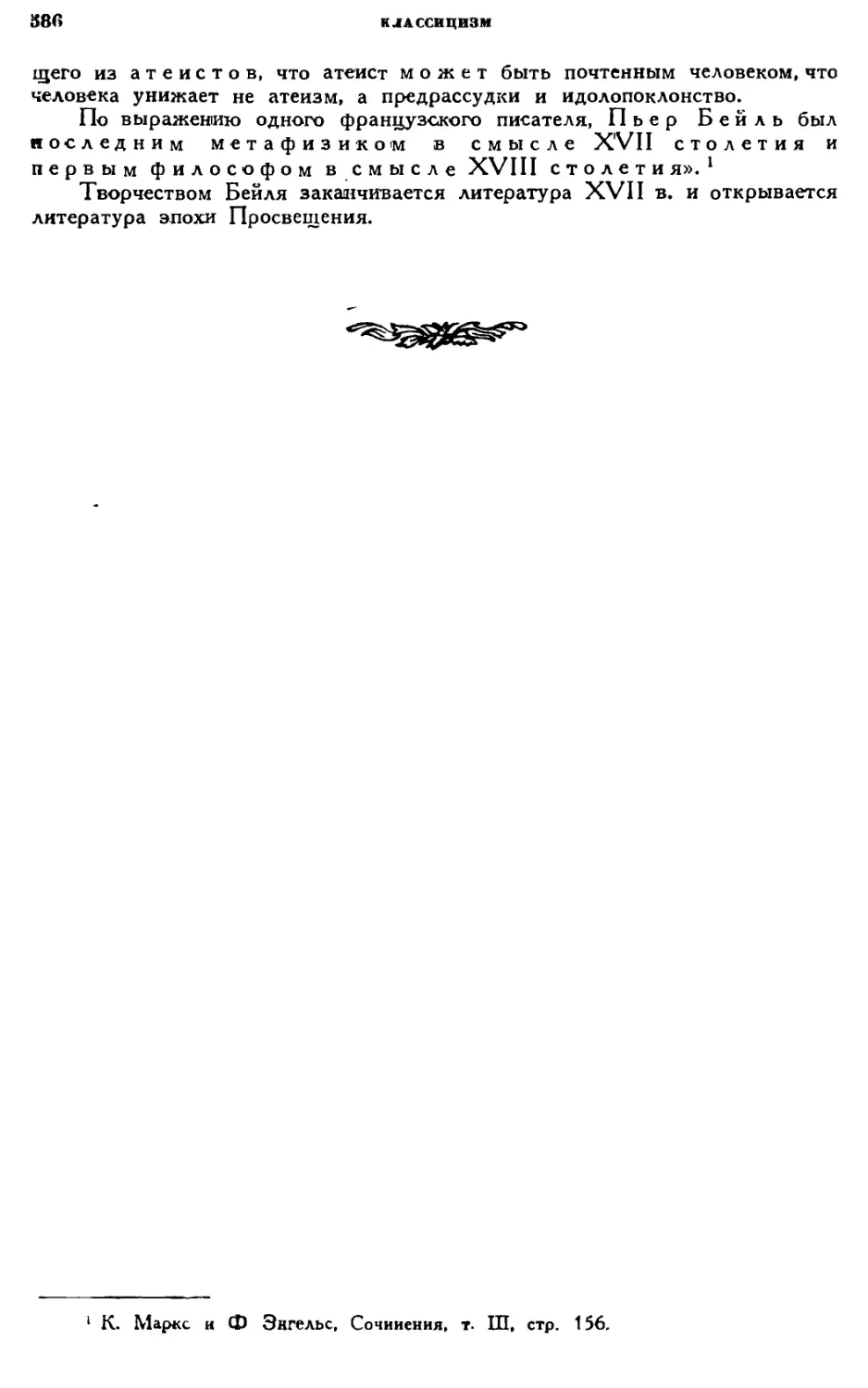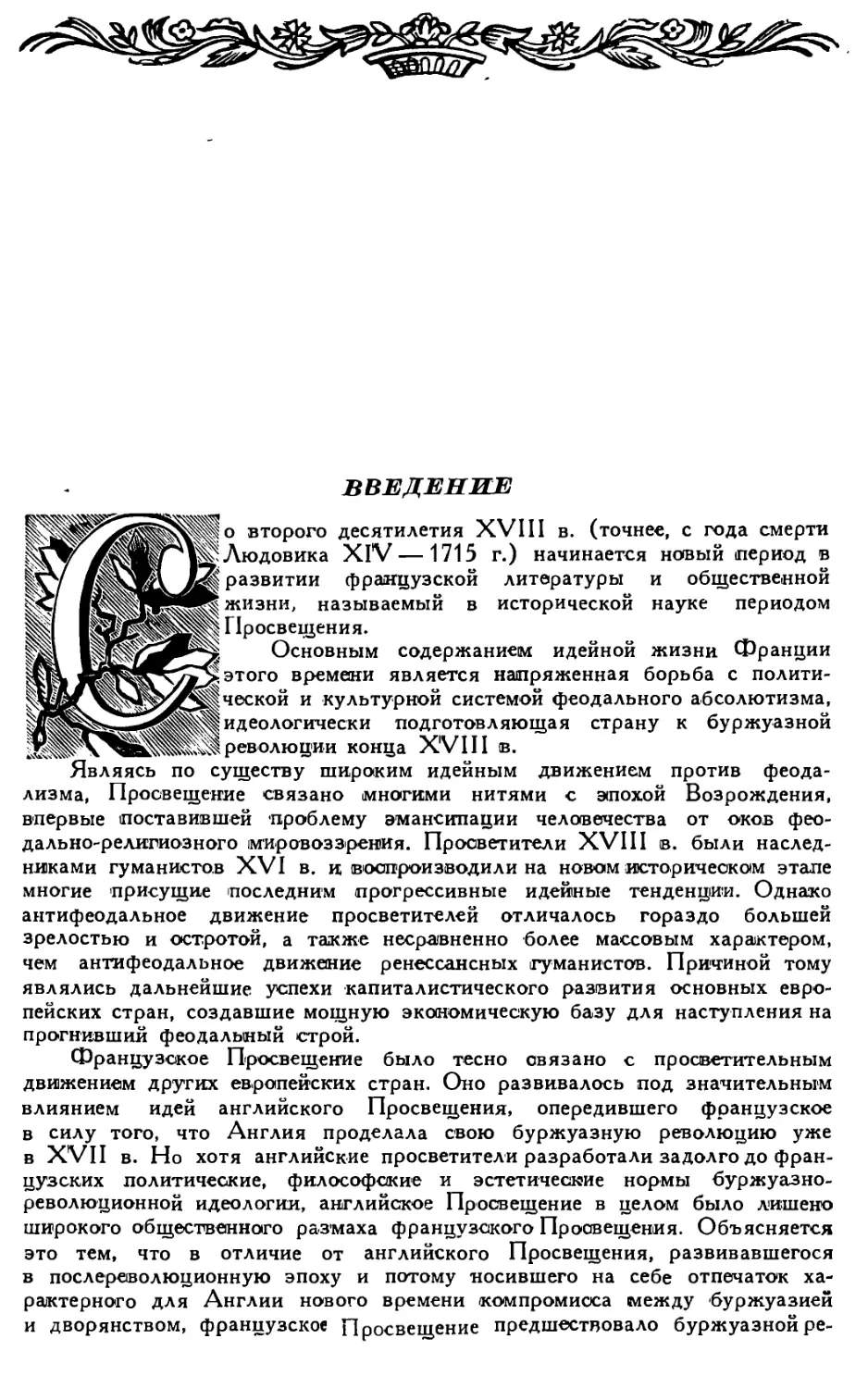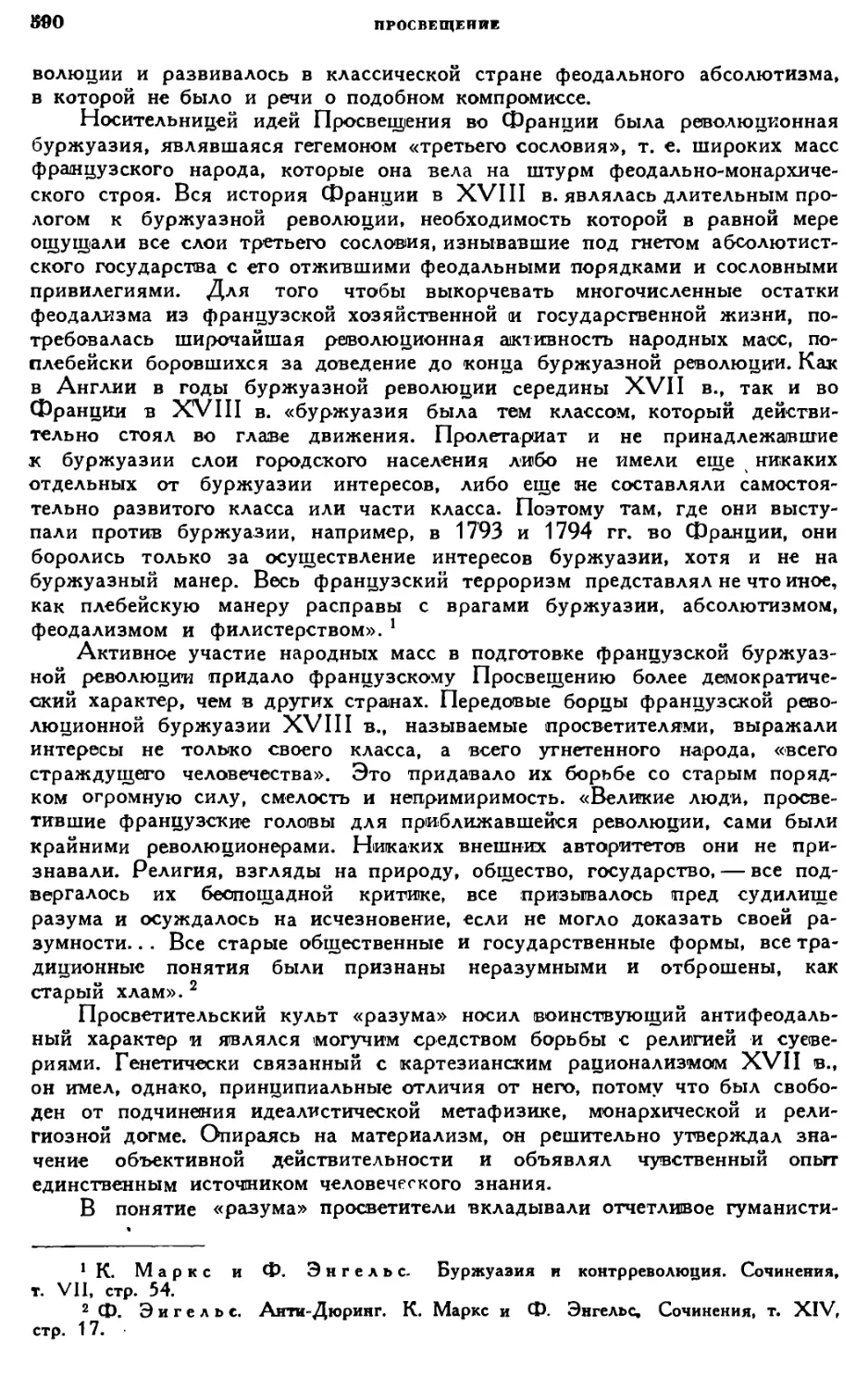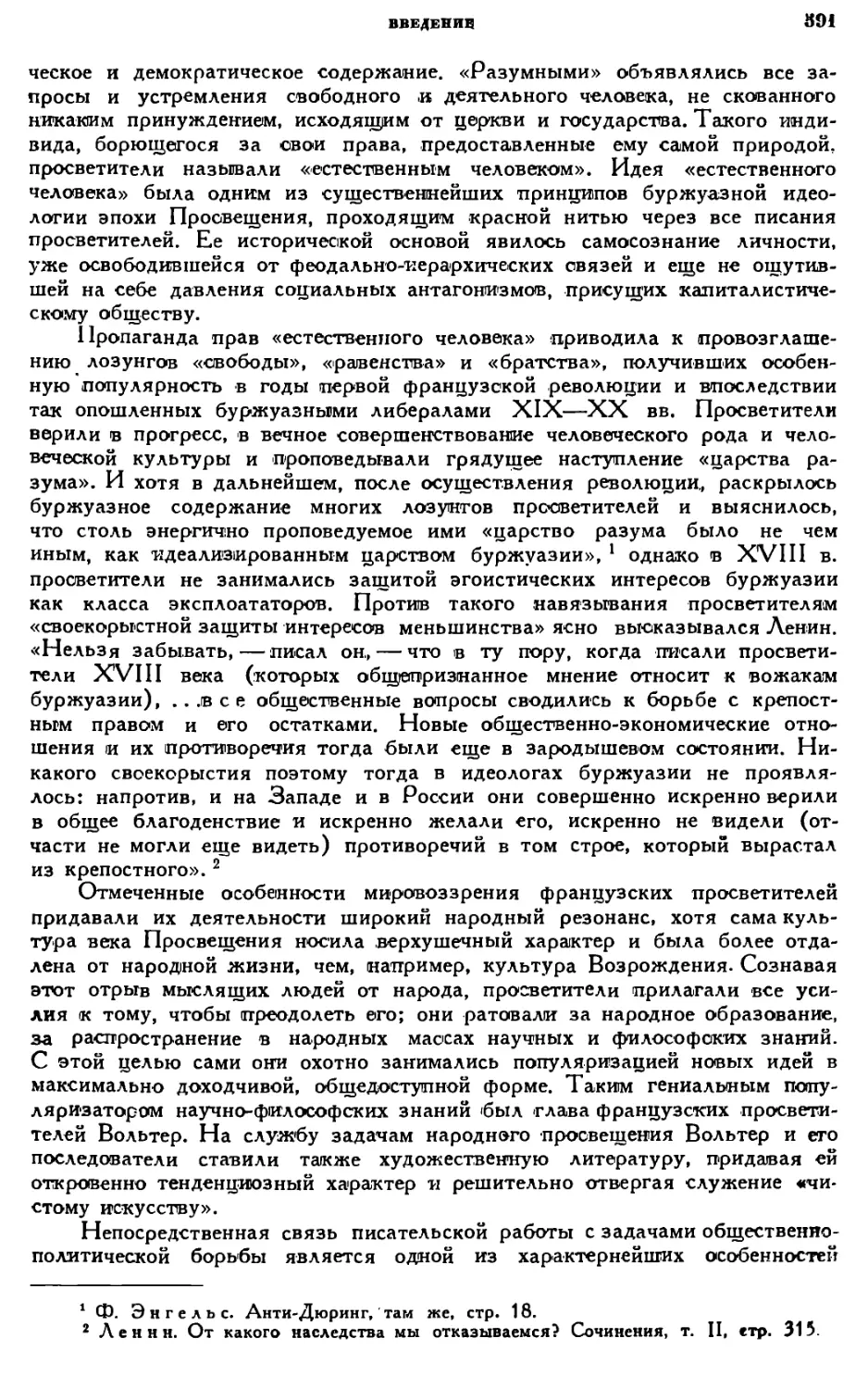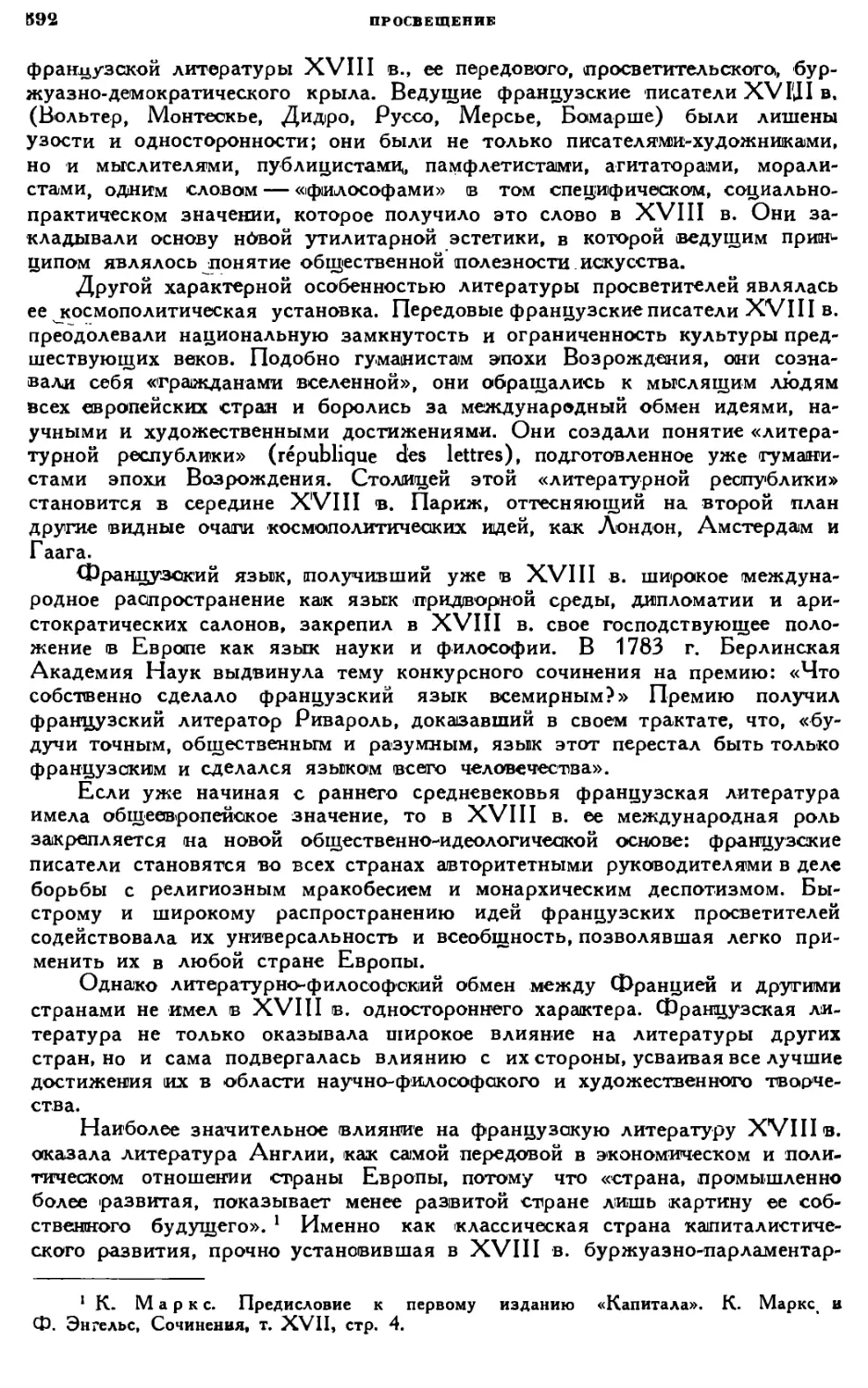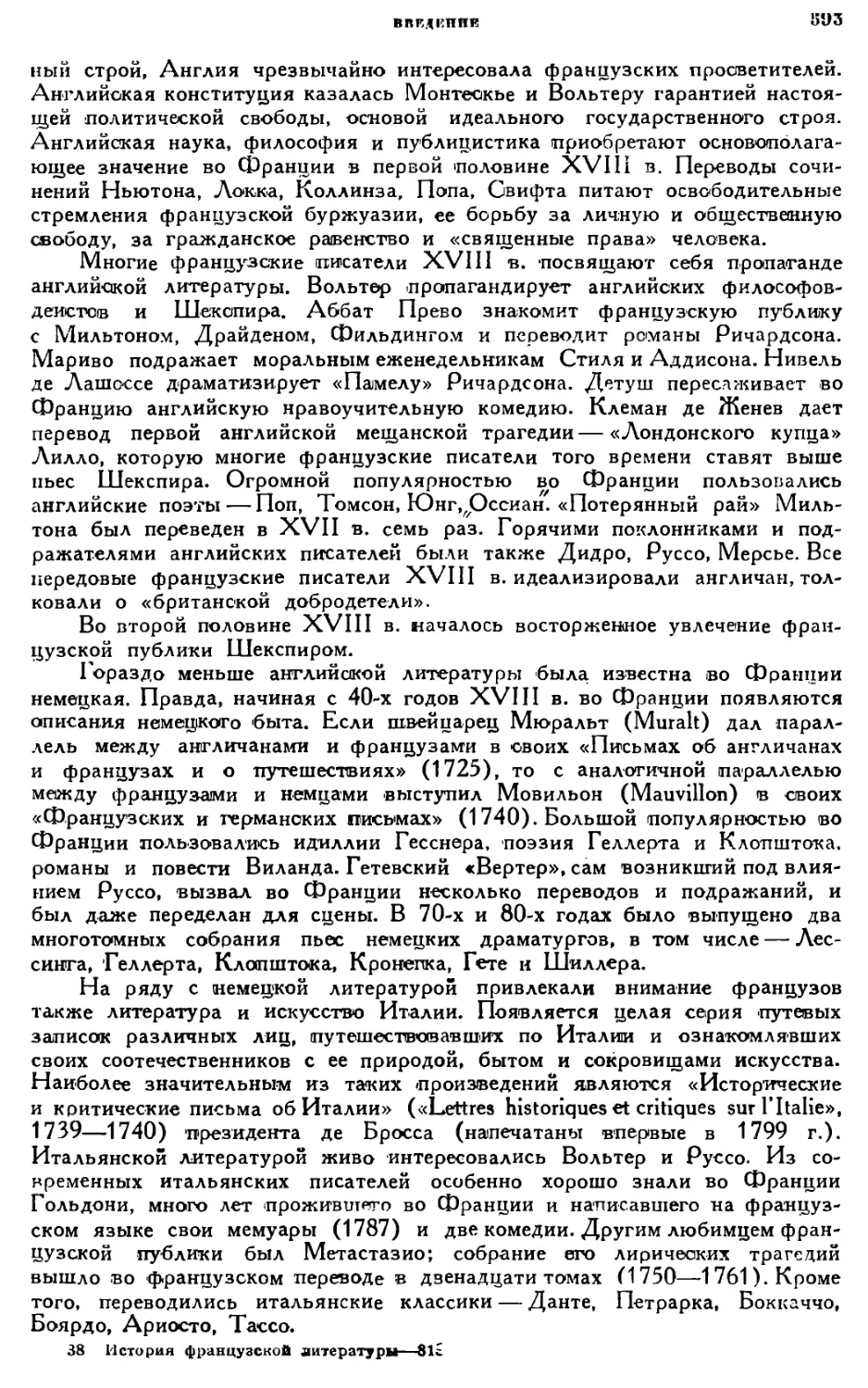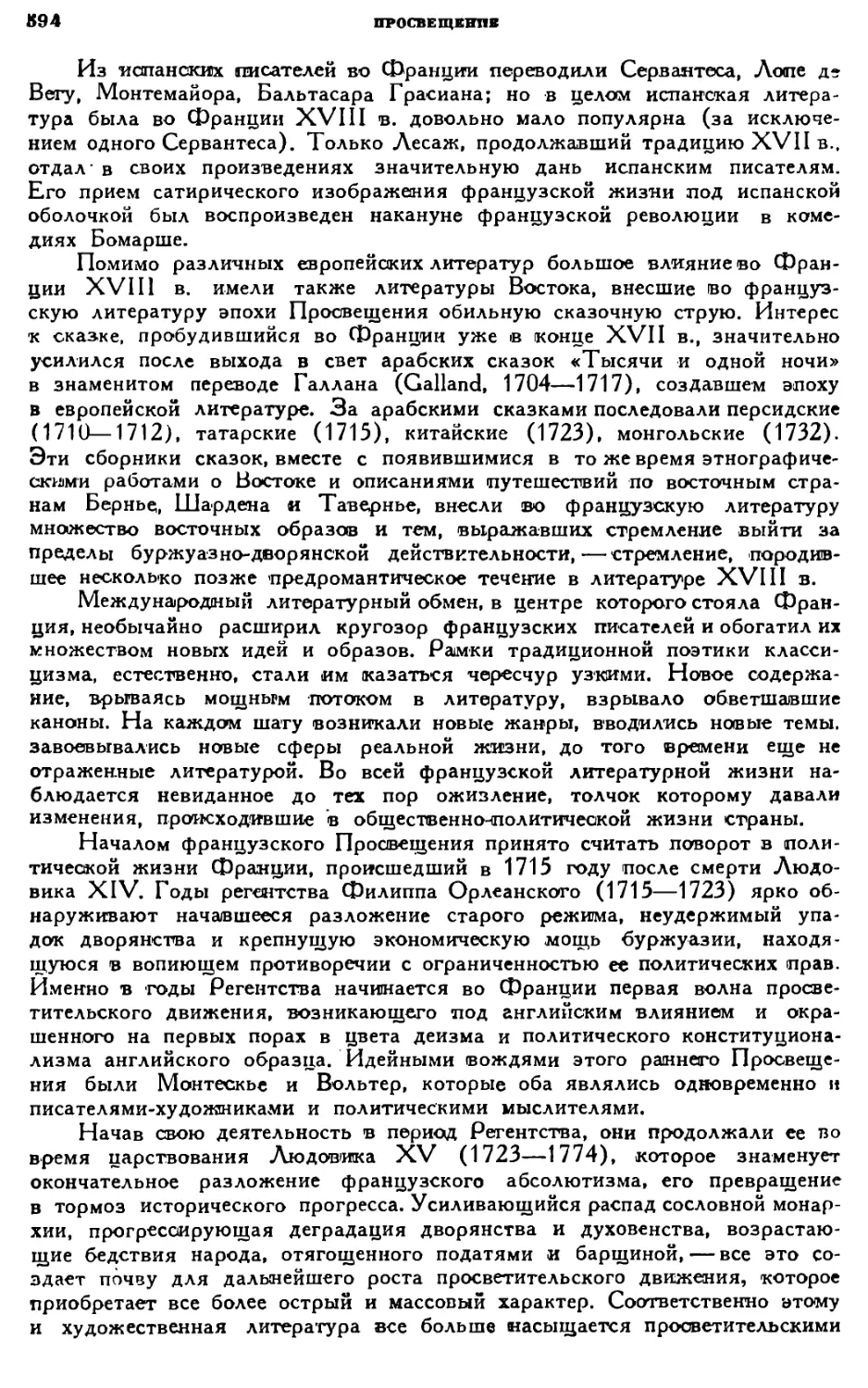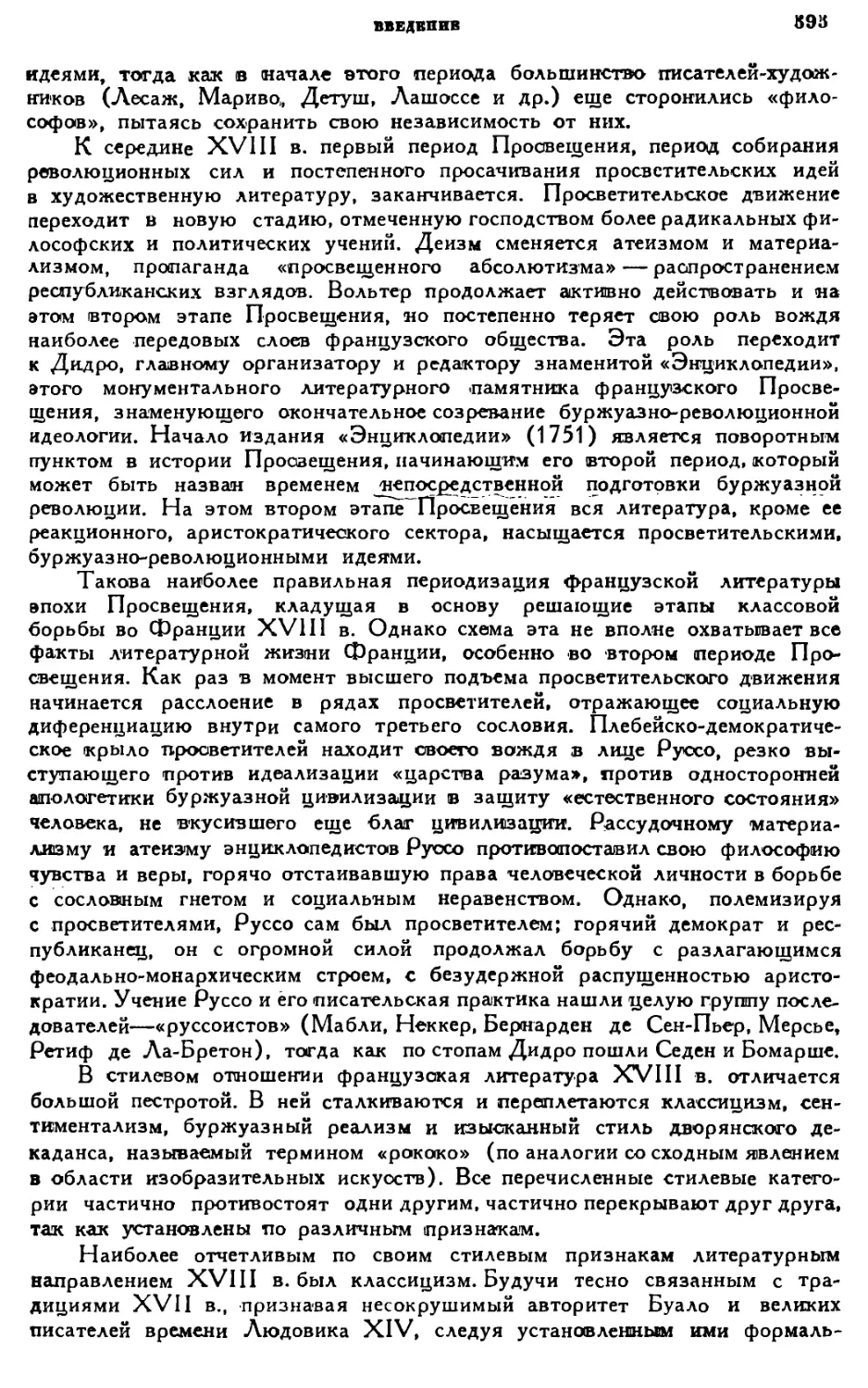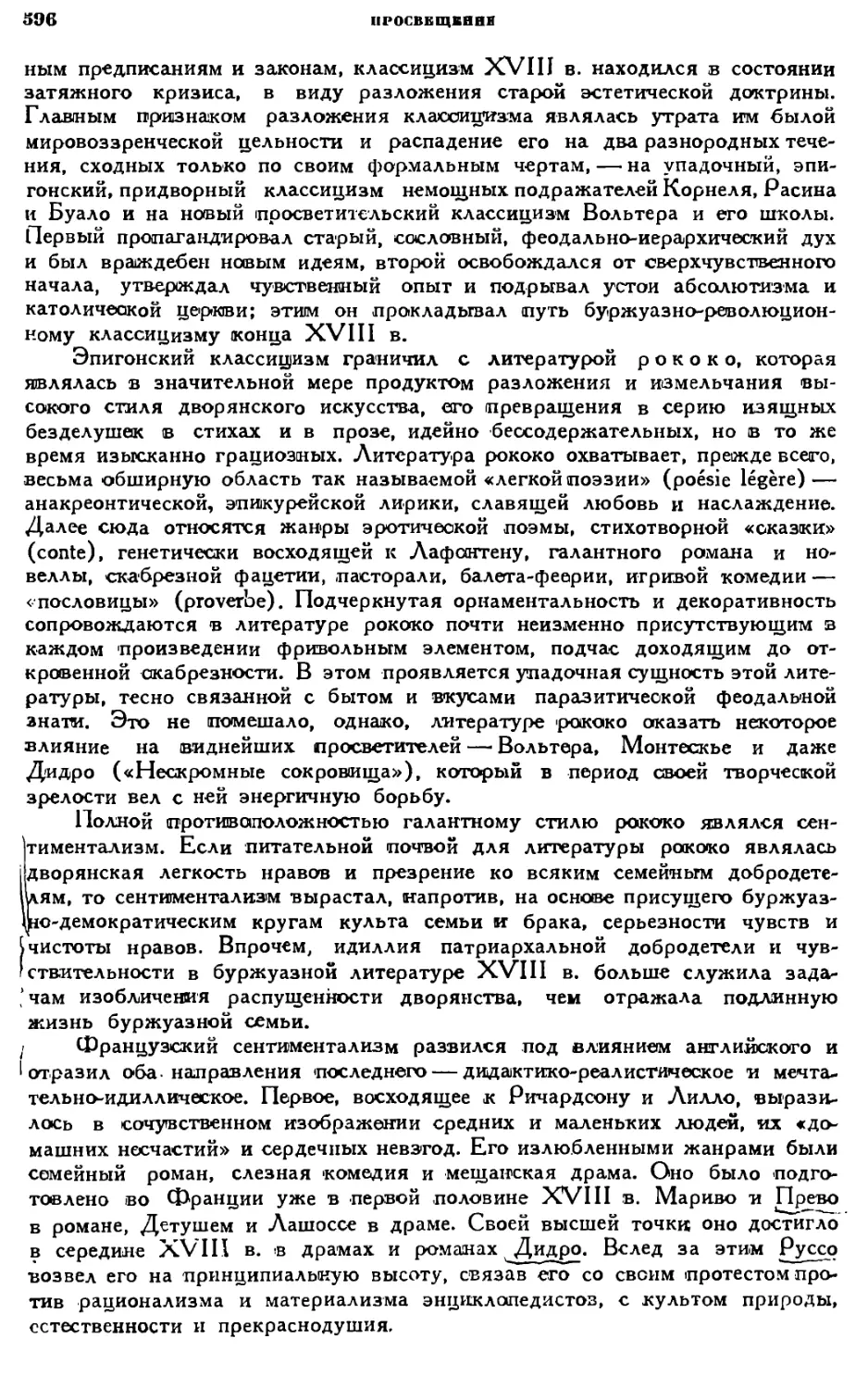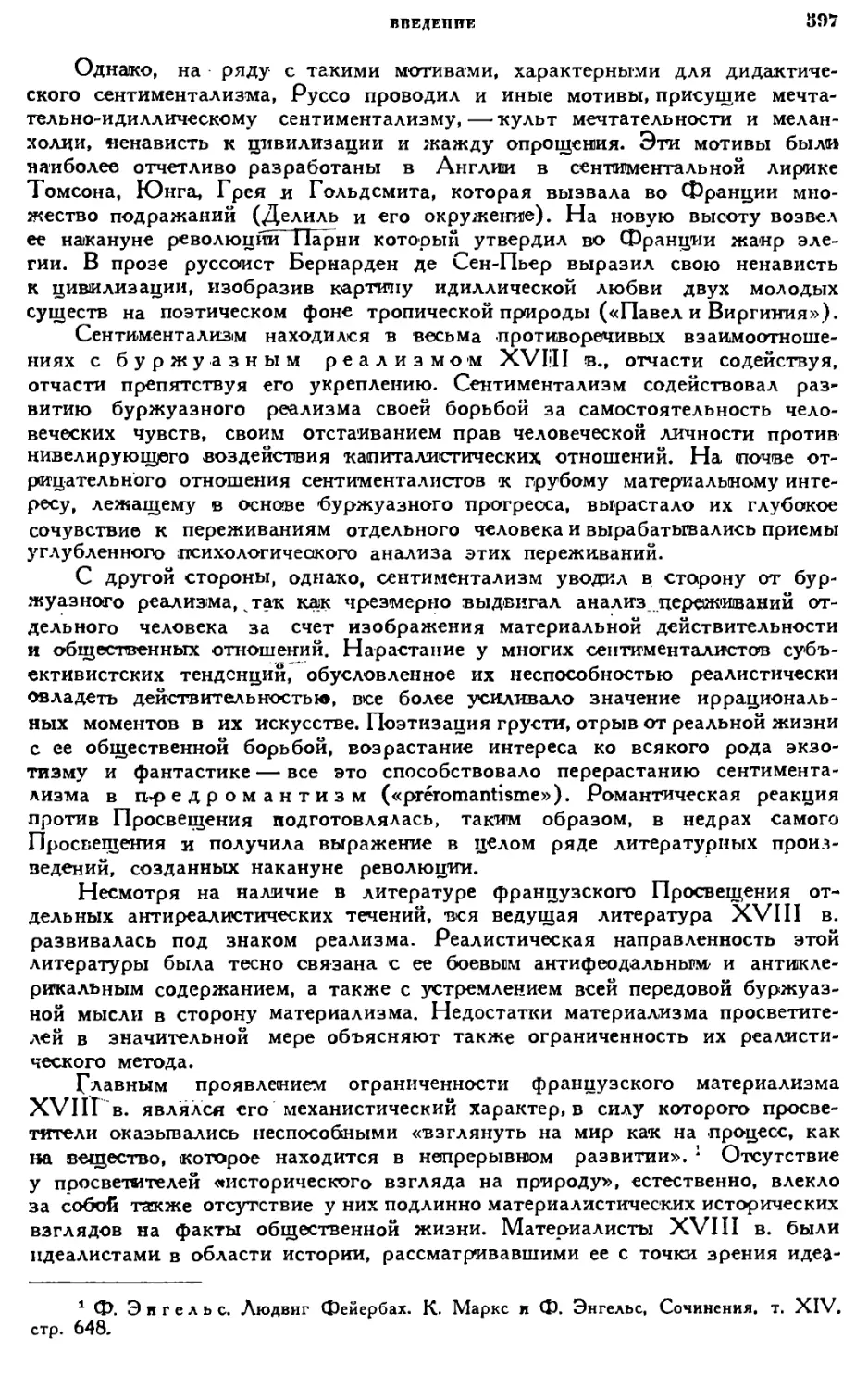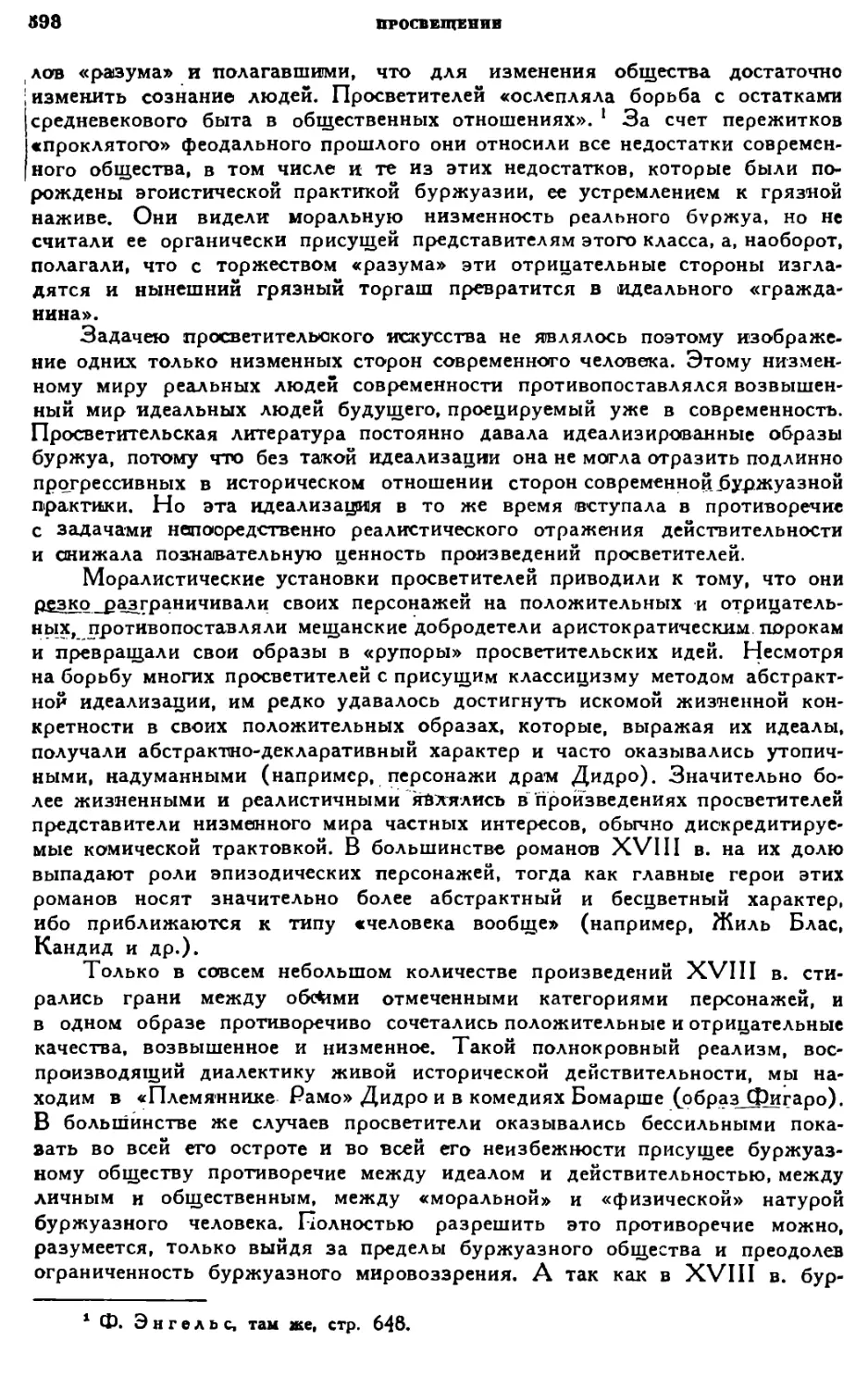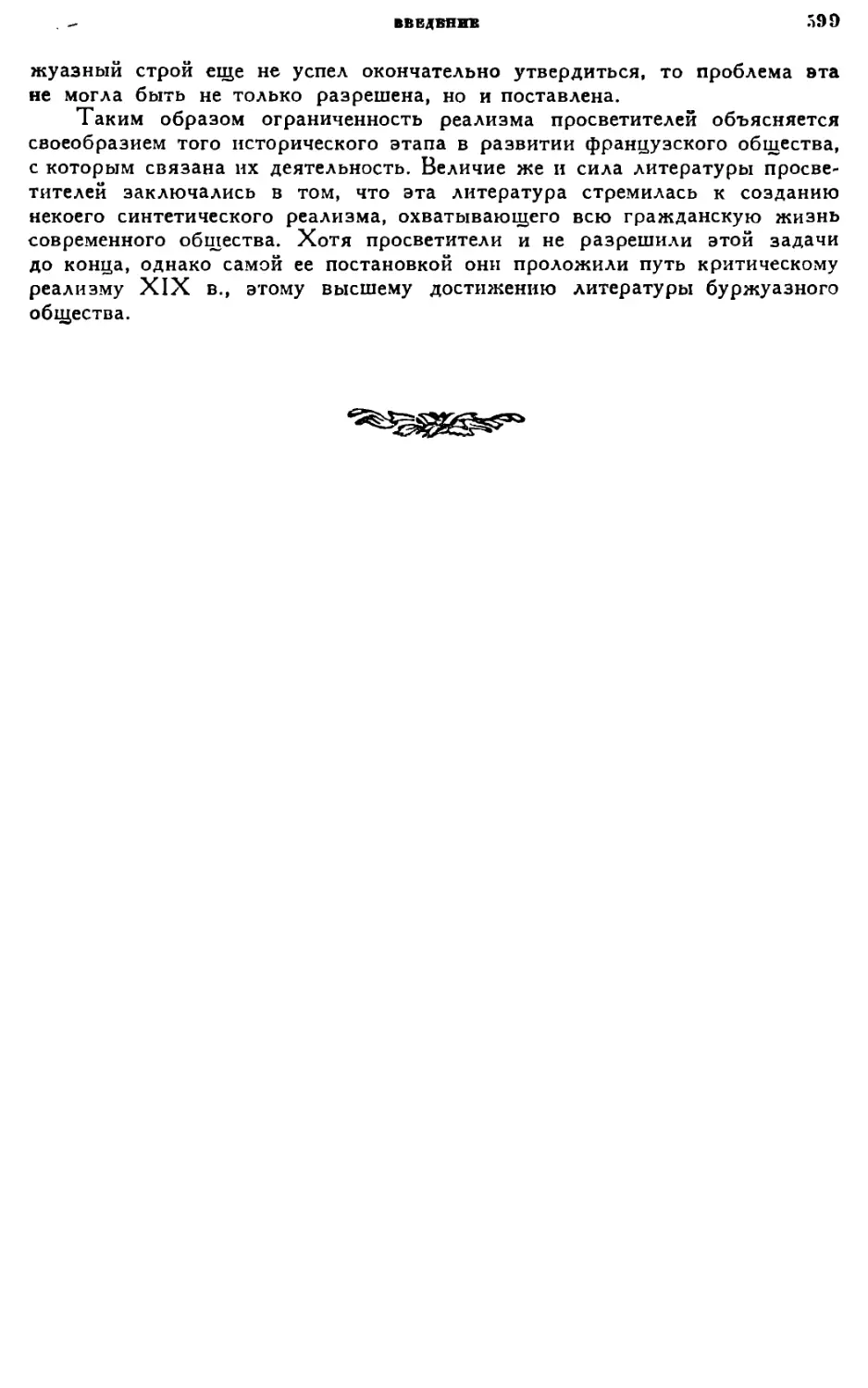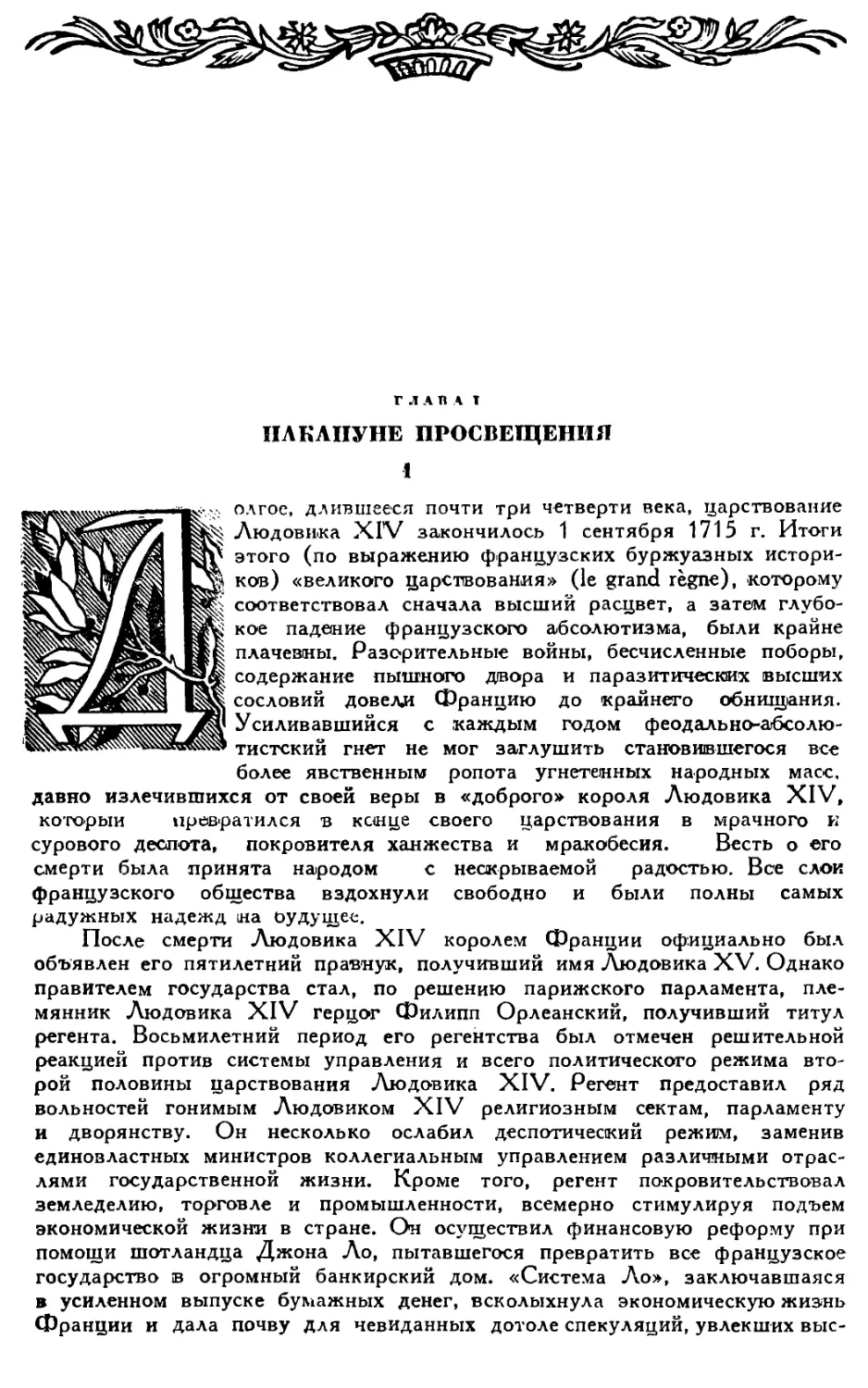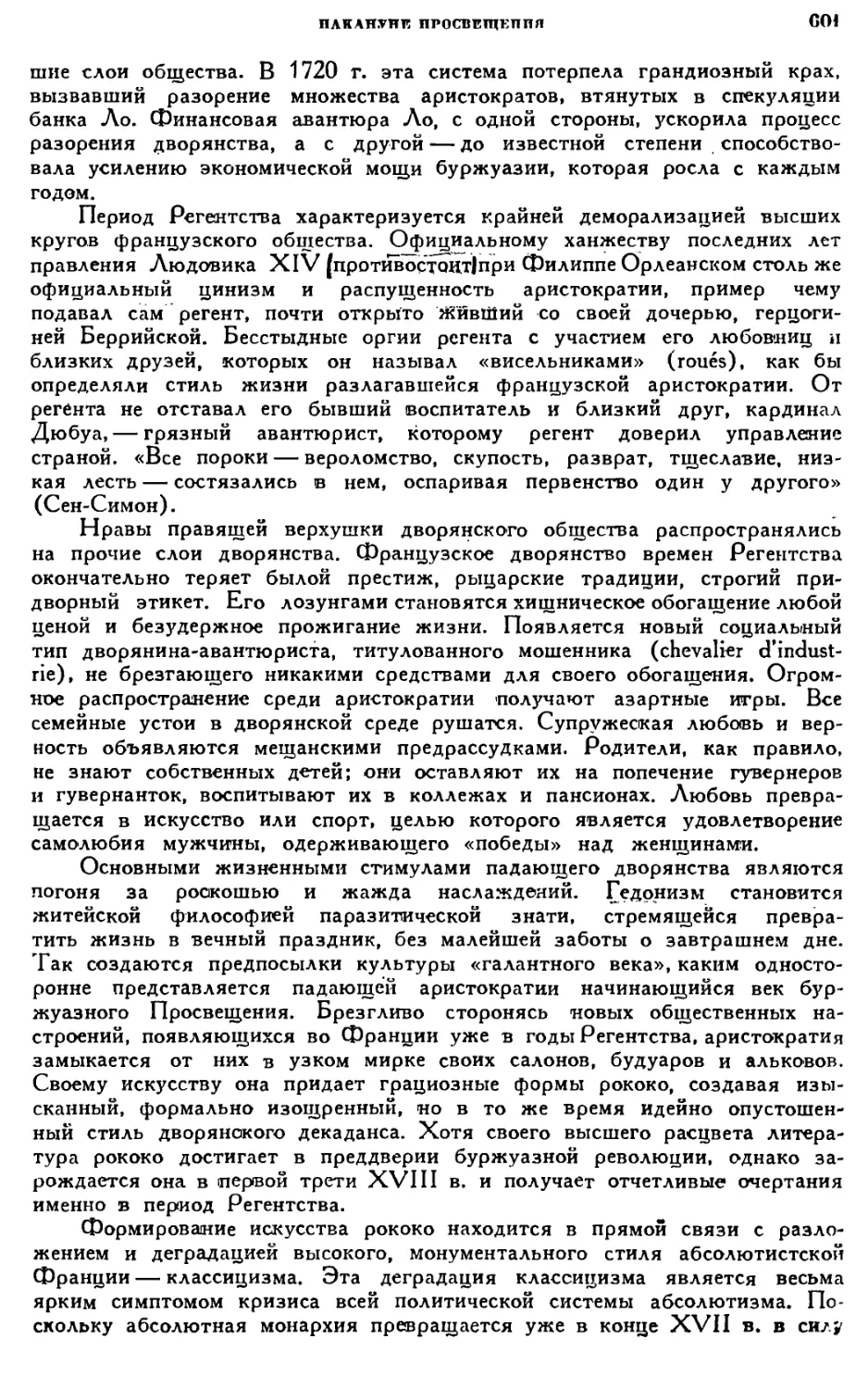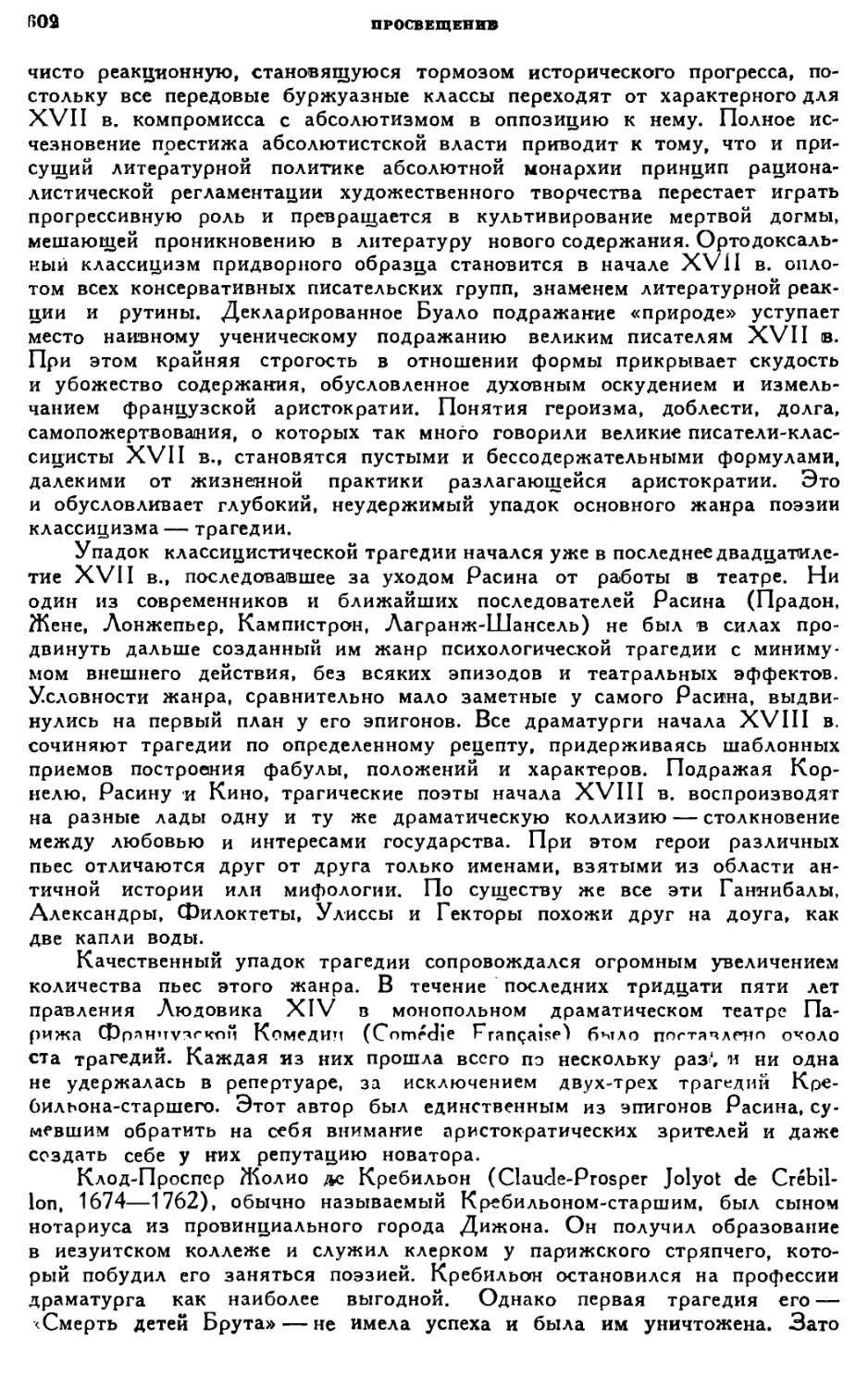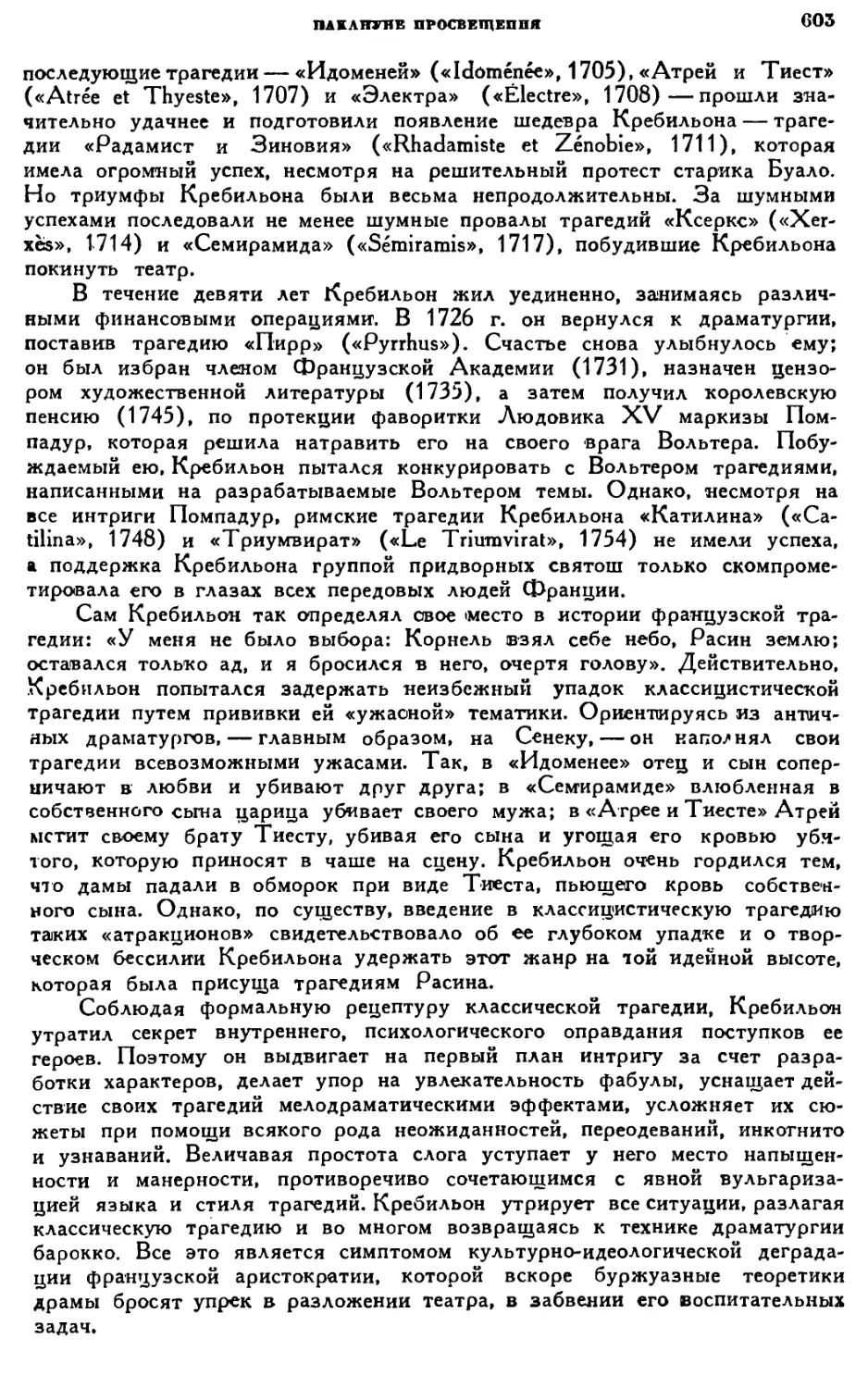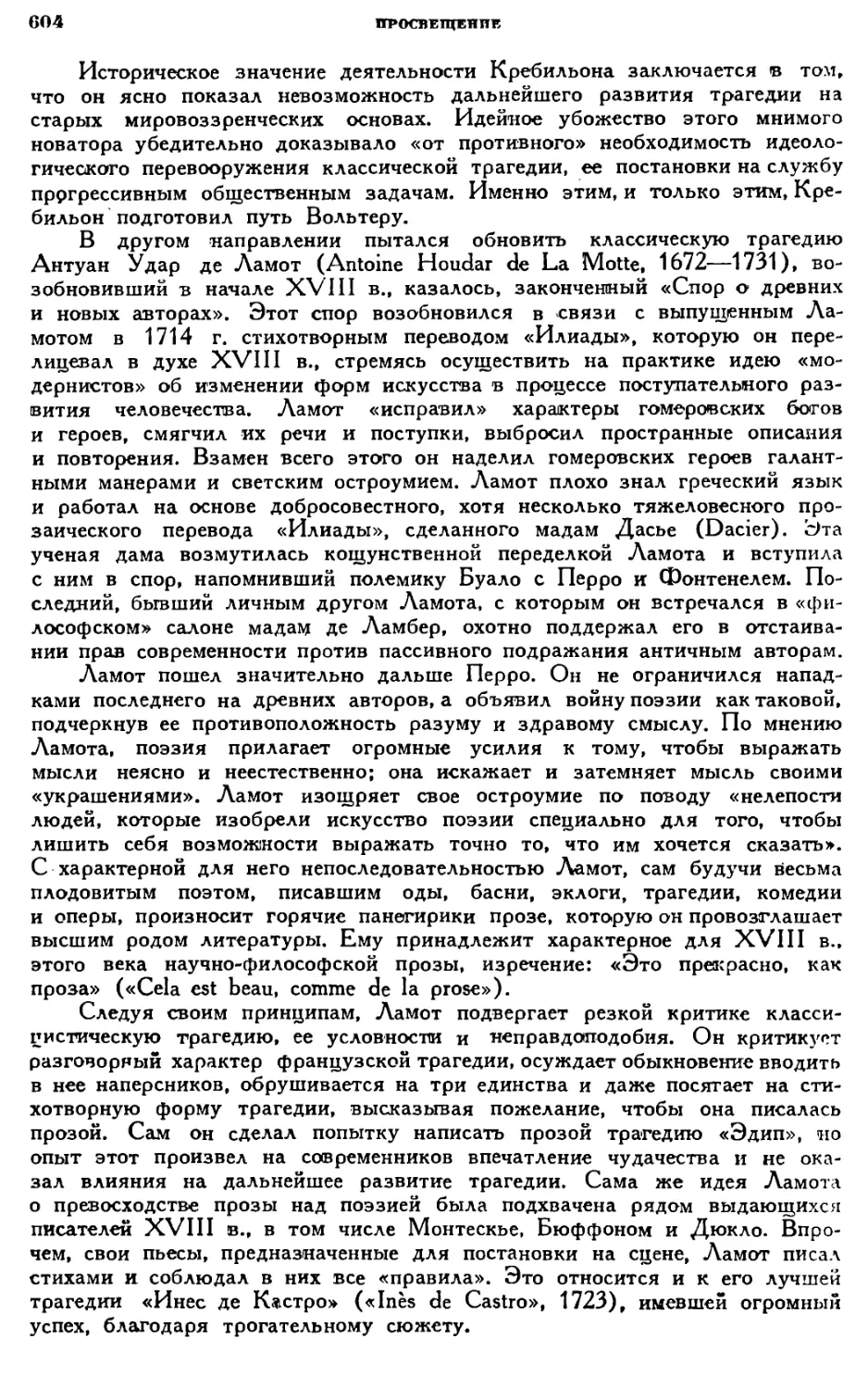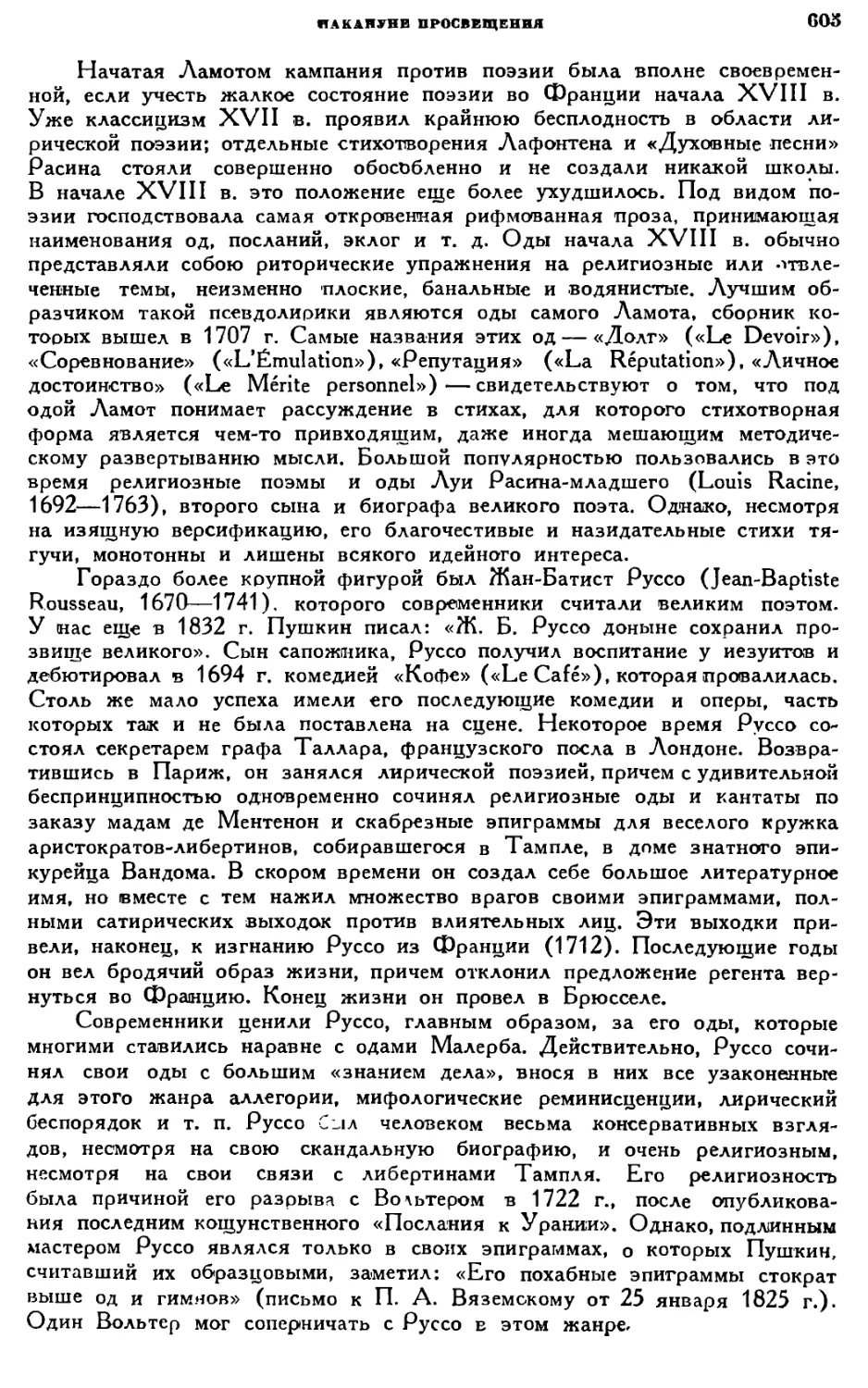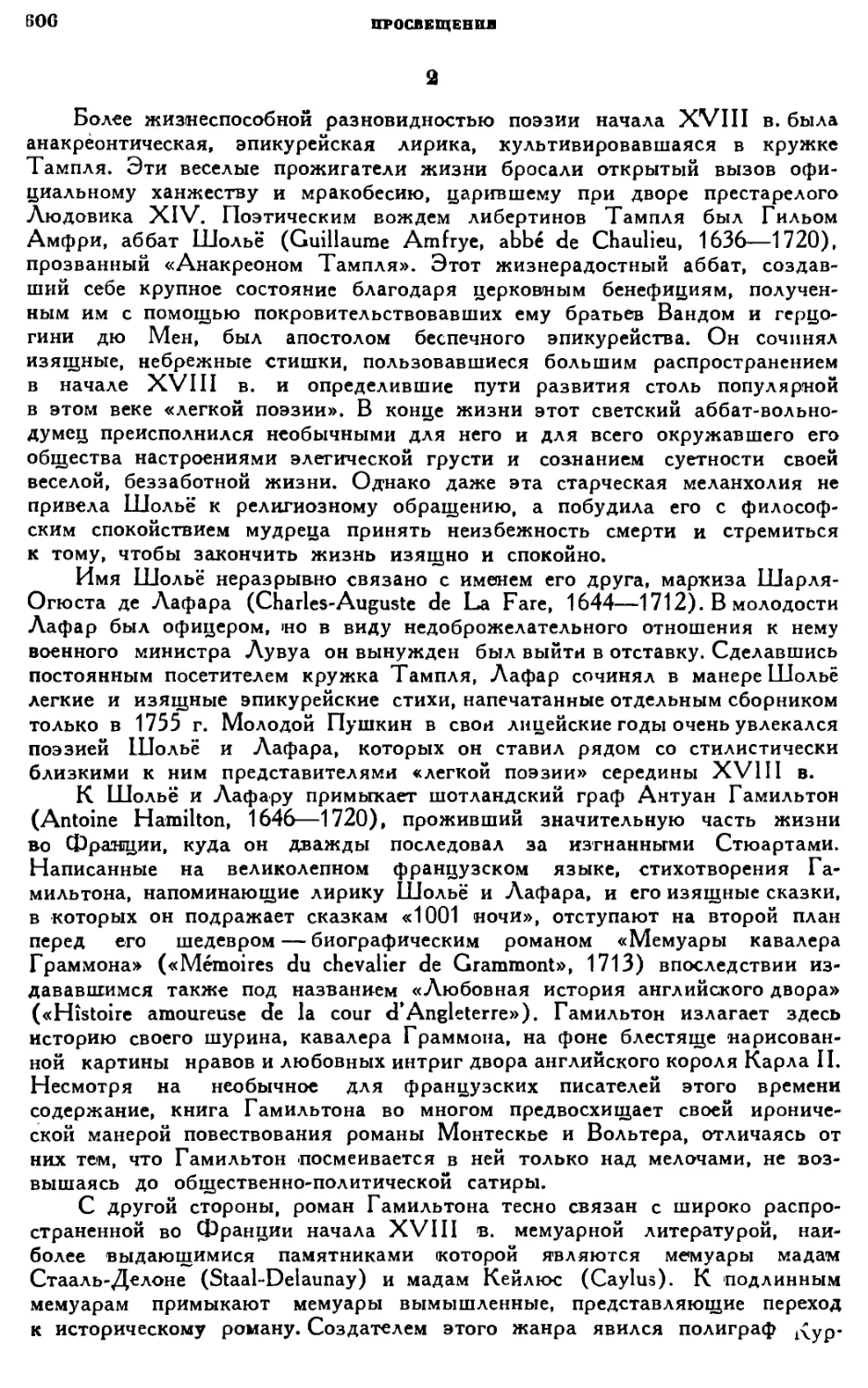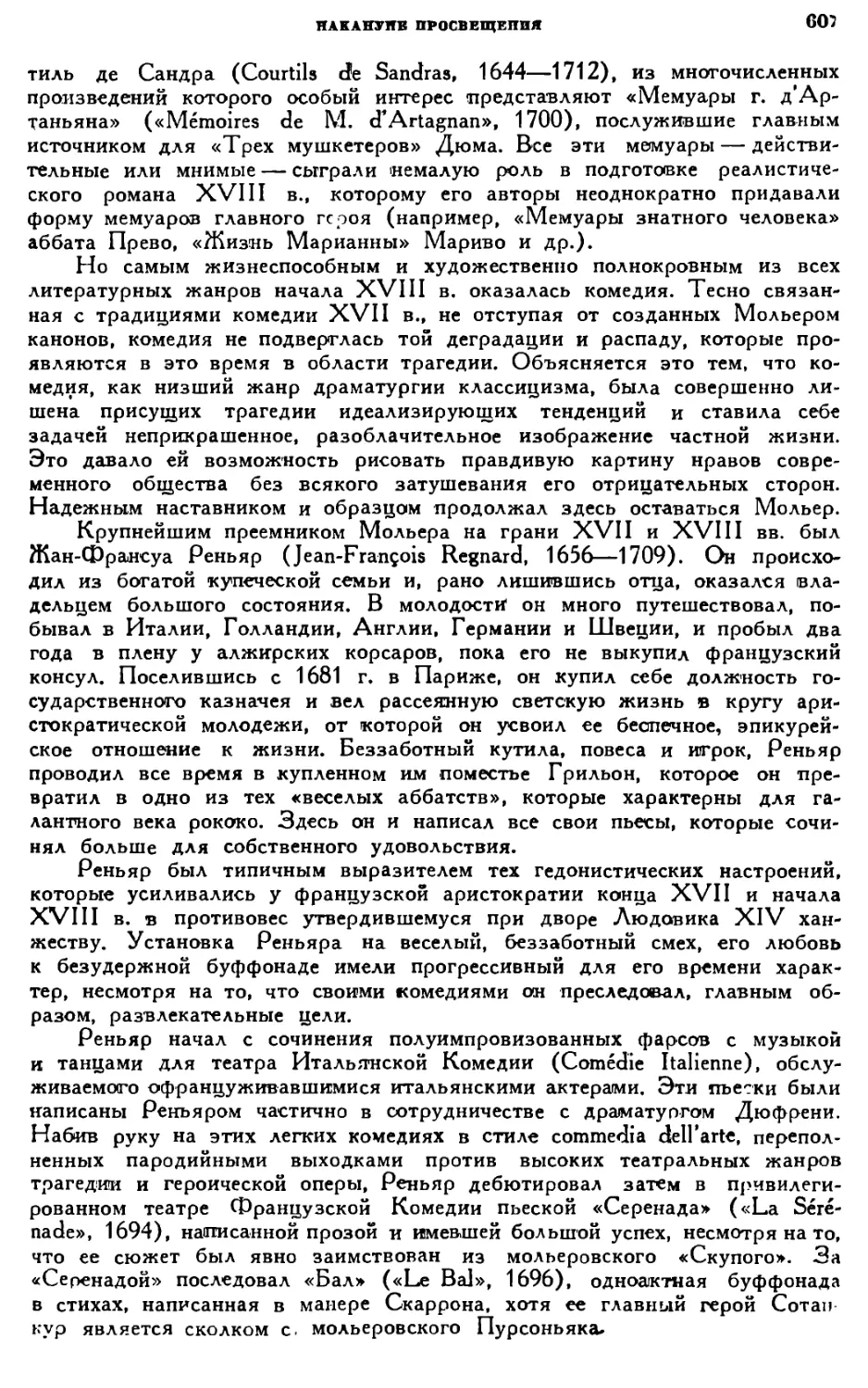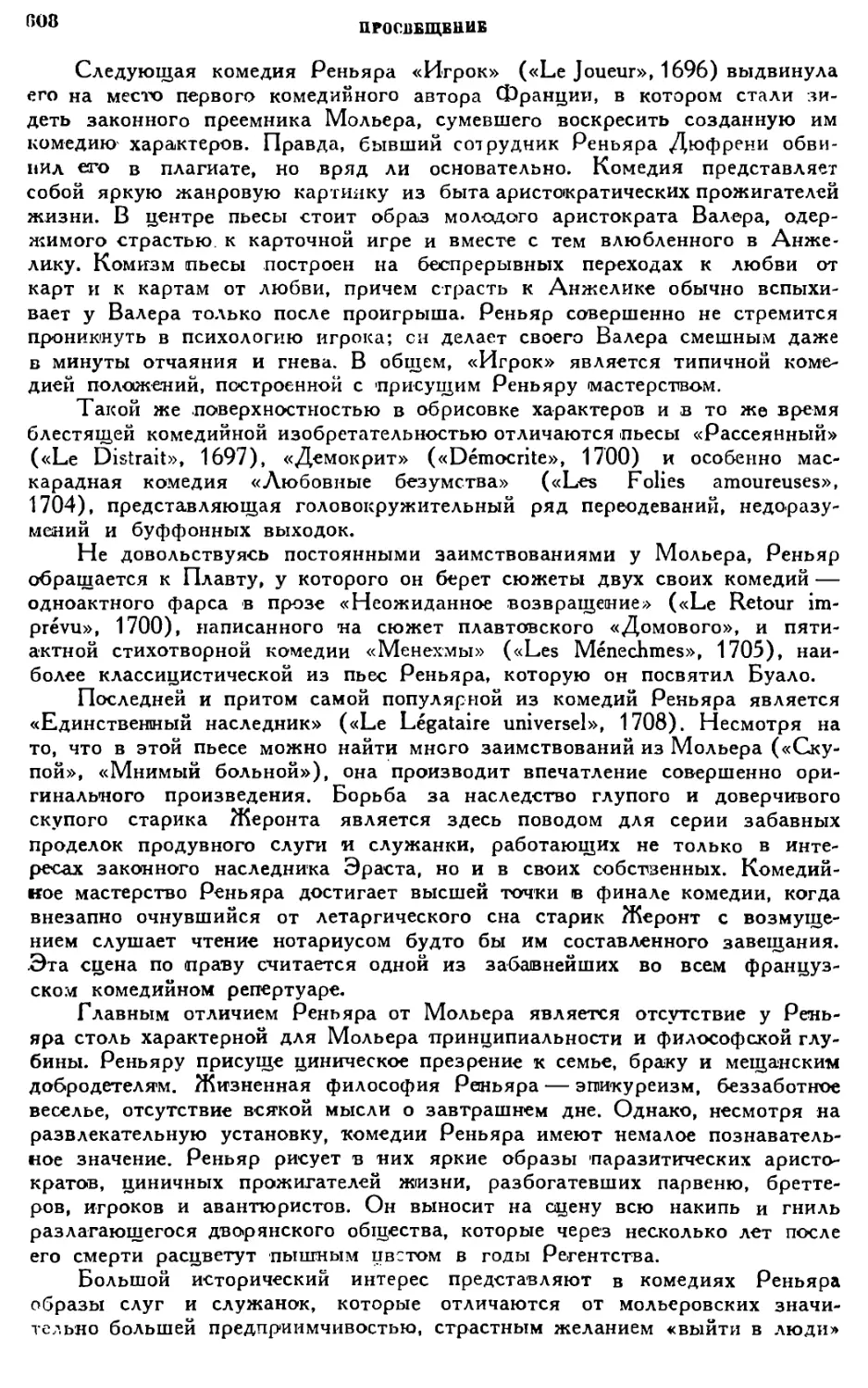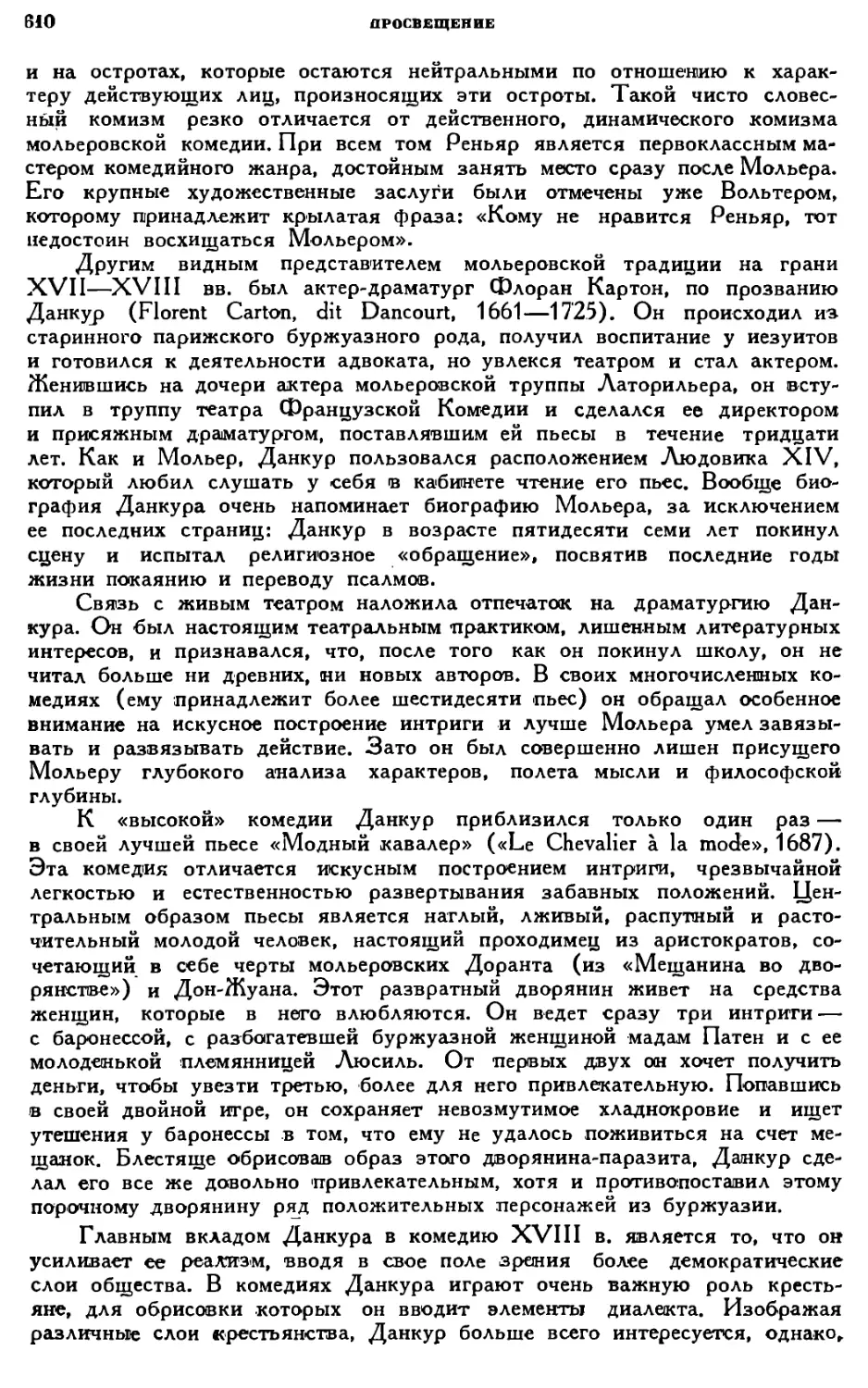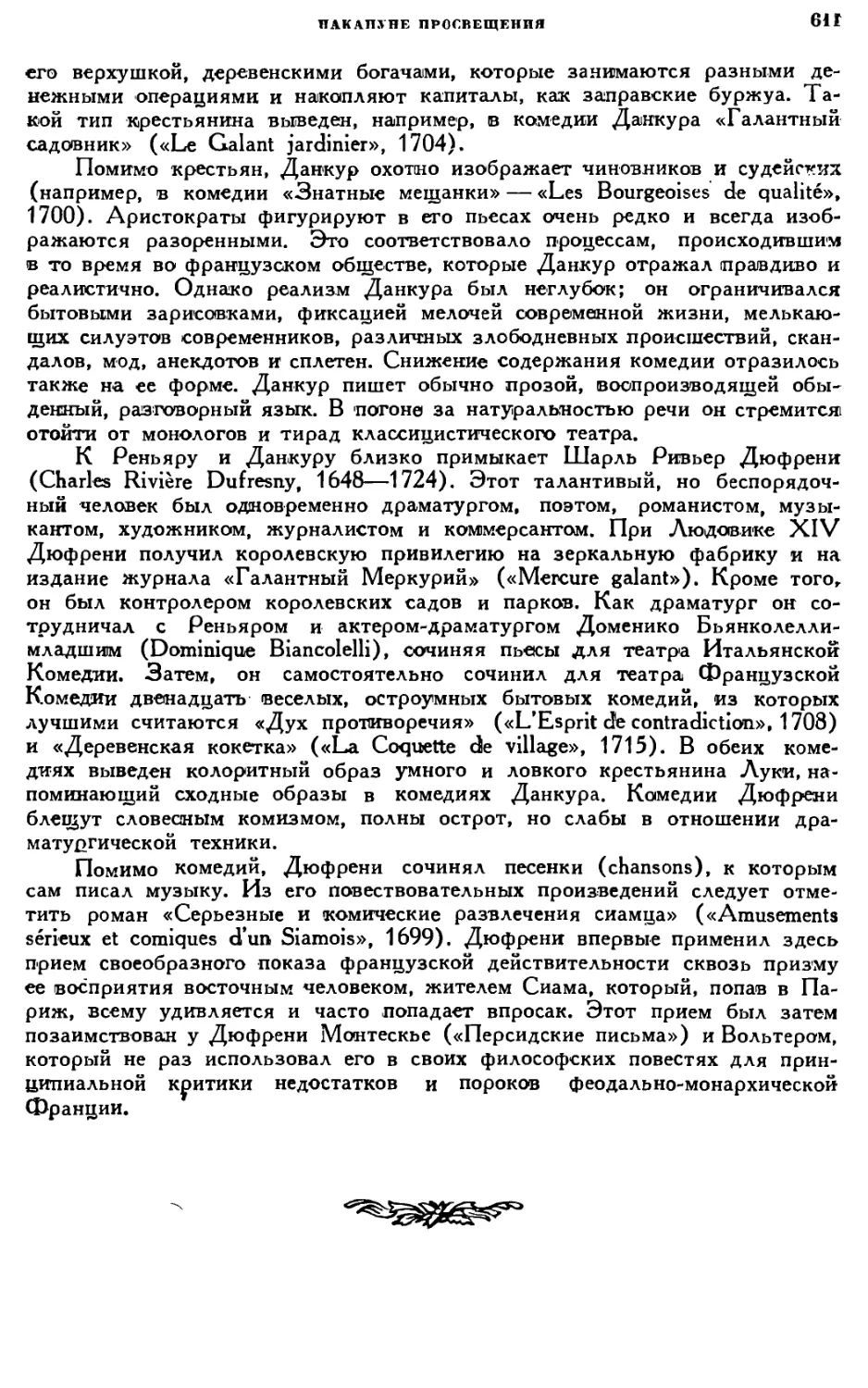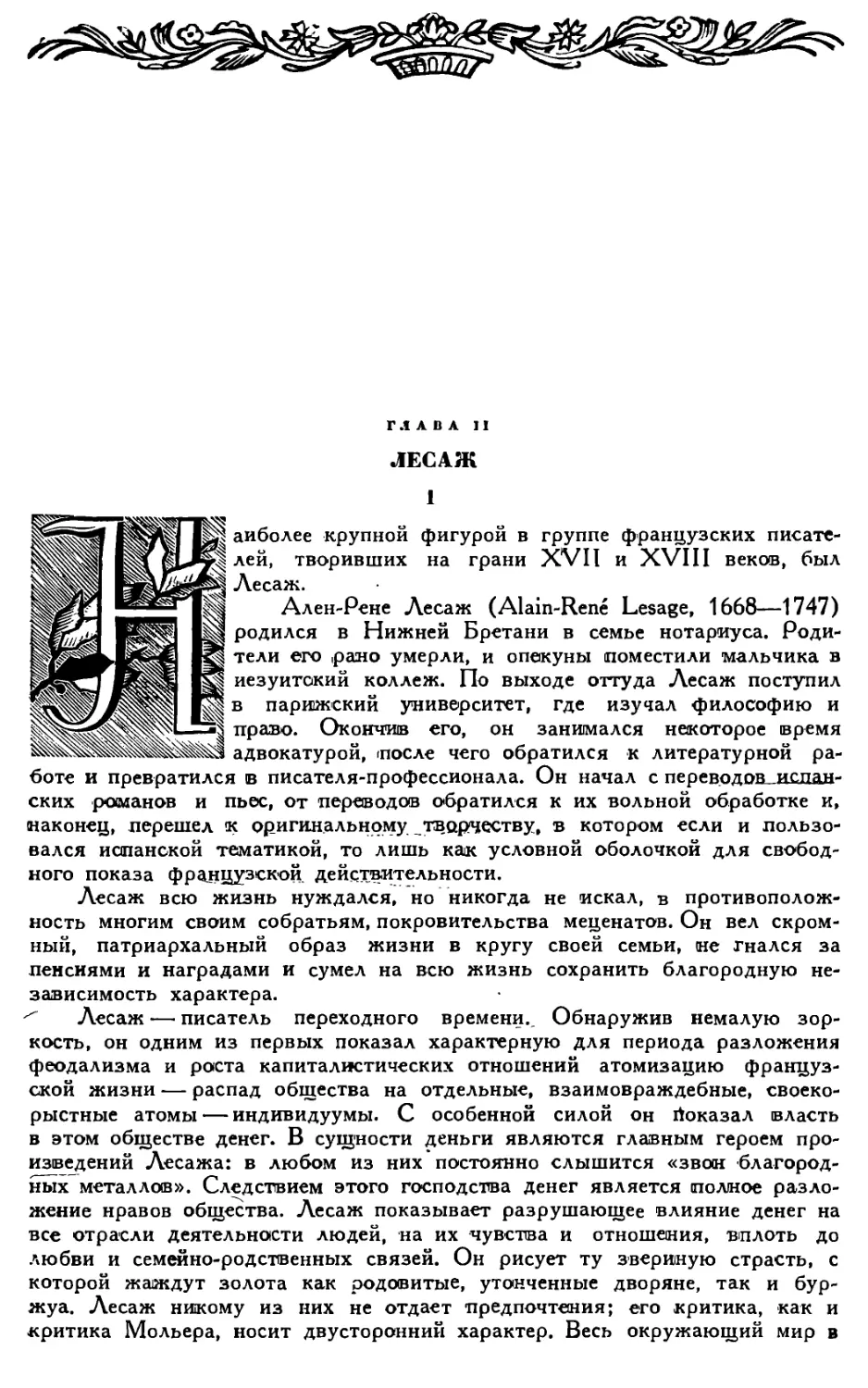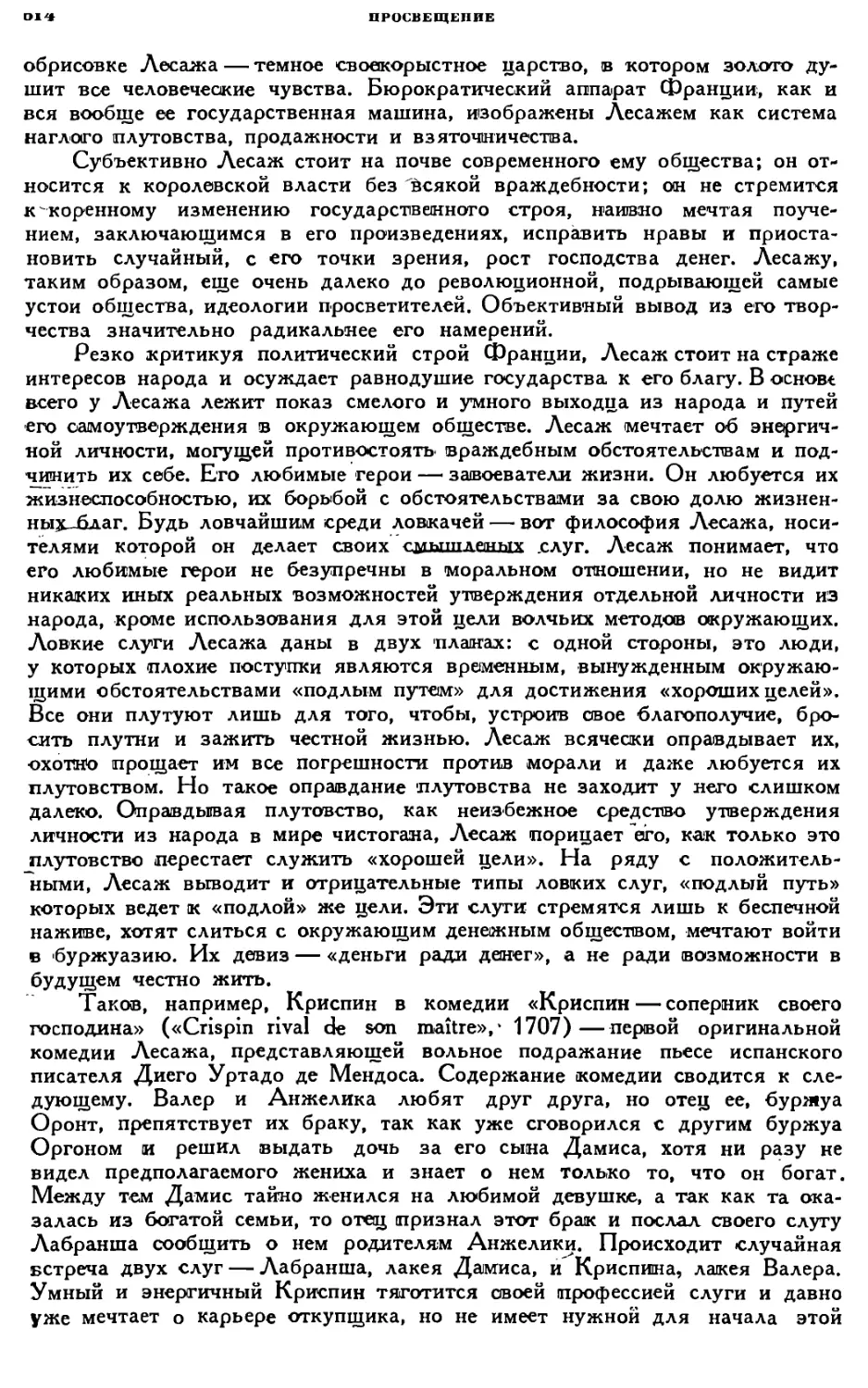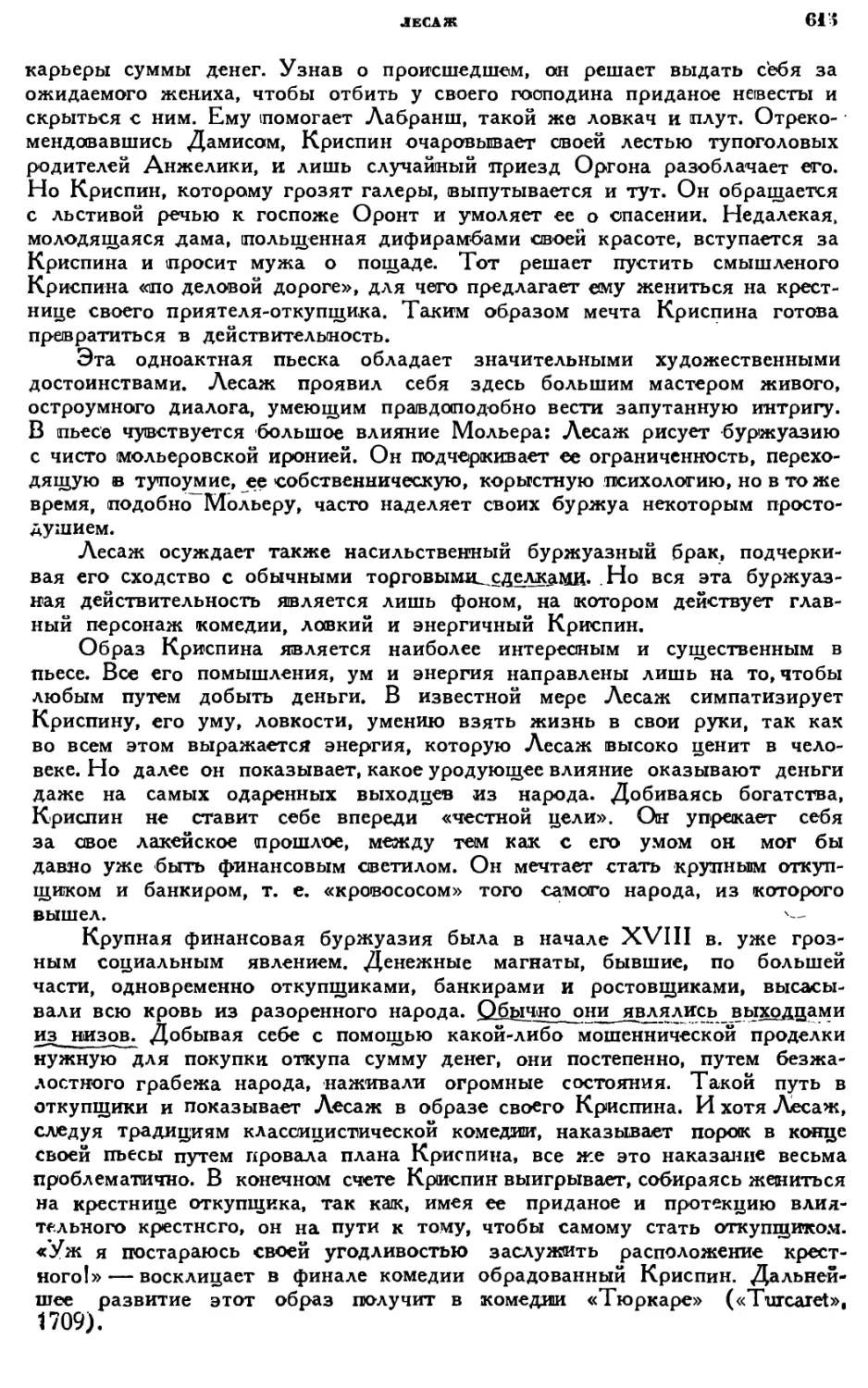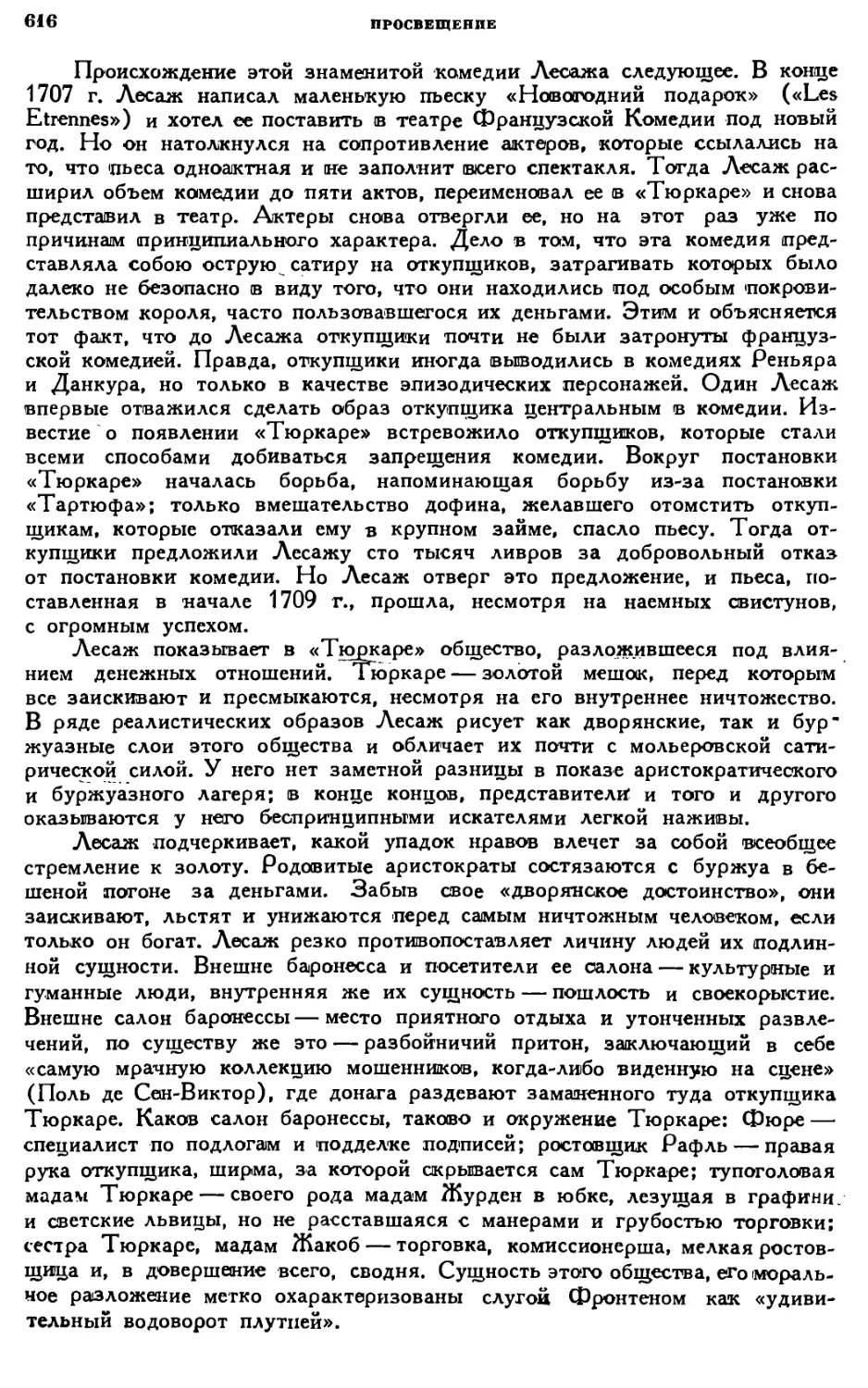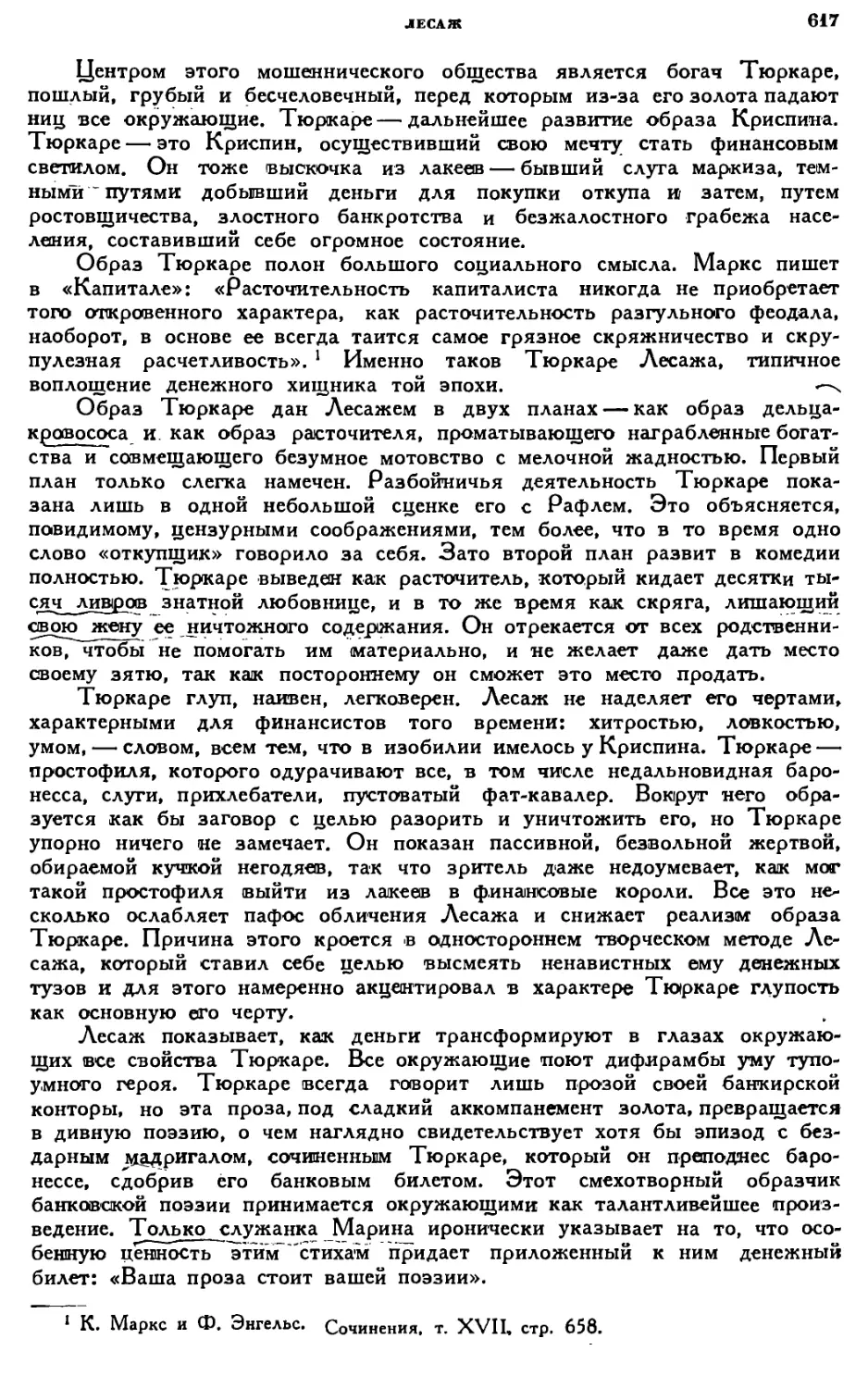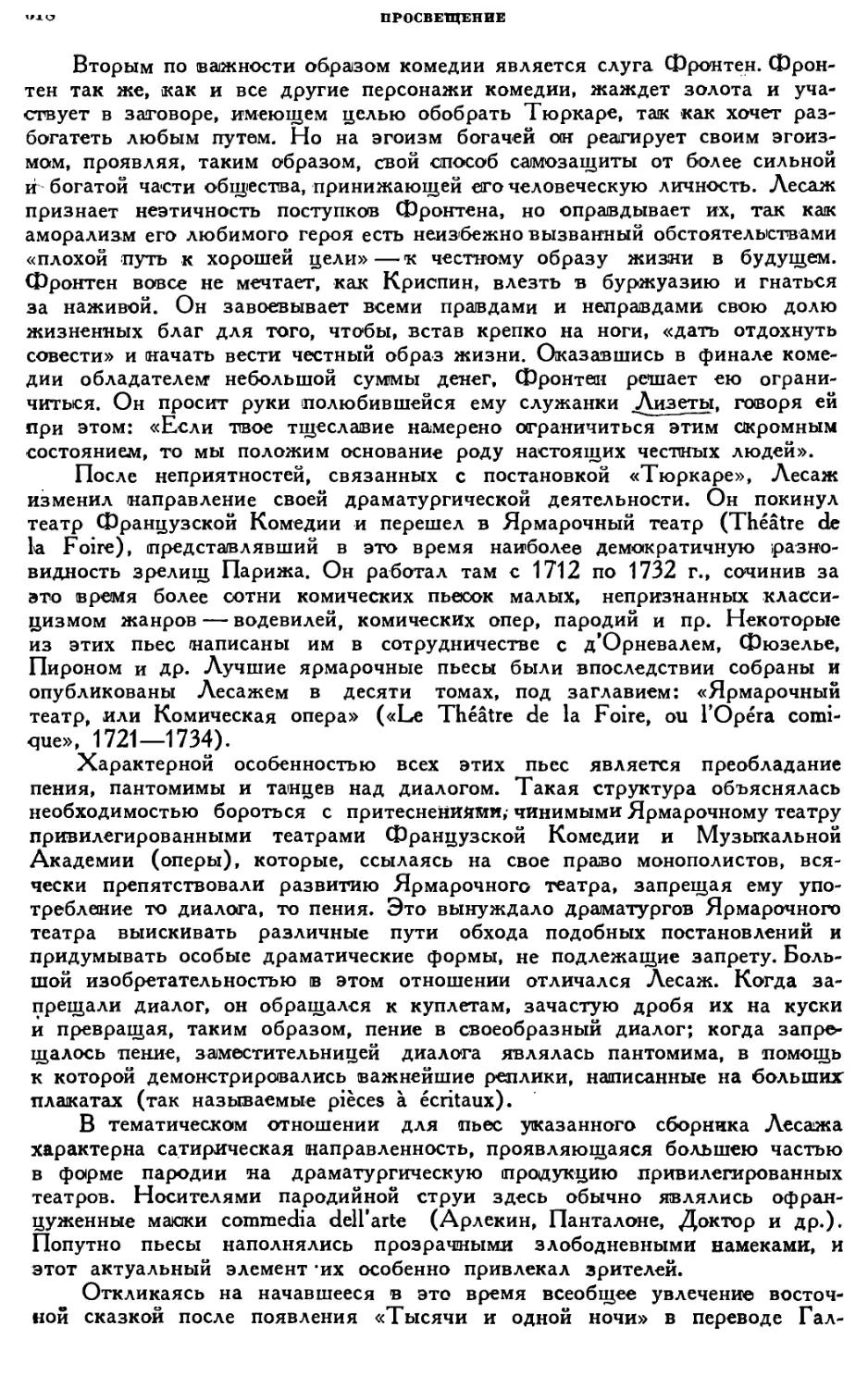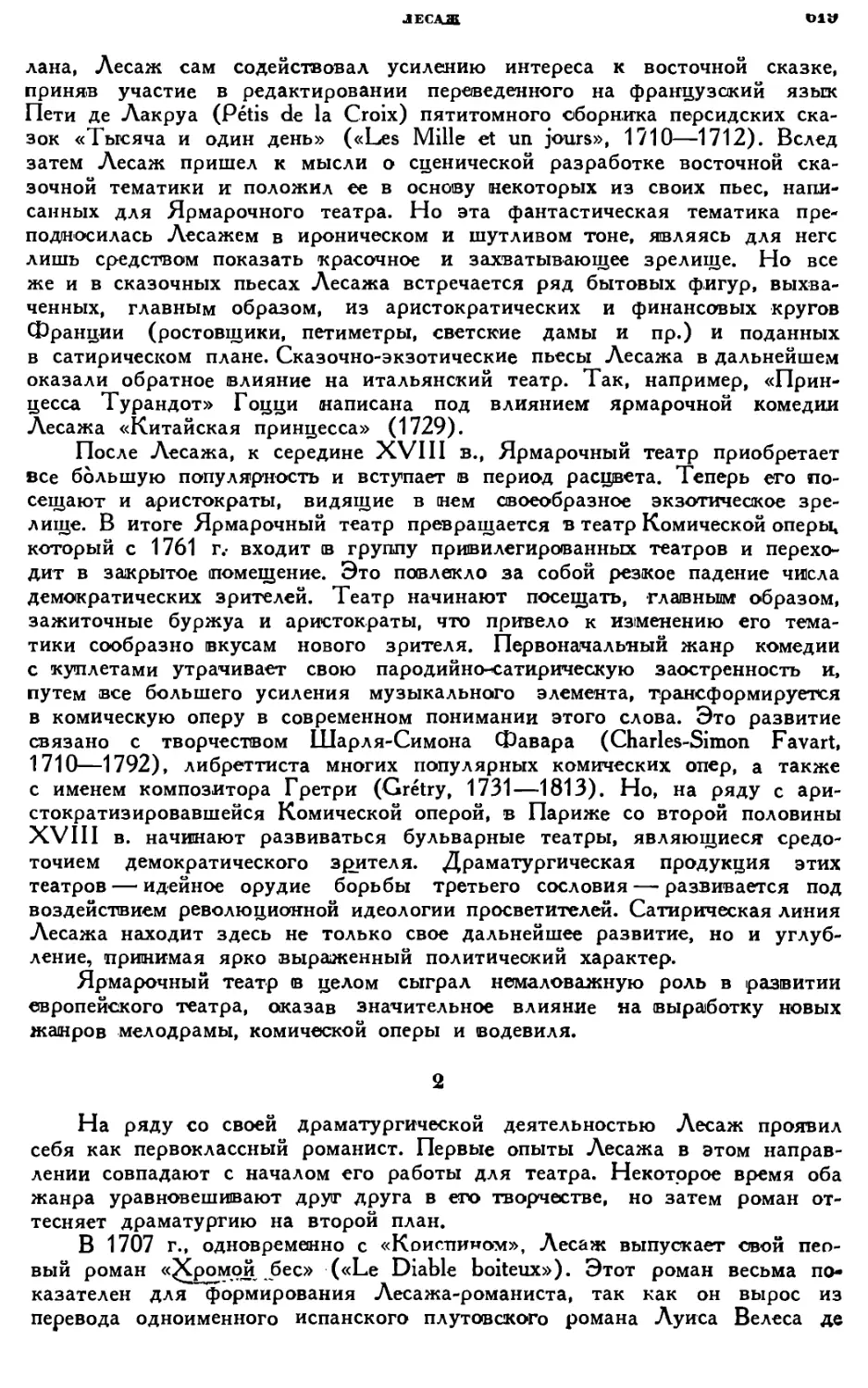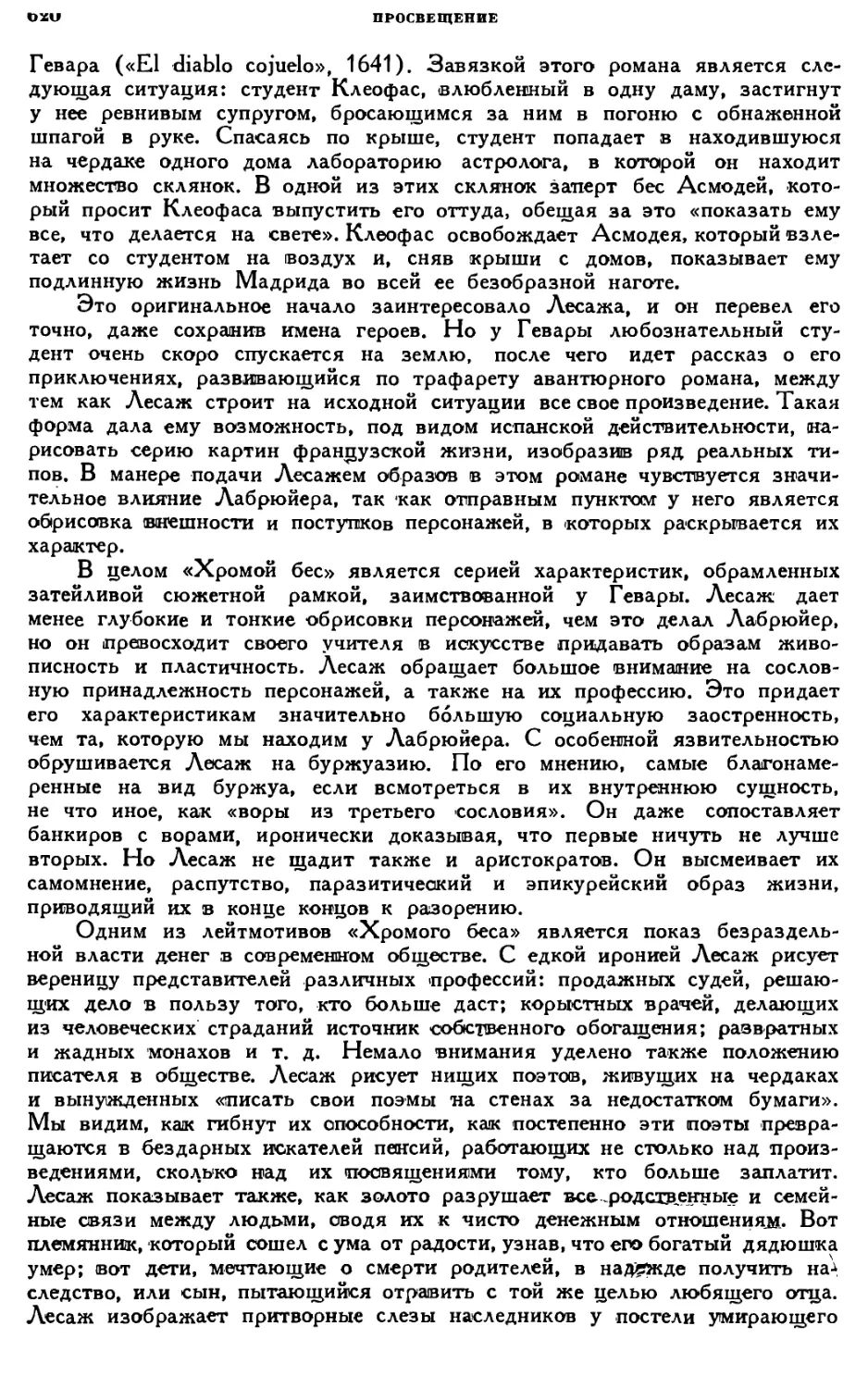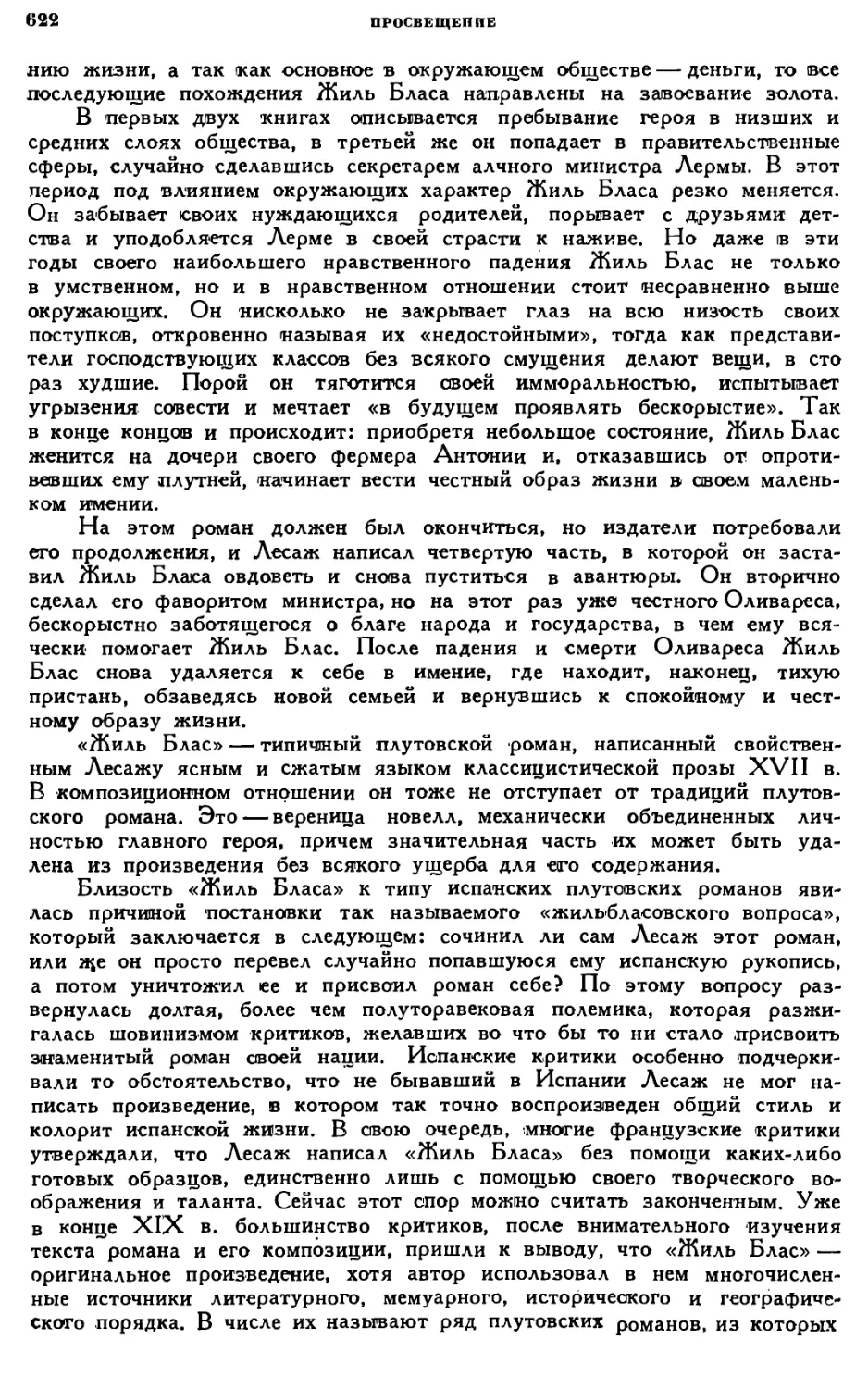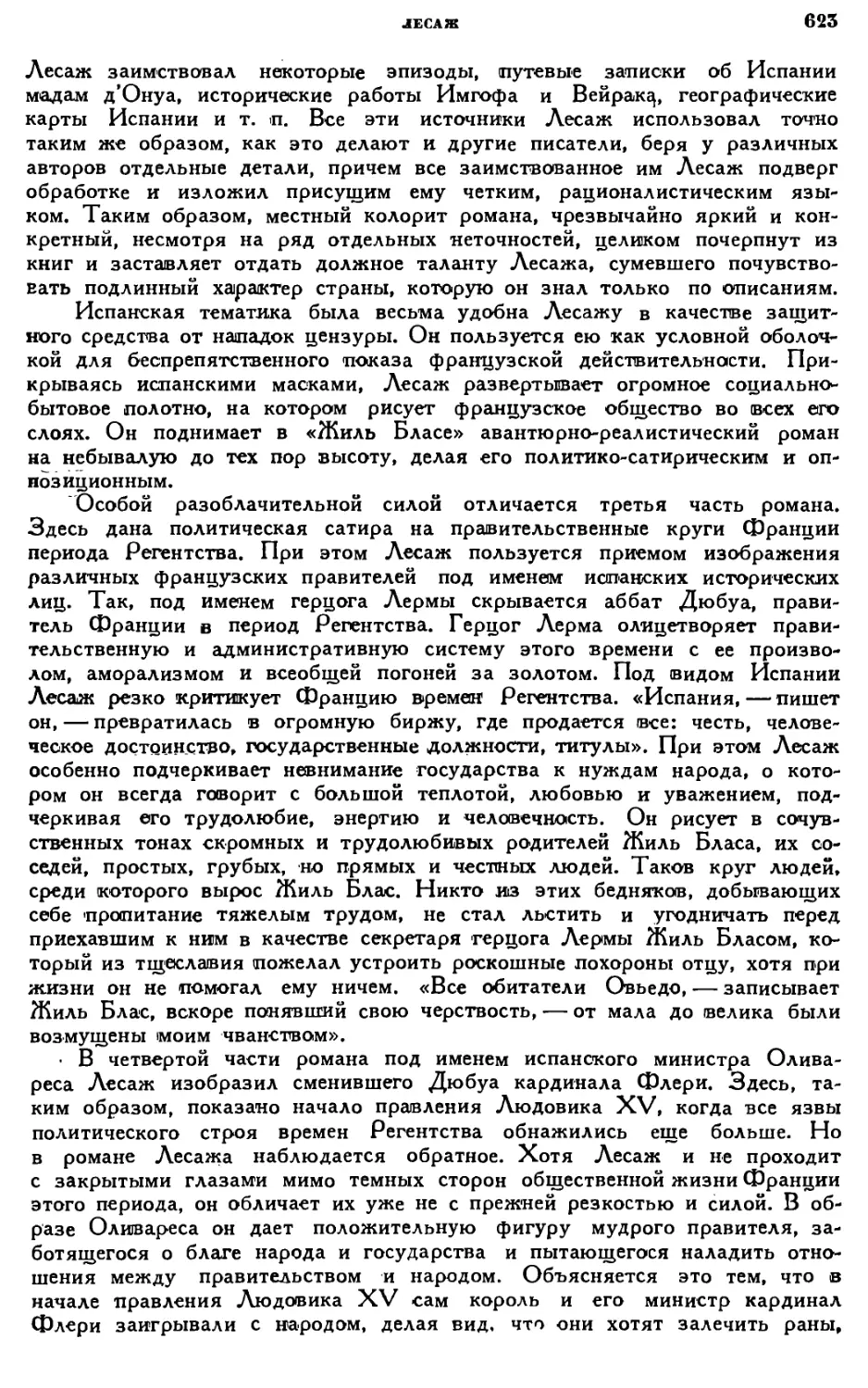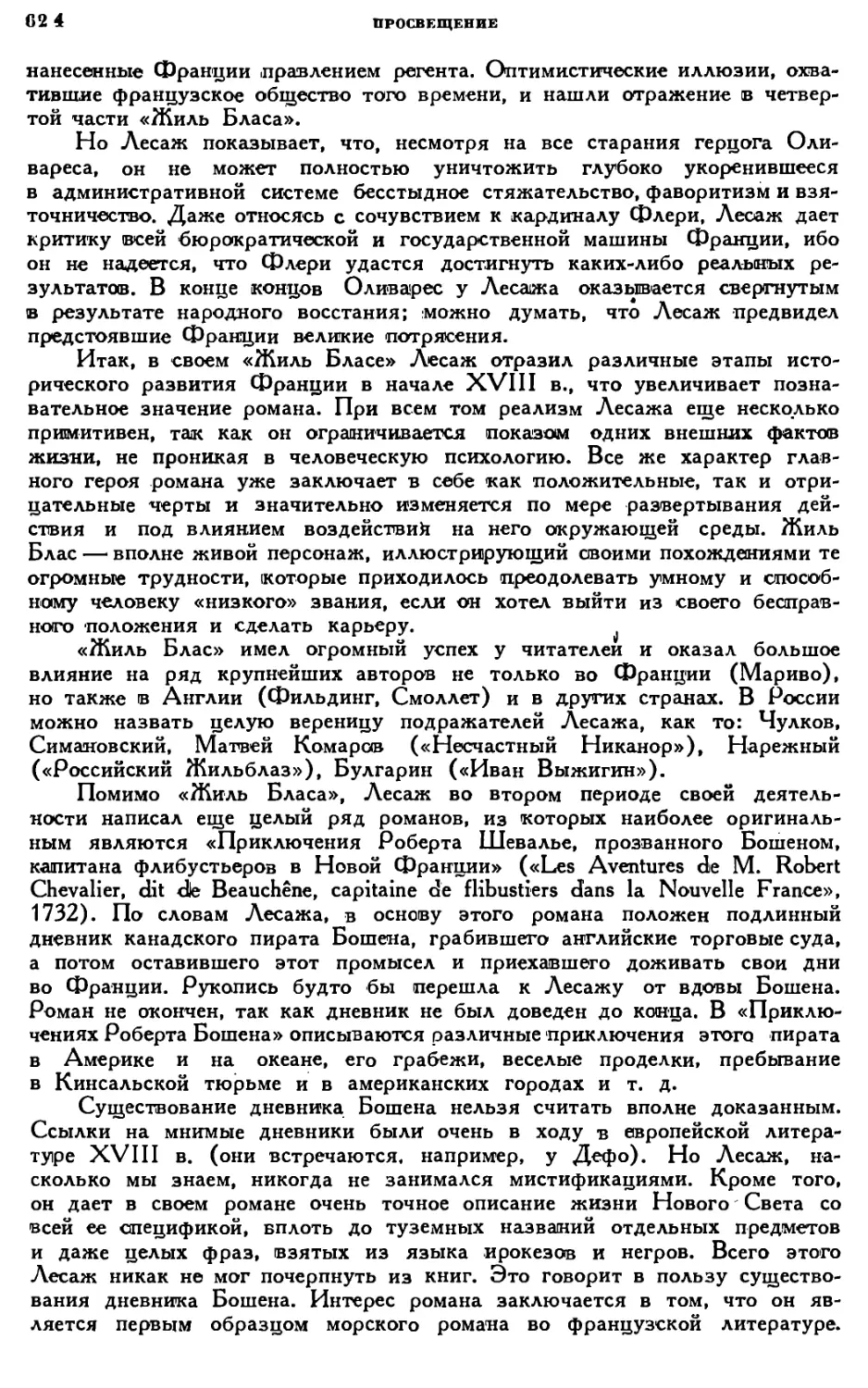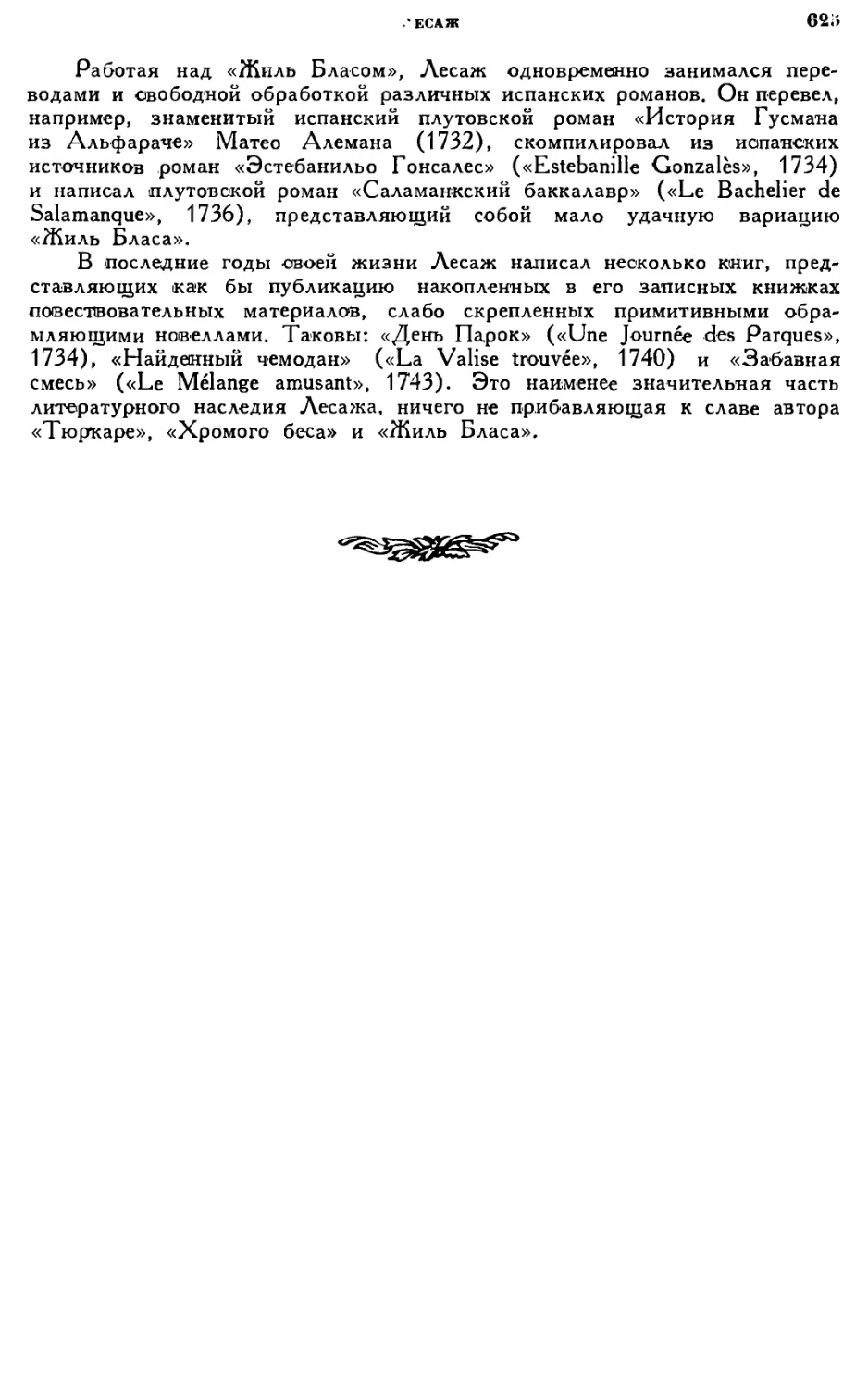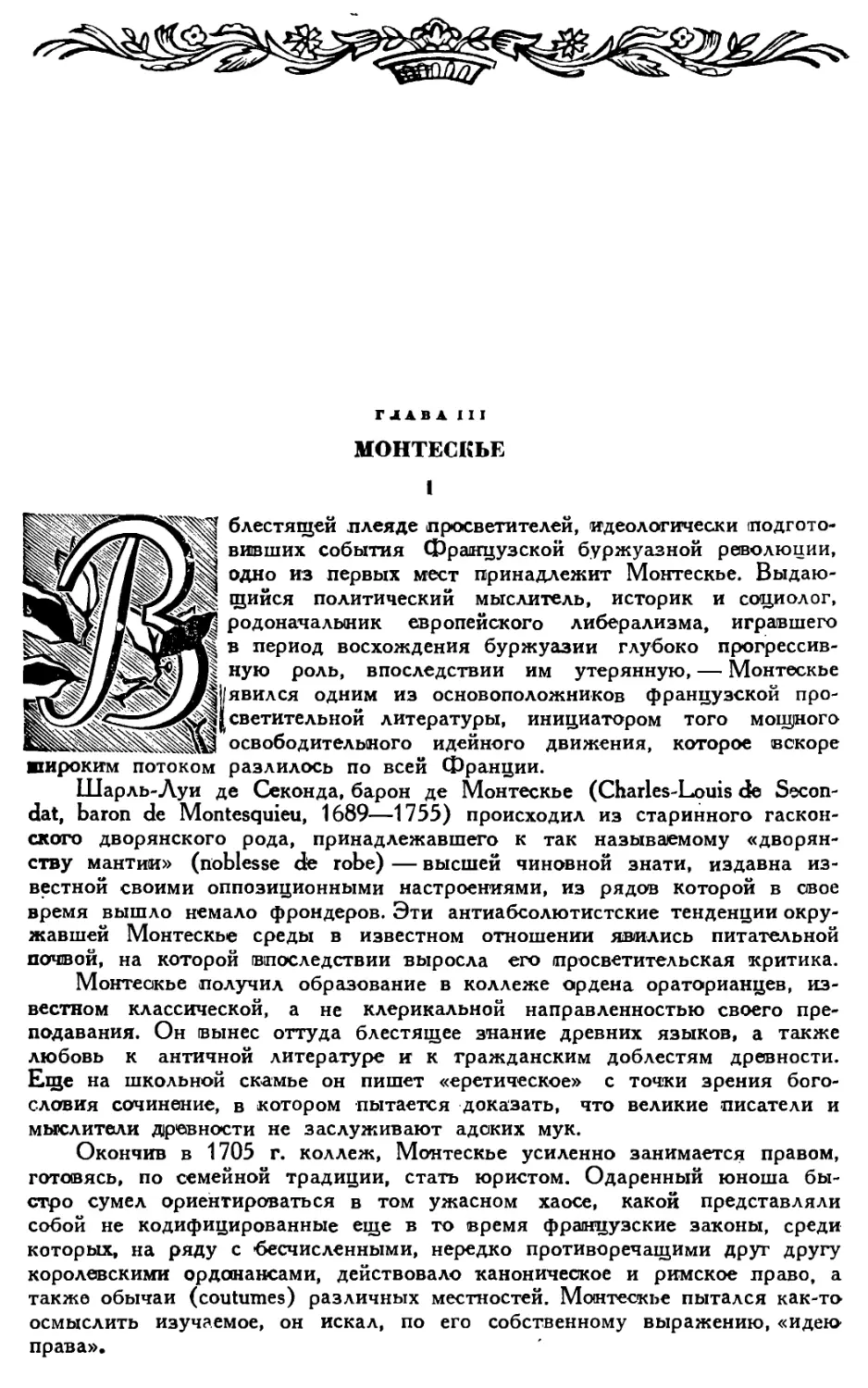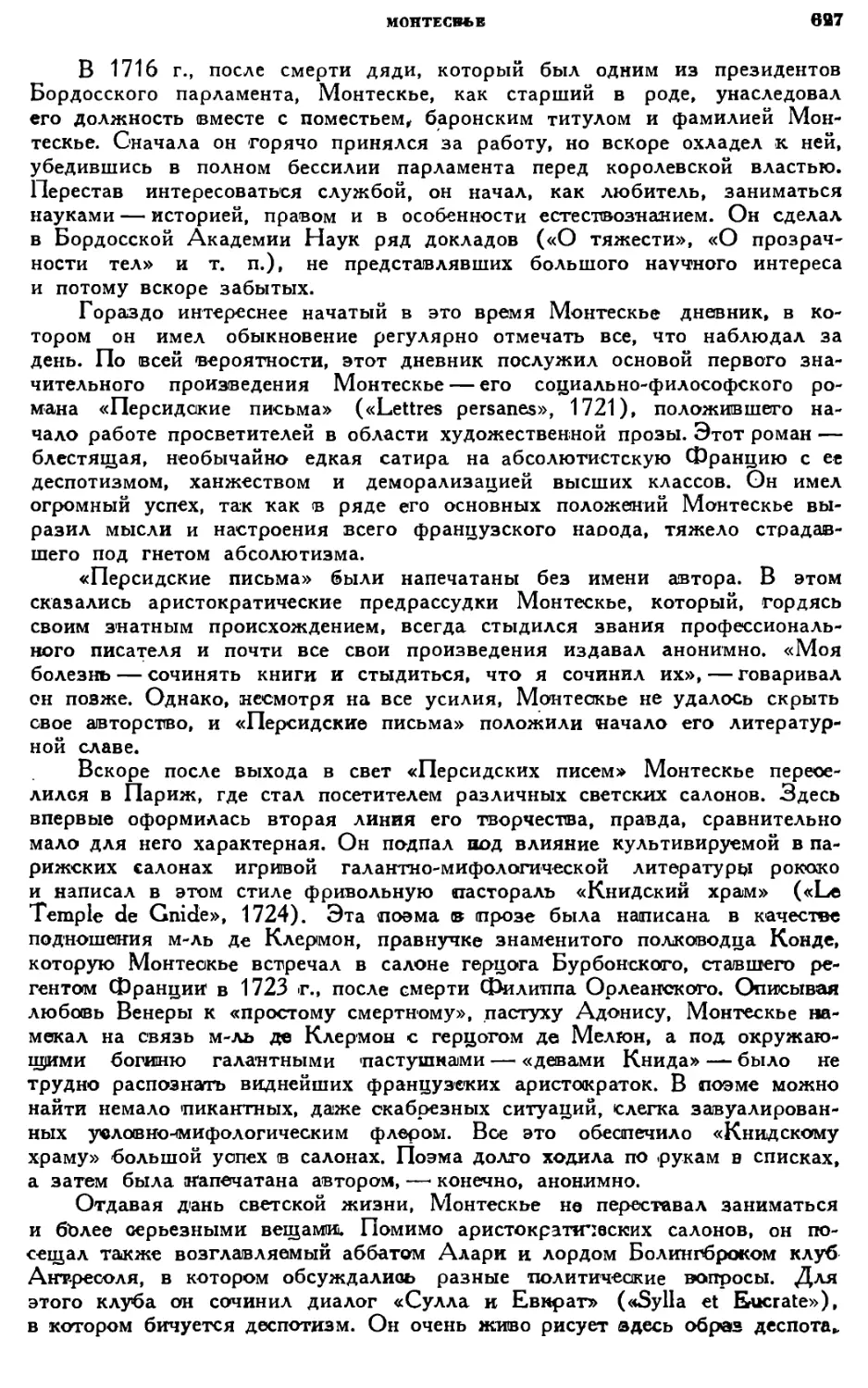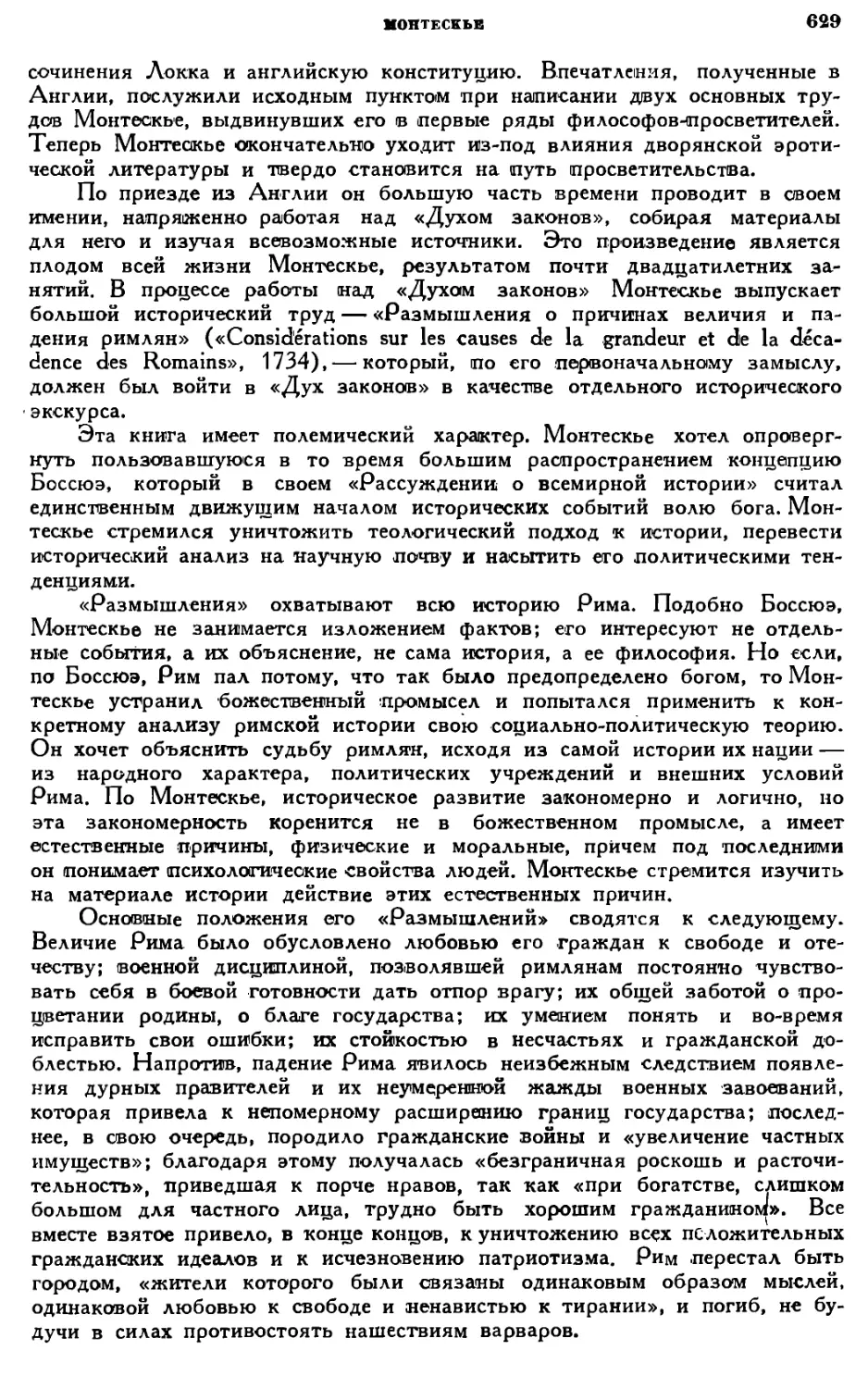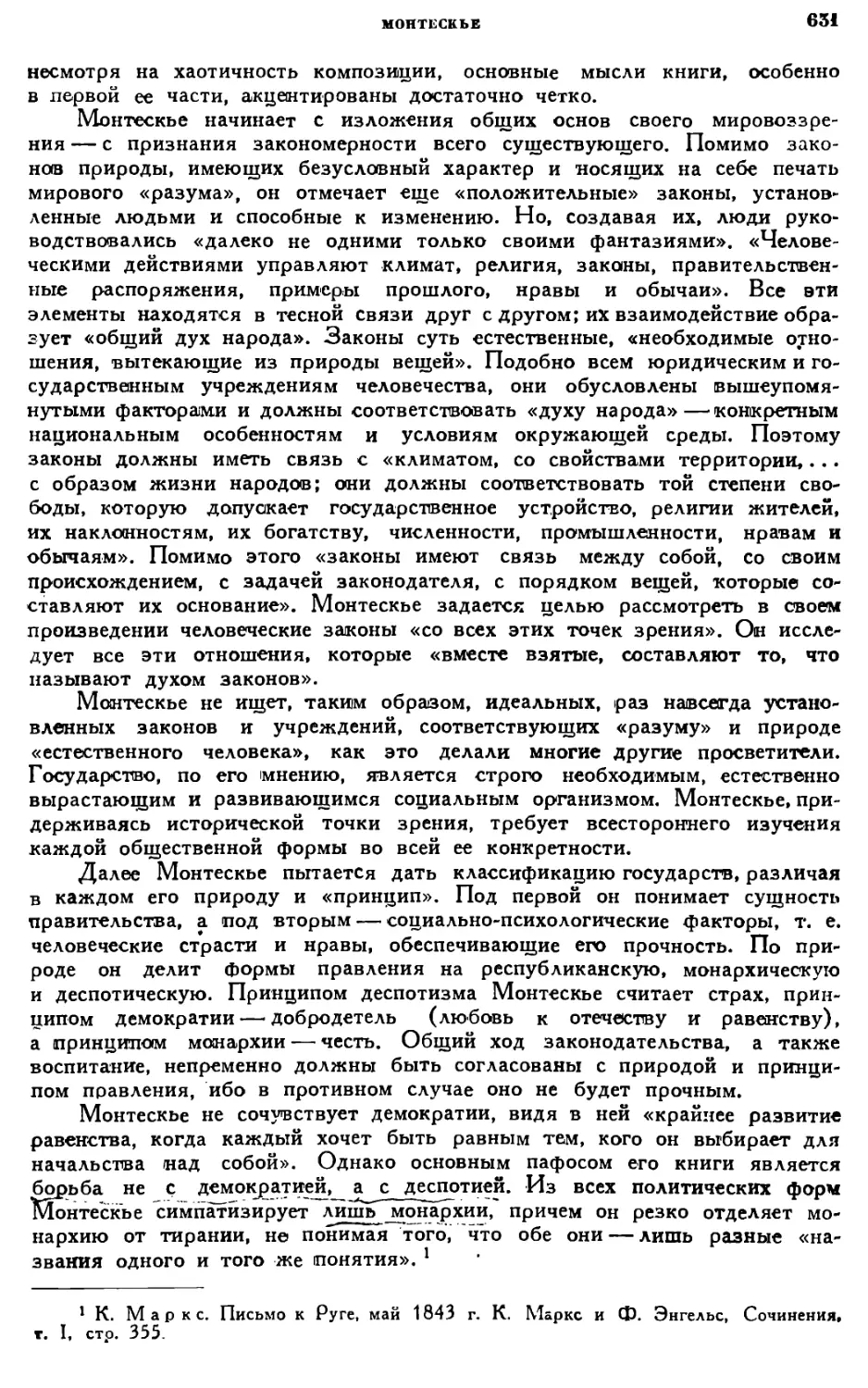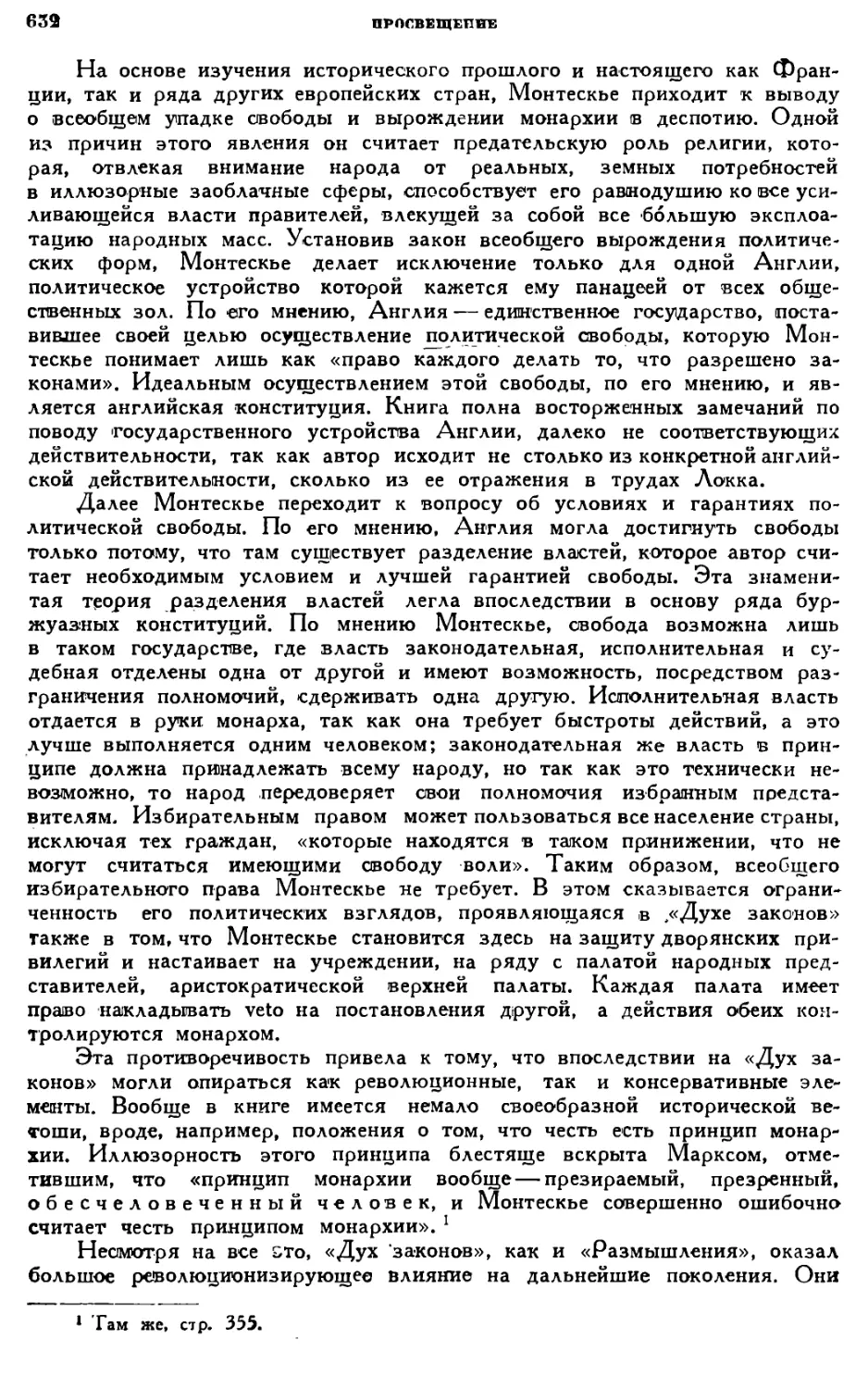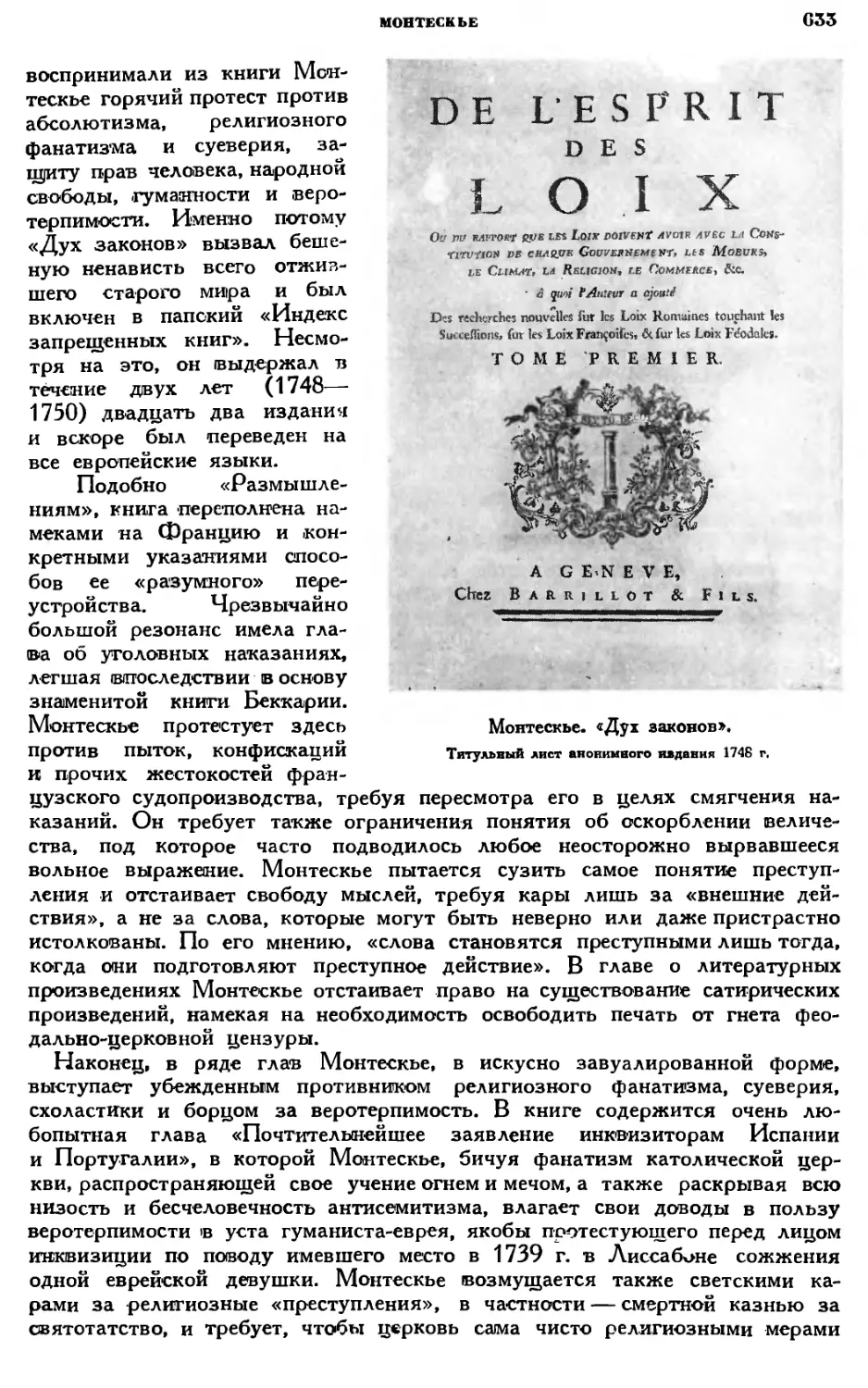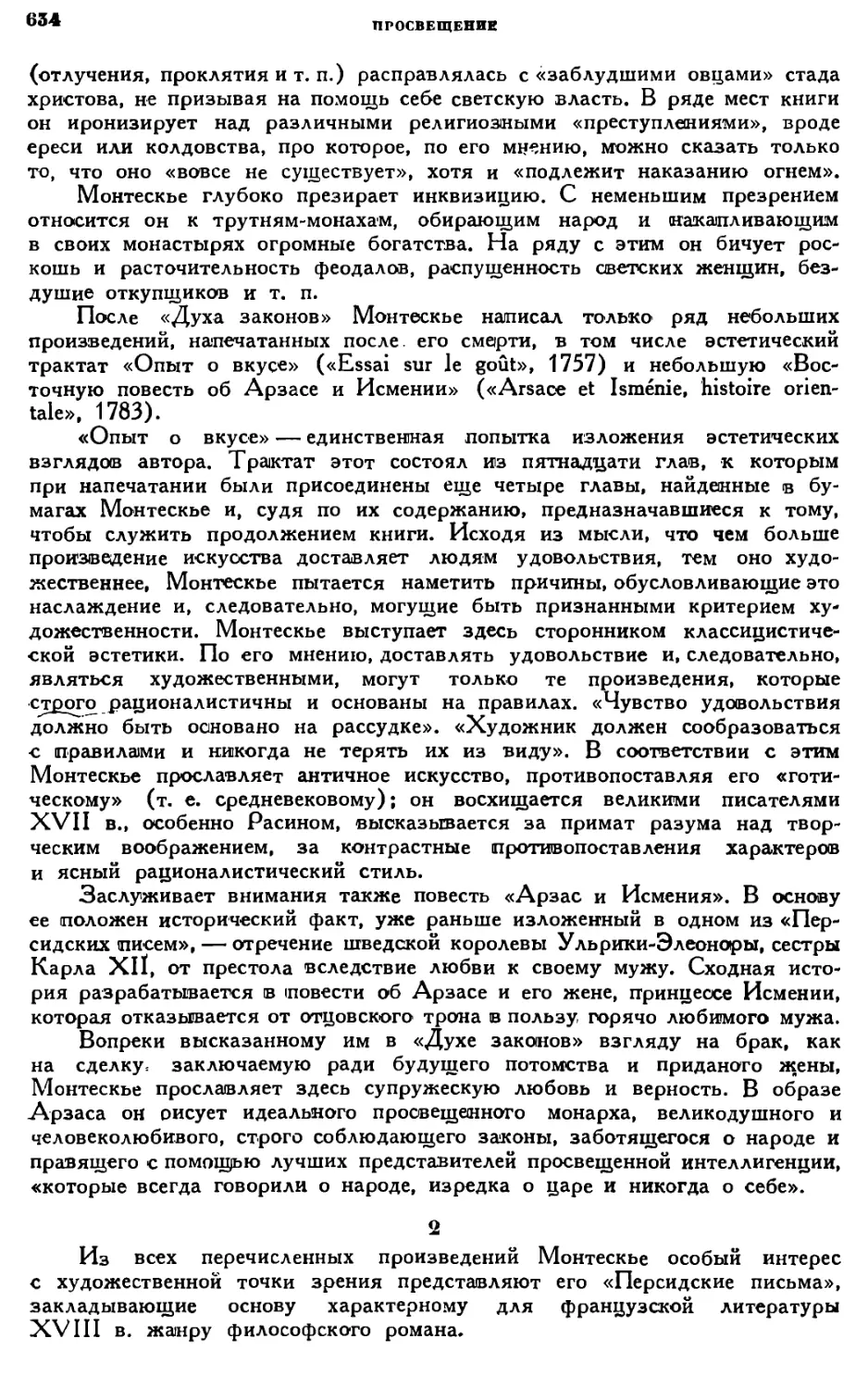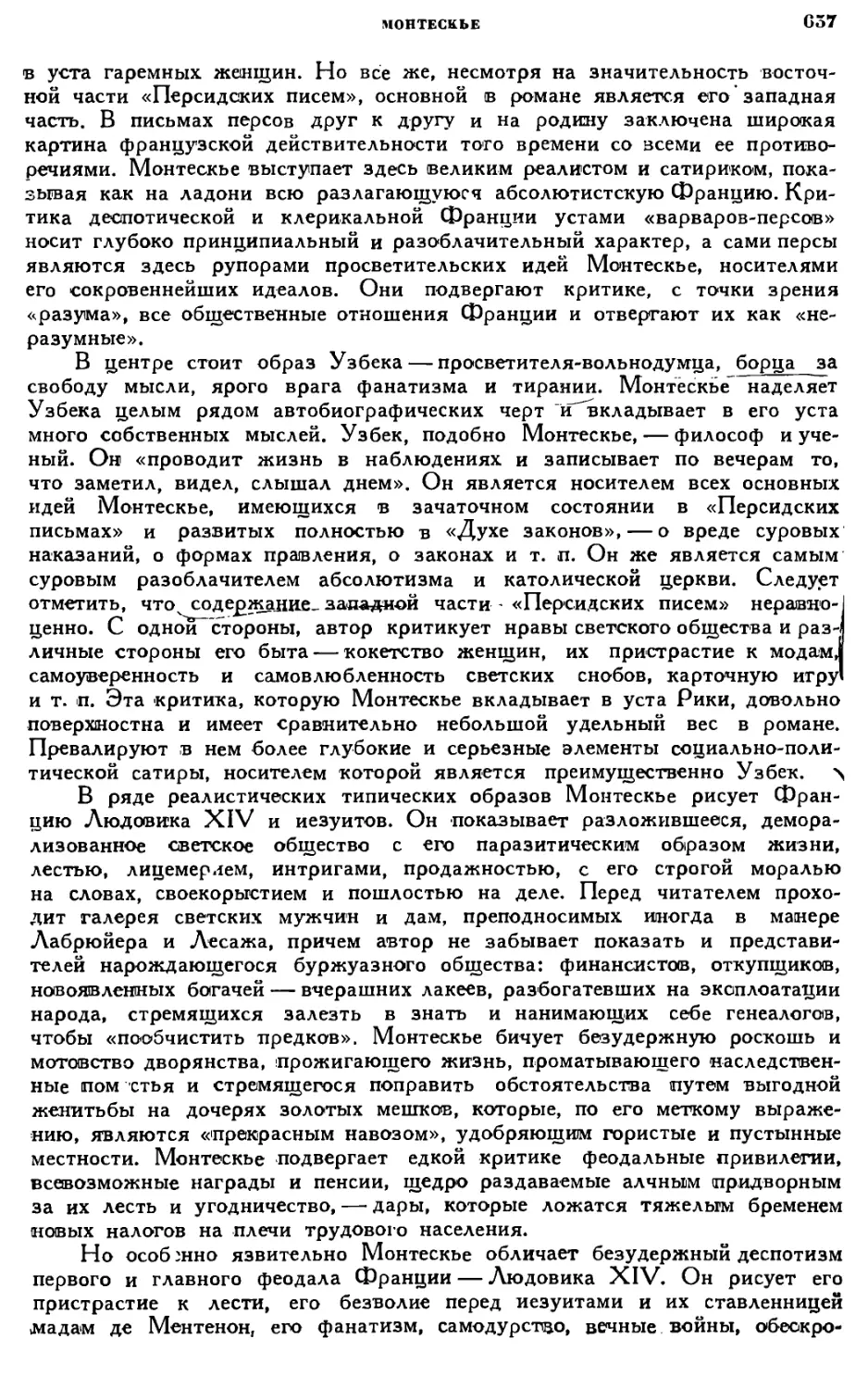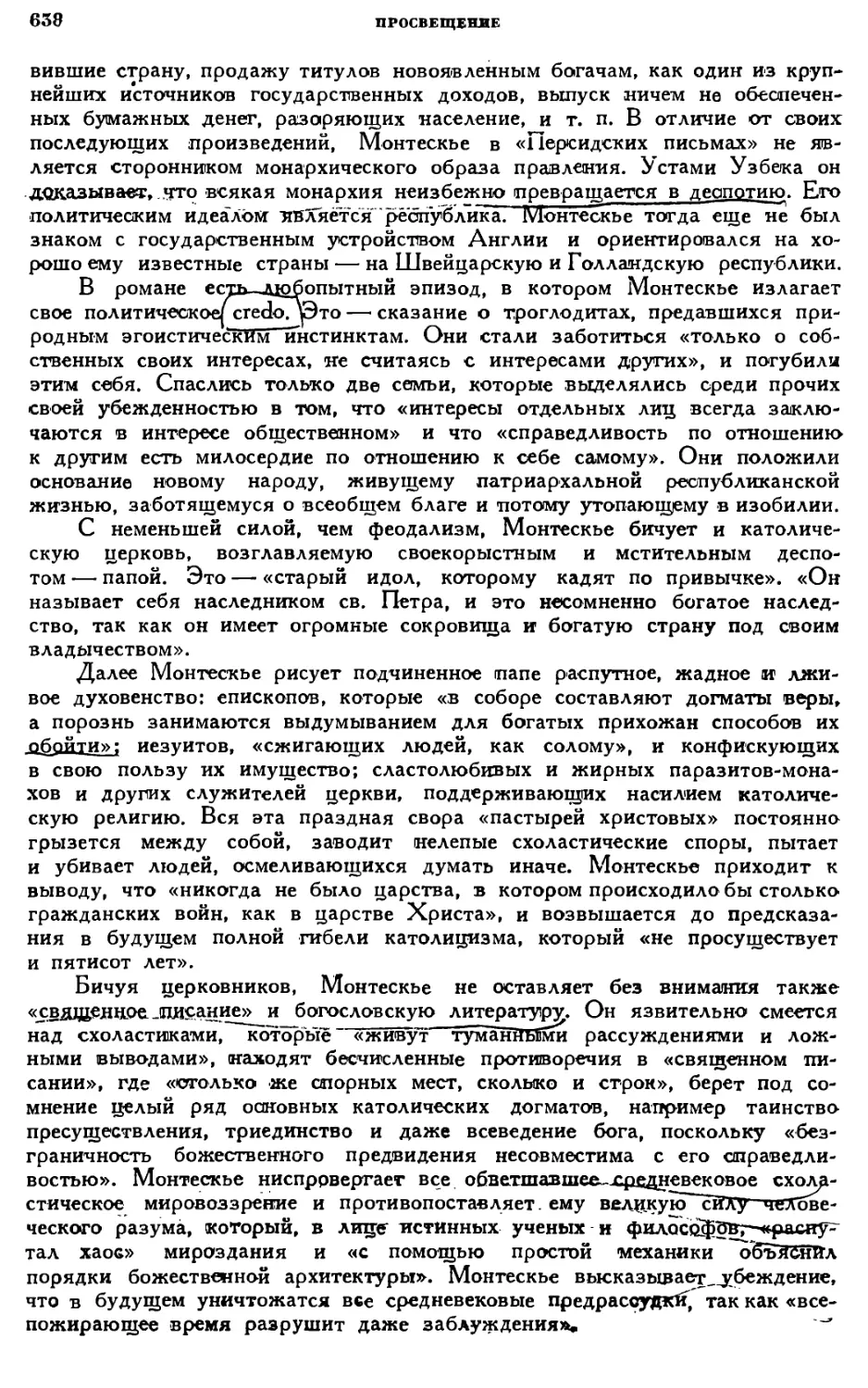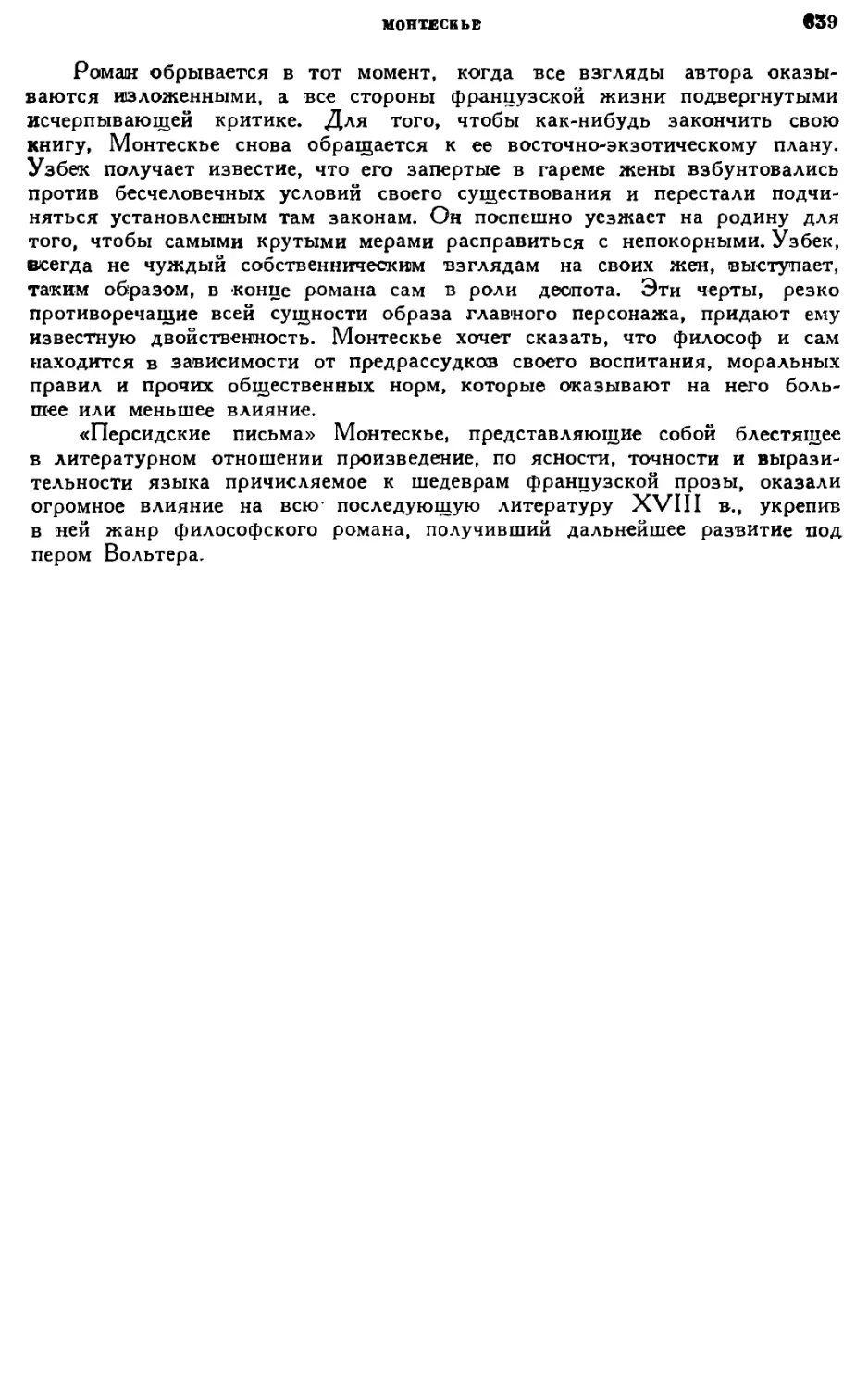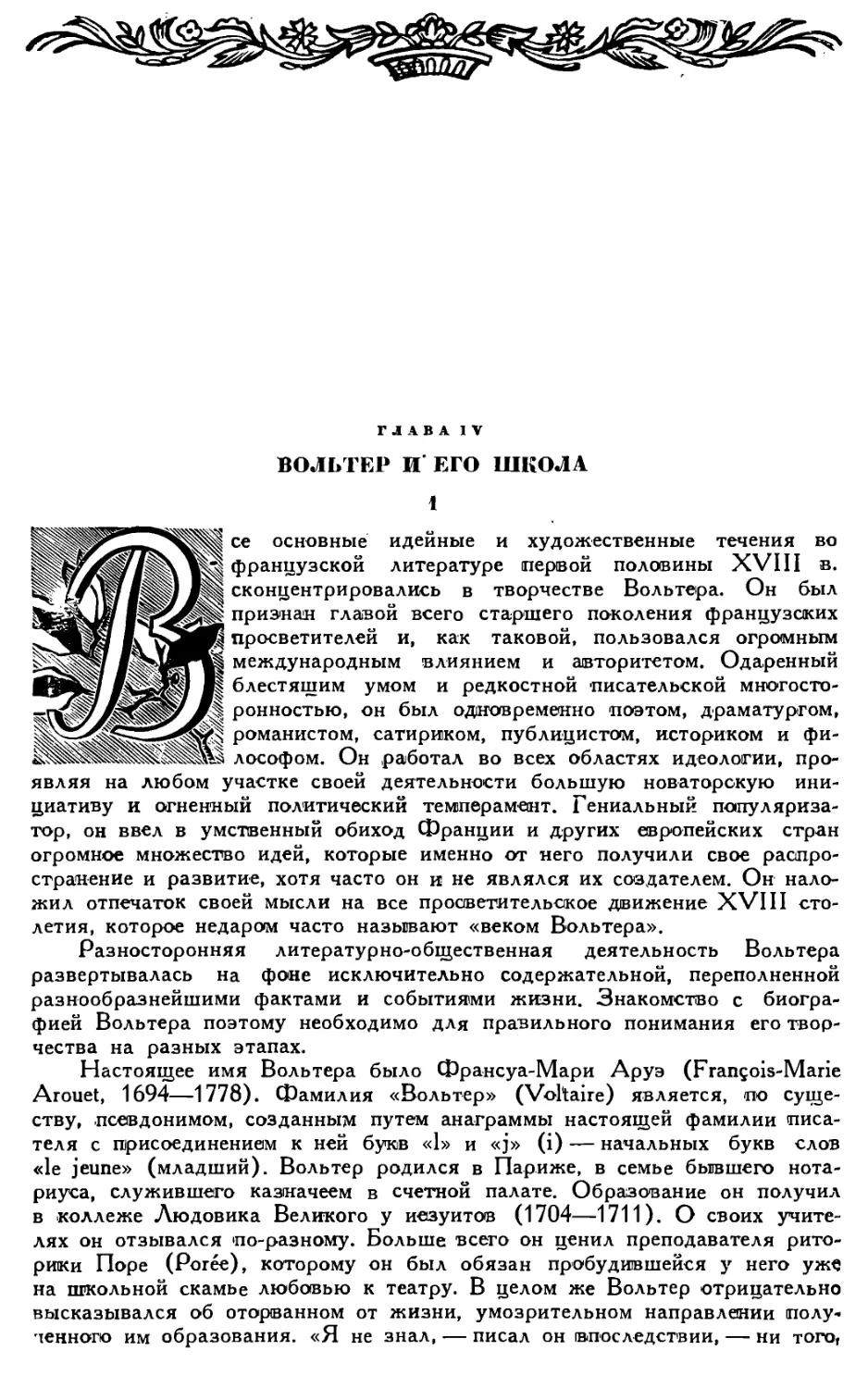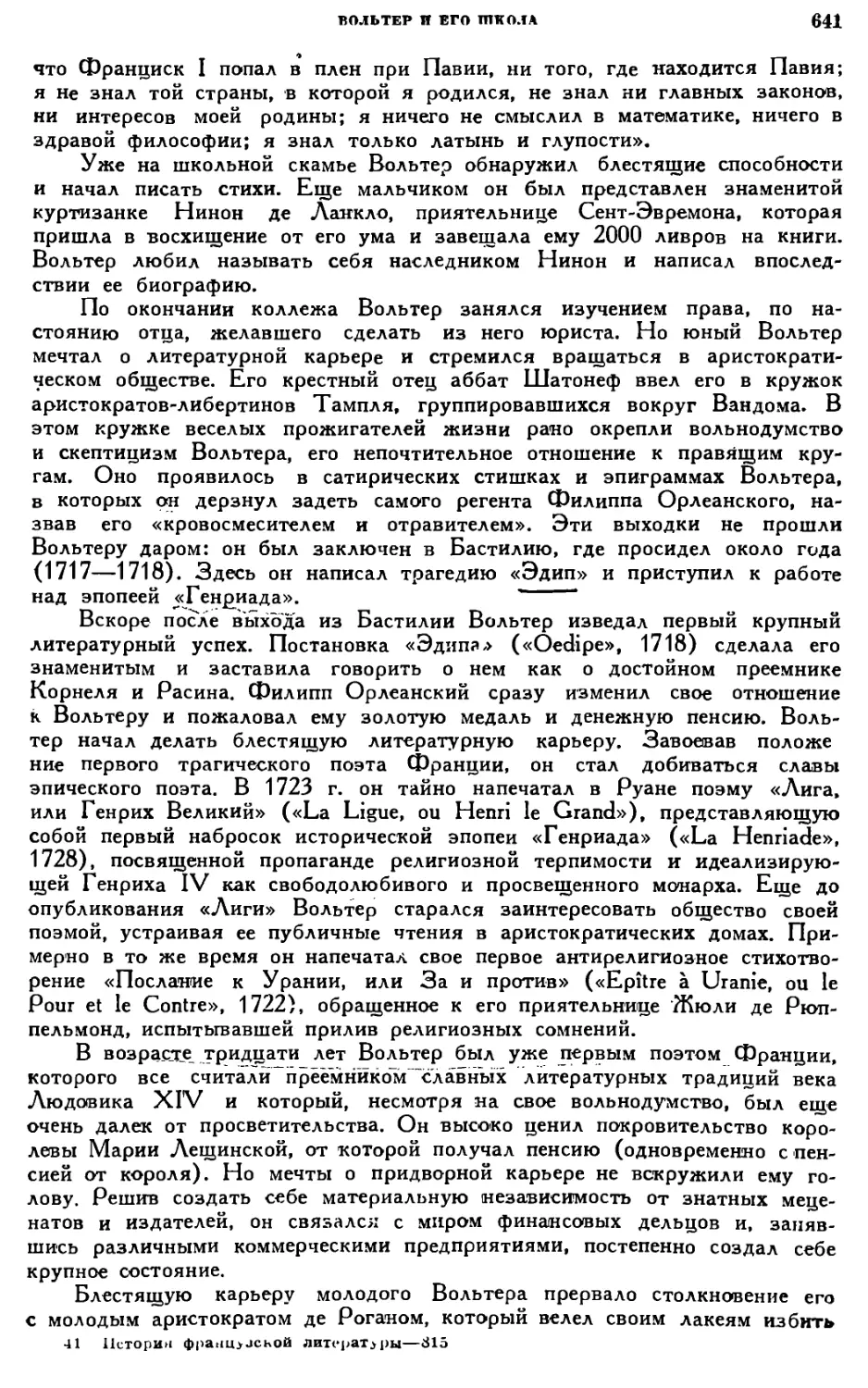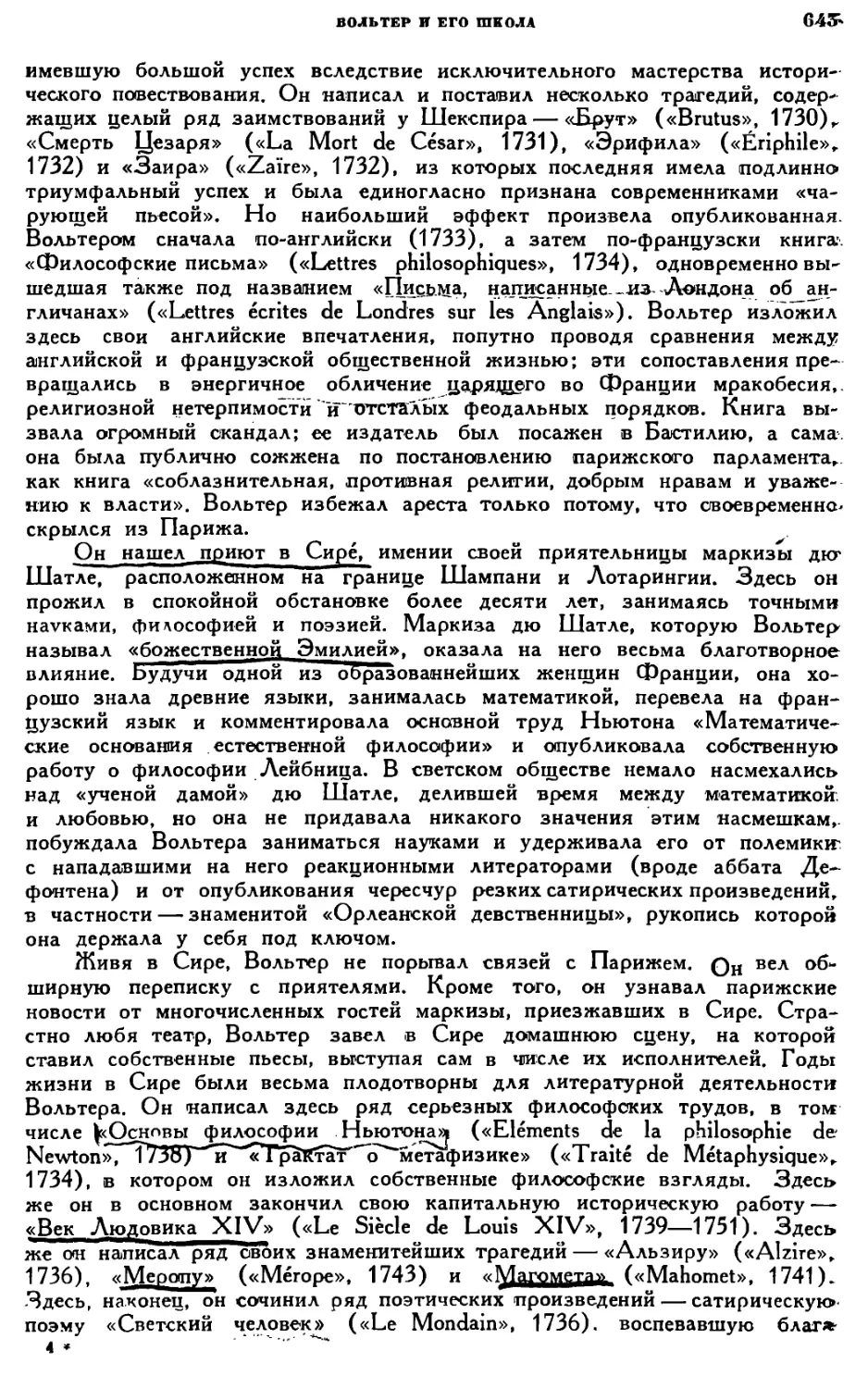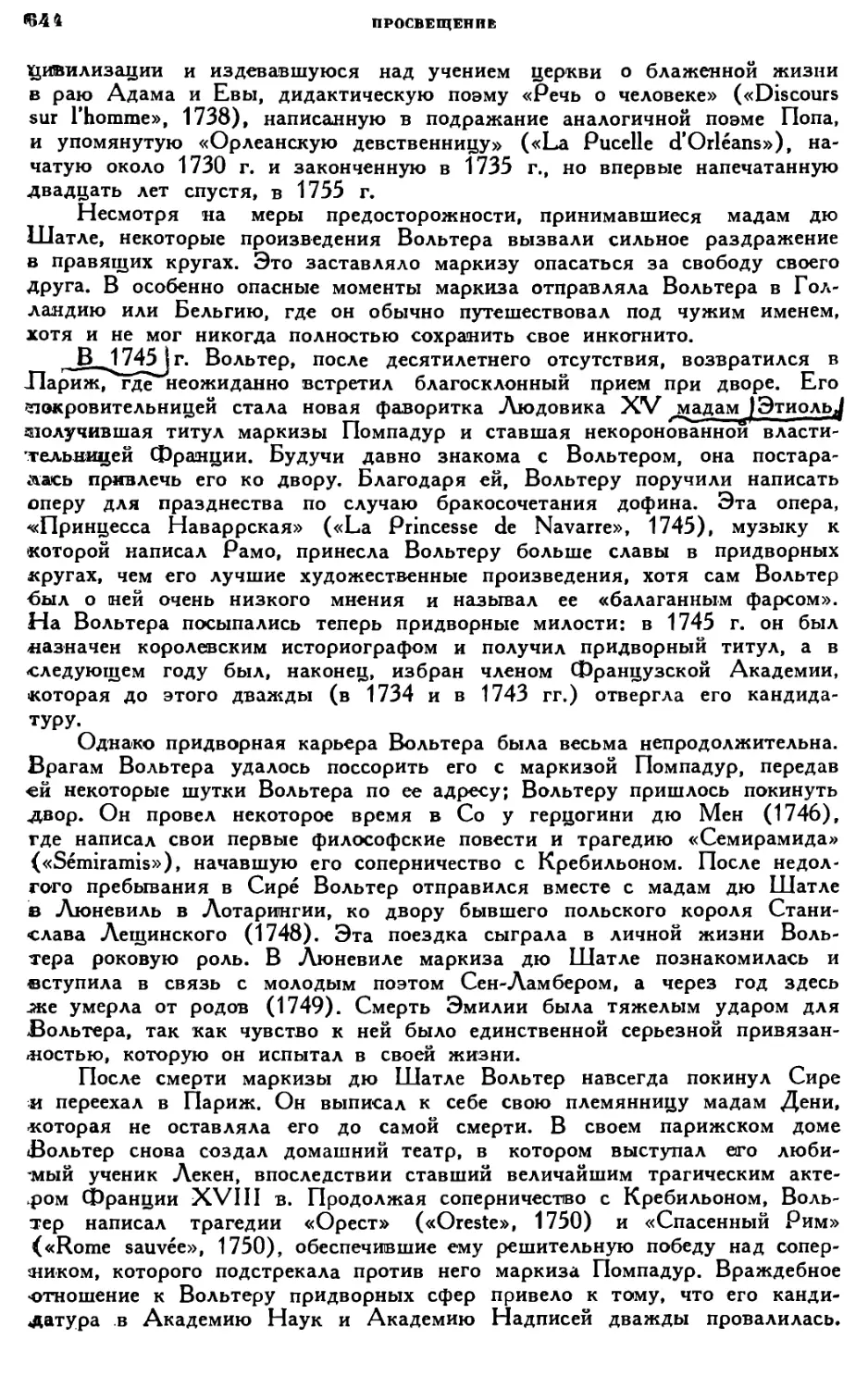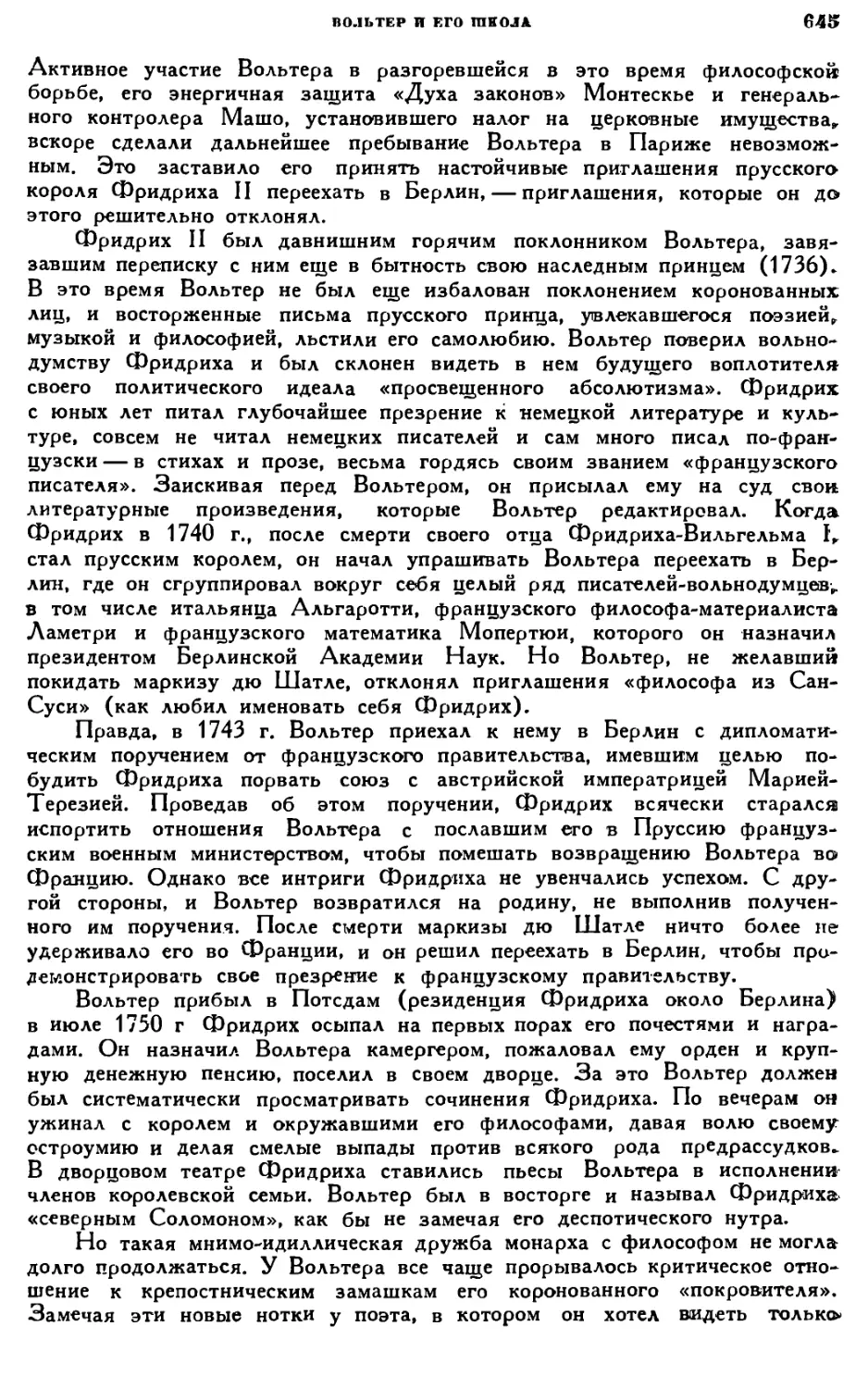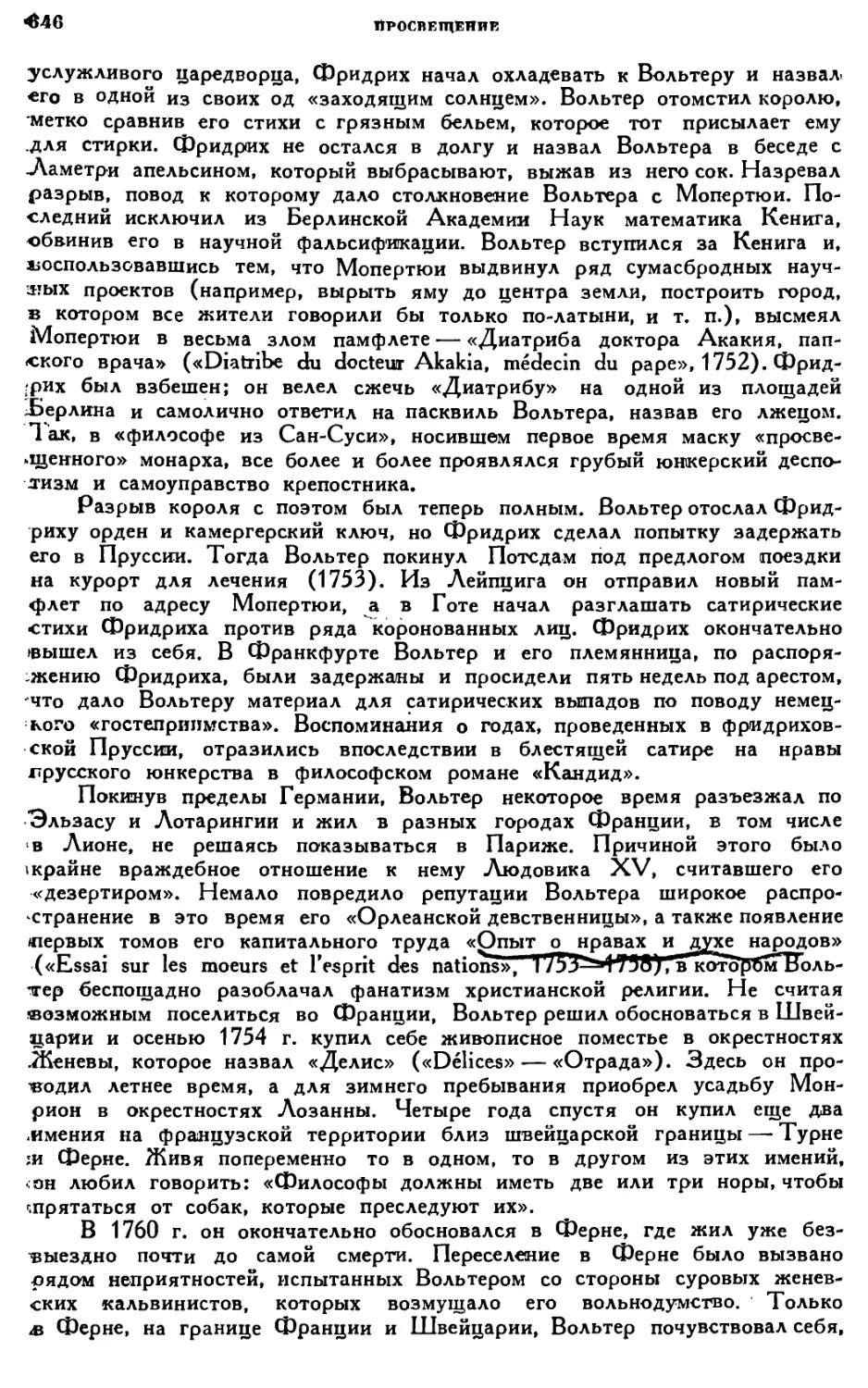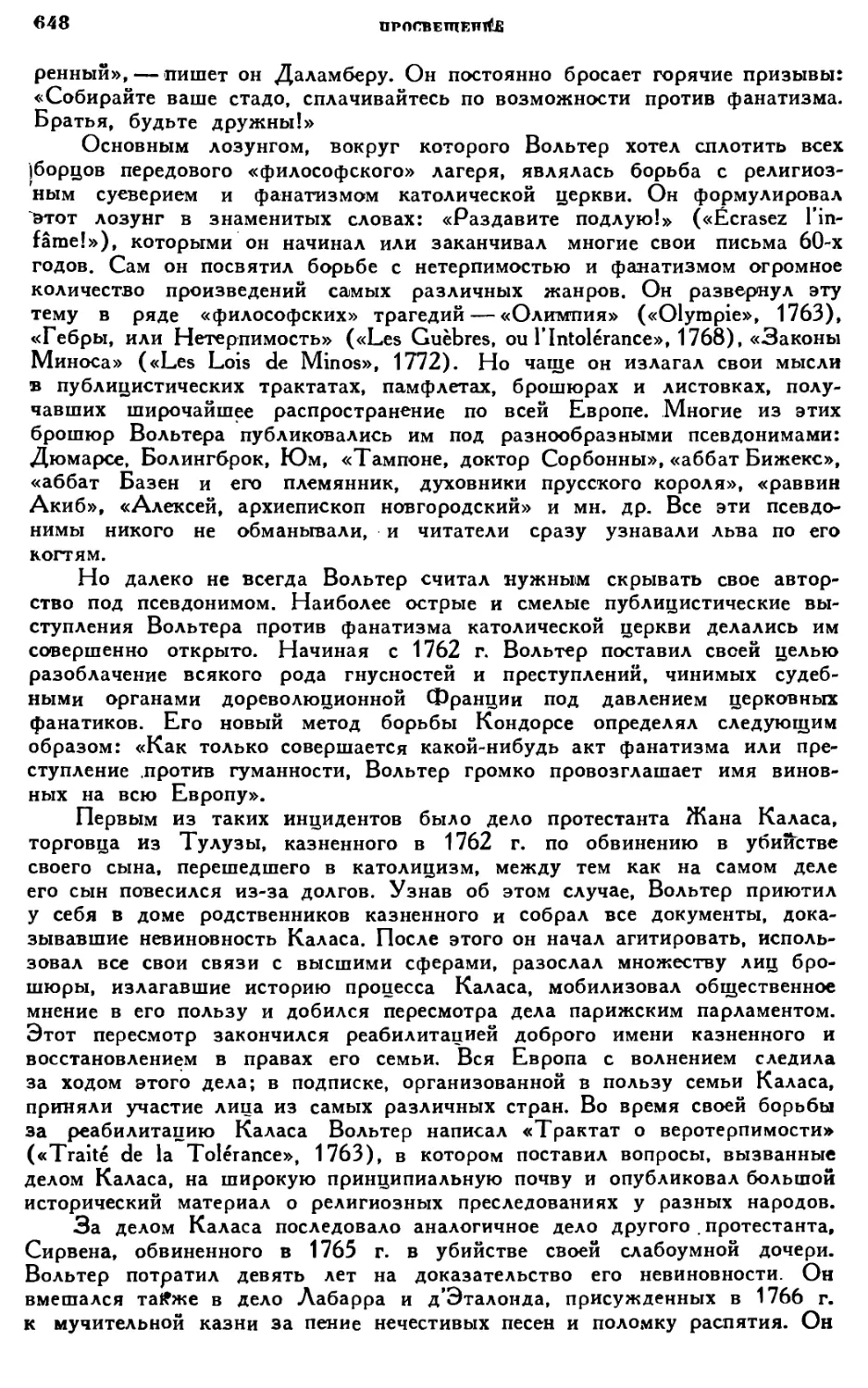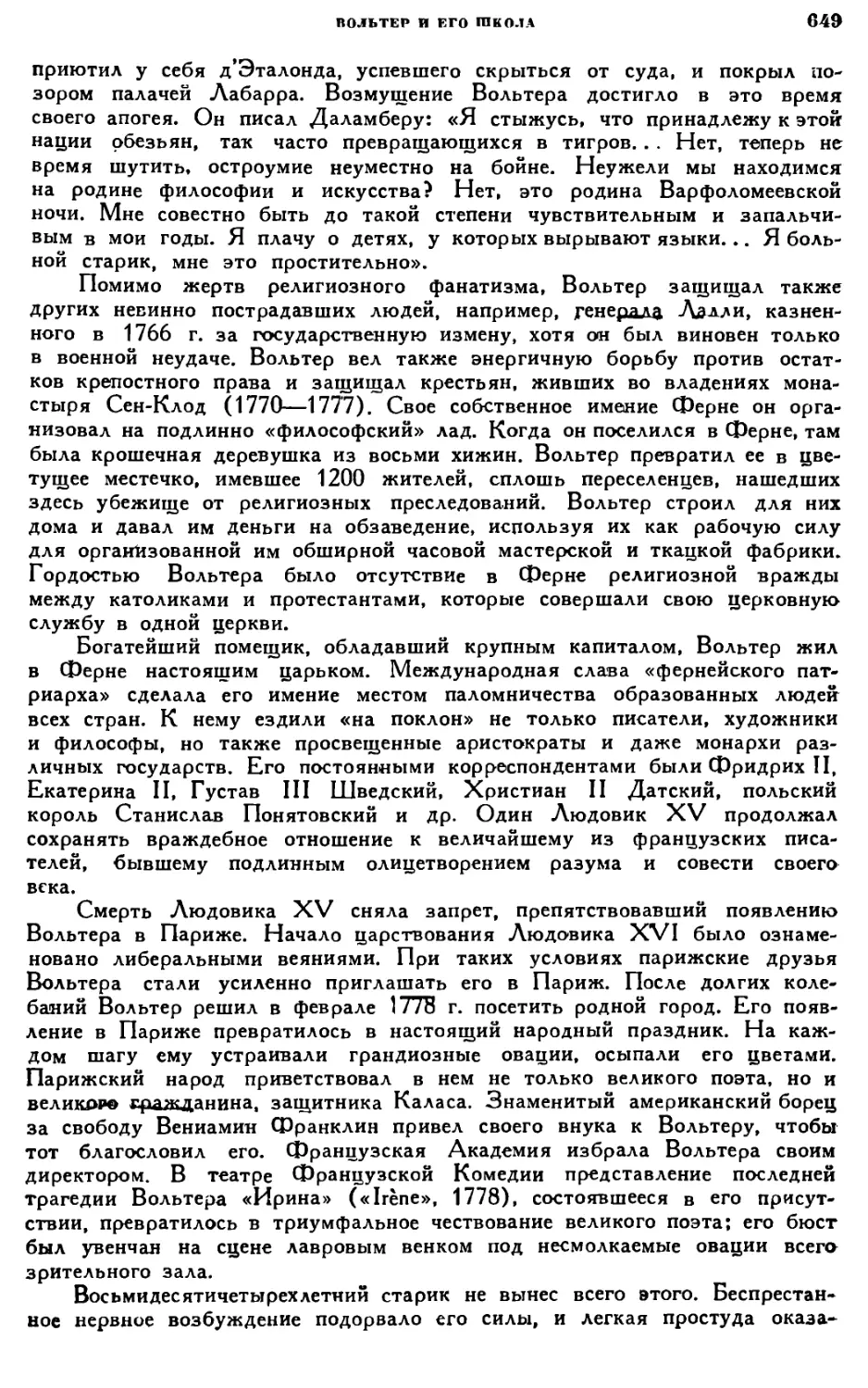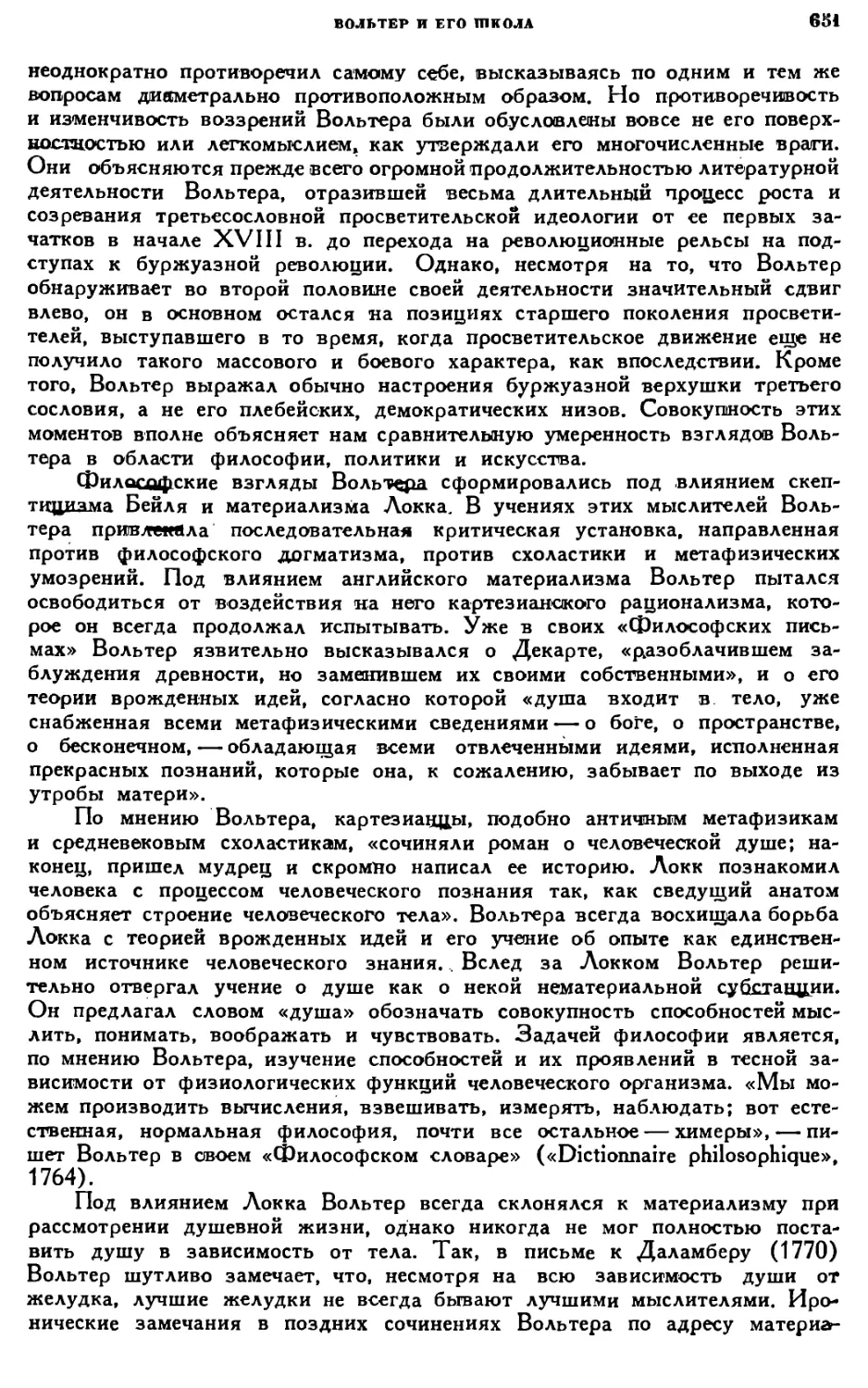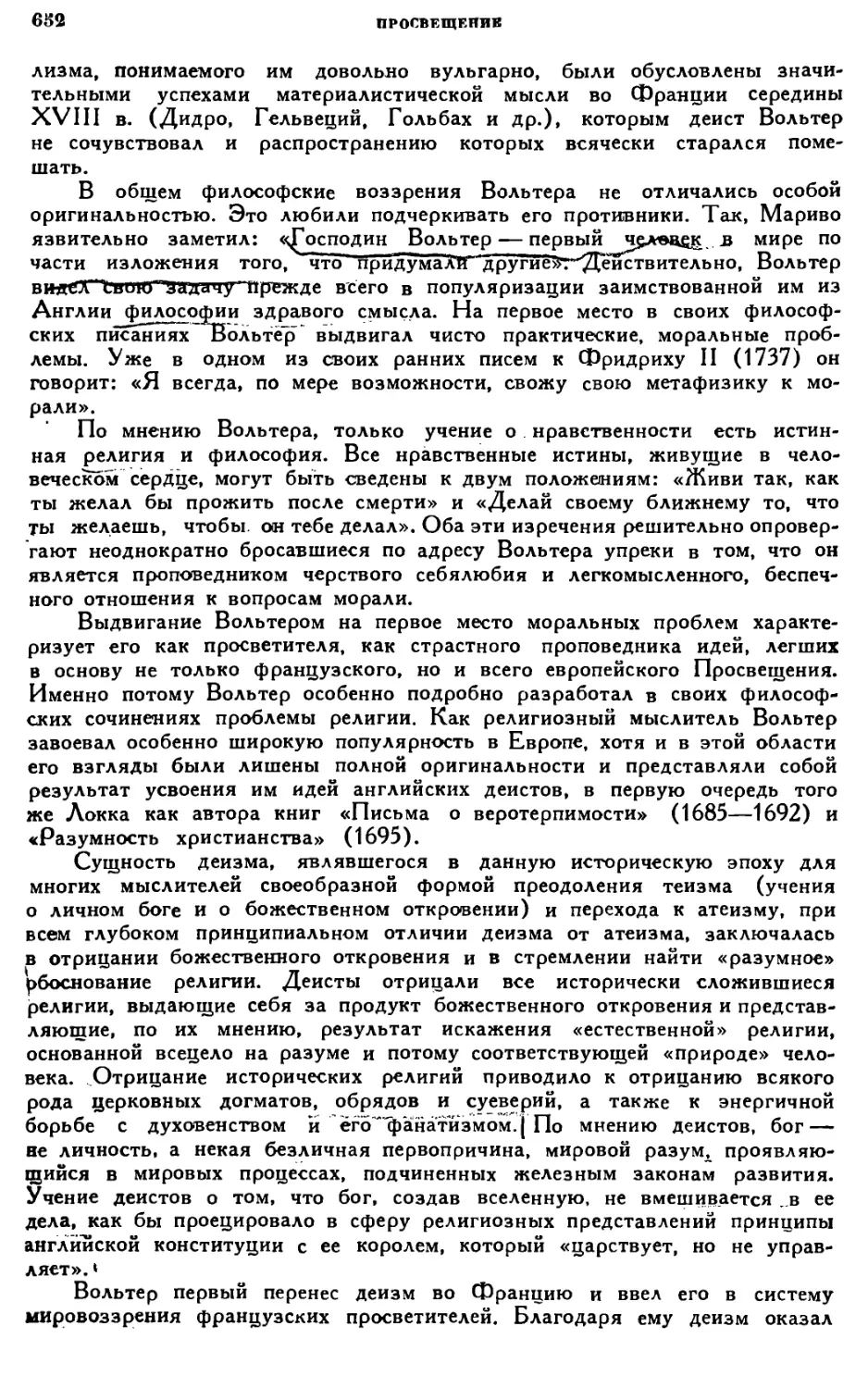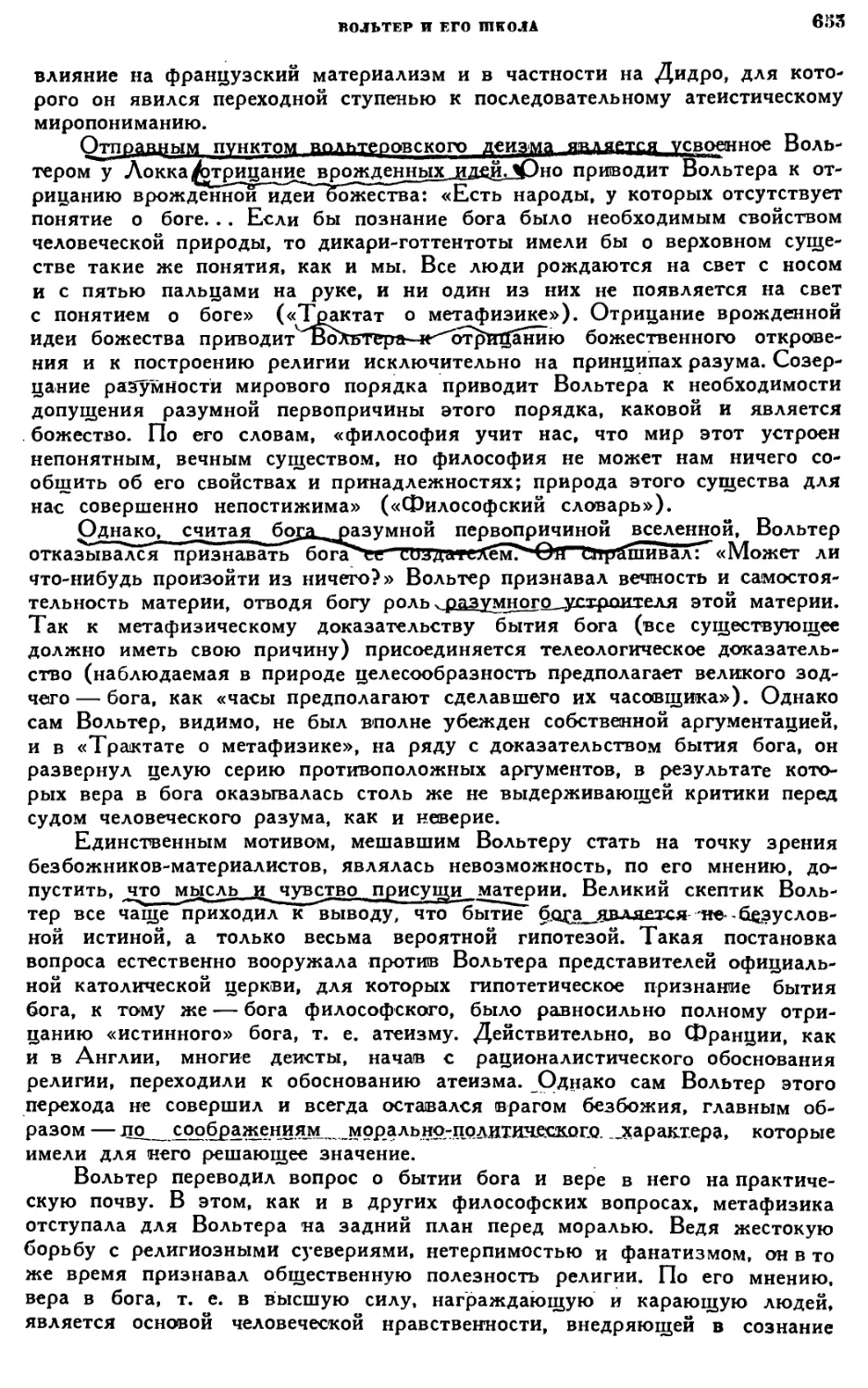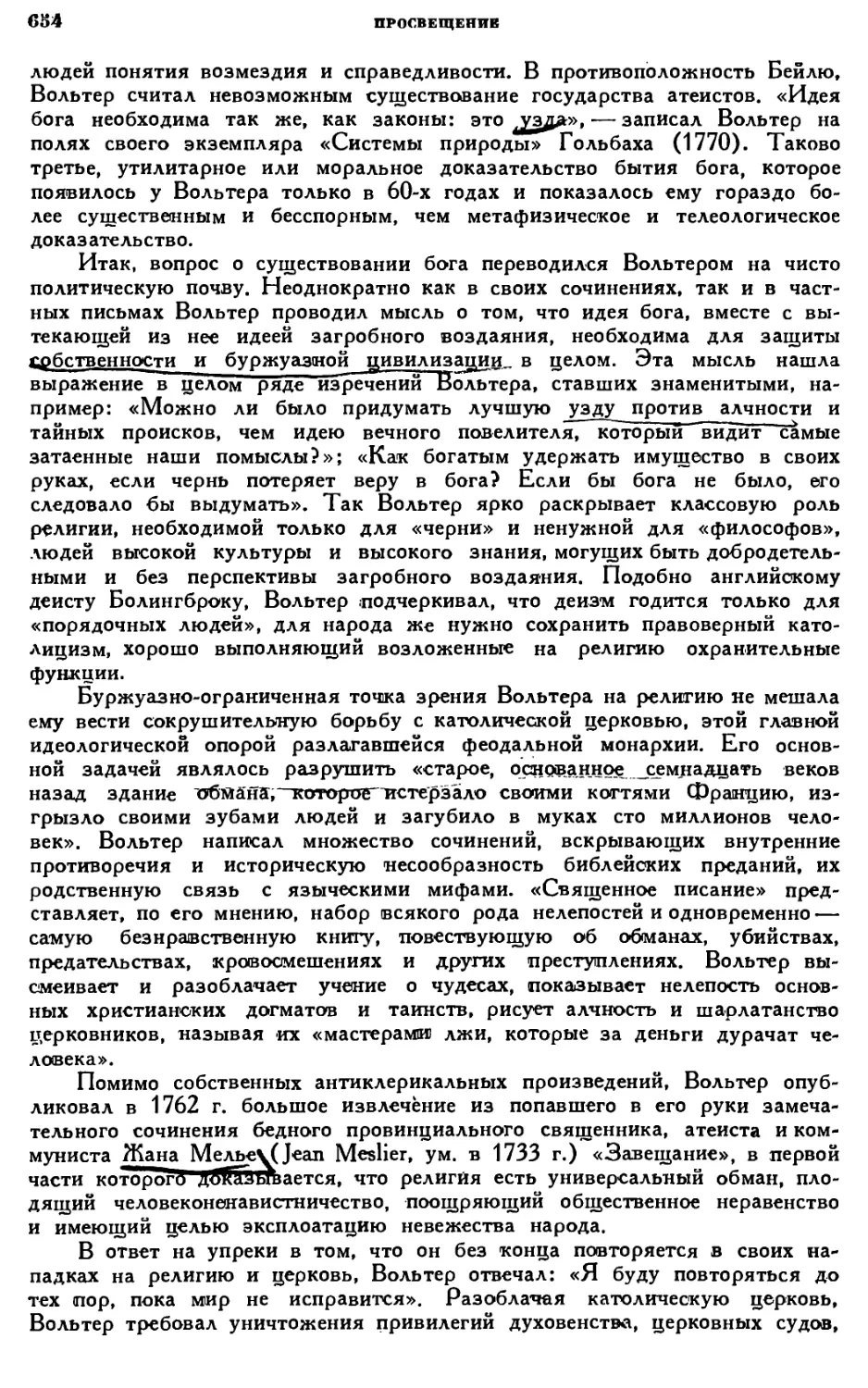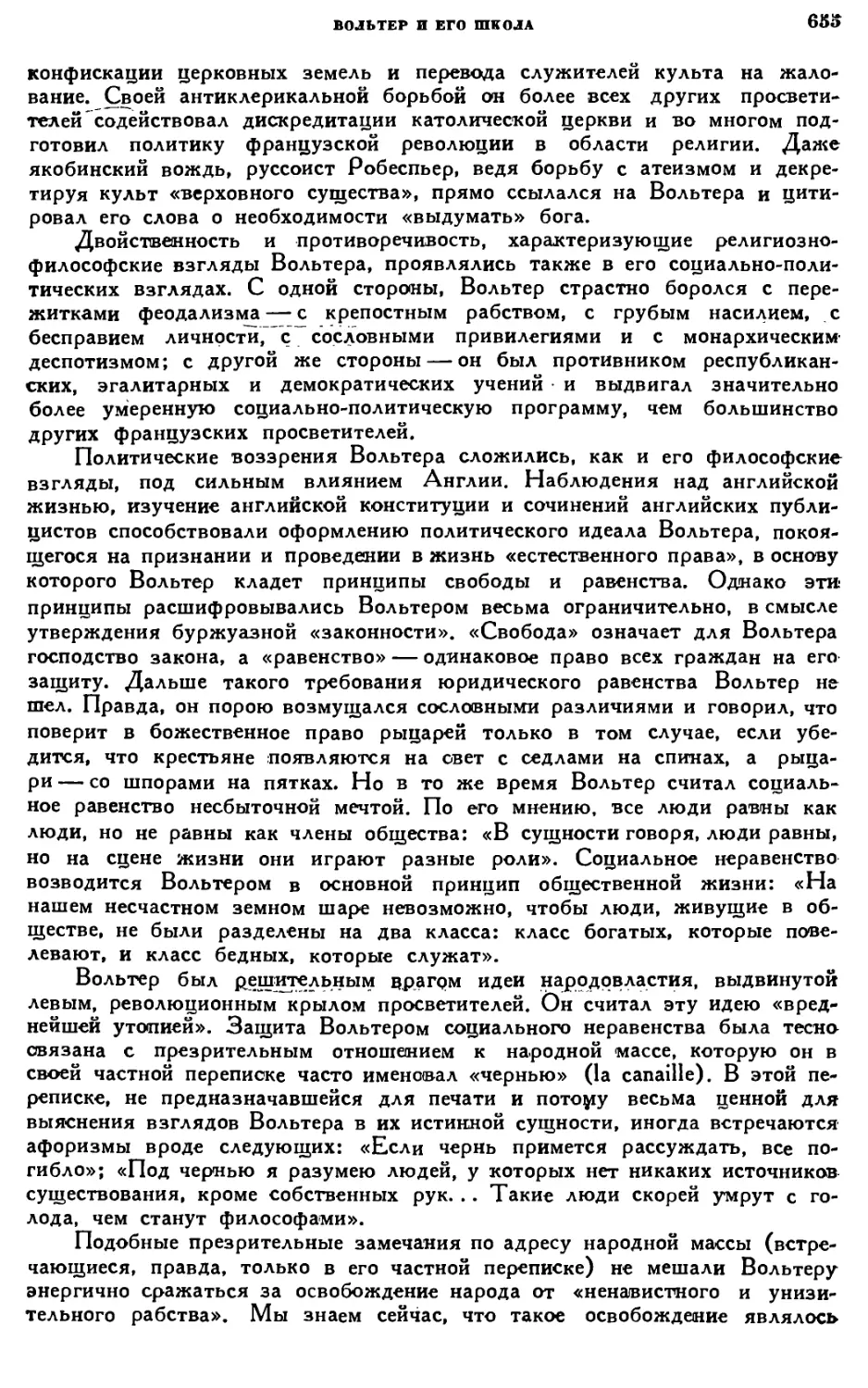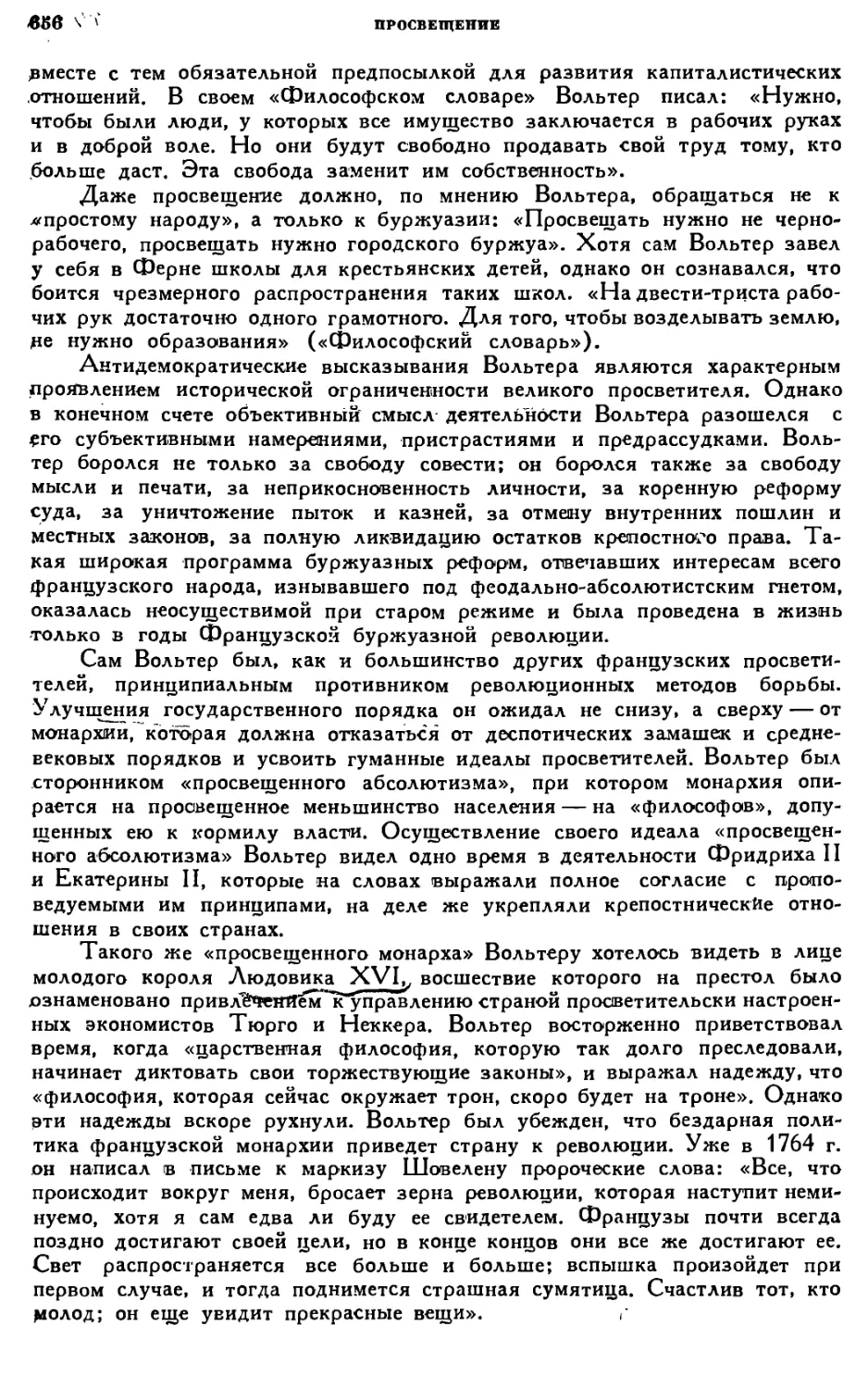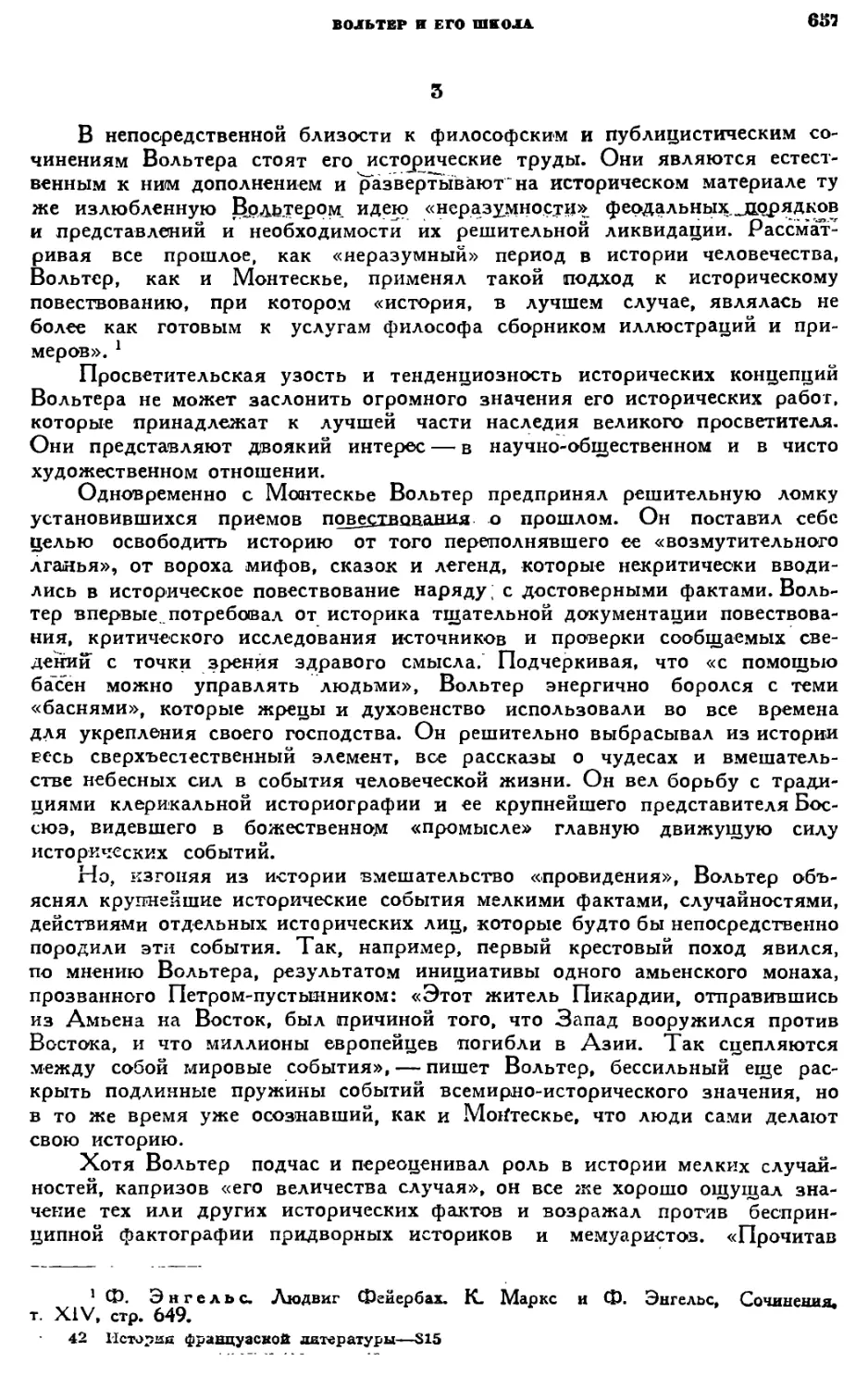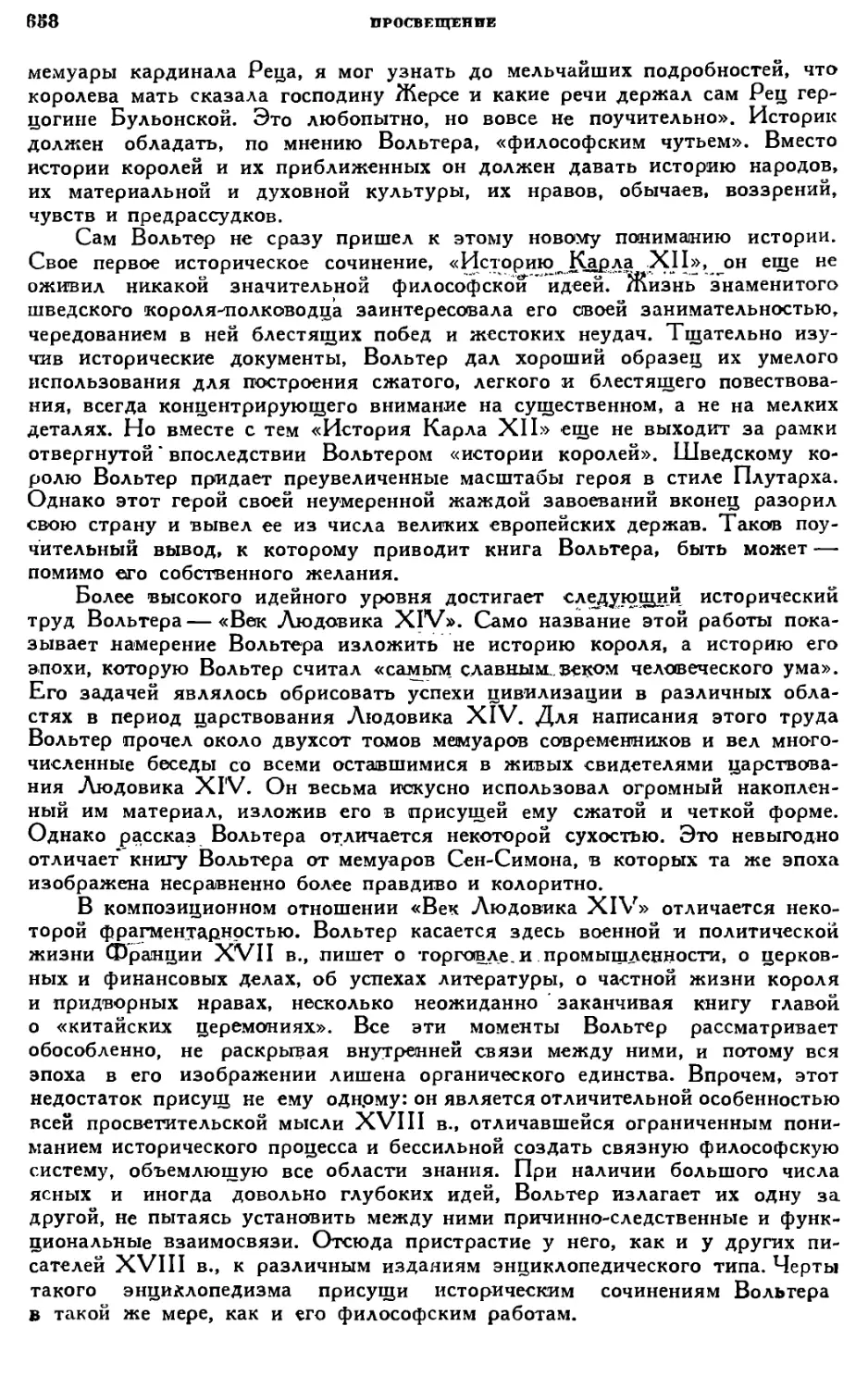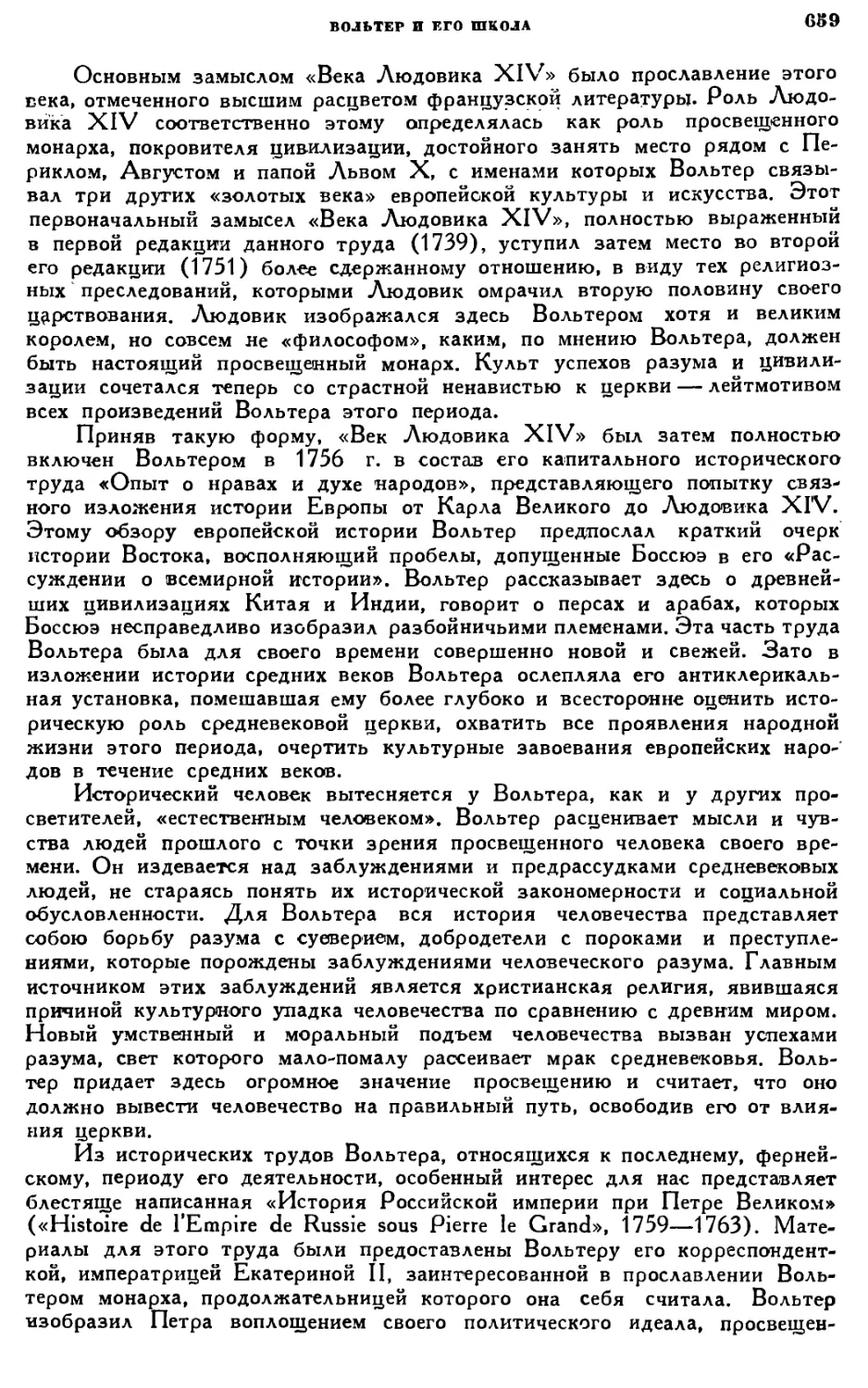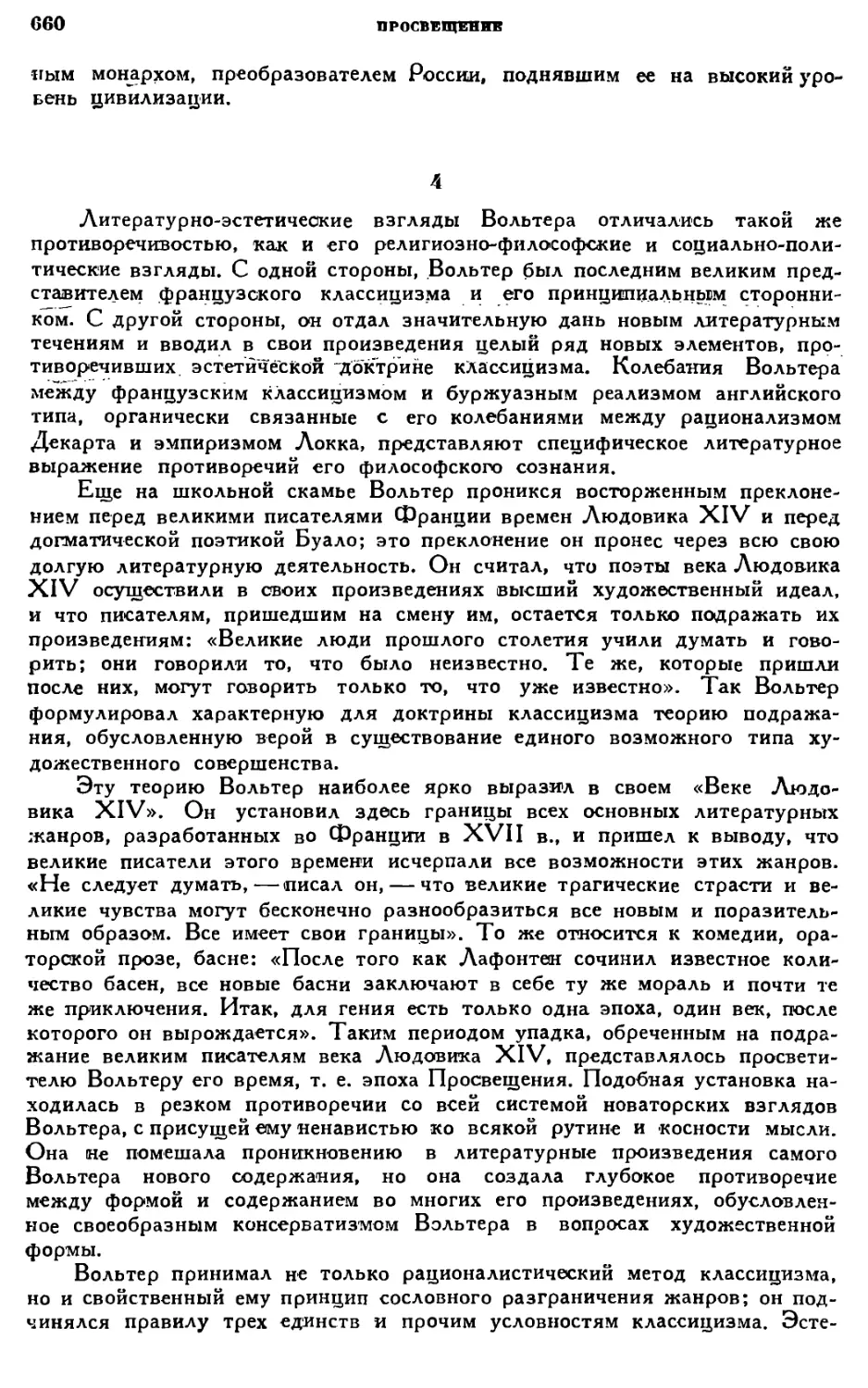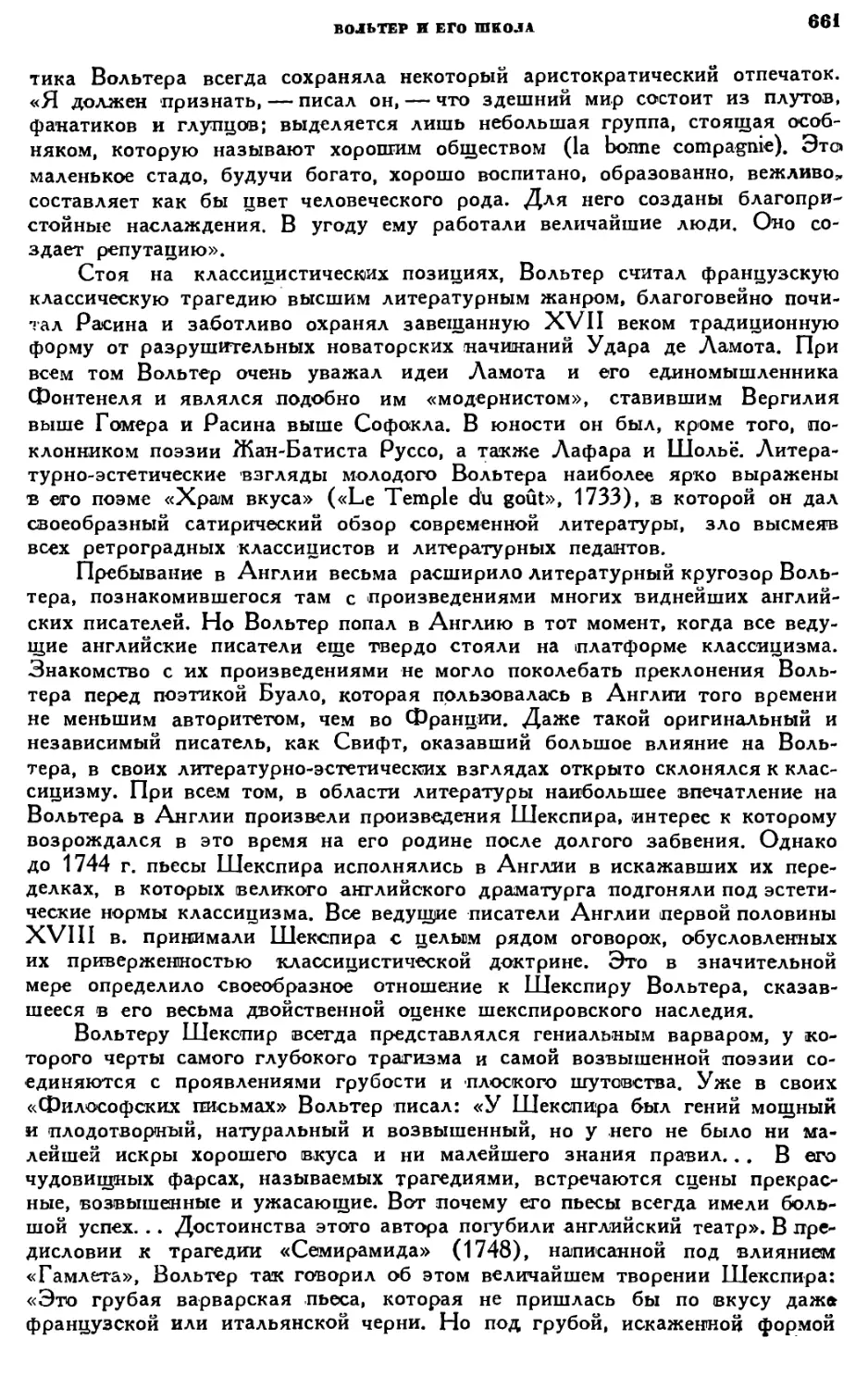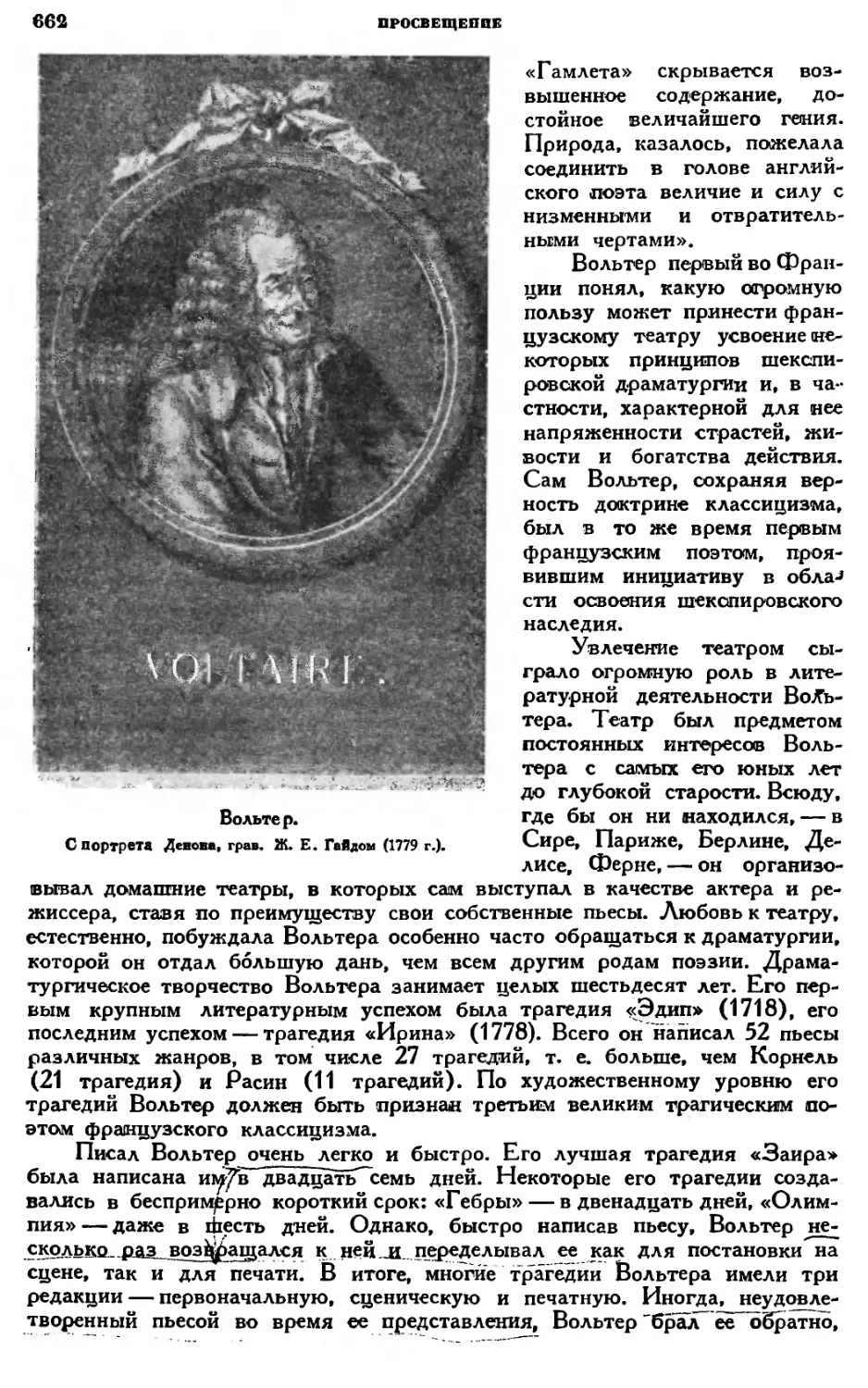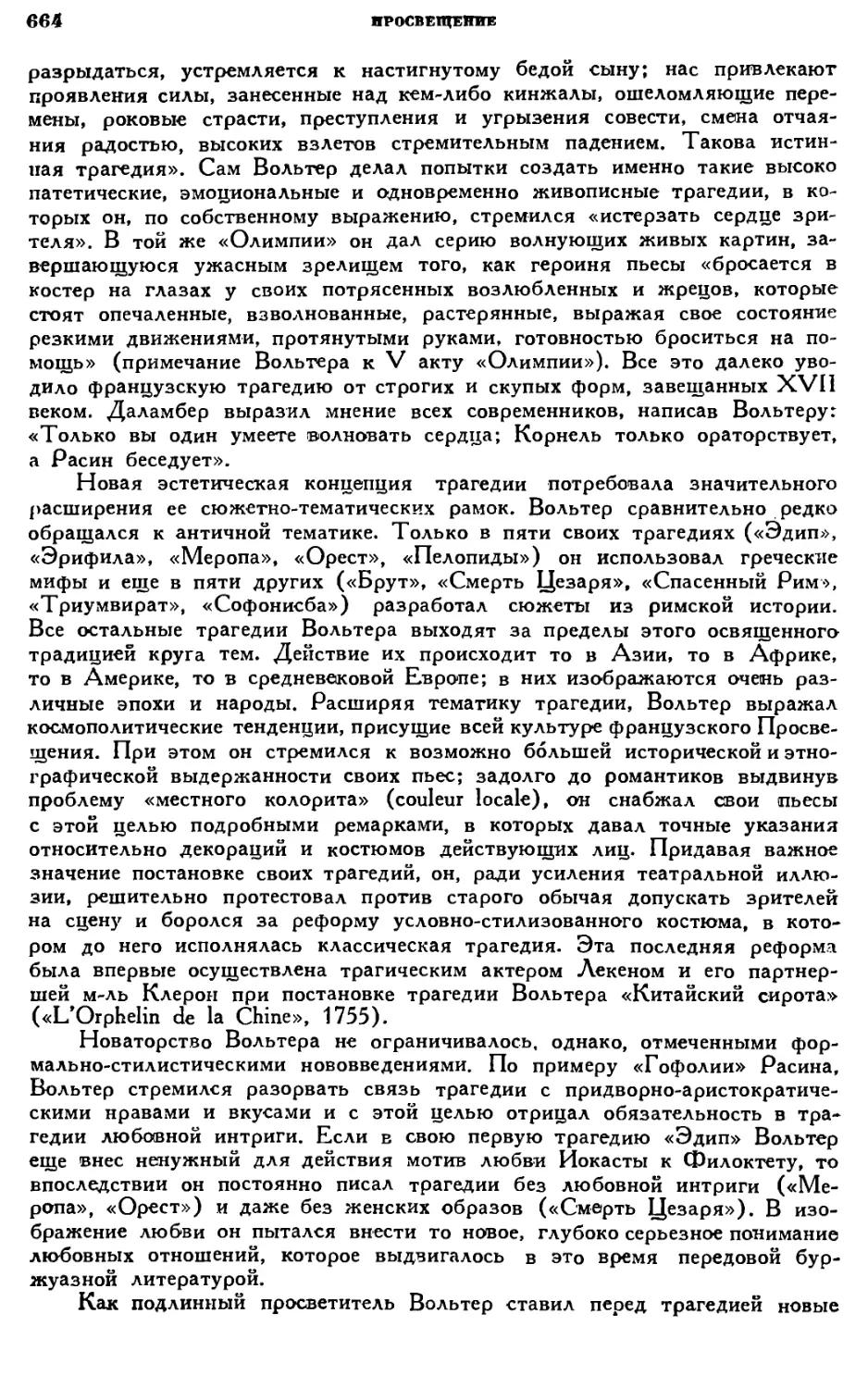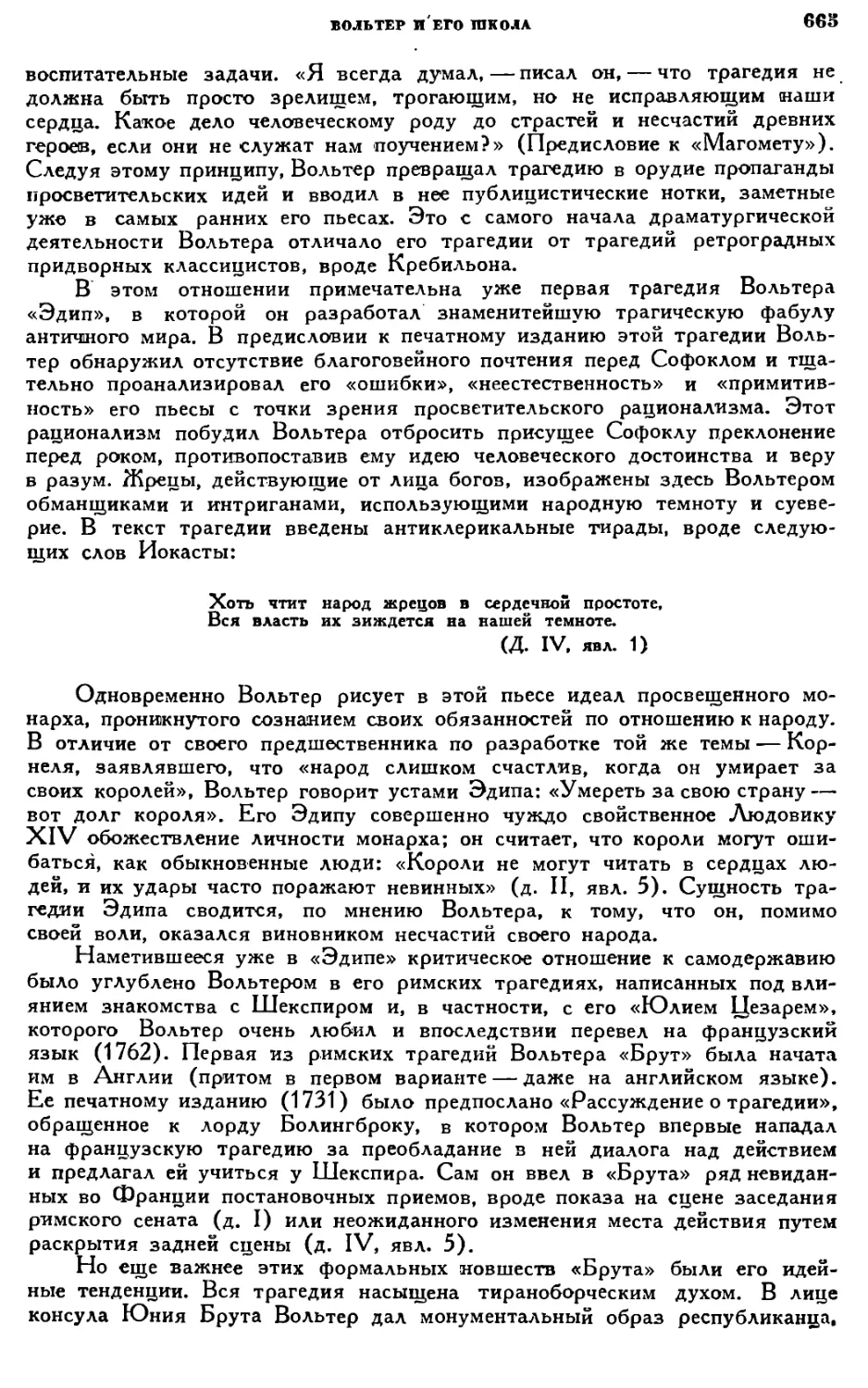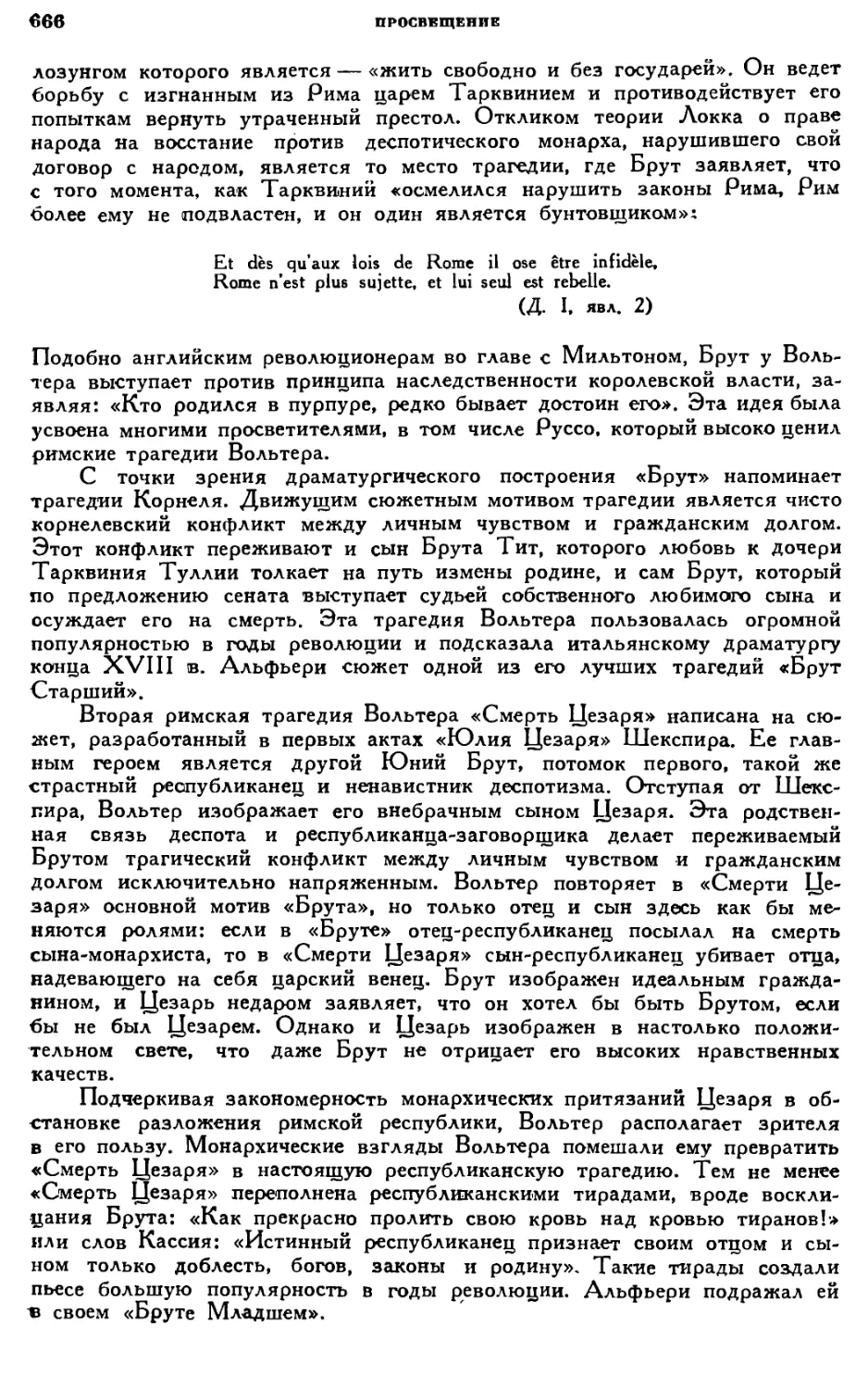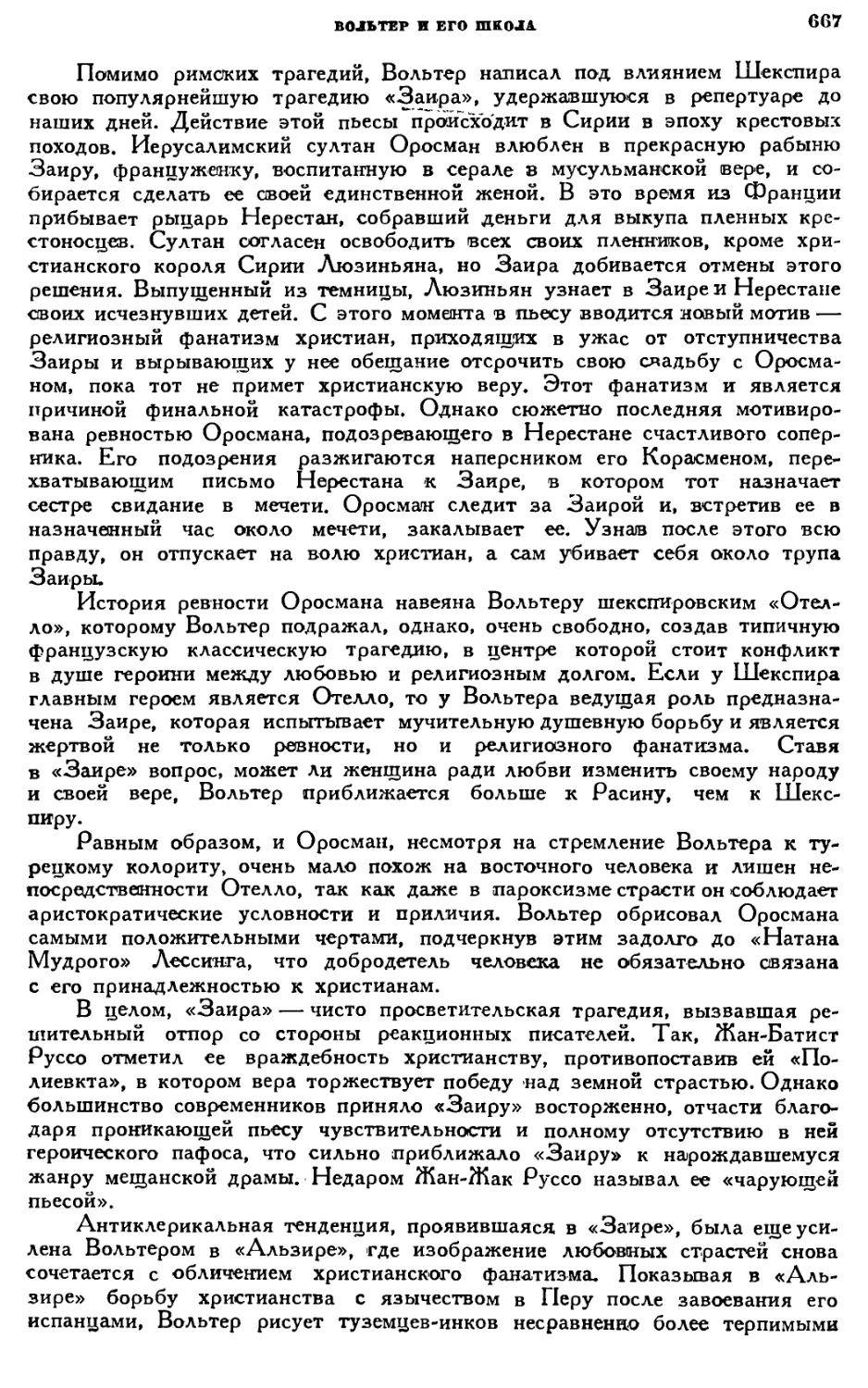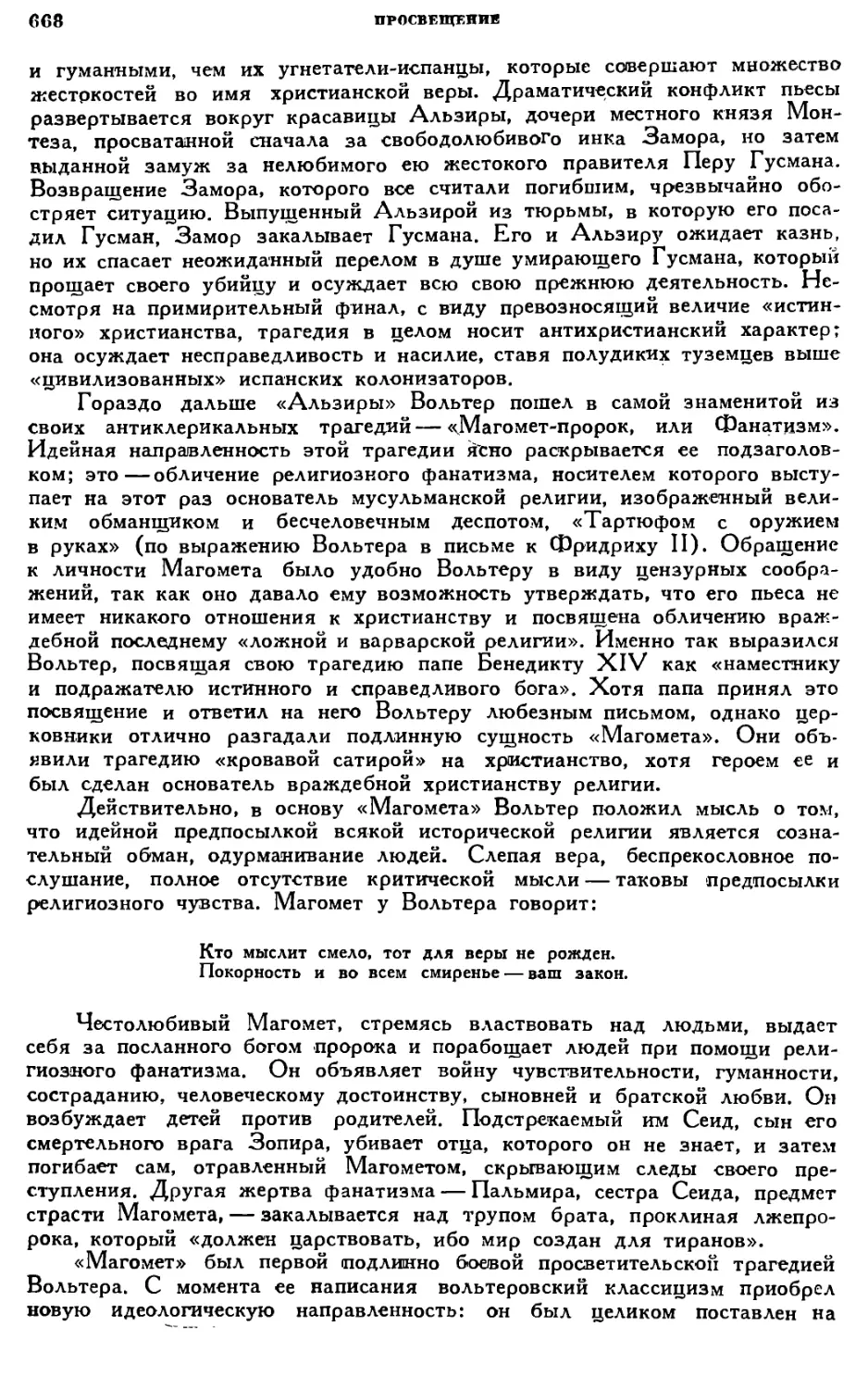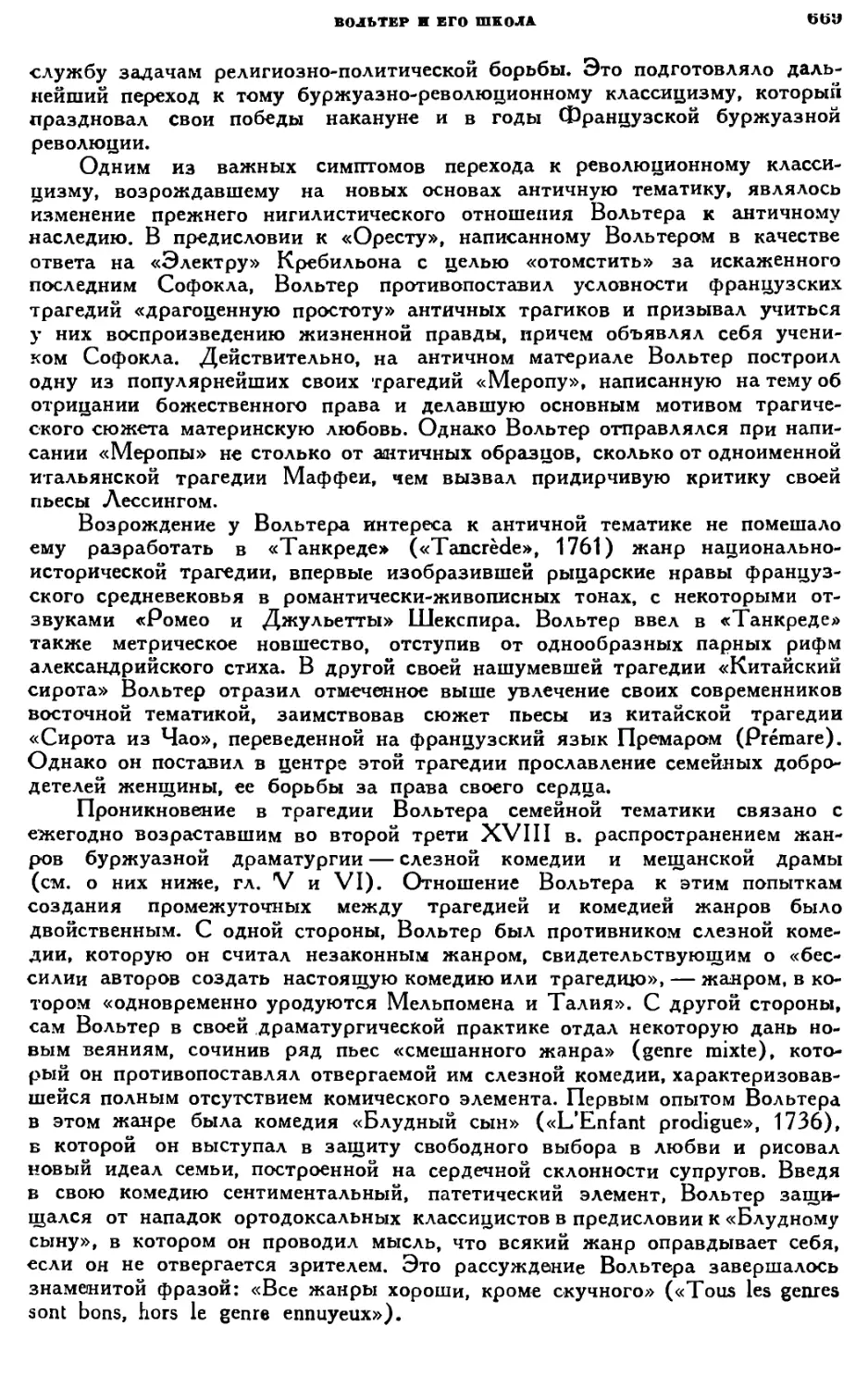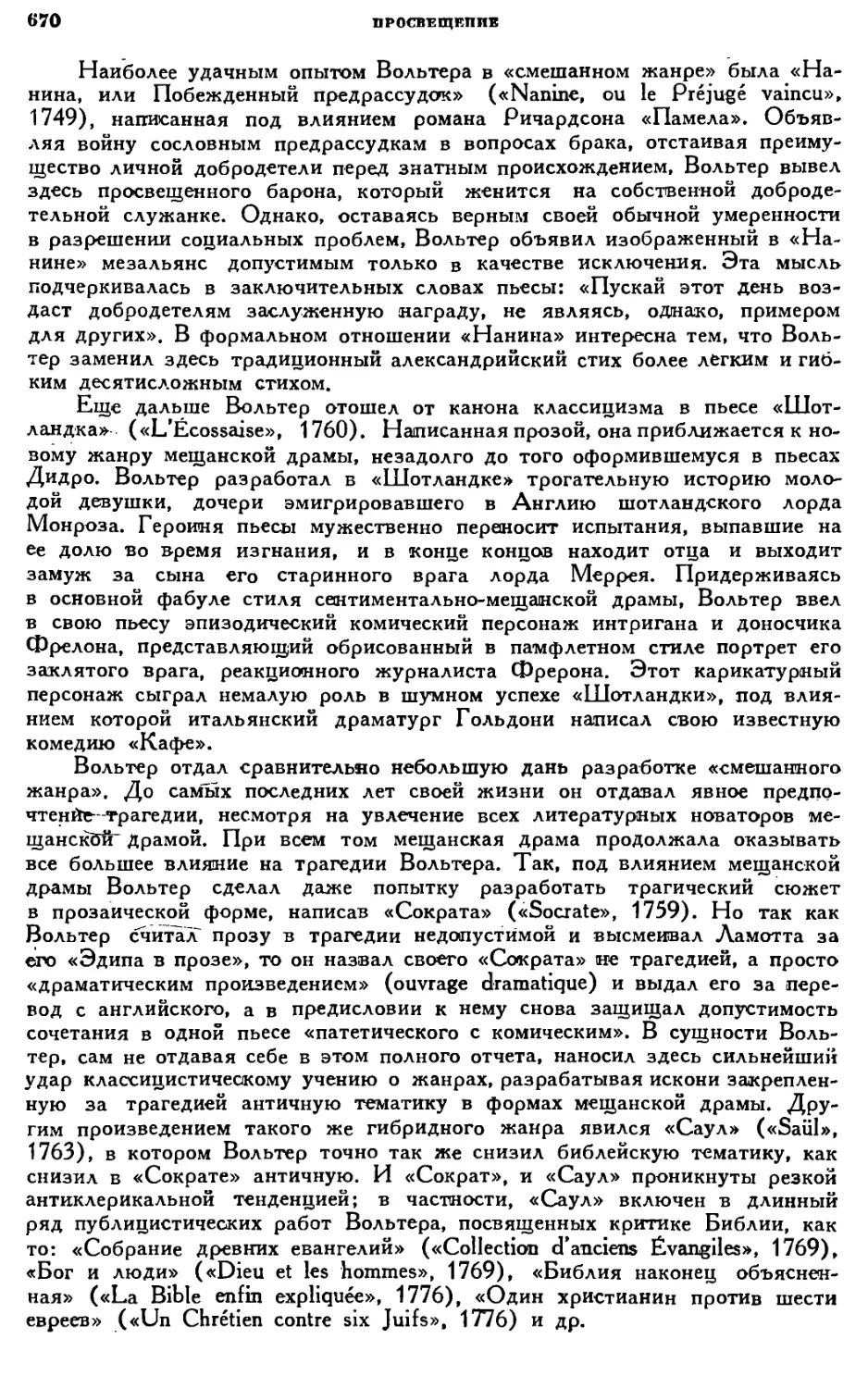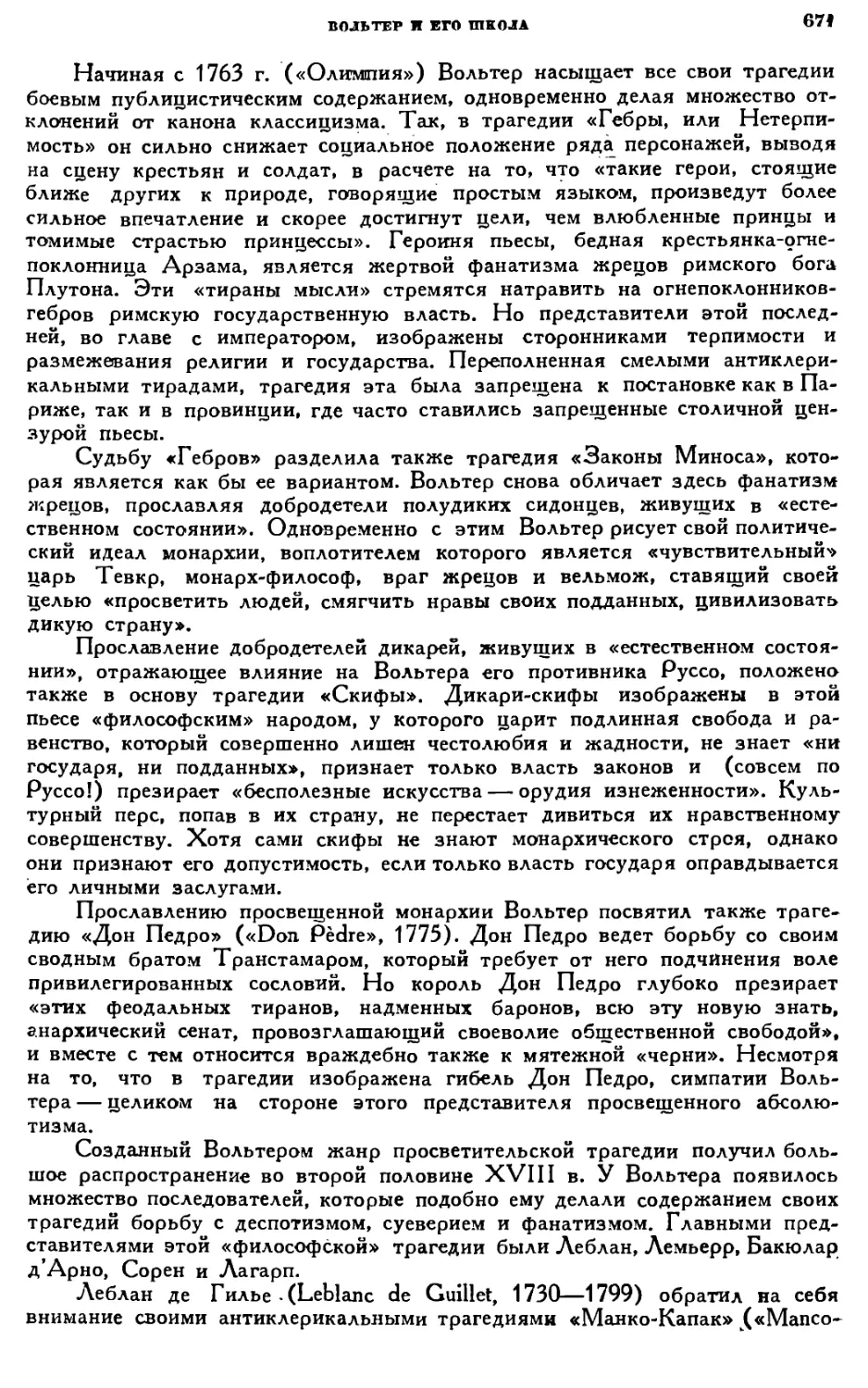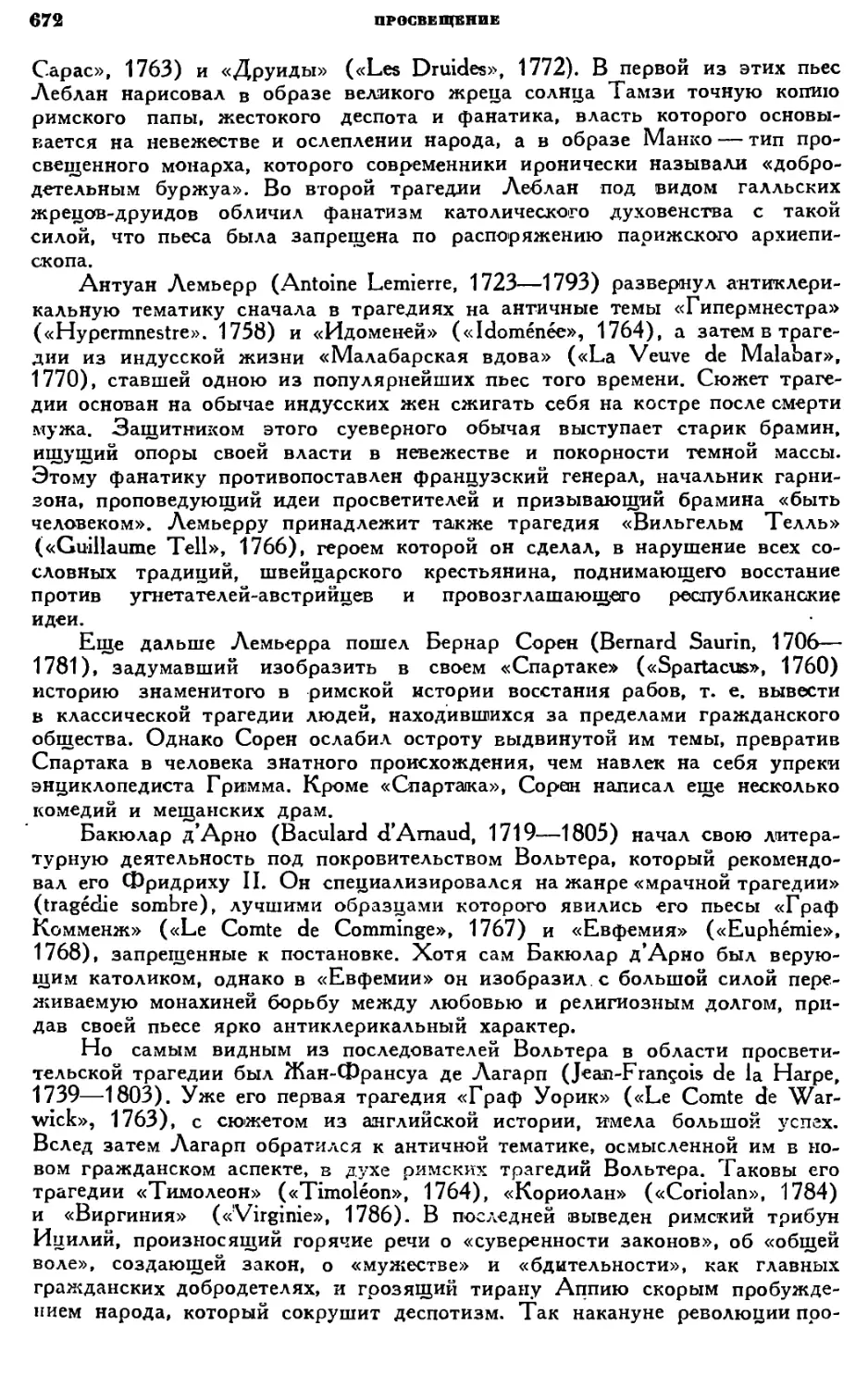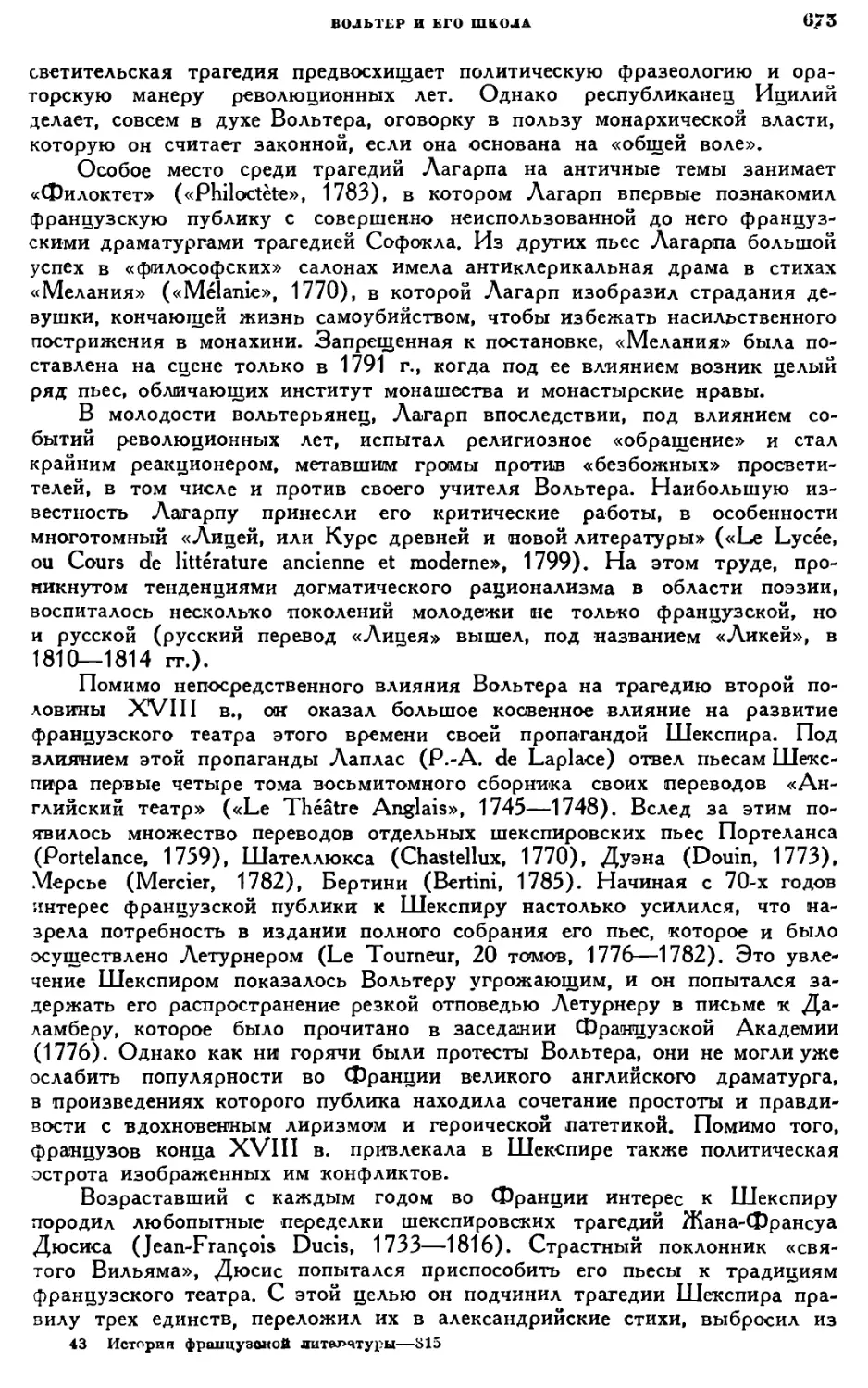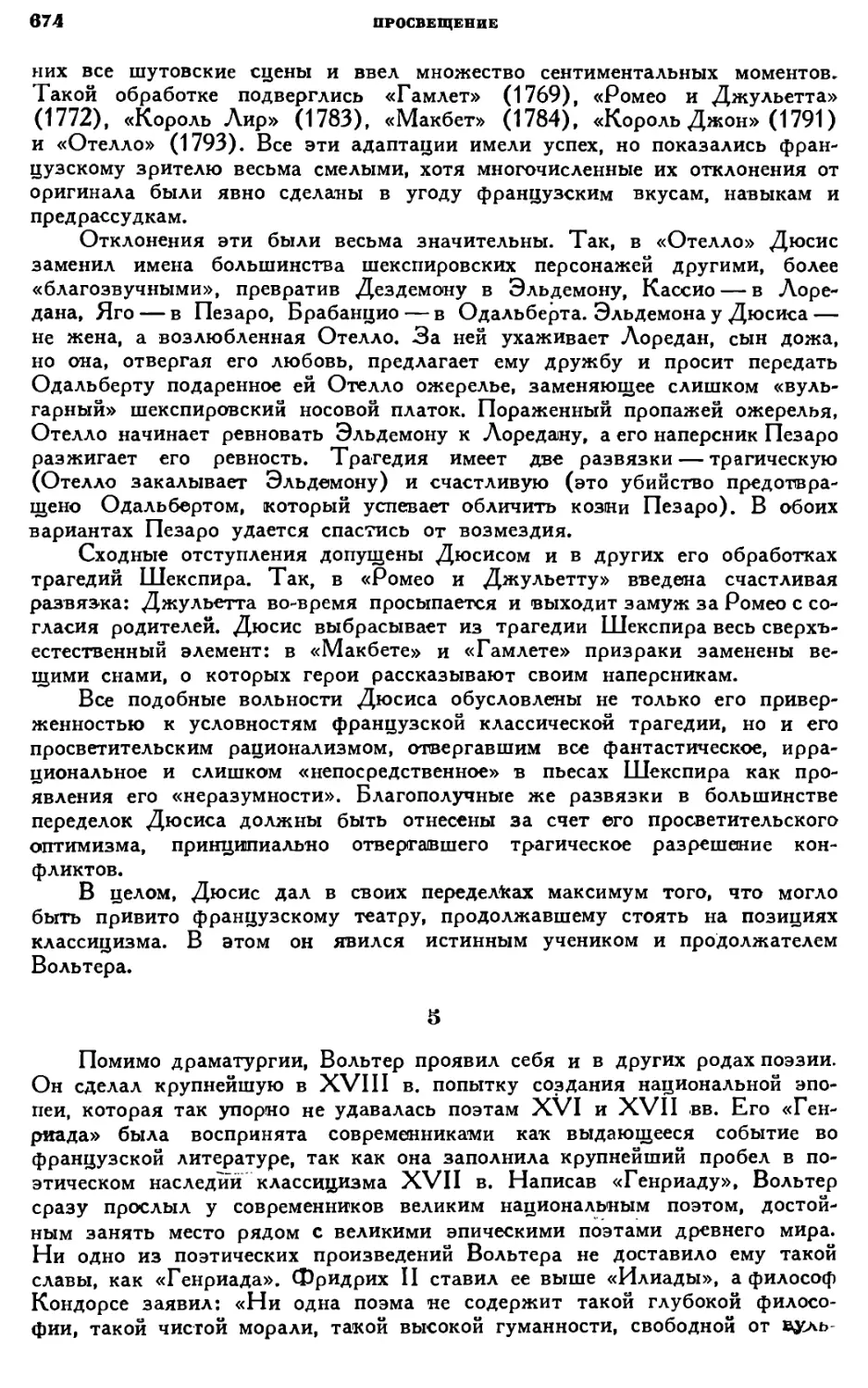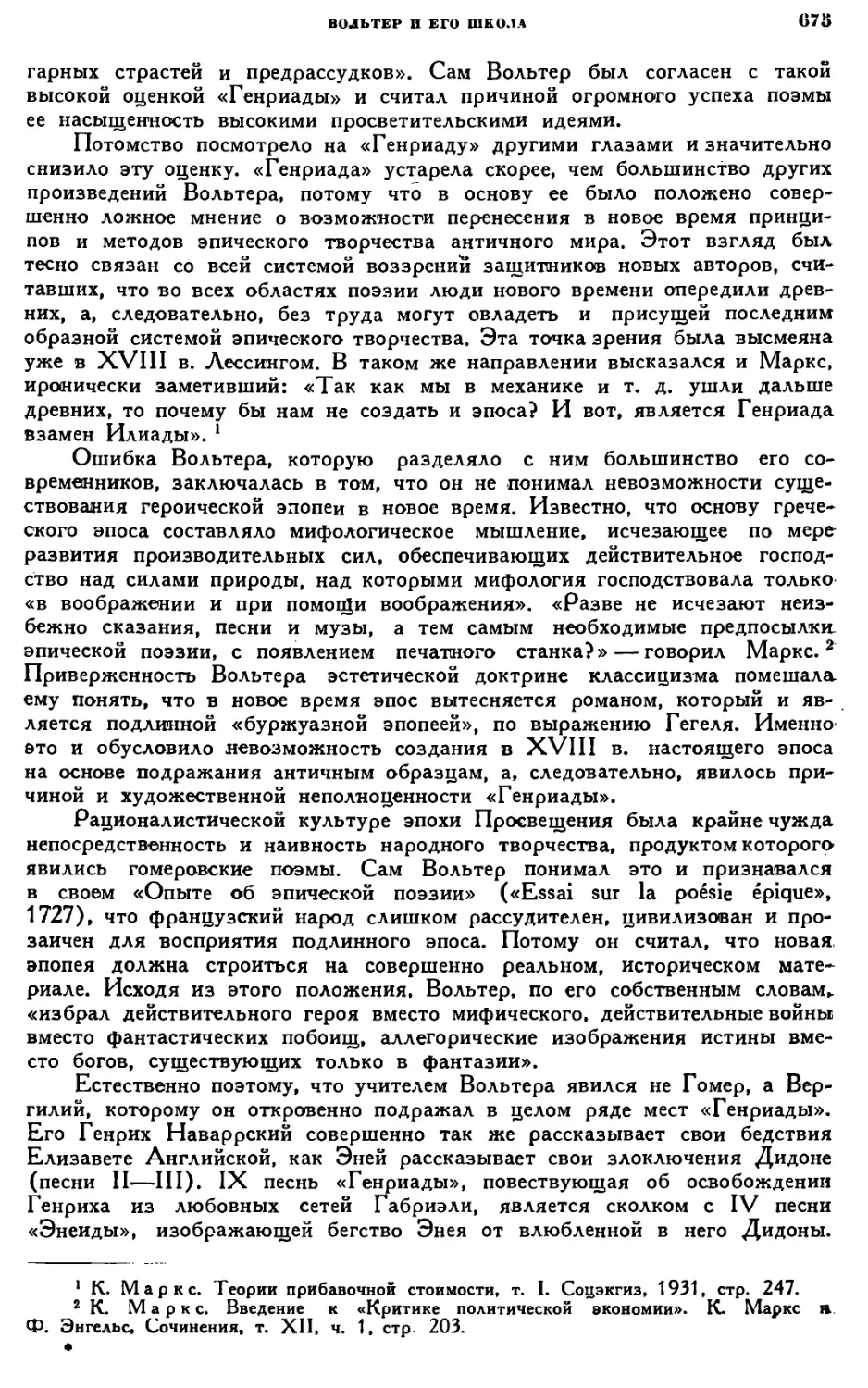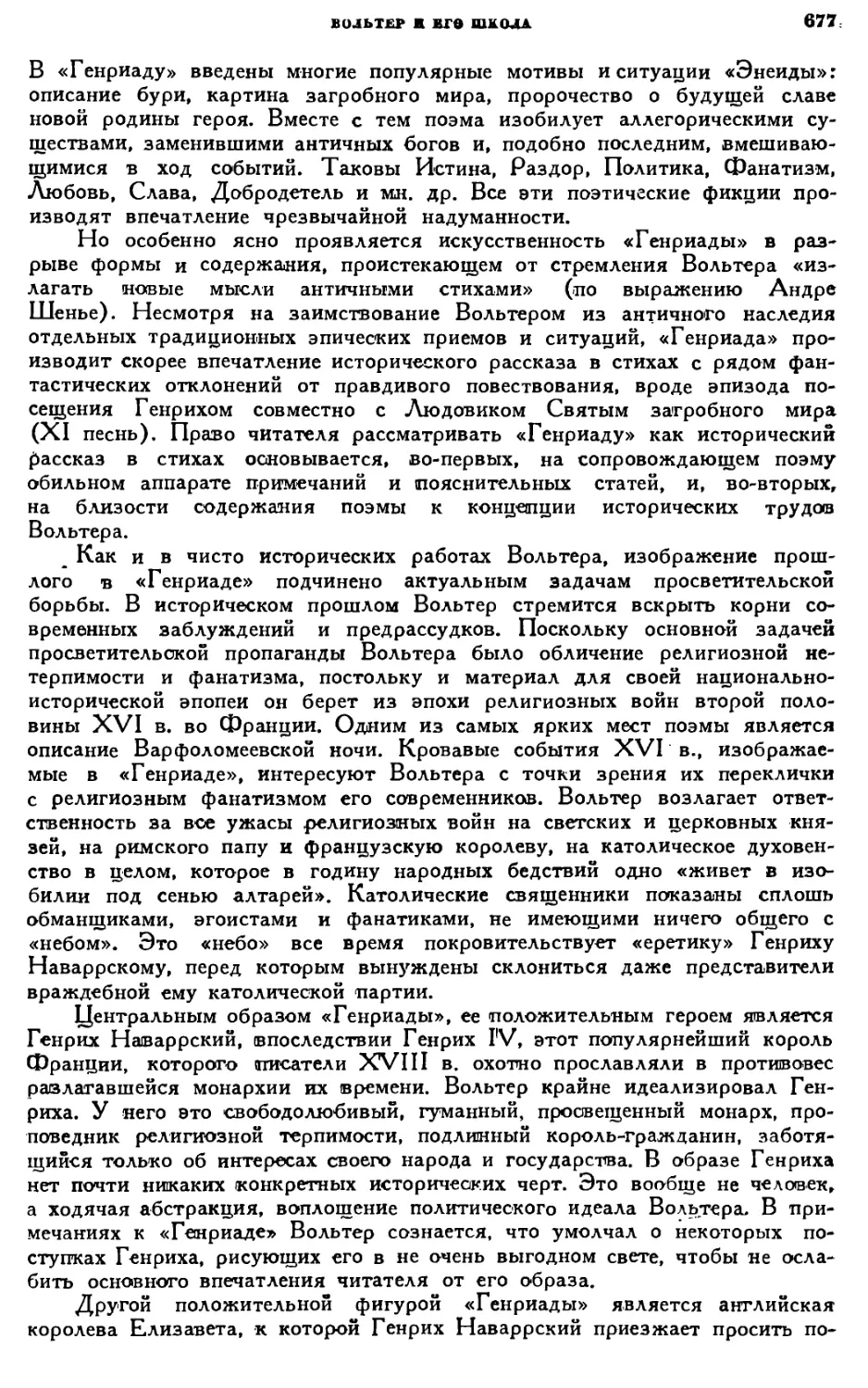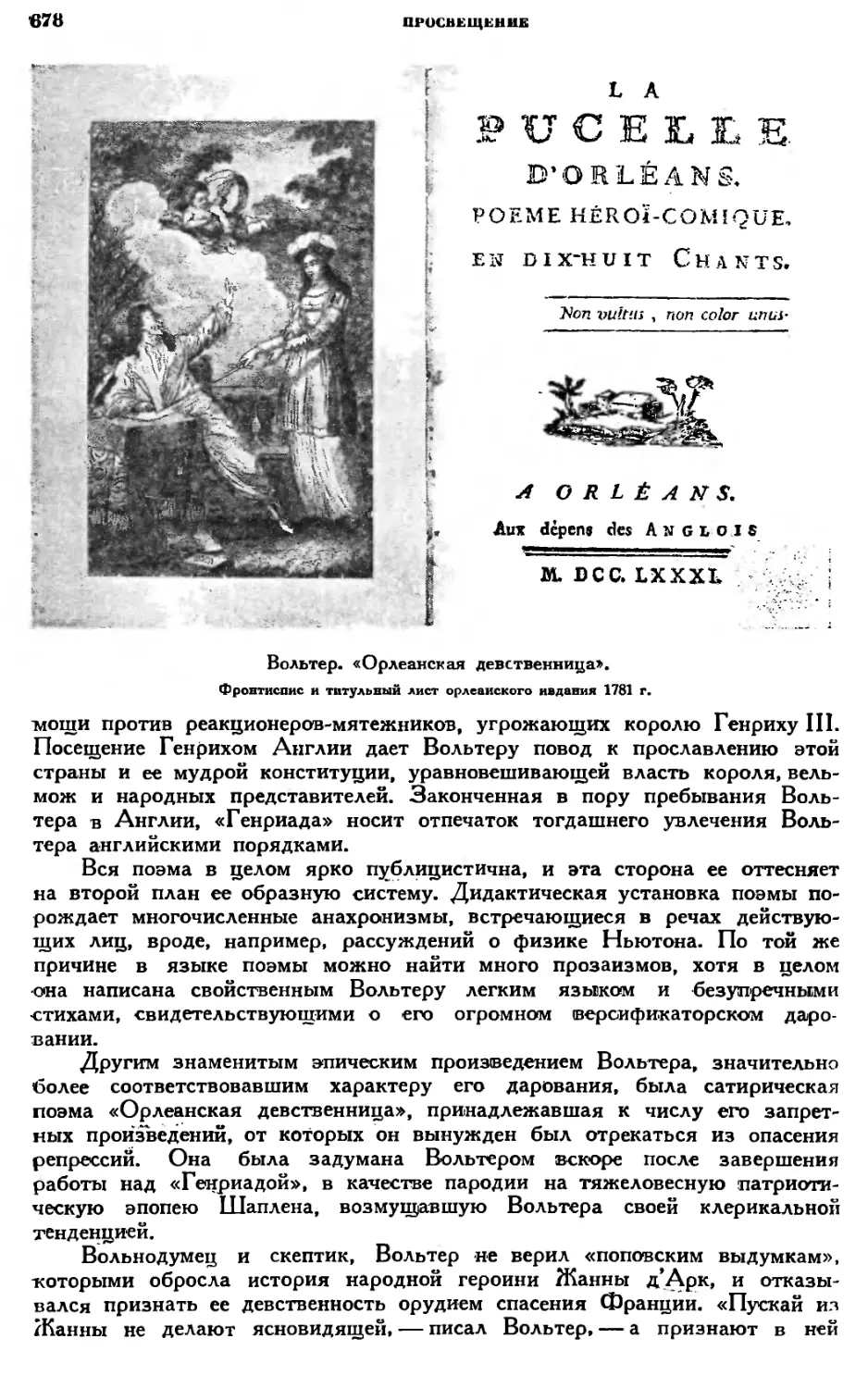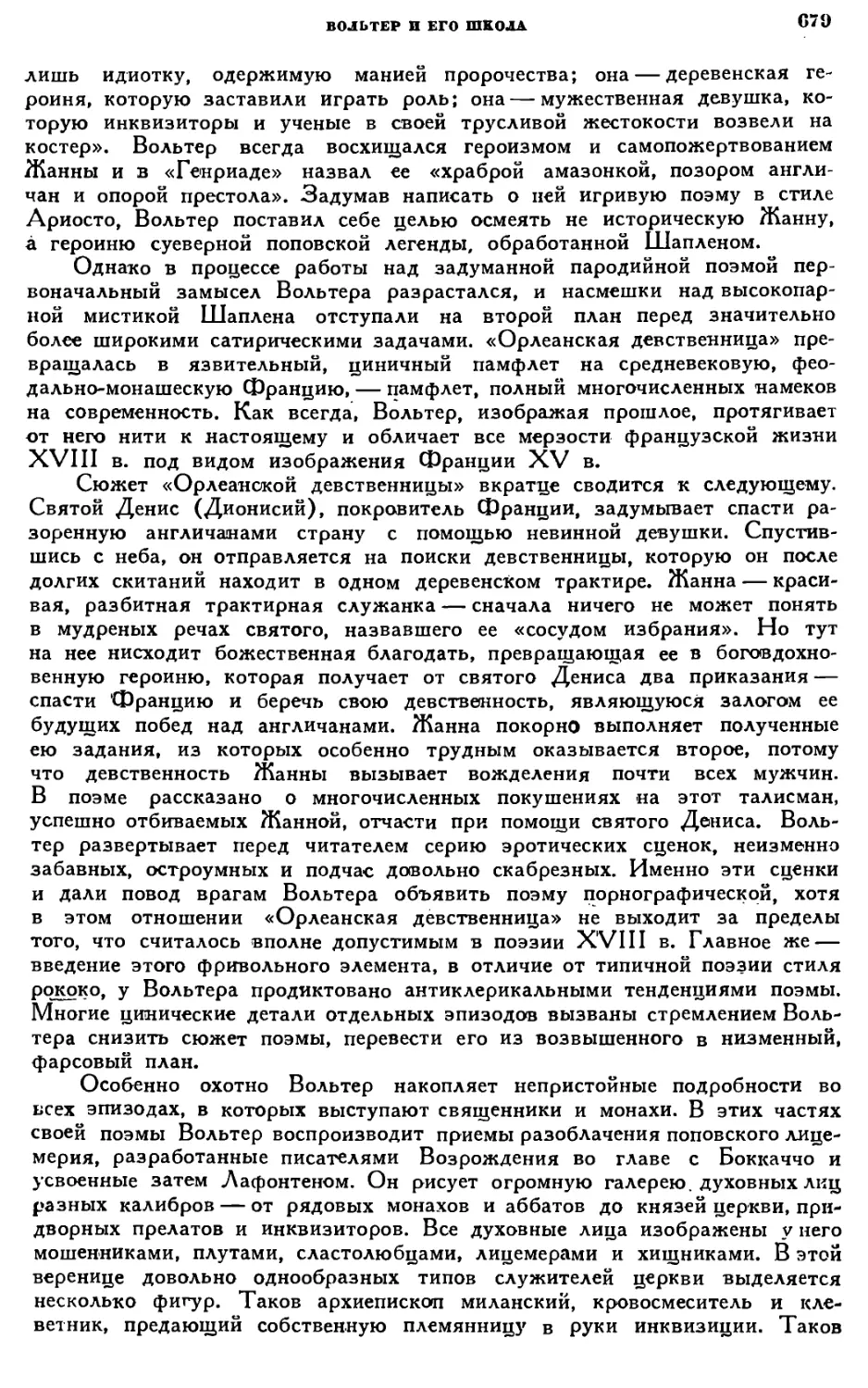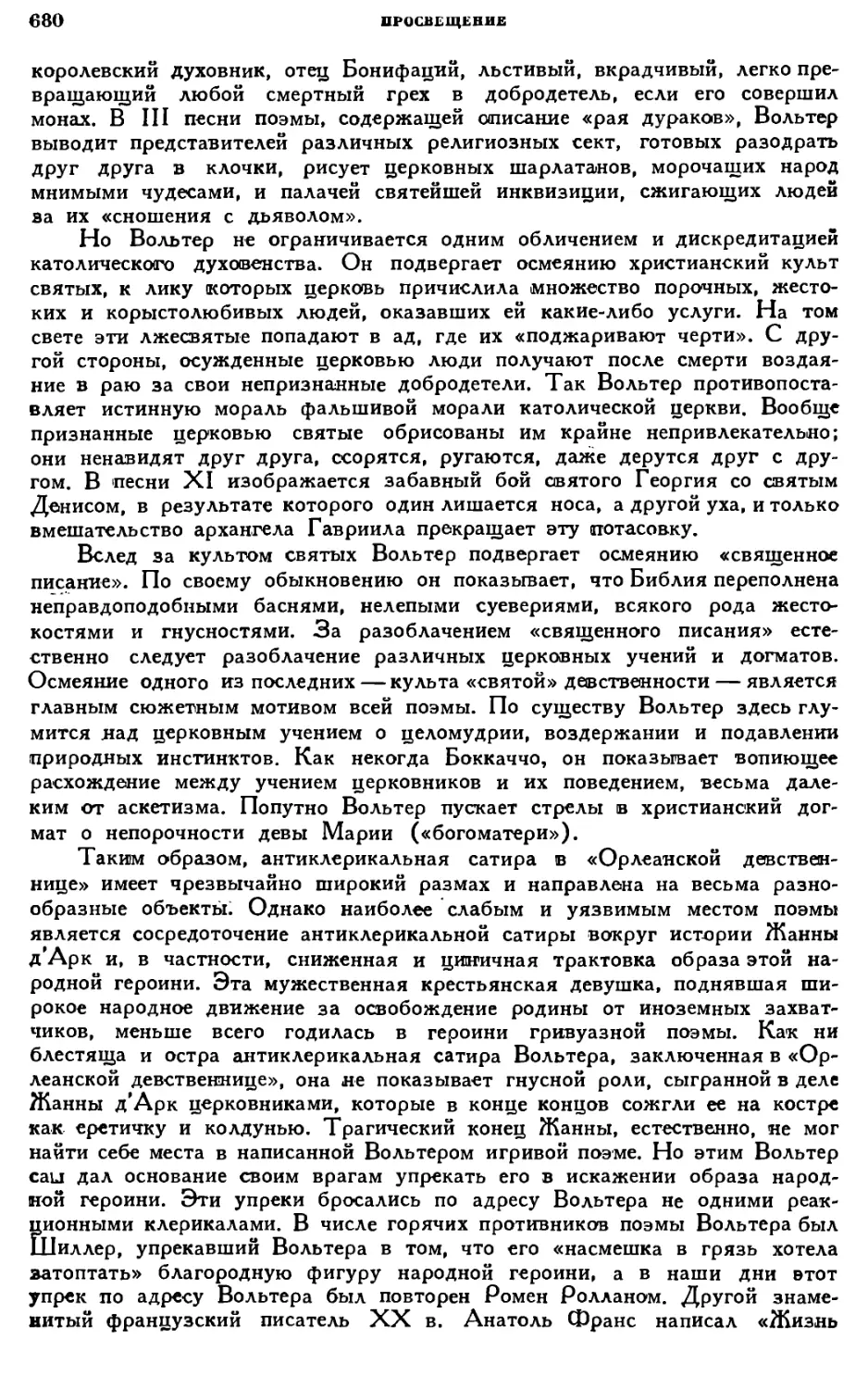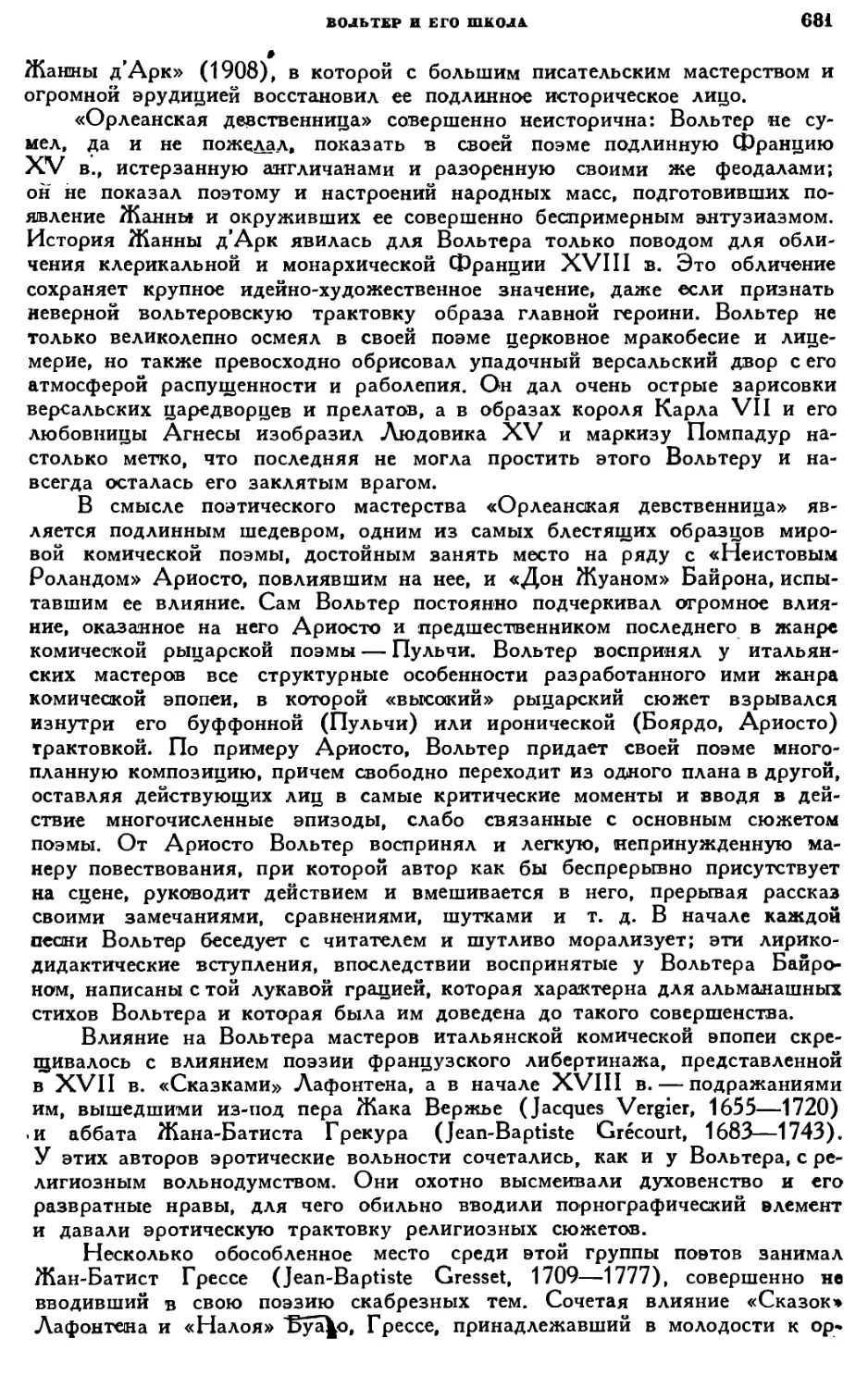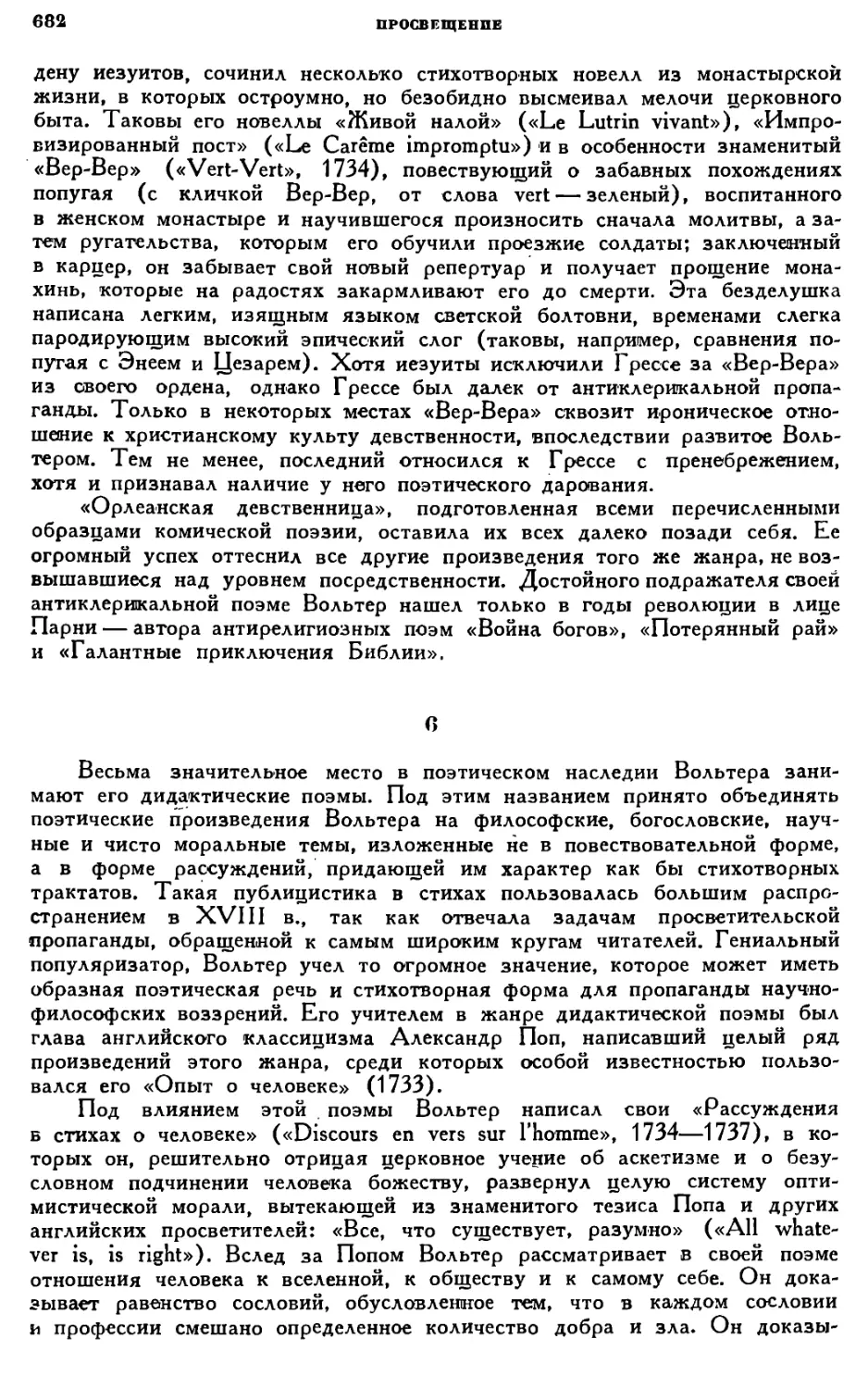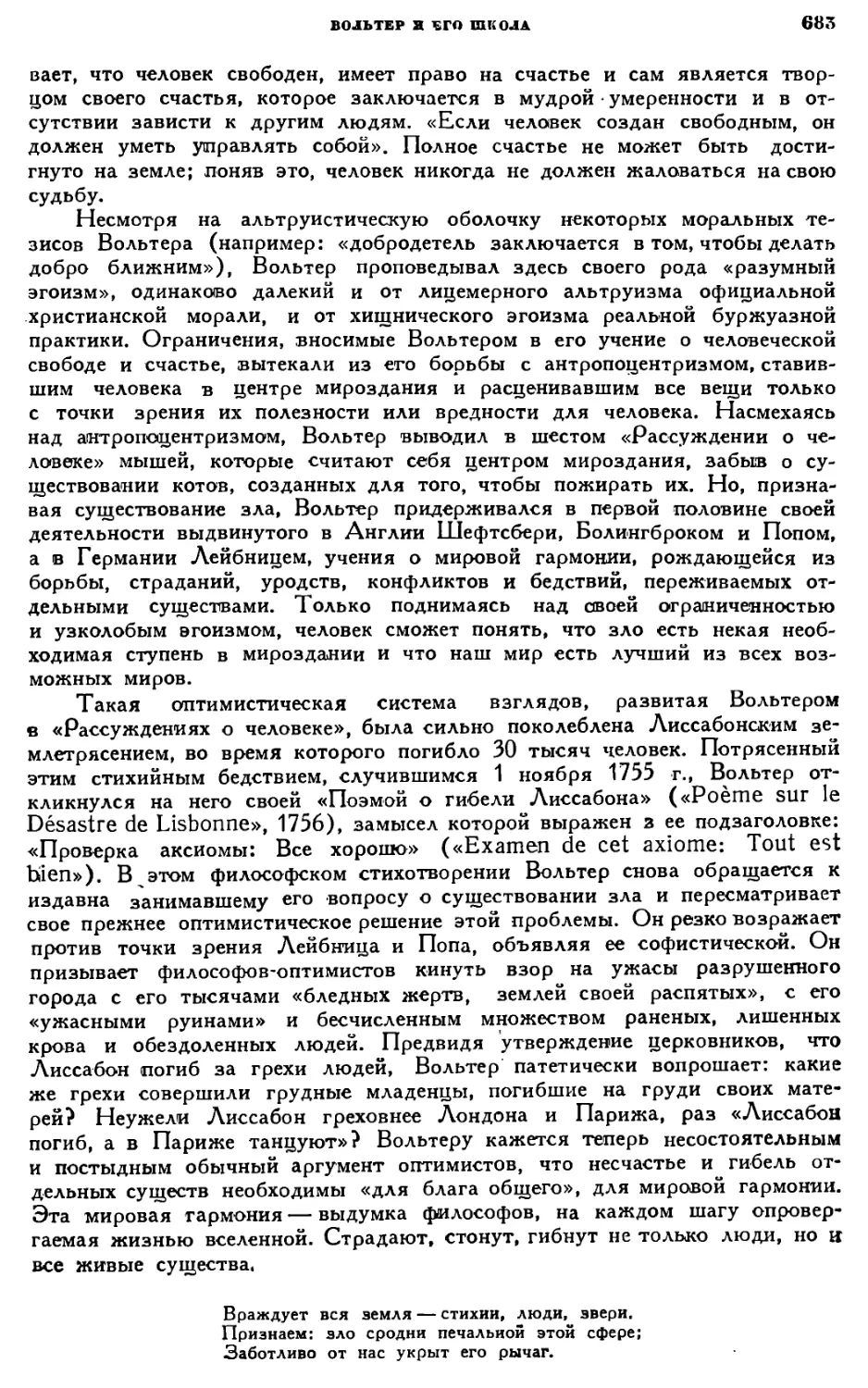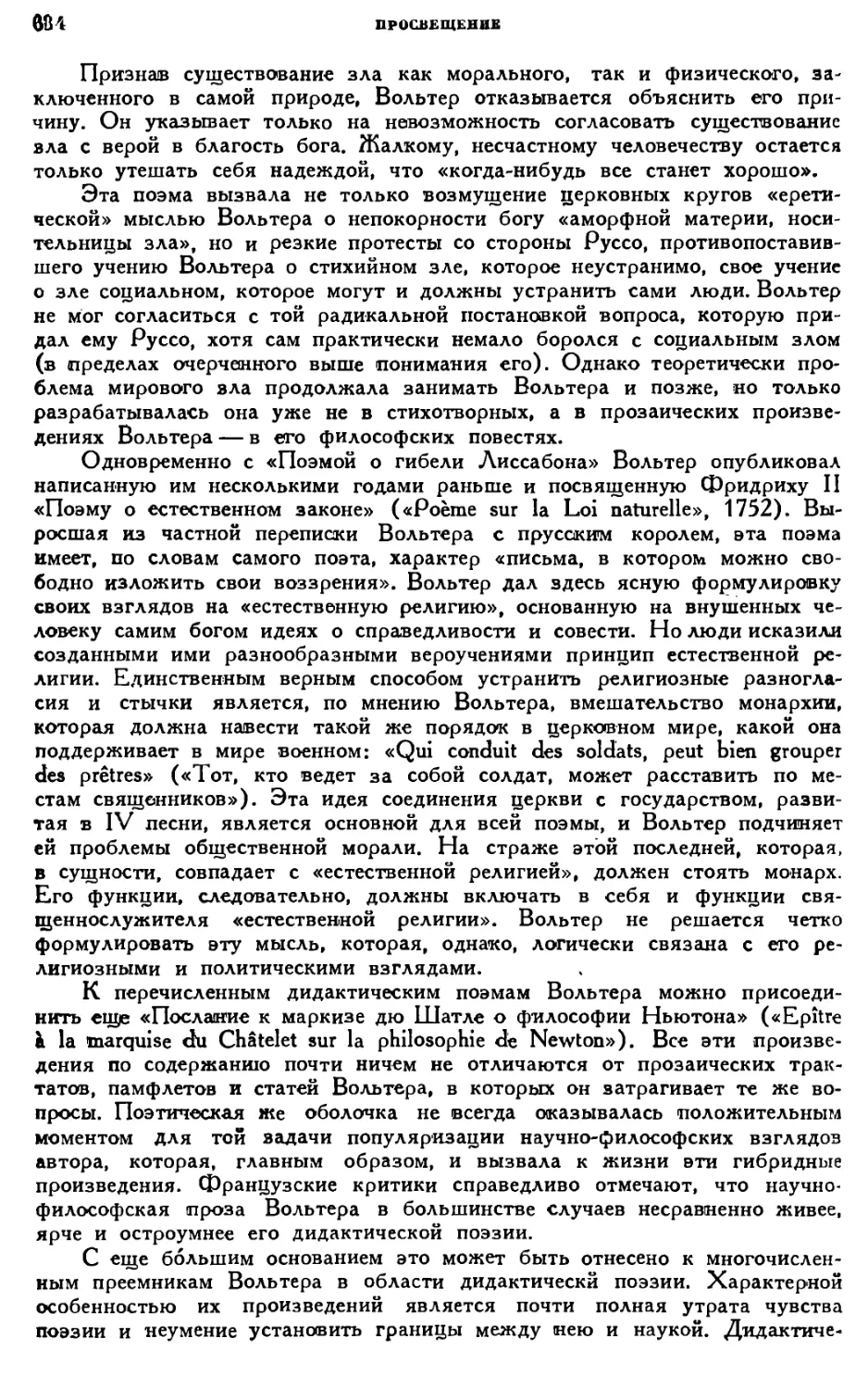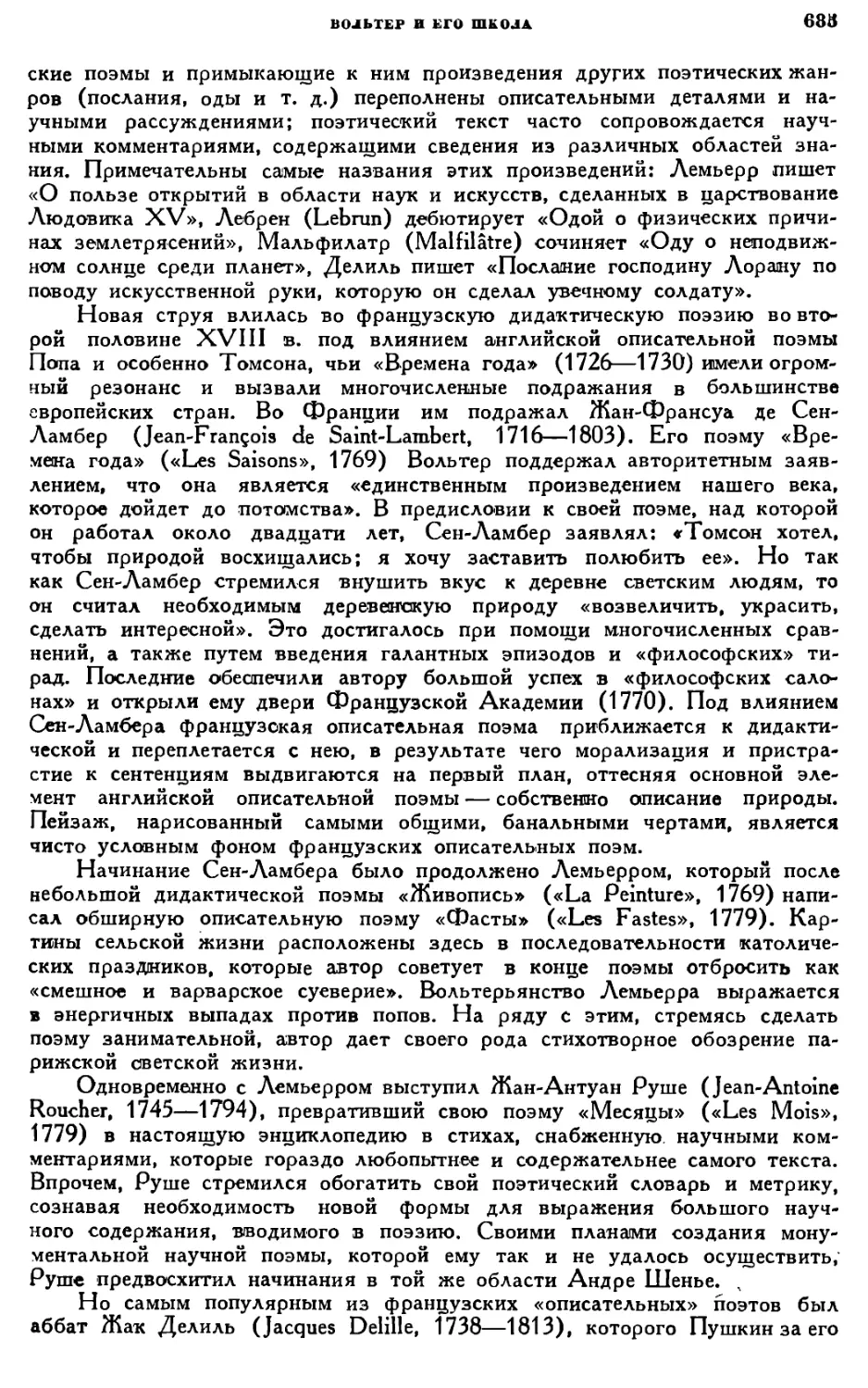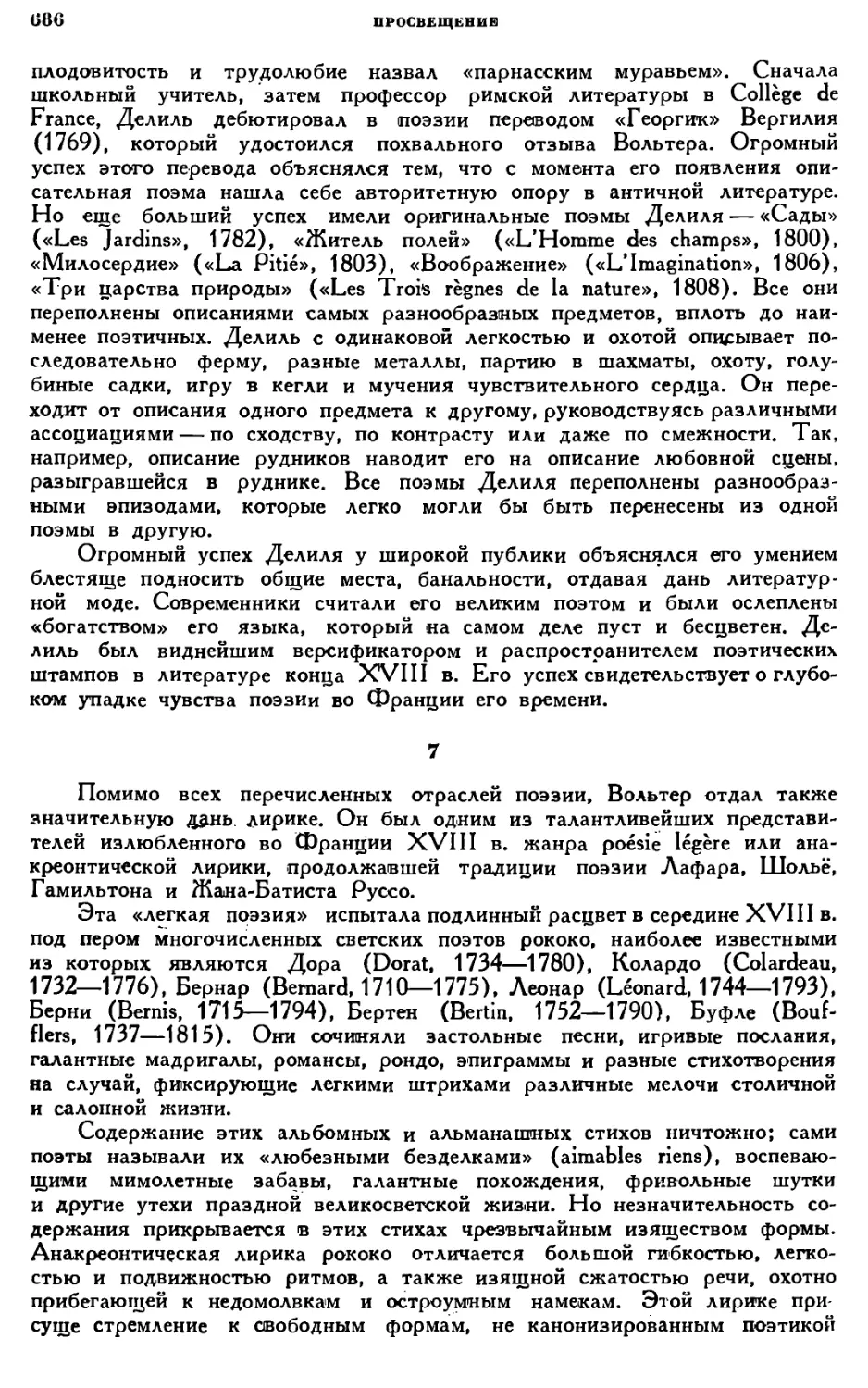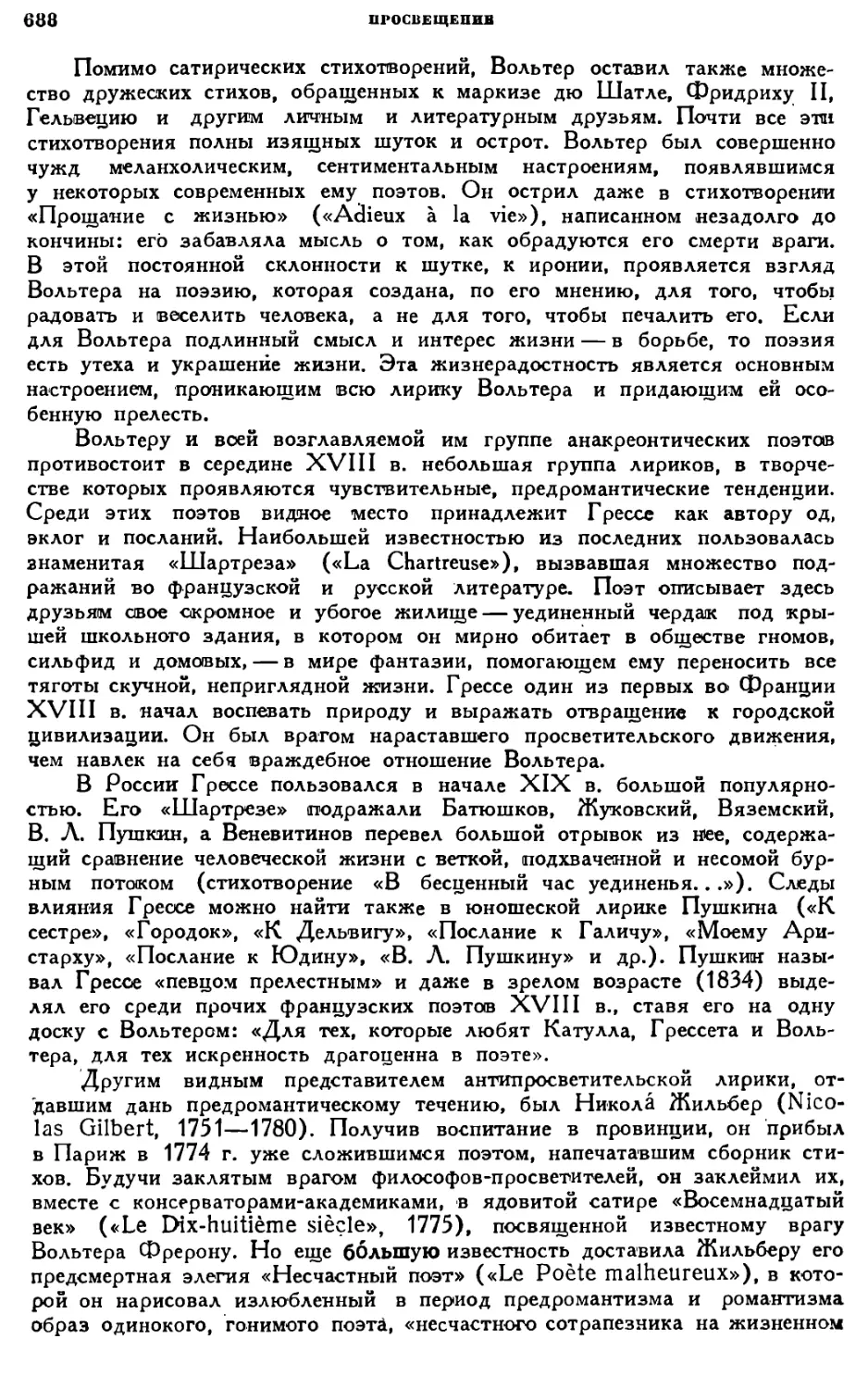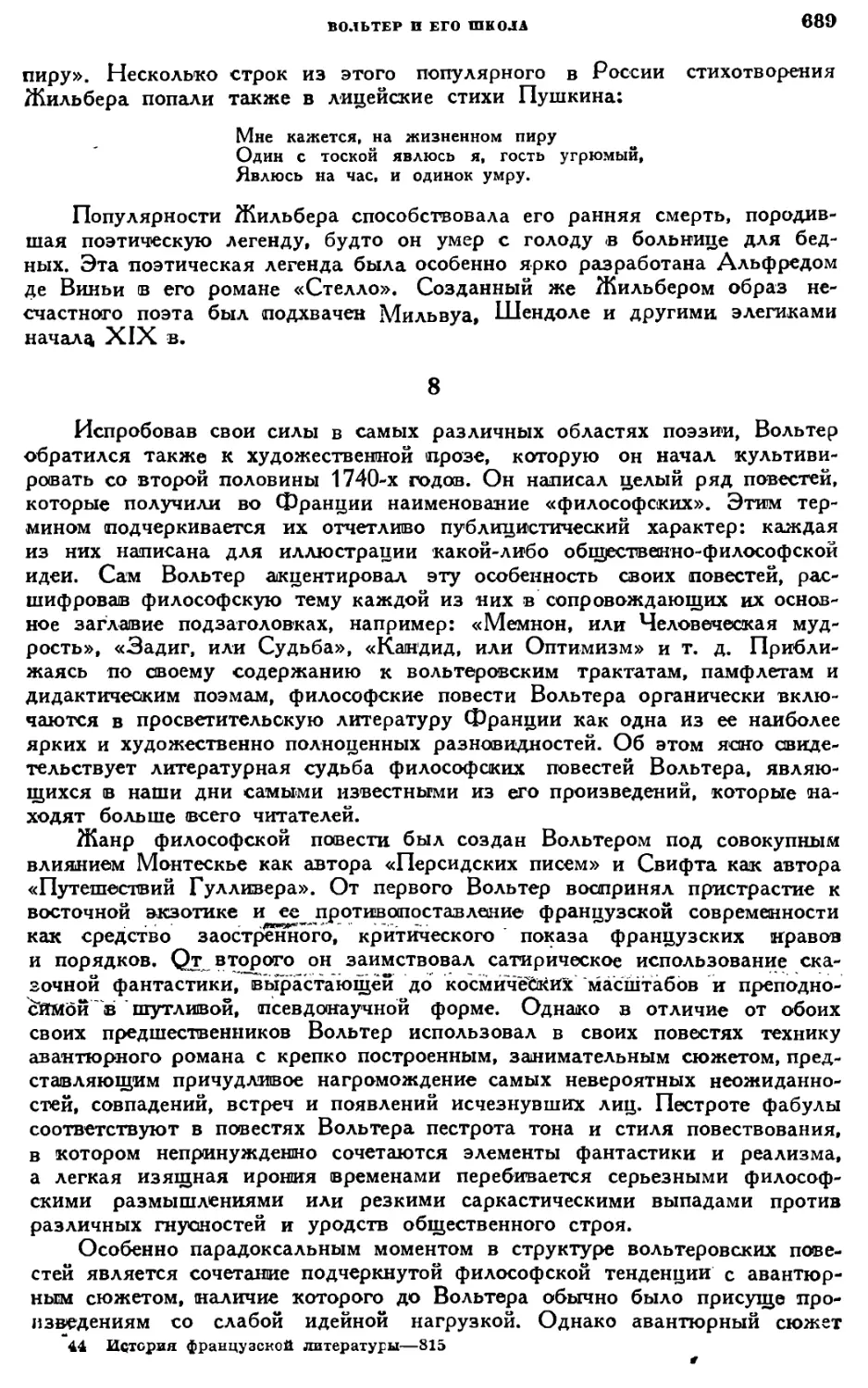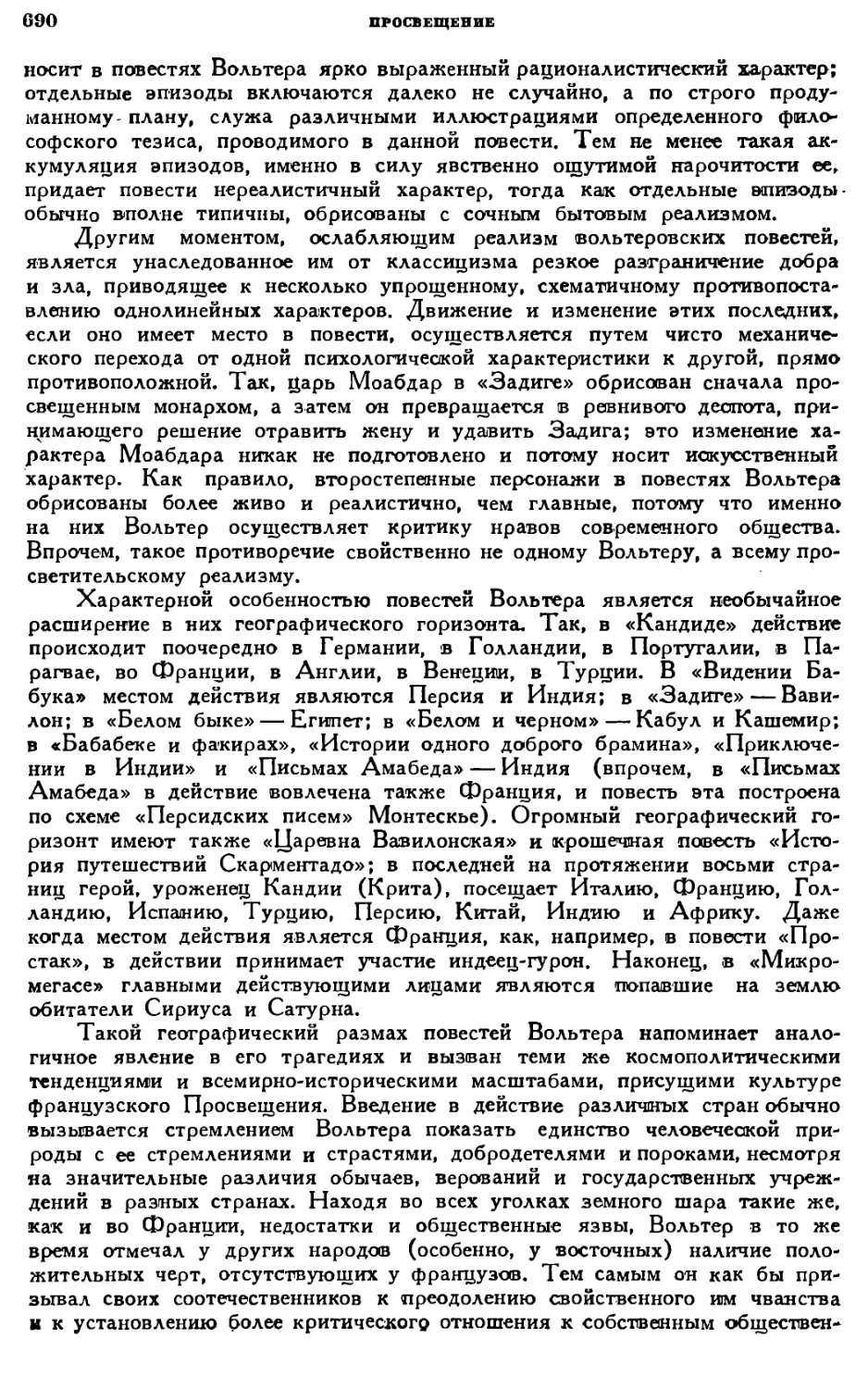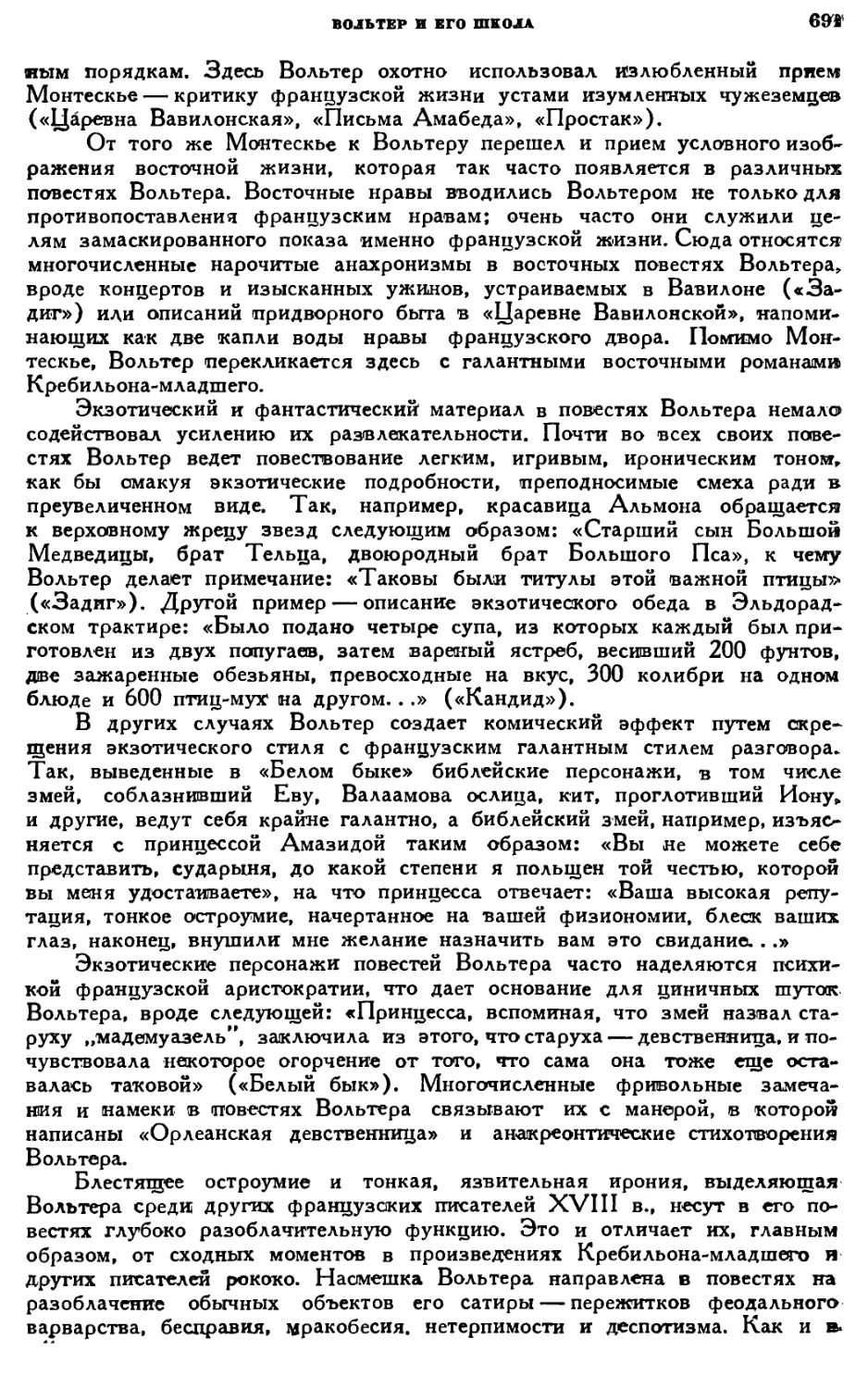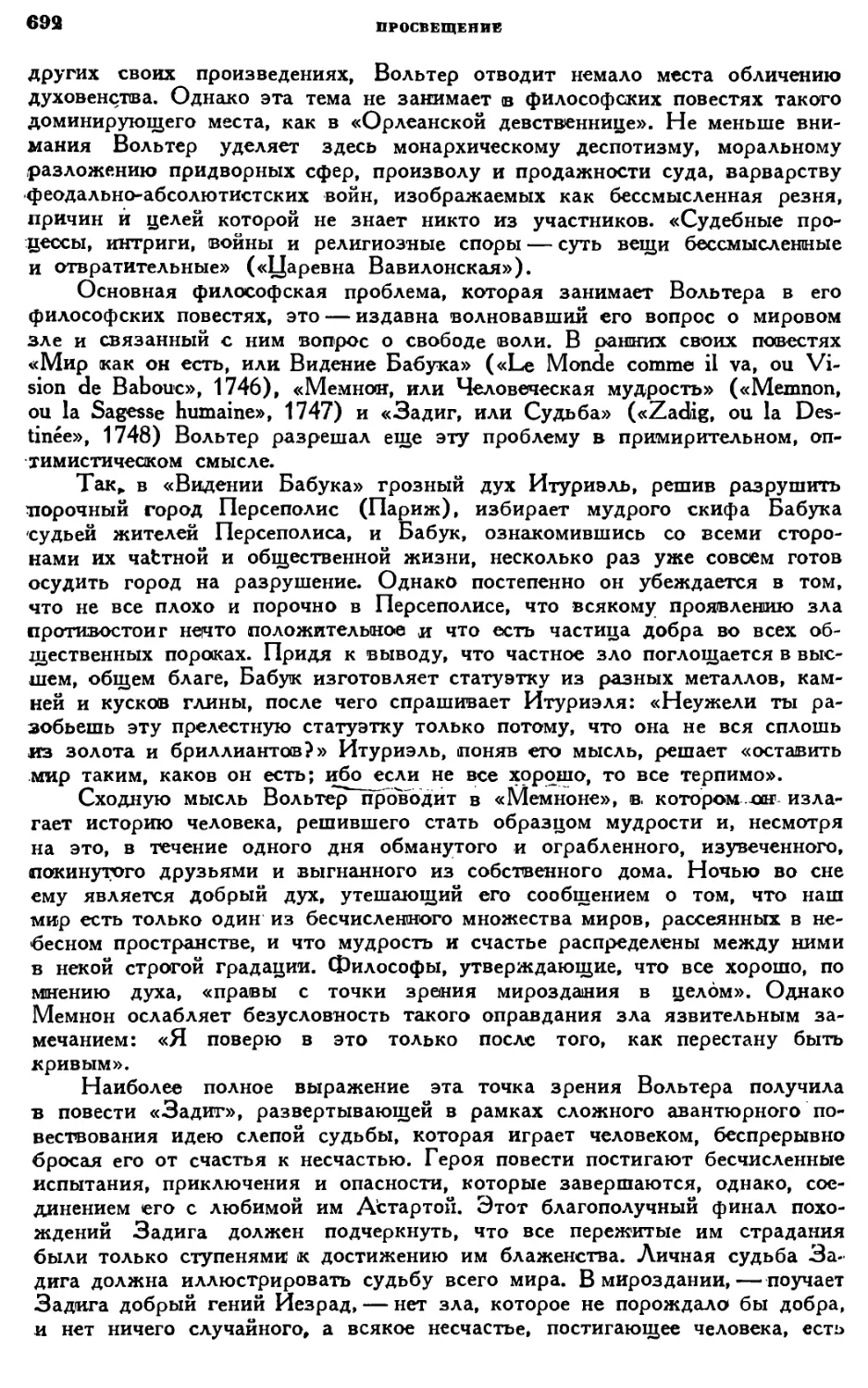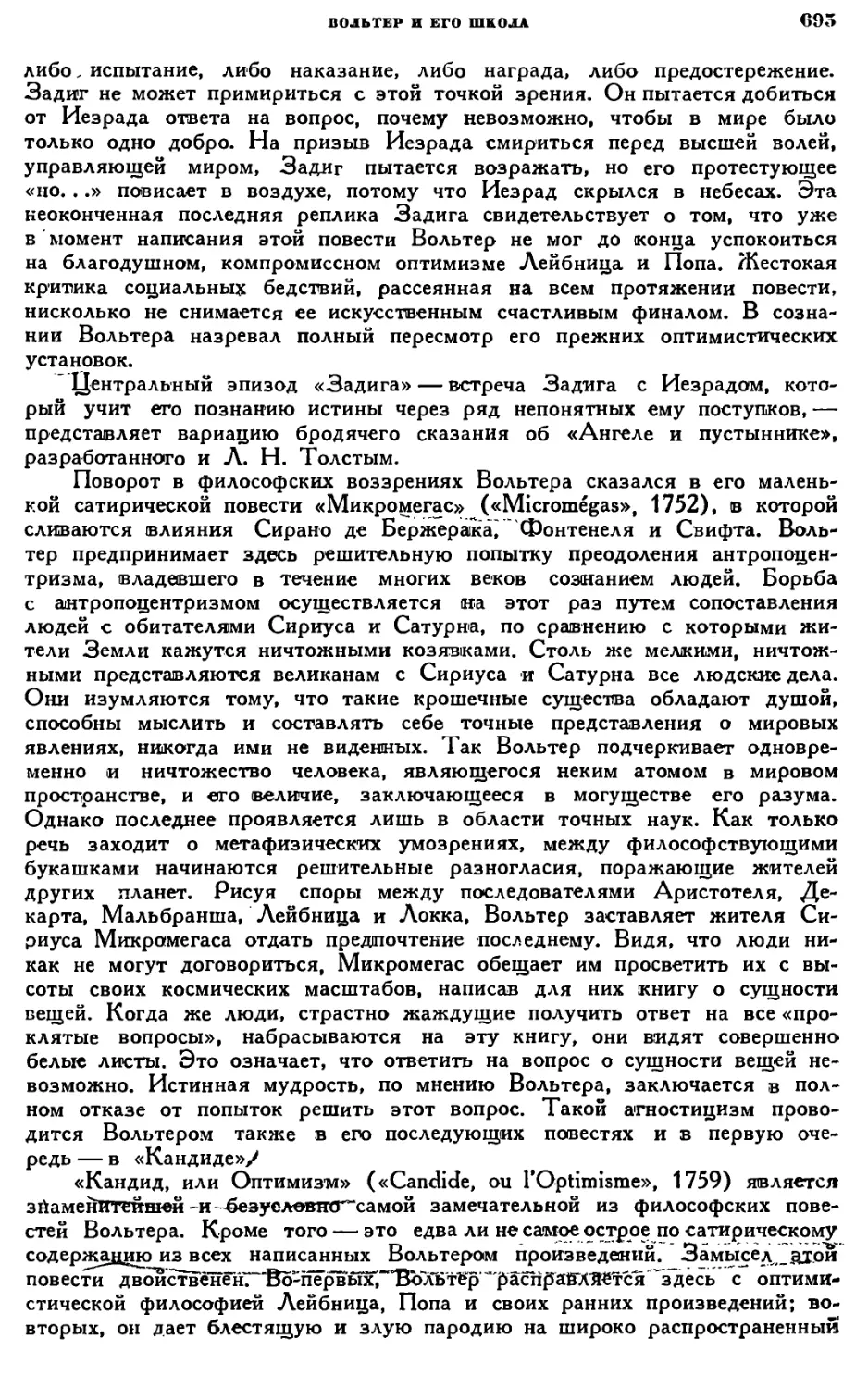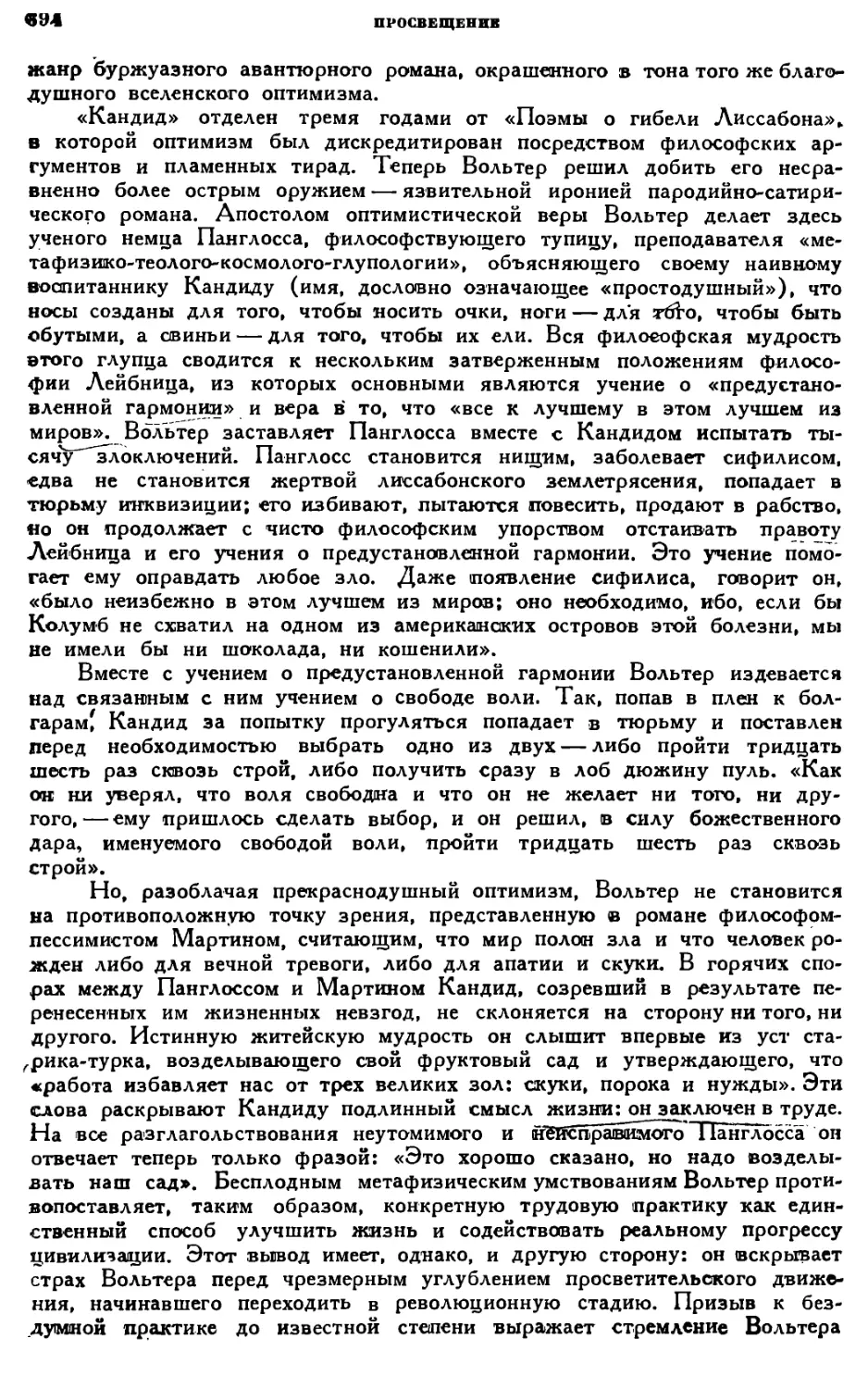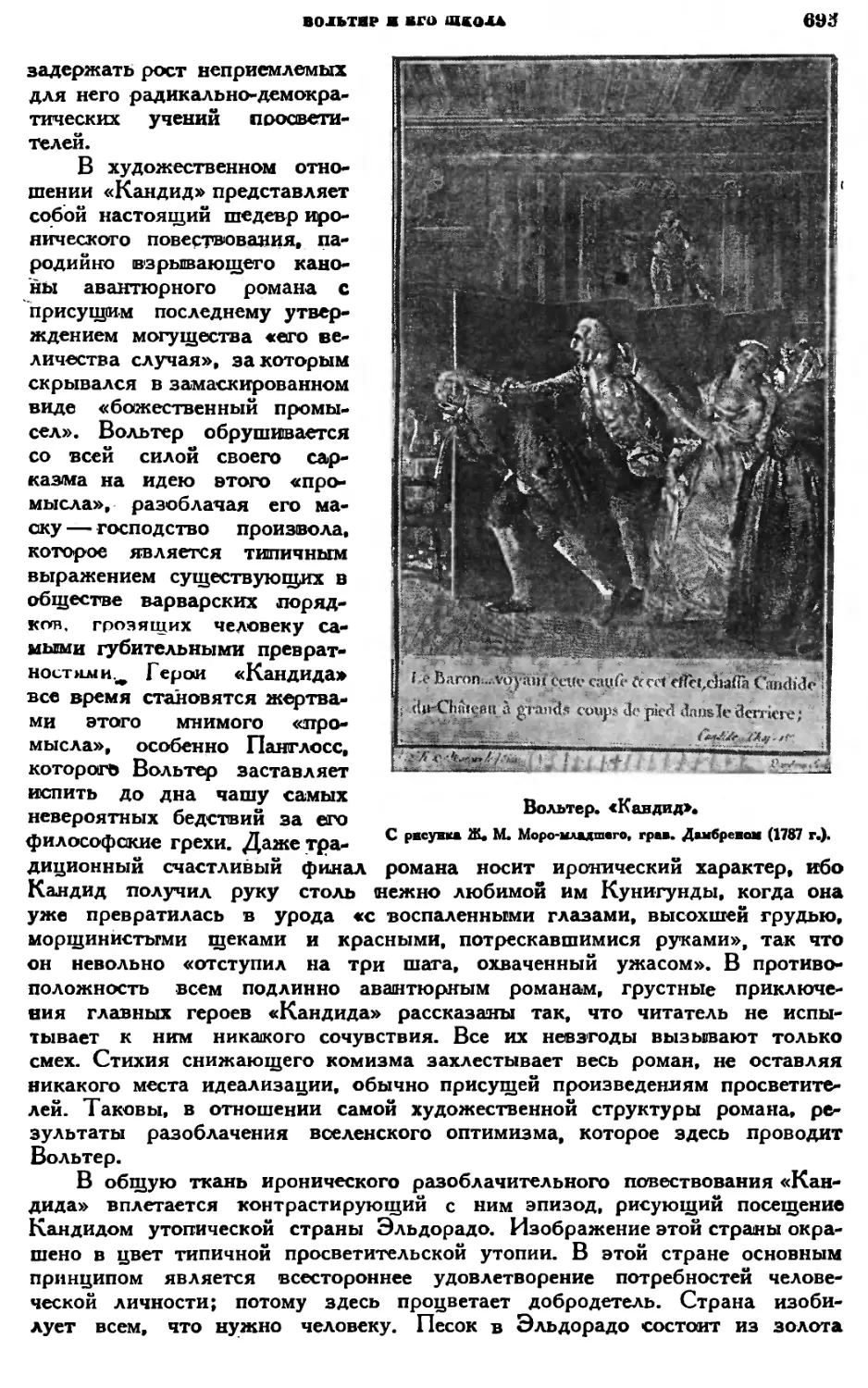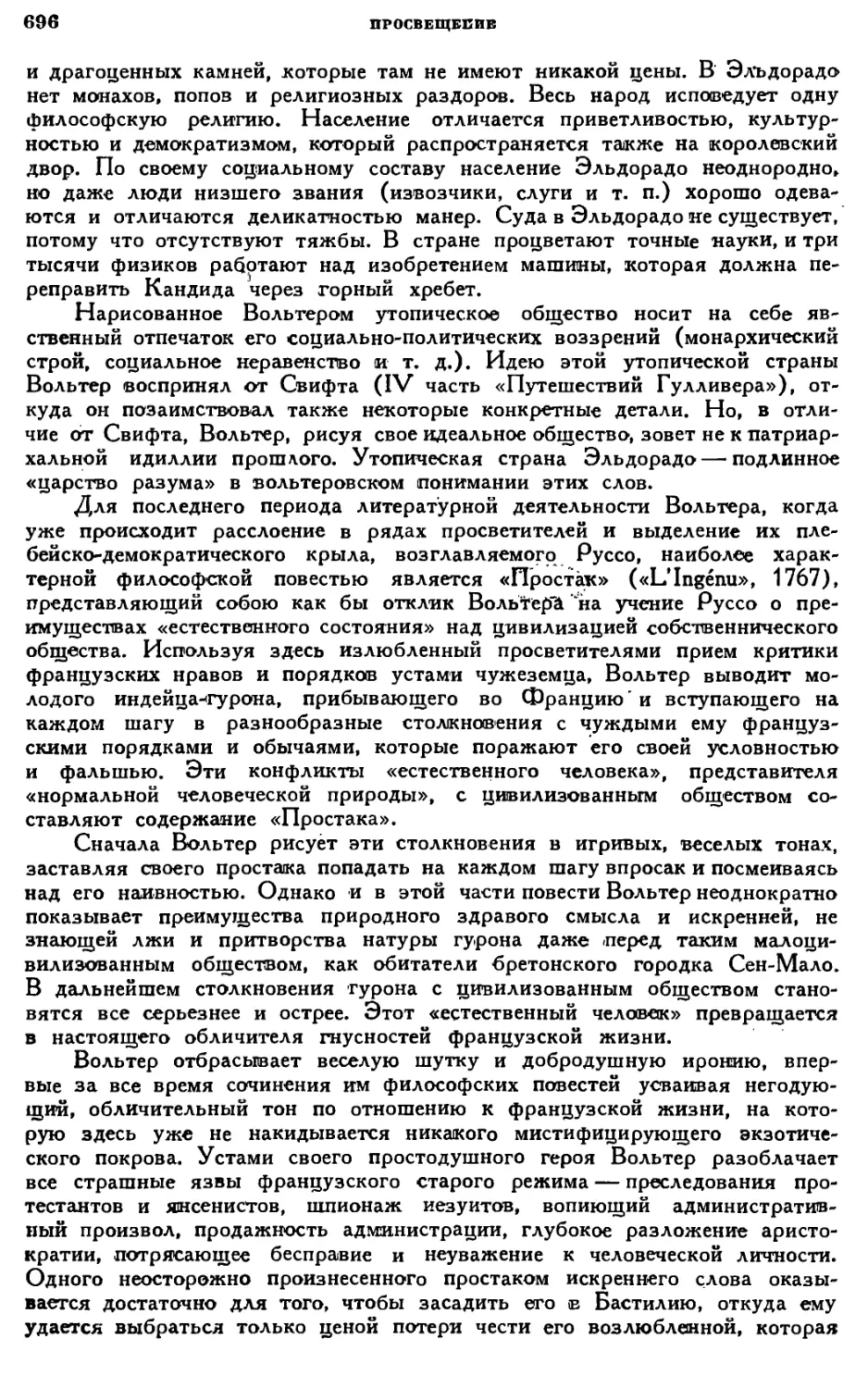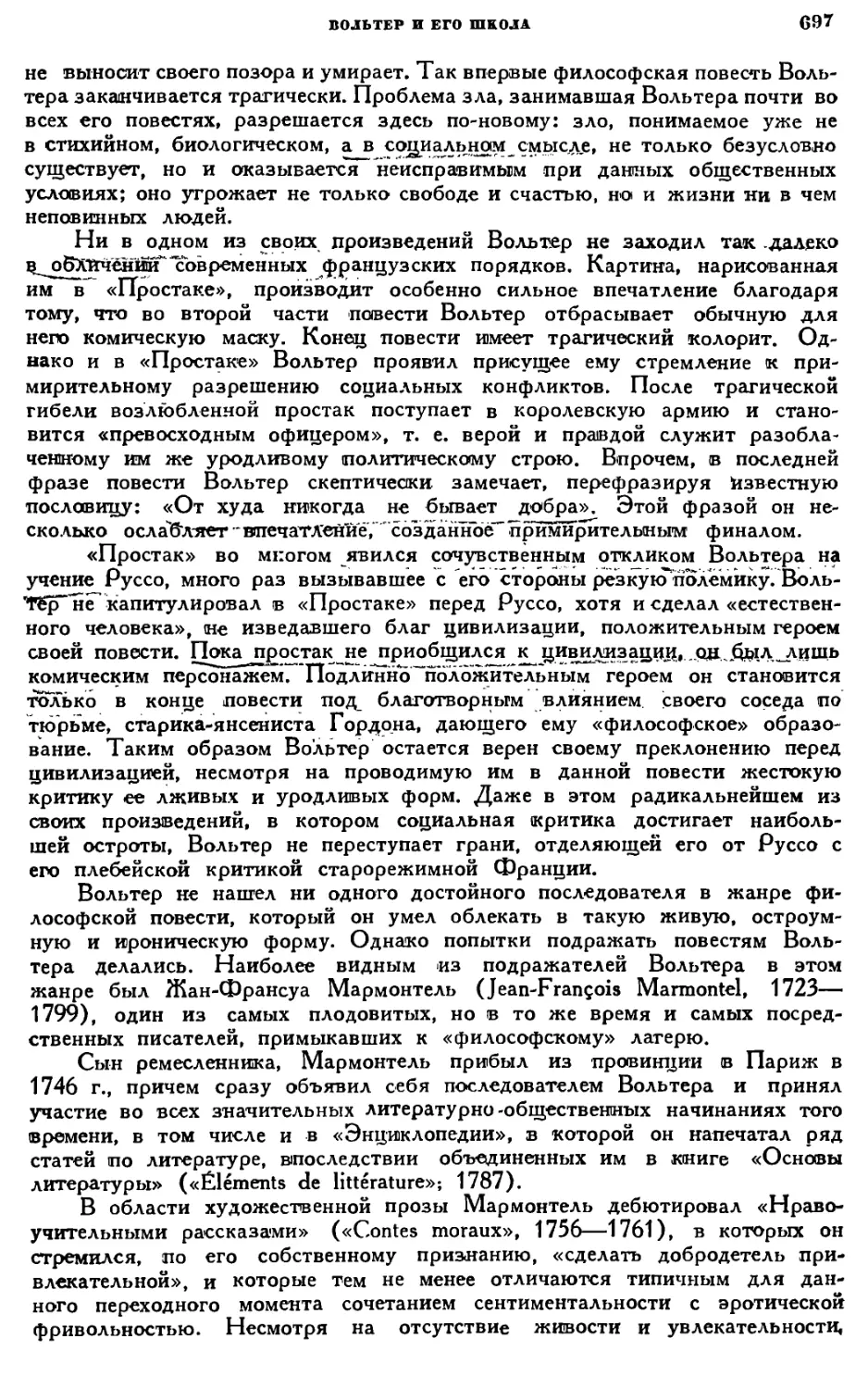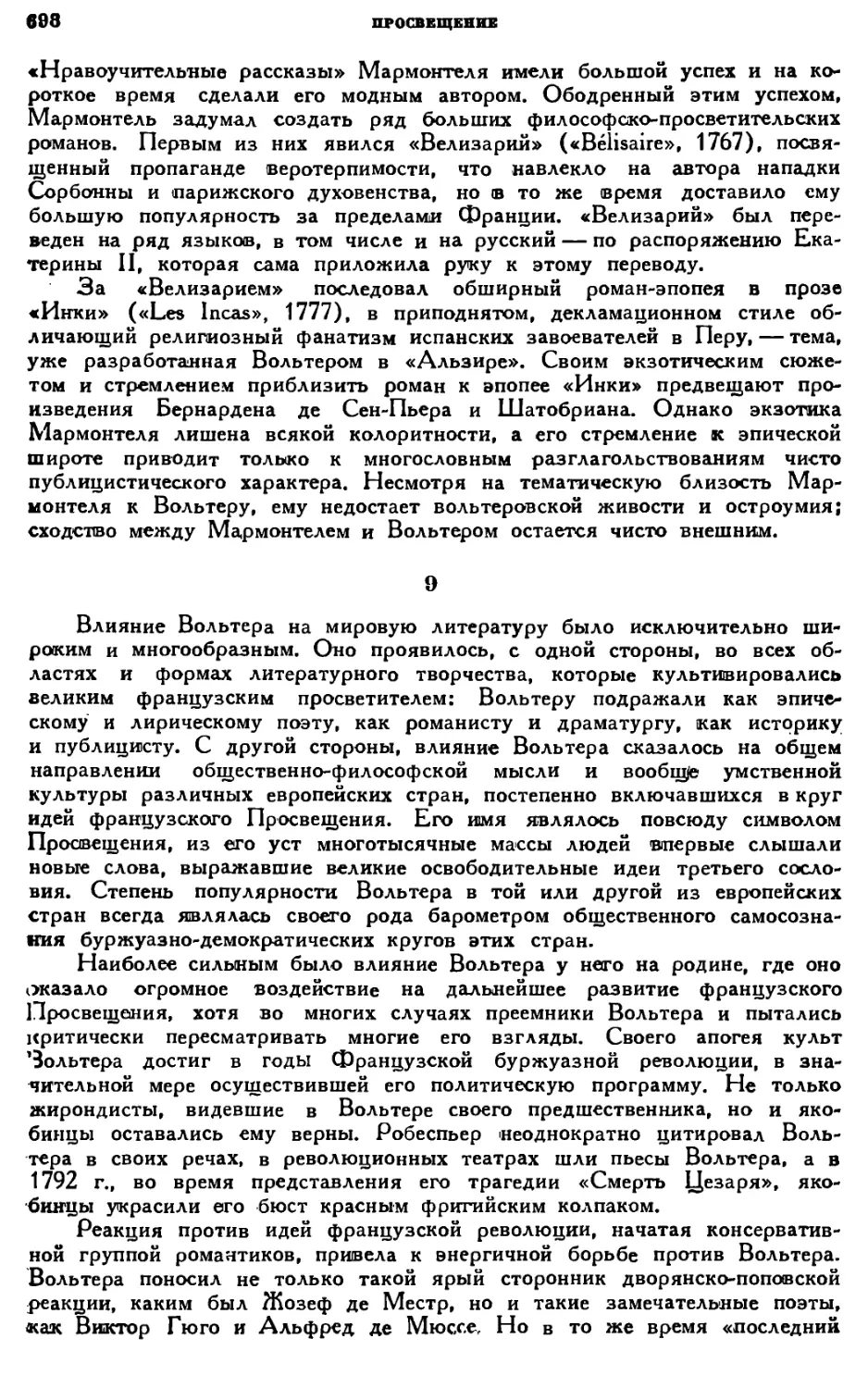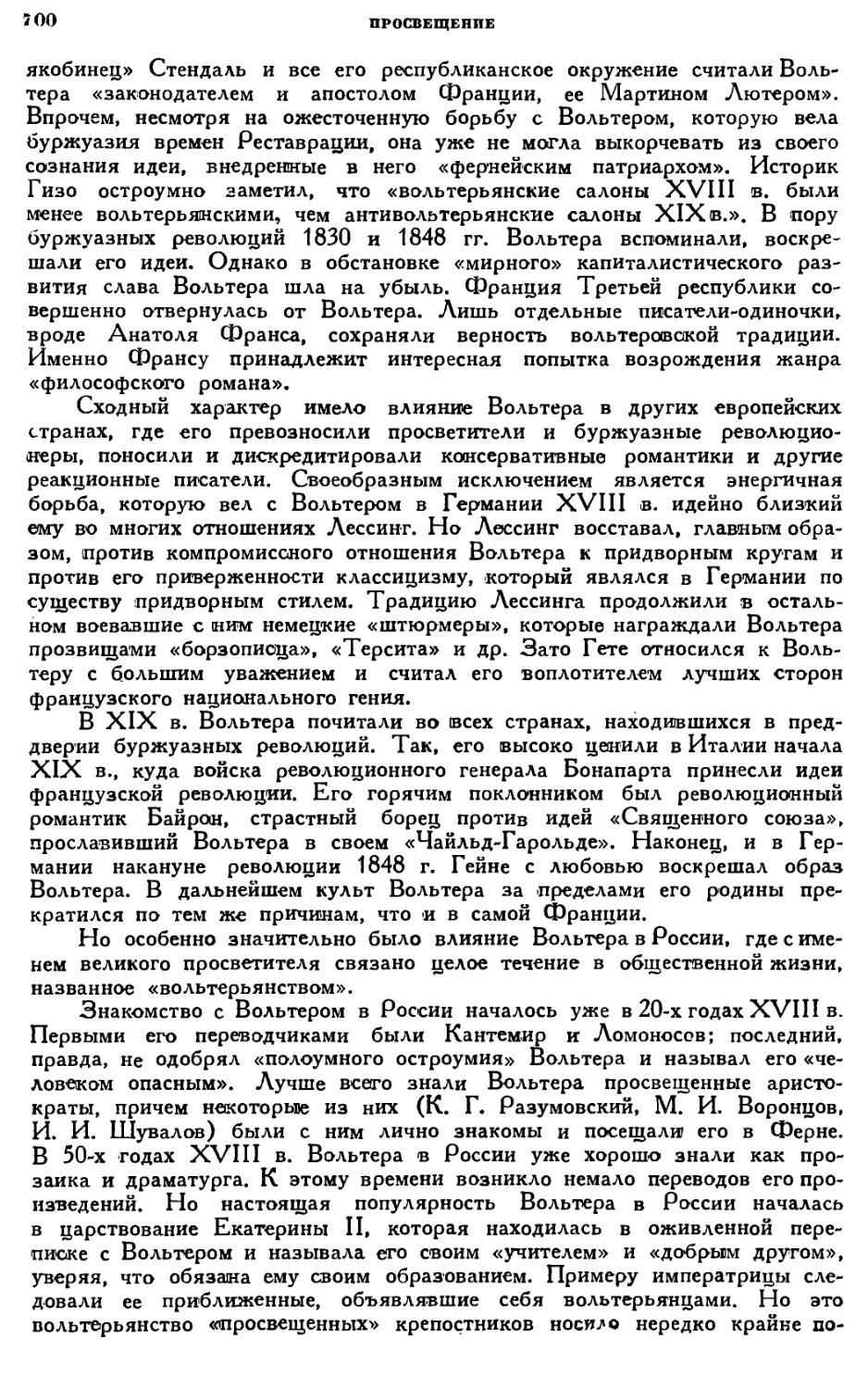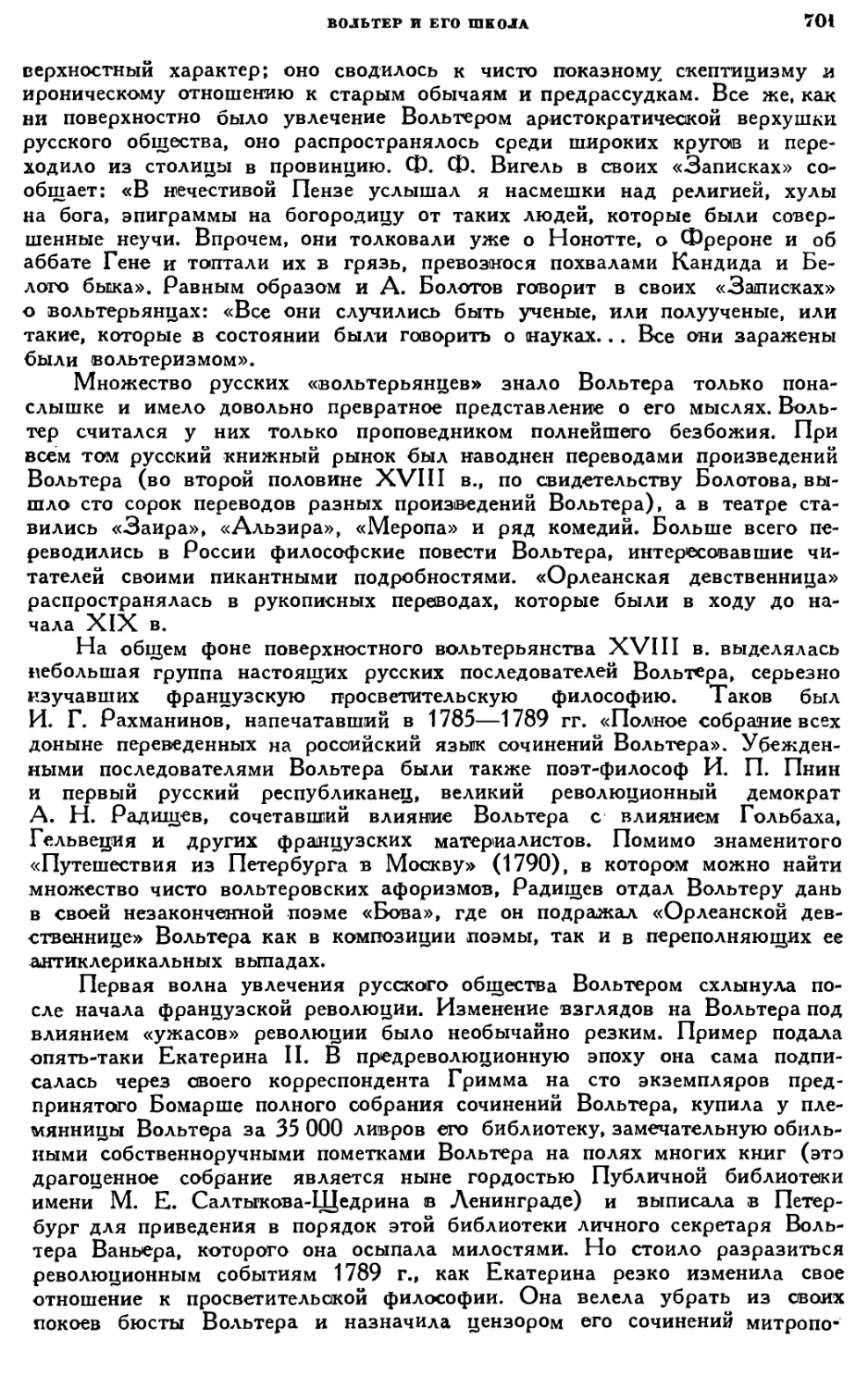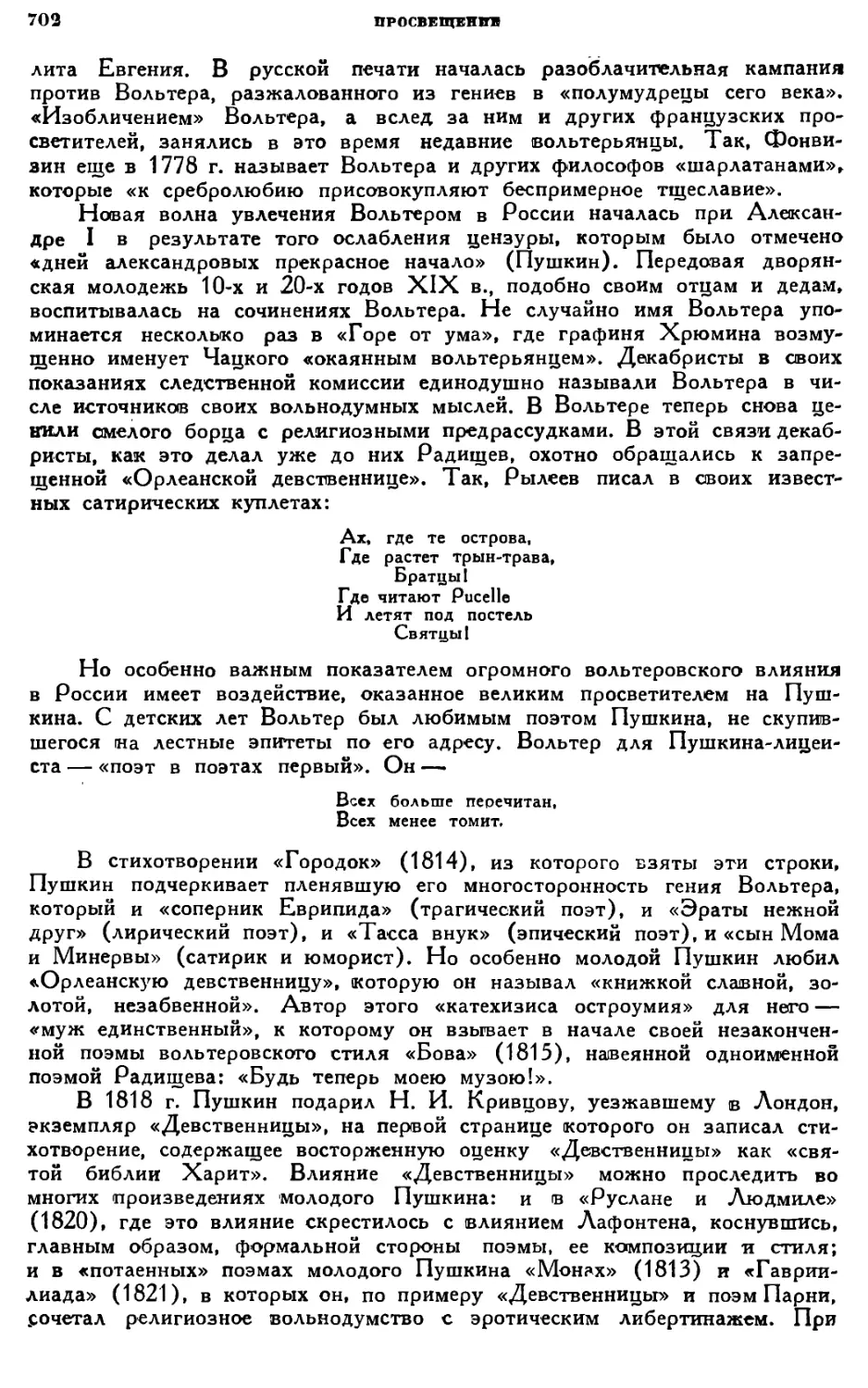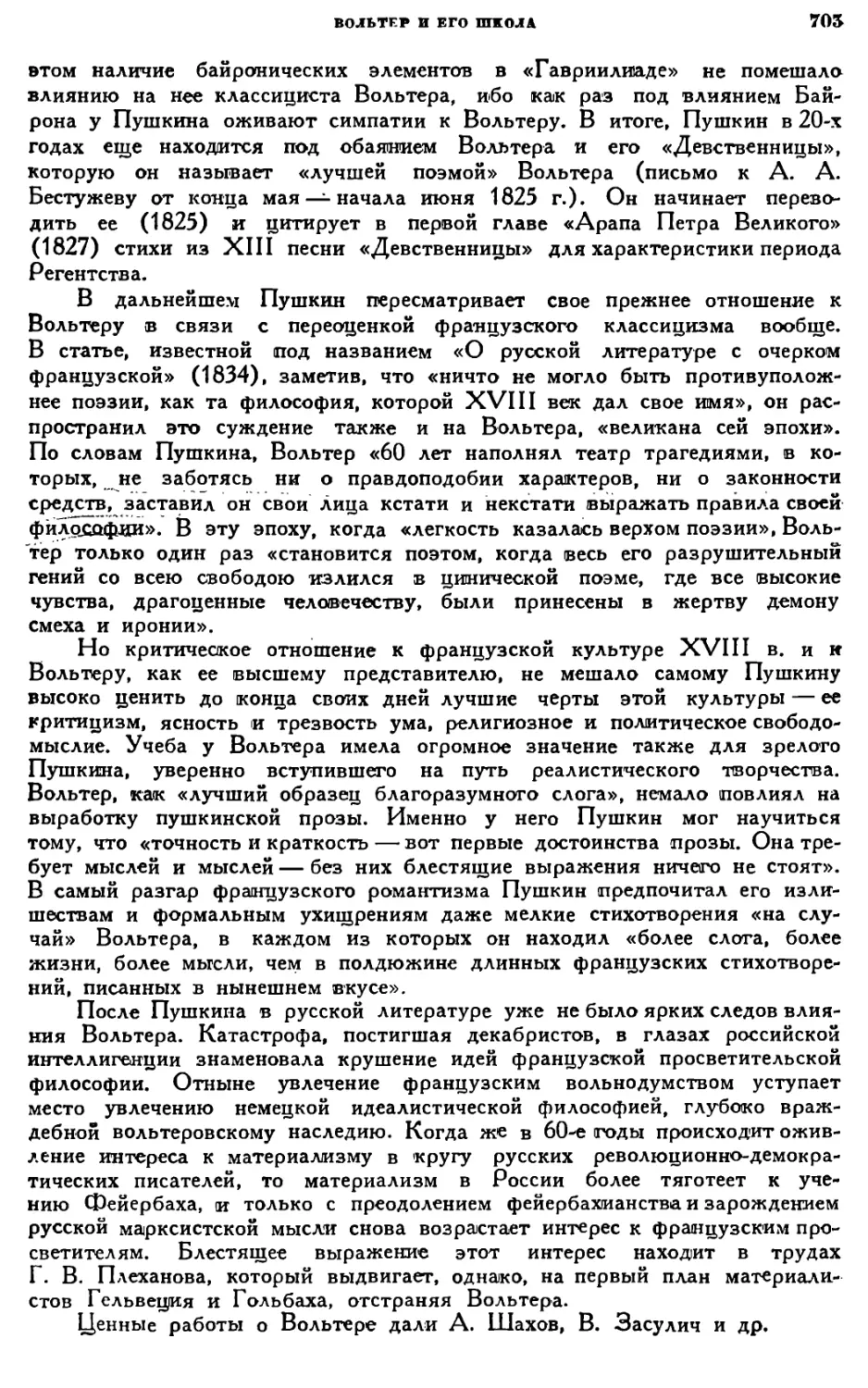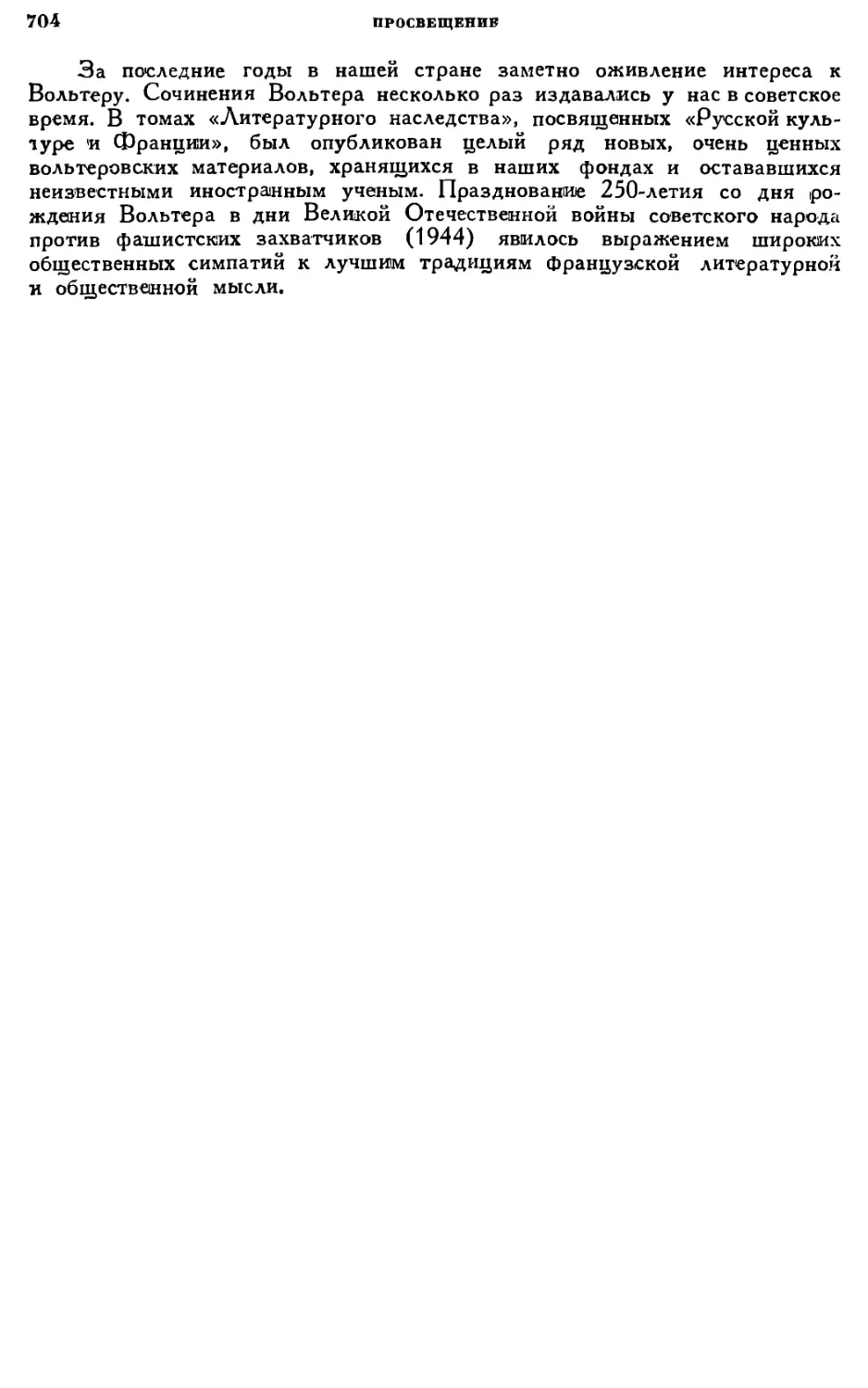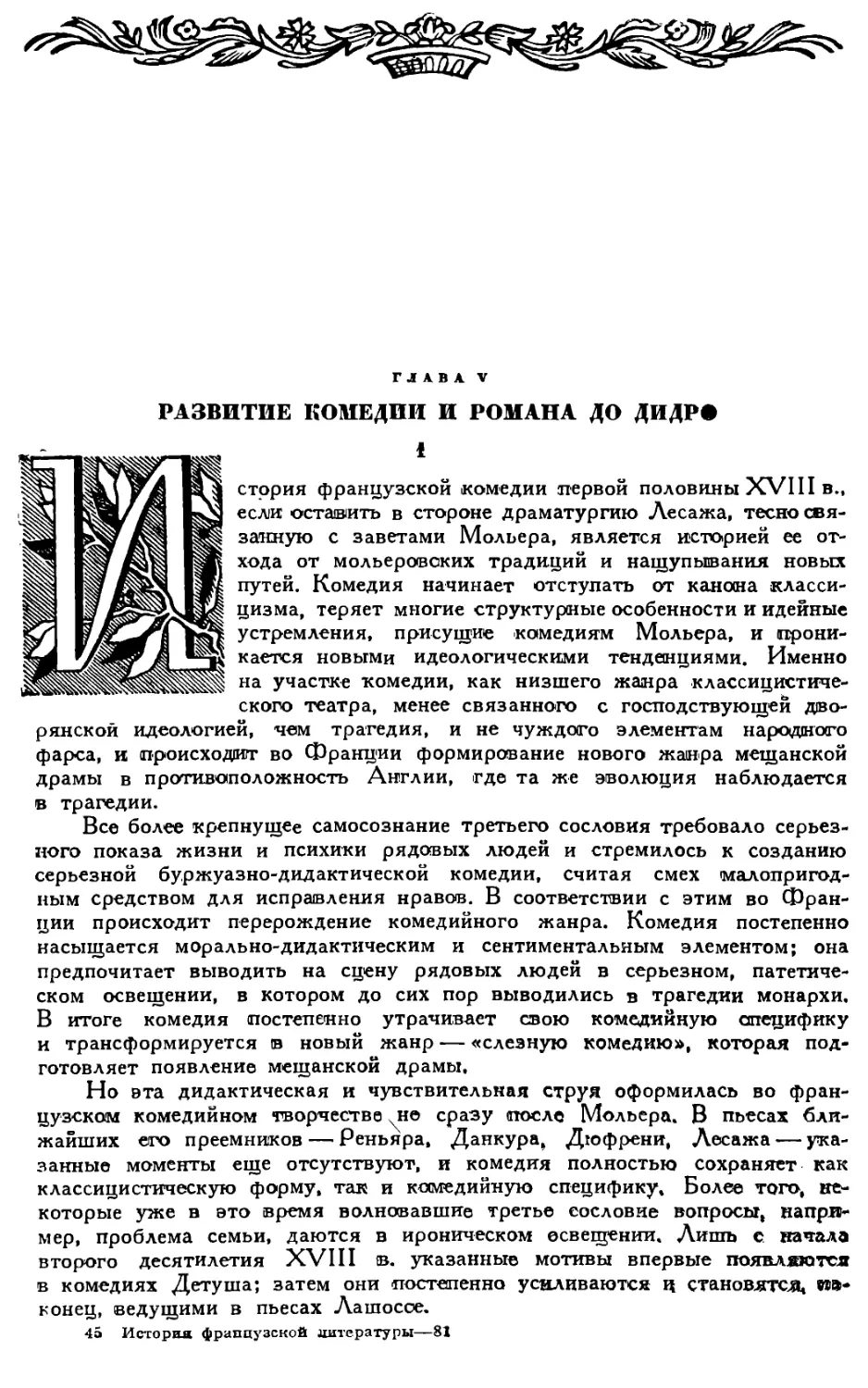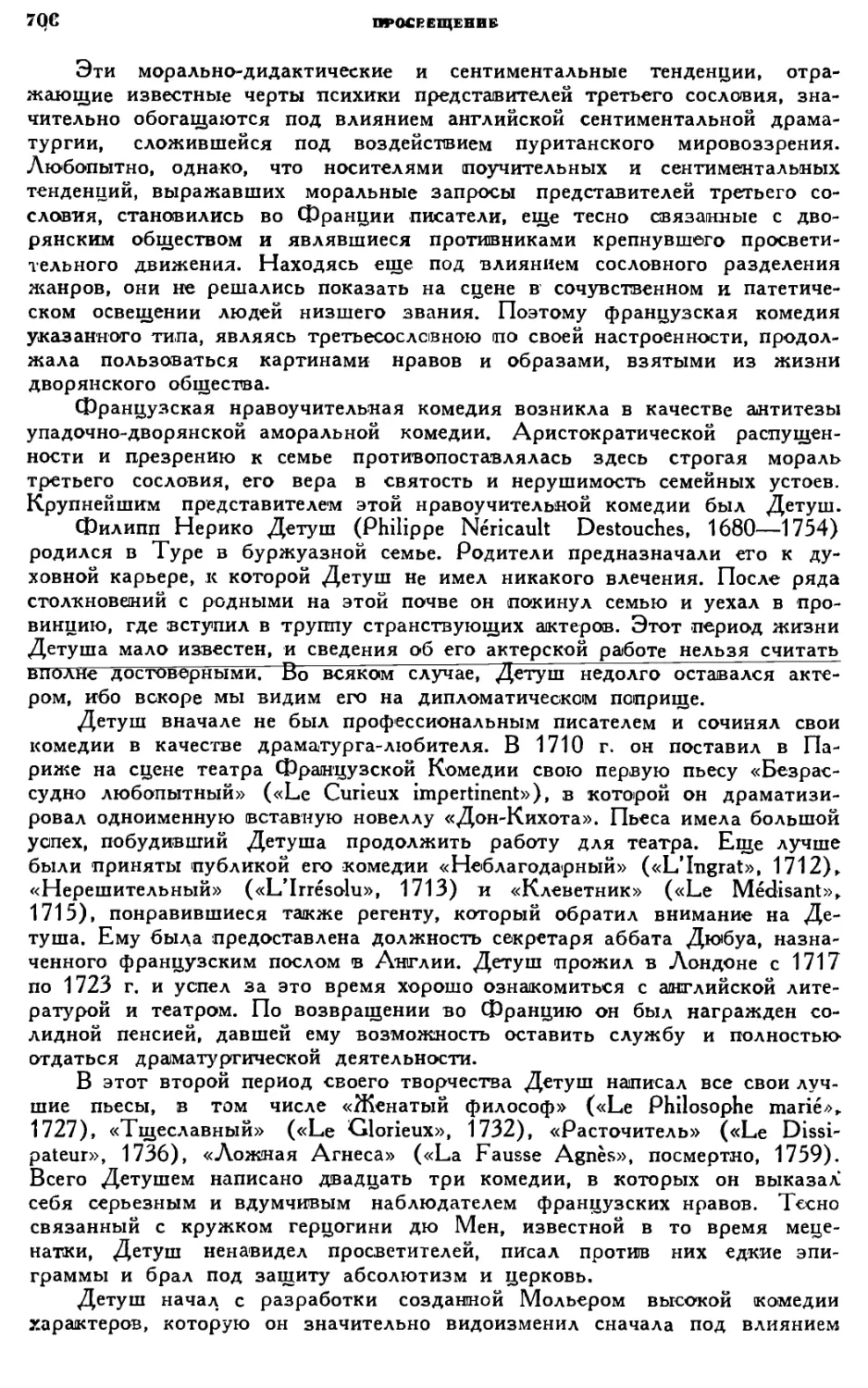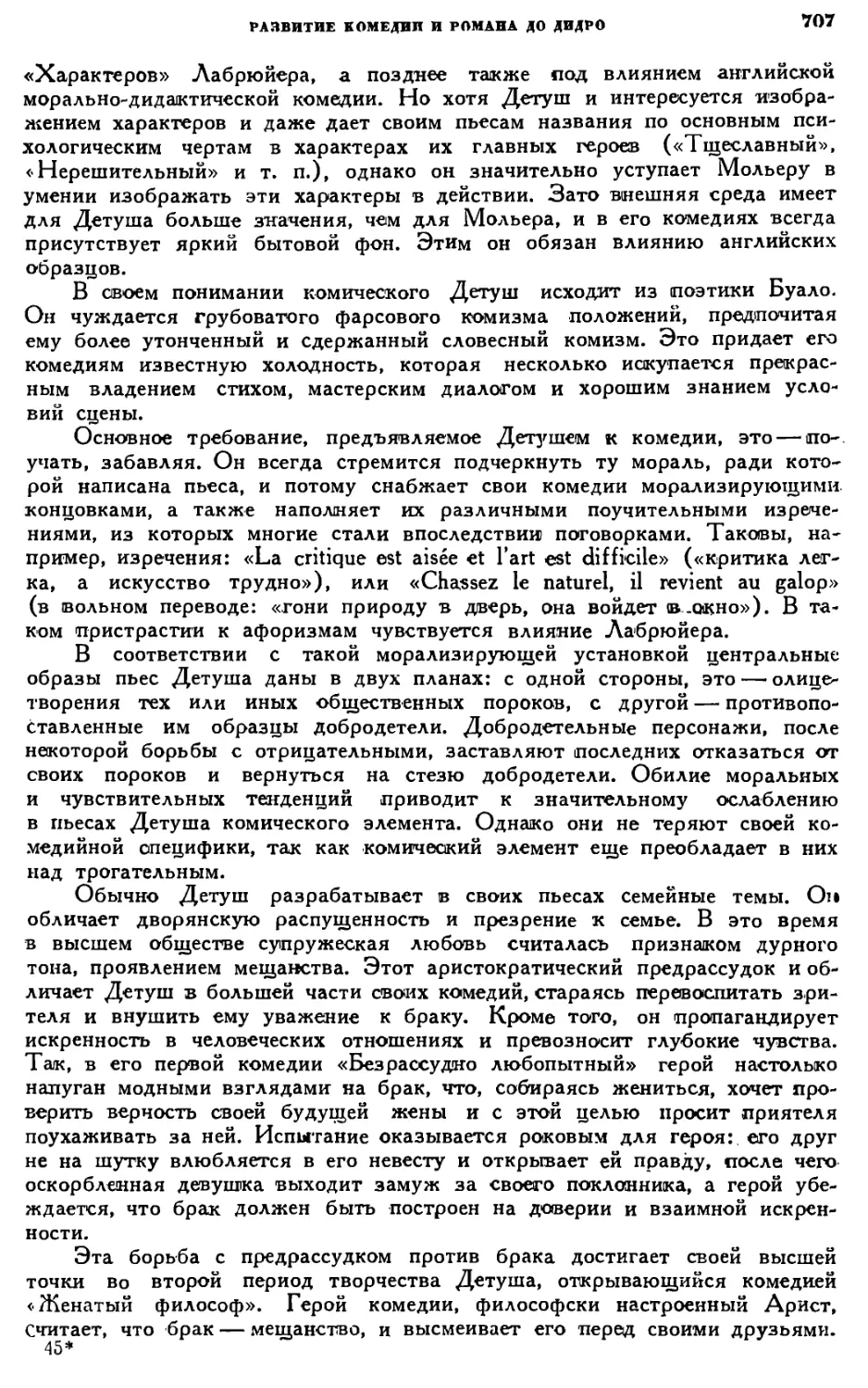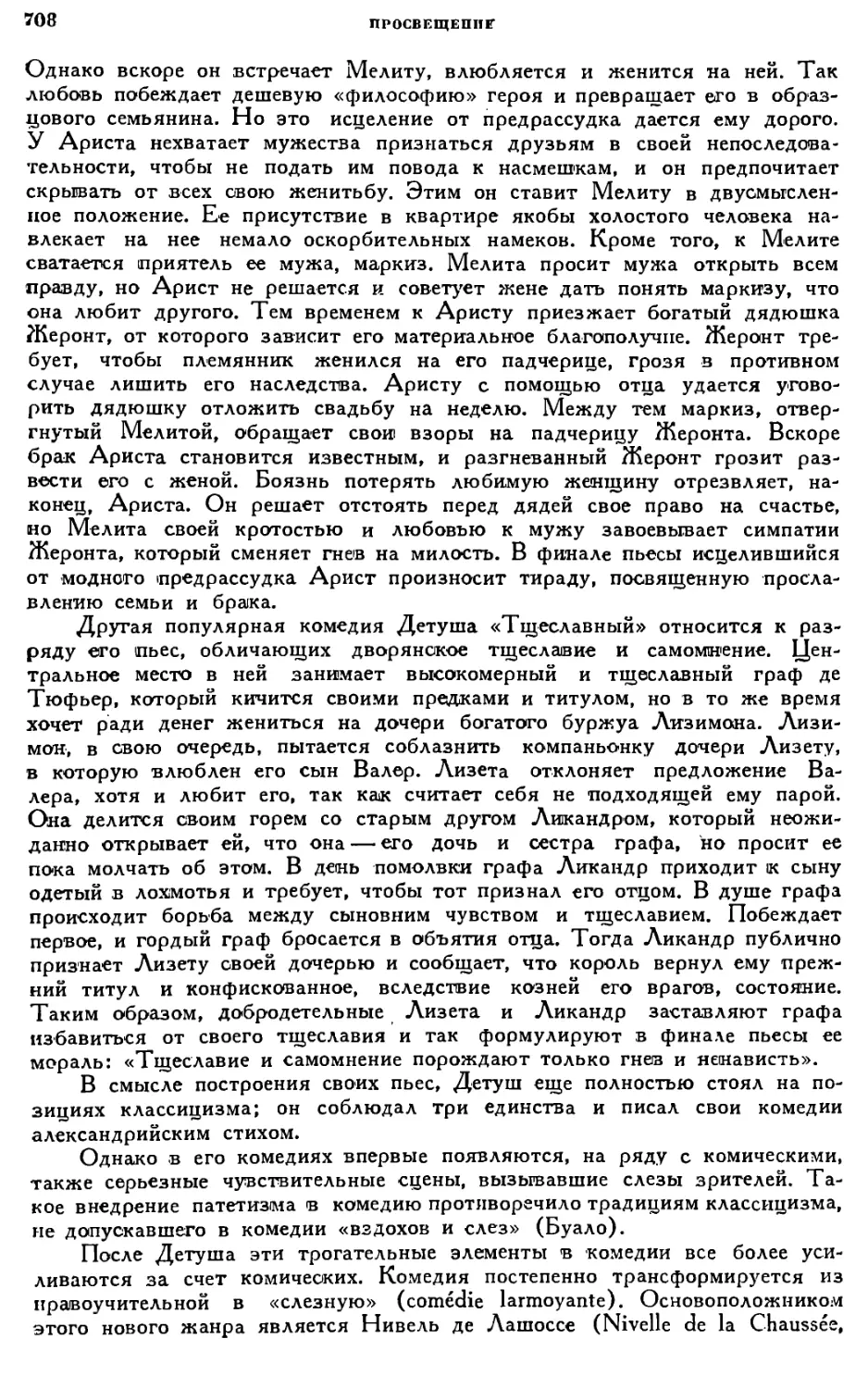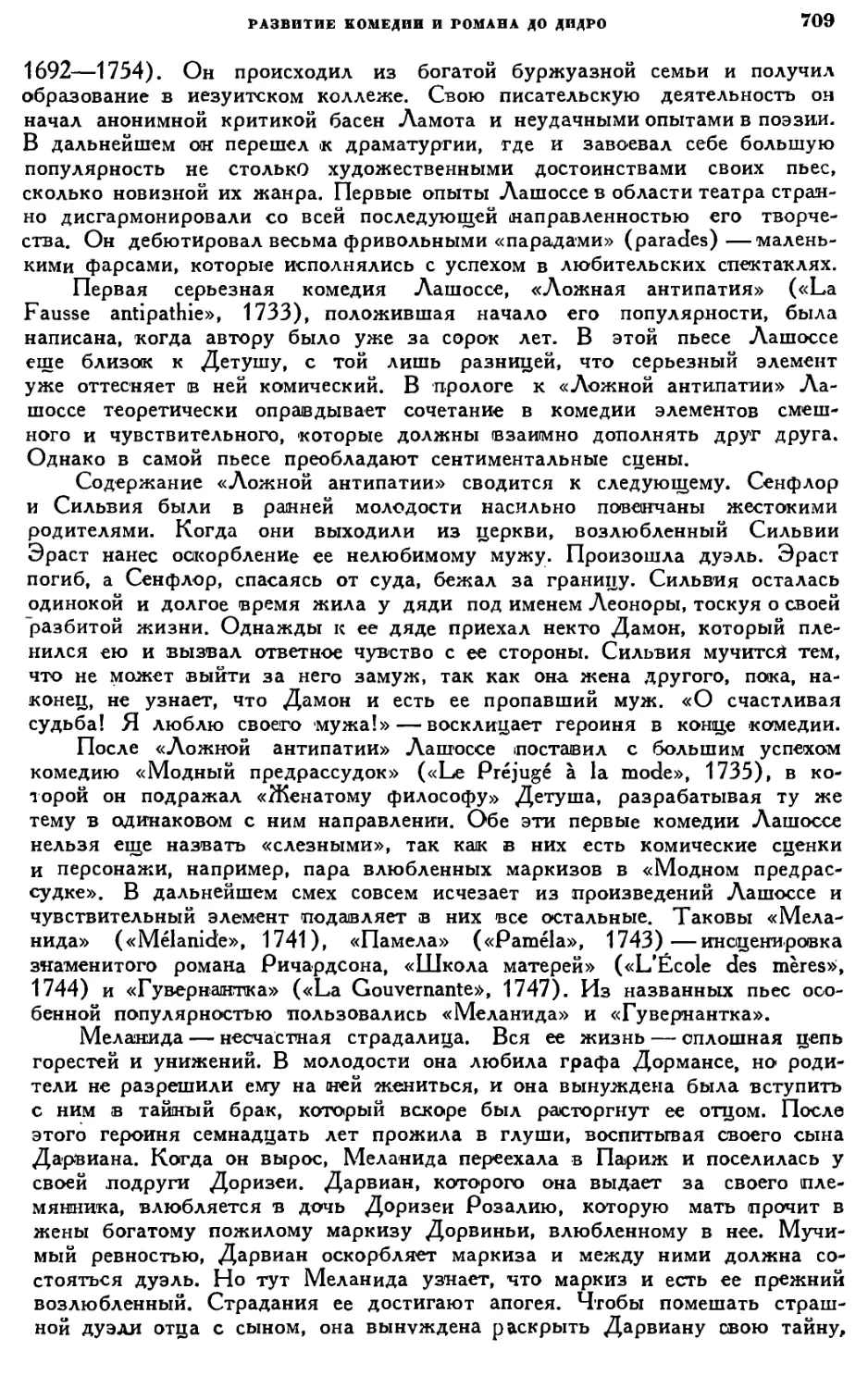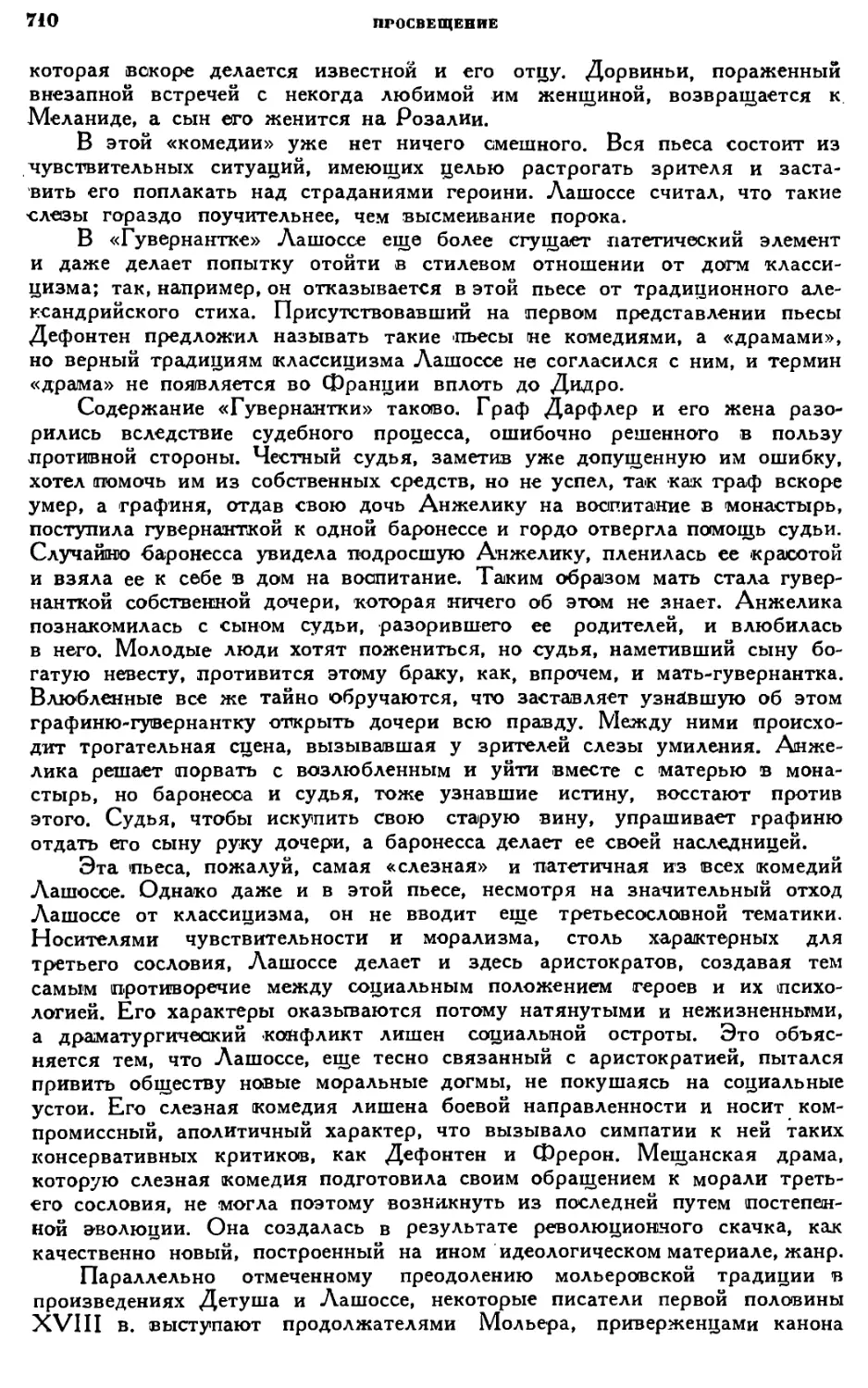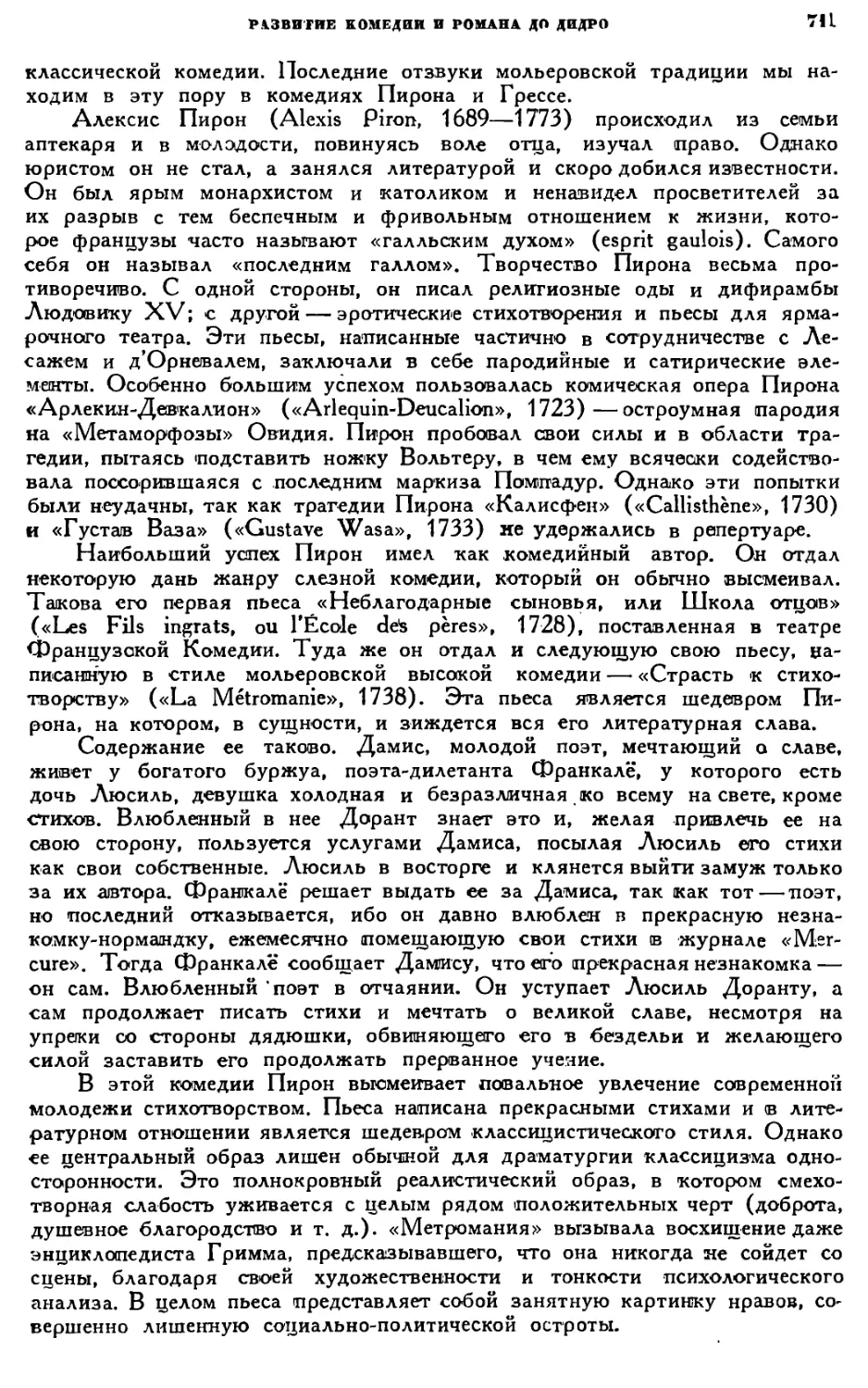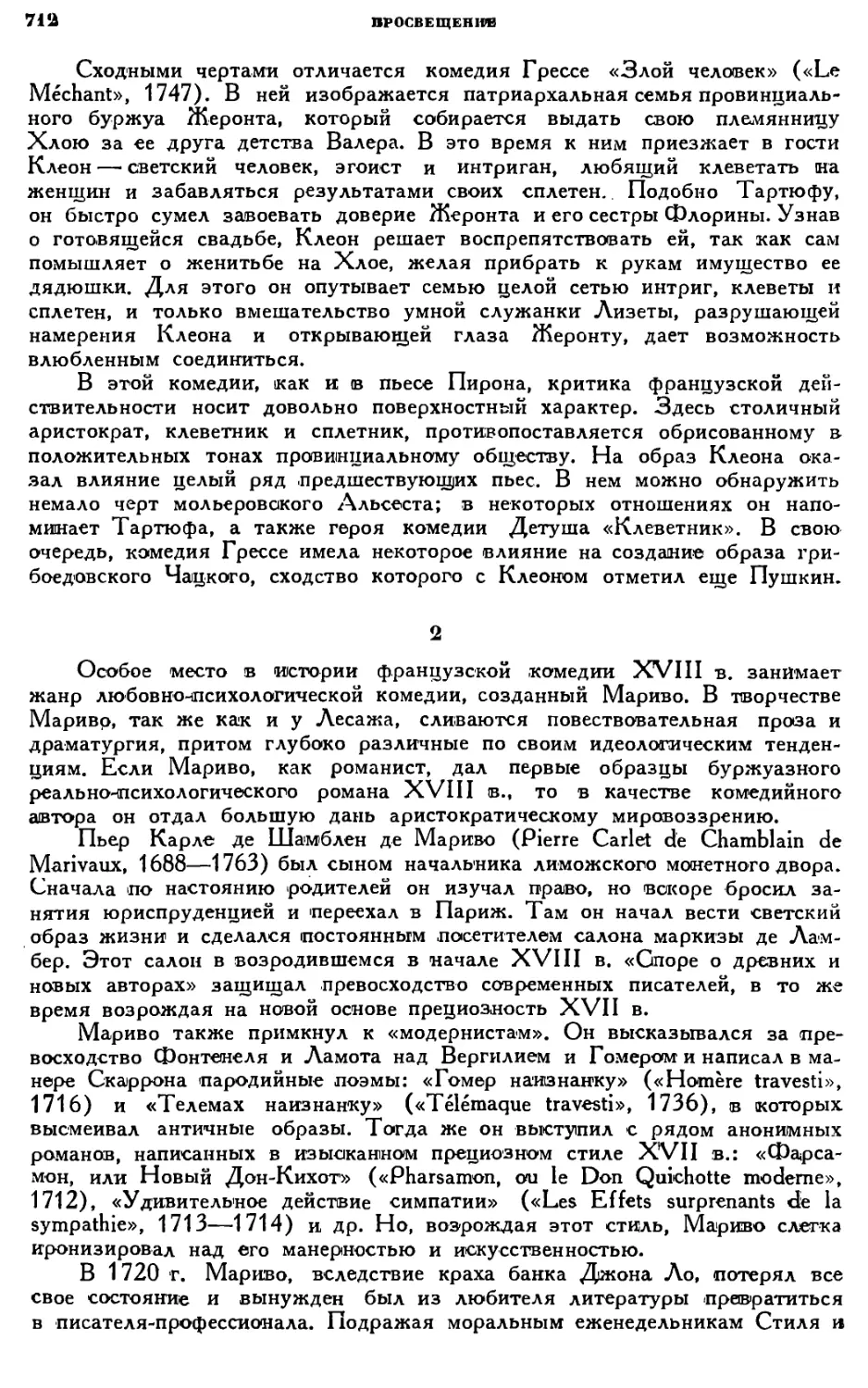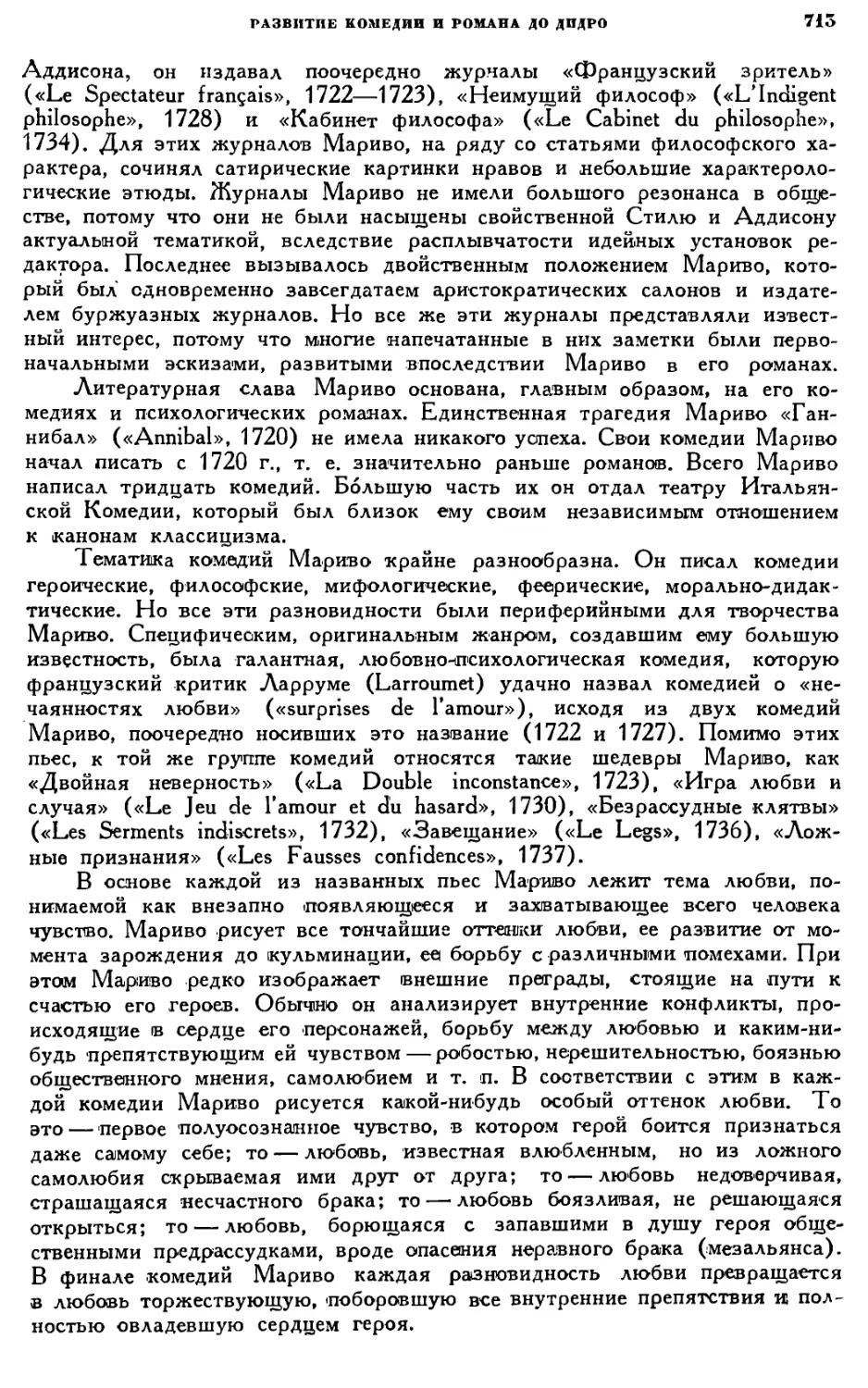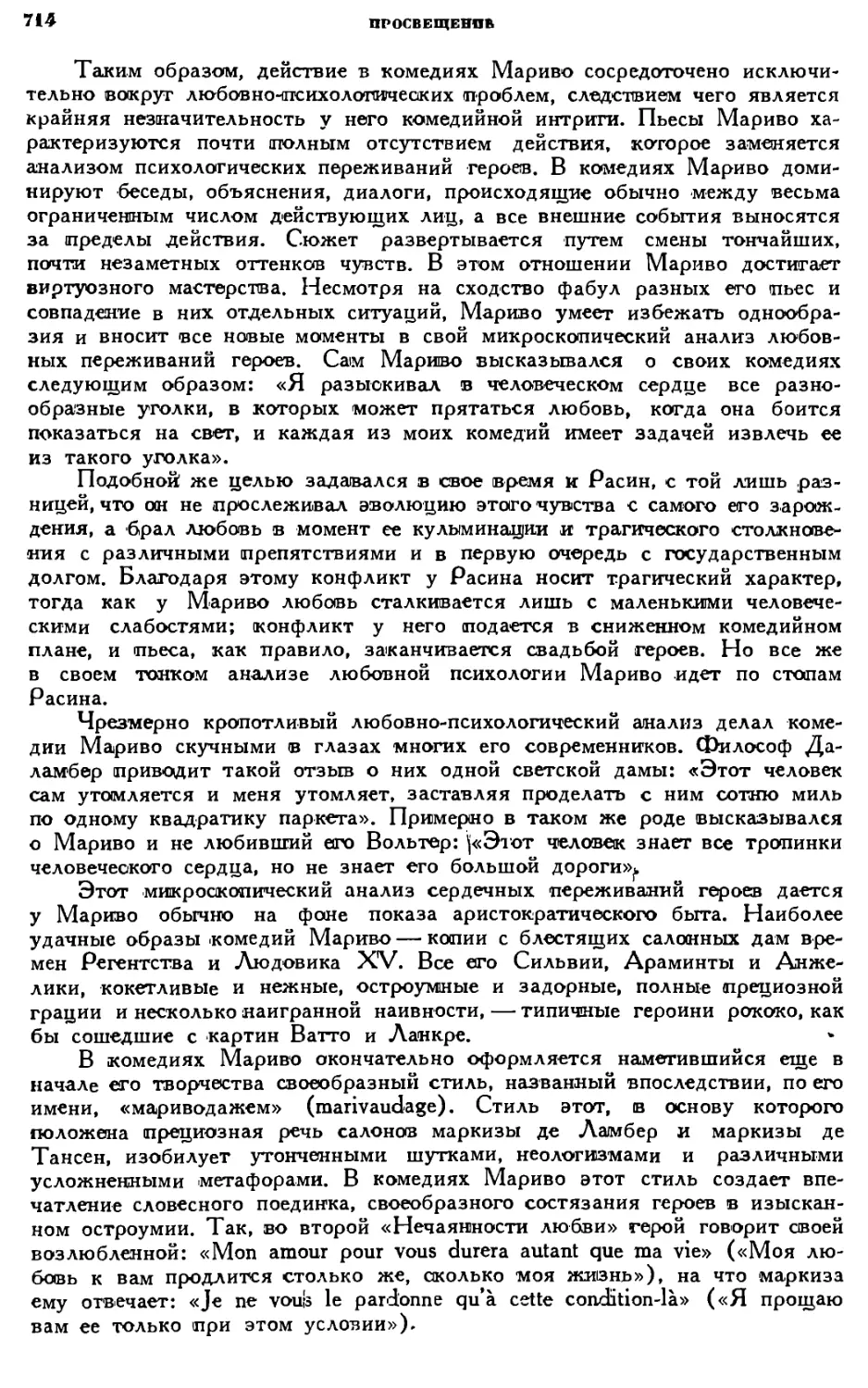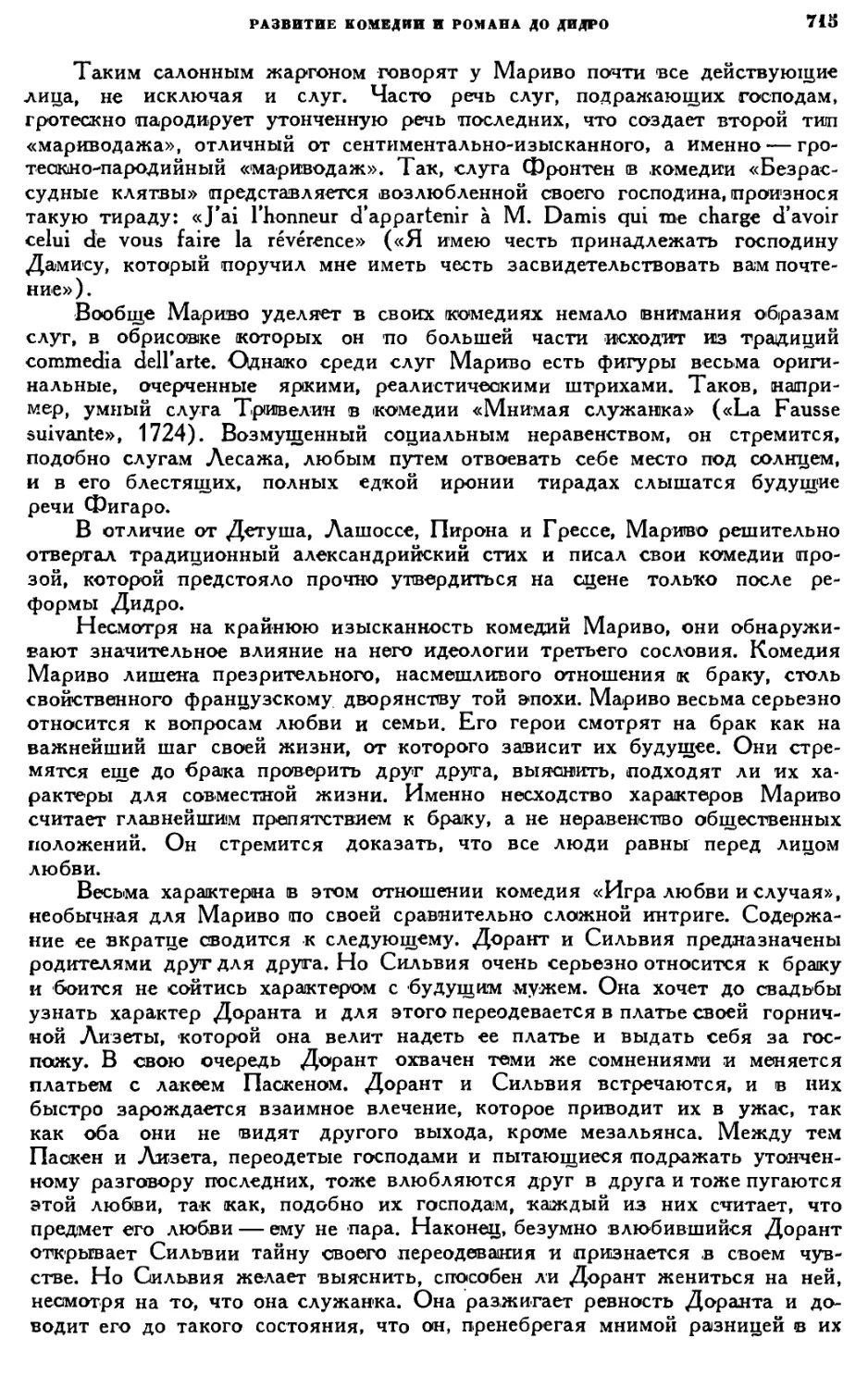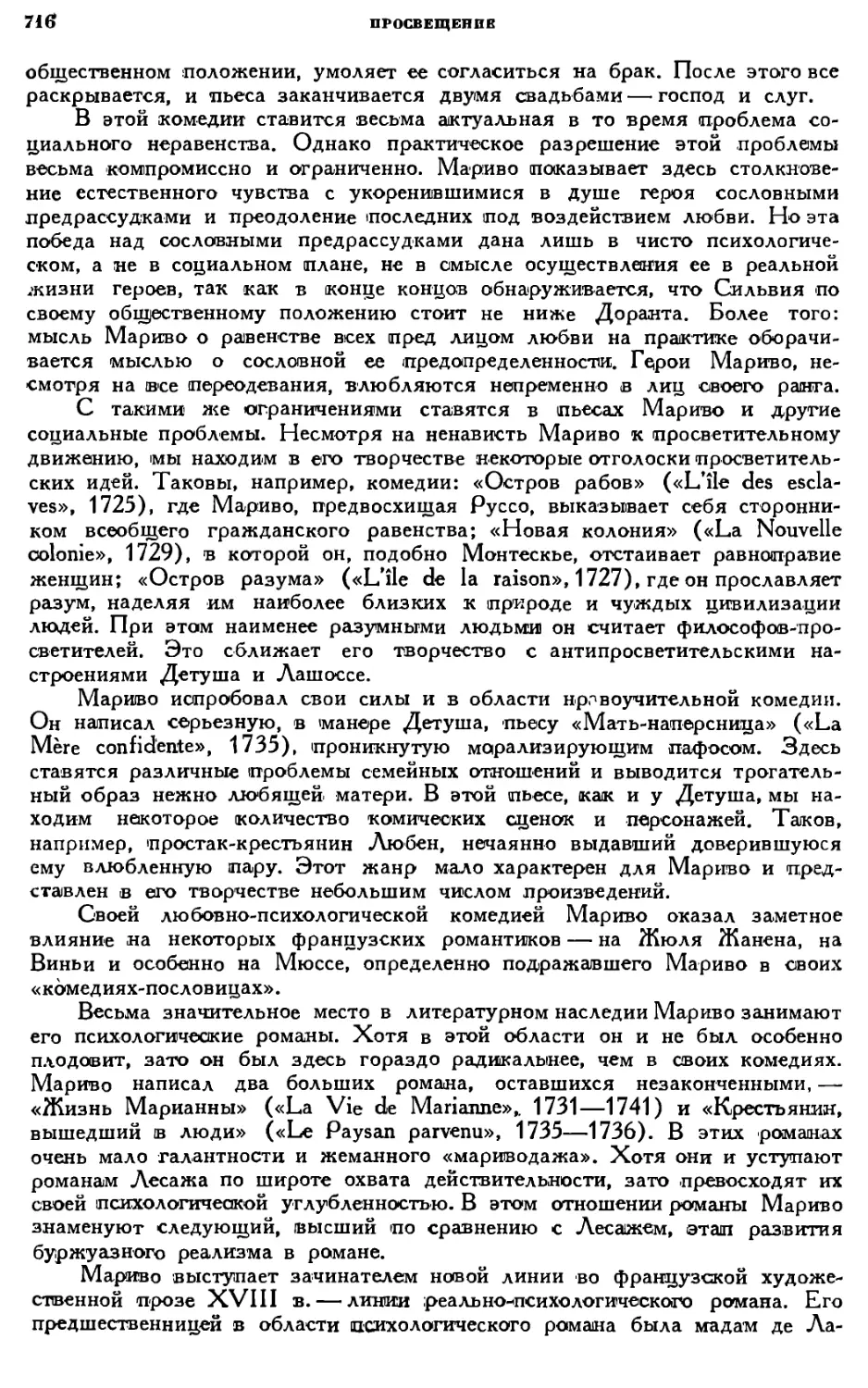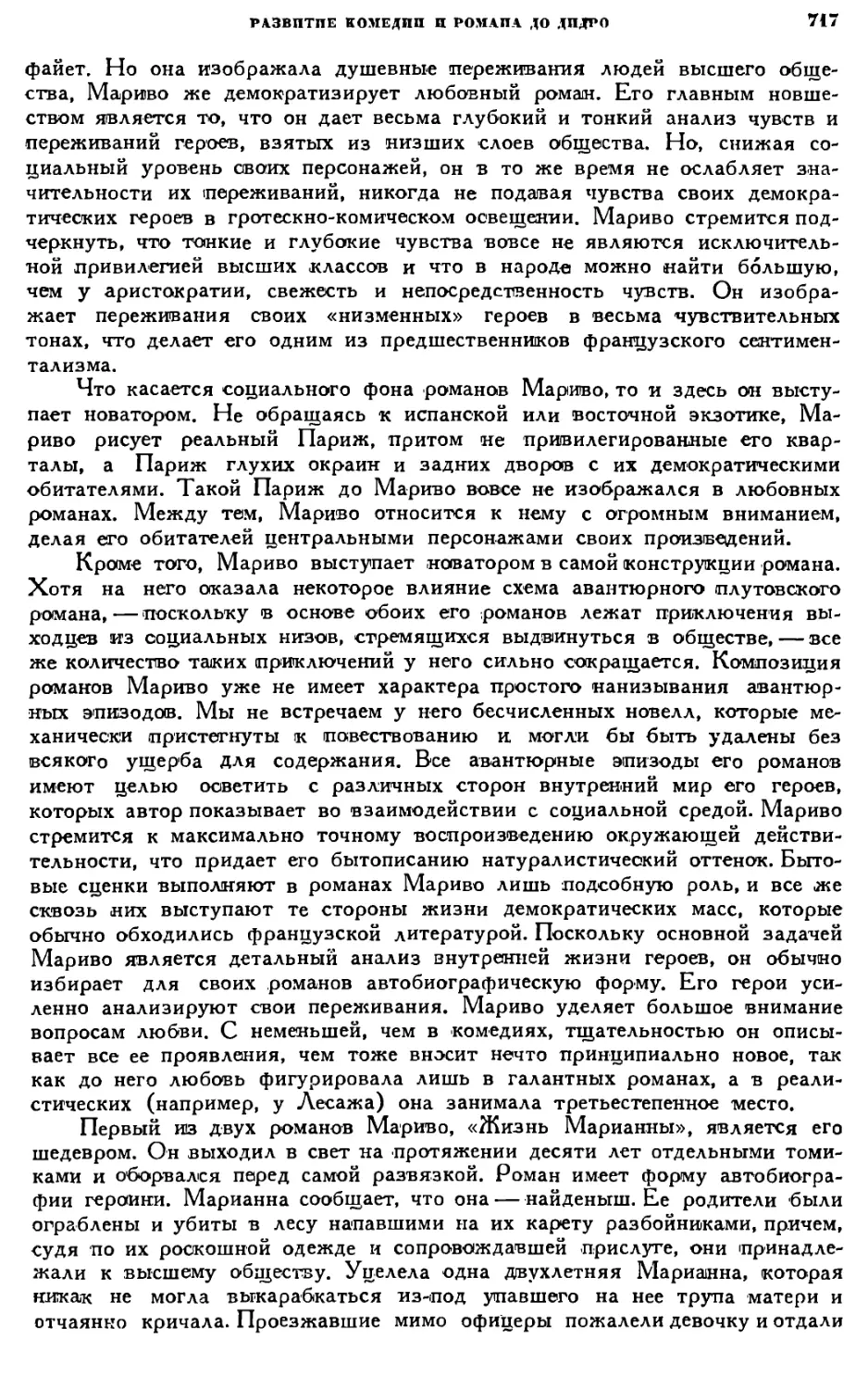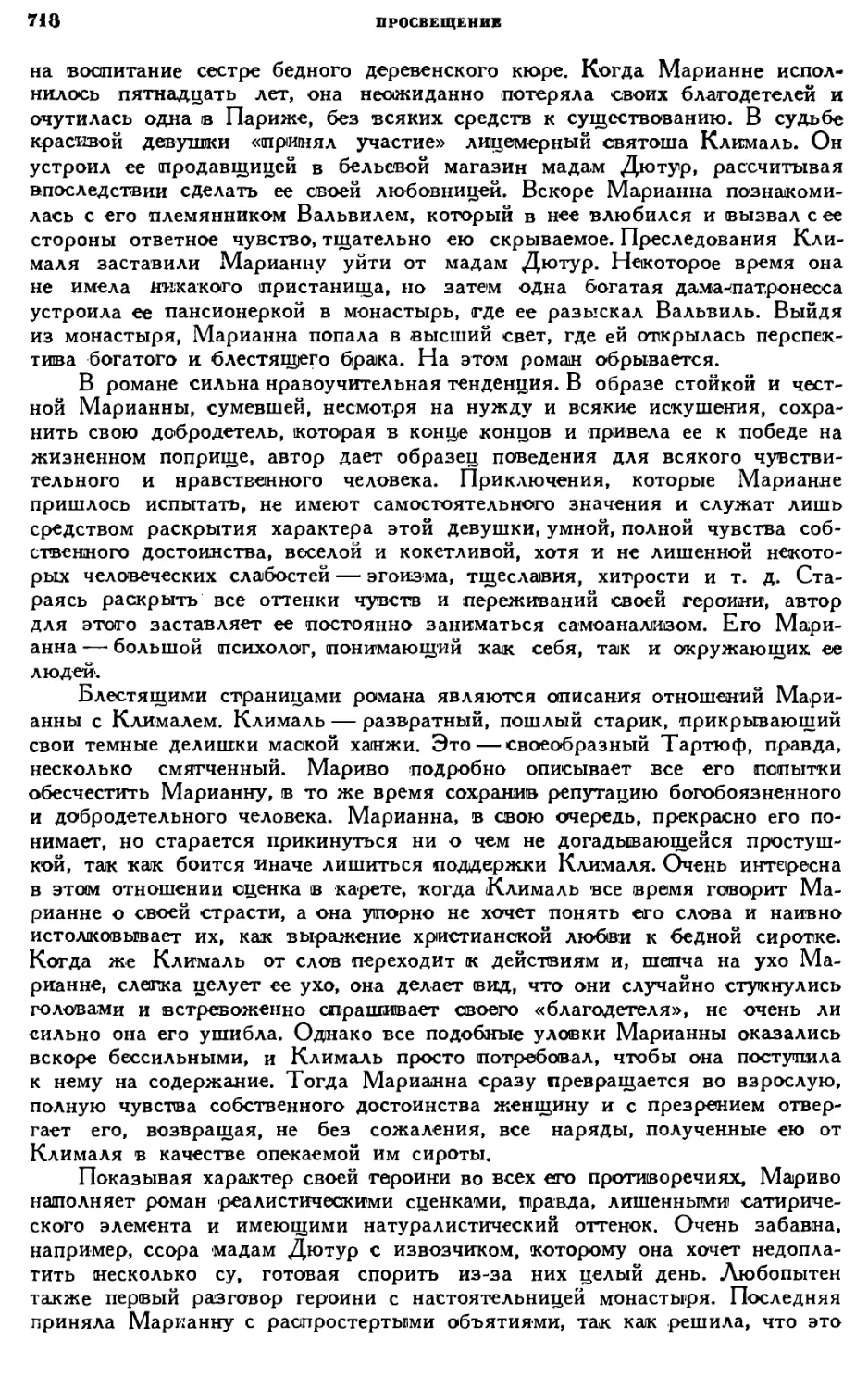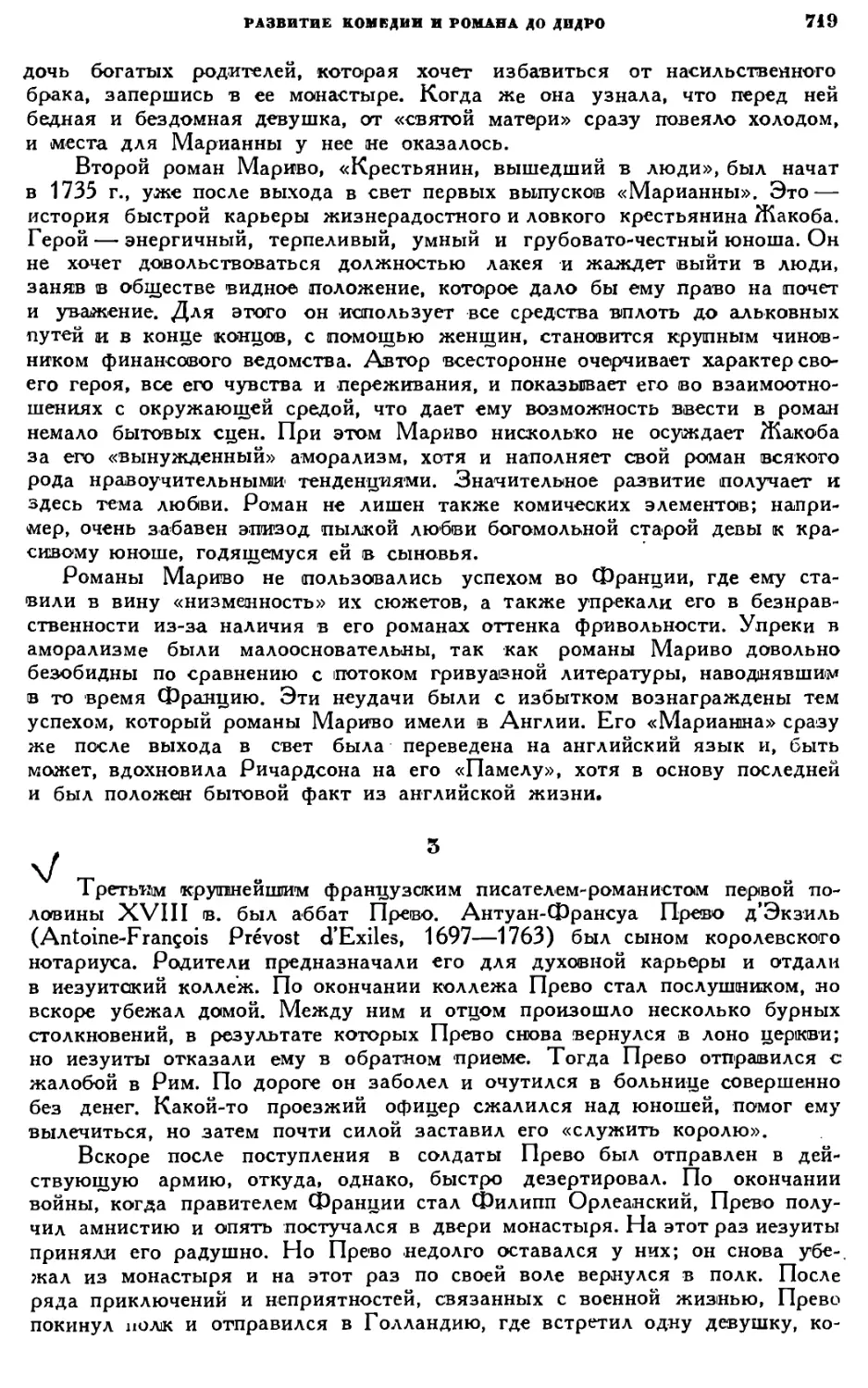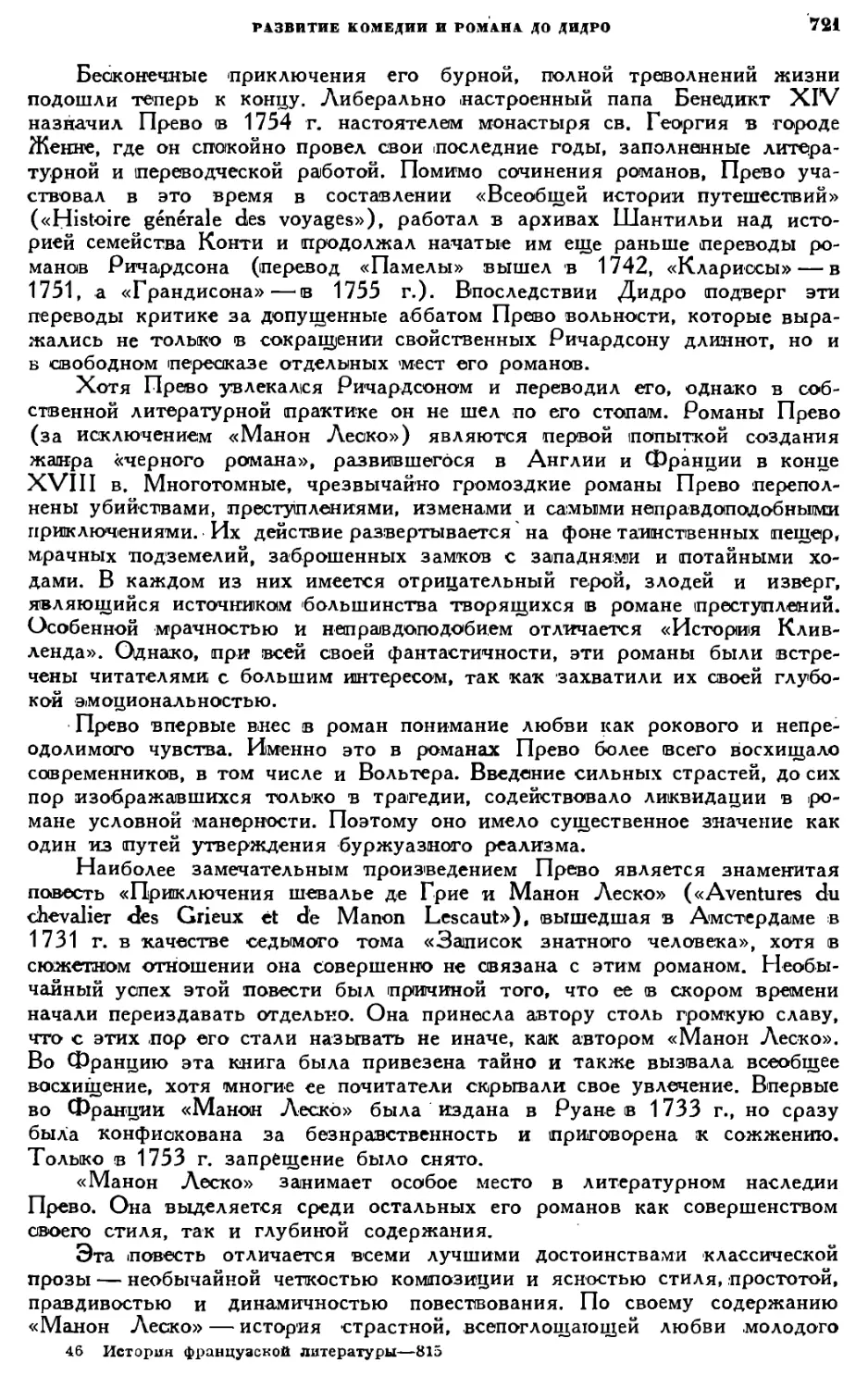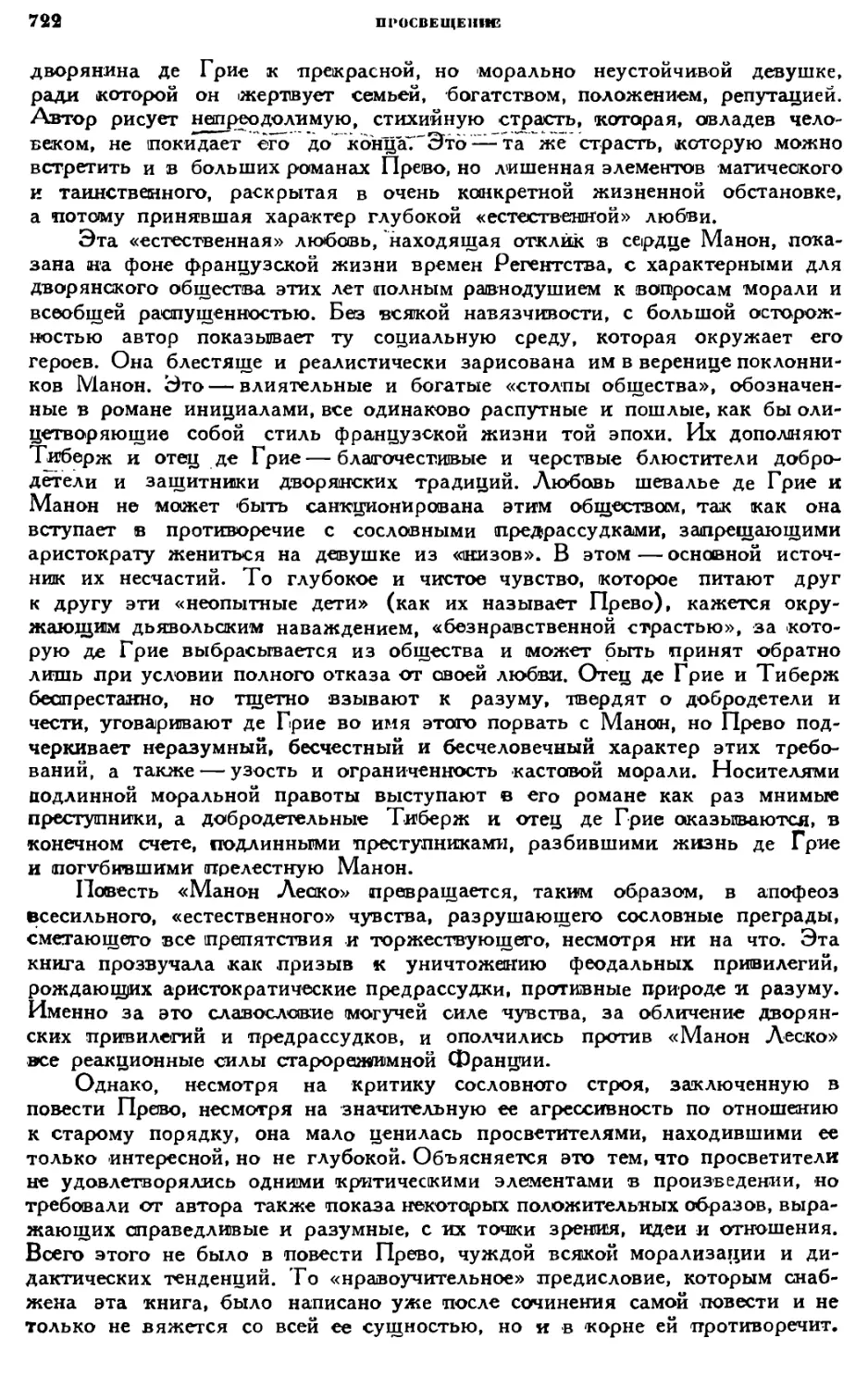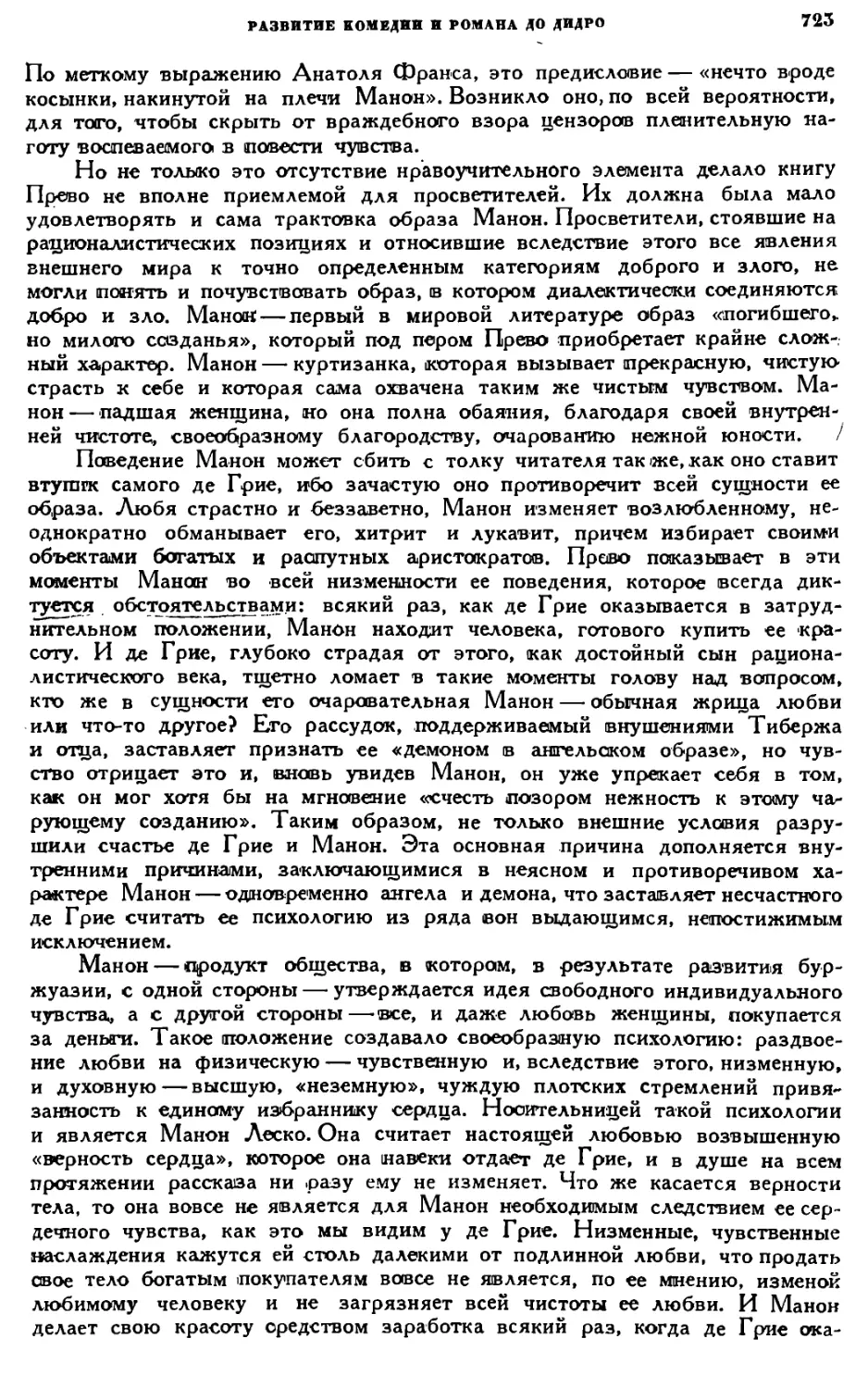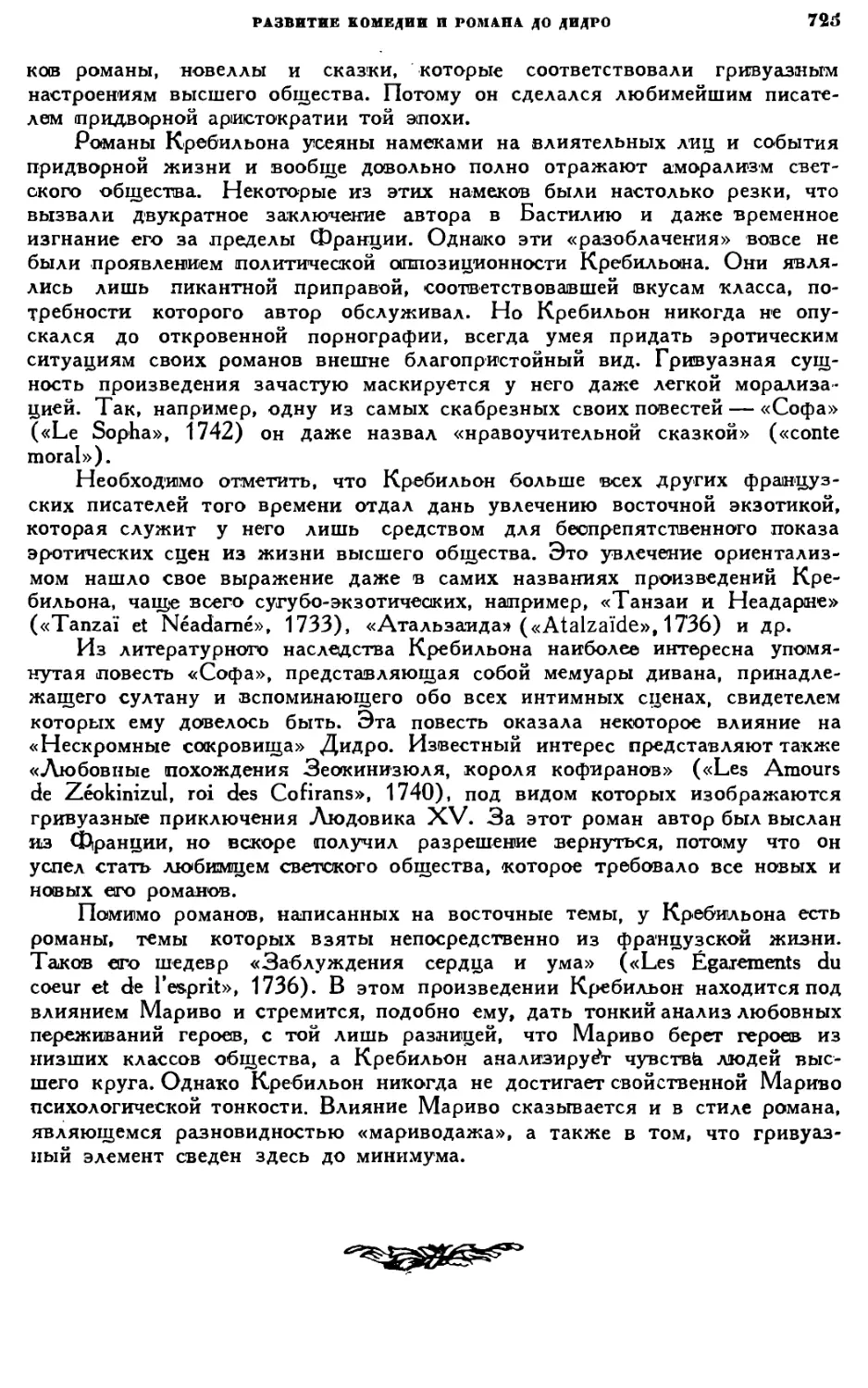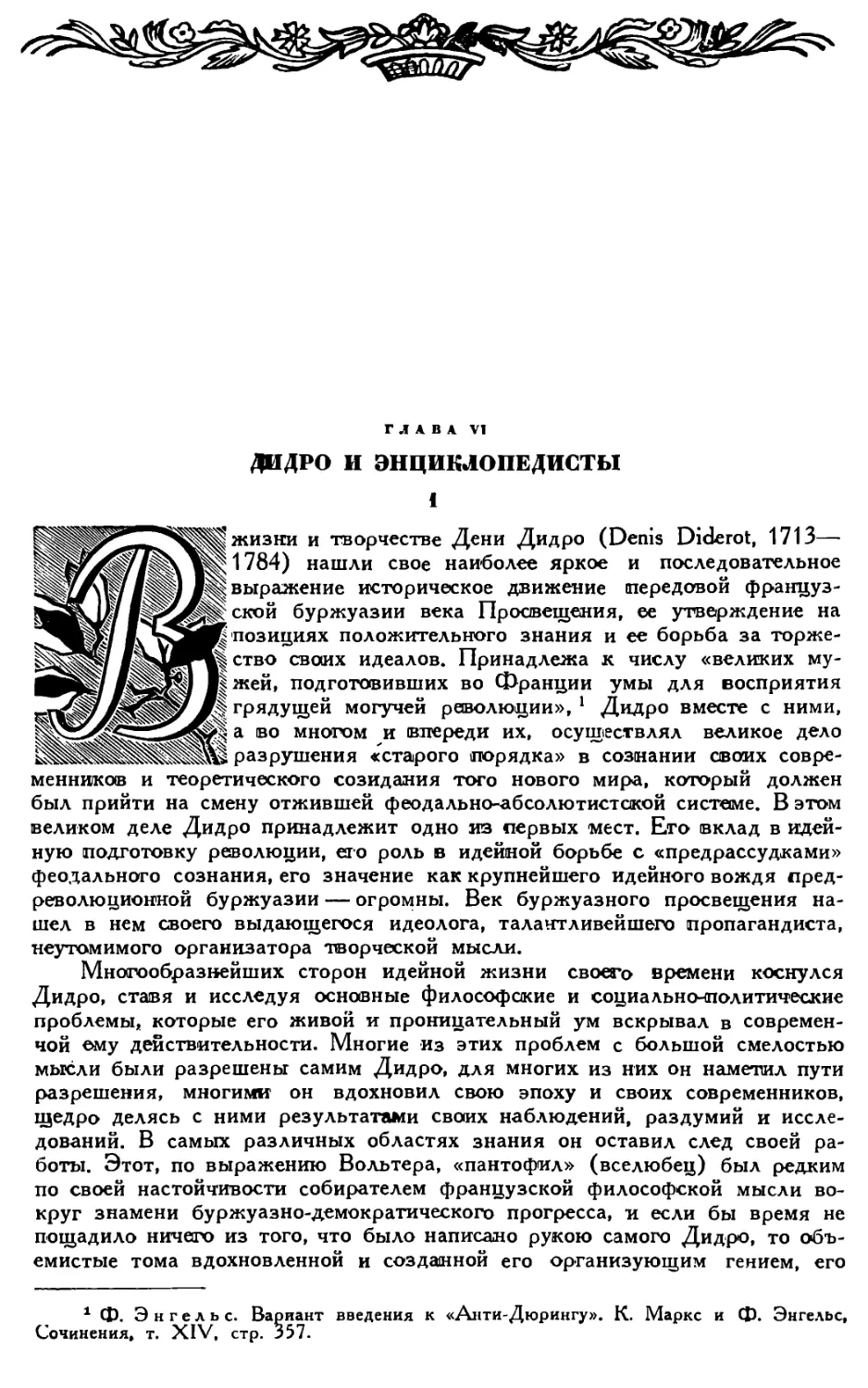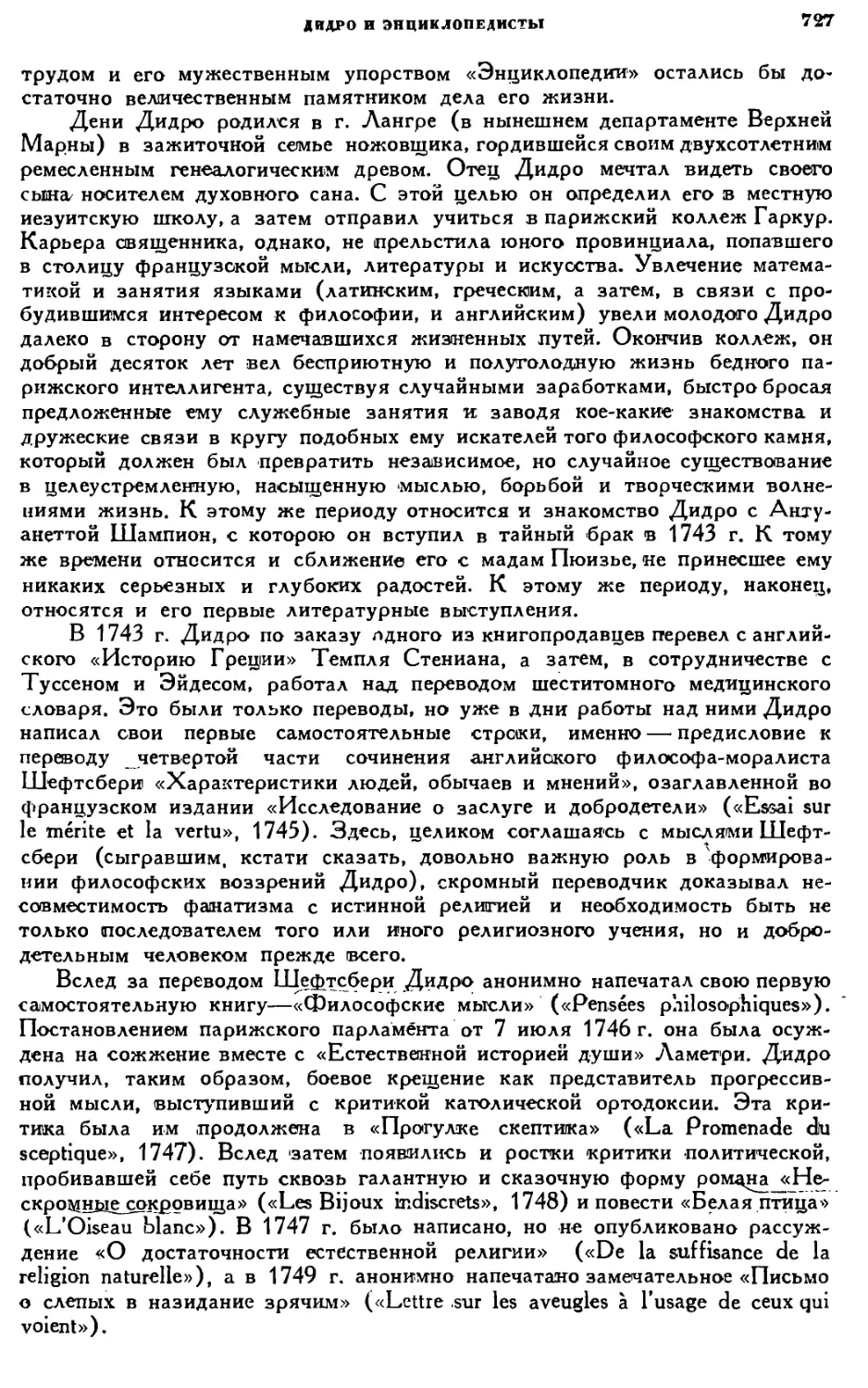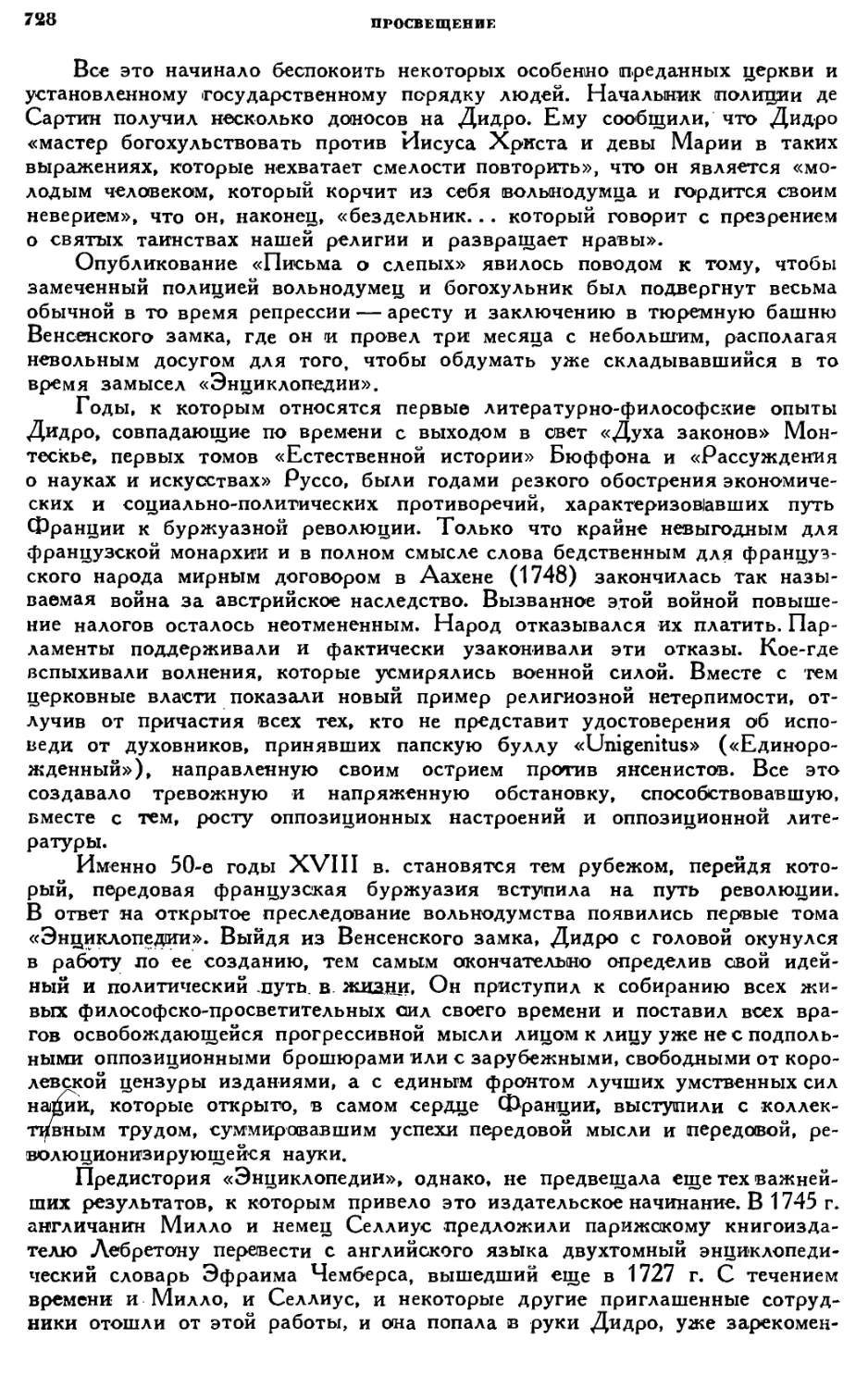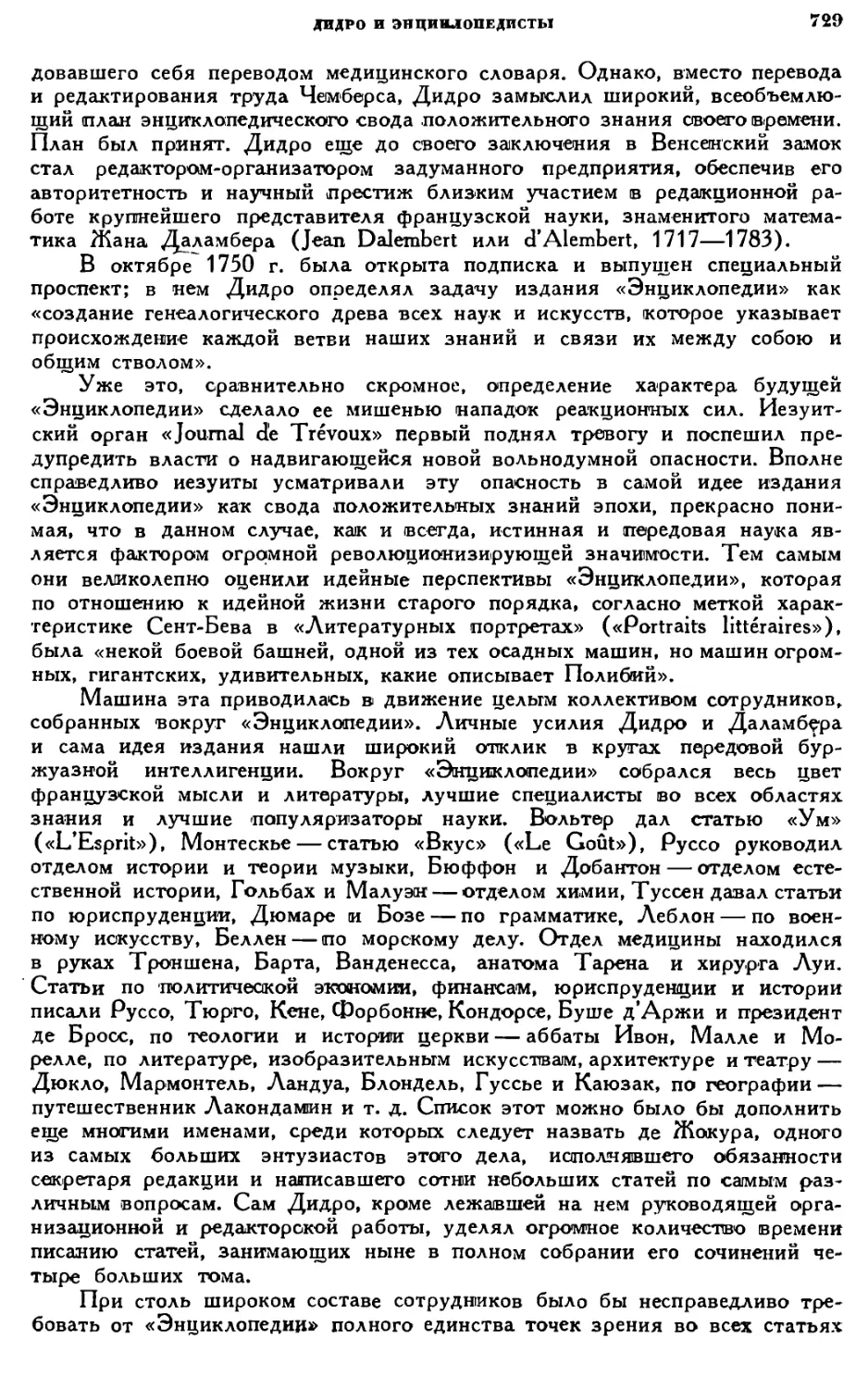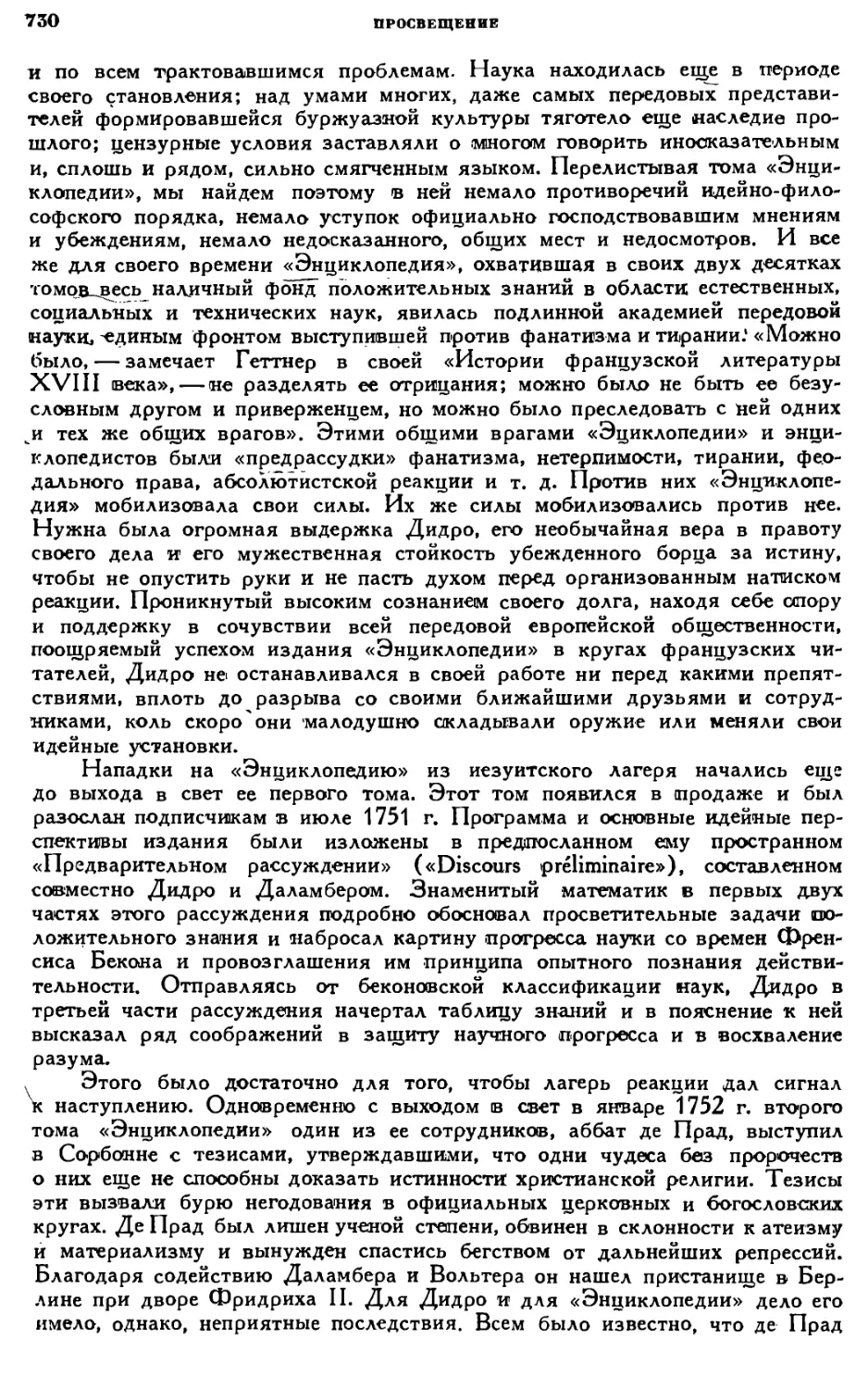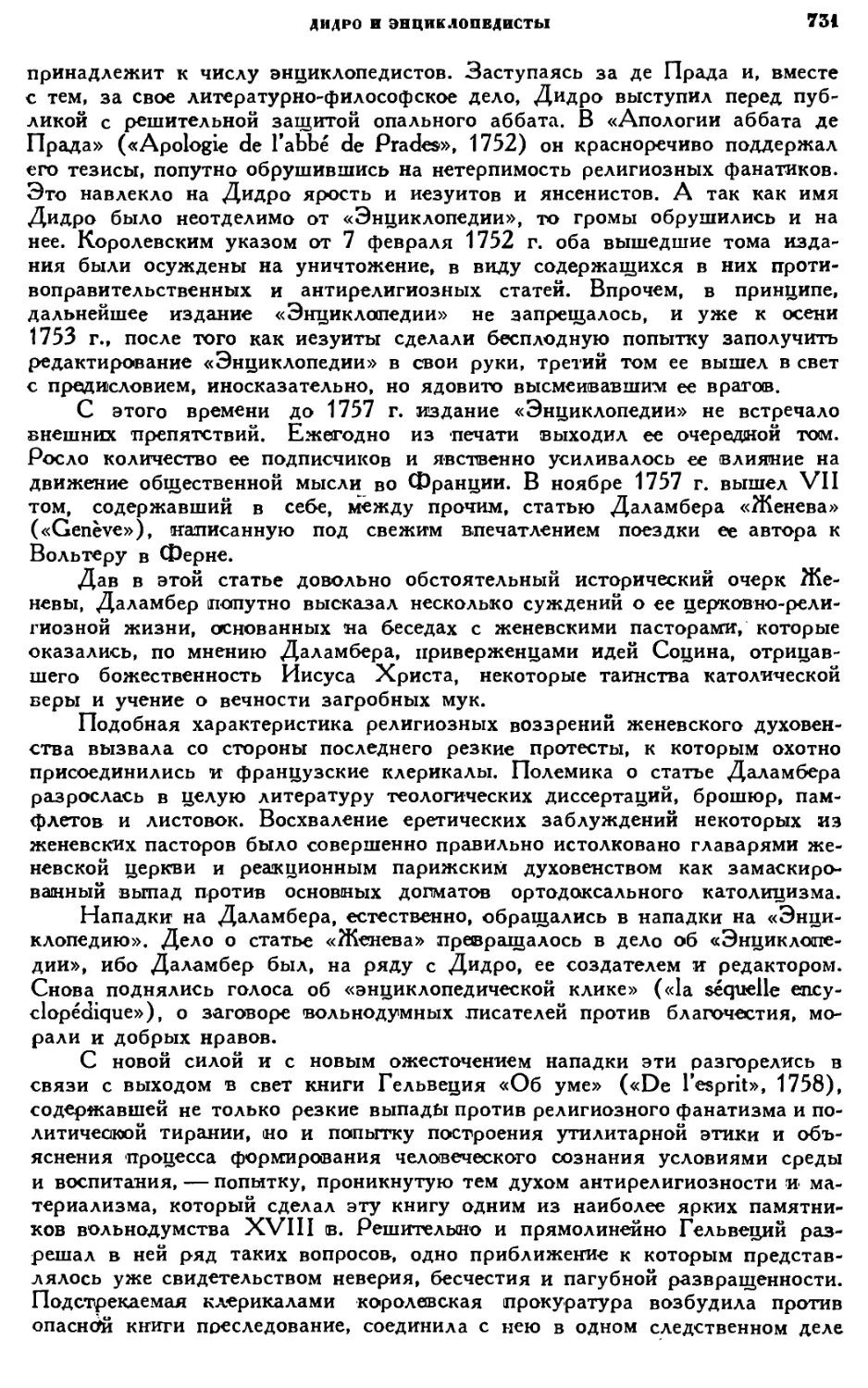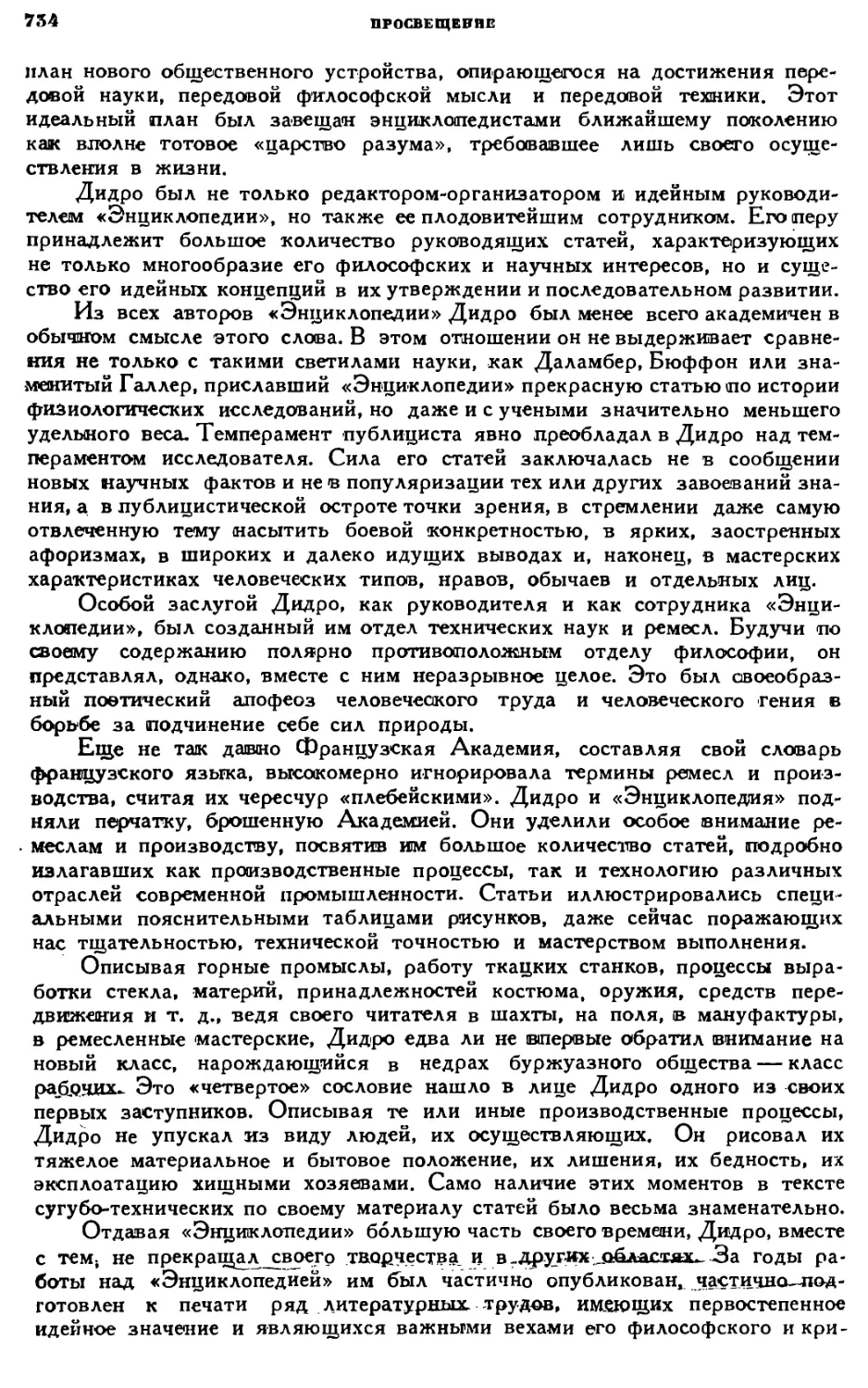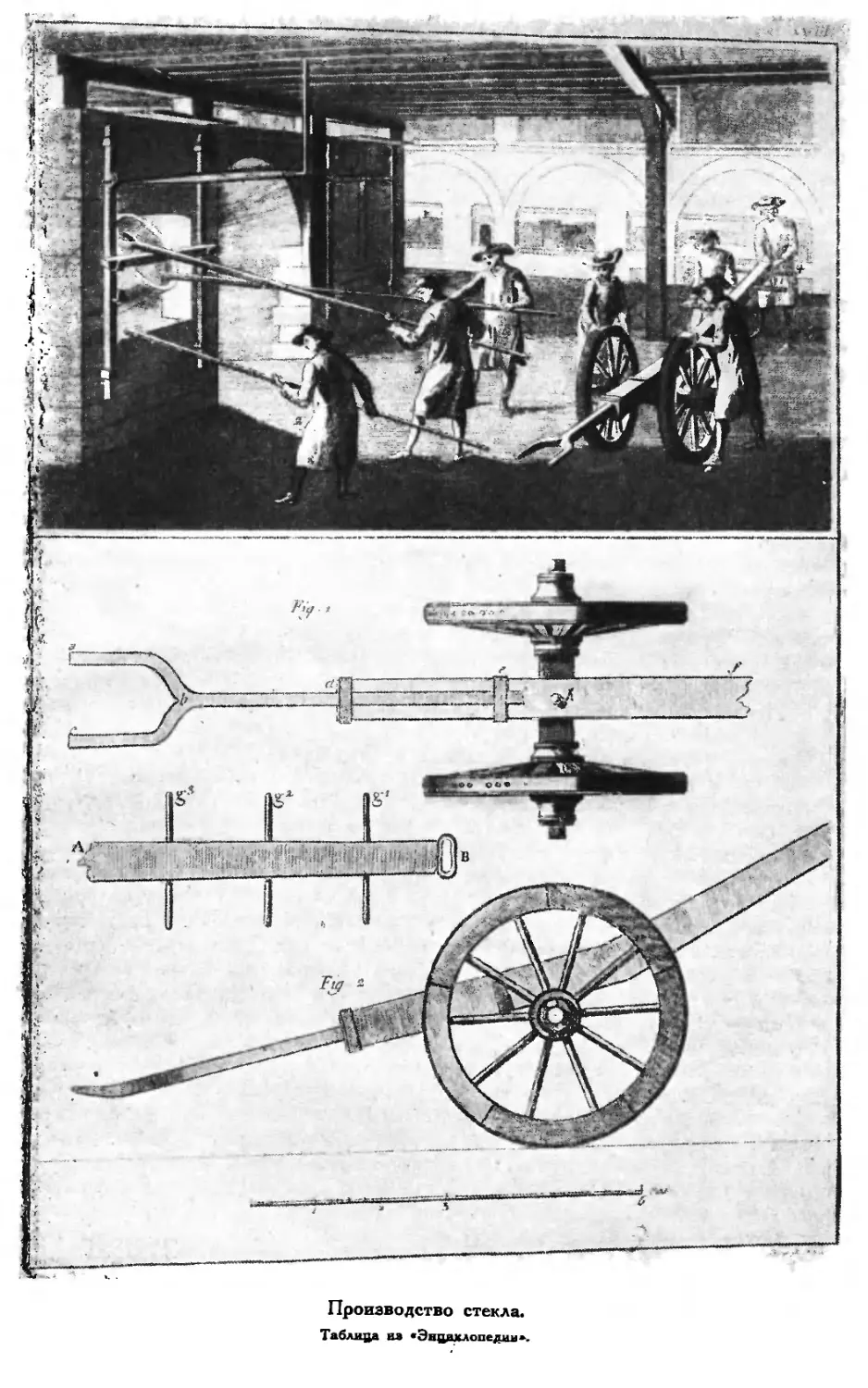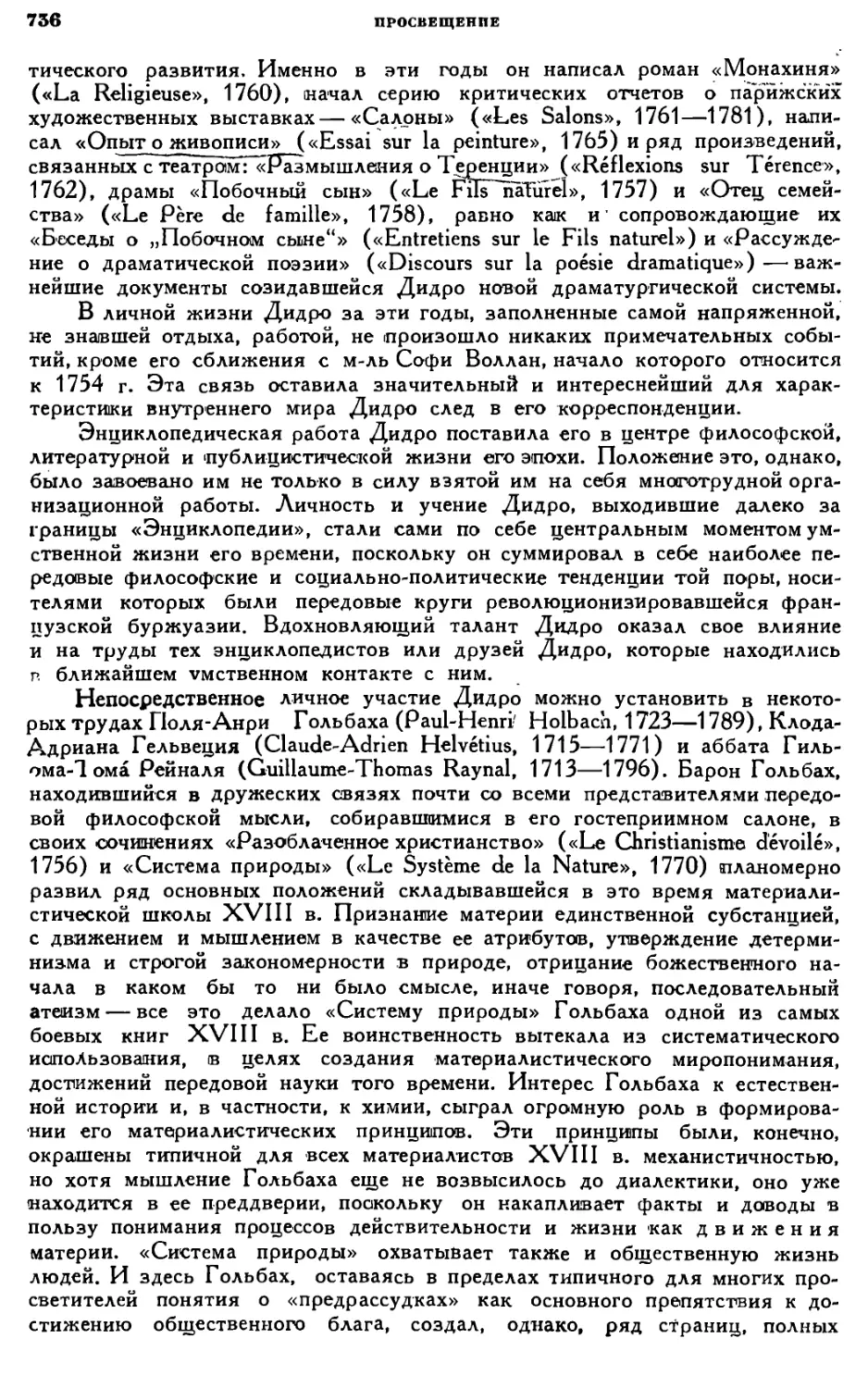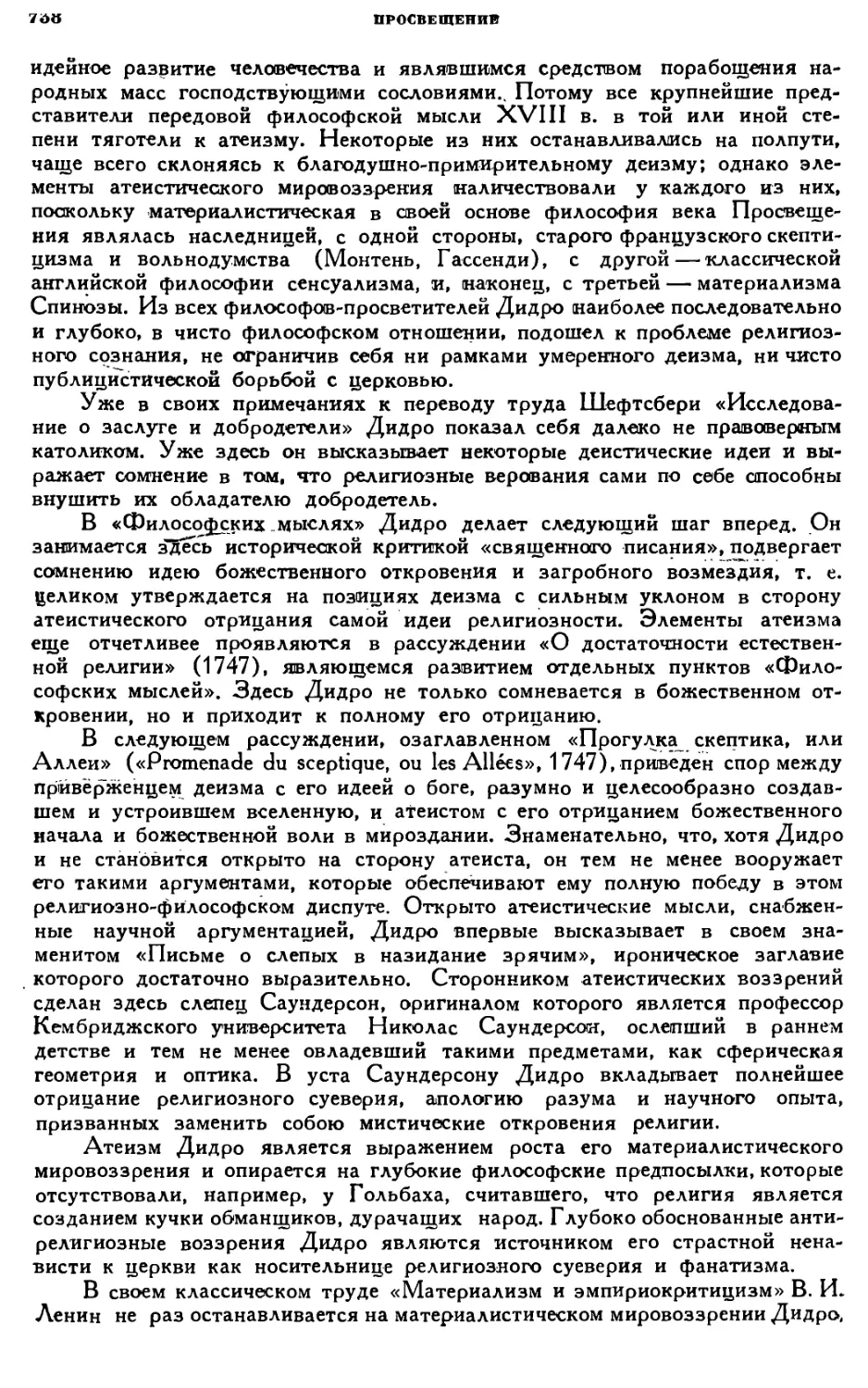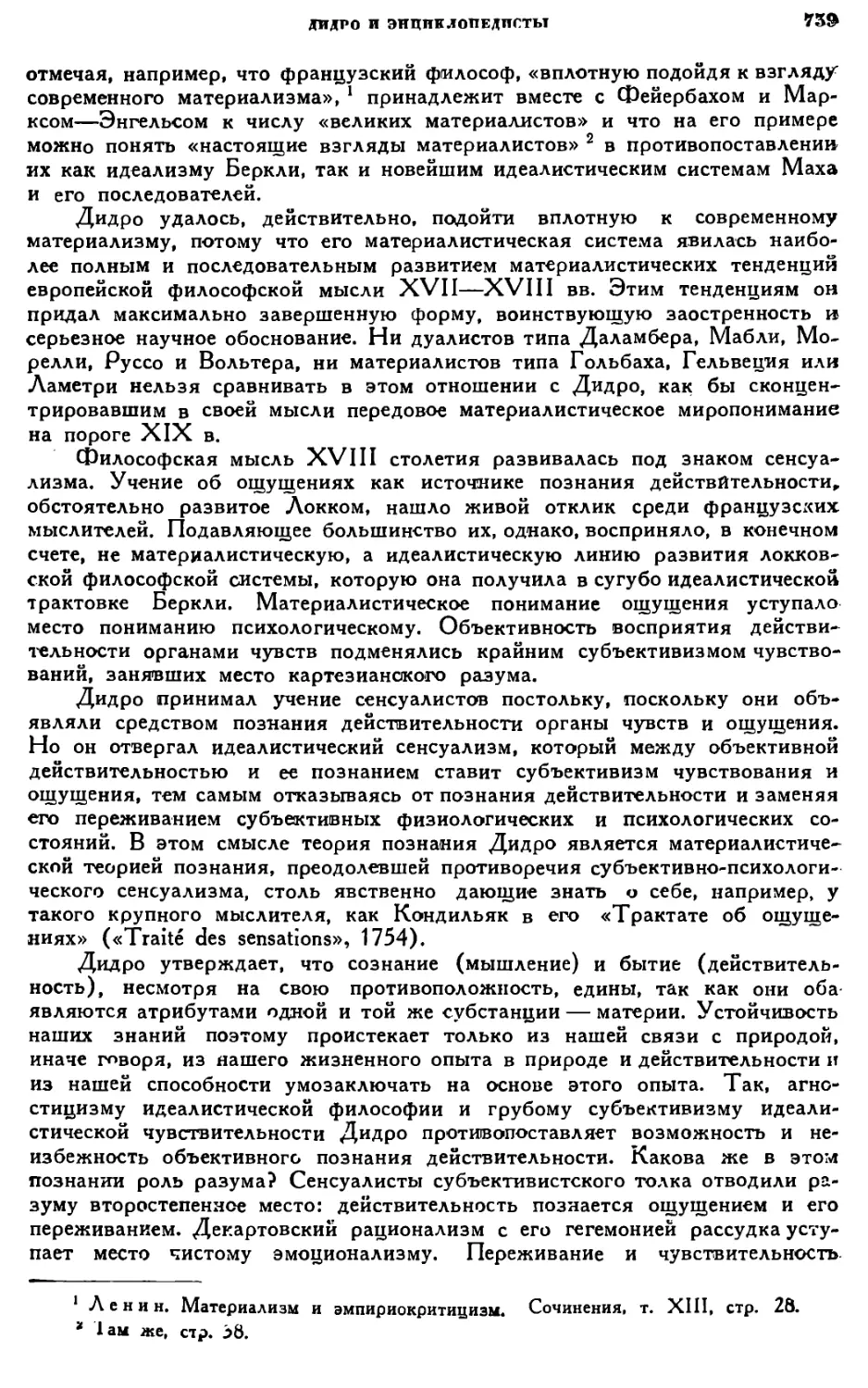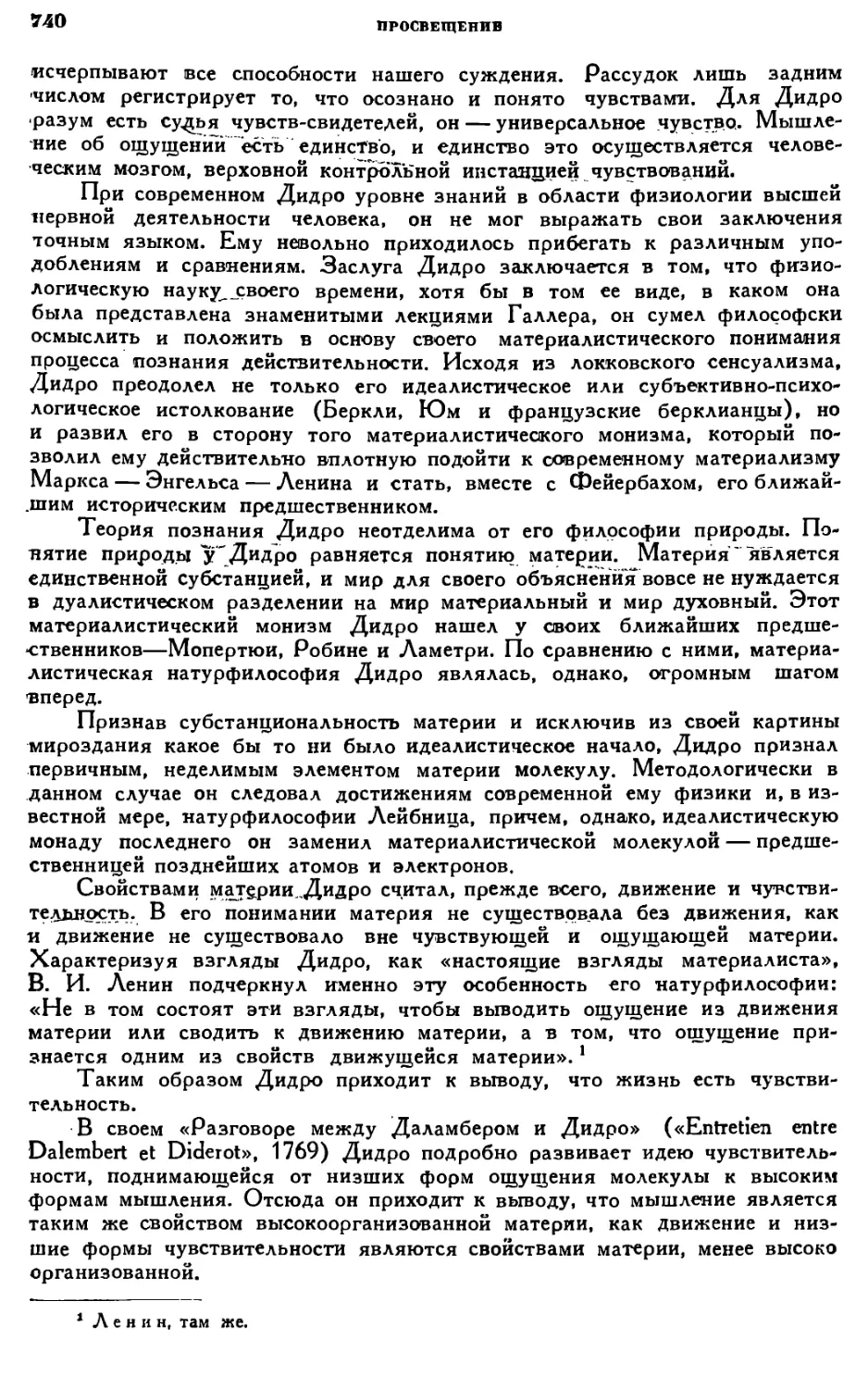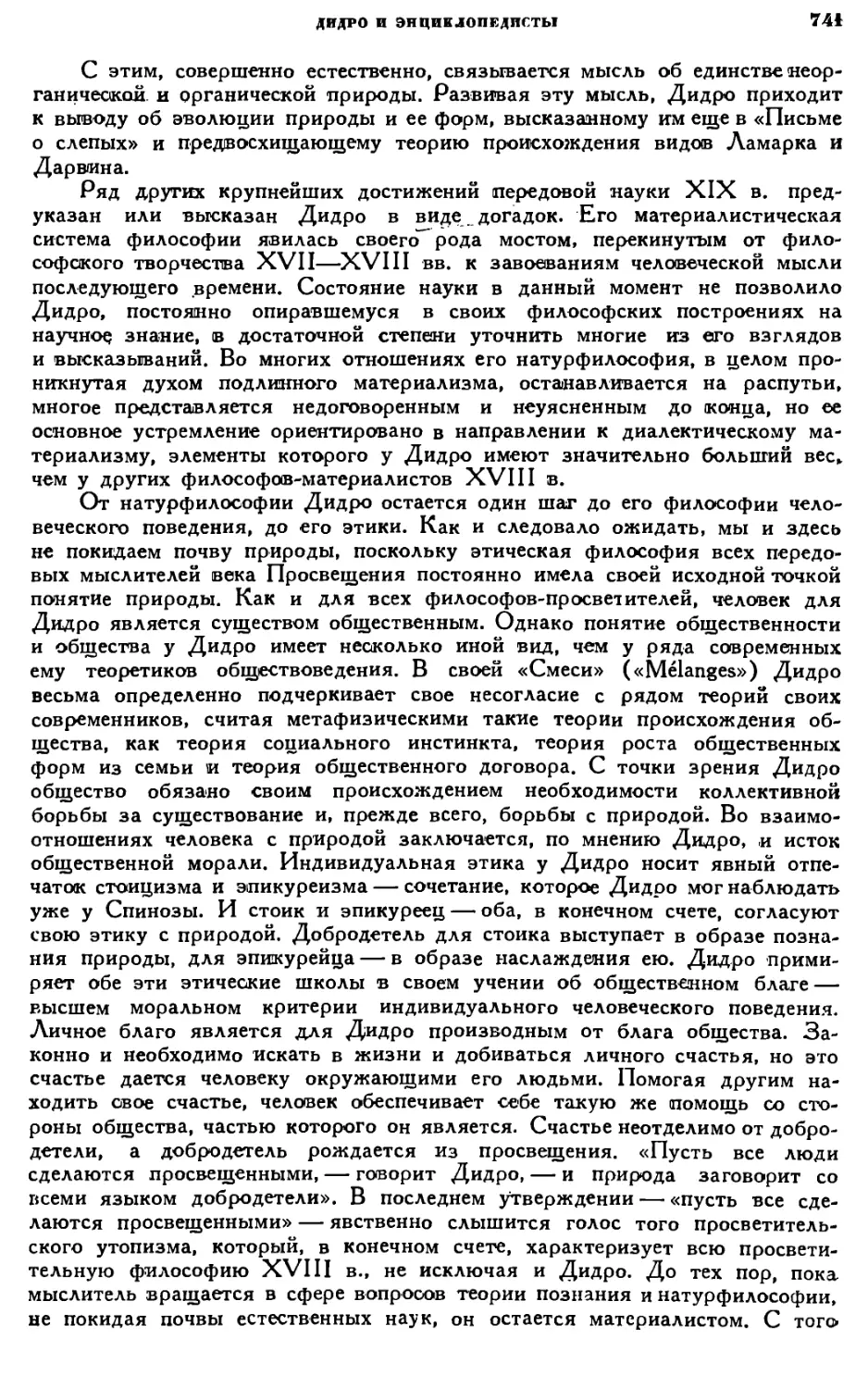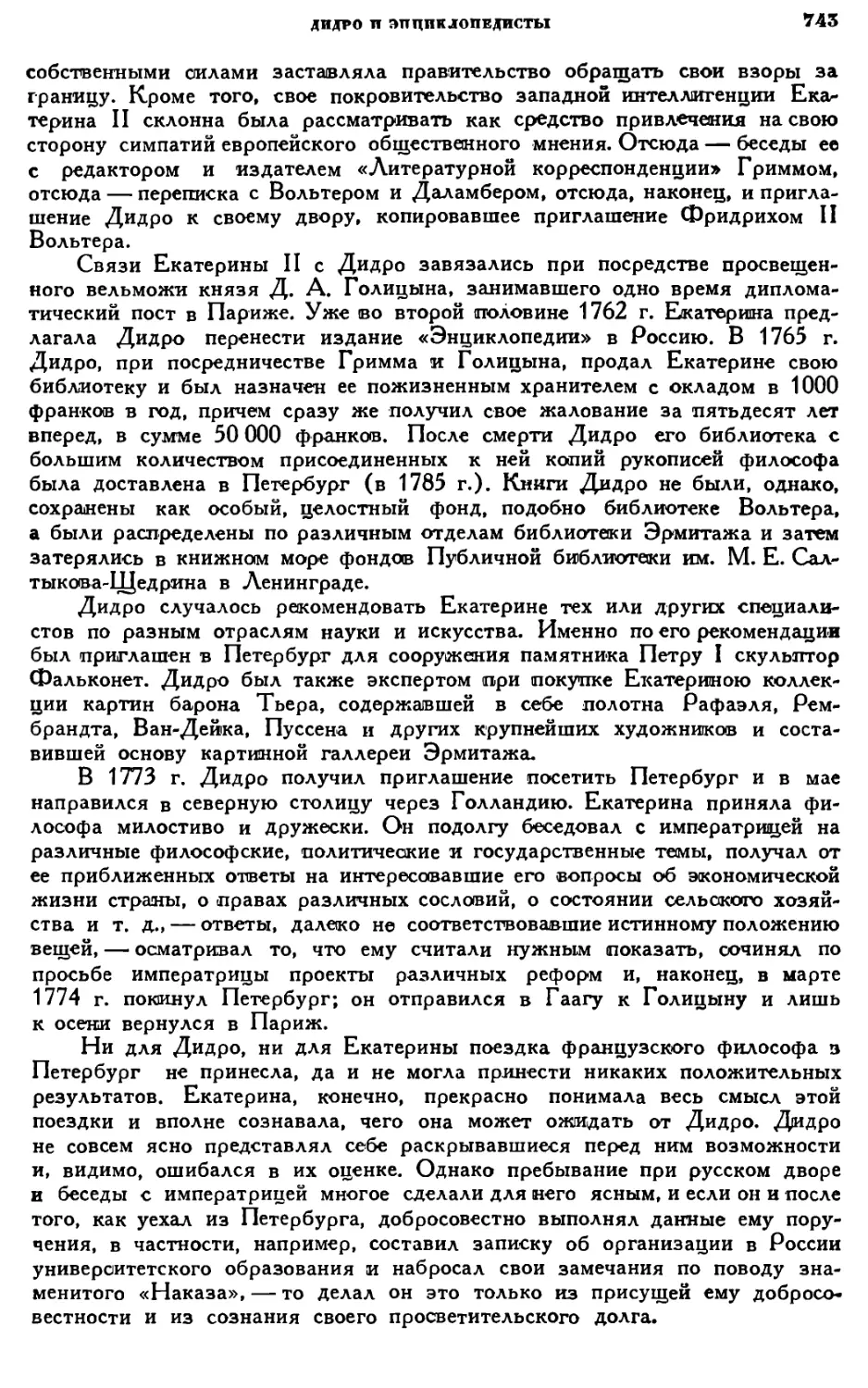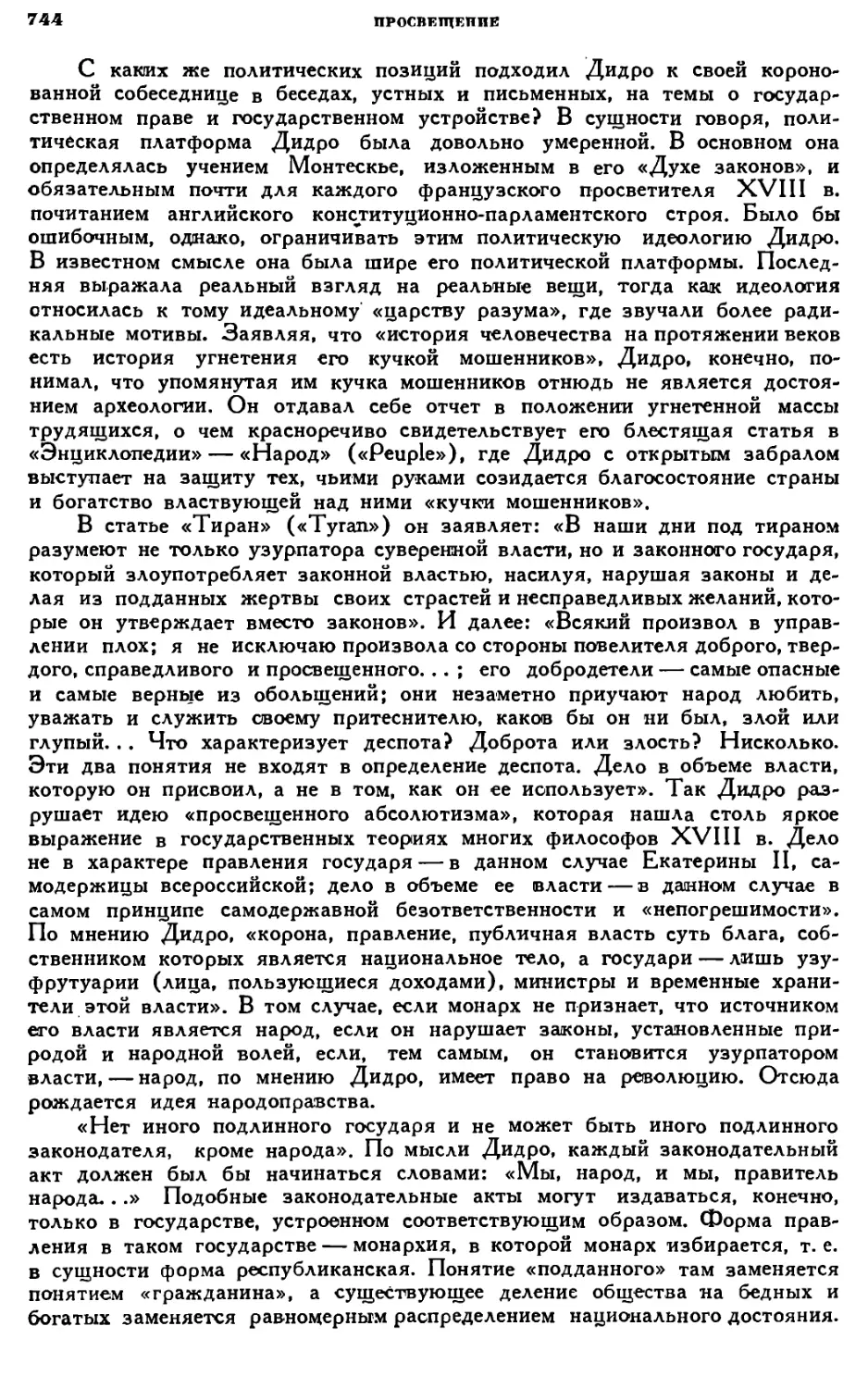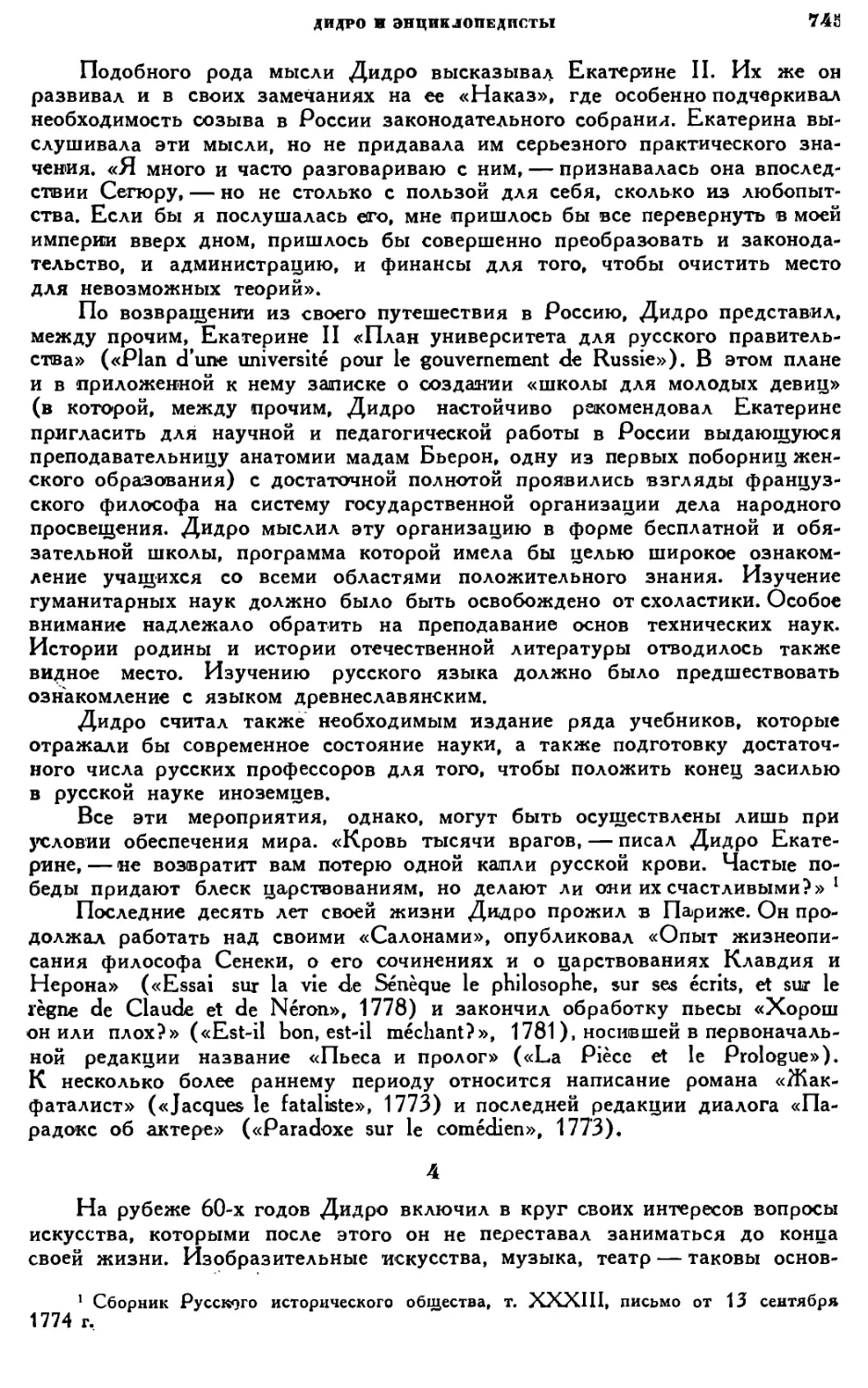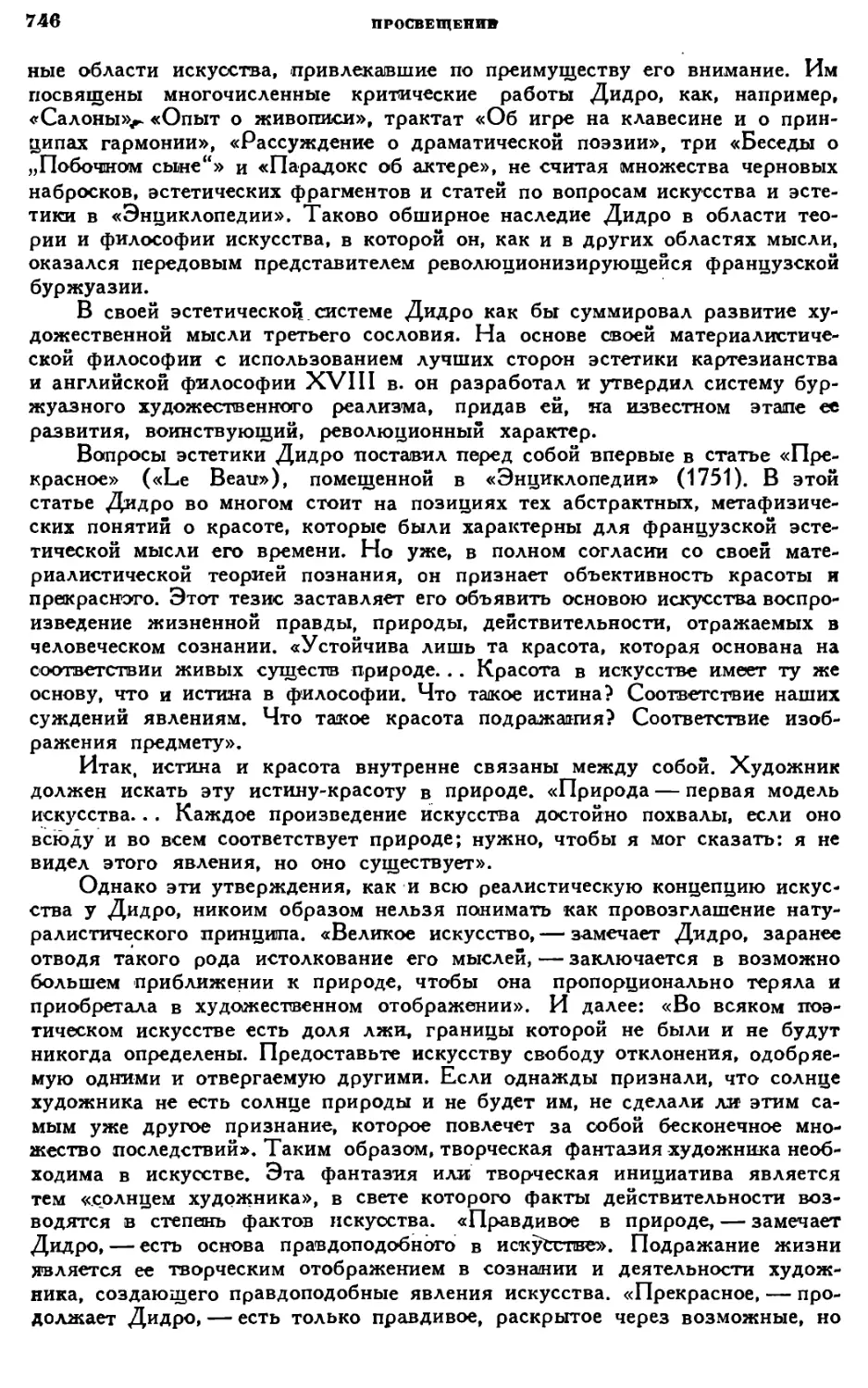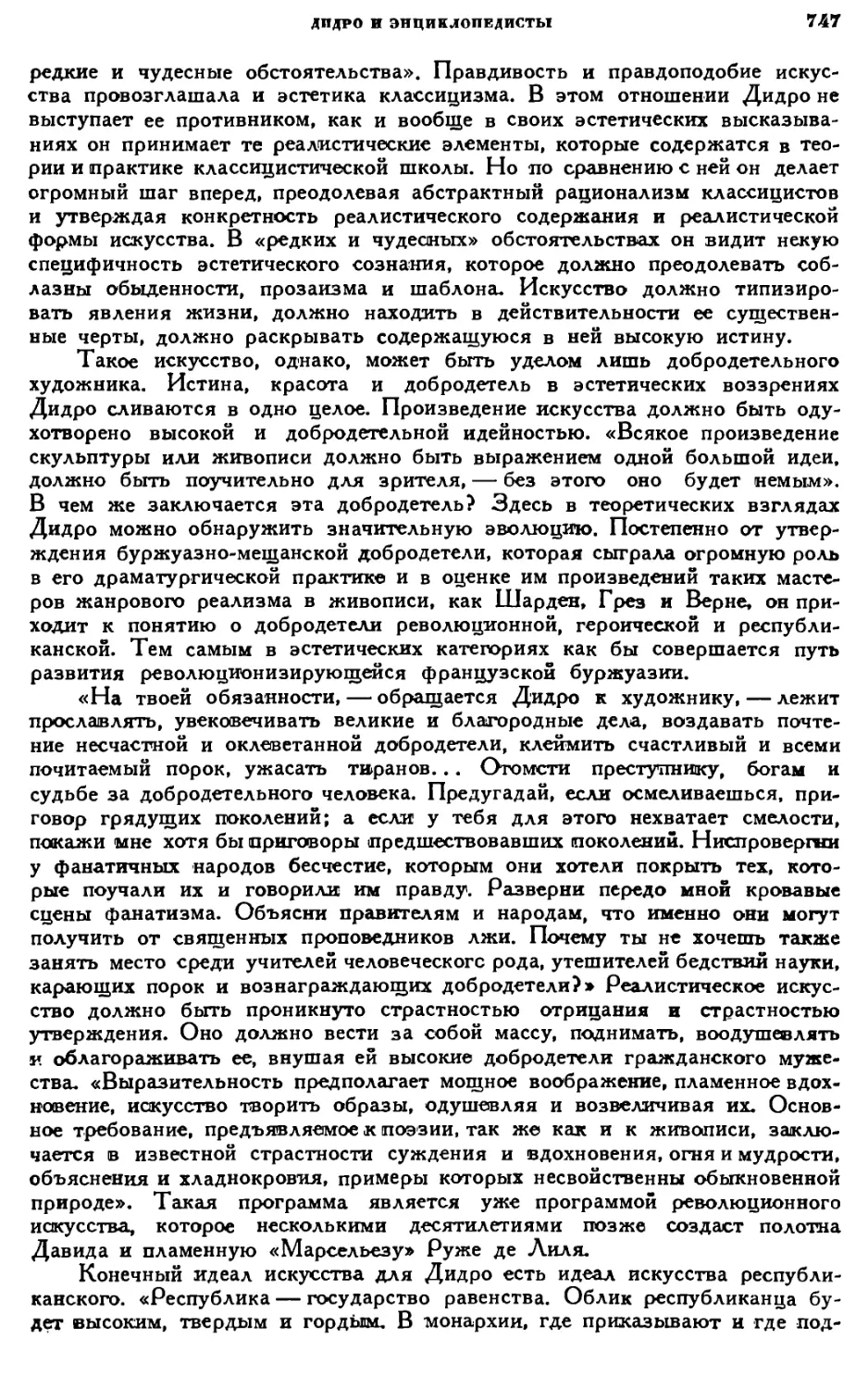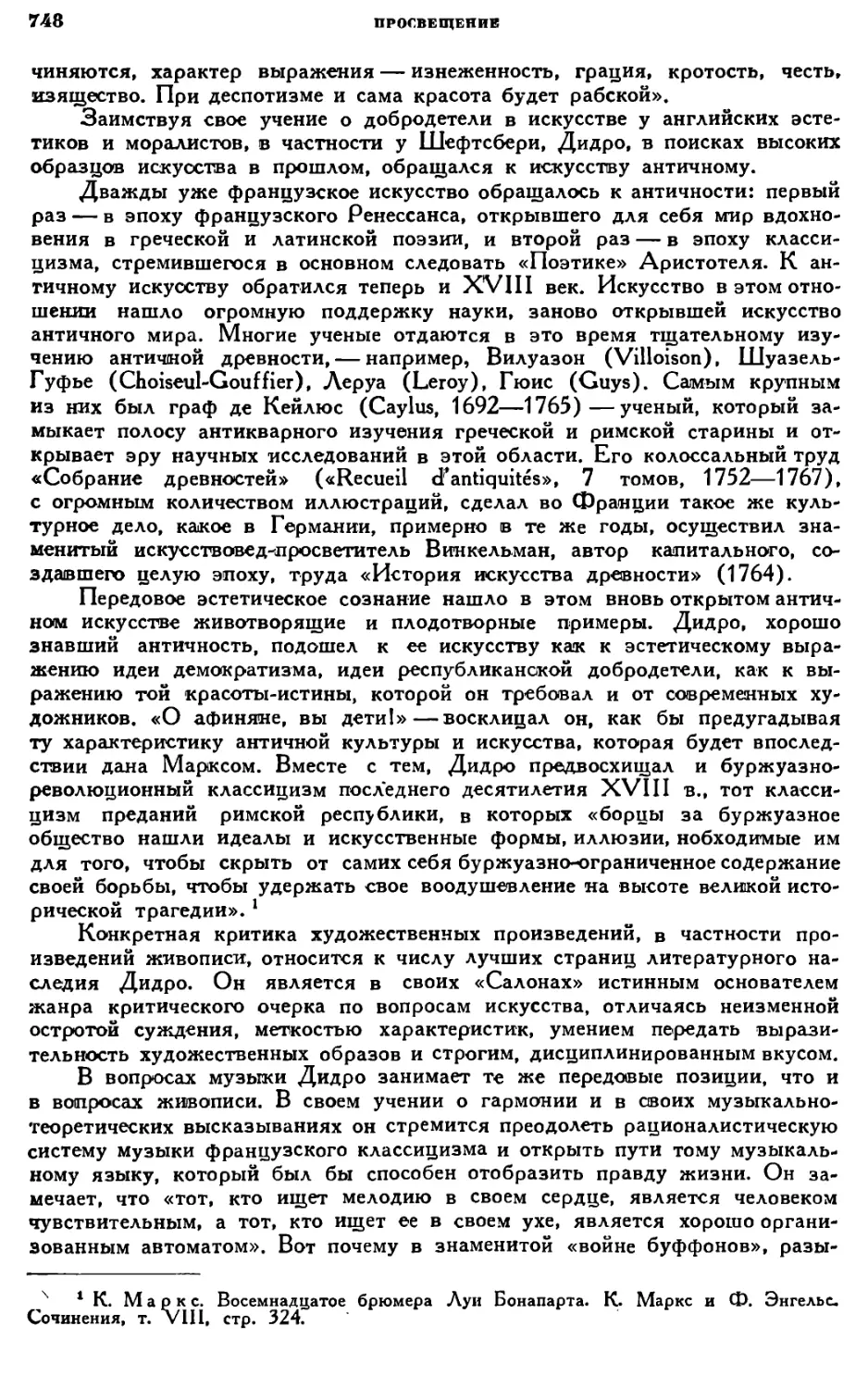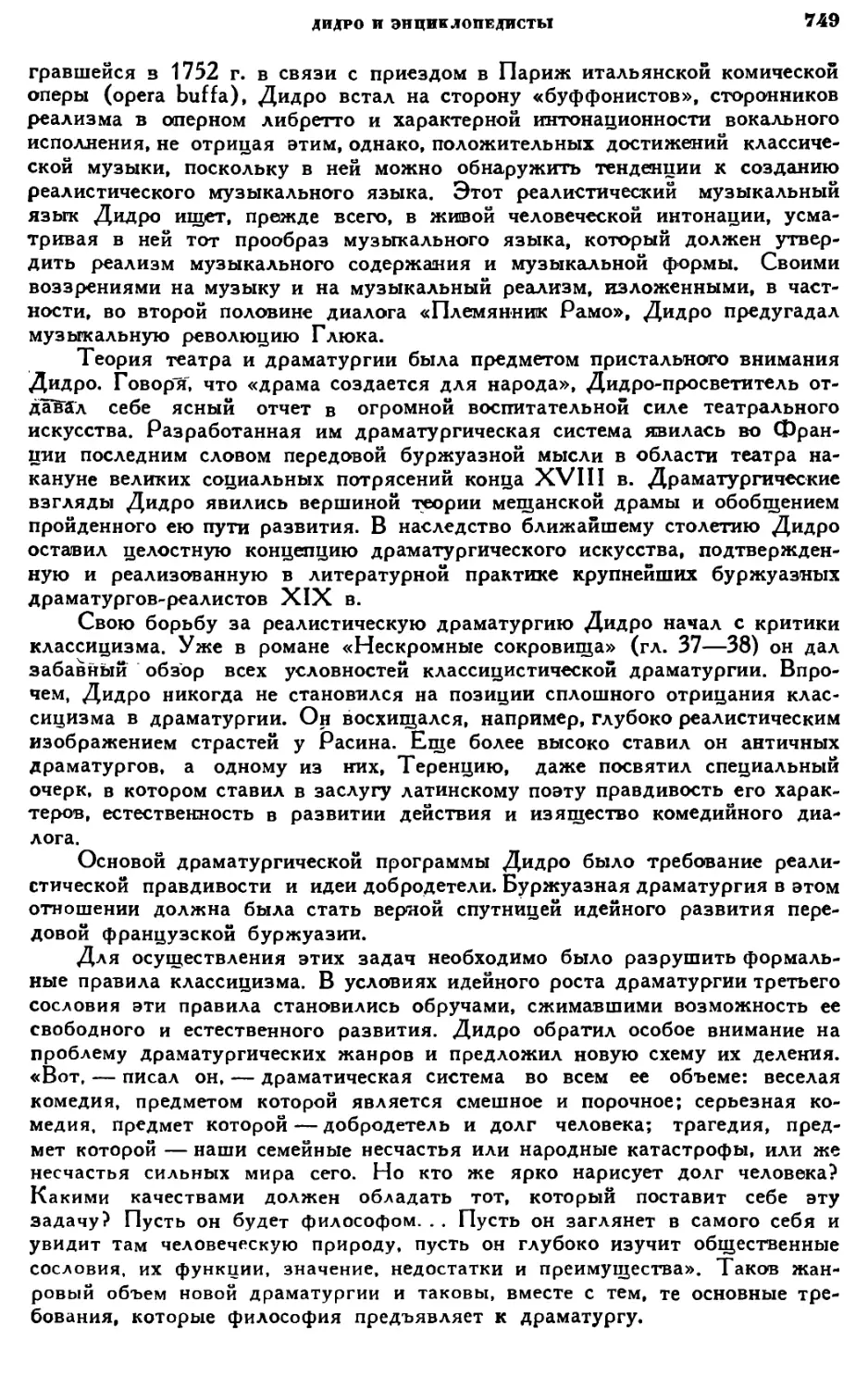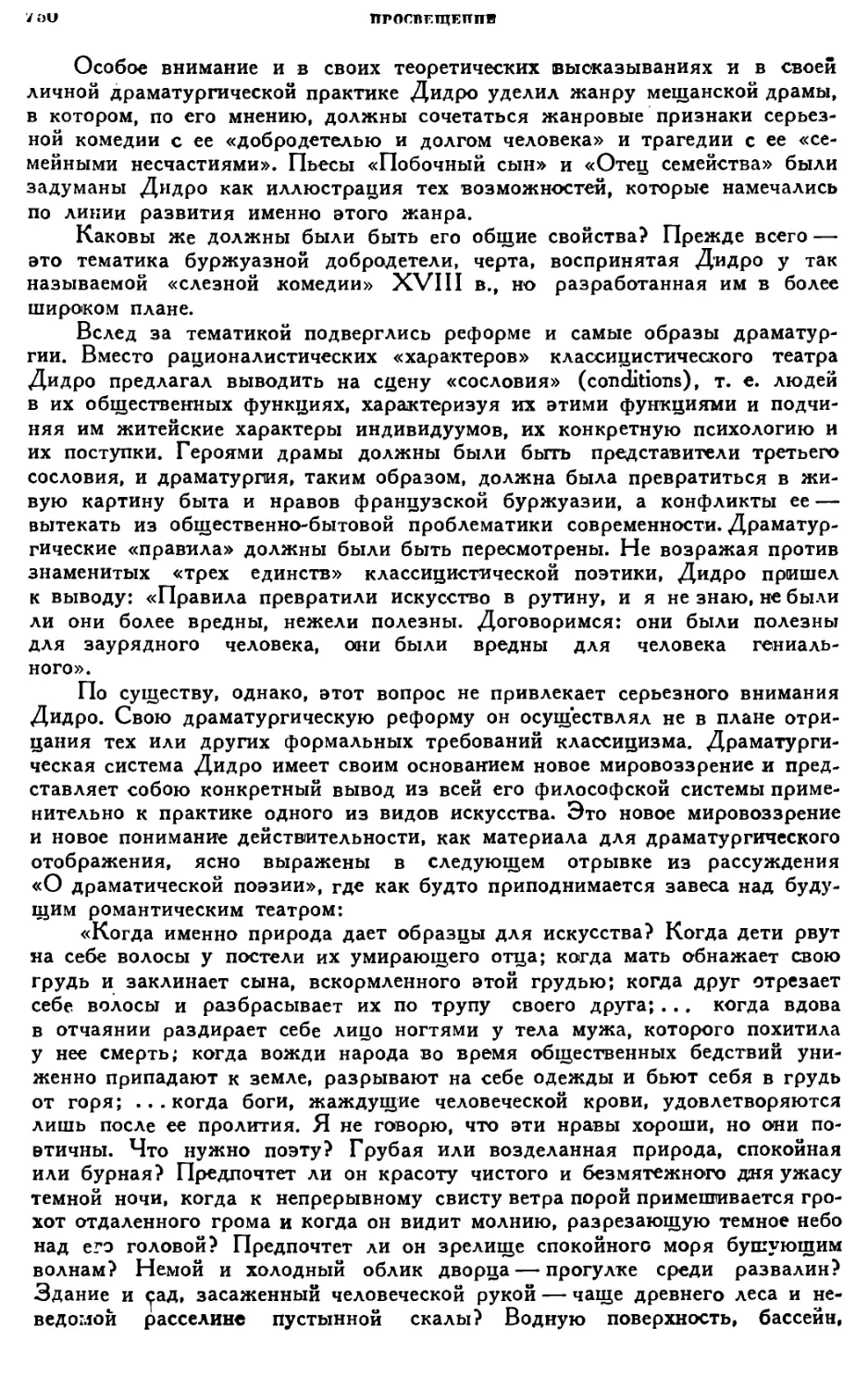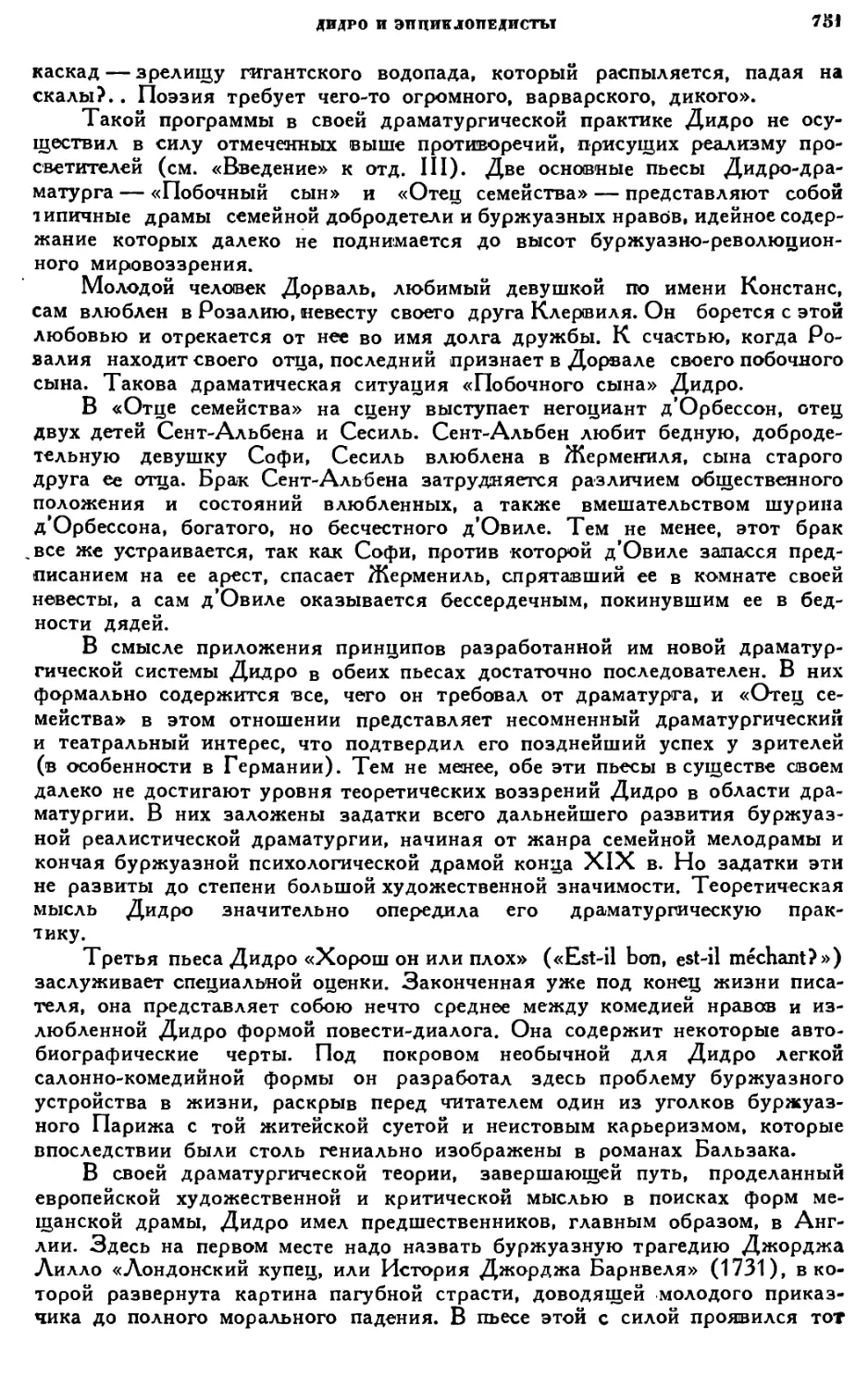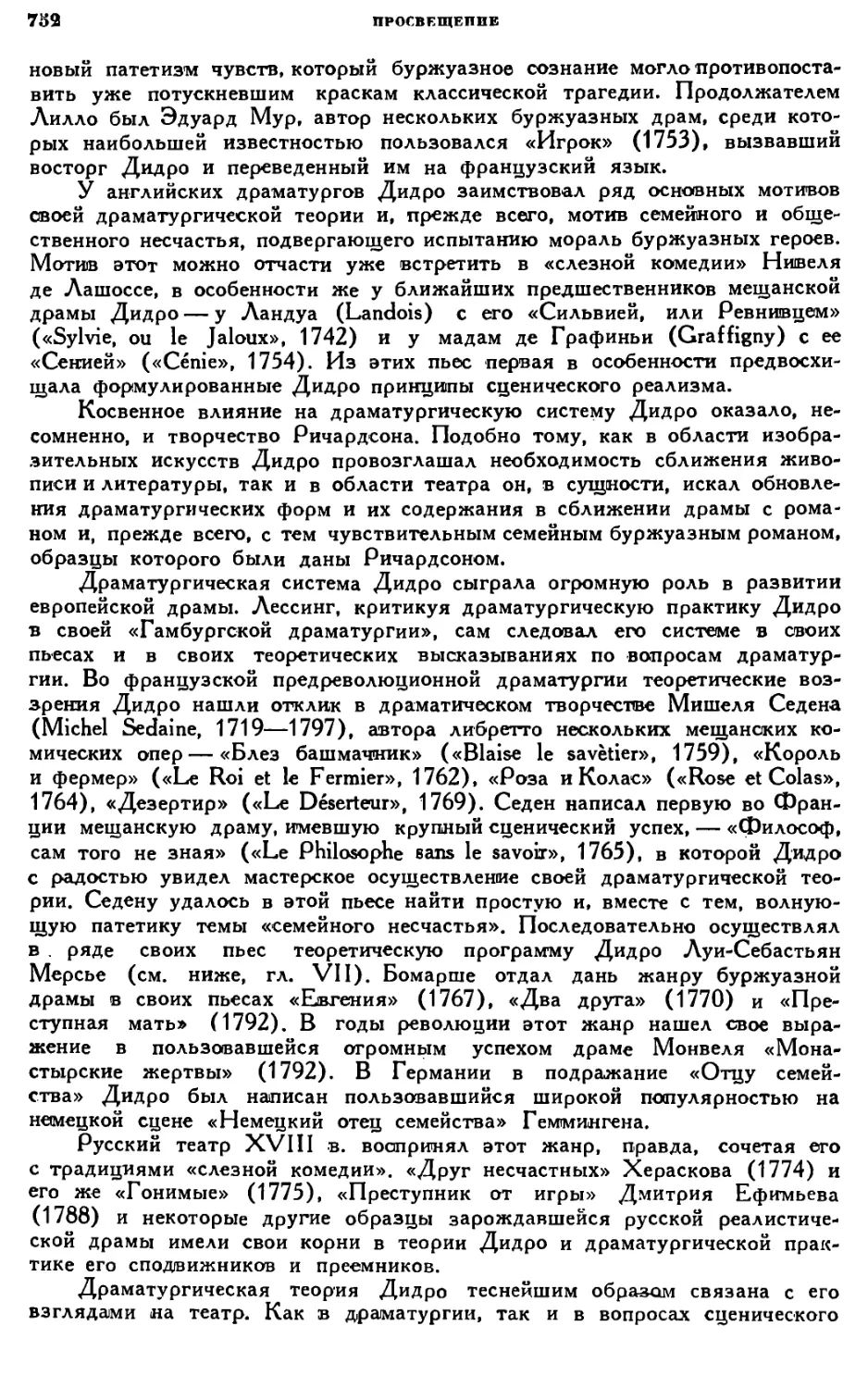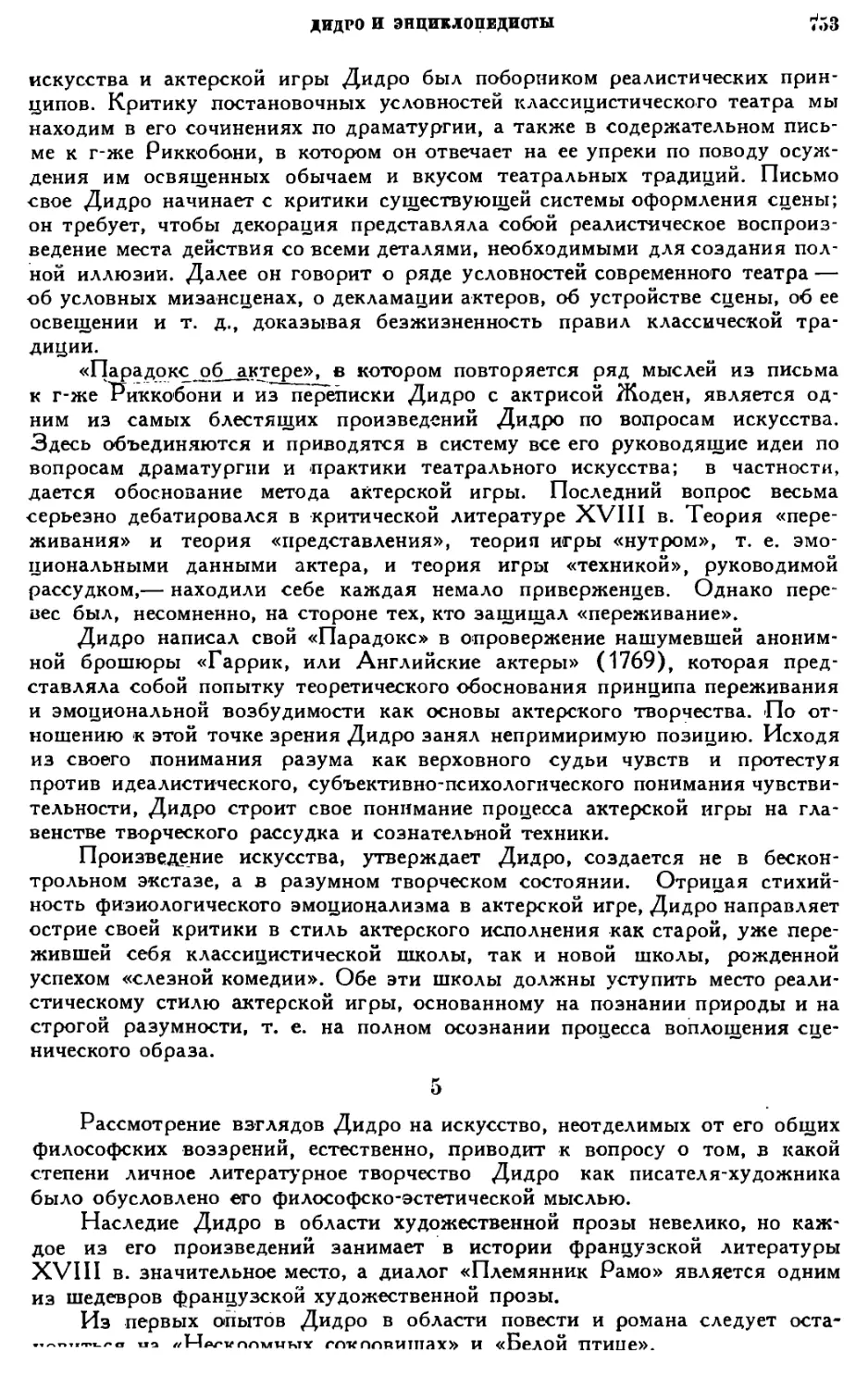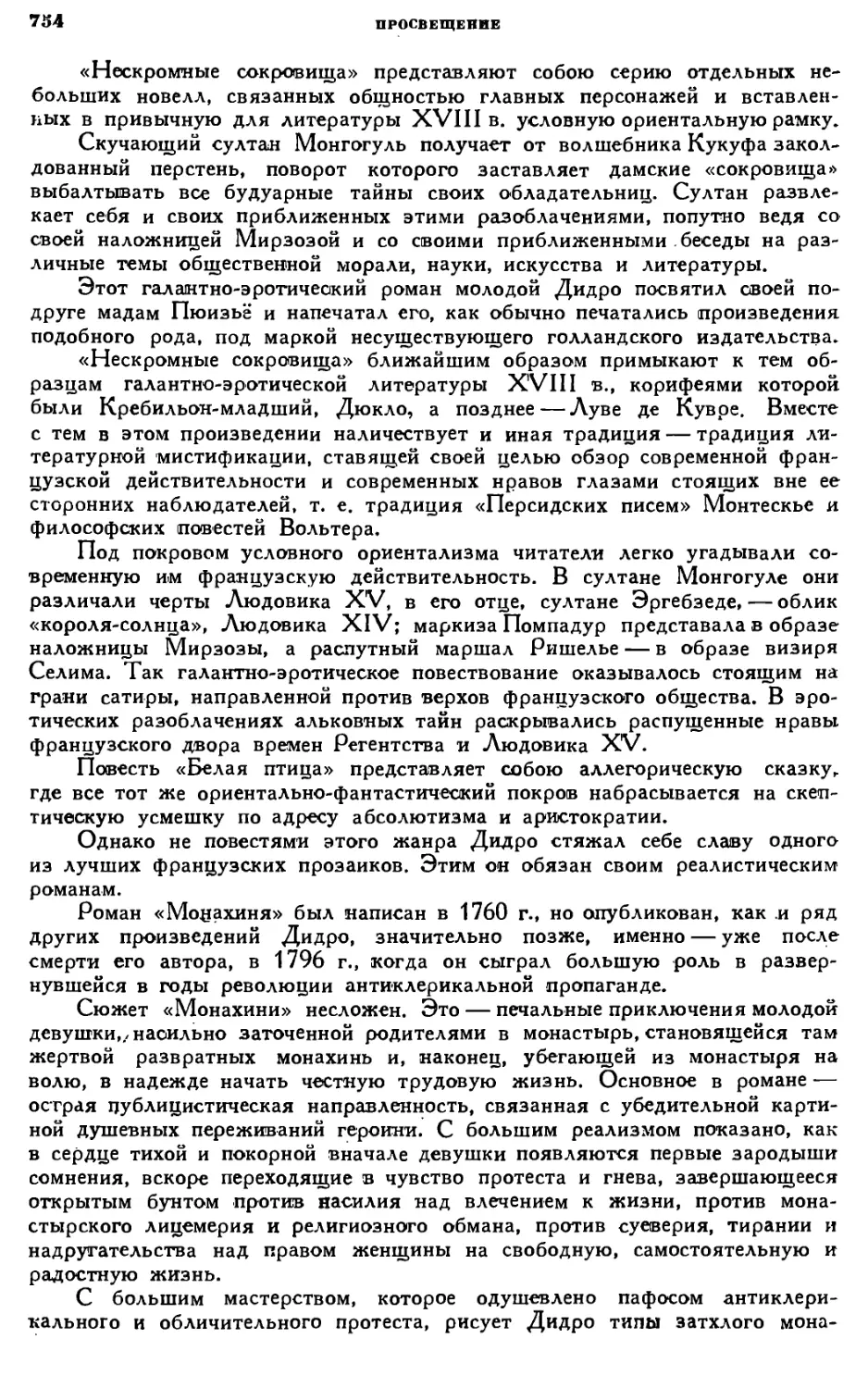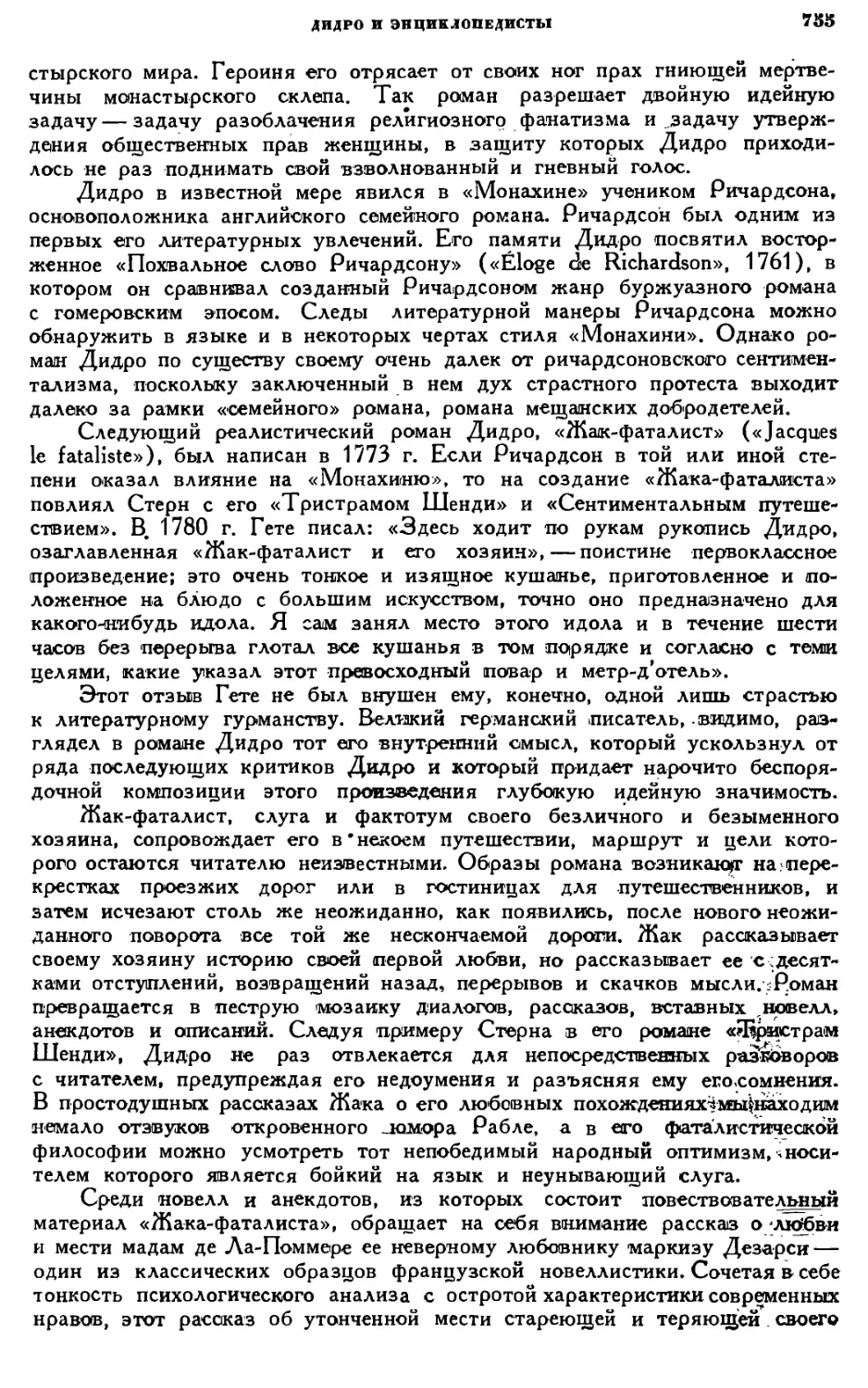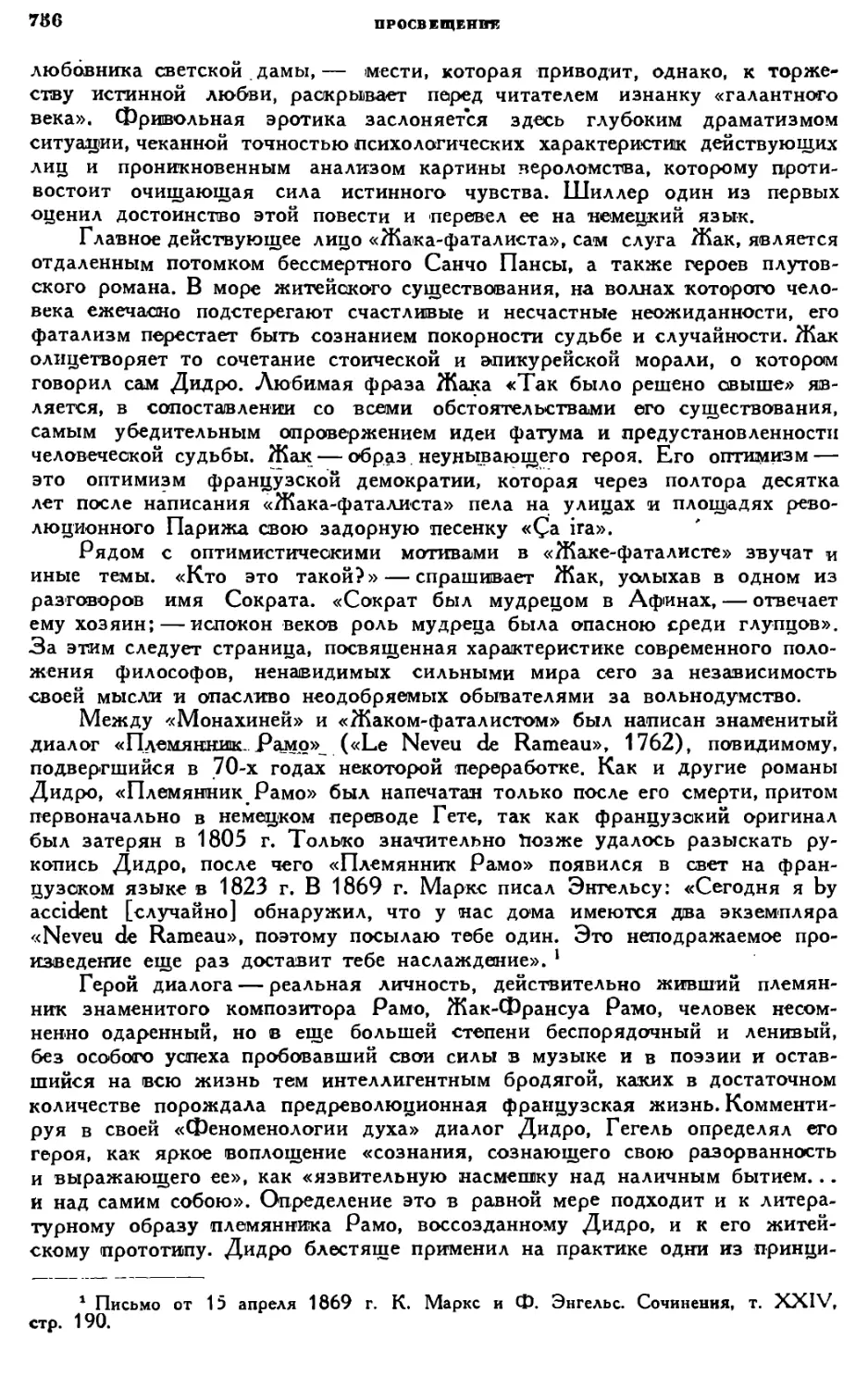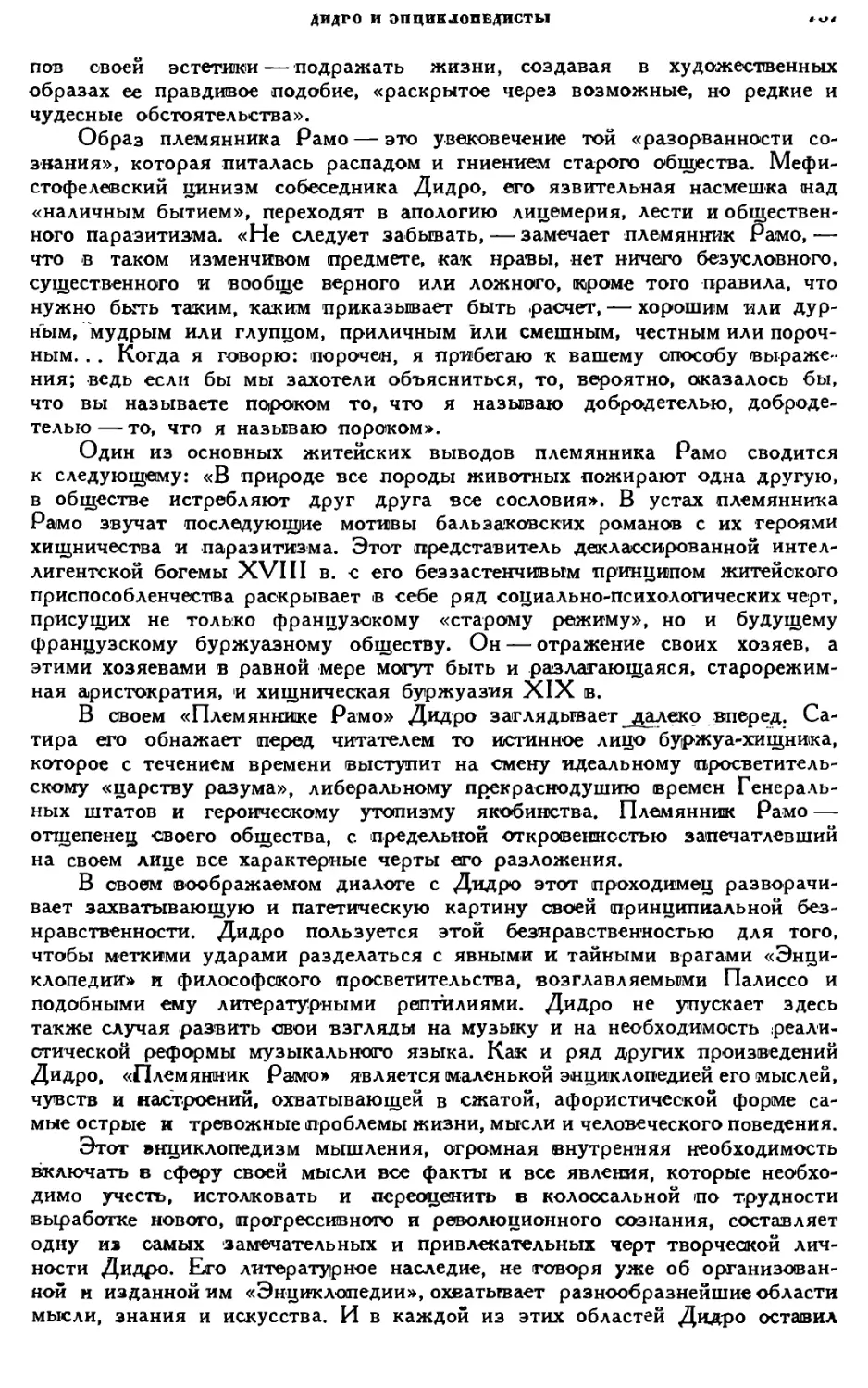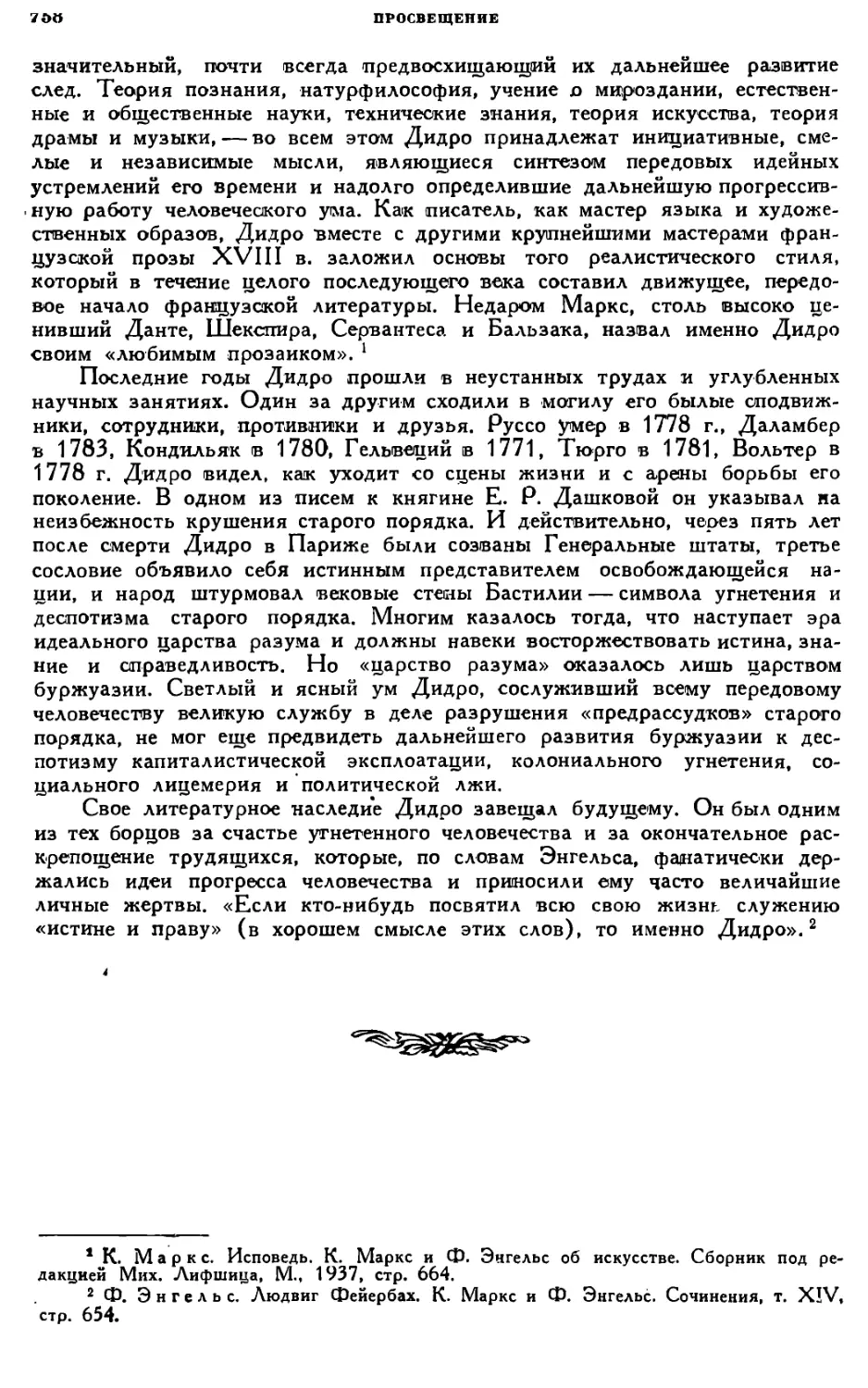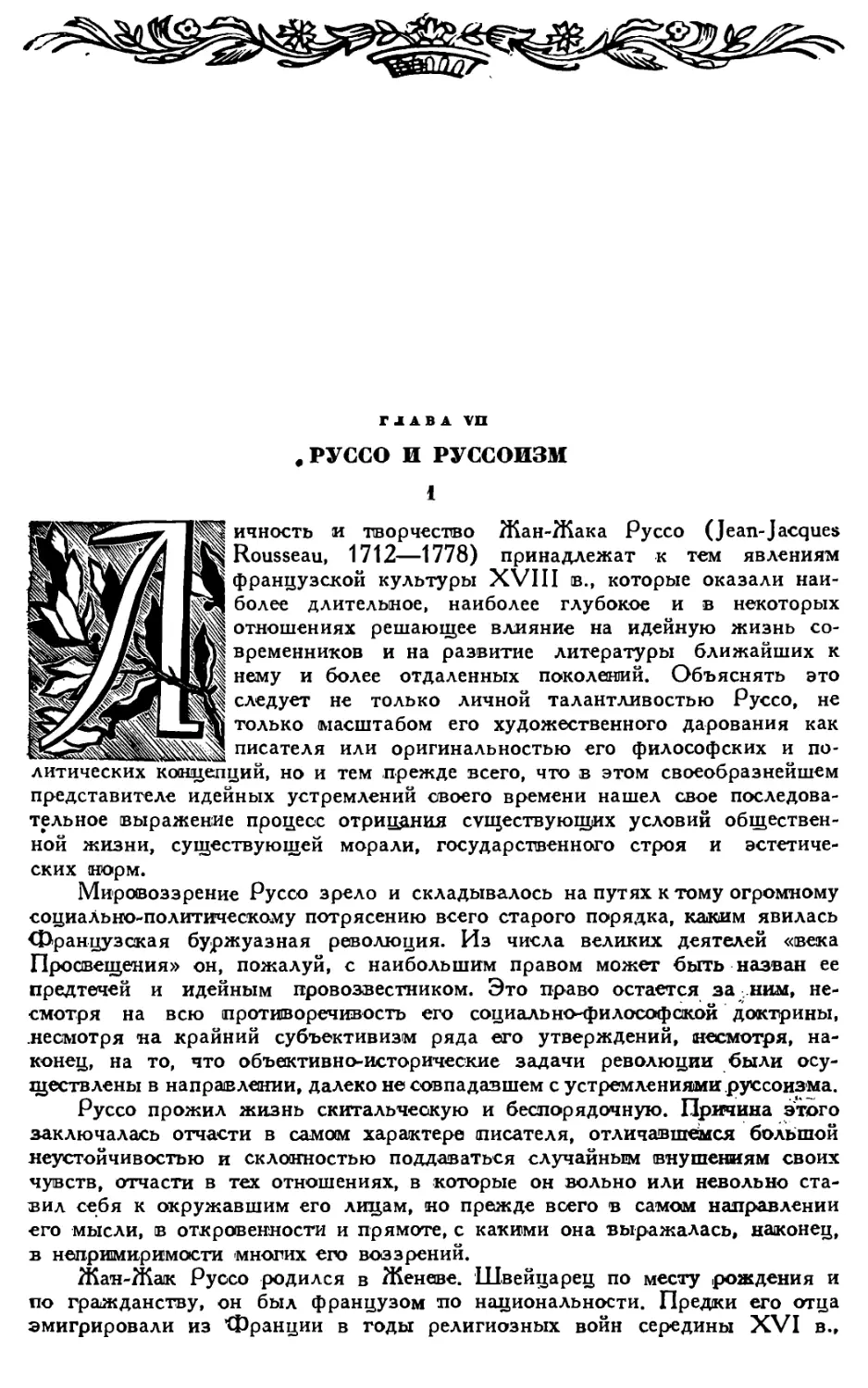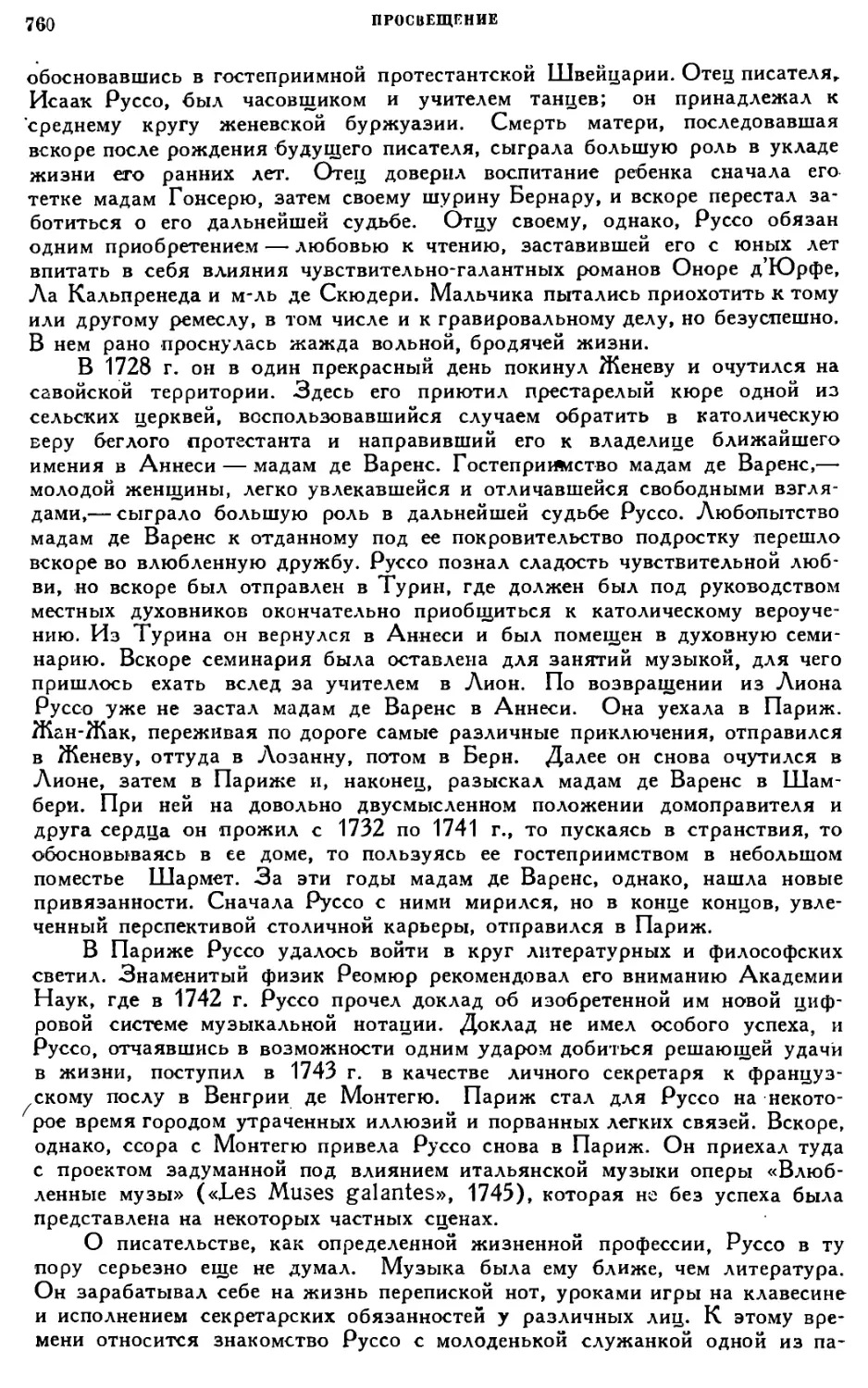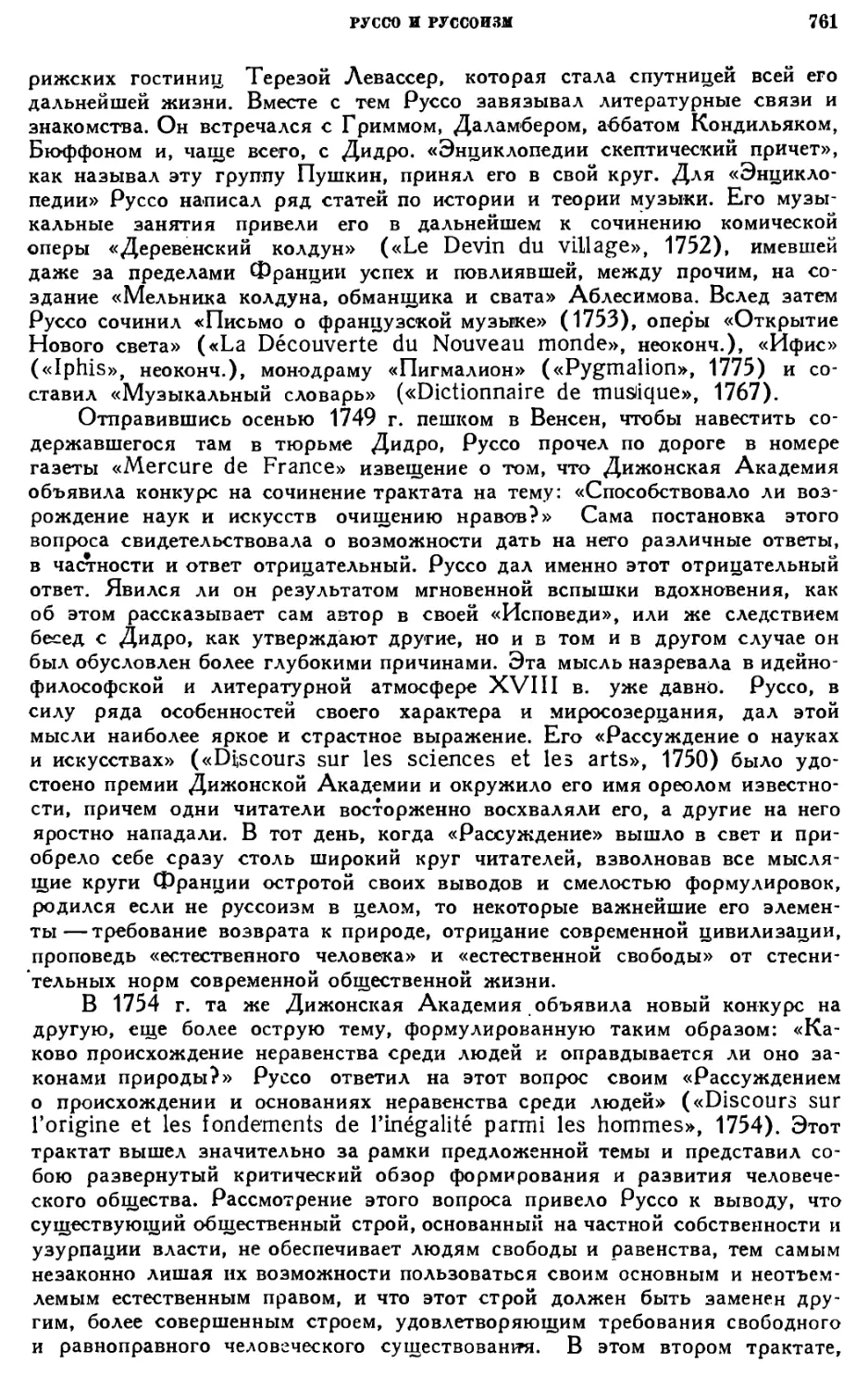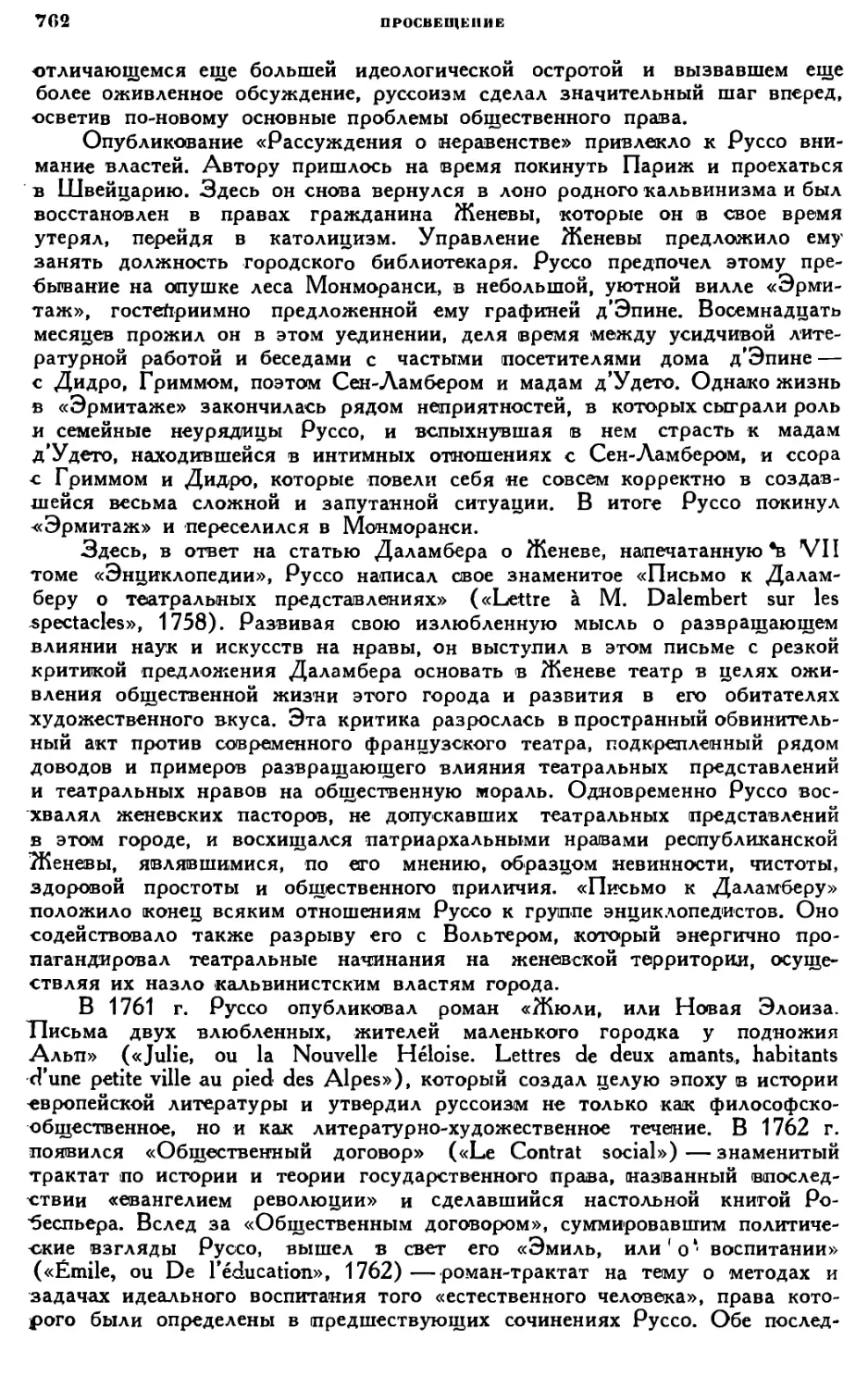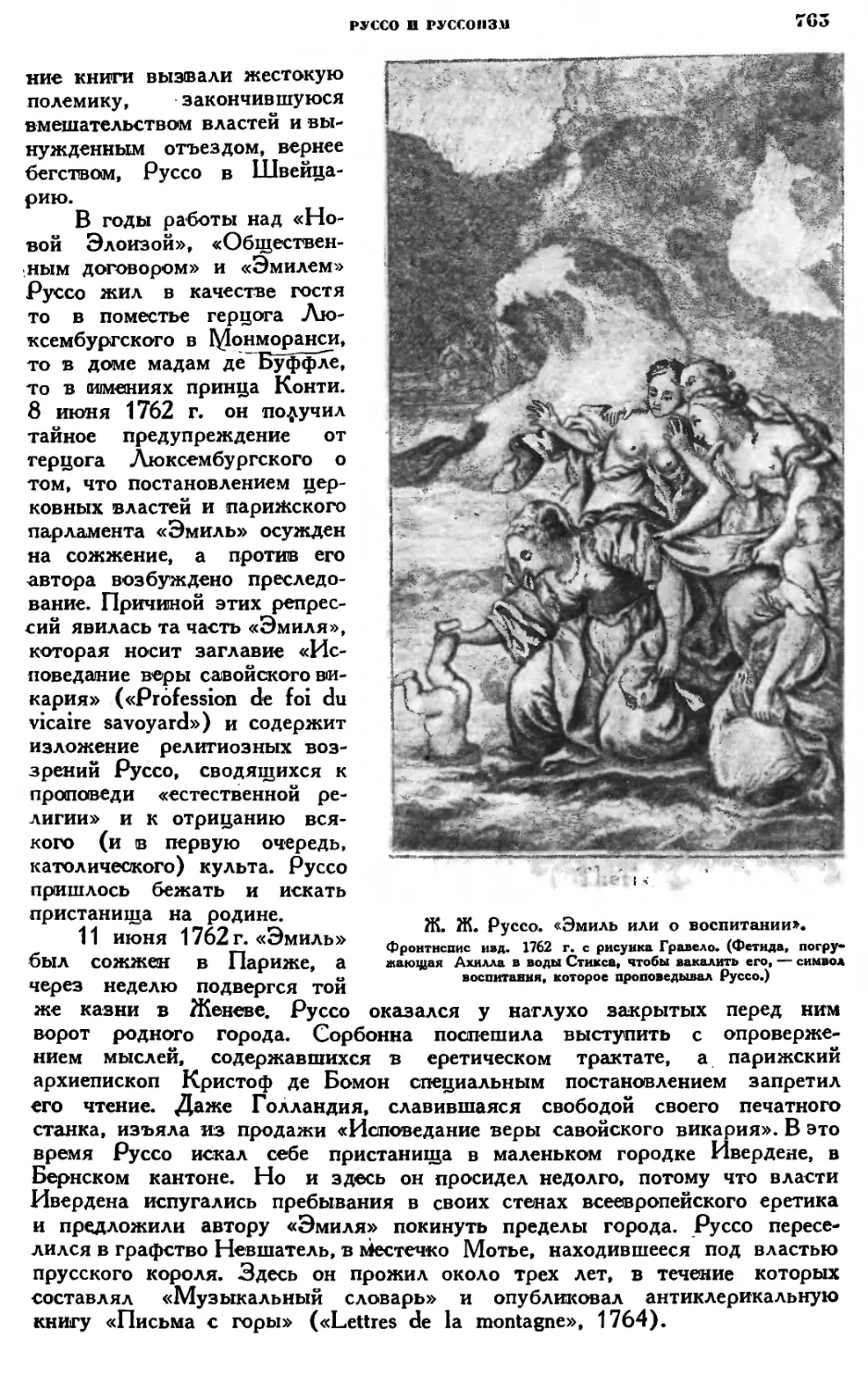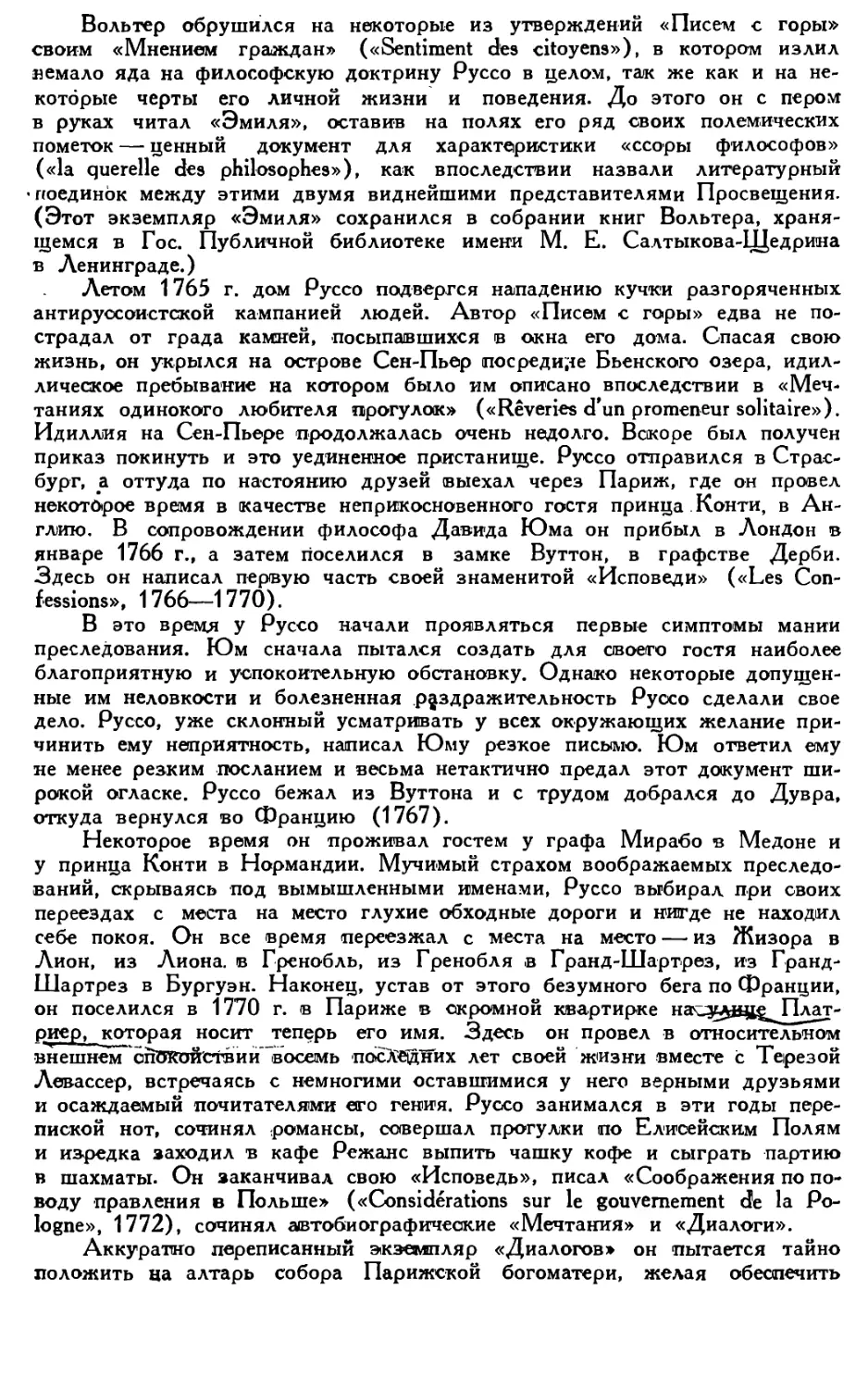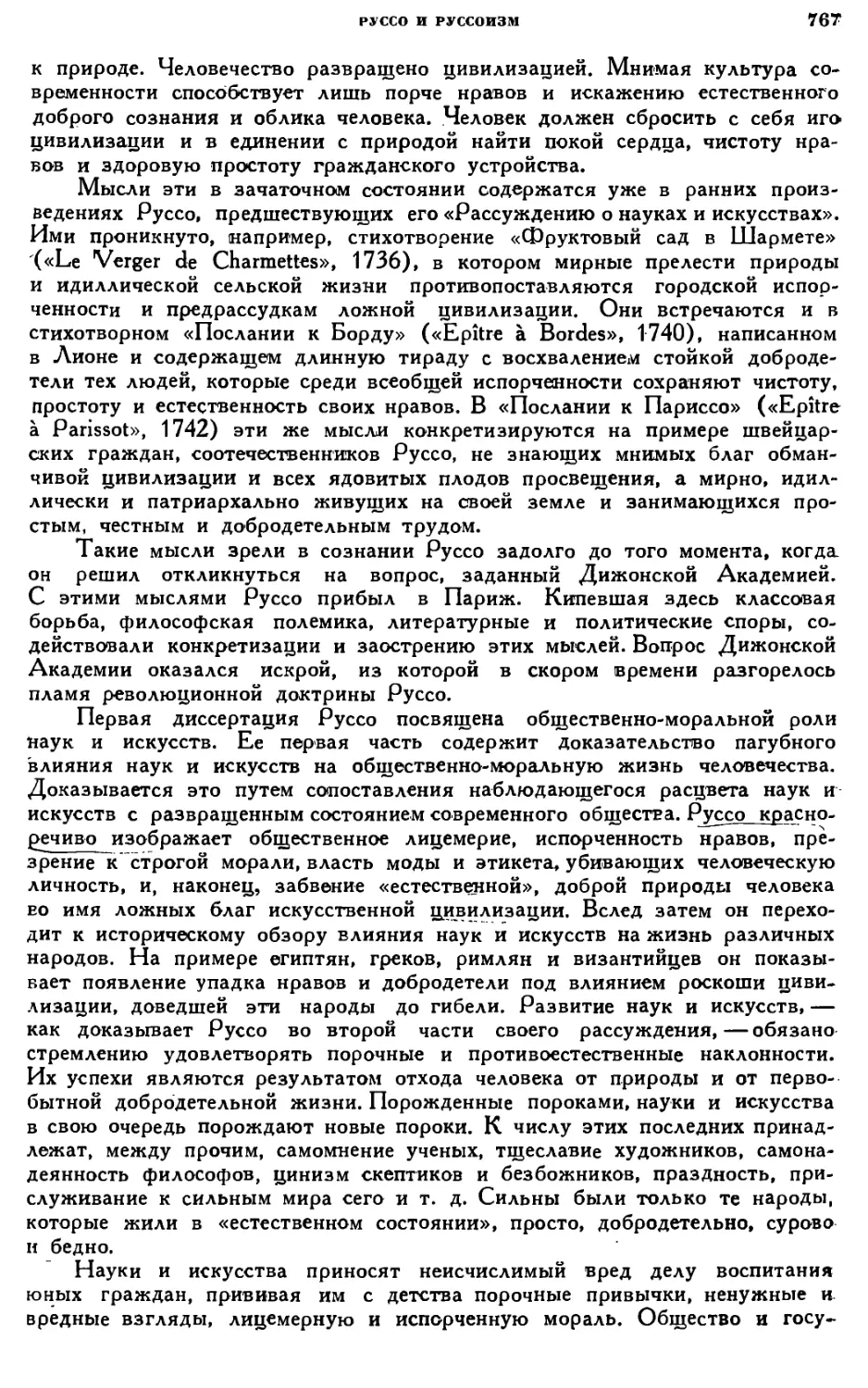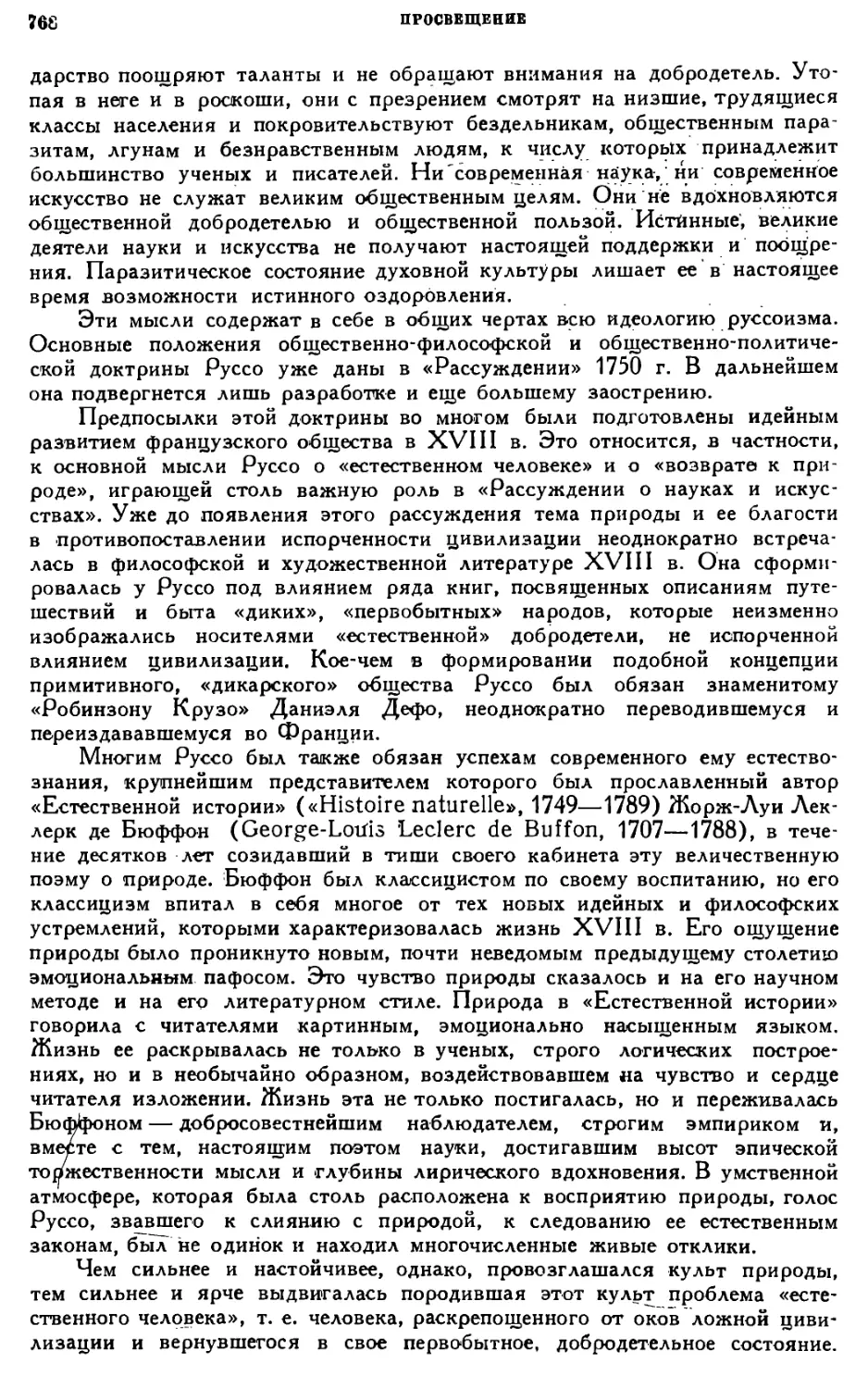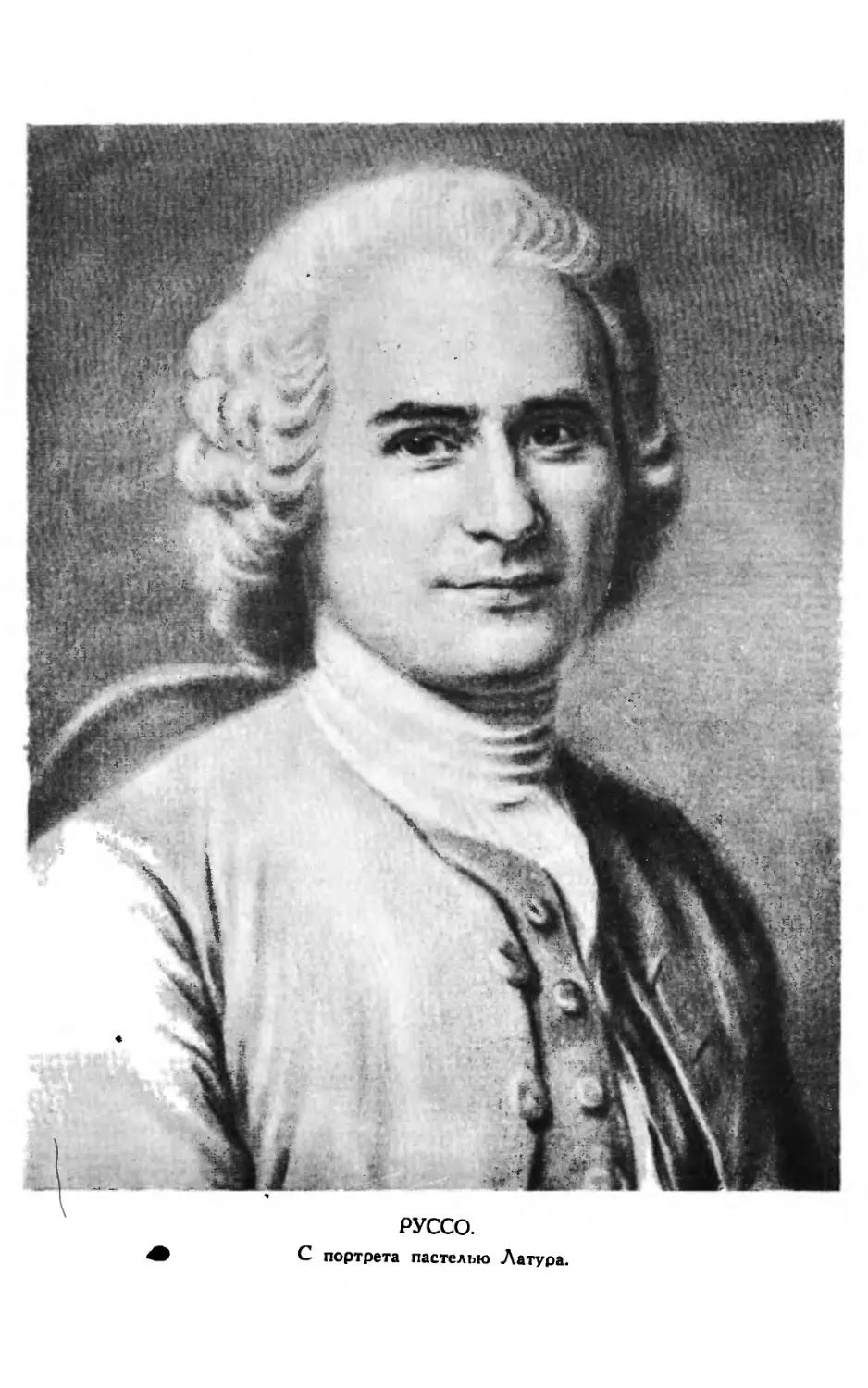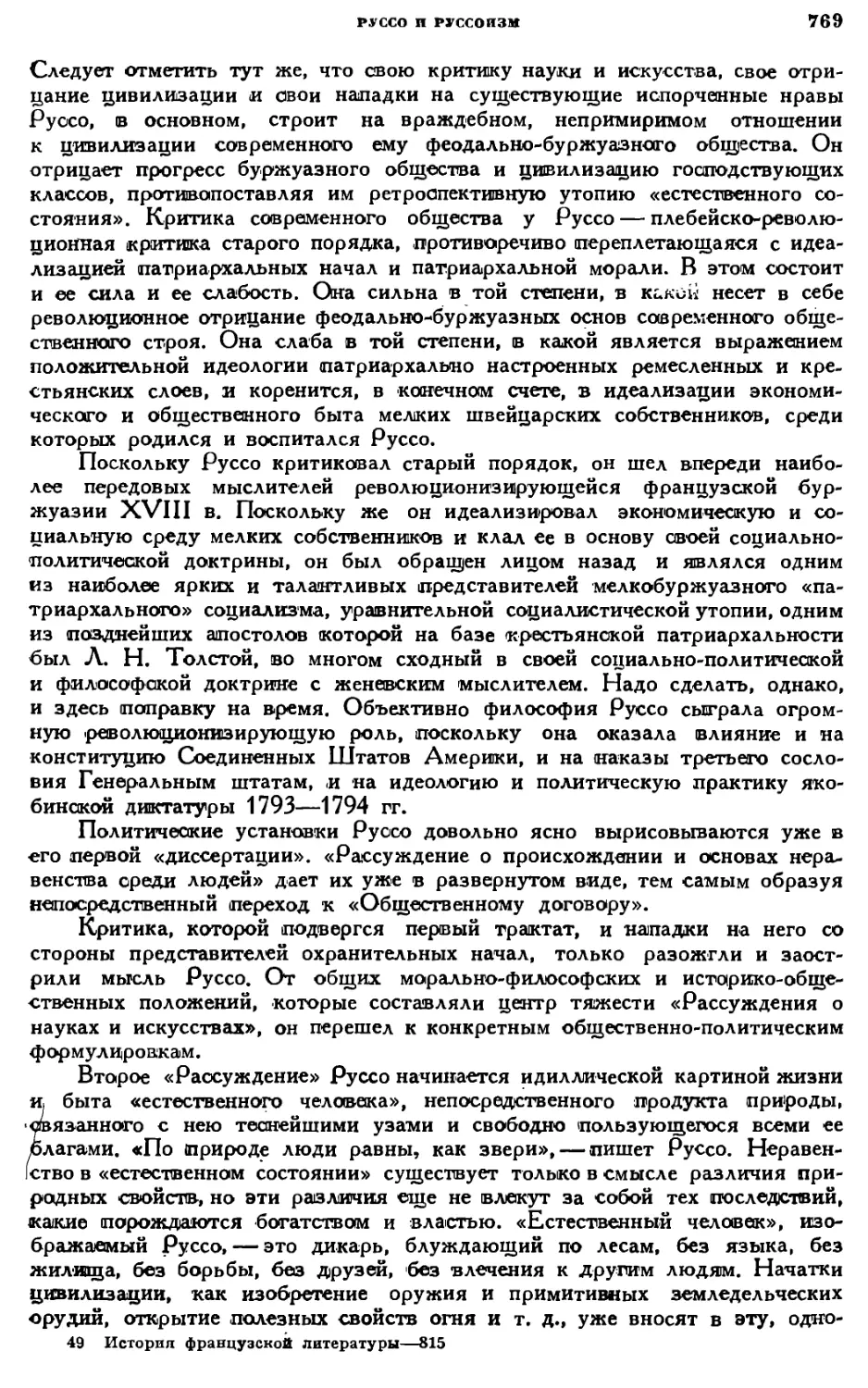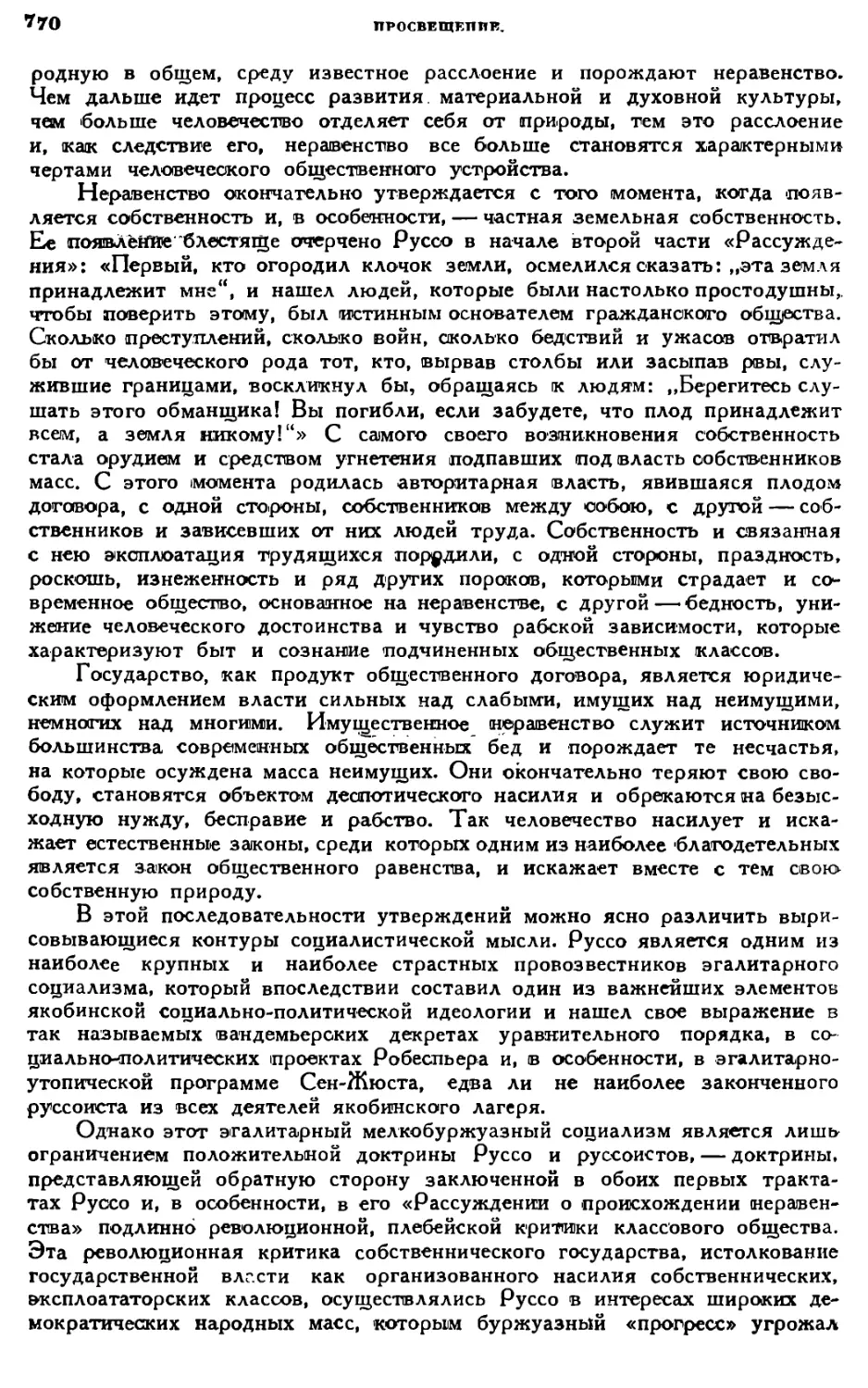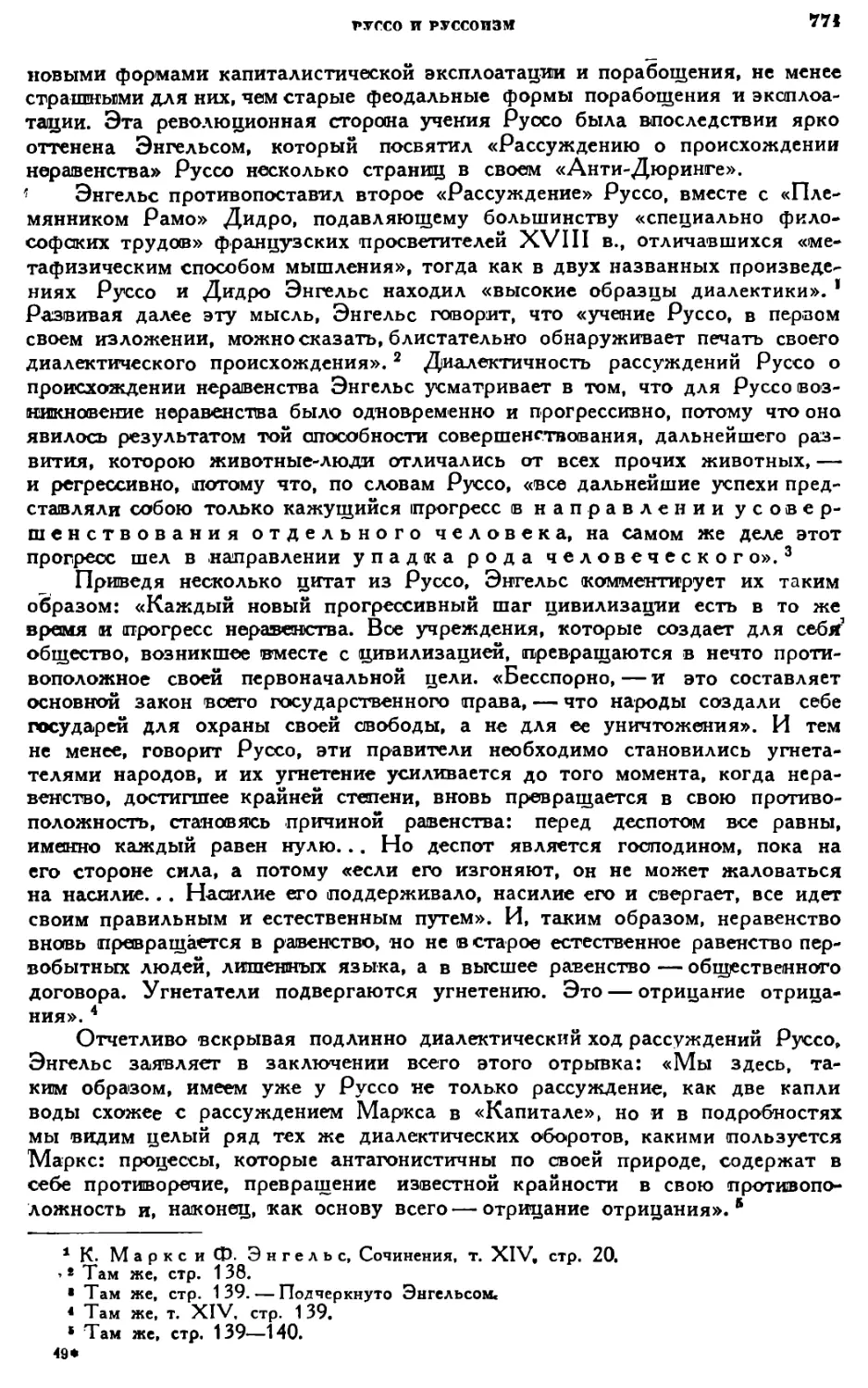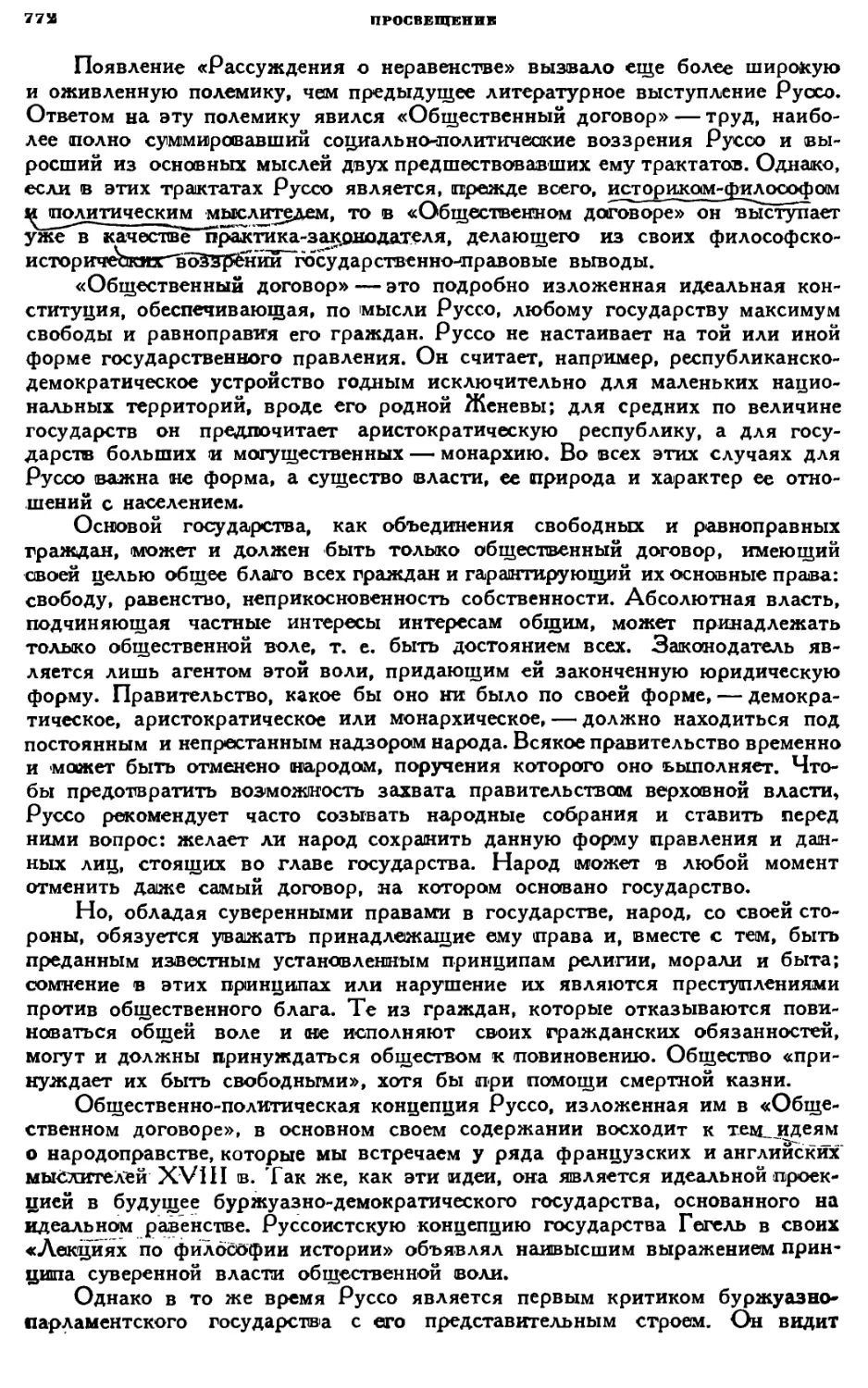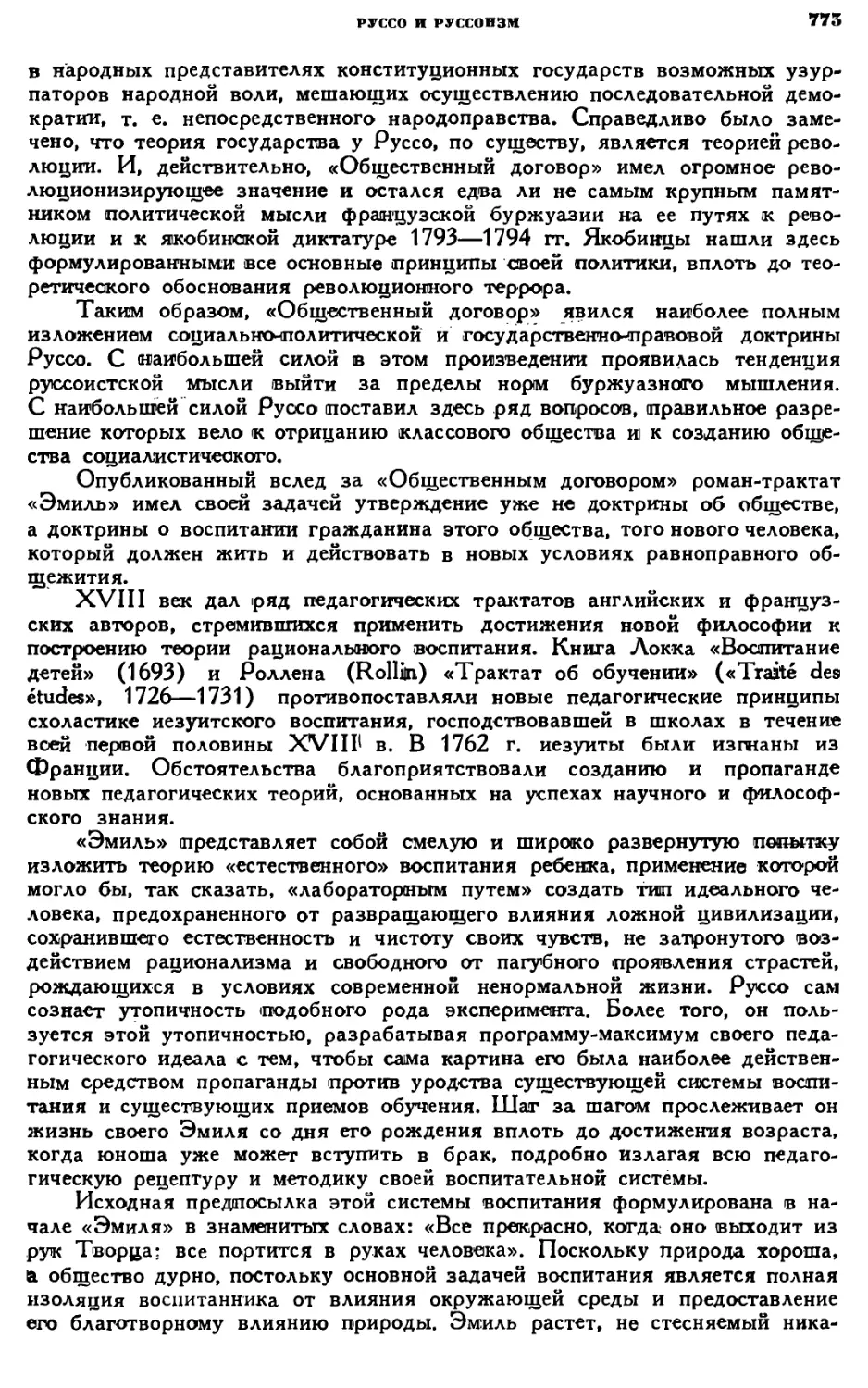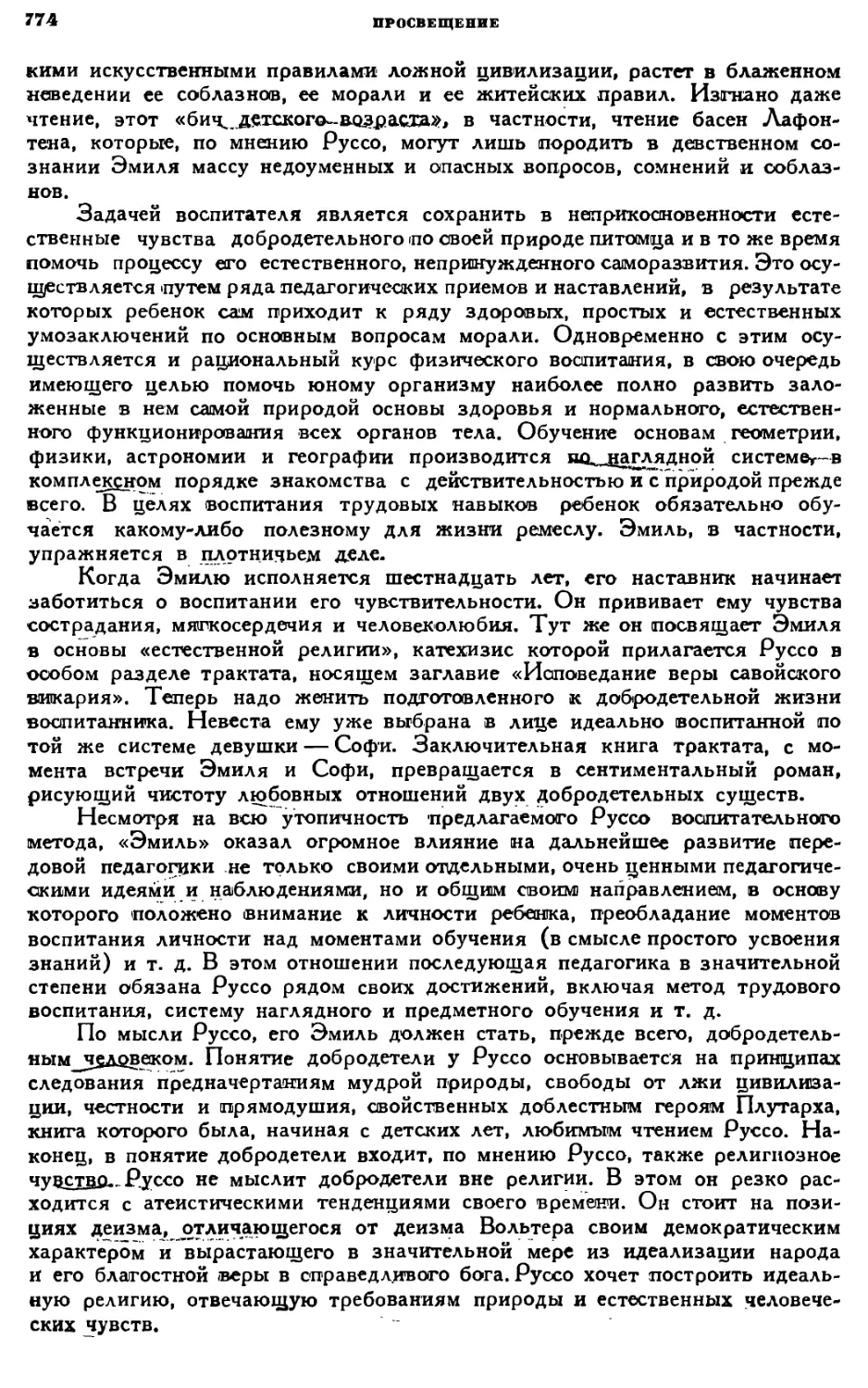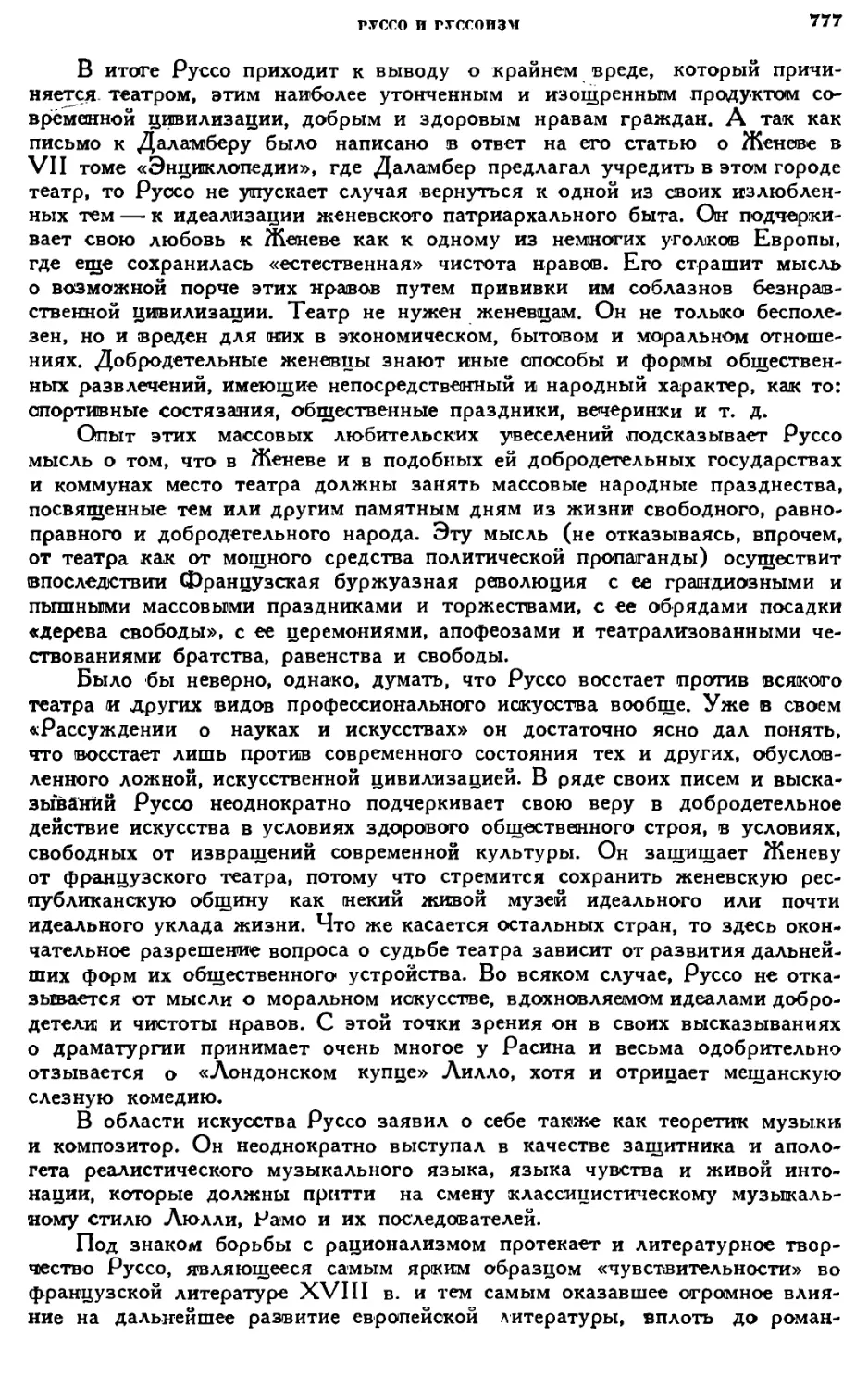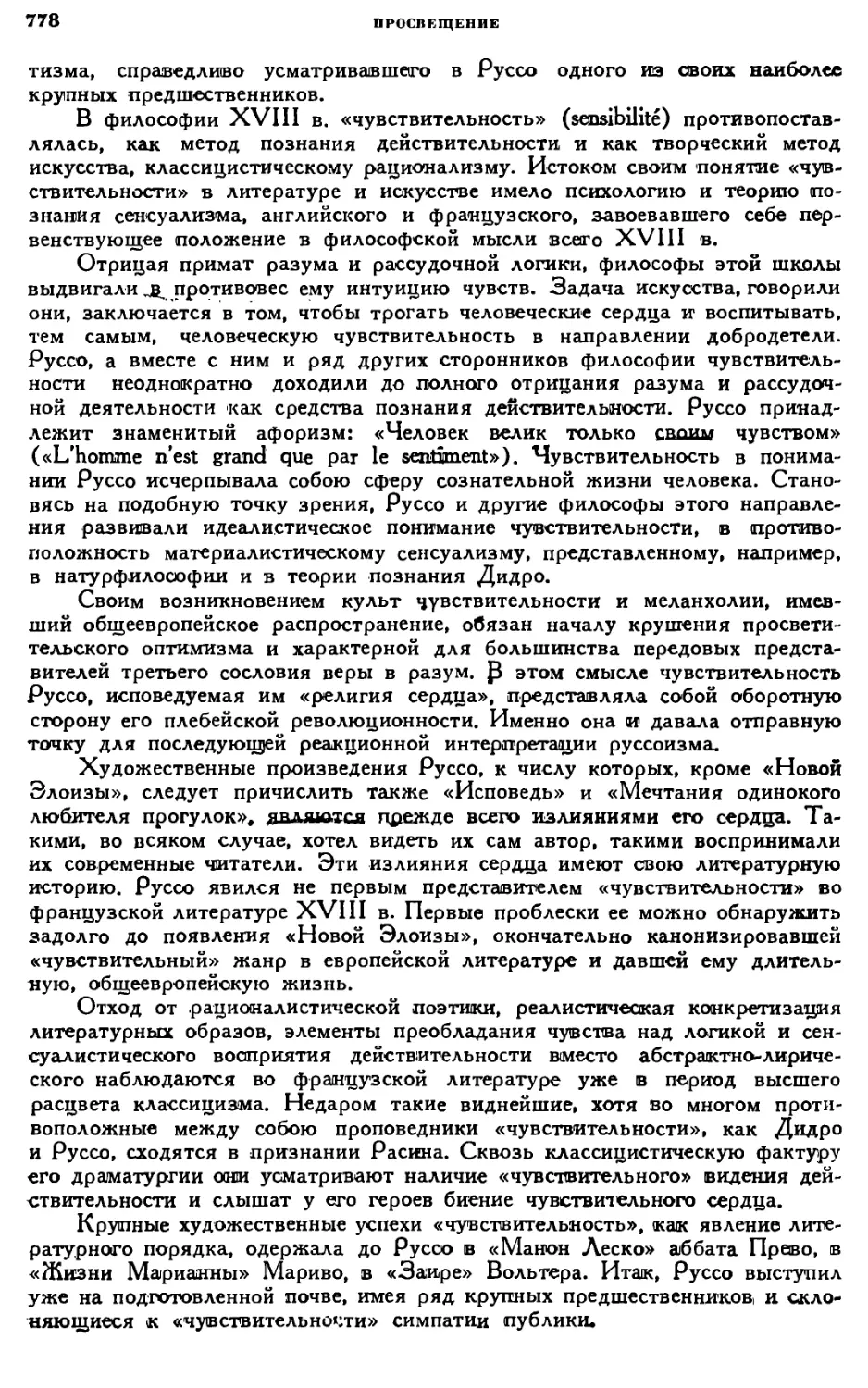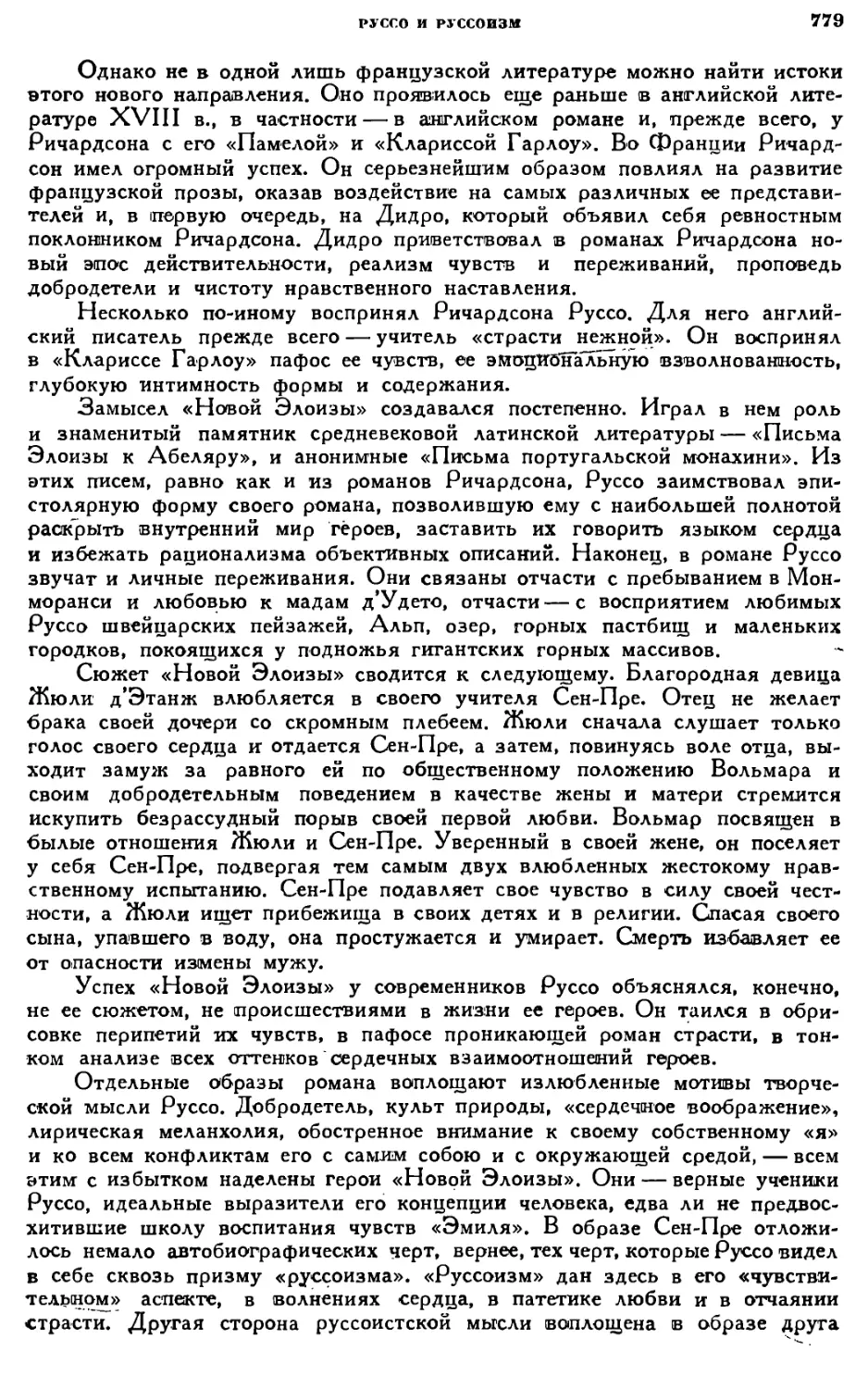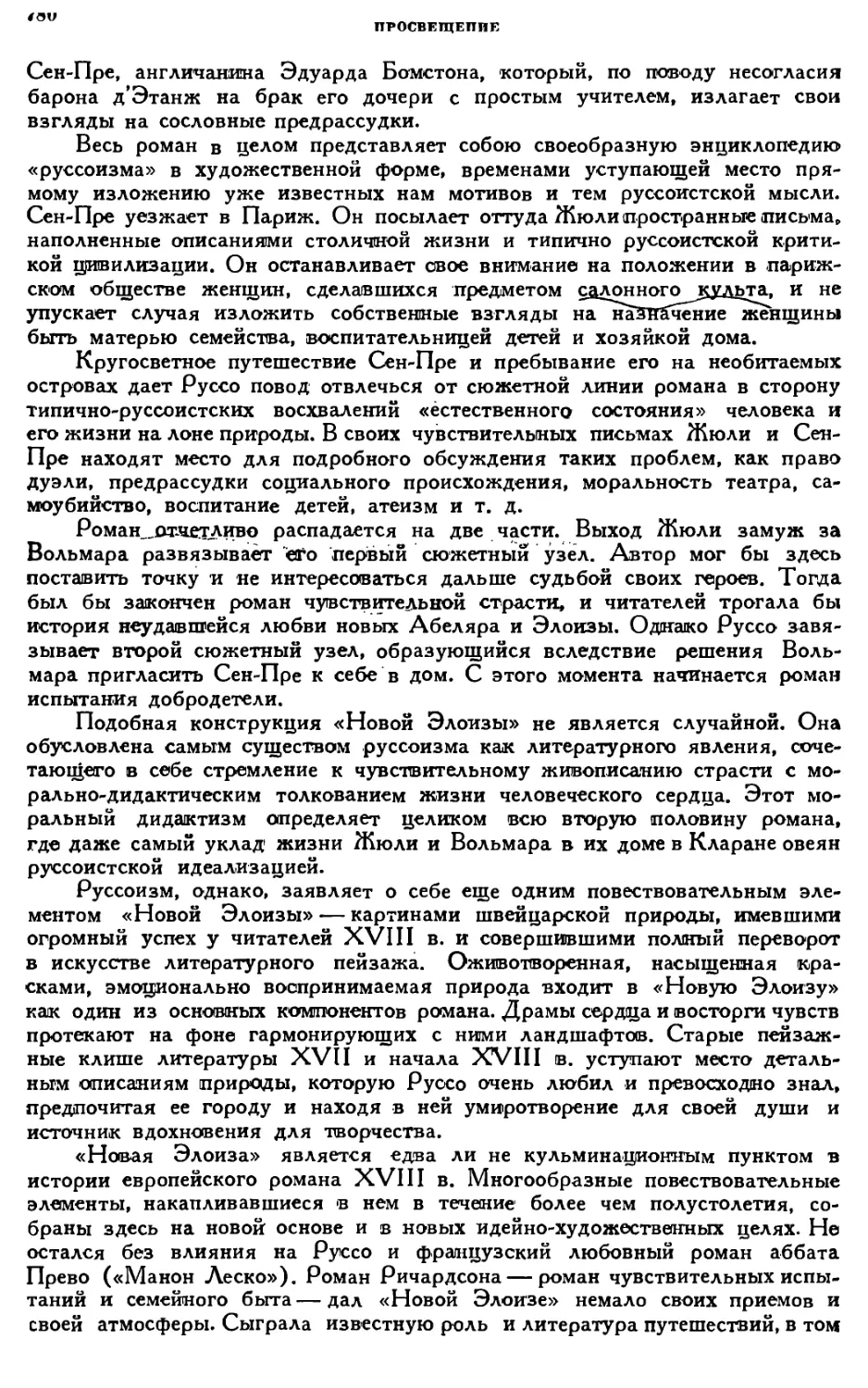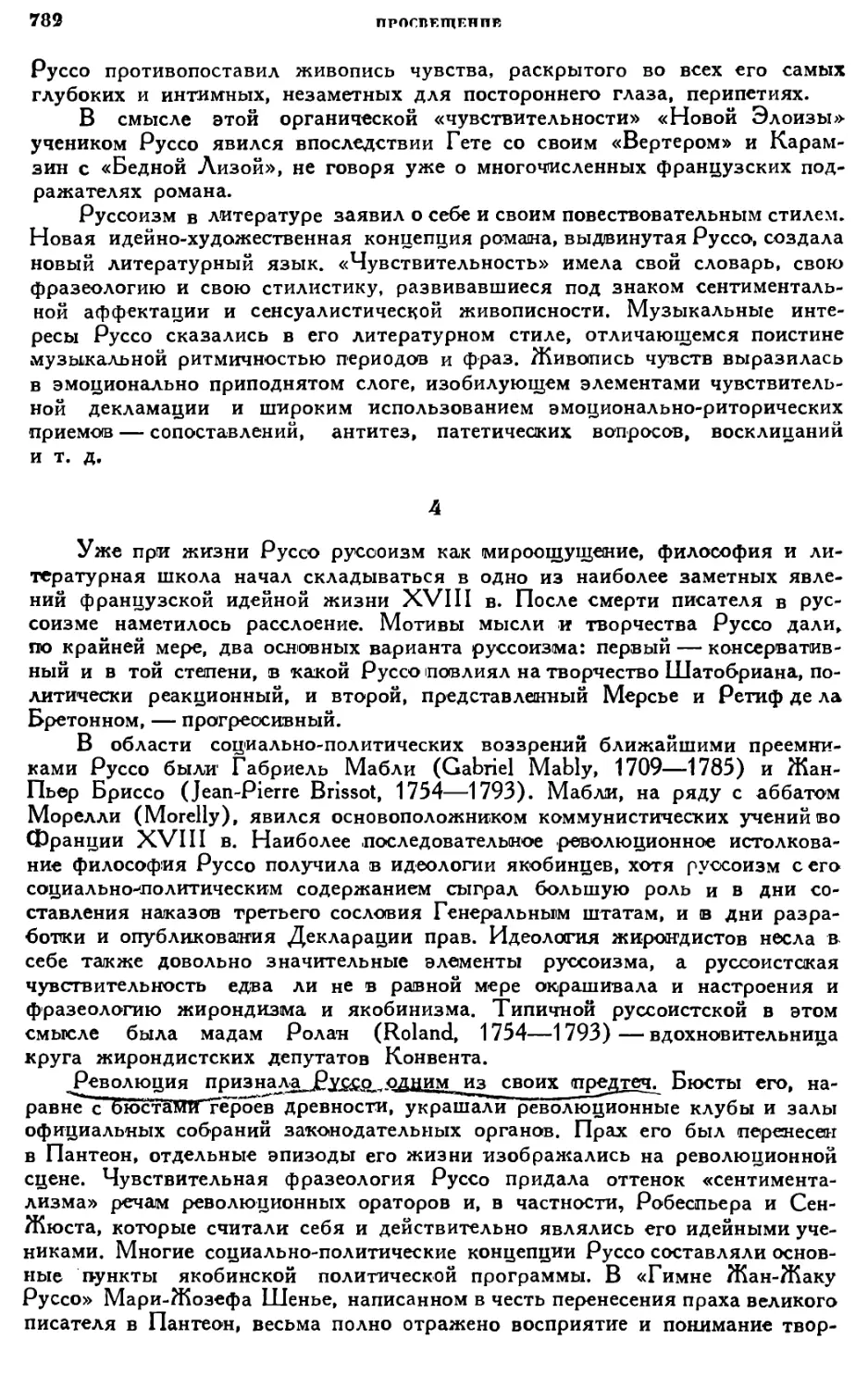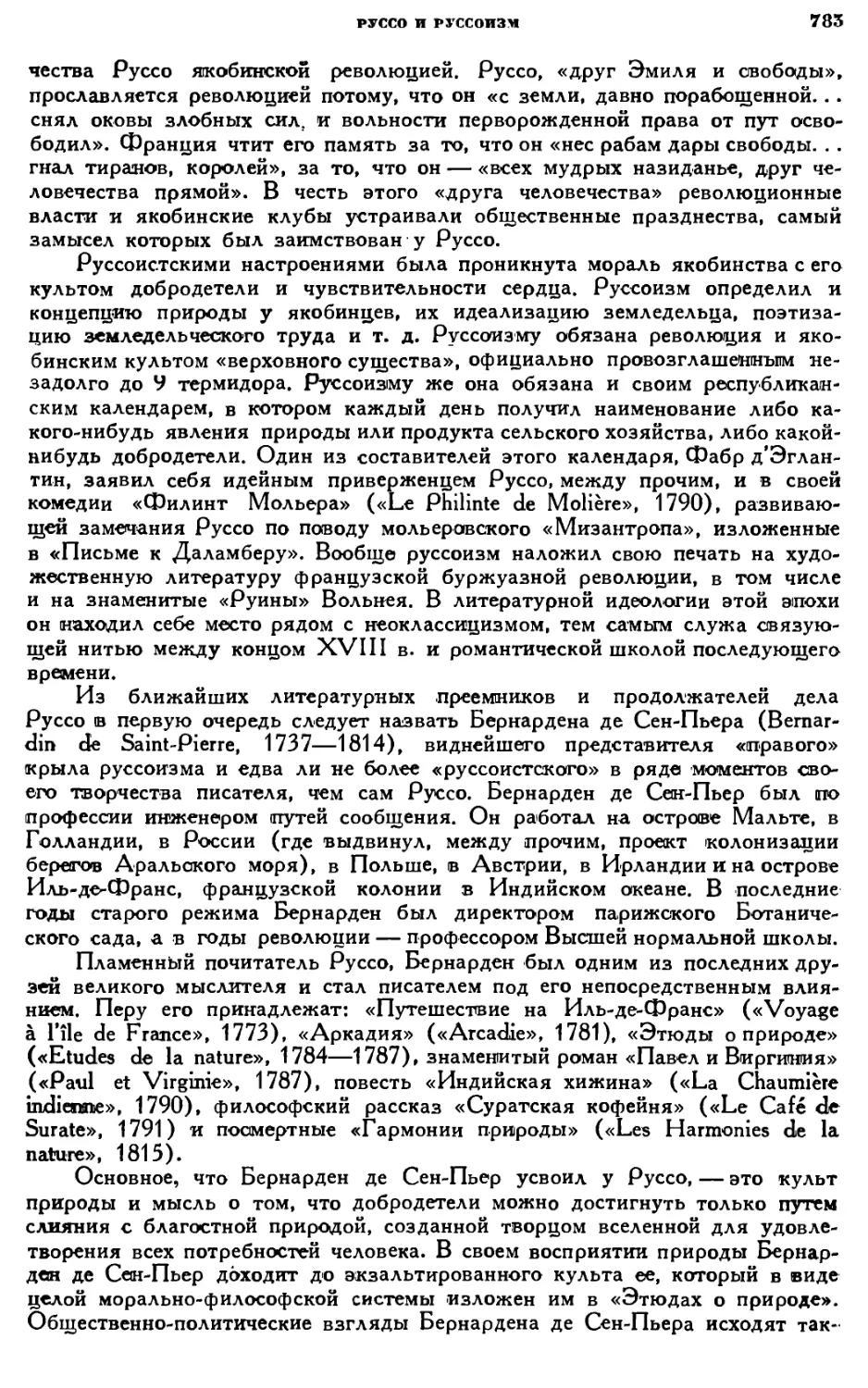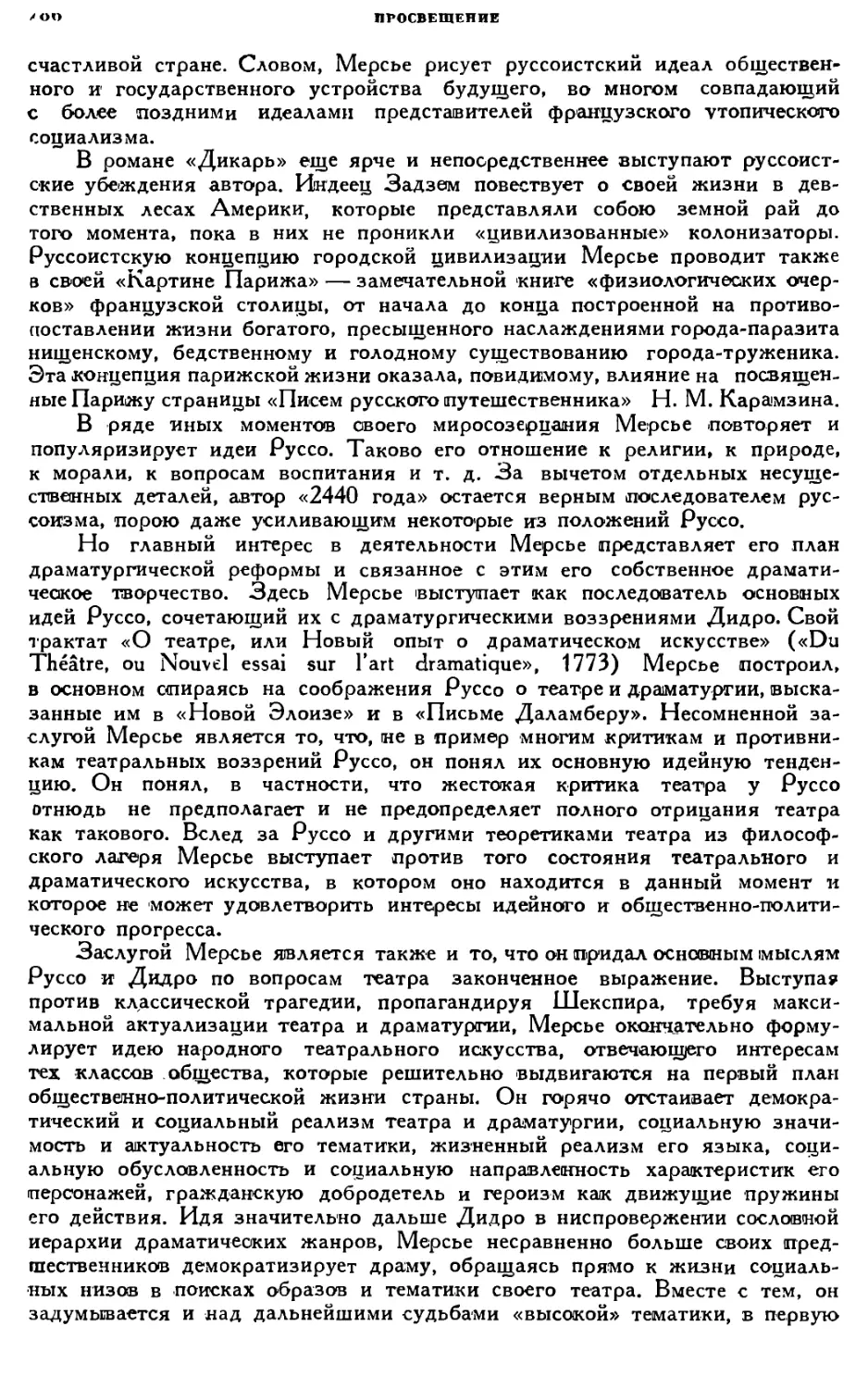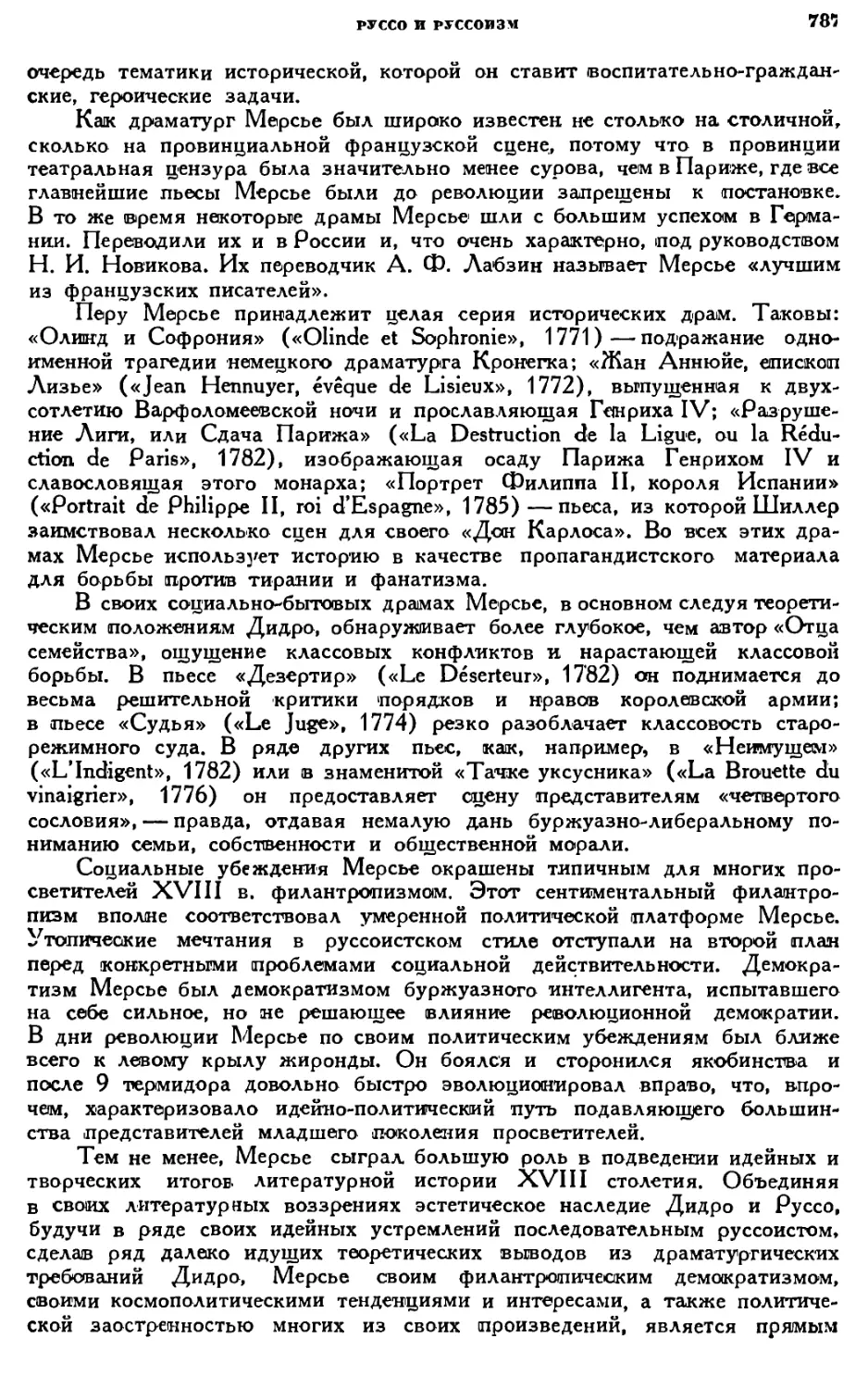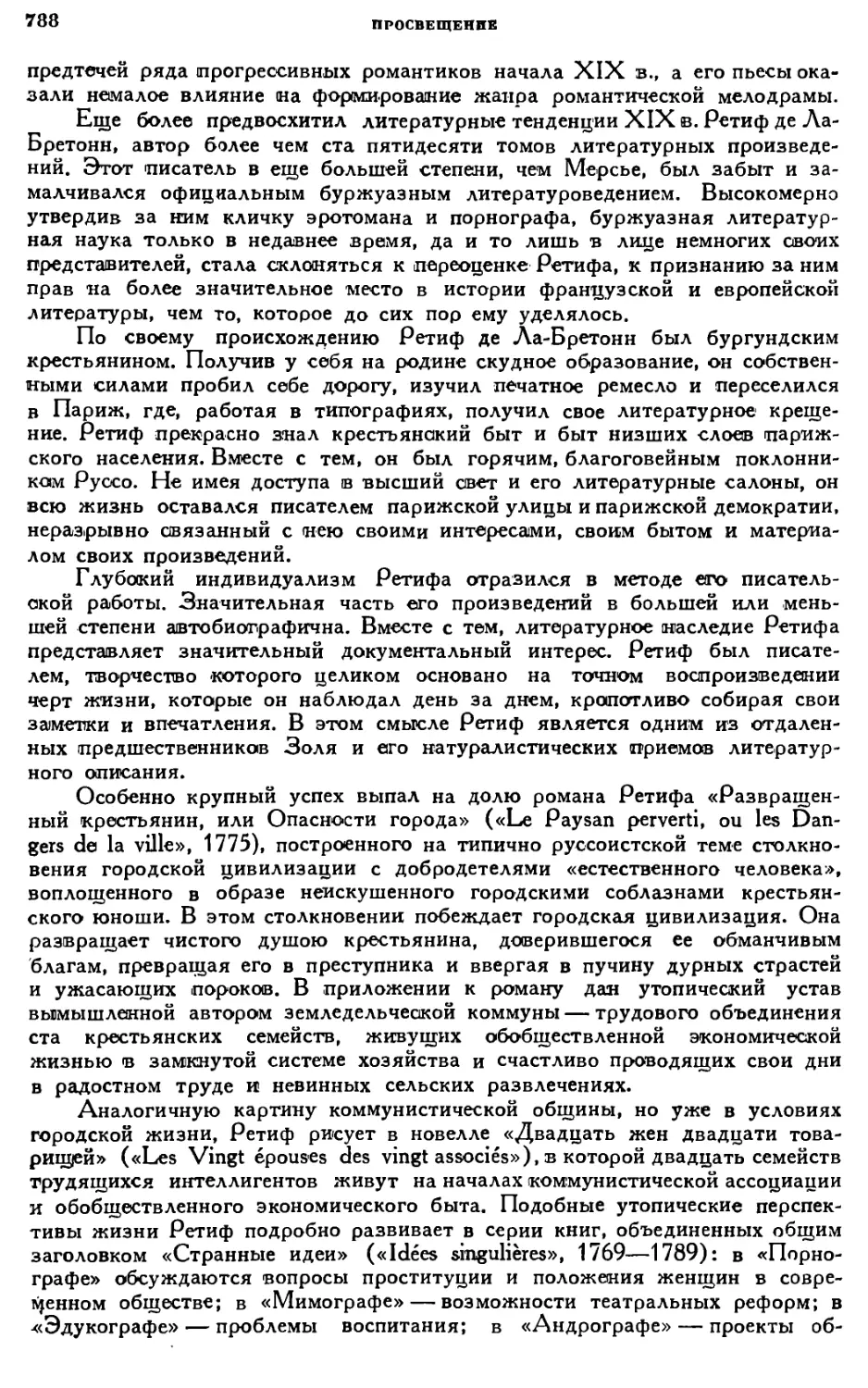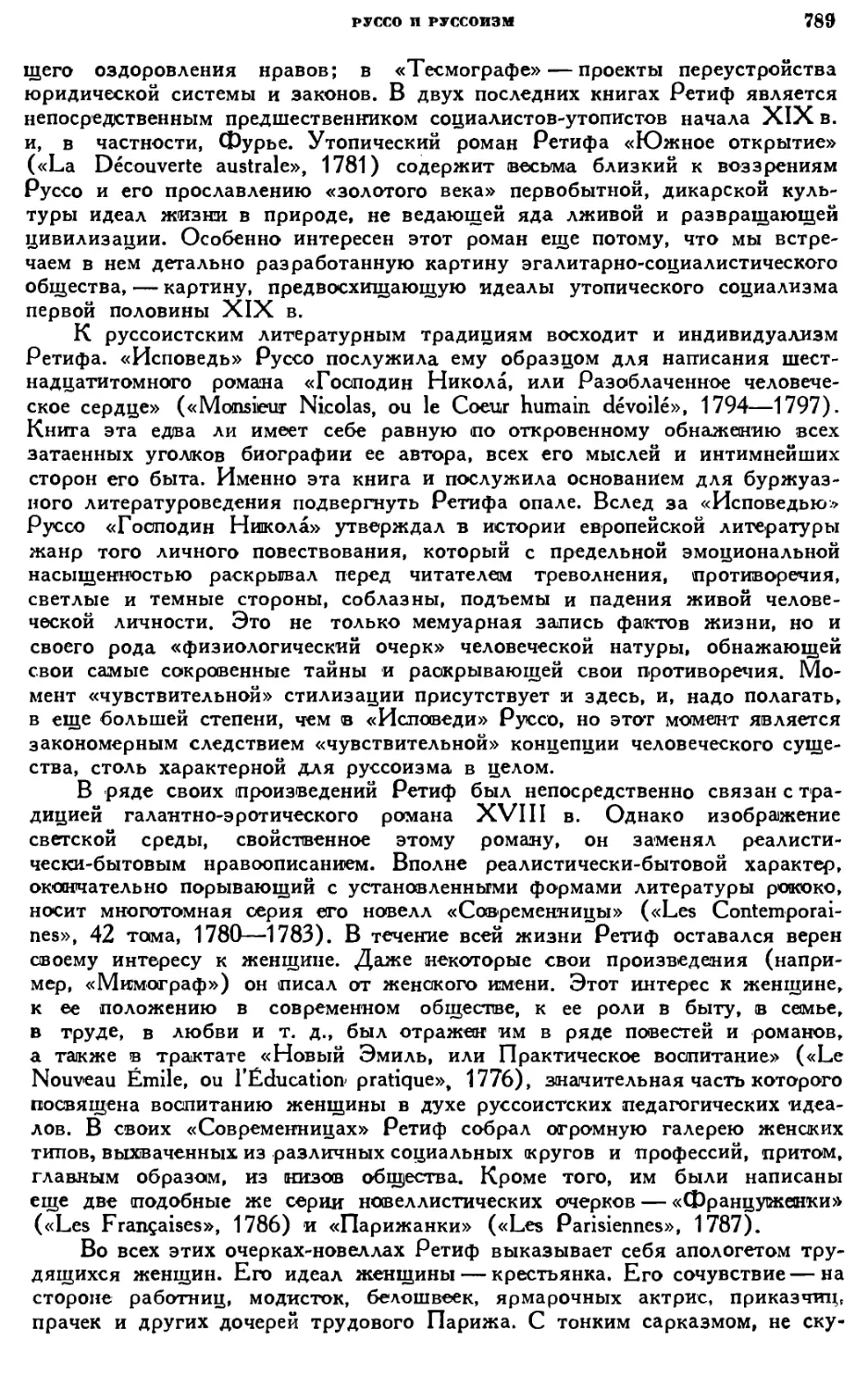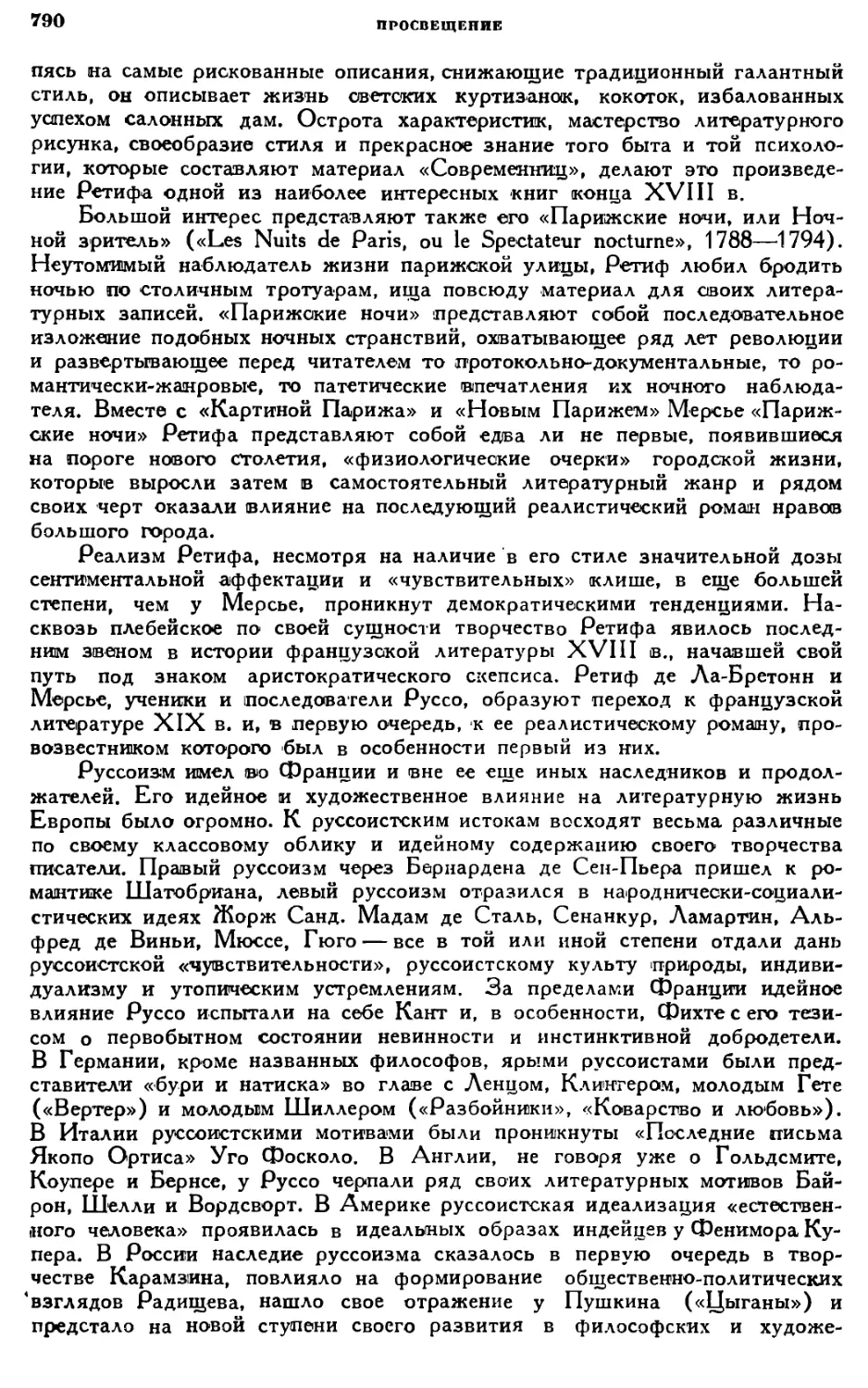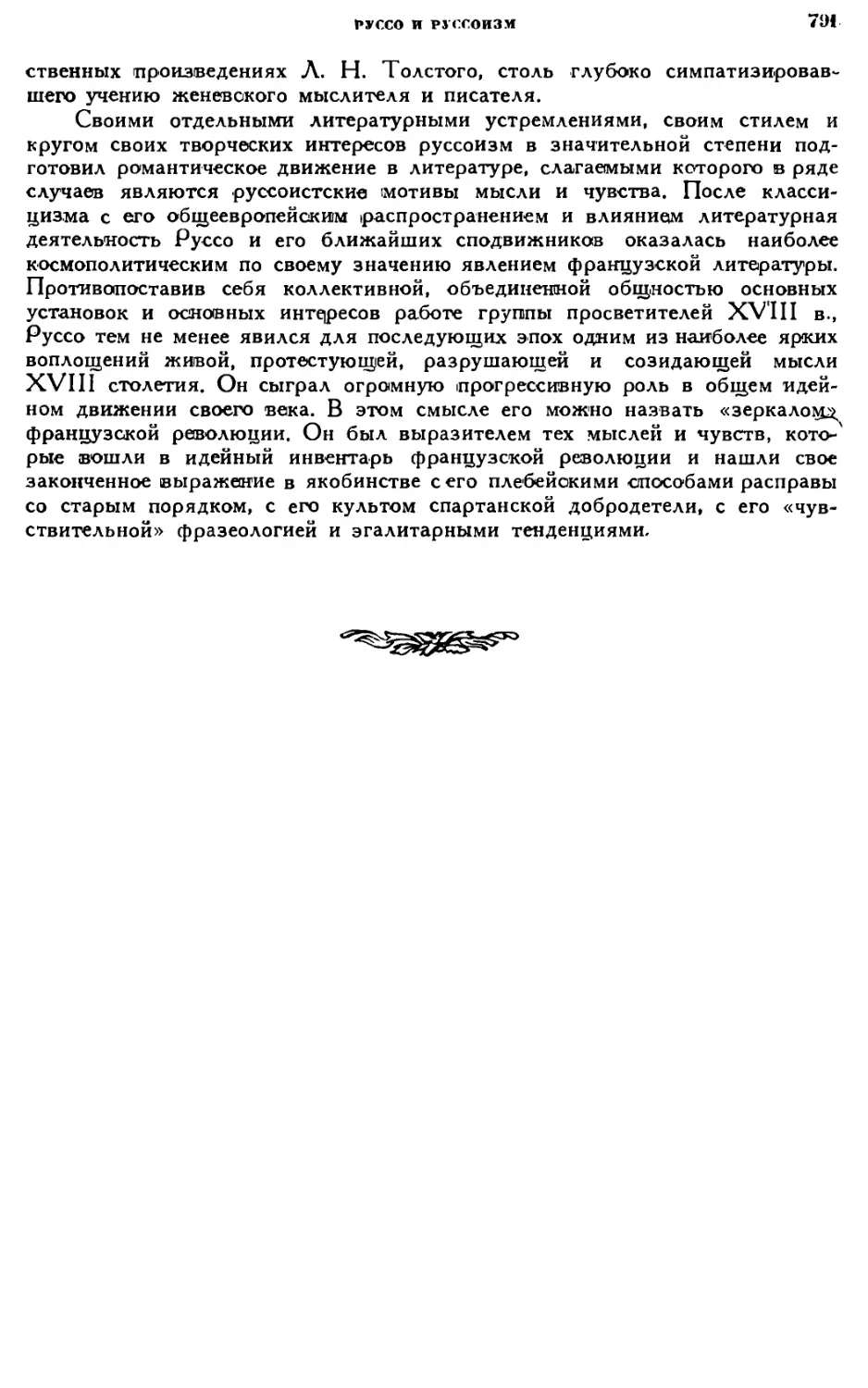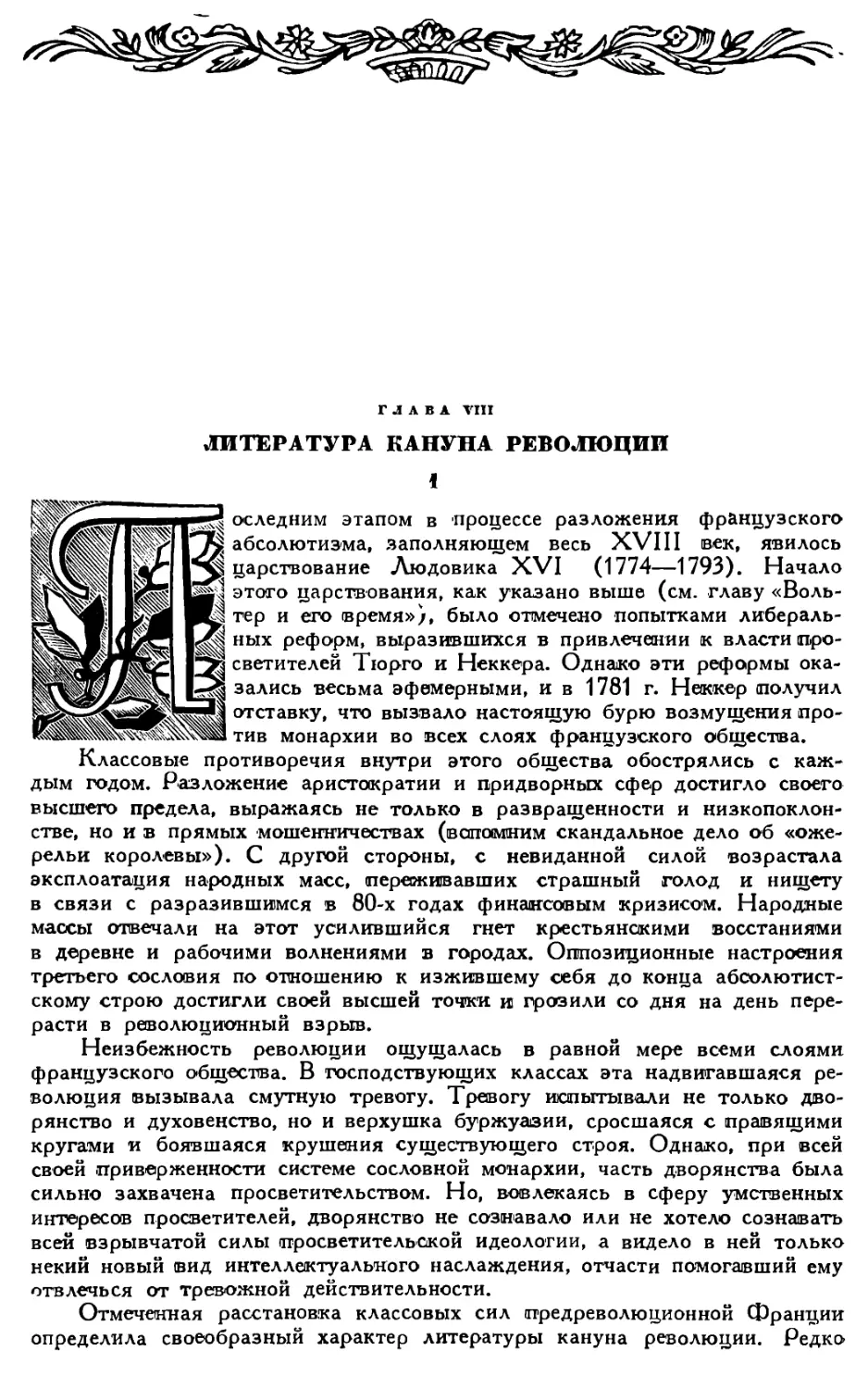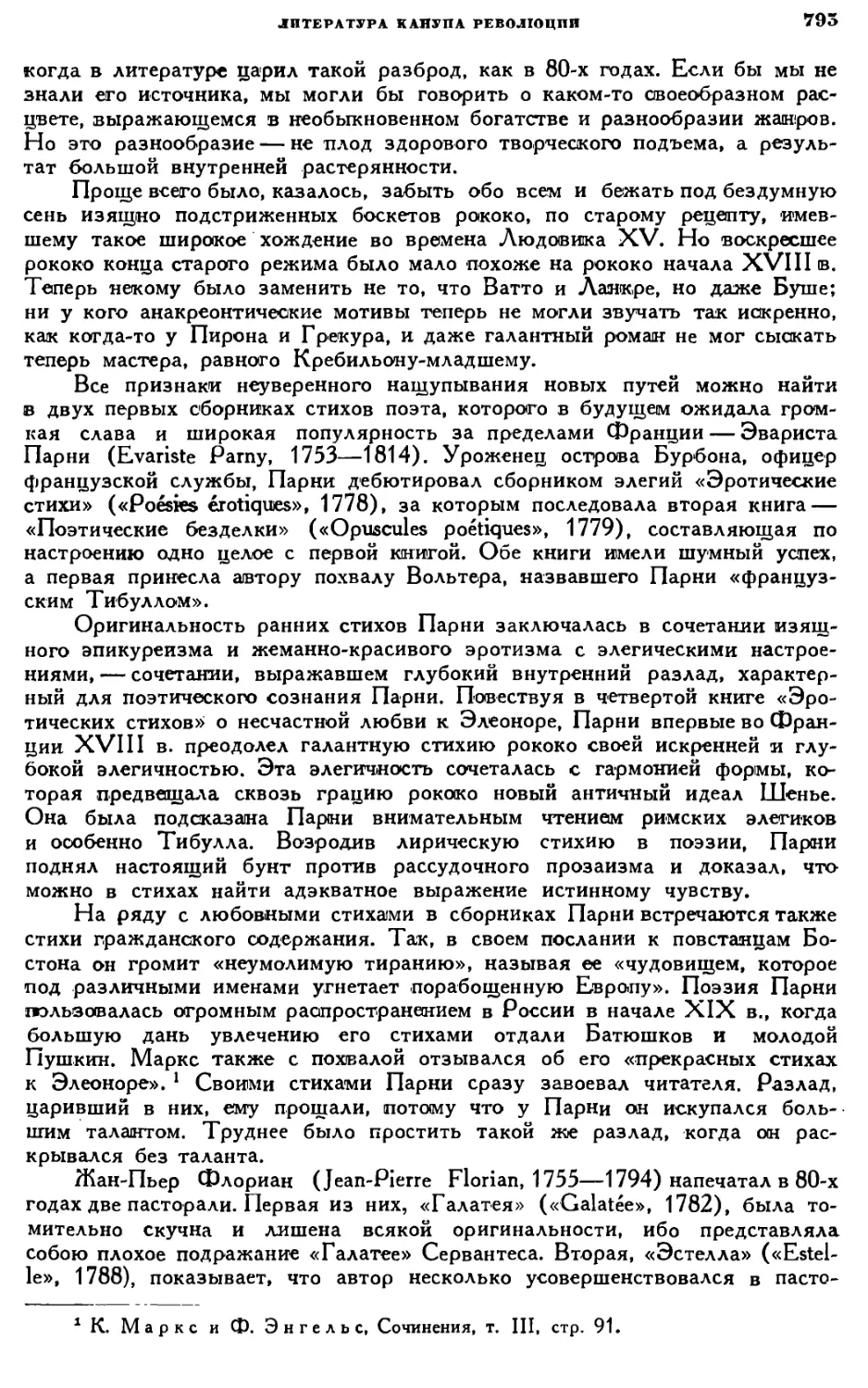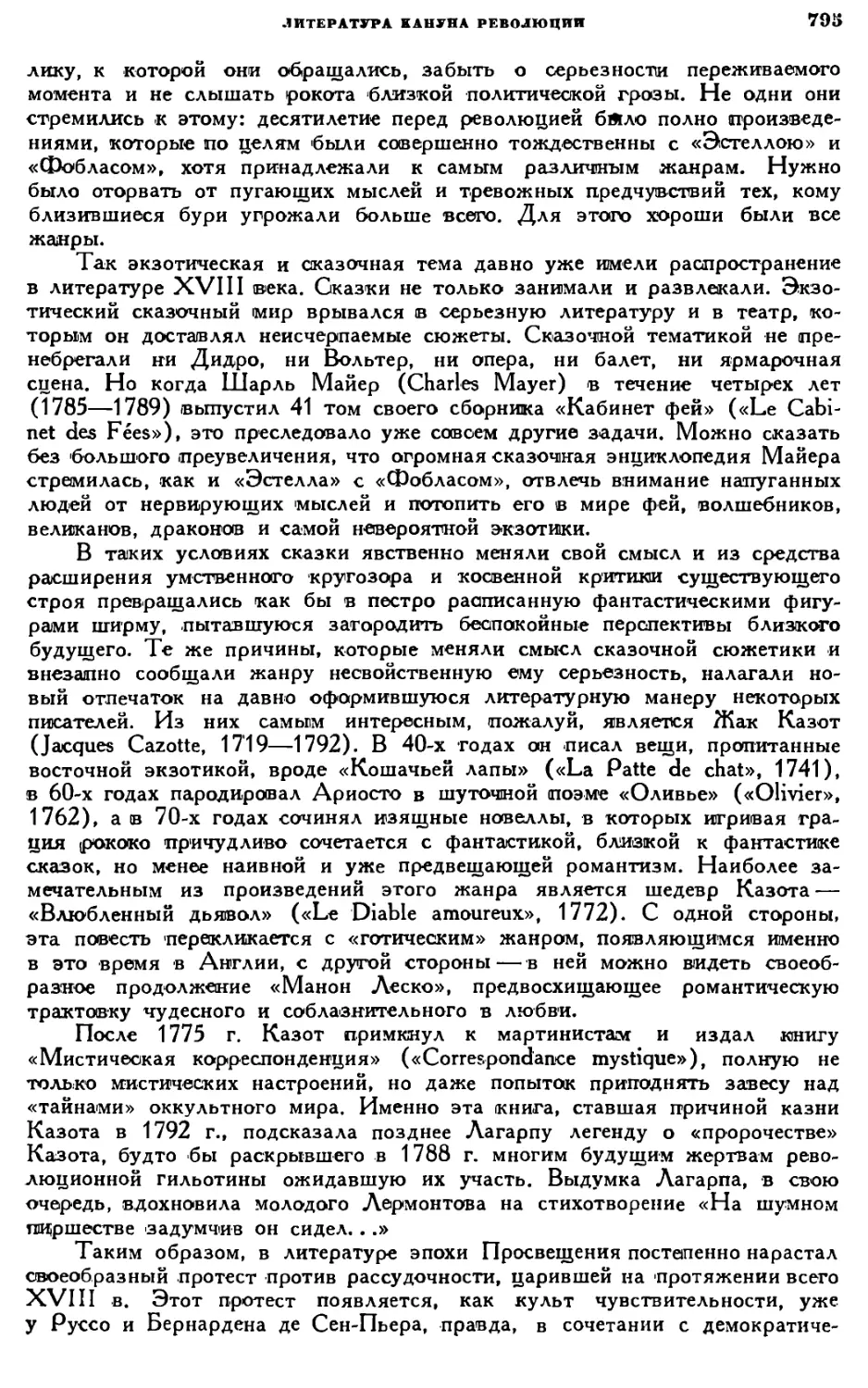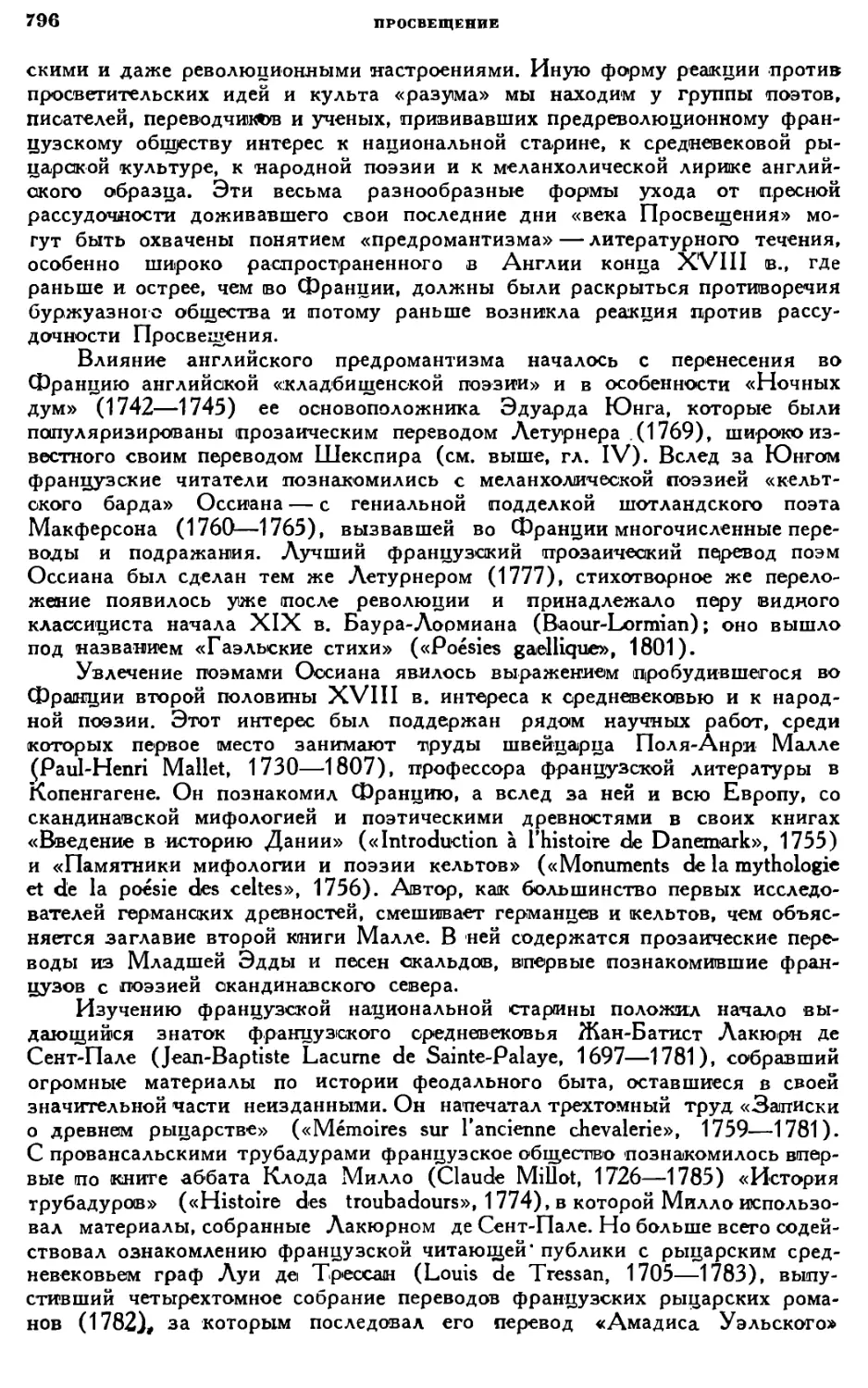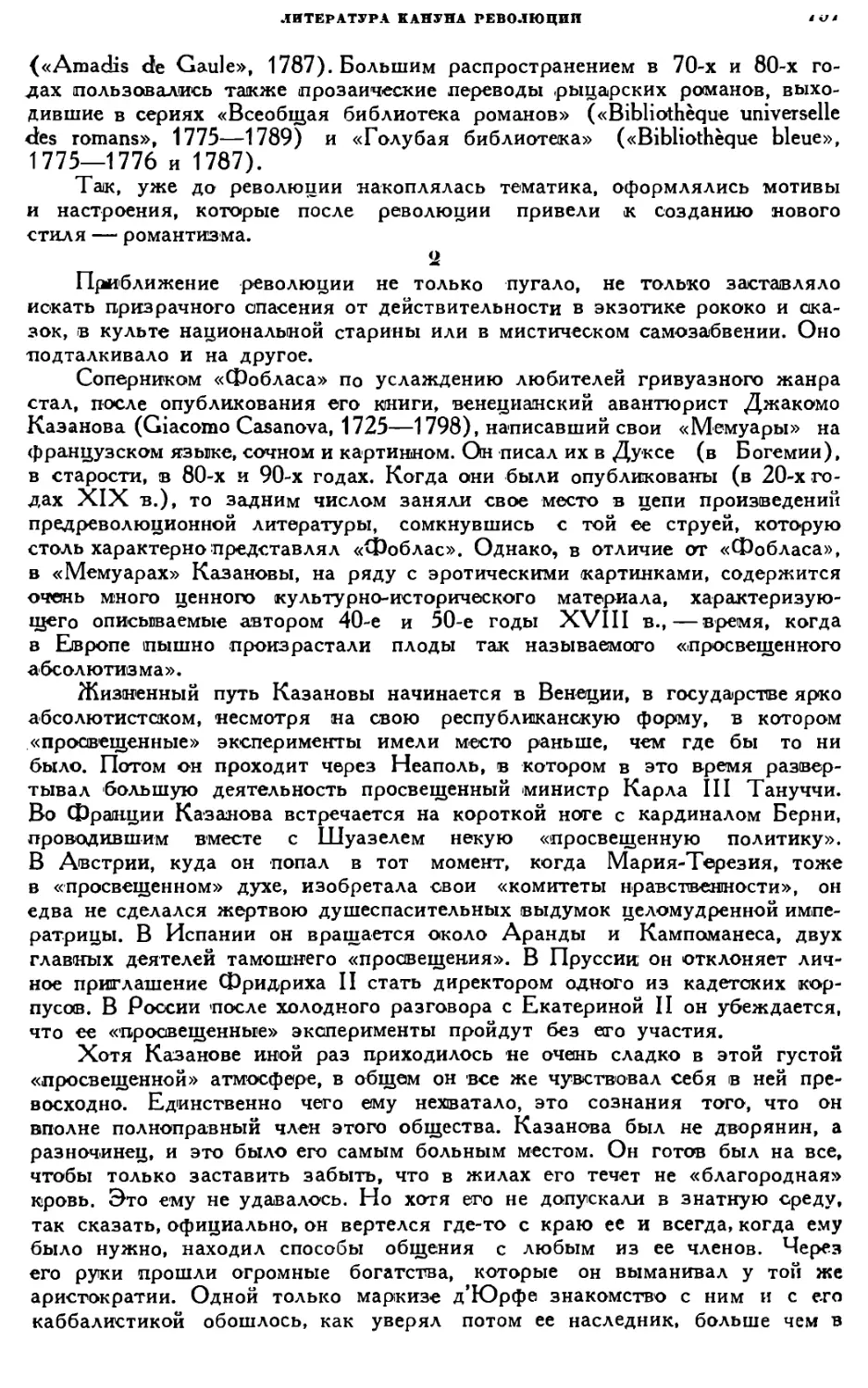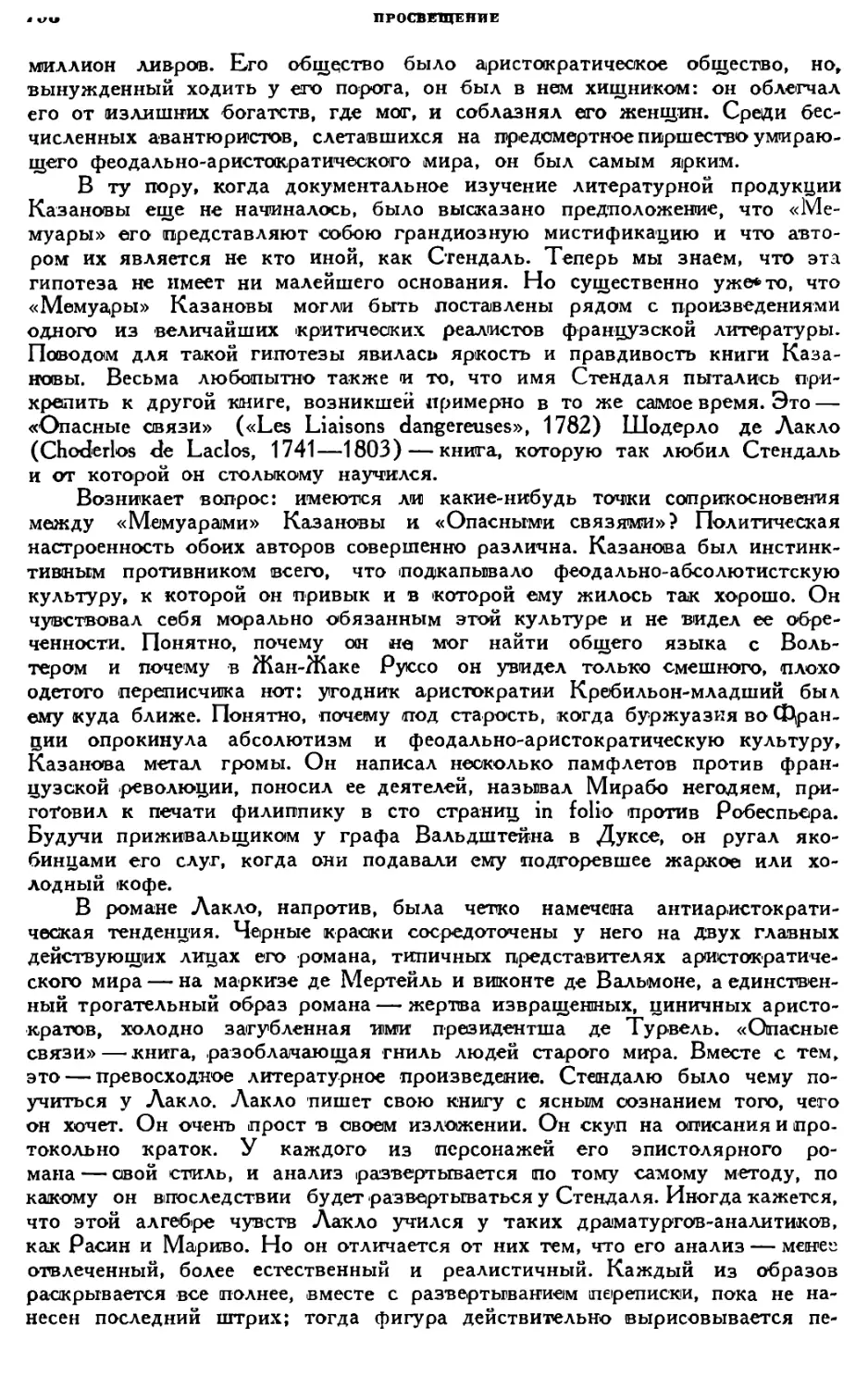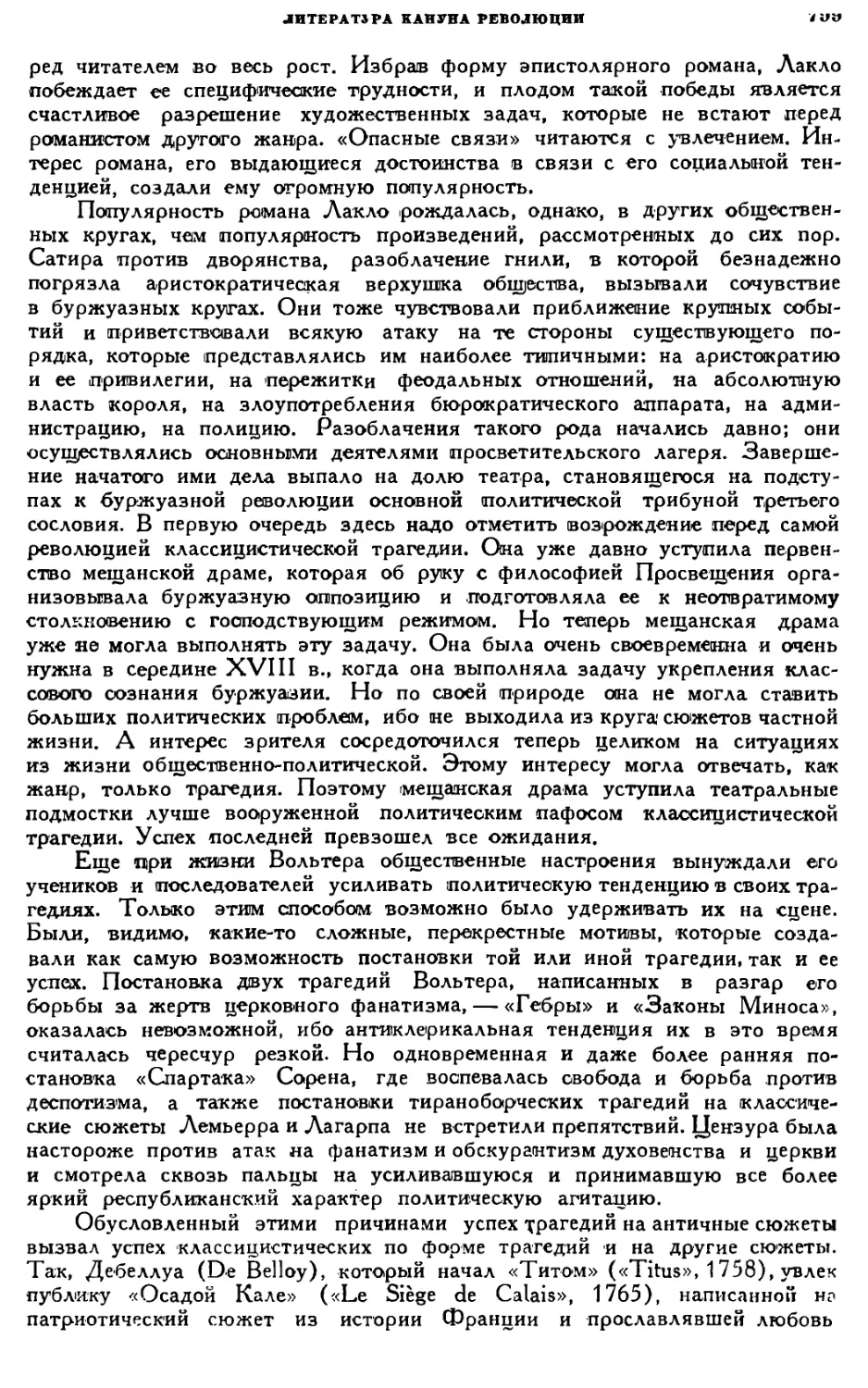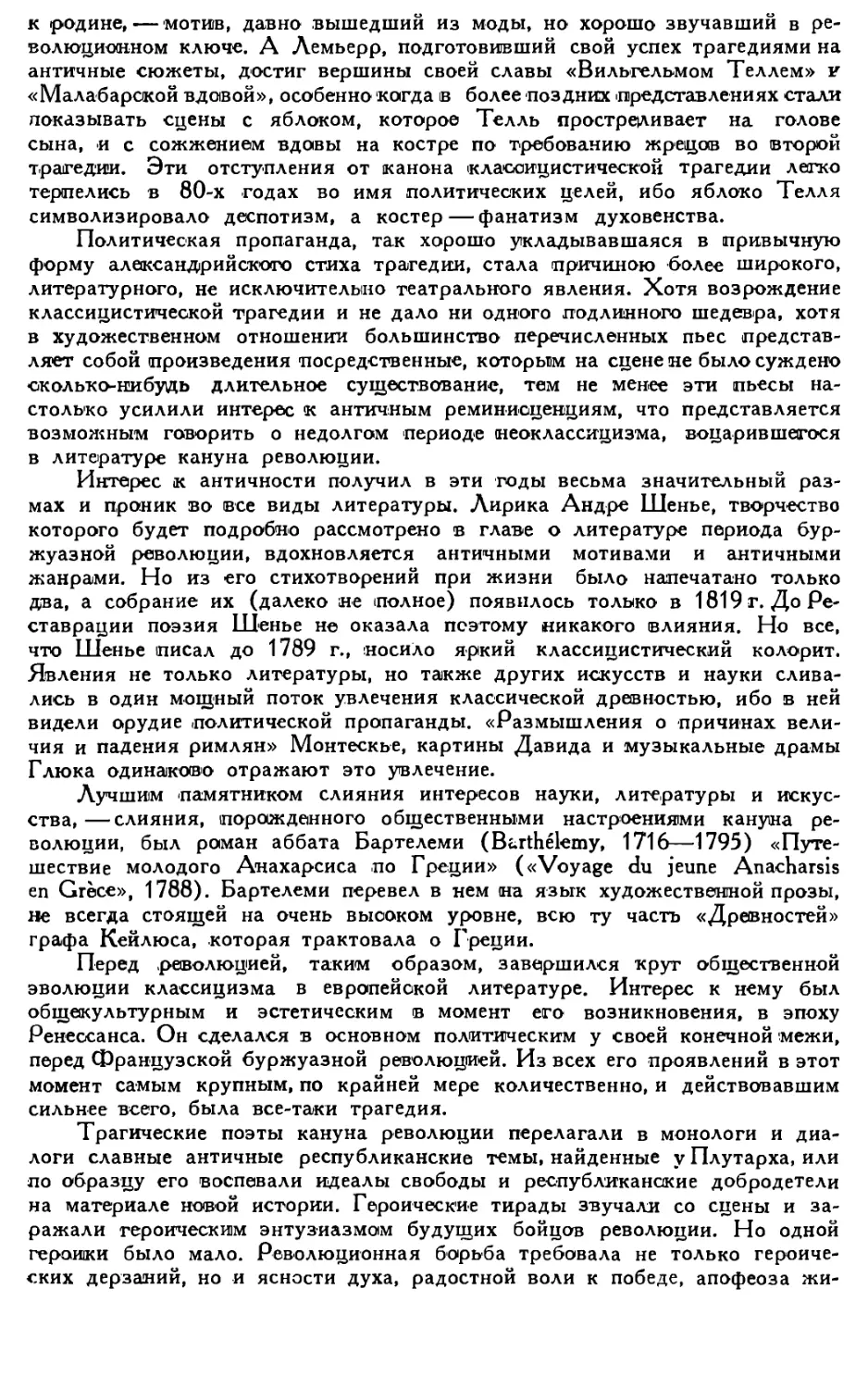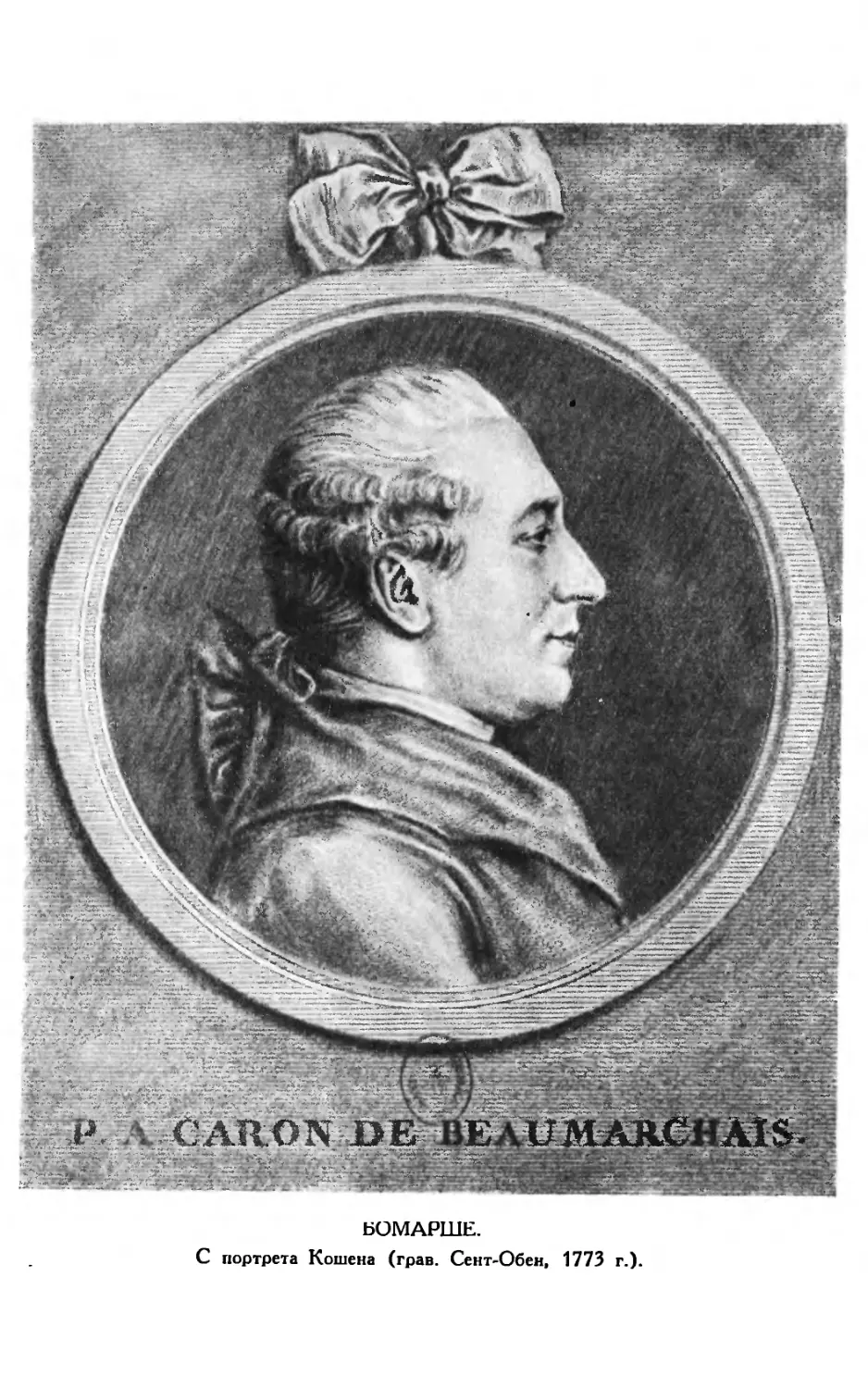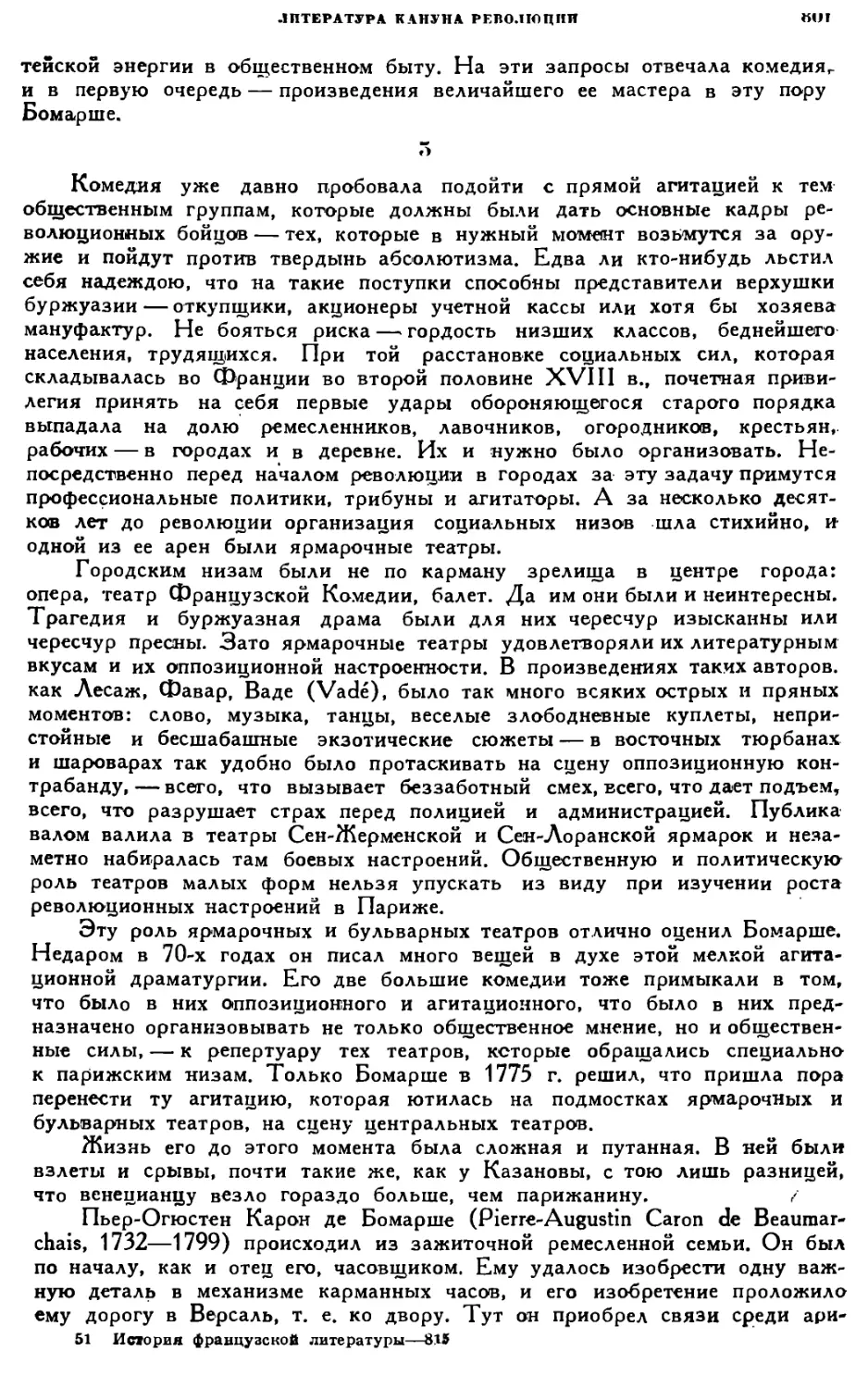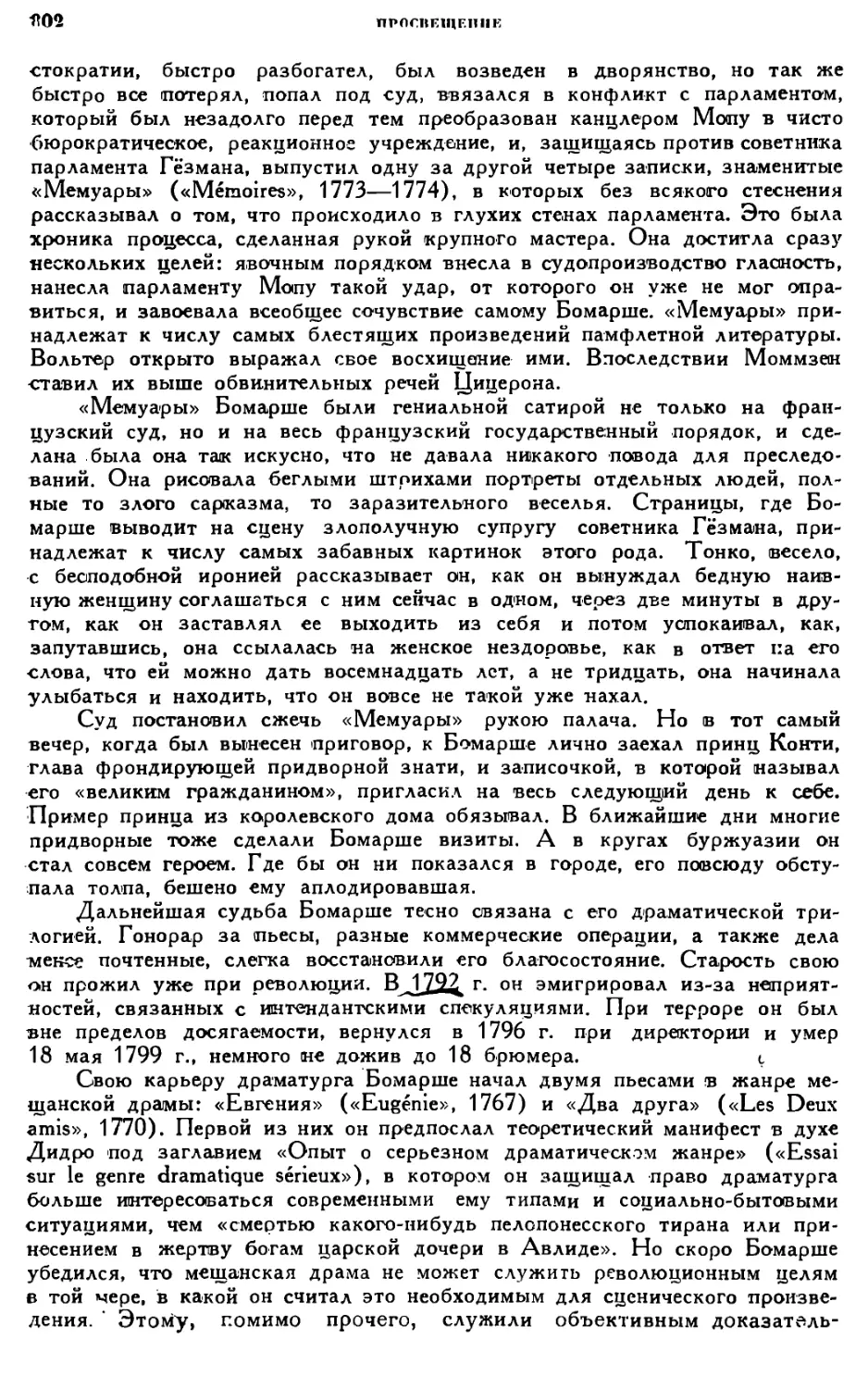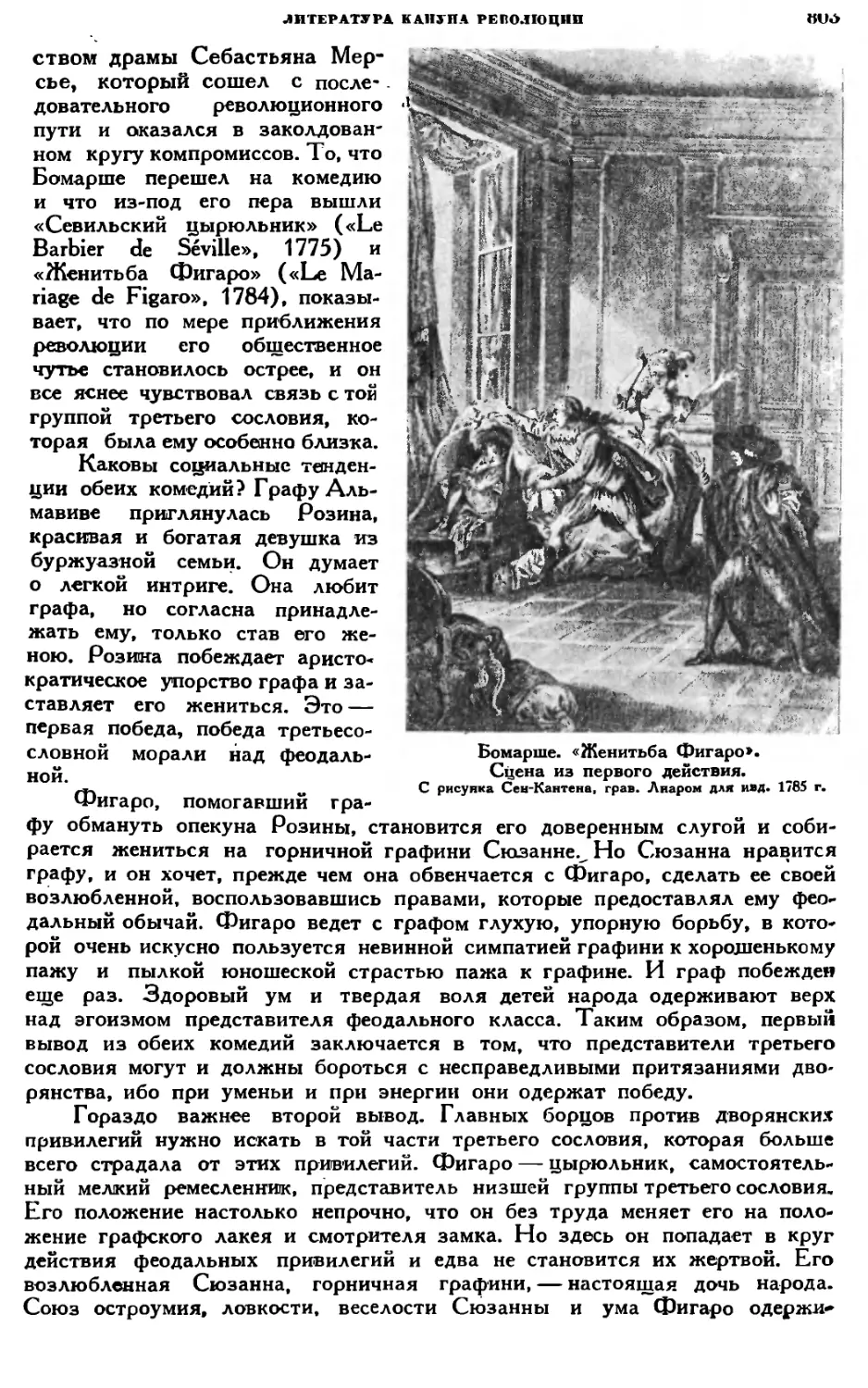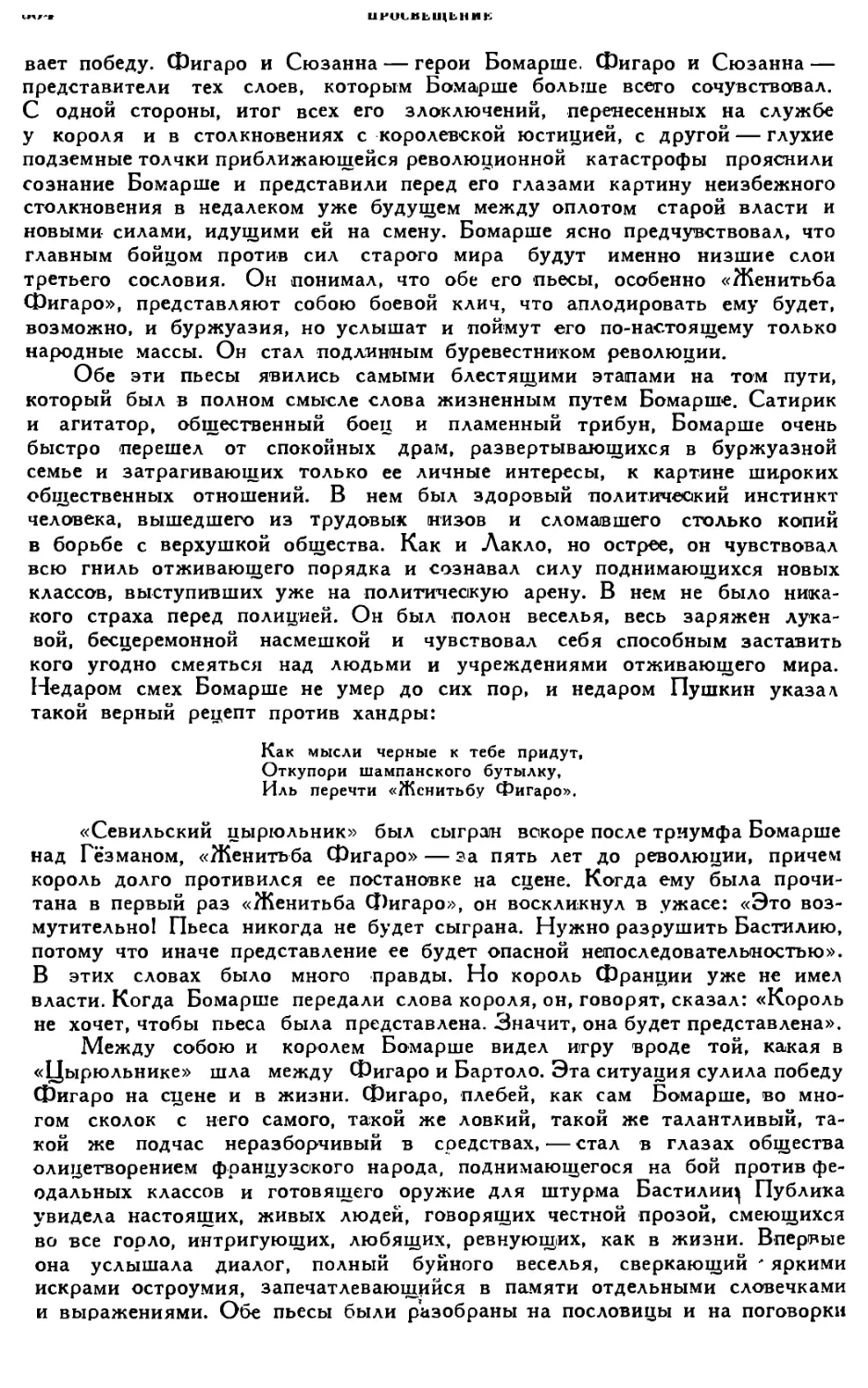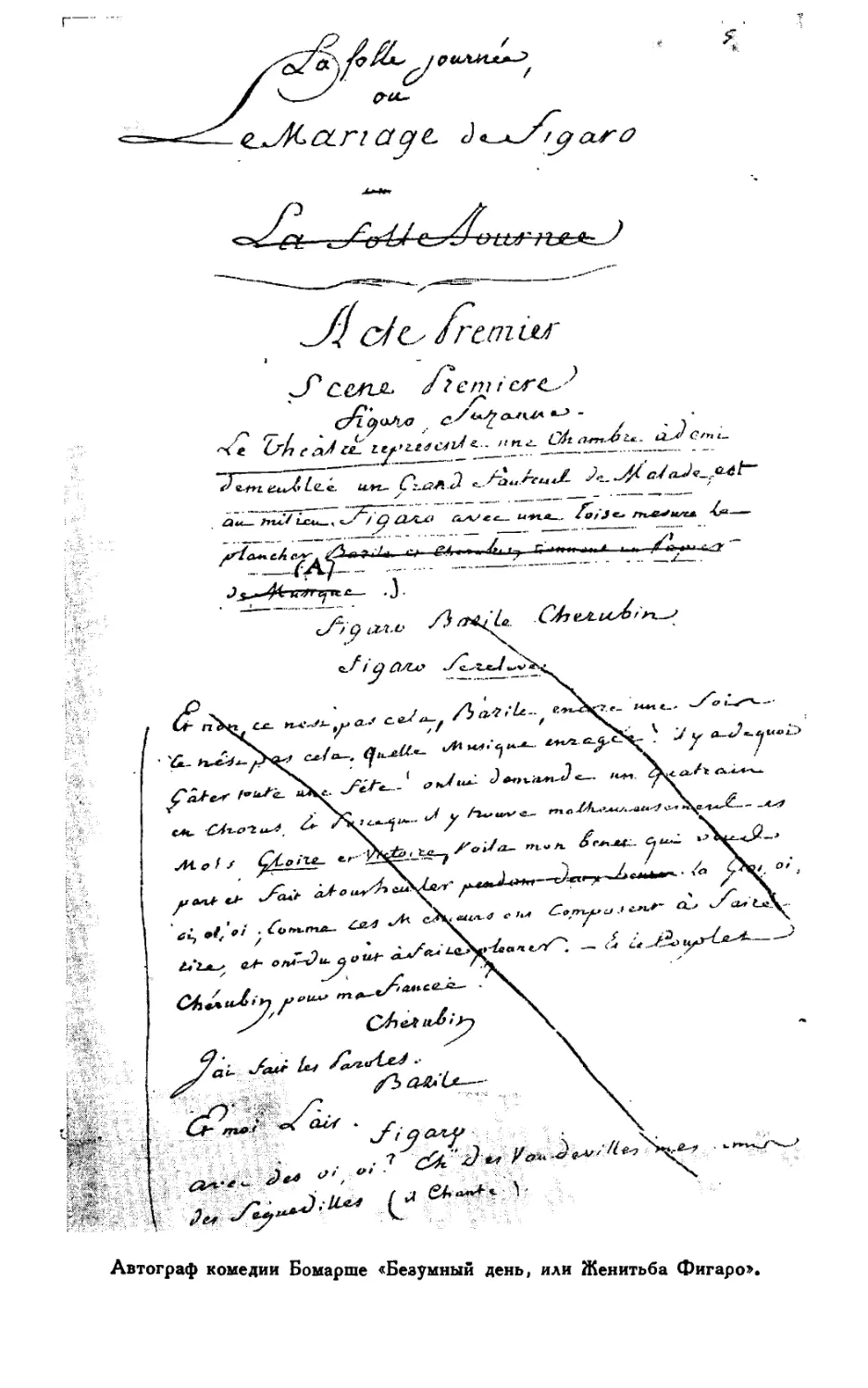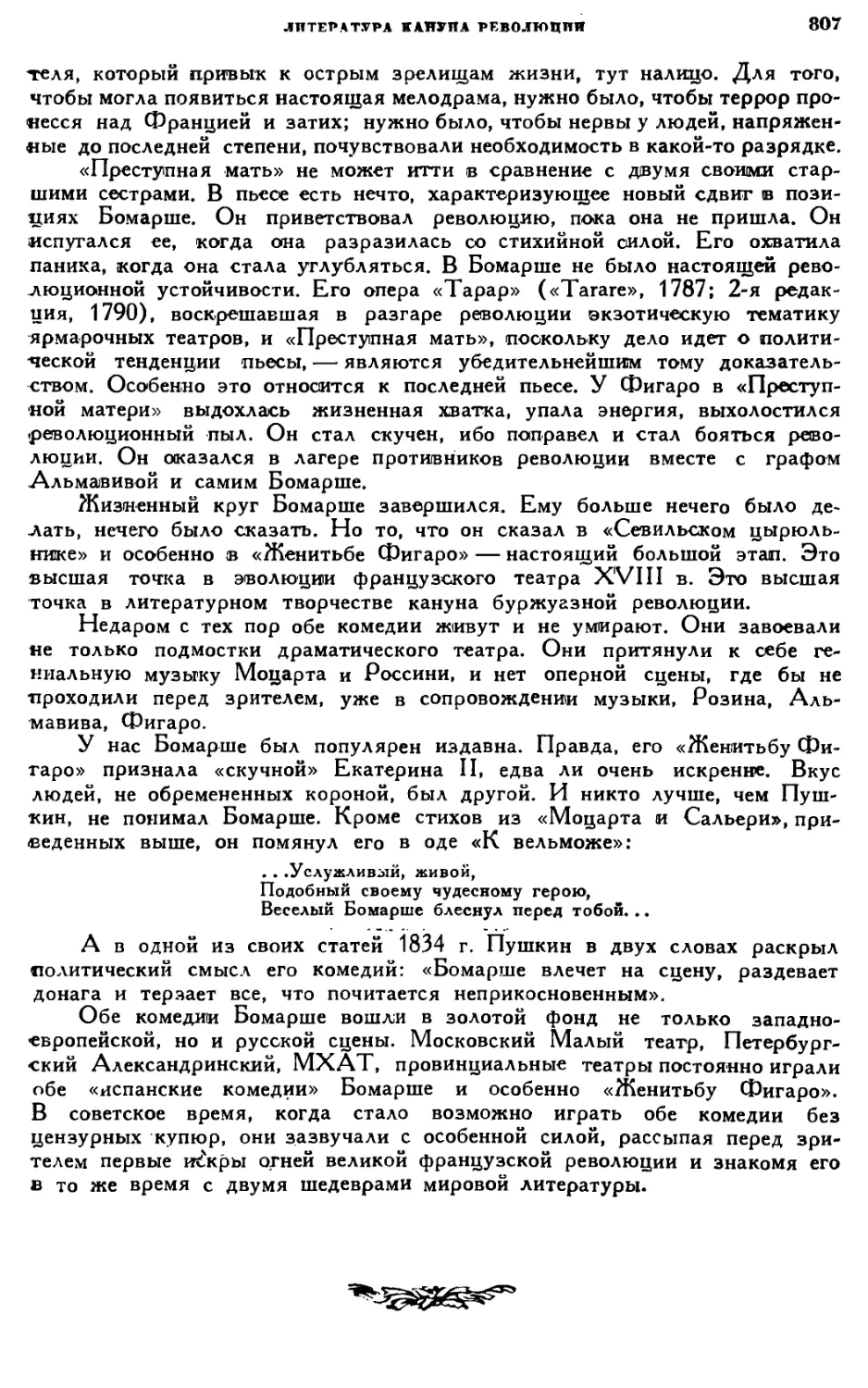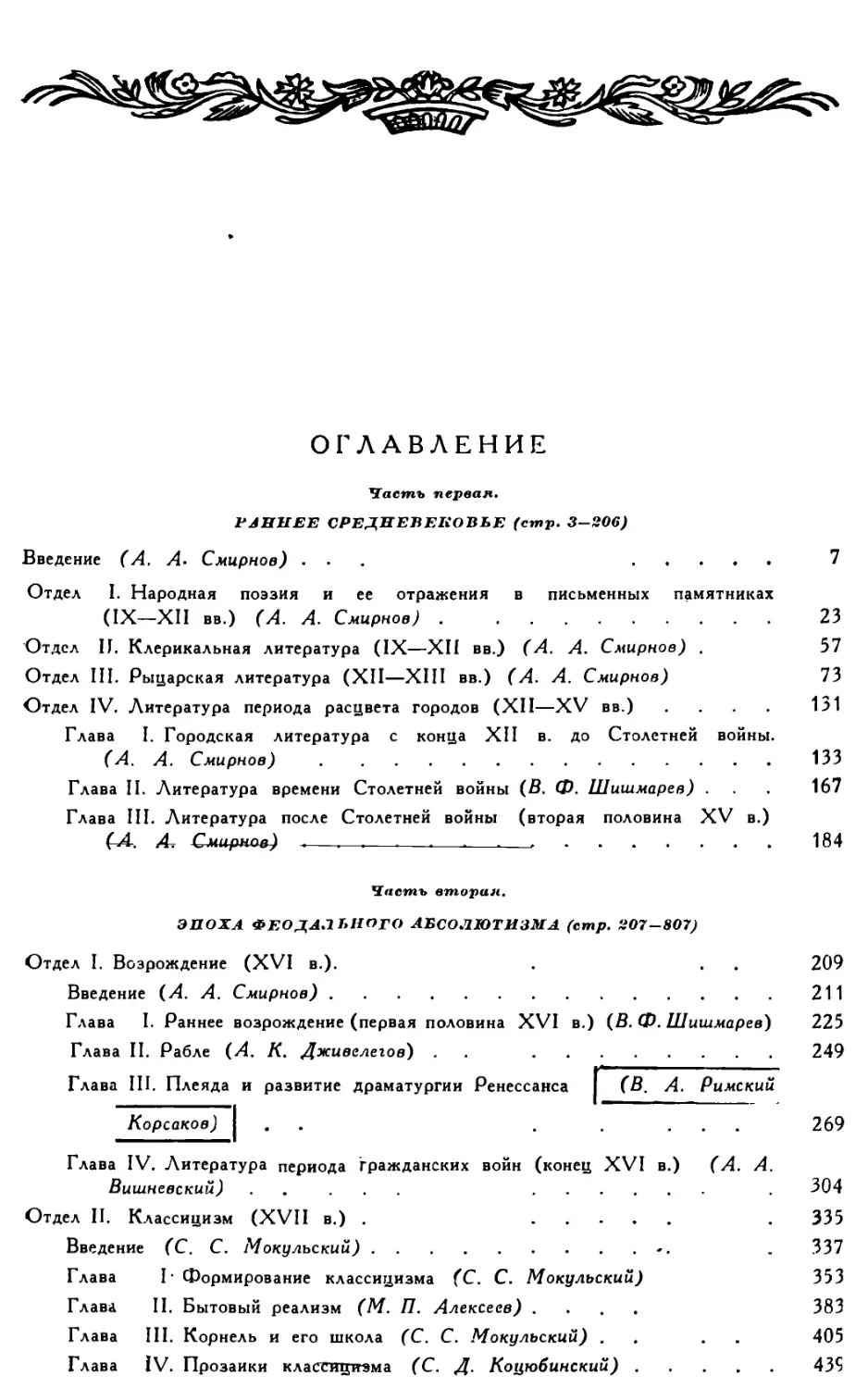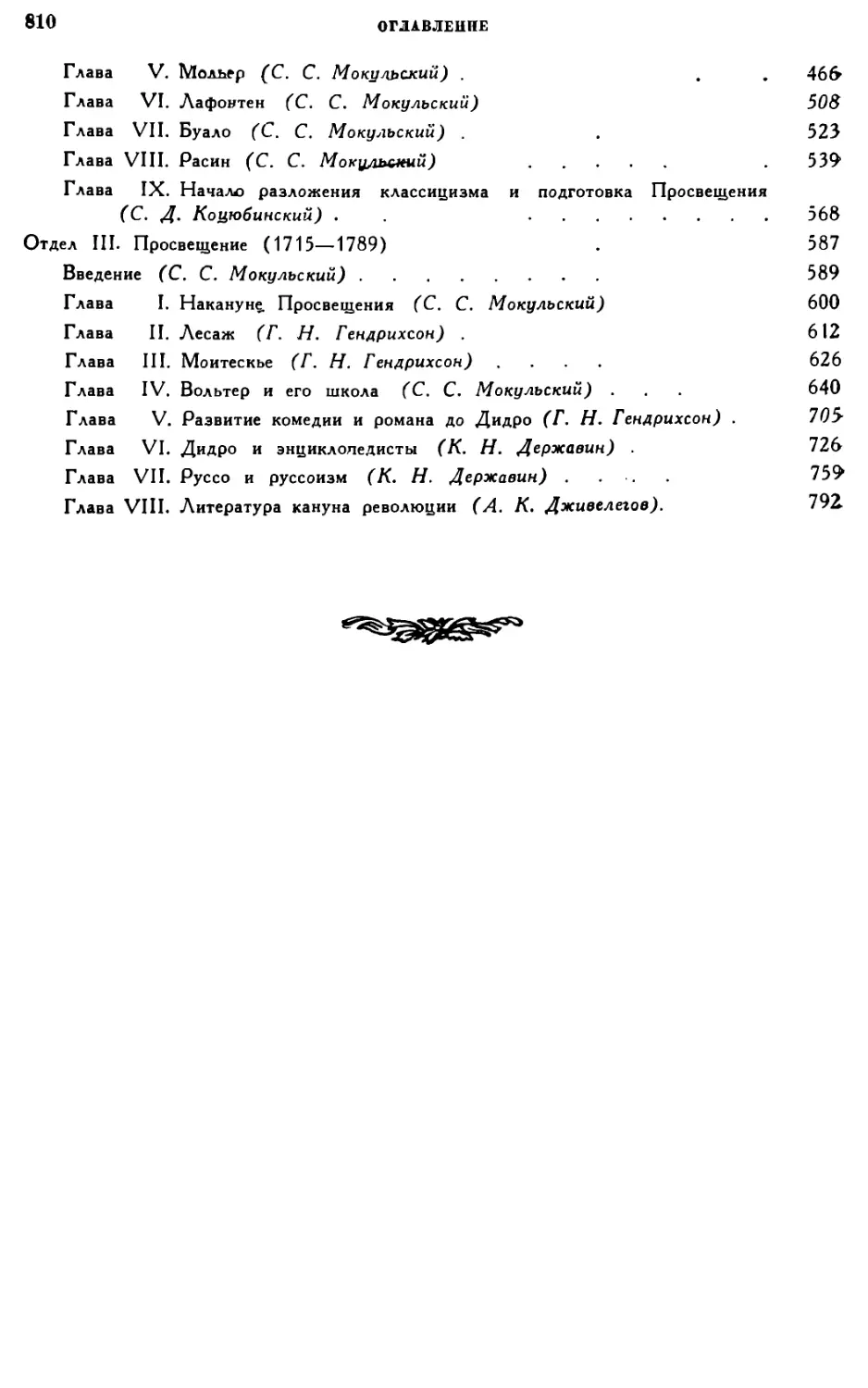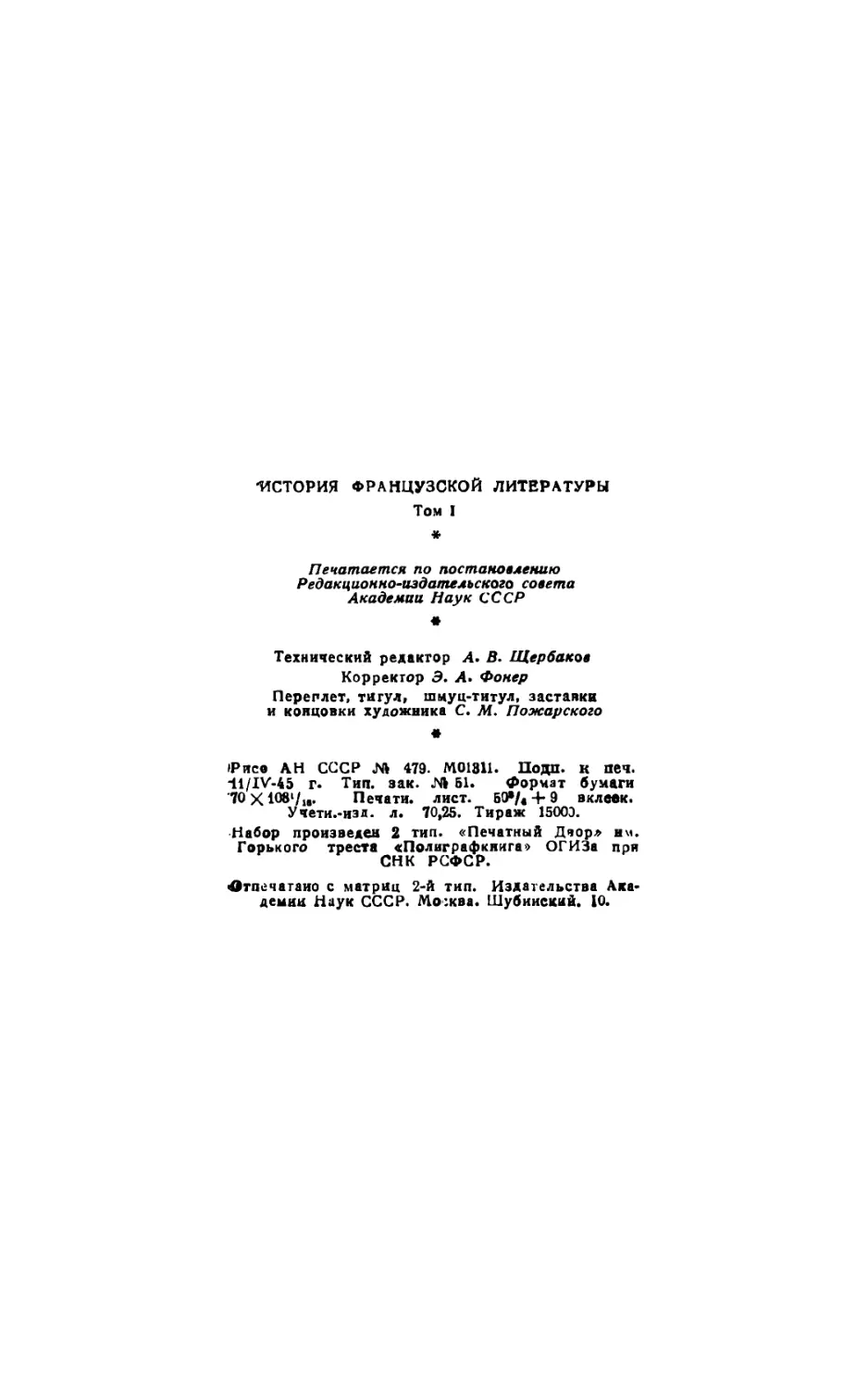Автор: Жирмунский В.М.
Теги: история культура история франции французкая литература история французской литературы
Год: 1946
Текст
ИСТО Рмл
ФРА H ЦУЗ С КОИ II
ЛИТЕРАТУРЫ
ВОЛЬТЕР
С портрета маслом Жана Гюбера
Исторический музей, Москва
Академия Hajk Союза ССР
Институт литературы (Лушкинскии дом)
История
французской
ЛИТЕРАТУРЫ
том
I
С ДРЕВНЕЙШИХ времен
ДО РЕВОЛЮЦИИ I789 г
издаmельство
Академии Наук СССР
Москва-Ленинград —1946
ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ
ЧЛ-КОРР. В. М. ЖИРМУНСКИЙ (П РЕДСЕДАТЕ ЛГ»),
Акад. А. Н. ТОЛСТОЙ, акад.. М. А. ШОЛОХОВ,
ЧЛ-КОРР. П. И. ЛЕБЕДЕВ-ПОЛЯНСКПЙ, ЧЛ.-КОРР.
В.Ф.Ш И Ш M А Р Е Р, ПРОФ. Я. М. МЕТАЛЛОВ,
ПРОФ. И.. М. ПУСИКОВ, ПРОФ. А. А. СМИРНОВ,
Проф. О. В. ЦЕХЧОВИЦЕР.|
Редакторы тома
Проф. И. И. Анисимов. проф. С. С. Мокульсккий,
проф. А. А. Смирнов
Часть первая
Раннее
СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
ВВЕДЕНИЕ
итературное развитие во Франции имеет на всех своих
этапах классический характер. В пору раннего средне-
вековья именно во Франции раньше всего формируются
и получают наиболее законченное развитие все основ-
ные жанры и направления, типичные для литературы
этих веков (национальный героический эпос, поэзия
трубадуров, рыцарский роман, городские жанры —
фаблио, «Роман о Ренаре», «Роман о Розе», мистерии
и т. п.). Французский Ренессанс выдвигает ряд писате-
лей исключительной глубины мысли и художественной
силы, имевших огромный европейский резонанс (Рабле, Ронсар, Монтень).
В XVII в. во Франции зарождается и получает наиболее разработанную
форму классицизм, в лице своих корифеев (Буало, Корнель, Расин, Мольер)
оказавший большое влияние на другие европейские литературы. Буржуаз-
ное Просвещение XVIII в. достигает своих вершин в творчестве фран-
цузских писателей и философов, становящихся руководителями европей-
ской художественной и общественной мысли накануне революции 1789 г.
(Вольтер, Руссо, Дидро). В XIX в. французский романтизм занимает
если не первое, то одно из самых первых мест в общеевропейском разви-
тии этого течения (Гюго, Виньи, Мюссе), и уж безусловно Франции при-
надлежит первенство в классическом реализме, который представлен в ней
мощным творчеством Бальзака и Стендаля.
На всех этих этапах французская литература создала произведения
большой художественной значимости, послужившие образцами и оказав-
шие существенное влияние на процесс общеевропейского литературного
развития.
Это находит свое объяснение в особенностях исторического развития
Франции. В предисловии к третьему немецкому изданию «Восемнадцатого
брюмера Луи Бонапарта» Энгельс говорит: «Франция — это страна, в ко-
торой историческая борьба классов больше, чем в других странах, дохо-
дила каждый раз до решительного конца. Во Франции, следовательно, в
наиболее резких очертаниях выковываются те меняющиеся политические
формы, внутри которых движется эта классовая борьба и в которых нахо-
дят свое выражение ее результаты. Средоточие феодализма в средние
века, образцовая страна единообразной сословной монархии со времени
Ренессанса, Франция разгромила во время Великой революции феодализм
в
РАППЕЕ СРЕДИКНККОПЬЕ
и основала чистое господство буржуазии с классической ясностью, с какой
это не сделала ни одна европейская страна».'
Из этого вытекает большая типичность французской литературы,
проявляющаяся уже на самом раннем этапе ее развития, с самого начала
средневековой литературы.
Французская национальность образовалась как результат целого ряда
племенных смешений и взаимодействия различных национальных культур.
При этом кое-что из поэтического творчества более древних культурно-эт-
нических слоев, предшествовавших возникновению французской националь-
ности, могло, как пережитки, в сильно измененной форме, перейти в за-
рождающуюся французскую литературу.
Древнейшим населением Галлии, историческая культура которого нам
более или менее известна, являются галлы, принадлежащие к кельт-
ской группе народов. Однако до прихода в Галлию кельтов (вероятно,
в VI в. до н. э.) страну населяли иберы, лигуры и другие народы, покорен-
ные и ассимилированные кельтами. Быт, нравы и общественный строй гал-
лов в I в. до н. э. лучше всего описан Цезарем в его «Записках о галль-
ской войне». В эту пору у галлов был в полном расцвете родо-племеиной
строй. Их жрецы, называвшиеся друидами, хранили мифические и
героические предания и передавали их своим ученикам путем устного обу-
чения. С другой стороны, певцы — барды, состоявшие на службе у кня-
зей или бродячие, культивировали лирическую или лирико-эпическую
поэзию, по преимуществу панегирического и сатирического характера.
Если творчество друидов исчезло без следа, не оказав ни малейшего влия-
ния на позднейшее литературное развитие, то кое-что из практики бардов
могло перейти впоследствии в искусство жонглеров — этих основных
создателей и распространителей поэтического искусства в средневековой
Франции. Несомненно также, что уже в кельтский период выработался тот
основной фонд фольклорных мотивов и образов, который затем, соответ-
ственно трансформируясь, продолжал бытовать во Франции в течение
всего средневековья. В частности, кельтского происхождения столь попу-
лярные во Франции сказания о феях: хотя название их — латинского
корня (fée из fata, от fatum — «судьба»), самое представление о феях
восходит к кельтскому фольклору.
Римское завоевание и романизация Галлии происходили неравномерно.
Прежде всего, с 123 по 118 г. до н. э., была покорена область на юго-
востоке, имевшая главным центром город Нарбонну — provincia Narbon-
nensis, население которой очень быстро усвоило язык и культуру римлян.
В 58—51 гг. до н. э. произошло завоевание Цезарем всей остальной Гал-
лии. С этого момента начинается проникновение латинского языка, римских
учреждений, обихода, всех видов материальной и умственной культуры.
Латинский язык, занесенный в Галлию и затем развившийся во француз-
ский, был не литературным языком, каким пользовались Цицерон или
Вергилий, а народной, так называемой вульгарной латынью —
обиходным языком римских солдат, торговцев, крестьян-колонистов, сильно
отличавшимся от языка верхов общества. Долгое время городское населе-
ние оставалось двуязычным, а сельское сохраняло кельтский язык. Хуже
всего поддавался романизации северо-восток Галлии, провинция Belgica,
в значительной части которой, в конце концов, возобладал германский
1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XVI, ч. 1, стр. 189—190.
ПВЕДЕНПЕ
9
(фламандский) язык. Кельтский язык исчез в Галлии окончательно лишь в
V в. н. э., оставив в французском языке заметные следы в синтаксисе
и фонетике, тогда как в лексике кельтский элемент ничтожен, а в морфоло-
гии равен нулю. В значительной мере кельтского происхождения — фран-
цузская топономастика (названия рек, областей, некоторых городов и т. п.).
Что касается кельтских личных имен, то они окончательно вытесняются
латинскими в IV в.
Вскоре после римского завоевания во многих городах Галлии — Бордо,
Лионе, Тулузе, Отене — возникли «школы риторов», где преподавались
грамматика, риторика и искусство писать латинские стихи. Галло-римские
писатели быстро прославились. Ювенал в начале II в., оплакивая падение
красноречия в Италии, советовал искать его в Африке и Галлии. Из этих
питомников эпигонской культуры позднеримского рабовладельческого
общества выросло творчество Авзония (IV в.), Аполлинария Сидония
(V в.), Венанция Фортуната (VI в.), сохраняющее, несмотря на христиан-
ство их авторов, всю стилистику и мифологическую аппаратуру классиче-
ской римской поэзии. Эта тепличная поэзия, адресовавшаяся исключи-
тельно к высшей аристократии и магнатам церкви, не оказала, конечно,
никакого влияния на возникшую позднее французскую литературу, кото-
рая в тех случаях, когда черпает что-либо из римской литературы, обра-
щается не к этой галло-римской поэзии, а к классической римской лите-
ратуре, доходящей до нее через церковную школу.
Больше значения в этом отношении имела народная латинская лите-
ратура, распространившаяся в Галлии вместе с римскими колонистами.
Хотя, принадлежа к устному творчеству, она целиком пропала, можно все
же установить по меньшей мере два момента, усвоенные из нее зарождаю-
щейся французской литературой. Первый — это французский силлабиче-
ский, основанный на принципе счета слогов, стих с его ассонансом или
рифмой, происходящий частью из ритмического сатурнийского
стиха, частью из различных размеров позднелатинской народной поэзии.
Второй момент касается роли римских мимов, являвшихся до некоторой
степени предками французских жонглеров, о чем будет речь ниже.
В V в. начинаются вторжения в Галлию различных германских пле-
мен, в частности визиготов (вестготов), которые, пройдя через Галлию в
Испанию,' по дороге частично осели в Аквитании, а также бургундов, кото-
рые после разгрома их царства в 437 г. отрядами гуннов, состоявшими на
службе римского полководца Аэция, переселились сначала в Савойю, а за-
тем в Бургундию. Но крупнейшим германским нашествием, очень суще-
ственно отразившимся на истории Франции, было завоевание в 486 г. Гал-
лии франками, пришедшими из прирейнской области и очень быстро под-
чинившими себе как галло-римское население, так и другие, проникшие
раньше германские племена. В дальнейшем по мере развития феодальных
отношений свободные франки смешались с местными полукрепостными
земледельцами, а франкская аристократия смешалась с галло-римской
знатью. Однако культурный вклад франков был крайне незначителен по
сравнению с тем, что они восприняли сами от галло-римлян, культура
которых была гораздо выше. Вполне естественно поэтому, что дело кон-
чилось полной ассимиляцией франков (как и других германцев, проник-
ших в Галлию) в языковом и культурном отношении.
В связи с этим тщетно было бы искать германских элементов в за-
рождающейся французской литературе. Попытки некоторых западных,
преимущественно немецких ученых, возводить французский героический
внос или даже народную обрядовую лирику к германским корням, реши-
10
РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
тельно ни на чем не основаны. Самое большее, о чем можно говорить,
это о заимствовании некоторых сюжетных (главным образом эпических)
мотивов в качестве сырого материала, подвергшегося затем вполне само-
стоятельной обработке.
При Меровингах (V—VII вв.) мы наблюдаем в Галлии своеобразное
смешение остатков позднеримского рабовладельческого строя и довольно
сильно захваченного разложением германского родо-племенного строя
с его королевской властью, дружинами и институтом свободных земле-
дельцев. Это столкновение двух систем, с одной стороны, способствовало
развитию тенденций, уже заложенных в античном обществе в период его
разложения, с другой стороны, привело к распаду германских родо-племен-
ных институтов. Следствием захвата завоевателями крупных земельных
участков и раздачи их королевской дружине явилось развитие крупного
землевладения. Мелкие земельные собственники, разоренные частыми вой-
нами, теряют свою первоначальную свободу и делаются крепостными
своих более сильных соседей. Эти последние становятся все более незави-
симыми от королевской власти, превращаясь в самостоятельных государей
в своих владениях.
Первый этап формирования феодализма падает на правление Каро-
лингов (VIII—IX вв.). Начавшись при Карле Маргелле, процесс этот
усиливается при его внуке Карле Великом (768—814). В эту пору про-
исходит образование французской национальности и зарождение фран-
цузской литературы.
Началом той и другой можно считать момент, приходящийся на пер-
вые десятилетия IX в., когда французский язык в процессе своего разви-
тия настолько отдалился от своего источника — латинского языка, что
поздняя латынь, которая была тогда в ходу в качестве языка церкви и
высшей администрации, перестала быть понятной широким кругам населе-
ния. Очень характерно в этом отношении постановление Турского собора
813 г. о том, чтобы проповеди произносились на французском языке.
Около этого же времени аристократия франкского происхождения оконча-
тельно забывает франкский (германский) язык и переходит на француз-
ский (романский), становящийся языком всего населения. Эти факты,
отнюдь не свидетельствуя о появлении уже в столь раннюю эпоху сознания
национального единства Франции, все же говорят о намечающейся общности
хозяйственных связей и социально-бытовых навыков, охватывающих наи-
большую часть территории Галлии. Энгельс говорит: «Как только про-
изошло разграничение на группы по языку, .. .вышло само собой, что эти
группы стали служить основой образования государств, что национальности
стали развиваться в нации». '
Политическим выражением указанных обстоятельств явилось выделе-
ние вскоре после этого Франции в самостоятельное государство. В 843 г.
империя Карла Великого распалась. После смерти его сына, Людовика
Благочестивого, она была разделена тремя сыновьями последнего, причем
старшему, Лотарю, досталась узкая полоса земель от устья Рейна до устья
Роны и Италия, Карлу Лысому — области к западу от Рейна, т. е. Фран-
ция, а Людовику Немецкому — восточные области, Германия. Этому раз-
делу предшествовал договор 842 г. между Карлом и Людовиком, так
называемые «Страобургские клятвы», о взаимной помощи их друг другу
1 О разложении феодализма и развитии буржуазии. К. Маркс и Ф. Энгельс,
Сочинения, т. XVI, ч. 1, стр. 444.
ППЕДПППЕ
II
против брата их Лотаря, причем Людовик, чтобы быть понятым фран-
цузскими баронами, произнес перед ними эту клятву на французском
языке, а Карл произнес ее перед германскими на немецком. Знаменательно,
что французская редакция этого текста является древнейшим дошедшим
до нас памятником французского языка. Вскоре после создания самостоя-
тельного Французского государства процесс сложения феодальных отноше-
ний завершается. В 877 г. первый король политически обособившейся Фран-
ции, Карл Лысый, постановляет: «Каждый свободный человек в нашем го-
сударстве должен признать над собой сеньера, кого захочет, в нашем лице
или в лице наших вассалов». В результате всего этого в X—XI вв.
мы находим во Франции уже вполне оформленную феодальную иерархию
подчиненных друг другу поместий-государств, почти независимых от цен-
тральной власти и покоящихся на широкой базе эксплоатируемого путем
внеэкономического принуждения крепостного крестьянства.
Эта феодальная структура общества, порождаемые ею общественные
проблемы и противоречия определяют и основную тематику и главные
формы возникающей в IX—X вв. французской литературы. Но для пра-
вильного понимания ее развития необходимо учесть роль двух крупнейших
факторов, оказавших огромное влияние на ход всего литературного про-
цесса. Эти факторы — христианство и античная культура.
Галлия была христианизирована, главным образом, во II—III вв.
В III в. церковь ее вполне сформировалась, и в IV в. в ней насчитывалось
уже 34 епископа. Как и всюду на континенте в эту пору всеобщей разрухи
и анархии, церковь в Галлии являлась огромной международной поли-
тической и культурной силой. Обладая строгой иерархией и твердо уста-
новленной доктриной, она располагала могущественными средствами про-
паганды и все время расширяла свое влияние. Большим преимуществом
католической церкви было то, что в эту эпоху чрезвычайной языковой и
диалектальной пестроты, сильно мешавшей культурным связям не только
между разными странами, но и между областями одного и того же госу-
дарства, духовенство обладало единым международным языком, официаль-
ным и обиходным, — латынью, которую оно объявило «священным» язы-
ком, т. е. языком религиозных текстов, церковной письменности и бого-
служения. Прелаты были ближайшими советниками и министрами коро-
лей и князей, нуждавшихся в них, как в лицах, способных дать идеоло-
гическое обоснование их власти. Этому вполне соответствовала огромная
экономическая сила духовенства, получившаяся в результате бесконечных
земельных дарений. Бывали моменты, когда в руках церкви сосредоточи-
валось до '/з всей земельной собственности. Церковь обладала своей осо-
бой юрисдикцией, своим особым каноническим правом и, образуя нечто
вроде «государства в государстве», не признавала власти над собой и
своими «подданными» светского суда, хотя сама старалась всячески влиять
на него.
На протяжении всего раннего средневековья католическая церковь
выдвигает идею теократии, т. е. притязает иа высшее руководство го-
сударством. В основу этой доктрины легло рассуждение одного из видней-
ших «отцов церкви»—Августина (IV—V вв.), изложенное им в трактате
«О граде божием» («De civitate Dei»). По мнению Августина, существует
два государства — государство «земное», основанное на внешней власти,
заботах о мирских делах и т. п., и государство «божие», представляющее
собою духовную общину всех людей верующих и живущих праведно. Вто-
рое должно быть нормой и образцом для первого. Конечным выводом из
12
РАНIIКГ ГРГДНКПГ.КОВЬЕ
этого являлось, очевидно, требование передачи в^ей власти «духовным па-
стырям».
Безусловно, в разные периоды средневековья культурный и нрав-
ственный уровень духовенства был весьма неодинаков, и очень часто
должно было бросаться в глаза резкое несоответствие между претензиями
духовенства на духовное руководство и его собственным невежеством,
развращенностью и грубостью. Нередко поэтому как духовными, так и
светскими властителями (поскольку последние были заинтересованы
в укреплении своей «идеологической базы») делались усилия к подня-
тию образованности и нравственности духовенства.
Обеспокоенный недостаточной грамотностью священников, Карл Вели-
кий велел создать, где только возможно, епископские школы. Еще более
значительно клюнийское движение в XI в. Аббаты монастыря Клюни
(в Бургундии) остро поставили вопрос об очищении нравов духовенства
с целью поднятия его морального престижа — о действительном установ-
лении безбрачия духовенства, об уничтожении симонии (скрытой продажи
церковных должностей) и т. п. Авторитет клюнийских аббатов в XI в.
стоял необыкновенно высоко, и они являлись ближайшими советниками не
только французских, но и некоторых иноземных правителей, в значитель-
ной степени направляя их политику.
Несмотря на все эти колебания в общем состоянии духовенства и на
частые случаи его резкого культурного упадка, все же на протяжении
почти всего раннего средневековья и во всяком случае до XIII в. церковь
обладала монополией образованности. Энгельс говорит: «Средневековье
развилось из совершенно примитивного состояния. Оно стерло с лица
земли древнюю цивилизацию, древнюю философию, политику и юриспру-
денцию, и начало во всем с самого начала. Единственное, что средневе-
ковье взяло от погибшего древнего мира, было христианство и несколько
полуразрушенных, утерявших всю свою прежнюю цивилизацию городов.
Следствием этого было то, что, как это бывает на всех ранних ступенях
развития, монополию на интеллектуальное образование получили попы и
что само образование приняло преимущественно богословский характер». '
Единственными питомниками образования долгое время оставались
монастырские и епископские школы, в которых обучались почти исключи-
тельно лица, предназначавшие себя к духовному званию. Круг знаний, ко-
торый преподавался в них, был чрезвычайно ограничен. В V—VI вв. был
окончательно установлен состав дисциплин, которые церковь считала не-
обходимыми для своих целей. Это были два цикла — т р и в и й, состоявший
из грамматики, риторики и диалектики (так называлась в те времена
формальная логика), и квадривий — геометрия, арифметика, астроно-
мия и музыка. Однако назначение этих наук было очень специальное. Гео-
метрия включала в себя элементарные знания о фигурах и чертежах, не-
обходимые для «возведения храмов», арифметика и астрономия в первую
очередь обучали способам исчисления дней церковных праздников, музыка
сводилась к уменью петь или сочинять церковные гимны. Но еще суще-
ственнее этого практического ограничения преподаваемых сведений — та об-
щая тенденция, которая вкладывалась в преподавание. Выше всякого зна-
ния ставились «богооткровенные истины», авторитет «священного писа-
ния» и «отцов церкви». Свободное исследование, разум, опыт — отрица-
1 Крестьянская война в Германии. К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. VIII,
стр. 123.
ПНЕДЕНИЕ
15
лись, как опасный соблазн, путь к заблуждению. Философия объявлялась
«служанкой богословия» («philosophia ancilla theologiae»), и если церков-
ное учение оказывалось в противоречии с фактами, то факты без коле-
бания отвергались, как иллюзия, как выражение «низшей реальности»,
которой противопоставлялся мир «высшей реальности», иррациональный
мир чудес и благодати. Считалось, что следует именно верить в то,
чего разум «не вмещает».
Энгельс говорит: «В руках попов политика и юриспруденция, как
и все остальные науки, превратились в простые отрасли богословия, и в
основу их были положены те же принципы, которые господствовали
и в нем. Догматы церкви были одновременно и политическими аксиомами,
а библейские тексты имели во всяком суде силу закона. Даже тогда, когда
образовалось особое сословие юристов, юриспруденция еще долгое время
оставалась под опекой богословия. Это верховное господство богословия
во всех областях умственной деятельности было в то же время необходи-
мым следствием того, что церковь являлась наивысшим обобщением и
санкцией существующего феодального строя». '
Уже древнейшие «отцы церкви» — Тертуллиан (II в.), Иероним
(IV в.), Августин (IV—V вв.), односторонне толкуя первоначальное хри-
стианское учение, разработали аскетическую доктрину равнодушия
к мирским благам и покорности всякой земной власти, поскольку земное
существование, согласно этой доктрине, ничтожно по сравнению с вечной,
загробной жизнью. При этом утверждалось, что, чем больше человек без-
ропотно страдает в этой жизни, тем больше у него шансов получить веч-
ное блаженство после смерти. Ясно, насколько аристократической вер-
хушке общества было выгодно это учение, прививавшее народным масса*»
слепую покорность и удерживавшее их от восстаний.
Однако на ряду с этим учением, господствовавшим в средневековой
церкви, развивалась и другая доктрина, противоположная аскетической и
отвечавшая уравнительным устремлениям всех угнетенных и обездоленных.
Согласно этой доктрине, созвучной неоплатоническим идеям и редко нахо-
дившей прямое выражение в письменных памятниках и документах, но
жившей преимущественно в народной устной традиции, каждое явление
природы есть самораскрытие божества, и каждый человек есть «член тела
Христова»; отсюда следует, что весь материальный мир оправдан и что в
каждом человеке заключается нечто «священное», делающее последнего
бедняка в известном смысле равным королю. Мы находим некоторый на-
мек на подобные мысли в сочинениях ученого ирландца, Иоанна Скотта
Эриугены, жившего в середине IX в. при дворе Карла Лысого. Эриугена,
утверждая в некотором смысле тождество «творца» и «творения», был
чрезвычайно близок к пантеизму. Он учил также о превосходстве разума
над авторитетом. Эриугена избежал гонений только потому, что его пи-
сания не обратили на себя достаточного внимания, но гораздо позже, в
XIII в., когда они были использованы еретиками, папа Гонорий III велел
их сжечь (1225).
Вообще же говоря, эта вторая доктрина постоянно оживает в урав-
нительных ересях средневековья, в религиозной оболочке ведущих борьбу
с феодальным укладом. Ибо, как указывает Энгельс, «при этих условиях
всеобщие нападки на феодализм, и прежде всего нападки на церковь, все
революционные, социальные и политические учения должны были пред-
ставлять из себя одновременно и богословские ереси. Для того, чтобы
1 Там же-
14
PAHIIFF. СРЕДНКПЕКОИЬЕ
возможно было нападать на общественные отношения, с них нужно было
совлечь покров гвятости».'
На начальное развитие французской литературы католическая цер-
ковь оказала огромное влияние. Целый ряд весьма популярных в ран-
нюю эпоху литературных жанров — гимны, духовные стихи, жития святых,
парафразы Библии и т. п. — церховного происхождения. Внутри церкви
зародилась «официальная» средневековая драма. Ранняя историография и
различного рода дидактика в значительной степени следуют монастырско-
латинским образцам. Христианская легенда ввела в обиход французской
поэзии огромный международный фонд всякого рода сказаний и мотивов
новеллистического характера. Но еще существеннее этих частных и кон-
кретных воздействий то общее влияние религиозного мышления, которое
проявлялось в жанрах, по своему характеру вовсе не религиозных, напри-
мер, религиозная тематика в героическом эпосе или мистическая концеп-
ция любви в рыцарской лирике. Точно также католическое учение о «двух
реальностях», из которых земная якобы является лишь слабым отраже-
нием или подобием небесной, лежит в основе распространенного в средне-
вековой поэзии аллегорического или символического изоб-
ражения действительности.
Несмотря на все это, никак не следует преувеличивать роль церков-
ного или религиозного элемента в средневековой французской литературе.
Мировоззрение средневековых людей отнюдь не было сплошь окрашено
аскетическим настроением и мыслями о потустороннем. Тот же самый
дуализм мысли и чувства, который был отмечен выше, позволял совме-
щать с церковной догмой страстную жажду жизни и любовь к реальной
действительности. Подобно тому как в мышлении широких слоев населе-
ния наблюдалось двоеверие, т. е. примесь к христианскому исповеда-
нию старых народно-языческих верований, так и в чувстве людей того
времени с искренней религиозностью уживалось самое непосредственное и
чувственное отношение к жизни. Вот почему средневековая литература,
несмотря на нередкие в ней мрачные мистические тона, в целом отнюдь
не окутана черным флером и полна ярких красок и жизнерадостности.
Другим крупным фактором, оказавшим значительное влияние на сред-
невековую литературу, хотя и не столь постоянное, а более или менее спо-
радическое, является античность. Германское завоевание на первых порах
уничтожило из античного наследия все, что можно было уничтожить. Но
почти немедленно началось собирание остатков разрушенного, как образ-
цов и материала для создания новой культуры. Латинский язык был при-
нят как язык государственных актов и высшей администрации, и устное
обычное право франков (как и других германских племен) кодифицирова-
лось на латинском языке. В латинских хрониках Григория Турского
(VI в.), Фредегария (VII в.) и др. запечатлены деяния франкских коро-
лей, как и вообще история меровингской Галлии.
Несмотря на враждебность церкви к античной языческой культуре,
ей пришлось выступить в роли хранительницы и пропагандистки антич-
ного наследия. Сначала римские авторы (греческие до самого Ренессанса
во Франции оставались в подлиннике неизвестными) включались в школь-
ное преподавание очень неохотно. Раньше других был допущен Вергилий,
который, в результате фантастического толкования его 4-й эклоги, как
предсказания о пришествии мессии, был объявлен «христианином до
Христа». Вскоре круг разрешенных писателей пришлось расширить, так
1 Там же.
ВВЕДЕНИЕ
13
как древность являлась в ту пору единственным источником знаний. Та-
ким образом уже Августин указывал на необходимость изучения языче-
ской литературы и науки. Однако древнеримские авторы соответствующим
образом цензуровались и обрабатывались с целью парализовать их воз-
можное вредное влияние. Предпочитали пользоваться компендиями, вы-
борками, пересказами, комментариями, а не цельными, оригинальными тек-
стами. Уже Иероним, Августин и др. занимались таким «согласованием»
древних авторов с «истинами» христианского учения. В средневековой
школе такой способ изучения античности применялся тем успешнее, что
до XV в., по крайней мере, усваивались отдельные сентенции, сведения,
вырванные из контекста, и произвольно перетолкованные мотивы и об-
разы, самое большее — готовые поэтические сюжеты, оторванные от их
подлинного идейного содержания, от породившего их мироощущения,
слишком далекого и непонятного средневековым людям.
Попытку более глубокого освоения античности после двух веков пол-
нейшего упадка образованности (VI—VII вв.) представляет собой при-
дворная академия Карла Великого, в которой сам Карл, англо-сакс Ал-
куин, лангобард Павел Диакон, франк Эгинхард и несколько других при-
влеченных Карлом ученых различных национальностей писали метриче-
ские латинские стихи в подражание римским поэтам классического
периода. Но деятельность этого аристократического кружка — лишь обосо-
бленный эпизод, не имевший значения для развития литературы и образован-
ности во Франции. Это культурный момент особого порядка, фиксирую-
щий отделение романского (французского) языка от латинского, зачи-
нающейся в эту пору ритмико-силлабической романской поэзии от класси-
чески-латинской, метрической.
Несмотря на крайне ограниченное понимание античности в средние
века, к ней беспрерывно обращались за всякого рода знаниями. Еще в
XIII—XIV вв. переводили трактаты Вегеция по военному искусству, Ко-
лумеллы по земледелию и т. п. Богословская мысль использовала схемы
философии Аристотеля и Платона, долгое время известной лишь фрагмен-
тарно, в искажающих иногда пересказах.
Прямое влияние античности на средневековую французскую литера-
туру довольно значительно. Можно найти отклики знакомства с Овидием
в ранней рыцарской лирике. В преддверии рыцарского романа и новеллы
стоят обработки сказаний об Александре Македонском, об Эдипе, «Эне-
иды» Вергилия. Полна античных реминисценций вся дидактика, и отго-
лоски античности можно найти почти во всех остальных литературных
жанрах.
Христианство и античность — два момента, существенно окрашиваю-
щие раннесредневековую французскую литературу, но, конечно, не опреде-
ляющие ее общего характера и содержания, обусловленного основными
линиями общественного развития Франции, развертывающейся в ней
классовой борьбы.
В X—XI вв., т. е. в ту пору, когда отчетливо обозначаются важней-
шие литературные формы и появляются первые дошедшие до нас па-
мятники, феодальное общество Франции распадается на два основных
антагонистических класса: 1 ) феодальных землевладельцев (состоящих из
военно-служилой знати и духовенства) и 2) крепостного или феодально-за-
висимого крестьянства.
О напряженной борьбе между ними достаточно говорят многочислен-
ные народные восстания, засвидетельствованные начиная с конца X в.,
16
РАППЕЕСРЕДПЕВЕКОВЬЕ
подавлявшиеся с невероятной жестокостью, но все снова и снова вспыхи-
вавшие.
С огромной силой проявил себя народный гений и в поэтическом твор-
честве. Будучи привилегированным классом, разделяя общественную и
культурную гегемонию с духовенством, рыцарство тем не менее оказалось
неспособным обойтись в области художественного творчества без помощи
народной поэзии, которая лежит в основе развития всей средневековой
французской литературы. Рыцарская лирика восходит к народной песне,
а рыцарский роман и новелла широко используют фольклорный материал.
С другой стороны, несомненна народная основа героического эпоса, как и
наиболее значительных явлений городской литературы (фаблио, роман
о Ренаре, фарсы и т. п.).
С этими народными истоками средневековой французской литературы,
так же как и с некоторыми бытовыми моментами эпохи, находятся в связи
условия существования, внешние свойства и признаки поэзии по крайней
мере до конца XIII в.
Прежде всего это касается главных носителей, а отчасти и созидате-
лей литературы с X по XIII вв. Таковыми являлись во Франции жонг-
леры, чрезвычайно похожие на старых русских скоморохов и у нем-
цев находящие точную аналогию в лице шпильманов. Институт этот
довольно сложного происхождения. В императорском Риме существовали
распространившиеся постепенно во всех провинциях Римской империи осо-
бого рода бродячие актеры, называвшиеся мимами или гистриона-
м и (mimus, histrio), которые соединяли разыгрывание неприхотливых на-
родных фарсов с иного рода забавами — ряженьем, показом дрессированных
животных, всякого рода паясничаньем. Эти мимы действовали в большом
количестве и в Галлии в галло-римский и франкский периоды, принимая
участие в народных праздниках, а также появляясь при дворах князей.
В то же время, на ряду с этими захожими профессионалами, в Галлии су-
ществовали местные «люди искусства» в лице, во-первых, дружинных
певцов, во-вторых, потешников, декламаторов и певцов из народа — наи-
более одаренных любителей, достигших известного мастерства в своем
деле. С течением времени римские мимы растворились в среде местных
«искусников», со своей стороны привив им целый ряд своих профессио-
нальных навыков и «секретов мастерства».
Таким путем около X в. сформировался во Франции институт жонг-
леров (jongleur, от лат. ioculator — «игрец, потешник»), функции и репер-
туар которых в начале были очень обширны. С одной стороны, жонглеры
водили с собой медведей и обезьян, ходили по канату и проделывали раз-
ные фокусы и акробатические номера, рассказывали анекдоты и разы-
грывали небольшие балаганные сценки; с другой стороны, они распевали,
аккомпанируя себе на виоле (прототип позднейшей скрипки) или малень-
кой арфе, героические поэмы и духовные стихи, вероятно также народные
песни, а впоследствии, с XII в., ко всему этому присоединилась рецита-
ция разнообразнейших жанров рыцарской и городской литературы.
Вначале все эти функции совмещались в лице одних и тех же жонг-
леров. Но около XI в. намечается разделение их на две категории: потеш-
ников и исполнителей высоких литературных жанров — эпоса и духовных
стихов. Аскетически настроенная церковь относилась к первой категории
жонглеров чрезвычайно враждебно, не допуская их к причастию, отказы-
вая им в христианском погребении и т. п. Также и светские власти под-
вергали их гонениям, иногда лишали их права наследования и почти ставя
ВВЕДЕНИЕ
17
Жонглеры.
Миниатюры ив рукописей XII—XIII вв.
их вне закона. Напротив, к жонглерам (второй категории духовная и свет-
ская власть проявляла довольно большую терпимость.
Жонглеры пользовались во всех кругах средневекового общества
огромной популярностью. Они странствовали по людным проезжим доро-
гам, заходя во все замки, села и города. Они были собирателями и разнос-
чиками всех новостей, «ходячей хроникой» своего времени, в некотором
роде публицистами, откликавшимися на все актуальное, злободневное. Без
жонглеров не обходилось ни одно придворное торжество, ни одна ярмарка,
ни один церковный или народный праздник. На турнирах или другого рода
больших празднествах они насчитывались десятками и сотнями. Щедрость
по отношению к жонглеру считалась украшением рыцаря. Если простой люд
награждал жонглеров медными монетками, то бароны, князья, прелаты бро-
сали им пригоршни червонцев или дарили меховой плащ со своего плеча.
Тем не менее, главным адресатом жонглеров был народ, с которым они
чаще всего общались и для которого, в первую очередь, было предназна-
чено их всякому доступное, в - полном смысле слова, народное искус-
ство.
2 История французской литературы—S15
18
РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
Как общее правило, особенно до XII в., жонглеры были неграмотны
и со слуха заучивали исполняемые ими произведения наизусть. Лишь
впоследствии, когда репертуар их чрезвычайно расширился и среди них
стали появляться грамотеи, начали возникать маленького формата руко-"
писные сборники, содержавшие репертуар того или другого жонглера.
Они играли роль, однако, лишь карманного «суфлера», подкреплявшего,
в случае надобности, ослабевшую память исполнителя, который читал или
распевал свои поэмы наизусть. Во многих случаях жонглеры, даже не-
грамотные, бывали авторами исполнявшихся ими произведений или, по
крайней мере, тех вариантов, которые они в них вносили.
Это последнее обстоятельство является ключом к пониманию самой
сущности той «жонглерской» поэзии, которая гоаподствовала во Франции
в течение трех с лишним веков, образуя древнейший этап французской
литературы и основную базу для всего дальнейшего ее развития.
Прежде всего, вся эта литература в соответствии с ее происхождением
из народной песни, лирической или эпичеакой, имеет стиховую и притом
напевную форму. Но еще существеннее то особенное отношение к ней со
стороны авторов, исполнителей и слушателей, которое может быть названо
«фольклорной» трактовкой ее. Каждое произведение воспринимается как
нечто традиционное и коллективное, как продукт целого ряда, может быть
даже нескольких поколений певцов или рассказчиков, ставший как бы
общим достоянием, в обработке которого каждый следующий поэт-испол-
нитель вправе также принять участие. При таких условиях вопрос об ори-
гинальности сюжета, о личном авторстве, об индивидуальном стиле вовсе
отпадает или отступает на задний план. Главная задача поэта-исполнителя
(двоякая функция, совмещающаяся в лице жонглера, как преемника народ-
ного певца) — дать нечто «подлинное», традиционное, отвечающее запро-
сам, утвержденным и проверенным массовым, коллективным слушателем, еще
лучше того — несколькими поколениями таких слушателей. Хорошо из-
вестный сюжет, старинный напев, образ или мотив — лучшая рекомендация
всякому «жонглерскому» произведению. Но, как и во всяком фольклорном
творчестве, это далеко не означает стремления к механическому воспроиз-
ведению старого; напротив, отзывчивые к живой современности, жонглеры
пользуются старой основой для введения в нее новотворчества, новых ори-
гинальных вариантов — этого первейшего признака всякой народной по-
эзии. Конечно, обилие сюжетных, стилистических и иного рода творческих
вариантов в дошедших до нас произведениях объясняется тем, что до за-
писи они долгое время бытовали в устной традиции. Но и после того, как
появились первые записи — главным образом в XII и особенно в XIII в., —
внесение вариантов не прекратилось: эту функцию приняли на себя пе-
реписчики или лица, им диктовавшие, что свидетельствует о продолжаю-
щейся еще «фольклорной» или «традициональной» трактовке литературных
произведений. Несомненно, что немалая доля разночтений, которые мы
находим в рукописях этого времени, происходит не от неряшливости пере-
писчиков, а от продолжающегося новотворчества и «соавторства» задним
числом.
Необходимо еще заметить, что продолжительная устная жизнь народ-
ной или полународной жонглерской поэзии, — которую клирики, почтет
единственные до XII—XIII вв. грамотеи, не считали заслуживающей за-
писи, — привела к массовой гибели старых произведений или более ран-
них редакций дошедших до нас поэм. На основании разных соображений
было, например, подсчитано, что сохранилось не более одной десятой всех
существовавших фаблио, и примерно то же самое можно предположить-
ВВЕДЕНИЕ
19
относительно всех остальных литературных жанров. Только путем рекон-
струкций и теоретических соображений мы можем составить себе хотя бы
приблизительное представление о всем богатстве и разнообразии ранне-
средневековой французской литературы.
Вырастающая на ряду с «жонглерской» литературой и одновременно
с нею (IX—XII вв.) клерикальная литература, так же как и возникаю-
щая немного позднее (XII—XIII вв.) рыцарская поэзия, образуют в
эту эпоху лишь небольшую струю, питавшую очень ограниченный, приви-
легированный круг читателей. По сравнению с ними жонглерская литера-
тура представляет собою целое море поэзии, заливающее всю Францию,
доступное всему ее населению — как народным массам, так и привиле-
гированным кругам общества, разносящее из одного конца страны в дру-
гой образы, сюжеты, идеи огромного, общенационального значения и в
довершение всего питающее собой эту самую клерикальную и рыцарскую
поэзию.
Значение народной поэзии, вопреки всякой очевидности, упорно отри-
цается многими новейшими западными литературоведами, в особенности
школой современных французских медиевистов возглавлявшейся недавно
умершим профессором Collège de France, Ж. Бедье (J. Bédier, 1864—
1938). Общим для ученых этого антидемократического направления
является стремление вывести все без исключения явления средне-
вековой поэзии из античных или церковно-латинских источников,
изобразить поэтическое творчество, как дело, к которому способны
исключительно- лица школьно-образованные, как продукт исключительно
ученой традиции. Любопытно, что в новейшем компендиуме французской
литературы, «Histoire de la littérature française illustrée» под общей ре-
дакцией J. Bédier и P. Hazard (2 тт., 1923—1924), где отдел средневековой
литературы написан Э. Фаралем, Л. Фуле и Ж. Бедье, самое упоминание
«народной поэзии» и самое слово «народный» почти вовсе не встреча-
ются. Для представителей этой школы, как последовательных позитиви-
стов, очень характерно стремление отрицать существование всех тех лите-
ратурных явлений, которые документально, эмпирически не засвидетель-
ствованы, а также уподоблять средневековых поэтов (и даже жонглеров)
некоторым современным буржуазным писателям в полном пренебрежении
к историческим условиям и мировоззрению средневековья, приписывая
этим старым поэтам не только полностью «личное авторское самосозна-
ние», но и индивидуализм, меркантильные соображения и тому подобные
черты, характерные для буржуазных литераторов конца XIX и начала
XX в. Подобного рода антидемократические концепции искажают под-
линную историческую перспективу развития средневековой литературы.
Говоря о средневековой французской литературе, необходимо в точ-
ности уяснить ее объем, учитывая территориальный и языковый моменты.
Прежде всего необходимо выключить из нее Бретань, которая была в VI в.
занята бежавшими под натиском англо-саксов кельтами Корнуола и
Уэльса. Организовавшись как самостоятельное герцогство с национальным
бретонским (кельтским) языком, она плохо поддавалась францизацпи и была
присоединена к королевству Франции лишь в XVI в. Кроме того, не яв-
ляется областью французского языка и литературы весь юг Франции, так
называемый Прованс (в широком понимании этого термина), поскольку до
XVIII в., а частично и дольше, он сохранял свою политическую незави-
симость, являясь: областью провансальского языка, отличающегося
от французского приблизительно в такой же мере, в какой украинский
20 PATI НЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
Битва при Гастингсе 1066 г.
Шпалера иа Байе (XI или начала XII в.).
язык отличается от русского. ' По этой причине можно было бы рассма-
тривать средневековую провансальскую литературу обособленно. Однако,
в виду тесной культурной связи обеих стран, развивающихся весьма сход-
ным образом, мы включаем в наш обзор также и крупнейшие явления про-
Еансальской литературы. Что касается Нормандии, захваченной в начале
X в. норманнами (датчанами) и затем уступленной им по договору 911 г.
Карлом Простоватым, то здесь завоеватели так быстро романизирова-
лись, что уже в третьем поколении забыли свой язык, и Нормандия в
культурном отношении стала одною из коренных и литературно чрезвы-
чайно активных провинций Франции.
С другой стороны, область французского языка и литературы выхо-
дила за пределы Франции. В 1066 г. нормандский герцог Вильгельм II
(впоследствии прозванный Вильгельмам Завоевателем), в войске кото-
рого было много выходцев из Фландрии, Анжу и т. п., вторгся в Англию
и одержал при Гастингсе решительную победу, отдавшую ему во власть
всю страну. После этото среди английской военно-помещичьей аристокра-
тии получили преобладание бароны французского происхождения, и на
целых три столетия французский язык (так называемый англо-нор-
мандский диалект его) стал языком двора, аристократии, судопроизвод-
ства и высшей администрации. Основная масса населения сохранила англо-
саксонский язык и культивировала национальную литературу на нем, но
среди высших классов, состоявших главным образом из потомков выходцев
из Франции, развилась клерикальная и рыцарская литература, вполне по-
добная французской. Политические связи между обеими странами усили-
вали беспрерывный культурный обмен между ними, в результате которого
литературные связи стали столь тесными, что иногда, имея две версии
одной и той же поэмы — англо-нормандскую и французскую,—мы не в со-
стоянии бываем решить, какая из них основная и какая производная.
Само собой понятно, что англо-нормандская литература включена нами
в данный обзор.
Необходимо добавить, что французская поэзия, развивавшаяся на
континенте, имеет также диалектальный характер. Эпоха феодальной раз-
дробленности есть эпоха господства диалектов. Поэты различных областей
1 Граница провансальского и французского языков начинается на западе от Жи-
ронды (устья Гаронны) и описывает дугу, сначала поднимающуюся к северу, затек
опускающуюся к югу. Главные географические пункты этой линии: Бордо—Люссак—
Монлюссон — южная часть департамента Изеры.
ВВЕДЕНИЕ
21
Битва при Гастингсе 1066 г.
Шпалера иг Байе (XI или начала XII в.)-
Франции до XIII в., а иногда и позже, сочиняют обычно на своих род-
ных наречиях, которые воспринимаются ими как особые языки. В эпиче-
ской поэме XIII, в. «Айоль и Мирабель» («Aiol et Mirabel») про героиню
говорится: «Она знала по меньшей мере четырнадцать языков; она умела
говорить по-гречески и по-армянски, по-фламандски,' по-бургундски
и по-сарацински, по-пуатевински и по-гасконск и». Фактически,
однако, различия между французскими диалектами были не столь велики,
чтобы препятствовать взаимному пониманию лиц, говоривших на них.
Лучшее доказательство — дальние скитания многих жонглеров, всюду на-
ходивших удовлетворявшихся их рецитацией слушателей. К тому же в
поэтическом творчестве уже с XII/ в. обнаруживается тенденция к уста-
новлению единого литературного языка, в основу которого кладется на-
речие Иль-де-Франса, т. е. Парижа и его области (из которого впослед-
ствии разовьется общефранцузский национальный язык) и очень близ-
кий к нему нормандский диалект.
Поскольку Франция «а протяжении всего раннего средневековья пред-
ставляла классическую форму феодализма, являясь в культурном отношении
самой передовой страной в Европе, ее язык и литература были широко рас-
пространены за ее пределами. Поэт XIII в. Адене Ле-Руа (Adenet le Roi)
в своей эпической поэме «Берта Большеногая» («Berthe aux grands pieds»),
рассказывая о временах отца Карла Великого, но, конечно, перенося в древ-
ность современные ему нравы, говорит: «В немецкой земле существовал
обычай, что все вельможи, графы и маркизы держали при себе французов,
чтобы те обучали французскому языку их сыновей и дочерей. Поэтому
король, королева и светлоликая Берта знали французский язык, на ко-
тором говорят в Париже, почти так же хорошо, как если бы они родились
в Сен-Дени». Французские жонглеры занесли в Северную Италию и Ис-
панию французский героический эпос, точно так же, как провансальские
трубадуры распространили в этих странах знакомство со своей лирикой.
Наиболее значительные французские литературные жанры вызывали пере-
воды и подражания у всех народов Западной Европы, развивав-
шихся аналогичными с Францией путями, но с некоторым запозданием
Особенно отчетлива литературная гегемония Франции в XII—XIII вв.,
т. е. в пору наибольшего творческого расцвета рыцарской и городской
литературы.
Периодизация раннесредневежовой французской литературы опреде-
ляется ходом общего исторического развития Франции этого времени. По-
22
РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
воротным моментом является расцвет в XIII в. городов, как новой обще-
ственно-политической силы, получающей в скором времени преобладающее
значение. До этого момента борьба в основном ведется между земельным
дворянством или рыцарством и крестьянами, иначе говоря народными
массами. Между ними в культурном плане как бы особняком стоит духо-
венство, которое в общественно-политическом отношении примыкает, со-
гласно своему внутреннему расслоению, к двум вышеназванным силам,
именно: крупное и среднее духовенство — к рыцарству, низшее — к на-
родным массам. Обладая монополией грамотности и школьной образован-
ности, духовенство разрабатывает наиболее раннюю на французском языке
письменную литературу, имеющую более или менее «ученый» характер.
В результате этого, до XIII в. мы имеем три самостоятельных, хотя
и перекрещивающихся между собою литературных потока, зарождающихся
в определенной последовательности. Первый из них, основной и первичный,
питающий собою оба остальных — народная поэзия. Второй —- воз-
никающий немного позднее, но все же очень рано — литература кле-
рикальная. Третий, наиболее поздний из всех — вырастающая лишь
в XII в. на основе не только народной, но и клерикальной литературы
поэзия рыцарская.
Подъем) городов в XIII в. существенно меняет картину. В связи с из-
менением культурных' условий клерикальная литература теряет свою обо-
собленность и вливается в литературу городскую как органическая часть
ее. Рыцарская литература продолжает самостоятельное существование, но
быстро приобретает эпигонский характер, в своих наиболее жизненных
проявлениях проникаясь городскими веяниями, вследствие чего ее удобнее
рассматривать также совместно с городской литературой.
Что касается народной поэзии, то она и здесь оказывается тем кор-
нем, из которого вырастают наиболее значительные явления литературы,
однако в специфических условиях городского развития она облекается
в новые, типические для городской поэзии формы, вследствие чего рассма-
тривать ее обособленно от последней было бы очень трудно.
Таким образом, начиная с XIII и до самого конца XV в. наблюдается
большая целостность « единство литературного процесса, в котором пер-
венствующая роль принадлежит городской культуре. Лишь в период Сто-
летней войны (1337—1453) процесс этот нарушается, поскольку в специфи-
ческой военной обстановке временно снова всплывают аристократические
тенденции. Однако во второй половине XV в. равновесие восстанавливается,
и в условиях тесного сплочения трансформированной рыцарской и созре-
вающей буржуазной идеологии происходит подготовка Ренессанса,
ОТДЕЛ I
НАРОДНАЯ ПОЭЗИЯ
И ЕЕ ОТРАЖЕНИЯ
В ПИСЬМЕННЫХ ПАМЯТНИКАХ
(IX—XII вв.)
I
ародная поэзия, являющаяся основным источником я
предпосылкой всей средневековой французской литера-
туры, в своем чистом и непосредственном виде до нас не
дошла, так как клирики, относившиеся к ней враждебно,
не считали ее достойною записи.
Аишь в XV в., накануне Ренессанса, в связи с
распространением искусства письма (гораздо более ред-
кого в те времена, чем уменье читать) в светских, и
притом даже демократических кругах, появляются пер-
вые записи народных песен. Мы все же можем соста-
вить себе известное представление о первоначальном характере народной
поэзии и о ранних этапах ее развития на почве Галлии по упоминаниям
о ней в документах эпохи (в латинских хрониках, постановлениях свет-
ских и духовных властей, церковных проповедях и т. п.), по отражениям
и переработкам ее в возникших на ее основе, письменно закрепленных
литературных жанрах, по ее пережиткам в современном французском фоль-
клоре, наконец на основании аналогий с фольклором современных куль-
турно отсталых народов, переживающих соответствующие ступени обще-
ственного развития.
На основе широкого использования сравнительного фольклорного и
исторического материала великий русский ученый А. Н. Веселовекий
в конце XIX в. построил теорию первобытного синкретизма,
которая и сейчас представляется наиболее вероятной и убедительной, Со-
гласно этой теории, в начале всякого поэтического развития элементы
лирики, эпоса и драмы существуют в слитном, еще не обособленном виде.
Первичной формой народной поэзии является реакция на внешние впечат-
ления в виде словесной импровизации, в которой рассказ тесно сплетается
с выражением чувств. Эта импровизация ритмически распевается, иногда
под аккомпанемент какого-нибудь примитивного инструмента, и сопрово-
ждается мимикой и телодвижениями^ которые в развернутом виде пере-
ходят в танец или драматическую игру. Первоначально наиболее устойчи-
выми и организующими элементами этого художественного действия яв-
ляются ритм и напев, а сам текст играет второстепенную роль, сводясь-
к ряду отрывистых, сильно эмоциальных восклицаний, из которой впо-
следствии разовьется «припев» хороводной песни. Твердое содержание
«G
РАПНЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
тексту, как и всему описанному синкретическому действу, дает обряд, вос-
производящий различные моменты общественной жизни в связи с маги-
ческой верой в то, что символическое воспроизведение желаемого (успех
на охоте, победа над врагами, хороший урожай и т. от.) способствует его
достижению. Соответственно этому, исполнение синкретического действа
является не индивидуальным, а коллективным (хороводным), и в нем
участвует вся заинтересованная в успехе предприятия община.
Видное место в народном обряде занимают календарные песенно-
игровые действа, отмечающие повторные моменты в жизни природы, на-
пример наступление весны. С.последним моментом тесно связана эротиче-
ская тематика первобытной поэзии, поскольку половой акт символизиро-
вал плодородие земли и должен был якобы способствовать урожаю.
Огромную роль играют также трудовые песни, возникшие из звуков,
ритмически сопровождающих и регулирующих работу, особенно произво-
димую коллективно. Однако в обряде трудовая песня освобождается от
своей узко утилитарной, технической функции и наполняется идеологиче-
ским содержанием, делающим возможным ее дальнейшее художественное
развитие.
Первобытный синкретизм типичен для патриархально-родового строя
в период его полного расцвета. Вместе с началом его разложения и по-
явлением социальной дифференциации в первобытном обществе, приво-
дящей к выделению личности из родового коллектива, происходит и раз-
ложение синкретизма. Песня постепенно отделяется от обряда, и начи-
нается дифференциация поэтических жанров. Вместе с тем запевала хора,
играющий роль лишь вожака коллективного действа, превращается в про-
фессионального певца и поэта, намечается понятие личного творчества,
хотя и подчиненного коллективно-поэтическим нормам, возникает взгляд
на поэзию как на искусство.
Из синкретического действа последовательно выделяются: сначала —
лирико-эпическая песня, с содержанием, заимствованным из мифа или
легендарного исторического предания, затем — собственно лирическая песня,
хоровая или сольная, и позже всего — драма народного обрядового или
культового характера. Однако пережитки первобытного синкретизма еще
долго наблюдаются в народной поэзии. До наших дней сохраняется в ней
связь с музыкой. Лирико-эпические песни некоторое время еще сопрово-
ждаются пантомимой или пляской. Еще устойчивее черты синкретизма
в лирике, столь тесно связанной с пляской, музыкой, хоровым началом.
Наконец, в драме синкретизм, можно сказать, до сих пор живет полной
жизнью, хотя и в существенно изменившихся формах.
Не гадая, за отсутствием сколько-нибудь определенных данных, о со-
стоянии народной поэзии на почве Галлии во времена римского завое-
вания, в период галло-римской культуры и в первые века франкского вла-
дычества, можно с уверенностью сказать, что около IX в., в пору пере-
хода к феодальным отношениям, первобытный синкретизм сильно уже
разложился, хотя пережитки его были еще очень яркими. Без сомнения,
героическая лирико-эпическая песня совершенно уже обособилась от своей
обрядово-игровой основы, зато лирика продолжала сохранять с ней глу-
бокие связи. Что касается народной драмы, то в виду сурового преследо-
вания ее со стороны духовенства, она не успела надлежащим образом раз-
виться и оставалась в рудиментарном и аморфном состоянии небольших
«мпровизованных сценок, вскоре освоенных и развитых, не без влияния
традиций античного искусства мимов, профессиональными потешниками-
жонглерами.
НАРОДНАЯ ПОЭЗИЯ
27
Народный танец в провинции Пуату.
Миниатюра иа рукописи XV в.
Начиная с VI и до середины IX в., когда формируется французская
национальность, мы имеем целый ряд свидетельств о существовании
в Галлии очень развитых, разнообразных народных песен и игр. Постано-
вления церковных соборов, приказы епископов, капитулярии каролингских
королей клеймят «дьявольские, постыдные песий, распеваемые в деревнях
женщинами», «позорные забавы и бесстыдные любовные песни», «нече-
стивые женские хоровые песни», всякого рода «бесовские игрища». Эта
ненависть объясняется, бзз сомнения, как обильными пережитками в на-
родной поэзии языческих верований, так и общим вольнолюбивым и жизне-
радостным характером ее, резко противоречившим церковному аскетиче-
скому идеалу. Собранные вместе, эти показания проливают некоторый свет
на тематику и формы древнейшей народной лирики. Мы узнаем из них,
что существовали песни любовные, восхвали тельные, позоря-
щие (первоначально, быть может, заклинательные), заплачки. Если
нет ни одного упоминания о трудовых песнях, то это объясняется, без
сомнения, их «безобидным», с точки зрения духовенства, содержанием.
Много раз подчеркивается хороводный характер этой поэзии, распростра-
ненность ее в деревнях, видная роль женщин в ее исполнении.
Хотя ни один из образцов народной лирики IX—XI вв. до нас не
дошел (не считая единственного осколка ее — провансальского припева,
включенного в одно латинское стихотворение начала XII в.), мы все же
находим многочисленные и довольно прямые отражения ее в позднейшей
поэзии XII—XIII вв. Именно, в больших коллективных сборниках лири-
ческой поэзии, возникших в эту пору, когда сформировался и стал господ-
ствующим условный, куртуазно-рыцарский стиль, мы встречаем несколько
групп стихотворений, резко выделяющихся своей образностью и тематикой
и представляющих собою переработку более старых народных песен.
Большинство этих песен связано с празднованием прихода весны, вос-
певанием обновления природы и развертывающейся на этом фоне сво-
бодной любви. До сих пор в романских странах, как и вообще повсеместно
в Европе, сохранился обычай «празднования мая»: молодые люди с утра
отправляются в лес и приносят оттуда зеленые ветви, которыми украшают
двери и окна домов: это называется «сажать май» (planter le mai)-. Среди
девушек выбирают «майскую королеву», которая становится хозяйкой
праздника, и водят веселые хороводы, воспевая весеннюю радость и любовь.
При этом запевала исполняет весь текст, а остальные поют припев. В этот
день замужние женщины на словах сбрасывают опеку «ревнивцев» — мужей.
28
РЛПИЕЕ СРЕДПЕВЕЕОПЬЕ
а девушки — опеку матерей; те и другие выбирают из среды молодежи
«дружков», с которыми распевают и пляшут, взявшись за руки в хороводе.
Этот старинный народный обряд лежит в основе упомянутых песен,
которые распадаются по своим темам и внешней структуре на несколько
жанровых групп. Одну из них образуют так называемые reverdies (букв,
«зазеленения»), в которых воспевается обновление природы, молодая
зелень^, цветы, пение птиц, и иногда на фоне всего этого — любовные
встречи» Другая группа — песни «несчастной в замужестве» (chansons de
mal mariée). Это — жалоба молодой женщины на злого, ревнивого мужа,
иногда в форме монолога, иногда в виде рассказа, обращенного к подру-
гам или к самому поэту, который подчас выступает в роли нежного уте-
шителя бедняжки. Очень близки к названным жанрам другие виды пля-
совых песен преимущественно любовного содержания, так или иначе
связанных также с весенней обрядностью — баллада (франц. ballade
или ballette, прованс. balada, букв. — «плясовая»), эстам пи (estampie,
с тем же значением), ротруэнжь (rotruenge, слово неясного происхо-
ждения). Сюда же относятся ранние образцы п а с т у р е л и (pastourelle)—
формы, впоследствии широко использованной в рыцарской поэзии, а так-
же древнейшие «прения» (débats), например, те, в которых изображался
«спор зимы с летом», сопровождавшийся обрядовым действом — сожже-
нием чучела зимы. Для всех этих песен чрезвычайно характерен хорошо
изученный А. Н. Веселовским «психологический параллелизм» — пережи-
ток первобытного анимизма, т. е. одушевления природы, проявляющийся
в приравнении или уподоблении явления природы душевному пережива-
нию человека (дуб склоняется к дубу, как парень к девушке, и т. п.).
Добавим еще, что фрагменты старых народных песен можно открыть
в припевах (refrains) позднейших образцов рыцарской лирики, по-
скольку эти припевы, нисколько не связанные по содержанию с самими
стихотворениями, резко от них отличаются примитивной непосредствен-
ностью тона и образов.
Очень интересна группа стихотворений XII—XIII вв., представляю-
щих собою переработку старых трудовых песен,—так называемые «ткац-
кие» песни (chansons de toile, или chansons à toile), распевавшиеся женщи-
нами или девушками из народа, а иногда, вероятно, и из высших классов
общества, во время тканья, вышиванья и т. п. Другое их название —
chansons d'histoire — отмечает ту их особенность, что они всегда рассказы-
вают о каком-нибудь происшествии, обычно — трогательную любовную
историю, причем, как общее правило, даются имена действующих лиц.
О народной основе этих песен свидетельствует их архаическая метрика
(десятисложный ассонансированный стих героического эпоса), задушевная
простота тона, полное отсутствие позднейших «куртуазных» идей (героиня
всегда — не дама, а девушка, и она не является предметом поклонения,
а наоборот, сама ищет любви, в случае успеха приводящей к браку), на-
конец — ряд бытовых черт, уводящих нас в глубокую старину.
Вот содержание одной из наиболее типичных chansons de toile. Пре-
красная Эрамбор, дочь императора, сидит у окна и вышивает. Мимо ее
башни проезжают знатные «франки», возвращаясь от королевского двора
(происходивший встарину майский «сбор королевских вассалов»). В пер-
вом ряду едет граф Рено. Было время, он любил Эрамбор, а сейчас—и
не вспоминает о ней. В ответ на ее призывы он упрекает ее в измене: «Вы
сами виноваты, дочь императора: вы полюбили другого и забыли нас!»
Она клянется в своей невиновности, предлагает сто девушек и тридцать дам
в свои поручительницы. И граф Рено одумался. «Широкоплечий, с тонким
ПАРОДНАЯ ПОЭЗИЯ
2.9
станом, белокурый, с вьющимися кудрями», он взбегает по ступеням
на башню, садится рядом с плачущей Эрамбор, и — «снова ожила их бы-
лая любовь». «Ах, друг Рено!» — таков припев каждой строфы, звучащий
сначала печально, а под конец — радостно. После IX в. во Франции уже
не было «императоров», а в конце XI в. слово «франки» и «майский сбор
иассалов» стали архаизмами. Песня хранит в себе отзвуки далекого прош-
лого, еще живущего в народном песенном предании.
В другой такой песне рассказывается, как две кузины, Гайя и Ориор,
пошли купаться к источнику. Там подошел к ним дружок Гайи, юный
Жирар, и увел Гайю в город, чтобы обвенчаться с нею. Печально Ориор
возвращается домой в одиночестве. . . Припев:
Бушует ветер, ломает ветки.
Сладко спят те, кто любят друг друга!
На ряду с этими образцами севернофранцузской лирики сохранилось
также несколько провансальских стихотворений (с трудом поддающихся
датировке), в которых народно-песенная основа проступает очень отчет-
ливо. Такова, например, следующая «баллада», содержащая в себе все
элементы весенней обрядовой игры:
«Наступило ясное время года — эйя!—Для начала веселья, эйя,—
и чтобы подразнить ревнивца, эйя, апрельская королева хочет показать,
что она исполнена любви». И после этого припев: «Прочь, прочь, ревни-
Еец, оставь меня, оставь, дай поплясать нам друг с другом, друг с другом».
«Она приказала всюду оповестить, эйя, до самого моря, эйя, чтобы не
осталось ни девушки, ни молодца, эйя, которые не пришли бы поплясать
в веселом танце». (Припев.)
«Пришел туда с другой стороны король, эйя, чтобы помешать пляске,
эйя, ибо он боится, эйя, что у него хотят похитить апрельскую королеву».
(Припев).
«А ей это не по сердцу, эйя, нечего ей делать со стариком, эйя,
охота до ловкого парня, эйя. который сумел бы, как следует, утешить
прелестную даму» (Припев.)
«Кто бы увидел ее тогда в пляске, эйя, как она там веселилась, эйя,
мог бы по правде сказать, эйя, что нет на свете равной веселой королеве».
(Припев.)
Для полноты картины народной лирики следует упомянуть о не-
скольких анонимных севернофранцузских песнях, которые, будучи ста-
диально и хронологически гораздо моложе, и имея корни уже не в обря-
довой поэзии, а в личном поэтическом творчестве, пробужденном конкрет-
ными историческими событиями, все же полны народных чувств. Это —
песни, относящиеся к первым крестовым походам, из которых от самой
ранней, сложившейся в начале 1-го крестового похода (1096—1099) и
чрезвычайно популярной среди разноплеменной армии крестоносцев, сохра-
нился лишь припев «Outrée», т. е. «Одолели [море]!» Горячий призыв к по-
двигу ради спасения души и верной службы королю звучит в песне, отно-
сящейся ко 2-му крестовому походу, предпринятому Людовиком VII (1147).
1 ораздо богаче, чем все эти остатки старой народной лирики, отра-
жения в письменных памятниках эпического народного творчества.
Французский героический эпос дошел до нас в виде поэм (общим
числом около 90), из которых древнейшие — в той форме, в какой мы их
50
РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
сейчас имеем — возникли в начале XII, самое раннее — в конце XI в.,
а наиболее поздние относятся к XIV в. Несомненно, однако, что даже
самые ранние из сохранившихся поэм представляют собой переработку
более старых поэм или песен, развивавшихся перед тем в течение двух
или трех столетий. Это длительное развитие, в котором принимали уча-
стие различные общественные слои — дружинная среда, широкие народные
массы, профессиональные певцы-сказители, жонглеры и клирики-гра-
мотеи,— имело результатом не только осложнение ряда сюжетов, сме-
шение или подстановку многих эпических образов, затемнение историче-
ской основы путем примеси к историческому преданию легендарного
вымысла и т. п., но и значительное изменение самой формы и стиля
песен-поэм.
Однако еще важнее, чем все это, — развитие и дифференциация идей-
ного содержания французского эпоса, в котором, на ряду с широкой на-
родной основой, мы обнаруживаем напластование довольно многочисленных
клерикальных и феодально-рыцарских элементов.
Сохранившиеся до нас поэмы носят название chansons de geste, что
буквально значит «песни о деяниях». Они имеют весьма различный
объем — от 1000 до 20 000 строк — и состоят из строф или тирад (lais-
ses) неравной длины, содержащих от 5 до 40 десятисложных, с цезурой
после 4-го или 6-го слога, стихов, связанных ассонансами, которые в более
поздних редакциях к концу XII в. обычно сменяются точными рифмами.
Поэмы эти предназначались для пения, причем, как и в наших былинах,
одна и та же мелодия была сквозною для всей поэмы, повторяясь из
строки в строку. Их исполнителями, а нередко и авторами, были жонг-
леры, которые разносили их по всей Франции. Всюду, где наблюдалось
скопление народа — на ярмарках, на постоялых дворах, на городских пло-
щадях, на перекрестках больших дорог, во дворах замков — можно было
встретить жонглера, исполняющего такую поэму. Привлекши к себе вни-
мание присутствующих и собрав вокруг себя сначала небольшой, но по-
степенно возрастающий кружок слушателей, он энергичным возгласом
приглашал их к молчанию (слова «Faites la paix!» — «Водворите ти-
шину!»— вошли в текст многих поэм в качестве запева) и затем начинал
петь речитативом, аккомпанируя себе на маленькой арфе или, чаще, на
виоле. Обычно бывало, что жонглер не успевал до наступления ночи за-
кончить всю поэму. В таких случаях он прерывал свое пение и отклады-
вал продолжение до следующего дня. Если поэма была очень обширна, ее
хватало иногда на неделю. Таким образом аудитория жонглеров, исполняв-
ших эпические поэмы, была очень широка и разнообразна, включая
в себя представителей всех слоев и классов средневекового общества.
Но преимущественно и в первую очередь жонглеры адресовались к широ-
ким народным массам, к мелкому городскому и сельскому люду, для
которого эти песни-поэмы были одновременно средством забавы и по-
учения.
Всю массу сохранившихся chansons de geste, в виду сложности их
сюжетного и идейного содержания, нет возможности вполне удовлетвори-
тельно классифицировать. Мы можем, однако, воспользоваться классифи-
кацией одного трувера XIII в., позволяющей выделить из огромной массы
материала три крупнейших цикла, в которых нашли свое отражение основ-
ные общественно-политические идеи, наполняющие французский героиче-
ский эпос. Именно, Бертран де Бар-сюр-Об в своей поэме «Жирар де Виан»
(«Girard de Viane», ок. 1210 г.) утверждает, что есть всего лишь три
«жесты»: «жеста короля Франции», «жеста Гарена де Монглан» и «жеста
НАРОДНАЯ ПОЭЗИЯ
ÔJ
Доона де Майанс» (т. е.
Майнцкого). В первом цикле
центральной, объединяющей
его фигурой выступает ко-
роль Франции, как символ
народной правды и силы,
защитник родины от внеш-
них врагов и в то же время
оплот против своеволия и
хищничества крупных фео-
далов. Во втором цикле гос-
подствует образ идеального
вассала, бескорыстно слу-
жащего родине и королю,
тогда как этот последний
показан слабым, нерешитель-
ным, бессильным поддержать
единство и крепость родины
без помощи преданных и
энергичных помощников. На-
конец третий цикл заполнен
изображением буйных и не-
покорных феодалов, ведущих
войны как между собой, так
и против короля Франции;
в этом последнем случае
авторы поэм, исполненные
чувства горячей любви к ро-
дине, выражают обычно глубокую печаль по поводу бесчинств феодалов*
и слабости короля, а иногда даже высказывают прямое осуждение ко-
ролю, изображая его не только немощным, но и неблагодарным, ковар-
ным, жестоким правителем.
В «жесте короля» фигурирует обычно Карл Великий, в образе кото-
рого слились черты, принадлежащие как ему самому, так и другим ко-
ролям, носившим то же самое имя, — его деду Карлу Мартеллу (714—
741) и внуку Карлу Лысому (843—877). Грандиозная фигура Карла Ве-
ликого (768—814), выдающегося правителя и законодателя, покровителя"
просвещения, прославленного полководца (победы над саксами, баварцами,
аварами, лангобардами, аквитанцами, арабами), короновавшегося в 800 г,
императором Запада, упрочилась в памяти не только его дружинников или:
лиц, причастных к его управлению, но и довольно широких слоев насе-
ления. Были, однако, и специальные причины для того, чтобы образ
Карла Великого заслонил или поглотил в эпическом предании образы
других королей. Во-первых, именно после Карла Великого начинается эпи-
ческое творчество на французском языке, в котором поэтические предания
об этом короле составили наиболее древний слой, вобравший в себя все
предшествующие предания, в том числе и о Карле Мартелле. С другой
стороны, в IX—XI вв. (время формирования французского эпоса), когда
усиленно развивались феодальные отношения, ломавшие политическое;
единство страны, мысль естественно обращалась к «золотым временам»
императора Карла, последнего монарха, три котором еще не наблюдалось-
разгула центробежных феодальных сил и управление государством остава-
лось еще в известной мере централизованным.
Карл Великий и его слуга с лошадью.
Скульптура Шартрского собора (XIII в.).
32
РАННЕЕ СРЕДПЕВЕКОВЬИ
Образ Карла Великого окружен в поэмах о нем ореолом величия. Он
всегда справедлив и обычно ласков, хотя, когда это требуется, умеет быть
и суровым. С ним прочно сросся эпитет «седобородый» (à la barbe fleurie),
независимо от его действительного возраста в изображаемый момент, как
выражение его мудрости. Он грозен для изменников, непобедим в бою, и
бог — помощник ему во всех делах. По его молитве бог останавли-
вает солнце, чтобы продлить дневной свет и дать возможность Карлу
довершить преследование разбитых врагов. Таков Карл не только в
эпосе, но и в многочисленных монастырских преданиях, сохранившихся
о нем. В одном из них рассказьшается, что, когда он умер, колокола
сами зазвонили в его столице Аахене. И в гробнице своей он не лежит,
а сидит, держа на коленях обнаженный меч, которым все еще продолжает
грозить.
В ряде поэм Карл выступает активно, лично совершая разные по-
двиги. В них описывается, как в молодости, спасаясь от изменников, Карл
бежит в Испанию, доблестно там сражается, завоевывает любовь дочери
■сарацинского царя, затем возвращается во Францию и, победив злодеев,
коронуется («Mainet»), как он победоносно воюет с саксами («Saïsnes»
Жана Боделя, около 1200 г.) и т. д. Но в других поэмах, притом именно
в тех, которые художественно более значительны, Карл отступает на задний
план и, объединяя и освящая своим присутствием все действие, уступает
активную роль своим «паладинам» — двенадцати пэрам и, в первую оче-
редь, Роланду.
Последнему посвящена самая значительная поэма не только этого
цикла, но и всего французского эпоса, имевшая европейский резонанс и
представляющая собою одну из вершин средневековой поэзии. Эта поэма,
«Песнь о Роланде», дошла до нас в нескольких редакциях, из которых
древнейшая и наиболее совершенная, содержащая 4002 стиха, сохрани-
лась в единственном, так называемом Оксфордском списке середины XII в.
Именно ее, если только не делается специальных оговорок, имеют в виду
все исследователи и критики, говоря о «Песни о Роланде».
Поэма эта, повествующая о героической гибели графа Роланда, пле-
мянника Карла Великого, во время битвы с маврами в Ронсевальском
ущелье, о предательстве отчима Роланда, Ганелона, которое явилось при-
чиной этой катастрофы, и о мести Карла Великого за гибель Роланда и
двенадцати пэров, возникла около 1100 г., вероятно еще до 1-го кресто-
вого похода, но во всяком случае в атмосфере подготовки его. Мы не знаем,
кто был автором оксфордской «Песни о Роланде», да это и не предста-
вляет для нас особого интереса. Попытки некоторых новейших западных
исследователей, принадлежащих к группе «антитрадиционалистов», изо-
бразить этого автора ученым латинистом или клириком, проводившим
в поэме разработанную богословскую концепцию, явно неудачны, ибо весь
религиозный элемент поэмы не выходит за пределы того, что носилось
в эоздухе и принадлежало к общему идейному запасу эпохи, а истоков
стиля «Песни о Роланде» надо искать не в холодной и сложной поэтике
императорского Рима, а в горячей эмоциональности и задушевности бы-
левых французских преданий IX—XI вв. Хотя автор оксфордского «Ро-
ланда» явно не был лишен известной образованности (в объеме, доступ-
ном многим жонглерам того времени), и, без сомнения, вложил в свою
переработку старой поэмы как в сюжетном, так и в стилистическом от-
ношении, немало своего, его главная заслуга все же состоит не в этих
оригинальных добавлениях, а в том, что он сохранил глубокий смысл
и выразительность старинного героического предания и, связав основные
НАРОДНАЯ ПОЭЗИЯ
55
«го мысли с живой своей современностью, нашел для их выражения заме-
чательную художественную форму.
Идейный замысел сказания о Роланде лучше всего выясняется из со-
поставления «Песни о Роланде» с теми историческими фактами, которые
лежат в основе этого предания. В 778 г. Карл Великий вмешался во вну-
тренние раздоры испанских мавров, выступив по просьбе сторонников баг-
дадского халифа против Абдаррахмана, создавшего в Испании самостоя-
тельную мусульманскую державу. Перейдя Пиренеи, Карл взял несколько
городов и осадил Сарагоссу, но, простояв под ее стенами несколько недель,
должен был ни с чем вернуться во Францию. Когда он шел обратно
через Пиренеи, баски, раздраженные прохождением через их поля и села
докучливых чужих войск, устроили в Ронсевальском ущелье засаду и, на-
пав на арьергард франков, произвели избиение, во время которого, по
словам историографа Карла Великого Эгинхарда («Vita Caroli», ок.
820 г.), в числе других знатных франков погиб «Хруотланд, маркграф
Бретани». После этого, добавляет Эгинхард, баски разбежались, и пока-
рать их не удалось.
Непродолжительная и безрезультатная экспедиция в северную Испа-
нию, не имевшая никакого отношения к религиозной борьбе и закончив-
шаяся не особенно значительной, но все же досадной военной неудачей,
была превращена певцами-сказителями 1 в картину семилетней войны, за-
вершившейся завоеванием всей Испании, далее — ужасной катастрофы при
отступлении франкской армии, причем и здесь врагами оказались не хри-
стиане-баски, а все те же мавры, и наконец, мести со стороны Карла в
форме грандиозной, поистине «мировой» битвы французов с соединен-
ными силами всего мусульманского мира.
Помимо типичной для всякого народного эпоса гиперболизации (ска-
завшейся не только в масштабе изображаемых событий, но и в картинах
сверхчеловеческой силы, ловкости и т. п. отдельных персонажей), а также
идеализации главных образов (Роланд, Карл, Турпин), — характерно
насыщение всего сюжета идеей религиозной борьбы с магометанством и
особой миссии Франции в этой борьбе. Эта идея нашла свое яркое вы-
ражение в многочисленных молитвах, небесных знамениях, религиозных
призывах, наполняющих поэму, в очернении «язычников»-мавров, в не-
однократном подчеркивании особого покровительства, оказываемого богом
Карлу, в изображении Роланда двоякого рода рыцарем — вассалом Карла
и вассалом господа, которому он перед смертью протягивает, как сюзе-
рену, свою перчатку, наконец — в образе архиепископа Турпияа, словно
скалькированного с клюнийских аббатов, который одной рукой благо-
словляет на бой французских рыцарей и отпускает грехи умирающим,
а другою сам поражает врагов, олицетворяя единение меча и креста в
борьбе с «неверными».
На оксфордскую редакцию «Песни о Роланде», сложившуюся в конце
XI в., оказала явное влияние .пропаганда 1-го крестового похода, увлекшая
весьма широкие слои населения Франции. Но в основе самой ранней
формы эпического предания о Роланде лежит та же самая идея кресто-
вого похода, только в другом, более старом и ограниченном варианте ее,
заключавшемся не в завоевании Палестины, а в оказании помощи испан-
1 Этим обобщающим термином здесь и дальше мы обозначаем (в виду невозмож-
ности установить, что именно, кем и на каком этапе было привнесено в непрерывно
развивающееся эпическое предание) всех носителей и соучастников этого предания ст
п£рвых певцов или рассказчиков до редактора последней, дошедшей до нас в письмен-
ном виде версии сказания
i История французской литературы—815
54
РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
аким христианам, притесняемым маврами, и в конечном изгнании послед-
них из Испании. Этот старый, «испанский» вариант был связан с актуаль-
нейшей проблемой французской политики VIII—IX вв. В 732 г. Карл
Мартелл, разбив арабов при Пуатье, остановил наступление их на Европу.
Но и после этого, в конце VIII и особенно в начале IX в., т. е. именно
в ту пору, когда происходило поэтическое оформление предания о Рон-
севальской битве, между французами и арабами все время шла борьба,
как в форме походов в Северную Испанию (где около 800 г. Карл Великий
основал «Испанскую марку»), так и в форме защиты от постоянных на-
бегов арабов на южную Францию. Эти войны очень рано начали истол-
ковываться как «богоугодное» дело, клонящееся к искоренению «языче-
ства», и уже около 840 г., в одной из хроник, экспедиция 778 г. была
задним числом переосмыслена как стремление «с помощью Христа под-
держать церковь, страдающую под жесточайшим игом сарацин». Этот
«испанский» вариант ожил снова в последней четверти XI в., когда, под
влиянием агитации клюнийских монахов, на ряду с подготовкой похода в
Палестину, французские рыцари и монахи во множестве устремились в
Испанию, чтобы там сражаться под знаменами Альфонса VI Кастильского
о маврами и организовывать церковь в отвоеванных у мусульман областях.
Та же самая идея, которая послужила ферментом для первоначального
развития сказания о Роланде, в своем расширенном виде снова оживила и
актуализировала это сказание в конце XI в. Плодом ее второго варианта
является эпизод с Балигантом, который, между прочим и по стилистиче-
ским соображениям, большинством исследователей признается позднейшим
придатком к старой редакции сказания, художественно, быть может, не
вполне убедительным.
Однако содержание «Песни о Роланде» далеко не исчерпывается оду-
шевляющею ее национально-религиозной идеей. В ней с огромной силой
отражены социально-политические противоречия, характерные для интен-
сивно развивающегося феодализма X—XI вв. Эта вторая тема вво-
дится в поэму эпизодом предательства Ганелона. Возможно, что в основе
его лежит предание об измене Карлу Лысому, во время аквитанского вос-
стания, архиепископа санского Ганелона, приговоренного за это в 859 г.
к смертной казни. Важен, однако, не источник образа Ганелона в поэме,
а внутренний смысл его. Конечно, мотив предательства мог показаться
певцам-сказителям особенно подходящим для объяснения поражения «не-
победимой» армии Карла Великого. Но значение образа Ганелона пере-
растает его функцию обыкновенного изменника. Он не просто эпизоди-
ческий изменник, но олицетворение некоего мощного вредоносного начала,
враждебного всякому общенародному делу, — олицетворение феодального,
анархического эгоизма. Это начало в поэме показано во всей его силе,
с большой художественной объективностью. Ганелон изображен отнюдь не
каким-нибудь физическим и нравственным уродом. Это — статный, вели-
чавый, смелый боец. Когда Роланд предлагает отправить его послом
к Марсилию, Ганелон не пугается этого поручения, хотя и знает, насколько
оно опасно. Но, приписывая и другим те самые побуждения, которые яв-
ляются основными для него самого, он предполагает, что Роланд имел на-
мерение погубить его. Ганелон открыто и смело выражает свой гнев:
На землю с плеч он кунью тубу сбросил.
Теперь на нем один камзол шелковый.
Лик его горд, сияют его очи,
Челом красив, широк и статен в бедрах;
Так он хорош, что все бароны смотрят.
НАРОДНАЯ ПОЭЗИЯ
58
Он принимает предложение и выполняет свое посольство с достоин-
ством и самоотверженностью. Хотя в дороге он почти уже договорился
обо всем с послом Марсилия, Блаикандойном, все же, прибыв в Сарагоссу,
он не открывает своих намерений Марсилию и надменно предъявляет ему
ультиматум Карла, вызывая ужасный гнев сарацинского царя и подвергая
себя смертельной опасности. Лишь после этого Ганелон вступает с ним в
соглашение, а до тех пор он ведет себя как смелый и гордый барон.
Точно так же он, по-своему, величав, — хотя в данном случае уже не
персонально, а, так сказать, социально,—в финале поэмы, в сцене суда
над ним. Хотя предательство Ганелона, казалось бы, стало ясным всем и
каждому, Карл обязан выполнить все феодальные юридические процедуры.
На суде Ганелон (который «Лицом румян и вид имеет храбрый. Будь че-
стен он, как был бы рыцарь славный»), признавая, что он ненавидит Ро-
ланда, 'решительно отвергает обвинение в измене («И я желал его смерти
и гроба; Но нету здесь предательства лихого»). В его защиту выступает
многочисленная его родня, во главе с грозным Пинабелем, — и бароны
Карла колеблются, а затем и вовсе отступают. Они советуют Карлу оста-
вить это дело, простить Ганелона: ведь «Златом, казной нам не вернуть
потери; Тот будет глуп, кто бой теперь затеет», а Ганелон, уверяют они
Карла, будет служить ему впредь «и верно и любовно». И если бы не
Тьерри, вмешавшийся в это дело, сразившийся с Пинабелем и посредством
«божьего суда» доказавший его неправоту, Ганелон, наверно, избегнул бы
наказания. Силу Ганелона составляет не столько то, что бароны Карла
«боятся Пинабеля», — этого одного было бы недостаточно для того, чтобы
дать восторжествовать явно неправому делу, — сколько шаткость фео-
дально-юридических норм, нечеткость границ обязанностей вассала по
отношению к своему сюзерену и полное отсутствие указаний на какие-либо
его обязанности по отношению к общему делу, к народу, к своей родине.
С точки зрения правовых отношений того времени виновность Ганелона не
столь уже несомненна, ибо, выполнив честно свой вассальный долг перед
Карлом на поле битвы и во время посольства к Марсилию, Ганелон, рас-
суждая формально, мог считать себя вправе после этого свести личные
счеты с Роландом, своим пасынком. В «Песни о Роланде» не столько рас-
крывается чернота отдельного предателя — Ганелона, сколько разобла-
чается гибельность для родной страны («douce France» — «милой Фран-
ции») того феодального, анархического эгоизма, представителем которого,
в некоторых отношениях блестящим, является Ганелон.
На ряду с этим противопоставлением Роланда и Ганелона, через всю
поэму проходит другое противопоставление — менее острое, но столь же
принципиальное — Роланда и его милого друга, нареченного брата Оливье.
Здесь сталкиваются не две враждебные силы, а два варианта одного и
того же положительного начала. Когда французский арьергард подвер-
гается внезапному нападению и Оливье видит несметные полчища сара-
цин, устремляющиеся на них, он советует Роланду затрубить в рог, чтобы
призвать на помощь Карла. Но Роланд отказывается, считая это позором
для себя, для своего рода, для всей Франции. Трижды Оливье возобнов-
ляет свои уговоры (повторение, типичное для стиля народной поэзии), и
трижды Роланд отвергает его предложение, не желая терять свою славу
в «милой Франции». Эта черта в характере Роланда несколько раз обо-
значена в поэме выразительным словом démesure — «безмерность», т. е. не-
обузданная, безрассудная смелость. Этой «безмерности» Роланда противо-
поставлено «благоразумие» Оливье, но так, что из этого ни для одного из
них не вытекает осуждения:
36
РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
Мудр Оливье, а граф Роланд бесстрашен.
Известны оба доблестью своею.1
Кто же из них прав — знающий меру и умеющий сочетать храбрость
с разумом Оливье, или безрассудно смелый Роланд? По смыслу поэмы
оба они правы, только каждый по-своему. Когда Роланд видит, как поре-
дели вокруг него ряды, и убеждается в том, что собственными силами им
не справиться с маврами, он смущенно обращается к Оливье и спрашивает
его, не затрубить ли ему и в самом деле в рог, чтобы призвать Карла на
помощь. И Оливье с горькой иронией отвечает ему его собственными сло-
вами: нельзя трубить, этим они обесславят себя. Как и в предыдущем
диалоге, три раза Роланд повторяет свое предложение, чтобы каждый раз
услышать тот же ответ. В этом диалоге Роланд сам признает свою ошибку.
И вскоре действительность подтверждает это: весь французский арьергард
уничтожен, сам Роланд и двенадцать пэров погибли, Франции и Карлу
безрассудством Роланда нанесен великий ущерб.
Но на ряду с этим мы находим в поэме и другое решение вопроса.
Роланд погибает при совершенно особенных обстоятельствах. Когда около
него никого уже не остается в живых, он, изнемогая, ложится на зеленую
мураву:
Он лег лицом к стране испанских мавров,
Чтоб Карл сказал своей дружине славной,
Что граф Роланд погиб, но победил.
И действительно, за минуту до этого произошло своего рода «чудо»:
заслышав приближение возвращающегося войска Карла, мавры не нашли
в себе решимости подступиться к одинокому Роланду и добить его. Они
бежали в панике, и умирающий Роланд удержал за собой поле битвы
против несметных полчищ «язычников». При всем своем безрассудстве,
морально он все же оказался победителем.
То противоречие, которое вскрыто в антитезе Роланд — Оливье, с новой
силой встанет через полвека после «Песни о Роланде», когда сформируется
новый, чисто светский и в известном смысле рационалистический рыцар-
ский идеал. В качестве одного из пунктов этого куртуазного идеала в тру-
бадурской поэзии выдвигается принцип «меры» (mezura), как залог бла-
гообразия и целесообразности поведения совершенного рыцаря. «Démesure»
Роланда принадлежит еще целиком к старому докуртуазному рыцарскому
идеалу в его наиболее чистой и возвышенной форме.
Роланд в оксфордской поэме — рыцарь с головы до ног, но рыцарь
идеальный, максимально освобожденный от специфических сословно-ры-
царских черт — честолюбия, жестокости, анархического своеволия. В нем
чувствуется избыток юных сил, радостная вера в правоту своего дела и
в свою удачу, страстная жажда подвига. Во всех своих действиях Роланд
глубоко человечен и великодушен: он почтителен, но вместе с тем смел
и правдив перед Карлом, он искренно расположен (в начале поэмы)
к Ганелону, которому он хочет оказать честь, он мягок и уступчив по
отношению к Оливье (во втором диалоге между ними), он трогательно
заботлив по отношению к своим раненым в бою товарищам, он прост
и душевно скромен перед лицом смерти. Полный самосознания, но вместе
с тем чуждый какой-либо спеси и своекорыстия, он целиком отдает
свои силы служению своему королю, своему народу, своей родине. Горячая
1 Rolanz est proz et Oliviers est sages.
Ambedoi ont merveillos vasseUge, |
ПАРОДНАЯ ПОЭЗПЯ
57
любовь к родине характеризует в поэме всех воинов Карла. Покинув
Испанию и достигнув Гаскони, владения Карла,
О многом здесь припомнили они:
О почестях, поместиях и ленах,
О юных девах, женах благородных...
Заплакали французы в умиленьи.
Но сильнее всего проявляется патриотическое чувство у Роланда, для
которого нет более нежного и священного слава, чем «милая Франция»,
и который умирает с этим сАовом на устах.
Все это делало Роланда, несмотря на его рыцарское обличье, под-
линно народным героем, понятным и близким каждому. И в этом, без
сомнения, заключается главная причина огромной популярности сказания
о Роланде не только во Франции, но и за пределами ее. Особенно харак-
терно то, что сюжет этот сочли достойным обработки латинисты того
времени. В середине XII в. возникла «Carmen de proditione Guenonis»
(«Песнь о предательстве Гвенона», т. е. Ганелона), восходящая к более
старой, чем дошедшая до нас, редакции французской поэмы о Роланде
(в ней отсутствует посольство Бланкандрина, явно дублирующее посоль-
ство Ганелона, эпизод с Балигантом и т. д.). К XII в. относится также
латинская «Хроника псевдо-Турпина», представляющая собой пересказ
оксфордской «Песни о Роланде» и выдаваемая автором за сочинение архи-
епископа Турпина, будто бы пережившего Ронсевальское побоище. Рав-
ным образом «Песнь о Роланде» послужила исходной точкой для созда-
ния ряда позднейших поэм, лишенных всякой исторической основы, в
которых изображаются подвиги юного Роланда, неизменно являющегося
правой рукой Карла, как, например, «Аспремон» («Aspremont», конца XII в.,
изображающая завоевание Карлом Великим Калабрии), франко-итальян-
ские поэмы Николая Падунского XIII в. «Вторжение в Испанию» («Ent-
rée d'Espagne»), «Взятие Пампелуны» («Prise de Pampelume») и т. д.
Существует предание, закрепленное во второй половине XII в. (в хро-
нике Васа «Брут»), о том, что в битве при Гастингсе (1066 г.), доставив-
шей Вильгельму Завоевателю владычество над Англией, впереди норманд-
ского войска ехал жонглер Тальефер, который пел «Песню о Роланде»
с целью воодушевить этим бойцов. Если это предание и не вполне досто-
верно, то оно показательно для той силы эмоциального воздействия на
массы, которая признавалась за этой поэмой.
Суровый стиль «Песни о Роланде»—ее величавая строгость и энер-
гичная сжатость изложения, почти полное исключение женских образов,
отсутствие темы любви (Роланд даже в момент смерти не вспоминает
о своей невесте Альде, о которой вскользь сообщается только, что она
не могла его пережить), мотивов интимных, комических, бытовых и т. п.,—
находится в полном соответствии с характером сюжета и идейного замысла.
Поэтому было бы неправильно считать этот стиль типическим для всего
французского эпоса, который чрезвычайно разнообразен по своему содер-
жанию и богат красками и эмоциальными оттенками. Доказательством
этого может служить другая поэма того же цикла —■ «Паломничество
Карла Великого» («Pèlerinage! de Charlemagne»), начала XII в.
Однажды в Сен-Дени Карл Великий, прохаживаясь по зале, заявил
хвастливо, что нет на свете короля, которому бы так шла корона, как
ему. Услышав эти слова, королева, жена его, возразила, что она знает
еще более представительного государя: это Гутон, император Греции и
Константинополя. Карл, чрезвычайно обиженный, решает проверить это
Se »?Ц<ж,Ш^мг©п,
[fϣfiiimtf3uttff %
Шефе {Щ^е-тт^ШеВп^и^ф^р-г i
: я и, fin £&îfW- «m-fb fedWwt <£»»«■ w«* T
îst- ш> /&«! ^.jrtsfe мыт pu «а«<ч«?- ♦"".
*м &-^*w if *ик«в- «e*ut*irtt шем^г #жсн<^Ф ~|1
f П
rfr
:rtt««f
[ ИИ» *|ШГ «^И-^«*4»« &ttf ? X
xmiXfâtttt &х&м$*нс ëpatv ■■'
&^k«1«t^ltl * gfttUcr *йибх • V
___n*il? л й*&и ntfktmm щ C<& ' д.
"IfШ»т'*щ tt+fm*t*t * $f utfc^uet^Zi^ît* •;
#Й XCcnj^tiw t&memJfît0®iiz *1êw*Ctnib?>.
'&u<&if0iti\t pai (етШтт mm& tefibtt \l-
. «t 6t <<nj r<#' fi*«* ' *иЛ»1?й. »tr W м*И « он о кн;
\*ecuff<nt&tptifiit£ ouMv-fzuaant&bjff'va '.
cetmmfif^M ^èttïnet»^if;f«* ««{«feiH-w-
I <f%\(imtf^itmmwttjmit mtttvm?жт¥Сш f..
Карл Великий находит труп Роланда,
Миниатюра Жана Фуке (рукопись XV века
НАРОДНАЯ ПОЭЗИЯ
39
и угрожает жене, если она окажется неправа, отрубить ей голову.
Вместе со своими двенадцатью пэрами он отправляется в Константи-
нополь. Но на свое счастье они сначала заехали в Иерусалим и
поклонились там «гробу господню», после чего патриарх щедро ода-
рил их реликвиями — дал им терновый венец с головы Иисуса, саван
его, один из гвоздей, которыми он был прибит ко кресту, сорочку
богоматери и руку старца Симеона, державшего младенца Иисуса над
купелью во время его крещения. Очистив свои души от грехов, с
пальмовыми ветвями в руках, Карл и пэры прибывают в Константи-
нополь. Здесь они поражены чудесами императорского дворца, кото-
рый весь укреплен на одном центральном столбе и, когда с моря дует
ветер, вращается вокруг оси; роскошь убранства зал не поддается
описанию. Император Гугон радушно принимает гостей и после рос-
кошного ужина, за которым ими было выпито много сладкого вина,
их отводят на покой. Но прежде чем лечь спать, пэры Карла Великого,
согласно «французскому обычаю», занимаются «похвальбою» (faire les
gabs, gaber). Роланд обещает утром затрубить в свой рог с такой
силой, что все двери соскочат с петель, и если Гугон покажется,
усы его загорятся и с плеч упадет мантия. Ожье обещает так потрясти
центральный столб, что весь дворец рассыплется. Аимер утверждает,
что, надев шапку-невидимку из рыбьей кожи, он во время обеда станет
за креслом Гугон а', съест и выпьет его порцию, а самого его стукнет
головой об стол. Оливье грозит совершить непристойный «подвиг» по
отношению к дочери императора, и т. д. Но Гугон подослал к своим
гостям шпиона, который подслушал все это и пересказал ему; и когда
утром французы встали и приветствовали его, он предложил им испол-
нить все обещанное, в противном случае грозя отрубить им головы.
Карл и пэры, в полной растерянности, молятся богу, прося выручить их из
беды. Им является ангел, который их успокаивает: в награду за их благо-
честие и ради полученных ими реликвий бог им поможет; пусть смело начи-
нают — все исполнится. Французы тотчас принимаются за дело. Гугон,
испуганный грозящими ему разрушениями, просит их остановиться: он впол-
Hev верит в их могущество. Происходит примирение, и Гугон объявляет
себя вассалом Карла. После этого оба императора рука об руку направляются
в церковь, и тут все видят: Карл на фут с лишком выше Гугона и гораздо
величавее его. Возвратившись в Сен-Дени, Карл прощает жену.
Поводом для возникновения этого сказания послужило следующее.
Около 800 г. иерусалимский патриарх, рассматривавший Карла Великого
как защитника христиан на Востоке, прислал ему ключи от «гроба господ-
ня» и большое количество реликвий. Эти реликвии впоследствии были пере-
даны в монастырь Сен-Дени, где они раз в год, в день поминовения св.
Дионисия, во время торжественной мессы (так наз. lendit) выставлялись
для поклонения верующих. Отсюда — рано возникшее и засвидетельство-
ванное в одной хронике около 1000 г. сказание о том, что Карл будто бы
лично побывал в Иерусалиме.
Очень вероятно, что поэма возникла в непосредственной близости к
монастырю Сен-Дени и, в частности, усиленно распевалась жонглерами
на знаменитых местных ярмарках в день lendit. Однако благочестивое пре-
дание подверглось в ней очень своеобразной трактовке. Без сомнения,
она не является намеренной пародией, и какие-либо антирелигиозные или
антимонархические тенденции ей чужды. Для средневековых людей очень
характерно фамильярно-шутливое отношение к «священным» предметам и
понятиям, нисколько не свидетельствующее об отрицательном отношении
40
РАНПЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
к ним. Тем не менее, гротеок очень оилен в этой поэме, и пронизывающий
ее юмор, близкий к сатире, объективно снижает ее аристократические
персонажи. Пэры Франции явно представлены в смешном виде, и сам
Карл показан стоящим нисколько не выше их. И король и его вассалы
являются здесь до конца выразителями феодально-рыцарской практики,
раскрытой в ее характернейшей сословной специфике. Если лично Карл
и не участвует в похвальбе своих пэров, едва их не погубившей в Кон-
стантинополе, то все же источником всех изображенных событий оказы-
вается столь же вздорная (притом даже не оправданная выпитым вином)
похвальба самого Карла, являющаяся ярким выражением феодально-рыцар-
ского чванства. Чрезвычайно существенна также направленность этой по-
хвальбы: все «подвиги», которые обещают выполнить феодалы-пэры, носят
насильнический, разрушительный, притом глубоко оскорбительный для
их жертв характер. И этому вполне соответствует по своему моральному
уровню похвальба самого Карла, сопровождаемая угрозой отрубить жене
голову. В поэме объективно показано превосходство над Карлом импера-
тора Гугона: он и богаче его и обходительнее, он—представитель более
высокой культуры (об этом говорит описание его дворца).
Если все же образы Карла и его пэров не становятся сатирическими,
&то происходит оттого, что поэму наполняет горячее патриотическое чув-
ство, спасающее их от осуждения. Карл «выше» Гугона потому, что он —
свой, национальный король французов, и в народной поэтической образ-
ности это отмечается тем, что он физически выше, более рослый, чем
Гугон. За одно это любой порок или промах будет ему прощен, как про-
щается все и его пэрам, являющимся его опорой и верными слугами. Дру-
гой критерий превосходства Карла над всяким другим иноземным монар-
хом — то, что бог всегда ему помощник, хотя бы даже в самых постыд-
ных и смешных положениях, и хотя бы даже эта помощь божья проявля-
лась несколько комичным образом. Ценой некоторого компромисса в этой
поэме сочетаются в одно целое народная критика самых устоев феода-
лизма, включая и феодальную королевскую власть, с народной любовью
к родине, образ которой с исторической неизбежностью оказывался свя-
зан с образом этого короля.
Та же самая двойственность, хотя и с другим оттенком, свойственна
центральной теме второго цикла, носящего название цикла Гарена де Мон-
глан. Это — бескорыстная служба верного вассала слабому и даже недо-
стойному королю во имя единства и блага Франции. Ее носителем является
исконный и главный герой цикла, Гильом д'Оранж, образ которого имеет
исторические корни. Поэтическое воображение средневековых людей, склон-
ное к механической и прямолинейной систематизации, проявляющейся,
между прочим, в повышенном интересе к родословным, приписало с тече-
нием времени Гильому д'Оранж целую серию предков, являющихся совер-
шенно вымышленными персонажами: отца — Эмери де Нарбонн, деда —
Эрно де Боланд, наконец прадеда — Гарена де Монглан. Все поэмы, по-
священные этим персонажам,—позднего происхождения, и в художествен-
ном отношении они мало значительны. Правильнее поэтому обозначат!--
этот цикл именем Гильома д'Оранж. Весь интерес генеалогического по-
строения заключается лишь в том, что оно акцентирует одну важную
черту в биографии Гильома, делая ее как бы наследственной: все члены
этого рода приобрели свои владения лишь силою своей руки и ничем не
обязаны королю, неблагодарному и равнодушному к их доблести.
Если расставить поэмы, посвященные Гильому д'Оранж, в определен-
ном порядке (который отнюдь не соответствует порядку их возникновек
ПАРОДНАЯ ПОЭЗИЯ
41
ни1я), получается довольно связная поэтическая биография его. Серия
поэм о Гильоме, из которых мы отметим лишь главнейшие, открывается
< Коронованием Людовика» («Couronnement cïe Louis»), сохранившаяся
редакция которой возникла вскоре после 1130 г. В ней рассказывается
следующее.
Карл Великий, желая обеспечить твердое престолонаследование, хочет
еще при жизни короновать своего пятнадцатилетнего сына Людовика. Но
мальчик робок и слаб; когда он берет корону, его рука дрожит. Карл
приходит в ярость. Этим пользуется предатель-барон Ансеис д'Орлеан,
который, рассчитывая сам захватить власть, советует Карлу отложить
церемонию, пока его сын подрастет. Карл уже соглашается, но в это мгно-
вение появляется Гильом. Ударом кулака он убивает предателя, застав-
ляет Карла немедленно короновать Людовика и сам вызывается быть
наставником юноши. Через пять лет Гильом отправляется в Рим в каче-
стве паломника и там спасает папу от напавшего на него войска сарацин
с великаном Корсольтом, которого Гильом убивает в единоборстве. Яв-
ляется гонец, спешно вызывающий Гильома во Францию. Оказывается,
что король Карл умер, и другой изменник, Аселин, сын нормандского
герцога, хочет стать королем, отстранив Людовика. Последний всеми по-
кинут, но Гильом спасает его: он разбивает войско герцога и убивает Асе-
лина колом, взятым с виноградника. Людовик восстановлен на троне.
Из Рима прибывает гонец с просьбой к Людовику и Гильому о помощи:
папа умер, и надо освободить Рим от захватившего его Гиона Немец-
кого. Людовик проявляет в данных обстоятельствах удивительную тру-
сость, но Гильом заставляет его снарядить экспедицию и лично принять
в ней участие. Он убивает Гиона в единоборстве и коронует Людовика
в Риме императором. Во Франции вспыхивает новое восстание баронов-
изменников, но Гильом снова усмиряет его, после чего женит Людовика
на своей сестре.
Думают, что поэма эта составилась из нескольких, первоначально
раздельных поэм. Действительно, разорванность отдельных эпизодов, из
которых некоторые дублируют' друг друга, как будто говорит за это. Но
если это и так, то автор последней редакции произвел не просто механи-
ческое соединение. Повторность мотивов и положений имеет целью усилить
проводимую в поэме общую мысль, подчеркнуть типичность и устойчи-
вость характеров главных персонажей — ничтожество Людовика и доб-
лесть Гильома. Следующие поэмы дают дальнейшее раскрытие этих
черт.
В «Нимокой телеге» («Charroi de Nimes», вскоре после 1140 г.) опи-
сывается, как король Людовик награждает своих вассалов наделами. Один
только Гильом забыт, потому что он задержался на охоте, а сам король
не вспомнил о нем. Когда он является наконец, то оказывается, что все
уже роздано. Гильом гневно упрекает короля, который пугается, хочет за-
добрить Гильома, предлагает ему четверть Франции. Но Гильом гордо
отказывается. Он требует только одного: предоставления ему городов
Нима и Оранжа, находящихся во власти сарацин. Он сам видел в Сен-
Жиле страдания христиан, угнетаемых «язычниками», и хочет помочь им.
Пусть Людовик даст ему лен, который он, Гильом, завоюет силой своей
руки. Король поспешно соглашается, обещая оказывать Гильому военную
помощь — раз в семь лет. Гильом собирает дружину и прежде всего
завоевывает Ним, посредством хитрости, очень похожей на ту, с помощью
которой греки взяли Трою. Он переоделся торговцем и ввез в Ним на
телеге огромную бочку будто бы с вином; на самом же деле в ней было
49
РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
спрятано несколько его воинов. Оказавшись в Ниме, он ночью открыл
городские ворота и впустил в город свое войско, притаившееся поблизости.
Следующая поэма, «Взятие Оранжа» («Prise d'Orange», ок. 1150 г.)
вводит в цикл тему романическую. Гильом наслышался о красоте Орабль,
жены сарацинского царя Оранжа, и это побуждает его ускорить завоева-
ние этого города. Он берет Оранж, убивает сарацинского царя и женится
на его вдове, которая крестится и принимает христианское имя Гибур.
В ее лице Гильом получает верную подругу, которая будет утешать его
во всех несчастьях и поддерживать во всяких делах.
Описание величайшей битвы с сарацинами, которую выдержал Гильом,
дошло до нас в двух редакциях — в архаической, полной грубоватой вы-
разительности «Песни о Гильоме» («Chanson de Guillaume», самого на-
чала XII в.) и в стилистически гораздо более разработанной поэме «Алис-
канс» («Aliscans», ок. 1165 г.). Приводим содержание «Песни о Гильоме»,
с которою в сюжетном отношении «Алисканс» почти совпадает, отличаясь
лишь тем, что в нем отсутствует вторая часть, посвященная Ренуару.
Сарацинский царь Кордовы Дераме с огромным войском высадился
на южном берегу Франции около Алисканса, в окрестностях Арля. После
того как Тетбальд Буржский позорно бежал, против сарацин выступает
с небольшим отрядом юный племянник Гильома, Вивьен, который в день
своего посвящения в рыцари принес обет никогда, ни при каких условиях,
не отступать перед сарацинами. Все воины его перебиты, но в последнее
мгновенье подоспевает со свежими силами граф Гильом, за которым
Вивьен послал своего кузена Жирара с просьбой о помощи. Однако войско
Гильома тоже уничтожено, а сам он, приняв последний вздох умираю-
щего Вивьена, возвращается домой, где заботливая Гибур, предчувствуя
беду, уже собрала для него новую армию. Однако после новой битвы и
это войско уничтожено сарацинами. У Гильома нет больше ни родичей,
ни воинов. Тайно, переодетый, добирается он до дома, где Гибур, не узнав
его, долго не хочет его впускать. Наконец, она отворяет дверь и, скло-
нившись к его ногам, спрашивает: «Господин мой, что ты сделал со
своими воинами?». Гильом, глядя на большую залу, в которой он, бывало,
пировал со своими вассалами, восклицает: «Добрая зала, какая ты длин-
ная и широкая! Со всех концов ты хорошо разукрашена! О высокие столы,
льняные скатерти, никогда уж не будут с вас есть сыновья благородных
матерей: у них у всех срублены головы в Алискансе!» Он высказывает
намерение сделаться отшельником, а жене предлагает постричься в мона-
хини. «Господин мой, у нас будет время сделать это, когда мы отбудем
срок земной жизни», — отвечает ему Гибур. Она утешает его и уговари-
вает отправиться в Аан, к королю Людовику, чтобы выхлопотать у него
подмогу. Гильом так и делает. Его изнуренное лицо, отсутствие свиты и
потрепанная одежда вызывают насмешки молодых придворных рыцарей,
поворачивающих ем-у спину. Людовик отказывает ему в просьбе. Но когда
Гильом приходит в страшный гнев, король пугается и дает ему армию в
20 000 человек. С этим новым войском Гильом идет на сарацин и, нако-
нец, побеждает их.
В конце поэмы нередкий во французском эпосе гротеок вносится эпи-
зодом о Ренуаре. Этот великан-сарацин, поваренок с королевской кухни,
тоже вступает в армию, снаряженную для Гильома Людовиком. Пред-
шественник Моргайте из поэмы Пульчи, Ренуар — добродушное чудовище,
обладающие гигантской силой, наивное, вздорное и смелое. Своим шестом,
заменяющим ему меч и копье, он производит страшное опустошение в ар-
мии сарацин и немало способствует победе Гильома. Но когда после битвы
ПАРОДНАЯ ПОЭЗИЯ
45
«го случайно забывают пригласить к обеду, он приходит в ярость и хочет
вернуться в Испанию, чтобы оттуда, вместе с маврами, так же громить
французов, как он раньше им помогал. С трудом удается успокоить его
Гибур, которая открывает ему, что он — ее родной брат и что оба они —
дети Дераме|. После этого Ренуар принимает крещение и становится доб'
рым французом.
Последний этап жизни Гильома изображен в поэме «Монашество Гиль-
ома» («Moniage de Guillaume»), дошедшей до нас в двух редакциях второй
половины XII в., но восходящей, без сомнения, к более древним преданиям.
Под старость, после смерти Гибур, с которой он провел сто лет
супружеской жизни, Гильом удалился в основанный им монастырь Аниану.
Монахи, однако, очень не взлюбили его за строптивый нрав, который он
сохранил. Они жалуются аббату, что он слишком много ест и часто бьет
их. Желая от него избавиться, аббат посылает его с одним поручением
в такую часть леса, где, как он знает, засели разбойники. Безоружный
Гильом попадает в засаду. Однако он не растерялся: соскочив со своего
мула, он выломал у него ногу и берцовой костью перебил всех разбойни-
ков (мотив, вероятно, подсказанный библейской историей о Самсоне, из-
бившем врагов ослиной челюстью), после чего, по его молитве, нога снова
приросла к мулу. По указанию ангела, Гильом после этого покинул мона-
стырь и поселился отшельником в Желлоне. Но вскоре ему пришлось
вернуться к прежней боевой йшзни. Король Людовик осажден в Париже
сарацинами, с предводителем которых, великаном Изоре, никто не смеет
сразиться. Гильом спешит в Париж и убивает Изоре, снова спасая этим
короля и Францию, а затем возвращается в Желлону. Последним эпизо-
дом его жизни является единоборство с дьяволом, которого он бросил в
поток, после чего вода закипела и бурлит до сих пор (мотив, в котором
нетрудно различить отголосок местного предания, объясняющего проис-
хождение минерального источника).
В основе этих сказаний о Гильоме д'Оранж лежат предания о лице
вполне историческом — о бароне Гильоме, которого Карл Великий около
790 г. сделал графом Тулузским, а еще раньше назначил советником и
руководителем своего сына Людовика, коронованного им королем Про-
ванса в возрасте трех лет. Граф Гильом, по существу наместник южной
Франции, прославился успешными войнами, которые он вел от лица мало-
летнего Людовика. Прежде всего он усмирил восставших басков. В 793 г.
он сразился с маврами при Орбье и, хотя был разбит, все же достиг
цели: понеся тяжелые потери, мавры ушли. В 803 г. граф Гильом участво-
вал во взятии Барселоны. В 806 г. он удалился в основанный им мона-
стырь Желлону и там умер монахом в 812 г. Добавим, что исторический
Гильом, кроме Желлоны, основал еще другой монастырь, Аниану, и что
жену его действительно звали Гибур.
За вычетом довольно обильного поэтического вымысла, все же очень
многое в поэмах о Гильоме, и притом наиболее в них существенное, яв-
ляется отражением исторических фактов, а главное — исторических отно-
шений эпохи. Не случаен самый выбор героя цикла и особенно короля.
В связи с ростом феодализма в IX в., в царствование слабовольного и
нерешительного сына Карла Великого, Людовика Благочестивого, во Фран-
ции впервые по-настоящему разыгрались феодальные междоусобные войны.
Конец жизни Людовика ознаменовался даже восстанием против него его
собственных сыновей.
Этот острый, глубоко драматический момент в истории Франции
певцы-сказители отразили с большой силой поэтического обобщения и
44
РАННЕЕ' СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
политического диагноза. Немощность трехлетнего ребенка, ровно ничего
не показывающая, заменена в поэме «Коронование Людовика» слабостью
пятнадцатилетнего юноши, достаточно характерной. Граф Гильом наделен
огромной инициативностью, несколько даже оскорбительной (в сцене вен-
чания королевича) для «священной» в эпическом предании личности
Карла. Однако для иллюстрации бессилия короля певцы-сказители, про-
явив большое историческое чутье, передвинули время действия из царство-
вания Карла в царствование его сына. Тем не менее, несмотря на весьма
отрицательную характеристику Людовика, поставленные рядом с ним
фигуры баронов-изменников, готовых разодрать на части Францию и за-
лить ее кровью, обрисованы настолько ярко, что, как естественный вывод
из этого, сама собой вытекает мысль о необходимости поддержать короля
против хищнических инстинктов бунтовщиков-феодалов. Но чтобы вместе
с тем решительно отделить народного героя Гильома от этой гнилой коро-
левской власти, запятнанной теми же самыми феодальными навыками,
Гильом изображен забытым и отвергнутым при королевском дворе, всем
обязанным одному лишь себе. Он по собственному побуждению идет осво-
бождать своих утесненных на мусульманском юге соплеменников, до кото-
рых королю Людовику мало дела. Он почти силой заставляет робкого и
ленивого Людовика двинуться на защиту оплота христианской веры —
папы. На всем облике Гильома, на его поведении, речах, побуждениях
лежит печать народности. Иногда больше похожий на брата Жана из
романа Рабле, чем на. блестящего рыцаря, он обладает гигантским аппе-
титом, крепко ругается, в бою орудует кулаком или колом с виноград-
ника. Этим он близок к своему комическому партнеру в «Песни о Гиль-
оме», великану Ренуару, который, несмотря на свое царское происхожде-
ние, по натуре своей — яркий представитель народа. Во всех чувствах и
действиях Гильом так же прост и человечен, как и его добрая жена и
подруга Гибур.
Третий цикл лишь условно носит имя Доона де Майанс. Не было
сделано даже попытки установить генеалогическую связь между всеми
входящими в него буйными вассалами. И это вполне понятно: тогда как
идеальный образ верной службы королю и родине (Гильом д'Оранж)
един, раздоры и смуты принимали в воображении эпических певцов весьма
разнообразные формы. Поскольку формирование эпоса происходило в пору
наибольшего ослабления королевской власти и роста феодальной раздроб-
ленности (IX—XI вв.), весьма естественно, что именно эта третья «жеста»
с течением времени особенно разрослась, оттеснив первые две.
В жесте Доона де Майанс, которую очень неточно называют иногда
«жестой изменников», изображаются обычно столкновения крупных фео-
далов с королем, реже — борьба их между собой. В случаях первого рода
симпатии певцов-сказителей очень часто — на стороне феодалов, но это
объясняется вовсе не их сочувствием центробежным тенденциям феодаль-
ной анархии, а той критикой королевской власти, которая в зачаточной
форме уже содержится в «Паломничестве Карла Великого» и в некоторых
поэмах о Гильоме д'Оранж. Здесь феодальная природа королевской
власти раскрывается до конца в образах вероломных, деспотичных и хищ-
ных королей, которые нисколько не лучше своих разнузданных и корысто-
любивых вассалов. Такое почти обязательное снижение образа короля, в
виду традиционной в эпосе идеализации Карла Великого, привело, вероятно,
к замене этого последнего в целом ряде поэм другими королями. Иногда,
впрочем, сохраняется фигура Карла Великого — именно в тех поэмах,
где осуждение короля выражено менее резко.
НАРОДНАЯ ПОЭЗИЯ
4»
В поэме «Жирар де Руссильон» («Girard de Roussillon»), написанной
на промежуточном, франко-провансальском диалекте около 1170 г., рас-
сказывается, как король Карл Мартелл и граф Жирар посватались к двум
дочерям византийского императора. Однако, когда невесты прибыли во
Францию, королю больше приглянулась младшая, предназначенная в жены
Жирару, и он предложил последнему обменяться невестами, обещав в на-
граду дать ему в постоянное владение (аллод) графство Руссильон. Жирар
согласился, но король после венчания пожалел о своем обещании и не дал
Жирару условленного дара. Отсюда — война между ними, продолжавшаяся
много лет с переменным успехом. Наконец, Жирар окончательно разбит м дол-
жен скрываться в Арденском лесу, где он, чтобы прожить, работает, как
простой угольщик, между тем как его верная жена Берта занимается шитьем.
Двадцать два года они ведут эту печальную жизнь. Но однажды Берта
увидела рыцарский турнир, и им припомнилось прошлое. Они тайком про-
брались в королевский дворец, и Берта через 'свою сестру-королеву выхло-
потала мужу прощение и возвращение ему всех владений и титулов. В конце
поэмы рассказывается, что под старость Жирар и Берта удалились в осно-
ванный ими монастырь Везеле и там окончили жизнь в благочестии.
Основою этого сказания является история графа Герарда, который
после раздела империи в 843 г., будучи вассалом французского короля
Карла Лысого, перешел на сторону Лотаря и отстаивал для него против
Карла Прованс, был побежден, но в конце концов получил прощение.
Жену его действительно звали Бертой, и он основал в Бургундии мона-
стырь Везеле. Сопоставление этих фактов с фабулой поэмы показывает,
в каком направлении работало воображение певцов-сказителей.
Две поэмы об Ожье Датчанине («Ogier le Danois» или «Ogier de
Danemarche»), возникшие, вероятно, в начале XIII в., но восходящие
к другим, значительно более древним поэмам, тесно примыкают одна
к другой в сюжетном отношении. Ожье, сын датского короля, данника
Карла Великого, живет, в качестве* заложника, при дворе Карла, окру-
женный почетом. Шарло, сын Карла, повздорив во время шахматной пар-
тии (с сыном* Ожье, убивает его, ударив шахматной доской по голове.
Ожье прибегает с обнаженным мечом и в завязавшейся схватке убивает
племянника короля. После этого ему приходится бежать в Северную Ита-
лию, под защиту короля Дезидерия. Карл Великий преследует его и после
ряда битв и осад хватает его и сажает в тюрьму. Однако, когда на Фран-
цию нападают «язычники» во главе с великаном Брейе, Карл Великий
вынужден освободить Ожье, так как никто другой не в силах сразиться
с этим великаном. В случае победы Карл обещает Ожье отдать ему в
руки, для совершения мести, своего сына. Ожье побеждает Брейе, но по
внушению ангела не убивает Шарло, а ограничивается лишь символиче-
ским ударом, нанесенным ему рукой. Конец жизни Ожье проводит в мо-
настыре города Mo, и после смерти его там хоронят.
И эта поэма имеет известное историческое основание. Карл Великий,
взойдя на престол в 768 г., должен был сначала делить власть со своим
братом Карломаном. После смерти последнего в 771 г. Карл лишил его
детей наследства, и вдова Карломана бежала с ними к своему отцу, ко-
ролю лангобардов Дезидсрию, ища у него защиты. За нею последовал
туда один из виднейших ее приверженцев Аутхарий. События эти. по-
служили Карлу Великому поводом для завоевания Ломбардии в 774 г.
Кроме того, существовали какие-то предания о знатном франке Отгерии,
который умер и был похоронен в Mo. Так как имена Autchariue и Othge-
nius одинаково дают по-французски Ogier, это совпадение имен послужило
поводом для слияния преданий об обоих персонажах.
4G
РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
Менее отчетлива историческая основа пользовавшейся до конца ран-
него средневековья огромной популярностью поэмы «Четыре сына Эмона»,
или «Рено до Монтобан» («Les quatre fils d'Aymon», или «Renaud de Monr
tauban»), сохранившаяся поздняя редакция которой, написанная алексан-
дрийским стихом, относится к концу XII в. В отличие от предыдущих
поэм, здесь прямо обличается строптивость буйных вассалов, приводящая
к кровопролитной войне.
Четыре брата, Жирар де Руссильон, Эмон де Дордон, Доон де Нан-
тейль и Бев д'Эгремон, знамениты своей строптивостью по отношению
к Карлу Великому. Последний из них не желает явиться на его вызов
и даже убивает королевских послов, из которых один — сын Карла Вели-
кого Лойе. В начавшейся после этого войне Бев разбит и умерщвлен по-
досланными Карлом убийцами. Через некоторое время Эмон везет своих
четырех сыновей — Аэлара, Ришара, Гишара и Рено ко двору, где король
посвящает их в рыцари. Вскоре, однако, Рено, оскорбленный племянником
Карла — Бертоле, убивает "его и бежит в сопровождении своих братьев,
преследуемый Карлом. Большую помощь им оказывает конь Рено, Баяр
CBaïart). После долгих скитаний, братья поступают на службу к Иону,
королю Гаскони, на сестре которого Рено женится. К ним присоединяется
их двоюродный брат Можис, искусный волшебник. На службе у Иона
Рено с братьями одерживают победы над сарацинами и строят крепкий
замок Монтобан. Чтобы добыть для Роланда отличного коня, Карл устраи-
вает под Парижем скачки, на которые является переодетый Рено. Он
берет с помощью Баяра первый приз, но узнан и вынужден бежать, пресле-
дуемый Ка|рлом, который осаждает его сначала в Монтобане, затем в Дорт-
мунде. В конце концов сыновья Эмона вынуждены сдаться. Баяр выдан
Карлу, который велит его «казнить»: коня бросают в Мезу, привязав
ему жернов на шею, однако он спасается и убегает в Арденский лес.
Рено отпускают с тем, чтобы он замолил свои грехи. Он совершает палом-
ничество, затем как простой рабочий участвует в постройке кельнского
собора. Другие рабочие из зависти убивают его, и церковь объявляет его
святым.
В поэме отразились предания о гасконском короле VIII в. Эудоне
(т. е. Ионе), который боролся с Карлом Мартеллом, а также воевал с
маврами. Далее в поэму были перенесены черты из сказаний об Ожье и
Жираре де Руссильон, а также прибавлены разные сказочные мотивы.
В рассмотренных выше поэмах описываются конфликты между коро-
лем и его вассалами. Кровавые раздоры между самими феодалами, при-
чем король играет пассивную и очень жалкую роль, изображены в поэме
«Рауль де Камбре» («Raoul de Cambrai»), Эта поэма сохранилась в ре-
дакции XII в., но она восходит, как сообщает сам автор, к более старой
поэме, созданной очевидцем событий, имевших место в середине X в.
Рауль, племянник короля Людовика, после смерти отца остался без
надела, ибо феод его отца, Камбре, король отдал другому вассалу. Под
влиянием другого своего дяди, Герри Рыжего, Рауль требует у короля
владений, и тот готов отдать ему земли только что умершего графа Вер-
мандуа, но так как сыновья последнего не хотят добровольно уступить их,
король предлагает Раулю силою взять эти владения. Тщетно мать Рауля
умоляет его не обезделивать других так, как был обездолен он сам. Она
даже проклинает его, но уговоры родных и проклятие матери только оже-
сточают Рауля, который начинает беспощадную войну. Его правая рука
в боях — оруженосец Бернье, верно ему служащий, несмотря на то, что
его собственный отец находится в лагере противников Рауля. Когда в при-
НАРОДНАЯ ПОЭЗИЯ
47
падке ярости Рауль сжигает
женский монастырь, в кото-
ром находится мать Бернье,
погибающая в пламени, —
Бернье, глубоко страдая, тер-
пит это во имя вассальной
верности. И лишь после того
как Рауль, напившись, ссо-
рится с Бернье и бьет его
до крови, Бернье покидает
его и переходит на сторону
сыновей графа Вермандуа.
В одном из сражений он
встречается со своим бывшим
господином и убивает его.
Но война этим еще не кон-
чается. Ее продолжает пле-
мянник Рауля, Готье, жажду-
щий отомстить за своего
дядю. Наконец, происходит
примирение, Бернье женится
на дочери Герри Рыжего, и
мать Рауля прощает его. Че-
рез некоторое время Бернье
отправляется вместе с Герри
в паломничество, и, возвра-
щаясь оттуда, они проезжают
мимо того самого места, где
был убит Рауль. Герри узнает
его и дрожит всем телом, а
Бернье тяжело вздыхает.
Старая обида пробудилась в Герри и, пропустив вперед Бернье, он пре-
дательски убивает его сзади ударом стремени по голове. Начинается но-
вая война — сыновей Бернье против Готье, который погибает в сражении,
и Герри, который пропадает без вести.
Рауль, погибший в междоусобной войне около 950 г., король (Лю-
довик IV Заморский), сыновья графа Вермандуа и ряд других персо-
нажей поэмы взяты из действительности. Певцы-сказители отлично раз-
работали дикий характер Рауля и присочинили историю Бернье, рас-
крывающую трагические противоречия эпохи (конфликт вассальных,
родственных и человеческих чувств) и показывающую всю жестокость
и безысходность феодальных распрей, порождающих одна другую, до
бесконечности. Совершенно ничтожным представлен король, в своем бес-
силии перед натиском жадных феодалов обездоливший невольно своего
собственного племянника и затем предлагающий ему самостоятельно от-
воевать себе надел — даже не у сарацин (как в поэмах о Гильоме
д'Оранж), а у своих же земляков и собратьев—баронов.
Столь же кровавую картину феодальной разрухи и такой же образ
беспомощного короля мы встречаем в группе поэм XII в. под общим за-
главием «Лотарингцы» («Les Lorrains»), Здесь изображена внешне вы-
званная несправедливость короля П'ипина к одному вассалу, но на самом
деле порожденная завистью, жадностью, властолюбием и мстительностью
феодалов, борьба двух семей — бордосцев (les Bordelais) и лотарингцео,
рыцарь.
Скульптура Шартрекого собора (XIII в.).
48
РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
отмеченная длинным рядом предательств, клеветой и чудовищной жесто-
костью. Король бьет по лицу свою жену, попытавшуюся замолвить слово
за неугодившего ему барона. Один из героев, вырвав внутренности из
живота своего противника, хлещет ими другого врага. Отсутствие види-
мой исторической основы заставляет считать эти поэмы поздним продук-
том личного творчества, проникшегося, однако, стилем народной поэзии
и сумевшего обобщить в нескольких вымышленнных и гиперболизирован-
ных образах все зло феодализма.
Взятый в целом, французский героический эпос обнаруживает огром-
ный диапазон чувств, жизненных положений, характеров, разных «тональ-
ностей». На ряду с чертами исключительными, героическими, возвышен-
ными, мы встречаем, в нем моменты интимные, бурлескные, обыденные;
картины сражений и поединков чередуются в нем с изображением нежной
любви, горячих родственных чувств, супружеской верности; суровость ча-
сто сочетается с ласковой шуткой. Но все эти черты и мотивы, при всем
их разнообразии, являются типическими для морального и общественного
сознания людей того времени. Французский героический эпос с его боль-
шой политической проблематикой представляет собой «поэтическую исто-
рию» Франции за три с лишним века (IX—XII вв.) и вместе с тем кри-
тику самых основ ее общественно-политического устройства с широкой
народной точки зрения. Она дает целостную картину жизни нации и ри-
сует мужественную борьбу за лучший миропорядок. Героический народ-
ный эпос, как огромная прогрессивная идеологическая сила, пользуется
необычайной популярностью и живет глубокой, интенсивной поэтической
жизнью вплоть до XIII в., когда в условиях новой, нарождающейся го-
родской культуры его функции перенимает историография и общественно-
моральная дидактика.
5
Вопрос о происхождении французского эпоса и об этапах его раз-
вития представляет большую сложность. Разобраться в нем может помочь
краткая историческая справка. До последней четверти XIX в. в западной
науке господствовала теория так называемых «кантилен». Ее сторонники
(Г. Парис, Л. Готье и др.) в основном примыкали ко взглядам романти-
ческой школы филологов (в Германии— Лахман, во Франции — Форьель),
пытавшихся установить общие законы происхождения и развития герои-
ческого эпоса, единые для всех времен и народов. По мнению этих учс^
ных, эпос есть плод коллективного творчества всего народа, общее выра-
жение его «духа». Вслед за событием, взволновавшим его участников
и свидетелей, в их среде сразу же возникают краткие, эпизодические ли-
рико-эпические песни-кантилены, воспевающие это событие или те или
иные его стороны и моменты. Песни эти тотчас становятся общим достоя-
нием народа и, в течение десятков и сотен лет переходя из уст в уста,
из поколения в поколение, перепеваются, все время вариируясь. Наконец,
наступает момент, когда песни, разрабатывающие отдельные эпизоды ска-
зания, механически объединяются редактором, как главы, в одну боль-
шую, цельную поэму (теория «редакционного овода»).
Соответственно этому многие исследователи французского эпоса пред-
полагали, что по меньшей мере уже в VIII в., если не ранее, возникали
кантилены, которые примерно в X в. стали сливаться в" цельные поэмы,
позже обработанные профессиональными поэтами. При этом допускалось,
что первые кантилены возникли в дружинной среде еще на франкском
НАРОДНАЯ ПОЭЗИЯ
А9
языке, а затем уже, в подражание им, стали слагаться и французские
песни.
В последней четверти XIX в. теория кантилен, в виду отсутствия
вполне достоверных свидетельств о них на почве Франции, была взята
многими литературоведами под сомнение, и ей был противопоставлен ряд
других гипотез. Фореч (Voretzsch) отстаивал значение устных, литера-
турно не оформленных сказаний, послуживших мостом между событиями
и посвященными им поэмами. П. Райна выдвинул мнение, что француз-
ские поэмы возникли непосредственно из германских (главным образом
франкских) песенных преданий, беа промежуточных стадий французских
кантилен. Еще раньше французский фиХолог Поль Мейер доказывал воз-
можность очень раннего (в IX в.) возникновения небольших эпических
поэм на основе воспоминаний о событиях, без каких-либо германских пе-
сен или французских кантилен. Добавим, что в новейшее время некото-
рые исследователи (Кер, Гейслер) справедливо протестовали (подобно
тому, как это у нас делал уже А. Н. Веселовский) против возможности
механического соединения эпизодических песен в обширные поэмы, ука-
зывая на коренную разницу стиля тех и других, предполагающую внут-
реннюю, органическую переработку материала.
Несмотря, однако, на различия между всеми упомянутыми теориями,
общим для них является признание непрерывности эпического предания,
развивающегося первоначально путем импровизации в народной среде
и лишь впоследствии подвергающегося окончательной обработке в твор-
честве поэтов-профессионалов. Этой концепции в начале XX в. попытался
нанести решительный удар французский литературовед Ж. Бедье, являю-
щийся виднейшим представителем антидемократического направления в со-
временной западной медиевистике. В виду признания, которое теория
Бедье получила со стороны многих европейских (преимущественно фран-
цузских) и американских литературоведов сходного с ним направления,
а также того обстоятельства, что при всей ее принципиальной ошибоч-
ности она все же освещает ло-новому некоторые детали, с нею необхо-
димо познакомиться.
Исходя из факта отсутствия документальных доказательств суще-
ствования в раннюю пору эпического предания в какой бы то ни было
форме, а также из того, что древнейшие из редакций chansons, de geste,
дошедшие до нас, возникли только в начале XII в., Бедье, как последо-
вательный позитивист, отрицает существование более древних форм эпоса.
По его мнению, французский эпос зародился не ранее середины XI в.
и развился по-настоящему в XII в., ибо в XI—XII вв. для этого име-
лись особые условия, целиком будто бы объясняющие его сюжетное
и идейное содержание.
Бедье указывает на то, что XI в. был временем необычайного разви-
тия паломничеств, причем основная масса паломников устремлялась в мо-
настырь Сант-Яго де Компостела на северо-западе Испании, в Рим и, на-
конец, через Италию, в Палестину. Как раз вдоль главных дорог, которые
вели в эти места из северной Франции, был расположен ряд монасты-
рей, где были похоронены многие герои, воспетые в эпосе, и где храни-
лись нередко их доспехи и другие реликвии. Эти реликвии вызывали
большой интерес у пилигримов, заходивших в монастыри, и потому вполне
естественно, что монахи, видя в них приманку для посетителей, бережно
сохраняли предания об их владельцах, пополняя то, что им было известно
из устной традиции, чтением местных монастырских документов и даже
летописей. Такие предания, рассказываемые монахами, оказались, по мне-
4 История французской литературы—815
50
РАППИЕ СРЕДНЕВЖИОВЬЕ
нию Бедье, благодарнейшим материалом для тех жонглеров, которые также
бродили по этим путям, увеселяя паломников своим творчеством. Где
мог такой жонглер, являвшийся не только исполнителем чужих произве-
дений, но и автором, сочинителем, найти более подходящий для случая
и «выгодный» сюжет, чем мирские подвиги того святого, реликвии кото-
рого его слушатели-пилигримы только что осматривали или собираются
осматривать завтра? Вот почему, говорит Бедье, между жонглерами и мо-
нахами установилось своего рода сотрудничество: жонглеры черпали сю-
жеты для своих поэм из монастырских преданий, впервые обрабатывая
или даже создавая в XI—XII вв. эпические легенды. Взаимная выгода
была очевидна: жонглеры получали интересный и, следовательно, доход-
ный сюжетный материал, монахи — рекламу.
Таким-то образом, по мнению Бедье, «Песнь о Роланде» и самое ска-
зание о нем зародились на паломнической дороге в Сант-Яго, так как
в расположенном на ней Бордо показывали рог Роланда, в Белене — гроб
Оливье, в Ронсевальском аббатстве, кроме доспехов Роланда, также туфли
и посох Турпина и т. д. Поэмы о Гильоме д'Оранж возникли на почве
соперничества двух основанных им монастырей — Анианы и Желлоны,.
лежащих также на дороге в Сант-Яго, а сказание об Ожье — на палом-
ническом пути в Рим, с дополнительным участием аббатства св. Фарона
в Mo, на что прямо указывает встречающийся в этой поэме образ воин-
ственного аббата св. Фарона, готового предоставить для защиты отечества
несметные сокровища и армию в? 100 000 человек.
На ряду с этим крупнейшим очагом эпического творчества существо-
вал, по мнению Бедье, еще второй очаг — монастырские ярмарки в круп-
ных центрах, где также выставлялись реликвии и где происходил такой
же контакт между жонглерами и монахами. Так возникла, например, поэма
«Паломничество Карла Великого».
Теория Бедье натолкнулась, прежде всего, на ряд трудностей чисто
фактического характера. Одною из них является, например, существова-
ние «Гаагского фрагмента» (названного так по месту нахождения руко-
писи), представляющего собой отрывок прозаического пересказа на ла-
тинском языке одной не известной «ам chanson de geste, принадлежащей
к циклу Гильома. Вопреки утверждению Бедье, датирующего эту руко-
пись серединой XI в., почти все палеографы относят ее к началу этого
века, а так как наличие таких латинских имитаций возможно было лишь
при условии существования весьма уже развитого французского эпоса, это
обязывает нас допустить существование chansons de geste по меньшей мере
во второй половине X в. Далее, анализ многих поэм обнаруживает в них
(и это сейчас уже признают некоторые из недавних приверженцев теории
Бедье) ряд исторических черт, которые никак нельзя вывести из мона-
стырских легенд, а можно объяснить только их жизнью в народном пре-
дании.
Но важнее всего этого принципиальные соображения, делающие тео-
рию Бедье совершенно несостоятельной. Если стать на его точку зрения
и признать монастырско-жонглерское зарождение французского эпоса в
ХГ в., совершенно непонятным оказывается их героический стиль, их
воинственный пафос, та страстность, с какою изображаются в них собы-
тия VIII—IX вв., пронизывающее их горячее народное чувство. Необъяс-
нимым также оказывается тот факт, что Франция в течение трех веков
исключительно бурной в военном и политическом отношении жизни,
когда вся страна переживала глубокие потрясения и когда единственным
родом литературы на родном языке не только для широких масс насе-
НАРОДНАЯ поэзии
51
ления, но и для верхов обществам
была устная поэзия, — будто
бы лишена была эпических песен
или сказаний. Это было бы слу-
чаем беспримерным и противоре-
чащим всему, что мы знаем
о литературном развитии наро-
дов, переживающих соответ-
ствующую стадию развития. К.
этому парадоксальному допуще-
нию привело Бедье его стремле-
ние абсолютно игнорировать на-
родное творчество и отрицать
существование всего того, что
документально не засвидетель-
ствовано. В действительности,
конечно, процесс был гораздо
сложнее.
В основе развития француз-
ского героического эпоса, как
и всякого другого национального
эпоса, несомненно лежат народ-
ные предания, возникавшие одно-
временно с породившими их со-
бытиями или очень скоро после
них Первым очагом этих пре-
даний была дружинная среда, Подвиги Роланда.
ОТКуда, ОДНаКО, В СИЛУ СЛОЖНОСТИ Витраж Шартрского собора.
и текучести состава дружины,
они очень рано распространились
среди широких народных масс. Трудно оказать с уверенностью, какая
форма эпических преданий была господствующей и предопределившей даль-
нейшее развитие эпоса. Можно думать, что краткие, эпизодические песни
существовали на ряду с аморфными прозаическими сказаниями, но что
они сообщали, главным образом, эмоциональный стимул для дальнейшего
эпического творчества, тогда как материал для него доставлялся, главным
образом, сказаниями.
Начальным моментом всего эпического развития следует считать
IX век, ибо до этого времени господствующим в дружинной среде был
франкский язык. Вероятно, в VIII—IX вв., как и много раньше существо-
вали франкские эпические песни, подобные эпическим песням других
германских племен этой эпохи. Но к развитию французского эпоса они не
имеют никакого отношения; можно допустить, самое большее, что они
еще не отзвучали тогда, когда начали возникать первые романские песни
такого рода, вследствие чего в двуязычной среде могли проявиться черты
частичного — далеко при этом не обязательного — влияния. Грань между
германским и романским дружинно-песенным эпосом во Франции опре-
деляется не столыко даже разностью языков и этнической принадлеж-
ностью, сколько, тем, что французский эпос с самого начала и полностью
основан на совершенно других идейных предпосылках, чем франкский
эпос V—VIII вв., если он, как можно предположить, существовал.
В основе французского эпоса лежит национально-политическая проблема-
тика, и самым существенным г нем является отражение противоречий
52
РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
феодализма, которые наблюдаются во Франция, обособившейся после
раздела в 843 г. империи Карла Великого. Совершенно ясно, что франк-
ский эпос здесь не причем.
Перейдя в народ, дружинные предания были быстро и легко им
освоены, подвергшись дальнейшему очень интенсивному творческому раз-
витию. То, что их образы принадлежат сплошь к аристократической среде,
вовсе не является, как считают некоторые западные, односторонне «социо-
логизирующие» литературоведы, доказательством аристократического про-
исхождения и аристократической идеологии этого эпоса. Как отметил Ге-
гель по поводу древнегреческого эпоса, «искусство избирает для образов.. .
преимущественно определенное сословие — сословие царей. И оно поступает
так не из аристократизма и предпочтения знатных лиц, а из стремления
дать изображение полной свободы в желаниях и действиях, которая ока-
зывается реализованной в представлении о царственности».1 Таким
образом Роланд или Гильом д'Оранж, будучи крупными феодалами, могли
стать народными эпическими героями.
Вероятно, в X в., если еще не в конце IX, народные эпические (или
лирико-эпические) песни и предания были переработаны в эпические
поэмы — древнейшие chansons de geste. Конечно, эта переработка, произ-
веденная профессиональными поэтами (которые во многих случаях были
жонглерами), была выполнена не механически, но путем существенной
стилистической перестройки. Сюжеты усложняются и циклизируются,
появляются вставные эпизоды, разговорные сцены, картины душевных
переживаний. Все повествование становится обстоятельным, замедленным,
широким по сравнению с лаконизмом и композиционной сжатостью древней
эпической песни. При этом, однако, основные идейные и эмоциальные
черты старого материала сохраняются. Не меняются также и такие общие
черты стиля народной поэзии, как «постоянные эпитеты», готовые фор-
мулы для типических положений, прямое выражение оценок и чувств
певца по поводу изображаемого, простота языка, особенно синтаксиса,
совпадение конца стиха с концом предложения и т. п.
Повидимому, переход от эпизодической песни к развернутой поэме
совершился не сразу, и был по меньшей мере один промежуточный этап.
Особенности некоторых старейших из дошедших до нас версий chansons
de geste («Паломничество Карла Великого», «Песнь о Гильоме» и т. д.)
заставляют думать, что французские поэмы первой формации были не-
большого объема (1—2 тысячи стихов) и имели гораздо менее сложные
сюжеты, чем большинство дошедших до нас поэм. Это предположение
подкрепляется также тем, что мы знаем об этапах развития испанского
эпоса.
В XI в. чрезвычайное распространение этих поэм вызвало культ вос-
певаемых героев и, во многих случаях, фабрикацию монастырских релик-
вий (именно так, а не наоборот, нужно понимать, в основном, причинную
связь подмеченных Бедье явлений). Однако, в свою очередь, чрезвы-
чайный подъем церковной культуры в XI в., выразившийся, между про-
чим, в деятельности клюнийцев, обусловил до некоторой степени обрат-
ное влияние монастырей на героические поэмы, плодом которого явилось
усиление в отдельных поэмах специфических религиозных мотивов. Воз-
можно даже, что в некоторых, очень редких случаях монастырские преда-
ния дали сюжеты героическим поэмам. Так, например, сюжет «Паломни-
чества Карла Великого» мог быть почерпнут из легенды, которая рас-
1 Гегель. Лекции по эстетике, кн. I. М., 1938, стр. 195.
НАРОДПАЯ ПОЭЗИЯ
83
сказывалась в Сен-Дени и подкреплялась показом реликвий. Но поэма
могла возникнуть из такого источника лишь при условии предваритель-
ного существования широкой эпической традиции с разработанной поэти-
кой и готовыми, определенно осмысленными в народном сознании обра-
зами Карла Великого и его пэров как той основы, к которой могла быть
произведена «прививка» монашеской легенды. Так или иначе, все это
могло сыграть роль лишь позднего и незначительного добавления к ши-
роко уже развившемуся героическому эпосу с его народной тематикой и
идеологией.
Знакомство с французским героическим эпосом наблюдается в боль-
шинстве стран Европы. Ярче всего оно сказалось в оеверной Италии»
куда бродячие французские жонглеры занесли chansons de geste по край-
ней мере уже в XII в. В XIII в. на смену французским жонглерам там
явились итальянские народные певцы, так называемые cantastorie, кото-
рые исполняли эти поэмы на смешанном, франко-итальянском языке, рас-
певая их на городских площадях. Отсюда, в конце концов, эти сюжеты
перешли в поэмы Пульчи, Боярдо и Ариосто, изображающие: кроме Ро-
ланда, также и других персонажей chansons de geste — самого Карла Ве-
ликого, Рено де Монтобана, изменников из рода Доона де Майанс (итал.
Маганца) и т. п. У других народов следы знакомства с французским
эпосом мы находим в древнеисландской «Саге о Карле Великом» (XIII в.),
в уэльской компиляции «Походы Карла Великого» (XIII—XIV вв.), в
испанских романсах каролингского цикла (начиная с XV в.), в немецкой
поэме Во/ьфрама фон Эшенбаха «Виллегальм» (о Гильоме д'Оранж),
в датских народных балладах и сказках о Holger Danske (Ожье Датча-
нине), и т. п. Одному только Роланду посвящено несколько иноземных
поэм: две немецкие — попа Конрада (XII в.) и Штриккера (XIII в.),
испанская — «Ронсесвальес» (XIII в.), английская — «Осада Милана»
(XIV в ) и др.
А
Подобно тому как . у нас в старину на ряду с былинами слагались
и распевались в народе духовные стихи эпического содержания, так и в
старой Франции на ряду с героическим эпосом бытовал в народе эпос
религиозный. Его исходным пунктом были христианские легенды, и пер-
выми шагами на этом пути явились имитации на французском языке
латинских гимнов или секвенций (особый вид церковных песнопений —
речитатив, сочинявшийся на колоратуру, которою заканчивалась «алли-
луйя») на тему событий из жизни богоматери или святых.
Самый ранний образец поэзии такого рода является вместе с тем
древнейшим дошедшим до нас литературным памятником на французском
языке. Это — коротенькая (всего 25 стихов), возникшая около 890 г., так
называемая «Кантилена о св. Евлалии» («Cantilène de sainte Eulalie»), на-
писанная неправильными (как и латинские секвенции) стихами с ассонан-
сами. В ней рассказывается о мучительной казни в начале IV в., при
императоре Максимиане, испанской девушки-христианки, стойкость ко-
торой воспевали в латинских гимнах Пруденций (IV в.) и многие дру-
гие авторы:
Добрая девушка была Евлалия,
Прекрасна и телом и душой была.
Хотели ее божьи враги победить,
Заставить диаволу послужить.
84
РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
Несмотря ни на какие пытки, Евлалия не соглашается отречься от
христианства и нарушить обет девственности. Ее бросают в огонь, но она
не горит в нем. Тогда ей отрубают голову, и ее душа улетает на небо
ч виде голубя.
Сухость изложения и типично проповеднический тон этой кантилены
указывают на ее скорее клерикальный, чем народный характер. То же
самое относится и к другому очень старому памятнику французской пись-
менности— «Житию св. Леодегария» («Vie de saint Léger», X в.), напи-
санному типичным для средневеково-латинской гимнической поэзии вось-
мисложным стихом с парными ассонансами. Поэма эта является верифи-
цированным пересказом латинского жития отенского епископа второй по-
ловины VII в., убитого его врагом, меровингским мэром — графом Эброи-
ном. Здесь рассказывается о том, как Эброин сначала велел ослепить
Леодегария и отрезать ему язык, чтобы он не мог проповедывать народу.
Но бог чудесным образом исцелил епископа. Тогда Эброин подослал к
нему четырех убийц, из которых только один решился на жестокое дело.
Совсем другой характер имеет «Житие св. Алексея» («Vie de saint
Alexis», середины XI в.), небольшая поэма в 625 строк, религиозный
сюжет которой был широко освоен народно-поэтическим творчеством. Об
этом говорит уже метрическая форма ее, восходящая к размеру chanson de
geste: десятисложные строки с цезурой после 4-го слога, объединенные
в ассонансированные тирады, с той лишь особенностью, что каждая ти-
рада содержит ровно 5 стихов. Но еще показательнее стиль поэмы, почти
целиком совпадающий со стилем героического эпоса. В основе сюжета ле-
жит сирийская легенда V в., переведенная на греческий язык (причем из
греческой редакции она проникла и к нам, породив крайне популярный
духовный стих об «Алексии, божием человеке»), затем с греческого на
латинский и далее на большинство европейских языков. В «Житии св. Але-
ксея» рассказывается, как Алексей, сын «римского графа», был повенчан
отцом с дочерью другого графа, но, будучи полон благочестивых мыслей,
сразу после брака признался жене, что принес обет девственности, и тайно
ушел ночью из родного дома. Семнадцать лет провел он сначала в Лао-
дикее, затем в Эдессе, в Малой Азии, где, раздав все свое имущество,
жил милостыней. Наконец, он вернулся в Рим и, не узнанный женой и ро-
дителями, приютившими его из сострадания, прожил еще семнадцать лет
в конуре под лестницей их дома. Папа и император, извещенные голосом
с неба о великом подвиге святого, идут поклониться ему, но застают его
уже мертвым и из написанной им повести, лежащей на его груди, узнают
его историю. Алексея хоронят, и над гробницей его начинают совер-
шаться чудеса.
Несмотря на пронизывающую это произведение аскетическую идею, оно
полно движения и интереса к картинам жизни (плавание Алексея, поиски
его слугами отца и т. п.), придающим ему определенный эпический ха-
рактер в отличие от прототипа жанра — латинских гимнов, в которых ли-
ризм решительно преобладает над повествовательным или описательным
элементом. Вместе с тем замечательны теплота и искренность, с которыми
изображены чувства самого Алексея, его жены, матери, отца. Особенно
трогательно обращение матери к опустевшей после ухода Алексея ком-
нате (очень напоминающее такую же «заплачку» Пильома в «Алискансе»,
обращенную им к опустевшей зале): „«Комната,— молвила она, — никогда
больше не будешь ты украшена, никогда не будет в тебе жить радость'»
Она разорила всю комнату, словно там побывали грабители, развесила
в ней мешки и разорванное тряпье...'*
ПАРОДНАЯ ПОЭЗИЯ
55
При наличии народного религиозного эпоса, параллельного эпосу ге-
роическому, вполне естественно, что иногда наблюдается скрещение этих
двух жанров. Оно бывало двоякого рода. С одной стороны, религиозная
легенда иногда разрабатывалась целиком по схеме и в форме charisons de
geste. Такова, например, поэма «Ами и Амиль» («Ami et Amile») конца
XII в., восходящая к более ранней (утраченной) редакции XI в. Это -—
история двух самоотверженно любящих друг друга друзей/ до неразли-
чимости похожих один на другого. Ами выручает Амиля, обвиненного в
тяжком преступлении, выступив под видом его на «божьем суде». Через
некоторое время, в наказание за этот обман, оч заболевает прока-
зой и узнает, что может исцелиться, лишь омывшись в крови невинных
детей. Амиль, после краткой душевной борьбы, предлагает ему кровь
своих детей и убивает их, но после того как Ами исцеляется, бог воскре-
шает детей. Оба друга предпринимают паломничество ко «гробу господ-
ню» и на обратном пути умирают в Моотаое, в северной Италии» где они
и погребены.
Другим видом соединения героических и религиозных моментов явля-
ются эпические поэмы о крестовых походах, в которых повествование о со-
временных событиях заимствует стиль и форму chansons de geste. Правда,
все дошедшие до нас такого рода поэмы — продукт индивидуального твор-
чества, произведения лиц иной раз настолько образованных, что в каче-
стве материала они могли пользоваться латинскими хрониками. Однако
вполне возможно допустить существование предшествовавших этим поэ-
мам народных песен, сложенных участниками крестовых походов и послу-
живших, на ряду с chansons de geste, главным источником вдохновения
авторов поэм. Для народного эпического тона последних очень характерно
то, что и здесь, несмотря на близость к изображаемым событиям (авторы
иногда бывали участниками или наблюдателями их), исторические факты
поэтически обобщаются и осложняются всякой фантастикой, например,
добавлены эпизоды поединков рыцарей с оборотнями, драконами, дьяво-
лами и т. п. В целом, произведения эти проникнуты горячим энтузиаз-
мом, характерным для настроения широких масс, вовлеченных в кресто-
вые походы.
Древнейшею из известных нам поэм на эту тему является провансаль-
ская «Песнь об Антиохии» («Chanzo d'Antiochia», ок. 1125 г.) лимузин-
ского рыцаря Григория Бечады, от которой до нас дошел лишь отрывок,
быть может в переработке неизвестного лица. В поэме изображалось за-
воевание Иерусалима во время 1-го крестового похода. Той же теме по-
священа примерно одновременная севернофранцузская поэма Ришара Па-
ломника «Песнь об Антиохии и Иерусалиме» (Richard le Pèlerin, «Chanson
d'Antioche et de Jérusalem»), известная нам лишь в переработке Грендора
де Дуэ (Graindor de Douai), конца XII в. Очень характерно, что здесь
подчеркиваются и героизируются также подвиги простолюдинов.
Наконец, к тому же самому жанру примыкает отчасти провансальская
поэма (или хроника) первой половины XII в. о «крестовом походе» осо-
бого рода — о том страшном погроме, называемом «альбигойскими вой-
нами», который учинила в Провансе, в начале XIII в., коалиция северно-
французских баронов, возглавленная Симоном де Монфором, под предло-
гом борьбы с распространенными на юге ересями, на самом же деле —
ради захвата плодородных земель и богатств Прованса. Поэма эта со-
стоит из двух частей, причем автор первой, некий клирик Гильем де Тю-
дела, в общем стоит скорее на стороне «крестоносцев», между тем как
анонимный автор второй части, отражающий народные чувства и оценки,
5G
РАППБВ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
клеймит жестокость и хищничество северян, разоблачая истинные мотивы
их вторжения.
Таким образом мы видим, что в этот ранний период истории Фран-
ции, с IX по XII в., в пору гегемонии рыцарства и жестокого угнетения
народных масс, монополизирования письменности духовенством и пресле-
дования им вольнолюбивого духа народной поэзии, вся Франция, тем не
менее, оглашалась народными песнями и героическими поэмами, этими не-
посредственными или слегка литературно переработанными продуктами
народного поэтического творчества, выражавшими самосознание и идеалы
французского народа.
ОТДЕЛ II
КЛЕРИКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
(IX—XII вв.)
1
ядом с народной поэзией в продолжение всего пе-
^ риода, предшествовавшего зарождению городской ли-
тературы, развивалась клерикальная литература, по
существу своему письменная и «ученая». Она куль-
^> тивировалась одновременно на латинском и француз-
ском языках, но в огромном большинстве случаев
^' /^ произведения, написанные по-латыни, относятся к
JH сфере международной церковной культуры и гораздо
Щ менее связаны с общим развитием национальной
Ё^^^КЗш французской литературы, чем клерикальные произве-
дения на французском языке. Поэтому в нашем обзоре мы сосредото-
чимся, главным образом, на последних.
Само собой разумеется, что религиозная тематика занимает в этой
литературе господствующее место. Однако она не составляет всего ее со-
держания, и на ряду с религиозными сюжетами мы встречаем здесь до-
вольно разнообразную дидактику и даже, как мы увидим, чисто светскую
лирику. Общим и самым существенным признаком клерикальной литера-
туры является не ее религиозность, а, так сказать, «интеллигентский» ее
характер, — то, что она создавалась людьми, монополизировавшими обра-
зованность того времени и выступавшими в роли учителей и наставников
остальной части человечества. Все же, внутри клерикальной литературы мы
наблюдаем значительные идейные расхождения, соответствующие классо-
вому расслоению самого католического духовенства. В то время как верх-
ний слой его, творчество которого адресуется по преимуществу к рыцар-
ству, является проводником взглядов господствующих слоев общества,
низшее духовенство, в основной своей массе настроенное оппозиционно,
отражает в своем творчестве демократические идеи и чувства. Но и по-
мимо этого клерикальная литература, взятая в целом, постоянно черпает
материа-л своих сюжетов не только из международной латинской письмен-
ности, но и из фолыклорных, т\ е. народных источников, питающих все
поэтическое Творчество данной эпохи. Все это делает французскую кле-
рикальную литературу раннего средневековья чем-то гораздо более жи-
вым, чем обычно думают, связывает ее множеством нитей с народными
чувствами и воззрениями.
во
РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
К литературе собственно религиозной принадлежат прежде всего
многочисленные христианские легенды и жития святых. По своей попу-
лярности едва ли не первое место среди них занимают сказания эсхатоло-
гические. Помимо обычного у средневековых людей любопытства ко всему
таинственному и мистическому, сюжеты такого рода привлекали к себе
широкие массы тем, что в чудесных картинах «земного рая» или в образах
загробной кары злых и блаженства добрых все угнетенные и обездолен-
ные черпали утешение и надежду на посмертное возмездие.
Самое раннее из дошедших до нас произведений подобного рода —
англо-нормандская поэма о плавании св. Брендана, написанная вскоре по-
сле 1121 г. анонимным автором по заказу Аэлис, второй жены англий-
ского короля Генриха I. Она восходит к латинской повести «Navigatio
sancti Brendani» («Плавание св. Брендана») X в., которая в свою очередь
заимствовала чрезвычайно многое из древнеирландских языческих сказа-
ний о плаваниях героев в «страну блаженства». В поэме рассказывается
о диковинных приключениях, которые пришлось испытать ирландскому
святому, о разных чудесах, которые он и его спутники видели в море —
об острове с белыми овцами величиною с оленей, о другом острове, ко-
торый внезапно поплыл у них под ногами, оказавшись гигантской рыбой
(очевидно, китом), о единоборстве грифа с драконом, о «птичьем рае»
и т. п. Вплоть до самого Возрождения сказание о плавании Брендана бо-
лее чем какое-либо другое питало воображение смелых путешественников
и стимулировало их на далекие странствия. Одним из последних от-
кликов его является дантовская версия о причине долгих скитаний Улисса
(«Ад», песнь XXVI), объясняемых будто бы не враждебной судьбой, ме-
шавшей ему вернуться на родину, а страстным желанием открыть новые
области, «изведать мира дальний кругозор».
Другой, еще более популярной темой было изображение загробной
жизни, разработанное в целом ряде латинских «видений» (vièiones) —
Павла, Макария, Веттина и др., этих предшественников Данте. На фран-
цузском языке мы находим вариант таких сказаний, связанный с католи-
ческим учением о существовании «чистилища» — места, отличающегося от
ада тем, что души попадают сюда не за «смертные», а за более легкие
грехи, терпят лишь временные муки и по истечении срока переходят в рай.
Как и в легенде о Брендане, здесь также сыграла роль фантастика ирланд-
ских сказаний, но уже не языческих, авантюрно-героического характера,
а монастырско-христианских, также очень развитых у кельтских на-
родов.
Во второй половине XII в. произошло частичное завоевание Ирлан-
дии англо-нормандцами, откуда и ведет начало знакомство последних с пре-
даниями о св. Патрике (V в.), считавшемся «апостолом Ирландии», и в
частности — с легендой о «чистилище св. Патрика», впоследствии просла-
вленной Кальдероном в драме того же названия. Одна из латинских ре-
дакций этой легенды была переработана англо-нормандской поэтессой
Марией Французской (о которой будет речь ниже, в отд. III, в связи с
ее «лэ»).
В ее «Чистилище св. Патрика» («Purgatoire de saint Patrice», около
1185 г.) рассказывается, что Патрик, проповедуя христианство в Ирлан-
дии и натолкнувшись на сопротивление одного короля, стал молить бога,
чтобы тот явил чудо, которое подтвердило бы истинность его веры. Тогда
в горе внезапно раскрылась глубокая пещера, в которую проникнуть
решился рыцарь Оуэн. Он долго шел во мраке, пока не попал, наконец.
КЛЕРИКАЛЬНАЯ JHTEl'ATVPA «J
Убиение Фоиы Кентерберийского у подножья алтаря.
Скульптурная группа Шартрского собора.
на огромную равнину, наполненную стонами и рыданиями: это и было чисти-
лище. Одни из грешников жарились там на вертелах или мерзли в оле-
деневшем озере, другие корчились в муках, пригвожденные к земле желез-
ными шестами; у некоторых сидели на груди дьяволы, терзавшие их своими
клыками. Выйдя оттуда, Оуэн пошел дальше и увидел райские сады, но
проникнуть в них ему не удалось, и он вернулся на землю, чтобы пове-
дать о всем виденном.
Многочисленные жития святых, возникающие в эту пору на француз-
ском языке, обнаруживают у их авторов такое же влечение к фантастике
н экзотике, часто заслоняющее религиозно-назидательную идею и ориен-
тирующее внимание читателей в сторону авантюрной занимательности.
Некоторые из этих житий по яркости в них новеллистических элементов
могут рассматриваться как своего рода предшественники позднейших рыцар-
ских романов. Отсутствием подлинного религиозного пафоса и горячей
эмоциональности жития подобного рода резко отличаются от произведе-
«2
РАТТНЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
ний народной поэзии вроде «Жития св. Алексея» с их задушевной и страст-
ной трактовкой религиозной сюжетики.
Одна из самых ранних литературных обработок подобного рода
легенд — построенное на фольклорных мотивах и лишенное какого-либо
исторического основания анонимное «Житие св. Григория» («Vie de saint
Grégoire»), первой половины XII в. Григорий, плод кровосмесительной
любви брата и сестры, сразу после своего рождения выброшен родителями
из дома. Воспитанный на-стороне, после ряда приключений и рыцарских
подвигов, он, неузнанный, освобождает свою мать от восставших против
нее вассалов, женится на ней и становится властителем земель своего отца.
Узнав о своем «грехе», он искупил его тяжелым покаянием: семнадцать
л€т простоял он на скале среди моря, пока голос с неба не подтвердил его
святости и не объявил ©го достойным занять только что освободившийся
папский престол, после чего он отпускает и «грех» своей матери. Инте-
ресно, что немецкая переработка этого жития Гартманом фон Ауэ является
одним из первых образцов рыцарской романтики в Германии.
Характерна также в смысле экзотики и красочности поэма о Марии
Египетской (середины XII в.), довольно подробно описывающая жизнь
куртизанки, которую вела героиня до своего обращения.
Крупнейшим автором таких стихотворных французских житий является
нормандский поэт середины XII в. Вас (Wace), о котором в другой связи
также будет речь ниже, в отд. III. Этот клирик — первый известный нам
профессиональный поэт, живший на литературный заработок: он писал
в довольно разнообразных жанрах по заказу знатных лиц и нанимал пис-
цов, изготовлявших копии его произведений, которые он затем продавал
по дорогой цене. В написанных им житиях св. Николая, чрезвычайно
популярного в Нормандии патрона моряков, св. Маргариты, смирившей
дракона, и т. д., а также в поэме о жизни богоматери, написанной им по
случаю только что утвержденного в Англии праздника «непорочного за-
чатия», Вас обнаруживает такой же вкус к романтике, как и авторы на-
званных выше произведений.
От житий этого типа, предназначенных, главным образом, для чте-
ния клириков и лиц рыцарского общества, резко отличается возникшее
около 1175 г. «Житие св. Фомы» Гарнье или, вернее, Герна Де Пон-Сент-
Максанс (Garnier, или Guernes de Pont-Sainte-Maxence, «Vie de saint
Thomas»). Основанное не на латинских источниках или смутных преда-
ниях древности, а на живых, волнующих впечатлениях от современных
событий, оно представляет собой ранний образец страстней и смелой
публицистики. В 1170 г. слуги английского короля Генриха II убили в
Кентерберийском соборе архиепископа Фому Бекета. Народные массы,
видевшие в Бекете не только мученика за церковь, но и борца против
деспотизма короля, были охвачены возмущением, вследствие чего Генрих II
вынужден был принести покаяние и согласиться на канонизацию Бекета,
состоящуюся в 1173 г.
Прямым откликом на эти события является поэма Герна, отличаю-
щаяся большой исторической точностью, живостью и конкретностью из-
ложения, так же как страстным обличительным тоном по отношению
к Генриху II и подлинным драматизмом.
Расцвет во второй половине XII в. культа богоматери, в значительной
степени подготовленный проповедями Бернарда Клервосского (1091—1153),
сразу нашел отклик в клерикальной поэзии, породив не только упомяну-
тую поэму Васа, но и сборник стихотворных рассказов о чудесах бого-
матери англо-нормандского монаха Адгара (Adgar), около 1170 г..
КЛЕРИКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
63
частично восходящий к латинским источникам. Здесь мы находим старей-
шую из известных нам версий сказания о Теофиле, обработанного впослед-
ствии в драматической форме Рютбефом (см. ниже, отд. IV), рассказ о
больном монахе, которого богоматерь исцелила собственным молоком, и т. п.
Наивное религиозное чувство и новеллистическая занимательность сли-
ваются в этом сборнике в одно неразделимое целое.
После того как церковный собор в Туре 813 г. постановил, чтобы
церковные проповеди, ради понятности, произносились всюду не на латин-
ском, а на народных языках, стали возникать записи проповедей и на
французском языке. До нас дошел отрывок проповеди X в. на текст из
пророка Ионы, наполовину на латинском, наполовину на французском
языке. Из позднейших текстов, относящихся к началу XII в., выделяется
своей демократической тенденцией нормандская стихотворная проповедь
«Великое зло сотворил Адам. . .» («Grandmal fît Adam. . .»). Автор заяв-
ляет: «Для простого народа сочинил я попросту простую проповедь — не
для людей грамотных, у которых есть достаточно знания и всяких писа-
ний». Он подчеркивает равенство всех людей в силу их общего проис-
хождения от Адама, призывает к отречению от земных благ, указывает
богачам на образ Христа, въезжающего в Иерусалим на осле соеди про-
стого народа.
К религиозной поэзии относятся также переложения на французский
язык церковных посланий (так называемые épîtres farcies), несколько пере-
делок «Песни песней», из которых одна, самого начала ХП в., явно ими-
тирует метрику, стиль и образность chansons de toile, две поэмы о страш-
ном суде: анонимный «Стих о судном дне» («Vers du juise») и поэма мо-
наха Гелинанда «Стих о смерти» («Vers de la mort») конца XII в., полная
мрачной торжественности и проникнутая той мыслью, что смерть равняет
всех; наконец, близкий к ним по теме, восходящий к латинским образцам
анонимный «Спор души с телом» («Débat du corpis et de l'âme») начала
XII в. — на тему о том, кто из них виновнее в совершенных человеком
при жизни грехах.
Довольно значительное место в клерикальной литературе занимает ди-
дактическая литература, среди которой надо различать дидактику мораль-
ную и естественно-научную. К первой могут быть отнесены некоторые из
рассмотренных выше произведений — поэмы о страшном суде, проповеди и
т. п. Но, на ряду с этой религиозной морализацией, существовали произве-
дения светско-морализующего характера, хотя и они, без сомнения, были
написаны клирикам». Старейшие из них — анонимная провансальская поэма
о Боэции («Boecis»), начала XI в., от которой сохранился только отрывок.
В ней рассказывается жизнь римского философа Боэция, консула и дове-
ренного лица остготского короля Теодориха Великого, который в конце
концов все же заподозрил Боэция в измене и казнил его в 525 г. Цен-
тральный момент поэмы — приход в тюрьму к Боэцию, с целью его уте-
шить, девы необычайной красоты, под которою следует подразумевать
философию или, что в понимании христианского автора одно и то же,
теологию. Главным источником для поэмы послужил трактат Боэция, на-
писанный им в тюрьме, — «Об утешении с помощью философии», про-
никнутый идеями античного стоицизма, которые были переосмыслены
провансальским клириком в духе внешне близких им христианско-аскети-
ческих воззрений. Переложение названного трактата Боэция мы находим
также в англо-нормандской поэме конца XII в. Симона де Френ «Роман
о Философии» (Simon de Freine, «Roman de Philosophie»), с тем лишь
отличием, что здесь оно имеет форму диалога между клириком и Фило-
64
РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
Софией. Стоицизмом также сильно окрашена анонимная французская пе-
реработка конца XII в. латинского сочинения испанского еврея Петра
Альфонса (начала XII в.) «Поучение для духовных лиц» («Disciplina
clericalis») — сборника назидательных рассказов.
Что касается дидактики естественно-научной, то почти все относящиеся
к ней произведения эпохи имеют своим главным источником греческий
трактат «Физиолог», возникший в Александрии во II в. н. э. Анонимный
автор его, черпая свои сведения частью из Аристотеля, частью из Библии,
частью из устной традиции, дал описание некоторых, нередко баснослов-
ных свойств животных, присоединив к этому аллегорическое истолкование
их, согласно которому одни из зверей оказывались выражением божествен-
ного начала, другие — дьявольского. Переведенный в IV или V в. на ла-
тинский язык, трактат этот оказал в романских странах заметное влияние
на изобразительное искусство (фигуры зверей в церковной скуль-
птуре), а, кроме того, явился основой ряда небольших французских
поэм.
Из нескольких «бестиариев» (трактатов о животных,), восходящих
к «Физиологу», старейший был составлен в Англии, около 1125 г., Фи-
липпом де Тан (Philippe de Thaon), посвя-гивигим его королеве Аэлис.
Здесь символическое толкование животных и их свойств разработано до
тонкости. Птица феникс, сжигающая себя на костре и затем восстающая
из своего пепла, означает (signifie, как говорит автор) воскресение
Христа; пеликан, питающий своих птенцов собственной кровью, также
означает Христа, пролившего свою кровь для искупления рода человече-
ского; сирена, губящая своим пением моряков, означает богатства мира
сего, которые усыпляют человеческие души и губят их (мореход — душа,
корабль — тело, море, по которому он плывет—земной мир). Про лисицу
рассказывается, что, желая поживиться добычей, она прикидывается мерт-
вой; птицы садятся на нее, как на падаль, и тогда она ловит их и ест.
Лисица означает дьявола, который также «притворяется мертвым», чтобы
вернее поймать человеческие души.
Наивное любопытство (у Филиппа рассказывается про таких дико-
винных «животных», как единорог, сирена, феникс) и жажда христианской
назидательности находят в этой книге одинаковое удовлетворение. Все же
следует первый из этих двух моментов признать основным, таж как в дру-
гих произведениях подобного рода второй вовсе не обязателен. Так, на-
пример, в старейшем из сохранившихся французских «лапидариев» (трак-
татов о камнях), также начала XII в., дано описание свойств нескольких
десятков различных камней, приведенных в алфавитном порядке, без вся-
кого упоминания о каком-либо символическом их значении.
Тому же Филиппу де Тан принадлежит еще стихотворный «Кален-
дарь» («Comput», около 1115 г.), в котором он, явно желая оказать
помощь малообразованным священникам, в деловитой и сухой форме из-
лагает деление года на месяцы, недели и дни, дней — на часы, приводит
даты и способы времяисчисления христианских праздников и т. д. Все же
он не может удержаться, чтобы не присоединить к своим чисто практи-
ческим указаниям разные «аллегорические толкования в духе «бестиария».
2
Особую, художественно очень значительную область религиозной
литературы образует церковная драма — эта самая ранняя из организо-
ванных форм средневекового театра. Ведя борьбу с народно-обрядовыми
КЛЕРПКАЛЬПАЯ ЛИТЕРАТУР4
6ô
играми светского и полу
языческого характера, цер-
ковь постепенно создала,
в целях религиозной про-
паганды среди народных
масс, свой собственный,
религиозный «театр», ис-
пользовав для этого те
театральные — игровые
или декоративные — мо-
менты, которые имелись
в католическом богослу-
жении. Сюда относятся
музыка, пение, пышные
одеяния и размеренные
движения церковнослужи-
телей, даже некоторые
элементы бутафории: так,
например, во время рож-
дественского богослуже-
ния около алтаря стави
лись ясли в воспоминание
о легендарных подробно-
стях рождения Христа, во
время пасхального — че-
рез церковь проносилось
копье, напоминавшее мо-
лящимся о том копье, ко-
торым римский легионер
будто бы пронзил бок рас-
пятого Иисуса, и т. п.
Первым зародышем драмы явились так называемые антифоны
или респонсории, т. е. обмен репликами (состоявшими целиком из
библейского текста) между хором, изображающим совокупность верую-
щих, и священником, или между двумя полухориями. С IX в. эти диало-
гические отрывки расширились путем тропов, т. е. диалогизированных
парафраз библейского текста; например, в утро Пасхи, когда поминалось
распятие и погребение Иисуса, священник, изображавший Марию Магда-
лину, восклицал: «Кто отвалит камень от входа в гробницу?» Мальчик,
изображавший ангела, вопрошал: «Что вы ищите?» Священник отвечал:
«Иисуса распятого из Назарета», и т. д. Но для позднейшей религиоз-
ной драмы не менее важным источником, чем этот элементарный текст,
послужили сопровождавшие его пантомимические сценки с соответ-
ствующим декоративным оформлением. Так, например, во время рожде-
ственского богослужения наглядно изображалось поклонение лежащему
в яслях младенцу Иисусу пастухов, затем трех восточных царей («волх-
вов»), приносящих ему богатые дары, во время пасхального — снятие
Иисуса с креста, затем приход к его гробнице «трех Марий» (его матери,
Марии Магдалины и Марии Заведеевой, упоминаемых в Евангелии)
с целью затереть его тело благовониями.
Древнейшие из известных нам тропов, засвидетельствованные, правда,
в Швейцарии, северной Италии и Англии, но существовавшие без сомне-
ния и во Франции, — рождественский и пасхальный тропы, относящиеся
5 История французской литературы—813
Амьенский собор (первая половина XIII в.).
66
РАННЕЕ СРЕДПЕВЕКОКЬК
к IX—X вв. Но существовали также и другие тропы — на тему о «страш-
ном суде», о «мудрых и неразумных девах» (евангельская притча) и т. п.
При этом небольшие сценки, вроде упомянутых выше, первоначально
исполнялись отдельно (в одной церкви одна, в другой другая, или, мо-
жет быть, все они в одной и той же церкви, но в связи с разными цер-
ковными службами), а затем стали объединяться в более крупные, цикли-
зованные представления. Так, например, поклонение пастухов и поклонение
волхвов были слиты вместе, причем к ним присоединили еще «плач Ра-
хили», изображавший скорбь еврейских матерей, вызванную избиением их
новорожденных детей Иродом. Все это вместе составило одну цельную
рождественскую пьесу, и точно таким же способом образовалась другая
пьеса, пасхальная.
Такие сложные, развернутые тропы или богослужебные инсценировки
носят название литургической драмы, основные признаки которой
в X—XI вв. следующие: во-первых, весь текст — латинский, извлеченный
из Библии, лишь с очень небольшими добавлениями и переделками, и при-
том целиком положенный на музыку, напевный; во-вторых, пьеса испол-
няется внутри церкви, около алтаря, с очень скромной бутафорией, причем
исполнителями являются исключительно духовные лица.
Однако уже к концу XI, а особенно в XII в. литургическая драма
заметно секуляризируется (обмирщается), постепенно теряя связь с бого-
служебным обрядом и все более проникаясь светскими литературно-теат-
ральными элементами. Прежде всего, в латинский текст, ради общепонят-
ности, начинают вставлять отдельные французские слова или фразы, пока
не возникают типически двуязычные тексты, как, например, «Sponsus»
(букв. «Супруг», на тему притчи о мудрых и неразумных девах), начала
XII в., где к 48 латинским стихам добавлено 46 французских. Повиди-
мому, к середине XII в. /переход на французский язык уже завершился.
В связи с этим появилась и большая свобода в парафразировании библей-
ского текста, вплоть до присочинения отдельных мотивов или небольших
эпизодов, по большей части бытового, комического и вообще светского
характера; например, перед тем как «мироносицы» отправлялись умастить
тело Иисуса, снятое с креста, показывалось, как они покупали у торговца
благовония. Одновременно усилившийся интерес к зрелищности вызвал
расширение декоративных, бутафорских и вообще игровых элемен-
тов.
Если высшее духовенство уже раньше относилось подозрительно к раз-
витию литургической драмы даже в ее библейско-латинской оболочке,
опасаясь «профанации» богослужения, то теперь оно начало проявлять
сугубую осторожность. Пьесы такого рода стало уже неудобным ис-
полнять в церкви, около алтаря. Они отрываются от обряда и вытесня-
ются сначала на паперть, затем на улицу i перед церковью, наконец на
городскую площадь. Некоторое время исполнителями еще остаются
клирики, но затем, отчасти уже вероятно в XII в., их сменяют горо-
жане.
Эта эмансипация религиозной драмы от церкви знаменует собою
начало драматического творчества в собственном смысле слова: если раньше
все дело сводилось лишь к монтажу библейского текста (выборка ци-
тат, их расстановка и легкое ретуширование), то теперь возникает свободное
сочинительство на основе этого текста. Переход этот отмечает также момент
зарождения театрального искусства во Франции. Впервые возникает зре-
лищность в собственном смысле слова, так же как и актерское мастерство.
Представления происходят утром, в праздничные и воскоесные дни, перед
КЛЕРИКАЛЬНАЯ ЛПТВРАТ1РА
67
мессой. Они разыгрываются на помосте, сооружаемом специально для
каждого спектакля посреди городской площади. Со всех сторон эту импро-
визированную сцену обступает толпа зрителей, а часть их, чтобы лучше
видеть, располагается на крышах соседних домов. Отдельные части бортов
помоста, соответственным образом — хотя, конечно, чрезвычайно прими-
тивно— оборудованные, изображают различные места действия (Иеруса-
лим, Рим, ад, рай и т. п.), где разыгрываются поочередно разные явления
пьесы. Средняя часть сцены обозначает нейтральное место действия, как,
например, проезжую дорогу, пустынное место и т. п. Декораций и занавеса
нет, но уже существует довольно разнообразная бутафория и некоторые
машинные эффекты: гремит гром, по дереву ползет искусственная змея,
изображающая дьявола, деревянные лошади или верблюды преклоняют
колена перед младенцем Иисусом и т. п. У актеров появляются разнооб-
разные, живые интонации, богатая мимика и жестикуляция, очевидна
невозможные прд исполнении в церкви. Развитию экспрессии особенно
содействовала роль дьявола, насыщенная акробатическими и балаганными
моментами, так как, согласно народно-жонглерской (скоморошьей) тради-
ции, нашедшей опору в учении церкви, дьявол должен был казаться не
только страшным, но и смешным.
Единственный дошедший до нас образец такой «полулитургической»
драмы, несомненно чрезвычайно популярной в XII в., — анонимная англо-
нормандская "пьеса середины века «Игра об Адаме («Jeu d'Adam»), уже
не напевная, а целиком разговорная. Она принадлежит к рождественскому
циклу, так как ею иллюстрируется значение рождения Христа как осво-
бодителя человечества от «первородного греха», виновником которого
явился Адам. Пьеса разделяется на три части. В первой изображается
«грехопадение» Адама и Евы, вкусивших запретного плода от древа по-
знания добра и зла, во второй — первое последствие рокового проступка,
проникновение в мир зла в виде убийства Каином Авеля. Здесь автор
позволяет себе отступление от библейской хронологии: тогда как там
убийство Авеля было совершено еще при жизни родителей, в пьесе, ради
стройности композиции, Адам и Ева умирают в конце первой части,
а вторая целиком посвящена второму поколению. При всей незначитель-
ности этой детали такая победа художественного момента над церков-
ным учением для истории средневековой драматургии чрезвычайно
важна. В третьей части должно было бы быть изображено рождение
Иисуса.
Однако, для того чтобы избежать смешения сюжета из Ветхого завета
с новозаветным, появление самого Иисуса заменено в пьесе серией проро-
честв о нем: один за другим выступает ряд древнееврейских пророков
(среди которых неожиданно вклинивается античная Сивилла), предве-
щающих пришествие искупителя. Такой «перспективный» финал произво-
дил определенный художественный эффект.
Мы находим в пьесе довольно живой диалог, ряд занятных комиче-
ских черточек, первый намек на создание драматических характеров: та-
ковы простодушный флегматик Адам, легкомысленная увлекающаяся Ева,
хитрый казуист дьявол. Очень любопытна сцена искушения дьяволом
Евы. Прежде чем приступить к делу, он искусно подготовляет почву.
Он хочет сообщить Еве «великий секрет», но с условием, что она не вы-
даст его. Ева, любопытство которой возбуждено, обещает это, но дьявол
еще не покончил со своими предисловиями. Он замечает, словно невзна-
чай, что Адам «изрядно глуп». — «Немножечко жестковат», — поправ-
ляет его Ева. «Да, он жестче ада, но скоро станет мягким», — говорит
Î8
РАПНЕЕ СГЕДПЕВЕКОВЬБ
дьявол. «Но он очень прямодушен», — вставляет Ева, которая еще пы-
тается защищать Адама. «Нет, — возражает дьявол, — он просто рабо-
лепен. Если уж он не хочет добра самому себе, то хоть бы о тебе поза-
ботился! Ведь ты — слабенькое и нежное создание, ты свежее розы и
белее кристалла или снега, падающего на оледеневшую равнину. Плохую
пару составил из вас творец: ты слишком нежна, он слишком тверд.
И, однако, ты гораздо умнее его. Вот почему я предпочитаю говорить
с тобой. . .» Эти льстивые слова окончательно покоряют Еву, и теперь
для дьявола не представляет уже никакого труда уговорить ее отведать
запретного яблока.
Литургическая драма пользовалась широкой популярностью среди на-
родных масс. Вполне естественно, что с течением времени она все более и
более насыщалась демократическими элементами. Пьесы вроде «Игры об
Адаме», так далеко зашедшей на пути секуляризации, во многих отноше-
ниях уже перерастают понятие клерикальной литературы.
В XI—XII вв. появляются также латинские инсценировки разных эпи-
зодов, преимущественно — «чудес», из жизни святых или богоматери, раз-
вившиеся из монастырского обычая читать во время трапезы, в дни празд-
нования соответствующих—святых, отрывки ич их житий. Эти инсцени-
ровки послужили образцом для возникновения в XII—XIII вв., уже в
условиях развития городской литературы, драматического жанра «мирак-
лей», который будет нами рассмотрен в соответствующем месте (отд. IV,
гл. 1),
5
От всех этих жанров клерикальной литературы, серьезных по своему
тону, назидательных и в большей или меньшей степени проникнутых рели-
гиозными идеями, резко отличается совершенно светская и очень вольная
поэзия на латинском языке, называемая поэзией вагантов или го-
лиардов. Оба эти названия, почти синонимические, имеют условный
характер и далеко не покрывают явления в целом. Первое из них, предпо-
читаемое большей частью немецкими учеными, происходит от латинского
слова vagantes («бродячие люди») и представляет собою кличку, которую
противники этих дерзких поэтов-клириков давали им на том основании, что
очень многие из них, по крайней мере в XII—XIII вв., вели бродячее, ни-
щенское существование. Что касается второго названия, являющегося шу-
точной кличкой, которую эти поэты часто давали себе сами, начиная, по-
видимому, уже с IX в., то происхождение его неясно. Во многих текстах
эпохи оно связывается с именем Голиафа (Golias). Действительно, го-
лиарды нередко сами называли себя «племенем Голиафа», «людьми
Голиафа» («gers Goliae», «familia Goliae»), вкладывая в это, должно быть,
следующий смысл: поскольку «благонамеренные» церковники любили срав-
нивать себя с библейским царем Давидом, который в молодости победил
филистимского (языческого) великана Голиафа, — враждебные им, бун-
тарские слои клириков дерзко избрали своим «патроном» этого самого
Голиафа. Более того, его имя стало нарицательным для обозначения не-
которых особенно выдающихся голиардов; отсюда—названия отдельных
стихотворений: «Исповедь Голиафа», «Апокалипсис Голиафа», и т. п.
Однако весьма вероятно, что это лишь позднейшее осмысление слова
goliardus, которое, как думают, происходит от латинского слова gula
(«глотка»), по линии двойного смыслового развития: «крикуны» и «пья-
ницы, обжоры», в обоих случаях в смысле протеста против всякого аске-
тизма и «смиренномудрия». Так или иначе название «голиарды» значи-
КЛЕРИКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
G9
тельно шире и содержа-
тельнее чем «ваганты», и
вполне основательно фран- I
цузские и английские ис-
следователи отдают ему
предпочтение.
В общем, поэзия го-
лиардов— явление между-
народное, наблюдавшееся
не только во Франции,
но и в Германии, Англии,
северной Италии. Это по-
эзия всех недовольных и
свободомыслящих клири-
ков, каких всегда было
немало, начиная с первых
веков феодализма. В чис-
ле голиардов были пред-
ставители низшего духо-
венства, влачившие ни-
щенское существование,
но иногда, без сомнения,
и носители более высоких
церковных чинов, возвы-
сившиеся до критического
отношения и окружающе-
му, учителя и воспитате-
ли (репетиторы, педеля)
университетов или школ,
секретари прелатов, де-
классированные клирики,
потерявшие свою должность, буйные и свободолюбивые школяры,
иногда такие, которые, разочаровавшись в богословской учебе,
бросали ее, предпочитая голодное, но вольное существование. Уже
во времена Меровингов появляются озорные латинские песни, паро-
дирующие богослужение и библейские тексты. У Седулия Скотта, латин-
ского поэта, родом ирландца, жившего во Франции в середине IX в., мы
находим уже почти все жанры поэзии голиардов. Но расцвет ее прихо-
дится на XII—ХШ вв., когда всюду в Европе, и в частности во Фран-
ции, чрезвычайно развиваются школы и университеты. С одной стороны,
обилие студентов-богословов вызывает перепроизводство кандидатов на
церковные должности, вследствие чего многие остаются без места и по-
полняют собой ряды недовольных, из которых и выходят, главным обра-
зом, голиарды. С другой стороны, студенты часто ведут бродячее суще-
ствование, передвигаясь шумными толпами за своими профессорами, не-
редко переезжающими из города в город. Во время вакаций, бывших три
раза в году, студенты, в большинстве своем бедняки, оказывались предо-
ставленными самим себе; скитаясь по стране в поисках пропитания, они
нередко нищенствовали, выпрашивая подачку за исполнение своих латин-
ских песен. Очень часто такие бродячие певцы-школяры, — так же как,
при случае, вообще деклассированные клирики всякого рода, — уподоб-
лялись жонглерам в полном смысле этого слова, с тем лишь отли-
чием, что эта деятельность их нередко была временной и что обслужи-
Аристотель.
Скульптура Шартрского собора (XII в.)
70
РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
валя они только маленький мирок клириков и грамотеев, сколько-нибудь
смысливших в латыни. В это самое время и утверждаются названия —
голиарды и ваганты (clerici vagi, vagantes). Но характер этой поэ-
зии имеет более глубокие корни, и бродячие школяры не создали цели-
ком новый род поэзии, а лишь продолжили старую традицию, являясь
к тому же в подавляющем большинстве случаев не авторами, а только
'Исполнителями чужих ' песен, иногда, быть может, почтенной дав-
ности.
На этот более общий характер поэзии голиардов указывают известные
нам имена ее наиболее даровитых и прославленных авторов. Голиардом
был Абеляр (1079—1142), слагавший в честь Элоизы любовные песни, к
сожалению не сохранившиеся. Огромную популярность (отклик которой мы
находим в «Декамероне», день I, новелла 7) снискал себе Гюг Орлеанский
(род. ок. 1095 г.), известный под шутливым, но вместе с тем гордым
прозвищем, которое он сам себе дал — Примас (Primas — почетный титул
некоторых архиепископов) —грамматик, университетский репетитор, оста-
вивший нам блестящие по1 легкости и остроумию стихи, полные беспощад-
ной сатиры и циничных признаний. Весьма почтенную фигуру предста-
вляет собой Готье де Лилль (Gautier de Lille, по-латыни Gualterus de
Insula), переменивший свое имя на Готье де Шатильон (Chatillon) после
того как он открыл в этот^ городе собственную школу. Серьезный писатель,
автор одной из французских поэм об Александре Македонском и некото-
рых богословских трактатов, он в своих голиардических стихах культиви-
ровал «высокую» сатиру, обличая хищничество Рима и т. п. Готье де
Шатильон умер в конце XII в. в чине каноника. Его современник, англи-
чанин Серлон де Вильтон (Serlon de Wilton), обучал в Париже студентов
в качестве грамматика, затем стал монахом в одном из французских мо-
настырей и в старости выражал раскаяние по поводу своих юношеских
стихов, полных смелой эротики.
Сатиры против Рима и папства, в стиле поэзии голиардов, писал
также один из сановников церкви начала XIII в. Филипп / (Philippe),
канцлер собора Парижской богоматери, автор нескольких богословских
трактатов.
Поэзия голиардов -состоит, с одной стороны, из песен сатирических,
с другой стороны — из таких, в которых воспеваются радости жизни. Голи-
арды беспощадно клеймят лицемерие, неправосудие, обман, жадность,
скупость, подкупность, разврат, царящие вокруг папского престола и
даже на нем самом. Конечно, тема эта была очень актуальной в конце
ХИ и в XIII в., когда королевская власть во Франции боролась с Римом
за право распоряжаться церковными богатствами. Но и здесь происхо-
дит лишь обострение тенденции, которая существовала в вольнодумной
средневековой латинст*ой поэзии уже задолго до этого. Голиарды обли-
чают порочность и корыстолюбие епископов, богатых прелатов, так же
как и тунеядство и лицемерие монахов. Всему этому голиарды противо-
поставляют не суровый аскетический идеал, а беспечное веселье, упоение
радостями жизни, культ Вакха и Венеры. Любовь в песнях голиардов
имеет всегда откровенно чувственный, материальный характер. Предметом
ее почти никогда не является замужняя женщина; обычно это девушка,
но иногда также куртизанка. В легких ритмических стихах, полных за-
дора, лукавых шуток, смелых образов, нередко реминисценций из Овидия,
голиарды воспевают наслаждения, доставляемые любовью и вином. Вак-
хическая тема занимает в их поэзии очень видное место. «Пей!»—одна
из главных заповедей голиарда.
КЛЕРПКАЛЬПАЯ ЛИТЕРАТУРА.
71
До нас дошла голиардическая пародия на мессу, в которой служение
Христу заменено славословием Вакху. Таверна, игра в кости, любовь
красотки, добытая уговорами или силой, песни, шутки, вино — вот идеал
жизни голиарда. Ничто так ему не отвратительно, как скупость, серьез-
ность, аскетическое настроение. Этот почти языческий идеал в своих са-
мых дерзких проявлениях граничит с кощунством, никогда однако не
переходя в сознательный атеизм. Анархический эпикуреизм и наивная
религиозность вполне уживались между собой в мировоззрении голи-
ардов.
При всем вольномыслии и бунтарстве поэзии голиардов (carmen re-
belle, «бунтарская песня» — так они часто называют свои произведения)
было бы неверно считать ее «революционной» или даже отчетливо демо-
кратической. Правда, в ней можно найти кое-какие черты полемики с ры-
царством. До нас дошло два диалогических произведения XII в. — «Спор
Филлиды и Флоры» и «Собор з Ремиремоне», в которых ставится во-
прос— чья любовь предпочтительнее, рыцаря или клирика, и разрешается
в пользу второго: клирик и телесно и морально в состоянии лучше убла-
жить красотку; он богаче, что важно в смысле даров; он умеет лучше
угождать любимой и восхвалять ее: любовь его во всех отношениях тоньше.
Рыцарь, правда, готов всегда умереть за возлюбленную, но какой толк
в этом? Лучше весело и сладко жить, а по этой части самый большой
мастер — клирик.
Однако эти выпады против рыцарства имеют случайный характер,
тогда как в отношении прочих сословий — грражан и крестьян — голи-
арды не скрывают своего глубокого презрения. Они утверждают свой
аристократизм ума, а!ристократизм культуры, гордо противопоставляя себя
остальной части человечества.
Источники поэзии голиардов — двоякие. С одной стороны, это —
усвоенная ими в, школе языческая римская поэзия, с ее мифологией, чув-
ственным отношением к жизни, чертами реализма, орнаментацией поэтиче-
ской речи. Но на ряду с этим мы находим в ней явное отражение образов
и тем народной поэзии. Особенно это касается песен, восхваляющих весну,
любовь, радость жизни и вино. Тесно связанные с музыкой, они нередко
носят хороводный и плясовой характер. В эротической поэзии голиардов
иногда сильнее звучит разгул весенней народной обрядности, чем подража-
ние школьным образцам.
С середины XIII в. поэзия голиардов начинает замирать, а в XIV в.
исчезает совсем. Это объясняется не столько упорядочением в середине
XIII в. школьно-студенческой жизни и суровыми мерами, которые прини-
мались светскими и духовными властями против бесчинств, творимых
«бродячими клириками», сколько тем, что к этому времени латинско-
клерикальная поэзия голиардов уже выполнила свою роль до конца, и ее
функции переняла другая социальная сила, поднимающаяся в XIII в. —
буржуазия, литература которой поглотила в себе клерикальную литера-
туру. Отныне мотивы голиардической поэзии будут звучать уже в поэзии
городской, на народном языке, и на Рютбефа или Вильона мы должны
смотреть не как на запоздалое и косвенное отражение поэзии голиардов,
а как на прямое и естественное продолжение ее традиций.
Последний момент может быть обобщен и положен в основу оценки
исторической роли клерикальной литературы IX—XII вв., взятой в целом.
Будучи литературой не столько специфически религиозной, сколько вообще
школьной и «просветительной», включавшей в себя религиозные элементы
в той мере, в какой они были обязательны для всякой «образованности»
72
РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
того времени, клерикальная литература оказалась той формой творчества,
в которой, под оболочкой господствующего религиозного мировоззрения,
происходило столь плодотворное для дальнейшего литературного развития
соединение народных и ученых (античных) элементов, подготовлялось ро-
ждение будущих больших литературных жанров (рыцарский роман и но-
велла, рыцарская и городская лирика, дидактика, драма), формировалось
личное самосознание поэта, закладывались основы поэзии как организо-
ванного профессионального творчества. Всем этим клерикальная литера-
тура сыграла в развитии средневековой французской поэзии весьма суще-
ственную и положительную роль.
ОТДЕЛ III
РЫЦАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
(XII—ХIII вв.)
I
^jj^^All в. заканчивается формирование феодализма. Ukoh-
^ ^«^чательно устанавливается феодальная иерархия, и ры-
È царство, которое в эту пору сословно оформляется, за-
^РЦ^крепляет свою политическую и общественную гегемонию.
""" ,п ~ социального значения
|Рост внешнего благосостояния
приводит к тому, что рыцарство и 8 культурном отно-
шении очень быстро вооружается. Развитие внешней
торговли, в частности с Востоком, а особенно первые
крестовые тгоходы, чрезвычайно расширяют его умствен-
ШРЩ\ ный кругозор, знакомя его с целым миром новых форм
жизни, понятий, поэтических сказаний, с продуктами во многих отноше-
ниях более сложной и тонкой культуры. Отсюда — вкус ко всему редкому,
«красивому», изысканному.
Развитие рыцарства происходит в обстановке первоначального подъема
средневековых городов. Вступая в контакт с верхушкой городского патри-
циата, включаясь в зарождающиеся денежные отношения, рыцарство не
только становится главным (чтобы не сказать единственным) потребителем
самых ценных заморских товаров и лучших продуктов, поставляемых цехо-
вым производством, но и приобщается к умственным течениям, развиваю-
щимся в городах.
XII век — эпоха расцвета схоластической учености. В крупнейших
центрах Франции — в Туре, Анжере, Блуа, Шартре, Орлеане, — возни-
кают новые школы и расцветают старые, в которые толпами стекаются
ученики со всех концов Франции. Знаменательно, что на ряду с богослов-
ской «наукой» здесь уже намечаются ростки светской учености. В частности
в парижском университете и в главнейших епископских школах культиви-
руется изучение латинских авторов — Вергилия, Овидия, Горация, Цице-
рона, Лукана, Стация, влияние которых начинает оказываться в худо-
жественной литературе. Можно сказать, что клирики XII в. знали
почти всех латинских авторов, известных нам сейчас. Составители не-
скольких латинских поэтик, возникших в этом, веке во Франции и в Анг-
лии— Бернард Шартрский и другие — усиленно призывают писателей
подражать древним. À параллельно процветает возникшая еще значи-
7C
РАННЕЕ СРЕДПЕВЕКОВЬВ
тельно раньше новолатинская поэзия клириков-вагантов, чисто светакая и
жизнерадостная, пользующаяся античным аппаратом языческих образов
и понятий.
В вопросах религии наблюдается сильнейшее брожение мысли. Одна
за другою возникают ереси, которые в большинстве своем носят демокра-
тический и оппозиционный характер. Крупнейшими из них на юге
Франции были вальденство и манихейская ересь, которая иначе
еще называлась альбигойской, от имени города Альби в Провансе,
сделавшегося главным центром ее. Как указывает Энгельс, «ереси пред-
ставляли из себя отчасти выражение реакции патриархальных альпийских
пастухов против проникающего к ним феодализма (вальденсы) ; частью
оппозицию феодализму со стороны выросших из его рамок городов (аль-
бигойцы, Арнольд Брешианский и т. д.) ; частью открытые восстания кре-
стьян (Джон Болл, венгерский мастер в Пикардии и т. д.)». 1 Мистиче-
ские и аскетические тенденции, типичные для южнофранцузских ересей,
объясняются тем, что враждебность народных масс к гнету феодального
строя, при полном их бессилии изменить этот строй, облекалась в учение
о «греховности» мира и собственности. Исходя в области догмы из дуали-
стического учения о создании мира наполовину богом, наполовину дьяволом,
альбигойская ересь пришла к отрицанию церковной иерархии и уравнитель-
ным тенденциям. В XII в. было созвано более 300 церковных соборов для
«исправлений» веры и нравов. Тем не менее, отголоски ересей проникали
даже в высшие центры схоластической науки, напр., в парижский универ-
ситет, где на исходе XII в. Амори де Шартр публично проповедывал
пантеистическую доктрину, согласно которой каждый человек — член тела
Христова и содержит в себе частицу божества. Из его учения, осужден-
ного церковью, выросла другая ересь — «религия святого духа», царство
которого будто бы уже наступило, сменив собой царство бога-отца и сына
(с. е. «ветхий» и «новый» завет). Более известным примером свободомы-
слия является философия Абеляра, боровшегося с так называемым «реаг
лизмом» (доктриной о самостоятельном существовании «общих идей» или
«понятий» в качество сущностей) и вместе с тем отвергавшего церковное
учение о «первородном грехе», нисхождение на человека «божественной
благодати» даже мимо его води, власть священнослужителей — даже не-
достойных — отпускать грехи и руководить человеческой совестью до мо-
мента лишения их духовного сана.
Все эти культурные и интеллектуальные приобретения осваиваются
в первую очередь рыцарством, которое заметно перестраивается. Его быт
и нравы, конечно, еще сохраняют свою первоначальную грубость, и фео-
дальные войны и грабежи попрежнему остаются основным его занятием,
однако на ряду с этим в передовых кругах рыцарства уже намечаются
ростки светской культуры.
Об руку с любовью к роскоши и стремлением всячески эстетизировать
жизнь развивается щедрость, которая отныне считается обязательным
признаком рыцарского «благородства» и выливается нередко в формы бе-
зумного мотовства. Если раньше щедрость была чем-то дополнительным
к рыцарской доблести, то теперь она становится первостепенной доброде-
телью, и в рыцарской поэзии XII в. мы встречаем целый ряд тенцон
(«прений») на тему о том, что более украшает рыцаря, что стоит выше —
доблеоть (prouesse) или щедрвсть (largesse).
1 Крестьянская война в Германии. К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. VIII,
стр. 129
РЫЦАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Ï7
Но щедрость в таком ее понимании — лишь один из элементов нового
рыцарского кодекса «благородства», покрывающегося общим поня-
тием— куртуазия (courtoisie). Рыцарь должен быть не только смелым,
верным и щедрым — он должен быть также учтивым, изящным, привле-
кательным в обществе, уметь тонко и нежно чувствовать. В программу
воспитания рыцаря входит обучение не толыко военному делу и охоте, но
и разным светским играм, как, например, тавлеи (нарды или «трик-трак»),
шахматы и т. п., искусству играть на музыкальных инструментах, танцо-
вать, петь, слагать стихи, ухаживать за дамами. К героическому
идеалу присоединяется другой идеал — эстетический. Впервые воз-
никает нечто вроде салонной культуры. При дворах некоторых феода-
лов образуются светские кружки, в которых первую роль играет хозяйка
дома. Общественное положение женщины — в общем, конечно, еще крайне
приниженное —в передовых слоях крупного рыцарства заметно улуч-
шается. Этому немало способствовало полученное женщинами на севере
Франции в ХП в. (в Провансе еще раньше) право земельного наследова-
ния. Все чаще и чаще владетельные дамы начинают играть политическую
роль.
В связи с этой новой ориентацией на светские увеселения и эстетиза-
цию жизни пробуждается интерес к интимным запросам личности, к про-
блемам чувства. Вырабатывается тонкая и сложная метафизика любви,
возникает поклонение женщине, идеализация любовного чувства. Подоб-
ные идеи вместе с поэзией соответствующего характера культивируются при
дворах таких владетельных дам, как Элеонора Аквитанская, королева
сначала Франции, затем Англии; ее дочь Мария, графиня Шампанская;
Бланш, королева Наваррская, мать короля-поэта Тибо-Песенника; на юте —
Беатрисса Нарбонская и т. д. Конечно, такие дворы — лишь исключение на
фоне общей грубости и жестокости феодального быта. Да и сама любовная
философия и поэзия, процветавшие в этих кругах, почти сплошь — лишь
игра воображения, салонная забава, редко и в малой степени выражавшая
подлинные сердечные отношения. Но одно это устремление мысли, чисто
светское, это пробудившееся внимание к интимной жизни человека, к зем-
ной радости и красоте, попытка как-то разобраться в сердечных пережива-
ниях, составляет значительный шаг в сторону реализма, а вместе с тем
содержит в себе зачатки психологического анализа и индивидуализма.
Этот новый поворот в психологии и идеологии рыцарства объясняется
не только процессом его собственного роста, но и той новой формой, в ка-
кой выступают классовые противоречия эпохи. Несмотря на контакт между
некоторыми слоями рыцарства и городами, последние являются силой
враждебной по отношению к рыцарству. Поддерживаемые королевской
властью, они нередко подымают восстания против феодалов, своих сюзе-
ренов, и ведут с ними регулярные войны. Иногда, во время крестьянских
восстаний, города борются против рыцарства вместе с народом. С другой
стороны, ростовщический капитал опутывает своей сетью многих феодалов,
ведущих непомерно расточительный образ жизни. Все чаще разбогатевшие
горожане занимают видные административные должности, становятся лич-
ными советниками королей и крупных сеньеров. Рыцарство стремится дать
своему крупнейшему врагу отпор. Оно старается в первую очередь дискре-
дитировать его. В рыцарской поэзии все чаще появляется образ вилл а н а
(vilain — термин, применявшийся ко всякому простолюдину, будь то го-
рожанин или крестьянин): это существо грубое, неотесанное, с отталкиваю-
щей внешностью, способное на всякое преступление и предательство.
78
РАННЕЕ СРЕДНВОЕКОВЬЯ
Но одной критики мало: необходимо противопоставить противнику соб-
ственный положительный идеал. Рыцарство культурно вооружается. Оно
стремится утвердить свою гегемонию не одной только силой меча, способ-
ного ему изменить (так как города уже обзавелись собственной милицией, а
крестьянам вилы иной раз с успехом заменяли копье), но и своим мораль-
ным и интеллектуальным превосходством. Создается фикция, что в рыцаре
воплощено все человеческое благородство и достоинство. Только рыцарь
будто бы способен тонко, возвышенно мыслить и чувствовать, быть вели-
кодушным, изящным, физически и душевно прекрасным.
Таковы предпосылки появления в середине XII в. (а в Провансе —
еще в начале века) специфической рыцарской поэзии, определившие основ-
ной характер ее и формы. Наблюдается не только возникновение совер-
шенно особенной тематики, жанров и стиля, но и коренное изменение об-
щественной функции литературы, способа исполнения произведений, со-
става ее авторов и носителей.
К концу XII, а особенное XIII в., развивается институт менестре-
лей — оседлых жонглеров высшего разбора, прикрепленных службой к
определенному замку. Такой менестрель не только певец и музыкант, но
обычной сам поэт (главным образом, лирический), при случае организатор
всяких увеселений, секретарь, исполнитель поручений сеньера и его жены.
Если рыцарская лирическая поэзия, в силу своего происхождения из
народной песни, все еще неразрывно связана с музыкой, то повествователь-
ные стихотворные жанры — роман и новелла — уже не поются (как герои-
ческие поэмы), а читаются. Впервые возникает книга для чтения, и в
замках появляются небольшие библиотеки, составленные в значительной
степени из стихотворных романов. Это не значит, чтобы чтение всегда было
индивидуальным: несомненно, что часто, особенно после обеда, общество
собиралось в кружок, и менестрель брал в руки книгу и читал ее вслух.
Просветительное значение литературы отнюдь ею не утрачивается,
но одновременно возникает и другая ее функция — светско-развлекатель-
ная. Внутренний смысл, идея стихотворения или романа воспринимаются
как нечто весьма значительное, но самый сюжет их уже не вызывает преж-
ней наивной веры. Роланд, Карл Великий или Алексей божий человек —
это быль, а король Артур, Тристан, Ланселот — красивый вымысел, хотя
и весьма поучительный. Равным образом и автор этих увлекательных вы-
думок — не суровый монах или неискушенный в письменности бродячий
жонглер, а клирик, изучавший в Орлеане или Париже латинских авторов,
или менестрель, отполировавшийся на замковой службе. Вполне естественно,
что этот новый автор стремится утвердить свое имя, внеся его в текст
своей поэмы и закрепив рифмой. Если же это лирическое стихотворение,
в котором сделать это неудобно, то о сохранении имени заботятся обычно
переписчики и составители сборников. Это авторское самосознание (равно
как и признание авторских прав другими) тесным образом связано со все
усиливающимся стремлением к индивидуальному стилю, к утверждению
своего личного мастерства. «Не удивительно, если я пою лучше, чем ка-
кой-нибудь другой певец», — говорит трубадур Бернарт де Вентадорн.
А Кретьен де Труа начинает свой роман «Клижес» гордыми словами:
«Тот, кто сочинил про Эрека и Эниду... [следует перечень его предыду-
щих произведений], теперь принимается за новый рассказ».
Крупные поэты иногда создают школу (упомянутый Кретьен де
Труа). Появляется сознательный подход к разрешению эстетических про-
блем, разработка техники, виртуозность.
РЫЦАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
79
Наконец, новый стиль проявляется в реформе языка и метрики. Язык
рыцарской поэзии стремится быть чистым и изящным. Выражения грубые,
тривиальные, так же как всякие провинциализмы, из него тщательно исклю-
чаются. С другой стороны, мы находим в нем немало абстрактных терми-
нов и понятий, дочерпнутых из тогдашней школьной науки. В северной
Франции с середины XII в. обнаруживается стремление (не вполне завер-
шившееся) к выработке общего литературного языка, в основу которого
кладется диалект Иль-де-Франса, а также очень близкий к нему норманд-
ский диалект. Отступление от этой нормы считается пороком. Конон де
Бетюн, один из крупнейших вельмож своего времени и всеми признан-
ный поэт, горько жаловался на то, что, когда он читал при французском
дворе свои стихи, королева посмеялась над гстречающимися в них диа-
лектизмами. Еще раньше, около 1100 г., выработался такой общий язык
в Провансе, где иачиная с этого времени в течение полутора или двух
столетий трубадуры пользовались особым литературным языком, основан-
ным, как думали раньше, на лимузинском наречии или, как полагают но-
вейшие исследователи, на наречии тулузской области.
Что касается метрики, то в лирике, в виду ее особенно изысканного
характера и тесной связи с музыкой, господствуют очень сложные строфи-
ческие размеры; все же остальные жанры усваивают чрезвычайно живой
и гибкий восьмисложный стих с парными рифмами. По сравнению с тяже-
ловесным и торжественным десятисложным стихом героического эпоса,
рассчитанным на напевную декламацию, этот короткий и легкий стих ры-
царского романа, в котором очень скоро начинают допускать переносы
из стиха в стих (enjambements), приближает поэзию к ритмам живой
разговорной речи.
Выросшая в этих рамках и на основе указанных принципов, рыцарская
поэзия имела в общем сравнительно узкое, сословно ограниченное идей-
ное содержание, будучи отражением жизненной практики, а еще более меч-
таний аристократической верхушки общества, резко противопоставлявшей
себя остальному человечеству. Поэзия этого рода уносит воображение в
мир условных, вымышленных идеалов, она легко впадает в манерность, в бес-
содержательный эстетизм, в культ отвлеченной формы. Но вместе с тем
она содержит в себе ряд важных положительных черт, глубоко прогрессив-
ных и плодотворных для дальнейшего развития литературы. Это, прежде
всего, утверждение чисто светского, жизнерадостного идеала, в противо-
вес удушающей мысль и чувство церковной аскетической догме. Далее,
пробуждение интереса к краскам и формам внешнего мира, так же как и
к процессу душевных переживаний. Наконец, возникновение сознательной,
принципиально важной при всей ее односторонности культуры художествен-
ного слова.
Все эти черты свойственны рыцарской литературе в целом, включая
даже наиболее сословно ограниченные ее лроявления. Но еще существеннее
то, что на своих художественных вершинах эта литература перерастает ту
сословную идеологию, на основе которой она создалась. Подобно тому как
рыцарство, достигнув в XII в. апогея своего могущества, тут же обнару-
живает и первые симптомы своего разложения, точно так же и поэзия цве-
тущей поры рыцарства, отражая его сущность, в своих высших проявлениях
оборачивается против него самого и, используя выдвинутую им проблема-
тику, на основе ее создает общечеловеческие ценности. Значение этих по-
следних так велико, что лучшие проявления рыцарской литературы можно
в известном смысле назвать предренессансом.
80
РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬВ
2
Полнее всего рыцарская литература проявила себя в лирике и романе.
Из них первая, сформировавшаяся раньше на юге Франции, значительно
опередила в своем развитии второй.
Прованс, который в XI в. был экономически наиболее передовой
областью Франции, можно считать колыбелью куртуазной поэзии. Быстрый
рост производительных сил и интенсивная морская торговля с соседними
романскими и восточными странами обусловили здесь ранний расцвет го-
р»одов>, обладавших большей независимостью, чем на севере Франции, и так
же, как в верхней Италии, частично сохранивших от времени римского
владычества ряд форм муниципального самоуправления. Рядом и в не-
котором контакте с этими вольнолюбивыми городами, проникнутыми по-
литическим свободомыслием, процветало рыцарство,- очень состоятельное,
жадное до наслаждений, восприимчивое ко всякого рода новым веяниям.
«Южно-французская национальность в средние века, — говорит
Энгельс, — была не более родственна северо-французской, чем теперь
польская сродни русской. Южно-французская — проще говоря, прован-
сальская — нация не только проделала во времена средневековья «ценное
развитие», но даже стояла во главе европейского развития. Она вырабо-
тала первая из всех новейших наций литературный язык. Ее поэзия для
всех романских народов, и даже для немцев и англичан, служила тогда
недостижимым образцом». '
В Провансе раньше, чем где бы то ни было, сложился куртуазно-ры-
царский идеал. Роскошь жизни и расточительность феодалов еще в XI в.
достигли здесь баснословных размеров. Хроникеры рассказывают, что один
сеньер велел изготовить обед, употребив вместо дров дорогие пряности, а
другой приказал засеять поле золотом. Эти «прекрасные чудачества» могут
служить ключом для понимания той светской и литературной «игры в тон-
кие чувства», которая развилась в этой обстановке.
Рыцарская лирика Прованса родилась как выражение, избытка жизне-
радостности, игры освобожденных чувств и воображения. Но в то же время
она проявила себя сразу же как сложное и требовательное искусство, да-
лекое от бесхитростного выражения непосредственного чувства. В основе
всего кодекса провансальского рыцарского идеала, отразившегося в поэзии,
„лежат три понятия: cortezia, joi^ чпегигагг-гг<<куртуазия>>, «радость», «мера».
Прследнюю из них, .ограничивающую две первых, следует понимать как
чувство меры, стремление к гармонии, благообразию. В поэзии это означает
применение правил, технику, мастерство. В этом отношении показательно са-
мое название провансальских петацов-поэтав : трубадуры, от глагола
trobar (франц. trouver)—«выискивать, находить» или, как думают другие,
е значении музыкального термина «сочинять тропы». Для обозначения
своего творчества трубадуры постоянно употребляют слова: bastir, fargar,
laborar — «сооружать», «ковать», «обрабатывать». Многим трубадурам та-
кой способ творчества представляется единственно возможным: даже птица,
когда она поет, «обрабатывает», по их мнению, свою песню. «Когда со-
ловей на ветке, — говорит Джауфре Рюдель, — модулирует, смягчает, сгла-
живает, приукрашает свою нежную песню, надо, чтобы и я приукрасил
мою». Отсюда упорная работа над стилем и, в частности, виртуозная
отделка формы ■—■забота об эвфонии, затейливое построение строф, слож-
нейшая система внешних, иной раз также и внутренних рифм и т. д. Наи-
К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. V, стр. 406—407.
РЫЦАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
81
более взыскательные из поэтов считали необходимым для каждого своего
стихотворения создавать новую метрическую форму, никем раньше не при-
менявшуюся. В дошедших до нас текстах насчитывается до 900 различных
размеров. Трудность увеличивалась от того, что трубадур должен был со-
чинять также и мелодию к своим стихам, причем опять-таки повторение
однажды уже использованной кем-либо мелодии считалось недостатком.
Эту страсть к виртуозности и отношение к поэзии, как к очаровательной
игре, подметил Пушкин: «Когда в XII столетии, — писал он, — под небом
полуденной Франции отозвалась рифма в провансальском наречии, ухо ей
обрадовалось: трубадуры стали играть ею, придумывать для нее всевоз-
можные изменения стихов, окружили ее самыми затруднительными фор-
мами».
Однако в пределах единого стиля трубадурской поэзии, с общей уста-
новкой на сложность выражения, мы наблюдаем разные степени этой
сложности. Во второй половине XII в., в период высшего расцвета тгро-
вансальской лирики, происходит опор между сторонниками двух поэтиче-
ских манер — так называемого ясного стиля (trobar pla, clar) и темного
стиля (trobar clus, oscur). Представители второго из них, усложняя син-
таксис, перегружая свои стихи туманными намеками, загадочными мета-
форами, иносказаниями, сознательно стремились к малопонятности, недо-
ступности своей поэзии для профанов. «Темный стиль» культивировался
уже одним из очень ранних трубадуров Маркабрюном (Marcabrun, сере-
дина XII в.). Но крупнейшим представителем этого направления был
Арнаут Даниель (писал прибл. с 1180 до 1200 т.), который детально
разработал целую поэтическую систему; по его собственным словам, он
«обтачивал, строгал, полировал, золотил» свою песню, словно «ларец для
великой драгоценности». «Темный стиль» возник как своеобразное утвер-
ждение творческой инициативы, как первый проблеск самосознания поэтов-
трубадуров, отделявших себя от рядовых певцов. Однако во многих слу-
чаях спор между сторонниками двух стилей приобреталсоциальную
окраску; сводясь к борьбе между строго аристократическим и более демо-
кратическим направлениями в поэзии. Примером может служить «тен-
цона» («спор» или «прение») между Гираутом де Борнель, приверженцем
«ясного стиля», и Раймбаутом III, графом Оранжоким, сторонником
«темного стиля», выступающим под псевдонимом Линьяура. Спор начи-
нает Раймбаут:
Гираут! За что вы так браните
Манеру темную писать
Стихи, хотелось бы мне знать?
Ужели тем,
Что ясно всем,
Вы дорожите так? Тогда
Ведь были б все равны всегда.
Гираут отвечает, что поэту должна быть предоставлена свобода, что
в поэзии приятно лишь то, что не утомляет головы. Он прибавляет:
Я, как и вы, тружусь всегда,
Но стоят ли стихи труда,
Когда их свет
Не знает? Нет!
Завидна доля песен тех,
Что создает поэт для всех!
Но Раймбаут не внимает этим доводам. К чему, говорит он, трудиться,
если потом твой труд будет всем казаться безделкой? «Лишь в тяжком
6 История французской литературы—815
за
РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
12 3 4
ТРУБАДУРЫ.
1. Джауфре Рюдель, 2 и 3. Пердигон, 4. Маркабрюн.
Миниатюры «s рукописей конца XIII—XIV вв.
видит прок толпа!» Он не ищет популярности, он творит только для из-
бранных:
Гираут! Мне дела нет, поймите,
Распространю ль я вещь свою,
Когда я лучшее творю.
Ведь суть не в том,
Что всем кругом
Известна вещь: и соль тогда
Ценней бы золота была.
Вообще говоря, общественное положение трубадуров было весьма раз-
нообразным. В чис~лтг "Примерно 500 трубадуров, имена которых до
нас дошли (среди них около 30 женщин), было четыре или пять королей
(за пределами Франции) и несколько десятков крупных феодалов. Осталь-
ные — служилые люди, клирики, горожане или лица еще более скромного
положения. Бернарт де Вентадорн был сыном замкового пекаря, Пейре
Видаль — сыном скорняка, Фолькет де Марсель — купцом, затем еписко-
пом и инквизитором, Элиас Кайрель — резчиком, Арнаут де Марейль —
нотариусом, Дауде де Прадас — духовным лицом и т. д. Однако глав-
ными очагами этой поэзии были рыцарские замки, и аристократические
тенденции в ней явно господствуют.
В силу характерного для всего средневековья и в частности для тру-
бадуров стремления к твердым нормам, к регламентации и педантической
систематизации всякого умственного творчества, богатейшая провансаль-
ская лирика укладывалась в рамки очень немногих поэтических форм.
'Эти формы являлись по большей части также и Жанрами, ибо метрика
и «омпозиция стихотворения были тесно связаны с его тематикой.
Наиболее значительной и распространенной из таких жанровых форм
была канцона, т.е. песня (chanso, canzo). Она представляла собою лю-
бовное стихотворение, составленное из нескольких вполне симметричных
строф, связанных тождественными рифмами, проходящими через все строфы,
и заканчивавшееся короткой заключительной строфой — «посылкой» (tox-
nada.), в которой поэт либо произносил напутствие своему стихотворению
РЫЦАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 83
5 б 7
ТРУБАДУРЫ-
5. Монах Монтаудонский, 6. Понс де Чапдюэль, 7. Альбертет.
Миниатюры на рукописей конца XIII—XIV вв.
или жонглеру, его исполнителю, либо обращался к своему адресату с при-
ветствием, каким-нибудь пожеланием и т. п. Разновидностью канцоны был
вере, т. е. стих (vers), имевший несколько более короткие строфы и
строки, чем канцона.
Аналогичную структуру имел сирвентес (sirventes), первоначально,
повидимому, означавший солдатскую песню (от servir—«служить», «быть
наемником»), а затем, в дошедшей до нас форме, представлявший собою
стихотворение на какую-нибудь политическую, реже — чисто личную тему,
по большей части полемического характера.
Сходное строение имела также т е н ц о н а, т. е. «прение» (tenso) —•
спор между двумя поэтами на какую-нибудь общую литературную, мораль-
ную и т. п. тему, — причем оба, как в живом диалоге, поочередно сочи-
няли по строфе, неизменно в том же размере и на те же самые рифмы.
Нередко, однако, вся тенцона писалась одним поэтом, который вел спор
с воображаемым собеседником или даже с абстрактным понятием, напри-
мер с Любовью.
В отличие от тенцоны, в которой поэт защищает свое собственное,
установившееся у него мнение, джок партит или партимен (joc
partit—букв, «разделенная игра»; partimen—«раздел») представлял са-
бою условную умственную игру, чисто риторическое упражнение. Один из
двух поэтов — собеседников выдвигал два противоречивых положения,
предлагая партнеру выбрать любое из них, и вызывался защищать против
него противоположное мнение.
Совершенно определенная ситуация составляет тему пасторели
или пастурели (pastorela). Рыцарь на лоне природы встречает пастушку,
приглянувшуюся ему. Он начинает за ней ухаживать — и тут мы имеем
два варианта: либо пастушка, очарованная изяществом рыцаря, уступает
его желаниям, после чего он уезжает и сразу забывает о ней, либо же кра-
сотка дает отпор рыцарю, и, если ей нехватает собственных сил, зовет на
помощь своего милого дружка или односельчан, которые, прибежав с ви-
лами и дубинами, заставляют рыцаря с позором ретироваться.
Позже происходит иногда смешение элементов пасторелы и тенцоны:.
6* •
84
РАНПЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
буколическая обстановка первой служит рамкой для политических, мораль-
ных или благочестивых размышлений.
Столь же определенна ситуация альбы, т. е. утренней песни (alba —
букв, «рассвет»). Рыцарь в сопровождении друга или оруженосца едет с
вечера на тайное свидание со своей возлюбленной, женою другого. Про-
бравшись в башню, где она спит, он блаженствует в ее объятиях, в то
время как его спутник всю ночь сторожит коней. При первых лучах зари
этот последний запевает «утреннюю тесню», чтобы разбудить ею и предо-
стеречь любящего: надо уходить, иначе проснется ненавистный муж, за-
глянет в спальню жены — и произойдет беда. Более свободное метрическое
строение альбы и наличие в ней припева указывают на древность этого
жанра, первоначально заполнявшегося, без сомнения, более простым, сво-
бодным от феодальных черт, содержанием.
Аналогична альбе поздняя форма — серена (serena), вечерняя песня,
прототип «серенады», — также посвященная у трубадуров запретной любви.
Плач (planh) представлял собою печальную песнь на смерть какого-
нибудь лица, обычно сеньера, которому служил певец, или кого-нибудь из
его близких.
Как показывает уже этот перечень основных жанров и форм, централь-
ной, хотя и далеко не единственной темой поэзии трубадуров является
любовь. Но понимание любви приобретает здесь специфически рыцарскую
окраску: она становится чувством куртуазным по преимуществу. Возникает
сложная доктрина любви, подробнейшая система ее свойств, прав и обязан-
ностей любящих, особая номенклатура и фразеология для обозначения
оттенков чувства и душевных состояний влюбленного. Любовь становится
своего рода «наукой», и знание ее «прав» или «законов» обязательно для
влюбленного, тем более -— для трубадура, слагающего любовные стихи.
Недаром поздний трактат (середины XIV в.) по провансальскому литера-
турному языку и поэтике, поставивший себе целью реставрировать уже от-
жившую к тому времени поэзию трубадуров и внешне воспроизводящий
очень точно систему старых трубадурских воззрений, озаглавлен «Leys
d'amor» — «Законы любви». Без знания «правил любви» нет и «правиль-
ной» поэзии, и овладение этими правилами— задача столь же трудная,
как и овладение техникой стихотворных форм и версификации.
Первая черта этой особой концепции любви, общей почти для всех
трубадуров — то, что предметом любви может быть лишь замужняя жен-
щина. В этом сказывается естественный протест человеческого чувства про-
тив господствующего в аристократической среде того времени, как и впо-
следствии, типа браков, при котором определяющим моментом были иму-
щественные, родовые или династические интересы родителей лиц, вступаю-
щих в брак, но только не личное чувство последних. «У всех исторически
активных, т. е. у всех господствующих классов, — говорит Энгельс, — за-
ключение брака оставалось тем, чем оно было со времени парного брака,—
сделкой, которую' устраивали родители. И первая появившаяся в истории
форма половой любви, как страсть, и притом доступная каждому человеку
(по крайней мере, из господствующих классов), как высшая форма поло-
вого влечения, — что и составляет ее специфический характер, — эта пер-
вая ее форма, рыцарская любовь средних веков, отнюдь не была супру-
жеской любовью. Наоборот! В своем классическом виде, у провансальцев,
рыцарская любовь прямо стремится к нарушению супружеской верности, и
поэты это воспевают». ' И далее Энгельс ссылается на альбу, которую он
называет «цветом провансальской поэзии любви».
1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XVI, ч. 1, стр. 51—52.
РЫЦАРСКАЯ ЛИТЕРАТОРА
8*
Любовь мыслится трубадурами как сила облагораживающая, возвышаю-
щая душу. Она очищает и совершенствует любящего, сообщая ему
дар песен. Не может быть поэтом тот, кто не влюблен, и, наоборот, истинно
влюбленный неизбежно становится поэтом. Но все эти, свойства «истин-
ной» или «тонкой» любви (fin amor), противопоставляемой трубадурами
любви «глупой, бессмысленной» (fol amor), иначе говоря грубо чувствен-
ной, являются результатом неудовлетворенного любовного влечения. Для
того чтобы озарить, просветить свое сердце, стать совершенным влюб-
ленным, необходимо желать, томиться.
В связи с этим возлюбленная ставится на пьедестал, превращается а
недоступную «прекрасную даму». От нее происходят все добродетели. Ее
надо смиренно молить о любви, как божество. Устанавливается культ дамыг
определенный ритуал служения ей. Влюбленный должен пройти несколько
ступеней такого служения. Сначала он — fenhedor, «скрывающий свои чув-
ства», который лишь молча вздыхает и томится любовью; \затем — рге-
cador, «молящий»; далее — entendedor, нечто вроде «признанного» влюб-
ленного; и наконец он становится drut— «возлюбленным». Впрочем, под
последним термином вовсе не обязательно подразумевать счастливого лю-
бовника: дело могло ограничиться тем, что дама официально признавала
влюбленного своим поклонником, отдавая ему предпочтение перед всеми
другими и изредка даря ему знак своей благосклонности — улыбку, ленту,
как высшую милость — поцелуй.
Некоторые трубадуры доходили до прославления принципиально пла-
тонической или неразделенной любви. «Я благословляю любовь, — гово-
рит Дауде де Прадас,—за то, что она заставила меня избрать ту,
которая меня отвергает! Если бы я пользовался взаимностью, мне не
пришлось бы проливать слезы, я не ведал бы ни вздохов, ни грусти,
ни надежды, ни отчаяния, ни молений». Это, конечно, лишь крайняя
форма мистической любовной экзальтации, и бывали трубадуры, у кото-
рых обожание возлюбленной совмещалось с откровенно выраженным
стремлением обладать ею. Но у всех любовное желание принимало форму
смиренной мольбы, окрашенной известным культом страдания. «Мало
смыслит в любви, — говорит Ричарт де Барбезиу (Richart cteBarbeziu),—
кто не ждет терпеливо ее милости; ибо любовь хочет, чтобы страдали
и ждали; зато она быстро вознаграждает за все муки, которые заставила
вытерпеть».
Такая любовь, вечно колеблющаяся между надеждой и отчаянием,
держащая чувство в постоянном напряжении, обожествляющая возлюблен-
ную и грезящая о неземной радости обладания ею, порождает причудли-
вые, гиперболические образы и мотивы. Поэту дорога вся родня его дамы>
страна, где она живет, воздух, которым она дышит. «Когда до меня доно-
сится прохладный ветерок из вашего края, мне кажется, что я чувствую
райский ветер», — поет Бернарт де Вентадорн. В другом стихотворении од
рассказывает о необычайном действии, которое оказывает на него любовь:
«Она меняет все мои чувства (tôt me desnatura): мороз кажется мне бе-
лыми, алыми и желтыми цветами, и вместе с дождем и ветром растет моя
удача».
Любовь к «прекрасной даме» облекается в формы вассального служе-
ния. «Я ваш подданный, госпожа, навеки отдавший себя служению вам, свя-
завший себя словом и клятвой», — говорит Бернарт де Вентадорн. В дру-
гом стихотворении он восклицает, обращаясь к своей даме: «Я ваше иму-
щество, вы можете продать или отдать меня!» Поцелуй, о котором мечтает
влюбленный, вполне соответствует тому поцелую, который давал сюзерен,
se
РАПЯЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
принимая рыцаря в число своих вассалов. Также и дарование кольца (обыч-
ный мотив в отношениях между дамой и любящим) было символическим
актом при вручении лена. Конечно, нельзя считать источником этих образов
и мотивов символику вассальных отношений, которая сама в данном случае
использовала, перенеся их в свою сферу, мотивы и образы, искони принадле-
жавшие к народной любовной поэзии и обрядности. Но эти соответствия
развивались и осмысливались в определенном направлении. Некоторую
поддержку этому строю мыслей могло оказать то, что менестрели, вос-
певавшие дам своих сеньеров, были действительно их подданными или вас-
салами. Но и помимо этого система вассальных отношений, проникавшая
s сознание людей этой эпохи, должна была естественно отравиться и в
поэзии. Подобно тому как Роланд, умирая, протягивает, словно вассал,
богу свою перчатку, так и влюбленный, для того чтобы выразить вели-
чайшую преданность и поклонение своей даме, представлял себя ее вассалом.
Другой, еще более характерный ряд образов относится к сфере рели-
гиозных представлений. Выражения: «молить», «обожать», «поклоняться»,
«милосердие», «святыня» — обычны в поэзии трубадуров. Эта фразеоло-
гия проливает свет на самую сущность куртуазной концепции любви. Кон-
цепция эта выросла из стремления создать, в противовес церковно-католи-
ческой догме, чисто светский, жизнерадостный, гедонистический идеал. Но
поскольку сознание людей, выработавших этот идеал, не могло освобо-
диться от религиозно-метафизических форм мышления с типичными для них
абстрагированием и абсолютированием утверждаемых норм и ценностей,
возникло нечто вроде светской религии, с соответствующим культом и ве-
роучением, причем главной заповедью этой светской религии, вместо любви
духовной — caritas, стала земная любовь — amor, а объектом вместо бога —
лр^кдасная.„_дама.- -Посредствующим моментом в этом переключении мог
явиться культ мадонны, который в Провансе, хотя и принял вполне ка-
норизированные формы лишь в XIII в., был однако уже очень распростра-
нен среди населения в XI—XII вв. Если в католической религии чувствен-
ный элемент в большей или1 меньшей степени всегда наличествовал, в культе
возлюбленной заглушённая или сублимированная чувственность находит свое
полное выражение. Все это объясняет известную перекличку между этой
светской религией любви и религиозными ересями, очень распространен-
ными в XII в. на юге Франции.
Конечно, такая концепция любви не была ни абсолютно устойчивой,
ни вполне единообразной для всех трубадуров. Были случаи (правда, ред-
кие), когда воспевалась незамужняя женщина. Случалось также, что один
и тот же трубадур прославлял попеременно восторги «высокой» любви и
радости любви чувственной, даже в самых грубых ее проявлениях; это
можно наблюдать не только в поэзии «первого трубадура» Гильома VIL
графа Пуатье (Guillaume de Poitiers, 1071—1127), писавшего в ту раннюю
пору, когда куртуазный канон в поэзии не вполне еще установидся, но и
в творчестве утонченного мастера «темного стиля» Арнаута Даниеля, падаю-
щем на годы высшего расцвета куртуазной лирики. Но господствующим
в поэзии трубадуров является тип «высокой», куртуазной любви. С ним
тесно связан сложный аппарат постоянных образов и ситуаций, сентимен-
тальных мотивов, стилистических фигур и приемов. Любящий робок, он
должен скрывать свое чувство; он боится клеветников — наветчиков (lau-
zengiers), врагов истинной любви. Для большей безопасности он сам прини-
мает, а также дает своей даме вымышленное имя (senhal), например: «Пре-
красное зеркало», «Магнит», «Тристан» и т. п. Он бледен, постоянно пла-
чет, вздыхает, он умирает от неразделенной любви. Происхождение чув-
РЫЦАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
83
ства и его перипетии разъяснены по всем педантическим правилам схола-
стической учености. Любовь возникает путем взгляда: образ милой попа-
дает1 в глаза и затем переходит в сердце. В разлуке с дамой влюбленный
делится надвое: тело его удаляется, а сердце остается с нею.
Несмотря на этот утонченный характер доктрины трубадуров и ари-
стократическую оболочку их поэзии, необходимо отметить в этой поэзии
определенную тенденцию к преодолению сословных рамок, стремление вло-
жить в понятие куртуазности более широкое, общечеловеческое содержание.
Трубадур Дальфин Альвернский (Dalfin d'Alvernhe, конца XII в.) дока-
зывает превосходство «человека низкого происхождения, но куртуазного»,
над иным рыцарем или бароном — «грубым, коварным и неучтивым».
Вполне уместен вопрос: в какой мере такая любовная поэзия была
искренней и не являлась ли она только игрой ума и демонстрацией поэтиче-
ского мастерства? Несомненно, что в основе ее нередко лежит подлинное
переживание, но столь же бесспорно, что иногда мы имеем дело с чистей-
шей фикцией, своего рода литературной модой. Последнее бывает осо-
бенно часто в тех случаях, когда поэт не знатный оеньер, равный по по-
ложению той даме, которую он воспевает, а всего лишь жонглер или, ме-
нестрель, состоявший на службе у дамы или ее мужа, причем воспевание
дамы входит в круг его ближайших обязанностей. Нельзя, однако, про-
водить здесь резкое разграничение, объявляя все песни, сложенные знат-
ными сеньерами, выражением подлинного чувства, а творчество служилых
поэтов — притворством. Игра была слишком опасна, чтобы порою не обо-
рачиваться действительностью, а, с другой стороны, литературная мода
была так сильна, что иной раз и рыцари могли отдавать ей дань. Но
главное то, что «правда» и «вымысел» в поэзии трубадуров перемешива-
лись между собою в том смысле, что сердечное чувство» усиленное во-
ображением, при своем поэтическом выражении стилизовалось согласно
установленному куртуазному образцу. Вообще же бывали, без сомнения,
и такие случаи, когда чувство, не получая удовлетворения в действитель-
ности, находило известную компенсацию в области поэтических мечтаний.
Взятая в целом, лирика трубадуров имеет весьма сложное происхо-
ждение. Несомненно, что основным ее источникам является народная поэ-
зия, подвергшаяся, однако, в рыцарской среде коренной переработке. Сти-
листический анализ позволил установить родство большинства жанров
провансальской лирики — в отношении тем, образности и ситуаций—
с разными видами народной песни и старинной народной обрядности.
Альба имеет ряд параллелей в виде встречающихся у самых различных
народов песен, имеющих темой разлуку любящих на заре. Большое число
аналогий в народной лирике находит также и иастурель. Тенцова воз-
никла, повидимому, из импровизованных четверостиший народной поэзии
и выросших из них прений двух жонглеров-потешников, не без влияния,
вероятно, обрядовых игр вроде прения Зимы и Лета и т. п. Очень ясно
происхождение «плача» из народной заплачкинпричитания.
Больше всего для понимания генезиса канцон и вообще любовной
поэзии трубадуров дают народные весенние песни, связанные с «майскими
обрядами» (см. о них выше, в начале отдела 1). В этих песнях замужество
изображалось как рабство, муж — как докучный тиран. В майской обряд-
ности и сопровождающих ее песнях царит безудержное веселье, весенний
разгул, переключенный в понятия и термины поэзии трубадуров: joi —
«радость» и gai saber — «веселая наука», как они называли свое поэтиче-
ское творчество. Следами происхождения провансальской лирики из на-
родной поэзии являются также строфика песен, наличие мелодии, остатки
88
РЛНПЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
припева, картина весны и пробуждения природы как рамка любовных
мотивов, так называемый «психологический параллелизм» между душев-
ными переживаниями и явлениями природы и т. д.
К этому надо добавить некоторые литературные влияния. Образцом
для разработки мелодии и аккомпанемента, а также для некоторых част-
ностей стиля и образности могла послужить трубадурам в отдельных
случаях средневековая латинская лирика, особенно июэзия голиардов, также
полная прославления любви и земной радости, хотя разработка этих тем
шла там в других танах. Кроме того, ряд деталей мог быть подсказан
римской любовной поэзией, особенно Овидием, с творчеством которого
многие трубадуры безусловно были знакомы. У него они могли найти
близкое им понимание любви как культа страсти, искусства, правила
которого надо изучить, «любовной войны», «болезни», от которой есть
одно лишь исцеление — ответная любовь, могли найти образы «стрел
Амура», «любовного плена» и т. п.
Но все это — лишь дополнительные моменты. Если иногда трубадуры
и заимствовали кое-какие образы и мотивы у голиардов или Овидия,
то лочти всякий раз они вносили в них новый смысл, исходя из своей
собственной, вполне оригинальной концепции любви. Можно сказать
даже, что трубадуры больше отталкивались от Овидия, чем следовали ему,
в виду коренного различия между ними и Овидием в отношении как всего
мировоззрения, так и поэтики. Мир чувств и поэтический стиль трубаду-
ров стоят неизмеримо ближе к местной народной поэзии, хотя эта по-
следняя в их трактовке получила сословное оформление, проникшись фео-
дально-рыцарскими представлениями.
.--'"" Близкое сходство представляет поэзия трубадуров с возникшей зна-
чительно раньше любовной лирикой арабов, с которой европейские на-
роды могли познакомиться в Испании. И здесь любовная поэзия получила
широкое распространение при многочисленных феодальных дворах му-
сульманских властителей, являясь развлечением светского общества, куль-
тивировавшего идеи возвышенной любви. Некоторые ученые склонны ви-
деть в арабской тгоэзии прямой источник лирики трубадуров. Однако,
учитывая «малое знакомство Западной Европы с языком и культурой му-
сульманских народов, более вероятно, что в обоих случаях сходные поэти-
ческие идеи и переживания возникли независимо друг от друга в анало-
гичных условиях социального развития.
Поэзия с таким кристаллизованным идейным содержанием и твердо
установленными формами производит при первом знакомстве с нею впе-
чатление полнейшего безличия и шаблона. Действительно, мы встречаем
з поэзии трубадуров огромное количество поэтических штампов, повторение,
г. небольшими вариациями, одних и тех же положений, мотивов, формул.
Однако более внимательный анализ показывает, с одной стороны, опреде-
ленную эволюцию в поэзии трубадуров за полтора века ее существования
(с конца XI до середины XIII в.), а с другой стороны — наличие круп-
ных индивидуальностей, выделяющихся тематикой и стилем своей поэзии.
То, что уже современники замечали индивидуальные особенности от-
дельных поэтов, доказывается возникновением в XIII в. сборника биогра-
фий трубадуров, общим числом более ста, составленного Юк де Сен-Сир-
ком (Uc de Saint-Cire) и несколькими другими неизвестными лицами. Эти
биографии, знаменующие в романском средневековье первое пробуждение
интереса к личности поэта, развились из так называемых razos — крат-
ких 'пояснений к отдельным стихотворениям относительно обстоятельств,
при которых они возникли, их адресатов и т. п. Правда, степень досто-
РЫЦАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
89
верности этих жизнеописаний не всегда одинакова. На ряду с очень
точными сведениями мы встречаем в них немало вымыслов, обязанных
своим происхождением ne большей части ошибочному толкованию коммен-
таторами отдельных мест из стихотворений соответствующих трубадуров
или произвольному перенесению в их жизнеописания бродячих новеллисти-
ческих мотивов. Но эти фантастические черты в биографиях трубадуров
представляют как раз наибольший интерес, показывая, в каком направле-
нии работало воображение авторов и читателей.
Про Джауфре Рюделя, князя Блайи, рассказывается, что он влю-
бился в графиню Триполийскую по одному описанию ее красоты и сложил
в ее честь много песен. Чтобы увидеть ее, он предпринял далекое плавание,
но в пути тяжело заболел. Когда он прибыл в Триполи, прекрасная гра-
финя пришла на корабль, лаоково обняла Джауфре, и он умер у нее на ру-
ках, после чего она постриглась в монахини. Вся биография Пейре Видаля
соткана из описаний его чудачеств, из которых самое замечательное сле-
дующее. Влюбившись в даму сто имени Лоба (что значит «Волчица»),
он решил ради нее сам «сделаться волком». Д,\я этой цели он натянул
на себя волчью шкуру и в таком виде отправился в лес, где охотничьи
собаки так отделали его, что стоило большого труда его вылечить. Био-
граф Гильема де Кабестань рассказывает, что трубадур этот состоял в тай-
ной любовной связи с одной дамой. Ее муж, узнавший об этом, предатель-
ски убил Гильема и велел повару изготовить из его сердца кушанье,
которое предложил своей жене. Узнав, что она съела сердце возлюблен-
ного, дама покончила с собой, выбросившись из окна (сюжет, обработан-
ный впоследствии Боккаччо в новелле о Гвильельмо Гвардастаньо: «Де-
камерон», день IV, новелла 9). Все эти истории, без сомнения вымыш-
ленные, могут служить превосходными иллюстрациями к куртуазной тео-
рии любви.
Историю провансальской лирики можно разделить на несколько пери-
одов. Первый период, Подготовительный, простирающийся до последней
четверти XII в., открывается творчеством Гильема VII, графа Пуатье
(иначе — Гильема IX, герцога Аквитанского), которому принадлежат
древнейшие из вохранившихся песен. Едва ли, однако, он был «первым
трубадуром», так как концепция куртуазной любви, встречающаяся у него,
настолько уже разработана, что мы должны предположить наличие у него
предшественников. С другой стороны,
в течение следующего полустолетия <■■ zzzzzzz. _ — —- ~t
концепция, эта еще не окончательно £'2й»
утвердилась. Если у Джауфре Рюделя
(около 1150 г.) мы находим уже ярко
выраженную идеализацию любви, хотя
и с определенной чувственной окраской,
то в поэзии его современника Марка-
брюна наблюдается еще более резкая
двойственность, чем у Гильема IX. В
очень немногих из сохранившихся его
песен он восхваляет «чистую» и «совер-
шенную» любовь, «куртуазность», «ме-
ру» и т. п. В большинстве же слу-
чаев он выступает (как сатирик, жено-
ненавистник, враг любви, которая, по
его словам, «сотворила больше зла на Трубадур Бернарт де Вентадорн.
ЗеМЛе, Чем ГОЛОД, Зараза И ВОИНа». Миниатюры ив оукописи конца XIII а.
00
РАНПЕБ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
Цполне разработанную систему куртуазной любви мы находим впер-
вые у 'Бер нарта де Вентадорн (годы творчества: 1150—1195), поэзия
которого является переходной ко второму, классическому, периоду, охва-
тывающему последнюю четверть XII и первое десятилетие XIII в. Этот вы-
ходец из низов, воспитанный Эблем, виконтом де Вентадорн, воспевавший
сначала жену своего сеньера, а затем Элеонору, королеву Англии, на службе
у которой он долгое время состоял, принадлежит по своей художествен-
ной одаренности и тонкости выражения чувств к числу самых выдающихся
трубадуров. Вся его поэзия проникнута одной любовной темой. «Тот
мертв, — заявАяет--шг;'=^"кт67не'чувствует в своем сердце нежного вкуса
любви. К чему жить без любви, если не для того только, чтобы докучать
другим?» Он говорит о себе: «Когда приходит весна и начинают петь
птицы, я, у которого в сердце больше радости, чем у них, должен конечно
петь, ибо все мои дни — лишь одна радость и песня, и я не помышляю ни
о чем другом». В другом стихотворении он говорит: «Поэзия имеет для
меня цену лишь тогда, когда она исходит из глубины сердца, но это воз-
можно лишь тогда, когда в сердце царит совершенная любовь. Вот почему
мои песни выше всех других песен, ибо любовь заполняет все мое суще-
ство — рот, глаза, сердце и чувства».
Творчество Бернарта де Вентадорн знаменует тот кульминационный
момент в любовной поэзии трубадуров, когда сложная куртуазная доктрина
еще совмещалась с подлинным вдохновением и наивной свежестью чувства.
Вскоре после него это равновесие нарушается, и в лирику трубадуров втор-
гается струя манерности и риторики. Черты этого можно заметить уже у
ближайших его продолжателей — Арнаута де Марейль (Arnaut de Marueil,
писал прибл. 1170—1200 гг.) и Гираута де Борнель (Guiraut de Bornelh,
писал прибл. 1175—1220 гг.), стремившихся сочинять в том же стиле.
У них обоих можно встретить надуманные образы и вычурные черты стиля:
у первого, например — изображение своего сердца как «посла», напоминаю-
щего ему о необходимости любить его даму или служить ей, или картину
того, как он, охваченный любовью, «идет во сне прямо перед собой, взды-
хая»; у второго — тягучие и педантичные диалоги с самим собой, посвя-
щенные анализу собственного чувства и душевного состояния. (Г неиз-
меримо большею силою все это проявляется у сознательных сторонников
«темного стиля», например, у Арнаута Даниеля, «мастерство» которого
(высоко ценившееся между прочим Данте и Петраркой) заключается, глав-
ным образом, в подыскивании редких рифм, в сложной строфике, в изо-
бретении новых слов, в нарочитой бессвязности изложения и т. п.
Лишь два поэта «классического периода» обладают подлинной твор-
ческо7Г~орйгинальностью— Пейре Видаль (Peire Vidal, ум. в 1205 г.) и
Бертран де Борн (Bertran de Вот, ум. в 1196 г.), главным образом
потому, что первый из них освежил куртуазно-любовный идеал чертами
фантастического гиперболизма, приближающегося к гротеску, а второй
пошел по линии разработки преимущественно не любовной, а политической
тематики.
Бертран де Борн был воинственным, буйным феодалом, принимавшим
деятельное участие в междоусобных войнах, происходивших на юге Франции,
который принадлежал в то время английскому королю. Он поддерживал
принца Генриха, прозванного «молодым королем», когда тот восстал про-
тив своего отца, Генриха II Плантагенета. Когда принц внезапно умер от
лихорадки, Бертран де Борн сложил свой знаменитый «плач», являющийся
лучшим образцом этого жанра у трубадуров. «Если собрать вместе, — го-
РЫЦАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
91
ворит он,—©се беды, несчастья и страдания, «акие только есть в мире,
то все они окажутся ничтожными перед смертью молодого короля...»
Скорбит о нем, кто только юн и смел,
И ясный день как будто потемнел,
И мрачен мир, исполненный печали.
Приуныли милые жонглеры, кончилась истинная щедрость и доблесть,
ушла из мира любовь и всякая радость, — и осиротел мир, «исполненный
страдания и печали» (словом «печали» заканчивается последняя строка
каждой строфы). Биограф Бертрана де Боряа рассказывает, что король
Генрих собрался сурово наказать трубадура, как подстрекателя принца
Генриха к восстанию, но затем простил его и вернул ему его замок «ради
великой любви, которую тот питал к его сыну».
Бертран де Борн сложил немало любовных песен. Он был влюблен
в Матильду, сестру принца Генриха, и во многих других дам. Но ухаживал
он за ними нетерпеливо и своевольно. Разочаровавшись в знатных краса-
вицах, он сложил свою знаменитую канцону о «составной даме», в кото-
рой заявляет о своем решении отныне любить лишь созданную им самим
возлюбленную: у нее будет взор одной из знакомых его дам, волосы — Дру-
гой, шея — третьей и т. д. Но первое место в творчестве Бертрана де Борна
принадлежит его сирвентесам. В них он воспевает радость боя и всех тех
благ, которые может доставить война. Он тоскует зимой и с нетерпением
ждет весны, которая для него — пора не столько любви, сколько возоб-
новления битв. Ему радостно смотреть на то, как рыцари, рискуя жизнью,
сшибаются в чистом поле, как идет осада замка, как рвы заполняются от-
рубленными головами, руками, ногами.
Ему нравится все это потому, что во время войны принцы и короли
становятся щедрыми, а главное — что можно поживиться за счет простого
народа:
Люблю я видеть, как народ,
Отрядом воинским гоним,
Бежит, спасая скарб и скот,
А войско следует за ним.
Бертран де Борн не скрывает своей ненависти и презрения к «вилланам»:
« Мужики, что злы и грубы,
На дворянство точат зубы.
Только нищими мне любы!
Любо видеть мне народ
Голодающим, раздетым.
Страждущим, необогретым^ ...
Ибо простолюдины, по его мнению, злы, завистливы, скаредны,
лживы; они не соблюдают заповедей, — «пусть господь их покарает!»
Так в поэзии Бертрана де Борна с новым куртуазным идеалом неж-
ных и возвышенных чувств сочетается старый, примитивно-рыцарский воин-
ственный идеал с его культом кулака и меча как средства получения до-
бычи и вместе с тем утверждения своей сословной гегемонии.
Иной характер носит творчество Пейрё Видаля. Его биограф расска-
зывает, что трубадур этот ухаживал за всеми дамами, воображая, будто
все они влюблены в него, собирался завоевать Византийскую империю
и т. п. Действительно, поэзия Пейре Видаля полна самого экстравагант-
ного хвастовства. Он хвалится тем, что сочиняет лучше, чем кто-либо
другой, песни, что его дама достойна императорского престола, что всюду
его встречают с почетом и любовью. «Я совершил подвиги Говена, — за-
являет он, — и много других. Когда я сижу, вооруженный, на ксне, я
сокрушаю все, что мне попадается на пути; я один взял в плен сто ры-
)2
РАННЕЕ СРЕДПЕВЕКОВЬВ
царей, а у ста других отнял доспехи; я заставил плакать сто дам, а ста
другим доставил радость и веселье». Это бахвальство, не лишенное
известного блеска и остроумия, — отличный образец тех элементов «свет-
ской игры», которые с самого начала привходят в куртуазный быт и поэ-
зию. Они еще более скрашиваются той живостью воображения и легко-
стью языка, которые вообще характерны для поэзии Пейре Видаля. Однако
размеры, которых эти явления достигают в его творчестве,^ свидетель-
ствуют об уже намечающемся на исходе XII в. разложении рыцарски^
идеалов, которые из действенных, жизнетворческих, становятся все более
показными, декоративными.
С этим вполне согласуется и то, что к концу XII в. в любовной лирике
трубадуров решительно берет верх принципиально-платоническая концепция
любви, превращающая индивидуалистические устремления освобождающе-
гося любовного чувства в пустой ритуал и выветривающая живое содержа-
ние любовной поэзии. Вообще, в XIII в^_рыцарская лирика Прованса
быстро приходит в упадок црд. натиском новых сил, идущих из городов.
Но гибель куртуазной поэзии была здесь ускорена историческим событием
особого рода.
В 1209 г. коалиция севернофранцузских баронов, воспользовавшись,
как предлогом для вторжения, развитием в Провансе ересей, двинула на
Прованс, под предводительством Симона де Монфора, пятидесятитысяч-
ную армию для искоренения там «недопустимого безбожия» (см. выше,
стр. 55). Двадцать лет длились эти «альбигойские войны», во время ко-
торых страна была залита кровью. Они закончились победой северян и уч-
реждением в Провансе инквизиции, на долгое время задушившей всякое
проявление свободной мысли. Во время этого чудовищного «крестового
похода» многие города были разгромлены, многие замки, являвшиеся цен-
трами поэзши трубадуров, разрушены или сожжены. Трубадуры во мно-
жестве бежали в соседние страны — в Италию, на Пиренейский полу-
остров.
конечно, поэзия трубадуров не была этим сразу уничтожена, но весе-
лая песня" любви почти всюду заглохла. Ее место заняла политическая,
публицистическая поэзия. Правда, среди трубадуров произошло расслоение,
и часть их перешла на сторону «правоверно-католической» партии насиль-
ников. Один из крупнейших трубадуров этой поры, в молодости слагавший
любовные стихи, Фолькет де Марсель, сделался даже инквизитором и стал
одним из злейших гонителей альбигойцев. Но в основной своей массе труба-
дуры гневно восстали против фанатиков, разгромивших их родину. Самый
крупный и талантливый представитель этого рода поэзии—Пейре Карденаль.
Бичуя католическое духовенство, которое он называет «волком в овечьей
шкуре», он в то же время в своем сирвент^се о «городе сумасшедших»
дает сатирическую картину нравственного упадка господствующих классов
провансальского общества — рыцарства и буржуазии. Другой трубадур, на-
шедший приют у императора Фридриха II, Гильем Фигейра, называет Рим
«венценосной змеей, порожденной гадюкой и любимой дьяволом».
Все это уводит нас уже далеко от рыцарской лирики. Но прежде чем
замереть, она оказала огромнейшее влияние на развитие поэзии в соседних
романских и даже германских странах. Начиная с середины XII в., частые
поездки трубадуров в Италию и Испанию были причиной раннего знаком-
ства в этих странах с провансальской поэзией, сыгравшей роль образца,
который помог развиться возникшей на более или менее сходной обще-
ственной основе местной поэзии. В Италии лирика трубадуров оказала
влияние на возникновение как северноитальянскои, так и сицилийской
РЫЦАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
93
школ поэзии, явившихся предтечами поэзии «сладостного нового стиля»,
знаменитейшим образцом которого является лирика «Новой жизни»
Данте (1290). Так и на Пиренейском полуострове поэтика провансальцев
легла в основу галисийской школы поэзии, нашедшей свое самое
яркое выражение в песенниках короля Кастилии Альфонса X и португаль-
ского короля Диниша или Дионисия (XIII в.). Очень значительно также
воздействие трубадуров на немецкий миннезанг, в котором, на ряду с чисто
национальным течением, ряд поэтов, как, например, Генрих фон Фельдеке,
Фридрих фон Хаузен, Генрих фон Морунген, Рейнмар фон Хагенау и др.,
сознательно подражают трубадурам и воспроизводят с большой точностью
разработанную в Провансе доктрину «высокой» любви. Еще более значи-
тельное влияние оказала провансальская лирика на севернофранцузокую
поэзию, о чем речь будет дальше.
Поэзия трубадуров представляет одно из замечательных явлений ми-
ровой литературы. В Провансе XI—XII в. зародилась индивидуальная
лирика нового времени, чрез посредство Данте и Петрарки оказавшая глу-
бокое и длительное влияние на всю европейскую поэзию, преимущественно
любовную. В течение ряда веков и отчасти до наших дней в лирике самых
различных европейских народов звучат мотивы, образность, фразеология
поэзии трубадуров.
После забвения, постигшего раннесредневековую поэзию в XVII—
XVIII вв., интерес к трубадурам снова пробудился в первой половине
XIX в. в связи с характерным для романтизма возрождением интереса
к фольклору и национальной старине. Во Франции возникло даже особое
направление в поэзии, называвшееся «трубадурским стилем» (genre trou-
badour). Уланд в одной из своих баллад оживил образ Бертрана де Борн.
Легенда о Джауфре Рюделе была поэтически обработана Гейне и Уландом,
а во второй половине века — Кардуччи и Э. Ростаном (драма «Принцесса
Греза»). Следы знакомства с поэзией трубадуров заметны в творчестве
английских прерафаэлитов. Ясно сказалось ее влияние в драме А. Блока
«Роза и Крест».
В северной Франции рыцарская лирика возникла, с некоторым опоз-
данием, из тех же корней и на той же общественно-культурной основе,
что и на юге. Без сомнения, она зародилась и на первых порах развивалась
вполне самостоятельно. Но уже очень рано она подверглась сильному вли-
янию со стороны провансальской поэзии в отношении как идейного содер-
жания, так и поэтики. Весьма вероятно, например, что большинство жан-
ровых форм, общих французской и провансальской лирике, — песня (франц.
chanson), альба (франц. aube, aubade), «разделенная игра» (франц. jeu-parti)
и т. п. — было заимствовано севернофранцузокими «труверами» ' у труба-
дуров. Правда, в других случаях возможен был и обратный путь влияния;
так, например, существует мнение, что сирвентес (франц. serventois) и пас-
турель (франц. pastourelle) пришли в Прованс с севера. Но если в области
форм заимствования могли быть обоюдными, то в отношении общей тема-
тики и стилистики ( в частности — концепции любви как служения и свя-
занной с этим фразеологии) влияние, и притом очень интенсивное, шло
только из Прованса на север.
1 Слово troveres, trouvère, в отличие от провансальского trobador, которому оно
этимологически соответствует, могло означать не только лирического, но и эпического или
драматического поэта. Но по большей части оно служило для обозначения автора лири-
ческих стихотворений.
94
РЛПНБЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
Пути, которыми провансальские веяния проникали во Францию, могли
быть довольно разнообразными. Помимо тесного общения между француз-
скими и провансальскими рыцарями, поэтами и жонглерами во время кре-
стовых походов, здесь сыграли большую роль браки между северными
и южными сеньёрами, поездки некоторых трубадуров во Францию и т. п.
Одною из деятельных посредниц в распространении провансальских ли-
тературных идей во Франции была внучка «первого трубадура» Гильема
VII, Элеонора Аквитанская, в 1137 г. вышедшая замуж за французского
короля Людовика VII. В 1152 г., после скандальных любовных похожде-
ний, она развелась с Людовиком и тотчас же вышла замуж за Генриха
Анжуйского, через два года ставшего королем Англии под именем Ген-
риха II. Всюду, где Элеоноре привелось жить, — в Париже, в Норман-
дии, в Лондоне, она держала в своей свите жонглеров и трубадуров,
привезенных ею с юга Франции (на первом месте среди них должен быть
назван Бернарт де Вентадорн), и всюду прививала новые, куртуазные по-
нятия и вкусы. В Англии она и Генрих II усиленно покровительствуют
французской и провансальской литературе, заказывая поэтам хроники,
романы и т. п. Их сын, будущий король Ричард Львиное Сердце, был
caiM довольно видным лирическим поэтом.
Но еще сильнее традиция эта проявилась во Франции, где ее рашро-
странению способствовали две дочери Элеоноры от Людовика VII — Ма-
рия, вышедшая замуж за графа Шампанского, и Аэлис, ставшая графиней
Блуа. Вторую из них воспевал кастелян де Куси, а кроме того она и ее
муж покровительствовали труверу Гасу Брюле и автору куртуазных рома-
нов Готье д'Аррас. Роль Марии Шампанской была еще значительнее. Под
ее патронажем состоял знаменитый романист Кретьен де Труа, творче-
ством которого, как мы увидим ниже, она до известной степени пыталась
руководить. Между прочим, именно Кретьену принадлежат две древней-
шие дошедшие до нас французские куртуазные песни (вероятно, около
1170 г.). Одно время при дворе Марии жил трубадур Ричард де Бар-
безиу, а, кроме того, она так же, как и ее сестра покровительствовала Гасу
Брюле.
Однако лучше всего об участии Марии в пропаганде «провансальских»
идей свидетельствует написанная около 1180 г. Андреем, капелланом фран-
цузского короля, латинская книжка «De artehoneste amandi» («Об искусстве
пристойной любви»). Это целый трактат по теории и практике любви,
истолкованной в ультракуртуазном духе. Сначала здесь излагается ряд
«правил любви», добытых якобы одним бретонским рыцарем в «замке ко-
роля Артура», например, что «любовь между законными супругами невоз-
можна», или что «дама может принимать любовь двух поклонников, не
отвечать взаимностью может только одному», и т. п. Очень характерно для
сословного характера куртуазной доктрины то, что в случае любви рыцаря
к упорствующей простолюдинке он имеет право, согласно Андрею Капел-
лану, добиваться удовлетворения своих желаний силой (мотив, встречаю-
щийся во многих пастурелях). За этим следует описание нескольких слож-
ных казусов любви, которые были якобы разрешены в специальных «суди-
лищах любви» (cours d'amour) под председательством знатных дам, осо-
бенно сведущих в вопросах сердечного чувства. Примером может служить
такого рода конфликт. Один рыцарь долгое время служил своей даме, не
получая от нее никаких милостей; тогда он начал служить другой краса-
вице, менее суровой, но тут первая дама, не желая терять поклонника, по-
требовала, чтобы он вернулся к ней, обещая быть к нему более благосклон-
ной. Недоумевая, как ему поступить, чтобы не нарушить «законов любви»,
рыцарь обращается к суду
компетентных дам. В каче-
стве председательниц таких
судилищ Андрей Капеллан
называет королеву англий-
скую Элеонору, графиню
Марию Шампанскую, гра-
финю Эрменгарду Нарбонн-
скую и еще некоторых других.
Долгое время историки
верили в действительное су-
ществование «судов любви»,
решению которых любящие
подчиняли будто бы свои
чувства, 1 но затем, в виду
«психологического неправдо-
подобия» рассказа Андрея
Капеллана, многие стали скло-
няться к тому, чтобы рас-
сматривать его как чистей-
ший вымысел. Без сомнения,
истина лежит посредине:
«суды любви» существовали,
но лишь как своего рода
инсценировка, великосветская
салонная игра, применявшая-
ся « случаям притворных или
условных галантных отноше-
ний, того «маскарада чувств»,
который нередко практико-
вался в утонченно-куртуазном
обществе. Занесенные с юга
моды быстро привились в подготовленных к ним аристократических кругах
Франции.
Внешне французская рыцарская лирика отличается от провансальской
более простой метрикой и рифмовкой, отсутствием употребления псевдони-
мов и нарочито «темного» стиля, несравненно более частым применением
рефрена — этого наглядного свидетельства ее происхождения из народной
песни. Все это, однако, отнюдь не делает ее более реалистической. Напро-
тив, взятая в целом, она гораздо более банальна и однообразна.
Быстро восторжествовавший куртуазный стиль в лирике, занесенный
с юга, был на севере Франции освоен лишь аристократической верхушкой
общества, что придало ему еще более резко выраженный сословный харак-
тер. В отличие от трубадуров все без исключения французские куртуазные
лирики XII—XIII вв., имена которых до нас дошли, были знатными сеньё-
рами или жонглерами, состоявшими у таких сеньёров на службе.
Расцвет французской рыцарской лирики был очень непродолжителен.
Весьма возможно, что первые образцы куртуазной лирики возникли здесь
уже в середине XII в. Однако до 1180 г. до нас дошли имена и произве-
дения лишь двух поэтов—Гюона д'Уази (Huon d'Oisy, ум. в 1189 г.)
1 В частности, с полным доверием к описанию Андрея Капеллана отнесся Стен-
даль в своей книге лО любви».
ЦАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
ев
«}нлтш «te fc?« îxHo«-Mi
«0ГрОШ 1«<Я5 tutu? «шГ
тс coMtOn «ж; toîf $îo
tow»! t*tt»*t faorfetâiatH
h* t»c ftvyfts «discernent
mats жив» ma fдщ fd
n t■ bf bith amer wtu $b
A m* qxn nemtfnMm tnS
шиит |*Ç т»«зга$пс
wï§ftttMtd)fîkHro!<<|tu,s
ùftste«?rtncittt}34*ttt цщ
f««s*m<rttçî»it<**tr ownr
fî se bim garnie-quît
;< flfi»$lfftsM«tt4ft*Hfi«<rt«r
«tfe ^iî»t.ужа $ш mimifm
ton nirime crtat mer tT.fi$
tvaftfe.Wa.jf.mnireffft
%t yAtiX-tiinyitufuuawtt wc
«mfsjjxîte? №-е*иМ*ф*01з
iKsaf qm ncn^tneiî.quf tinte
tisrfk titsatmt тк ткал
Hartcto'fttit^ifflctetamatf
Страница из французского песенника.
Рукопись XIII в.
96
РАНПЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
и уже упомянутого Кретьена де Труа. Если у первого из них куртуазная
концепция любви далеко еще не оформилась, то у второго мы находим
ее в детально разработанном виде, вместе с типически «провансальской»
системой антитез, гипербол, абстракций и иного рода штампов для выра-
жения любовного томления, сетований на суровость обожаемой дамы
и т. п. Одна из е/го песен посвящена любви, которая «отняла его у самого
себя, а вместе с тем не хочет оставить его и при себе»; другая начинается
жалобой: «Любовь начала тяжбу и войну со своим же бойцом, который
так для нее трудится, что все свое усердие устремляет на то, чтобы за-
щитить ее благородство».
К концу XII в. вырабатывается общий для этой лирики гладкий, ней-
тральный стиль, для которого типичны жеманная меланхолия, слащавость, ба-
нальность образов и сентенций. Лишь очень немногие поэты могут похва-
литься некоторой оригинальностью. Из общей массы выделяется Конон де
Бетюн (Conon de Béthune), воин и дипломат, участник 3-го и 4-го кресто-
вых походов, умерший в 1219 г. регентом Латинской империи в Констан-
тинополе. Его поэзия отличается энергичными тонами, темпераментом, даже
некоторой резкостью, что не исключает порою проявлений подлинного ли-
ризма, как, например, в начале его песни о крестовом походе:
Увы, любовь, зачем ты мне велела
В последний раз переступить порог
Прекраснейшей, которая умела
Так много лет держать меня у ног!
Но вот настал разлуки нашей срок.
Что говорю? Уходит только тело,—
Его призвал к себе на службу бог, —
А сердце ей принадлежит всецело.
Гармоническая нежность характеризует любовные песни кастеляна де
Куси (châtelain de Coucy), которому впоследствии легенда приписала та-
кой же трагический конец, как и Гильему де Кабестань (сказание о «съе-
денном сердце»). Из позднейших труверов стремление вырваться из ша-
блона готовых формул и большая страстность в выражении чувств наблю-
даются у Тибо Шампанского, короля Наварры (1201—1253). Но, в общем,
в любовной поэзии господствует условный риторический стиль, закончен-
ным образцом которого могут служить песни Гаса Брюле (Gace Brûlé)
и Блонделя де Нель (Blondel cfe Nêle).
Такой же условный характер носят многочисленные тенцоны и jeu-
partis, в которых нередко дискутируются вопросы, очень похожие на раз-
бираемые в трактате Андрея Капеллана, например: что легче перенести
влюбленному — смерть возлюбленной или ее замужество? Или: который из
двух влюбленных теряет больше радости при встрече со своей дамой —
утративший'зрение или слух и дар речи? О сугубо искусственном харак-
тере этого жанра на французской почве говорит как решительное преобла-
дание над тенцонами особенно софистической формы jeu^parti, так и чрез-
вычайно большое количество прений, в которых вместо подлинного диалога
поэт изображает двух собеседников, на самом деле споря сам с собой.
В XIII в., стремясь расширить диапазон куртуазной лирики и осве-
жить ее, труверы усиленно имитируют стиль и формы народных плясовых
песен — рондо, баллад (ballettes), эстампи, а также разрабатывают «музы-
кальные» формы, ведущие начало от церковных песнопений — лэ (lais),
мотеты, декорты (descorts), с их сложными мелодиями и аккомпанементами.
Но и здесь шаблон вскоре занимает место оригинального творчества.
РЫЦАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
97
На грани куртуазной лирики находится творчество Колена Мюзе
(Colin Muset, конец XII — начало XIII в.), двойственное по своим то-
мам, быть может в зависимости от различных адресатов. Этот бродячий
жонглер слагал пеони о «тонкой» любви и о сладости доставляемых ею
страданий, а вместе с тем сочинял шутливые песенки, в которых воспевал
радости спокойной жизни, сытного обеда и хорошего вина. Впрочем, его
песни первого рода носят иногда двусмысленный характер и звучат па-
родийно. Для всех стихотворений Колена Мюзе типичны плясовые раз-
меры, напевность, обилие уменьшительных и ласкательных форм, простота
языка — черты, ясно говорящие о живой связи его творчества с народной
поэзией.
Песни Колена Мюзе свидетельствуют о начинающемся разложении
куртуазной лирики, которая к 1240 г. уже замирает, уступая место лирике
городской.
4
Ведущими и наиболее разработанными жанрами собственно француз-
ской рыцарской литературы являются роман и дополнительная к нему
малая форма — повесть или новелла. Последняя отличается от романа
лишь небольшим объемом: роман имеет обычно от шести до десяти тысяч
стихов, а иногда даже значиггельно больше, тогда как новелла редко пре-
вышает тысячу стихбв; с этим связаны простота фабулы и некоторые сти-
лис1ические особенности, как, например, отсутствие длинных описаний,
авторских отступлений и т. п. Но в отношении характера сюжетов, тема-
тики д идейного содержания новеллы мало чем отличаются от романов,
что позволяет рассматривать те и другие совместно.
В рыцарском романе и новелле мы находим в объективированном
виде, прикрепленными к импонирующим легендарно-историческим образам,
тот самый анализ чувств и ту самую философию любви, которые в ры-
царской лирике даны в субъективном плане. Но если любовь в более или
менее «возвышенном» ее аспекте является обязательным элементом рыцар-
ского романа, то другой, столь же постоянный элемент его — фантастика
(le merveilleux) в средневековом, двояком понимании этого слова: как сверхъ-
естественное (в сказочном, не христианском смысле) и как все необычай-
ное, исключительное, «возвышающее» героя и читателя над прозаической
обыденностью жизни. Обе эти формы фантастики, обычно связанные с лю-
бовной темой, покрываются понятием приключений, авантюр (aventures)
случающихся с рыцарями, которые всегда идут навстречу им. Свои аван-
тюрные подвиги рыцари совершают не ради общего, национального дела,
как герои chansons de geste, и не во имя чести или интересов своего рода,
согласно старым нормам рыцарской морали, а ради личной славы.
Этим в роман вносятся одновременно черты индивидуализма и космополи-
тизма, поскольку идеальное рыцарство мыслится как учреждение ' между-
народное и неизменное во все времена, одинаково свойственное древнему
Риму, мусульманскому Востоку и современной Франции. Вот почему
рыцарский роман изображает давние эпохи и жизнь далеких народов
в виде картины вполне современного общества, в которую читатели из
рыцарских кругов глядятся как в зеркало, находя в нем отображение своих
жизненных идеалов. Для подобного рода трактовки образы chansons de
geste совершенно не подходили. Правда, на более позднем этапе развития
рыцарского романа делались попытки частично переделать на куртуазный
лад героев народного эпоса, являющиеся отдаленным прологам к той ра-
дикальной перестройке, которой позже, в Италии, они подверглись в поэмах
98
1'АППЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
Боярдо и Аристо. Но, в целом, такой переработке их в средние века пре-
пятствовала слишком интенсивная их жизнь в широких слоях населения и
слишком сильная литературная традиция. Поэтому, кое-что заимствуя из
героического эпоса (главным образом — описания битв и поединков), ры-
царский роман в общем от него отталкивается в смысле как проблематики,
так и стиля. В противоположность стилю chansons de geste, для рыцар-
ского романа характерно в первую очередь насыщение его психологиче-
ским содержанием, находящим выражение, между прочим, в длинных
монологах и диалогах, а также интерес к реальной жизни, к явлениям
природы, к конкретной обстановке действия: отсюда — первые опыты
портретирования персонажей, правда, еще очень схематического, в част-
ности — довольно разработанные женские портреты, а главное — очень
детальные, отчасти восходящие к античным образцам, описания костю-
мов, вооружения, зданий, животных, отдельных, особенно важных для
действия романа предметов.
Вполне естественно, что в поисках благодарных для такой разработки
сюжетов поэты охотно обращались к иноземному, экзотическому мате-
риалу. Прежде всего они 'попытались извлечь то, что возможно, из давно
и хорошо им известных античных сказаний. Такое обращение к древности
обусловливалось не только высоким авторитетом, которым античная уче-
ность, должным образом процеженная духовной цензурой, пользовалась
в тогдашних школах, но и старинным церковным тезисом о том, что языче-
ская античность — подготовка " и прообраз новой христианской культуры.
Очень отчетливо мысль эта выражена в начале романа Кретьена де Труа
«Клижес» (стихи 27'—31): «Сначала славилась рыцарством и наукой Гре-
ция, затем они переселились в Рим, а теперь перешли во Францию». Само
собою понятно, что мифология из античных произведений тщательно при
этом изгонялась, однако полностью был сохранен, как нечто весьма на-
зидательное, содержавшийся в них легендарно-исторический материал.
Первым опытом такого приспособления античного материала к наро-
ждающимся куртуазным вкусам является роман об Александре Македон-
ском. Подобно славянской «Александрии», он восходит в конечном итоге
к баснословному жизнеописанию Александра, составленному будто бы его
другом и соратником Каллисфеном, а на самом деле являющемуся поддел-
кой, возникшей в Египте во II или III в. н. э. Этот роман Псевдо-Каллис-
Фена, переведенный с греческого языка на латинский в начале IV в. Юлием
Валерием, подвергся затем в IX в. сокращенному пересказу («Epitome»,.
также на латинском языке), по которому французские поэты главным
образом и познакомились с этим сюжетом. Другой латинской переработкой
романа Псевдо-Каллисфена является «История сражений» («Historia de
preliis») неаполитанского архипресвитера Льва, X в. Древнейшая западно-
европейская редакция романа, основанная, главным образом, на Юлии
Валерии, принадлежит Обери де Пизансон или де Бриансон (Auberi de
Pisançon или Briançon, конца XI или начала XII в.). От поэмы этой,
написанной на франко-провансальском наречии, сохранился лишь неболь-
шой отрывок. Зато полностью дошла до нас обширная компиляция Лам-
бера Ле-Тора и Александра Парижского (Lambert le Tort, Alexandre de
Paris, ок. 1175 г.), представляющая собою восполнение романа Обери по
тому же источнику («Epitome») и архипресвитеру Льву, с присоедине-
нием еще некоторых других апокрифических писаний, как, например,
«Путь Александра Великого в рай» («Alexandri Magni iter ad paradisum»,
IV в.) и его «Письмо к Аристотелю», приводимое у Юлия Валерия. Эта
компиляция, в отличив от остальных рыцарских романов, написана ветре-
РЫЦАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
99
чающимися также в некоторых chansons de geste парными рифмованными
двенадцатисложными стихами с цезурой после шестого слога Ее попу-
лярностью объясняется то, что размер этот впоследствии (в XV в.) по-
лучил название «александрийского стиха». Все другие романы, о которых
будет речь ниже, написаны восьмисложным стихом.
Празда, произведение Ламбера Ле- Гора и Александра Парижского
еще не рыцарский роман в полном смысле слова, а только прелюдия
к нему, потому что любовная тема здесь отсутствует. Главная задача
авторов — показать верх земного величия, которого человек может до-
стигнуть, а вместе с тем — бренность всего земного: даже великий за-
воеватель мира должен, в конце концов, удовольствоваться могилой в не-
сколько локтей земли. Однако вкус ко всякого рода авантюрности и фанта-
стике мог найти в этом материале свое полное удовлетворение. Француз-
ским поэтам не было надобности что-либо добавлять: все уже было в их
источниках.
Величайший завоеватель древности представлен в «Романе об Але-
ксандре» блестящим средневековым рыцарем. Сначала изображается его
воспитание. Младенцем он отверг кормилицу, найдя такой способ пита-
ния слишком грубым: пришлось приставить к ному царевну, которая стала
кормить его с золотой ложечки. Один глаз у Александра был голубой,
как у дракона, другой — черный, как у грифа. Он обуздал коня Буце-
фала, который был помесью слона и верблюда. В юности Александр
получил в дар от фей две рубашки: одна защищала его от жары и хо-
лода, другая от ран. Когда пришло время посвятить его в рыцари, щит
pmv подарил царь Соломон, а меч — царица амазонок Пентезилея; шлем
у него был тот самый, который носил король Артур. Александром в его
странствованиях и походах руководит не только стремление завоевать мир,
но и жажда все познать и увидеть. На него перенесен ряд приключений,
описанных в литературе житий святых и «видений». Подобно св. Брендану,
Александр попадает на движущийся остров, который оказывается гигант-
ской рыбой. Среди других чудес Востока он встречает людей с песьими
головами, лес, в котором вместо цветов весной из земли вырастают моло-
дые девушки, с наступлением зимы уходящие снова в землю, находит
источник юности, достигает земного рая. Много миль он идет сначала
в области вечного мрака, затем — вечного света. Он слышит пение сирен
и видит древо луны и солнца, которое предсказывает ему скорую смерть.
Не ограничиваясь поверхностью земли, Александр захотел исследо-
вать глубины вод и небесную высоту. В огромной стеклянной бочке он
спустился на дно морское, чтобы рассмотреть его диковины. Мало того,
он также и первый воздухоплаватель. Он велел соорудить клетку с ше-
стами, к верхушке которых были прикреплены куски мяса, а пониже их
он «велел привязать грифов. Птицы, стараясь добраться до мяса, стали
стремиться ввысь—и от взмахов их крыльев клетка поднялась на воздух.
Как подобает идеальному рыцарю, Александр отличается также необык-
новенной щедростью. Когда один жонглер угодил ему своим искусством,
Александр подарил ему целый город, и его придворные начинают побаи-
ваться, как бы он в один год не раздарил все свои богатства и владения.
Значительным приближением к развитой форме рыцарского романа
с законченной фабулой и включением любовной тематики является воз-
никшая около этого же времени триада «античных» романов, излагающая
историю Эдипа и его потомства, Энея и Троянской войны. Хотя основным
здесь является повествование о войнах, семейных драмах древних героев
и т. п., французские поэты особое внимание уделяют элементу чудесного
100
РАПНЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
или авантюрности, а также любовным эпизодам, развивая те из них, кото-
рые уже заключались в древних подлинниках, или же целиком присочиняя
новые.
Хронологически первый из этих романов — «Роман о Фивах» («Ro-
man de Thèbes») неизвестного автора, написанный вскоре после 1150 г
и представляющий собою весьма вольное переложение очень популярной
в средневековых школах поэмы римского писателя Стация «Фиваида»
(I в. н. э.) или какой-то ее школьной переработки в прозе на латинском
языке. Здесь мы находим две любовные интриги: между Партенопеем
и Антигоной, дочерью Эдипа, и между Атисом и Исменой, другой его
дочерью. В обоих случаях любовь трактуется в приподнятых, приукра-
шенных тонах. Иокаста, мать девушек, встречает несколько чужих ры-
царей и приглашает их в свой лагерь. Среди них Партенопей, который
немедленно влюбляется в Антигону. При первом же случае он просит ее
сделаться его подругой (amie), на что она вежливо и с достоинством от-
вечает: «Такая любовь была бы слишком поспешной — так ведут себя
пастушки или дворовые девушки, а не принцессы. Вот почему я отвечу
вам: не скрою, что вы мне нравитесь, но сначала поухаживайте за мной,
как полагается, — может быть, я и соглашусь выйти за вас замуж, так
как вы самый изящный и прекрасный из всех рыцарей». В таком же ры-
царском стиле обрисована любовь Атиса и Иомены, завершающаяся
страстным и трогательным плачем ее над телом убитого возлюбленного.
«Роман об Энее» («Roman d'Eneas»), также неизвестного автора, воз-
никший, вероятно, в Нормандии около 1160 г., является довольно свобод-
ной обработкой «Энеиды» Вергилия. Гораздо более высокий в художе-
ственном отношении материал, в соединении с подлинным мастерством
французского поэта, сделал этот роман блестящим образцом нового жанра,
по которому все последующие романисты, не исключая Кретьена де Труа,
учились искуоству выразительных описаний, анализа душевных пережива-
ний, живого и непринужденного повествования. Здесь любовная тема пред-
ставлена еще более широко. Один из двух любовных эпизодов романа —
история трагической любви Дидоны и Энея — разработан уже у Верги-
лия (кн. IV) настолько подробно, что французскому поэту оставалось
лишь добавить несколько дополнительных узоров. Зато второй эпизод
целиком создан им. У Вергилия брак Энея и Лавинии, дочери царя Ла-
тина, — чисто политический союз, в котором сердечные чувства не играют
никакой роли. Во французском романе он развернут в целую повесть
(1600 стихов), иллюстрирующую доктрину куртуазной любви. Мать Ла-
винии пытается склонить ее к браку с местным князем Турном. Для этого
Лазиния должна постараться полюбить его. Но что такое любовь? Ла-
винии это чувство незнакомо, и мать пытается объяснить его ей, в точ-
ности следуя доктрине Овидия. Любовь — это особого рода болезнь, от
которой человек теряет сон и аппетит, чахнет, потеет, дрожит словно от
лихорадки. Лавиния решительно заявляет, что она не хочет такой бо-
лезни. Тогда мать начинает описывать ей те радости, которые приносит
любовь: это боль, которая таит в себе великую сладость, — «из слез ро-
дится смех и веселье, из обморока — наслажденье, из зевоты — поцелуи,
из бессонницы — объятия, из вздохов — великая отрада, из бледности —
румянец». Так любовь сладостно исцеляет ею же самой приносимую боль.
И в доказательство мать. показывает Лавинии изображение Амура, кото-
рый держит в одной руке стрелу, а в другой — ларец с исцеляющей
мазью. Но тщетны все уговоры: Лавиния не хочет подвергать себя таким
испытаниям. Вскоре, однако, с высоты своей башни она увидела во вра-
РЫЦАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
101
жеоком лагере Энея — и тотчас же почувствовала в своем сердце стрелу
Амура. Теперь ей пришлось испытать все то, что мать ей описывала. Но
где же ларец с мазью? Его не видно. «Боюсь, что Амур потерял его или.
пролил лекарство», вздыхает Лавиния. Она решает признаться Энею в
своем чувстве 'и пишет ему письмо, «целиком по-латьиги», затем просит
стрелка привязать письмо к стреле и пустить ее так, чтобы она упала!
к ногам Энея. Тот читает письмо, поднимает глаза, видит Лавинию, по-
сылающую ему воздушный поцелуй,—и тотчас же ощущает, что его
пронзила другая стрела, стрела Амура. Теперь наступает очередь для
Энея томиться бессонницей, страдать, бледнеть. Но любовь оказывает на
него и другое; действие *—он становится еще храбрее в бою. Сначала
Эней хочет скрыть свое чувство, мбо, «если женщина не уверена в ответ-
ном чувстве, она от этого любит еще сильнее». Однако он не) в силах
долго таиться; после победы над Турном он признается в своей любви,
и дело быстро кончается бракам. Любовь изображена в этом романе по-
следовательно в ее двух аспектах — как роковая страсть (Эней — Дидона)
и как тонкое искусство (Эней — Лавиния).
Значительно уступает во многих отношениях этой французской «Эне-
иде» гигантский (более 30 000 стихов) и довольно хаотический «Роман
о Трое» («Roman de Troie»), посвященный королеве Элеоноре и напи-
санный вскоре после 1160 г. придворным поэтом английского короля Ген-
риха II, Бенуа де Сент-Мор (Benoît de Sainte-Maure). Источником ему
послужил не Гомер (которого в средние века не знали), а две подлож-
ные хроники (латинские, переведенные с греческого), составленные будто
бы очевидцами Троянской войны — фригийцем (т. е. троянцем) Даретом
(«Historia de excidio Troiae» — «История гибели Трои», возникшая в VI р..
н. э.) и греком Диктисом («Ephemeris belli Troiani» — «Дневник Троян-
ской войны», IV в.). Так как Бенуа пользовался преимущественно пер-
вою из них, написанной, согласно мнимой национальности ее автора, с
троянской точки зрения, то носителями высшей доблести у него оказы-
ваются не греки, а троянцы. 1 При этом Бенуа начинает свою повесть
о Трое с древнейших времен — с похода аргонавтов, когда город в пер-
вый раз был разрушен Язоном и Гераклом. Весьма разработаны здесь
два любовных эпизода, найденные в древнем источнике: Язон — Медея и
Ахилл — Поликсена. Но гораздо существеннее третий эпизод, свободно
измышленный автором и имевший большой резонанс в европейской поэ-
зии — история любви троянского царевича Троила к пленной гречанке
Бризеиде, заканчивающаяся изменой коварной красавицы (после ее ухода
из Трои) с Диомедом. Характерно, что при куртуазной изысканности
манер всех персонажей чувства Троила и Диомеда изображены отнюдь
не в специфических тонах любовного служения, а гораздо реалистичнее,
и единственной чертой куртуазной концепции любви является лишь то, что
рыцарская доблесть обоих героев возрастает вместе с любовью. В общем,
автор сурово осуждает женское непостоянство: «Печаль женщины длится
недолго. Одним глазом она плачет, а другим смеется. Настроение у жен-
щин меняется быстро, и даже самая разумная из них достаточно легко-
мысленна». Несмотря на эту мораль, сближающую его с церковными про-
поведниками и авторами назидательных рассказов о «злых женах», Бенуа
1 Такая оценка троянцев, вызванная распространенностью во всей Европе Псевдо-
Дэрета, типична для всех средневековых обработок этого сказания. Отсюда —
«ученая» легенда о происхождении французов, англичан и некоторых других народов
от троянцев, использованная еще в XVI в. Ронсаром в его «Франсиаде».
102
РАПНВИ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
не лишен некоторой наблюдательности, уменья портретировать .человече-
ские образы, подмечать тонкие душевные движения.
Одновременно с этими большими романами возникло несколько стихо-
творных новелл на античные сюжеты, представляющих собою, главным
образом, переработки некоторых эпизодов из «Метаморфоз» Овидия. Древ-
нейшая из них (вскоре после 1150 г.), о Пкраме и Фисбе, объемом менее
чем в 1000 стихов, содержит, согласно требованиям куртуазного стиля,
целых пять любовных монологов. В «Нарциссе» (конца XII в.), ради
устранения чисто мифологического элемента, нимфа Эхо заменена царев-
ной Данес, от любовных домогательств которой Нарцисс бежит в лес, где
бросается в поток, в котором увидел свое отражение. Наиболее разрабо-
таны в психологическом и живописном отношении образы Овидия в «Фи-
ломене» Кретьена де Труа (около 1155 г.), пересказе истории Проккы и
Филомелы.
о
Те возможности, которые содержали в себе античные сюжеты, были
быстро исчерпаны, так как любовный и авантюрный элемент, заключав-
шийся в них, был весьма ограничен и по внутреннему характеру своему
достаточно чужд средневековому мышлению. В это самое время открылся
другой, гораздо более богатый и благодарный источник сюжетов для но-
вых поэтических вымыслов и концепций — кельтские сказания, которые,
будучи продуктом поэзии родового строя, особенно устойчивого у кель-
тов, были насыщены эротикой и фантастикой. Конечно, та и другая под-
верглись в рыцарской поэзии радикальному переосмыслению. Мотивы
полиандрии, группового брака, временных, свободно расторгаемых любовных
связей, наполнявшие кельтские сказания и являвшиеся отражением дей-
ствительных брачных и эротических отношений у кельтов, господствовав-
шей у них бытовой нормы, были перетолкованы французскими куртуаз-
ными поэтами именно как нарушение нормы прозаической каждодневной
жизни, как адюльтер, подлежащий куртуазной идеализации. Совершенно
так же всякого рода «волшебство», которое в архаическую пору мифоло-
гического мировоззрения, когда слагались кельтские оказания, мыслилось
как выражение естественных сил природы и единственная форма человече-
ской практики, — теперь, в творчестве французских поэтов, воспринима-
лось как нечто специфически «сверхъестественное», выходящее из рамок
нормальных явлений и зовущее рыцарей на подвиги. Такое переосмысле-
ние в обоих случаях совершалось тем легче, что кельтские сказания, в от-
личие от античных или национальных героических преданий, не претендо-
вали на историческую достоверность и являлись малоизвестным, смутным
материалом, допускавшим самое свободное обращение с ним. Лучше всего
отношение к нему французских поэтов характеризуется отзывом одного
поэта XIII в.: «Бретонские рассказы так пусты и забавны!» («Les contes
de Bretagne sont si vains et plaisants!»).
Эти кельтские сказания дошли до французских поэтов двумя путями.
Одна волна шла от странствующих бретонских певцов или рассказчиков,
которых французские жонглеры или поэты могли встретить в обла-
стях, пограничных с Бретанью. Но с этой волной сливалась другая, кото-
рая шла из Уэльса и Корнуэла в англо-нормандскую Англию, чтобы от-
туда перекинуться на континент. Оба потока подкрепляли и отчасти дуб-
лировали друг друга, так как происхождение бретонцев от валлийцев и
корнуэльцев, эмигрировавши! во Францию в V—VI вв., обусловливало
РЫЦАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
105
значительную общность эпических преданий и вообще фольклорного мате-
риала у тех и других. Случалось и то, что бретонские певицы заходили
з Англию. Помимо прочего, французов восхищала музыкальная сторона
песен, которые бродячие кельтские певцы исполняли, надо полагать, на
своем родном языке, предваряя или сопровождая их кратким пересказом
ка языке слушателей. По всей вероятности, эти пеони и рассказы были
известны французам уже в XI в., если не раньше, хотя до расцвета кур-
туазной поэзии они не подвергались во Франции литературной обработке.
Многие из этих сказаний были связаны с обоазом баснословного «ко-
роля Артура» — одного из вождей бриттов V—VI вв., героически защи-
щавшего от англо-саксов еще не захваченные ими области на западе Англии.
Но другие первоначально не имели к нему никакого отношения (например,
сказание о Тристане и Изольде), хотя часть их, и процессе циклизации,
уже во французских обработках была впоследствии чисто искусственно
приурочена к образу Артура. Поводом для этого отчасти послужила ла-
тинская хроника одного кельтского клирика, жившего в Англии, Галь-
фрида Монмутского — «История королей Британии» («Historia regum Bri-
tanniae», ок. 1137 г.). В этой книге излагалась сказочная история древней
Британии, начиная с происхождения бриттов от легендарного троянца
Брута, внука Энея, до VII в. н. э. Но центральное место в ней отведено
личности «короля Артура». Черпая из народных кельтских преданий об
Артуре, но при этом чрезвычайно гиперболизируя его образ, Гальфрид
превратил его в могущественного короля всей Британии, более того — в
завоевателя Норвегии, Галлии, победителя римского императора, власте-
лина половины Европы. А на ряду с военными подвигами Артура рас-
сказывалось о чудесном его рождении; об отплытии его, когда он был
смертельно ранен, на остров Аваллон — обитель бессмертия, о деяниях
его сестры — феи Морганы и т. п. Двор короля бриттов изображен здесь
как средоточие высшей доблести и благородства, где на ряду с Артуром
царит его жена, прекрасная королева Гванхумара (соответствующая Ге-
ниевре позднейших французских романов), а вокруг них группируются мо-
гучий Вальгайн (Говен французских романов), злокозненный и нередко
смешной неудачник — сенешал Кей, злой Модред, в конце концов вос-
ставший против короля Артура и явившийся причиной его гибели, и т. д.
Дополнением к этому «историческому роману» служат напмсанные тем же
Гальфридом две книги о пророчествах волшебника Мерлина, связанных
с царствованием Артура, и полное жизнеописание того же Мерлина.
Хроника Гальфрида имела огромный успех, и в 1155 г. была переве-
дена, по желанию королевы Элеоноры, нормандцем Васом на французский
язык под заглавием «Brut». Пользуясь бретонскими народными предани-
ями, Вас внес от себя несколько дополнительных черт, из которых важней-
шая — то, что Артур велел соорудить круглый стол с той целью (как
объясняет другой автор того времени), чтобы на пиру у короля ие было
ни лучших, ни худших мест и все его рыцари чувствовали себя равными.
Отсюда ведет начало обычная рамка артуровских романов
или, как их часто называли раньше, романов Круглого стола, — кар-
тина двора короля Артура как средоточия идеального рыцарства в новом
его понимании. Создалась поэтическая фикция, будто в эти древние
времена нельзя было сделаться совершенным рыцарем, в смысле как воин-
ских подвигов, так и высокой любви, не пожив и не «потрудившись» при
дворе Артура. Отсюда — паломничество всех героев к этому двору,
а также — включение в артуровокий цикл сюжетов, первоначально ему
чуждых. В «Клижесе» Кретьена де Труа сын византийского императора
104
РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
едет обучаться рыцарству в далекую Британию. Другой роман Кретьена
начинается так: «Артур, добрый король Британии, чья доблесть учит и
нас тому, чтобы мы были доблестны и к. у р т у а з н ы. . .», и дальше сле-
дует длинное рассуждение о том, как высоко стояло некогда искусство
тонко и благородно любить: «Тогда монастырь Амура был богат и сла-
вен; а теперь мало у него приверженцев. .. Те, кто любил встарь, звались
людьми куртуазными, доблестными, благородными. Но нынче любовь
стала пустой басней, и те, которые совсем ее не чувствуют, уверяют,
будто любят, но они лгут и хвастают, не имея на то никакого права.
Однако оставим ныне живущих, чтобы поговорить о тех, что были прежде.
Ибо лучше, по-моему, мертвый куртуазный человек, чем живой, да низкий
(vilain). Потому-то мне хочется рассказать вам нечто такое, о чем стоит
послушать — о короле, пользовавшемся такой славой, что о нем говорят
и близко и далеко. Я согласен с бретонцами, что вечно будет жить его
имя, и благодаря ему сохранится память о добрых избранных рыцарях,
потрудившихся на путях чести».
Однако если рассказ Гальфрида-Васа дал артуровским романам сим-
волическую рамку, а также своего рода литературную санкцию, обусло-
вившую внезапное появление и стремительный расцвет этих романов
после 1155 г., то сюжеты их иного происхождения. Они восходят к живым
фольклорным источникам, к бретонским, уэльским или корнуэльским
устным рассказам и песням, причем, однако, очень скоро французские
жонглеры и поэты начали примешивать сюда мотивы и целые сюжеты
совершенно другого происхождения (местного, античного или даже вос-
точного), объединяя вое это под общим, быстро ставшим очень популяр-
ным названием «бретонских повестей» (matière de Bretagne). 1
Эти «бретонские» повести, будь то артуровские или иные, переносили
своих читателей и слушателей в фантастический мир, где на каждом шагу
встречались феи, великаны, волшебные источники, из которых нельзя за-
черпнуть воду, не подвергая свою жизнь опасности, заколдованные замки,
вращающиеся вокруг своей оои или исчезающие при пробуждении зано-
чевавшего в них героя, прекрасные девушки, притесняемые злыми обид-
чиками и ожидающие помощи от смелых и великодушных рыцарей, при-
чем все вытекающие из этого авантюры перемешаны с любовными эпи-
зодами и должны «ллюстрировать проявления высокого душевного бла-
городства.
Вся огромная масса бретонских повестей может быть разделена на че-
тыре группы произведений, которые сильно различаются между собой по
своему идейному содержанию и общественным тенденциям. Это, во-первых,
так называемые бретонские л э; во-вторых, группа романов о Тристане и
Изольде; в-третьих, артуровские романы в собственном смысле слова; в-чет-
вертых, цикл романов о святом Граале.
До нас дошел сборник из двенадцати лэ (lais, слово кельтского про-
исхождения, случайно совпавшее с названием лирического жанра лэ), т. е.
стихотворных новелл любовного и по большей части фантастического со-
держания, сочиненных англо-нормандской поэтессой, назвавшей себя Ма-
рией Французской (Marie de France), примерно между 1165 и 1175 гг.-
Это была чрезвычайно образованная для своего времени женщина, без
сомнения принадлежавшая к аристократическим кругам общества, одарен-
ная и плодовитая писательница, от которой до нас дошло еще два произ-
1 В этом выражении слово Bretagne имеет одновременно два географических значс-
чения — Брстань (Арморика, область Франции) и Британия, т. е. Англия.
РЫЦАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
105
ведения, написанные ею позже, чем лэ,—сборник басен, переведенных
с англо-саксонского языка, и «Чистилище! св. Патрика» — переложение
одного латинского трактата на эту тему. Несомненно, что она знала и
бретонский язык. В своем прологе она сообщает, что, наслушавшись лэ,
которые распевают бретонцы, она захотела перевести их для того, чтобы
познакомить с этими «нежными песнями» своих соотечественников. Таким
образом, если лэ Марии и не являются самыми ранними образцами «бре-
тонских повестей» на французском языке, то по своему характеру они
все же восходят непосредственно к фольклорным источникам, и кельтские
сюжеты не подверглись в них такой сложной переработке, как в артуров-
ских романах.
Тем не менее, подобно авторам античных романов и вообще всем
средневековым поэтам, Мария переносит сюжеты бретонских рассказов
в обстановку французского феодализма, приспособляя их к нравам и по-
нятиям современной ей, преимущественно рыцарской действительности.
В лэ о «Ионеке» рассказывается о том, как одна молодая женщина, выдан-
ная замуж за ревнивого старика, томится в башне под надзором служанки и
мечтает о том, чтобы к ней явился молодой красивый рыцарь. Стоило»
ей высказать это пожелание, как в окно ее комнаты влетела птица, кото-
рая обернулась прекрасным рыцарем. Он сообщает ей, что уже давно
ее любит, но не мог явиться без ее призыва. Отныне он будет прилетать
к ней всякий раз, когда она пожелает этого. Их свиданья продолжались
до тех пор, пока муж, заподозрив что-то неладное, не велел прикрепить
к окну серпы и ножи, на которые рыцарь-птица, прилетев к возлюблен-
ной, наткнулся и смертельно себя ранил. Когда сын, родившийся от него
у его возлюбленной, названный Ионеком, вырос, она рассказала юноше
о его происхождении, и он, мстя за смерть отца, убил злого ревнивца.
Еще ярче фон рыцарской жизни изображен в «Аанвале». Один из ры-
царей короля Артура, разорившийся вследствие своей щедрости и беспеч-
ности, однажды увидел на берегу реки роскошный шатер, в котором нахо-
дилась молодая девушка необычайной красоты. Девушка (в бретонском
рассказе, очевидно, фея) предложила Ланвалю свою любовь и дала талис-
ман, доставивший ему снова богатство, потребовав за это соблюдения
тайны их любви. Через некоторое время королева Гениевра стала доби-
ваться любви Аанваля. Тот не удержался и заявил, что у него есть возлюб-
ленная более прекрасная, чем она. Разгневанная Гениевра пожаловалась на
это оскорбление королю, который потребовал, чтобы Ланваль доказал свои
слова, чего он не мог сделать, потому что девушка больше не появлялась.
Над Ланвалем снарядили суд. В последнюю минуту явилась девушка вер-
хом на коне, и все должны были признать, что она прекраснее королевы.
После этого она хотела ускакать одна, но Ланваль вспрыгнул ка ее коня
сзади и умчался с нею в неведомый край (очевидно, в страну бессмертия
Аваллон), откуда больше не возвращался.
Если в лэ подобного рода ясно проступают специфические черты кельт-
ских верований и сказаний, то сюжеты некоторых других лэ Марии не
имеют к кельтскому фольклору никакого отношения. В одном из них рас-
сказывается, как один король, не желая расставаться со своей дочерью,
объявил, что выдаст ее замуж лишь за того, кто без посторонней по-
мощи отнесет ее на руках на вершину высокой горы. Влюбленный в нее
юноша, которого она также любила, донес ее до вершины, но тут же упал
мертвым. С тех пор гора эта зовется «горою двух любящих». В другом лз-
молодая женщина, несчастная в замужестве, под тем предлогом, что она
слушает пенье соловья, подолгу простаивает по вечерам у окна, глядя
TOG
РАППЕЕСРЕДНЕВЕКОВЬЕ
через улицу в окно дома, где живет влюбленный в нее рыцарь, также
глядящий на нее, и переговаривается с ним: в этом заключается вся их
радость. Но ревнивый и подозрительный муж убил соловья и злобно
бросил его к ногам жены. Она подобрала истерзанное тельце и отослала
его своему возлюбленному, который схоронил соловья в роскошном ларце,
как дорогое воспоминание. В первом случае мы имеем местное норманд-
ское предание, во втором — типичную ситуацию рыцарской поэзии. Очень
возможно, что такая ассимиляция стороннего материала была произве-
дена не Марией, а самими бретонскими певцами, которые во время своих
странствий подбирали и обрабатывали новые сюжеты для обогащения
своего репертуара.
Все лэ Марии Французской проникнуты одним общим лирическим
тоном, общей оценкой человеческих отношений. Рыцарская оболочка фа-
булы прикрывает в них общечеловеческое содержание. Роскошная придвор-
ная жизнь, блестящие воинские подвиги не привлекают Марию. Ее печа-
лит всякая жестокость, всякое насилие над естественными человеческими
чувствами. Но это рождает у нее не гневный протест, а мягкую грусть.
Больше всего она сочувствует страдающим влюбленным. При этом лю-
бовь она понимает не как пышное служение даме и не как бурную ро-
ковую страсть, а как нежное природное влечение друг к другу двух чистых
и простых сердец. Такое отношение к любви сближает лэ Марии с народ-
ной поэзией, и не случайно в них часто встречается ситуация, напоминаю-
щая песни «несчастной в замужестве». С этой мягкой человечностью и
задушевностью тона хорошо согласуется простота ячыка и замысла. То,
что Мария нашла в кельтском фольклоре, она воспроизвела с большой
внутренней правдивостью, по необходимости приспособив эти сюжеты к
формам рыцарской жизни, единственно известной ей и ближайшему кругу
ее читателей, но при этом сохранив глубокий смысл обработанных ею на-
родных сказаний. Эти свойства стиля Марии явились, без сомнения,
причиной высокой оценки ее лэ со стороны Гете, заметившего, что «от-
даленность времени делает для нас их аромат еще прелестнее и милее».
Кроме сборника Марии Французской, до нас дошло от первой поло-
вины XIII в. еще около десятка анонимных «бретонских лэ» («Граэлент»,
«Тиоле», «Тидорель», «Дезире» и т. п.). Их авторы, за очень редкими
исключениями, никогда не слышали кельтских певцов-рассказчиков и ограни-
чивались тем, что либо заимствовали целиком, с небольшими вариациями,
сюжеты лэ Марии, либо компилировали отдельные мотивы и положения,
которые в них встречаются. Вместо того, чтобы стараться, как это делает
Мария, вызвать симпатию к добрым и благородным чувствам, авторы
стремятся поразить читателя замысловатостью и неожиданностью расска-
зываемых ими авантюр. Само собою понятно, что искусство характери-
стики в этих лэ совершенно отсутствует и их персонажи являются просто
марионетками.
Сказание о Тристане и Изольде подвергалось огромному количеству
обработок, но большая часть их до нас не дошла. Целиком, например, про-
пали романы Ла-Шевра и Кретьена де Труа, а от романов Тома (ок.
1170 г.) и Беруля (ок. 1190 г.) сохранились только фрагменты. Не счи-
тая нескольких новелл, в которых изображаются отдельные эпизоды сказа-
ния (в том числе лэ Марии Французской «Жимолость»), полностью со-
хранилась лишь одна редакция, притом поздняя и художественно малозна-
чительная,— прозаический роман XIII в.
Все перечисленные выше версии являются независимыми друг от
друга переработками романа, написанного около 1150 г. неизвестным
РЫЦАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
107
автором. Хотя этот первый французский роман о Тристане, называемый
исследователями «прототипом», не сохранился, мы можем составить себе
довольно ясное представление не только о его фабуле, но и об идейном
замысле по реконструкции его содержания, произведенной на основании
сопоставления всех других порог:;денных им версий. '
Основным источником автору «прототипа» послужила повесть, широко
распространенная среди кельтских племен. Это—история страстной любви
жены одного короля или вождя племени и его племянника, их бегства,
скитаний и, наконец, трагической гибели. Весьма вероятно, что француз-
ский поэт познакомился с корнуэльской версией кельтского сказания. Хотя
эта версия до нас не дошла, мы можем воостансеить ее очертания благо-
даря многочисленным параллелям к ней, сохранившимся в ирландских
сагах VIII—XI вв.2
Автор «прототипа» в общем довольно точно воспроизвел кельтское
сказание, сохранив его трагическую окраску и только добавив к нему не-
сколько черт, заимствованных из античных сказаний (мотив белого и
черного паруса), из бродячих повестей (хитрости влюбленных) или других,
не всегда ясных источников (вторая Изольда, жена Тристана в дни из-
гнания). Он ввел также ряд дополнительных персонажей, взятых из со-
временного ему рыцарского обихода и куртуазной 'поэзии, — преданную
служанку (Бранжьену), верного оруженоы^а (Горвенала), доносчиков—вра-
гов любящих и т. п. Точно так же, несмотря на сохранение нескольких
кельтских бытовых черт, невозможных в рыцарском обиходе XII в.
(ручей, протекающий через комнату королевы, наказание неверной жены
сожжением на костре и т. п.), он, подобно Марии Французской, почти
всюду заменил кельтские нравы, учреждения и обычаи чертами француз-
ского рыцарского быта: таковы одежда и манеры персонажей, иерархия
отношений между ними, «божий суд» (испытание раскаленным железом),
фигуры придворного карлика, юродивого (ряженый Тристан), отшель-
ника и т. п.
Из всего этого разнообразного материала анонимный автор «прото-
типа», один из даровитейших поэтов своего времени, сумел создать еди-
ное целое, проникнутое одним общим чувством и мыслью, замечательную
повесть, поразившую воображение его современников и вызвавшую длин-
ный ряд подражаний.
Успех этого романа обусловлен прежде всего той особенной ситуацией,
в которую поставлены его герои, и концепцией их чувств. Путем показа
резкого конфликта между чувствами героев и всеми законами, принципами
и навыками феодально-рыцарского общества в романе раскрываются про-
тиворечия, лежащие в основе этого общества. Это потому, что в страда-
ниях, которые испытывает Тристан, наиболее существенны и трагичны не
те, которые1 обусловлены его лишениями и препятствиями в его борьбе за
1 Первая такая реконструкция «прототипа» была произведена Ж. Бедье в его
комментированном издании фрагментов романа Тома (1902). С нею не следует смеши-
вать опубликованный им за дь'а года до того и несколько раз издававшийся по-русски
научно-популярный пересказ романа о Тристане и Изольде. Впрочем, хотя этот послед-
ний сделан, главным образом, на основании Беруля, он мало отличается от ученой
реконструкции того же Бедье и дает довольно верное представление о первоначальном
романе. Реконструкции, предложенные после Бедье несколькими другими исследова-
телями, также отклоняются от его реконструкции лишь в некоторых деталях.
2 Не вполне ясно отношение французского романа к персидской поэме середины
XI в. «Вис и Рамин», обнаруживающей с ним большое сюжетное сходство. Однако,
ввиду отсутствия путей, которыми французские труверы могли бы познакомиться с пер-
сидской поэзией, прямое влияние здесь предположить трудно. Скорее всего сходство
объясняется аналогией общественных условий, в которых возникли оба произведения.
10В
РАННЕЕ СРЕДПЕВЕКОВЬЕ
свое чувство, а те, которые вызваны в нем сознанием безысходного про-
тиворечия между его страстью и моральными устоями всего общества,
обязательными для него самого.
Тристан томится сознанием беззаконности своей любви и того троя-
кого оскорбления, которое он наносит ею королю Марку — как своему
государю, как своему старшему родственнику, заменившему ему отца, и
как человеку, которому он, помимо всякого иерархического «долга», лично
столь многим обязан.
В полном согласии с этим трактуется характер Марка, которого автор
«прототипа» (в противоположность королю — мужу кельтского сказания,
мстительному и в конце концов убивающему героя) наделил чертами
редкого благородства и великодушия. Марк женился на Изольде, лишь
уступая настояниям своих баронов. Сам он отнюдь не хотел вступать
в брак, чувствуя себя для этого слишком старым, а также потому, что
не желал лишать Тристана прав на престол. Но он сам, как и Тристан,
является жертвой голоса феодально-рыцарской «общественности». В романе
нет ни слова о «страсти» Марка к Изольде, с которою он обращается
скорее как с дочерью, чем как с любимой женой. Он менее всего склонен
к подозрительности или ревности по отношению к Тристану, которого он
продолжает любить как родного сына. Но он вынужден и тут уступить
настояниям доносчиков-баронов, приводящих ему неопровержимые улики
и указывающих ему на то, что от этого страдает его рыцарская и коро-
левская честь. Как только, однако, представляется к тому случай, Марк
готов простить виновных, закрыв на все глаза. Эту снисходительность
и доброту Марка Тристан вспоминает все время, и от ьтого его нрав-
ственные страдания лишь усиливаются.
В противоположность Тристану, Изольде чужды какие-либо сомне-
ния или муки совести, которые терзают его. В этом сказалась большая
зоркость поэта. В чувствах и поведении Изольды он отразил принижен-
ность и бесправие женщины феодального общества, делавшие ее суще-
ством в общественном! отношении безответственным и аморальным. В то
время как Тристан — блестящий рыцарь, пользующийся всеми привиле-
гиями своего высокого положения, Изольда — бессловесная рабыня, кото-
рую добывший ее посредством подвига герой вправе передать, как куп-
ленную вещь, другому (своему дяде), ни с чьей стороны не вызывая
возражений. Вполне естественно поэтому, что Тристан исполнен уваже-
ния к устоям окружающего его общества, между тем как Изольда, ничем
не обязанная этому обществу и вынужденная собственными средствами —
правдою или обманом — бороться за свою долю счастья в жизни, неиз-
бежно приходит к полному аморализму. С этой точки зрения худшие
проявления ее жестокости и неблагодарности (например, когда она обре-
кает на смерть Бранжьену из-за того только, что та может выдать ее
тайну) являются субъективно оправданными и, согласно бесспорному
намерению автора, вызывают в читателе скорее чувство печали и жалости,
чем негодования.
Отношение автора к морально-общественному конфликту Тристана и
Изольды с окружающей их средой — двойственное. Безусловно, он при-
знает правоту официальной, господствующей морали. Это доказывается
хотя бы тем, что сам Тристан у него мучится сознанием своей «вины».
Любовь Тристана и Изольды представляется автору несчастьем, в кото-
ром повинно любовное зелье. Но вместе с тем он не скрывает своего со-
чувствия этой любви, изображая в положительных тонах всех тех, кто
способствует ей (Горвенал, Каэрдин, Перинис) и выражая удовлетворе-
РЫЦАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
109
ние по поводу неудач или
гибели врагов любящих
(придворный карлик, баро-
ны-доносчики).
От явного противоре-
чия автора как будто спа-
сает мотив рокового лю-
бовного напитка. Но ясно,
что этот мотив служит
лишь целям маскировки его
чувств, и о подлинной на-
правленности его симпатий
отчетливо говорят его ху-
дожественные образы. Не
доходя до открытого обли-
чения феодально-рыцарско-
го строя со всем его гне-
том и предрассудками, ав-
тор внутренно ощущал его
неправоту и насилие. Об-
разы его романа, заклю-
чающееся в нем прославле-
ние любви, не желающей
считаться ни с установлен-
ной феодальным обще-
ством иерархией, ни с за-
коном католической церк-
ви, ни с мнением окружа-
ющих, объективно содер-
жат в себе элементы кри-
тики самых основ этого об-
щества.
Это мора \ьно-идейное
содержание первого рома-
на о Тристане перешло в
более или менее отчетливой форме во все дальнейшие обработки сказаний,
обеспечив ему огромную популярность не только в эпоху классического
средневековья, но и в позднейшие века. Правда, в некоторых из этих
обработок концепция «прототипа» оказалась ослабленной и утратила значи-
тельную долю своей выразительности. Так, например, у Беруля, хорошо
передающего стихийный характер страсти Тристана и: Изольды, спокойно-
повествовательный и даже авантюрный элемент преобладает над психо-
логическим, и душевная драма героев ощущается очень слабо. Наоборот,
Тома с его замечательным мастерством психологического анализа и опи-
саний .вносит черты рассудочности, куртуазной казуистики в свои рас-
суждения о противоречиях между «любовью» и «разумом», волей чело-
века и его чувственными желаниями и т. п., ослабляя впечатление непо-
средственности старинной легенды. Но для всех обработок остается об-
щим изображение любви героев как чувства всепоглощающего и исключи-
тельного, любви, которая сильнее смерти.. Сам Тристан говорит у Тома:
«Изольда моя возлюбленная, Изольда моя дорогая, в вас моя смерть,
в вас моя жизнь» («Iseut ma drue, Iseut ma mie, En vous ma mort, en vous
raa vie»). Эти слова, с которыми перекликаются слова Тристана из Жи-
Тристан и Изольда.
Любовная сцена между Трнстаном и Иволъдой. — Король Марж
находит Тристана и Иаольду спящими в лесу.
Миниатюры на рукописи ХШ в.
но
РЛПНЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
молости» Марии Французской (по поводу ветви козьей жимолости, обвив-
шейся вокруг орешника): «Милая подруга, так же обстоит дело не нами:
ни вы не можете жить без меня, ни я без вас» («Belle amie, ainsi est de
nous: Ni vous sans moi, ni moi sans vous»), являются лейтмотивом сказания,
сохраняющимся почти во всех его литературных версиях.
Настоящим создателем артуровского романа надо признать
Кретьена де Труа (Chrétien de Troyes), которому принадлежат первые
и вместе с тем, без всякого сомнения, лучшие образцы этого жанра. В его
лице мы имеем крупную художественную индивидуальность. Не достигая
таких высот поэзии, как автор первого романа о Тристане, и не обладая
такой душевной чувствительностью и интуицией, как Мария Француз-
ская, Кретьен, с его рационализмом, острой наблюдательностью и живым
воображением, является художником, во (многих отношениях более зре-
лым, чем они.
Прежде чем сосредоточиться на артуровском романе, Кретьен испро-
бовал свои силы в целом ряде других жанров. Не считая малозначитель-
ной юношеской поэмы «Вильгельм Английский» (житие святого в форме
авантюрного романа) и лирики, которую он продолжал культивировать
и в зрелые годы, Кретьен, по его собственному показанию (в прологе
к «Клижесу»), написал в молодости роман о Тристане и ряд переработок
произзедений Овидия — как теоретических («Наука любви», «Средства
от любви»), так и отдельных эпизодов «Метаморфоз», из которых до нас
дошла только «Филомена». Все это было для Кретьена хорошей школой,
в которой развился его талант романиста.
Кретьен не обладал никакой восприимчивостью к кельтскому фоль-
клору. Бретонские сказания, оказавшиеся ему известными, подверглись
в его романах коренной, можно сказать, безжалостной переработке, в ко-
торой первоначальный смысл и выразительность сказочных образов или
целых сюжетных схем безнадежно погибли. Не без труда современные
исследователи раскрывают в неведомом замке, куда похититель уводит
королеву Гениевру, — затушеванный образ «царства мертвых», в гордой
красавице, держащей своего возлюбленного в плену, — фею; в очарова-
тельном цветущем саду — • кельтский «остров блаженства» и т. п. Все это
было использовано Кретьеном как сырой материал, который он пере-
строил, вложив в него совершенно другой смысл. Рамка артуровского дво-
ра, взятая им из хроники Гальфрида-Васа, послужила ему лишь декора-
цией, на фоне которой он развертывал картины жизни вполне современ-
ного ему рыцарского общества, ставя и разрешая не абстрактно-казуисти-
ческие, в стиле Андрея Капеллана, а весьма существенные и реальные
вопросы, которые должны были занимать это общество. По этой самой
причине проблематика в основном господствует в романах Кретьена над
самыми увлекательными приключениями и яркими образами. Но способ,
каким Кретьен подготовляет разрешение той или иной проблемы, свобо-
ден от есякого доктринерства и назидательности, так как он берет внут-
ренне правдоподобные положения и насыщает свой рассказ меткими на-
блюдениями, динамикой действия и живописными элементами. Живость
и убедительность романов Кретьена еще усиливаются его блестящим
техническим мастерством (искусство диалога, богатый и гибкий язык,
виртуозное стихосложение) и едва уловимым оттенком иронии, охлаждаю-
щим пафос рыцарской сюжетики и помогающим острее почувствовать
скрытые побуждения и свойства человеческой натуры.
РЫЦАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
il!
На ряду со стилистической цельностью артуровских романов Кретьена
в них нет полного идейного единства. Можно обнаружить в них две про-
ч'ивоположные тенденции — условно выражаясь, «гуманистическую» и кур-
туазную, причем з переходе от первой ко второй (правда, с некоторыми
компромиссами, частичными возвращениями к старой позиции и т. п.)
следует усматривать не столько внутреннюю эволюцию поэта, сколько
влияние той среды, для которой он писал. Несколько артуровских рома-
нов Кретьена сочинено было при дворе Марии Шампанской, одной из
самых решительных сторонниц куртуазных идей. Впрочем, дело здесь не
лично в Марии, a qj возглавлявшихся ею общих тенденциях, которые, как
показывает развитие лирики, решительно возобладали к концу третьей
четверти XII е. Однако Кретьен борется некоторое время против этого
течения и лишь постепенно, нехотя, сдает свои позиции.
Первый его роман, «Эрек и Энида» («Erec et Enide», вскоре после
1160 г.), не содержит в себе еще ничего кельтского, кроме имен персона-
жей и второстепенного эпизода в конце повествования, как и вообще ни-
чего фантастического. Что касается куртуазных идей, то автор в этом
романе довольно откровенно с ними полемизирует.
Проблема, образующая стержень романа, заключается в следующем:
совместима ли любовь с рыцарскими подвигами? Не теряет ли рыцарь,
слишком увлеченный любовью, свою воинскую доблесть? Но в процессе
разрешения этой проблемы Кретьен незаметным образом вводит другую
проблему, гораздо более существенную с общечеловеческой точки зрения:
каковы должны быть отношения между любящими, и каково назначение
женщины-возлюбленной и женщины-супруги?
Эрек, сын короля Лака, рыцарь при дворе Артура, в результате
одного приключения встречает девушку необычайной красоты, по имени
Энида, дочь бедного рыцаря, и сразу в нее влюбляется. Даже не объяс-
нившись с Энидой, он -просит ее руки у ее отца, который соглашается
к большой радости девушки. Узнав об этом, богатая кузина Эниды
хочет снабдить ее роскошными платьями, но Эрек объявляет, что она
получит свой наряд только из рук королевы Гениевры и увозит ее в бед-
ном, изношенном платье, сквозь дыры которого проглядывает рубашка.
При дворе Артура все восхищены красотою Эниды.
Вскоре после свадьбы умирает король Лак, и Эрек увозит Эниду
в свое королевство. Они долгое время живут там счастливо, но затем
придворные начинают роптать, утверждая, что Эрек от чрезмерной любви
к жене, с которой он не расстается, будто бы стал изнеженным и утратил
свою силу и доблесть. Энида слышит эти толки и страдает, не решаясь
сказать о них мужу. Однажды ночью, мучась этими мыслями, она пла-
чет. Проснувшийся Эрек узнает о причине ее слез и, увидев в этом недо-
верие к себе со стороны не только окружающих, но и жены, в гневе объяв-
ляет, что сейчас же выедет на подвиги. Но от обычных выездов этот
будет отличаться тем, что впереди него поедет Энида, которая, завидев
опасность, ни в коем случае не должна оборачиваться и предупреждать
о ней мужа.
Эреку приходится выдержать множество тяжелых стычек с разбой-
никами, другими странствующими рыцарями и т. п., причем Энида, не-
сколько раз нарушая рапрет, заботливо предупреждает его об опасности.
Один раз, впрочем, тоКько ее энергия и преданность спасли ему жизнь.
Когда израненный и / лишившийся чувств Эрек лежал ночью в замке
одного графа, оказмршего ему приют, Энида, узнав, что граф хочет убить
его, чтобы сделат^ее своей любовницей, привела Эрека в чувство, уса-
112
РАНПЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
дила на коня и вывезла из замка предателя. Наконец, после великих испы-
таний, покрытый ранами, но торжествующий, доказав свою мощь и по-
мирившись с Энидой, Эрек возвращается дамой, и их счастливая жизнь
возобновляется.
Конечно, в обращении Эрека с женой есть еще примитивная грубость,
исчезающая в позднейших романах Кретьена. Но в целом роман все же
является апологией достоинства женщины. Кретьен хотел показать в нем
не только то, что доблесть совместима с любовью, но и то, что жена и
возлюбленная могут совмещаться в лице одной женщины, которая, кроме
всего этого, может быть еще и другом, деятельной помощницей мужа во
всех делах. Не вознося женщину на пьедестал условного куртуазного обо-
жания и не наделяя ее еще правом равного с мужем голоса, Кретьен все же
чрезвычайно поднимает ее человеческое достоинство, раскрывая ее
нравственные качества и творческие возможности. Характерно уже то, что
дочь обнищавшего и безвестного рыцаря, как в народных сказках, бла-
годаря своей красоте и добродетели оказывается достойною стать женой
королевского сына. Что касается антикуртуазной тенденции романа, она
лучше всего подчеркивается финальным эпизодом, совершенно излишним
для развития действия, так как он появляется в тот момент, когда испы-
тание, придуманное Эреком, уже закончено. Узнав, что существует чудес-
ный сад, доступ в который охраняется грозным рыцарем, Эрек едет туда
и побеждает рыцаря, к великой радости последнего, получившего, таким
образом, свободу. Оказывается, что этот рыцарь стал жертвой слова,
неосторожно данного им своей «подруге», возлежащей посреди сада на
серебряном ложе, не покидать ее, пока не явится противник, более силь-
ный, чем он. Эпизод этот имеет целью противопоставить свободную, чуж-
дую принуждения любовь Эрека и Эниды любви, имеющей характер по-
рабощения.
В следующем романе Кретьена «Клижес» («Cligès», ок. 1165 г.)
кельтского элемента и фантастики еще меньше, чем в «Эреке», тем более,
что основная часть действия происходит в полуисторической обстановке,
в Византийской империи. Зато мы находим здесь значительную уступку
если не куртуазным идеям, то во всяком случае куртуазному стилю. Осно-
вой романа являются два любовных эпизода. Один из них, составляющий
первую часть романа, — история любви греческого принца Александра
к златовласой Соредамор, племяннице Гениевры и Артура, ко двору
которых Александр приехал, чтобы сделаться там совершенным рыцарем.
Другой эпизод, образующий центральную тему романа, — любовь Кли-
жеса, сына Александра от Соредамор, к прекрасной Фенисе, жене узур-
пировавшего престол дяди Клижеса, младшего брата Александра — Алиса.
Любовные переживания обеих пар изображены в том же стиле, как и
чувства Энея и Лавинии во французском романе об Энее, оказавшем здесь,
быть может, влияние на Кретьена: такая же картина «любовного недуга»,
с сомнениями, страданиями, робостью, бессонницей, длинными монологами
о состоянии своих чувств и т. п. Но все же назвать эту любовь «куртуаз-
ною» в полном смысле слова нет возможности, потому что в обоих случаях
любовь эта — с самого начала взаимная и быстро приводящая к счастли-
вому союзу, а кроме того сердечные переживания влюбленных описаны
с неизмеримо большею наблюдательностью и правдивостью, чем в лучших
образцах собственно куртуазной поэзии.
Но это — лишь одна сторона романа. Другая состоит в любопытное
полемике с романом о Тристане. Кретьен, сам когда-то потрудившийся над
этим сюжетом, впоследствии стал относиться к нему отрицательно, осу-
'"-"ЦР'"Л1 АЖМЯХАТИРА
115
див как мотивировку люб
ви Тристана и Изольды,
так и поведение любящих.
В одной из своих песен он
говорит: «Я не пил на-
питка, которым отравился
Тристан, но благородное
сердце и добрая воля за-
ставляют меня любит*
сильнее, чем любил он»
Еще резче эта полемика
выражена в «Клижесе».
Кретьен создает в этом
романе ситуацию, совер-
шенно аналогичную той,
которая дана в «Триста'
не». Племянник (Клижес)
должен унаследовать пре-
стол после смерти дяди
(Алиса), который ради
этого дал обещание не же-
ниться. Алис, однако, на-
рушил свое слово и обру-
чился с Фенисой, дочерью
германского императора.
При первой же встрече
Клижес и Фениса страст-
но полюбили друг друга и
почувствовали, что друг
без друга не могут жить.
Это положение (иначе го-
воря, заключенную в нем
«проблему») Кретьен раз-
решает совсем иначе,
чем автор «Тристана». Его
Фенисе (да И самому Клижесу тоже) противна мысль о разделе, как
о чем-то уродливом и безнравственном. Она не хочет принадлежать, как
Изольда, одновременно двум мужьям. На помощь любящим, как и в «Три-
стане», приходит волшебный налиток, но совсем в другой функции. Тот
налиток породил любовь, этот убивает ее, каждую ночь погружая Алиса
в глубокий сон. Теперь двоемужество уже невозможно. Но любящим
этого мало. Выпив другой напиток, Фениса впадает в летаргию, все при-
нимают ее за мертвую, оплакивают, хоронят ее, а после этого Клижес
взламывает склеп и уводит очнувшуюся возлюбленную в тайное убежище,
где они наслаждаются любовью, безраздельно принадлежа друг другу.
Наконец^ после некоторых перипетий, смерть Алиса доставляет Клижесу
престол и возможность вступить с его вдовою в законный брак.
В идейном отношении это, пожалуй, самый слабый из романов Кретьена,
так как мотив двух напитков невозможно считать разрешением проблемы
по существу. Полемика с «Тристаном» завела автора слишком далеко.
Ограниченный рационалист. Кретьен не понял всей поэзии «Тристана»,
где стихийность и высокий трагизм страсти героев совершенно снимают
вопрос о безнравственности «двоемужества» Изольды, не имеющего ничего
R История франпувской литературы—815
«Клижес».
Любовная сцена между Клижесои и королевой Фенисой. — Врачи
льют растопленное олово на руку мнимо умершей Фенисы, чтобы
вернуть ее к жизни.
Миниатюры из рукописи. XIII в.
114
РАПЯЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
общего с обдуманным и утонченным адюльтером куртуазной практики»
который претит Кретьену. Такое рассудочное снижение трагической темы
и примесь казуистической аргументации придают роману оттенок сухого
и абстрактного морализма, который, однако, несколько смягчается жи-
востью отдельных сцен и нежными тонами в изображении любящих.
После этой защиты Кретьеном моногамии и строгой марали может
удивить содержание его третьего артуровского романа — «Ланселот, или
Рыцарь телеги» («Lancelot, ou le Chevalier de la charrette», вскоре после
1165 г.). посвященного прославлению адюльтера и куртуазной любви
в самом специфическом смысле слова. Объяснение этого дает сам Кретьен,
заявляющий в начале романа, что «сюжет и смысл» («matière et sens»)
всего рассказа предложила ему графиня Шампанская и что «ее приказа-
ние сильнее проявится в этом произведении, чем его собственный замысел
и старание». Действительно, в отношении не только «смысла», но и «сю-
жета» здесь наблюдается нечто новое. Кретьен не довольствуется тем, что
вводит в свое произведение всю феерию бретонских сказаний — правда,
перекрашенную до неузнаваемости, — но и прибегает впервые к приему
заинтриговывания читателя, упоминая или вводя в действие лица и пред-
меты, значение которых иногда до самого конца остается неясным и за-
гадочным. Такая атмосфера фантастики и таинственности отлично подхо-
дит к необычайным, приподнятым чувствам и отношениям, изображен-
ным в романе.
Незнакомый рыцарь похищает королеву Гениевру, которую хвастли-
вый и ничтожный сенешал Кей не сумел защитить. Ланселот, влюблен-
ный в королеву, бросается в погоню за незнакомцем. Он спрашивает
у встреченного им на пути карлика, по какой дороге удалился похититель,
на что карлик обещает ответить в том случае, если Ланселот согласится
сначала проехаться в его телеге. После минутного колебания Ланселот,
из-за безграничной своей любви к Гениевре, решает вытерпеть это вели-
кое унижение. После ряда опасных приключений он достигает замка Баде-
магю, где живет Мелеаган, сын Бадемагю, похититель Гениевры. Чтобы
освободить Гениевру, Ланселот вызывает Мелеагана на бой. Во время
поединка, видя, что его сыну приходится плохо, Бадемагю просит заступ-
ничества у Гениевры, взирающей на бой, и она приказывает Ланселоту
отступать перед Противником, что тот и исполняет покорно, подвергая свою
жизнь опасности. Честный Бадемагю объявляет Ланселота победителем
и ведет его к Гениевре, но та отвращает свой взор от растерянного
влюбленного. С большим трудом узнает он о причине гнева Гениевры:
гнев этот вызван тем, что одно мгновение он все же поколе-
бался, прежде чем сесть в позорную телегу. Лишь после того как Лансе-
лот в отчаянии пытается покончить с собой, Гениевра прощает его и
впервые за все время, что он любит ее, назначает ему ночное свидание.
Смиренно, с обожанием, словно к величайшей святыне, приближается
Ланселот к ложу королевы, чтобы, наконец, получить награду за свое
долгое любовное служение.
После этого освобожденная Гениевра возвращается к своему двору,
между тем как люди Мелеагана предательски хватают Ланселота и сажают
его в темницу. При дворе Артура устраивается турнир, в котором Лансе-
лот, узнавший об этом, жаждет принять участие. Дочь тюремщика на
честное слово отпускает его на несколько дней. Ланселот сражается на
турнире, скрывая свое лицо, но Гениевра по доблести неизвестного ры-
царя узнает его и решает проверить свою догадку. Зная, что лишь один
рыцарь во всем мире способен на такую покорность ей, она велит пере-
РЫЦАРСКАЯ ЛИТЕРАТГРА
Ш
дать ему, что просит его сражаться как можно хуже. Ланселот начинает
вести себя как трус, делая себя всеобщим посмешищем. Тогда Гениевра
отменяет свой приказ, и Ланселот становится победителем турнира, после
чего он незаметно удаляется и возвращается в темницу. Финалом романа
является описание того, как сестра Мелеагана, которой Ланселот оказал
большую услугу, обнаруживает место его заключения и помогает ему бе-
жать, после чего Ланселот, вернувшись ко двору Артура, на новом по-
единке убивает, наконец, Мелеагана.
Вся «проблематика» этого романа заключается в показе того, что
должен чувствовать и как должен себя вести в различных случаях и
жизненных положениях «идеальный» куртуазный влюбленный. Марии
Шампанской и близкому к ней кругу лиц должны были чрезвычайно
нравиться сцены безграничной преданности Ланселота и обожания им
Гениевры — когда, например, вынужденный разделить ложе одной весьма
привлекательной девушки, полюбившей его, он все же сохраняет верность
своей даме, или когда он приходит в молитвенный экстаз при виде золо-
того гребня с несколькими волосами Гениевры, особенно же его слепая
покорность во время боя с Мелеаганом, на турнире или в эпизоде с кар-
ликом и телегой. Но для самого Кретьена это было тяжелым насилием
над его подлинными убеждениями и художественными вкусами. Вот по-
чему, вероятно, он не закончил этого романа, финал которого (бегство
Ланселота из плена) был дописан его земляком и, может быть, учеником
по поэтическому ремеслу Годефруа де Ланьи (Godefroy de Lagny).
В своем следующем романе «Ивен, или Рыцарь льва» («Ivain, ou le
Chevalier au lion», около 1175 г.) Кретьен решительно отходит от край-
ностей куртуазной доктрины, не порывая, однако, с некоторыми момен-
тами куртуазного мировоззрения и стиля. Он снова ставит старую проблему
о совместимости подвигов и любви, но поворачивает ее несколько по-иному,
чтобы дать аналогичный, но не совсем тождественный ответ.
Обстановка романа и его завязка и на этот раз полны кельтской
фантастики. До двора короля Артура доходит слух об удивительной
«авантюре». В Броселиандском лесу есть источник Барантон, обладающий
чудесным свойством. Если зачерпнуть из него воду и вылить ее, подни-
мается ужасная буря, затем является черный рыцарь, который вступает
в единоборство со смельчаком и всегда побеждает его. Один из рыцарей
Артура, Ивен, едет к источнику, проливает воду, сражается с черным
рыцарем, смертельно ранит его и, преследуя его по пятам, въезжает
в ворота замка, которые за ним захлопываются. Оказавшись в западне,
он спасается лишь благодаря камеристке владелицы замка, которая, по-
жалев его, дает ему кольцо, делающее его невидимым. По окончании цере-
монии погребения черного рыцаря Люнета (так зовут камеристку) пред-
лагает вывести Ивена из замка; но он отказывается от этого, так как видел
вдову убитого, Лодину, и страстно влюбился в нее. Ивен молит Люнету
походатайствовать за него перед ее госпожой, и девушка после некоторого
сопротивления и уверений в безнадежности подобной попытки соглашается
на это. Следует ряд диалогов между Люнетой и Лодиной, в результате
которых последняя, наконец, сдается и выходит замуж за Ивена.
Обеспокоенные долгим отсутствием Ивена, Артур со своими рыца-
рями едут на поиски его, находят и после радостной встречи просят
Лодину отпустить его к ним погостить, чтобы он поразвлекся рыцарскими
забавами. Лодина соглашается, но назначает определенный срок для воз-
вращения мужа. Среди пиров и турниров Ивен забывает о сроке и, когда
возвращается в замок жены, находит ворота запертыми. В отчаянии он
ne
РАННЕЕ СРЕДПЕВЕКОПЪЯ
едет наудачу, совершая подвиги и переживая различные приключения.
На некоторое время он потерял даже рассудок от страданий отвергнутой
любви, но затем исцелился. Однажды он встретил льва, хромавшего оттого,
что у него в лапе была огромная заноза. Ивен вытащил занозу, и с тех
пор лев привязался к нему и всюду за ним следовал (мы легко узнаем
здесь греческий рассказ о льве Андрокла). Наконец, после долгих ски-
таний Ивен опять приходит к замку Лодины и благодаря вторичному
посредничеству Люнеты получает прощение.
Ответ на основной вопрос, поставленный в романе, гласит: рыцарские
подвиги и забавы совместимы с любовью, но при условии подчинения их
любви. Точка зрения Кретьена со времени «Эрека» изменилась: там Энида
скромно защищала свое право на место в жизни рыцаря Эрека, здесь
Лодина требует для себя суверенного права распоряжаться всей жизнью
и действиями порабощенного любовью к ней Ивена. В этом романе все же
чувствуется некоторый отголосок идей «Ланселота», хотя и в чрез-
вычайно смягченном и очеловеченном виде. Ценность романа — не в его
«тезисе», а в искусной обрисовке тонко подмеченных душевных движений.
Особенно выразительны в этом отношении полные скрытого юмора
сцены постепенного перехода Лодины, под влиянием уговоров Люнеты,
ит скорби и ненависти к готовности выйти замуж за убийцу своего мужа.
При первых словах камеристки о возможности нового брака Лодина приходит
в негодование и прогоняет ее. Вскоре, однако, в ней пробуждается любо-
пытство, и она по собственному почину возобновляет с Люнетой разговор
на ту же тему. Новый взрыв гнева, когда она узнает, что претендент на
ее руку — убийца черного рыцаря. Но из головы Лодины не выходят
доводы Люнеты: должен же кто-нибудь защищать ее замок и источник;
и кто же в состоянии сделать это лучше, чем тот, кто оказался сильнее
прежнего защитника? А к этому присоединяется естественное кокетство
и тщеславная мысль о неотразимости своих чар. И вот Лодина просит
Люнету привести к ней Ивена — да поскорее. Три дня уйдут на дорогу?
Нет, это невозможно, ей не терпится, через день он уже должен быть
здесь. Люнета будто бы шлет гонцов ко двору Артура за Ивеном, кото-
рый находится в соседней комнате, Лодина ведет с ним воображаемый
диалог: она представляет себе, как он войдет, начнет оправдываться, уве-
рять, что он убил ее мужа только из любви к ней, чтобы иметь возмож-
ность на ней жениться,—и тогда ей останется только сказать: «Да, вы
ни в чем не виноваты передо мной, и я вас прощаю». Словом, когда Ивен
действительно появляется, ему не приходится прилагать особенных усилий
к тому, чтобы склонить Лодину стать его женой.
Последний из романов Кретьена, оставшийся незаконченным, вероятно
вследствие смерти поэта, «Персеваль, или Повесть о Граале» («Perceval,
ou le Conte du Graal», после 1180 г.), посвященный графу Филиппу
Фландрскому, представляет интерес в другой связи, а для разбираемых
здесь проблем дает мало материала, отчасти в виду своей фрагментарности.
Взятое в целом, творчество Кретьена де Труа, не достигая величай-
ших вершин поэзии и не вскрывая самых глубоких противоречий эпохи,
все же знаменует собой огромное приобретение в смысле изображения
отдельных сторон и элементов жизни с большой проницательностью и прав-
дивостью.
Романы Кретьена имели длительный успех и породили огромное ко-
личество подражаний. Но влияние его касается, главным образом, внеш-
них сторон его творчества. Продолжатели Кретьена прежде всего стара-
ются усвоить его приемы повествования, черты стилистики, метрики и т. п.
щ
РЫЦАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
117
С другой стороны, не имея обычно доступа к кельтским фольклорным
источникам, но не желая отказываться от бретонской фантастики, они
беззастенчиво плагиируют сюжетные мотивы, образы, ситуации у Креть-
ена. Но мы не находим у них кретьеновского равновесия между динами-
кой действия и психологическим анализом, не говоря уже о подчинении
всего этого некоему идейному стержню. По большей части авантюрный
элемент (как и в анонимных лэ XIII в.) заполняет все повествование,
а если иногда и всплывает изображение «высоких чувств», то оно имеет
очень стереотипный и окостенелый характер.
Из последователей Кретьена наиболее талантливым является, пожа-
луй, Рауль де Удан (Raoul de Houdene). В его романе «Мерожис де Пор-
леге» («Méraugis de Portlepguez», начала XIII в.) есть нечто напоминаю-
щее проблематику произведений Кретьена. В прекрасную Лидуану влюб-
лены Мерожис и Горвен, но первый любит ее за изящество манер и
благородство характера, второй — за телесную красоту. «Судилище любви»,
составленное из знатных дам, постановляет отдать ее Мерожису. Однако
второй роман Рауля «Месть за Рагиделя» («Vengeance de Ragiridel»)
представляет собою подбор эффектных, но малоосмысленных авантюр.
К берегу, где собрались рыцари Артура, приплывает корабль с телом
незнакомого убитого рыцаря. Отомстить за него имеет право лишь тот,
кто сумеет выдернуть из его груди копье. Это удается Говену, который
осуществляет месть и выдает дочь убитого за помогавшего ему Идера.
Из числа других романов этого рода, насчитывающих два-три об-
разца и на провансальском языке, наименее шаблонен, благодаря удачно
использованным в нем выразительным фольклорным мотивам, «Прекрас-
ный незнакомец» Рено де Боже (Renaud de Beaujeu, «Bel inconnu», начала
XIII в.). Сын Говена Гинглен, связанный взаимной любовью с прекрас-
ной властительницей Золотого острова, освобождает целую страну от
великих бедствий тем, что побеждает двух волшебников и в заключение
дерзает поцеловать в губы змееподобное чудовище. Благодаря этому «сме-
лому поцелую» превращенная в чудовище принцесса Эмере обретает свой
прежний образ, и Гинглен, после долгой душевной «борьбы, женится на
ней, покинув прежнюю возлюбленную.
Элементы пародирования «бретонского» романа заметны в «Фергусе»
Гильома Ле-Клерка (Guillaume Le Clerc, «Fergus»), где изображается, как
молодой крестьянин одолевает на поединке, одного за другим, лучших арту-
ровских рыцарей. Еще отчетливее пародия видна в маленькой повести
«Мул без узды» Пайена де Мезьер (Païen de Maisières, «La Mule sans
frein»), представляющей собою монтаж из эпизодов и мотивов, встречаю-
щихся у Кретьена де Труа. Ко двору Артура приезжает девушка на муле,
горячо жалующаяся на то, что у нее отняли уздечку от мула, без которой
она не может быть счастлива. Говен вызывается помочь ей и, подвергая
себя великим опасностям, добывает ей уздечку, после чего девушка благо-
дарит его и уезжает. Это непонятное приключение осложнено множеством
не менее загадочных авантюр, которые автор рассказывает чрезвычайно
живо и весело, явно подтрунивая над «бретонскими небылицами».
Такое раннее идейное оскудение «бретонских повестей» объясняется
тем, что уже в конце XII в. рыцарство, замкнувшись в границах узко
сословного мировоззрения, перестает быть активно заинтересованным
в дальнейшем расширении своего умственного кругозора. Период первона-
чального беспечно-жив нерадостного расцвета рыцарской гультуры, когда
ее идеологи в литературе не боялись раздвигать рамки сословно-рыцар-
ского мировоззрения, быстро окончился, и к XIII в, рыцарские идеалы
118
раннее средневековье
F
в поэзии отливаются в законченную, стандар-
тизованную форл:у, не допускающую слишком
пытливого исследования или критики.
Одним из проявлений такой позиции ры-
царства является последняя, самая поздняя
ветвь «бретонских повестей» — группа рома-
нов о сзятом Граале. Здесь рыцарство стре-
мится восстановить свой союз с религией,
причем, в соответствии со своим влечением к
фантастике, оно заимствует из круга рели-
гиозных представлений преимущественно апо-
крифические и еретические мотивы. Сходные
явления наблюдаются и в расцветающих около
этого времени духовно-рыцарских орденах —
тамплиеров, иоаннитов и т. п., среди которых
также распространяются еретические идеи.
В романе Кретьена «Персеваль, или По-
весть о Граале» рассказывается, что вдова
одного рыцаря, у которой муж и несколько
сыновей погибли на войне и на турнирах, же-
лая охранить от опасностей рыцарской жизни
своего последнего, малолетнего сына Персе-
валя, поселилась с ним в глухом лесу. Но
юноша, подросши, увидел проезжающих по
лесу рыцарей, и сразу же «инстинкт» в нем
заговорил. Он объявил матери, что непре-
менно хочет стать таким же, как они. Ей при-
шлось дать согласие на это, и Персеваль от-
правился ко двору короля Артура, чтобы там
получить посвящение в рыцари. Сначала по
неопытности он делал смешные промахи, но
вскоре все прониклись уважением к его до-
блести.
В одну из своих поездок Персеваль по-
падает в замок, где становится свидетелем
такой странной картины. Посреди зала лежит
владелец замка, старый больной рыцарь; оба
бедра его проткнуты копьем, и рана не за-
живает. Мимо больного проходит процессия:
сначала несут сломанный меч, затем копье, с
острия которого капает кровь, ослепительно
сверкающий сосуд — «Грааль», подсвечники и,
i^-ii • о» „ -а—- наконец, серебряное блюдо. Персеваль из
Юлия Цеваря; 2) Галаад, Персе- г ,
и Боорт находят Грааль в вамке СКрОМНОСТИ Не решаеТСЯ СПрОСИТЬ, ЧТО ВСе ЭТО
Сцены из бретонских рома-
нов.
1) Мерлин в образе оленя посещает
шило и х>оорт находят Грааль в вамке шршипи^ш не решается шр<л.шо, чти все ЭТО
^"же^^рли^^Гвоо- значит- Проснувшись утром в отведенной ему
в°»ку- комнате, он видит, что замок пуст, и в недо-
Миниатюр* и» рукописи хш в. умении уходит. Лишь впоследствии он узнает,
что, если бы он спросил о смысле процессии,
рыцарь сразу бы исцелился, и во всей стране настутгло бы благоден-
ствие; а неуместная застенчивость нашла на него в наказание за то, что
своим уходом он разбил сердце матери. После этого Персеваль дает слово
проникнуть опять в замок Грааля и отправляется разыскивать его, чтобы
исправить свою оплошность. В свою очередь и Говен выезжает на
РЫЦАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
119
поиски авантюр. На описании их приключений
рассказ обрывается; невидимому, смерть по-
мешала Кретьену закончить роман.
Несколько авторов, один за другим, а под |
конец даже параллельно, дублируя друг друга,
продолжали роман Кретьена, доведя его объем
до 50 000 стихов и исчерпав приключение с
Граалем до конца. Мы не знаем в точности,
чем был Грааль в представлении Кретьена,
каковы были его свойства и назначение. Про-
должатели Кретьена также не дают на эти
вопросы точного ответа. Вообще происхожде-
ние и развитие этого образа до сих пор еще
нельзя считать вполне выясненным. Даже самое
слово graal — неизвестного происхождения (воз-
можно, что оно происходит от позднелатинского
cgradalis» — особого рода блюдо, или же свя-
зано с греческим «krater»— «чаша»). Очень ве-
роятно, что образ Грааля взят из кельтских
сказаний и что он понимался первоначально как
талисман, обладавший способностью насыщать
людей или поддерживать их силы и жизнь од-
ним своим присутствием. Однако другие поэ-
ты, взявшиеся после Кретьена и, вероятно,
независимо от него, за обработку этого сказа-
ния, дали Граалю совсем другое, религиозное
истолкование, заимствованное ими у Роберта
де Боррона (Robert de Borron).
Именно последний написал около 1200 г.
поэму (известную нам по прозаическому ее
переложению) об Иосифе Аримафейском, в
которой излагалась предистория Грааля. Иосиф
Аримафейокий, один из вернейших учеников
Христа, сберег чашу «тайной вечери» и, когда
римский легионер пронзил копьем бок распя-
того Иисуса, собрал в нее вытекшую кровь.
Вскоре евреи бросили Иосифа в темницу и
замуровали его там, обрекши на голодную
смерть. Но к узнику явился Христос, передав-
ший ему священную чашу, которая и поддер-
живала »его силы до тех пор, пока, уже при
императоре Веспасиане, он не вышел на свобо-
ду. Тогда, собрав единомышленников, Иосиф
уплыл с ними в Британию, где основал общину
для хранения этой величайшей христианской
реликвии — «святого Грааля».
В одной из позднейших редакций сказания
к этому добавляется, что хранители Грааля
должны быть целомудренными. Последний из
них совершил «плотский грех», — и карой за это явилось полученное им
увечье. Он не может, как бы ни хотел этого, умереть, и только созер-
цание Грааля, который раз в день проносят мимо него, облегчает не-
много его страдания. Когда чисты:*! душою рыцарь (а таков
Сцены из бретонских
романов.
1) Ланселот покидает яамок, где Ге-
нневра находится в заточении;
2) Говен на волшебной кровати;
3) Ивен освобождает Сагремор и ее
подругу.
Миниатюры из рукописи XIII в.
именно
120
РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
Персеваль, являющийся «великим простецом», вроде Иванушки-дурачка
русских сказок), попав в замок, спросит больного о причине его страда-
ний и о смысле процессии с Граалем, — больной спокойно умрет, а при-
шелец станет хранителем священной чаши.
Характерна эта замена сказочного кельтского талисмана христиан-
ской святыней, блестящих рыцарских авантюр ради чести и славы—сми-
ренным религиозным служением, культа земной радости и любви — аске-
тическим принципом целомудрия. Всей своей направленностью романы
о Граале резко отличаются от рассмотренных выше артуровских ро-
манов, несмотря на то, что и здесь и там фигурируют нередко одни и те
же персонажи и сюжетные мотивы.
Новая концепция разрабатывается в целом ряде романов- главным
образом, прозаических и анонимных, возникающих в первой четверти
XIII в. Неизменно тема Грааля связывается в них с двором короля Ар-
тура и его рыцарей, очень часто с пророчеством Мерлина.
Все эти переработки сказания о Граале и родственных ему сюжетов
завершаются огромным циклом из «пяти прозаических романов, возникших
довольно быстро один за другим и частично друг друга восполняющих.
Цикл этот называется исследователями «vulgata» потому, что именно
в этой форме романы о Граале, как и вообще пересказанные здесь
артуровские романы, были известны и славились по всей Европе в тече-
ние более чем трех веков. Первою, еще в конце XII в., возникла книга
о «Ланселоте» («Lancelot»), — та самая, которую, согласно Данте, читали
Франческа и Паоло («Ад», песнь V). Произведение это стремится дать
некоторый синтез, в котором были бы уравновешены аветско-рыцаракий
и религиозногнравственный идеал. Затем, в начале XIII в. неизвестный
цистерцианокий монах написал вторую книгу — «Поиски святого Грааля»
(«La Quête du saint Graal»), где наблюдается следующее новшество: нахо-
ждение Грааля приписано не Персевалю, который для этого недостаточно
будто бы «чист», а девственному сыну Ланселота от дочери старца, пре-
дыдущего хранителя Грааля, — Галааду. В этой книге все светские, жизне-
радостные элементы старательно удалены, и мистическая концепция до-
стигает своего предельного развития. Грааль мыслится как вместилище
сокровенных, несказанных божьих тайн, и сила и святость его придают
цель и смысл всем рыцарским подвигам. Далее были добавлены еще три
книги: «Смерть Артура» («Mort d'Artu»), «Великий святой Грааль»
(«Grand saint Graal») и, наконец, около 1230 г. «История Мерлина» («Hi-
stoire de Merlin»). Взятый в целом, цикл представляет собой систему за-
стылых и канонизованных образцов рыцарского поведения, духовно пере-
осмысленного и оправданного.
Таким-то образом, в итоге полувекового развития, бретонские романы
превратились почти в свою противоположность. Светский, жизнерадост-
ный идеал любви, подвигов личной доблести и приключений оказался под-
чиненным идее христианско-аскетического служения таинственной святыне.
6
По сравнению с бретонскими романами, гораздо менее значительна
третья группа рыцарских романов, так называемые византийские
романы. Это условное обозначение имеет в виду не столько то, что не-
которые из этих романов (например, «Ираклий» современника Кретьена,
Готье д'Аррас — Gautier d'Arras, «Eraclius») изображают полулегендарные
или целиком вымышленные эпизоды из византийской истории, сколько то
обстоятельство, что сюжетные схемы их основаны, главным образом, на
РЫЦАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
121
м.отивах, встречающихся в византийском и, вообще говоря, позднегреческом
романе, как, например, кораблекрушение, похищение пиратами, узнания, на-
сильственная разлука и счастливая встреча любящих и т. п. Рассказы подоб-
ного рода могли попасть во Францию как устным путем (их могли занести
крестоносцы из южной Италии, где было сильно греческое влияние, или
прямо из Константинополя), так и, в более редких случаях, чрез посредство
книжных источников. Безусловно, например, известен был во Франции
в латинской переработке позднегреческий роман об Аполлонии Тирском.
подвергшийся свободной переделке в поздней имитации (начала XIII в.)
chansons de geste — в поэме «Журден де Блеви» («Jourdain de Blaivies»).
К этим греко-византийским рассказам, широко распространенным в бас-
сейне Средиземного моря, очень легко могли в некоторых случаях приме-
шиваться сюжеты восточного, персидско-арабского происхождения, типа
сказок «Тысячи и одной ночи», с нередкою в них темой страстной любви,
связанной с трагическими приключениями. Мотивы подобного рода, вместе
со смутными отголосками кое-каких арабских имен, также проступают ино-
гда во французских романах. Тем не менее, ни для одного из них до сих
пор не было с точностью доказано греко-византийское или арабское про-
исхождение, и каждый раз дело сводится лишь к общему сходству сюжет-
ных очертаний и эмоционального содержания. Без сомнения, греко-визан-
тийские (и, в гораздо меньшей степени, восточные) повести послужили
в отдельных случаях лишь толчкам, a также до некоторой степени образ-
цом для творчества французских поэтов, воображение которых, в соот-
ветствии с литературными вкусами эпохи, было достаточно подготовлено
к усвоению подобных образов, мыслей и чувств.
Для «византийских» романов, развившихся несколько позднее ро-
манов античных и бретонских, характерно, по сравнению с ними, прибли-
жение к обыденной жизни: почти полное отсутствие сверхъестественного,
значительное иногда количество бытовых подробностей, большая про-
стота сюжетов и тона повествования. Особенно заметно все это в поздних
образцах жанра (XIII в.), когда вкус к экзотике ослабевает и место дей-
ствия романов переносится во Францию. Не менее существенной чертой
этих романов является то, что центральное место в них всегда занимает
любовная тема.
Наиболее типичны для данного жанра несколько романов, могущих
быть названными «идиллическими» и имеющих одну и ту же сюжетную
схему, повторяющуюся с небольшими вариациями: двое детей, с малолет-
ства воспитывавшихся вместе, прониклись друг к другу нежной привя-
занностью, которая с годами перешла в непреодолимую любовь; их браку,
однако, препятствует различие общественного положения, а также, иногда,
и религии (он — язычник, она — христианка, ил« наоборот; он — цар-
ский сын, а она — бедная пленница, или он — простой рыцарь, а она —
дочь императора и т. п.) ; родители их разлучают, однако любящие упорно
ищут друг друга и в конце концов, после ряда испытаний, счастливо сое-
диняются.
Классический и вместе с тем самый ранний образец «идиллического»
романа, повлиявший на все остальные произведения подобного рода, —
«Флуар и Бланшефлер» («Floire et Blanchefleur», около 1170 г.). Все по-
вествование ведется здесь в нежных, почти лирических тонах. В связи с этим
совершенно не акцентируется эгоизм или суровость врагов любящих —
отца Флуара, языческого царя, не желающего, чтобы его сын женился на
простой пленнице, или вавилонского эмира, в гарем которого попадает
проданная ему купцами Бланшефлер. Автор отлично сумел передать чисто-
122
РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
ту юного чувства, так же как и то обаяние, которое оно оказывает на всех
окружающих. Когда Флуар, разыскивая Бланшефлер, проданную отцом
Флуара заезжим купцам, расспрашивает о ней в пути всех встречных,
один трактирщик сразу догадывается, кто его возлюбленная, по тожде-
ственному выражению лица и по совершенно таким же, как у него, про-
явлениям грусти у одной недавно проезжавшей через эти места девушки.
Пойманный в гареме Флуар спасается вместе с Бланшефлер от смерти
только тем, что каждый из них старается принять всю вину на себя и мо-
лит о том, чтобы его казнили раньше и не заставляли смотреть на смерть
другого: такая «небывалая» любовь трогает эмира, который прощает обоих.
Несмотря на необычайность положений, в которые попадают любя-
щие, рассказ художественно убедителен благодаря теплоте тона и общему
шутливо-сказочному стилю повествования. В связи с этим экзотика Вос-
тока носит здесь заведомо условный, наполовину шуточный харак-
тер, а психология главного героя почти свободна от всякой сословной
окраски. Напротив, в позднейших романах на ту же тему, как, например,
в анонимных «Гильоме де Доль» («Guillaume de Dôle», история любви
германского императора Конрада к сестре бедного французского рыцаря,
которую оклеветали) и «Коршуне» («L'Escoufle»), или в «Галеране» («Gale-
ran») Жана Рено (Jean Renaud), переносящих действие в современную
Францию и тем самым как бы претендующих на достоверность рас-
сказа, — несмотря на литературное мастерство их авторов, господствуют
манерность и шаблон.
Замечающиеся в «Флуаре и Бланшефлер» антиаристократические тен-
денции находят предельное выражение в «песне-сказке» (chantefable) на-
чала XIII в. «Окассен и Николет» («Aucassin et Nicolette»), выходящей во
многих отношениях за грань рыцарской литературы. Произведение это
крайне своеобразно. Необычайна, прежде всего, сама форма его — чередо-
вание стихов и прозы, причем небольшие стихотворный отрывки в виде
строф неравной длины с одним общим ассонансом, частью лирически вос-
полняют, частью просто продолжают повествование предыдущих прозаиче-
ских главок. Находя свое объяснение в альтернирующем (попеременном)
исполнении двух жонглеров, форма эта указывает на народное происхо-
ждение данного жанра. Об этом же говорит И1 особенный стиль рассказа,
грация которого, чуждая каких-либо ухищрений, проистекает из соедине-
ния большой душевной теплоты с живым юмором.
Повесть эта — прямая пародия на все рыцарские нормы и идеалы.
Окассен, сын графа Бокера (город на юге Франции) любит воспитывав-
шуюся в замке его отца пленную сарацинку Николет и мечтает
лишь о мирной, счастливой жизни с нею. Мысль, о почестях, славе, воин-
ских подвигах настолько ему чужда, что он не хочет даже принять уча-
стие в защите своих родовых владений от напавшего на них соседа. Лишь
после того как отец обещает ему в награду свидание с Николет, посажен-
ной под замок в башню. Окассен соглашается выехать в бой. Но когда,
одержав победу и взяв в плен противника, он узнает, что отец не хочет
сдержать свое обещание, он отпускает врага без выкупа, взяв клятву,
что тот будет продолжать воевать и стараться из всех сил вредить отцу
Окассена. Трудно было бы придумать более дерзкую насмешку над фео-
дальной иерархией и священнейшими принципами рыцарской практики.
Дважды находим мы в повести карикатуру на феодальные войны.
Выехав в бой против врагов, Окассен так глубоко задумался о своей ми-
лой Николет (пародия на тот «экстаз», в который герои рыцарских рома-
нов впадают при мысли о своей возлюбленной), что и не заметил, как
РЫЦАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
125
враги окружили его со всех сторон и обезоружили. Окассен тут сразу
опомнился. «Господи милосердный!—подумал он. — Ведь если они мне
срубят голову, я уже никогда не буду говорить с Николет, нежной по-
другой, которую я так люблю». Под влиянием этого довода, а не какого-
либо другого, он выхватил меч, и враги вокруг него попадали на землю,
как мухи. Другой раз, во время своих окитаний, Окассе|н попадает в ди-
ковинную страну, где люди ведут войну, сражаясь печеными яблоками,
яйцами и сырами, причем
Кто кричит погромче, тот
Храбрецом у них слывет.
Не с большим почтением относится Окассен и к религиозным догматам,
когда он заявляет, что не желает после смерти отправляться в рай, где
находятся только «попы, убогие да калеки», а предпочитает быть в аду,
где куда веселее: «Туда идут добрые ученые и прекрасные рыцари, по-
гибшие на турнирах и в, славных войнах. .. Туда же идут и нежные, бла-
городные дамы... Туда идут золото, серебро и цветные меха. Идут туда
музыканты и жонглеры и короли мира. С ними хочу быть и я, пусть
только Николет, моя нежная подруга, будет со мною».
Окассен в еще меньшей степени, чем Флуар, похож на рыцаря. Про-
чие представители рыцарского сословия играют в повести роль статистов.
Зато в ней есть другие, очень живые и выразительные фигуры — просто-
людины, уличные сторожа или пастухи-крестьяне, изображенные с заме-
чательным для того времени реализмом и небывалым в рыцарских рома-
нах сочувствием. Особенно характерен диалог Окассена с бедняком-пасту-
хом. На вопрос последнего, чем он так опечален, Окассен, разыскивающий
Николет, отвечает иносказательно, что он потерял борзую, и тогда па-
стух восклицает: «Бог мой! И чего только не выдумывают эти господа!»
И в противовес этой ничтожной утрате он рассказывает про истинную
постигшую его беду. Он потерял случайно одного из доверенных ему во-
лов, и хозяин, требуя с него полную стоимость вола, не остановился перед
тем, чтобы вытащить из-под его больной матери старый тюфяк. «Вот
это-то и печалит меня больше, чем мое собственное горе. Потому что
ведь деньги приходят и уходят. И если я теперь потерял, я выиграю в дру-
гой раз и заплачу за своего быка. Ради этого одного я бы не стал пла-
кать. А вы убиваетесь из-за какой-то паршивой собачонки. Будь про-
клят тот, кто вас за это похвалит!»
Повесть об Окассене и Николет, как показывает диалект, на котором
она написана, сложилась в Пикардии, в области Арраса, одного из глав-
ных центров расцвета в XIII в. городской литературы, чрезвычайно вос-
приимчивой к народным мотивам. Место действия повести, г. Бокер на
Роне, около Марселя, расположен в конце большой транзитной дороги,
соединявшей Средиземное море с промышленными районами северных об-
ластей. В XII—XIII вв. Бокер славился своими ярмарками, куда стека-
лись купцы из разных областей Франции, из Барселоны, северной Италии?
и близлежащих мусульманских стран. Там захожий аррасский торговец
или жонглер к мог познакомиться с сюжетом этой повести и ее некото-
рыми мусульманскими подробностями (имя Окассен, восходящее к араб-
скому Аль-Касаим; Николет, которая оказывается дочерью царя мав-
ританской Картахены в Испании, и т. п.).
Последнюю, самую позднюю группу рыцарских романов составляют
романы, также обязательно любовного содержания, притязающие на изо-
бражение действительных происшествий — современных или из недавнего
124
РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
прошлого. Но эти произведения, относящиеся всецело к XIII, а иногда
даже к XIV в., знаменуют собой уже следующую стадию литературного
развития, когда новый стиль, возникающий в среде писателей-горожан,
оказывает весьма заметное влияние даже на жанры специфически рыцар-
ские. В романах этого рода авантюрность совершенно отсутствует, уступая
место подробному описанию быта и нравов, конфликтов или предприя-
тий весьма обыденного и практического свойства, иногда с примесью док-
тринерства и морализации. Наиболее известные образцы этого ры-
царско-бытового романа Франции: «Жуфруа» («Jouffroy», начала
XIII в.)—описание похождений рыцаря, одинаково удачливого в воен-
ных, любовных и даже финансовых делах; «Кастелянша де Вержи» («La
Châtelaine de Vergy», ок. 1285 г.)—повесть о трагическом происшествии,
быть может, действительно случившемся при бургундском дворе и пока-
зывающем, сколь гибельным может быть нарушение данного слова и рас-
крытие тайной любви, «Кастелян де Куси» («Le Châtelain de Couci», конца
ХШ или начала XIV в.)—приуроченная к известному труверу новелла
о «съеденном сердце», которая раньше уже рассказывалась про трубадура
Гильема де Кабестань.
Роман этого рода культивировался также и в Провансе. Здесь са-
мым знаменитым образцом его является «Фламенка» («Flamenca», ок.
1240 г.)—откровенное прославление адюльтера, но без какой-либо субли-
мации чувств, так же как и без глубокой проблематики. Фламенка, жена
графа де Немур, страдает от сурового обращения с нею мужа, неосно-
вательно приревновавшего ее к французскому королю. Молодая женщина
отплачивает ему тем, что, несмотря на строгий надзор, вступает в любов-
ную связь с одним блестящим рыцарем, причем роль вольных или неволь-
ных посредников играют церковь и священник. Роман отличается жи-
востью изложения, искусством описаний, портретирования, характеристик
рыцарского быта. В Провансе мы находим и рыцарскую новеллу подоб-
ного же типа. Таковы, например, новеллы Раймона Видаля (Raimon Vidal,
начала XIII в.), из которых одна, «Наказанный ревнивец» («Castia
Gilos»), очень близка по теме к «Фламенке». Сюда же можно в известной
степени отнести и упомянутые выше прозаические биографии трубадуров.
Французские рыцарские романы имели огромный резонанс за преде-
лами Франции. Начиная с конца XII в. до Ренессанса включительно
почти на всех европейских языках возникает бесчисленное множество пе-
реводов и переделок французских романов или более или менее свободных
подражаний им. Во многих случаях только эти иноземные отражения по-
зволяют сделать вывод о самом существовании и характере утраченных
французских оригиналов. Так, например, немецкий роман о Тристане
и Изольде Готфрида Опрасбургского (начала XIII в.), норвежская сага
на ту же тему и английская поэма «Сэр Тристрем» (XIV в.), будучи не-
зависимыми друг от друга обработками романа Тома, от которого до нас
дошли только отрывки, дают возможность довольно точно реконструиро-
вать все его содержание. Равным образом, немецкий роман о Тристане
Эйльгарта фон Оберг (конца XII в.), восходящий к общему с редакцией
источнику Беруля, помогает составить представление об этом последнем.
Огромным успехом пользовались бретонские романы «Эрек» и «Ивен»
Кретьена де Труа, которые были переведены на немецкий язык в начале
XIII в. Гартманом фон Ауэ. Кроме того, оба названные романа его,
а также «Персеваль», были обработаны на уэльском языке в форме так
называемых «мабиногиев» (mabinogion — сказки, повести) XIII—XIV вв.,
в результате чего кельты частично получили обратно, в сильно прелом-
РЫЦАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
125
ленном виде, свои же сказания. «Ланселот» того же Кретьена и еще не-
которые французские повести легли в основу немецкого «Ланцелета»
Ульриха фон Цацикхофена (Zazikhoven, XIII в.). Огромный успех выпал
на долю сказания о святом Граале, обработанного (часто в соединении с
другими артуровскими сюжетами) на английском, уэльском, немецком,
итальянском, испанском, португальском и других языках. Наиболее ори-
гинальна из них немецкая обработка сказания о Граале Вольфрама фон
Эшенбаха—«Парцифаль» (начала XIII в.), частично восходящая к ро-
ману Кретьена.
Особое место занимает английская прозаическая компиляция Томаса
Малори «Смерть Артура» (второй половины XV в.), восходящая к одной
из редакций «Вульгаты» и послужившая главным источником, из которого
романтическое возрождение средневековья в английской литературе и
искусстве XIX в. (Теннисон, прерафаэлиты, Вильям Моррис) знакоми-
лись с артуровскими сюжетами. Интересен, наконец, анонимный норвеж-
ский перевод лэ Марии Французской под названием «Strengleikar» (XIII в.).
Ренессанс, с его новым жизнеощущением и новой поэтикой, отверг
рыцарские романы в их первоначальной, средневековой форме. Однако
литературное использование их не прекращается. В XVI—XVI вв. проис-
ходит своеобразная трансформация их сюжетов и стиля, породившая
поздний, ренессансный рыцарский роман, самым ярким образцом кото-
рого является серия испанских романов об Амадиое. Одновременно италь-
янские поэты (Боярдо, Ариосто), вводя в свой ренессансный придворный
эпос сюжеты французских каролингских поэм, коренным образом их пе-
рерабатывают в духе именно рыцарских романов.
Заглохший во времена классицизма и буржуазного Просвещения
интерес к артуровским и вообще бретонским романам снова ожил в XIX в.,
особенно во второй половине его, и уже не исчезал более до наших дней.
В качестве крупнейших примеров новотворчества в этой области назо-
вем «Королевские идиллии» и «Святой Грааль» Теннисона, сборник Виль-
яма Морриса «Защита Гениевры и другие поэмы», оперы Р. Вагнера
«Тристан и Изольда» и «Парсифаль» и т. п. Наиболее сильным оказа-
лось обаяние повести о Тристане и Изольде. После того как в средние
века она обошла буквально всю Европу (сохранились даже чешские и ста-
рая русская, допетровского времени, обработка ее), она возродилась
в XIX в. под пером Виланда, А. В. Шлегеля, Рюккерта, Иммермана, Ва-
кернагеля, Платена, Метью Арнольда, Теннисона, Суинберна и многих
других. В XX в. интерес к этому сказанию еще более усилился. Из новей-
ших обработок художественно наиболее значительная — драма Хардта
«Шут Трантрис» (1907). Другому немецкому драматургу начала XX в.
Э. Штукену принадлежат драматические обработки одного из артуровских
романов: «Говен и Зеленый рыцарь» и лэ Марии Французской: «Ры-
царь Ланваль».
Наиболее яркие случаи раннего (XII—XIV вв.) влияния француз-
ских рыцарских романов других групп — это перевод на немецкий язык Ген-
рихом фон Фельдеке «Романа об Энее», норвежская сага, английская поэма
и немецкий роман о Флуаре и Бланшефлер, обработка в «Филоколо»
Боккаччо этого сюжета и обработка тем же Боккаччо в «Филострато»
эпизода Троила и Бризеиды-Кризеиды из «Романа о Трое» Бенуа де
Сент-Мор, — эпизода, перешедшего также из французского романа в поэму
Чосера, послужившую в свою очередь одним из источников «Троила
и Крессиды» Шекспира. Интересную сценическую судьбу имела повесть
126
РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
«Окассен и Николет», подвергшаяся целому ряду обработок для театра г
таковы комедия Седеяа с музыкой Гретри (поставлена в 1779 г.), немец-
кая опера фон Пойсля (1813), комедия графа Платена (1825) и т. д.
7
Кроме лирики и романа, к рыцарской литературе принадлежит ряд
других жанров, главным образом повествователыных. Прежде всего сюда
относятся стихотворные хроники, развившиеся в середине. XII в. пре-
имущественно в Нормандии и Англии. Последнее обстоятельство объ-
ясняется стремлением молодой англо-нормандской державы, как раз в это
время чрезвычайно усилившейся и вступившей в прямую борьбу с Фран-
цией, утвердить свою историческую самобытность, снабдив себя докумен-
тами, которые свидетельствовали бы о ее славном происхождении и герои-
ческом прошлом. В противовес старым латинским хроникам по истории
Франции и богатому эпическому преданию на народном языке, возникают,
отчасти по прямому заказу английских королей или крупнейших светских
и духовных феодалов, стихотворные хроники на англо-нормандском и нор-
мандском диалектах французского языка, в которых к протокольному из-
ложению событий и генеалогий примешиваются иногда легендарно-герои-
ческие мотивы.
Если не считать недошедшего до нас жизнеописания Генриха I, вы-
полненного по заказу его вдовы королевы Аделаиды (около 1140 г.),
старейшею из этих хроник является написанная для другой знатной
дамы обширная «История англичан» Гемара (Gaimar, «Histoire des Ang-
lais», около 1150 г.). Она начинается с описания похода Аргонавтов, из-
лагает завоевание Трои, через посредство легенды о Бруте (согласно
Гальфриду Монмутскому) переходит к истории Англии и заканчивается
смертью Вильгельма II Рыжего (1100). В этом же ряду стоит и упомя-
нутый раньше «Брут» нормандца Васа (около 1155 г.), ибо, хотя произ-
ведение это посвящено древним властителям и героям кельтской Брита-
нии, англо-нормандские короли могли считать себя как бы их преемни-
ками, освободившими страну от англо-саксонского ига. Тому же Васу Ген-
рих II заказал в 1160 г. полную историю нормандских герцогов. Вас почти
пятнадцать лет трудился над этой хроникой, названной им по имени вождя
норманнов, обосновавшегося в начале X в. в Нормандии и ставшего пер-
вым ее герцогом, «Романом о Роллоне» («Roman de Rou»), В конце кон-
цов, недовольный медлительностью Васа или его стилем, король передал
заказ автору «Романа о Трое» — Бенуа де Сент-Мор, который написал
гигантскую (42 000 стихов) «Историю Нормандских герцогов» («Histoire
de ducs de Normandie»). Вслед за нею, еще до конца XII в., возник ряд
других хроник — о войнах Генриха II с Францией, с Шотландией, с его
восставшим сыном, история аббатства Мон-Сен-Мишель и т. д.
В область французских и даже международных интересов нас пере-
носят несколько стихотворных хроник о крестовых походах, которые, в от-
личие от старых полународных «Песни об Антиохии» и «Песни о Иеруса-
лиме», почти свободны от поэтических вымыслов и имеют строго летопис-
ный характер. Такова «История Антиохии и Иерусалима» («Histoire
d'Antioche et de Jérusalem», конца XII в.), восходящая к латинской хро-
нике о первом крестовом походе. Сходен по стилю, но выделяется отчет-
ливыми демократическими тенденциями рассказ о 3-м крестовом походе
одного из участников его, нормандского жонглера Амбруаза — «История
святой войны» (Arobroise, «Histoire de la guerre sainte», самого конца
XII в.).
РЫЦАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
127
Из позднейших французских хроник наиболее значительны: «Риф-
мованная хроника» («Chronique rimée») Филиппа Муске (Philippe Mous-
quet), охватывающая события от разрушения Трои до середины XIII в.
во Франции и ценная, между прочим, тем, что автор широко использовал
в ней chansons de geste, в том числе такие редакции их, которые непосред-
ственно до нас не дошли; далее — «Великие хроники Сен-Дени» («Les
grandes chroniques de Saint Denis», конца XIII в.), «Великие хроники
Франции» («Les grandes chroniques de France», XIV в.) и др.
Во всех этих произведениях 'преобладающая тема — прославление
рыцарской чести и доблести, картина смелых рыцарских подвигов и
авантюр.
В сущности, разновидностью хроник можно считать стихотворные пе-
реложения на французский язык разных частей или глав Библии, напри-
мер книги Бытия, истории Иосифа, братьев Маккавеев и т. п. Заниматель-
ная форма изложения, богатая орнаментация рукописей и т. п. доказы-
вают, что произведения эти служили целям не религиозного назидания,
а развлечения аристократического общества. Особенно это заметно в очень
позднем образце жанра — в «Библейской истории» Гиара де Мулен
(Guiart de Mouline, «Bible historial», конца XIII в.), в которой библейские
повествования соединены с историей Трои и Рима.
Ог хроник, как произведений по существу своему поэтических и даю-
щих как бы обобщающие исторические очерки развлекательного или нра-
воучительного характера, надо безусловно отделить первые опыты исто-
риографии мемуарного типа, авторы которых стремятся прежде всего дать
точную картину последовательности и связи событий с множеством кон-
кретных подробностей. Весьма естественно, что произведения этого рода
все без исключения написаны прозой и что язык их, деловой и сухой,
свободен от всяких поэтических прикрас.
Такой рудиментарный «историзм» вместо фантастики или дидактики
мы встречаем, прежде всего, в «Завоевании Иерусалима» («La conquête
de Jérusalem») участника 4-го крестового похода (1202—1204), маршала
Шампани Жофруа де Вилардуэна (Geoffroi de Villehardouin). Главная за-
дача автора — объяснить, как могло случиться, что экспедиция эта вме-
сто завоевания Иерусалима и Палестины привела к захвату Константи-
нополя и созданию Латинской империи. Краски, образы, описания отсут-
ствуют у Вилардуэна. Но рассказ его прост, точен и при некоторой су-
хости выражений позволяет составить довольно ясное представление
о ходе событий. Впрочем, они освещены автором, вельможей и одним из
крупнейших военачальников похода, лишь в самых общих чертах. До-
вольно слабо выяснены автором как основные силы, действовавшие при
этом, так и политические результаты похода. Хорошим дополнением и про-
тивовесом к книге Вилардуэна может поэтому служить описание того же
похода Роберта де Клари (Robert de Celary), характерно им озаглавленное:
«История тех, кто завоевал Константинополь» («Histoire de ceux qui con-
quirent Constantinople»). Составленное с точки sрения рядовых участников
похода — мелких рыцарей и солдат, оно раскрывает всю изнанку его:
ссоры между военачальниками, дрязги,, мелочную борьбу самолюбий и
денежных интересов, все те лишения и обиды, которые пришлось вы-
терпеть мелкому люду, труды которого доставили полководцам добычу
и славу.
Минуя ряд других хроник-мемуаров, отметим лишь второй крупней-
ший памятник подобного рода, возникший через сто лет после воспоми-
наний Вилардуэна. Это—«Книга о святых речах и добрых делах г»»я-
Сцены из «Романа о Грое'/.
Миниатюра иа рукописа XIV в.
РЫЦАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
1ÎB9
того Людовика» Жана де Жуанвиля (Jean de Joinville, «Livres des sainte*
paroles et des bonnes actions de Saint Louis», начала XIV в.). Заглавие эта
объединяет два различных сочинения: воспоминания старого, уже 80-лет-«
него Жуанвиля о его друге Людовике IX и описание 7-го крестового по-
хода (1248—1252), сделанное в автобиографической форме. Жуанвиль вовсе
не похож на Вилардуэна: он не обладает проницательностью, способностью
охватить события с общей точки зрения, но зато он превосходный наблю-
датель деталей, зарисовщик всего характерного и яркого. Его простоду-
шие и непосредственность, граничащие с наивностью, проявились в стиле
мемуаров, отличающемся большой свежестью и теплотой, делающими его
описания и характеристики довольно убедительными, несмотря на их
явную неполноту. Особенно удалась ему подробная, очень живая харак-
теристика Людовика IX.
Эти хроники-мемуары чрезвычайно способствовали развитию фран-
цузской художественной прозы с ее наивно-реалистическим устремлением
к более широкому и объективному отражению жизни во всем ее конкрет-
ном многообразии. Вместе с тем в них впервые проявился с полной опре-
деленностью субъективизм, противопоставление окружающему авторской
личности, какое мы встречаем в ремесленно-цеховой лирике и дидактике
XIII в. Всем этим, данный жанр тесно связывается со следующей, город-
ской стадией средневековой культуры, к которой он мог бы быть отнесен
также и хронологически. Однако то своим идеологическим установкам и
кругу основных мотивов эти хроники-мемуары в большинстве своем все
же принадлежат к рыцарской литературе, являясь примером типичных
для переходного времени смешанных образований.
Вообще в XIII и в начале XIV в., вплоть до Столетней войны,
когда французская литература попадает в особые условия, мы наблюдаем
проникновение рыцарских тем и идей даже в жанры, рыцарству наиболее
чуждые, как, например, религиозная драма или моральная дидактика.
Подобное влияние рыцарских вкусов и интересов сказалось и на так на-
зываемых chansons de geste XIII в., представляющих собою уже не про-
должение народной эпической традиции, а переработки старых поэм или
вольные подражания им. В этих поздних поэмах соблюдается традицион-
ная форма героического эпоса (тирады из десятисложных, реже двена-
дцатисложных стихов, причем лишь с середины XIII в. ассонанс начинает
заменяться рифмой), и встречается немало общих с ним стилистических
черт; но нередко уже чувствуется индивидуальная манера авторов, знако-
мых с техникой рыцарского романа. Особенно характерно, что поэмы эти
уже не распеваются, а читаются, как романы. Таковы поэмы Бертрана де
Рарсюр-Об (Bertrand de Bar sur Aube), начала XIII в., посвященные отцу
Гильома д'Оранж — Эмери де Нарбонн, и дяде последнего — Жирару де
Вианн, приключения которого очень напоминают историю Жирара де
Руссильон. Образы обеих поэм выразительны и полны героического
пафоса, однако стилистическая манера автора далека от непосредствен-
ности и наивного воодушевления ранних chansons dé geste. Характерно
также видное место, занимаемое у него любовной тематикой.
Одновременно с этими поэмами возникла англо-нормандская редак-
ция «Бева де Антон» («Beuve de Hantone»), восходящая, как думают,
к утраченной французской редакции конца XII в. В этой анонимной
поэме (через посредство итальянской обработки ее, послужившей перво-
источником старой русской повести о Бове-Королевиче) рассказывается
о том, как герой бежал от преследований злого отчима, как он совершил
'.< Кстирия французской литературы—815
130
ГЛПНКЕ CPF.WTKBEHOBbK
ряд подвигов на чужбине, отомстил отчиму за смерть отца, едва не же-
нился вторично, имея жену, и о других романтических приключениях в том
же роде, делающих это произведение скорее похожим на роман, чем на
героическую поэму. Еще более напоминает рыцарский роман анонимная
поэма «Гюон Бордосский» («Huon de Bordeaux», около 1220 г.), в которой
старая эпическая тема переплетается с самой живописной фантастикой.
Карл Великий, в наказание за то, что Гюон нечаянно убил его сына, на-
лагает на него обязанность выполнить для него на Востоке ряд опасных
поручений, которые должны его погубить. Гюон спасается только благо-
даря помощи короля эльфов Оберона, после чего он женится на влюбив-
шейся в него дочери вавилонского эмира Эсклармонде. Сюжет этот, очень
популярный вплоть до Ренессанса и дважды обработанный в XV в. в
форме «народной книги» и «светской мистерии», явился также одним и»
источников «Сна в летнюю ночь» Шекспира (заимствовавшего отсюда
образ Оберона) и поэмы Виланда «Оберон».
Наконец, уже к концу XIII в. относится творчество Адене Ле-Руа
(Adenet le Roy), менестреля, жившего при дворах крупных феодалов и
королей. Он обработал несколько эпических сюжетов («Детство Ожье
Датчанина», «Берта Большеногая» —■ история подмененной жены Пипина
Короткого, отца Карла Великого, и т. п.) в придворном вкусе, рефор-
мировав метрику chansons de gcfete (путем введения затейливой системы
рифм) и «облагородив» их стиль и язык. Под конец Адене предпочел
прямо перейти к жанру рыцарского романа и написал «Клеомадеса»
(«Cléomadès»)—историю деревянного коня с хитроумным механизмом,
позволявшим рыцарям летать на нем для совершения подвигов (прототип
коня Клавиленьо в «Дон-Кихоте» Сервантеса).
Так рыцарская литература после 1200 г. интенсивно расширяет не-
которое время свой диапазон, распространяя свое влияние на ряд жанров,
первоначально ей чуждых, но при этом идейно очень быстро оскудевает
и приобретает эпигонский характер. Через полвека после первоначаль-
ного расцвета жизненная сила ее совершенно иссякает.
ОТДЕЛ IV
ЛИТЕРАТУРА
ПЕРИОДА РАСЦВЕТА ГОРОДОВ
(ХII —XV вв.)
ГЛA BAI
ГОРОДСКАЯ ЛИТЕРАТУРА С КОНЦА XII В. ДО СТОЛЕТНЕЙ
ВОЙНЫ
ападные историки XIII век называют иногда «великим
веком» средневековой Франции. Действительно, именно
в эту пору Франция достигает вершины своего полити-
ческого могущества и общеевропейского престижа во
всем, что касается умственного и художественного твор-
чества. Прежняя неподвижность быта, нравов и понятий
сменяется быстрым развитием. Во всех областях обще-
ственной и умственной жизни наблюдается интен-
сивное движение, образующее ту пеструю и подвижную
картину, которая ярче всего проступает в на-
родных ярмарках, придворных празднествах, витражах и гротескных*
фигурах барельефов готических соборов. Такой подъем общего тонуса
жизни объясняется тем, что в XIII в. феодализм, достигая своего апогея,
принимает организованную форму и возникает временное равновесие и
чрезвычайно тесная взаимосвязанность главных составляющих его обще-
ственных сил — королевской власти, церкви, рыцарства и городов.
Основной причиной этого расцвета является быстрый рост произво-
дительных сил страны и обусловленный им подъем городов-коммун.
Последние чрезвычайно быстро развиваются, и ремесло получает в них
законченную цеховую организацию. Если в середине XIII в. в Париже
насчитывалось около ста цехов, то в начале XIV в. число их превышало
уже триста. Происходит сосредоточение значительных богатств в руках
горожан. Ярмарки в Шампани получают международное значение. Уси-
ливается военная мощь городов, крепости которых «были гораздо непри-
ступнее, чем дворянские замки, потому что взять их можно было только
с помощью значительного войска».1
Города-коммуны ревниво оберегают свои права и вольности. Город-
ской поэт XIII в. Бодуэн де Конде гордо заявляет: «Пусть они (феодалы)
остерегаются нарушить права коммун, установленные на пользу человече-
ства». Хотя, по замечанию Энгельса, «союз королевской власти и буржуа-
зии ведет свое начало с X в.», 2 все же политика королей даже в XII в.
1 Ф. Энгельс. О разложении феодализма и развитии буржуазии. К. Маркс и
Ф. Энгельс, Сочинения, т. XVI, ч. 1, стр. 440.
2 Там же, стр. 445.
134
РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
была по отношению к городам нередко еще двойственной и предательской,
и только в XIII в. союз этот становится более твердым и последователь-
ным. Ему французские короли обязаны своими первыми успехами в борьбе
с крупными феодалами и очень заметным усилением в XIII в. своей власти.
Прямым следствием этого явилось чрезвычайное расширение королевского
домена и огромный шаг вперед в деле национального объединения страны.
XIII век открывается победоносной войной Филиппа-Августа с англи-
чанами (1203—1214), которая привела почти к полному изгнанию
последних из Франции. Сразу после этого, в результате альбигойских
войн, произошло присоединение наибольшей части юга Франции. В основ-
ном к концу века объединение страны было почти завершено, и из круп-
ных феодальных владений политически независимыми от французского
короля оставались только Бретань, Фландрия, Бургундия и часть Акви-
тании. Но еще важнее этого расширения королевских владений было
усиление королевской администрации. С одной стороны, развивается штат
центральных чиновников и королевских советников из горожан, среди
которых выделяются так называемые легисты — знатоки римского права
с его доктриной неограниченной власти монарха; с другой стороны, много-
численные королевские агенты в провинциях (прево и бальи) стараются
всячески ограничить прерогативы сеньериального суда и администрации.
Людовик IX (1226—1270) оказался уже настолько сильным, что мог из-
дать ряд указов, воспрещающих по всей Франции частные войны и дуэли,
ввел единую монетную систему, произвел реформу военного дела, начав
пользоваться, на ряду с феодальным ополчением, также наемниками,
и т. п. Авторитет этого короля и его репутация хранителя мира и закон-
ности стояли в международном отношении так высоко, что папы и гер-
манские императоры обращались к нему как к третейскому судье.
Продолжая политику своих предшественников, Людовик IX, при всей
своей набожности, решительно отстаивал права светской власти против
церковных притязаний. Развернувшаяся при его преемниках борьба с пап-
ством за распоряжение богатствами церкви во Франции закончилась при
Филиппе IV (1285—1314) поражением пап, оказавшихся вынужденными
переселиться в Авиньон, причем первый же из авиньонских пап должен
был санкционировать процесс против тамплиеров и захват королем огром-
ных богатств этого ордена.
Стремясь по возможности сократить права крупных феодалов, коро-
левская власть, однако, не посягает при этом на интересы мелкого и сред-
него рыцарства. И точно так же, борясь против папства и магнатов церкви,
французские короли всячески покровительствуют преданным им обшир-
ным слоям среднего и низшего духовенства. Вместе с тем, в связи с лик-
видацией натурального хозяйства и развитием товарно-денежных отноше-
ний, возникает тесный контакт между мелким или средним рыцарством
и городами, наподобие того, как на юге Франции это имело место уже
в самом начале XII в. Точно так же намечается значительная общность
интересов между горожанами и мелким или средним духовенством.
В общем, центростремительное начало, в XIII в. определенно беру-
щее верх, выражается в известном объединении под эгидой королевской
власти всех жизнеспособных и творческих сил, в котором очень важная
роль принадлежит городам. Основные принципы этого объединения — за-
конность, порядок, рост светского мировоззрения.
Ярким выражением этих новых устремлений является огромный сдвиг,
наблюдаемый в тогдашней философии и науке. Конечно, та и другая про-
должают еще оставаться «служанками богословия». Больше того — именно
ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА РАСЦВЕТА ГОРОДОВ 135
«Lumière aux Laïcs» («Свет для мирян»)
Начало рукописи Пьера Пекгама (XIII в.)-
в XIII в. папство производит полную мобилизацию сил в целях насажде-
ния правоверия. Полчища доминиканцев, специализирующихся на борьбе
с ересями, и францисканцев наводняют Францию, захватывая в ней, как
и в остальных странах Европы, почти все университетские кафедры. Однако
схоластика, достигающая в XIII в. своего высшего развития, выполняет
гаисже известную прогрессивную роль, оказываясь примитивной формой
рационализма. Позиции рационализма еще более укрепляются проникно-
вением, через арабское посредство, философии Аристотеля, которую цер-
ковь, при всем своем недоверии к ней, оказывается все же вынужденной
включить в систему своего обучения.
Отношение между верой и разумом меняется: вместо прямолинейного
подчинения разума вере религиозно-философская мысль стремится уже
к более глубокому согласованию их между собой. Эту задачу выполняет
итальянский доминиканец Фома Аквинский (1226—1274), который
s своей «Сумме богословия» («Summa theologiae») пытался примирить все
рациональное знание, унаследованное от древних, с христианским учением.
Другие шли еще дальше. Если немецкий доминиканец Альберт Великий
(1193—1280), учитель Фомы Аквинского, пользовавшийся репутацией
величайшего натуралиста своего времени, все же лишь собирал и попу-
ляризировал добытое античной наукой, то английский францисканец Род-
жер Бекон (1214—1294) является подлинным основателем эмпирического
естествознания.
Характерно, что все названные лица, как и вообще большинство
знаменитых схоластов XIII в., были так или иначе связаны с парижским
университетом, который считался в эту пору крупнейшим научным цент-
ром Европы.
Этими новыми общественными отношениями определяется радикаль-
ный переворот в литературе, наметившийся уже в начале XIII в., на aa-
136
РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
вершившийся лишь в середине
его.'- На ряду с эпигонской ры-
царской поэзией, впавшей в
шаблон и утратившей всякую
творческую силу, вырастает
новая, городская литература.
Ее поэтика, диаметрально про-
тивоположная поэтике куртуаз-
но-рыцарской литературы, ха-
рактеризуется тем, что можно
было бы назвать прозаиз-
мом мышления и его художе-
ственного выражения,—торже-
ством здравого смысла и трез-
вой рассудительности, склон-
ностью к сочным и колоритным
картинам обыденной жизни даже
в самых тривиальных и урод-
ливых ее проявлениях, к гро-
тескной игре красок и обра-
зов, взятых из жизни всех без
исключения слоев общества, в
частности—крестьянства и го-
родских низов. Все то, что в
рыцарской литературе игнори-
руется или стыдливо затуше-
вывается, здесь вырывается
наружу с почти цинической от-
кровенностью. В то же время
городской литературе свой-
ственно стремление к дидактизму, сатире и назидательности, соответ-
ствующим деловому, критическому складу ума горожан.
} Несмотря на обострение в XIII в. борьбы /между городами и рыцар-
ством, нельзя сказать, чтобы городская литература была всецело чужда
и враждебна воззрениям рыцарства. Поскольку ремесленно-цеховые города
чувствовали себя тем, чем они были на деле, т. е. звеньями феодального
строя, на протяжении всего XIII в., покуда «продолжался расцвет феода-
лизма», ' городская литература лишь в исключительных случаях высту-
пала против феодальной системы, взятой в целом, ограничиваясь обычно
лишь критикой тех или других ее частностей. Эта критика изнутри,
в основном — с позиций того же самого феодального мировоззрения, Не-
редко носит смягченный, скорее шутливый, нежели сатирический, характер.
В то же время значительные слои самого рыцарства в обстановке новых
общественно-экономических отношений отказываются от исключительности
своих куртуазных идеалов и проявляют большую восприимчивость к прак-
тической стороне жизни. На этой почве возникает некоторая общность ли-
тературных интересов рыцарей и горожан, позволяющая многим писателям
XIII в. адресовать свои произведения одновременно тем и другим. Этот
контакт облегчался тем, что если, с одной стороны, в силу господствую-
щего положения рыцарства, рыцарские мотивы и образы естественным
образом проникали в произведения специфически городские, то, с другой
Каменные химеры на крыше собора Парижской
богоматери (XIII в.).
1 Ф. Энгельс, там же, стр. 447,
ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА РАСЛВЕТА ГОРОДОМ
157
стороны, как мы уже видели в
предыдущем отделе, типически
рыцарские произведения не-
редко окрашивались в XIII в.
чертами бюргерской поэтики.
Еще теснее связь с город-
ской культурой литературы
клерикальной. В результате
подъема образованности горо-
жан, духовенство перестает
быть единственной «аристокра-
тией ума», которою оно до
тех пор было склонно себя
считать. Вследствие того же
роста товарно-денежных отно-
шений низшее и среднее духо-
венство городов чрезвычайно
сближается в своей житейской
практике с городским населе-
нием, которое, несмотря на
усиление среди него критиче-
ского отношения к существую-
щим понятиям и учреждениям,
остается все же глубоко рели-
гиозным. Связь между литера-
турным творчеством этих двуу
групп еще более укрепляется
сильнейшей тенденцией их обеих
к дидактике. Вот почему поэт-
клирик XIII в., если он свя-
зан с городской жизнью и не обслуживает специфические интересы
феодально-аристократических кружков, может рассматриваться как поэт-
горожанин. Клерикальная литература в основной своей массе отныне ста-
новится частью литературы городской.
Если, однако, городская литература имеет некоторые точки соприкос-
новения с литературой рыцарской и, можно сказать, поглощает литера-
туру клерикальную, то главной ее основой все же является народное твор-
чество. Не говоря уже о постоянной связи горожан с крестьянством, с ко-
торым они нередко объединяются в борьбе против феодалов, проводником
и носителем народного начала в городской литературе является основная
масса городского населения — цеховые ученики и подмастерья, поден-
щики, городская беднота, настроенная враждебно ото отношению к патри-
циату и зажиточным мастерам, тяготеющим к рыцарству и крупному
духовенству. Самые яркие сюжеты и образы, которые встречаются
в городской литературе, восходят к фольклору, и если мы находим в ней
действительно острую и выразительную художественную сатиру, то почти
всякий раз можно быть уверенным, что она имеет народные корни. В об-
щем можно оказать, что в эту пору городская литература еще не вполне
отделилась от народной. Тем не менее, народное творчество проступает
здесь не в первичном, беспримесном своем виде, но всегда в соединении
с другими, нередко книжными или специфически городскими элементами,
и притом в особом, типически городском оформлении, которое, однако, не
в состоянии скрыть его глубокой сущности.
Каменные химеры на крыше собора Парижской
богоматери (XIII в.).
158
РА.НПЕГС СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
Все эти разнообразные элементы, основные и второстепенные, совме-
щаются в городской литературе наподобие того, как в орнаментике го-
тических храмов того времени уживаются рядом аскетические фигуры
святых и гротескные маски или «химеры», идеализированные образы ры-
царских романов и тривиальные физиономии персонажей народных пове-
стушек. И тут и там, несмотря на эту пестроту и смешение, составляю-
щие одну из типичных особенностей культуры средневековых городов,
можно все-таки обнаружить некоторое стилистическое единство.
В отношении метрики городская литература почти ничем не отли-
чается от поэзии рыцарской: мы находим здесь тот же парный восьми-
сложный стих в повествовательных жанрах и те же сложные строфиче-
ские размеры в лирике, с той лишь особенностью, что лирика публици-
стического или сатирического характера уже освобождается от музыкаль-
ного сопровождения. Важным новшеством является создание художественной
прозы — формы типически городской, несмотря на то, что первые образцы
ее относятся к рыцарской литературе, испытавшей влияние со стороны
города (Вилардуэн, роман о Ланселоте — самого начала XIII в.).
Точно TaiK же городская литература перенимает большинство основ-
ных жанров рыцарской поэзии — роман, новеллу, лирические жанровые
формы и т. п. Но в новом использовании эти жанры коренным образом
перерождаются, наполняясь дидактическим, сатирическим или пародийным
содержанием. В полном соответствии с этим находится и общий стиль —
наивно-реалистический, с сильным уклоном к натурализму. Поэты сплошь
и рядом стараются как бы калькировать действительность, выписывая все
доступные их зрению и наблюдательности бытовые подробности, не избе-
гая грубых и уродливых моментов, относящихся к области элементарных
человеческих побуждений и голой физиологии, а, наоборот, иногда даже
с особенным удовольствием сосредоточиваясь на них. В противополож-
ность пуристическим тенденциям и эвфемизму языка рыцарской поэзии,
стиль этот максимально приближается к обыденной разговорной речи,
и « языке появляется множество слов и выражений профессионального,
народного, даже арготического происхождения.
2
Наиболее популярным жанром городской литературы являются фаб-
лио 1 — небольшие стихотворные рассказы, представляющие своеобраз-
ную параллель бретонским «лэ». Но в то время как лэ изображают
события трогательные или фантастические, располагающие читателя к неж-
ной мечтательности, фаблио рассказывают о происшествиях грубых или не-
лепых, долженствующих вызвать смех. Их авторы считают самым глав-
ным достоинством своих произведений их способность «смешить людей»,
потому что, как говорит один из них, «смех присущ человеку». Однако
характер этого смеха бывает очень различным.
Простейший титт фаблио сводится к анекдоту или чистой юмористике,
основанной на случайно возникшей комической ситуации, игре слов и т. п.
Носильщику велят отнести сундук, будто бы принадлежащий господину
Онту (Honte). На вопрос прохожих, что он несет, он отвечает: «сундук
Онта», чем вызывает общий смех, ибо honte значит «стыд», a malle (сун-
1 Такова диалектальная, пикардийская форма этого наименования (fabliaux—фаблио
вместо литературно-французской формы fableaux — фабло), утвердившаяся в литературе
ведении, оттого что жанр этот культивировался преимущественно в Пикардии и сосед-
них с нею областях Франции.
ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА РАСЦВЕТА ГОРОДОВ
139
дук) созвучно слову mal — «дурной», «злой»: получается, что носильщик
тащит «злой стыд». Тщетно было бы искать в фаблио подобного рода
какую-либо социальную мысль или сатирическое содержание: они вполне
подобны шутовству раешника, и единственная их цель — грубоватый, но
здоровый, бездумный смех.
Вторую группу образуют фаблио с более развитыми сюжетами, в ко-
торых смех имеет уже вполне определенную направленность. В соответ-
ствии с духом времени, их «мораль» сводится к осмеянию всякого рода
глупости или чрезмерной доверчивости, к прославлению сметливости,
расчетливости, ловкости рук и ума. Трое слепых бредут по дороге, прося
милостыню. Прохожий, желая поглумиться над ними, говорит им, что
дает им золотой, и, не дав ничего, проходит мимо. Каждый из слепцов
решает, что монету взял один из его товарищей. Они идут в соседний
город, отлично угощаются там в гостинице, а когда дело доходит до рас-
платы, обвиняют друг друга в утайке золотого и начинают между собой
драку, причем всех троих еще больнее бьет трактирщик, которому они не
могут заплатить («Три слепых из Компьеня», «Les Trois aveugles de
Compiègne»). Если здесь мы находим насмешку над человеческим просто-
душием, то, наоборот, в фаблио «Крестьянин-лекарь» («Le Vilain mire»),
послужившем источником для мольеровского «Лекаря поневоле», содер-
жится восхваление находчивости человека из народа, помогающей ему
выпутаться из очень трудного положения. Одному крестьянину, кото-
рому приказано вылечить королевскую дочь, подавившуюся костью, уда-
лось рассмешить ее своим кривляньем — и кость выскочила у нее из горла.
Когда же после этого собрались больные со всего города, добиваясь того,
чтобы он вылечил и их тоже, он потребовал, чтобы самый недужный из
них пожертвовал собой: его бросят в печь, и все остальные будут исце-
лены его пеплом. Крестьянин каждому по очереди предлагает признать
себя неизлечимо больным, но все, один за другим, объявляют себя со-
вершенно здоровыми. Оба мотива — глупости и изобретательности —
соединены в фаблио «Три мертвеца» («Les Trois morts»). Хозяин гости-
ницы хочет избавиться от трупов трех постояльцев, убитых во время
драки. Он нанимает носильщика и, показав ему один из трупов, велит
бросить его в реку. Когда носильщик, вермувшись, требует условленной
платы, хозяин уверяет его, что он не исполнил поручения, и в доказа-
тельство показывает ему второй труп. Носильщик, хотя и очень удивлен-
ный, уносит его. То же самое происходит и с третьим трупом. На обрат-
ном пути носильщик встречает человека, показавшегося ему похожим на
одного из мертвецов. «Как, ты опять вернулся?» — восклицает он и бро-
сает его в воду.
На грани сатиры и циничного сочувствия более хитрому находятся
фаблио, разрабатывающие столь популярную в средние века тему неверных
жен и их бессовестных выдумок. Таково фаблио «Кречет» («L'Epervier»),
где рассказывается о том, как жена одного горожанина в отсутствие
мужа принимает одного за другим двух любовников, пряча первого от
второго, а затем, когда муж внезапно возвращается, отлично выходит
из положения с помощью остроумной уловки.
К подлинной социальной сатире нас приводит третья, наиболее инте-
ресная группа фаблио, в которых разоблачаются конкретные пороки, свой-
ственные разным сословиям и кругам общества, по преимуществу город-
ского. Главными объектами сатиры являются жадность, скупость, душев-
ная черствость, чревоугодие зажиточных горожан, лицемерие и порочность
священников, грубость глуповатых рыцарей, проделки профессиональных
140
РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
мошенников и т. п. В «Завещании осла» («Le Testament d'âne») священ-
ник, обвиненный перед епископом в том, что он похоронил своего люби-
мого осла на освященной земле, спасается от наказания, вручив епископу
20 ливров, будто бы завещанных ему ослом. В «Разрезанной попоне»
(«La Housse partie») рассказывается о том, как один горожанин, женив
сына на дочери рыцаря, по настоянию родни молодой должен был отдать
им сразу все свое состояние. Когда он состарился, невестка решила совсем
прогнать его из дома, и ее муж согласился с ее желанием, из сострадания
только велев своему малолетнему сыну дать деду попону, чтобы тому
было чем прикрыться. Мальчик, однако, разрезал попону и на вопрос,
для чего он это сделал, заявил, что вторую половину он оставит себе,
чтобы дать ее своему отцу, когда, выросши, в свою очередь прогонит
его из дома. Неблагодарный сын устыдился и попросил прощения у отца,
обещав отныне окружить его заботами и почтением.
Иногда сатирические фаблио расширяются в картину нравов целой
общественной группы или изображают серию приключений какого-нибудь
персонажа, перерастая в маленький роман. Таково старейшее из дошед-
ших до нас фаблио—«Ришё» («Richeut», около 1160 г.). Его героиня —
бывшая монахиня, сделавшаяся куртизанкой. Она выманивает деньги
у трех своих любовников — рыцаря, горожанина и священника, уверяя
каждого, что он — отец ее ребенка. С годами Ришё меняет ремесло
и становится сводней. Ее сын Самсон, подросши, оказывается достойным
соперником своей матери и так же нещадно обирает влюбившихся в него
женщин, как Ришё обирает мужчин. Это задевает ее профессиональное
самолюбие, и, чтобы посрамить сына, она ловит его в западню с помощью
девицы легкого поведения, прикинувшейся богатой и знатной дамой. Абсо-
лютно спокойный тон рассказа, без малейшей примеси морализации или
каких-либо оценок изображаемого, делает еще более убедительной эту
яркую и объективную картину накипи городской жизни. Острый реализм
ее повышается показом того, как персонажи формируются и действуют
в соответствующей обстановке. Жизненный путь Ришё — монахиня, курти-
занка, сводня — весьма характерен. Еще показательнее плоды воспита-
ния, полученного Самсоном от такой матери. Однако наиболее замечате-
лен итог всего этого — чудовищная схватка между героиней и ее достой-
ным сыном. Фаблио о Ришё может рассматриваться как отдаленный пред-
шественник «плутовского романа».
Такое разнообразие типов фаблио объясняется отнюдь не развитием
их за полтора века их существования (с конца XII до начала XIV в.),
так как во все это время существовали все перечисленные разновидности
их, а единственно лишь сложностью породившей и воспринимавшей их
социальной среды. На ряду с горожанами, духовенством, крестьянством,
фаблио адресовались также и к рыцарству, для которого они служили
легкой . юмористической литературой. В обращениях к слушателям, не-
редко помещаемых в начале фаблио, иногда встречаются титулы королей,
баронов, знатных дам. В некоторых рукописях фаблио занимают место
рядом с рыцарскими романами или лэ — ясное доказательство того, что
они обслуживали одинаковый круг читателей. Среди авторов фаблио мы
встречаем иногда знатных сеньеров, как, например, Филиппа де Бома-
нуар (Philippe de Beaumanoir) или представителей высшего духовенства
вроде Анри д'Андели (Henri d'Andeli). Занимательность сюжета и комизм
фаблио, независимо от их сатирического содержания, делали их любимым
чтением (вероятно, все же с некоторым отбором) лиц всех сословий и
кругов общества.
ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА РАСЦВЕТА ГОРОДОВ
141
Что касается нравоописательного и сатирического элемента в фаблио,
то там, где он имеется, он представляет такую же сложность и много-
планность. Хотя мы находим в фаблио богатую галерею лиц всевоз-
можных общественных положений, в центре внимания авторов все же
стоят горожане и те характерные их черты, которые созданы были разви-
вающейся буржуазной практикой. Однако в оценке этих черт наблю-
дается двойственность. С одной стороны, в целом ряде случаев изворот-
ливость и ловкость изображаются как положительные свойства, почти
вызывающие в авторе восхищение (причем дела не меняет то, что иногда
носителями этих свойств выступают не горожане, а представители дру-
гих сословий). Но, с другой стороны, эти же самые свойства, когда они
служат целям стяжательства и угнетения других людей, резко обличаются
и высмеиваются. Эта критика с позиций широких масс городского насе-
ления, крестьянства, народа, лучше, чем что-либо другое, раскрывает на-
родные истоки фаблио.
Очень многие сюжеты фаблио находят близкие аналогии в сказках,
новеллах, назидательных рассказах других народов всех стран и времен.
В частности, ряд очень точных параллелей к ним был обнаружен в буд-
дийских «апологах» (или «притчах»). Отсюда — формулированная в сере-
дине XIX в. Бенфеем и вслед за ним разработанная Г. Парисом теория
восточного (индийского, или индо-персидско-арабского) происхождения
фаблио, которая господствовала в европейской науке до конца XIX в.
и еще до сих пор насчитывает многих сторонников. Выраженная в такой
обобщающей форме, она безусловно неверна. Правда, для этой эпохи
чрезвычайно характерно широкое хождение всякого рода новеллистиче-
ских и сказочных сюжетов, беспрерывный международный обмен их,
происходивший по большей части устным, но нередко также и письмен-
ным путем, причем, конечно, речь идет не о механическом заимствовании,
а об освоении, приспособлении захожих сюжетов к местным нравам, мо-
ральным нормам и понятиям. В частности, учитывая культурные влия-
ния, шедшие в эту эпоху преимущественно с Востока в Западную Европу,
нельзя отрицать возможность восточного происхождения ряда сюжетов
фаблио, тем более, что, как мы увидим далее, именно такого рода влияние
проявилось в целом ряде других, смежных явлений городской литера-
туры. Однако вполне доказанные случаи восточного происхождения от-
дельных фаблио немногочисленны и относятся почти исключительно
к поздним фаблио. Большинство же их, повидимому, местного француз-
ского (или, может быть, еще галло-римского) происхождения, и сюжетное
сходство их с рассказами других, восточных или невосточных народов объ-
ясняется аналогичными общественно-бытовыми условиями, порождаю-
щими, без каких-либо взаимных влияний, сходные сюжетные схемы
и тождественную влагаемую в них мораль.
Такие частью развлекательные, частью сатирические анекдоты-пове-
стушки в устной форме (fabellae ignobilium, «побасенки простолюдинов»,
как называли их проповедники) бытовали в народе в течение ряда веков,
до тех пор, пока, наконец, в эпоху подъема городов и новой демократиче-
ской волны в литературе, жонглеры не освоили этот материал и, насытив
его специфически городской сюжетикой и образностью, не придали ему
то литературное оформление, в котором он дошел до нас. Что жанр фа-
блио много древнее, чем самые ранние сохранившиеся его образцы, и что
долгое время они не записывались, подтверждается следующим. Если не
считать «Ришё», старейшие из записанных фаблио относятся к концу
XII или началу XIII в., иначе говоря, в письменной традиции мы имеем
142
ГЛТШЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
здесь пробел почти в полвека. А, с другой стороны, «Рише», в силу
своей сложности, также предполагает продолжительное предшествующее
развитие, о письменности нигде не закрепленное. Еще в первой половине
XIII в. Анри д'Андели, сам сочинявший также и фаблио, сообщает
в одной из своих аллегорических поэм, что он «пишет ее на пергаменте,
а не на восковых табличках», так как «это серьезное произведение, а не
фаблио».
Народное происхождение фаблио отчетливо сказывается в той прав-
дивости и свободе, с какими разоблачаются притеснители и хищники вся-
кого рода. На ряду с этим очень выразителен образ крестьянина, проя-
вляющего свою природную сметливость и энергию не для угнетения дру-
гих или стяжательства, а единственно лишь в целях самозащиты. Один
из примеров этого — «Крестьянин-лекарь». Другой — фаблио «О крестья-
нине, который тяжбой приобрел рай» («Du vilain qui conquit le paradis par
plaid»). Душу умершего крестьянина апостол Петр не хочет пускать в рай:
таким, мол, не место в божьем жилище. Но крестьянин не растерялся:
он сумел так пристыдить Петра, да и других апостолов тоже, припомнив
все их проступки — и отречение от Христа, и маловерие, и другие про-
винности,— что бог признал его правоту и1 впустил в рай. В ряде других
фаблио короли и епископы вынуждены бывают склониться перед народной
мудростью, говорящей устами простого крестьянина. Черты народного
происхождения сохраняет и стиль фаблио с его энергичной сжатостью
речи, силой и точностью выражений, обилием подлинно народных оборо-
тов речи, сравнений, пословиц и т. п.
Фаблио оказали значительное влияние на последующую француз-
скую, а отчасти и европейскую литературы. Оно проявилось на аналогич-
ном жанре немецких шванков, сформировавшемся не без воздействия
французских образцов. Возможны также некоторые заимствования из
фаблио у Боккаччо и других итальянских новеллистов. Многое из сюже-
тов и стиля фаблио перешло в фарсы XV в., кое-что в роман Рабле,
в комедии (фарсового типа) Мольера, в «Сказки» Лафонтена. Отголоски
фаблио мы встречаем в XIX в>—в «Озорных сказках» Бальзака и в не-
которых (преимущественно крестьянских) новеллах Мопассана.
Параллелизм между фаблио и лэ, в смысле как аналогий, так и кон-
трастов между ними, привел к скрещению этих жанров, притом двоякого
рода. Во-первых, стремление соединить комизм первых и куртуазность
вторых порождает несколько произведений, обычно озаглавленных «лэ»,
но по существу являющихся фаблио. Таков «лэ об Аристотеле» Анри
д'Андели, требующий длящего понимания известной образованности и, сле-
довательно, предназначенный для избранной аудитории. Александр Маке-
донский, которого во всех походах сопровождал его воспитатель, философ
Аристотель, находясь в Индии, до того влюбился там в одну красавицу,
что все время проводил с ней, забыв о войнах и государственных делах.
Придворные ропщут и обращаются за помощью к Аристотелю, который
убеждает Александра расстаться с прекрасной индианкой. Та, чтобы обез-
оружить противника, кокетничает со старым философом и пленяет его
настолько, что тот за право поцеловать ее соглашается исполнить ее кап-
риз — позволить ей прокатиться верхом на его спине. «В это мгновение
из-за занавески выходит Александр, спрятанный там индианкой. Аристо-
тель, однако, не растерялся: «Вот видите, — воскликнул он, — как прав
был я, опасаясь действия любви на вас, полного сил, в расцвете юности,
если она сумела так нарядить меня, старика. Я присоединил пример к по-
ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА РАСЦВЕТА ГОР (ИОВ
143
<Лэ об Аристотеле».
Скульптура на портале Лионокого собора.
учению: воспользуйтесь им». Вся схема здесь — та же, что в фаблио, но
юмор иного порядка, гораздо более «изысканный».
С другой стороны, около середины XIII в. возникает целый ряд па-
родийных лэ, типа фаблио, где куртуазные идеалы откровенно предаются
осмеянию. В «Плохо скроенном плаще» («Manteau maltaillé») и в «Роге»
(«Lai du сот») рассказывается о двух талисманах, ставших для всех ры-
царей Круглого стола (кроме лишь одного счастливца — Карадока) при-
чиной большого конфуза, потому что с помощью этого волшебного плаща
или рога раскрылась неверность их возлюбленных. Еще острее лэ «Иньо-
рес» («Ignaurès»)—история одного рыцаря, соблазнившего двенадцать
чужих жен, мужья которых, узнав об этом, сговорились убить его и уго-
стить изменниц кушаньем из его сердца и «грешивших» частей его тела.
По грубости выражений с этим лэ может соперничать лишь другой, «Сла-
столюбец» («Lecheor»), автор которого уверяет, что все изящные слова
и красивые жесты, которые кавалеры расточают перед дамами, имеют
единственной целью удовлетворение самой низменной чувственности.
Пародию, но^на этот раз не на бретонские романы, а на героический
впос, представляет собою неоконченная поэма «Одижье» («Audigier»,
конца XII в.), один из первых образцов герой-комического жанра.
Одижье — сын графа Тюржибюса, тощего рыцаря с длинной, как у стра-
уса, шеей, такого сильного, что он может пробить копьем крыло мотылька.
144
РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
и его достойной супруги, костлявой и кривой особы с колтуном на голове.
Рождение Одижье сопровождается счастливыми предзнаменованиями —
дружным воем ослицы, старой суки и одноглазой кошки. Выросши, Одижье
становится таким же страшным уродом, как его отец. Его посвящают
в рыцари, и один из его первых подвигов — битва с соседкой, старой
мегерой, которая берет его в плен и подвергает всяким унижениям. Дело
кончается женитьбой героя 'на еще худшем уроде, чем он сам. Повесть
эта имела успех, и имя Одижье надолго стало нарицательным для обо-
значения смешного, захудалого рыцаря.
Расширенным фаблио, перерастающим в плутовской роман, является,
наконец, «Трюбер» Дуэна де Лавен (Douin de Lavesne, «Trubert», сере-
дины XIII в.), в котором описываются озорные проделки «хитрого про-
стака», крестьянина Трюбера. Продав за бесценок корову, он покупает
на эти деньги козу, за которую, искусно раскрасив ее, выручает большие
деньги при герцогском дворе. Следует ряд удивительных переодеваний
Трюбера—-каменщиком, лекарем и т. п., под конец даже девушкой-не-
вестой, с помощью которых он дурачит своих врагов, при случае распра-
вляясь с ними крайне жестоко.
По своему стилю и идейному содержанию очень близок к фаблио
крупнейший памятник городской литературы — «Роман о Рена<ре», эпос
о животных, изображающий проделки хитрого Лиса — Ренара. 1
На ряду с этим центральным героем носителями действия здесь
являются другие звери, в большей или меньшей степени страдающие
от его козней — царь зверей лев Нобль, медведь Брён (Brun), волк Изен-
грим, осел Бодуэн, кот Тибер, петух Шантеклер, курочка Пинта и т. д.
Эта огромная циклическая поэма слагалась, подобно некоторым готи-
ческим соборам, в течение почти полутора веков, со второй половины XII
до конца ХШ1 столетия, причем в создании ее принимало участие не ме-
нее десяти авторов, в большинстве своем анонимных. Всего в «Романе о
Ренаре» насчитывают около тридцати «ветвей» (branches), из которых
одни представляют собой отдельные эпизоды или, по терминологии того
Бремени, «авантюры», другие — сложные отрезки повествования, или части
романа. Иногда две или большее число смежных ветвей принадлежат одному
автору. После того как возникли, в свободной и случайной последователь-
ности, независимо одна от другой, так называемые «старые ветви» романа,
в начале XIII в. появился редактор, который циклизировал весь этот
материал, расставив ветви в определенном порядке (не всегда соответ-
ствовавшем хронологии их возникновения) и внеся в них некоторое со-
гласование. После этого в течение целого века материал продолжал прира-
стать, но уже с учетом новыми авторами того, что было написано до них.
Такая серия наслоений оказалась возможной оттого, что в основе
произведения лежит не цельная и законченная фабула, а неограниченный
ряд эпизодов, объединенных лишь общностью главных персонажей и един-
ством основной ситуации (антагонизм между лисом и другими зверьми).
При этом, как во всяком циклическом произведении, носящем в общем"
характер коллективного народного творчества, каждый из авторов, внося
1 В пору сложения этого романа Ренар (Renard) было только мужским личным
именем. Впоследствии, по причине огромной популярности этого образа, оно стало
именем нарицательным (renard) для обозначения лисицы, вытеснившим старое слово
goupil.
ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА РАСЦВЕТА'ГОРОДОВ
148
Процессия с телом Ренараи
Со старинной гравюры, ивобраяающеи сцены на «Романа о Ренаре* на одноы ив пилонов Страсбуртехого
собора.
свое добавление, чувствовал себя носителем старой традиции и по мере
возможности хранил ее.
Благодаря такой открытой форме композиции, довольно обычной
в средневековой литературе, эта вереница фаблио о животных могла вос-
приниматься как цельное поэтическое произведение. Все же внутри него
наблюдается значительный разнобой. Степень остроты сатиры и напра-
вленность ее меняются от одной ветви к другой. В некоторых ветвях жи-
вотные до конца уподобляются людям: они скачут верхом на конях, штур-
муют замки с помощью осадных машин и т. п., в других они сохраняют
свое звериное обличье. Неодинаков, конечно, стиль ветвей, написанных
различными авторами.
Прямым источником • «Роману о Ренаре» послужили сказки о живот-
ных, зародившиеся еще в эпоху доклассового общества и тотемических
представлений. Встречающиеся у первобытных народов всех частей света
(близкие параллели к «Роману о Ренаре» найдены, например, в негритян-
ском фольклоре), они существуют еще сейчас, в форме пережитков очень
отдаленной эпохи, у большинства народов современной Европы. Так, на-
пример, русские сказки о краже лисицей, прикинувшейся мертвой, рыбы
с воза проезжавшего мужика, о ее совете волку половить рыбу зимой
в проруби, опустив в нее хвост, и т. п. представляют собой точные COUT-
IL История французской литературы—815
146
РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
ветствия некоторым эпизодам французского романа. Без сомнения, и во Фран-
ции (может быть, даже задолго до возникновения французского языка и
национальности) существовали такого рода сказки.которые долгие века быто-
вали в народе, прежде чем подвергнуться письменной обработке. Во вся-
ком случае, мы находим следы их распространенности еще в начале
XII столетия, т. е. по меньшей мере за полвека до первых ветвей
романа.
Однако к этому фольклорному источнику присоединился другой,
книжный, восходящий к греко-римской басенной традиции. Его существо-
вание необходимо признать, в виду наличия в романе образа царя зве-
рей — льва, по понятным причинам отсутствующего в зоологических сказ-
ках европейских народов и весьма обычного в античных рассказах.
В первой половине X в. один анонимный лотарингский монах написал не-
большую латинскую поэму «Ecbasis captivi» («Освобождение узника»),
являющуюся переработкой басни Эзопа об излечении больного льва хит-
рым лисом при помощи снятой с волка шкуры. Эта поэма вдохновила
около середины XII в. другого латиниста, магистра Ниварда из Гента (во
Фландрии), на более обширную поэму «Ysengrimus», в которую, на ряду с ба-
сенными сюжетами, без сомнения включен также материал местных на-
родных сказок, так как здесь уже содержится ряд эпизодов, рисующих
столкновения между волком и лисой. Эта вторая поэма, в которой чув-
ствуется некоторая сатира на церковь и духовенство, вероятно, была
известна авторам первых ветвей, почерпнувших отсюда образ льва и все,
что с ним связано. В общем, роль латинского «Yeengrimus» в1 фор-
мировании «Романа о Ренаре» весьма аналогична той, которую сыграла
хроника Гальфрида Монмутского в возникновении артуровских романов:
он привлек внимание поэтов к сказаниям о животных и стимулировал их
творчество в этом направлении, добавив к этому материалу лишь рамку
в виде двора царя зверей — льва и несколько тесно связанных с ролью
льва эпизодов. Все же остальное, в отношении как фабулы, так и харак-
теров, почерпнуто из народных сказок.
Основная тема романа, проходящая почти через все ветви его, —
борьба хитрого, изворотливого Ренара с грубым и тупым Изенгримом.
Ренар обкрадывает своего противника, подводит его под палочные удары,
всячески глумится над ним, обесчещивает его жену. Изенгрим приносит
Ноблю жалобу на Ренара. Созывается суд, на который обвиняемый бла-
горазумно не является. Мнения судей расходятся, и они уже готовы
оправдать Ренара, как вдруг появляется похоронная процессия: петух
Шантеклер и три курицы везут на погребальной колеснице труп своей
сестры, которую только что задушил Ренар. Рассказав о том, как Ренар
умертвил, одного за другим, всех ее родных, курица Пинта о горя падает
в обморок и ее приходится отливать водой. Жертву Ренара хоронят как
святую мученицу, и «а ее могиле ставят мраморный памятник. Ренара
требуют к ответу. Он долгое время уклоняется, строя всяческие западни
королевским посланцам, наконец, исповедавшись барсуку Гримберу,
является на суд. Здесь он изображает притворное раскаяние и просит,
чтобы ему дали возможность замолить грехи. Ему оказывают эту милость.
Нарядившись 'паломником, он пускается в путь, но на первом же пере-
крестке хватает пробегающего мимо зайца, сбрасывает с себя плащ палом-
ника и глумится над королем. Спасшийся заяц рассказывает обо всем
этом при дворе Нобля, и за Ренаром устраивают погоню. Он успевает
убежать домой, и тогда начинается регулярная осада его замка. Ренар
продолжает издеваться над своими противниками. Однажды, когда они,
ЛИТЕРАТУРА ПЕ Р ИОДА РАСЦВЕТА ГОРОДОВ
147
сильно утомившись, заснули, он
проник в их лагерь и всех их
привязал к деревьям. Проснув-
шихся зверей освобождает улит-
ка, которую Ренар забыл связать.
В конце концов, замок Ренара
взят, но среди общей суматохи
ему удается бежать.
Мотив суда над Ренаром,
со всевозможными вариациями,
несколько раз повторяется в
разных ветвях. В одной из них
рассказывается, что Ренару при-
шлось все же согласиться на
судебный поединок с Изенгри-
мом. По совету своей приятель-
ницы обезьяны Ренар обрил
себе все тело и натерся маслом.
Долгое (время Изенгриму никак
не удавалось его схватить, но,
наконец, он все же укусил Ре-
нара, который от боли упал в
обморок и был признан побе-
жденным. Его хотели уже по-
весить, но монахи выпросили
ему помилование с тем, что Ре-
нар уйдет в монастырь и там
замолит грехи. Ренар в мона-
стыре прикидывается праведни-
ком, но по ночам ловко крадет
кур. Изобличенный в этом и прогнанный из монастыря, он умудряется
снова втереться в доверие к Ноблю и сделаться его фаворитом.
В одной из последних ветвей рассказывается о том, как Ренару уда-
лось на время овладеть престолом. Однажды на царство Нобля напали
враги под предводительством верблюда. Нобль выступил против них в по-
ход, поручив Ренару управление государством и охрану королевы. Тот
изготовил подложное письмо, в котором сообщалось о смерти короля
и его желании, чтобы Ренар женился на королеве и занял престол. Ренар
так и сделал. По возвращении короля между ними началась война, в ре-
зультате которой Ренар попал в плен, однако был прощен Ноблем за то,
что вылечил его от лихорадки.
В «Романе о Ренаре», как и в фаблио, необходимо разграничить са-
тиру и юмор. При самом своем возникновении роман не преследовал са-
тирических целей. Ряженье людей в звериное обличье или, наоборот, пе-
ренесение на животных человеческих чувств и нравов забавляло как
комический маскарад, моментами перерастая в веселую и беззлобную па-
родию на человеческое общество в целом, без подчеркивания каких-либо
специфических сословных черт. При этом открывалась возможность дать
столь характерное для устремлений городской литературы обнаженное
и сниженное изображение человеческой жизни, с обильными нравоописа-
тельно-бытовыми элементами, в дидактико-аллегоричеокой форме. Но на-
чиная приблизительно с. середины романа, социально-сатирический эле-
«Роман о Ренаре». Ренар, проповедывающиЗ
цыплятам.
Декоративная скульптура на хорах Амьенского собора.
148
РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
мент, в скрытом виде содержавшийся в самом материале и отчетливо вы-
ступающий в дополнительном, латинско-басенном источнике, все более
и более раскрывается. Последние ветви романа носят резко обличитель-
ный характер.
Эта перемена соответствует росту в XIII в. самосознания горожан, ко-
торые все решительнее начинают пользоваться литературой как средством
борьбы против феодальной верхушки общества. Направленность сатиры
определяется характерами и ролью главных персонажей романа. Соци-
альная принадлежность некоторых из них дана прямо и непосредственно:
таков король Нобль, придворный проповедник осел Бодуэн, тамбур-мажор
королевской армии петух Шантеклер и т. д. В других случаях тре-
буется расшифровка, обыкновенно очень нетрудная: огромный, ленивый,
с трудом уязвимый медведь Брён—крупный феодал; злой и грубый,
часто голодный, рыщущий в поисках добычи волк Изенгрим — рыцарь
среднего или мелкого калибра; куры, зайцы, улитки и т. п. — простой
люд.
Наиболее сложна фигура самого Ренара, на протяжении всего романа,
в трактовке десятка авторов, далеко не единообразная. В образе Ренара
совмещаются черты хищника^рыцаря и ловкого дельца-горожанина; на
последнее указывают не только его сметливость, деловитость, изворотли-
вость, но и простота его языка и манер, тривиальность, обнаженный прак-
тицизм всего его поведения. Очень характерно при этом, что моральная
оценка его личности в романе двоится. Если в столкновениях его с фео-
далами — Ноблем, Изенгримом и т. п. — симпатии рассказчиков несо-
мненно на его стороне, ибо здесь прославляется торжество ума над гру-
бой силой, то тот же самый Ренар обличается как низкий хищник в тех
•случаях, когда он грабит и душит бедняков.
Впрочем, эти последние, как и в фаблио, отнюдь не всегда предста-
влены беапомощными жертвами. Они нередко и сами проявляют энер-
гию и сметливость, помогающие им восторжествовать над насильником.
Петух, которого Ренар уносит в зубах, учит его крикнуть преследующим
его крестьянам: «Я утащил его наперекоо вам!» Ренар раскрывает рот,
чтобы крикнуть это, и петух спасается. Кот, найдя вместе с Ренаром на
дороге колбасу, вскакивает с нею на придорожный крест и один уплетает
добычу на глазах у Ренара. Даже крошечная улитка берет верх над Ре-
наром. Мы обнаруживаем здесь народную мораль, народную мудрость,
противопоставляющую себя как феодально-рыцарскому, так и буржуаз-
ному началу.
К середине XIII в. «Роман о Ренаре» в основном был закончен.
Однако дальнейшее творчество в этом направлении не прекратилось. Успех
романа был настолько велик (один клирик начала XIII в., Готье де Куанси,
жаловался на то, что монахи читают повести о Ренаре охотнее, чем
жития святых), что, пользуясь готовой схемой, жонглеры сочиняли
новые ветви его, в которых изображали актуальные события своего вре-
мени. Такую замаскированную сатиру представляла собой, пови-
димому, написанная около 1250 г. Филиппом де Новар (Philippe de
Novare) поэма, в которой князь Бейрутский был представлен в виде Изен-
грима.
Со второй половины XIII в. появляется ряд новых вариаций на тему
Ренара, но уже не в виде добавочных ветвей, включаемых в общий запас
коллективного поэтического творчества, а в качестве вполне законченных
крупных произведений, содержащих новую, вполне оригинальную трак-
товку сюжета.
ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА РАСЦВЕТА ГОРОДОВ
149
Такова, прежде всего, поэма «Коронование Ренара» («Couronnement
\de Renard»), возникшая во Фландрии около 1270 г. Здесь социальная
атрибуция Ренара резко меняется. Это — злая инвектива против монаше-
ских орденов и предостережение против них князьям и государям. Ренар,
по совету жены, решает достигнуть престола. Для этого он поступает во
францисканский монастырь, где учит монахов своей «лисьей хитрости»
(renardie). Узнав, что Нобль заболел, Ренар является к нему в качестве
исповедника и внушает ему мысль завещать престол не самому сильному,
а самому хитрому: таков, мол, дух времени. Когда, после смерти Нобля,
вскрывают завещание, Ренар долго отказывается от престола, но все же
под конец соглашается. Ренар правит искусно и мудро: богатым он по-
кровительствует, а бедняков угнетает, соблюдая, однако, при этом уме-
ренность, чтобы не слишком возбудить против себя народ. Отказываясь
от подарков, которые ему приносят, он в то же время велит жене прини-
мать их с заднего крыльца. Слава о Ренаре доходит до Рима, и сам папа
хочет поучиться у него искусству делать из барана священника, из без-
дельника — монаха, из негодяя — епископа.
Около 1288 г. появляется «Новый Ренар» Жакмара Желе из Лилля
(Jaquemart Gelée, «Renard le Nouveau»), в котором сатира распростра-
няется на весь феодально-средневековый строй. В этой поэме, проникну-
той, не без влияния, вероятно, «Романа о Розе», аллегоризмом, действие
сосредоточивается при дворе Нобля. Король посвящает своего сына
в рыцари, причем Ренар и Изенгрим облачают его в аллегорические до-
спехи — панцырь зависти, кольчугу тщеславия, шлем алчности, меч не-
нависти и вероломства. В замке Ренара обитают шесть принцесс — Злость,
Зависть, Скупость, Лень, Сладострастие, Обжорство. Когда Ренар отби-
вает у Нобля его возлюбленную, жену леопарда, между ними начинается
бой на двух кораблях, вооруженных: со стороны Нобля — всякими добро-
детелями, со стороны Ренара — пороками.
Наконец, между 1320 и 1342 гг. один неизвестный клирик из Труа,
сложивший с себя духовный сан и сделавшийся купцом, написал «Пере-
деланного Ренара» («Renard le Contrefait») — гигантскую поэму в 41 000
стихов, в которую он включил свою автобиографию, все свои научные по-
знания, картину мироздания и современного общества, разные анекдоты
и суждения по всевозможным вопросам и т. п. Эта хаотическая «энцикло-
педия», не имеющая особой художественной ценности, является, однако,
важным памятником средневековой мысли, вследствие очень острой
местами критики в ней церковных предрассудков и устоев феодального
общества. Особенно отчетливо выступает протест против хищничества
духовенства и рыцарства. При дворе Нобля решают, что бедняки созданы
для того, чтобы их притеснять. Ренар пытается ловить пташек, пропове-
дуя им покорность и терпение. Он доказывает Тиберу, что за простоду-
шие следует расплачиваться. Вставлен назидательный рассказ о тигрице,
которая предпочла умереть с голоду, лишь бы не есть судейских, ростов-
щиков, монахов и помещиков, — до того они омерзительны ей.
Французские повести о Ренаре имели большой успех у других народов.
Не считая следов знакомства с «Романом о Ренаре» в Италии, Испании,
Англии и т. п., отметим две сохранившиеся переработки ранних ветвей
его — немецкую, Генриха Глихезера (или Глейснера), конца XII в., и
нидерландскую, Виллема, около 1250 г. Эта последняя послужила источни-
ком для нижне-немецкого «Рейнеке-Лиса», переведенного затем на верхне-
немецкий, английский и скандинавские языки. К нижне-немецкой версии
восходит и знаменитый «Рейнеке-Лис» Гете (1793).
180
РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
4
Другим столь же крупным созданием городской литературы, с кото-
рым, по линии аллегоризма и дидактики, скрещиваются последние этапы
эпопеи о Лисе, является «Роман о Розе» («Roman de la Rose»). На этом
произведении переход в середине XIII в. от рыцарских идеалов в лите-
ратуре к идеалам и воззрениям демократическим проявился особенно ясно.
Первая часть романа, которую успел написать в 30-х годах XIII в. рано
умерший Гильом де Лоррис (Guillaume de Lorris), выдержана определенно
в куртуазных тонах. Через сорок лет труд Гильома продолжил и закон-
чил Жан де Мён (Jean de Meung), но уже в диаметрально противопо-
ложном духе.
Гильом де Лоррис рассказывает нам историю возвышенной и нежной,
хотя и не лишенной элемента чувственности, любви. Когда поэту было
двадцать лет, он однажды увидел сон. Ему пригрезилось, что, гуляя < по
берегу реки, он внезапно попал в сад и увидел там необычайной красоты
Розу. В то время, как он любовался ею, Амур пронзил его сердце стре-
лой, и юноша страстно влюбился в Розу, которую он мечтает сорвать.
Ему берется помочь в этом деле Привет, но 'против них выступают Отказ,
Злоязычие, Стыд, Страх. Их усилиями первая атака отбита. Тогда
Привет призывает новых союзников — Великодушие и Сострадание. Но и
Злоязычие пополняет ряды своей армии Завистью, Унынием, Ханжеством
и т. п. Происходит ряд стычек, в результате которых нападающие разбиты,
Привет заключен в башню под надзор злой старухи, и Юноша приходит
в полное отчаяние. Здесь рассказ Гильома де Лоррис обрывается.
Форма сна, в которую облечено повествование, взята из религиозного
жанра видений. Из клерикальной литературы почерпнут аллегорический
способ показа борющихся в мире сил и начал, чрезвычайно соответствую-
щий абстрактному, схоластическому методу религиозного мышления ран-
него средневековья. В средневековой латинской литературе он встречается
уже в «Psychoroachia» («Душевная борьба») Прудекцил (IV в.), где изоб-
ражается борьба персонифицированных добродетелей и пороков, и в дидак-
тической поэме «Брак Меркурия и Филологии» Марциана Капеллы(V в.),
достигая высшего своего развития в «Антиклавдиане» Алана Лилльского
(около 1180 г.). В ХШ в., в связи с сильной волной рационализма в го-
родской литературе и страстью к педантической дидактике, аллегоризм про-
никает и я литературу на французском языке, появляясь в большом числе
произведений, современных «Роману о Розе» или предшествующих ему: в «Ро-
мане о крыльях» Рауля де Удан (Raoul de Houdenc, «Le Roman des ailes»,
начала XIII в.), где рыцарство представлено в образе голубки, у которой
два крыла — щедрость и доблесть ; в «Турнире антихриста» Гюона де
Мери (Huon de Мегу, «Tournoiement d'Antéchrist», 1234), где изображается
рыцарское состязание добродетелей и пороков; в анонимном «Уставе ры-
царства» («Ordene de la chevalerie»), где всем деталям обряда посвящения
в рыцарство придан тайный аллегорический смысл.
В данном случае, однако, аллегоризм и форма видения являются
лишь оправой для развернутой Гильомом теории утонченной любви, при-
чем главными источниками и образцами послужили ему Овидий, трактат
Андрея Капеллана «О любви», первая (наиболее куртуазная) часть «Кли-
жеса» Кретьена де Труа и т. д. Автору нельзя отказать в образован-
ности, наблюдательности, тонкости психологического анализа, изяществе
оборотов мысли и языка. Но все же, хотя труд его получил у потомства
ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА. РАСЦВЕТА ГОРОДОВ
161
высокую оценку, он был решительно превзойден и отодвинут на задний
план второй частью романа.
Жан Клопинель (Clopinel, что значит «Хромец»), обычно называе-
мый Жаном де Мён, обладал редкой по тем временам образованностью.
Известно, что он перевел с латинского языка «Об утешении с помощью
философии» Боэция, переписку Абеляра и Элоизы, «О военном искус-
стве» Вегеция, «Чудеса Ирландии» Гиральда Камбрейского и т. д. Уже
один перечень этих произведений дает представление о широте и разно-
сторонности его интересов. В принадлежащей ему второй части «Романа
о Розе» он часто и к месту цитирует Аристотеля, Платона. Вергилия, Ови-
дия, Горация, Ювенала, Лукреция. Он знает также Роджера Бекона и
многое черпает из сочинений Гильома де Сент-Амур, главы передовой
части профессуры тогдашней Сорбонны. Но еще удивительнее всей этой
учености та оригинальность и смелость критической мысли, которые он
проявил в этсм произведении.
В отношении фабулы и аллегорической формы Жан де Мён идет
вполне по стопам своего предшественника. Продолжая повествование от
того места, на котором остановился Гильом де Лоррис, он рассказывает,
как Разум безуспешно уговаривает Юношу бросить любовь. Появляется
Друг, дающий Юноше добрые советы. Не приводят к цели также наста-
вления Природы. Наконец, в дело вмешивается сам Амур; враги побе-
ждены, Юноша срывает Розу и просыпается.
В этой огромной второй части романа (примерно 18 000 стихов, между
тем как в первой лишь около 4000) главную ценность представляют
длинные (иногда по 1000 стихов или более) вставные рассуждения, вло-
женные в уста Разума и Природы и имеющие характер самостоятельных
дидактических поэм. В целом они образуют своего рода энциклопедию
свободомыслия, побудившую некоторых исследователей назвать Жана де
Мён «Вольтером средневековья».
Поэт смеется над доктриной утонченной платонической любви, ра-
зоблачая истинные побуждения женщин, которые больше всего стремятся
к выгоде и деньгам. Надо, говорит он, предоставить женщинам полную
свободу, потому что, как с ними ни обращайся, они всегда найдут способ
обмануть мужей. Вообще, не следует слишком привязываться к одной
женщине и быть с нею особенно щедрым, ибо это противно природе, со-
здавшей «каждого для каждой и каждую для каждого». Жан де Мён
вздыхает о золотом веке, когда царила свободная любовь, когда не было
ни власти одних людей над другими, ни собственности, ни брака и свя-
занной с ним ревности. Все зло пошло от Язона, который добыл золотое
руно: с тех пор у людей появилась страсть к обогащению, и они устано-
вили королевскую власть, ' чтобы закрепить имущественное неравенство.
Между тем, все люди по природе между собой равны. Глупо, например,
думать, что кометы своим появлением предвещают смерть королей, ибо,
как заявляет Природа, монархи ничем не отличаются от последних бедняков:
«Я создаю их всех одинаковыми, как это видно при их рождении. По
моей воле они все родятся в одинаковой наготе — и сильные и слабые,
и великие и ничтожные: все они равны в моих глазах». Она прибавляет:
ч<Нет подлых иначе, как по своим порокам, и благородство зависит от
доброго сердца, без которото ничего не стоит родовое дворянство. Люди
ученые благороднее королей и князей, потому что о каждой вещи они спо-
собны судить правильно и в состоянии различать добро и зло».
Природа и разум для Жана де Мён — основные принципы всего
сущего, высшие критерии наших суждений обо всех вещах. Надо во всем
189
РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
следовать природе. Пороки плохи потому, что сокращают жизнь человека,
а жизнь — это высший закон природы. Во имя разума и природы поэт
разоблачает всевозможные суеверия, предлагая вместо них научные объяс-
нения физических явлений. Он смеется над верой в то, что бури вызы-
ваются нечистой силой, что некоторые женщины являются ведьмами, об-
ладающими способностью носиться по воздуху. Он объясняет ряд зри-
тельных иллюзий, кажущихся чудесными, вполне естественными оптиче-
скими причинами. Так называемые «чудесные видения», являющиеся
лицам, погруженным в мистическое созерцание, на самом деле — лишь
плод особенного телесного и душевного состояния их, нечто подобное сну.
Автор излагает попутно целую систему эстетики, формулируя до-
ктрину об абсолютной красоте, заключенной в природе и превосходящей
все то, что может создать человеческое искусство. «Если бы, — говорит
он, — Зевксис и все когда-либо жившие на свете художники уразумели
всю красоту природы и попытались воспроизвести ее, то прежде, чем это бы
им удалось, руки отказались бы служить им, так как бог, представляя
собой бесконечно прекрасное, из красоты, которую он заключил в при-
роде, образовал неиссякаемый источник, откуда берут свое начало всевоз-
можные виды красоты, и никто еще не изведал ни берегов его, ни дна».
Из других, более частных моментов, отметим непримиримую нена-
висть автора к нищенствующим монахам, обскурантизм, хищничество
и подлость которых он изобличает в речи введенной им очень вырази-
тельной фигуры Лицемерия.
Конечно, Жан де Мён еще не в состоянии освободиться от схоласти-
ческих терминов и форм мышления, однако в эти рамки он вмещает не-
обыковенно прогрессивные идеи, значительно превосходящие общий уро-
вень сознания его времени. В частности, своим использованием античных
авторов, у которых он берет не только отдельные сентенции, но и общие,
принципиальные мысли, он является отдаленным предшественником гума-
нистов. В натурфилософии Жан де Мён следует преимущественно Ари-
стотелю, в моральной философии — Платону. Но еще больше и. прежде
всего он — выразитель народного духа с его стихийным материализмом,
презрением ко всякой мистике и метафизике, насмешливой и задорной
жизнерадостностью. Своим учением о суверенитете природы, ощущением
ее благости и обличением всего враждебного ей («антифизического») он
предвосхищает идеи и жизнеощущение одного из величайших народных
писателей Франции, Рабле.
Очень сильны также народные элементы в замечательном языке
Жана де Мён, достаточно богатом и гибком как для выражения весьма
сложных философских понятий или научно-технических деталей, так и для ко-
лоритной передачи грубовато-выразительных подробностей обыденной жизни.
Об исключительной популярности произведения Жана де Мён можно
судить по тому, что сохранилось почти триста рукописей его. Впрочем,
успех свой он отчасти должен был разделить с Гильомом де Лоррис, так
как обе части романа читались, переводились и вызывали подражания
по большей части совместно. Противоречие между первой и второй частями
романа воспринималось менее остро, чем то относительное единство,
которое создавалось общим для них обеих светским мировоззрением, пыт-
ливостью анализирующей мысли, энциклопедичностью.
Но в XIII—XIV вв. на своей родине «Роман о Розе» оказывал
влияние преимущественно своими внешними сторонами — фабулой, формой,
аллегоризмом. Одно из типичнейших подражаний ему — «Сказ о пантере
любви» Никбля де Марживаль (Nikole de Margival, «Dit de la panthère
«Роиан о Розе>. Сон Гильома де Лоррис
XIV в.
154
РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
d'amour»), конца XIII в. Поэт унесен во сне птицами в лес, где он видит
множество красивых зверей, в том числе восхитительную Пантеру (т. е.
Прекрасную даму), сладостное дыхание которой дает всем здоровье и
жизнь. Все звери поклоняются Пантере, кроме Дракона (символизирую-
щего зависть). Амур принимает поэта к себе в вассалы и преподает ему
«науку любви». С его помощью поэту удается разыскать исчезнувшую
Пантеру и тронуть ее сердце. Подобно тому как здесь автор заменил
растительный символ «Романа о Розе» животным, так Жан Экар, в пер-
вой половине XIV в., в своих «Любовных шахматах» и «Любовной до-
быче» (охота как аллегория любовных искательств) создал еще более
причудливые системы символов (Jean Aicard, «Echecs amoureux», «Prise
amoureuse»).
Вся эта беллетристическая схоластика стоит, конечно, неизмеримо
ниже своего знаменитого образца, который был оценен по-настоящему
лишь m XV в., на пороге Ренессанса. Тут он находит, на ряду с много-
численными сторонниками, также и противников, «которые, поняв, нако-
нец, всю остроту сатиры Жана де Мён, вступают с ним в полемику,
довольно разнообразную по своим целям и побуждениям: достопочтенный
канцлер Сорбонны и видный проповедник Жерсон — во имя христиан-
ской морали, Христина Пизанская — в защиту «благородных» чувств,
опороченного поэтом женского достоинства и т. п. В XVI в. «Роман
о Розе» издал с большой любовью Клеман Маро, и Ронсар, вообще
весьма холодный к средневековой поэзии, отзывался о нем очень сочув-
ственно.
За пределами Франции роман вызвал ряд переводов и подражаний.
Существует ранний фламандский перевод его. В Англии, где была изве-
стна лишь первая часть романа, в конце XIV в. написал подражание ей
Гоуэр, впрочем полемизировавший с автором и защищавший против него
принципы христианской морали. Одновременно перевод романа начал
Чосер, не доведший свой труд до конца. Наиболее интересны итальян-
ские отражения романа. Здесь в конце XIII в. возникли два подражания
ему — «Сказ об Амуре» и «Цветок» («II) Fiore»), из которых второе
некоторыми критиками приписывается Данте. Знакомство с «Романом
о Розе» заметно отразилось на творчестве Боккаччо («Любовное виде-
ние»), Петрарки («Триумфы») и т. д.
5
Если в рассмотренных выше романах и повестях дидактический эле-
мент очень силен, то в еще более полной и чистой форме он проявляется
в огромном количестве произведений XIIL в., которые можно назвать
дидактическими в собственном смысле слова. В основном, можно разли-
чать дидактику религиозную, моральную и научную (главным образом
естественно-научную), хотя твердую границу между этими тремя видами
ее установить невозможно, так как часто они оказываются внутренне свя-
занными между собой, не говоря уже о том, что иногда они практически
объединяются в произведениях энциклопедического типа.
К дидактике чисто религиозной относятся жития святых, рассказы
о чудесах, легенды. Все эти жанры встречались и в клерикальной лите-
ратуре предшествующих веков, но сейчас они получают литературно более
разработанный характер в смысле усиления в них красочности, новелли-
стического элемента и связей с бытом, конкретными чертами жизни эпохи.
Авторы не обязательно клирики: часто это жонглеры или просто горо-
ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА РАСЦВЕТА ГОРОДОВ
185
жане. Даже в произведениях, проникнутых мистическими настроениями
или чисто аскетической моралью, проступает интерес к формам и крас-
кам живой действительности.
Видное место среди этой литературы занимают стихотворные сбор-
ники «чудес богоматери», возникшие в связи с сильным развитием
в XIII в. культа Мадонны. Самый обширный и значительный из них —
«Чудеса святой девы» Готье де Куанси (Gautier de Coincy, «Miracles de
la Sainte Vierge», около 1230 г.)—54 легенды, составляющие около
30 000 стихов, затем «Чудеса богоматери Шартрской» Жана Ле-Маршана
(Jean le Marchand, «Miracles de Notre Dame de Chartre», около 1240 г.)
и еще несколько анонимных сборников подобного рода. В общем, эти
рассказы отличаются большой наивностью и душевной теплотой. Одного
повешенного разбойника, чрезвычайно почитавшего ее, богоматерь два дня
поддерживает на виселице собственными руками, пока не подоспевают
его товарищи, спасающие его от смерти. В другой раз она является
в темницу к узнику и кормит его своей грудью, чтобы спасти от голод-
ной смерти. Некоторые из этих сюжетов, особенно трогательные и выра-
зительные (иногда почерпнутые из позднейших редакций), были вновь
обработаны писателями новейшего времени. История юноши, обручив-
шегося со статуей, оживает в новеллах Эйхендорфа и Мериме («Венера
Илльокая»). Рассказ о статуе богоматери, сошедшей с пьедестала, чтобы
отереть пот со лба бедного жонглера, который, не зная латинских молитв,
кувыркается перед ней, желая хоть как-нибудь ее почтить, мастерски
обработан Анатолем Франсом («Жонглер богоматери»). Другая легенда
о богоматери дала сюжет пьесе Метерлинка «Сестра Беатриса», изобра-
жающей милосердие девы Марии к павшей и раскаявшейся монахине.
Очень ясна демократическая тенденция этих легенд, проникнутых горя-
чим сочувствием ко всем несчастным и обездоленным, гонимым судьбой
и обществом.
Из новых проникающих в эту пору во французскую литературу
религиозно-назидательных сюжетов наибольшей популярностью пользова-
лась сохранившаяся в целых шести версиях (трех стихотворных и трех про-
заических) повесть о Варлааме и Иоасафе. Это — не что иное, как хри-
стианское переосмысление индийской легенды о Будде (Бодхисатве, от-
куда Иоасаф или Иосафат), переложенной в VIII в. на греческий язык и
ставшей известной на Западе через латинскую обработку ее XII в. Ин-
дийский царь держит своего сына Иосафата о заключении для того, чтобы
он не сделался, как это было предсказано, христианином. Однако слу-
чайная встреча юноши с нищим, прокаженным и дряхлым старцем, от-
крывает ему глаза на невзгоды земной жизни, а беседа с отшельником
Варлаамом окончательно обращает его в христианство. После нескольких
ранних, сухих и бесхитростных пересказов этой истории Ги де Камбре
в первой половине XIII в. обработал ее в форме длинного, очень пыш-
ного и занимательного романа (Guy de Cambrai, «Balaham et Josaphas»,
11 000 стихов). Большим успехом пользовалась также обработанная в
«Житии семи спящих» англо-нормандского поэта Шардри (Chaiidry, «Vie
des sept dormants», начала XIII в.) восточная легенда о семи христиан-
ских юношах из Эфеса, которые, во время преследования христиан при
императоре Деции, скрылись в пещере, заснули там, были замурованы
и затем, через 362 года, снова пробудились здравыми и невредимыми.
Очень развиваются в это время так называемые contes pieux или
contes dévots (благочестивые рассказы, своего рода религиозно-назида-
тельные новеллы), большей частью анонимные, как, например, «Рыцарь
ISG
РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
бочонка» («Chevalier au barisel») — история нечестивого и жестокого ры-
царя, который, во искупление своих грехов, должен до конца дней своих
наполнять водою бочонок, оказавшийся бездонным; «Злой сенешале
(«Méchant Sénéchal»), отразившийся в балладе Шиллера «Суд божий»
(«Gang nach dem Eisenhammer»); «Ангел и отшельник» («Angeet Ermite»),
основная мысль которого (беспомощность человека пред лицом судьбы)
воспроизведена в «Задиге» Вольтера.
В области моральной дидактики в первую . очередь должна быть
упомянута группа сатирико-назидательных рассуждений: «Библия» Гио
де Провен (Guiot 'de Provins, «La Bible»), «Книга о нравах» Этьена де
Фужер (Etienne de Fougères, «Livre des manières»), «Наставление князьям»
Роберта де Блуа (Robert de Blois, «Enseignement des princes»), анонимные
поэмы «Милосердие» («Charité»), «Назидание дамам» («Chastoiement des
dames») и т. д. Черты, общие всем этим произведениям, — жалобы на
упадок доблести и благородства среди князей и рыцарства, на разврат
духовенства, на низость епископов и кардиналов, обманывающих папу и
мешающих ему видеть истинное положение дел, на пороки горожан, на
угнетение сильными мира сего бедняков и мелкого люда. Общие рассу-
ждения, сентенции, выражения чувств чередуются с конкретными иллю-
страциями, примерами, анекдотами.
Появляются многочисленные сборники моральных изречений различ-
ного происхождения: перевод латинских двустиший IV в., ошибочно при-
писывавшихся римскому политическому деятелю и строгому моралисту
II в. до н. э. Катону Старшему («Disticha Catonis»); собрание сентенций,
главным образом из Библии, — «Назидательные пословицы» («Proverbes
de bon enseignement»); сборник народных французских пословиц — «Кре-
стьянские пословицы» («Proverbes au vilain») и т. д.
Моральная дидактика, облеченная в беллетристическую форму, пред-
ставлена анонимным «Романом о семи мудрецах» («Roman des sept Sages»,
конца XII в.)—повестью индийского происхождения, проникшей в За-
падную Европу, как думают, сначала устным путем. Император Веспа-
сиан отдает своего сына от первого брака на воспитание семи мудрецам.
Через семь лет он призывает сына к себе. Мудрецы, однако, прочли
в звездах, что юноша умрет, если в течение первых семи дней по прибы-
тии ко двору отца не будет соблюдать молчание. Императрица, пленив-
шись пасынком, пытается соблазнить его и, когда ей это не удается,
обвиняет его самого в покушении на ее честь. Так как онемевший юноша
не может себя защитить, то в присутствии императора начинается тяжба:
каждый день мачеха рассказывает притчу, вывод из которой — то, что
император ради собственной безопасности должен казнить сына, а один
из мудрецов рассказывает в ответ другую, обличающую женское ковар-
ство и предостерегающую против поспешных решений. На восьмой день
юноша, обретя дар речи, разоблачает козни мачехи.
Другой вариант той же повести (являющийся, вероятно, переводом
латинской обработки Иоанна де Альта-Сильва, начала XIII в.)—также
анонимный роман «Долопатос» («Dolopathos»).
Иного рода дидактикой, весьма архаического типа, является гигант-
ская поэма (72 000 стихов) одного францисканского монаха конца XIII в.,
«Морализованный Овидий» («Ovide moralisé»), в которой пересказ ови-
диевых «Метаморфоз» сопровождается аллегорическим истолкованием их
в христианском духе.
Научно-популярная литература в общем свидетельствует о еще про-
должающемся господстве религиозно-схоластического мировоззрения.
ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА РАСЦВЕТА ГОРОДОВ
157
p»»r-iKrrifK'(rifrtiîw"v'^i
< % V inîiif !t M №ï etftlM
Космография и естествен-
ная история почти полно-
стью подчинены библей-
ским легендам. В лучшем
случае к этому примеши-
ваются некоторые сведения
и объяснения, почерпну-
тые из древних авторов,
но вырванные из контек-
ста, лишенные общей ми-
ровоззренческой основы.
Главная цель таких сочи-
нений — моральная назида-
тельность, единственный
источник — письменная
традиция, которая, чем она
древнее, тем считается до-
стовернее. И все же эти
наивные и хаотические1 про-
изведения говорят о смут-
ной тяге к конкретному
знанию, систематизирован-
ному и могущему найти из-
вестное практическое при-
менение, а в той части их,
которая посвящена устрой-
ству общества, — о наро-
ждающейся социальной
критике, иногда очень
острой и смелой.
Кроме огромного ко-
личества трактатов в сти-
хах и прозе на самые раз-
нообразные частные темы,
возникших в ХШ и пер-
вой половине XIV в.,—
по ботанике, математике, астрономии, медицине, о целебных травах,
о судебных процедурах и обычаях, об искусстве охоты и т. п., — встре-
чается ряд энциклопедических сочинений, охватьшающих многие или даже
все области человеческого знания. В большинстве случаев они заимствуют
свой материал из латинских трактатов, повсеместно в эту пору возникаю-
щих в Европе, вроде знаменитого «Тройного зерцала» Винцентия Бовез-
ского (середины XIII в.).
Такова огромная французская поэма «Картина мира» лотарингского
монаха Готье де Мец (Gautier de Metz, «Image du monde»), составленная
около 1245 г. на основе, главным образом, латинского трактата Говорил
Отенского, под тем же заглавием, а также ряда других латинских сочине-
ний. У этого автора можно найти немало здравых мыслей и толкований,
свидетельствующих о его незаурядной по тем временам образованности.
Он сообщает, что мир имеет форму шара, что небесный свод — разре-
женный воздух, который греки называли «эфиром», что облака образу-
ются из влаги, которую притягивает к себе солнце, что снег и град —
земные «испарения», попавшие в верхний, холодный слой атмосферы, что
Винцентий Бовезский, сидя на кафздре, принимает
короля Людовика Святого.
Миниатюра ив французского перевода «Spéculum Historiale» Жана
Винье (1396 г.).
158
РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
молния происходит от столкновения вихрей, а гром от удара молнии
в облако, что горячие минеральные источники — это воды, которые текли
по подземным пещерам, наполненным серой и пламенем, и т. д. Но на
ряду с этим мы находим у Готье де Мец баснословные рассказы о «чу-
десах мира» — об острове близ Ирландии, где могут жить только муж-
чины и самцы животных, о реке Шабаш, которая перестает течь по суб-
ботам, о деревьях, достигающих облаков, об одноногих циклопах и т. п.
По вопросам устройства человеческого общества автор очень лаконичен.
Он только сообщает, что один афинский мудрец установил деление всех
людей на рыцарей, клириков и пахарей, которое с тех пор утвердилось
навсегда.
Более частный характер имеет трактат по космографии и географии
Пьера—«Карта мира» (Pierre, «Mappemonde», ок. 1217 г.), восходящий
к Солину и тому же Гонорию Отенскому.
Из других крупных энциклопедий была очень популярна прозаиче-
ская «Книга Сидраха» («Le livre de Sidrac»), составленная в середине
XIII в. анонимным клириком в Палестине, по латинским и отчасти араб-
ским источникам, в форме беседы между царем Бактрианы Боктам и муд-
рецом Сидрахом, потомком Иафета. В то время как этот трактат посвя-
щен преимущественно моральным вопросам, более полной и разносторонней
энциклопедией является огромная провансальская поэма Матфре Эрмен-
гау, «Трактат о любви», конца XIII в. (Matfre Ermengau, «Breviari d'amor»,
34 000 стихов), основанная главным образом на «Зерцале» Винцентия
Бовезского. Мы находим здесь полную систему богословия, морали и
естествознания, базисом для которой служит учение о любви, как физи-
ческой («земной»), так и духовной («небесной»), являющейся движущей
силой и источником всего сущего. Многочисленные дошедшие до нас руко-
писи этого сочинения (одна из них находится в ленинградской Публич-
ной Библиотеке им. Салтыкова-Щедрина) открываются чертежом «древа
любви», из которого исходят, в качестве ответвления, человеческие спо-
собности, добродетели, небесные блага и т. п.
Наиболее передовой из такого рода трактатов — «Тайны философов,
или Диалог Плаксида и Тимео» Жана Бонне (Jean Bonnet, «Les Secrets
des philosophes ou le Dialogue entre Placides et Timéo»), возникший в самом
конце XIII в., главным образом, по латинским источникам. Схема — та же,
что и в «Книге Сидраха»: царский сын Пласид задает вопросы, на кото-
рые отвечает философ Тимео (имя, взятое из названия диалога Пла-
тона «Тимей»). Конечно, мы тут встречаем еще немало средневековых
предрассудков. Автор сообщает, что субстанции разделяются на телес-
ные и бесплотные, причем отличие вторых от первых состоит в том, что
они занимают «очень мало пространства»: так, например, в сосуде, вме-
щающем шесть четвериков зерна, может быть заключено 4000 душ. Жи-
вотные обладают душой, но разумом одарен только человек, причем
у женщины его меньше, чем у мужчины: на это указывает самое имя
первой женщины — Eva, что значит extra vadens, т. е. «идущая вне (пра-
вильного пути)». Но в области общественных вопросов автор стоит на
чрезвычайно прогрессивных позициях, и его книга во многих отношениях
может рассматриваться как резкая критика феодального строя в целом.
Замечательно его объяснение происхождения рыцарских привилегий и
налогов: начало рыцарству положил библейский царь Нимрод; он раз-
бойничал по большим дорогам и, захватывая в плен прохожих, держал
их до тех пор, пока они не откупались зерном, скотом и т. п. Наконец,
все решили, что гораздо выгоднее добровольно платить подати.
">d -Ж ■ "
Древо любви из <Breviari d'amor> Матфре Эрменгау
Рукопись начала XIV в., находящиеся в Публичной Библиотеке им. Салтыкова-
Щедрина.
160
РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
Одним из показателей общего высокого уровня научно-философской
литературы на французском языке и репутации, которою она пользова-
лась в Европе, является тот факт, что флорентинец Брунетто Латини
(которого Данте называет своим «учителем»), в годы своего пребывания
в Париже (ок. 1265 г.), написал энциклопедический трактат «Сокровищ-
ница» («Le Trésor») по-французски, ссылаясь на то, что «французский
язык наиболее приятен и доступен для всех».
(»
Очень своеобразно развитие городской лирики, которая, появившись
впервые в конце XII в. и к середине XIII в. совершенно оттеснив лирику
рыцарскую, все же, особенно в начале своего развития, переняла довольно
многое из ее стиля, образности и форм. В XIII в., по преимуществу
в северных и северо-восточных, наиболее промышленных районах Фран-
ции — в городах Аррасе, Дуэ, Турнэ, Лилле — расцветают объединения
поэтов-горожан, созданные наподобие ремесленно-цеховых организаций,
со строгим уставом, постоянным председателем (называвшимся «кня-
зем» —prince) и регулярными поэтическими состязаниями. Эти объеди-
нения поэтов именовались обычно пюи (puys) — от названия старейшего
из таких поэтических кружков, возникшего еще в XII в. в Пюи-Нотр-Дам.
Есть следы очень старинной связи между поэтическими упражнениями
любителей-горожан со столь распространенным в XIII в. культом бого-
матери. Действительно, с самого же начала, при наличии в этой поэзии
темы поклонения идеальной возлюбленной, наблюдается тенденция к за-
мене «прекрасной дамы» девой Марией. В связи с этим кодекс рыцар-
ской чести сменяется кодексом добродетели. Однако религиозный эле-
мент, очень сильный в городской поэзии, хотя и лишенный мистической
окраски, является в ней далеко не единственным и даже не главным. Очень
характерно перерождение в ней рыцарских лирических жанров. Усиленно
культивируется пастурель, но центр тяжести переносится с момента лю-
бовной игры рыцаря и пастушки на изображение простой, радостной
жизни пастухов на лоне природы. Равным образом, в чрезвычайно по-
пулярные jeux-partis проникают мотивы тривиальные и шуточные: Тома
Эрье (Thomas Erier) и Гильбер де Берневиль (Guilebert de Berneville)
спорят о том, пожертвует ли Тома ради ожидающего его богатого наслед-
ства своим любимым блюдом — горохом с салом. Вообще, на ряду с пе-
режитками куртуазной риторики наблюдается эволюция в сторону есте-
ственности и простоты. Все чаще встречаются темы обыденной жизни,
семейные и бытовые подробности, сочный юмор -л сатира на рыцарские
чувства. Наиболее известны из таких «цеховых» северофранцузских поэ-
тов упомянутый выше Гильбер де Берневиль, Одефруа Ле-Батар (Aude-
froi le Bâtard), Жан Бодель (Jean Bodel), автор, между прочим, миракля
о св. Николае, о котором будет речь ниже, поздней героической поэмы
«Саксы» («Saisnes») и знаменитого «Прощания» («Congé»), написанного
им в 1205 г., когда, заболев проказой, он был вынужден покинуть свой
родной город Аррас и семью; далее — Адам де Ла-Аль, о котором
также будет речь ниже по поводу его пьес, и др.
Сходные явления в области лирики, хотя и значительно позднее, уже
в XIV в., наблюдаются в Провансе, где во главе поэтического движения
становится городской патрициат. В 1323 г. в Тулузе семь зажиточных
горожан основывают «Консисторию веселой науки» («Consistori del Gay
saber», или «de la Gaya scienza»), с целью реставрировать, но уже на
ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА РАСЦВЕТА ГОРОДОВ
1G1
новых началах, старинную поэзию трубадуров. Первому «канцлеру» обще-
ства, Гильому Молинье, было поручено составить трактат по грамматике
и поэтике, под названием «Законы любви» («Leys d'Amor»), причем под
«любовью», являющейся источником и основной темой этой поэзии, под-
разумевалась любовь уже не земная, а «божественная». Вскоре начали
устраиваться регулярные поэтические состязания, называвшиеся «цветоч-
ными играми» (jocs florals), оттого что призами на них были серебряные
цветы. Эта поэзия, исключительно религиозная и моральная, культиви-
ровавшаяся почти до самого конца XV в., не создала ничего значитель-
ного вследствие своего тепличного, архаизирующего характера и ото-
рванности от живого народного творчества.
На севере крупнейшим явлением городской лирики было творчество
Рютбефа (Rutebeuf), парижского поэта второй половины XIII в. Профес-
сиональный жонглер, он не принадлежал ни к каким городским объеди-
нениям поэтов и часто писал по заказу разных знатных лиц, никогда,
однако, при этом ие усваивая стиля, навязанного со стороны, и не утра-
чивая своей творческой индивидуальности. Необычайно плодовитый и
разносторонний писатель, сочинявший жития святых, религиозные драмы,
аллегорические поэмы, фаблио (например, упомянутое выше «Завещание
осла»), отдельные ветви «Романа о Ренаре», он, однако, ярче всего про-
явил себя как лирик, чрезвычайно обогативший эту область поэзии и
внесший в нее совершенно новое содержание.
Рютбеф изгоняет из своей поэзии и любовную тему и музыкальное
сопровождение. Он окончательно сводит поэзию с небес на землю, отра-
жая в своих стихах самые тривиальные и интимные стороны будничного
существования, которые у него своеобразно поэтизируются. Этот пред-
шественник Вильона, создатель субъективной и автобиографической лирики
во Франции, с полной откровенностью и почти цинизмом, который смяг-
чается острым юмором, описывает свои домашние невзгоды, слабости и
пороки, мрачные и комические моменты своей жизни. В стихотворении
«Женитьба Рютбефа» («Le mariage de Rutebeuf»), описывая свой второй
брак, он говорит:
Чтоб ненавистникам своим
Доставить радость бытия,
Женился я,
Да на такой, что без меня
Никто и не взял бы ее:
Была она,
Когда женился я, бедна.
Я также сам — бедняк,
А между тем
И не мила она совсем:
Ей пятьдесят уже, затем —•
Она суха.
Невесело у него в доме:
Дверь дома вечно заперта,
Царит в нем всюду пустота,
Он беден, гол.
Порою в нем и хлеба нет:
Вот отчего не домосед,
Конечно, я.
Он не омоет вернуться домой а (пустыми руками из страха перед,
женой. И он восклицает:
Вот жизнью я живу какой 1
Живу надеждою, и в том —
Весь праздник мой.
11 История французской литературы—815
162
РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
В других стихотворениях — «Бедность Рютбефа» («Pauvreté de Rute-
beuif») и т. п. — поэт рассказывает о своей болезни, о болезни жены, жа-
луется на безденежье: нет хлеба, нет дров, и кормилица, которой отдан
на воспитание ребенок, грозит вернуть его, если ей не заплатят. Но когда
у Рютбефа заводятся деньги, он снова становится весел и беспечен:
забыв обо всем, он бежит в таверну, пьет вино с приятелями и играет
в кости, пока не проигрывает всего, до последнего гроша.
Рютбеф — певец не только своей жизни: он откликается на все
происходящее вокруг него, и поэзия его носит особенно живой, злободнев-
ный характер. Рютбеф — создатель публицистической поэзии в ши-
роком и подлинном смысле этого слова. Всякая неправда, лицемерие»
насилие задевают его за живое. В его время в парижском университете
разыгралась борьба между двумя группами профессоров: принадлежав-
шими к белому духовенству, во главе с ректором Сорбонны, либераль-
ным и просвещенным Гильомом де Сент-Амур (тем самым, почитателем
которого был Жан де Мен), и монахами нищенствующих орденов, ста-
вленниками папы. Рютбеф вмешался в эту борьбу и в ряде стихотворений
резко напал на обскурантов. После поражения партии, к которой он
примкнул, Рютбеф добился немалой чести: соответствующие его стихо-
творения, вместе с «еретическими» писаниями неугодных папе профессо-
ров, были сожжены в Риме рукой палача.
Рютбеф — жестокий враг монахов. В одном из своих стихотворений
он говорит: «У нас теперь развелось столько монашеских орденов! Не
знаю, кто их изобрел. Любит ли их бог? Нет, они не из его друзей».
И за этим следует припей: «Ханжи и святоши испортили весь мир».
Рютбеф обличает также и белое духовенство, но при этом он отчет-
ливо различает князей церкви, жирных прелатов, и мелких, особенно
сельских, священников. Он красочно изображает, как один из таких санов-
ников церкви милостиво объявляет бедному священнику, который от него
всецело зависит, что он придет к нему в воскресенье обедать, — и бедняк
разрывается на части, закладывает свою одежду, чтобы выставить гостю
«такие кушанья, которые не показаны в писании». На ряду с духовенством
и монахами, Рютбеф не дает спуску и представителям всех других сосло-
вий — злым и жестоким рыцарям, хищным торговцам, жадным разбога-
тевшим крестьянам. Он с сочувствием изображает жизнь бедных студен-
тов, но тут же не забывает пожурить тех из них, которые лентяйничают,
тратя на развлечения последние гроши, высылаемые им родителями.
В XIII в. среди других жанров, созданных городской литературой»
развиваются так называемые сказы (dits) : обычно это — нравственные
поучения или восхваления, отвлеченного характера или основанные на
каких-нибудь коротеньких рассказах. Рютбеф — один из лучших мастеров
втого жанра, который он освободил от шаблонной назидательности, при-
дав ему характер острых сатирических зарисовок, картин жизни, схвачен-
ных с натуры. Таковы его сказы — «Об университете» («De l'Université»),
«О монашеских орденах» («Des ordres»), «О лжи» («Du mensonge» — на
упомянутые выше темы), «О лицемерии» («De l'hypocrisie» — о папском
Риме), «О лекарственных травах» («De l'herberie» — высмеивание торгую-
щих ими шарлатанов) и т. п.
Очень характерно стихотворение Рютбефа (в форме тенцоны) «Спор
крестоносца с некрестоносцем» («Disputaison du croisé et du décroisé»).
Первый убеждает второго принять, подобно ему, участие в крестовом по*
ходе, приводя банальнейшие доводы в самой общей и бесцветной форме —•
о необходимости послужить богу, отвоевать гроб господень, позаботиться
ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА РАСЦВЕТА ГОРОДОВ
163
о спасении своей души и т. п. Его противник ссылается в ответ на то,
что бог — всюду, и потому можно послужить ему и во Франции, что
безумие влезать в долги и рисковать жизнью, бросив на произвол судьбы
дом, хозяйство, детей. Он говорит:
Ступайте к тем, ступайте смело
Вы тех к походу призывать,
Кто помещается над нами!
Прелаты, клирики должны
Отмстить врагам за бога сами:
Они на то вознесены.
Их жизнь сплошное наслажденье, —
Зовите их, а не меня.
И вдруг, совершенно неожиданно, он сдается: «Вы меня убедили, —>
заявляет он крестоносцу, — и я отправляюсь в святую землю».
В этом финале сказывается незрелость, половинчатость мировоззре-
ния средневековых горожан. Проникнутые здравой житейской моралью»
чуждые мистицизма, уже способные к известным проблескам критической
мысли, они не в силах еще отрешиться от самых основ феодального миро-
воззрения, от власти религиозных норм. Больше того, они декларативно
выдвигают религиозную идею в идеальной и наиболее принципиальной
ее форме, противопоставляя ее тем извращениям, которым' подвергли ее
ханжи, монахи и всякого рода лицемеры.
7
Очень ярко городская литература проявила себя в области драма-
тургии, в связи с переходом <в XIII в. театрального дела из рук духовен-
ства к цеховым организациям горожан и быстро развивающейся страстью
ко всякого рода общественным церемониям, зрелищам, парадам и т. п.
Однако мы вынуждены опираться здесь в гораздо большей степени на
реконструкции или на позднейшие памятники, чем на произведения, со-
хранившиеся от этого времени. Ни к одному отделу средневековой ли-
тературы не применимо до такой степени сказанное во Введении относи-
тельно массовой гибели старых текстов. Пьесы, сочинявшиеся для
определенной эпизодической постановки, не вписывались затем в боль-
шие, сборные рукописи поэтических произведений, будучи, материалом
мало подходящим как для жонглерской рецитации, так и для чтения.
Таким-то образом от всего рассматриваемого нами полуторавекового пе-
риода сохранилось лишь полдесятка пьес, да и то, вероятно, только по-
тому, что авторами большей части их были крупные поэты, прославив-
шиеся в других жанрах, вследствие чего были заодно записаны и их дра-
матические произведения, имевшие небольшой объем.
От литургической драмы XIII в. до нас дошел, не считая совсем
коротенького отрывка лимузинской рождественской пьесы, неполный текст
англо-нормандского «Воскресения» («Resurrexion»), главный интерес ко-
торого заключается в том, что диалог здесь обрамлен рассказом чтеца.
Нет, однако, сомнения в том, что на протяжении всего XIII в. религиоз-
ная драма широко культивировалась, все более и более насыщаясь при
этом светскими элементами, чем подготовлялся позднейший расцвет ее
в форме так называемых «циклических» мистерий.
Все же ее заметно оттесняет в XIII в. новый, зарождающийся в это
время жанр мираклей (miracle, буквально — «чудо»), внешнее отли-
чие которых от литургической драмы заключается в том, что сюжеты их по-
черпнуты уже не из священного писания, а из благочестивых легенд о деве
164
РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОЭЬИ
Марии или о святых. Поскольку эти легенды носили менее строго церков-
ный характер, допуская примесь элементов романтическо-авантюрных, бы-
товых и т. п., выросшие из них пьесы, почти с самого начала ставившиеся и
исполнявшиеся горожанами, притом не в церкви, а на городской площади,
с довольно пышной бутафорией, живописными костюмами и соответствую-
щими приспособлениями, очень рано стали отдаляться от своей религиозно-
идейной основы и все более проникаться светскими элементами.
Старейший из дошедших до нас мираклей, «Игра о св. Николае»
(«Jeu de saint Nicolas») Жана Боделя, самого конца XII в., уже обнару-
живает такую двойственную природу. Христианский рыцарь, попавший в
плен к сарацинам, тщательно хранит под плащом статую св. Николая.
На вопрос «языческого» царя об ее свойствах рыцарь сообщает, что,
между прочим, она может охранить любое сокровище от воров. Царь
решает проверить эту способность св. Николая и, поставив его статую
в свое казнохранилище, удаляет стражу. В ту же ночь казну дочиста
обирают воры, которые затем делят награбленное, идут в харчевню, пьют,
веселятся там, играют в кости. Утром, обнаружив пропажу, царь хочет
казнить рыцаря, но тот выпрашивает оторочку и молится св. Николаю,
который сходит с (небес, самолично разыскивает воров и за шиворот
приводит их во дворец вместе с уцелевшей у них на руках казной. Убе-
дившись в силе христианского святого, царь крестится, а рыцаря отпус-
кает с почетом на родину. Здесь чисто религиозные моменты, изображен-
ные с той шутливой фамильярностью, которая так характерна в этих слу-
чаях для наивной веры средневековых людей, чередуются с жанровыми
•сценками, свидетельствующими о стремлении городского зрителя увидеть
в театре подлинное и красочное изображение реальной жизни.
Другой сохранившийся от этого времени миракль принадлежит Рют-
бефу. Это — «Миракль о Теофиле» («Miracle de Théophile»), восходя-
щий к восточной легенде и представляющий собою первую известную нам
литературную обработку сказания о продаже человеком своей души дья-
волу, позже обработанного в немецкой народной книге XVI в. о докторе
Фаусте, в драме Кальдерона «Маг-чудодей» и т. п. Теофиль, казначей
одной церкви, из скромности отказался от чести быть избранным в епи-
скопы, но потом пожалел об этом, тем более, что новый епископ, избран-
ный вместо него, стал жестоко его притеснять. Пылая жаждою мести и
стремлением к власти, Теофиль вступил в сделку с дьяволом, давшим
ему за это могущество и богатство. Но когда настал срок платежа, он
испугался, раскаялся и обратился к заступничеству богоматери, которая
спасла его от дьявола, вымолив ему у Христа прощение. Изображение
душевных переживаний Теофиля в первой части пьесы полно психологи-
ческой правдивости и глубокого драматизма. Во второй части встречаются
ярко комические черточки: например, дева Мария, пытаясь силой отнять
у дьявола роковую грамоту, восклицает: «Вот я намну тебе бока!»
С течением времени, как показывают позднейшие миракли, религиоз-
ный элемент в них совершенно выветривается, и они развиваются по
двум путям — как мещанско-морализирующая и как рыцарско-авантюрная
драма. Это с ясностью видно в анонимном сборнике сорока «Чудес бого-
родицы» («Miracles de Notre! Dame»), написанных в конце XIV в., в зна-
чительной степени на основе рассказов Готье де Куанси, но, без сомнения,
имевших драматические прообразы уже ранее, до Столетней войны.
В целом ряде таких пьес мы находим изображение скромного мещан-
ского существования, гущи жизни, ее изнанки и дрязг. В одном из ми-
ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА РАСЦВЕТА ГОРОДОВ
103
раклей горожанка по имени Гибур, доведенная до отчаяния болтовней
соседей о том, что она будто бы состоит в любовной связи с мужем
своей дочери, убивает зятя, невольного виновника грязной сплетни. Ее
присуждают к сожжению на костре, но богоматерь гасит костер и дает
возможность несчастной искупить свой грех примерной жизнью. В дру-
гой пьесе молодая мать оставила дома без присмотра своего младенца,
который захлебнулся в корыте. Ее обвиняют в детоубийстве, но богома-
терь доказывает ее невинность. Во всех этих случаях вмешательство бо-
гоматери выглядит малозначительным аксесуаром, а на первый план вы-
двигается изображение бытовых подробностей, конфликтов, душевных драм.
О другой линии развития может дать представление миракль о мар-
кизе де Ла-Годин. Маркиз, муж героини, уехал на войну, оставив свою
молодую жену на попечение дяди. Тот сам в нее влюбился и, будучи от-
вергнут, обвинил ее в том, что она вступила в связь с замковым карликом.
Получив письмо с таким сообщением, муж прислал домой приказание
казнить маркизу. Все приготовления уже сделаны. Накануне казни через
эту местность проезжает рыцарь Антенор, возвращающийся из Пале-
стины, где он поклонился гробу господню. Он слышит от местных жите-
лей о приключившейся здесь беде и припоминает, что он знал маркизу,
когда она была еще девушкой; более того, она когда-то спасла ему жизнь
тем, что, когда его обвинили в желании соблазнить королевскую дочь,
она объявила его своим «поклонником», чем исключалась возможность
его любви к другой женщине. Первое побуждение Антенора — выступить
в защиту маркизы, вызвав на бой обвинителя, но в следующее мгновенье
он начинает сомневаться: не впадет ли он в грех, вмешавшись, быть мо-
жет, в неправое дело? Тогда с небес сходит богоматерь и говорит ему:
«Маловерный! Ведь когда она защитила тебя, у нее не было доказа-
тельств твоей невинности. Как же тебе не стыдно теперь колебаться?»
Антенор едет в замок, вызывает на поединок дядю маркизы, побеждает
его на «божьем суде», и молодая женщина оправдана.
В другом миракле, об Отоне, короле Испании (сюжет, обработанный
позже Шекспиром в драме «Цимбелин»), муж спешит домой, чтобы убить
свою точно так же ложно обвиненную жену, но за час до его приезда
богоматерь предупреждает королеву о грозящей ей опасности. Молодая
женщина бежит, затем блестяще доказывает свою невинность, и ее счаст-
ливая жизнь с мужем восстанавливается. Здесь религиозный элемент
имеет еще более внешний и показной характер, чем о пьесах на мещанские
темы. Если бы в первом случае вмешательство богоматери было заменено
заговорившим в Антеноре голосом его совести, а во втором — предупре-
ждением со стороны слуги, преданного королеве, ничто в содержании обоих
этих мираклей не изменилось бы.
В мираклях XIII—XIV вв. мы уже обнаруживаем некоторое уменье
обрисовывать конфликты и ставить психологические проблемы, находим
довольно хорошо намеченные характеры, выразительные подробности об-
становки действия, живой диалог. Всем этим основы светской драмы были
прочно заложены.
От XIII в. до нас дошли также и первые образцы комедийного твор-
чества. Отдельные комические черточки или короткие сценки бывали
вкраплены еще в литургическую драму, а в мираклях они уже занимают
весьма значительное место. Однако господствующие формы театра, — те,
которые пользовались покровительством духовных и светских властей, —
до середины XIII в. продолжая оставаться по существу или формально
16в
РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
религиозными, относятся с глубокой враждебностью к собственно коме-
дийному творчеству, являющемуся достоянием низового, народно-жон-
глерского театра. Из этого родника самодеятельного, импровизованного
фарсово-балаганного театра кое-что внедрялось в религиозную драму, как
своего рода допускавшийся в нее дивертисмент. Иногда такие сценки не
имел л никакого сюжетного отношения к основной, серьезной пьесе и встав-
лялись в нее в качестве «начинки» (лат. farsa), откуда и происходит их
название—фарсы (фр. farces). Образцом таких фарсов является
дошедшая до нас пьеска «Мальчик и слепой» («Le Garçon et l'Aveugle»,
около 1270 г.), где изображаются проделки мальчика, который водит
слепого нищего. Возможно, что таким же вставным фарсом была другая
пьеска начала XIII в. — «Куртуа д'Аррас» («Courtois d'Arras»), комиче-
ская разработка на современном материале евангельского рассказа о блуд-
ном сыне. Некоторые критики, впрочем, считают, что это произведение
предназначалось не для постановки, а для рецитации одним или двумя
жонглерами, подобно «Окассену и Николет». Позже, в XV в., этим фар-
сам суждено было блестящее развитие в качестве обособившихся, широко
развернутых пьес. Что же касается 'комедиографии XIII в., то тут наи-
более интересны две самостоятельные, единственные во всей французской
литературе до XV в. небольшие комедии, написанные Адамом де Ла-
Аль во второй половине XIII в. Одна из них, названная «Игрой в бе-
седке» («Jeu de la feuillée»), вероятно — по характеру сцены (эстрада
среди листвы), на которой она исполнялась, представляет собой нечто
вроде «обозрения» без определенного сюжета, где автор выводит себя,
своего отца (изображенного им изрядным скупцом), жену, земляков в
более или менее комических положениях. Обстановкою служит местная
аррасская ярмарка, где появляются странствующий монах со своими обя-
зательными «реликвиями», шарлатан-лекарь, пытающийся вылечить су-
масшедшего, веселые собутыльники в таверне, водящие за нос монаха,
и, наконец, три феи, приглашенные, согласно народному обычаю, на
праздник и предсказывающие Адаму его судьбу. В целом — смесь легкой
сатиры злободневных бытовых зарисовок и феерии, образующая веселый,
яркий, в основном — остро-реалистичеакий спектакль.
Вторая пьеса Адама де Ла-Аль — «Игра о Робене и Марион» («Jeu
de Robin et Marion») — остроумная и изящная драматизация темы пасту-
рели, в которой нравы и быт пастухов изображены с большой правдиво-
стью. Пастушке Марион с трудом удается отбиться от наглого ухаживания
рыцаря Обера, которого она отвергает ради своего возлюбленного, па-
стуха Робена, и пьеса заканчивается веселыми майскими играми и пляс-
ками любящих и их друзей на лоне природы.
Комедия эта была написана Адамом в Неаполе и поставлена около
1285 г. при дворе правившего там французского принца Карла Анжуй-
ского. Если, таким образом, она была первоначально задумана как при-
дворный спектакль, это нисколько не определило ее стиля, для которого
характерна правдивость в изображении нравов и быта пастухов, свобода
оценок, большая простота и непосредственность общего тона. Пьеса эта
свидетельствует не о подчинении творчества городского поэта аристокра-
тическим тенденциям, а наоборот — об уступках, которые рыцарство де-
лает новым, демократическим веяниям. Она иллюстрирует также ту пре-
обладающую роль, которую играет во всей городской литературе этого
«периода народная мораль, образность и тематика.
ГЛАВА II
ЛИТЕРАТУРА ВРЕМЕНИ СТОЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ
середины примерно XIV столетия феодальная верхушка
французского общества вступает в полосу кризиса. На
многих участках общественной жизни горожане оттес-
^^ няют светских и духовных сеньеров. Но одновременно
народная масса, и в первую очередь крестьянство, все
чаще и сплоченнее начинает выступать в защиту своих
попираемых прав. Грозные ноты начинают раздаваться
^ в ходе истории. Горожане уже не только опираются в
||Ш|||| борьбе с феодалами на народ, но нередко уже и сами
44 ополчаются против народных масс, становящихся все
более и более опасной для них общественной силой. В XIV в. они реши-
тельно выступают на защиту своих социальных интересов и стремятся рас-
ширить свои права, под руководством купеческого старшины Парижа
Этьена Марселя, и в то же время помогают феодалам подавить восстание
доведенных до крайности и возмутившихся против своих угнетателей кре-
стьян— Жакерию (1358). Таким образом, если феодалы теряют некото-
рую часть своих прежних позиций, то и круг влияния горожан на широ-
кие народные массы несколько суживается, а с другой стороны усили-
вается в некоторых отношениях контакт более имущих городских гоупп
с феодалами.
Феодалам приходилось мириться с новой обстановкой, и они ста-
рались извлечь максимальные выгоды из своего социального положения,
не пренебрегая даже какой-нибудь придворной должностью. Дело, впро-
чем, не обошлось без борьбы с их стороны. В XIV в., при Филиппе Кра-
сивом (1285—1314), Людовике X (1314—1316) и Филиппе V (1316—
1322), недовольные образовывали областные лиги борьбы; но они не
имели успеха. В начале XV в. движение возобновилось в связи с ду-
шевным заболеванием Карла VI (1380—1422). В 1440 г. реформы
Карла VII (1422—1461) вызвали возмущение, в котором на ряду с круп-
ными феодалами принял участие сам дофин, будущий Людовик XI. Но
главные очаги движения, Пуату, Овернь, Бурбонне, были скоро разгром-
лены при поддержке городов, и порядок восстановлен.
Между тем, материальное благосостояние значительных слоев рыцар-
ства, в условиях развивающегося денежного хозяйства, оказалось подо-
IG8
РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
рванным. Феодал искал выхода в войне и грабеже; грабил на войне, гра-
бил в мирное время купцов, проезжавших его владениями, крестьян, на
него же работавших; взимал незаконные поборы со своих же подданных,
и этим занимались все, начиная от знатного сеньёра и кончая рядовым
дворянином. Столетняя война (1337—1453), эта последняя фаза давней
борьбы (с 1154 г.) между Францией и Англией, возникшей на почве
экономических интересов и феодальных счетов, окрылила было надежды
рыцарства; она создавала как будто благоприятную обстановку для воз-
рождения «славных» традиций феодала. Но, в конечном итоге!, война ни-
чего не дала феодалу; она, наоборот, убедила каждого в том, что пора
феодального сепаратизма «миновала.
Вплоть до Карла V война носила феодальный характер: в ней не
было единой линии; она рассыпалась на ряд дробных, местных операций.
Филипп V и Иоанн II посылали английскому королю Эдуарду III (1327—
1377) вызовы, назначали место и время встречи, как будто дело шло
о каком-нибудь турнире. В битвах три Креси (1346), Пуатье (1356)
и Азинкуре (1415) не столько думали о результате, сколько состязались
в храбрости и молодечестве. Свою собственную пехоту рыцарство давило
с презрением. Оно либо стремилось отличиться, либо грабило, не пони-
мая значения происходящего, шока Карл V не показал, как следует ра-
зумно вести борьбу, а простая крестьянка, Жанна д'Арк, не раскрыла ее
смысла, не) напомнила о существовании родины, защита которой предста-
влялась ей как веление свыше. Война феодальная уступила место нацио-
нальной, и это позволило в кратчайший срок изгнать англичан из Фран-
ции и очистить путь развитию государства нового типа, национального
с абсолютной королевской властью, сохраняющей, однако, весьма многие
социальные привилегии старых господ положения.
Крупные феодалы теряют свою политическую самостоятельность;
одни — раньше, другие — позже. Позже — тот круг родственников коро-
левской династии, который со времени Людовика IX стал располагать
огромными земельными владениями и бывал нередко сильнее самих ко-
ролей Франции. Бургундские герцоги являлись типичными представите-
лями феодалов этого типа. Последних было не так много, но в их руках
находились такие домены, как герцогства Бретань, Анжу (с Меном),
Берри (с Овернью и графством Пуату), герцогство Бурбонское, графства
Алансон (с Першью), Ла Марш и т. д., и многие из этих маленьких го-
сударей разделяли точку зрения бургундского герцога Карла Смелого,
воскликнувшего однажды, что он хотел бы, чтобы во Франции был не
один, а шесть королей.
В этой среде более, чем в уже успевшей оскудеть старой феодаль-
ной, еще возможны были приливы энергии и проблески жизнеспособ-
ности. Вот почему именно здесь находили себе поддержку запоздалые па-
негиристы рыцарской идеологии, подогретой событиями Столетней войны.
Но эта пора не только обновляла старые традиции; еще в большей
мере, незаметно для самих названных выше феодальных групп, условия
времени перевоспитывали их. Совершенно естественно поэтому и рыцар-
ская литература этого столетия, при всей своей связи с рыцарской лите-
ратурой классического периода, во многом отличается от нее.
Героическая эпическая поэма умерла уже в XIII в. В XIV в. мы
видим только переделки древних поэм, поздние продолжения или под-
ражания им. Из рук труверов они переходили теперь в руки служилых
певцов, менестрелей-министериалов, профессионалов, состоявших на
службе у того или иного феодала и трактовавших их с оттенком некото-
ЛИТЕРАТУРА ВРЕМЕПН СТОЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ
169
рого снисхождения и даже презрения. Эти новые хранители эпико-герои-
ческого предания перерабатывали его по-своему, в духе интересов тех,
кому они служили и старались угодить.
К концу XIII в. закончился и период расцвета куртуазного романа
в стихах. «Мелиадор» Фруассара производит впечатление анахронизма
и, повидимому, не нашел подражателей. Перестают появляться и новые
стихотворные авантюрные романы. Вообще говоря, традиционные жанры
в том виде, какой они имели да XIV в., почти исчезли из литературного
оборота.
Большая часть их подверглась перестройке. Остатки героического
эпоса, «бретонский» роман, авантюрный роман обращаются к прозе. Про-
заические переделки chansons de! geste, вроде «Юности Гарена де Мон-
блан» («Enfances die Garin de Monglane»), обычно растянуты и бледны;
некоторые из них интересны уже только потому, что они являются пере-
работкой не сохранившихся до нас древних поэм. Такова, например, про-
заическая история «Лойе и Мальяр» («Lohier et Maillart»), составленная
в 1405 г. правнучкой Жуанвиля, герцогиней Маргаритой Лотарингской.
Жан Аррасский, секретарь герцога Иоанна Беррийского, ввел в литера-
туру народное сказание о Мелюзине (ок. 1390 г.), ставшее благодаря
ему международным достоянием и сохранившееся до наших дней. Около
1400 г^ (вероятно, в Анжу) по еврофранцузской обработке XII в. англо-
саксонская сага о короле Горне была переложена в прозу, подлинные
имена были заменены новыми, и переделка была озаглавлена автором
«Понтус и Сидония» («Pontus et Sidoine»).
Одно из центральных мест в ряду литературных жанров занял так
называемый dit, dittie —«сказ», развившийся уже в XIII в. Содер-
жание этих небольших поэм в XIV в. бывало самым разнообразным: di t
мог иметь назидательный, описательный, повествовательный, шутливый
характер. Почти все крупные писатели XIV в. культивировали этот жанр.
Широкое развитие получила теперь и лирика. И в этом случае, «ах
в dit, мы имеем дело не с новыми, а обновленными формами. Отличие
новой лирики от старой — в отборе форм и в тематическом диапазоне.
Лирика XII—XIII вв. имела возможность широкого использования
традиционных французских и провансальских форм. Лирика XIV в. за-
мыкается в ограниченном кругу их; он заполнен тем, что французы на-
зывают «фиксированными», т. е. твердыми, формами. Рондо может со-
стоять из большего или меньшего числа стихов, его стих — из большего
или меньшего числа слогов, оно может быть простым и двойным, но
схема его остается всегда одной и той же, а именно: АВааЬАВ, где
АВ обозначает запев-припев, а а и ab — текст рондо. То же самое можно
сказать о балладе, состоящей из трех строф с рефреном и заключи-
тельной полустрофой (с тем же припевом), называемой envoi (посыл-
кой), т. е. обращением к лицу, которому адресовано данное стихотворе-
ние, начинающееся словом «prince» — причем лицо это никогда не назы-
вается по имени. К балладе формально примыкает «королевская песнь» —■
chant royal, отличающаяся от баллады только тем, что она имеет пять
строф вместо трех. С рондо связан в и р е л е (virelai), строфа которого
имеет только больший объем и который сближается с балладой, если эта
строфа повторяется трижды (откуда название таких виреле — chanson
balladée). Особняком от этих двух групп форм стоит третья, лэ, имеющая
довольно сложное и своеобразное построение. Лэ состоит из 24 строф
различного объема и размера, рифмически и риторически связанных по-
парно, причем последняя пара воспроизводит в точности схему первой.
170
РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
Две первые группы форм — народного происхождения: прототипы
баллад и рондо XIV в. проникли в литературу уже в XIII в. (Адам де
Ла-Аль). В основе своей и те и другие — плясовые песенные формы. Роль
лириков XIV в. свелась к приданию им большей формальной четкости
и созданию из их элементов новых комбинаций. Что касается лэ, то он
был первоначально, по всей вероятности, музыкальной формой, и источ-
ники его следует искать среди церковных (песнопений, аналогично по-
строенных. Наконец, мотеты представляют собой насквозь музыкальные
композиции.
Тематика новой лирики является той ее стороной, которою она наи-
более отличается от старой. Подобно тому, как это наблюдалось в отно-
шении dits, лирики XIV—XV вв. совершенно свободно трактовали жанр.
Если лирика классического периода была посвящена почти исключительно
любовной тематике, то в лирике данного времени, правда, попрежнему
отводящей много места любовным переживаниям, они перемежаются
с мотивами дидактики в самом широком смысле этого слова, от научного
поучения до морального назидания, с мотивами религиозными, изобра-
жениями событий из личной жизни автора или из его окружения. Корот-
кое рондо превращается иногда в эпиграмму; широко развертывающийся
лэ содержит более обстоятельное изложение мыслей поэта по тому или
иному поводу; баллада или chant royal становится одой; виреле облекает,
благодаря своей музыкальной форме, самые разнообразные лирические
переживания автора. Если мы прибавим к этому, что лирическое стихо-
творение может превращаться иногда в весьма бытовую реалистическую
миниатюру, то характеристику отличительных черт новой лирики по от-
ношению к старой можно считать исчерпанной.
Отметим еще два крупнейших жанра данного периода. Это, во-пер-
вых, ряд поэм эпического склада, написанных по поводу современных со-
бытий или деятелей. Сюда относятся: «Битва тридцати» («Combat des
Trente») неизвестного автора (1350), изображающая бой тридцати! бре-
тонцев против тридцати англичан, обширная поэма Кювелье (Cuvelier),
посвященная описанию подвигов коннетабля Франции Бертрана Дюгек-
лена (1348?), антифранцузская «Поэма о подвигах Бургундцев» («Geste
des Bourguignons»), сочиненная во Фландрии в 1411 г. Все эти произве-
дения написаны внешне в стиле chansons de geste и с этой стороны пред-
ставляют собой интересную попытку героизировать современность в духе
седой старины и ее эпических песен, архаика манеры которых казалась
все еще непревзойденным образцам высокого героического тона.
Еще более видное место занимает в XIV в. историография. Можно
сказать, что она является не только одним из наиболее излюбленных жан-
ров, но и одним из тех, которые культивировались с наибольшим успехом.
Для эпохи, насыщенной событиями, исторической по преимуществу, это
вполне понятно. Но историография для нее еще во многом — литература,
начиная с формы. Жан Ле-Бель (Jean le Bel), предшественник Фруассара,
пишет свою нескладную, мрачную хронику событий 1329—1361 гг. в сти-
хах; Гильом де Машо тоже в стихах рассказывает нам в своем «Взятии
Александрии» («Prise d'Alexandrie») историю кипрского короля Петра
Люаиньяна (ум. 1369 г.); в стихах написана и «Хроника Черного принца»
Шандо (Chandos). Также и Фруассар начал писать свою знаменитую
хронику в стихах; это была дань прошлому. Но XIV век был слишком
прозаичен и трезв, и если он отдавал предпочтение прозе в таких формах,
как эпическое сказание или роман, то тем более естественно было обра-
титься к ней в хронике или в исторической биографии. Вторая редак-
ЛИТЕРАТУРА ВРЕИЕКИ СТОЛБТНБ0 ВОЙНЫ 171
Прибытие Фруассара ко двору Гастона Феба, графа Фуа.
Миниатюра ва «Хронжжн» Фруассара (XV в.);
ция первой книги Фруассара сделана уже в прозе, и прозой же написано
Христиной Пизанской ее жизнеописание Карла V.
Сделаем некоторые выводы из сравнения традиционных жанров фео-
дальной литературы с тем, во что превратил их XIV век.
Увядающее рыцарство перестает быть подлинной жизнью; оно стано-
вится пережитком, формой, смысл которой утрачен. Обновление стиля
chansons de geste не в силах возродить их дух, и поэмы типа «Битвы
тридцати» производят впечатление искусственности, риторизма, которое
смягчается только патриотическим подъемом автора. Там, где его нет,
как в имитациях крупных эпических композиций, остается одно подража-
ние. Герой перестает быть живым человеком, хотя он и проделывает все,
что ему полагается. Его заслоняет обстановка, форма, которую рыцарь
XIV в. ценит особенно высоко. Рыцарство для него — турнир, праздник,
пышность и великолепие. За торжественным столом во время пира, над
жарким из павлина дают торжественные обеты, и Жак де Лонгьан
(Jacques de Longuyon) увековечивает этот момент в «Обетах павлина»
(«Voeux du paon»), написанных им около 1313 г. для льежского епископа
и крупного феодала Тибо де Бар. Роман этот (формально — продолже-
ние старого романа об Александре) пользовался совершенно исключи*
тельной популярностью.
От увлечения формой только один шаг до ее переоценки. Рыцарская
лирика XIV в. отличается крайним формализмом. Внимание поэтов при-
172
РАНПЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЬ
влекают трудные рифмы и их комбинации, сложно построенные строфы.
Эсташ Дешан приводит все это в систему, которую он обстоятельно из-
лагает в своем «Art de dictier» (1392, в прозе), первой средневековой
поэтике, посвященной французской поэзии. С особой похвалой отзывается
Дешан о балладах, которые можно читать нормально и в обратном по-
рядке, о балладах с «эхо», об акростихах и т. п. «Баллады с рифмами
двусмысленными, идущими вспять и двусловными» являются для этого
трезвого и даже несколько сухого поэта «наиболее значительными из всех
возможных». Дешан смотрит на эту затейливую форму как на образец
высокого поэтического мастерства. Совершенно исключительную ценность
имеет это и в глазах теоретиков XIV—XV вв., авторов (многочисленных
трактатов о так называемой «второй риторике», т. е. о поэзии. Лирика
превращалась в словесную игру, ограничивалась определенными формами.
Так думал и основатель новой поэтической школы Гильом де Машо. Но
Машо был выдающимся музыкантом, и его «новые стихи» могут быть
оценены надлежащим образом только в связи с сопровождающей их му-
зыкой. Весь смысл его реформы (впрочем, намеченной уже некоторыми
его старшими современниками) — в сближении поэзии с музыкой, т. е.
в возвращении к отправной точке развития средневекового лиризма. Отсюда
и предпочтение плясовых форм, баллады, рондо, к которым обратились
лирики нового стиля. В них связь с музыкой была обязательной, в силу
чего самое словесное построение их было музыкальным, тогда как этого
нельзя сказать про старые формы.
С течением времени баллады, рондо и т. п. снова оторвались от му-
зыки. Дешан отдает в своей поэтике предпочтение «естественной музыке»,
т. е. слову, перед музыкой «искусственной», т. е. тем, что мы называем
просто «музыкой». Но схемы нового лиризма продолжали прочно сохра-
нять следы своего происхождения.
Характерные жанры литературы XIV—XV вв., dit и лирика, тесно
связаны с современностью: их тематика переполнена современными моти-
вами и охотно отзывается на них. Исторические работы опять-таки
связаны с современностью: хроники изображают текущие события или
события, непосредственно с ними связанные; биографии посвящены круп-
ным деятелем современности: французскому королю Карлу V, маршалу
Бусико и т. п.
Но dit, как и лирика, раскрывают перед нами еще одну особенность
этой литературы — стремление автора выразить свое отношение к совре-
менности и современникам, по-своему оценить их; они позволяют нам за-
глянуть в область их интересов и симпатий, их разнообразных душевных
переживаний. Литература эта по-своему критична и субъективна. От-
сюда — рост в ней рефлектирующего и дидактического момента.
Изменился, между прочим, самый тип поэта. Некогда это был тру-
вер; теперь это — «риторик», и искусство его — не «песня», и еще менее
«поэзия», с которой на французском Парнасе познакомились в эпоху Ре-
нессанса, а «вторая риторика». Это новое обозначение поэзии было из-
вестно уже Гильому де Машо, который в прологе к своей «Поэме о саде»
(«Dit du verger») говорит о поэзии, как о «риторике», и, набрасывая свою
программу поэзии, характеризует формы ее, как «новые стихи» («vers nou-
veaux»), как стихи нового, до той поры неупотребительного типа.
Был ли Машо первым, употребившим термин «риторика» в смысле
поэзии или нет, мы не знаем, но нам известно, что он является основа-
телем новой школы, как Эсташ Дешан является ее теоретиком. Термины
«риторика», «риторик» стали, таким образом, обозначением целого на-
ЛИТЕРАТУРА ВРЕМЕНИ СТОЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ
173
правления в литературе, нового отношения к ней. Поэзия стала «второй
риторикой», так как «первая» была прозаической. Тем самым она превра-
щалась в науку наподобие первой; для нее также должны были суще-
ствовать или, во всяком случае, быть созданы свои правила и законы,
которым надо было учиться. Это подымало старую поэзию-песню на из-
вестную высоту, а от поэта требовало мастерства, выучки. Но самая
точка зрения стала возможной потому, что поэт фактически переставал
быть прежним певцом и работа его приобретала иной характер. Старый
тип певца уступал место новому, человеку грамотному, книжному, и если
не вышедшему из рядов клириков, то многое усвоившему от них выходцу
из городской среды. Пристав ко двору какого-нибудь феодального сень-
ера, такой поэт приносил в новую обстановку свои привычки и вкусы
и начинал прививать их дворянской среде как последнее слово литера-
туры. Таковы Машо, Дешан, Фруаосар, Христина Пизанская, Ален
Шартье и другие поэты XIV в. Это образованные представители город-
ских групп в роли выразителей феодально-рыцарской идеологии своего
времени.
Через них в envoi рыцарской баллады попало обязательное «Prince»,
которым оно начиналось и которое говорит о влиянии поэзии (Городских
литературных организаций, п ю и, председатели которых носили этот ти-
тул и упоминались всегда участниками поэтических состязаний в заклю-
чительной полустрофе-обращении представленных на конкурс стихотво-
рений. Распространенный в городской литературе XIII в. аллегоризм стал
излюбленным методом изложения писателей XIV в. и получил огромное
распространение в произведениях самого разнообразного содержания, не
исключая галантной лирики. Так, например, «Любовный спинет» («Espi-
nette amoureuse») и «Прекрасный куст молодости» («Joli buisson de jeunesse»)
Фруассара представляют собой не что иное, как отрывки воспоминаний
писателя о своих юных годах.
С середины XIV в. мы имеем дело уже с литературой в современ-
ном смысле слова, а «риторик» становится писателем в современном по-
нимании этого термина. Анонимные памятники литературы являются
теперь исключениями. Автор XIV—XV вв. старается сохранить свое имя
потомству: он знает себе цену, он нередко сообщает читателю различные
подробности своей биографии и охотно делится с ним своими взглядами
на тот или иной вопрос, то или иное событие. Это уже четко очерченная
личность, которая не тонет в массе других ей подобных; и вот почему
история литературы от изложения по жанрам, начиная с XIV в., пере-
ходит, естественно, к изложению по отдельным значительным писателям.
S
Таких значительных писателей не очень много. Большинство из них
было очень плодовито; ко среди них мы тщетно будем искать талантов,
подобных Данте, Петрарке, Боккаччо или Чосеру, их современникам.
Феодальная знать выдвинула ряд поэтов-дилетантов, положивших на-
чало жанру альбомной лирики. Поэтам-профессионалам и в условиях
поддержки со стороны этой среды жилось не всегда легко и просто. Почти
каждый из них — Mainjo, Дешан, Христина Пизанская — мог бы рас-
сказать о том, как горек чужой хлеб и как тяжело «подыматься по чужим
лестницам».
Во главе «новой литературы» ставят обычно Гильома де Машо. Один
из трактатов о «второй риторике» XV в. характеризует Машо как поэта*
174
РАННИЕ CnfffflFEBEKOBbB
положившего начало новым формам. На самом деле это не вполне точно:
в действительности путь лирической поэзии был проложен уже до него
его земляком Филиппом де Витри (Philippe de Vitry), имя которого Де-
шан приводит как одно из славных имен Шампани, и скромным, мало-
известным Жанно де Лекюрель (Jeannot de Lescurel), писавшим на рубеже
XIII и XIV вв.
Успех Машо (Guillaume de Machaut, род. ок. 1300 г., ум. в 1377 г.) —
это прежде всего успех направления, которое он представлял. Впрочем,
славой своей он обязан немало своему музыкальному таланту полифониста,
лишь в последнее время надлежащим образом изученному. В ту пору, когда
искали обновления лирической поэзии в ее истоке, музыке, сочетание му-
зыкальных и поэтических способностей в одном лице было как нельзя
более кстати. В области лирики Машо создал школу, влияние которой
можно проследить вплоть до Ренессанса. В своих dits он мало оригина-
лен. Как рассказчик он посредствен, в выборе тем для любовных контро-
верз он недостаточно изобретателен. Вопрос о том, кто несчастнее — дама
ли, возлюбленного которой унесла смерть, или рыцарь, которому изменила
дама его сердца, принадлежит к числу старых, избитых вопросов галант-
ной казуистики. Наиболее интересной поэмой Машо является его «Поэма
о действительно случившемся» («Voir dit»), т. е. рассказ о подлинном
происшествии, под которым следует разуметь любовь поэта, уже на склоне
лет, к какой-то зашифрованной им юной красавице, повидимому поль-
щенной ухаживанием знаменитости и потому кокетничавшей с Машо.
Роман, как и следовало ожидать, оборвался. Возможно, что не все в рас-
сказе Машо — вымысел, как это хотели доказать некоторые критики; но
обстоятельство это, может быть, и не имеет большого значения. Гораздо
важнее сам dit, представляющий собой первый образчик психологиче-
ского романа, героями которого являются современные люди, сам автор.
Машо использовал при построении своего романа прием включения в него
лирических стихотворений и писем, которыми обмениваются герой и ге-
роиня. Первое — не ново: аналогичные лирические вставки мы встречаем
в романах XIII в. Письма же являются новшеством, и тем более инте-
ресным, что прием этот не нашел в свое время подражателей; лишь че-
рез несколько столетий французские романисты обратились к нему, во
времена, когда уже никто не читал Машо и не помнил о нем. Его ново-
введение осталось незамеченным.
Параллельно профессионалу Машо выступают лирики-дилетанты,
представители того «высшего света», который, не владея пером сам, ве-
роятно нередко обращался к услугам Машо, а позже и других представи-
телей риторического искусства, поручая им высказать свои сердечные
переживания в изящном рондо или галантной балладе, украшенных всеми
соблазнами искусно переплетенных рифм, музыкальных ритмов и столь
плонявших воображение людей XIV в. аллегорических образов. Ранним
памятником этой альбомной поэзии светских дилетантов является «Книга
ста баллад» («Livre des cent ballades»)—сборник лирических пьес не-
скольких авторов, из которых главным является Жан де Сен-Пьер Сене-
шал (Jean de Saint-Pierre Sénéchal), прозванный так оттого, что он был
сенешалом графства Э (Eu). Тематика сборника принадлежит области
столь популярной тогда в феодально-рыцарских кругах любовной
казуистики: деруо идет о разрешении проблемы — что выше, верность ли
одной даме или непостоянство. Решение этого вопроса заполняло затянув-
шийся невольный досуг четырех основных участников сборника, отправив-
шихся в крестовый поход и попавших в 1386 г. в плен к египетскому сул-
ЛИТЕРАТУРА ВРЕМГНИ СТОЛЕТПЕЙ ВОЙЯЫ
17 S
! !
тану, который задержал их
в Каире. По возвращении во
Францию, они организовали 1
опрос на указанную тему [;
среди представителей вые- Щ
шего общества и устроили
по этому поводу поэтическое
состязание, воспользовавшись 11
для этой цели празднествами Щв
по случаю пребывания Кар-
ла VI в Авиньоне. Четыр- Ц
надцать галантных сеньеров |
выступили со своими отве- Щ
тами, которые вместе со сти- Щ
хотворениями четырех узни- I
ков султана составили «Книгу f
ста баллад».
От Машо линия разви-
тия тянется вплоть до так
называемых «великих рито- |
риков», о которых речь будет 1
в следующей главе. Важней-
шие фигуры в этом ряду —
Фруассар, Дешан, Христина
Пизанская, Шартье.
Фруассар (Froissait, род. щ|
ок. 1337 г., ум. после
1404 г.)—едва ли не круп-
нейший представитель фран-
цузской литературы XIV в.
Последователь Машо, он начал с поэтических опытов во вкусе своего учи-
теля, написанных им для различных меценатов, королей и крупной знати,
французской и английской. Так появились на свет его лирика, его пастурели
и ряд dits, в которых он умел сохранить равновесие между галантно-алле-
горической манерой Машо и своей природной склонностью изображать
вещи, как они есть. Но все это было слишком мелко, ограничивало круг
наблюдений^ между тем, Фруассар обладал ненасытной жаждой впечат-
лений, и как художнику ему было тесно в этих малых формах. Общение
с рыцарским миром, поездки за границу пробудили в этом горожанине
из французской Фландрии интерес к богатой и красочной жизни замков,
дворцов и их обитателей — и, оставив свои dits, он принялся за авантюр-
ный рыцарский роман «Мелиадор» («Méliador»), изображающий беско-
нечную вереницу приключений и подвигов, совершаемых с целью завое-
вать любовь и руку королевской дочери. Это роман, вся ценность и весь
смысл которого заключаются не в сюжете, а в обстановке, в деталях
и аксесуарах. Но сама современная жизнь была еще богаче содержанием
и красками. Время, в котором событиям, казалось, не было конца, захва-
тило Фруассара сильнее, чем самые могучие взлеты фантазии, и сделало
его своим бытописателем. Так появилась на свет прозаическая «Хроника»
(«Chronique») Фруассара, обнимающая события от 1325 до 1400 г., над
которой он работал, начиная с 1370-х годов и почти до самой своей смерти.
Четыре книги ее составляют не только лучшее, что вышло из-под пера
Фруассара, но и одно из самых замечательных произведений XIV в.
Жан Фруассар.
С портрета в Аррасской библиотеке.
176
РАВНЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
Фруассар — певец рыцарства. Он может быть в одинаковой мере на
стороне англичан и на стороне французов. Его родина — это рыцарство,
феодальное дворянство, какое бы оно ни было. Он увлечен им, он разде-
ляет его достоинства и его предрассудки. Его социальные родичи, горо-
жане, для него — существа низшего порядка, а тем более — народ, кре-
стьянство. У Фруассара ограниченный ум, но зоркий глаз, а потому хро-
ника его похожа на огромный авантюрный роман, в котором только хро-
нология объединяет безгранично богатый материал. Фруассар не критик;
но он старается быть добросовестным и объективным. Он стремится по-
лучить материал из первых рук, он предпринимает для этого далекие
поездки, разыскивает очевидцев и расспрашивает их сам. Он может отри-
цательно относиться к народным движениям, но он никогда не станет
оттого преуменьшать их значение, и крестьянские революционные движе-
ния во Франции, Англии (Уот Тайлер) или Фландрии изображаются
им с обычными для него вниманием и обстоятельностью.
Эсташ Дешан (Eustache Deschamps, прибл. 1346—1406) является
одним из тех представителей образованных горожан, которые пристраива-
лись к влиятельным дворам, обслуживали их литературно и в то же
время делали при их посредстве служебную карьеру. Дешан получил не-
плохое образование, — он учился в соборной школе в Реймсе и затем изу-
чал право в Орлеане. Его учителем в области литературы был Машо,
возможно, его родственник, к школе которого он и примкнул. Будучи по-
жилым человеком, Дешан написал две крупные аллегорические поэмы, в
одной из которых он изображает Англию и Францию; другая, «Зерцало
брака» («Miroir de mariage»), представляет собой аллегорическую сатиру
на брак. Но большая часть его литературного наследия — мелкие формы,
и прежде всего баллады. Он мастер миниатюры, которую он посвящает,
однако, не одним только любовным переживаниям — в известной части,
вероятно, не своим, — а самой разнообразной тематике, начиная от изоб-
ражения деталей личной жизни до мотивов социальной сатиры, от па-
триотических призывов до осмеяния каких-нибудь модных увлечений.
Придворный поэт не убил в Дешане трезвого художника-реалиста, не-
сколько утомляющего своим постоянно недовольным тоном, но не лишен-
ного наблюдательности и способности просто и нередко очень искусно
заставить свою маленькую балладу служить большой задаче. Но в этом
искусстве — и его слабость, так как никакое мастерство часто не в со-
стоянии ослабить впечатление диспропорции темы и ее выражения.
Христина Пизанская (Christine de Pisan, род. в 1364 г., ум., вероятно,
вскоре после 1429 г.), итальянка по происхождению (она была дочерью
Томмазо Педзано, врача и астролога Карла V) и француженка по своим
вкусам и интересам, является образцам того, что может дать культура
при малом писательском таланте, особенно если она сочетается с глубокой
искренностью чувства. Нужда сделала Христину писательницей; ей по-
могло хорошее образование, знание языков, и она скоро выбралась на
дорогу. Она овладела литературной техникой и стала обслуживать своих
знатных меценатов, как это делали ее учителя, т. е. она писала любов-
ные рондо и баллады в манере Машо, сочиняла всевозможные «сны»
и аллегории в прозе и стихах и составляла биографии исторических дея-
телей. Ее форма проста и как будто дается ей легко. Но Христина довер-
чива и гораздо менее критична, нежели Дешан, гораздо легче поддается
увлечению внешними впечатлениями, кал это видно, например, по его изоб-
ражению той социальной группы, интересам которой она служит. Если
же что-либо и вызывает eet отрицательную оценку, то протест ее выли-
'fy£n (autant mrc««ntfi«ft^a: |^^а«0*{&$ф<одЭс6хп»
p îjîntu îjmCfou* teig>« «I /Ыктш
1 ** 3a- ^uff««ta?«*tî^«««*4fie
4M" i / ' , As*** en trfbmimiу£к&<щ>и®
Христина Пизанская подносит свои стихи Изабелле Баварской.
Миниатюра иа рукописи стихотворений Христины Ливанской ^начало XIV в.)
12 История французской литературы—815
178
РАВНЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
вается в мягкие формы упреков, жалоб или сожалений и никогда — в
формы негодования "или резкого слова. В одном только случае голос ее
начинает звучать живее и взволнованнее, а именно на страницах, посвя-
щенных женщине и ее «хулителям», которых со времени Жана де Мён
развелось во французской литературе немало. Против них Христина про-
тестует! горячо и энергично. Таков тон ее рифмованного «Послания богу
любви» («Epître au dieu d'amour»), открывшего контроверзу по «жен-
скому вопросу» (1400—1402), в которой точка зрения Христины нашла
целый ряд влиятельных и авторитетных защитников. Но Христина не
ограничилась одной полемикой. Ее «Книга о трех добродетелях» («Livre
des trois vertus») дает формулировку взглядов автора на воспитание: жен-
щины и. ее роль! в семье, причем внимание Христины (привлекают столько
же женщины из высшего общества, сколько и женщины простого происхо-
ждения и скромного общественного положения.
Другой группой произведений Христины, в которой она проявляет
свои чувства с известной горячностью, являются некоторые ее сочинения
на политические темы, вроде «Сожалений» о бедствиях, причиненных
гражданской войной («Complainte»,, 1410) или «Книги о мире» («Livre de
paix», 1413J, где она выступает в роли защитницы аристократического ре-
жима, критикует демократические движения своего времени, сожалеет
о разъединении Франции. Взволнованным приветствием Христина, как
добрая француженка, отозвалась на первые победы Жанны д'Арк. Эти
стихи, написанные писательницей в монастыре, куда она укрылась от
невзгод личной жизни, являются, по всей вероятности, последними стро-
ками, вышедшими из-под ее пера.
Крупнейший из профессиональных писателей этой группы — Ален
Шартье (Alain Chartier, род. в 1385 г., ум. ок. 1435 г.). Нотарий и се-
кретарь Карла VII, он принадлежит к числу писателей, вышедших ив го-
родской среды, получивших солидное по тому времени образование и
оставивших нам ряд прозаических произведений (политические речи) на
латинском языке, которые отличаются неплохим стилем, свидетельствую-
щим о начитанности автора в латинской литературе и его увлечении Се-
некой и Цицероном. Но литературную славу Шартье составили его фран-
цузские сочинения. Число произведений, действительно ему принадлежа-
щих, невелико: это прежде всего «Книга о четырех дамах» («Livre des
quatre dames») и «Безжалостная красавица» («Belle dame sans merci»),
две поэмы, в которых он отдал дань времени, аллегорическому методу
изложения и вкусам той среды, которой служил. Но эти-то дебаты на
тему о том, которая из четырех дам несчастна — та ли, чей возлюбленный
погиб в бою или взят в плен, та ли, чей любовник пропал без вести или
бежал с поля битвы, эта обработка избитой темы о жестокой даме, погу-
бившей влюбленного в нее рыцаря, и выдвинули Шартье в глазах его
современников на первое место среди поэтов. Банальность содержания
«Книги о четырех дамах» скрашивается только тем, что действие ее поста-
влено в связь с битвой при Азинкуре и что в стихах поэта звучит чув-
ство обиды за унижение родины. В связи с этим он пытается несколькими
годами позднее отыскать виновника переживаемых Францией бедствий
и пишет свою прозаическую «Инвективу в форме диалога четырех»
(«Quadrilogue invectif»), в которой тему эту обсуждают Франция, рыцарь,
народ и духовенство. С обвинением рыцаря выступает народ, и за его
горячей речью чувствуется солидарность с ним автора. Но политические
симпатии последнего все же на стороне дворянства, а о том, каким он
хотел бы его видеть, свидетельствует его «Бревиарий дворянина» («Зг*-*
ЛИТЕРАТУРА ВРЕМЕНИ СТОЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ
179
viaire des nobles»), который в положении традиционного кодекса уже вно-
сит гтошравки, продиктованные требованиями современности. Дополнением
к высказанным здесь взглядам Шартье может служить сделанный им в
форме писем перевод одного современного латинского трактата «De vita
curiali»—'«О придворной жизни» («Le curial»); эта критика на жизнь
двора и придворных написана со знанием дела и большим моральным
подъемом. Однако Шартье попрежнему продолжали ценить как автора
«Безжалостной красавицы».
А между тем «Инвектива» свидетельствовала несомненно о посте-
пенном расширении кругозора автора и его внутреннем росте. Но значе-
ние Шартье не только в этом. Как бы высоко ни оценивать стих Шартье,
сделавший его наиболее авторитетным поэтом до появления Клемана
Маро, не следует забывать, что его прозаические произведения занимают
совершенно исключительное место в литературе. Это — французская проза,
уже почти нашедшая свое выражение, переставшая быть беспомощной
и запутанной. Придать стиху плавность и сделать его послушным ору-
дием формулировки мысли было легче, так как до Шартье была проде-
лана в этом отношении большая подготовительная работа. В прозе это
было труднее. Здесь не было своих авторитетов; приходилось исходить
из латинской прозы. Отсюда латинизация лексикона, известный риторизм
и имитация периодов Цицерона. Но все это было неизбежно. Важно было
то, что новый путь был найден и что он уже успел привести к положи-
тельным результатам.
Линия дилетантизма приводит нас к Карлу Орлеанскому (Charles
d'Orléans, 1394—1465). Но этот дилетант — не только образованный че-
ловек с тонким вкусам, a и подлинный поэт, владевший своим искусством
с мастерством профессионала. Мы отнесли его к рассматриваемому пери-
оду, во-первых потому, что его стихи, написанные в английском плену,
К:у/да он попал после (Азинкура и где! он пробыл целых двадцать пять лет,
созданы им в отрыве от Франции и ее литературной жизни и, следова-
тельно, являются продолжением лирики XIV в.; во-вторых потому, что
И все, написанное им в последующие двадцать пять лет после возвращения
на родину, создано им в условиях ухода в личную жизнь, вне влияния со-
бытий, происходивших между 1400 и 1465 гг.
Карл Орлеанский связан со школой Машо: у него те же формы, те
же аллегорические образы, на ряду с характерными книжными деталями
и реминисценциями из канцелярского стиля. Только тематика его ограни-
чивается почти исключительно любовными мотивами. Но он пишет не
ради заработка, и у него много досуга, чтобы отделывать свои изящные
лирические безделушки. Благодаря наличию подлинного таланта, он ока-
зывается поэтому лучшим мастером «риторической» школы, и если он за-
поздал в основных своих тенденциях, то он в то же время понятен и бли-
зок нам более Машо и Христины из-за прозрачности языка и искренности
чувства, хотя и облеченного в крайне условную форму. Все эти черты
его поэзии сказались с особой силой в той группе его стихотворений, кото-
рые были написаны после 1440 г., т. е. по возвращении на родину, когда
Карл замкнулся в своем Блуа, куда стекались все, кто интересовался в ту
пору литературой или хотел принять участие в устраиваемых поэтом-
меценатом поэтических состязаниях, без различия ранга и социального
положения, от Рене Анжуйского, короля Неаполя, и до бедного, сбив-
шегося с пути парижского школяра, замечательного поэта Франсуа
Вильона.
180
РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
3
Если обстановка для литературной работы и развития литературных
интересов складывалась в годы Столетней войны неблагоприятно для кру-
гов феодальной знати и дворянства, то тем более неблагоприятной была
она для городского населения. Города имели теперь мало защитников,
но зато очень много врагов, начиная с феодальных сеньеров, сводивших
с ними счеты за прошлое и стремившихся по возможности обессилить их.
Насилия и грабежи, которым они подвергались со стороны феодалов,
вымогательства и преследования, которые им приходилось терпеть, де-
лали жизнь городов иногда совершенно невыносимой, и она замирала.
Такие условия не только не могли способствовать их культурному росту,
но, наоборот, совершенно парализовали его. И все-таки литературное
творчество в городах не иссякало, устремляясь главным образом по руслу
развлечения или, еще чаще, поучения. Вопросы технического или мораль-
ного порядка в особенности привлекали к себе внимание городских лю-
дей того времени, дававшего столь часто поводы к размышлениям над
современным обществам, его устоями, и убеждавшего в важности расши-
рения круга знаний, являющихся важной силой в социальной борьбе.
Отсюда в городской литературе того времени — новое усиление сатиры
и дидактики. Они не чужды и литературе рыцарства; но наиболее круп-
ные произведения этого рода вышли из городских кругов.
Иногда сатирический и образовательный моменты сочетаются в од-
ном и том же произведении, которое бывает, таким образом, трудно отне-
сти к тому или иному жанру. Очень банальны по мысли и тягучи беско-
нечные «Паломничества» («Pèlerinage de la vie humaine», «Pèlerinage de
l'âme» и т. п., 1331—1358) цистерцианского монаха Гильома де Дигюль-
виля (Guillaume de Digulleville), стремившегося парализовать влияние
второй части «Романа о Розе», его слишком критичного и светского тона.
С «Парижским домостроем» («Ménager de Paris», 1392—1394) мы спу-
скаемся снова на землю. Автор, какой-то неизвестный нам парижский го-
рожанин, человек в летах, поучает свою молодую жену морали и упра-
влению домашним хозяйством. «Домострой» этот является ценнейшим
дополнением к «Поучениям дочерям» («Livre pour l'enseignement de ses
filles»), составленным Ландри де Ла Тур Ландри (Landry de La Tour
Landry, ок. 1425 г.). Это назидательное произведение провинциального
дворянина является такой же прекрасной книгой о жизни французской
провинции, как «Парижский домострой» — о жизни зажиточных кругов
парижских горожан XIV в. «Поучение» знакомит нас с целым рядом ти-
пичных персонажей эпохи, так как автор в целях назидания охотно поль-
зуется личными воспоминаниями. В «Домострое» перед нами — среда и бы-
товая обстановка, нарисованная автором с большой обстоятельностью и
знанием дела. Отметим язык обоих этих произведений, без особых пре-
тензий, но выразительный и близкий к живой речи.
Мы не будем подробно останавливаться на отдельных работах спе-
циального характера, посвященных военному искусству или охоте, вопро-
сам финансовым или астрологии. Они свидетельствуют о росте интереса
к тематике этого рода и, что особенно характерно, о включении ее в про-
изведения, преследующие чисто литературные задачи. Небезынтересно от-
метить также факт появления этой технической литературы и в фео-
дально-рыцарской среде, где подбор ее тем, конечно, несколько иной,
более отвечающий запросам данного социального круга. Вполне естест-
ЛИТЕРАТУРА ВРЕМЕНИ СТОЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ
181
венно, что и там и туг эти специальные сочинения прибегают иногда к
аллегорической форме, столь распространенной в XIV в.
Так шла работа на двух наиболее активных участках городской
литературы XIV в. Старое мешалось здесь с новым; с традицией пере-
плетались искания нового. Но в общем итоге работа шла вяло. Еще бо-
лее скудны результаты ее на других участках. Здесь перед нами в боль-
шинстве случаев полное увядание или, как в феодально-рыцарской среде, —
топтание «а одном месте. Лирика городских организаций влачит жалкое
существование и не обновляется. Фа1блио уже около середины XIV в. от-
мирают. О героическом эпосе в городской среде можно говорить только
как о жанре, заимствованном из чужого репертуара, который больше за-
нимал, чем увлекал. К числу разновидностей этой формы принадлежит,
между прочим, имитация chansons de geste, с героями более поздних
исторических эпох или совершенно вымышленными. К работе этого рода
приложила свою руку и городская среда, естественно, по-своему перера-
батывая материал, чтобы приблизить его к своим вкусу и пониманию.
Когда автор «Гуга Капета» («Hugues Capet») делает короля Гутона сы-
ном парижского мясника, у нас не остается ни малейшего сомнения от-
носительно того, в каком социальном кругу могло родиться это своеобраз-
ное объяснение политики союза короля с горожанами.
Особое место занимает театр, развитие которого ради цельности изло-
жения будет рассмотрено в следующей главе. Наконец, некоторого внима-
ния заслуживает клерикальная, иначе говоря, «ученая» литература.
В XIV—XV вв. церковь начинает шататься внутри. Представители
ее давно перестали заботиться о пасомых; паства становится для них все
более и более предметом эксплоатации; клириками, не исключая монахов,
овладевает страсть к стяжанию; церковные должности превращаются в
феодальную ренту; абсентеизм духовных лиц становится обычным явле-
нием. А рядом с этим образование духовенства все более и более падает.
Работа перелагается на низшие слои духовенства, которого нехватает
в такой мере, что множество приходов не имеет священника, а между тем
сельское духовенство нищает и культурно все менее отвечает возлагаемым
на него обязанностям. Не забудем, что отмеченный процесс происходит
в обстановке Столетней войны и жестокой социальной борьбы. В итоге
духовенство, морально разлагающееся, теряет свой авторитет; паства те-
ряет фактически связь с церковью; руководство научной работой начи-
нает ускользать из ее рук. И в то же время церковь, представлявшая со-
бой некогда крупнейшую политическую силу в государстве, перестает
быть ею. Учитывая переживаемое церковью состояние, королевская власть
накладывает на нее свою руку, отрывает от папы и ставит фактически
в непосредственную зависимость от себя, придавая ей национальный фран-
цузский характер (Буржская прагматическая санкция 1438 г.).
Церковь теряет, таким образом, важнейшие свои позиции и перехо-
дит на те, на которые стало переходить и феодальное дворянство. Духов-
ное лицо перестает быть учителем нравственности в глазах даже широких
народных масс. Религиозное чувство, не находящее себе удовлетворения
в традиционной церковной организации, ищет его в личном опыте, лич-
ной набожности. В области науки усиливается критика, оперирующая
иногда старыми методами, а следом за этим идет упадок влияния теоло-
гии и схоластики. Образование и наука начинают распространяться все
шире и секуляризируются. Говоря о писателях феодальной знати и писа-
телях-горожанах, мы все время вынуждены отмечать их связь со школой,
их начитанность, знакомство с латинским языком. Король Иоанн, сын
182
РАННЕЕ СРЕДПЕВЕКОВЬВ
его — герцог Беррийский — собирали вокруг себя писателей и устраивали
библиотеки. Карл V был ученым и любил окружать себя учеными. Чте-
ние, коллекционирование рукописей становилось явлением обычным как
в замке, так и в городе. Вполне естественно поэтому, что религиозная
литература на французском языке уступает место светской, и тип писа-
теля XIV—XV в. — это тип светского клирика. Литературные произве-
дения этого времени пересыпаны цитатами или ссылками на писателей
древности и трактуют охотно об «ученой всякой всячине».
Но особенно любопытны и исторически ценны новые тенденции, ко-
торые объединили теперь писателей светского и церковного лагерей. Эти
новые тенденции — усиление интереса к классической древности, самой
по себе, вне той пользы, которую она может принести теологии или. схо-
ластической науке. Об этой стороне античности во Франции забыли уже
давно и настолько крепко, что XIII век вместо оригиналов античных пи-
сателей довольствовался сборниками и энциклопедиями, которые, как ка-
залось, достаточно полно отражали в себе то, что было ценного в памят-
никах древности. Петрарка, посетивший Францию в 1361 г., вызвал,
правда, изумление своей латинской речью и античными реминисценциями,
о которых в Париже не слыхали, но тот же Петрарка говорит, что он
встретил во Франции нескольких ученых, которые с большой любовью
относились к античности и изучали античных писателей. К числу таких
людей он относит Пьера Берсюира (Pierre Bersuire), переводчика Тита
Ливия.
Но Берсюир был не одинок. В эти годы и несколько позднее, в на-
чале XV в., появляется небольшая группа ученых, занимающихся изу-
чением античной литературы. К ней принадлежат Жан де Монтрейль
(Jean de Montreuil), увлекавшийся Цицероном, Вергилием и Теренцием,
а также и Боккаччо, Гонтье Коль (Gontier Col). Оба они были королев-
скими секретарями и нотариями; Жан де Монтрейль был также королев-
ским секретарем и ттрево в Лилле. Мы видели, что Ален Шартье зани-
мался латинской литературой и сам писал по-латыни. Возможно, что
у него были связи с этими ранними поклонниками классической древно-
сти. Ряд других были церковными людьми; таковы — знаменитый пропо-
ведник XIV в. Жан Жерсон (Jean Gerson), Пьер Коль (Pierre Col), Ни-
кола Кламанж (Nicolas Clamanges) и некоторые другие. Это были первые
намеки на гуманизм. Для них характерно обращение к первоисточнику;
но они еще не могли овладеть им так, как овладели им Петрарка
или Боккаччо. В них еще не мало от прошлого, от схоластики и старого,
практического понимания древности, так как они слишком люди своего
времени. Отсюда их энергичная работа над переводами классических про-
изведений. Мы уже говорили о Берсюире. Бошан (Beauchamps) перево-
дит Сенеку, Николь Орем (Nicole Oresme) — Аристотеля, Лоран де
Премьерфе (Laurent de Premierfait) — Цицерона, а рядом с этим перево-
дят Петрарку и Боккаччо (латинские сочинения и «Декамерон»). Пере-
водная литература расширяла горизонт французов, прививала и показы-
вала им древность, как она есть, не сквозь традиционные очки. Выводы
получались неотчетливые, сбивчивые. Но важно было уже то, что мысль
сдвинулась со старой точки и постепенно приучалась апеллировать к ис-
точнику, что место авторитета и веры стал занимать человеческий разум
и критика и что эти новые навыки проникали теперь в широкие круги
читателей.
Переводная литература выполняла и еще одну важную функцию: это
была борьба французской фразы с латинской. Латинский язык импони-
ЛИТЕРАТУРА ВРЕМЕНИ СТОЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ 185
ровал отчетливостью, стройностью выражения мысли, чего нехватало
французскому — и прежде всего в прозе. Она двигалась какими-то околь-
ными, очень сложными путями вместо того, чтобы итти напрямик. Пере-
вод предъявлял требования и к языку, и к стилю, и был, таким образом,
школой того и другого. Работа была трудная, но иногда удавалась, и то-
гда становилось яоным, каким мог стать французский язык. Тому же
учило и чтение латинских писателей, так как их изучали теперь целиком,
не ограничиваясь извлечением из них условных поучений и назиданий.
Даже красноречие церковных проповедников XIV в. свидетельствует
о том, что общение с классиками не прошло в этом отношении бесследно.
И любопытно, что у крупнейшего из проповедников, Жерсона, это сказа-
лось не столько на латинских, сколько на французских его речах. Схола-
стическая латынь была слишком глубоко укоренившейся привычкой,
тогда как для французской прозы не существовало никаких норм и все
приходилось строить заново. Да и глубокое чувство латинского языка
придет лишь позднее, с подлинными гуманистами. «Гуманисты» XIV в.
больше угадывали, чем знали, больше искали, чем пользовались най-
денным.
ГЛАВА Ш
ЛИТЕРАТУРА ПОСЛЕ СТОЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ
(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XV В.)
1
ще до окончания Столетней войны, с того момента,
когда подъем народного патриотического чувства, про-
явившийся в выступлении Жанны д'Арк (1429), обусло-
вил перелом в ходе военных действий, началось залечи-
вание ран, нанесенных войной, восстановление хозяй-
ственной и культурной жизни страны. Сразу после
войны происходит заметное изменение в соотношении
общественных сил. Число крупных феодальных дворов,
процветавших в условиях военного времени, сильно со-
кращается, и значение их заметно падает. Города,
быстро оправляющиеся от разрухи и интенсивно растущие, становятся
главными очагами общественной и умственной деятельности. В руках бур-
жуазии сосредоточиваются крупные денежные средства, и представители
ее все чаще занимают видные места в королевской администрации. Очень
показательна в этом отношении биография Жака Кёра (Jacques Coeur, ок.
1400—1456), который, начав как фальшивомонетчик и работорговец, завел
затем широкую торговлю с Востоком и, занявшись разработкой рудников
во Франции, сделался самым богатым человеком в стране и членом коро-
левского совета.
В результате всего этого королевская власть, чрезвычайно ослабевшая
в годы войны, когда феодалы временно стали господами положения, в ко-
роткий срок возвращает себе все утраченное и, опираясь на города,
приобретает новую, еще небывалую силу. Уже при Карле VII (1422—1461)
мог быть произведен ряд реформ, весьма укрепивших центральную власть.
Был введен постоянный поземельный налог (талья), дававший королю проч-
ный и очень крупный доход, который делал его независимым от генераль-
ных штатов. Далее, начинается использование денежных накоплений горо-
жан королевскою властью в форме займов, отдачи на откуп некоторых
доходов и т. д., что в свою очередь чрезвычайно обогащало и укрепляло
буржуазию. Наконец, Карл VII реформировал армию, создав, взамен
старого рыцарского ополчения и временных, дорого стоящих наемников,
постоянное войско в виде королевских отрядов, несших гарнизонную
службу в городах, и «вольных стрелков» (francs archers), проходивших
военное обучение и игравших роль подвижных отрядов, которыми поль-
зовались по мере надобности.
ЛИТЕРАТУРА ПОСЛЕ СТОЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ
183
Еще более укрепляется королевская власть при Людовике XI (1 461 —
1483), при котором закладываются основы абсолютизма. Этот король
приближал к себе представителей мелкого дворянства и буржуазии и вся-
чески унижал крупных феодалов, вмешиваясь в их дела, интригуя, путем
браков или насилия присоединяя их владения к своим. Рассматривая тор-
говлю и промышленность Франции' как средство обогащения королевской
казны, он всячески способствовал их развитию, доходя до прямого вмеша-
тельства в дела и купцов и предпринимателей: он требовал расширения
торговли с Востоком, добился организации' производства шелковых тка-
ней и, т. п.
При Людовике XI было почти завершено политическое объединение
Франции. С помощью хитрых интриг и дипломатических переговоров в
гораздо большей степени, чем силой оружия, он сначала присоединил граф-
ство Руссильон, затем Прованс. Но крупнейшим его успехом было овла-
дение Бургундским герцогством. В XV в. бургундские герцоги, владея,
кроме Бургундии, другой богатейшей областью — Нидерландами, были
крупнейшими феодалами эпохи. Числясь вассалами французских королей,
они во время Столетней войны часто действовали заодно с англичанами
и вообще стремились к полной политической независимости. Пышный двор
герцогов Филиппа Доброго (1419—1467) и его сына Карла Смелого
(1467—1477) был средоточием рыцарских «добродетелей» и типично
средневековых нравов. Борьба Людовика XI с Карлом Смелым, которая
шла вначале с переменным успехом, закончилась смертью Карла Смелого
и переходам герцогства Бургундского под власть французского короля.
После этого самостоятельным оставалось лишь Бретонское герцогство,
которое было присоединено к Франции позже, в 1491 г., при Карле VIII,
сыне Людовика XI.
Но еще существеннее внешнего объединения страны то внутреннее,
национальное единство Франции, которое обозначается к концу века.
Грани между областями стираются, крепнут экономические и культурные
связи между ними, диалекты оттесняются общим национальным языком,
складывается общефранцузская национальная культура.
Во второй половине XV в. наблюдается рост образования, которое
все более секуляризируется, уходя из рук духовенства, утратившего в но-
вых условиях общественной жизни значительную долю своего авторитета.
Открывается множество новых школ, и из Италии доносятся первые гу-
манистические веяния. В 1470 г. в Париже возникает первая типография,
где печатаются латинские авторы, произведения итальянских гуманистов,
а также учебники, вроде «Риторики» Фише (Fichet, «Rhétorique»), ставя-
щей себе задачею обучить «искусству хорошо говорить», черпая из «пло-
дотворного источника греческого и римского гения». В 1476 г. в Париже
поселяется грек Георгий Гермоним, который начинает давать уроки гре-
ческого языка, до тех пор почти неизвестного во Франции.
Все перечисленные моменты находят свое отражение в литературе, в
которой городские, рационалистические, образовательные тенденции
определенно берут верх над временно возобладавшими в период войны
рыцарскими, придвцрно-аристократическими вкусами и идеями. Однако
рыцарские традиции в литературе оказываются очень сильны, и поскольку
феодалы остаются (и еще долгое время будут оставаться) господствующим
классом, их навыки и воззрения сильно окрашивают собой основные лите-
ратурные жанры и стили. Можно обнаружить в литературе два течения,
обусловленных моментом территориально-историческим. Одно из них, кото-
рое мы условно назовем городским, определенно преобладает в Иль-де-
186
РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
Франсе и других областях королевского домена. Другое, которое можно
назвать аристократическим, господствует в землях крупных феодалов —
в Бургундии (особенно до 1477 г., хотя и после утраты Бургундией незави-
симости в ней еще продолжали до некоторой степени жить старые тради-
ции), в Бретани и т. п. Правильнее, однако, в обоих случаях говорить о со-
вмещении городских и аристократических элементов, которые соединяются
между собой неодинаковым образом и в разных пропорциях. В основном,
это либо рациональное, реалистическое отношение к явлениям жизни и
проблемам чувства, но с оглядкой на религиозно-рыцарский кодекс морали и
приличий, либо выражение придворно-аристократичестсих идеалов, но осво-
божденных от старинной религиозно-рыцарской мистики и ориентирован-
ных уже на вполне конкретные, практические цели. В одном случае эле-
менты городские являются основными, а рыцарские — дополнительными,
в другом случае — наоборот.
Общей чертою для обоих течений является их значительный отход от
народных истоков поэтического творчества. Правда, отдельные, особенно
выдающиеся поэты, как, например, Вильон, обращаются иногда к этому
роднику. Очень сильны также народные элементы в комическом театре
(фарсы, сотй). Но большинство писателей ощущает себя профессиональ-
ными литераторами, людьми школьной выучки, работающими в первую
очередь для довольно уже широкого круга смешанной, частью городской,
частью дворянской интеллигенции. В городских кругах руководящая роль
в литературном движении определенно переходит к патрициату, тесно
смыкающемуся с рыцарством. Уже наметившийся в XIII—*XIV вв.
процесс сближения этих двух сил, нарушенный Столетней войной, теперь
чрезвычайно углубляется и приводит к заметному разрыву между литера-
турой городской и народной.
Конечно, народная литература продолжает !развиваться столь же
интенсивно, как и в предшествующие века. Но сейчас она перестает быть
постоянной питательной средой для поэтического творчества, взятого в
целом, и занимает обособленное положение. То, что именно в XV в. по-
являются первые дошедшие до нас записи народных песен, не противоре-
чит сказанному, а только подтверждает его, свидетельствуя о наступившем
размежевании народной и школьно-профессиональной, «интеллигентской»
литературы.
2
В литературном движении второй половины XV в. прежде всего бро-
сается в глаза чрезвычайное развитие драматургии, которая является для
этого времени самым популярным и народным видом 'искусства. Правда,
все разрабатываемые в эту пору драматические жанры зародились уже в
предшествующий период, но только сейчас они достигли своего полного
расцвета. С другой стороны, эти новые театральные жанры проявили
большую живучесть и продолжали культивироваться еще в век Ренессанса,
почти до середины XVI столетия. Две черты типичны для этой поздней
средневековой драмы: ее вполне уже светский (даже при трактовке
религиозных сюжетов) — и в сильнейшей степени зрелищный, поста-
новочный характер. Первая из них представляет собой завершение
вполне естественного процесса, начавшегося еще в XIII в., вторая имеет
своим источником необыкновенное развитие в XIV—XV вв. всякого рода
публичных празднеств, церемоний, парадов. Например, по случаю приезда
короля в какой-нибудь город нередко устраивались процессии с живыми
ЛИТЕРАТУРА ПОСЛЕ СТОЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ
187
картинами или пантомимы — так называемые «мимические мистерии»
(mystères mimés),—в которых изображались эффектные события и эпи-
зоды исторического, легендарного или литературного содержания, как,
например, битва французов с сарацинами, взятие Константинополя, суд
Париса, Помпеи, милующий побежденных им царей, проделки Лиса-
Ренара, обезглавление Иоанна Крестителя и т» Д- Подобно тому, как на
начальном этапе развития средневековой драмы, на ряду с библейским
текстом, огромное значение имели игровые моменты, так и теперь панто-
мимические элементы способствовали развитию поздних форм драмы,
влияя на самый их стиль и композицию.
Общей чертой для театра этой поры является также то, что органи-
зация спектакля и его исполнение переходят от цеховых ремесленников-
любителей к профессиональным актерским труппам.
В области религиозной драмы уже в XIV в. миракли и литургиче-
ская драма сменяются новым жанром мистерий (mystère, от лат. ministe-
rium «служба», в значении «церковная служба, служение богу»). Их по-
становкой ведают возникающие в середине XIV в. в разных городах
Франции, ото образцу итальянских религиозно-театральных компаний по-
добного рода, «Братства Страстей» («Confréries de la Passion»), названные
так оттого, что обычным предметом их постановок было изображение крест-
ных страданий Христа. В 1371 г. возникает такое братство в Нанте,
в 1374 г., в Руане, в 1380-х годах — в Париже и т. д. Парижское «брат-
ство», наиболее известное из всех, получило в 1402 г. от Карла VI при-
вилегию на исполнение мистерий на любую тему.
Древнейшие из дошедших до нас мистерий — анонимная провансаль-
ская «Мистерия Страстей», самого конца XIV в., и «Искупление» Эсташа
Меркаде (Eustache Mercadet, «Rédemption»), исполнявшаяся в Аррасе в
первой четверти XV в., — не представляют большого художественного
интереса. Гораздо более интересны огромные, так называемые «цикличе-
ские» мистерии, появляющиеся начиная с 1450-х годов. Самая ранняя из
них, анонимная «Мистерия Ветхого завета» («Mystère du Vieux Testament»),
насчитывающая около 50 000 стихов, представляет собою, собственно го-
воря, свободное сочетание 40 отдельных пьес, охватывающих все главней-
шие события, изложенные в Ветхом завете. Конечно, эта пьеса, в кото-
рой участвовало 243 актера, не могла быть исполнена в один день; она
разыгрывалась по частям в течение нескольких недель. Почти столь же
обширна «Мистерия Страстей» («Mystère de la Passion») Арну Гребана,
около 35 000 стихов, возникшая тоже в 1450-х годах. Еще более громозд-
ка «История апостолов» братьев Арну и Симона Гребан (Arnoul et Simon
Greban, «Histoire des Apôtres»), инсценировка «Деяний апостольских», со-
держащая 62 000 стихов. Эта пьеса еще более хаотична, чем предыдущие,
так как в ней поочередно изображается деятельность отдельных апостолов,
без всякой логической связи и хронологической последовательности.
Во всех этих мистериях наиболее интересно разработаны образы и
роли не главных, «священных» персонажей (Христос, богоматерь и т. п.),
представленных шаблонно и бесцветно, а персонажей второстепенных, го-
раздо более динамичных и колоритных. Так, например, подробно показана
жизнь Марии Магдалины до ее «обращения» — как она наряжается с по-
мощью многочисленных служанок, душится, румянится, затем принимает
в своем салоне поклонников, обольщает неопытного юношу, поет, танцует.
Всякое библейское выражение или деталь развертывается и инсценируется.
Так как в Евангелии сказано, что Пилат, отказываясь судить Христа,
«умыл руки перед народом», — в мистерии он приказывает воину принести
188
РАПНББ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
воду, затем полотенце и мед-
ленно, обстоятельно совер-
шает указанную процедуру.
Поскольку апостол Петр, за-
щищая Христа, должен обна-
жить меч, показано, как сна-
чала он покупает этот меч у
оружейника. Нет, конечно,
недостатка и в комических
сценах. Видное место зани-
мают клоунады дьяволов. Де-
тально и очень наглядно изоб-
ражены сцены пыток и каз-
ней. Костюмерия и машин-
ные эффекты соответствовали
общему стилю спектакля: зри-
тели видели на сцене море
с плавающими на нем ко-
раблями, осаду городов, зе-
млетрясения, четвертование
мучеников, шествие апосто-
лов по облакам и т. п. В об-
щем, религиозная тематика
мистерий была лишь пово-
дом для создания пышного
и занимательного зрелища,
серии эффектных картин с
диалогом, в которых эле-
менты живописные, бытовые
и комические совершенно заслоняли религиозную идею.
По образцу таких циклических мистерий возникло несколько так
называемых светских мистерий (mystères profanes), целикам усвоив-
ших их драматическую технику. Древнейшая из них, «Осада Орлеана»
(«Siège d'Orléans»), возникла непосредственно из праздничной процессии,
устроенной в этом городе в 1429 г. по случаю снятия осады его англича-
нами. Отдельные эпизоды из истории осады города, разыгрывавшиеся на
стоянках процессии в виде пантомим или диалогизированных сценок, были
затем соединены в одну цельную пьесу. Другая светская мистерия, воз-
никшая около 1450 г., написана на легендарный античный сюжет —
«Разрушение великой Трои» («Destruction de. Troie la Grande»).
На ряду с мистериями чрезвычайно развиваются в XV в. комические
театральные жанры. Они связаны с возникновением в XIV в. в различных
французских городах компаний актеров-любителей, состоявших из образо-
ванной молодежи — студентов, писцов и т. п., которые постепенно превраща-
лись в полупрофессионалов, вырабатывая у себя актерские навыки. В Па-
риже действовали две такие компании. Одна из них так называемая
«Базошь» («Basoche» буквально «базилика» — старинное название парижско-
го парламента или здания суда), состояла из молодых юристов и была по-
стоянной корпорацией, пользовавшейся соответствующими правами. Дру-
гая, носившая название «Беззаботных ребят» («Enfants sans souci»), была
свободной ассоциацией с текучим составом, собиравшейся лишь по случаю
постановок и насчитывавшей в своем составе молодых людей самых раз-
нообразных профессий и общественных положений.
«Мученичество святой Аполлонии».
Миаивтюра Жана Фуке, ивображающая постановку мистерии
ЛИТЕРАТУРА ПОСЛЕ СТОЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ
189
«Беззаботные ребята» были прямыми продолжателями той традиции
бесшабашного и дерзкого веселья, которое еще со времен голиардов было
формой социального протеста и свободомыслия. Уже в XII в. засвиде-
тельствованы так называемые «праздники дураков» (fêtes des fous), кото-
рые справляли низшие клирики вопреки духовным властям, вынужденным
терпеть это «бесчинство». Раз в год отменялась на один день вся церков-
ная иерархия, и «дураки» выбирали из своей среды «епископа», которому
вручалась вся полнота власти. Надев маски и смешно вырядившись, они
справляли в церквах свою собственную, пародийную мессу, во время ко-
торой кадили вонючим дымом, ели колбасы, скакали и проделывали массу
всевозможных дурачеств. Одна из излюбленных их проделок заключалась
в том, что, будто бы в воспоминание о Валаамской ослице, которая, со-
гласно библейскому сказанию, при виде ангела обрела дар речи, «дураки»
тащили в церковь пестро обряженного осла, ставили его около алтаря
и после каждой молитвы кричали «хин-хам», подражая ослиному крику;
а в конце мессы священник, отпуская «молящихся», вместо благословения
трижды ревел по-ослиному, на что те отвечали ему таким же образом.
Шутовское веселье выносилось за пределы церкви. Озорные клирики
разъезжали по городу в повозках смешного вида, задирая прохожих, от-
пуская бесстыдные шутки и балаганя всевозможнейшим образом.
В XV в. высшему духовенству удалось, наконец, искоренить эти за-
бавы, но традиция их перешла к «Беззаботным ребятам», которые изби-
рали себе в качестве начальства «Князя дураков» (Prince des Sots) и
«Дурью матушку» (Mère Sotte), рядились, подобно профессиональным
шутам, в желто-зеленые балахоны и высокие колпаки, таскали погремушку
в руках и демонстрировали свое веселое искусство на подмостках. «Без-
заботными ребятами» особенно культивировались два драматических
жанра — фарсы и с от и (sotie—«дурачество»). Первый из них, пред-
ставлявший собою первоначально острокомические интермедии, вставляв-
шиеся в религиозные драмы, расширился в отдельные пьески, вероятно,
уже в XIV в. До нас дошел, например, фарс «Трюбер» («Trubert»,
1359) Эсташа Дешана, в котором изображается, как ловкий клиент адво-
ката Трюбера возвращает себе уплаченный ему гонорар, обыгрывая его
в кости. Правда, нет полной уверенности в том, что этот фарс предназна-
чался не только для чтения, но и для сценического исполнения. Все осталь-
ные сохранившиеся фарсы не старше XV в.
По своему характеру и идейной направленности фарсы очень близки
к фаблио и рассказам о Ренаре. Здесь точно так же мы находим изобра-
жение будничных, тривиальных сторон жизни, точно так же наблюдаем
смешение буржуазных и народных элементов, выражающееся в том, что
ловкость (и хитрость в делах отчасти прославляются, отчасти становятся
объектом сатиры, в зависимости от того, в каких случаях они проявляются
и против кого направлены. Точно так же, наконец, фарсы оперируют не
индивидуальными характерами, а готовыми типами, масками; таковы:
плут-монах, шарлатан-врач, сварливая и неверная жена, крючкотвор-адво-
кат, хвастун-солдат и т. п. Фарсы полны сочного остроумия и изобилуют
забавными положениями и гротескными образами. Речь действующих
лиц — крестьян, педантов-ученых, судейских и т. п. — окрашена сослов-
ными чертами. В фарсах разоблачается разврат монахов, высмеиваются
индульгенции, клеймятся феодальные войны, превращающиеся в грубый
грабеж, обличается корыстолюбие богатых горожан, продажность судей
и т. н. Проникнутые антифеодальными и антиаристократическими тенден-
190
РАННЕЕ СРЕДПЕВЕКОВЬЕ
Щ&*'
Ш^тйп î>c.;i
циями, они, с одной стороны, поддер-
живают королевскую власть, с другой —г
выступают в защиту простого народа.
Наиболее известный из фарсов —
анонимный «Мэтр Патлен» («Maître
Pathelin», ок. 1470 г.), благодаря своей
живости! и остроте положений пользо-
вавшийся огромной популярностью и в
следующие века. Имя его главного пер-
сонажа стало нарицательным для обо-
значения проныры, лукавца (patelin).
В пьесе сталкиваются два типичные
представителя буржуазии — богатый су-
конщик и изворотливый адвокат Патлен,
но победителем над ними обоими ока-
зывается простак пастух, проявивший
в последнюю минуту еще больше хитро-
сти, чем они.
Большой популярностью также поль-
зовался фарс «Лохань» («Le cuvier»).
Простак муж становится жертвой своей
сварливой жены и тещи, заставляющих
его выполнять целый ряд домашних ра-
бот и даже няньчить детей. Они соста-
вили длинный описок его обязанностей.
Однажды жена, стирая белье, упала в
лохань и стала барахтаться в ней, прося
мужа вытащить ее оттуда. Но тот при-
нес список и резонно указал на то, что
обязанность вытаскивать жену из лоха-
ни в нем не обозначена. После этого
жена образумилась, и в доме воцарил-
ся мир.
Фарсы — оригинальнейшее создание
французского народного гения. В эпоху
Ренессанса жанр этот не умер. Фарсы
писал Клеман Маро, возможно, даже Рабле. В III книге «Гаргантюа и
Пантагрюэля» рассказывается о фарсе, разыгранном студентами-медиками
в Монпелье, — «О человеке, который женился на немой женщине». Этот
не дошедший до нар фарс пытался реставрировать А. Франс в комедии
того же названия. В Германии гуманист XVI в. Рейхлин подражал упомя-
нутой «Лохани» в своей латинской интермедии «Генно» («Нетто»). На
позднейшую французскую драматургию фарсы оказали огромное влия-
ние. К их традиции восходят несколько маленьких комедий Мольера
(«Плутни Скалена», «Брак по принуждению» и т. п.), так же как
и ряд буффонных эпизодов в его больших социальных комедиях или
комедиях характеров. Фарсовая традиция еще очень сильна в пьесах
Бомарше.
Коронным жанром « Беззаботных ребят» были с о т и — небольшие,
частично импровизованные, остро комические пьески, обычно с аллего-
рическими персонажами, в которых за невинным с виду шутовством не-
редко скрывалась едкая политическая сатира. В них постоянно выводились
«Мэтр Патлен». Патлен и суконщик.
С гравюры на дереве ив ивд. 1489 г.
ЛИТЕРАТУРА ПОСЛЕ СТОЛЕТНЕЙ ВОППЫ 191
представители высшего духовенстваи ари-
стократии. Особенно процветали сотй в
годы правления покровительствовавшего
им Людовика XII (1498—1515), когда
выдвинулся талантливый автор сотй,
Пьер Гренгор или Гренгуар (Pierre
Gringore, Gringoire), придавший им ха-
рактер политического обозрения. В его
«Игре о князе дураков и дурьей матуш-
ке» («Jeu du Prince des Sots et de la
Mère Sotte», 1511) выведены французский
король, папа Юлий II (с которым ко-
роль вел в то время борьбу) и ряд
других политических деятелей. Другой
автор начала XVI в., Жан дю Понтале
(Jean du Pontalais), в одной из своих
сотй изобразил королеву-мать в виде
хищницы, грабящей народ, за что и под-
вергся суровой каре.
В XV в. вступает в литературу
еще один комический жанр, быть может,
очень старый, но до тех пор таившийся
под спудом и бытовавший в народно-
любительском или жонглерском испол-
нении. Это — так называемые моно-
логи (monologues), возникшие из бо-
лее старого полудраматического жанра
веселых п р о1 п о в( е ^ Je й (seirmore
joyeux). В этих последних пародирова-
лись церковные проповеди — например,
обсуждался вопрос о том, как и что сле-
дует пить, с обильными цитатами из
Библии. Наиболее известен монолог
«Вольный стрелок из Баньоле» («Franc-
archer de Bagnolet», 1468). Это —
французская параллель к типу «хваст-
ливого воина» римской комедии или «капитана» итальянской commedia,
dell'arte. На сцену выходит вольный стрелок и начинает разглагольство-
вать о своих подвигах. Он убивал всех без исключения — кур. Он не
боится ничего — кроме опасности. Вдруг он замечает пугало для птиц;
в страхе, упав на колени, он исповедуется в грехах, молит чучело о по-
щаде. В это мгновение ветер опрокидывает пугало, и тогда стрелок начи-
нает клясться, что он его не толкал, и униженно просит прощения. Нако-
нец, разобрав, в чем дело, он похищает шляпу чучела и уходит с триум-
фом.
На грани театра «серьезного» и комического находятся моралите
(moralités). Первоначально этим именем обозначались всякие стихотворные
произведения морализирующего характера, даже не предназначенные для
сцены. Без сомнения, драматические моралите начали возникать еще
в XIV в. Их писал, например, Эсташ Дешан, но сохранившиеся образцы
его творчества в этом жанре, весьма бесцветные, лишены всякого драма-
тического действия и внутреннего движения. Пс-настоящему моралите
развивается лишь около середины XV в. Были две разновидности их
«Мэтр Патлен>. Патлен у судьи.
С гравюры на дереве иа изд. 1489 г.
192
РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
«аллегорические моралите», в которых все или почти все действующие
лица являлись условными образами, воплощавшими те или иные челове-
ческие свойства, силы, отвлеченные начала и т. п., и «истории» (histoires),
в которых действовали живые лица, иногда, впрочем, также с некоторым
участием аллегорических фигур.
Классическим образцом аллегорических моралите является моралите
«О разумном и неразумном» («Bien avisé et mal avisé», 1439). Здесь изоб-
ражается параллельно судьба двух людей, противоположных друг другу
в нравственном отношении. Один весь предан наслаждению, обжорству,
разврату, пьянству; его всюду сопровождают Непослушание, Безумие,
Распутство, от которых он переходит в руки к Нищете, Неудаче, Краже
и в конце концов попадает в ад. Другой, напротив, преисполнен благо-
разумия и умеренности; его постоянные спутники и собеседники — Разум,
Вера, Смирение, Пост, Молитва, и после смерти его ждет рай. Сильная
религиозная окраска этого моралите отнюдь не является обязательной
для жанра. В другом моралите, «Осуждение пиров» («Condamnation des
banquets», нач. XVI в.), очень сходном по своей'теме и построению, мораль
религиозная заменена уже моралью чисто светской и рационалистиче-
ской. Здесь чревоугодника подстерегают уже не «трехи» и дьяволы, гото-
вые тащить его в ад, а различные болезни — Подагра, Водянка, Апопле-
ксия и т. п., приводящие его к смерти, тогда как умеренному уготована
долгая жизнь, полная всяких разумных удовольствий.
Аллегорические моралите, будучи очень большого объема (иногда
7—8 тысяч стихов), отличаются схематизмом и однообразной риторич-
ностью. Однако они не казались зрителям утомительными, благодаря
пышной обстановочности и обилию театральных эффектов. В первом из
разобранных нами моралите показывалось беспрерывно вращающееся
колесо фортуны, к которому были привязаны четыре человека; в то время
как Неразумный пировал, Сладострастие исполняло перед ним соблаз-
нительный танец; после смерти дьяволы тащили его в ад, откуда слы-
шались гром, завывания бури, вопли мучимых грешников; его сажали за
стол, поднося ему раскаленные блюда с огненными кушаньями, которые
насильно вкладывали ему в рот, и т. д.
Несмотря на обилие условностей в этом жанре, он все же не лишен
своеобразного реализма. Его положительная роль в дальнейшем развитии
драматургии заключается в том, что он внес в нее углубленную разработку
характеров, а также, в противовес бесформенным мистериям и сотй, един-
ство и логическое развитие действия, сконцентрированного вокруг одного
или двух основных персонажей.
Более богаты и актуальны по своему сюжетному и идейному содержа-
нию «истории». В них затронуты разнообразные темы семейной и обще-
ственной жизни. В «Милосердии» («Charité») осуждается скупость,
в «Богохульниках» («Blasphémateurs») — словоблудие, в «Нынешних детях»
(«Enfants de maintenant») и «Неблагодарном сыне» («Enfant ingrat») —
бессердечие и распущенность детей. Нередко обличаются насилия, чини-
мые богачами и людьми знатными. В «Бедной крестьянской девушке»
(«Pauvre fille villageoise») изображается дочь крепостного, которая решает
самоубийством спасти свою честь от покушений местного помещика.
В пьесе об «Императоре, который убил своего племянника» («L'empereur
qui tua son neveu») выведен справедливый государь, судивший собствен-
ного племянника, который обесчестил одну девушку, и казнивший его
после того, как неправедные судьи побоялись его обвинить. Образ импе-
ЛИТЕРАТУРА ПОСЛЕ СТОЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ
193
ратора дан в нарочито идеализованных тонах, чтобы ярче подчеркнуть
контраст этого утопического монарха с действительными правителями.
Взятый в целом, театр XV в. является глубоким и выразительным от-
звуком общественной мысли и общественных интересов своего времени.
Из всех видов искусства этой поры он наиболее богат народными элемен-
тами. Но его народность и социальная значимость сильно ограничены
чертами, типичными для мировоззрения средневекового бюргерства — рас-
судочностью, педантической назидательностью, морализацией, узостью
кругозора, пристрастием к будничным, бытовым деталям, которое засло-
няет более широкий, общечеловеческий аспект затрагиваемых вопросов.
5
В области повествовательной литературы очень характерно для этого
времени развитие прозаического нравописательного романа на тему со-
временной рыцарской жизни, но уже воспринимаемой с точки зрения
новых понятий и моральных требований. Главным мастером этого жанра
является Антуан де Ла-Саль (Antoine de La Sale, род. в 1388 г., ум.
после 1469 г.), представляющий собою довольно характерную фигуру для
того времени. Уроженец Прованса, он смолоду поступил на службу к
Анжуйскому дому и в качестве члена княжеской овиты и воина много
путешествовал — побывал в Италии, Сицилии, герцогстве Брабантском,
Португалии. В середине 1430-х годов он был назначен воспитателем стар-
шего сына короля Реме Сицилийского, затем в 1448 г. перешел на службу
к одному бургундскому вельможе, графу де Сен-Поль, и сделался воспи-
тателем трех его сыновей. Человек опытный и разносторонний, наблюда-
тель жизни, восприимчивый к различным веяниям, Антуан де Ла-Саль
отлично отразил эпоху в своих многочисленных произведениях, живой
и крепко реалистический стиль которых выработался явно под итальян-
ским влиянием.
Кроме нескольких теоретических сочинений по вопросам морали, вос-
питания, управления государством, Антуану де Ла-Саль принадлежит про-
заический роман «Маленький Жан де Сентре» («Petit Jean de Saifltré»,
около 1456 г.), являющийся самым крупным и значительным его произ-
ведением. Жан де Сентре состоит пажем одной знатной дамы, которая ре-
шает сделать его совершенным рыцарем и идеальным возлюбленным. То
и другое удается ей в полной мере. Но в один прекрасный день капризная
красавица бросает Жана, променяв его на рослого и богатого аббата.
В происшедшей между двумя поклонниками стычке юный рыцарь по-
страдал от крепких кулаков монаха, но затем он нашел способ отомстить
ему, высмеяв и опозорив его вместе со своей неверной возлюбленной. Так
рыцарская идиллия внезапно заканчивается картиною в стиле фаблио.
В этом псевдобиографическом романе (Жан де Сентре был реальным
лицом, умершим в 1368 г., но жизнь его не имеет ничего общего с содер-
жанием романа) \Антуан де Ла-Саль выступает спокойным и бесстрастным
бытописателем, посмеивающимся над тем, что он видит, но старающимся
до конца сохранить объективность. Это ни развенчивание старых рыцар-
ских иллюзий, ии оплакивание их. Умея отнестись критически к своей совре-
менности, автор констатирует происшедшие перемены в нравах и изображает
их правдиво и убедительно. Искусство Антуана де Ла-Саль, выросшее на
итальянских образцах, заставляет уже предчувствовать Возрождение.
Антуану де Ла-Саль приписывают еще два произведения, знаме-
нующих рождение французской новеллы в прозе. Первое из них — «Пят-
13 История французской литературы—815
104
РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
надцать радостей брака» («Quinze joies de mariage», ок. 1440 г.)—остро-
умная сатира на женщин в форме общего рассуждения со вставными
анекдотами, иллюстрирующими разнообразные невзгоды брачной жизни.
По своему характеру это произведение резко отличается от старых мо-
нашеских обличений женщин или выпадов фаблио. Автор далек от каких-
либо штампов, он умеет осветить старую тему, внося живые индивидуаль-
ные штрихи в каждую из своих зарисовок, исходя больше из живого на-
блюдения, чем из готовой книжной схемы. Его манера гораздо ближе
к Боккаччо («Корбаччо»), чем к старым средневековым рассказчикам.
Несколько грубее по тону, хотя и очень колоритен по содержанию,
сборник «Сто новых новелл» («Cent nouvelles nouvelles»), поднесенный ав-
тором бургундскому герцогу Филиппу Доброму в 1462 г. Черпая мате-
риал отчасти из Поджо и Саккетти, но еще более из устной традиции, он
обличает также знакомство автора с «Декамероном»; в предисловии изо-
бражается светский кружок, члены которого рассказывают друг другу
занимательные истории. Однако по стилю «Сто новых новелл» значи-
тельно архаичнее, приближаясь в некоторых отношениях к манере фаблио.
Многие из новелл осмеивают пороки монахов, в других рисуются разно-
образные человеческие слабости без приурочения их к тому или иному
слою общества. Но конкретность изображения, обилие деталей и пре-
восходный язык, в котором книжные элементы стиля интересно соче-
таются с яркой народной речью, ясно говорят о демократических симпа-
тиях автора.
Новейшие исследователи склонны отрицать принадлежность обоих
этих произведений Антуану де Ла-Саль; но несомненно, что они возникли
на той же основе и в той же идейной среде, что и «Жан де Сентре». Оба
сборника вызвали ряд подражаний, закрепив на французской почве
форму раннеренессансной новеллы.
Ту же биографическую форму, что и в «Жане де Сентре», но с опре-
деленным сочувствием к рыцарским идеалам, мы находим в нескольких
романах эпохи. Анонимная «Книга деяний Жака де Лелен» («Le Livre
des faits de Jacques de Lalaing») представляет собою соединение вымысла
автора с длинными отрывками из хроник и мемуаров недавнего прошлого.
Герой романа — также лицо историческое; он умер в 1453 г., и ко вре-
мени написания романа (ок. 1470 г.) рассказы о нем переходили из уст
в уста. Поэтому автор придерживается канвы фактов, хотя все же при-
бавляет немало и от себя. Его цель — изобразить идеального рыцаря,
его странствия по Европе в поисках славы, неизменную доблесть, прояв-
ленную им в бесчисленных турнирах и сражениях. Также и в «Юноше»
Жана де Бейль (Jean de Bueil, «Jouvencel», ок. 1465 г.) прославляется
рыцарство, но дух времени уже сказывается в этой книге: целью воина
объявляется здесь не столько слава, сколько победа, успех. Реальные, прак-
тические задачи выдвигаются на первый план. В общем, это — облечен-
ное в форму романа изложение военной тактики и стратегии того вре-
мени, сопровождаемое занимательными и правдивыми иллюстрациями.
На ряду с этими романами не было, конечно, недостатка и в романах
авантюрно-фантастических. Наиболее интересный из них, возникший в са-
мом конце XV в., — анонимный «Жан Парижский» («Jean de Paris»), где
изображается сватовство к испанской принцессе английского и француз-
ского королей. Последний является в Бургос под видом простого горожа-
нина, Жана Парижского, который своей щедростью, хорошими манерами и
властным видом сразу располагает к себе сердца. Когда он открывает,
кто он такой, английскому королю приходится немедленно уступить ему
ЛИТЕРАТУРА ПОСЛЕ СТОЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ
193
место. Возможно, что в основе романа лежат какие-то современные собы-
тия. Но он изложен тоном сказки, с большой живостью и юмором. Горя-
чее патриотическое чувство проникает это произведение, явно выходящее
за рамки условных рыцарских романов.
Еще в XIV в. началось переложение старых героических поэм и
стихотворных рыцарских романов в прозу. В середине XV в. этот процесс
усиливается. Так постепенно возникает большая серия романов <в прозе —
«Жирар де Руссильон», «Фьерабрас», «Четыре сына Эмона», «Гюон де
Бордо» и т. д., которыми зачитывается рыцарское общество. К ним можно
присоединить ряд других прозаических романов, возникших в XIV—
XV вв. на разные легендарные и сказочные темы: «Мелюзина» («Mélu-
sine»),«ribep Провансальский и прекрасная Магелона» («Pierreide Provence
et la belle Maguelone») и т. д. Впоследствии, в пору Ренессанса, когда во
вкусах и запросах привилегированных слоев общества произошел резкий
сдвиг, эти романы, утратив своих аристократических читателей, превра-
тились в народные книги, через которые народ получил обратно, в пре-
ломленном и литературно по-новому оформленном виде, продукты своего
же собственного эпического и сказочного творчества. Эти романы легли
в основу позднейшей «Синей библиотеки» («Bibliothèque bleue», названной
так по обложке из грубой синей бумаги) — дешевой библиотеки народных
книг, которой суждено было приобрести такую популярность.
А
Интенсивно развивается также лирическая поэзия, хотя здесь мы
встречаем меньше выдающихся имен и произведений.
Первое место безусловно занимает один из величайших французских
лириков Франсуа Вильон (François Villon, род. в 1431 г., год смерти не-
известен), жизнь и творчество которого являются типичнейшим выраже-
Сад любви.
Миниатюра ва руховцев романа о Реао де Моятобан (XV в ).
196
РАННЕЕ СРЕДПЕВЕКОПЬЕ
нием кризиса средневекового мировоззрения, распада старых верований
м морали.
Сын бедных родителей, Франсуа де Монкорбье (или, по другим све-
дениям, де Лож) принял фамилию своего отдаленного родственника, па-
рижского капеллана Гильома Вильона, который его воспитал. В 1453 г.
Франсуа Вильон получил степень лиценциата и магистра словесных наук.
Однако он и после этого еще оставался студентом, являясь одним из са-
мых буйных представителей тогдашних очень мало дисциплинированных
парижских школяров. В 1455 г., поссорившись с одним священником,
повидимому из-за женщины, Вильон убивает его ударом кинжала. Вильона
арестуют, но вскоре отпускают на волю, так как ему удается доказать,
что он только защищался. В конце следующего года Вильон совершает
с несколькими сообщниками крупную кражу, после чего ему остается
только бежать. Покидая Париж, он пишет свое шуточное «Малое заве-
щание» («Lais»), 1 в котором оставляет своим приятелям или лицам совер-
шенно посторонним разные вещи сомнительной ценности и нередко даже
мало осязательные: свои старые штаны, пустой кошелек, кружку пива,
яичную скорлупу, утку с вывески кабака, судебный процесс. . . Гибкие,
легкие стихи этой поэмы полны юного задора и едкого остроумия.
С этих пор начинается бродячая жизнь Вильона, длящаяся шесть лет.
Лишь на короткое время, в 1457 г., он находит приют при дворе поэта и
мецената Карла Орлеанского в Блуа, где, между прочим, принимает уча-
стие в поэтическом конкурсе, устроенном этим принцем. Затем скитания
его возобновляются. Вильон сходится с кампанией кокильяров — бро-
дяг, состоявших из обезземеленных крестьян, беглых солдат и т. п., живших
случайными доходами, милостыней или грабежом. Он усваивает их воров-
ской жаргон и, кажется, даже пишет на нем несколько дошедших до нас
баллад (хотя некоторыми критиками принадлежность этих стихотворений
Вильону отрицается). В 1461 г. Вильон по неизвестной причине попадает
в тюрьму города Мён-сюр-Лаур.
Снова амнистированный, уже больной, измученный суровыми испы-
таниями, Вильон' в 1462 г. решает, наконец, вернуться в Париж, и тут он
пишет свое «Большое завещание» («Testament»). В Париже Вильона по-
стигли новые беды. В ноябре 1462 г. он там снова попал в тюрьму за
воровство. Выпущенный на свободу, он в декабре был опять арестован за
драку с кровопролитием и приговорен к повешению: тогда-то он и напи-
сал свою знаменитую «Балладу о повешенных» («Ballade des pendus»).
Однако приговор этот 5 января 1463 г. был отменен, и Вильон вместо
смертной казни был присужден к десяти годам изгнания из Парижа.
С этого момента всякие следы его теряются. Утверждение Рабле, что
Вильон под старость сделался главою странствующей актерской труппы,
очень недостоверно. Вероятнее всего, что вскоре после 1463 г. Вильон,
здоровье которого было сильно подорвано, умер от болезни или погиб
в результате какой-нибудь очередной бурной истории.
Главное поэтическое наследие Вильона — это его «Большое завеща-
ние», в которое он включил ряд стихотворений, написанных им в годы
скитаний, прибегнув к следующей остроумной выдумке. На ряду со вся-
кими мелочами или даже фиктивными предметами, Вильон оставляет в
наследство разным лицам целый ряд стихотворений, которые он по этому
х- Так условно обозначается этот цикл стихотворений, чтобы отличить его от позже
написанного Вильоном более обширного «Большого завещания» («Testament»), хотя оба
слова lais и testament синонимичны и означают просто «завещание». Оба эти обозначе-
ния: «Petit testament» и «Testament», приняты всеми французскими критиками.
ЛИГи»АТУРА ПОСЛЕ СТОЛЕТНЕЙ ВОЙПЫ
197
Нищие.
Деревянная скульптура в церкви Троицы в Вандоме.
случаю приводит полностью.
Поэма эта, таким образом, есть
подлинное «поэтическое завеща-
ние» Вильона, сделанная им са-
мим выборка того, что ему
представлялось наиболее харак-
терным и значительным из
всего созданного им.
Творчество Вильона внешне
еще связано со школой Машо —
Дешана. Мы встречаем у него
формы баллады, лэ, рондо, по-
сылку (envoi) с обращением
«Prince», кое-какие мелкие сти-
листические штрихи, напоминаю-
щие о старом. Но вся образ-
ность, тематика, характер чувств,
короче говоря, весь стиль и
мировоззрение Вильона — совершенно новые. Ему абсолютно чужды ка-^
кие-либо готовые формулы, условности, штампы; его поэзия сплошь дина-
мична и субъективна. При этом она полна глубочайших противоречий, пред-
ставляя собой чередование грубо чувственных порывов и лирических взле-
тов, цинизма и нежности, отчаяния и упоения жизнью.
Поэт огромного темперамента и личного самосознания, Вильон все
время с исключительной откровенностью рассказывает о себе, не стыдясь
выставлять напоказ самые интимные стороны своей жизни, свои страда-
ния и пороки. Мы узнаем из его стихов о всех его беспутствах и падениях,
о бессердечии его нежно любимой Розы, которая сама любит только деньги
и за хороший подарок готова отдать кому угодно свои ласки, о том, как по
приказу другой своей возлюбленной, Катерины де Воссель, он был избит
(«Как колотят белье на речке, совсем голый, не стану скрывать,—Ноэль
был свидетель этому»), как дальше он жил, в качестве сутенера, с «тол-
стухой Марго», пьянствуя с ней и в дурные дни угощая ее побоями; мы
узнаем о его веселых проказах, о странствиях по большим дорогам в кам-
пании воров, о муках тюремного заключения, о смертельной тоске нака-
нуне ожидаемой казни.
Но, рассказывая о себе, Вильон в сущности повествует о своем вре-
мени, ибо его времени свойственны все те смутные порывы, страдания и
противоречия, которые типичны для этого поэта. Находясь целиком во
власти своих впечатлений, Вильон творчески умеет над ними возвыситься
с помощью иронии и таящегося в ней острого критицизма, чтобы в своей
поэзии придать им общее и объективное выражение, значимое не только
лично для него, но и для окружающей его действительности. Вильон в
подлинном смысле слова — дитя своего века. Он современник последних
лет Столетней войны, которая принесла стране ужасное разорение и воз-
вела в принцип хищничество и насилие. Он, далее, питомец парижского
университета, этого средоточия студенческой демократической богемы, ме-
тавшейся между заплесневелыми формулами схоластики — и первыми
проблесками зарождающейся гуманистической мысли, между гнетущими*
еще очень властными в эту пору заповедями аскетической морали — и
буйными, инстинктивными порывами восстающей плоти. Наконец, ум
и чувства Вильона окончательно сформировались во время его скитаний,
на проезжих дорогах и постоялых дворах, в общении с простым людом.
198
РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
[ ■'^■■■^^^"■■"■■■■■■■■■V бедняками, нередко даже профес-
сиональными ворами, представите-
лями низов Франции.
В этой тройной школе он
узнал и продумал очень многое,
чего не могли или не хотели видеть
поэты круж'ково-лридворного на-
правления. Вильон обладал той
пылкостью и отзывчивостью, кото-
рая не позволяла ему отмежеваться
от соблазнов и жестокости жизни
в поисках обеспеченного покоя.
Он окунулся с головой в тревоги
авантюрного, беззаконного суще-
ствования, доставлявшего удовле-
творение его сильным страстям и
бунтарской мысли. Самую причаст-
ность его к компании «кокилья-
ров» можно толковать как форму
социального протеста, в виду на-
личия в этом «разбойничьем цехе»
сильных демократических инстинк-
тов, разбуженных крестьянскими
восстаниями XV в. Не случайно
поэтому Вильон глумится над бо-
гачами, ростовщиками, монахами —
хищниками и лицемерами всех ро-
дов. Уже в первой своей поэме он
с замечательным реализмом рисует
представителей городских низов,
делая своими наследниками преиму-
щественно бедняков, воров, бродяг.
Вильон — враг всякой мисти-
ки и метафизики. Он утверждает в
своей поэзии тему плоти, развенчи-
вая куртуазную идеализацию тон-
ких чувств. Вильон воспевает вино,
знаменитых пьяниц, библейских — Ноя, Лота, и современных — вроде
мэтра Жана, который выпивал за один раз полбочки и иной раз, хлебнув
уже на заре, падал, возвращаясь домой, и набивал себе изрядные шишки.
Вильон воспевает утехи чувственной любви, и образы его, даже когда он
вздыхает о прошлом, оплакивая его невозвратность, полны самого пылкого
эротизма. Вот отрывок из его «Жалоб прекрасной оружейницы»:
! &pitap§tbudit%fflot)
| frères §umams qui aptes no^Stuee
£«f fepittôt пФ ртищ «urj
j fDteu щ aura pfufîojxбе Soue metde
I &oue wmeSoteecp atacjjee ctrtqfijo
<2Duât 5cfa djatq trop auoenounie
&t$ pîeca Scuoucec et pouttie
et пФ i ce 06 Seumôe с I5iee <i patif&c
• -De noffce maf ptrfonite ne feïj rie
$$aie piitbèim que coite noueSuetf
; fcagfoiïi'fiie S i«.
Повешенные
Иллюстрации к стихотворец [яы Вильон i изд. 1490 г.
О где вы, груди, соком налитые,
Глаза, которые сражали всех,
Где губы пухлые, призывный смех,
И бедра жирные и вздох манящий?
О где ты, плоть моя, белей, чем снег.
Нежней, чем пух, и в ласке — меда слаще?
Часто ооразы Вильона бывают еще физиологичнее и смелее, доходя
до цинизма. Но этот цинизм, как впоследствии у Рабле, есть лишь сред-
ЛИТЕРАТУРА ПОСЛЕ СТОЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ
199
ство заострить борьбу с фальши-
вой выспренностью куртуазных воз-
зрений.
Это утверждение плоти почерп-
нуто Вильоном прямо из народ-
ной поэзии или у тех предшест-
венников его. которые были на ней
воспитаны. Его предки — голиар-
ды, авторы фаблио, Колен Мюзе,
Рютбеф, Жан де Мён. Были най-
дены также интересные соответ-
ствия с фламандским фольклором.
Если, однако, Вильон не со-
здал сам эту тему, он углубил и
«аострил ее чрезвычайно, внеся в
нее движение и большое богат-
ство оттенков. Он, однако, не пре-
одолел при этом старое, средневе-
ковое чувство бренности всего
существующего, неизбежности
смерти.
Идея тленности, гибели вся-
кой красоты проходит красной
нитью через поэзию Вильона, окра-
шивая ее тонами глубокой мелан-
холии. Этот мотив составляет
основное содержание «Жалоб ору-
жейницы». На нем же целиком по-
строена «Баллада о дамах былых
времен» («Ballade des dames du
temps jadis») с ее знаменитым при-
певом: «Но где же прошлогодний
снег?» («Mais ou sont les neiges
d autan?»). A за этим мотивом
встает другой —■ образ неминуе-
мой, подстерегающей человека
смерти:
И знаю я: бедняк, богач,
Безумный, мудрый, скряга, мот,
Граф, раб, священник иль палач,
Вор, честный, стройный иль урод,
И дамы, красящие рот, —
Увы, кто б ни были сни
В серьгах и кольцах, — всех возьмет
Смерть в им назначенные дни.
Правда, Вильон пытается одолеть мысли о недугах, старости, тлении
своим обычным оружием — иронией, трактуя все это в гротескных тонах.
Но это «е всегда ему удается, и мы находим у него такие описания
смерти, в которых гротеск убивается чувством щемящего страха и невыно-
симой боли.
Немного дальше Вильон с ужасающим реализмом описывает в «Боль-
том завещании» детали смертных мук, физиологию смерти:
А умирает всяк с тоской —
Летит, глотая воздух, вниз;
Су commet fe géant cobiciïk (t te
\ ftamëtmaiftttfmncoi&Woï}
f&)îat)bttnor)ttmtkfme aa$e
SOuetoutee mee Contes tcu* Seuee
f}cbu tout fùî encorne faicje
$ono6(ïantmairtte6 ptinm mze
"ilefqucffee iap fottfeereceuee
Д>ои^(атащ фбаиГг San (fignp
^euefquèifeftfergttflHffcerucs
Qutffoifffuucnteftre^t^
Франсуа Вильон.
Иллюстрации к стихотворениям Вильона над. 1490 г.
200
РАППЕЕ СРЕДПЕВЕКОВЬЕ
Желчь льется на сердце волной.
И смертный пот... о боже мой!
Заставит смерть его бледнеть,
А жилы кровью налиты;
Рука повиснет, словно плеть;
Совьются нервы, как жгуты.
Вильон кончает патетическим восклицанием, полным страстной неж-
ности и тоски:
О тело женское — и ты,
Ты, драгоценнее, чем май,
Узнаешь ужас пустоты?
Да, иль иди, живое, в рай!
Еще более жуткое впечатление производит знаменитая «Баллада о по-
вешенных», являющаяся как бы обращением нескольких повешенных
(одним из них Вильон воображал самого себя) к прохожим. Их мочил це-
лыми днями дождь, потом солнце сушило их лица, вороны выпили глаза,
а другие птицы выщипали волосы на голове, брови, ресницы;
Качает ветер нас, качает средь полей
Туда, сюда, по дикой прихоти своей.
Баллада заканчивается советом ко всем людям на свете — «жить осто-
рожней и умней», и просьба — «не судить осужденных строго» и помо-
литься о них.
Тем «е менее, мрачные и пессимистические тона берут верх в поэзии
Вильона- лишь в исключительные по трагизму моменты (как, например,
в дни, когда, ожидая казни, он писал свою «Балладу о повешенных»),
вообще же в ней преобладает страстная любовь к жизни. В цитирован-
ных выше строфах из «Большого завещания» Вильон заявляет:
И как Жан Кёр ни знаменит,
Но лучше жить, кляня судьбу,
Чем сохранять надменный вид
И гнить в изваянном гробу]
Точно так же, коря свою возлюбленную за суровость, Вильон грозит
ей наступлением старости и быстрой гибелью красоты, чтобы сделать
вывод:
Скорее пей же эти воды мая!
И преходящего тоской не жаль!
Пока ты свежая и молодая.
Не отягчай, но утоли печаль!
Поэзия Вильона, как и все его мироощущение, полна противоречий. Эту
противоречивость он переносит и на объект своих чувств — любимую жен-
щину;
О нежность, полная жестоких мук.
Вся красота, обманная и злая,
Притворный взгляд, и ласка, и испуг!
Тяжка любовь, и каждый день, пытая,
Меняется и гнет, и нет ей края.
В себе самом Вильон констатирует эти противоречия в балладе, написан-
ной им для поэтического состязания в Блуа — правда, на заданную тему,
но проникнутой большой сердечностью и искренностью: «От жажды уми-
ЛИТЕРАТУРА ПОСЛЕ СТОЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ
201
раю у ручья». Вильон говорит в ней: «Я плачу сквозь слезы и жду без
надежды; нахожу отраду в печальной безнадежности, веселюсь — и не
испытываю никакого удовольствия». И позже, в «Балладе примет»,
Вильон скажет: «Я различаю все, но только не себя».
Вильон — закат раннего средневековья и преддверие Возрождения; в
нем рождается новый человек, который стремится понять себя и не может,
ищет путь и еще не находит его.
Вильон слишком опередил свой век для того, чтобы он мог в свое
время создать школу. Он породил, правда, ряд подражаний, но чисто
внешнего характера. К числу его подражателей относят Гильома Кокиль яра
(Guillaume Coquillart, црибл. 1450—1510; его имя лишь случайно со-
впадает с названием упомянутых выше «кокильяров»), почтенного каноника
в Реймсе, который в молодости писал гротескные и очень скабрезные поэмы;
далее — Аири Бода (Henri Baude, прибл. 1430—1496), автора бурлеаю-
ного «Завещания мула Барбо» («Testament de la mule Barbeau») и других
игривых стишков; наконец, даже Марсиаля д'Овернь (Martial d'Auvergne,
прибл. 1430—1508), имея в виду, конечно, не его биографическую
поэму о Карле VII, а шуточные прозаические «Судебные постановления
любви» («Arrêts d'amour»), в которых он пародирует куртуазный кодекс
сердечного чувства и предания о «судилищах любви» XII в. Но все эти
авторы заимствовали у Вильона лишь отдельные черты стиля, несколько
смелых образов или острых словечек, в то время как глубокое содержание
поэзии Вильона осталось им чуждым и недоступным.
Настоящее влияние Вильона сказывается лишь начиная с XVI в.
Маро, очень чтивший его, издал заново его сочинения. Значительное влия-
ние оказал Вильон на Пьера Гренгуара, еще большее на Рабле, позже на
Матюрена Ренье, очень возможно также — на Лафонтена и Мольера.
С похвалой отзывались о Вильоне строгий Буало и Вольтер. Но особенно
высокую оценку получил Вильон у романтиков — Т. Готье, Гюго и др.,
а также у Бомарше. Несомненно также влияние Вильона на некоторых
символистов, главным образом на Верлена.
Народная поэзия, которая была главным родником творчества
Вильона, около 1450 г. начинает привлекать к себе внимание. К этому
времени относятся первые записи народных песен. Многие из них дошли
до нас в нескольких вариантах, что свидетельствует об интенсивной жизни
их в устном предании, сопровождавшейся творческим преобразованием не-
сенного материала, который воспринимался слушателями и исполнителями
как общее достояние. По этой причине отпадает вопрос об авторстве отдель-
ных песен, которые могли сложиться очень давно и лишь трансформи-
роваться в той или иной степени в XV в. Впрочем, некоторые из песен,
как показывают содержащиеся в них исторические намеки, были новыми, но
опять-таки и они сложились на основе более старых жанровых и стилевых
образцов.
В противоположность сословной городской и особенно куртуазной ли-
рике, народной песне XV в., как и других прошлых веков, свойственны
простота выражения, наивный, но глубокий реализм, задушевность и не-
посредственная человечность — правда, облеченная в исторические формы
своего времени. Мы находим в дошедших до нас сборниках песни любов-
ные, застольные, плясовые, сатирические песни против ревнивых или
обманутых мужей, заплачки, песни военно-патриотические и т. п. Изредка
встречается нечто подобное английским или немецким «балладам» XV—
XVI вв., т. е. песни лирико-эпические, иногда с намеками на актуальные
исторические события; но только во французских песнях такого рода фа-
-209
РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
була очень часто бывает едва намечена, и все изложение гораздо лаконич-
нее: скорее набросок ситуации с сильной эмоциональной окраской (как в
испанских «романсах»), чем сколько-нибудь ясный рассказ. Так, например,
мы встречаем намеки на бои с англичанами в Нормандии, на сражение
при Сент-Омере 1487 г. и т. п., точно так же как в несколько более позд-
них песнях, начала XVI в., упоминаются война Людовика XII с герман-
ским императором Максимилианом во Франш-Конте, Лодовико Сфорца,
«римский король», битва при Форнуово и т. п. Во всех песнях этого рода
звучит горячее патриотическое чувство. К ним примыкают женские любов-
ные песни, обращенные к солдатам или офицерам: красотка просит пере-
дать ее привет славному трубачу или стрелку, которого «легко узнать по
его статному виду...» «Полюбуйтесь на этих славных бойцов» — так на-
чинается одна из песен этой группы.
Необходимо отметить, что куртуазная поэзия оказывала иногда обрат-
ное влияние на народное песенное творчество. Мы встречаем в этих же
сборниках песни с упоминанием «госпожи Венеры» (dame Vénus), аллего-
рическую фигуру Злословия, враждебного любящим, обороты речи и
образы вроде такого: «Ваше нежное сердце унесло с собой мое». Одна
из песен начинается вступительной формулой: «На днях ехал я на коне»,
и дальше рассказывается галантная встреча певца с пастушкой (bergerette).
Зто больше похоже на поздний отголосок куртуазной пастурели, чем на
вариант песен, послуживших ее источником. Однако случаи такого рода
являются исключениями, и в основном мы имеем дело в этих сборниках
с подлинным родником народной поэзии.
Нам известно имя одного из авторов этих песен: это Баслеи (или
Башлен) из Во-де-Вира в Нормандии (Basiselin, Bachelin de Vau de Vire,
т. е. «из долины реки Вир»), о котором предание сообщает, что он был
нормандским сукноделом-валяльщиком, слагал веселые застольные, лю-
бовные и воинственные песни, храбро дрался, как партизан, с англичанами
и был убит ими в одной из стычек около 1450 г. Правда, почти все песни,
которые, раньше ему приписывались, на самом деле были сочинены в
конце XVI или даже в начале XVII в. нормандским; юристом Ле-Гу (Le
Houx), черпавшим свое вдохновение из родника нормандской народной
песни, с некоторой примесью «ученых» влияний. Однако в рукописных
сборниках XV в., быть может, содержится несколько песен самого Бас-
лена или его приятелей. Несомненно, что их маленькая группа создала
особый песенный жанр, называвшийся vaudevire и затем трансформирова-
вшийся в театральный жанр водевиль (vaudeville), что первично озна-
чало пьеску с веселыми песнями народного характера.
5
На ряду с этой живой и исполненной свежести поэзией народного
или полународного происхождения, во второй половине XV в. усиленно
культивируется ученая, условная поэзия придворного типа.
Школа Машо — Дешана в ее чистом виде, с ее аллегоризмом, манер-
ностью, культом формы, находит еще подражателей, но это — слабые эпи-
гоны, не заслуживающие внимания. Исключение составляет только Мар-
тен Лефран (Martin Le Franc, 1410—1463), проявляющий склонность
к ясности выражения и некоторую независимость мысли. В своей поэме
«Борец за дам» («Champion des dames») он, подобно Христине Пизан-
ской, Жерсону и стольким другим, полемизирует с Жаном де Мён, защи-
щая женщин от его нападок. В целом ряде случаев Лефран проявляет здра-
ЛИТЕРАТУРА ПОСЛЕ СТОЛЕТПЕЙ ВОЙНЫ
203
вость суждений, реализм, умение критически подойти к действительности.
Он осуждает пороки духовенства, безделье аристократии, оплакивает
страдания Франции, восхищается подвигом Жанны д'Арк.
Гораздо значительнее своеобразное обновление этой же традиции в
школе так называемых «великих риториков» (les Grands Rhétoriqueurs),
господствовавшей во Франции добрых три четверти века, и даже еще в
период раннего Возрождения, до второй четверти XVI столетия.
Представители этой школы служили по большей части при дворе
бургундских герцогов или состояли секретарями, капелланами, героль-
дами, историографами других знатнейших феодальных домов Франции.
Таковы: глава школы, считавшийся величайшим авторитетом в вопросах
поэзии, Жорж Шателен (Georges Chastellain, род. ок. 1410 г., ум. в 1475 г.),
служивший бургундскому дому с 1434 г., несколько раз выполнявший дип-
ломатические поручения при французском дворе, с 1457 г. — советник гер-
цога, с 1473 г. — историограф бургундского дома; далее Жан Молине (Jean
Moliraet, 1435—1507), Оливье де Ламарш (OUvisr de La Marche, 1425—
1502), a также некоторые подражатели и ученики их, принадлежащие самому
концу XV и началу XVI в., — Жан Мешино (Jean Meschinot), Октавьен
де Сен-Желе (Octavien de Saint-Gelais, дядя поэта Меллена де Сен-Желе,
о котором будет речь при обзоре поэзии Возрождения), Жан Маро (Jean
Marot, отец знаменитого Клемана Маро, поэта Возрождения), Гильом Кре-
тен (Guillaume Crétin), теоретик направления Пьер Фабри (Pierre Fabri)
и мн. др., жившие во Франции, Бретани или Бургундии;.
Многие из этих поэтов, например Шателен, Молине, Оливье де Ла-
марш, были также историками, но труды их в этой области не представ-
ляют особой ценности, являясь по большей части летописно точными и
холодными декоративными полотнами, в отношении красочности и темпе-
рамента чрезвычайно уступающими хроникам Фруассара.
Как лирики или авторы поэм, эти поэты, вполне оправдывая приня-
тое ими наименование (в традиционном значении: «вторая риторика» —
ученая, «мастерская» поэзия), в основном являются последователями школы
Машо — Дашена, еще более своих учителей злоупотребляя аллегоризмом,
символикой и всякими словесными вычурами. Их перу принадлежат бес-
численные циклы стихотворений или поэмы под названием: «Храм
чести и добродетелей», «Сад чести», «Парк благородства» и т. п. Оливье
де Ламарш в своем «Триумфе дам» («Triomphe des dames») придумы-
вает для себя, чтобы угодить своей даме, аллегорический костюм: на нем
надеты туфли смирения, башмаки усердия, штаны постоянства и т. п. Вы-
чурность в такого рода произведениях равняется их банальности. В раз-
нообразнейших размерах, с самой затейливой рифмовкой, «великие рито-
рики» пишут бесчисленные дидактические и морально-религиозные поэмы,
сатиры (довольно беззлобные), послания, разные стихотворения на
случай.
Все же эта школа есть нечто большее, чем доведение до крайности
куртуазной поэтики предшествующего периода. Она содержит два новых
момента, предвосхищающих, хотя еще в очень неуклюжей и наивной
форме, программу Плеяды. Первый — это высокое представление о поэзии
и о миссии поэта как учителя, наставника людей. Поэт требует для
себя славы, всеобщего признания, он адресует свои произведения всему
человечеству. Второй — стремление возвысить поэтический язык и поэзию,
придать ей просвещенный, общеевропейский характер. Первое средство
для этого — наполнение поэтической речи латинизмами, необдуманное,
без меры и толку, скорее засоряющее, чем обогащающее язык. Но
204
РАНПЕЕСРЕДПЕВЕКОВЬЕ
все же некоторые заимствования «великих риториков» оказались удач-
ными. Еще существеннее — подражание латинским писателям, а не-
сколько погаже — писателям итальянского Возрождения. Этим открывался
действительно 'плодотворный путь к расширению диапазона французской
поэзии.
Оба эти прогрессивных момента мы находим осуществленными наи-
более удачно в творчестве последнего из «великих риториков», безусловно
талантливого и оригинального поэта Жана Лемера де Бельж (Jean
Lemaire de Belges, т. е. родом из Бельгии, род. в 1473 г., ум. до 1525 г.).
Его ранние поэмы — «Жалоба Желания» («LaPlainte du Désir») и т. п.—
еще очень банальны, но вслед за тем знакомство с Данте, Петраркой, Бок-
каччо обогащает его поэтическую мысль. В своем рассуждении «Согласие
двух языков» («Concorde des deux langages») Аемер де Бельж доказывает
пользу союза литератур на двух родственных языках — французском и
итальянском. Он вводит во французскую поэзию дантовскую терцину.
Одновременно Лемер вдохновляется Овидием, Стацием и другими латин-
скими поэтами.
Не лишено оригинальности его «Послание зеленого любовника»
(«Epître de l'amant vert»)—загробное послание попугая, уныло скитающе-
гося по царству Плутона в обществе капитолийских гусей, римской волчицы
и т. п., к его бывшей госпоже и владычице его сердца, принцессе Марга-
рите Австрийской. Остроумный гротеск, совмещающийся с известной неж-
ностью чувства, снимает здесь педантическую тяжеловесность риториков
и открывает пути к более живой и динамичной поэзии.
Еще интереснее чисто языческий замысел «Храма Венеры» («Temple
de Vénus»). Первосвященник этого храма, Гений (персонаж, заимствован-
ный из «Романа о Розе»), в длинной проповеди на тему «Кратка весна
жизни» доказывает необходимость для всех живущих повиноваться боже-
ству любви, владыке природы.
Самое крупное и знаменитое произведение Лемера — прозаический
роман со вставными стихами «Прославление Галлии и удивительные
судьбы Трои» («Illustration des Gaules et Singularités de Тгоуе»). Следуя
в изложении Троянской войны апокрифическим Диктису и Дарету, автор
затем оживляет старую легенду о происхождении французов от Франка,
сына Гектора. Несмотря на средневековый оттенок всех этих концепций,
очень поэтичная и красочная проза Лемера содержит немало живописных,
ярко реалистических мест, что побудило Клемана Маро сказать, что в Ле-
мере ожила «душа грека Гомера».
В творчестве Лемера де Бельж сословная куртуазная поэзия «великих
риториков» проникается более широким, гуманистическим содержанием. Не
случайно поэтому Дю Белле и другие представители Плеяды высоко це-
нили его, видя в нем своего предшественника
G
Как показывает содержание многих разобранных выше романов, а
таифкетворчество некоторых «великих риториков», —'всякого рода мемуары,
история текущих дней или недавнего прошлого оказываются в центре вни-
мания. Не в моральных или натурфилософских трактатах, как это было в
XIII—XIV вв., а именно в исторических сочинениях, притом на совре-
менные темы и с выдвижением политической проблематики, находит свое
наиболее яркое выражение дидактическая литература. Высшим достиже-
нием в этой области являются мемуары Коммина.
ЛИТЕРАТУРА ПОСЛЕ СТОЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ
20 S
Филипп де Коммин (Philippe de Commines, прибл. 1446—1511),
уроженец Фландрии, в молодости служил у герцога Бургундского в каче-
стве оруженосца. Вдумчивый наблюдатель, стремившийся отдать себе
отчет во всем окружающем, он не раз видел победы регулярного войска
над пернатыми рыцарями и простых дипломатов — над титулованными пол-
ководцами. Убедившись в слабости военно-политической системы феода-
лизма, он не из соображений карьеры, а по идейным побуждениям пере-
шел на службу к Людовику XI, представителю новых принципов. Коммин
сделался одним из ближайших советников этого короля, затем, после его
смерти, служил Карлу VIII, участвовал в его итальянском походе 1494—
1495 гг. и был послам с важными дипломатическими поручениями в Вене-
цию. При Людовике XII Коммин временно впал в немилость, но затем
вернул себе прежнее положение и участвовал в походе на Геную. С 1490 г.
он начал писать свои «Мемуары» («Mémoires», изд. в 1523 г.) и работал
над ними до самой смерти.
В ^своих записках, содержащих богатейший материал для изучения
правления Людовика XI, итальянских походов, нравов эпохи и т. п., Ком-
мин не старался дать исчерпывающую историю своего времени. Он изо-
бражал только то, что сам видел или знал со слов лиц, которым до конца
доверял. Он не стремился при этом к созданию выразительных портре-
тов и красочных картин, как, например, Фруассар или даже Шателен;
его изложение нередко тяжеловесно, деловито и сухо. Но он старался
объяснить все происходящее, указывая для него реальные причины.
Конечно, Коммин не освободился еще от религиозных догм, и в трудных
случаях он прибегает к понятию «провидения». Но в основном все же он
ищет естественного объяснения вещей, исследуя для этого обстановку, в
которой действовал тот или иной правитель, реальные силы, которыми
он располагал, характеры его слуг и помощников, разные сопутствующие
о бстоятельств а.
Коммина, однако, интересует не столько объяснение прошлого, сколько
возможность на основании прошлого и настоящего предвидеть будущее.
Его «Мемуары» по существу представляют собой политический трак-
тат с иллюстрациями из современной истории. Главная проблема, зани-
мающая его в эту пору подготовки абсолютизма, это — каков должен
быть хороший правитель. Монарху феодального типа, Карлу Смелому,
политика которого носила авантюрный характер, Коммин противопоста-
вляет государя такого склада, как Людовик XI, — действующего разумно,
сообразно выработанному плану, знающего народные нужды и учитываю-
щего все обстоятельства. Выше всего в правителе Коммин ценит ум, здра-
вый смысл: глупость в монархе, по его мнению, хуже жестокости. Очень
смело он заявляет: «Бог установил должность короля не для того, чтобы
ее выполняли дурни». Коммин в своих писаниях отражает характерную
для новых времен окончательную победу ума, расчета, хитрости над гру-
бой феодальной силой.
Однако, придавая огромное значение власти монарха и его личным
качествам, Коммин очень далек от провозглашения принципа абсолютизма.
Напротив, он сторонник ограничения королевской власти. «Государи, —
говорит он, — обыкновенно не знают, до каких пределов простираются их
права, потому что они ничего об этом не читали и ничего не слыхали от
сведущих людей». По его мнению, монарх не есть «владыка» своих под-
данных, имеющий право располагать их жизнью и имуществом по своему
усмотрению, но лишь управитель, обязанный заботиться о благе тех, кто
ему вверен. Монарх может взимать налоги лишь с согласия своих под-
206
РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
данных и употреблять собранные деньги на их нужды, а не на свои соб-
ственные. Он должен также во всех важнейших случаях, особенно когда дело
касается объявления войны, созывать генеральные штаты. Из всех форм
правления Коммину больше всего нравится строй венецианской республики,
напоминающий ему древнеримский. Но он одобряет также политический
строй Англии, где король не может объявить войну без согласия парла-
мента.
Ясно обозначившееся в литературе развенчание феодально-рыцарских
идеалов, новые (политические идеи (Коммин), падение авторитета церкви,
рост рационализма и конкретного чувства действительности, все усиливаю-
щиеся ренессансные веяния, идущие из Италии, новый повышенный инте-
рес к античности и попытки систематического учения у нее, — все это сви-
детельствует о происходящей во Франции интенсивной подготовке Воз-
рождения.
Часть вторая,
Эпоха
Феодального
АБСОЛЮТИЗМА
ОТДЕЛ 1
ВОЗРОЖДЕНИЕ
(XVI в.)
ВВЕДЕНИЕ
убеж между XV и XVI вв. образует важнейшую веху
в истории французской литературы. С самого начала
XVI столетия Франция, подобно всем остальным евро-
пейским странам, оказалась охваченной огромным ум-
ственным движением, называемым Ренессансом или Воз-
рождением. Исторический смысл этого международного
движения заключался в разрушении феодально-церков-
ного мировоззрения и создании новой, светской культу-
ры, основанной на принципах гуманизма.
Энгельс говорит о Возрождении: «Это был вели-
чайший прогрессивный переворот, пережитый до того человечеством, эпоха,
которая нуждалась в титанах и которая породила титанов по силе мысли,
страстности и характеру, по многосторонности и учености. Люди, основав-
шие современное господство буржуазии, были чем угодно, но только не
буржуазно-ограниченными». х
Предпосылкой Ренессанса явились крупнейшие перемены во всем об-
щественно-политическом и экономическом укладе европейских народов, про-
исшедшие или наметившиеся еще во второй половине XV в. Это, в первую
очередь, полная ликвидация крепостного права и замена барщины денеж-
ными отношениями, постепенный переход от средневекового способа произ-
водства (цехового ремесла) к капиталистическому (зарождение мануфак-
тур), обусловленное великими географическими открытиями конца XV в.
развитие внешней торговли, положившее начало будущей колониальной по-
литике. Все это знаменовало выход на мировую арену буржуазии, которая
вырывалась из тесных рамок феодально-цеховой практики и начинала са-
моопределяться как класс, готовящийся к борьбе не только за экономиче-
ское господство, но и за политическую власть.
Вместе со старыми формами жизни рушились и те понятия, которые
являлись идеологическим обоснованием этих форм. На место старого, дог-
матического мировоззрения с его авторитарной моралью и принципом покор-
ности традиционным, санкционированным церковью мнениям и обычаям,
выдвигался новый, гораздо более реалистический подход к действитель-
1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XIV. стр. 476.
212
ВОЗРОЖДЕТТИЕ
ности, отвечавший требованиям новых общественных отношений. Зарож-
далось основанное на разуме и опыте критическое исследование всех вопро-
сов, закладывавшее основы современной философии, техники и науки.
Однако идеологи Ренессанса, называющиеся гуманистами, отнюдь не
были выразителями специфически буржуазных идеалов и интересов. Опол-
чаясь против феодального уклада, буржуазия расшатывала тот строй, ко-
торый являлся средством угнетения всех демократических слоев. Поэтому
на известном этапе она находила в широких народных массах поддержку, без
которой она ничего не могла бы достигнуть. Гуманисты боролись за сво-
боду человеческой личности и человеческой мысли в широком и общем
смысле этого слова. Соответственно этому, опрокидывая феодальные пред-
рассудки, они в то же время обличали циничную погоню за обогащением
и связанны* с нею жесточайшие формы эксплоатации народных масс, ко-
торые типичны для зарождающихся капиталистических отношений, для на-
чинающегося в XVI в. первоначального накопления.
Мощной союзницей гуманизма явилась античность, освоение которой
только теперь по-настоящему началось. Если на протяжении всего раннего
средневековья к ней и обращались, то лишь для того, чтобы заимствовать
из нее отдельные образы, мысли, сентенции или литературные сюжеты,
беря их обычно не из первоисточников, а из компендиумов или коммента-
риев, в полном отрыве от породившего их мироощущения и круга идей.
Сейчас обращаются к подлинникам, к целостным произведениям, стараясь
постичь древних во всем своеобразии их культуры, — и постепенно, хотя
еще очень смутно и приблизительно, становится понятным строй мыслей
и чувств античных поэтов и мыслителей. Их произведения, полные реаль-
ных знаний, живого интереса к миру и человеку, нередко — подлинного
свободолюбия и свободомыслия, служили гуманистам образцами для их
самостоятельного творчества и вместе с тем оружием в их борьбе против
средневекового обскурантизма.
Правда, некоторые гуманисты, превращая средство в цель, доходили
в своем увлечении древностью до того, что становились на путь рабского
подражания ей, писали исключительно на латинском языке и, отрешившись
от живой современности, старались уйти мыслью в античное прошлое. Та-
ким «гуманистам» в узком смысле слова, ученым гуманитариям-классикам,
могут быть противопоставлены гуманисты в широком смысле, для которых
древность была весьма существенным, но все же только подсобным, не всег-
да обязательным средством для выработки вполне современных культур-
ных и нравственных идеалов. Основной их задачей было установление
правильного понимания природы человека (humanum—«человеческое»)
и защита его естественных прав и потребностей, точно так же как и ин-
терес к своеобразию каждой человеческой личности и признание ее прав
на самоопределение. На этом пути помощь еще более существенную, чем
античность, гуманистам оказывало обращение к формам и образам на-
родного поэтического мышления, к фольклору, к народным оценкам обще-
ственных отношений. Только здесь писатели Возрождения могли найти
чистое выражение идей справедливости, равенства людей, свободы совести,
подлинной жизнерадостности и реабилитации плоти. Из этого источника
черпали в первую очередь величайшие художники-гуманисты — Боккаччо,
Рабле, Сервантес, Шекспир. Так народное и ученое начала в Ренессансе
проявляли себя параллельно, подкрепляя друг друга, но не совпадая
между собой до конца.
По размаху и глубине ренессансно-гуманистического движения, по
своим научным и художественным достижениям в общеевропейском масштабе
ВВЕДЕНИЕ
215
Сцена в саду.
Француяская шпалера начала XVI в.
Франция занимает одно из самых первых мест, уступая только Италии. Не
говоря уже о величайших французских писателях этого времени, как, на-
пример, Рабле, Клеман Маро, Ронсар, Дю-Белле, Агриппа д'Обинье, или
о столь же знаменитых философах-моралистах, как Деперье, Монтень и
Шаррон, а также о первых гуманистах (Лефевр д'Этапль, Бюде и др.)» о
которых будет подробно сказано дальше, — можно назвать целый ряд ге-
ниальных французских ученых и мыслителей XVI в., подлинных героев
науки, создавших новые дисциплины или произведших полный перево-
рот в разных областях знания. Таковы из числа натуралистов, историков,
законоведов, филологов и философов — Белон (Belon, 1517—-1564), пред-
шественник Кювье в создании сравнительной анатомии, впервые решив-
шийся сопоставить скелет человека и птицы; Бернар Палисси (Bernard
Palissy, 1510—1589), человек универсальных познаний, керамист, химик,
геолог, естествоиспытатель; Амбруаз Паре (Ambroise Paré, 1517—1590),
один из создателей научной хирургии, основанной на опыте; Пьер Ла-
Раме (Pierre La Ramée, 1515—1572), более известный под латинским име-
нем Петра Рамуса, грамматик, математик, философ, противник аристоте-
лизма и предшественник Декарта, выдвигавший разум на место автори-
тета,— одна из жертв Варфоломеевской ночи 1572 г.; Этьен Пакье (Estienne
Pasquier, 1529—1615), законовед и историк, автор исследования о проис-
хождении французских государственных учреждений; Анри Этьен (Henri
Estienne, 1531—1598), знаменитый типограф, грамматик и эллинист, изу-
чивший все новые европейские языки и ряд восточных, автор монумен-
214
ВОЗРОЖДЕНИЕ
талыного греческого словаря — «Thésaurus linguae graecae» (5 томов, 1572),
и т. д.
Одним из больших достижений эпохи, свидетельствующим о росте
национального сознания во Франции, является выработка национального
языка и утверждение его во всех тех областях общественной и культурной
жизни, где раньше господствовала латынь. Королевский ордонанс в Вил-
лер-Котре 1539 г. предписывает употребление французского языка в трибу-
налах, так же как и во всех официальных актах, общественных или частных.
Он становится языком протестантского богослужения. Все чаще и чаще
появляются ученые труды на французском языке, который и в этой об-
ласти постепенно вытесняет латынь.
Правда, в XVI в. французский литературный язык далеко еще не
нормализовался. Его лексика, синтаксис, орфография, даже фонетика —
не одинаковы у разных писателей. Язык претерпевает бурное развитие,
интенсивно растет, вбирая в себя античные и итальянские элементы. Мно-
гие новшества в нем носят экспериментальный характер, кое-что удержи-
вается, иное отпадает (как, например, некоторые латинские синтаксические
конструкции, которые пытались ввести в него необузданные классицисты).
Появляются многочисленные работы — уже упомянутого Рамуса, Анри
Этьена и его отца Роберта Этьена, Мегре, Беза и др., — посвященные про-
блеме происхождения французского языка, описательной грамматике, орфо-
графии и т. п. По всем этим вопросам ведутся яростные споры, предлага-
ются смелые проекты. Но уже вырисовываются очертания общенациональ-
ного языка, и именно в этот период литературный французский язык в
отношении грамматического строя и фонетики приобретает свой современ-
ный облик.
Несмотря на общеевропейский характер ренессансно-гуманистического
движения, в разных странах процесс протекал не в одинаковых темпах и
выливался далеко не в тождественные формы. Специфика французского
Ренессанса выступает особенно отчетливо при сравнении с тем, как развер-
нулось это движение в Италии. Как известно, в Италии, первой из евро-
пейских стран, вступившей на путь капиталистического развития, оно
проявилось на целых полтора века раньше, чем в других странах Европы.
Поэтому к тому моменту, когда во Франции Возрождение только еще
зачиналось, в Италии оно уже окончательно восторжествовало, отлившись
там во вполне зрелую и законченную форму. По этой причине уже пер-
вые шаги гуманизма и Ренессанса во Франции отмечены сильнейшим
итальянским влиянием. Античность (притом не только латинская, как в
пору раннего итальянского Возрождения, но также и греческая, хорошо
освоенная уже в XV в.) доходила до французских гуманистов в двух
аспектах одновременно—в оригинальном ее виде и в осмыслении итальян-
ских ее комментаторов и подражателей. А на ряду со своей ролью посред-
ницы в этом деле, ренессансная Италия, приобретая небывалый культур-
ный авторитет, оказывала влияние и национальным своим литературным
и научно-философским творчеством, развивавшимся под знаком гуманисти-
ческих идей. Необходимо, однако, заметить, что уже начиная с 30-х годов
XVI в. в Италии обозначается реакция, и гуманизм, испытывающий опре-
деленный кризис, принимает во многих случаях ослабленные и компромисс-
ные формы. Почти с самого начала поэтому французская ренессансная
мысль имела перед собой, как образец для ученья и подражания, творчество
не только цветущей поры итальянского Возрождения, но и поздней,
ущербной ее стадии.
ВВЕДЕНИЕ
21JÎ
Еще важнее то, что все эти культурные и идейные веяния падали на
существенно иную социальную почву. В наибольшей части северной, а кое-
где и в средней Италии к XIII в. уже произошел переворот, в результате
которого возникли купеческие республики (Флоренция, Генуя, Пиза и т. д),
где вся власть оказалась в руках горожан. Наоборот, во Франции, где
буржуазное развитие, по сравнению с Италией, было чрезвычайно замед-
ленным, господствующим классом продолжало оставаться земельное дво-
рянство. Конечно, в эту пору роста французского абсолютизма буржуазия
тоже чрезвычайно усиливалась. Как указывает Маркс, «абсолютная монар-
хия возникает в переходные эпохи, когда старые феодальные сословия раз-
лагаются, а средневековое сословие горожан складывается в современный
класс буржуазии и ни одна из' спорящих сторон не взяла еще перевеса над
другой». '
Равным образом и Энгельс, говоря о борьбе буржуазии против фео-
дального дворянства, замечает: «В течение всей этой борьбы политическая
сила была на стороне дворянства, за исключением одного периода, когда
королевская власть употребляла буржуазию против дворянства с наме-
рением ослабить одно сословие посредством другого». 2
Рост удельного веса и влияния французской буржуазии в XVI в.
проявляется, между прочим, в том, что в это время чрезвычайно расши-
ряется сформировавшийся еще в предыдущем веке слой наследственной
бюрократии из горожан в суде и в администрации. При этом часть бур-
жуазии одворянивается, скупая земли тех дворян, которые обеднели в ре-
зультате революции цен. В частности, Франциск I широко раздавал дво-
рянские грамоты, способствуя образованию нового дворянства из буржуа-
зии и стараясь превратить старую феодальную аристократию в покорную
придворную знать.
Избегая, в отличие от английской буржуазии того времени, пускаться
в рискованные предприятия и не развивая, по причине отсутствия удобных
рынков, большой внешней торговли, французская буржуазия была склонна
к спокойным местам и постоянному, верному доходу. Она предпочитала
ростовщическую деятельность, реализуя государственные займы и усиленно
вкладывая деньги в крестьянское хозяйство.
Одновременно с интенсивным подъемом буржуазии наблюдается неко-
торое ослабление дворянства, которое все меньше принимает участие в хозяй-
ственной жизни страны и ведет паразитарное существование, живя на фео-
дальную ренту с крестьян, на доходы с войны или на королевские пенсии
и подачки. Тем не менее, дворянство продолжает сохранять командные
позиции. Пред лицом крепнущей буржуазии и угрозой крестьянских вос-
станий оно цепляется за королевскую власть, как за гарантию сохранения
своих привилегий, и выдвигает систему феодального абсолютизма, иначе
говоря, дворянской диктатуры, охраняющей феодальные основы общества
и подавляющей всякого рода революционные движения в городе и в де-
ревне.
Из всего сказанного вытекает значительная отсталость французской бур-
жуазии XVI в. по сравнению с буржуазией итальянской или даже англий-
ской, копромиссный характер ее идеологии, нерешительность ее первых
попыток борьбы за власть. В соответствии с этим французская буржуазия
принимала в гуманистическом движении сравнительно слабое участие и на
1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. V, стр. 212.
2 Анти-Дюринг. К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XIV, стр. 167.—Под этим
периодом» Энгельс подразумевает раннюю стадию первоначального накопления, т. е.
XVI век.
216
ВОЗРОЖДЕППЕ
первых порах даже встретила новые идеи и нравы с явным недоверием.
Сторонники гуманизма вербовались, главным образом, из среды молодежи
наиболее передовой части дворянства, в силу своего привилегированного
положения имевшей доступ к высшим формам образования и особенно
впечатлительной к культурным веяниям, шедшим из Италии. Отсюда,
если брать французский Ренессанс в целом, значительная — большая,
чем в Италии, Англии и Германии — примесь в нем дворянских
воззрений, вкусов и навыков мысли. Но, конечно, в творчестве
высших представителей французского Ренессанса эти дворянские
элементы более или менее преодолеваются, и в отдельных слу-
чаях гуманистическая мысль достигает во Франции исключительной
высоты, делающей ее образцом и руководительницей для всей остальной
Европы (творчество Рабле, Ронсара, Монтеня).
Наконец, очень важным моментом, своеобразно окрасившим фран-
цузский Ренессанс и повлиявшим на его судьбы, являются особые взаимо-
отношения его с Реформацией. В отличие от Италии, почти не знавшей
Реформации, и Англии, где англиканство было внедрено в первой поло-
вине века «сверху» мирным путем, — во Франции, как и в- Германии,
гуманизм столкнулся в XVI в. с воинствующим реформационным движе-
нием. Вначале это движение в основном было созвучно гуманизму, не
совпадая, однако, с ним до конца, но впоследствии, особенно после 1560 г.,
когда во французском протестантизме (иначе называемом кальвинизмом
или гугенотством) усилились фанатические настроения, пути их значи-
тельно разошлись, и отношения между ними приобрели двойственный
характер. Если в некоторых случаях моральный пафос протестантизма оплодо-
творяет поэзию, заостряя и по-новому оживляя ее гуманистическое содер-
жание (творчество Агриппы д'Обинье), то нередко гугенотство своей аске-
тически религиозной направленностью резко противостоит гуманизму.
Вообще говоря, реформационное движение во Франции не могло до
такой степени подорвать гуманизм, как это случилось в Германии. Прежде
всего, во Франции не было таких условий для развития Реформации,
как в Германии. Раннее развитие крепкой центральной власти привело
к подчинению королю французской церкви, закрепленному Болонским кон-
кордатом 1516 г. между Франциском I и папой. При относительной не-
зависимости французской церкви от Рима и, следовательно, при отсутствии
постоянного тягостного вмешательства и ужасающих поборов со стороны
последнего, здесь не было такой почвы для недовольства Римом, как в
Германии. Кроме того, в относительной слабости реформацианного движе-
ния во Франции, которое захватило лишь небольшую часть буржуазии
и совершенно не затронуло народных масс, сыграла роль специфика куль-
турной истории романских и германских стран: «Германские народы, — го-
ворит Энгельс в уже цитированном «Старом введении к Диалектике при-
роды», — в своем большинстве приняли протестантизм, между тем как
у романских народов стало все более и более укореняться перешедшее от
арабов и питавшееся новооткрытой греческой философией жизнерадостное
свободомыслие, подготовившее материализм XVIII столетия». !
В отношении Франции следует также отметить, что здесь идеология
католицизма в годы контрреформации не имела такого сурового харак-
тера, как, например, в Италии, не говоря уже об Испании. Французскому
католицизму XVI в. чужд дух аскетизма и мистицизма. Отдельные про-
явления фанатизма носят эпизодический характер, и даже Варфоломеев-
1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XIV, стр. 476.
иВЕДЕНПЕ
ЧЧ
екая ночь с ее ужасами была актом скорее политического, чем религиоз-
ного ожесточения.
Начало французского гуманизма — правда, пока только в узком,
«филологическом» значении этого слова — относится еще к концу XV в.,
когда тесные торговые связи с Италией (здесь сыграл огромную роль
Лион, второй город Франции, славившийся своей промышленностью и
торговлей и в культурном отношении соперничавший с Парижем), а также
итальянские походы Карла VIII и Людовика XII проложили путь и для
культурных влияний. Уже в 1488 г., например, итальянец Андрелини,
писавший латинские стихи, за которые он в молодости был увенчан в Риме
лавровым венком, переселился в Париж и получил там кафедру риторики
и поэзии, а также звание «королевского поэта». Пример его нашел
в XVI в. многочисленных подражателей. Грек Андрей-Иоанн Ласкарис
(1445—1535), живший сначала во Флоренции, при дворе Лоренцо Вели-
колепного, которому он привез много рукописей с Востока, перебрался
затем в Париж, где сделался преподавателем древнегреческого языка и
способствовал основанию королевской библиотеки. Самым выдающимся
из ученых итальянцев был Юлий Цезарь Скалигер (1484—1558), врач,
филолог и критик, переселившийся во Францию в 1529 г., автор знамени-
той латинской «Поэтики» (изд. в Лионе в 1561 г.), в которой им были
изложены принципы ученой гуманистической драмы.
Быстрый расцвет гуманистической мысли и вообще ренессансного
искусства во Франции падает на первую половину царствования Фран-
циска I (1515—1547), итальянские походы которого очень расширили и
укрепили культурный контакт между двумя народами. Молодые француз-
ские дворяне его армии, попав в Италию, были ослеплены всем тем, что они
там увидели. Великолепные дворцы, богатство городов, роскошные одежды
и убранство домов, невиданные произведения искусства, изящество манер,
веселая и привольная жизнь, полная наслаждений, — все это приводило
их в восхищение. Немедленно началось усиленное освоение итальянской
ренессансной культуры во Франции. Франциск I привлек на службу к
себе лучших итальянских художников того времени — Леонардо да Винчи,
Андреа дель Сарто, Бенвенуто Челлини. Итальянские архитекторы строят
ему замки в Блуа, Шамборе, Шенонсо, Фонтенебло. В эти годы возни-
кают, один за другим, переводы Данте, Петрарки, Боккаччо, Саннадзаро
и т. д.
К этому же времени относится проникновение во французский язык
огромного количества слов итальянского происхождения, относящихся
к сфере искусства, поэзии, военного и инженерного дела, коммерции, свет-
ских увеселений и т. п., — словом, ко всем тем областям, в которых Италии
того времени безусловно принадлежало первенство.
Дело, однако, не ограничивалось одними итальянскими влияниями.
На ряду с ними углубляется изучение древности, также очень поощряв-
шееся Франциском I. В первые же годы своего царствования он велел
издать «для поучения французского дворянства» переводы Фукидида,
Ксенофонта, Диодора Сицилийского и т. п. Он заказал Гюгу Салелю
перевод поэм Гомера, лично убедил Амио начать знаменитый его перевод
Плутарха; он покупал в Венеции греческие рукописи, позволял ученым
пользоваться королевской библиотекой в Фонтенебло, назначал перевод-
чикам пенсии.
Франциск I хотел лично возглавить французский Ренессанс для того,
чтобы направлять и держать под своим контролем умственное движение
своего времени. На самом деле, конечно, он только шел вслед за ним. Этот
218
ВОЗРОЖДЕНИЕ
Замок Блуа. Фасад, выходящий во двор.
Окончен около 1520 г.
король любил, чтобы его называли «отцом словесности» (père des lettres).
Для такой роли он был наделен довольно скромными данными. Правда, он
обладал довольно хорошим вкусом и был любознателен. Постоянно окру-
жая себя учеными и поэтами, он засыпал их вопросами и многое черпал
из их бесед. Но все же он не блистал образованностью и едва ли даже
знал латинский язык. Легкомысленный и грубо чувственный (его цинич-
ные похождения увековечены Гюго в пьесе «Король забавляется»), жесто-
кий и деспотичный, Франциск был в состоянии воспринять в поэзии и
искусстве лишь самые внешние их стороны, — то, что забавляло, ласкало
глаз или чувства. В ренессансной философии его привлекало лишь отри-
цание всех преград, ограничивающих свободу удовлетворения чувственных
желаний.
Франциск, однако, имел хороших советников. Из них на первое место
должен быть поставлен один из ученейших людей и крупнейших гумани-
стов эпохи, Гильом Бюде (Guillaume Budé, 1468—1540), занимавший долж-
ность сначала секретаря Франциска, затем докладчика прошений в его кан-
целярии, наконец, его библиотекаря. Бюде принадлежит огромное число тру-
дов на латинском языке по философии, истории, филологии, математике,
юридическим наукам. Из них чрезвычайно ценились переводы нескольких
трактатов Плутарха на латинский язык, два тома «Замечаний к пандек-
там», исследование о древнеримских монетах — «De asse», представляющее
собою обстоятельный труд по экономике античного Рима, «Комментарии
к греческому языку», немало способствовавшие укреплению во Франции
эллинистики, трактат «О филологии» и т. д. Основная мысль Бюде, руко-
водившая всей его деятельностью, заключалась в том, что филология —
главная основа образованности, что изучение древней литературы и
языков расширяет человеческую личность, возвышает ее достоинство.
ВВЕДЕНИЕ
219
Многое во взглядах Бюде на религию, мораль, воспитание сближает его
с Эразмом Роттердамским. Своими письмами к молодому Рабле, тогда
еще монаху-францисканцу, Бюде ободрял его в занятиях греческими
авторами. Под конец жизни на Бюде пало подозрение в тайной принадлеж-
ности к кальвинизму.
Крупнейшим делам Бюде был осуществленный Франциском I план со-
здания светского университета, в котором преподавание было бы основано
не на схоластике, как в Сорбонне, а на филологии. Так возникла в 1530 г.
Коллегия королевских лекторов (Collège des lecteurs royaux), переимено-
ванная впоследствии, уже во время французской революции, в «Collège de
France». Эта, по выражению Клемана Маро, «благородная трехъязычная
академия» (ибо все дисциплины в ней строились на основе изучения трех
языков — латинского, греческого и древнееврейского) сразу же стала ци-
таделью свободного, гуманистического знания, в противовес старой, бого-
словской Сорбонне.
На ряду с Франциском I, другой покровительницей новых идей была
его сестра, Маргарита Ангулемская (1492—1549), обычно называемая, по
титулу своего второго мужа, короля Наварры, Маргаритой Наваррской.
Ее деятельность, однако, не носила такого характера тяжеловесной опеки
и была несравненно более гуманной в истинном значении этого слова. Об-
ладая незаурядной образованностью (она знала, например, кроме несколь-
ких новых языков, также и латинский, а в последние годы жизни начала
изучать даже древнееврейский), она не стесняла творчества состоявших на
ее службе поэтов и гуманистов даже в тех случаях, когда оно выливалось
в формы, весьма чуждые ее собственному мировоззрению. Огромное коли-
чество сил и времени она уделяла хлопотам по защите от преследования
свободомыслящих разного толка, в первую очередь протестантов.
Большую терпимость к протестантам проявлял вначале и сам Фран-
циск I. Первыми протестантами во Франции были разрозненные интелли-
генты гуманистического образа мыслей, подходившие критически ко всем
вопросам, не исключая и основ религии, но при этом натуры философски-
созерцательные, не склонные к проповедничеству и борьбе. Выдающийся
математик и эллинист Лефевр д'Этапль (Lefèvre d'Etaples, 1455—1537), по-
бывавший в Италии и проникшийся там, благодаря беседам с Марсилио Фи-
чино и Пико де Ла-Мирандола, идеями платоновской философии, начал,
вернувшись во Францию, толковать Аристотеля и других греческих авто-
ров по новому способу, т. е. обращаясь исключительно к первоисточникам
и стараясь проникнуть в их подлинный смысл, затемненный схоластиче-
скими комментаторами. Вслед затем у Лефевра явилась мысль применить
тот же метод и к книгам «священного писания». И здесь он обнаружил,
что ни на посты, ни на безбрачие духовенства, ни на большинство таинств
и т. п. в Евангелии не содержится ни малейшего намека. Отсюда — воз-
никшая у него и его друзей мысль вернуться к первоначальной чистоте
евангельского учения — создать «евангелическое» вероисповедание.
Углубляясь далее в рассмотрение принципов христианства, Лефевр
еще в 1512 г., т. е. за пять лет до выступления Лютера, выдвинул два
положения, ставшие затем основными для протестантизма всех толков:
1 ) оправдание верой, 2) «священное писание» как единственная основа рели-
гиозного учения.
Для укрепления новой доктрины Лефевр опубликовал свой перевод
Библии — первый на французском языке. Сорбонна, разумеется, осудила
этот перевод, как и вообще всю новую «ересь». Несколько последователей
Лефевра было казнено, а самому ему пришлось бежать за границу. Однако
220
ВОЗРОЖДЕНИИ
вернувшийся в 1526 г. из мадридского плена Франциск I реабилитировал
Аефевра, назначив его воспитателем своего малолетнего сына, а конец своей
жизни Лефевр провел мирно в Нераке, под надежной защитой Маргариты
Наваррской.
Правда, и после этого преследования протестантов не прекратились.
Так, например, в 1529 г. был сожжен на костре виднейший из последова-
телей Лефевра, Беркен. Однако духовные власти орудовали здесь помимо
короля, находившего неудобным слишком открыто им противодействовать.
Между тем, сам Франциск I одно время даже подчеркивал свои симпатии
к Реформации по политическим причинам, ища союза с немецкими проте-
стантскими князьями против императора. Дело дошло до того, что в 1534 г.
в Париж были приглашены из Германии Буцер и Меланхтон для обсужде-
ния плана введения во Франции Реформации «сверху». Но как раз в это
время ясно обнаружилась социально-политическая основа протестантизма
(недостаточно отчетливо выступавшая в деятельности Лефевра д'Этапль)
и та опасность, которая таилась в нем для существующего строя. От-
сюда — внезапный поворот в отношении Франциска I к протестантизму и
заодно также к гуманизму.
Внешним поводом для этого послужило следующее обстоятельство.
В ночь на 18 октября 1534 г. на стенах общественных зданий в Париже
и в других городах, и даже на дверях королевской спальни в Амбуазе,
оказались расклеены плакаты, в которых содержались самые резкие нападки
на католических епископов и папу, с требованием немедленно воспретить
«идолопоклонство», именуемое католической мессой. Такого вмешатель-
ства «снизу» в дела правления Франциск не мог перенести. Он организо-
вал покаянную процессию, в которой шествовал сам с непокрытой головой,
со свечою в руке, и разрешил парламенту начать преследование всех лиц,
заподозренных в лютеранстве, в результате чего два десятка реформатов
были сожжены. Кроме того, Франциск сгоряча запретил вообще книгопе-
чатание, которому раньше весьма покровительствовал; впрочем, этот при-
каз не был приведен в исполнение. Успокоившись, Франциск объявил
амнистию, однако его благожелательности к свободомыслящим наступил
конец. Казни «еретиков» и «безбожников» отныне стали обычным явле-
нием. Одним из случаев самого вопиющего произвола было сожжение на
костре в 1546 г., без всякого основания, выдающегося ученого и типо-
графа Этьена Доле (Etienne Dolet).
История с плакатами, конечно, была лишь толчком к пересмотру Фран-
циском его вероисповедной и культурной политики. Поворот этот опреде-
лялся общим положением дел не только во Франции, но и во всей
Европе. В Германии буржуазия и известные слои дворянства, поддержи-
вавшие раньше гуманистические идеи, в 30-х годах пугаются революцион-
ных народных движений, вызванных Реформацией (Фома Мюнцер, анабап-
тисты в Мюнстере), и переходят на реакционные позиции. Этими же го-
дами датируется начало реакции в Италии. Вскоре затем созывается Три-
дентский собор (1545—1563), на котором декретируются реакционнейшие
постановления, касающиеся церковной и светской политики, затрагиваю-
щие все области частной и государственной жизни. Заботу о проведении
этих постановлений в жизнь берет на себя орден иезуитов, основанный в
1534 г. и официально утвержденный папою в 1540 г. В середине века во
Франции делались даже попытки восстановления средневековой инквизиции
по образцу действовавшей в то время в Испании. Во всем этом движении
европейские правители и князья церкви шли на поводу у господствующих
классов.
ПВЕДЕПИБ
221
В середине 30-х годов французский протестантизм принимает вполне
отчетливые очертания. Главою его становится Жан Кальвин (1509—1564),
переселившийся в 1536 г. из Франции в Женеву, которая отныне делается
главным центром кальвинизма, управляющим всем протестантским движе-
нием во Франции. В том же 1536 г. Кальвин окончательно формулирует
свое учение в «Institutio religionis christianae» («Наставление в христианской
вере»), переизданном им по-французски пять лет спустя. Отныне созерца-
тельный, утопический евангелизм сменяется суровым, воинствующим каль-
винизмом.
Реформация в целом была порождена ростом городов, процессом перво-
начального накопления. Ее буржуазная сущность отчетливо выступает в
учении Кальвина, который рекомендует бережливость и накопление бо-
гатств, оправдывает ростовщичество и допускает даже рабство. Основою
доктрины Кальвина являются два положения — о «предопределении» и о
невмешательстве бога в жизнь мира, подчиненную незыблемым законам.
Согласно первому из них, каждый человек от рождения предназначен
либо к вечному блаженству, либо к вечным мукам, независимо от того,
как он будет вести себя в жизни. Он не знает, к чему предназначен, но
должен думать, что его ждет спасение, и обязан всей своей жизнью по-
казывать это. Таким образом, доктрина «предопределения» ведет не к фа-
тализму и пассивности, а. напротив, является побудителем к действию.
Энгельс говорит о Кальвине: «Его учение о предопределении было
религиозным выражением того факта, что в мире торговли и конкуренции
удача или банкротство зависят не от деятельности или искусства отдель-
ных лиц, а от обстоятельств, от них не зависящих. «Определяет не воля
или действия какого-либо отдельного человека, а милосердие» могуще-
ственных, но неведомых экономических сил. И это было особенно верно в
эпоху экономического переворота, когда все старые торговые пути и торго-
вые центры вытеснялись новыми, когда были открыты Америка и Индия,
когда даже издревле почитаемый экономический символ веры — ценность
золота и серебра — пошатнулся и потерпел крушение».1
Последователи Кальвина из его основных положений о предопреде-
лении и о невмешательстве бога развивают учение о «мирском призвании»,
согласно которому каждый должен стремиться извлечь из своей профессии
как можно больше прибыли и выгоды, и о «мирском аскетизме», предпи-
сывающем бережливость и умеренность в удовлетворении своих потребно-
стей ради приумножения своего имущества. Отсюда — взгляд на работу как
на «долг» и превращение жажды накопления в «добродетель» накопления.
Несмотря на ясно выраженную буржуазную природу кальвинизма, он
нашел многочисленных сторонников среди дворянства. Особенно это наблю-
дается на сравнительно недавно присоединенном юге Франции, где, не
говоря уже о старинных глубоких связях между дворянством и верхними
слоями городского населения, дворянство долго не могло помириться
с утратой своих феодальных вольностей и было настроено враждебно по
отношению к королевской власти. В связи с этим, если раньше протестан-
тизм распространялся почти исключительно среди буржуазии, и притом
более или менее равномерно по всей Франции, то начиная с 40-х годов
он приобретает множество сторонников среди южнофранцузских дворян.
Обстоятельства сложились даже так, что именно эти дворяне, боровшиеся
за свои феодальные вольности против королевского абсолютизма, оказа-
лись организаторами движения, приведшего к «религиозным», лучше ска-
1 К. Маркс и Ф Энгельс, Сочинения, т. XVI, ч. II, стр. 297.
222
ВОЗРОЖДЕНИЕ
зать — гражданским войнам второй половины XVI в. Но, конечно, дво-
ряне были идейно наименее устойчивой частью протестантского лагеря, и
в зависимости от соображений политики и личной выгоды они с легкостью
меняли вероисповедание.
С другой стороны, и католическая партия была довольно сложной по
составу, включая в себя, кроме севернофранцузского дворянства, также и
наибольшую часть буржуазии. На севере и феодальные и городские круги,
особенно буржуазия Парижа, были одинаково заинтересованы в удержа-
нии Юга в составе французского государства и потому энергично под-
держивали стремление к централизации под знаменем государственного и
религиозного единства. Однако и в католическом лагере были очень
сильны феодально-аристократические тенденции, которые ярко проявились
в Католической лиге, созданной в 1.576 г. для борьбы с протестантами.
Лига ставила целью при поддержке католической Испании свергнуть ди-
настию Валуа, заменив ее Гизами.
Вообще говоря, вполне национальной партии во Франции того времени
не было. Гугеноты, в конечном счете стремившиеся, хотя и особыми, слож-
ными путями, к объединению и укреплению Франции, в процессе борьбы
вынуждены были обращаться за помощью к своим единоверцам в Герма-
нии, Голландии и Англии, и был момент, когда в разгар религиозных
войн, после Варфоломеевской ночи, весь юг Франции был превращен ими
в своего рода автономную республику, где власть была поделена между
дворянством и городским патрициатом. Но еще дальше заходили католики,
поскольку главари Лиги одно время подумывали о передаче французской
короны испанскому королю Филиппу II. Ни католики, ни гугеноты не
имели настоящей опоры в народе. Подлинный революционный патриотизм
можно было встретить в те времена только в народе — у крестьян или у
городских плебейских масс; вконец разоренные гражданскими войнами
и доведенные до отчаяния, они вдруг поднимались, как их прадеды
в Столетнюю войну, чтобы бить зараз и испанских солдат, и немецких
рейтаров, и своих собственных дворян-помещиков любой политической груп-
пировки и любого вероисповедания. Но эти крестьянские восстания, из
которых крупнейшие происходили около 1580 и около 1590 г., не могли
увенчаться успехом и безжалостно подавлялись, нередко с помощью пре-
дательства и измены.
При таких обстоятельствах вполне естественно, что гуманизм имел с
обеими партиями некоторые пункты соприкосновения, но еще больше пунк-
тов расхождения. К католической партии гуманистов могла привлекать
идея национального единства, залог которого многие из них усматривали
в укреплении династии Валуа, а также некоторая близость к народу, кото-
рый был крайне нерасположен к гугенотству. Таковы, например, позиции
Ронсара и других участников Плеяды. Но большинство гуманистов не
могло, конечно, мириться с порочностью ничтожных Валуа, как и с узо-
стью мысли и суевериями католицизма. Что касается протестанизма, с ко-
торым гуманизм на первом этапе развивался рука об руку, то уже с конца
30-х годов учение Кальвина и его действия обусловили решительный раз-
рыв между ними. Скоро обнаружилось, что свобода совести и свобода
исследования, являвшиеся первой и необходимейшей предпосылкой гума-
нистической мысли, отрицались Кальвином не в меньшей степени, чем ка-
толической церковью. Проявления жестокого фанатизма, как, например,
сожжение Кальвином в 1553 г. Михаила Сервета, еще более оттолкнули
от Реформации французских гуманистов. И все же рационалистическая
закваска кальвинизма, его героический дух, его высокая нравственная тре-
ВВЕДЕПИБ
225
бовательность и мечта о каком-то идеальном устройстве человеческого
общества заставляли примыкать к гугенотству очень многих гуманистов:
таковы, например, Дю Бартас и Агриипа д'Обинье, а из более ранних —
Клеман Маро.
Однако наиболее глубокие гуманисты и величайшие писатели фран-
цузского Ренессанса, как Рабле, Деперье, Монтень, сторонились религиоз-
ной распри, одинаково чуждые фанатизму под знаком как Рима, так и Же-
невы, и скорее всего склонялись к религиозному свободомыслию.
Правление дегенеративных внуков Франциска I, Карла IX (1560—
1574) и Генриха III (1574—1589), погрузило Францию в анархию, а ре-
лигиозные войны, продолжавшиеся, с небольшими перерывами, с 1561 по
1594 г., когда наступило умиротворение под властью Генриха IV, залили
страну кровью и довели ее до неслыханного разорения. Эти невзгоды не
в состоянии были убить гуманизм или затормозить умственное развитие
Франции. Они, однако, ускорили и углубили тот общий для всей Европы
второй половины XVI в. кризис гуманизма, который является пло-
дом разочарования лучшей части человечества, сознания ею неосуществи-
мости гуманистических идеалов. Но, с другой стороны, эти тяжелые испы-
тания и общественная разруха усилили зоркость писателей позднего Ре-
нессанса и дали им возможность особенно ярко отразить в своем творчестве
трагизм социальных противоречий.
Литература французского Ренессанса так же сложна и подвижна, как
и сама история Франции, нашедшая в ней свое отражение. Сильнейшие
идейные и литературные влияния со стороны античности и Италии, огром-
ные внутренние потрясения, шаткость и противоречивость социальной
базы — все это придает литературе крайне сложный, неустойчивый, теку-
чий характер в отношении жанров, форм, стиля, поэтической техники. Но
именно эта неопределенность и изменчивость представляют собой наиболее
выразительную и показательную черту французской ренессансной литера-
туры, взятой в целом, ибо она соответствует типичному для Возрождения
переходу от всякого схематизма и догматики к индивидуализации и живой
динамике. В следующем веке эта гибкость и текучесть чувств и художест-
венных точек зрения будет уже утрачена.
Крупнейшие писатели XVI в., воспитавшиеся на гуманистических прин-
ципах, меняют свой облик, приобретая черты типичного для Ренессанса
«универсального человека» (uomo universale), ко всему восприимчивого и
причастного. Творчество этих людей, зачастую являющихся учеными, фи-
лософами, писателями, политическими борцами, чрезвычайно разносторон-
не. Высшее проявление такой многогранности — творчество и жизненная
деятельность Рабле, врача, естествоведа, археолога, юриста, философа, фи-
лолога и гениального сатирического писателя. Большую разносторонность,
хотя и не в такой степени, можно наблюдать в творчестве Маро, Марга-
риты Наваррской, Ронсара, д'Обинье и мн. др.
Типическими чертами, общими более или менее для всех писателей
века, являются, с одной стороны, — стихийный материализм, жадное любо-
пытство ко всему конкретному и вещественному, с другой стороны, —
культ прекрасного, забота об изяществе формы, любовь к чувственной
красоте. Этими моментами, в различном, их сочетании, определяется,
главным образом, большинство новых жанров и разновидностей стиля,
выдвинутых французским Ренессансом. Такова, например, колоритно
и реалистически разработанная новелла у Маргариты Наваррской и Де-
перье, своеобразная форма сатирического романа-эпопеи Рабле, новая ма-
нера в лирике, выдвинутая Ронсаром и Плеядой, зачатки ренессансной свет-
224
1103Р0Л;ДЕНПЕ
ской трагедии и комедии, анекдотически-нравописательный тип мемуаров
(Брантом и др.)» гражданская обличительная поэзия Дю Бартаса и
д'Обинье, философские «опыты» (essais) Монтеня и т. п.
Как для поэзии, так и для прозы французского Ренессанса характе-
рен как бы расширенный, более реалистический подход к действительности,
соответствующий в живописи концу примитивной техники, свойственной
средневековым миниатюрам, и появлению ракурса и перспективы. Вместе
с тем образы — и это относится даже к самым сухим и рационалистиче-
ским писателям — освобождаются от абстрактности и становятся кон-
кретными и чувственными. Вместо прежних готовых формул и схем в опи-
саниях, характеристиках, в построении самой фабулы появляется инди-
видуализация, тонкие дополнительные оттенки, делающие картину живой.
Преодоление старой «прямолинейности», овладение искусством перспективы
приводят к коренному изменению соотношений между поучительным и раз-
влекательным элементами в литературе. Конечно, в известных областях
они еще продолжают существовать раздельно (например, в публицистике ре-
лигиозных войн или в придворной антологической поэзии того же времени),
но общая, «большая» литература уже по-новому объединяет эти два мо-
мента. Поучительность вытекает уже не из искусственно вводимой в мате-
риал морализации, а из объективного показа действительности, из жизнен-
ности и убедительности образов. Иначе говоря, в наиболее характерной и
значительной части литературы художественная правдивость становится
средством выражения идейного содержания и вместе с тем мерилом его.
Основным же предметом изображения делается человек в его начинающей
только теперь впервые раскрываться разносторонности и изменчивости.
Путями исторического развития Франции XVI в. определяются основ-
ные этапы развития ее ренессансной литературы. Первым большим эта-
пом является литература первой половины века, когда происходит стре-
мительное развитие и освоение гуманистических идей, создание адэкватных
им литературных форм и манер, полное творческого вдохновения и опти-
мизма. Это, так сказать, Ренессанс на подъеме, когда еще не успело вполне
сказаться разрушительное действие религиозного и политического раскола.
Из общей массы литературной продукции этого периода должно быть
выделено творчество Рабле, по своей исключительной общеевропейской
ценности заслуживающее особого рассмотрения.
Второй этап ренессансной литературы, иначе говоря, литература позд-
него Возрождения, ознаменован двумя течениями. Одно из них, приходя-
щееся, главным образом, на третью четверть XVI столетия, но частично,
в эпигонских формах, продолжающееся до самого конца века, представляет
собой попытку создать в новых, трудных и тревожных условиях, на сильно
уже подорванной гуманистической базе, новую большую поэзию, которая
выражала бы общенациональные, полные глубокой и свободной человеч-
ности идеалы. Это — лирика Плеяды и примыкающие к ней литературные
явления, главным образом в области драматургии. Другое течение, начав-
шееся в 60-х годах, но падающее главным образом на последнюю четверть
века, отражает непосредственным образом кипучую деятельность, страстные
схватки и брожение умов, вызванные гражданскими войнами. Литература
этого времени подводит как бы итоги всему французскому Ренессансу и
вместе с тем подготовляет новые течения, которые разовьются в XVII в.
ГЛАВА I
РАННЕЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ
(ПЕРВАЯ ПОЛОВППА XVI В.)
I
области поэзии наиболее яркой фигурой первой поло-
дины века является Клеман Маро (Clément Marot,
1496—1544\ сын Жана Маро, придворного поэта Анны
Бретонской, жены Людовика XII.
Маро не получил систематического образования.
В литературу его посвятил отец, примыкавший к «вели-
ким риторикам», отчасти Жан Лемер. Юношеская поэма
Маро «Храм Кули дона» («Temple de Cupido») напи-
сана в их манере. О своем пребывании в школе Маро
вспоминал впоследствии с грустью, как о «потерян-
ных» годах, и винил в этом своих наставников, которых он называл
«большими дураками». Жизнь была его подлинной и единственной
школой. Ее первой ступенью была работа в конторе стряпчего, что ввело
его в проказливую и бесшабашную среду «Базоши» и «Беззаботных
ребят», с которыми он долго поддерживал отношения и от которых
усвоил некоторые повадки. Затем началась придворная служба, сперва
у одного крупного сеньера, позже—при дворе Маргариты Наваррской
и Франциска I. Известную роль сыграло впоследствии и пребывание
Маро у герцогини Ренаты в Ферраре, где он укрылся от религиозных
преследований после 1534 г. Еще большее образовательное значение имело
для Маро общение его, отчасти в связи с придворной службой, с рядом
писателей, ученых и выдающихся людей Франции и Италии. Все это
вместе взятое пополнило его образование. Но из Маро никогда не вышло
ученого гуманиста, да он и не мог стать им в силу своих природных
свойств. Гуманистические знакомства привили ему, однако, известный
интерес к латинской литературе и побудили заняться латинским языком.
Если его ранние переводы (две книги «Метаморфоз» Овидия) выполнены
им в порядке заказа по службе, если некоторые из них, как это теп' рь
окончательно установлено, являются мнимыми переводами, на самом же деле
представляют собой переделки существовавших до него французских перево-
дов, то в 30-х годах в нем пробуждается вкус к некоторым латинским
авторам, почему-либо близким ему, и он принимается за переводы или
подражание им. В послании к королю, относящемся к итальянским годам,
Маро говорит ему о своих успехах в области изучения латыни. В связи
lô Истирая французской литературы—815
2«2fi
ВОЗРОЖДЕПП
с этим он берется за переделку эпиграмм Марциала, а позже — посвя-
щает дофину эклогу, написанную в подражание известной эклоге Вергилия
Азинию Поллиону. Начиная с 30-х годов Маро работает над переводом
псалмов, хотя, по уверению некоторых современников, он пользовался
для этого, «по незнанию латыни», французским переводом. Так или иначе,
как переводчик Маро ставит перед собою все более трудные задачи и раз-
решает их лучше, нежели делали, это прежде.
Латинские чтения, а еще более — беседы с гуманистами, его друзьями,
должны были изощрить литературный вкус Маро, поднять в его глазах
значение поэзии, и поэта и пробудить мечты о славе и жизни в веках.
Подражая Марциалу, он повторяет: «Я. конечно, не богат, в чем и при-
знаюсь, хотя я родился от почтенных родителей и получил благородное
воспитание. Однако меня читает повсюду народ и дворянство, говоря:
«это Клеман». Немногие проживут долго; я же буду жить вечно». Если
в первой фразе, в которой поэт просто воспроизводит оригинал, есть не-
которое преувеличение, то последующие две, с их «Clément», сказаны, ко-
нечно, с полным убеждением и искренностью. Античные поэты увлекали
и созвучием их тематики с тематикой ученика, и личным характером
своей поэзии, и своей преданностью земным радостям.
В той же школе Маро вошел в круг новых религиозных идей и пре-
вратился в горячего их поборника. Он познакомился с ними ближе впервые
в годы службы у Маргариты Наваррской, кружок которой был одним из
очагов движения. Он углубил свое знакомство с ними во время пребы-
вания в Ферраре, куда он бежал после истории с плакатами 1534 г. На-
конец, Маро завершал свое религиозное образование в Женеве, у Каль-
вина, к которому он. бежал в 1541 г., после того как Сорбонна осудила
его перевод псалмов.
Впрочем, существенную роль в определении его отношения к про-
тестантизму сыграли, конечно, и впечатления во время пребывания в тюрьме
Шатле (1525), куда Маро был заключен по доносу о том, что он ел в ве-
ликом посту сало, и в период скитаний по югу Франции (в 1534 г.) перед
переходом итальянской границы. В обоих этих случаях поэту пришлось
испытать на личном опыте всю тяжесть преследований и пережить немало
тревожных минут. О состоянии Маро в 1534 г. не трудно догадаться.
О своем пребывании в Шатле он рассказал нам подробно в поэме «Ад»
(«Enfer»), дающей красочное описание порядков и нравов тогдашнего
застенка и знакомящей нас с некоторыми из его руководителей.
Так сложилось критическое отношение Маро к католицизму, внушив-
шее ему целый ряд эпиграмм, посланий, баллад, рондо и поэм, в которых он
обрушивается, с одной стороны, на представителей господствующей церкви
и праздных и грубых ханжей-монахов, с другой — иа невежественных схо-
ластов — «сорбоннистав», католических богословов, «безумных смутьянов»,
требующих костра для все*.., кто не согласен с ними. Но Маро не только'
критикует. Он знакомит нас и с положительной стороной своих религиоз-
ных воззрений, обычно, правда, слегка прикрывая их иносказаниями или
шуткой. Образ Христины в его предсмертной поэме «Буффон» («Baladin»),
которую поэт противопоставляет Симоне—символу погрязшей в симонии
католической церкви, олицетворяет, конечно, подлинно христианскую, т. е.
евангелическую церковь, и поэт не скупится на краски, чтобы представить
ее в образе привлекательнейшей красавицы.
Мало могли кого-нибудь обмануть уверения поэта в том, что он свя-
зан не с Лютером или Цвингли, а просто с господом богом «через сына
его Иисуса Христа». Это утверждение было явно еретическим, ибо она
РАННЕЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ
227
не содержало прямого ответа на вопрос. «Они меня прозвали лютера-
нином. По праву ли? Я отвечу на это: нет. Лютер никогда не сходил ради
меня на землю; Лютер не был распят на кресте ради искупления моих
грехов, и, если принять з соображение все, я вовсе не был крещен во имя
его». Это были слова; делами Маро была его поэзия, в которой он слиш-
ком часто пользовался евангельскими образами и обнаруживал начитан-
ность в Библии.
Наконец, перевод псалмов, котооый заинтересовал его еще в начале
30-х годов. Католики его запрещали; протестанты же делали псалмы
основными песнопениями культа. Таким образом Маро оказывался явно
на стороне последних. Он переводил псалмы с большим вниманием, точ-
нее, чем кто-либо из его современников, не говоря уже о том, что он
учитывал при этом удобства дальнейшей музыкальной обработки псалмов,
и стремился придать им максимально привлекательную форму, с целью
обеспечить им широкое распространение. Последнего он не скрывал. Его
перевод посвящен «французским дамам». Поэт любви — говорит он в
посвящении — он хотел бы «обратить женщин к тому истинному богу
любви, которым продиктованы псалмы и который вытеснит со временем
бога любви непостоянной. Это будет наступлением золотого века: каж-
дый пахарь за плугом, каждый возчик на улице, каждый ремесленник
в своей лавке будут петь эти священные песни, и дело дам — ускорить
наступление этой поры».
Маро не ошибся в своих надеждах на широкое распространение своего
перевода и на влияние псалмодии, так же как и католики верно поняли все
значение его предприятия. В течение первых десяти лет после появления
в свет сборника 30 псалмов в 1541 г. они выдержали 27 изданий и усердно
распевались при дворах Франциска и Маргариты Наваррской. Об успехе
псалмов в гугенотской среде не приходится говорить: они стали неотъемле-
мой частью протестантских религиозных собраний. Кальвин приветствовал
их и побуждал Маро продолжать свою работу, что поэт и исполнил, выпу-
стив в 1543 г. новый сборник, содержавший 50 псалмов и снабженный
упомянутым выше предисловием к французским дсмам. Современный чита-
тель едва ли согласится с той высокой оценкой перевода Маро, которая
была ему дана в свое время. При всей точности Маро не воссоздает свое-
образия стиха подлинника, его величавости и простоты. Маро передал ори-
гинал в тонах светских лирических стихов, живых и грациозных в их сме-
няющихся ритмах и красивых рифмах, и предшественник Плеяды, Жак
Пелетье, был совершенно прав, когда! утверждал (в 1555 г.), что псалмы
Маро — «настоящие оды, которым нехватает только этого названия». Во
всяком случае именно они обратили Ронсара к лирической поэзии, и именно
указанные свойства псалмов Маро помогли им в значительной степени
сыграть ту роль в религиозной жизни людей XVI в., на которую рассчи-
тывал автор.
Симпатии Маро были, таким образом, на стороне «евангелизма». Но
будучи человеком темпераментным, высоко ценившим земные радости и
мало дисциплинированным, Маро не 'мог примириться с суровой проте-
стантской моралью. Он не мог согласиться на то, чтобы поэту «слишком
затягивали узду». И это относилось столько же к католикам, сколько и
к протестантам. Ригоризм, откуда бы он ни исходил, ему претил, и по-
этому, попав в Женеву, он не смог прожить в ней больше года. В 1543 г.
он вынужден был оставить ее и искать пристанища у друзей в соседней
Савойе. В 1544 г. мы застаем Маро в Турине, где в том же году смерть
228
ВОЗРОЖДЕНИЕ
настигла его, верного своим прежним религиозным воззрениям в такой же
мере, как и своей тяге к земным радостям.
В той же придворной обстановке и живом общении со знатоками
иностранной литературы «ознакомился Маро и с итальянской поэзией.
Более близкое знакомство с нею началось у него, строго говоря, только
в эпоху его пребывания в Италии — в Ферраре и Венеции. Он увлекается
сонетом и Петраркой, переводит несколько его сонетов и оказывается,
таким образом, первым, кто познакомил французов с той формой, кото-
рой суждено было вскоре завоевать французскую лирику. Он пишет и не-
сколько оригинальных сонетов. Но еще более соблазнительным оказался
для Маро излюбленный итальянцами XV—XVI вв. страмботто
(одна из старинных форм итальянской любовной лирики, народного про-
исхождения), писавшийся в виде октавы. Маро читал Тебальдео и Сера-
фино д'Аквила (XV в.), признанных мастеров этой формы, кое-что из них
перевел, кое-чему подражал.
Маро учился не систематически, а походя, ловя на лету сведения и
идеи, которые попадали в поле его зрения. Будучи человеком восприим-
чивым и чутким, он быстро усваивал то новое отношение к миру и чело-
веку, которое нарождалось и развивалось вокруг него. Он овладевал но-
выми религиозными идеями; он видел в древности поддержку тем стрем-
лениям, которые были его собственными и разделялись его окружением;
он старался овладеть в литературном плане всем тем, что открывало перед
ним знакомство с произведениями литературы античной и итальянской.
Он понял, что время «риторики», за которую он держался больше по
привычке или в силу спроса на нее, но с которой у него не могло быть
подлинной внутренней связи, миновало и что путь этот тем более не путь
для него. Впрочем, капитуляция предстояла не только «риторизму», а и
всей старой французской литературе вообще. Но пока этот момент еще не
наступил ни для Маро, ни для большинства его современников. Маро не
порывает резко с преданием, с наследием прошлого, в котором еще многое
может и должно быть, как ему кажется, использовано.
В 1532 г. Маро дает подновленное издание произведений Вильона.
Старый десятисложный стих долго еще остается его излюбленным стихом.
Маро сохранил глубокую привязанность к. старинным формам, как, на-
пример, баллада, рондо, восьмистишие, десятистишие, «гербы» (blasons) —
короткие стихотворения хвалебного или сатирического содержания, coq-à-
l'âne с их короткими сатирическими выпадами, сменяющими один другой
без всякой связи и порядка (откуда название: sauter du coq à l'âne — «пе-
рескакивать с петуха на осла»), с их язвительными личными насмешками
и неожиданными заключениями. И всеми этими своими любимыми ста-
рыми формами Маро владеет с редким мастерством и свободой. Это ма-
стерство свидетельствует о том, насколько глубоки связи Маро со ста-
рой французской традицией, насколько она ему близка. Даже риториче-
ская закваска оставалась в нем дольше, чем этого можно было ожидать.
Еще в 1531 г. в стихотворении, написанном насмерть матери Франциска I,
Луизы Савойской, мы находим целую серию стихов, построенных на
безвкусной, в это время уже старомодно звучавшей игре созвучиями то
начальных, то конечных частей слов вроде: «Cognac s'en cogne, Anjou fait
joui, Amboise en boit» и т. п.
Но Маро идет и дальше. Он не только пользуется, хотя бы и с оговор-
ками, старым наследием, он зачастую перерабатывает новое так, чтобы
связать его со старым. Например, он свободно обращается с итальянским
сонетом: вместо нормальной (cde -{- ckd) или удвоенной (cde -{- cde) тер-
РАП11ЕЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ ÏS ÎJ
цины в заключительной части (коде) он прибегает к произвольной расста-
новке рифм (ce H- deed), и эти варианты сонетной формы становятся
затем образцом для последующего времени. Так же трансформирует он
иногда и страмботто. Маро глубоко национален. От итальянцев, как и от
древности, он брал только то, что отвечало его собственным запросам.
В своем отборе он руководился традицией не только литературной, но и
народно-песенной. Маро знал народную песню, несомненно любил ее и
умел, когда это ему было нужно, легко и свободно оперировать ее стро-
фами и рифмами, ее мотивами и образами. Этому источнику обязаны
своим происхождением некоторые «песни» (chansons) Маро, фигурирующие
уже в первом печатном сборнике его произведений «Клеманова юность»
(«Adolescence Clémentine», 1532). Среди них мы находим, между прочим,
следующую двухстрофную песенку:
Если вы захотите обзавестись подругой, выбирайте статную, с умом живым и
полной грудью; чтобы сердце у нее было нежное, речь разумная, чтобы она любила
поплясать и ладно пела, чтобы сердце у нее было постоянное, а тело упругое.
Если вы выберете слишком молодую, не о чем будет вам вести с ней беседу;
если хотите чего-нибудь прочного, выбирайте брюнетку, полную, держащуюся уверенно.
Такое сокровище стоит того, чтобы поохотиться за славной любовной дичью. Счастлив
тот, кому достанется хорошая добыча.
Подслушанные в кругу народной песни, подобные мотивы в этой от-
деланной форме могли легко стать вновь достоянием источника. Но chansons
Маро открывали пути к новой лирике, и последующие поколения не замед-
лили ими воспользоваться.
Итак, Маро не был склонен порывать совершенно со всем старым,
ощущая в нем еще много живого, способного сочетаться с современностью.
Маро признавал Вильона наиболее талантливым сыном старофранцузской
музы, и признание это было тем искреннее и убежденнее, что Маро ощу-
щал в данном случае присутствие нового в старом на основе личного
опыта. В Маро всю жизнь сохранялись некоторые особенности манеры,
присущей Вильону и группе, близкой к Базоши. Остроумие и шутка, тон-
кая насмешка и ирония, веселье, легкомыслие и в то же время свободный
тон — брызжут через край в его поэзии, всегда очень лиричной и субъек-
тивной.
Но при всем таланте Вильона ему нехватало светской культуры. «Он
по праву заслуживал бы лаврового венка, — говорит Маро, — если бы он
воспитался при дворе королей и государей, где суждения выправляются и
язык шлифуется». Эту школу прошел он сам; и недаром его называли
впоследствии «куртуазным Вильоном». При общем поэзии их обоих
субъективном характере и наличии ряда других только что отмеченных
точек соприкосновения, манера, язык Маро, конечно, иные. Они мягче..
d них нет угловатости Вильона, нет его грубоватой выразительности; в них
больше отделки, больше тонкости, заботы о мелочах и ясности, отчетли-
вости, но меньше силы. Даже беглое знакомство с Маро после Вильона
дает это почувствовать. Даже взятые наудачу несколько отрывков из Маро
подтвердят это.
Будучи заключен в тюрьму за содействие побегу какого-то арестован-
ного, Маро обращается к королю со стихотворным ходатайством об осво-
бождении, в котором он в забавном тоне рассказывает о своем заключе-
нии, о том, как к нему явились трое огромных висельников, которые объ-
явили ему о том, что они его арестуют именем короля; о том, как они
предъявили ему соответствующий указ, в котором говорилось о многих
вещах, но не содержалось ни одного слова об Иисусе Христе; о том, как
изо
ВОЗРОЖДЕНИЕ
они после допроса взяли его под руки — вроде того, как берут невесту, —
и повели в тюрьму. Послание заканчивается извинением в том, что он не
может лично доложить королю о своэм деле: у него не нашлось для этого,
к сожалению, досуга. В таком же томе рассказывает Маро королю,
как его ограбил слуга-гасконец, «обжора, пьяница и отъявленный лгун,
обманщик, разбойник, игрок, богохульник, от которого на сто шагов несет
виселичной веревкой, но, впрочем, отличный малый». «Осведомленный о том,
что я получил от вас некоторую сумму и что кошелек мой вздулся напо-
добие большого нарыва, этот молодчик (в оригинале гаек, hillot) поднялся
раньше обыкновенного и взял его у меня тайком. Затем он сунул себе
деньги поудобнее подмышку, само собой разумеется, не для того, думаю,
чтобы мне их вернуть, так как больше я о них ничего не слышал. Однако
негодяй не хотел уйти только с такой безделицей. Он унес с собою мои
плащ и шляпу, надел мое лучшее платье, так что днем вы, несомненно,
приняли бы его за самого хозяина. Направившись затем в конюшню, он
взял моего лучшего коня, вскочил на него и исчез. Словом, чтобы сокра-
тить мой рассказ, будьте уверены, что, покидая эти места, он не забыл
ничего, — только разве проститься со мной». Рассказ заканчивается .прось-
бой к королю о денежной помощи.
Иногда какая-то меланхолическая нотка мелькнет в учтивом мадри-
гале. Порой раздумье пронизывает его шутку или остроумный стих.
Дело, конечно, не в одном только куртуазном тоне. Маро не столько
«куртуазный», сколько «куртуазировавшийся» Вильон XVI в. Он не
только «исправился» и служит верой и правдой своим новым хозяевам.
Времена стали иными; изменились хозяева, изменился и он сам. Пройден-
ная им школа ввела его в круг новых мыслей и новых людей. Он стал
«королевским камердинером», каким становились многие, он пишет стихи
для дьора, но он еще крепче связан с такими людьми, как Рабле, Доле и
другие гуманисты его времени, и они считают его своим. Его жизненный
идеал — не просто идеал куртуазного Вильона. Он полнее и сложнее: это —
принципиальное утверждение жизни и прав физического человека, но
в гармоническом сочетании с правами ума и вкуса. В одной из своих
эпиграмм он высказывается по этому поводу следующим образом:
«Если! бы нам предоставили жить мирной жизнью, располагать теку-
щим временем, как это нам угодно, и жить свободно, как следует жить, —
нам было бы не к чему навещать дворцы и бывать при дворах, заниматься
тяжбами и процессами и ходить по богатым домам, украшенным славой и
закоптелыми гербами. Мы прогуливались бы в прекрасной тени, по комна-
там и галереям; дамы и купанье было бы нашим времяпрепровождением.
Вот где пребывали бы, вот чем занимались бы наши довольные умы».
Когда читаешь эти строки, припоминаются невольно Телемское аббат-
ство Рабле и его обитатели. Маро занял бы среди них одно из первых
мест. Маро-поэт — необходимое дополнение к прозаику Рабле, и, взятые
вместе, они являются живыми выразителями раннего этапа того истори-
ческого движения, которое мы называем Возрождением.
Представители новых веяний поэтому отлично понимали Маро и
знали] ему цену. В годы бегства Маро в Италию против него выступил
один из запоздалых представителей риторической школы Франсуа Сагон
(François Sagon), руанский священник и лауреат местного «пюи». Контро-
верза, сопровождавшаяся характерными для эпохи грубыми полемиче-
скими выпадами и проводившаяся иногда в совершенно непристойном тоне,
затянулась на целых три года. Малоинтересная по своему содержанию,
она любопытна только группировкой сил, принимавших в ней участие.
РАПНЕЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ
251
В то время как Сагон почти не встретил поддержки, на стороне Маро вы-
ступили, помимо его учеников, Рабле, Морис, Сев, Меллен де Сен-Желе,
Эроэ, Бродо и многие другие, — елевом, все, что было значительного
в литературном мире того времени. Не лишено интереса, что провин-
циалы, земляки Сагона, высказались против него и признали превосход-
ство Маро. Сагон был, таким образом, окончательно посрамл&н, а Маро
мог торжествовать вдвойне, так как его победа была не только пораже-
нием врага, но и демонстрацией признания его наиболее авторитетными
представителями литературы его времени.
Впрочем, свою силу и значение чувствовал и сам Маро. Говоря о нем,
Дю Белле, стоявший на совершенно иных теоретико-поэтических позициях,
припоминая слова Маро о себе самом, сказал о скончавшемся поэте: «Пока
будут звучать слова «да» и «нет», тебя будут читать по всему свету».
В том же смысле высказался и автор эпитафии, некогда украшавшей бес-
следно исчезнувшую могилу Маро в Турине: «Здесь покоится усопший,
который будет жить вечно, пока Франция будет говорить по-французски».
История литературы подтвердила полностью пророчество этой эпитафии.
2
Маро не создал школы в настоящем смысле этого слова: для этого
ни в нем самом, ни в его поэзии не было достаточно данных. У него не
было программы и не было желания настаивать на своем мастерстве, не
было и духа прозелитизма. Его поэзия казалась сплошной импровизацией,
рядом блестящих вспышек вдохновения. У него не было крупных произве-
дений, которые посвящали: бы в самый процесс его работы. Он был боль-
шим мастером малых дел как по своей природной организации, так и
в виду недостаточно основательного образования. Маро больше заражал,
будил инициативу, нежели учил или вел за собой. Вот почему среди «уче-
ников» его мы встречаем совершенно различных людей с совершенно раз-
личными литературными ориентациями.
Особо стоят Меллен де Сен-Желе, Маргарита Наваррская и Бонавен-
тура Деперье.
В споре с Сагоном Меллен де Сен-Желе (Mellin de Saint-Gelais, 1487—
1558) стоял на стороне Маро. Связанный в известной iMepe с Маро, он
представляет, однако, прежде всего итальянское течение во французской
поэзии этой эпохи. Мы уже видели, что отдавший этому течению извест-
ную дань, Маро использовал его в национальном плане. Иное дело Сен-
Желе, получивший прекрасное образование при дворе своего дяди (или, как
думают, отца) Октавиена де Сен-Желе, епископа ангулемского и поэта, и
в университете Пуатье, которое он пополнил затем в Италии, откуда он
вынес BiKyc к занятиям математикой и музыкой, любовь к Овидию, Катул-
лу и той итальянской поэзии, на которой воспитывался cortigiano, «при-
дворный» Кастильоне. В назидание землякам Сен-Желе издал наново пере-
вод книги последнего (1538), но, кроме того, он старался и всякими иными
способами насаждать итальянские нравы в современном ему светском об-
ществе, являясь одной из активнейших фигур при дворе дофина, будущего
Генриха II, женатого на итальянке Екатерине Медичи. Галантный аббат
и королевский библиотекарь, Сен-Желе занимался организацией празднеств
и маскарадов, ставил балеты в итальянском вкусе и писал изящные со-
неты, мадригалы и остроумные, порою очень язвительные, эпиграммы в
альбомы придворных дам; эти мелочи, отточенные и учтивые, напоминали
в известном смысле стихотворения Маро, но относились к ним как экзоти-
232
ВОЗРОЖДЕНИЕ
ческие заморские цветы, выращенные в теплице, относятся к цветам, вы-
росшим на просторе французских полей; это были, как говорил о них
Этьен Пакье, «маленькие цветы, но не плоды, которые живут долго». Их
аромат прян и сладок, и недаром современники называли поэта «Mellin
tout de miei» — «медоточивым Мелленом». Он пропагандирует во Франции
итальянскую терцину, Петрарку и Ариосто, Бембо и Триссино, и в этом
его заслуга перед французской литературой. Но в конечном счете он искус-
ственнее и мельче Маро. Сен-Желе дожил до расцвета Плеяды и подвергся на-
падкам ронсардистов, которые он удачно парировал в литературном смысле,
но не по существу. И между тем этот галантный аббат, гуманистически
образованный эстет, стоял гораздо ближе к ним, нежели к Маро, в кото-
ром никакой куртуазный налет не мог прикрыть его демократического
облика. В Сен-Желе есть элементы еще только нарождающегося движе-
ния, имеющего свои аналогии в Италии, где оно возникло, однако, ранее.
Еще больше элементов этих в своеобразной поэзии, развившейся в
крупнейшем буржуазном центре эпохи, Лионе, в поэзии так называемой
лионской школы, вернувшейся к позициям спиритуализма на основе изу-
чения неоплатоновской философии, получившей несколько ранее широкое
распространение в Италии в условиях католической реакции. О лионцах
уместнее поэтому говорить в обзоре литературы второй половины XVI в.
С платонизмом связана и Маргарита Наваррская (Marguerite de Na-
varre, 1492—1549). Однако в своей литературной деятельности она примы-
кает к Маро, и в то же время она является центром гуманистического,
передового литературного кружка, которого не миновал почти ни один из
сколько-нибудь выдающихся людей эпохи. Но основные интересы Марга-
риты лежали в области вопросов религии и морали, и поэзия ее направ-
лена главным образом в эту сторону. Впрочем, и в ее прозе они занимают
немало места.
Ее ранние стихи светского содержания напоминают Алена Шартье,
который пользовался в ее окружении особыми симпатиями. Одна из ее
приятельниц, Анна де Гравиль (Anne de Graville), переложила «Безжалост-
ную красавицу» в сюиту из рондо. Под влиянием Маро Маргарита пи-
шет стихотворные послания, а рядом с этим — строфы в стиле Петрарки
и французских петраркистов. Маргарита знала итальянский язык и была
знакома с итальянской литературой. Она изучала, впрочем, и латинский. На
ряду с дантовской терциной и следами чтений Саннадзаро у нее можно
встретить реминисценции из античной мифологии и отголоски знакомства
с Горацием. Но уже очень рано ее начинают вдохновлять религиозные мо-
тивы.
Среди людей своего времени, поглощенных проблемами религии и
церкви, Маргарита занимает особое место. Она изложила нам свои рели-
гиозные идеи в небольшой аллегорической комедии, разыгранной в ее вла-
дениях, в Мон де Марсан (1547), и в своем известном сборнике новелл,.
«Гептамероне», устами одного из его персонажей — Парламенты. В критике
католицизма она солидаризуется с «евангелистами», которых она долго
защищала и поддерживала. Но положительная сторона ее воззрений может
быть охарактеризована как христианско-мистический пантгизм. Сущность
религии для Маргариты—в непосредственном общении с божеством, в жи-
вой связи с ним через посредство любви. Теоретическую формулу этому она
нашла в неоплатонизме итальянских гуманистов и прежде всего у Марси-
лио Фичино («Платоновское богословие»—«Theologia platonica», 1480).
На религиозно-мистической точке зрения стоит она уже в своем «Зерцале-
грешной души» («Miroir de l'âme pécheresse», 1531)—в поэтическом отно-
РАННЕЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ
235
J.
шении довольно посред- ^ j£- ^ ^ . «*
ственном, но чрезвычайно _ "
важном для ее характери- | £
стики сборнике религиоз-
но-нравственных стихов. В
«Темницах» («Prisons»)
Маргарита подводит итог
своему жизненному пути и
уточняет позицию, к кото-
рой он ее привел оконча-
тельно. В этой поэме Мар-
гарита изображает нам
свое «освобождение» от
тех «уз», которые ее после-
довательно опутывали; это
узы земной любви, сует-
ности и науки. Только
сбросив их, она «поняла»,
что истинный смысл жиз-
ни не в земной любви, не
в общественной деятель-
ности и не в человеческом
знании, а в слиянии на-
шего «ничто» с «великим
всё» божества.
Мистика приводила
Маргариту, таким образом,
к отказу от ранних идеа-
лов. Маргарита кончила
недоверием к основной
силе, выдвинутой эпохой,—
к человеку и его разуму.
Но гуманистические искания молодости не могли пройти для нее бес-
следно: позиция сжигаемых за реформационные идеи могла казаться ей
заблуждением, но это не мешало ей возмущаться контрреформационным
движением и ужасаться инквизиционными кострами.
В поэтическом отношении «Темницы» пестры. Аллегоризм «Романа о
Розе», на котором построена вся композиция, и манера Алена Шартье, в
которой трактованы части первой песни поэмы, мирно уживаются с чертами
Возрождения (2-я и 3-я песни) и реминисценциями из Данте (образы
барса, льва и волчицы, символизирующие чувственную любовь, честолюбие
и жадность). Как и в других своих произведениях, Маргарита обнару-
живает здесь не вполне достаточное владение техникой, привязанность
к старине без настоящего умения оживить ее; у нее бывают удачные обо-
роты, образы, но рядом с этим попадаются ненужные и утомительные
длинноты и языковая нескладица, от которых не свободны и многие сти-
хотворения сборника «Перлы Перла принцесс» («Marguerites de la Margue-
rite! des princesses», 1547), куда вошло лучшее из написанного ею.
В прозе Маргарита сильнее, нежели в поэзии, но этой стороны ее дея-
тельности мы коснемся ниже, когда будем говорить о прозаической лите-
ратуре первой половины XVI в.
Бонавентура Деперье (Bonaventure Despéners, род. между 1510 и 1515 гг.,
ум. в 1543 г.) принадлежит несомненно к числу наиболее крупных писа-
Маргарита Наваррская.
С портрета карандашом XVI в.
254
ВОЗРОЖДЕНИИ
телей XVI в. Бургундец по происхождению, вышедший из скромной
буржуазной семьи, Деперье благодаря содействию одного духовного лица
изучил латинский и греческий языки, овладел версификацией и познако-
мился с идеями евангелизма. Последнее обстоятельство привело его к
Пьеру Оливетану (Pierre Olivetan), который заканчивал в эту пору свой пе-
ревод Библии на французский язык. Когда работа была окончена, Деперье
перебрался в Лион, где его использовал для переписки первого тома своих
«Комментариев к латинскому языку» Этьен Доле. Через год после этого
мы встречаем Деперье уже на служ-бе у Маргариты Наваррокой—сперва
в качестве переписчика, затем секретаря, в роли которого он оставался до
1539 г. Далее, до 1541 г., в биографии его имеется пробел. В 1541 г. имя
Бонавентуры оказывается вновь в списках лиц, служащих у Маргариты,
хотя почему-то не включенным в штат; однако о какой-либо немилости нет
речи нигде. И это—'последнее упоминание о Деперье. В 1544 г. его ста-
рый друг Антуан Дюмулен, до этого года также служивший у Маргариты,
издает собрание сочинений «покойного Деперье», отметив в предисловии,
что «смерть настигла поэта в то время, когда он собирал и приводил в по-
рядок свои сочинения, чтобы преподнести их королеве». Анри Этьеи сооб-
щает нам в своей «Апология Геродота» (1566), что Деперье покончил са-
моубийством, бросившись на свою шпагу, что он искал смерти и что ката-
строфа произошла, «несмотря на то, что за ним следили». Судя ino намекам
предисловия к его новеллам, он был еще) в живых в 1542 г., когда нача-
лась новая война с Карлом V. Смерть Деперье следует отнести с наиболь-
шей вероятностью к 1543 г.
Ранние произведения Деперье не сохранились. Доступное нам его
литературное наследие, опубликованное Дюмуленом, содержит только то,
что было в руках последнего. Все это по преимуществу работы середины
30-х годов. Как поэт, Деперье исходил, несомненно, из Маро, которого он
называл «отцом поэтов». Он не только культивирует балладу, рондо,
«песню», короткие строфические формы (эпитафии, эпиграммы), посла-
ния, не только отдает предпочтение мелким формам, — сама его манера,
стиль напоминают Маро, и в этом отношении дело не обходится, конечно,
без имитации. Подражание иногда могло быть сознательным: Деперье хо-
тел угодить своей покровительнице, В таком стиле написан им ряд сти-
хотворений. Но за всем этим сквозит и нечто свое, нечто меньшее, но
иногда и 'большее, чем у Маро. Деперье подчас не чувствует меры и впа-
дает в напряженный тон: его остроумные стихи нередко растянуты, в его
шутках и остротах иногда слишком ясно ощущается надуманность. С дру-
гой стороны, Деперье менее лиричен, но более своего образца способен к
объективному изображению: ему неплохо удаются небольшие жанровые
картинки. А на ряду с этим у него больше воображения, не говоря уже о
том, что он образованнее Маро. Наконец, Деперье едва ли не превосхо-
дит учителя блестящим владением языком и ритмической изобретательно-
стью.
Оригинальность таланта Деперье должна была неизбежно привести к
созданию им своей индивидуальной поэтической манеры. К сожалению,
слишком короткая жизнь по.мешала поэту высказаться до конца. Тем не
менее, намеки на поворот чувствуются уже в том немногом, что он оста-
вил нам после себя. Возможно, что и здесь дело не обошлось без влия-
ния Маро, также отказавшегося, по возвращении из Италии, от баллады,
рондо и т. п. форм и искавшего новых путей. Так или иначе, более позд-
ние произведения Деперье, и точно датируемые, и могущие быть отнесен-
ными к этому периоду с некоторым вероятием, говорят о каком-то отходе
РАННЕЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 25о
в сторону более крупных и серьезных замыслов. Ода, как следовало бы
назвать «Паломничество на остров Барб» («Voyage de l'île de Barbe»,
1539), поэма «Добропорядочный» («L'homme de bien»), подсказанная ан-
тичными и библейскими чтениями, поэтическая переработка «Формул чест-
ной жизни» Мартина де Брага (средневекового португальского богослова),
приписанного Сенеке трактата о четырех кардинальных добродетелях —
<гЧетыре принцессы человеческой жизни» («Les quatre princesses de vie
humaine»), «Поиски дружбы», в которых поэт резюмирует идеи платонов-
ского диалога «Лиситд», метрическая обработка заключительной главы «Прит-
чей Соломона» — «Крик души при поисках добропорядочной женщины»
(«Le cri touchant de trouver la bonne femme») и т. п. — свидетельствуют не
только о совершенстве формы, но и о разнообразии тематики. И в то же
Еремя поэт начинает явно тяготеть к трактовке серьезных вопросов и к
дидактике.
На ряду с ранними стихотворениями в духе Маро, Деперье до по-
ступления на службу к Маргарите и в первые годы этой службы писал
на темы религиозные. Кто в те годы напряженной религиозной борьбы
не занимался этим, и в особенности в кружке Маргариты? Мы уже ви-
дели, что первые уроки евангелизма Деперье получил у своего наставника
и покровителя, земляка-аббата. О том, насколько он продолжал увлекать-
ся протестантскими идеями, насколько он был уверен в торжестве их, сви-
детельствует пересланное им Маргарите предисловие к его «Предсказа-
нию предсказаний» («Pronostication des pronostications»), в котором он
обрушивается на увлечение людей всевозможными предсказаниями буду-
щего. В этом предисловии, написанном после того, как он впервые увидел
Маргариту, Деперье высказывает уверенность, что церковь рано или позд-
но будет евангелизована.
В 1538 г. парижский издатель Жан Морен опубликовал без имени
автора «Кимвал мира» — четыре диалога в стиле Лукиана, будто бы пере-
веденные с латинского, — сборник, носящий латинское заглавие «Сут-
balum mundi» («Звон на весь мир»), для которого использовано про-
звище, данное самодовольному греческому грамматику I в. до н. э. Ди-
диму. Эта книга была закончена Деперье, вероятно, еще летом 1537 г.
«Кимвал мира» знаменует собой несомненный перелом во внутреннем
развитии Деперье; для жизни писателя появление книги также не прошло
бесследно.
Лукиан в ту эпоху был в моде; диалоги Деперье были настолько за-
вуалированы, что, может быть, и прошли бы незамеченными. Богословский
факультет, на рассмотрение которого они были переданы, когда о них воз-
никло дело, вынес заключение, что в книге нет «выраженных заблуждений
в отношении веры». Но книжечка имела несчастье попасть на глаза Фран-
циску и, вероятно, в недобрый час, почему он и приказал произвести отно-
сительно нее расследование. Любопытно, что позже Франциск не возвра-
щался к этому делу vi на служебной карьере и судьбе Деперье оно никак не
отозвалось, хотя розыск и установил имя автора: Деперье не был ни до-
прошен, ни арестован, ни устранен от двора Маргариты, и сам по собствен-
ной инициативе не устранился от него. Правда, в течение всего расследова-
ния он находился либо далеко от Парижа и парламента, либо подле Мар-
гариты. Это могло гарантировать ему безопасность, но только на время, как
о том свидетельствует судьба хотя бы Маро. Единственным последствием
дела для Деперье было то, что, начиная с этого времени и вплоть до самой
своей смерти, он не напечатал больше ни одной строчки. Пострадал серь-
250
ВОЗРОЖДЕНИЕ
езно только Морен, который был заключен в тюрьму, но, может быть, и
освобожден затем, так как в конце 1 538 г. он уже выпустил новую книгу.
Другим пострадавшим явилась сама книга, которую богословский факуль-
тет, несмотря на отсутствие в ней прямых еретических суждений, постано-
вил «уничтожить, как вредную».
Репутация книжки, как памятника свободомыслия, безбожия, либерти-
нажа, установилась несколько позднее. Она была создана экзальтирован-
ным католиком-арабистом, пытавшимся установить сходство между про-
тестантизмом и Кораном-, Гильомом Постелем (Guillaume Postel, «Alco-
ran», 1543) и страстным врагом гуманистического скептицизма и широкое
критики — Кальвином («De scandalis», 1550). Оба они ставили Деперье ря-
дом с Рабле. Деперье оказался таким образом в ряду «либертинов». Такая
оценка проста и естественна. Ряд мыслей, высказанных в диалогах прямо,
как, например, «Безумен человек, рассчитывающий получить что-либо от
того, чего нет, и еще более несчастен тот, кто надеется на невозможное»,
или ряд положений, которые, казалось, скрывались за насмешливыми вы-
падами и образами книги, мог быть легко истолкован в антирелигиозном
духе. Несколько позднее Этьен Пакье утверждал, что книга Деперье пред-
ставляет собой «лукианизм», который «заслуживал бы сожжения вместе с ав-
тором, если бы тот был жив». И люди XVI в. были правы, когда они
считали «Кимвал мира» произведением, несущим с собой разрушение ста-
рой веры; они верно почувствовали скептическую « ироническую тенден-
цию книги. XIX веку удалось продвинуться дальше и разгадать ряд за-
ключающихся в диалогах загадок. Но все же многое остается еще не-
разгаданным.
Возможно, что часть диалогов была написана или набросана на ла-
тинском язьже, и несколькими годами раньше появления книги в свет, что
автором руководили первоначально иные идеи. Письмо, играющее роль
предисловия, написано неким Фомой Дю Клевье и адресовано Петру
Триокану. Имена эти были расшифрованы как Фома неверующий (Du
Clénier— incrédule) и Петр верующий (Tryocan — croyant), что возможно,
но при условии замены в имени Дю Клевье буквы v буквой п. Но напи-
сано ли это письмо перед опубликованием диалогов или в пору их сочи-
нения? Если верно первое, то можно- рассматривать их не как нечто цель-
ное, а порознь. Не забудем, что диалоги довольно слабо связаны между
собой.
Первый из четырех диалогов рассказывает о появлении па земле Мер-
курия, посланного Юпитером для того, чтобы отдать в переплет пришед-
шую в ветхость Книгу судеб, не только раскрывающую судьбы прошлого,
но и позволяющую гадать о будущем. Два вора, Курталиус и Бирфанес,
узнавшие своего патрона — Меркурия, бога воров, принимают участие в
организованной им в харчевне пирушке, и пока Меркурий на минуту от-
лучился, чтобы стянуть что-то в соседней комнате, воры крадут у него
книгу, которая сулит им большую прибыль. Вместо украденной книги
они кладут в мешок Меркурия другую, с виду похожую на нее. После
этого, чтобы отделаться скорее от Меркурия, они пользуются тем,
что посланец Олимпа стал во время выпивки хвалить поданное вино и ста-
вить его выше нектара Юпитера, и пугают Меркурия доносом. Компания
расходится; Меркурий сулит хозяйке за доброе вино долгую жизнь, и
когда она относится к его словам недоверчиво, предрекает ей, что она бу-
дет вечно работать и ежемесячно истекать кровью. Меркурий уходит.
Воры, довольные кражей, решают, однако, предварительно справиться в
книге, не предусмотрен ли в ней их поступок.
РАНПЕЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ
2Ô7
К этому диалогу примыкает
третий. Оказывается, что подсуну-
тая Меркурию книга является по-
вествованием о юношеских шаш-
нях Юпитера. Меркурий спускается
вновь на землю, чтобы разыскать
воров, устранить возможность не
бесного скандала и помешать мо-
шенникам включить в украденную
книгу взамен имен честных людей
имена себе подобных. За появле-
нием Меркурия следуют две его
встречи: первая — с Купидоном,
от которого он узнает, что воры
ворожат (по похищенной книге и
вписывают в нее за деньги жа-
ждущих бессмертия; вторая — с
лошадью Флегоном, которую он
наделяет даром речи, после чего
выходят наружу все проделки ко-
нюха. Последний пытается заста-
вить лошадь замолчать лживыми
обещаниями холить ее всемерно.
После этих встреч Меркурий идет
отыскивать трубачей для огласки
требования Юпитера вернуть книгу.
Второй диалог предполагает,
что во время своего вторичного по-
сещения земли Меркурий показал
людям «философский камень», 1 а
затем раздавил его и смешал с
песком. С той поры «философы»
стараются восстановить его по песчинкам и все время ссорятся и дерутся
между собой, когда находят предполагаемые частицы чудесного камня.
В сопровождении Тригабуса Меркурий является на спор Ретулуса и Ку-
беркуса о том, кто из них собрал частицы настоящего камня. Меркурий
заявляет спорящим, что он пошутил, что они ищут несуществующую вещь,
что все поиски их бессмысленны и находки только морочат людей. После
этого он уходит по своим делам. Тригабус просит его, однако, исполнить
предварительно свое обещание и сообщить ему секрет, как принимать чужой
облик с целью обманывать людей. Меркурий делает вид, будто шепчет
ему на ухо рецепт, которого тот, разумеется, не слышит, и исчезает.
Совершенно особое место занимает четвертый диалог. Меркурий в нем
отсутствует. На сцене — два пса Актеона: Гилактор (лающий) и Пам-
фагус (всепожирающий). Они обладают человеческой речью, так как
некогда съели язык Актеона. Беседа их посвящена вопросу о значении по-
лученного ими дара и о их судьбе. Оказывается, что молчание лучше речи,
что речь заставила бы собаку жить не по-собачьи, хотя, может быть, и
дала бы ей некоторые преимущества. Между тем лучше жить по-собачъи.
1 По представлению алхимиков, «философский камень» обладал свойством не только
превращать неблагородные металлы в золото, но и излечивать болезни, сообщать моло-
дость, долголетие и т. п. Впоследствии стал синонимом несуществующей вещи.
$ше
л/тоаштиш
EN FRANCO Y S, ^ .
Contenant quatre Dialogues Poedques,
Fort antiques» ïoyeux,& facétieux»
M.D.X xxvi i
«Кимвал мира».
Фронтиспис ивд. 1537 г.
258
ьозрол;денпе
нежели жизнью несчастного рода людского. Поэтому лучше охотиться, как
настоящая собака, и не подавать вида, что ты отличаешься от других тебе
подобных существ.
Ряд намеков в этой книге критике удалось расшифровать, но многое
остается еще неясным и может быть истолковано очень по-разному. Что ка-
сается имен — обычно анаграмм, до которых XVI век был большой охот-
ник, то наиболее прозрачны имена второго диалога. Едва ли можно сомне-
ваться, что Ретулус и Куберкус представляют собой имена Лютера и Бу-
цера, тем более, что и характеристика их носителей отвечает в основном
тому, что мы знаем о характерах этих деятелей Реформации. Гораздо ме-
нее ясно в диалоге имя Драрига, из рук которого Лютер — Ретулус выры-
вает собранную им щепотку песчинок, плод тридцатилетнего труда. В нем
хотели видеть Эразма, которого звали Герардом Герарди, или придвор-
ного проповедника Маргариты Жерара (Герарда) Русселя, но и то и дру-
гое сомнительно. Второй диалог является наиболее ясным по смыслу.
Борьба различных религиозных течений из-за философского камня — ре-
лигиозной истины, может быть ненаходимой, — напоминает известную
новеллу о трех кольцах, использованную в «Декамероне» и в «Натане
Мудром» Лессинга. Деперье стоит «а точке зрения скептика: а, может
быть, камня и не было? Мысль четвертого диалога тоже довольно
ясна: в тяжелые времена лучше таить свои мысли, обрекши себя на доб-
ровольную немоту.
Является ли книга Юпитера в первом и третьем диалогах тожде-
ственной Библии, Меркурий — Христу, воры Курталиус и Бирфанес —
протестантству и католичеству, а оба диалога — предельным выражением
религиозного скептицизма? Или же автор просто издевается над астроло-
гами и алхимиками, столь распространенными в XVI в., и протестует про-
тив всякого рода фанатизма, облекая свои мысли в лукиановскую форму?
Ответить определенно на эти вопросы очень трудно еще и потому, что
диалоги, может быть, написаны были в разное время и замысел автора
мог за это время измениться.
Как бы ни толковать «Кимвал мира», несомненно одно — вся книжка
в целом настолько отражает в себе прогреосивные течения эпохи, настолько
проникнута духом свободы и критики, что даже то, что в ней было не-
ясного и что не поддавалось безусловной конкретизации, расшифровыва-
лось в определенном смысле; поэтому богословский факультет имел осно-
вания объявить ее вредной, а Кальвин — отнести автора к разряду ли-
бертинов.
Деперье является также автором сборника новелл, о которых будет
речь ниже, в очерке развития этого жанра.
5
В области прозы ведущими формами являются повесть и роман, на-
иболее яркими фигурами — Маргарита Наваррокая, Деперье и Рабле. Но
Рабле — явление настолько значительное и сложное, что ему необходимо
посвятить особую главу.
В XVI в. новелла была наиболее широко распространенной формой
литературы повествовательного типа. Самый ранний из сборников новелл
этого времени — «Великий образец новых новелл» («Grand parangon des
nouvelles nouvelles») принадлежит некоему Никола, седельному мастеру
родом из г. Труа (Nicolas de Troyes). Законченный в 1536 г., он состоял
из двух томов, из которых до нас сохранился только второй. Его 1 80 но-
РАННЕЕ ВОЗРОЖДЕПНВ
259
велл, по словам Никола, заимствованы частью из книг, частью из устных
рассказов «приятелей», частью воспроизводят события из личной жизни
автора. Исследование источников повестей установило, что Никола де
Труа пользовался «Декамероном», французским сборником «Сто новых
новелл», «Пятнадцатью радостями брака» и другими французскими и
иностранными источниками; последними, конечно, либо по переводам, так
как он не знал иностранных языков, либо по устным пересказам, так как
близость к оригиналу мы констатируем у него не слишком часто. На-
ибольший интерес представляют новеллы самого Никола; их около шести-
десяти. Они подчеркивают чисто французский характер сборника, ино-
странные элементы которого в большинстве случаев успели уже стать до-
стоянием устной французской повествовательной литературы прежде, чем
Никола принялся за свою работу.
Следующий сборник относится, вероятно, к тому же времени. Это
сборник Филиппа де Виньёль (Philippe de Vigneul), носящий, как и его
предшественник XV в., заглавие «Сто новых новелл» и до сих пор не из-
данный. Любопытно, что и он составлен ремесленником-горожанином: Фи-
липп был чулочником из г, Меца. Все, что мы знаем о нем, сводится к тому,
что он подобно Никола пользовался, между прочим, «Ста новыми новел-
лами» XV в. и выдавал свои повести за рассказы об истинных проис-
шествиях.
Интересно, что так же ставит вопрос и Маргарита Наваррская — автор
наиболее значительного в литературном отношении подражания «Декаме-
рону». Маргарита была большой поклонницей Боккаччо, и по ее жела-
нию один из ее секретарей Антуан Ле Масон (Antoine Le Maçon) сде-
лал новый перевод «Декамерона» (1545), имевший большой успех. За-
ботясь о процветании национальной литературы, она решила написать
французский «Декамерон» и, вероятно, вскоре после 1545 г. примялась за
осуществление этого плана, хотя отдельные новеллы могли) быть написаны
и ранее. Смерть (1549) помешала ей дсизести работу до конца: написан-
ное ею обнимает всего семь дней, откуда и титул, данный книге ее вто-
рым издателем в 1558 г.: «Гептамерон (т. е. семидневник) новелл»
(«Heptamércm. des nouvelles»). Первое (неисправное) издание было выпу-
щено в том же году под заглавием «История о счастливых любовниках»
(«Histoire des amants fortunés»). До этого новеллы Маргариты ходили по
рукам в списках.
Следуя примеру Боккаччо, Маргарита заключила свои1 повести ъ рамку
реальных событий, с которыми она знакомит нас в прологе, написанном в
1547 г. Не чума, но все же болезни (впрочем, отчасти и галантные побу-
ждения) собрали на водах в пиренейском курорте Котре довольно
большое общество мужчин и дам. По скончании лечения — дело было в
сентябре — съехавшиеся пустились было в обратный путь во Францию,
но внезапно хлынувшие проливные дожди помешали им вернуться. Кое-
кого из путешественников унесло наводнением, иные подверглись нападе-
нию медведей, третьи—контрабандистов, четвертые — потеряли друг
друга. После всевозможных злоключений небольшая группа уцелевших —
пятеро мужчин и столько же дам, — добравшись до Нотр-Дам де Сер-
ранс, решили остановиться в этом аббатстве и дождаться момента, когда
дороги будут исправлены и снесенные мосты восстановлены. Чтобы как-
нибудь скоротать время, общество, по предложению старшей из дам, Уа-
зиль, решает посвящать утро чтению священного писания; в послеобеден-
ные же часы, по совету Парламанты, было постановлено, чтобы каждый
из членов группы рассказывал какую-нибудь историю, которая затем об-
240
ВОЗРОЖДЕНИЕ
суждалась бы всеми присутствующими. Участниками бесед являются реаль-
ные лица, имена которых скрываются, согласно вкусам эпохи, за анаграм-
мами или псевдонимами: Уазиль— Луиза Савойская (мать Франциска I и
Маргариты Наваррской), Гиркан— Генрих Наваррский (муж ее), Пар-
ламанта — сама Маргарита и т. д. Характеры и, в связи с этим, тон рас-
сказчиков вполне соответствуют их моделям. Так, Уазиль мягка, благо-
честива, но в серьезных делах принципиально строга; Гиркан — скептичен
и легкомыслен; Парламанта — разумна, тонка, красноречива и страстна.
Собираясь создать французский «Декамерон» и имитируя итальянский
вплоть до группировки нет? • л в отношении содержания по дням, Маргарита
ставит себе, однако, и особую цель: «В отличие от Боккаччо» — по ее выра-
жению — она намерена «не писать никакой такой повести, которая не
была бы истинным происшествием»; каждый из рассказчиков должен рас-
сказывать только то, «что он сам видел или слышал от верных людей».
Заимствованной оказывается, как признает сам автор, только одна из
72 новелл, а именно 70-я: она почерпнута из французского романа
XIII в. «Кастелянша де Вержи». Таким образом, Маргарита задается
целью не брать ничего из книг, к чему стремились, впрочем, в той или
иной мере и ее французские предшественники.
Тщательные розыскания Ескрыли, правда, немало параллелей к
новеллам «Гептамерона». Материал, которым пользовался автор, был
по необходимости международным и находился в обороте устной по-
вести. Но критикам не удалось до сих пор опровергнуть того, что Марга-
рита не обращалась к письменным источникам. Больше того, для ряда слу-
чаев можно показать, что в основе рассказа лежало действительное про-
исшествие и что версия Маргариты ближе к факту, чем к параллельной ей
редакции. Так, например, обстоит дело с 36-й новеллой «Гептамерона», в
которой рассказывается о строгом наказании неверной жены мужем ее,
президентом гренобльского парламента. Гот же самый случай стал изве-
стен итальянцу Банделло, извлекшему из него сюжет одной из своих
новелл. Но у Маргариты происшествие изложено гораздо точнее и ближе
к действительности, чем у итальянского новеллиста. Когда Маргарита опи-
сывает какой-нибудь случай из французской жизни, она точна и даже
иногда пунктуальна до мелочей. Если в ее руки попадает сюжет, идущий
в конечном итоге из книги или иноземного источника, она старается при-
дать ему все возможные признаки действительного события: обставляет
его датами, уточняет топографическую обстановку, дает множество реаль-
ных деталей, ссылается на свидетелей.
Так строился «французский Декамерон», бравший из старого и ино-
земного лишь то, что могло служить выражению современного и нацио-
нально-французского.
Как и Маро, Маргарита — человек своего времени. «Гептамерон» по-
ражает современного читателя своими противоречиями. Утонченность соче-
тается в нем с грубостью и откровенностью без малейших стеснений, ци-
низм— с деликатностью, благочестие и моральная требовательность—с
безнравственностью, мистические настроения — с «галантностью» и чув-
ственностью, увлечение — со скептицизмом. В этом отношении любопытно
сопоставить часто фривольное содержание новелл и резко контрастирую-
щие с ним длинные морализующие послесловия автора. Это была эпоха
переоценки ценностей, исканий, а следовательно, блужданий, сомнений,
подъемов и падений, веры и скепсиса, но в то же время уверенности в
человеческих силах и жажды жизни, и эти мотивы проходят и через всю
книгу Маргариты.
РАПНЕЕ ВОЗРОЖ 1EHIIP
241
Общество «Гвптамерона»—это салон XVI в. со всеми его положи-
тельными и отрицательными сторонами. «Гептамерон» — не только драго-
ценный памятник быта эпохи, материальной обстановки жизни; это яркая
картина характеров раннего французского Ренессанса от наиболее простых
до самых сложных. Маргарита занимает среди них одно из первых мест.
«Гептамерон» с достаточной четкостью отражает в своем стиле, тематике
и суждениях внутренний облик его автора, — по крайней мере основные его
черты, и, таким образом, сообщает ценные дополнения к тому, что дают
нам лирика и религиозно-дидактические произведения Маргариты. В ее
стиле есть известная ровность и гладкость, но изложение иногда излишне
растянуто и мелочно; его краски довольно однообразны, часто традиционны,
хотя и не лишены приятности, но в нем нет смелости, нет настоящего
темперамента.
Горизонт автора «Гептамерона» ограничен не только личными свой-
ствами Маргариты и эпохой, в которую она жила, но и ближайшей соци-
альной средой, к которой она принадлежала. Язык Маргариты особенно
хорош там, где она передает салонную беседу, черты которой она воспроиз-
водит с большим мастерством. Более всего удается ей изображение свет-
ского общества. Образы крестьян или городских ремесленников, которые
она пыталась рисовать, обычно пгаблонны и условны.
С кружком Маргариты связывают и неизвестного нам автора «Рас-
сказов о проходимцах» («Contes du monde aventureux», 1555), проникнутых
антиклерикальным духом. Сюжеты примерно трех десятков этих новелл,
что составляет почти половину сборника, заимствованы у Мазуччо. Но
следов влияния других итальянских новеллистов мы в книге не находим, и
вообще нет оснований говорить о ее «итальянском» характере. Впрочем,
неуклюжий, тяжеловесный стиль сборника делает его малоценным памят-
ником французской литературы, как и «Образец честных и услаждающих
новелл» («Parangon des nouvelles honnêtes et délectables»), также неизвест-
ного автора, вышедший в 1531 г. и примыкающий к Боккаччо.
Большая часть сборников, с которыми мы познакомились, продолжают
на французской почве и во французской форме линию «Декамерона» или
Мазуччо. К другой линии, восходящей к Саккетти, Поджо и старым но-
веллистам, чьи сборники состояли из более коротких повестушек, в кото-
рых еще жила старая форма новеллы-анекдота, примыкают «Новые за-
бавы и веселые разговоры» («Nouvelles récréations et joyeux devis») Де-
перье, являющиеся одним из наиболее значительных памятников фран-
цузской художественной прозы XVI в. и, на ряду с «Гептамероном» и
«Ста новыми новеллами», лучшим образцам повести в старой француз-
ской литературе.
«Новые забавы» появились только после смерти Деперье, в 1558 г.
Время составления сборника (отдельные новеллы могли быть написаны и
раньше) определяется годами увлечения французских писателей жанром но-
веллы и повествовательной литературой. В 1533 г. вышел «Пантагрюэль»
Рабле, в 1534 г.—первая книга его романа «Гаргантюа», в 1539 или
1540 г. Ле-Масон читал отрывки из своего перевода «Декамерона». В связи
с этим обновился интерес к старым французским сборникам новелл: автор
«Новых забав» знаком со «Ста новыми новеллами» и с народной книгой
«Легенда мэтра Пьера Фефе», изданной в 1532 г. Шарлем Бурдинье; с
итальянцами, вроде Педжо, «Фацетии» которого были известны Деперье.
Когда последний в предисловии к своему сборнику говорит, что глав-
ное — веселье, а потому книга его — лучший подарок человека человеку, или
когда он провозглашает смех великим делом, приглашая смеяться «ртом,
1G IIcTo,)iin фр1 цуал;ой литературы- S15
242
ВОЗРОЖДЕНИЕ
носом, подбородком, горлом и всеми нашими пятью чувствами», в особен-
ности же «сердцем», то это невольно заставляет вспомнить о Рабле и о
том впечатлении, которое должны были произвести первые книги его ро-
мана на Деперье. Когда же Деперье говорит, что в его рассказах «нет
ни злого умысла, ни насмешки», нет «никакого аллегорического, мисти-
ческого или фантастического смысла», мы невольно думаем о его тре-
вожных переживаниях в связи с судьбой «Кимвала мира» и твердом ре-
шении не повторять больше печального опыта, ибо принцип эпикурей-
ского существования обещает мир и покой.
Как и у других новеллистов, мы находим у Деперье точки соприко-
сновения с различными рассказчиками его эпохи, французами и итальян-
цами. Но автор, подобно Маргарите Наваррской, исходит не из книжных
источников, а из устного предания и собственных воспоминаний, и следо-
вательно, рассматривает свой материал как французский. «Я не ходил за
своими рассказами ни в Константинополь, ни во Флоренцию, ни в Вене-
цию». Вот почему мы не найдем в его 92 новеллах характерных итальян-
ских типов, намеков «а итальянские события и отношения, а если они и
попадаются, то носят настолько общий характер, что нисколько не удивят
нас в устах француза данной эпохи, довольно хорошо осведомленной об
Италии. Итальянизмы в языке «Новых забав» принадлежат к' фонду, уже
ставшему разменной монетой. Наоборот, французская обстановка и фран-
цузское общество изображены ярко и красочно, что обличает в авторе
большую наблюдательность, осведомленность и дар реалистического изоб-
ражения.
«Новые забавы» имеют огромный географический диапазон: они зна-
комят нас почти со всей северной Францией, с Лангедоком и Провансом.
В противоположность «Гелтамерону», сборник Деперье вводит нас глав-
ным образом в буржуазные круги французского общества и отчасти в на-
родную среду. Предметом его насмешки являются по преимуществу свя-
щенники и монахи, врачи, судьи и ученые, но немало достается и женщи-
нам всякого звания, школярам, педагогам, торговцам, крестьянам и т. д.
Деперье с любовью изображает народ. Он любит народные песни, и
теперь, как и прежде, как его учитель Маро, и даже его покровительница
Маргарита, которая писала религиозные стихи на мотив « На авиньонском
мосту» или «Видели ли вы Перронеллу?»,—он придумывает на их основе
новые ритмические построения и охотно цитирует их: «В Париже на Сене
есть три лодки» («A Paris sur Seine trois bateaux y a», нов. 19), «Ha
авиньонском мосту я слышал, как пела красавица» («Sur le pont d'Avignon
j'ouy chanter la belle», нов. 24), «Она вошла в свой сад, чтобы сорвать
фиалку» («Elle entra dans son jardin cueillir la violette», нов. 42), «В Па-
риже, большом городе» («A Paris la grand'ville», нов. 74) и т. п. И не проник-
нут ли, в конце концов, весь его сборник новелл тем же народным духом,
который принесла с собой демократическая группа поэтов и писателей,
мечтавшая о широком переустройстве жизни и искусства, полная револю-
ционной энергии и чувства нерастраченной еще свежей силы, пока ожив-
шая феодальная реакция не положила конец этому слишком далеко за-
шедшему движению и, обрезав крылья этим вольным птицам, не предло-
жила им войти в клетку учености и формализма?
Говоря о повествовательной литературе XVI в., нельзя умолчать о
группе произведений, примыкающих к новелле, хотя и не тождественных с
нею. Это диалоги, являющиеся по своему содержанию наставлениями жи-
тейско-практичеокого характера, пересыпанными небольшими историйками
шутливого склада, анекдотами и т. п., то морализующего, то сатириче-
РАННЕЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ
245
ского, или, наконец, просто развлекательного характера. Так строились
еще в пору классического средневековья церковные проповеди; но создатели
этого жанра скорее отправлялись от популярной в эпоху Ренессанса формы
диалога. Это — демократизированный диалог, перенесенный в буржуазную
бытовую обстановку, очень часто провинциальную, диалог, вставленный в
рамки пирушки, посиделок и т. ш. Не связанные определенной темой, та-
кие диалоги стали называться с течением времени «шутками», «всякой вся-
чиной» и т. п.
Одним из старейших представителей этого жанра является Ноэль
дю Файль (Noël du Fail, 1520—1591), бретонский дворянин, юрист по
образованию, долгие годы занимавший место судьи в родной провинции.
Это обстоятельство не только позволило ему близко познакомиться с нра-
вами и бытом местного крестьянского населения, но и превратило его в по-
клонника простой деревенской жизни, противопоставляемой им испорчен-
кой городской, на которую крестьянин только по неведению и неразумию
может стремиться променять свое существование. С этой точки зрения на-
писаны им «Деревенские шутливые беседы» («Propos rustiques et facétieux»,
1547), в которых дана идеализированная картина сельской жизни на про-
стой и старинный лад. Пирушка, пляски, драки, рассуждения сельского
философа, забавные фигуры приходского священника и деревенского ска-
зочника — все это обрисовано очень -живо. Хорошо схвачены характерные
детали внешности, манера говорить. Но в то же время автор навязывает
иногда своим персонажам много им несвойственного, наделяя их, например,
своими привычками речи, не исключая латинских цитат, ученых шуток,
юридических выражений, и тем самым ослабляя реализм неплохо задуман-
ных образов.
Ноэль дю Файль продолжал и в последующие годы писать нл эти
темы, выводя себя в качестве рассказчика под именем Этрапель (Lutra-
pel — «остроумец»); таковы его «Шутки Этрапеля» («Baliverneries d Eutra-
pel», 1548) и «Сказки и новые речи Этрапеля» («Contes et nouveaux
discours d'Eutrapel», 1585). В первых широко развит элемент повествова-
ния и даны удачные описания деревенской усадьбы. Второй сборник дю
Файля отличается более обширными размерами и более серьезным тоном.
Диалоги Этрапеля и его друзей вращаются теперь уже в кругу не столько
местных, сколько общих вопросов, занимавших в то время третье сословие,
вроде реформы суда или секуляризации церковной собственности. Ценность
этой книги дю Файля, как, впрочем, и предыдущих, не столько в целом,
сколько в отдельных ее частностях, написанных иногда очень удачно. Та-
кова, например, глава 22-я — «О настоящем и прошлом времени», или
вставные рассказы, вроде басни о глиняном и железном горшке (гл. 2),
или заимствованный из Плутарха рассказ о жене сенатора, которая не
могла сохранить тайны (гл. 33). Изложение дю Файля изобилует наме-
ками на провинциальные обычаи и не всегда достаточно отчетливо. Иногда
оно перегружено учеными деталями. Дю Файль любит редкие слова, пи-
тает слабость к длинным периодам, старается кое-где подражать Рабле.
В связи с Ноэлем дю Файль естественно вспомнить другого област-
ного рассказчика — Гильома Буше (Guillaume Bouchet, 1513—1593), ав-
тора «Бесед после ужина» («Serées»), первая книга которых вышла в свет
в 1584 г., а все три в 1608 г. Буше был книгопродавцем в Пуатье и пи-
сал прежде всего для своего ближайшего окружения. Свои «Беседы» он
посвятил купечеству родного города, которое избрало его консулом. Но
мы тщетно искали бы в них сознательного изображения местной жизни.
Цели Буше иные. Он ссылается на Рабле, Монтеня, Ронсара; он стремится
244
ВОЗРОЖДЕНИЯ
быть на высоте современной литературы, он коллекционирует свои анек-
доты и истории столько же для развлечения, сколько для поучения. За-
стольные беседы, которые он предлагает своим читателям, «доставляют на-
слаждение телу и душе в такой же мере и даже больше, нежели вино. . .
Но они в то же время служат и приобретению познаний в различных
науках. . . Это пифагорейская школа. .. и совершенно ясно, что писатель в
один час, который он употребляет на разговоры и рассуждения с себе по-
добными, приносит больше пользы, чем он принес бы за целый день, сидя
в одиночестве, запертый в своем кабинете». Поэтому тематика Буше са-
мая разнообразная. «Беседы», разделенные автором на 36 глав, трактуют
о воде и вине, о рыбах и собаках, о судьях и врачах, плутах и уродах,
зрении и обонянии, о живописцах и брадобреях. Этим объясняется попу-
лярность книги, которая неоднократно переиздавалась в XVII в. Изло-
жение ее все же тяжеловесно, повествовательные вставки сделаны сухо и
сжато, без всякого расчета на то, чтобы произвести художественное впе-
чатление. Если «Беседы» являются изображением местной провинциаль-
ной жизни, то они представляют собой образчик литературных вкусов
средней руки провинциалов того времени. В этом, как и в культурноисто-
рических деталях, состоит главное значение этой книги.
Несколько ученее аналогичные «Беседам» «Девять утр» («Neuf mati-
nées») и «После обеда» («Les après-diners») гренобльского адвоката Ни-
кола де Шольер (Nicolas de Cholières), уроженца Мена. Несравненно ли-
тературнее их и «Бесед» Буше—«Диалоги» («Dialogues») Жака Таюро
(Jacques Tahureau, 1527—1555), принадлежавшего, подобно Буше, к лите-
ратурной группе Пуатье. Таюро . был одновременно и поэтом, не лишен-
ным известного лирического таланта, искренним, но неровным, то чрез-
мерно сладким, то грубоватым. Его «Диалоги» (1565) называли в XVI в.
повестями, «Contes». Но повествовательные моменты в них случайны. Это
подлинные диалоги морального содержания, написанные с целью побудить
читателя бежать пороков и стремиться к добродетели; это нечто вроде
проповеди, которая заставляет вспомнить о пессимистических идеях автора,
развитых им в поэмах: «О суете людской» («De la vanité des hommes»)
и «О непостоянстве вещей» («De l'inconstance des choses»).
Критика Таюро увлечений всем итальянским и испанским и насмешка
над преклонением перед римской древностью переносит нас во вторую по-
ловину XVI столетия, которой хронологически принадлежит и большинство
характеризованных нами выше произведений. Однако Ноэль дю Файль
или Буше сложились еще в первую половину века; но идеи многих пред-
ставителей жанра, да и самый жанр, как форма, корнями своими уходит
туда же. Это по преимуществу страница из истории провинциально-бур-
жуазной литературы первой половины Ренессанса во Франции.
Популярную форму застольной беседы использовал, между прочим,
Франсуа де Бероальд де Вервиль (François de Béroalde de Verville, 1558—
1612). Перу этого протестанта, превратившегося со временем в католическо-
го священника, принадлежат, между прочим, любовно-авантюрные романы,
обнаруживающие влияние поэдне-греческой повести Гелиодара «Эфиопика»,
и исторический роман «Орлеанская девственница», в котором история
Жанны д'Арк трактована в стиле современной любовной повести. Но имя
Бероальда связано, главным образом, с его «Способом добиться успеха
в жизни» («Le Moyen de parvenir»), в котором автор изображает пир
с участием множества знаменитостей древнего и нового мира. В застоль-
ных беседах этого произведения, напоминающего «Сатирикон» Петрония,
участвуют Аристотель, Карл Великий, Агасфер, Ариосто, Лютер, Каль-
РАННЕЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ
245
вин, Аретино. Ученость автора позволила ему придать тематике разгово-
ров необычайно широкий диапазон. Довольно искусно подражает иногда
Бероальд стилю Рабле, но его книга полна тривиальностей, сомнительной
игры словами, грубых, площадных образов, мотивов и выражений, до та-
кой степени, что даже среди очень вольной по языку литературы XVI в.
она кажется исключением.
Познакомившись с важнейшими явлениями в области новеллы, обра-
тимся к роману.
Во вступительной балладе к «Легенде о мэтре Пьере Фефе» произ-
ведение это превозносится выше всяких старых романов о Роберте Дья-
воле, о сыновьях Змона, о «Гаргантюа с известковыми, волосами»: «Две-
надцать пэров зачахли, Артур умер и Ланселот захирел, Мерлин, Три-
стан, Фьерабрас Венгерский и Понту с удалились в страну фей». Как
будто весь этот старый мир исчез бесследно и перестал кого бы то ни
было интересовать. А между тем двадцать лет спустя (в 1552 г.) ано-
нимный протестантский автор жалуется на книготорговцев, распространяю-
щих всякие издания, для характеристики которых он не скупится на
эпитеты вроде: «развратный», «грязный», «вонючий», «нечесаный» и т. п.
Какие же это «грязные» книги? Это, оказывается, истории — «об Ама-
дисе, о Фьямметте и Памфило, о Фьерабрасе, о глупом Гекатомфиле, об
Оливье, Ожье, Фромоне, Жане Парижском, о четырех сыновьях Эмона, об
Ами и Амиле. о Рено де Монтобане и Мерлине, столь недостоверном,
как Лаван, о Мелюзине, Роман о Розе, о Перегрине, о благочестивых дея-
ниях великого короля Карла, о доблестных подвигах Артура Бретонского,
о великих приключениях Петра Прованского, о Пантагрюэле, преуспеваю-
щем более других. . .» В этом списке есть ряд заглавий, знакомых нам уже
по цитированной балладе, судя по которой соответствующие книги уже
отошли как будто в область преданий. Но читатели во Франции были
разные. Автор баллады принадлежал к кругам Базоши или близким к ним,
т. е. к той среде, откуда вышел Клеман Маро. Здесь большую часть этой
литературы, может быть, не читали; исключение составляли только такие
книги, как «Роман о Розе», переизданный в подновленном виде Маро. Но,
помимо буржуазного читателя, существовал дворянин, знатный аристократ,
существовал народ, и, если учесть это, становится понятным то негодова-
ние, в которое пришел благочестивый протестант.
В 1532 г. в Лионе была издана народная книга о Гаргантюа, имев-
шая огромный успех и натолкнувшая Рабле на мысль о его романе. Та-
кие книги издавались в большом количестве и находили широкий сбыт
среди мелкой городской буржуазии и крестьянства. С другой стороны, ры-
царство и тип рыцаря входили в моду при дворе Франциска. Баярд по-
свящает короля в рыцари и пишет под псевдонимом «Верный слуга» био-
графию своего повелителя (изд. в 1527 г.) в тонах рыцарской поэмы. И
Баярд является не единственным объектом подобного изображения. Сле-
довательно, не только читали романы, но и самую действительность были
способны рисовать себе в соответствующих красках. В феодальных группах
шло как бы возвращение к прошлому. Но между рыцарем доброго ста-
рого времени и современным была огромная разница, и разницу эту четко
и ярко отразила рыцарская литература.
Рыцарский роман в период его возрождения, в первые полвека после
введения книгопечатания, был романом прозаическим и сверхкуртуазным,
в духе требований аристократического общества XVI в. Военные доблести
отходили все более на задний план. Вот почему переделки старых героиче-
ских поэм не могли конкурировать с романами «бретонского типа; впро-
246
ВОЗРОЖДЕНИЕ
чем, последние также подвергались основательным переделкам, в которых
усиливалась и углублялась роль любовных переживаний, много места уде-
лялось изображению блестящих моментов светской жизни, празднеств,
турниров и т. п., и необычайно изощрялась фантастика.
Но и бретонский куртуазный роман оказался не на достаточной вы-
соте. Тристан, Ланселот или Персеваль не удовлетворяли требовательных
дам и кавалеров XVI в. Им было нужно нечто более новое, а главное —
необыкновенное, экзотическое. Такая обстановка и такие герои отыскались
в романах о том, чье имя стоит первым в списке протестантского критика,
а именно — в романах об Амадисе Уэльском (или, как его называют не
совсем правильно, Галльском). Роман этот был занесен во Францию
из Испании, где он был обработан Гарси-Ордоньесом де Монтальво (ок.
1492 г.). Происхождение его неясно; в старой французской литературе
Амадис не упоминается. Он имел огромный успех у себя на родине и по-
родил, естественно, ряд продолжений, составивших з 20-х годах XVI в.
целых 12 томов. Находясь в плену в Мадриде, Франциск познакомился
с этим романом и по возвращении на родину поручил Никола д'Эрбере
Дезэссару (Nicolas d'Herberay des Essarts) перевести его на французский
язык. Работу эту продолжили вслед за ним и другие, и весь цикл Ама-
диса целиком был переведен между 1540 и 1556 гг.
Начиная с Дезэссара, переводчики подходили к «Амадису» как
к французскому роману, который испанцы переделали по-своему, а потому
они старались «вернуть» ему национальный характер. Национальная точка
зрения заставила их местами сократить оригинал (особенно речи персона-
жей), восполнить то, что казалась пробелами, драматизировать действие
и усилить соответственно этому диалоги, изощрить чувства, а в общем —
модернизировать роман так, чтобы он являлся зеркалом современной
жизни светского общества. Особенно сильное впечатление производили в
переводе романа галантные любовные беседы и письма. Успех их был на-
столько велик, что в 1559 г. они были выпущены отдельным сборником
и явились настольной книгой светского человека, «amadiseux», как гово-
рили тогда.
Не меньшим влиянием пользовалась, на ряду с этим «национали-
зованным» Амадисом, и итальянская литература. «Фьямметта и Пам-
фило», упоминаемые в приведенном нами перечне «вредных» книг, — не
что иное, как «Элегия мадонны Фьямметты» Боккаччо, переведенная в
1532 г. и выдержавшая в короткий срок ряд изданий. Сентиментальные
запросы XVI в. находили в этой повести о любви и страдании женщины,
покинутой своим возлюбленным, обильную пищу и удовлетворение. «Эле-
гия» отвечала как нельзя лучше растущему интересу к психологическому
анализу, к внутреннему миру человека, его страстям и переживаниям.
Обновлялся старый культ дамы, идеи любви—служения, любви — источ-
ника не столько сердечного блаженства, сколько морального подъема.
Обновлялись темы любовных прений. Только теперь все это переноси-
лось в плоскость платонизма, дискуссий о совершенной любви. Из «Фило-
коло» Боккаччо извлекали страницы любовной контроверзы, переводили
их и в виде «Тринадцати изящных вопросов любви» («Treize élégantes
questions d'amour»), выпускали отдельным изданием, как параллель к лю-
бовному письмовнику на основе «Амадиса».
Но в первую половину XVI в. голос Рабле в области романа звучал
громче, так как более мощным был голос стоявших за ним демократиче-
ских сил. Он был зычным, грубоватым, но увлекательным. Нежные голоса
пламенных поклонников «Амадиса» были пока чуть слышны. Они стали
РЛПНЕЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ
247
раздаваться отчетливее во вторую половину века, когда те, кому они при-
надлежали, вышли на историческую авансцену и началась феодальная
реакция.
Л
Одновременно с новеллой и романом развивается морально-философ-
ская и публицистическая проза, порожденная религиозной борьбой эпохи.
Жан Ковен, переименовавший себя затем, по латинской форме своей
фамилии, в Кальвина (Jean Cauvin или Calvin, 1509—1564) создал церков-
ную организацию, крепкую и влиятельную; Кальвин резюмировал основы
своего вероучения, которые явились затем опорой всего французского
реформаторства; Кальвин положил начало новой религиозной, моральной
и политической прозе, ставшей образцом для этого типа французской ли-
тературы в будущем.
Сочинения Кальвина распадаются на три группы: теоретические трак-
таты, полемические сочинения и проповеди. Основные богословские и нрав-
ственные идеи систематизированы Кальвином в его «Наставлении в хри-
стианской вере». Книга эта появилась в 1536 г. первоначально на латин-
ском языке («Institutio religionis christianae») с предисловием—письмом
к Франциску I. В 1539 г. Кальвин дает второе, исправленное и дополнен-
ное издание своей латинской книги, а в 1 541 г. переводит ее на француз-
ский язык («Institution de la religion chrétienne»), «желая то, что в ней
может принесть плод, сообщить нашему французскому народу».
Пример Лютера не остался без влияния на Кальвина и помог ему
разрушить предубеждение современных гуманистов о неспособности фран-
цузского языка служить выражению высоких и отвлеченных идей. В 1559 г.
Кальвин выпустил в свет окончательное латинское издание «Наставле-
ния», а год спустя его новый французский перевод. Этим последним и
пользуются обычно; но при всех своих достоинствах, большей плавности
и ровности, он не обладает чертами перевода 1541 г., в котором так ярко
сказалось увлечение автора своей работой и который создал эпоху в исто-
рии французской прозы.
Кальвин дает французский перевод с целью сделать свои идеи доступ-
ными самым широким кругам читающей публики. Но одного языка было
мало. Уже в латинском оригинале автор отказался от обычного для бого-
словских сочинений схоластического сложного изложения в пользу про-
стого и удобопонятного. Книга должна была служить введением в понима-
ние Библии и Евангелия, которые сами по себе настолько ясны, что
всякие умствования в этой области могли бы, по мнению Кальвина, только
сбить с толку сердце, правильно чувствующее истину. «Я облек свою
книгу, говорит Кальвин, — в самую простую форму, какую только мог,
в целях наставления».
Чтобы стать еще более доступным своему читателю, Кальвин, имея
особенно в виду читателя из народа, старается не только быть ясным, но
и пользоваться в своем французском переводе народным языком, нимало
не смущаясь тем, что ради этого ему приходится обращаться к выраже-
ниям или оборотам, почерпнутым из пословиц и поговорок, образам гру-
бозатым, заимствованным из фамильярной речи, иногда даже тривиальным.
На первом месте — смысл, идея; всевозможные соблазны словесной формы
отвергнуты. Если Кальвин стремится к чему-либо помимо ясности, то
только к краткости. «Все знают, — говорит он, — как точна та краткость,
с которой я пишу». Он опасался иногда только, чтобы эта краткость не
повредила удобопонятности.
243
ВОЗРОЖДЕПИЕ
Такова эта замечательная книга, в которой Кальвин, выступая ка:с
учитель веры, с такой смелостью разрешает труднейшие для своего вре-
мени задачи французской прозы, не имея перед собой никакого образца
и добиваясь в то же время демократизации словаря и стиля. И это ему
удалось настолько, что «Наставление» является одним из важнейших па-
мятников прозы, от которого ведет свое начало целая традиция.
Несколько иной характер имеют памфлеты Кальвина, в • которых он
обрушивается на своих противников — анабаптистов, «духовных либерти-
нов» (распущенных духом), робких «никодимитов», которые, подобно
ученику Иисуса Никодиму, «приходят к истине украдкой», «под покровом
ночи» и т. д.
Тон этих памфлетов гораздо менее спокоен, ибо памфлет — орудие
борьбы. И здесь Кальвин опять-таки хочет воздействовать на народную
массу. Он сознательно не только резок, но подчас груб, награждая своих
противников эпитетами, не особенно принятыми в литературе; слова: «мо-
шенники», «пьяницы», «болтуны», «бездельники» и т. п. то и дело сле-
тают с его пера. Иногда он просто бранится; в лучшем случае—прибегает
к довольно смелым шуткам. Наиболее характерным в этом отношении
памфлетом является «Трактат о мощах», в котором он в тоне своеобраз-
ного юмора дает перечень реликвий, из которого следует, что на каждого
святого приходится по крайней мере два-три тела. Кальвин, однако, во-
обще не способен к спокойной иронии или подлинному юмору. Он слиш-
ком страстен и запальчив для того, чтобы удовлетвориться насмешкой
или колкостью. Его нервный, раздражительный, властный и страстный
темперамент, его пессимизм и прямолинейность, склонная к крайним вы-
водам, требуют резкого, решительного и непримиримого тона, не щадя-
щего никого и ничего, когда речь идет об уничтожении врага или устра-
нении зла.
Те же черты отличают и проповеди Кальвина, число которых (за
двадцать лет) доходит до двух тысяч. Они, пожалуй, несколько сдержан-
нее по форме. Тем более резкий тон некоторых из них поражает при срав-
нении их с памфлетами. Кальвин был человеком догматической «истины»,
которую он сообщал другим, а не человеком «свободы», которая, по его
мнению, могла привести людей только к заблуждениям.
Кальвин принадлежит прежде всего истории религиозно-общественных
идей; но, как видно из сказанного, он связан крепко я с историей лите-
ратуры и языка. По словам Этьена Пакье, французский язык «весьма
обязан Кальвину тем, что он обогатил его бесконечным множеством пре-
красных черт».
ГЛАВА II
РАБЛЕ
1
ченые труды ранних гуманистов, творчество поэтов
кружка Маргариты Наваррской, вся ранняя ренессанс-
ная новеллистика были не более, как разбегом француз-
ской литературы перед одной из самых высоких вер
шин, которых она когда-либо достигала- Рабле был ве-
личайшим художником французского Ренессанса, быть
может, величайшим французским писателем всех времен
и одним из величайших гуманистов Европы. Его дея-
тельность — большой культурный рубеж. Роман его
стоит у высокого подъема ренеесансной волны, как «Бо-
жественная комедия» Данте стоит у истоков Ренессанса. Обе книги то
своему охвату — энциклопедии: поэма Данте — патетическая, роман Рабле —
ироническая, та и другая — боевые, направленные против старины, отжи-
вающей на разных этапах, в разной мере. Рабле наносил этой старине бо-
гатырские удары, от которых ее твердыни рушились так же неудержимо,
как башни и стены Ведского замка под ударами дубины Гаргантюа. Рабле
кляли со всех сторон. Он оборонялся, маскировался, маневрировал и, не-
смотря на жесточайший натиск реакции, сумел — это было нелегко — не
попасть на костер. Он спас, таким образом, свою книгу и завещал ее ро-
дине и человечеству как арсенал смертоносного оружия против противни-
ков идейного прогресса и врагов человеческой свободы.
Франсуа Рабле (François Rabelais, род., вероятно, в 1494 г., ум. в 1553 г.)
родился в Шиноне (Турень). Он был младшим сыном мелкого судебного
чиновника. В 1510 г. он поступил во францисканский монастырь и до
1524 г. пробыл монахом в Фонтене-Леконт (Пуату). Там же он получил
сан священника. Но духовные подвиги мало соблазняли даровитого юношу.
Он хотел учиться. К великому соблазну товарищей по монастырю он засел
за науку, легко одолел латынь, принялся за греческий, читал Платона,
вступил в переписку с главою французских гуманистов Гильомом Бюде.
В конце концов, раздраженные этим чрезвычайно нефранцисканским обра-
зом жизни Рабле («пусть не стараются люди необразованные приобрести
образование», — учил святой Франциск), монахи отняли у него греческие
книги, добытые им с величайшими жертвами. Рабле спасли друзья, выхло-
потавшие ему папское разрешение перейти в бенедиктинский орден, не
2iîO
П03Р0ЖДЕШ1Е
имевший столь пылких обскурантских традиций. В бенедиктинском аббат-
стве в Мальезе его поддерживала дружба местного епископа д'Эстиссэка.
Здесь ему не мешал никто. Он не только продолжал свои эллинистические
занятия, но стал отдавать все больше и больше времени естествознанию
и медицине. В 1528 г. — пока еще с разрешения духовного начальства —
он отправился в Париж, а оттуда уже самовольно дальше, все с той же
целью.
Это была еще пора терпимости. Разбитый при Павии вождем католи-
ческой реакции Карлом V, королем испанским, взятый в плен, освобожден-
ный на очень тяжелых условиях, Франциск I естественно стремился к
сближению с немецкими протестантскими князьями и проводил у себя
очень либеральную религиозную политику. Гильом Бюде поздравлял себя
и своих единомышленников с «возвращением из изгнания» свободного зна-
ния. Теперь Рабле мог более свободно, не оглядываясь на монастырские
колокольни, отдаваться своим занятиям. Сначала он попал (1530) в Мон-
пелье, где читал лекции, следуя доктринам Гиппократа и Галена, и зара-
батывал себе на пропитание то как врач, то как священник. В 1532 г. он
уже в Лионе — врачам большой больницы. Отсюда он завязал сношения
с Эразмом. Здесь же он начал печататься. В следующем 1533 г. появилась
нод псевдонимом Alcofribas Nasier (анаграмма его имени) первая часть
'«Пантагрюэля» — «Страшные и ужасающие деяния и подвиги достослав-
ного Пантагрюэля, короля дипсодов, сына великого великана Гаргантюа»
(«Les horribles et épouvantables faits et prouesses de très renommé Pantagruel,
roi des Dipsodes, fils du grand Géant Gargantua»).
Толчком, побудившим Рабле взяться за эту тему, было появление
незадолго перед тем народной книги под заглавием «Великие и неоцени-
мые хроники о великом и огромном великане Гаргантюа» («Grandes et
inestimables chroniques du grand et énorme Géant Gargantua»), которой, как
сообщает Рабле, «в два месяца было продано столько, сколько не купят
библий за девять лет». Главный интерес этой книги составляла, с одной
стороны, ее широкая фольклорная основа, с другой—содержащаяся в
ней явная сатира на фантастику и авантюрную героику старых рыцарских
романов. То и другое, без сомнения, привлекало Рабле, который решил
использовать канву лубочного «Гаргантюа». «Пантагрюэль» был задуман
как продолжение народной книги, сохраняющее в некоторой степени стиль
и имитирующее наивную эпичность оригинала: тот же сюжет, те же вели-
каны, но совершенно иной смысл и совершенно иное настроение.
Прежде всего имитация очень скоро, можно сказать, с первых стра-
ниц, начинает перебиваться ироническим отношением к рассказываемым
событиям, и эта ирония остается до конца лейтмотивом всей книги. В этом
отношении Рабле следовал примеру итальянских поэтов Луиджи Пульчи
и Теофило Фоленго, у которых он заимствовал, кроме того, и некоторые
из своих образов. Но ни у кого не было заимствовано то идейное содер-
жание, которым был насыщен «Пантагрюэль». Оно было не вполне легаль-
ным и потому было замаскировано, хотя и не настолько, чтобы вниматель-
ный читатель, особенно читатель, соответствующим образом настроенный,
не разглядел его. Это прежде всего целый ряд смелых пародий на Библию
в описании чудес, например, воскресения Эпистемона, или роли одного из
выдуманных для смеха предкоз Пантагрюэля, гиганта Юфтали, в потопе:
сн спасся, оседлав Ноев ковчег, внутри которого по своим размерам не
мог поместиться. Это затем насмешки по адресу пап, совсем еще недавно
сошедших со сцены — Александра VI и Юлия II. Это постоянные на-
падки на католицизм, на католическую церковь, на культ, на проповедников,
РАБЛЕ
îiiil
на процессии, и в то же
время постоянное подчер-
кивание, что настоящая
проповедь Евангелия дол-
жна совершаться «чисто,
просто и полностью» (pure-
ment, simplement et entière-
ment), т. е. так, как у про-
тестантов, притом у проте-
стантов докальвиновских,
не имевших еще официаль-
ной церкви. Когда Каль-
вин создаст свою общину
в Женеве и начнет угнетать
свободную веру не хуже
римского папы, Рабле и
его поднимет наомех, и
этого палач Сервета не
простит ему никогда.
Все эти вещи встреча-
ются в «Пантагрюэле» на
каждом шагу и сливаются
в определенную деклара-
цию свободной веры, при-
мыкающей к доцерковному
протестантизму, но уже пе-
рерастающей его и едва
скрывающей свои атеисти-
ческие тенденции. Есть в
«Пантагрюэле» и другое,
что ярче и полнее всего
выражено в VIII главе,
содержащей знаменитое письмо Гаргантюа к сыну, подлинный манифест
французского Ренессанса. Это — восторженный гимн новому знанию и но-
вому просвещению, ликующая программа гуманистической науки, пропитан-
ная такой же верой в ее непогрешимость и радостью приобщения к ней,
как восклицание Ульриха фон Гуттена: «Умы проснулись, жизнь стала
наслаждением ! ».
Однако миросозерцанию, нашедшему выражение в «Пантагрюэле»,
нехватало системы и выдержанности. Отдельные высказывания, намеки,
озорные порою выходки хорошо били в цель, но вместе с тем чувствова-
лось, что автор хочет сказать больше. Ему недоставало либо обстановки,
подходящей для систематизирования мыслей, его волновавших, либо необ-
ходимого материала.
' Литературные интересы Рабле в эти годы (1532—1533) еще не вполне
определились. Он делил время между изданием комментированных антич-
ных трактатов по медицине (латинские «Афоризмы» Гиппократа были
выпущены в 1532 г.) и печатанием календарей (начато в 1533 г.). Един-
ственная вещь, которая заставляет угадывать в ее авторе будущего ма-
стера сатиры, это изданное в том же 1533 г. «Пантагрюэлево предсказа-
ние» («Pantagrueline pronostication»), издевательская пародия на обычные
метеорологические и астрологические «предсказания», выпускавшиеся пред-
приимчивыми любителями легкой наживы каждый год. Рабле пробовал
Фронтиспис первого издания «Пантагрюэля» Рабле
(1533 г.)
252
ВОЗРОЖДЕНИЕ
перо и нащупывал, очень осторожно, пути творчества. Латинские работы
по медицине и археологии Рабле печатал и позднее. Они не прибавляют
славы автору «Пантагрюэля».
Первая же поездка в Италию сильно расширила кругозор Рабле,
дала ему возможность вернуться к вопросам, его занимавшим, и создать
нечто гораздо более зрелое.
В 1534 г. в Рим с посольством короля Франциска приехал из Фран-
ции епископ Жан Дю Белле с большой свитой. Его сопровождал в каче-
стве врача Рабле. 'Это был последний год понтификата Климента VII.
Рабле был впервые в Италии. Прошло только семь лет после страшного
разгрома, которому Рим подвергся во время войны Коньякской лиги
против Испании. В городе на каждом шагу были видны следы этого раз-
грома: разрушенные здания, черные после пожара стены домов, и каждый
из римских жителей мог рассказать десятки самых потрясающих историй
о страшных майских днях 1527 г., когда Рим сделался жертвой испанцев
и немецких ландскнехтов.
Первое пребывание Рабле в Италии было непродолжительным. Он
выехал из Лиона в январе 1534 г., в Риме пробыл до 1 апреля, на обрат-
ном пути побывал, повидимому, во Флоренции и вернулся в Лион 18 мая.
Мы очень мало знаем о том, что он делал в Италии, с кем виделся, что
читал, о чем думал. Молодость его прошла; ему было около сорока лет.
Он знал много, но в Италии он получил возможность узнать еще больше,
ибо общий культурный уровень итальянцев был выше, и выше была их
политическая ориентированность. Вернувшись на родину, Рабле напечатал
еще один том своей эпопеи, в которой частью вернулся к тем же вопро-
сам, которыми занимался в «Пантагрюэле», частью поставил ряд новых.
Эта вторая часть была озаглавлена: «Неоценимая жизнь великого Гар-
гантюа, отца Пантагрюэля» («La vie inestimable du grand Gargantua, père
de Pantagruel»); она вышла еще в 1534 г. и сделалась таким образом
первой книгой романа, отодвинув «Пантагрюэля» на место второй
книги.
В прологе к «Гартантюа» Рабле рекомендовал читателю путем вни-
мательного чтения и усиленного размышления «разгрызть кость и извлечь
существенный мозг» его рассказа, разгадать «пифагорейские символы», т. е.
тайную его мысль по вопросам «религии, политического положения и эко-
номической жизни». Из этих вопросов особенно «существенными» предста-
вляются нам три: о воспитании Гаргантюа, о войне между королем Пик-
рошолем и Грангузье, отцом Гаргантюа, и о Телемском аббатстве.
Начнем с воспитания Гаргантюа. Король Грангузье поручил воспита-
ние своего сына схоластикам и богословам сорбоннского типа, людям ста-
рой культуры и старой науки, для которых буквоедство было главным
содержанием всякого образования. Они заставляли его зубрить так, чтобы
он, начиная от азбуки и кончая серьезным трактатом, мог говорить все без
запинки наизусть, не интересуясь смыслом. Мальчик ничему не научился.
Тогда посоветовали королю пригласить людей иного образа мыслей, дру-
гой выучки. Обучение Гаргантюа было отнято у схоластиков и поручено
гуманистам. И здесь, в главах, которые посвящены обучению Гаргантюа
гуманистами, Рабле раскрывает в очень яркой форме свои идеалы.
Педагогика в культуре Ренессанса играла очень большую роль.
Людям, создававшим новую культуру, было важно, чтобы новая культура
получила в свои руки такое орудие, при помощи которого она могла бы
подготовить человека с раннего его детства к восприятию этой культуры.
Итальянские гуманисты XV в. и теоретически обосновывали этот принцип
РАБЛЕ
253
и практически осуществляли его. В трудах Леонардо Бруни. Верджерио,
Дечембрио, Гварини была разработана целая система новой педагогики, и
плоды теоретической мысли давно оживили там педагогическую практику.
Была основана школа в Мантуе, во главе которой стоял энтузиаст новой
педагогики, Витторино да-Фельтре. Эту школу называли la casa gtoiosa —
«домом радости».
Основные моменты педагогики, получившей завершенно-художествен-
ное выражение в романе Рабле, вполне соответствовали тем самым прин-
ципам в этой области, которые создали итальянские гуманисты и которые
следом за ними разрабатывали Эразм Роттердамский и другие представи-
тели европейского гуманизма.
Рабле положил в основу общественного воспитания два принципа.
Во-первых, человек должен получать не только умственное образование,
но и физическое воспитание: ум и тело должны развиваться одновременно,
параллельно и гармонично. Во-вторых, ни одна система воспитания и обра-
зования не может быть сколько-нибудь успешной, если в ней не чере-
дуются различные дисциплины и если эти различные дисциплины не
перемежаются, как освежающим моментом, отдыхом. Лучше всего ставить
систему образования так, чтобы воспитываемый не различал, где начи-
нается учение и где кончается отдых, и лучше всего, когда отдых и уче-
ние так чередуются между собой, что и то и другое воспринимается с боль-
шой радостью для воспитываемого. Это точка зрения всей новой культуры,
и этими принципами живет здоровая педагогика до сих пор.
Почему Рабле вернулся еще раз к вопросам воспитания, после того
как в «Пантагрюэле» уже шла речь о воспитании героя? В Италии Рабле
познакомился с теориями итальянских гуманистов, и ему захотелось рас-
крыть всю общественную значительность системы нового воспитания в том
освещении, которым она озарилась в его сознании благодаря книгам его
итальянских предшественников,— тем более, что этим способом одновре-
менно наносился удар сорбоннистам и схоластикам, еще очень живучим и
вредоносным врагам нового просвещения.
Совершенно понятно, почему Рабле ополчился на схоластиков со всей
необузданной мощью своей сатиры. Схоластика была идейным оплотом
старого мира. Она объединяла в одну губительную силу мракобесие, фана-
тизм, самодовольное невежество; она благословляла инквизицию, вдохно-
вляемую Сорбонною; она снабжала арсеналом богословских аргументов
поборников идейно уже разгромленной, ясно сознававшей свою неотвра-
тимую гибель, но тем более отчаянно оборонявшейся феодально-католи-
ческой старины. Подбираемые схоластиками философские и богословские
аргументы превращались в муть церковных проповедей и приводили к
инквизиционным кострам, которые зажигались сановниками церкви с мол-
чаливого согласия короля. Столпы схоластической учености в глазах Рабле
поэтому вовсе не были всего только безмозглыми и тупыми педантами.
Они, быть может, не сознавая этого, своей безмозглостью и тупостью га-
сили драгоценные светочи нового знания, нового просвещения, новой куль-
туры. Но бороться с ними было безопаснее всего так, как это делал
Рабле — выставляя на посмешище их умственную немощь, издеваясь над
их человеческими слабостями. Да и сатирическому гению Рабле предста-
влялась на этом пути легкая и благодарная задача — бить врагов смерто-
носным оружием, которым он владел с таким совершенством: карикатурой
и гротеском.
Проблема войны с Пикрошолем касается не менее важных вопросов.
Гаргантюа кончил или почти кончил свое учение в Париже. Он подрос.
231
ВОЗРОЖДЕНИЕ
сделался крепким, сильным юношей-великаном и, в сущности, был уже
готов вступить в жизнь и помогать своему отцу в трудах по управлению
государством. Уже пришла пора расстаться с Парижем и возвращаться на
родину. Но отъезд Гаргантюа был ускорен одним обстоятельством. У ста-
рого Грангузье жил по соседству его давний противник, король Пикро-
шоль. Этот Пикрошоль, воспользовавшись вздорным поводом, напал на
Грангузье. Началась война. Это — вторая война, которую описывает Рабле.
Первая была сюжетом одного из эпизодов «Пантагрюэля», изображала
эпические битвы, богатырские подвиги, словом, весь обычный арсенал
героических поэм. Здесь война — повод.
Рассказывая о ней, Рабле, в сущности, излагает свои мысли по основным
вопросам политики. Что представляет собой Пикрошоль? Это типичный ко-
роль-феодал, король в старом стиле, такой, которого уже, может быть,
трудно было бы сыскать на каких-нибудь крупных европейских престо-
лах, где повсюду сидели государи, воспитанные гуманистами, — король,
который все свои упования неприкрыто возлагает на грубую физическую
силу, который не считается ни с какими принципами в области права и
управления. И рядом с ним — его подручные военачальники, орудия наси-
лия и захватнических войн с живописными, звонкими, не всегда удобо-
переводимыми именами: Спадассен, Мердайль и т. п. Сам Грангузье —
человек нехитрый, но необычайно добрый, который очень любит, очень
жалеет свой народ и охраняет мир в своем государстве. Однако, когда
Пикрошоль пришел воевать, у Грангузье не оказалось войска: его под-
данным было лень защищать своего короля. Пришлось срочно выписы-
вать Гаргантюа, а Гаргантюа должен был срочно организовать оборону.
В конце концов Пикрошоль был побежден, и войско его было разбито. Но
идеологически это вопрос второстепенный. Не в войне тут было дело, и не
в войске, и не в сражениях, а в образах обоих королей, короля-варвара и
короля — заботливого, но чрезмерно благодушного хозяина. Оба портрета,
конечно, сатира, хотя в одном случае суровая и беспощадная, а в дру-
гом — ласковая, почти любовная. Отдельные черты как Пикрошоля, так
и Грангузье можно было найти у любого из правителей Европы, даже у
самых просвещенных. Смысл сатиры Рабле в том, что в существующей
организации монархической власти — много черт, достойных осмеяния,
много отрицательного, что ни одно из монархических государств в Европе
нельзя признать настоящей монархией, достойной этого имени. Ибо прин-
ципа монархии Рабле не отвергал. Это было второе, что в идеологии
Рабле сформировалось после Италии. Италия в этом отношении далеко
ушла вперед. Политическая доктрина Макиавелли, Гвиччардини и их
последователей анализировала достаточно внимательно и достаточно глу-
боко содержание понятия власти вообще и монархической в частности.
Рабле и тут было чему научиться у итальянцев, и Рабле, очевидно, на-
учился. Ибо его изображение соперничества двух королей показывает, на-
сколько сознательно было теперь его отношение к монархии и к власти
зообще. Рабле не показал по-настоящему своего идеального монарха.
Только отдельные намеки позволяют думать, что он видел в обоих своих
героях, Гаргантюа и Пантагрюэле, некоторые черты этого образа.
От идеалов политических легко совершается переход к идеалам об-
щественным. Их Рабле рисует в картине Телемского аббатства.
Монах, брат Жан, совершил в войне с Пикрошолем большие подвиги
и должен был получить за это награду. Когда у него спросили, чего он
хочет, он ответил, что хотел бы, чтобы для него создали монастырь, не-
похожий на все другие. Такой монастырь и был создан в Телеме. Он дей-
ГАБ.1Е
SoB
ствительно оказался ни в чем не похожим на другие. В монастырях глав-
ное место занимали церковные службы; в Телеме — нет даже церкви.
В монастырях — устав; в Телеме — никакого. В монастырях все размерено,
ограничено, распределено по часам; в Телеме все будет распределяться со-
ответственно удобствам и надобностям. В монастыри принимают только
кривых, горбатых, хромых, уродливых женщин, а мужчин хилых, худосоч-
ных, бездельников, никчемных; в Телем будут приниматься красивые, хо-
рошо сложенные, обладающие хорошим характером молодые люди обоего
пола. В монастырях — суровая дисциплина; в Телеме — свобода. В мона-
стырях монахи дают обеты целомудрия, бедности и послушания; в Телеме
будет установлено, что каждый может состоять в браке, быть богатым и
жить свободно, и каждый, кроме того, будет иметь право уйти из мона-
стыря, когда ему вздумается, совершенно беспрепятственно. Весь мона-
стырский регламент Телема заключается в одной статье: «fais ce que
voudras» — «делай, что захочешь». Полная свобода; никакого обязательного
труда; светлое спокойное существование. Ни надрыва, ни фанатических
выступлений, ни дрязг. Что хотел сказать Рабле этой утопической кар-
тиной?
Феодальному средневековью было незнакомо понятие свободы. Оно
знало понятие вольностей (les franchises, во множественном числе), т. е.
изъятий в пользу какого-либо коллектива из общего режима несвободы и
принуждения. Понятие свободы, относящееся к человеку, как таковому,
имеющее сколько-нибудь универсальный характер, противоречило всему
феодальному строю и потому просто не существовало. Итальянские гума-
нисты уже давно требовали свободы для человека. Но свобода в понима-
нии итальянского Ренессанса имела в виду отдельную личность. Гума-
низм доказывал, что человек в своих чувствах, в своих мыслях, в своих
верованиях не подлежит никакой опеке, что над ним не должно быть чу-
жой воли, мешающей ему чувствовать и думать, как хочется. Рабле рас-
ширил это понятие. Рабле создал картину большой группы людей, — Те-
лемское аббатство он рисует не то как огромный город, не то как
маленькое государство, — где из жизни устранено всякое принуждение
внутреннее и внешнее, и не только для мыслей и чувств, но и для дей-
ствий. Внутреннего принуждения нет, ибо таков режим. Внешнего нет, ибо
государство, которое может осуществить принуждение, отказалось от своих
прав. Живи, как хочется. Провозглашена свобода не для индивидуума
только, а для целого большого общежития. Напрашивается дальнейший
вывод: если существуют и могут существовать такие общежития, для ко-
торых не писан закон о принуждении, то и все существующие общежи-
тия — город, общество, государство — тоже могут быть свободными, и для
них может быть устранено всякое принуждение и всякая организация при-
нуждения. Это не анархизм: это определенная борьба против той системы
принуждения, в которой жило феодальное общество и в которой был весь
смысл феодального общества.
Что эта картина Телемокого аббатства не более как утопия, блиста-
тельная, правда, лучезарная, заглядывающая в далекое будущее и страстно
призывающая его приход, но все же утопия, видно из того, как Рабле
изображает материальную базу этой беспечальной жизни. «На постройку
и организацию аббатства Гаргантюа велел выдать наличными 2 700 831
длинношерстого барана [название монеты] и ежегодно, пока все не будет
закончено, ассигновал доход с реки Див — 1 669 000 экю с солнцем и по-
стольку же экю с Плеядами. На содержание аббатства он пожаловал в
вечное ему владение 2 369 514 английских ноблей гарантированной позе-
<*::g
ВОЗРОЖДЕНИЕ
мельной ренты, выплачиваемой каждый год казне обители». Эти семизнач-
ные точные цифры выстроились у Рабле не только для смеха. Они пока-
зывают, что в Европе не было такого государства, которое способно было
бы выплачивать эти несуразно огромные суммы на организацию и (поддер-
жание эпикурейского общежития, и что, следовательно, его материальное
обеспечение вообще невозможно.
Но мысли были высказаны, картина свободного общежития и полно-
кровной жизни в нем, исполненной красоты и радости, протекающей в
культурных занятиях и удовольствиях, — нарисована. Читателю было над
чем подумать.
Таким образом, к «Пантагрюэлю» было добавлено начало. Теперь все
новое, свежее, оппозиционное, гуманистическое, заключавшееся в двух кни-
гах, могло оказывать мощное влияние на общество.
Дальнейшая работа над романом затормозилась вследствие перемены
в религиозной политике Франциска I. Известная история с плакатами
1534 г. имела для французских гуманистов весьма тяжелые последствия.
Началось бешеное преследование лютеран и свободомыслящих, запылали
костры. Многие гуманисты поспешили опубликовать декларации, в которых
они отмежевывались от «еретических» мнений. Многие сочли благоразум-
ным переменить местожительство. В их числе был Рабле. Он исчез из
Лиона, а вскоре нашел способ оказаться вне досягаемости Сорбонны и ее
ищеек. Он снова уехал в Италию, опять вместе с Жаном Дю Белле, кото-
рый тем временем стал кардиналом.
Теперь интересы Рабле неожиданно направились в другое русло.
Живя в Риме, где папу Климента VII сменил Павел III, Рабле имел воз-
можность близко присмотреться к папскому хозяйству и нашел здесь
много для себя интересного. В частности, он обнаружил в папском огороде
и фруктовом саду немало овощей и плодов, нигде тогда еще неизвестных
в Европе (артишоки, «римский салат», ренглоты и т. д.). Рабле стал
собирать и изучать эти неизвестные ему семена и образцы их отослал во
Францию.
Рабле вернулся, таким образом, к своим естественно-научным интере-
сам и занимался в это свое пребывание в Риме, которое тянулось меся-
цев семь-восемь (от августа 1535 до апреля 1536 г.), преимущественно
ботаникою. Он не забывал, конечно, и другого. Археология Рима продол-
жала и в этот приезд привлекать его внимание. Он много бродил по раз-
валинам. Немало времени ушло на устройство важного для него личного
дела: он добился у папы прощения за самовольное оставление своего бе-
недиктинского монастыря. Когда он вернулся на родину, то тут его сразу
увлекли в круг совершенно новых для него вопросов.
Если обратить внимание на хронологию отдельных частей его романа,
то нетрудно увидеть, что после появления «Гаргантюа» в 1534 г. и до
1546 г., когда появилась «Третья книга», Рабле как будто совершенно не
интересовался своим романом. Это странное обстоятельство недавно пы-
тался объяснить в комментариях к «Третьей книге» Абель Лефран, из-
вестный исследователь жизни и творчества Рабле. Когда Рабле вернулся
из второй поездки в Итчлию, утверждает Лефран, семья Дю Белле, кото-
рой Франциск I поручил организацию во Франции и особенно вне Фран-
ции распространения сведений, нужных правительству, привлекла к этому
делу Рабле. Рабле не уклонился: новое положение избавляло его от тре-
вог за личную безопастность, так сильно обострившихся перед второй
поездкой. Дело это не было новым. Еще при Людовике XII в первом де-
сятилетии XVI в. подобные же литературные поручения выполнял такой
РАБЛЕ.
С портрета неизвестного художника конца XVII в. (в Версальском музее).
РАБЛЕ
987
крупный писатель, как Пьер Гренгуар, автор известных сотй, направ-
ленных против папы Юлия II. Ни он в то время, ни Рабле теперь не
считали этих занятий предосудительными. Они оба были убеждены, что
служат своим пером родине. Следов работ этого рода, принадлежащих
Рабле, не сохранилось, ибо они носили в значительной мере негласный
характер.
Эти свои секретные дела он мог соединять если не с продолжением
романа, то с медициною. В 1537 г. он получил .в Монпелье степень док-
тора и в ближайшие годы практиковал как врач в разных местах на юге
Франции. В это время у него завязываются сношения с королем Фран-
циском. В середине июля 1538 г. он неожиданно оказывается в королев-
ской свите в знаменательный день свидания Франциска с Карлом V в
Эгморте. Это свидание было устроено стараниями папы Павла III, обес-
покоенного успехами реформационного движения и пытавшегося наладить
для борьбы с ним соглашение между двумя сильнейшими католическими
монархиями. Соглашение! состоялось, и с этого дня эра терпимости во
Франции окончательно отошла в область преданий. Репрессии усилились.
Сорбонна оказалась снова в чести, и для всякого человека, который имел
основания опасаться ее, вставал вопрос о том, как себя обезопасить. А кто
мог чувствовать на себе косые взгляды обскурантов больше, чем Рабле?
Обе его книги — и «Пантагрюэль» и «Гаргантюа» — были, уже осуждены:
сорбоннисты были достаточно умны, чтобы понять, как опасен им Рабле.
Правда, он был рекомендован королю лицами, которым Франциск дове-
рял. Но этого Рабле казалось мало, и он считал, что нелишним будет
принять меры к спасению того, что можно было еще спасти из своих пи-
саний. Он начал с того, что пересмотрел обе свои «грешные» первые
книги. В 1542 г. он напечатал их вместе, в том логическом порядке, в ка-
ком они должны были следовать одна за другой: сначала «Гаргантюа»,
потом «Пантагрюэль». В этом издании он смягчил нападки на богосло-
вов Сорбонны и убрал места, которые могли дать повод к зачислению его
в протестанты. Но он не тронул издевательств над чудесами и пародий на
Библию, так как устранить их значило бы признать их богохульными.
В 1540—1542 гг. Рабле находился при дворе пьемонтского наместника
Ланже (Пьемонт в значительной части принадлежал тогда Франции),
брата кардинала Дю Белле, а в 1545 г. он получил от короля привилегию
на дальнейшее издание «Пантагрюэля», что было далеко не лишним, так
как Сорбонна уже точила на него когти. «Третья книга», сравнительно
невинная, вышла в 1546 г. В ней Рабле совершенно отказался от глумле-
ния над церковью и над Сорбонной и даже (гл. 29) погладил слегка по
головке «добрых богословов» за то, что они «искореняют ереси» и «наса-
ждают истинную католическую веру». Ему нужно было помириться с Сор-
бонной и добиться если не благословения ее — на это рассчитывать было
трудно, — то по крайней мере ее нейтралитета. Единственное, что Рабле
позволял себе попрежнему, — это насмешки, порою достаточно злые, по
адресу монахов. Но это была такая ходячая монета в те времена, что без
нее не обходилась, можно сказать, ни одна новелла, и самые суровые ду-
хезные цензоры не очень хмурились на выходки этого рода. Плодами пре-
досторожности были в значительной мере план и сюжет «Третьей книги».
Эту книгу можно было бы озаглавить «Панург», ибо беспутный друг
Пантагрюэля выдвигается в ней на первое место, а его неудержимое жела-
ние жениться определяет весь сюжет. Строя таким образом книгу, Рабле
получил возможность почти совершенно устранить элементы ироикомиче-
ского эпоса с великанами в качестве главных персонажей. Пантагрюэль
17 l.ciopHii французской литературы—815
258
ВОЗРОЖДЕНИЕ
становится скорее фоном повествования, чем его протагонистом. Он все
время присутствует, огромный, сильный, малоподвижный, но динамику рас-
сказа создают не его интересы, а интересы Панурга. Проблема Панурговой
женитьбы дает повод Рабле развернуть во всю ширь сокровища своей
учености: филологической, философской, юридической, естественнонаучной.
Вопрос о женитьбе перерастает в вопрос об отношениях между мужчиной
и женщиной, в анализ общественной и культурной роли женщины. Панта-
грюэль рекомендовал Панургу обратиться за советом к богослову, врачу,
философу и юристу. А еще раньше Панург уже обращался к астрологу и
поэту, вопрошал некую сивиллу, а после четырех ученых консультаций
решил, в согласии с Пантагрюэлем, ехать в Китай и опросить там мнение
оракула Божественной Бутылки. Все это и дало Рабле повод обнаружить
свою эрудицию, а из показа новых лиц возникла целая галерея художе-
ственных образов огромной реалистической силы. Сатира Рабле получила
тут обильную пищу. Советы, которые с разных сторон даются Панургу,
так нелепы и смешны, советчики представляют собой такую великолепную
галерею человеческой глупости, особенно лжефилософы схоластической
школы — ими еще раз, с большим увлечением занялся здесь Рабле, — что
эти страницы новой его книги сделались яркой картиной мертвой и уже
неспособной воскреснуть феодальной культуры.
Однако все меры предосторожности, принятые Рабле, не помогли.
«Третья книга» была осуждена Сорбонной так же, как и обе ее предше-
ственницы. Времена были тяжелые. Инквизиция свирепствовала. Вскоре
после выхода «Третьей книги», в том же 1546 г., на площади Мобер в Па-
риже был сожжен старый соратник и друг Рабле, Этьен Доле, которого;
несмотря на недавнюю размолвку, он ценил и уважал. На королевскую
защиту полагаться было трудно. Франциск, который знал Рабле, был бо-
лен, и его смерти можно было ждать каждый день. В следующем году он
умер, а с преемникам его, Генрихом II, у Рабле никаких связей еще не
установилось. Рабле решил, что будет благоразумнее не испытывать судьбу
и до лучших времен скрыться из Парижа, куда он приехал, чтобы следить
за печатанием книги. Он перебрался за границу и нашел приют в Меце,
где стал работать врачом. Кардинал Дю Белле поддерживал его мате-
риально, а в августе 1547 г. взял его снова с собой, в третий раз отпра-
вившись в Италию. Уезжая, Рабле оставил своему лионскому издателю
ту часть «Четвертой книги», которая была у него готова. Она вышла в
свет в 1548 г.
В Италии Рабле пробыл на этот раз довольно долго, до ноября
1549 г. Он общался там с гуманистами, писателями, художниками, ди-
пломатами, пополнял свое образование, описывал празднества, устраивае-
мые в «вечном городе» его кардиналом. А когда он вернулся во> Францию,
мрачная атмосфера казалась сильно прояснившеюся.
Одна за другой последовали смены на престолах, французском и пап-
ском. Павлу III наследовал Юлий III, и очень скоро стал обостряться на-
чавшийся еще до нового папы конфликт между Парижем и Римом по по-
воду раздачи французских бенефициев курией и связанных с нею темных
банковских махинаций. Курия и, следовательно, папа все более станови-
лись в положение врага, с которым нужно было бороться всяким оружием,
в том числе и идеологическим.
По этому случаю покровители Рабле — в их числе появились карди-
налы Шатильон и Лотарингский, через которых он перешел на положение
клиента могущественных домов Колиньи и Гизов, — в удобный момент
напомнили Генриху II о Рабле и об услугах, оказанных стране писате-
РАБЛЕ
289^
лем при его отце. Положение Рабле сразу улучшилось — тем более, что
даже с Сорбонною он оказался некоторым образом в одном лагере, про-
тивопапском: Сорбонна защищала галликанские вольности, стоя на почве
Прагматической санкции Карла VII и Болонского конкордата Франци-
ска I, а Рабле готовился к атаке на папство по всему фронту. Теперь уже
и кардинал Дю Белле мог покровительствовать ему более открыто: в ян-
варе 1551 г. он дал ему м!есто кюре в Медоне близ Парижа, связанное с
хорошими доходами. Это был обычный в те времена бенефиций, не требовав-
ший фактического исполнения священнических обязанностей. Все свое время
Рабле мог теперь тратить на ученые я литературные занятия. Он кончал
«Четвертую книгу», которая была полностью напечатана в силу новой ко-
ролевской привилегии, выхлопотанной кардиналом Шатильоном в 1552 г.
Пока книга печаталась, ситуация для Рабле была такова, что он мог
не особенно бояться нападок. Сорбонна угрюмо молчала, а лаяли только
озлобленные от усердия шавки, вроде монаха Габриэля де Пюи Эрбо, ко-
торый написал на него беззубый донос в 1549 г. Очень показательно то,,
что год спустя напал на него и Кальвин в памфлете «De scandalis»
(«О соблазнах»). Для «женевского папы» было особенно опасно вольно-
думство Рабле, который поднимал насмех всякое принуждение в области
религии. С такими противниками Рабле не страшно было схватиться. И
монаху, и Кальвину в «Четвертой книге» посвящено несколько злых и
остроумных сентенций.
Уже в той ее части, которая была опубликована отдельно, было не-
сколько обращавших на себя внимание эпизодов. Пантагрюэль с Панур-
гом и другими сподвижниками едут на корабле в паломничество к ора-
кулу Бутылки, и по дороге встречают разные острова и переживают вся-
кие приключения. Общественная сатира почти безмолвствует в той части
книги, которая вышла отдельно. В нее попал только один эпизод с Остро-
вом Прокураций, приютом Крючкотворов (les Chicanoux) — первый на-
бросок сатиры против судов и судейских, предвещающий более резкую
атаку на них в эпизоде «Пушистых Котов» «Пятой книги». Он открывает
ряд все более злых сатирических аллегорий следующих частей и вставлен
словно затем, чтобы показать метод, которому Рабле будет следовать в бо-
лее серьезных нападках на пороки и изъяны современной ему жизни.
В этой первой части «Четвертой книги» имеются два превосходных
описательных эпизода, ставших знаменитыми. Первый— это «панургово
стадо». Мотив его заимствован у итальянского, писавшего по-латыни по-
эта XVI в. Фоленго, из его ироикомической поэмы «Бальдус» (проделка
Чингара, одного из героев поэмы), но он развернут в великолепную
картину, полную острого реализма и глубокого психологического проник-
новения. Второй эпизод — описание бури, в котором мы находим не только
величественную панораму разбушевавшейся стихии, но и ряд тонко и мудро
подмеченных черт, раскрывающих образы героев эпопеи — Пантагрюэля,
Панурга, брата Жана, Эпистемона.
Возможно, что, когда кардинал Шатильон передавал Рабле королев-
скую привилегию на печатание «Четвертой книги», он или кардинал Дю
Белле разъяснили Рабле, что почтительности по отношению к папе от него
сейчас меньше всего будут требовать. Во всяком случае, Рабле писал так,
как если бы он чувствовал, что узда с него снята и он может говорить
все, что угодно. Его сатирические аллегории от главы к главе били боль-
нее. Вот остров, где царствует враждебный всему естественному Постник
(le Carêmeprenant), который приводит на ламять автору притчу итальян-
ского гуманиста Кальканьини о Физисе (Природа) и Антифизии (Про-
2G0
ВОЗРОЖДЕНИЕ
тивоестество). Последняя у Рабле производит на свет детей, ходящих
вверх ногами, а также монахов, христопродавцев, «папеляров» (почитате-
лей папы), «сатанинских Кальвинов, женевских обманщиков», «бешеных
пютербов» (удар по Габриэлю де Пюи Эрбо) и «других уродливых и
(безобразных чудовищ, противных Природе». Портрет Постника — первая
атака на всех фанатиков: недаром «папеляры» стоят в одном ряду с
«сатанинскими Кальвинами», за которыми поспешает злополучный Пюи
Зрбо. Главный бой папе был дан в описании острова Папимансв. Жители
этого острова только что сокрушили своих противников Папефигов (.по-
казывающих фигу папе, т. е. кальвинистов), и их епископ Оменаз, чтобы
приветствовать Пантагрюэля и его свиту, произносит похвальное слово
«Декреталиям». Как известно, сборник папских постановлений, носящий
это название, односторонним решением пап был объявлен источником ка-
нонического права, и именно «Декреталии» санкционировали всякого рода
вымогательства курии; благодаря их «златотекучей» (auriflue) энергии,
Франция ежегодно отдавала Риму в виде дани четыреста тысяч дукатов,
которые Генриху II представлялось более полезным видеть в его собствен-
ной казне. И похвальное слово Декреталиям верного папского слуги Оме-
наза полно убийственней иронии, которая стоит пафоса первого Лютерова
памфлета против Рима.
Задача, которую Рабле поставил себе, была выполнена блестяще. Но
"и труд и талант великого писателя не пошли ему на пользу. «Четвертая
книга» вышла в феврале 1552 г., а в апреле король заключил мир с па-
лою. Признаки такого поворота появились уже и раньше. Рабле, пово-
димому, об этом знал и, вероятно, перед самым появлением в свет книги
счел благоразумным еще раз скрыться. Недаром в конце 1552 г. в Лионе
ходили слухи, что он арестован и посажен в тюрьму. Попытки добиться
верных сведений о нем в Париже не привели ни к чему. Рабле исчез.
Книга была, как и три ее старшие сестры, осуждена. Но едва ли сам Рабле
подвергся репрессиям. Он умер в Париже и там же похоронен во вто-
рой половине 1553 г.
Легенда больше всего приукрасила рассказ о его последних часах.
Ему приписывают и меланхолическое обращение к окружающим: «Задер-
ните занавес: фарс окончен», и знаменитые, трудно переводимые, скепти-
ческие слова: «Je vais quérir le grand Peut-Être» («иду искать великое Быть-
Может»), и насмешку над священником, подававшим ему последнее при-
частие: «Мне смазывают сапоги для большого путешествия», и буфонное
завещание: «У меня нет ничего ценного, я много должен, остальное я
оставляю бедным».
В 1562 г. появилась в печати частично, под заглавием «Звучащий
остров», а в 1564 г. целиком — «Пятая книга». В ней самому Рабле при-
надлежат, повидимому, лишь наброски и отдельные главы, не весь текст,
местами более вялый, более тяжелый, более перегруженный аллегорией и
более яростно нападающий на церковь, чем даже в «Четвертой книге».
Теперь это уже было неопасно. Политическая борьба под религиоз-
ными лозунгами выходила из области идеологии. Уже звенели мечи и ли-
лась кровь. 1 марта 1562 г*- произошло избиение гугенотов людьми гер-
цога Гиза в Васси, заставившее кальвинистов взяться за оружие и под-
няться против короля. Противокатоличеюкие и противопапские памфлеты
гугенотов по своей резкости и прямолинейности оставили далеко за со-
бою и издевательскую апологию Декреталий «Четвертой книги» и кар-
тину «Звучащего острова» «Пятой книги» со всеми ее насмешками над па-
пой. Теперь пропаганда гугенотских идей совершалась в открытых боях,
РАБЛЕ
261
а Рабле со своей позицией, одинаково поднимавшей насмех «сатанинских
Кальвинов» и «Папего» (Попугай, иначе — папа), оказался бы беззащит-
ным между двумя вооруженными до зубов отрядами, готовыми броситься
один на другой.
С легкой руки Брюиетьера Рабле старались иногда изобразить чуть ли
не правоверным католиком, человеком, в котором преобладали средневеко-
вые черты, в котором нет ничего, что было бы типично для Возрождения,
Все это резко противоречит фактам. Французское Возрождение очень
скоро утратило свой беспечно жизнерадостный, языческий характер, бла-
годаря возгоревшейся религиозной борьбе, подобно тому как это случилось
в Германии. Во Франции Возрождение начиналось, как и в Италии, клас-
сическими занятиями и новеллистикою. То и другое отражало обществен-
ный рост: служило ответом на культурные запросы буржуазии, но буржуа-
зии, ие ставшей еще «буржуазно ограниченной». Яростный напор кальви-
низма нарушил спокойное течение культурного процесса, и, начиная с
Лефевра д'Этапль, гуманизм стал насыщаться религиозными интересами.
Выяснить свое отношение к католицизму и протестантству стало обяза-
тельным для всякого гуманистически образованного писателя. И, наоборот,,
отношение ко всякому идеологу нового течения определялось его религиоз-
ными оценками.
Рабле — монах, гуманист, врач, ботаник — с первых же шагов попро-
бовал установить свою точку зрения. Он не пошел ни за Сорбонной, ни
за Женевой. Он примкнул к Деперье, который во имя свободы мысли и
совести отверг и католицизм, и кальвинизм. Больше того, обе первые
книги Рабле дают все основания утверждать, что тю существу своих убе-
ждений он был близок к атеизму. Такая позиция прекрасно отвечала на-
строениям научного критицизма ученого филолога и естествоиспытателя-
материалиста. Внешне Рабле на этой позиции не удержался. Он затуше-
вал свои первые формулы уже в повторном издании двух первых книг
эпопеи (1542) и разразился весьма злой инвективой против старого'
друга, Этьена Доле, напечатавшего их перед этим без изменений. Даль-
нейшие его формулы становились мягче, когда атмосфера сгущалась и за-
горались костры, а затем снова приобретали резкость, отвечавшую его
истинным убеждениям, когда ему давали волю. Это никого не вводило в
заблуждение. Сорбонна его кляла. Кальвинисты, для которых натиск во
имя свободы совести) был более нестерпим, чем что бы то ни было, пора-
жали его своими перунами. Но Рабле охраняло покровительство короля и
трех могущественных епископов. Все же он порою вынужден был итти на
компромиссы. Он отказывался от провозглашения опасных теорий, смяг-
чал многое, не желая разделить судьбу Беркена или Доле. Недаром он
вложил в уста своему Панургу заявление, пародирующее формулу папского
увещевания вновь назначенным кардиналам, гласившую: «Защищайте веру
вплоть до смерти включительно». Панург по пустому и непристой-
ному поводу говорит: «Я утверждаю вплоть до костра, разумеется, исклю-
чительно, что» и т. д. Так и сам Рабле защищал настоящие свои,
убеждения «вплоть до костра, разумеется, исключительно».
о
Рабле не только является самым ярким выразителем культуры фран-
цузского Ренессанса, несущего в себе бурный подъем буржуазных сил и
такое же бурное кипение буржуазных страстей. Рабле, как всякий большой
художник, очень явственно ощущает свою связь с широкими массами наро-
да, трудящихся. Доказательства этого рассыпаны во множестве на
262
ВОЗРОЖДЕНИЕ
страницах его романа.
Прежде всего, сюжет
его взят, как мы виде-
ли, из народной, лубоч-
ной литературы: у него
фольклорные корни.
Язык романа в основ-
ном —■ народный язык,
который Рабле хочет
обогатить внесением в
него новых, ученых и
литературных элементов.
Способ изложения, осо-
бенно в первых двух
книгах, идет навстречу
народному пониманию.
Фольклорный мате-
риал — поговорки, по-
словицы, сказки, песенки
и т. д. — уснащает ро-
ман от начала до конца,
как в «Дон Кихоте».
Весь тон совершенно
чужд всякого аристокра-
тического эстетизма.
Наоборот, в нем — на-
рочитая плебейская гру-
боватость, которая не
раз служила поводом
для обвинения Рабле
(эту участь он разделял,
как известно, с Шекспи-
ром) в том, что он на-
рушает правила «хоро-
шего вкуса».
Жанровые картины в романе обнаруживают постоянное и неуклонное
избирательное сродство с народной средою: Рабле больше всего любит изоб-
ражать плебейские слои. Именно в этих сценах его реалистический гений
становится особенно сочным. Иногда он даже не чу1жд тенденции слегка
прикрасить именно плебейский быт и показать представителей низов, как
заслуживающих лучшей участи. Если для такой тенденции он не находит
поводов в своих наблюдениях над реальной жизнью, он придумывает такую
картину, где действительность опрокинута на голову: представители выс-
ших классов подвергаются всяческому поношению и вынуждены заниматься
самыми презренными профессиями, а плебеи властвуют и наслаждаются
жизнью. Так происходит, например, в загробной жизни, если верить его
Эпистемону, убитому, побывавшему в потустороннем мире и чудесным об-
разом вернувшемуся к жизни.
Ощущение жизни, которое выражает роман, подсказано настроениями
демократических масс. Прежде всего, это стихийный материализм, кото-
рый (о чем мы скажем еще ниже) определяет в значительной мере и ху-
дожественные приемы и который, кроме того, складывается в общую
доктрину там, где рассказывается о Гастере-Желудке и его царстве
D. XXXVII-
эансуа Рабле. «Гаргантюа».
Фронтиспис изд. 1537 г.
РАБЛЕ
20;
antaeruc
(«Четвертая книга»,
гл. 57—^62). Самая идея
принадлежит Персию,
но она развернута в та-
кую великолепную кар-
тину, о которой рим-
ский сатирик и мечтать
не смел. Персии гово-
рит, что Гастер — «учи-
тель ремесл и дарова-
тель ума» («magister
artis ingeniique cargitor
venter»). Рабле превра-
щает его в олицетворе-
ние основной хозяй-
ственной необходимости,
которая становится
творцом всей цивилиза-
ции. Замечательная гла-
ва 61-я, которую тща-
тельно замалчивало ста-
рое литературоведе-
ние, содержит хорошо
продуманный анализ
возникновения культу-
ры из первичных хозяй-
ственных требований.
Природа отдала в удел
Гастеру хлеб, т. е. основ-
ное питание, и он изо-
брел земледелие, чтобы
добывать зерно. Чтобы
охранять зерно и хлеб
от стихийных бедствий,
опустошений со стороны
животных и разбоя людей, он изобрел медицину, астрономию, математику,
а также военное искусство — научил людей строить замки, крепости и го-
рода и защищать их, изобрел оружие. Чтобы превращать зерно в хлеб, он
изобрел мельницу, дрожжи, часы, добыл соль и огонь, научил людей пере-
возить зерно по суше и по воде, изобрел телеги и суда, скрестил лошадь
с ослом, чтобы получить выносливого мула. Так постепенно сложилась
культура. В этой картине замечательна одна особенность. Нет власть
имущих и подчиненных, нет богатых и бедных. Все люди равны, и у них
один господин — Гастер, общая всем изначальная необходимость.
Рабле несомненно ощущал связь своей идеологии с чувством жизнен-
ной правды, присущей народу, и ощущение этой связи поддерживало его
в его борьбе. Его орудием было слово, и он должен был использовать его до
конца. Отсюда пафос, который проявляется в борьбе Рабле и который во-
оружает такой силою его сатиру, его иронию, его могучий смех. Все это
объединяется в его идеологии.
Каковы дальнейшие элементы этой идеологии? Рабле, конечно, гума-
нист. Нельзя отрицать, что среди французских гуманистов трудно было
найти человека более ученого. Только самые крупные авторитеты гумани-
М» D X
«i®s*.s$îk*
Франсуа Рабле. «Пантагрюэль».
Фронтиспис изд. 1537 г.
264
ВОЗРОЖДЕНИЕ
стического движения во Франции, как Бюде и Анри Этьен или их пред-
шественники Шампье и Гаген, как филологи, были людьми более уче-
ными. Рабле не вступал с ними в соревнование. Мы не найдем у него ро-
мантически восторженного преклонения перед древней культурой. Но
Рабле шире, чем самые даровитые и просвещенные представители фран-
цузского гуманизма, TaiK как Рабле не только филолог, не только гума-
нист, но также естествоиспытатель. В мировоззрении французского Ренес-
санса од занимает ту позицию, на которую стал впервые Леон Баттиста
Альберти в Италии и которую принял целиком Леонардо да Винчи. Рабле
соединял в себе обе струи, на которые разделился поток итальянских гу-
манистических идей на рубеже XV и XVI вв. Он одновременно был и
филологом и естествоведом, одновременно был представителем и словесно-
сти, как необходимого орудия новой критики, и естествознания, как такого
же необходимого орудия для овладения материальным миром.
Если изучать роман Рабле с точки зрения тех естественно-научных
знаний, которые в него вложены, то среди художественных произведений
средних десятилетий XVI в. трудно найти хотя бы одно, которое в этом
отношении могло бы с ним сравняться: такая в нем широкая эрудиция.
Рабле только не был — в отличие от Леонардо — крупным математиком.
Но ботаника, зоология, медицина, география — это все его подлинный
удел. Те элементарные знания, которые помогли Колумбу открыть Аме-
рику, у Рабле разработаны с поразительной точностью и широтою. Де-
тальная сверка путешествия Пантагрюэля с картою, произведенная не-
давно, раскрыла это вполне. География «Утопии» Томаса Мора — детский
лепет по сравнению с географией «Пантагрюэля». Упор на естествознание
был основным стержнем мировоззрения и пропаганды Рабле. Он понимал,
что филология свое дело сделала, что его собственная доля в ней была
скорее доля эпигона. А естествознание было моментом боевым, и программа
Ренессанса должна была строиться, как писал Гаргантюа своему сыну, на
«восстановлении всех наук», т. е. в том числе и наук о природе. Эта мысль,
брошенная уже в той книге, которая была написана первой в 1533 г.,
перекликается с восторженным гимном природе, вставленным через два-
дцать лет в «Четвертую книгу», гимном «Физису», который породил Кра-
соту в Гармонию. Это в основном мысль Данте («Ад», песнь XI), кото-
рая дошла до Рабле прямо или чрез посредство какого-нибудь поздней-
шего гуманиста. Но она вполне отвечала всем точкам зрения самого Рабле,
прежде всего его влюбленности в жизнь и его материализму. Это то, что
нужно было пропагандировать в первую голову.
Для пропаганды у Рабле было несколько орудий. Прежде всего, ги-
гантские размеры героев. Расчет прост: большое легче разглядеть и потому
большое лучше дойдет. Это то, что теперь называют «крупным планом».
Конечно, великанов своих Рабле получил из народной книги. Прием этот
до него находил применение и в более высоких областях искусства и куль-
туры. Рабле не поделился с нами тем впечатлением, которое произвел на
него Сикстинский плафон Микель-Анджело. Не видеть его он не мог.
А в нем действие крупным планом демонстрировалось необычайно показа-
тельно: пророки и сивиллы—ведь те же великаны, и титанизм у Буона-
ротти — вариант его terribilità («ужасное, грозное»), т. е. стремления взвол-
новать зрителя как можно больше и тем подготовить восприятие им идеи-
образа. Только у Рабле титанизм не трагический, как у Микель-Анджело,
а гротескный. Он действует не волнением, а смехом, что тоже было в за-
мысле.
РАБЛЕ
265
Своего читателя, массового, демократического читателя, Рабле хотел
завоевать именно смехом. Поэтому его смех особенный. Так смеяться, как
он, не умел никто. Смех Рабле — не мудрая и хитрая улыбка Ариосто, не
мелкое пасквильное острословие Аретино и не тонкая скептическая усмешка
Монтеня. Это оглушительный, раскатистый смех во все горло, который
понятен каждому и потому обладает огромной заразительностью, от ко-
торого рушится вое, над чем он разражается, смех здоровый, освежаю-
щий и очищающий атмосферу. Так смеялся у Чосера Мельник, у Пуль-
чи — Моргайте. Так будет смеяться Санчо Панса. Так смеются люди из
народа. И Рабле знает, чем можно вызвать такой смех у народа.
Смех Рабле, как и гротеск Рабле — орудие его сатиры, а сатира —
одна из самых ярких особенностей художественного гения реалиста Рабле.
Но реализм у него особенный. Он отличается от реализма других худож-
ников Ренессанса, близких ему по времени, именно тем, что он густо
окрашен тонами сатиры.
Его реализм — критический, но критика его не спокойная, а боевая и
темпераментная. Описания, полные красок; ситуации, обнаженные до конца
в своей социальной и бытовой сущности; образы, иногда умышленно
грубые, но сочные и резко индивидуализированные — все взято преиму-
щественно в сатирическом ключе. И все вскрывает различные стороны
подлинной жизни до самых ее глубин. Сатирическая палитра Рабле
необычайно богата, но как бы он ни изображал жизнь — путем негодую-
щего разоблачения, замысловатого гротеска или бесцеремонной насмешки,
рассчитанной на гомерический хохот, он всегда дает изображение,
верное природе. И наиболее потрясающие по реализму эффекты часто до-
стигаются у него карикатурным показом того, что прямо противоположно
действительности.
Рабле знает, чем он силен, и потому широко пользуется своими изоб-
разительными средствами. В жизни для него нет ничего, что он считал
бы недостойным своего пера. Что существует в действительности, должно
существовать и в искусстве. Пусть то будут самые низменные проявле-
ния слабостей человеческого организма, процессы половые и пищевари-
тельные, нормальные и анормальные. Все это — жизнь, хотя лицемеры
монахи и схоластические богословы в этом сомневаются. Плоть челове-
ческая, несовершенная, доступная болезням и старости, покорная соблаз-
нам, — подлинный кусок жизни. Мы не можем не признавать ее несовер-
шенств, но мы не имеем никакого права считать ее из-за этих несовер-
шенств «грешной». Если плоть—кусок жизни, то жизнь — кусок матери-
ального мира, Природы, Физиса, и мы должны принимать его, этот мир,
во всем величии, во всей широте его материального естества и изобра-
жать его таким. Поэтому реализм Рабле окрашен яркими материалистиче-
скими тонами. В жизни для Рабле самое интересное — люди. Он с упое-
нием лепит одну за другой свои фигуры. У него к ним разный подход:
спокойный, хвалебный, негодующий, иронический, гротескный — больше
иронический и гротескный. Но все они живые, и ни одна не повторяет
другой. Его роман делает то же, что совершенно в другом ключе он мог
найти в «Божественной комедии». Данте своих итальянцев воспевает, воз-
величивает, проклинает: в его характеристиках кипит страсть. Рабле больше
смеется, но смех его тоже не бесстрастен. А образы и тут и там одина-
ково живые. В первых двух книгах у Рабле — наставники Гаргантюа и
сподвижники Пантагрюэля, в третьей — советчики Панурга, в четвертой
•'. пятой — жители посещаемых островов: это такая галерея типов, ка-
• ую редко можно найти в другом художественном произведении изоб-
266
ВОЗРОЖДЕНИЕ
раженною с таким пластическим гением. Две фигуры все-таки должны
быть выделены из этой галереи, как самые яркие: Панург и брат
Жан.
Панург — студент, умный, циник и сквернослов, дерзкий, озорной без-
дельник и недоучка, типичный «богема». В нем есть кое-что от Маргутте
из поэмы Пульчи, и от Чингара из поэмы Фоленго, и есть от Вильона,
память которого Рабле нежно чтил. В его голове хаотически навалены
всевозможные знания, как в его двадцати шести карманах навалена груда
самого разнообразного хлама. Но и его знания, подчас солидные, и арсе-
нал его карманов имеют одно назначение. Это наступательное оружие
против ближнего, для осуществления одного из шестидесяти трех спосо-
бов добывания средств к жизни, из которых «самым честным и самым
обыкновенным» было воровство. Настоящей, крепкой устойчивости в его
натуре нет. Он может в критическую минуту пасть духом и превратиться
в жалкого труса, который только и способен испускать панические нечлено-
раздельные звуки. В момент встречи с Пантагрюэлем Панург был типич-
ным деклассированным человеком с соответствующим прочно сложившимся
характером, с которым он не может разделаться и тогда, когда близость
к Пантагрюэлю окунула его в изобилие. Его деклассированное состояние
воспитало в нем моральный нигилизм, полное пренебрежение к этическим
принципам, хищный эгоизм. Таких авантюристов много бродило по свету
в эпоху первоначального накопления. Но он в то же время не лишен ка-
кого-то большого обаяния. В нем столько нескладного бурсацкого изяще-
ства и бесшабашной удали, он так забавен, что мужчины прощают ему
многое, а женщины млеют. И сам он обожает женщин, ибо природа наде-
лила его вулканическим темпераментом. Ему не приходилось жаловаться
на холодность женщин. Но беда той, которая отвергнет его домогательства.
Он устроит с ней самую последнюю гадость вроде каверзы с собаками,
жертвою которой стала одна парижская дама. Есть в Панурге и еще дру-
гое, быть может, самое важное. Он смутно, но взволнованно и с энту-
зиазмом предчувствует какое-то лучшее будущее, в котором люди деклас-
сированные, как он, найдут себе лучшее место под солнцем, будут в со-
стоянии трудиться и развивать свои способности. Панург — плебей, сын
ренессансного города.
Брат Жан — тоже плебей, но плебей деревенский. Рабле сделал его
монахом, но это только гротескный прием. Брата Жана он никогда не ва-
лит в одну кучу с другими монахами, которым в романе неизменно зло
достается. Он — любимец автора. В одном только отношении он похож на
прочих монахов: своими нечистоплотными привычками. Грязь его не сму-
щает, и иногда за обедом на кончике его длинного носа неаппетитно пови-
сает капля. Но какой это чудесный человек! Смелый, энергичный, наход-
чивый, никогда не теряющийся ни в каких опасностях и в то же время
гуманный в лучшем смысле слова. Силою и ловкостью, которыми одарила
его природа, он никогда не пользуется во вред ближнему. В этом он ни
мало не похож на Панурга, над которым постоянно издевается за его не-
устойчивость, трусость и другие слабости. И так как брат Жан — тип
цельный, приемлющий мир радостно и полнокровно, ему ничто человече-
ское не чуждо. Он любит удовольствия, любит, знает и ценит женщин.
Когда Панург колеблется, желая жениться и опасаясь рогов, самые прак-
тические советы дает ему брат Жан, рассказывающий ему мудрую новеллу
о кольце Ганса Карвеля. Поэтому эротизм брата Жана свободен от гу-
стого налета непристойности, свойственного эротизму Панурга. Психика
брата Жана такая же кршкая и здоровая, как и его физическое суще-
РАБЛЕ
267
ство. Он хочет, чтобы жизнь была открыта всеми своими светлыми сто-
ронами не толыко ему — опять не так, как Панург, который о других не
заботится, — а всем. Он полон любви к людям и хочет сделать жизнь
лучше для всего рода человеческого. Идея Телемского аббатства заро-
ждается в голове этого крестьянского отпрыска, лишенного настоящего
образования, но инстинктивно ощущающего и приемлющего высокие
идеалы гуманизма. Брат Жан — олицетворение народа. Этот образ, со-
зданный Рабле, еще раз доказывает, что социальная настроенность вели-
кого писателя была ярче и радикальнее, чем интересы буржуазии. Она
была вполне демократична.
Общий друг Панурга и брата Жана — Пантагрюэль, образ которого
в конце концов как бы поглощает образ Гаргантюа и который вбирает
в себя все то, что для Рабле дол1жно было характеризовать идеального го-
сударя и, быть может, идеального человека. С первого своего появления и
до самого конца он неизменно — в центре рассказа, хотя иногда и усту-
пает передние планы другим. Уравновешенный, мудрый, ученый, гуман-
ный, он обо всем успел подумать и обо всем составить себе мнение. Его
спокойное веское слово всегда вносит умиротворение в самые горячие
споры, осаживает пылкие порывы брата Жана, хитроумную диалектику
Панурга и даже полные учености сентенции Эпистемона. Он — настоящий
просвещенный монарх и, конечно, отожествление его с Франциском или
с Генрихом II — не больше как праздные фантазии. Рабле мог официально
восхвалять Франциска и называть Генриха великим королем — для боль-
шей торжественности он даже придумал, не то всерьез, не то тоже иро-
нически, греческое слово le roi mégiste, —t но ничто не заставляет думать,
что он хотел изобразить в лице своего чудесного великана того или дру-
гого из реальных государей своего времени. Пантагрюэль — идеальная фи-
гура. Он настолько превосходит обоих королей своими достоинствами, на-
сколько превосходит своим ростом обыкновенных людей. Никому из пра-
вящих особ не возбраняется тянуться за Пантагрюэлем: он для того и
показан. Но едва ли у Рабле была хотя бы малая надежда, что кто-ни-
будь из них до него когда-либо дотянется.
Роман Рабле — крупнейший памятник французского Ренессанса. Ве-
ликое произведение скромного «медонскогокюре», борца за новое общество,
художника и мыслителя, имеет полное право считаться национальной эпо-
пеей французского народа. Оно создано в такой момент его истории, ко-
гда он только что закончил свое политическое объединение и в бурях и
муках ковал свою культуру. Все противоречия, все «формальные недо-
четы» романа именно тем и объясняются, что он писался в атмосфере не-
завершенного культурного строительства, отражает противоречия, суще-
ствовавшие в жизни и обусловленные классовой борьбой.
В мировой литературе роман Рабле занимает одно из самых почетных
мест, а во французской литературе его влияние было совершенно исклю-
чительным. Многие крупнейшие писатели восторгались им, шли за ним,
учились у него, особенно те, которые изображали жизнь реалистически и
притом с элементами социальной критики и сатиры. К числу тех, кто
больше всего отразил его влияние, принадлежат Мольер, Вольтер, Баль-
зак, Анатоль Франс, Ромэн Роллан («Кола Брюньон»), за пределами
Франции — Свифт, Жан-Поль Рихтер. Идеи и настроения Рабле, мудрость
и юмор Рабле, пафос и смех Рабле доходили и доходят и до такого чита-
теля, о котором сам Рабле мог только мечтать. И, конечно, самого благо-
дарного своего читателя Рабле находит и будет находить в Советском
Союзе. Буржуазная наука, сделавшая много для освещения формальных
268
ВОЗР0ЖДЕНИЕ
сторон творчества Рабле и внешних фактов его биографии, всячески зату-
шевывала боевое содержание его творчества, элементы революционного
пафоса, присущие его сатире и его смеху, выхолащивала социальный смысл
его идейной борьбы. Между тем, советскому читателю наиболее интересны
и дороги именно эти стороны творчества Рабле, составляющие главное ето
содержание.
Для советского общества Рабле — один из величайших художников
прошлого, почувствовавший великую ценность ощущения жизненной прав-
ды, присущей народным массам, черпавший в этом сознании силу и му-
жество для борьбы с реакцией и темперамент, помогавший ему создать
свой бессмертный роман. Нигде смех Рабле, потрясавший твердыни мра-
кобесия и человеконенавистничества, не будет обладать такой заразитель-
ной силою, как в нашем обществе, сокрушившем окончательно эти твер-
дыни.
ГЛАВ А Ш
ПЛЕЯДА II РАЗВИТИЕ ДРАМАТУРГИИ РЕНЕССАНСА
!
|| торая половина XVI в. является в истор.ш Европы вре-
N менем реакции против великого освободительного движе-
1|| ния гуманизма и Реформации. Успехи, одержанные про-
рШ^. тестантизмом в Германии и Англии, усиление его
Пр влияния во Франции и Швейцарии, появление нового
Il духовного вождя «еретиков» Кальвина, заставили рим-
| скую церковь отказаться от того благосклонного покро-
вительства передовой культуре Возрождения, которое
w^jsfl,»-"^ она оказьшала еи в предшествующем столетии, а вели-
ШШхШШ'кая борьба, разгоревшаяся в Германии и вылившаяся
в крестьянскую войну, показала ей, сколь грозной «материальной» силой
могут стать освободительные идеи, овладевшие массами; и «материальной»
же силой полицейских преследований ответила она на раопрост.ранение этих
идей, ибо ее подорванный средневековый авторитет и обветшалая премуд-
рость богословской догмы перестали быть действенным орудием в борьбе
с ними.
Сороковые годы явились поворотными: возникает иезуитский орден,
в Риме создается верховное инквизиционное судилище, распространившее
на всю католическую часть Европы кровавый режим Испании, публи-
куется вскоре затем первый папский «Список запрещенных книг» («Index
librorum prohibïtorum, 1559). Тридентский собор санкционирует реакцион-
нейшие мероприятия церкви, не только настоящие, но и будущие, торжест-
венно объявив папский авторитет непогрешимым и папскую прерогативу —■
неограниченной.
Все реакционно-феодальные силы из правящих классов Ьвропы, на-
пуганные призраком народных движений, сплотились под эгидой римской
церкви. Настала эра феодальной реакции и контрреформации. Ослепитель-
ная заря Возрождения тонула в дыму костров, на которых инквизиция
сжигала отважных «вольнодумцев». В противоположность ренессансному
свободомыслию и культу прекрасной, не связанной никакими обществен-
ными нутами человеческой личности, католическая церковь провозгласила
основной добродетелью истинно-верующих ту «высшую степень повинове-
ния», которая требовала, чтобы человек, по выражению Лойолы, отдал
богу «не только свою волю, но и свой разум».
В борьбе с католической реакцией само протестантское движение
приобретало все более мрачную, аскетическую окраску, проникалось ду-
270
ВОЗРОЖДЕНИЕ
хом фанатизма и религиозной ограниченности, не менее враждебным Воз-
рождению, чем католическая ортодоксия. Многие из деятелей Реформа-
ции оказывались гонителями искусств и наук. Судьба передовых мыслите-
лей, взошедших на костер по приговору католической церкви, находила
себе зловещую аналогию в судьбе Сервета. Для гуманизма наступали
трудные времена.
Франция, поглощенная национальным строительством, стояла в на-
чале века в стороне от исторической схватки католицизма с протестантиз-
мом; но начиная с 30-х годов она все более втягивалась в русло обще-
европейской контрреформации. Эти перемены в политической жизни
страны нашли отражение и в ее умственной жизни, начиная с 40-х годов.
В области поэзии это сказалось прежде всего в усилении религиоз-
ных мотивов. Христианская морализация наложила свой отпечаток уже на
стихи Маргариты Наваррской («Зерцало грешной души», «Духовные
песни»); к тому же времени относятся «Похвалы нашему спасителю Иисусу
Христу» Виктора Бродо (Victor Brodeau, «Les Louanges de Jésus-Christ,
notre Seigneur», 1540) и «Христианское блаженство» Эсторга де Болье
(Eustorg de Beaulieu, «La chrétienne réjouislsance», 1546).
Религиозные настроения, однако, не только противостояли гуманисти-
ческой идеологии, но и проникали в нее, лишая ее высокого жизнеутвер-
ждающего пафоса. Подобный обескровленный гуманизм, не верящий в ре-
альность возвышенных устремлений и прекрасных идеалов Возрождения,
находил свою истинную философию в платоновском учении о двух мирах,
переносившем идеал в потустороннюю сферу «мира идей» и объявлявшем
уделом человечества вечно-неудовлетворенное стремление к недосягаемому
совер шенству.
Усилившееся влияние платоновской философии нашло свое выраже-
ние в творчестве нового поэтического направления, так называемой лион-
ской школы.
Лион в XVI в. был не только крупнейшим торгово-промышленным
центром южной Франции, но и одним из самых значительных очагов ее
культуры. Там процветало книгопечатание, высоко ценилось искусство, и
меньше заметна была духовная опека реакционной Сорбонны. С другой
стороны, в Лионе особенно чувствовалось характерное для XVI в. воз-
действие передовой итальянской культуры на французскую, облегчавшееся
давними торговыми связями Лиона с Италией. Италия же была той стра-
ной, в которой впервые, еще с конца XV в., возродилось увлечение Пла-
тоном, перешедшее затем оттуда во Францию. Поэты лионской школы,
ограничивая свое творчество рамками любовной тематики, трактовали са-
мую любовь в духе платоновского «эроса», придавая ей характер некоего
исконного, мистического тяготения человеческой души к прекрасной «идее»
(или к «идее прекрасного»), характер религиозного чувства, противопо-
ложного в своей основе «грубому» земному влечению.
Наставником своим в искусстве платонической любви лионцы из-
брали Петрарку и его утонченных итальянских последователей XV в.
Главой лионакой школы был Морис Сев (Maurice Scève, 1510—1564).
Он принадлежал по своему происхождению к богатой патрицианской вер-
хушке города и получил прекрасное гуманистическое образование в Авинь-
онском университете. Будучи еще студентом, он «открыл» в Авиньоне
гробницу возлюбленной Петрарки — Лауры, и эта мнимая (как оказалось
впоследствии) поэтическая святыня стала местом паломничества много-
численных подражателей и почитателей Петрарки.
ПЛЕЯДА И ДРАМАТУРГИЯ РЕНЕССАПСА
271
Основное произведение Сева — сборник десятисгиший под названием
«Делия, предмет высшей добродетели» («Délie, objet de la plus haute ver-
tu», 1544) — было задумано им также как подражание Петрарке, хотя в
действительности оно оказалось весьма далеким от своего образца. Влия-
ние платоновской философии сказалось даже в самом выборе имени воз-
любленной, являющегося анаграммой слова «идея» (Délie — l'idée). Тяго-
тение к символике, свойственное Севу и позволившее символистам конца
XIX в. увидеть в нем одного из своих отдаленных духовных предков,
стояло в тесной связи с платоновским идеализмом, искавшим за види-
мыми предметами и реальными образами их скрытый смысл, идею. Наро-
чито темный, изощренный и претенциозно-глубокомысленный стиль поэзии
Сева, рассчитанный на «посвященных», находился также в полном со-
ответствии с ее мистической тенденцией.
Еще сильнее религиозные мотивы были представлены в творчестве
другого поэта лионской школы, близкого Севу, — Клода Тальемона
(Claude Taillemont). В одном из стихотворений, прерывающих основную
нить прозаического повествования в небольшом романе «Рассказ о вол-
шебных полях, в честь и прославление любви и дам» («Discours des
champs faés à l'honneur et l'exaltation de l'amour et des dames», 1553), пла-
чущему возлюбленному является душа его умершей подруги и повествует
ему о загробной жизни, утешая его тем, что когда-нибудь и он приобщится
к лику блаженных духов. Воспевание сверхчувственной любви, как источ-
ника высшего счастья, составляет содержание и другой небольшой поэмы
«Совершенная подруга» («La parfaite amie», 1542), принадлежащей од-
ному из приближенных Маргариты Наваррской, епископу Антуану Эроэ
(Antoine Héroet, 1500—1568), которого обычно причисляют к лионской
школе, хотя формально он в нее не входил. В поэме Эроэ апология пла-
тонических принципов вложена также в уста самой «идеальной подруги».
Несколько особняком стоит в лионской школе поэтесса Луиза Лабе (Lou-
ise Labé, 1526—1566), в стихах которой, вопреки принимаемым ею нормам
платонизма, прорывается порой неподдельная, земная страсть.
Лионская школа, знаменующая отход от демократического гуманизма
первых досятилетий XVI в., сыграла, однако, в истории французской по-
эзии также и некоторую положительную роль. Она впервые вернула поэзии
утраченное ею достоинство, эмансипировав ее от пошлых вкусов двора и
противопоставив бессодержательным упражнениям «великих риториков»
высокую концепцию идеального содержания художественного творчества.
Лионские поэты сделали первый шаг на пути того обновления фран-
цузской поэзии, которое привело к мощному расцвету ее во второй поло-
вине XVI в. Потребность подобного обновления, сильно ощущавшаяся в
эти годы, была впервые открыто формулирована Тома Себиле (Thomas
Sébilet или Sibilet) в его «Поэтике» («Art poétique», 1548). Себиле поднял
голос против узаконенного долгим господством придворной поэзии наиме-
нования поэта «рифмачом» (rimeur), подчеркивая, что «искусство», т. е.
владение стихотворной формой, составляет не существо истинной поэзии,
а лишь ее «голую оболочку» (sa nue écorce). Осмеивая традиционное увле-
чение изощренными системами рифмовки, выдвигая почерпнутое им у Пла-
тона понимание поэзии, как «божественного вдохновения», не ограничи-
ваясь простым провозглашением достоинства поэзии, Себиле указывал на
те пути, которыми должны итти поэты, желающие облагородить ее. Та-
кими путями он считал переводы античных поэтов и подражание им, а
также заимствование у них высоких жанров — оды и эпопеи. На ряду
с этими жанрами в «Поэтике» Себиле фигурировал также сонет, эта
272
ВОЗРОЖДЕППЕ
излюбленная форма итальянской ренессансной лирики. В числе античных
авторов, достойных подражания, Себиле называл Пиндара, Горация и др.
Несмотря на прогрессивность идей Себиле, его «Поэтика» носила
еще компромиссный и переходный характер. Маро оставался в глазах Се-
биле высшим и непререкаемым авторитетом, и старые жанры придворной
поэзии не отвергались, а только признавались недостаточными. Именно
вследствие этой половинчатости «Поэтика» Себиле была сразу же отодви-
нута на задний план вышедшим через год знаменитым литературным ма-
нифестом «Защита и возвеличение французского языка» («Défense et il-
lustration de la langue française», 1549), принадлежавшим перу Иоахима
(Жоакена) Дю Белле (Joachim Du Bellay, 1522—1560).
Манифест этот исходил из кружка молодых поэтов-гуманистов, объ-
единившихся на почве совместного изучения античной (преимущественно
греческой) литературы под руководством известного знатока древности,
филолога Жана Дора (Jean Dorât, 1510—1588). Главнейшими членами
кружка, группировавшегося вокруг Дора, были Пьер Ронсар, Иоахим Дю
Белле и Жан-Антуан Баиф, составившие вместе со своим учителем ядро
новой поэтической школы — «Плеяды», которая в эту пору еще именовала
себя более скромно «Бригадой». Глава Бригады Ронсар был вместе с тем
вдохновителем и соавтором Дю Белле по написанию «Защиты и возвели-
чения французского языка». Ко времени появления «Защиты» более или
менее определились уже основные литературные принципы и личный со-
став Бригады. В своем окончательном виде она включала в себя семь по-
этов: Ронсара, Дю Белле, Дора, Жоделя, Белло, Баифа и Понтюса де Тиара.
Историческое значение «Защиты», этого замечательного литератур-
ного документа, полного огня и полемической страстности, сводится к тому,
что здесь впервые была провозглашена необходимость безусловного раз-
рыва со всеми господствовавшими до тех пор традициями придворной
поэзии и поставлена проблема обновления французской поэтической куль-
туры путем насыщения ее гуманистическим содержанием. В основе этих
требований лежало стремление поднять французскую поэзию до значения
общеевропейской. Высокий патриотический пафос, направленный на сози-
дание национальной культуры, составлял характернейшую черту поэтиче-
ской программы Плеяды и .придавал ее гуманистической деятельности вы-
сокий общественный смысл, отсутствовавший, например, в творчестве лион-
ской школы. «Защита» показала, что подлинный гуманизм во Франции
не умер. Однако изменившаяся обстановка сделала условия его существо-
вания несравненно более сложными и противоречивыми, чем думали поэты
Плеяды, выступая со своей революционной литературной программой.
. «Защита» резко обрушивалась на «плохих стихотворцев», позоря-
щих Францию, и отвергала, как недостойные истинного искусства, все
культивировавшиеся ими «малые формы» — рондо, балладу, виреле, chant
royal и т. д. Окрестив эти малые формы именем «пряностей» (épiceries),
Дю Белле тем самым подчеркнул свое презрение к поэзии, служащей
лишь развлечению и забаве. Он выставил новый критерий художествен-
ности, взятый у древних: «Знай, читатель, лишь тот будет подлинным
поэтом, кто заставит меня возмущаться, успокаиваться, радоваться, стра-
дать, любить, ненавидеть, восхищаться, ужасаться, — короче говоря, кто
будет по своей воле управлять и распоряжаться моими чувствами. Вот
истинный пробный камень, на котором следует проверять все поэмы на
всех языках» («Защита», ч. II, гл. 11). Новые жанры, соответствующие
новому йодержанию поэзии, автор «Защиты», как и Себиле, предлагал
заимствовать у античного искусства. Но он значительно расширил список
ПЛЕЯДА И ДРАМАТУРГИЯ РЕПЕССАНСД
а/о
этих жанров, включив в него оду, сатиру, послание, элегию, эклогу, эпо-
пею (все те жанры, которые Пушкин назвал впоследствии классическими)
и, наконец, трагедию и комедию. Последнее весьма интересно в том отно-
шении, что в противность литературной традиции раннего средневековья,
здесь впервые высказывалось требование ввести во французскую литера-
туру два жанра, ставшие основными в период классицизма.
Великое искусство древности было для Дю Белле не только арсена-
лом поэтических жанров, но и тем «классическим наследством», которое
французским поэтам предстояло переработать и освоить для создания на-
циональной культуры. Подражание, как единственно плодотворный ме-
тод подобного освоения, противопоставлялось уже Дю Белле переводу,
ибо под подражанием он разумел не что иное, как творческое заимство-
вание. На пути подобного творческого заимствования Дю Белле считал
не только возможным, но и обязательным для французской поэзии срав-
няться с античными авторами и превзойти их, и он призывал французов
смело вступить в соревнование с древними. Вера в поступательное движе-
ние истории и в великие судьбы своего народа убеждала Дю Белле в том,
что задача «возвеличения» французской поэзии вполне осуществима и что
во Франции могут и должны вскоре родиться новые Гомеры, Цицероны и
Горации.
Тот же патриотический пафос побуждал Дю Белле страстно обруши-
ваться на другого врага, не менее опасного, чем придворная поэзия, — на
латинскую поэзию, культивировавшуюся в университетах Ренессанса. По-
лемика с нею выдвигала в порядок дня нерешенный еще окончательно во-
прос о пригодности французского языка для дела создания национальной
литературы. Дю Белле видел, что в самом лагере гуманистов есть немало
людей, не верящих в литературные возможности французского языка и
не желающих поставить древнюю культуру на службу молодой культуры
французской. В противовес этим лицам он стремился доказать достоин-
ство родного языка и хотел изгнать из ее последнего оплота ту самую ла-
тынь, в борьбе с которой исторически развивался и приходил к господ-
ству французский язык. Важность языковой проблемы для литературного
развития Франции XVI в. объясняет, почему и в заглавии манифеста и в
самой аргументации Дю Белле литературная проблема оказывалась как
бы подчиненной проблеме языковой — задаче возвеличения французского
языка.
Признавая недостаточную развитость французской литературной речи,
Дю Белле предлагал целый ряд способов ее обогащения. С одной сто-
роны, он хотел расширить ее лексический материал путем: 1) создания
неологизмов, 2) заимствования малоизвестных, но ярких слов из языка
различных профессий и из народной речи, 3) использования незаслу-
женно забытых еврофранцузских слов, 4) осторожного заимствования из
древних языков. С другой стороны, он ставил проблему создания по-
длинно поэтического стиля, отличного от стиля прозы и характеризующе-
гося обилием перифраз, индивидуализирующими, далекими от шаблона
эпитетами, известной приподнятостью тона и «ученостью».
Провозглашенная «Защитой» литературная реформа в корне меняла
и самое представление о роли и характере поэта. Подчеркивая со всей си-
лой отказ от традиций дилетантизма, Дю Белле не менее отрицательно от-
носился и к ограниченному профессионализму в духе «великих ритори-
ков». Для него необходимость профессионализма была естественным след-
ствием нового взгляда на поэзию как на высокую национальную миссию,
требующую от поэта полнейшей преданности искусству и упорного труда.
1S История французской литературы—815
274
ВОЗРОЖДЕНИЕ
Фигуре придворного стихо-
творца Дю Белле противоста-
влял патетически нарисован-
ный им образ поэта-труже-
ника, и характерно, что выс-
шей задачей последнего он
считал создание такого поэ-
тического произведения, в ко-
тором достойным образом от-
разилась бы историческая
жизнь его народа. Таким
произведением он считал, по
примеру древних, националь-
ную эпопею, которой он и
посвятил отдельную главу
своего манифеста.
Таковы основные идеи
«Защиты». Роль ее в истории
французской литературы от-
нюдь не ослабляется тем об-
стоятельством, что значитель-
ная часть мыслей и аргумен-
тов Дю Белле была заимство-
вана им у итальянских авто-
ров, проведших ранее, чем
французы, аналогичную борь-
бу за утверждение в литера-
туре своего национального
языка. Известно, что первая
часть «Защиты», касающая-
ся языка, представляет собой
пересказ, иногда почти до-
словный, итальянского диа-
лога Спероне Сперони, а тео-
рия подражания, развиваемая
во второй части, почерпнута
у итальянских классицистов.
Представители литературных
традиций, против которых
восставал Дю Белле, не замедлили оценить значение «Защиты» и опол-
читься на нее. Разгорелась настоящая литературная война. Памятниками
этой войны являются, со стороны противников Плеяды — длиннейший ано-
нимный памфлет «Горациев Квинтилий» («Quintil Horatian», 1565; под-
разумевается Квинтилий Вар, хулитель Горация, упоминаемый последним
в его «Поэтике»), принадлежащий лионскому гуманисту, одному из пред-
ставителей латинской поэзии — Бартелеми Ано (Barthélémy Aneau, 1 500—
1565), а также целый ряд эпиграмм, которыми осыпала Плеяду придвор-
ная партия во главе с Мелленом де Сен Желе; со стороны Плеяды — пре-
дисловия Ронсара и Дю Белле к их поэтическим сборникам и замечатель-
ная стихотворная сатира Дю Белле «Поэт-куртизан», где нарисована не-
приглядная фигура придворного поэта, который вечно угодничает перед
своими знатными покровителями, занимается стихами между делом, в сво-
бодную минуту, презирает труд и «ученость», имеет заранее заготовлен-
Portrait eu *vtfde âmx crayms Шшг$:
Jey k Carp$*0*i*^§?tte®fa vers*
Портрет Ронсара, приложенный к сборнику
«Любовь к Кассандре» (1552 г.)
Оригинал приписывается Николаю Деннзо.
ПЛЕЯДА И ДРАМАТУРГИЯ'РЕНЕССАНСА
275
ныи запас стихотворении «на
случай» и,— так заканчивает
Дю Белле,— среди поэтов
выглядит придворным, а сре-
ди придворных — поэтом.
Слухи об этой борьбе дошли
до самого Генриха II, взяв-
шего на себя роль арбитра
и закончившего спор насиль-
ственным примирением обеих
литературных партий.
Примирение это означало
победу Плеяды, ибо она была
отныне официально признана
и легко могла добить своих
врагов уже практически в
поэтическом соревновании. Но
вместе с тем, это примирение
явилось и первым пораже-
нием Плеяды, ибо с этого мо-
мента началось вовлечение ее
в орбиту официальной при-
дворной и государственной
жизни французской монар-
хии, что в условиях католи-
ческой реакции не могло не
ограничить и не сделать
внутренне противоречивой гу-
манистическую деятельность
Плеяды.
Жр
&кАп U Ndtun exprimant
€п cefourtrmt mefât МЫ
Мак f m fume point ttïïe
ad aux e/crks de mon tmmt*
Портрет Кассандры, приложенный к сборнику
«Любовь к Кассандре» (1552 г.)
Оригинал приписывается Николаю Денизо.
1ивои поэтической прак- -
тикой, а не теоретическими
декларациями поэты Плеяды
доказали свое превосходство
над противниками. С особен-
ной силой превосходство это проявилось в творчестве главы Плеяды, вели-
чайшего французского поэта XVI в. Пьера де Ронсара (Pierre de Ronsard,
•524—1585). Впечатление, произведенное его творчеством на современни-
ков, было огромно. Ронсар достиг подлинно ев^ропейской славы, приобретя
известность в Италии, Германии, Англии. Он оказал решающее влияние,
на французских поэтов второй половины XVI в., включая и тех из них,
которые стояли на совершенно иных идеологических позициях (как, на-
пример, Агриппа д'Обинье). Ронсар с полным правом заявлял, обращаясь
к ним:
Вы все моим обилием богаты.
Я — ваш король, вы — данники мои.
Жизнь Ронсара бедна внешними событиями. Он родился в провинции
Вандомуа в замке Пуассоньер. Отец его принадлежал! к числу тех дворян,
которые во времена воинственной политики Людовика XII и Франциска!
27в
ВОЗРОЖДЕНИЕ
предпочли соблазнительную военную карьеру мирному прозябанию в про-
винции; участвуя в итальянских походах, он стал одним из приближен-
ных Франциска I. Это определило и судьбу молодого Ронсара, отданного
отцом еще в десятилетнем возрасте на службу к королю, который назна-
чил его пажем при своих детях. Путешествуя в свите Мадлены, дочери
Франциска I, выданной замуж за шотландского короля Якова Стюарта,
разъезжая по поручениям ее брата Карла Орлеанского и, наконец, уже
юношей, сопровождая известных дипломатичеоких и военных деятелей того
времени, Ронсар получил возможность побывать в большинстве стран За-
падной Европы — в Англии, Шотландии, Фландрии, Дании, Германии и
Италии. «Годы странствий», несмотря на бессодержательность придвор-
ного существования, не прошли для юноши даром, обогатив его запасом
жизненных впечатлений и расширив его умственный кругозор. «Годы уче-
ния» наступили позже, когда внезапная тяжелая болезнь (1542) и после-
довавшая за ней потеря слуха прервали его придворную карьеру. Теперь
Ронсар мог всецело отдаться своему основному призванию — поэзии, к ко-
торой он испытывал влечение, по его собственным словам, с детских лет.
Свои занятия поэзией Ронсар начал с основательного изучения ан-
тичной и, в особенности, греческой литературы в коллеже Кокре, под ру-
ководством уже упомянутого выше Дора. Знакомство с античной культу-
рой вызвало в нем подлинный энтузиазм. Гомер, на ряду с римскими
писателями «золотого века», остался на всю жизнь его любимейшим писа-
телем. Однако показательно, что Ронсар изучал не только античную лите-
ратуру, но и античную философию, влияние которой явственно чувствуется
в его поэзии.
В эти годы, заполненные упорной и неустанной работой над собой,
Ронсар воплотил тот идеал поэта-труженика, который Дю Белле впо-
следствии столь красочно нарисовал в «Защите». Он быстро отказался от
сочинения латинских стихов, и вопрос создания французского литератур-
ного языка стал в центре его внимания.
В 1547 г. была опубликована его первая ода «О прелестях, кото-
рые он желал бы видеть у своей возлюбленной», напечатанная в собра-
нии сочинений Жака Пелетье (Jacques Peletier, 1517—1582), третьестепен-
ного французского поэта, но убежденного гуманиста и пламенного защит-
ника достоинств французского языка. Пелетье оказал немалое влияние на
Ронсара, а впоследствии стал горячим приверженцем Плеяды.
В 1 550 г. вышел в свет первый поэтический сборник Ронсара «Оды»
(«Odes»). С этого момента Ронсар на целых три десятилетия становится
центральной фигурой французской поэзии. Жизнь его, протекавшая ровно,
без каких-либо внешних потрясений и словно изъятая из сферы обще-
ственной практики, совершенно растворилась в литературной деятельности
и самостоятельного интереса не представляет. Даже в религиозной борьбе
своей эпохи он участвовал только в качестве поэта, и притом весьма крат-
ковременно.
Первое десятилетие (1550—1560), самое плодотворное, было лучшей
порой творчества Ронсара. В этот период он произвел полное жанровое
обновление французской поэзии, создал первые образцы высокой нацио-
нально-героической поэзии (так называемые «пиндарические» оды, не-
которые стихотворения из «Королевской рощи» — «Le bocage royal»,
1554, — отчасти гимны, например, «Гимн Генриху II») и раскрыл пол-
ностью свой талант в области лирики.
В то время как в жизнерадостных тонах его лирики воплотился ренес-
сансный идеал прекрасной, гармонически развитой человеческой личности.
ПЛЕЯДА И ДРАМАТУРГИЯ РЕНЕССАНСА
27Ï
общие морально-философские проблемы его гуманистического миросозер-
цания нашли отражение в «Гимнах» и в «Поэмах» — длинных стихотвор-
ных рассуждениях, обращенных к высокопоставленным покровителям
поэта или к его друзьям. Ронсар-гуманист наиболее полно проявил себя
именно в данный период. Этому способствовала, с одной стороны, относи-
тельная независимость его от вкусов и требований двора (красной нитью
проходит через его стихи этого времени мотив неприязни к двору, «вра-
ждебному музам»). С другой стороны, здесь сыграли роль общие истори-
ческие условия того времени: в обстановке незаконченной борьбы за
утверждение национального могущества Франции патриотический пафос
ронсаровских од не стал еще анахронизмом, а глухо тлевшая вражда между
католицизмом и протестантизмом не привела еще к открытой гражданской
войне, превратившей «просвещенную монархию», недавнюю покровитель-
ницу гуманизма, в оплот католической реакции, а свободомыслящий гума-
низм— в беспочвенную и утопическую идеологию, равно чуждую и гуге-
нотскому и католическому религиозному фанатизму.
Изменившиеся с наступлением периода религиозных войн обще-
ственные условия нашли отражение во втором периоде творчества Рон-
сара (1560—1572). Связав себя с монархией и двором литературными
выступлениями на стороне католиков, в которых он видел истинно-нацио-
нальную партию, Ронсар оказался в положении официального придворного
поэта. Высмеянные им в свое время жанры придворной поэзии — пасто-
рали, мадригалы, «маскарады», эпиграммы и мелкие стихотворения на
случай — занимают в эту пору значительное место в его творчестве. В целом
они делают ему столь же мало чести, как и его личная близость к слабо-
вольному дегенерату Карлу IX, которого он превозносил как образец
добродетели и государственной мудрости, и к вероломной и расчетливой
Екатерине Медичи, в лице которой он видел чуть ли не спасительницу
Франции.
Но уже с 1565 г. стремление отойти от унизительных условий при-
дворного существования побудило Ронсара все меньше бывать при дворе,
все чаще уединяться в тех поместьях и аббатствах, которыми в знак бла-
годарности щедро одарила его Екатерина Медичи.
С этого же времени началась его работа над «Франсиадой» («La
Franciade», первые четыре песни изданы в 1572 г.)—национальной эпо-
пеей, позволившей Ронсару, по самому характеру замысла, погрузиться в
любимую им античность, оставаясь в то же время в положении официаль-
ного королевского поэта. Неудача «Франсиады»,—произведения сухого и
рабски подражательного, вызвавшего официальные похвалы, но оставив-
шего холодными современников, — заставила Ронсара отказаться от своего
замысла («Франсиада» так и осталась незаконченной) и снова отдаться
целиком лирическому творчеству, от которого он, впрочем, не отказывался
полностью и во второй период своего творчества («Новые стихотворе»
ния» — «Nouvelles poésies», 1563; «Стихи»—«Poèmes», 1569). После «Со-
нетов к Елене» («Sonnets à Hélène»), одного из лучших его лирических
циклов, возникшего в 1572—1574 гг., но изданного значительно позже,—
творческая активность Ронсара сильно упала, и он ограничивался почти
лишь одним пересмотром и исправлением ранее написанного, а также под-
готовкой полного собрания своих сочинений (оно вышло еще при жизни
поэта в 1584 г.).
Продолжавшееся охлаждение между двором и великим поэтом при-
вело в последнее десятилетие его жизни (после смерти Карла IX) к
полному отдалению Ронсара от двора. «Я ненавижу двор как смерть», —
278
ВОЗРОЖДЕНИЕ
писал он в одном письме. Излюбленным придворным поэтом стал Филипп
Депорт.
Творческий упадок Ронсара, элегические тона его последних стихо-
творений, начинающееся угасание его славы свидетельствовали о том,
что лучшая, золотая пора французского Возрождения была уже на исходе.
Гяжелая болезнь, ставшая впоследствии причиной смерти Ронсара, нало-
жила в эти годы еще более мрачный отпечаток на настроение поэта, все
сильнее проникавшегося религиозностью. За смертью Ронсара последовал
стремительный закат его славы, начало которому положила литературная
реформа Малерба, «вычеркнувшего» Ронсара из истории французской ли-
тературы. В период классицизма и Просвещения он был столь основа-
тельно забыт, что даже ни разу не переиздавался, и только со времен ро-
мантизма он снова вошел в литературный обиход.
В полном соответствии с программой «Защиты», литературная дея-
тельность Ронсара началась с создания «высокой поэзии». Его первый
сборник «Оды» открывается пятнадцатью «пиндарическими одами», поло-
жившими основание тому чрезвычайно характерному для периода абсолю-
тизма жанру торжественной поэзии, в котором, при всей его условности,
находило свое выражение национальное чувство: «герои», т. е. деятели аб-
солютизма, с королем во главе, воспевались в .таких одах не как частные
лица, а как представители национального могущества и славы. Образцом
своим Ронсар избрал наиболее классического из греческих мастеров оды
Пиндара; однако особенности од Пиндара были настолько тесно связаны
с историческими условиями их возникновения, что прямое подражание им
неизбежно принимало форму искусственной стилизации.
Поэзия Пиндара, которому подражал Ронсар, возникла на почве не-
развитых общественных отношений того периода истории, который Маркс
называл «детством человеческого общества». 1 Характерное для этого вре-
мени единство коллектива и личности, не успевшей еще эмансипироваться
■от своих родовых связей, выражалось в пиндаровских одах в том особом
восприятии воспеваемого героя — победителя на олимпийских играх, при
котором он не мыслился вне определенного коллектива (поэтому, напри-
мер, на ряду с героем воспевался и его родной город). Единство это ска-
зывалось и в самосознании поэта, чувствовавшего себя рупором всего
демоса, неким вдохновенным жрецом, чья речь льется в божественном смя-
тении пророческого восторга. Оно проявлялось, наконец, в самом харак-
тере исполнения од, которые пелись обязательно хором на массовых на-
родных празднествах. Мифология, которою были обильно уснащены оды
Пиндара, играла в них роль не только арсенала художественных образов,
но и живой почвы, на которой вырастала поэзия.
Будучи перенесены во Францию XVI в., все эти особенности од Пин-
дара превращались в свою противоположность: живые образы народной
мифологии — в мертвую и непонятную эрудицию книжника, вдохновенный
пророческий тон и лирическое смятение — в напыщенность и аффектацию;
неестественно было все, вплоть до формы, в точности сохраненной Ронса-
ром, — чередование строфы, антистрофы и эпода, соответствовавших деле-
нию античного хора на две половины, из которых первая исполняла строфу,
вторая — антистрофу, и обе вместе — эпод. Неестественность пиндариче-
ских од стала удобной мишенью для нападок придворных «стихоплетов»
(poétastres) на новую поэтическую школу, представителей которых Ьни
окрестили презрительной кличкой «пиндаризаторов». Неестественность эта
1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XII, ч. I, стр. 204.
ПЛЕЯДА П ДРАМАТУРГИЯ РЕНЕССАНСА
270
была, впрочем, вскоре замечена и самим Ронсаром, который отошел от
Пиндара и более к нему не возвращался. Тем не менее, за этой частью
творчества Ронсара остается заслуга создания первого французского памят-
ника высокой патетической поэзии с характерной для нее широкой стро-
фой и приподнятым стилем, от которых ведет прямая дорога к класси-
цизму XVII в. А это была несомненная историческая заслуга Ронсара,
ибо столбовая дорога французского литературного развития лежала в
XVII—XVIII вв. через классицизм.
Воспевание достоинства и священной миссии поэта проходит красной
нитью через все пиндарические оды, но с особенной силой оно вырази-
лось в знаменитейшей из них — «Оде Мишелю Аопиталю» (известный
политический деятель эпохи, поэт и просвещенный покровитель Плеяды) ;
здесь описывается рождение муз, их свидание с отцом их Юпитером и та
великая власть над людьми, которую он им даровал. В конце оды впле-
тается другая, не менее характерная тема: после гибели античного мира
царству муз на земле наступил конец, но ныне, поселившись во Франции,
они превратят ее во вторую Элладу.
На ряду с пиндарическими, в первом сборнике Ронсара были напеча-
таны оды совершенно другого типа. Написанные в стиле Горация, эти не-
большие лирические стихотворения, воспевающие любовь и радости мирной
сельской жизни, открывают в творчестве Ронсара ту область интимной
лирики, в которой он проявил себя одним из величайших мастеров.
Внутреннее единство лирической поэзии Ронсара позволяет говорить
об ее особенностях в целом. Основной чертой ронсаровской лирики
является ее здоровый жизнеутверждающий дух, ее полнокровная жизне-
радостность, связанная со взглядом Ронсара на смерть. Представление
о смерти 'как о полном отрицании всякой жизни, не раз встречающееся
в поэзии Ронсара, наиболее отчетливо выражено в его стихотворении
«Оружие»:
Недолог жизни срок; коль мните в мире том
Вы столько ж благ найти, как здесь в краю земном, —
То знайте, смертные, обмануты стократ вы!
Хоть там Цереры дочь и властвует, но жатвы
Вовек не режет серп, и вкруг на берегах
Душистых гроздий сок не собирает Вакх.
Лишь пагубная Смерть в том мире обитает,
И зябкий рой теней вкруг озера рыдает;
Их лица сожжены, на их власах — зола,
Их взгляд угрюм и пуст, их мукам нет числа!
Это—маленький дантовский ад, но без дантовского рая, который мы
тщетно стали бы искать у Ронсара, чуждого христианеко-спиритуалисти-
ческим воззрениям. Подобное представление о смерти естественно сопро-
вождается признанием жизненных радостей, благ земного существования;
единственной реальностью и утверждением права человека на наслажде-
ние жизнью, — глубоко прогрессивным в пору, когда воскрешаемая контр-
реформацией реакционная религиозная идеология стремилась вновь закре-
постить человеческую личность. Враждебная религиозному аскетизму гу-
манистическая тенденция порождает характернейший для лирики Ронсара
мотив: «Роз жизни тотчас же срывайте цвет мгновенный», — мотив,
столь частый у него, что, несмотря на мастерское уменье Ронсара беско-
нечно варьировать одну и ту же тему, он становится почти банальным
общим местом, проходящим через всю его поэзию, вплоть до знаменитого
позднего сонета «Когда же старенькой, со свечкой, перед жаром. . .»
280
ВОЗРОЖДЕНИЕ
(«Quand vous serez bien vieille. . .»). Образцом может служить не менее
знаменитая ранняя ода («Mignonne, allons voir si la rose...»):
Пойдем, о милая, и взглянем
На розу ту, что утром ранним
Раскрыла пурпур лепестков:
Не потеряла ль свой багрянец,
Что чист и свеж как ваш румянец,
И в складках алых свой покров.
Увы, взгляните! Уж увяли
Ее красы и на земь пали!
Уж краткий срок ее истек.
О, впрямь ты мачеха, природа,
Коль от восхода до захода
Цветка такого длится век.
Так верьте ж: быстро лет теченье.
Пока играет жизнь под сенью
Зеленой юности в цвету,
Ловите вольные услады!
Как розу, старость без пощады
Растопчет вашу красоту.
Но жизнерадостная, языческая, материалистическая мораль Ронсара
была противоположна не только религиозному аскетизму, но и спиритуа-
листическому платонизму, представленному лионской школой. Она вос-
станавливала в ее правах чувственность, отрицавшуюся платонической док-
триной, и объявляла высшим счастьем человека удовлетворенную любовь,
а не поэтическое созерцание собственной неудовлетворенности. Немудрено,
что, начав с модного в то время увлечения петраркистской поэзией (сбор-
ник сонетов «Любовь к Кассандре»—«Les amours de Cassandre», 1552),
Ронсар вскоре порвал с нею. Заимствуя у петраркистской лирики больше
ее галантно-прециозную сторону, нежели то мистическое содержание, кото-
рое вкладывали в культ платонической любви лионские поэты, Ронсар даже
в этом первом и малосамостоятельном сборнике нередко ломал услов-
ные и шаблонные рамки петраркизма. Так, в одном из сонетов «Ни
вьющееся сокровище ее волос. . .» («Ni de son chef le trésor crêpelu. . .»)
под видом перечисления того, что его не привлекает в возлюблен-
ной, поэт воспевал обаяние ее плотской красоты. В конце другого
сонета, выдержанного по видимости в ортодоксально-петраркистских то-
нах, неожиданно появляется несколько строк, иронически снимающих весь
элегический пафос предшествующих жалоб поэта: недалеко то время,
когда его возлюбленная
Всю ночь в забавах проведя со мной,
Заплатит, безрассудная, с лихвой
За муки те, что в долг ей отдаю я.
В третьем сонете, насыщенном мифологическими ассоциациями, поэт
мечтает, как хорошо было бы, если бы он
Нарциссом стал, источником — она,
Чтоб ночью обняла ее волна
Мой стан, и чтоб конца не наступало
Той ночи...
Подобные примеры типичного для Ронсара гедонизма в «Любви к
Кассандре» показывают, что, даже когда он отдавал дань петраркистской
поэзии, он оставался внутренне чужд ей, о чем свидетельствуют одно-
временно писавшиеся «Оды». Относящееся к этому периоду стихотворе-
ние «Стансы» («Когда мы будем в храме. . .» — «Quand au temple nous
ПЛЕЯДА И ДРАМАТУРГИЯ РЕПЕССАНСА
281
serons...») представляют собой как бы прямую полемику с идеалами лион-
ской школы. Вот почему нельзя считать, что разрыв с петраркизмом явился
переломным моментом в лирике Ронсара, а также объяснять этот разрыв
исключительно влиянием греческих анакреонтиков, открытых и опубликован-
ных в 1554 г. Анри Этьенам. Радость, с которой встретил Ронсар откры-
тие древней анакреонтической лирики, вызывалась тем, что авторитет
«древнего, классического певца любви» узаконил в его глазах основное
жизнерадостное направление его лирики, дав ему в то же время обильную
пищу для подражания. Отныне чувственно-материалистическое направление
начинает безраздельно господствовать в его лирике — в особенности в
«Продолжении любовных стихотворений» («Continuation des Amours», 1555)
и в «Новом продолжении» («Nouvelle continuation», 1556). Полнокровный
гедонизм в сочетании с необычайным изяществом и тонкостью формы,
огромное разнообразие в варьировании зачастую сходных поэтических
тем, богатство и свежесть образов, глубокий проникновенный лиризм, в
котором звучат нотки старой французской народной песни (недаром самый
жанр «chanson», отвергавшийся «Защитой», был в эту пору реставриро-
ван Ронсаром и поднят им на большую художественную высоту), простота
и естественность языка, гибкость ритма и мелодичность — таковы достоин-
ства зрелой лирики Ронсара. Но любовь, занимающая в ней центральное
место, не исчерпывает ее тематики; в понятие воспеваемых Ронсаром «зем-
ных благ» входит все, что может доставить наслаждение разумной, гар-
монически развитой человеческой личности — от удовлетворения самых
«низменных» потребностей человеческой природы до высочайшего интел-
лектуального наслаждения, от «Гимна Вакху» до «Гимна философии».
Отсюда такое разнообразие его лирических стихов. То в песнях с почти
раблезианским колоритом он восклицает в вакхическом упоении:
Будь проклят, кто не знал пиров!
Почел я медика бессильным,
А мозг мой лишь тогда здоров,
Коль орошен вином обильным!
То он, напротив, воспевает утонченное духовное наслаждение, например,
в известном сонете «Хочу три дня дружить я с Илиадой» («Je veux
lire en trois jours l'Iliade d'Homère»), или в стихотворении «Блаженные
острова» («Iles fortunées»), в котором он мечтает, удалясь вместе со всей
Плеядой в некую обетованную страну гуманизма, проводить там время в
дружеских беседах и в чтении римских поэтов.
Крайности духовной и физической -жизни сливаются в его гармониче-
ском идеале человеческой личности, ибо все ее проявления мыслятся ему
равно естественными, и сама воспеваемая им жизнеутверждающая мораль
покоится на универсальном принципе здоровой естественности, который
кажется ему «само собою разумеющимся». Природа для Ронсара, как
истинного гуманиста, не сводится к «пейзажу»: она для него — настав-
ница в жизни, то всеобъемлющее царство естественности, из которого
он черпает критерий своего жизненного поведения и в котором он находит
доказательство правоты своего язычески-материалистического мировоззре-
ния. Природа имеет для Ронсара не только эстетическую, но и философ-
скую значимость.
Взгляды Ронсара на природу близки к древнегреческим представле-
ниям о космосе. Созерцая в природе вечный круговорот жизни и смерти,
он предпочитает изображать проявления жизни, но особенно близка ему
тема весны, когда к «внешнему миру» возвращается его чувственная кра-
28?
ВОЗРОЖДЕНИЕ
^ I Л ■ 2 J Г i
A il feux, kc&tfcy wùe&anlL :
кЫм!с faim tu* ClienH
nt tffU faut? т& "jvMttrti *~
Автограф Ронсара.
сота и полнота жизненных сил.
Весна и любовь в поэзии Ронсара
взаимно дополняют друг друга,
ибо подобно тому, как весна яв-
ляется одной из высочайших точек
в жизии природы, любовь есть, по
мнению Ронсара, высшая точка
жизни человека. Философско-алле-
горически это слияние изображает-
ся в «Гимне Весне», в чисто ли-
рическом аспекте — в замечатель-
ном стихотворении «Когда я вижу
эту прекрасную весну», в котором
описание победоносного весеннего
шествия всепокоряющей Любви не-
заметно переходит в изображение
красоты пробуждающейся приро-
ды, сливающейся с обликом воз-
любленной поэта, и заканчивается
страстным призывом следовать
морали, указываемой самой приро-
дой:
Так терять не станем всех
Мы утех.
Позабудем о законах.
Пусть нас судит лицемер,
Мы ж пример
С голубков возьмем влюбленных.
Поэма па латинском языке, посвященная Кристофу де Ту,
первому президенту Парижского парламента.
Природа, как источник кра-
соты и силы человека, как царство
жизни и движения, как наставница
в эпикурейской языческой морали—таковы многообразные стороны рон-
саровского пантеистического культа природы.
Но, приближая человека к природе, Ронсар в то же время приближал
и природу к человеку. Его идеалу гармонической душевной жизни была
близка не та природа, которая подавляет человека своей мощью, внушая
ему мысль о его ничтожестве, а природа идиллическая, сопутствующая
интимнейшим человеческим переживаниям и связанная с душой человека
тончайшими личными узами. Эта особенность Ронсара-художника сказа-
лась в преобладании у него картин сельской природы, в его стремлении
изображать природу родных мест («Гастинский лес», «Источник Бел-
лери», «К реке Луаре» и т. д.) ив свойственном ему тоне проникновен-
ной нежности и дружелюбия, каким он беседует с природой, как с живым
существом: «Да благословит вас бог, верные посланцы», — говорит он
ласточкам; «О источник Беллери, милый источник», — обращается он к
источнику Беллери, и т. д. Природа одухотворяется, и между нею и чело-
веком выстраивается и стихах Ронсара целая цепь посредствующих мифо-
логических существ, придающих природе красоту человечности. Античная
мифология, в пиндарических одах бывшая мертвой эрудицией, помогает
Ронсару в его лирике воссоздать непревзойденную прелесть первобытно-
языческой поэтизации природы, об утрате которой будет впоследствии
скорбеть Шиллер в стихотворении «Боги Греции».
Вместе с тем мифологизация природы отнюдь не исключала у Рон-
ПЛЕЯДА П ДРАМАТУРГИЯ РЕПЕССАНСА
283
сара тонкой наблюдательности и уменья передать явления природы во
всех живых деталях, без какой-либо условности; именно эти качества
характеризуют реалистическую описательную манеру Ронсара. Знаток при-
роды и поэт одновременно, он умеет каждую правдиво схваченную им
деталь сделать художественной, что ярко видно на примере любой из опи-
сательных миниатюр, изобилующих в его творчестве. Так, например, опи-
сывая жаворонка, «возносящего к небу свое тело, покрытое влагой, чтобы
отереть его об облака», Ронсар сравнивает стремительный спуск жаворонка
с падением мотка пряжи из рук девушки, задремавшей ввечеру; говоря
о боярышнике, он изображает и дикий виноград, обвивающий своими
«руками» ствол дерева, и лагерь муравьев, стоящих на страже у его
подножья, и гнезда пчел и т. д.
Ронсар был превосходным миниатюристом, но присущее ему тяготе-
ние к миниатюре и некоторую камерность его лирики так же мало можно
считать основными чертами его поэзии, как и отождествлять его жизне-
радостный гедонизм с легким эпикуреизмом придворного типа. Непони-
мание этого приводило и продолжает приводить к искусственному суже-
нию действительных масштабов его творчества, к недооценке гуманистиче-
ского содержания его поэзии. Из западных буржуазных критиков тенден-
цию к этому особенно отчетливо проявил Уолтер Патер в своей статье
«Иоахим дю Белле», в которой значение творчества Плеяды сводится к
умению «искусно» и «высоко-художественно» обрабатывать «банальные»
и «легковесные» темы.
В действительности же в основе лирики Ронсара лежал глубоко про-
грессивный идеал свободной, всесторонне и гармонически развитой чело-
веческой личности. О широте этого идеала лучше всего свидетельствует то,
что сам Ронсар сознает его неосуществимость в условиях современной ему
исторической действительности.
Тема взаимоотношения личности и общества, идеала и действитель-
ности приковала внимание Ронсара; именно она в значительной степени
составляет содержание его «Гимнов» и «Поэм». Одна из обычнейших
тем этих произведений — тема придворной жизни, вызьгаающей в Ронсаре
глубокое отвращение. Двор представляется ему средоточием всех отрица-
тельных черт окружающей действительности. Мечте о свободном и достой-
ном человека существовании двор противоставляет грубую реальность
всеобщей зависимости, рабства и унижения. Идеалу прекрасной человеч-
ности % противостоят самые грязные и низкие страсти, воспитанные при-
дворной обстановкой: честолюбие, зависть и «грязная жажда накопления
богатств». Утопия гармонических и высоких отношений (любви, дружбы),
в которых легко и привольно чувствуют себя лучшие человеческие стре-
мления, резко .контрастирует с господствующим при дворе недоверием,
соперничеством',' ложью и лицемерием. Недаром Ронсар с такой горечью
упоминает^ об обстоятельствах, которые принудили его стать придворным
поэтом. «Счастлив, кто не видит ни сенаторов в красных тогах, ни крик-
ливого дворца, ни принцев, ни короля, ни его неверного двора!»—воскли-
цает он. Противопоставление придворной жизни гуманистическому идеалу
выливается в форму антитезы служения двору и служения поэзии: такова
тема одного из лучших стихотворений Ронсара: «Речь против богатства»
(«Discours contre la fortune»).
Но не только двор как таковой был предметом обличения Ронсара.
Пороки двора сливались в его представлении с пороками всей обществен-
ной действительности его дней: «Бесстыдство питает чины и сословия,
бесстыдство содержит крикливых адвокатов, кормит придворных, питает
284
ЬОЗРОЖДЕНИЕ
военщину; бесстыдство в наши дни — это лучшее оружие даже для того,
кто желает возвыситься при дворе, где добродетель не может показы-
ваться в своем истинном обличьи, если могучее бесстыдство своей похва-
лой не пробивает ей дорогу к дверям знатных царедворцев».
В ироническом «Гимне золоту» Ронсар рисует циничную, бездушную,
всемогущую власть денег, ставших господствующей общественной силой,
и вскрывает всеобщее извращение человеческих свойств, которые они несут
с собою, — сходно с тем, как это сделает впоследствии Шекспир.
Но в особенности интересно по своему замыслу философское стихо-
творение «Обещание» (из сборника «Поэмы»), где изображена в аллего-
рической форме всеобщая погоня за счастьем и богатством (двуединое
понятие, выражаемое французским словом «fortune»), столь характерная
для начавшейся со времен Возрождения новой исторической эпохи, когда
место незыблемых, веками освященных общественных связей занял все-
сильный «Случай», всемогущая «Фортуна». Ронсар уже не смотрит на
«Фортуну» с наивным восхищением раннего Возрождения, которое видело
в ней некую великую освободительницу человечества от средневековой
неподвижности и порабощения, открывшую перед каждым простор для
развития его индивидуальных сил. Ронсару — человеку позднего Ренес-
санса— уже ясно, насколько ограниченные возможности принесла с собой
новая эпоха, ему очевидна иллюзорность всеобщей мечты о счастье. Его
Фортуну сопровождает богиня «Обещание», щедро раздающая людям
мнимые дары из своей пустой сумы и превращающая всеобщее стремление
к материальным благам, бесконечную борьбу людских интересов и често-
любия в бессмысленную и бесплодную «суету сует». Сама «Фортуна»
олицетворяет для него угнетение человеческой личности случаем, и он не
называет ее иначе, как «слепой, глухой, безумной, изменчивой, полной
коварства, презирающей добродетель и покровительствующей пороку» (из
поэмы «Обещание»). В подобной эстетической критике действительности,
образцом которой может служить вышеприведенное стихотворение, Ронсар
доходит порой до полного отрицания цивилизации и противопоставления
ей первобытного «золотого века». Показательны в этом смысле такие
стихотворения, как «Гимн Справедливости» или «Рассуждение о богат-
стве». В последнем жизнь индейцев Америки изображается Ронсаром, как
осуществление древней легенды о золотом веке (само описание золотого
века взято им почти дословно из «Метаморфоз» Овидия), и дает ему по-
вод для размышлений о пороках цивилизации — размышлений, невольно
заставляющих вспомнить о Руссо:
... Тот род, что сам — свой царь, сенат свой и закон.
Там плуга острый нож земле не докучает,
Что, как теченье рек, хозяина не знает;
Там люди всем добром владеют сообща,
Без слов «.твое, мое» и распрей не ища.
Так мир их девственный не нарушай, молю я.
Их души вольные соблазнами волнуя,
Не трогай их, прошу, коль жалость есть в тебе —
Покинь их брег и род их предоставь судьбе.
Знай: коль владеть землей научишь их однажды.
Они затеют спор, горя богатства жаждой,
Поднимется война и дружба отойдет,
И честолюбие к ним в душу западет —
Та страсть, что нас, людей, терзает горше пыток.
Нас, чьим несчастиям виной ума избыток!
Напрасно, о поверь, Виллегеньон ученый.
Ты хочешь просветить народ неискушенный,
Американцев тех, чей безызвестный род,
ПЛЕЯДА И ДРАМАТ5'РГПЯ РЕНЕССАНСА
«85
Скитаясь, дик и наг, в невинности живет,
Одежд и козней чужд, не зная, есть на свете ль
Злосчастные слова: «порок и добродетель,
Сенат и государь», и следуя одним
Влеченьям естества и склонностям своим,
И не тая в душе, подобно нам, боязни
Законов и тюрьмы, судилища и казни,
И вольность не забыв, никем не покорен.
Заканчивается этот отрывок характерным восклицанием:
Живи, счастливый род! Прекрасен твой удел!
Живи, не зная мук! Я б жить, как ты, хотел!
Связанные с критикой цивилизации, мотивы золотого века не слу-
чайны в поэзии Ронсара. Мы постоянно встречаем их у крупнейших писа-
телей и мыслителей позднего Возрождения, как Шекспир, Сервантес,
Монтень. Разумеется, сам Ронсар прекрасно понимает фантастичность и
условность своей утопии, и потому, углубляясь еще дальше в область
воображения, он предпочитает мечтать о таком идеальном состоянии,
которое совмещало бы в себе все блага первобытной жизни с плодами
многовекового культурного развития человечества. Подобная утопия со-
ставляет содержание «Блаженных островов», где гуманисты возвращаются
в условия «золотого века», держа в руках стихи Катулла, Овидия, Про-
перция и Тибулла.
В стихотворениях, аналогичных «Блаженным островам», проявляется
оборотная, слабая сторона критицизма Ронсара. Именно, благодаря своему
отвлеченному и всеобъемлющему характеру, критицизм Ронсара стано-
вился беспредметным и бесплодным, не будучи направлен (в отличие от
Рабле) ни против одного конкретного носителя зла. Он неизбежно сопро-
вождался полным неверием в возможность переустройства мира и чрез-
вычайно характерной для Ронсара мечтательностью, что и в практической
и в творческой деятельности поэта приводило к постоянным компромис-
сам с «неизбежным злом» действительности. Ронсар не был борцом, не
был «поэтом-гражданином». В особенности это сказалось в его постоян-
ной мечте о «сельском существовании» (vie champêtre) — маленьком кар-
манном издании «золотого века». «Сельская жизнь», неоднократно про-
славляемая Ронсаром, казалась ему столь привлекательной именно потому,
что в ней он видел единственную возможность уйти от унизительных и
давящих условий общественной жизни:
И мне милей стократ в тиши уединенья,
Забыв корысть и страх, полоть гряду и жать.
Чем, королю служа, собою торговать.
Но этот идеал означал вместе с тем желание эмансипироваться от
всяких общественных отношений. Не ограниченная сферой общественных
отношений, человеческая личность в том виде, в каком она рисовалась
Ронсару, оказывалась ограниченной самым отсутствием таковых. Она рас-
крывала себя полно и свободно только в личных отношениях — любви,
дружбе и т. д., а остальные человеческие связи и более широкие потреб-
ности для нее как бы не существовали. В этом проявился свойственный
Ронсару индивидуализм, в котором следует видеть отличительную черту
всего французского гуманизма второй половины XVI в.
В общем, гуманистическое мировоззрение Ронсара было в первый
период его художественной деятельности по-своему цельным и последо-
вательным. Однако противоречивые условия эпохи, в которую Ронсар жил
286
ВОЗРОЖДЕПИЕ
и действовал, не могли не отразиться более глубоко на его мировоззре-
нии, приведя к той непоследовательности и противоречивости его, которая
с особой силой проявилась во второй период творчества Ронсара. Враг
придворной поэзии, он становится в эти годы придворным поэтом; языч-
ник, он делается католиком; писатель, стремящийся отойти как можно
дальше от общественной жизни своей эпохи, он превращается теперь, хотя
и не надолго, в официального политического поэта.
Обострившаяся с конца 50-х годов борьба религиозных партий при-
вела к первой гражданской войне (1562), расколовшей всю Францию на
два враждебных лагеря. Религиозные разногласия стали важнейшим по-
литическим событием дня, ибо религиозная борьба открыто проявила
свой политический характер. Хотя Ронсар стоял вдалеке от вопросов
религии, он не мог пройти мимо крупнейшего вопроса национальной жизни
страны. Он занял место в рядах католической партии и выступил в период
1560—1563 гг. с целым рядом поэтических «Рассуждений» («Discours»),
в которых защищал католицизм. Совершенно отодвигая в сторону рели-
гиозную контроверзу, Ронсар в своих «Рассуждениях» прямо обращался
к политической сущности начавшихся событий, ясно показывая тем самым,
что не вопросы веры, а беспокойство за судьбы своей страны заставило
его принять столь живое участие в развернувшейся борьбе.
Ронсар стал на сторону католиков, так как видел в них национальную
партию. Именно национальная точка зрения господствует в его политиче-
ской поэзии. Она побудила его звать к примирению во имя высших нацио-
нальных интересов обе борющиеся стороны, покуда такой мирный исход
казался еще возможным. Это в особенности чувствуется в первой по вре-
мени «Элегии Дезотелю» («Élégie à Guillaume Des Autels», 1 560). В напи-
санном два года спустя, накануне первой гражданской войны, «Рассужде-
нии о бедствиях нашего времени» («Discours sur les misères de ce temps»,
1562) Ронсар рисовал устрашающую картину близящейся междоусобной
распри и падения национального могущества и единства Франции. В по-
следующих двух «рассуждениях»: «Продолжение рассуждения о бедствиях
нашего времени» и «Увещевание французского народа» («Continuation du
discours sur les misères cle ce temps» и «Remontrance au peuple de France»),
он уже с резкой враждебностью обрушивался на гугенотов как на винов-
ников начавшейся войны, призывая к их беспощадному истреблению.
В ответ на бесчисленные памфлеты, посыпавшиеся на него из гугенотского
лагеря, он выступил с последним «рассуждением», озаглавленным: «Ответ
на брань и клевету каких-то женевских проповедников и священников»
(«Réponse aux injures et calomnies de je ne sais quels prédicantereaux et mi-
nistreaux de Genève»), которое представляет, однако, больше интереса как
автобиографический, чем как политический, документ.
В оценке Ронсаром французского протестантизма как антинациональ-
ного движения большую роль сыграло то обстоятельство, что гугеноты
стремились опереться во время гражданских войн на иноземные проте-
стантские державы — Англию, Германию, Швейцарию и т. д. Однако
решающим обстоятельством, побудившим Ронсара выступить против гуге-
нотов, явилось их враждебное отношение к монархии, олицетворявшей в
глазах поэта национальное могущество и единство страны. Ронсар считал,
что королевская власть должна возглавлять нацию и покоиться на проч-
ном гармоническом союзе с народом; во имя этого союза ок и призывал
весь французский народ сплотиться вокруг короля и разбить «мятежную
секту», дерзнувшую поднять против него знамя восстания (см. «Увеще-
вание французского народа»). Во имя этого же союза он обращался
ПЛЕЯДА И ДРАМАТУРГИЯ РЕПЕССАНСА
207
с рядом наставлений к французским королям (см., например, его обраще-
ние к Карлу IX: «Institution, à l'adolescence du roi très chrétien» — «Наста-
вление юному всехристианнейшему королю»), призывая их соблюдать вер-
ность народным интересам, не забывать о своей высокой национальной
миссии, обуздывать свои чрезмерные притязания и «гордыню», быть про-
свещенными и гуманными и т. д. Он неоднократно противоставлял «дурной
королевской власти», напоминающей ему надменный утес, о который в
вечной ярости бьются волны, тщетно стараясь его сокрушить, — свой
идеал «хорошей королевской власти», подобной прибрежному песку, кото-
рый радушно принимает в свое лоно волну и своей уступчивостью успо-
каивает ее ярость («Панегирик славе» в 1-й части «Королевской рощи»).
Смысл двусторонней политической проповеди Ронсара заключался в
стремлении предотвратить превращение раннего французского абсолю-
тизма в реакционную тиранию, враждебную народным правам и нацио-
нальным интересам. Единственный из поэтов своего времени, обладавший
привилегией разговаривать с королем как равный с равным, он готов был
наивно верить, что его проповедь может «исправить» политику последних
Валуа.
Аналогичной была и его позиция в религиозных вопросах: защищая
католицизм против протестантизма во имя сохранения церковного един-
ства, как одного из условий единства государственного, Ронсар в то же
время нападал (и подчас не менее резко, чем протестанты) на испорчен-
ность римской церкви, на прелатов, обращающих больше внимания на
шкуру, чем на души своей паствы, и тщетно призывал католиков испра-
виться.
Политический идеал Ронсара был, конечно, утопией; в особенности
резко его внутренняя несостоятельность обнаружилась в эпоху граждан-
ских войн, и знаменательно поэтому, что уже в 1563 г. Ронсар отошел
от политической борьбы. Когда же, в последние годы его жизни, обрисо-
валась новая возможность примирения между католиками и протестан-
тами во имя продолжения прерванного национального строительства, он
примкнул к партии «политиков» ■—- сторонников этого примирения и буду-
щих приверженцев Генриха IV. Для попыток Ронсара наполнить свои
политические принципы гуманистическим содержанием весьма характерно
неустанное, пламенное, хотя и довольно бесплодное восхваление благ мира
и обличение войны, встречающиеся во многих его гимнах, одах, поэмах и
других поэтических произведениях.
Отойдя от политической деятельности, Ронсар принялся в 1564 г. за
создание той национальной эпопеи, о которой говорилось в «Защите».
Сюжет для нее он почерпнул из «Прославления Галлии» Лемера де Бельж;
по форме же она должна была явиться подражанием великим эпопеям
древности — «Илиаде» и «Энеиде». Аемер де Бельж собрал в своей книге
мнимые свидетельства о троянском происхождении французского народа
от сына Гектора, Франка, чудом спасшегося после гибели Трои. Эта уче-
ная легенда, сложившаяся еще в раннем средневековье, была воскрешена
в конце XV — начале XVI в., когда она могла особенно импонировать
на фоне роста национального сознания, с одной стороны, и начавшегося
увлечения античностью, с другой. Она сделалась легендой о высоком
происхождении французского народа и его королей, освящая в глазах
современников авторитетом классической древности патриотическое пред-
ставление о достоинстве французской нации и ее преимуществе перед
другими народами. Найдя свое наиболее законченное выражение в выше-
упомянутой книге Лемера де Бельж, эта легенда перекочевала оттуда в
288
ВОЗРОЖДЕНИЕ
эпопею Ронсара «Франсиада» (названную так по имени ее главного героя
Франка), служа исходной точкой для того грандиозного поэтического
повествования о прошлом французской монархии, которым должна была
стать, по замыслу Ронсара, его поэма. История Франка являлась здесь
лишь прологом к истории французских королей — потомков Франка, вло-
женным в уста его возлюбленной, пророчицы Гианты.
Неудивительно, что в пору, когда столь могущественные силы угро-
жали целости французского государства, идея подобного литературного
памятника славы и могущества французских монархов должна была встре-
тить у Карла IX сочувствие и покровительство, которого она не находила
у его предшественника Генриха II. Покровительство Карла IX придало,
в свою очередь, еще более официальный характер поэтическому предприя-
тию Ронсара. Он сам дает это почувствовать, когда объясняет, например,
в предисловии к «Франсиаде» свой выбор десятисложного стиха (вместо
излюбленного им александрийского стиха) требаванием короля, или когда
впоследствии, в 1574 г., оправдывает смертью Карла IX свое нежелание
продолжать «Франсиаду». Действительно, поэма давалась Ронсару с боль-
шим трудом, и он не пошел дальше 4-й песни из задуманных 24. Неуспех
«Франсиады» был предопределен как официальным характером поэмы,
тяготившим Ронсара, так и выбором чисто книжной легенды, лишенной
каких-либо подлинно народных черт, — не говоря уже о такой более об-
щей причине, как отсутствие в эпоху Ронсара необходимых предпосылок
для создания национальной эпопеи типа гомеровских поэм или вовсе за-
бытых в это время героических эпопей раннего средневековья. «Фран-
сиада» осталась простой стилизацией, и единственная ее часть, не поте-
рявшая некоторой художественной ценности, ряд любовных эпизодов,
вплетенных в эпическое повествование, — относится скорее к области ли-
рики.
В последующие годы Ронсар писал очень мало, если не считать «Соне-
тов к Елене», отличающихся от лирики его первого периода более при-
поднятым тоном, некоторой сдержанностью и элегичностью, а также
явственно проступившим вновь влиянием Петрарки и его манерных после-
дователей. Из произведений последнего периода заслуживает особенного
внимания прекрасная элегия «Против дровосеков Гастинского леса»
(«Contre les bûcherons de la forêt de Gastine»)—эта лебединая песня Рон-
сара-гуманиста, сознавшего неизбежный закат Ренессанса. Дровосеки рубят
его родной Гастинокий лес — и поэту кажется, что вместе с лесом гибнет
весь мир античных богов, его населявших; из-под топоров брызжет кровь
убитых нимф, Пан и сатиры спешат скрыться, и тщетно поэт протяги-
вает руки к уходящей античности, восклицая: «Остановись!» Здесь впер-
вые встречается у Ронсара выраженный с такой силой мотив обреченности
Возрождения, сознание нежизненности тех художественных идеалов, кото-
рым он поклонялся всю жизнь.
Если попробовать оценить творчество Ронсара не как единичное,
хотя и значительное, литературное явление, а как попытку осуществления
определенной, заранее намеченной широкой литературной программы, то
должно сразу броситься в глаза расхождение между эстетической теорией
и поэтической практикой главы Плеяды, соавтора «Защиты и возвеличе-
ния французского языка». Основной идеей «Защиты» была, как мы
видели, мысль о необходимости создать высокую национальную поэзию
с народно-героической тематикой. Между тем, в историю литературы Рон-
сар вошел прежде всего как интимный лирик, автор любовных сонетов
и мелких стихотворений горациански-анакреонтического характера. Он
ПЛЕЯДА И ДРАМАТУРГИ;! PJillLCCABXA
289
AVÀ3Sf'TENTREE DY ROY TRE^-
"refiien aPdrb3VarTierr? de Konfirt
: Yandomoys,'
пытался вывести поэзию на
широкую дорогу обществен-
но-политических, историче-
ских, морально-философских
тем и соответствующих им
больших поэтических форм,
но не сумел найти для всего
этого адекватного художест-
венного воплощения, потерпев
полную неудачу в своих пин-
дарических одах и «Франси-
аде» и даже не подойдя к
той области поэзии — драме,
в которой подобная высокая
поэзия только и могла осу-
ществиться в его эпоху. Един-
ственная область, в которой
он действительно «возвели-
чил» французскую литературу
и оставил подлинно-непре-
взойденные образцы, — лири-
ка — вряд ли может быть от-
несена к «высокой поэзии» с
точки зрения «Защиты». При-
том она продолжает во мно-
гом традиции предшествен-
ников Ронсара, против кото-
рых он боролся. Более того,
в самих художественных де-
кларациях Ронсара мы посто-
янно встречаем такую же
двойственность и противоре-
чивость. То он видит свое
высшее призвание в служении
Франции, ее народу и королю, как «естественному представителю нации»,
то мечтает бежать подальше от Франции с ее битвами («Блаженные
острова») и предпочитает мирное «сельское уединение» необходимости
«торговать собой на службе у короля». То он гордится высокой граждан-
ской миссией поэта, восклицая:
Труд счастливый — воспевать
Подвиги мужей достойных,
Честь имен их утверждать
В зыбком беге лет нестройных.
То признается, что ему более по душе интимная личная поэзия, и словно
опровергает свои же собственные слова, говоря:
Тому свидетель я — хочу ли воспевать
Мужей или богов — и не могу начать :
Язык прилип во рту, и пересохло горло.
Хочу ли о любви писать иль говорить —
Язык развязан мой, и я готов парить,
И песня вольная уж крылья распростерла.
То он воспевает поэзию как некий божественный дар, выделяющий поэта
из числа остальных смертных и дающий ему высокое право быть глаша-
lj История французской литературы—815
Qyà tttnir d'Europe tout fhonneur:
Omtre les hrM Vàrù,Ple'm debnti heur,---
Vour ambraffèr ton Roy mi te décore,
Ef du parfait défis uertus t honore
Heureux Varisje trefer de ta Claire
Sem fendu a» temple deMémoire,
Tant m duras de bien & de grand heur,
Ayant receu £Вмгоре lagrdndeur,
ïo T?amseimè au Ciel ta Parte:
ï'p' artiuerton Roy qui te rapporte
La, uierge AJfrêe ^fibeUéfiquelle,
Qmiemio'UA de ce monde auecq elle.
Né la ноу tu comme eue Prend fit place
Afin retour dens le feïn Çf la face
Denofire Koyne,en qui le Ciel contemple,
Du uray honneurlefortraicl с?3 Texemple?
E tquientoyunbeauiôurdejpUra
Quant par ta rue en trittmphe effjraf
Ceficeue ta dont Ame eftorgutueux,
Ef qui fin nom d'un hâtât bruit merueilkux
Contre les mursde^lorencerefinne,
déficelle la fui teffeir nous rédonne [■
De uoir bien tofl le beau lys derechef
Dens t'Italie haulfer encorlechef.
Sm donq Varts regarde quel doitefhv
ail
Первая страница отдельного издания стихотво-
рения Ронсара «Вступление всехристианнейшего
короля в Париж» (1549 г.).
290
возрол;дкпиг.
таем славы своего народа, созидателем его бессмертия; тогда его стихи
наполняются высоким пафосом, и он усваивает пророческие интонации
Пиндара. То он, напротив, возвращается к представлению о поэзии как
об игре, забаве, заявляя своему противнику Безу: «Ни мои стихи, ни
твои — не оракулы; я балуюсь с музами лишь для забавы; смеясь, я со-
чиняю. . .» («Ответ на брань и клевету каких-то женевских проповедников
и священников»). Та же двойственность заставляет его все время коле-
баться в выборе стиля, провозглашать «высокий стиль» и з то же время
склоняться к «низкому» или, вернее, «среднему» (как он сам выражается)
стилю.
Противоречия эти имели свои исторические корни. Рснсар был совер-
шенно прав, выдвигая задачу возвеличения поэзии, замены легкой при-
дворной поэзии литературой большого стиля и больших форм, проникну-
той пафосом национального чувства. Подобная задача диктовалась самим
ходом исторического развития, превратившего к этому времени Францию
в единую национальную державу, носительницу передовой европейской
культуры. Но самому Ровсару дано было осуществить эту задачу лишь
в том смысле, что он окончательно утвердил господство французского
литературного языка (позднейшие писатели, начиная с Малерба, упре-
кали его уже в том, что он писал «недостаточно по-французски») и со-
здал — в одной определенной области — поэзию подлинно европейского
масштаба. Задача же создания собственно «высокой поэзии» оказалась
ему не по силам, ибо для нее еще не созрели ни художественные, ни поли-
тические предпосылки: годы деятельности Плеяды были «смутным време-
нем» французского абсолютизма, когда ни одна из действовавших на поли-
тической сцене партий не была подлинно-национальной, не преследовала
общенациональных целей. Не случайно лучшие из ронсаровских произве-
дений высокого плана — его «Рассуждения» — сильны не пафосом воспе-
вания нации, а пафосом оплакивания ее судеб. Эти исторические условия
предопределили преобладание в творчестве Ронсара лирической струи и
частной тематики.
Когда же в XVII в. появилась, наконец, е форме французского клас-
сицизма, та высокая национальная поэзия, о которой мечтал Ронсар, она
при всей своей относительной независимости от религиозной идеологии
была не менее последней враждебна гуманистическому индивидуализму
второй половины XVI в. Подобно тому как Корнель переступал в своих
трагедиях через абсолютную свободу личности —■ во имя государственного
начала («долга») и через чувство — во имя разумной воли, так и весь
классицизм в целом перешагнул через гуманизм Ронсара. В области высо-
кой поэзии Ронсар был превзойден, в области же лирики он не был понят,
и в обеих областях—был забыт. XVIII век сего рационализмом оказался
не менее чужд лиризму поэтов французского Возрождения. Только роман-
тикам принадлежит заслуга воскрешения поэзии французского Возрожде-
ния и прежде всего поэзии Ронсара. Отныне он был признан и занял
подобающее ему место в истории французской поэзии.
а
Вторым крупнейшим поэтом Плеяды был Иоахим Дю Белле (1522—
1560). Как и Ронсар, он происходил из старинного дворянского рода и
родился в провинции Анжу, в местечке Аире. Рано лишившись родите-
лей, он остался на попечении брата, мало заботившегося о нем и о егс
образования. Детство и юность, проведенные в одиночестве, вдали от
ПЛЕЯДА II ДРАМАТУРГИЯ РЕНЕССАПСА
291
двора, навсегда привязали Дю Белле к родным местам, ставшим впослед-
ствии одной из излюбленных тем его творчества. В 1545 г. он отправился
изучать юриспруденцию в университетский город Пуатье. Но эти занятия
далеко не отвечали умственным интересам молодого Дю Белле, который
в таком крупном культурном центре тогдашней Франции, как Пуатье,
быстро вошел в круг идей Ренессанса, познакомился с известными гума-
нистами (в том числе с Жаком Пелетье) и сам занялся поэзией.
Случайная встреча с Ронсаром окончательно побудила Дю Белле
оставить право ради занятий литературой.. В 1548 г. он переселился в
Париж, где примкнул к Плеяде и вскоре стал ее глашатаем и оруженос-
цем. В 1550 г., вслед за «Защитой», он выпустил в свет сборник своих
сонетов «Олива» («Olive»—■ анаграмма имени Viole, принадлежавшего
женщине, к которой были обращены любовные стихи Дю Белле). Новый
толчок его творчеству дала поездка в Рим (1553—1557), куда он отпра-
вился в качестве секретаря своего двоюродного брата, кардинала Дю
Белле, французского посланника в Риме. Пребывание в Италии, все более
превращавшейся из родины Возрождения в очаг контрреформации, глу-
боко разочаровало поэта. «Злосчастен миг и час, и день, и год, — писал
он, — парафразируя один из сонетов Петрарки,—когда, спеша в Италию,
я покинул родину».
Плодом этого разочарования явились два сборника сонетов — «Сожа-
ления» («Les Regrets», 1558) и «Древности Рима» («Les antiquités de
Rome», 1558), опубликованные Дю Белле по возвращении во Францию.
К тому же времени относятся его латинские «Поэмы» («Poemata», 1558),
свидетельствующие об отступлении от собственных литературно-языковых
принципов, а также сборник небольших лирических стихотворений, объеди-
ненных, главным образом, общей тематикой «сельской жизни» — «Сель-
ские игры» («Jeux rustiques», 1558).
Опубликование «Сожалений» и «Древностей Рима», доставив Дю
Белле заслуженную известность, оказалось причиной его разрыва с «высо-
ким покровителем», кардиналом Дю Белле, вследствие тех резких, «непоч-
тительных» нападок на католическую церковь и на римскую жизнь вообще,
которые в них содержались. Последние годы жизни поэта, умершего очень
рано от апоплексического удара, не принесли новых произведений, за
исключением двух «Рассуждений» («Discours»), предвосхитивших знаме-
нитые «Рассуждения» Ронсара.
В целом, творчество Дю Белле, соответствуя по своему внутреннему
характеру общему направлению Плеяды, внешне с ним заметно расхо-
дится: Дю Белле не выполнил ни одного из основных предписаний поэ-
там, изложенных им самим в «Защите». В области «высокой поэзии» он
ограничился переводом двух песен из «Энеиды» и вышеупомянутыми
«Рассуждениями». Ни то, ни другое, однако, не занимает большого места
в его творчестве. Подражание древним у него почти отсутствует: сюда
можно отнести лишь перевод небольшого числа греческих и латинских
стихотворений, причем стоит отметить, что перевод, как средство освое-
ния античности, Дю Белле отрицал. Наконец, что касается обогащения
французской поэзии новыми жанрами и формами, то он избрал путь,
противоположный указанному им в «Защите» и осуществленному Ронсаром:
не увеличение числа поэтических форм путем заимствования их из антич-
ной литературы, а раздвижение внутренних границ одной лишь формы,
отнюдь не античной и существовавшей до него во французской литературе, —
сонета. Зато в истории французского сонета Дю Белле составил целую
эпоху, ибо ему удалось создать совершенно новые типы сонета. В эту
19 *
298
ВОЗРОЖДЕНИЕ
монопольную форму любовной лирики Дю Белле вложил весь мир сокровен-
нейших душевных переживаний, не ограниченных одной лишь сферой
любовных эмоций. Так родился лирический сонет, напоминающий
интимное дружеское послание или странички из дневника. Далее, Дю Белле
ввел в содержание сонета «внешний мир», мир общественной действи-
тельности, но не в ее высоких и прекрасных проявлениях, а во всей обы-
денной, низменной и пошлой ее прозаичности, — и этим создал реалисти-
ческий, бы тоо писательно-сатирический сонет. Наконец,
та же действительность, но не в ее будничной эмпирической данности, а
как предмет исторического созерцания, действительность исторических су-
деб мира, стала у Дю Белле темой философско-элегического
сонета.
Дю Белле не сразу пришел к созданию этих новых типов сонета.
В своем первом сборнике «Олива» он, подобно Ронсару, отдал дань петрар-
кизму, но в отличие от Ронсара на этих ранних стихах сильнейшим
образом сказалось влияние поэтов лионской школы, с которыми Дю Белле
был связан всю свою жизнь личной дружбой. О влиянии этом ярко сви-
детельствует самый известный сонет из «Оливы» — «Идея»:
Коль наша жизнь — не больше, чем мгновенье
В потоке вечности; коль всем равно
Круг бытия закончить суждено;
Коль преходящи в мире все явленья, —
Зачем, душа, ты медлишь в заточенье,
В обители, где душно и темно?
Ведь в лучший край взлететь тебе дано
На крыльях, чье прекрасно оперенье!
Там — утоление духовной жажды,
Там — тишина, которой ищет каждый,
Там мир любви, там — солнце без заката.
Там, о душа, поднявшись к эмпирею,
Постигнешь ты Прекрасного идею,
Что здесь, в земной юдоли, чту я свято
Однако лучшее из написанного Дю Белле находится за рубежом петрар-
кизма и платонизма, с которыми он вскоре и порвал не менее реши-
тельно, чем Ронсар. В стихотворении «Против петраркистов» он жестоко
осмеял банальные условности и антиреалистичность поэзии эпигонов
Петрарки. Простота и естественность чувств, правдивость в их выражении
становятся отныне художественною заповедью Дю Белле. Теперь, обра-
щаясь к Эроэ, он уже скажет:
Моя простая муза ныче
Твоей воздать желает честь,
Что Академию возвесть
Сумела на двойной вершине.
Этот поворот к реализму и, вместе с гем, появление сонета нового
типа мы наблюдаем в «Сожалениях» и в «Древностях Рима».
В «Сожалениях» целый ряд сонетов носит автобиографический харак-
тер. Поэт скорбит о том, что он покинул Францию, жалуется на то, что
нашел в Италии лишь «сожаления, уныние, труд и страдание», описывает
неприглядные жизненные условия, в которых он оказался. Действительно,
Плеяда и драматургия ренессанса
293
большую часть своего времени ему приходилось тратить на финансовые
дела и дипломатические поручения при папском дворе, глубоко ему нена-
вистные. На эту сторону дела обращают обычно особое внимание фран-
цузские историки литературы, видя в ней главную причину неудовлетво-
ренности 'Дю Белле. Однако подлинная причина ее лежит глубже: это —
его разочарование в гуманистических идеалах и в судьбах итальянского
Возрождения. В таких условиях недовольство Дю Белле своей личной
судьбой перерастало в принципиальное недовольство представшей перед
ним исторической действительностью, а личное противоречие возвышалось
до общеисторического конфликта между идеалом свободного и прекрасного
человеческого существования и общественными условиями, враждебными
этому идеалу, конфликта, который глубоко ощущал также Ронсар. Это
очень ярко выражено в одном из самых замечательных сонетов, Дю Белле,
увенчивающем автобиографическую часть «Сожалений»:
Свобода мне мила, но в рабстве жизнь влачу я;
Придворных не люблю — и должен им служить;
Притворства не терплю — и должен мысль таить;
Мне ненавистна лесть — ее язык учу я.
Богатства я не чту — и скупости служу я;
Мне почести чужды —■ я должен их хвалить ;
Я верным быть хочу — и лживым должен быть,
Ищу везде добро — и зло лишь нахожу я.
К покою я стремлюсь, но муки лишь терплю;
За счастьем ли гонюсь — унынье лишь ловлю;
Словами исхожу, хотя безмолвья алчу.
Я, хилый и больной, скитаться принужден,
В торгашестве погряз, хоть был для муз рожден.
О, кто, скажи, Морель, меня на свете жалче?
«Злом», о котором говорит Дю Белле, является для него, прежде
всего, сам католический Рим. Он бесстрашно срывает маску со «столицы
мира», не щадя самого папы. В римских сонетах он описывает кардиналов
с их важной осанкой и торжественной речью — и тут же показывает вели-
чественных католических сановников дрожащими и теряющими самообла-
дание при известии о болезни «божьего наместника», чья милость их воз-
несла, чья смерть будет часом их падения. Он описывает заседание
«святейшего» конклава, вершащего судьбы мира,—и тут же показывает
глухую борьбу честолюбий и бесчисленные сети незримых интриг, плету-
щихся в папском дворце. Он рисует придворных, «старающихся казаться
честными», он изображает куртизанок — этот важнейший атрибут тогдаш-
него Рима; он выводит, наконец, всю пеструю толпу авантюристов, мошен-
ников, искателей счастья, которые стекались со всего мира в «вечный город»
в поисках легкой наживы и «общественного положения». Перед нами пред-
стает весь Рим с его нравами и бытом, с его неприглядными буднями и
пустыми празднествами, со всей бессмысленной сутолокой паразитического
су ществов ан и я.
В противовес современному католическому Риму, Дю Белле с вооду-
шевлением воспевает древний языческий Рим, давно угасший, но продол-
жающий жить в своих развалинах, в творениях латинских авторов и в
бесплодных мечтах гуманистов. Остатки древности приковывают взгляд
поэта (недаром самый сборник называется «Древности Рима»), и даже
204
ВОЗРОЖДЕНИЕ
прекрасная архитектура Возрождения кажется ему лишь тщетной попыт-
кой «римского демона, силящегося роковою рукою воскресить свои руины»:
Уж Рима больше нет; и коль в величьи зданий
Былого Рима тень видна еще порой,
Я знаю — то лишь труп, что средь ночи глухой
Из гроба поднят был всесильем заклинаний.
Гибель античного Рима является основной элегической темой стихо-
творений Дю Белле, входящих в сборник «Древности Рима», подобно тому,
как описание ничтожества современного Рима является их главной сатири-
ческой темой.
Не военная мощь привлекала Дю Белле в великом центре античного
мира, могущество которого воспевалось в этих стихах; Рим с его титани-
ческими, подлинно историческими характерами был дорог ему, как вели-
кое свидетельство человеческой мощи и человеческого разума:
Кто видеть хочет все, что небо и природа
И ум создать могли, — тебя да узрит, Рим.
Недаром древний Рим сливался в воображении Дю Белле с образом мо-
гучих титанов, дерзновенных сынов земли, отважившихся штурмовать
небо («Гордыня древняя, что небу угрожала»). А новый Рим, отрицаю-
щий человеческую свободу, разум и личность «теоретически» — религиоз-
ной проповедью, а «практически»—прикрываемым этою проповедью
низменным господством самых мелких страстей, отождествляется им
с «торжествующим небом», победившим титанов. Всю бездну человече-
ского унижения в новом Риме поэт рисует в следующих скупых строках:
И свой позор холмы оплакивают ныне,
А боги в небесах, безумной их гордыни
Уж боле не страшась, спокойно могут спать.
Но особенно замечателен развивающий заключительную мысль сонет «Ces
grands monceaux pierreux» («Эти каменные громады»), в котором, излагая
в четырнадцати строках всю историю Рима, Дю Белле рисует католиче-
ский период ее, как возврат к первобытному ничтожеству пастушеского
селения, из которого возник древний Рим: некогда на месте дворцов юти-
лись хижины скотоводов, но вот пастухи надели пурпур королей, земле-
пашец вооружился мечом, и в Риме стала господствовать сперва годичная,
потом полугодовая власть; превратясь в наследственную, она возомнила себя
столь могущественной, что вознесла над миром державного орла; но не-
беса, не стерпев гордыни, облекли полнотою этой власти наместника св.
Петра, который ныне, под роковым для этих мест именем пастыря, являет
пример того, что «все возвращается к своим истокам». Эти слова, состав-
ляющие заключительную строку сонета, выражают замечательно рельефно
новую пессимистическую концепцию истории, которая появляется в эту
пору у Дю Белле.
Скорбь Дю Белле не была бы столь велика и всеобъемлюща, если бы
у него шла речь только о судьбах Италии. Нравы французского двора и
условия общественной жизни Франции могли бы дать ему не меньше
пищи для обличительной сатиры, чем они дали Роноару. Но у Дю Белле
речь шла о чем-то большем — об исторической противоположности между
высоким античным миром и низменной действительностью его дней. Этот
не высказанный прямо, но присутствующий в римских сонетах смысл
выразил другой представитель Плеяды, Жодель, в своем сонете к Дю
Белле. Он писал о Риме:
ПЛКЯДА П ДРАМХТУРГНЯ РЕНЕССАГГСЛ
295
В нем бедствий всех исток, неправых торжество.
Но что мне говорить? Склоняясь пред блудницей,
Зовем ее не зря всемирною столицей;
Ведь в наши дни весь мир не стоит ничего.
В связи с этим глубоко знаменательно то изменение, которое претерпело
национальное, патриотическое чувство Дю Белле. Его римские сонеты
полны тоски по родине, стремления вернуться во Францию. Но для Дю
Белле существовали две родины — «большая» (grand pays), т. е. Франция,
как государство, и малая (petit pays), т. е. Франция, как его родные места,
как Анжу и «маленький Лире», овеянный воспоминаниями молодости.
И если «Защита» была проникнута пафосом воспевания Франции первого
рода, могучей, цветущей страны, достойной стать новой Элладой, то ра-
зочарование в общественной действительности привело Дю Белле в эту
пору к тому, что «большая» Франция совершенно отступила перед «ма-
лой». Говоря о родине, он тут же добавлял: «Франция и мое Анжу, о ко-
тором я тоскую». С особой силой это по-новому окрашенное национальное
чувство выразилось в сонете «Блажен, кто, как Улисс», где Дю Белле
мечтает о своей «маленькой деревушке» и «бедном домике», который для
него «больше, чем: просто родина».
Мечта о родных местах вызывалась, однако, у Дю Белле не одной
лишь тоской по Франции. Она выражала, вместе с тем, то сокровенное
стремление к «сельскому уединению», которое роднило его с Ронсаром и
имело у обоих поэтов-гуманистов те же корни и тот же смысл. Недаром в
одном из римских сонетов счастливый удел селянина восхваляется Дю
Белле в выражениях, тождественных с теми, которые употребляет Ронсар,
говоря о туземцах Америки: «Он сам — свой господин, король и благоде-
тель». Для Дю Белле сельский идеал был также возможностью удалиться
в мир независимого и гармонического существования, освободясь от гнета
жалкой общественной среды, бессодержательность которой он так ярко
изобразил в сонете «Меж тем как во дворце». Впрочем, стремление отойти
от больших путей истории не делало Дю Белле равнодушным к судьбам
своей страны и своего народа, как это видно из двух его последних поли-
тических «Рассуждений» («Discours»). Сельские же мотивы стали основной
темой его последнего сборника «Сельские игры», наименее оригинального,
несмотря на наличие в нем отдельных превосходных стихотворений, напри-
мер, известной «Песни веятеля ветрам» («D'un vanneur de blé aux vents»).
Если уже y Дю Белле наблюдается некоторая ограниченность тема-
тики, то еще сильнее она проявилась © творчестве других поэтов Плеяды.
Каждый из них представляет как бы одну из сторон того поэтического
многообразия, которое характеризует деятельность Ронсара. Показательно
также, что у всех поэтов Плеяды отсутствовала культивировавшаяся Рон-
саром поэзия «высокого плана», поэзия больших национально-политиче-
ских, общественных и философских проблем.
Характерный для Ронсара эпикуреизм мы встречаем, хотя и в ослаб-
ленной форме, у Реми Белло (Remy Belleau, 1528—1577). В привычно-
эпикурейской трактовке тем любви, весны, вина и т. п. у Белло преобла-
дали та сдержанность и изящество, которые были менее заметны у Ронсара
с его непосредственностью и, полнокровностью. Эти особенности сказались
и в переводах Белло из Анакреона, которые Ронсар называл чересчур
«трезвыми». От форм античной лирики, пропагандировавшихся Плеядой,
Белло тянуло к традиционным, придворно-аристократическим поэтическим
формам, и чисто описательная поэзия привлекала его больше, чем лирика
живого человеческого чувства. Он смело может соперничать с Ронсаром
296
позрождгсппк
в уменье подмечать мельчайшие характерные особенности иредметов и нахо-
дить для передачи каждой из них конкретное индивидуализирующее слово:
недаром сам Ронсар называл его «живописцем природы». Описания зани-
мают значительное место уже в «Пастушеской поэме;» («Bergerie», 1565)
Белло, выдержанной в духе модной галантно-буколической поэзии, хотя в
ней и чувствуется влияние античных авторов (Феокрита, Вергилия и др.).
Описания безраздельно господствуют также в его последнем произведении
«Любовь и новый обмен драгоценными камнями» («Amours et nouveaux
échanges de pierres précieuses», 1566). Здесь перечисляются чудесные свой-
ства драгоценных камней, сведения о которых Белло почерпнул в средне-
вековых лапидариях, причем в описание вплетаются поэтические легенды
в духе «Метаморфоз» Овидия. Сборник этот иногда сопоставляют
с «Эмалями и камеями» Теофиля Готье.
В противоположность Белло,. подражание древним является основной
чертой творчества Жана Антуана де Баифа (Jean Antoine de Baïf, 1532—
1589), наиболее «ученого» из всех поэтов Плеяды. Эрудиция, наполняющая
его стихи, не возмещает, однако, отсутствия у него настоящего таланта и
художественной индивидуальности. Стихотворения его по большей части
сухи и несамостоятельны. Начало его поэтичеокой деятельности отмечено
той же непоследовательностью, как и у Ронсара или Дю Белле. Подобно
им, он подражал не античным образцам, а Петрарке; плодам этого подра-
жания явились два сборника: «Любовь к Мелине» («Amours à Méline»,
1552) и «Любовь к Франсине» («Amours à Franchie», 1555), переполнен-
ные общими местами петраркистской лирики.
В последующих сборниках — в «Метеорах» («Météores») сих реминис-
ценциями из «Георгик» Вергилия и в «Стихах» («Poèmes») — итальян-
ские влияния уступили место античным.
Помимо этих сборников, увлечение Баифа античностью выразилось
в его переводах «Антигоны» Софокла и двух латинских комедий — «Ев-
нуха» Теренция и «Хвастливого воина» Плаета, а также в его латинских
стихах, которые он писал вопреки требованиям «Защиты». Баифу принад-
лежит химерическая попытка пересадить на французскую почву систему
греческой метрики, основанную не на количестве слогов в строке, а на
числе и форме стоп в связи с различением кратких и долгих гласных.
Попытка эта имела своей целью добиться того органического слияния
поэзии с музыкой, которое Баиф усматривал в античном искусстве. Осу-
ществить это должна была основанная им при дворе «Академия поэзии и
музыки», где исполнялись и пропагандировались написанные по правилам
реформированной им метрики и положенные на музыку поэтические произ-
ведения. Эти опыты оказали известное влияние на возникновение во Фран-
ции оперно-балетного театра.
Зависимость Плеяды от вкусов и требований двора, особенно усилив-
шаяся при Карле IX, отразилась на творчестве Баифа, написавшего в эти
годы собрание эклог под общим заглавием «Игры» («Jeux», 1573), и
многочисленные стихотворения «на случай», проникнутые легким галант-
ным эпикуреизмом, из которых составился сборник «Развлечения» («Les
passe-temps»). На фоне перечисленных сборников Банфа неожиданно выде-
ляется последний и лучший из них — «Мимы, назидания и пословицы»
(«Mimes, enseignements et proverbes», 1576). Здесь ему удалось, черпая из
сокровищницы народной поэзии, создать весьма любопытное собрание
поэтических пословиц, поговорок, афоризмов, небольших басен и сентен-
ций, затрагивающих самые разнообразные житейские, морально-философ-
ские и политические темы.
ПЛЕЯДА И ДРАМАТУРГИЯ РЕНЕССАНСА
2{>7
Понтюс де Тиар (Pontus de Thyard, 1521—1605) стоит на полпути
между Плеядой и лионской школой, к которой его иногда причисляют.
Публично выступив в качестве поэта ранее других членов Плеяды (его
«Любовные заблуждения», «Erreurs amoureuses» — сборник петраркист-
ских сонетов — появились уже в 1548 г.). Понтюс де Тиар прекратил свое
поэтическое творчество в самый разгар деятельности Плеяды (последний
сборник его—«Лирические стихи», «Vers lyriques», вышел в 1555 г.),
посвятив остальную часть своей долгой жизни писанию натурфилософских
трактатов, вышедших Bi 1587 г. под общим заглавием «Философские диа-
логи» («Dialogues philosophiques»). В своих стихах, как и в позднейших
прозаических сочинениях, он остался верен тому утонченному платонов-
скому идеализму, который удалось преодолеть вождям Плеяды. Харак-
терно, что ему принадлежит перевод философских диалогов «О любви»
знаменитого в то время итальянского неоплатоника Леона Еврея (оказав-
шего большое влияние на лионскую школу).
Творчество шестого члена Плеяды Жана Дора (Jean Dorât, 1508—1588)
не имеет самостоятельного значения. Будучи автором латинских, по преиму-
ществу, стихов, он сыграл известную роль лишь в период зарождения Плея-
ды, как ее наставник и учитель. Несравненно значительнее была роль послед-
него и самого молодого из поэтов Плеяды — Жоделя, в творчестве которого
история французской лирики скрещивается с историей французской драмы.
Л
Этьен Жодель (Etienne Jodelle, 1532—1573) первый предпринял
попытку реформировать французский театр в направлении, указанном «За-
щитой и возвеличением французского языка». Его «Пленная Клеопатра»
(«Cléopâtre captive»), поставленная в 1552 г. в Реймском отеле в Париже
в присутствии короля и двора и имевшая огромный успех, произвела на
современников сильнейшее впечатление именно тем, что она явилась пер-
вым образцом французской трагедии в «классическом» стиле (т. е. в духе
подражания античным драматургам). Событие это было торжественно
отпраздновано Плеядой, объявившей, что Жодель воскресил во всем ее
величии трагическую музу древних. Как ни преувеличены кажутся нам
теперь неумеренные похвалы по адресу этого довольно пооредственнсго з
художественном отношении произведения, они заключали в себе долю
истины. «Клеопатра» возвестила начало новой эры в истории француз-
ского театра, знавшего до тех пор, не считая старых форм средневековой
драматургии, лишь два рудиментарных вида ренессансной драмы, одина-
ково неприемлемых с точки зрения Дю Белле: оригинальную трагедию на
латинском языке и переводную с греческого или латинского. Трагедия
Жоделя явилась отправной точкой литературного развития, приведшего в
конечном счете к классицизму XVII в.
Состояние французского театра к началу деятельности Плеяды, бу-
дучи сходно с состоянием всей французской поэзии, отличалось, однако,
от последнего тем, что средневековые традиции в области драматургии
были значительно сильнее. Хотя средневековый театр и начал со второй
половины XVI в. клониться к упадку, даже тяжелый удар, нанесенный
ему в 1548 г. декретом парижского парламента, запрещавшим постановки
мистерий, как профанацию священного писания, не положил конца его
господству, так как прочие его жанры — моралите, фарсы, соти — соста-
вляли вплоть до конца XVI в. основной репертуар французской сцены.
Их жизнеспособность была обусловлена тем обстоятельством, что они еще
*2Î)8
ВОЗРОЛхДЕНПВ
не утратили своего народного характера и потому могли всегда рассчиты-
вать на успех у широкой массы зрителей, между тем как недостатком
ренессаненых комедий и трагедий был именно их книжный, отнюдь не сце-
ничный характер. Показательно ib этом отношении, что французские драма-
турги XVI в. избрали своим главным образцам в трагедии римского
драматурга Сенеку, пьесы которого, не предназначавшиеся для сцены, с их
цветистым, полным сентенций, риторическим языком представляли собой
типичные «драмы для чтения». Впрочем, неправильно было бы видеть в
ренессансной драме чисто книжное явление, как это долгое время пола-
гали. Еще в ту пору, когда средневековые «братства» и профессиональные
актерские труппы довольствовались старым, привычным репертуаром, новая
драма нашла своих исполнителей в лице учащихся парижских и в особен-
ности провиициальных коллежей, в которых влияние гупуханистического
образования подорвало авторитет средневековых традиций. Новейшие
работы французских ученых, внимательно исследовавших историю «школь-
ных спектаклей» XVI в., доказали, что подобные постановки отнюдь не
были только внутренним делом самих коллежей, но, при отсутствии по-
стоянных театров и малочисленности профессиональных актерских трупп,
становились настоящим событием для тех провинциальных городов, где
имелись коллежи. Они привлекали каждый раз огромное число горожан
и являлись благодаря этому проводниками ренессансной драматургии в
широкую массу тогдашних зрителей. Не случайно, что в конце XVI в.
уже и профессиональные актерские труппы включают новые пьесы в свой
репертуар.
Справедливо лишь утверждение, что в первое время после своего появ-
ления ренессансная драма оставалась достоянием довольно ограниченного
кружка гуманистов. Это относится прежде всего к латинским трагедиям.
Первые трагедии этого рода принадлежат перу шотландского гуманиста
Жоржа Бюканана (George Buchanan, 1506—1582), эмигрировавшего во
Францию и ставшего преподавателем коллежа в Бордо. Будучи кальви-
нистом, он писал трагедии на библейские сюжеты: «Иоанн-Креститель»,
«Иевфай» (ок. 1540 г.). Однако по характеру своей обработки эти пьесы
уже приближались к античной драме. Библейские трагедии Бюканана
отличались живостью действия и мастерством построения диалога. О про-
тестантских убеждениях автора 'Свидетельствует замысел первой из назван-
ных трагедий, где Иоанн изображен борцам против жреческой касты и
испорченного двора, некоим воинствующим гугенотом, страстно обличающим
пороки духовенства. Бюканану принадлежат также переводы на латинский
язык двух трагедий Эврипида «Медея» (и «Алкеста», способствовавшие
ознакомлению французов с греческой драматургией.
От библейской тематики латинскую трагедию вскоре освободил дру-
гой гуманист, Марк-Антуан Мюре (Marc-Antoine Muret, 1526—1585),
автор «Юлия Цезаря» — первой во Франции политической трагедии, на-
писанной на сюжет из римской истории, и притом в классическом стиле.
Латинские трагедии продолжали возникать и в следующем десятилетии
(например, «Эдип» Скалигера, 1557).
Появлявшиеся параллельно первые переводы античных трагедий на
французский язык связаны с именем отца поэта Баифа — Лаз ар а де Баиф
(Lazare de Baif, ум. в 1547 г.), который перевел «Электру» Софокла
(1537) и «Гекубу» Эврипида (1544). В своем посвящении этих перево-
дов Франциску I Баиф впервые во Франции подчеркнул высокую граж-
данскую миссию трагического искусства: «С этой целью они (т. е. траге-
дии) и были некогда изобретены: с целью показывать королям и власть
ПЛЕЯДА И ДРАМАТУРГИЯ РЕНЕССАПСА
209
имущим непрочность и непостоянство преходящих вещдай, чтобы они пи-
тали веру в одну лишь добродетель». Пример Банфа вызвал ряд подра-
жаний: Себиле перевел «Ифигению в Авлиде» Еврипида (1549), а Мел-
лен де Сен Желе — первую итальянскую ренессаненую трагедию, «Софо-
низбу» Триссино (1554). Наконец, Жан-Антуан Баиф дал переводы
«Медеи» Эврипида, «Трахинянок» и «Антигоны» Софокла, из которых
сохранился только первый, напечатанный (значительно позднее своей
первой постановки) в сборнике «Игры» (1573).
Подготовленная этими опытами, «Пленная Клеопатра» Жоделя пред-
ставляет собою первую самостоятельную драматическую обработку на фран-
цузском языке сюжета, заимствованного у древних, в данном случае у Плутар-
ха. Соблюдение Жоделем «трех единств» (времени, места и действия), пяти-
актное членение пьесы и небольшое количество действующих лиц дают
внешнее основание к тому, чтобы назвать ее первой французской класси-
ческой трагедией. Однако соблюдения трех единств Жодель достиг ценой
отказа почти от всякаго действия. По той же причине пятиактное членение
пьесы имеет у него чисто внешний характер и отнюдь не определяется са-
мим развитием сюжета. Трагедия Жоделя сводится к серии длинных, мо-
нотонных монологов (в 150—200 стихав каждый), чередующихся с корот-
кими диалогами и лирическими песнями хора. Для введения в этот лири-
ческий поток необходимого минимума событий Жодель использовал
излюбленный впоследствии классицистической трагедией прием — рассказы
наперсников: так, о трагической смерти Клеопатры, происшедшей в проме-
жутке между четвертым и пятым актами, сообщает в последнем акте на-
персник Октавиана. Несложное содержание трагедии может быть изложено
в двух словах: взятая в плен Клеопатра молит Октавиана пощадить ее,
но, видя, что ей не избегнуть позорной участи пленницы, которая должна
будет украсить собой триумфальное шествие победителя, она кончает
жизнь самоубийством.
Отказ от зрелищности, пестроты и наглядности действия, свойствен-
ных средневековому театру, был в истории французской драматургии в
известном смысле моментом прогрессивным, так как он позволял сосре-
доточить весь интерес на психологической стороне трагедии. Однако на
первоначальном этапе развития французской ренесеансной трагедии психо-
логический элемент находит еще очень примитивное выражение. Именно,
полное отсутствие моральной коллизии, этого стержня будущего класси-
ческого театра XVII в., лишало переживания действующих лиц значитель-
ности и драматического содержания. Недостаток подлинного драматиче-
ского пафоса неизбежно обрекал также на неудачу попытку Жоделя
создать высокий поэтический стиль трагедии. Язык его «Клеопатры» ока-
зался просто риторическим и напыщенным.
Слабые стороны первой трагедии Жоделя еще резче проступают во
второй — «Дидона, приносящая себя в жертву» («Didon se sacrifiant»;
время написания и постановки неизвестно). Основанная на известном эпи-
зоде IV песни «Энеиды» Вергилия, она совершенно лишена действия и
представляет собою как бы пространный драматизированный лирический
монолог Дидоны, покинутой Энеем. Художественная слабость этих первых
опытов французской трагедии очень скоро стала ясна современникам.
Когда обе трагедии Жоделя были напечатаны после его смерти в 1574 г.,
они вызвали всеобщее разочарование.
К первому поколению трагических поэтов XVI в., кроме Жоделя,
принадлежат еще Лаперюз, Гревен и Жан де Ла-Тайль. От Жана Лапе-
рюза (Jean de La Péruseï, 1529—1555) осталась лишь одна трагедия
30G
1ЮЗРо;г;д1лшв
«Медея» («Medée», 1553), в которой влияние Сенеки, особенно заметное в
хорах и монологах, соединяется с реминисценциями из Е/врипида. Значи-
тельный интерес представляет «Юлий Цезарь» («Jules César», 1560)
Жака Гревена (Jacques Grévin, 1538—1570)—'Переработка на француз-
ском языке «Юлия Цезаря» Мюре. Грешен сделал большой шаг вперед,
отказавшись от узко-камерной, чисто лирической тематики Жоделя, избрав,
сюжетом своей трагедии «редкостное историческое событие», придав ей.
известную жизнь и драматизм и попытавшись даже ввести в нее «народ-
ный фон» — солдатскую массу, заменившую в антрактах античный хор, а
в последнем действии даже активно выступающую в пьесе. Следует отме-
тить, что Гревен, в отличие от Жоделя, не считал обязательным механи-
ческое перенесение всех особенностей античного театра в современную
драматургию и советовал руководствоваться не столько принципом подра-
жания древним, сколько соображениями «правдоподобия».
Попытки Гревена создать высокую героическую трагедию с полити-
ческим сюжетом продолжил наиболее выдающийся французский драматург
XVI в. Робер Гарнъе (Robert Garnier, 1534—1590). Но еще до Гарнье
молодая французская трагедия нашла своего теоретика в лице известного
естествоиспытателя и филолога Скалигера, уже упоминавшегося нами во
введении к этому отделу. В своей латинской «Поэтике» (1561) Скалигер
впервые сформулировал заимствованное будто бы у Аристотеля правило
«трех единств», дав вместе с тем свое определение трагедии, как «воспро-
изведения с помощью действия выдающейся человеческой судьбы, с не-
счастливой развязкой, в высоком стиле и в стихах». Вслед за Гревеном
он провозгласил «правдоподобие» краеугольным камнем драматического вос-
произведения человеческих судеб и выдвинул закон, согласно которому
действие должно изображаться в трагедии в момент, наиболее близкий
к его окончанию (к развязке), иначе говоря — в момент его наибольшего
напряжения и полноты. Все это делает поэтику Скалигера преддверием
классицизма XVII в.
Творчество Гарнье, несравненно более богатое по объему и содержа-
нию, чем творчество его предшественников, также во многих отношениях
предвосхищает классицизм. Гарнье написал семь трагедий, имевших
огромный успех. В первых трех—«Порция» («Porcie», 1568), «Корнелия»
(«Cornélie», 1574) и «Марк-Антоний» («Marc-Antoine», 1578) —этот
знаток античных авторов, преклонявшийся, подобно гуманистам Плеяды,
перед древностью, вдохновляется героическими эпизодами из римской исто-
рии той переходной поры, когда умирающая республика и зарождающаяся
империя порождали сильные, благодарные для поэтического изображения
характеры. Симпатии Гарнье всегда на стороне приверженцев республики.
Так, в «Порции» он изображает трагическую судьбу жены Брута, стои-
чески переносящей все невзгоды, обрушившиеся на нее после смерти мужа
и гибели его дела. Источник Гарнье — все тот же Плутарх.
В трех других своих трагедиях Гарнье разработал мифы, драматизо-
ванные греческими трагиками. Это—«Ипполит» («Hippolytei», 1573),
«Троада» («La Troade», 1578), «Антигона» («Antigone», 1579). Последняя
его трагедия, «Седекия, или Еврейки» («Sedécie, ou Les Juives», 1580),
относится к жанру так называемой «библейской трагедии». Несмотря нэ
то, что в основе «Седекии», проникнутой религиозным настроением, лежит
библейская легенда, трагедия эта была прямым откликом на события дня.
Написанная в годы, когда затянувшаяся гражданская война, сопрово-
ждавшаяся общей разрухой и эпидемиями, довела Срранцию до крайнего
истощения, трагедия Гарнье, по его собственным словам, имела целью
ПЛЕЯДА ТТ ДРАМА ТТРГПЯ РЕНЕССАНСА
301
показать «страдания народа, забывшего, как и мы, своего бога». Отсюда —
такой неподдельный трагизм в изображении бедствий Иудеи, захвачен-
ной ассирийцами, бегства еврейских женщин из Иерусалима, пленения и
гибели последнего иудейского царя Седекии.
«Седекия» сближает Гарнье с драматургами протестантского лагеря,
особенно культивировавшими жанр «библейской трагедии». Из них наи-
более известны: Теодор де Без (Théodore de Bèze, 1519—1605), пьеса
которого «Жертвоприношение Авраама» («Abraham sacrifiant», 1550), на-
писанная еще до «Клеопатры» Жоделя, была поставлена протестантами
в Швейцарии; Луи Демазюр (Louis Des Mazures), напечатавший в 1566 г.
свою трилогию «Давид борющийся» («David combatlant»), «Давид тор-
жествующий» («David triomphant») и «Давид, обращенный в бегство»
(«David fugitif»), и, наконец, Жан де Ла Таиль (Jean de La Taille), автор
«Саула» («Saiil», 1572), который, подобно Гарнье, освободил «библейскую
трагедию» от остатков средневековых драматургических традиций.
Присущий всей французской ренессансной драме лирический харак-
тер еще сохраняется в трагедиях Гарнье. Это выражается в том, что в
центре их стоит не развитие драматического конфликта, а отдельная пате-
тическая ситуация, служащая предпосылкой для лирических излияний
действующих лиц. Это выражается также в неспособности создать яркие
и активные характеры. Но все же драматическое действие у Гарнье не-
сравненно богаче, чем у Жоделя. Для усиления драматического эффекта
Гарнье нередко прибегает даже к нарочитому нагромождению «кровавых»
и страшных событий.
Больший драматизм сказывается также в появлении у Гарнье сжа-
того, напряженного диалога с быстро чередующимися и взаимно сталки-
вающимися репликами, который столь выгодно отличается от монотонных
монологов Жоделя. Но главной заслугой Гарнье бесспорно является со-
здание им подлинно высокого, патетического, ораторского стиля и необы-
чайно звучного, мощного стиха, предвосхищающих Корнеля. Недаром
старик Ронсар при первом знакомстве с трагедиями Гарнье воскликнул
в восторге:
Сколь мужественный глас! Я слышу речь героя.
А благородный стих — сколь гордо он звучит!
Последнее произведение Гарнье — «Брадаманта» («Bradamante», 1580),
представляющее собою обработку одного из эпизодов «Неистового Роланда»
Ариосто — было названо им «трагикомедией». Оно положило начало этому
драматическому жанру, господствовавшему в первом тридцатилетии XVII в.
Последователь Гарнье, Антуан де Могакретьен (Antoine de Monchré-
tien, 1575—1621) оставил шесть трагедий: «Софонисба» («Sophonisbe»,
1596), «Лакедемонянки» («Les Lacènes», 1599), «Давид» («David», 1600),
«Аман» («Aman», 1601), «Гектор» («Hector», 1603), «Шотландка»
(«L'Ecossaise», 1605). Монкретьен обладал меньшим, чем Гарнье, знанием
сцены и слабее владел драматическим действием. Стиль его отличается
большой нежностью и лиризмом и несколько напоминает Расина. Но в
его драматургии впервые выступают четко обрисованные человеческие харак-
теры, которые стали главным предметом изображения в классической (осо-
бенно корнелевской) трагедии.
Монкретьену уже чуждо то гедонистическое мировосприятие, которое
так типично для поэзии Плеяды. По его мнению, жизнь (полна бедствий и
тяжких испытаний, и единственным средством для человека сохранить
свое достоинство и величие пред лицом «изменчивой судьбы» являетгя
302
козроа;ДЕНИЕ
отречение от земных благ, уменье выковать в себе стоическую волю.
Образцом подобного душевного величия является для Монкретьена Мария
Стюарт, героиня его трагедии «Шотландка». Крайне поучительно срав-
нить стоический характер Марии Стюарт с характером жоделевской Клео-
патры, всецело преданной земным наслаждениям и интересам и настолько
неапасобнои отрешиться от них даже пред лицом смерти, что в беседе
с Октавианом она лицемерно утаивает от него свои сокровища и набра-
сывается с кулаками на слугу, который осмелился ее изобличить.
Путь, пройденный французской трагедией за полвека — от «Клео-
патры» до «Марии Стюарт», — показывает, что классическая трагедия к
началу XVII в. уже успела созреть на подмостках французского ренес-
сансного театра. Параллельно развивалась и ренессансная комедия. Пер-
вым самостоятельным французским комедиографом был тот же Жодель:
его комедия «Евгения» («Eugénie») была поставлена в 1552 г. одновре-
менно с «Клеопатрой». Среди источников той переводной комедийной
литературы, которую застал Жодель, преобладали итальянские, а не ан-
тичные образцы. Это были «Обманутые» Сикезе, вышедшие) во фран-
цузском переводе в 1543 г., «Подмененные» Ариосто, дважды переведенные
в середине 40-х годов, и т. д. Влияние греческих и римских комедиогра-
фов — Аристофана, Плавта, Теренция (последние два были известны во
Франции уже в начале XVI в.) —отступило на второй план по сравне-
нию с влиянием новой итальянской комедии, пышно расцветшей в XVI в.
Однако нарождающаяся во Франции ренессансная комедия подверг-
лась воздействию еще живых традиций средневекового французского
комического театра, главным образом фарса, этого наиболее народного
из старых драматических жанров, уходящего своими истоками в фаблио,
а другим концом обращенного к Мольеру. Связь с народно-фарсовой
традицией проявилась особенно сильно в годы 1550—1570, которые можно
считать первым периодом развития ренессансной комедии во Франции.
Отличительной чертой шести комедий, дошедших до нас от этого вре-
мени, является их грубоватый, циничный бытовой реализм, заставляю-
щий вспомнить о фаблио и о новеллах Ренессанса. Так, несомненно сход-
ство центральной ситуации «Казначейши» («La Trésorière», 1559) Гревена
с одной из новелл Боккаччо. Это — сатирическая комедия нравов, сквозь
которую постоянно проглядывает фарс, только облаченный в классиче-
ские одежды (сложная интрига, пятиактное членение пьесы, частые реми-
нисценции из Плавта и Теренция). Точно так же в центре его «Евгении»
стоит типично фарсовая фигура развратного священника, попирающего
семейные устои и церковные заповеди своей тайной связью с чужой же-
ной. Подобные же фарсовые персонажи фигурируют в «Изумленных»
(«Les Ébahis», 1561) Гревена, в «Узнанной» («La Reconnue», 1562) Реми
Белло, а под пером Жана-Антуана Баифа, переводчика «Хвастливого
воина» Плавта и «Евнуха» Теренция, даже античные пьесы «офранцузи-
лись» и приняли полуфарсовый вид. Немало способствовал этому превра-
щению примененный впервые Баифом восьмисложный фарсовый стих, пре-
обладающий в названных комедиях, которые все, за исключением «Сопер-
ников» («Les Corrivaux», 1570) Жана де Аа-Тайля, имеют стихотворную
форму.
Второй период, с начала 70-х годов XVI в. до первых десятилетий
XVII в., характеризуется усилением итальянского влияния, которое дости-
гает своего апогея у наиболее выдающегося французского комедиографа
XVI в. Пьера де Лариве (Pierre de Larivey, ок. 1540—1612).
Плеяда и драмат5гргия ренессанса
508
Итальянец по происхождению и большой знаток итальянского театра,
Лариве написал девять комедий: «Лакей» («Le Laquais»), «Вдова» («La-
Veuve»), «Духи» («Les Esprits»), «Ревнивцы» («Les Jaloux»), «Школяры»
(«Les Ecoliers»), «Констанция» («Constance»), «Верный» («Le Fidèle»)y
«Обманы» («Les Tromperies») и «Продрогший» («Le Morfondu»). Все
они — вольные переводы итальянских образцов, и все написаны прозой.
Переход к прозаической комедии, существовавшей в это время в Италии,
но неизвестной еще во Франции, являлся несомненно положительной сто-
роной итальянского влияния. Прозаическая форма сообщала диалогу боль-
шую живость, естественность и облегчала индивидуализацию речи отдель-
ных персонажей. Действительно, мы наблюдаем эти качества у Лариве,
обильно вводящего в свои комедии французскую народную речь и вместе
с тем усвоившего более высокую драматургическую технику итальянских.
авторов — искусство ведения интриги, разнообразие ситуаций и т. п.
Однако в произведениях Лариве ярко проявилась и оборотная сто-
рона итальянского влияния. Он ввел в обиход французского театра куль-
тивировавшуюся итальянской комедией галерею условных, традиционных
комических персонажей-масок: ловкого слугу, влюбленного старого скрягу,
пронырливую сводницу, добродушного обжору, ученого педанта, хвастли-
вого и трусливого вояку и т. д. Эти1 трафаретные персонажи вытесняли
из французской комедии живые, как бы выхваченные из реального мира
и с едким сарказмом обрисованные фарсовые тины, а отчасти слились
с ними. Центр тяжести комедии оказался перенесенным на интригу, на
комизм ситуаций (отсюда — обилие qui pro quo и других общих мест
комической интриги у Лариве), а потребность в обновлении привычных
персонажей и ситуаций толкала на опасный, враждебный реализму путь
превращения образов в чисто условные карикатуры. Художественное
чутье Лариве часто удерживало его, однако, от этих крайностей, и в коме-
диях его нередко наличествуют черты реализма в виде тонкой и живой
характеристики нравов. Такова, например, характеристика старого скряги
Северена в наиболее известной комедии Лариве «Духи».
Из других комедиографов XVI в. заслуживает упоминания Оде де
Тюрнеб (Odet de Turnèbe, 1553—1581), оставивший только одну коме-
дию «Довольные» («Les Contents», 1581), в которой соединяются подра-
жания одновременно итальянскому и испанскому образцам. Отметим,
наконец, что сильное итальянское влияние сказалось в пасторальных дра-
мах Никола де Монтре (Nicolas de Montreux, 1561—1608), вдохновляв-
шегося произведениями Тассо и Гварини.
Такова, в общих чертах, история французской лирики и драмы во
второй половине XVI в. Она являет собой картину постепенного падения
и оскудения лирической поэзии, достигшей огромной высоты в творчестве
Плеяды, и столь же неуклонного созревания двух основных жанров клас-
сицизма — трагедии и комедии, все более освобождающихся от преобла-
дания лирической стихии. В этом двояком литературном процессе раскры-
вается с полной ясностью переход от XVI к XVII веку.
ГЛАВА IV
ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ГРАЖДАНСКИХ ВОЙН (конец XVI п.)
1
стрый общественный конфликт, принявший форму рели-
гиозной войны, продолжавшейся, с небольшими пере-
рывами, с 1562 по 1594 г., втянул в свою орбиту все
сословия Франции XVI в. и заставил их поднять ору-
жие в защиту своих интересов, прав и привилегий. Дво-
рянство разделилось между протестантским и католиче-
ским лагерями в зависимости от боровшихся в его среде
феодально-сепаратистских или абсолютистских тенден-
ций. Преданность той или другой форме религиозной
идеологии одинаково служила для буржуазии поводом
к борьбе, в которой часть буржуазии, преимущественно южной, пыталась
отстоять свои старые городские вольности, тогда как другая, наибольшая
часть ее, главным образом на севере, ополчилась в защиту центральной,
королевской власти.
Цепь гражданских войн и социальных потрясений разрушила завое-
вания абсолютизма, пошатнула государственное единство и вызвала глу-
бокий хозяйственно-политический упадок Франции. Только после победы
Генриха IV (1594) для Франции начинается ндвая эпоха национально-
государственного строительства под эгидой абсолютизма.
Высокий гуманизм Плеяды, утверждавший культурную и националь-
ную миссию искусства и подчинявший человека и историческую действи-
тельность эстетическим нормам воскресшего античного мира, уже не мог
питать поэтическое творчество наследников Ронсара в период граждан-
ских войн и общественных бедствий последней трети XVI столетия. Поэ-
тика Плеяды нашла обедненное и искаженное выражение в творчестве
придворных поэтов конца века. Они могли сохранить верность своим вели-
ким учителям лишь в узкой сфере личной поэзии, искусственно ограж-
денной от вторжения реальной действительности, в лирике любовного
чувства и мирных наслаждений. Но даже эта Поверхностная, робкая вер-
ность заветам школы сопряжена была с отказом от общественного пафоса
Плеяды, с зависимостью от вкусов развращенного двора и поэтическим
угодничеством перед королями, их фаворитами и приспешниками.
Придворная поэзия конца века в ее типичных проявлениях — это
поэзия легковесных замыслов, опустошенная и условная забава; ей чуждо
ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ГРАЖДАНСКИХ ВОЙН
30S
представление о высоком достоинстве поэта, и она лишена выразительной
силы языка и сложного образного стиля, свойственных поэзии Плеяды.
Все эти черты характеризуют, в первую очередь, поэзию Филиппа
Депорта (Pnilippe Desportes, 1546—1606). Он был духовным лицом и в
молодости провел несколько лет в Италии, в свите одного из французских
прелатов. Но, в отличие от поэтов Плеяды, родина Возрождения была для
него не школой изучения античности, а наставницей в искусстве петрар-
кистской лирики (Тебальдео и Серафино в XV в., Бембо и его последо-
ватели в XVI в.), которую Депорт, вновь и с большей настойчивостью,
чем его предшественники, переносит на французскую почву. Во Франции
Депорт получил доступ ко двору и в год Варфоломеевской ночи (1572)
поднес Карлу IX вольный перевод отрывков из «Неистового Роланда»
Ариосто. Войдя в особое доверие к Генриху III, Депорт получил от него
в награду несколько доходных аббатств и достиг большого материального
благосостояния. Поэтическая слава Депорта была чрезвычайно велика. Со-
временники видели в нем прямого наследника Ронсара. При Генрихе IV
Депорт держался в стороне от двора, но сумел сохранить все свои бене-
фиции и свой литературный авторитет.
В первом сборнике стихов Депорта («Premières oeuvres», 1573) цен-
тральное место занимает любовная лирика, объединенная в циклы «Диана»
и «Ипполита», к которым позднее (в новом издании 1583 г.) была при-
соединена «Клеониса». В сонетах, значительная часть которых является
переводом итальянских образцов или подражанием им, в одах и «жало-
бах» (plaintes) Депорт повторяет бесчисленное количество раз шаблоны
петраркистской лирики. В его стихах присутствует и изысканная метафо-
ричность образов, и одушевленная природа, и платоническая идеализация
любви. Неисчерпаемая лирическая сила мастеров Плеяды вырождается
у Депорта в рабскую привязанность к одной лирической теме любовного
томления. Блестящее остроумие вариаций в разработке этой темы, изыс-
канная и стройная форма не спасают Депорта от тривиальной галантности.
Вся его шоэзия является не более, чем литературной условностью, в кото-
рой отсутствует реальное человеческое чувство. Своей жеманной поэтиче-
ской формой, в которой часто сквозит сухой и прозаический расчет свет-
ского острослова, Депорт близок прециозкой поэзии аристократических
салонов XVII в. Соединяя все слабые стороны поэтической культуры сво-
его времени, стихи Депорта дали впоследспя-ш Малербу благодарный ма-
териал для критики поэтического стиля эпигонов Плеяды.
За исключением небольшого числа сонетов и отдельных стихотворе-
ний («К слишком темной ночи», «пастушеские стихотворения» — «berge-
ries», посвященные размышлениям о мирном уединении и сельской жизни),
лучшими произведениями Депорта являются песни, в которых неожи-
данно звучат далекие отголоски песенного фольклора и лирики Маро
(например, знаменитая песня «К Розетте»). Значительное место в твор-
честве Депорта занимают «элегии», в которых поэт берет на себя роль
интерпретатора любовных чувств и домогательств кого-либо из членов
королевской фамилии. На этих произведениях лежит особенно явная пе-
чать придворной службы. Поэзия религиозного покаяния, столь же услов-
ная, как и все его творчество, возникает у Депорта одновременно с его
любовной лирикой. Вместе с парафразами псалмов (1596) она является
той единственной данью, которую Депорт принес религиозным битвам
своей эпохи.
Официальным поэтом королевского двора на рубеже XVI и XVII вв.
был Жан Берто (Jean Bertaut, 1552—1611)—как и Депорт, прелат и
20 Истпппя AnjHnvaCKofl литепатлты—815
306
ВОЗРОЖДЕНИЮ
доверенное лицо монархов. Он воспевал с одинаковым воодушевлением
любовные и бранные подвиги Валуа и Бурбонов, оплакивал с одинаковой
скорбью смерть Ронсара и Екатерины Медичи, убийство Генриха III и
Генриха IV. Стихи Берто, посвященные .личностям и событиям эпохи
(«Собрание стихотворений» — «Recueil des Oeuvres poétiques», 1601), не
лишены серьезности, а местами эпического тона и драматизма. Но его
взгляд на государство и общество ограничен придворной монархической
сферой, в пределах которой нет места для национальной жизни и исто-
рии (ом., например, «Гимн королю Людовику Святому»). Берто отстоит
еще дальшг, чем Депорт, от поэтических традиций Плеяды. В меньшей
степени затронули его и итальянские влияния. В любовной лирике Берто
(«Собрание любовных стихотворений» — «Recueil de quelques vers amou-
reux», 1602) отсутствует петраркистская идеализация образов и изощрен-
ная метафоричность. Пристрастие к эпиграмматическим «концовкам»
(pointes) и вычурному стилю мадригалов не лишает ее в целом уравно-
вешенной сдержанности выразительных средств, а подчас и «астоящего
красноречия. Берто отказался от сонета и отдавал предпочтение александ-
рийскому стиху даже в любовной лирике. Этот поэт отличается от
Депорта не только более широким кругом тем, но и большей простотой
и обыденностью поэтического тона, отказом от усложненной формы и об-
разности. По свидетельству одного из современников, Ронсар, успевший
познакомиться со стихами Берто, находил, что он «слишком благоразумен
для поэта». Поэзия Берто была важнейшим связующим звеном между
умиравшей школой Ронсара и Малербом. Многие описательные места
в стихах Берто свидетельствуют о его тяготении к конкретной реалистиче-
ской образности. Однако этим не искупается бессодержательность замыс-
лов, композиционная слабость и безудержное многословие поэзии Берто.
Соперником Берто в придворной поэзии был Жак Дюперрон (Jacques
Du Perron, 1556—1618). Епископ, впоследствии кардинал, ловкий при-
дворный и испытанный мастер политической интриги, один из инициаторов
«обращения» Генриха IV, богослов и страстный полемист католического
лагеря, он был виднейшим представителем религиозного красноречия своей
эпохи (известны его надгробные слова Ронсару, Марии Стюарт и др.).
Объектами официальной панегирической поэзии Дкшеррояа являются, как
и у Берто, (представители царствующего дома и их (приближенные. Его
любовная лирика повторяет худшие образцы Берто и Депорта, от кото-
рых он отличается только полным отсутствием поэтической оригинальности.
Один из наиболее значительных поэтов конца XVI в., Жан Воклен
де Лафрене (Jean Vauquelin de La Fresnaye, 1536—1607), стоял в стороне
от школы придворных поэтов. Уроженец Нормандии, он всю жизнь про-
вел в провинции, чуждаясь королевского двора и Парижа, и наотрез
отказался от покровительства, которое старался навязать ему Депорт.
Свою поэтическую карьеру он начал в 50-х годах XIV в., в лучшие
времена Плеяды. Первый сборник Воклена «Лесные стихотворения» («Les
Foresteries», 1555) вышел в свет в Пуатье, где Воклен изучал право и
участвовал в кружке молодых поэтов — подражателей Плеяды. Вступив
в магистратуру .в Кане (Нормандия), Воклен прошел все ступени судей-
ской иерархии, но служебные заботы не отвлекли его от занятий поэзией,
хотя в течение пятидесяти лет он тее напечатал ничего из написанного им
после 1555 г. Только в 1605 г. вышло собрание всех его произведений
(«Разные стихотворения» — «Les Diverses poésies»),. включавшее сатиры,
идиллии, «Поэтическое искусство» («L'Arl poétique») в стихах, большое
число сонетов, эпитафии и эпиграммы.
ЛИТЕРАТУРА ПКРЫОДА ГРАЖДАНСКИХ ВОЙЯ
Я07
Центральное место в лирике Воклена (сборник «Лесные стихотворе-
ния», целый ряд идиллий) занимают пасторальные, буколические мотивы,
которые он заимствовал у Феокрита, Вергилия, Саннадзаро и у подражав-
ших им Ронсара и Баифа. В наивных, лишенных классической обработки
стихах Воклена раскрывается радостный мир любовных отношений, и их
чувственная сторона вступает в свои права с той свободой, которую
поощряло искусство Плеяды. Античная буколика нередко сочетается у
Воклена с элементами национального фольклора, с традицией французской
народной песни, которую он умеет понять и воплотить вопреки выдвину-
тым Плеядой искусственным преградам между стилем высокой поэзии и
национальными традициями в лирике.
«Французские сатиры» («Les Satires françaises») Воклена были ре-
шающим опытом в античном жанре сатиры, узаконившим его во фран-
цузской поэзии. Большая часть его сатир является пересказом Горация;
и итальянских сатириков XVI в. Они охватывают широкий круг явле^
ний — злоупотребления светской власти, испорченность духовенства, продаж-
ность писателей, —• но подражательность и морализация лишают сатиру
горациански настроенного Воклена критической силы образов и оценок.
Сохраняя верность лучшим заветам Плеяды в лирике любви и природы,
Воклен оказывается поэтически беспомощным, когда стремится передать
широкое общественное содержание в нормах той же поэтики Плеяды. Идилли-
ческая лирика |и горацианская насмешка были одинаково чужды общест-
венным бурям второй половины века. Литературная судьба Воклена, его
замкнутость, отчужденность от литературной жизни, нежелание публико-
вать свои произведения, — все находит объяснение в тех разочарованиях,
которые постигли сторонников Плеяды после 60-х годов. Тесная связь
творчества Воклена с теорией и практикой Плеяды проявляется в его
«Поэтическом1 искусстве», написанном в конце 70-х годов. Однако роб-
кий, подражательный характер поэтики Воклена, ее эклектизм и умерен-
ность, отсутствие в ней новых и оригинальных мыслей, свидетельствовали
об упадке творческих сил в поэзии эпигонов Плеяды. Вместе с тем здесь
уже намечается требование той сдержанности поэтических средств и огра-
ничения замыслов и форм, которые в начале XVII в. были узаконены
реформой Малерба с ее стремлением ликвидировать последние следы сме-
лости и яркой выразительности поэзии Ренессанса.
Если эпоха гражданских войн нанесла удар поэтической культуре
Плеяды, то, с другой стороны, она обогатила новым содержанием фран-
цузскую поэзию, в первую очередь поэзию гугенотов.
Вооруженная борьба протестантов против католиков выдвинула на
первое место идеологию и фразеологию Евангелия и Ветхого завета, под
знаком которых совершалась вся реформация в Европе. Ожесточенный
религиозный фанатизм, в котором тонули реальные интересы борющихся
партий, отрицал материалистически-чувственное, языческое мировоззре-
ние Плеяды и лишал его определяющего для искусства значения. Новый
этап французской поэтической культуры характеризуется оттеснением
античности, место которой занимает библейская древность с ее суровыми
образами и духом моральной непримиримости, использованная в полити-
ческой борьбе XVI столетия как удобная образная форма для выражения
общественного протеста и вместе с тем как символическое обобщение исто-
рических судеб человечества, содержащее поучительные для современности
нравственные и политические уроки.
Первый, кто в эту эпоху обратился к Библии как к универсальному
поэтическому источнику, был Гильом Саллюст Дю Бартас (Guillaume Sal-
508
ВОЗРОЖДЕНЫ
luste Du Bartas, 1544—1590), гугенот, пасконский дворянин, военный и
дипломат, библейская поэзия которого создала ему славу «христианского
Рансара». Через год после Варфоломеевской ночи появилась его первая
библейская поэма «Юдифь» («Judith», 1573), в которой современники
увидели призыв к наказанию тиранов. Вслед затем Дю Бартас обратился
к осуществлению грандиозного замысла эпической поэмы, которая должна
была изобразить судьбу мира от его сотворения до страшного суда. Пер-
вая часть этой поэмы, «Неделя» («La Semaine», 1579), основанная на книге
Бытия и разделенная на семь «дней», соответственно «дням творения»,
посвящена сотворению мира. За нею последовала незаконченная «Вто-
рая неделя» («La seconde Semaine»), каждый «день» которой должен был
состоять из четырех песен. Отрывок этой новой поэмы, изображающей
«детство мира», был напечатан в 1584 г.
Ученик Плеяды, Дю Бартас видел в поэте учителя жизни, истолко-
вателя мира, духовного вождя человечества. Эта идея была источником
комического пафоса поэзии Дю Бартаса обнимающей все разнообразие
вселенной, живую и мертвую природу, рождение мирового строя из
хаоса и. становление бытия. Однако богословская концепция человека и
мира лишает величественную поэзию «Недель» живого человеческого содер-
жания. Центральное место занимает догматический образ творящего бога.
Мудрость сто творения служит Дю Бартасу постоянным поводом для
риторических нравоучительных отступлений, в которых проповедник совер-
шенно оттесняет поэта. Остатки языческой образности живут даже в
суровой стихотворной проповеди Дю Бартаса: его музой является «небес-
ная Урания» ; эпические поэты древности — Гомер и Вергилий — сохра-
няют для него свой художественный авторитет.
Попытка Дю Бартаса «возвысить» французскую поэзию путем ее
христианизации и принесения в жертву ее гуманистического содержания
имела огромный успех не только во Франции, но и во всей Европе, осо-
бенно в протестантских странах. В XVI и XVII вв. «Неделя» была
переведена на латинский, английский, немецкий, датский, итальянский
и испанский языки. Дю Бартас был создателем той поэтической тради-
ции, из которой вышла эпопея Мильтона. Гете находил в творчестве
Дю Бартаса «все элементы французской поэзии, хотя и в удивительном
смешении». «Он обрабатывал,—писал Гете,—важные, значительные, ши-
рокие сюжеты, как, например, семь дней творения, в которых он получил
возможность излагать в образном, повествовательном, описательном, ди-
дактическом духе свое наивное мировоззрение и разнообразные знания,
накопленные в течение деятельной жизни» (примечания к переводу «Пле-
мянника Рамо» Дидро).
В отличие от Дю Бартаса, библейские мотивы приобретают истори-
ческую конкретность и связываются с острым современным содержанием
у крупнейшего представителя протестантской поэзии периода граждан-
ских войн и самого выдающегося преемника Плеяды — Теодора Агриипы
д'Обинье (Théodore Agrippa d'Aubigné, 1552—1630). Творчество этого за-
мечательного поэта, неукротимого воина-гугенота и гуманиста, одного из
последних порожденных Возрождением «титанов по силе мысли, страстно-
сти и характеру, по многосторонности и учености», * осталось почти неиз-
вестным его соратникам и современникам. Произведения д'Обинье были
опубликованы им лишь в старости, между 1616 и 1630 гг., в ту iftopy,
1 Ф. Энгельс. Старое введение к «Диалектике природы». К. Маркс и Ф. Энгельс
Сочинения, т. XIV, стр. 476.
ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ГРАЖДАНСКИХ ВОЙН
509
когда он сам был в опале и изгнании и когда его трагическая поэзия не
могла встретить ни сочувствия, ни понимания. Литературное наследство1
д'Обинье было издано более или менее полно лишь в конце XIX в., ног
до сих пор оно еще не нашло убедительной и всесторонней оценки.
Агриппа д'Обинье происходил из среды провинциального судейского"
дворянства. Его семья была гугенотской. Свое обучение он начал в Париже,
продолжал и закончил в Женеве и Лионе. Еще ребенком он овладел ла-
тинским, греческим и древнееврейским языками. Позже он изучал мате-
матику, астрономию, богословие, естествознание и «оккультные» науки.
Шестнадцати лет он вступил в армию гугенотов простым солдатом и
с тех пор, в течение двадцати пяти лет, сражался на стороне Генриха
Наваррского, будучи его близким помощником в войне и в политике.
Он участвовал чуть ли не во всех битвах и осадах, достиг должности
маршала (maréchal de camp) и коменданта одной из крепостей в Пуату.
Всю свою кипучую энергию д'Обинье посвятил защите дела протестан-
тизма во Франции. Фанатически религиозный и суеверный, он не сомне-
вался во вмешательстве провидения в свою судьбу: чудеса и знамения
сопровождали его всю жизнь. Обращение Генриха IV в католицизм
(1593) вызвало глубокое разочарование у д'Обинье. Он отошел от об-
щественных дел, почти все время проводил в провинции и, чуть ли не
единственный из дворян Пуату, выражал недовольство абсолютистской
политикой Генриха IV, требуя новых гарантий для протестантов. В эти
годы д'Обинье был поглощен литературным трудом в качестве поэта, исто-
рика, мемуариста и сатирика. Непреклонный протестант, человек войчы и
восстания, он остался чужд тому умиротворению Франции, которое насту-
пило после издания Нантского эдикта (1598). В 1620 г. он оказался
замешанным в восстание дворян-гугенотов против правления Людовика XIII
и был осужден на изгнание. Он бежал в Женеву, где провел последнее
десятилетие жизни. Воин, поэт, памфлетист, историк, богослов, ученый,
дипломат, военный инженер, д'Обинье поражает силой и сложностью своей
индивидуальности. Все духовные силы эпохи слились в характере
д'Обинье, все ее творческие и жизненные возможности были им исполь-
зованы.
Главное произведение д'Обинье, «Трагическая поэма» («Les Tragiques»),
написанная в конце 70-х годов, в разгар гражданских боев, была издана
только в 1616 г., в мирные годы литературной реформы Малерба. В своем
общественном и литературном содержании она была воспринята как
анахронизм, как памятник отошедшей эпохи.
Свой поэтический путь д'Обинье начал, как верный ученик Плеяды,
с лирики любви и природы. Его юношеские стихи, впоследствии собран-
ные им в сборник «Вёсны» («Les Printemps»), были изданы, как и вся
его лирика (за исключением элегии на смерть Жоделя, 1574), только в
XIX в. Уже в раннем цикле сонетов д'Обинье «Гекатомба Диане»
(«Hécatombe à Diane»), среди1 общих мест любовной поэзии звучат мотивы
трагической судьбы автора, в тему любовного томления вторгается тема
сурового долга воина-гугенота. Гармонический идеал Плеяды разрушался
под напором требований новой действительности. Д'Обинье избирает не
путь отречения от втой действительности, а путь героической борьбы с
упадком и извращением человека, с «новым Вавилоном» монархии Валуа,
с «чумою» папства и инквизиции. Гуманизм «Трагической поэмы» за-
ключается в страстной силе гнева и ярости, с которою д'Обинье обру-
шивается на поработителей человечества, и в жажде всемирной справед-
SiO
ВОЗРОЖДЕНИЕ
Жак Калло. «Бедствия воины» (1633 г.).
ливости, принимающей мистифицированную форму религиозных идеалов
кальвинизма.
В отличие от поэзии Ронсара и его школы, обычной сферой которой
были идеальные человеческие отношения, часто отрешенные от конкрет-
ных сторон реальной жизни современности, поэзия д'Обинье полна об-
щественного гнева и живой восприимчивости к историческим бедствиям
человечества, проникнута страстной жалостью к жертвам насилия и об-
мана, дышит непримиримостью к бесчеловечной тиранической власти, вер-
шащей судьбами французского народа. Все эти моменты делают поэму
д'Обинье не только совершенно исключительным по глубине и патетиче-
ской силе памятником французской литературы позднего Возрождения, но
и одним из высших, в общеевропейском плане, проявлений борьбы истин-
ного свободолюбия с духом инквизиции и тирании.
Вместе с тем, однако, в отношении художественной полноты поэма
д'Обинье уступает поэзии Плеяды. Место гармонически развитого чело-
веческого образа у д'Обинье занимает богословский схематизм, проповед-
ническая риторика вплетается в поэтическое изображение, над реальной
картиной человеческих бедствий воздвигается здание христиансклх мифов
и аллегорий: ад, рай, «страшный суд», процессии праведников и ангелов,
апокалиптические видения. Все эти атрибуты христианской поэзии являются
у д'Обинье своеобразным истолкованием истории и современности, но они
апеллируют не к человеческой действительности, а к потусторонним идеа-
лам веры.
Поэма д'Обинье состоит из семи книг. Первая книга, «Бедствия»
,(«Les Misères»), изображает страдания Франции, истерзанной граждан-
ской войной и тиранией правителей, чумою, голодом и жестокостью
наемников королевских армий. С особенной силой д'Обинье показывает
разорение крестьян, бедствия и нищету деревень, опустошение полей и
посевов. Вторая книга, «Монархи» («Les Princes»), заполнена сатириче-
скими образами «адских чудовищ», коронованных палачей Франции —
Карла IX, Генриха III и их матери, «плотоядной и нечестивой Иеза-
вели»— Екатерины Медичи. «Золотая палата» («La Chambre d'or»),
третья книга поэмы, посвящена обличению «подлых» нравов двора и раз-
вращенных, продажных судов, ложно обвиняющих протестантов. В по-
следних четырех книгах («Огни», «Клинки», «Мщения», «Суд») живая
ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ГРАЖДАНСКИХ ВОЙН
ЗМ
Жак Калло. Из серии «Бедствия войны» (1633 г.).
сатира отчасти уступает место широкому эпическому замыслу. Эти части
составляют в целом как бы историю «истинной церкви», т. е. протестан-
тизма, от его зарождения до окончательного торжества в «судный день».
«Огни» («Les Feux») и «Клинки» («Les Ferx») изображают последова-
тельные этапы борьбы папства и инквизиции с защитниками «истинной
веры», к которым причисляются вальденсы, альбигойцы, гусситы и Дру-
гие секты, боровшиеся против католической церкви. Мученичество за
веру и героическое мужество жертв инквизиции составляют главную тему
исторических, ретроспективных частей поэмы. Огни костров сменяются
войной папистов против гугенотов («Клинки»), завершающей список пре-
ступлений против бога и человечества, совершенных Римом, инквизицией
и их прислужницей — тиранией монархов. В «Мщениях» («Les Vengeances»)
показаны земные воздаяния палачам человечества за их чудовищные пре-
ступления. Длинной вереницей от Каина до Екатерины Медичи прохо-
дят они в этой книге, преследуемые местью и презрением людей. Вся
поэма завершается величественным видением страшного суда и искупле-
ния («Суд» — «Le Jugement») — апофеозом божественной справедливости
в распределении райских наград и адских мучений.
Отсутствие связного повествования является единственным момен-
том, нарушающим эпический характер «Трагической поэмы». Она содержит
ряд грандиозных видений действительности, дающих выход лирическому
и сатирическому темпераменту поэта. Но эпическая тенденция общего
замысла поэмы, ее историческая широта и гражданский пафос свидетель-
ствуют о приверженности д'Обинье художественным идеалам школы
Ронсара, которым он внутренне оставался верен в продолжение всей своей
поэтической практики. С тем большей силой д'Обинье сознавал всю вы-
нужденную горечь своего поэтического погружения в жестокий мир убийств,
лозора и насилия. Его гуманистическое сознание с трудам мирилось с
избранной художественной задачей.
Тому, кто скажет мне, что раскаленный cthi
Из крови создал я и из убийств одних,
Что ужас только там, свирепость и измена,
Раздор, позор, резня, засады, яда пена, —
«В вину ты ставишь мне, — отвечу я ему, —
Словарь, присвоенный искусству моему.
Льстецы любви поют, свои беспутства славя;
51S
ВОЗРОЖДЕНИЕ!
Слова отобраны, чтоб рисовать, лукавя.
Там только смех и мед, игра, любовь и пыл,
Досуг безумия. Когда я счастлив был,
И я сплетал венки такие ж, как они,
И я для праздности губил когда-то дни.
Век, нравы изменив, иного стиля просит, —
Срывай же горькие плоды, что он приносит».
Единственным возможным для д'Обинье разрешением этого проти-
воречия между художественными идеалами школы и новым реалистиче-
ским содержанием его собственной поэзии было принятие христианского
идеала жертвенности, признание высшей земной награды в мученическом
пути. Воинствующая религиозность д'Обинье нисколько не снижает, а,
наоборот, возвышает своим библейским пафосом сатирическую и обличи-
тельную силу его поэмы, беспощадную резкость его образов, смелость и
рельефность языка и стиха, не знающих равных во всей французской поэ-
зии эпохи. Реалистическая сила поэзии д'Обинье, вдохновленная муже-
ственным участием к страдающему человечеству, точность и острота его
художественного зрения, яркий материальный характер образности преодо-
левают мертвенный богословский элемент поэмы, насыщенной христианской
символикой. Вся национально-государственная, общественная действитель-
ность Франции, от преступлений Варфоломеевской ночи до разорения
крестьянских полей, от жизни двора до жизни народа, находит отраже-
ние в «Трагической поэме» и получает страстно негодующую или полную
сострадания оценку.
Совершенно забытая в XVII и XVIII вв. поэзия д'Обинье была от-
части воскрешена только .романтической критикой (Сент-Бев, Мериме). Но
и в XIX в. она казалась слишком своеобразной для того, чтобы привлечь
К себе многочисленных сторонников среди французских поэтов. Один Гюго
в своей поздней лирике («Кары», «Легенда веков») испытал ее влияние.
Помимо «Трагической поэмы», поэмы «О творении», в которой он
подражал Дю Бартасу, и большого числа лирических стихотворений,
д'Обинье оставил ряд прозаических произведений.
Проза д'Обинье, как и его поэзия, должна была, по замыслу автора,
служить делу Реформации во Франции. «Кадуцей, или ангел мира»
(«Caducée ou l'Ange de la Paix») и «Католическая исповедь господина
де Санси» («La Confession catholique du Sieur de Sancy», между 1599 и
1604 гт.) представляют собой религиозно-политические памфлеты, пол-
ные убийственного сарказма по адресу католической партии. Первый на-
писан в защиту политических идей протестантов, требовавших ограни-
чения королевского суверенитета. Второй направлен против обращения
протестантов в католичество; в нем д'Обинье осыпает градом насмешек
своих единоверцев, следующих пагубному примеру Генриха IV. Самым
значительным из политических памфлетов д'Обинье являются «Приклю-
чения барона Фенеста» («Les aventurep du baron de Faeneste», I и II части
изданы в 1617 г., III часть — в 1619 г., IV часть — в полном издании
1630 г.). Эта книга представляет собой остроумную сатиру на придвор-
ное дворянство в форме диалога между провинциальным дворянином по
имени Эне (Епау, от греческого einai — «быть»), живущим вдали от двора
В своем родовом поместье, и хвастливым гасконцем бароном Фенестом
(от греческого iphainesthai—«казаться»), ищущим славы и почестей Е'ри
дворе. Основной темой этого произведения, написанного под сильным влия-
нием Рабле, является зафиксированная в именах собеседников антитеза»
ЛПТЕРАТ.ТРА ПЕРИОДА ГРАЖДАНСКИХ ВОЙН
315
раскрывающаяся в живом столкновении характеров. Яркость характери-
стики Фенеста, обилие прекрасно рассказанных эпизодов, стремление верно
передать реальную обстановку действия — позволяют рассматривать «Ба-
рона Фенеста» как первый опыт реалистически-бытового романа во Фран-
ции. В своих мемуарах («Жизнеописание Агриппы д'Обинье для его
детей» — «La Vie сГAgrippa d'Aubigné à ses enfants») и исторических со-
чинениях д'Обинье интересен прежде всего как прекрасный рассказчик,
делящийся с другими своим личным жизненным опытом. «Всемирная
история» («Histoire universelle», издана в неоконченном виде в 1619 г.;
продолжение было опубликовано только в 1926 г.) охватывает историю
Франции (и отчасти соседних стран) с 1553 по 1612 г. и является одним
из самых значительных исторических сочинений эпохи.
2
Вторая половина XVI в, была периодом расцвета французской прозы,
связанного с коренным изменением ее значения, содержания и стиля.
Роман и новелла перестают играть сколько-нибудь заметную роль, худо-
жественный вымысел теряет свои права в области прозаической литера-
туры. Проза становится орудием ученых, политиков и историков, авто-
ров памфлетов, моральных трактатов и мемуаров. На этом новом для
нее поприще французская проза в короткий срок становится проводни-
ком всех культурных влияний, проникает во все области умственного
творчества, где до этого времени царила латынь. Утверждение прав на-
ционального языка на универсальное господство совершается вместе с
усложнением общественной практики, требующей более глубокого позна-
ния действительности, вместе с успехами опытного изучения природы и
развитием новых сторон человеческой деятельности.
Специфическим отражением этого процесса в области собственно
литературного развития был расцвет мемуарной литературы, заменившей
собою прежние хроники и внедрившей в историографию элемент личного
жизненного опыта авторов. Стремление к уяснению смысла этого опыта
и его высокая оценка предполагали у мемуаристов XVI в. жажду позна-
ния человеческих отношений в их совокупности, что приводило к широ-
кому показу исторической действительности, к превращению мемуаров в
историю современности.
Замечательную картину деятельности и характера крупной личности
на фоне исторической жизни целой эпохи дают мемуары маршала Блеза
де Монлюка (Biaise de Monluc, 1512—1577), наиболее интересные из
огромного количества французских мемуаров XVI в. Неутомимый солдат,
хитрый политик, жестокий наместник, достигший высших степеней военной
иерархии, он подвергается опале в последние годы жизни и по образцу
Цезаря диктует свои «Комментарии» («Commentaires de Monluc», изданы
посмертно в 1592 г.), охватывающие более пятидесяти лет истории Фран-
ции, от итальянских войн Франциска I до гражданских войн 70-х годов»
С замечательной откровенностью и простодушием, грубым, но выра-
зительным в своей безыскусственности языком Монлюк ведет подробный
рассказ о событиях своей бурной и деятельной жизни. Интереснее всего
в записках Монлюка образ самого автора. Неукротимая жажда деятель-
ности, решительность, храбрость, хладнокровие, упорство, расчетливость,
тщеславие и жестокость в войне с гугенотами и в экзекуциях, которые
он совершал в доверенных ему провинциях, скупость и энергия, прояв-
ленная в приобретении богатств, — все эти черты, живо и ярко залечат-
Г.14
ВОЗРОЖДЕНИЕ
ленные в записках Монлюка, создают характерный образ человека огром-
ной жизненной силы и опыта, сурового солдата Возрождения, знатока и
творца военного искусства.
Монлюк никогда не возвышается над изображаемыми событиями,
никогда не стремится их обобщить. Но ему свойственен конкретно-чув-
ственный, трезвый и наивно-практический взгляд на вещи, который опре-
деляет реалистическую ценность его записок и их критическую силу.
Рядом с собственно мемуарной литературой стоят биографии и хро-
ники нравов, мастером которых был Пьер де Бурдель, аббат Брантом
(Pierre de Bourdeille, abbé de Brantôme, ок. 1534—1614). Усердный при-
дворный, состоявший на службе у членов королевского дома, военный,
затем — «светский аббат», авантюрист, побывавший, в поисках славы и
приключений, в Италии, Англии, Испании, в Марокко и на Мальте, он
стал писателем только под старость, потерпев неудачу в своей придворной
карьере. Период писательской деятельности Брантома приходится на 80-е
и 90-е годы XVI в. Его главными произведениями являются «Жизне-
описания великих полководцев» («Vies des grande capitaines») — француз-
ских и] испанских, и две книги «О дамах» («Les deux livres des dames»),
известные под заглавиями, которые были присвоены им издателями, пер-
вая— «Жизнеописания знаменитых дам» («Vies des dames illustres») и
вторая — «Жизнеописания галантных дам» («Vies des dames galantes»).
Сочинения Брантома, известные его современникам лишь в списках, были
впервые напечатаны в 1665—1666 гг. в Голландии. Более или менее
исправное и полное издание сочинений Брантома вышло только в
конце XIX в.
За исключением второй книги «О дамах», представляющей собою
«скандальную хронику» любовных нравов и похождений двора, сочинения
Брантома являются собранием биографий его современников — предста-
вителей придворной знати. Пытливый наблюдатель жизни и характеров
своего века, он с одинаковым интересом передает были и небылицы о воен-
ных подвигах, придворных успехах, интригах и любовных похождениях
своих героев.
Брантому доступна только внешняя, парадная сторона действитель-
ности, а также сфера корыстных, эгоистических, циничных интересов его
высокопоставленных героев. Никакая общая мысль, никакие идеальные
мотивы не управляют его повествованием.
Блестящий, но поверхностный писатель, Брантом меньше всего спо-
собен к глубоким и серьезным оценкам изображаемых им людей и собы-
тий. Все, чем была велика его эпоха —грандиозные общественные кон-
фликты, напряжение ума и воли людей, их страсть к знанию и духовному
творчеству, — все прошло мимо внимания Брантома. Но Брантом был
современником чрезвычайного расцвета придворной культуры, перенесен-
ной из Италии на французскую почву, и он стал бытописателем только
этой стороны общественной жизни своей эпохи. Здесь его свидетельства
очень ценны. Книги Брантома развертывают перед нами поражающую
Своим богатством картину быта, нравов, характеров, состояния умов ари-
стократического общества XVI в. В этой области искусство Брантома
не имеет соперников и позволяет ему достигать острых портретных харак-
теристик, как, например, в жизнеописаниях коннетабля Монморанси, канц-
лера Лопиталя или герцога Гиза, Маргариты Валуа или Марии Стюарт.
Промежуточное положение между мемуарами и историографией за-
нимают «Политические и военные рассуждения» («Discours, politiques et
militaires», 1587) гугенота Франсуа де Лану (François de La Noue,
ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ГРАЖДАНСКИХ ВОЙН
31 ё
1531—1591), где он рассматривает дела своей жизни, события эпохи и
общественные бедствия Франции в свете строгой стоической морали.
«Исследования о Франции» («Les Recherches de la France», 1560;
закончены изданием в 1621 г.) Этьена Пакье (Etienne Pasquier, 1529—1615),
крупного эрудита, юриста и полиграфа, представляют собою беспорядоч-
ное собрание ученых статей на разнообразные темы по истории, археоло-
гии, политике, языку и литературе. Современная жизнь, личный опыт,
личные интересы и вкусы играют немалую роль в книге Пакье, ставя ее
в один ряд с лучшими произведениями мемуарной литературы.
В условиях общественных конфликтов второй половины века особенно
важную роль приобретает политическая литература. Передовые полити-
ческие идеи XVI в., заложившие основы буржуазной политической идео-
логии, были теоретическим выражением тех сил буржуазного прогресса,
знаменем которых во Франции была кальвинистская реформация. Однако
до начала гражданских войн и в первый их период, до 1572 г., пока суще-
ствовала возможность компромисса между протестантами и католиками,
вся сфера культурной жизни Франции не была еще окончательно раско-
лота религиозными противоречиями. Оппозиционные политические тен-
денции протестантов не достигали особой остроты, их протест не приобрел
еще ясной теоретической формы. Политическая мысль проявлялась пока
преимущественно в сатире и памфлете.
Первый, кто выступил в этот период как политический писатель-
сатирик, был один из наиболее видных ученых гуманистов французского
Возрождения Анри Этьеи (Henri Estienne, 1531—1598). Сын крупней-
шего печатника Франции Робера Этьена, сам печатник и автор знамени-
того словаря греческого языка, он вместе с отцом был принужден поки-
нуть Париж за приверженность к протестантизму и перенести свою
типографию в центр кальвинизма — Женеву. Сатирический памфлет Анри
Этьена «Апология Геродота» («Apologie de Hérodote», 1566) навлек на
него жестокие нападки кальвинистской цензуры. В дерзкой откровенности
языка и темы Этьена, в его сатире на католический мир, на царство
«грабежа, убийства, обмана и жестокости», женевские фанатики увидели
пришествие «нового Пантагрюэля». Поводом для политического памфлета
Этьена послужили распространенные среди гуманистов обвинения Геро-
дота в недостоверности и некритической передаче былей и' небылиц
античности. Этьен избрал парадоксальный способ защиты Геродота. Он
показывает, что многие, действительно существующие обычаи и широко
распространенные среди! современников воззрения отличаются еще боль-
шею нелепостью, чем изображаемые у Геродота. В этом остроумном со-
брании нелепостей выставлены в комическом виде монахи, католическая
церковь, судьи, чиновники, ученые-схоласты, весь традиционный уклад
Франции. Но хаотическое, лишенное внутренней логики построение «Апо-
логии» во многом снижает убедительность яркого сатирического замысла
Этьена. Из других сочинений Этьена большое значение имели его трак-
таты о языке, в которых он выступил на защиту чистоты и националь-
ной самобытности французского языка: «Сходство французского языка
с греческим» («Conformité du langage Français avec le Grec», 1565), «Диа-
логи о новом итальянизованном французском языке» («Dialogues du
nouveau langage Français italianisé», 1578), «Превосходство французского
языка» («Précellence du langage Français», 1579).
Убийства Варфоломеевской ночи крайне обострили политическую
борьбу протестантов против монархии Валуа. С 1573 г. гражданская
война во Франции вступила в новую, наиболее напряженную фазу, окон-
516
ВОЗРОЖДЕНИЕ
чившуюся полной победой принципа государственного единства в лице
Генриха IV над силами феодальной реакции. Необходимым оружием
в этой борьбе стала буржуазная политическая теория, формулиро-
ванная в ряде протестантских трактатов. В них гугеноты открыто высту-
пали с собственной политической программой против монархии Валуа,
с призьшом к неповиновению властям, к самозащите, восстанию, с требо-
ваниями ограничения монархической власти, постоянного сословного пред-
ставительства и «суверенитета» народа, за которыми, в сущности, скрыва-
лась программа внедрения буржуазного правопорядка и сословного пред-
ставительства. В 1573 г. вышел латинский трактат «Франко-Галлия»
(«Franco-Gallia») видного протестантского юриста и политика Отмана
(Hotman, 1524—1590), автора страстных политических памфлетов против
католического двора. В своем трактате он задался целью опровергнуть
абсолютистские притязания монархической власти, опираясь на данные
французской истории. Он стремился доказать, что в старину Франция
знала только монархов, ограниченных нерушимыми законами и избирае-
мых народом, а не наследственных. Сочинение Отмана было своего рода
утопией, опрокинутой в прошлое, но оно сыграло немалую роль в разви-
тии идей народного суверенитета.
Большое политическое влияние имел другой латинский трактат, на-
писанный двумя учеными богословами и политическими деятелями про-
тестантского лагеря, Дюплесси-Морне (Duplessy-Mornay, 1549—1623) и
Ланге (Languet)—«Мщение тиранам» («Vindiciae contra tyrannos», 1579),
где впервые встречаются элементы теории политического договора как
основы общественного правопорядка, необходимой предпосылкой которого
является «суверенитет народа». Идея политического или общественного
договора, опиравшаяся на протестантскую интерпретацию Библии (в част-
ности, представления о «завете»), была направлена против учения о «боже-
ственном праве» монархов, к которому апеллировали защитники абсолю-
тизма, и представляла собою первую формулировку принципа буржуазной
законности. «Мщение тиранам» оправдывало восстание народа против мо-
нарха, нарушившего «договор» с народом, и призывало к тираноубийству.
Латинский язык ученых сочинений Отмана и Дюплесси-Морне не
помешал им оказать огромное влияние на ход политических споров
конца XVI в. Они получили широкое распространение во французских
переводах, и их идеи были подхвачены целым рядом протестантских пам-
флетов, непосредственно отражавших ход политической борьбы и влияв-
ших на ее участников. Некоторые памфлеты, защищавшие положение
о превосходстве народа над монархом, отличались особенной силой про-
теста и высоким революционным пафосом. К памфлетам этого рода от-
носится, в первую очередь, анонимный «Будильник французов и их со-
седей» («Le Réveille-matin des Français et de leurs voisins», 1574). Здесь
сформулирована демократическая доктрина, не только утверждающая су-
веренитет народа, но 1и требующая народного управления государством.
Католическая Лига, в свою очередь вступившая в борьбу с королевской
властью, принуждена была заимствовать теоретическое обоснование своих
позиций из политического учения протестантов. Памфлетисты и пропо-
ведники Лиги, апеллируя, главным образом к демократическим элементам
движения, с не меньшим жаром, чем протестанты, призывали к народ-
ному восстанию против тирании и к тираноубийству.
Реакцией против революционных тенденций политической теории
протестантов было сочинение Жана Бодена (Jean Bodin, 1530—1596)
«О республике» («De la Républiques 1576). Боден выступил одновременно
ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ГРАЖДАНСКИХ ВОЙН
М7
против макиавеллизма в политике королевской власти, результаты кото-
рого он видел в преступлениях Варфоломеевской ночи, и против проте-
стантов, «которые, под предлогом... народной свободы, призывают
к бунту против своих естественных государей, открывая двери разгулу
анархии, более опасному, чем самая сильная тирания».
Политическая теория Бодена построена на принципе суверенитета,
понимаемого им как право создавать и отменять законы, лежащее в основе
всякого государственного порядка. Вооруженный энциклопедической эру-
дицией в области истории и права, Боден предпринимает исследование
всех известных ему государственных форм и политических учреждений и
углубляется в изучение их связей и последовательности, условий их воз-
никновения, господства и гибели. Полнота и разносторонность этого
исследования и попытка исторического объяснения развития власти и
права составляют главную ценность труда Бодена. Его выводом является
утверждение суверенитета монархической власти как наиболее совершен-
ной формы государственного строя. По мнению Бодена, построенный на-
подобие отцовской власти суверенитет монарха лучше всякой другой
формы правления может служить осуществлению высших принципов по-
литики— порядка и справедливости; для этого необходима сильная, но
умеренная в своих притязаниях королевская власть, признающая в своих
подданных граждан, т. е. полноправных участников государственной жизни.
Поскольку правовые отношения лишены в глазах Бодена всякого цер-
ковно-догматического обоснования, важнейшим принципом государствен-
ного порядка является для него полная веротерпимость и равенство всех
вероисповеданий.
Политическая программа Бодена была идеальной формулой тех от-
ношений, которые французская буржуазия согласна была положить в
основу своего союза с абсолютизмом. В этом смысле доктрина Бодена
связана с деятельностью умеренной буржуазной партии католического
лагеря, так называемой партии «политиков», которая поддерживала поли-
тические притязания Генриха Наваррского и, возвышаясь над фанатиз-
мом религиозной распри, стремилась к примирению протестантов и като-
ликов во имя интересов национального единства, основанного на союзе
буржуазии с монархической властью.
Из среды «политиков» вышло самое значительное произведение сати-
рической литературы периода гражданских войн — «Мениппова сатира»
(«La Satire Ménippée», 1594), представляющая художественный памфлет
на Генеральные штаты, созванные Лигой в Париже в 1593 г. под охраной
испанского гарнизона для избрания короля в противовес Генриху Наварр-
скому, стоявшему со своими войсками у стен Парижа. Попытка Лиги
превратилась в жалкую политическую комедию с самого начала заседа-
ния штатов, когда Генрих Наваррский предложил свое обращение в като-
личество в качестве политической основы для установления гражданского
мира в стране. Парижская буржуазия, хотя она и составляла основное
ядро Лиги, увидела себя перед лицом двух опасностей: с одной стороны —
активного выступления народных низов (временный захват власти в
Париже так называемым «Комитетом шестнадцати» в 1585 г.), с дру-
гой — заговора феодалов, главарей Лиги, папских агентов и испанских
интервентов. При таких условиях она поспешила примкнуть к Генриху IV,
как только представилась реальная возможность религиозного мира. «Ме-
ниппова сатира», составленная в Париже группой «политиков», сторонни-
ков Генриха Наваррского, вышла в свет после коронования Генриха и
въезда его в Париж. Она имела огромный успех. В момент окончательного
318
возрождвпив
поражения Лиги французская буржуазия была непрочь посмеяться над
теми, кто путем обмана и демагогии старался сделать ее орудием для до-
стижения своих корыстных, антинациональных целей.
«Мениппова сатира» написана смесью стихов и прозы, что и послу-
жило поводом для ее авторов дать ей такое название, заимствованное
у римского писателя Варрона, который писал свои «Менипповы сатиры»
в стихах и прозе в подражание греческому поэту и философу-цинику
Мениппу.
Французский памфлет представляет собою собрание вымышленных
комических речей, вложенных в уста реальных исторических лиц, глава-
рей и рядовых участников Лиги. Это своего рода «комедия Лиги», в кото-
рой каждый участник, выступая как оратор, старается по возможности
точно и откровенно рассказать собранию о подлостях своей политики и
низости своей природы, о своей чудовищной глупости, о тайных мотивах
преступных дел и замыслов, направленных к разрушению Франции. По-
нятие об этом комическом приеме саморазоблачения может дать начало
речи вождя Лиги, герцога Майеннюкого, последнего уцелевшего из Ги-
зов: «Господа, вы все являетесь свидетелями того, что, с тех пор как
я поднял оружие в защиту священной Лиги, я настолько был предан
эаботам о своем собственном благополучии, что совершенно чистосердечно
предпочитал свои личные выгоды интересам господа бога, который пре-
красно может постоять за себя и отомстить всем своим врагам без моей
помощи».
Прологом к «Менипповой сатире» служит комическое описание про-
цессии Лиги и зала заседаний штатов, после чего приводятся речи глава-
рей Лиги: герцога Майеннского, папокого легата, кардинала Пельве и
ректора Сорбонны Роза. Затем слово получают представители сословий:
архиепископ лионский от клира, де Риё — от дворянства и д'Обре — от
третьего сословия. Все герои «Менипповой сатиры» являются художе-
ственно-правдивыми человеческими образами. Комическая сила характеров
«Менипповой сатиры» заложена, в первую очередь, в индивидуальной
речевой манере каждого оратора. С острым народным юмором и сло-
весной изобретательностью монологов «Менипповой сатиры» может срав-
ниться только языковое богатство романа Рабле, сатирические элементы
которого были восприняты в XVI в. именно «Менипповой сатирой».
Ближе всего к традиции Рабле стоит речь Роза, тупого и говорливого пе-
данта и мракобеса, рабски привязанного к своим материальным выгодам
и восторженно отдающегося реакционному угару Лиги. Многозначитель-
ным контрастом к комическому тону речей главарей Лиги является гра-
жданский патриотический пафос сторонника «политиков» д'Обре, высту-
пающего от лица всего третьего сословия. В его речи звучит ненависть
жаждущего мира буржуа к предательнице родины — Лиге и испанцам,
захватившим в свои руки Париж. Вся речь д'Обре является беспощадным
обвинением Лиги и патетической апологией «законного» монарха Ген-
риха IV.
В ряде протестантских памфлетов, изданных после Варфоломеевской
ночи, появился, сначала в отрывках, затем полностью, небольшой политиче-
ский трактат, известный под названием «Против единого» («Contr'un»;
под «единым» разумеется монарх). Его автором был советник парламента
в Бордо Этьен де Ла-Боэси (Etienne de la Boetie, 1530—1563). Ранняя
смерть этого выдающегося человека помешала ему стать, по словам его
друга Монтеня, «одним из самых подходящих и необходимых людей для
первых должностей Франции». Ла-Боэси был не только ученым юристом.
ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ГРАЖДАНСКИХ ВОЙН
S19
но и поэтом, испытавшим влияние Плеяды, автором сонетов, опубликован-
ных Монтенем в его «Опытах», и выдающимся гуманистом — переводчи-
ком Ксенофонта и Плутарха. Страстный поклонник античности, он имел,
по словам того же Монтеня, «душу, подобную по своему складу душам
древних».
Политический трактат Ла-Боэси, подлинное заглавие которого —
«Рассуждение о добровольном рабстве» («Discours de la servitude volon-
taire»), занимает совершенно особое место в политической литературе XVI в.
Попавшее в руки протестантов и использованное ими в их собственных
политических целях, «Добровольное рабство» Ла-Боэси принадлежит,
однако, к иной культурной традиции и даже к другой эпохе. Возник-
шее задолго до начала гражданских войн, около 1552—1553 г., в ту пору,
когда Ла-Боэси был занят латинскими и греческими штудиями в Орлеан-
ском университете, «Рассуждение» проникнуто высоким антитираническим
пафосом, почерпнутым у античных писателей, прославлявших республи-
канские доблести Гармодиев и Брутов — у Плутарха, Фукидида и Демос-
фена, у Геродота, который противопоставлял греческую свободу персид-
ской тирании, у Тацита, который клеймил позором тиранию римских
императоров. Добровольное рабство — это подчинение подданных тирании
монархической власти, покорность народа одному ничтожному человеку,
поддерживаемая не только постоянным насилием монарха, но и молчали-
вым согласием или даже желанием подданных, о чем свидетельствует
благополучное и мирное существование многих монархий. Привычка к по-
зорному служению монархам, по мнению Ла-Боэси, воспитана в людях
самой же тиранией: чтобы легче сделать людей своими жертвами, она за-
ставляют (их быть тиранами по отношению к другим людям. В этом из-
вращении человеческой природы — предпосылка и условие монархического
строя. Философия и пример античных народов учат, что свобода есть
естественное состояние человека; вотпочему тираны боятся свободной мысли
и просвещения умов. Чтобы освободить людей от тирании, нужно сорвать
маску лицемерия с монарха и пробудить в людях любовь к свободе, ко-
торая одушевляла республиканцев Афин и Рима: «Откажитесь реши-
тельно от рабства — и вы будете свободны... Перестаньте только
поддерживать его — и вы увидите, как этот колосс (тирания), из-под кото-
рого будет вырвано основание, рухнет под собственной тяжестью и рас-
сыплется в прах».
В отличие от всех политических писателей своего времени, Ла-Боэси
видит во всякой монархии тиранию и потому отрицает монархическую
власть, как общественный принцип, несовместимый с человеческой приро-
дой и достоинством. Именно эта наиболее существенная черта политиче-
ской мысли Ла-Боэси свидетельствует о зависимости его взглядов от
античного республиканизма, и в этом смысле его доктрина возвышается
над политическим учением протестантов.
Идеальные гуманистические очертания политической концепции Ла-
Боэси были выражением высоких творческих замыслов Возрождения,
утверждавших право человека на всеобщее освобождение от угнетающих
сил исторической действительности. Когда миновала эпоха гражданского
мира, общественные иллюзии Возрождения уступили место более зрелой
политической доктрине протестантов, овеянной суровым драматизмом
Библии и фанатическим духом религиозной борьбы. Политические тео-
рии протестантов, оказавшие огромное влияние на развитие политиче-
ской мысли XVII и XVIII вв., были первым теоретическим оружием
буржуазии в борьбе за ее) освобождение. Однако политическая роль
520
ВОЗРОЖДЕНИЯ
в общественной борьбе XVI в. французской буржуазии, стремившейся за-
тормозить натиск народной революции, накладывала известный отпечаток
буржуазной ограниченности на политическую теорию французских проте-
стантов с ее умеренным монархизмом и апологией буржуазной законности.
В этом — причина основного отличия протестантской политической док-
трины от подлинно-свободолюбивого трактата Ла-Боэси, возникшего до
взрыва классовых антагонизмов.
Весь облик Ла-Боэси, как политического писателя, ученого эллиниста,
переводчика и поэта, связан с одной из важнейших сторон культурной
жизни французского Возрождения — с переработкой и освоением антич-
ности. В этой области исключительно важную воспитательную роль
сыграли переводы античных писателей, в первую очередь — греческих
(поскольку латинский язык был хорошо знаком образованным кругам
тогдашнего общества). Обилие переводов в XVI в. было отражением
огромного подъема общественного сознания, жадно стремившегося к но-
вым источникам мысли и знания. К концу XVI в. на французский язык
была переведена чуть ли не вся известная в ту пору греческая литература.
В самом начале века Клод де Сейсель (Claude de Seyssel) ценой огром-
ных усилий, пользуясь латинскими переводами, перевел на французский
язык Диодора Сицилийского, Аппиана, «Анабазис» Ксенофонта и исто-
рию Фукидида, ставшую одной из излюбленных книг XVI в. За ним
последовали более умелые переводчики, как, например, Пьер Салиа (Pierre
Saliat), давший прекрасный перевод Геродота. Сожженный Сорбонной
как еретик, лионский гуманист Этьен Доле (Etienne Dolet) перевел ряд
диалогов Платона, а также «Письма» и «Тускуланские беседы» Цицерона.
Луи Ле-Руа (Louis Le Roy) принадлежат переводы «Пира», «Федона»,
«Тимея» и «Республики» Платона, «Политики» Аристотеля, речей Демос-
фена и ряда произведений Ксенофонта.
Переводы античных писателей имели первостепенное значение для раз-
вития и обогащения французского литературного языка и стиля. В этом
отношении французская проза XVI в. больше всего обязана замечатель-
ному переводчику Жаку Амио (Jacques Amyot, 1513—1593). Один из
крупнейших ученых-эллинистов своего времени, он провел четыре года
в Италии (1548—1552) в поисках античных рукописей, одновременно вы-
полняя официальные поручения при Тридентском соборе. Генрих II сделал
его воспитателем своих сыновей, будущих королей Карла IX и Ген-
риха III. Позже благодарные воспитанники назначили Амио своим при-
дворным священником и епископом в Оксерре (1570), где он провел по-
следние годы жизни и умер в разгар политических волнений, вызванных
движением Лиги. Амио принадлежат переводы Гелиодора («Эфиопика»,
1547), семи книг Диодора Сицилийского, найденных им самим в Италии
(1554), и романа Лонга «Дафнис и Хлоя» (1559). Но славу великого
переводчика и писателя Амио приобрел переводом «Жизнеописаний знаме-
нитых греков и римлян» («Vies des hommes illustres grecs et romains», 1559)
и «Моральных сочинений» («Oeuvres morales», 1574) Плутарха. Эти пере-
воды стали самым любимым чтением позднего Ренессанса не только во
Франции, но и за ее пределами. На долгое время перевод «Жизнеописа-
ний» Амио заменил подлинник Плутарха и в свою очередь переводился
на другие языки. К нему восходит, например, английский перевод Норта
(1579), использованный Шекспиром в его римских трагедиях.
Перевод Амио создал огромную славу Плутарху в эпоху Возрожде-
ния. «Я по справедливости отдаю.. . пальму первенства среди всех фран-
цузских писателей Жаку Амио, — писал в своих «Опытах» Монтень, —
ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ГРАЖДАПСКИХ ВОЙН
521
не за естественность и чистоту языка, в чем он превосходит всех осталь-
ных, не за упорство в столь долгом труде, не за глубину его познаний,
которые позволили ему так удачно разъяснить столь трудного автора;
. . .но я благодарен ему, главным образом, за то, что он сумел выбрать
такую достойную и подходящую книгу и принести ее в подарок своей
стране. Мы, невежды, давно бы уже погибли, если бы эта книга не вы-
вела нас из трясины; благодаря ей мы можем теперь говорить и писать»
(кн. II. гл. 4).
Возвышающая сила книги Плутарха заключалась в том, что Возро-
ждение находило в ней школу гражданского мужества, героизма и сво-
бодолюбия. Оно ценило в ней ее воспитательный характер, ее практиче-
ские моральные уроки, далекие от плоской житейской практики и при-
частные событиям мировой истории. Человек — свободный творец своей
собственной судьбы, носитель всей этической мудрости античного мира, —
не мог не вызывать интереса у людей Возрождения, для которых проб-
лема человеческого поведения было основной проблемой мировоззрения.
«Плутарх восхитителен повсюду, но особенно там, где он судит о челове-
ческих поступках», — отмечает Монтень в «Опытах» (кн. II, гл. 31),
а сам Амио в предисловии к переводу «Жизнеописаний» указывает на
разнообразие и интерес примеров человеческих характеров и судеб как
на главную ценность книги Плутарха: «Если мы испытываем своеобразное
удовольствие, слушая того, кто, вернувшись из дальнего странствования,
рассказывает о вещах, которые он видел в чужих краях, о человеческих
нравах и природе различных мест, ... то насколько больший восторг и
удовлетворение должны мы испытывать при виде прекрасной, богатой и
правдивой живописи, изображающей с натуры разные случаи из челове-
ческой жизни».
Центральное место в «Жизнеописаниях» Плутарха занимает образ
античного героя, гражданина и республиканца, воля и разум которого
царят над его страстями. Проникнув в сферу европейского искусства чрез
посредство Плутарха в переводе Амио, прежде всего воспринятый и свое-
образно использованный французской классической трагедией, образ ан-
тичного героя в течение двух веков владел сознанием буржуазного мира.
От Монтеня и Корнеля до Руссо и Робеспьера античный герой Плутарха
служил образцом мужества и добродетели, был антитезой прозаическому
мещанскому состоянию.
Тонкое искусство Амио во многом изменило подлинный характер
«Жизнеописаний». Светлое, жизнерадостное начало, которым проникнута
у Амио книга хмурого Плутарха, привнесено самим переводчиком. Жи-
вость и наивная простота языка, гармоническая ясность стиля привели
к модернизации античности, к ее конкретно-материальному раскрытию,
которым Амио смело и сознательно пользуется, руководимый идеальной
художественной мерой.
Герои Плутарха под пером Амио приобрели новую жизнь, новый образ-
ный, человеческий смысл. В истории французской прозы XVI в. Амио за-
нимает место между Рабле и Монтенем. Его труд переводчика открыл путь.
к новой художественной культуре, к новому языку и образности. Этим
путем пошел великий французский писатель конца XVI в. — Монтень.
5
Мишель Эйкем де Монтень (Michel Eyquem de Montaigne, 1533—
1592) происходил из богатого купеческого рода, причем отец его принад-
лежал к крупной чиновничьей буржуазии города Бордо. Монтень получил
21 История французской литературы—815
322
ПОЗРОЖДЕНПЕ
отличное домашнее воспитание под руководством педагога-латиниста, окон-
чил коллеж в Бордо и изучал право в Тулузе. Встречи с выдающимися
представителями гуманистической науки, живой интерес к античности,
любовь к чтению позволила Монтеню овладеть высшими ценностями
ренессансной культуры- Широкая образованность Монтеня вскоре
дополнилась опытом практической общественной деятельности. В 1554 г.
Монтень вступил в магистратуру, сначала в городе Периге, потом в Бордо,
где в течение тринадцати лет он занимал должность советника парламента.
К этому времени относится его горячая дружба с Ла-Боэси, прерванная
смертью последнего в 1563 г. В 1570 г. Монтень отказался от должности
советника парламента и удалился в свое родовое поместье Монтень в Пе-
ригоре. Годы религиозно-политических распрей Монтень проводит в уеди-
нении своего замка, в «руту семьи, в покое и в довольстве, поглощенный
чтением и работой над «Опытами». В 1580—1581 гг. он совершает боль-
шое путешествие ino Германии, Швейцарии и Италии и проводит1 несколько
месяцев в Риме. Вернувшись на родину, он в течение четырех лет испол-
няет почетную должность мэра Бордо. В эти годы Монтень поддерживает
тесную связь с королевским двором и часто бывает в Париже по обще-
ственным и личным делам. В качестве главы одного из крупнейших муни-
ципалитетов страны, он принимает участие в переговорах враждующих
партий и в обороне Бордо от вооруженных посягательств Лиги и проте-
стантов. В тревожной обстановке гражданской войны Монтень остается
чужд религиозному и политическому фанатизму своих современников; в
изменчивых обстоятельствах политической борьбы он старается быть ней-
тральным, в общем держа сторону королевской власти. В 1585 г. Монтень
окончательно оставляет все общественные должности и, поселившись в
своем поместье, возвращается к работе над «Опытами». Но он не поры-
вает связей с двором и Парижем, посещает столицу в тревожный 1588 год
и присутствует в качестве наблюдателя на Генеральных штатах в Блуа.
В последние годы жизни он укрепляет свою старую дружбу с Генрихом
Наваррским, к которому его привлекала политика умиротворения и рели-
гиозной терпимости.
Помимо «Опытов», Монтень не оставил произведений, имеющих ли-
тературный интерес. Ему принадлежит перевод «Естественной теологии»
богослова XV в. Раймунда Себундского (1568). Сохранились также не-
многочисленные письма Монтеня (к отцу, маршалу Матиньону, Генриху
Наваррскому и др.) и дневник его путешествия, найденный и опублико-
ванный только в XVIII в.
«Опыты» («Essais») Монтеня имеют сложную, более чем двадцати-
летнюю творческую историю. Две первые книги «Опытов» были написаны
Монтенем в 1572—1579 гг. и изданы в первый раз в 1580 г. В 1586—
1587 гг. Монтень внес множество дополнений в ранее опубликованные
части «Опытов» и написал третью книгу их. В таком переработанном
виде, в трех книгах, «Опыты» были изданы в 1588 г. На экземпляре
этого издания Монтень в последние годы жизни сделал многочислен-
ные дополнения и поправки, включенные в посмертное издание книги
(1595).
С внешней стороны «Опыты» представляют свободное, беспорядочное
сочетание размышлений и наблюдений, описаний и примеров, анекдотов
и цитат, объединенных, часто без видимой связи, в главы, расположенные
в совершенно случайной последовательности. Разорванная, фрагментарная
форма «Опытов» позволила Монтеню переходить от одной темы к дру-
гой с той свободой, которой он был обязан своей глубокой наблюдатель-
. -ЯГ 4,:
NHL' '
ш.
'>ш
;. Ъшгюфгг рюх.. tâf'B.
'
rteoicet J\'tffr?
Мишель де Монтень.
С портрета работы Дюионтье (1578 г.), грав. Фике в 177В г»
ЭХ4
ВОЗРОЖДЕНИЕ
ности, исключительной начитанности и постоянному общению с культур-
ным наследием античности и Возрождения.
Из произведений древних (преимущественно латинских) и современ-
ных поэтов, философов, моралистов и историков он выбирает и переносит
в «Опыты» все, что возбуждает его творческий интерес и дает пищу его
мысли. Не ограничиваясь постоянными ссылками, цитатами и пересказами
заинтересовавших его мест, Монтень отбрасывает все литературные услов-
ности и парафразирует целыми страницами Сенеку, Плутарха и других
авторов.
Хаотическая, иррациональная композиция «Опытов» была естествен-
ным результатом их общего замысла. Однако этот замысел не возник
у Монтеня вместе с первыми главами его книги, а испытал существенные
изменения по мере роста и усложнения содержания самих «Опытов», при-
обретая все большую широту и оригинальность. Изучение источников
Монтеня позволило установить роль и соотношение разновременных на-
слоений в тексте «Опытов». В свете этих данных уяснился характер и по-
следовательные этапы идейного развития Монтеня, эволюция его замысла
и хронология его книги.
Сборники назидательных анекдотов и сентенций, излагавшие различ-
ные сведения; из истории и популяризовавшие античную мораль и фи-
лософию, составляли обычное чтение в эпоху Монтеня. Именно этому типу
компиляций обязан своим происхождением жанр «Опытов». Начиная ра-
боту над своей книгой, Монтень был далек от мысли открыть новую
область литературы. Его образцами были компиляторы XV.и XVI вв.,
а из древних — Стобей и Авл Геллий. Многие главы первой книги «Опы-
тов» («О быстрой и медленной речи», «О манере одеваться», «О сне»,
«О запахах» и др., в том числе те, где идет речь о войнах, королевской
службе и придворных церемониях) сохранили, несмотря на последующие
переделки, следы своего происхождения от указанных образцов. В них на
первый план выступает жадный интерес Монтеня к простейшим материаль-
ным проявлениям человеческой природы, к внешнему разнообразию не-
посредственно ощутимых форм бытия. В соответствии с этим первона-
чальная художественная манера Монтеня представляет собою бесстрастную
фиксацию занимательных фактов без рефлексии, которою проникнуты бо-
лее поздние «Опыты». Беззаботное любопытство к эмпирической реально-
сти практической жизни и наивная литературная форма нанизывания
разобщенных фактов на одну случайную нить характеризуют первые шаги
Монтеня-писателя.
Углубляясь в изучение древних философов и поэтов, Монтень нахо-
дил новые стимулы для раскрытия своей писательской индивидуаль-
ности. Усиленное чтение Сенеки и моральных трактатов Плутарха опре-
делило его призвание «моралиста». С этих пор «Опыты» Монтеня сосре-
доточиваются вокруг вопросов морали, т. е. проблемы поведения чело-
века, составляющей основу всей идеологии Возрождения. Человек, как
мыслящее и действующее существо, становится центральным объектом
«Опытов». Рационалистическая этика античности открывает Монтеню
путь к познанию человека в его самодовлеющем человеческом аспекте, вне
порабощающих норм религиозного мировоззрения. Напряженные размыш-
ления о целях и запросах человеческой жизни становятся рядом с обна-
женно-фактографической записью первоначальных «опытов».
На этом этапе создания «Опытов», условно, называемом «стоиче-
ским», складывается тот образ «мудреца» (le sage), который проходит
через всю книгу Монтеня. Следуя стоической доктрине, Монтень считает,
ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ГРАЖДАНСКИХ ВОЙН
321*
что человеческая мудрость заключается в преодолении страдания, в ге-
роической борьбе с ним. Однако сама оценка страдания как величайшего
мирового зла, как враждебного человеку начала, унижающего и искажаю-
щего природу, с самого начала отличает мировоззрение Монтеня от аске-
тического рационализма античных стоиков. Высшую ценность Монтень
видит в полноте и свободе духовно-чувственной жизни человека и только
поэтому объявляет законом природы стремление избежать страдания.
Жизнеотрицающий героизм стоиков не исчерпывает цели человеческого
существования; он может служить лишь вынужденным средством за-
щиты человека от страдания. Страдание неизбежно, но силой своего духа
человек должен побороть его и этим героическим усилием оправдать свою
независимость и достоинство. Страдание приобретает у Монтеня значе-
ние подлинного антагониста человечности. Все человеческое — разум, воля,
мужество, сила, великодушие — имеет ценность только потому, что суще-
ствует страдание, в борьбе с которым человек проявляет эти стороны
своей природы.
Высшим идеалом «мудреца» является «добродетель» (vertu). Этим
термином Монтень, подобно другим писателям Возрождения, обозначает
совокупность всех способностей и творческих сил человека, направленных
на совершение блага как для себя, так и для других людей. Впоследствии
Монтень признает в «добродетели» естественное свойство человеческой
природы. Пока же стоическое учение заставляет Монтеня видеть в ней
завоевание мысли и воли человека.
Где природа делает все за человека и избавляет его от усилий, там
нет «добродетели». Разум дан человеку для достижения счастья, и только
свойственная человеку слабость заставляет его выносить страдания. По-
этому разум должен быть постоянно направлен на такие предметы, ко-
торые причиняют страдания. Человек боится смерти. Чтобы избавиться от
этого страха, надо все время думать о смерти, приучаться к мысли о ней.
Размышления о смерти и страдании — тяжкий, но единственный путь
к достижению той «добродетели», которая была для эпохи Возрождения
залогом личной и общественной свободы. «Предвкушение смерти есть
предвкушение свободы. Кто научился умирать, тот разучился рабски слу-
жить» (кн. I, гл. 20). Эти черты мрачного героизма, присущие идеалу че-
ловеческого совершенства, свободы и добродетели, сближали Монтеня со
стоиками, вопреки коренному различию их исходных позиций. Оптими-
стическая основа мировоззрения Монтеня, определившаяся уже в тот
ранний «стоический» период, не находила своего гармонического развития
в пределах тех требований, которые Монтень предъявлял к человеку, все
духовные силы которого обречены на напряженную, не знающую отдыха
и забвения, борьбу со скорбью и страданием, приводящую к призрач-
ному «счастью» бесстрастия ради стремления к нравственному покою.
Монтень противопоставлял добродетель своего «мудреца» «жалким
условиям человеческого существования» («la misérable condition humaine»),
бессилию, страху и зависимости. Требование суровой дисциплины созна-
тельной, героической «мудрости» целиком предоставляло человека самому
себе, давало каждому власть над своей личной судьбой. Утверждение
личной самостоятельности человека и его права на внутреннюю независи-
мость от -обстоятельств жизни послужило основой индивидуалистическому
мировоззрению Монтеня, ростки которого дают себя знать уже на «стои-
ческом» этапе (см. «Об одиночестве», кн. I, гл. 39). Уделом мудреца
должно быть одиночество, . т. е. самоуглубление. «Разумный человек не
потерял ничего, если он сохранил самого себя». «Самая великая вещь на
326
ВОЗРОЖДЕНИЕ
свете — уметь принадлежать себе». Так идеал человеческого совершенства
постепенно находит свое реальное воплощение в индивидуальном развитии
человека, в душевной жизни самого Монтеня.
Вера в практическую пользу философского размышления быстро сме-
няется у Монтеня разрушительным скепсисом по отношению ко всем фи-
лософским доктринам и человеческим мнениям. Кульминационным перио-
дом скептического умонастроения были для Монтеня годы 1575—1577,
непосредственно предшествовавшие завершению первой редакции «Опы-
тов». Опорой и образцом для развития скептических идей Монтеня яви-
лись в первую очередь те же «Моральные сочинения» Плутарха, а также
произведения Секста Эмпирика, главного представителя поздне-античного
скептицизма (или пирронизма — по имени легендарного основателя этого
философского течения Пиррона) и Корнелия Агриппы Неттесгеймскаго,
скептика в философии и мистика в науке, писавшего в начале XVI в.
Но новый, «скептический» период творческой истории «Опытов» харак-
теризуется не столько сменой идейных влияний, сколько иным, более ши-
роким охватом действительности, преодолением односторонней нравоучи-
тельной проблематики предшествующего этапа. Вопреки скептическому
отрицанию, которым теперь окрашиваются «Опыты», они становятся
ярким изображением жизни, материального мира и человеческих отноше-
ний, критическим исследованием «условий человеческого существования».
В них проникает широкое общественное содержание, делающее их «опас-
ной», полной драматизма книгой, вступающей в конфликт с идейным обо-
снованием господствующего церковно-феодального порядка.
Пирронизм «Опытов» выступает не как гносеологическая доктрина,
но как своеобразная форма общественного протеста, как метод обществен-
ной критики, одновременно позволяющей и оспаривать убожество и из-
вращение общественной действительности, и направить по ложному следу
подозрительность блюстителей идейной реакции. Скептическое решение
вопроса о роли религии в человеческой жизни, об отношении разума и
«откровения», знания и веры приобретало острый общественный смысл
в период гражданских войн, когда конфликт враждующих партий питался
ожесточенными религиозными распрями.
Чтобы оградить себя и свою книгу от костра и преследований, Мон-
тень был вынужден излагать свои мысли в противоречивой, часто пара-
доксальной форме. Важнейшей главой двух первых книг «Опытов» яв-
ляется «Апология Раймунда Себундского» (кн. II, гл. 12). Под видом
апологии этого богослова здесь изложены основные положения скептиче-
ской философии автора, разрушающие здание схоластики, которую Мон-
тень как будто бы берет под свою защиту.
Решая неустранимую проблему философского мировоззрения своей
эпохи — проблему взаимоотношения знания и веры, Монтень стремится
показать при помощи обманчивой с виду, но внутренне ясной диалектики,
что «обнаруженная многовековым опытом людей» слабость и недостовер-
ность человеческого разума делает несостоятельными все попытки рацио-
нального обоснования «истин религиозного откровения» и что в силу
этого разум, свободный от связей с верой, пользуется безграничной сво-
бодой и независимостью в земных, человеческих делах.
Не посягая с виду на религию, как на систему догматов, Монтень
разрывает связь между богом и человеком и стремится найти подлинное
место человека в природе. Человек — слабое, беспомощное создание, по-
давленное величием космоса, пасынок природы, которая совершеннее и муд-
рее его. Отнимая у человека роль «царя природы» и «венца творения»,
ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ГРАЖДАНСКИХ ВОИН
О 26/
Монтень порывал с ложным и грубым антропоцентризмом церковного ми-
ровоззрения, подчинял и противопоставлял человека только природе и тем
самым по-новому обосновывал автономность человеческого бытия. Бог для
Монтеня — не личный бог человека, милостивый отец людей, а бог при-
роды, строитель вселенной.
Оставляя за идеей бога недоказуемое преимущество совершенной
и неизменной истины, Монтень удовлетворяется в сфере человеческой
действительности временным, относительным, преходящим. Он видит
в жизни и деятельности человека постоянную текучесть и изменчивость
форм, противоречивость, непоследовательность и случайность опыта, бес-
помощность и заблуждения мысли, преграждающие человеку прямой путь
к познанию истины. В постоянных поисках истинного решения, в беспо-
койстве и разочарованиях, ведущих человека от одной ступени сознания
к другой, от одного «нравственного» (исторического — по нашей терми-
нологии) состояния к другому, Монтень видит творческую, подлинно че-
ловеческую ценность. Скептическая критика разумной деятельности людей
является для Монтеня путем к утверждению неисчерпаемого богатства че-
ловеческих возможностей. В то же время она служит средством искусного
доказательства того, что человеческий разум, ненадежный руководитель
в земных делах, совершенно бессилен в делах небесных. Поэтому Мон-
тень спешит целиком принять традиционное учение римской церкви и за-
ботливо сторонится Реформации, будучи уверен, что изменение частно-
стей в религиозных вопросах вызывает изменение целого, чреватое но-
выми бедами для человечества. Дать разуму свободу, хотя бы ценой
беспощадной критики его с позиций распространенного в философии Воз-
рождения пиррокизма, и по возможности меньше тревожить религию, этот
постоянный источник страданий человека, — такова одна из существенных
тенденций «Опытов», общая многим высшим проявлениям гуманистиче-
ской культуры XVI вг
Творческий скептицизм Монтеня чужд неудовлетворенности действи-
тельным миром и отказу °т проникновения в истину. Различие мнений,
их вечная смена и непостоянство, противоречия оценок, обычаев, форм
существования, характеров и воззрений свидетельствуют о бесконечном
богатстве и разнообразии мира и человека. По сравнению с ними заносчи-
вый метафизический догматизм, отвлекающийся от реальной действитель-
ности в область химерических фантазий и находящий в пустых измыш-
лениях завершенный образ последней и вечной истины, является отри-
цанием человеческой природы, свидетельством нищеты и ничтожества
разума, идущего с легкостью по этому ложному пути. Всякий метафизиче-
ский принцип, в том числе и религиозный, будучи избран в качестве кри-
терия или стимула человеческих поступков, вносит в мир человеческих
отношений фанатизм, жестокость, страдание и поощряет самые низкие
инстинкты людей — жажду власти, насилия и стяжания. Монтень пока-
зывает, что религия служит и католикам и протестантам лишь маской,
а не является истинной причиной гражданских войн (кн. II, гл. 12). Вдох-
новленные верой в христианского бога, испанские завоеватели жгут и ре-
жут американских туземцев, разрушая мирное счастье их «естественного
состояния» и заменяя наивное и бескорыстное варварство дикарей, осно-
ванное на «блаженном неведении», сознательным и утонченным варвар-
ством религиозных фанатиков («О каннибалах», кн. I, гл. 31). Монтень
показывает, как схоластики-юристы и богословы, проникнутые фанатиче-
ской верой в потусторонний мир духов и сверхъестественных сил, сжигают
на кострах мнимых колдунов и ведьм, жертвуя человеческими жизнями
528
ВОЗРОЖДЕНИЕ
во имя предубеждений ослепленного умозрением рассудка («О хромых»,
кн. III, гл. 11). Роль скептицизма в мировоззрении Монтеня не исчерпы-
вается разоблачением общественного зла метафизических заблуждений.
В нем заключаются иные, более пессимистические мотивы: недоверие к без-
граничным возможностям человеческого разума и отказ от рационального
переустройства действительности. В качестве всеобъемлющего итога духов,
ного развития целой культурной эпохи, «Опыты» отражают гибель обще-
ственных иллюзий Возрождения, обнажают слабость и растерянность че-
ловека, ставшего свидетелем разрушения средневекового мира и церков-
ного единства, завоевания земли и становления нового общественного
строя, новых классов и национальных укладов. Новизна, многообразие
и разобщенность общественной практики человека породили разорван-
ность сознания, неудовлетворенное требование единства, обнаружили про-
тиворечия природы, исторической действительности и разума, притязав-
шего на управление миром.
Скепсис Монтеня был острой реакцией на этот кризис общественного
сознания, возникший на исходе Возрождения. «Апология Раймунда Се-
бу ндского» представляет собою собрание свидетельств тщетности челове-
ческих знании и бессилия разума, «затемняющего и искажающего лицо
вещей в силу своего тщеславия и непостоянства» (кн. II, гл. 12). «Que
sais-je?» («Что я знаю?») становится формулой мировоззрения Монтеня,
встречающего вопросом и сомнением каждый новый предмет мысли или
чувственного опыта, готового признавать равную долю истины во взаимо-
исключающих решениях.
Однако само сомнение Монтеня не настолько последовательно и ра-
дикально, каким oHci представлялось в XVU, XVIII и даже XIX вв.
'В своей основе оно жизнелюбиво и жизнерадостно. Скептицизм Монтеня
направлен в первую\ очередь против догматизма средневекового мировоз-
зрения, против католического фанатизма и мракобесия, и это делает Мон-
теня во многих отношениях видным предшественником философии буржу-
азного Просвещения XVIII в.
Изливая ядовитый скепсис на противоречия философской мысли и
жизненной деятельности людей, Монтень сознает ценность здравого
смысла и трезвости обыденного сознания, требующих доверия к факту,
к данным практического опыта человека. «Нет более! естественного стре-
мления, чем стремление к знанию. Когда нам отказывается служить ра-
зум, мы прибегаем к опыту (l'expérience), который являеггся слабым и менее
достойным средством. Но истина — такая великая вещь, что мы не
должны пренебрегать ни одним средством, позволяющим нам достигнуть
ее» (кн. III, гл. 13).
Таким образом, скептическая рефлексия приводит Монтеня не только
к отрицанию метафизических, философских и вообще умозрительных си-
стем, но и ставит перед ним проблему построения нового, положительного,
знания. Путем к нему должен быть в первую очередь опыт, наблюдение,
практическая близость к природе и человеку.
Однако проблема научного изучения природы нисколько не занимает
Монтеня. Его область — это «наука о человеке», важнейшая из наук
в глазах Монтеня. Считая, что лучше и вернее всего человек может изу-
чить самого себя, Монтень упорно размышляет о собственном житейском
опыте и наблюдает с точностью экспериментатора за своим моральным
и физическим поведением. Он приходит к мысли изобразить самого себя
в своей книге и осуществляет этот замысел уже в первой редакции
«Опытов» 1580 г. Многие главы Монтень наполняет смелым и откровен-
Титульный лист пятого иадания «Опытов» Моятеня (1588 г.). с поправкамш автора для
следующего иадания
oou
ВОЗРОЖДЕНИЕ
ным описанием своего характера и занятий, привычек, внешности, болез-
ней и домашнего обихода. Это дало Монтеню повод заявить в лакониче-
ском предисловии к «Опытам», что предметом его книги является он сам.
На последнем этапе своей творческой и идейной эволюции — в III
книге «Опытов» — Монтень пришел к полному и гармоническому разви-
тию тех задатков оптимистического мировоззрения, которые замечались
уже в его ранний период. Добрая и радостная природа, единственная но-
сительница высшей «добродетели», становится руководительницей Мон-
теня, открывающей ему богатство его собственной личности. Задача чело-
веческого разума — воспитывать, культивировать человеческую природу,
исправлять ее там, где она противоречит естественному стремлению чело-
века к счастью. Самое надежное орудие разума — умеренность (tempé-
rance), шозволяющая человеку вернуть себе тот идеал простоты, который
подсказывает ему сама природа. С радостным сочувствием Монтень обра-
щается к жизни народа, к «простым земледельцам», которые «благодаря
невежеству сохранили еще некоторый отпечаток и след благодетельного
влияния природы», и в их характере видит ту естественность и свободу,
которые необходимы для «мудреца»: «Бурям доступна средняя область;
оба крайние полюса — философы и народ — соперничают в спокойствии
и счастии» (кн. III, гл. 13). Сопоставление философской и народной
«мудрости» приводит Монтеня к замечательной мысли о сходстве гения
и народа, высокого художественного совершенства и примитивной народ-
ной песни: «Простые крестьяне — почтенные люди, и почтенные люди
также/—философы, или, как говорят в наше время, сильные и просвещен-
ные натуры, обогащенные широкими познаниями в полезных науках.
Средние люди, которые пренебрегли первым состоянием неведения и не
смогли достигнуть другого... опасны, непригодны и несносны: это они вно-
сят омуту в мир. . . Народная и совершенно безыскусственная поэзия обла-
дает непосредственностью и прелестью, равняющей ее с красотой художе-
ственно-совершенной поэзии, как это можно видеть в гасконских вилланелях
и в песнях, доходящих до нас от народов, не знакомых ни с какими нау-
ками и даже с письменностью. Жалкая поэзия, которая остановилась ме-
жду этими двумя видами поэзии — презренна, бесславна и не имеет цены»
(кн. I, гл. 55). Идеалом зрелого Монтеня является совмещение высшего
культурного развития личности с «естественной» культурой народа.
Напряженный героизм стоического периода, требовавший от человека
отказа от соблазнительной безмятежности и гармонии чувств ради «труд-
ной добродетели», побеждается на последнем этапе мировоззрения Мон-
теня уравновешенной философией жизни, видящей добродетель в «умении
жить» (savoir vivre), которое без труда дается человеку. Владея этим
искусством, можно превращать жизненную необходимость в постоянный
источник радости, без которой нет истинной мудрости.
Высшей ценностью мира является человек и его существование.
Целью бытия может быть только наслаждение, полное и свободное удо-
влетворение запросов интеллекта и чувства. Совершенство человека опре-
деляется его индивидуальным развитием, полнотой его внутреннего мира
и интеллектуальной жизни. Именно этого и требует Монтень от себя
самого. Его стремление к счастью, добродетели и свободе отражено в про-
цессе его самопознания и духовного развития, результатом которого яв-
ляется книга «Опытов».
Эпикурейская мораль Монтеня вносит новые черты в его мировоз-
зрение. В III книге «Опытов» Монтень расширяет свою индивидуальность
до пределов универсального и общечеловеческого. При этом он обязывает
ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ГРАЖДАНСКИХ ВОЙН
331
себя пройти самостоятельно через весь доступный культурный опыт, пере-
работать в себе все богатство действительного мира, полагаясь только на
свои собственные суждения. Замкнутость, аскетизм, оторванность от мира,
подавление материальной природы совершенно чужды Монтеню; наоборот,
он требует от человека близости к природе и людям, ибо каждый человек
отражает в себе все человечество.
В 1588 г. «Опыты» становятся подлинно универсальной книгой, в ко-
торой отражено все богатство материального мира и духовной жизни лю-
дей. В связи с этим стоит стремление Монтеня к новой литературной
форме. Беспорядочная композиция «Опытов» — не только реакция про-
тив педантического и схоластического способа изложения, господствовав-
шего в современной Монтеню науке. Она продиктована внутренними тре-
бованиями самого замысла Монтеня. Чем более зрелым становился этот
замысел, тем с большей настойчивостью он требовал подчинения литера-
турной формы произволу «естественной природы» человека, изменчивой
и текучей, как сама действительность. В этой близости к ходу мирового
процесса Монтень видит главное своеобразие своего творчества: «Мир
не что иное, как постоянное колебание.. . Сама устойчивость есть не что
иное, как более медленное колебание. .. Я не изображаю бытия. Я изоб-
ражаю переход; не из одного века в другой или, как говорит народ, из
одного семилетия в другое, а изо дня в день, из минуты в минуту»
(кн. II, гл. 2).
Так в творческом методе и художественном построении «Опытов»
реализуется диалектика действительности в ее «скептической» интерпре-
тации, которой Монтень остается верен до конца. Творческий скепсис
Монтеня ставит перед ним, как перед писателем, благодарную и органи-
чески вытекающую из его мировоззрения задачу — «снять маску как
с вещей, так и с людей» (кн. I, гл. 20).
Этой реалистической тенденцией глубоко проникнуты все «Опыты»,
раскрывающие действительность в богатстве ее противоречий, в много-
сторонности и в индивидуальном разнообразии характеров, событий и на-
блюдений, в драматизме и пафосе человеческого существования, в мате-
риальной полноте чувственного мира. Мир Монтеня — это, прежде всего,
очеловеченный мир, где дары природы и культуры в равной мере до-
ступны людям. Во имя таких подлинно гуманных условий человеческого
существования, жажду которых принесло с собой Возрождение, Монтень,
вооруженный критической силой своего скепсиса и разоблачающей иро-
нии, восстает не только против неистребленного еще феодального варвар-
ства с его духовным и физическим рабством, но также и против разруши-
тельных, античеловеческих сил «буржуазного прогресса», проявивших себя
в эпоху первоначального накопления. Недаром в книге Монтеня с такой
силой звучит протест против кровавого разбойничьего натиска европейцев
на народы Нового Света (см. главы «О каннибалах», кн. Г, гл. 31, и «Об
экипажах», кн. III, гл. 6). Борьба против нового варварства — первона-
чального накопления (Монтень) и инквизиции (д'Обинье)—была послед-
ним великим историческим словом французского гуманизма.
«Опыты» Монтеня тесно связаны с историей развития философской
мысли XVII в. Непосредственным продолжением идей Монтеня была фи-
лософия Бекона, явившегося «истинным родоначальником английского
материализма и вообще опытных наук новейшего времени». i Эта преем-
ственность указывает на подлинное место «Опытов» в истории человече-
1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Святое семейство. Сочинения, т. III, стр. 157.
'52
ВОЗРОЖДЕНИЕ
ской мысли, на их роль в подготовке развитого, не только художествен-
ного, но и научного познания мира. Интерес к опытному знанию рождался
в XVI в. именно из того умонастроения, которым проникнута книга Мон-
теня. Стремление «сделать человеческий разум соответствующим вещам и
природе» (Бекон) одинаково свойственно как Бекону, так и Монтеню.
«Человеческий ум :по природе своей устремляется к отвлеченному и мыс-
лит текучее, как постоянное. Лучше рассекать природу на части, чем отвле-
каться от нее», говорит естествоиспытатель Бекон. Этого последнего
вывода не умеет сделать «моралист» Монтень, сознающий необходимость
научного применения опыта, «о не видящий возможности этого. Универ-
сальное сомнение Декарта и многие идеи английского деизма непосред-
ственно связаны со скептической философией Монтеня.
«Опыты» Монтеня оказали огромное влияние на развитие француз-
ской литературы. Философская и моральная публицистика, хроники, жур-
налистика, даже философский роман просветителей с его тематикой па-
радоксального столкновения чуждых друг другу национальных и культур-
ных сред, — все эти новые явления французской литературы XVII и
XVIII вв. возникли под более или менее непосредственным влиянием
книги Монтеня. «Опыты» с их циническим скепсисом по отношению к де-
лам и мыслям людей были источником того анализирующего, насмеш-
ливо-критического, разоблачающего направления, которое принимала фран-
цузская литература по мере приближения к эпохе французской буржуаз-
ной революции.
Беззаботное доверие человека к его «доброй природе», выдвинутое
Монтенем в качестве высшего принципа поведения, нашло признание
у атеистов и либертинов XVII в. В творчестве Мольера «добрая при-
рода» человека выступает в ее рационалистическом осмыслении, руководи-
мая разумом или здравым смыслом. В этом Мольер более других подошел
к подлинному характеру рационализма Монтеня. Эта сторона мировоззре-
ния Монтеня оказала большое влияние на всю идеологию классицизма, в
том числе и на развитие французской трагедии. Хотя трагические поэты,
по самому существу своих замыслов, не могли сделать естественную «доб-
роту» человеческой природы основой тем и образов своих трагедий, они
все же признавали те взаимоотношения между природой человека и ру-
ководящим ею разумом, которые были установлены Монтенем. Трагедии
Корнеля и особенно Расина немыслимы без разумного проникновения тра-
гического героя в его собственную бунтующую природу, без возвышаю-
щего руководства разума.
Влияние «Опытов» Монтеня было особенно значительно в Англии,
где Шекспир и другие драматурги елизаветинской эпохи заимствовали
многое у Монтеня, переведенного Джоном Флорио в 1603 г. «Гамлет»
и «Буря» отражают это влияние. Весь жанр essays («опытов»), получив-
ший после Бекона такое широкое распространение в Англии, целиком вы-
шел из «Опытов» Монтеня.
В XVII в. известность и влияние Монтеня быстро распространяются
за пределами Франции — в Испании, Италии, Германии и т. д. Растет
число его переводов. В России Монтень стал хорошо известен и был пе-
реведен в XVIII в. Его ценил и любил читать Пушкин. Тема и основ-
ные мотивы стансов «Брожу ли я вдоль улиц шумных» найдены Пушки-
ным в главе «Опытов» — «Философствовать значит учиться умирать»
(кн. I, гл. 20).
«Опыты» Монтеня были первым и самым значительным явлением
ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ГРАЖДАНСКИХ ВОИН ОО.»
в области «моралистической» литературы, получившей столь широкое раз-
витие во Франции в конце XVI и в начале XVII вв.
Расцвет этого рода философской публицистики открыл эпоху попу-
ляризации и коренной переработки культурных ценностей Возрождения
и способствовал переходу от эрудиции Возрождения, требовавшей ге-
ниальности и героической творческой инициативы, к светской образован-
ности XVII в. Без этого перехода, отражавшего не только переоценку
всей предшествующей культуры, но и процесс интенсивного расширения
сферы умственного творчества в общественной жизни французского на-
рода, было бы невозможно все литературное развитие XVII в. Его опре-
деляла как раз широкая доступность моральных, философских, религиоз-
ных, психологических и вообще теоретических интересов, ставших обыч-
ными в культурном и литературном обиходе XVII в.
В сочинениях моралистов, живших на рубеже XVI и XVII вв., про-
явилась раньше, чем в других областях литературы, религиозная реакция
против антихристианских тенденций Возрождения, характерная для идео-
логии всего XVII в. Эту новую идейную ориентацию отчетливо выразил
Гильом Дю Вер (Guillaume du Vair, 155b—\ 621 ), государственный дея-
тель и политический оратор периода гражданских войн, один из вождей
партии «политиков». В своем трактате «О моральной философии стоиков»
(«De la philosophie morale des stoïques», ок. 1590 г.) Дю Вер стремится
к христианской интерпретации стоической доктрины. Человеческий разум
служит, в глазах Дю Вера, лишь орудием в борьбе со страстями и пре-
вратностями земной жизни. Высшая мудрость состоит в стоической твер-
дости и христианском самоотречении. Идея божественного промысла яв-
ляется самой надежной опорой человеческого разума, гарантией справедли-
вости мирового строя, — утверждает Дю Вер в диалогах «О твердости
и утешении в общественных бедствиях» («De la constance et consolation
dans les calamités publiques», 1594). Рациональная этика призвана для
утверждения не человеческих, а потусторонних ценностей, и находит свое
ортодоксальное завершение в богословии, — такова мысль его же трактата
«О священной философии» («De la Sainte philosophie», ок. 1589 г.). Свое
вдохновение Дю Вер черпал одновременно в Библии и у Эпиктета, сочи-
нения которого он перевел на французский язык, «чтобы укрепить наш
дух в такое время, как это». Ему же принадлежит перевод речей Демо-
сфена, Эсхина и Цицерона, приложенный в качестве образцов к его трак-
тату «О французском красноречии и о причинах, по которым оно остается
на столь низком уровне» («De l'éloquence française et des raisons pourquoi
elle est demeurée si basse», 1594), в котором Дю Вер требует подражания
простоте и силе древних ораторов.
Героический дух античной этики, воспринятый Дю Вером, сменяется
религиозно-мистическим экстазом и приторной набожностью у Фран-
циска Сальского (François de Sales, 1567—1622), католического бого-
слова и проповедника, канонизированного в XVII в. Его знаменитое
«Введение в благочестивую жизнь» («Introduction à la vie dévote», 1608)
и «Трактат о любви к богу» («Traité de l'amour de Dieu», 1616) посвя-
щены утверждению евангельской морали как единственного принципа че-
ловеческого поведения, и религиозного благочестия как высшей мудро-
сти,, возносящей человека над его «греховной» природой. Отбросив схола-
стическую премудрость, Франциск Сальский делает богословие предме-
том публицистики и в качестве популяризатора занимает видное место
среди моралистов данного периода. Книги Франциска Сальского подгото-
вили расцвет религиозной публицистики XVII в. Его литературная
334
ВОЗРОЖДЕПИН
манера, цветистый и жеманный язык, противоречащий аскетической тен-
денции содержания, отражает эволюцию французской прозы от стилисти-
ческих традиций XVI в. к стилю галантнснпрециозного романа начала
XVII в., в частности к прозе д'Юрфе.
Крупнейшим из моралистов конца XVI в. был Пьер Шаррон (Pierre
Charron, 1541—1603), знаменитый католический проповедник, автор бого-
словского трактата «Три истины» («Les Trois vérités», 1593), в котором
он защищал истинность существования бога — против атеистов, истин-
ность христианства — 'против «неверных», и истинность католицизма —
против протестантов. В трактате «О мудрости» («De la Sagesse», 1601)
Шаррон выступил учеником и истолкователем Монтеня, с которым его
связывала личная дружба. Это главное произведение Шаррона является си-
стематическим пересказам Монтеня, методической обработкой его идей.
Однако, воспроизводя не только многие идеи, но и точные выражения
Монтеня, Шаррон не остался верен языческому духу его мировоззрения.
Скепсис Монтеня и его стремление показать случайность и противоречи-
вость духовного и материального опыта и разумной деятельности людей
были использованы Шарроном в противоположных, враждебных Монтеню
целях. Задачею Шаррона является обосновать незыблемость иррациональ-
ной истины откровения, которую не может оспаривать и не может поколе-
бать бессильный человеческий разум.
Отстаивая вслед за Монтенем принципиальную независимость веры
от знания, Шаррон противопоставляет друг другу божественное и челове-
ческое и ищет для последнего автономного обоснования в морали, выте-
кающей только из естественной природы человека. Эту основу чисто
человеческой «мудрости», открывающей путь к нравственному совершен-
ству, Шаррон видит в «честности» (prud'homie), основанной на следова-
нии человеком его собственной природе, которая добра, разумна и в этом
смысле «божественна». «Будем понимать под природой справедливость
и всеобщий разум, который светит в нас, содержит и взращивает семена
всех добродетелей» («О мудрости», кн. II, гл. V, § 6).
Таким образом, человеческая мораль является самодовлеющей нор-
мой, независимой от морали религиозного «спасения». «Я хочу, чтобы
люди были добродетельны без рая и ада... Я хочу, чтобы ты был доб-
родетелен потому, что этого требуют природа и разум» («О мудрости»,
кн. II, гл. V, § 29). Различая естественную «честность» и религию, Шар-
рон считал, однако, что только их неразрывный союз обеспечивает выс-
шее нравственное совершенство.
Несмотря на «богословский», вообще говоря, характер трактата Шар-
рона, сама идея естественной добродетели, которую Шаррон принимает
вслед за античными мыслителями и Монтенем, оставила глубокий след
в «вольнодумной» философии и литературе XVII в. Гассенди, либертины
и Мольер многим обязаны Шаррону, который недаром прослыл в XVII в.
«патриархом вольнодумцев». В книге Шаррона звучал призыв к самопо-
знанию, к изучению человека в его слабостях, заблуждениях и пороках,
а также в процессе его самосовершенствования. «Истинная наука и истин-
ное знание человека — это сам человек», — писал Шаррон в предисловии
'К своему трактату. Эта тенденция ставит Шаррона в особенно тесную
связь со всем дальнейшим ходом литературного развития, который при-
вел к оформлению художественного идеала классицизма, опиравшегося на
идущую от Монтеня идею «науки о человеке».
КЛАССИЦИЗМ
(ХУП в.)
ВВЕДЕНИЕ
! начала XVII в. французская литература вступила в
новую фазу своего развития, характеризующуюся посте-
пенным созданием нового стиля — классицизма.
Связанный многими нитями с ренессансной, гуманисти-
ческой культурой, пронизанный, подобно ей, преклоне-
нием перед античным искусством и признававший подра-
жание последнему единственным правильным путем
художественного творчества, французский классицизм в
| то же время во многом отталкивался от литературы Ре-
нессанса, ревизовал ее идейно-художественные установки
и выдвигал качественно новые задачи и методы литературной работы.
Французский классицизм XVII в. явился потому не только продолжением
литературы французского Ренессанса, но и своеобразной ее антитезой; он
отметил совершенно новый этан в развитии литературы, характеризую-
щийся ее тесной связью с культурой абсолютистского государства. По-
скольку абсолютная монархия пережила во Франции, после окончания рели-
гиозных войн конца XVI в., особенно пышный расцвет, невиданный ни в
какой другой стране Европы, постольку и искусство абсолютистской Фран-
ция, облеченное в оболочку классицизма, получило огромное распростране-
ние за -пределами Франции и оказало длительное влияние на литературу
всех европейских стран, в том числе и «а русскую литературу XVIII в.
Правильная оценка французской литературы XVII в. и оказанного
ею широкого влияния на литературу других стран невозможна без учета
специфических особенностей французской абсолютной монархии XVII в.
Маркс в своих статьях «Революционная Испания», сопоставляя застойный
испанский абсолютизм, приближающийся к азиатскому деспотизму, с абсо-
лютизмом передовых европейских стран замечает, что в этих странах «аб-
солютная монархия выступает в качестве цивилизующего центра, в каче-
стве основоположника национального единства». Она является своеобраз-
ной «лабораторией, в которой различные элементы общества подвергались
такому смешению и обработке, что города находили возможным проме-
нять свою средневековую местную независимость «. свою суверенность
на всеобщее господство буржуазии и публичную власть гражданского
общества». '
1 К- Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. X, стр. 721.
22 История французской литэратуры—815
ваэ
классицизм
Именно такой исторически-прогрессивный характер получает фран-
цузская абсолютная монархия в XVII в., при трех первых королях из
династии Бурбонов — Генрихе IV (1594—1610), Людовике XIII (1610—
1643) и особенно Людовике XIV (1643—1715), долгое царствование ко-
торого было отмечено не только высшим расцветом французского абсо-
лютизма, но и началом его упадка и разложения.
Вступив на престол после долгого периода гражданских войн конца
XVI в., Генрих IV восстановил национально-государственное единство
Франции, пошатнувшееся в годы гражданских войн. В своем управлении
:траной он -стремился проводить принцип строжайшей централизации.
Отлично понимая, однако, что политическая централизация невозможна
в данных исторических условиях без религиозной централизации, Ген-
рих IV начал свое царствование с того, что перешел из кальвинизма в ка-
толицизм, являвшийся государственной религией. В то же время он поста-
рался удовлетворить интересы своих бывших союзников — гугенотов, из-
дав так называемый Нантский эдикт (1598), обеспечивший гугенотам сво-
боду вероисповедания и предоставивший им ряд политических вольностей.
Успокоив гугенотов, Генрих IV попытался привлечь на свою сторону
крестьян, разоренных гражданскими войнами, путем снижения уплачивае-
мых ими прямых налогов и освобождения их от уплаты недоимок. Под-
держивая сельское хозяйство, Генрих IV в то же время стремился повы-
сить доходы государства путем развития торговли и промышленности.
Он основал несколько крупных казенных («королевских») мануфактур,
оказал поддержку основанию ряда частных мануфактур, учреждал замор-
ские торговые компании и заключал торговые договоры с другими госу-
дарствами.
После того как Генрих IV был убит католическим фанатиком Ра-
вальяком, на престол вступил его сын, малолетний Людовик XIII, а ре-
гентшей Франции стала его мать, Мария Медичи, правившая при помощи
своих фаворитов — итальянца Кончини и герцога ле Люиня. Этих без-
дарных правителей, при которых мятежные феодалы делали несколько раз
попытки поднять смуту, сменил в 1624 г. кардинал Ришелье, в течение
восемнадцати лет единолично правивший Францией в качестве первого
министра Людовика XIII. Ришелье был подлинным создателем могуще-
ства Франции как крупнейшей европейской державы. Он довел до выс-
шей точки присущую французскому абсолютизму систему государствен-
ной централизации, правительственной регламентации и строжайшей мо-
нархической дисциплины. С этой целью он покончил с политической не-
зависимостью гугенотов, повел жестокую борьбу с непокорными феода-
лами, подавил ряд заговоров против своей власти, запретил под страхом
смертной казни очень распространенные <уэеди дворянской молодежи
дуэли. Ришелье создал крепкую систему центрального и местного управ-
ления и завел бюрократический аппарат, состоявший из людей незнат-
ного происхождения. Он привел к повиновению отличавшиеся своей неза-
висимостью старинные судебные учреждения Франции — парламенты.
В своей экономической политике Ришелье еще больше, чем Генрих IV,
поддерживал буржуазию. Он предоставлял всякие привилегии и монопо-
лии купцам и мануфактуристам, завел целую систему запретительных
пошлин на иностранные товары, развивал морскую торговлю Франции,
поощрял организацию торговых компаний и их колонизаторскую деятель-
ность в Америке.
В отличие от Генриха IV Ришелье обратил также большое внимание
на вопросы культуры и искусства. Он придавал очень важное значение
ВВЕДЕНИЕ
559
литературе и, имея претензию
сам быть писателем, окружал
себя поэтами и критиками,
назначал им пенсии и стре-
мился поставить литературу
и театр на службу своей по-
литике. С этой целью он ос-
новал Французскую Акаде-
мию и соответственно напра-
влял ее деятельность. Он со-
действовал формированию
классицизма как официаль-
ного, общегосударственного
литературного стиля. Он под-
держивал также зарождав-
шуюся в это время периоди-
ческую печать и использовал
для пропаганды своей поли-
тики основанную в 1631 г.
Теофрастом Ренодо «Фран-
цузскую газету» («Gazette de
France»).
Ришелье умер в один год
с королем Людовиком XIII
(1643). После смерти послед-
него королем стал пятилетний
Людовик XIV, регентшей —
его мать Анна Австрийская,
а фактическим правителем
Франции — итальянец, кар-
динал Мазарини. Феодальная
знать сделала попытку вернуть себе былое могущество, утраченное при
Ришелье. Одновременно с нею поднялся также утесненный политикой Ри-
шелье парижский парламент. Недовольство феодалов и парламента прави-
тельством Мазарини привело к мятежу, носящему название Фронды
(1-648—1653). Это был одновременно и последний крупный феодальный
мятеж против абсолютной монархии и попытка привилегированных клас-
сов поднять на борьбу с нею народные массы. Изнывавшее от непосильных
налогов население Парижа охотно откликнулось на брошенные парламентом
революционные лозунги и подняло в столице восстание, воспринятое мно-
гими как своеобразный отклик на кипевшую в это время в Англии рево-
люцию. Однако активность народных масс вскоре испугала парижский пар-
ламент и побудила его сблизиться с мятежными феодалами, к которым пе-
решло отныне руководство движением. Тогда Мазарини помирился пооди-
ночке со всеми вождями Фронды, склонив их на свою сторону; различными
подачками. Народное движение зашло в тупик, благодаря предательству
вождей.
Правление Мазарини было отмечено господством финансовых дель-
цов, являвшихся кредиторами правительства. Их покровителем был супер-
интендант финансов Фуке, прославившийся чудовищным расхищением
государственных средств. Когда Мазарини умер, Фуке рассчитывал за-
нять его место правителя Франции. Но Людовик XIV заявил, что будет
править сам, велел арестовать и судить Фуке, а генеральным контроле-
ь
Кардинал Арман де Ришелье.
С гравюры Исаака Брио (1633 г.)
540
КЛАССИЦИЗМ
ром финансов назначил в 1666 г. выходца из купеческой семьи Кольбера,
который вскоре стал руководить всей внутренней политикой Франции во
вторую половину XVII в.
Политика Кольбера была направлена к всемерному подъему произво-
дительных сил страны путем развития торговли и промышленности, с при-
менением системы так называемого меркантилизма, ставившего себе
задачей добиться того, чтобы вывоз из страны продуктов значительно
превышал ввоз Меркантилизм^ существовал во Франции уже до Коль-
бера, но Кольбер довел эту систему до ее высшей точки, сочетав ее с агрес-
сивной внешней политикой Франции, направленной на подавление конку-
рировавших с нею в торгово-промышленном отношении стран (в первую
очередь — Голландии). Такую систему экономической политики принято
называть по имени ее создателя кольбертизмом.
По своим основным тенденциям система кольбертизма содействовала
буржуазному развитию Франции. Годы деятельности Кольбера отмечены
значительным ростом мануфактурной промышленности и большими успе-
хами колониальной политики Франции. Это привлекло к монархии Людо-
вика XIV симпатии широких кругов буржуазии, интересы которой начали
играть значительную роль в политике дворянского государства. Потому
реакционная феодальная знать, нашедшая своего наиболее яркого вырази-
теля в лице герцога Сен-Симона, презрительно назьгаала Людовика XIV
королем «гнусной буржуазии». На самом же деле абсолютная монархия
Людовика XIV являлась классическим образцом дворянского государства,
поддерживавшего деятельность буржуазии только до известных пределов.
Хронологической гранью, отметившей конец «буржуазной» политики
Людовика XIV, явилась смерть Кольбера (1683). Начиная с этого мо-
мента, военно-феодальная агрессия дворянской монархии перешла те гра-
ницы, в которые пыталась ввести ее благоразумная политика Кольбера,
и стала разорительной для французского народного хозяйства. Военные
неудачи повлекли за собой экономический упадок страны и политическую
реакцию, нашедшую яркое выражение, между прочим, в религиозных го-
нениях на протестантов и разные секты (янсенистов, квиетистов и др.).
Под давлением реакционных прелатов Людовик XIV отменил Нантский
эдикт (1685), что повлекло за собой массовую эмиграцию кальвинист-
ской буржуазии в соседние протестантские страны (Англию, Голландию,
Швейцарию). Эта эмиграция, сопровождавшаяся вывозом огромных ка-
питалов, нанесла большой урон французской торговле и промышленности.
Исторически прогрессивная роль монархии Людовика XIV была исчер-
пана до конца; отныне она превратилась в душительницу свободной
мысли и в тормоз капиталистического развития Франции.
До отмеченного реакционного поворота в политике Людовика XIV
его царствование представляло собою наиболее законченное выражение
государственной системы абсолютизма. В своих мемуарах Людовик XIV
подробно развивал мысль, выражаемую приписываемой ему знаменитой
фразой: «государство — это я». Он писал, что «только королю принадле-
жит право решать и (постановлять», что король «имеет естественное право
свободно распоряжаться добром как светских, так и духовных лиц», ибо
его власть установлена самим ботом. Такие положения имели целью обос-
новать право короля на деспотическое управление Францией, зависящее
только от его собственного королевского «благоусмотрения» (le bon plaisir).
Людовик XIV завершил начатую Генрихом IV и Ришелье систему
централизации и бюрократизации французского государства. Он необы-
чайно развил полицейскую власть, которая вмешивалась во все области
ВВЕДЕНИЕ
541
общественной жизни. В центре страны он поставил свой двор, в кото-
ром феодалы, еще недавно бунтовавшие, «выступали теперь в качестве его
раболепных придворных, прислужников « но роля-солнца», как любил себя
называть Людовик. Королевский двор имел местопребывание в роскош-
ных загородных резиденциях (Версаль, Сен-Жермен и др.). Здесь проис-
ходили торжественные приемы и великолепные празднества, на которые
тратились сказочные суммы денег. Блеск двора Людовика XIV вызывал
восторг и попытки подражания у всех других европейских монархов.
Этот двор являлся в период расцвета монархии Людовика XIV так-
же крупнейшим культурным центром страны. Все виднейшие французские
поэты, писатели, музыканты, художники привлекались Людовиком XIV
к обслуживанию его двора своими произведениями. За это они пользова-
лись личным покровительством короля, награждались дарами, пенсиями,
придворными титулами и должностями. В связи с этим искусство и лите-
ратура Франции приобрели) в лучшие годы правления Людовика XIV не-
который придворный отпечаток. Такие придворные черты имеются
и в ведущем литературном стиле Франции XVII в.—классицизме.
Став передовой страной эпохи абсолютизма, Франция распростра-
няет на все европейские страны свое культурное влияние. Широкая экспан-
сия французской придворной культуры за пределы Франции обусловли-
вает гегемонию французского языка, который становится в XVII и
XVIII вв. международным языком «светского общества» всех стран
Европы. «Эта великая честь досталась аристократическому языку только
потому, что в Европе Франция
была единственной страной, где
дворянство, сосредоточившись
вокруг своего феодального пове-
лителя, создало обширный двор
и достигло галантности и изя-
щества, которыми восхищалась
и которым подражала аристо-
кратия остальных европейских
стран». '
Цивилизующая роль фран-
цузской монархии XVII в.,
ее национально-объединительная
политика, ее функция «лабора-
тории», в которой происходило
формирование нового буржуаз-
ного общества, обусловили то,
что ее культура, искусство и ли-
тература были явлением истори-
чески прогрессивным. Все круп-;
нейшие французские писатели-]
классицисты XVII в. боролись |
за создание большого, монумен-'i
тального искусства, вырастаю- ';
щего на основе государственного J
и национального единства. По-
тому дворянская литература Людовик XIV.
ЭТОГО Времени В СВОИХ ВЫСШИХ С портрета Жасента Риго, грав. П. Древе.
1 П. Лафарг. Язык и революция. М., 1930, стр. 32.
Г>42
КЛАССИЦИЗМ
достижениях выдвигает идею подчинения стихийного, чувственного чело-
века некоей идеальной, «разумной» и «справедливой» государственной
власти, гармонически уравновешивающей враждебные сословия. Такая
постановка вопроса отвечала интересам широких масс третьего сословия,
их стремлениям к твердому порядку, полагающему предел самоуправству
и анархии средневековых феодалов. В этих стремлениях * подчас можно
уловить нотки гражданственности, которые впоследствии будут подхвачены
и развиты революционной буржуазией в XVLII в. Так искусство абсо-
лютизма являлось в известном смысле подготовкой к формированию
буржуазно-революционного искусства эпохи Просвещения, которое не-
даром часто выступало в оболочке классицизма.
Историческая прогрессивность классицизма, как стиля централизо-
ванной национальной монархии XVII в., проявляется в его тесной связи
с прогрессивными идейными течениями данной эпохи. Начавшаяся ломка
феодальной системы и рост капиталистических отношений порождали на-
стоящую революцию в области мышления и научных знаний. XVII век
был не только веком торжества абсолютизма, «золотым веком» придворной
культуры, достигшей своей высшей точки в правление Людовика XIV.
Он продолжил также и во многих отношениях углубил то, что было уже
создано во Франции XVI века, а именно ново-европейскую науку и фило-
софию, наносившие решительные удары религиозно-схоластическому миро-
воззрению средних веков. Именно в этом отношении особенно ясно уста-
навливается генетическая связь французской культуры XVII в. с культу-
рой Ренессанса, в которой можно найти корни большинства прогрессивных
идейных течений XVII в.
Одним из наиболее значительных идейных достижений Франции
XVII в. являлось создание рационалистической философии, сложившейся
в стройную систему под пером великого мыслителя Рене Декарта (René
Descartes, 1596—1650). Хотя Декарт прожил значительную часть жизни
за пределами Франции (в Голландии и в Швеции), он был подлинным
властителем дум всей передовой части французского общества XVII в.
На ряду с великим английским философом Беконом, Декарт был одним
из создателей научного мировоззрения нового времент Он был мысли-
телем-революционером, смело боровшимся с идеологией феодального об-
щества, с ее схоластическим методом, который продолжал еще держаться,
несмотря на все сокрушительные удары, нанесенные ему мыслителями
XVI в. Выдвинув лозунг завоевания природы человеком, он понял необ-
ходимость развития точных наук (математики," физики), на основе которых
можно было бы создать новую технику. Его философия опиралась на дан-
ные точных наук и в свою очередь пыталась методически обосновать новые
приемы научного исследования, подрывавшие в корне старое, теологическое
понимание мира.
Своим оружием в борьбе с остатками средневековой схоластики Де-
карт избрал универсальное сомнение, распространяющееся на все виды
знания, кроме математического. Это последовательное сомнение приводило
Декарта к выводу, что достоверно только мышление, которое и является
надежной опорой всякого знания. Знаменитое положение Декарта «cogito,
ergo sum» («я мыслю, следовательно, я существую») устанавливало все-
общим критерием знания не свидетельства чувств, а усмотрение разума,
который являлся для него верховным судьей истины. Так была заложена
основа рационалистического метода познания действительности, по суще-
ству идеалистического, поскольку Декарт утверждал примат мышления
над бытием, но в то же время проникнутого огромным пафосом объекти-
1ЩАТШ ШБСШТШ.ШВИЖ Gk\£lSS,mW№NÏ T>OMWVS,$mmm HATH£NLAT!CVS A miLOSOim*
f. m
Рене Декарт.
С портре*а Фраица Гальса, грав. ЗудергуфоВ".
344
КЛАССИЦИЗМ
визма и научной критики. Рационализм Декарта имел для своего времени
безусловно 'прогрессивный характер, потому что он утверждал с большой
силой принцип самосознания личности, прославлял величие человеческого
разума; этим он устранял все «сверхразумные» пути к достижению истины
(божественное откровение, церковное предание и т. д.) и наносил жестокий
удар религии и церкви. Кроме того, он значительно углубил наивный
рационализм XVI в.
Философская система Декарта в целом представляет своеобразное
сочетание материалистических и идеалистических элементов, причем в раз-
личных частях системы преобладают то первые, то вторые. Декарт был
дуалистом, признававшим наличие двух противоположных и несводимых
одна к другой субстанций—протяжения (материи) и мышления (духа).
Его учение о телесной субстанции было материалистично, потому что оно
тяготело к строго научному объяснению явлений. Напротив, в своем уче-
нии о мышлении Декарт стоял на идеалистических позициях; он был сто-
ронником доктрины врожденных идей и выводил из своего «cogito» не
только существование внешнего мира, но и бытие бога, которого он объяв-
лял первопричиной обеих субстанций. Это дало возможность впослед-
ствии опираться на Декарта ряду реакционных философов-идеалистов иезу-
итского толка. Материалистические же элементы системы Декарта, в свою
очередь, оказали влияние на таких передовых мыслителей, как Спиноза,
Гоббс, Локк и французские материалисты XVIII в.
Во Франции XVII в. рационалистический метод Декарта сыграл
(особенно на первых норах) большую прогрессивную роль в силу прису-
щей ему борьбы за строгую дисциплину в области мышления, вытекав-
шую из признания истинным только того мышления, которое ясно и от-
четливо. Исходя из этого положения, картезианская логика, разработан-
ная учеными, преподававшими в- школе знаменитого янсенистского мона-
стыря Пор-Рояль, рекомендовала мыслить, начиная с простого и посте-
пенно восходя к сложному, и разлагать каждое явление на столько ча-
стей, на сколько его вообще возможно разложить. Итак, картезианский
анализ заставлял ограничивать изучаемый предмет, устанавливая абсо-
лютное разделение всех родов и: видов. Этот принцип, определяемый фор-
мулой «diviser les difficultés» («делить трудности»), полностью усваи-
вается передовой французской литературой XVII в. Последняя отступает
от универсализма и энциклопедизма, характерных для всех крупных пи-
сателей французского Ренессанса (Маргарита Наваррокая, Рабле, Мон-
тень и др.)- «Рассуждение о методе» («Discours sur la méthode», 1637)
Декарта как бы дало сигнал реакции против всякого рода вольностей в
области мышления. Оно учило разграничениям и ограничениям, учило
обособлению и выделению явлений, вещей и людей с целью сведения их
к «сущности», т. е. к области чистой мысли. Впечатление, произведенное
«Рассуждением о методе» на всю передовую дворянскую и буржуазную
интеллигенцию Франции, было огромно. Даже женщины, не читавшие до
того философских сочинений, зачитывались маленькой книжечкой Де-
карта, написанной, в отступление от традиции, не по-латыни, а на пре-
восходном французском языке.
Огромный успех Декарта объясняется тем, что ему удалось форму-
лировать в предельно ясной и в то же время обобщенной форме основ-
ные идейные устремления той эпохи. Борь1ба абсолютной монархии со
всякого рода «своеволием» находила своеобразное соответствие и фило-
софское обоснование в рационализме Декарта с его культом универсаль-
ВВЕДЕНИЕ
545
ного разума, этого единственного гносеологического принципа, устанавли-
вавшего объективные и общеобязательные правила мысли! и творчества.
Аналогичная борьба со «своеволием» происходила с начала XVII в.
также и в художественной литературе. Основоположники французского
классицизма (Малерб, Бальзак, Шаплен, Вожла, д'Обиньяк) энергично
воевали с унаследованным от Ренессанса индивидуализмом, с культом
субъективного произвола, стихийной эмоциональности и неорганизован-
ного «вдохновения». Они проводили «очищение» поэзии и поэтического
языка во имя «разумной» организации поэтического материала, внедряя
в сознание поэтов принцип строжайшей дисциплины. В своей борьбе
с субъективным лиризмом и эмоционализмом они апеллировали к тому
же универсальному «разуму», как упорядочивающему принципу. Даже
знаменитое правило трех единств, этот стержневой принцип драматургии
классицизма, разработанный уже теоретиками ренессансной драмы в Ита-
лии и во Франции (Триссино, Веттори, Кастельветро, Скалигер, Жан
де Ла-Тайль), обосновывается аббатом д'Обиньяком не предписаниями
Аристотеля и Горация, а требованиями разума. Если Декарт объявлял
разум верховным судьей истинного, то Шаплен и д'Обиньяк объявили
его верховным судьей прекрасного. Признание разума критерием объек-
тивной эстетической ценности было окончательно закреплено в «Поэти-
ческом искусстве» Буало, этом кодексе французского классицизма.
Картезианская философия и литературная доктрина классицизма яви-
лись двумя формами выражения рационалистического (мышления, харак-
терного для дальнейшего развития возникшей в эпоху Возрождения ран-
ней буржуазной культуры. Потому корни рационализма XVII в. следует
искать в культуре позднего ф.ранцузского Ренессанса, установившей рацио-
налистическое отношение к природе и создавшей культ разумной человеч-
ности, противопоставленной вульгарному чувственному миру. Здесь же надо
искать и корни характерного для Декарта и французских классицистов дуа-
листического мышления. Античный идеал гармоничного человека, в котором
идеально уравновешены духовная и физическая стороны, распался уже
у поздних гуманистов. Этот распад и был закреплен в первой половине
XVII в. в дуалистической метафизике Декарта, противопоставившей мате-
рию и дух как две несводимые одна к другой субстанции. Другим выра-
жением того же распада явилось характерное для всей французской клас-
сицистической литературы XVII в. противопоставление эстетических
категорий высокого и низменного, трагического и комического, в которых
находила выражение антиномия разумного и чувственного человека. Но
если французские писатели независимо от Декарта вступили на путь
рационалистического мышления, то все же именно Декарт способствовал
окончательному оформлению рационалистической эстетики. Под его влия-
нием доктрина классицизма получила во второй половине XVII в. строй-
ные и законченные очертания.
Являясь своеобразным художественным эквивалентом картезианского
рационализма, французский классицизм подобно ему характеризуется
совмещением идеалистических и материалистических тенденций. С одной
стороны, он утверждает господство в литературе законов универсального
разума и отделяет мысль от материи. С другой стороны, он объявляет
прекрасным только правдивое и призывает к подражанию природе, в ко-
торой и заключена подлинная правда.
Первый тезис имеет идеалистический характер и обусловливает после-
довательное, систематическое абстрагирование действительности, стремле-
ние облечь ее в вечные, неизменные, идеальные формы, противополож-
346
КЛАССИЦИЗМ
ные чувственному материалу. Соответственно этому принципу, поэтика
классицизма призывала при изображении чувственной действительности
отвлекаться от индивидуального своеобразия, растворять единичное во
всеобщем, воспроизводить только родовые, а не видовые признаки пред-
метов, и выдвигать логическую сторону за счет эмоциональной.
Второй тезис вносит в творческий метод классицистов некоторые
материалистические тенденции, вливает в него реалистическую струю.
Писатели-классицисты, даже абстрагируя действительность, все же стре-
мились познать и отразить типичные закономерности реальной жизни
своего времени. Однако их интерес к реальной действительности ограни-
чивался по преимуществу внутренней жизнью человека, миром человече-
ских страстей и переживаний, в противовес материальному существованию,
которое обычно игнорировалось. В области анализа человеческой психики,
в области изучения человеческих характеров и страстей, классицисты
внесли немало нового в литературу, которая обязана им крупными реали-
стическими достижениями. Именно классицизм способствовал преодоле-
нию одностороннего, вульгарного понимания реализма, ограничивающего
его показом только внешней оболочки вещей и людей, быта, условий
материального существования (плутовской роман и его французские под-
ражатели).
Реалистические завоевания классицизма сводятся, главным образом,
к присущему ему тщательному изучению закономерности и логики1 душев-
ных движений, а также развития человеческой мысли в действии. При
этом последовательные классицисты стремились воспроизводить в чело-
веке его «сущность» и сравнительно мало интересовались тем, что они счи-
тали изменчивыми формами ее внешнего проявления. Но такой отрыв
от внешних обстоятельств помогал установить элементарные, общие за-
коны человеческой психики, без чего невозможно было дальнейшее про-
движение искусства по пути реализма.
При всех его реалистических достижениях классицизм был в основ-
ном идеалистическим стилем. Его идеалистическая сущность проявлялась
в глубоко формальном понимании им законов прекрасного, которые из-
влекались из анализа духовной деятельности человека, а не из наблюде-
ния и изучения живой действительности. Вслед за Декартом классицисты
считали обязательными условиями художественности симметрию, гармо-
нию и единство. Из этих трех принципов только третий — принцип един-
ства идейного и художественного замысла произведения — является безу-
словным эстетическим критерием. Но и это единство понималось класси-
цистами преимущественно как единство формальное — простое, ясное, ло-
гическое, лишенное многообразия и противоречий, присущих реальной дей-
ствительности. Что же касается утверждения необходимости во всяком
произведении симметрии к гармонии, то оно должно было часто приводить
к расхождению с жизненной правдой. Идеалистическая эстетика класси-
цизма, считавшая источником объективной красоты гармонию вселенной,
обусловленную лежащим-в ее основе духовным началом, ставила перед ху-
дожником задачу привносить эту гармонию в изображение действитель-
ности, превращая природу в «прекрасную природу» (la belle nature). Это
требование уводило поэтов-классицистов от отражения в их произведениях
неприкрашенной правды жизни.
Погоня за симметрией и гармонией во всяком произведении искусства
побуждала классицистов стремиться к чисто геометрической конструкции
художественных произведений, основанной на симметричном расположе-
нии их частей и формальных эл-ементаз.. Этот принцип особенно отчетливо
ВВЕДЕНИЕ
347
выступал в произведениях изобразительных искусств. Он лежит также
в основе обработки живой природы в садах и парках того времени, архи-
тектурно построенных и геометрически распланированных (например, в
Версале). Но этого мало. Мы встречаем применение этого принципа также
в художественной литературе. Здесь он распространялся и на построение
фабулы, и на ведение повествования и диалога (в драматических произве-
дениях), и на самый язык и метрику.
Законы формальной логики полновластно господствовали в принципах
построения отдельных литературных произведений и целых литературных
жанров. Применение этих законов к области художественного творчества
порождало знаменитые «правила» (les règles), считавшиеся безусловно обя-
зательными для всех писателей, как законы самого «разума». Среди этих
«правил» особенно важное место занимало правило трех единств (времени,
места и действия) в драматических произведениях и принцип резкого
разграничения эстетических категорий (ужасного и смешного, высокого и
низменного), положенный в основу классицистического учения о жанрах.
Поэтика классицизма разделяла все жанры на «высокие» и «низкие».
К первым относились трагедия, эпопея и ода, ко вторым — комедия,
сатира, эпиграмма, идиллия и т. д. Жанры разграничивались прежде
всего по изображаемым в них объектам. Материал для «высоких» жанров
давал двор, жизнь и деяния монархов, принцев и высшей знати. Мате-
риал для «низких» жанров давал «город», т. е. жизнь и нравы городского
населения. «Высокие» жанры характеризовались высоким, патетическим
слогом, и целью их было поразить, потрясти или растрогать читателя.
Произведения «низких» жанров писались обыденным разговорным язы-
ком и «фамильярным» слогом; их назначением было — развлечь, позаба-
вить или насмешить читателя. Особенно резко проводилось разграниче-
ние жанров в области драмы, которая являлась в эпоху классицизма
ведущим литературным родом. «Смешные горожане и несчастные короли —
вот весь возможный у нас театр», — четко формулировал впоследствии
разграничение жанров в драматургии классицизма ее страстный отрица-
тель Бомарше, иронически подчеркнувший лежащий в основе этого раз-
граничения сословный принцип.
Однако сословная ограниченность поэтики классицизма не выступала
в грубом, обнаженном виде. Разграничение «высоких» и «низких» жанров
в системе классицизма основывалось на противопоставлении сферы госу-
дарственной, политической деятельности, определяющей судьбы народов,
сфере частной жизни с ее домашним бытом и низменными материальными
заботами. Изображение первой составляло прерогативу трагедии, изобра-
жение второй предоставлялось комедии. Поскольку в абсолютистской
Франции государственно-политическая деятельность являлась привилегией
королей, полководцев, вообще людей высшего звания, постольку именно
они являлись героями классической трагедии, содержание которой высоко
возносилось над уровнем обыденных житейских переживаний. Присущая
ей установка на абстрактные типы, лишенные индивидуальных черт, при-
водила к созданию целого ряда образов аристократических героев, в ко-
торых видели образы совершенных, идеальных людей. Сходная типизация
образов была присуща также классической комедии, но там она приво-
дила к обобщенному изображению различных бытовых странностей, из-
вращений и пороков, не выходящих из сферы частной жизни.
Удельный вес различных литературных жанров в поэтике классицизма
был весьма различен. В области прозы классицисты обнаруживали при-
страстие, к описательным и дидактическим жанраы (характеристика, афо-
548
КЛАССИЦИЗМ
ризм, проповедь, памфлет), в которых они могли оперировать максимально
обобщенными, типическими образами, не останавливаясь на внешних со-
бытиях. Такие установки вызывали также пренебрежительное отношение
классицистов к роману, который они считали неполноценным, гибридным
жанром. Единственный роман классицистического стиля — «Принцесса де
Клев» мадам де Лафайет — представляет собой в сущности мастерски
написанный психологический этюд со сравнительно мало разработанным
элементом повествования.
В области поэзии наименьшую роль играли в пору классицизма лири-
ческие жанры, в силу присущего этому роду поэзии субъективного, не-
посредственно-эмоционального, индивидуализирующего характера. В высо-
кой лирике (оды, гимны) лиризм подменялся риторикой и оттеснялся
дидактикой, обычно превращавшей ее в своеобразную проповедь в сти-
хах. Анакреонтическая лирика стояла на периферии классицистичеокого
стиля и никогда до конца не избавилась от влияния враждебной класси-
цизму прециозной поэзии. Несравненно более плодотворно разрабатывали
классицисты дидактические жанры (сатиру, басню). Но ведущее место
среди поэтических родов занимала драма в силу своего максимально объек-
тивного, типизирующего, а также декларативного характера, который де-
лает ее незаменимым орудием пропаганды. Обращаясь к драматической
форме, требующей для своей полной реализации театральной инсценировки,
классицисты получали возможность наиболее эффективного воздействия
на широкие слои французского народа. Именно в драматургии классицизм
ближе всего подходил к задаче создания монументального национального
искусства.
Этой задаче отвечала также присущая классицизму ориентация на
античность. Преклонение перед античным искусством было одним из наи-
более существенных моментов, связывавших классицизм с искусством
Ренессанса. Вслед за гуманистами XV—XVI вв., классицисты XVII в.
считали античное искусство непревзойденным образцом художественного
совершенства, которому следует подражать. Однако их понимание антич-
ности носило абстрактный, рационалистический характер, что мешало
освоению ими наиболее ценных сторон античного художественного на-
следия.
Классицисты ориентировались меньше на греческое, чем на римское
искусство, более строгое и холодное, менее связанное с народным творче-
ством. При этом из римского искусства они часто отбирали те элементы,
которые гармонировали с культурой монархической Франции XVII в.
Потому республиканская античность, обогатившая творчество Корнеля,
постепенно оттесняется римским цезаризмом. В период высшего расцвета
классицизма — яри Людовике XIV — уподобление его монархии Римской
империи становится ходовым, сам король изображается 'поэтами (Расин)
и живописцами (Лебрен) в обличий римских цезарей или Александра
Македонского, герои классической трагедии наделяются римской доблестью
и величием. Однако вся эта помпезность носит подчас декоративный ха-
рактер и далека от подлинного духа античного искусства, несмотря на то,
что под эффектной придворной оболочкой произведений классицистов
всегда кроется глубокое внутреннее содержание.
Но особенно отдаляло французских классицистов от античности то
обстоятельство, что французский XVII век был веком возрождения като-
лицизма и в этом отношении решительно противостоял языческому Воз-
рождению XVI в. с присущими ему материалистическими, скептическими
и антицерковными настроениями. Потому, если французским гуманистам
ВВЕДЕНИЕ
349
XVI в. освоение античных образцов помогало эмансипироваться от опеки
ре)лигии и церкви, то большинство классицистов XVII в. пыталось соче-
тать культ античности с преданностью католицизму и прославлением
христианской веры (религиозные трагедии и стихи Корнеля и Расина,
старческое религиозное обращение Буало и Лафонтена). Этот союз с цер-
ковью значительно ослаблял звучание античных идей и образов в про-
изведениях французских классицистов и часто придавал связи последних
с античной литературой довольно внешний, формальный характер.
Этим объясняется также и то, что прямое подражание античным
авторам встречалось у французских классицистов довольно редко. Из ан-
тичной литературы или древней истории они брали некоторые сюжеты и
образы, истолковывая их на совершенно новый, французский лад. В итоге
Расин оказывался мало похожим на Еврипида, а Лафонтен — на Эзопа.
Сила французских классицистов — в их творческой оригинальности, в их
органической связи со своей эпохой, в полном отсутствии у них реста-
враторских и стилизаторских тенденций. Именно потому они вне-
сли такой огромный вклад в строительство французской национальной
литературы.
Французский классицизм, являясь господствующим стилем литера-
туры XVII в., далеко не сразу занял ведущее место в литературной
жизни Франции XVII в. Он прошел весьма долгий путь развития в тече-
ние первой половины XVII в., ведя ожесточенную борьбу на два фронта —
с галантно-аристократической литературой барокко (иначе называемой
прециозной литературой) и с «низменным», бытовым реализмом. Первое
течение носило кастовый, реакционно-феодальный характер; оно было
откровенно идеалистическим, эклектически сочетавшим своеобразную свет-
скую мистику с крайним формализмом. Второе течение носило буржуазно-
демократический характер; оно было стихийно материалистическим, вольно-
думным, презрительно относившимся ко всяким авторитетам и всякой
дисциплине. Оба течения, при всей своей социальной противоположности,
подчас скрещивались и переплетались между собой в деятельности отдель-
ных писателей (например, Сирано де Бержерака).
Основой для такого объединения являлось то, что оба течения были
враждебны рационализму, с одной стороны, и политике абсолютной монар-
хии, представленной кардиналом Ришелье, — с другой. Это была своеобраз-
ная Фронда в области литературы. После того как абсолютизм сокрушил
Фронду политическую, ослабело фрондерское движение также и в области
литературы. Последние группы оппозиционно настроенных писателей, при-
надлежавших к обоим враждебным классицизму течениям, были разгро-
млены Буало, окончательно поставившим созревший классицизм на службу
монархии Людовика XIV. С 60-х годов XVII в. классицизм стал господ-
ствующим литературным стилем абсолютистской Франции и сохранил это
положение в течение значительной части XVI 1|1 в., несмотря на все огром-
ные изменения в общественно-политической и литературной жизни Фран-
ции этого времени.
Однако и внутри самого лагеря классицистов не было полного един-
ства философских и литературных взглядов. Даже оба корифея классиче-
ской трагедии XVII в. — Корнель и Расин — значительно расходились
в своих теоретических установках и в своей художественной поактике.
Еще более значительным было расхождение с Корнелем и Расином Мольера
и Лафонтена, которые, примыкая к классицизму, не разделяли идеалисти-
ческих установок его ведущих писателей, критически относились к рацио-
нализму Декарта и были последователями противника Декарта, материа-
360
КЛАССИЦИЗМ
листа Гассенди, вождя философских либертинов (libertins) середины
XVII в.
Либертинаж (libertinage) являлся весьма значительным идеологиче-
ким течением, проходящим через весь французский XVII век и связы-
вающим его с XVIII веком, веком буржуазного Просвещения. Само
слово «либертинаж» имело во Франции XVII в. двойное значение; оно
означало, с одной стороны, «вольнодумство», «свободомыслие», с дру-
гой — «распущенность». Обозначение одним словом двух столь различ-
ных понятий носило явно полемический, дискредитирующий вольнодум-
ство характер. Отождествление свободомыслия и половой распущенности
шло из реакционных, дворянско-церковных кругов, пытавшихся объяснить
всякое отклонение от церковной догмы и авторитарной морали самыми
низменными побуждениями и прежде всего стремлением сбросить с себя
узду в области частной жизни и личных отношений. Правда, среди части
аристократической молодежи уже в первой трети XVII в. появляется
обыкновение афишировать свое презрение к религии и церкви и демон-
стративно кощунствовать, в то же время отдаваясь своим низменным, по-
рочным инстинктам. Такое «озорное» безбожие не имело ничего общего
с настоящим философским либертинажем, продолжавшим лучшие традиции
ренессансного вольнодумства.
В философском и литературном отношении либертины были запоз-
далыми представителями века Монтеня и последователями его ученика
Шаррона, чей трактат «О мудрости», написанный с целью популяризации
идей Монтеня, являлся около 1615 г. евангелием всех либертинов. Фило-
софские воззрения либертинов колебались между пантеизмом, деизмом
и чистым атеизмом; последний встречался, впрочем, довольно редко. Но
все либертины, вслед за Монтенем и Шарроном, сводили философию
с неба на землю, отрывали ее от религии и ставили перед ней задачу
изучения человека. Основной нормой человеческого поведения являлось
для них «следование природе» (suivre la nature), причем закон природы
отождествлялся ими с мировым разумом и справедливостью.
Учение либертинов о «следовании природе» по существу носило гума-
нистический характер и выражало провозглашенный в эпоху Ренессанса
культ жизни и земных наслаждений, выраставший на основе широкого
усвоения философии античного материалиста Эпикура. Эта философия
неоднократно истолковывалась как пропаганда вульгарного «наслажден-
чества»; подобное истолкование культивировалось либертагнами-аморали-
стами из среды распутной дворянской молодежи. С таким искаженным
пониманием эпикуреизма имел очень мало общего философский либер-
тинаж, учивший, в точном согласии с подлинным учением Эпикура, уме-
ренности, воздержанию и чистоте нравов. Этот возвышенно понимаемый
эпикуреизм не отделял наслаждения от добродетели и истолковывал на-
слаждение как сознание человеком своей внутренней доблести и своего
возвышения над ударами судьбы. Он был унаследован либертинами
XVII в. от всей плеяды философов Ренессанса (Лоренцо Валла, Веспуччи,
Томас Мор, Монтень, Шаррон). В первой половине XVII в. он получил
во Франции развитие в сочинениях известного философа-материалиста
Пьера Гассенди (Pierre Gassendi, 1592—1655), возродившего как мораль-
ное учение Эпикура, так и его атомизм.
Подобно Декарту, Гассенди был непримиримым врагом схоластиче-
ской философии и вел с нею жестокую борь'бу. Но если Декарт восста-
вал против схоластики во имя разума, то Гассенди боролся с нею ору-
жием опытного знания. Он расходился с Декартом в решении основных
ВВЕДЕПИЕ
3oi
Версаль.
С гравюры Сильвестра (1684 г.).
философских проблем. Так, он оспаривал рационалистическую гносеоло-
гию Декарта с позиций сенсуализма. Считая, что «чувства никогда не
обманывают», Гассенди утверждал, что всякое суждение разума должно
основываться на показаниях чувств. Он высказывался также против мето-
дического сомнения Декарта, доказьшая, что отвлечение от чувственно
данного невозможно и что достоверность «я» вытекает не из акта мышле-
ния, а из любого действия человека.
Гассенди критиковал также дуалистическую метафизику Декарта. Он
протестовал против отрыва Декартом мысли от материи. Сам он стоял
на отчетливо материалистической точке зрения. Вслед за Эпикуром и
Лукрецием он считал, что в основе всего существующего лежит материя,
состоящая из неделимых частиц — атомов; их движением, положением и
порядком определяется все многообразие вещей. Происхождение психики
Гассенди объяснял чисто механическим путем.
Опасаясь преследований церкви, Гассенди объявил первопричиной
атомов бога, который, создав их в первые дни творения, дальше не вме-
шивается в ход космических событий и, кроме того, не может уничтожить
пространство и время, даже если бы захотел это сделать. В угоду церкви
Гассенди допускал также существование бессмертного и бестелесного духа,
который может быть, однако, согласно точному смыслу его учения, только
абсолютной пустотой.
Гассенди был последователем Эпикура также в своей ^этике. В ее основу
он клал учение о наслаждении, которое он считал конечной целью чело-
века и определял как «здоровое состояние тела и спокойствие духа».
В точном согласии со своей сенсуалистической доктриной, он исходил в
этике из природы человека, из его естественных склонностей, и давал
3S2
кллсслцпзм
чисто светское обоснование человеческим поступкам. Система этики Гас-
сенди оказала огромное "влияние на многих передовых французских писа-
телей второй половины XVII в. Непосредственными учениками Гассенди
были Сирано де Бержерак, Шапель и Бернье. Его ближайшими последо-
вателями являлись Мольер и Аафонтен, воспринявшие от него также
высокую оценку опыта и интерес к личности человека. Влияние Гассенди
проявилось и у таких вольнодумных писателей-классицисто1В, как Ларош-
фуко, Лабрюйер, Бюсси-Рабютен и Сент-Эвремон. Многие гассендисты
принадлежали к числу «неблагонадежных» писателей, находившихся в не-
милости у Людовика XIV, ссылавшихся им или добровольно покидавших
родину, подобно Сент-Эвремону, литературная деятельность которого про-
текла почти целиком в Англии.
Картезианцы и гассендисты являлись в XVII в. наследниками раз-
личных сторон ренессансной культуры и выступали в той или иной мере
выразителями гуманистических воззрений. Но эпикурейской морали гас-
сендистов (Мольер, Лафонтен) картезианцы (Корнель, Расин) противо-
поставляли отчетливую стоическую мораль.
На ряду с этими чисто светскими писателями, классицистический
лагерь располагал также рядом церковных и религиозных авторов, про-
тивопоставлявших языческому гуманизму христианскую доктрину. У этих
писателей тоже не было единства идеологических установок. Они распа-
дались по меньшей мере на два враждующих течения — ортодоксальных
католиков (Боссюэ, Бурдалу, Массильон) и янсенистов, которых офи-
циальная церковь считала еретиками и жестоко преследовала (Паскаль,
Арно, Николь). Влияния этих религиозных мыслителей не избежали даже
ведущие классицисты — Корнель, во второй половине своей деятельности
испытавший на себе влияние иезуитов, и Расин, отдавший в своих произ-
ведениях последних лет значительную дань янсенизму.
Итак, под крышей классицизма уживались весьма разнородные идео-
логические течения, враждовавшие между собой. Значительные расхожде-
ния по отдельным вопросам не мешали им, однако, принимать активное
участие в строительстве французской национальной литературы XVII века.
Г Л А И A Î
ФОРМИРОВАНИЕ КЛАССИЦИЗМА
1
итературная жизнь Франции в годы правления короля
Генриха IV отличалась крайней пестротой, противоре-
чивостью, отсутствием единства художественных устре-
млений. Хотя с момента воцарения Генриха IV во всех
областях французской жизни началась энергичная
борьба со всякого рода своеволием, характерным для
периода гражданских войн XVI в., тем не менее это
своеволие, этот анархический индивидуализм продол-
жали решительно царить во французской литературе
его времени. В поэзии попрежнему задавали тон эпи-
гоны Плеяды (Депорт, Берто, Дюперрон, Воклен де Лафрене и др.) с их
довольно разнородным творчеством. В прозе вольнодумный скептицизм
Шаррона стоял рядом с христианским стоицизмом Дю Вера и мистикой
Франциска Сальского. Одни писатели казались опоздавшими родиться,
другие — родившимися слишком рано. Вся литература времен Генриха IV
отчетливо носила характер литературы переходной поры.
Среди этого хаоса разнородных тенденций намечалась также извили-
стая линия того течения, которому предстояло впоследствии победить в ли-
тературе XVII в. Зачинателем этого классицистического течения был Фран-
суа де Малерб (François de Malherbe, 1555—1628). Он был подлинным
вождем новой литературной школы, которая окончательно оформилась
только лет через тридцать после его смерти. Впоследствии Буало в своем
«Поэтическом искусстве» так очертил заслуги Малерба перед французской
поэзией:
Enfin Malherbe vint, et, le premier en France,
Fit sentir dans les vers une juste cadence;
D'un mot mis en sa place enseigna le pouvoir.
Et réduisit la Muse aux règles du devoir.
Par ce sage écrivain la langue réparée
N'offrit plus rien de rude à l'oreille épurée;
Les stances avec grâce apprirent à tomber;
Et le vers sur le vers n'osa plus enjamber.
Tout reconnut ses lois; et ce guide fidèle
Aux auteurs de ce temps sert encor de modèle. *
1 «Наконец пришел Малерб и первый во Франции дал почувствовать в стихах
точную гармонию, показал силу слова, помещенного на должном месте, и подчинил
музу правилам долга. Исправленный этим мудрым писателем язык перестал являть
разборчивому уху что-либо грубое—строфы научились литься с изяществом, и один
стих не дерзал более вторгаться в другой. Все познало свои законы; и этот надежный
вожатый служит еще образцом для писателей наших дней».
23 История французской литературы—815
3.14
КЛАССИЦИЗМ
Эти строки Буало о Малербе, как известно, восхищали Пушкина, на-
ходившего в оценке Буало «яркую точность» и «строгую справедливость».
Однако, правильно охарактеризовав основное направление поэтической дея-
тельности Малерба, Буало несколько преувеличил его признание совре-
менниками. На самом деле, Малерб при жизни был почти одинок и встре-
чал резкое противодействие со стороны большинства современных ему
поэтов.
Малерб происходил из старинной, но оскудевшей дворянской семьи.
Он был родом из нормандского города Кан (Саеп), где его отец был су-
дейским чиновником. Получив хорошее образование, Малерб занял в юно-
сти должность секретаря у герцога Генриха Ангулемского, побочного сына
короля Генриха II, и последовал за своим патроном в Прованс, где изучил
итальянский язык и итальянскую поэзию. После смерти герцога Ангулем-
ского (1586) Малерб возвратился на родину, в Кан, где жил в бедности,
занимаясь поэзией. Он начал писать стихи уже с 1575 г., но все ранние
опыты были им впоследствии уничтожены.
Первым напечатанным произведением Малерба была небольшая поэма
«Слезы святого Петра» («Les Larmes de Saint Pierre», 1587), представляв-
шая вольный перевод поэмы итальянского петраркиста XVI в. Тансилло.
Основным сюжетом поэмы является рассказ об отречении апостола Петра.
В поэму вставлен эпизод избиения Иродом нешинных иудейских младен-
цев, которые, еще не зная Христа, пострадали за него (мотив, заимство-
ванный у позднелатинского поэта Пруденция). Поэма написана вычурным,
напыщенным слогом, полным всевозможных метафор, антитез и сравнений
и напоминающим манеру Депорта, с которым Малерб впоследствии вел
упорную борьбу.
В конце 90-х годов XVI в. мы находим Малерба снова в Провансе,
в Эксе (Aix), где он входит в состав местной литературной академии, воз-
главляемой Дю Вером. В общении с Дю Вером и Пейреском, видным уче-
ным, крепнет талант и литературная репутация Малерба. В 1599 г. Ма-
лерб пишет свое знаменитейшее стихотворение «Утешение господину Дю-
перье по случаю кончины его дочери» («Consolation à М-г du Périer sur la
mort de sa fille»), впоследствии вошедшее во все хрестоматии. В следую-
щем году он приветствует прибытие в Экс невесты Генриха IV Марии
Медичи большой одой, в которой, на ряду с прославлением гражданского
мира в стране, превозносится также дофин, которого Мария Медичи
должна будет подарить Франции. Таким путем Малерб стремился сделать
карьеру и добиться приглашения ко двору.
В 1605 г. Малерб приехал в Париж и представился Генриху IV, ко-
торый заказал ему стихотворение по поводу своей поездки в Лимузинскую
область для усмирения волнений, вызванных казнью восставшего маршала
Бирона. Малерб превосходно справился с этим поручением. Он придал
своим стансам форму молитвы за короля, причем обрисовал Генриха IV
доблестным и мудрым королем, ликвидировавшим междоусобные распри и
заботящимся только о счастье своих подданных. Стансы эти имели при
дворе большой успех. Генрих IV высоко оценил дарование Малерба и
пожалова\ ему придворное звание (gentilhomme de la chambre). С этого
момента Малерб стал официальным поэтом французского двора. После
смерти Генриха IV Мария Медичи, став регентшей, назначила ему пен-
сию. Он получал также награды от Людовика XIII и его могущественного
министра, кардинала Ришелье.
Упрочив свое положение при дворе, Малерб уже не покидал Парижа
до самой смерти. Он пользовался репутацией большого знатока поэзии.
ФОРМИРОВАНИЕ КЛАССИЦИЗМА
3S5
к которому обращались за советами по различным вопросам литературы
и языка. Он любил говорить, что его задачей является «дегасконировать»
двор, т. е. научить многочисленных гасконцев, состоявших при дворе Ген-
риха IV, говорить на чистом французском языке. Мало-помалу Малерб
создал себе огромный авторитет, который укреплялся его верой в правиль-
ность избранного им пути. У него был пафос реформатора, вождя школы,
идеолога нового политического режима — режима, поставившего литера-
туру на службу своим задачам. Он первый во Франции провозгласил не-
обходимость твердой государственной политики в области литературы.
Малерб был одновременно практиком и теоретиком литературы, поэтом
и критиком. Деятельность его в обеих этих областях проникнута единством
и последовательностью установок. Однако как теоретик и критик, Малерб
был значительнее, чем как поэт. Его теоретическая работа больше способ-
ствовала формированию доктрины классицизма, чем его поэтическая прак-
тика.
Как поэт, Малерб вышел из школы Ронсара и сохранил довольно тес-
ную связь с традициями поэзии XVI в. При этом он разрабатывал исклю-
чительно лирические жанры (оды, стансы, сонеты, песни) и не сделал ни
одной попытки разработки типичных для поэзии классицизма драматиче-
ских жанров. Как поэт исключительно лирический, он был подлинным
преемником Ронсара во французской литературе XVII в. Критикуя Рон-
сара и его школу (Дю Белле, Депорта, Берто), он фактически поо-"->'\жал
его дело, но только на более узком участке. Подобно Ронсару, Малерб
стремился к ученой поэзии, предполагающей большую литературную обра-
зованность у поэта и у читателя. Как и Ронсар, он подражал античным
поэтам (главным образом Горацию), хотя в принципе отвергал такое
подражание; при этом он уснащал свои стихи мифологическими образами.
Вслед за Ронсаром, он предпочитал высокие жанры, презирал легкую, фа-
мильярную поэзию и был сторонником безличной лирики, разрабатываю-
щей большие темы. Наконец, как и Ронсар, он решительно отрицал ста-
рую, доронсаровскую метрику; но он был гораздо строже Ронсара в этом
вопросе и считал проделанную Плеядой работу недостаточной.
Однако все отмеченные черты сходства и генетической связи поэзии
Малерба с поэзией Ронсара не могут заслонить той энергичной борьбы,
которую Малерб вел с традициями Плеяды. Он воевал с индивидуализмом,
эмоционализмом и субъективизмом поэтов Плеяды и ее эпигонов во имя
утверждения строгой логической дисциплины и рассудочной организации
поэтического материала. По существу это была борьба с индивидуальным
своеволием, отвечавшая политическим задачам абсолютной монархии. Пре-
клоняясь перед разумом, считая его, задолго до Декарта и Буало, верхов-
ным судьей в вопросах истины и красоты, Малерб боролся со всякими
проявлениями «неразумности» в поэзии — с темнотой, небрежностью, ба-
нальностью, искусственностью, надуманностью. Он отрицал запутанную
композицию, неясный синтаксис, неряшливый и тривиальный слог, которые
он находил у Ронсара и Депорта. Он отвергал пустые и банальные эпи-
теты и любил говорить, предвосхищая Вольтера, что, хотя прилагательное
согласуется с существительным в роде, числе и падеже, однако оно яв-
ляется самым лютым его врагом.
Боязнь тривиальности в языке заставляла Малерба изгонять из поэ-
зии множество простых слов, котооые он считал «грязными», «плебей-
скими», например: cadavre («труп»), estomac («желудок»), poitrine («грудь»).
В этом проявлялось влияние на Малерба двора и салонов. Однако в то же
время Малерб рекомендовал поэтам, на ряду с языком двора, учитывать.
336
КЛАССИЦИЗМ
язык «крючников с сенного рынка», т. е. язык парижской массы. Это
требование надо понимать в том смысле, что поэтический язык не должен
отрываться от живой народной речи; однако, черпая из нее языковой ма-
териал, следует обрабатывать его применительно к языку аристократии.
Кроме того, Малерб защищал чистоту парижского языка от угрожающего
наплыва провинциальных наречий. Потому он отвергал рекомендованное
Ронсаром обогащение поэтического языка путем введения провинциализ-
мов, а также архаизмов и технических терминов. В этом отношении реформа
Малерба представляет антитезу реформе поэтического языка, осуществлен-
ной Ронсаром, так как она построена не на расширении его рамок, а на-
против — на их сужении.
Сходную позицию Малерб занимал также в вопросе о стихосложении.
Из многочисленных ритмов и строфических форм, введенных Ронсаром, он
отобрал сравнительно небольшое число, но довел разработку их до абсо-
лютной четкости и структурной законченности. Он сковал французскую
метрику целым рядом ограничений и запретов, которыми он терроризировал
всех современных поэтов, привыкших к вольностям Депорта. Так, он реши-
тельно изгонял enjambement (синтаксический перенос из стиха в стих),
совершенно запрещал зияние (столкновение гласных), воевал с излишними,
ненужными словами, вставляемыми в стих для счета слогов (он называл
их «депортовской набивкой»). Он был очень строг в отношении рифмы,
требовал рифмы не только для уха, но и для глаза, и боролся за смысло-
вую нагрузку рифмы. В вопросе о цезуре Малерб тоже вводил ограниче-
ния; он признавал только два вида деления стиха: после 6-го слога в але-
ксандрийском стихе и после 4-го в десятисложном.
В общем, в произведенной Малербом реформе поэтического языка было
много важного и нового. Малерб обладал несколько узким и строгим, но
тонким вкусом и хорошим чутьем французского языка. Лучшим оправда-
нием реформы Малерба является то, что она была проверена и закреп-
лена дальнейшим развитием французской поэзии не только в XVII и
XVIII, но даже в XIX в. Ламартин и Мюссе писали стихи согласно ука-
заниям Малерба.
В своей собственной поэтической практике Малерб был подлинным
классицистом, хотя классицизма, как законченного литературного направле-
ния, в его время еще не существовало. У него было крайне развито харак-
терное для классицизма чувство пропорций, уменье четко согласовать все
части поэтического произведения так, чтобы ни одна из них не подавляла
другую. Погоня за такой архитектурной гармонией и симметрией подчас
приводила к некоторой монотонности стихотворения. Внутренней гармонии
должна была соответствовать внешняя гармония, находящая выражение в
единстве тона стихотворения и в решительном отрицании смешения сти-
лей. Последнее соответствует также присущему классицизму резкому раз-
граничению жанров. Это разграничение, впоследствии нашедшее наиболее
полное выражение в классицистической драматургии, проходит у Малерба
через всю лирическую поэзию. Каждый из разработанных Малербом лири-
ческих жанров обладает своим особым комплексом выразительных средств.
Наиболее значительным из разработанных Малербом жанров является
ода. Малерб понимает оду как речь в стихах о каком-либо важном событии
современной политической жизни. Все части этой речи распределяются им
строго симметрично. Обычно Малерб отправлялся от какой-нибудь полити-
ческой идеи и приводил читателя в конце стихотворения к другой идее,
более широкой и общей, подчас имевшей характер прозрения будущего. От
од Ронсара оды Малерба отличаются отсутствием излюбленных Ронсаром
ФОРМИРОВАНИЕ КЛАССИЦИЗМА
587
эпических (чаще всего мифологических) отступлений, которые, по мнению
Малерба, замедляют движение оды. Малерб стремился наполнить оду еди-
ным лирическим устремлением с начала до конца, придавая ей характер
религиозного гимна или боевой песни.
Основной тематикой од Малерба является воспевание величия абсо-
лютной монархии, несущей Франции, по его мнению, порядок и мирное
процветание. Малерб был первым французским поэтом, полностью поста-
вившим свою поэзию на службу новому политическому режиму. Он откли-
кался на все значительные события политической жизни этого времени.
Он прославил взятие Карлом Лотарингским мятежного Марселя (оды I
и II), прибытие во Францию королевской невесты Марии Медичи (ода III),
неудачу покушения на Генриха IV Этьена де Лиля в 1605 г. (ода IV),
взятие Седана и подчинение герцога Бульонскаго (ода V), регентство Ма-
рии Медичи (оды VII и VIII), усмирение Людовиком XIII восстания в
Ла-Рошели (ода IX). Написанные торжественным и величавым слогом, оды
Малерба постоянно заключают в себе восхваление прежних деяний монар-
хов и предсказание их грядущих подвигов; все это перемежается многочис-
ленными дидактическими рассуждениями на морально-политические темы.
В конце оды Малерб иногда говорит о себе, выражая гордое самосознание
поэта, похвала которого переживет века. Так, например, ода V заканчи-
вается такими горделивыми строками:
Начертав повествованье
Многотрудных дел твоих
О тебе воспоминанье
Сохранит навек мой стих;
Нет защиты и спасенья
От всесильного забвенья,
Но, воспев тебя, венец
Я тебе создам нетленный;
Только с гибелью вселенной
Он увидит свой конец.
Несмотря на то, что Малерб вводит подчас в оды упоминание о своих
поэтических заслугах, он никогда не дает воли своим личным чувствам. Он
передает самые общие, универсальные мысли и чувства, которые мог бы выра-
зить любой поэт и которые может разделить с ним любой читатель. Эта
погоня за безличным и универсальным придает некоторую сухость и холод-
ность даже лучшим стихотворениям Малерба, делая их мало лиричными.
Поскольку абсолютная монархия, воспеваемая Малербом, видела свою
идеологическую опору в единой государственной церкви, постольку поэзии
Малерба были присущи также религиозные мотивы, свободно переплетав-
шиеся с политическими. Однако, как подлинный рационалист, Малерб был
лишен религиозного чувства. Для него, как и для его покровителя Ген-
риха IV, вопросы религии были в первую очередь вопросами политики.
Положение придворного поэта обязывало Малерба изображать себя
добрым католиком; он в изобилии писал религиозные стихи, в которых на
все лады вариировал банальные христианские темы о величии, могуществе
и благости бога, постигаемой из его творений, а также о бренности земного
существования и земной славы. Стихотворения на религиозные темы чаще
всего отливались Малербом в форму стансов, которую он ввел во фран-
цузскую поэзию.
Самыми знаменитыми из стансов Малерба является упомянутое выше
«Утешение господину Дюперье». Это стихотворение особенно хорошо
уясняет характер поэтического дарования Малерба. Начинаясь, как Дру-
358
КЛАССИЦИЗМ
жеская элегия, полная нежности и сострадания к отцу, потерявшему лю-
бимую дочь, оно ослабляет затем тон дружеского сочувствия Дюперье ря-
дом мифологических и исторических параллелей к его несчастью, а в конце
превращается в блестящую, но холодную проповедь стоицизма. Потомство
запомнило из этого стихотворения Малерба только четыре строчки:
Mais elle était du monde où les plus belles choses
Ont le pire destin;
Et rose elle a vécu ce que vivent les roses»
L'espace d'un matin.1
Малерб долго работал над этим стихотворением, тщательно отделывая
каждое слово и добиваясь предельного совершенства. Таков был его обыч-
ный метод работы. По словам его ученика и биографа Ракана, «он изводил
полстопы бумаги, чтобы сочинить один станс». Медленность работы Ма-
лерба была беопримерна. Сам он говорил: «Создав поэму в сто стихов,
или написав речь в три листа, надо отдыхать десять лет». О его друже-
ской элегии «Утешение первому президенту Вердену по случаю смерти его
жены» Ракан рассказывает, что он сочинял ее около трех лет и опубли-
ковал уже после того, как Верден вторично женился, что значительно
ослабило действие этого «утешения».
Слабости Малерба проистекают от недостатка у него подлинно лири-
ческого дарования. Его худшими произведениями являются стихотворения
на любовные темы. Часть этих стихотворений написана Малербом по за-
казу Генриха IV, подносившего их от своего имени Шарлотте Монмо-
ранси, жене принца Конде, которая была его старческой любовью.
Как подлинный царедворец, Малерб старался служить своим пером
во всех случаях придворной жизни. Он сочинил немало стихотворений для
дворцовых празднеств, балетов и маскарадов. Будучи человеком резким,
желчным и грубоватым, он умел подавлять свое дурное настроение в при-
сутствии сильных мира сего и в особенности перед членами королевской
семьи, по отношению к которым он обладал достаточным запасом серви-*
лизма, — впрочем, почти неизбежного в обстановке придворной жизни
того времени.
Отсутствие в произведениях Малерба большой идейной глубины яви-
лось причиной его быстрого забвения. Об этом красноречиво писал Пуш-
кин е статье, известной под заглавием «О русской литературе с очерком
французской» (1834); «Но Малерб ныне забыт подобно Ронсару. Сии два
таланта истощили силы свои в борении с усовершенствованием стиха.. .
Такова участь, ожидающая писателей, которые пекутся более о механизме
языка, наружных формах слова, нежели о мысли — истинной жизни его,
ие зависящей от употребления!»
Малерб сумел создать вокруг себя небольшой кружок последователей
своей доктрины. В него входили Мейнар, Ракан, Ивранд, Коломби, Туван,
Дюмутье, Жаннен. Они собирались у Малерба на дому и изучали под
его руководством стихотворения Ронсара, Дю Белле, Берто, Депорта.
Изучение этих поэтов сводилось к очень детальной и суровой их критике.
Особенно сильно доставалось Депорту, которого Малерб не выносил за
то, что он льстил дурным нравам двора, а также за мягкость и слащавость
стиля. Развенчанию поэзии Депорта Малерб посвятил свой главный теоре-
тический труд «Комментарии к Депорту» («Commentaires sur Desportes»).
1 «Но она принадлежала к миру, в котором самые прекрасные вещи имеют худшую
судьбу; и, будучи розой, она прожила столько, сколько живут розы — одно утро».
ФОРМИРОВАНИЕ КЛАССИЦИЗМА
oow
Резкая критика Малерба вызвала отповедь со стороны племянника
Депорта, талантливого поэта-сатирика Матюрена Ренье, который обрушился
на Малерба в своей IX сатире. Малерб ответил Ренье, и между ними за-
вязался опор, который продолжался до самой смерти Ренье. Между тем
Малерб очень уважал Ренье, потому что считал его одаренным поэтом, и
чувствовал в нем настоящего соперника. Действительно, оба поэта были
очень похожи друг на друга характером своего дарования. Подобно Ма-
лербу, Ренье ненавидел слащавую манерность придворных поэтов и был
поборником правды ib жизни и искусстве. Уважая Ренье, Малерб неодно-
кратно выражал сожаление, что Ренъе не принял его реформу.
Матюрен Ренье (Mathurin Régnier, 1573—1613) родился в Шартре,
в буржуазной семье. Он был допущен ко двору и совершил два путеше-
ствия в Рим в свите французских посланников. В 1604 г. он был назначен
настоятелем собора в Шартре, а в 1606 г., после смерти своего дяди Де-
порта, унаследовал его пенсию. Он вел крайне беспорядочный образ жизни,
явившийся причиной его преждевременной смерти.
Литературное наследие Ренье невелико. Он написал несколько од, эле-
гий, посланий и духовных стихов. Но главный интерес представляют его
шестнадцать сатир, написанных александрийским стихом (изд. в 1608 г.).
В отличие от своего современника Агриппы д'Обинье, придававшего своим
сатирам характер страстной и гневной инвективы, Матюрен Ренье насаж-
дает во французской литературе нравоописательную сатиру, навеянную
изучением древнеримских сатириков — Горация, Персия и Ювенала. На-
деленный большой наблюдательностью и незаурядным комическим даром,
Ренье рисовал в своих сатирах блестящие картинки парижской жизни
времен Генриха IV. С мастерством, предвозвещающим Мольера, Ренье дает
в своих сатирах целую галерею комических типов — придворных, свет-
ских щеголей, педантов, врачей, поэтов-паразитов и т. д. В III сатире
«Придворная жизнь» («La Vie de la cour») он язвительно рисует лакей-
ские повадки придворных льстецов и фаворитов. В VIII сатире «Назой-
ливый, или Докучный» («L'Importun ou le Fâcheux»), навеянной I сатирой
IX книги Горация, Ренье превосходит свой образец богатством наблюде-
ний над типом бездельника-аристократа, надоедающего своей болтовней
всем встречным. Сатира эта вдохновила Мольера на создание его комедии
«Докучные». Но подлинным шедевром Ренье является его XIII сатира-—
«Масетта, или Неудачливое лицемерие» (Macette, ou l'Hypocrisie décon-
certée»), в которой он мастерски нарисовал образ престарелой развратни-
цы, надевшей на себя маску благочестия и постепенно сбрасывающей эту
маску во время назидательной беседы с молодой девушкой. Здесь Ренье
снова предвещает Мольера: его Масетта является достойной предшествен-
ницей Тартюфа.
Отличительной особенностью сатир Ренье является отсутствие в них
морализации и абстрактных рассуждений. Ренье прежде всего художник,
наделенный большим живописным даром. Вго сатиры действенны, драма-
тичны, что и привлекало к нему так часто внимание Мольера. Уже Буало,
явившийся достойным продолжателем Ренье в разработке жанра сатиры,
сопоставлял его с Мольером. «Этот французский поэт, — писал он, — по
общему убеждению был лучшим знатоком нравов и человеческих харак-
теров до Мольера». Впрочем, Ренье отличает- от Мольера полное отсут-
ствие политической сатиры и несравненно большая обобщенность сатириче-
ского изображения; кроме Малерба, Ренье не нападал ни на кого из своих
современников.
560
КЛАССИЦИЗМ
Сильной стороной Ренье является его язык — необычайно красочный,
живой, близкий к народной речи, лишенный всякой искусственности и на-
рочитой «литературности». Подобно Вильону, Маро, Рабле, он не боится
быть грубым и циничным. Это тоже сближает его с Мольером и заставляет
Буало принять его с некоторыми оговорками:
Прилежный ученик сих древних мастеров,
Один Ренье средь нас творит, им подражая.
Красою свежею сквозь ветхий стиль блистая.
О, если б он в стихах, с их солью и огнем,
Не так бы часто муз водил в публичный дом.
О, если б не терзал он слух людей приличных
Кабацкой дерзостью, игрою рифм циничных.
(«Поэтическое искусство», песнь II).
Хотя Ренье был горячим почитателем Ронсара и его школы, однако
ему чужд искусственный язык поэтов Плеяды. Подобно Монтеню, он ши-
роко черпал из живой народной речи и с большим правом, чем Малерб,
мог бы говорить о своем ученьи у «крючников с сенного рынка». Не при-
знавая никаких синтаксических и стилистических правил, он протестовал
против реформы Малерба, осуждая его педантизм и доктринерство, пере-
оценку им роли грамматики, стеснявшую полет поэтического воображения.
В своей IX сатире, в которой он отомстил Малербу за нападки на Ронсара
и Депорта, он изобразил Малерба тупым педантом, вся работа которого
сводится к подчистке слов и слогов, и который способен только на то,
чтобы «прозаизировать рифму и рифмовать прозу». Он упрекал Малерба
в том, что тот превращает поэзию в нарумяненную кокетку. Но такие упреки
могли быть адресованы не только Малербу, но и Ронсару. Ренье по су-
ществу выступал против литературного мастерства в защиту голой, не-
прикрашенной «натуры». Этот момент определенно отдалял Ренье от
классицизма, с которым в других отношениях у него было много общего.
Однако не один Ренье протестовал против реформы Малерба и от-
стаивал свободу поэтического творчества от стеснительных правил. Такую
позицию занимало большинство поэтов старшего поколения, сложившихся
в годы гражданских войн XVI в. и воспитавшихся на поэтике Плеяды.
Прежде всего здесь надо назвать Агриппу д'Обинье, который пережил
Малерба и опубликовал все свои главные произведения в царствование
Людовика XIII. В предисловии к первому изданию своей «Трагической
поэмы» (1616) д'Обинье порицал Малерба, объявляя его типичным пред-
ставителем того упадка поэтического творчества, который наступил во
Франции после Ронсара. Он считал Малерба рифмачом, а не поэтом.
В сходном смысле высказывалась другая представительница литера-
турных традиций XVI в. Мария де Гурне (Marie de Gournay, 1566—1645),
горячая поклонница Монтеня и издательница его «Опытов». Она была
ярой противницей реформы Малерба с ее установками на правильность,
простоту и общедоступность поэзии. «Возможно ли, — восклицала Гурне, —
чтобы поэзия могла возноситься к небу, — своей цели, — с такими под-
резанными крыльями и более того — искалеченная и изуродованная?..
Очень удобно, конечно, для тех, кто умеет только нанизывать слова, вну-
шать публике, что в этом заключаются все существенные качества писа-
теля. .. Они и их подражатели похожи на лисицу, у которой отрезали
хвост, после чего она посоветовала всем другим лисицам сделать то же
самое для своего украшения и удобства».
Малерб не имел подлинно, талантливых учеников. Наиболее заметные
из его последователей Франсуа де Мейнар (François de Maynard, 1582—
ФОРМИРОВАНИЕ КЛАССИЦИЗМА
361
1646) и Онора де Ракан (Honorât de Racan, 1589—1670) были второраз-
рядными поэтами. Малерб не очень высоко ценил их обоих. Он упрекал
Мейнара в отсутствии поэтической силы, а Ракаца — в недостаточной ра-
боте над стихом, и говорил, что из этих двух авторов можно было бы
сделать одного большого поэта.
Действительно, вся поэзия Мейнара представляет собой набор общих
мест, банальных мыслей о любви, смерти, судьбе и т. п. В отличие от
Малерба у него хватало силы только на сочинение виртуозно отделанных
стишков о различных мелочах светской жизни. Однако все его рондо,
сонеты и эпиграммы казались современникам суховатыми, потому что эта
область поэзии была монополизирована «прециозньгми» поэтами, а Мей-
нар не желал иметь с ними ничего общего,
Несравненно одареннее Мейнара был Ракан. Почтительный ученик
и биограф Малерба, он держался довольно независимо и пугал Малерба
своим пристрастием к поэтической небрежности, приближавшей его к Берто.
Несмотря на знатное происхождение (он носил титул маркиза), Ракан был
мало образован и не знал даже латыни, что не помешало ему, по примеру
Малерба, заняться парафразами псалмов. Свое невежество Ракан пытался
теоретически обосновать: на заре рационалистического века он выступал
врагом цивилизации и объявлял человеческое тщеславие источником всех
наук, которые он считал совершенно бесполезными. Ненавидя науку,
Ракан был очень религиозен и приходил в ужас от раопространения в
Париже вольнодумных учений. »
Ракан начал писать рано. Его первый сборник «легких стихотворений»
был опубликован уже в 1606—1607 гг. Самое же известное из его про-
изведений— «Пастушеские сцены» («Les Bergeries»)—было поставлено на
сцене в 1618 г., а напечатано только в 1625 г. Ракан отдал в нем дань
распространившейся в это время в аристократическом обществе моде на
пастораль. Однако в этот условный жанр он сумел вложить искренние
нотки. В отличие от Малерба, который был истинным горожанином и почти
никогда не касался в своих стихах сельской природы, Ракан прожил зна-
чительную часть жизни в своем родовом поместье в Турени и переполнял
свои стихи описаниями природы и идиллической сельской жизни. Эта
любовь к природе роднит Ракана с Лафонтеном, а дымка меланхолии, ко-
торой подернуты некоторые из его лучших стихотворений — например,
«Стансы об уединении» («Stances sur la retraite»), отдаленно предвещает
Ламартина.
<j
Дарования Мейнара и Ракана были явно недостаточны, чтобы закре-
пить во французской поэзии принципы Малерба. Молодое поколение поэ-
тов отвергло Малерба почти столь же решительно, как и старшее поко-
ление. Но если поэты старшего поколения отвергали Малерба из привя-
занности к традициям поэзии Ронсара и Плеяды, то поэтическая молодежь,
выросшая в царствование Генриха IV, воевала с Малербом потому, что
не желала признавать никакой дисциплины, никаких политических и ли-
тературных авторитетов. Позиция этой анархически настроенной литера-
турной молодежи наиболее ярко выражена в следующих стихах поэта
Теофиля де Вио:
Imite qui voudra les merveilles d'autrui.
Malherbe a très bien fait, mais il a (ait pour lui;
Mille petits voleurs l'écorchent tout en vie.
Quant à moi, ces larcins ne me font point d'envie;
J'approuve que chacun écrive à sa façon:
J'aime sa renommée, et non pas sa leçon. *
И далее Теофиль защищает принцип полной беспорядочности и сти-
хийности поэтического творчества. Он говорит: «Моя душа, творя, не имеет
терпения хорошо отделывать стихи и приводить в порядок мои мысли. Мне
не нравятся правила, я пишу как придется; хороший ум всегда делает все
только непринужденно».
Автор этих нигилистических строк, сводивших на-нет всю реформу
Малерба, Теофиль де Вио (Théophile de Viau, 1590—1626) является
одним из оригинальнейших французских поэтов XVII в. Он был ярким
представителем раннего либертинажа, который был лишен у него возвы-
шенной моральной окраски и приближался к аморализму дворянской
богемы. Это и явилось одной из причин злоключений Теофиля.
Теофиль происходил из гугенотской дворянской семьи. С самых
юных лет он обнаруживал склонность к религиозному скептицизму.
В 1610 г. он прибыл в Париж, где завязал многочисленные знакомства
среди вольнодумной молодежи и имел большой успех в обществе благо-
даря своему поэтическому дарованию. Особенно близко сошелся он с писа-
телем Гезом де Бальзаком, с которым он совершил путешествие в Голлан-
дию в 1612 г. Но эта дружба длилась недолго, и Бальзак впоследствии
резко нападал на Теофиля.
По возвращении в Париж Теофиль нашел покровителя в лице гер-
цога Монморанси. Он сочинил множество стихов для придворных балетов
и маскарадов, а также всякого рода экспромтов, которые давались ему
очень легко. Он испробовал свои силы также в области драматической
поэзии и после первого неудачного опыта в трагическом жанре («Паси-
фая» — «Pasiphaé») написал имевшую огромный успех трагедию «Пирам
и Фисба» («Pyrame et Thisbé», 1617), отличающуюся совершенно необыч-
ным *"> ^оаниузских -^оагедиях XVII в. взволнованным лиризмом.
Теофиль вел в Париже очень рассеянный образ жизни, сочетая воль-
нодумство с распутством. Так как он был кальвинистом, то это не про-
шло ему даром. В 1619 г. он был выслан из Франции за одно вольно-
думное стихотворение. Он отправился в Лондон, где тщетно пытался рас-
положить к себе короля Якова I. Тогда он посвятил Людовику XIII
одну из своих лучших од и получил разрешение вернуться в Париж (1621).
С этого момента начались несчастия Теофиля. В это время он перешел
в католицизм, но сохранил повадки либертинов. В 1622 г. вышел в свет
сборник непристойных стихов «Сатирический Парнас» («Le Parnas&e saty-
rique»), в составлении которого Теофиль, повидимому, принял некоторое
участие. В следующем году было выпущено второе издание того же сбор-
ника уже под именем Теофиля. Тщетно Теофиль отрекался от этой книги
и даже пытался привлечь к суду ее издателей. На него обрушились ие-
зуиты, начавшие в это время кампанию против либертинов, которых они
объявляли слугами дьявола и врагами королевского престола. Уже друг
Декарта, ученый монах Мерсенн, направил против них латинский трактат
«Важнейшие вопросы в книге Бытия» («Quaestiones celeberrimae in Genesim»,
1623), в котором доказывал, что в Париже насчитывается 50000 безбож-
1 «Пускай подражает, кто хочет, чудесам, созданным другими. Малерб очень хорошо
выполнил свое дело, но он выполнил его только для себя. Тысяча мелких воришек
обдирают его еще при жизни. Что касается меня, то эти кражи меня не прельщают.
Я утверждаю, что каждый должен писать на собстсенный лад. Я люблю славу Малерба,
но не признаю его наставлений».
ФОРМИРОВАНИЕ КЛАССИЦИЗМА
SG3
ников. За этим трактатам последовала объемистая книга иезуита Гарасса
«Любопытная доктрина остромыслов нашего времени» («Doctrine curieuse
des beaux-esprits de ce temps», 1623), в которой Гарасс ополчился с неви-
данным дотоле задором на всех вольнодумцев как живых, так и мертвых,
вроде Рабле, именуемого им «чумой и гангреной благочестия». Но в пер-
вую очередь книга Гарасса представляла собой развернутый донос
на Теофиля, переполненный самыми грубыми ругательствами по его
адресу.
Теофиль был арестован, и протиз него начат был судебный процесс.
Ему удалось бежать, после чего парижский парламент признал его винов-
ным в кощунстве и заочно приговорил к сожжению на костре. Теофиль
нашел пристанище у своего покровителя герцога Монморанси в Шантильи,
но, не желая его компрометировать, покинул его имение и вскоре был схва-
чен и отправлен в Париж. Здесь он обратился из тюрьмы к королю с про-
странным защитительным письмом, написанным весьма горячо и искренно.
После двухлетнего тюремного заключения его дело было пересмотрено,
и 1 сентября 1625 г. парламент осудил его на пожизненное изгнание.
Теофиль, здоровье которого было подорвано перенесенными им испыта-
ниями, снова отправился к герцогу Монморанси и в следующем году
умер.
Современники считали Теофиля большим поэтом. Его стихотворения,
выпущенные впервые в 1621 г., выдержали в течение пятидесяти лет 22
издания. Французская Академия при своем основании включила его в
число писателей образцовых по языку. Но впоследствии Буало решительно
осудил его, после чего его имя пришло в забвение, и только Теофиль
Готье блестяще реабилитировал Теофиля в своей книге статей о забы-
тых поэтах XVII в. — «Гротески» («Les Grotesques»). Впоследствии Тео-
филя подняли на щит символисты (Реми де Гурмон, Жан Мореас).
В действительности Теофиль был очень талантливым поэтом, послед-
ним французским лириком ренессансного типа. Он писал стихотворения
в различных жанрах (оды, элегии, стансы, сонеты, сатиры, эпиграммы)
и самого разнообразного содержания. Основные мотивы его поэзии —
живое чувство природы, чисто языческий культ земной жизни и земной
любви, преувеличенный интерес к собственным чувствам и переживаниям,
жгучая ненависть ко всякого рода стеснениям индивидуальной свободы, ко
всяким авторитетам и дисциплине. Теофиль энергично восставал против
подражания «глупой античности», которая «оставила нам басни, неприем-
лемые для всякого здравомыслящего человека». Задолго до Перро и
Фонтенеля он утверждал, что «надо писать на современный лад; Демос-
фен и Вергилий не писали в наше время, и мы не умели бы писать в их
время; их книги, когда они их сочиняли, были новы, а мы сочиняем каж-
дый день старые книги». Говоря о том, что нужно учиться у Гомера ис-
кусству описаний, Теофиль замечает: «Нужно писать так, как он писал,
но не то, что он писал».
Энергично отстаивая свободу и непринужденность поэтического твор-
чества, Теофиль выступал в защиту простоты и естественности поэтиче-
ского выражения. Он был противником входившей тогда в моду жеман-
ной поэзии барокко, хотя сам не всегда умел уберечься от ее влияния.
К сожалению, именно эти немногочисленные уступки Теофиля бароч-
ной вычурности и сохранились в памяти потомства, вроде пресловутой
тирады, произносимой Фисбой над окровавленным кинжалом ее возлюб-
ленного Пирама*
364
КЛАССИЦИЗМ
На! voici le poignard qui du sang de son maître
S'est souillé lâchement! il en rougit, le traître ' 1
Есть черты лрециозности также в превосходной стихотворной сюите
Теофиля из десяти од—«Дом Сильвии» («La Maison de Sylvie»), напи-
санной в самом конце жизни поэта. Теофиль воспевает здесь дворец в
Шантильи и его хозяйку, герцогиню Монморанси, в обществе которой он
провел последние месяцы своей жизни. На фоне прелестного парка в стиле
Людовика XIII он рисует прекрасную молодую женщину, которая, сидя на
берегу, удит рыбу, причем рыбы дерутся из-за того, «которой из них
скорее потерять жизнь, удостоившись попасть на ее крючок». Равным
образом и в знаменитой оде «Утро» («Le Matin») Теофиль портит яркие
картины природы и сельского быта, вводя в них «благородного льва»
(«le généreux lion») и «его даму, входящую в рощу» («sa dame entrant
dans les bocages»).
Но все подобные уступки дурному вкусу поэзии барокко не могут
заслонить изящной простоты и глубокого лиризма стихотворений Теофиля.
Его любовные стихотворения, проникнутые чисто ренессансной чувствен-
ностью, могут быть 'поставлены наравне с лучшими образцами любовной
лирики Ронсара и Дю Белле. Именно в этих стихотворениях чаще всего
проявляется либертинаж Теофиля, всегда подчиняющего небесное земному
и придающего чувственной любви характер религиозного культа. Так,
увидев в церкви свою возлюбленную, он восклицает: «Вот мое божество!
Этот храм и этот алтарь принадлежат моей даме». В другом стихотворении
он предлагает богу принять образ его возлюбленной и спуститься на
землю, чтобы удостоиться всеобщей любви и поклонения. Возлюбленная
Теофиля настолько прекрасна, что сами боги (из цензурных соображений
Теофиль обычно ставит это слово во множественном числе), «если бы они
не были так крепко пригвождены к небосклону, опустились бы на землю,
чтобы полюбоваться на свое создание» и даже «сами были бы счастливы
согрешить с нею». Свою комнату поэт превращает в храм возлюбленной,
а ее портрет — в икону, на которую он молится. Все подобные образы в
стихах Теофиля цитировались на его процессе в качестве доказательств
его безбожия.
Но безбожие Теофиля проявлялось не только в его любовных стихо-
творениях. Он постоянно заявлял о своем безразличии к тому, что де-
лается на небе, называя библейские предания пустыми сказками, и гово-
рил, что признает единственным божеством природу. Однако последова-
тельным атеистам он все же не был и написал парафразу платоновского
«Федона» под названием «Трактат о бессмертии души, или Смерть Со-
крата» («Traité de l'immortalité de l'âme, ou la Mort de Socrate»), Впрочем,
трактат этот написан в пору преследований Теофиля и проникнут явным
намерением защитить себя от упреков в атеизме.
Вольнодумство Теофиля проявлялось не только в религиозной, но
« в политической сфере. В некоторых своих стихотворениях он рисует
в весьма неприглядном свете современную Францию, где царят невежество
и несправедливость, где при дворе господствуют глупцы и угодники, а
король откармливает на убой тысячи людей, которым суждено погибнуть
в жарких странах либо в бою, либо от чумы. Лишь совсем редко в сти-
хах Теофиля встречаются комплименты по адресу монарха, которыми
переполнены стихи Малерба.
1 «Вот он, этот кинжал, который подло запятнал себя кровью своего господина!
Он покраснел от этого, предатель!»
ФОРМИРОВАНИЕ КЛАССИЦИЗМА
5GS
Крупное поэтическое дарование Теофиля не могло полностью развер-
нуться вследствие постигших его гонений и преждевременной смерти. За
несколько лет до его процесса в Тулузе был казнен обличенный тем же
иезуитом Гарассом итальянский философ-вольнодумец, последователь Эпи-
кура, Лючилио Вавдши (1584—1619). Борьба с либертинажем велась,
таким образом, во Франции неуклонно и энергично. Крепнувшая абсо-
лютная монархия, заинтересованная в усилении государственной церкви,
всемерно поддерживала начатый иезуитами религиозный террор. Этот
террор заставил либертинов уйти в «подполье» и изменить свою тактику.
Либертины стали осторожнее; они научились писать эзоповским языком,
скрывать и маскировать свои мысли.
В своем поведении либертины второго поколения брали пример со
своего учителя Гассенди, который учил их маневрировать, преподнося
вольнодумное содержание в безобидной как будто бы форме. Наиболее
видным из либертинов второго поколения, являвшихся непосредственными
учениками Гассенди, был Савиньен де Сирано (Savinien de Cyrano, 1619—
1655), более известный под именем Сиргно де Бержерака (Bergerac —
название небольшого поместья, которым владел отец писателя). О нем сло-
жилось много легенд, отразившихся в драме Эдмонда Ростана «Сирано де
Бержерак». На самом деле Сирано был вовсе не гасконцем, каким его изо-
бразил Ростан, а парижанином. Он происходил из мелкой, захудалой дво-
рянской семьи. Образование он получил в коллеже Бове, состоявшем в
ведении парижского университета. Сирано вынес из школы хорошее зна-
ние латыни и античной литературы, но вместе с тем ненависть к схола-
стике, педантизму и поповщине. По окончании школы (1637) он тщетно
пытался проникнуть в высший свет, но вынужден был ограничиться об-
ществом молодых поэтов и писателей, с которыми он проводил время в
тавернах. Лишившись денежной поддержки отца, Сирано поступил на
военную службу (1639—1641), где получил несколько ранений, но карье-
ры не сделал. Выйдя в отставку и возвратившись в Париж, он снова за-
жил жизнью литературной богемы, пытался поправить свои дела карточ-
ной игрой и приобрел репутацию записного дуэлянта, забияки и сканда-
листа. Попутно он сочинял стихи, которых не печатал, а также стремился
исполнить свое философское образование.
Особенно сильное впечатление произвели на Сирано сочинения знаме-
нитого итальянского утописта-коммуниста Томмазо Кампанеллы (1568—
1639), который прожил последние пять лет своей жизни во Франции.
Вслед за Кампанеллой Сирано познакомился с Гассенди и прослушал курс
его лекций, читанных в частном доме откупщика Люилье, отца его прия-
теля, молодого поэта Шапеля. Если Кампанелла привлекал Сирано своей
социальной утопией, то Гассенди пленил его своей критикой Аристотеля
в интерпретации схоластиков и своей пропагандой материализма Эпикура.
Под совокупным влиянием Кампанеллы и Гассенди сложилось философ-
ское миросозерцание Сирано, ярко выраженное впоследствии в его научно-
фантастических романах..
В 1645 г. Сирано заболел неизлечимым в то время недугом, явившимся
следствием его беспутной жизни. Болезнь совершенно изменила его харак-
тер и образ жизни. Он стал много времени посвящать литературной ра-
боте. Попрежнему нуждаясь, он расстался с привычной для него независи-
мостью и решил подыскать себе, по обычаям того времени, знатного покро-
вителя. Такого покровителя он нашел в лице герцога д'Арпажона, который,
однако, вскоре стал тяготиться его обществом. Сирано умер еще молодым
360
КЛАССИЦИЗМ
от несчастного случая. Перед смертью он отказался примириться с цер-
ковью и умер убежденным либертином.
Литературное наследие Сирано невелико, но крайне разнообразно. Он
отдал дань почти всем распространенным в его время стилям — от герои-
ческого и жеманно-изысканного (прециозного) до грубо-комического (бур-
лескного) — и испробовал свои силы во всех основных литературных
жанрах. Одним из его первых крупных произведений была комедия
«Осмеянный педант» («Le Pédant joué», 1646—1647), наделавшая при
своей постановке много шума, потому что Сирано вывел в ней под его
настоящим именем директора коллежа Бове, аббата Гранже, изображен-
ного ученым тупицей с претензиями на изысканное салонное обхожде-
ние. В насмешках Сирано над уважаемым аббатом увидели издевательство
над церковью, и за Сирано сразу утвердилась репутация безбожника.
В истории французской комедии XVII в. «Осмеянному педанту» принад-
лежит видное место как одной из первых попыток создания комедии нра-
вов. Помимо сатирического изображения французской школы и ее без-
дарных педагогов, комедия эта интересна выведенным в ней образом
крестьянина Матье Гаро, одновременно лукавого и наивного, заговорив-
шего на французской сцене впервые на своем деревенском языке. Всем
этим Сирано явился предшественником Мольера, который позаимствовал
из «Осмеянного педанта» одну из самых забавных сцен своих «Плутней
Скапена» (разговор о галере).
Сирано испробовал силы также в жанре трагедии, получившем в это
время классически законченную форму под >пером Корнеля. Он выступил
соперником Корнеля, написав трагедию «Смерть Агриппины» («La Mort
d'Agrippine», 1653) на древнеримскую тему и строго соблюдя в ней все
правила классицизма. Написанная в обстановке Фронды, трагедия ярко
рисует деспотизм императора Тиберия и переполнена резкими выпадами
против церкви и духовенства («жрецов»). Поставленная на средства гер-
цога д'Арпажона, она была, несмотря на свои несомненные литературные
достоинства, освистана врагами поэта, тготребовавшими прекращения спек-
такля в середине третьего акта. «Смерть Агриппины» окончательно закре-
пила за Сирано репутацию безбожника.
Подобно многим другим представителям деклассированного дворянства,
Сирано принял участие во Фронде. Особенно активно участвовал он в этом
движении на первом его этапе, называемом «парламентской Фрондой»
(1648—1649), когда политическая инициатива сосредоточивалась в руках
парижского парламента. Вместе с другими парижскими литераторами,
враждебно настроенными к правительству кардинала Мазарини, Сирано
осыпал ненавистного народу министра стихотворными памфлетами, полу-
чившими наименование «мазаринад». Таковы «Прогоревший государствен-
ный министр», «Бескорыстный газетчик», «Современная Сивилла», «Вер-
ный советник» и «Жалобы трех сословий королеве-регентше». Хотя г,се
эти памфлеты отличались большой смелостью и едкостью, они были ли-
шены четкой политической программы и отличались голым нигилистиче-
ским отрицанием существующего строя.
К мазаринадам Сирано примыкают его многочисленные прозаические
письма и памфлеты, в которых он нападал на политических деятелей, вра-
чей, педантов, духовных лиц и писателей. Он сочинял также сатирические
письма, напечатанные только после его смерти. Но они ходили по рукам
в списках, создавая Сирано множество недоброжелателей. Именно на них,
главным образом, была основана репутация опасного и неблаго-
надежного человека, которою пользовался Сирано. В то же время, с харак-
ФОРМИРОВАНИЕ КЛАССИЦИЗМА
367
тарной для него непоследователь-
ностью, Сирано писал некоторые
письма (особенно, любовные) же-
манным, прециозным слогом.
Из всех «произведений Сирано
наиболее значительными и ориги-
нальными являются его научно-
фантастические романы «Иной
свет, или государства и империи
луны» («L'Autre monde, ou les
États et les Empires de la Lune»,
1647—1650) и «Комическая исто-
рия государств и империй солнца»
(«Histoire comique des Etats et des
Empires du Soleil», не окончена).
В первом из этих романов автор
рассказывает о своем чудесном пу-
тешествии на луну, которая ока-
зывается обитаемым миром. Он по-
падает там сначала в «земной рай»,
где встречает взятых туда при
жизни пророков Эноха и Илию,
видит древо жизни и древо позна-
ния добра и зла. Однако за не-
почтительные речи его изгоняют из
рая, и он попадает во власть чет-
вероногих жителей луны. Здесь он
переносит ряд испытаний, пока, на-
конец, не получает возможность
вернуться на землю. Странствуя
по луне в обществе «демона Со-
крата», он высказывает материали-
стические взгляды, навеянные фи-
лософией Гассенди. Во втором ро-
мане, задуманном гораздо шире,
автор сначала скитается по различным странам земли, а затем уносится
с помощью птиц на солнце, которое тоже оказывается обитаемым. Здесь
он попадает сначала в царство живых деревьев, затем в царство птиц и,
наконец, в царство философов; в последнем он встречает Кампанеллу и на-
чинает с мим беседы на социально-философские темы. На этих беседах ро-
ман обрывается.
Сирано рассчитывал на большой успех своих романов, но его ожида-
ния не оправдались, потому что французское общество еще далеко не со-
зрело для восприятия его научной фантастики. Романы Сирано стоят совер-
шенно обособленно во французской повествовательной литературе XVII в.
среди обеих ее разновидностей — галантно-рыцарской и авантюрно-бытовой.
Движущим" стимулом, определяющим поведение героев Сирано, является
стремление расширить круг знаний о мире, познать мир во всех его неве-
домых частях. Замысел описанных им фантастических путешествий Сирано
мог найти уже в античной литературе, в «Истинной истории» Лукиана, а
форма утопии была подсказана ему «Утопией» Томаса Мора и «Государ-
ством солнца» Кампанеллы.
Непосредственным источником первого романа Сирано является книга
Сирано де Бержерак. „Государства Луны".
Иллюстрация у.я над. 1662 г.
лея
КЛАССПДПЗМ
английского епископа Френсиса Гудвина «Человек на луне» (1638), переве-
денная в 1648 г. Жаном Бодуэном на французский язык. Гудвин рассказы-
вает шриключения испанца Доминго Гонсалеса, завершающиеся тем, что
дрессированные лебеди поднимают его на луну. Описания лунного мира
у Гудвина и у Сирано во многом сходны, что объясняется прямым влия-
нием Гудвина на Сирано. Однако цели обоих авторов были глубоко раз-
личны: Гудвин старался развить в английском читателе вкус к заморским
путешествиям, Сирано же стремился прежде всего пропагандировать свои
научно-философские взгляды. Воззрения Сирано тесно связаны с философ-
ской системой его учителя Гассенди, популяризировать учение которого
является одной из его основных задач. Значение этой популяризации за-
ключается в том, что она была осуществлена в яркой художественной
форме, весьма сильно отличавшейся от сухого изложения тех же мыслей
у Гассенди.
Как и Гассенди, Сирано признает вечность материи и ее атомное строе-
ние и выводит ощущения из воздействия тел на органы чувств. Некото-
рые научные домыслы Сирано поражают своим остроумием и гениаль-
ностью предвидения, например, его мысль о возможности полетов в
межпланетное пространство при помощи ракет.
Самым сильным местом в воззрениях Сирано является его воинствую-
щий, беспощадный атеизм. Его романы переполнены насмешками над хри-
стианскими догматами и над библейскими мифами. Будучи сторонником
теории Коперника, Сирано издевается над мифом о сотворении мира в шесть
дней. Он насмехается также над учением о бессмертии души. Гораздо сла-
бее Сирано в утопической части своих романов. Отсутствие у него четких
политических воззрений приводит к тому, что ему не всегда удается нари-
совать картину идеально устроенного мира. В этом отношении он не вы-
держивает сравнения не только с Томасом Мором, но и с Кампанеллой.
Гениальный одинокий мечтатель, Сирано опередил свое время, создав
жанр научно-фантастического романа, который нашел необходимые условия
для своего развития только в XIX в. Он оказал несомненное влияние на
произведения Фонтенеля, Свифта и Вольтера. В то же время творчество
Сирано тесно связано с XVII веком, ибо оно проникнуто научным духом,
являющимся одной из характерных особенностей всей французской куль-
туры XVII в.
В процессе формирования классицизма весьма важную роль сыграли
литературные кружки парижской аристократии, в которых принимали так-
же участие представители буржуазной интеллигенции. Кружки эти были
весьма разнородны как по своему составу, так и по предмету своих занятий
и направлению литературных интересов. Но все они живо интересовались
вопросами языка и литературы и стремились оказывать влияние на лите-
ратурную жизнь. Спорным вопросом являлось то, в какой мере социально-
бытовая практика столичной аристократии должна была определять пути
развития национальной литературы, иначе говоря—в какой мере аристо-
кратический в.кус мог быть признан руководящим и общеобязательным
критерием художественной ценности литературных произведений. От реше-
ния этого вопроса зависело направление литературной политики француз-
ской монархии, а следовательно, и реальное содержание литературы, ее
большее или меньшее соответствие интересам широких кругов француз-
ского общества.
ФОРМИРОВАНИЕ КЛАССИЦИЗМА
Î5G9
Первый по времени возникновения парижский литературный салон по-
пытался разрешить этот вопрос в смысле утверждения кастовой аристокра-
тической эстетики. Этим салоном был знаменитый Отель Рамбулье (Hôtel
Rambouillet), называвшийся так по имени его основательницы Катерины де
Вивонн, маркизы Рамбулье. Около 1608 г. эта знатная дама, возмущен-
ная грубыми, «солдатскими» манерами, царившими при дворе Генриха IV.,
решила организовать в своем особняке регулярные собрания близких ей
светских людей для бесед по вопросам литературы, искусства, науки, фи-
лософии и морали. Этот салон, бывший околкам с салонов итальянской
аристократии, просуществовал около полувека (до 1655 г.), но периодом
его высшего расцвета были годы 1624—1648, когда он являлся подлинным
законодателем светских нравов и литературных вкусов.
С самого возникновения Отеля Рамбулье здесь происходили длитель-
ные беседы, посвященные анализу различных чувств (самолюбие, дружба,
любовь) и их оттенков. Одновременно обсуждались вопросы языка, разби-
рались новые сочинения, происходили поэтические состязания между посе-
тителями салона. Среди последних, на ряду с аристократами, которые инте-
ресовались вопросами литературы, всегда играли важную роль профессио-
нальные литераторы незнатного происхождения. Из них в Отеле Рамбулье
часто бывали старик Малерб, Гез де Бальзак, Вуатюр, Ракан, Менаж,
Вожла, Бенсерад, Шаплен, Пьер и Тома Корнель.
Весьма видное место в Отеле Рамбулье занимали женщины, создав-
шие здесь культ изысканной галантности на платонической основе. Помимо
самой маркизы Рамбулье и двух ее дочерей — Жюли (впоследствии герцо-
гини де Монтозье) и Анжелики (впоследствии маркизы де Гриньян), в
Отеле Рамбулье выделялись герцогиня де Лонгвиль, принцесса Конде,
мадам Дезульер, мадам де Севинье и мадам де Лафайет; последние три
были талантливыми писательницами. По мере того, как салонная жизнь
отливалась в законченные формы, она становилась все декоративнее.
Отель Рамбулье усвоил обыкновение итальянских академий наделять своих
сочленов пасторальными именами. Так, маркизу Рамбулье именовали
Артенисой, ее дочь Жюли — Меланидой, Вуатюр носил имя Валера, Баль-
зак— Белизандра и т. д.
Стиль обхождения в Отеле Рамбулье становился, по мере его разви-
тия, все более изысканным и манерным. Под влиянием Жюли салон ее ма-
тери все более превращался в собрание светских остроумцев (beaux-esp-
rits). Все посетители Отеля Рамбулье посвящали Жюли свои стихи.
В 1638 г. ее жених герцог Монтозье, добивавшийся ее руки в течение четыр-
надцати лет, поднес ей альбом, названный «Гирляндой Жюли». На каж-
дой странице этого альбома был нарисован какой-нибудь цветок, а под ним
был написан мадригал; авторами мадригалов были постоянные посетители
салона, в том числе Корнель.
Пример маркизы Рамбулье вызвал множество подражаний. Салоны
стали возникать не только во дворцах принцев и вельмож, но и в домах
зажиточных буржуа. Однако по мере своего распространения салоны стали
вырождаться. Уже в салоне писательницы м-ль де Скюдери появилась
кружковщина, педантизм, своеобразное светское сектантство. Эти салоны
второй половины XVII в., тормозившие развитие передовой литературы,
были высмеяны Мольером и Буало.
Как самые салоны, так и культивируемая в них литература, получили
наименование «<прециозных» (от слова précieux — «драгоценный», в расши-
ренном смысле — «изысканный»). Понятие «прециозности» охватывало ка-
стовую аристократическую эстетику, в основе которой лежало стремление
2-1 Ilcbjpiui ф|> iiiuyao.i-.n ji.i I' р irypu—815
370
КЛАССИЦИЗМ
побежденной монархией феодальной знати, не желавшей превращаться в
раболепных придворных, сохранить свое привилегированное положение, от-
делив себя от «грубой черни», и удовлетворять свои эстетические потреб-
ности, возникшие в условиях бездельного, паразитического существования.
Эти тенденции прециозной аристократии обусловливали своеобразное
разрешение ею проблемы литературного языка. Теоретик прециозности
Сомез (Somaize) писал в своем «Большом словаре прециозниц» («Le Grand
Dictionnaire des Précieuses», 1661): «Необходимо, чтобы прециозница гово-
рила иначе, чем говорит народ, для того, чтобы ее мысли были понятны только
тем, кто имеет ум более светлый, чем чернь. С этой целью прециозницы
прилагают все усилия к тому, чтобы разрушить старый язык, и создают
совершенно новый язык, который присущ им одним». Такая установка на
непонятный массе, зашифрованный язык была прямо противоположна
взглядам на этот вопрос Малерба и всех классицистов. Она носила ярко
выраженный антидемократический и антигуманистический характер.
Стремление прециозной знати отмежеваться в отношении языка от
народа не приводило ее, однако, к расширению языкового запаса. Прециоз-
ные салоны удовлетворялись наличным лексическим материалом, уже со-
кращенным реформой Малерба, но трансформировали его на новый лад,
создавая необычные сочетания слов и образные выражения, понятные
только посвященным. Особенно типичным для прециозного языка приемом
являлась перифраза, не столько описывавшая, сколько зашифровывавшая
бытовой предмет. Яркие образцы таких перифраз дал Мольер в своих
«Смешных жеманницах»: «советник граций» (зеркало), «удобства для раз-
говора» (кресла), «души ног» (скрипки, под звуки которых хочется тан-
цовать) и т. д. Прециозные перифразы вовсе не способствовали усилению
выразительности и пластичности языка. Напротив, они влекли за собой
размывание контуров вещей, их развеществление. Они являлись своеобраз-
ными шарадами или ребусами, построенными на двусмысленных или много-
значных выражениях, истинный смысл которых определялся только кон-
текстом или обстановкой, в которой употреблено было данное выражение.
Объективное, познавательное значение языка снижалось, на первое место
выдвигался субъективный произвол говорящего, вся речь получала вычур-
ный и надуманный характер.
Особенности прециозного языка были тесно связаны со специфическим
пониманием существа поэзии и ее задач. Для прециозников поэзия была
уделом немногих изысканных умов; она — самоцельная игра, забава, в ко-
торой форма имеет больше значения, чем содержание. Критерием эстети-
ческой ценности прециозной поэзии являлась степень преодоленных постом
трудностей. «Цель поэта — изумлять» («Е del poeta il fin la maraviglia»),
заявлял итальянский поэт Джамбаттиста Марино (1569—1625), живший
некоторое время в Париже и являвшийся высшим поэтическим авторите-
том французской прециозной знати. Согласно формуле Марино, поэт дол-
жен прежде всего поражать своей редкостной индивидуальностью, своей
изобретательностью и виртуозностью. Сам Марино был величайшим «поэ-
тическим фокусником» данной эпохи. Его стихи представляют собой беско-
нечный набор всякого рода галантных метафор, сравнений, гипербол, пери-
фраз, каламбуров и «кончетти», которые во Франции назывались «pointes»
(затейливые, усложненные способы выражения мысли, обычно связанные
с игрой слов или туманными намеками). Марино писал стихи, составлен-
ные из слов, начинающихся на одну и ту же букву, или из строк, кончаю-
щихся одной и той же рифмой; он пускал в ход типографические фокусы,
придавая стихам форму различных геометрических фигур, и т. д. Он научил
ФОРМИРОВАНИЕ КЛАССИЦИЗМА
571
Маркиза Рамбулье протягивает своей дочери Жюли д'Анжен венок цветов с надписью
„Божественной Жюли".
С миниатюры неизвестного художника.
французских прециозных поэтов выражать самые обыкновенные мысли
максимально усложненным способом.
Тематика стихотворений Марино и французских прециозных поэтов
была односторонне галантной. Поэты эти воспевали любовь, наслаждение,
роскошь, красоту своих «дам», мелкие эпизоды светской жизни, без конца
вариируя одни и те же банальные ситуации. Но тема и фабула стихотворе-
ния имели мало значения. Они оттеснялись на второй план всякого рода
орнаментацией, поэтическими прикрасами, имевшими самодовлеющее зна-
чение.
Произведения прециозной литературы напоминают памятники изобра-
зительных искусств стиля барокко. Подобно тому, как в здании барокко
плоскость стены изрезывается разного рода членениями, отягощается пиля-
страми и расточительным орнаментом, под которым она перестает ощу-
щаться, так в прециозной литературе вереницы метафор и сравнений,
бесчисленные каламбуры и остроты, всякого рода словесная мишура засло-
няют основную фабулу. Аналогия эта не случайна: прециозная литература
стилистически родственна изобразительному искусству барокко и может
быть подведена под эту стилевую категорию вместе с аналогичными явле-
ниями в литературе Италии (маринизм), Испании (гокгоризм), Германии
(поэзия «второй силезской школы») и Англии («метафизическая школа» и
отчасти — более ранний эвфуизм).
Во всех перечисленных литературных течениях имеется ряд общих
черт, противопоставляющих их, с одной стороны — искусству Ренессанса,
а с другой стороны — искусству классицизма. Таковы своеобразный реля-
тивизм и плюрализм, утверждение множественности вместо единства, жи-
572
КЛАССИЦИЗМ
вописности вместо линейности, асимметричности вместо симметрии, субъ-
ективизма художника вместо его установки на объективное отражение дей-
ствительности, увлечение орнаментацией и виртуозничанием, стремление
к количественному накоплению эффектов и к мнимой монументальности,
противоречивое сочетание преувеличенной изысканности с грубой вульгар-
ностью и т. д.
Социальной основой искусства барокко была феодальная реакция про-
тив Ренессанса, прокатившаяся по всем европейским странам, но давшая
особенно ощутимые результаты в Италии, Испании и Германии, которые
и являются потому классическими странами барокко. Во Франции, где
феодальная реакция по существу была разгромлена уаке в конце XVI в.,
искусство барокко не имело глубоких социальных корней и потому суще-
ствовало сравнительно недолго, распространяясь по преимуществу в «фрон-
дировавших» против абсолютизма дворянских кругах. Главным оплотом
литературной фронды против абсолютизма был как раз Отель Рамбулье,
многие посетители которого приняли впоследствии участие в вооруженной
борьбе против абсолютизма. Все главные деятели Фронды во главе с прин-
цем Конде и герцогиней де Лонгвиль были завсегдатаями собраний в зна-
менитой «голубой комнате» маркизы Рамбулье.
Литературная продукция Отеля Рамбулье прежде всего выразилась в
весьма обильной салонной лирике (мадригалы, сонеты, рондо, послания),
отражавшей изысканную светскую болтовню на различные мелкие, подчас
совершенно невесомые темы. Помимо Марино, на французских прециозных
поэтов оказали влияние испанец Гонгора и группа итальянских и француз-
ских петраркистов XVI в. Крупнейшей поэтической индивидуальностью
Отеля Рамбулье, корифеем французских прециозных поэтов был Венсан
Вуатюр (Vincent Voiture, 1595*—1648). Он был сыном виноторговца из
Амьена, но буржуазное происхождение не помешало ему занять одно из
самых почетных мест в Отеле Рамбулье благодаря поэтическому таланту,
гибкости и остроумию. Аристократы омотрели на него как на равного,
потому что он сумел воплотить в своем лице идеал поэта в понимании
аристократического общества XVII в. В отличие от других французских
поэтов-профессионалов, Вуатюр вел себя с большим достоинством, не при-
нимал никаких подачек от вельмож и получал пенсию только от короля
Людовика XIII и его брата Гастона Орлеанского, у которого он состоял
на службе.
Все стихи Вуатюра написаны «на случай», на совершенно ничтожные
темы. По остроумному замечанию Лансона, «Вуатюр истратил больше ума
на безделки, чем другие писатели на самые серьезные вещи». Он писал
стихи для очень узкого круга утонченных людей и потому уснащал их на-
меками и шутками, понятными только членам этого кружка. Несмотря на
это, многие стихотворения Вуатюра получили широкий резонанс за преде-
лами Отеля Рамбулье. Особенно нашумел его сонет «Красавица, встающая
рано» («L-Д belle matineuse»), написанный по случаю поэтического состяза-
ния с другим прециозным поэтом Мальвилем (Malleville). В 1638 г. поэти-
ческое состязание Вуатюра с Бенсерадом (Benserade), во время которого
он написал сонет «Урания» («Uranie»), а Бенсерад — сонет «Иов» («Job»),
разделило всех парижских литераторов на два враждующих лагеря —
«уранистов» и «иовистав». Иногда Вуатюр отступал от своей обычной
изящной манеры и писал стихи на нарочито низменные, бурлескные темы,
Таковы его «Стансы красавице, у которой рукава были засучены и гряз-
ны», «Стансы м-ль де Бурбон, которая приняла слабительное». Несмотря на
тесные связи Вуатюра с прециозным обществом, он пользовался располо-
ФОРМИРОВАНИЕ КЛАССИЦИЗМА
373
жением кардинала Ришелье,
был членом Французской Ака-
демии с момента ее основания,
а впоследствии оказался един-
ственным из прециозных
поэтов, пощаженным Буало.
Вуатюр был вождем це-
лой армии салонных поэтов,
к которой принадлежали еще
Годо (Godeau), Пелиссон
(Pellisson), Саразен (Sarra-
zin), Котен (Cotin). Послед-
ний, высмеянный Мольером
(под именем Триссотена, в
«Ученых женщинах») и Буа-
ло, прослыл воплощенной без-
дарностью, хотя некоторые
его стишки не уступают ана-
логичным произведениям Вуа-
тюра.
Помимо лирики, прециоз-
ные писатели разрабатывали
также жанр романа, в кото-
ром получили яркое выраже-
ние характерные особенности
стиля барокко. Раньше всего
нрециозный роман выступил
в форме пасторального, кото-
рый пережил во Франции на-
чала XVII в. свой несколько
запоздалый, хотя и пышный,
, i'ii.-1 «*.£ '.'
jt.V i
Оноре д'Юрфе.
С портрета Ван-Дейка, грав. Р. Ван-Шуппеном в 1699 г.
расцвет. Французский пасторальный роман
развивался под отчетливым влиянием испанского (Монтемайор). Его созда-
телем был Оноре д'Юрфе (Honoré d'Urfé, 1568—1625). Провинциальный
дворянин, родом из Марселя, член Католической лиги во время граждан-
ских войн конца XVI в., д'Юрфе прожил всю жизнь на юге, вдали от сто-
личной жизни. Его главным произведением, создавшим ему громкую славу,
был пастушеский роман «Астрея» («Astrée», 1610—1619),выпущенный им
частями, в три приема, и оставшийся незаконченным. После смерти автора
его секретарь Баро (Ваго) дописал роман и опубликовал последние две его
части. В этом восполненном виде «Астрея» представляет огромное много-
томное произведение с довольно несложным сюжетом.
Действие романа происходит в Галлии, на берегах Линьона, в V в.
м. э. Главные персонажи романа — знатные молодые лица обоего пола, по-
селившиеся среди природы и избравшие пастушеский образ жизни в виду
его «нежности» и «невинности». Их сладостная жизнь омрачается только
любовными муками. Все они влюблены и добиваются цели своих желаний.
Они живут в государстве, которым управляет сказочная королева Амазис,
окруженная дамами, рыцарями и друидами. Основной сюжетной линией
романа является история любви Астреи и Селадона, их размолвок, жесто-
кости Астреи, порывов отчаяния Селадона, который дважды пытается
утопиться, и, наконец, примирения любовников. Действие романа разви-
вается очень медленно, герои много рассуждают, спорят и анализируют от-
тенки своих переживаний, подобно посетителям Отеля Рамбулье. Основная
374
КЛАССИЦИЗМ
сюжетная линия романа перебивается многочисленными эпизодами (около
восьмидесяти), построенными по схеме рыцарских романов приключений.
Эти эпизоды вносят некоторое разнообразие в монотонное развитие основ-
ного сюжета. Повествование чередуется в «Астрее» с описаниями и диало-
гами, проза иногда перебивается стихами. Дополнительные аксесуары
(к которым следует отнести также военные приключения Селадона) засло-
няют, согласно принципу эстетики барокко, основную фабулу.
«Астрея» отразила в идеализированном виде нравы французской ари-
стократии. Она была таким же злободневным произведением, как и стихо-
творения «на случай», сочиняемые прециозньгми поэтами. По словам прия-
теля д'Юрфе, адвоката Патрю, все эпизоды «Астреи» взяты из действи-
тельной жизни, а герои романа имели реальных прототипов во француз-
ском обществе. Мастерство д'Юрфе проявляется особенно сильно в изо-
бражении множества видов и оттенков любовных переживаний. Но у всех
многочисленных категорий любовников выступает «екая единая концепция
любовных отношений, зафиксированная в двенадцати любовных заповедях
Селадона. Эти заповеди развертывают идею любви платонической, постоян-
ной, покорной, терпеливой и безответной. Любимая женщина рисуется не-
кой богиней, в которой не видят даже тени несовершенства. В этой концеп-
ции любви сочетались влияния, шедшие из Италии (платонизм) и Испа-
нии (рыцарское поклонение женщине). Моральный кодекс «Астреи» был
усвоен Отелем Рамбулье. В Германии в 1624 г. была основана «Академия
истинных любовников», объединявшая сорок восемь принцев и принцесс,
решивших жить жизнью «Астреи» и носить имена ее персонажей.
О громадном успехе «Астреи» свидетельствует множество подражаний
ей в романе и в драме. В течение сорока лет драматурги обрабатывали для
театра отдельные эпизоды этого романа. Изысканный стиль «Астреи»
стал образцом прециозной прозы. За пределами литературы барокко
«Астрея» оказала влияние на ряд крупнейших классицистов — Корнеля,
Расина, Буало, мадам де Лафайет, а также Аафонтена, который был горя-
чим почитателем этого романа.
Пасторальный роман являлся своеобразной формой оппозиции феодаль-
ной аристократии абсолютистскому режиму. Эта оппозиция осуществлялась
в форме ухода от ненавистной социальной действительности в некий иде-
альный пастушеский мир, не знающий никаких социальных бурь и поли-
тических страстей. Однако, по мере того как кардинал Ришелье начал раз-
вивать активную абсолютистскую политику, стремясь выкорчевать все
корни феодальной смуты, фрондирующая против него аристократия со-
здала более активную форму протеста, чем пасторальный роман. В 40-х
годах на смену ему появляется новый жанр галантно-героического романа
с рыцарской, военно-авантюрной или псевдоисторической тематикой. Как
и пасторальный, галантно-героический роман развивается под испанским
влиянием. Период расцвета этого жанра связан с новой полосой заговоров
и восстаний феодальной знати против Ришелье и Мазарини, завершившихся
Фрондой. В это бурное время галантно-героический роман возбуждал ари-
стократию рассказами о героических подвигах, сражениях и переворотах.
Основоположником этого жанра был Марен Леруа де Гомбервиль
(Marin le Roy de Gomberville, 1600—1674), прославившийся своим много-
томным романом «Полександр» («Polexandre», 1629—1637). На первый
взгляд под пером Гомбервиля роман сделал шаг не вперед, а назад, к испан-
ским рыцарским романам типа «Амадиса Уэльского». При этом Гомбер-
виль еще в большей степени, чем испанские романисты, вносит в свои
романы экзотический элемент, удовлетворяя любопытство современников
ФОРМИРОВАНИЕ КЛАССИЦИЗМА
87*
обильными географическими сведениями о дальних странах. В его романах
фигурируют Канарские острова, Сенегал, Марокко, Перу", Мексика, С дру-
гой стороны. Гомбервиль воспроизводит банальные сюжетные (мотивы
рыцарских романов. Его Полексаидр — рыцарь, который вызьгоает на бой
поклонников своей дамы во всех странах света и в то же время доволь-
ствуется, согласно светскому кодексу, ее платонической любовью.
Если Гомбервиль внес в роман географию, то Готье де Кост де Ла-
Калыпренед (Gautier de Costes de la Calprenède, 1610—1663) специализи-
ровался на исторической тематике. В основу каждого из его романов поло-
жено какое-нибудь крупнейшее историческое событие. Так, в «Кассандре»
(«Cassandre», 1642) изображено распадение державы Александра Македон-
ского, в «Клеопатре» («Cléopâtre», 1647)—крушение римского владычества,
а в «Фарамонде» («Faramond», 1661)—основание французской монархии.
Государственно-политическая тематика романов Ла-Кальпренеда перекли-
калась с аналогичными темами в трагедиях его современника Корнеля.
Однако исторические романы Ла-Кальпренеда тоже уснащались банальными
мотивами рыцарских романов. Так, в «Кассандре» рассказывается о любов-
ных связях «паладинов» Александра Македонского с придворными дамами
персидского царя Дария. По своей структуре романы Ла-Кальпренеда носят
ярко выраженный барочный характер, демонстрируя увлечение всем красоч-
ным и редкостным, вкус к
расточительности, преизбы-
точности и грандиозности.
Третьим и крупней-
шим представителем ба-
рочного романа была Мад-
лена де Скюдери (Made-
leine de Scudéry, 1607—
1701). Она родилась в
Гавре в дворянской семье,
получила хорошее образо-
вание и рано заинтересо-
валась вопросами литера-
туры. Переехав вслед за
своим братом, поэтом и
драматургом Жоржем де
Скюдери, в Париж, она
была принята в Отеле Рам-
булье. Когда около сере-
дины XVII в. Отель Рам-
булье стал приходить в
упадок, она создала соб-
ственный салон, отличав-
шийся от Отеля Рамбулье
своим более «ученым», пе-
дантическим характером.
M -ль де Скюдери пользо-
валась совершенно исклю-
чительным почетом и ува-
жением в течение своей
долгой жизни. Ее называ-
ли «новой Сафо», «десятой Оноре д'Юрфе. „Астре*"
музой». Она получала пен- (Селадон, бросающийся в вэду).
370
КЛАССИЦИЗМ
„Карта страны иежности" из романа „Клелия" Мадлены де Скюдери.
сии от Мазарини и Людовика XIV. Все крупнейшие люди эпохи считали
за честь общение с нею. Даже непримиримый Буало пощадил м-ль де Скю-
дери при жизни и высмеял персонажей ее романов только после смерти
писательницы. Один Мольер открыто издевался над нею в своих «Смеш-
ных жеманницах» и «Ученых женщинах».
Огромная литературная слава м-ль де Скюдери была основана, глав-
ным образом, на ее романах, в которых она разрабатывала дальше излюб-
ленный жанр Ла-Кальпренеда. Первым романом м-ль де Скюдери был
«Ибрагим, или Великий паша» («Ibrahim, ou l'Illustre Bassa», 1641) —чисто
любовный роман, в предисловии к которому она заявила: «Бессмертный
Гелиодор и великий д'Юрфе были и будут для (меня единственными об-
разцами». Однако во втором овоем романе, имевшем особенно шумный
успех, «Артамен, или Великий Кир» (« Artamène, ou le Grand Cyrus», 1649—
1653), она перешлак исторической тематике, почерпнутой из истории древ-
них мидян и персов. В центре сюжета романа стоит история любви Кира
к мидийской царевне Мандане, ради которой Кир служит ее отцу царю
Киаксару под именем Артамена и едва не погибает, будучи обвинен в из-
мене. Как и в других барочных романах, в «Артамене» нагромождено мно-
жество галантно-героических приключений, эффектных описаний, простран-
ных диалогов и т. д. В романе отражены главнейшие события политической
жизни Франции (времен Фронды и даются портреты ее участников, в част-
ности принца Конде и мадам де Лонгвиль.
Сюжет третьего ссоего романа «Клелия» («délie», 1654—1661) м-ль
де Скюдери заимствовала из истории древнего Рима. Однако Буало
остроумно заметил, что во всей «Клелии» нет ни одного римлянина или
римлянки, которые не были бь^ списаны с обитателей того квартала, где
живет автор романа. Всех своих римских персонажей м-ль де Скюдери
ФОРМИРОВАЛИ?! КЛАССИЦИЗМА
877
крайне модернизует, наделяя их обычаями и манерами французских ари-
стократов. Главной задачей м-ль де Скюдери в этом романе являлось дать
как бы руководство галантного обхождения и салонной любви. К роману
приложена знаменитая в XVII в. «Карта Страны Нежности» («Carte du
Tendre») — своеобразный путеводитель по «стране любви и галантности»,
отдаленно напоминающий куртуазные аллегории первой части «Романа о
Розе».
М-ль де Скюдери не подписывала своих романов, а выпускала их от
имени своего брата. Все они имели большой успех, несмотря на однообра-
зие сюжетов и бледную обрисовку характеров. Они были переведены на
большинство европейских языков, а «Артамен», если верить сообщению
поэта Прадона, даже на арабский. Но этот успех не был длительным, и в
XVIII в. романы эти оказались почти совсем забытыми.
4
Близко к прециозному роману стоят многочисленные, хотя и сплошь
неудачные попытки создания героической эпопеи, в которых поэты XVII в.
как бы пытались доделать работу, начатую и незаконченную в XVI в.
Ронсаром. При этом они* обнарз'жили полное непонимание законов геро-
ического эпоса и условий, необходимых для его возникновения. Они не
ощущали никакой разницы между романом и эпопеей, кроме стихотворной
формы, обязательной для этой последней. Эпопея для них—это историче-
ский роман в стихах, имеющий аллегорический смысл. Увлечение аллего-
риями приводило к преобладанию в эпопее холодной риторики и прозаизма.
Отсутствие подлинной поэтичности возмещалось разного рода внешними
«украшениями». Герои эпопеи говорят языкам салонов и ведут себя, как
герои пасторальных и галантночгероических романов. Сюжеты эпопей
XVII в. обычно заимствовались из христианского средневековья; в них
действуют Хлодвиг, Карл Великий, Людовик Святой и др. Исторические
сюжеты уснащались необузданной фантастикой и всякого рода романиче-
скими приключениями.
Из многочисленных произведений этого гибридного жанра выделяются
эпопеи Жоржа де Скюдери «Аларих» («Alaric», 1664) и Демаре де Сен-
Сорлена (Desmarets de Saint-Sorlin)—«Хлодвиг» («Clovis», 1657). «Ала-
рих» знаменит своим дурным вкусом, который настолько последовательно
проникает всю поэму с начала до конца, что она производит впечатление
парофии. В «Хлодвиге» интересно только предпосланное ему предисловие,
в котором впервые поставлена проблема «христианского чудесного» («le
merveilleux chrétien»), впоследствии послужившая отправной точкой для так
называемого «Спора о древних и новых авторах».
Но самой любопытной эпопеей XVlI в. является «Девственница, или
Освобожденная Франция» («La Pucelle, ou la France délivrée», 1656) Жана
Шаплена (Jean Chapelain, 1595—1674). В отличие от большинства других
эпопей, отразивших фрондерские настроения аристократии, «Девственница»
написана по прямому заказу кардинала Ришелье, которому хотелось раз-
жечь во французском обществе ненависть к Англии. Для этого наилуч-
шим способом было изобразить вторжение англичан во Францию в годы
Столетней войны. Героиней «Девственницы» явилась поэтому Жанна д'Арк,
изображенная Шапленом, в духе церковной легенды, как посланница неба
и опора королевского трона. Все события, показанные в поэме, так же как
и ее персонажи истолковываются Шапленом аллегорически. Согласно его
замыслу, Франция — это «душа человеческая, находящаяся в борьбе с са-
378
ШЛССМЦНЗИ
мой собою», король Карл—воля, стремящаяся к добру, но поддающаяся
злу, Агнеса — сладострастие, Жанна — божественная благодать и т. д.
Вычитав у Аристотеля, что женщина — ошибка природы, Шаплен не ре-
шился сделать Жанну главной героиней своей поэмы, а отвел центральное
место в ней рыцарю Дюнуа. Вся поэма в целом поражает своим безвку-
сием, монотонностью, неуклюжестью языка и вялостью стиха. Несмотря
на это, ее первая часть, при своем появлении на свет, имела большой успех;
однако вскоре насмешки Буало дискредитировали Шаплена и помешали ему
выпустить вторую часть поэмы, которая была опубликована только в
1882 г. В XVIII в. поэма Шаплена вызвала к жизни великолепную паро-
дию на нее Вольтера («Орлеанская девственница»).
Несмотря на неудачу «Девственницы», автор ее сыграл в литературной
жизни Франции XVII в. довольно крупную и скорее положительную роль.
Он был одним из первых теоретиков французского классицизма и автори-
тетнейшим литературным критиком первой половины XVII в. В течение
более тридцати лет Шаплен оказывал решающее влияние на литературную
политику французской монархии. Он был одним из основателей и актив-
нейших членов Французской Академии, созданной кардиналом Ришелье
для противодействия влиянию Отеля Рамбулье на литературную жизнь
Франции.
Французская Академия была организована в 1634 г. на основе литера-
турного кружка, собиравшегося в доме ученого протестанта Валентина
Конрара (Valentin Conrart) и состоявшего из представителей буржуазной
интеллигенции, интересовавшихся вопросами языка и литературы. По-
скольку в работах этого кружка совершенно отсутствовали ненавистные
первому министру каставо-аристократические, оппозиционные абсолютизму
тенденции, которые проявлялись, например, в Отеле Рамбулье, Ришелье
решил превратить его в официальную государственную организацию, имею-
щую целью создание общеобязательного языкового и литературного ко-
декса, который соответствовал бы политическим задачам абсолютизма.
В состав Академии, насчитывавшей сорок членов, вошли многие писатели,
являвшиеся посетителями Отеля Рамбулье. Этим Ришелье хотел перема-
нить на свою сторону наиболее жизнеспособных и активных французских
писателен, освободив их от вредного влияния прециозной эстетики. Войдя
в состав Французской Академии, они отныне должны были содействовать
формированию классицизма.
Предметом занятий Французской Академии явилась, прежде всего,
точная фиксация способов употребления слов и фраз и установление пра-
вил для пишущих стихами и прозой. С этой целью Академия должна была
заняться составлением словаря французского языка, его грамматики, ри-
торики и поэтики. Последние три издания никогда не были осуществлены.
Составление же словаря, предпринятое по инициативе и по плану Шап-
лена, стало основным занятием Академии. В своей словарной работе Ака-
демия продолжала линию Малерба. По его примеру, она исключила из
языка множество ярких и колоритных слов, боролась с архаизмами, про-
винциализмами, «низкими словами», технической лексикой. Она осуще-
ствляла унификацию литературного языка на весьма узкой социальной
базе, противопоставляя его будничной разговорной речи. Кроме того, язы-
ковой политике Французской Академии было присуще рационалистическое
понимание слова как значка для отвлеченного понятия. Это понимание ясно
проявлялось, например, в точной дифференциации «синонимов». Язык Ака-
демии был узок даже для ряда видных писателей-классицистов XVII в.,
например, для Мольера и Лафонтена. При всем том словарная работа Ака-
ФОРМИРОВАНИЕ КЛАССИЦИЗМА
579
демии имела большое значение, потому что она отняла у светских салонов
руководство развитием языка.
Главным авторитетом по вопросам языка среди академиков являлся
Клод Фавр де Вожла (Claude Favre de Vaugelas, 1585—1650). Этот савой-
ский дворянин был превосходным филологом, и все его решения принима-
лись академиками без возражений. В своем главном труде «Замечания о
французском языке» («Remarques sur la langue française», 1647) он выступил
продолжателем языковой реформы Малерба, подобно последнему объявив
единственным критерием в выборе слов — способ выражения, принятый
«лучшей частью двора», а также «лучшими из современных писателей».
Установка Малерба на языковую практику «крючников с сенного рынка»
была сильно ограничена. Правда, Вожла признавал, на ряду с «двором»,
также и «город», но при обязательном условии первенства языка двора и
образованных людей.
На ряду с Вожла виднейшим авторитетом по вопросам прозаического
языка был Жан-Луи Гез де Бальзак (Jean-Louis Guez de Balzac, 1597—
1654), которого современники называли «королем писателей». Выходец из
дворянского рода, Бальзак в юности находился на службе у герцога
д'Эпернона и был послан его сыном, кардиналом де Лавалет, в Рим
(1621—1622). В 1627 г. Бальзак по неизвестным причинам покинул сто-
лицу и удалился к себе в имение, откуда изредка наезжал в Париж. В один
из овоих последних приездов в столицу он был введен в Отель Рамбулье,
а вслед затем стал членом Французской Академии. Ришелье вообще по-
кровительствовал Бальзаку; он назначил его государственным советником
и историографом Франции, однако никакой реальной административной
работы ему не предоставил.
Хотя значительную часть своей жизни Бальзак провел в провинции,
он все же оказал на своих литературных современников огромное влияние,
которое принято сравнивать с влиянием Малерба. Бальзак сделал для
прозы то же, что Малерб сделал для поэзии. Он установил «правила» для
прозаического языка, изобретя новую форму ораторской речи, гармония
которой определялась логической последовательностью и связностью
мыслей. Он был великим знатоком живого французского языка и постоянно
вводил в свои произведения обороты и выражения, взятые из народной
речи, которые резали ухо салонной аристократии, и которые он считал за-
конными, если они хорошо передавали оттенки его мысли. Впоследствии
Буало отдал должное Бальзаку, заметив, что «никто не превзошел его в
знании родного языка и лучше его не понимал значения слов и надлежа-
щей меры периодов». Не менее горячими поклонниками Бальзака были
Декарт, Корнель, Паскаль и Боссюэ, которые все в большей или меньшей
степени испытали его влияние.
Бальзак написал четыре трактата: «Государь» («Le Prince», 1631),
«Старик» («Le Barbon», 1648), «Христианский Сократ» («Socrate chrétien».
1652) и «Аристипп» («Aristippe», 1658). Кроме того, ему принадлежит
несколько десятков «рассуждений» (dissertations) на различные темы. Но
главную и наиболее читавшуюся современниками часть литературного на-
следия Бальзака составляют его письма (27 книг), из которых часть была
издана в 1624 г., а остальные увидели свет уже после его смерти.
Бальзак явился подлинным создателем французской эпистолярной прозы
XVII в. В своих письмах, трактатах и рассуждениях он откликался на все
значительные явления современной литературной и общественной жизни.
Своей главной задачей он считал просвещение огрубевшего за время граждан-
380
кллсспцизмг
ских войн французского дворянства, его приобщение к заглохшим тради-
циям эпохи Возрождения. Будучи, подобно высоко чтимому им Монтеню,
страстным поклонником античности, он хотел углубить знакомство с нею
современников и в особенности современниц. Его представления о древнем
мире и, в частности, о древнеримской культуре были лишены оригиналь-
ности; он только популяризировал то, что вычитал у античных писателей
и у гуманистов XVI в. И все же «общие места» Бальзака оказали огром-
ное культурное влияние на крупнейших французских писателей XVII в.
Так, его «-политические рассуждения» о римлянах и о славе определили
истолкование древнеримской гражданской доблести в трагедиях Корнеля.
По вопросам поэтической теории крупнейшим авторитетом Академии
являлся Шаплен. Он был подлинным создателем поэтики классицизма,
ревностным сторонником догматических «правил», извлеченных из сочине-
ний Аристотеля и Горация. Он энергично отстаивал в драматургии пра-
вило трех единств и этим способствовал установлению канонической формы
классической трагедии. Однако недостаток эстетического чутья привел
Шаплена к механическому пониманию правил классицизма. После Шап-
лена виднейшим поборником такой догматической поэтики был Франсуа
Эдлен, аббат д'Обиньяк (François Hédelin, abbé d'Aubignac, 1604—1676),
автор популярной книги по теории драмы — «Практика театра» («La Pra-
tique du théâtre», 1657), известный своими педантическими придирками к
драматургии Корнеля.
5
К моменту создания Французской Академии всем передовым фран-
цузским писателям, стоявшим на позициях формировавшегося нового стиля
классицизма, стало ясно, что основными жанрами этого стиля будут не
лирика и роман, а драматические жанры — трагедия и комедия, резко раз-
граниченные между собой. Драматургия классицизма, уже до появления
первого великого драматурга этого стиля Корнеля, имела свою теорию,
опиравшуюся на драматургический опыт Ренессанса и на теоретические со-
чинения по вопросам драмы, опубликованные в XVI в. в Италии и во
Франции. Наличие такой теории драмы позволяло пионерам классицизма
вести уже в первой трети XVII в. энергичную борьбу с господствовавшей
в это время во французском театре драматургией барокко, составлявшей
репертуар единственного драматического театра Парижа, так называемого
Бургундского Отеля (Hôtel de Bourgogne).
Основоположником драматургии барокко во Франции был плодови-
тый драматург Александр Арди (Alexandre Hardy, ок. 1570—1632).
Жизнь его мало известна. Выходец из третьего сословия, уроженец Па-
рижа, он получил, повидимому, некоторое гуманистическое образование, как
это видно из его произведений. Отдавшись с юных лет работе в театре,
он разъезжал по провинции с труппой бродячих комедиантов, возглавляе-
мой неким Валлераном Леконтом. После водворения этой труппы в Париже,
в Бургундском Отеле (1599), Арди стал официальным и в течение многих
лет единственным драматургом этого театра, поставлявшим ему весь репер-
туар. Этим и объясняется необычайная плодовитость Арди, написавшего
около 700 пьес, из которых до нас дошла всего лишь 41.
Арди разрабатывал все существовавшие в театре его времени драма-
тические жанры. Он писал и обширные пьесы средневекового типа, так на-
зываемые «истории» (histoires), рассчитанные на несколько дней представ-
ления, но в пределах каждого дня разбитые на акты, вроде дошедшей до
ФОРМИРОВАНИЕ КЛАССИЦИЗМА
S81
нас восьмидневной пьесы «Чистая и верная любовь Феагена и Хариклии»
(«Les Chastes et Loyales Amours de Théagène et Chariclée», 1623), представ-
ляющей драматизацию романа Гелиодора «Эфиопика». Далее он написал
целую серию трагедий на античные темы — «Лукреция» («Lucrèce»), «Ди-
дона» («Didon»), «Кориолан» («Coriolan»), «Смерть Ахилла» («La Mort
d'Achille»), «Смерть Александра» («La Mort d'Alexandre») и др. Сочинял
он также пасторали, вроде «Альцеи» («Alcée»), но чаще и охотнее всего
он писал трагикомедии, например — «Сила крови» («La Force du Sang»),
«Прекрасная цыганка» («La Belle Egyptienne»), «Корнелия» («Cornélie»),
«Эльмира» («Elmire») и др.
Преобладание в драматургическом наследии Арди трагикомедий не
случайно: трагикомедия была основным жанром драматургии барокко, го-
сподствовавшей в это время на подмостках Бургундского Отеля. Харак-
терными особенностями этого жанра являлись: романическая, мелодрама-
тическая фабула, взятая из аристократического быта; преобладание
внешнего действия над внутренним и положений над характерами; совме-
щение трагического и комического элемента с обязательной благополучной
развязкой; отсутствие «единств» и свободное перемещение действия в про-
странстве и во времени. Все это приближало трагикомедию Арди к испан-
ской «комедии», оказавшей несомненное влияние на ее формирование.
Несмотря на наличие в пьесах Арди пережитков средневековой драмы
(например, обилие кровавых сцен), Арди в теории не являлся сторон-
ником средневековой системы и считал себя продолжателем традиций
Плеяды. Своим трагедиям он придавал довольно правильную форму, стре-
мился в них выводить характеры из действия, рисовать постепенное раз-
витие страстей, изображать конфликты в душе героев. Всем этим он под-
готовлял классическую трагедию, несмотря на внешне «неправильную»,
средневековую композицию своих пьес. Однако трагедии Арди успеха у
публики не имели, и он вынужден был постоянно возвращаться к популяр-
ному жанру барочной трагикомедии.
Пасторали Арди, в отличие от пасторалей его современников, не пред-
ставляют собой инсценировок эпизодов «Астреи», а черпают вдохновение
непосредственно из итальянских и испанских образцов. В основе сюжета
пасторалей Арди лежит обычно столкновение двух лиц на почве ревности,
либо же борьба любви с равнодушием любимого существа. Неудовлетво-
ренный сравнительной простотой сюжетной схемы пасторали, Арди услож-
няет ее путем введения нескольких пар пастухов или же при помощи рома-
нических приемов построения фабулы, присущих трагикомедии (случайно-
сти, узнавания, превратности судьбы, неожиданные спасения героев и т. д.).
По своему стилю пьесы Арди далеки от прециозной литературы. Они
написаны тяжелым, грубым языком, неловко подражающим заветам Рон-
сара и его школы. Слог Арди то крайне тривиален, то очень манерен, то
необычайно напыщет. Арди — один из самых плохих стилистов во всей
французской литературе. Но литературные недочеты его пьес восполняются
их театральными достоинствами. Арди обладает высоко развитым чув-
ством драматизма и ярко рисует характеры, изображая живых людей, а не
бездушных манекенов, декламирующих красивые стихи, каких обычно вы-
водила французская трагедия XVI в.
Арди породил целую плеяду подражателей, разрабатывавших вслед
за ним жанр трагикомедии. Наиболее видными из них были Жорж де
Скюдери, Шеландр (Schelandre), Дю Рийе (Du Ryer), Буаробер (Boisro-
bert) и Ротру (Rotrou). Все эти авторы, в отличие от Арди, принадле-
жали к светскому обществу и владели модным прециозным стилем. Если
382
КЛАССИЦИЗМ
в первое двадцатилетие XVII в. Бургундский Отель совершенно игнори-
ровался аристократией и посещался только плебейским зрителем, то теперь,
после прихода в этот театр образованных литераторов, изменился также и
состав его зрителей. Светское общество последовало в театр за своими
поэтами. Сам кардинал Ришелье объявил себя покровителем драмати-
ческого искусства. С середины 20-х годов светское общество начинает
оказывать заметное влияние на театр. Это влияние выражается в упоря-
дочении царившедч> на сцене хаоса, в ликвидации пережитков средневеко-
вой драмы, в ограничении анархической свободы и беспорядочности дра-
матургии.
В конце 20-х годов поднимается вопрос о давно забытых «единствах»,
утверждавшихся ренессансньши теоретиками драмы. Борьба за введение
«единств» означала борьбу с драматургической эстетикой барокко, борьбу
за отказ от перевеса в театре внешней зрелищности, за максимальную
концентрацию действия в пространстве и во времени, за перенесение центра
тяжести на внутренний мир героя, на раскрытие его переживаний. Рацио-
налистически настроенной французской буржуазии три единства казались
минимумом условности, а необходимость их введения мотивировалась на-
ивно понятыми реалистическими соображениями. Теоретики классицизма
рассуждали примерно таким образом: единство места необходимо в драме
потому, что во время ее представления в театре оно происходит с начала
до конца на одной и той же сценической площадке, условно обозначающей
определенный город, дворец, дом и т. д. Единство же времени необходимо
потому, что зритель в театре проводит всего несколько часов, а потому,
условно растянуть время действия можно не больше, чем доведя его до
одних суток, и т. д.
Бургундский Отель противился введению «единств» из соображений
чисто постановочного порядка, потому что он отстаивал господствовавшую
в этом театре пеструю зрелищность спектакля. Так обстояло дело до от-
крытия в Париже в 1629 г. второго драматического театра — театра Маре
(Marais), возглавляемого талантливым актером-новатором Мондори.
С этого момента «правильная» драматургия, подчиненная теории трех
единств, получила возможность своей сценической реализации.
Инициатором введения трех единств в драму был Жан де Мере
(Jean de Mairet, 1604—1686). Этот драматург-новатор начал свою дея-
тельность с сочинения пасторалей. В одной из них — «Сильванира» («Sil-
vanire», 1629)—он впервые провел правило трех единств, теоретически
обосновав его в предисловии к печатному изданию этой пьесы (1631). Не-
сколько лет спустя он поставил уже первую «правильную» трагедию
XVII в. — «Софонисбу» («Sophonisbe», 1634). Сюжет этой трагедии был
заимствован из Тита Ливия. Это — история соперничества двух нумидий-
ских принцев Сифакса и Масиниссы, влюбленных в карфагенскую царицу
Софонисбу. Отвергнутый Софонисбой Масинисса приводит в Карфаген рим-
лян, после чего расплачивается за свое предательство, так как любимая им
женщина принимает яд, не желая стать рабыней римского полководца
Сципиона. Этот трогательный сюжет, впервые разработанный итальян-
ским драматургом Триссино (1515), неоднократно привлекал внимание
французских драматургов. Мере выдвинул в своей трагедии на первое
место конфликт между личным чувством и долгом, и этим заложил проч-
ный фундамент французской классической трагедии, подготовив почву
Корнелю.
ГЛАВА П
БЫТОВОЙ РЕАЛИЗМ
1
днозременно с процессом формирования классицизма в
борьбе с галантно-аристократической литературой ба-
рокко, развивалось противоположное и литературе ба-
рокко и нарождавшемуся классицизму буржуазно-реа-
листическое течение. Характерной особенностью этого
течения, проявившегося и в области прозы и в области
поэзии, являлась установка на показ обыденного быта и
материального существования рядовых людей, что поз-
воляет назвать это литературное течение бытовым реа-
ш*^5Ш8№**3 лизмом. Самый термин «реализм» носит в применении
к этому течению весьма односторонний и ограниченный характер. По-
скольку в произведениях писателей этой группы даже не поднимался во-
прос об изображении внутреннего мира человека, его чувств, переживаний
и страстей, постольку этот бытовой реализм имел крайне наивный харак-
тер. Несмотря на это, он сыграл безусловно положительную роль в про-
цессе становления реализма в литературе XVII в. Его историческая заслуга
заключается, главным образом, в проведенной им решительной борьбе с
аристократической вычурностью литературы барокко, с присущим ей мето-
дом фальшивой идеализации феодального общества и с ее манерным, прс-
циоэиым слогом. Пародийная и полемическая направленность произведений
большинства бытовых реалистов XVII в. помогла им сокрушать каноны и
традиции прециозной литературы и этим до известной степени расчистила
путь большому искусству XVII в., искусству классицизма.
Уже в первые десятилетия XVII в. интерес к низменному, обыденному
быту начинает во французской литературе спор с тенденциями к идеализа-
ции или абстрактному рационализму постепенно слагавшейся классицист»*
ческой доктрины. В произведениях Кольте (Colletet), у Теофиля де Вио,
в отдельных стихотворениях Сент-Амана и даже в его поэме «Спасенный
Моисей» мы находим склонность к детализации, к мелочным описаниям
действительной жизни, к жанровым сценам в стиле нидерландских маете-
ров живописи. Этот интерес к низменной реальности представлял собою
реакцию на утонченную изломанность стиля барокко и, в качестве контра-
ста, приводил к увлечению бурлеском, пародией, карикатурой, порою
подче^ркнуто-грубого и откровенного характера. При этом1 из одной край
384
КЛАССПЦПЗМ
ности впадали в другую. Если в одном лагере преклонение перед всем не-
обычайным и удивительным вытекало из страха перед «вульгарным» и
общепринятым, то в противоположном лагере интерес к обыденному стано-
вился культом тривиальности.
В области повествовательной литературы это течение утверждалось во
Франции очень медленно, чаще всего с оглядкой на античные или южно-
романские образцы, итальянские и испанские. Некоторую опору этот наив-
ный бытовой реализм получил также в новеллистических и анекдотических
сборниках позднеренессансной литературы, но восходивших еще глубже —
к средневековым фаблио. Таковы, например, полные шуток, нескромной
игры слов, находчивых вопросов и ответов сборники новелл и забавных
диалогов XVI в. — Таюро, Гильома Буше и т. п.
Самым ранним образцом романа нравов и наблюдений, получившего
наименования «комического», «сатирического» или «буржуазного», может
считаться «Эвформион» («Euphormionis Satyricon», 1602—1605) Жана
Барклая (Jean Barclay). По форме это произведение является уже романом
нового типа, хотя оно и написано на универсальном языке гуманистов
эпохи Возрождения — латинском и отзывается Петронием и Апулеем.
«Эвформион» в целом — еще произведение риторическое; его сатира носит
слишком отвлеченный характер; направленная против судейских, шарлата-
нов-медиков и колдунов, она тонет в отвлеченных декламациях на мораль-
ные темы. Лишь в побочных эпизодах повествования, в которых автор,
повидимому, вдохновлялся личными воспоминаниями, в ироническом любо-
пытстве к быту и в насмешливом веселье, которым приправлена характе-
ристика обыденного мира, чувствуется предшественник повествователей-
реалистов. Героем «Эвформиона» является раб, рассказывающий несчастия
своей скитальческой жизни. Этот роман хорошо знали создатели первых
сатирико-бытовых романов во Франции. Сорель упоминает о нем в приме-
чаниях к своему «Экстравагантному пастуху».
К тому же жанру бытописательного романа следует отнести и рас-
смотренные уже выше «Приключения барона де Фенеста» Агриппы
д'Обинье, увидевшие свет только в 1617 г. Вслед за д'Обинье испробо-
вал свои силы в этом жанре также Теофиль де Вио, оставивший «От-
рывки комической повести» («Fragments d'une histoire comique», ок. 1621),
в нескольких незаконченных главах которой есть нечто напоминающее
будущие «мещанские романы». Однако персонажи «Комической повести» —
традиционные типы старой комедии, а несколько колоритных сцен, несом-
ненно удавшихся автору, заслонены обильными размышлениями философ-
ского и морального содержания, вялыми сю стилю и тормозящими разви-
тие действия. С гораздо более интересными опытами создания реалистиче-
ского романа встречаемся мы в творчестве Сореля.
Шарль Сорель (Charles Sorel, 1602—1674) происходил из зажиточ-
ной провинциальной буржуазной семьи. Жизнь его мало известна. Отец
писателя переехал в Париж, где купил себе должность прокурора парла-
мента. Сорель учился в Париже. Из школы он вынес хорошее знание ла-
тинского языка, но также и отвращение к классической древности, кото-
рое не покидало его всю жизнь. По выходе из коллежа он был помещен
отцом в юридическую школу, которую почти не посещал, так как юриди-
ческая карьера мало прельщала Сореля: он хотел быть литератором. Од-
нако первые литературные опыты Сореля были мало удачны. Поэтического
дарования он был лишен, что показывают как его ранние произведения
(начиная с опубликованной им в 14-летнем возрасте «Эпиталамы» послу-
БЫТОВОЙ РЕАЛИЗМ
385
чаю брака Людовика XIII с Анной Австрийской), так и те стихотворе-
ния, которые были им позднее включены в его прозаические вещи.
Пытаясь жить литературным трудом, Сорель сочинял памфлеты по
заказу частных лиц или кропал лубочные книжки, вроде грубоватой, но
забавной шуточной «Похвалы полезности сапогов».— формы обуви, вхо-
дившей тогда в моду среди светских щеголей Парижа. Эта брошюра вышла
в 1622 г. под псевдонимам — шевалье де Розандр, а в следующем году
была полностью включена в десятую книгу «Франсиона». Пускался Сорель
и в другие литературные предприятия; так он издал сборник новелл, сю-
жеты которых были заимствованы им из средневековых фаблио или из
старых новеллистических сборников вроде «Гептамерона» Маргариты
Наваррской или книги того самого Никола де Мулине (Nicolas de Mou-
linet), почти неизвестного нам писателя начала XVII в. — «Шутливые
беседы и забавные рассказы» («Facétieux devis et plaisants contes», ок. 1612),
именем которого Сорель прикрыл впоследствии авторство некоторых своих
романов, в том числе и «Франсиона». В новеллах Сореля мы находим
сюжеты некоторых комедий Мольера (например, «Любовь-целительница»,
«Лекарь поневоле»).
Получив некоторую известность в литературной среде, Сорель одно
время вращался в обществе веселых «богемцев»—поэтов Буаробера, Тео-
филя де Вио, Сент-Амана, и в сотрудничестве с ними сочинил несколько
балетных либретто. В этот период своей жизни Сорель поддерживал также
связи с некоторыми знатными либертинами. В среде этой близкой ко двору
«золотой молодежи» и вольнодумных вельмож родились, но вскоре угасли,
надежды Сореля самому пробиться в свет и обеспечить себе литературное
имя. Один из его ранних романов «Дворец Анжели» («Le Palais d'Angé-
Не», 1622), написанный в галантном стиле, присвоил себе один из вели-
косветских знакомых Сореля, не заплатив ему ничего за позволение на-
печатать на титульном листе свое имя. Годом раньше Сорель анонимно
издал «Любовную историю Клеагенора и Дористеи» («Histoire amoureuse
de Cléagenor et de Doristée», 1621)—роман, оставшийся почти незамечен-
ным, но впоследствии удачно драматизованный Ротру. Не принес славы
Сорелю и третий его .роман, стоивший автору много труда и самый об-
ширный из всех до тех пор им написанных, — «Орфиза из Хризанты»
(«Orphise de Chrisante», 1623). Этот роман принадлежит к модному в то
время галантно-героическому жанру; в нем, как и в романах Гомбервиля
и Ла-Кальпренеда, героями являются принцы и принцессы, из-за любви
ведутся войны и устраиваются восстания, герои странствуют по морям и
приносятся бурей к враждебным берегам, оракулы предсказывают буду-
щее, невинные терпят незаслуженные кары, пока все не разъясняется к об-
щему благополучию. Однако в «Орфизе» уже чувствуются, правда еще
слабые, отклонения от шаблонного типа галантного романа. Так, здесь
противопоставлены друг другу две любовные истории, и в обоих случаях
трагедия обусловлена социальным неравенством действующих лиц; не-
обычны также для романов галантного стиля некоторые второстепенные
персонажи «Орфизы», например расторопный и смышленый слуга Маций,
напоминающий традиционный тип комедийного слуги.
По своим достоинствам «Орфиза» явно уступала другим произведе-
ниям того же литературного жанра. Ни материального успеха, ни славы
эта книга Сорелю не принесла. С великосветским миром Парижа он более
не заигрывал. Это было последнее из его произведений, в котором он пы-
тался приспособиться к господствующему вкусу в поисках литературной
известности. Убедившись в бесплодности этих попыток, он решил, что
25 История французской литературы—815
56t>
КЛАССИЦИЗМ
«хорошо пишут только тогда, когда следуют природе своего дарования»
(фраза из «Обращения к читателю» в издании «Франсиона» 1633 г.). Он
взял себя самого в герои повествования и простосердечно, даже с некото-
рой развязностью, рассказал свои собственные похождения в различных
общественных кругах, слегка изменив некоторые подробности. Так полу-
чился лучший роман Сореля — «Франсион». Книга эта имела шумный
успех и получила полное признание в демократических слоях французских
читателей.
Первое издание «Правдивого комического жизнеописания Франсиона»
(«La vraie histoire comique de Francion») вышло в свет в 1623 г.; второе
было выпущено через три года (1626) в сильно переработанном виде:
вместо семи книг первого издания, второе состоит из одиннадцати, а кроме
того из текста выброшены слишком резкие сцены и непристойные выраже-
ния. Полагают, что как эти, так и последующие изменения, которые Со-
рель внес в свой роман, вызваны были, главным образом, теми опасениями,
какие возбудили в нем судебные процессы против либертинов и, в част-
ности, против Теофиля де Вио. На этом работа Сореля над своим рома-
ном, однако, не остановилась. В 1633 г. появилось издание «Франсиона»,
дополненное двенадцатой книгой, в котором весь роман был приписан
Никола де Мулине, лотарингокому дворянину. В настоящее время можно
считать вполне установленным, что «Франсион» принадлежит одному Со-
релю, и что ни о каком сотрудничестве какого-либо другого лица не мо-
жет быть и речи.
Замаскировать свое авторство псевдонимом Сореля заставили житей-
ские соображения. Он рассчитывал на то, что унаследует должность своего
дяди, историографа Франции Шарля Бернара, ушедшего к этому времени
на покой; Сорель намеревался довести его сочинения до конца и вы-
пустить в свет. Занятие этой должности было, однако, несовместимо с ре-
путацией веселого бытописателя, автора нескромного авантюрного романа.
Хотя место историографа Сорель, в конце концов, получил, он не мог
надолго удержать его за собой, несмотря на неутомимую деятельность в ка-
честве писателя-историка, и причину этого видят именно в том, что Сорелю
не удалось скрыть принадлежность ему «Франсиона».
О замечательном успехе, выпавшем на долю «Франсиона», свидетель-
ствует огромное количество его изданий. При жизни автора вышло около
тридцати изданий романа. Широкую известность «Франсион» приобрел
также и за пределами Франции: в течение XVII в. он не раз переводился
на голландский (1643, 1670), английский (1655) и немецкий (1662,
1668, 1714) языки.
Успех «Франсиона» на родине был обусловлен жизненностью его со-
держания, с которой связано его сюжетное построение и стиль. В рас-
сказе о приключшиях Франсиона1 Сорель покинул тот условный мир иде-
альных героев и добродетельных героинь, который он сам пытался созда-
вать в своих предыдущих романах. На этот раз перед читателями прохо-
дили не греческие принцессы или герои «царской крови», которых судьба
И пылкие страсти бросали в водовороты странствований и героической
борьбы; фоном повествования на этот раз служили не фантастические
острова греческого архипелага, солнечные пейзажи или бурные волны
южных морей. Сорель правдиво описывал окружающую его жизнь, не
всегда привлекательную, а нередко и отталкивающую. Франсион тоже
странствует и претерпевает ряд приключений, но в них нет ни малейших
намеков на патетику или героизм, да и вся его заурядная фигура не
представляет собою ничего особенно привлекательного. Образ Франсиона
ЪЫТОВОЙ PBAJH3M
587
задуман именно как типичная фигура среднего человека того времени, на
что указывает и его внешний облик, и манера поведения, и даже самое имя
«Франсион», которое в XVII в. часто употреблялось как имя типичного
представителя французской нации (почти как синоним «француза»). Вместо
идиллических картин феодального прошлого, приукрашенного фантазией
рассказчика, вместо трогательных или величавых сцен, рассчитанных на
изысканный вкус, в романе Сореля все отзывается подчеркнутой грубова-
тостью и откровенным цинизмом. Повседневная жизнь провинциальных захо-
лустий, непроезжие дороги, по которым скитаются толпы полуголодного
люда, бродяг, искателей счастья, оскудевшие и разваливающиеся замки
феодалов, обстановка и посетители придорожных таверн — вот что рисует
Сорель. И на ряду с этим — яркая картина Парижа 20—30-х годов XVII, в.,
во всей ее живописной пестроте, развернутая перед читателем с большим
размахом и чрезвычайным обилием подробностей.
Внимательный и острый наблюдатель, Сорель старается воспроиз-
вести каждодневную жизнь своего века во всей ее конкретности. Галантно-
героический роман XVII в. изображал двух-трех действующих лиц посреди
театральных статистов, не интересных ни порознь, ни взятых вместе (та-
ковы, например, разбойники и воины у Гомбервиля и Ла-Кальпренеда).
Сорель, наоборот, интересуется коллективной жизнью, он любит массовые
сцены. В его романе появляется и исчезает множество людей: в бесконеч-
ном водовороте сталкиваются суетливые и деловитые буржуа, задорные
молодые дворяне, высокомерные вельможи, придворные, лекари, праздно-
шатающиеся зеваки, куртизанки и прелаты, всадники, пешеходы, экипажи
и носильщики, — как сталкивались они на Новом мосту, этой артерии ста-
рого Парижа, где Сорелю довелось сделать столько наблюдений и подхва-
тить столько занятных новостей.
Литературной аудиторией, рукоплескавшей «Франсиону», была раз-
ношерстная парижская толпа, населявшая кварталы, наиболее отдаленные
от королевского дворца и особняков придворной знати. Эта толпа ремес-
ленников, купцов и чиновников до появления «Франсиона», за неимением
вполне приспособленной к ее вкусам литературы, питалась лубочной ли-
тературой, сборниками фривольных новелл, а нередко довольствовалась
и устной словесностью: уличная песня, нескромный анекдот, злободнев-
ная политическая сплетня развлекали ее досуги. Роман из современной
жизни, построенный на злободневном материале, переполненный намеками
на различные обстоятельства общественной жизни, включивший в ткань
своего повествования отзвуки фаблио и новелл, представлял исключи-
тельное явление на фоне той эпохи. Однако славу «Франсиону» создал не
один только Париж, но и провинция. Характерно, что около половины
изданий «Франсиона» падает на провинциальные города — Руан и Труа.
Это не случайно: если в Париже буржуазия постепенно подтягивалась
под тот стиль жизни, который диктовался господствующей дворянской
верхушкой, и потому увлекалась пасторальными и галантно-героическими
романами, то в провинции в этом отношении дело обстояло иначе. Во
французской провинции все эти произведения пользовались только отно-
сительным успехом, да и в самом Париже они проникали в толщу чи-
тательской массы в гораздо меньшем количестве, чем можно было бы
ожидать. Характерно, что шумный успех «Франсиона» нисколько не от-
разился, на оценке его в верхних слоях общества. Там «Франсиона» почти
не заметили и не считали нужным осуждать. «Простонародный» тон ро-
мана, его герои, не имеющие ни малейшего понятия о «хороших манерах»
и «утонченном» образе мыслей. — все это шло вразрез с основными тен-
380
КЛАССИЦИЗМ
денциями прославленных романистов. В «свете» «Франсиона» читали лишь
втихомолку, смакуя его непристойности и не без удовольствия разгадывая
под псевдонимами оригиналы тех лиц из собственной среды, портреты ко-
торых Сорель нарисовал, насколько он мог, правдиво. При всем том по-
явление «Франсиона» было событием во французской литературе и отме-
тило в ее развитии новый этап. «Франсион» был во Франции первым
подлинным «буржуазным» романом, за которым вскоре последовала вере-
ница произведений того же типа.
Вступая своим «Франаионом» на путь реалистического романа и тем
самым реформируя повествовательный жанр, Сорель нашел некоторую
опору в творчестве Рабле и новеллистов XVI в. Это чувствуется на многих
страницах «Франсиона». Педант Гортензиус, изображенный в III книге
романа, сродни Тубалу Олоферну, воспитателю Гаргантюа; напоминают
Рабле также жестокие нападки Сореля на схоластическую «науку», все
еще преподаваемую в школе; язык «Франсиона» также отзывается ра-
блезианскими чертами: богатством словаря, стилистическим диапазоном
и смелой откровенностью, столь противоположной языку аристократических
писателей XVII в. Обязан Сорель также Ноэлю дю Файлю, рассказы
которого отозвались в сельских сценах VI книги «Франсиона», а позднее
и в «Экстравагантном пастухе». Знал Сорель также и «Гептамерон» Мар-
гариты Наваррской, «Сто новых новелл», нескромный сборник Бероальда
де Вервиля и многие другие подобного рода произведения, донесшие до
начала XVII в. бродячие анекдоты средних веков.
Еще большее значение имели для Сореля иноземные источники —
итальянские и в особенности испанские. «Гептамерон» и французские но-
веллисты привели Сореля к «Декамерону» Боккаччо, из которого в «Фран-
сионе» сделано несколько заимствований.
Хотя в отдельных подробностях «Франсиона» — жанровых сценах,
'анекдотах, фабульных деталях — слышатся отзвуки старой литературы,
французской и итальянской, все же ни одно из упомянутых произведе-
ний не могло послужить образцом для построения романа в целом. Тип
романа, которому Сорель следовал, он нашел в испанской литературе.
В Испании, раньше чем во Франции, наметилась оппозиция рыцарским и
галантно-героическим романам. Уже в середине XVI в. здесь возник так
называемый «плутовской роман», отразивший изнанку испанской жизни.
«Франсион» — первый плутовской роман во французской литературе,
открывший дорогу другим романам того же типа, в том числе лучшему
из них — «Жиль Бласу» Лесажа. В этом, несомненно, и заключается за-
слуга Сореля и секрет его успеха. Он сумел использовать форму испан-
ского романа, наполнив ее французским материалом. Его Франсион —
типичный «пйкаро» («плут» испанских романов), веселый и безнравствен-
ный, увлекающийся и беспечный. Жизнь, изображенная в «Франсионе»,
столь же неприглядна, как и в испанских романах, но это — французская
жизнь первой четверти XVII в. Сорель дал в своем «Франсионе» яркое
полотно огромной бытовой насыщенности, сумму метко схваченных инди-
видуальных подробностей. Испанская традиция сочеталась здесь с фран-
цузской: грубоватая повествовательная манера Рабле, его задорное живое
веселье и убийственная ирония переплелись в творчестве Сореля с «нату-
рализмом» испанцев, с их вниманием к мелочам быта и к заурядному че-
ловеку.
Ни одно произведение французской литературы того времени не
развернуло перед читателем картину французской жизни XVII в. с боль-
шей полнотой и обстоятельностью, чем это сделал Сорель. В этом смысле
БЫТОВОЙ РЕАЛИЗМ
389
роман Сореля является одним из важнейших источников для изучения
бытовой истории эпохи. Париж времен Людовика XIII, провинция, пред-
:тавители различных общественных классов, званий, состояний и профес-
:ий изображены здесь отчетливо и живо. В последних книгах его пове-
:твование выходит даже за пределы Франции. Но если в картинах
итальянской жизни автор пользовался литературными источниками (ис-
панские плутовские романы, вроде «Гусмана из Альфараче», а также
«Письма» Геза де Бальзака), то в изображении французского общества
Сорель обязан, главным образом, своей собственной наблюдательности.
Количество фактов, собранных Сорелем, огромно, и, сопоставляя его изо-
бражение с тем, что нам известно о жизни XVII в., мы всякий раз убе-
ждаемся, насколько злободневной и ярко современной книгой был «Фран-
сион», насколько Сорель достоверен в каждой мелочи. Правдоподобие
изображения — следствие специального литературного задания, которое
поставил себе автор и на которое он, быть может, хотел намекнуть в за-
главии, назвав свой роман «правдивой историей». Стремление к правдопо-
добию и фактической точности повествования не устраняло, однако, сати-
рического освещения действительности, насмешки, подчас даже злобной
издевки. При этом наиболее сильно насмехается он над паразитическими
общественными слоями. Сорель дает язвительные портреты вельмож,
резко и негодующе осмеивает литературную братию, кормящуюся от их
стола, но с теплотой рисует ремесленников и крестьян. Сельские сцены
«Франсиона», в которых участвуют простодушные и суеверные крестьяне,
напоминают порой характерные ситуации и типические образы средневеко-
вых фаблио.
«Франсион» содержит законченное изложение «поэтики» Сореля. Лю-
бовь к «правдивому» повествованию, недвусмысленные намеки на лож-
ность «великосветских» литературных форм, их условный пафос и фальши-
вое потрясение чувств, нападки на «романическое», все то, что слишком
отзывается «литературой», — такова программа Сореля. В X книге «Фран-
сиона» Сорель восстает, между прочим, против тех современных писателей,
которые превращают пастухов в философов и наделяют их изысканными
манерами куртизанов. «К чему все это? —раздраженно спрашивает
автор. — История, правдивая или вымышленная, непременно должна при-
держиваться действительности; иначе она превращается в сказку, которая
может служить лишь для забавы детей у камелька, но не для зрелых
умов взрослых людей».
Почти одновременно со вторым изданием «Франсиона» Сорель выпу-
стил другой роман, в котором он с еще большей полнотой и определен-
ностью декларировал свои воззрения на сущность и задачи повествова-
тельного жанра. Роман этот назывался «Экстравагантный пастух» («Le
Berger extravagant», 1627). В предисловии к нему Сорель заявляет, что эта
книга будет «издевкой над другими книгами» подобного же рода, «моги-
лой романов и всей поэтической чепухи». Быть может, в этих словах со-
держится намек на сочинение некоего Фокона, вышедшее в свет неза-
долго перед тем — «Могила романов» (Faucon, Le Tombeau des romans,
1626), но самой идеей «Экстравагантного пастуха» Сорель, конечно, обя-
зан Сервантесу. Подобно тому, как Дон-Кихот лишился рассудка, начитав-
шись рыцарских романов, и вообразил себя странствующим рыцарем,
герой Сореля, сын парижского суконщика, сошел с ума от чтения пасто-
ральных романов. Он переделывает свое имя на греческий лад, называя
себя Лизисом вместо Луи, надевает театральный пастушеский костюм и
вместо того, чтобы торговать в отцовской лавке, пасет на берегу Сены
390
КЛАССИЦИЗМ
стадо овец. У Лизиса есть/ и свой Санчо Панса — Корнелин, который еще
глупее своего господина, и своя Дульсинея — краснощекая служанка Кате-
рина, которой он дает пасторальное имя Хариты и в честь которой сла-
гает дрянные стишки. Мало-помалу под влиянием потешающихся над
Лизисом друзей его литературные бредни превращаются в настоящее су-
масшествие. В приключениях этого безумного пастуха тонко и остроумно
осмеяны все ходовые приемы и мотивы тогдашних галантных романов.
Подобно Сервантесу, который в 6-й главе I части «Дон-Кихота» дает
краткое обозрение литературных произведений, которыми зачитывался его
герой, Сорель в XIII книгу «Экстравагантного пастуха» включает литера-
турный спор о сущности поэзии; кроме того, он прилагает к своему роману
длинные примечания литературно-критического содержания в качестве тя-
желовесных педантических комментариев к каждой книге. Очевидно, сред-
ства пародии и смеха показались автору недостаточными для борьбы с не-
навистным ему направлением, и он постарался использовать все средства
убеждения. В этих примечаниях к «Экстравагантному пастуху» Сорель
жестоко обрушивается на господствующие литературные тенденции своего
времени. Плохи, по его мнению, не только современные авторы, но и все
те писатели, которым они подражают. Между прочим, он отрицательно
относится к классической древности и к прославленным авторам итальян-
ского Ренессанса.
Сорелю принадлежит еще один роман—«Полиандр» («Polyancbe»,
1648), оставшийся неоконченным. Насколько видно из опубликованной ето
части, замысел его был широк и интересен. «Полиандр» представляет со-
бою сцены из жизни парижских финансистов 40-х годов XVII в. Роман
злободневен, как и все произведения Сореля, но отличается от обоих
предшествующих большей зрелостью реалистического стиля. Лишенный
нескромности «Франсиона» и пародийности «Экстравагантного пастуха»,
он поучителен своей наглядностью, остротой наблюдений, превосходным
знанием изображаемой среды. Культурно-историческая ценность «По-
лиандра» не ниже «Франсиона». Можно согласиться с теми критиками,
которые находят, что ни в одном произведении французской литературы
XVII в., за исключением, пожалуй, «Буржуазного романа» Фюретьера, не
изображена с такой правдивостью и живым юмором жизнь парижан сред-
него класса. Добродушно-фамильярный язык, которым написан «По-
лиандр», ряд отлично очерченных типических лиц, сатира, не переходящая
в карикатуру и не преступающая пределов точного отображения действи-
тельности, — таковы особенности этого романа, который, будь он дописан
до конца, несомненно занял бы место в ряду лучших произведений фран-
цузской литературы своего времени.
В предисловии к «Полиандру» автор предупреждает читателя, что он
стоит на строго реалистической почве. Он нападает здесь на галантно-
героические романы эпохи, которых «существует уже десять тысяч томов»
и которые, по его мнению, поглощаются читателями с чересчур большой
алчностью. «Есть, однако, другие люди, которые больше любят следить
за мелкими происшествиями в Париже, за приключениями такого рода,
какие могли бы случиться с ними самими или с их знакомыми, так
как подобные истории кажутся им более естественными и превосход-
ными...» Для этих людей и написан «Полиандр»; для них и рассказано
о знакомствах, завязавшихся в ясный мартовский день в Люксембургском
саду, описанием которого открывается роман; для них и рассказаны по-
следствия этих знакомств, которые вводят Полиандра в дом богатого бур-
жуа Неофила, а этого последнего в спальню обожаемой им вдовушки
БЫТОВОЙ РЕАЛИЗМ
391
Аврелии. Развертывающиеся далее сцены не связаны общей интригой; они
колоритно воспроизводят жанровые картинки из жизни верхушки париж-
ской буржуазии. Сорель показывает дом состоятельного горожанина, в
котором устраивают дебош зазнавшиеся офицеры. Он изображает обед в
доме крупного парижского финансиста Эскулана, сын которого проматы-
вает отцовское состояние, ухаживая за великосветскими кокетками, в то же
время не гнушаясь и девушками из «низов». К толстому кошельку бога-
теев (присосались паразиты: пошлейший поэт модного стиля Музардан,
обжора Гастримарг, ловкий пройдоха Теофраст, изобретатель «жизненного
эликсира», алхимик, умело пользующийся всеобщей жадностью к обога-
щению (в образе последнего Сорель описал флорентийского авантюриста
Руджери, -приютившегося в Париже под покровительством Екатерины Ме-
дичи). Таковы фрагменты этого любопытного романа, который внушил
Мольеру исходную ситуацию в ■ его «Тартюфе» и послужил источником
для ряда подробностей в двух других его комедиях — «Браке по прину-
жденью» и «Господине де Пурсоньяке». Несомненный факт хорошего зна-
комства Мольера с «Полиандром» не типичен, однако, для его современни-
ков. Опубликованный в самый разгар Фронды и, может быть, потому и
оставшийся неоконченным, «Полиандр» не привлек к себе того внимания,
которого он заслуживал. Он никогда не пользовался популярностью
«Франсиона» или «Экстравагантного пастуха». Это был последний роман
Сореля, который после этого перешел к сочинению тяжеловесных компи-
ляций на философские, моральные, литературные и даже религиозные
темы.
2
Вторым выдающимся представителем бытового реализма во Франции
первой половины XVII в. был Поль Скаррон (Paul Scarron, 1610—1660).
Он был сыном состоятельного парижского буржуа, занимавшего место со-
ветника парламента. В пору борьбы парламента с Ришелье Скаррон-отец
потерял место, принужден был бежать из Парижа и умер в изгнании.
Из-за происков мачехи дети его от первого брака лишились наследства, и
Полю Скаррону пришлось жить литературным трудом.
Отправившись в Рим в свите епископа Гренобльского, Скаррон полу-
чил там сан аббата. Это звание спасло его от нужды, но к духовной дея-
тельности он не питал ни малейшей склонности. Получив церковный при-
ход в маленьком провинциальном городке Мансе, изображенном в его «Ко-
мическом романе», Скаррон пробыл там три рода (1643—1646), после
чего вернулся в Париж, где и жил до самой смерти. Тяжелая болезнь
приковала его к креслу с 1638 г., но он имел достаточно силы воли, чтобы
вести жизнь эпикурейца, принимая у себя оппозиционно настроенных
вельмож и сблизившись с кружком вольнодумных писателей эпохи. После
оканчания Фронды Скаррон одно время подумывал о том, чтобы уехать
в Южную Америку, где надеялся, между прочим, поправить свое здоровье,
но вскоре оставил эту мысль. В 1652 г. Скаррон женился на шестнадца-
тилетней Франсуазе д'Обинье, внучке поэта Агриппы д'Обинье. Этой
особе после смерти Скаррона суждено было сыграть довольно видную
роль: под именем мадам де Ментенон она сделалась сначала фавориткой,
а затем и женой Людовика XIV.
Литературная деятельность Скаррона продолжалась около двадцати
лет. Как поэт, он получил известность созданным им жанром бурлеска;
как прозаик, он выдвинулся своим «Комическим романом» и новеллами!
399
КЛАССИЦИЗМ
большой успех имели также его комедии. «Бурлескная» (от итальянского
слова burla—«шутка», «насмешка») поэзия возникла во Франции в начале
40-х годов XVII в. и некоторое время пользовалась необычайным успехом,
но с середины 60-х годов быстро пришла в упадок. Зародилась она в об-
становке фрондерской оппозиции, предававшей осмеянию как иллюзорное
величие абсолютной монархии, так и пороки буржуазного мира. В этом —-
отличие французской бурлескной поэзии от итальянской «шуточной» поэ-
зии первых десятилетий XVII в. Итальянские игривые поэмы вроде «На-
смешки над богами» Браччолини (1618) «ли «Энеиды наизнанку» Лалли
(1633) своей издевкой над богами языческого Олимпа старались укрепить
Олимп христианский; по крайней мере с внешней стороны, итальянские
поэмы этого рода служили утверждению и прославлению католицизма.
Французская бурлескная поэзия совершенно лишена христианского эле-
мента и представляет замаскированную форму политического и литератур-
ного протеста, тесно между собой связанных. Выворачивая «наизнанку»
античные мифы, перетолковывая на фарсовый лад героические поэмы древ-
него мира, бурлескная поэзия широко пользовалась в целях комического
эффекта намеренными анахронизмами и сниженно-разговорньгм языком,
которые служили целям пародирования героического и патетического в
искусстве. Социальный смысл этого пародирования заключался в том, что
оно создавало недоверие к героическим позам абсолютной монархии и
к насаждавшемуся с этой целью придворной поэзией авторитету греко-
римского искусства. Выворачивая последнее наизнанку, сближая героиче-
ское с обыденным и возвышенное с тривиальным, «бурлеск» стремился
обратить внимание на оборотную сторону жизни и вместе с тем привить
те навыки натуралистического отражения действительности, от которого
отвращалась литература, культивировавшая в первую очередь идеи добро-
детели и (героизма. Поэтому бурлескная поэзия нашла своих привержен-
цев, главным образом, среди писателей, настроенных оппозиционно по
отношению к абсолютизму, и развивалась рука об руку с политико-сати-
рщческой поэзией периода Фронды.
Повидимому, слово «бурлеск» впервые употребил во Франции поэт
Сарразен (Sarrazin). Но родоначальником бурлескного жанра во француз-
ской литературе и его лучшим представителем следует считать Скаррона.
В своем «Тифоне, или Гигантомахии» («Typhon, ou la Gigantomachie»,
1647) Скаррон дал один из первых образцов этого жанра. Здесь он в ко-
мических стихах повествует о борьбе сынов земли — титанов с богами и
о свержении последних с Олимпа, куда их, в конце концов, снова водво-
ряет Геракл. Борьба началась из-за того, что титаны заспорили между
собой, играя в кегли, и один из шаров, попав во дворец Юпитера, разбил
драгоценные венецианские стекла в буфете его столовой. Юпитер и другие
'боги изображены здесь как комические персонажи, наделенные слабостями
и пороками великосветских парижан. Юпитер сластолюбив и не прочь при-
волокнуться за какой-нибудь хорошенькой обитательницей «земли»; его
почтенная супруга Юнона сварлива и ревнива; Вакх — горький пьяница;
титаны загримированы под парижских буржуа и говорят языком париж-
ской улицы.
Идея следующей бурлескной поэмы Окаррона «Вергилий наизнанку»
(«Virgile travesti», 1648—1652) была, вероятно, подсказана ему одноимен-
ной итальянской поэмой Лалли; однако французская поэма представляет
собой совершенно самостоятельное произведение, полное веселья и обна-
руживающее тонкое понимание уязвимых мест знаменитейшей из поэм
древности—«Энеиды». В течение пяти лет Скаррон выпустил восемь пе-
БЫТОВОЙ РЕАЛИЗМ
395
жуа, со всей совокупностью
ИХ внешних И внутренних Поль Скаррон.
качеств и особенностей. Не С гравюры жешвестного мастера.
случайно также Скаррон
настойчиво высмеивает «благочестие» Энея и его склонность проливать
слезы.
Язык поэмы близок к разговорному и содержит большое количество
фамильярных, жаргонных, народных оборотов речи и словечек. Естест-
венно, что при таком характере пародии Скаррон нуждался в особой мет-
рической форме для нее. Действительно, для воспроизведения речевых
интонаций и коротких язвительно-иронических сентенций торжественный
высокий стих эпических поэм был непригоден. Скаррон предпочел им ко-
роткий восьмисложный стих с парными рифмами (размер средневековых
романов, фаблио и т. п.), усвоенный затем его подражателями в области
бурлескной поэзии.
В качестве деятельного участника Фронды Скаррон написал несколько
стихотворных памфлетов против кардинала Мазарини. Его «Мазаринады»
(«Mazarinades», 1649) по своей меткости и непринужденности выражения
являются лучшими образцами фрондерской публицистики, оставившими
позади себя аналогичные произведения Сирано де Бержерака.
Во Франции бурлески Скаррона имели огромный успех. Особенно
394
КЛАССИЦИЗМ
популярен был его «Вергилий». Четвертую книгу «Энеиды», по примеру
Скаррона, «травестировал» Фюретьер; затем на французском языке поя-
вилось еще шесть «травестированных» «Энеид», а вслед за! ними начали
выходить «Энеиды» на различных французских диалектах (например, в
Тулузе, Дижоне). После Вергилия травестированы были Гомер, Гораций,
Овидий, Лукан. Серия эта замыкается вышедшим в Париже в 1649 г.
анонимным «Шуточным евангелием» («Evangile burlesque»).
Бурлескный жанр вызвал также теоретический интерес современни-
ков. О нем писал в своем XXIX критическом письме Гез де Бальзак. Ему
было посвящено специальное критическое рассуждение на латинском языке
Ваваюсёра (Vavasseur, 1648). Решительного противника бурлеск нашел в
лице Буало, который противопоставил ему герой-комическую поэму.
В I песни своего «Поэтического искусства» (стихи 81—94) он ссудил мод-
ный в то время бурлескный жанр в лице его главных представителей —
Скаррона и д'Ассуси:
Рассудку вопреки, бурлеск, стиль площадной,
Нас ослепил сперва, пленяя новизной,
И, поручив искать в стихах острот вульгарных,
Он на Парнас возвел язык рядов базарных.
Интересно, что Буало, критикуя метод бурлескной поэзии, характе-
ризует также социальный состав ее приверженцев и хулителей; по его мне-
нию, двор отвернулся от бурлеска и предоставил его клеркам и горожанам
(le clerc et le bourgeois), в особенности провинциальным, так как в Париже
эта мода уже прошла:
Но, наконец, двору приелся тон развязный
И сумасбродный стих нелепо-безобразный;
От плоского им стиль наивный отделен,
И предоставлен был провинции «Тифон».
Огромный успех травестированная «Энеида» Скаррона имела за пре-
делами Франции; в 1664 г. она была переведена на английский язык Кот-
тоном и оказала сильное влияние на развитие бурлескной поэзии в Ан-
глии в XVII—XVIII вв. Хотя имя Скаррона пользовалось довольно
большой известностью также и в русской литературе XVIII в., но рус-
ские пародии «во вкусе скар|роновом» (например, поэма В. И. Майкова
«Елисей») не восходят непосредственно к Скаррону. Так, Н. П. Осипов
в своей поэме «Вергилиева Енеида, вывороченная наизнанку» (1791 —
1796) вдохновлялся немецкой травестированной «Энеидой» Блумауэра,
сильно отличающейся и по своему сатирическому заданию и по форме
как от Скаррона, так и от французского бурлеска вообще. Чрезвычайно
оригинальный характер имеет также украинская «Перелицованная Энеида»
И. П. Котляревского.
Одним из главных представителей бурлескной поэзии, на ряду со
Скарроном, является упомянутый выше Шарль д'Ассуси (Charles d'Assoucy,
1604—1679), продолжавший писать бурлескные стихи! даже после того,
как этот жанр был опорочен приговором Буало. Лучшими, однако, из бур-
лескных поэм д'Ассуси являются наиболее ранние из них, созданные
одновременно с поэмами Скаррона, а именно: «Суд Париса» («Le Juge-
ment de Paris», 1648), «Веселый Овидий» («Ovidie en belle humeur», 1650),
«Похищение Прозерпины» («Le Ravissement de Proserpine», 1653). Но наи-
большим успехом среди сов1р*еменников пользовались изложенные им в сти-
хах собственные «Приключения г. д'Ассуси» («Les Aventures de M. d'As-
soucy», 1677). Из подражаний Скаррону можно упомянуть также «Троян-
БЫТОВОЙ РЕАЛИЗМ
■ 398
ские стены, или О происхождении бурлеска» (1651 ) Перро и др. Некото-
рое возрождение моды «а «бурлеск» наблюдается затем в начале XVIII в.,
когда разработкой этого жанра занялся Мариво.
К бурлескным поэтам может быть также отнесен Марк-Антуан де
Сент-Аман (Marc-Antoine de Saint-Amant, 1594—1660), написавший одну
из первых бурлескных поэм «Забавный Рим» («Rome ridicule», 1643).
В его творчестве было много своеобразия, значительно отличающего его
от вольнодумных сатириков 40—50-х годов. Сент-Аман был одним из глав-
ных представителей той парижской литературной богемы, которая находи-
лась в оппозиции к утверждавшемуся классицизму и за это была осуждена
Буало. Однако в отличие от Скаррона и других литературных выразителей
«фрондерских» настроений, оппозиционная по отношению к господствую-
щим течениям поэзия Сент-Амана не имела характера социально-политиче-
ского протеста. Поэтому, выступая в качестве бурлескного поэта, Сент-
Аман в то же время мог написать в высоком этическом стиле «героическую
идиллию» «Спасенный Моисей» («Moïse sauvé», 1653).
Жизнь Сент-Амана была полна разнообразных приключений. Бравый
солдат, привыкший к странствованиям и походной жизни, он провел юность
и зрелые годы в скитаниях, и хотя был далек от авантюризма, умел
пользоваться жизнью. Юношей он попал в Париж, получил доступ ко
двору Людовика XIII и был близок к герцогу де Рецу, в поместье кото-
рого он начал свою поэтическую деятельность. Первый томик его стихов по-
явился в 1629 г. Далее Сент-Аман побывал в Лондоне и Риме, в 1637 г.
сопровождал графа д'Аркура с флотом, отправленным против Испании,
затем последовал за ним в Пьемонт, Рим и Лондон. По возвращении во
Францию, Сент-Аман жил то в Париже, то в Руане, занимаясь посреди
увеселений и пиров сочинением злободневных сатирических песен, озагла-
вленных «Триолеты о современных событиях» («Triolets sur les affaires de
mon temps»). Одна из таких песен, направленная против герцога Конде,
доставила ему крупные неприятности. Он был избит наемными людьми
герцога и, опасаясь более крупных последствий своей сатиры, поспешил
уехать в Варшаву (1650), куда его звала Мария Гонзага, мантуанская
принцесса, только что сделавшаяся польской королевой. Первые поэтиче-
ские опыты Сент-Амана получили полное признание; об его известности как
поэта свидетельствует то, что он одним из первых был включен в состав
Французской Академии. Несмотря на это, у Сент-Амана было много ли-
тературных врагов, и число их увеличилось, когда он начал высмеивать
современников в своих сатирических стихах. Горячим противником Сент-
Амана являлся Буало, поклонниками же его были Шарль Перро и Демаре
де Сен-Сор лен.
Сент-Аман писал в различных жанрах, но лучше всего ему удавались
стихотворения, которые он называл «капризами» (caprices): застольные
песни, эпиграммы, сонеты, оды, сатиры, маленькие поэмы, набросанные им
на товарищеских пирушках или во время путешествия. Его «капризы»
своим острым чувством жизни и гротескным восприятием ее напоминают
серию «капризов» (характерно это совпадение названий) его современника,
знаменитого рисовальщика Жака Калло.
Впечатления далеких странствований, экзотические пейзажи и жанро-
вые картины также отразились в стихах Сент-Амана. Среди них попа-
даются красочные описания Востока, южной Испании и Турции. Одно из
его стихотворений, написанных в Варшаве, в восторженных выражениях
рисует воинственных казаков «Борисфена и Танаиса» (Днепра, т. е. За-
порожья, и Дона), ведущих героическую борьбу против панской Польши.
396-
КЛАССИЦИЗМ
После долгого забвения Се-нт-Аман был высоко оценен романтиками.
Теофиль Готье в своей книге «Гротески» («Les Grotesques») причисляет
его к плеяде гротескных писателей, сопоставляет картины его «Спасенного
Моисея» с эпизодами из «Сказок Испании и Италии» Альфреда де Мюссе,
а фантасмагории Сент-Амана — со «Смаррои» Шарля Нодье; он замечает
при этом, что у Сент-Амана найдется многое, что может напомнить ан-
глийских и немецких романтиков. Действительно, в его «Уединениях»
(«Solitudes»), заглавие которых навеяно книгой испанского поэта Гонгоры,
И в других произведениях мы находим темы, которые впоследствии получат
распространение в предромантической поэзии: ночные пейзажи, культ раз-
вал! н, сентиментальные размышления о бренности человеческой жизни.
3
Еще более значительны, чем бурлескные поэмы Скаррона, его про-
заические произведения. Среди них на первое место должен быть постав-
лен его «Комический роман» («Le Roman comique»), не вполне им закон-
ченный. Две первые части этого романа были изданы в 1651 и 1654 гг.;
т/>етья, после смерти Скаррона законченная Офре (1678), значительно
уступает первым двум. По сравнению с «Франсионом» Сореля и ближай-
шими подражаниями ему, «Комический роман» представляет дальнейшую
и более высокую ступень в развитии реалистического повествовательного
жанра во французской литературе.
Содержание романа составляет рассказ о жизни и приключениях
труппы странствующих комедиантов в маленьком провинциальном городке
Мансе (на северо-западе Франции) и в его окрестностях. На ряду с са-
мими комедиантами весело и с тонкой юмористической правдивостью об-
рисованы обыватели городка, которых приезд актеров втягивает в разно-
образные интриги и приключения, порой отзывающиеся буффонадой.
Среди этих жителей Манса выделяется реалистической верностью характе-
ристики судья Аа-Рапинъер, слывущий первым в городе остряком, люби-
телем и покровителем искусств, который, впрочем, еще больше, чем самым
искусством, интересуется хорошенькими служительницами Мельпомены. Ла-
Рапиньер принимает особенно близко к сердцу дела прибывшей в городок
театральной труппы и, вызвавшись ей помочь, накликает на комедиантов
и на себя беду; в конце концов он становится жертвой забавной проделки
старого актера Ранкюна, человека бывалого и мизантропа. Не менее коло-
ритны фигуры других представителей провинциального общества: Раго-
тена, гордого своим адвокатским званием, вздорного хвастуна, на деле
оказывающегося весьма ограниченным человеком; богатого барчука, барон-
ского сынка Сен-Фара, и др.
Очень вероятно, что большинство действующих лиц описано Скарро-
ном с натуры. Современники узнавали в романе портреты многих лиц,
которых Скаррон знавал в пору своей жизни в Мансе. Было высказано
даже предположение, что в романе описана труппа молодого Мольера.
Неосновательность этого предположения доказана уже давно, хотя нет
никакого сомнения в том, что Скаррон, близкий к театральному миру,
хорошо знал и рравдиво изобразил жизнь и быт актерской среды своего
времени.
На ряду с грубоватым, подчас юмористическим освещением действи-
тельности (хотя далеко не в смысле цинической откровенности «Франси-
она» Сореля), одновременно с разоблачением пошлости, глупости и по-
роков провинциальных обывателей, Скаррон вплетает в свой роман отзы-
БЫТОВОЙ РЕАЛИЗЯ
597
вающийся романтическим колоритом любовный элемент. В труппе коме-
диантов находятся две честные и прекрасные девушки, по адресу которых
с уст автора не срывается ни одного недоброго слова — ни иронии, ни
насмешки. Молодая актриса Этуаль искренно любит Дестена — главного
актера труппы, которого она считает своим братом. В действительности же
Дестен—преданный друг Этуали, влюбленный в нее, постоянный защит-
ник, спасающий ее от преследований великосветских негодяев. История их
отношений заканчивается счастливым браком. Другая актриса, Анжелика,
стойко выдерживающая все испытания судьбы, тоже получает в конце
романа достойного ее жениха.
Создавая свой роман в противовес великосветским героическим пове-
ствованиям и раскрывая перед читателями пошлость обыденной житейской
обстановки, среди которой протекает борьба за существование бедной арти-
стической труппы, Скаррон нашел героику подлинной любви, преодолеваю-
щей все преграды, лишь в презираемом высшими кругами- общества сосло-
вии комедиантов. В этом лишний раз чувствуется демократическая напра-
вленность творчества Скаррона.
Следуя старой литературной традиции, Скаррон включил в свой «Ко-
мический роман» несколько новелл, переведенных им с испанского. Инте-
рес Скаррона к Испании заслуживает особого внимания. Вся группа фран-
цузских бытовых реалистов XVII в., противопоставлявших себя условному
идеализирующему стилю великосветской литературы, в значительной сте-
пени опиралась на традицию испанских плутовских романов, хорошо изве-
стных во Франции с начала XVII в. Большое значение имели они для
Сореля, еще большее — для Скаррона, который был знатоком испанской
новеллистики, поэзии и театра. Во всех родах своей творческой деятель-
ности Скаррон многим обязан испанцам. Бурлескная ода Скаррона «Геро
и Леандр» своими лучшими местами обязана испанскому поэту Гонгоре;
многие комедии Скаррона обнаруживают влияние пьес Тироо де Молинк,
Франсиско де Рохаса и Кальдерона; также и в «Комическом романе» кое-
что восходит к «Занимательному путешествию» («El viaje entretenido»,
1603) испанского писателя и актера Агустина де Рохаса-Вильяндрандо, в
котором повествуется о быте и нравах испанских бродячих комедиантов.
Любимцем Скаррона среди испанских писателей был Алонсо дель
КастильоСолбрсано (1589—1650), из пьесы которого «Маркиз де Сигар-
раль» он заимствовал сюжет своей комедии «Дон Иафет Армянский».
Что касается вставных новелл в «Комическом романе», то три из них за-
имствованы из сборника Солорсано «Защитники Касандры» (1640), а
четвертая восходит к другому, более раннему испанскому источнику.
Еще больше ценил Скаррон Сервантеса, влияние которого чувствуется
на многих страницах «Комического романа». Устами одного из действую-
щих лиц своего романа Скаррон хвалит «Назидательные новеллы» Серван-
теса, противопоставляя испанский новеллистический жанр господствующим
во Франции галантно-героическим, псевдоантичным повествованиям:
«Испанцы обладают секретом сочинять маленькие истории, которые они
называют новеллами и которые более подходят к нашим обычаям и более
доступны нашему пониманию человечества, чем воображаемые герои древ-
ности, столь невыносимые благодаря своему чрезмерному благородству...
Если бы во Франции сочиняли такие же хорошие новеллы, как новеллы
Сервантеса, они имели бы не меньший успех, чем героические романы».
Это противопоставление Скаррон несомненно имел в виду и тогда,
когда подготовлял к изданию свою последнюю книгу, увидевшую свет уже
после его смерти, — «Трагикомические новеллы» («Les Nouvelles tragico-
398
КЛАССИЦИЗМ
miques», 1661). Все новеллы этого сборника восходят к испанским источ-
никам, но переработаны Скарроном и приспособлены им к французским
вкусам. Скаррон смягчил присущую испанским новеллам романичность, в
основе которой лежало противопоставление высокого и низкого. Он попы-
тался примирить эти противоположные начала под углом зрения бытового
реализма. При этом он стоял на точке зрения естественной морали, осно-
ванной на принципе свободного развития человеческих сил и склонностей.
Но эта мораль оказывалась неприменимой в реальных условиях француз-
ской жизни того времени. На этой почве и возникают трагикомические
конфликты скарроновских новелл. Двум из новелл Скаррона предстояло
почетное будущее: они были использованы Мольером при создании двух
его знаменитых комедий. Новелла «Тщетная предосторожность» явилась
одним из главных источников «Урока женам», а новелла «Лицемеры»,
с ее центральным образом ханжи и плута Монтуфара, оказала несомненное
влияние на «Тартюфа».
Помимо бурлескных поэм и прозаических произведений, Скаррон отдал
также значительную дань драматургии. Он был наиболее выдающимся и
одаренным из французских комедиографов домольеровского периода.
Большая часть веселых комедий Скаррона была написана в расчете на
исполнение знаменитого фарсового актера Жюльена Бедо (Julien Bedeau),
получившего широкую популярность под именем созданного им комиче-
ского типа-маски Жодле (Jodelet). Первой комедией такого рода явился
«Жодле, или Господин-слуга» («Jodelet, ou le Maître valet», 1645), напи-
санный на сюжет, заимствованный у испанского драматурга Франсиско де
Рохас. Огромный успех этой комедии побудил Скаррона продолжить ра-
боту в том же направлении. Он написал для того же Жодле комедию «Три
Доротеи, или Жодле, получивший пощечину» («Les Trois Dorothées, ou
Jodelet souffleté», 1646), за которой последовали две комедии на тему
о «хвастливом воине», принявшем под влиянием итальянской комедии дель
арте обличье карикатурного испанца — хвастуна и труса: «Причуды капи-
тана Матамора» («Boutades du capitaine Matamore», 1647) и «Женитьба
Матамора» («Le Mariage de Matamore», 1648). Все эти комедии весьма
далеки от изображения 1реалъной жизни и являются чистейшими фарсо-
выми буффонадами, отличающимися от других пьес того же жанра только
своим блестящим, остроумным языком и стихотворной формой. Ближе
к комедии нравов Скаррон подходит в своей следующей пьесе «Смешной
наследник» («L'Héritier ridicule», 1649), где впервые выведен знаменитый
впоследствии тип «американского дядюшки», от которого ждут богатого
наследства.
Но самыми популярными из комедий Скаррона были «Дон Иафет
Армянский» («Don Japhet d'Arménie», 1653) и «Саламанкский школяр»
(«L'Écolier de Salamanque», 1654), оюжеты которых заимствованы у испан-
ских драматургов. «Дон Иафет Армянский» является типичной комедией
испанского образца с весьма прихотливой и запутанной романической
интригой. «Саламанкский школяр» интересен, главным образом, тем, что
в нем впервые выведен тип комического слуги Криспина, впоследствии
многократно использованный комедиографами XVIII в.
Комедии Скаррона в значительно меньшей степени, чем его «Комиче-
ский роман», отражали реальную французскую действительность, а их
сатирические элементы носили неглубокий, случайный характер. Несмотря
на это, комедии Скаррона оказали большое влияние на развитие во Фран-
ции жанра сатирико-бытовой комедии. Ее виднейшими представителями до
появления Мольера были упомянутый выше Сирано де Бержерак, а также
БЫТОВОЙ РЕАЛИЗМ
39»
Демаре де Сен-Сорлен с его «Мечтательницами» («Les Visionnaires», 1636)
и Жилле де Ла-Тессонри (Gillet de La Tessonnerie, 1620—1658), больше
всего известный своей бытовой комедией «Деревенский житель» («Le Cam-
pagnard», 1657). Пьесы всех этих авторов, с одной стороны, подготовляли
почву для комедий Мольера, а с другой стороны, были многими нитями
связаны с реально-бытовым романом середины XVII в.
4
Третьим виднейшим представителем бытового реализма во Франции
XVII в. был Антуан Фюретьер (Antoine Furetière, 1620—1688). Он ро-
дился в Париже в небогатой буржуазной семье, изучил юридические
науки и еще в юные годы получил должность адвоката и эконома (procu-
reur) в королевском аббатстве Сен-Жермен-де-Пре. По неизвестным при-
чинам Фюретьер вскоре вступил в духовное звание и пристроился к аббат-
ству Шаливуа, всецело посвятив себя здесь литературной работе. В мае
1662 г. Фюретьер был избран во Французскую Академию, хотя к этому
времени он выпустил совсем небольшое количество произведений, недоста-
точное для того, чтобы обеспечить ему литературную славу. Впрочем, и
после избрания в Академию Фюретьер напечатал, кроме «Буржуазного
романа», лишь несколько эпиграмм, басен и стихотворений на случай. Не-
значительная писательская продуктивность Фюретьера, о котором совре-
менники отзываются, как о неутомимом труженике и замечательном
эрудите, объясняется тем, что лучшие годы своей творческой деятель-
ности Фюретьер посвятил созданию капитального труда — «Словаря
французского языка», который сделался причиной его многолетней распри
с Академией и послужил поводом к исключению его из числа академиков.
Вызванная этим словарем полемика не только повредила литературной
репутации Фюретьера, но в значительной степени сбила с правильного
пути также и его биографов. Все дошедшие до нас биографические данные
о Фюретьере исходят, главным образом, из лагеря его литературных про-
тивников и в большей своей части являются вымыслом и клеветой. Све-
дения о ранних годах его литературной деятельности настолько наполнены
недостоверными анекдотами, что выделить из них зерно истины крайне
затруднительно. Не подлежит, однако, сомнению, что в молодости Фюретьер
состоял в дружеских отношениях с Буало, Лафонтеном, Расином и Молье-
ром, с которыми впоследствии он резко разошелся.
Одним из ранних произведений Фюретьера был сборник «Различных
стихотворений» («Poésies diverses», 1655), написанных им, по его собствен-
ным словам, сразу после окончания коллежа. Главное место в этом сбор-
нике занимают сатиры, являвшиеся излюбленным .поэтическим жанром
этого времени. Сатиры Фюретьера не обладают, однако, ни красочной
живостью сатир Ренье, ни аттической ясностью сатир Буало. Они дают
ряд жанровых картинок, не отличающихся новизной сюжетов и их разра-
ботки. Некоторые сатиры (как, например, «Медик-педант») очень ба-
нальны. Интереснее других сатиры на адвокатов написанные с натуры.
Возможно, кстати сказать, что Фюретьер сообщил Расину любопытные
фабульные подробности для его единственной комедии «Сутяги» (1668);
однако вопрос о сотрудничестве Фюретьера с Расином в создании этой
комедии недостаточно ясен.
Фюретьер испробовал свои силы во всех родах поэзии. Кроме сатир ^
он сочинял также эпиграммы, стансы, мадригалы, эпитафии, песни, за-
400
КЛАССИЦИЗМ
гадки, сонеты; но успеха как поэт он не имел. Один из критиков справед-
ливо сравнивает томик его произведений с «хорошо возделанным участком
земли, на котором не распустилось ни одного цветка».
Особняком среди ранних произведений Фюретьера стоит написанная
им в прозе «Аллегорическая повесть, или История недавних смут в коро-
левстве Красноречия» («Nouvelle allégorique, ou Histoire des derniers troubles
arrivés au Royaume d'Eloquence», 1658). Эта тяжеловесная литературная
сатира, производившая впечатление старомодности уже в XVII в. по при-
чине своей надуманной аллегорической формы, представляет, однако, до-
кумент, интересный для истории литературной борьбы того времени. За
это ее высоко ценил, например, Шарль Нодье. Сатира рассказывает о войне
«принцессы Красноречия» с могущественным «принцем Галиматьей» и по
форме своей напоминает средневековые аллегорические произведения вроде
«Романа о Розе». Министрами, советниками, сенешалами принцессы или
принца Галиматьи являются Здравый смысл, Аргументы, Убеждение, Фи-
гуры, Гиперболы и т. д. Галиматья, во главе целой армии аллегорий,
антитез и гипербол, нападает на принцессу Красноречия и терпит пораже-
ние от эпиграмм и Здравого смысла; однако все фигуры и тропы всту-
пают в спор со здоровыми элементами вкуса и обращают в бегство Феба,
а батальон аллегорий истребляет сам себя. Сатира направлена против ли-
тературных авторитетов того времени — Геза де Бальзака, Менажа, Ла-
Калыпренеда, Гомбервиля и других — и излагает множество литературных
скандалов, имевших место в действительности. В этой злободневности и
заключался секрет ее популярности у современников; она выдержала пять
изданий, причем к эльзевировскому изданию 1678 г. была даже приложена
военная карта, на которую нанесены были все тактические ходы и планы
битв обеих воюющих сторон.
В этой сатире Фюретьера мы находим ряд выпадов против авторов
галантно-героических романов. Он пишет, например, о государстве «Рома-
нии» (Romanie), под которым разумеется «царство романов», что в нем
находились «самые красивые дворцы и парки, какие только можно себе
представить»; в этой стране можно было увидеть только празднества, балы
и увеселения, так как она была населена одними лишь обходительными
(galants) и выдающимися (illustres) людьми, и не видно было в ней ни
некрасивых женщин, ни нескладных мужчин; «сама смерть входила сюда
только для поисков изменников и убийц». Главными «владетелями» в этой
стране Фюретьер считает д'Юрфе, Гомбервиля и Ла-Кальпренеда. Эта
«истинная страна небылицы» (un vrai pays de Cocagne) жила счастливо до
тех пор, пока «капитаны» Нервез и Дезекюто (два посредственных автора,
некогда знаменитых при дворе) не разрушили ее гарнизонами своих алле-
горий и не сделали ее неузнаваемой; в ней осталось лишь несколько хорошо
укрепленных мест, которые могли защититься от вражеского вторжения и
отказать в повиновении принцу Галиматье.
Фюретьер испробовал свои силы также в бурлескном жанре. Так, еще
в 1649 г., идя по следам Скаррона, он выпустил свою «Энеиду наизнанку»
(«L'Enéide travestie»), где пародированию подверглась лишь четвертая
книга поэмы Вергилия, которую Скаррон использовал в своем «Вергилии
наизнанку» лишь несколько месяцев спустя. Фюретьер следует довольно
точно за Вергилием, но в отношении поэтических достоинств и юмористи-
ческих качеств его бурлескная поэма значительно уступает скарроновской,
вследствие чего она не имела большого успеха.
Гораздо интереснее написанная Фюретьером в том же стиле сатира
«Путешествие Меркурия» («Voyage de Mercure», 1662), достигающая вре-
БЫТОВОЙ РЕАЛИЗМ
Ш
менами значительной социальной остроты. Описав в бурлескных стихах
битву титанов с богами Олимпа, автор показывает этих богов, озабочен-
ных вопросом о том, как предотвратить возможные и в дальнейшем поку-
шения против них. С этой целью Меркурия отправляют на землю, чтобь'
он пожил среди людей, изучил их нравы и, заметив приближение опас-
ности, тотчас дал знать о ней небожителям. Прибыв на землю, Мерку-
рий, по примеру Аполлона, сначала делается пастухом, но затем с досадой
убеждается, что век пасторалей миновал; ныне пастушеские нравы стали
грубы, пастухи носят тяжелые деревянные башмаки, Филлида — неряха и
простушка, в деревнях всюду бедность. Тогда приунывший Меркурий де-
лается купцом. На этом поприще ему везет больше. Он изощряется в кра-
жах, лихоимстве, ростовщичестве, грабежах. Он становится банкиром;
это дает автору повод описать преступную деятельность сборщиков пода-
тей, отдающих деньги под залог, и корыстолюбие трактирщиков. На
этом, однако, приключения Меркурия среди людей не кончаются; он про-
бует еще множество профессий, последовательно становясь университет-
ским сторожем, профессором, начальником коллежа, адвокатом, врачом
наконец, придворным поэтом. При дворе он развращается окончательно:
он торгует в разнос галантными стихами и служит посредником в любов-
ных и дипломатических интригах, набирает себе воровскую шайку и суще-
ствует частью на придворные награды, частью — грабежами в провинции.
В конце концов, он пойман, его судят и приговаривают к повешению.
Своим спасением он обязан лишь Юпитеру, который поражает (громом и
палача и конвой. По возвращении на небо, Меркурий на собрании богов
рассказывает свои впечатления; он говорит о неслыханной роскоши, об
изнеженности и сладострастии вельмож, о жестокой бедности «маленьких
людей», о «порче» во всех классах общества. Сатира кончается тем, что
Юпитер проклинает вырождающееся человечество.
Эта смелая социальная сатира, напечатать которую во Франции не-
сколько десятков лет спустя было бы невозможно, интересна своей откро-
венной критикой французской общественной жизни и почти не замаскиро-
ванными нападениями на многих влиятельных лиц той эпохи.
Фюретьер выпустил также сборник «Моральных басен и новелл»
(«Fables morales et nouvelles», 1671). Вышедшие через три года после по-
явления басен Лафонтена, они не имели большого успеха, так как значи-
тельно уступали лафонтеновским; быть может, оказавшийся фатальным
для конкурента успех Лафонтена на этом поприще был одним из поводов
для резкой вражды Фюретьера к Лафонтену, которого он некогда числил
среди своих друзей. Басни Фюретьера отличаются многими недостатками
(вялостью стихосложения, прозаизмами и т. д.), но нельзя отрицать, что
в отношении критики господствующих классов и защиты народа Фюретьер
порой достигает значительной силы. Такова, например, его басня «Муха
и лошадь», в которой старая деревенская кляча опрашивает муху, почему
она нападает на нее, а не на откормленных лошадей знатных господ, на
что муха отвечает, что нападать на беззащитных выгоднее. «Так народ, —
замечает Фюретьер,—поедают пристава; богатый освобожден от подоб-
ных нападений, потому что он умеет защищаться».
Главным произведением Фюретьера является его «Буржуазный роман»
(«Le Roman bourgeois», 1666), представляющий важное звено в истории
развития бытового реалистического романа во Франции. Он состоит из
двух книг, из которых первая является по преимуществу повествователь-
ной, вторая — сатирической. Автор предупреждает читателя, что он хочет
изобразить таких людей, «которые не будут ни героями, ни героинями.
26 История французской литературы—81.^
402
КЛАССИЦИЗМ
которые не будут ни двигать армиями, ни разрушать королевства, а будут
просто добрыми малыми из буржуазной среды, идущими потихоньку своей
дорогой, из которых одни красивы, другие дурны, одни умны, другие
глупы». Роман Фюретьера, действительно, представляет законченную кар-
тину быта и нравов парижской буржуазии середины XVII в. Прокурор
Воллишон, пройдоха и плут, которого жена, тем не менее, держит под
башмаком и который не пользуется никаким авторитетом в семье; его дочь
Жавотта, девушка «на выданьи», которая начиталась галантных романов
и тем не менее ухитрилась изловить себе в мужья приволокнувшегося за
нею маркиза; жених ее Нккодом, которого изгоняют из дома, как только
возникает подозрение в его ветрености и легкомыслии, — таковы основные
действующие лица романа, в котором нет ничего «героического», ничего
отзывающегося литературным шаблоном.
Из романа Фюретьера изгнаны всякие фразы и позы; мы не находим
здесь никаких следов красноречия, никакого «искусства»: прозаизм обыден-
ного мира возведен здесь в литературную норму. Фюретьер хочет заменить
всякое искусство композиции неприкрашенной правдой и словно не забо-
тится о выборе своих моделей. Его роман интересен не своим сюжетом,
так как даже в первой его части отсутствует занимательная интрига; он
интересен прежде всего подробнейшим описанием мещанских претензий,
манер и предрассудков, нравов и привычек. В этой картине ничто не про-
пущено — ни описание меблировки заурядной буржуазной квартиры, ни
перечень блюд, которые подаются там за обедом и ужином. На таком
густо начерченном фоне ни один персонаж не является лишним или по-
бочным; такие лица, как «судейский крючок» Беду или соседка Туанон,
получают такое же право на внимание читателя, как Жавотта и Воллишон,
хотя последним уделено больше места в рассказе.
Задачею Фюретьера было написать роман, который точно отображал
бы буржуазную действительность и не впадал бы при этом ни в буффо-
наду, ни в карикатуру. Предшественники Фюретьера еще грешили этим.
В его романе нет ни подчеркнутой грубости Сореля, ни гротескности Скар-
рона. Роман преследовал, однако, также сатирические цели. Фюретьер
ополчался в нем против смешных, с его точки зрения, претензий париж-
ских буржуа и резко критиковал литературный мир своего времени. Здесь
досталось м-ль де Скюдери, изображенной под именем Полиматии, и
Шарлю Сорелю, выведенному под прозрачной анаграммой Шаррозеля
(Charroselles). Фюретьер желчно изображает его как писателя «знамени-
того в молодости, который так исписался под конец, что не мог найти ни
одного книгопродавца, желавшего издать его сочинения». С убийственной
иронией Фюретьер изображает один из тех литературных салонов, где без-
дарные стихоплеты читают свои произведения, которые никогда не увидят
света. Фюретьер вводит в повествование одно из таких произведений —
«Повестушку о заблудившемся Амуре», написанную в подражание первой
песне юмористической поэмы итальянского поэта Браччолини «Насмешка
над богами» (1618).
Рельефность изображенных Фюретьером действующих лиц была так
велика, что читатели старались разгадать в них портреты современников.
Впоследствии, когда оригиналы портретов забылись, возникла даже по-
требность в особом «ключе» к роману. Такой «ключ» мы находим, напри-
мер, в приложении к переизданию романа, сделанному в 1713 г. в Нанси
неким Кюссоном. Этот ключ, вероятно, основан на более старой устной
традиции. Мы узнаем, что оригиналом для образа Воллишона послужил
прокурор парижского парламента Ролле, прозванный Буало в его II са-
БЫТОВОЙ РЕАЛИЗМ
405
тире «мошенником» (fripon). Колантина будто бы списана с графини
Крессе, известной своей скупостью и сутяжничеством. Полифила — это
знаменитая куртизанка Нинон де Ланкло, и т. д. Однако Фюретьер был
несомненно прав, когда в предисловии к своему роману он предупреждал
читателя, чтобы тот не искал оригиналов изображенных им лиц: «Ключ
тебе не поможет, так как замок испорчен».
Фюретьер не копировал с возможной точностью внешних признаков
тех лиц, которых он выводил в своем романе или наблюдениями1 над ко-
торыми он пользовался; наблюдая, он обобщал и создавал независимые,
полные жизни типы. Лишь в конце книги, когда ее первоначальный план
раздробляется и искажается, Фюретьер метит в определенных лиц с чисто
сатирической или полемической целью. Здесь же он дает пародийное заве-
щание поэта и печатает каталог книг, которые тот собирался написать.
Нетрудно угадать в этом отзвук известного эпизода из романа Рабле, в
котором описаны воображаемые книги, читаемые Пантагрюэлем в библио-
теке Сен-Виктор. «Буржуазный роман» завершается причудливой концов-
кой— «Посвятительным посланием к первой книге, которую я напишу»,
где Фюретьер с негодованием говорит об алчности и паразитизме писате-
лей своего времени, обрушиваясь также на их меценатов и покровителей.
Убийственной иронией отзывается посвящение этой будущей книги палачу,
вниманию которого Фюретьвр поручает и тех бедных авторов, которые не
имеют смелости повеситься сами.
«Буржуазный роман» был последним «романом нравов» во Франции
XVII века. Во второй половине столетия роман этот не имел никаких
аналогий во французской литературе. Непосредственным продолжателем
той же реалистической традиции явился лишь в начале XVIII в. Лесаж.
Главной задачей своей жизни Фюретьер считал свой «Всеобщий сло-
варь, содержащий все слова французского языка как древние, так и новые»
(«Dictionnaire universel, contenant tous les mots français, tant vieux que moder-
nes»). Он работал над ним более сорока лет, но не дождался его выхода
в свет; словарь был опубликован лишь после его смерти в 1690 г. Этот
огромный труд был, как сказано выше, причиной продолжительной борьбы
Фюретьера с Французской Академией, начавшейся в 1684 г. Создание
словаря французского языка было, как известно, важнейшей задачей Ака-
демии с момента ее основания. Так как это предприятие подвигалось чрез-
вычайно медленно, а Фюретьер совершенно самостоятельно собрал огромный
материал для подобного словаря, он пожелал обойти полученную Акаде-
мией в 1674 г. монополию на такое издание. Враги Фюретьера утверждали,
будто он заявил о своем желании издать лишь специальный словарь тер-
минов искусства и науки, но на самом деле ему было предоставлено 24 ав-
густа 1684 г. право на издание «Всеобщего словаря». Тогда Академия
обвинила его в плагиате, возбудила против него судебное преследование и
22 января 1685 г. исключила его из своего состава. Фюретьер отомстил
своим обвинителям язвительными памфлетами. Некоторые из задетых им
лиц не остались в долгу: известны, например, направленные против Фю-
ретьера эпиграммы Лафонтена. Шарпантье, со своей стороны, напечатал
«Диалог между господином Д., членом Академии, и господином Л. М.,
адвокатом парламента», в котором постарался всячески очернить своего
противника, обвинив его в различных неблаговидных поступках.
Главное обвинение против Фюретьера заключалось в том, что он
будто бы похитил рукописные материалы для словаря у академика Мезере
после смерти последнего и воспользовался корректурными листами акаде-
мического словаря, изготовленными в 1672 г. Ожесточенная полемика,
404
классицизм
между Фюретьером и его обвинителями продолжалась несколько лет.
В результате четыре больших тома «Словаря» Фюретьера могли быть
напечатаны только после смерти автора и к тому же за пределами Фран-
ции, в Гааге и Роттердаме.
«Словарь» Фюретьера представляет собою замечательный лексикогра-
ф'кческий труд, значительно отличающийся и по широте плана и по обра-
ботке от «Словаря» Академии. Он является действительно «всеобщим» по
богатству материала и указаний всякого рода; недарам еще в XVIII в. он
мог послужить основой для энциклопедического словаря Треву («Diction-
naire de Trévoux»), этого предшественника знаменитой «Энциклопедии»
Дидро и Даламбера. Фюретьер не является в своем словаре пуристом и
включает в него большое количество слов, отвергнутых академиками: он
обильно пользуется профессиональными терминами и социальными диалек-
тами. Для изучения французской разговорной речи XVII в., притом
в различных классах французского общества, словарь Фюретьера является
драгоценным источником.
Фюретьер не был по заслугам оценен ни своими современниками, ни
потомством. В XVIII в. он не пользовался никаким признанием. Его
«Буржуазный роман» был забыт (последнее издание его вышло в 1714 г.
в Амстердаме). Вольтер в своем «Веке Людовика XIV» посвятил Фю-
ретьеру всего лишь одну строчку, упомянув его только как автора «Сло-
варя», героя полемики. Лишь в XIX в., в годы расцвета буржуазного кри-
тического реализма, к Фюретьеру пришла запоздалая известность. Вместе
с Сорелем и Скарроном он был объявлен одним из предшественников ве-
ликих буржуазных реалистов XIX в.
Г Л A 11 А III
КОРНЕЛЬ II ЕГО ШКОЛА
1
роцесс формирования классицизма дал ощутимые ре-
зультаты уже к концу 30-х годов XVII в. Из хаоса
разнообразных, враждовавших друг с другом течений
первой трети века мало-помалу возникала новая стиле-
вая система классицизма, отмеченная печатью рациона-
листической мысли. Основным жанром нового стиля
стала классическая трагедия, изображавшая возвышен-
ных героев и идеализированные страсти.
Крупнейшим представителем классической трагедии
на первом этапе ее развития был Пьер Корнель (Pierre
Corneille, 1606—1684). Он прошел весьма долгий и противоречивый путь
творческого развития, отдал в молодости большую дань драматургии ба-
рокко и до самого конца не избавился полностью от ее пережитков. Его
творчество вызывало потому ожесточенные споры не только в его молодые
годы, но .и в старости. Однако в произведениях зрелого периода своей дея-
тельности Корнель показал себя образцовым автором трагедий, доведшим
этот жанр до подлинно классического совершенства.
Корнель родился в нормандском городе Руане в зажиточной бур-
жуазно-чиновничьей семье. Отец поэта был адвокатом при местном пар-
ламенте и служил в ведомстве вод и лесов. Он обладал недвижимой соб-
ственностью в городе Руане и его окрестностях. Пьер Корнель был его
старшим сыном.
Корнель получил образование в местном иезуитском коллеже. По
окончании коллежа он занялся изучением права и в возрасте восемна-
дцати лет был принят в адвокатское сословие Руана. Однако особого при-
звания к адвокатуре у Корнеля не было, потому что он не обладал ора-
торскими способностями. В свободное от дел время он сочинял стихи,
сборник которых, озаглавленный «Поэтическая смесь» («Mélanges poéti-
ques»), он напечатал в 1632 г. «Поэтическая смесь» состояла из галант-
ных стихотворений, стишков для балетов и переводных эпиграмм, кото-
рые не свидетельствовали о наличии у Корнеля дарования лирического
поэта.
Несколькими годами раньше «Поэтической смеси» Корнель написал
свою первую пьесу — комедию «Мелита, или Подложные письма» («Me-
406
КЛАССИЦИЗМ
lite, ou les Fausses lettres», 1629—1630), i в которой он, по преданию,
драматизовал происшедшее с ним самим любовное приключвмие. Корнель
отдал «Мелиту» труппе герцога Оранжского, возглавляемой актером Мон-
дори, с которым он познакомился в Руане, где труппа Мондори проездом
давала спектакли. Мондори привез эту комедию в Париж, и здесь она
имела огромный успех.
По собственному признанию Корнеля, он, сочиняя «Мелиту», не
имел еще понятия ни о каких «правилах», и впервые услышал о един-
стве места, когда приехал в Париж на премьеру «Мелиты». При всей
слабости этой комедии новым в ней было полное отсутствие буффонады
и традиционных комических масок, а также простота и наивность стиля,
который, по выражению самого Корнеля, «давал картину разговора по-
рядочных людей». Успех пьесы объяснялся свежестью и непосредствен-
ностью дарования Корнеля, который в этой комедии решительно никому
не подражал.
Под влиянием успеха «Мелиты» Корнель сочинил вторую пьесу —
«Клитандр, или Освобожденная невинность» («Clitand're, ou l'Innocence
délivrée», 1630—1631), которая должна быть отнесена к жанру трагико-
медии. Корнель поместил действие «Клитандра» в более высокой социаль-
ной среде (двор короля Шотландии) и написал пьесу более возвышен-
ным слогом, отдав в: ней большую дань прециозности. Главное же, он
построил запутанный, экстравагантный сюжет, переполненный всяческими
изменами, предательствами, кознями, насилиями и убийствами. Эта слож-
ная фабула несколько искусственно уложена Корнелем в рамки 24 часов.
Единство же места в «Клитандре» совершенно не соблюдено: действие
пьесы попеременно происходит в дворцовом зале, в лесу, в гроте, в тюрьме,
в спальне. Сам Корнель впоследствии строго осудил «Клитандра» за мно-
гочисленные недочеты и говорил, что написание этой пьесы явилось своего
рода «бравадой».
В следующем году Корнель выступил с комедией «Вдова, или Нака-
занный предатель» («La Veuve, ou le Traître puni», 1631—1632). В жан-
ровом отношении эта комедия перекликается одновременно с «Мелитой»
и с «Клитандром». Однако стиль «Вдовы» гораздо проще стиля «Ме-
литы» и «Клитандра», в частности — он свободен от прециозных острот
(pointes). Корнель приближается здесь к очерченному им в предисловии
к пьесе пониманию комедийного жанра. «Комедия, —пишет он, — является
всего лишь портретом наших действий и наших речей, а достоинство порт-
ретов заключается в их сходстве. Руководствуясь этим правилом, я ста-
раюсь вкладывать в уста моим персонажам то, что вероятно говорили бы
на их месте те, кого они изображают, заставив их беседовать на манер
порядочных людей, а не на манер авторов». Такое понимание комедии
предвосхищает почти дословно высказывания Мольера. Корнель предве-
щает Мольера также своим вольным отношением к правилу трех единств.
Он считает возможным расширить протяжение времени действия до пяти
дней (по одному дню на каждый акт), а единство места понимает как
единство города, в котором происходит действие пьесы.
Печатному изданию «Вдовы» (1634) были предпосланы, по обычаю
того времени, стихотворения крупнейших современных драматургов, при-
ветствовавших Корнеля. Серию этих приветственных стихотворений от-
1 Даты в скобках при названиях пьес Корнеля и других драматургов обозначают
время их постановки, а не напечатания, которое обычно имело место несколькими
годами позже. В большинстве случаев это время постановки может быть определена
сейчас только приблизительно (двойные цифры обозначают театральный сезон).
КОРПЕЛЪ П ЕГО ШКОЛА
407
крыл Жорж де Скюдери, патетически восклицавший: «Le soleil est levé,
retirez-vous, étoiles!» («Солнце взошло; скройтесь, звезды!»). В сходном
лестном тоне высказались о Корнеле также Мере, Ротру, дю Рийе, Буа-
робер, Клавере. Многие из этих приятелей молодого Корнеля стали два
года спустя, после постановки «Сида», его врагами.
Успех первых пьес Корнеля у публики и критики породил у него
высокое мнение о своем творчестве. Он выразил это мнение в латинском
стихотворении, которым приветствовал Людовика XIII, его супругу и кар-
динала Ришелье во время посещения ими курорта Форж (1633). В этом
стихотворении Корнель не забыл упомянуть о своих театральных успе-
хах, гордо восклицая: «Me pauci hic fecere parem nullusque secundum» («Со
мной мало кто сравнялся и никто меня не опередил»).
Это стихотворение, повидимому, впервые привело Корнеля в непо-
средственную связь с кардиналом Ришелье, который был уже знаком
с его первыми комедиями. Вскоре после этого кардинал включил его в число
пяти авторов, состоявших у него на службе и писавших пьесы под его ру-
ководством. Кроме Корнеля, в состав этой пятерки входили: Буаробер,
Кольте, Л'Этуаль и Ротру. Плодом их коллективного творчества явились
пьесы «Тюильрийская комедия» («La Comédie des Tuileries»), «Слепой из
Смирны» («L'Aveugle de Smyrne») и «Великая пастораль» («La Grande
pastorale»). Все они были представлены с большой помпой, в роскошных
декорациях, в присутствии короля и двора.
Корнель принял участие только в сочинении первой из названных
пьес, в которой ему было поручено написать третий акт. Он проявил
в этой работе независимость, которая не понравилась кардиналу, упрек-
нувшему его в отсутствии последовательности (esprit de suite), или вер-
нее сказать — покорности повелениям начальства. Независимый Корнель
тяготился ролью подголоска Ришелье и вскоре вышел из состава «пя-
терки».
Одновременно с этим Корнель продолжал свою самостоятельную
работу. Следующая его комедия — «Галерея суда, или Подруга-соперница»
(«La Galerie du Palais, ou l'Amie-rivale», 1632)—имела больше успеха,
чем другие юношеские пьесы Корнеля, потому что он перенес здесь дей-
ствие в уголок реального Парижа XVII в., изобразив на сцене книжные,
бельевые и галантерейные лавки, находящиеся в Галерее суда, и выведя
живые фигуры торговцев и покупателей, беседующих на разные житей-
ски- темы. Однако эта струя бытового реализма в комедии довольно не-
значительна, и название пьесы мало соответствует ее содержанию. Послед-
нее сводится к обычным для юношеских комедий Корнеля перипетиям
в отношениях двух пар любовников, которые ссорятся, ревнуют друг
друга, расходятся, а подчас и меняются местами.
Впервые выведенный в «Галерее суда» персонаж субретки выдвинулся
на первое место в следующей комедии Корнеля — «Субретка» («La Sui-
vante», 1633). Центральное! место в этой пьесе занимает образ Амаранты,
бедной девушки из хорошей семьи, которая является компаньонкой бо-
гатой наследницы Дафниды и силится отбить у своей госпожи ее поклон-
ников, так как мечтает выйти замуж за дворянина. Своей цели Амаранта
пытается добиться.при помощи всякого рода хитростей и обманов. Хотя
сам Корнель говорит в анализе «Субретки», что эта пьеса по стилю сла-
бее всех его комедий, однако в обрисовке образа Амаранты он обнаружил
большую психологическую тонкость.
Корнель напечатал «Субретку» в 1637 г., в самый разгар полемики,
разгоревшейся по поводу «Сида». Поэтому он предпослал ей обширное
408
КЛАССИЦИЗМ
«Послание г-ну ***», в котором высказывался за возможно более широкое
истолкование правил поэтики. Он защищал здесь право писателя рабо-
тать своим методом, не отвергая тех методов, которыми пользуются дру-
гие писатели. Он утверждал допустимость и законность различных ли-
тературных взглядов.
Таким образом Корнель был в это время решительным противником
догматического рационализма в вопросах поэтики. Он предзещал Мольера
своим призывом отказаться от суеверного отношения к авторитетам Ари-
стотеля и Горация, и ориентироваться на вкусы зрителя: «Так как мы
сочиняем пьесы для того, чтобы их представляли, то нашей первой целью
должно быть нравиться двору и городу и привлекать много публики пь.
их представления. . . Хотя бы наша пьеса была написана по правилам,
если только она будет освистана в театре, ученые не посмеют выступить
в нашу защиту и предпочтут сказать, что мы плохо поняли правила, чем
расточать нам похвалы».
Местом действия своей следующей комедии «Королевская площадь,
или Сумасбродный влюбленный» («La Place Royale, ou l'Amoureux extra-
vagant», 1633—1634) Корнель избрал Королевскую площадь, которая в то
время была излюбленным местом прогулок парижан. Однако здесь, как
и в «Галерее суда», название имеет очень мало связи с содержанием
пьесы, потому что изображенные в ней происшествия романического ха-
рактера могли бы происходить в любом другом месте.
Несмотря на довольно запутанную и не очень правдоподобную фа-
булу, «Королевская площадь» свидетельствует о значительном росте да-
рования Корнеля, которое проявилось здесь в оригинально задуманных им
характерах главных действующих лиц. Корнель противопоставляет два
женских образа — легкомысленную девушку Филиду, окруженную целой
армией поклонников, и серьезную Анжелику, которая считает возможным
любить только одного и которая, после того как она убедилась в измене
своего избранника, решает удалиться в монастырь. Интересно построен
также характер «сумасбродного» влюбленного Алидора, который боится
связать себя любовью Анжелики и делает все, чтобы она возненавидела
его, а добившись этого, вдруг ощущает в себе прилив нежности к ней.
Все эти юношеские пьесы Корнеля не позволяли еще предвидеть в нем
будущего мастера трагического жанра. В ранних пьесах Корнеля еще со-
вершенно не ставились обычные в классической трагедии государственные
проблемы, а раскрывался исключительно мир частных интересов и быто-
вых отношений, являющийся подлинной сферой комедии.
Однако под пером Корнеля комедия получила очертания, отличаю-
щие ее от традиционной ренессансной комедии, которая нашла во Франции
гениального продолжателя в лице Мольера. Если комедия Ренессанса
обычно изображала буржуазную среду, не поднимаясь до показа верхушки
общества, то действие комедий Корнеля происходило, напротив, исключи-
тельно в среде аристократии. В его пьесах оживает парижский большой
свет времен Людовика XIII. Это общество было заражено прециозностъю,
которая наложила заметный отпечаток на диалог корнелевских комедий.
Влияние вкусов прециозных салонов проявилось также в односторонней
любовной тематике комедий Корнеля, в которых совершенно отсутствуют
другие сюжетные мотивы. Сама любовь трактуется здесь в тех же услов-
ных галантно-героических тонах, в какие она окрашивалась в представле-
нии читателей «Астреи» и посетителей Отеля Рамбулье. Однако, принимая
концепцию любви как некоего фатального чувства, внезапного и неизбеж-
ного. Корнель выдвигает, в качестве основного правила поведения любсв-
PETRVS Ш£
ROT И ОМА-A П
Лппо Dm, ч~«Й*л
jrapoiwELivs
А
^Ш1 б"4 4 -
ж Je.
КОРНЕЛЬ.
С гравюры М. Лапа (в издании сочинений Коонеля 1644 гЛ
Фронтиспис издания «Театр Пьера Корнеля» 1648 г.
Грав. Ж. Ф. Каре.
410
КЛАССИЦИЗМ
«икав, чувство меры. В отступление от первой любовной заповеди Села-
дона, рекомендовавшей «любить сверх меры» (aimer à l'excès), Корнель
изображал любовников, не умеющих соблюдать чувства меры в любви,
несчастными, порочными или смешными.
Любовь в ранних пьесах Корнеля не вступает в конфликт с предрас-
судками знатности и богатства, не заставляет бунтовать детей против
воли родителей и легко (примиряется со всеми общественными условно-
стями. Персонажи комедий Корнеля лишены экзальтации и в высшей сте-
пени рассудительны. Даже у героинь Коркеля больше ума, чем сердца.
Как правило, мужские образы очерчены в комедиях Корнеля более прав-
диво, чем женские. Они отличаются также значительно большим разно-
образием. Мы встречаем здесь и блестящих, вылощенных аристократов,
и бедных, но гордых дворян, и неловких провинциалов, черпающих пра-
вила обхождения с женщинами в модных романах, и т. д. Все это живые
люди, каких Корнель мог наблюдать в Париже в 30-х годах XVII в.
Своих героев и героинь Корнель заставляет действовать в совершенно
реальной обстановке. Его дамы живут в районе Лувра или в квартале
Маре, в больших особняках с просторными комнатами, обтянутыми драпи-
ровками, с правильно распланированными садами в стиле Людовика XIII.
Корнель показывает те места Парижа, в которых особенно охотно гуляет
аристократия. Он не забывает о таких деталях каждодневной жизни, как
обеденный час, наступление которого заставляет закончить визит.
Наиболее сильным местом комедий Корнеля является их диалог —
живой, легкий, подвижной, хорошо воспроизводящий тон светского раз-
говора. Однако не всегда диалог в комедиях Корнеля носит чисто коме-
дийный характер. Подчас он колеблется между тоном комедии и трагедии.
Так, отец Дафниды в «Субретке», заверяя, что он не нарушит обеща-
ния отдать руку дочери Флораму, восклицает совсем в стиле трагедии:
«Me foudroie en ce cas la colère des cieux!» '
Особенно часто встречаются элементы трагедийного стиля в моно-
логах, которые Корнель нередко вводит в свои комедии. Монологи эти пе-
реполнены горестными раздумьями, проклятиями, взываниями к небу.
Александрийский стих обычно уступает место в монологах стансам, пред-
вещающим аналогичные лирические места в трагедиях Корнеля («Сид»,
«Полиевкт»).
Наличие трагедийных элементов в комедиях Корнеля обусловлено
тем, что в жанровом отношении комедии эти приближаются к трагикоме-
диям Арди и его учеников (особенно Ротру). Как и трагикомедии первой
трети XVII в., комедии Корнеля полны всякого рода интриг, хитростей,
предательств, похищений и т. д.
Однако Корнель не долго задержался на завоеванных им позициях
комедиографа. Его влекло к высокому жанру классической трагедии,
только что получившему обработку под пером Мере. Успех «Софонисбы»
Мере внушил Корнелю намерение испробовать свои силы в том же жанре.
Но в отличие от Мере Корнель разработал в своей первой трагедии «Ме-
дея» («Médée», 1635) не историческую, а мифологическую тему. Это была
ошибка, которую Корнель осознал только впоследствии, когда он начал
.разрабатывать жанр историко-политичеокой трагедии.
Трагическая история волшебницы Медеи, убивающей своих детей из
мести их отцу, вероломному Язону, который покинул ее ради коринфской
адарепны Креузы, была одним из любимейших в античности трагических
« поразит меня в этом случае небесный гнев!»
КОРНЕЛЬ Л ЕГО ШКОЛА
411
сюжетов. Из его многочисленных обработок сохранились только две —
греческая трагедия Эврипида и римская трагедия Сенеки. Обе они были
известны Корнелю, но, согласно установившейся во Франции XVI и на-
чала XVII в. традиции, Корнель пошел на выучку не к великому реа-
листу Эврипиду, а к Сенеке, подменявшему подлинный трагизм накопле-
нием ужасов, неистовым пафосом и погоней за внешними эффектами. Ти-
пичный представитель античного декаданса, Сенека был вдохновителем фран-
цузской трагедии с момента ее зарождения. По его стопам шли Жодель,
Ла-Перюз, Гарнье, Мовкретьен, а накануне выступления в трагическом
жанре Корнеля — молодой Ротру, возродивший s своем «Умирающем Гер-
кулесе» («Hercule mourant», 1634) присущий трагедии XVI в. вкус к бес-
конечным риторическим ламентациям и к феерическим апофеозам в духе
Сенеки.
Но, вступив на путь подражания Сенеке, придерживаясь его трак-
товки сюжета и обрисовки основных образов (кроме образа Эгея, кото-
рого Корнель заимствовал у Эврипида, превратив его, однако, в сопер-
ника Язона по любви к Креузе), молодой Корнель внес в трагедию много
новых, оригинальных черт, предвещающих его великие трагедии. Прежде
всего, он очеловечил Медею, обрисовав ее страстно любящей женщиной,
которая не может заставить себя ненавидеть Язона, несмотря на его измену
и низость. Вместе с тем он сделал Медею сильной, героической натурой,
которая полагается во всем только на самое себя, которая не склоняет
голову перед судьбой («моя судьба всегда зависела от меня», — говорит
она Язону в замечательном объяснении с ним в III акте) и ведет борьбу
одна против всех.
Другой чисто корнелевской чертой является оттенение личных, эго-
истических мотивов в поведении Язона, который сам говорит о себе, что
он «приспособляет свою страсть к успеху своих дел». Так задолго до
Ларошфуко Корнель рисует в своей трагедии образ человека, который на
практике проводит в жизнь теорию частного интереса. Это нисколько не
мешает Язону любезничать с Креузой, обмениваясь с нею прециозными
мадригалами. Этот галантный элемент присутствует также в роли старика
Эгея, делая его несколько комичным. Препирательства Эгея с Креузой
выдержаны в привычном для ранних пьес Корнеля комедийном тоне. Ко-
медийный характер имеет также внесенный Корнелем новый сюжетный
мотив — страстное желание Креузы иметь платье Медеи, которое она про-
сит Язона раздобыть у ее соперницы любым способом. Уже Вольтер по-
смеивался над Язоном, который «с одинаковой легкостью отбирает у своей
жены ее детей и ее платья».
Так в «Медее» переплетаются присущие ранним произведениям Кор-
неля комедийные мотивы с зачатками его высокой трагической манеры.
Однако у Корнеля в этой пьесе еще нет ясного ощущения своего траги-
ческого идеала, потому что страсть Медея не приведена в конфликт с не-
ким сверхличным долгом, и фабула трагедии не поднимается над сферой
борьбы частных интересов и личных чувств. Сам Корнель в предисловии
к печатному изданию «Медеи» (1639) признал ее слабой пьесой, по за-
слугам не имевшей успеха у публики. Но французская критика отмечает,
что последние два акта «Медеи» написаны гораздо слабее первых трех,
в которых можно найти множество проблесков корнелевского гения.
Неуспех «Медеи» заставил Корнеля временно охладеть к трагедии
и побудил его снова вернуться к комедийному жанру. Он обратился к ис-
панской тематике, входившей в это время в моду под влиянием двора
(королева Анна Австрийская, жена Людовика XIII, была испанкой),
412
КЛАССИЦИЗН
и написал оригинальную комедию «Комическая иллюзия» («L'Illusion
comique», 1636), являющуюся как бы комической прелюдией к «Сиду».
Центральным персонажем «Комической иллюзии» является карикатур-
ный испанец Матамор, тип хвастливого воина, унаследованный француз-
ским театром от commedia dell'arte. Корнель заставил его заговорить сти-
хами и придал его традиционному бахвальству известную торжествен-
ность, которой он никогда не имел в итальянской комедии.
Образ . Матамора включен Корнелем в причудливую фабулу, в кото-
рой сочетаются элементы разнообразных жанров — комедии, трагикоме-
дии, феерии и даже трагедии. Последний акт пьесы, выдержанный в чисто
трагедийном стиле, завершается гибелью главных ее персонажей Клиндора
и Изабеллы. Отец Клиндора Придамант, разыскивающий его с помощью
волшебника Алькандра, приходит в отчаяние. Но тут выясняется, что ви-
денная Придамантом гибель его сына была ему представлена на сцене
Клиндором, ставшим актером. Волшебник показывает Придаманту актеров,
делящих выручку по окончании спектакля, и произносит горячую речь
в защиту театра и актерского искусства, заставляющую Придаманта при-
мириться с избранной его сыном профессией. Прием «сцены на сцене»,
употребленный Корнелем в «Комической иллюзии», связан с проявившим-
ся в 30-х годах XVII в. во Франции широким интересом публики к вну-
тренней жизни театра, вызвавшим к жизни ряд «актерских» пьес, вроде
«Комедии комедиантов» («La Comédie des comédiiens», 1633) Гужено
(Gougenot) и одноименной пьесы Скюдери (1635).
«Комическая иллюзия» стоит совершенно особняком во всей фран-
цузской драматургии XVII в. Она имела огромный успех и держалась на
сцене не менее тридцати лет, после чего навсегда исчезла из репертуара.
2
Если в образе Матамора Корнель дал карикатуру на испанцев, то
в следующей своей пьесе, знаменитом «Сиде» («iLe Cid», 1636), Корнель
снова обратился к Испании, но уже для прославления рыцарских добле-
стей в рамках серьезной фабулы, заимствованной из испанской лите-
ратуры.
«Сид» был поставлен в театре Маре в самом конце 1636 г. с акте-
ром Мондори в заглавной роли. Пьеса имела невиданный до того в лето-
писях французского театра успех, возраставший с каждым ее представле-
нием. Все предыдущие пьесы Корнеля отошли в тень перед его новым
творением, которое сразу было объявлено шедевром. Весь Париж бредил
«Сидом», повторял наизусть целые пассажи из любимой пьесы. Была пу-
щена в ход крылатая фраза: «Cela est beau comme le Cid». («Это пре-
красно, как Сид»). Все эти восторги относились прежде всего к стили-
стическим достоинствам пьесы, в которой Корнель впервые развернул во
всю ширь свое поэтическое мастерство. Пьеса была написана изумитель-
ными стихами, подобные которым никогда еще не раздавались на фран-
цузской сцене.
Но помимо блестящей формы, «Сид» увлек современников так же тем
значительным содержанием, которое Корнель вложил в заимствованную
фабулу. Хотя пьеса в сущности должна быть отнесена к модному во
французском театре этого времени жанру трагикомедии, однако Корнель
преодолел в ней основные принципы драматургии барокко и окольными
путями подошел к классической трагедии. Потомство уверенно отнесло
«Сида» к этому жанру, несмотря на его средневековую тематику, неполное
соблюдение правила трех единств и счастливый конец.
ПОРНЕЛЬ И ЕГО ШКОЛА
413
Героем своей пьесы Корнель сделал испанского героя XI в. Руй (Ро-
дриго) Диаса, прозванного «Сидом», победителя мавров, подвиги кото-
рого отразились <в многочисленных народных преданиях, зафиксированных
в ряде литературных памятников испанского средневековья — в поэме «Ро-
дриго», в «Поэме о Сиде», в целом ряде романсов. Незадолго до Кор-
неля этого любимого испанского национального героя вывел в своей пьесе
«Юность Сида» («Las Mocedades del Cid», ок. 1618) испанский драматург
Гильен де Кастро. Пьеса его и явилась непосредственным источником кор-
нелевского «Сида». Корнель очень мало отступил от своего испанского
образца, воспроизведя как его основную сюжетную линию, так и отдель-
ные мотивы.
Главным новшеством Корнеля явилось то, что он значительно упро-
стил фабулу испанской драмы, ее стилистическую и метрическую фак-
ТУРУ. и сделал свою пьесу менее живописной, менее пестрой и беспоря-
дочной. Корнель интеллектуализировал сюжет пьесы Гильена де Кастро;
он перенес центр тяжести с внешних событий, определяющих конфликт
испанской драмы, на внутренние переживания героев, обусловленные мучи-
тельной борьбой между любовью и долгом. Это придало трагикомедии
Корнеля совершенно новый, оригинальный характер по сравнению с пьесой
Гильена де Кастро, несмотря на сюжетную близость обоих произведений.
Основой драматического конфликта «Сида» является то, что молодой
и доблестный рыцарь Родриго, защищая честь своего рода, убивает на
поединке отца своей возлюбленной Химены, нанесшего жестокое оскор-
бление его отцу. Это убийство вырывает пропасть между страстно любя-
щими друг друга молодыми людьми. Брак между ними становится не-
возможен, потому что Химена не может выйти замуж за убийцу своего
отца и более того — обязана, в силу того же закона фамильной чести,
добиваться смерти своего возлюбленного. Корнель рисует Родриго и Хи-
мену очень принципиальными людьми, руководствующимися во всех своих
поступках законами феодальной чести, которая является для них высшей
этической нормой, господствующей над всеми их чувствами. Оберегая
свою честь, человек является благородным (généreux) ; забывая о ней —
он становится бесчестным, подлым (infâme). Только благородный человек
достоин уважения, а следовательно, и любви, которая у корнелевских ге-
роев подчинена голосу рассудка. В противоположность галантной литера-
туре, видевшей в любви некую «любезную слабость» (aimable faiblesse),
Корнель, задолго до выхода в свет «Трактата о страстях» Декарта, усма-
тривал в любви добродетель (vertu), проистекающую из желания блага
и управляемую мыслью о нравственном совершенстве любимого человека.
Утрата высшего блага — чести — естественно влечет за собой и утрату
любви, вернее — права на любовь.
Изложенное рационалистическое понимание любви целиком опреде-
ляет поступки Родриго и Химены. Родриго убивает оскорбителя своего
отца не только в силу старинного принципа феодальной морали, согласно
которому оскорбление смывается только кровью, но также и для" того,
чтобы быть достойным любви Химены. «Та, которая любила меня бла-
городным, возненавидела бы меня бесчестного» («Qui m'aimait généreux,
me haïrait infâme»), — говорит он, доказывая Химене, что из любви к ней
он должен был, оберегая свою честь, не поддаваться сердечной слабости
и убить ее отца. Химена целиком согласна с Родриго и рассуждает точно
таким же образом:
Ты сам мне кажешь путь, твоих держуся правил:
Ты за отца отмстил и честь свою избавил:
414
КЛАССПЦИЗЙ
Мне тот же долг; его исполню до конца:
Я честь свою спасу и смерть отмщу отца.
(Д. III. явл. IV)
Сложность психологической ситуации, в которую попали Родриго
и Химена, блестяще резюмируется в следующем двустишии, завершающем
монолог Химены:
Ты, погубив меня, хвалу мою снискал;
Я в гибели твоей ищу твоих похвал.1
Итак, подавляя героическим напряжением воли свои сердечные сла-
бости, Родриго и Химена становятся в глазах друг друга все более до-
стойными любви. Пережитая ими жизненная катастрофа, сделавшая их
врагами, не только не ослабила их чувства, а усилила его. Корнель глу-
боко разработал контроверзу между враждой и любовью в сознании своих
героев. Он заставил Химену всячески добиваться казни Родриго и в то
же время дрожать за жизнь возлюбленного. Драматический конфликт
«Сида» неразрешим без вмешательства третьей силы. Такой третьей си-
лой в трагедии Корнеля является дон Фернандо, король Кастилии, оли-
цетворяющий идею разумной государственной власти, совершающей пере-
оценку феодальных этических ценностей.
Выступая решительным противником феодального своеволия, олице-
творенного в образе непокорного графа Гормаса, отца Химены, король
осуждает широко распространенный в феодальном обществе обычай раз-
решать вопросы чести путем кровавых столкновений противников. Потому
он нехотя соглашается на поединок Родриго и Санчо из-за Химены. Он
считает себя обязанным беречь кровь своих подданных и заботиться об
их жизни, «как голова заботится о членах, которые ей служат» («comme
le chef a soin des membres qui le servent»). Эта кровь должна проливаться
только для защиты государства от врагов. Служение родине способно
искупить любые проступки, и Родриго, отразивший нападение мавров,
является подлинным героем, которого даже король не в состоянии награ-
дить по заслугам.
Так идее фамильного долга противопоставляется идея долга перед
родиной, перед государством, а феодальная честь уступает место граждан-
ской чести, которая определяется тем же служением родине. В свете
втого нового этического идеала упорное отстаивание Хименой своей фа-
мильной чести кажется несостоятельным, о чем прямо заявляет Химене
инфанта, восклицая: «Неужели же допустимо отдать свою родину в руки
врагов ради того, чтобы отомстить за отца?» Химена, в конце концов,
вынуждена склониться перед этой новой моралью и отдает по распоряже-
нию короля руку убийце своего отца, что, впрочем, соответствует ее
личному чувству. Новая государственная мораль оказывается гуманистич-
нее старой феодальной морали; она наносит жестокий удар фанатическому
культу фамильной чести, искажавшему естественные человеческие отно-
шения.
Итак, Корнель сделал в «Сиде» попытку переоценить старую фео-
дальную мораль во имя нового государственного идеала, выдвигаемого
веком абсолютизма.
Однако переоценка эта была осуществлена Корнелем недостаточно
решительно. В трагедии осталась романтизация феодально-оыцарских
«Tu t'es, en m'offensant, montré cligne de moi;
Je me dois, par ta mort, montrer digne de toi».
нравов и чувств, а душевные муки Родриго иХимены были изображены
столь горячо и искренно, что заставляли зрителей становиться на их
точку зрения. Этим и объясняется огромный успех «Сида» в кругах выс-
шей аристократии, фрондировавшей против абсолютистской политики Ри-
шелье. Этим же объясняется отрицательное отношение самого Ришелье
к пьесе Корнеля, в которой, по мнению всесильного министра, тема борьбы
между личным чувством и долгом была поставлена недостаточно четко,
а король Фернандо мало походил на носителя твердой абсолютистской
власти. Ришелье был также недоволен тем, что в самый разгар войны
с Испанией; в то самое время когда французская армия разбила испан-
цев на границе и отобрала у них Корби, героем дня на парижской сцене,
и без того заполненной испанскими сюжетами, стал кастильский нацио-
нальный герой, олицетворение испанской военной доблести. Успех «Сида»
сыграл на руку иютанофильской партии при французском дворе, возглав-
ляемой королевой Анной Австрийской, с которой Ришелье вел упорную
борьбу. Анна Австрийская наградила Корнеля тем, что возвела его отца
в дворянское звание. Все это усилило давнишнюю неприязнь Ришелье
к Корнелю и заставило его занять враждебную позицию по отношению
к «Сиду» во время развернувшейся вскоре после его постановки оживлен-
ной полемики.
Ближайшей, чисто личной, причиной этой полемики явилось недобро-
желательство к Корнелю его недавних соратников (Мере, Жоржа де Скю-
дери, Клавере), которых он оставил далеко позади себя, написав «Сида».
Но поводом для нападок на Корнеля явились допущенные им многочис-
ленные вольности по отношению к канону классицизма. Так, Корнель по
своему обыкновению весьма свободно обошелся в «Сиде» с правилом
трех единств. Он расширил временное протяжение трагедии до тридцати
часов, истолковал единство места в смысле «единства города» (вместо
обычного «единства дворца») и нарушил единство действия введением
эпизодической роли инфанты, не принимающей участия в развертывании
основного сюжета пьесы. Он нарушил также единство метрической формы
трагедии, перемежая канонический для французской классической траге-
дии александрийский стих с лирическими стансами, в которых Родриго
изливает свою скорбь в конце первого акта. Все эти отклонения от канона
классицизма, являющиеся у Корнеля пережитками драматургии барокко,
вместе с некоторыми чересчур смелыми выражениями и ситуациями
пьесы, подали повод к резким нападкам на Корнеля.
Спор о «Сиде» начался после появления в свет стихотворного по-
слания Корнеля, носящего несколько загадочное название «Извинение
перед Аристом» («Excuse à Ariste», 1637). В этом послании Корнель го-
ворил о себе и своих успехах в крайне горделивом и независимом тоне,
с большим чувством собственного достоинства и уверенностью в пра-
вильности избранного им пути. При этом он гордо восклицал: «Я обязан
только самому себе всей своей славой». Эта фраза особенно возмутила
соперников Корнеля. Первым из них выступил драматург Мере, который
упрекал Корнеля от лица «автора подлинного испанского Сида» в пла-
гиате, восклицая: «Неблагодарный, верни мне моего Сида вплоть до по-
следнего слова!»
Вслед за Мере выступил Жорж де Скюдери со своими «Замечаниями
о Сиде» («Observations sur le Ciel»), в которых он задался целью дока-
зать, «что сюжет „Сида" никуда не годится, что он нарушает все основ-
ные правила драматической поэзии, что развитие действия в нем лишено
всякого смысла, что в нем много плохих стихов, что почти все, что в нем
4t«
КЛАССИЦИЗМ
есть прекрасного, позаимствовано, и что, следовательно, уважение, кото-
рым он пользуется, незаслуженно». Скюдери педантично, с постоянными
оглядками на Аристотеля, развивал эти шесть тезисов. Он утверждал, на-
пример, что Корнель нагромоздил в течение одного дня слишком большое
количество событий, что он сделал героиней своей пьесы «бесстыдную*
женщину, «бесчеловечную дочь», «чудовище», вследствие чего вся пьеса
в целом является апологией порока, и т. д.
Корнель ответил Скюдери в резко ироническом тоне; он возвратил
ему все его упреки, подчеркнув его невежество и смешную претензию обу-
чать его, Корнеля, поэтическому мастерству. Скюдери был совершенно
уничтожен ответом Корнеля. Тогда на помощь ему подоспел третьесте-
пенный поэт Клавере, выступивший с чрезвычайно плоским «письмом»
к Корнелю. Но Корнель расправился с Клавере еще легче, чем с его пред-
шественником; он прямо назвал его «лакеем» и советовал ему замолчать,
потому что его глупости только раздражают всех порядочных людей.
В новую стадию спор о «Сиде» вступил после того, как Скюдери
обратился к Французской Академии, предложив ей высказать свое суж-
дение по поводу пьесы Корнеля и его «Замечаний» о ней. Французская
Академия неохотно ввязалась в этот спор, потому что ооялась скомпро-
метировать себя перед одной из борющихся сторон. Согласно уставу Ака-
демии, она могла разбирать только произведения своих сочленов или же
тех писателей, которые сами запрашивают ее мнение о своих произведе-
ниях. Таким образом Академии пришлось Заручиться согласием Корнеля
на разбор ого пьесы. Корнель вынужден был дать свое согласие, когда
узнал, что сам кардинал настаивает на этом.
Для разбора «Сида» Академия выделила комиссию из трех человек,
которая и составила требуемый отзыв под главной редакцией Шаплена.
Ришелье не был удовлетворен ни этой первой редакцией отзыва, ни вто-
рой, вышедшей из-под пера аббата Серизи, ни третьей, представленной
Сирмоном. Тогда Шаплену было поручено составить окончательную ре-
дакцию отзыва на основании всех трех вариантов, и ему удалось, нако-
нец, удовлетворить кардинала. Эта окончательная редакция, озаглавлен-
ная «Мнение Французской Академии о трагикомедии „Сид"» («Les Senti-
ments de l'Académie Française sur la tragi-comédie du Cid»), была опубли-
кована в самом начале 1638 г.
В отличие от всех полемических писаний против «Сида», отзыв Ака-
демии составлен в очень сдержанном и вежливом тоне. Однако, отдавая
должное таланту Корнеля, Академия осудила его пьесу в целом, как не-
соответствующую правилам. Она признала сюжет «Сида» неудачным,
повторила мнение Скюдери о безнравственности Химены, осудила раз-
вязку трагедии и указала на наличие в пьесе множества неудачных сти-
хов и неправильных выражений. Критика Академии была хотя и мелоч-
ной, но вполне последовательной и принципиальной. Ее формальные при-
дирки прикрывали политическое осуждение пьесы с дворянско-монархи-
ческой точки зрения. Академия ударила по независимости Корнеля, по
его фрондерскому индивидуализму; она стремилась повернуть его твор-
чество в русло ортодоксального классицизма. Добиться этого от Кор-
неля было не так легко, потому что вокруг него сгруппировалось
множество поклонников его «Сида». В их числе оказался и Гез де Баль-
зак, который в письме к Жоржу де Скюдери заявлял, что «удовлетворить
целое королевство несколько труднее, чем написать правильную пьесу»,
и что «владеть искусством нравиться стоит ниже уменья нравиться без
искусства». Впоследствии с Бальзаком солидаризировался Буало, напи-
НОРНЕ ЛЬ Ж ЕГО ШКОЛА
417
савший в своей IX сатире по поводу спора о «Сиде» знаменитое четы-
рехстишие:
En vain contre le Cid un ministre se ligue:
Tout Paris pour Chimène a les yeux de Rodrigue;
L'Académie en corps a beau le censurer:
Le publique révolté s'obstine à l'admirer.1
Вся эта полемика вокруг «Сида» произвела на Корнеля гнетущее
впечатление. Убедившись в недоброжелательстве к нему Ришелье, он ре-
шил замолчать и уехал «а родину в Руан, где прожил три года, не по-
давая о себе никакой вести. Шаплен высказывал даже опасение, что под
влиянием полемики с ним он решил совсем прекратить писать для театра.
Но эти опасения были неосновательны. Занимаясь служебными и домаш-
ними делами, Корнель в то же время сочинил в Руане целых две траге-
дии, притом уже не из испанской, а из римской жизни. Этот поворот
к античной тематике произошел не без влияния спора о «Сиде», который
заставил Корнеля пересмотреть ряд своих прежних установок. В частности,
Корнель начал придавать гораздо большее значение, чем раньше, соблю-
дению «правил» и попытался избавиться от влияния барочной траги-
комедии.
Результаты большой работы, проделанной Корнелем над собой, ясно
проявились уже в первой его трагедии из римской жизни — «Гораций»
(«Horace», 1640). Пунктуальное соблюдение трех единств, строгий муже-
ственный слог без всяких примесей прециозного стиля, чеканный алек-
сандрийский стих на всем протяжении трагедии (кроме четырехстишия —
предсказания оракула Камилле), полное отсутствие элементов трагико-
медии — таковы формальные особенности «Горация», делающие его пер-
вой настоящей классической трагедией, вышедшей из-под пера Корнеля.
Фабула «Горация» заимствована Корнелем «е из поэзии, как фабула
«Сида», а из истории. Ее источником является эпизод из первой книги
истории Тита Ливия, где повествуется о единоборстве трех братьев Го-
рациев и трех братьев Куриациев, решающем исход войны между сосед-
ними городами — Римом и Альба-Лонгой. Ливии рассказывает о том, как
Гораций, оставшись победителем на поле битвы, заколол сестру, невесту
одного из Куриациев, за то, что она оплакивала погибшего жениха, после
чего он был оправдан вследствие красноречивого заступничества своего
старого отца. Корнель развил эту фабулу в части семейных отношений,
связав Горациев и Куриациев узами родства и дружбы, что значительно
усилило драматизм основного конфликта трагедии.
Конфликт «Горация» с первого взгляда напоминает конфликт «Сида»:
в обеих трагедиях герои переживают душевную борьбу между любовью
и долгом. Однако на этот раз речь идет уже не о фамильном долге,
а о долге перед государством, требующем подавления всяких личных
чувств и семейных привязанностей. Расширив идею долга путем ее поли-
тического истолкования, Корнель поднимается в «Горации» до высот па-
триотического пафоса. Трагедия его является подлинным апофеозом граж-
данского героизма, устремленного целиком на служение родине. Корнель
выступает здесь достойным продолжателем того культа древнеримских
гражданских доблестей, который был присущ ряду писателей француз-
ского Ренессанса (Амио, Ла-Боэси, Монтень). Хотя действие «Горация»
1 «Напрасно министр составляет лигу против «Сида»: весь Париж смотрит на
Химену глазами Родриго. Тщетно Академия в полном составе осуждает его: восстав-
ший зритель упорно восхищается им».
9.7 История французской литературы—815
418
КЛАССИЦИЗМ
развертывается не в республиканском, а в царском Риме, и римская госу-
дарственность воплощена в образе царя Тулла Гостилия, однако Корнель
рисует в своей трагедии настоящих римских граждан, уже созревших для
республики и выше всего на свете ставящих свободу Рима. Правда, в угоду
Ришелье Корнель вложил в уста царя Тулла ряд официальных монар-
хических деклараций, но его Тулл похож на абсолютного монарха в по-
нимании Ришелье не больше, чем король Фернандо в «Сиде». Царь Тулл
является по существу только официальным представителем римского
государства, роль которого- мог бы исполнить любой консул. Впослед-
ствии, в годы французской революции театры производили в трагедии
Корнеля именно такую замену.
Центральным образом трагедии Корнеля является образ римлянина-
патриота, жертвующего всем ради свободы и славы Рима. Этот образ
по существу расщепляется между двумя персонажами — молодым Гора-
цием и его отцом. Первый, будучи женат на сестре Куриация, без коле-
баний принимает, как величайшую честь, назначенный ему поединок с бра-
том своей жены и женихом своей сестры, заставляя героическим напря-
жением воли умолкнуть в себе все личные чувства к своему противнику.
Второй стойко принимает весть о гибели двух своих сыновей на поле
битвы и, получив ложное известие о бегстве с поля битвы третьего сына,
приходит в отчаяние от позора, которым тот покрыл его славное имя,
и грозит покарать сына своей собственной рукой за трусость.
Этим двум рыцарям гражданского долга противопоставлена сестра
Горация Камилла, которая ставит свое личное чувство выше граждан-
ского долга. Страстно любя Куриация, она тщетно пытается отговорить
его сражаться с ее братьями, рискуя собственной жизнью. Она ставит
свою любовь выше не только гражданского долга, но и родственных свя-
зей. Римское государство представляется ей страшной враждебной силой»
разрушающей личное счастье своих граждан. Обезумев от горя при вести
о гибели жениха, она проклинает брата, убившего его по повелению го-
сударства, а затем и Рим, требующий для своего процветания таких кро-
вавых жертв. Сцена проклятий Камиллы, ее страстный монолог против
Рима, начинающийся словами «Рим, гнева моего единственный предмет.. .»
(«Rome, Tunique objet de mon ressentiment...»), по справедливости при-
знается одним из лучших достижений корнелевского гения. Это подлин-
ная декларация прав восставшей личности, которая протестует против
подавления ее железной пятой государства.
Возмущенный непатриотическим поведением сестры, Гораций зака-
лывает ее. Убийство Камиллы как бы начинает собой новое действие, так
как подвергает Горация новой смертельной опасности: победитель Ку-
риациев и спаситель Рима теперь должен быть судим, как убийца родной
сестры. Этот суд заполняет последний акт трагедии. Он происходит, в от-
ступление от истории, не перед народом, а в доме Горациев, куда пришел
царь Тулл, чтобы выразить соболезнование старику Горацию в постиг-
ших его несчастьях. Обвинителем Горация выступает Валерий, любивший
Камиллу и отвергнутый ею ради Куриация. Он обвиняет Горация в бес-
человечности, объявляет его поступок недостойным римского гражданина
и угрожающим жизни множества римлян, связанных родственными узами
с жителями Альбы; он требует, чтобы этот первый в Риме случай убий-
ства родной сестры повлек за собой казнь убийцы.
Гораций не защищается рт обвинений Валерия и только выражает
желание лишить себя жизни собственной рукой, ибо считает, что «одна
КОРНЕЛЬ И ЕГО ШКОЛА
419
смерть может сохранить его славу». Валерию отвечает старик Гораций,
горячо защищающий сына, убившего его дочь. Он указывает на то, что
рукой его сына двигала одна любовь к родине и что он не был бы ви-
новен, если бы любил ее меньше. Кульминационным моментом его защи-
тительной речи является пламенное воззвание к римскому народу:
О римляне, друзья, ужели вы готовы
Герою наложить позорные оковы?
Ужели будет тот безжалостно казним.
Кому свободою своей обязан Рим?
(Д. V, явл. 3).
Горячая патриотическая речь старика Горация, вырастающего в этой
сцене в монументальный образ римской гражданственности, решает судьбу
его сына. Тулл дарует Горацию жизнь, признавая, что его воинская
и гражданская доблесть искупила его преступление и поставила его выше
законов.
Несмотря на то, что трагедия кончается апофеозом Горация, Кор-
нель нашел весьма живые, горячие, и человечные ноты также для изобра-
жения Камиллы, этой французской Антигоны, восстающей против без-
душной государственности. Хотя Корнель ставил себе задачей героизацию
государственной морали, однако он был не в силах до конца подавить
гуманистическое начало, живущее в Камилле и направленное против
одностороннего культа государства.
Корнель посвятил «Горация» самому Ришелье и подчеркнул в пане-
гирическом посвящении пьесы, что изменение его художественной манеры
вызвано непосредственным влиянием кардинала. Однако Ришелье принял
пьесу довольно холодно, так как почувствовал в ней республиканские
нотки, отдалявшие ее от желательного ему типа чисто монархической тра-
гедии. Зато «Гораций» стал одной из популярнейших пьес периода Фран-
цузской буржуазной революции XVIII в. Отношение революционной
буржуазии к «Горацию» было предуказано уже Вольтером, написавшим
в своих комментариях к этой трагедии: «Корнель, древний римлянин среди
французов, основал школу душевного величия». Это «душевное величие»
(grandeur d'âme) правильно истолковывалось буржуазными революцио-
нерами XVIII в. в чисто гражданском, республиканском смысле. Хотя
практически Корнель стоял, как и другие писатели XVII века, на монар-
хических позициях, однако теоретически он лелеял республиканские идеалы,
проецируя их в историческое прошлое. Этот ретроспективный республика-
низм Корнеля проявился даже в тех его произведениях, которые кажутся
посвященными возвеличению монархии. Ярким образцом таких произве-
дений является его следующая пьеса — «Цинна».
Трагедия «Цинна, или Милосердие Августа» («Cinna, ou la Clémence
d'Auguste», 1640) была поставлена в том же году, что и «Гораций»*
и тоже имела огромный успех. Ее фабула также заимствована из истории
древнего Рима. Однако на этот раз Корнель изобразил не Рим эпохи
царей, а начальный период существования Римской империи. Он вывел
в своей трагедии первого римского императора Октавиана Августа, кото-
рого изобразил справедливым и великодушным монархом, стремящимся
загладить те жестокости и злодеяния, которые он совершил, добиваясь импе-
раторской короны. Источником «Цинны» явились несколько страниц из книги
философа Сенеки «О милосердии», пересказанные уже Монтенем в его
«Опытах» (кн. I, гл. 23). Они повествуют о том, как Август помиловал
внука Помпея Цинну, возглавлявшего заговор аристократов-республикан-
4Î0
КЛАССИЦИЗМ
Корнель. «Гораций».
'. рисунка А. Гравело, грав. Ж. Ж. Флипаром (квд. 1764 г.)
цев против империи. Значитель-
но развив эту фабулу, Кор-
нель создал настоящую политиче-
скую трагедию, захватившую его
современников 'большой актуально-
стью затронутых в ней вопросов.
Если в «Горации» Корнель
еще прославлял республиканскую
доблесть лод оболочкой служения
монархии, то в «Цинне» он откры-
то противопоставил республикан-
ский принцип монархическому, по-
казав борьбу группы аристократов-
республиканцев против императора
Августа. Во главе республикан-
ского заговора против Августа
стоят приближенные императора
Цинна и Максим, но его подлин-
ной вдохновительницей является
возлюбленная Цинны Эмилия,
мстящая Августу за убийство сво-
его отца.
В образе Цинны Корнель на-
рисовал слабого, нерешитель-
ного и неустойчивого человека,
которого только любовь к Эмилии
заставляет не отступить от заду-
манного предприятия. Когда Ав-
густ предлагает ему и Максиму
высказать свое мнение по поводу
того, какая форма правления луч-
ше для римского народа — монар-
хия или республика, Цинна выска-
зывается в пользу монархии, го-
свободы и о неразумности
характер и имеет
ворит о призрачности гражданской
народовластия. Хотя эта речь носит провокационный
целью убедить Августа не отказываться от трона, дабы мог состояться за-
думанный переворот, однако горячность речи Цинны в пользу монархии
заставляет усомниться в твердости его республиканских убеждений. И дей-
ствительно, милостивые речи Августа, пообещавшего Цинне руку Эмилии,
охлаждают Цинну к заговору. Второй заговорщик Максим, высказываю-
щийся перед Августом в пользу республики, в дальнейшем из личных мо-
тивов (любовь к Эмилии и желание погубить Цинну) оказывается преда-
телем и выдаем своих единомышленников, рассчитывая таким путем завое-
вать Эмилию.
Цинне и Максиму Корнель противопоставил Эмилию. Это необы-
чайно цельный и законченный образ римской женщины, настоящей рес-
публиканки, ни на шаг не отступающей от поставленной цели. Страстная
ненавистница монархического деспотизма, она является по существу един-
ственным достойным противником Августа. Всеми ее поступками руково-
дит политический интерес, которому она целиком подчиняет также свое
чувство к Цинне. Сильная, энергичная и крайне рассудочная женщина,
Эмилия является одной из типичнейших героинь Корнеля, образ которой
КОРНБЛЬ И ЕГО ШЖОЛА
421
«будет (постоянно повторяться с раз-
личными вариациями в его позд-
нейших трагедиях.
Все современники единодушно
были восхищены образом Эми-
лии и считали ее, а не Цинну,
подлинной героиней трагедии. Гез
де Бальзак писал Корнелю, при-
водя мнение какого-то своего прия-
теля, что Эмилия — «соперница
Катона и Брута в любви к свобо-
де», что она «одержима демоном
республики» и является «прекрас-
ной, разумной, святой и обаятель-
ной фурией», которая «хочет при-
нести своему отцу такую жертву,
которая была бы чересчур велика,
даже для самого Юпитера». Го-
рячим поклонником Эмилии был
также другой современник Кор-
неля, писатель Сент-Эвремон, счи-
тавший ее «более римлянкой, чем
Цинну» и оправдывавший ее за-
говорщическую деятельность про-
тив монархии. ' Образ Эмилии явно
оттеснял в глазах современников
образ Августа и его милосердие,
хотя последнее и являлось цен-
тральным сюжетным мотивом тра-
гедии.
Образ Августа показан Кор-
нелем в двух различных аспектах.
В первом акте трагедии, в кото-
ром он еще не показывается на
сцене, Август обрисован в речах республиканцев, как вероломный тиран,
кровавые-узурпатор, как «тигр, жаждущий всей римской крови». Все заго-
ворщики оспаривают друг у друга честь нанести ему первый удар. Во вто-
ром акте, когда Август появляется на сцене, он сразу разрушает впечатле-
ние, составившееся о нем на основании слов заговорщиков. Он совершенно
лишен тщеславия, серьезен, спокоен, вдумчив, полон любви к своему на-
роду и ставит его интересы выше своих собственных. Узнав о заговоре,
он вспоминает о пролитых им потоках крови, через которые он перешаг-
нул, идя к трону. В длинном монологе он высказывает свои колебания,
свою неуверенное» в разумности суровой расправы с заговорщиками. Его
жена Ливия подсказывает ему единственную правильную, по ее мнению,
тактику по отношению к врагам — тактику милосердия, ибо, как она го-
ворит, «милосердие является самым прекрасным знаком, по которому
вселенная узнает истинного монарха». Август сначала отвергает этот со-
вет Ливии, но в конце концов следует ему и дарует жизнь Цинне, про-
износя знаменитую фразу:
Soyons amis, Cinna; c'est moi, qui t'en conjure!
Корнель. «Цинна».
С рисунка А. Гравело, грав. Ламперером (иЗД 1764 Г.)
я Будем друзьями, Цинна, это я прошу тебя об этом».
422
КЛАССИЦИЗМ
«Великодушие» Августа, показанное Корнелем не как результат при-
родной доброты, а как результат политического расчета, действует на заго-
ворщиков потрясающе. Даже несокрушимая Эмилия отказывается от своей
ненависти, «которую она считала бессмертной», и торжественно обещает
отныне служить Августу. Такую же клятву верности приносит и Цинна.
Итак, трагедия кончается капитуляцией мятежной знати перед монархией,
сумевшей победить ее не жестокостью, а милосердием.
Финал «Цинны» имел крупное политическое значение. Это был свое-
образный политический жест в сторону кардинала Ришелье, никогда не
руководившегося в . своей политике подобными принципами. Призыв к
милосердию правителей был особенно уместен в момент появления «Цин-
ны», потому что все французское общество находилось под свежим впе-
чатлением жестокой расправы Ришелье с большим народным восстанием,
имевшим место на родине Корнеля, в Нормандии, в 1639 г. Восстание
это носило название движения «босоногих» (va-nu-pieds) и возглавлялось
Жаном Босоногим. Крестьяне требовали упразднения ряда налогов, введен-
ных Ришелье. В этом их поддерживала буржуазия Руана. Восставшее насе-
ление Руана разгромило и сожгло конторы сборщиков налогов и дома
агентов фиска. Ришелье подавил это восстание при помощи наемных войск
и жестоко расправился с восставшими, организовав в Руане массовые
казни без суда. Руан лишился муниципальных привилегий, и выборные
власти были в нем заменены королевскими чиновниками. Корнель был
свидетелем этих событий, разыгравшихся у него на глазах, и железный
режим Ришелье побудил его взывать в своей политической трагедии к не-
ведомому во Франции милосердию.
Вся трагедия в целом ярко отражает политическую жизнь своей эпохи,
в которой протест народный легко объединялся с протестом аристокра-
тов-фрондеров. Реальными прототипами героев «Цинны» являются фран-
цузские аристократы, будущие деятели Фронды, организовывавшие бесчис-
ленные заговоры против Ришелье. В этих заговорах принимали участие
даже члены королевской семьи, вроде брата короля, Гастона Орлеанского,
являвшегося в жизни образцом «слабого героя» типа Цинны. Точно так же
и образ Эмилии находил опору в типичных для того времени фигурах
французских аристократок, окунавшихся с головой в политические интриги,
вроде принцессы Конде, мадам де Шеврез, мадам де Роган и многих
других. Все эти аристократки были привержены прециозности, которая
наложила свой отпечаток и на речи Эмилии, часто говорящей языком
Отеля Рамбулье. Предатель Максим тоже имеет немало реальных прото-
типов во французской жизни того времени, вроде хотя бы герцога де Пюи-
лоранса, фаворита Гастона Орлеанского.
Политическая мудрость Ришелье, окрашенная в цвета своеобразного
маккиавеллизма с характерной для него неразборчивостью в средствах,
ведущих к укреплению абсолютистской власти, блестяще формулирована
в «Цинне» в словах Ливии:
Tous ces crimes d'état qu'on fait pour la couronne
Le ciel nous en absout, alors qu'il nous la donne.1
Такая двусмысленная, циничная мораль весьма далека от политиче-
ского идеала самого Корнеля, который носил гуманистический характер
и сводился к культу разумной государственности, не подавляющей чело-
веческой личности и стремящейся к гармонии частных интересов.
1 «Псе эти государственные преступления, которые совершаются для достижения
короны, прощаются нам небом, когда оно дарует ее нам».
KOPHEJb И ЕГО ШКОЛА
483
о
После «Цинны» в творчестве Корнеля снова наступил двухлетний
перерыв. Этот перерыв был заполнен женитьбой поэта на Марии де Лам-
перьер и последовавшей вскоре после женитьбы тяжелой болезнью, от
которой он чуть не умер. Около этого же времени Корнель завязал связи
с Отелем Рамбулье, в котором он рассчитывал найти поддержку против
своих литературных врагов. Прециозное общество высоко ценило Корнеля,
как выдающегося поэта, находившегося на подозрении у Ришелье и вво-
дившего в свои пьесы некоторые элементы прециозного стиля. Сомез в
своем «Словаре прециозниц» прямо называет Корнеля в числе прециоз-
ных поэтов. Действительно, в знаменитой «Гирлянде Жюли» есть по край-
ней мере три стихотворения, написанных Корнелем. Однако связи Корнеля
с Отелем Рамбулье никогда не были особенно тесными. Правда, написав
свою следующую трагедию — «Полиевкт», Корнель устроил ее чтение в
Отеле Рамбулье, но она не имела там никакого успеха, так как отпуг-
нула прециозную знать своей суровостью. Обескураженный этим неуспе-
хом, Корнель отдал пьесу в театр, где ее очень охотно приняли. Этот
сценический успех «е ослабевал до конца XVII в., и Буало недаром объя-
вил «Полиевкта» шедевром Корнеля.
Точное название «христианской трагедии» Корнеля — «Мученик
Полиевкт» («Polyeucte martyr», 1643). Это название вплотную подводит
к содержанию трагедии, изображающей мученическую смерть за христиан-
скую веру новообращенного армянского вельможи Полиевкта во время
царствования императора Деция (III в. н. э.). Источником трагедии яви-
лось написанное Симеоном Метафрастом (X в.) житие ев» Полиевкта
в пересказе немецкого монаха Сириуса (XVI в.). Однако Корнель зна-
чительно развил заимствованный сюжет, введя в него ряд новых мотивов,
в том числе — любовь жены Полиевкта Паулины к римлянину Северу,
составившую основное сюжетное зерно «Полиевкта».
Как и в предыдущих трагедиях, в «Полиевкте» развернут конфликт
между любовью и долгом. Этот конфликт переживается на разные лады
Полиевктом и Паулиной. В сознании Полиевкта сталкивается супруже-
ская любовь к молодой жене Паулине с религиозным долгом, побуждаю-
щим его вступить в борьбу с римским язычеством. В сознании Паулины
вспыхнувшая с новой силой любовь к ее бывшему возлюбленному Северу
борется с супружеским долгом, побуждающим ее сохранить верность
Полиевкту. В обоих случаях любовь побеждается долгом: Полиевкт отка-
зывается от личного счастья и добровольно принимает мученическую
смерть, предоставляя Паулине свободу и убеждая ее выйти замуж за
Севера; Паулина тоже отказывается от счастья с Севером и сохраняет
верность Полиевкту даже после его смерти, переходя в христианство.
Корнель искусно сочетает в- своей трагедии два столь разнородных мотива,
как религиозная вера и земная страсть. Это сочетание и явилось причи-
ной огромного успеха «Полиевкта»: оно отграничило пьесу Корнеля от
многочисленных трагедий о христианских мучениках, написанных в 30-х
годах (пьесы Селло, Вертело, Баро и др.).
Политическая актуальность «Полиевкта» заключалась в прославле-
нии религиозного подвижничества, которое отвечало борьбе абсолютной
монархии за укрепление авторитета, католической церкви, являвшейся
верным союзником монархии. Этот мотив сближает «Полиевкта» с рели-
гиозными трагедиями Кальдерона «Стойкий принц» и «Двое небесных
любовников», в которых можно найти даже ряд сюжетных соответствий
224
КЛАССИЦИЗМ
с трагедией Корнеля. Однако, при всем внешнем сходстве пьес Корнеля
и Кальдерона, между ними есть глубокое различие. У Кальдерона рели-
гиозный энтузиазм неизменно приобретает фанатический, почти изувер-
ский характер, вырастая на основе сознания «греховности» жизни и по-
гтоянной готовности к смерти, которая есть для него начало вечной жизни.
У* Корнеля нет ничего подобного мистическому экстазу Кальдерона; вера
Полиевкта носит вполне «разумный» характер.
Рационалистическая постановка религиозной темы приводит к тому,
что она постоянно поворачивается в сторону политики. Этот поворот осо-
бенно ясно заметен в рассуждениях Севера о христианстве. Не являясь
христианином, Север хорошо улавливает политическое значение идеи хри-
стианского единобожия. Он удивляется тому, что римляне, учредив на
земле неограниченную власть императора, допускают полную анархию на
небе, ибо «множество наших богов нередко живут в несогласии». Все эти
боги не имеют настоящей власти. Чтобы быть всемогущим, бог должен
быть единым, как римский император. Преследуя христиан, Римская импе-
рия обнаруживает, по мнению Севера, непонимание собственных интере-
сов. Она считает христиан мятежниками, хотя они никогда не восставали
против своих мучителей и мужественно сражаются за них в войсках. Все
эти рассуждения Севера объективно обосновывают политику француз-
ского абсолютизма, делавшего церковь опорой трона.
Но высказывая сочувствие христианам и готовность защищать их от
преследований, сам Север остается далеким от новой веры. Человек само-
отверженный и бескорыстный, он подавляет в себе стремление к личному
счастью во имя долга. Однако понимание долга имеет у него более широ-
кий, гуманистический характер, чем у Полиевкта или Паулины. Это долг
честного человека, который лишен всякого эгоизма, который уважает
чувства и убеждения других людей и служит любимой женщине тем, что
всеми силами стремится спасти жизнь ее мужа и обеспечить ее союз
с ним. Север идет против собственных интересов, он разрушает собствен-
ное счастье, потому что это должно дать ему право «уважать себя самого».
Самоотречение Севера вырастает на чисто языческой гуманистической
основе; и такой же характер имеет веротерпимость Севера, проповедуе-
мая им свобода совести. Через образ Севера в «христианскую трагедию»
Корнеля вливается светская гуманистическая струя. Это обеспечило впо-
следствии «Полиевкту» сочувствие таких представителей вольнодумной
мысли XVIII в., как Вольтер и Лагарп, которые считали подлинным
героем трагедии не Полиевкта, а Севера.
Однако современники восприняли «Полиевкта» прежде всего как
прославление мученичества за веру. Под влиянием Корнеля количество
трагедий о христианских мучениках во Франции необычайно возросло.
Сам Корнель написал впоследствии еще вторую «христианскую траге-
дию» — «Теодора — дева и мученица» («Théodore, vierge et martyre», 1645).
Он драматизовал здесь историю антиохийской царевны Теодоры, осуж-
денной римским наместником Валентом на заключение в публичный дом,
чудесно освобожденной из него христианином Дидимом и погибающей
от руки злодейки Марцеллы, жены Валента. Восторженные речи Теодоры,
жаждущей принять мученическую смерть за свою веру, напоминают тирады
Полиевкта; однако, в отличие от последнего, она не переживает никакого
внутреннего конфликта, потому что не знает другого чувства, кроме рели-
гиозного. Отсюда холодность пьесы, признанная самим Корнелем и явив-
шаяся истинной причиной ее неуспеха, который современники объясняли
КОРНЕЛЬ И ЕГО ШКОЛА
42ÎÎ
чересчур рискованной фабулой, будто бы оскорбившей изысканный вкус
аристократического зрителя.
Обе «христианские трагедии^ Корнеля не надолго отвлекли его от
излюбленного им жанра историко-политической трагедии, основы которого
были заложены в «Горации» и в «Цинне». Сам Корнель рассказывает,
что современники отметили отсутствие в «Полиевкте» той поэтической
силы, которая пленяла их в предыдущих трагедиях. Стремясь доказать,
что эта сила не покинула его, Корнель вскоре после «Полиевкта» сочи-
нил историческую трагедию «Смерть Помпея» («La Mort de Pompée»,
1643). Пьеса эта пользовалась огромной славой у современников, и сам
Корнель ставил ее наравне с «Сидом», «Горацием» и «Цинной». Только
аббат д'Обиньяк критиковал трагедию за ее построение, а Фенелон нахо-
дил, что римляне говорят здесь слишком напыщенным слогом. Сходные
упреки делали Корнелю Вовенарг и Вольтер, а также А. В. Шлегель,
писавший: «Эта трагедия содержит замечательные места, но в целом в
ней больше высокопарности, чем подлинного величия, и в ней слишком
легко узнать гиперболы Лукана».
Действительно, главным источником «Смерти Помпея» явились не
греческие и римские историки (Аппиан, Плутарх, Веллей Патеркул, Флор),
а поэма Лукана «Фарсалия», пользовавшаяся большой популярностью
во Франции XVII в. Корнель был почитателем Лукана; он призна-
вался, что предпочитает его Вергилию. Он не замечал риторичности
и эмфазы Лукана и говорил, что стремился передать в своей трагедии
«силу его мыслей и величие его рассуждений». Однако погоня за
громкими и эффектными фразами не помешала Корнелю дать в «Смерти
Помпея» глубоко драматичное изображение агонии республиканского Рима,
а в образе вдовы Помпея — Корнелии — величественную фигуру респуб-
ликанской женщины, бросающей смелый вызов тирании Цезаря. Корне-
лия во многом напоминает Эмилию из «Цинны», отличаясь от нее тем,
что она не склоняется, подобно последней, перед тираном.
Своеобразие, построения «Смерти Помпея» в том, что главный герой
трагедии Помпеи совсем не появляется на сцене, будучи, однако, душой
всего ее действия. Фабула трагедии сконцентрирована вокруг предатель-
ского убийства Помпея по распоряжению египетского царя Птолемея,
у которого Помпеи ищет пристанища после поражения в битве при Фар-
сале. Осуществленное с целью угодить Цезарю, это убийство вызывает
негодование последнего, что и побуждает убийц составить новый заговор
против Цезаря. Заговор этот открыт вдовой Помпея Корнелией, которая
предупреждает о нем Цезаря, несмотря на свою вражду к нему. Цезарь
казнит заговорщиков, оказывая почести вдове своего убитого врага.
Наиболее яркими сценами трагедии являются те, в которых Кор-
нель сталкивает лицом к лицу Корнелию и Цезаря, заставляя их соревно-
ваться в душевном величии и римской доблести. Этим подлинным героям,
на которых лежит отблеск умирающей римской республики, противопоста-
влен трусливый и вероломный Птолемей со своими /приспешниками. Они
как бы воплощают в себе душную, затхлую атмосферу, царящую в варвар-
ской монархии, которой неведомы гражданские доблести, воспитанные в
римлянах несколькими веками политической свободы.
Слабым местом «Смерти Помпея» является введенная в трагедию
любовная интрига, которая во французской трагедии того времени счита-
лась обязательной. Корнель, в согласии с историей, изобразил Цезаря
влюбленным в сестру Птолемея Клеопатру; однако краски, которыми он
обрисовал эту любовь, почерпнуты из быта парижских аристократических
42tf
КЛАССИЦИЗМ
салонов, что обусловило фальшивое звучание любовных сцен между Цеза-
рем и Клеопатрой. В этих сценах Корнелю изменило его историческое
чутье, и римский полководец принял обличие слащавого героя француз-
ского галантного романа.
После «Смерти Помпея» Корнель еще раз вернулся к комедийному
жанру и написал «Лгуна» («Le Menteur», 1643), свою лучшую комедию,
до сих пор оставшуюся в репертуаре. Ее сюжет заимствован из испанской
комедии Аларкона «Сомнительная правда» («La Verdad sospechosa», 1630),
которую Корнель считал неподражаемым шедевром. Ом перенес действие
комедии в Париж, в дворянскую среду, и приспособил ее к условиям фран-
цузского театра, значительно упростив пеструю, запутанную интригу ко-
медии Аларкона. Взамен этого он обратил значительно большее внимание
на обрисовку характеров своих персонажей, что и побудило его изменить
название комедии. Несмотря на это, настоящей комедии характеров
(в мольеровском смысле) Корнелю создать не удалась. Комизм пьесы до-
стигается серией забавных ситуаций, обусловленных беспрестанной ложью
Доранта. Эту наклонность ко лжи Корнель изображает весьма добродушно,
не придавая ей характера настоящего порока. Дорант лжет так изящно,
живо и остроумно, что привлекает к себе симпатии зрителей. Правильно
было замечено, что он в сущности не лгун, а «враль» (hâbleur). Комедия
в целом лишена дидактизма, что отличает ее от классической комедии.
Среди персонажей «Лгуна» выделяется отец Доранта Жеронт, обри-
сованный Корнелем, в отступление от комедийной традиции, с большой
теплотой и серьезностью. Его объяснение с Дорантом в последнем акте,
во время которого Жеронт доказывает сыну, что его вранье делает его
недостойным звания дворянина, выпадает из общего тона пьесы, потому
что Жеронт принимает болтовню Доранта всерьез (эта сцена предвещает
объяснение Дон Жуана с Дон Луисом в «Дон Жуане» Мольера, д. IV,
сц. VI). В целом, комизм «Лгуна» подчас достигается за счет жизненной
правды, хотя Корнель и не опускается до фарсовой буффонады. Силь-
ным местом «Лгуна» является блестящий диалог, а также наредкость
живой и легкий стих; всем этим Корнель прокладывает путь Мольеру
(в его юношеских комедиях) и Реньяру («Игрок»).
Огромный сценический успех «Лгуна» побудил Корнеля выступить
в том же году с комедией «Продолжение Лгуна» («La Suite du Menteur»,
1643). Здесь Корнель несколько изменил характер Доранта, сделав его
значительно серьезнее и заставив лгать уже с благородной целью (он
спасает человека, убившего на дуэли своего соперника). В комедии есть
превосходные сцены, но в целом она носит довольно путаный характер,
и новый образ Доранта не совсем понятен. Она не имела успеха, и Кор-
нель после этого окончательно отошел от комедии.
4
В 1644 г. Корнель поставил одну из своих популярнейших тра-
гедий— «Родогунда, парфянская царевна» («Rodogune, princesse des
Parthes»), которую он сам ценил выше всех своих произведений. Она появи-
лась на сцене через несколько месяцев после одноименной трагедии Габ-
риеля Жильбера, что дало повод современникам упрекать Корнеля в
плагиате. Однако весьма слабая пьеса Жильбера сама была написана,
как сейчас доказано, под влиянием трагедии Корнеля, которую он долго
вынашивал, прежде чем отдать ее в театр, проверяя ее путем публичных
чтений. Будучи поставлена на сцеке, «Родогунда» имела огромный успех и
стала одной из основных пьес французского классического репертуара.
КОРНЕЛЬ И ЕГО ШКОЛА
427
«Родогунда» является в деятельности Корнеля этапным произведе-
нием. Она открывает серию его трагедий «второй манеры», которые харак-
теризуются нарочитым усложнением фабулы, запутанными перипетиями
и эффектными развязками, напоминающими приемы драматургии барокко.
Это увлечение внешним действием обычно идет за счет ясности разработки
и психологической правдивости характеров, которые становятся подчас
схематичными и даже ходульными. Все эти особенности трагедий «второй
манеры» налицо уже в «Родогунде», которую можно признать их типич-
ным образцам, весьма далеким от благородной простоты трагедий «пер-
вой манеры».
Фабула «Родогунды» почерпнута у греческого историка Аппиана
Александрийского (II в. н. э.), из его книги о сирийских войнах. Она
повествует о злодеяниях сирийской царицы Клеопатры, убившей своего
мужа и одного из сыновей и пытавшейся отравить второго сына. По Ап-
пиану, Клеопатрой в этом руководила ревность к парфянской царевне
Родогунде, на которой муж ее Деметрий женился во время своего пребы-
вания в плену у парфян.
Корнель внес значительные изменения в этот сюжет. Он заменил
ревность Клеопатры к Родогунде безмерным властолюбием этой царицы,
которая видит в Родогунде опасную претендентку на ее трон. По Корнелю,
Родогунда не жена царя Деметрия, а только его невеста; в нее влюблены
оба сына Клеопатры, Селевк и Антиох, связанные тесной дружбой. Клео-
патра обещает трон тому из них, кто убьет Родогунду; Родогунда же
обещает свою руку тому из них, кто убьет Клеопатру. Так в душе обоих
царевичей возникает сложный конфликт между жаждой трона, сыновним
чувством и любовью к Родогунде. Эта запутанная интрига разрешается,
согласно истории, тем, что Клеопатра убивает Селевка и после неудачной
попытки отравить Антиоха сама выпивает приготовленный для него яд.
Фабула «Родогунды» и вся трагедия в целом были впоследствии
подвергнуты Лессингом в «Гамбургской драматургии» (статьи XXIX—
XXXII) жестокой критике, получившей мировую известность. Эта кри-
тика, содержащая много метких и справедливых замечаний, в целом носит
несколько предвзятый характер, так как внушена стремлением дискреди-
тировать Корнеля и весь жанр французской классической трагедии. Лес-
синг упрекает Корнеля в надуманности и искусственности, в погоне за эф-
фектными ситуациями и за ложно понятым величием, заставляющим его
уклоняться от жизненной правды. «Корнеля, — пишет Лессинг, — следо-
вало бы назвать исполинским, гигантским, а не великим. Не может быть
Ееликим то, что не правдиво». Критикуя Корнеля с позиций просвети-
тельской идеологии, немецкий критик в пылу полемики подчас заходит
слишком далеко, отрицая Художественные заслуги Корнеля и других фран-
цузских классицистов.
Кроме того, в своем утверждении нереалистичности образа Клеопатры
Лессинг отправлялся от понимания женского характера, присущего немец-
кому бюргерству XVIII в. По его мнению, Корнель исказил жизненную
правду, заставив Клеопатру убить мужа вследствие жажды власти, а не
из ревности, которая более приличествует женщине и более извинительна,
потому что «природа создала женщину для любви, а не для жестокости».
Лессинг считает неестественным образ женщины, «которая желает господ-
ства прямо ради господства, у которой все склонности подчинены често-
любию». Но таких женщин было немало среди французских аристократок
кануна Фронды, которые принимали активное участие в политической
борьбе и подчас с оружием в руках боролись за политическую власть-
428
КЛАССИЦИЗМ
Именно эти женщины являлись прототипами корнелевских героинь, по-
стоянно подчиняющих свою любовь политическим интересам.
В свете своей эпохи «Родогунда» правдиво рисует жестокую, бес-
пощадную борьбу из-за власти между двумя женщинами; в процессе
этой борьбы Родогунда платит Клеопатре ее же монетой, отвечая на ее
угрозы и преступления угрозами и преступлениями. Слабость «Родогун-
ды» в том, что Корнель слишком преувеличил злодейские черты в харак-
тере царицы Клеопатры. Она совершенно лишена всяких колебаний в своей
преступной деятельности и не останавливается даже перед сыноубийством.
Корнель явно сгустил краски в своем изображении варварского Востока,
где, по его мнению, политическая борьба часто превращается в жестокую
кровавую схватку между людьми, связанными узами родства.
Заложив в «Родогунде» основу новому жанру трагедии интриги, пред-
восхищающему мелодраму, Корнель теоретически обосновал его в преди-
словии к следующей трагедии, написанной им во «второй манере» —
«Ираклий, император Востока» («Héraclius, empereur d'Orient», 1647).
Опираясь на учение Аристотеля о том, что трагедия должна вызывать
в зрителях чувства страха и сострадания, Корнель парадоксально утвер-
ждает, что «сюжет прекрасной трагедии должен не быть правдоподобен»,
ибо в этом случае она лучше сможет удовлетворить требованию Аристо-
теля. Эта доктрина неправдоподобия трагического сюжета, несмотря на
попытки Корнеля подкрепить ее авторитетом Аристотеля, по существу
свидетельствует об его отклонении от канона классицизма, ибо она отчет-
ливо связана с борьбой против рассудочного правдоподобия новой лите-
ратурной школы.
Анализ самой трагедии «Ираклий» показывает, что к этому новому
отклонению от классицизма в сторону драматургии барокко Корнель при-
шел не только в теории, но и на практике. Корнель строит здесь крайне
запутанную и мало правдоподобную фабулу, основанную на двойной под-
мене царских детей, в результате которой сын императора Маврикия Ирак-
лий считается Мартианом, сыном узурпатора императорского трона Фоки,
а настоящий Мартиан считается сыном царской домоправительницы Леон-
тины, которого она принесла в жертву, чтобы спасти Ираклия от ярости
узурпатора. Интрига еще более запутывается благодаря тому, что Фока
хочет женить своего мнимого сына на его сестре Пульхерии, которая
ошибочно считает себя сестрой своего возлюбленного Мартиана. Вся эта
мелодраматическая фабула с целым рядом острых сюжетных ситуаций
разрешается убийством тирана Фоки, после чего пьеса кончается двумя
свадьбами.
Несмотря на то, что трагедия блестяще построена и превосходно
написана, она ярко демонстрирует начинающееся разложение жанра клас-
сической трагедии у Корнеля. Только некоторые места пьесы (отдельные
сцены, монологи, раплики) выдержаны в высоком трагедийном стиле. Вся
же пьеса в целом, лишенная трагических конфликтов и преследующая за-
дачу внешней занимательности, приближается к жанру трагикомедии. Она
очень похожа на пьесу Кальдерона «В этой жизни все истина и все ложь»,
напечатанную гораздо позднее ее (1664), что вызвало горячие споры о том,
кто у кого заимствовал сюжет — Кальдерой у Корнеля или Корнель
у Кальдерона?
В том же 1647 г. Корнель был, наконец, после двукратного провала,
избран членом Французской Академии, что заставило его проводить
часть года в Париже. Он продолжал поддерживать связи с Отелем Рам-
булье и одновременно испытал прилив религиозных чувств, что побудило
КОРНЕЛЬ П ЕГО ШКОЛА
429
его сблизиться с иезуитами. Это душевное состояние, начавшееся в самый
разгар Фронды, привело Корнеля к мысли перевести французскими сти-
хами «Подражание Христу» Фомы Кемпийского. Первые двадцать глав
первой книги были им напечатаны в 1651 г., весь же труд в целом был
завершен в 1656 г., уже после того, как Корнель, удрученный провалом
трагедии «Пертарит», решил оставить работу в театре.
В промежутке между «Ираклием» и «Пертаритом» Корнель сделал
ряд попыток создания новых жанров, отклонявшихся от канона класси-
цизма в сторону драматургии барокко. Привлеченный кардиналом Маза-
рини, насаждавшим во Франции итальянскую оперу, к работе в придвор-
ном театре, обслуживаемом знаменитым итальянским декоратором-маши-
нистом Торелли, Корнель создал для этого театра специальный феериче-
ский жанр «обстановочной трагедии» (tragédie à machines), имевший целью
«удовлетворить зрение блеском и разнообразием спектакля, а не тронуть
ум силой рассуждения или сердце тонкостью чувств». Первым образцом
этого гибридного жанра, рассчитанного на содействие музыки и зрелищных
эффектов, явилась «Андромеда» («Andromède», 1650), в которой Кор-
нель впервые после «Медеи» обратился к мифологической тематике, давав-
шей удобный материал для построения феерического спектакля. Сюжет
«Андромеды», заимствованный из «Метаморфоз» Овидия (кн. IV—V),
был расцвечен Корнелем рядом новых деталей. При всем том Корнель
сам сознавался, что «эта пьеса сделана только для глаз». Впоследствии
Корнель еще дважды обращался к тому же жанру, сочинив «Золотое
руно» («La Toison d'or», 1660) и несколько сцен для «Психеи» («Psyché»,
1671); во второй из этих пьес он вступил в сотрудничество с Мольером.
Другим отклонением Корнеля от канона классицизма был «Дон Санчо
Арагонский» («Don Sanche d'Aragon», 1650). Корнель назвал эту пьесу
«героической комедией» и определил в предисловии к ней особенности
этого нового жанра. С невиданным у него раньше пренебрежением к со-
словной градации жанров в поэтике классицизма, он декларировал здесь
правомерность создания жанров, 'Промежуточных между трагедией и коме-
дией. При этом он допускал как перенесение трагедии в среду обыкновен-
ных людей («мещанская трагедия»), так и создание комедии из жизни
знатных лиц («героическая комедия»). Разрабатывая второй из этих жан-
ров, он сделал героем своей пьесы арагонского принца Санчо, выступаю-
щего под именем авантюриста Карлоса, которого все считают сыном ры-
бака. В этом плебейском обличье Санчо совершает ряд блестящих подвигов,
завоевывая любовь королевы Изабеллы и принцессы Эльвиры. Несмотря
на то, что в финале пьесы королевское происхождение Санчо раскрыва-
лось, пьеса, поставленная в самый разгар Фронды, совпавшей с событиями
английской революции, показалась политически опасной вследствие своего
«демократизма» и была снята с репертуара. Впоследствии она была воз-
обновлена и долго не сходила с подмостков. Ей подражал Мольер в своем
«Доне Гарсии Наварроком», а в XIX в. она оказала влияние на романти-
ческие драмы Гюго, в особенности на «Эрнани» и «Рюи Бласа», автор
которых учился у Корнеля изображению испанского благородства и доб-
лести, не обязательно связанных с громкими титулами.
С периодом Фронды тесно связана и следующая пьеса Корнеля, в ко-
торой он тоже сделал попытку создания промежуточного жанра — «Ни-
комед» («Nicomède», 1651). Последняя из великих трагедий Корнеля, она
является едва ли не самым оригинальным его созданием. Сам Корнель
видел необычность построения этой пьесы в том, что «нежность и
страсти, которые должны быть душой трагедии, не играют здесь никакой
430
КЛАССИЦИЗМ
роли; в ней царит одно величавое мужество, которое взирает на свое не-
счастье таким презрительным взглядом, что несчастье это бессильно вы-
рвать у него хоть единую жалобу». В противоположность другим трагедиям
Корнеля, в которых драматизм создается борьбой между страстью и дол-
гом, в «Никомеде» герой свободен от всяких внутренних конфликтов; он
целиком владеет своими страстями и потому высокомерно и спокойно изде-
вается над своими врагами. К числу врагов Никомеда относится и его
отец, вифинский царь Прузий, и его мачеха, коварная Арсиноя, и пристав-
ленный к царю предатель и доносчик Арасп, и римский посол Фламиний,
являющийся представителем этой великой державы, порабощающей малые
восточные народы. Образ героя трагедии, не стремящейся вызывать у зри-
телей требуемых учением Аристотеля страха и сострадания, а имеющей
задачу только поразить их величием души Никомеда, так охарактеризован
Роменом Ролланом: «Герой его принадлежит к типу, который близок вся-
кому народу: добродушный, веселый гигант, галльский Зигфрид, один
среди врагов, разрушающий их коварные замыслы, смеющийся над их
ничтожеством, полный веселого задора и в конце концов остающийся по-
бедителем».
Ромен Роллан считает «Никомеда» самым народным из всех произве-
дений Корнеля. Действительно, в этой пьесе проявляется крайне пренебре-
жительное отношение Корнеля к правящим сферам. Царь Прузий изобра-
жен трусливым и лживым тираном, раболепствующим перед Римом и вы-
зывающим к себе брезгливое, почти насмешливое отношение зрителей. Все
сочувствие автора отдано Никомеду, изображенному любимцем народа,
который восстает, узиав о заключении его под стражу. Этот мотив народ-
ного восстания в пользу любимого вождя совершенно нов в драматургии
Корнеля и тесно связан с временем создания «Никомеда».
Написанная в самый разгар Фронды, эта трагедия выражает фрон-
дерские настроения Коонеля и переполнена намеками на происходившие
политические события. Зрители охотно отождествляли Никомеда с вож-
дем Фронды принцем Конде, возлюбленную Никомеда Ааодику — с ма-
дам де Лонгвиль, королеву Арсиною — с Анной Австрийской, а римского
посла Фламиния — с кардиналом Мазарини. Такие наивные отождествле-
ния, разумеется, не входили в намерения Корнеля. Но примечательно уже
то, что они возникали у зрителей, наэлектризованных событиями граждан-
ской войны. В несомненной связи с этими событиями находилось также
приближение Корнеля в «Никомеде» к жанру трагикомедии, выразившееся
в благополучном, оптимистическом финале этой пьесы. Так фрондерство по-
литическое переплелось здесь у Корнеля с фрондерством литературным,
с его бунтом против рационалистического канона классической трагедии.
Такие же фрондерские черты можно найти и в следующей трагедии — в
«Пертарите» («Pertharite», 1652), в которой современники увидели непо-
средственный отклик на события английской революции, отождествив
узурпатора Пертарита с Кромвелем. Это и явилось главной причиной
провала пьесы.
6
Прекратив работу для театра после провала «Пертарита», Корнель
уехал на родину и провел там шесть лет, заканчивая перевод «Подража-
ния Христу» и обрабатывая свои теоретические взгляды на драматургию в
форме трех «Рассуждений» («Discours»), направленных против педантиче-
ских писаний его заклятого врага — аббата д'Обиньяка. Эти трактаты
Коонеля. впервые напечатанные в 1660 г., носят откровенно апологетиче-
КОРНЕЛЬ И ЕГО ШКОЛА
4SI
ский характер. Корнель стремится здесь истолковать Аристотеля примени-
тельно к своей практике, впрочем, с" многочисленными непоследовательно-
стями, противоречиями к натяжками.
В 1659 г. Корнель получил от суперинтенданта финансов Фуке при-
глашение вернуться к работе для театра. По совету Фуке, Корнель разра-
ботал знаменитую фабулу античной драматургии — историю царя Эдипа.
Его «Эдип» («Oedipe», 1659) прошел с большим успехом и прочно дер-
жался в репертуаре до появления трагедии Вольтера того же названия
(1718). Это не помешало ему быть очень слабой пьесой, обнаруживающей
непонимание Корнелем существа античной трагедии. Трагическая судьба
Эдипа заслонена в пьесе Корнеля присочиненной им в разрез с духом
античного мифа любовной интригой между Диркеей, дочерью царя Лая,
и Тезеем. Введение этого побочного мотива было вызвано все тем же
предрассудком современников, считавших невозможной трагедию без лю-
бовной интриги.
В последующих трагедиях Корнель снова вернулся к древнеримской
тематике. Он дал еще одну величественную картину Рима эпохи граждан-
ских войн в трагедии «Серторий» («Sertorius», 1662). За «Серторием»
последовала «Софонисба» («Sophonisbe», 1663), в которой Корнель за-
ново обработал фабулу трагедии Мере, противопоставив его трогательной
пьесе холодную историческую драму. В следующей трагедии «Оттон»
(«Othon», 1664) он нарисовал яркую картину нравов, и интриг римского
императорского двора, очертив борьбу политических интересов^ в жертву
которым приносятся все родственные привязанности и человеческие чувства^
Все перечисленные пьесы имели успех, и Корнель мог считать себя
попрежнему властелином трагической сцены; всякое появление его в театре
вызывало бурные овации зрителей. Это положение изменилось после де-
бютов Расина. Уже успех его «Александра Великого» (1665) обеспокоил
Корнеля, увидевшего в молодом поэте опасного соперника. Эти опасения
еще более возросли после грандиозного успеха «Андромахи» (1667).
Теперь слава Корнеля начала меркнуть; ни одна из последующих его пьес
уже не имела успеха, ибо все они были отмечены печатью глубокого
упадка. Правда, в «Агезилае» («Agésilas», 1666) Корнель ввел формаль-
ное новшество, написав пьесу вольными стихами, придавшими ей почти
комедийный тон. Но персонажи трагедии не потеряли от этого своей ба-
нальности, и Расин имел право высмеять в предисловии к своему «Бри-
таннику» болтливость корнелевских спартанцев.
Несколько удачнее «Агезилая» был «Аттила, царь гуннов» (Attila,.
roi des Huns», 1667), в котором безвкусицы чередовались с яркими, силь-
ными сценами, напоминавшими былого Корнеля. Трагической ошибкой ста-
реющего поэта было то, что он, по совету своих сторонников, решил всту-
пить в состязание с Расином и противопоставил его «Беренике» свою сла-
бую трагикомедию «Тит и Береника» («The et Bérénice», 1670), неуспех
которой еще больше подчеркнул триумф Расина. Последними пьесами Кор-
неля были трагикомедия «Пульхерия» («Pulchérie», 1672) и трагедия «Су-
рена, парфянский полководец» («Suréna, général des Parthes», 1674). После
этого он написал уже только несколько стихотворений на официальные
темы, хотя и прожил еще целых десять лет. У Корнеля была долгая и
печальная старость. Он окончил жизнь в большой нужде и в горьком
сознании того, что пережил свою славу. После его смерти, принимая во
Французскую Академию его младшего брата Тома Корнеля (1685), Расин
произнес в честь своего покойного соперника замечательную речь, в кото-
рой дал справедливую оценку его творчеству, подчеркнув огромный вклад..
432
КЛАССИЦИЗМ
L E
THEATRE
DE
P CORNEILLE
Revct* (j corrigé far (Auteur.
I. PARTIE
A L Y О N
СЬм LAURINS В A СНЕ LU,
fils, rue Neuve», à Saint }ofeph.
M. D С X С V I 11. ■
AVlC VKIVILBGE DV ROT.
Титульный лист «Театра» Корнеля
изд. 1698 г.
внесенный им во французскую поэзию.
Быстрый, неудержимый упадок,
проявившийся в творчестве Корнеля
с начала 50-х годов, объясняется глу-
бокой внутренней противоречивостью
его творчества в соотношении его с
политической жизнью Франции
XVII в. Корнель был прежде всего
певцом гражданского героизма и ве-
личия, которые в сущности значи-
тельно превосходили реальные воз-
можности абсолютистской Франции,
но в то же время находили живой
отзвук в широких кругах фран-
цузского общества в период напря-
женных политических боев, которыми
отмечено правление Ришелье и Маза-
рини. Корнель никогда не являлся
официальным монархическим поэтом.
Будучи проникнут прогрессивными гу-
манистическими идеями, унаследован-
ными от эпохи Ренессанса, он просла-
влял в своих лучших трагедиях
идеальную, разумную государствен-
ность, гармонически организующую
человеческие отношения. Такая госу-
дарственность отливалась в его со-
знании в монархическую форму, по-
тому что Корнель не представлял себе
возможности никакой другой формы государства для современного обще-
ства. Он сочувственно изображал в своих трагедиях организующую и упо-
рядочивающую роль монархии, но в то же время энергично обличал монар-
хический деспотизм и тиранию, попирающую человеческое достоинство под-
данных. Отдавая некоторую дань фрондерским настроениям, он весьма
охотно изображал в своих трагедиях народные движения, войны, заговоры
и восстания, чаще всего черпая свои сюжеты из истории древнего Рима.
Под пером Корнеля французская классическая трагедия получила
характер трагедии политической. Излюбленной темой Корнеля являлось
столкновение личных интересов и чувств со сверхличным, государственным
долгом, требующим от его героев самопожертвования. Все положительные
герои Корнеля неизменно являются сильными, мужественными людьми,
фанатически преданными идее долга. Это всегда люди огромной воли,
обуздывающие свои страсти под руководством разума. Боевая активность
сочетается у них с крайней рассудочностью, типичной для Франции того
времени, которое породило философию Декарта и политику Ришелье.
В своих лучших произведениях Корнель был реалистичен, несмотря на
узкие рамки своей рационалистической поэтики: он правдиво выразил ос-
новные идейные тенденции своей эпохи и нарисовал целую галерею типич-
ных для нее характеров. Будучи художником необычайно сознательным,
он мастерски владел своими сюжетами и придавал своим трагедиям весьма
четкую, законченную структуру.
КОРНЕЛЬ И ЕГО ШКОЛА
438
Драматургическая форма трагедий Корнеля, их язык и слог адек-
ватны их содержанию. Разрабатываемая Корнелем политическая тематика
естественно требовала ораторской формы. Корнель любит вводить в свои
трагедии длинные речи, построенные по всем правилам ораторского искус-
ства. Он часто развертывает настоящие прения сторон, во время которых
противники высказываются «за» и «против» определенного положения.
Весь последний акт «Горация» целиком состоит из таких споров, напоми-
нающих речи на судебном процессе.
Помимо длинных речей, которыми обмениваются борющиеся друг
с другом персонажи, Корнель часто прибегает к коротким репликам, ко-
торые скрещиваются и сталкиваются с необычайной силой и живостью,
подчас разрывая строку александрийского стиха на две равные половины.
Таков, например, диалог между графом Гормасом и Родриго в «Сиде»:
Граф
Ступай отсюда прочь.
Родриго
За мной, без лишних слов.
Граф
Тебе постыла жизнь?
Родриго
Ты к смерти не готов?
(Д. II, явл. 2).
Рассудочная и ораторская форма трагедий Корнеля заставляла его
постоянно прибегать к сентенциям, которым он умел придавать необычайно
острую, эпиграмматическую форму. Помимо таких сентенций, трагедии
Корнеля изобилуют крылатыми словами и выражениями. Такова в «Сиде»
фраза: «Rodrigue, as-tu du coeur?» («Родриго, храбр ли ты?»), в «Гора-
ции»— «Qu'il mourût!» («Лучше б он умер!»), в «Цинне» — «Soyons
amis, Cinna» («Будем друзьями, Цинна»).
При всем том Корнель отдал значительную дань прециозному стилю,
а также напыщенности, усвоенной им от испанских поэтов. Однако эти
слабости корнелевского стиля ни в коем случае не могут итти в сравнение
с его сильными сторонами. Корнель был выдающимся мастером литера-
турной формы. Он великолепно владел языком своего времени, который
несколько устарел уже к концу XVII в., нисколько не утеряв, однако,
своей силы и выразительности. Кроме того, Корнель изумительно владел
стихом. По мнению французского критика Брюнетьера, «никто, быть мо-
жет, не писал стихами ' лучше Корнеля». Его стих лишен, правда, живо-
писности и лиризма, но отличается редкостной динамичностью и графиче-
ской четкостью, делающими его превосходным выражением интеллекту-
альной и волевой стихии.
Целостность идейно-образной системы произведений Корнеля была
разрушена в тот момент, когда после треволнений Фронды французское
общество вступило в стадию стабилизации абсолютистского режима. В этот
момент все вольнолюбивые, гражданские настроения были подавлены, и в
центре жизни страны стал версальский двор, с которым Корнель уже
не имел общего языка. Правда, стареющий поэт попытался перестроить
свою трагедию соответственно новым художественным запросам француз-
ской аристократии времен Людовика XIV, но это ему не удалось. Он
продолжал перепевать в несколько измененном и ослабленном виде свои
2S История французской литературы—815
434
КЛАССИЦИЗМ
прежние излюбленные мотивы. Присущий ему культ героического напря-
жения воли превратился теперь в некий штамп, лишенный внутреннего со-
держания. Задыхаясь в атмосфере победившего абсолютизма, вольнолю-
бивый поэт стал явно насиловать свое дарование и петь фальшивым
голосом. Все его сильные стороны начали превращаться в последних
произведениях в слабые. Так, величие и благородство стали вырождаться
в напыщенность и аффектацию. Если раньше Корнель презрительно от-
носился к «сердечным слабостям», то теперь, под влиянием придворных
вкусов, он стал вводить в свои трагедии любовь, «о только в качестве не-
коего галантного аксессуара, в сущности совершенно ненужного для раз-
вития их основного действия. В итоге поздние трагедии Корнеля снова
приблизились к жанру трагикомедии барокко, которому он отдал в свои
молодые годы такую большую дань.
Однако все перечисленные старческие слабости Корнеля не могут ума-
лить его огромного значения в истории французской литературы. Не-
смотря на всю свою непоследовательность и частые срывы, Корнель был
великим драматургом-классицистом. Лучшие из его трагедий остались
навсегда подлинной школой героизма и гражданских добродетелей. Имен-
но потому они получили особенно широкую популярность в годы фран-
цузской буржуазной революции и последовавшей за нею империи. Напо-
леон был горячим поклонником Корнеля. Он писал в своих мемуарах:
«Трагедия воспламеняет душу, поднимает сердце, она может и должна
создавать героев. Если бы Корнель был жив, я сделал бы его принцем».
Естественно поэтому, что трагедия времен революции и империи ориен-
тировалась больше на Корнеля, чем на его преемника Расина.
Если героизм Корнеля воодушевлял буржуазных революционеров на
грани XVIII и XIX веков, то его красочность и живописность, его при-
страстие к необычайным, неправдоподобным сюжетам доставили ему сим-
патии романтиков. Виктор Гюго неоднократно выражал свое восхищение
талантом Корнеля и в своей собственной поэтической деятельности был
немало обязан автору «Сида», «Никомеда» и «Дона Санчо Арагонского».
Однако в 30-х годах XIX в. драмы Гюго вытеснили со сцены трагедии
Корнеля, как и Расина. Но после кратковременного господства на образ-
цовой сцене Парижа романтической драмы, великая трагическая актриса
Рашель в 40-х годах возродила к новой жизни трагедию Корнеля и Ра-
сина, которая никогда уже более не сходила с французской сцены.
Аналогичную судьбу Корнель пережил в других странах. Здесь, как
и в самой Франции, его сравнительно мало отграничивали от Расина, не-
смотря на все глубокое различие этих трагических поэтов. Исключение со-
ставляет Лессинг, который, жестоко критикуя Корнеля за нереалистич-
ность многих его образов, был гораздо более снисходителен к Расину.
Наиболее выдающимся из последователей Корнеля за пределами Фран-
ции в конце XVIII в. был итальянский трагический поэт Альфьери.
В России Корнель вместе с Расином оказал влияние на раз-
витие трагедии XVIII в. Его последователями были; в большей или
меньшей степени, Сумароков, Княжнин, Николев, Херасков. В начале
XIX в. почитателями Корнеля в России были Воейков, Грибоедов, вос-
торгавшийся «Оидом», и Катенин, давший превосходный для своего вре-
мени перевод этой трагедии, которым восхищался Пушкин. Последний был
большим почитателем «строгой музы старого Корнеля» и считал «Сида»
лучшей его трагедией, отмечая в нем смелое нарушение условностей клас-
КОРНЕЛЬ И ЕГО ШКОДА
435
сической трагедии. Пушкин называл Корнеля «истинным гением трагедии»
и ставил его на одну доску с Шекспиром. В частности, его приводила в
восторг внутренняя свобода Корнеля в отношении правил классицизма.
«Посмотрите, — писал он Н. Н. Раевскому в 1825 г., — как смело Корнель
поступил в „Сиде": „А, вам угодно соблюдение правила о 24 часах? Из-
вольте!" — и тут же нагромоздил событий на целых четыре месяца».
Однако впоследствии (в заметке 1832 г.) Пушкин оспаривал мнение фран-
цузских критиков, ставивших трагедии Корнеля и Вольтера наравне с тра-
гедиями Расина, ибо последнего в эту пору Пушкин ставил выше Корнеля.
в
Огромный авторитет, которым пользовался Корнель у современников
в годы своего творческого расцвета, привел к тому, что большинство тра-
гических поэтов, начавших драматургическую деятельность одновременно
с ним или даже раньше его, вынуждены были отойти на второй план.
Только после того как в творчестве Корнеля стали проявляться симптомы
упадка, снова выдвинулись некоторые из оттесненных им авторов.
Наиболее видным из современников Корнеля, испробовавших свои
силы в области трагического жанра, был Жан де Ротру (Jean de Rotrou,
1609—1650). Он родился в провинциальном городе Дрё в дворянской
семье. С ранних лет он отдался драматической поэзии и уже в возрасте
девятнадцати лет написал свою первую пьесу, трагикомедию «Ипохондрик,
или Влюбленный покойник» («L'Hypocondriaque, ou Le Mort amoureux»,
1628). К 1634 г. Ротру сочинил уже, по его собственным словам, трид-
цать пьес. Такая плодовитость объясняется тем, что Ротру, повидимому,
занял место Арди в Бургундском Отеле, сделавшись постоянным драма-
тургом этого театра. В дальнейшем Ротру был включен кардиналом
Ришелье в состав знаменитой «пятерки» поэтов, состоявших у него на
жаловании. В это время он подружился с Корнелем, который высоко
ценил его талант и даже называл его «своим отцом». Но если Ротру
повлиял на молодого Корнеля в те годы, когда последний сочинял траги-
комедии, то сам Ротру пошел по стопам Корнеля, когда тот стал трагиче-
ским поэтом. Вместе с Корнелем Ротру был посетителем Отеля Рамбулье
и испытал влияние прециозной поэзии, правда, довольно незначитель-
ное. После бурно проведенной молодости Ротру покинул Париж и занял
место судьи в родном городе (1639), где и умер во время эпидемии
чумы, самоотверженно ухаживая за больными.
Дитературное наследие Ротру весьма значительно. Он напечатал 35
пьес, в том числе 15 трагикомедий, 13 комедий и 7 трагедий. В молодости
он являлся, как было отмечено выше, последователем Арди в жанре тра-
гикомедии барокко. Подобно своим сверстникам Жоржу де Скюдери и
Дю Рийе, Ротру много подражал испанским драматургам (Лопе де Веге,
Рохасу и др.), заимствуя у них сложную, запутанную интригу, пристра-
стие к переодеваниям, недоразумениям и узнаваниям, увлечение рыцар-
ской любовной романтикой. Лучшими из трагикомедий Ротру являются
«Преследуемая Лаура» («Laure persécutée», 1638) и «Дон Бернардо де
Кабрера» («Don Bernard de Cabrère», 1646). Дата второй из этих пьес
показывает, что Ротру продолжал сочинять трагикомедии до самых по-
следних лет своей жизни.
Однако мало-помалу успехи классицизма побудили Ротру усвоить,
на ряду с испанской тематикой, также античную, и стремиться к некото-
рому упорядочиванию «неправильной», барочной структуры своих пьес,
436
КЛАССИЦИЗМ
Ротру пишет трагедии на античные темы, в которых подражает Софоклу,
Еврипиду и Сенеке; сюда относятся: «Умирающий Геркулес» («Hercule
mourant», 1634), «Антигона» («Antigone», 1638), «Ифигения в Авлиде»
(«Iphigénie en Aulidei», 1640). Он сочиняет также комедии на темы, заим-
ствованные у Плавта, — «Менехмы» («Lds Ménechmes», 1631), «Двое
Созиев» («Les Deux Sosies», 1636), «Пленники» («Les Captifs», 1638), в ко-
торых он до известной степени подготовляет путь Мольеру. Но лучшими
произведениями Ротру являются трагедии «Истинный святой Генезий»
(«Le Véritable saint Gemest», 1645) и «Венцеслав» («Venceslas», 1647),
в которых он весьма удачно сочетает подражание Лапе де Веге с подража-
нием Корнелю, трактуя заимствованные у испанского драматурга темы
в корнелевском стиле.
«Святой Генезий» несколько напоминает «Полиевкта». Ротру изобра-
жает здесь обращение в христианскую веру древнеримского актера, испол-
нявшего в присутствии императора Диоклетиана роль христианского му-
ченика, и последовавшую за этим казнь этого актера, идущего на смерть,
несмотря на мольбы близких ему людей. Ротру разработал эту фабулу
в стиле трагикомедии, с использованием приема «сцены на сцене». Траги-
ческая фабула обрамляется в «Святом Генезии» бытовыми комическими
сценами, изображающими травы актерской труппы.
Еще ближе к Корнелю стоит «Венцеслав», единственная из пьес
Ротру, удержавшаяся до сих пор во французском репертуаре. В основу
пьесы положена романическая фабула — убийство наследным польским
принцем Владиславом собственного брата, тайно женившегося на любимой
им женщине, герцогине Кассандре. Безутешная вдова молит отца убийцы,
старого короля Венцеслава, о правосудии. В душе Венцеслава разверты-
вается чисто корнелееский конфликт между отцовским чувством и долгом
монарха. Побеждает последний, и Венцеслав посылает сына на казнь,
убеждая его взойти на эшафот с таким же величием, с каким он вступил
бы на трон. Однако Ротру не выдерживает напряженности этой ситуации
и в конце трагедии заставляет отца помиловать сына, опять-таки во имя
интересов государства.
Главным достоинством Ротру является богатство вымысла, уменье
увлекательно развернуть любой сюжет. Последовательным классицистом
Ротру так и не стал. Он сохранил до конца своей деятельности склон-
ность к запутанным фабулам, к взволнованному лиризму, к живописной
небрежности слога. Его яркая .поэтическая индивидуальность была причи-
ной широкого влияния, оказанного им на виднейших драматургов второй
половины XVII и начала XVIII в. Среди его последователей мы находим
молодого Расина, Мольера, Кино, Реньяра, Ламотта и др.
Другим современным Корнелю драматургом, менее значительным, чем
Ротру, был Тристан Л'Зрмит (Tristan L'Hermite, 1601—1655). Выходец
из мелкого провинциального дворянства, он был приближенным Гастона
Орлеанского и вместе со своим патроном принимал участие в интригах
против Ришелье. Он провел очень бурную жизнь, переполненную всякими
случайностями и неожиданными поворотами судьбы. Литературную дея-
тельность он начал в 1628 г. в качестве лирического поэта. Его стихо-
творения собраны в трех книгах — «Любовь» («Les Amours», 1638),
«Лира» («La Lyre», 1641) и «Героические стихи» («Les Vers héroïques»,
1648). С юных лет Тристан увлекался театрам и одно время даже разъ-
езжал по провинции с труппой бродячих комедиантов. Свои впечатления
об этом периоде жизни он изложил в автобиографическом романе «Опаль-
ный паж» («Le Page disgracié», 1643).
КОРНЕЛЬ И ЕГО ШКОЛА
437
В качестве драматурга Тристан дебютировал в 1636 г. трагедией на
библейскую тему «Мариамна» («Marianne»), имевшей1 огромный успех.
Из последующих пьес Тристана наиболее удачными оказались трагедии
«Смерть Сенеки» («La Mort de Sénèque», 1647) и «Смерть великого Ос-
мана» («La Mort du grand Osman», 1647), a также комедия «Паразит»
(«Le Parasite», 1653), оказавшая влияние на первую комедию Мольера
«Сумасброд». Характерной особенностью трагедий Тристана является
унаследованное им от драматургии барокко непринужденное сочетание
внешнего кровавого трагизма с исканием естественности и обыденности.
Стремление Тристана к тщательной обрисовке переживаний его героев
делает его одним из непосредственных предшественников Расина.
Среди младших современников Корнеля, действовавших во француз-
ском театре середины XVII в., видное место принадлежит его брату Тома
Корнелю (Thomas Corneille, 1625—1709). Связанный тесной дружбой со
своим старшим братом, он во всем старался следовать его примеру. Он
был также адвокатом при руаноком парламенте, женился на сестре жены
своего брата и старался не отставать от него в драматургической плодо-
витости. Он обладал весьма гибким дарованием и с успехом сочинял пьесы
различных жанров, подражая сначала брату, а затем Расину и Кино.
Он превосходно умел приспосабливаться ко вкусам публики и давать ей
как раз то, чем она интересовалась в данный момент.
Из трагедий Тома Корнеля наибольший успех имел «Тимократ»
(«Timocrate», 1656), написанный на сюжет, заимствованный из романа
Ла-Кальпренеда «Клеопатра». Фабула этой трагедии носит необычайно
романический характер. Ее герой действует под двумя именами — Тимо-
крата и Клеомена. Под первым именем он осаждает Аргос, под вторым
проникает в город, ухаживает за принцессой и защищает Аргос от соб-
ственной армии. Успех этой сумбурной пьесы был неслыханным: она
выдержала 84 представления подряд. Впоследствии Тома Корнель спе-
циализировался на трогательном жанре, соответствовав тем вкусам при-
дворной аристократии. Его «Ариадна» («Ariane», 1672) обличает явное
влияние Расина. В 1685 г. Тома Корнель унаследовал место своего брата
во Французской Академии, где проявил большую активность в качестве
лексикограф а.
Самым популярным из драматургов послекорнелевского периода был
Филипп Кино (Philippe Quinault, 1635—1688). Выходец из мещанской
среды (сын булочника), он рано проявил большие способности к поэзии
и обратил на себя внимание Тристана, который занялся его литературным
воспитанием. Уже в возрасте восемнадцати лет Кино дебютировал коме-
дией «Соперницы» («Les Rivales»), которая имела успех. В дальнейшем
он стал адвокатом при парижском парламенте и приобрел крупное состоя-
ние, выгодно женившись. Продолжая все время работать для театра, он
ежегодно ставил по пьесе, сочиняя попеременно трагедии и комедии. Из
последних выделяется «Мать-кокетка» («La Mère coquette», 1665),
имевшая большой успех в самый разгар деятельности Мольера.
Еще большую славу доставили Кино его трагедии. С середины 50-х
до середины 60-х годов XVII в. он являлся фактически властелином
французской трагичеакой сцены. Своим успехом он был обязан тому, что
чутко уловил изменение во вкусах французской аристократии в период
замирения страны, после бурных годов Фронды и, отвечая настроениям
новой придворной знати, выступил против господствовавшего в трагедии
корнелевского героического стиля. Предвосхищая Расина, он попытался
перенести центр тяжести трагедии на изображение любви, приобретавшей
438
КЛАССИЦИЗМ
в его трактовке неизменно слащавый характер. Его шедевром считался
«Астрат» («Astrate», 1664), впоследствии зло высмеянный Буало. Великий
критик энергично протестовал против того культа изнеживающей и обез-
личивающей страсти, провозвестником которого был Кино. Он скомпро-
метировал Кино знаменитым двустишием:
Les héros chez Quinault parlent bien autrement,
Et jusqu'à «je vous hais» tout s'y dit tendrement.1
1осле появления Расина и его первых больших триумфов Кино понял,
что не сможет соперничать с ним, прекратил сочинение трагедий и обра-
тился к гибридному жанру «лирической трагедии», т. е. к сочинению опер-
ных либретто. Вступив в тесное сотрудничество с знаменитым ком-
позитором Люлли, создателем французской героической оперы, Кино
в течение пятнадцати лет (1671—1686) снабжал его оперными текстами,
превосходно приспособляясь к требованиям композитора. В этой области
он приобрел огромную славу и стал любимцем Людовика XIV, осыпав-
шего его подарками, предлагавшего ему новые сюжеты и иногда даже
лично «корректировавшего» его либретто. Все слабые стороны творчества
Кино скрадывались в опере, а его достоинства, среди которых на первом
месте стояли нежные, гибкие, подвижные стихи, необычайно выигрывали.
Лучшими лирическими трагедиями Кино и Люлли являются «Альцеста»
(«Alcestei», 1674), «Атис» («Atys», 1676), «Роланд» («Roland», 1685),
«Армида» («Armide», 1690). Даже старик Буало почти примирился с ли-
бретто Кино, а впоследствии Вольтер был его горячим поклонником, ус-
воившим некоторые принципы его эффектной драматургии.
1 «Герои у Кино говорят совсем на иной лад. Даже слова |(я вас ненавижу" произ-
носятся у него нежно».
ГЛАВА IV
ПРОЗАИКИ КЛАССИЦИЗМА
а ряду с развитием галантно-героического и буффонно-
реалистического романа, в равной мере стоявших на пе-
риферии господствующей литературы классицизма, в
É пределах самого классицизма в середине XVII в. возни-
|||кают и начинают играть заметную роль произведения
художественной прозы. Правда, классицизм выражал
^ себя, главным образом, в драме, и проза никогда не
^ могла занять ведущее место в процессе его становле-
~~ ния; для этого ей недоставало тех свойств, которыми в
1 полной мере обладала трагедия, и в первую очередь —
способности в минимальный срок раскрывать целостные сюжеты в зре-
лищно убедительной форме.
По своей функциональной значимости художественная проза класси-
цизма заметно отличается не только от драматической литературы этого
времени, но и от прозаического творчества писателей барокко. Современ-
ники воспринимали ее не только как художественную литературу. В боль-
шинстве случаев прозаические произведения возникали без прямого расчета
на непосредственное эстетическое восприятие читателя. Они вызывались
либо потребностями политической и религиозной борьбы, либо жела-
нием оформить собственное мировоззрение автора, либо, наконец, стрем-
лением подытожить жизненный опыт и осмыслить свое место в истории.
Сообразно этому художественная проза классицизма была, как правило,
несюжетной. Это была обычно полемическая, этическая, эпистолярная,
мемуарная, проповедническая литература и лишь совсем редко — литера-
тура повествовательная.
Несмотря на такую подчиненную и утилитарную роль, проза класси-
цизма имеет немалое значение в общей системе этого стиля. Она является
постоянным источником литературного мастерства и прямо стимулирует
развитие литературного языка. На ней воспитывается целый ряд поколе-
ний писателей XVIII и даже XIX в.
Решительное преобладание дидактических форм над повествователь-
ными является первой и наиболее существенной чертой художественной
прозы классицизма. В этом глубоком интересе к моральной стороне чело-
веческого существа не трудно увидеть воздействие столь близкого класси-
цизму картезианства. Система Декарта, определявшая рационалистический
характер стиля классицизма, заставлявшая писателя постоянно апеллиро-
440
КЛАССИЦИЗМ
вать к рассудку как к главному регулирующему началу в человеческой
жизни, — возложила на литературу роль руководителя человеческого ра-
зума.
Отсюда — постоянный морализующий колорит всех видов литера-
туры ортодоксального классицизма, отсюда — нравственно-наставительный
характер его прозы. Вместо того чтобы пользоваться полнокровными, кон-
кретными образами, прозаики классицизма предпочитают оперировать чи-
стыми доводами разума, абстрактными обобщениями, схемами человеческих
норм и отклонений от них, типизацией страстей и характеров, логическими
умозаключениями, аналитическими характеристиками. Поэтому, на ряду
с мемуарами и письмами, в классицистической прозе развиваются жанры
«сентенций», «максим», «мыслей», «опытов», «нравоучений», «характери-
стик», начинающих появляться во второй четверти XVII в. и не прекра-
щающихся вплоть до окончательного завершения исторической судьбы
классицизма.
Прозаики классицизма доводят до совершенства все то положитель-
ное, что развивалось параллельно в драматургии: строгую логичность рас-
суждения, блестящую афористичность стиля, симметрию фразы, предельную
четкость и ясность языка. Все эти качества позволяют прозе классицизма
стать вровень с высочайшими достижениями литературы века — с траге-
диями Корнеля и Расина, комедиями Мольера, сатирами Буало, баснями
Лафонтена. Классицисты-прозаики культивируют также свойственный клас-
сицизму в целом глубокий интерес к государственным проблемам, своеоб-
разное историческое мышление, постоянное обращение к наиболее суще-
ственным сторонам личной и общественной психики человека. Все это
обусловливает важную эстетическую и познавательную ценность главных
памятников прозы классицизма XVII в., во многом покупая тот дидактизм
и сухость, от которых не был свободен ни один род литературы того вре-
мени.
2
Крупнейшим очагом художественной прозы классицизма явился в се-
редине XVII в. знаменитый Пор-Рояль (Port-Royal)—янсенистский мона-
стырь, воспитавший в горниле борьбы с иезуитами первых полемистов и
памфлетистов и вырастивший в этой борьбе самого крупного прозаика
ацюхи — Паскаля, надолго определившего развитие морально-публицисти-
ческой литературы.
После двора Людовика XIV Пор-Рояль был важнейшим литератур-
ным центром Франции, игравшим в некоторые периоды своего существо-
вания роль прибежища для оппозиционной абсолютизму литературы.
Стойкость и принципиальность борьбы Пор-Рояля, во многом перерастав-
шей значение простых религиозных споров, вызывала в XVII в. восхище-
ние передовых умов Франции и породила богатую литературу о его дея-
тельности. Первым его историком был Расин. В XIX в. Сент-Бев посвятил
деятельности Пор-Рояля шеститомный труд, а другой исследователь,
Газье, не без основания заметил, что «тот, кто не знает литературы Пор-
Рояля, не знает литературы XVII века».
Пор-Рояль был женским монастырем, основанным в начале XIII в.
Новая фаза его истории началась в 1602 г., когда во главе его стала мо-
лодая аббатисса Анжелика Арно (Angélique Arnauld), принадлежавшая
к семье, чрезвычайно враждебно настроенной по отношению к иезуитизму.
С ее появлением Пор-Рояль становится фактически оплотом того религиоз-
ПРОЗАИКИ КЛАССИЦИЗМА
441
Аббатство Пор-Рояль. Общий вид.
ного течения, которое проявило себя убежденным противником политики
иезуитов и несколько позднее оформилось как янсенизм.
Отец Анжелики, парижский адвокат Арно, еще в конце XVI в. при-
обрел известность выступлениями против Сорбонны, служившей в то
время основным идеологическим орудием ордена иезуитов. Члены много-
численного семейства Арно (сыновья, дочери, внуки адвоката Арно) яви-
лись наиболее активными деятелями монастыря. Сравнительная свобода
мысли, привитая Пор-Роялю семейством Арно и уживавшаяся в нем со
строгим нравственным уставом, вскоре привлекла к нему многочисленных
приверженцев. Люди, недовольные фанатизмом католической церкви,
охотно шли в Пор-Рояль и становились членами его общины, мало-помалу
секуляризируя монастырь и превращая его в полусветскую ассоциацию
вольномыслия.
Еще в большей степени Пор-Рояль стал штабом всех оппозиционных
католицизму сил после того, как распространившийся во Франции в 30-х
годах янсенизм приобрел в его «отшельниках» (так называли обитателей
Пор-Рояля) готовую партию, способную противопоставить себя иезуитам.
Умственное движение, называемое янсенизмом, будучи религиозным по
форме, подобно близкому к нему протестантизму, являлось по существу
политическим движением, направленным против папства, духовной иерар-
хии и клерикализма. Свое название это движение получило от голланд-
ского профессора богословия Корнелия Янсения (Cornélius Jansenius,
1585—1638), возобновившего в своем учении старый спор о значении
предопределения, но придавшего ему новую актуальность. Опираясь на
авторитет Августина, Янсений доказывал, что человеческие поступки пред-
определены извечно, а потому стремление католической церкви «подгота-
вливать» верующих к райскому блаженству всеми практиковавшимися
тогда средствами — вздорно и ничего, кроме вреда, не приносит. С осо-
442
КЛАССИЦИЗМ
бой силой восставал янсенизм против иезуитского ордена, строившего свое
благосостояние на человеческих «грехах» и цинично признававшего, что
материальное благополучие церкви прямо пропорционально степени раз-
вращенности общества, поскольку последнее имеет тенденцию «очищаться»
исповедью.
«Отшельники» Пор-Рояля, как постоянные, так и «приходящие», про-
тивопоставляли макиавеллизму иезуитов собственную этику: принцип
личного самосовершенствования, внутреннего созерцания, воспитания1 в себе
высоких духовных качеств. Оставаясь формально католиками, они по су-
ществу ставили себя вне официальной религии. Стремление создать кодекс
нравственности в противовес двусмысленной морали иезуитов породило те
искания мысли, которые имели результатом появление и расцвет морали-
стических жанров, сыгравших столь видную роль в истории французской
литературы XVII в.
Особенной высоты полемическое мастерство деятелей Пор-Рояля до-
стигло в сочинениях Антуана Арно (Antoine Arnauld, 1612—1694). Отка-
завшись ради Пор-Рояля от выгодной карьеры адвоката, Арно вскоре
увлекся борьбой с иезуитами и стал вождем общины. В 1642 г. он выпу-
стил острый памфлет — «Моральная теология иезуитов» («Théologie morale
des jésuites»), навлекший на него ярость ордена, которая еще более
возросла после появления «Писем доктора Сорбонны» («Lettres d'un doc-
teur de Sorbonne»). В этих письмах Арно выступил в защиту герцога
Лианкура, подвергшегося гонению со стороны иезуитов за то, что он
жил в доме янсениста и воспитывал в Пор-Рояле бедную девушку. Очень
'горячие по своему тону и полные искреннего негодования, эти письма
послужили поводом к громкому процессу, поднятому против Пор-Рояля
Сорбонной, и заставили Пор-Рояль выступить уже открыто против иезулитов.
Бок-о-бок с Арно работал его приятель Пьер Николь (Pierre Nicole,
1628—1695), разделивший с ним тяготы почти двадцатилетней борьбы и
преследований. Главное произведение Николя — многотомные «Опыты
о морали» («Essais de morale», 1671 и ел.), возникшие, как и другие
произведения Пор-Рояля, в пылу полемики, — является любопытным па-
мятником художественного стиля эпохи.
Арно и Николь, составившие славу Пор-Роялю, были неутомимыми и
непреклонными борцами против иезуитов. Рассказывают, что когда
однажды Николь предложил своему другу сложить оружие хоть на время
и отдохнуть от борьбы, Арно с возмущением ответил: «Нам отдыхать!
Для этого у нас есть вечность» («Nous reposer! Nous avons pour cela
toute l'éternité»). В принципиальности этой борьбы, в остром сознании
своей миссии обличителей эксплоататорской роли феодальной церкви,
заложено большое историческое значение деятельности Арно и Николя.
Борьба эта закончилась все же торжеством иезуитов. В 1656 г. Сор-
бонна вынесла обвинительный приговор Арно, лишавший его всех прав и
привилегий и фактически ставивший его вне закона. Именно в этот наи-
более критический для Арно и для Пор-Рояля момент в защиту Арно
выступил самый замечательный воспитанник Пор-Рояля и величайший
прозаик XVII в. Паскаль.
Блез Паскаль (Biaise Pascal, 1623—1662) — один из тех всеобъем-
лющих умов, которые напоминают «титанов Возрождения». Его имя
столь же принадлежит истории литературы, как и истории физики, мате-
матики и философии. Он — изобретатель первой счетной машины, автор
нескольких теорем в геометрии, гениальный основатель гидравлики, открыв-
ший носящий его имя закон равномерного распределения силы жидкости,
Блез Паскаль.
С гравюры Эделивка по портрету Месмеля, исполыенвоиу с посмертной маски П.-схаля.
444
КЛАССИЦИЗМ
первый исследователь тяжести атмосферы, достойный ученик Декарта, пер-
воклассный аналитик, ученый в полном смысле этого слова. И в то же
время Паскаль в силу религиозного самоотречения всю жизнь сознательно
убивал в себе жажду научного мышления, выступал против разума, оттал-
кивал от себя науку, которая помимо его воли занимала его ум, отрекался
от собственных открытий. Трагедия Паскаля заключалась в непримири-
мых противоречиях между знанием и религией, наукой и богословием, кар-
тезианством и янсенизмом. ~ ь~~~-~ ----■■
Эти противоречия являются ключом и к пониманию его литературного
творчества, особенно посмертного сборника его «Мыслей».
Противоречия Паскаля — это противоречия эпохи, еще не преодолев-
шей до конца антагонизм между феодальными нормами^ бытия и новым
мышлением. Эти противоречия проявились с особой силой в исключительно
одаренном человеке. Отвергнув свое прошлое, полное кипучей ученой дея-
тельности, Паскаль осудил науку и обратился к религии. В последние пять
лет его жизни набожность его дошла до полного аскетизма. Он носил ве-
риги и предавался жестокому самоистязанию. И все-таки, в одну из бессон-
ных ночей, в келье, после бичевания, он, сам того ие желая, открывает
сложнейшее математическое решение циклоида. Так религия убивала ге-
ниальные способности этого странного человека, так его гениальные спо-
собности побеждали религию.
Паскаль родился в семье крупного чиновника и получил домашнее
образование. Он очень рано проявил математические способности в такой
необыкновенной форме, что отец, опасаясь за его здоровье, отобрал от него
книги. В шестнадцать лет Паскаль написал трактат о конических сечениях,
поразивший Декарта и доставивший юноше признание всего ученого мира.
В восемнадцать лет он сконструировал счетную машину. Несколько позд-
нее он написал сочинение о движении жидкостей. Когда Паскалю исполни-
лось двадцать шесть лет, врачи предсказали ему сумасшествие, если он не
перестанет заниматься математикой. Вынужденный прервать научные заня-
тия, Паскаль с той же энергией отдался светской жизни и окунулся в во-
доворот наслаждений. Плодом его новых увлечений явилось «Рассуждение
о любовной страсти» («Discours sur les passions de l'amour»)—художествен-
ная безделка, написанная с подлинным мастерством, изящным и живым
языком. Будущий строгий автор «Мыслей» выступил здесь в качестве
радостного эпикурейца, но уже во всеоружии своего блестящего стиля.
В возрасте тридцати лет с Паскалем произошло событие, перевернув-
шее всю его жизнь. Когда он проезжал в карете через мост Нельи, ло-
шади понесли и свалились в воду. К счастью, в критический момент по-
стромки оборвались, и карета удержалась на самом краю. Потрясение Па-
скаля было настолько велико, что он заболел и в сущности никогда уже
не мог оправиться. Душевное расстройство и было одной из причин, при-
ведших Паскаля в Пор-Рояль. Он переселился туда окончательно в 1654 г.,
в разгар борьбы Арно и Николя против иезуитов. Горячая полемика
увлекла Паскаля и открыла в этом физике и геометре новый дар—перво-
классный талант полемиста, сатирика и художника.
Когда Сорбонна ополчилась против Арно, отшельники Пор-Рояля
обратились к своему новому единомышленнику с призывом о помощи.
Паскаль горячо взялся за дело и через несколько дней выпустил первое
из своих знаменитых «Писем к провинциалу». Полное его заглавие было:
«Письмо Луи де Монтальта к одному из его провинциальных друзей»
(«Lettre écrite par Louis de Montalte à un provincial de ses amis», 1656).
Авторство Паскаля было скрыто. Письмо вызвало, с одной стороны,
ПРОЗАИКИ КЛАССИЦИЗМА
445
восторг всех передовых людей, с другой — ярость иезуитов и церков-
ников вообще. Вслед за первым письмом последовали второе, третье и чет-
вертое, написанные в том же духе и на ту же тему. В них Паскаль чрез-
вычайно живо и с притворной наивностью рассказывал о знакомстве
с иезуитом, который изложил ему систему морали своих собратьев. Это-
была тонкая и язвительная ирония с притворной наивностью, напоминав-
шая мастерство знаменитого в XVI в. сборника «Писем темных людей».
Вместо того чтобы полемизировать с положениями иезуитов, Паскаль
прибегает к своего рода комедийному приему: он принимает на себя роль
наивного простака, ничего не смыслящего в религиозных вопросах и по-
тому добивающегося от первого встречного подробного объяснения их
сущности. А так как такого первого встречного Паскаль находит в лице
«преподобного отца иезуита», то это дает ему повод вложить в уста во-
ображаемого собеседника чрезвычайно комическую интерпретацию иезуи-
тизма и довести положения последнего до абсурда. В результате получи-
лась блестящая пародия. «Делались попытки самыми различными спосо-
бами показать иезуитов отвратительными; Паскаль сделал больше: он по-
казал их смешными» (Вольтер). После первых четырех писем Паскаля
иезуиты были полностью скомпрометированы в мнении общества.
Огромная сила писем Паскаля определялась их удивительной ясностью
и общедоступностью. В исключительно простой и занимательной форме,
пользуясь живописными и понятными образами, Паскаль знакомил широ-
кую публику с существом полемики, искусно обнажая вздорность схо-
ластики Сорбонны и беспощадно срьгоая маску с внешнего благочестия
иезуитов. Хотя непосредственной темой первых писем было только опреде-
ление разницы между «благодатью достаточной» (la grâce suffisante) и
«благодатью действительной» (la grâce actuelle), читатели могли рассмот-
реть в них нечто гораздо большее. «Мир становится недоверчивым, — го-
ворилось в первом письме, — и верит вещам только после того, как сам
их увидит». Во втором письме Паскаль давал притчу-аллегорию о церков-
ных спорах, сравнивая различные богословские направления с врачами,
которые вместо того, чтобы лечить больного, препираются между собой у
его постели и спорят об искусстве врачевания. Под обстрел Паскаля по-
падают здесь не только иезуиты, но, по существу, и сами янсенисты, ко-
торые не всегда умели стать выше рассуждения о формах благодати.
Характерно, что один из наиболее ортодоксальных янсенистов, отец Сенг-
лен, далеко не разделял общего восхищения «Письмами», считая их слиш-
ком насмешливыми и потому недостаточно христианскими. Паскаль при-
знает в конце третьего письма, что Арно вызывает злобу иезуитов не
своими богословскими принципами, которые в конце концов мало чем от-
личаются от принципов самих иезуитов, а самим фактом своего существо-
вания, тем, что он существует на свете, как обличитель иезуитских ма-
хинаций.
Первые четыре письма — шедевр искусства сатиры и одновременно
высокий образец художественной прозы. Неподдельный юмор, блестящая
логика, гибкость и ясность языка, виртуозный синтаксис в сочетании
с высоким искусством повествования и конкретной образностью этих писем
сразу поставили Паскаля в первые ряды писателей XVII в. и заслуженно
прославили его.
«У нас никогда не было написано ничего выше в этом жанре», —
заявлял Шарль Перро в «Параллелях между древними и новыми авто-
рами». «Первой гениальной книгой, написанной прозой, было собрание
„Писем к провинциалу". Этому произведению суждено было создать эпоху
446
КЛАССИЦИЗМ
в окончательном оформлении языка», — писал впоследствии Вольтер в
«Веке Людовика XIV». «Письма к провинциалу,—.признавался Жозеф
де Местр, — были первой настоящей французской книгой, - написанной
прозой».
За первыми четырьмя письмами последовали дальнейшие. Читающая
публика с нетерпением ждала очередных писем безвестного автора. Паскаль
не заставлял себя долго ждать. С января 1656 г. по март 1657 г. появи-
лось восемнадцать писем, которые составили увесистый том, с легкой руки
Вольтера названный впоследствии просто «Les Provinciales».
В последующих письмах Паскаль находит новые методы полемики,
используя разнообразнейшие приемы художественной сатиры и пародии.
Начиная с четвертого письма, он отходит от теологии и обращается
к морали в собственном смысле слова. Ей посвящены следующие шесть
писем. Здесь главным героем становится «le bon père casuiste» («добрый
отец казуист»)—'великолепно очерченная фигура простоватого и в то же
время хитрого монаха, подлинный персонаж комедии характеров. Художе-
ственный такт Паскаля не позволил ему сделать этот характер просто одиоз-
ным и отвратительным; напротив, он изобразил его читателю добряком
(bonhomme), исповедующим смешные и глупые догматы. Между ним и авто-
ром ведутся разговоры, из которых постепенно вырисовывается вся система
циничной «этики» ордена Иисуса. При этом Паскаль находит целую гамму
переходов, разные формы диалога, завязок и заключений, наделяя каждое
письмо особым специфическим колоритом, отличающим его от других.
Двенадцатое. письмо знаменует крутой переход в манере «Писем к про-
винциалу». Паскаль оставляет здесь прежний тон издевки и прибегает
к гневному красноречию. Смешной монах и наивный провинциал сходят
со сцены и уступают место самому автору, говорящему собственным толо-
сом и прямо атакующему противника.
Сравнивая первые письма Паскаля с комедиями Мольера, Вольтер
уподобляет его последние письма лучшим речам знаменитейшего оратора
XVII в. Боссюэ.
В самом деле, по своему тону, по неподдельному красноречию, одно-
временно пылкому и тщательно взвешенному, последние письма Паскаля
явились образцом для развившегося во второй половине XVII в. оратор-
ского искусства. Если первые письма носили на себе отпечаток некоторой
спешки и писались быстрыми и резкими мазками, то заключительные
письма отличаются строгой продуманностью и тщательной отделкой. Ни-
коль, который перевел «Письма к провинциалу» на латинский язык и снаб-
дил их интересным предисловием, свидетельствует, что восемнадцатое
письмо, например, переделывалось Паскалем не менее тринадцати раз. Сам
Паскаль в шестнадцатом письме жалуется на то, что «он не имел времени
сделать его более коротким», — характерное признание взыскательного
художника слова.
Значение «Писем к провинциалу» Паскаля в истории французской
литературы очень велико. Вслед за «Опытами» Монтеня и под их непо-
средственным влиянием они противопоставили узко-кастовой морали
церкви широкую, вольнолюбивую этику, заключающую в себе множество
элементов гуманистической морали. «Письма» Паскаля — вовсе не свод
морали янсенизма. Гений автора преодолел в них сектантские позиции и
возвысил мощный голос борьбы с религиозной косностью. Собственно лите-
ратурные качества «Писем» воздействовали на развитие другого преемника'
Ренессанса — Мольера. Уже Расин заметил, что материал «Писем к про-
винциалу» явился благодарнейшим источником для театра. Вольтер же
ПРОЗАИКИ КЛАССИЦИЗМА
447
прямо сравнивал Паскаля с Мольером. В самом деле, образы Дон Жуана
и, особенно, Тартюфа прямо навеяны образами ханжей из «Писем к про-
винциалу», а система диалога в них повлияла и на другие комедии
Мольера.
Еще большее влияние оказало это произведение на прозаиков XVII в.,
обусловив художественную манеру целой школы мастеров писем (épistoliers)
и мемуаристов. Мадам де Севинье, крупнейшая представительница первых,
не уставала восхищаться совершенством стиля писем Паскаля и брала их
за образец в своей переписке; виднейший представитель вторых, Ларош-
фуко, усвоил именно у Паскаля священный ужас перед бесполезным сло-
вом в фразе, перед заполнением речи красивыми, но ненужными фра-
зами. Мадам де Дафайет обязана Паскалю чистотой слога своих романов,
а Бурдалу и Боссюэ — пластичностью и выразительностью своих речей и
проповедей.
Такой же литературный резонанс имело и другое, не менее замечатель-
ное произведение Паскаля — его «Мысли» («Pensées»). Еще в пору работы
над «Письмами к провинциалу», а отчасти и раньше, Паскаль усвоил
обыкновение записывать наиболее ценные мысли, приходившие ему в го-
лову. Эти записи не предназначались для печати и при жизни Паскаля
опубликованы не были. Они были найдены друзьями уже после смерти
Паскаля в виде листков бумаги, связанных в отдельные пачки без всякой
системы и порядка. Николь вместе с другими деятелями Пор-Рояля распо-
ложил эти листки по своему усмотрению и издал их отдельной книгой в
1670 г. Лишь в 1842 г. благодаря тщательному исследованию Виктора
Кузена удалось установить, что издание Николя крайне искажало Пас-
каля. Реконструкция текста была произведена заново, и в 1852 г. появи-
лось научное издание «Мыслей», отредактированное Аве (Havet) и снаб-
женное его же подробным комментарием. Это издаиие затем многократно
переиздавалось, как и издание Пор-Рояля 1670 г.
Если уже «Письма к провинциалу» позволяли определить философию
Паскаля в ее связи с философией Монтеня и Декарта, то «Мысли» являют-
ся в этом отношении несравненным по своей значительности докумен-
том, несмотря на свою фрагментарность и отсутствие ясного плана-
Личная трагедия Паскаля, всю свою жизнь метавшегося между наукой
и религией, между незыблемыми доводами разума и шаткими построениями
веры, нашла в его «Мыслях» самое отчетливое выражение. В этом произ-
ведении, свидетельствующем о глубоком душевном страдании, Паскаль еще
больше, чем в «Письмах», выступает в качестве правоверного янсениста, но
так же, как и в них, во многом преодолевает религиозную ограниченность
н поднимается до пафоса подлинного гуманиста.
Формально «Мысли» имеют своей задачей апологию религии в янсе-
нистском ее понимании. Прямым адресатом сочинения являются на этот раз
уже не иезуиты, а атеисты. В начале XXII главы Паскаль дает нечто
вроде плана своей работы: «Часть первая: ничтожество человека без бога;
часть вторая: блаженство человека с богом». Плану этому Паскаль,
однако, следует далеко не всегда, во многих случаях увлекаясь и рассуж-
дая о вещах, далеких от главной темы.
Сущность рассуждений Паскаля в общих чертах сводится к следую-
щему: нет ничего более важного для человека, чем познание собственной
природы и смысла своего существования. Философов, пытавшихся дать
ответ на эти вопросы, можно разделить на две группы—стоиков и «пир-
ронистов» (скептиков). Представителей этих двух систем, Эпиктета и Мон-
теня, Паскаль называет наиболее читаемыми им авторами. Стоики воз-
448
КЛАССИЦИЗМ
величивают природу человека и, наделяя его всемогущим, не имеющим
никаких границ разумом, ставят его выше всего существующего, в том
числе и самого бога. Скептики, наоборот, видят в человеке лишь жалкое
создание, ничем по существу не отличающееся от животных и не имеющее
никакой возможности овладеть миром путем познания.
Таковы две крайности, указываемые Паскалем. Какой из них отдает
предпочтение сам он? Велик или ничтожен человек, как таковой?
На этот вопрос Паскаль дает диалектический ответ. Человек одновре-
менно и велик, и ничтожен. Первородный грех повлек за собой измельча-
ние и вырождение человеческой натуры, но и в этом измельченном состоя-
нии человек сохраняет след своего былого величия. Есть нечто, что выде-
ляет его среди прочих живых существ, и это нечто — его разум. И Па-
скаль восторженно воспевает силу человеческой мысли: «Человек — не что
иное, как слабейший в природе тростник, но это — мыслящий тростник.
Для того чтобы его раздавить, вовсе не нужны силы всей вселенной. По-
рыва ветра, капли воды достаточно для того, чтобы причинить ему смерть.
Но если бы вся вселенная ополчилась, чтобы погубить его, он был бы все-
таки могущественнее всего, что его убивает, ибо он знал бы и о том,
что он умирает, и о том, какими преимуществами перед ним обладает все-
ленная. Вселенная же этого не знает. Все наше достоинство заключено в
мысли. Не пространство и не время, которых мы не можем заполнить, воз-
вышают нас, а именно она, наша мысль. Будем же учиться хорошо мы-
слить: вот основной принцип морали».
Человек стремится к истине. Но он не в состоянии достигнуть ее. По-
этому он слаб и жалок. Но сознание этой слабости есть свидетельство
его величия.
В другом месте Паскаль говорит о разуме с еще большим увлечением:
«Я могу представить себе человека без рук, без ног, без головы, ибо
только опыт учит нас тому, что голова полезнее ног. Но я не могу пред-
ставить себе человека без мысли; это был бы камень или скот».
Но, воспевая человеческий разум, Паскаль пытается оправдать его
силу средствами религии. Как же совмещает в себе человек слабость и
могущество? Ни стоики, ни скептики не могут ответить на этот вопрос.
Его может разрешить только христианская религия. И Паскаль обра-
щается к доводам веры. Место геометра и поэта заменяет экзальтирован-
ный проповедник.
Уже современники Паскаля указывали, что в разделах, посвященных
собственно апологии христианской веры, Паскаль теряет чувство меры и
прибегает к весьма рискованной аргументации, к слишком смелым утвер-
ждениям. В качестве аргумента в пользу религии Паскаль выдвигает «зна-
мение божие» — чудо и вступает в пространный анализ его сущности, явно
переставая быть последовательным. Истину мы можем получить только из
рук самого бога и понять ее мы можем только сердцем.
Целый ряд прямых противоречий в мыслях Паскаля бросается в глаза.
Французские исследователи старались найти объяснение этому в неточ-
ности редакций и в разновременности записей отдельных мыслей. Выска-
зывалось даже предположение, что некоторые из мыслей, представляют
собой не что иное, как чужие мнения, записанные Паскалем с целью опро-
вержения их в дальнейшем.
Навряд ли это так. Противоречия «Мыслей» — явление закономерное
и исторически оправданное. Оно — результат все того же непримиримого
конфликта между монтеневской философией и учением церкви, которое
так трагически отразилось в сознании Паскаля. Нет более убедительного
ПРОЗАИКИ КЛАССИЦИЗМА
440
доказательства этого, чем одна из мыслей Паскаля, которую можно было
бы поставить эпиграфом ко всем его сочинениям: «Отрицать, верить и
сомневаться так же свойственно человеку, как лошади — бегать».
«Мысли» Паскаля представляют собой первоклассный памятник худо-
жественной прозы XVII в. Предельная логика слова, удивительная, почти
геометрическая конструкция фразы, производящая впечатление художе-
ственной теоремы, и в то же время окрашивающий все произведение коло-
рит грусти, горькая ирония, подчас — сознание обреченности, все это вызы-
вало восхищение как современников Паскаля, так и позднейших критиков.
Паскаль создал целую школу во французской литературе. Его «Письма
к провинциалу» и «Мысли» надолго сохранили значение выдающегося
образца стиля, определив развитие почти всей прозаической литературы
XVlI и начала XVIII в. «Я мог бы, — говорит Низар,— указать паль-
цем на те места в „Письмах к провинциалу" и в „Мыслях , которые мощ-
ным великолепием и всегда прочувствованной дерзостью предвещают Бос-
сюэ, или потоком сурового и страстного красноречия подготовляют Бурдалу,
или блеском красок и живостью контрастов приближаются к Лабрюйеру,
или легкостью и живостью прокладьшают путь Вольтеру. Все манеры
письма получили свой образец в творчестве этого человека, который ни-
когда не добивался литературной славы».
5
Среди писателей, испытавших несомненное влияние Паскаля, первое
место занимает его старший современник Ларошфуко.
Франсуа герцог де Ларошфуко (François, duc die La Rochefoucauld,
1613—1680) был типичнейшим представителем крупной феодальной знати,
ущемленной в своих интересах абсолютизмом и выступившей против его
поборников — сначала кардинала Ришелье, а затем, в особенности, карди-
нала Мазарини. Ларошфуко — деятельный участник этого движения, неуто-
мимый фрондер, довольно безразличный к широким политическим пробле-
мам, зато ревностный в вопросах охраны собственных феодальных приви-
легий. Он рано вступил в свет и сразу занял в нем видное положение,
создав себе репутацию остроумного собеседника, бесстрашного дуэлянта
и испытанного интригана. Чеггырнадцати лет он выгодно женился, и этот
брак обеспечил ему быструю карьеру. Пятнадцати лет он дебютировал на
военном поприще в армии Конде, а шестнадцати — появился при дворе, что-
бы тотчас же, очертя голову, броситься в хитросплетения придворных интриг.
Жизнь Ларошфуко, описанная им самим в «Мемуарах», не уступает по
своей калейдоскопической авантюрности приключениям героев романов
Дюма. С самого своего появления при дворе он легко завоевывает распо-
ложение королевы и немилость короля. Затем он отправляется волонтером во
Фландрию воевать против испанцев и по возвращении подвергается ссылке
в собственное имение. Он знакомится с графиней де Шеврез, несравненной
виртуозкой политических комбинаций, сразу же вовлекающей его в гран-
диозную интригу, в которую Ларошфуко и окунается с огромным насла-
ждением. Он скачет через всю Францию с какими-то сомнительными по-
ручениями в угоду альковным интересам своей покровительницы, пытается
поссорить королеву с королем и, наоборот, примирить французский двор
с австрийским императором, попадает в Бастилию и благодаря каким-то
покровителям выходит из тюрьмы. В общем, он ведет жизнь образцового
галантного кавалера XVII в. В этот период ничто не предвещает в нем
будущего автора «Максим», но именно в это время он накапливает опыт,
который впоследствии обобщит в своих «Максимах».
29 История французской литературы—S13
450
КЛАССИЦИЗМ
Участие в Фронде было
для Ларошфуко, по сути де-
ла, продолжением этих при-
ключений. Уже в 1639 г. он
получает приглашение Сен-
Мара принять участие в его
заговоре против Ришелье и
по мере сил помогает ему, пе-
ревозя оружие для заговор-
щиков. Более деятельной ста-
ла его роль в годы Фронды,
когда дворянский мятеж на-
чал принимать более широкие
размеры и привлек частично
на свою сторону народные
массы. Он храбро сражался
во главе отрядов мятежников
в течение всей гражданской
войны, пока не получил в
1652 г. в битве у Сент-Анту-
анских ворот тяжелое ране-
ние в лицо, после чего на-
всегда отошел от политиче-
ских схваток. С этого момен-
та началась как бы вторая
жизнь Ларошфуко — спокой-
ное существование утихоми-
рившегося рубаки, который
обдумывал прошедшее и под-
водил итоги, размышляя о
человеческих слабостях и не-
достатках. Он возобновил овои старые связи с прежними посетителями
Отеля Рамбулье, в котором часто бывал в годы юности, не будучи его
правоверным адептом. Он завязал дружбу с мадам де Севинье и в осо-
бенности с мадам де Лафайет, начал посещать литературный салон мадам
де Сабле, открыл свой собственный салон, и рукой, уже отвыкающей от
шпаги, взялся за перо мемуариста.
В 1662 г. вышли в свет его «Мемуары» — любопытный документ
из жизни Франции наиболее бурных ее лет, пропущенных через индиви-
дуальное и несколько пристрастное восприятие современника. Среди много-
численных мемуаров этого времени сравнительно короткие записки Ларош-
фуко выгодно выделяются своим правильным языком, живостью изложе-
ния и ровным, изящным слогом. В них еще чувствуется темперамент бойца,.
но события уже подвергаются спокойному пересмотру и трезвой оценке.
Склонность к рефлексии развивается у Ларошфуко вместе с возра-
стающим пессимизмом. «Что касается моего нрава, — говорит он в «Пор-
трете Ларошфуко, написанном им самим» («Portrait de La Rochefoucauld
par lui-même»), — то я меланхолик, и меланхолик до такой степени, что
в течение трех или четырех лет меня едва ли видели смеющимся три или
петыре раза». Колоритом горькой меланхолии и раздражения окрашено и
главное произведение Ларошфуко, его знаменитые «Максимы».
Эта маленькая книжечка, полное заглавие которой — «Размышления,
или Моральные изречения и максимы» («Réflexions, ou Sentences et maximes
Франсуа де Ларошфуко.
С портрета Монкорне (1654 г.), грав. нешвестн. художником.
ПРОЗАИВП КЛАССИЦИЗМА
4SI
morales»), появилась в 1665 г. и сразу же обратила на себя внимание.
Она поразила прежде всего своим крайним пессимизмом и неверием в че-
ловеческую доброту. «Максимы» открываются таким безотрадным изрече-
нием: «То, что мы принимаем за добродетели, часто есть не что иное, как
сочетание различных поступков и различных интересов, которые судьба
или наша изобретательность сумела упорядочить, и вовсе не всегда храб-
рость мужчин и целомудрие женщин объясняется их доблестью и чисто-
той». Вся книга пропитана желчью, за которой чувствуется не просто стар-
ческая раздражительность, но трезвое и вдумчивое обобщение большого
житейского опыта, не минутное брюзжание недовольного подагрика, но за-
конченное мировоззрение самобытного и незаурядного философа^моралиста.
Книга имела огромный успех. Год спустя она вышла вторым изда-
нием, заново отредактированная и дополненная новыми изречениями,
а в течение последующих лет до смерти автора выдержала еще пять из-
даний, каждый раз обогащавшихся новыми сентенциями. В последнем
прижизненном издании 1676 г. томик «Максим» содержит в себе 504 из-
речения.
Форма сочинения заимствована Ларошфуко у Паскаля; от него же
воспринят и общий тон «Мыслей». Сент-Бев, сравнивая обоих писателей,
указывает на большую эмоциональность и искренность Паскаля, в проти-
воположность суровой иронии и бесстрастию Ларошфуко.
В самом деле, пессимизм Паскаля значительно менее сух, но зато и
менее тверд и непоколебим, чем пессимизм Ларошфуко. В этом последнем
больше законченности, последовательности и потому больше впечатляющей
силы. Это не личный, но социальный пессимизм — глубокое разочарова-
ние общественной действительностью, общественным человеком, общест-
венным правопорядком. Тесно связанный с философским либертинажем,
Ларошфуко усвоил "присущий ему стихийный материализм; его человеко-
ненавистничество, в конечном счете, вытекает из последнего. Природа
этого человеконенавистничества сходна с природой гоббсовского песси-
мизма, основной принцип которого («человек человеку волк») Ларошфуко
мог усвоить непосредственно от Гоббса, с которым он, повидимому, встре-
чался во время пребывания английского философа в Париже. Мизантро-
пия Ларошфуко — это не только классовое раздражение обманутого
в своих надеждах гордого аристократа. Аристократ Ларошфуко во мно-
гом поднимается над сословной ограниченностью; мизантропия его не от-
рицает, но предполагает общечеловеческие интересы. Ларошфуко с горечью
взирает на деградацию своего класса, побежденного в борьбе и вынужден-
ного итти на службу к абсолютизму; в этом — основная причина его ми-
зантропии. Но, стараясь обобщить свои наблюдения, он благодаря своему
стихийно-материалистическому мышлению, находит истинную основу по-
рочности общества.
Лейтмотивом книги Ларошфуко и своего рода ключом к пониманию
его мировоззрения является знаменитое изречение: «Все добродетели те-
ряются в расчете, как реки в море». Эта сентенция в той или иной форме
всплывает в книге несколько раз, обнаруживая сознательное стремление
автора свести различные явления общественного бытия и психики к лич-
ной выгоде, к тому самому эгоистическому расчету, за которым, в конеч-
ном счете, нетрудно усмотреть расчет денежный.
Естественно, что Ларошфуко далек от правильного понимания истори-
ческой роли материальных интересов как фактора развития классового
общества. Он определяет эту категорию как себялюбие (l'amour-
propre), выводит ее из свойств человеческой природы вообще и наде-
Я82
КЛАССИЦИЗМ
ляет универсальной значимостью. «Выгода говорит на всех возможных
языках и повелевает всеми разрядами людей, даже теми, кто в ней не
заинтересован». Поступки всех людей, независимо от их пола, возраста,
■состояния и положения в обществе, определяются и управляются этим
всесильным рычагом — эгоистическим стремлением к личному благопо-
лучию, непрестанным и неустанным себялюбием. «Сколько бы открытий
ни было сделано в области себялюбия, в ней остается все еще много не-
открытых земель». Все остальные страсти, — а среди них первенствующее
место отводится любви и чувству чести,—происходят от того же себя-
любия. «Что такое любовь — определить трудно. Единственно, что можно
оказать — это то, что в отношении души это — стремление властвовать».
В любви, в дружбе, в сострадании, в милосердии человек занят только
самим собой. Если он рад оказать другому помощь, то только потому, что
ему не нравится видеть страдания. Если он подает милостыню, то
только потому, что его самого удовлетворяет акт милосердия. Если
он оплакивает умершего друга, то только потому, что ему жаль самого
себя, лишенного удовольствия видеться с умершим.
Это же себялюбие приводит к тому, что люди перестают быть та-
кими, какими их создала природа, и стремятся казаться умными, бла-
городными, добрыми, влюбленными, если даже они и не являются тако-
выми на деле. Более того: «Мы настолько привыкли притворяться перед
другими, что иод конец начинаем притворяться перед самими собой». Лжи-
вость, лицемерие, тщеславие, самолюбие, лесть, подобострастие являются
поэтому наиболее распространенными недостатками людей.
Несмотря на то, что Ларошфуко старается придать человеческим
страстям характер всеобщности, нетрудно заметить, что эти страсти яв-
ляются типичными для того класса, к которому принадлежал автор, — для
верхушки французского дворянства середины XVII в. Из книги Ларош-
фуко смотрит на нас мир царедворцев и кавалеров времени замирения
Фронды и окончательного утверждения абсолютизма. Именно в этой со-
циальной группе культивировались качества, отмечаемые Ларошфуко. Не
случайно главными страстями, управляемыми себялюбием, Ларошфуко
признает любовь и честолюбие. Обе эти страсти могут наличествовать у
всех людей; но в тех их формах, которые представлены у Ларошфуко, они
свойственны только современной автору французской аристократии. Лю-
бовь, жажда выдвинуться при дворе — типические страсти обитателей Вер-
саля. Для этих людей слова «право», «справедливость», «свобода», «ро-
дина», «истина»—пустые звуки. Французскому дворянину с детства
прививается «е уважение к этим понятиям, но прежде всего преклонение
перед понятием феодальной чести, кастовой добродетели, порождавшей
стиль распространенные в начале XVII в. дуэли. Между любовными
авантюрами в молодости и гордым высокомерием в старости — жизнь
французского дворянина заполнялась стремлением к положению при дворе,
соперничеством за право быть представленным королю, даже в том слу-
чае, если последний воспринимался как узурпатор и обидчик. Ларош-
фуко знал только таких людей и сам был таким человеком. Портрет
именно такого человека он нарисовал в своих «Максимах».
И все же значение его книги выходит далеко за пределы моральной
летописи дворянства. Ларошфуко хотел описывать человеческую природу
вообще, и это в некотором смысле ему удалось. Пока существует классо-
вое общество, пороки, зафиксированные в книге Ларошфуко, продолжают
сохранять свое значение, меняя лишь форму выражения, в зависимости от
условий существования их носителей.
ПРОЗАИКИ КЛАССИЦИЗМА
453
В этом элементе действительной всеобщности заключается огромнач
моральная значимость «Максим». В своей желчной книге Ларошфуко высту-
пает одновременно и в качестве критика 'пороков своего времени, и в ка-
честве морального философа, который с диалектической необходимостью
дает широкие обобщения, надолго сохраняющие свою силу. Гуманисти-
ческая философия Ренессанса получает в «Максимах» Ларошфуко отдален-
ный отзвук, заглушённый, ослабленный и суженный специфичностью
материала, но все-таки не потерявший до конца ни живой действенности,
ни общечеловеческой значимости.
Своей до сих пор не ослабевшей славой маленькая книжечка Ларош-
фуко в значительной мере обязана виртуозному стилю ее афоризмов.
Стиль «Максим» не является в полной мере изобретением Ларошфуко;
писатель лишь наиболее удачно использовал уже имевшийся опыт. В 50-х
и 60-х годах отдельные литературные салоны культивировали свои особые
жанры. Если в начале века в салоне маркизы Рамбулье создавалась и
эпистолярная литература, и роман, и лирика, то в 50-х годах происходит
дифференциация: в салоне м-ль де Скюдери занимаются почти исклю-
чительно писанием мадригалов, в салоне мадам де Монпансье пишут порт-
реты, в салоне же янсенисгки мадам де Сабле, вслед за «Мыслями» Пас-
каля, увлекаются «Максимами». Ларошфуко был постоянным посетителем
салона Сабле и довел его излюбленный жанр до совершенства. Чистый,
как бы прозрачный слог Ларошфуко, предельная синтаксическая гармония,
летучая парадоксальность формы, тонкое остроумие и поистине ювелирная
отделка фразы, оставляющая позади даже безупречный стиль паск алев-
ских «Мыслей», приближают афоризмы Ларошфуко к эпиграмме: как и
в эпиграмме, в них нельзя без ущерба заменить ни одного слова. Каждая
максима сборника — маленький законченный шедевр. Карл Маркс, весьма
ценивший Ларошфуко и имевший экземпляр его «Максим» в своей биб-
лиотеке, в письме к Энгельсу от 26 июня 1869 г. приводит несколько
особенно понравившихся ему афоризмов Ларошфуко. «Хороши еще, —
пишет Маркс, — следующие мысли:
„Мы все имеем достаточно силы, чтобы переносить чужое несчастье".
„Старики любят давать хорошие советы, чтобы вознаградить себя за
то, что они уже не в состоянии больше подавать дурных примеров".
„Короли поступают с людыми, как с монетами: они придают им цену
по своему произволу, и их приходится расценивать по курсу, а не по дей-
ствительной цене".
„Когда пороки нас оставляют, мы льстим себя верой, что мы сами
их оставляем". ,
„Умеренность есть пассивность и лень души, как честолюбие есть
активность и пыл".
„Мы часто прощаем тех, которые причиняют скуку, но мы не можем
простить тем, которым причиняем скуку".
„Любовники и любовницы никогда не скучают друг с другом, потому
что они всегда говорят о самих себе"». 1
Излюбленным приемом Ларошфуко, придающим его изречениям осо-
бую парадоксальность, является определение какой-нибудь добродетели
путем сведения ее к смежному недостатку. Утрируя добродетель, Ларош-
фуко доводит ее до ее противоположности; так, великодушие и храбрости
рассматриваются им на материале тщеславия, а дружба становится равно-
1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XXIV, СТр# 205. — Цитаты из Ларош-
фуко приведены Марксом на французском языке.
484
КЛАССИЦИЗМ
значной своекорыстию. Подвергается проверке скромность: «Отказы-
ваться от похвал означает желание получить их в двойном размере».
Подвергается пересмотру щедрость: «То, что называется щедростью, часто
оказывается не чем иным, как тщеславием казаться щедрым, что для нас
дороже самих даров». Множество подобных примеров подытоживается
сентенцией: «Пороки входят в состав добродетелей, каж яды входят в со-
став лекарств».
Тонкостью своего анализа Ларошфуко расходится с односторонним
рационализмом французских писателей XVII в., но в то же время и по
стилю, и по идейному содержанию своей книги он непосредственно связан
с великими классицистами XVII в., являясь после Корнеля, Расина и
Буало самым блестящим представителем высокого классицизма.
4
Вместе с Ларошфуко во французскую литературу вступает целая пле-
яда других представителей высшего света («светские авторы» — les auteurs
mondains), писателей непрофессионалов, любителей светской болтовни
«(causerie), салонных остроумцев (beaux esprits), видящих в литературном
творчестве преимущественно средство развлечения и общения. Литератур-
ная продукция этих авторов выражается прежде всего в писании писем,
в личной переписке, становящейся в эту пору узаконенным литературным
жанром. Создается как бы целая школа эпистолярной литературы, разра-
батывающая на практике стиль художественной прозы и способствующая
развитию французской литературы вообще. Особенного расцвета достигает
этот жанр после организации в 1627 г. специальных почтовых бюро, си-
стематически связывающих Париж с провинцией.
Переписка как нельзя более отвечала духу светских аристократиче-
ских кружков, постоянно стремившихся быть в курсе новейших событий,
любивших независимое обсуждение различных вопросов внешней и внут-
ренней политики, жизни двора, искусства, театра, литературы. Письмо при
отсутствии периодической печати зачастую принимает на себя роль газеты,
знакомящей какой-нибудь провинциальный салон с умственной жизнью
Парижа, или наоборот — Париж с бытом и культурной жизнью провин-
ции. Частная переписка становится предметом чтения целого общества;
письма переходят из рук в руки и пишутся с расчетам на подобное распро-
странение. Такая функция письма естественно вызывает тщательную от-
делку слога, — и действительно в 50-х и 60-х годах появляются настоящие
виртуозы в этой области. Самым замечательным среди них является мадам
де Севинье, автор многотомной переписки, насчитывающей несколько тысяч
писем.
Мария де Рабютен-Шанталь, мадам де Севинье (Marie de Rabutin-
Chantal, madame de Sévigné, 1626—1696), оставшись вдовой после неудач-
ного брака, посвятила свою жизнь заботам о своих двух детях, особенно
■с дочери, в замужестве мадам де Гриньян (madame de Grignan). Письма
к этой последней и составляют основной материал переписки Севинье.
Разлученная с дочерью, которая жила с мужем в Провансе, она дала обе-
щание ежедневно сообщать ей текущие новости и преподавать житей-
ские правила. Это обещание она выполняла почти без перерыва в течение
двадцати пяти лет, включив в сферу своей информации широчайшую
область жизни Франции. Из Парижа она извещала дочь о столичных
делах, во время своих путешествий по Провансу и Бретани она описывала
ей события и Нравы французской провинции. Эта переписка — прекрасный
ПРОЗАИКИ kjai:«:uuu3»a
4ita
1 ЙУ
источник не только для знаком-
ства с настроениями француз-
ского общества, но и для изуче-
ния истории Франции второй
половины XVII в. На ряду с
письмами к дочери, отличающи-
мися интимно-лирическим то-
ном, переписка мадам де Се-
винье включает в себя письма
к другим адресатам —кардиналу
Рецу, Ларошфуко, мадам деЛа-
файет, Бюсси-Рабютену и др.
Эта часть переписки дает не мень-
шее количество познавательного
материала; помимо любопытных
характеристик современных писа-
телей (Корнеля, Паскаля, Буало
и др.), в ней можно найти све-
дения почти обо всех политиче-
ских событиях этого времени; о
процессе Фуке, об отмене Нант-
ского эдикта, об опале Помпо-
на, о смерти Тюренна, о драгон-
надах в Севеннах, о крестьян-
ских восстаниях в Бретани. Осо-
бого внимания заслуживает опи-
сание мадам де Севинье этих по-
следних событий, свидетельни-
цей которых она была во время
пребывания в своем замке Ро-
ше в Нижней Бретани. Она
дает яркую картину восстания, живо описывает, как народ забрасывал гу-
бернатора камнями, как потом губернатор расправлялся с восставшими, как
их вешали и колесовали, как избивали и выгоняли из жилищ женщин и
детей и т. д. При этом Севинье отнюдь не симпатизирует восставшим:
среди ужасов репрессий она хлопочет только о том, чтобы солдаты не
испортили ее любимого леса, где она привыкла гулять, и если кого-нибудь
жалеет, то не казнимых крестьян, а губернатора, которого едва не убили
мятежники. В другом письме она пишет: «Сейчас захватили шестьдесят
реннских буржуа. Завтра начнут вешать. Эта расправа послужит уроком
для других провинций». В ответ на сетования своей корреспондентки о бед-
ствиях, испытываемых Бретанью, мадам де Севинье хладнокровно замечает:
«Вы слишком распространяетесь о наших бедствиях. У нас теперь не очень
казнят: всего одного в неделю, так что сейчас вешанье кажется мне раз-
влечением». Таким образом мадам де Севинье крепко стоит на позиции
защиты абсолютистского строя и сословных интересов дворянства.
В литературном отношении письма мадам де Севинье — образец клас-
сицистической прозы. Стремление к выразительной простоте, почти пол-
ное отсутствие натянутости и манерности резко отграничивают стиль Се-
винье от эпистолярного стиля Бальзака и Вуатюра с их барочной вычур-
ностью, затейливым синтаксисом и надуманными каламбурами. Письма
Севинье отличаются по сравнению с их письмами некоторой, сознательно
допускаемой небрежностью, о которой сама писательница говорит, что по
Мадам де Севинье.
С гравюры Огюстена де Сеьт-Обена.
456
•КЛАССИЦИЗМ
ее письмам «перо бежало с опущенными поводьями». Если оставить в сто-
роне утомительную сентиментальность и не совсем естественный пафос
некоторых ее писем к дочери, то переписка мадам де Севинье интересна
также ее безыскуственными интонациями, позволяющими ей использовать
и забавный анекдот, и мастерски написанный пейзаж, и смелую шутку, и
философскую сентенцию. В этом отношении Севинье сближается с Лафон-
теном. который недаром был ее любимым писателем.
Второй выдающейся эпистолярной писательницей этого времени была
Франсуаза де Ментенон (Françoise de Maintenon, 1635—1719), внучка зна-
менитого поэта Агриппы д'Обинье, вдова писателя Скаррона, впослед-
ствии любовница и жена короля Людовика XIV. Эта женщина, родив-
шаяся в тюрыме, рано оставшаяся сиротой и проведшая довольно тяжелую
молодость, к концу жизни стала главной советницей короля, держала его
в полном подчинении себе и, впав в религиозный фанатизм и ханжество,
вдохновляла Людовика XIV на преследования протестантов и на усиление
реакции, что выразилось, между прочим, в отмене Нантского эдикта. Ма-
дам де Ментенон была знакома почти со всеми выдающимися писателями
эпохи, дружила с Фенелоном и побудила Расина, уже отошедшего от
театра, писать трагедии на религиозные темы, результатом чего было
появление его «Эсфири» и «Гофолии». В 1686 г. она организовала в Сен-
Сире пансион для благородных девиц и под влиянием Фенелона отдалась
педагогической деятельности, работая над трактатом о женском воспита-
нии. Письма ее в значительной мере посвящены этим вопросам.
Ментенон во многом уступает Севинье. Кругозор ее значительно уже
и ограниченнее, интересы мельче и беднее, сама манера рассуждения суше
и педантичнее; при всем том она обладает более глубоким знанием чело-
веческой природы, более тонко понимает индивидуальные темпераменты,
обладает более уравновешенным стилем. Меткость и лаконичность слога,
ясная и спокойная рассудительность делают письма мадам де Ментенон
значительнейшим, после писем Севинье, памятником этого рода литера-
туры.
Рядом с Севинье и Ментенон должны быть отмечены другие авторы
писем, оставившие богатый материал для суждения о разных областях
общественной жизни XVII в. Так, в области политики интересны письма
Ришелье, Конде и Людовика XIV; в области литературного быта и худо-
жественной критики—письма Расина, Буало, Лафонтена, Боссюэ; в обла-
сти педагогики—письма Фенелона; в области медицины — очень любо-
пытные письма врача либертина Ги Патена (Gui Patin) и т. д.
На ряду с эпистолярной литературой, в XVII в. развивается близ-
кая к ней по жанру литература мемуаров. Бурные годы становления абсо-
лютизма, подъем и падение Фронды, агрессивная внешняя политика
Франции, приводившая к беспрерывным войнам, наконец, внутренняя поли-
тика кардиналов Ришелье и Мазарини — все это вызывало глубокий инте-
рес у поколения, выросшего в годы утихомирившихся бурь, и еще более —
у лиц, бывших непосредственными свидетелями и участниками прошедших
событий. Так, у целого ряда активных деятелей Фронды, удалившихся
после ее разгрома в ссылку или эмиграцию, возникает желание подвести
итоги пережитому периоду, объяснить причины неудачи, произвести пере-
смотр своих взглядов или просто сохранить для потомства важную стра-
ницу из истории Франции.
Однако не только оппозиционные абсолютизму круги прибегали к ме-
муарному творчеству. Естественное желание запечатлеть летопись своей
жизни в важный период гражданских войн появляется и у ряда привер-
ПРОЗАИКИ КЛАССИЦИЗМА
45Т
женцев абсолютизма — у придворных, военных, духовных, лейбмедиков,
камердинеров, у самих руководителей государства. По своей политической
ориентации мемуары XVII в. дают чрезвычайно пеструю картину. Коли-
чество их огромно: мемуары — один из излюбленных в эту пору жан-
ров художественной прозы. Вольтер в своем «Веке Людовика XIV» на-
считывает более тридцати пяти авторов мемуаров, далеко не исчерпав их
число.
Основное место среди многочисленных мемуаров XVII в. занимают
записки оппозиционных к абсолютизму кругов, в особенности мемуары
видных фрондеров. Среди этих последних наибольшей известностью поль-
зуются мемуары одного из вождей Фронды — кардинала де Реца.
Поль де Ганди, впоследствии кардинал де Рец (Paul de Gondi, le cardinal
de Retz, 1614—1679) в еще большей степени, чем его постоянный против-
ник Ларошфуко, испытал все превратности судьбы. Широкому читателю
он памятен по его изображению в романах Дюма («Три мушкетера») и
Виньи («Сен-Map»). Он энергично боролся против Мазарини, предводи-
тельствовал во Фронде, занимал видное положение при герцоге Орлеан-
ском, сидел в тюрьме, находясь в заключении был избран в парижские
архиепископы, бежал из тюрьмы, отказался от сана и снова принял его,
эмигрировал и, проявив отчаянную энергию и изумительную ловкость, вер-
нулся на родину, пытался снова занять видное положение в государстве,
но потерпел крах и, проиграв все ставки, удалился в свое имение. «Пожив
как Катилина, он зажил как Аттик» (Вольтер). Приближаясь к старости,
Рец открыл в себе еще новое дарование — талант незаурядного писателя.
Уже первое из его произведений — историческое исследование «Заговор
графа Жана-Луи Фиеско» («Conjuration du comte Jean-Louis de Fiesque»,
впервые напечатано в 1665 г.), впоследствии послужившее одним из источ-
ников одноименной трагедии Шиллера, — настоящее произведение бунтаря-
аристократа, имело успех и заставило насторожиться Ришелье, которому
Рец показался «опасным человеком».
Мемуары Реца, написанные после 1671 г. и напечатанные только в
1717 г., представляют удивительное сочетание бесцеремоннейшего искаже-
ния исторической истины и предельно точных портретов исторических лиц.
Стремясь прежде всего усилить собственную роль в истории, Рец изме-
няет даты, переделывает факты, преувеличивая одно, преуменьшая дру-
гое. В то же время он дает мастерские оценки общим политическим си-
туациям, выказывая недюжинные способности государственного деятеля
и стратега. Его повествование приближается к роману, настолько оно живо,
образно, динамично и в то же время удивительно ясно. Рец равно искусен
в трагических и в комических местах своей книги; близкое знакомство
с Буало и Мольером, повидимому, не осталось без влияния на его писа-
тельскую манеру. Картины Парижа в моменты уличных боев, сцены парла-
ментских споров, описание последних дней Фронды принадлежат по праву
к классическим образцам французской художественной прозы.
Самым замечательным элементом мемуаров Реца являются его харак-
теристики. В них он выказывает себя настоящим мастером, умеющим дву-
мя-тремя фразами показать характер человека в самых существенных его
чертах. Портреты Ришелье, Мазарини, Ларошфуко, Гастона Орлеанского
и многих деятелей Фронды по психологической верности относятся к луч-
шим местам его мемуаров. Наконец, интересен язык его книги; энергичный,
оригинальный и резкий, он прямо восходит к языку «Писем к провин-
циалу» Паскаля.
438
КЛАССИЦИЗМ
Наиболее выдающимися мемуаристами этого времени, помимо Реца и
Ларошфуко, являются м-ль де Монпансье (mademoiselle die Montpensier),.
мадам де Моттевиль (madame de Motteville, 1621—1689) и известный
оратор Флешье.
К мемуарно-эпистолярной литературе примыкает также творчество
двух других сторонников Фронды, талантливых писателей, состарившихся
в изгнании. — Сент-Эвремона и Бюсси-Рабютена.
Шарль де Сен-Дени де Сент-Эвремон (Charles de Saint-Denis de Saint-
Evremond, 1613—1703) вынужден был в 1661 г. бежать из Франции, бла-
годаря написанному им резкому памфлету против Мазарини. Живя по-
стоянно в Англии, Сент-Эвремон маг считать себя свободным от королев-
ской цензуры и в своих письмах на родину, равно как и в своих рассужде-
ниях о литературе и религии, считался только с собственной совестью.
Задолго до Вольтера он стал посредником между французской и англий-
ской культурой, знакомившим Францию с новинками английской литера-
туры и являвшимся проводником французских литературных течений в
Англию: английский классицизм во (многом обязан Сент-Эвремону. Изящ-
ный, остроумный и язвительный собеседник, откровенный атеист, скептик
и сибарит, Сент-Эвремон свободно высказывает свое мнение о различных
сторонах французской жизни, правда, не заходя в своей критике дальше
эпикурейского вольнодумства и изящного сомнения. Это был человек, ли-
шенный всякого почтения к авторитетам, любивший (поиздеваться над цер-
ковью и монархией, законодатель литературного вкуса, с особенным при-
страстием оттачивавший его на «священных» и «незыблемых» предметах.
Его «Беседа маршала д'Окенкура с отцом Каше» («Conversation du maréchal
d'Hoquincourt avec le père Canay», 1655) и, особенно, «Письмо к маршалу
Креки о религии» (1672), написанные небрежным стилем, нарочито устра-
няющим ттрециозную вычурность, показывают, что этому Петронию
XVII в. удавалось в некотором роде предвосхитить философскую борьбу
Вольтера и Монтескье против фанатизма и тирании. Сент-Бев правильно
определяет Сент-Эвремона как «ослабленного Монтеня» (Montaigne adouci).
В самом деле, эпикурейский пирронизм этого писателя как бы заполняет
перерыв между Монтенем и Вольтером, устанавливая, таким образом, связь
между скептицизмом XVI и XVII веков.
Примерно те же позиции занимает другой светский писатель — граф
Роже де Бюоси-Рабютен (Roger de Rabutin, comte de Bussy, 1616*—1693),
двоюродный брат мадам де Севинье, оставивший, между прочим, лучшую
характеристику этой писательницы. Политические взгляды Бюсси были
резко отличны от взглядов его куздны. Он был генерал-лейтенантом кава-
лерии и по своему происхождению мог занять виднейший пост в государ-
стве, когда выпущенная им «Любовная история Галлии» («Histoire amoureuse
des Gaules», 1665) разрушила его карьеру и подвергла его шестнадцати-
летней ссылке.
В этих своеобразных и довольно скандальных мемуарах, представляю-
щих причудливое сочетание пикантных анекдотов, метких рассуждений,
злых эпиграмм и шутливых сценок, под фривольным покровом светской
болтовни скрывался, между прочим, откровенный памфлет на Людо-
вика XIV и его двор. Так, в одном из диалогов книги король рисуется
слепым деспотом и жалким правителем. Он требует у министра денег, во
что бы это ни обошлось государству. Министр указывает на затрудненное
положение казны. На гневный окрик короля он возражает: «Я беру на себя
смелость указать вашему величеству, что в нынешнее время нельзя захо-
дить так далеко. Города и деревни разорены налогами, податями и кон-
ПРОЗАИКИ КЛАССИЦИЗМА
4259
трибуциями, ваши подданные умирают с голода и настолько подавлены ни-
щетой, что значительно больше нуждаются в немедленной помощи, чем в
новых налогах». Король отвечает: «Пусть делают, что хотят, но сначала
они должны заплатить, а потом пусть подыхают. Вот вам лучший выход
из положения».
В пору ожесточенной борьбы в литературных кругах Франции за но-
вое искусство против авторитета античных писателей — борьбы, получив-
шей широкое распространение под названием «Спора о древних и новых
авторах»,1—Сент-Эвремон и Бюсси-Рабитен безоговорочно примкнули
к прогрессивному лагерю, возглавлявшемуся Шарлем Перро.
5
Если мемуары при мало развитой повествовательной литературе вы-
полняли иногда функции романов, то место отсутствующей в системе клас-
сицизма лирики заняла ораторская проза. В XVII ш. происходит широ-
чайший расцвет религиозного красноречия, доведенного до высокой степени
совершенства и узаконенного в качестве полноправного вида художествен-
ной литературы. Никогда ни в одной стране Европы духовное красноречие
не достигало такого апогея, никогда оно не стояло в такой тесной связи
со всем процессом литературного развития. Основные кадры проповедни-
ков и ораторов XVII в. поставлял наиболее ортодоксальный сектор като-
лической церкви — иезуитский орден. К этому ордену принадлежали или
в значительной степени были с ним связаны четыре виднейших религиоз-
ных оратора эпохи классицизма — Боссюэ, Бурдалу, Флешье и Массильон.
Религиозная борьба, вызвавшая к жизни церковные споры — как средство
аргументации в пользу того или иного, ортодоксального или «еретиче-
ского» догмата, — нашла в этих четырех писателях свое наивысшее выра-
жение.
Старший из них — Жак-Бенинь Боссюэ (Jacques-Bénigne Bossuet,
1627—1704) справедливо считается родоначальником художественной ора-
торской прозы во французской литературе XVII в. Сын провинциального
чиновника, воспитавшийся в Дижоиском иезуитском коллеже, он приобрел
богатый опыт в схватках с протестантами в бытность свою священником и
главным теологом в Меце. Затем, благодаря своим ораторским задаткам,
он приобрел популярность в Париже, а с 1670 г. получил доступ ко двору
в качестве главного воспитателя дофина. Эту обязанность он выполнял в
течение десяти лет с рвением, естественным в этом горячем и последова-
тельном апологете католицизма, но с мало продуктивными результатами,
благодаря природным качествам наследника.
Боссюэ был тесно связан с крупнейшими писателями своего времени.
Он способствовал назначению Аабрюйера наставником в дом Конде,
устроил своего будущего противника Фенелона воспитателем дофина, был
близко знаком с автором «Максим» герцогом Ларошфуко. Главные произ-
ведения Боссюэ—'его проповеди у францисканцев (1661), у кармели-
тов (1663—1664), в Лувре у короля (1662—1669), а также надгробньк
речи Анне Австрийской (1667), Генриетте Английской (1670), Мар»и-Те-
резии (1683), принцу Конде (1687) и др.
Эти речи, сохранившиеся, главным образом, в конспектах и черновых
набросках, позволяют судить о большом мастерстве их автора, выражаю-
1 См. об этом ниже, гл. IX
460
КЛАССИЦИЗМ
щемся в строгой логике рассужде-
ний, в продуманной аргументации, в
живом, страстном языке. Несмо-
тря на то, что эти произведения
имели своей прямой целью разъ-
яснение догматов католической
церкви, они представляют собой
любопытный памятник француз-
ской литературы того времени,
благодаря поэтическим достоин-
ствам их стиля. Строгий рациона-
лист, приближающийся в этом
смысле к Корнелю и Расину, Бос-
сюэ использует все художественно-
изобразительные средства класси-
цистической поэзии, проявлявшей
себя, главным образом, в области
драмы — живописность образов,
точность метафор, высокую патети-
ку в рассказе о героизме, глубокую
элегичность в описаниях скорби.
Метафизичность его идеалистиче-
ской философии не в аилах пода-
вить конкретность психологической
трактовки отдельных чувств, в ре-
зультате чего хвалебные или тра-
урные речи Боссюэ звучат подчас
как настоящие поэтические произ-
ведения.
Боссюэ был ярым консерватором. Если он и не принимал непосред-
ственного участия в отмене Нантского эдикта, то одобрение им этой меры
можно заметить во многих его речах. Он боролся против янсенистов, хотя
и признавал «Письма к провинциалу» Паскаля, на ряду с сочинениями
«отцов церкви», образцом ораторского искусства; он выступал против
секты квиетистов, сохранявшей в отрицании церковности традиции анти-
клерикального реформаторства, и полемизировал с виднейшим представи-
телем этого течения — Фенелоном.
Среди пышной обстановки Версаля высокопарный и торжественный
Боссюэ был одной из самых заметных фигур. Он был непременным участ-
ником всех парадных собраний и церемоний, законодателем церковно-
обрядовой части празднеств, убежденным роялистом и официальным те-
оретиком абсолютизма.
Свое наиболее четкое выражение абсолютизм нашел в политических
работах Боссюэ, в частности в его трактате «Политика, извлеченная из
священного писания» («La Politique tirée de ГЕ/ariture Sainte», 1709). В этой
работе Боссюэ прямо утверждает, что абсолютная власть монарха обусло-
влена божественной волей и не подлежит изменению, поскольку не под-
вержен сомнению самый закон, установленный божеством; поэтому все,
стремящееся его нарушить, греховно и подлежит осуждению. «Бог берет
под свое покровительство всякое законное правление». Если даже прави-
тель неправ в своих поступках, он все же не подлежит критике, ибо самые
пороки его освящены свыше.
Правда, Боссюэ ограничивал роль монарха его ответственностью перед
Жак-Бенинь Боссюэ.
С портрета Жасента Риго (портрет написан в два
приема: голова в 1699 г., остальное в 1705)
ПРОЗАИКИ КЛАССИЦИЗМА
461
богом. Однако эту ответственность он (возлагал целиком на совесть ее но-
сителя, т. е. опять-таки не допускал возможности ее контроля. Таким
образом абсолютная монархия Людовика XIV приобретала под пером
Боссюэ свою непререкаемую санкцию.
Помимо проповедей и политических трактатов, Боссюэ принадлежит
еще ряд исторических работ, среди которых главное место занимает «Рас-
суждение о всемирной истории» («Discours sur l'histoire universelle», 1681),—
своеобразная серия иллюстраций к теоретическим высказьгоаниям Боссюэ
о политике. Эта работа подводит итог всем предшествующим средневековым
попыткам построения истории. Безоговорочный теологический принцип
в конструкции исторического процесса, движущей силой которого при-
знается божественный промысел; полное игнорирование судеб тех народов,
которые не упоминаются в Библии; тенденциозный подход к прошлому,
рассматриваемому в аспекте приближения к абсолютизму XVII е., — та-
ковы основные установки этого сочинения. Позднейшие исторические ра-
боты Монтескье и Вольтера в значительной степени имели своей задачей
прямую критику «Рассуждения» Боссюэ.
Другая историческая работа Боссюэ — «История уклонений проте-
стантских церквей» («Histoire des variations des églises protestantes», 1688),
несмотря на свою крайнюю тенденциозность, содержит весьма ценный ма-
териал по истории французской реформации.
Значение Боссюэ в истории французской литературы определяется,
главным образом, его проповедями. Вопреки своему стремлению следовать
церковной догме, Боссюэ во многом преодолевает ее, вносит в свою рели-
гиозную систему истины, приобретенные светским знанием предшествую-
щих веков, оживляет их искренностью и непосредственностью тона и обле-
кает в яркую, образную форму.
Последователь Боссюэ, иезуитский патер Бурдалу (Bourdaloue, 1632—
1704), выступивший на церковную кафедру еще при жизни своего учи-
теля, отличается от Боссюэ большей педантичностью, утрированной мо-
рализацией и скупой точностью языка. В течение сорока двух лет своей
священнической деятельности он произнес огромное количество проповедей
в провинции и в Париже, в частности при королевском дворе. Его речи
отличались рассудительностью, холодным пафосом, безукоризненным
искусством логического построения. Среди его речей следует отметить про-
поведи, направленные против «Писем к провинциалу» Паскаля, отличаю-
щиеся большой выразительностью.
Для писательской манеры Бурдалу типичен очень содержательный и
лаконичный анализ характеров, подводящий автора к жанру «портретов»,
начинающему развиваться в французской литературе и предваряющему
замечательное реалистическое произведение Лабрюйера.
Флешье (Fléchier, 1632—1710) и Массильон (Massillon, 1663—1742)
во многом уступают своим предшественникам, являясь по существу лишь
их эпигонами. Первый из них, салонный аббат и автор кокетливых стихов
для Отеля Рамбулье, вносил в свои проповеди и надгробные речи свет-
ские мотивы, риторически рассуждая о пороках своего времени, о браках
по расчету, о материнских обязанностях и изящных распутствах. Мемуары
Флешье едва ли не интереснее его проповедей. Массильон, занявшийся
проповедничеством по распоряжению ордена иезуитов, соединял в своих
речах трафаретность риторических приемов и надуманность ораторских
яериодов с жаром обличения. Ему, между прочим, принадлежит над-
гробное слово королю Людовику XIV («Oraison funèbre de Louis
XIV», 1715).
462
КЛАССИЦИЗМ
Для полноты следует еще упомянуть о некатолических духовных ора-
торах. Несмотря на свое пренебрежение к тонкостям духовного красноре-
чия, протестанты разных толков дали ряд отличных проповедников, как
например Дюмулен, Клод, Дюбоск, Сюпервиль и др. Среди ораторов-
кальвинистов важное место занимает Жак Сорен (Jacques Sorain), пропо-
ведывавший в Англии и в Голландии после 1700 г. и достигший славы
благодаря строгой логичности в изложении антииезуитской морали.
6
Собственно повествовательная литература не была свойственна клас-
сицизму. Однако в 70-х годах XVII в., в пору расцвета упомянутых жан-
ров, возникает первоклассный образец повествовательной прозы, един-
ственный настоящий роман периода классицизма — «Принцесса де Клев».
Это небольшое произведение, умещающееся на полутбраста^страницах,
резко выделяется на фоне прециозных романов барокко — «Астреи»,
«Кира», «Клелии» и др. — не только своей краткостью, столь выигрышной
по* сравнению с огромными размерами перечисленных произведений, но
также, что гораздо важнее, своим содержанием, глубокой психологической
трактовкой образов и искусным показом реальных ситуаций, столь непохо-
жих на пасторальную фантастику барокко. «Принцесса де Клев» — первый
настоящий психологический роман во французской литературе, который
отчасти искупает безрадостную пустыню французской сюжетной прозы,
населенной до этого маловыразительными Галатеями и неправдоподобными
Селадонами. В век манерных и причудливых салонных вымыслов «Прин-
цесса де Клев» вносит удивительно свежее правдоподобие настоящих чело-
веческих переживаний, перекликаясь через весь XVIII век с «Мадам Бо-
вари» Флобера и романами Бальзака и Стендаля.
Автор этого романа, Мария-Мадлена де Лафайет (Marie-Madeleine
de La Fayette, 1634—1693), в молодости была посетительницей пре<циоз-
ного салона маркизы Рамбулье, из которого распространялись во фран-
цузское аристократическое общество не только галантные вкусы, но и
галантные романы с авантюрной и пасторальной тематикой. Первое художе-
ственное произведение мадам де Лафайет — роман «Заида» («Zaïde»,
1670) —по своей структуре и стилю принадлежит еще к этому модному
жанру. Пираты, кораблекрушения, похищения, побеги, узнавания, невидан-
ные страны, неведомые времена — таков тематический облик «Заиды»,
полностью отвечающий поэтике барочного романа, нашедшей теоретиче-
ское обоснование в книге Гюэ (Huet) «О происхождении романов» («De
l'origine des romans», 1670): «Главная цель романов — поучение читателей
в том, что добродетель всегда должна быть увенчана, а порок наказан».
Но уже и в этот свой первый роман мадам де Лафайет вносит некоторые
новые черты. Главное ее внимание привлекает не столько внешняя
пестрота событий, сколько психологическая мотивировка поступков дей-
ствующих лиц.
Если в «Заиде» эта реформа только наметилась, то в «Принцессе де
Клев» («La Princesse de Clèves», 1678) она приобрела уже законченное
выражение.
Создание этого романа относится ко времени знакомства мадам де
Лафайет с герцогом Ларошфуко, заканчивавшим в это время свои «Мак-
симы». Дружба Лафайет и Ларошфуко, перешедшая с течением времени в
прочную любовную связь, оказала благотворное влияние на творчество
обоих писателей. «Ларошфуко,—признавалась мадам де Лафайет, — обо-
ПРОЗАИКИ КЛАССИЦИЗМА
4G3
юС
гатил мои разум, я же
обновила его сердце».
Ларошфуко в это вре-
мя было около пятиде-
сяти лет, мадам де Ла-
файет — за тридцать.
Нежные отношения этих,
уже много в своей жизни
видавших людей, выра-
зились, между прочим,
в их своеобразном твор-
ческом сотрудничестве.
Печатая «Принцес-
су де Клев», мадам де
Лафайет предусмотри-
тельно заручилась со-
гласием своего секрета-
ря, писателя Сегре (Seg-
rais), поставить его фа-
милию на титульном ли-
сте, как это было уже
сделано ею при издании
предыдущих произведе-
ний. Впоследствии это
дало Сегре основание
претендовать на автор-
ство «Принцессы де
Клев».
Сюжет романа сво-
дится к следующему.
Знатная девушка м-ль
де Шартр, едва обру-
чившись с принцем де
Клев, которого она не
любит, встречает красивого молодого вельможу Немура. Между ними
вспыхивает горячая взаимная любовь. Героиня долго не отдает себе отчета
в своей страсти, которая все более разгорается в ней, и только после того,
как эта страсть целиком захватила ее, она начинает понимать весь трагизм
своего положения. Благородная и честная женщина, она хочет сохранить
верность своему мужу и борется со своим чувством, но, не будучи в силах
подавить его, просит мужа увезти ее в деревню. Это ей, однако, не помо-
гает. Тогда она признается мужу в своей любви к Немуру и тут же
клянется, что останется ему верна. Потрясенный услышанным, муж герои-
ни заболевает и умирает. Принцесса свободна, но теперь, когда она в праве
соединиться с любимым человеком, она отказывается от своего счастья
и уходит в монастырь.
Отречение принцессы де Клев имеет два мотива. Во-первых, она счи-
тает себя обязанной остаться верной умершему из-за нее мужу, что вполне
согласуется с обычной ходячей моралью назидательного романа. Во-вто-
рых, ее еще больше удерживает от нового брака неуверенность в постоян-
стве возлюбленного. «Я не могу навсегда составить ваше счастье, — гово-
рит она Немуру во время решительного признания. — Наступил бы мо-
мент, когда я увидела бы вас увлеченным другою, так же как сейчас вы
MARIE
MAGD.
ùomte*
Morte а Ж
ДС&ХМдоуж rv
PIOCHE DE I
rse deAjvFayeth
i*~is en -Mai, iù о <■
i d.a«j™ и Jtr.ù*r* T.a>*tri к/,
A VÉRONE-,-
Мадам де Лафайет.
С портрета Фердинанда, грав. Фессаром.
464
КЛАССИЦИЗМ
увлечены мной... В таком случае мне не осталось бы ничего, кроме стра-
дания; я не знаю даже, осмелилась ли бы я жаловаться. Можно упрекать
возлюбленного, но делают ли упреки мужу, когда он охладевает?» Та-
ковы причины, заставляющие принцессу покинуть Немура и похоронить
себя в монастыре. Немур сначала жестоко страдает, но вскоре утешается
и забывает свою возлюбленную.
Роман дает глубокий и правдивый анализ душевного состояния моло-
дой женщины, поставленной силой страсти в трагическое положение, остро
ощущающей его и в конце концов выходящей из него победительницей.
Внешне адюльтерная ситуация вырастает в сложный психологический кон-
фликт, в котором героиня поднимается над ограниченностью аристократи-
ческой морали (или, точнее, аморальности) и находит в себе силы отка-
заться от недостойного, хотя внешне и весьма привлекательного, возлюб-
ленного. Если в любви Немура можно увидеть всего лишь типичное дво-
рянское увлечение, то в любви принцессы показана подлинная страсть
эмансипирующегося человека, остро сознающего безвыходность собствен-
ных противоречий. В конечном счете протест принцессы де Клев объек-
тивно вырастает в протест против узости конкретной исторической психики
французского придворного дворянства XVII в.
Тонкий анализ переживаний героини и самый конфликт между стра-
стью и разумом, побеждающим страсть, приближает роман мадам де Ла-
файет к лучшим трагедиям Корнеля и Расина, делая его как бы прозаи-
ческим вариантом к «Полиевкту» Корнеля, с одной стороны, и «Андро-
махе» Расина — с другой.
Внешне «Принцесса де Клев» представляет собой исторический роман.
Фоном, на котором действуют основные персонажи, является французский
двор середины XVI в. Однако тщетно было бы искать в романе археоло-
гической точности в описаниях быта и нравов. При всей схожести основ-
ных форм придворной жизни при Генрихе II и Людовике XIV, нетрудно
установить, что целый ряд черт аристократического быта второй половины
XVII века перенесен в XVI век. Не восстановление конкретного истори-
ческого быта стоит в центре внимания мадам де Аафайет, а точное вос-
произведение возможного в определенных жизненных условиях развития
человеческого характера. Не случайно один из величайших представите-
лей историко-психологического романа Стендаль прямо противопоставлял
«Принцессу де Клев» романам Вальтера Скотта. «Эти два имени, —
говорит Стендаль, — обозначают два противоположных типа романа. Опи-
сывать ли одежду героев, пейзаж, среди которого они находятся, черты
их лица, или лучше описывать страсти и различные чувства, волнующие
их души?» Стендаль, не задумываясь, отдает преимущество второй ма-
мере, — той, в которой написана «Принцесса де Клев».
Психологический реализм мадам де Лафайет не противоречит ее строго
классицистическому стилю. Тщательно разрабатывая душевные облики
своих героев, писательница ограничивается самой скупой и обобщенной
типизацией, сознательно уклоняясь от характерологического показа дейст-
вительности. Некоторое абстрагирование человеческих страстей и рацио-
налистическое оперирование общими признаками ставит роман мадам де
Аафайет на уровень требований ортодоксальной поэтики классицизма.
Если подобная форма литературы и не была предусмотрена доктриной
(«Поэтическое искусство» Буало появилось за четыре года до «Принцессы
де Клев»), то она полностью отвечает ей в романе Лафайет.
И тем не менее «Принцесса де Клев» целиком подготовлена великим
реализмом Возрождения. Акад. А. Н. Веоеловский возводил этот роман
ПРОЗАПКП КЛАССИЦИЗМА
4G5
по прямой линии к «Фьяметте» Боккаччо. «И современники Боккаччо вчи-
тывались в „Фьяметту", — писал он, — но выносили из нее не столько
уроки психологии, сколько обаяние риторичности и закупающей слух
фразы.. . Живая струя надолго теряется в песках, чтобы пробиться в
другом месте: в „Принцессе Клевской" M-me de La Fayette». '
Таким образом роман мадам де Лафайет дает лишнее подтверждение
глубокой внутренней связи между французской литературой XVII в. и
традициями литературы Ренессанса. Он вскрывает часто игнорируемую
исследователями преемственность двух великих эпох в истории французской
литературы.
1 А. Н. Веселовский. Боккаччо. его среда и сверстники. Собр. соч., т. V.
стр. 443—444.
30 История французской литературы —815
Г J А В А Т
МОЛЬЕР
1
ели классическая трагедия была создана Корнелем, те
классическая комедия явилась целиком созданием Жана-
Батиста Мольера (Jean-Baptiste Molière, 1622—1673).
Правда, многие крупные французские писатели XVII в.
(Корнель, Расин, Лафонтен, Скаррон, Сирано де Бер-
жерак, Ротру, Кино) от времени до времени пробовали
свои силы в области комедийного жанра. И все же од-
ному Мольеру удалось создать подлинно реалистиче-
скую, полнокровную комедию, брызжущую весельем,
жизнерадостностью, здоровым плебейским юмором и в
то же время — исключительно глубокую, насыщенную большим фиппгпф
ски'м содержанием и стоящую на высоте наиболее прогрессивных идей его
эпохи.
Настоящая фамилия великого французского комедиографа, прославив-
шегося под актерским псевдонимом Мольера, была Поклен (Poquelin). Он
происходил из семьи ремесленников, в течение нескольких веков состояв-
ших в цехе обойщиков-драпировщиков. Семья Покленов жила сначала
в провинциальном городке Бове, а затем с конца XVI в. — в Париже,
где дед Мольера открыл обойную мастерскую и лавку. Отец Мольера
развил это дело и купил должность придворного обойщика, которая
принесла ему звание «королевского камердинера» (valet de chambre du roi)
и ввела его в состав дворцовой челяди.
Будучи сыном именитого купца, Мольер получил превосходное образо-
вание. Он воспитывался в иезуитской школе — Клермонском коллеже, где
основателоно изучил латынь, так что свободно читал в подлиннике древне-
римских авторов. Он даже перевел на французский язык поэму античного
философа-материалиста Лукреция «О природе вещей» («De rerum natura»).
Время этого перевода установить трудно. Мольер впоследствии уничто-
жил его; сохранилось только несколько стихов, включенных им в монолог
Элианты в «Мизантропе» (д. II, явл. 3).
Интерес Мольера к поэме атомиста Лукреций принято объяснять
влиянием на него Гассенди, возродившего во Франции античный атомизм.
По преданию Мольер брал у Гассенди частные уроки философии вместе
с Сирано де Бержераком в доме богатого откупщика Люилье, отца его
MOJbEP
467
приятеля, поэта Шапеля. Однако предание это следует отвергнуть, потому
что Шапель слушал лекции Гассенди в 1650 г., когда Мольер был уже
актером и странствовал по провинции. Это не снимает, однако, вопроса
о влиянии на Мольера философии Гассенди, которое несомненно.
По окончании Клермонского коллежа (1639) Мольер выдержал при
Орлеанском университете экзамен на звание лиценциата прав. Это звание
давало Мольеру возможность стать адвокатом. Но юридическая карьера
привлекала его столь же мало, как и отцовское ремесло. Он чувствовал
в себе призвание к театру, которым увлекался с детских лет. Пренебрегая
распространенным в то время предубеждением против актерской профессии,
Мольер решил стать актером. Он организовал в 1643 г. театральное пред-
приятие, получившее громкое наименование «Блистательного театра»
(Illustre-Théâtre). Театр этот просуществовал около двух лет, испытывая
все время материальные затруднения в виду отсутствия хороших пьес и
хороших актеров. Осенью 1645 г. «Блистательный театр» прекратил свое
существование. Труппа его распалась, а Мольер отправился искать счастья
в провинцию, примкнув к труппе бродячих комедиантов, возглавляемой
старым актером Шарлем Дюфреном.
Для Мольера началась пора скитаний по провинции, заполнивших три-
надцать лет его жизни (1645—1658). Эти годы скитаний явились для
него суровой школой жизни и художественного мастерства. Мольер
вьгаес из своих скитаний превосходное знание народного быта и жизни
провинциальных городов Франции, проглядывающее во многих его коме-
диях (например, в «Дон Жуане», «Лекаре поневоле», «Господине де Пур-
соньяке», «Графине д'Эскарбанья»). Работая в провинции в годы Фронды,
Мольер испытал на себе все прелести необеспеченного и бесправного суще-
ствования бродячих актеров XVII в. Он испытал и холодное равнодушие
провинциального зрителя, и жестокую конкуренцию многочисленных актер-
ских трупп, и недоброжелательное отношение местных властей, запрещав-
ших спектакли под любыми предлогами (например, ссылаясь на дорого-
визну хлеба). В таких тяжелых условиях окреп актерский талант Мольера,
который нашел в провинции свое подлинное призвание, перейдя к исполне-
нию комических ролей. Новое актерское амплуа вскоре создало Мольеру
такую репутацию, что с 1650 г. он сменил Дюфрена в качестве главы
труппы.
Возглавив свою труппу, Мольер постарался прежде всего создать ей
оригинальное лицо. Но оригинальное лицо театра определялось в это
время наличием у него собственного репертуара, отличавшего его от других
театров. Мольер не раз совершал поездки в Париж за репертуарными
новинками (например, в 1651 г.), но довольно безрезультатно. Тогда он
решил сам взяться за перо, чтобы вывести свою труппу из репертуарного
кризиса. Ориентируясь на вкусы ндродного зрителя, соответствовавшие
его собственным творческим устремлениям, Мольэр обратился не к траги-
ческому, а к комическому жанру. В этой области у него совершенно не
было конкурентов, и его труппа вскоре выдвинулась на первое место
в провинции.
Сначала Мольер не писал настоящих комедий. Он набрасывал только
сценарии небольших комических пьесок, которые он называл «дивертисмен-
тами» (divertissements) и которые по существу являлись фарсами, крепко
связанными с традициями этого старинного народного жанра. Однако от
средневекового фарса «дивертисменты» Мольера отличались прозаической
формой и расчетом на актерскую импровизацию. То и другое было вос-
принято Мольером от итальянской commedia dell'arte, с которой он неодно-
468
КЛАССИЦИЗМ
кратно сталкивался в годы своих актерских скитаний. До Мольера такую
попытку объединения традиции старинного французского фарса с тради-
цией commedia dell'arte делали знаменитые фарсовые актеры Бургундского
Отеля первой трети XVII в. Последний из них, Гильо Горжю (Guillot
Gorju), умер в 1648 г. Впоследствии недоброжелатели Мольера обвиняли
его в том, что он купил у вдовы Гильо Горжю оставшиеся после знамени-
того актера рукописи и выдал их за плоды собственного творчества.
Множество фарсовых сценариев, сочиненных Мольером в провинции,
утеряно. Сейчас трудно даже установить в точности их наименования.
Известны только названия аналогичных пьесок, поставленных Мольером
в Париже после его возвращения из провинции (1658). Таковы: «Влюблен-
ный доктор» («Le Docteur amoureux»), «Гро-Рене школьник» («Gros-René
écolier»), «Горжибюс в мешке» («Gorgibus dans le sac»), «Доктор педант»
(«Le Docteur pédant»), «План-план» («Plan-plan»), «Три доктора» («Les
Trois docteurs»), «Вязальщик хвороста» («Le Fagotier»), «Казакин» («La
Casaque»), «Гро-Рене ревнивец» («Gros-René jaloux»), «Хитрый увалень»
(«Le Fin lourdaud»). Заглавия некоторых из этих пьес содержат намеки
на сюжетные ситуации позднейших фарсов Мольера. Так, например, назва-
ние «Вязальщик хвороста» приводит на ум комедию «Лекарь поневоле»,
герой которой является вязальщиком хвороста, а название «Горжибюс
в мешке» вызывает в памяти одну из самых забавных сцен «Плутней
Скапена» (д. III, явл. 2). Это показывает, что зрелый Мольер охотно воз-
вращался к ситуациям и мотивам своих юношеских фарсов.
Кроме того, сохранились две одноактные комедии — «Ревность Бар-
булье» («La Jalousie du Barbouillé») и «Летающий лекарь» («Le Médecin
volant»), впервые опубликованные в 1819 г. библиографом Виолле-Ле-
Дюком по недатированной рукописи библиотеки Мазарини и с тех пор пере-
печатывавшиеся в большинстве собраний сочинений Мольера. Однако при-
надлежность этих фарсов перу Мольера является весьма сомнительной, ибо
Мольер сочинял в провинции только сценарии, между тем как обе назван-
ные пьески написаны полностью. Повидимому, они были сочинены после
смерти Мольера каким-то провинциальным актером, заполнившим подлин-
ные мольеровские сценарии обильными заимствованиями из текста позд-
нейших комедий Мольера.
В сюжетном отношении юношеские фарсы Мольера были мало ориги-
нальны. В них фигурировали традиционные персонажи итальянского и
французского фарса: скупые и одураченные старики, болтливые педанты-
доктора, глупые и хитрые слуги, развязные субретки, симпатичные, но
бесцветные влюбленные. Интрига сплеталась из всякого рода неожиданно-
стей, переодеваний, мистификаций и плутней. Комический эффект вызы-
вался не столько словами, сколько шутовскими действиями, граничащими
с клоунскими выходками. Юный Мольер не был еще ни вдумчивым быто-
писателем, ни язвительным сатириком. На первых порах он ставил перед
собой только задачу освоения традиционной фарсово-комедийной техники,
не гнушаясь заимствованиями из самых разнообразных источников.
Как ни примитивны были юношеские пьесы Мольера, они отличались
несравненно более высоким качеством, чем пьесы других французских
комедийных авторов. Они привлекали современников своей комической
силой, жизнерадостностью и динамичностью. С первых же шагов Мольера
на драматическом поприще его комизм носил народный характер. Боевой
задор, непочтительное отношение к высшим мира сего, уменье подметить и
передать смехотворные черточки людей всяких состояний и профессии —
MOJbEP
469
все это подготовляло Мольера к тому поприщу комедиографа-сатирика, на
котором ему предстояло создать свои лучшие произведения.
Но для того чтобы подняться до высот сатирической комедии
Мольеру необходимо было предварительно пройти через учебу у мастеров
литературной комедии. Эта учеба была нужна ему для того, чтобы преодо-
леть примитивный схематизм и грубоватость фарса, познавательные воз-
можности которого были сравнительно невелики. Стремясь к полнокров-
ному отражению жизни, Мольер рано начал испытывать тягу к большой
форме стихотворной комедии с развернутой интригой, с большим количе-
ством персонажей, с обилием и разнообразием сюжетных положений.
Такая комедия была представлена во Франции первой половины XVII в.
совсем небольшим количеством образцов, которые были мало оригинальны
и чаще всего строились на подражании итальянской комедии. При этом
отправной точкой являлась не итальянская комедия масок (commedia
dell'arte), а так называемая «ученая комедия» (commedia erudita), возникшая
в начале XVI в. в качестве подражания комедии Плавта и Терен-
ция (Ариосто), затем обогащенная новеллистической тематикой (Бибьена,
Макьявелли, Аретино), а в конце XVI и в начале XVII в. испытавшая
обратное воздействие оплодотворенной ею полвека назад комедии масок.
Освоить опыт и драматургическую технику этого жанра явилось задачей
молодого Мольера, когда он от фарсовых сценариев обратился к сочине-
нию настоящих комедий.
Первой из литературных комедий Мольера была пьеса лСумасброд*
или Всё невпопад» («L'Ftourdi, ou Les Contretemps», 1655), поставленная
в Лионе, ставшем с 1653 г. основной базой мольеровской труппы. Фабула
этой комедии заимствована из пьесы итальянского актера-драматурга
Никколо Барбьери «Неразумный» («L'inavvertito», 1629), но Мольер до-
вольно основательно переработал свой источник.
Главной целью Мольера в этой пьесе было позабавить зрителя комич-
ным повторением одной и той же ситуации: сумасброд Лелий разрушает
своим неуместным вмешательством все остроумные выдумки слуги
Маскариля, хлопочущего о его счастье.
Самой интересной фигурой комедии является ловкач-слуга Маскариль,
подлинный «король плутов», по его собственному выражению. Остроум-
ный, подвижный, предприимчивый, неистощимо изобретательный, он беско-
нечно превосходит своего придурковатого и незадачливого господина,
которому он служит не за страх, а за совесть, в то же время частенько под-
трунивая над ним. Так с первых же своих шагов на драматургическом
поприще Мольер создает образ умного, талантливого и энергичного человека
из народа, к которому он неоднократно будет возвращаться в последую-
щих комедиях, внося в них струю подлинно народного комизма. Централь-
ное место образа Маскариля в «Сумасброде» подчеркивалось громадным
объемом этой роли, исполнение которой взял на себя сам Мольер.
Через год после «Сумасброда» Мольер поставил свою вторую коме-
дию «Любовная размолвка» («Le Dépit amoureux», 1656). Ее фабула заим-
ствована из итальянской комедии Никколо Секки «Выгода» («L'Intéresse»,
1585), в которой на первый план выдвинута сложная, запутанная интрига
(центральным персонажем комедии является девушка, которую все прини-
мают за юношу). Мольер и здесь сильно переработал итальянский перво-
источник, введя в комедию ту ситуацию, от которой она и получила свое
название. Эта ситуация — история любовных треволнений Люсили и Эра-
ста, их размолвок и примирений. Развертывание этой ситуации образовало
внутри пятиактной пьесы Мольера как бы небольшую самостоятельную
470
КЛАССИЦИЗМ
двухактную комедию, которую впоследствии выделили из пьесы и стали
играть отдельно.
Блестящая разработка Мольером психологии влюбленных вносит
в банальную фабулу пьесы яркий реально-психологический элемент. Он
усиливается еще тем, что любовные треволнения Люсили и Эраста дубли-
руются их слугами Гро-Рене и Маринетой. Параллельное развертывание
любовных отношений господ и слуг постоянно фигурировало уже в испан-
ской комедии, но там оно преимущественно преследовало задачу смехотвор-
ного коитраста между господами и слугами; Мольер же наполняет этот
пародийный контраст конкретным социально-бытовым содержанием. Господа
и слуги ссорятся и мирятся совершенно по-разному, и Мольер искусно под-
черкивает социальную обусловленность их поведения. Большая наблюда-
тельность и хорошее знание народного быта проглядывает в отмеченных
сценах «Любовной размолвки». Впоследствии, в пору своей творческой зре-
лости, Мольер снова воспроизвел в «Мещанине во дворянстве» ту же
сцену «любовной размолвки» двух пар влюбленных — господ и слуг. Од-
нако этот второй квартет влюбленных оказался при всей его балетной гра-
циозности, менее жизненным, чем квартет «Любовной размолвки».
2
Огромный успех «Сумасброда» и «Любовной размолвки» выдвинул
труппу Мольера на первое место в провинции. Она явно переросла про-
винциальные масштабы и стала подумывать о возвращении в Париж. Мольер
начал хлопотать о том, чтобы его пригласили в столицу и предоставили ему
дебют при дворе. Эти хлопоты увенчались успехом, и 24 октября 1658 г.
труппа Мольера впервые выступила перед двором. Успех спектакля опре^
делился после исполнения фарса «Влюбленный доктор» с Мольером в за-
главной роли. Так как в репертуаре парижских театров уже в течение
десяти лет отсутствовали пьесы подобного жанра, а Мольер сумел блеснуть
во «Влюбленном докторе» одновременно как актер и как драматург, то
король оставил его труппу в Париже и предоставил ему помещение при-
дворного театра Пти-Бурбон (Petit-Bourbon), в котором труппа Мольера
начала выступать в очередь с труппой итальянских комедиантов.
В течение первого года своего пребывания в Париже Мольер ставил
исключительно старые пьесы, уже игранные в провинции. Только хорошо
ознакомившись с окружающей обстановкой и заручившись поддержкой
влиятельных лиц, он выступил перед парижской публикой с новой коме-
дией. Эта пьеса, «Смешные жеманницы» («Les Précieuses ridicules», 1659),
носила ярко злободневный и сатирический характер. Мольер использовал
в этой одноактной комедии в прозе приемы фарса для осмеяния модной
аристократической прещиозности и ее разлагающего влияния на мещан-
ский быт.
Мольер был не первым писателем, нападавшим на жеманных героинь
и героев парижских салонов. Уже до него прециозную знать высмеивали
Скаррон, аббат д'Обиньяк, Сент-Эвремон, аббат де-Пюр. Но все они
нападали не столько на самую прециозность, сколько на чрезмерное увле-
чение ею, казавшееся комичным. Мрльер же высмеял самое существо ка-
стовой прециозной эстетики, искажающей «природу» и противоречащей
здравому смыслу. Он мастерски обрисовал различные стороны прециоз-
ности, как салонного, аристократического направления во французской
литературе и общественной жизни.
Так как прециозная клика объединяла представителей знатнейших и
влиятельнейших аристократических родов, то Мольер не мог на нее на-
МОЛЬЕР.
С портрета Миньяра (в музее Конде, в Шантильи).
ИвЛЪЕР
471
падать открыто. Он показал поэтому смехотворные черты прециозности
в карикатурном отражении ее у провинциальных мещанок Мадлон и Като,
неловко подражающих парижским дамам, а также у плутов-слуг Маска-
риля и Жодле, переряженных маркизом и виконтом. Однако и мещанки и
слуги воспроизводили типичные особенности настоящей прециозной знати,
вследствие чего сатира Мольера задевала и их аристократические прототи-
пы. Тщетно Мольер утверждал в предисловии к печатному изданию
своей комедии, что нападал в ней не на подлинных, а на ложных жеман-
ниц (лрециозниц). Никто из современников этому не поверил. Комедия
больно уязвила прециозную знать ео главе с Мадленой де Скюдери, ро-
маны которой иронически упоминаются в пьесе. Салонной клике удалось
даже добиться запрещения комедии, которое было, однако, вскоре снято
по распоряжению короля.
Но комедия «Смешные жеманницы» заключала в себе не только
сатиру на модную прециозность. Мольер впервые поставил в этой коме-
дии излюбленную им тему любви, брака и организации семейной жизни.
Героини комедии Мадлон и Като защищают перед своим отцом и дядей,
патриархальным буржуа Горжибюсом, свое -право на любовь; они протестуют
против скучной прозы мещанской семейной жизни, против распространен-
ного в буржуазной среде воззрения на брак как на сделку, заключаемую
отцом невесты с женихом, помимо желания невесты. Мольер показывает,
что мертвящая скука и прозаичность буржуазного быта толкают мещанских
девушек в сторону прециозности, которая реализует, с их точки зрения,
лелеемую ими мечту о красивой жизни. Мольер высмеивает жеманниц, как
своего рода «мещанок во дворянстве», но не становится также и на точку
зрения папаши Горжибюса, этого грубого и некультурного буржуа, кри-
куна и самодура. Свой жизненный идеал Мольер пока не декларирует:
этого не позволяли ему жанровые особенности «Смешных жеманниц»,
являвшихся маленьким, незамысловатым фарсом.
На той же жанровой основе вырастает и следующая комедия Мольера,
тоже одноактная, но написанная не прозой, а стихами — «Сганарель, или
Мнимый рогоносец» («Sganarelle, ou le Cocu imaginaire», 1660). В этой пьесе
Мольер возвратился к комическим несообразностям интриги своих ранних
комедий, снова переплетая приемы итальянской комедии масок с приемами
старого французского фарса. Новым в пьесе явился образ ревнивого мужа
Сганареля, исполнение которого взял на себя сам Мольер, игравший во
всех предыдущих своих комедиях роли Маскариля.
Несмотря на итальянское происхождение своего имени (Zarmarello,
уменьшительное от Zanni — традиционного имени комического слуги в
commedia dell'arte), Сганарель не относится к числу итальянских масок,
усвоенных Мольером. Этот комический персонаж, фигурирующий в шести
пьесах Мольера 60-х годов, является его собственным изобретением и ли-
шен схематиама итальянских масок. Весьма разнообразный по своим сю-
жетным функциям в различных комедиях Мольера, то «почтенный» бур-
жуа, то слуга-крестьянин, он часто наделяется придурковатостью, тяжело-
весностью, низменностью мыслей и чувств. Нередко он, как и Горжибюс,
олицетворяет смешные и уродливые стороны характера французского
буржуа. Несколько иной характер имеет Сганарель, когда он выступает
в ролях крестьян, например, в «Лекаре поневоле».
В рассматриваемой комедии Мольер сделал Сганареля ревнивым му-
жем, «мнимым рогоносцем». Тема супружеской неверности, как неизбеж-
ного последствия брака по расчету, является одной из любимейших тем
мольеровской комедии, правдиво отражающей современные ему нравы.
472
НЛАССИЦПЗМ
В «Мнимом рогоносце» эта тема впервые намечена. Мольер мастерски пока-
зывает муки ревности Сганареля, которому все время чудится, что жена
наставляет ему рога, и который сначала решает с оружием в руках защи-
щать свою супружескую честь, а затем пугается перспективы быть убитым
мнимым соблазнителем своей жены и решает, что лучше быть рогоносцем,
чем мертвецом.
Хорошим дополнением к образу Сганареля является образ старого
буржуа Горжибюса, который заставляет свою дочь Селию выйти замуж
за нелюбимого ею Валера только потому, что он богат. По его мнению —
Урода золото преобразит чудесно,
А остальное все совсем не интересно.
Такой культ золота, такой торгашеский подход к браку, в равной мере
присущий во Франции XVII в. и дворянству и буржуазии, имеет естест-
венным последствием превращение мужа в рогоносиа. Мольер покажет это
позже в «Жорже Дандене».
Огромный успех «Сганареля» привлек к Мольеру внимание короля,
который начал часто приглашать его труппу ко двору. Это усилило не-
приязнь к Мольеру реакционной аристократии, которая не могла простить
ему «Смешных жеманниц». Враги Мольера не стеснялись никакими сред-
ствами, стараясь помешать его деятельности. Так, в октябре 1660 г. они
попытались лишить его труппу помещения. Заведующий королевскими зда-
ниями Ратабон без всякого предупреждения начал разрушать театр Пти-
Бурбон под предлогом расширения Луврского дворца. Труппа Мольера
очутилась на улице. Мольер пожаловался королю, и тот предоставил ему
роскошное здание театра Пале-Рояль, некогда сооруженное Ришелье, но
сильно обветшавшее после его смерти. Здание это потребовало трехмесяч-
ного ремонта. В течение этого времени труппа Мольера выступала только
при дворе и в домах высшей знати.
Наконец, 20 января 1661 г. спектакли труппы Мольера возобновились
в новом помещении, в котором она оставалась уже до самой смерти Моль-
ера. Свое водворение в Пале-Рояле Мольер решил отметить постановкой
пьесы необычного для него жанра «героической комедии», разработан-
ного до него Корнелем («Дон Санчо Арагонский»). Новая пьеса называ-
лась «Дон Гарсия Наваррский, или Ревнивый принц» («Don Garcie de
Navarre, ou le Prince jaloux», 1661). Ее сюжет был заимствован из комедии
итальянского драматурга Чиконьини «Счастливая ревность принца Род-
риго» (1654). Мольер сделал здесь попытку разработать в серьезном плане
тему ревности, трактованную им комически в «Сганареле». С этой целью
он перенес действие в более высокую социальную среду и сделал его участ-
никами испанских принцев и принцесс.
Реалистический характер творчества Мольера проявился в «Доне
Гарсии Наваррском» в том, что испанский колорит в этой пьесе не огра-
ничился испанскими именами, событиями и местом действия. Мольер
постарался изобразить своих героев настоящими испанскими аристокра-
тами. Так, дона Гарсию он наделил характером типичного испанского дво-
рянина, крайне щепетильного в вопросах любви и чести. Его ревность
вырастает на основе этой щепетильности и пробуждается от самого ни-
чтожного повода. Равным образом и принцесса Эльвира является настоя-
щей испанкой, которая из гордости не считает возможным подчиниться
любимому ею дону Гарсии и выносить его ревнивые вспышки. Только в
последнем акте Мольер несколько смягчил суровость Эльвиры, приведя
вьесу к благополучному концу, который обусловлен спецификой жанра
МОЛЬЕР
473
«героической комедии». По этой же причине комизм пьесы совершенно
лишен буффонного характера; это «высокий», философский комизм, про-
истекающий от несоответствия между страстью главного героя и вызываю-
щими ее ничтожными, вздорными причинами.
Мольер возлагал на «Дона Гарсию» большие надежды, которые, од-
нако, не оправдались. Комедия решительно провалилась. Повидимому, де-
мократическому зрителю Пале-Рояля показался неинтересным тот «высо-
кий» комизм, которым Мольер насытил свою пьесу, а также изображенные
в ней рыцарские нравы. Гораздо больше успеха имел «Дон Гарсия» при
дворе. Но Мольера мало радовало признание его пьесы придворной знатью.
Он так и не напечатал ее при жизни и возвратился к той же теме несколько
лет спустя в «Мизантропе», для которого он использовал многие строки
«Дона Гарсии».
Блестящий реванш за неудачу «Дона Гарсии» Мольер взял комедией
«Урок мужьям» («L'École des maris», 1661), ознаменовавшей его поворот
к жанру комедии нравов. Проблемы любви, брака, воспитания детей и
устроения буржуазной семьи, мимоходом затронутые в фарсах «Смешные
жеманницы» и «Мнимый рогоносец», выдвинулись в «Уроке мужьям» на
первый план, получив не только критическое, отрицательное, но и положи-
тельное освещение. «Урок мужьям» — первая проблемная пьеса Мольера,
в которой он изобразил столкновение двух мировоззрений — отсталого,
средневекового, домостроевского, и нового, просвещенного, гуманистиче-
ского.
Выразителем первого из этих двух мировоззрений является Сганарель.
Это — приверженец старины, ненавистник всякого рода новшеств в бур-
жуазном быту, решительный защитник старых способов воспитания, осно-
ванных на суровости, насилии, принуждении и единоличной власти главы
семейства. Своей воспитаннице Изабелле, которую он готовит себе в жены,
он запрещает носить модные платья, водить знакомство с молодыми людь-
ми, заниматься чем-либо, кроме домашнего хозяйства, потому что, по его
откровенному признанию, «он вовсе не хочет нажить себе рога».
В противоположность Сганарелю, Арист является человеком нового
склада, защитником личной свободы и автономии в вопросах чувства. Сни-
сходительный к своей воспитаннице Леоноре, он горячо отстаивает новые
методы воспитания женщин:
Свободу слабый пол умеет уважать;
Одною строгостью их трудно удержать;
Решеткой и замком искуснейший радетель
Не в силах воспитать в их душах добродетель.
К обязанностям честь вести должна одна;
Суровость лишняя, мне кажется, вредна.
(Д. I. явл. 2).
Основной задачей этой комедии является утверждение гуманистиче-
ской морали, основанной на вере в доброту человеческой природы, на при-
знании инстинктов надежными руководителями человеческого поведения.
Протестуя против борьбы с естественными склонностями молодежи,
Мольер готов оправдать молодых девушек в том, что они прибегают для
защиты своих прав к различным уловкам и хитростям. Домостроевская
мораль Сганареля, который так боится рогов, разоблачается не только
теоретически, но и практически: Изабелла награждает его, несмотря на все
принятые им меры, как раз тем, чего он так опасался.
Такой ход мыслей Мольера обличает его следование моральной фило-
софии Гассенди. Мольер усваивает сенсуалистические принципы этики Гас-
474
КЛАССИЦИЗМ
сенди, его утверждение, что человек может быть счастлив, только сле-
дуя «природе», а также его предпочтение опыта умозрению и убеждение
в том, что истина может быть установлена только путем проверки извест-
ного положения человеческой практикой. Как и Гассенди, Мольер отожде-
ствляет естественное с разумным и нравственным. Во имя «природы» он
воюет со всякого рода насилиями над человеческой личностью, изображая
насильников и исказителей природы в комичном свете и тем дискредлтируя
их. Так комедия в руках Мольера становилась подлинно боевым орудием
идеологической борьбы, обличавшим все реакционные стороны во француз-
ском быте XVII в.
В процессе такого идеологического перевооружения Мольер все больше
отходил от примитивного схематизма старинного фарса и стремился к со-
зданию более строгой и содержательной формы комедии. Такая форма пре-
дуказывалась ему поэтикой классицизма, которая формулировала, по его
мнению, законы большой литературы, обращавшейся ко всем слоям фран-
цузского общества. Если в первых своих комедиях Мольер был еще до-
вольно далек от классицизма, то, начиная с «Урока мужьям», он стал ре-
шительно склоняться к нему.
Обращение к классицистической доктрине не ослабило народности
мольеровского творчества, потому что последняя выражалась прежде всего
в народности проводимых Мольером гуманистических идей. Те идеалы сво-
боды от принуждения, естественности чувств, человечности и здравого
смысла, которые Мольер защищал в «Уроке мужьям» и в последовавших
за ним комедиях, он мог найти в сущности только в народных массах.
Именно там, в народе, реально существовал брак по любви и «естествен-
ные» отношения между мужьями и женами, между родителями и
детьми.
Этапное значение «Урока мужьям» хорошо ощутили уже современ-
ники, у которых пьеса имела огромный успех. Впоследствии Вольтер пи-
сал об «Уроке мужьям»: «Даже если бы Мольер написал только одно
это произведение, он мог бы прослыть превосходным комедийным авто-
ром».
В том же 1661 г. Мольер выступил с пьесой «Докучные» («Les Fâ-
cheux»), положившей начало новому в его драматургии жанру комедии-
балета. Комедия эта была написана специально для парадного спектакля,
который давал в своем загородном замке Во (Vaux) министр финансов
Фуке. Несмотря на это, «Докучные» не явились пьесой-однодневкой, а были
отмечены крупными идейно-художественными достижениями.
Мольер сделал в «Докучных» первую попытку соединения комедии
нравов с балетом, этим излюбленным видом придворных увеселений. От
новейшего балета французский балет XVII в. отличался наличием речевого
элемента; отдельным танцевальным «выходам» (entrées) персонажей пред-
посылались выступления певцов (récits), объяснявшие их сюжетное значе-
ние. Время от времени делались попытки усложнить сюжет балетного спек-
такля, заставив его развертывать связное драматическое действие; такой
балет назывался «мелодраматическим». Однако накануне выступления
Мольера господствовал жанр «балета в выходах» (ballet aux entrées), в ко-
тором упор делался на чистый танец в ущерб сюжетному единству спек-
такля. Новизной «балета в выходах» было выдвижение реально-бытовых
образов, получавших гротескно-комическую трактовку, вместо прежних
условных пасторально-мифологических образов. Это до известной степени
подготовляло балет к тому соединению его с комедией, которое было пред-
принято Мольером.
МОЛЬЕР
476
Мольер. «Урок женам».
С рисунка Ш. Куапеля, грав. Жуленом.
Новаторская инициатива Мольера на этом участке проявилась в стрем-
лении драматизовать танцевальные номера, крепко связав их с действием
комедии. Разрешение этой задачи в «Докучных» было облегчено тем, что
комедия эта не.имеет интриги. Она состоит из ряда сценок, нанизанных на
примитивный сюжетный стержень: разные «докучные» люди мешают сви-
данию влюбленных Эраста и Орфизы. Характеры влюбленных очерчены
весьма бегло, и центр тяжести перенесен на обрисовку «докучных», како-
выми являются разные представители аристократического общества — игро-
ки, дуэлянты, прожектеры, педанты и великосветские бездельники. Все они
обрисованы Мольером с большим сатирическим темпераментом, напоминая
персонажей сатир Матюрена Ренье и Скаррона и предвещая сатирические
характеристики Лабрюйера. Проходящие как бы в сатирическом обозрении
портреты представителей паразитической знати являются первой пробой
пера Мольера в области создания социально-сатирических характеров. В
этом смысле комедия-балет «Докучные» предвещает такой шедевр класси-
цистической комедии характеров, как «Мизантроп».
Принципиальное значение «Докучных» в борьбе за реалистический ме-
тод было отмечено приятелем Мольера, баснописцем Лафонтеном. В сти-
хотворном послании к Мокруа, дающем описание празднества в замке Фуке,
на котором были представлены «Докучные», Лафонтен написал известные
строки:
47G
КЛАССИЦИЗМ
Nous avons changé de méthode,
Jodelet n'est plus à la mode,
Et maintenant il ne faut pas
Laisser la nature d'un pas.1
Упоминая имя знаменитого фарсового актера Жодле, которого Мольер
привлек к участию в «Смешных жеманницах», назвав его именем одного из
комических слуг, Лафонтен хотел сказать, что Мольер преодолел в «До-
кучных» фарсовую традицию. На самом же деле влияние фарса продол-
жало проявляться у Мольера и дальше, но фарсовая буффонада лишилась
доминирующего значения в его творческом методе.
Позиции, завоеванные Мольером в «Уроке мужьям» и в «Докучных»,
закрепляются в знаменитой комедии «Урок женам» («L'École des femmes»,
1662), которая сыграла в истории мольеровского творчества очень важную
роль. Она явилась крупнейшим сценическим успехом Мольера и вызвала
оживленную полемику, в которой сплелись зависть соперничавших с Молье-
ром драматургов и театров с идеологической борьбой, которую вела с ним
реакционная аристократия. Литературно-театральная борьба сопровожда-
лась клеветническими слухами, инсинуациями и интригами, которые имели
целью скомпрометировать смелого комедиографа-сатирика.
Сама пьеса, как показывает ее название, является как бы вариацией на
тему «Урюка мужьям». Она подхватывает и развивает мысли, высказанные
в последней пьесе. Однако противопоставление двух систем воспитания осу-
ществляется в «Уроке женам» не путем противопоставления двух девушек и
нх воспитателей, а путем показа одной только шары — богатого буржуа Ар-
нольфа и его воспитанницы Агнесы. Аристу же соответствует в «Уроке
женам» друг Арнольфа Кризальд, который превращен в чистого резонера.
Некоторое упрощение сюжетной схемы «Урока женам» по сравнению
с «Уроком мужьям» вызвано стремлением Мольера к психологическому
углублению и бытсмвому насыщению образов его новой пьесы. Так, образ
Арнольфа гораздо богаче и полнокровнее образа Сганареля, а Изабелла
бледнеет перед великолепно нарисованной Агнесой, характер которой раз-
вивается на протяжении всей пьесы. В начале комедии она еще девушка-
простушка, воплощенная наивность, подлинное «дитя природы», не знаю-
щее жизни. В конце пьесы она превращается в настоящую женщину, поум-
невшую благодаря любви к Орасу и борьбе за свое «естественное» чув-
ство против тиранящего ее Арнольфа.
Арнольф является одним из самых ярких, полнокровных и разоблачи-
тельных образов буржуа во всей драматургии Мольера. Это очень богатый
человек, который кичится своими капиталами и в то же время, подобно многим
разбогатевшим купцам во Франции XVII в., покупает дворянское поместье
и меняет свое плебейское имя на аристократическое «господин де Ласуш».
В прошлом убежденный холостяк, он воспитывает отобранную у матери
крестьянскую девушку Агнесу в суровом домостроевском духе, внушая ей,
что она должна быть счастлива предстоящим ей браком с ним, Арнольфом.
Главным аргументом этого типичного собственника являются его деньги:
1 «Мы изменили наш метод, Жодле больше не в моде, и теперь уже нельзя отсту-
пать ни на шаг от природы».
МОЛЬЕР
477
Довольно я богат, чтобы моя жена
Мне одному была во всем подчинена.
Чтобы ни в знатности породы ни в именье
Нельзя ей было взять над мужем предпочтенье
(Д. I. явл. 1).
Для укрепления своего господства над бедной девушкой, целиком от
него зависящей в материальном отношении, Арнольф обращается к помощи
религии. Он воспитывает Агнесу в монастыре, где ее держат в полном неве-
жестве и в страхе божием, а затем внушает темный суеверной девушке,
Что в аду, в котлах назначено вариться
Тем женам, что, живя, не захотят смириться.
(Д. III, явл. 2).
Так как для воспитанной в монастыре Агнесы высшим законом являются
десять заповедей Моисея, то Арнольф сочиняет для нее свои десять запо-
ведей супружеской жизни, развивающие все ту же домостроевскую мораль
и внушающие жене,
Что муж, ее беря, лишь для себя берет.
(Там же).
Так Мольер рисует яркую картину жестокого угнетения женщины
буржуа-собственником. В этой картине не пропущена ни одна разоблачи-
тельная черточка.
В формальном отношении «Урок женам» отличается еще большим
приближением Мольера к канону классицизма, чем «Урок мужьям» и «До-
кучные». Немалое значение имело здесь то, что, в отличие от двух назван-
ных пьес, «Урок женам» имеет пять актов, а в XVII в. только пятиактная
комедия в стихах признавалась полноценной, «правильной» пьесой. По-
этому после «Урока женам» Мольер окончательно вышел из категории фар-
совых авторов, в которую зачисляли его (вопреки отзыву Лафонтена) не-
доброжелатели. Именно потому «Урок женам» и вызвал ожесточенную ли-
тературную полемику. Эта полемика отражена в написанных в это время
известных стансах Буало:
Толпа завистников надменных,
Мольер, пыталась дерзновенно
Твой лучший труд критиковать,
И все ж прелестное творенье
Потомство будет развлекать
От поколенья к поколенью.
Сумел ты с пользой поучать
И правду весело вещать.
Всем у тебя мораль готова,
Прекрасно все, разумно в ней,
И часто шутовское слово
Ученой лекции ценней.
Молве не придавай значенья.
Враги разносят без сомненья
Хулу творенгям твоим.
Не видя в них причин для смеха.
Но верь, ты нравился бы им,
Когда бы не имел успеха.
В этом отзыве Буало особенно примечательно подчеркивание философ-
ской глубины комедий Мольера, которой нисколько не противоречит их ве-
селая, развлекательная оболочка. Мольер был, действительно, самым глу-
478
КЛАССИЦИЗМ
боким, самым философским из всех французских поэтов XVII в. Недаром
близкие к нему люди называли его «созерцателем» (contemplateur). Он был
неустанно занят наблюдением людей и жизни, стремясь к тому, чтобы
сама жизнь, отраженная в его комедиях, доказывала правоту его гумани-
стических взглядов, разоблачая всякие искажения природы и истины. Глу-
бокая правдивость и объективность Мольера придавала остроту и убеди-
тельность его социальной критике.
Особенно много недоброжелателей появилось у Мольера после «Урока
женам». Среди последних очутились оба брата Корнеля, которых Мольер
неосторожно задел в разных местах своей комедии. Открытую печатную
кампанию против «Урока женам» начал молодой литератор Донно де Визе
(Donneau de Visé), утверждавший в третьем томе обоих «Новых новелл»
(«Nouvelles nouvelles»), что все лучшее в пьесе Мольера заимствовано им у
других авторов, что сюжет ее построен слабо и что вся она изобилует про-
махами против хорошего вкуса. Статья Визе подала сигнал к выступлениям
других врагов Мольера, которые стремились создать впечатление, что
его комедия не может удовлетворить знатоков и имеет успех только
у «черни».
Мольер решил ответить своим врагам, обычно нападавшим на него
из-за угла, совершенно открыто, с подмостков своего театра. Он написал
одноактную полемическую комедию «Критика Урока женам» («La Critique
de l'École des femmes», 1663), в которой изобразил споры, разгоревшиеся
по поводу его комедии. Сам Мольер назвал ее «рассуждением в диалогах»,
хотя по существу «Критика Урока женам» является настоящей комедией,
сталкивающей в спорах по поводу пьесы живых людей, как бы выхвачен-
ных из парижских салонов.
Мольер тонко высмеял здесь различные категории своих недоброже-
лателей. Он насмехался над преувеличенно стыдливыми прециозными да-
мами (Климена), над пустоголовыми и самонадеянными маркизами (Мар-
киз), над завистливыми поэтами, нападающими на него из личных интере-
сов (Лизидас). Он показал всю мелочность возражений против его пьесы
и решительно отвел упреки в ее непристойности, указав на лицемерие, как
на наиболее распространенный в высшем обществе порок. Он дал также
отпор лицам, обвинявшим его в шутовстве, и красноречиво декларировал
свои права комического поэта, оспаривая ходячее мнение о большей труд-
ности и значительности трагедии.
Трагедия, по мнению Мольера, изображает героев, комедия же —
людей. Писать трагедию легче, чем комедию, потому что ее герои — «это
произвольные портреты, в которых никто не ищет сходства; вам нужно
только следить за полетом вашего воображения, которое нередко забывает
об истине, предпочитая чудесное». Совсем иначе обстоит дело в комедии,
потому что «изображая людей, вы пишете с натуры; портреты их должны
быть схожи, и вы ничего не достигли, если в них не узнают людей ва-
шего века». Комедию писать труднее, чем трагедию, уже хотя бы потому,
что «это нелегкое предприятие — заставить смеяться порядочных людей».
Нанося удар притязаниям трагедии на первенство, Мольер выступает
против сословной градации жанров в поэтике классицизма. Вслед за
градацией жанров он наносит удар также другому основному правилу клас-
сицизма — знаменитой теории «трех единств». Решительно отвергая педан-
тическое доктринерство в этом вопросе, кладя в основу «правил» принцип
здравого смысла, он утверждает, что «тот же здравый смысл, сделавший
эти наблюдения во время оно, легко делает их и теперь без помощи Гора-
ция и Аристотеля». Подобно Корнелю и Расину, Мольер считает, что
MOJbEP
47»
«величайшее из правил — нравиться», но он ориентируется на вкусы
более широких кругов зрителей, чем Корнель и Расин.
Энергичный отпор, который Мольер дал своим недоброжелателям,
только усилил полемический задор последних. Они стали сражаться с
Мольером его собственным оружием, отвечая на «Критику Урока женам»
аналогичными полемическими пьесами; некоторые из этих пьес ставились
на подмостках враждебного Мольеру Бургундского Отеля. Особенно раз-
дражила Мольера пьеса Бурсо (Boursault) «Портрет живописца» («Le port-
rait du peintre», 1663), в которой великий драматург был сам выведен на
сцене в карикатурном виде. По преданию, Людовик XIV велел Мольеру
ответить на дискредитировавшую его пьесу Бурсо. Таким ответом явился
«Версальский экспромт» («L'Impromptu de Versailles», 1663), построенный
еще оригинальнее, чем «Критика Урока женам». Мольер развернул здесь
действие на сцене своего театра, изобразив репетицию пьесы, которая дол-
жна явиться ответом на пасквиль Бурсо. Сам Мольер и актеры его труппы
выступают в «Версальском экспромте» под собственными именами, сохра-
няя свои бытовые и сценические особенности. Пьеса имеет документальный
интерес, так как дает представление о Мольере как режиссере и о методе
его работы с актерами.
Но еще важнее в «Версальском экспромте» полемика Мольера с Бурсо
и его вдохновителями — актерами Бургундского Отеля. Разоблачая Бурсо
как подставное лицо, за которым орудуют «королевские» актеры, Мольер
направляет свои главные стрелы в них и высмеивает их условную, напыщен-
ную декламацию, далекую от натуральной речи и бьющую на эффект.
Он критикует актеров Бургундского Отеля с реалистических позиций, на-
поминающих воззрения на театр шекспировского Гамлета. Опережая свой
век, Мольер настаивает на освобождении трагических актеров от влияния
двора и салонов и на приближении их игры к обыденной жизни.
Помимо театрально-эстетической полемики, «Версальский экспромт»
заключает в себе также смелые нападки на аристократическую золотую мо-
лодежь— на пустоголовых маркизов, которым доставалось уже в Смеш-
ных жеманницах», «Докучных» и «Критике Урока женам». Предлагая ак-
теру Лагранжу сыграть роль маркиза, Мольер так мотивирует свое частое
обращение к этому образу: «В наше время маркиз — самое комическое
лицо в пьесе; и как во всех старых комедиях можно всегда найти веселого
слугу, который заставляет зрителя хохотать, так в нынешних пьесах
для всеобщего развлечения нужен смешной маркиз». Превращение мар-
киза в шута, увеселяющего публику, как бы выворачивало наизнанку со-
словный принцип дворянского театра, в котором аристократы должны были
обязательно трактоваться в идеализованных тонах.
Хотя Мольер не напечатал «Версальского экспромта» и решил не от-
вечать на дальнейшие нападки, его противники не унимались и переводили
полемику на все более личную почву. Они донимали Мольера грязными
сплетнями по поводу его семейной жизни. Так, драматург Антуан Мон-
флери (Antoine Montfleury), сын актера Бургундского Отеля, высмеянного
Мольером в «Версальском экспромте», открыто заявил в своей пьесе «Экс-
промт Отеля Конде» («Impromptu de l'Hôtel de Condé», 1663) об изменах
Мольеру егс молодой жены, актрисы Арманды Бежар, на которой он же-
нился 20 февраля 1662 г. Когда же Мольер пренебрег этими инсинуациями,
враги Мольера подговорили трагика Монфлери подать королю донос на
Мольера как на кровосмесителя, женатого на собственной дочери.
Основанием для этой гнусной сплетни, впоследствии повторенной ря-
дом биографов Мольера, послужило то обстоятельство, что Арманда Бежар
480
классицизм
была на двадцать пять лет моложе своей сестры Мадлены и родилась в то
время, когда Мадлена была не только товарищем Мольера по труппе, но
и его любовницей. Так как Мадлена воспитала Арманду и относилась к ней
с материнской заботливостью, то враги Мольера распустили слух, что
Арманда не сестра, а дочь Мадлены, прижитая ею с Мольером. Если
Монфлери и не первый пустил в ход эту сплетню, то все же именно он
воспользовался ею, чтобы дискредитировать Мольера перед королем. Но
Людовик XIV не обратил никакого внимания на донос Монфлери и даже
крестил в феврале 1664 г. первого сына Мольера от Арманды, что заста-
вило умолкнуть злые языки.
4
Благосклонное отношение к Мольеру Людовика XIV, высоко ценив-
шего его как образцового комического поэта и актера, привело к упроче-
нию связей Мольера с двором, при котором он с 1664 г. начинает высту-
пать с пьесами, сочиняемыми для придворных празднеств. Придворная
деятельность такого убежденного идеолога третьего сословия, каким
являлся Мольер, была возможна на основе исторически необходимого во
Франции XVII в. компромисса буржуазии с абсолютной монархией. Как
и все третье сословие Франции XVII в., Мольер еще сохранял предан-
ность монархии, ибо считал ее единственной разумной формой государ-
ственной власти, отвечающей интересам всего французского народа. По-
тому в проводимой им борьбе с реакционной знатью и духовенством
Мольер всегда искал поддержки у короля, в котором он видел защитника
всех «порядочных людей» (gens de bien). Двор Людовика XIV предста-
влялся Мольеру центром великой французской культуры, средоточием
истины, разума, хорошего вкуса и трезвой государственной мысли. Рабо-
тать для двора казалось Мольеру почетным, и он недаром написал для
придворных спектаклей ряд лучших своих комедий.
При всем том работа для двора, являясь следствием и своеобразным
выражением компромисса между буржуазией и абсолютизмом, не могла не
налагать порой на Мольера обязательств, которые не вполне гармониро-
вали с его собственными художественными задачами. Так, например,
Мольеру приходилось принимать участие в организации помпезных празд-
неств, облеченных в галантно-аллегорическую, пасторальную или мифоло-
гическую оболочку, которая была ему не по вкусу, хотя он и работал в ат-
мосфере придворного искусства. Сочиняемые Мольером специально для
двора комедии обычно получали форму комедий-балетов, потому что Лю-
довик XIV и его приближенные увлекались балетом и сами охотно участ-
вовали в придворных балетных спектаклях. Но уже сочиняя «Докучных»,
Мольер сумел внести в разработку условного жанра комедии-балета при-
сущие его творчеству реалистические тенденции^ и теперь он старался так-
же проводить эту линию в комедиях,Сочиняемых для двора Людовика XIV.
Яркое подтверждение этому мы находим уже в первой придворной ко-
медии-балете Мольера «Брак по принужденью» («Le Mariage forcé». 1664),
написанной для карнавального спектакля в королевском дворце Лувре, а
затем полностью перенесенной Мольеоом на сцену его городского театра.
По своим жанровым признакам «Брак по принужденью» тесно связан
с фарсовой традицией. Фабула комедии сводится к тому, что отец и брат
«юной ветреницы» Доримены пытаются сбыть ее пожилому буржуа Сга-
нарелю, заставляя последнего почти насильно жениться на ней, после того
как Сганарель, убедившись в легкомыслии Доримены, совсем было решил
МОЛЬЕР
481
отказаться от задуманного брака. Все это трактуется в буффонных тонах.
Как и во многих других комедиях Мольера, в «Браке по принужденью»
поставлена проблема брака и супружеской верности, но она как бы вывер-
нута наизнанку, если сравнить эту пьесу с «Уроком мужьям» или «Уроком
женам».
Действительно, если самодур Арнольф тщетно пытается принудить
Агнесу выйти за него замуж, то очень похожий на Арнольфа, хотя и более
придурковатый Сганарель уже не только не принуждает Доримену выйти
за него замуж, но сам принуждается ее родственниками жениться на ней.
Образ героини тоже подвергся значительной трансформации. Если Агне-
са — воплощение простоты и невинности, то Доримена — девушка бывалая,
с задатками распутства. Это распутство как бы является результатом сво-
бодного следования Доримены «голосу природы», которое Мольер защи-
щал в «Уроке женам».
Несмотря на это, Мольер здесь вовсе не солидаризируется с Арноль-
фом, как полагали некоторые западные критики (например, Эдуард Векс-
лер). Он остается в «Браке по принужденью» таким же гуманистом, как и
в обоих «Уроках». Он попрежнему утверждает свободу естественного чув-
ства, нопрежнему выступает против домостроевского быта и против воспи-
тания, основанного на неразумном принуждении. Ведь кокетка Доримена
явилась плодом именно такого воспитания, порождающего, по мнению
Мольера, самые дурные результаты. В этом смысле «Брак по принужде-
нью» перекликается со «Смешными жеманницами», где грубость и само-
дурство Горжибюса были бессильны уберечь Мадлон и Като от ориента-
ции на аристократическое поведение.
С другой стороны, страсть Сганареля к Доримене Мольер не оправ-
дывает, а напротив осмеивает, потому что не считает ее ни разумной, ни
естественной. Сганарель сам порождает свои будущие супружеские несчастья,
потому что он остановил свой выбор на Доримене, которая ему во всех
отношениях не пара. Кроме того, он является в семейных вопросах таким
же грубым собственником, как большинство других мольеровских буржуа,
и этим он сам подготовляет себя к роли рогоносца.
Помимо семейно-бытовой тематики, Мольер дает в «Браке по принуж-
денью» насмешку над неприемлемыми для него философскими направле-
ниями. Эта насмешка воплощается в образах карикатурных философов
Панкраса и Марфуриуса, пародирующих официальную университетскую
схоластику и универсальный скептицизм Декарта. Оба эти персонажа гене-
тически восходят к традиционной маске Доктора из commedia deU'arte, в то
же время иллюстрируя характерный для творчества Мольера процесс оче-
ловечивания и бытовой конкретизации уна^следованньис jtm условных теат-
ральных 'типов.^В данном случае этот процесс проявляется в насыщении
трафаретных образов комедийных педантов элементами конкретной фило-
софской пародии. Весьма вероятно, что, создавая сцены Сганареля с обо-
ими философами, Мольер вдохновлялся полемическими писаниями Гассенди
против Декарта и схоластизированного Аристотеля. Мольер издевается
над бесплодным формализмом и лжеученостью обоих философов, стоя на
точке зрения здравого смысла.
Весь изложенный тематический материал был нов для придворного
театра. Мольер отбросил обычную для этого жанра мифологию и удачно
преодолел условность балетных аллегорий, подав образы Красоты, Рев-
ности, Горестей и Подозрений как кошмары, вызванные расстроенным во-
ображением Сганареля, опасающегося неверности Доримены.
31 История французской литературы—815
4119 , КЛАССИЦИЗМ
Версальские придворные празднества 1664 г. «Увеселения волшебного острова»г
постановка «Принцессы Элиды».
С гравюры И. Сильвестра.
Другое, не менее важное новшество заключалось в том, что Мольеру
удалось в этой пьесе достигнуть органического сочетания комедии, балета
и музыки. Все балетные и вокальные номера утратили свою обособленность
и оказались крепко спаянными с действием комедии. Так, например, сомне-
ваясь в том, жениться ли ему на Доримене, Сганарель сначала советуется
с двумя философами (комедийные сцены), а затем с цыганами и цыган-
ками, кудесникам и демонами, которые отвечают на его вопросы жестами
и танцами (балетные сцены). Таким путем Мольеру удается превратить
комедию-балет в цельный драматический жанр.
Но Мольер не всегда вкладывал в придворную форму разрушающее
ее содержание. Ему все же приходится считаться с модой на галантно»
мифологическую тематику в придворных кругах, приходилось время от
времени настраивать свою лиру на «куртуазный» лад. Типичным образцом'
такого рода пьес Мольера является «Прийцеоса Элиды» («La Princesse
d'Élide», 1664), сочиненная для постановки на роскошном версальском
празднестве «Увеселения волшебного острова» («Les Plaisirs de l'île enchan-
tée»), продолжавшемся целую неделю и заполненном конными ристаниями,
турнирами, играми, танцами, пирами и спектаклями. К разработке отдель-
ных частей празднества были привлечены крупнейшие мастера различных
видов искусства — композитор Люлли, балетмейстер Бошан, декоратор
Вигарани и прециозный поэт Бенсерад. Но главная и наиболее ответствен-
ная роль выпала в этом празднестве на долю Мольера. Все включенные
в его состав комедии принадлежали перу Мольера, а актеры труппы Моль-
ера приняли, кроме того, участие также в исполнении балета «Волшебница
Альсина», написанного на, сюжет, заимствованный из «Неистового Ро-
ланда» Ариосто.
МОЛЬЕР
483
Мольер сочинил «Принцессу Элиды» по специальному заказу короля.
Связанный очень кратким сроком, он успел написать стихами только полтора
акта, а остальную часть комедии набросал в прозе. Сюжет «Принцессы
Элиды» заимствован из комедии испанского драматурга Морето «Прене-
брежение за пренебрежение» («El desdén con el desden»). Однако Мольер
перенес действие своей комедии из Каталонии в условную античную обста-
новку, сократил в ней элемент интриги и превратил страстную героиню
испанской пьесы в абстрактный персонаж оперно-балетного театра. На всю
фабулу «Принцессы Элиды» был наброшен условный пасторальный по-
кров, а герои ее стали вести куртуазные дискуссии о любви.
Среди галантно-изысканных персонажей «Принцессы Элиды» резким
контрастом выделяется образ придворного шута Морона, роль которого
исполнял сам Мольер. Этот остроумный и язвительный персонаж^ кото-
рого критики иногда сопоставляли с шекспировским Фальстафом, яв-
ляется по существу выразителем народной сметки, непосредственности и
остроумия. Своей буффонадой он оживляет монотонное действие пьесы,,
а в третьей комической интермедии он даже пародирует излюбленный
придворной публикой жанр пасторали. Но Мольер идет дальше и дает Мо-
рону устами принца Евриала такую характеристику:
Известен он тебе как буйный шут придворный.
Так знай, что роль шута играет он притворно,
И больше в нем ума, чем в умнике ином,
Смеющемся над ним в неведенье смешном.
(Д. I, явл. 1).
Восхваление профессионального шута прикрывает здесь своеобразную
апологию актерской профессии. Мольер борется с распространенным в его
время пренебрежительным отношением высшего общества к актерскому
творчеству, якобы основанному на кривлянье и притворстве. Он противо-
поставляет профессиональное «кривлянье» шута (т. е. актера) кривлянью
в жизни, характерному для ненавистных ему аристократов. Этот мотив
встретится у Мольера и позже — в комедии-балете «Блистательные лю-
бовники», где он противопоставит шута Клитидаса гнусному обманщику,,
астрологу Анаксарху. Пикируясь с этим шарлатаном, Клитидас горда
заявит: «Ремесло шута не то, что ремесло астролога. Хорошо лгать и хо-
рошо шутить — две разные вещи, и гораздо легче обманывать людей, чек*
заставлять их смеяться» (д. I, явл. 2).
5
С празднеством «Увеселения волшебного острова» связано также по-
явление одного из лучших произведений Мольера, знаменитой комедии
«Тартюф», испытавшей большие мытарства, чем все другие произведения
Мольера. Причиной пятилетних цензурных преследований «Тартюфа» была
то, что Мольер избрал в нем объектом своих нападок религиозное хан-
жество и лицемерие, присущее служителям католической церкви и широко
распространенное в высших кругах французского общества XVII в.
Реакционные святоши, числившие в своих рядах, помимо прелатов и
князей церкви, много принцев и светских сановников во главе с короле-
вой-матерью Анной Австрийской, имели определенную организацию, назы-
вавшуюся «Обществом святых даров» (Société du Saint Sacrement). Основ-
ной целью этого тайного общества была борьба со всеми врагами католи-
цизма — «еретиками», безбожниками и вольнодумцами, Под покровом.
484
КЛАССИЦИЗМ
«благотворительности» Общество выполняло функции тайной церковно-
политической полиции. Оно вело негласный надзор за населением, для
чего направляло своих многочисленных агентов в «подозрительные» дома,
где они должны были втираться в доверие к главам семейств, собирая
компрометирующий их материал. По мере накопления такого материала,
Общество передавало обнаруженных «преступников» в руки властей. Кроме
того, Общество вело энергичную пропаганду аскетизма, боролось с народ-
ными увеселениями и празднествами, со светской музыкой и театром, с
новыми формами общественного быта и даже с женскими модами (напри-
мер, с ношением открытых платьев).
Задумывая своего «Тартюфа», Мольер сознательно целился в Обще-
ство святых даров и изобразил в лице грязного проходимца Тартюфа ря-
дового агента этой организации. В первой редакции комедии, поставлен-
ной в 1664 г. под названием «Тартюф, или Лицемер» («Le Tartuffe, ou
l'Hypocrite»), Тартюф был духовным лицом и потому, вкравшись в дове-
рие богатого буржуа Оргона, он еще ие собирался жениться на его дочери,
которая вообще отсутствовала среди действующих лиц комедии. Пойман-
ный сыном Оргона во время ухаживания за женой Оргона Эльмирой, Тар-
тюф ловко выпутывался из положения и оставался в доме Оргона, чтобы и
дальше водить за нос этого набожного простака. Конечное торжество Тартю-
фа должно было подчеркнуть весь вред и опасность подобного ханжества.
Король был осведомлен о намерении Мольера высмеять Общество
святых даров и не возражал против его замысла, так как отрицательно
относился к этой организации святош, являвшейся своего рода государ-
ством в государстве. Но придворные клерикалы с помощью королевы-ма-
тери сумели добиться запрещения «Тартюфа» сразу после его постановки
при дворе, так как убедили Людовика XIV в том, что под наладками на
лицемерие в пьесе скрывается отрицание религии вообще.
Мольер мужественно отстаивал свою комедию в первом «прошении»
(placet) на имя короля, в котором прямо заявлял: «Тартюфам удалось
ловко втереться в доверие вашего величества, и оригиналы добились за-
прещения копии». Вслед затем Мольер парировал нападки на него
фанатика, доктора Сорбонны, Пьера Рулле, который в одной брошюре
назвал его «демоном в телесной оболочке и в человеческом образе» и тре-
бовал сожжения его на костре. Король не снял запрещения с «Тартюфа»,
но не одобрил и книги Рулле, который вынужден был несколько месяцев
спустя заявить, что у него не было «ни малейшего желания повредить
кому-либо». После пасквиля Рулле не появлялось больше ни одной печат-
ной строки против «Тартюфа»: враги Мольера сочли благоразумным за-
молчать, удовлетворившись запрещением ненавистной комедии.
Но заговор молчания против «Тартюфа» не удался. Мольер посто-
янно напоминал о своей комедии и в то же время работал над ней, заду-
мав ее расширить. К первоначальным трем актам пьесы он добавил еще
два, в которых обрисовал связи Тартюфа с полицией, судом и двором. Тар-
тюф был переименован в Панюльфа, сбросил с себя церковную сутану,
надел костюм светского человека и начал добиваться руки дочери Оргона
Марианны. Комедия была названа теперь просто «Обманщик» («L'Impo-
steur»), Она кончалась разоблачением Панюльфа и панегирической ха-
рактеристикой Людовика XIV.
В этой второй редакции комедия была допущена королем к представ-
лению в 1667 г. Она имела огромный успех, но была сразу после премь-
еры запрещена президентом парижского парламента Ламуаньоном, тайным
членом Общества святых даров, который воспользовался отъездом короля
МОЛЬЕР
483
в армию. Мольер опять апеллировал к монарху во втором «прошении», ко-
торое заканчивалось угрозой совершенно прекратить сочинение комедий,
если король не защитит его. Людовик снова заколебался, но тут в дело
вмешался парижский архиепископ Перефикс, запретивший исполнение «Тар-»
тюфа» в своей епархии под страхом отлучения от церкви.
Мольер был крайне подавлен и закрыл свой театр на целых семь
недель. Вскоре, однако, скончалась враждебная к Мольеру королева-мать
Анна Австрийская, король снова обнадежил Мольера обещаниями, а осенью
1668 г. принц Конде поставил «Тартюфа» в своем д°"рцр в Шдигпильн*
Заключение в том же году «церковного мира» между ортодоксальными
католиками и янсенистами положило начало полосе относительной терпи-
мости в религиозной политике Людовика XIV. Это дало возможность
Мольеру, наконец, поставить «Тартюфа» в его третьей и окончательной
редакции, в которой главный персонаж комедии получил свое прежнее имя,
а пьеса была названа «Тартюф, или Обманщик» («Le Tartuffej ou l'Impo-
steur», 1669). Она имела оглушительный успех и с этих пор стала! одной
кз любимейших комедий молъеровского репертуара.
В жанровом отношении комедия довольно пестра. В ней объединяются
элементы фарса, комедии интриги и бытовой комедии, рисующей нравы
французской буржуазной семьи XVII в. В образе самого Тартюфа находили
портретное сходство с рядом современных ему ханжей, а с другой сторо-
ны— устанавливали его связь с множеством литературных образов лице-
меров (у Боккаччо, Аретино, Фламинио Скала, Сореля, Скаррона).
Позаимствовав из различных источников ряд интересных черт, Мольер
свел их воедино в гениальном образе Тартюфа, представляющем собой
воплощенное лицемерие и демонстрирующем общественную опасность, за-
ключенную в этом пороке. Громадная обобщающая сила этого образа про-
явилась в том, что имя Тартюфа вскоре стало во Франции нарщца^
тельньщ.
Наиболее существенной особенностью «Тартюфа» является его
сатирическая установка, поднимающаяся до гневного социального обличе-
ния и вносящая в комическую фабулу пьесы почти трагический элемент
(в последнем акте). Поэтому «Тартюфа» следует признать высокой сати-
рической комедией, открывающей серию наиболее острых обличительных
пьес Мольера. Конкретная направленность «Тартюфа» против Общества
святых даров нисколько не снимает вопроса о его более глубоком фило-
софском значении. Комедия по существу направлена против религии, под
боздействием которой заурядный буржуа Оргон превращается в маниака,
в глупого и жестокого эгоиста, угнетающего своих детей, в марионетку,
которою управляет отъявленный мошенник. В своей окончательной редак-
ции комедия высмеивает лицемерное использование в низменных, корыстных
целях самых возвышенных принципов христианской морали — пропо-
веди аскетизма, любви к ближнему, милосердия, нестяжания, целомуд-
рия.
Консервативная буржуазная критика новейшего времени часто дока-
зывала, что Мольер, обличая Тартюфа, утверждает подлинную религиоз-
ность. Это глубоко неверно уже потому, что верующими людьми в пьесе
являются только негодяй Тартюф и глупец Оргон, которым вторят, в ка-
честве подголосков, судебный пристав Лояль и сумасбродная старуха, мать
Оргона, мадам Пернель. Все остальные члены семьи Оргона являются
очень порядочными, но совершенно нерелигиозными людьми. Их мораль и
aee
КЛАССИЦИЗМ
жизненное поведение подчиняются тому вполне языческому ученик» о «сле-
довании природе», которое Мольер воспринял от мыслителей Ренессанса
и их преемника, материалиста Гассенди. Это учение непримиримо с хри-
стианством, ибо видит в религии тоомоз развитию автономной человече-
ской личности.
Так вольнодумство и материализм Мольера привели его к борьбе не
только с ханжеством и лицемерием, но и с религией, как таковой. В этом
отношении Мольера следует признать одним из предшественников бур-
жуазного Просвещения XVIII в. и присущей последнему антирелигиозной
литературы. Своей последовательной антицерковностью Мольер далеко
опередил других великих французских (писателей XVII в., которые жили
и умерли верными сынами католической церкви.
В промежутке между первой и последней редакцией «Тартюфа» Мольер
сочинил ряд весьма острых сатирических комедий — «Дон Жуан», «Мизан-
троп», «Амфитрион», «Жорж Данден», «Скупой». Все эти пьесы, имеете
с «Тартюфом», знаменуют высший этап в развитии оппозиционных настрое-
ний Мольера.
Комедия в прозе «Дон Жуан, или Каменный пир» («Don Juan, ou
le Festin de pierre», 1665) была написана в момент тяжелого репертуарного
кризиса, наступившего в театре Мольера после первого запрещения «Тар-
тюфа». Стремясь вывести своих товарищей из материальных затруднений,
Мольер взял ходовую в театре XVII в. тему, впервые обработанную испан-
ским драматургом Тирсо де Молина, затем итальянцами Чиконьини и Джи-
либерто, а после них — французскими авторами Доримоном (1658) и Вилье
(1659). Но, восприняв испанскую легенду о развратном дворянине, поги-
бающем от прикосновения к руке статуи убитого им человека, Мольер
оригинально разработал ее. Он придал обольстительному испанскому
идальго обличив французского аристократа XVII в., обрисованного необы-
чайно жизненно и реалистично, без присущей его предшественникам ги*
перболизации и гротеска. Такая же подкупающая жизненность присуща
другим персонажам комедии, и в первую очередь — слуге Дон Жуана Сга-
нарелю, напоминающему сочностью обрисовки и соединением в его харак-
тере противоположных черт бессмертный образ Санчо Пансы из «Дон Ки-
хота».
> Но еще более сложно и противоречиво обрисован Мольером образ
самого Дон Жуана. Этот «злой вельможа» (grand seigneur méchant homme)
является прежде всего феодальным хищником — самовластным, разврат-
ным, наглым и циничным. Лишенный всяких положительных идеалов,
глубоко беспринципный, то бравирующий своим безбожием, то прикиды-
вающийся святошей и конкурирующий с Тартюфом, Дон Жуан отрицает
все общественные устои и моральные принципы. Он систематически раз-
рушает семью, издевается «ад мещанскими добродетелями, лишен сыновних
чувств, соблазняет женщин, жестоко расправляется с крестьянами, не
платит долгов, цинично развращает людей (см. сцену с нищим, д. III,
явл. 2).
Обличение Дон Жуана Мольер влагает прежде всего в уста его отца,
старого дворянина Дон Луиса, который так поучает сына: «Родовитость
ничего не стоит, коль нет нравственных качеств», «Добродетель — первое
условие благородства» и т. п. Другим обличителем Дон Жуана выступает
его слуга Сганарель. Несмотря на свою традиционную простоватость и
смехотворное поведение, Сганарель весьма метко разоблачает, напри-
мер, вольнодумство своего господина: «Бывают на свете этакие нахальные
малые, которые вольнодумничают, сами не зная почему, которые корчат
МОЛЬЕР
489
из себя свободомыслящих только потому, что воображают, будто это им
очень к лицу» (д. I, явл. 2). Своим мужицким умом Сганарсль хорошо
распознал всю поверхностность дворянского либертинажа Дон Жуана.
Это нисколько не мешает тому, что нигилистические и скептические выска-
зывания Дон Жуана обнаруживают подчас разительное сходство с мате-
риалистическими взглядами самого Мольера.
Своеобразнейшей особенностью комедии «Дон Жуан» является то, что
в ней Мольер наделил своего отрицательного героя рядом привлекатель-
ных черт. Его Дон Жуан красив, храбр, блестящ, изящен, остроумен. Он
обаятельнее всех предшествующих Дон Жуанов, хотя в то же время он и
порочнее их. Это соединение внешней привлекательности и моральной ни-
зости специфично для мольеровакой трактовки образа Дон Жуана. В нем
находит (выражение полнокровный реализм, проявленный Мольером при
показе антипатичного ему дворянского героя. Мольер не превратил своего
Дон Жуана в схематическую маску порока. Он не умолчал о внешнем бле-
ске, присущем французской аристократии его времени. Но он подчеркнул,
что, несмотря на наличие у Дон Жуана ряда привлекательных черт, все эти
черты нисколько яе мешают ему попирать права и достоинство всех дру-
гих людей.
Это относится в особенности к уму Дон Жуана, к его просвещенности,
которая заставляет его подчас высказывать правильные и умные мысли,
соответствующие воззрениям самого Мольера (таковы, помимо безбожных
мыслей Дон Жуана, его насмешки над современной медициной). Но даже
наделяя Дон Жуана глубокими мыслями, Мольер постоянно подчеркивает,
что этот порочный аристократ использует свои способности и свое образо-
вание в хищнических и паразитических целях. В то же время Мольер не
упускает случая устами своего порочного героя разоблачать тот мир, к
которому он принадлежит и о пороках которого он говорит с такой цинич-
ной откровенностью. Такой шекспировский прием построения пьесы вы-
деляет «Дон Жуана» среди всех других мольеровских комедий. Образ са-
мого Дон Жуана отличается необычайной для драматургии классицизма
многосторонностью и динамизмом. Он постепенно раскрывается в процессе
развития действия комедии, обогащаясь все новыми чертами, которые почти
все изобретены Мольером.
Разрабатывая испанский сюжет, Мольер счел нужным сохранить так-
же своеобразные, присущие испанской драматургии, приемы построения
комедии. Он воспроизвел в своем «Дон Жуане» формальные особенности
испанской «comedia» с присущим ей чередованием трагического и комиче-
ского элемента, со свободным обращением с пространством и временем,
противоречащим правилу трех единств, с большей непосредственностью
в изображении переживаний и поступков действующих лиц. Здесь нашла
выражение часто проявлявшаяся у Мольера склонность преодолевать при-
сущую классицизму чрезмерную замкнутость жанров, их скованность стро-
гими, не терпящими никаких нарушений правилами.
За счет традиционного сюжета нужно отнести также финал пьесы,
в котором «небо» карает вольнодумца Дон Жуана. Таким финалом Мольер
думал отвести от себя упреки в безбожии. Но клерикалы отлично разга-
дали истинный смысл комедии. Некто Рошмон разразился по адресу
Мольера проклятиями и требовал отлучения его от церкви за издеватель-
ства над религией, к числу которых Рошмон отнес также финал комедии
с его бутафорским громам и молнией и заключительной комической репли-
кой Сганареля: «Мое жалование! Мое жалование!» В таком же духе выска-
зался и принц Конти, некогда покровительствовавший Мольеру, но не-
488
КЛАССИЦИЗМ
задолго до того примкнувший к клике святош. Он возмущался тем, что
«заставив безбожника, наделенного большим остроумием, изрекать самые
ужасные богохульства, автор поручает защиту религии лакею, который,
будто бы с этой целью, произносит самые дерзкие речи на свете».
Признанная «откровенной школой безбожия», комедия Мольера бьы<а
снята с репертуара, несмотря на блестящий успех, после пятнадцати пред-
ставлений и больше не ставилась до 1841 г., когда она была впервые возоб-
новлена в парижском театре «Одеон». Ее заменяла в течение всего этого
времени одноименная комедия в стихах Тома Корнеля, являющаяся пере-
работкой пьесы Мольера, из которой он тщательно вытравил все сатириче-
ские черточки. Мольер, так энергично боровшийся за «Тартюфа», не при-
нял никаких мер к тому, чтобы отстоять «Дон Жуана>>, — очевидно по-
тому, что считал это безнадежным.
После запрещения «Дон Жуана» Мольер целиком отдался работе над
следующей своей великой сатирической комедией «Мизантроп» («Le Misan-
thrope», 1666), которую он начал писать еще в 1664 г. На этот раз он
работал медленнее обычного и тщательно отделывал мельчайшие детали
своей новой пьесы. Раньше чем вынести ее на подмостки, Мольер долго
проверял ее путем публичных чтений в домах высшей знати. После поста-
новки на сцене знаменитая комедия была принята зрителями очень сдер-
жанно и впоследствии тоже никогда не пользовалась большим сценическим
успехом, — быть может, потому, что она была, по выражению Вольтера,
«произведением, написанным скорее для умных людей, чем для толпы».
Широкого зрителя всегда отпугивала в «Мизантропе» необычайная серьез-
ность этой пьесы и ее главного героя.
Если уже в «Тартюфе» и «Дон Жуаие» заметны были отдельные тра-
гические черточки, то в «Мизантропе» они еще более усилились, реши-
тельно оттеснив комический элемент. «Мизантроп» — типичный образец
классицистической «высокой комедии» (haute comédie), в которой комизм
положений уступает место комизму интеллектуальному, философскому, диа-
лог преобладает над внешним действием, на первый план выдвигается
психологическая характеристика персонажей и совершенно отпадают внеш-
ние театральные эффекты (coups de théâtre).
Жанровые особенности «Мизантропа» в известной мере обусловлены
временем его написания. Комедия сочинена в момент наибольшего обостре-
ния борьбы Мольера с реакционными кругами французского общества.
Естественно, что Мольер ощутил именно в это время потребность сказать
аристократии правду в глаза, не прибегая к обычной для его комедий
шутовской оболочке. Создавая «Мизантропа», Мольер искал новых мето-
дов социального обличения, проникнутого гражданским негодованием. Если,
таким образом, «Мизантроп» является, в указанном широком смысле,
пьесой «биографической», это не значит, что в ней надо искать конкретных
намеков на интимные обстоятельства жизни Мольера, например, на его
предполагаемые семейные неприятности, как это часто делают буржуазные
критики. Излюбленные последними плоские аналогии между отношениями
Альсеста и Селимены, с одной стороны, и Мольера и Арманды — с дру-
гой, затушевывают огромное идеологическое значение «Мизантропа».
Герой комедии Альсест является образом большой обобщающей силы.
Это — честный, благородный человек, страстный искатель общественной
справедливости, находящийся в непримиримом конфликте с лживым и пош-
лым великосветским обществом. Одиночество Альсеста носит трагический
характер. С огромным темпераментом Альсест разоблачает эгоизм, ца-
рящий в этом обществе, все члены которого озабочены лишь личным пре-
МОЛЬЕР
48!)
успеянием. Но так как низкие
нравственные свойства придворной
аристократии воспитаны политикой
абсолютистского государства, пре-
вращающей граждан в сервильных
подданных, то критика аристокра-
тических нравов таит в себе зерно
критики абсолютистского строя.
Развить эту критику Мольер был
не в силах, потому что третье со-
словие Франции в это время еще
не созрело для политической борь-
бы с абсолютизмом. Потому, в ко-
нечном счете, Мольер сделал сво-
его Альсеста персонажем не столь-
ко трагическим, сколько комиче-
ским в указанном выше философ-
ском смысле
«Комизм» характера Альсеста
вытекает из несоответствия между
принципиальным содержанием его
критики и формами ее проявления.
Непримиримый правдолюбец, бла-
городный обличитель обществен-
ных пороков, Альсест лишен такта
и чувства меры; он кипятится по-
пусту, придирается к мелочам (сце-
на с сонетом Оронта) и читает
нравоучения ничтожным людям,
которых сам глубоко презирает.
Он «комичен» потому, что хочет на-
вязать аристократическому обще-
ству такие моральные принципы,
принятие которых было бы равносильно его уничтожению. Это привносит
в образ Альсеста некоторый оттенок донкихотства.
Донкихотство Альсеста проявляется в его крайней непрактичности,
в отсутствии всякого чувства реальной действительности и в необычайной
абстрактности его положительных идеалов. Так, ведя имущественный про-
цесс, Альсест опирается исключительно на свою правоту, разум и закон,
решительно отказываясь хлопотать перед судьями о своем деле. Он готов
даже проиграть процесс, чтобы доказать правильность своей критики об-
щественных пороков:
На суде) мне станет очевидно,
Сколь сердце у людей коварно и бесстыдно.
Довольно ль скрыто в нем порочности и зла,
Чтоб там обида мне нанесена была.
(Д. I. явл. 1).
В области личной жизни Альсест является неудачливым и ревнивым
любовником, который никак не может объясниться с любимой им лице-
мерной кокеткой Селименой. В обрисовке этой стороны характера Альсеста
Мольер воспроизвел некоторые черты героя своей ранней пьесы «Дон
Гарсия Наваррский». При всем сходстве характеров Дона Гарсии и Аль-
сеста, следует заметить, однако, что Альсест ревнует Селимену с большим
ЪЪ MLÏJSA ЖТХОРI/.-■
Мольер. «Мизантроп».
Иллюстрация Харревина к иад. 1694 г.
400
КЛАССИЦИЗМ
основанием, чем Дон Гарсия Эльвиру. И хотя любовные неудачи Аль-
сеста играют известную роль в его намерении покинуть свет, однако в фи-
пале комедии личное в поведении Альсеста отступает перед общественным.
Альсест удаляется со сцены, произнося следующие многозначительные слова:
Пойду себе искать на свете уголок.
Где честный человек свободно жить бы мог.
Непримиримому бунтарю Альсесту Мольер противопоставил умерен-
ного и покладистого Филинта. Дипломатичный Филинт является сторон-
ником морали посредственности и «золотой середины», основанной на прин-
ципе: «с волками жить, по-волчьи выть». Вся буржуазная критика в те-
чение двух с половиной веков ведет спор о том, на чьей стороне Мольер —
на стороне Альсеста или Филинта. Возможность такого спора обусловлена
тем, что Мольер, при воем своем сочувствии Альсесту, все же не дал решитель-
ного ответа на этот вопрос и изобразил Филинта в положительных тонах.
За это на Мольера впоследствии обрушился Руссо, обвинявший его
в том, что единственного честного человека в своем театре он отдал на
осмеяние великосветским негодяям. Отрицательное отношение Руссо к Моль-
еру разделял также руссоист Мерсье. В годы революции Фабр д'Эглан-
тин написал комедию «Филинт Мольера, или Продолжение Мизантропа»
(1790), в которой превратил Альсеста в последовательного революционера,
друга народа, а Филинта изобразил негодяем, напоминающим Тартюфа.
В России Грибоедов дал в образе Чацкого конгениальный Альсесту ва-
риант протестующего героя, враждующего с дворянским обществом, —
вариант вполне оригинальный, выросший на специфической почве русских
общественных отношений первой трети XIX века и полный предчувствий
декабристского движения.
В пору работы над «Мизантропом» Мольер написал две веселые коме-
дии, посвященные осмеянию современных врачей, — «Любовь-целитель-
ница» («L'Amour médecin», 1665) и «Лекарь поневоле» («Le Médecin malgré
lui», 1666). Первая из этих пьес была написана для придворного спектакля
и сопровождалась музыкой и танцами, которые впоследствии отпали при
перенесении пьесы на сцену городского театра Мольера. Незамысловатая
интрига в стиле старинного фарса была освежена язвительными нападками
на четырех придворных врачей, замаскированных греческими именами.
Своего апогея комизм пьесы достиг именно в сценах с врачами, по которым
современники обычно называли ее «Врачи» («Les Médecins»),
Насмешки Мольера над современными ему врачами имели полное осно-
вание. Справедливость нападок Мольера подтверждается рядом других
источников, вроде мемуаров остроумного писателянврача, либертина Ги
Патена. Шарлатанство и невежество были бытовыми явлениями в меди-
цинской среде. Но насмешки Мольера над врачами имеют не только быто-
вой, но и более глубокий, философский характер. Для Мольера современ-
ная медицина была лженаукой, потому что, подобно средневековой мета-
физике, она основывалась не на опыте и изучении природы, а на схоласти-
ческих умствованиях со ссылками на устаревшие авторитеты античных и
средневековых медиков. Мольер считал врачей такими же насильниками
над «природой», как богословов, педантов, астрологов и т. д. Однако, в
отличие от других мракобесов, врачи не только засоряли мозги, но и упро-
жали жизни пациентов. Этим и объясняется та настойчивость, с какой
Мольер возвращался к осмеянию врачей и медицины.
Начатый в «Любви-целительнице» поход против врачей был продол-
жен Мольером в «Лекаре поневоле». Этот блестящий фарс является одним
МОЛЬЕР
491
из лучших образцов мольеровской буффонады. Здесь оживают все лучшие
качества юного Мольера, сочинителя веселых «дивертисментов», создавших
его труппе такую громкую славу в провинции.
Фабула «Лекаря поневоле» заимствована из французского фаблио
XIII в. «Крестьянин-лекарь», которое в то время еще не было напечатано
и могло быть известно Мольеру из устной традиции, а. также из его обра-
боток в комическом театре разных стран. Мольер перенес действие фаблио
е современность и в более низкую социальную среду. Больная Люцинда
у Мольера — не принцесса, а дочь буржуа Жеронта, притворившаяся не-
мой, вследствие нежелания выйти замуж за нелюбимого человека. Вязаль-
щик хвороста Сганарель хитрее и расчетливее своего прототипа из фаблио.
Быстро освоившись со своим новым положением, он использует его с целью
наживы. В Сганареле открываются блестящие способности к выполнению
роли шарлатана-врача, и его наглость обеспечивает ему широкий успех
у доверчивых больных. Тем самым Сганарель является убийственной кари-
катурой на современных врачей. Невежде Сганарелю достаточно одного
нахальства, чтобы прослыть знаменитым представителем медицины. Ко
всему этому Мольер присоединяет еще одну черту современных ему вра-
чей —■ их продажность : Сганарель за деньги охотно содействует плутням
Люцинды и ее возлюбленного Леандра.
Сам Сганарель по своему характеру является типичным плебейским
героем, наделенным той сметкой, ловкостью и предприимчивостью, кото-
рые были присущи героям средневековых фаблио и фарсов. Как и в по-
следних, в «Лекаре поневоле» прославляются успех и удача, достигаемые
любыми средствами. Всем этим Сганарель из «Лекаря поневоле» продол-
жает линию Маскариля ранних комедий Мольера и прокладывает путь
Скапену и, Сбригани.
Если «Лекарь поневоле» возвратил Мольера на путь народного фарса,
то следующие две пьесы — «Мелисерта» («Mélicerte») и «Комическая па-
стораль» («Pastorale comique»), поставленные в том же 1666 г., — снова
увели Мольера к чуждому ему жанру пасторали. Обе пьесы были напи-
саны для pocKOjirHoro празднества «Балет муз», состоявшегося в загород-
ном дворце в Сен-Жермен-ан-Ле.
К концу этого многодневного празднества Мольер сочинил еще одну
комедию-балет фарсового типа—«Сицилиец, или Любовь-живописец» («Le
Sicilien, ou l'Amour peintre», 1667). Эта изящная безделушка повествует о
юм, как молодой французский дворянин похищает молоденькую рабыню
из-под носа влюбленного в нее ревнивого сицилийского дворянина Дон
Педро, который, подобно Сганарелю и Арнольфу, держит любимую де-
вушку взаперти и1 докучает ей своею подозрительностью. Экзотический коло-
рит пьески, в которой выступают представители нескольких национально-
стей (француз, итальянцы, гречанки, турки), совершенно условен и вызван
стремлением Мольера создать красочное зрелище.
После «Сицилийца» Мольер в течение почти целого года не поставил
ни одной новой пьесы. 1667 год был одним из самых трудных в жизни
Мольера. В этом году его постигла не только вторая неудача с «Тартю-
фом», но и тяжелая болезнь, от которой он едва оправился. Длительное
свое молчание Мольер прервал только в январе 1668 г., показав комедию
«Амфитрион» («Amphitryon»), занимающую особое место в его наследии.
В этой пьесе Мольер впервые вдохновился античным образцом, поза-
имствовав сюжет из единственной комедии Плавта, написанной на мифо-
логическую тему и заключающей в себе чудесный элемент. Подобная тема-
тика часто фигурировала во Франции XVII в. в оперно-балетном театре
492
КЛАССИЦИЗМ
и в близком к нему жанре «обстановочной трагедии» (tragédie à machines)
типа «Андромеды» Корнеля. Но театр классицизма, как трагический, так
и комический, чуждался фабул, включающих иррациональные элементы.
Материалисту Мольеру такая тематика была еще более чужда, и он остано-
вил свой выбор на мифологической комедии Плавта только потому, что ее
фабула показалась ему пригодной для создания замаскированной сатиры
на французские придворные нравы.
Античный миф о любовных похождениях бога Юпитера (Зевса) с же-
ной фиванекого военачальника Амфитриона Алкменой, во вре(мя которых
Юпитер принимает облик ее отсутствующего мужа, в интерпретации Моль-
ера превратился в картинку нравов версальского двора, в которой роль
Юпитера выпадает на долю «короля-солнца» Людовика XIV, а роль Алк-
мены — на долю придворной дамы, приглянувшейся монарху и превра-
щаемой им в свою любовницу. Бывали при дворе Людовика случаи, когда
муж придворной дамы оказывался строптивым и пытался протесто-
вать против монаршего внимания к его жене (случай с маркизой де Мон-
теспан). Таких строптивых мужей Юпитер урезонивает в пьесе замеча-
тельным афоризмом: «С Юпитером дележ бесчестья не приносит». Этими
словами «бог богов» как бы избавляет Амфитриона от столь страшной
для него, как и для многих других мольеровских героев, перспективы про-
слыть рогоносцем. Скрытый сарказм этой фразы подчеркивается язвитель-
ной репликой Созия: «Умеет бог богов позолотить пилюлю!» Свое отно-
шение к версальскому двору Мольер выразил в показе четырех фиванехих
военачальников, готовых забыть и честь, и стыд, и совесть, когда им пред-
ставляется случай прислужиться монарху или его фавориту.
Но особенно важное значение в плане раскрытия сатирического отно-
шения Мольера к придворной среде имеет образ раба Созия, который ему
удался больше всех других. Следуя старинной театральной традиции,
Мольер изобразил Созия трусом, обжорой и плутом. Однако такое не-
привлекательное обличив не мешает Созию быть хитрым и умным пред-
ставителем народа. Ненавидя знатных господ, он пускает в них ядовитые
стрелы, вроде:
Всегда на глупости похоже,
Что говорит простой народ,
И с умными речами то же
Всегда выходит у господ.
Созий плебейски непочтительно относится к шашням больших лю-
дей. Все, о чем они говорят серьезно и изысканно, он переключает в шут-
ливый, иронический план. Такое отношение дает надлежащее звучание
всей сатирической комедии Мольера. Сам Мольер говорит больше всего
речами Созия, как впоследствии он будет говорить устами Скапена. В та-
кой солидарности с народными персонажами ярко проявляется народность
мольеровского творчества.
Через полгода после «Амфитриона» Мольер снова принял участие
в роскошном версальском празднестве, организованном по случаю заклю-
чения Аахенского мира, который принес Франции новую провинцию Франш-
Конте. Для постановки на этом празднестве Мольер приспособил только
что законченную им трехактную комедию «Жорж Данден, или Одурачен-
ный муж» («George Dandin, ou le Mari confondu», 1668). Он окружил эту
бытовую комедию пасторальной рамкой и ввел в нее музыку, пение и тан-
цы, которые впоследствии отпали при перенесении «Жоржа Дандена» на
сцену Пале-Рояля.
МОЛЬЕР
495
В основу «Жоржа Дандена» положен старинный бродячий сюжет о
хитрой, лживой и злой жене, обманывающей мужа и выставляющей его
же виноватым. К этому мотиву, разработанному уже в юношеском фарсе
Мольера «Ревность Барбулье», он присоединил другой, не носящий фарсо-
вого характера: человек низкого звания решил породниться с аристокра-
тами и жестоко за это поплатился. Этот второй мотив выдвинут в «Жорже
Дандене» на первое место. Он раскрывает типичную для верхушки фран-
цузской буржуазии XVII в. черту — ее стремление сближаться с дворян-
ством и родниться с титулованными лицами.
Богатый крестьянин-кулак Жорж Дакден женился из глупой спеси на
дочери разорившегося барона де Сотанвиля, фамилия которого ясно рисует
его облик (sot en ville дословно значит: «дурак в городе»). Если Данден
гоняется за титулом, то Сотанвилй гоняются за деньгами. Они, конечно,
ни в грош не ставят своего плебейского зятя, на каждом шагу корят Дан-
дена его мужицким званием и покрывают любовные шашни своей дочери
Анжелики с молодым дворянином Клитандром. Все попытки Дандена ра-
зоблачить и наказать свою неверную жену ни к чему не приводят, потому
что она хитрее его и действует в согласии со своими родителями. Обману-
тый,- осмеянный и униженный, Данден раскаивается в совершенной им
глупости, повторяя знаменитую фразу: «Tu l'as voulu, George Dandin!»
(«Ты сам хотел этого, Жорж Данден!»).
Обычно считают причиной злоключений Дандена только его тягу к
аристократии и замечают, что Мольер чересчур жестоко наказал Дандена
за такую «маленькую» слабость. Но несчастия Дандена вызваны не только
его желанием завести знатных родственников. Не менее существенно так-
же то, что, покупая себе знатную жену, богач Данден не спросил ее согла-
сия, не поинтересовался ее чувствами. Он попросту заключил сделку с ро-
дителями Анжелики, которые, по ее остроумному замечанию, «собственно
и шли за него». Потому Данден, в сущности;, не имеет никакого права тре-
бовать от купленной им жены супружеской верности. Как и других молье-
ровских мужей-собственников, Дандена ожидают рога, которые он заслу-
жил своим поведением. Так в «Жорже Дандене» развивается намеченное в
«Сганареле» и в обоих «Уроках» обличение буржуазного собственничества
в области семейных отношении, которое неизбежно приводит к адюльтеру.
Своей вершины критика пороков буржуазии у Мольера достигла в сле-
дующей комедии — «Скупой» («L'Avare», 1668),—которая является одним
из самых его острых и глубоких произведений. Как и «Дон Жуяи» «Г.ку-
пой» цапиг^ц прозой, которою во фрямптии XVII з. писались только не-
большие развлекательные комедии фарсового типа. «Скупой», конечно, не
относится к их числу, а является, наоборот, одним из характернейших
образцов классицистической комедии характеров. Прозаическая форма «Ску-
пого» сыграла, повидимому, известную роль в неуспехе комедии у совре-
менников. Зато потомство признало ее одним из мольеровских шедевров.
По своей фабуле «Скупой» связан с комедией Плавта «Горшок»
(«Aulularia»). Как и в «Амфитрионе*», Мольер успешно выдержал в «Ску-
пом» состязание со своим великим предшественником, превзойдя его ярко-
стью и сочностью комедийного письма. Главным отличием комедии Мольера
от комедии Плавта является то, что герой последней Евклион — бедняк,
случайно оказавшийся обладателем горшка с золотом, тогда как Гарпагон—
настоящий денежный человек, капиталист, разжившийся на торговле и
ростовщических операциях. Если плавтовский герой являлся исключением
для своей эпохи, то мольеровский герой, напротив, глубоко типичен для
своего времени.
494
КЛАССИЦИЗМ
Образ Гарпагона весьма ярко иллюстрирует мольеровский метод по-
строения характера, в основу которого кладется одна какая-либо черта,
одно качество или психологическое состояние. Таким единым качеством
является для Гарпагона скупость, которая приобретает масштаб некоей
абсолютной страсти. Потому, по меткому замечанию Пушкина, «у Мольера
Скупой скуп — и только, у Шекспира Шейлок скуп, сметлив, мстителен,
чадолюбив, остроумен». Однокачественность и однопланность мольеровского
образа Гарпагона тесно связаны с рационалистическим мышлением Моль-
ера как классициста.
Но хотя образ Гарпагона лишен полнокровности и красочности образа
Шейлока, он далеко не является оторванной от жизни схемой. То обстоя-
тельство, что Мольер наделил своего Гарпагона абсолютной страстью ску-
пости, превращающей его как бы в одержимого или маниака, вполне за-
кономерно в свете той исторической действительности, которая отражена
в комедии Мольера.
Блестящий анализ скупости, данный Марксом в XXII главе I тома
«Капитала», свидетельствует об исторической правдивости комедии Мольера
и реалистичности ее центрального образа. Маркс пишет: «При историче-
ских зачатках капиталистического способа производства, — а каждый ка-
питалистический parvenu индивидуально проделывает эту историческую
стадию, — жажда обогащения и скупость господствуют как абсолютные
страсти». Далее Маркс добавляет: «Вместе с тем в благородной груди
воплощенного капитала развертывается фаустовский конфликт между стра-
стью к накоплению и жаждой наслаждений». '
Комедия Мольера является замечательной художественной иллюстра-
цией к приведенным словам Маркса. Жажда обогащения и порождаемая
ею скупость являются у Гарпагона абсолютными страстями, убивающими
в нем все человеческие, отцовские чувства, разлагающими его семью, по-
рождающими у его детей мотовство, разврат, обман, воровство — все
признаки глубокого нравственного разложения. Но, доводя своих детей
и домашних до крайности своим скряжничеством, Гарпагон сам чужд
аскетизму. Он испытывает отмеченный Марксом «фаустовский конфликт
между страстью к накоплению и жаждой наслаждений». Этот старик со-
бирается жениться на молоденькой девушке Марианне, в которую влюб-
лен его сын. Но страсть к Марианне все время сталкивается у него со
скупостью, боязнью расходов. Этот конфликт блестяще обыгрывается
Мольером в комическом плане, например, в сцене заказа Гарпагоном
ужина повару (д. III, явл. 5).
Страсть к Марианне, которую Гарпагон хочет купить, подобно Жоржу
Дандену и многим другим мольеровским героям, приводит Гарпагона в
столкновение с его сыном Клеантом, которое, при всей комической трак-
товке, уже несколько выходит за грани комедии. Отец и сын сталки-
ваются не.только на почве соперничества в любви, но и на почве ростов-
щической деятельности Гарпагона, который оказывается кредитором сво-
его сына, берущего деньги взаймы в .расчете на акорое получение отцов-
ского наследства. Трагическая ирония Мольера сказывается здесь в том,
что его скупец одалживает деньги как бы под залог своей собственном
скорой смерти.
Ни. в одной другой комедии Мольер не дал такой глубокой и прин-
ципиальной критики буржуазии. Он разоблачил не только присущую
буржуазии эпохи первоначального накопления страсть к собиранию сокро-
1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XVII, стр. 652—653.
HOJbEP.
Ада
вищ, но пошел гораздо дальше
этого и показал власть денег
вообще, проницательно раскрыв
в своей комедии тот жестокий
эгоизм и своекорыстие, которые
неразрывно связаны с капита-
листической практикой и яв-
ляются последовательным отри-
цанием гуманистической морали.
Все это обеспечивает «Скупому»
видное место в ряду сатири-
ческих шедевров Мольера.
После «Скупого» Мольер
обратился снова к разработке
комедии-балета и поставил в
1669—1671 гг. целый ряд пьес
этого жанра. Первая из них,
«Господин де Пурсоньягс»
(«Monsieur de Pourceaugnac»,
1669), является одной из самых
веселых пьес Мольера, в кото-
рой его фарсовое дарование до-
стигло едва ли не предельной
высоты. Однако в искристой
буффонаде «Пурсоньяка» есть
закваска сочной бытовой коме-
дии. Героем пьесы Мольер сде-
лал смешного, пошлого и бес-
толкового, но очень богатого
провинциального дворянина,
прибывшего в Париж для же-
нитьбы на хорошенькой Жюли,
по заочному соглашению с ее
отцом Оронтом, соблазненным
деньгами Пурсоньяка. Жюли и
Сочинения Мольера.
Фронтиспис амстердамского издания 1679 г.
ее возлюбленный Эраст пускаются на всевозможные проделки, чтобы уда-
лить Пурсоньяка из Парижа, отбив у него охоту жениться на Жюли. В этих
проделках им помогают плуты Сбригани и Нерина, проявляющие больг-
шую активность.
Фабула «Пурсоньяка» и фигуры центральных персонажей пьесы
заимствованы Мольером из анонимного итальянского сценария «Не-
счастья Пульчинеллы». Но Мольер заменил неаполитанскую маску Пуль-
чинеллы чисто французским персонажем Пурсоньяка, который придал его
комедии яркий бытовой колорит. Мольер сделал своего Пурсоньяка на-
столько типичным захолустным дворянином, что некоторые лица оскор-
бились, решив, что Мольер метил именно в них. Местный колорит введен
Мольером не только в роль лиможца Пурсоньяка, но и в роли интрига-
нок Нерины и Люсетты, выдающих себя за женщин, соблазненных Пур-
соньяком; первая из них говорит на пикардийском, вторая — на ланге-
докском наречии. Мольер использовал здесь один из излюбленных приемов
сопмпесКа deU'arte —' многоязычие — для придания своей пьесе чисто фран-
цузской сочности. К этому нужно еще добавить ядовитые выходки против
французского «правосудия», которое способно сначала повесить человека, а
496
КЛАССИЦИЗМ
потом разюбраться в его виновности, — и излюбленные Мольером насмешки
над прачами-шарлатанами. Такова* оатирико-бытовая рамка, в которую
Мольер вставил историю о комических злоключениях провинциала в столице.
Следующая пьеса — комедия-балет «Блистательные любовники» («Les
Amants magnifiques», 1670)—написана Мольером на тему, предложенную
ему королем для роскошного придворного празднества, названного «Коро-
левским развлечением» («Divertissement Royal»), Это одна из наименее
популярных пьес Мольера, которую он даже не счел нужным напечатать.
Несмотря на это, «Блистательные любовники» связаны крепкими нитями
с основными идеями мольеровской драматургии.
В основу комедии положена тема «естественного» брака, основанного
на влечении человеческого сердца и бросающего вызов сословным пред-
рассудкам. Принцесса Эрифила отвергает, с согласия своей матери Ари-
стионы, притязания на ее руку двух принцев и выходит замуж за не-
знатного полководца Сострата, обязанного всем только своим личным
достоинствам. Эта фабула несколько напоминает фабулу героической ко-
медии Корнеля «Дон Санчо Арагонский». Однако у Корнеля Дон Санчо,
которого считали сперва лицом незнатным, оказывается в конце пьесы
арагонским принцем, что, по существу, снимает тему неравного брака,
между тем как у Мольера эта тема проведена до конца.
Главным объектом нападок Мольера в этой пьесе является астролог
Анаксарх, разжигающий суеверные чувства у королевы Аристионы, под-
страивая появление богини Венеры, которая будто бы возвещает королеве
свою волю. Вся эта оперная «машинерия» пускается Анаксархом в ход
по просьбе принца Ификрата, добивающегося руки Эрифилы. Мольер
наносит здесь удар эстетике придворного театра с его фальшивыми феери-
ческими эффектами. Самому Мольеру вскоре после этого пришлось при-
бегнуть к таким эффектам в трагедии-балете «Психея» («Psyché», 1671),
написанной в сотрудничестве с Пьером Корнелем и Кино. Рука Мольера
почти не чувствуется в этой условно-мифологической пьесе, являвшейся
только поводом для пышного обстановочного спектакля.
7
За полгода до «Психеи» Мольер показал в придворном спектакле в
Шамборе лучшую из своих комедий-балетов и вообще одно из самых
блестящих созданий своего гения — «Мещанина во дворянстве» («Le
Bourgeois gentilhomme», 1670). Возникновение этой комедии связано с по-
лученным Мольером от Людовика XIV заданием сочинить такую комедию-
балет, в которой выступали бы турки в буффонном изображении. Мольер
сначала придумал ту «турецкую церемонию», которою завершается IV акт
«Мещанина во дворянстве» — посвящение Журдена в сан «мамамуши».
а .затем уже, исходя из этого, сочинил всю фабулу своей замечательной
сатирической комедии, которая, однако, вышла далеко за пределы перво-
начального замысла.
Мольер поставил себе задачу — создать образ такого недалекого,
легковерного и тщеславного буржуа, который поверил бы, что сын турец-
кого султана пожелал иметь его своим тестем. Основной чертой этого
глупого буржуа должно было быть тщеславие, погоня за аристократиче-
скими почестями и титулами. Так родился образ Журдена, который, по-
добно Арнольфу и Жоржу Дандену, льнет к дворянству, стыдится своего
низкого звания и хочет за свои деньги прослыть настоящим аристокра-
том. Но если Арнольф с этой целью покупал дворянское поместье и за-
НОЛЬЕР
497
ставлял величать себя новым именем, если Данден с той же целью «по-
купал» себе жену-аристократку, то Журден, будучи женатым и семейным
человеком, ограничивается тем, что водит дружбу с авантюристами дво-
рянского звания Дорантом и Дорименой, заказывает себе моднее дворян-
ское платье, обучается танцам, аристократическим манерам и всем «нау-
кам», которые нужно знать дворянину.
Мастерски написанные Мольером сцены обучения Журдена всяким
наукам и искусствам раскрывают чудовищную грубость, толстокожесть и
бестолковость этого нового хозяина жизни, выходящего на историческую
арену. Учителя Журдена, глубоко презирая этого неуча, все же гнут перед
ним спину, потому что он богат. «Понимание вещей у него в кошельке,
а похвала этого человека — деньги», — говорит о нем учитель музыки.
Не меньше презирают Журдена его знатные друзья Дорант и Доримена,
но и они расточают ему комплименты, потому что живут на его счет.
Сатирик Мольер одинаково беспощаден и к толстосуму Журдену и к знат-
ным мошенникам и паразитам Доранту и Доримене. В лице Доранта
Мольер еще раз нарисовал тип порочного вельможи, совершенно лишен-
ного, однако, тех привлекательных черт, которые можно было найти у Дон
Жуана.
Журдену Мольер противопоставил его жену, грубую, необразован-
ную, но прямую и откровенную мещанку, приверженную к своей семье,
возмущенную дурью Журдена и читающую нотации обхаживающим его
аристократам. Критика часто бывала склонна видеть в г-же Журден по-
ложительный тип буржуазной женщины, сочувственно изображаемый
Мольером. Это неверно: просвещенный гуманист Мольер был весьма
далек от того воплощения мещанской грубости и посредственности, кото-
рое являет собой матушка Журден. Он показал в ее лице среднюю
мещанку, чуждую мании Журдена; но эта мещанка оказывается морально
очень мало привлекательной. Лучшее качество г-жи Журден — откровен-
ность, заставляющая ее высказывать напрямик то, о чем другие предста-
вители ее класса обычно умалчивают. Вот как она передает, например,
будущие толки соседей об ее дочери: «Ее деды сукном торговали у ворот
святого Иннокентия... Хорошо обеспечили деток, а теперь небось на том
свете дорого за это расплачиваются: честным трудом разве наживешь
такое богатство?» (д. III, явл. 12). Так устами г-жи Журден Мольер
выражает отношение народа к богатым купцам и его взгляд на происхож-
дение их богатств.
После «Мещанина во дворянстве» Мольер еще раз вернулся к теме
о буржуа, льнущих к аристократам, в одноактной комедии «Графиня
д'Эскарбанья» («La Comtesse d'Escarbagnas», 1671), написанной для при-
дворного празднества в Сен-Жермен-ан-Ле. Эта пьеса служила комедий-
ным вступлением к своеобразному попурри, составленному из отрывков
популярных балетов и названному «Балетом балетов». За «Графиней
д'Эскарбанья» следовала написанная Мольером «Пастораль», от которой
до нас дошел только список действующих лиц.
Центральным персонажем «Графини д'Эскарбанья» является грубая
провинциальная мещанка, побывавшая в Париже и с тех пор бредящая
двором и столичными модами Ее образ мыслей, манеры и поведение резко
контрастируют с носимым ею графским титулом, повидимому, унаследо-
ванным от покойного мужа. Все ее окружение и домашняя обстановка
типичны для мещанского дома. «Графиня д'Эскарбанья» — единствен-
ная пьеса Мольера, действие которой происходит в провинции. Это
обстоятельство дало Мольеру возможность дать ряд бытовых фигур,
32 История французской литературы—815
498
КЛАССИЦИЗМ
невиданных до того во французском театре. Таковы образы тупого про-
винциального педагога Бобине и судебного советника Тибодье, сочетаю-
щего в себе обличив крючкотвора-взяточника с претензиями на галантное
обхождение и с восторгом перед титулованными особами.
Но самой интересной фигурой в этой комедии является финансист-
откупщик Гарпен. Этот наглый, самонадеянный и беспощадный делец
олицетворяет одну из самых страшных язв абсолютистского режима, вы-
сасывавшую кровь из измученного бесконечными поборами французского
народа. Мольер первый дерзнул вывести на сцене, пока еще в виде бег-
лого наброска, одного из «рыцарей ростовщического капитала», страстно
ненавидимых народом. Он проявил здесь большую смелость и зоркость,
потому что фигурой откупщика французское общественное мнение стало
по-настоящему интересоваться только с начала XVIII в. Образ Гарпена
нашел впоследствии свое развитие в центральном персонаже знаменитой
сатирической комедии Лесажа «Тюркаре» (1709).
Несколькими месяцами раньше «Графини д'Эскарбанья» Мольер по-
ставил одну из своих популярнейших, часто и теперь исполняемых пьес —
«Плутни Скапена» («Les Fourberies de Scapin», 1671). Сюжет этой коме-
дии интриги заимствован из комедии Теренция «Формион». Тем не менее
по своей комедийной технике «Плутни Скапена» воспроизводят с предель-
ной четкостью структуру commedia dell'arte. Все персонажи «Плутней Ска-
пена» — старики, любовники, любовницы, слуги — располагаются, согласно
итальянской традиции, парами, причем каждому «статическому» персо-
нажу соответствует «динамический» персонаж того же амплуа. Так, рядом
с первым слугой Скапеном, сознательно запутывающим интригу, стоит
второй слуга Сильвестр, лишенный инициативы и являющийся послуш-
ным орудием в руках Скапена. Как и слуги в commedia dell'arte, Скапен
прилагает все усилия к тому, чтобы устроить брак Аеандра и Октава
с любимыми ими девушками вопреки воле отцов. С этой целью Скапен
изобретает множество плутней. Между прочим, он выманивает у скупого
Жеронта деньги под предлогом освобождения его сына с турецкой галеры,
где его будто бы захватили в плен. Жеронт, которому жаль потерять
сына и в то же время не хочется расставаться с деньгами, разражается
жалобами и проклятиями, несколько раз повторяя: «За каким чортом
пошел он на эту галеру!» («Que diable allait-il faire dans cette galère!»).
Эта знаменитая сцена почти дословно заимствована Мольером из коме-
дии Сирано де Бержерака «Осмеянный педант», где она прошла совер-
шенно незамеченной.
По своему творческому методу «Плутни Скапена» весьма близки
к народному фарсу и используют присущие ему незамысловатые комиче-
ские приемы. Типичной в этом отношении является сцена с мешком (д. III,
явл. 2): Скапен прячет Жеронта в мешок, якобы для спасения его от
некоего забияки-военного, а потом бьет по мешку палкой, заставляя
Жеронта думать, что военный колотит одновременно и его и самого Ска-
пена. Эта клоунская сценка очень возмутила Буало, который не мог про-
стить Мольеру такой уступки «плебейским» вкусам и написал в своем
«Поэтическом искусстве» :
Двор изучите вы и город изучите:
Здесь много образцов, их пристально ищите.
И, может быть, Мольер, изображая их,
Сумел бы победить всех авторов других,
Когда б уродцев он не рисовал порою,
Стремясь быть признанным вульгарною толпою.
МОЛЬЕР
499
Он в шутовство ушел; Теренцию взамен
Учителем его стал просто Табарен.
И сквозь мешок, куда Скапен залез постыдно,
Того, кем «Мизантроп» был создан, мне не видно.
Стоя на страже достоинства аристократического театра, Буало пори-
цал Мольера за чрезмерный демократизм, за «дружбу с народом», за
пристрастие к Табарену — видному мастеру площадного народного фарса.
Буало считал, что Мольер унижает свой талант, спускаясь после «Мизан-
тропа» до народного фарса. Знаменитый критик не мог понять, что народ-
ный фарс был источником большинства великих комедий Мольера, уна-
следовавших от него свою огромную взрывчатую силу. Буало очень хоте-
лось перестроить Мольера на академический лад, сделав из него своего
рода французского Теренция, т. е. автора серьезных, поучительных коме-
дий. Но тщетно: Мольер до конца своей жизни не порывал с традициями
народно-комического театра, влияние которых явственно даже в его наибо-
лее академических пьесах.
Это ярко показывают те же «Плутни Скапена», центральный пер-
сонаж которых является подлинным народным героем, свободным как от
дворянских, так и от буржуазных предрассудков. Мольер наделяет Ска-
пена редкостной жизнерадостностью и оптимистической активностью.
Скапен говорит о себе: «Я люблю ввязываться в рискованные предприя-
тия. .. Опасности меня никогда не пугали. . . Я презираю трусливые
душонки, которые слишком много предвидят и поэтому не смеют ни за
что взяться» (д. III. явл. 1). Хотя Скапен и носит лакейскую ливрею,
он лишен подобострастия, присущего барским слугам, и не прощает на-
несенных ему обид. Он помогает Леандру и Октаву не из корыстных
соображений, как впоследствии его потомок Фигаро, а из любви к искус-
ству, даже из «человеколюбия». Разумеется, он головой выше своих бур-
жуазных хозяев, которые не могут шага сделать без его помощи.
Если в «Плутнях Скапена» Мольер обратился к фарсу, этому искон-
ному источнику своего комического искусства, то в «Ученых женщинах»
(«Les Femmes savantes», 1672) он снова создал вполне литературную
комедию, образцовую с точки зрения канона классицизма. Подобно
«Тартюфу» и «Мизантропу», «Ученые женщины» были плодом долгой и
тщательной работы. Мольер работал над этой пьесой около четырех лет,
обдумывая каждое слово, отделывая каждую деталь. В итоге комедия ока-
залась безупречной, но не имела большого успеха, в виду отсутствия в
ней живого действия и острых комических положений.
По своей теме «Ученые женщины» несколько напоминают «Смешных
жеманниц». Мольер снова изображает здесь буржуазных женщин, подра-
жающих героиням парижских аристократических салонов. Разница лишь
в том, что героини «Смешных жеманниц» увлекались галантными рома-
нами и прециозными стишками, а героини «Ученых женщин» увлечены,
кроме того, еще науками и философией, получившими распространение в
парижских салонах второй половины XVII в. Однако и те и другие, зани-
маясь высокими материями, гнушаются прозы своей мещанской жизни и
выступают противницами брака. Но презрительное отношение женщин
к своим домашним обязанностям влечет за собой разрушение семьи
Мольер, всегда боровшийся за крепкую семью, построенную на «естествен-
ных» отношениях между мужем и женой, между родителями и детьми,
решительно осуждает поведение своих псевдоученых героинь, искажающих
здоровую и прогрессивную идею женской эмансипации от пут патриархаль-
ного быта.
Мольер. Сочинения.
Фронтиспис и титульный лист брюссельского вадания 1694 г.
Мольера, как автора «Ученых женщин», часто обвиняли в том, что
он являлся врагом женского образования и солидаризировался с мнением
Кризаля, который, споря со своей «ученой» женой Филаминтой, заявляет,
что «женщина достаточно учена, когда она умеет отличить камзол от
шаровар». Здесь проявляется все та же ошибочная тенденция приписы-
вать Мольеру взгляды выводимых им консервативных патриархальных
буржуа. На самом же деле гуманист Мольер относится к взглядам Кри-
заля примерно так же, как он относился к взглядам Горжибюса, Сгана-
реля и Арнольфа. Он против старого быта, но он не видит ничего
хорошего и в глупом подражании буржуазии худшим сторонам аристо-
кратической практики.
К положительному жизненному идеалу Мольера в «Ученых женщи-
нах» приближаются образы младшей сестры Генриеты, сочетающей боль-
шую женственность с ясным, трезвым, практическим умом, и ее возлюб-
ленного Клитандра, подлинного гуманиста, апологета разумности и есте-
ственности. Этого последнего Мольер делает выразителем своих литера-
турно-политических взглядов. В замечательной сцене спора с салонным
поэтом-педантом Триссотеном, враждебно настроенным к двору, Клитандр
выдвигает принцип общественной полезности литературы, как единствен-
ный надежный критерий ее ценности, позволяющий ей рассчитывать на
МОЛЬЕР
601
поддержку двора. С этой точки зрения Клитандр, а вместе с ним и
Мольер, отвергают салонную поэзию и науку, как не нужные Франции.
Хотя «Ученые женщины» выдержаны в строгом стиле классицисти-
ческой комедии, оперирующей типизированными образами, это, однако, не
помешало Мольеру ввести в комедию элемент личной сатиры. Так, фи-
гуры двух комических ее персонажей — Триссотена и Вадиуса — пред-
ставляют откровенную карикатуру на прециозных писателей Котена и
Менажа. На ряду с литературной пародией в этой пьесе заключена также
пародия философская. Ее объектом являются спиритуалистические эле-
менты философии Декарта, горячими почитательницами которой выступают
все три «ученые женщины». Мольер издевается над дуалистической мета-
физикой Декарта, над его учением о противоположности идеального и
материального (реплики Филаминты в д. II, явл. 7 и в д. IV, явл. 1),
а также над космологией Декарта, над его учением о вихрях и падающих
мирах (реплики Триссотена в д. IV, явл. 3). Отсюда нельзя делать
вывод, однако, о полной тождественности в представлении Мольера пре-
циозности и картезианского идеализма, потому что мнимоученые дуры,
высмеянные им в этой комедии, увлекаются также материалистической
философией Эпикура, на которую опирался Гассенди и которую высоко
ценил сам Мольер. Подобный эклектизм «ученых женщин» свидетель-
ствует о крайней поверхностности их взглядов, определяемых, главным
образом, погоней за модой. Такая игра в науку, такая мнимая тяга
к образованию вполне объясняют издевательское отношение к ним
Мольера.
После постановки «Ученых женщин» Мольер замолчал снова почти
на целый год, последний год своей жизни. Его постиг в течение этого
года целый ряд горестей и разочарований. Он потерял несколько близких
ему людей, в том числе свою старую подругу Мадлену Бежар, своего вто-
рого сына Пьера, своего старого друга, философа-материалиста Ламот-
Ле-Вайе. Он разошелся с другим старым другом, врачом и путешествен-
ником Бернье, недовольным его постоянными нападками на врачей. Он
испытал много неприятностей со стороны своего сотрудника, композитора
Люлли, ставшего во главе оперного театра и всячески сокращавшего,
в силу полученной от короля «привилегии», музыкальную часть моль-
еровских спектаклей. Все это сильно повлияло на состояние здоровья
Мольера, которое ухудшалось с каждым днем. В декабре 1672 г. он был
уже совсем плох. Было ясно, что дни его сочтены. Он сам хорошо знал
об этом и жаловался только на то, что ему приходится столько страдать
перед смертью.
В таком беспросветно-мрачном моральном и физическом состоянии
Мольер написал свою последнюю комедию «Мнимый больной» («Le Ma-
lade imaginaire»), как раз посвященную теме болезней и врачевания. Однако
именно «Мнимый больной» блестяще опровергает домыслы буржуазных
ученых-«субъективистов» во главе с немецким мольеристом Шнегансом
(Schneegans), видящих в творчестве Мольера непосредственное отражение
фактов его личной, интимной жизни. «Мнимый больной» — заразительно
веселая, жизнерадостная комедия, переполненная фарсовыми шутками и
завершающаяся великолепной балетной буффонадой (сцена приема моло-
дого врача в медицинскую корпорацию), которая нисколько не уступает
«турецкой церемонии» из «Мещанина во дворянстве».
«Мнимый больной» еще раз разрабатывает излюбленную Мольером
тему о врачах-шарлатанах и верящих им больных. Их осмеяние прово-
дится с таким сатирическим задором, с каким Мольер осмеивал более
602
КЛАССИЦИЗМ
значительные слабости и пороки. При этом, как и в «Тартюфе», Мольер
бьет одновременно и по хищникам-врачам и по их жертве — Аргану. Впро-
чем, «жертвой» Аргана можно назвать только условно. По существу этот
мнительный буржуа является таким же самодуром и эгоистом, тиранящим
своих близких, как и большинство обличаемых Мольером комических глуп-
цов и уродов. Подобно Горжибюсу в «Мнимом рогоносце», Арган хочет
заставить дочь выбрать себе мужа, по своему, а не по ее вкусу, а так как
он помешан на своих болезнях, то будущим зятем он желает иметь врача.
Когда же его дочь осмеливается перечить ему, он убеждает ее таким умо-
рительным аргументом: «Добрая дочь должна с восторгом выйти замуж
за человека, который может быть полезен для здоровья ее отца» (д. I,
явл. 5).
Эгоизм Аргана имеет своеобразный характер, связанный с его коми-
ческой манией. Он развивается на почве преувеличенной заботы о своем
здоровье, которая выражает присущий богатым людям культ своей фи-
зической личности и привязанность к плотским благам. Арган считает,
что нет и не может быть вещи более важной, чем его здоровье, и заста-
вляет всех окружающих вместе с ним заботиться об этом больше всего
в мире. Эгоизм Аргана находит естественное дополнение в эгоизме его
второй жены Белины, вышедшей (точнее — выданной) за него замуж
ради денег. Она терпеть не может грязного и противного старика, но все
время льстит ему и притворяется нежной женой, так как рассчитывает
на его огромное наследство. И только проделанный по совету Беральда,
брата Аргана, и служанки Туанеты эксперимент — притворная смерть
Аргана — разоблачает лицемерие и корыстолюбие Белины. Но неверно
было бы считать Белину только хищницей и злодейкой. В ее поведении
в значительной мере виновен сам Арган, «купивший» ее за деньги и за-
ставивший ее загубить с ним свои лучшие годы. Эгоизм Аргана поро-
ждает эгоизм Белины. Так на узком участке жизни мещанской семьи Мольер
разоблачает ту борьбу эгоистических интересов, которая составляет под-
линную сущность буржуазного общества.
Таким образом «лебединая песнь» Мольера как бы подводит итог
основным мотивам творчества этого великого сатирика-гуманиста, кото-
рый, будучи выходцем из буржуазии, сумел подняться выше эгоистиче-
ских интересов своего класса и правдиво отразил современную действи-
тельность.
Постановкой «Мнимого больного» Мольер закончил свой жизненный
путь. Смертельно больной, каждый день ожидавший неизбежного конца,
он с лихорадочной поспешностью готовил свою последнюю премьеру, как
бы опасаясь, что не успеет осуществить ее. Несмотря на свою болезнь, он
взял на себя исполнение роли Аргана и был, по отзывам современников,
неподражаем в сценическом воплощении образа этого заморенного врачами
человека. Премьера 10 февраля 1673 г. прошла внешне благополучно,
как и следующие два спектакля. Катастрофа произошла на четвертом
представлении комедии, 17 февраля. Во время финальной балетной це-
ремонии Мольер почувствовал себя дурно и едва довел спектакль до
конца. Его перенесли на квартиру, находившуюся в двух шагах от театра,
и здесь он через несколько часов скончался, задохнувшись от хлынувшей
горлом крови. У его смертного ложа не было ни врачей, ни священников,
столь ненавистных вольнодумцу Мольеру.
После смерти Мольера вокруг его погребения разыгралась, поистине,
позорная история. Так как Мольер перед смертью не принес церковного
покаяния и не отрекся от своей «нечестивой» актерской профессии, то
МОЛЬЕР
воз
парижский архиепископ запретил хоронить его по церковному обряду.
Произошел страшный скандал, который был ликвидирован только вслед-
ствие вмешательства короля. Мольера похоронили поздно вечером, без
всяких торжественных обрядов и за кладбищенской оградой, где хоронили
обычно самоубийц. За гробом Мольера, кроме его родных, друзей и то-
варищей по театру, шла огромная толпа «простого народа», как бы под-
черкнувшая глубокую народность творчества Мольера, его органическую
близость к массовому, демократическому зрителю.
8
Все предыдущее изложение показало, что в отличие от большинства
других крупных французских писателей XVII в., приверженных канону
идеалистической эстетики классицизма, Мольер сумел, сохраняя художе-
ственные принципы этого стиля, сохранить максимальную творческую
независимость от его сословных принципов. Наследник лучших традиций
ренессансного гуманизма, материалист по мировоззрению, реалист по ху-
дожественному методу, он был страстным поборником жизненной правды»
стремившимся всегда и во всем применять золотое правило философии
Ренессанса — «следовать природе» (suivre la nature). Как подлинный че-
ловек Ренессанса, как достойный преемник Рабле, он всей силой своего
комического гения обрушивался на исказителей «природы», издеваясь над
всякого рода метафизическими бреднями, кастовыми и сословными пред-
рассудками, бытовыми уродствами и извращениями естественных челове-
ческих отношений. Обличая и высмеивая не только представителей выс-
ших сословий, но и буржуазию, к которой он сам принадлежал по рожде-
нию, он постоянно становился в своих произведениях на точку зрения
народных масс и был ярке выраженным народным писателем, притом —
не только по содержанию, но и по форме своих произведений.
Широко используя наследие народного фарса с его сочным, грубова-
тым, плебейским юмором, Мольер вывел в своих комедиях целую гале-
рею народных персонажей, главным образом — хитрых, ловких слуг
и служанок, которые пользовались его неизменным сочувствием. Не огра-
ничиваясь, однако, показом слуг, он изображал в своих комедиях также
крестьян, для чего, в отступление от установившейся традиции, несколько
раз переносил действие в деревню (например, в первой сцене «Лекаря
поневоле» и во втором акте «Дон Жуана»). Эти деревенские сцены в ко-
медиях Мольера представляют большой интерес, так как они содержат
целый ряд хорошо схваченных черточек народного, крестьянского быта.
Своих слуг и крестьян Мольер заставлял говорить живым народным
языком усеянным диалектизмами, простонародными словами и выраже-
ниями, «неправильными» с точки зрения грамматики оборотами, которые
уже в XVII в. навлекли на него со стороны Лабрюйера и Фенелона
упреки в «неумении писать». Эти упреки, повторенные в XVIII в. Вове-
наргом, а в конце XIX в. литературоведом Эдмондом Шерером, объяс-
няются резким отклонением Мольера от языка придворно-аристократиче-
ского общества, канонизированного Французской Академией.
Сохраняя в своем языке связь с народными массами, Мольер стре-
мился к тому, чтобы все персонажи его комедий говорили свойственным
им разговорным языком. Кроме того, он всегда писал для сцены, в рас-
чете на восприятие зрителя, а не читателя. В наши дни на это обратил
внимание Анатоль Франс, отметивший, что актерское исполнение пре-
вращает многие кажущиеся недостатки мольеровского языка в достоинства.
604
КЛАССИЦИЗМ
Народная стихия в творчестве Мольера проявилась также в широ-
ком использовании им фольклорного материала — всякого рода пословиц,
поговорок, народных поверий и острот. Кроме того, Мольер был большим
поклонником и ценителем народной песни, которую в его время не счи-
тали достойной внимания литературно-образованных людей. Устами Аль-
сеста в «Мизантропе» он противопоставляет безыскусственную народную
песенку «Si le roi m'avait donné. ..» («Когда б король мне подарил. . .»)
приторному прециозному сонету Оронта. Точно так же и в «Мещанине
во дворянстве» он вкладывает в уста Журдена народную песенку «Je
croyais Jeanneton...», противопоставляя ее сладенькой серенаде, исполняе-
мой певицей, которую привел учитель музыки. Мольера привлекала в на-
родной песне та простота и непосредственность выражения мыслей
и чувств, за которую он боролся в эпоху господства салонных вку-
сов.
Несмотря на сильную народную струю в его творчестве, Мольер
явился создателем комедии классицистического стиля, в основном соот-
ветствующей принципам его рационалистической эстетики. Эта комедия
отлилась под пером Мольера в исключительно законченную форму и ока-
зала "огромное влияние на развитие комедии того же стиля во всех евро-
пейских странах. Под влиянием Мольера развивалась не только вся фран-
цузская комедия XVIII в. от Реньяра и Лесажа до Бомарше и Фабра
д'Эглантина, но также комедия английская (Уичерли, Конгрив, Гольд-
смит, Шеридан), итальянская (Гольдони, его предшественники и после-
дователи), испанская (Моратин), немецкая (Лессинг), датская (Голь-
берг), польская (Заблоцкий, Фредро), азербайджанская (Ахундов) и дру-
гих стран.
Но среди почитателей и последователей Мольера в Западной Европе
мы находим не только его соратников по комедийному жанру. Горячим
поклонником Мольера был, например, Гете писавший комедии только
в самом начале своей деятельности. В своих старческих беседах с Эккер-
маном он неоднократно выражал восхищение глубокой человечностью,
правдивостью и чистотой мольеровского искусства. По словам Гете,
Мольер «возвышался над нравами своего времени, тогда как наши
Ифланд и Коцебу покорялись нравам своего времени, оставались ограни-
ченными и скованными ими. Мольер исправлял людей, правдиво изобра-
жая их». На ряду с этим Гете находил у Мольера «совершенное знание
сцены», а также редкостное изящество и безупречный такт. Похвалы Гете
резко противостояли той кампании против Мольера, которую вели в на-
чале XIX в. немецкие романтики во главе с А. В. Шлегелем, пытавшимся
дискредитировать Мольера вместе с Корнелем и Расином.
Иначе относились к Мольеру французские романтики. Так, Шато-
бриан ставил его на ряду с Шекспиром, когда писал в своем «Опыте об
английской литературе» (1838): «Шекспир обрел драматическое искус-
ство; Мольер довел его до совершенства; подобно двум древним филосо-
фам, они поделили царство смеха и слез». Равным образом, и Гюго в своем
предисловии к «Кромвелю» (1827), явившемся манифестом французского
романтизма, писал, что настала пора «громко заявить, что Мдиьяр -зани-
мает вершину нашей ЛРЯМЫ не только па ппатнц^цпму созданию, но и по
литературному выполнению». Всегда восхищался Мольером также Баль-
зак, который во многих отношениях явился его конгениальным преемни-
ком, развившим и углубившим в эпоху оасцвета буржуазии ряд творче-
ских замыслов и прозрений Мольера. Помимо той переклички, которая
наблюдается между некоторыми мольеровскими и бальзаковскими образами
МОЛЬЕР
505
(например, между Гарпагоном и стариком Гранде), следует отметить на-
чатую и незаконченную Бальзаком комедию «Оргон» (конец 30-х годов),
задуманную как продолжение «Тартюфа».
Значительным было влияние, оказанное Мольером в России. Он был
любимым учителем многих русских драматургов XVIII и XIX вв. Наибо-
лее интенсивным было, разумеется, воздействие Мольера на русскую
комедию классицистического стиля. Вслед за Сумароковым, заложившим
основы этой комедии, в школе Мольера воспитывались все русские комеди-
ографы XVIII и начала XIX вв. Последователями Мольера были Княжнин,
Капнист и Крылов; Фонвизин и Грибоедов использовали опыт Мольера,
создавая самобытный русский комический театр. Грибоедов, правда, крити-
чески высказывался (в письме к Каратыгину от января 1825 г.) о «Ску-
пом», которого он находил «несносным», однако сам он испытал некоторое
влияние «Мизантропа», когда писал свое «Горе от ума». Гоголл сближается
с Мольером в комедийно-сатирическом показе современного общества.
Следы творческого интереса к Мольеру явственно заметны во всех коме-
диях Гоголя—и в «Ревизоре», и в «Женитьбе», и в отрывках уничтожен-
ной им комедии «Владимир ГГТ степени».
По сообщению П. В. Анненкова, Гоголя натолкнул на изучение Моль-
ера Пушкин, который был его большим знатоком и ценителем. Еще сов-
сем ребенком Пушкин, по рассказам сестры, сочинял на французском
языке комедии в стиле Мольера. Одна из этих детских пьесок, «Похи-
титель» («L'Escamoteur»), была освистана сестрой Пушкина — единствен-
ной зрительницей этого спектакля. Любовь к Мольеру Пушкин со-
хранил и в лицейские годы. В стихотворении «Городок» (1814), упоми-
ная Мольера среди своих любимых авторов, молодой Пушкин называет
его «исполином». В более поздние годы он несколько раз упоминает его
в своих статьях и письмах, чаще всего выделяя «Тартюфа», который был
его любимой пьесой. Он называл эту комедию «бессмертным Тартюфом,,
плодом самого сильного напряжения комического гения» и находил в ней
«высшую смелость, смелость изобретения, создания, где план обширный
объемлется творческою мыслию».
Восхищение Мольером не помешало Пушкину впоследствии, когда он
познакомился с Шекспиром, отдавать последнему предпочтение перед
Мольером. «Лица, созданные Шекспиром, — писал Пушкин в заметке из-
«ТаЫе Talk» (1834), — не суть, как у Мольера, типы такой-то страсти,
такого-то порока, но существа живые, исполненные многих страстей, мно-
гих пороков; обстоятельства развивают перед зрителем их разнообразные
и многосторонние характеры». Стоя на такой точке зрения, Пушкин кри-
тикует далее свойственные Мольеру, как классицисту, приемы односто-
ронней и прямолинейной обрисовки образов Гарпагона и Тартюфа, ко-
торым он противопоставляет более широко задуманные и сложные образы
Шейлока и Анджело (у Шекспира).
Помимо теоретических высказываний о Мольере, Пушкин вступил
с ним осенью 1830 г. в Болдине в творческое соревнование, написав две
из своих «маленьких трагедий» — «Скупой рыцарь» и «Каменный гость» —
на мольеровские сюжеты. Однако в обоих случаях Пушкин перевел сюжеты
из комического в трагический план, изменил структуру мольеровских пьес
и значительно усложнил характеры их героев, наделив их скрытыми по-
буждениями, которые отсутствовали у Мольера.
В середине XIX в., несмотря на то, что традиции классицизма были-
уже совсем преодолены, Мольер в России не был забыт и продолжал,
оказывать некоторое, — правда, уже более слабое, — влияние на русских
!Î06
классицизм
комедиографов. Не избежали этого влияния ни Сухово-Кобылин, ни
Островский, перед своей смертью собиравшийся перевести всего Моль-
ера, ни Л. Н. Толстой, решительно предпочитавший Мольера Шекспиру.
Параллельно влиянию Мольера на драматургию и вообще литературу
разных стран, развертывалось также его влияние на живой театр. Это
влияние на родине Мольера усиливалось благодаря тому, что Мольер
был не только драматургом, но и актером-новатором, создавшим новую
систему реалистической игры, которая получила продолжение и развитие
в театре XVIII в. Через семь лет после смерти Мольера в Париже был
основан существующий до сих пор образцовый театр «Французская Ко-
медия» («Comédie Française»), который был в то время монопольным дра-
матическим театром. Этот театр, в котором работал в момент его основа-
ния лучший и любимый ученик Мольера Мишель Барон (Michel Baron),
стал неофициально именовать себя «Домом Мольера» и удерживает это
прозвище до сих пор. В репертуаре этого театра пьесы Мольера продол-
жали занимать в XIX в. очень значительное место, превышая количество
постановок всех других французских драматургов XVII и XVIII вв.,
вместе взятых. И только в XX в. интерес к Мольеру значительно ослабел,
и его ^комедии стали исполняться, главным образом, на классических утрен-
никах, а также в летнее время, когда Париж бывает переполнен иностран-
ными туристами.
Великий гуманист и сатирик Мольер становился все более чуждым
реакционной, загнивающей буржуазии, решительно отрекавшейся от своего
революционного прошлого. Она начала выхолащивать из пьес Мольера
их боевое, сатирическое содержание. Эта тенденция нашла отражение в
трудах некоторых новейших буржуазных мольеристов, вроде немецкого
ученого Кюхлера (Kiïchler), который сводит все комедии Мольера к чистой,
безыдейной театральной игре.
Сходный характер имеет также судьба мольеровских пьес в русском
театре. Пьесы Мольера исполнялись в России уже при Петре I. Вслед за
тем Тредьядпвгкий перевел «Мещанина во дворянстве», а неизвестный
автор — «Мнимого больного» («Больным быть думающий», 1743). В репер-
туаре первого постоянного театра в Петербурге, возглавляемого Ф. Г. Вол-
ковым, находим 8 комедий Мольера. В XVIII в. лучшие русские актеры
(во главе с Дмитревским) воспитывались на Мольере. Положение это
мало изменилось в первой половине XIX в., когда знаменитый актер Щеп-
кин, друг Гоголя, был горячим почитателем Мольера, предпочитавшим его
всем другим драматургам. Именно для Щепкина Гоголь перевел
«Сганареля», дав ему подзаголовок: «Муж, думающий, что он обманут
женой» (1848). В течение всего XIX в, пьесы Мольера не сходили с
подмостков казенных театров, побуждая актеров все к новым истолкова-
ниям мольеровских образов.
В русском театре XX в. Мольер стал появляться гораздо реже. Его
пьесы теперь давали повод для формалистических экспериментов режиссе-
ров, стоявших на позициях условно-эстетического театра. В проти-
вовес этим попыткам акцентировки в пьесах Мольера чистой «театраль-
ности» и сценической буффонады, надо отметить реалистическое истолко-
вание двух пьес Мольера («Мнимый больной» и «Брак поневоле») в
Московском Художественном театре (1913), которое осталось, однако,
в свое время совершенно обособленным.
Великая Октябрьская социалистическая революция открыла новую
эру в истории освоения мольеровского наследия. В годы гражданской
войны пьесы Мольера входили в репертуар всех театров и исполнялись
МОЛЬЕР
807
летучими актерскими отрядами на фронте перед красноармейской аудито-
рией, у которой они имели всегда шумный успех. Так, в СССР впервые
народный комик Мольер нашел путь к тому народному зрителю, на кото-
рого, главным образом, он и рассчитывал, создавая свои веселые, задорные
пьесы. В последующие годы мирного строительства Мольер продолжал
оставаться в репертуаре всех наших театров как в центре, так и на пери-
ферии. Особенно часто его играли и играют в рабочих клубах и самодея-
тельных кружках, где он попрежнему является одним из любимейших
драматургов. Из мольеровских спектаклей последних лет необходимо отме-
тить постановку «Тартюфа» (1939) в ведущем театре Советского Союза —
Московском Художественном Академическом театре СССР имени М. Горь-
кого. К этому следует добавить, что только при советской власти Мольер
был переведен на языки различных народностей Советского Союза и
утвердился на подмостках их театров, впервые созданных в послеоктябрь-
ские годы.
Г J А В Л M
ЛАФОНТЕН
* осле Мольера крупнейшим из французских писателей
XVII в., примыкавших к вольнодумному течению вну-
три классицизма, был Лафонтен, составивший себе об-
щеевропейскую известность своими знаменитыми бас-
нями. Однако писательский диапазон Лафонтена был
несравненно шире, чем полагают за пределами Франции,
где он известен почти исключительно как баснописец.
На самом же деле Лафонтен был крупнейшим фран-
цузским поэтом XVII в., испробовавшим свои силы в
различных поэтических жанрах. Его популярность,
огромная уже у современников, распространилась далеко за пределы его
эпохи. Она сохранилась полностью не только в XVIII, но и в XIX в.,
столь охотно развенчивавшем великих писателей «века Людовика XIV»,
и дожила до наших дней.
Сила Лафонтена — в том, что в период расцвета придворно-монархи-
ческой культуры он в своих лучших произведениях явился по содержанию
и форме подлинно народным поэтом. При всем том его творчество отме-
чено 31¥г^телънътй^д€^б'-худ6жёствен11ЫМ11 противоречиями, о которых
можно составить себе представление, проследив основные этапы его жи-
зненного и творческого развития.
Жан де Лафонтен (Jean de La Fontaine, 1621—1695) происходил из
провинциально^_дановничьей буржуазии,,, из которой вышли почти все
великие писатели Франции XVII в. Род Лафонтена, весьма древний и бо-
гатый, имел претензии на дворянский титул. Однако эти претензии до-
рого обошлись поэту, на которого в 1661 г. был наложен крупный штраф
за незаконное ношение титула «écuyer» (кавалер). Эти претензии харак-
терны для Лафонтена, который всегда вращался среди высшего света
и вел образ жизни типичного аристократа.
Лафонтен родился в городке Шато-Тьерри в Шампани, где его отец
занимал должность «смотрителя вод и лесов». Поэт получил довольно не-
брежное воспитание, сначала на родине, а затем з Париже, где он сидел
на одной школьной скамье с Фюретьером. Двадцати лет Лафонтен всту-
пил в братство ораторианцев для подготовки к духовному званию (1641).
(7 t* P /T
zJean de lairpntamc
de ( Acadetnu ^/run-.-ml-:
, :|
Жан де Лафоитен.
С портрета Жасента Риги, грав. Ж. Эделинком-
SW
кллсспцпзм
Пробыв в нем полгода, он был направлен в семинарию Сен-Маглуар в Па-
риже, в которой высидел не больше года, занимаясь, вместо изучения
богословия, чтением галантных романов и, в частности, «Астреи». Воз-
вратившись в родной город, Лафонтен занялся по настоянию отца изуче-
нием права и, пройдя соответствующее испытание, был зачислен адвокатом
при парижском парламенте. Однако и здесь он удержался недолго, так как
ненавидел судейское крючкотворство не меньше богословия. Он возвра-
тился снова в Шато-Тьерри, где отец женил его на пятнадцатилетней Ма-
рии Эрикар и передал ему свою должность (1647).
Но Лафонтен был плохим чиновником; уже в это время он инте-
ресовался больше всего поэзией, к занятиям которой он приобщился
в 1643 г., когда впервые познакомился с одами Малерба. Около этого
же времени родственник Лафонтена Пентрель (Pintrel), переводчик Се-
неки, и приятель Лафонтена Мокруа (Maucroix), переводчик Платона, на-
толкнули его на изучение древних писателей, которое стало вскоре настоя-
щей страстью Лафонтена. Особенно любил он Платона и Плутарха, кото-
рых мог, однако, читать только в переводах, так как не знал греческого
языка. Многие изречения, почерпнутые у этих авторов, впоследствии были
использованы Лафонтеном в его баснях.
На ряду с античными авторами, Лафонтен увлекался писателями
Возрождения — итальянскими, испанскими и французскими. Из первых
его любимыми писателями были Боккаччо, Ариосто и Макьявелли; из
вторых — Сервантес; из третьих — Рабле и Маро; последний привлекал
его своей смелой откровенностью и простодушием, за которым чувствова-
лось тонкое лукавство. Изучение поэзии Маро сыграло важную роль
в выработке Лафонтеном своей оригинальной поэтической манеры.
Литературная карьера Лафонтена началась довольно поздно. Он
дебютировал комедией «Евнух» («L'Eunuque», 1654)—вольным перево-
дом одноименной пьесы Теренция, к которому Лафонтена привлекала
свойственная этому писателю тонкость характеристики и изящество
письма. Однако Лафонтену не удалось передать художественных до-
стоинств оригинала, и его первая комедия не имела успеха. Все же она
сыграла известную роль в последовавшем вскоре после ее написания пе-
реезде поэта в Париж, где он окончательно обосновался в 1657 г., бро-
сив семью и службу.
Запутанные денежные дела заставили Лафонтена ориентироваться на
литературную работу как на источник средств к существованию. Но так
как он обладал ленивой, беспечной натурой, более склонной к созерца-
нию и наслаждению, чем к систематической работе, то он не стал настоя-
щим профессиональным писателем и всегда пользовался материальной
поддержкой меценатов. Первым из покровителей Лафонтена был супер-
интендант (министр) финансов Фуке, который находился в это время
в зените своей славы и могущества. Ставленник Мазарини, Фуке рас-
считывал после его смерти занять его место и, обладая огромным со-
стоянием, стремился приобрести сторонников среди придворной знати.
С этой целью он окружал себя литераторами и художниками (Пелиссон,
Ленотр, Лебрен, Пьер Корнель, Мольер), щедро оплачивая их труды.
Лафонтен понравился Фуке, который назначил ему пенсию в 1000 лив-
ров, обязав его сочинять за это по четыре стихотворения в год.
Первым произведением, поднесенным Лафонтеном своему покрови-
телю, была героическая идиллия «Адонис» («Adonis», 1658), в которой
он подражал Овидию, в то же время вспоминая об одноименной галант-
ной поэме итальянца Марино. Появившись в самый разгар увлечения
ЛАФОНТЕН
511
классицистов середины XVII в. жанром эпопеи, маленькая поэма Ла-
фонтена выгодно отличалась от громоздких и напыщенных эпопей Лему-
ана, Жоржа де Скюдери, Шаплена и Демаре де Сен-Сорлена простотой
своего стиля, изяществом описаний и общим чувством гармонии, обличав-
шими в Лафонтене достойного преемника поэзии Ренессанса, знатока
античных поэтов. Уже в первых стихах своей поэмы Лафонтен заявляет
о том, что у него «нехватает голоса» для воспевания Рима, Трои и сраже-
ний богов на берегах Скамандра, что он может воспевать только «лесную
тень, Флору, Эхо, Зефиров и их мягкое дыхание, зеленые ковры лугов и
серебристые источники»:
Je n'ai jamais chanté que l'ombrage des bois.
Flore, Echo, les Zéphirs et leurs molles haleines.
Le vert tapis des prés et l'argent des fontaines.
Таких нежных, гармоничных стихов давно уже не появлялось во
Франции. Новым в «Адонисе» было тонкое чувство природы и глубокий
лиризм некоторых мест поэмы, где говорится о любви и разлуке. В «Адо-
нисе» есть строки, которые звучат совсем необычно для поэзии XVII в.
и напоминают новую сентиментально-романтическую поэзию, например:
О vous, tristes plaisirs, où leur âme se noie,
Vains et derniers effets d'une imparfaite joie,
Délicieux moments, vous ne reviendrez plus.1
За «Адонисом» последовала драматическая эклога «Климена» («Cli-
roène», 1658), стоящая особняком во французской поэзии этого времени.
Действие эклоги происходит на Парнасе. Аполлон жалуется на то, что
почти совсем перестали появляться хорошие стихи о любви, и предлагает
музам рассказать ему о любви пастушка Аканта к сельской красавице
Климене, которую он увидал на берегу Гиппокрены. Каждая из муз из-
лагает эту тему в особом, свойственном ей стиле, что дает возможность
Лафонтену блеснуть приемами различных поэтических направлений
и жанров. Мельпомена и Талия, естественно, драматизуют свой рассказ,
изображая Аканта и Климену в лицах. Аполлон сопровождает эти поэ-
тические упражнения своими критическими замечаниями. Все вместе имеет
необычайно пестрый, беспорядочный и живописный характер. В то время
как основным принципом поэтики классицизма являлось подражание,
Лафонтен смело выступал против этого принципа, называя подражателей
«раболепными и глупыми животными», напоминающими баранов, и смело
защищал принцип свободы поэтического творчества.
Следующим крупным произведением Лафонтена этого периода была
аллегорическая поэма «Сон в Во» («Le Songe de Vaux», 1656*—1661), по-
священная прославлению роскошного загородного дворца Фуке и остав-
шаяся незаконченной. Сохранились только три отрывка «Сна в Во», в ко-
торых Лафонтен чередует стихи с прозой, описания с рассказами и диало-
гами, героический стиль с лирическим, непринужденно переплетая
элементы, заимствованные из античной, средневековой и ренессансной поэ-
зии. Он изображает в первой части поэмы спор между четырьмя феями,
олицетворяющими четыре искусства, — Палатианой (архитектура), Апел-
ланирой (живопись), Гортензией (садоводство) и Каллиопой (поэзия),
в присутствии Оронта (Фуке) и ряда полубогов. В этом споре побеждает
1 «О вы, печальные наслаждения, в которых утопает их душа, тщетные и послед-
ние проявления неполной радости, восхитительные мгновения, вы больше не воз-
вратитесь».
pàrJ fi, Oia'rtf. tt
ûiu.tKt/i
i. .v,/,/,, ,.-. ,-.., ■•liri/'-f'ir WlXi/чи.) .ir.-i'ih- и Iton. f.ir.;-1 ./ :' \ ioJi.nl.- ;.■■
. « / ! ■ чи/игш,.г% a fait (,m.i U » trrrit^rtmïhuiti ïïïrt, ■„• . . • .,,//•
Лафонтея •
Фронтиспне надання „Басен" с иллюстрациями Ж. Б. Удри.
ДАФОНТЕВ
813
Каллиопа, доказывающая, что поэтические произведения долговечнее про-
изведений других искусств. Во второй части поэмы Лафонтен резко меняет
тон повествования и пробует силы в области шутливой поэзии (например,
в отрывке «Приключения лосося и осетра» и др.). В общем, Лафонтен
здесь близок еще к манере барокко с характерной для нее пестротой,
асимметричностью и «открытой формой», но без присущей поэзии барокко
иррациональности и мистицизма. Лафонтен отдал только временную дань
условностям аристократической поэзии. Однако - некоторое пристрастие к
барочной помпезности, (велеречивости и декоративности сохранилось у Ла-
фонтена и впоследствии, даже в наиболее классицистический период его
деятельности.
Условия, поставленные Лафонтену Фуке при назначении ему пенсии,
побудили его испробовать свои силы в области так называемой «легкой
поэзии» (poésie légère). Преодолевая манерность Вуатюра, Сарразена
и других прециозных поэтов, опираясь на опыт старофранцузских поэтов
И в особенности Маро, Лафонтен обновляет лексику «легкой поэзии»
и возрождает в ней ряд старинных жанров — балладу, рондо, послание,
анакреонтическую оду. Он сочиняет множество изящных стихотворений,
навеянных различными мелкими событиями светской и придворной жизни.
При этом он прославляет с одинаковой легкостью и безразличием заклю-
чение Пиренейского мира и «госпожу суперинтендантшу по случаю ее
преждевременного разрешения от бремени в карете во время возвращения
из Тулузы». Иногда Лафонтен представлял Фуке в условленные сроки
небольшие стихотворения, озаглавленные просто «Для первого срока»
(«Pour le premier terme»), «Для второго срока» и т. д.
Служба Лафонтена у Фуке окончилась в 1661 г. вследствие отставки
и ареста этого министра. Падение Фуке было вызвано не только тем,
что он дерзнул ухаживать за королевской фавориткой Лавальер, но в пер-
вую очередь тем, что он награбил огромное количество денег и с 1654 г.
просто прекратил вести отчетность. Во время обыска у Фуке нашли план
восстания, составленный им еще при Мазарини. Суд присудил Фуке
к вечному изгнанию и конфискации имущества, превышавшего своими
размерами годовой бюджет государства. Однако Людовик не выпустил
Фуке из Франции, и тот прожил до самой смерти (1680) в Пиньероль-
ской тюрьме (близ Турина).
В отличие от большинства придворных, сразу отвернувшихся от
опального министра, Лафонтен сохранил ему верность и пытался мобили-
зовать общественное мнение в его пользу. Он сочинил трогательную
«Элегию к нимфам Во» («Elégie aux nymphes de Vaux», 1662), которая
имела грандиозный успех и была перепечатана во всех современных сбор-
никах стихов. В этом стихотворении Лафонтен призывал молодого Лю-
довика XIV к милосердию, предлагая ему подражать великодушию
Генриха IV. Он говорил здесь, что Фуке «достаточно наказан своей су-
ровой участью» и что «быть несчастным значит быть невинным».
Не ограничившись этим, Лафонтен обратился в следующем году
к королю с одой («Ode pour Fouquet», 1663), в которой весьма почти-
тельно, но твердо рекомендовал ему политику милосердия, указывая, что
«иностранцы должны его бояться, а подданные хотят его любить». Та-
кой независимый тон Лафонтена не понравился ни Людовику XIV, ни
его новому министру Кольберу, которые навсегда сохранили холодность
к Лафонтену. Зато в глазах общества Лафонтен сразу вырос и стал по-
пулярнейшим поэтом, хотя он не написал еще ни одного из своих наибо-
лее значительных произведений.
33 История французской литературы—815
814
классицизм
Заступничество за Фуке было причиной изгнания Лафонтена в Аи^
мож (1663). Из своего изгнания Лафонтен написал жене ряд изящных,
остроумных писем, в которых проявил качества первоклассного прозаика.
Помимо живого рассказа о различных дорожных приключениях, в них
рассеян целый ряд высказываний о природе и искусстве, свидетельствую-
щих о независимости его эстетических взглядов. Лафонтен выступает здесь
против педантизма, и искусственности в защиту простоты, искренности
и природы. В отличие от большинства своих современников он предпочи-
тает дикую, необработанную природу роскошным паркам, и старинные
здания неправильной архитектуры ставит выше современных пышных зда-
ний, подчиненных принципам строжайшей симметрии. Всем этим он
сильно отдаляется от господствующей эстетики классицизма.
Пребывание Лафонтена в Лиможе не было продолжительным. В 1664 г.
он живет уже попеременно в Париже и в Шато-Тьерри, где находит себе
новую покровительницу в лице младшей племянницы Мазарини, Марии-
Анны Манчини, герцогини Бульонской, впоследствии создавшей себе пе-
чальную славу преследованием Расина. В салоне герцогини Бульонской
царили независимые, фрондерские настроения по отношению к Людо-
вику «XIV и его двору, к официальному классицизму и официальной на-
божности. Аристократический либертинаж сочетался здесь с несколько
запоздалым увлечением галантно-сентиментальным романом. Эта обста-
новка весьма гармонировала с вольнодумством и фрондерством Лафон-
тена, с его ненавистью к религиозному ханжеству, придворному серви-
лизму и монархической дисциплине.
Именно герцогине Бульонской Лафонтен посвятил те из своих произ-
ведений, в которых наиболее полно выразился его либертинаж — знаме-
нитые стихотворные «Сказки» («Contes»). Первую из них — «Джокондо»
(«Joconde», 1664), сюжет которой заимствован из XXVIII песни «Неи-
стового Роланда» Ариосто, Лафонтен напечатал, невидимому, по совету
Буало, возглавлявшего в 1661—1664 гг. веселый кружок литераторов,
куда входили Лафонтен, Мольер, Расин, Фюретьер и Шапель. Приятели
собирались сначала в кабачке «Белого барана» (Mouton Blanc), а затем
на квартире Буало на улице Старой голубятни (Vieux Colombier). Ла-
фонтен был старше других членов кружка, но имел гораздо меньше пе-
чатных произведений, чем его младшие товарищи. После успеха «Джо-
кондо» Буало побудил его к напечатанию других его стихотворных но-
велл на сюжеты, заимствованные у Боккаччо, Атенея, из сборника «Сто
новых новелл» и других источников. Так составился первый том «Ска-
зок», выдержавший в течение одного года два издания (1665). Его огром-
ный успех заставил Лафонтена выпустить в 1667 г. второй сборник,
в котором, кроме перечисленных источников, были использованы еще
Рабле и «Гептамерон». Последующие сборники вышли в 1671, 1675 и
1685 гг. В успехе «Сказок» была некоторая доля скандала, потому что
большинство этих новелл носило весьма фривольный характер. Лафонтен
тщетно пытался отвести от себя упреки в непристойности, ссылаясь на
природу самого жанра, трактующего вольные сюжеты. Кольбер открыто
выразил Лафонтену свое неудовольствие и запретил переиздание его
«Сказок», которые стали после этого печатать в Голландии. Кольбер ре-
шительно противился избранию Лафонтена во Французскую Академию,,
которое состоялось только после смерти Кольбера, в 1684 г.
Вслед за первыми двумя сборниками «Сказок» Лафонтен опубликовал
в 1668 г. первые шесть книг своих басен под скромным заглавием «Басни
Эзопа, переложенные в стихи Лафонтеном» («Fables d'Ésope, mises en vers
JAf»OHTEH
VIS
par M. de La Fontaine»), Здесь не было уже ни малейшей скабрезности,
что (позволило Лафонтену посвятить это издание дофину. Следующие пять
книг басен лоявились в 1678*—1679 гг., а последняя, двенадцатая — только
в 1694 г. Басни имели огромный успех, затмивший даже успех «Сказок».
Они доставили Лафонтену признание крупнейших писателей и государ-
ственных деятелей Франции. В течение долгих лет он пользовался госте-
приимством знатнейших дам Франции. Один Людовик XIV сохранял не-
изменную холодность к любимейшему поэту французской аристократии,
в котором он не без основания ощущал неисправимого либертина и фрон-
дера, стремящегося вырваться из пут абсолютной монархии.
Параллельно со «Сказками» и «Баснями» Лафонтен выпустил еще
ряд произведений. Среди них заслуживает внимания небольшой роман
в прозе со стихотворными вставками «Любовь Психеи и Купидона»
(«Lie» Amours de Psyché et de Cupidon», 1669), посвященный герцогине
Бульонской и связанный с литературными интересами, царившими в ее
салоне. Давая парафразу знаменитой вставной новеллы из романа Апу-
лея «Золотой осел», Лафонтен наделил персонажей греческой сказки
чисто французскими чертами и отразил в ней нравы и психику француз-
ской аристократии своего времени. Несмотря на рассеянные в повести
славословия Людовику XIV, в ней проскальзывают сатирические намеки
на короля Франции, окруженного дюжиной врачей и несколькими любов-
ницами, рождающими ему множество детей, в результате чего «королев-
ская семья настолько велика, что из нее можно было бы сделать обшир-
ную колонию».
Игривая повесть Лафонтена о злоключениях Психеи оказала большое
влияние на русскую литературу. Она навеяла И. Ф, Богдановичу его зна-
менитую «Душеньку», которую так высоко ценил молодой Пушкин, не-
мало воспринявший из нее при написании «Руслана и Людмилы» (впро-
чем, в «Руслане и Людмиле» можно найти также следы непосредственного
влияния Лафонтена). В отличие от Лафонтена, Богданович написал свою
«Душеньку» полностью «вольными стихами», блестящие образцы кото-
рых он нашел у того же Лафонтена (в его сказках и баснях).
Лафонтен вставил свою повесть в оригинальную рамку, носящую
автобиографический характер. Он изобразил самого себя, под именем
Полифила («многолюба»), читающего свою повесть о Психее трем дру-
зьям, под прозрачными греческими именами которых не трудно узнать
Расина (Акант), Буало (Арист) и Мольера (Геласт). Они ведут весьма
любопытные споры о значении трогательного и комического элемента
в поэзии, несомненно отражающие реальные споры, происходившие между
четырьмя поэтами на квартире Буало. В противоположность своим дру-
зьям, стоявшим за обособление трагического от комического, Полифил-
Лафонтен высказывается за смешение этих элементов. Он говорит о себе:
«Я люблю игру, любовь, книги, музыку, город и деревню, — словом, все;
нет ничего, что не казалось бы мне высшим благом, не исключая даже
мрачных наслаждений печального сердца». Эти слова Полифила являются
красноречивой декларацией литературного credo Лафонтена.
Герцогине Бульонской Лафонтен посвятил также одно из оригиналь-
нейших своих произведений —- своеобразную «научную» поэму в двух
песнях «Хина» («Le Quinquina», 1682), написанную по поводу излечег
ния его покровительницы от лихорадки. Лафонтен воспевает здесь чудес-
ные свойства коры хинного дерева, которая появилась во Франции, как
лечебное средство, в 1679 г. Для написания этой поэмы Лафонтен добро-
совестно изучил трактат врача Монжино и поставил себе целью дать.его
ftlff
КЛАССИЦИЗМ
поэтическую интерпретацию. В I песне поэмы он изложил патологию ли-
хорадки и устаревшие методы ее лечения с помощью кровопусканий и сла-
бительных. Во II песне он описал хинное дерево и ознакомил читателей
с применением хины в современной медицине. Несмотря на наличие
в поэме банальных мифологических образов, Лафонтен сумел придать ей
чисто научный характер, проложив путь тому жанру научно-описательной
поэмы, который будет широко разрабатываться в следующем веке Воль-
тером и его школой.
В старости Лафонтен постоянно обращался к сочинению драматиче-
ских произведений, возвращаясь к тому роду поэзии, с которого он на-
чал свою деятельность. Увлеченный знаменитой трагической актрисой
Марией Шанмеле, он сочинил в сотрудничестве с ее мужем, второсте-
пенным комедиографом и актером, несколько комедий. В одной из
них он перенес на сцену смешного карлика Раготена из «Комического
романа» Скаррона («Ragotin ou le Roman comique», 168(4), в другой за-
бавно и язвительно высмеял ловкого флорентийца, композитора Люлли,
сделавшего блестящую карьеру при дворе Людовика XIV («Le Floren-
tin», 1685), в третьей драматизовал собственную сказку «Волшебный ку-
бок» '(«La Coupe enchantée». 1688), заимствованную у Ариосто. Все эти
комедии в художественном отношении довольно незначительны, как и ми-
шурные оперные либретто Лафонтена, завершающиеся его лирической
трагедией «Астрея» («Astrée», 1691). Всю жизнь мечтавший о героиче-
ском стиле, Лафонтен принялся незадолго до смерти даже за сочинение
трагедии «Ахилл», которая осталась незаконченной.
Закоренелый либертин, Лафонтен в течение многих лет оставался
глух к убеждениям янсенистов, пытавшихся вернуть его на путь «истин-
ной веры», подобно его приятелю Расину. Правда, Лафонтен мимоходом
выпустил «Сборник христианских стихов» («Recueil de poésies chré-
tiennes», 1671). Однако он в то же время продолжал сочинять свои воль-
нодумные сказки. Только в конце 1692 г., после перенесенной им тяже-
лой болезни, он поддался увещаниям Расина и своей покровительницы
мадам де ла Саблиер, удалившейся в монастырь, и пережил религиозное
обращение. По настоянию аббата Пуже он сжег начатую комедию и тор-
жественно, в присутствии нескольких членов Французской Академии, от-
рекся от своих «безбожных» сказок. Он закончил свою деятельность со-
чинением религиозных стихов и, в частности, переводом на французский
язык церковного гимна «Dies irae».
2
В течение своей долгой жизни Лафонтен перепробовал множество
литературных жанров и проявил себя во всех родах поэзии, известных во
Франции XVII в. Многосторонностью и разнообразием своей писатель-
ской деятельности он отличается от большинства своих современников и
напоминает скорее писателей XVI в., у которых такое разнообразие ли-
тературной деятельности было обусловлено энциклопедизмом, характер-
ным для культуры Ренессанса. Сходство Лафонтена в этом отношении
с писателями французского Ренессанса не случайно: вместе с Мольером
Лафонтен был виднейшим выразителем ренеосансных традиций во фран-
цузской литературе второй половины XVII в. Эти традиции наиболее
ярко проявились в тех из произведений Лафонтена, которым он отдал
больше всего времени и труда — в его «сказках» и баснях.
«Сказки», или точнее — стихотворные новеллы Лафонтена, были тем
литературным жанром, к которому он чувствовал наибольшее влечение.
. ЛАФОНТЕН
817
Он посвятил их написанию не менее двадцати лет (1665—1685) и выра-
зил в них все лучшие свойства своего литературного дарования — остро-
умие, находчивость, игривую грацию, редкостное чутье комического в сло-
вах, вещах и действиях, умение изящно и тонко преподносить самые рис-
кованные и непристойные ситуации. Все это явилось причиной огромного
успеха «Сказок» Лафонтена у современников, в том числе у наиболее
строгих ценителей литературы, вроде мадам де Севинье, которая была
большой поклонницей этих легкомысленных повестушек. У нас почита-
телем сказок Лафонтена был Пушкин, причислявший их к шедеврам за-
падноевропейской шутливой поэзии, на ряду с «Неистовым Роландом»
Ариосто, «Гудибрасом» Бетлера, «Вер-Вером» Грессе, «Орлеанской дев-
ственницей» Вольтера и «Дон-Жуаном» Байрона. Именно на сказки
Лафонтена Пушкин ссылался, защищая шутливую поэзию и, в частности,
своего «Графа Нулина», от упреков в непристойности.
Действительно, в строгих отзывах блюстителей официальной морали
о сказках Лафонтена было немало ханжества и лицемерия. Сюжеты огром-
ного большинства сказок не изобретены Лафонтеномл а заимствованы
у выдающихся античных и ренессансных писателей. Лафонтен переска-
зывает сюжеты, взятые у Атенея, Петрония, Апулея, Анакреона, Арио-
сто, Макьявелли, Аретино, Антуана де Ла Саль, Маргариты Наваррской,
Бонавентуры Делерье, Рабле и в особенности у Боккаччо, чьи новеллы
являются основным источником «сказок» Лафонтена. То, что казалось
Кольберу и самому Людовику XIV порнографией, на самом деле явля-
лось сознательным возвращением Лафонтена к эротической тематике Ре-
нессанса, наносившей в свое время удар средневековому аскетизму и всей
феодально-монашеской культуре.
Социально-культурное значение сказок Лафонтена заключалось в том,
что в пору расцвета французского абсолютизма, заключившего тесный
союз с церковью и культивировавшего идею «христианского Возрождения»
в противовес «языческому Возрождению» XVI в., Лафонтен попытался
ввести во французскую литературу целый ряд сюжетов, мотивов и обра-
зов, заимствованных у крупнейших писателей Ренессанса. Такая ориен-
тация на ренессансную тематику имела принципиальное значение. Игри-
вые сказки Лафонтена явились хорошим орудием борьбы со всякого рода
лицемерием, с обновленным мистицизмом, с официальной религиозной
и сословно-монархической моралью, с патриархально-семейным укладом.
Отмечая придворную направленность литературы времен Людовика XIV,
Пушкин добавил: «Были исключения; бедный дворянин Лафонтен (не-
смотря на господствующую набожность) печатал в Голландии свои весе-
лые сказки о монахинях. .. Зато Лафонтен умер без пенсии».
Лафонтен реалистически рисовал в своих сказках развратные нравы
монахов и духовенства, глубокий распад семейных отношений, продаж-
ность женщин, самоуправство и жестокость знати по отношению к кре-
стьянам, безобразное поведение судей и т. д. Семейно-бытовые и любов-
ные темы значительно перевешивают в сказках Лафонтена, как и в коме-
диях Мольера, темы социально-политические, затрагивать которые было
довольно опасно. К тому же Лафонтен находился здесь в зависимости от
своих источников, не касавшихся этих тем. Характерно, что такая яркая со-
циально-обличительная сказка, как «Крестьянин, оскорбивший своего го-
сподина» («Le paysan qui avait offensé son seigneur», кн. I, сказка 11),
рисующая жестокие издевательства помещика над оскорбившим его кре-
стьянином, написана Лафонтеном на самостоятельно придуманный им
сюжет.
818
КЛАССИЦИЗМ
Лафонтен. «Разбитый кувшин».
По рисунку Моро-младшего, грав. Девилье.
В предисловии ко II книге
«Сказок» (1667) Лафонтен за-
щищал свое право свободного
обращения с источниками, их
сокращения, упрощения сюже-
тов, изменения финалов и т. д.
В результате всех подобных из-
менений его «Сказки» очень
сильно отличаются от своих
источников. Зто признавал сам
Лафонтен, заявивший, что
«тому, кто придумал новеллу,
стоило бы большого труда
узнать свое собственное произ-
ведение». Действительно, целая
пропасть отделяет Лафонтена от
обработанных им произведений
итальянских авторов. Любовь в
его изображении совершенно
лишена той стихийной силы,
той пылкой чувственности, того
богатства эмоциональных оттен-
ков, которые типичны для писа-
телей итальянского Ренессанса.
Сопоставляя, например, сказку
«Невеста короля дель Гарбо»
(«La Fiancée du roi de Garbe»,
кн. II, сказка 14) с 7-й новел-
лой II дня «Декамерона», по-
вествующей о приключениях до-
чери вавилонского султана Ала-
тиэль, побывавшей до своего брака с королем дель Гарбо в объятиях
восьми мужчин, не трудно заметить огромную разницу между трактовкой
этой фабулы у Боккаччо и Лафонтена. Боккаччо излагает здесь эпопею
фатальной красоты, развращающей людей помимо их воли, сеющей вокруг
себя раздоры, отчаяние и преступления. От полнокровной эротики, прису-
щей многим писателям итальянского Ренессанса, у Лафонтена остается
только серия игривых эпизодов.
Гуманистический либертинаж сочетается у Лафонтена с другой,
чисто гедонистической линией либертинажа, которая часто выступает
у неге* на первое место.
Лафонтен освобождает новеллы Боккаччо от переполняющих их мо-
ральных рассуждений и психологических наблюдений. Он сводит^ ренес-
сансную новеллу к масштабам анекдота, как бы приближая ее к француз-
скому фаблио. Его задачей является рассказать этот анекдот возможно
более пикантно и остроумно, не обременяя читателей никакой дидактикой.
Предпосланные некоторым сказкам «моральные» рассуждения автора но-
сят нарочито шутливый характер. Так, например, в сказке «Волшебный
кубок» (кн. III, сказка 4) Лафонтен дает пространную апологию «рого-
ношекия». В интересах живости и непринужденности повествования Ла-
фонтен, подобно Ариосто, постоянно вмешивается в ход событий и гово-
рит от собственного лица. Однако субъективизм его повествования только
ЛАФОНТЕП
sin
кажущийся; личность автора
и его подлинное мнение ока-
зываются трудно уловимыми.
Лафонтен не сразу на-
шел окончательную форму
для своих сказок. В первом
сборнике он еще бродил
ощупью, излагая различные
сюжеты по-разному. При
этом он постоянно склонялся
к маротическому стилю и
старался писать старинным
языком, который, по его мне-
нию, гораздо больше подхо-
дит к данному жанру. В по-
следующих сборниках он от-
казался от такой стилизани-
онной манеры и попытался
выработать собственный ори-
гинальный стиль. Он писал
свои сказки то правильными,
десятисложными стихами, то
вольными стихами, перекли-
кающимися с метрической
формой его басен; эти воль-
ные стихи казались ему наи-
более непринужденными, при-
ближающимися к ритму раз-
говорной речи.
Лафонтен. «Волк, овца и ягненок».
По рисунку Ж. Б. Удри, грав. Тардье.
Впитав в себя огромную повествовательную традицию, сказки Ла-
фонтена, в свою очередь, имели огромное международное значение. Они
явились подлинной сокровищницей сюжетов для ряда европейских ли-
тератур.
При всех своих художественных достоинствах сказки Лафонтена зна-
чительно уступают его басням. С момента появления первых шести книг,
посвященных Лафонтеном шестилетнему дофину, эти басни были при-
знаны материалом для детского чтения. Глубокая ошибочность этого
взгляда была отмечена уже Руссо, который писал в «Эмиле»: «Все дети
должны заучивать наизусть басни Лафонтена, и никто из них не пони-
мает их, но было бы еще хуже, если бы они их понимали». Руссо считал
басни Лафонтена вредными потому, что он находил в них многочислен-
ные уроки эгоизма, жестокости, корыстолюбия и двуличия. После Руссо
такие же обвинения бросал Лафонтену Ламартин.
Оба писателя совершенно не поняли Лафонтена. Они считали его
моралистом-доктринером и истолковали его дидактические задачи черес-
чур примитивно. Но Лафонтен был гораздо более глубоким художником-
реалистом, который стремился прежде всего наблюдать жизнь и правдиво
отражать ее, заставляя читателя самого делать моральные выводы из ба-
сен. Изображенная им действительность оказывалась подлинной ареной
борьбы эгоистических интересов. Обнажение жестокой правды жизни соб-
ственнического общества — такова основная задача басен Лафонтена. Эта
задача выполняется Лафонтеном крайне парадоксальным образом — пу-
тем изящного, игривого рассказа, маскирующего его глубоко разоблачи-
520
КЛАССИЦИЗМ
тельное содержание. Все это делает басни Лафонтена, действительно, мало
пригодными для детского чтения.
Впрочем, Лафонтен вовсе и ке думал о детях, сочиняя свои басни.
Как и большинство писателей его времени, он не знал детей, не понимал
детской психики. Свои басни, как и все другие свои произведения, он
сочинял, для парижского большого света, для публики аристократиче-
ских салонов, которая умела по заслугам ценить их высокое поэтическое
мастерство. Несмотря на это, Лафонтен стоял на совершенно иных
позициях, чем его аристократические читатели; ему были глубоко чужды
их кастовые предрассудки. Эти предрассудки — тщеславие, жестокость,
наглость, заносчивость, паразитизм — он язвительно разоблачал во мно-
гих своих баснях, охотно показывая глупость вельмож и унижая их пе-
ред маленькими, незнатными людьми.
Но, высмеивая аристократов, Лафонтен не щадил также и буржуа-
зию. По справедливому замечанию Ипполита Тэна, «Лафонтен, который
кажется буржуа, когда он насмехаегся над дворянами, кажется дворяни-
ном, когда он насмехается над буржуа». Он показывает трусость буржуа-
зии, ее мелочность, скопидомство, грубость, ограниченность, жадную по-
гоню за дворянскими титулами. И в таком же сатирическом освещении
проходят перед читателем басен представители всех основных слоев фран-
цузского общества XVII в.: попы и монахи, чиновники, врачи, учителя-
педанты, адвокаты и т. д.
Вся эта галерея социальных типов увенчивается сонмом раболепных
придворных, увивающихся вокруг короля. Последний, главный персонаж
огромной комедии французской жизни, выступает всегда в обличий льва.
Он обрисован Лафонтеном не более привлекательно, чем его многочислен-
ные подданные. Лафонтен подчеркивает, правда, присущее королевскому
сану величие, но в то же время наделяет персону монарха различными
отрицательными чертами — тщеславием, гордостью, жестокосердием, ти-
ранией, лицемерием, самовлюбленностью, любовью к лести, презритель-
ным отношением к подданным. Такое изображение короля в абсолютист-
ской Франции врывается резким диссонансом в дружный хор славосло-
вий, которые расточались по адресу Людовика XIV всеми современными
писателями. Лафонтен проявляет здесь крайнюю независимость, дерзая
открыто высказать то, о чем осторожно молчали другие писатели, недо-
вольные деспотическим режимом Людовика XIV.
Итак, Лафонтен сатирически изображает все верхние и средние слои
французского общества своего времени, всех представителей привилеги-
рованных сословий и имущих классов. Он не трогает только маленьких,
слабых и угнетенных людей, которые всегда играют в его баснях положи-
тельную роль. Только в народных низах Лафонтен находит подлинно
возвышенные чувства — верность, самоотвержение, благодарность, бес-
корыстие, истинную дружбу. Его бедняки, стонущие под пятой богатых
и могущественных людей, умеют быть благодарными, спасая жизнь боль-
шим людям, которые были к ним милосердны. Так, в басне «Лев и
Крыса» («Le Lion et le Rat») крыса спасает льва, попавшегося в тенета;
так, в басне «Голубь и Муравей» («La Colombe et la Fourmi») муравей
оказывает подобную же услугу голубю. Но такие эпизоды встречаются
только в виде исключения. Гораздо чаще Лафонтен показывает господ-
ство феодального кулачного права, согласно которому сильный всегда
прав. Эта идея проводится в таких баснях, как «Волк и Ягненок» («Le
Loup et l'Agneau») или «Мор зверей» («Les Animaux malades de la peste»).
Вторая, одна из лучших басен, написанных Лафонтеном, дает потрясаю-
ДЛФОНТЕН
621
щую картину бесправия и угнетения маленьких людей, которые всегда рас-
плачиваются за чужие грехи. Эта мысль великолепно выражена в двусти-
шии, завершающем басню «Мор зверей»:
Selon que vous soyez puissant ou misérable.
Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir.1
Лафонтен умел находить необычайно реальные краски для изображе-
ния бедняков, страдающих от непосильного труда. Таков, например, образ
дровосека в басне «Дровосек и Смерть» («La Mort et le Bûcheron»). Ho
самым замечательным из нарисованных Лафонтеном образов представи-
телей народной массы является дунайский крестьянин, приносящий рим-
скому сенату жалобу на тираническое правление поставленных им намест-
ников («Le Paysan du Danube»). Он ожидает смерти за свою пламенную
обличительную речь, но все же решает высказать повелителям мира всю
правду о страданиях угнетенного народа. Лафонтен отбрасывает в этой
басне обычную занимательную сюжетную оболочку и превращает ее в на-
стоящую обличительную речь. Такое углубление басни, придающее ей
серьезность тона и часто сопровождаемое ликвидацией звериных масок я
других традиционных признаков жанра, наблюдается в последних книгах
басен Лафонтена.
Все приведенные мотивы свидетельствуют о глубоко народном содер-
жании басен Лафонтена, которые дают более полную и правдивую кар-
тину французской жизни XVII в., чем большинство других литературных
произведений того времени. Этому немало способствовали особенности
самого жанра басни, имеющего глубокие народные корни. Лафонтен широко
использовал всю более раннюю басенную литературу. Он почерпнул много
фабульного материала у древних баснописцев — Эзопа, Федра, Бидпая.
Использовал он также басни своих французских предшественников —
Марии Французской, авторов «Романа о Лисе», Маро, Ренье. Однако
у предшественников Лафонтена басня имела узко-дидактический характер,
являясь иллюстрацией к поучению; у Лафонтена же центр тяжести пере-
мещается с поучения на самый рассказ, а поучение получает чисто услов-
ный характер и мало-помалу совсем отпадает. Задачей Лафонтена является
по-новому, свежо, весело, живо и оригинально, рассказать старую басню.
В традиционные сюжетные рамки он вводит много нового, неканонического,
реально-бытового материала. По справедливому замечанию Тэна, каждая
басня Лафонтена напоминает маленькую драму; она имеет свою экспозицию,
интригу и развязку, включает в себя диалогические куски и драматурги-
чески обрисовывает персонажей их поступками и языком. Это относится
не только к образам людей, но и к фигурам животных, которых Лафон-
тен рисует с поразительной жизненностью, приписывая им человеческие
свойства, которые не упраздняют, однако, их животной натуры.
Хотя Буало не счел нужным упомянуть Лафонтена в своем «Поэти-
ческом искусстве», однако Лафонтен, по существу, является великим
классицистом. В основе его стиля лежит ясность, трезвость и точность
наблюдения реальной действительности, руководимая принципами «здра-
вого смысла» и «хорошего вкуса»; отклонение изображаемых Лафонтеном
явлений от этих принципов порождает их комическую и сатирическую
трактовку. Как и Мольер, Лафонтен рассматривает человеческие стран-
ности и пороки как проявление неразумия, как отклонения от разумной
природы. Подобно Мольеру, Лафонтен был гуманистом эпикурейского
1 «В зависимости от того, будете ли вы могущественным или жалким, приговоры
королевского суда признают вас правым или виноватым».
S22
КЛАССИЦИЗМ
толка, испытавшим сильное влияние Гассенди; он тоже видел свой идеал
в легкой, свободной жизни, подчиняющейся инстинктам. Но Лафонтен
был более чувствительным, непосредственным и наивным художником,
чем Мольер. Потому он подчас больше Мольера отклонялся от канона
классицизма; в частности, он придал своим басням более народную форму,
соответствующую народности проводимых им идей.
Народность формы басен Лафонтена проявляется прежде всего в их
языке, который бесконечно богаче и ближе к живой народней речи, чем
язык всех других писателей XVII в. Лафонтен много заимствует из языка
писателей XVI в. и в особенности Рабле. Он вводит в свои басни боль-
шое количество старинных слов, а также провинциализмов и народных
оборотов. Он восстанавливает ряд слов в их первоначальном, более широ-
ком значении и придает оригинальный смысл ряду старых слов и выра-
жений.
Богатству и гибкости языка Лафонтена соответствуют такие же каче-
ства его стихосложения. Его метрика отличается необычайным разнообра-
зием ритмов. Он пользуется в многих баснях свободным стихом, предве-
щающим просодию романтиков и даже символистов с той лишь разницей,
что музыкальная и живописная сторона его стихов рационализирована,
подчинена их смысловой, рассудочной стороне.
Лафонтен создал новую форму басни, которая была теоретически обос-
нована в XVIII в. Мармонтелем. Эта форма получила широчайшее распро-
странение во всех европейских странах, несмотря на противодействие
Лессинга, который сам писал коротенькие басни прозой и тщетно призы-
вал вернуться к старинной, чисто дидактической басне Эзопа. В России
примеру Лафонтена следовали все видные русские баснописцы — Сумаро-
ков, Хемницер, Измайлов, Дмитриев и, особенно, конгениальный ему
Крылов, сумевший вложить в традиционный жанр совершенно оригиналь-
ное русское народное содержание. Сопоставляя Лафонтена с Крыловым,
Пушкин писал: «Оба они вечно останутся любимцами своих единюземцев.
Некто справедливо заметил, что простодушие (naïveté, bonhomie) есть
врожденное свойство французского народа; напротив того, отличительная
черта в наших оправах есть какое-то веселое лукавство ума, насмешливость
и- живописный способ выражаться. Лафонтен и Крылов — представи-
тели духа обоих народов».
ГЛАВА VM
БУАЛО
t
торым после Лафонтена выдающимся поэтом француз-
ского классицизма был Буало. Подобно Лафонтену, он
завоевал себе известность произведениями недраматиче-
ских жанров. Он работал в области поэзии, близкой к
той, в которой подвизался Лафонтен. Если Лафонтен
прославился баснями и стихотворными новеллами, то
Буало привлек внимание современников своими сати-
рами и посланиями; оба поэта разрабатывали также
жанры шутливой и дидактической поэмы. При всем том
между поэтическими дарованиями Лафонтена и Буало
было очень мало общего. Буало был совершенно лишен присущего Лафон-
тену игривого изящества, непосредственности, наивности и лирического
дара. Он был поэтом трезвым, сухим и рассудочным, наделенным по пре-
имуществу сатирическим дарованием. И современники и потомство оценили
его, главным образом, как критика, пользовавшегося стихотворной формой
для изложения своих литературно-эстетических взглядов и для сведения
счетов со своими литературными противниками.
Буало стяжал мировую славу и вошел в историю литературы как
«законодатель» французского классицизма, его признанный вождь и тео-
ретик. Его имя являлось для последующих поколений своеобразным сим-
волом поэтической культуры «века Людовика XIV». В качестве офи-
циального литературного идеолога абсолютистской Франции, Буало стал
естественной мишенью для нападок сначала революционных просветителей
XVIII в., а затем романтиков, которым писания Буало представлялись
воплощением мертвящей рутины и казенщины, убивающей всякую под-
линную поэзию. Такая оценка Буало крайне пристрастна и исторически
несостоятельна. «Французских рифмачей суровый судия», как его назвал
Пушкин, Буало был литературным вождем Франции в один из самых
славных периодов ее литературной истории. Он был rie провозвестником,
а гонителем всякой рутины и казенщины в поэзии, защитником про-
грессивных идейных течений во французской литературе XVII в. В этом
не трудно убедиться, если присмотреться к основным фактам его жизни
и творчества.
Никола Буало-Депрео (Nicolas Boileau-Despréaux, 1636—1711) проис-
ходил из той же чиновничьей буржуазии, которая дала Франции Кор-
S24
КЛАССИЦИЗМ
неля, Расина, Лафонтена и ряд других крупных писателей XVII в. Он
родился в Париже в семье регистратора Большой палаты парламента.
Все родственники Буало были судейскими чиновниками, что не мешало
ему горячо ненавидеть эту среду и язвительно обличать ее в своих сати-
рах. Предназначенный отцом к духовному званию, Буало был тонзурован
в возрасте одиннадцати лет и по окончании коллежа (1652) стал изучать
богословие. Но эти занятия пришлись ему не по вкусу, и он перешел на
юридический факультет; окончив его, он был принят в адвокатское со-
словие (1656). Не чувствуя никакого призвания к адвокатуре, Буало на-
чал писать стихи и сочинил две застольные песни, один любовный сонет
и одну патриотическую оду, выражавшую его ненависть к англичанам, в
связи с происходившей в это время войной Франции с Англией. Он под-
ражал одновременно Малербу и Шаплену, далеко не сразу поняв подлин-
ный характер своего дарования.
В 1657 г. Буало потерял отца, который оставил ему небольшое на-
следство, давшее ему возможность сохранить независимость и отдаться
занятиям поэзией. Он был расчетливым и бережливым буржуа, который
вел точный реестр своим приходам и расходам, но в то же время был
бескорыстен, отзывчив к чужим нуждам и считал недопустимым делать
из своих занятий поэзией источник заработка. Он не брал денег от
издателей своих стихов и не пользовался поддержкой меценатов. Он пре-
небрег даже помощью своего старшего брата Жиля Буало, переводчика и
поэта-сатирика, который был другом Шаплена и членом Французской
Академии. Буало вывел своего брата в одной из сатир и написал на него
эпиграмму, что надолго испортило их отношения.
Как большинство французских писателей этого времени, Буало не
миновал Отеля Рамбулье, куда он понес одну из своих первых сатир.
Однако он не имел там никакого успеха, и прециозные дамы стали убеж-
дать его испробовать силы в другом роде поэзии, более ^соответствующем
вкусам «порядочных людей». Буало не последовал этим советам и больше
не появлялся в Отеле Рамбулье; больше того, он вскоре начал система-
тический обстрел царивших там поэтов. В своей борьбе с прециозной
поэзией он нашел союзников в лице Фюретьера, Мольера, Шапеля,
Лафонтена и Расина; с последним его всегда связывала самая тесная
дружба. Вместе с ними Буало посещал парижские кабачки, и эти встречи
сопровождались, по словам современников, обильными возлияниями. Моло-
дой Буало был очень мало похож на скучного» педанта и моралиста, ка-
ким его так часто изображали впоследствии. Он любил дурачиться за
стаканом вина и сочинял вместе со своими собутыльниками разные паро-
дии и шуточные пьесы, героем которых чаще всего являлся злосчастный
Шаплен и его неизменный парик; особенной популярностью пользовалась
стихотворная буффонада «Шаплен без парика» («Chapelain décoiffé»),
основанная на шуточной имитации нескольких сцен «Сида». Несмотря
на свою молодость, Буало пользовался большим авторитетом у старших
товарищей, которых он восхищал остротой своего критического ума. Всех
членов кружка объединяло отвращение ко всякого рода искусственности,
манерности и фальши, и культ здравого смысла, который был, однако,
очень далек от утверждения мещанских идеалов.
Молодой Буало был, как и все члены его кружка, настроен крайне
вольнодумно. Он был лишен религиозных предрассудков, отличался не-
зависимостью взглядов и не признавал никаких авторитетов. Уже в своей
I сатире (1660) он ярко нарисовал невзгоды молодого поэта, не желаю-
щего прислуживаться к меценатам и вынуждаемого кредиторами бежать
БУАЛО
625
из Парижа, где «достоинство и ум больше не в моде». Он обличал здесь
законников, изображающих белое черным, говорил о «надменном пороке»,
шествующем в митре и с пастырским посохом в руке, о науке, отовсюду
изгоняемой, и о том, что «единственным модным искусством является
искусство ловко красть». Своему герою, поэту-неудачнику, он вкладывал
в уста такие горделивые слова: «Я не умею ни обманывать, ни притво-
ряться, «и лгать. . . Я неотесан (rustiquel) и горд, у меня грубая душа;
я могу называть вещи только их собственными именами, и называю кота
котом, а прокурора Роле плутом». Нужно было обладать немалым муже-
ством, чтобы выступить с такой декларацией в 1660 г. Один Мольер
говорил в это время таким языком. Неслучайно именно ему посвятил
Буало II сатиру (1664), в которой он называл Мольера «редкостным и
славным умом» («гаге et fameux esprit»).
Сходные взгляды Буало развивает и в своих последующих сатирах.
Так, в сатире IV (1664), посвященной сыну известного философа-гассен-
диста Ламота-ле-Вайе, он дает сатирическое обозрение галереи глупцов,
в которой находят себе место и педант, начиненный Аристотелем, и свет-
ский человек, осуждающий науку и кичащийся своим невежеством, и
лицемерный святоша, и развратник-либертин, и жадный скупец, и ветре-
ный расточитель. В сатире V (1665) Буало обрушивается на дворян-
скую идею благородного происхождения, которое будто бы возмещает
отсутствие личных заслуг, и показывает обнищание и падение дворян,
которые вступают в родство с незнатными богачами для того, чтобы
с помощью золота освежить свои поблекшие титулы.
В сатире VIII, написанной, по собственному признанию Буало, в ма-
нере Персия, он доказывает, что человек — самое глупое из животных,
потому что он неустойчив, непостоянен и непоследователен, никогда не
знает, чего он хочет, и сегодня отвергает то, что принимал вчера. Буало
обличает здесь" 'жадную погоню за богатствами, за которыми едут в
заморские края. Он нападает на скопидомство, тщеславие, человеконена-
вистничество и жажду завоеваний, смело называя Александра Македон-
ского, с которым поэты (в том числе и Расин) часто сопоставляли Людо-
вика XIV, безумным. На замечание воображаемого собеседника, что
добродетели человека перевешивают его пороки, что человек создал науку,
право и медицину, Буало возражает, что людей ценят в настоящее время
не за их знания, а за их ловкость в финансовых делах. Он обличает от-
купщиков, высасывающих соки из народа, и произносит пламенную об-
винительную речь против золота, которое заменяет современному чело-
веку все — ум, сердце, достоинства, происхождение, храбрость, красоту.
Подобно Мольеру, он считает, что «золото придает оттенок красоты даже
уродству» («L'or, même à la laideur, donne un teint de beauté»). Так
абстрактное обличение «человека вообще» по существу превращается в
обличение собственнического общества.
Такие независимые и смелые взгляды, высказываемые Буало в его
первых девяти сатирах, которые он написал между 1660 и 1667 гг., объяс-
няются тем, что он стоял в это время еще очень далеко от двора и вовсе
не был заражен его льстивым духом. Свое первое стихотворение, посвя-
щенное Людовику XIV—«Речь к королю» («Discours au roi», 1665),
Буало пишет крайне сдержанным тоном, с большим чувством собствен-
ного достоинства, какого мы тщетно искали бы у других поэтов этого
времени. Он здесь прямо заявляет Людовику, что совершенно не умеет
льстить, не умеет «превращать карлика в Атланта и труса в Геркулеса».
Отказываясь воспевать порочных придворных, он говорит королю, что
526
КЛАССИЦИЗМ
не стал бы кривить душой даже ради того, чтобы угодить ему, и что
если бы он не испытывал к королю чувства искреннего восхищения, «ни-
какая надежда на награду, никакой довод или убеждение не могли бы
исторгнуть из него ни одной рифмы в его честь». Такое же бескорыстие,
такую же незаинтересованность в королевских «милостях», Буало высказы-
вает и в знаменитой IX сатире (1667), посвященной расправе с различ-
ными литературными врагами. Он здесь гордо заявляет, что не претен-
дует на королевскую пенсию. Такое заявление не могло не внушить к нему
уважения даже со стороны его недоброжелателей.
Первое время Буало не печатал своих сатир, а ограничивался их
чтением в домах своих знакомых аристократов, принадлежавших к числу
либертинов. Эти чтения доставили Буало известность, хотя он не опубли-
ковал еще ни одной строчки. Его сатиры распространялись по Парижу
в списках и только в 1665 г. были напечатаны, без ведома автора, з
Руане. Появление этого «воровского» издания заставило Буало приняться
самому за печатание своих стихов. Их первое издание вышло в свет в
1666 г. и имело огромный, хотя и несколько скандальный успех. Послед-
нее объяснялось переполнявшими сатиры полемическими выпадами Буало
против представителей отживших и реакционных литературных течений.
Именно в этих литературно-полемических мотивах и заключалась главная
новизна сатир Буало, отличавшая их от сатир его предшественника
Матюрена Ренье, у которого такая литературная полемика встречалась
только в виде исключения.
Буало первый во Франции сделал сатиру орудием литературной кри-
тики. До него появлялись только теоретические трактаты по общим вопро-
сам литературы или памфлеты по поводу нашумевших произведений вроде
«Сида». Буало был первым настоящим литературным критиком не только
во Франции, но и во всей Европе. Он придал своим высказываниям строго
принципиальный характер и стал оценивать литературные произведения
с точки зрения их соответствия не его личным вкусам, а общим эстети-
ческим принципам, которые казались ему законами «разума».
Нападки Буало на писателей, которых он считал плохими, отличались
большой резкостью и настойчивостью. Наметив себе жертву, Буало уже
не оставлял ее в покое. Нападки на одних и тех же поэтов с утомитель-
ным постоянством повторяются в каждой новой сатире. При этом Буало
не стесняется в выражениях; он называет плохих поэтов глупцами и
фатами, ставит их на одну доску с мошенниками, сравнивает с ослами.
Сам он так характеризует свое отношение к плохому поэту:
Je le poursuis partout, comme un chien fait sa proie,
Et ne le sens jamais qu'aussitôt je n'aboie.1
Все это создало Буало репутацию профессионального клеветника и
диффаматора, об укреплении которой особенно постарались обиженные им
литераторы и их покровители.
Жертвами нападок Буало являются прежде всего представители
прециозной поэзии; среди них особенно часто упоминаются у него аббат
Котен, Шаплен как автор пресловутой «Девственницы», Жорж де Скю-
дери, Теофиль, Прадон, Шарпантье, Пеллетье, Кино как автор напы-
щенных и слащавых трагедий. Впоследствии, когда Кино перешел к со-
чинению оперных либретто, Буало оставил его в покое, потому что считал
1 «Я его всюду преследую, как собака преследует свою добычу, и лаю всякий раз,
как только почую его».
БУАЛО
827
слащавость Кино допустимой в гибридном жанре «лирической трагедии».
По поводу Шаплена Буало подчеркивал, что нападает на него только как
на плохого поэта, а во всем остальном считает его человеком достойным
уважения (homme d'honneur), весьма авторитетным в вопросах литератур-
ной теории. Кроме прециозной поэзии, Буало нападал также на ее мнимого
антипода — на бурлескную поэзию Септ-Амана, от которой, по его мне-
нию, несло «трактирным духом».
Буало считал, что прециозность и бурлеск в равной мере фальшивы
и неестественны, так как отклоняются от искомого им «разумного» идеала
поэзии, воплощение которого он находил в произведениях Расина, Мольера
и Лафонтена. Свое сочувствие этим поэтам Буало неоднократно подчер-
кивает в своих сатирах. Кроме того, он поддержал Мольера во время
полемики, вызванной «Уроком женам», своими известными стансами,
приведенными выше (см. в главе о Мольере), а Лафонтена — подробным
критическим разбором в прозе его первой сказки «Джокондо», в котором
сн ставит его выше не только разработавшего тот же сюжет поэта Буль-
она (Bouillon), но даже и его первоисточника Ариосто.
Нападки Буало вызвали решительный отпор со стороны обиженных
им писателей. Аббат Котен пытался ответить Буало в своей «Сатире на
сатиры» («La Satire des satires», 1666) и «Незаинтересованной критике»
(«La Critique désintéressée», 1667). Вслед за Котеном против Буало вы-
ступили Кора (Coras, 1668, Бурсо (1669), Карель де Сент-Гард (Carel
de Sainte-Garde, 1671), Демаре де Сен-Сорлен (1674), Прадон (1685.
1686 и 1689) и Бонкорс (Bonnecorse, 1686). Все их ответы были крайне
бессодержательны и беспринципны. Противники Буало не шли дальше
грубой брани и мелочных придирок. Оии упрекали Буало в том, что он —
пошлый обыватель, ничего не смыслящий в подлинной поэзии.
Шаплен, воздержавшийся от открытого ответа Буало, использовал все
свое влияние в придворных сферах на то. чтобы помешать Буало полу-
чить разрешение на печатание его произведений. М-ль де Скюдери, за-
детая Буало в его сатирах, интриговала претив его избрания во Фран-
цузскую Академию. Герцог Монтозье, зять маркизы Рамбулье, грозил
Буало кулачной расправой за его нападки на прециозность. Но Буало был
несокрушим и упорно продолжал свою борьбу, имея единственным надеж-
ным союзником Мольера, который помог ему, в частности, окончательно
дискредитировать Котена (в «Ученых женщинах»). Противники Буало
упрекали его, как и Мольера, в вольнодумстве и объявляли его достой-
ным костра за нечестивые суждения о религии.
После 1667 г. Буало надолго прекратил сочинение сатир, закрепив
свою работу в этом жанре небольшим прозаическим «Рассуждением о са-
тире» («Discours sur la satire», 1668), в котором он защищался от обви-
нений в чрезмерной резкости нападок на смешные и порочные черты
людей. Он объявлял эти особенности присущими самому жанру сатиры,
причем ссылался на авторитет античных авторов (Люцилия, Горация,
Персия, Ювенала, Марциала и др.), а также Матюрена Ренье и Вуатюра.
Следуя их примеру, Буало считал также допустимым называть в своих
сатирах по именам обличаемых им плохих авторов. Энергичную защиту
последних некоторыми читателями (главным образом, Монтозье) Буало-
объяснял их нежеланием отказаться от своего давнишнего, юношеского
увлечения разоблаченными им писателями.
От сатир Буало перешел к сочинению посланий («Epîtres»), которых
он написал девять между 1669 и 1677 гг. Образцом для них послужили
послания Горация, написанные в свойственной последнему манере изящ-
828
КЛАССИЦИЗМ
ной и остроумной беседы на разнообразные темы. Но Буало не удалось
полиостью овладеть легкой манерой письма Горация. Его послания пред-
ставляют собой моральные рассуждения о благах мира и о неразумности
жажды завоеваний (послание I), о глупости сутяг, обогащающих своими
вечными тяжбами судейских (послание II), о ложном стыде, который
порабощает людей и отвращает их от истины (послание III), о душевном
спокойствии и умеренности как залоге истинного счастья (послание V),
о прелестях сельской жизни вдали от городской суеты (послание VI),
о полезности врагов, нападки которых побуждают талантливого поэта еще
больше развивать свое дарование (послание VII), о том, что «прекрасно
только правдивое» и что искренность является лучшим качеством писа-
теля (послание IX). Все эти моральные рассуждения перемежаются сати-
рическими выпадами, напоминающими тематику сатир Буало (нападки
на военщину, на судейских, на культ денег, на льстецов и плохих поэтов).
Три послания (I, IV и VIII) посвящены королю и переполнены
славословиями по его адресу. Буало восхваляет и военные успехи фран-
цузской армии, и заботы короля об укреплении мира в стране. Вторая
тема была гораздо более по душе Буало, и посвященные ей строки зву-
чат более убедительно. Уже I послание Буало очень понравилось королю,
который начал ему оказывать знаки своего внимания и, в частности, дал
ему пенсию в 2000 ливров и «привилегию» на печатание его произведе-
ний. Однако такое сближение короля с поэтом произошло, повидимому,
в 1672 г., а поблагодарил Буало короля за его «милости» только в своем
VIII послании (1675). Начиная это послание знаменитой фразой «Grand
roi, ces&e de vaincre ou je cesse d'écrire («Великий король, -перестань по-
беждать или я прекращу писать»), Буало еще раз заявляет о своей «не-
способности» воспевать военные подвиги Людовика XIV: его огорчает
мысль, что он может прослыть наемным панегиристом короля, и он сожа-
леет о том времени, когда отсутствие пенсии гарантировало искренность
его похвал. Он восклицает:
Il me semble, grand roi, dans mes nouveaux écrits.
Que mon encens payé n'est plus du même prix.г
Такие необычные y писателей XVII в. опасения показывают несо-
стоятельность утверждения многих критиков, будто бы Буало был пло-
ским льстецом Людовика XIV.
Но хотя «бескорыстие» Буало являлось социально обусловленной
позой, которая не мешала Буало пользоваться «милостями» короля, од-
нако Буало льстил королю меньше всех своих современников, — пожалуй,
даже меньше Мольера. Его недруги имели право говорить о холодности
его похвал и о том, что свои славословия он часто пересыпал оговорками
и поучениями. Появляясь при дворе, Буало сохранял максимальную неза-
висимость и прямоту суждений, какая только была возможна в этой
обстановке. Прямота Буало засвидетельствована множеством современных
анекдотов. Буало осмеливался, например, находить плохими стихи самого
короля или стихи, нравившиеся королю; он отстаивал обороты речи, кото-
рые казались королю неприемлемыми; в беседе с королем он провозгла-
шал Мольера величайшим из современных поэтов и защищал ненавист-
ных королю янсенистов; он доходил до такой дерзости, что в присутствии
короля и мадам де Ментенон разражался бранью по адресу ее покойного
1 «Мне кажется, великий король, по поводу моих последних сочинений, что мой
фимиам, оплаченный тобою, уже не ииеет прежней цены».
БУАЛО.
С портрета Риго (в Версальском музее).
БУАЛО
529
мужа, «этого презренного калеки Скаррона», к великому ужасу Расина,
который пригрозил ему, что не будет больше появляться с ним при дворе.
Глубоко принципиальным и искренним борцом за подлинно высокое
искусство классицизма Буало показал себя в особенности в своем знаме-
нитом стихотворном трактате «Поэтическое искусство» («L'Art poétique»,
1674). С момента его появления Буало стал почти официальным литератур-
ным идеологом Франции XVII в., намечающим основные линии ее лите-
ратурной политики. Новое положение Буало было закреплено его назна-
чением, вместе с Расином, на должность придворного историографа
(1677), что заставило его прекратить на десять лет поэтическую деятель-
ность. В течение этого времени Буало был избран членом Французской
Академии (1683). Это избрание произошло по настоянию Людовика XIV
и против желания самих академиков, противопоставивших Буало Лафон-
тена, которого король утвердил в звании академика только после избра-
ния Буало. Перед фактом столь ярко выраженного покровительства со
стороны короля вынуждены были замолкнуть голоса всех недоброжела-
телей. С другой стороны, и сам Буало, в предисловии к новому изданию
сатир (1683), постарался несколько ослабить действие своих нападок,
признав наличие некоторых достоинств в произведениях Шаплена, Кино,
Сент-Амана, Бребефа и Жоржа де Скюдери. Старея, Буало становился
более мягким и стремился установить добрые отношения с некоторыми
из обиженных им писателей.
Его главным занятием в течение десятилетия (1677—1687) была
подготовка труда по истории царствования Людовика XIV. Вместе с
Расином он усердно собирал документы, беседовал с военными и государ-
ственными деятелями, сопровождая Людовика во время его поездок в
армию. Ничего не смысля в военном деле, не умея даже как следует
ездить верхом, оба поэта производили комичное впечатление в свите
Людовика XIV и навлекали на себя насмешки солдат и офицеров. Про-
делав три кампании, Буало начал отставать и предоставил своему другу
Расину львиную долю этого труда, а заодно и гонорара. Результаты
исторических занятий Буало и Расина до нас, к сожалению, не дошли:
незаконченная рукопись их труда погибла в 1726 г. во время пожара в
одном частном доме.
Возвращение Буало к поэтической деятельности произошло под влия-
нием полемики, развернувшейся в 1687 г. между ним и Шарлем Перро,
который выступил в защиту новых французских писателей против древ-
них, греко-римских, и унизил последних для прославления литературы
«века Людовика XIV». Эта полемика, известная под названием «Спора
о древних и новых авторах» и взволновавшая всех виднейших фран-
цузских писателей конца века, будет рассмотрена ниже (в главе IX). Во
время этого спора Буало написал серию эпиграмм против Перро, в которых
он объявлял его нападки на древних безумием и варварством, удивляясь
тому, что последнее могло свить себе гнездо в самой Французскими Ака-
демии.
Под влиянием спора с Перро Буало написал весьма слабую «Оду
на взятие Намюра» («Ode sur la prise de Namur», 1693), которой он пред-
послал полемическое «Рассуждение об оде» («Discours sur l'ode»), прослав-
ляющее знаменитого греческого поэта Пиндара. В следующем году Буало
выступил с пространными прозаическими «Критическими размышлениями
по поводу некоторых мест у ритора Лонгина» («Réflexions critiques sur
quelques passages du rhéteur Longin», 1694), представляющими дополне-
ние к осуществленному им еще в 1674 г. переводу «Трактата о возвы-
зд История французской литературы—815
530
классицизм
шенном» Лонгина. В этом сочинении Буало, верный своему преклонению
перед Гомером и Пиндаром, пытался дискредитировать защитников совре-
менных писателей и педантически придирался к различным мелочам в
писаниях Перро. Мелочное критиканство, проявляющееся в этой работе
Буало, объясняется тем, что он находился в фальшивом положении, когда
защищал античных писателей, не обладая для этого достаточной эруди-
цией, и, с другой стороны, — унижал французскую литературу XVII в.,
создавшую столько шедевров. В конце концов, Буало вынужден был
частично уступить Перро и занять компромиссную позицию в вопросе
о сравнительной ценности древних и новых писателей.
В последний период своей деятельности Буало возобновил сочинение
сатир и посланий, доведя количество тех и других до двенадцати. Свою
X сатиру (1693) Буало направил против женщин, подражая VI сатире
Ювенала. Отговаривая своего приятеля жениться, он рисует ему вере-
ницу отрицательных женских типов, в том числе вероломную жену, мод-
ницу, картежницу, скрягу, сварливую, ревнивую, слабонервную, «ученую»
женщину, прециозницу, святошу и многих других. Эта сатира наделала
много шума и вызвала ответ комедиографа Реньяра, написавшего «Сатиру
на мужей» (1694).
В XI сатире (1698) Буало затрагивает вопрос о подлинной и мнимой
чести. Он показывает людей, которыми руководит выгода, в то время
как они толкуют о чести, обличает святош, лицемеров и честолюбцев, и
объявляет единственной подлинной добродетелью правдивость и справед-
ливость. В тесной связи с этим находится и XII сатира (1705), направ-
ленная против «двурушничества» (équivoque), которое является, по мнению
Буало, источником всевозможных несчастий, преступлений и заблужде-
ний, пережитых человечеством на разных этапах его истории. Грехопадение
первых людей, различные суеверия, ереси и лжеучения являются след-
ствием все того же «двурушничества». Эта сатира тесно связана с оже-
сточенной борьбой старика Буало с иезуитами, которую он вел, начиная
с 1695 г., когда он направил против иезуитов свое XII послание, обсуж-
дающее вопрос о необходимости любви к богу для достижения райского
блаженства. Он осуждал здесь формалистическую казуистику иезуитов
и горячо отстаивал необходимость живого религиозного чувства.
Отойдя в старости от вольнодумства, Буало начал склоняться, по-
добно своему другу Расину, к янсенизму, который привлекал его как
своими высокими моральными принципами, так и личным обаянием его
вождей Арно и Николя. Буало высоко ценил также Паскаля и открыто
заявлял иезуитам, что считает его единственным французским писателем,
решительно превосходящим всех древних авторов. Впрочем, ортодоксаль-
ным янсенистом Буало не стал; он одновременно поддерживал дружбу
с Арно и с некоторыми иезуитами (Рапен, Бугур, Бурдалу). Это и яви-
лось причиной того, что Людовик XIV не охладел к нему в последние
годы еГо жизни, как он охладел к Расину. Но иезуиты не могли простить
Буало его дружбы с Арно и его XII послания и омрачили своими напад-
ками последние годы его жизни.
Буало пережил всех своих сверстников и дожил почти до конца прав-
ления Людоьика XIV. В старости он часто бывал у президента парла-
мента Аамуаньона, салон которого оставался чужд той смеси обновленной
прециозности, цинизма и ханжества, которая была характерна для боль-
шинства аристократических салонов конца XVII в. Сам Буало жил ста-
рым холостяком, частью в Париже, частью в своем загородном доме в
Отейле, где у него часто собирались виднейшие писатели. Самым близ-
ВУА.10
531
ким его другом был Расин, с которым он поддерживал регулярную пере-
писку в течение двенадцати лет (1687—1699). После смерти Расина посто-
янным корреспондентом Буало стал его горячий почитатель, молодой адво-
кат Броссет, с которым он переписывался до самой смерти. В последние
годы жизни Буало страдал от множества недугов, а с 1709 г. совсем по-
терял способность двигаться. Он очень мрачно смотрел в эти| последние
годы на бедственное положение Франции, явившееся следствием воен-
ных неудач Людовика XIV.
2
В литературном наследии Буало следует выделить небольшое количе-
ство произведений, интересных в чисто поэтическом отношении. Сюда
относятся сатиры III и VI, часть X сатиры и в особенности героико-
комическая поэма «Налой» («Le Lutrin», 1674—1683). Эта поэма яви-
лась первым во французской литературе выдающимся произведением
героико-комического жанра, восходящего своими корнями еще к гомеровской
эпохе, к знаменитой «Войне мышей и лягушек», и затем возрожденного
в Италии Тассони, автором «Похищенного ведра» (1622). Создавая в
своем «Налое» шуточную поэму на «низкий» (т. е. взятый из обыденной
жизни) сюжет, Буало стремился доказать на практике свою мысль о том,
что «хорошая героическая поэма не должна быть перегружена собы-
тиями». Одновременно он хотел создать нечто противоположное ненавист-
ному ему жанру бурлескной поэмы, «выворачивающей наизнанку» антич-
ные сюжеты. Сам Буало так определил свой замысел: «В мои намерения
входило создать на нашем языке новый вид бурлеска: вместо того, чтобы,
как в прежнем бурлеске, Дидона и Эней говорили подобно селедочницам
и крючникам, здесь часовщица и часовщик говооят подобно Дидоне и
Энею».
Итак, «низменной» трактовке «высокого» -сюжета в бурлескной поэ-
зии Буало противопоставил возвышенную трактовку «низменного» сюжета,
являющуюся, по его мнению, источником более «благородного» комизма.
Буало повествует в «Налое» о стычках между двумя прелатами и их сто-
ронниками из-за налоя, который один из них поставил, вопреки желанию
другого, на церковном клиросе. На этой почве между обоими церковными
партиями происходят настоящие сражения, в которых роль снарядов
играют увесистые книги, извлеченные из соседней книжной лавки. Комизм
повествования создается применением к нему приемов героического эпоса —
александрийского стиха, напыщенного языка, обращений к музе, мифоло-
гических сравнений, аллегорических персонажей вроде Раздора, Молвы,
Неги и др. В качестве примирителя враждующих партий выступает не-
кий Арист, в лице которого Буало изобразил своего приятеля Ламуаньона.
Поэма не лишена длиннот и написана неровно; ее первые четыре песни
значительно живее двух последних, присоединенных в 1683 г. При всем
том она свидетельствует о наличии у Буало умения живо изображать
мелочи обыденной жизни и давать яркие бытовые зарисовки. Кроме того,
«Налой» представляет собой единственное во французской литературе
XVII в. живое, откровенно непочтительное и разоблачительное изобра-
жение церковных кругов, их быта и нравов. Законодатель классицизма,
столь часто игнорировавшего материальную природу человека, Буало сам
обладал как поэт крайне острым чутьем материальной действительности
и умел запечатлевать ее с подкупающей жизненностью. Его «Налой» по-
лон красочных, комических фигур церковников, в которых акцентированы
832
КЛАССИЦИЗМ
их низменные, вульгарные
устремления и интересы.
Столь же сочно и колорит-
но Буало рисует здесь ту
материальную обстановку,
в которой живут эти цер-
ковники, а также их ко-
стюмы, утварь, пищу и т. д.
Такими же качествами
отличаются три упомяну-
тые выше сатиры Буало,
в которых литературная
полемика и моральные рас-
суждения уступают место
бытоописанию. Сюда отно-
сится, прежде всего,
III сатира «Нелепый
ужин» («Le Repas ridicu-
le» , 1665), навеянная
одноименной сатирой Ма-
тюрена Ренье. Но если
Ренье концентрировал
внимание на забавных"вза-
имоотношениях персона-
жей, то Буало выдвинул на
первый план изображение
внешней обстановки дей-
ствия. Он сосредоточил
внимание читателя на не-
обычайно сочном показе
самих блюд, подаваемых
приглашенным, их вида,
вкуса и запаха. Он вводит
даже такие грубоватые подробности, как «отпечатки на стаканах грязных
пальцев лакеев, свидетельствующие о том, что эти стаканы были вы-
мыты».
В VI сатире, озаглавленной «Затруднения парижской жизни» («Les
Embarras de Paris», 1660), Буало рисует с такой же почти фламандской
сочностью смятение провинциала, изумленного и оглушенного шумной
парижской жизнью. Он показывает улицы, переполненные пешеходами,
скопления экипажей, доски, по которым приходится переходить улицы
во время дождя, кровельщиков, чинящих крыши домов, популярного па-
рижского врача, разъезжающего по визитам верхом, воров, подстерегаю-
щих прохожих в сумерки, разнообразные шумы, не дающие его герою ни
минуты покоя даже ночью, и т. д.
В X сатире, направленной против женщин, Буало не останавливается
перед самыми отталкивающими подробностями, которые должны внушить
его воображаемому собеседнику отвращение к женскому полу. Несколь-
кими штрихами он рисует, например, эмансипированную даму, «которая
часто, выходя совершенно прокуренная из-за ужина, заставляет даже
своих любовников, обладающих слишком слабым желудком, опасаться ее
поцелуев, отдающих чесноком и табаком». В знаменитом вставном эпи-
ьоде X сатиры, направленном против скаредности, Буало излагает истин-
Буало. «Налой».
Иллюстрация неизвестного художника.
БУАЛО
833
ную историю полицейского лейтенанта Тардье и его жены, известных
своим скряжничеством и в конце концов зарезанных грабителями ночью
у себя на квартире. Он любовно изображает те лохмотья, в которые оде-
вались эти достойные супруги, показывает «ее чулки, продырявленные
в тридцати местах, ее стоптанные башмаки, заплатанные двадцать раз, ее
чепчики, с которых свешивалась на конце шнурка старая облезшая маска,
почти столь же безобразная, как и она сама». Все такие натуралистиче-
ские детали свидетельствуют о том, что Буало, как поэт, вовсе не был
склонен во что бы то ни стало прикрашивать, «облагораживать» натуру.
В своих собственных художественных произведениях вождь классицизма
оставался глубоко чужд идеализирующим тенденциям, присущим этому
стилю и теоретически провозглашенным в его трактате.
Но Буало обладал не только острым зрением, но и тонким слухом.
Он был блестящим мастером стиха, старательным и непогрешимым вер-
сификатором, усвоившим лучшие заветы Малерба. Он в совершенстве
владел техникой александрийского стиха, (позволяя себе даже разные
вольности, вроде перемещения цезур и смелых переносов (enjambements).
Он давал в своих стихах необычные и неожиданные рифмы, подчас пре-
следовавшие задачу звукоподражания, например:
Les cloches dans les airs, de leurs voix argentines,
Appelaient à grand bruit les chantres à matines.
Одаренный большим чувством гармонии и ритма стиха, Буало, как и Ра-
син, великолепно читал стихи и считал необходимым проверять их каче-
ство на слух. В этом он предвещал Флобера, который относился к нему
с большим уважением, считая его первоклассным мастером.
Но Буало-художник был оттеснен уже в глазах современников Буало-
критиком и теоретиком поэзии. «Поэтическое искусство» стало сразу по-
сле своего появления популярнейшим произведением Буало, настоящим
поэтическим кодексом классицизма, установившим незыблемые правила
и законы поэтического творчества. В этой дидактической поэме, навеян-
ной «Посланием к Пизонам» Горация, Буало кодифицировал эстетические
положения, выдвинутые несколькими поколениями теоретиков француз-
ского классицизма. Не стремясь к абсолютной оригинальности, он фик-
сировал установившиеся у классицистов взгляды, но изложил их в на-
столько живой, яркой и эпиграмматически четкой форме, что потомство
целиком приписало эти взгляды ему. Многие стихи из «Поэтического
искусства» запомнились и стали крылатыми фразами. Блестящая стихо-
творная форма поэмы Буало сыграла немалую роль в ее широком рас-
пространении как во Франции, так и за ее пределами.
«Поэтическое искусство» распадается на четыре песни. В первой песне
Буало излагает основные принципы поэтического творчества и устанавли-
вает общие законы стихосложения, стиля и композиции. Попутно он дает
краткий исторический обзор судеб французской поэзии, в котором обна-
руживает полное непонимание французской поэзии раннего средневековья
и Возрождения, несправедливо унижая Ронсара и чрезмерно возвеличи-
вая Малерба. Во второй -песне Буало переходит к разбору отдельных
поэтических жанров, причем останавливается в первую очередь на жан-
рах лирики, кратко характеризуя идиллию, элегию, оду, сснет, эпиграмму,
сатиру и водевиль, и мельком упоминая также рондо, балладу и мадри-
гал. Законы всех жанров он извлекает из самого их определения, в основу
которого он кладет не формальные признаки, а специфические особенно-
сти их содержания. В третьей песне, самой обширной, Буало останавли-
854
КЛАССИЦИЗМ
вается на трех основных поэтических жанрах — на трагедии, комедии
и эпопее; последнюю он вводит из уважения к античной'традиции, к Го-
меру и Вергилию, хотя не имеет возможности опереться ни на один пол-
ноценный образец этого жанра во французской поэзии. Свою характери-
стику трагедии он выводит из художественной практики Расина, которого
считает образцовым драматургом. В области комедии он ориентируется
больше на Теренция, чем на Мольера, которого он считает слишком на-
родным автором, подчас нарушающим правила светской благопристой-
ности. В четвертой песне Буало дает ряд моральных наставлений поэтам
и, в частности, предостерегает их от чрезмерной погони за материальным
достатком. Поэма заканчивается славословием в честь Людовика XIV
и его военных успехов.
Главным недостатком «Поэтического искусства», как теоретического
сочинения по поэзии, является отсутствие связности и последовательности
в изложении, — недостаток, присущий также сатирам и посланиям Буало.
Однако это нисколько не мешает связности, продуманности и законченно-
сти самой доктрины Буало. Доктрина эта вырастает на картезианской
основе и проникнута восторженным преклонением перед универсальным
разумом, этим высшим свойством человеческого духа, который является,
по мнению Буало, также надежным руководителем в области поэтического
творчества:
Любите ж разум вы; пусть он в стихах живет
Один, и цену им и красоту дает.
Призывая любить разум, Буало утверждает первенство мысли над
чувством и воображением. Но истину, устанавливаемую разумом, он ото-
ждествляет с красотой и находит ту и другую в «природе», т. е. в объ-
ективной действительности. Только природа дает поэзии безусловно
истинные и разумные объекты. Изображая природу, поэзия доставляет
разумное удовольствие, доступное в равной мере всем людям. Потому
подражание природе является основной задачей поэзии и залогом ее эсте-
тической ценности.
Установив необходимость подражания природе, Буало вносит затем
в свою поэтическую теорию некоторые ограничения этого реалистического
принципа, — ограничения, в которых его теория безусловно расходится
с его собственной поэтической практикой. Если в своих сатирах и в
«Налое» Буало не останавливается подчас перед воспроизведением самых
обиходных и грубоватых предметов, то в «Поэтическом искусстве» он пре-
достерегает от подражания такой «низменной» природе. Принцип подра-
жания природе ограничивается в поэтике Буало требованием, чтобы по-
эзия была «приятна», чтобы он?, «развлекала». Искусство не должно от-
казываться от воспроизведения ужасного или отвратительного, но оно
должно уметь добиваться того, чтобы такое воспроизведение было
«приятно»;
В искусстве воплотясь, и чудище, и гад
Нам все же радуют настороженный взгляд:
Нам кисть художника являет превращенье
Предметов мерзостных в предметы восхищенья;
Так и трагедия, чтоб нас очаровать,
Эдипа кровь и боль спешит нам показать,
Отцеубийцею Орестом нас пугает
И, чтобы развлекать, рыданья исторгает.
В целом, для Буало «природа» есть закономерность, а не хаос. Об-
ласть подражания ограничивается истинным и разумным, т е. постоян-
БУАЛО
838
ным и универсальным, существующим в силу вечных законов. Поэзию
должны интересовать общие явления, а не частности, случайности, ис-
ключения, уродливые странности. В частном и индивидуальном поэт дол-
жен уметь найти всеобщее, типическое. Абстрактная, рационалистическая
типизация значительно сужает и ограничивает у Буало принцип подража-
ния природе.
От подражания природе Буало переходит к другому, не менее важ-
ному в его поэтике эстетическому принципу — к подражанию античным
писателям. Он пытается рационалистически обосновать присущий фран-
цузским классицистам и унаследованный ими от гуманистов Ренессанса
культ великих писателей античного мира. Эти писатели велики потому,
что они умели видеть природу и подражать ей. Их метод воспроизведения
природы проверен многими веками жизни их произведений. Вот почему
обращение к античным образцам обеспечивает поэтам нового времени
пользование лучшими, проверенными методами подражания природе. Так,
поэтика Буало завершает, по существу, дело, начатое Ронсаром и Плея-
дой. Присущее поэтам Ренессанса восторженное почитание античного
искусства получает у Буало разумное обоснование.
Однако рационалистический подход к античной поэзии значительно
модернизирует ее и ограничивает принцип освоения античного наследия.
Как и все французские классицисты, Буало стремился находить у антич-
ных писателей такие черты, которые были верны и актуальны для Фран-
ции XVII в. Он трансформировал античное искусство на новый, совре-
менный лад. Это объяснялось, в конечном счете, полным отсутствием
у Буало исторического чутья. Почитаемых им античных поэтов он пони-
мал не лучше презираемых им средневековых авторов. В этом отношении
он отставал даже от некоторых современных ему писателей, например, от
аббата д'Обиньяка, который несравненно ближе его подходил к правиль-
ному пониманию Гомера.
При всей ограниченности подхода Буало к античной поэзии, он пра-
вильно почувствовал основную причину ее обаяния — ее простоту, прав-
дивость, реалистичность. Он был большим любителем античной мифоло-
гии и сторонником ее использования во французской поэзии. Но он ви-
дел в мифологии только источник изящных символов, поэтических фик-
ций, которые разум постигает, не веря в них. Поэтому Буало принци-
пиально противопоставлял чудеса античной мифологии чудесам христиан-
ской религии, которые, по его мнению, непригодны для изображения
в поэзии, потому что они непонятны с точки зрения разума, а только
понятное может быть объектом поэзии. С этих позиций он решительно
осуждал многочисленные опыты создания христианской эпопеи во Фран-
ции XVII в.:
Напрасно авторы, надменные подчас.
Хотят изгнать весь рой мифичесхих прикрас,
Пытаясь заменить в усердии излишнем
Богов фантазии — святыми и всевышним,
Нас низвергая в ад из-под небесных сфер,
Туда, где Вельзевул царит и Люцифер.
Столь же критически он относился к попыткам создания эпопей на
средневековые сюжеты, которые казались ему варварскими:
Как скуден тот поэт, как мал его талант,
Коль он назвать готов героя — Гильдебрант!
Ведь именем таким, избрав любую тему,
Способен сделать он лишь варварской поэму.
B5G
КЛАССИЦИЗМ
с,
ju l\ ал* ï.
POETIQUE
■ CHANT PREMIER.
naflî un tf-
vgjl Penfe de l'An des vers atteindre ta hau-
S'il ne fent point du Cîrf.l'jnBuenc'e feeme,
.Si uniraflre en naî/Fatu riè.-i'*fofn»é Pofe'të ^
'jbaaï-fijn génie étroit. H eft todjoats'captif.'
Po«r lui Phebuscft foucd,;& Pegitétft rcrif. .;.
О vous donc , «|ài brùbnc d^une irdiéut peràteufe
Cour« As W efptïr ïa catirre épioeufe,
■N'alîw pss f« des ver* fans fsm'ç vous »пГатсг(
Mi prendre pôurgëûs une атом de rimer.
A iîj
' ■::
Буало. «Поэтическое искусство».
Фронтиспис и первая страница над. 1694 г.
Главной зада'чей поэзии Буало считает — «нравиться (plaire)
и век не утомлять». Это является весьма существенным эстетическим
принципом, устанавливающим качественно новое отношение художника
к материалу, с одной стороны, и к воспринимающей его публике — с дру-
гой. Стремление «нравиться» направлено против академизма, против уче-
ной эстетики XVI в. Оно заставляет поэзию ориентироваться на вкусы
просвещенных светских людей, которых Буало считал единственными ком-
петентными ценителями поэзии. В этом смысле поэтика Буало аристокра-
тична. Она не принимает в расчет низовых, народных читателей и пре-
достерегает поэтов от ориентации на их вкусы. Буало не понимал и не
признавал народного искусства, которое он награждал презрительными
эпитетами «площадное», «вульгарное», «базарное». Таким «площадным»
искусством он считал бурлескную поэзию. Столь же презрительно он от-
зывался о фарсе, который, по его мнению, может доставлять удоволь-
ствие только лакеям. Он убеждал поэтов:
Чуждайтесь низкого: оно всегда уродство;
В простейшем стиле все ж должно быть благородство.
Отсюда оговорки Буало по отношению к Мольеру. Отсюда же —
и то обстоятельство, что он не нашел в своей поэтике места для Лафон-
тена и разработанного им жанра басни, который казался ему чересчур
«низменным», хотя он и опирался на античную традицию. По той же
причине Буало сильно ограничивает круг объектов, объявляемых им до-
подло
837
стойными подражания; он рекомендует поэтам «изучать двор и знако-
миться с городом», решительно исключая из их поля зрения более «низ-
менные» предметы. Его рационалистическая поэтика оказалась введенной
в сословные рамки, а ее реалистические элементы — сильно ограничен-
ными, вследствие значительных уступок Буало вкусам французской ари-
стократии. Рамки поэтики Буало оказались узкими не только для Мо-
льера и Лафонтвна, но, как сказано, и для художественных произведений
самого Буало.
При всем том «Поэтическое искусство» Буало сыграло огромную
историческую роль, вследствие заключенной в нем красноречивой пропа-
ганды ряда глубоко положительных принципов, не утерявших своего зна-
чения по сей день. Сюда относится энергичная борьба Буало за художе-
ственную правду и простоту, за ясность и чистоту языка, за доходчи-
вость искусства, которая не должна, однако, достигаться за счет глу-
бины произведения. Буало рекомендовал писателям: «Учитесь мыслить
вы, затем уже писать». Одновременно с этим он с исключительной энер-
гией и настойчивостью боролся за качество писательской работы, дока-
зывая необходимость для писателя всесторонне овладеть техникой своего
«ремесла». Он говорил, что лучше быть каменщиком, чем посредственным
писателем, ибо:
В одной поэзии — обязан знать поэт —
Меж средним и плохим различья вовсе нет.
Влияние Буало на последующее развитие французской и вообще
европейской поэзии было огромно, но в этом влиянии сравнительно мень-
шее значение имели собственные поэтические произведения Буало, реши-
тельно оттесненные его «Поэтическим искусством». Последнее оставалось
кодексом поэтической доктрины классицизма на всем протяжении исто-
рического существования этого стиля во всех странах Европы. Все фран-
цузские теоретики классицизма, писавшие в XVIII в., были продолжате-
лями Буало. Таковы отец Андре, Дюбо, Баттё, Бюффон, Монтескье, Воль-
тер, Мармонтель, Лагарп. За пределами Франции «Поэтическое искус-
ство» Буало часто пересказывалось классицистами разных стран. Так
поступил в Германии Готшед («Критическая поэтика», 1730), а в Англии
Поп («Опыт о критике», 1711), подражавший также сатирам Буало и на-
писавший под влиянием его «Налоя» свое «Похищение локона» (1712).
Кроме Попа, Буало нашел в Англии последователя в лице Рочестера,
подражавшего его сатирам. Из немецких сатириков XVIII в. под влия-
нием Буало находился Лисков, а из польских — Красицкий, который под-
ражал также «Налою» в своей «Войне монахов».
Заметное влияние Буало оказал в России. Ему подражал в своих
сатирах Кантемир, а Тредиаковский был первым переводчиком «Поэти-
ческого искусства». После него переводили Буало А. П. Бунина и
Хвостов. Под сильным влиянием Буало возникла также «Эпистола о
стихотворстве» Сумарокова. «Налой» был переведен В. Майковым,
насаждавшим в России жанр «ироикомической поэмы» («Елисей»), кото-
рый имел в XVIII в. многих представителей. Большим распространением
в России пользовались также переводы и подражания сатирам Буало.
Переводы сатир Буало печатались в журналах Новикова. Батюшков под-
ражал I сатире Буало, Вяземский — II сатире («К Жуковскому»), Акса-
ков перевел VIII и X сатиры.
Немалое влияние оказал Буало также на молодого Пушкина, подра-
жавшего «му уже в своем первом напечатанном стихотворении «К друг?-
533
КЛАССИЦИЗМ
стихотворцу» (1814). Влияние Буало на Пушкина сказывалось особенно
сильно в.годы увлечения последнего арзамасскими'идеями (1814—1817).
В эти годы Пушкин любил указывать на сходство между литературной
борьбой арзамасцев с «Беседой» и той борьбой, которую Буало вел с
прециоэными поэтами. Отойдя впоследствии, в годы свогй творческой
зрелости, от непосредственного влияния со стороны Буало и вообще
французского классицизма, Пушкин навсегда сохранил большое уваже-
ние к Буало как к критику и поэтическому законодателю золотого века
французской литературы. В 1834 г. Пушкин дал такую высокую оценку
роли Буало в истории французской литературы: «У французов возвы-
шенные умы 17-го столетия застали народную поэзию в пеленках, пре-
зрели ее бессилие и обратились к образцам классической древности. Буало,
поэт, одаренный мощным талантом и резким умом, обнародовал свое
уложение, и словесность ему покорилась».
Уважая в лице Буало поборника здравого смысла и носителя высо-
кой поэтической культуры, Пушкин всегда вспоминал о нем, размышляя
-о судьбах русской поэзии и об ее грядущем расцвете.
ГЛАВА VIII
РАСИН
вое наиболее полное и законченное выражение система
французского классицизма XVII в. получила в произ-
ведениях Расина, которого следует признать образцо-
вым поэтом этого стиля. В отличие от Корнеля, Мольера
и Лафонтена он не испытывал никаких колебаний в
основных вопросах поэтики и никогда не отклонялся от
канона классицизма ни в сторону поэзии барокко, ни в
сторону «низовой» литературы. Поэтому Расин был
единственным поэтом, творчество которого Буало
принял без всяких оговорок; более того: устанавливая
в своем трактате законы поэтического творчества, он опирался в первую
очередь на поэтическую практику Расина.
Как ведущий поэт французского классицизма, Расин сосредоточился
на разработке основного жанра этого стиля — классической трагедии,
которой он придал несколько иной характер, чем его предшественник
Корнель. Если последний, тесно связанный с кругами фрондерской ари-
стократии, разрабатывал по преимуществу жанр героической, историко-
политической трагедии, то Расин, развернувший свою деятельность в пе-
риод внутреннего замирения страны и пользовавшийся личным покрови-
тельством Людовика XIV, создал жанр любовно-психологической траге-
дии. Будучи «певцом влюбленных женщин и царей» (по меткой харак-
теристике Пушкина), Расин, однако, далеко не полностью ограничил свое
творчество придворными рамками. В галантно-изысканную форму своих
трагедий он сумел вложить большое идейно-политическое содержание,
сделав их созвучными настроениям передовых кругов французского обще-
ства XVII в. Поэтому он стал восприниматься последующими поколениями
как великий французский национальный поэт.
Жан Расин (Jean Racine, 1639—1699) происходил из зажиточной
провинциальной чиновничьей семьи, получившей уже в XVI в. дворян-
ское звание. Поэт родился в местечке Ферте-Милон, в графстве Валуа.
Рано потеряв родителей, он остался на попечении бабки с материнской
стороны, Марии Демулен, принадлежавшей, как и некоторые другие род-
ственники Расина, к секте янсенистов. Тетка поэта Агнеса была монахи-
ней Пор-Рояля. Туда же удалилась, после смерти мужа, и его бабушка.
540
КЛАССИЦИЗМ
предварительно поместив его в коллеж города Бове, руководимый янсе-
нистами (1649).
Пробыв в этом филиале Пор-Рояля шесть лет, Расин перешел
в 1655 г. в так называемые «маленькие школы» («petites écoles») заго-
родного Пор-Рояля, где он получил превосходное образование под руко-
водством Антуана Леметра, Амана, Николя и ученого эллиниста Лан-
село. Наставники Расина развили в нем любовь к античной литературе
и дали ему отличные познания в древних языках. Молодой Расин писал
стихи по-латыни с такой же легкостью, как и по-французски, и свободно
читал в подлинниках греческих поэтов, из которых он особенно любил
Гомера, Софокла и Эврипида. Изучение античных писателей шло парал-
лельно с усердными занятиями богословием, в результате которых Ра-
син стал лучшим после Боссюэ знатоком Библии из всех французских
писателей XVII в.
Уже на школьной скамье Расин начал сочинять стихи. Он написал
обширное описательное стихотворение «Пейзаж, или Прогулка по заго-
родному Пор-Роялю» («Le Paysage, ou Promenade de Port-Royal des
Champs»). Стихотворение это представляет собой как бы сюиту из семи
од, изрбражающих различные пор-рояльские пейзажи: леса, луга, пасу-
щиеся стада, сады, пруд. Следует отметить здесь малообычнмй для клас-
сицистов интерес молодого Расина к природе, а также редкостное для
начинающего поэта изящество формы.
После трехлетнего пребывания в школе Пор-Рояля Расин перешел
для изучения философии в парижский коллеж Аркур, который был тоже
янсенистским. Здесь он пробыл еще два года (1658—1659), после чего
поселился в доме своего двоюродного дяди Никола Витара, человека ве-
селого и жизнерадостного, который ввел его в светское общество. Расин
познакомился с Лафонтеном и с остроумным эпикурейцем аббатом Левас-
сером, который стал его близким другом. Он начал отходить от янсе-
низма, ведя легкомысленный образ жизни и завязывая знакомства с акте-
рами. Под их влиянием он решил испробовать свои силы в области
драматургии и написал не дошедшие до нас пьесы «Амазия» («Amasie»)
и «Любовь Овидия» («Les Amours d'Ovide»). Он выступил также в об-
ласти галантной поэзии, сочинив утраченное «Купанье Венеры» («Les
Bains de Vénus»). Но самым значительным из его произведений этих лет
была большая ода «Нимфа Сены» («La Nymphe de la Seine», 1660), на-
писанная по случаю бракосочетания Людовика XIV с испанской инфан-
той Марией-Терезией. Эта ода удостоилась похвалы влиятельного в то
время Шаплена, который выхлопотал Расину награду в сто луидоров.
Эпикурейский образ жизни молодого Расина, мечтавшего о придвор-
ной карьере и театральных успехах, скандализовал его благочестивых род-
ственников и наставников. Они всячески старались вернуть Расина к ян-
сенизму. Расин долго сопротивлялся, но затем уступил и отправился
в городок Юзес (в Лангедоке) к своему дяде, генеральному викарию
Антуану Сконену (1661). Здесь он занимался изучением богословия, но
еще больше увлекался поэзией, сочинял любовные стихи, комментировал
Гомера и Пиндара, перечитывал Вергилия и Петрарку. Из своей провин-
циальной глуши он писал изящные, остроумные письма парижским
друзьям, уверяя их, что чувствует себя в варварском Лангедоке как «мос-
ковит», приехавший в Париж.
Так как дяде Расина не удалось устроить ему выгодную церковную
должность, то в 1663 г. Расин возвратился в Париж, где повел прежний
рассеянный образ жизни в обществе писателей и актеров. Круг литера-
РАСИЯ
541
турных знакомств Расина значительно расширился; ом познакомился
еще с Мольером и Буало, с которыми встречался сначала в кабачках, а
затем в доме Буало. Одновременно Расин стремился проникнуть ко двору.
Он написал две блестящие, хотя и несколько холодные, оды — «На выздо-
ровление короля» («Sur la convalescence du roi», 1663) и «Слава музам»
(«La Renommée aux Muses», 1664), которые открыли ему доступ ко
двору и доставили королевскую пенсию.
Все это уводило Расина все дальше от Пор-Рояля. Он перестал даже
отвечать на письма своей тетки, монахини Агнесы, убеждавшей его «опо-
мниться» и «подумать о своей душе». Но сигналом к окончательному
разрыву Расина с янсенизмом явилось начало его работы для театра,
с которым янсенисты боролись с ожесточением, напоминавшим англий-
ских пуритан.
Расин дебютировал как драматург трагедией «Фиваида, или Братья-
враги» («La Thébaïde, ou les Frères ennemis», 1664), которая была пред-
ставлена труппой Мольера без особого успеха. Написанная на «самый
трагичный сюжет античного мира» (по выражению Расина), эта пьеса
свидетельствовала еще об отсутствии у Расина собственной, оригинальной
манеры. Он много позаимствовал здесь из «Антигоны» Ротру, в то же
время подражая! Корнелю как в отношении стиля, так и в построении
отдельных сцен. Хотя Корнель вступил в это время уже в полосу твор-
ческого упадка, однако Расин был еще его горячим почитателем, охотно
усваивавшим даже слабые стороны его поэтической манеры.
Сходный характер имеет и вторая трагедия Расина «Александр Ве-
ликий» («Alexandre le Grand», 1665), в которой Расин, по примеру Кор-
неля, обратился к исторической тематике, заимствовав сюжет своей пьесы
у Плутарха и Квинта Курция. Однако влияние Корнеля переплелось здесь
с влиянием галантной трагедии Кино, которое проявилось, главным обра-
зом, в обрисовке центрального персонажа пьесы — Александра Македон-
ского, изображенного у Расина галантным любовником. Это содействовало
шумному успеху трагедии при дворе, так как молодой Людовик XIV
узнал себя в образе великодушного и нежного македонского царя. Про-
читав «Александра Великого», Сент-Эвремон написал об этой трагедии
статью, в которой заявил, «что старость Корнеля его больше не тре-
вожит, и что он больше не боится, что со смертью Корнеля умрет тра-
гедия». Эти лестные слова примирили Расина со строгой критикой его
недостатков, содержавшейся в той же статье Сент-Эвремона.
Еще до постановки «Александра» Расин прочел свою пьесу Кор-
нелю, чтобы узнать его мнение о ней. Прослушав трагедию, Корнель
заявил Расину, что находит у него большой поэтический дар, но ника-
ких драматургических данных, и посоветовал ему обратиться к другому
жанру. Таким приговором Корнель сразу показал все глубокое/ отличие
своего понимания трагедии от ее понимания Расином.
С постановкой «Александра» связан также разрыв Расина с Моль-
ером, которому он сначала предоставил право постановки своей трагедии,
а затем, недовольный чересчур «естественной» читкой его стихов акте-
рами мрльеровской труппы, передал ее актерам соперничавшего с Моль-
ером Бургундского Отеля. Мольер тотчас же снял «Александра» с ре-
пертуара и понес крупный материальный ущерб. Вскоре после этого Ра-
син переманил в Бургундский Отель лучшую мольеровскую актрису Те-
резу Дюпарк. Отношения между Мольером и Расином были навсегда
испорчены,
542
КЛАССИЦИЗМ
К тому же времени (1666) относится окончательный разрыв Расина
с яксенистами. Он давно уж возмущался их постоянными нападками на
театр. Поводом к ссоре явился выход серии памфлетных писем Николя,
озаглавленных «Мнимые ереси» («Les Hérésies imaginaires») и «Мечта-
тели» («Les Visionnaires») и направленных против новообращенного кле-
ойкала и мистика, поэта-драматурга Демаре де Сен-Сорлена. Издеваясь
яад этим фанатическим врагом янсенизма, Николь напоминал ему о его
прежних «нечестивых» комедиях и романах и называл романистов и дра-
матургов «публичными отравителями не тел, а душ верных христиан».
Впечатлительный Расин принял эти слова на свой счет и ответил Николю
двумя ядовитыми письмами против янсенистов, в которых он блестяще
подражал полемическим приемам Паскаля в его «Письмах к провин-
циалу». Уже первое из этих писем обеспечило Расину симпатии светских
вольнодумцев. Второе письмо, парировавшее ответные письма защитни-
ков Пор-Рояля Дюбуа и Барбье д'Окура, не было напечатано при жизни
Расина, так как Буало отговорил его от нападок на этих, по мнению кри-
тика, «честнейших людей, какие только есть на свете». Впоследствии Ра-
син горько раскаивался в написании этих памфлетов.
2
В ноябре 1667 г. Расин поставил свою первую великую трагедию —
«Андромаху» («Andromaque»), выдвинувшую его на место первого тра-
гического поэта Франции. Она имела блестящий успех, напомнивший
парижской публике успех «Сида». Пьеса поразила зрителей своей неви-
данной на трагической сцене правдивостью и простотой, отличавшей ее
как от героических трагедий Корнеля, так и от галантных, слащавых тра-
гедий Кино. Несмотря на некоторое сюжетное сходство «Андромахи»
с «Пертаритом» Корнеля, Расин в общем освободился здесь от1 влияния
последнего и уверенно заложил основу нового жанра психологической тра-
гедии с очень простой фабулой и минимумом внешнего действия. Отка-
завшись от обычной для Корнеля ориентации на историю древнего Рима,
Расин обратился к греческой мифологической тематике, которая привле-
кала его не только своей поэтичностью, но и глубокой человечностью
и правдивостью, столь противоположной имморальности французского
придворного общества. Учителями Расина в «Андромахе» были разра-
ботавшие тот же сюжет великие поэты античного мира — Гомер, Верги-
лий и в особенности Эврипид, автор «Андромахи» и «Троянок».
Однако заимствованную им у античных авторов фабулу Расин истол-
ковал по-новому. Сделав центральным персонажем трагедии вдову троян-
ского героя Гектора, убитого Ахиллом, Расин изобразил Андромаху не
только нежной матерью, какой изображали ее все античные поэты, но
также безутешной вдовой, оставшейся верной своему покойному мужу.
Эта несчастная женщина находится в плену у Пирра (сына Ахилла), ко-
торый преследует ее своей любовью, грозя убить ее сына, если она не
будет к нему благосклонна. Таким образом Андромаха поставлена перед
необходимостью либо лишиться сына, либо изменить покойному мужу,
выйдя замуж за сына его убийцы. После долгой мучительной борьбы
она решает сочетаться браком с Пирром и, взяв с него клятву, что он не
погубит ее сына, покончить с собой. Это решение ей не удается осуще-
ствить, потому что Пирр погибает от руки Ореста, которого толкает на
вто убийство Гермиона, невеста Пирра, покинутая им ради Андромахи.
Однако Гермиона, страстно любившая Пирра, не может вынести вести
РЛСИЯ
543
о его гибели, проклинает Ореста и лишает себя жизни. Орест, ставший
убийцей Пирра только из страстной любви к Гермионе, обещавшей ему
свою руку, сходит с ума от горя и угрызений совести.
Так падают жертвами своих неразумных, эгоистичных страстей Пирр,
Гермиона и Орест. Победительницей остается Андромаха, эта подлинно
героическая в своей гомеровской простоте женщина, идеальная супруга
и мать, ничем не нарушившая своего долга и сумевшая уберечься от вся-
ких губительных страстей. Ее чистый образ был настолько трогателен,
что вызывал слезы даже у самых холодных аристократических зрителей
(например, у мадам де Севинье, не любившей Расина и предпочитавшей
ему старика Корнеля).
Образ Андромахи впервые раскрыл гуманистическое содержание, кото-
рое Расин вкладывает в обрисовку своих положительных героинь. Оно
слагается из большого чувства человеческого достоинства, огромной мо-
ральной стойкости, способности на самопожертвование и умения герои-
чески противодействовать всякому произволу и насилию, исходящему oV
коронованных деспотов. Роль такого деспота выпадает в данном случае
на долю Пирра. Его образ открывает собой серию образов расиновских
монархов, приносящих интересы государства в жертву своим частным
интересам. Пирр насквозь аморален, беспринципен и эгоистичен. Альтер-
натива, предложенная им Андромахе, является вопиющим проявлением
самовластия и произвола. Изысканная галантность его речей и манер
только подчеркивает гнусность его поведения, недостойного, по мнению
Расина, настоящего властелина.
Образ Пирра был унаследован Расином от его античных образцов,
которые иногда (Сенека в «Троаде», Вергилий во II песне «Энеиды»)
рисовали его еще более суровым, чем Расин. Работая в обстановке вер-
сальского двора, Расин всячески стремился, по его собственному при-
знанию, смягчить жестокость Пирра. Но ему все же не удалось удовле-
творить галантных аристократов, и он вынужден был в первом преди-
словии к «Андромахе» так защищаться от их упреков: «Я признаю, что
он недостаточно покорен воле возлюбленной, и что Селадон лучше его
знал совершенную любовь. Что делать? Пирр не читал наших романов.
Он был по природе жесток. Не все герои созданы бтть Селадонами». Так
Расин решительно отметал требование искусственной идеализации антич-
ных героев и выступал в защиту реалистического изображения их харак-
теров. Это заставило представителей прециозной знати отвергать его за
«грубость», противопоставляя ему поздние пьесы Корнеля, переполненные
галантными тирадами.
Подголоском врагов Расина был Сюблиньи (Subligny), сочинивший
плоскую пародию на «Андромаху» — «Глупая ссора, или Критика Ан-
дромахи» («La Folle querelle, ou la Critique d'Andromaque», 1668), в ко-
торой он отметил в слоге трагедии более трехсот ошибок. Многие из этих
«ошибок» впоследствии получили права гражданства во французском
языке. Сюблиньи думал дискредитировать Расина указанием на широкий
успех его пьесы у демократических зрителей. По его словам, «повар, ку-
чер, конюх, лакей — все, вплоть до водоноса, считали нужным обсуждать
Андромаху». В этих словах Сюблиньи заключается важное свидетельство-
с широком резонансе, который сразу получило творчество Расина за пре-
делами узкого круга аристократии.
Проявившееся после постановки «Андромахи» расхождение В оценке
творчества Расина не исчезло и дальше. В течение всего последующего
десятилетия происходила жестокая борьба между сторонниками Расина
SAA
КЛАССИЦИЗМ
и его противниками, сохранявшими
верность Корнелю. Немало разжи-
гала вражду к Расину прециозной
аристократии дружба Расина с
Буало. Враги Буало, высмеянные
в его сатирах, были и врагами
Расина. Однако все происки по-
следышей фрондерской знати не
могли остановить возраставшей
с каждым годом славы Расина,
который одерживал победу за по-
бедой.
После «Андромахи» Расин
единственный раз в своей жизни
обратился к комическому жанру.
Он написал трехактную комедию
«Сутяги» («Les Plaideurs», 1668),
стоящую особняком во француз-
ской литературе XVII в., как
единственное подражание аристо-
фановской комедии. Испытав не-
удачу в одной судебной тяжбе из-
за церковного бенефиция, Расин
написал эту сатиру на французские
судейские нравы, навеянную «Оса-
ми» Аристофана. Его замысел вы-
смеять старинный французский
суд с его допотопной процедурой,
крючкотворством и сутяжниче-
ством, был поддержан Буало, не-
однократно касавшимся этой темы
в своих сатирах, и Фюретьером,
детально разработавшим ее в своем
«Буржуазном романе». Для коми-
ческого театра эта тема была свежа, потому что Мольер ни разу до того
к ней не обращался.
Первоначально Расин думал придать «Сутягам» форму буффонады
в итальянском стиле и предназначал ее для гастролировавшей в Париже
труппы итальянского комика Тиберио Фиормлли, известного во француз-
ском театре под именем Скарамуша. Отъезд Скарамуша побудил Расина
несколько отступить от первоначального замысла и приспособить
свою комедию к французской сцене. Тем не менее в центре комедии оста-
лась шуточная пародийная сцена судебного процесса над домашней со-
бакой, сьссшен каплуна, и на сцену выносились щенята, пришедшие будто
бы просить судью Дандена «за своего несчастного отца». Все это показа-
лось аристократическим зрителям легковесным, противоречащим «прави-
лам», и комедия почти провалилась. Один Мольер, несмотря на свою
ссору с Расином, признал ее превосходной. Впоследствии пьеса понрави-
лась королю, и это заставило раболепных аристократов изменить свое
отношение к «Сутягам». Написанная блестящим, живым, остроумным язы-
ком, комедия свидетельствует о несомненном наличии у Расина комического
дарования, которому он не дал развиться, целиком сосредоточившись на
трагическом жанре.
Раснп. «Андромаха».
С рисуика А. Гравело, грав. Н. Лемиром (1763 г.)
РАСИН.
С портрета неизвестного художника (в музее г. Лангр).
ГЛСПН
64.»
За «Сутягами» последо-
вал «Британник» («Britannicus»,
1669) — первая трагедия Раси-
на на тему из истории древнего
Рима. Сочинением этой пьесы
на сюжет, заимствованный у
историка Тацита, Расин как бы
хотел опровергнуть утверждение
приверженцев Корнеля, что он
неспособен создать настоящую
политическую трагедию. Он на-
рисовал в «Британнике» заме-
чательную картину император-
ского Рима времен Нерона с ха-
рактерным для этого времени
упадком гражданских доблестей
и прогрессирующей деморализа-
цией правящих сфер. Подлин-
ным- героем трагедии является
молодой Нерон, еще не превра-
тившийся в кровавого изверга,
убившего свою мать, жену и
воспитателей и поджегшего соб-
ственный город. Он пока еще
только «рождающееся чудовище»
(по выражению Расина). Пол-
ный порочных инстинктов, он
начинает давать им волю под
влиянием льстивого и коварного
царедворца Нарцисса, соблаз-
няющего его на деспотический
произвол. Подобно Пирру, и в
еще большей степени, Нерон
привыкает смотреть на государ-
ственную власть, как на средство удовлетворения своих страстей.
В трагедии изображено первое преступление Нерона ■— убийство свод-
ного брата его Британника, имевшего права «а римский престол. Расин
мотивирует вражду Нерона к Британняку тем, что Нерон влюблен
в Юнию, возлюбленную Британника, которая отвергает его любовь, не-
смотря на все домогательства и угрозы императора. В центре историко-
политического сюжета Расин ставит, по своему обыкновению, любовную
интригу, разработанную с большой психологической тонкостью. Уже
в этом сказывается противоположность драматургической манеры Расина
манере Коркгеля. Тем не менее, «Британник» является не столько любов-
ной, сколько политической трагедией. Образы Британника и Юнии очер-
чены Расином несравненно бледнее образа Нерона, который стоит в центре
любовной интриги, служащей обрисовке характера этого юного тирана, уже
начинающего показывать свои когти.
Расин блестяще изобразил поведение влюбленного Нерона, изъяс-
няющего свою любовь к Юнии галантными, изысканными фразами, ко-
торые находятся в противоречии с его подлой, низкой душой. Ревнуя
Юнию, Нерон требует, чтобы она порвала с Британником, если хочет,
чтобы тот остался в живых. Он опускается до того, что прячется за за-
35 История французской литературы—-815
non , Brttannicus ей, nVort empoifon
Hie a (ait le сбир.vous bivo/. onlon
Расин. «Британник».
С рисунка А. Гравело, грав. Ламперером.
846
КЛАССИЦИЗМ
навеской, подслушивая объяснение Юнии с Британником. В конце тра-
гедии он с мастерством испытанного притворщика «обнимает своего
врага, чтобы задушить его», и, нарушая обещание, данное матери, на гла-
зах у всего двора отравляет своего соперника. Так все нити любовной
интриги трагедии пересекаются в одной точке, каковой является характер
молодого Нерона, начинающего попирать все человеческие чувства.
Злодейство Нерона не является, однако, проявлением обыкновенной
порочной натуры, могущей встретиться у человека любого ранга. Оно
тесно связано с его положением императора и является результатом есте-
ственно развивающихся у монархов порочных инстинктов. Расин подчер-
кивает (устами наставника Нерона, благородного Бурра) положительные
качества Нерона как правителя государства, обеспечивающие ему попу-
лярность у народа:
Рим, долго пригнетен правленьем нелюбимым,
Стряхнув с усталых плеч весь гнет пережитой,
С Нероном вновь обрел свободу и покой. . .
Пустынные края изгнанников былых
Теперь заселены предателями их.
И диво ли, что нам воспитанник наш предан,
Коль славный путь ему был нами заповедан,
Коль празднует земля расцвет былых времен,
Коль цезарь всемогущ и Рим освобожден?
(Д. I, явл. 2.)
В лице Бурра Расин нарисовал образ идеального царедворца, убе-
жденного защитника абсолютистской системы и мудрого наставника импе-
ратора, смело напоминающего Нерону об его обязанностях перед поддан-
ными, об его «ответственности за благо всей страны». Он предостерегает
Нерона от советов коварных льстецов, толкающих его с «дороги добле-
сти» на «дорогу преступлений». Благородный Бурр расценивает поведе-
ние монарха только с точки зрения интересов народа. Жестокость Нерона
внушает ему опасение за будущее Рима:
Он Бурру показал, злодейство совершив,
Что с цезарем таким не будет Рим счастлив.
(Д. V, явл. 7.)
Своими речами о призвании и поведении идеального монарха, отца и друга
своего народа, Бурр предвосхищает тирады просветительских трагедий
XVIII в.
Замечательное историческое чутье Расин проявил также в обрисовке
характера суровой, гордой и властолюбивой императрицы Агриппины,
матери Нерона, которая различными преступлениями расчистила сыну
путь к трону. Именно от нее Нерон унаследовал свои преступные задатки,
от нее научился использовать власть в своих частных интересах. Борьба
Агриппины с Нероном, начинающим освобождаться от ее влияния и ли-
шающим ее реальной власти, вызвана оскорбленным честолюбием этой
гордой, демонической женщины, ее безудержным эгоизмом. В поведении
Нерона по отношению к ней Агриппина жнет то, что она сама же по-
сеяла. Монументальный образ Агриппины, предвещающий в драматур-
гии Расина образ Гофолии, наглядно рисует тот тупик, в который захо-
дит деспотическая власть, движимая эгоистическими интересами прави-
телей.
Несмотря на свои высокие художественные достоинства, «Британник»
был принят аристократическим зрителем весьма враждебно. Расина упре-
РАСИН
S47
кали в дискредитации королевской власти, говоря, что он сделал своего
Нерона слишком жестоким. Это заставило Расина сослаться в предисло-
вии к «Британиику» на Тацита, утверждавшего, что если Нерон «и был
некоторое время хорошим императором, он все же был всегда чрезвы-
чайно злым человеком». К этому Расин добавлял: «В моей трагедии речь
идет не о делах политических: Нерон представлен здесь в частной жизни
и в семейном кругу». Тем самым Расин, убежденный сторонник абсолют-
ной монархии, защищал свое право изображать монарха злодеем^ ~по-
скольку речь идет о его частной жизни.
В числе лиц, интриговавших против «Британника», был Корнель,
что побудило Расина в том же первом предисловии к своей трагедии за-
щищаться «от нападок некоего старого злонамеренного поэта». Но вскоре
все эти «нападки исчезли, а пьеса осталась», как заявил Расин во вто-
рам предисловии к трагедии. С этого времени «Британник» занял заслу-
женное им место среди шедевров Расина.
5
В противовес отрицательным образам монархов в трагедиях «Андро-
маха» и «Британник», Расин нарисовал в своей следующей трагедии
«Береника» («Bérénice», 1670) положительный образ императора Тита,
приносящего свои личные чувства и привязанности в жертву интересам
государства. «Береника» Расина была поставлена одновременно с «героиче-
ской комедией» Корнеля на ту же тему — «Тит и Береника» («Tite et
Bérénice»). Поэтический турнир между обоими драматургами был орга-
низован, по утверждению первых биографов Корнеля и Расина (Фонте-
неля, Луи Расина), невесткой короля, принцессой Генриеттой Английской,
которой Расин посвятил свою «Андромаху». Генриетта будто бы предло-
жила обоим поэтам, независимо друг от друга, разработать историю не-
счастной любви императора Тита к иудейской царице Беренике, — в этой
любви она находила некоторые аналогии со своими отношениями к Людо-
вику XIV. Однако новейшими исследованиями доказана недостоверность
этого предания. Одновременное появление двух «Береник» могло быть слу-
чайным, объясняемым общностью источника, из которого черпали оба дра-
матурга (роман Сегре «Береника», 1650). К тому же современникам исто-
рия Тита и Береники напомнила отношения Людовика не только к Ген-
риетте Английской, но и к Марии Манчини, а также к м-ль де Лавальер.
Зато в образе Тита все признали идеализованный портрет Людовика,
ярко нарисованный Расином в монологе Береники в конце первого акта.
Состязание Корнеля и Расина закончилось решительной победой
последнего. Эту победу недоброжелатели Расина отнесли за счет превос-
ходного исполнения заглавной роли Марией Шанмеле, в которой Расин
нашел идеальную исполнительницу главных женских ролей своих траге-
дий. Будучи превосходным декламатором, Расин сам проходил с Шанмеле
предназначаемые ей роли, обучая ее искусству напевной читки стихов.
Но, конечно, огромный успех «Береники» был вызван в первую очередь
художественными достоинствами самой пьесы. Расин довел здесь прису-
щее ему стремление к простоте трагического сюжета до крайних преде-
лов. Он совершенно исключил из «Береники» всякое внешнее действие,
свел количество сколько-нибудь значительных персонажей до трех и обо-
шелся без всяких сценических эффектов, даже в развязке трагедии, в ко-
торой никто не умирает. Лирический характер «Береники» побудил фран-
цузского критика Брюнетьера назвать эту пьесу «элегией в драматической
~ 35*
548
КЛАССИЦИЗМ
форме». Действительно, все содержание «Береники» сводится к изобра-
жению душевных мучений двух царственных любовников, которые не мо-
гут соединиться по причинам политического характера.
Расин превзошел Корнеля, снова разработав чисто «корнелевскую»
тему. Он с огромной силой изобразил победу сознания государственного
долга над личным чувством в душе императора Тита, который, уступая
желанию римского" народа, отсылает из Рима свою возлюбленную Бере-
нику, потому что она, как царица и иноплеменница, не может стать же-
ной римского императора. В отличие от Пирра и Нерона, дававших волю
своим страстям, Тит считает, что его высокий сан налагает на него больше
обязанностей, чем трав. Он 'показывает своим 'подданным пример беспре-
кословного подчинения римским законам, мнению сената и воле римского
народа. Он является подлинным «рыцарем долга», приносящим ему
в жертву свое личное счастье. Эта победа дается Титу нелегко. Ему при-
ходится вынести мучительную борьбу не только с самим собой, но и с лю-
бимой женщиной, которая упрекает его в неблагодарности и грозит ему
своей близкой смертью. Измученный этой борьбой и упреками Береники,
неспособный изменить своему долгу и чувствуя себя не вправе отказаться
от своего сана, Тит готов покончить с собой. Береника, пораженная си-
лой его чувства и величием его души, решает, подобно ему, побороть свое
чувство и отказаться от личного счастья.
Третьей жертвой любви является комагенокий царь Антиох, давно
тайно любивший Беренику, но служивший посредником между нею и Ти-
том. Он тоже помышляет о самоубийстве, убедившись, что Береника
продолжает любить Тита, даже расставаясь с ним. Заключительный мо-
нолог Береники призывает Тита и Антиоха отречься не только от лич-
ного счастья, но и от мысли о смерти. Она предлагает обоим любящим
ее людям «послужить человечеству примером самой нежной и самой не-
счастной любви, горестную историю которой оно могло бы сохранить
в памяти»:
Adieu. Servons tous trois d'exemple à l'univers
De l'amour la plus tendre et la plus malheureuse,
Dont il puisse garder l'histoire douloureuse.
Будучи самой интимной и самой лиричной из всех пьес Расина, «Бе-
реника» проникнута такой же гуманистической моралью, как и другие его
трагедии. Эта мораль носит жизнеутверждающий характер. Она опи-
рается на сознание необходимости подавлять в себе эгоистические чувства
во имя высших этических принципов. Впервые поставле!шая в «Бер'енике»
с огромной художественной силой" тема отречения от страсти подается без
всякой примеси^ религиозного аскетизма. Это отречение осуществляется
во имя сверхличного, общественного долга и носит альтруистическую
окраску.
В следующей своей трагедии «Баязет» («Bajazet», 1672) Расин раз-
работал восточный сюжет из современной жизни, изобразив происше-
ствие, случившееся в серале турецкого султана в 1638 г. В предисловии
к «Баязегу» Расин ссылается на сообщение графа де Сези, французского
посланника в Константинополе, видевшего Баязета и осведомленного
о всех подробностях его гибели. Отступив от установившейся традиции
изображать в трагедии события далекого прошлого, Расин оправдывался
тем, что отдаление в пространстве почти равносильно отдалению во вре-
мени: «Народ не делает разницы между тем, что находится, так сказать,
за тысячу лет от него, и тем, что находится от него за тысячу миль. . .
РАСИН
64»
Турецкие персонажи, хотя бы они были вполне современными, достойны
нашего театра: на «их скоро начинают смотреть как на древних».
Уже из-за необычного для французского театра сюжета «Баязет»
показался смелой новаторской пьесой и занял обособленное место в дра-
матургии Расина. Поэт всячески старался подчеркнуть этнографический
элемент своей трагедии. При постановке на сцене «Баязета» играли не
в обычных условно-стилизованных, так называемых «римских» костюмах
(«habits à la romaine»), a в настоящих турецких одеяниях. Однако враги
Расина, вслед за Корнелем, повторяли, что его турки мало похожи на на-
стоящих. Эти упреки были не вполне справедливы: в узких рамках фран-
цузской классической трагедии со всеми ее аристократическими условно-
стями и с присущим ей отсутствием внешнего реализма Расин стремился
передать своеобразие турецких нравов и психологии.
«Баязет» — трагедия гаремных страстей, завершающаяся гибелью
всех главных действующих лиц. Расин мастерски обрисовал душную ат-
мосферу восточной деспотии. Он изобразил крайнюю деморализацию,
царящую в этой среде, где интриги гаремных женщин подготовляют двор-
цовые перевороты, сопровождаемые тайными преступлениями и потоками
крови. Характерна уже основная сюжетная предпосылка «Баязета»: сул-
тан Амурат, отправляясь в поход против персов, поручает своей любимой
жене Роксане убить его родного брата Баязета, который может когда-ни-
будь предъявить права на турецкий престол. Этот мотив является исход-
ной точкой любовной интриги трагедии, построенной на притворстве всех
ее участников: Роксана страстно любит Баязета, но скрывает свое чувство
от окружающих и действует чрез посредство молодой рабыни царской
крови Аталиды, которая тоже тайно любит Баязета и любима им.
Уже в «Андромахе» и в «Беренике» Расин проявил огромное мастер-
ство в изображении женских характеров. В «Баязете» он делает дальней-
ший шаг, строя вскГ пьесу на контрастном противопоставлении характеров
Аталиды И- Роксаны — ярких представительниц излюбленных Расином
типов «лирической» (мягкой, нежной, чувствительной) и «драматической»
(бурной, порывистой, чувственной) героини. Но образ Аталиды гораздо
сложнее родственных ему образов Андромахи и Береники. Это женщина
благородная и честная по натуре, обаятельная, несчастная, томимая
страстью и благодаря ей становящаяся переменчивой и неустойчивой,
одновременно желающей и не желающей брака Баязета с Роксаной. Не-
смотря на упорное притворство, она выдает себя своим поведением и гу-
бит Баязета, вместо того, чтобы спасти его. С трагической непоследова-
тельностью она сначала убеждает Баязета притвориться влюбленным
в Роксану и даже жениться на ней, а затем дает волю своей ревности
и приходит в отчаяние от того, что Баязет поступил по ее совету.
Еще ярче нарисован образ Роксаны, некоторыми своими чертами на-
поминающий образ Гермионы в «Андромахе». Это страстная, жестокая,
чувственная и властолюбивая женщина, воспитанная в развращающей
атмосфере сераля, дышащей интригами и преступлениями. Одержимая
страстью, она мечется в ее заколдованном кругу, все время приближаясь
к своей гибели. Расин дал в образе Роксаны целую гамму разнообразней-
ших оттенков любви, ревности и ненависти. В конце концов Роксана уби-
вает Баязета, убедившись в том, что он любит Аталиду. Но, убив Бая-
зета, Роксана сама погибает от руки Оркана, посланца султана, узнавшего
о ее подозрительном поведении. Она является, таким образом, не только
орудием, но и жертвой азиатского деспотизма турецкой монархии, поли-
гика которой определяется частными интересами султана.
S50
КЛАССИЦИЗМ
Гуманистическое отрицание Расином эгоистических страстей привело
его к восточной гаремной тематике, которая объективно служила целям
разоблачения французских придворных нравов. Главной носительницей
этого протеста являлась, по расиновскому обыкновению, женщина — Ата-
лида. Любя Баязета, она вполне разделяет присущее ему понимание задач
монархии, пронизанное подлинно античным героизмом:
Иль думаете вы, что этот день смятенный
Сломил мой гордый дух? Что в трусости презренной
Боится он забот, что окружают трон,
И смерть их тяготе предпочитает он?
Быть может, виноват я в самомненье редком,
Но, мыслью обращен к моим великим предкам,
Мечтал я праздности позорной избежать
И прадедам вослед в ряды героев стать.
(Д. II, явл. 5.)
Такой культ героизма был глубоко чужд развращенному придворному
обществу не только Турции, но и Франции времен Людовика XIV. Ги-
бель Баязета, не успевшего осуществить этот идеал, образно подчеркивает
невозможность его реализации в обществе, для которого был типичен
культ «праздности позорной».
Следующая трагедия Расина «Митридат» («Mithridate», 1673) также
построена на восточном материале, но уже не современном, а историче-
ском. Она переносит нас в эпоху борьбы римской республики с восточ-
ными властителями. Ее героем является понтийский царь Митридат VI
Евпатор, один из самых жестоких и непримиримых врагов Рима, всю
жизнь дававший энергичный отпор его завоевательной политике. Расину
удалось ярко обрисовать неукротимый нрав этого великого полководца,
лелеющего грандиозный план завоевания и разрушения Рима. Возвратив-
шись домой после испытанного им жестокого поражения, неутомимый
Митридат делится своими смелыми замыслами с сыновьями Фарнаком
и Ксифаресом в большом политическом монологе, открывающем III акт
трагедии и напоминающем политические речи в трагедиях Корнеля. Сы-
новья по-разному реагируют на предложение отца: Фарнак считает сопро-
тивление римлянам бесполезным и призывает покориться им, Ксифарес же
с негодованием отвергает мысль о соглашении с римлянами и выра-
жает готовность принять участие в завоевательном походе на Рим. В даль-
нейшем ходе трагедии открывается предательство Фарнака, который при-
водит римские отряды в столицу Митридата Нимфею. Митридат, окру-
женный врагами, пронзает себя мечом, после чего Ксифарес доблестно
отбивает римлян и дает умирающему отцу клятву отомстить за его
смерть.
В эту насыщенную политическими интересами трагедию Расин, по
своему обыкновению, вплетает любовную интригу, в которой обрисовывает
Митридата частным лицом, наделяя его присущими последнему человече-
скими слабостями. Как царь и полководец, Митридат — настоящий герой,
идеальное воплощение воинской отваги, настойчивости и неутомимости,
свободолюбивый боец, который не может допустить даже мысли о том,
чтобы стать рабом Рима; он наделен поистине римской доблестью и ве-
личием, приближающими его к лучшим из корнелевоких героев. Как част-
ный человек, он совершенно лишен ореола героизма и выказывает себя
ревнивым, подозрительным, двуличным и мстительным деспотом, подлин-
ным рабом своей старческой страсти к Мониме. Эта страсть делает его
соперником собственных сыновей. Ревнуя к ним Мониму, он именно из
РАСИП
SS1
ревности, а не по подозрению в политической измене (которое было бы
вполне основательным), велит взять под стражу Фарнака. Далее он са-
мым коварным образом добивается у Монимы ее признания в любви
к Ксифаресу, после чего готовится жестоко расправиться со своим «люби-
мым» сыном и его возлюбленной. Только полученная Митридатом смер-
тельная рана заставляет этого ревнивого деспота отменить приказ об
отравлении Монимы и перед смертью завещать ее Ксифаресу.
Оба аспекта образа Митридата даны в пьесе параллельно, что де-
лает его характер сложным и содержательным. Введение любовной
интриги, знакомящей зрителя с частной жизнью Митридата, лишает образ
этого царя односторонней и искусственной идеализации, которая иногда
встречается у Корнеля и которая окончательно возобладала у эпигонов
Корнеля и JPacHHa. «Митридат» показывает весь огромный размах расинов-
ского реализма. Несмотря на свои связи с версальским. двором, великий
поэт упорно сопротивлялся его идеологическим влияниям и не соглашался
превращать свои трагедии в славословие абсолютизма. Даже придав образу
Митридата героические тона, Расин показал изнанку этого героизма в част-
ной жизни понтийского царя; при этом «человеческие» слабости и пороки
Митридата оказываются типичными для него, как для коронованного дес-
пота, известного своими многочисленными любовными связями и распра-
вами с не угодившими ему женщинами.
Героиня «Митридата» Монима является одним из обаятельнейших
женских образов, созданных Расином. Эта кроткая, нежная, стыдливая
девушка наделена Расином сильной волей и чрезвычайно развитым чув-
ством долга и собственного достоинства, ставящими ее на один уровень
с корнелевскими героинями. Став невестой Митридата, несмотря на свою
любовь к Ксифаресу, она решает подавить свое чувство из уважения
к герою Митридату. Только когда' прошел слух о гибели Митридата,
Монима, в ответ на признание в любви Ксифареса, дает ему понять, что
он пользуется ее взаимностью. Однако с момента возвращения Митри-
дата для Монимы ясно, что она должна снова подавить свою любовь
к Ксифаресу. Только коварному Митридату, притворившемуся, что он хо-
чет отдать Мониму замуж за своего сына, удается вырвать у нее при-
знание в том, что она давно любит Ксифареса. Поняв, что Митридат
подстроил ей ловушку, она приходит в негодование. Оскорбленная в своей
гордости и девической стыдливости, она отвергает попытку царя снова
объявить ее своей невестой и с радостью принимает присланный ей Ми-
тридатом кубок с ядом, так как жизнь потеряла для нее всякую цену.
«Митридат» имел крупный сценический успех, которому на этот раз
не решились противодействовать даже противники Расина. В этом же
году Расин был, несмотря на происки врагов, избран во Французскую
Академию. Он произнес обычную вступительную речь, которая не произ-
вела большого впечатления и не дошла до нас, так как, повидимому, не
удовлетворила самого Расина и не была им напечатана.
Следующая трагедия Расина «Ифигения в Авлиде» («Iphigénie en
Aulicle», 1674) была впервые представлена в Версале на пышном празд-
нестве, организованном по случаю покорения Франш-Конте. Полгода спу-
стя Расин показал ее в Париже, где она прошла с огромным успехом.
Враги Расина реагировали на успех «Ифигении» постановкой в другом
парижском театре пьесы того же названия, принадлежавшей перу двух
бездарных поэтов Леклерка и Кора, которой они тщетно пытались со-
здать искусственный успех (1675). Эта неудачно подстроенная интрига
ЗД2
КЛАССИЦИЗМ
была как бы прелюдией той грандиозной травли, жертвой которой стала
два года спустя «Федра».
Сюжет «Ифигении» — принесение царем Агамемноном в жертву его
дочери Ифигении — заимствован Расином из трагедии Еврипида «Ифи-
гения в Авлиде», одной из популярнейших пьес античного мира. До Расина
ей подражал во Франции Ротру в своей «Ифигении в Авлиде» (1640),
в которой он в точности следовал своему греческому образцу вплоть до
его финала: сжалившись над неповинной девушкой, богиня Диана уносит
ее в последнее мгновение в облаке, заменив жертвенной ланью. В отли-
чие от Ротру, Расин отступил от еврипидовского финала и использовал
в своей трагедии другую версию мифа о жертвоприношении Агамемнона,
согласно которой им была заколота на алтаре не дочь его, а другая
Ифигения, дочь Елены Спартанской от тайного брака с Тезеем, не знаю-
щая своих родителей и носящая имя Эрифилы, Расин предпочел эту вер-
сию, так как считал ее более правдоподобной в виду отсутствия в ней
сверхъестественного элемента. Кроме того, образ Эрифилы привлекал
его своим драматизмом. Расин изобразил Эрифилу пленницей Ахилла,
страстно влюбленной в своего господина и ревнующей его к любимой
им Ифигении; стремясь погубить свою соперницу, Эрифила попадает
в расставленные ею сети и сама приносится в жертву богам вместо Ифи-
гении, которая остается в живых. В изображении Расина страстная, рев-
нивая и мстительная Эрифила так же контрастирует с кроткой, нежной,
и покорной Ифигенией, как Гермиона контрастирует с Андромахой,
а Роксана — с Аталидой. Однако образ Эрифилы удался Расину гораздо
меньше образов Гермионы и Роксаны и носит несколько искусственный
характер. Зато образ Ифигении стал одним из лучших и трогательней-
ших созданий Расина.
Разрабатывая образ Ифигении, Расин значительно отступил от Еври-
пида, у которого эта юная царевна обладает более непосредственным
и страстным характером, сильнее любит жизненные блага и обнаруживает
некоторые проблески непокорного духа. Расиновская Ифигения больше
похожа на хорошо воспитанную французскую девушку, чем на молодую
гречанку. Но Расин пошел и дальше.
Отвлекшись от реального быта французской аристократии, он со-
здал в лице Ифигении идеализованный женский образ, наделенный са-
мыми высокими нравственными качествами. Ифигения, прежде всего,
идеальная дочь, горячо любящая отца и уверенная в том, что последний
может желать ей только добра. Она не теряет веры в отца:, даже узнав
о том, что он обрек ее на ""Смерть, и умоляет своего жениха Ахилла и го-
рячо любящую ее мать Клитемнестру не гневаться на Агамемнона. Ифи-
гения трогательна также своей любовью к Ахиллу, одновременно горячей
и стыдливой, любовью, которая никогда не идет вразрез с долгом. Узнав
о том, что ее смерть необходима для блага родины, она безропотно поко-
ряется судьбе и подавляет в себе столь естественное в ее возрасте жела-
ние жить, ибо считает величайшей честью пожертвовать жизнью ради об-
щего блага. В своем самоотречении она доходит до настоящего подвижни-
чества, в котором нет, однако, тех христианских ноток, которые упорно
стремилась найти в нем новая буржуазная критика. Подвижничество
Ифигении вырастает на основе самого высокого гуманизма. Ифигения уте-
шает себя тем, что ее смерть принесет ей посмертную славу народной
героини:
Пусть мне не довелось Ахиллу стать подругой,
Но верю, буду я в иные времена
Picnn
85.-
K Ахилла подвигам молвой приобщена.
И смерть моя, в веках источник вашей славы,
Откроет первый стих поэмы величавой.
(Д. V, явл. 2.)
Как настоящая героиня, Ифигения чужда всякому эгоизму; она пре-
зирает «страстей преступный жар» и ценит свою честь неизмеримо выше
жизни. Ее героическое бескорыстие и самоотвержение по существу яв-
ляются отрицанием политики, .направляемой честолюбием и эгоистиче-
скими интересами. В этом смысле Ифигения противопоставлена своему
отцу Агамемнону и жениху Ахиллу, которым далеко до ее высокой гумани-
стической морали.
В драматургическом отношении «Ифигения» отличается большими
достоинствами. Это блестяще построенная пьеса, фабула которой (по
обыкновению Расина, весьма несложная) развивается с большой напря-
женностью и захватывающим драматизмом, хотя в сущности речь идет
все время только о том, будет или не будет принесена в жертву Ифиге-
ния. Отдельные сцены трагедии, например, бурное объяснение Агамем-
нона с Ахиллом (д. IV, явл. 6), или последнее объяснение Ахилла с Ифи-
генией (д. V, явл. 2), являются подлинными шедеврами расиновского
диалога.
Увлеченный образом Ифигении, Расин предполагал написать еще тра-
гедию «Ифигения в Тавриде» на сюжет трагедии Эврипида того же на-
звания, впоследствии обработанный Гете. Однако замысел этот остался
неосуществленным вследствие отхода Расина от работы' для театра после
провала «Федры». Сохранился только план I акта «Ифигении в Тав-
риде», написанный прозой. Он знакомит нас с методикой драматургиче-
ской работы Расина, который не сразу облекал свои замыслы в стихо-
творную форму. В сюжетном отношении «Ифигения в Тавриде» должна
была быть совершенно независимой от «Ифигении в Авлиде», потому что
финал последней, в котором Ифигению не приносили в жертву, делал не-
возможным превращение Ифигении в жрицу богини Дианы в Тавриде,
являющееся основой фабулы «Ифигении в Тавриде».
На еврипидовскую тему написана и последняя из расиновских траге-
дий первой манеры, знаменитая «Федра» («Phèdre», 1677), которую сам
Расин готов был признать лучшим своим созданием. Действительно, в этой
пьесе Расин поднялся на высшую точку в отношении чисто поэтического
мастерства, написав всю трагедию «стихами, полными смысла, точности
и гармонии» (Пушкин). Вместе с тем он довел до высшего совершенства
созданный им жанр любовно-психологической трагедии. Он с потрясаю-
щей силой изобразил здесь разрушительное действие жгучей, слепой,
стихийной страсти, овладевающей сознанием женщины помимо ее воли
и неудержимо влекущей ее к позору, преступлению и гибели. Эту тему
Расин развернул на материале античного предания о любви царицы
Федры к ее целомудренному пасынку Ипполиту; отвергая любовь мачехи,
Ипполит навлекает на себя ее гнев и падает жертвой клеветы Федры,
обвиняющей его перед отцом в посягательстве на ее честь. Сюжет этот
принадлежит к числу «бродячих»; он встречается также в Библии в виде
истории Иосифа Прекрасного и жены Пентефрия. Но Расин воспринял
его в античной версии, последовательно разработанной в трагедиях Эври-
пида («Ипполит») и Сенеки («Федра»); обе эти трагедии были им исполь-
зованы.
Однако, обрабатывая античную фабулу, Расин внес в нее, по своему
обыкновению, немало нового, приспособив ее к воззрениям и вкусам сво-
554
КЛАССИЦИЗМ
его времени. Прежде всего,
он отступил от Эврипида и
последовал за Сенекой в том,
что поставил в центре своей
трагедии образ не Ипполита,
а Федры; отсюда и название
трагедий" по имени ее герои-
ни. Далее он внес весьма су-
щественные изменения в ха-
рактер Ипполита и в мотиви-
ровку его поведения. У Эври-
пида Ипполит отвергает лю-
бовь Федры потому, что он
поклоняется богине девствен-
ности Артемиде (Диане) и не
признает власти Афродиты
(Венеры), богини чувствен-
ной любви. Такое поведение
Ипполита навлекает на него
месть ревнивой Афродиты,
которая и является главной
виновницей его трагической
гибели.
Расин отбросил всю ми-
фологическую подоснову сю-
жета (за исключением фи-
нального вмешательства Неп-
туна, высылающего, по прось-
бе Тезея, морское чудовище,
чтобы погубить Ипполита)
и целиком очеловечил свою
трагедию. Потому эврипидов-
ская мотивировка поведения Ипполита показалась Расину несостоятельной.
и он отказался от изображения его убежденным девственником; при этом
он учитывал нравы, воззрения и вкусы версальской аристократии, которой
образ женоненавистника Ипполита мог бы показаться не только непонят-
ным, но и комичным. Расин мотивировал холодность Ипполита к Федре
его любовью к другой женщине, отсутствующей в трагедиях Эврипида и
Сенеки, — к афинской принцессе Ариции, дочери смертельного врага его
отца Тезея. Сам Расин в предисловии к «Федре» объяснял введение
в трагедию этого дополнительного мотива тем, что он хотел наделить
Ипполита «известной слабостью, которая делала его в той или иной мере
виновным перед отцом». Однако Расин не заметил, что, наделяя Ипполита
сердечной слабостью, он вступил в противоречие с характеристикой его,
как «высокомерного, гордого и даже несколько дикого» юноши. Заго-
ворив о любви, Ипполит сразу стал галантным, на что указал, как
известно, Пушкин в письме к А. А. Бестужеву (январь — начало февраля
1825 г.).
Если Ипполита Расин счел нужным наделить некоторой виновностью,
то в характеристике Федры он решил, напротив, ослабить то отталкиваю-
щее впечатление, которое она производит, клевеща на Ипполита: «Я считал,
что в клевете есть нечто слишком низкое, слишком злодейское, чтобы вло-
жить ее в уста царственной особы, которая во всем прочем наделена чув-
Артистка Шанмеле в роли Федры.
С портрета Кёре, грав. Прюдоном в начале XIX в.
РАСИН
535
ствами столь благородными и столь добродетельными. Эта низость пока-
залась мне более подобающей кормилице, у которой могли быть более
рабские склонности. ..» Такая щепетильность по отношению к «царствен-
ной особе» Федры свидетельствует о том, что творчество Расина в целом
подчинялось сословным нормам французского классицизма.
Самая клевета "на Ипполита у Расина тоже ослаблена по сравнению
с его античными первоисточниками. У Эврипида и у Сенеки Ипполит обви-
няется в том, что он насильно овладел Федрой, у Расина же его обвиняют
только в намерении совершить насилие. Расин объясняет это изменение
тем, что он «хотел освободить Тезея от позора, который мог сделать его
менее привлекательным для зрителей». Действительно, образ обманутого
мужа («рогоносца») был, в представлении французских зрителей XVII в.,
образом не трагическим, а комическим.
Но главным отступлением Расина от его античных образцов явилась
глубоко оригинальная обрисовка им образа Федры, который явно доми-
нирует в его пьесе. Расиновская Федра довольно мало похожа на антич-
ную, которая являлась пассивной жертвой происмл^Афродиты, исполь-
зовавшей ее для сведения счетов с Артемидой4|^^ИЫючитателем Иппо-
литом. Страсть античной Федры есть результатя^И^И^дения, некое эро-
тическое безумие, борьба с которым невозможна. Потому, будучи отверг-
нута Ипполитом, Федра у Эврипида кончает с собой, оставляя Тезею
клеветническое письмо, обвиняющее Ипполита.
Расин последовал в изображении Федры скорее за Сенекой, чем за
Эврипидом. Подобно Сенеке, он заставил ее пережить гибель Ипполита
и самой раскрыть Тезею свое преступление, перед тем как покончить
с собой. Однако у Сенеки Федра изображена крайне бесстыдной и чув-
ственной, тогда как Расин значительно затушевал эту сторону и, напро-
тив, заставил свою героиню переживать мучительную борьбу с той гре-
ховной страстью, которую наслали на нее боги и которую она, несмотря
на все свои усилия, не может побороть.
Федра не открылась бы Ипполиту, если бы не ложная весть о ги-
бели Тезея; получив эту весть, она начинает считать себя свободной,
и ее страсть перестает ей казаться преступной. Именно в этот момент
она и делает свое признание Ипполиту, который ее отвергает. Вслед за-
тем она узнает о возвращении Тезея. Охваченная паническим страхом за
себя, за свою честь и своего ребенка, она поддается увещаниям Эноны
и разрешает ей оклеветать Ипполита, сама же лишь поддерживает своим
молчанием это обвинение, под влиянием которого Тезей проклинает сына.
Однако вскоре совесть начинает мучить Федру, и она, опасаясь за жизнь
Ипполита, решает оправдать его, сознавшись мужу в своей вине. Но тут
она узнает о любви Ипполита к Ариции, и в ее душе вспыхивают рев-
ность и злоба к сопернице. Под влиянием ревности она теряет самообла-
дание и доходит до последней крайности в своем любовном безумии. Эта
сцена в трагедии (д. IV, явл. 6) целиком принадлежит Расину и является
одной из самых блестящих в смысле раскрытия женской психологии.
В конце этой сцены Федра, совершенно обезумев, вымещает свое горе
и злобу на неповинной Эноне, которую она объявляет виновницей своего
несчастья и с проклятиями прогоняет. В конце трагедии сознание воз-
вращается к ней, и она сама казнит себя, принимая яд и перед смертью
открывая мужу всю правду.
В предисловии к «Федре» Расин подчеркнул поучительный характер
этой трагедии, в которой «даже мысль о преступлении рассматривается
как само преступление; слабости любви почитаются подлинными слябг»-
SB6
КЛАССИЦИЗМ
стями; страсти выступают лишь для того, чтобы показать все разруше-
ния, которые они причиняют, и порок нарисован везде такими красками»
которые заставляют понять и возненавидеть его безобразие». Этими сло-
вами Расин пытался отвести от себя упреки в безнравственности, неодно-
кратно бросавшиеся по его адресу как иезуитами, так и янсенистами. Осо-
бенно усилились эти упреки после постановки «Федры», в которой мно-
гие увидели своеобразную поэтическую апологию адюльтера и кровосме-
сительной любви, тогда как Расин наделил свою героиню сознанием пре-
ступности ее чувства и пытался показать, как искушение овладевает жен-
ской душой, заставляя ее сбиться с правого пути. Впоследствии, когда
Расин покинул театр и вернулся к янсенистам, последние устами Арно
признали «Федру» пьесой, вполне согласующейся с янсенистским учением
о слабости человеческой натуры, неспособной без помощи божественной
благодати справиться с присущими ей греховными устремлениями. По
мнению Арно, Федра — это «христианка, которую не осенила божествен-
ная благодать».
Толки о «безнравственности» Федры были составной частью гран-
диозного заговора, шШтылного врагами Расина для провала его гениаль-
ной трагедии. Вдо^^ИНсльницей этого заговора была герцогиня Бульон-
ская, известная свИмтюкровительством Лафонтену и Корнелю и теми
фрондерскими настроениями, которые царили в ее салоне. Герцогине
Бульонской вторили ее брат, герцог де Невер, и прециозная поэтесса
мадам Дезульер (Deshoulières). Они устроили «Федре» искусственный
провал, скупив большую часть мест на первые шесть представлений тра-
гедии и наполнив зрительный зал Бургундского Отеля своими людьми,
свистевшими в лучших местах пьесы. Одновременно с этим они подгово-
рили посредственного драматурга Прадона (Pradon) написать на ту же
тему трагедию «Федра и Ипполит», которой они создали при помощи
клакеров дутый успех в бывшем театре Мольера. В дальнейшем обе
пьесы были оценены по заслугам, но впечатление провала трагедии Ра-
сина на ее первых представлениях осталось, и оно было очень болезненно
воспринято самолюбивым поэтом.
Во время борьбы сторонники и противники Расина бомбардировали
друг друга оскорбительными сонетами. В одном из них оказался задетым
герцог до Невер, пригрозивший Расину и его другу Буало физической
расправой. Однако он не решился привести свою угрозу в исполнение,
в виду явного покровительства Расину и Буало знаменитого Конде. При-
дирчивая критика Сюблиньи и наглость Прадона, заявившего в преди-
словии к своей трагедии, что только происки Расина и Буало помешали
полному успеху его пьесы, переполнили чашу терпения Расина. Утомлен-
ный длительной травлей, убедившись в непрочности литературной славы,
он проникся отвращением к драматургической работе и решил навсегда
отказаться от нее.
Некоторое влияние на это решение могли оказать взволновавшие
в это время весь Париж судебные процессы отравительниц, частично принад-
лежавших к высшей знати, подобно знаменитой маркизе де Бренвилье,
отравившей своего отца и двух братьев и казненной летом 1676 г. Этот
и последующие процессы раскрыли потрясающие картины морального па-
дения французской аристократии, постоянно прибегавшей к ядам и кол-
довским снадобьям для разрешения всякого рода запутанных личных
дел (главным образом, любовных). Все это необычайно напоминало сю-
жетные ситуации расиновских трагедий, создавая для них яркий бытовой
фон. Гермиона, Орест, Нерон, Роксана, Федра многим казались выхва-
РАСИН
537
ченными из жизни фигурами, страсти и преступления которых поэтиче-
ское мастерство Расина как бы оправдывало и возвеличивало. Трагедии
Расина, именно в виду своей^ жизненной правдивости, неожиданно для
него самого оказьгоались чуть лй~не~шк6лои порока. Опасение быть так
понятым укрепило Расина в его решении покинуть театр и усилило ноявив.
шиеся у него в это время покаянные религиозные настроения.
4
Уход от работы в театре совпал с религиозным обращением Ра-
сина, заставившим его возвратиться к янсенистам. Он помирился сначала
с мягким, незлобивым Николем, затем с суровым Арно, который про-
стил его отступничество, после того как прочел «Федру». Расин дал обет
не писать больше не только трагедий, но и вообще стихов. Свое «нече-
стивое» прошлое он решил искупить суровым покаянием. Он даже при-
нял решение поступить в монастырь, но его духовник отговорил его от
этого и посоветовал ему жениться на благочестивой девушке. Расин по-
виновался и вступил в брак с Катериной де Романе, которая не интере-
совалась поэзией и никогда не читала трагедий своего мужа. Расин стал
отцом семерых детей, которых воспитывал в суровом янсенистском духе.
Трое из его дочерей впоследствии постриглись в монахини.
Покинув театр, Расин не порвал своих связей с двором. Эти связи
стали теперь, напротив, гораздо прочнее, ибо Расин начал отождествлять
«служение богу» со «служением христианнейшему королю». Он сблизился
больше прежнего с королем и пользовался покровительством его фавори-
ток — маркизы де Монтеопан, а затем и мадам де Ментенон. Последняя
была особенно горячей его поклонницей, тогда как Монтеопан предпо-
читала ему Буало. Протекции Монтеспан Расин был обязан своим назна-
чением, одновременно с Буало, на должность придворного историографа
(1677). Он деятельно занялся собиранием материалов по истории цар-
ствования Людовика XIV и в особенности его военных походов, причем
пытался придать своей работе историка возвышенный, религиозный
смысл.
Однако, несмотря на все старания, Расину не удалось полностью на-
строить себя на официальный лад и превратиться в барда военных по-
двигов Людовика. В письмах последних лет его жизни постоянно проры-
ваются нотки протеста против торжествующей военщины и потаенные
мечты о тихой, мирной жизни. Но открыто Расин не решался выражать
таких настроений. Как раз в это время Людовик осыпал его всяческими
милостями: он получил придворное звание (1690), был назначен личным
секретарем короля (1694), поселился в Версальском дворце, постоянно
приглашался королем для чтения ему вслух и присутствовал при интимных
беседах короля с мадам де Ментенон. Но высокое положение при дворе не
научило Расина угодливости и карьеризму. Он не скрывал своих связей
с янсенистами, находившимися в немилости у короля, и даже написал
«Краткую историю Пор-Рояля» («Abrégé de l'histoire de Port-Royab>,
1693, изд. 1742 и 1767), преследовавшую чисто апологетические цели по
отношению к гонимому церковью и правительством религиозному те-
чению.
Несмотря на обет не писать для театра, Расин обдумывал планы
ряда трагедий, лишенных любовной тематики («Ифигения в Тавриде»,
«Альцеста», «Эдип»), сочинил совместно с Буало либретто оперы «Па-
дение Фаэтона» («La Chute de Phaéton», 1680) и написал для одного
538
КЛАССИЦИЗМ
придворного празднества кантату «Идиллия мира» («Idylle sur 1з. paix»,
1685), которую Лголли положил на музыку. В 1688 г. Расин неожиданно
вернулся к драматургии, сочинив по просьбе мадам де Ментенон библей-
скую пьесу для любительского спектакля учениц основанного ею Сен-
Сирского пансиона. Это была трехактная стихотворная драма с хорами
«Эсфирь» («Esther», 1689), стоящая особняком в поэтическом наследии
Расина по своим жанровым особенностям, отличающим ее от классической
трагедии (три акта, лирические хоры, нарушение единства места, благо-
получная развязка).
Содержание «Эсфири» заимствовано из библейской книги того же
названия, где повествуется о спасении угнетенного иудейского народа от
угрожавшего ему истребления при персидском царе Артаксерксе, причем
решающим является заступничество царской жены, еврейки Эсфири, ра-
зоблачившей козни коварного временщика Амана. Драматизуя эту не-
замысловатую фабулу, лишенную всякой любовной интриги, Расин напол-
нил свою пьесу намеками на французскую современность. В образе скром-
ной, нежной и набожной Эсфири зрители сразу узнали мадам де Менте-
нон, в великодушном и мудром царе Ассуэре (Артаксерксе), заменившем
Эсфирью свою прежнюю непокорную наложницу Астинь (Васти), — Лю-
довика XIV, разошедшегося в это время с маркизой де Монтеспан, и т. д.
Заступничество Эсфири за несправедливо гонимых Ассуэром иудеев
должно было побудить мадам де Ментенон к вмешательству в реакцион-
ную религиозную политику Людовика XIV, вступившего после смерти
Кольбера на путь гонений всех «иноверцев», в том числе протестантов
и янсенистов.
Несколько наивные поэтические аллегории «Эсфири» прикрывали
новую для драматургии Расина тему о взаимоотношениях между царем
и народом, исповедующим иную веру. Решение заключалось в принципе
религиозной терпимости, вытекающей из милосердия монарха к его под-
данным. Так переход к библейской тематике сопровождался включением
в поэтический кругозор Расина проблемы религиозной политики монар-
хии, волновавшей передовые общественные круги Франции в конце 80-х
годов. Однако в «Эсфири» новая религиозно-политическая проблематика
намечена еще самым эскизным образом. Расин не поднялся в этой скром-
ной лирической драме до больших поэтических обобщений, не развернул
в ней яркого драматического конфликта. Все образы пьесы — Эсфирь, ее
воспитатель Мардохей, царь Ассуэр, злой временщик Аман — очерчены
довольно поверхностно. Лучшим в пьесе являются лирические хоры юных
израильтянок, написанные изящными стихами разной длины, рифмую-
щимися через строчку.
Успех «Эсфири» далеко превзошел ожидания Расина. Он побудил
поэта продолжить разработку намеченного в «Эсфири» нового жанра ре-
лигиозно-политической трагедии на библейские темы. Итогом этих работ
явилось создание монументальной библейской трагедии «Гофолия»
(«Athalie», 1691), явившейся одним из наиболее ярких и глубоких про-
изведений Расина. В отличие от «Эсфири», написанной «по заказу» ма-
дам де Ментенон, «Гофолия» была создана Расином совершенно самостоя-
тельно, хотя и с расчетом на исполнение ее воспитанницами Сен-Сира.
Эти расчеты не оправдались: двор встретил новую трагедию Расина
холодно, а духовенство — даже враждебно. Трагедия была исполнена
в доме мадам де Ментенон на закрытом спектакле, без декораций и
костюмов, а на настоящую сцену попала только после смерти Людо-
вика XIV, в 1716 г. Печатное издание ее тоже не вызвало интереса,
РАСИН
55У
вследствие чего Расин, несмотря на поддержку Буало, навсегда отказался
от драматургии.
Неуспех «Гофолии» объяснялся тем, что эта библейская трагедия,
по существу, была направлена против происшедшего незадолго до того
реакционного поворота в религиозной политике Людовика XIV. Тра-
гедия обличала религиозные" притеснения народа деспотическим самодержа-
вием. Изображенные в «Гофолии» жестокие преследования иудейского едино-
божия деспотической царицей Гофолией, узурпировавшей престол иудейских
царей, перебившей всех потомков Давида и отступившей от веры отцов ради
религии Ваала, ассоциировались в глазах современников с религиозным
террором, осуществляемым правительством Людовика XIV по отноше-
нию к протестантам, который начался после отмены Нантското эдикта
(1685). Однако подобная ассоциация возникала вовТе' не"~в Силу наличия
в «Гофолии» аллегорий или прямых намеков на современные события, ка-
кими переполнена «Эсфирь». «Гофолия» совершенно лишена подобных
наивных приемов переклички с современностью. Расин построил на библей-
ском материале большую народно-политическую трагедию, развертываю-
щую действие в широком историческом плане и именно потому поднимаю-
щуюся до острого критического показа исторических конфликтов, харак-
терных для Франции конца XVII в.
Преодолевая индивидуальную замкнутость, присущую образам его
трагедий «первой манеры», Расин придал образам «Гофолии» яркое по-
литическое звучание, изобразив всех персонажей этой трагедии предста-
вителями борющихся общественных сил. Библейско-религиозная оболочка,
облекающая политическую трагедию, объясняется в данном случае далеко
не только причинами субъективно-биографического порядка. Она вполне
закономерна в свете того основного направления, которое получала во
Франции конца XVII в. политическая борьба, выступавшая <в форме
борьбы религиозной. Если, по словам Маркса, «Кромвель и английский
народ воспользовались для своей буржуазной революции языком, стра-
стями и иллюзиями, заимствованными из Ветхого завета», 1 то в извест-
ной мере такое же тяготение к ветхозаветным образам было присуще
и французской буржуазной демократии, охотно черпавшей свою полити-
ческую мудрость в Библии. Такое обращение к Библии было свойственно
не только протестантской, но и католической буржуазии и, в первую оче-
редь, — янсенистам. В «Гофолии» библейские образы наполняются ярким
современным политическим содержанием.
Центральным моментом фабулы трагедии является возведение на
иудейский престол юного Иоаса, последнего отпрыска рода царя Давида,
счастливо спасшегося во время избиения всех его родственников, учинен-
ного царицей Гофолией. Иоас вступает на трон в результате вооружен-
ного восстания, поднятого воспитавшим его иудейским первосвященником
Иодаем и завершающегося умерщвлением Гофолии. Этому сюжету, кото-
рый в Библии составляет лишь небольшой эпизод из истории религиозной
борьбы, разгоревшейся среди потомков Давида, Расин придал монумен-
тальные масштабы и всемирно-историческое значение. Он поставил на
библейском материале проблему отношений между монархией, церковью
и народом. Подобно оппозиционной политической публицистике конца
XVII в, "возникающей, главным образом, среди протестантов, эмигри-
ровавших из Франции после отмены Нантского эдикта, Расин ставит
1 Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта. К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения,
т. VIII, стр. 324.
360
КЛАССИЦИЗМ
вопрос о праве народа на восстание против деспотической власти, игнори-
рующей и попирающей естественные права народа, и разрешает этот во-
прос в положительном смысле.
В разрез с воззрениями официального идеолога французского абсо-
лютизма, епископа Боссюэ, утверждавшего, что не существует никаких
причин и условий, которые могли бы оправдать восстание народа против
монархической власти, Расин впервые в истории французской трагедии
изображает в положительных тонах свержение и казнь народом злодейки-
царицы^причем, нарушая закон единства места, выводит вооруженный на-
род на сцену в финале^грагедии. Тираноборчество иудейского народа, вы-
ступающего в защиту «истинной» веры и «законной» власти Иоаса,
потомка Давида, освещается не только церковью (в лице подготовляющего
восстание Иодая), но и самим «божественным промыслом», закрепляющим
расправу народа с нечестивой царицей и придающим ей характер универ-
сальной нормы. Таков смысл завершающей ньесу многозначительной ти-
рады Иодая:
Ты, видевший, куда ведет нечестья путь,
О иудеев царь, познай и не забудь.
Что в небе есть господь, простерший длань над миром,
Судья земным царям и покровитель сирым.
Таким образом, на долю народа выпадает осуществление божьего суда,
грозящего всем царям-тиранам. Этот суд постигает Гофолию, как крово-
жадную и бесчеловечную царицу-тиранку. Однако одновременно с этим
злодейка Гофолия изображена (подобно Нерону в «Британнике») мудрой
и сильной правительницей, укрепившей мощь своего государства и заста-
вившей уважать ее имя на «прибрежьях двух морей» (д. II, явл. 5).
Деспотизм Гофолии, как и деспотизм Нерона, противоречиво связаны с их
мощью как правителей государства. Этот деспотизм является неизбежным
результатом вырождения монархической власти в душной обстановке при-
дворной жизни, поощряющей самовластие. Эта чрезвычайно важная для
политической идеологии Расина идея ярко выражена в наставлениях Иодая
юному царю Иоасу:
Воспитанный вдали придворной суеты,
Отравы сладостной еще не знаешь ты;
Соблазнов власти ты не ведаешь манящих,
Ни голоса вельмож, царю усердно льстящих.
Услышишь ты от них, что и святой закон,
Над чернью властвуя, владыкам подчинен;
Что царь покорен лишь своей же мощной воле
И попирает все, блистая на престоле;
Что подданных удел — нужду и труд нести,
И надобно жезлом железным их пасти,
И что, не угнетен, народ сам угнетает:
От бездны к бездне так их голос увлекает.
(Д. IV. явл. 3.)
Сходную характеристику придворной жизни дает дочь Иодая Суламифь:
Насилье при дворе — единственный закон;
Там прихоть властвует слепая,
А саном тот лишь награжден.
Кто служит, рабскую угодливость являя.
(Д. III. явл. 8.)
Обличение двора, защита народа, требование, чтобы цари подчи-
нялись законам, тираноборческий пафос всей трагедии в целом, — сви-
РАСИЛ
561
детельствуют о значительном росте оппозиционных настроений Расина
в последнее десятилетие его творчества. Идейно связанный с гонимыми
монархией^янсенистами, Расин воспринял ряд идей зарубежной антимонар-
хической публицистики (в частности, и протестантской). Под ее влиянием
гуманист Расин, искони приверженный монархическому принципу, как но-
сителю идей разумной государственности, начал освобождаться от монар-
хических иллюзий. В этом смысле весьма примечательной является сцена
пророчества Иодая (д. III, явл. 7), который предсказывает грядущее
отступничество и злодеяния ныне невинного и добродетельного Иоаса.
Сменяя преступную Гофолию, Иоас в дальнейшем должен стать таким же
преступником и понести^такое же наказание. Царская власть станет и для
него источником пороков _и,преступлений, которые как бы фатально свя-
заны с царским сано^ Такой скепсис по отношению к монархической
власти, на ряду с другими новаторскими чертами «Гофолии», по существу
выводит эту последнюю пьесу Расина за пределы классицистической тра-
гедии XVII в. и делает ее предшественницей просветительской трагедии
XVIII в., подхватившей многие из намеченных в «Гофолии» тенденций.
Последним по времени из поэтических произведений Расина явились
его -«Духовные песни» («Cantiques spirituels», 1694)—четыре гимна, пред-
ставляющие парафразы различных мест из посланий апостола Павла и
из книг ветхозаветных пророков. Расин развивает здесь обычные темы
христианской морали. Он прославляет милосердие (песнь I), излагает
«жалобы христианина на внутреннюю борьбу, которую он испытывает
в своей душе» (песнь II), говорит «о блаженстве праведников и о не-
счастье осужденных грешников» (песнь III), «о пустых занятиях мирян»
(песнь IV). Несмотря на банальность тем и ограниченность христианской
морали, наполняющей эти стихотворения, они должны быть причислены
к лучшим созданиям Расина благодаря замечательной гармонии их стиха,
а главное — теплоте и искренности проникающего их чувства. По своему
общему стилю они приближаются к лирическим хорам из «Эсфири»
и «Гофолии». Однако они гораздо глубже и универсальнее по своему содер-
жанию, чем лирические излияния дщерей Сиона. Особенно интересна
песнь II, в которой Расин необычайно ярко рисует раздирающие его про-
тиворечия между земным и небесным, между христианской покорностью
божеству и гуманистическим бунтом против него:
Mon Dieu, quelle guerre cruelle!
Je trouve deux hommes en moi.
L'un veut que plein d'amour pour toi
Mon coeur te soit toujours fidèle;
L'autre à tes volontés rebelle
Me révolte contre ta loi.*
Стихотворение заканчивается обращенной к божественной благодати
мольбой о том, чтобы она, снизойдя на поэта, «примирила его с самим
собой», подавив его земные помыслы и вожделения. Страстный призыв
к «благодати», столь характерный для янсенистав, показывает, что, не-
смотря на горячее стремление Расина порвать со своим «греховным»
прошлым, ему до конца его деятельности так и не удалось подавить
языческих, гуманистических элементов в своем сознании.
1 «Боже мой, какая ужасная война! Я нахожу в себе двух людей. Один из них
хочет, чтобы, будучи полным любви к тебе, мое сердце всегда сохраняло тебе вер-
ность. Другой, непокорный твоей воле, побуждает меня к восстанию претив твоего
закона».
об История французской л..теичтуиы - 813
5G2
КЛАССИЦИЗМ
«Духовные песни» Расина стоят особняком во французской литера-
туре того времени, почти не знавшей субъективной лирики. Они являются
неким парадоксально ранним предвестием романтической лирики, охотно
рисовавшей смятение чувств и душевный разлад, переживаемый поэтом.
Последние годы жизни Расина были бесплодны в литературном от-
ношении. Все более проникаясь религиозными настроениями, великий
поэт осудил себя, в пору высшего расцвета своего дарования и мастер-
ства, на полное молчание. Он все больше сближался с янсенистами, на-
влекая на себя неудовольствие короля, который ненавидел янсенистоз
почти так же, как протестантов. Это неудовольствие, наконец, проявилось
открыто в 1698 г. Непосредственная причина его неизвестна. Суще-
ствует предание, сообщаемое сыном поэта, что король разгневался на Ра-
сина за поданную последним мадам де Ментенон «Записку о народной
нищете», ярко рисовавшую страдания французского народа, вызванные
беспрерывными войнами. Прочитав эту записку, король будто бы возму-
тился тем, что Расин вмешивается в дела, которые его не касаются. Охла-
ждение короля было воспринято самолюбивым Расином очень болезненно.
Однако толки о том, что оно явилось причиной смерти поэта, повторяе-
мые рядом биографов Расина вслед за недоброжелательным к нему Сен-
Симоном, лишены всякого основания. Расин скончался после тяжелой
болезни 21 апреля 1699 г., окруженный своими близкими.
Несмотря на значительное расхождение между ранними и поздними
произведениями Расина, в них не трудно заметить единство творческих
устремлений, определяющих своеобразную поэтическую физиономию Ра-
сина как крупнейшего поэта французского классичизма.
Одним из основных принципов творчества Расина является его лю-
бовь к простоте и правдоподобию, в противовес корнелевскому тяготению
к необычайному и неправдоподобному. Если Корнель говорил, что «сю-
жет прекрасной трагедии должен не быть правдоподобным», то Расин, на-
против, заявлял, что «только правдоподобное трогает в трагедии». Поле-
мизируя с теми критиками, которые заявляли, что «простота есть при-
знак недостаточной изобретательности», Расин заявлял: «Они не понимают,
что, наоборот, вся изобретательность состоит лишь в том, чтобы сделать
что-либо из ничего, и что огромное количество событий всегда было при-
бежищем поэтов, которые не ощущали в своем таланте достаточно богат-
ства и силы, чтобы в течение пяти актов привлекать внимание зрителей
действием простым, опирающимся на сильные страсти, прекрасные чув-
ства и изящные выражения» (предисловие к «Беренике»).
Исходя из такого понимания трагедии, Расин говорил также, что
действие трагедии должно быть «не отягчено чрезмерно материалом»
и что, поэтому оно должно свободно укладываться в рамки трех единств.
Расина, в отличие от Корнеля, эти единства никогда не стесняли, потому
что они соответствовали присущему ему стремлению к максимальной
концентрации действия, к сжиманию «го пространственных и временных
рамок, с целью сосредоточить все внимание на человеке, действующем
в этих рамках, на показе его внутреннего мира. Самый характер дарова-
ния Расина, его пристрастие к аналитическому показу человеческой пси-
хики, делали его идеальным классицистом, показавшим на практике тс
гигантские творческие возможности, которые были заключены в доктрине
классицизма. Однако ему было совершенно чуждо педантическое отноше-
РАСИН
BG3
ние к правилам, и он свободно отступал от них в тех случаях, когда этого
требовал от него характер сюжета («Гофолия») или специальные задачи
чисто постановочного порядка («Эсфирь»).
Стремление Расина к простоте и правдоподобию распространялось не
только на построение фабулы трагедии, но и на построение характеров ее
персонажей. Расин перенес на подмостки трагического театра современных
ему людей, .преимущественно аристократического круга, как этого требо-
вало «достоинство» трагической фабулы с точки зрения сословных норм
французской классической трагедии. Однако выводимые в трагедиях Расина
цари и придворные "наделялись им обыкновенными человеческими чувствами
и слабостями. Уже Фонтенель сказал о характерах расиновских героев:
«Они правдивы лишь потому, что они заурядны (communs)». Изящество
речи и манер нисколько не противоречит этой «заурядности», ибо оно
являлось общей нормой бытового поведения французской аристократии.
Этих бытовых норм Расин никогда не нарушал, перенося их в античную,
восточную и даже библейскую среду, потому что в представлении его со-
временников светские условности были неотъемлемой принадлежностью всех
лиц высокого ранга, независимо от их национальности и эпохи. Из этих
условностей и сословных приличий Расин не делал, однако, тех односто-
ронних, сословно ограниченных выводов, которые ему часто приписывала
критика. На это обратил внимание уже Стендаль, писавший: «Какой-ни-
будь герцог 1670 года даже в самых нежных излияниях родительской
любви называл своего сына не иначе, как «сударь». Вот почему Пилад из
«Андромахи» постоянно называет Ореста «сеньором»; и, однако, какая
дружба между Орестом и Пиладом!» Сословные приличия и галантное
обхождение являются для героев Расина только внешней, условной оболоч-
кой, нисколько не определяющей существа их характеров и переживаний.
Простота присуща также языку и слогу расиновских трагедий. «Слог
Расина, если оставить в стороне всегда соблюдаемое им изящество кон-
туров, постоянно граничит с прозой» (Сент-Бев). Все прозаические сочи-
нения Расина (памфлеты, исторические труды, письма) написаны самым
простым, трезвым языком, без малейших стилистических украшений. Этот
прозаический слог переносится им также в его трагедии, но здесь он ожи
вляется и эмоционально окрашивается выражаемой им страстью расинов
ских героев. Расин умел переносить в свои трагедии самые обыкновенные
фразы разговорного языка, которые получали у него высокое поэтическое
звучание. Такова, например, фраза, которую произносит Андромаха при
первой встрече с Пирром, сообщая, что она шла навестить своего сынл:
Je ne l'ai point encore embrassé d'aujourd'hui. *
Простота слога Расина являлась несравненным орудием психологиче-
ского анализа. При этом Расин обычно выражал сложные чувства и пе-
реживания самыми простыми словами, в отличие от прециозных писате-
лей, которые поступали как раз наоборот. Так, Нерон следующими
словами выражает свою «жестокую» любовь к Юнии:
J'aimais jusqu'à ses pleurs que je faisais couler.'
Однако поэтическая выразительность языка Расина далеко не огра-
ничивается его установкой на обыденные выражения и разговорные инто-
1 «Сегодня я его еще не обнимала».
2 «Люблю в ней даже скорбь, *|то породил я сам».
664
КЛАССИЦИЗМ
нации. Расин превосходно владел также даром образной речи; он умел
пользоваться яркими и смелыми тропами, заменяющими у него пуэнты
прециозного языка, например:
Le bonheur des méchants comme un torrent secoule. *
Поэтический язык Расина отличается большой смысловой насыщен-
ностью, стремлением к максимальной конкретности выражения, полным отсут-
ствием абстрактной риторичности, присущей стилю поздних трагедий Кор-
неля. Всем этим качествам Расин научился у любимых им античных поэтов.
Он воспринял у (Греческих поэтов присущее им ощущение образной и музы-
кальной стихии слова и великолепно умел передавать ее, не выходя из рамок
ограниченного в своих ритмических возможностях александрийского стиха.
Освоение античного наследия сыграло огромную роль в формирова-
нии поэтической культуры Расина. Он научился у античных авторов тому
исканию жизненной гармонии, которое помогало ему утверждать гумани-
стическую идею разумной человечности, торжествующей победу над мрач-
ным миром эгоистических страстей и материальных интересов. Несмотря
на то, что свою мечту о гармонической античности Расин сочетал с про-
тиворечившими ей по существу формами французской придворной куль-
туры XVII в., именно античное искусство обогатило его поэзию всем
тем комплексом гуманистических_идей_и. образов, который составляет наи-
более полноценную, наиболее бесспорную и долговечную часть его поэти-
ческого наследия. Расин был великим гуманистом ренессансной традиции,
работавшим в эпоху, неблагоприятную для дальнейшего плодотворного
развития этой традиции. Потому он был либо совершенно не понят, либо
искаженно воспринят как представитель галантно-аристократической
культуры версальского двора. В этом следует искать причину творческой
трагедии Расина, затравленного современниками и умолкнувшего в период
высшего расцвета своего поэтического мастерства.
Посмертная судьба поэтического наследия Расина определялась ха-
рактером и направлением литературно-идеологической борьбы как во
Франции, так и за ее пределами. Ближайшее потомство Расина односто-
ронне воспринимало его как образцового представителя придворной клас-
сицистической трагедии, идеализирующего под античными именами фран-
цузских принцев"~и аристократов, хотя Расин в сущности никогда не зани-
мался такой идеализацией. Восприятие Расина как придворного поэта
Людовика XIV сделало его непререкаемым авторитетом для всех при-
дворных классицистов Англии (Драйден), Германии (Готшед) и Италии
(Дзено, Метастазио). Одновременно намечается, однако, и другая, более
правильная и глубокая линия освоения наследия Расина, ориентирующаяся
не столько на трагедии его «перевод манеры», сколько на «Гофолию».
Образец такого подхода к наследию Расина дал Вольтер, опиравшийся на
«Гофолию» (а отчасти и на «Баязета») в своих новаторских начинаниях
в области классицистической трагедии.
Аналогичное двойственное отношение к Расину можно отметить и в
Германии XVIII в. Лессинг, Гердер и вся школа драматургов «бури
и натиска» полемизировали с Расином, потому что видели в нем только
придворного поэта, представителя ненавистной им аристократической вер-
сальской культуры. Иначе подходили к Расину великие немецкие поэты
Гете и Шиллер во второй, «веймарский» период своего творчества, отме-
ченный их поворотом к восприятию античного искусства в духе эстетиче-
«Блаженство злобного потоком вод промчится»
РАСИН
SGS
ŒUVRES
A PARIS,
ских установок Винкельмана.
Культ «благородной простоты
и спокойного величия» заставил
их пересмотреть прочно устано-
вившееся в передовых бюргер- _
ских кругах Германии отрица-
тельное отношение к Расину. ^ _, _. -^ у •«-*
Перейдя на классицистические JX /V V^ I IN Jb*
позиции, Гете вдохновляется тра-
n ТОМЕ SECOND.
гедиями Расина при сочинении * u 1V1 °
«Ифигении в Тавриде» и «Торк-
вато Tacce», а Шиллер перево-
дит на немецкий язык «Федру».
В процессе дальнейшего
развития литературы в напра-
влении борьбы с рационализ-
мом романтики всех стран ре-
шительно дискредитировали Ра-
сина за его мнимую «холод- _, „ „
НОСТЬ» И «раОСуДОЧНОСТЬ» И Про- far \с jcconc{ Репчт d<; 1л S;u>ue
тивопоставляли ему Шекспира. Ch-ipcllc.
Даже во Франции наступило к м. о с. Ь X X X v f ï.
нему охлаждение, вызванное по- Л'/lc i>?.r/llegl du roi,
лемическими выпадами Гюго
(предисловие к «Кромвелю»,
1827) и отчасти Стендаля («Ра-
син и Шекспир», 1823). Однако
на родине поэта такое отрица- 0 г
асина длилось недолго, и
уже в 40-х годах XIX в. зна-
менитая актриса Рашель восстановила Расина в его прежнем величии на
французской сцене. Зато в Германии разрушительная работа по отношению
к репутации Расина, проделанная вслед за Лессингом романтиками во главе
с А. В. Шлегелем, дала весьма прочные результаты. За вычетам Гейне,
который был горячим поклонником Расина, а также Готфрида Келлера, не-
мецкие писатели XIX в. относились к Расину с большим пренебрежением.
Сходный характер имела судьба наследия Расина в России. Впервые
упомянутый с похвалой Тредиаковским в его «Способе к сложению рос-
сийских стихов» (1735), а затем Сумароковым в его «Эпистоле о стихо-
творстве» (1748), Расин вскоре стал в России одним из крупнейших ху-
дожественных авторитетов для всех писателей классицистического напра-
вления. Его первым русским переводчиком был основоположник русской
классицистической трагедии Сумароков, награжденный современниками
прозвищем «российского Расина». Если новейшие исследования и разру-
шили прежнее представление о том, что русская трагедия XVIIГ в. будто
бы являлась копией трагедии Корнеля, Расина и Вольтера, то все
же драматургия Расина оказала значительное влияние на творчество Су-
марокова, Княжнина, Николева, Катенина, Шаховского и ряда других
классицистов. Из видных русских поэтов этого стиля Расина переводил
еще Державин, но от его перевода «Федрьь» (1809) сохранился только
отрывок.
За пределами русского классицизма Расин оказал, на ряду с Буало,
Мольером и Вольтером, большое влияние на формирование литературных
чнненпя.
Титульный лист изд. 1687 г.
KGC
КЛАССИЦИЗМ
вкусов молодого Пушкина, с благоговением повторявшего его имя. Впо-
следствии, преодолев влияние французского классицизма, Пушкин крити-
чески высказывался по поводу отдельных приемов и образов в трагедиях
«маркиза Расина». Он находил, например, что «план и характеры «Федры»
верх глупости и ничтожества в изобретении» и что «Расин понятия не
имел об создании трагического лица» (письмо Л. С. Пушкину от января —
начала февраля 1824 г.). Однако после того, как Пушкин пережил пору
своих романтических увлечений, он сумел посмотреть на Расина и его
роль во французской и мировой поэзии гораздо более объективным взо-
ром. В своей незаконченной статье 1830 г. о развитии драматического
искусства, служившей вступлением к разбору драмы М. П. Погодина
«Марфа Посадница», Пушкин, правда, констатировал, что Ипполит у Ра-
сина «говорит языком молодого благовоспитанного маркиза», но тут же
добавлял: «Со всем тем, Кальдерон, Шекспир и Расин стоят на высоте
недосягаемой — и их произведения составляют вечный предмет наших
изучений и восторгов». В отличие от А. В. Шлегеля и других романти-
ков, унижавших Расина ради возвеличения Шекспира, Пушкин, сам яв-
лявшийся горячим поклонником Шекспира, тем не менее считал возмож-
ным "ставить Расина с ним рядом, как равноправного гения. В той же
статье он написал следующие знаменательные строки: «Что развивается
в трагедии, какая цель ее? Человек и народ. Судьба человеческая, судьба
народная. Вот почему Расин велик, несмотря на узкую форму своей тра-
гедии. Вот почему Шекспир велик, несмотря на неравенство, небрежность,
уродливость отделки». Не случайно поэтому, что б «Борисе Годунове»
Пушкина, написанном в основном под влиянием Шекспира, можно найти
некоторые следы влияния «Гофолии».
В отличие от Пушкина русские критики времен романтизма Н. А. По-
левой и Н. И. Надеждин дали резко отрицательную оценку Расина, а
также Корнеля и других французских классицистов, которых они награ-
дили презрительной кличкой «ложноклассиков». Отрицательно высказы-
вался о Расине также молодой Белинский. Борясь с французским класси-
цизмом как с сословным дворянским стилем во имя утверждения в рус-
ской литературе принципов реализма и народности, великий критик в
свои молодые годы не всегда был справедлив к Корнелю и Расину, кото-
рых он называл «поэтическими уродами». Его высказывания надолго
определили пренебрежительное отношение русской критики к Расину.
О несправедливом пренебрежении к Расину со стороны романти-
ческой критики красноречиво писал в одном из своих парижских
писем Герцен: «Имев счастье завершить начальное образование под ма-
ранье «Московского телеграфа» и под теорию российского романтизма,
я посматривал свысока на человека трех аристотелевских единств, чело-
века, говорящего Vous и Madame устами гомеровских богатырей. Немец-
кая эстетика убедила меня, что во Франции искусства никогда не было,
что собственно искусство может цвести в Баварии, в Веймаре, — словом,
от Франкфурта на Одере до Франкфурта на Майне. А потому и Расина
читал я больше для того, чтобы вполне понять красоту трагедий Гу-
вальда и Мюльнера. Наконец, я увидел Расина дома, увидел Расина
с Рашелью и научился понимать его». Заново открыв Расина на фран-
цузской сцене, Герцен весьма метко характеризовал своеобразие его дра-
матургической манеры: «Есть нечто поразительно величавое в стройной,
спокойно развивающейся речи расиновских героев; диалог убивает дей-
ствие, но он изящен, но он сам действие; чтобы это понять, надобно
видеть Расина на сцене французского театра».
РАГИН
567
Приведенный отзыв Герцена является исключением на фоне общего
отрицательного отношения к Расину, установившегося в России в сере-
дине XIX в. Расина у нас перестали не только играть на сцене, но даже
переводить. 200-летие со дня смерти великого французского драматурга
в 1899 г. прошло в России почти незамеченным. Немногочисленные статьи
о Расине (Ф. Д. Батюшкова и Ю. А. Веселовского) не получили сколько-
нибудь заметного отклика. Только в последнее время отношение к Расину
в нашей стране существенно изменилось. В 1922 г. имела большой успех
постановка «Федры» в Московском Камерном театре в новом переводе
В. Я. Брюсова, восторженно встреченная и передовой частью французской
критики во время гастролей театра в Париже в 1930 г. Новое издание
пьес Расина, выпущенное издательством «Academia» в 1937 г., способ-
ствовало широкому ознакомлению советских читателей с великим фран-
цузским поэтом, а трехсотлетие со дня рождения Расина, исполнившееся
и декабре 1939 г., вызвало обильные отклики в нашей периодической
печати.
ГЛАВА IX
НАЧАЛО РАЗЛОЖЕНИЯ КЛАССИЦИЗМА И ПОДГОТОВКА
ПРОСВЕЩЕНИЯ
1
Э оследиее двадцатилетие XVII в. проходит во Франции
под знакам начинающегося вырождения абсолютной мо-
^ нархии. Будучи в начале и в середине XVII в. прогрес-
| сивным, абсолютизм к концу столетия изживает себя
•I и окончательно изолируется от жизни страны, приобре-
^sj тая откровенно паразитический^ характер. Неудачная
[■^ внешняя политика, вызывавшая бесконечные войны,
2^ равно как и безудержная роскошь Версаля настолько
^^^ ч Zh обескровили Францию, что никакие налоги не могли ло-
^^^^Ё^^^^Ж^ крыть чудовищных долгов, достигших к началу 80-х
годов двух с половиной миллиардов ливров и превышавших годовой бюд-
жет в шестнадцать раз. Тяжесть государственного банкротства легла на
плечи преимущественно крестьянского населения, окончательно разорив
и закабалив его. Один из передовых писателей того времени Фенелои,
оценивая внутреннее состояние страны, дает яркую картину упадка всего
народного хозяйства. «Обработка земли почти заброшена. Города и селг
обезлюдели, ремесла влачат жалкое существование и не могут прокормить
рабочих. Франция—большой, заброшенный, лишенный продовольствия
госпиталь».
Деспотический характер внутренней политики Людовика XIV вызвал
к жизни стихийное народное движение. В наиболее разоренных провин-
циях вспыхивают мятежи. Уже в начале 70-х годов ими охвачены Берри,
Булонь, Гасконь, Гиень. В 1676 г. в Нижней Бретани происходит самое
значительное из народных восстаний, в котором приняло участие около
20 000 крестьян. Несколько лет спустя подобные восстания повторились
в ряде других провинций.
Лучшие умы Франции не могли не замечать того, что творится в
Версале. Глухое недовольство народа передавалось прогрессивной части
французской интеллигенции. В целом ряде анонимных памфлетов, печа-
тавшихся за пределами Франции, отражается солидарность писателей с на-
строениями крестьянства. В одном из таких памфлетов, озаглавленном
«Вздохи порабощенной Франции» («Les Soupirs dz la France esclavée»,
Амстердам, 1690), неизвестный автор прямо указывает на Людовика XIV
и его двор как на реального виновника народных бедствий.
ПАЧАЛО РАЗЛОЖЕНИЯ КЛАССИЦИЗМА
SC»
Отрезвлению интеллигенции еще более способствовал реакционный
поворот в религиозной политике Людовика XIV, наметившийся в 80-х го-
дах. В"ТБ81 г. возобновились гонения на протестантов; в 1685 г. был офи-
циально отменен Нантский эдикт, до известной степени охранявший еще
права гугенотов; в 1695 г. был издан эдикт о церковной юрисдикции,
передававший церкви многие функции гражданского судопроизводства.
В стране начался настоящий религиозный террор. Гонениям стали под-
вергаться не только протестанты и янсенисты, но и все лица, в той или
иной мере заподозренные в религиозном вольномыслии или в независи-
мости политических взглядов. Именно к этому времени относится разгром
Пор-Рояля, репрессии по отношению к мистической секте квиетистов и
арест их вождя мадам де Гюйон (Guyon), закрытие театра Итальянской
Комедии и изгнание его актеров из Франции за прямые нападки на хан-
жество мадам де Ментенон (1697).
Особая форма" религиозных 'преследований, так называемые «драго-
нады» (dragonnades), отдавала сотни и тысячи гугенотских семейств в пол-
ное распоряжение драгунских полков, ставившихся на постой в районах, наи-
более населенных протестантами. Особенно возросла в это время роль
цензуры как светской, так и духовной; писатели должны были подчи-
ниться постоянному надзору церкви, главной вдохновительницы королев-
ской политики в этот период.
В итоге передовая литература последней четверти XVII в. все более
проникается оппозиционными настроениями и перестает служить увеселе-
нию двора. Она начинает становиться враждебной по отношению к абсо-
лютизму "и приобретает воинствующий характер, что делает ее предше-
ственницей просветительного движения XVIII в.
На оппозиции абсолютизму сходятся представители различных соци-
альных и литературных групп. Здесь и аристократ Сен-Симон, и разночи-
нец Лабрюйер, и ортодоксальный классицист Фенелон, и новатор Перро.
Единство мнений видно в мемуарах графа Буленвилье и в суждениях мар-
шала Вобана.
Особенно большой интерес представляет сочинение Себастиана де
Вобана (Sébastien de Vauban, 1633—1707) «Проект королевской десятины-»
(«Projet d'une dîme royale», 1707). Искусный полководец и знаток форти-
фикации, Вобан в качестве военного инженера в течение полувека исколе-
сил всю Францию и 'ближайшим образом познакомился с жизнью народа.
Во время путешествий он накопил огромное количество материала из
различных областей жизни государства—военной, церковной, финансовой,
торговой, земледельческой. Усматривая основную причину общественного
зла в колоссальных и притом неравномерных налогах, Вобан требует рас-
пределения последних между всеми сословиями Франции пропорционально
их состоятельности. «Из всех моих исследований,—пишет он, — я узнал,
что почти десятая часть народа пребывает в нищете и побирается подая-
нием, что из девяти остальных частей только пять в состоянии давать ей
милостыню, а из прочих четырех—три опять совершенно подавлены дол-
гами и пррцессами, и что десятая часть, к которой я отношу отдельных
лиц из числа военных, из судейского сословия, духовенства, чиновников,
зажиточных купцов и состоятельных горожан, едва насчитывает сто тысяч
семейств».
С горечью взирая на Францию, Вобан сокрушается о том, «что еще
не пришло время вырвать бедный и страждущий народ из рук тех по-
рождений ехидны, которые годятся только на галеры и которые, однако.
«70
КЛАССИЦИЗМ
держат себя в Париже с такой вызывающей гордостью, как если бы они
спасали государство».
Кинга Вобана о королевской десятине навлекла на автора гнев короля
и была конфискована, а сам Вобан подвергся репрессиям. Записки его
были изданы лишь в 1843 г.
Подобно книге Вобана, запрещено было и сочинение его двоюродного
брата, руанского чиновника и экономиста Пьера Буагильбера (Pierre
Boisguillebert, ум. в 1714 г.) «Рассмотрение Франции в царствование Лю-
довика XIV» («Détail de la France sous le règne de Louis XIV», 1697).
Буагильбер также настаивал на необходимости ограничения сословных
привилегий. «Финансовое искусство, — говорит он, — должно быть не
уменьем экоплоатировать народ, а уменьем повышать его производительные
способности».
Единство- оппозиции различных литературных сфер было в значитель-
ной мере связано с рецидивом настроений Фронды (Сен-Симон), с неуми-
равшим в течение всего века вольномыслием либертинов (Сент-Эвремон)
и отчасти с религиозной оппозицией протестантских кругов (Бейль).
Соответственно разложению абсолютизма и в непосредственной связи
с этим- разложением в самом классицизме происходит диференциация
и выделение антиклассицистических элементов. Некоторые писатели
(Перро, Фонтенель) подвергают решительному пересмотру доктрину клас-
сицизма и демонстративно порывают с поэтикой Буало, обращаясь к на-
родному творчеству и научной прозе. Другие (Лабрюйер), формально
оставаясь на позициях классицизма, обращаются к изображению суще-
ственных сторон действительности и приходят к стихийному реализму. На-
конец, даже в творчестве сознательных защитников классицизма (Расин,
Фекелон) заметен значительный рост реалистических тенденций, которые
были всегда присущи этому стилю. Таким образом, и в области художе-
ственной литературы конец XVII в. вносит ряд новых черт, предваряю-
щих эпоху Просвещения.
Условия политического режима 80-х и 90-х годов XVII в. вызвали
во французской литературе отмирание старых жанров, появление новых и
дальнейшее развитие уже зародившихся жанров. Наиболее радикальные
писатели в это время решительно отказываются от театра. Теряют свое
значение также высокие жанры поэзии. Вместе с Буало уходит из поэзии
сатира, потерявшая возможность легального существования. Новаторские
и оппозиционные тенденции литературы конца века вызвали к жизни как
особые полулегальные формы, так и специфические, дававшие место реа-
листическому живописанию, жанры. 80-е и 90-е годы XVII в. отмечены
прежде всего развитием сказки — совершенно нового для Франции жанра,
вырастающего на основе знакомства с народной жизнью и народным твор-
чеством.
Особенно расцветает мемуарная литература. Из тридцати пяти авто-
ров мемуаров, упомянутых Вольтером в его «Веке Людовика XIV», пода-
вляющее большинство писало в последней трети XVII в. Не всегда опу-
бликованные при жизни автора и зачастую предназначенные для читателя
будущих лучших времен, мемуары эти во многих случаях являлись удоб-
ной формой выражения оценки времени, двора, состояния Франции. Наи-
более известные мемуаристы — Буленвилье, Рец, Лонгвиль, Монпансье,
Немур, Тюренн, Виллар, Мотвиль — являются создателями классической
французской прозы. Мемуары же Сен-Симона, конфискованные после его
смерти и напечатанные полностью лишь в начале 30-х годов XIX в., пред-
ставляют собой блестящий образец реализма XVII в.
ПАЧАЛО РАЗЛОЖЕНИЯ КЛАССИЦИЗМА.
571
На ряду с мемуарами продолжает развиваться эпистолярная литера-
тура, не всегда рассчитанная на широкую огласку. Вслед за письмами ма-
дам де Севинье и мадам де Мдатенон появляется целая серия сборников
писем.
Наконец, последняя четверть XVII в. ознаменовывается возрожде-
нием жанра «опытов» (essais), ставшего со времен Монтеня излюблен-
ной формой моралистической литературы. Эта литература начинает в са-
мих человеческих характерах усматривать отражение отталкивающей
социально-политической действительности.
2
Самым значительным литературным произведением последней четверти
XVII в. является книга Лабрюйера «Характеры и нравы этого века»
(«Les Caractères, ou les Moeurs de ce siècle», 1688).
Жан де Лабрюйер (Jean de La Bruyère, 1645—1696) происходил из
семьи небогатых горожан, может быть и имевшей в прошлом дво-
рянское звание, но окончательно утратившей его ко времени рождения
писателя. Иронически возводя свой род к одному из участников крестовых
походов, Лабрюйер выказывает полное безразличие к сословным катего-
риям: «Если благородство происхождения — добродетель, то она теряется
во всем том, что недобродетелыно, а если оно не добродетель, то оно стоит
очень мало». Однако Лабрюйеру пришлось всю жизнь испытывать на себе
гнет сословных предрассудков.
В 1684 г., по рекомендации Боссюэ, он получил место воспитателя
внука знаменитого полководца Конде — человека с огромным честолюбием,
беспредельной гордостью и неукротимым нравом. Дворец Конде в Шан-
тильи был своего рода маленьким Версалем. Постоянными посетителями
его были виднейшие люди Франции — политики, финансисты, придворные,
военные, духовные, писатели, художники, вереницей проходившие перед
глазами проницательного Лабрюйера. По выражению Сент-Бева, Лабрюйер
занял «угловое место в первой ложе на великом спектакле человеческой
жизни, на грандиозной комедии своего времени». Плодом знакомства с
этой «комедией» и явилась упомянутая единственная книга Лабрюйера,
сразу получившая широкую, хотя и несколько скандальную известность.
В качестве образца для своего сочинения Лабрюйер избрал книгу
греческого писателя Теофраста, жившего в конце IV в. до н. э. Сначала
Лабрюйер задумал дать лишь перевод «Характеров» Теофраста, присое-
динив к ним несколько характеристик своих современников. Однако с каж-
дым последующим изданием (при жизни автора их вышло девять) ориги-
нальная часть книги увеличивалась, так что последнее прижизненное
издание заключало в себе, по подсчету самого автора, уже 1120 ориги-
нальных характеристик (вместо 418 первого издания), а характеристики
Теофраста печатались уже в качестве приложения.
В речи о Теофрасте, произнесенной Лабрюйером в 1693 г. при его
вступлении в Академию и предпосланной 9-му изданию его книги, он дает
апологию этого писателя, видя в его манере индивидуализировать челове-
ческие пороки и страсти наиболее адэкватную форму изображения дей-
ствительности. Однако Лабрюйер реформирует и усложняет эту манеру:
«Характеристики Теофраста, — говорит он, — демонстрируя человека ты-
сячью его внутренних особенностей, его делами, речами, поведением, по-
учают тому, какова его внутренняя сущность; напротив, новые харак-
теристики, раскрывая в начале мысли, чувства и поступки людей, вскры-
S7i
КЛАССИЦИЗМ
вают первопричины их пороков и слабостей, помогают легко предвидеть
все то, что они будут способны говорить и делать, научают более не
удивляться тысячам дурных и легкомысленных поступков, которыми на-
полнена их жизнь».
Таким образом характеры людей являются, по Лабрюйеру, не само-
довлеющими разновидностями человеческой породы, но непосредственными
результатами социальной среды, варьирующими в каждом отдельном случае
постоянную свою основу. Скупые существовали и в античной Греции и в
абсолютистской Франции, но само содержание скупости и ее проявления
кардинальным образом меняются под воздействием изменившейся обще-
ственной среды. Главная задача писателя заключается поэтому не столько
в самом изображении скупости, сколько в исследовании причин, породив-
ших данную ее форму. Поскольку различие характеров есть результат раз-
личных реальных условий, постольку писателя интересуют сами эти усло-
вия и их психологический эквивалент. Лабрюйер рисует характер на фоне
данной среды, или, наоборот, в своем воображении воссоздает для какого-
нибудь определенного характера породившую его среду.
Характеристики Лабрюйера чрезвычайно конкретны; это именно ха-
рактеры "и нравы данного века — длинная галерея портретов куртизанок,
велымож, банкиров, ростовщиков, монахоЕ, буржуа, ханжей, скупцов, сплет-
ников, болтунов, льстецов, лицемеров, тщеславных, — словом, самых
разнообразных представителей различных слоев и типов парижского и
провинциального общества времен Людовика XIV. Как ни одно другое
литературное произведение данного периода, книга Лабрюйера отражает
реальные отношения современных людей, основные движущие пружины
общества, главные свойственные ему противоречия. Более того, «Харак-
теры» Лабрюйера вырастают в грандиозный памфлет на всю эпоху. При
этом, в отличие от Ларошфуко, критика Лабрюйера связана уже не с иде-
ологией оппозиционных кругов феодального дворянства, а с настроениями
радикальных буржуазно-демократических слоев, начинающих выражать не-
довольство широких масс абсолютистским режимом.
Книга Лабрюйера не укладывается в рамки ни одного из существо-
вавших до него со Франции литературных жанров. Она является при-
чудливым и сложным конгломератом разнородных литературных форм.
Отправляясь от данного Теофрастом наброска портрета, Лабрюйер беско-
нечно разнообразит и усложняет его, привлекая на помощь все богатство
специфических французских жанров. Здесь и мамсимы в манере Ларош-
фуко, и литературная рецензия, и моральное нравоучение, и диалог, и
портрет, и маленькие сюжетные новеллы, и лингвистический трактат на
двух страницах, и социальная утопия, и басня, и политическая сатира; все
это следует друг за другом и объединяется общей идеей. В этом много-
образии— синтез литературной продукции завершающегося периода.
Книга Лабююйера распадается на ряд глав: «Город», «Двор», «Вель-
можи», «Государь» и т. д. Ее композиция соответствует внутренней клас-
сификации портретов, критерием которой является социальная принадлеж-
ность. Глава «О материальных благах» выполняет как бы роль введения
и заключает в себе принципиальные установки автора.
Внутреннее состояние человека, его духовный комплекс демонстри-
руется Лабрюйером на его внешних свойствах и проявлениях. Телесный
облик человека показан как функция его внутреннего мира, а этот по-
следний дается как результат внешнего воздействия, как психологический
продукт социального бытия. Это — реалистическое изображение человека,
как части определенного конкретного общества.
ПЛЧАЛО РАЗЛОЖЕППЯ КЛАССИЦИЗМА
573
Стремление передать общественное явление во всей его полноте при-
водит Лабрюйера к весьма глубокому проникновению в действительность.
Его обозрению равно доступны «двор» и «город», столица и деревня,
вельможи и буржуа, чиновники и крестьяне. Но из какой бы обществен-
ной среды ни избирал Лабрюйер материал для своих суждений, его интере-
сует обыденное, типичное, наиболее общее в его наиболее конкретном и
индивидуальном многообразии. Если он рисует ханжу, то это настоящий
ханжа времен Людовика XIV, уже зафиксированный Мольером. Дав порт-
рет ханжи, Лабрюйер теоретически обосновьгеает его реальность в ряде
сопутствующих максим, уясняя типичность этого явления,, анализируя и
расчленяя его путем показа того, как ханжество проявляется у священника,
у вельможи, у буржуа, у маркизы. Десяток иллюстраций, каждая из кото-
рых— законченный портрет, завершается обобщающей максимой: «Ханжа—
это тот, кто при короле-атеисте был бы безбожником».
Когда Лабрюйер рисует скупца, он опять-таки дает несколько вариан-
тов одного типа: скупца-вельможу, скупца-чиновника, скупца-торговца.
«Двор» представлен у него типами льстеца, хвастуна, наглеца, болтуна,
франта, высокомерного задиры, чванливого аристократа. Все это — живые
люди» превосходный познавательный материал для знакомства с подлинным
двором Людовика XIV. «Ничего другого не нужно для успеха при дворе,
как истинное и естественное бесстыдство». «Город» представлен у Лаб-
рюйера образами «мещанина во дворянстве», денежного туза, угодливого
чиновника, жеманной маркизы, шарлатана-врача, пройдохи-торговца. Все
эти типы буржуа, показанные уже Мольером, Лабрюйером умножаются,
диференцируются и расчленяются на десятки вариантов. Сам король по-
является на страницах его книги. И, наконец, как страшный контраст
королю, и двору, выступает у Лабрюйера крестьянство. Ни одному из
французских писателей конца века не удалось нарисовать такой потрясаю-
щей картины судьбы французского народа, являющейся одновременно гнев-
ной филиппикой против современного социального строя: «Можно видеть
иногда неких полудиких существ мужского и женского пола, рассеянных
на полях, черных, с мертвенным цветом кожи, обугленных солнцем, согбен-
ных над землей, которую они роют и перерывают с непобедимым упрямством;
они обладают даром членораздельной речи и, когда выпрямляются, обна-
руживают человеческий облик; и, в самом деле, оказывается, что это — люди.
На ночь они удаляются в логова, где утоляют свой голод черным хлебом,
водой и кореньями; они освобождают других людей .от необходимости
сеять, пахать и собирать жатву,' чтобы жить, и заслуживают поэтому
право не остаться совсем без того хлеба, который они посеяли».
Эти замечательные строки Лабрюйера о крестьянах цитирует Пуш-
кин в своем «Путешествии из Москвы в Петербург». «Фон-Визин, —пишет
Пушкин, — лет за пятнадцать пред тем путешествовавший по Франции,
говорит, что, по чистой совести,, судьба русского крестьянства показалась
ему счастливее судьбы французского земледельца. Верю. Вспомним описа-
ние Лабрюйера».
Отношение Лабрюйера к народу совершенно четко и недвусмысленно:
«Судьба работника на виноградниках, солдата и каменотеса не позволяет
мне жаловаться на то, что у меня нет благ князей и министров». Это
противопоставление народа сильным мира сего вызывает у Лабрюйера
стремление определить собственную социальную ориентацию: «Народ не
имеет разума, но аристократы не имеют души. Первый имеет добрую сущ-
ность и не имеет внешности, у вторых есть только внешность и лоск.
Нужно ли выбирать? Я не колеблюсь. Я хочу быть человеком из народа».
Й74
КЛАССИЦИЗМ
Констатируя наличие социального зла, выражающегося прежде всего
в неравенстве сословий, Лабрюйер старается определить его первопричину.
Этой первопричиной оказывается материальный интерес — деньги. Колос-
сальная сила денег, превращающая в меновую стоимость семейные, мораль-
ные и политические отношения, Лабрюйеру вполне ясна. Люди, влюблен-
ные в барыш, «это уже не родители, не друзья, не граждане, не христиане;
это, может быть, уже не люди; это — обладатели денег».
Лабрюйер дает сложную гамму человеческих судеб, натравляемых
этой всесильной властью.
«Созий от ливреи мало-помалу, благодаря доходам, перешел к участию
в откупах; благодаря взяткам, насилию и злоупотреблению своей вла-
стью, он, наконец, поднялся на значителыную высоту; благодаря своему
положению, он стал аристократам; ему недоставало только быть доброде-
тельным; но должность церковного старосты сделала и это последнее
чудо». Этот портрет, как и многие другие, подобные ему, заключает в себе
уже готовый сюжет реалистического романа. Образ тунеядца, живущего
за счет обнищания эксплоатируемых им масс, особенно привлекает автора
своей одиозностью и вызывает целый ряд портретов. При этом Лабрюйер
возвышается до подлинного пафоса.
«Этот столь свежий и цветущий мальчик, от которого веет таким здо-
ровьем, состоит сеньором аббатства и десяти других бенефиций; все это
вместе приносит ему сто двадцать тысяч ливров дохода, так что он весь
завален золотом. А в другом месте живет сто двадцать бедных семейств,
которым нечем согреться зимой, у которых нет одежды, чтобы прикрыться,
нет часто и хлеба; они в крайней бедности, которой поневоле стыдно. Ка-
кое неравномерное распределение!»
Творцы денег становятся героями дня, мир превращается в арену, где
ради материального благополучия в кровавой схватке возникают человече-
ские пороки и гибнут человеческие добродетели. Лабрюйер страстно вос-
стает против такого положения дел, обрушивается на него с уничтожающей
критикой и пытается найти выход. Но сильный в отрицании, он тотчас же
ослабевает, как только ему приходится рисовать положительный идеал.
Правильный диагноз не дает ему еще средства для составления прогноза.
«Настоящее принадлежит богатым, а будущее добродетельным и одарен-
ным» — вот, по сути дела, единственная формула писателя, дальше кото-
рой ему пойти не удается. Лабрюйер хочет, чтобы миром управлял разум,
и набрасывает программу рационально устроенного государства. Вместили-
щем государственного разума должен стать добродетельный король, иде-
альный правитель, воплощающий идею просвещенной монархии. В главе
«О государе» Лабрюйер дает пространный перечень качеств, необходи-
мых для руководителя государства. Это отнюдь не портрет Людовика
XIV, это образ утопического правителя, сконструированный моралистом.
«Мне кажется, — заключает Лабрюйер, — что монарх, который соединил
бы в себе эти качества, был бы достоин имени Великого». В этом идеаль-
ном портрете Лабрюйер как бы старается дать своему воспитаннику.
а может быть и самому Людовику XIV, некий образец, заслуживающий
подражания.
В политических вопросах, при всей наивности своих взглядов, Ла-
брюйер стоит все же на передовых позициях. Его положительная роль —
в том, что он ратовал против произвола и тирании за рациональное, хотя
и монархическое государство; в том, что, в. пределах возможного, он пока-
зывал абсолютизму ту бездну, к которой он пришел; в том, что, гумани-
стически стремясь облегчить бедствия своей страны, он дипломатично
ПАЧАЛО РАЗЛОЖЕНИЯ КЛАССИЦИЗМА
K7it
наставлял абсолютизм, незаметно поучая самого короля разуму и доброде-
тели. В XVIII в. его мечты будут по-новому осмыслены литературой Про-
свещения и использованы для иных целей.
Во французской литературе XVII в. Лабрюйер был последним вели-
ким классицистом. Блестящий, хотя и не всегда последовательный стилист,
мастер лаконического портрета и меткой обрисовки человеческой психики,
он в своих «Характерах» создал образец подлинного ораторского стиля.
Остро ощущая значение формы литературного произведения, Лаб-
рюйер и в великих писателях античности склонен был видеть прежде всего
художников. «Моисей, Гомер, Платон, Вергилий, Гораций, — говорит он, —
выше других писателей только находимыми у них образами (par leurs ima-
ges)». В первой главе своей книги сам Лабрюйер обнаруживает первокласс-
ный талант литературного критика и дает очень острые и меткие оценки
Корнеля, Расина и других писателей XVII в. Его литературные позиции
определяются ггиэтетом перед античностью, борьбой с «модернистами» и
литературными либертинами.
Строгая логика повествования и риторичность стиля взрываются,
однако, реалистическими тенденциями Лабрюйера. Его портреты настолько
правдивы и близки к природе, что уже при жизни писателя они вызвали
появление целой серии «ключей» (clefs), пытавшихся подставить под антич-
ные имена персонажей «Характеров» их реальные прототипы.
Огромный материал, накопленный Лабрюйером, вскоре вызвал к жизни
заимствования и подражания. Реньяр, Детуш, Данкур широко использо-
вали сюжеты его книги для своих комедий. О пьесах Лесажа прямо гово-
рили, что это — Лабрюйер, поставленный на сцену, а роман Лесажа «Хро-
мой бес» без сомнения был написан в подражание «Характерам». Влияние
Лабрюйера чувствуется у Монтескье в его «Персидских письмах» и у
Дидро в «Племяннике Рамо». В Германии заметное влияние Лабрюйера
испытал сатирик Рабенер. В России XVIII в. отзвуки «Характеров» можно
найти в третьей сатире Кантемира и в «Недоросле» Фонвизина. По-иному
использовал Лабрюйера Руссо, нашедший в его книге сходный со своими
мыслями протест против тлетворности цивилизации.
5
С политическими взглядами Лабрюйера тесно связано творчество
другого замечательного писателя конца XVII в. — Фенелона.
Подобно Лабрюйеру, Франсуа де Салиньяк де Ламот-Фенелон
(François de Salignac de la Mothe Fénélon, 1651—1715) состоял на службе
в знатном доме в* качестве воспитателя; он был воспитателем герцога Бур-
гундского, внука Людовика XIV и наследника престола. Выходец из обед-
невшей знати, сн мог получить эту важную должность только благодаря
своей духовной карьере, начатой им еще в молодые годы. Уже первое его
произведение — трактат «О воспитании девиц» («De l'éducation des filles»,
1687)—свидетельствует о его уменье разбираться в вопросах педагогики
и об известном свободомыслии. Этот трактат, предназначенный в помощь
некой мадам Бовилье, матери восьми дочерей, доставил молодому автору
известность и лег в основу системы воспитания Сен-Сирского пансиона,
основанного мадам де Ментенон и впоследствии взятого за образец Екате-
риной II при создании Смольного института в Петербурге. Сочинение Фе-
нелона «О воспитании девиц» пользовалось в России большой известно-
стью. В «Недоросле» Фонвизина Софья появляется на сцене, читая эту
книгу.
576
КЛАССИЦИЗМ
В 1689 г., через посредство Боссюэ, Фенелон был представлен ко
двору и вскоре после этого получил должность воспитателя наследного
принца, в которой состоял шесть лет. Большинство его произведений напи-
саны с педагогической целью — наставить его жестокого и буйного воспи-
танника и подготовить из него достойного короля. В этом смысле сочине-
ния Фенелона весьма интересны; в них рисуются идеалы государственного
управления, назревшие в умах всех тогдашних передовых людей Франции.
Фенелон воспринял свою должность, как очень ответственную мис-
сию, от выполнения которой могло зависеть счастье или несчастье два-
дцати миллионов подданных. Его творчество является поэтому попыт-
кой прямого воздействия передовой части общества на абсолютную мо-
нархию.
В своих баснях, сочиненных в качестве учебного пособия, Фенелон
выступает еще очень осторожно. В них он изображает штампованных добро-
детельных пастухов,, становящихся принцами и сожалеющих об утерянном
ими первоначальном состоянии. Значительно определеннее Фенелон выска-
зал свои политические взгляды в «Диалогах мертвых» («Dialogues des
morts», 1700—1718). В этом произведении, написанном в манере Лукиана,
в уста мифических и исторических героев (Ромула, Цезаря, Генриха IV
и т. д.) вложены рассуждения о принципах управления государством.
В изящной, увлекательной форме Фенелон дает целый курс политики для
королей. При этом он изображает правителей слугами законов: «Тот, кто
царствует, должен более других подчиняться законам государства; его лич-
ность ничего не стоит вне законов». Рассказывают, что однажды воспитан-
ник Фенелона ужаснул придворных фразой, почерпнутой из «Диалогов
мертвых»: «Король создан для подданных, а не подданные для короля».
Эта формула является антитезой известному изречению, приписываемому
Людовику XIV: «Государство — это я».
Целый ряд диалогов Фенелона построен на прямых намеках. Так,
например, в одном диалоге Франциск I предсказывает испанскому королю
Карлу V, что угнетение им подданных неминуемо повергнет могуществен-
ное государство в пропасть. В лице Фенелона король приобрел, таким
образом, не только домашнего воспитателя, но и придворного критика.
Сходными размышлениями о «разумной» монархии наполняет Фене-
лон и свое главное произведение—«Приключения Телемаха» («Aventures
de Télémaque», 1699).
По своей форме оно представляет собою «античный» роман, продол-
жающий сюжет «Одиссеи». Юный Телемах, воспитываемый Ментором,
отправляется на поиски своего отца Улисса (Одиссея), пропавшего без
вести после гибели Трои. Во время своих странствий Телемах претерпевает
множество приключений и попадает в разные страны с различными фор-
мами правления. Ментор знакомит своего воспитанника с принципами го-
сударственности в той или иной стране, с формами и методами управления,
с хорошими и дурными монархами. Вса это должно послужить уроком бу-
дущему правителю Итаки. Ментор внушает своему питомцу: «Счастлив
народ, которым управляет умный король! Он живет в изобилии, он счаст-
лив, он любит того, кому обязан своим счастьем. Именно таким обра-
зом, о Телемах, должны вы править и создавать счастье ваших народов,
если когда-нибудь боги сделают вас властелином государства вашего отца.
Любите ваши народы, как своих детей; умейте находить отраду в их
любви.. . Короли, которые думают только о том, чтобы устрашать и по-
рабощать своих подданных для большего их подчинения, являются по-
НАЧАЛО РАЗЛОЖЕНИЯ КЛАССИЦИЗМА
577
длинным бичом рода челове-
ческого. Они грозны, как
им этого хочется, но они
в то же время ненави-
стны, отвратительны; и они
боятся своих подданных еще
бслыне, чем подданные боят-
ся их».
Очень подробно излагает
Фенелон историю критского
царя Идоменея. Народ из-
гнал его за властолюбие и
насилие; горький опыт пере-
воспитал Идоменея, и, приоб-
ретя новое царство в городе
Саланте, он собственным при-
мером поучает заехавшего к
нему Телемаха. «Царствовать
должны законы, а не лю-
ди» — таков лейтмотив «При-
ключений Телемаха». Ко-
роль — лишь исполнитель за-
конов своей страны; он тем
лучше, чем совершеннее за-
коны и чем меньше он обна-
руживает свою личность.
Фенелон выказывает се-
бя горячим сторонником
мира, веротерпимости и про-
свещения. Он враг расточи-
тельных празднеств, обреме-
нительных налогов, завоева-
тельной политики. Он требует
развития народного благосо-
стояния, усовершенствования
земледелия и торговли. «При-
ключения Телемаха» предста-
вляют одновременно критику
режима Людовика XIV и проект реформ в системе абсолютизма.
В своих письмах Фенелон является еще более оппозиционным, чем
в «Телемахе». В связи с начавшейся Войной за испанское наследство
(1701—1718), Фенелон подвергает резкой критике внутреннее состояние
страны и одичание военных, требуя немедленного и безусловного разрыва
со всей прежней политикой. В письме 1710 г. он уже не говорит о муд-
рости абсолютистской власти, но требует ее конституционного ограниче-
ния, признавая, что только созыв собрания из представителей разных
сословий может вывести Францию из тупика. Еще более отчетливо он
ставит вопрос об ограничении абсолютизма в шроекте, написанном им в
1711 г., где он утверждает, что во главе государства должны быть общие
собрания сословий. Таким образом, политические идеи «Телемаха» разви-
ваются уже в целую систему, которая не могла, однако, быть облечена
в легальную форму.
Фенелон не собирался печатать своего «Телемаха». Роман был опу-
37 история французской ачтсилт^уы—815
Фенелон. «Телемах».
Илллюстрацня неиавестного художника.
67C
КЛАССИЦИЗМ
бликован одним из его переписчиков. Успех его был столь велик, что
в одном лишь 1699 г. вышло двадцать его изданий. Людовик XIV, и без
того раздраженный на Фенелона и отстранивший его от воспитания внука,
пришел в ярость, которая усиливалась еще от того, что в ряде персонажей
романа современники усмотрели намеки на реальных лиц, в том числе и на
самого короля. Фенелон подвергся опале и был выслан в свою епархию в
Камбре, где он и провел безвыездно остаток своей жизни.
Образ честного к прямодушного епископа, единственного человека,
который не боялся говорить правду в глаза самому королю, был исполь-
зован в годы французской революции М. Ж. Шенье, написавшим тра-
гедию «Фенелон» (1793), в которой писатель фигурирует в каче-
стве проповедника человеколюбия и разоблачителя гнусных клерикальных
интриг.
Огромным успехом, не прекращавшимся и после смерти автора, «Те-
лемах» обязан прежде всего своим высоким художественным достоинствам.
Фенелону удалось дать живое повествование о странах древности, оживить
античную мифологию, придать конкретность и теплоту образам отдельных
персонажей. Занимательность фабулы и легкость языка превратили впо-
следствии «Приключения Телемаха» в детскую книгу.
Интерес к «Телемаху» Фенелона был велик не только во Фран-
ции, но и в других странах. В России эта книга читалась с большим
усердием. Ею вдохновлены, например, «Фемистокл» Ф. Эмина и «Кадм и
Гармония» Хераскова, а Тредиаковский пересказал ее стихами в своей
«Тилемахиде».
Помимо художественно-педагогических произведений, Фенелону при-
надлежит также ряд литературно-критических статей. Среди них заслужи-
вает особого внимания его «Письмо к Академии, частные размышления
о грамматике, риторике, поэзии и истории» («Lettre à l'Académie, réflexions
particulières sur la grammaire, la rhétorique, la poésie et l'histoire», 1716).
Здесь, на ряду с проектом работ Французской Академии, Фенелон выска-
зывает ряд оригинальных суждений по вопросам французской литературы.
Как и Буало, он стоит на позициях восторженного приятия античных
писателей, но идет еще дальше его и, на основе сравнения с древними
авторами, подвергает строгой критике литературу классицизма. Глав-
ным недостатком последней Фенелон считает искусственность и аристо-
кратическую манерность, от которой, по мнению Фенелона, не свободен
даже Расин.
4
Литературная критика Фенелона связана с знаменитым расколом
в среде французских писателей по вопросу об отношении к античному на-
следию.
Еще до выхода в свет «Телемаха» во французской литературе разго-
релся с новой силой давнишний спор о преимуществах современных писа-
телей перед писателями древности. Этот спор, получивший широкую извест-
ность под названием «Спора "о древних и новых авторах» («Querelle
des Anciens et des Modernes»), разделил писательские круги на два борю-
щихся лагеря и с большой силой продемонстрировал кризис классицисти-
ческой доктрины.
Превосходство античной литературы над современной и ее норматив-
ный характер для различных жанров давно уже брались под сомнение
писателями левого лагеря классицизма. Еще в 1657 г. этот вопрос был
НАЧАЛО РАЗЛОЖЕНИЯ КЛАССИЦИЗМА
579
поставлен Демаре де Сен-Сорленом, напечатавшим «христианскую» эпопею
«Хлодвиг» («Clovis») и сопроводившим ее несколькими трактатами.
Демаре нападал на древних поэтов за отсутствие в их творчестве страсти,
изящества и чувствительности, и старался подкрепить свое мнение крити-
кой античной культуры. Несмотря на отпор Буало, вслед за Демаре вы-
разили свои сомнения и другие писатели, в том числе Бугур и Фон-
тенель.
Идейной базой противников безусловного авторитета античных писа-
телей явилась картезианская философия. Чрезмерный культ древности
был осужден уже Декартом. Он указывал, что античность есть лишь
юность человечества и что поэтому ее мыслям свойственно некоторое не-
совершенство. Подобные же мнения высказывали последователи Декарта —
Паскаль (в «Фрагменте трактата о пустоте», 1647) и Мальбранш (в «Ра-
зысканиях истины», 1674).
Назревшая проблема нашла свое боевое разрешение именно в 80-е и
90-е годы, в период кризиса классицизма и переоценки его принципов.
Ведущую роль в борьбе против древних приняли на себя три брата
Перро — Пьер, Клод и Шарль. Наступление началось с критики поэтики
Буало. Пьер Перро в предисловии к переводу «Похищенного ведра» Тас-
сони (1678) в замаскированных выражениях осмеивал принципы Буало и
критиковал Эвриггада. Клод Перро вывел Буало в сатирической басне как
«совершенного завистника» («envieux parfait»). Но подлинным ударом по
античности, а вместе с нею и по классицизму, был выход в свет поэмы
Шарля Перро (Charles Perrault, 1628—1703) «Век Людовика Великого»
(«Siècle de Louis le Grand», 1687). В этом произведении Перро сопостав-
лял современную ему литературу с литературой эпохи Августа к решитель-
ной невыгоде последней.
Ещ|е больший эффект произвело следующее сочинение Перро «Парал-
лели между древними и новыми авторами» («Parallèles des Anciens et des
Modernes»)—серия диалогов, выходивших с 1688 по 1697 г. отдельными
выпусками, в которых основной тезис поэмы «Век Людовика XIV» под-
креплялся рядом конкретных примеров.
Преимущество современных писателей Перро выводил из общей идеи
о прогрессе человеческой культуры. Всякая эпоха передает последующим
временам свои достижения; следовательно, в поступательном ходе разви-
тия человечества наиболее высокой является та культура, которая объеди-
няет в себе весь опыт предшествующих эпох, дополняя его своими соб-
ственными открытиями и изобретениями. Лувр неизбежно должен быть
совершеннее эфесских храмов, Лебрен выше Рафаэля, Паскаль умнее
Платона, а Буало значительнее Горация и Ювенала. «Время открыло нам
много тайн во всех искусствах, и эти тайны, присоединившись к тем, кото-
рые перешли к нам от древних, сделали искусства более совершенными»
(IV диалог).
Соратником Перро по борьбе с непогрешимостью древних писателей
выступил Фонтенель.
Бернар Ле-Бовье де Фонтенель (Bernard Le Bovier de Fontenelle,
1657—1757), племянник Корнеля, был разносторонним публицистом и
ученым. С 1691 г. он был членом Французской Академии, а с 1699 г.
непременным секретарем Академии Наук. Он прожил почти сто лет и
увидел расцвет культуры Просвещения. Литературную известность он при-
обрел своими литературно-критическими трудами («История французского
театра», «Жизнь Вольтера», «Размышления о -Поэтике»), трагедиями
(«Брут», «Психея» и др.) и в особенности — научно-популярными трак-
&80
КЛАССИЦИЗМ
татами. Наиболее известный из последних — «Беседы о множественности
миров» («Entretiens sur la pluralité des mondes», 1686) —пользовался боль-
шой славой благодаря оригинальности формы и изяществу языка. Но
наиболее значительные произведения Фонтенеля связаны со «Спором о древ-
них и новых авторах».
Вскоре после выхода в свет «Века Людовика XIV» Шарля Перро
Фонтенель пишет «Свободное рассуждение по поводу древних и новых
авторов» («Digression sur les Anciens et les Modernes», 1688), в котором
он полностью солидаризируется с Перро и идет еще дальше в утверждении
несостоятельности мнения о преимуществе античной литературы перед
современной. Ключ к этому он находит в постоянстве сил (природы. «При-
рода имеет под руками как бы определенную глину (pâte), которая всегда
одинакова. . . Естественно, что она сформировала Платона, Демосфена
и Гомера из глины, ничуть не лучше изготовленной, чем та, из которой
созданы наши сегодняшние философы, ораторы и поэты». Мы столь же
одарены природой, как и древние, но мы счастливее их, потому что по-
шли дальше их.
Перро и Фонтенелю пришлось выдержать серьезные бои с привержен-
цами античной литературы — Расином, Лафонтеном, Менажем и др. Впро-
чем, Буало, выступивший против Перро и Фонтенеля, вскоре пошел на
компромисс. Примирившись с Перро, он написал ему в 1700 г. письмо,
в котором признал, что «французский XVII век нельзя сравнивать со
всей древностью, но он может выдержать сравнение с любым отдельным
веком античной литературы». Этим письмом классицизм в лице Буало
сдал свои самые прочные позиции.
«Спор о древних и новых авторах» сыграл очень важную роль
в эмансипации литературы от догматических канонов классицизма. Он сти-
мулировал распад классицистического стиля, вызвал интерес к новой темати-
ке, приблизил литературу к реалистическому изображению действительности
и ускорил формирование литературы Просвещения. Уже в последние годы
XVII в. этот спор был повторен в английской литературе Свифтом, а в
начале XIX в. он прозвучал в России в борьбе карамзинистов с шишко-
вистами.
Шарль Перро отверг античную литературу как материал для подра-
жания и заимствования. Греческая и римская поэзия перестала быть
главной питательной средой для творчества молодых писателей. Где же
нужно было искать новые источники? Литература конца века не ограни-
чилась негативными тезисами и попыталась дать на этот вопрос положи-
тельный ответ. Обращение Перро к фольклору знаменует собой поиски
путей к народности литературы.
В 1696 г. в журнале «Галантный Меркурий» («Mercure galant») была
напечатана, без обозначения имени автора, сказка Перро «Спящая краса-
вица» («La Belle au bois dormant»). В следующем году «Спящая краса-
вица» вместе с другими сказками Перро вошла в отдельный сборник, оза-
главленный «Сказки моей матери гусыни, или Истории и сказки былых
времен с моральными наставлениями» («Contes de ma mère Гоуе, ou
Histoires et contes du temps passé avec des moralités», 1697). Этот сборник
содержал восемь сказок: «Спящая красавица», «Красная Шапочка», «Си-
няя Борода», «Кот в сапогах», «Феи», «Золушка», «Рике с хохолком» и
«Мальчик с пальчик». Сборнику было предпослано предисловие, сообщав-
шее, что автором сказок является П. Дарманкур, восемнадцатилетний сын
Шарля Перро. Впоследствии было установлено, что это была выдумка
Перро, не пожелавшего выступить откоыто в «низком жанре»
НАЧАЛО РАЗЛОЖЕНИЯ КЛАССИЦИЗМА
681
Сборник имел огромный успех. Вслед за первым изданием появился
ряд дальнейших, дополненных новыми сказками. Книжка Перро была пе-
реведена на иностранные языки и вызвала множество подражаний.
Сказки Перро по существу не были чем-то совершенно новым во
французской литературе. Начиная с Рабле, элементы фольклора появля-
лись иногда в творчестве отдельных писателей, например, у Деперье, у Ноэля
дю Файля и т. д. В 1644 г. вышел французский перевод индийских ска-
зок Бидпая. Однако просачивание фольклора в «высокую» литературу
носило до сих пор случайный, спорадический характер. Перро же придал
фольклору принципиальную роль, противопоставив его классицистической
литературе. «Я утверждаю, — писал он в предисловии к своему сбор-
нику, — что мои сказки более достойны того, чтобы их рассказывали, чем
большинство античных, в частности, чем история Матроны Эфесской и
сказание о Психее».
Главным мотивом, подтверждавшим ценность этих сказок, являлась
для Перро их моральная сторона. Перро придавал ей особое значение,
подчас сознательно приурочивая сюжет сказки к какому-нибудь нравствен-
ному принципу. Сказки должны были показать, как важно быть честным,
терпеливым, рассудительным, трудолюбивым — целый кодекс народной
морали. Ориентация Перро на народность имеет уже некоторую про-
светительскую устремленность. Перро признает за французским на-
родом такие духовные качества, которые должны стать достоянием всей
нации.
Самое отношение Перро к народному творчеству было весьма прин-
ципиальным. В подавляющем большинстве случаев Перро пользовался
устной традицией, довольно точно передавая рисунок народной сказки.
Его «Красная Шапочка», «Кот в сапогах» и «Синяя Борода» могут быть
возведены непосредственно к их фольклорным ирототипам. Дальше от них
стоят такие сказки, как «Мальчик с пальчик», «Золушка» и «Спящая
красавица»,—этим сказкам присущ светский колорит, галантность, лите-
ратурная шлифовка, деформирующая народную основу и уводящая от
устной традиции. Наибольшие отступления от фольклорного изложения
наблюдаются в стихотворных редакциях двух позднее добавленных ска-
зок— «Ослиная кожа» и «Потешные желания», хотя стих их выдержан
в тоне народной поэзии, напоминающем стихотворную форму средневеко-
вых фаблио.
Таким образом, отношение Перро к фольклору было не вполне едино-
образным. Сборник его сказок носит пестрый характер; в «ем свободно
сочетаются подлинные фольклорные мотивы с их сильно литературной
обработкой, установка на развлекательность с последовательной морализа-
цией, юмористическое грубоватое изложение с традициями галантной, са-
лонной поэзии.
Несмотря на эклектический характер его сказок, Шарлю Перро удалось
противопоставить античному материалу здоровую струю народной поэзии,
показав на практике правомерность той борьбы, которая велась с класси-
цизмом в теоретической полемике о древних и новых авторах. Издание
сборника сказок Перро было" серьезным результатом начавшегося разру-
шения канонов классицизма. Эта книга открыла литературе новые воз-
можности, оплодотворив ее духом народности.
Воздействие Перро на последующую литературу европейских народов
было огромно. Новое осмысление фольклора породило впоследствии, с
одной стороны, народные сказки, собранные братьями Гримм, с другой сто-
роны — литературные сказки Андерсена. Некоторое влияние Перро обнару-
S82
КЛАССИЦИЗМ
живается у нас в произведениях Жуковского, давшего стихотворный пере-
вод «Кота в сапогах», и особенно в творчестве Пушкина, который придал
фольклорному материалу принципиально новое значение и создал ориги-
нальный жанр настоящей литературной сказки.
Под прямым влиянием Перро в литературе конца века начинают по-
являться многочисленные сборники сказок других авторов. Таковы сбор-
ники м-ль Леритье де Вильодон (L'Héritier de Willaudon, 1696), мадам
Мюра (Murait, 1697), Брюжьера де Баранта и Дюфрени (Brugière de Ва-
rante et Dufresny, 1697), мадам д'Онуа (d'Aulnoy, 1698), м-ль де Лафорс
(de La Force, 1698), мадам д'Онейль (d'Auneuil, 1702) и др. Сказка стала
излюбленным жанром светских салонов и получила новую окраску, чуждую
манере Перро. Главную установку стали делать на развлекательность
текста. Сказочный сюжет стал обрастать лирическими отступлениями, об-
ширными описаниями и диалогами. Иногда стали придумывать даже са-
мые сюжеты, в результате чего первоначальный характер сказки совер-
шенно утрачивался.
Особенно сильно сказалось тяготение к салонному стилю в сказках
мадам д'Онуа: «Лесная козочка», «Синяя птица» и др. Сказка здесь, по
существу, превращается уже в настоящую литературную повесть, лишь
в очень слабой степени сохраняя фольклорные мотивы, а иногда и совсем
освобождаясь от них.
Салонное увлечение сказками сняло в основном принципиальный ха-
рактер, который придавал им Шарль Перро. Об этом метко говорит
А. Н. Веселовский: «Перро ввел в оборот народную сказку, увлек све-
жестью ее содержания, своим наивным, несколько деланным стилем; но его
новшество вызвало эфемерный литературный род, быстро истощившийся
в вычурности, и не принесло обновления: эти сказки отзывались и детской
и салоном; к их фантастическим образам привыкли сызмала, а в романе
этот элемент иссяк со времени Амадисов, и благодетельные феи и злые
волшебники утратили свой поэтический чекан». 1
3
Оппозиционные настроения французского дворянства в последние
годы XVII в. нашли своего наиболее законченного выразителя в лице
пэра Франции, герцога де Сен-Симона. Его мемуары, охватывающие свыше
тридцати лет (1691—1723), рисуют широкую картину нравов придворного
общества и являются замечательным литературным памятником периода
заката абсолютизма.
Герцог Луи де Сен-Симон (Louis de Saint-Simon, 1675—1755) принад-
лежал к одному из знатнейших аристократических родов Франции, пре-
тендовавших на участие в государственном управлении и недовольных
сосредоточением всей власти в руках короля.
Звание пэра, полученное Сен-Симоном по наследству вместе с граф-
скими угодьями, не давало уже никаких политических прав и превратилось
в почетный титул. Ущемленное самолюбие вызывало у Сен-Симона глухое
раздражение, выражавшееся, с одной стороны, в постоянных апелляциях к
аристократической славе предков, а с другой — в критике государственной
политики Людовика XIV.
Сен-Симон был вообще весьма колоритной фигурой. Родившийся
1 А. Н. Веселовский. Сказки Тысяча одной ночи н переводе Галлана. Собр.
соч., т. XVI, стр. 231.
НАЧАЛО РАЗЛОЖЕНИЯ КЛАССИЦИЗМА.
S83
хилым и малорослым ребенком (что не помешало ему дожить до восьми-
десяти лет), он с детства готовился к занятию высоких постов в государ-
стве, обучался военному искусству, знакомился с дипломатией и усердно
изучал историю Франции. Глубокий интерес к придворному быту побудил
его уже с пятнадцати лет начать запись событий, происходящих в Версале.
Позднее он сознательно взял иа себя функции регистратора событий и в
течение всей своей жизни вел подробные записи о жизни двора, о войнах
и выдающихся людях современности. В 1691 г. он поступает в отряд муш-
кетеров и принимает участие в войне с Нидерландами. Военные операции
■од Монсом и Намюром, Брюссельское поражение и Рисвикский мир, как
и другие события этих лет, находят в нем своего пунктуальнейшего лето-
писца. Почувствовав себя обойденным после заключения Рисвикского мира,
Сен-Симон резко порывает с королем, уходит в отставку и, поселившись
з Версале, начинает вести замкнутую жизнь оппозиционно настроенного
аристократа, изливая свое недовольство в мемуарах. До крайности само-
любивый и мнительный, болезненно чувствительный к вопросам чести,
Сен-Симон не знает пощады к своим противникам и с ядоцитой насмешли-
востью критикует версальские нравы. Он срывает с придворных Версаля,
Медона и Марли ленты и кружева и показывает их нам в положениях,
очень далеких от величия. Сам «король-солнце» предстает перед нами далеко
не всегда в царственных позах, а подчас фигурирует в весьма жалком
виде.
Слухи о том, что Сен-Симон пишет мемуары, очень раздражали Вер-
саль. Людовик XIV, вообще недовольный прямотой герцога, однажды ре-
комендовал ему держать язык за зубами. Естественно, что о прижизнен-
ном напечатании мемуаров не могло быть и речи. Сен-Симон писал для
потомства.
Удивительная наблюдательность и феноменальная память помогли
Сен-Симону нарисовать действительно очень широкую картину француз-
ских нравов. Собственные записи он пополнил впоследствии выдержками
из дневника королевского камердинера Данжо (Dangeau), который он по-
лучил от его внука. Работая над своими мемуарами в течение всей жизни,
Сен-Симон тщательно оберегал их от чужого ока. После его смерти прави-
тельство Людовика XV конфисковало его бумаги, которые затем в тече-.
ние семидесяти лет пролежали в архиве иностранных дел. Полностью ме-
муары Сен-Симона были напечатаны только в 1829—1830 гг. (первое их
издание, вышедшее в 1788—1789 гг., было неполным и довольно неточ-
ным). Таким образом, из живой литературы XVII—XVIII вв. Сен-Симон
выпал.
Мемуары Сен-Симона — это огромное, расположенное в хронологическом
порядке повествование, имеющее форму дневника и перемежающееся длин-
ными описаниями, характеристиками, разными анекдотами, вставными эпизо-
дами и рассуждениями автора. В стилистическом отношении книга написана
очень неровно; рассказ пестрит бесчисленными именами, пространными генеа-
логиями, отклоняется от событий, подчас скучен и монотонен. Лучшие места
мемуаров — характеристики отдельных лиц. Здесь Сен-Симон выказывает
себя мастером портрета и первоклассным реалистом, становясь, по выра-
жению Сент-Бева, «Рубенсом начала XVIII века». Очень удаются Сен-
Симону описания больших ансамблей — собраний, парламентов, торже-
ственных процессий, народных толп. Откликаясь на требования времени,
он реформирует самый язык, отступая от рационалистичного синтаксиса
классицизма, игнорируя законы грамматики, обильно уснащая свою поры-
вистую и небрежную речь неожиданными метафорами» амплификациями,
584
КЛАССИЦИЗМ
не чуждаясь даже элементов простонародного языка. Все это делает ме-
муары Сен-Симона любопытным художественным произведением, весьма
типичным для периода разложения классицизма.
Политический идеал Сен-Симона основан в значительной мере на
отзвуках настроений Фронды. Это — требование ослабления централиза-
ции, ограничения власти короля, созыва генеральных штатов, восстановле-
ния политических прав дворянства и отстранения от власти выходцев из
третьего сословия. Такая отчетливо феодальная позиция не мешает, однако,
Сен-Симону временами возвышаться над ограниченностью аристократиче-
ских требований. В главах, посвященных Вобану и Буагильберу, которые
выдвинули проекты облегчения участи народа, Сен-Симон решительно
становится на их сторону и с горячим сочувствием отзывается о фран-
цузском крестьянстве. Он ярый противник отмены Нантского эдикта, не-
примиримый враг инквизиции и ненавистник иезуитов. Людовик XIV для
него — «надменный монарх, который держал в оковах всю Европу, кото-
рый наложил цепи на своих подданных всякого звания. . . который гнал
свободу вплоть до того, что отнял ее у совести людей». В равной степени
осуждается Сен-Симоном гибельная внешняя политика Людовика — захват
Лотарингии, разорение Пфальца и Страсбурга и т. д.
Как историк, Сен-Симон весьма далек от совершенства. Неточная
хронология и постоянная предвзятость оценок ослабляют историческое зна-
чение его мемуаров. Сен-Симону непонятна идея причинности; причины
событий он ищет чаще всего в проявлениях индивидуальной воли, объяс-
няя, например, происхождение войны ссорой Лувуа с Людовиком, а рели-
гиозные гонения — альковной интригой. Однако, обладая большой интуи-
цией, Сен-Симон делает целый ряд правильных замечаний о пружинах,
управлявших .политикой Людовика XIV. Исследователи Сен-Симона кон-
статировали множество таких справедливых суждений. Так, Сен-Симону
было понятно, что, отстраняя знать, король избегал опасности ограниче-
ния своей власти; что, преследуя гугенотов, он уничтожил последние
остатки гражданской свободы; что, поощряя роскошь знати, он видел в
этом средство для ее разорения, необходимого для уничтожения ее свое-
волия, и т. д.
Но Сен-Симон, неожиданно для себя, оказался силен не столько как
историк, сколько как художник. Его мемуары являются широкой и выра-
зительной картиной начинающегося падения абсолютной монархии во
Франции. Он предъявил Людовику XIV обвинение в том, что «за пять-
десят шесть лет его царствования, — царствования, в котором вследствие
гордыни и роскоши, вследствие сооружений, излишеств всякого рода, не-
скончаемых войн и тщеславия, порождавшего и питавшего их, было про-
лито столько крови, растрачено столько миллиардов на внутренние и внеш-
ние нужды, зажжены пожары по всей Европе, спутаны и уничтожены все
порядки, правила и законы в государстве, самые древние и самые свя-
тые, — королевство доведено до непоправимых бедствий и очутилось на
грани полной гибели».
В то время как Сен-Симон оценивал и критиковал французский абсо-
лютизм с позиций феодального дворянства, так сказать, «справа», в лите-
ратуре конца века продолжается, развиваясь и делаясь более отчетливой,
начатая Лабрюйером критика абсолютизма и господствующей церкви
«слева» — с позиций радикальной буржуазной демократии. Самым замеча-
тельным представителем этой критики явился Бейль.
Пьер Бейль (Pierre Bayle, 1647—1706), профессор Седанокой акаде-
мии, после отмены Нантского эдикта эмигрировавший в Голландию и
НАЧАЛО РАЗЛОЖЕНИЯ КЛАССИЦИЗМА
885
ставший преподавателем высшей школы в Роттердаме, был ученейшим че-
ловекам своего времени. Будучи протестантом, он с детства усвоил крити-
ческое отношение к католицизму, которое позднее распространил вообще
на всякую религию. В своем раннем сочинении «Различные мысли по по-
воду кометы» («Pensées diverses, écrites à l'occasion de la comète», 1682)
он, предвосхищая Вольтера, смело утверждал, что открытое отрицание
божества лучше суеверия, которое всегда связано с гнуснейшей страстью
к преследованию. В другом сочинении — «Что представляет собой католи-
ческая Франция при Людовике Великом» («Ce que c'est que la France
toute catholique sous Louis le Grand», 1686), написанном в момент самой
яростной церковной реакции, он возмущенно восклицал: «Что же нужно
думать о христианстве при виде этих насилий? Не следует ли заключить,
что это — кровожадная религия, которая для полнейшего притеснения сво-
боды совести не боится даже лжи и обмана, клятвопреступлений, драгонад,
палачей и инквизиции?»
Эти и другие сочинения Бейля, равно как и журналы, издававшиеся
им, навлекли на него преследования, и он лишился своей должности. Тогда,
удалившись в добровольное изгнание, Бейль приступил к главному своему
труду, в котором он хотел собрать все, что было оказано когда-либо
против религии,—к «Историческому и критическому словарю» («Diction-
naire historique et critique», 1697).
Исходя из учения Декарта, к школе которого он принадлежал, Бейль
подвергает сомнению и разрушительному пересмотру все положения суще-
ствующих религий, причем старается, однако, ограничиться уже высказан-
ными доводами и избегает собственных оценок. Колоссальный по своему
объему (издание 1820 г. состоит из двадцати томов), его словарь был обя-
зан своим появлением длительному и упорному труду одного человека. Он
имеет по существу два плана: основной — статьи, трактующие отдельные
вопросы религии и написанные с позиций верующего протестанта, и допол-
нительный — обильные примечания, во много раз превышающие объем
основного текста и написанные в духе полнейшего атеизма. Именно эти
примечания — подлинная энциклопедия атеизма всех времен — создали
славу словарю Бейля и послужили в XVIII в. благодарным материалом
для энциклопедистов. Вольтер, полемическая манера которого многим обя-
зана словарю Бейля, заявлял в своих «Письмах о Рабле», что если у Бейля,
быть может, и нельзя найти ни одной строки открытого нападения на
религию, то у него нет также и ни одной строки, которая не вела бы
к сомнению. Если, — говорит Вольтер, — Бейль сам и не является неве-
рующим, то своих читателей он делает совершенно неверующими.
Словарь Бейля — яркий памятник гуманистической мысли во фран-
цузской литературе конца XVII в. Бейль учит быть человечным помимо
религии; он учит не принимать ничего на веру, призывает ненавидеть не-
терпимость и доказывает, что нет истин, которые могли бы заставить лю-
дей избивать друг друга. Труд Бейля был настольной книгой француз-
ских просветителей XVIII в. Он послужил образцом для Дидро
и Даламбера при организации знаменитой «Энциклопедии».
Весьма яркий отзыв о Бейле мы находим в юношеской работе Маркса
и Энгельса «Святое семейство»:
«П ьер Бейль не только разрушил метафизику с помощью скепти-
цизма, очищая тем самым почву для усвоения материализма и философии
здравого смысла во Франции, он возвестил появление атеистического об-
щества, которое вскоре действительно начало существовать, посредством
доказательства того, что возможно существование общества, состоя»
380
КЛАССИЦИЗМ
щего из атеистов, что атеист может быть почтенным человеком, что
человека унижает не атеизм, а предрассудки и идолопоклонство.
По выражению одного французского писателя, Пьер Бейль был
носледним метафизиком в смысле XVII столетия и
первым философом в смысле XVIII столетия».1
Творчеством Бейля закаичивается литература XVII в. и открывается
литература эпохи Просвещения.
К. Маркс и Ф Энгельс, Сочинения, т. Ш, стр. 156.
ОТДЕЛ III
ПРОСВЕЩЕНИЕ
1715—1789
ВВЕДЕНИЕ
ЩШШ,о второго десятилетия XVIII в. (точнее, с года смерти
§ШЛюдовика XIV — 1715 г.) начинается новый период в
1| развитии французской литературы и общественной
Щ жизни, называемый в исторической науке периодом
• Просвещения.
^^. Основным содержанием идейной жизни Франции
| этого времени является напряженная борьба с полити-
ческой и культурной системой феодального абсолютизма,
| идеологически подготовляющая страну к буржуазной
щ| революции конца XVIII в.
Являясь по существу широким идейным движением против феода-
лизма, Просвещение связано многими нитями с эпохой Возрождения,
впервые поставившей проблему эмансипации человечества от оков фео-
дально-религиозного мировоззрения. Просветители XVIII в. были наслед-
никами гуманистов XVI в. и; воспроизводили на новом историческом этапе
многие 'присущие 'последним прогрессивные идейные тенденции. Однако
антифеодальное движение просветителей отличалось гораздо большей
зрелостью и остротой, а также несравненно более массовым характером,
чем антифеодальное движение ренессансных гуманистов. Причиной тому
являлись дальнейшие успехи капиталистического развития основных евро-
пейских стран, создавшие мощную экономическую базу для наступления на
прогнивший феодальный строй.
Французское Просвещение было тесно связано с просветительным
движением других европейских стран. Оно развивалось под значительным
влиянием идей английского Просвещения, опередившего французское
в силу того, что Англия проделала свою буржуазную революцию уже
в XVII в. Но хотя английские просветители разработали задолго до фран-
цузских политические, философские и эстетические нормы буржуазно-
революционной идеологии, английское Просвещение в целом было лишено
широкого общественного размаха французского Просвещения. Объясняется
это тем, что в отличие от английского Просвещения, развивавшегося
в послереволюционную эпоху и потому носившего на себе отпечаток ха-
рактерного для Англии нового времени компромисса между буржуазией
и дворянством, французское Просвещение предшествовало буржуазной ре-
800
ПРОСВЕЩЕНИЕ
волюции и развивалось в классической стране феодального абсолютизма,
в которой не было и речи о подобном компромиссе.
Носительницей идей Просвещения во Франции была революционная
буржуазия, являвшаяся гегемоном «третьего сословия», т. е. широких масс
французского народа, которые она вела на штурм феодально-монархиче-
ского строя. Вся история Франции в XVIII в. являлась длительным про-
логом к буржуазной революции, необходимость которой в равной мере
ощущали все слои третьего сословия, изнывавшие под гнетом абсолютист-
ского государства с его отжившими феодальными порядками и сословными
привилегиями. Для того чтобы выкорчевать многочисленные остатки
феодализма из французской хозяйственной и государственной жизни, по-
требовалась широчайшая революционная активность народных масс, по-
плебейски боровшихся за доведение до конца буржуазной революции. Как
в Англии в годы буржуазной революции середины XVII в., так и во
Франции в XVIII в. «буржуазия была тем классом, который действи-
тельно стоял во главе движения. Пролетариат и не принадлежавшие
к буржуазии слои городского населения либо не имели еще никаких
отдельных от буржуазии интересов, либо еще не составляли самостоя-
тельно развитого класса или части класса. Поэтому там, где они высту-
пали против буржуазии, например, в 1793 и 1794 гг. во Франции, они
боролись только за осуществление интересов буржуазии, хотя и не на
буржуазный манер. Весь французский терроризм представлял не что иное,
как плебейскую манеру расправы с врагами буржуазии, абсолютизмом,
феодализмом и филистерством». '
Активное участие народных масс в подготовке французской буржуаз-
ной революции придало французскому Просвещению более демократиче-
ский характер, чем в других странах. Передовые борцы французской рево-
люционной буржуазии XVIII в., называемые просветителями, выражали
интересы не только своего класса, а всего угнетенного народа, «всего
страждущего человечества». Это придавало их борьбе со старым поряд-
ком огромную силу, смелость и непримиримость. «Великие люди, просве-
тившие французские головы для приближавшейся революции, сами были
крайними революционерами. Никаких внешних авторитетов они не при-
знавали. Религия, взгляды на природу, общество, государство, — все под-
вергалось их беспощадной критике, все призьгаалось пред судилище
разума и осуждалось на исчезновение, если не могло доказать своей ра-
зумности. . . Все старые общественные и государственные формы, все тра-
диционные понятия были признаны неразумными и отброшены, как
старый хлам». 2
Просветительский культ «разума» носил воинствующий антифеодаль-
ный характер и являлся могучим средством борьбы с религией и суеве-
риями. Генетически связанный с картезианским рационализмом XVII в.,
он имел, однако, принципиальные отличия от него, потому что был свобо-
ден от подчинения идеалистической метафизике, монархической и рели-
гиозной догме. Опираясь на материализм, он решительно утверждал зна-
чение объективной действительности и объявлял чувственный опыт
единственным источником человеческого знания.
В понятие «разума» просветители вкладывали отчетливое гуманисти-
1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Буржуазия и контрреволюция. Сочинения,
т. VII, стр. 54.
2Ф. Энгельс. Анти-Дюринг. К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XIV,
стр. 1 7.
ВВЕДЕНИЕ
391
ческое и демократическое содержание. «Разумными» объявлялись все за-
просы и устремления свободного .и деятельного человека, не скованного
никаким принуждением, исходящим от церкви и государства. Такого инди-
вида, борющегося за свои права, предоставленные ему самой природой,
просветители называли «естественным человеком». Идея «естественного
человека» была одним из существеннейших принципов буржуазной идео-
логии эпохи Просвещения, проходящим красной нитью через все писания
просветителей. Ее исторической основой явилось самосознание личности,
уже освободившейся от феодально-иерархических связей и еще не ощутив-
шей на себе давления социальных антагонизмов, присущих капиталистиче-
скому обществу.
Пропаганда прав «естественного человека» приводила к провозглаше-
нию лозунгов «свободы», «равенства» и «братства», получивших особен-
ную популярность в годы первой французской революции и впоследствии
так опошленных буржуазными либералами XIX—XX вв. Просветители
верили в прогресс, в вечное совершенствование человеческого рода и чело-
веческой культуры и ироповедывали грядущее наступление «царства ра-
зума». И хотя в дальнейшем, после осуществления революции, раскрылось
буржуазное содержание многих лозунгов просветителей и выяснилось,
что столь энергично проповедуемое ими «царство разума было не чем
иным, как идеализированным царством буржуазии», ' однако в XVIII в.
просветители не занимались защитой эгоистических интересов буржуазии
как класса эксплоататоров. Против такого навязывания просветителям
«своекорыстной защиты интересов меньшинства» ясно высказывался Ленин.
«Нельзя забывать,—писал он,, — что в ту пору, когда писали просвети-
тели XVIII века (которых общепризнанное мнение относит к вожакам
буржуазии), ...все общественные вопросы сводились к борьбе с крепост-
ным правом и его остатками. Новые общественно-экономические отно-
шения и их противоречия тогда были еще в зародышевом состоянии. Ни-
какого своекорыстия поэтому тогда в идеологах буржуазии не проявля-
лось: напротив, и на Западе и в России они совершенно искренно верили
в общее благоденствие и искренно желали его, искренно не видели (от-
части не могли еще видеть) противоречий в том строе, который вырастал
из крепостного».2
Отмеченные особенности мировоззрения французских просветителей
придавали их деятельности широкий народный резонанс, хотя сама куль-
тура века Просвещения носила верхушечный характер и была более отда-
лена от народной жизни, чем, например, культура Возрождения. Сознавая
этот отрыв мыслящих людей от народа, просветители прилагали все уси-
лия к тому, чтобы преодолеть его; они ратовали за народное образование,
за распространение в народных массах научных и философских знаний.
С этой целью сами они охотно занимались популяризацией новых идей в
максимально доходчивой, общедоступной форме. Таким гениальным попу-
ляризатором научно-философских знаний 'был глава французских просвети-
телей Вольтер. На службу задачам народного просвещения Вольтер и его
последователи ставили также художественную литературу, придавая ей
откровенно тенденциозный характер и решительно отвергая служение «чи-
стому искусству».
Непосредственная связь писательской работы с задачами общественно-
политической борьбы является одной из характернейших особенностей
1 Ф. Энгельс. Анти-Дюринг, там же, стр. 18.
2 Ленин. От какого наследства мы отказываемся? Сочинения, т. II, етр. 315.
B92
ПРОСВЕЩЕНИЕ
французской литературы XVIII в., ее передового, просветительского, бур-
жуазно-демократического крыла. Ведущие французские писатели XV I'JI в.
(Вольтер, Монтескье, Дидро, Руссо, Мерсье, Бомарше) были лишены
узости и односторонности; они были не только писателями-художниками,
но и мыслителями, публицистами,, памфлетистами, агитаторами, морали-
стами, одним словам — «философами» в том специфическом, социально-
практическом значении, которое получило это слово в XVIII в. Они за-
кладывали основу новой утилитарной эстетики, в которой ведущим при№-
ципом являлось понятие общественной полезности искусства.
Другой характерной особенностью литературы просветителей являлась
ее космополитическая установка. Передовые французские писатели XVIII в.
преодолевали национальную замкнутость и ограниченность культуры пред-
шествующих веков. Подобно гуманистам эпохи Возрождения, они созна-
вали себя «'гражданами вселенной», они обращались к мыслящим людям
всех европейских стран и боролись за международный обмен идеями, на-
учными и художественными достижениями. Они создали понятие «литера-
турной республики» (république dès lettres), подготовленное уже гумани-
стами эпохи Возрождения. Столицей этой «литературной республики»
становится в середине XVIII в. Париж, оттесняющий на второй план
другие видные очаги космополитических идей, как Лондон, Амстердам и
Гаага.
Французский язык, получивший уже в XVIII в. широкое междуна-
родное распространение как язык придворной среды, дипломатии и ари-
стократических салонов, закрепил в XVIII в. свое господствующее поло-
жение в Европе как язык науки и философии. В 1783 г. Берлинская
Академия Наук выдвинула тему конкурсного сочинения на премию: «Что
собственно сделало французский язык всемирным?» Премию получил
французский литератор Ривароль, доказавший в своем трактате, что, «бу-
дучи точным, общественным и разумным, язык этот перестал быть только
французским и сделался языком всего человечества».
Если уже начиная с раннего средневековья французская литература
имела общеевропейское значение, то в XVIII в. ее международная роль
закрепляется на новой общественно-идеологической основе: французские
писатели становятся во всех странах авторитетными руководителями в деле
борьбы с религиозным мракобесием и монархическим деспотизмом. Бы-
строму и широкому распространению идей французских просветителей
содействовала их универсальность и всеобщность, позволявшая легко при-
менить их в любой стране Европы.
Однако литературно-философский обмен между Францией и другими
странами не имел в XVIII в. одностороннего характера. Французская ли-
тература не только оказывала широкое влияние на литературы других
стран, но и сама подвергалась влиянию с их стороны, усваивая все лучшие
достижения их в области научно-философского и художественного творче-
ства.
Наиболее значительное влияние на французскую литературу XVIII в.
оказала литература Англии, как самой передовой в экономическом и поли-
тическом отношении страны Европы, потому что «страна, промышленно
более развитая, показывает менее развитой стране лишь картину ее соб-
ственного будущего». 1 Именно как классическая страна капиталистиче-
ского развития, прочно установившая в XVIII в. буржуазно-парламентар-
1 К. Маркс. Предисловие к первому изданию «Капитала». К. Маркс, и
Ф. Энгельс, Сочинения, т. XVII, стр. 4.
ВПГДИПИЕ
«аз
ный строй, Англия чрезвычайно интересовала французских просветителей.
Английская конституция казалась Монтескье и Вольтеру гарантией настоя-
щей политической свободы, основой идеального государственного строя.
Английская наука, философия и публицистика приобретают основополага-
ющее значение во Франции в первой половине XVIII з. Переводы сочи-
нений Ньютона, Локка, Коллинза, Попа, Свифта питают освободительные
стремления французской буржуазии, ее борьбу за личную и общественную
свободу, за гражданское равенство и «священные права» человека.
Многие французские писатели XVIII в. посвящают себя пропаганде
английской литературы. Вольтер пропагандирует английских философов-
деистсв и Шекспира. Аббат Прево знакомит французскую публику
с Мильтоном, Драйденом, Фильдингом и переводит романы Ричардсона.
Мариво подражает моральным еженедельникам Стиля и Аддисона. Нивель
де Лашоссе драматизирует «Памелу» Ричардсона. Детуш пересаживает во
Францию английскую нравоучительную комедию. Клеман де Женев дает
перевод первой английской мещанской трагедии — «Лондонского купца»
Лилло, которую многие французские писатели того времени ставят выше
пьес Шекспира. Огромной популярностью во Франции пользовались
английские поэты — Поп, Томсон, Юнг.^Оссиан. «Потерянный рай» Миль-
тона был переведен в XVII в. семь раз. Горячими поклонниками и под-
ражателями английских писателей были также Дидро, Руссо, Мерсье. Все
передовые французские писатели XVIII в. идеализировали англичан, тол-
ковали о «британской добродетели».
Во второй половине XVIII в. началось восторженное увлечение фран-
цузской публики Шекспиром.
I ораздо меньше английской литературы была известна во Франции
немецкая. Правда, начиная с 40-х годов XVIII в. во Франции появляются
описания немецкого быта. Если швейцарец Мюральт (Murait) дал парал-
лель между англичанами и французами в своих «Письмах об англичанах
и французах и о путешествиях» (1725), то с аналогичной параллелью
между французами и немцами выступил Мовильон (Mauvillon) в своих
«Французских и германских письмах» (1 740). Большой популярностью во
Франции пользовались идиллии Гесснера, поэзия Геллерта и Клопштока.
романы и повести Виланда. Гетевский «Вертер», сам возникший под влия-
нием Руссо, вызвал во Франции несколько переводов и подражаний, и
был даже переделан для сцены. В 70-х и 80-х годах было выпущено два
многотомных собрания пьес немецких драматургов, в том числе — Лес-
синга, Геллерта, Клопштока, Кронепка, Гете и Шиллера.
На ряду с немецкой литературой привлекали внимание французов
также литература и искусство Италии. Появляется целая серия путевых
записок различных лиц, путешествовавших по Италии и ознакомлявших
своих соотечественников с ее природой, бытом и сокровищами искусства.
Наиболее значительным из таких произведений являются «Исторические
и критические письма об Италии» («Lettres historiques et critiques sur l'Italie»,
1739—1740) президента де Бросса (напечатаны впервые в 1799 г.).
Итальянской литературой живо интересовались Вольтер и Руссо. Из со-
временных итальянских писателей особенно хорошо знали во Франции
Гольдони, много лет прожившего во Франции и написавшего на француз-
ском языке свои мемуары (1787) и две комедии. Другим любимцем фран-
цузской публики был Метастазио; собрание его лирических трагедий
вышло во французском переводе в двенадцати томах (1750—1761). Кроме
того, переводились итальянские классики — Данте, Петрарка, Боккаччо,
Боярдо, Ариосто, Тассо.
38 История французской литературы—81с
B94
ПРОСВЕ ЩВНПВ
Из испанских писателей во Франции переводили Сервантеса, Лопе дг
Бегу, Монтемайора, Бальтасара Грасиана; но в целом испанская литера-
тура была во Франции XVIII в. довольно мало популярна (за исключе-
нием одного Сервантеса). Только Лесаж, продолжавший традицию XVII в.,
отдал' в своих произведениях значительную дань испанским писателям.
Его прием сатирического изображения французской жизни под испанской
оболочкой был воспроизведен накануне французской революции в коме-
диях Бомарше.
Помимо различных европейских литератур большое влияние во Фран-
ции XVIII в. имели также литературы Востока, внесшие во француз-
скую литературу эпохи Просвещения обильную сказочную струю. Интерес
к сказке, пробудившийся во Франции уже в конце XVII в., значительно
усилился после выхода в свет арабских сказок «Тысячи и одной ночи»
в знаменитом переводе Галлана (Galland, 1704—1717), создавшем эпоху
в европейской литературе. За арабскими сказками последовали персидские
(1710—1712), татарские (1715), китайские (1723), монгольские (1732).
Эти сборники сказок, вместе с появившимися в то же время этнографиче-
скими работами о Востоке и описаниями путешествий по восточным стра-
нам Берньс, Шардена и Тавернье, внесли во французскую литературу
множество восточных образов и тем, выражавших стремление выйти за
пределы буржуазно-дворянской действительности, — стремление, породив-
шее несколько позже предромантическое течение в литературе XVIII в.
Международный литературный обмен, в центре которого стояла Фран-
ция, необычайно расширил кругозор французских писателей и обогатил их
множеством новых идей и образов. Рамки традиционной поэтики класси-
цизма, естественно, стали им казаться чересчур узкими. Новое содержа-
ние, врываясь мощным потоком в литературу, взрывало обветшавшие
каноны. На каждом шагу возникали новые жанры, вводились новые темы,
завоевывались новые сферы реальной жизни, до того времени еще не
отраженные литературой. Во всей французской литературной жизни на-
блюдается невиданное до тех пор ожизление, толчок которому давали
изменения, происходившие в общественнонполитической жизни страны.
Началом французского Просвещения принято считать поворот в поли-
тической жизни Франции, происшедший в 1715 году после смерти Людо-
вика XIV. Годы регентства Филиппа Орлеанского (1715—1723) ярко об-
наруживают начавшееся разложение старого режима, неудержимый упа-
док дворянства и крепнущую экономическую мощь буржуазии, находя-
щуюся в вопиющем противоречии с ограниченностью ее политических прав.
Именно в годы Регентства начинается во Франции первая волна просве-
тительского движения, возникающего под английским влиянием и окра-
шенного на первых порах в цвета деизма и политического конституциона-
лизма английского образца. Идейными вождями этого раннего Просвеще-
ния были Монтескье и Вольтер, которые оба являлись одновременно и
писателями-художниками и политическими мыслителями.
Начав свою деятельность в период Регентства, они продолжали ее во
время царствования Людовика XV (1723—1774), которое знаменует
окончательное разложение французского абсолютизма, его превращение
в тормоз исторического прогресса. Усиливающийся распад сословной монар-
хии, прогрессирующая деградация дворянства и духовенства, возрастаю-
щие бедствия народа, отягощенного податями и барщиной, — все это со-
здает почву для дальнейшего роста просветительского движения, которое
приобретает все более острый и массовый характер. Соответственно этому
и художественная литература все больше насыщается просветительскими
ВВЕДВНИВ
893
идеями, тогда как в начале этого периода большинство писателей-худож-
ников (Лесаж, Мариво,, Детуш, Лашоссе и др.) еще сторонились «фило-
софов», пытаясь сохранить свою независимость от них.
К середине XVIII в. первый период Просвещения, период собирания
революционных сил и постепенного просачивания просветительских идей
в художественную литературу, заканчивается. Просветительское движение
переходит в новую стадию, отмеченную господством более радикальных фи-
лософских и политических учений. Деизм сменяется атеизмом и материа-
лизмом, пропаганда «просвещенного абсолютизма» — распространением
республиканских взглядов. Вольтер продолжает активно действовать и «а
этом втором этапе Просвещения, но постепенно теряет свою роль вождя
наиболее передовых слоев французского общества. Эта роль переходит
к Дидро, главному организатору и редактору знаменитой «Энциклопедии»,
этого монументального литературного памятника французского Просве-
щения, знаменующего окончательное созревание буржуазно-революционной
идеологии. Начало издания «Энциклопедии» (1751) является поворотным
пунктом в истории Просвещения, начинающим его второй период, который
может быть назван временем непосоедственной подготовки буржуазной
революции. На этом втором этапе Просвещения вся литература, кроме ее
реакционного, аристократического сектора, насыщается просветительскими,
буржуазно-революционными идеями.
Такова наиболее правильная периодизация французской литературы
эпохи Просвещения, кладущая в основу решающие этапы классовой
борьбы во Франции XVIII в. Однако схема эта не вполне охватывает все
факты литературной жизни Франции, особенно во втором периоде Про-
свещения. Как раз в момент высшего подъема просветительского движения
начинается расслоение в рядах просветителей, отражающее социальную
диференциацию внутри самого третьего сословия. Плебейско-демократиче-
ское крыло просветителей находит своего вождя в лице Руссо, резко вы-
ступающего против идеализации «царства разума», против односторонней
апологетики буржуазной цивилизации в защиту «естественного состояния»
человека, не вкусившего еще благ цивилизации. Рассудочному материа-
лизму и атеизму энциклопедистов Руссо противопоставил свою философию
чувства и веры, горячо отстаивавшую права человеческой личности в борьбе
с сословным гнетом и социальным неравенством. Однако, полемизируя
с просветителями, Руссо сам был просветителем; горячий демократ и рес-
публиканец, он с огромной силой продолжал борьбу с разлагающимся
феодально-монархическим строем, с безудержной распущенностью аристо-
кратии. Учение Руссо и его писательская практика нашли целую группу после-
дователей—«руссоистов» (Мабли, Неккер, Беряарден де Сен-Пьер, Мерсье,
Ретиф де Ла-Бретон), тогда как по стопам Дидро пошли Седен и Бомарше.
В стилевом отношении французская литература XVIII в. отличается
большой пестротой. В ней сталкиваются и переплетаются классицизм, сен-
тиментализм, буржуазный реализм и изысканный стиль дворянского де-
каданса, называемый термином «рококо» (по аналогии со сходным явлением
в области изобразительных искусств). Все перечисленные стилевые катего-
рии частично противостоят одни другим, частично перекрывают друг друга,
так как установлены по различным признакам.
Наиболее отчетливым по своим стилевым признакам литературным
направлением XVIII в. был классицизм. Будучи тесно связанным с тра-
дициями XVII в., признавая несокрушимый авторитет Буало и великих
писателей времени Людовика XIV, следуя установленным ими формаль-
596
ПРОСВЕЩЕНИЯ
ным предписаниям и законам, классицизм XVIII в. находился в состоянии
затяжного кризиса, в виду разложения старой эстетической доктрины.
Главным признаком разложения классицизма являлась утрата им былой
мировоззренческой цельности и распадение его на два разнородных тече-
ния, сходных только по своим формальным чертам, — на упадочный, эпи-
гонский, придворный классицизм немощных подражателей Корнеля, Расина
и Буало и на новый просветительский классицизм Вольтера и его школы.
Первый пропагандировал старый, сословный, феодально-иерархический дух
и был враждебен новым идеям, второй освобождался от сверхчувственного
начала, утверждал чувственный опыт и подрывал устои абсолютизма и
католической церкви; этим он прокладывал путь буржуазно-революцион-
ному классицизму конца XVIII в.
Эпигонский классицизм граничил с литературой рококо, которая
являлась в значительной мере продуктом разложения и измельчания вы-
сокого стиля дворянского искусства, его превращения в серию изящных
безделушек в стихах и в прозе, идейно бессодержательных, но в то же
время изысканно грациозных. Литература рококо охватывает, прежде всего,
весьма обширную область так называемой «легкой поэзии» (poésie légère) —
анакреонтической, эпикурейской лирики, славящей любовь и наслаждение.
Далее сюда относятся жанры эротической поэмы, стихотворной «сказки»
(conte), генетически восходящей к Лафонтену, галантного романа и но-
веллы, скабрезной фацетии, пасторали, балета-феерии, игривой комедии —
< пословицы» (proverbe). Подчеркнутая ориаментальность и декоративность
сопровождаются в литературе рококо почти неизменно присутствующим в
каждом произведении фривольным элементом, подчас доходящим до от-
кровенной скабрезности. В этом проявляется упадочная сущность этой лите-
ратуры, тесно связанной с бытом и вкусами паразитической феодальной
знати. Это не помешало, однако, литературе рококо оказать некоторое
влияние на виднейших просветителей — Вольтера, Монтескье и даже
Дидро («Нескромные сокровища»), который в период своей творческой
зрелости вел с ней энергичную борьбу.
Полной противоположностью галантному стилю рококо являлся сен-
тиментализм. Если питательной почвой для литературы рококо являлась
^дворянская легкость нравов и презрение ко всяким семейным добродете-
лям, то сентиментализм вырастал, напротив, на основе присущего буржуаз-
но-демократическим кругам культа семьи и брака, серьезности чувств и
^чистоты нравов. Впрочем, идиллия патриархальной добродетели и чув-
ствительности в буржуазной литературе XVIII в. больше служила зада-
,чам изобличения распущенности дворянства, чем отражала подлинную
жизнь буржуазной семьи.
j Французский сентиментализм развился под влиянием английского и
'отразил оба направления последнего — дидактико-реалистическое и мечта-
тельно-идиллическое. Первое, восходящее к Ричардсону и Лилло, вырази-
лось в сочувственном изображении средних и маленьких людей, их «до-
машних несчастий» и сердечных невзгод. Его излюбленными жанрами были
семейный роман, слезная комедия и мещанская драма. Оно было подго-
товлено во Франции уже в первой половине XVIII в. Мариво и Прево
в романе, Детушем и Лашоссе в драме. Своей высшей точки оно достигло
в середине XVIII в. в драмах и романах Дидро. Вслед за этим Руссо
возвел его на принципиальную высоту, связав его со своим протестом про-
тив рационализма и материализма энциклопедистов, с культом природы,
естественности ы прекраснодушия.
ВПЕДЕППК
ВЯ7
Однако, на ряду с такими мотивами, характерными для дидактиче-
ского сентиментализма, Руссо проводил и иные мотивы, присущие мечта-
тельно-идиллическому сентиментализму, — культ мечтательности и мелан-
холии, «енависть к цивилизации и жажду опрощения. Эти мотивы были
яаиболее отчетливо разработаны в Англии в сентиментальной лирике
Томсона, Юнга, Грея и Гольдсмита, которая вызвала во Франции мно-
жество подражаний (Делиль и его окружение). На новую высоту возвел
ее накануне революции Парни который утвердил во Франции жанр эле-
гии. В прозе руссоист Бернарден де Сен-Пьер выразил свою ненависть
к цивилизации, изобразив картину идиллической любви двух молодых
существ на поэтическом фоне тропической природы («Павел и Виргиния»).
Сентиментализм находился в весьма противоречивых взаимоотноше-
ниях с буржуазным реализмом XVIilI в., отчасти содействуя,
отчасти препятствуя его укреплению. Сентиментализм содействовал раз-
витию буржуазного реализма своей борьбой за самостоятельность чело-
веческих чувств, своим отстаиванием прав человеческой личности против
нивелирующего воздействия капиталистических отношений. На (почве от-
рицательного отношения сентименталистов к грубому материальному инте-
ресу, лежащему в основе "буржуазного прогресса, вырастало их глубокое
сочувствие к переживаниям отдельного человека и вырабатывались приемы
углубленного психологического анализа этих переживаний.
С другой стороны, однако, сентиментализм уводил в сторону от бур-
жуазного реализма, так как чрезмерно выдвигал анализ переживаний от-
дельного человека за счет изображения материальной действительности
и общественных отношений. Нарастание у многих сентименталистов субъ-
ективистских тенденции, обусловленное их неспособностью реалистически
овладеть действительностыв, все более усиливало значение иррациональ-
ных моментов в их искусстве. Поэтизация грусти, отрыв от реальной жизни
с ее общественной борьбой, возрастание интереса ко всякого рода экзо-
тизму и фантастике — все это способствовало перерастанию сентимента-
лизма в п.-р е д р о м а н т и з м («préromantisme»). Романтическая реакция
против Просвещения подготовлялась, таким образом, в недрах самого
Просвещения и получила выражение в целом ряде литературных произ-
ведений, созданных накануне революции.
Несмотря на наличие в литературе французского Просвещения от-
дельных антиреалистических течений, вся ведущая литература XVIII в.
развивалась под знаком реализма. Реалистическая направленность этой
литературы была тесно связана с ее боевым антифеодальным и антикле-
рикальным содержанием, а также с устремлением всей передовой буржуаз-
ной мысли в сторону материализма. Недостатки материализма просветите-
лей в значительной мере объясняют также ограниченность их реалисти-
ческого метода.
Главным проявлением ограниченности французского материализма
XVIÏÎ в. являлся его механистический характер, в силу которого просве-
тители оказьгеались неспособными «взглянуть на мир как на процесс, как
на вещество, которое находится в непрерывном развитии». : Отсутствие
у просветителей «исторического взгляда на природу», естественно, влекло
за собой также отсутствие у них подлинно материалистических исторических
взглядов на факты общественной жизни. Материалисты XVIII в. были
идеалистами в области истории, рассматривавшими ее с точки зрения идеа-
1 Ф. Энгельс. Людвиг Фейербах. К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XIV.
стр. 648.
«98
ПРОСВЕЩЕНИЯ
лов «разума» и полагавшими, что для изменения общества достаточно
| изменить сознание людей. Просветителей «ослепляла борьба с остатками
средневекового быта в общественных отношениях». ' За счет пережитков
«проклятого» феодального прошлого они относили все недостатки современ-
ного общества, в том числе и те из этих недостатков, которые были по-
рождены эгоистической практикой буржуазии, ее устремлением к грязной
наживе. Они видели моральную низменность реального буржуа, но не
считали ее органически присущей представителям этого класса, а, наоборот,
полагали, что с торжеством «разума» эти отрицательные стороны изгла-
дятся и нынешний грязный торгаш превратится в идеального «гражда-
нина».
Задачею просветительского искусства не являлось поэтому изображе-
ние одних только низменных сторон современного человека. Этому низмен-
ному миру реальных людей современности противопоставлялся возвышен-
ный мир идеальных людей будущего, проецируемый уже в современность.
Просветительская литература постоянно давала идеализированные образы
буржуа, потому что без такой идеализации она не могла отразить подлинно
прогрессивных в историческом отношении сторон современной .буржуазной
практики. Но эта идеализация в то же время вступала в противоречие
с задачами непосредственно реалистического отражения действительности
и снижала познавательную ценность произведений просветителей.
Моралистические установки просветителей приводили к тому, что они
резко разграничивали своих персонажей на положительных и отрицатель-
ных, противопоставляли мещанские добродетели аристократическим порокам
и превращали свои образы в «рупоры» просветительских идей. Несмотря
на борьбу многих просветителей с присущим классицизму методом абстракт-
ной идеализации, им редко удавалось достигнуть искомой жизненной кон-
кретности в своих положительных образах, которые, выражая их идеалы,
получали абстрактно-декларативный характер и часто оказывались утопич-
ными, надуманными (например, персонажи драм Дидро). Значительно бо-
лее жизненными и реалистичными являлись в произведениях просветителей
представители низменного мира частных интересов, обычно дискредитируе-
мые комической трактовкой. В большинстве романов XVIII в. на их долю
выпадают роли эпизодических персонажей, тогда как главные герои этих
романов носят значительно более абстрактный и бесцветный характер,
ибо приближаются к типу «человека вообще» (например, Жиль Блас,
Кандид и др.).
Только в совсем небольшом количестве произведений XVIII в. сти-
рались грани между обЛши отмеченными категориями персонажей, и
в одном образе противоречиво сочетались положительные и отрицательные
качества, возвышенное и низменное. Такой полнокровный реализм, вос-
производящий диалектику живой исторической действительности, мы на-
ходим в «Племяннике Рамо» Дидро и в комедиях Бомарше ^обра^Фигаро).
В большинстве же случаев просветители оказывались бессильными пока-
зать во всей его остроте и во всей его неизбежности присущее буржуаз-
ному обществу противоречие между идеалом и действительностью, между
личным и общественным, между «моральной» и «физической» натурой
буржуазного человека. Полностью разрешить это противоречие можно,
разумеется, только выйдя за пределы буржуазного общества и преодолев
ограниченность буржуазного мировоззрения. А так как в XVIII в. бур-
1 Ф. Энгельс, там же, стр. 648.
ВВЕДВНИВ
Ô99
жуазный строй еще не успел окончательно утвердиться, то проблема эта
не могла быть не только разрешена, но и поставлена.
Таким образом ограниченность реализма просветителей объясняется
своеобразием того исторического этапа в развитии французского общества,
с которым связана их деятельность. Величие же и сила литературы просве-
тителей заключались в том, что эта литература стремилась к созданию
некоего синтетического реализма, охватывающего всю гражданскую жизнь
современного общества. Хотя просветители и не разрешили этой задачи
до конца, однако самой ее постановкой они проложили путь критическому
реализму XIX в., этому высшему достижению литературы буржуазного
общества.
ГЛАВАï
НАКАНУНЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ
1
олгое, длившееся почти три четверти века, царствование
|fcfe Людовика XIV закончилось 1 сентября 1715 г. Итоги
этого (по выражению французских буржуазных истори-
ки ков) «великого царствования» (le grand règne), которому
соответствовал сначала высший расцвет, а затем глубо-
кое падение французского абсолютизма, были крайне
плачевны. Разорительные войны, бесчисленные поборы,
содержание пышного двора и паразитических высших
сословий довелл Францию до крайнего обнищания.
Усиливавшийся с каждым годом феодально-абсолю-
тистский гнет не мог заглушить становившегося все
более явственным ропота угнетенных народных масс,
давно излечившихся от своей веры в «доброго» короля Людовика XIV,
который превратился в конце своего царствования в мрачного к
сурового деспота, покровителя ханжества и мракобесия. Весть о его
смерти была принята народом с нескрываемой радостью. Все слои
французского общества вздохнули свободно и были полны самых
радужных надежд на оудущес.
После смерти Людовика XIV королем Франции официально был
объявлен его пятилетний правнук, получивший имя Людовика XV. Однако
правителем государства стал, по решению парижского парламента, пле-
мянник Людовика XIV герцог Филипп Орлеанский, получивший титул
регента. Восьмилетний период его регентства был отмечен решительной
реакцией против системы управления и всего политического режима вто-
рой половины царствования Людовика XIV. Регент предоставил ряд
вольностей гонимым Людовиком XIV религиозным сектам, парламенту
и дворянству. Он несколько ослабил деспотический режим, заменив
единовластных министров коллегиальным управлением различными отрас-
лями государственной жизни. Кроме того, регент покровительствовал
земледелию, торговле и промышленности, всемерно стимулируя подъем
экономической жизни в стране. Он осуществил финансовую реформу при
помощи шотландца Джона Ло, пытавшегося превратить все французское
государство в огромный банкирский дом. «Система Ло», заключавшаяся
в усиленном выпуске бумажных денег, всколыхнула экономическую жизнь
Франции и дала почву для невиданных дотоле спекуляций, увлекших вые-
ПЛНАНУН15 ПРОСВВЩКППЯ
001
шие слои общества. В 1720 г. эта система потерпела грандиозный крах,
вызвавший разорение множества аристократов, втянутых в спекуляции
банка Ло. Финансовая авантюра Ло, с одной стороны, ускорила процесс
разорения дворянства, а с другой — до известной степени способство-
вала усилению экономической мощи буржуазии, которая росла с каждым
годом.
Период Регентства характеризуется крайней деморализацией высших
кругов французского общества. Официальному ханжеству последних лет
правления Людовика XIV [протйв1)стоит|при Филиппе Орлеанском столь же
официальный цинизм и распущенность аристократии, пример чему
подавал сам регент, почти открыто ЖйвШий со своей дочерью, герцоги-
ней Беррийской. Бесстыдные оргии регента с участием его любовниц и
близких друзей, которых он называл «висельниками» (roués), как бы
определяли стиль жизни разлагавшейся французской аристократии. От
регента не отставал его бывший воспитатель и близкий друг, кардинал
Дюбуа, — грязный авантюрист, которому регент доверил управление
страной. «Все пороки — вероломство, скупость, разврат, тщеславие, низ-
кая лесть — состязались в нем, оспаривая первенство один у другого»
(Сен-Симон).
Нравы правящей верхушки дворянского общества распространялись
на прочие слои дворянства. Французское дворянство времен Регентства
окончательно теряет былой престиж, рыцарские традиции, строгий при-
дворный этикет. Его лозунгами становятся хищническое обогащение любой
ценой и безудержное прожигание жизни. Появляется новый социальный
тип дворянина-авантюриста, титулованного мошенника (chevalier d'indust-
rie), не брезгающего никакими средствами для своего обогащения. Огром-
ное распространение среди аристократии получают азартные игры. Все
семейные устои в дворянской среде рушатся. Супружеская любовь и вер-
ность объявляются мещанскими предрассудками. Родители, как правило,
не знают собственных детей; они оставляют их на попечение гувернеров
и гувернанток, воспитывают их в коллежах и пансионах. Любовь превра-
щается в искусство или спорт, целью которого является удовлетворение
самолюбия мужчины, одерживающего «победы» над женщинами.
Основными жизненными стимулами падающего дворянства являются
погоня за роскошью и жажда наслаждений. Гедонизм становится
житейской философией паразитической знати, стремящейся превра-
тить жизнь в вечный праздник, без малейшей заботы о завтрашнем дне.
Так создаются предпосылки культуры «галантного века», каким односто-
ронне представляется падающей аристократии начинающийся век бур-
жуазного Просвещения. Брезгливо сторонясь новых общественных на-
строений, появляющихся во Франции уже в годы Регентства, аристократия
замыкается от них в узком мирке своих салонов, будуаров и альковов.
Своему искусству она придает грациозные формы рококо, создавая изы-
сканный, формально изощренный, «о в то же время идейно опустошен-
ный стиль дворянского декаданса. Хотя своего высшего расцвета литера-
тура рококо достигает в преддверии буржуазной революции, однако за-
рождается она в первой трети XVIII в. и получает отчетливые очертания
именно в период Регентства.
Формирование искусства рококо находится в прямой связи с разло-
жением и деградацией высокого, монументального стиля абсолютистской
Франции — классицизма. Эта деградация классицизма является весьма
ярким симптомом кризиса всей политической системы абсолютизма. По-
скольку абсолютная монархия превращается уже в конце XVII в. в силу
(502
ПРОСВЕЩЕНИЯ
чисто реакционную, становящуюся тормозом исторического прогресса, по-
стольку все передовые буржуазные классы переходят от характерного для
XVII в. компромисса с абсолютизмом в оппозицию к нему. Полное ис-
чезновение престижа абсолютистской власти приводит к тому, что и при-
сущий литературной политике абсолютной монархии принцип рациона-
листической регламентации художественного творчества перестает играть
прогрессивную роль и превращается в культивирование мертвой догмы,
мешающей проникновению в литературу нового содержания. Ортодоксаль-
ный классицизм придворного образца становится в начале XVII в. опло-
том всех консервативных писательских групп, знаменем литературной реак-
ции и рутины. Декларированное Буало подражание «природе» уступает
место наивному ученическому подражанию великим писателям XVII в.
При этом крайняя строгость в отношении формы прикрывает скудость
и убожество содержания, обусловленное духовным оскудением и измель-
чанием французской аристократии. Понятия героизма, доблести, долга,
самопожертвования, о которых так много говорили великие писатели-клас-
сицисты XVII в., становятся пустыми и бессодержательными формулами,
далекими от жизненной практики разлагающейся аристократии. Это
и обусловливает глубокий, неудержимый упадок основного жанра поэзии
классицизма — трагедии.
Упадок классицистической трагедии начался уже в последнее двадцатиле-
тие XVII в., последовавшее за уходом Расина от работы в театре. Ни
один из современников и ближайших последователей Расина (Прадон,
Жене, Лонжепьер, Кампистрон, Лагранж-Шансель) не был в силах про-
двинуть дальше созданный им жанр психологической трагедии с миниму-
мом внешнего действия, без всяких эпизодов и театральных эффектов.
Условности жанра, сравнительно мало заметные у самого Расина, выдви-
нулись на первый план у его эпигонов. Все драматурги начала XVIII в.
сочиняют трагедии по определенному рецепту, придерживаясь шаблонных
приемов построения фабулы, положений и характеров. Подражая Кор-
нелю, Расину и Кино, трагические поэты начала XVIII в. воспроизводят
на разные лады одну и ту же драматическую коллизию — столкновение
между любовью и интересами государства. При этом герои различных
пьес отличаются друг от друга только именами, взятыми из области ан-
тичной истории или мифологии. По существу же все эти Ганнибалы,
Александры, Филоктеты, Улиссы и Гекторы похожи друг на доуга, как
две капли воды.
Качественный упадок трагедии сопровождался огромным увеличением
количества пьес этого жанра. В течение последних тридцати пяти лет
правления Людовика XIV в монопольном драматическом театре Па-
рижа Фрянчу^гком Комедии (Comédie Française) было погтатлгнп около
ста трагедий. Каждая из них прошла всего пэ нескольку раз1, и ни одна
не удержалась в репертуаре, за исключением двух-трех трагедий Кре-
Оильона-старшего. Этот автор был единственным из эпигонов Расина, су-
мевшим обратить на себя внимание аристократических зрителей и даже
создать себе у них репутацию новатора.
Клод-Проспср Жолио де Кребильон (Claude-Prosper Jolyot de Crébil-
lon, 1674—1762), обычно называемый Кребильоном-старшим, был сыном
нотариуса из провинциального города Дижона. Он получил образование
в иезуитском коллеже и служил клерком у парижского стряпчего, кото-
рый побудил его заняться поэзией. Кребильон остановился на профессии
драматурга как наиболее выгодной. Однако первая трагедия его —
<Смерть детей Брута» — не имела успеха и была им уничтожена. Зато
НАКАНУНЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ
603
последующие трагедии — «Идоменей» («Idoménêe», 1705), «Атрей и Тиест»
(«Atrée et Thyeste», 1707) и «Электра» («Electre», 1708)—прошли зна-
чительно удачнее и подготовили появление шедевра Кребильона — траге-
дии «Радамист и Зиновия» («Rhadamiste et Zénobie», 1711), которая
имела огромный успех, несмотря на решительный протест старика Буало.
Но триумфы Кребильона были весьма непродолжительны. За шумными
успехами последовали не менее шумные провалы трагедий «Ксеркс» («Хег-
xès», 1714) и «Семирамида» («Sémiramis», 1717), побудившие Кребильона
покинуть театр.
В течение девяти лет Кребильон жил уединенно, занимаясь различ-
ными финансовыми операциями. В 1726 г. он вернулся к драматургии,
поставив трагедию «Пирр» («Pyrrhus»). Счастье снова улыбнулось ему;
он был избран членом Французской Академии (1731), назначен цензо-
ром художественной литературы (1735), а затем получил королевскую
пенсию (1745), по протекции фаворитки Людовика XV маркизы Пом-
падур, которая решила натравить его на своего врага Вольтера. Побу-
ждаемый ею, Кребильон пытался конкурировать с Вольтером трагедиями,
написанными на разрабатываемые Вольтером темы. Однако, несмотря на
все интриги Помпадур, римские трагедии Кребильона «Катилина» («Са-
tilina», 1748) и «Триумвират» («Le Triumvirat», 1754) не имели успеха,
а поддержка Кребильона группой придворных святош только скомпроме-
тировала его в глазах всех передовых людей Франции.
Сам Кребильон так определял свое место в истории французской тра-
гедии: «У меня не было выбора: Корнель взял себе небо, Расин землю;
оставался только ад, и я бросился в него, очертя голову». Действительно,
Кребильон попытался задержать неизбежный упадок классицистической
трагедии путем прививки ей «ужасной» тематики. Ориентируясь из антич-
ных драматургов, — главным образом, на Сенеку, — он наполнял свои
трагедии всевозможными ужасами. Так, в «Идоменее» отец и сын сопер-
ничают в любви и убивают друг друга; в «Семирамиде» влюбленная в
собственного сына царица убивает своего мужа; в «Агрее и Тиесте» Атрей
мстит своему брату Тиесту, убивая его сына и угощая его кровью уби-
того, которую приносят в чаше на сцену. Кребильон очень гордился тем,
что дамы падали в обморок при виде Тиеста, пьющего кровь собствен-
ного сына. Однако, по существу, введение в классицистическую трагедию
таких «атракционов» свидетельствовало об ее глубоком упадке и о твор-
ческом бессилии Кребильона удержать этот жанр на той идейной высоте,
которая была присуща трагедиям Расина.
Соблюдая формальную рецептуру классической трагедии, Кребильон
утратил секрет внутреннего, психологического оправдания поступков ее
героев. Поэтому он выдвигает на первый план интригу за счет разра-
ботки характеров, делает упор на увлекательность фабулы, уснащает дей-
ствие своих трагедий мелодраматическими эффектами, усложняет их сю-
жеты при помощи всякого рода неожиданностей, переодеваний, инкогнито
и узнаваний. Величавая простота слога уступает у него место напыщен-
ности и манерности, противоречиво сочетающимся с явной вульгариза-
цией языка и стиля трагедий. Кребильон утрирует все ситуации, разлагая
классическую трагедию и во многом возвращаясь к технике драматургии
барокко. Все это является симптомом культурно-идеологической деграда-
ции французской аристократии, которой вскоре буржуазные теоретики
драмы бросят упрек в разложении театра, в забвении его воспитательных
задач.
G04
ПРОСВЕЩЕНИЕ
Историческое значение деятельности Кребильона заключается в том,
что он ясно показал невозможность дальнейшего развития трагедии на
старых мировоззренческих основах. Идейное убожество этого мнимого
новатора убедительно доказывало «от противного» необходимость идеоло-
гического перевооружения классической трагедии, ее постановки на службу
прргрессивным общественным задачам. Именно этим, и только этим, Кре-
бильон подготовил путь Вольтеру.
В другом направлении пытался обновить классическую трагедию
Антуан Удар де Ламот (Antoine Houdar de La Motte, 1672—1731), во-
зобновивший в начале XVIII в., казалось, законченный «Спор о древних
и новых авторах». Этот спор возобновился в связи с выпущенным Ла-
мотом в 1714 г. стихотворным переводом «Илиады», которую он пере-
лицевал в духе XVIII в., стремясь осуществить на практике идею «мо-
дернистов» об изменении форм искусства в процессе поступательного раз-
вития человечества. Ламот «исправил» характеры гомеровских богов
и героев, смягчил их речи и поступки, выбросил пространные описания
и повторения. Взамен всего этого он наделил гомеровских героев галант-
ными манерами и светским остроумием. Ламот плохо знал греческий язык
и работал на основе добросовестного, хотя несколько тяжеловесного про-
заического перевода «Илиады», сделанного мадам Дасье (Dacier). Эта
ученая дама возмутилась кощунственной переделкой Ламота и вступила
с ним в спор, напомнивший полемику Буало с Перро и Фонтенелем. По-
следний, бывший личным другом Ламота, с которым он встречался в «фи-
лософском» салоне мадам де Ламбер, охотно поддержал его в отстаива-
нии прав современности против пассивного подражания античным авторам.
Ламот пошел значительно дальше Перро. Он не ограничился напад-
ками последнего на древних авторов, а объявил войну поэзии как таковой,
подчеркнув ее противоположность разуму и здравому смыслу. По мнению
Ламота, поэзия прилагает огромные усилия к тому, чтобы выражать
мысли неясно и неестественно; она искажает и затемняет мысль своими
«украшениями». Ламот изощряет свое остроумие по поводу «нелепости
людей, которые изобрели искусство поэзии специально для того, чтобы
лишить себя возможности выражать точно то, что им хочется сказать».
С характерной для него непоследовательностью Ламот, сам будучи весьма
плодовитым поэтом, писавшим оды, басни, эклоги, трагедии, комедии
и оперы, произносит горячие панегирики прозе, которую он провозглашает
высшим родом литературы. Ему принадлежит характерное для XVIII в.,
этого века научно-философской прозы, изречение: «Это прекрасно, как
проза» («Cela est beau, comme de la prose»).
Следуя своим принципам, Ламот подвергает резкой критике класси-
цистическую трагедию, ее условности и неправдоподобия. Он критикует
разговорный характер французской трагедии, осуждает обыкновение вводить
в нее наперсников, обрушивается на три единства и даже посягает на сти-
хотворную форму трагедии, высказывая пожелание, чтобы она писалась
прозой. Сам он сделал попытку написать прозой трагедию «Эдип», но
опыт этот произвел на современников впечатление чудачества и не ока-
зал влияния на дальнейшее развитие трагедии. Сама же идея Ламота
о превосходстве прозы над поэзией была подхвачена рядом выдающихся
писателей XVIII в., в том числе Монтескье, Бюффоном и Дюкло. Впро-
чем, свои пьесы, предназначенные для постановки на сцене, Ламот писал
стихами и соблюдал в них все «правила». Это относится и к его лучшей
трагедии «Инее де Кастро» («Inès de Castro», 1723), имевшей огромный
успех, благодаря трогательному сюжету.
ЛАКАНУНВ ПРОСВЕЩЕНИЯ
G05
Начатая Ламотом кампания против поэзии была вполне своевремен-
ной, если учесть жалкое состояние поэзии во Франции начала XVIII в.
Уже классицизм XVII в. проявил крайнюю бесплодность в области ли-
рической поэзии; отдельные стихотворения Лафонтена и «Духовные песни»
Расина стояли совершенно обособленно и не создали никакой школы.
В начале XVIII в. это положение еще более ухудшилось. Под видом по-
эзии господствовала самая откровенная рифмованная проза, принимающая
наименования од, посланий, эклог и т. д. Оды начала XVIII в. обычно
представляли собою риторические упражнения на религиозные или отвле-
ченные темы, неизменно плоские, банальные и водянистые. Лучшим об-
разчиком такой псевдолирики являются оды самого Ламота, сборник ко-
торых вышел в 1707 г. Самые названия этих од — «Долг» («Le Devoir»),
«Соревнование» («L'Émulation»), «Репутация» («La Réputation»), «Личное
достоинство» («Le Mérite personnel»)—свидетельствуют о том, что под
одой Ламот понимает рассуждение в стихах, для которого стихотворная
форма является чем-то привходящим, даже иногда мешающим методиче-
скому развертыванию мысли. Большой популярностью пользовались в это
время религиозные поэмы и оды Луи Расина-младшего (Louis Racine,
1692—1763), второго сына и биографа великого поэта. Однако, несмотря
на изящную версификацию, его благочестивые и назидательные стихи тя-
гучи, монотонны и лишены всякого идейного интереса.
Гораздо более крупной фигурой был Жан-Батист Руссо (Jean-Baptiste
Rousseau, 1670—1741 ), которого современники считали великим поэтом.
У нас еще в 1832 г. Пушкин писал: «Ж. Б. Руссо доныне сохранил про-
звище великого». Сын сапожника, Руссо получил воспитание у иезуитов и
дебютировал в 1694 г. комедией «Кофе» («Le Café»), которая провалилась.
Столь же мало успеха имели его последующие комедии и оперы, часть
которых так и не была поставлена на сцене. Некоторое время Руссо со-
стоял секретарем графа Таллара, французского посла в Лондоне. Возвра-
тившись в Париж, он занялся лирической поэзией, причем с удивительной
беспринципностью одновременно сочинял религиозные оды и кантаты по
заказу мадам де Ментенон и скабрезные эпиграммы для веселого кружка
аристократов-либертинов, собиравшегося в Тампле, в доме знатного эпи-
курейца Вандома. В скором времени он создал себе большое литературное
имя, но вместе с тем нажил множество врагов своими эпиграммами, пол-
ными сатирических выходок против влиятельных лиц. Эти выходки при-
вели, наконец, к изгнанию Руссо из Франции (1712). Последующие годы
он вел бродячий образ жизни, причем отклонил предложение регента вер-
нуться во Францию. Конец жизни он провел в Брюсселе.
Современники ценили Руссо, главным образом, за его оды, которые
многими ставились наравне с одами Малерба. Действительно, Руссо сочи-
нял свои оды с большим «знанием дела», внося в них все узаконенные
для этого жанра аллегории, мифологические реминисценции, лирический
беспорядок и т. п. Руссо Сил человеком весьма консервативных взгля-
дов, несмотря на свою скандальную биографию, и очень религиозным,
несмотря на свои связи с либертинами Тампля. Его религиозность
была причиной его разрыва с Вольтером в 1722 г., после опубликова-
ния последним кощунственного «Послания к Урании». Однако, подлинным
мастером Руссо являлся только в своих эпиграммах, о которых Пушкин,
считавший их образцовыми, заметил: «Его похабные эпиграммы стократ
выше од и гимнов» (письмо к П. А. Вяземскому от 25 января 1825 г.).
Один Вольтер мог соперничать с Руссо е этом жанре.
BOG
ПРОСВЕЩЕНИЯ
a
Более жизнеспособной разновидностью поэзии начала XVIII в. была
анакреонтическая, эпикурейская лирика, культивировавшаяся в кружке
Тампля. Эти веселые прожигатели жизни бросали открытый вызов офи-
циальному ханжеству и мракобесию, царившему при дворе престарелого
Людовика XIV. Поэтическим вождем либертинов Тампля был Гильом
Амфри, аббат Шольё (Guillaume Amfrye, abbé de Chaulieu, 1636—1720),
прозванный «Анакреоном Тампля». Этот жизнерадостный аббат, создав-
ший себе крупное состояние благодаря церковным бенефициям, получен-
ным им с помощью покровительствовавших ему братьев Вандом и герцо-
гини дю Мен, был апостолом беспечного эпикурейства. Он сочинял
изящные, небрежные стишки, пользовавшиеся большим распространением
в начале XVIII в. и определившие пути развития столь популярной
в этом веке «легкой поэзии». В конце жизни этот светский аббат-вольно-
думец преисполнился необычными для него и для всего окружавшего его
общества настроениями элегической грусти и сознанием суетности своей
веселой, беззаботной жизни. Однако даже эта старческая меланхолия не
привела Шольё к религиозному обращению, а побудила его с философ-
ским спокойствием мудреца принять неизбежность смерти и стремиться
к тому, чтобы закончить жизнь изящно и спокойно.
Имя Шольё неразрывно связано с именем его друга, маркиза Шарля-
Огюста де Лафара (Charles-Auguste de La Fare, 1644—1712). В молодости
Лафар был офицером, «о в виду недоброжелательного отношения к нему
военного министра Лувуа он вынужден был выйти в отставку. Сделавшись
постоянным посетителем кружка Тампля, Лафар сочинял в манере Шольё
легкие и изящные эпикурейские стихи, напечатанные отдельным сборником
только в 1755 г. Молодой Пушкин в своя лицейские годы очень увлекался
поэзией Шольё и Лафара, которых он ставил рядом со стилистически
близкими к ним представителями «легкой поэзии» середины XVIII в.
К Шольё и Лафару примыкает шотландский граф Антуан Гамильтон
(Antoine Hamilton, 1646—1720), проживший значительную часть жизни
во Франции, куда он дважды последовал за изгнанными Стюартами.
Написанные на великолепном французском языке, стихотворения Га-
мильтона, напоминающие лирику Шольё и Лафара, и его изящные сказки,
в которых он подражает сказкам «1001 ночи», отступают на второй план
перед его шедевром — биографическим романом «Мемуары кавалера
Граммона» («Mémoires du chevalier de Grammont», 1713) впоследствии из-
дававшимся также под названием «Любовная история английского двора»
(«Histoire amoureuse de la cour d'Angleterre»). Гамильтон излагает здесь
историю своего шурина, кавалера Граммона, на фоне блестяще нарисован-
ной картины нравов и любовных интриг двора английского короля Карла II.
Несмотря на необычное для французских писателей этого времени
содержание, книга Гамильтона во многом предвосхищает своей ирониче-
ской манерой повествования романы Монтескье и Вольтера, отличаясь от
них тем, что Гамильтон посмеивается в ней только над мелочами, не воз-
вышаясь до общественно-политической сатиры.
С другой стороны, роман Гамильтона тесно связан с широко распро-
страненной во Франции начала XVIII в. мемуарной литературой, наи-
более выдающимися памятниками которой являются мемуары мадам
Стааль-Делоне (Staal-Delaunay) и мадам Кейлюс (Caylus). К подлинным
мемуарам примыкают мемуары вымышленные, представляющие переход
к историческому роману. Создателем этого жанра явился полиграф i\yp-
НАКАНУПВ ПРОСВЕЩЕПИЯ
607
тиль де Сандра (Courtils de Sandras, 1644—1712), из многочисленных
произведений которого особый интерес представляют «Мемуары г. д'Ар-
таньяна» («Mémoires de M. d'Artagnan», 1700), послужившие главным
источником для «Трех мушкетеров» Дюма. Все эти мемуары — действи-
тельные или мнимые — сыграли немалую роль в подготовке реалистиче-
ского романа XVIII в., которому его авторы неоднократно придавали
форму мемуаров главного героя (например, «Мемуары знатного человека»
аббата Прево, «Жизнь Марианны» Мариво и др.).
Но самым жизнеспособным и художественно полнокровным из всех
литературных жанров начала XVIII в. оказалась комедия. Тесно связан-
ная с традициями комедии XVII в., не отступая от созданных Мольером
канонов, комедия не подверглась той деградации и распаду, которые про-
являются в это время в области трагедии. Объясняется это тем, что ко-
медия, как низший жанр драматургии классицизма, была совершенно ли-
шена присущих трагедии идеализирующих тенденций и ставила себе
задачей неприкрашенное, разоблачительное изображение частной жизни.
Это давало ей возможность рисовать правдивую картину нравов совре-
менного общества без всякого затушевания его отрицательных сторон.
Надежным наставником и образцом продолжал здесь оставаться Мольер.
Крупнейшим преемником Мольера на грани XVII и XVIII вв. был
Жан-Франсуа Реньяр (Jean-François Regnard, 1656—1709). Он происхо-
дил из богатой купеческой семьи и, рано лишившись отца, оказался вла-
дельцем большого состояния. В молодости1 он много путешествовал, по-
бывал в Италии, Голландии, Англии, Германии и Швеции, и пробыл два
года в плену у алжирских корсаров, пока его не выкупил французский
консул. Поселившись с 1681 г. в Париже, он купил себе должность го-
сударственного казначея и вел рассеянную светскую жизнь в кругу ари-
стократической молодежи, от которой он усвоил ее беспечное, эпикурей-
ское отношение к жизни. Беззаботный кутила, повеса и игрок, Реньяр
проводил все время в купленном им поместье Грильон, которое он пре-
вратил в одно из тех «веселых аббатств», которые характерны для га-
лантного века рококо. Здесь он и написал все свои пьесы, которые сочи-
нял больше для собственного удовольствия.
Реньяр был типичным выразителем тех гедонистических настроений,
которые усиливались у французской аристократии конца XVII и начала
XVIII в. в противовес утвердившемуся при дворе Людовика XIV хан-
жеству. Установка Реньяра на веселый, беззаботный смех, его любовь
к безудержной буффонаде имели прогрессивный для его времени харак-
тер, несмотря на то, что своими комедиями он преследовал, главным об-
разом, развлекательные цели.
Реньяр начал с сочинения полуимпровизованных фарсов с музыкой
и танцами для театра Итальянской Комедии (Comédie Italienne), обслу-
живаемого офранцуживавшимися итальянскими актерами. Эти пьески были
написаны Реньяром частично в сотрудничестве с драматургом Дюфрени.
Набив руку на этих легких комедиях в стиле commedia dell'arte, перепол-
ненных пародийными выходками против высоких театральных жанров
трагедии и героической оперы, Реньяр дебютировал затем в привилеги-
рованном театре Французской Комедии пьеской «Серенада» («La Séré-
nade», 1694), написанной прозой и имевшей большой успех, несмотря на то,
что ее сюжет был явно заимствован из мольеровского «Скупого». За
«Серенадой» последовал «Бал» («Le Bal», 1696), одноактная буффонада
в стихах, написанная в манере Скаррона, хотя ее главный герой Сотам
кур является сколком с. мольеровского Пурсоньяка»
R08
ПРОСВЕЩЕНИЕ
Следующая комедия Реньяра «Игрок» («Le Joueur», 1696) выдвинула
его на место первого комедийного автора Франции, в котором стали зи-
деть законного преемника Мольера, сумевшего воскресить созданную им
комедию характеров. Правда, бывший сотрудник Реньяра Дюфрени обви-
нил его в плагиате, но вряд ли основательно. Комедия представляет
собой яркую жанровую картинку из быта аристократических прожигателей
жизни. В центре пьесы стоит образ молодого аристократа Валера, одер-
жимого страстью к карточной игре и вместе с тем влюбленного в Анже-
лику. Комизм пьесы построен на беспрерывных переходах к любви от
карт и к картам от любви, причем страсть к Анжелике обычно вспыхи-
вает у Валера только после проигрыша. Реньяр совершенно не стремится
проникнуть в психологию игрока; он делает своего Валера смешным даже
в минуты отчаяния и гнева. В общем, «Игрок» является типичной коме-
дией положений, построенной с присущим Реньяру мастерством.
Такой же поверхностностью в обрисовке характеров и в то же время
блестящей комедийной изобретательностью отличаются пьесы «Рассеянный»
(«Le Distrait», 1697), «Демокрит» («Démocrite», 1700) и особенно мас-
карадная комедия «Любовные безумства» («Les Folies amoureuses»,
1704), представляющая головокружительный ряд переодеваний, недоразу-
мений и буффонных выходок.
Не довольствуясь постоянными заимствованиями у Мольера, Реньяр
обращается к Плавту, у которого он берет сюжеты двух своих комедий —
одноактного фарса в прозе «Неожиданное возвращение» («Le Retour im-
prévu», 1700), написанного на сюжет плавтовского «Домового», и пяти-
актной стихотворной комедии «Менехмы» («Les Ménechmes», 1705), наи-
более классицистической из пьес Реньяра, которую он посвятил Буало.
Последней и притом самой популярной из комедий Реньяра является
«Единственный наследник» («Le Légataire universel», 1708). Несмотря на
то, что в этой пьесе можно найти много заимствований из Мольера («Ску-
пой», «Мнимый больной»), она производит впечатление совершенно ори-
гинального произведения. Борьба за наследство глупого и доверчивого
скупого старика Жеронта является здесь поводом для серии забавных
проделок продувного слуги и служанки, работающих не только в инте-
ресах законного наследника Эраста, но и в своих собственных. Комедий-
ное мастерство Реньяра достигает высшей точки в финале комедии, когда
внезапно очнувшийся от летаргического сна старик Жеронт с возмуще-
нием слушает чтение нотариусом будто бы им составленного завещания.
Эта сцена по праву считается одной из забавнейших во всем француз-
ском комедийном репертуаре.
Главным отличием Реньяра от Мольера является отсутствие у Рень-
яра столь характерной для Мольера принципиальности и философской глу-
бины. Реньяру присуще циническое презрение к семье, браку и мещанским
добродетелям. Жизненная философия Реньяра — эпикуреизм, беззаботное
веселье, отсутствие всякой мысли о завтрашнем дне. Однако, несмотря на
развлекательную установку, комедии Реньяра имеют немалое познаватель-
ное значение. Реньяр рисует в них яркие образы паразитических аристо-
кратов, циничных прожигателей жизни, разбогатевших парвеню, бретте-
ров, игроков и авантюристов. Он выносит на сцену всю накипь и гниль
разлагающегося дворянского общества, которые через несколько лет после
его смерти расцветут пышным цветом в годы Регентства.
Большой исторический интерес представляют в комедиях Реньяра
образы слуг и служанок, которые отличаются от мольеровских значи-
тельно большей предприимчивостью, страстным желанием «выйти в люди»
НАКАНУНЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ
609
и самим стать господами.
Таковы, например, Гектор
в «Игроке» и Криспин
в «Единственном наслед-
нике», которые подобно
мольеровскому Скапену,
умнее и ловче своих
господ, но в отличие от
него стараются, главным
образом, уже для себя.
Хотя Реньяру совершенно
несвойственна резкая кри-
тика дворянского обще-
ства, от его наблюдатель-
ности все же не ускольз-
нуло^ формирование нового
типа честолюбивого плебея,
страстно рвущегося к бо-
гатству и положению в об-
ществе и глубоко прези-
рающего господина, кото-
рому ему приходится слу-
жить. Такая активизация
типа слуги (в смысле осо-
знания им своих интересов
и противопоставления их
интересам хозяина) являет-
ся существенным этапом
на пути превращения тра-
диционного комедийного
слуги-интригана в бур-
жуазного героя-авантюри-
ста типа Фигаро. Следую-
щие Слова слуги' в комедии
«Серенада» уже предвещают в какой-то степени тирады Фигаро: «Они не
платят нам жалования, ругаются, иногда бьют нас; мы же умнее их и по-
могаем им жить. Нам приходится изобретать для них тысячу плутней, в ко-
торых они принимают участие. И все-таки мы — слуги, а они — господа.
Это несправедливо. Я рассчитываю в будущем трудиться для самого себя
и добиться того, чтобы самому стать господином».
Однако, отмечая возрастающую активность слуги-плебея, Реньяр не
развивает этого мотива, не ощущает заключенного в нем политического
смысла. В силу своей связи с аристократией Реньяр еще очень далек от
оппозиционных и разоблачительных тенденций просветительского театра.
Консервативность Реньяра проявляется также в его приверженности
доктрине классицизма. Свою развлекательную комедию положений Реньяр
облекает в безупречную, с точки зрения поэтики Буало, форму. Вольную
композицию имеют только те из комедий Реньяра, которые он написал
для театра Итальянской Комедии; из его более поздних пьес такого типа
наиболее значительной являются «Любовные безумства». Но и в них
Реньяр сравнительно мало отступает от поэтики классицизма и сохраняет
пристрастие к чисто словесному комизму, построенному на игре словами
39 История французской литературы—815
Реньяр. «Игрок».
По рисунку Ж. М. Моро-младшего, грав. Делиньоном.
610
ПРОСВЕЩЕНИЕ
и на остротах, которые остаются нейтральными по отношению к харак-
теру действующих лиц, произносящих эти остроты. Такой чисто словес-
ный комизм резко отличается от действенного, динамического комизма
мольеровской комедии. При всем том Реньяр является первоклассным ма-
стером комедийного жанра, достойным занять место сразу после Мольера.
Его крупные художественные заслуги были отмечены уже Вольтером,
которому принадлежит крылатая фраза: «Кому не нравится Реньяр, тот
недостоин восхищаться Мольером».
Другим видным представителем мольеровской традиции на грани
XVII—XVIII вв. был актер-драматург Флоран Картон, по прозванию
Данкур (Florent Carton, dit Dancourt, 1661—1725). Он происходил из
старинного парижского буржуазного рода, получил воспитание у иезуитов
и готовился к деятельности адвоката, но увлекся театром и стал актером.
Женившись на дочери актера мольеровской труппы Латорильера, он всту-
пил в труппу театра Французской Комедии и сделался ее директором
и присяжным драматургом, поставлявшим ей пьесы в течение тридцати
лет. Как и Мольер, Данкур пользовался расположением Людовика XIV,
который любил слушать у себя в кабинете чтение его пьес. Вообще био-
графия Данкура очень напоминает биографию Мольера, за исключением
ее последних страниц: Данкур в возрасте пятидесяти семи лет покинул
сцену и испытал религиозное «обращение», посвятив последние годы
жизни покаянию и переводу псалмов.
Связь с живым театром наложила отпечаток на драматургию Дан-
кура. Он был настоящим театральным -практиком, лишенным литературных
интересов, и признавался, что, после того как он покинул школу, он не
читал больше ни древних, ни новых авторов. В своих многочисленных ко-
медиях (ему принадлежит более шестидесяти пьес) он обращал особенное
внимание на искусное построение интриги и лучше Мольера умел завязы-
вать и развязывать действие. Зато он был совершенно лишен присущего
Мольеру глубокого анализа характеров, полета мысли и философской
глубины.
К «высокой» комедии Данкур приблизился только один раз —
в своей лучшей пьесе «Модный кавалер» («Le Chevalier à la mode», 1687).
Эта комедия отличается искусным построением интриги, чрезвычайной
легкостью и естественностью развертывания забавных положений. Цен-
тральным образом пьесы является наглый, лживый, распутный и расто-
чительный молодой человек, настоящий проходимец из аристократов, со-
четающий в себе черты мольеровских Доранта (из «Мещанина во дво-
рянстве») и Дон-Жуана. Этот развратный дворянин живет на средства
женщин, которые в него влюбляются. Он ведет сразу три интриги —
с баронессой, с разбогатевшей буржуазной женщиной мадам Патен и с ее
молоденькой племянницей Люсиль. От первых двух он хочет получить
деньги, чтобы увезти третью, более для него привлекательную. Попавшись
в своей двойной игре, он сохраняет невозмутимое хладнокровие и ищет
утешения у баронессы в том, что ему не удалось поживиться на счет ме-
щанок. Блестяще обрисовав образ этого дворянина-паразита, Данкур сде-
лал его все же довольно 'привлекательным, хотя и противопоставил этому
порочному дворянину ряд положительных персонажей из буржуазии.
Главным вкладом Данкура в комедию XVIII в. является то, что он
усиливает ее реализм, вводя в свое поле зрения более демократические
слои общества. В комедиях Данкура играют очень важную роль кресть-
яне, для обрисовки которых он вводит элементы диалекта. Изображая
различные слои крестьянства, Данкур больше всего интересуется, однако.
ПАКАПДНЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ
611
его верхушкой, деревенскими богачами, которые занимаются разными де-
нежными операциями и накопляют капиталы, как заправские буржуа. Та-
кой тип крестьянина выведен, например, в комедии Данкура «Галантный
садовник» («Le Galant jardinier», 1704).
Помимо крестьян, Данкур охотно изображает чиновников и судейских
(например, в комедии «Знатные мещанки» — «Les Bourgeoises de qualité»,
1700). Аристократы фигурируют в его пьесах очень редко и всегда изоб-
ражаются разоренными. Это соответствовало процессам, происходившим
в то время во французском обществе, которые Данкур отражал правдиво и
реалистично. Однако реализм Данкура был неглубок; он ограничивался
бытовыми зарисовками, фиксацией мелочей современной жизни, мелькаю-
щих силуэтов современников, различных злободневных происшествий, скан-
далов, мод, анекдотов и сплетен. Снижение содержания комедии отразилось
также на ее форме. Данкур пишет обычно прозой, воспроизводящей обы-
денный, разговорный язык. В погоне за натуральностью речи он стремится1
отойти от монологов и тирад классицистического театра.
К Реньяру и Данкуру близко примыкает Шарль Ривьер Дюфрени
(Charles Rivière Durresny, 1648—1724). Этот талантивый, но беспорядоч-
ный человек был одновременно драматургом, поэтом, романистом, музы-
кантом, художником, журналистом и коммерсантом. При Людовике XIV
Дюфрени получил королевскую привилегию на зеркальную фабрику и на
издание журнала «Галантный Меркурий» («Mercure galant»). Кроме того,
он был контролером королевских садов и парков. Как драматург он со-
трудничал с Реньяром и актером-драматургом Доменико Бьянколелли-
младшим (Dominique Biancolelli), сочиняя пьесы для театра Итальянской
Комедии. Затем, он самостоятельно сочинил для театра Французской
Комедии двенадцать веселых, остроумных бытовых комедий, из которых
лучшими считаются «Дух противоречия» («L'Esprit de contradiction», 1708)
и «Деревенская кокетка» («La Coquette de village», 1715). В обеих коме-
диях выведен колоритный образ умного и ловкого крестьянина Луки, на-
поминающий сходные образы в комедиях Данкура. Комедии Дюфрени
блещут словесным комизмом, полны острот, но слабы в отношении дра-
матургической техники.
Помимо комедий, Дюфрени сочинял песенки (chansons), к которым
сам писал музыку. Из его повествовательных произведений следует отме-
тить роман «Серьезные и комические развлечения сиамца» («Amusements
sérieux et comiques d'un Siamois», 1699). Дюфрени впервые применил здесь
прием своеобразного показа французской действительности сквозь призму
ее восприятия восточным человеком, жителем Сиама, который, попав в Па-
риж, всему удивляется и часто попадает впросак. Этот прием был затем
позаимствован у Дюфрени Монтескье («Персидские письма») и Вольтером,
который не раз использовал его в своих философских повестях для прин-
ципиальной критики недостатков и пороков феодально-монархической
Франции.
ГЛАВА II
ЛЕСАЖ
1
аиболее крупной фигурой в группе французских писате-
лей, творивших на грани XVII и XVIII веков, был
Лесаж.
Ален-Рене Лесаж (Alain-René Lesage, 1668—1747)
родился в Нижней Бретани в семье нотариуса. Роди-
тели его рано умерли, и опекуны поместили мальчика в
иезуитский коллеж. По выходе оттуда Лесаж поступил
в парижский университет, где изучал философию и
право. Окончив его, он занимался некоторое время
адвокатурой, после чего обратился к литературной ра-
боте и превратился в писателя-профессионала. Он начал с переводов_и£дан-
ских романов и пьес, от переводов обратился к их вольной обработке и,
наконец, перешел к оригинальномутворчеству, в котором если и пользо-
вался испанской тематикой, то лишь как условной оболочкой для свобод-
ного показа французской действительности.
Лесаж всю жизнь нуждался, но никогда не искал, в противополож-
ность многим своим собратьям, покровительства меценатов. Он вел скром-
ный, патриархальный образ жизни в кругу своей семьи, не гнался за
пенсиями и наградами и сумел на всю жизнь сохранить благородную не-
зависимость характера.
^ Лесаж — писатель переходного времени.. Обнаружив немалую зор-
кость, он одним из первых показал характерную для периода разложения
феодализма и роста капиталистических отношений атомизацию француз-
ской жизни — распад общества на отдельные, взаимовраждебные, своеко-
рыстные атомы — индивидуумы. С особенной силой он показал власть
в этом обществе денег. В сущности деньги являются главным героем про-
изведений Лесажа: в любом из них постоянно слышится «звон благород-
ных металлов». Следствием этого господства денег является полное разло-
жение нравов общества. Лесаж показывает разрушающее влияние денег на
все отрасли деятельности людей, на их чувства и отношения, вплоть до
любви и семейно-родственных связей. Он рисует ту звериную страсть, с
которой жаждут золота как родовитые, утонченные дворяне, так и бур-
жуа. Лесаж никому из них не отдает предпочтения; его критика, как и
критика Мольера, носит двусторонний характер. Весь окружающий мир в
ПИ»
-Jiaîj
* Я
Ален-Рень Лесаж.
С портрета Гелара, грав. Б. Дероше.
Oit ПРОСВЕЩЕНИЕ
обрисовке Лесажа — темное своекорыстное царство, в котором золото ду-
шит все человеческие чувства. Бюрократический аппарат Франции, как и
вся вообще ее государственная машина, изображены Лесажем как система
наглого плутовства, продажности и взяточничества.
Субъективно Лесаж стоит на почве современного ему общества; он от-
носится к королевской власти без всякой враждебности; он не стремится
к "коренному изменению государственного строя, наивно мечтая поуче-
нием, заключающимся в его произведениях, исправить нравы и приоста-
новить случайный, с его точки зрения, рост господства денег. Лесажу,
таким образом, еще очень далеко до революционной, подрывающей самые
устои общества, идеологии просветителей. Объективный вывод из его твор-
чества значительно радикальнее его намерений.
Резко критикуя политический строй Франции, Лесаж стоит на страже
интересов народа и осуждает равнодушие государства к его благу. В ocHOBt
всего у Лесажа лежит показ смелого и умного выходца из народа и путей
его самоутверждения в окружающем обществе. Лесаж мечтает об энергич-
ной личности, могущей противостоять^ враждебным обстоятельствам и под-
чинить их себе. Его любимые герои — завоеватели жизни. Он любуется их
жизнеспособностью, их борьбой с обстоятельствами за свою долю жизнен-
ных-благ. Будь ловчайшим среди ловкачей — вот философия Лесажа, носи-
телями которой он делает своих смышленых слуг. Лесаж понимает, что
его любимые герои не безупречны в моральном отношении, но не видит
никаких иных реальных возможностей утверждения отдельной личности из
народа, кроме использования для этой цели волчьих методов окружающих.
Ловкие слуги Лесажа даны в двух планах: с одной стороны, это люди,
у которых плохие поступки являются временным, вынужденным окружаю-
щими обстоятельствами «подлым путем» для достижения «хороших целей».
Все они плутуют лишь для того, чтобы, устроив свое благополучие, бро-
сить плутни и зажить честной жизнью. Лесаж всячески оправдывает их,
охотно прощает им все погрешности против морали и даже любуется их
плутовством. Но такое оправдание плутовства не заходит у него слишком
далеко. Оправдывая плутовство, как неизбежное средство утверждения
личности из народа в мире чистогана, Лесаж порицает его, как только это
плутовство перестает служить «хорошей цели». На ряду с положитель-
ными, Лесаж выводит и отрицательные типы ловких слуг, «подлый путь»
которых ведет к «подлой» же цели. Эти слуги стремятся лишь к беспечной
наживе, хотят слиться с окружающим денежным обществом, мечтают войти
в буржуазию. Их девиз — «деньги ради денег», а не ради возможности в
будущем честно жить.
Таков, например, Криспин в комедии «Криспин — соперник своего
господина» («Crispin rival de son maître»,' 1707)—первой оригинальной
комедии Лесажа, представляющей вольное подражание пьесе испанского
писателя Диего Уртадо де Мендоса. Содержание комедии сводится к сле-
дующему. Валер и Анжелика любят друг друга, но отец ее, буржуа
Оронт, препятствует их браку, так как уже сговорился с другим буржуа
Оргоном и решил выдать дочь за его сына Дамиса, хотя ни разу не
видел предполагаемого жениха и знает о нем только то, что он богат.
Между тем Дамис тайно женился на любимой девушке, а так как та ока-
залась из богатой семьи, то отец признал этот брак и послал своего слугу
Лабранша сообщить о нем родителям Анжелики. Происходит случайная
встреча двух слуг — Лабранша, лакея Дамиса, и Криспина, лакея Валера.
Умный и энергичный Криспин тяготится своей профессией слуги и давно
уже мечтает о карьере откупщика, но не имеет нужной для начала этой
ЛЕСА Ж
615
карьеры суммы денег. Узнав о происшедшем, он решает выдать себя за
ожидаемого жениха, чтобы отбить у своего господина приданое невесты и
скрыться с ним. Ему помогает Лабранш, такой же ловкач и плут. Отреко-
мендовавшись Дамисом, Криспин очаровывает своей лестью тупоголовых
родителей Анжелики, й лишь случайный приезд Оргона разоблачает его.
Но Криспин, которому грозят галеры, выпутывается и тут. Он обращается
с льстивой речью к госпоже Оронт и умоляет ее о опасении. Недалекая,
молодящаяся дама, польщенная дифирамбами своей красоте, вступается за
Криспина и просит мужа о пощаде. Тот решает пустить смышленого
Криспина «по деловой дороге», для чего предлагает ему жениться на крест-
нице своего приятеля-откупщика. Таким образом мечта Криспина готова
превратиться в действительность.
Эта одноактная пьеска обладает значительными художественными
достоинствами. Лесаж проявил себя здесь большим мастером живого,
остроумного диалога, умеющим правдоподобно вести запутанную интригу.
В пьесе чувствуется большое влияние Мольера: Лесаж рисует буржуазию
с чисто мольеровской иронией. Он подчеркивает ее ограниченность, перехо-
дящую в тупоумие, ее собственническую, корыстную психологию, но в то же
время, подобно Мольеру, часто наделяет своих буржуа некоторым просто-
душием.
Лесаж осуждает также насильственный буржуазный брак, подчерки-
вая его сходство с обычными торговым^сделкащь Но вся эта буржуаз-
ная действительность является лишь фоном, на котором действует глав-
ный персонаж комедии, ловкий и энергичный Криспин.
Образ Криспина является наиболее интересным и существенным в
пьесе. Все его помышления, ум и энергия направлены лишь на то, чтобы
любым путем добыть деньги. В известной мере Лесаж симпатизирует
Криспину, его уму, ловкости, умению взять жизнь в свои руки, так как
во всем этом выражается энергия, которую Лесаж высоко ценит в чело-
веке. Но далее он показывает, какое уродующее влияние оказывают деньги
даже на самых одаренных выходцев из народа. Добиваясь богатства,
Криспин не ставит себе впереди «честной цели». Он упрекает себя
за свое лакейское прошлое, между тем как с его умом он мог бы
давно уже быть финансовым светилом. Он мечтает стать крупным откуп-
щиком и банкиром, т. е. «кровососом» того самого народа, из которого
вышел.
Крупная финансовая буржуазия была в начале XVIII в. уже гроз-
ным социальным явлением. Денежные магнаты, бывшие, по большей
части, одновременно откупщиками, банкирами и ростовщиками, высасы-
вали всю кровь из разоренного народа. Обычно они являлись выходцами
из_низов. Добывая себе с помощью какой-либо мошеннической проделки
нужную для покупки откупа сумму денег, они постепенно, путем безжа-
лостного грабежа народа, наживали огромные состояния. Такой путь в
откупщики и показывает Лесаж в образе своего Криспина. И хотя Лесаж,
следуя традициям классицистической комедии, наказывает порок в конце
своей пьесы путем провала плана Криспина, все же это наказание весьма
проблематично. В конечном счете Криспин выигрывает, собираясь жениться
на крестнице откупщика, так как, имея ее приданое и протекцию влия-
тельного крестнсго, он на пути к тому, чтобы самому стать откупщиком.
«Уж я постараюсь своей угодливостью заслужить расположение крест-
ного!»— восклицает в финале комедии обрадованный Криспин. Дальней-
шее развитие этот образ получит в комедии «Тюркаре» («Turcaret»,
1709).
616
ПРОСВЕЩЕНИЕ
Происхождение этой знаменитой комедии Леоажа следующее. В конце
1707 г. Лесаж написал маленькую пьеску «Новогодний подарок» («Les
Etrennes») и хотел ее поставить в театре Французской Комедии под новый
год. Но он натолкнулся на сопротивление актеров, которые ссылались на
то, что пьеса одноактная и не заполнит всего спектакля. Тогда Лесаж рас-
ширил объем комедии до пяти актов, переименовал ее в «Тюркаре» и снова
представил в театр. Актеры снова отвергли ее, но на этот раз уже по
причинам принципиального характера. Дело в том, что эта комедия пред-
ставляла собою острую сатиру на откупщиков, затрагивать которых было
далеко не безопасно в виду того, что они находились под особым покрови-
тельством короля, часто пользовавшегося их деньгами. Этим и объясняется
тот факт, что до Аесажа откупщики почти не были затронуты француз-
ской комедией. Правда, откупщики иногда выводились в комедиях Реньяра
и Данкура, но только в качестве эпизодических персонажей. Один Лесаж
впервые отважился сделать образ откупщика центральным в комедии. Из-
вестие о появлении «Тюркаре» встревожило откупщиков, которые стали
всеми способами добиваться запрещения комедии. Вокруг постановки
«Тюркаре» началась борьба, напоминающая борьбу из-за постановки
«Тартюфа»; только вмешательство дофина, желавшего отомстить откуп-
щикам, которые отказали ему в крупном займе, спасло пьесу. Тогда от-
купщики предложили Лесажу сто тысяч ливров за добровольный отказ
от постановки комедии. Но Лесаж отверг это предложение, и пьеса, по-
ставленная в начале 1709 г., прошла, несмотря на наемных свистунов,
с огромным успехом.
Лесаж показывает в «Тюркаре» общество, разложившееся под влия-
нием денежных отношений. Тюркаре — золотой мешок, перед которым
все заискивают и пресмыкаются, несмотря на его внутреннее ничтожество.
В ряде реалистических образов Лесаж рисует как дворянские, так и бур"
жуазные слои этого общества и обличает их почти с мольеровской сати-
рической силой. У него нет заметной разницы в показе аристократического
и буржуазного лагеря; в конце концов, представители и того и другого
оказываются у него беспринципными искателями легкой наживы.
Лесаж подчеркивает, какой упадок нравов влечет за собой всеобщее
стремление к золоту. Родовитые аристократы состязаются с буржуа в бе-
шеной погоне за деньгами. Забыв свое «дворянское достоинство», они
заискивают, льстят и унижаются перед самым ничтожным человеком, если
только он богат. Лесаж резко противопоставляет личину людей их подлин-
ной сущности. Внешне баронесса и посетители ее салона — культурные и
гуманные люди, внутренняя же их сущность — пошлость и своекорыстие.
Внешне салон баронессы — место приятного отдыха и утонченных развле-
чений, по существу же это — разбойничий притон, заключающий в себе
«самую мрачную коллекцию мошенников, когда-либо виденную на сцене»
(Поль де Сен-Виктор), где донага раздевают заманенного туда откупщика
Тюркаре. Каков салон баронессы, таково и окружение Тюркаре: Фюре —
специалист по подлогам и подделке подписей; ростовщик Рафль—правая
рука откупщика, ширма, за которой скрывается сам Тюркаре; тупоголовая
мадам Тюркаре — своего рода мадам Журден в юбке, лезущая в графини,
и светские львицы, но не расставшаяся с манерами и грубостью торговки;
сестра Тюркаре, мадам Жакоб — торговка, комиссионерша, мелкая ростов-
щица и, в довершение всего, сводня. Сущность этого общества, его мораль-
ное разложение метко охарактеризованы слугой, Фронтеном как «удиви-
тельный водоворот плутней».
ЛЕСАЖ
617
Центром этого мошеннического общества является богач Тюркаре,
пошлый, грубый и бесчеловечный, перед которым из-за его золота падают
ниц все окружающие. Тюркаре — дальнейшее развитие образа Криспина.
Тюркаре — это Криспин, осуществивший свою мечту стать финансовым
светилом. Он тоже выскочка из лакеев — бывший слуга маркиза, тем-
ными путями добывший деньги для покупки откупа и затем, путем
ростовщичества, злостного банкротства и безжалостного грабежа насе-
ления, составивший себе огромное состояние.
Образ Тюркаре полон большого социального смысла. Маркс пишет
в «Капитале»: «Расточительность капиталиста никогда не приобретает
того откровенного характера, как расточительность разгульного феодала,
наоборот, в основе ее всегда таится самое грязное скряжничество и скру-
пулезная расчетливость». ' Именно таков Тюркаре Лесажа, типичное
воплощение денежного хищника той эпохи. ♦—ч
Образ Тюркаре дан Лесажем в двух планах — как образ дельца-
кровососа и как образ расточителя, проматывающего награбленные богат-
ства и совмещающего безумное мотовство с мелочной жадностью. Первый
план только слегка намечен. Разбойничья деятельность Тюркаре пока-
зана лишь в одной небольшой сценке его с Рафлем. Это объясняется,
повидимому, цензурными соображениями, тем более, что в то время одно
слово «откупщик» говорило за себя. Зато второй план развит в комедии
полностью. Тюркаре выведен как расточитель, который кидает десятки ты-
cяч_JvивJpoв знатной любовнице, и в то же время как скряга, лишающий
свою жену ее ничтожного содержания. Он отрекается от всех родственни-
ков, чтобы не помогать им материально, и не желает даже дать место
своему зятю, так как постороннему он сможет это место продать.
Тюркаре глуп, наивен, легковерен. Лесаж не наделяет его чертами,
характерными для финансистов того времени: хитростью, ловкостью,
умом, — словом, всем тем, что в изобилии имелось у Криспина. Тюркаре —
простофиля, которого одурачивают все, в том числе недальновидная баро-
несса, слуги, прихлебатели, пустоватый фат-кавалер. Вокруг него обра-
зуется как бы заговор с целью разорить и уничтожить его, но Тюркаре
упорно ничего не замечает. Он показан пассивной, безвольной жертвой,
обираемой кучкой негодяев, так что зритель даже недоумевает, как мог
такой простофиля выйти из лакеев в финансовые короли. Все это не-
сколько ослабляет пафос обличения Лесажа и снижает реализм образа
Тюркаре. Причина этого кроется в одностороннем творческом методе Ле-
сажа, который ставил себе целью высмеять ненавистных ему денежных
тузов и для этого намеренно акцентировал в характере Тюркаре глупость
как основную его черту.
Лесаж показывает, как деньги трансформируют в глазах окружаю-
щих все свойства Тюркаре. Все окружающие поют дифирамбы уму тупо-
умного героя. Тюркаре всегда говорит лишь прозой своей банкирской
конторы, но эта проза, под сладкий аккомпанемент золота, превращается
в дивную поэзию, о чем наглядно свидетельствует хотя бы эпизод с без-
дарным л!адригалом, сочиненным Тюркаре, который он преподнес баро-
нессе, сдобрив его банковым билетом. Этот смехотворный образчик
банковской поэзии принимается окружающими как талантливейшее произ-
ведение. Только служанка Марина иронически указывает на то, что осо-
бенную ценность этим"'стихам придает приложенный к ним денежный
билет: «Ваша проза стоит вашей поэзии».
1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XVII, стр. 658.
"-«•" ПРОСВЕЩЕНИЕ
Вторым по важности образом комедии является слуга Фронтен. Фрон-
тен так же, как и все другие персонажи комедии, жаждет золота и уча-
ствует в заговоре, имеющем целью обобрать Тюркаре, так как хочет раз-
богатеть любым путем. Но на эгоизм богачей он реагирует своим эгоиз-
мом, проявляя, таким образом, свой способ самозащиты от более сильной
и богатой части общества, принижающей его человеческую личность. Аесаж
признает неэтичность поступков Фронтена, но оправдывает их, так как
аморализм его любимого героя есть неизбежно вызванный обстоятельствами
«плохой путь к хорошей цели»—к честному образу жизни в будущем.
Фронтен вовсе не мечтает, как Криспин, влезть в буржуазию и гнаться
за наживой. Он завоевывает всеми правдами и неправдами свою долю
жизненных благ для того, чтобы, встав крепко на ноги, «дать отдохнуть
совести» и начать вести честный образ жизни. Оказавшись в финале коме-
дии обладателем небольшой суммы денег, Фронтен решает ею ограни-
читься. Он просит руки полюбившейся ему служанки Лизеты, говоря ей
при этом: «Если твое тщеславие намерено ограничиться этим скромным
состоянием, то мы положим основание роду настоящих честных людей».
После неприятностей, связанных с постановкой «Тюркаре», Лесаж
изменил направление своей драматургической деятельности. Он покинул
театр Французской Комедии и перешел в Ярмарочный театр (Théâtre de
la Foire), представлявший в это время наиболее демократичную ipa3H0-
видность зрелищ Парижа. Он работал там с 1712 по 1732 г., сочинив за
это время более сотни комических пьесок малых, непризнанных класси-
цизмом жанров — водевилей, комических опер, пародий и пр. Некоторые
из этих пьес написаны им в сотрудничестве с д'Орневалем, Фюзелье,
Пироном и др. Лучшие ярмарочные пьесы были впоследствии собраны и
опубликованы Лесажем в десяти томах, под заглавием: «Ярмарочный
театр, или Комическая опера» («Le Théâtre de la Foire, ou l'Opéra comi-
que», 1721—1734).
Характерной особенностью всех этих пьес является преобладание
пения, пантомимы и танцев над диалогом. Такая структура объяснялась
необходимостью бороться с притеснениями, чинимыми Ярмарочному театру
привилегированными театрами Французской Комедии и Музыкальной
Академии (оперы), которые, ссылаясь на свое право монополистов, вся-
чески препятствовали развитию Ярмарочного театра, запрещая ему упо-
требление то диалога, то пения. Это вынуждало драматургов Ярмарочного
театра выискивать различные пути обхода подобных постановлений и
придумывать особые драматические формы, не подлежащие запрету. Боль-
шой изобретательностью в этом отношении отличался Лесаж. Когда за-
прещали диалог, он обращался к куплетам, зачастую дробя их на куски
и превращая, таким образом, пение в своеобразный диалог; когда запре-
щалось пение, заместительницей диалога являлась пантомима, в помощь
к которой демонстрировались важнейшие реплики, написанные на больших
плакатах (так называемые pièces à écritaux).
В тематическом отношении для пьес указанного сборника Лесазка
характерна сатирическая направленность, проявляющаяся большею частью
в форме пародии на драматургическую продукцию привилегированных
театров. Носителями пародийной струи здесь обычно являлись офран-
цуженные маюки commedia dell'arte (Арлекин, Панталоне, Доктор и др.).
Попутно пьесы наполнялись прозрачными злободневными намеками, и
этот актуальный элемент еих особенно привлекал зрителей.
Откликаясь на начавшееся в это время всеобщее увлечение восточ-
ной сказкой после появления «Тысячи и одной ночи» в переводе Гал-
ЛЕСЛЖ
Dlïf
лана, Лесаж сам содействовал усилению интереса к восточной сказке,
приняв участие в редактировании переведенного на французский язык
Пети де Лакруа (Pétis de la Croix) пятитомного сборника персидских ска-
зок «Тысяча и один день» («Les Mille et un jours», 1710—1712). Вслед
затем Лесаж пришел к мысли о сценической разработке восточной ска-
зочной тематики и положил ее в основу некоторых из своих пьес, напи-
санных для Ярмарочного театра. Но эта фантастическая тематика пре-
подносилась Лесажем в ироническом и шутливом тоне, являясь для неге
лишь средством показать красочное и захватывающее зрелище. Но все
же и в сказочных пьесах Лесажа встречается ряд бытовых фигур, выхва-
ченных, главным образом, из аристократических и финансовых кругов
Франции (ростовщики, петиметры, светские дамы и пр.) и поданных
в сатирическом плане. Сказочно-экзотические пьесы Лесажа в дальнейшем
оказали обратное влияние на итальянский театр. Так, например, «Прин-
цесса Турандот» Гоцци написана под влиянием ярмарочной комедии
Лесажа «Китайская принцесса» (1729).
После Лесажа, к середине XVIII в., Ярмарочный театр приобретает
все большую популярность и вступает в период расцвета. Теперь его по-
сещают и аристократы, видящие в нем своеобразное экзотическое зре-
лище. В итоге Ярмарочный театр превращается в театр Комической оперы,
который с 1761 г.- входит в группу привилегированных театров и перехо-
дит в закрытое помещение. Это повлекло за собой резкое падение числа
демократических зрителей. Театр начинают посещать, главным образом,
зажиточные буржуа и аристократы, что привело к изменению его тема-
тики сообразно вкусам нового зрителя. Первоначальный жанр комедии
с куплетами утрачивает свою пародийно-сатирическую заостренность и,
путем все большего усиления музыкального элемента, трансформируется
в комическую оперу в современном понимании этого слова. Это развитие
связано с творчеством Шарля-Симона Фавара (Charles-Simon Favart,
1710—1792), либреттиста многих популярных комических опер, а также
с именем композитора Гретри (Grétry, 1731—1813). Но, на ряду с ари-
стократизировавшейся Комической оперой, в Париже со второй половины
XVIII в. начинают развиваться бульварные театры, являющиеся средо-
точием демократического зрителя. Драматургическая продукция этих
театров — идейное орудие борьбы третьего сословия — развивается под
воздействием революционной идеологии просветителей. Сатирическая линия
Лесажа находит здесь не только свое дальнейшее развитие, но и углуб-
ление, принимая ярко выраженный политический характер.
Ярмарочный театр в целом сыграл немаловажную роль в развитии
европейского театра, оказав значительное влияние на выработку новых
жанров мелодрамы, комической оперы и водевиля.
2
На ряду со своей драматургической деятельностью Лесаж проявил
себя как первоклассный романист. Первые опыты Лесажа в этом направ-
лении совпадают с началом его работы для театра. Некоторое время оба
жанра уравновешивают друг друга в его творчестве, но затем роман от-
тесняет драматургию на второй план.
В 1707 г., одновременно с «Коисштом», Лесаж выпускает свой пео-
вый роман «^Срюмой бес» («Le Diable boiteux»). Этот роман весьма по-
казателен для формирования Лесажа-романиста, так как он вырос из
перевода одноименного испанского плутовского романа Луиса Велеса де
охи
ПРОСВЕЩЕНИЕ
Гевара («El diablo cojuelo», 1641). Завязкой этого романа является сле-
дующая ситуация: студент Клеофас, влюбленный в одну даму, застигнут
у нее ревнивым супругом, бросающимся за ним в погоню с обнаженной
шпагой в руке. Спасаясь по крыше, студент попадает в находившуюся
на чердаке одного дома лабораторию астролога, в которой он находит
множество склянок. В одной из этих склянок заперт бес Асмодей, кото-
рый просит Клеофаса выпустить его оттуда, обещая за это «показать ему
все, что делается на свете». Клеофас освобождает Асмодея, который взле-
тает со студентом на воздух и, сняв крыши с домов, показывает ему
подлинную жизнь Мадрида во всей ее безобразной наготе.
Это оригинальное начало заинтересовало Лесажа, и он перевел его
точно, даже сохранив имена героев. Но у Гевары любознательный сту-
дент очень скоро спускается на землю, после чего идет рассказ о его
приключениях, развивающийся по трафарету авантюрного романа, между
тем как Лесаж строит на исходной ситуации все свое произведение. Такая
форма дала ему возможность, под видом испанской действительности, на-
рисовать серию картин французской жизни, изобразив ряд реальных ти-
пов. В манере подачи Лесажем образов в этом романе чувствуется значи-
тельное влияние Лабрюйера, так как отправным пунктом у него является
обрисовка внешности и постутков персонажей, в которых раскрывается их
характер.
В целом «Хромой бес» является серией характеристик, обрамленных
затейливой сюжетной рамкой, заимствованной у Гевары. Лесаж дает
менее глубокие и тонкие обрисовки персонажей, чем это делал Лабрюйер,
но он превосходит своего учителя в искусстве придавать образам живо-
писность и пластичность. Лесаж обращает большое внимание на сослов-
ную принадлежность персонажей, а также на их профессию. Это придает
его характеристикам значительно большую социальную заостренность,
чем та, которую мы находим у Лабрюйера. С особенной язвительностью
обрушивается Лесаж на буржуазию. По его мнению, самые благонаме-
ренные на вид буржуа, если всмотреться в их внутреннюю сущность,
не что иное, как «воры из третьего сословия». Он даже сопоставляет
банкиров с ворами, иронически доказывая, что первые ничуть не лучше
вторых. Но Лесаж не щадит также и аристократов. Он высмеивает их
самомнение, распутство, паразитический и эпикурейский образ жизни,
приводящий их в конце концов к разорению.
Одним из лейтмотивов «Хромого беса» является показ безраздель-
ной власти денег в современном обществе. С едкой иронией Лесаж рисует
вереницу представителей различных профессий: продажных судей, решаю-
щих дело в пользу того, кто больше даст; корыстных врачей, делающих
из человеческих страданий источник собственного обогащения; развратных
и жадных монахов и т. д. Немало внимания уделено также положению
писателя в обществе. Лесаж рисует нищих поэтов, живущих на чердаках
и вынужденных «писать свои поэмы на стенах за недостатком бумаги».
Мы видим, как гибнут их способности, как постепенно эти поэты превра-
щаются в бездарных искателей пенсий, работающих не столько над произ-
ведениями, сколько над их посвящениями тому, кто больше заплатит.
Лесаж показывает также, как золото разрушает все .родсдзвенные и семей-
ные связи между людьми, сводя их к чисто денежным отношениям.. Вот
племянник, который сошел с ума от радости, узнав, что его богатый дядюшка
умер; вот дети, мечтающие о смерти родителей, в надежде получить над
следство, или сын, пытающийся отр'авить с той же целью любящего отца.
Лесаж изображает притворные слезы наследников у постели умирающего
ЛЕСА Ж
621
богача; рисует детей, бро-
сивших старую мать после
того, как она отдала им
все свое состояние. Сло-
вам, он показывает на мно-
жество ладов, как деньги
развращают людей.
Роман «Хромой бес»,
наполненный злободневны-
ми намеками и содержа-
щий немало портретов со-
временников, имел колос-
сальный успех. В течение
•года он выдержал два из-
дания, причем экземпляры
разбирались покупателями
в еще не сброшюрованном
виде; из-за последнего
экземпляра первого изда-
ния, по сообщению совре-
менной газетной хроники,
между двумя претендента-
ми на него произошла
дуэль.
Следующий роман Ле-
сажа еще более широк по
своему замыслу и выпол-
нению. «Похождения Жиль
Бласа кз Сантильяны»
(«Histoire de Gil Blas de
Santillane») — монумен-
тальное произведение, яви-
вшееся результатом двадца-
тилетней работы Лесажа.
Первые две части его вышли
в 1715, третья —в 1724,
а четвертая и последняя —
в 1735 г.
Сюжет романа сводит-
ся вкратце к следующему.
Честный и неглупый юно-
ша Жиль Блас, воспитан-
ный в семье бедного стре-
мянного, вступает в жизнь, полный доверия к людям, с надеждой, что
общество поможет ему выйти в люди. В дальнейшем Лесаж показывает,
как сама жизнь учит неопытного Жиль Бласа тому, что в окружающем
обществе «ни во что не ценят порядочного человека, если у него нет со-
стояния». Он начинает понимать, что отдельная личность из народа поста-
влена перед дилеммой либо быть затертой, либо самой позаботиться о
своем преуспеянии, применяя для этого даже самые имморальные методы.
Жиль Блас выбирает последнее, но лишь как временное средство для до-
стижения личного благополучия, намереваясь в будущем вести честный
образ жизни. Он становится, "таким образом, на путь, ведущий >к завоева-
Лесаж. «Хромой бес*-.
Фронтиспис амстердамского ивдания 1739 г. (ааимствован с
фронтисписа первого ивдания 1707 г.).
622
ПРОСВЕЩБППЕ
нию жизни, а так как основное в окружающем обществе — деньги, то все
последующие похождения Жиль Бласа направлены на завоевание золота.
В первых двух книгах описывается пребывание героя в низших и
средних слоях общества, в третьей же он попадает в правительственные
сферы, случайно сделавшись секретарем алчного министра Лермы. В этот
период под влиянием окружающих характер Жиль Бласа резко меняется.
Он забывает своих нуждающихся родителей, порывает с друзьями дет-
ства и уподобляется Лерме в своей страсти к наживе. Но даже в эти
годы своего наибольшего нравственного падения Жиль Блас не только
в умственном, но и в нравственном отношении стоит несравненно выше
окружающих. Он нисколько не закрывает глаз на всю низость своих
поступков, откровенно называя их «недостойными», тогда как представи-
тели господствующих классов без всякого смущения делают вещи, в сто
раз худшие. Порой он тяготится своей имморальностью, испытывает
угрызения совести и мечтает «в будущем проявлять бескорыстие». Так
в конце концов и происходит: приобретя небольшое состояние, Жиль Блас
женится на дочери своего фермера Антонии и, отказавшись от опроти-
вевших ему плутней, начинает вести честный образ жизни в своем малень-
ком имении.
На этом роман должен был окончиться, но издатели потребовали
его продолжения, и Лесаж написал четвертую часть, в которой он заста-
вил Жиль Бласа овдоветь и снова пуститься в авантюры. Он вторично
сделал его фаворитом министра, но на этот раз уже честного Оливареса,
бескорыстно заботящегося о благе народа и государства, в чем ему вся-
чески помогает Жиль Блас. После падения и смерти Оливареса Жиль
Блас снова удаляется к себе в имение, где находит, наконец, тихую
пристань, обзаведясь новой семьей и вернувшись к спокойному и чест-
ному образу жизни.
«Жиль Блас» — типичный плутовской роман, написанный свойствен-
ным Лесажу ясным и сжатым языком классицистической прозы XVII в.
В композиционном отношении он тоже не отступает от традиций плутов-
ского романа. Это — вереница новелл, механически объединенных лич-
ностью главного героя, причем значительная часть их может быть уда-
лена из произведения без всякого ущерба для его содержания.
Близость «Жиль Бласа» к типу испанских плутовских романов яви-
лась причиной постановки так называемого «жильбласовского вопроса»,
который заключается в следующем: сочинил ли сам Лесаж этот роман,
или же он просто перевел случайно попавшуюся ему испанскую рукопись,
а потом уничтожил ее и присвоил роман себе? По этому вопросу раз-
вернулась долгая, более чем полуторавековая полемика, которая разжи-
галась шовинизмом критиков, желавших во что бы то ни стало присвоить
знаменитый роман своей нации. Испанские критики особенно подчерки-
вали то обстоятельство, что не бывавший в Испании Лесаж не мог на-
писать произведение, в котором так точно воспроизведен общий стиль и
колорит испанской жизни. В свою очередь, многие французские критики
утверждали, что Лесаж написал «Жиль Бласа» без помощи каких-либо
готовых образцов, единственно лишь с помощью своего творческого во-
ображения и таланта. Сейчас этот спор можно считать законченным. Уже
в конце XIX в. большинство критиков, после внимательного изучения
текста романа и его композиции, пришли к выводу, что «Жиль Блас» —
оригинальное произведение, хотя автор использовал в нем многочислен-
ные источники литературного, мемуарного, исторического и географиче-
ского порядка. В числе их называют ряд плутовских романов, из которых
ЛЕСА Ж
623
Аесаж заимствовал некоторые эпизоды, путевые записки об Испании
мадам д'Онуа, исторические работы Имгофа и Вейрака,, географические
карты Испании и т. п. Все эти источники Аесаж использовал точно
таким же образом, как это делают и другие писатели, беря у различных
авторов отдельные детали, причем все заимствованное им Аесаж подверг
обработке и изложил присущим ему четким, рационалистическим язы-
ком. Таким образом, местный колорит романа, чрезвычайно яркий и кон-
кретный, несмотря на ряд отдельных неточностей, целиком почерпнут из
книг и заставляет отдать должное таланту Аесажа, сумевшего почувство-
вать подлинный характер страны, которую он знал только по описаниям.
Испанская тематика была весьма удобна Аесажу в качестве защит-
ного средства от нападок цензуры. Он пользуется ею как условной оболоч-
кой для беспрепятственного показа французской действительности. При-
крываясь испанскими масками, Аесаж развертывает огромное социально-
бытовое полотно, на котором рисует французское общество во всех его
слоях. Он поднимает в «Жиль Бласе» авантюрно-реалистический роман
на небывалую до тех пор высоту, делая его политико-сатирическим и оп-
позиционным.
Особой разоблачительной силой отличается третья часть романа.
Здесь дана политическая сатира на правительственные круги Франции
периода Регентства. При этом Аесаж пользуется приемом изображения
различных французских правителей под именем испанских исторических
лиц. Так, под именем герцога Аермы скрывается аббат Дюбуа, прави-
тель Франции в период Регентства. Герцог Аерма олицетворяет прави-
тельственную и административную систему этого времени с ее произво-
лом, аморализмом и всеобщей погоней за золотом. Под видом Испании
Аесаж резко критикует Францию времен Регентства. «Испания, — пишет
он, — превратилась в огромную биржу, где продается все: честь, челове-
ческое достоинство, государственные должности, титулы». При этом Аесаж
особенно подчеркивает невнимание государства к нуждам народа, о кото-
ром он всегда говорит с большой теплотой, любовью и уважением, под-
черкивая его трудолюбие, энертию и человечность. Он рисует в сочув-
ственных тонах скромных и трудолюбивых родителей Жиль Бласа, их со-
седей, простых, грубых, но прямых и честных людей. Таков круг людей,
среди которого вырос Жиль Блас. Никто из этих бедняков, добывающих
себе пропитание тяжелым трудом, не стал льстить и угодничать перед
приехавшим к ним в качестве секретаря герцога Аермы Жиль Бласом, ко-
торый из тщеславия пожелал устроить роскошные похороны отцу, хотя при
жизни он не помогал ему ничем. «Все обитатели Овьедо, — записывает
Жиль Блас, вскоре понявший свою черствость, — от мала до велика были
возмущены моим чванством».
• В четвертой части романа под именем испанского министра Олива-
реса Аесаж изобразил сменившего Дюбуа кардинала Флери. Здесь, та-
ким образом, показано начало правления Аюдовика XV, когда все язвы
политического строя времен Регентства обнажились еще больше. Но
в романе Аесажа наблюдается обратное. Хотя Аесаж и не проходит
с закрытыми глазами мимо темных сторон общественной жизни Франции
этого периода, он обличает их уже не с прежней резкостью и силой. В об-
разе Оливареса он дает положительную фигуру мудрого правителя, за-
ботящегося о благе народа и государства и пытающегося наладить отно-
шения между правительством и народом. Объясняется это тем, что в
начале правления Аюдовика XV сам король и его министр кардинал
Флери заигрывали с народом, делая вид, что они хотят залечить раны.
G2 4
ПРОСВЕЩЕНИЕ
нанесенные Франции правлением регента. Оптимистические иллюзии, охва-
тившие французское общество того времени, и нашли отражение в четвер-
той части «Жиль Бласа».
Но Лесаж показывает, что, несмотря на все старания герцога Оли-
вареса, он не может полностью уничтожить глубоко укоренившееся
в административной системе бесстыдное стяжательство, фаворитизм и взя-
точничество. Даже относясь с сочувствием к кардиналу Флери, Лесаж дает
критику всей бюрократической и государственной машины Франции, ибо
он не надеется, что Флери удастся достигнуть каких-либо реальных ре-
зультатов. В конце концов Оливарес у Лесажа оказьшается свергнутым
в результате народного восстания; можно думать, что Лесаж предвидел
предстоявшие Франции великие потрясения.
Итак, в своем «Жиль Бласе» Лесаж отразил различные этапы исто-
рического развития Франции в начале XVIII в., что увеличивает позна-
вательное значение романа. При всем том реализм Лесажа еще несколько
примитивен, так как он ограничивается показом одних внешних фактов
жизни, не проникая в человеческую психологию. Все же характер глав-
ного героя романа уже заключает в себе как положительные, так и отри-
цательные черты и значительно изменяется по мере развертывания дей-
ствия и под влиянием воздействия на него окружающей среды. Жиль
Блас — вполне живой персонаж, иллюстрирующий своими похождениями те
огромные трудности, которые приходилось преодолевать умному и способ-
ному человеку «низкого» звания, если он хотел выйти из своего бесправ-
ного положения и сделать карьеру.
«Жиль Блас» имел огромный успех у читателей и оказал большое
влияние на ряд крупнейших авторов не только во Франции (Мариво),
но также в Англии (Фильдинг, Смоллет) и в других странах. В России
можно назвать целую вереницу подражателей Лесажа, как то: Чулков,
Симановский, Матвей Комаров («Несчастный Никанор»), Нарежный
(«Российский Жильблаз»), Булгарин («Иван Выжигин»).
Помимо «Жиль Бласа», Лесаж во втором периоде своей деятель-
ности написал еще целый ряд романов, из которых наиболее оригиналь-
ным являются «Приключения Роберта Шевалье, прозванного Бошеном,
капитана флибустьеров в Новой Франции» («Les Aventures de M. Robert
Chevalier, dit die Beauchêne, capitaine de flibustiers dans la Nouvelle France»,
1732). По словам Лесажа, в основу этого романа положен подлинный
дневник канадского пирата Бошена, грабившего английские торговые суда,
а потом оставившего этот промысел и приехавшего доживать свои дни
во Франции. Рукопись будто бы перешла к Лесажу от вдовы Бошена.
Роман не окончен, так как дневник не был доведен до конца. В «Приклю-
чениях Роберта Бошена» описываются различные приключения этого пирата
в Америке и на океане, его грабежи, веселые проделки, пребывание
в Кинсальской тюрьме и в американских городах и т. д.
Существование дневника Бошена нельзя считать вполне доказанным.
Ссылки на мнимые дневники были очень в ходу в европейской литера-
туре XVIII в. (они встречаются, например, у Дефо). Но Лесаж, на-
сколько мы знаем, никогда не занимался мистификациями. Кроме того,
он дает в своем романе очень точное описание жизни Нового Света со
всей ее спецификой, вплоть до туземных названий отдельных предметов
и даже целых фраз, взятых из языка ирокезов и негров. Всего этого
Лесаж никак не мог почерпнуть из книг. Это говорит в пользу существо-
вания дневника Бошена. Интерес романа заключается в том, что он яв-
ляется первым образцом морского романа во французской литературе.
.'ECAJR
62 i»
Работая над «Жиль Бласом», Лесаж одновременно занимался пере-
водами и свободной обработкой различных испанских романов. Он перевел,
например, знаменитый испанский плутовской роман «История Гусмана
из Альфараче» Матео Алемана (1732), скомпилировал из иапанских
источников роман «Эстебанильо Гонсалес» («Estebanille Gonzalès», 1734)
и написал плутовской роман «Саламанкский баккалавр» («Le Bachelier de
Salamanque», 1736), представляющий собой мало удачную вариацию
«Жиль Бласа».
В последние годы своей жизни Лесаж написал несколько книг, пред-
ставляющих как бы публикацию накопленных в его записных книжках
повествовательных материалов, слабо скрепленных примитивными обра-
мляющими новеллами. Таковы: «День Парок» («Une Journée des Parques»,
1734), «Найденный чемодан» («La Valise trouvée», 1740) и «Забавная
смесь» («Le Mélange amusant», 1743). Это наименее значительная часть
литературного наследия Лесажа, ничего не прибавляющая к славе автора
«Тюркаре», «Хромого беса» и «Жиль Бласа».
ГЛАВА III
МОНТЕСКЬЕ
I
блестящей ллеяде просветителей, идеологически (подгото-
вивших события Французской буржуазной революции,
одно из первых мест принадлежит Монтескье. Выдаю-
щийся политический мыслитель, историк и социолог,
родоначальник европейского либерализма, игравшего
в период восхождения буржуазии глубоко прогрессив-
ную роль, впоследствии им утерянную, — Монтескье
[явился одним из основоположников французской про-
светительной литературы, инициатором того мощного
освободительного идейного движения, которое вскоре
широким потоком разлилось по всей Франции.
Шарль-Луи де Секонда, барон де Монтескье (Charles-Louis de Secon-
dât, baron de Montesquieu, 1689—1755) происходил из старинного гаскон-
ского дворянского рода, принадлежавшего к так называемому «дворян-
ству мантии» (noblesse de robe) — высшей чиновной знати, издавна из-
вестной своими оппозиционными настроениями, из рядов которой в свое
время вышло немало фрондеров. Эти антиабсолютистские тенденции окру-
жавшей Монтескье среды в известном отношении явились питательной
почвой, на которой впоследствии выросла его просветительская критика.
Монтескье получил образование в коллеже ордена ораторианцев, из-
вестном классической, а не клерикальной направленностью своего пре-
подавания. Он вынес оттуда блестящее знание древних языков, а также
любовь к античной литературе и к гражданским доблестям древности.
Еще на школьной скамье он пишет «еретическое» с точки зрения бого-
словия сочинение, в котором пытается доказать, что великие писатели и
мыслители древности не заслуживают адских мук.
Окончив в 1705 г. коллеж, Монтескье усиленно занимается правом,
готовясь, по семейной традиции, стать юристом. Одаренный юноша бы-
стро сумел ориентироваться в том ужасном хаосе, какой представляли
собой не кодифицированные еще в то время французские законы, среди
которых, на ряду с бесчисленными, нередко противоречащими друг другу
королевскими ордонансами, действовало каноническое и римское право, а
также обычаи (coutumes) различных местностей. Монтескье пытался как-то
осмыслить изучаемое, он искал, по его собственному выражению, «идею
права».
МОНТЕСКЬЕ
6В7
В 1716 г., после смерти дяди, который был одним из президентов
Бордосского парламента, Монтескье, как старший в роде, унаследовал
его должность вместе с поместьем, баронским титулом и фамилией Мон-
тескье. Сначала он горячо принялся за работу, но вскоре охладел к. ней,
убедившись в полном бессилии парламента перед королевской властью.
Перестав интересоваться службой, он начал, как любитель, заниматься
науками — историей, правом и в особенности естествознанием. Он сделал
в Бордосской Академии Наук ряд докладов («О тяжести», «О прозрач-
ности тел» и т. п.), не представлявших большого научного интереса
и потому вскоре забытых.
Гораздо интереснее начатый в это время Монтескье дневник, в ко-
тором он имел обыкновение регулярно отмечать все, что наблюдал за
день. По всей вероятности, этот дневник послужил основой первого зна-
чительного произведения Монтескье — его социально-философского ро-
мана «Персидские письма» («Lettres persanes», 1721), положившего на-
чало работе просветителей в области художественной прозы. Этот роман —
блестящая, необычайно едкая сатира на абсолютистскую Францию с ее
деспотизмом, ханжеством и деморализацией высших классов. Он имел
огромный успех, так как в ряде его основных положений Монтескье вы-
разил мысли и настроения всего французского наоода, тяжело страдав-
шего под гнетом абсолютизма.
«Персидские письма» были напечатаны без имени автора. В этом
сказались аристократические предрассудки Монтескье, который, гордясь
своим знатным происхождением, всегда стыдился звания профессиональ-
ного писателя и почти все свои произведения издавал анонимно. «Моя
болезнь — сочинять книги и стыдиться, что я сочинил их», — говаривал
он поаже. Однако, несмотря на все усилия, Монтескье не удалось скрыть
свое авторство, и «Персидские письма» положили начало его литератур-
ной славе.
Вскоре после выхода в свет «Персидских писем» Монтескье пересе-
лился в Париж, где стал посетителем различных светских салонов. Здесь
впервые оформилась вторая линия его творчества, правда, сравнительно
мало для него характерная. Он подпал иод влияние культивируемой в па-
рижских салонах игривой галантно-мифологической литература рококо
и написал в этом стиле фривольную пастораль «Книдский храм» («Le
Temple de Gnide», 1724). Эта поэма в прозе была написана в качестве
подношения м-ль де Клермон, правнучке знаменитого полководца Конде,
которую Монтескье встречал в салоне герцога Бурбонского, ставшего ре-
гентом Франции в 1723 г., после смерти Филиппа Орлеанского. Описывая
любовь Венеры к «простому смертному», пастуху Адонису, Монтескье на-
мекал на связь м-ль да Клермон с герцогом де Мелюн, а под окружаю-
щими богиню галантными пастушками — «девами Книда» — было не
трудно распознать виднейших французских аристократок. В поэме можно
найти немало пикантных, даже скабрезных ситуаций, слегка завуалирован-
ных условно-нмифологическим флером. Все это обеспечило «Книдскому
храму» большой успех в салонах. Поэма долго ходила по рукам в списках,
а затем была напечатана автором, —■ конечно, анонимно.
Отдавая дань светской жизни, Монтескье не переставал заниматься
и бЪлее серьезными вещами. Помимо аристократических салонов, он по-
сещал также возглавляемый аббатом Алари и лордом Болингброком клуб
Антресоля, в котором обсуждались разные политические вопросы. Для
этого клуба он сочинил диалог «Сулла и Евнрат» («Sylla et bucrate»),
в котором бичуется деспотизм. Он очень живо рисует здесь образ деспота*.
928 ПРОСВЕЩЕНИЕ
Замок Бред, близ Бордо, в котором родился Монтескье.
С штографии Лежа по рисунку Дюфо,
отказавшегося, в конце концов, от своей власти, и проводит мысль, что
неограниченная власть, основанная на насилии над другими, не доста-
вляет удовлетворения даже ее носителю. Диктатор Сулла слагает с себя
диктатуру, так как ему противно быть идолом «общества ему подобных».
«Я не рожден, — говорит он философу Евкрату, — для того, чтобы спо-
койно управлять народом-рабом».
В 1727 г. Монтескье пишет свою вторую пастораль в прозе «Путе-
шествие на Пафос» («Voyage à Paphos»). Поэма эта была сочинена
с чисто практическими целями. Автор, мечтавший стать членом Француз-
ской Академии, стремился заручиться протекцией влиятельных светских
дам, вроде м-ль де Клермон и маркизы де Ламбер, которая, по словам
д'Аржансона, «сделала академиками половину всего нынешнего состава
Академии». Свое «Путешествие на Пафос» Монтескье поднес м-ль де
Клермон в виде утешения в постигнувшем ее несчастье — смерти герпрга
де Мелюн, погибшего на охоте. Здесь снова действуют античные боги, по-
хожие на парижских аристократов, а герцог де Мелюн изображается в виде
Адониса, погибшего от клыков разъяренного вепря. Поэма вызвала шумное
одобрение. Влиятельность поклонниц помогла Монтескье преодолеть козни
недоброжелателей, во-время вспомнивших про его «подрывающий устои»
роман «Персидские письма».
В 1728 г. Монтескье был избран во Французскую Академию и в
своей вступительной речи произнес панегирик «королю-солнцу», столь едко
высмеянному им в «Персидских письмах». После избрания в Академию
Монтескье окончательно порвал с Бордо, продал свою должность и от-
правился путешествовать по Европе. У него уже назрел в это время
замысел «Духа законов», и поездка была ему необходима для того, чтобы
на месте изучить быт, учреждения и законодательство других народов.
Он посетил Германию, Венгрию, Италию и Швейцарию и особенно долго
задержался в Англии, где прожил с октября 1729 по апрель 1731 г. По-
литическое устройство Англии произвело на него очень сильное впечатле-
ние. Он присматривался к английским государственным учреждениям,
знакомился с законодательством, посещал заседания парламента, изучал
МОНТЕСКЬЕ
629
сочинения Локка и английскую конституцию. Впечатления, полученные в
Англии, послужили исходным пунктом при написании двух основных тру-
дов Монтескье, выдвинувших его в первые ряды философов-просветителей.
Теперь Монтескье окончательно уходит из-под влияния дворянской эроти-
ческой литературы и твердо становится на путь просветительства.
По приезде из Англии он большую часть времени проводит в своем
имении, напряженно работая над «Духом законов», собирая материалы
для него и изучая всевозможные источники. Это произведение является
плодом всей жизни Монтескье, результатом почти двадцатилетних за-
нятий. В процессе работы над «Духам законов» Монтескье выпускает
большой исторический труд — «Размышления о причинах величия и па-
дения римлян» («Considérations sur les causes de la grandeur et de la déca-
dence des Romains», 1734), — который, по его первоначальному замыслу,
должен был войти в «Дух законов» в качестве отдельного исторического
■ экскурса.
Эта книга имеет полемический характер. Монтескье хотел опроверг-
нуть пользовавшуюся в то время большим распространением концепцию
Боссюэ, который в своем «Рассуждении о всемирной истории» считал
единственным движущим началом исторических событий волю бога. Мон-
тескье стремился уничтожить теологический подход к истории, перевести
исторический анализ на научную почву и насытить его политическими тен-
денциями.
«Размышления» охватывают всю историю Рима. Подобно Боссюэ,
Монтескье не занимается изложением фактов; его интересуют не отдель-
ные события, а их объяснение, не сама история, а ее философия. Но если,
по Боссюэ, Рим пал потому, что так было предопределено богом, то Мон-
тескье устранил божественный промысел и попытался применить к кон-
кретному анализу римской истории свою социально-политическую теорию.
Он хочет объяснить судьбу римлян, исходя из самой истории их нации —
из народного характера, политических учреждений и внешних условий
Рима. По Монтескье, историческое развитие закономерно и логично, но
эта закономерность коренится не в божественном промысле, а имеет
естественные причины, физические и моральные, причем под последними
он понимает психологические свойства людей. Монтескье стремится изучить
на материале истории действие этих естественных причин.
Основные положения его «Размышлений» сводятся к следующему.
Величие Рима было обусловлено любовью его граждан к свободе и оте-
честву; военной дисциплиной, позволявшей римлянам постоянно чувство-
вать себя в боевой готовности дать отпор врагу; их общей заботой о про-
цветании родины, о благе государства; их умением понять и во-время
исправить свои ошибки; их стойкостью в несчастьях и гражданской до-
блестью. Напротив, падение Рима явилось неизбежным следствием появле-
ния дурных правителей и их неумеренной жажды военных завоеваний,
которая привела к непомерному расширению границ государства; послед-
нее, в свою очередь, породило гражданские войны и «увеличение частных
имуществ»; благодаря этому получалась «безграничная роскошь и расточи-
тельность», приведшая к порче нравов, так как «при богатстве, слишком
большом для частного лица, трудно быть хорошим гражданином». Все
вместе взятое привело, в конце концов, к уничтожению всех положительных
гражданских идеалов и к исчезновению патриотизма. Рим перестал быть
городом, «жители которого были связаны одинаковым образом мыслей,
одинаковой любовью к свободе и ненавистью к тирании», и погиб, не бу-
дучи в силах противостоять нашествиям варваров.
630
ПРОСВЕЩЕНИЯ
Критикуя Рим, Монтескье все время имеет в виду Францию. Не
стремясь к коренному изменению социальной действительности и желая
быть лишь реформатором старого порядка, Монтескье на опыте истории
Рима проводит критику «неразумного» общественного строя своей ро-
дины и выводит те принципы, на основе которых надо реорганизовать об-
щество, чтобы придать ему разумный характер. Все те причины, которые,
по его мнению, имели следствием гибель Рима, он отмечает и во Фран-
ции, предсказывая ей, в случае упорного нежелания реорганизоваться
на «разумных началах», судьбу Рима.
«Так как у людей во все времена одни и те же страсти, то, хотя по-
воды великих переворотов различны, причины их всегда бывают одни
и те же»,—говорит он. Здесь Монтескье, сам того не сознавая, возвы-
шается до предвидения буржуазной революции, несколькими десятиле-
тиями позже действительно разрушившей абсолютистскую Францию.
Вся книга переполнена намеками на Францию и параллелями с совре-
менной действителыностью. Говоря о финансовом кризисе, о злоупотребле-
ниях налогами, о продажности и беспринципности римской администра-
ции, Монтескье имеет в виду те же явления во Франции.
«Размышления» заканчиваются главами о Византии, в которых ав-
тор, намекая на схоластические споры французских богословов, иронически
описывает религиозные диспуты в византийской церкви. Так, например,
повествуя о претензиях Юстиниана на единство веры, закона и власти,
Монтескье явно намекает на Людовика XIV.
В стилистическом отношении книга эта — блестящий образец пове-
ствовательной прозы. Подобно историко-философским работам Вольтера,
она! рассчитана на широкого читателя и потому изложена ясным, четким,
общедоступным языком.
«Размышления» имели большое революционизирующее влияние на
дальнейшее развитие французской общественной мысли. Своей критикой
абсолютистской Франции и признанием необходимости ее перестройки
«на разумных началах» Монтескье теоретически подготовлял француз-
ское общество к предстоявшей ему революционной перестройке, хотя сам
он, подобно другим ранним просветителям, и не стоял на революционных
позициях. Помимо этого он заложил фундамент того культа античной
гражданственности, который был впоследствии развит якобинцами.
Наконец, Монтескье явился основоположником просветительского исто-
ризма.
В 1748 г. Монтескье выпустил свой основной, капитальный труд —
«Дух законов» («L'Esprit des lois»). Книга эта имеет энциклопедический
характер, ибо Монтескье вложил в нее все свои разносторонние знания по
историческим, философским, социально-экономическим и религиозным во-
просам. В этой работе получили окончательное развитие основные идеи
Монтескье, содержавшиеся в зародышевом состоянии уже в «Персидских
письмах». Целью Монтескье было в данном случае написать «естествен-
ную историю» человеческих законов, вскрыть их предпосылки, установить
условия возникновения и гарантии политической свободы, — наконец, под-
вергнуть критике общественно-политический строй Франции, чтобы пре-
вратить ее население в разумных и патриотически настроенных граждан.
В композиционном отношении «Дух законов» страдает рядом суще-
ственных недостатков, проистекающих от перегрузки книги различными
отступлениями, обращениями к читателю, бесчисленными заглавиями
и подзаголовками, сопоставлениями различных текстов и т. д. Изложение
Монтескье зачастую лишено нужной последовательности и связности. Но,
МОНТЕСКЬЕ
631
несмотря на хаотичность композиции, основные мысли книги, особенно
в первой ее части, акцентированы достаточно четко.
Монтескье начинает с изложения общих основ своего мировоззре-
ния — с признания закономерности всего существующего. Помимо зако-
нов природы, имеющих безусловный характер и носящих на себе печать
мирового «разума», он отмечает еще «положительные» законы, установи
ленные людьми и способные к изменению. Но, создавая их, люди руко-
водствовались «далеко не одними только своими фантазиями». «Челове-
ческими действиями управляют климат, религия, законы, правительствен-
ные распоряжения, примеры прошлого, нравы и обычаи». Все эти
элементы находятся в тесной связи друг с другом; их взаимодействие обра-
зует «общий дух народа». Законы суть естественные, «необходимые отно-
шения, вытекающие из природы вещей». Подобно всем юридическим и го-
сударственным учреждениям человечества, они обусловлены вышеупомя-
нутыми факторами и должны соответствовать «духу народа» — конкретным
национальным особенностям и условиям окружающей среды. Поэтому
законы должны иметь связь с «климатом, со свойствами территории,. ..
с образом жизни народов; они должны соответствовать той степени сво-
боды, которую допуокает государственное устройство, религии жителей,
их наклонностям, их богатству, численности, промышленности, нравам и
обычаям». Помимо этого «законы имеют связь между собой, со своим
происхождением, с задачей законодателя, с порядком вещей, которые со-
ставляют их основание». Монтескье задается целью рассмотреть в своем
произведении человеческие законы «со всех этих точек зрения». Он иссле-
дует все эти отношения, которые «вместе взятые, составляют то, что
называют духом законов».
Монтескье не ищет, таким образом, идеальных, раз навсегда устано-
вленных законов и учреждений, соответствующих «разуму» и природе
«естественного человека», как это делали многие другие просветители.
Государство, по его мнению, является строго необходимым, естественно
вырастающим и развивающимся социальным организмом. Монтескье, при-
держиваясь исторической точки зрения, требует всестороннего изучения
каждой общественной формы во всей ее конкретности.
Далее Монтескье пытается дать классификацию государств, различая
в каждом его природу и «принцип». Под первой он понимает сущность
правительства, а под вторым — социально-психологические факторы, т. е.
человеческие страсти и нравы, обеспечивающие его прочность. По при-
роде он делит формы правления на республиканскую, монархическую
и деспотическую. Принципом деспотизма Монтескье считает страх, прин-
ципом демократии — добродетель (любовь к отечеству и равенству),
а принципам монархии — честь. Общий ход законодательства, а также
воспитание, непременно должны быть согласованы с природой и принци-
пом правления, ибо в противном случае оно не будет прочным.
Монтескье не сочувствует демократии, видя в ней «крайнее развитие
равенства, когда каждый хочет быть равным тем, кого он выбирает для
начальства над собой». Однако основным пафосом его книги является
борьба не с демократией,^ а с деспотией. Из всех политических форм
Монтескье симпатизирует лишь монархии, причем он резко отделяет мо-
нархию от тирании, не понимая того, что обе они — лишь разные «на-
звания одного и того же понятия». 1
1 К. Маркс. Письмо к Руге, май 1843 г. К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения,
т. I, стр. 355.
632
ПРОСВЕЩЕИИЕ
На основе изучения исторического прошлого и настоящего как Фран-
ции, так и ряда других европейских стран, Монтескье приходит к выводу
о всеобщем упадке свободы и вырождении монархии в деспотию. Одной
из причин этого явления он считает предательскую роль религии, кото-
рая, отвлекая внимание народа от реальных, земных потребностей
в иллюзорные заоблачные сферы, способствует его равнодушию ко все уси-
ливающейся власти правителей, влекущей за собой все большую эксплоа-
тацию народных масс. Установив закон всеобщего вырождения политиче-
ских форм, Монтескье делает исключение только для одной Англии,
политическое устройство которой кажется ему панацеей от всех обще-
ственных зол. По eiro мнению, Англия — единственное государство, поста-
вившее своей целью осуществление политической свободы, которую Мон-
тескье понимает лишь как «право каждого делать то, что разрешено за-
конами». Идеальным осуществлением этой свободы, по его мнению, и яв-
ляется английская конституция. Книга полна восторженных замечаний по
поводу 'государственного устройства Англии, далеко не соответствующих
действительности, так как автор исходит не столько из конкретной англий-
ской действительности, сколько из ее отражения в трудах Локка.
Далее Монтескье переходит к вопросу об условиях и гарантиях по-
литической свободы. По его мнению, Англия могла достигнуть свободы
только потому, что там существует разделение властей, которое автор счи-
тает необходимым условием и лучшей гарантией свободы. Эта знамени-
тая теория разделения властей легла впоследствии в основу ряда бур-
жуазных конституций. По мнению Монтескье, свобода возможна лишь
в таком государстве, где власть законодательная, исполнительная и су-
дебная отделены одна от другой и имеют возможность, посредством раз-
граничения полномочий, сдерживать одна другую. Исполнительная власть
отдается в руки монарха, так как она требует быстроты действий, а это
лучше выполняется одним человеком; законодательная же власть в прин-
ципе должна принадлежать всему народу, но так как это технически не-
возможно, то народ передоверяет свои полномочия избранным предста-
вителям. Избирательным правом может пользоваться все население страны,
исключая тех граждан, «которые находятся в таком принижении, что не
могут считаться имеющими свободу воли». Таким образом, всеобщего
избирательного права Монтескье не требует. В этом сказывается ограни-
ченность его политических взглядов, проявляющаяся в ,«Духе законов»
также в том, что Монтескье становится здесь на защиту дворянских при-
вилегий и настаивает на учреждении, на ряду с палатой народных пред-
ставителей, аристократической верхней палаты. Каждая палата имеет
право накладывать veto на постановления другой, а действия обеих кон-
тролируются монархом.
Эта противоречивость привела к тому, что впоследствии на «Дух за-
конов» могли опираться как революционные, так и консервативные эле-
менты. Вообще в книге имеется немало своеобразной исторической ве-
тоши, вроде, например, положения о том, что честь есть принцип монар-
хии. Иллюзорность этого принципа блестяще вскрыта Марксом, отме-
тившим, что «принцип монархии вообще — презираемый, презренный,
обесчеловеченный человек, и Монтескье совершенно ошибочно
считает честь принципом монархии». 1
Несмотря на все £то, «Дух 'законов», как и «Размышления», оказал
большое революционизирующее влияние на дальнейшие поколения. Они
Гам же, стр. 355.
МОНТЕСКЬЕ.
С медали Дасье (в кабинете эстампов Парижской Национальной Библиотеки).
МОНТЕСКЬЕ
G33
воспринимали из книги Мон-
тескье горячий протест против
абсолютизма, религиозного
фанатизма и суеверия, за-
щиту прав человека, народной
свободы, туманности и веро-
терпимости. Именно потому
«Дух законов» вызвал беше-
ную ненависть всего отжив-
шего старого мира и был
включен в папский «Индекс
запрещенных книг». Несмо-
тря на это, он выдержал в
течение двух лет (1748—
1750) двадцать два издания
и вскоре был переведен на
все европейские языки.
Подобно «Размышле-
ниям», книга переполнена на-
меками на Францию и кон-
кретными указаниями спосо-
бов ее «разумного» пере-
устройства. Чрезвычайно
большой резонанс имела гла-
вка об уголовных наказаниях,
легшая впоследствии в основу
знаменитой книги Беккарии.
Монтескье протестует здесь
против пыток, конфискаций
и прочих жестокостей фран-
цузского судопроизводства, требуя пересмотра его в целях смягчения на-
казаний. Он требует также ограничения понятия об оскорблении величе-
ства, под которое часто подводилось любое неосторожно вырвавшееся
вольное выражение. Монтескье пытается сузить самое понятие преступ-
ления и отстаивает свободу мыслей, требуя кары лишь за «внешние дей-
ствия», а не за слова, которые могут быть неверно или даже пристрастно
истолкованы. По его мнению, «слова становятся преступными лишь тогда,
когда они подготовляют преступное действие». В главе о литературных
произведениях Монтескье отстаивает право на существование сатирических
произведений, намекая на необходимость освободить печать от гнета фео-
дально-церковной цензуры.
Наконец, в ряде глав Монтескье, в искусно завуалированной форме,
выступает убежденным противником религиозного фанатизма, суеверия,
схоластики и борцом за веротерпимость. В книге содержится очень лю-
бопытная глава «Почтительнейшее заявление инквизиторам Испании
и Португалии», в которой Монтескье, бичуя фанатизм католической цер-
кви, распространяющей свое учение огнем и мечом, а также раскрывая всю
низость и бесчеловечность антисемитизма, влагает свои доводы в пользу
веротерпимости в уста гуманиста-еврея, якобы протестующего перед лицом
инквизиции по поводу имевшего место в 1739 г. в Лиссабоне сожжения
одной еврейской девушки. Монтескье возмущается также светскими ка-
рами за религиозные «преступления», в частности — смертной казнью за
святотатство, и требует, чтобы церковь сама чисто религиозными мерами
DE L ESPRIT
DES
I
Ос? да клетом s.vs tss lois- doivent avoir avsc l,i Cons-
nrvtiov pb склеек GoavEtmsMcur, tss Mobuks*
LE CUMAÏ, 1Л RSUGIOU, ££ C.OMME&CE, &C.
• à quoi f Auteur a ajouté
Des recherches nouvelles fur les Loix Romaines touchant les
Succeflionsj fur les Loix Françoifes. c4 fur les Loix Féodales.
TOME 'PREMIER.
A G E.NETE,
Chez Barrillot & Fils.
Монтескье. «Дух заковов>.
Титульный лист анонимного издания 1746 г,
634
ПРОСВЕЩЕНИЕ
(отлучения, проклятия и т. п.) расправлялась с «заблудшими овцами» стада
христова, не призывая на помощь себе светскую власть. В ряде мест книги
он иронизирует над различными религиозными «преступлениями», вроде
ереси или колдовства, про которое, по его мнению, можно сказать только
то, что оно «вовсе не существует», хотя и «подлежит наказанию огнем».
Монтескье глубоко презирает инквизицию. С неменьшим презрением
относится он к трутням-монахам, обирающим народ и накапливающим
в своих монастырях огромные богатства. На ряду с этим он бичует рос-
кошь и расточительность феодалов, распущенность светских женщин, без-
душие откупщиков и т. п.
После «Духа законов» Монтескье написал только ряд небольших
произведений, напечатанных после, его смерти, в том числе эстетический
трактат «Опыт о вкусе» («Essai sur le goût», 1757) и небольшую «Вос-
точную повесть об Арзасе и Исмении» («Arsaee et Isménie, histoire orien-
tale», 1783).
«Опыт о вкусе» — единственная попытка изложения эстетических
взглядов автора. Трактат этот состоял из пятнадцати глав, к которым
при напечатании были присоединены еще четыре главы, найденные в бу-
магах Монтескье и, судя по их содержанию, предназначавшиеся к тому,
чтобы служить продолжением книги. Исходя из мысли, что чем больше
произведение искусства доставляет людям удовольствия, тем оно худо-
жественнее, Монтескье пытается наметить причины, обусловливающие это
наслаждение и, следовательно, могущие быть признанными критерием ху-
дожественности. Монтескье выступает здесь сторонником классицистиче-
ской эстетики. По его мнению, доставлять удовольствие и, следовательно,
являться художественными, могут только те произведения, которые
строго рационалистичны и основаны на правилах. «Чувство удовольствия
должно быть основано на рассудке». «Художник должен сообразоваться
с правилами и никогда не терять их из виду». В соответствии с этим
Монтескье прославляет античное искусство, противопоставляя его «готи-
ческому» (т. е. средневековому) ; он восхищается великими писателями
XVII в., особенно Расином, высказывается за примат разума над твор-
ческим воображением, за контрастные противопоставления характеров
и ясный рационалистический стиль.
Заслуживает внимания также повесть «Арзас и Исмения». В основу
ее положен исторический факт, уже раньше изложенный в одном из «Пер-
сидских писем», — отречение шведской королевы Ульрики-Элеоноры, сестры
Карла XII, от престола вследствие любви к своему мужу. Сходная исто-
рия разрабатывается в повести об Арзасе и его жене, принцессе Исмении,
которая отказывается от отцовского трона в пользу горячо любимого мужа.
Вопреки высказанному им в «Духе законов» взгляду на брак, как
на сделку= заключаемую ради будущего потомства и приданого жены,
Монтескье прославляет здесь супружескую любовь и верность. В образе
Арзаса он оисует идеального просвещенного монарха, великодушного и
человеколюбивого, строго соблюдающего законы, заботящегося о народе и
правящего с помощью лучших представителей просвещенной интеллигенции,
«которые всегда говорили о народе, изредка о царе и никогда о себе».
2
Из всех перечисленных произведений Монтескье особый интерес
с художественной точки зрения представляют его «Персидские письма»,
закладывающие основу характерному для французской литературы
XVIII в. жанру философского романа.
МОНТЕСКЬВ
63S
«Персидские письма» являются ядовитой сатирой на старорежимную
феодально-католическую Францию с характерными для нее деспотизмом
и ханжеством. А так как наиболее типичным образцом французского
абсолютизма было правление Людовика XIV, а не регентство Филиппа
Орлеанского, то Монтескье избирает объектом своей критики абсолютную
монархию «короля-солнца», хотя его книга и написана в период Регент-
ства. Временами в этой критике, полной презрения и ненависти к Людо-
вику XIV, превратившему Францию в восточную деспотию, чувствуются
черты присущего Монтескье фрондерства, несколько роднящие его книгу
с мемуарами Сен-Симона.
Роман написан в излюбленной XVIII веком эпистолярной форме.
Фабула его вкратце сводится к следующему. Знатный перс Узбек, осме-
лившийся «при дворе остаться добродетельным» и «доводить истину до
подножия трона», никогда не унижаясь до лести, подвергся преследова-
нию врагов. Это побудило его покинуть родину и уехать в Европу, чтобы
ознакомиться с ее культурой и науками. Примеру Узбека последовал
юноша Рика. Путники побывали в ряде стран и, направляясь во Фран-
цию, заехали по дороге в Смирну к своему другу Нессиру. Там они со-
блазнили своим примером его племянника Реди, который вскоре после
их отъезда уезжает в Венецию, где принимается за изучение истории,
в то время как Узбек и Рика путешествуют по Франции, внимательно
все наблюдая. Весь роман состоит из писем, которые персы пишут друг
другу и на родину, подвергая критике все наблюдаемое ими и получая,
в свою очередь, известия из Персии. С виду эта критика как будто осно-
вана на непонимании людьми, стоящими на более низком культурном
уровне, всего происходящего в цивилизованной стране. Монтескье не раз
пытался убедить в этом своих цензоров, однако безрезультатно: все до-
гадывались, что это — лишь своеобразный прием маскировки «подрываю-
щих устои» идей и что по существу критика персов носит глубоко прин-
ципиальный и разоблачительный характер.
Такой прием своеобразной подачи французской действительности, пре-
ломленной сквозь призму восприятия восточных путешественников, был
заимствован Монтескье из романа Дюфрени «Серьезные и комические раз-
влечения сиамца». Помимо Дюфрени, на Монтескье оказали некоторое
влияние Лабрюйер, Лесаж и Фенелон, которым он обязан рядом отдель-
ных ситуаций своего романа. Главное же, Монтескье отдал дань всеобщему
увлечению французских писателей первой трети XVIII в. восточной экзо-
тикой. Он использовал восточную тематику в своем романе, с одной сто-
роны, для того, чтобы скрыться за персидскими одеждами от недремлю-
щего ока цензуры, а с другой — чтобы преподнести разоблачительное сати-
рическое содержание «Персидских писем» в более занимательной и
эффектной форме.
В письмах, присылаемых из Персии, приподнимается завеса над
таинственной жизнью гарема, с его скрытыми за непроницаемыми чад-
рами прекрасными пленницами, а также попутно рассказываются персид-
ские легенды и предания. Монтескье не был на Востокехи не знал пер-
сидской жизни, вследствие чего он допустил немало фактических оши-
бок, однако, благодаря силе/ своего таланта, он все же сумел сделать свои
восточные картины необычайно живыми и яркими. Но его колоритные
описания восточной жизни несут не только упомянутые функции; они
используются также автором соответственно его основным устремле-
ниям — пропаганде просветительских и гуманистических идей^
636
ПРОСВЕЩЕНИЕ
Здесь, как и в других своих важнейших произведениях, Монтескье
бичует деспотизм, но на этот раз — в его восточном аспекте. Централь-
ным пунктом этого плана является проблема свободного человека и его
законных, естественных чувств. Это понятие распространяется также на
женщин, за которыми признается равное с мужчинами право на полно-
ценную жизнь, любовь и свободу. В XXXVIII письме Монтескье стре-
мится доказать, что представление о женщине, как о низшем, по срав-
нению с мужчиной, существе, столь распространенное на Востоке, но не
миновавшее и Запада, — вовсе не оправдывается законами природы.
Власть мужчин над женщинами, по его мнению, основана не на праве
высшего, а на праве сильного. Она поддерживается воспитанием, внедряю-
щим с детских лет в сознание женщины понятие об ее неполноценности
и зависимости от мужчины (сходные мысли Монтескье развивает также
в «Духе законов»),
Монтескье дает целый ряд образов несчастных жертв восточного дес-
потизма—гаремных женщин и их стражей-евнухов. Он рисует весь ужас
и бесчеловечность кастрации, заставляющей человека по воле тирана
«навсегда расстаться с самим собой», и показывает, как эти люди, оже-
сточенные своими несчастьями и возненавидевшие весь род людской, ста-
новятся сами тиранами, вымещающими на неповинных затворницах га-
рема, таких же несчастных жертвах деспотизма, как и они, свою неудав-
шуюся жизнь. Монтескье выводит целую галерею прекрасных молодых
женщин (Фатима, Роксана, Зелия — любимые жены Узбека), полных огня
и сил, стремящихся к полноценной жизни, любви и свободе, сознающих
весь ужас своего положения, но вынужденных влачить оскорбительное для
их человеческого достоинства существование. В письме Фатимы к Узбеку
(письмо VII) чувствуется ее возмущение унизительными условиями га-
ремной жизни, когда женщина, «не имея ничего, что могло бы ее раз-
влечь», не имея возможности плодотворно приложить к чему-либо свои
силы, «вынуждена жить вздохами и бешенством возбужденной страсти»,
так как кроме любви на ее долю ничего не осталось; но и здесь ей при-
ходится терпеть поражение, так как, в сущности, она представляет собой
лишь «ненужное украшение сераля, охраняемое ради чести, а не ради
счастья ее супруга».
Особенно ярок и трагичен образ сильной, гордой, глубоко чувствую-
ей Роксаны, которая, полюбив, сумела обмануть своих бдительных стра-
жей, сделать «из отвратительного сераля место радости и наслаждений»
и нашла в себе силы умереть после раскрытия тайны и гибели ее воз-
любленного, предпочитая смерть рабству. ]\йонтескье~_симцатизирует Рок-
сане и делает ее носительницей своих гуманистических идей о праве каждого
человека на счастье и свободу. Предсмертное письмо Роксаны к Узбеку —
апология естественного чувства и права женщины на полноценную жизнь.
«Как мог ты считать меня настолько легковерной, чтобы я могла вообра-
зить, будто единственное назначение мое в мире — обожать твои прихоти,
будто ты имеешь право подавлять все мои желания, в то же время все себе
позволяя? Нет, я могла жить в неволе, но всегда была свободна. Я заме-
нила твои законы законами природы, и ум мой всегда сохранял незави-
симость». Роксана горюет и упрекает Узбека в том, что вынуждена была
скрывать «в своем сердце то, что должна была бы открыть З'сему миру» —
свое прекрасное, законнейшее чувство.
Таким образом Монтескье вкладывает целый ряд своих мыслей об
естественности и законности человеческих страстей и о любви к свободе
\
МОНТЕСКЬЕ
G57
в уста гаремных женщин. Но все же, несмотря на значительность восточ-
ной части «Персидских писем», основной в романе является его западная
часть. В письмах персов друг к другу и на родину заключена широкая
картина французской действительности того времени со всеми ее противо-
речиями. Монтескье выступает здесь великим реалистом и сатириком, пока-
зывая как на ладони всю разлагающуюся абсолютистскую Францию. Кри-
тика деспотической и клерикальной Франции устами «варваров-персов»
носит глубоко принципиальный и разоблачительный характер, а сами персы
являются здесь рупорами просветительских идей Монтескье, носителями
его сокровеннейших идеалов. Они подвергают критике, с точки зрения
«разума», все общественные отношения Франции и отвергают их как «не-
разумные».
В центре стоит образ Узбека — просветителя-вольнодумца, борца за
свободу мысли, ярого врага фанатизма и тирании. Монтескье наделяет
Узбека целым рядом автобиографических черт накладывает в его уста
много собственных мыслей. Узбек, подобно Монтескье, — философ и уче-
ный. Он «проводит жизнь в наблюдениях и записывает по вечерам то,
что заметил, видел, слышал днем». Он является носителем всех основных
идей Монтескье, имеющихся в зачаточном состоянии в «Персидских
письмах» и развитых полностью в «Духе законов», — о вреде суровых
наказаний, о формах правления, о законах и т. п. Он же является самым
суровым разоблачителем абсолютизма и католической церкви. Следует
отметить, что соде£жание_ зая-адиой части■- «Персидских писем» неравно-
ценно. С одной стороны, автор критикует нравы светского общества и раз-1
личные стороны его быта — кокетство женщин, их пристрастие к модам,
самоуверенность и самовлюбленность светских снобов, карточную игру
и т. п. Эта критика, которую Монтескье вкладывает в уста Рики, довольно
поверхностна и имеет сравнительно небольшой удельный вес в романе.
Превалируют в нем более глубокие и серьезные элементы социально-поли-
тической сатиры, носителем которой является преимущественно Узбек. >
В ряде реалистических типических образов Монтескье рисует Фран-
цию Людовика XIV и иезуитов. Он показывает разложившееся, демора-
лизованное светское общество с его паразитическим образом жизни,
лестью, лицемерием, интригами, продажностью, с его строгой моралью
на словах, своекорыстием и пошлостью на деле. Перед читателем прохо-
дит галерея светских мужчин и дам, преподносимых иногда в манере
Лабрюйера и Лесажа, причем автор не забывает показать и представи-
телей нарождающегося буржуазного общества: финансистов, откупщиков,
новоявленных богачей — вчерашних лакеев, разбогатевших на экоплоатации
народа, стремящихся залезть в знать и нанимающих себе генеалогов,
чтобы «пообчистить предков». Монтескье бичует безудержную роскошь и
мотовство дворянства, прожигающего жизнь, проматывающего наследствен-
ные пом стья и стремящегося поправить обстоятельства путем выгодной
женитьбы на дочерях золотых мешков, которые, по его меткому выраже-
нию, являются «прекрасным навозом», удобряющим гористые и пустынные
местности. Монтескье подвергает едкой критике феодальные привилегии,
всевозможные награды и пенсии, щедро раздаваемые алчным придворным
за их лесть и угодничество, — дары, которые ложатся тяжелым бременем
новых налогов на плечи трудового населения.
Но особенно язвительно Монтескье обличает безудержный деспотизм
первого и главного феодала Франции — Людовика XIV. Он рисует его
пристрастие к лести, его безволие перед иезуитами и их ставленницей
мадам де Ментенон, его фанатизм, самодурств.о, вечные войны, обеокро-
638
ПРОСВЕЩЕНИЕ
вившие страну, продажу титулов новоявленным богачам, как один из круп-
нейших источников государственных доходов, выпуск ничем не обеспечен-
ных бумажных денег, разоряющих население, и т. п. В отличие от своих
последующих произведений, Монтескье в «Персидских письмах» не яв-
ляется сторонником монархического образа правления. Устами Узбека он
доказывает, что всякая монархия неизбежно превращается в деспотию. Его
политическим идеалом "является; республика. Монтескье тогда еще не был
знаком с государственным устройством Англии и ориентировался на хо-
рошо ему известные страны — на Швейцарскую и Голландскую республики.
В романе есть_любопытный эпизод, в котором Монтескье излагает
свое политическое/credo, рто—оказание о троглодитах, предавшихся при-
родным эгоистическим инстинктам. Они стали заботиться «только о соб-
ственных своих интересах, не считаясь с интересами других», и погубили
этим себя. Спаслись только две семьи, которые выделялись среди прочих
своей убежденностью в том, что «интересы отдельных лиц всегда заклю-
чаются в интересе общественном» и что «справедливость по отношению
к другим есть милосердие по отношению к себе самому». Они положили
основание новому народу, живущему патриархальной республиканской
жизнью, заботящемуся о всеобщем благе и потому утопающему в изобилии.
С неменьшей силой, чем феодализм, Монтескье бичует и католиче-
скую церковь, возглавляемую своекорыстным и мстительным деспо-
том — папой. Это — «старый идол, которому кадят по привычке». «Он
называет себя наследником св. Петра, и это несомненно богатое наслед-
ство, так как он имеет огромные сокровища и богатую страну под своим
владычеством».
Далее Монтескье рисует подчиненное папе распутное, жадное и лжи-
вое духовенство: епископов, которые «в соборе составляют догматы веры»
а порознь занимаются выдумыванием для богатых прихожан способов их
ju6_piiiH»j; иезуитов, «сжигающих людей, как солому», и конфискующих
в свою пользу их имущество; сластолюбивых и жирных паразитов-мона-
хов и других служителей церкви, поддерживающих насилием католиче-
скую религию. Вся эта праздная свора «пастырей христовых» постоянно
грызется между собой, заводит нелепые схоластические споры, пытает
и убивает людей, осмеливающихся думать иначе. Монтескье приходит к
выводу, что «никогда не было царства, в котором происходило бы столько
гражданских войн, как в царстве Христа», и возвышается до предсказа-
ния в будущем полной гибели католицизма, который «не просуществует
и пятисот лет».
Бичуя церковников, Монтескье не оставляет без внимания также
«с.вдщея№^_|пдсание>> и богословскую литературу. Он язвительно смеется
над схоластиками, которые ~ «живут туманными рассуждениями и лож-
ными выводами», находят бесчисленные противоречия в «священном пи-
сании», где «столько же спорных мест, сколько и строк», берет под со-
мнение целый ряд основных католических догматов, например таинство
пресуществления, триединство и даже всеведение бога, поскольку «без-
граничность божественного предвидения несовместима с его справедли-
востью». Монтескье ниспровергает все обветшавшее-хредневековое схола-
стическое мировоззрение и противопоставляет, ему великукГ сйХу—челове-
ческого разума, который, в лисе истинных ученых и философ5вг-*РаснУ:г
тал хаоо> мироздания и «с помощью простой механики объяснил
порядки божественной архитектуры». Монтескье вькжазывает__убеждение,
что в будущем уничтожатся все средневековые предрассудки; так как «все-
пожирающее время разрушит даже заблуждения». ~~*
МОНТЕСКЬЕ
639
Роман обрывается в тот момент, когда все взгляды автора оказы-
ваются изложенными, а все стороны французской жизни подвергнутыми
исчерпывающей критике. Для того, чтобы как-нибудь закончить свою
книгу, Монтескье снова обращается к ее восточно-экзотическому плану.
Узбек получает известие, что его запертые в гареме жены взбунтовались
против бесчеловечных условий своего существования и перестали подчи-
няться установленным там законам. Он поспешно уезжает на родину для
того, чтобы самыми крутыми мерами расправиться с непокорными. Узбек,
всегда не чуждый собственническим взглядам на своих жен, выступает,
таким образом, в конце романа сам в роли деспота. Эти черты, резко
противоречащие всей сущности образа главного персонажа, придают ему
известную двойственность. Монтескье хочет сказать, что философ и сам
находится в зависимости от предрассудков своего воспитания, моральных
правил и прочих общественных норм, которые оказывают на него боль-
шее или меньшее влияние.
«Персидские письма» Монтескье, представляющие собой блестящее
в литературном отношении произведение, по ясности, точности и вырази-
тельности языка причисляемое к шедеврам французской прозы, оказали
огромное влияние на всю- последующую литературу XVIII в., укрепив
в ней жанр философского романа, получивший дальнейшее развитие под
пером Вольтера.
ГЛАВА IV
ВОЛЬТЕР И ЕГО ШКОЛА
1
се основные идейные и художественные течения во
французской литературе первой половины XVIII в.
сконцентрировались в творчестве Вольтера. Он был
признан главой всего старшего поколения французских
просветителей и, как таковой, пользовался огромным
международным влиянием и авторитетом. Одаренный
блестящим умом и редкостной писательской многосто-
ронностью, он был одновременно поэтом, драматургом,
романистом, сатириком, публицистам, историком и фи-
лософом. Он работал во всех областях идеологии, про-
являя на любом участке своей деятельности большую новаторскую ини-
циативу и огненный политический темперамент. Гениальный популяриза-
тор, он ввел в умственный обиход Франции и других европейских стран
огромное множество идей, которые именно от него получили свое распро-
странение и развитие, хотя часто он и не являлся их создателем. Он нало-
жил отпечаток своей мысли на все просветительское движение XVIII сто-
летия, которое недаром часто называют «веком Вольтера».
Разносторонняя литературно-общественная деятельность Вольтера
развертывалась на фоне исключительно содержательной, переполненной
разнообразнейшими фактами и событиями жизни. Знакомство с биогра-
фией Вольтера поэтому необходимо для правильного понимания его твор-
чества на разных этапах.
Настоящее имя Вольтера было Франсуа-Мари Аруэ (François-Marie
Arouet, 1694—1778). Фамилия «Вольтер» (Voltaire) является, по суще-
ству, псевдонимом, созданным путем анаграммы настоящей фамилии писа-
теля с присоединением к ней букв «1» и «j» (i) — начальных букв слов
«le jeune» (младший). Вольтер родился в Париже, в семье бывшего нота-
риуса, служившего казначеем в счетной палате. Образование он получил
в коллеже Людовика Великого у иезуитов (1704—1711). О своих учите-
лях он отзывался по-разному. Больше всего он ценил преподавателя рито-
рики Поре (Рогее), которому он был обязан пробудившейся у него уже
на школьной скамье любовью к театру. В целом же Вольтер отрицательно
высказывался об оторванном от жизни, умозрительном направлении полу-
ченного им образования. «Я не знал, — писал он впоследствии, — ни тогот
ВОЛЬТЕР И ЕГО ШКОЛА
641
что Франциск I попал в плен при Павии, ни того, где находится Павия;
я не знал той страны, в которой я родился, не знал ни главных законов,
ни интересов моей родины; я ничего не смыслил в математике, ничего в
здравой философии; я знал только латынь и глупости».
Уже на школьной скамье Вольтер обнаружил блестящие способности
и начал писать стихи. Еще мальчиком он был представлен знаменитой
куртизанке Нинон де Ланкло, приятельнице Сент-Эвремона, которая
пришла в восхищение от его ума и завещала ему 2000 ливров на книги.
Вольтер любил называть себя наследником Нинон и написал впослед-
ствии ее биографию.
По окончании коллежа Вольтер занялся изучением права, по на-
стоянию отца, желавшего сделать из него юриста. Но юный Вольтер
мечтал о литературной карьере и стремился вращаться в аристократи-
ческом обществе. Его крестный отец аббат Шатонеф ввел его в кружок
аристократов-либертинов Тампля, группировавшихся вокруг Вандома. В
этом кружке веселых прожигателей жизни рано окрепли вольнодумство
и скептицизм Вольтера, его непочтительное отношение к правящим кру-
гам. Оно проявилось в сатирических стишках и эпиграммах Вольтера,
в которых он дерзнул задеть самого регента Филиппа Орлеанского, на-
звав его «кровосмесителем и отравителем». Эти выходки не прошли
Вольтеру даром: он был заключен в Бастилию, где просидел около года
(1717—1718). Здесь он написал трагедию «Эдип» и приступил к работе
над эпопеей «Генриада». "
Вскоре после выхода из Бастилии Вольтер изведал первый крупный
литературный успех. Постановка «Эдипа* («Oedipe», 1718) сделала его
знаменитым и заставила говорить о нем как о достойном преемнике
Корнеля и Расина. Филипп Орлеанский сразу изменил свое отношение
к Вольтеру и пожаловал ему золотую медаль и денежную пенсию. Воль-
тер начал делать блестящую литературную карьеру. Завоевав положе
ние первого трагического поэта Франции, он стал добиваться славы
эпического поэта. В 1723 г. он тайно напечатал в Руане поэму «Лига,
или Генрих Великий» («La Ligue, ou Henri le Grand»), представляющую
собой первый набросок исторической эпопеи «Генриада» («La Henriade»,
1728), посвященной пропаганде религиозной терпимости и идеализирую-
щей Генриха IV как свободолюбивого и просвещенного монарха. Еще до
опубликования «Лиги» Вольтер старался заинтересовать общество своей
поэмой, устраивая ее публичные чтения в аристократических домах. При-
мерно в то же время он напечатал свое первое антирелигиозное стихотво-
рение «Послание к Урании, или За и против» («Epître à Uranie, ou le
Pour et le Contre», 1722), обращенное к его приятельнице Жюли де Рюп-
пельмонд, испытывавшей прилив религиозных сомнений.
В возрасте, тридцати лет Вольтер был уже первым поэтом Франции,
которого все считали преемником "славных литературных традиций века
Людовика XIV и который, несмотря на свое вольнодумство, был еще
очень далек от просветительства. Он высоко ценил покровительство коро-
левы Марии Лещинской, от которой получал пенсию (одновременно с пен-
сией от короля). Но мечты о придворной карьере не вскружили ему го-
лову. Решив создать себе материальную независимость от знатных меце-
натов и издателей, он связался с миром финансовых дельцов и, заняв-
шись различными коммерческими предприятиями, постепенно создал себе
крупное состояние.
Блестящую карьеру молодого Вольтера прервало столкновение его
с молодым аристократом де Роганом, который велел своим лакеям избить
41 Истории ф|>алц>jcboû литераторы—315
649
ПР ОСВ Е ЩЕННВ
Вольтер в молодости.
С наброска карандашом Латура.
его палками. Тщетно Воль-
тер пытался найти управу нг
обидчика. Он вызвал де Ро*
гана на дуэль, но тот донес
в полицию, и Вольтер вто-
рично очутился в Бастилии
(1726). На этот раз он про-
сидел там всего пять меся-
цев, после чего был выпущен
под условием, что немедлен-
но уедет в Англию.
Трехлетнее пребывание
Вольтера тГ Англии ~(Î726—
1729) явилось поворотным
пунктом в его интеллекту-
альном развитии. Вольтер
необычайно расширил здесь
свой литературный и обще-
ственный кругозор. Он по-
знакомился в Англии не
только с произведениями ан-
глийских классицистов, воспи-
танных на французских об-
разцах (Драйден, Уичерли,
Конгрив, Аддисон, Поп), но
также с сочинениями Миль-
тона и Шекспира, открыв-
шими ему совершенно новый
мир поэтических образов. Но еще больше английской литературы Воль-
тера пленила английская наука и философия. Он познакомился с трудами
Бекона, Локка, Ньютона, Шефтсбери и Коллинза, под влиянием которых
он решительно обратился к философскому деизму английского образца,
заступившему место его юношеского поверхностного вольнодумства. С од-
ним из виднейших английских деистов, лордом Болингброком,/ Вольтер
подружился еще во Франции, где тот прожил несколько лет в изгнании.
В Лондоне Болингброк любезно встретил Вольтера, помог ему изучить
английский язык и познакомил его с виднейшими писателями, филосо-
фами и государственными деятелями. Вольтер часто посещал заседания
английского парламента и стал горячим поклонником английской консти-
туции. Англия показалась ему, как и Монтескье, страной подлинной рели-
гиозной и политической свободы. Особенно его поразило то высокое поло-
жение, которое занимали в английском обществе деятели науки и искус-
ства. Он навсегда запомнил торжественную церемонию погребения Нью-
тона в Вестминстерском аббатстве (1727) и любил подчеркивать, что а
Англии Локк и Аддисон занимали крупные государственные должности
и пользовались большим почетом, тогда как во Франции писатели суще-
ствовали на подачки, получаемые от королей и вельмож, а философы почти
всегда находились на подозрении у правительства.
В 1729 г. Вольтер получил разрешение вернуться во Францию. Он
приехал в Париж в расцвете своих творческих сил, полный английских
впечатлений, и развернул чрезвычайно плодотворную писательскую дея-
тельность. Он напечатал написанную в Англии первую свою историче-
скую работу «История Карла XII» («Histoire de Charles XII», 1731)„
ВОЛЬТЕР Я ЕГО ШКОЛА
645^
имевшую большой успех вследствие исключительного мастерства истори-
ческого повествования. Он написал и поставил несколько трагедий, содер-
жащих целый ряд заимствований у Шекспира — «Врут» («Brutus», 1730)^
«Смерть Цезаря» («La Mort de César», 1731), «Эрифила» («Ériphile»,
1732) и «Заира» («Zaïre», 1732), из которых последняя имела подлинно»
триумфальный успех и была единогласно признана современниками «ча-
рующей пьесой». Но наибольший эффект произвела опубликованная.
Вольтером сначала по-английски (1733), а затем по-французски книга-.
«Философские письма» («Lettres philosophiques», 1734), одновременно вы-
шедшая также под названием «Письма, написанное--из Лондона об ан-
гличанах» («Lettres écrites de Londres sur les Anglais»), Вольтер изложил
здесь свои английские впечатления, попутно проводя сравнения между
английской и французской общественной жизнью; эти сопоставления пре-
вращались в энергичное обличение царящего во Франции мракобесия,,
религиозной нетерпимости и'отсталых феодальных порядков. Книга вы-
звала огромный скандал; ее издатель был посажен в Бастилию, а сама,
она была публично сожжена по постановлению парижского парламента^
как книга «соблазнительная, противная религии, добрым нравам и уваже-
нию к власти». Вольтер избежал ареста только потому, что своевременна'
скрылся из Парижа.
Он нашел приют в Сире, имении своей приятельницы маркизы дкт
Шатле, расположенном на границе Шампани и Лотарингии. Здесь он
прожил в спокойной обстановке более десяти лет, занимаясь точными
науками, философией и поэзией. Маркиза дю Шатле, которую Вольтер'
называл «божественной Эмилией», оказала на него весьма благотворное
влияние. Ьудучи одной из оЬразованнейших женщин Франции, она хо-
рошо знала древние языки, занималась математикой, перевела на фран-
цузский язык и комментировала основной труд Ньютона «Математиче-
ские основания естественной философии» и опубликовала собственную
работу о философии Лейбница. В светском обществе немало насмехались
над «ученой дамой» дю Шатле, делившей время между математикой,
и любовью, но она не придавала никакого значения этим насмешкам,,
побуждала Вольтера заниматься науками и удерживала его от полемики4
с нападавшими на него реакционными литераторами (вроде аббата Де-
фонтена) и от опубликования чересчур резких сатирических произведений,
в частности — знаменитой «Орлеанской девственницы», рукопись которой
она держала у себя под ключом.
Живя в Сире, Вольтер не порывал связей с Парижем. QH вел об-
ширную переписку с приятелями. Кроме того, он узнавал парижские
новости от многочисленных гостей маркизы, приезжавших в Сире. Стра-
стно любя театр, Вольтер завел в Сире домашнюю сцену, на которой
ставил собственные пьесы, выступая сам в числе их исполнителей. Годы
жизни в Сире были весьма плодотворны для литературной деятельности
Вольтера. Он написал здесь ряд серьезных философских трудов, в томе
числе ^Основы философии Ньютона»! («Eléments de la philosophie de-
Newton», 1738) îT-?ГраТСтат"15^,~метафизике» («Traité de Métaphysique»,
1734), в котором он изложил собственные философские взгляды. Здесь
же он в основном закончил свою капитальную историческую работу —
«Век Людовика XIV» («Le Siècle de Louis XIV», 1739—1751). Здесь-
же он написал ряд своих знаменитейших трагедий — «Альзиру» («Alzire»,
1736), «Meрапу» («Mérope», 1743) и «^агдодщя* («Mahomet», 1741).
Здесь, наконец, он сочинил ряд поэтических произведений — сатирическую»
поэму «Светский человек» («Le Mondain», 1736). воспевавшую благ*
4 » ""' """"' """*
вд a
ПРОСВЕЩЕНИЕ
цивилизации и издевавшуюся над учением церкви о блаженной жизни
в раю Адама и Евы, дидактическую поэму «Речь о человеке» («Discours
sur l'homme», 1738), написанную в подражание аналогичной поэме Попа,
и упомянутую «Орлеанскую девственницу» («La Pucelle d'Orléans»), на-
чатую около 1730 г. и законченную в 1735 г., но впервые напечатанную
двадцать лет спустя, в 1755 г.
Несмотря на меры предосторожности, принимавшиеся мадам дю
Шатле, некоторые произведения Вольтера вызвали сильное раздражение
в правящих кругах. Это заставляло маркизу опасаться за свободу своего
друга. В особенно опасные моменты маркиза отправляла Вольтера в Гол-
ландию или Бельгию, где он обычно путешествовал под чужим именем,
хотя и не мог никогда полностью сохранить свое инкогнито.
В 1745 1 г. Вольтер, после десятилетнего отсутствия, возвратился в
Лариж, где неожиданно встретил благосклонный прием при дворе. Его
покровительницей стала новая фаворитка Людовика XV ^мадам [Этиоль,/
шолучившая титул маркизы Помпадур и ставшая некоронованной власти-
тельницей Франции. Будучи давно знакома с Вольтером, она постара-
лась привлечь его ко двору. Благодаря ей, Вольтеру поручили написать
оперу для празднества по случаю бракосочетания дофина. Эта опера,
■«Принцесса Наваррская» («La Princesse de Navarre», 1745), музыку к
•которой написал Рамо, принесла Вольтеру больше славы в придворных
кругах, чем его лучшие художественные произведения, хотя сам Вольтер
был о ней очень низкого мнения и называл ее «балаганным фарсом».
На Вольтера посыпались теперь придворные милости: в 1745 г. он был
назначен королевским историографом и получил придворный титул, а в
«следующем году был, наконец, избран членом Французской Академии,
которая до этого дважды (в 1734 и в 1743 гг.) отвергла его кандида-
туру.
Однако придворная карьера Вольтера была весьма непродолжительна.
Врагам Вольтера удалось поссорить его с маркизой Помпадур, передав
«ей некоторые шутки Вольтера по ее адресу; Вольтеру пришлось покинуть
двор. Он провел некоторое время в Со у герцогини дю Мен (1746),
где написал свои первые философские повести и трагедию «Семирамида»
(«Sémiramis»), начавшую его соперничество с Кребильоном. После недол-
гого пребывания в Сире Вольтер отправился вместе с мадам дю Шатле
в Люневиль в Лотарингии, ко двору бывшего польского короля Стани-
слава Лещинского (1748). Эта поездка сыграла в личной жизни Воль-
тера роковую роль. В Люневиле маркиза дю Шатле познакомилась и
вступила в связь с молодым поэтом Сен-Ламбером, а через год здесь
же умерла от родов (1749). Смерть Эмилии была тяжелым ударом для
-Вольтера, так как чувство к ней было единственной серьезной привязан-
ностью, которую он испытал в своей жизни.
После смерти маркизы дю Шатле Вольтер навсегда покинул Сире
и переехал в Париж. Он выписал к себе свою племянницу мадам Дени,
.которая не оставляла его до самой смерти. В своем парижском доме
-Вольтер снова создал домашний театр, в котором выступал его люби-
мый ученик Лекен, впоследствии ставший величайшим трагическим акте-
ром Франции XVIII в. Продолжая соперничество с Кребильоном, Воль-
тер написал трагедии «Орест» («Oreste», 1750) и «Спасенный Рим»
(«Rome sauvée», 1750), обеспечившие ему решительную победу над сопер-
ником, которого подстрекала против него маркиза Помпадур. Враждебное
•отношение к Вольтеру придворных сфер привело к тому, что его канди-
датура в Академию Наук и Академию Надписей дважды провалилась.
ВОЛЬТЕР Л ЕГО ШКОЛА
645
Активное участие Вольтера в разгоревшейся в это время философской
борьбе, его энергичная защита «Духа законов» Монтескье и генераль-
ного контролера Машо, установившего налог на церковные имущества,,
вскоре сделали дальнейшее пребывание Вольтера в Париже невозмож-
ным. Это заставило его принять настойчивые приглашения прусского-
короля Фридриха II переехать в Берлин, — приглашения, которые он до
этого решительно отклонял.
Фридрих II был давнишним горячим поклонником Вольтера, завя-
завшим переписку с ним еще в бытность свою наследным принцем (1736).
В это время Вольтер не был еще избалован поклонением коронованных
лиц, и восторженные письма прусского принца, увлекавшегося поэзией^
музыкой и философией, льстили его самолюбию. Вольтер поверил вольно-
думству Фридриха и был склонен видеть в нем будущего воплотителя
своего политического идеала «просвещенного абсолютизма». Фридрих
с юных лет питал глубочайшее презрение к немецкой литературе и куль-
туре, совсем не читал немецких писателей и сам много писал по-фран-
цузски — в стихах и прозе, весьма гордясь своим званием «французского
писателя». Заискивая перед Вольтером, он присылал ему на суд свои
литературные произведения, которые Вольтер редактировал. Когда
Фридрих в 1740 г., после смерти своего отца Фридриха-Вильгельма 1„
стал прусским королем, он начал упрашивать Вольтера переехать в Бер-
лин, где он сгруппировал вокруг себя целый ряд писателей-вольнодумцев-,,
в том числе итальянца Альгаротти, французского философа-материалиста
Ламетри и французского математика Мопертюи, которого он назначил
президентом Берлинской Академии Наук. Но Вольтер, не желавший
покидать маркизу дю Шатле, отклонял приглашения «философа из Сан-
Суси» (как любил именовать себя Фридрих).
Правда, в 1743 г. Вольтер приехал к нему в Берлин с дипломати-
ческим поручением от французского правительства, имевшим целью по-
будить Фридриха порвать союз с австрийской императрицей Марией-
Терезией. Проведав об этом поручении, Фридрих всячески старался
испортить отношения Вольтера с пославшим его в Пруссию француз-
ским военным министерством, чтобы помешать возвращению Вольтера во
Францию. Однако все интриги Фридриха не увенчались успехом. С дру-
гой стороны, и Вольтер возвратился на родину, не выполнив получен-
ного им поручения. После смерти маркизы дю Шатле ничто более не
удерживало его во Франции, и он решил переехать в Берлин, чтобы про-
демонстрировать свое презрение к французскому правительству.
Вольтер прибыл в Потсдам (резиденция Фридриха около Берлина)
в июле 1750 г Фридрих осыпал на первых порах его почестями и награ-
дами. Он назначил Вольтера камергером, пожаловал ему орден и круп-
ную денежную пенсию, поселил в своем дворце. За это Вольтер должен
был систематически просматривать сочинения Фридриха. По вечерам он
ужинал с королем и окружавшими его философами, давая волю своему
остроумию и делая смелые выпады против всякого рода предрассудков-
В дворцовом театре Фридриха ставились пьесы Вольтера в исполнении
членов королевской семьи. Вольтер был в восторге и называл Фридриха
«северным Соломоном», как бы не замечая его деспотического нутра.
Но такая мнимо-идиллическая дружба монарха с философом не могла-
долго продолжаться. У Вольтера все чаще прорывалось критическое отно-
шение к крепостническим замашкам его коронованного «покровителя».
Замечая эти новые нотки у поэта, в котором он хотел видеть только
■еде
Просвещение
услужливого царедворца, Фридрих начал охладевать к Вольтеру и назвал
«го в одной из своих од «заходящим солнцем». Вольтер отомстил королю,
метко сравнив его стихи с грязным бельем, которое тот присылает ему
.для стирки. Фридрих не остался в долгу и назвал Вольтера в беседе с
.Ламетри апельсином, который выбрасывают, выжав из него сок. Назревал
разрыв, повод к которому дало столкновение Вольтера с Мопертюи. По-
следний исключил из Берлинской Академии Наук математика Кенига,
обвинив его в научной фальсификации. Вольтер вступился за Кенига и,
иоспользовавшись тем, что Мопертюи выдвинул ряд сумасбродных науч-
ных проектов (например, вырыть яму до центра земли, построить город,
в котором все жители говорили бы только по-латыни, и т. п.), высмеял
Мопертюи в весьма злом памфлете — «Диатриба доктора Акакия, пап-
ского врача» («Diatribe du docteur Akakia, médecin du pape», 1752). Фрид-
;рих был взбешен; он велел сжечь «Диатрибу» на одной из площадей
^Берлина и самолично ответил на пасквиль Вольтера, назвав его лжецом.
Так, в «философе из Сан-Суси», носившем первое время маску «просве-
«.щенного» монарха, все более и более проявлялся грубый юнкерский деспо-
тизм и самоуправство крепостника.
Разрыв короля с поэтом был теперь полным. Вольтер отослал Фрид-
риху орден и камергерский ключ, но Фридрих сделал попытку задержать
его в Пруссии. Тогда Вольтер покинул Потсдам под предлогом поездки
на курорт для лечения (1753). Из Лейпцига он отправил новый пам-
флет по адресу Мопертюи, а в Готе начал разглашать сатирические
стихи Фридриха против ряда коронованных лиц. Фридрих окончательно
'вышел из себя. В Франкфурте Вольтер и его племянница, по распоря-
жению Фридриха, были задержаны и просидели пять недель под арестом,
что дало Вольтеру материал для сатирических выпадов по поводу немец-
кого «гостеприимства». Воспоминания о годах, проведенных в фридрихов-
ской Пруссии, отразились впоследствии в блестящей сатире на нравы
лрусского юнкерства в философском романе «Кандид».
Покинув пределы Германии, Вольтер некоторое время разъезжал по
Эльзасу и Лотарингии и жил в разных городах Франции, в том числе
в Лионе, не решаясь показываться в Париже. Причиной этого было
1 крайне враждебное отношение к нему Людовика XV, считавшего его
«дезертиром». Немало повредило репутации Вольтера широкое распро-
странение в это время его «Орлеанской девственницы», а также появление
«первых томов его капитального труда «Опыт о нравах и духе народов»
(«Essai sur les moeurs et l'esprit des nations», ЧУЗЗ-^т'ТЗв), в которбмеоль-
тгер беспощадно разоблачал фанатизм христианской религии. Не считая
возможным поселиться во Франции, Вольтер решил обосноваться в Швей-
царии и осенью 1754 г. купил себе живописное поместье в окрестностях
.Женевы, которое назвал «Делис» («Délices» — «Отрада»). Здесь он про-
водил летнее время, а для зимнего пребывания приобрел усадьбу Мон-
рион в окрестностях Лозанны. Четыре года спустя он купил еще два
.имения на французской территории близ швейцарской границы —■ Турне
m Ферне. Живя попеременно то в одном, то в другом из этих имений,
<он любил говорить: «Философы должны иметь две или три норы, чтобы
спрятаться от собак, которые преследуют их».
В 1760 г. он окончательно обосновался в Ферне, где жил уже без-
выездно почти до самой смерти. Переселение в Ферне было вызвано
рядом неприятностей, испытанных Вольтером со стороны суровых женев-
ских кальвинистов, которых возмущало его вольнодумство. Только
jb Ферне, на границе Франции и Швейцарии, Вольтер почувствовал себя.
ВОЛЬТЕР п его школа 647
Замок Ферне с западной стороны,
С гравюры Синьи.
наконец, совершенно спокойно. «У меня две передние лапы в Швейцарии,
а две задние во Франции, — писал он одному приятелю. — Я так устроил
свою судьбу, что могу считать себя одинаково независимым и на женев-
ской территории и во Франции». Все последующие годы его жизни не
были отмечены никакими значительными событиями внешнего характера.
Но это мирное существование находилось в противоречии с кипучей лите-
ратурно-общественной деятельностью, которую Вольтер проявил в это
последнее двадцатилетие своей жизни.
Общее направление этой деятельности значительно изменилось уже
с момента переезда Вольтера в Делис. Если до 1755 г. Вольтер являлся
в первую очередь писателем-художником, насыщавшим свои произведения
публицистическим материалом, то после 1755 г. он становится, главным
образом, публицистом, принимающим живое участие в развертывающейся
в это время напряженной идеологической борьбе. Он становится ревност-
ным сотрудником «Энциклопедии» Дидро и Даламбера, называет себя
ее «приказчиком», ведет оживленную переписку с Даламбером, рекомен-
дует ему сотрудников и сам пишет множество статей по вопросам истории,
философии, морали и языка, впоследствии собранных в девятитомном
издании под заглавием «Вопросы по поводу Энциклопедии» («Questions
sur l'Encyclopédie», 1770—1772). В своих письмах к Даламберу Вольтер
призывает энциклопедистов к единению, к забвению мелких разногла-
сий. «Мне хотелось бы, чтобы философы составили дружную, тесную
общину из членов, посвященных в дело, — тогда я умер бы удовлетво-
648
ПРОСВЕЩЕНА
ренный», — пишет он Даламберу. Он постоянно бросает горячие призывы:
«Собирайте ваше стадо, сплачивайтесь по возможности против фанатизма.
Братья, будьте дружны!»
Основным лозунгом, вокруг которого Вольтер хотел сплотить всех
(борцов передового «философского» лагеря, являлась борьба с религиоз-
ным суеверием и фанатизмом католической церкви. Он формулировал
этот лозунг в знаменитых словах: «Раздавите подлую!» («Écrasez l'in-
fâme!»), которыми он начинал или заканчивал многие свои письма 60-х
годов. Сам он посвятил борьбе с нетерпимостью и фанатизмом огромное
количество произведений самых различных жанров. Он развернул эту
тему в ряде «философских» трагедий — «Олимпия» («Olympie», 1763),
«Гебры, или Нетерпимость» («Les Guèbres, ou l'Intolérance», 1768), «Законы
Миноса» («Les Lois de Minos», 1772). Но чаще он излагал свои мысли
в публицистических трактатах, памфлетах, брошюрах и листовках, полу-
чавших широчайшее распространение по всей Европе. Многие из этих
брошюр Вольтера публиковались им под разнообразными псевдонимами:
Дюмарсе, Болингброк, Юм, «Тампоне, доктор Сорбонны», «аббат Бижекс»,
«аббат Базен и его племянник, духовники прусского короля», «раввин
Акиб», «Алексей, архиепископ новгородский» и мн. др. Все эти псевдо-
нимы никого не обманывали, и читатели сразу узнавали льва по его
когтям.
Но далеко не всегда Вольтер считал нужным скрывать свое автор-
ство под псевдонимом. Наиболее острые и смелые публицистические вы-
ступления Вольтера против фанатизма католической церкви делались им
совершенно открыто. Начиная с 1762 г. Вольтер поставил своей целью
разоблачение всякого рода гнусностей и преступлений, чинимых судеб-
ными органами дореволюционной Франции под давлением церковных
фанатиков. Его новый метод борьбы Кондорсе определял следующим
образом: «Как только совершается какой-нибудь акт фанатизма или пре-
ступление .против гуманности, Вольтер громко провозглашает имя винов-
ных на всю Европу».
Первым из таких инцидентов было дело протестанта Жана Каласа,
торговца из Тулузы, казненного в 1762 г. по обвинению в убийстве
своего сына, перешедшего в католицизм, между тем как на самом деле
его сын повесился из-за долгов. Узнав об этом случае, Вольтер приютил
у себя в доме родственников казненного и собрал все документы, дока-
зывавшие невиновность Каласа. После этого он начал агитировать, исполь-
зовал все свои связи с высшими сферами, разослал множеству лиц бро-
шюры, излагавшие историю процесса Каласа, мобилизовал общественное
мнение в его пользу и добился пересмотра дела парижским парламентом.
Этот пересмотр закончился реабилитацией доброго имени казненного и
восстановлением в правах его семьи. Вся Европа с волнением следила
за ходом этого дела; в подписке, организованной в пользу семьи Каласа,
приняли участие лица из самых различных стран. Во время своей борьбы
за реабилитацию Каласа Вольтер написал «Трактат о веротерпимости»
(«Traité de la Tolérance», 1763), в котором поставил вопросы, вызванные
делом Каласа, на широкую принципиальную почву и опубликовал большой
исторический материал о религиозных преследованиях у разных народов.
За делом Каласа последовало аналогичное дело другого . протестанта,
Сирвена, обвиненного в 1765 г. в убийстве своей слабоумной дочери.
Вольтер потратил девять лет на доказательство его невиновности. Он
вмешался таКже в дело Лабарра и д'Эталонда, присужденных в 1766 г.
к мучительной казни за пение нечестивых песен и поломку распятия. Он
ПОЛЬТЕР И ЕГО ШКОЛА
649
приютил у себя д'Эталонда, успевшего скрыться от суда, и покрыл по-
зором палачей Лабарра. Возмущение Вольтера достигло в это время
своего апогея. Он писал Даламберу: «Я стыжусь, что принадлежу к этой
нации обезьян, так часто превращающихся в тигров. . . Нет, теперь не
время шутить, остроумие неуместно на бойне. Неужели мы находимся
на родине философии и искусства? Нет, это родина Варфоломеевской
ночи. Мне совестно быть до такой степени чувствительным и запальчи-
вым в мои годы. Я плачу о детях, у которых вырывают языки... Я боль-
ной старик, мне это простительно».
Помимо жертв религиозного фанатизма, Вольтер защищал также
других невинно пострадавших людей, например, генерала Лалли, казнен-
ного в 1766 г. за государственную измену, хотя он был виновен только
в военной неудаче. Вольтер вел также энергичную борьбу против остат-
ков крепостного права и защищал крестьян, живших во владениях мона-
стыря Сен-Клод (1770—1777). Свое собственное имение Ферне он орга-
низовал на подлинно «философский» лад. Когда он поселился в Ферне, там
была крошечная деревушка из восьми хижин. Вольтер превратил ее в цве-
тущее местечко, имевшее 1200 жителей, сплошь переселенцев, нашедших
здесь убежище от религиозных преследований. Вольтер строил для них
дома и давал им деньги на обзаведение, используя их как рабочую силу
для организованной им обширной часовой мастерской и ткацкой фабрики.
Гордостью Вольтера было отсутствие в Ферне религиозной вражды
между католиками и протестантами, которые совершали свою церковную
службу в одной церкви.
Богатейший помещик, обладавший крупным капиталом, Вольтер жил
в Ферне настоящим царьком. Международная слава «фернейского пат-
риарха» сделала его имение местом паломничества образованных людей
всех стран. К нему ездили «на поклон» не только писатели, художники
и философы, но также просвещенные аристократы и даже монархи раз-
личных государств. Его постоянными корреспондентами были Фридрих II,
Екатерина II, Густав III Шведский, Христиан II Датский, польский
король Станислав Понятовский и др. Один Людовик XV продолжал
сохранять враждебное отношение к величайшему из французских писа-
телей, бывшему подлинным олицетворением разума и совести своего
века.
Смерть Людовика XV сняла запрет, препятствовавший появлению
Вольтера в Париже. Начало царствования Людовика XVI было ознаме-
новано либеральными веяниями. При таких условиях парижские друзья
Вольтера стали усиленно приглашать его в Париж. После долгих коле-
баний Вольтер решил в феврале 1778 г. посетить родной город. Его появ-
ление в Париже превратилось в настоящий народный праздник. На каж-
дом шагу ему устраивали грандиозные овации, осыпали его цветами.
Парижский народ приветствовал в нем не только великого поэта, но и
великом гражданина, защитника Каласа. Знаменитый американский борец
за свободу Вениамин Франклин привел своего внука к Вольтеру, чтобы
тот благословил его. Французская Академия избрала Вольтера своим
директором. В театре Французской Комедии представление последней
трагедии Вольтера «Ирина» («Irène», 1778), состоявшееся в его присут-
ствии, превратилось в триумфальное чествование великого поэта; его бюст
был увенчан на сцене лавровым венком под несмолкаемые овации всего
зрительного зала.
Восьмидесятичетырехлетний старик не вынес всего этого. Беспрестан-
ное нервное возбуждение подорвало его силы, и легкая простуда оказа-
6S0
ПРОСВЕЩЕНИЕ
Увенчание бюста Вольтера после представления его трагедии «Ирина> в театре Фран-
цузской Комедии 30 марта 1778 г.
лась для него смертельной. Вольтер скончался 30 мая 1778 г. Церковники,
«е добившись от Вольтера полного отречения от его «безбожной» деятель-
ности, отказались хоронить eFO. Племянник Вольтера аббат£*1ш1ьо тайно
вывез его тело из Парижа и похоронил в аббатстве Сельер в Шампани.
Правительство запретило писать о смерти Вольтера и ставить его пьесы,
во избежание демонстраций.
Впоследствии французский революционный народ отдал посмертную
дань уважения писателю, в котором он видел одного из величайших пред-
теч революции. В 1791 г., по постановлению Национального собрания,
прах Вольтера был торжественно перенесен в Пантеон — усыпальницу
великих людей Франции, борцов за народную свободу. Здесь останки
Вольтера нашли место рядом с останками его противника Руссо.
2
Многостороннее, исключительно широкое по своему идейному охвату,
проявившееся во всех существовавших в XVIII в. литературных жанрах
творчество Вольтера отличалось глубокими противоречиями. На разных
втапах своей почти семидесятилетней литературной деятельности Вольтер
ВОЛЬТЕР И ЕГО ШКОЛА
631
неоднократно противоречил самому себе, высказываясь по одним и тем же
вопросам диаметрально противоположным образом. Но противоречивость
и изменчивость воззрений Вольтера были обусловлены вовсе не его поверх-
носгаостью или легкомыслием, как утверждали его многочисленные враги.
Они объясняются прежде всего огромной продолжительностью литературной
деятельности Вольтера, отразившей весьма длительный процесс роста и
созревания третьесословной просветительской идеологии от ее первых за-
чатков в начале XVIII в. до перехода на революционные рельсы на под-
ступах к буржуазной революции. Однако, несмотря на то, что Вольтер
обнаруживает во второй половине своей деятельности значительный сдвиг
влево, он в основном остался на позициях старшего поколения просвети-
телей, выступавшего в то время, когда просветительское движение еще не
получило такого массового и боевого характера, как впоследствии. Кроме
того, Вольтер выражал обычно настроения буржуазной верхушки третьего
сословия, а не его плебейских, демократических низов. Совокупность этих
моментов вполне объясняет нам сравнительную умеренность взглядов Воль-
тера в области философии, политики и искусства.
Философские взгляды Вольтера сформировались под влиянием скеп-
тицизма Бейля и материализма Локка. В учениях этих мыслителей Воль-
тера привлекала последовательная критическая установка, направленная
против философского догматизма, против схоластики и метафизических
умозрений. Под влиянием английского материализма Вольтер пытался
освободиться от воздействия на него картезианского рационализма, кото-
рое он всегда продолжал испытывать. Уже в своих «Философских пись-
мах» Вольтер язвительно высказывался о Декарте, «разоблачившем за-
блуждения древности, но заменившем их своими собственными», и о его
теории врожденных идей, согласно которой «душа входит в тело, уже
снабженная всеми метафизическими сведениями — о боге, о пространстве,
о бесконечном, — обладающая всеми отвлеченными идеями, исполненная
прекрасных познаний, которые она, к сожалению, забывает по выходе из
утробы матери».
По мнению Вольтера, картезианцы, подобно античным метафизикам
и средневековым схоластикам, «сочиняли роман о человеческой душе; на-
конец, пришел мудрец и скромно написал ее историю. Локк познакомил
человека с процессом человеческого познания так, как сведущий анатом
объясняет строение человеческого тела». Вольтера всегда восхищала борьба
Локка с теорией врожденных идей и его учение об опыте как единствен-
ном источнике человеческого знания. Вслед за Локком Вольтер реши-
тельно отвергал учение о душе как о некой нематериальной субстанции.
Он предлагал словом «душа» обозначать совокупность способностей мыс-
лить, понимать, воображать и чувствовать. Задачей философии является,
по мнению Вольтера, изучение способностей и их проявлений в тесной за-
висимости от физиологических функций человеческого организма. «Мы мо-
жем производить вычисления, взвешивать, измерять, наблюдать; вот есте-
ственная, нормальная философия, почти все остальное — химеры», — пи-
шет Вольтер в своем «Философском словаре» («Dictionnaire philosophique»,
1764).
Под влиянием Локка Вольтер всегда склонялся к материализму при
рассмотрении душевной жизни, однако никогда не мог полностью поста-
вить душу в зависимость от тела. Так, в письме к Даламберу (1770)
Вольтер шутливо замечает, что, несмотря на всю зависимость души от
желудка, лучшие желудки не всегда бывают лучшими мыслителями. Иро-
нические замечания в поздних сочинениях Вольтера по адресу материа-
6S2
ПРОСВЕЩЕНИЕ
лизма, понимаемого им довольно вульгарно, были обусловлены значи-
тельными успехами материалистической мысли во Франции середины
XVIII в. (Дидро, Гельвеций, Гольбах и др.), которым деист Вольтер
не сочувствовал и распространению которых всячески старался поме-
шать.
В общем философские воззрения Вольтера не отличались особой
оригинальностью. Это любили подчеркивать его противники. Так, Мариво
язвительно заметил: «Росподин Вольтер — первый чслвдек в мире по
части изложения того, что придумали другиелТ-Деиствительно, Вольтер
вид^ЛТ'викГУадещу прежде всего в популяризации заимствованной им из
Англии философии здравого смысла. На первое место в своих философ-
ских писаниях "Вольтер" выдвигал чисто практические, моральные проб-
лемы. Уже в одном из своих ранних писем к Фридриху II (1737) он
говорит: «Я всегда, по мере возможности, свожу свою метафизику к мо-
рали».
По мнению Вольтера, только учение о нравственности есть истин-
ная религия и философия. Все нравственные истины, живущие в чело-
веческом сердце, могут быть сведены к двум положениям: «Живи так, как
ты желал бы прожить после смерти» и «Делай своему ближнему то, что
ТЫ желаешь, чтобы, он тебе делал». Оба эти изречения решительно опровер-
гают неоднократно бросавшиеся по адресу Вольтера упреки в том, что он
является проповедником черствого себялюбия и легкомысленного, беспеч-
ного отношения к вопросам морали.
Выдвигание Вольтером на первое место моральных проблем характе-
ризует его как просветителя, как страстного проповедника идей, легших
в основу не только французского, но и всего европейского Просвещения.
Именно потому Вольтер особенно подробно разработал в своих философ-
ских сочинениях проблемы религии. Как религиозный мыслитель Вольтер
завоевал особенно широкую популярность в Европе, хотя и в этой области
его взгляды были лишены полной оригинальности и представляли собой
результат усвоения им идей английских деистов, в первую очередь того
же Локка как автора книг «Письма о веротерпимости» (1685—1692) и
«Разумность христианства» (1695).
Сущность деизма, являвшегося в данную историческую эпоху для
многих мыслителей своеобразной формой преодоления теизма (учения
о личном боге и о божественном откровении) и перехода к атеизму, при
всем глубоком принципиальном отличии деизма от атеизма, заключалась
в отрицании божественного откровения и в стремлении найти «разумное»
обоснование религии. Деисты отрицали все исторически сложившиеся
религии, выдающие себя за продукт божественного откровения и представ-
ляющие, по их мнению, результат искажения «естественной» религии,
основанной всецело на разуме и потому соответствующей «природе» чело-
века. Отрицание исторических религий приводило к отрицанию всякого
рода церковных догматов, обрядов и суеверий, а также к энергичной
борьбе с духовенством и ёг6""^анатйзмом.| По мнению деистов, бог —
не личность, а некая безличная первопричина, мировой разум, проявляю-
щийся в мировых процессах, подчиненных железным законам развития.
Учение деистов о том, что бог, создав вселенную, не вмешивается .в ее
дела, как бы проецировало в сферу религиозных представлений принципы
английской конституции с ее королем, который «царствует, но не управ-
ляет». »
Вольтер первый перенес деизм во Францию и ввел его в систему
мировоззрения французских просветителей. Благодаря ему деизм оказал
ВОЛЬТЕР И ЕГО ШКОЛА
653
влияние на французский материализм и в частности на Дидро, для кото-
рого он явился переходной ступенью к последовательному атеистическому
миропониманию.
Отправным пунктом вольтеровски™ дч'ич.ма, яддяртгд угноенное Воль-
тером у Локка^отр^ша^ше^вр^жденных идай.ЧЭно приводит Вольтера к от-
рицанию врожденной идеи божества : «Есть народы, у которых отсутствует
понятие о боге. .. Если бы познание бога было необходимым свойством
человеческой природы, то дикари-готтентоты имели бы о верховном суще-
стве такие же понятия, как и мы. Все люди рождаются на свет с носом
и с пятью пальцами на руке, и ни один из них не появляется на свет
с понятием о боге» («Трактат о метафизике»). Отрицание врожденной
идеи божества приводит ооХвтеръ^-и^отрЩ&нйю божественного открове-
ния и к построению религии исключительно на принципах разума. Созер-
цание разумности мирового порядка приводит Вольтера к необходимости
допущения разумной первопричины этого порядка, каковой и является
божество. По его словам, «философия учит нас, что мир этот устроен
непонятным, вечным существом, но философия не может нам ничего со-
общить об его свойствах и принадлежностях; природа этого существа для
нас совершенно непостижима» («Философский словарь»).
Однако, считая бога разумной первопричиной вселенной, Вольтер
отказывался признавать бога"ll 11Уда*сЛ5м!Г Он игра'шивал: «Может ли
что-нибудь произойти из ничего?» Вольтер признавал вечность и самостоя-
тельность материи, отводя богу роль ч разумного „устроителя этой материи.
Так к метафизическому доказательству бытия бога (все существующее
должно иметь свою причину) присоединяется телеологическое доказатель-
ство (наблюдаемая в природе целесообразность предполагает великого зод-
чего— бога, как «часы предполагают сделавшего их часовщика»). Однако
сам Вольтер, видимо, не был вполне убежден собственной аргументацией,
и в «Трактате о метафизике», на ряду с доказательством бытия бога, он
развернул целую серию противоположных аргументов, в результате кото-
рых вера в бога оказывалась столь же не выдерживающей критики перед
судом человеческого разума, как и неверие.
Единственным мотивом, мешавшим Вольтеру стать на точку зрения
безбожников-материалистов, являлась невозможность, по его мнению, до-
пустить, ^гго мысль и чувство присуцщ материи. Великий скептик Воль-
тер все чаще приходил к выводу, что бытие ^ога^являехся -не--безуслов-
ной истиной, а только весьма вероятной гипотезой. Такая постановка
вопроса естественно вооружала против Вольтера представителей официаль-
ной католической церкви, для которых гипотетическое признание бытия
бога, к тому же — бога философского, было равносильно полному отри-
цанию «истинного» бога, т. е. атеизму. Действительно, во Франции, как
и в Англии, многие деисты, начав с рационалистического обоснования
религии, переходили к обоснованию атеизма. Однако сам Вольтер этого
перехода не совершил и всегда оставался врагом безбожия, главным об-
разом — дтр^ соображениям[__ ..„мор_альногподнтидес1юг.о.... ^сардкт.ер.а, которые
имели для него решающее значение.
Вольтер переводил вопрос о бытии бога и вере в него на практиче-
скую почву. В этом, как и в других философских вопросах, метафизика
отступала для Вольтера на задний план перед моралью. Ведя жестокую
борьбу с религиозными суевериями, нетерпимостью и фанатизмом, он в то
же время признавал общественную полезность религии. По его мнению,
вера в бога, т. е. в высшую силу, награждающую и карающую людей,
является основой человеческой нравственности, внедряющей в сознание
6S4
ПРОСВЕЩЕНИЕ
людей понятия возмездия и справедливости. В противоположность Бейлю,
Вольтер считал невозможным существование государства атеистов. «Идея
бога необходима так же, как законы: это .узд»», ■—записал Вольтер на
полях своего экземпляра «Системы природы» Гольбаха (1770). Таково
третье, утилитарное или моральное доказательство бытия бога, которое
появилось у Вольтера только в 60-х годах и показалось ему гораздо бо-
лее существенным и бесспорным, чем метафизическое и телеологическое
доказательство.
Итак, вопрос о существовании бога переводился Вольтером на чисто
политическую почву. Неоднократно как в своих сочинениях, так и в част-
ных письмах Вольтер проводил мысль о том, что идея бога, вместе с вы-
текающей из нее идеей загробного воздаяния, необходима для защиты
собственности и буржуазной цивилизации,, в целом. Эта мысль нашла
выражение в целом ряде изречений Вольтера, ставших знаменитыми, на-
пример: «Можно ли было придумать лучшую узду против алчности и
тайных происков, чем идею вечного повелителя, который видит самые
затаенные наши помыслы?»; «Как богатым удержать имущество в своих
руках, если чернь потеряет веру в бога? Если бы бога не было, его
следовало бы выдумать». Так Вольтер ярко раскрывает классовую роль
религии, необходимой только для «черни» и ненужной для «философов»,
людей высокой культуры и высокого знания, могущих быть добродетель-
ными и без перспективы загробного воздаяния. Подобно английскому
деисту Болингброку, Вольтер .подчеркивал, что деизм годится только для
«порядочных людей», для народа же нужно сохранить правоверный като-
лицизм, хорошо выполняющий возложенные на религию охранительные
функции.
Буржуазно-ограниченная точка зрения Вольтера на религию не мешала
ему вести сокрушительную борьбу с католической церковью, этой главной
идеологической опорой разлагавшейся феодальной монархии. Его основ-
ной задачей являлось разрушить «старое, оснсванное _семнадцать веков
назад здание "О^мана,~котороё"ттстерзало своими когтями Францию, из-
грызло своими зубами людей и загубило в муках сто миллионов чело-
век». Вольтер написал множество сочинений, вскрывающих внутренние
противоречия и историческую несообразность библейских преданий, их
родственную связь с языческими мифами. «Священное писание» пред-
ставляет, по его мнению, набор всякого рода нелепостей и одновременно —
самую безнравственную книгу, повествующую об обманах, убийствах,
предательствах, кровосмешениях и других преступлениях. Вольтер вы-
смеивает и разоблачает учение о чудесах, показывает нелепость основ-
ных христианских догматов и таинств, рисует алчность и шарлатанство
церковников, называя их «мастерами лжи, которые за деньги дурачат че-
ловека».
Помимо собственных антиклерикальных произведений, Вольтер опуб-
ликовал в 1762 г. большое извлечение из попавшего в его руки замеча-
тельного сочинения бедного провинциального священника, атеиста и ком-
муниста Жана Мельеч(Jean Meslier, ум. в 1733 г.) «Завещание», в первой
части которого Доламывается, что религия есть универсальный обман, пло-
дящий человеконенавистничество, поощряющий общественное неравенство
и имеющий целью эксплоатацию невежества народа.
В ответ на упреки в том, что он без конца повторяется в своих на-
падках на религию и церковь, Вольтер отвечал: «Я буду повторяться до
тех пор, пока мир не исправится». Разоблачая католическую церковь,
Вольтер требовал уничтожения привилегий духовенства, церковных судов,
ВОЛЬТЕР И ЕГО ШКОЛА
685
конфискации церковных земель и перевода служителей культа на жало-
вание. Своей антиклерикальной борьбой он более всех других просвети-
телей содействовал дискредитации католической церкви и во многом под-
готовил политику французской революции в области религии. Даже
якобинский вождь, руссоист Робеспьер, ведя борьбу с атеизмом и декре-
тируя культ «верховного существа», прямо ссылался на Вольтера и цити-
ровал его слова о необходимости «выдумать» бога.
Двойственность и противоречивость, характеризующие религиозно-
философские взгляды Вольтера, проявлялись также в его социально-поли-
тических взглядах. С одной стороны, Вольтер страстно боролся с пере-
житками феодализма — с крепостным рабством, с грубым насилием, с
бесправием личности, с сословными привилегиями и с монархическим
деспотизмом; с другой же стороны — он был противником республикан-
ских, эгалитарных и демократических учений и выдвигал значительно
более умеренную социально-политическую программу, чем большинство
других французских просветителей.
Политические воззрения Вольтера сложились, как и его философские
взгляды, под сильным влиянием Англии. Наблюдения над английской
жизнью, изучение английской конституции и сочинений английских публи-
цистов способствовали оформлению политического идеала Вольтера, покоя-
щегося на признании и проведении в жизнь «естественного права», в основу
которого Вольтер кладет принципы свободы и равенства. Однако эти
принципы расшифровывались Вольтером весьма ограничительно, в смысле
утверждения буржуазной «законности». «Свобода» означает для Вольтера
господство закона, а «равенство» — одинаковое право всех граждан на его
защиту. Дальше такого требования юридического равенства Вольтер не
шел. Правда, он порою возмущался сословными различиями и говорил, что
поверит в божественное право рыцарей только в том случае, если убе-
дится, что крестьяне появляются на свет с седлами на спинах, а рыца-
ри —со шпорами на пятках. Но в то же время Вольтер считал социаль-
ное равенство несбыточной мечтой. По его мнению, все люди равны как
люди, но не равны как члены общества: «В сущности говоря, люди равны,
но на сцене жизни они играют разные роли». Социальное неравенство
возводится Вольтером в основной принцип общественной жизни: «На
нашем несчастном земном шаре невозможно, чтобы люди, живущие в об-
ществе, не были разделены на два класса: класс богатых, которые пове-
левают, и класс бедных, которые служат».
Вольтер был решительным црагом идеи народовластия, выдвинутой
левым, революционным крылом просветителей. Он считал эту идею «вред-
нейшей утопией». Защита Вольтером социального неравенства была тесно
связана с презрительным отношением к народной массе, которую он в
своей частной переписке часто имено»ал «чернью» (la canaille). В этой пе-
реписке, не предназначавшейся для печати и потому весьма ценной для
выяснения взглядов Вольтера в их истинной сущности, иногда встречаются
афоризмы вроде следующих: «Если чернь примется рассуждать, все по-
гибло»; «Под чернью я разумею людей, у которых нет никаких источников
существования, кроме собственных рук. .. Такие люди скорей умрут с го-
лода, чем станут философами».
Подобные презрительные замечания по адресу народной массы (встре-
чающиеся, правда, только в его частной переписке) не мешали Вольтеру
энергично сражаться за освобождение народа от «ненавистного и унизи-
тельного рабства». Мы знаем сейчас, что такое освобождение являлось
Лив \ \
ПРОСВЕЩЕНИЕ
вместе с тем обязательной предпосылкой для развития капиталистических
отношений. В своем «Философском словаре» Вольтер писал: «Нужно,
чтобы были люди, у которых все имущество заключается в рабочих руках
и в доброй воле. Но они будут свободно продавать свой труд тому, кто
больше даст. Эта свобода заменит им собственность».
Даже просвещение должно, по мнению Вольтера, обращаться не к
мпростому народу», а только к буржуазии: «Просвещать нужно не черно-
рабочего, просвещать нужно городского буржуа». Хотя сам Вольтер завел
у себя в Ферне школы для крестьянских детей, однако он сознавался, что
боится чрезмерного распространения таких школ. «На двести-триста рабо-
чих рук достаточно одного грамотного. Для того, чтобы возделывать землю,
не нужно образования» («Философский словарь»).
Антидемократические высказывания Вольтера являются характерным
проявлением исторической ограниченности великого просветителя. Однако
в конечном счете объективный смысл деятельности Вольтера разошелся с
его субъективными намерениями, пристрастиями и предрассудками. Воль-
тер боролся не только за свободу совести; он боролся также за свободу
мысли и печати, за неприкосновенность личности, за коренную реформу
суда, за уничтожение пыток и казней, за отмену внутренних пошлин и
местных законов, за полную ликвидацию остатков крепостного права. Та-
кая широкая программа буржуазных реформ, отвечавших интересам всего
французского народа, изнывавшего под феодально-абсолютистским гнетом,
оказалась неосуществимой при старом режиме и была проведена в жизнь
только в годы Французской буржуазной революции.
Сам Вольтер был, как и большинство других французских просвети-
телей, принципиальным противником революционных методов борьбы.
Улучшения государственного порядка он ожидал не снизу, а сверху — от
монархии, которая должна отказаться от деспотических замашек и средне-
вековых порядков и усвоить гуманные идеалы просветителей. Вольтер был
сторонником «просвещенного абсолютизма», при котором монархия опи-
рается на просвещенное меньшинство населения — на «философов», допу-
щенных ею к кормилу власти. Осуществление своего идеала «просвещен-
ного абсолютизма» Вольтер видел одно время в деятельности Фридриха II
и Екатерины II, которые на словах выражали полное согласие с пропо-
ведуемыми им принципами, на деле же укрепляли крепостнические отно-
шения в своих странах.
Такого же «просвещенного монарха» Вольтеру хотелось видеть в лице
молодого короля Людовика XVI,V восшествие которого на престол было
ознаменовано привл!!ч«нт1е\ГТГуправлению страной просветительски настроен-
ных экономистов Тюрго и Неккера. Вольтер восторженно приветствовал
время, когда «царственная философия, которую так долго преследовали,
начинает диктовать свои торжествующие законы», и выражал надежду, что
«философия, которая сейчас окружает трон, скоро будет на троне». Однако
эти надежды вскоре рухнули. Вольтер был убежден, что бездарная поли-
тика французской монархии приведет страну к революции. Уже в 1764 г.
он написал в письме к маркизу Шовелену пророческие слова: «Все, что
происходит вокруг меня, бросает зерна революции, которая наступит неми-
нуемо, хотя я сам едва ли буду ее свидетелем. Французы почти всегда
поздно достигают своей цели, но в конце концов они все же достигают ее.
Свет распространяется все больше и больше; вспышка произойдет при
первом случае, и тогда поднимется страшная сумятица. Счастлив тот, кто
молод; он еще увидит прекрасные вещи». г
ВОЛЬТЕР И ЕГО ШКОЛА.
655
5
В непосредственной близости к философским и публицистическим со-
чинениям Вольтера стоят его исторические труды. Они являются естест-
венным к ним дополнением и "развертывают" на историческом материале ту
же излюбленную Вольтером идею «неразумности»феодальных^порядков
и представлений и необходимости их решительной ликвидации. Рассмат-
ривая все прошлое, как «неразумный» период в истории человечества,
Вольтер, как и Монтескье, применял такой подход к историческому
повествованию, при котором «история, в лучшем случае, являлась не
более как готовым к услугам философа сборником иллюстраций и при-
меров». 1
Просветительская узость и тенденциозность исторических концепций
Вольтера не может заслонить огромного значения его исторических работ,
которые принадлежат к лучшей части наследия великого просветителя.
Они представляют двоякий интерес — в научно-общественном и в чисто
художественном отношении.
Одновременно с Монтескье Вольтер предпринял решительную ломку
установившихся приемов повествования о прошлом. Он поставил себе
целью освободить историю от того переполнявшего ее «возмутительного
лганья», от вороха мифов, сказок и легенд, которые некритически вводи-
лись в историческое повествование наряду ; с достоверными фактами. Воль-
тер впервые.потребовал от историка тщательной документации повествова-
ния, критического исследования источников и проверки сообщаемых све-
дении с точки зрения здравого смысла. Подчеркивая, что «с помощью
басен можно управлять людьми», Вольтер энергично боролся с теми
«баснями», которые жрецы и духовенство использовали во все времена
для укрепления своего господства. Он решительно выбрасывал из истории
весь сверхъестественный элемент, все рассказы о чудесах и вмешатель-
стве небесных сил в события человеческой жизни. Он вел борьбу с тради-
циями клерикальной историографии и ее крупнейшего представителя Бос-
сюэ, видевшего в божественном «промысле» главную движущую силу
исторических событий.
Но, изгоняя из истории вмешательство «провидения», Вольтер объ-
яснял крупнейшие исторические события мелкими фактами, случайностями,
действиями отдельных исторических лиц, которые будто бы непосредственно
породили эти события. Так, например, первый крестовый поход явился,
по мнению Вольтера, результатом инициативы одного амьенского монаха,
прозванного Петром-пустынником: «Этот житель Пикардии, отправившись
из Амьена на Восток, был причиной того, что Запад вооружился против
Востока, и что миллионы европейцев погибли в Азии. Так сцепляются
между собой мировые события», — пишет Вольтер, бессильный еще рас-
крыть подлинные пружины событий всемирно-исторического значения, но
в то же время уже осознавший, как и Монтескье, что люди сами делают
свою историю.
Хотя Вольтер подчас и переоценивал роль в истории мелких случай-
ностей, капризов «его величества случая», он все же хорошо ощущал зна-
чение тех или других исторических фактов и возражал против бесприн-
ципной фактографии придворных историков и мемуаристов. «Прочитав
1 Ф. Энгельс Людвиг Фейербах. К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения,
т. XIV, стр. 649.
42 Историй француаской литературы—S15
BB8
ПРОСВЕЩЕНИЕ
мемуары кардинала Реца, я мог узнать до мельчайших подробностей, что
королева мать сказала господину Жерсе и какие речи держал сам Рец гер-
цогине Бульонской. Это любопытно, но вовсе не поучительно». Историк
должен обладать, по мнению Вольтера, «философским чутьем». Вместо
истории королей и их приближенных он должен давать историю народов,
их материальной и духовной культуры, их нравов, обычаев, воззрений,
чувств и предрассудков.
Сам Вольтер не сразу пришел к этому новому пониманию истории.
Свое первое историческое сочинение, «Историю^ Карла .XII», он еще не
оживил никакой значительной философской идеей. Жизнь знаменитого
шведского короля-полководца заинтересовала его своей занимательностью,
чередованием в ней блестящих побед и жестоких неудач. Тщательно изу-
чив исторические документы, Вольтер дал хороший образец их умелого
использования для построения сжатого, легкого и блестящего повествова-
ния, всегда концентрирующего внимание на существенном, а не на мелких
деталях. Но вместе с тем «История Карла XII» еще не выходит за рамки
отвергнутой ' впоследствии Вольтером «истории королей». Шведскому ко-
ролю Вольтер придает преувеличенные масштабы героя в стиле Плутарха.
Однако этот герой своей неумеренной жаждой завоеваний вконец разорил
свою страну и вывел ее из числа великих европейских держав. Таков поу-
чительный вывод, к которому приводит книга Вольтера, быть может —
помимо его собственного желания.
Более высокого идейного уровня достигает следующий исторический
труд Вольтера—«Век Людовика XIV». Само название этой работы пока-
зывает намерение Вольтера изложить не историю короля, а историю его
эпохи, которую Вольтер считал «самым славным, веком человеческого ума».
Его задачей являлось обрисовать успехи цивилизации в различных обла-
стях в период царствования Людовика XIV. Для написания этого труда
Вольтер прочел около двухсот томов мемуаров современников и вел много-
численные беседы со всеми оставшимися в живых свидетелями царствова-
ния Людовика XIV. Он весьма искусно использовал огромный накоплен-
ный им материал, изложив его в присущей ему сжатой и четкой форме.
Однако рассказ Вольтера отличается некоторой сухостью. Это невыгодно
отличает книгу Вольтера от мемуаров Сен-Симона, в которых та же эпоха
изображена несравненно более правдиво и колоритно.
В композиционном отношении «Век Людовика XIV» отличается неко-
торой фрагментарностью. Вольтер касается здесь военной и политической
жизни Франции XVII в., пишет о торговле.и промышленности, о церков-
ных и финансовых делах, об успехах литературы, о частной жизни короля
и придворных нравах, несколько неожиданно заканчивая книгу главой
о «китайских церемониях». Все эти моменты Вольтер рассматривает
обособленно, не раскрывая внутренней связи между ними, и потому вся
эпоха в его изображении лишена органического единства. Впрочем, этот
недостаток присущ не ему однрму: он является отличительной особенностью
всей просветительской мысли XVIII в., отличавшейся ограниченным пони-
манием исторического процесса и бессильной создать связную философскую
систему, объемлющую все области знания. При наличии большого числа
ясных и иногда довольно глубоких идей, Вольтер излагает их одну за
другой, не пытаясь установить между ними причинно-следственные и функ-
циональные взаимосвязи. Отсюда пристрастие у него, как и у других пи-
сателей XVIII в., к различным изданиям энциклопедического типа. Черты
такого энциклопедизма присущи историческим сочинениям Вольтера
в такой же мере, как и его философским работам.
ВОЛЬТЕР И ЕГО ШКОЛА
GB9
Основным замыслом «Века Людовика XIV» было прославление этого
века, отмеченного высшим расцветом французской литературы. Роль Людо-
вика XIV соответственно этому определялась как роль просвещенного
монарха, покровителя цивилизации, достойного занять место рядом с Пе-
риклом, Августом и папой Львом X, с именами которых Вольтер связы-
вал три других «золотых века» европейской культуры и искусства. Этот
первоначальный замысел «Века Людовика XIV», полностью выраженный
в первой редакции данного труда (1739), уступил затем место во второй
его редакции (1751) более сдержанному отношению, в виду тех религиоз-
ных преследований, которыми Людовик омрачил вторую половину своего
царствования. Людовик изображался здесь Вольтером хотя и великим
королем, но совсем не «философом», каким, по мнению Вольтера, должен
быть настоящий просвещенный монарх. Культ успехов разума и цивили-
зации сочетался теперь со страстной ненавистью к церкви — лейтмотивом
всех произведений Вольтера этого периода.
Приняв такую форму, «Век Людовика XIV» был затем полностью
включен Вольтером в 1756 г. в состав его капитального исторического
труда «Опыт о нравах и духе народов», представляющего попытку связ-
ного изложения истории Европы от Карла Великого до Людовика XIV.
Этому обзору европейской истории Вольтер предпослал краткий очерк
истории Востока, восполняющий пробелы, допущенные Боссюэ в его «Рас-
суждении о всемирной истории». Вольтер рассказывает здесь о древней-
ших цивилизациях Китая и Индии, говорит о персах и арабах, которых
Боссюэ несправедливо изобразил разбойничьими племенами. Эта часть труда
Вольтера была для своего времени совершенно новой и свежей. Зато в
изложении истории средних веков Вольтера ослепляла его антиклерикаль-
ная установка, помешавшая ему более глубоко и всесторонне оценить исто-
рическую роль средневековой церкви, охватить все проявления народной
жизни этого периода, очертить культурные завоевания европейских наро-
дов в течение средних веков.
Исторический человек вытесняется у Вольтера, как и у других про-
светителей, «естественным человеком». Вольтер расценивает мысли и чув-
ства людей прошлого с точки зрения просвещенного человека своего вре-
мени. Он издевается над заблуждениями и предрассудками средневековых
людей, не стараясь понять их исторической закономерности и социальной
обусловленности. Д,\я Вольтера вся история человечества представляет
собою борьбу разума с суеверием, добродетели с пороками и преступле-
ниями, которые порождены заблуждениями человеческого разума. Главным
источником этих заблуждений является христианская религия, явившаяся
причиной культурного упадка человечества по сравнению с древним миром.
Новый умственный и моральный подъем человечества вызван успехами
разума, свет которого мало-помалу рассеивает мрак средневековья. Воль-
тер придает здесь огромное значение просвещению и считает, что оно
должно вывести человечество на правильный путь, освободив его от влия-
ния церкви.
Из исторических трудов Вольтера, относящихся к последнему, ферней-
скому, периоду его деятельности, особенный интерес для нас представляет
блестяще написанная «История Российской империи при Петре Великом»
(«Histoire de l'Empire de Russie sous Pierre le Grand», 1759—1763). Мате-
риалы для этого труда были предоставлены Вольтеру его корреспондент-
кой, императрицей Екатериной II, заинтересованной в прославлении Воль-
тером монарха, продолжательницей которого она себя считала. Вольтер
изобразил Петра воплощением своего политического идеала, просвещен-
000
ПРОСВЕЩЕНИЕ
1гым монархом, преобразователем России, поднявшим ее на высокий уро-
вень цивилизации.
4
Литературно-эстетические взгляды Вольтера отличались такой же
противоречивостью, как и его религиозно-философские и социально-поли-
тические взгляды. С одной стороны, Вольтер был последним великим пред-
ставителем французского классицизма и его принципиальным сторонни-
ком. С другой стороны, он отдал значительную дань новым литературным
течениям и вводил в свои произведения целый ряд новых элементов, про-
тиворечивших, эстетической "Доктрине классицизма. Колебания Вольтера
между французским классицизмом и буржуазным реализмом английского
типа, органически связанные с его колебаниями между рационализмом
Декарта и эмпиризмом Локка, представляют специфическое литературное
выражение противоречий его философского сознания.
Еще на школьной скамье Вольтер проникся восторженным преклоне-
нием перед великими писателями Франции времен Людовика XIV и перед
догматической поэтикой Буало; это преклонение он пронес через всю свою
долгую литературную деятельность. Он считал, что поэты века Людовика
XIV осуществили в своих произведениях высший художественный идеал,
и что писателям, пришедшим на смену им, остается только подражать их
произведениям: «Великие люди прошлого столетия учили думать и гово-
рить; они говорили то, что было неизвестно. Те же, которые пришли
после них, могут говорить только то, что уже известно». Так Вольтер
формулировал характерную для доктрины классицизма теорию подража-
ния, обусловленную верой в существование единого возможного типа ху-
дожественного совершенства.
Эту теорию Вольтер наиболее ярко выразил в своем «Веке Людо-
вика XIV». Он установил здесь границы всех основных литературных
жанров, разработанных во Франции в XVII в., и пришел к выводу, что
великие писатели этого времени исчерпали все возможности этих жанров.
«Не следует думать,—писал он, — что великие трагические страсти и ве-
ликие чувства могут бесконечно разнообразиться все новым и поразитель-
ным образом. Все имеет свои границы». То же относится к комедии, ора-
торской прозе, басне: «После того как Лафонтен сочинил известное коли-
чество басен, все новые басни заключают в себе ту же мораль и почти те
же приключения. Итак, для гения есть только одна эпоха, один век, после
которого он вырождается». Таким периодом упадка, обреченным на подра-
жание великим писателям века Людовика XIV, представлялось просвети-
телю Вольтеру его время, т. е. эпоха Просвещения. Подобная установка на-
ходилась в резком противоречии со всей системой новаторских взглядов
Вольтера, с присущей ему ненавистью ко всякой рутине и косности мысли.
Она не помешала проникновению в литературные произведения самого
Вольтера нового содержания, но она создала глубокое противоречие
между формой и содержанием во многих его произведениях, обусловлен-
ное своеобразным консерватизмом Вольтера в вопросах художественной
формы.
Вольтер принимал не только рационалистический метод классицизма,
но и свойственный ему принцип сословного разграничения жанров; он под-
чинялся правилу трех единств и прочим условностям классицизма. Эсте-
ВОЛЬТЕР Я ЕГО ШКОЛА
661
тика Вольтера всегда сохраняла некоторый аристократический отпечаток.
«Я должен признать, — писал он, — что здешний мир состоит из плутов,
фанатиков и глупцов; выделяется лишь небольшая группа, стоящая особ-
няком, которую называют хорошим обществом (la bonne compagnie). Это
маленькое стадо, будучи богато, хорошо воспитано, образованно, вежливо,,
составляет как бы цвет человеческого рода. Для него созданы благопри-
стойные наслаждения. В угоду ему работали величайшие люди. Оно со-
здает репутацию».
Стоя на классицистических позициях, Вольтер считал французскую
классическую трагедию высшим литературным жанром, благоговейно почи-
тал Расина и заботливо охранял завещанную XVII веком традиционную
форму от разрушительных новаторских начинаний Удара де Ламота. При
всем том Вольтер очень уважал идеи Ламота и его единомышленника
Фонтенеля и являлся подобно им «модернистом», ставившим Вергилия
выше Гомера и Расина выше Софокла. В юности он был, кроме того, по-
клонником поэзии Жан-Батиста Руссо, а также Лафара и Шольё. Литера-
турно-эстетические взгляды молодого Вольтера наиболее ярко выражены
в его поэме «Храм вкуса» («Le Temple du goût», 1733), в которой он дал
своеобразный сатирический обзор современной литературы, зло высмеяв
всех ретроградных классицистов и литературных педантов.
Пребывание в Англии весьма расширило литературный кругозор Воль-
тера, познакомившегося там с произведениями многих виднейших англий-
ских писателей. Но Вольтер попал в Англию в тот момент, когда все веду-
щие английские писатели еще твердо стояли на платформе классицизма.
Знакомство с их произведениями не могло поколебать преклонения Воль-
тера перед поэтикой Буало, которая пользовалась в Англии того времени
не меньшим авторитетом, чем во Франции. Даже такой оригинальный и
независимый писатель, как Свифт, оказавший большое влияние на Воль-
тера, в своих литературно-эстетических взглядах открыто склонялся к клас-
сицизму. При всем том, в области литературы наибольшее впечатление на
Вольтера в Англии произвели произведения Шекспира, интерес к которому
возрождался в это время на его родине после долгого забвения. Однако
до 1744 г. пьесы Шекспира исполнялись в Англии в искажавших их пере-
делках, в которых великого английского драматурга подгоняли под эстети-
ческие нормы классицизма. Все ведущие писатели Англии первой половины
XVIII в. принимали Шекспира с целым рядом оговорок, обусловленных
их приверженностью классицистической доктрине. Это в значительной
мере определило своеобразное отношение к Шекспиру Вольтера, сказав-
шееся в его весьма двойственной оценке шекспировского наследия.
Вольтеру Шекспир всегда представлялся гениальным варваром, у ко-
торого черты самого глубокого трагизма и самой возвышенной поэзии со-
единяются с проявлениями грубости и плоского шутовства. Уже в своих
«Философских письмах» Вольтер писал: «У Шекспира был гений мощный
и плодотворный, натуральный и возвышенный, но у него не было ни ма-
лейшей искры хорошего вкуса и ни малейшего знания правил.. . В его
чудовищных фарсах, называемых трагедиями, встречаются сцены прекрас-
ные, возвышенные и ужасающие. Вот почему его пьесы всегда имели боль-
шой успех. .. Достоинства этого автора погубили английский театр». В пре-
дисловии к трагедии «Семирамида» (1748), написанной под влиянием
«Гамлета», Вольтер так говорил об этом величайшем творении Шекспира:
«Это грубая варварская пьеса, которая не пришлась бы по вкусу даж*
французской или итальянской черни. Но под грубой, искаженной формой
662
ПРОСВЕЩЕНИЕ
«Гамлета» скрывается воз-
вышенное содержание, до-
стойное величайшего гения.
Природа, казалось, пожелала
соединить в голове англий-
ского поэта величие и силу с
низменными и отвратитель-
ными чертами».
Вольтер первый во Фран-
ции понял, какую огромную
пользу может принести фран-
цузскому театру усвоение не-
которых принципов шекспи-
ровской драматургии и, в ча-
стности, характерной для нее
напряженности страстей, жи-
вости и богатства действия.
Сам Вольтер, сохраняя вер-
ность доктрине классицизма,
был в то же время первым
французским поэтом, проя-
вившим инициативу в обла-*
ста освоения шекспировского
наследия.
Увлечение театром сы-
грало огромную роль в лите-
ратурной деятельности Воль-
тера. Театр был предметом
постоянных интересов Воль-
тера с самых его юных лет
до глубокой старости. Всюду,
где бы он ни находился, — в
Сире, Париже, Берлине, Де-
лисе, Ферне, — он организо-
вывал домашние театры, в которых сам выступал в качестве актера и ре-
жиссера, ставя по преимуществу свои собственные пьесы. Любовь к театру,
естественно, побуждала Вольтера особенно часто обращаться к драматургии,
которой он отдал большую дань, чем всем другим родам поэзии. Драма-
тургическое творчество Вольтера занимает целых шестьдесят лет. Его пер-
вым крупным литературным успехом была трагедия «Эдип» (1718), его
последним успехом — трагедия «Ирина» (1778). Всего он написал 52 пьесы
различных жанров, в том числе 27 трагедий, т. е. больше, чем Корнель
(21 трагедия) и Расин (11 трагедий). По художественному уровню его
трагедий Вольтер должен быть признан третьим великим трагическим по-
этом французского классицизма.
Писал Вольтер очень легко и быстро. Его лучшая трагедия «Заира»
была написана и]\*7в~двадцать~~семь дней. Некоторые его трагедии созда-
вались в бесприм/Ьрно короткий срок: «Гебры» — в двенадцать дней, «Олим-
пия» — даже в фесть дней. Однако, быстро написав пьесу, Вольтер не-
скр_лько..р^з_в^з^ащался к ней,ji. переделывал ее как для постановки на
сцене, так и для печати. В итоге, многие трагедии Вольтера имели три
редакции — первоначальную, сценическую и печатную. Иногда, неудовле-
творенный пьесой во время ее представления, Вольтер ""брал- ёёПэбратнб,
Вольтер.
С портрета Девона, грав. Ж. Е. Гаядом (1779 г.).
ВОЛЬТЕР И ЕГО ШКОЛА
663
вносил в нее значительные изменения и затем снова отдавал в театр. Так,
«Аделаида Дюгеклен» («Adélaïde Duguesclin», 1734) переделывалась Воль-
тером четыре раза. Если пьеса Вольтеру не удавалась и не имела успеха
у публики, он оставлял ее и некоторое время спустя писал на сход-
ный сюжет совершенно новую трагедию. Так, сюжет и некоторые места
провалившейся «Артемиры» («Artémire», 1720) были использованы в
«Мариамие» («Mariamne», 1724), а место неудачной «Эрифилы» заняла
«Семирамида». Часто Вольтер работал над двумя-тремя трагедиями одно-
временно.
Вольтер охотно прислушивался к мнению друзей, зрителей и актеров.
С последними он особенно считался и умел ценить их творческую работу.
Так, после постановки «Меропы» он открыто заявил, что значительной
долей своего успеха эта трагедия обязана великолепному исполнению за-
главной роли актрисой Дюмениль. Рассчитывая на актерское исполнение,
Вольтер несколько эскизно обрисовывал характеры своих персонажей.
Актеры очень любили трагедии Вольтера в виду их большой сценичности.
Вольтеру немало помогало в его драматургической работе знание сцены,
ксех секретов актерской и режиссерской техники.
В стилевом отношении трагедии Вольтера примыкают к поздним тра-
гедиям Расина, в особенности к «Гофолии», которую Вольтер первый су-
мел оценить по достоинству. В «Гофолии» Вольтер нашел выход из закол-
дованного круга античной тематики, трактовавшейся эпигонами Расина
в некоем условном галантном стиле, к более широкой форме исторической
трагедии, лишенной любовной интриги и изображающей политические кон-
фликты в связи с религиозными проблемами. Здесь же Вольтер нашел
обличение деспотического самодержавия, введение в действие народа и
яркую живописность трагического спектакля, которая отсутствовала в преж-
них классицистических трагедиях. Все эти моменты органически вошли
в драматургическую систему Вольтера.
На ее формирование оказала немалое влияние также лирическая тра-
гедия Кино, к которой Вольтер чувствовал большое пристрастие, несмотря
на ее одностороннюю галантную тематику. Он учился у Кино использова-
нию зрелищных эффектов, а также построению эмоционального, патетиче-
ского сюжета, развертывающегося на глазах у зрителя. Стремление к внеш-
нему действию и театральности, прочно укрепившимся в оперном театре,
заставляло Вольтера вводить такие невиданные в трагическом театре Фран-
ции эффекты, как пушечный выстрел и раненый рыцарь с перевязанной
рукой в «Аделаиде Дюгеклен», или кате появления призраков в «Эрифиле»
и «Семирамиде». Последний прием был заимствован Вольтером из шекспи-
ровского «Гамлета». Используя его, Вольтер в своей погоне за сцениче-
скими эффектами забывал о своей собственной борьбе со всякого рода ми-
стикой и суевериями. Тем же целям усиления внешней занимательности
трагедии служило использование Вольтером излюбленных приемов фабуль-
ной авантюрной драмы — разного рода инкогнито, кви-про-кво, неожидан-
ных появлений, исчезновений и узнаваний действующих лиц, а также
страшных, кровавых сцен, введением которых он как бы конкурировал
с Кребильоном.
Вольтеровское понимание трагедии хорошо выражено в недавно лишь
опубликованном посвящении русскому вельможе И. И. Шувалову трагедии
Вольтера «Олимпия» («Olympie», 1764): «Трагедия — это движущаяся
живопись, это одушевленная картина, и изображаемые в ней люди должны
действовать. Сердце человеческое жаждет волнений: хочется видеть, как
мать, с распущенными волосами, со смертельным ужасом во взоре, готовая
664
ПРОСВЕЩЕНИИ
разрыдаться, устремляется к настигнутому бедой сыну; нас привлекают
проявления силы, занесенные над кем-либо кинжалы, ошеломляющие пере-
мены, роковые страсти, преступления и угрызения совести, смена отчая-
ния радостью, высоких взлетов стремительным падением. Такова истин-
иая трагедия». Сам Вольтер делал попытки создать именно такие высоко
патетические, эмоциональные и одновременно живописные трагедии, в ко-
торых он, по собственному выражению, стремился «истерзать сердце зри-
теля». В той же «Олимпии» он дал серию волнующих живых картин, за-
вершающуюся ужасным зрелищем того, как героиня пьесы «бросается в
костер на глазах у своих потрясенных возлюбленных и жрецов, которые
стоят опечаленные, взволнованные, растерянные, выражая свое состояние
резкими движениями, протянутыми руками, готовностью броситься на по-
мощь» (примечание Вольтера к V акту «Олимпии»). Все это далеко уво-
дило французскую трагедию от строгих и скупых форм, завещанных XVII
веком. Даламбер выразил мнение всех современников, написав Вольтеру:
«Только вы один умеете волновать сердца; Корнель только ораторствует,
а Расин беседует».
Новая эстетическая концепция трагедии потребовала значительного
расширения ее сюжетно-тематических рамок. Вольтер сравнительно редко
обращался к античной тематике. Только в пяти своих трагедиях («Эдип»,
«Эрифила», «Меропа», «Орест», «Пелопиды») он использовал греческие
мифы и еще в пяти других («Брут», «Смерть Цезаря», «Спасенный Рим»,
«Триумвират», «Софонисба») разработал сюжеты из римской истории.
Все остальные трагедии Вольтера выходят за пределы этого освященного
традицией круга тем. Действие их происходит то в Азии, то в Африке,
то в Америке, то в средневековой Европе; в них изображаются очень раз-
личные эпохи и народы. Расширяя тематику трагедии, Вольтер выражал
космополитические тенденции, присущие всей культуре французского Просве-
щения. При этом он стремился к возможно большей исторической и этно-
графической выдержанности своих пьес; задолго до романтиков выдвинув
проблему «местного колорита» (couleur locale), он снабжал свои пьесы
с этой целью подробными ремарками, в которых давал точные указания
относительно декораций и костюмов действующих лиц. Придавая важное
значение постановке своих трагедий, он, ради усиления театральной иллю-
зии, решительно протестовал против старого обычая допускать зрителей
на сцен}' и боролся за реформу условно-стилизованного костюма, в кото-
ром до него исполнялась классическая трагедия. Эта последняя реформа
была впервые осуществлена трагическим актером Аекеном и его партнер-
шей м-ль Клерон при постановке трагедии Вольтера «Китайский сирота»
(«L'Orphelin de la Chine», 1755).
Новаторство Вольтера не ограничивалось, однако, отмеченными фор-
мально-стилистическими нововведениями. По примеру «Гофолии» Расина,
Вольтер стремился разорвать связь трагедии с придворно-аристократиче-
скими нравами и вкусами и с этой целью отрицал обязательность в тра-
гедии любовной интриги. Если е свою первую трагедию «Эдип» Вольтер
еще внес ненужный для действия мотив любви Иокасты к Филоктету, то
впоследствии он постоянно писал трагедии без любовной интриги («Ме-
ропа», «Орест») и даже без женских образов («Смерть Цезаря»). В изо-
бражение любви он пытался внести то новое, глубоко серьезное понимание
любовных отношений, которое выдвигалось в это время передовой бур-
жуазной литературой.
Как подлинный просветитель Вольтер ставил перед трагедией новые
ВОЛЬТЕР ИЕГО ШКОЛА
66S
воспитательные задачи. «Я всегда думал, — писал он, — что трагедия не
должна быть просто зрелищем, трогающим, но не исправляющим наши
сердца. Какое дело человеческому роду до страстей и несчастий древних
героев, если они не служат нам поучением?» (Предисловие к «Магомету»).
Следуя этому принципу, Вольтер превращал трагедию в орудие пропаганды
просветительских идей и вводил в нее публицистические нотки, заметные
уже в самых ранних его пьесах. Это с самого начала драматургической
деятельности Вольтера отличало его трагедии от трагедий ретроградных
придворных классицистов, вроде Кребильона.
В этом отношении примечательна уже первая трагедия Вольтера
«Эдип», в которой он разработал знаменитейшую трагическую фабулу
античного мира. В предисловии к печатному изданию этой трагедии Воль-
тер обнаружил отсутствие благоговейного почтения перед Софоклом и тща-
тельно проанализировал его «ошибки», «неестественность» и «примитив-
ность» его пьесы с точки зрения просветительского рационализма. Этот
рационализм побудил Вольтера отбросить присущее Софоклу преклонение
перед роком, противопоставив ему идею человеческого достоинства и веру
в разум. Жрецы, действующие от лица богов, изображены здесь Вольтером
обманщиками и интриганами, использующими народную темноту и суеве-
рие. В текст трагедии введены антиклерикальные тирады, вроде следую-
щих слов Иокасты:
Хоть чтит народ жрецов в сердечной простоте.
Вся власть их зиждется на нашей темноте.
(Д. IV, явл. 1)
Одновременно Вольтер рисует в этой пьесе идеал просвещенного мо-
нарха, проникнутого сознанием своих обязанностей по отношению к народу.
В отличие от своего предшественника по разработке той же темы — Кор-
неля, заявлявшего, что «народ слишком счастлив, когда он умирает за
своих королей», Вольтер говорит устами Эдипа: «Умереть за свою страну —
вот долг короля». Его Эдипу совершенно чуждо свойственное Людовику
XIV обожествление личности монарха; он считает, что короли могут оши-
баться, как обыкновенные люди: «Короли не могут читать в сердцах лю-
дей, и их удары часто поражают невинных» (д. II, явл. 5). Сущность тра-
гедии Эдипа сводится, по мнению Вольтера, к тому, что он, помимо
своей воли, оказался виновником несчастий своего народа.
Наметившееся уже в «Эдипе» критическое отношение к самодержавию
было углублено Вольтером в его римских трагедиях, написанных под вли-
янием знакомства с Шекспиром и, в частности, с его «Юлием Цезарем»,
которого Вольтер очень любил и впоследствии перевел на французский
язык (1762). Первая из римских трагедий Вольтера «Брут» была начата
им в Англии (притом в первом варианте — даже на английском языке).
Ее печатному изданию (1731) было предпослано «Рассуждение о трагедии»,
обращенное к лорду Болингброку, в котором Вольтер впервые нападал
на французскую трагедию за преобладание в ней диалога над действием
и предлагал ей учиться у Шекспира. Сам он ввел в «Брута» ряд невидан-
ных во Франции постановочных приемов, вроде показа на сцене заседания
римского сената (д. I) или неожиданного изменения места действия путем
раскрытия задней сцены (д. IV, явл. 5).
Но еще важнее этих формальных новшеств «Брута» были его идей-
ные тенденции. Вся трагедия насыщена тираноборческим духом. В лице
консула Юния Брута Вольтер дал монументальный образ республиканца,
666
ПРОСВЕЩЕНИЕ
лозунгом которого является — «жить свободно и без государей». Он ведет
борьбу с изгнанным из Рима царем Тарквинием и противодействует его
попыткам вернуть утраченный престол. Откликом теории Локка о праве
народа на восстание против деспотического монарха, нарушившего свой
договор с народом, является то место трагедии, где Брут заявляет, что
с того момента, как Тарквиний «осмелился нарушить законы Рима» Рим
более ему не подвластен, и он один является бунтовщиком»:
Et dès qu'aux lois de Rome il ose être infidèle,
Rome n'est plus sujette, et lui seul est rebelle.
(Д. I, явл. 2)
Подобно английским революционерам во главе с Мильтоном, Брут у Воль-
тера выступает против принципа наследственности королевской власти, за-
являя: «Кто родился в пурпуре, редко бывает достоин его». Эта идея была
усвоена многими просветителями, в том числе Руссо, который высоко ценил
римские трагедии Вольтера.
С точки зрения драматургического построения «Брут» напоминает
трагедии Корнеля. Движущим сюжетным мотивом трагедии является чисто
корнелевский конфликт между личным чувством и гражданским долгом.
Этот конфликт переживают и сын Брута Тит, которого любовь к дочери
Тарквиния Туллии толкает на путь измены родине, и сам Брут, который
по предложению сената выступает судьей собственного любимого сына и
осуждает его на смерть. Эта трагедия Вольтера пользовалась огромной
популярностью в годы революции и подсказала итальянскому драматургу
конца XVIII в. Альфьери сюжет одной из его лучших трагедий «Брут
Старший».
Вторая римская трагедия Вольтера «Смерть Цезаря» написана на сю-
жет, разработанный в первых актах «Юлия Цезаря» Шекспира. Ее глав-
ным героем является другой Юний Брут, потомок первого, такой же
страстный республиканец и ненавистник деспотизма. Отступая от Шекс-
пира, Вольтер изображает его внебрачным сыном Цезаря. Эта родствен-
ная связь деспота и республиканца-заговорщика делает переживаемый
Брутом трагический конфликт между личным чувством и гражданским
долгом исключительно напряженным. Вольтер повторяет в «Смерти Це-
заря» основной мотив «Брута», но только отец и сын здесь как бы ме-
няются ролями: если в «Бруте» отец-республиканец посылал на смерть
сына-монархиста, то в «Смерти Цезаря» сын-республиканец убивает отца,
надевающего на себя царский венец. Брут изображен идеальным гражда-
нином, и Цезарь недаром заявляет, что он хотел бы быть Брутом, если
бы не был Цезарем. Однако и Цезарь изображен в настолько положи-
тельном свете, что даже Брут не отрицает его высоких нравственных
качеств.
Подчеркивая закономерность монархических притязаний Цезаря в об-
становке разложения римской республики, Вольтер располагает зрителя
в его пользу. Монархические взгляды Вольтера помешали ему превратить
«Смерть Цезаря» в настоящую республиканскую трагедию. Тем не менее
«Смерть Цезаря» переполнена республиканскими тирадами, вроде воскли-
цания Брута: «Как прекрасно пролить свою кровь над кровью тиранов!»
или слов Кассия: «Истинный республиканец признает своим отцом и сы-
ном только доблесть, богов, законы и родину». Такие тирады создали
пьесе большую популярность в годы революции. Альфьери подражал ей
« своем «Бруте Младшем».
ВОЛЬТЕР И ЕГО ШКОДА.
667
Помимо римских трагедий, Вольтер написал под влиянием Шекспира
свою популярнейшую трагедию «Заира», удержавшуюся в репертуаре до
наших дней. Действие этой пьесы происходит в Сирии в эпоху крестовых
походов. Иерусалимский султан Оросман влюблен в прекрасную рабыню
Заиру, француженку, воспитанную в серале в мусульманской вере, и со-
бирается сделать ее своей единственной женой. В это время из Франции
прибывает рыцарь Нерестан, собравший деньги для выкупа пленных кре-
стоносцев. Султан согласен освободить всех своих пленников, кроме хри-
стианского короля Сирии Люзиньяна, но Заира добивается отмены этого
решения. Выпущенный из темницы, Люзиньян узнает в Заире и Нерестане
своих исчезнувших детей. С этого момента в пьесу вводится новый мотив —
религиозный фанатизм христиан, приходящих в ужас от отступничества
Заиры и вырывающих у нее обещание отсрочить свою сдадьбу с Оросма-
ном, пока тот не примет христианскую веру. Этот фанатизм и является
причиной финальной катастрофы. Однако сюжетно последняя мотивиро-
вана ревностью Оросмана, подозревающего в Нерестане счастливого сопер-
ника. Его подозрения разжигаются наперсником его Корасменом, пере-
хватывающим письмо Нерестана к Заире, в котором тот назначает
сестре свидание в мечети. Оросман следит за Заирой и, встретив ее в
назначенный час около мечети, закалывает ее. Узнав после этого всю
правду, он отпускает на волю христиан, а сам убивает себя около трупа
Заиры.
История ревности Оросмана навеяна Вольтеру шекспировским «Отел-
ло», которому Вольтер подражал, однако, очень свободно, создав типичную
французскую классическую трагедию, в центре которой стоит конфликт
в душе героини между любовью и религиозным долгом. Если у Шекспира
главным героем является Отелло, то у Вольтера ведущая роль предназна-
чена Заире, которая испытывает мучительную душевную борьбу и является
жертвой не только ревности, но и религиозного фанатизма. Ставя
в «Заире» вопрос, может ли женщина ради любви изменить своему народу
и своей вере, Вольтер приближается больше к Расину, чем к Шекс-
пиру.
Равным образом, и Оросман, несмотря на стремление Вольтера к ту-
рецкому колориту, очень мало похож на восточного человека и лишен не-
посредственности Отелло, так как даже в пароксизме страсти он соблюдает
аристократические условности и приличия. Вольтер обрисовал Оросмана
самыми положительными чертами, подчеркнув этим задолго до «Натана
Мудрого» Лессинга, что добродетель человека не обязательно связана
с его принадлежностью к христианам.
В целом, «Заира» — чисто просветительская трагедия, вызвавшая ре-
шительный отпор со стороны реакционных писателей. Так, Жан-Батист
Руссо отметил ее враждебность христианству, противопоставив ей «По-
лиевкта», в котором вера торжествует победу над земной страстью. Однако
большинство современников приняло «Заиру» восторженно, отчасти благо-
даря проникающей пьесу чувствительности и полному отсутствию в ней
героического пафоса, что сильно приближало «Заиру» к нарождавшемуся
жанру мещанской драмы. Недаром Жан-Жак Руссо называл ее «чарующей
пьесой».
Антиклерикальная тенденция, проявившаяся в «Заире», была еще уси-
лена Вольтером в «Альзире», где изображение любовных страстей снова
сочетается с обличением христианского фанатизма. Показывая в «Аль-
зире» борьбу христианства с язычеством в Перу после завоевания его
испанцами, Вольтер рисует туземцев-инков несравненно более терпимыми
CC8
ПРОСВЕЩЕНИЯ
и гуманными, чем их угнетатели-испанцы, которые совершают множество
жестркостей во имя христианской веры. Драматический конфликт пьесы
развертывается вокруг красавицы Альзиры, дочери местного князя Мон-
теза, просватанной сначала за свободолюбивого инка Замора, но затем
выданной замуж за нелюбимого ею жестокого правителя Перу Гусмана.
Возвращение Замора, которого все считали погибшим, чрезвычайно обо-
стряет ситуацию. Выпущенный Альзирой из тюрьмы, в которую его поса-
дил Гусман, Замор закалывает Гусмана. Его и Альзиру ожидает казнь,
но их спасает неожиданный перелом в душе умирающего Гусмана, который
прощает своего убийцу и осуждает всю свою прежнюю деятельность. Не-
смотря на примирительный финал, с виду превозносящий величие «истин-
ного» христианства, трагедия в целом носит антихристианский характер;
она осуждает несправедливость и насилие, ставя полудиких туземцев выше
«цивилизованных» испанских колонизаторов.
Гораздо дальше «Альзиры» Вольтер пошел в самой знаменитой из
своих антиклерикальных трагедий—«Магомет-пророк, или Фанатизм».
Идейная направленность этой трагедии ясно раскрывается ее подзаголов-
ком; это—обличение религиозного фанатизма, носителем которого высту-
пает на этот раз основатель мусульманской религии, изображенный вели-
ким обманщиком и бесчеловечным деспотом, «Тартюфом с оружием
в руках» (по выражению Вольтера в письме к Фридриху II). Обращение
к личности Магомета было удобно Вольтеру в виду цензурных сообра-
жений, так как оно давало ему возможность утверждать, что его пьеса не
имеет никакого отношения к христианству и посвящена обличению враж-
дебной последнему «ложной и варварской религии». Именно так выразился
Вольтер, посвящая свою трагедию папе Бенедикту XIV как «наместнику
и подражателю истинного и справедливого бога». Хотя папа принял это
посвящение и ответил на него Вольтеру любезным письмом, однако цер-
ковники отлично разгадали подлинную сущность «Магомета». Они объ-
явили трагедию «кровавой сатирой» на христианство, хотя героем ее и
был сделан основатель враждебной христианству религии.
Действительно, в основу «Магомета» Вольтер положил мысль о том,
что идейной предпосылкой всякой исторической религии является созна-
тельный обман, одурманивание людей. Слепая вера, беспрекословное по-
слушание, полное отсутствие критической мысли — таковы предпосылки
религиозного чувства. Магомет у Вольтера говорит:
Кто мыслит смело, тот для веры не рожден.
Покорность и во всем смиренье — ваш закон.
Честолюбивый Магомет, стремясь властвовать над людьми, выдает
себя за посланного богом пророка и порабощает людей при помощи рели-
гиозного фанатизма. Он объявляет войну чувствительности, гуманности,
состраданию, человеческому достоинству, сыновней и братской любви. Он
возбуждает детей против родителей. Подстрекаемый им Сеид, сын его
смертельного врага Зопира, убивает отца, которого он не знает, и затем
погибает сам, отравленный Магометом, скрывающим следы своего пре-
ступления. Другая жертва фанатизма — Пальмира, сестра Сеида, предмет
страсти Магомета, — закалывается над трупом брата, проклиная лжепро-
рока, который «должен царствовать, ибо мир создан для тиранов».
«Магомет» был первой подлинно боевой просветительской трагедией
Вольтера. С момента ее написания вольтеровский классицизм приобрел
новую идеологическую направленность: он был целиком поставлен на
ВОЛЬТЕР H ЕГО ШКОЛА
ьеу
службу задачам религиозно-политической борьбы. Это подготовляло даль-
нейший переход к тому буржуазно-революционному классицизму, который
праздновал свои победы накануне и в годы Французской буржуазной
революции.
Одним из важных симптомов перехода к революционному класси-
цизму, возрождавшему на новых основах античную тематику, являлось
изменение прежнего нигилистического отношения Вольтера к античному
наследию. В предисловии к «Оресту», написанному Вольтером в качестве
ответа на «Электру» Кребильона с целью «отомстить» за искаженного
последним Софокла, Вольтер противопоставил условности французских
трагедий «драгоценную простоту» античных трагиков и призывал учиться
у них воспроизведению жизненной правды, причем объявлял себя учени-
ком Софокла. Действительно, на античном материале Вольтер построил
одну из популярнейших своих трагедий «Меропу», написанную на тему об
отрицании божественного права и делавшую основным мотивом трагиче-
ского сюжета материнскую любовь. Однако Вольтер отправлялся при напи-
сании «Меропы» не столько от античных образцов, сколько от одноименной
итальянской трагедии Маффеи, чем вызвал придирчивую критику своей
пьесы Лессингом.
Возрождение у Вольтера интереса к античной тематике не помешало
ему разработать в «Танкреде» («Tancrède», 1761) жанр национально-
исторической трагедии, впервые изобразившей рыцарские нравы француз-
ского средневековья в романтически-живописных тонах, с некоторыми от-
звуками «Ромео и Джульетты» Шекспира. Вольтер ввел в «Танкреде»
также метрическое новшество, отступив от однообразных парных рифм
александрийского стиха. В другой своей нашумевшей трагедии «Китайский
сирота» Вольтер отразил отмеченное выше увлечение своих современников
восточной тематикой, заимствовав сюжет пьесы из китайской трагедии
«Сирота из Чао», переведенной на французский язык Премаром (Prémare).
Однако он поставил в центре этой трагедии прославление семейиых добро-
детелей женщины, ее борьбы за права своего сердца.
Проникновение в трагедии Вольтера семейной тематики связано с
ежегодно возраставшим во второй трети XVIII в. распространением жан-
ров буржуазной драматургии — слезной комедии и мещанской драмы
(см. о них ниже, гл. V и VI). Отношение Вольтера к этим попыткам
создания промежуточных между трагедией и комедией жанров было
двойственным. С одной стороны, Вольтер был противником слезной коме-
дии, которую он считал незаконным жанром, свидетельствующим о «бес-
силии авторов создать настоящую комедию или трагедию», — жанром, в ко-
тором «одновременно уродуются Мельпомена и Талия». С другой стороны,
сам Вольтер в своей драматургической практике отдал некоторую дань но-
вым веяниям, сочинив ряд пьес «смешанного жанра» (genre mixte), кото-
рый он противопоставлял отвергаемой им слезной комедии, характеризовав-
шейся полным отсутствием комического элемента. Первым опытом Вольтера
в этом жанре была комедия «Блудный сын» («L'Enfant prodigue», 1736),
в которой он выступал в защиту свободного выбора в любви и рисовал
новый идеал семьи, построенной на сердечной склонности супругов. Введя
в свою комедию сентиментальный, патетический элемент, Вольтер защи-
щался от нападок ортодоксальных классицистов в предисловии к «Блудному
сыну», в котором он проводил мысль, что всякий жанр оправдывает себя,
если он не отвергается зрителем. Это рассуждение Вольтера завершалось
знаменитой фразой: «Все жанры хороши, кроме скучного» («Tous les genres
sont bons, hors le genre ennuyeux»).
670
ПРОСВЕЩЕППЕ
Наиболее удачным опытом Вольтера в «смешанном жанре» была «На-
нина, или Побежденный предрассудок» («Nanine, ou le Préjugé vaincu»,
1749), написанная под влиянием романа Ричардсона «Памела». Объяв-
ляя войну сословным предрассудкам в вопросах брака, отстаивая преиму-
щество личной добродетели перед знатным происхождением, Вольтер вывел
здесь просвещенного барона, который женится на собственной доброде-
тельной служанке. Однако, оставаясь верным своей обычной умеренности
в разрешении социальных проблем, Вольтер объявил изображенный в «На-
нине» мезальянс допустимым только в качестве исключения. Эта мысль
подчеркивалась в заключительных словах пьесы: «Пускай этот день воз-
даст добродетелям заслуженную награду, не являясь, однако, примером
для других». В формальном отношении «Нанина» интересна тем, что Воль-
тер заменил здесь традиционный александрийский стих более легким и гиб-
ким десятисложным стихом.
Еще дальше Вольтер отошел от канона классицизма в пьесе «Шот-
ландка» («L'Écossaise», 1760). Написанная прозой, она приближается к но-
вому жанру мещанской драмы, незадолго до того оформившемуся в пьесах
Дидро. Вольтер разработал в «Шотландке» трогательную историю моло-
дой девушки, дочери эмигрировавшего в Англию шотландского лорда
Монроза. Героиня пьесы мужественно переносит испытания, выпавшие на
ее долю во время изгнания, и в конце концов находит отца и выходит
замуж за сына его старинного врага лорда Меррея. Придерживаясь
в основной фабуле стиля сентиментально-мещанской драмы, Вольтер ввел
в свою пьесу эпизодический комический персонаж интригана и доносчика
Фрелона, представляющий обрисованный в памфлетном стиле портрет его
заклятого врага, реакционного журналиста Фрерона. Этот карикатурный
персонаж сыграл немалую роль в шумном успехе «Шотландки», под влия-
нием которой итальянский драматург Гольдони написал свою известную
комедию «Кафе».
Вольтер отдал сравнительно небольшую дань разработке «смешанного
жанра». До самых последних лет своей жизни он отдавал явное предпо-
чтение--трагедии, несмотря на увлечение всех литературных новаторов ме-
щанской" драмой. При всем том мещанская драма продолжала оказывать
все большее влияние на трагедии Вольтера. Так, под влиянием мещанской
драмы Вольтер сделал даже попытку разработать трагический сюжет
в прозаической форме, написав «Сократа» («Socrate», 1759). Но так как
Вольтер считал~ прозу в трагедии недопустимой и высмеивал Ламотта за
его «Эдипа в прозе», то он назвал своего «Сократа» не трагедией, а просто
«драматическим произведением» (ouvrage dramatique) и выдал его за пере-
вод с английского, а в предисловии к нему снова защищал допустимость
сочетания в одной пьесе «патетического с комическим». В сущности Воль-
тер, сам не отдавая себе в этом полного отчета, наносил здесь сильнейший
удар классицистическому учению о жанрах, разрабатывая искони закреплен-
ную за трагедией античную тематику в формах мещанской драмы. Дру-
гим произведением такого же гибридного жанра явился «Саул» («Saiil»,
1763), в котором Вольтер точно так же снизил библейскую тематику, как
снизил в «Сократе» античную. И «Сократ», и «Саул» проникнуты резкой
антиклерикальной тенденцией; в частности, «Саул» включен в длинный
ряд публицистических работ Вольтера, посвященных критике Библии, как
то: «Собрание древних евангелий» («Collection d'anciens Évangiles», 1769),
«Бог и люди» («Dieu et les hommes», 1769), «Библия наконец объяснен-
ная» («La Bible enfin expliquée», 1776), «Один христианин против шести
евреев» («Un Chrétien contre six Juifs», 1776) и др.
ВОЛЬТЕР И ЕГО ШКОЛА
671
Начиная с 1763 г. («Олимпия») Вольтер насыщает все свои трагедии
боевым публицистическим содержанием, одновременно делая множество от-
клонений от канона классицизма. Так, в трагедии «Гебры, или Нетерпи-
мость» он сильно снижает социальное положение ряда персонажей, выводя
на сцену крестьян и солдат, в расчете на то, что «такие герои, стоящие
ближе других к природе, говорящие простым языком, произведут более
сильное впечатление и скорее достигнут цели, чем влюбленные принцы и
томимые страстью принцессы». Героиня пьесы, бедная крестьянка-огне-
поклонница Арзама, является жертвой фанатизма жрецов римского бога
Плутона. Эти «тираны мысли» стремятся натравить на огнепоклонников-
гебров римскую государственную власть. Но представители этой послед-
ней, во главе с императором, изображены сторонниками терпимости и
размежевания религии и государства. Переполненная смелыми антиклери-
кальными тирадами, трагедия эта была запрещена к постановке как в Па-
риже, так и в провинции, где часто ставились запрещенные столичной цен-
зурой пьесы.
Судьбу «Гебров» разделила также трагедия «Законы Миноса», кото-
рая является как бы ее вариантом. Вольтер снова обличает здесь фанатизм
жрецов, прославляя добродетели полудиких сидонцев, живущих в «есте-
ственном состоянии». Одновременно с этим Вольтер рисует свой политиче-
ский идеал монархии, воплотителем которого является «чувствительный»
царь Тевкр, монарх-философ, враг жрецов и вельмож, ставящий своей
целью «просветить людей, смягчить нравы своих подданных, цивилизовать
дикую страну».
Прославление добродетелей дикарей, живущих в «естественном состоя-
нии», отражающее влияние на Вольтера его противника Руссо, положено
также в основу трагедии «Скифы». Дикари-скифы изображены в этой
пьесе «философским» народом, у которого царит подлинная свобода и ра-
венство, который совершенно лишеи честолюбия и жадности, не знает «ни
государя, ни подданных», признает только власть законов и (совсем по
Руссо!) презирает «бесполезные искусства — орудия изнеженности». Куль-
турный перс, попав в их страну, не перестает дивиться их нравственному
совершенству. Хотя сами скифы не знают монархического строя, однако
они признают его допустимость, если только власть государя оправдывается
его личными заслугами.
Прославлению просвещенной монархии Вольтер посвятил также траге-
дию «Дон Педро» («Don Pèdre», 1775). Дон Педро ведет борьбу со своим
сводным братом Транстамаром, который требует от него подчинения воле
привилегированных сословий. Но король Дон Педро глубоко презирает
«этих феодальных тиранов, надменных баронов, всю эту новую знать,
анархический сенат, провозглашающий своеволие общественной свободой»,
и вместе с тем относится враждебно также к мятежной «черни». Несмотря
на то, что в трагедии изображена гибель Дон Педро, симпатии Воль-
тера — целиком на стороне этого представителя просвещенного абсолю-
тизма.
Созданный Вольтером жанр просветительской трагедии получил боль-
шое распространение во второй половине XVIII в. У Вольтера появилось
множество последователей, которые подобно ему делали содержанием своих
трагедий борьбу с деспотизмом, суеверием и фанатизмом. Главными пред-
ставителями этой «философской» трагедии были Леблан, Лемьерр, Бакюлар
д'Арно, Сорен и Аагарп.
Леблан де Гилье ■ (Leblanc de Guillet, 1730—1799) обратил на себя
внимание своими антиклерикальными трагедиями «Манко-Капак» («Мапсо-
672
ПРОСВЕЩЕНИЕ
Сарае», 1763) и «Друиды» («Les Druides», 1772). В первой из этих пьес
Леблан нарисовал в образе великого жреца солнца Тамзи точную копию
римского папы, жестокого деспота и фанатика, власть которого основы-
вается на невежестве и ослеплении народа, а в образе Манко — тип про-
свещенного монарха, которого современники иронически называли «добро-
детельным буржуа». Во второй трагедии Леблан под видом галльских
жрецов-друидов обличил фанатизм католического духовенства с такой
силой, что пьеса была запрещена по распоряжению парижского архиепи-
скопа.
Антуан Лемьерр (Antoine Lemierre, 1723—1793) развернул антиклери-
кальную тематику сначала в трагедиях на античные темы «Гипермнестра»
(«Hypermnestre». 1758) и «Идоменей» («Idoménée», 1764), а затем в траге-
дии из индусской жизни «Малабарская вдова» («La Veuve de Malabar»,
1770), ставшей одною из популярнейших пьес того времени. Сюжет траге-
дии основан на обычае индусских жен сжигать себя на костре после смерти
мужа. Защитником этого суеверного обычая выступает старик брамин,
ищущий опоры своей власти в невежестве и покорности темной массы.
Этому фанатику противопоставлен французский генерал, начальник гарни-
зона, проповедующий идеи просветителей и призывающий брамина «быть
человеком». Лемьерру принадлежит также трагедия «Вильгельм Телль»
(«Guillaume Tell», 1766), героем которой он сделал, в нарушение всех со-
словных традиций, швейцарского крестьянина, поднимающего восстание
против угнетателей-австрийцев и провозглашающего республиканские
идеи.
Еще дальше Лемьерра пошел Бернар Сорен (Bernard Saurin, 1706—
1781), задумавший изобразить в своем «Спартаке» («Spartacus», 1760)
историю знаменитого в римской истории восстания рабов, т. е. вывести
в классической трагедии людей, находившихся за пределами гражданского
общества. Однако Сорен ослабил остроту выдвинутой им темы, превратив
Спартака в человека знатного происхождения, чем навлек на себя упреки
энциклопедиста Гримма. Кроме «Спартака», Сорен написал еще несколько
комедий и мещанских драм.
Бакюлар д'Арно (Baculard d'Arnaud, 1719—1805) начал свою литера-
турную деятельность под покровительством Вольтера, который рекомендо-
вал его Фридриху II. Он специализировался на жанре «мрачной трагедии»
(tragédie sombre), лучшими образцами которого явились его пьесы «Граф
Комменж» («Le Comte de Comminge», 1767) и «Евфемия» («Euphémie»,
1768), запрещенные к постановке. Хотя сам Бакюлар д'Арно был верую-
щим католиком, однако в «Евфемии» он изобразил с большой силой пере-
живаемую монахиней борьбу между любовью и религиозным долгом, при-
дав своей пьесе ярко антиклерикальный характер.
Но самым видным из последователей Вольтера в области просвети-
тельской трагедии был Жан-Франсуа де Лагарп (Jean-François de la Harpe,
1739—1803). Уже его первая трагедия «Граф Уорик» («Le Comte de War-
wick», 1763), с сюжетом из английской истории, имела большой успех.
Вслед затем Лагарп обратился к античной тематике, осмысленной им в но-
вом гражданском аспекте, в духе римских трагедий Вольтера. Таковы его
трагедии «Тимолеон» («Timoléon», 1764), «Кориолан» («Coriolan», 1784)
и «Виргиния» («Virginie», 1786). В последней выведен римский трибун
Ицилий, произносящий горячие речи о «суверенности законов», об «общей
воле», создающей закон, о «мужестве» и «бдительности», как главных
гражданских добродетелях, и грозящий тирану Аппию скорым пробужде-
нием народа, который сокрушит деспотизм. Так накануне революции про-
ВОЛЬТЕР И ЕГО ШКОЛА
673
светительская трагедия предвосхищает политическую фразеологию и ора-
торскую манеру революционных лет. Однако республиканец Ицилий
делает, совсем в духе Вольтера, оговорку в пользу монархической власти,
которую он считает законной, если она основана на «общей воле».
Особое место среди трагедий Лагарпа на античные темы занимает
«Филоктет» («Philoctète», 1783), в котором Лагарп впервые познакомил
французскую публику с совершенно неиспользованной до него француз-
скими драматургами трагедией Софокла. Из других пьес Лагарпа большой
успех в «философских» салонах имела антиклерикальная драма в стихах
«Мелания» («Mélanie», 1770), в которой Лагарп изобразил страдания де-
вушки, кончающей жизнь самоубийством, чтобы избежать насильственного
пострижения в монахини. Запрещенная к постановке, «Мелания» была по-
ставлена на сцене только в 1791 г., когда под ее влиянием возник целый
ряд пьес, обличающих институт монашества и монастырские нравы.
В молодости вольтерьянец, Лагарп впоследствии, под влиянием со-
бытий революционных лет, испытал религиозное «обращение» и стал
крайним реакционером, метавшим громы против «безбожных» просвети-
телей, в том числе и против своего учителя Вольтера. Наибольшую из-
вестность Лагарпу принесли его критические работы, в особенности
многотомный «Лицей, или Курс древней и новой литературы» («Le Lycée,
ou Cours de littérature ancienne et moderne», 1799). На этом труде, про-
никнутом тенденциями догматического рационализма в области поэзии,
воспиталось несколько поколений молодежи не только французской, но
и русской (русский перевод «Лицея» вышел, под названием «Ликей», в
1810—1814 гг.).
Помимо непосредственного влияния Вольтера на трагедию второй по-
ловины XVIII в., он оказал большое косвенное влияние на развитие
французского театра этого времени своей пропагандой Шекспира. Под
влиянием этой пропаганды Лаплас (P.-A. de Laplace) отвел пьесам Шекс-
пира первые четыре тома восьмитомного сборника своих переводов «Ан-
глийский театр» («Le Théâtre Anglais», 1745—1748). Вслед за этим по-
явилось множество переводов отдельных шекспировских пьес Портеланса
(Portelance, 1759), Шателлюкса (Chastellux, 1770), Дуэна (Douin, 1773),
Мерсье (Mercier, 1782), Бертини (Bertini, 1785). Начиная с 70-х годов
интерес французской публики к Шекспиру настолько усилился, что на-
зрела потребность в издании полного собрания его пьес, которое и было
осуществлено Летурнером (Le Tourneur, 20 томов, 1776—1782). Это увле-
чение Шекспиром показалось Вольтеру угрожающим, и он попытался за-
держать его распространение резкой отповедью Летурнеру в письме к Да-
ламберу, которое было прочитано в заседании Французской Академии
(1776). Однако как ни горячи были протесты Вольтера, они не могли уже
ослабить популярности во Франции великого английского драматурга,
в произведениях которого публика находила сочетание простоты и правди-
вости с вдохновенным лиризмом и героической патетикой. Помимо того,
французов конца XVIII в. привлекала в Шекспире также политическая
острота изображенных им конфликтов.
Возраставший с каждым годом во Франции интерес к Шекспиру
породил любопытные переделки шекспировских трагедий Жана-Франсуа
Дюсиса (Jean-François Ducis, 1733—1816). Страстный поклонник «свя-
того Вильяма», Дюсис попытался приспособить его пьесы к традициям
французского театра. С этой целью он подчинил трагедии Шекспира пра-
вилу трех единств, переложил их в александрийские стихи, выбросил из
43 История французоной лите*>чтуры—815
674
ПРОСВЕЩЕНИЕ
них все шутовские сцены и ввел множество сентиментальных моментов.
Такой обработке подверглись «Гамлет» (1769), «Ромео и Джульетта»
(1772), «Король Лир» (1783), «Макбет» (1784), «Король Джон» (1791)
и «Отелло» (1793). Все эти адаптации имели успех, но показались фран-
цузскому зрителю весьма смелыми, хотя многочисленные их отклонения от
оригинала были явно сделаны в угоду французским вкусам, навыкам и
предрассудкам.
Отклонения эти были весьма значительны. Так, в «Отелло» Дюсис
заменил имена большинства шекспировских персонажей другими, более
«благозвучными», превратив Дездемону в Эльдемону, Кассио — в Лоре-
дана, Яго — в Пезаро, Брабанцио — в Одальберта. Эльдемона у Дюсиса —
не жена, а возлюбленная Отелло. За ней ухаживает Лоредан, сын дожа,
но она, отвергая его любовь, предлагает ему дружбу и просит передать
Одальберту подаренное ей Отелло ожерелье, заменяющее слишком «вуль-
гарный» шекспировский носовой платок. Пораженный пропажей ожерелья,
Отелло начинает ревновать Эльдемону к Лоредану, а его наперсник Пезаро
разжигает его ревность. Трагедия имеет две развязки — трагическую
(Отелло закалывает Эльдемону) и счастливую (это убийство предотвра-
щено Одальбертом, который успевает обличить козни Пезаро). В обоих
вариантах Пезаро удается спастись от возмездия.
Сходные отступления допущены Дюсисом и в других его обработках
трагедий Шекспира. Так, в «Ромео и Джульетту» введена счастливая
развязка: Джульетта во-время просыпается и выходит замуж за Ромео с со-
гласия родителей. Дюсис выбрасывает из трагедии Шекспира весь сверхъ-
естественный элемент: в «Макбете» и «Гамлете» призраки заменены ве-
щими снами, о которых герои рассказывают своим наперсникам.
Все подобные вольности Дюсиса обусловлены не только его привер-
женностью к условностям французской классической трагедии, но и его
просветительским рационализмом, отвергавшим вое фантастическое, ирра-
циональное и слишком «непосредственное» в пьесах Шекспира как про-
явления его «неразумности». Благополучные же развязки в большинстве
переделок Дюсиса должны быть отнесены за счет его просветительского
оптимизма, принципиально отвергавшего трагическое разрешение кон-
фликтов.
В целом, Дюсис дал в своих переделках максимум того, что могло
быть привито французскому театру, продолжавшему стоять на позициях
классицизма. В этом он явился истинным учеником и продолжателем
Вольтера.
5
Помимо драматургии, Вольтер проявил себя и в других родах поэзии.
Он сделал крупнейшую в XVIII в. попытку создания национальной эпо-
пеи, которая так упорно не удавалась поэтам XVI и XVII вв. Его «Ген-
риада» была воспринята современниками как выдающееся событие во
французской литературе, так как она заполнила крупнейший пробел в по-
этическом наследии классицизма XVII в. Написав «Генриаду», Вольтер
сразу прослыл у современников великим национальным поэтом, достой-
ным занять место рядом с великими эпическими поэтами древнего мира.
Ни одно из поэтических произведений Вольтера не доставило ему такой
славы, как «Генриада». Фридрих II ставил ее выше «Илиады», а философ
Кондорсе заявил: «Ни одна поэма не содержит такой глубокой филосо-
фии, такой чистой морали, такой высокой гуманности, свободной от ъуль-
ВОЛЬТЕР И ЕГО ШКОЛА
675
гарных страстей и предрассудков». Сам Вольтер был согласен с такой
высокой оценкой «Генриады» и считал причиной огромного успеха поэмы
ее насыщенность высокими просветительскими идеями.
Потомство посмотрело на «Генриаду» другими глазами и значительно
снизило эту оценку. «Генриада» устарела скорее, чем большинство других
произведений Вольтера, потому что в основу ее было положено совер-
шенно ложное мнение о возможности перенесения в новое время принци-
пов и методов эпического творчества античного мира. Этот взгляд был
тесно связан со всей системой воззрений защитников новых авторов, счи-
тавших, что во всех областях поэзии люди нового времени опередили древ-
них, а, следовательно, без труда могут овладеть и присущей последним
образной системой эпического творчества. Эта точка зрения была высмеяна
уже в XVIII в. Лессингом. В таком же направлении высказался и Маркс,
иронически заметивший: «Так как мы в механике и т. д. ушли дальше
древних, то почему бы нам не создать и эпоса? И вот, является Генриада
взамен Илиады». 1
Ошибка Вольтера, которую разделяло с ним большинство его со-
временников, заключалась в том, что он не понимал невозможности суще-
ствования героической эпопеи в новое время. Известно, что основу грече-
ского эпоса составляло мифологическое мышление, исчезающее по мере
развития производительных сил, обеспечивающих действительное господ-
ство над силами природы, над которыми мифология господствовала только
«в воображении и при помощи воображения». «Разве не исчезают неиз-
бежно сказания, песни и музы, а тем самым необходимые предпосылки.
эпической поэзии, с появлением печатного станка?» — говорил Маркс.2
Приверженность Вольтера эстетической доктрине классицизма помешала
ему понять, что в новое время эпос вытесняется романом, который и яв-
ляется подлинной «буржуазной эпопеей», по выражению Гегеля. Именно
это и обусловило невозможность создания в XVIII в. настоящего эпоса
на основе подражания античным образцам, а, следовательно, явилось при-
чиной и художественной неполноценности «Генриады».
Рационалистической культуре эпохи Просвещения была крайне чужда
непосредственность и наивность народного творчества, продуктом которого
явились гомеровские поэмы. Сам Вольтер понимал это и признавался
в своем «Опыте об эпической поэзии» («Essai sur la poésie épique»,
1727), что французский народ слишком рассудителен, цивилизован и про-
заичен для восприятия подлинного эпоса. Потому он считал, что новая
эпопея должна строиться на совершенно реальном, историческом мате-
риале. Исходя из этого положения, Вольтер, по его собственным словам,,
«избрал действительного героя вместо мифического, действительные войны
вместо фантастических побоищ, аллегорические изображения истины вме-
сто богов, существующих только в фантазии».
Естественно поэтому, что учителем Вольтера явился не Гомер, а Вер-
гилий, которому он откровенно подражал в целом ряде мест «Генриады».
Его Генрих Наваррский совершенно так же рассказывает свои бедствия
Елизавете Английской, как Эней рассказывает свои злоключения Дидоне
(песни II—III). IX песнь «Генриады», повествующая об освобождении
Генриха из любовных сетей Габриэли, является сколком с IV песни
«Энеиды», изображающей бегство Энея от влюбленной в него Дидоны.
1 К. Маркс. Теории прибавочной стоимости, т. I. Соцэкгиз, 1931, стр. 247.
2 К. Маркс. Введение к «Критике политической экономии». К. Маркс л
Ф. Энгельс, Сочинения, т. XII, ч. 1, стр. 203.
;
monte.* il a déjà cte Tes mains triomphante
rboré de les Lys les enfeiôites ilotiantes
Вольтер. «Генриада».
С рисунка Ж. M. Моро-м-адшего, г|<ав. Гутембергом (1782 г.).
ВОЛЬТЕР H ЕГО ШКОДА
677
В «Генриаду» введены многие популярные мотивы и ситуации «Энеиды»:
описание бури, картина загробного мира, пророчество о будущей славе
новой родины героя. Вместе с тем поэма изобилует аллегорическими су-
ществами, заменившими античных богов и, подобно последним, вмешиваю-
щимися в ход событий. Таковы Истина, Раздор, Политика, Фанатизм,
Любовь, Слава, Добродетель и мн. др. Все эти поэтические фикции про-
изводят впечатление чрезвычайной надуманности.
Но особенно ясно проявляется искусственность «Генриады» в раз-
рыве формы и содержания, проистекающем от стремления Вольтера «из-
лагать новые мысли античными стихами» (по выражению Андре
Шенье). Несмотря на заимствование Вольтером из античного наследия
отдельных традиционных эпических приемов и ситуаций, «Генриада» про-
изводит скорее впечатление исторического рассказа в стихах с рядом фан-
тастических отклонений от правдивого повествования, вроде эпизода по-
сещения Генрихом совместно с Людовиком Святым загробного мира
(XI песнь). Право читателя рассматривать «Генриаду» как исторический
рассказ в стихах ооновывается, во-первых, на сопровождающем поэму
обильном аппарате примечаний и пояснительных статей, и, во-вторых,
на близости содержания поэмы к концепции исторических трудов
Вольтера.
т Как и в чисто исторических работах Вольтера, изображение прош-
лого в «Генриаде» подчинено актуальным задачам просветительской
борьбы. В историческом прошлом Вольтер стремится вскрыть корни со-
временных заблуждений и предрассудков. Поскольку основной задачей
просветительской пропаганды Вольтера было обличение религиозной не-
терпимости и фанатизма, постольку и материал для своей национально-
исторической эпопеи он берет из эпохи религиозных войн второй поло-
вины XVI в. во Франции. Одним из самых ярких мест поэмы является
описание Варфоломеевской ночи. Кровавые события XVI в., изображае-
мые в «Генриаде», интересуют Вольтера с точки зрения их переклички
с религиозным фанатизмом его современников. Вольтер возлагает ответ-
ственность за вое ужасы религиозных войн на светских и церковных кня-
зей, на римского папу и французскую королеву, на католическое духовен-
ство в целом, которое в годину народных бедствий одно «живет в изо-
билии под сенью алтарей». Католические священники показаны сплошь
обманщиками, эгоистами и фанатиками, не имеющими ничего общего с
«небом». Это «небо» все время покровительствует «еретику» Генриху
Наваррскому, перед которым вынуждены склониться даже представители
враждебной ему католической партии.
Центральным образом «Генриады», ее положительным героем является
Генрих Наваррский, впоследствии Генрих IV, этот популярнейший король
Франции, которого писатели XVIII в. охотно прославляли в противовес
разлагавшейся монархии их времени. Вольтер крайне идеализировал Ген-
риха. У него это свободолюбивый, гуманный, просвещенный монарх, про-
поведник религиозной терпимости, подлинный король-гражданин, заботя-
щийся только об интересах своего народа и государства. В образе Генриха
нет почти никаких конкретных исторических черт. Это вообще не человек,
а ходячая абстракция, воплощение политического идеала Вольтера. В при-
мечаниях к «Генриаде» Вольтер сознается, что умолчал о некоторых по-
ступках Генриха, рисующих его в не очень выгодном свете, чтобы не осла-
бить основного впечатления читателя от его образа.
Другой положительной фигурой «Генриады» является английская
королева Елизавета, к которой Генрих Наваррский приезжает просить по-
678
ПРОСВЕЩЕНИЕ
Вольтер. «Орлеанская девственница».
Фронтиспис и титульный лист орлеанского ивдания 1781 г.
-мощи против реакционеров-мятежников, угрожающих королю Генриху III.
Посещение Генрихом Англии дает Вольтеру повод к прославлению этой
страны и ее мудрой конституции, уравновешивающей власть короля, вель-
мож и народных представителей. Законченная в пору пребывания Воль-
тера в Англии, «Генриада» носит отпечаток тогдашнего увлечения Воль-
тера английскими порядками.
Вся поэма в целом ярко публицистична, и эта сторона ее оттесняет
на второй план ее образную систему. Дидактическая установка поэмы по-
рождает многочисленные анахронизмы, встречающиеся в речах действую-
щих лиц, вроде, например, рассуждений о физике Ньютона. По той же
причине в языке поэмы можно найти много прозаизмов, хотя в целом
она написана свойственным Вольтеру легким языком и безупречными
стихами, свидетельствующими о его огромном версификаторском даро-
вании.
Другим знаменитым эпическим произведением Вольтера, значительно
более соответствовавшим характеру его дарования, была сатирическая
поэма «Орлеанская девственница», принадлежавшая к числу его запрет-
ных произведений, от которых он вынужден был отрекаться из опасения
репрессий. Она была задумана Вольтером вскоре после завершения
работы над «Генриадой», в качестве пародии на тяжеловесную патриоти-
ческую эпопею Шаплена, возмущавшую Вольтера своей клерикальной
тенденцией.
Вольнодумец и скептик, Вольтер не верил «поповским выдумкам»,
-которыми обросла история народной героини Жанны д'Арк, и отказы-
вался признать ее девственность орудием спасения Франции. «Пускай ия
Жанны не делают ясновидящей, — писал Вольтер, — а признают в ней
ВОЛЬТЕР H ЕГО ШКОЛА
СТО
лишь идиотку, одержимую манией пророчества; она — деревенская ге-
роиня, которую заставили играть роль; она — мужественная девушка, ко-
торую инквизиторы и ученые в своей трусливой жестокости возвели на
костер». Вольтер всегда восхищался героизмом и самопожертвованием
Жанны и в «Генриаде» назвал ее «храброй амазонкой, позором англи-
чан и опорой престола». Задумав написать о ней игривую поэму в стиле
Ариосто, Вольтер поставил себе целью осмеять не историческую Жанну,
à героиню суеверной поповской легенды, обработанной Шапленом.
Однако в процессе работы над задуманной пародийной поэмой пер-
воначальный замысел Вольтера разрастался, и насмешки над высокопар-
ной мистикой Шаплена отступали на второй план перед значительно
более широкими сатирическими задачами. «Орлеанская девственница» пре-
вращалась в язвительный, циничный памфлет на средневековую, фео-
дально-монашескую Францию, — памфлет, полный многочисленных намеков
на современность. Как всегда, Вольтер, изображая прошлое, протягивает
от него нити к настоящему и обличает все мерзости французской жизни
XVIII в. под видом изображения Франции XV в.
Сюжет «Орлеанской девственницы» вкратце сводится к следующему.
Святой Денис (Дионисий), покровитель Франции, задумывает спасти ра-
зоренную англичанами страну с помощью невинной девушки. Спустив-
шись с неба, он отправляется на поиски девственницы, которую он после
долгих скитаний находит в одном деревенском трактире. Жанна — краси-
вая, разбитная трактирная служанка — сначала ничего не может понять
в мудреных речах святого, назвавшего ее «сосудом избрания». Но тут
на нее нисходит божественная благодать, превращающая ее в боговдохно-
венную героиню, которая получает от святого Дениса два приказания —
спасти Францию и беречь свою девственность, являющуюся залогом ее
будущих побед над англичанами. Жанна покорно выполняет полученные
ею задания, из которых особенно трудным оказывается второе, потому
что девственность Жанны вызывает вожделения почти всех мужчин^
В поэме рассказано о многочисленных покушениях на этот талисман,
успешно отбиваемых Жанной, отчасти при помощи святого Дениса. Воль-
тер развертывает перед читателем серию эротических сценок, неизменно
забавных, остроумных и подчас довольно скабрезных. Именно эти сценки
и дали повод врагам Вольтера объявить поэму порнографической, хотя
в этом отношении «Орлеанская девственница» не выходит за пределы
того, что считалось вполне допустимым в поэзии XVIII в. Главное же —
введение этого фривольного элемента, в отличие от типичной поэзии стиля
рококо, у Вольтера продиктовано антиклерикальными тенденциями поэмы.
Многие цинические детали отдельных эпизодов вызваны стремлением Воль-
тера снизить сюжет поэмы, перевести его из возвышенного в низменный,
фарсовый план.
Особенно охотно Вольтер накопляет непристойные подробности во
ьсех эпизодах, в которых выступают священники и монахи. В этих частях
своей поэмы Вольтер воспроизводит приемы разоблачения поповского лице-
мерия, разработанные писателями Возрождения во главе с Боккаччо и
усвоенные затем Лафонтеном. Он рисует огромную галерею, духовных лиц
разных калибров — от рядовых монахов и аббатов до князей церкви, при-
дворных прелатов и инквизиторов. Все духовные лица изображены у него
мошенниками, плутами, сластолюбцами, лицемерами и хищниками. В этой
веренице довольно однообразных типов служителей церкви выделяется
несколько фигур. Таков архиепископ миланский, кровосмеситель и кле-
ветник, предающий собственную племянницу в руки инквизиции. Таков
680
ПРОСВЕЩЕНИЕ
королевский духовник, отец Бонифаций, льстивый, вкрадчивый, легко пре-
вращающий любой смертный грех в добродетель, если его совершил
монах. В III песни поэмы, содержащей описание «рая дураков», Вольтер
выводит представителей различных религиозных сект, готовых разодрать
друг друга в клочки, рисует церковных шарлатанов, морочащих народ
мнимыми чудесами, и палачей святейшей инквизиции, сжигающих людей
ва их «сношения с дьяволом».
Но Вольтер не ограничивается одним обличением и дискредитацией
католического духовенства. Он подвергает осмеянию христианский культ
святых, к лику которых церковь причислила множество порочных, жесто-
ких и корыстолюбивых людей, оказавших ей какие-либо услуги. На том
свете эти лжесвятые попадают в ад, где их «поджаривают черти». С дру-
гой стороны, осужденные церковью люди получают после смерти воздая-
ние в раю за свои непризнанные добродетели. Так Вольтер противопоста-
вляет истинную мораль фальшивой морали католической церкви. Вообще
признанные церковью святые обрисованы им крайне непривлекательно;
они ненавидят друг друга, ссорятся, ругаются, даже дерутся друг с дру-
гом. В песни XI изображается забавный бой святого Георгия со святым
Денисом, в результате которого один лишается носа, а другой уха, и только
вмешательство архангела Гавриила прекращает эту потасовку.
Вслед за культом святых Вольтер подвергает осмеянию «священное
писание». По своему обыкновению он показывает, что Библия переполнена
неправдоподобными баснями, нелепыми суевериями, всякого рода жесто-
костями и гнусностями. За разоблачением «священного писания» есте-
ственно следует разоблачение различных церковных учений и догматов.
Осмеяние одного из последних — культа «святой» девственности — является
главным сюжетным мотивом всей поэмы. По существу Вольтер здесь глу-
мится лад церковным учением о целомудрии, воздержании и подавлении
природных инстинктов. Как некогда Боккаччо, он показывает вопиющее
расхождение между учением церковников и их поведением, весьма дале-
ким от аскетизма. Попутно Вольтер пускает стрелы в христианский дог-
мат о непорочности девы Марии («богоматери»).
Таким образом, антиклерикальная сатира в «Орлеанской девствен-
нице» имеет чрезвычайно широкий размах и направлена на весьма разно-
образные объекты. Однако наиболее слабым и уязвимым местом поэмы
является сосредоточение антиклерикальной сатиры вокруг истории Жанны
д'Арк и, в частности, сниженная и циничная трактовка образа этой на-
родной героини. Эта мужественная крестьянская девушка, поднявшая ши-
рокое народное движение за освобождение родины от иноземных захват-
чиков, меньше всего годилась в героини гривуазной поэмы. Как ни
блестяща и остра антиклерикальная сатира Вольтера, заключенная в «Ор-
леанской девственнице», она не показывает гнусной роли, сыгранной в деле
Жанны д'Арк церковниками, которые в конце концов сожгли ее на костре
как еретичку и колдунью. Трагический конец Жанны, естественно, не мог
найти себе места в написанной Вольтером игривой поэме. Но этим Вольтер
eau дал основание своим врагам упрекать его в искажении образа народ-
ной героини. Эти упреки бросались по адресу Вольтера не одними реак-
Sионными клерикалами. В числе горячих противников поэмы Вольтера был
Ниллер, упрекавший Вольтера в том, что его «насмешка в грязь хотела
затоптать» благородную фигуру народной героини, а в наши дни этот
упрек по адресу Вольтера был повторен Ромен Ролланом. Другой знаме-
нитый французский писатель XX в. Анатоль Франс написал «Жизнь
ВОЛЬТЕР И ЕГО ШКОДА.
681
Жанны д'Арк» (1908), в которой с большим писательским мастерством и
огромной эрудицией восстановил ее подлинное историческое лицо.
«Орлеанская девственница» совершенно неисторична: Вольтер не су-
мел, да и не пожелал, показать в своей поэме подлинную Францию
XV в., истерзанную англичанами и разоренную своими же феодалами;
он не показал поэтому и настроений народных масс, подготовивших по-
явление Жанны и окруживших ее совершенно беспримерным энтузиазмом.
История Жанны д'Арк явилась для Вольтера только поводом для обли-
чения клерикальной и монархической Франции XVIII в. Это обличение
сохраняет крупное идейно-художественное значение, даже если признать
неверной вольтеровскую трактовку образа главной героини. Вольтер не
только великолепно осмеял в своей поэме церковное мракобесие и лице-
мерие, но также превосходно обрисовал упадочный версальский двор с его
атмосферой распущенности и раболепия. Он дал очень острые зарисовки
версальских царедворцев и прелатов, а в образах короля Карла VII и его
любовницы Агнесы изобразил Людовика XV и маркизу Помпадур на-
столько метко, что последняя не могла простить этого Вольтеру и на-
всегда осталась его заклятым врагом.
В смысле поэтического мастерства «Орлеанская девственница» яв-
ляется подлинным шедевром, одним из самых блестящих образцов миро-
вой комической поэмы, достойным занять место на ряду с «Неистовым
Роландом» Ариосто, повлиявшим на нее, и «Дон Жуаном» Байрона, испы-
тавшим ее влияние. Сам Вольтер постоянно подчеркивал огромное влия-
ние, оказанное на него Ариосто и предшественником последнего в жанре
комической рыцарской поэмы — Пульчи. Вольтер воспринял у итальян-
ских мастеров все структурные особенности разработанного ими жанра
комической эпопеи, в которой «высокий» рыцарский сюжет взрывался
изнутри его буффонной (Пульчи) или иронической (Боярдо, Ариосто)
трактовкой. По примеру Ариосто, Вольтер придает своей поэме много-
планную композицию, причем свободно переходит из одного плана в другой,
оставляя действующих лиц в самые критические моменты и вводя в дей-
ствие многочисленные эпизоды, слабо связанные с основным сюжетом
поэмы. От Ариосто Вольтер воспринял и легкую, непринужденную ма-
неру повествования, при которой автор как бы беспрерывно присутствует
на сцене, руководит действием и вмешивается в него, прерывая рассказ
своими замечаниями, сравнениями, шутками и т. д. В начале каждой
песни Вольтер беседует с читателем и шутливо морализует; эти лирико-
дидактические вступления, впоследствии воспринятые у Вольтера Байро-
ном, написаны с той лукавой грацией, которая характерна для альманашных
стихов Вольтера и которая была им доведена до такого совершенства.
Влияние на Вольтера мастеров итальянской комической эпопеи скре-
щивалось с влиянием поэзии французского либертинажа, представленной
в XVII в. «Сказками» Лафонтена, а в начале XVIII в. — подражаниями
им, вышедшими из-под пера Жака Вержье (Jacques Vergier, 1655—1720)
• и аббата Жана-Батиста Грекура (Jean-Baptiste Grécourt, 1683—1743).
У этих авторов эротические вольности сочетались, как и у Вольтера, с ре-
лигиозным вольнодумством. Они охотно высмеивали духовенство и его
развратные нравы, для чего обильно вводили порнографический элемент
и давали эротическую трактовку религиозных сюжетов.
Несколько обособленное место среди этой группы поэтов занимал
Жан-Батист Грессе (Jean-Baptiste Gresset, 1709—1777), совершенно не
вводивший в свою поэзию скабрезных тем. Сочетая влияние «Сказок»
Лафонтена и «Налоя» "Буа^о, Грессе, принадлежавший в молодости к ор»
682
ПРОСВЕЩЕНИЕ
дену иезуитов, сочинил несколько стихотворных новелл из монастырской
жизни, в которых остроумно, но безобидно высмеивал мелочи церковного
быта. Таковы его новеллы «Живой налой» («Le Lutrin vivant»), «Импро-
визированный пост» («Le Carême impromptu») и в особенности знаменитый
«Вер-Вер» («Vert-Vert», 1734), повествующий о забавных похождениях
попугая (с кличкой Вер-Вер, от слова vert — зеленый), воспитанного
в женском монастыре и научившегося произносить сначала молитвы, а за-
тем ругательства, которым его обучили проезжие солдаты; заключенный
в карцер, он забывает свой новый репертуар и получает прощение мона-
хинь, которые на радостях закармливают его до смерти. Эта безделушка
написана легким, изящным языком светской болтовни, временами слегка
пародирующим высокий эпический слог (таковы, например, сравнения по-
пугая с Энеем и Цезарем). Хотя иезуиты исключили Грессе за «Вер-Вера»
из своего ордена, однако Грессе был далек от антиклерикальной пропа-
ганды. Только в некоторых местах «Вер-Вера» сквозит ироническое отно-
шение к христианскому культу девственности, впоследствии развитое Воль-
тером. Тем не менее, последний относился к Грессе с пренебрежением,
хотя и признавал наличие у него поэтического дарования.
«Орлеанская девственница», подготовленная всеми перечисленными
образцами комической поэзии, оставила их всех далеко позади себя. Ее
огромный успех оттеснил все другие произведения того же жанра, не воз-
вышавшиеся над уровнем посредственности. Достойного подражателя своей
антиклерикальной поэме Вольтер нашел только в годы революции в лице
Парни — автора антирелигиозных поэм «Война богов», «Потерянный рай»
и «Галантные приключения Библии».
О
Весьма значительное место в поэтическом наследии Вольтера зани-
мают его дидактические поэмы. Под этим названием принято объединять
поэтические произведения Вольтера на философские, богословские, науч-
ные и чисто моральные темы, изложенные не в повествовательной форме,
а в форме рассуждений, придающей им характер как бы стихотворных
трактатов. Такая публицистика в стихах пользовалась большим распро-
странением в XVIII в., так как отвечала задачам просветительской
пропаганды, обращенной к самым широким кругам читателей. Гениальный
популяризатор, Вольтер учел то огромное значение, которое может иметь
образная поэтическая речь и стихотворная форма для пропаганды научно-
философских воззрений. Его учителем в жанре дидактической поэмы был
глава английского классицизма Александр Поп, написавший целый ряд
произведений этого жанра, среди которых особой известностью пользо-
вался его «Опыт о человеке» (1733).
Под влиянием этой поэмы Вольтер написал свои «Рассуждения
в стихах о человеке» («Discours en vers sur l'homme», 1734—1737), в ко-
торых он, решительно отрицая церковное учение об аскетизме и о безу-
словном подчинении человека божеству, развернул целую систему опти-
мистической морали, вытекающей из знаменитого тезиса Попа и других
английских просветителей: «Все, что существует, разумно» («Ail whate-
ver is, is right»). Вслед за Попом Вольтер рассматривает в своей поэме
отношения человека к вселенной, к обществу и к самому себе. Он дока-
зывает равенство сословий, обусловленное тем, что в каждом сословии
и профессии смешано определенное количество добра и зла. Он доказы-
ВОЛЬТЕР H ЪГО ШКОЛА
683
вает, что человек свободен, имеет право на счастье и сам является твор-
цом своего счастья, которое заключается в мудрой ■ умеренности и в от-
сутствии зависти к другим людям. «Если человек создан свободным, он
должен уметь управлять собой». Полное счастье не может быть дости-
гнуто на земле; поняв это, человек никогда не должен жаловаться на свою
судьбу.
Несмотря на альтруистическую оболочку некоторых моральных те-
зисов Вольтера (например: «добродетель заключается в том, чтобы делать
добро ближним»), Вольтер проповедывал здесь своего рода «разумный
эгоизм», одинаково далекий и от лицемерного альтруизма официальной
христианской морали, и от хищнического эгоизма реальной буржуазной
практики. Ограничения, вносимые Вольтером в его учение о человеческой
свободе и счастье, вытекали из его борьбы с антропоцентризмом, ставив-
шим человека в центре мироздания и расценивавшим все вещи только
с точки зрения их полезности или вредности для человека. Насмехаясь
над антропоцентризмом, Вольтер выводил в шестом «Рассуждении о че-
ловеке» мышей, которые считают себя центром мироздания, забыв о су-
ществовании котов, созданных для того, чтобы пожирать их. Но, призна-
вая существование зла, Вольтер придерживался в первой половине своей
деятельности выдвинутого в Англии Шефтсбери, Болингброком и Попом,
а в Германии Лейбницем, учения о мировой гармонии, рождающейся из
борьбы, страданий, уродств, конфликтов и бедствий, переживаемых от-
дельными существами. Только поднимаясь над своей ограниченностью
и узколобым эгоизмом, человек сможет понять, что зло есть некая необ-
ходимая ступень в мироздании и что наш мир есть лучший из всех воз-
можных миров.
Такая оптимистическая система взглядов, развитая Вольтером
в «Рассуждениях о человеке», была сильно поколеблена Лиссабонским зе-
млетрясением, во время которого погибло 30 тысяч человек. Потрясенный
этим стихийным бедствием, случившимся 1 ноября 1755 г., Вольтер от-
кликнулся на него своей «Поэмой о гибели Лиссабона» («Poème sur le
Désastre de Lisbonne», 1756), замысел которой выражен з ее подзаголовке:
«Проверка аксиомы: Все хорошо» («Examen de cet axiome: Tout est
bien»). В этом философском стихотворении Вольтер снова обращается к
издавна занимавшему его вопросу о существовании зла и пересматривает
свое прежнее оптимистическое решение этой проблемы. Он резко возражает
против точки зрения Лейбница и Попа, объявляя ее софистической. Он
призывает философов-оптимистов кинуть взор на ужасы разрушенного
города с его тысячами «бледных жертв, землей своей распятых», с его
«ужасными руинами» и бесчисленным множеством раненых, лишенных
крова и обездоленных людей. Предвидя утверждение церковников, что
Лиссабон погиб за грехи людей, Вольтер патетически вопрошает: какие
же грехи совершили грудные младенцы, погибшие на груди своих мате-
рей? Неужели Лиссабон греховнее Лондона и Парижа, раз «Лиссабон
погиб, а в Париже танцуют»? Вольтеру кажется теперь несостоятельным
и постыдным обычный аргумент оптимистов, что несчастье и гибель от-
дельных существ необходимы «для блага общего», для мировой гармонии.
Эта мировая гармония — выдумка философов, на каждом шагу опровер-
гаемая жизнью вселенной. Страдают, стонут, гибнут не только люди, но и
все живые существа.
Враждует вся земля — стихии, люди, звери.
Признаем: зло сродни печальной этой сфере;
Заботливо от нас укрыт его рычаг.
Otu
ПРОСВЕЩЕНИЕ
Признав существование зла как морального, так и физического, за-
ключенного в самой природе, Вольтер отказывается объяснить его при-
чину. Он указывает только на невозможность согласовать существование
зла с верой в благость бога. Жалкому, несчастному человечеству остается
только утешать себя надеждой, что «когда-нибудь все станет хорошо».
Эта поэма вызвала не только возмущение церковных кругов «ерети-
ческой» мыслью Вольтера о непокорности богу «аморфной материи, носи-
тельницы зла», но и резкие протесты со стороны Руссо, противопоставив-
шего учению Вольтера о стихийном зле, которое неустранимо, свое учение
о зле социальном, которое могут и должны устранить сами люди. Вольтер
не мог согласиться с той радикальной постановкой вопроса, которую при-
дал ему Руссо, хотя сам практически немало боролся с социальным злом
(в пределах очерченного выше понимания его). Однако теоретически про-
блема мирового зла продолжала занимать Вольтера и позже, но только
разрабатывалась она уже не в стихотворных, а в прозаических произве-
дениях Вольтера — в его философских повестях.
Одновременно с «Поэмой о гибели Лиссабона» Вольтер опубликовал
написанную им несколькими годами раньше и посвященную Фридриху II
«Поэму о естественном законе» («Poème sur la Loi naturelle», 1752). Вы-
росшая из частной переписки Вольтера с прусским королем, эта поэма
имеет, по словам самого поэта, характер «письма, в котором можно сво-
бодно изложить свои воззрения». Вольтер дал здесь ясную формулировку
своих взглядов на «естественную религию», основанную на внушенных че-
ловеку самим богом идеях о справедливости и совести. Но люди исказили
созданными ими разнообразными вероучениями принцип естественной ре-
лигии. Единственным верным способом устранить религиозные разногла-
сия и стычки является, по мнению Вольтера, вмешательство монархии,
которая должна навести такой же порядок в церковном мире, какой она
поддерживает в мире военном: «Qui conduit des soldats, peut bien grouper
des prêtres» («Тот, кто ведет за собой солдат, может расставить по ме-
стам священников»). Эта идея соединения церкви с государством, разви-
тая в IV песни, является основной для всей поэмы, и Вольтер подчиняет
ей проблемы общественной морали. На страже этой последней, которая,
в сущности, совпадает с «естественной религией», должен стоять монарх.
Его функции, следовательно, должны включать в себя и функции свя-
щеннослужителя «естественной религии». Вольтер не решается четко
формулировать эту мысль, которая, однако, логически связана с его ре-
лигиозными и политическими взглядами.
К перечисленным дидактическим поэмам Вольтера можно присоеди-
нить еще «Послание к маркизе дю Шатле о философии Ньютона» («Epître
à la marquise сш Châtelet sur la philosophie de Newton»). Все эти произве-
дения по содержанию почти ничем не отличаются от прозаических трак-
татов, памфлетов и статей Вольтера, в которых он затрагивает те же во-
просы. Поэтическая же оболочка не всегда оказывалась положительным
моментом для той задачи популяризации научно-философских взглядов
автора, которая, главным образом, и вызвала к жизни эти гибридные
произведения. Французские критики справедливо отмечают, что научно-
философская проза Вольтера в большинстве случаев несравненно живее,
ярче и остроумнее его дидактической поэзии.
С еще большим основанием это может быть отнесено к многочислен-
ным преемникам Вольтера в области дидактически поэзии. Характерной
особенностью их произведений является почти полная утрата чувства
поэзии и неумение установить границы между нею и наукой. Дидактиче-
BOJbTEP H ЕГО ШКОЛА
683
ские поэмы и примыкающие к ним произведения других поэтических жан-
ров (послания, оды и т. д.) переполнены описательными деталями и на-
учными рассуждениями; поэтический текст часто сопровождается науч-
ными комментариями, содержащими сведения из различных областей зна-
ния. Примечательны самые названия этих произведений: Лемьерр пишет
«О пользе открытий в области наук и искусств, сделанных в царствование
Людовика XV», Лебрен (Lebrun) дебютирует «Одой о физических причи-
нах землетрясений», Мальфилатр (Malfilâtre) сочиняет «Оду о неподвиж-
ном солнце среди планет», Делиль пишет «Послание господину Лорану по
поводу искусственной руки, которую он сделал увечному солдату».
Новая струя влилась во французскую дидактическую поэзию во вто-
рой половине XVIII в. под влиянием английской описательной поэмы
Попа и особенно Томсона, чьи «Времена года» (1726—1730) имели огром-
ный резонанс и вызвали многочисленные подражания в большинстве
европейских стран. Во Франции им подражал Жан-Франсуа де Сен-
Ламбер (Jean-François de Saint-Lambert, 1716—1803). Его поэму «Вре-
мена года» («Les Saisons», 1769) Вольтер поддержал авторитетным заяв-
лением, что она является «единственным произведением нашего века,
которое дойдет до потомства». В предисловии к своей поэме, над которой
он работал около двадцати лет, Сен-Ламбер заявлял: «Томсон хотел,
чтобы природой восхищались; я хочу заставить полюбить ее». Но так
как Сен-Ламбер стремился внушить вкус к деревне светским людям, то
он считал необходимым деревенскую природу «возвеличить, украсить,
сделать интересной». Это достигалось при помощи многочисленных срав-
нений, а также путем введения галантных эпизодов и «философских» ти-
рад. Последние обеспечили автору большой успех в «философских сало-
нах» и открыли ему двери Французской Академии (1770). Под влиянием
Сен-Ламбера французская описательная поэма приближается к дидакти-
ческой и переплетается с нею, в результате чего морализация и пристра-
стие к сентенциям выдвигаются на первый план, оттесняя основной эле-
мент английской описательной поэмы — собственно описание природы.
Пейзаж, нарисованный самыми общими, банальными чертами, является
чисто условным фоном французских описательных поэм.
Начинание Сен-Ламбера было продолжено Лемьерром, который после
небольшой дидактической поэмы «Живопись» («La Peinture», 1769) напи-
сал обширную описательную поэму «Фасты» («Les Fastes», 1779). Кар-
тины сельской жизни расположены здесь в последовательности католиче-
ских праздников, которые автор советует в конце поэмы отбросить как
«смешное и варварское суеверие». Вольтерьянство Лемьерра выражается
в энергичных выпадах против попов. На ряду с этим, стремясь сделать
поэму занимательной, автор дает своего рода стихотворное обозрение па-
рижской светской жизни.
Одновременно с Лемьерром выступил Жан-Антуан Руше (Jean-Antoine
Roucher, 1745—1794), превративший свою поэму «Месяцы» («Les Mois»,
1779) в настоящую энциклопедию в стихах, снабженную научными ком-
ментариями, которые гораздо любопытнее и содержательнее самого текста.
Впрочем, Руше стремился обогатить свой поэтический словарь и метрику,
сознавая необходимость новой формы для выражения большого науч-
ного содержания, вводимого в поэзию. Своими планами создания мону-
ментальной научной поэмы, которой ему так и не удалось осуществить,
Руше предвосхитил начинания в той же области Андре Шенье.
Но самым популярным из французских «описательных» поэтов был
аббат Жак Делиль (Jacques Delille, 1738—1813), которого Пушкин за его
U86
ПРОСВЕЩЕНИЕ
плодовитость и трудолюбие назвал «парнасским муравьем». Сначала
школьный учитель, затем профессор римской литературы в Collège de
France, Делиль дебютировал в поэзии переводом «Георгик» Вергилия
(1769), который удостоился похвального отзыва Вольтера. Огромный
успех этого перевода объяснялся тем, что с момента его появления опи-
сательная поэма нашла себе авторитетную опору в античной литературе.
Но еще больший успех имели оригинальные поэмы Делиля — «Сады»
(«Les Jardins», 1782), «Житель полей» («L'Homme des champs», 1800),
«Милосердие» («La Pitié», 1803), «Воображение» («L'Imagination», 1806),
«Три царства природы» («Les Trois règnes de la nature», 1808). Все они
переполнены описаниями самых разнообразных предметов, вплоть до наи-
менее поэтичных. Делиль с одинаковой легкостью и охотой описывает по-
следовательно ферму, разные металлы, партию в шахматы, охоту, голу-
биные садки, игру в кегли и мучения чувствительного сердца. Он пере-
ходит от описания одного предмета к другому, руководствуясь различными
ассоциациями — по сходству, по контрасту или даже по смежности. Так,
например, описание рудников наводит его на описание любовной сцены,
разыгравшейся в руднике. Все поэмы Делиля переполнены разнообраз-
ными эпизодами, которые легко могли бы быть перенесены из одной
поэмы в другую.
Огромный успех Делиля у широкой публики объяснялся его умением
блестяще подносить общие места, банальности, отдавая дань литератур-
ной моде. Современники считали его великим поэтом и были ослеплены
«богатством» его языка, который на самом деле пуст и бесцветен. Де-
лиль был виднейшим версификатором и распространителем поэтических
штампов в литературе конца XVIII в. Его успех свидетельствует о глубо-
ком упадке чувства поэзии во Франции его времени.
7
Помимо всех перечисленных отраслей поэзии, Вольтер отдал также
значительную дднь лирике. Он был одним из талантливейших представи-
телей излюбленного во Франции XVIII в. жанра poésie légère или ана-
креонтической лирики, продолжавшей традиции поэзии Лафара, Шольё,
Гамильтона и Жана-Батиста Руссо.
Эта «легкая поэзия» испытала подлинный расцвет в середине XVIII в.
под пером многочисленных светских поэтов рококо, наиболее известными
из которых являются Дора (Dorât, 1734—1780), Колардо (Colardeau,
1732—1776), Бернар (Bernard, 1710—1775), Леонар (Léonard, 1744—1793),
Берни (Bernis, 1715—1794), Бертен (Bertin, 1752—1790), Буфле (Bouf-
flers, 1737—1815). Они сочиняли застольные песни, игривые послания,
галантные мадригалы, романсы, рондо, эпиграммы и разные стихотворения
на случай, фиксирующие легкими штрихами различные мелочи столичной
и салонной жизни.
Содержание этих альбомных и альманашных стихов ничтожно; сами
поэты называли их «любезными безделками» (aimables riens), воспеваю-
щими мимолетные забавы, галантные похождения, фривольные шутки
и другие утехи праздной великосветской жизни. Но незначительность со-
держания прикрывается в этих стихах чрезвычайным изяществом формы.
Анакреонтическая лирика рококо отличается большой гибкостью, легко-
стью и подвижностью ритмов, а также изящной сжатостью речи, охотно
прибегающей к недомолвкам и остроумным намекам. Этой лирике при-
суще стремление к свободным формам, не канонизированным поэтикой
ВОЛЬТЕР И ЕГО ШКОЛА
687
классицизма. Отсюда непопулярность у поэтов рококо сонета, которому
и Вольтер отдал совсем незначительную дань (он написал за всю свою
жизнь только два сонета).
Как ни противоречиво с первого взгляда объединение великого про-
светителя Вольтера с аристократической поэзией рококо, однако истори-
чески такое объединение имело место. Тесно связанный с придворно-
аристократической культурой, Вольтер воспринял также ее поэзию с про-
никающим ее гедонизмом и эпикуреизмом. Но в его буржуазном сознании
этот гедонизм терял свой бездумный, упадочный, паразитический харак-
тер и становился символом независимости, орудием идеологического само-
определения.
Сочиняя, подобно светским, аристократическим поэтам, всевозмож-
ные стансы, мадригалы и эпиграммы, доводя эти поэтические мелочи до
беспримерного формального совершенства, вкладывая в них все свое «воль-
теровское» остроумие, лукавство и иронию, Вольтер в то же время ста-
вил эти поэтические безделушки на службу своим сатирическим и поле-
мическим задачам. Даже изящный мадригал со свойственными этому
жанру комплиментами светским дамам насыщается у Вольтера антиклери-
кальными мотивами. Таков его «Экспромт женевской даме, проповедывав-
шей автору св. троицу», вольно переведенный Пушкиным в его мадригале
кн. С. А. Урусовой:
Не веровал я троице донынеь
Мне бог тройной казался все мудрен.
Но вижу вас и, верой одарен.
Молюсь трем грациям в одной богине.
Антиклерикальная тематика присуща также многим эпиграммам Воль-
тера. Так, в четверостишии «На ковчежец с мощами» Вольтер пишет,
воспроизводя свой излюбленный мотив:
Был поднесен ковчежец сей
В дар Глупости от Предрассудка.
Про то Уму болтать не смей:
Честь церкви, милый мой, — не шутка.
На ряду с церковью доставалось в эпиграммах Вольтера также при-
дворной знати, которую «фернейский патриарх» терпеть не мог, хотя
и охотно поддерживал со многими ее представителями личные отношения.
Так, Вольтер пытался утешить талантливого композитора Гретри, холодно
принятого при дворе, следующей эпиграммой:
Париж венком обвил твой лоб,
Но принял двор тебя посуше.
Частенько у больших особ,
О мой Гретри, большие уши.
Множество эпиграмм и других мелких стихотворений Вольтера на-
правлено против его литературных врагов — Фрерона, Дефонтена, Но-
нотта и др. Он расправлялся с этими представителями реакционного ла-
геря при помощи легкокрылой шутки, острой, как рапира:
Был, восходя на Геликон,
} Ужален змеем Жан Фрерон.
И что ж, друзья, — кто б думать мог?
Не Жан Фрерон. а змей издох.
688
ПГ0С11ЕЩЕПИВ
Помимо сатирических стихотворений, Вольтер оставил также множе-
ство дружеских стихов, обращенных к маркизе дю Шатле, Фридриху II,
Гельвецию и другим личным и литературным друзьям. Почти все эти
стихотворения полны изящных шуток и острот. Вольтер был совершенно
чужд меланхолическим, сентиментальным настроениям, появлявшимся
у некоторых современных ему поэтов. Он острил даже в стихотворении
«Прощание с жизнью» («Adieux à la vie»), написанном незадолго до
кончины: его забавляла мысль о том, как обрадуются его смерти враги.
В этой постоянной склонности к шутке, к иронии, проявляется взгляд
Вольтера на поэзию, которая создана, по его мнению, для того, чтобы
радовать и веселить человека, а не для того, чтобы печалить его. Если
для Вольтера подлинный смысл и интерес жизни — в борьбе, то поэзия
есть утеха и украшение жизни. Эта жизнерадостность является основным
настроением, проникающим всю лирику Вольтера и придающим ей осо-
бенную прелесть.
Вольтеру и всей возглавляемой им группе анакреонтических поэтов
противостоит в середине XVIII в. небольшая группа лириков, в творче-
стве которых проявляются чувствительные, предромантические тенденции.
Среди этих поэтов видное место принадлежит Грессе как автору од,
эклог и посланий. Наибольшей известностью из последних пользовалась
знаменитая «Шартреза» («La Chartreuse»), вызвавшая множество под-
ражаний во французской и русской литературе. Поэт описывает здесь
друзьям свое скромное и убогое жилище — уединенный чердак под кры-
шей школьного здания, в котором он мирно обитает в обществе гномов,
сильфид и домовых, — в мире фантазии, помогающем ему переносить все
тяготы скучной, неприглядной жизни. Грессе один из первых во> Франции
XVIII в. начал воспевать природу и выражать отвращение к городской
цивилизации. Он был врагом нараставшего просветительского движения,
чем навлек на себя враждебное отношение Вольтера.
В России Грессе пользовался в начале XIX в. большой популярно-
стью. Его «Шартрезе» подражали Батюшков, Жуковский, Вяземский,
В. Л. Пушкин, а Веневитинов перевел большой отрывок из нее, содержа-
щий сравнение человеческой жизни с веткой, подхваченной и несомой бур-
ным потоком (стихотворение «В бесценный час уединенья...»). Следы
влияния Грессе можно найти также в юношеской лирике Пушкина («К
сестре», «Городок», «К Дельвигу», «Послание к Галичу», «Моему Ари-
старху», «Послание к Юдину», «В. Л. Пушкину» и др.). Пушкин назы-
вал Грессе «певцом прелестным» и даже в зрелом возрасте (1834) выде-
лял его среди прочих французских поэтов XVIII в., ставя его на одну
доску с Вольтером: «Для тех, которые любят Катулла, Грессета и Воль-
тера, для тех искренность драгоценна в поэте».
Другим видным представителем антипросветительской лирики, от-
давшим дань предромантическому течению, был Никола Жильбер (Nico-
las Gilbert, 1751—1780). Получив воспитание в провинции, он прибыл
в Париж в 1774 г. уже сложившимся поэтом, напечатавшим сборник сти-
хов. Будучи заклятым врагом философов-просветителей, он заклеймил их,
вместе с консерваторами-академиками, в ядовитой сатире «Восемнадцатый
век» («Le Dix-huitième siècle», 1775), посвященной известному врагу
Вольтера Фрерону. Но еще большую известность доставила Жильберу его
предсмертная элегия «Несчастный поэт» («Le Poète malheureux»), в кото-
рой он нарисовал излюбленный в период предромантизма и романтизма
образ одинокого, гонимого поэта, «несчастного сотрапезника на жизненном
ВОЛЬТЕР H ЕГО ШКОЛА
689
пиру». Несколько строк из этого популярного в России стихотворения
Жильбера попали также в лицейские стихи Пушкина:
Мне кажется, на жизненном пиру
Один с тоской явлюсь я, гость угрюмый,
Явлюсь на час, и одинок умру.
Популярности Жильбера способствовала его ранняя смерть, породив-
шая поэтическую легенду, будто он умер с голоду в больнице для бед-
ных. Эта поэтическая легенда была особенно ярко разработана Альфредом
де Виньи в его романе «Стелло». Созданный же Жильбером образ не-
счастного поэта был подхвачен Мильвуа, Шендоле и другими элегиками
началу XIX в.
8
Испробовав свои силы в самых различных областях поэзии, Вольтер
обратился также к художественной прозе, которую он начал культиви-
ровать со второй половины 1740-х годов. Он написал целый ряд повестей,
которые получили во Франции наименование «философских». Этим тер-
мином подчеркивается их отчетливо публицистический характер: каждая
из них написана для иллюстрации какой-либо общественно-философской
идеи. Сам Вольтер акцентировал эту особенность своих повестей, рас-
шифровав философскую тему каждой из них в сопровождающих их основ-
ное заглавие подзаголовках, например: «Мемнон, или Человеческая муд-
рость», «Задиг, или Судьба», «Кандид, или Оптимизм» и т. д. Прибли-
жаясь по своему содержанию к вольтеровским трактатам, памфлетам и
дидактическим поэмам, философские повести Вольтера органически вклю-
чаются в просветительскую литературу Франции как одна из ее наиболее
ярких и художественно полноценных разновидностей. Об этом ясно свиде-
тельствует литературная судьба философских повестей Вольтера, являю-
щихся в наши дни самыми известными из его произведений, которые на-
ходят больше всего читателей.
Жанр философской повести был создан Вольтером под совокупным
влиянием Монтескье как автора «Персидских писем» и Свифта как автора
«Путешествий Гулливера». От первого Вольтер воспринял пристрастие к
восточной экзотике и ее противопоставление французской современности
как средство заостренного, критического показа французских нравов
и порядков. Qt второго он заимствовал сатирическое использование ска-
зочной фантастики, вьфастающёй до космических масштабов и преподно-
симой в шутливой, псевдонаучной форме. Однако в отличие от обоих
своих предшественников Вольтер использовал в своих повестях технику
авантюрного романа с крепко построенным, занимательным сюжетом, пред-
ставляющим причудливое нагромождение самых невероятных неожиданно-
стей, совпадений, встреч и появлений исчезнувших лиц. Пестроте фабулы
соответствуют в повестях Вольтера пестрота тона и стиля повествования,
в котором непринужденно сочетаются элементы фантастики и реализма,
а легкая изящная ирония временами перебивается серьезными философ-
скими размышлениями или резкими саркастическими выпадами против
различных гнусностей и уродств общественного строя.
Особенно парадоксальным моментом в структуре вольтеровских пове-
стей является сочетание подчеркнутой философской тенденций с авантюр-
ным сюжетом, наличие которого до Вольтера обычно было присуще про-
изведениям со слабой идейной нагрузкой. Однако авантюрный сюжет
44 Истерия французской литературы—815
G90
ПРОСВЕЩЕНИЕ
носит в повестях Вольтера ярко выраженный рационалистический характер;
отдельные эпизоды включаются далеко не случайно, а по строго проду-
манному- плану, служа различными иллюстрациями определенного фило-
софского тезиса, проводимого в данной повести. Тем не менее такая ак-
кумуляция эпизодов, именно в силу явственно ощутимой нарочитости ее,
придает повести нереалистичный характер, тогда как отдельные эпизоды -
обычно вполне типичны, обрисованы с сочным бытовым реализмом.
Другим моментом, ослабляющим реализм вольтеровских повестей,
является унаследованное им от классицизма резкое разграничение добра
и зла, приводящее к несколько упрощенному, схематичному противопоста-
влению однолинейных характеров. Движение и изменение этих последних,
если оно имеет место в повести, осуществляется путем чисто механиче-
ского перехода от одной психологической характеристики к другой, прямо
противоположной. Так, Царь Моабдар в «Задиге» обрисован сначала про-
свещенным монархом, а затем он превращается в ревнивого деспота, при-
нимающего решение отравить жену и удавить Задига; это изменение ха-
рактера Моабдара никак не подготовлено и потому носит искусственный
характер. Как правило, второстепенные персонажи в повестях Вольтера
обрисованы более живо и реалистично, чем главные, потому что именно
на них Вольтер осуществляет критику нравов современного общества.
Впрочем, такое противоречие свойственно не одному Вольтеру, а всему про-
светительскому реализму.
Характерной особенностью повестей Вольтера является необычайное
расширение в них географического горизонта. Так, в «Кандиде» действие
происходит поочередно в Германии, в Голландии, в Португалии, в Па-
рагвае, во Франции, в Англии, в Венеции, в Турции. В «Видении Ба-
бука» местом действия являются Персия и Индия; в «Задиге»—Вави-
лон; в «Белом быке» — Египет; в «Белом и черном» — Кабул и Кашемир;
в «Бабабеке и факирах», «Истории одного доброго брамина», «Приключе-
нии в Индии» и «Письмах Амабеда» — Индия (впрочем, в «Письмах
Амабеда» в действие вовлечена также Франция, и повесть эта построена
по схеме «Персидских писем» Монтескье). Огромный географический го-
ризонт имеют также «Царевна Вавилонская» и крошечная повесть «Исто-
рия путешествий Скарментадо» ; в последней на протяжении восьми стра-
ниц герой, уроженец Кандии (Крита), посещает Италию, Францию, Гол-
ландию, Испанию, Турцию, Персию, Китай, Индию и Африку. Даже
когда местом действия является Франция, как, например, в повести «Про-
стак», в действии принимает участие индеец-гурон. Наконец, в «Микро-
мегасе» главными действующими лицами являются попавшие на землю
обитатели Сириуса и Сатурна.
Такой географический размах повестей Вольтера напоминает анало-
гичное явление в его трагедиях и вызван теми же космополитическими
тенденциями и всемирно-историческими масштабами, присущими культуре
французского Просвещения. Введение в действие различных стран обычно
вызывается стремлением Вольтера показать единство человеческой при-
роды с ее стремлениями и страстями, добродетелями и пороками, несмотря
на значительные различия обычаев, верований и государственных учреж-
дений в разных странах. Находя во всех уголках земного шара такие же,
как и во Франции, недостатки и общественные язвы, Вольтер в то же
время отмечал у других народов (особенно, у восточных) наличие поло-
жительных черт, отсутствующих у французов. Тем самым он как бы при-
зывал своих соотечественников к преодолению свойственного им чванства
к к установлению более критического отношения к собственным обществен-
ВОЛЬТЕР И ЕГО ШКОЛА
691*
яым порядкам. Здесь Вольтер охотно использовал излюбленный прием
Монтескье— критику французской жизни устами изумленных чужеземце®
(«Царевна Вавилонская», «Письма Амабеда», «Простак»).
От того же Монтескье к Вольтеру перешел и прием условного изоб-
ражения восточной жизни, которая так часто появляется в различных
повестях Вольтера. Восточные нравы вводились Вольтером не только для
противопоставления французским нравам; очень часто они служили це-
лям замаскированного показа именно французской жизни. Сюда относятся
многочисленные нарочитые анахронизмы в восточных повестях Вольтера,
вроде концертов и изысканных ужинов, устраиваемых в Вавилоне («За-
диг») или описаний придворного быта в «Царевне Вавилонской», напоми-
нающих как две капли воды нравы французского двора. Помимо Мон-
тескье, Вольтер перекликается здесь с галантными восточными романами
Кребильона-младшего.
Экзотический и фантастический материал в повестях Вольтера немало
содействовал усилению их развлекательности. Почти во всех своих пове-
стях Вольтер ведет повествование легким, игривым, ироническим тоном,
как бы смакуя экзотические подробности, преподносимые смеха ради в
преувеличенном виде. Так, например, красавица Альмона обращается
к верховному жрецу звезд следующим образом: «Старший сын Большой
Медведицы, брат Тельца, двоюродный брат Большого Пса», к чему
Вольтер делает примечание: «Таковы были титулы этой важной птицы»
(«Задиг»). Другой пример — описание экзотического обеда в Эльдорад-
ском трактире: «Было подано четыре супа, из которых каждый был при-
готовлен из двух попугаев, затем вареный ястреб, весивший 200 фунтов,
две зажаренные обезьяны, превосходные на вкус, 300 колибри на одном
блюде и 600 птиц-мух1 на другом. . .» («Кандид»).
В других случаях Вольтер создает комический эффект путем скре-
щения экзотического стиля с французским галантным стилем разговора^
Так, выведенные в «Белом быке» библейские персонажи, в том числе
змей, соблазнивший Еву, Валаамова ослица, кит, проглотивший Иону»
и другие, ведут себя крайне галантно, а библейский змей, например, изъяо
няется с принцессой Амазидой таким образом: «Вы не можете себе
представить, сударыня, до какой степени я польщен той честью, которой
вы меня удостаиваете», на что принцесса отвечает: «Ваша высокая репу-
тация, тонкое остроумие, начертанное на вашей физиономии, блеск ваших
глаз, наконец, внушили мне желание назначить вам это свидание. ..»
Экзотические персонажи повестей Вольтера часто наделяются психи-
кой французской аристократии, что дает основание для циничных шуток
Вольтера, вроде следующей: «Принцесса, вспоминая, что змей назвал ста-
руху „мадемуазель", заключила из этого, что старуха — девственница, и по-
чувствовала некоторое огорчение от того, что сама она тоже еще оста-
валась таковой» («Белый бык»). Многочисленные фривольные замеча-
ния и намеки в повестях Вольтера связывают их с манерой, в которой
написаны «Орлеанская девственница» и анакреонтические стихотворения
Вольтера.
Блестящее остроумие и тонкая, язвительная ирония, выделяющая
Вольтера среди других французских писателей XVIII в., несут в его по-
вестях глубоко разоблачительную функцию. Это и отличает их, главным
образом, от сходных моментов в произведениях Кребильона-младшего и
других писателей рококо. Насмешка Вольтера направлена в повестях на
разоблачение обычных объектов его сатиры — пережитков феодального
варварства, бесправия, мракобесия, нетерпимости и деспотизма. Как и в>
699
ПРОСВЕЩЕНИЕ
других своих произведениях, Вольтер отводит немало места обличению
духовенства. Однако эта тема не занимает в философских повестях такого
доминирующего места, как в «Орлеанской девственнице». Не меньше вни-
мания Вольтер уделяет здесь монархическому деспотизму, моральному
разложению придворных сфер, произволу и продажности суда, варварству
феодально-абсолютистских войн, изображаемых как бессмысленная резня,
причин и целей которой не знает никто из участников. «Судебные про-
цессы, интриги, войны и религиозные споры — суть вещи бессмысленные
и отвратительные» («Царевна Вавилонская»).
Основная философская проблема, которая занимает Вольтера в его
философских повестях, это — издавна волновавший его вопрос о мировом
зле и связанный с ним вопрос о свободе воли. В ранних своих повестях
«Мир как он есть, или Видение Бабука» («Le Monde comme il va, ou Vi-
sion de Babouc», 1746), «Мемнон, или Человеческая мудрость» («Memnon,
ou la Sagesse humaine», 1747) и «Задиг, или Судьба» («Zadig, ou la Des-
tinée», 1748) Вольтер разрешал еще эту проблему в примирительном, оп-
тимистическом смысле.
Так„ в «Видении Бабука» грозный дух Итуриэль, решив разрушить
порочный город Персеполис (Париж), избирает мудрого скифа Бабука
судьей жителей Персеполиса, и Бабук, ознакомившись со всеми сторо-
нами их частной и общественной жизни, несколько раз уже совсем готов
осудить город на разрушение. Однако постепенно он убеждается в том,
что не все плохо и порочно в Персеполисе, что всякому проявлению зла
противостоит нечто положительное и что есть частица добра во всех об-
щественных пороках. Придя к выводу, что частное зло поглощается в выс-
шем, общем благе, Бабук изготовляет статуэтку из разных металлов, кам-
ней и кусков глины, после чего спрашивает Итуриэля: «Неужели ты ра-
зобьешь эту прелестную статуэтку только потому, что она не вся сплошь
из золота и бриллиантов?» Итуриэль, поняв его мысль, решает «оставить
мир таким, каков он есть; ибо если не все хорошо, то все терпимо».
Сходную мысль Вольтер проводит в «Мемноне», в. котором.хин изла-
гает историю человека, решившего стать образцом мудрости и, несмотря
на это, в течение одного дня обманутого и ограбленного, изувеченного,
покинутого друзьями и выгнанного из собственного дома. Ночью во сне
ему является добрый дух, утешающий его сообщением о том, что наш
мир есть только один из бесчисленного множества миров, рассеянных в не-
бесном пространстве, и что мудрость и счастье распределены между ними
в некой строгой градации. Философы, утверждающие, что все хорошо, по
мнению духа, «правы с точки зрения мироздания в целом». Однако
Мемнон ослабляет безусловность такого оправдания зла язвительным за-
мечанием: «Я поверю в это только после того, как перестану быть
кривым».
Наиболее полное выражение эта точка зрения Вольтера получила
в повести «Задиг», развертывающей в рамках сложного авантюрного по-
вествования идею слепой судьбы, которая играет человеком, беспрерывно
бросая его от счастья к несчастью. Героя повести постигают бесчисленные
испытания, приключения и опасности, которые завершаются, однако, сое-
динением его с любимой им Астартой. Этот благополучный финал похо-
ждений Задига должен подчеркнуть, что все пережитые им страдания
были только ступенями к достижению им блаженства. Личная судьба За-
дига должна иллюстрировать судьбу всего мира. В мироздании,—поучает
Задига добрый гений Иезрад, — нет зла, которое не порождало бы добра,
и нет ничего случайного, а всякое несчастье, постигающее человека, есть
ВОЛЬТЕР И ЕГО ШКОДА
G93
либо, испытание, либо наказание, либо награда, либо предостережение.
Задиг не может примириться с этой точкой зрения. Он пытается добиться
от Иезрада ответа на вопрос, почему невозможно, чтобы в мире было
только одно добро. На призыв Иезрада смириться перед высшей волей,
управляющей миром, Задиг пытается возражать, но его протестующее
«но. ..» повисает в воздухе, потому что Иезрад скрылся в небесах. Эта
неоконченная последняя реплика Задига свидетельствует о том, что уже
в момент написания этой повести Вольтер не мог до конца успокоиться
на благодушном, компромиссном оптимизме Лейбница и Попа. Жестокая
критика социальных бедствий, рассеянная на всем протяжении повести,
нисколько не снимается ее искусственным счастливым финалом. В созна-
нии Вольтера назревал полный пересмотр его прежних оптимистических
установок.
Центральный эпизод «Задига» — встреча Задига с Иезрадом, кото-
рый учит его познанию истины через ряд непонятных ему поступков, '■—
представляет вариацию бродячего сказания об «Ангеле и пустыннике»,
разработанного и Л. Н. Толстым.
Поворот в философских воззрениях Вольтера сказался в его малень-
кой сатирической повести «Микромегас» («Micromégas», 1752), в которой
сливаются влияния Сирано де Бержерака" Фонтенеля и Свифта. Воль-
тер предпринимает здесь решительную попытку преодоления антропоцен-
тризма, владевшего в течение многих веков сознанием людей. Борьба
с антропоцентризмом осуществляется на этот раз путем сопоставления
людей с обитателями Сириуса и Сатурна, по сравнению с которыми жи-
тели Земли кажутся ничтожными козявками. Столь же мелкими, ничтож-
ными представляются великанам с Сириуса я Сатурна все людские дела.
Они изумляются тому, что такие крошечные существа обладают душой,
способны мыслить и составлять себе точные представления о мировых
явлениях, никогда ими не виденных. Так Вольтер подчеркивает одновре-
менно и ничтожество человека, являющегося неким атомом в мировом
пространстве, и его величие, заключающееся в могуществе его разума.
Однако последнее проявляется лишь в области точных наук. Как только
речь заходит о метафизических умозрениях, между философствующими
букашками начинаются решительные разногласия, поражающие жителей
других планет. Рисуя споры между последователями Аристотеля, Де-
карта, Мальбранша, Лейбница и Локка, Вольтер заставляет жителя Си-
риуса Микрамегаса отдать предпочтение последнему. Видя, что люди ни-
как не могут договориться, Микромегас обещает им просветить их с вы-
соты своих космических масштабов, написав для них книгу о сущности
вещей. Когда же люди, страстно жаждущие получить ответ на все «про-
клятые вопросы», набрасываются на эту книгу, они видят совершенно
белые листы. Это означает, что ответить на вопрос о сущности вещей не-
возможно. Истинная мудрость, по мнению Вольтера, заключается в пол-
ном отказе от попыток решить этот вопрос. Такой агностицизм прово-
дится Вольтером также в его последующих повестях и в первую оче-
редь — в «Кандиде»/'
«Кандид, или Оптимизм» («Candide, ou l'Optimisme», 1759) является
зйаменТггейшвй-и-~безуелввткг**самой замечательной из философских пове-
стей Вольтера. Кроме того — это едва ли не самое острое по сатирическому
содержанию из всех написанных Вольтером произведений. Замысел,_ахой
повести дв(шс^енеТС"В5-пТрТ?ь^ с оптими-
стической философией Лейбница, Попа и своих ранних произведений; во-
вторых, он дает блестящую и злую пародию на широко распространенный
9ЭА
ПРОСВЕЩЕНИЕ
жанр буржуазного авантюрного романа, окрашенного в тона того же благо-
душного вселенского оптимизма.
«Кандид» отделен тремя годами от «Поэмы о гибели Лиссабона»»
в которой оптимизм был дискредитирован посредством философских ар-
гументов и пламенных тирад. Теперь Вольтер решил добить его несра-
вненно более острым оружием — язвительной иронией пародийно-сатири-
ческого романа. Апостолом оптимистической веры Вольтер делает здесь
ученого немца Панглосса, философствующего тупицу, преподавателя «ме-
тафизико-теолого-космолого-глупологии», объясняющего своему наивному
воспитаннику Кандиду (имя, дословно означающее «простодушный»), что
носы созданы для того, чтобы носить очки, ноги — для того, чтобы быть
обутыми, а свиньи — для того, чтобы их ели. Вся философская мудрость
этого глупца сводится к нескольким затверженным положениям филосо-
фии Лейбница, из которых основными являются учение о «предустано-
вленной гармонии» и вера в то, что «все к лучшему в этом лучшем из
миров». Вольтер заставляет Панглосса вместе с Кандидом испытать ты-
сячу злоключений. Панглосс становится нищим, заболевает сифилисом,
едва не становится жертвой лиссабонского землетрясения, попадает в
тюрьму инквизиции; его избивают, пытаются повесить, продают в рабство,
«о он продолжает с чисто философским упорством отстаивать правоту
Лейбница и его учения о предустановленной гармонии. Это учение помо-
гает ему оправдать любое зло. Даже появление сифилиса, говорит он,
«было неизбежно в этом лучшем из миров; оно необходимо, ибо, если бы
Колумб не схватил на одном из американских островов этой болезни, мы
не имели бы ни шоколада, ни кошенили».
Вместе с учением о предустановленной гармонии Вольтер издевается
над связанным с ним учением о свободе воли. Так, попав в плен к бол-
гарам, Кандид за попытку прогуляться попадает в тюрьму и поставлен
перед необходимостью выбрать одно из двух — либо пройти тридцать
шесть раз сквозь строй, либо получить сразу в лоб дюжину пуль. «Как
он ни уверял, что воля свободна и что он не желает ни того, ни дру-
гого, — ему пришлось сделать выбор, и он решил, в силу божественного
дара, именуемого свободой воли, пройти тридцать шесть раз сквозь
строй».
Но, разоблачая прекраснодушный оптимизм, Вольтер не становится
на противоположную точку зрения, представленную в романе философом-
пессимистом Мартином, считающим, что мир полон зла и что человек ро-
жден либо для вечной тревоги, либо для апатии и скуки. В горячих спо-
рах между Панглоссом и Мартином Кандид, созревший в результате пе-
ренесенных им жизненных невзгод, не склоняется на сторону ни того, ни
другого. Истинную житейскую мудрость он слышит впервые из уст ста-
^рика-турка, возделывающего свой фруктовый сад и утверждающего, что
«работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока и нужды». Эти
слова раскрывают Кандиду подлинный смысл жизни: он заключен в труде.
На все разглагольствования неутомимого и нЙКгараЗвймаго 11англоссгГ он
отвечает теперь только фразой: «Это хорошо сказано, но надо возделы-
вать наш сад». Бесплодным метафизическим умствованиям Вольтер проти-
вопоставляет, таким образом, конкретную трудовую практику как един-
ственный способ улучшить жизнь и содействовать реальному прогрессу
цивилизации. Этот вывод имеет, однако, и другую сторону: он вскрывает
страх Вольтера перед чрезмерным углублением просветительского движе-
ния, начинавшего переходить в революционную стадию. Призыв к без-
думной практике до известной степени выражает стремление Вольтера
Вольтер ■ кго шкода
693
i e-ii.:ron...vo)aut it
lfci,chartà Cimdidc':
laHSieoes'ncH
задержать рост неприемлемых
для него радикально-демокра-
тических учений просвети-
телей.
В художественном отно-
шении «Кандид» представляет
собой настоящий шедевр иро-
нического повествования, па-
родийно взрывающего кано-
ны авантюрного романа с
присущим последнему утвер-
ждением могущества «его ве-
личества случая», за которым
скрывался в замаскированном
виде «божественный промы-
сел». Вольтер обрушивается
со всей силой своего сар-
казма на идею этого «про-
мысла», разоблачая его ма-
ску — господство произвола,
которое является типичным
выражением существующих в
обществе варварских поряд-
ков, грозящих человеку са-
мыми губительными преврат-
ностям и.^ Герои «Кандида»
все время становятся жертва-
ми этого мнимого «про-
мысла», особенно Панглосс,
которого Вольтер заставляет
испить до дна чашу самых „ „
невероятных бедствий за его ВоАьтер* <Кандид>-
философские грехи. Даже тра- с рвсув** *" "" МоР°-»««швг0' ■*•■• Д«*бр«°" («87 г.).
диционныи счастливый финал романа носит иронический характер, ибо
Кандид получил руку столь нежно любимой им Кунигунды, когда она
уже превратилась в урода «с воспаленными глазами, высохшей грудью,
морщинистыми щеками и красными, потрескавшимися руками», так что
он невольно «отступил на три шага, охваченный ужасом». В противо-
положность всем подлинно авантюрным романам, грустные приключе-
ния главных героев «Кандида» рассказаны так, что читатель не испы-
тывает к ним никакого сочувствия. Все их невзгоды вызывают только
смех. Стихия снижающего комизма захлестывает весь роман, не оставляя
никакого места идеализации, обычно присущей произведениям просветите-
лей. Таковы, в отношении самой художественной структуры романа, ре-
зультаты разоблачения вселенского оптимизма, которое здесь проводит
Вольтер.
В общую ткань иронического разоблачительного повествования «Кан-
дида» вплетается контрастирующий с ним эпизод, рисующий посещение
Кандидом утопической страны Эльдорадо. Изображение этой страны окра-
шено в цвет типичной просветительской утопии. В этой стране основным
принципом является всестороннее удовлетворение потребностей челове-
ческой личности; потому здесь процветает добродетель. Страна изоби-
лует всем, что нужно человеку. Песок в Эльдорадо состоит из золота
696
ПРОСВЕЩЕНИЕ
и драгоценных камней, которые там не имеют никакой цены. В Элъдорадо
нет монахов, попов и религиозных раздоров. Весь народ исповедует одну
философскую религию. Население отличается приветливостью, культур-
ностью и демократизмом, который распространяется также на королевский
двор. По своему социальному составу население Эльдорадо неоднородно,
но даже люди низшего звания (извозчики, слуги и т. п.) хорошо одева-
ются и отличаются деликатностью манер. Суда в Эльдорадо не существует,
потому что отсутствуют тяжбы. В стране процветают точные науки, и три
тысячи физиков работают над изобретением машины, которая должна пе-
реправить Кандида через горный хребет.
Нарисованное Вольтером утопическое общество носит на себе яв-
ственный отпечаток его социально-политических воззрений (монархический
строй, социальное неравенство и т. д.). Идею этой утопической страны
Вольтер воспринял от Свифта (IV часть «Путешествий Гулливера»), от-
куда он позаимствовал также некоторые конкретные детали. Но, в отли-
чие от Свифта, Вольтер, рисуя свое идеальное общество, зовет не к патриар-
хальной идиллии прошлого. Утопическая страна Эльдорадо — подлинное
«царство разума» в вольтеровском понимании этих слов.
Для последнего периода литературной деятельности Вольтера, когда
уже происходит расслоение в рядах просветителей и выделение их пле-
бейско-демократического крыла, возглавляемого Руссо, наиболее харак-
терной философской повестью является «Простак» («L'Ingénu», 1767),
представляющий собою как бы отклик Вольтер~а ' на учение Руссо о пре-
имуществах «естественного состояния» над цивилизацией собственнического
общества. Используя здесь излюбленный просветителями прием критики
французских нравов и порядков устами чужеземца, Вольтер выводит мо-
лодого индейца-гурона, прибывающего во Францию ' и вступающего на
каждом шагу в разнообразные столкновения с чуждыми ему француз-
скими порядками и обычаями, которые поражают его своей условностью
и фальшью. Эти конфликты «естественного человека», представителя
«нормальной человеческой природы», с цивилизованным обществом со-
ставляют содержание «Простака».
Сначала Вольтер рисует эти столкновения в игривых, веселых тонах,
заставляя своего простака попадать на каждом шагу впросак и посмеиваясь
над его наивностью. Однако и в этой части повести Вольтер неоднократно
показывает преимущества природного здравого смысла и искренней, не
знающей лжи и притворства натуры гурона даже перед таким малоци-
вилизованным обществом, как обитатели бретонского городка Сен-Мало.
В дальнейшем столкновения гурона с цивилизованным обществом стано-
вятся все серьезнее и острее. Этот «естественный человек» превращается
в настоящего обличителя гнусностей французской жизни.
Вольтер отбрасывает веселую шутку и добродушную иронию, впер-
вые за все время сочинения им философских повестей усваивая негодую-
щий, обличительный тон по отношению к французской жизни, на кото-
рую здесь уже не накидывается никакого мистифицирующего экзотиче-
ского покрова. Устами своего простодушного героя Вольтер разоблачает
все страшные язвы французского старого режима — преследования про-
тестантов и янсенистов, шпионаж иезуитов, вопиющий административ-
ный произвол, продажность администрации, глубокое разложение аристо-
кратии, потрясающее бесправие и неуважение к человеческой личности.
Одного неосторожно произнесенного простаком искреннего слова оказы-
вается достаточно для того, чтобы засадить его е Бастилию, откуда ему
удается выбраться только ценой потери чести его возлюбленной, которая
ВОЛЬТЕР И ЕГО ШКОЛА
G97
не выносит своего позора и умирает. Так впервые философская повесть Воль-
тера заканчивается трагически. Проблема зла, занимавшая Вольтера почти во
всех его повестях, разрешается здесь по-новому: зло, понимаемое уже не
в стихийном, биологическом, а в социальном смысле, не только безусловно
существует, но и оказывается неисправимым при данных общественных
условиях; оно угрожает не только свободе и счастью, но и жизни ни в чем
неповинных людей.
Ни в одном из своих, произведений Вольтер не заходил так .далеко
в^б^ШченшГ современных французских порядков. Картина, нарисованная
им в «Простаке», производит особенно сильное впечатление благодаря
тому, что во второй части повести Вольтер отбрасывает обычную для
него комическую маску. Конец повести имеет трагический колорит. Од-
нако и в «Простаке» Вольтер проявил присущее ему стремление к при-
мирительному разрешению социальных конфликтов. После трагической
гибели возлюбленной простак поступает в королевскую армию и стано-
вится «превосходным офицером», т. е. верой и правдой служит разобла-
ченному им же уродливому политическому строю. Впрочем, в последней
фразе повести Вольтер скептически замечает, перефразируя известную
пословицу: «От худа никогда не бывает добра». Этой фразой он не-
сколько ослабляет~впечатление^ ' созданное"примирительным финалом.
«Простак» во многом явился сочувственным откликом Вольтера на
учение Руссо, много раз вызывавшее с его стороны резкукГполемику. Воль-
'тер~нё^ капитулировал в «Простаке» перед Руссо, хотя и сделал «естествен-
ного человека», не изведавшего благ цивилизации, положительным героем
своей повести. Пока простак не приобщился к_цивилизации, .од,£ь1д^ищь
комическим персонажем. Подлинно "положительным героем он становится
только в конце повести под^ благотворным влиянием своего соседа по
тюрьме, старика-янсениста Гордона, дающего ему «философское» образо-
вание. Таким образом Вольтер остается верен своему преклонению перед
цивилизацией, несмотря на проводимую им в данной повести жестокую
критику ее лживых и уродливых форм. Даже в этом радикальнейшем из
своих произведений, в котором социальная критика достигает наиболь-
шей остроты, Вольтер не переступает грани, отделяющей его от Руссо с
его плебейской критикой старорежимной Франции.
Вольтер не нашел ни одного достойного последователя в жанре фи-
лософской повести, который он умел облекать в такую живую, остроум-
ную и ироническую форму. Однако попытки подражать повестям Воль-
тера делались. Наиболее видным из подражателей Вольтера в этом
жанре был Жан-Франсуа Мармонтель (Jean-François Marmontel, 1723—
1799), один из самых плодовитых, но в то же время и самых посред-
ственных писателей, примыкавших к «философскому» лагерю.
Сын ремесленника, Мармонтель прибыл из провинции в Париж в
1746 г., причем сразу объявил себя последователем Вольтера и принял
участие во всех значительных литературно-общественных начинаниях того
времени, в том числе и в «Энциклопедии», в которой он напечатал ряд
статей по литературе, впоследствии объединенных им в книге «Основы
литературы» («Éléments de littérature»; 1787).
В области художественной прозы Мармонтель дебютировал «Нраво-
учительными рассказами» («Contes moraux», 1756—1761), в которых он
стремился, по его собственному признанию, «сделать добродетель при-
влекательной», и которые тем не менее отличаются типичным для дан-
ного переходного момента сочетанием сентиментальности с эротической
фривольностью. Несмотря на отсутствие живости и увлекательности,
698
ПРОСВЕЩЕНИЕ
«Нравоучительные рассказы» Мармонтеля имели большой успех и на ко-
роткое время сделали его модным автором. Ободренный этим успехом,
Мармонтель задумал создать ряд больших философско-просветительских
романов. Первым из них явился «Велизарий» («Bélisaire», 1767), посвя-
щенный пропаганде веротерпимости, что навлекло на автора нападки
Сорбонны и парижского духовенства, но в то же время доставило ему
большую популярность за пределами Франции. «Велизарий» был пере-
веден на ряд языков, в том числе и на русский — по распоряжению Ека-
терины II, которая сама приложила руку к этому переводу.
За «Велизарием» последовал обширный роман-эпопея в прозе
«Инки» («Les Incas», 1777), в приподнятом, декламационном стиле об-
личающий религиозный фанатизм испанских завоевателей в Перу, — тема,
уже разработанная Вольтером в «Альзире». Своим экзотическим сюже-
том и стремлением приблизить роман к эпопее «Инки» предвещают про-
изведения Бернардена де Сен-Пьера и Шатобриана. Однако экзотика
Мармонтеля лишена всякой колоритности, а его стремление к эпической
широте приводит только к многословным разглагольствованиям чисто
публицистического характера. Несмотря на тематическую близость Мар-
монтеля к Вольтеру, ему недостает вольтеровской живости и остроумия;
сходство между Мармонтелем и Вольтером остается чисто внешним.
9
Влияние Вольтера на мировую литературу было исключительно ши-
роким и многообразным. Оно проявилось, с одной стороны, во всех об-
ластях и формах литературного творчества, которые культивировались
великим французским просветителем: Вольтеру подражали как эпиче-
скому и лирическому поэту, как романисту и драматургу, как историку
и публицисту. С другой стороны, влияние Вольтера сказалось на общем
направлении общественно-философской мысли и вообще умственной
культуры различных европейских стран, постепенно включавшихся в круг
идей французского Просвещения. Его имя являлось повсюду символом
Просвещения, из его уст многотысячные массы людей впервые слышали
новые слова, выражавшие великие освободительные идеи третьего сосло-
вия. Степень популярности Вольтера в той или другой из европейских
стран всегда являлась своего рода барометром общественного самосозна-
ния буржуазно-демократических кругов этих стран.
Наиболее сильным было влияние Вольтера у него на родине, где оно
оказало огромное воздействие на дальнейшее развитие французского
Просвещения, хотя во многих случаях преемники Вольтера и пытались
критически пересматривать многие его взгляды. Своего апогея культ
Зольтера достиг в годы Французской буржуазной революции, в зна-
чительной мере осуществившей его политическую программу. Не только
жирондисты, видевшие в Вольтере своего предшественника, но и яко-
бинцы оставались ему верны. Робеспьер неоднократно цитировал Воль-
тера в своих речах, в революционных театрах шли пьесы Вольтера, а в
1792 г., во время представления его трагедии «Смерть Цезаря», яко-
бинцы украсили его бюст красным фригийским колпаком.
Реакция против идей французской революции, начатая консерватив-
ной группой романтиков, привела к энергичной борьбе против Вольтера.
Вольтера поносил не только такой ярый сторонник дворянско-поповской
реакции, каким был Жозеф де Местр, но и такие замечательные поэты,
«ак Виктор Гюго и Альфред де Мюссе, Но в то же время «последний
Вольтер в кресле.
Статуя Ж. А. Гудона. Государственный Эрмитаж, Леяшград.
500
ПРОСВЕЩЕНИЕ
якобинец» Стендаль и все его республиканское окружение считали Воль-
тера «законодателем и апостолом Франции, ее Мартином Лютером».
Впрочем, несмотря на ожесточенную борьбу с Вольтером, которую вела
буржуазия времен Реставрации, она уже не могла выкорчевать из своего
сознания идеи, внедренные в него «фернейским патриархом». Историк
Гизо остроумно заметил, что «вольтерьянские салоны XVIII в. были
менее вольтерьянскими, чем антивольтерьянские салоны XIX в.». В пору
буржуазных революций 1830 и 1848 гг. Вольтера вспоминали, воскре-
шали его идеи. Однако в обстановке «мирного» капиталистического раз-
вития слава Вольтера шла на убыль. Франция Третьей республики со-
вершенно отвернулась от Вольтера. Лишь отдельные писатели-одиночки,
вроде Анатоля Франса, сохраняли верность вольтеровской традиции.
Именно Франсу принадлежит интересная попытка возрождения жанра
«философского романа».
Сходный характер имело влияние Вольтера в других европейских
странах, где его превозносили просветители и буржуазные революцио-
неры, поносили и дискредитировали консервативные романтики и другие
реакционные писатели. Своеобразным исключением является энергичная
борьба, которую вел с Вольтером в Германии XVIII в. идейно близкий
ему во многих отношениях Лессинг. Но Лессинг восставал, главным обра-
зом, против компромиссного отношения Вольтера к придворным кругам и
против его приверженности классицизму, который являлся в Германии по
существу придворным стилем. Традицию Лессинга продолжили в осталь-
ном воевавшие с ним немецкие «штюрмеры», которые награждали Вольтера
прозвищами «борзописца», «Терсита» и др. Зато Гете относился к Воль-
теру с большим уважением и считал его воплотителем лучших сторон
французского национального гения.
В XIX в. Вольтера почитали во всех странах, находившихся в пред-
дверии буржуазных революций. Так, его высоко ценили в Италии начала
XIX в., куда войска революционного генерала Бонапарта принесли идеи
французской революции. Его горячим поклонником был революционный
романтик Байрон, страстный борец против идей «Священного союза»,
прославивший Вольтера в своем «Чайльд-Гарольде». Наконец, и в Гер-
мании накануне революции 1848 г. Гейне с любовью воскрешал образ
Вольтера. В дальнейшем культ Вольтера за пределами его родины пре-
кратился по тем же причинам, что и в самой Франции.
Но особенно значительно было влияние Вольтера в России, где с име-
нем великого просветителя связано целое течение в общественной жизни,
названное «вольтерьянством».
Знакомство с Вольтером в России началось уже в 20-х годах XVIII в.
Первыми его переводчиками были Кантемир и Ломоносов; последний,
правда, не одобрял «полоумного остроумия» Вольтера и называл его «че-
ловеком опасным». Лучше всего знали Вольтера просвещенные аристо-
краты, причем некоторый из них (К. Г. Разумовский, М. И. Воронцов,
И. И. Шувалов) были с ним лично знакомы и посещали его в Ферне.
В 50-х годах XVIII в. Вольтера в России уже хорошо знали как про-
заика и драматурга. К этому времени возникло немало переводов его про-
изведений. Но настоящая популярность Вольтера в России началась
в царствование Екатерины II, которая находилась в оживленной пере-
писке с Вольтером и называла его своим «учителем» и «добрым другом»,
уверяя, что обязана ему своим образованием. Примеру императрицы сле-
довали ее приближенные, объявлявшие себя вольтерьянцами. Но это
вольтерьянство «просвещенных» крепостников носи-ло нередко крайне по-
ВОЛЬТЕР И ЕГО ШКОЛА
701
верхностный характер; оно сводилось к чисто показному скептицизму и
ироническому отношению к старым обычаям и предрассудкам. Все же, как
ни поверхностно было увлечение Вольтером аристократической верхушки
русского общества, оно распространялось среди широких кругов и пере-
ходило из столицы в провинцию. Ф. Ф. Вигель в своих «Записках» со-
общает: «В нечестивой Пензе услышал я насмешки над религией, хулы
на бога, эпиграммы на богородицу от таких людей, которые были совер-
шенные неучи. Впрочем, они толковали уже о Нонотте, о Фрероне и об
аббате Гене и топтали их в грязь, превознося похвалами Кандида и Бе-
лого быка». Равным образом и А. Болотов говорит в своих «Записках»
о вольтерьянцах: «Все они случились быть ученые, или полуученые, или
такие, которые в состоянии были говорить о науках.. . Все они заражены
были вольтеризмом».
Множество русских «вольтерьянцев» знало Вольтера только пона-
слышке и имело довольно превратное представление о его мыслях. Воль-
тер считался у них только проповедником полнейшего безбожия. При
всем том русский книжный рынок был наводнен переводами произведений
Вольтера (во второй половине XVIII в., по свидетельству Болотова, вы-
шло сто сорок переводов разных произведений Вольтера), а в театре ста-
вились «Заира», «Альзира», «Меропа» и ряд комедий. Больше всего пе-
реводились в России философские повести Вольтера, интересовавшие чи-
тателей своими пикантными подробностями. «Орлеанская девственница»
распространялась в рукописных переводах, которые были в ходу до на-
чала XIX в.
На общем фоне поверхностного вольтерьянства XVIII в. выделялась
небольшая группа настоящих русских последователей Вольтера, серьезно
изучавших французскую просветительскую философию. Таков был
И. Г. Рахманинов, напечатавший в 1785—1789 гг. «Полное собрание всех
доныне переведенных на российский язык сочинений Вольтера». Убежден-
ными последователями Вольтера были также поэт-философ И. П. Пнин
и первый русский республиканец, великий революционный демократ
А. Н. Радищев, сочетавший влияние Вольтера с влиянием Гольбаха,
Гельвеция и других французских материалистов. Помимо знаменитого
«Путешествия из Петербурга в Москву» (1790), в котором можно найти
множество чисто вольтеровских афоризмов, Радищев отдал Вольтеру дань
в своей незаконченной поэме «Бова», где он подражал «Орлеанской дев-
ственнице» Вольтера как в композиции поэмы, так и в переполняющих ее
антиклерикальных выпадах.
Первая волна увлечения русского общества Вольтером схлынула по-
сле начала французской революции. Изменение взглядов на Вольтера под
влиянием «ужасов» революции было необычайно резким. Пример подала
опять-таки Екатерина II. В предреволюционную эпоху она сама подпи-
салась через своего корреспондента Гримма на сто экземпляров пред-
принятого Бомарше полного собрания сочинений Вольтера, купила у пле-
мянницы Вольтера за 35 000 ливров его библиотеку, замечательную обиль-
ными собственноручными пометками Вольтера на полях многих книг (это
драгоценное собрание является ныне гордостью Публичной библиотеки
имени M. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде) и выписала в Петер-
бург для приведения в порядок этой библиотеки личного секретаря Воль-
тера Ваньера, которого она осыпала милостями. Но стоило разразиться
революционным событиям 1789 г., как Екатерина резко изменила свое
отношение к просветительской философии. Она велела убрать из своих
покоев бюсты Вольтера и назначила цензором его сочинений митропо-
702
ПРОСВЕЩЕНИИ
лита Евгения. В русской печати началась разоблачительная кампания
против Вольтера, разжалованного из гениев в «полумудрецы сего века».
«Изобличением» Вольтера, а вслед за ним и других французских про-
светителей, занялись в это время недавние вольтерьянцы. Так, Фонви-
зин еще в 1778 г. называет Вольтера и других философов «шарлатанами»,
которые «к сребролюбию присовокупляют беспримерное тщеславие».
Новая волна увлечения Вольтером в России началась при Алексан-
дре I в результате того ослабления цензуры, которым было отмечено
«дней александровых прекрасное начало» (Пушкин). Передовая дворян-
ская молодежь 10-х и 20-х годов XIX в., подобно своим отцам и дедам,
воспитывалась на сочинениях Вольтера. Не случайно имя Вольтера упо-
минается несколько раз в «Горе от ума», где графиня Хрюмина возму-
щенно именует Чацкого «окаянным вольтерьянцем». Декабристы в своих
показаниях следственной комиссии единодушно называли Вольтера в чи-
сле источников своих вольнодумных мыслей. В Вольтере теперь снова це-
нили смелого борца с религиозными предрассудками. В этой связи декаб-
ристы, как это делал уже до них Радищев, охотно обращались к запре-
щенной «Орлеанской девственнице». Так, Рылеев писал в своих извест-
ных сатирических куплетах:
Ах, где те острова,
Где растет трын-трава,
Братцы!
Где читают Pucelle
И летят под постель
Святцы!
Но особенно важным показателем огромного вольтеровского влияния
в России имеет воздействие, оказанное великим просветителем на Пуш-
кина. С детских лет Вольтер был любимым поэтом Пушкина, не скупив-
шегося на лестные эпитеты по его адресу. Вольтер для Пушкина-лицеи-
ста — «поэт в поэтах первый». Он —■
Всех больше перечитан,
Всех менее томит.
В стихотворении «Городок» (1814), из которого взяты эти строки,
Пушкин подчеркивает пленявшую его многосторонность гения Вольтера,
который и «соперник Еврипида» (трагический поэт), и «Эраты нежной
друг» (лирический поэт), и «Тасса внук» (эпический поэт), и «сын Мома
и Минервы» (сатирик и юморист). Но особенно молодой Пушкин любил
«Орлеанскую девственницу», которую он называл «книжкой славной, зо-
лотой, незабвенной». Автор этого «катехизиса остроумия» для него —
«муж единственный», к которому он взывает в начале своей незакончен-
ной поэмы вольтеровского стиля «Бова» (1815), навеянной одноименной
поэмой Радищева: «Будь теперь моею музою!».
В 1818 г. Пушкин подарил Н. И. Кривцову, уезжавшему в Лондон,
экземпляр «Девственницы», на первой странице которого он записал сти-
хотворение, содержащее восторженную оценку «Девственницы» как «свя-
той библии Харит». Влияние «Девственницы» можно проследить во
многих произведениях молодого Пушкина: и в «Руслане и Людмиле»
(1820), где это влияние скрестилось с влиянием Лафонтена, коснувшись,
главным образом, формальной стороны поэмы, ее композиции и стиля;
и в «потаенных» поэмах молодого Пушкина «Монах» (1813) и «Гаврии-
лиада» (1821), в которых он, по примеру «Девственницы» и поэм Парни,
сочетал религиозное вольнодумство с эротическим либертинажем. При
ВОЛЬТЕР И ЕГО ШКОЛА
705
втом наличие байронических элементов в «Гавриилиаде» не помешало
влиянию на нее классициста Вольтера, ибо как раз под влиянием Бай-
рона у Пушкина оживают симпатии к Вольтеру. В итоге, Пушкин в 20-х
годах еще находится под обаянием Вольтера и его «Девственницы»,
которую он называет «лучшей поэмой» Вольтера (письмо к А. А.
Бестужеву от конца мая — начала июня 1825 г.). Он начинает перево-
дить ее (1825) и цитирует в первой главе «Арапа Петра Великого»
(1827) стихи из XIII песни «Девственницы» для характеристики периода
Регентства.
В дальнейшем Пушкин пересматривает свое прежнее отношение к
Вольтеру в связи с переоценкой французского классицизма вообще.
В статье, известной под названием «О русской литературе с очерком
французской» (1834), заметив, что «ничто не могло быть противуполож-
нее поэзии, как та философия, которой XVIII век дал свое имя», он рас-
пространил это суждение также и на Вольтера, «великана сей эпохи».
По словам Пушкина, Вольтер «60 лет наполнял театр трагедиями, в ко-
торых, не заботясь ни о правдоподобии характеров, ни о законности
средств, заставил он свои лица кстати и некстати выражать правила своей
филосдфии». В эту эпоху, когда «легкость казалась верхом поэзии», Воль-
тер только один раз «становится поэтом, когда весь его разрушительный
гений со всею свободою излился в цинической поэме, где все высокие
чувства, драгоценные человечеству, были принесены в жертву демону
смеха и иронии».
Но критическое отношение к французской культуре XVIII в. и к
Вольтеру, как ее высшему представителю, не мешало самому Пушкину
высоко ценить до конца своих дней лучшие черты этой культуры — ее
критицизм, ясность и трезвость ума, религиозное и политическое свободо-
мыслие. Учеба у Вольтера имела огромное значение также для зрелого
Пушкина, уверенно вступившего на путь реалистического творчества.
Вольтер, как «лучший образец благоразумного слога», немало повлиял на
выработку пушкинской прозы. Именно у него Пушкин мог научиться
тому, что «точность и краткость — вот первые достоинства прозы. Она тре-
бует мыслей и мыслей — без них блестящие выражения ничего не стоят».
В самый разгар французского романтизма Пушкин предпочитал его изли-
шествам и формальным ухищрениям даже мелкие стихотворения «на слу-
чай» Вольтера, в каждом из которых он находил «более слога, более
жизни, более мысли, чем в полдюжине длинных французских стихотворе-
ний, писанных в нынешнем вкусе».
После Пушкина в русской литературе уже не было ярких следов влия-
ния Вольтера. Катастрофа, постигшая декабристов, в глазах российской
интеллигенции знаменовала крушение идей французской просветительской
философии. Отныне увлечение французским вольнодумством уступает
место увлечению немецкой идеалистической философией, глубоко враж-
дебной вольтеровскому наследию. Когда же в 60-е годы происходит ожив-
ление интереса к материализму в кругу русских революционно-демокра-
тических писателей, то материализм в России более тяготеет к уче-
нию Фейербаха, и только с преодолением фейербахианства и зарождением
русской марксистской мысли снова возрастает интерес к французским про-
светителям. Блестящее выражение этот интерес находит в трудах
Г. В. Плеханова, который выдвигает, однако, на первый план материали-
стов Гельвеция и Гольбаха, отстраняя Вольтера.
Ценные работы о Вольтере дали А. Шахов, В. Засулич и др.
704
ПРОСВЕЩЕНИЕ
За последние годы в нашей стране заметно оживление интереса к
Вольтеру. Сочинения Вольтера несколько раз издавались у нас в советское
время. В томах «Литературного наследства», посвященных «Русской куль-
туре и Франции», был опубликован целый ряд новых, очень ценных
вольтеровских материалов, хранящихся в наших фондах и остававшихся
неизвестными иностранным ученым. Празднование 250-летия со дня ро-
ждения Вольтера в дни Великой Отечественной войны советского народг1
против фашистских захватчиков (1944) явилось выражением широких
общественных симпатий к лучшим традициям французской литературной
и общественной мысли.
ГЛАВА V
РАЗВИТИЕ КОМЕДИИ И РОМАНА ДО ДИДР«
1
стория французской комедии первой половины XVIII в.,
если оставить в стороне драматургию Лесажа, тесно свя-
занную с заветами Мольера, является историей ее от-
хода от мольеровоких традиций и нащупывания новых
путей. Комедия начинает отступать от канона класси-
цизма, теряет многие структурные особенности и идейные
устремления, присущие комедиям Мольера, и прони-
кается новыми идеологическими тенденциями. Именно
на участке комедии, как низшего жанра классицистиче-
ского театра, менее связанного с господствующей дво-
рянской идеологией, чем трагедия, и не чуждого элементам народного
фарса, и происходит во Франции формирование нового жанра мещанской
драмы в противоположность Англии, где та же эволюция наблюдается
в трагедии.
Все более крепнущее самосознание третьего сословия требовало серьез-
ного показа жизни и психики рядовых людей и стремилось к созданию
серьезной буржуазно-дидактической комедии, считая смех малопригод-
ным средством для исправления нравов. В соответствии с этим во Фран-
ции происходит перерождение комедийного жанра. Комедия постепенно
насыщается морально-дидактическим и сентиментальным элементом; она
предпочитает выводить на сцену рядовых людей в серьезном, патетиче-
ском освещении, в котором до сих пор выводились в трагедии монархи.
В итоге комедия постепенно утрачивает свою комедийную специфику
и трансформируется в новый жанр — «слезную комедию», которая под-
готовляет появление мещанской драмы.
Но эта дидактическая и чувствительная струя оформилась во фран-
цузском комедийном творчестве .не сразу после Мольера. В пьесах бли-
жайших его преемников — Реньяра, Данкура, Дюфрени, Лесажа — ука-
занные моменты еще отсутствуют, и комедия полностью сохраняет как
классицистическую форму, так и комедийную специфику» Более того, не-
которые уже в это время волновавшие третье сословие вопросы, напри-
мер, проблема семьи, даются в ироническом освещении. Лишь с начала
второго десятилетия XVIII в. указанные мотивы впервые появляются
в комедиях Детуша; затем они постепенно усиливаются ц станов-ЯТСЯ, иа-
конец, ведущими в пьесах Лашосое.
45 Историд французской литературы—81
7QC
ПРОСВЕЩЕНИЕ
Эти морально-дидактические и сентиментальные тенденции, отра-
жающие известные черты психики представителей третьего сословия, зна-
чительно обогащаются под влиянием английской сентиментальной драма-
тургии, сложившейся под воздействием пуританского мировоззрения.
Любопытно, однако, что носителями поучительных и сентиментальных
тенденций, выражавших моральные запросы представителей третьего со-
словия, становились во Франции писатели, еще тесно связанные с дво-
рянским обществом и являвшиеся противниками крепнувшего просвети-
тельного движения. Находясь еще под влиянием сословного разделения
жанров, они не решались показать на сцене в сочувственном и патетиче-
ском освещении людей низшего звания. Поэтому французская комедия
указанного типа, являясь третьесославною по своей настроенности, продол-
жала пользоваться картинами нравов и образами, взятыми из жизни
дворянского общества.
Французская нравоучительная комедия возникла в качестве антитезы
упадочно-дворянской аморальной комедии. Аристократической распущен-
ности и презрению к семье противопоставлялась здесь строгая мораль
третьего сословия, его вера в святость и нерушимость семейных устоев.
Крупнейшим представителем этой нравоучительной комедии был Детуш.
Филипп Нерико Детуш (Philippe Néricault Destouches, 1680—1754)
родился в Туре в буржуазной семье. Родители предназначали его к ду-
ховной карьере, к которой Детуш не имел никакого влечения. После ряда
столкновений с родными на этой почве он покинул семью и уехал в про-
винцию, где вступил в труппу странствующих актеров. Этот период жизни
Детуша мало известен, и сведения об его актерской работе нельзя считать
вполне достоверными. Во всяком случае, Детуш недолго оставался акте-
ром, ибо вскоре мы видим его на дипломатическом поприще.
Детуш вначале не был профессиональным писателем и сочинял свои
комедии в качестве драматурга-любителя. В 1710 г. он поставил в Па-
риже на сцене театра Французской Комедии свою первую пьесу «Безрас-
судно любопытный» («Le Curieux impertinent»), в которой он драматизи-
ровал одноименную вставную новеллу «Дон-Кихота». Пьеса имела большой
успех, побудивший Детуша продолжить работу для театра. Еще лучше
были приняты публикой его комедии «Неблагодарный» («L'Ingrat», 1712),.
«Нерешительный» («L'Irrésolu», 1713) и «Клеветник» («Le Médisant»»
1715), понравившиеся также регенту, который обратил внимание на Де-
туша. Ему была предоставлена должность секретаря аббата Дюбуа, назна-
ченного французским послом в Англии. Детуш прожил в Лондоне с 1717
по 1723 г. и успел за это время хорошо ознакомиться с английской лите-
ратурой и театром. По возвращении во Францию он был награжден со-
лидной пенсией, давшей ему возможность оставить службу и полностью
отдаться драматургической деятельности.
В этот второй период своего творчества Детуш написал все свои луч-
шие пьесы, в том числе «Женатый философ» («Le Philosophe marié»,
1727), «Тщеславный» («Le Glorieux», 1732), «Расточитель» («Le Dissi-
pateur», 1736), «Ложная Агнеса» («La Fausse Agnès», посмертно, 1759).
Всего Детушем написано двадцать три комедии, в которых он выказал
себя серьезным и вдумчивым наблюдателем французских нравов. Тесно
связанный с кружком герцогини дю Мен, известной в то время меце-
натки, Детуш ненавидел просветителей, писал против них едкие эпи-
граммы и брал под защиту абсолютизм и церковь.
Детуш начал с разработки созданной Мольером высокой комедии
характеров, которую он значительно видоизменил сначала под влиянием
РАЗВИТИЕ КОМЕДИИ И РОМАНА ДО ДИДРО
707
«Характеров» Лабрюйера, а позднее также под влиянием английской
морально-дидактической комедии. Но хотя Детуш и интересуется изобра-
жением характеров и даже дает своим пьесам названия по основным пси-
хологическим чертам в характерах их главных героев («Тщеславный»,
«Нерешительный» и т. п.), однако он значительно уступает Мольеру в
умении изображать эти характеры в действии. Зато внешняя среда имеет
для Детуша больше значения, чем для Мольера, и в его комедиях всегда
присутствует яркий бытовой фон. Этим он обязан влиянию английских
образцов.
В своем понимании комического Детуш исходит из поэтики Буало.
Он чуждается грубоватого фарсового комизма положений, предпочитая
ему более утонченный и сдержанный словесный комизм. Это придает его
комедиям известную холодность, которая несколько искупается прекрас-
ным владением стихом, мастерским диалогом и хорошим знанием усло-
вий сцены.
Основное требование, предъявляемое Детушем к комедии, это — по-
учать, забавляя. Он всегда стремится подчеркнуть ту мораль, ради кото-
рой написана пьеса, и потому снабжает свои комедии морализирующими
концовками, а также наполняет их различными поучительными изрече-
ниями, из которых многие стали впоследствии поговорками. Таковы, на-
пример, изречения: «La critique est aisée et l'art est difficile» («критика лег-
ка, a искусство трудно»), или «Chassez le naturel, il revient au galop»
(в вольном переводе: «гони природу в дверь, она войдет в-окно»). В та-
ком пристрастии к афоризмам чувствуется влияние Лабрюйера.
В соответствии с такой морализирующей установкой центральные
образы пьес Детуша даны в двух планах: с одной стороны, это — олице-
творения тех или иных общественных пороков, с другой — противопо-
ставленные им образцы добродетели. Добродетельные персонажи, после
некоторой борьбы с отрицательными, заставляют последних отказаться от
своих пороков и вернуться на стезю добродетели. Обилие моральных
и чувствительных тенденций приводит к значительному ослаблению
в пьесах Детуша комического элемента. Однако они не теряют своей ко-
медийной специфики, так как комический элемент еще преобладает в них
над трогательным.
Обычно Детуш разрабатывает в своих пьесах семейные темы. Он
обличает дворянскую распущенность и презрение к семье. В это время
в высшем обществе супружеская любовь считалась признаком дурного
тона, проявлением мещанства. Этот аристократический предрассудок и об-
личает Детуш в большей части своих комедий, стараясь перевоспитать зри-
теля и внушить ему уважение к браку. Кроме того, он пропагандирует
искренность в человеческих отношениях и превозносит глубокие чувства.
Так, в его первой комедии «Безрассудно любопытный» герой настолько
напуган модными взглядами на брак, что, собираясь жениться, хочет про-
верить верность своей будущей жены и с этой целью просит приятеля
поухаживать за ней. Испытание оказывается роковым для героя: его друг
не на шутку влюбляется в его невесту и открывает ей правду, после чего
оскорбленная девушка выходит замуж за своего поклонника, а герой убе-
ждается, что брак должен быть построен на доверии и взаимной искрен-
ности.
Эта борьба с предрассудком против брака достигает своей высшей
точки во второй период творчества Детуша, открывающийся комедией
«Женатый философ». Герой комедии, философски настроенный Ар-ист,.
Считает, что брак — мещанство, и высмеивает его перед своими друзьями.
45*
708
ПРОСВЕЩЕНИЕ-
Однако вскоре он встречает Мелиту, влюбляется и женится на ней. Так
любовь побеждает дешевую «философию» героя и превращает его в образ-
цового семьянина. Но это исцеление от предрассудка дается ему дорого.
У Ариста нехватает мужества признаться друзьям в своей непоследова-
тельности, чтобы не подать им повода к насмешкам, и он предпочитает
скрывать от всех свою женитьбу. Этим он ставит Мелиту в двусмыслен-
ное положение. Ее присутствие в квартире якобы холостого человека на-
влекает на нее немало оскорбительных намеков. Кроме того, к Мелите
сватается приятель ее мужа, маркиз. Мелита просит мужа открыть всем
правду, но Арист не решается и советует жене дать понять маркизу, что
она любит другого. Тем временем к Аристу приезжает богатый дядюшка
Жеронт, от которого зависит его материальное благополучие. Жеронт тре-
бует, чтобы племянник женился на его падчерице, грозя в противном
случае лишить его наследства. Аристу с помощью отца удается угово-
рить дядюшку отложить свадьбу на неделю. Между тем маркиз, отвер-
гнутый Мелитой, обращает свои взоры на падчерицу Жеронта. Вскоре
брак Ариста становится известным, и разгневанный Жеронт грозит раз-
вести его с женой. Боязнь потерять любимую женщину отрезвляет, на-
конец, Ариста. Он решает отстоять перед дядей свое право на счастье,
но Мелита своей кротостью и любовью к мужу завоевывает симпатии
Жеронта, который сменяет гнев на милость. В финале пьесы исцелившийся
от модного предрассудка Арист произносит тираду, посвященную просла-
влению семьи и брака.
Другая популярная комедия Детуша «Тщеславный» относится к раз-
ряду его пьес, обличающих дворянское тщеславие и самомнение. Цен-
тральное место в ней занимает высокомерный и тщеславный граф де
Тюфьер, который кичится своими предками и титулом, но в то же время
хочет ради денег жениться на дочери богатого буржуа Лизимона. Лизи-
мон, в свою очередь, пытается соблазнить компаньонку дочери Аизету,
в которую влюблен его сын Валер. Лизета отклоняет предложение Ва-
лера, хотя и любит его, так как считает себя не подходящей ему парой.
Она делится своим горем со старым другом Аикандром, который неожи-
данно открывает ей, что она — его дочь и сестра графа, но просит ее
пока молчать об этом. В день помолвки графа Ликандр приходит к сыну
одетый в лохмотья и требует, чтобы тот признал его отцом. В душе графа
происходит борьба между сыновним чувством и тщеславием. Побеждает
первое, и гордый граф бросается в объятия отца. Тогда Ликандр публично
признает Лизету своей дочерью и сообщает, что король вернул ему преж-
ний титул и конфискованное, вследствие козней его врагов, состояние.
Таким образом, добродетельные Лизета и Ликандр заставляют графа
избавиться от своего тщеславия и так формулируют в финале пьесы ее
мораль: «Тщеславие и самомнение порождают только гнев и ненависть».
В смысле построения своих пьес, Детуш еще полностью стоял на по-
зициях классицизма; он соблюдал три единства и писал свои комедии
александрийским стихом.
Однако в его комедиях впервые появляются, на ряду с комическими,
также серьезные чувствительные сцены, вызывавшие слезы зрителей. Та-
кое внедрение патетизма в комедию противоречило традициям классицизма,
не допускавшего в комедии «вздохов и слез» (Буало).
После Детуша эти трогательные элементы в комедии все более уси-
ливаются за счет комических. Комедия постепенно трансформируется из
нравоучительной в «слезную» (comédie larmoyante). Основоположником
этого нового жанра является Нивель де Лашоссе (Nivelle de la Chaussée,
РАЗВИТИЕ КОМЕДИИ И РОМАНА ДО ДИДРО
709
1692—1754). Он происходил из богатой буржуазной семьи и получил
образование в иезуитском коллеже. Свою писательскую деятельность он
начал анонимной критикой басен Ламота и неудачными опытами в поэзии.
В дальнейшем он перешел к драматургии, где и завоевал себе большую
популярность не столько художественными достоинствами своих пьес,
сколько новизной их жанра. Первые опыты Лашоссе в области театра стран-
но дисгармонировали со всей последующей (направленностью его творче-
ства. Он дебютировал весьма фривольными «парадами» (parades)—малень-
кими фарсами, которые исполнялись с успехом в любительских спектаклях.
Первая серьезная комедия Лашоссе, «Ложная антипатия» («La
Fausse antipathie», 1733), положившая начало его популярности, была
написана, когда автору было уже за сорок лет. В этой пьесе Лашоссе
еще близок к Детушу, с той лишь разницей, что серьезный элемент
уже оттесняет в ней комический. В прологе к «Ложной антипатии» Ла-
шоссе теоретически оправдывает сочетание в комедии элементов смеш-
ного и чувствительного, которые должны взаимно дополнять друг друга.
Однако в самой пьесе преобладают сентиментальные сцены.
Содержание «Ложной антипатии» сводится к следующему. Сенфлор
и Сильвия были в ранней молодости насильно повенчаны жестокими
родителями. Когда они выходили из церкви, возлюбленный Сильвии
Эраст нанес оскорбление ее нелюбимому мужу. Произошла дуэль. Эраст
погиб, а Сенфлор, спасаясь от суда, бежал за границу. Сильвия осталась
одинокой и долгое время жила у дяди под именем Леоноры, тоскуя о своей
разбитой жизни. Однажды к ее дяде приехал некто Дамон, который пле-
нился ею и вызвал ответное чувство с ее стороны. Сильвия мучится тем,
что не может выйти за него замуж, так как она жена другого, пока, на-
конец, не узнает, что Дамон и есть ее пропавший муж. «О счастливая
судьба! Я люблю своего мужа!»—восклицает героиня в конце комедии.
После «Ложной антипатии» Лашоссе поставил с большим успехом
комедию «Модный предрассудок» («Le Préjugé à la mode», 1735), в ко-
торой он подражал «Женатому философу» Детуша, разрабатывая ту же
тему в одинаковом с ним направлении. Обе эти первые комедии Лашоссе
нельзя еще назвать «слезными», так как в них есть комические сценки
и персонажи, например, пара влюбленных маркизов в «Модном предрас-
судке». В дальнейшем смех совсем исчезает из произведений Лашоссе и
чувствительный элемент подавляет в них все остальные. Таковы «Мела-
нида» («Mélanide», 1741), «Памела» («Paméla», 1743)—инсценировка
знаменитого романа Ричардсона, «Школа матерей» («L'École des mères»,
1744) и «Гувернантка» («La Gouvernante*, 1747). Из названных пьес осо-
бенной популярностью пользовались «Меланида» и «Гувернантка».
Мелакида — несчастная страдалица. Вся ее жизнь — сплошная цепь
горестей и унижений. В молодости она любила графа Дормансе, но роди-
тели не разрешили ему на ней (жениться, и она вынуждена была вступить
с ним в тайный брак, который вскоре был расторгнут ее отцом. После
этого героиня семнадцать лет прожила в глуши, воспитывая своего сына
Дарвиана. Когда он вырос, Меланида переехала в Париж и поселилась у
своей подруги Доризеи. Дарвиан, которого она выдает за своего пле-
мянника, влюбляется в дочь Доризеи Розалию, которую мать прочит в
жены богатому пожилому маркизу Дорвиньи, влюбленному в нее. Мучи-
мый ревностью, Дарвиан оскорбляет маркиза и между ними должна со-
стояться дуэль. Но тут Меланида узнает, что маркиз и есть ее прежний
возлюбленный. Страдания ее достигают апогея. Чтобы помешать страш-
ной дуэли отца с сыном, она вынуждена раскрыть Дарвиану свою тайну,
710
ПРОСВЕЩЕНИЕ
которая вскоре делается известной и его отцу. Дорвиньи, пораженный
внезапной встречей с некогда любимой им женщиной, возвращается к
Меланиде, а сын его женится на Розалии.
В этой «комедии» уже нет ничего смешного. Вся пьеса состоит из
чувствительных ситуаций, имеющих целью растрогать зрителя и заста-
вить его поплакать над страданиями героини. Лашоссе считал, что такие
■слезы гораздо поучительнее, чем высмеивание порока.
В «Гувернантке» Лашоссе еще более сгущает патетический элемент
и даже делает попытку отойти в стилевом отношении от догм класси-
цизма; так, например, он отказывается в этой пьесе от традиционного але-
ксандрийского стиха. Присутствовавший на первом представлении пьесы
Дефонтен предложил называть такие пьесы не комедиями, а «драмами»,
но верный традициям классицизма Лашоссе не согласился с ним, и термин
«драма» не появляется во Франции вплоть до Дидро.
Содержание «Гувернантки» таково. Граф Дарфлер и его жена разо-
рились вследствие судебного процесса, ошибочно решенного в пользу
противной стороны. Честный судья, заметив уже допущенную им ошибку,
хотел помочь им из собственных средств, но не успел, так как граф вскоре
умер, а графиня, отдав свою дочь Анжелику на воспитание в монастырь,
поступила гувернанткой к одной баронессе и гордо отвергла помощь судьи.
Случайно баронесса увидела подросшую Анжелику, пленилась ее красотой
и взяла ее к себе в дом на воспитание. Таким образом мать стала гувер-
нанткой собственной дочери, которая ничего об этом не знает. Анжелика
познакомилась с сыном судьи, разорившего ее родителей, и влюбилась
в него. Молодые люди хотят пожениться, но судья, наметивший сыну бо-
гатую невесту, противится этому браку, как, впрочем, и мать-гувернантка.
Влюбленные все же тайно обручаются, что заставляет узнавшую об этом
графиню-гувернантку открыть дочери всю правду. Между ними происхо-
дит трогательная сцена, вызывавшая у зрителей слезы умиления. Анже-
лика решает порвать с возлюбленным и уйти вместе с матерью в мона-
стырь, но баронесса и судья, тоже узнавшие истину, восстают против
этого. Судья, чтобы искупить свою старую вину, упрашивает графиню
отдать его сыну руку дочери, а баронесса делает ее своей наследницей.
Эта пьеса, пожалуй, самая «слезная» и патетичная из всех комедий
Лашоссе. Однако даже и в этой пьесе, несмотря на значительный отход
Лашоссе от классицизма, он не вводит еще третьесословной тематики.
Носителями чувствительности и морализма, столь характерных для
третьего сословия, Лашоссе делает и здесь аристократов, создавая тем
самым противоречие между социальным положением героев и их психо-
логией. Его характеры оказываются потому натянутыми и нежизненными,
а драматургический конфликт лишен социальной остроты. Это объяс-
няется тем, что Лашоссе, еще тесно связанный с аристократией, пытался
привить обществу новые моральные догмы, не покушаясь на социальные
устои. Его слезная комедия лишена боевой направленности и носит ком-
промиссный, аполитичный характер, что вызывало симпатии к ней таких
консервативных критиков, как Дефонтен и Фрерон. Мещанская драма,
которую слезная комедия подготовила своим обращением к морали треть-
его сословия, не могла поэтому возникнуть из последней путем постепен-
ной эволюции. Она создалась в результате революционного скачка, как
качественно новый, построенный на ином идеологическом материале, жанр.
Параллельно отмеченному преодолению мольеровской традиции в
произведениях Детуша и Лашоссе, некоторые писатели первой половины
XVIII в. выступают продолжателями Мольера, приверженцами канона
РАЗВИТИЕ КОМЕДИИ И РОМАНА ДО ДИДРО
71L
классической комедии. Последние отзвуки мольеровской традиции мы на-
ходим в эту пору в комедиях Пирона и Грессе.
Алексис Пирон (Alexis Piron, 1689—1773) происходил из семьи
аптекаря и в молодости, повинуясь воле отца, изучал право. Однако
юристом он не стал, а занялся литературой и скоро добился известности.
Он был ярым монархистом и католиком и ненавидел просветителей за
их разрыв с тем беспечным и фривольным отношением к жизни, кото-
рое французы часто называют «галльским духом» (esprit gaulois). Самого
себя он называл «последним галлом». Творчество Пирона весьма про-
тиворечиво. С одной стороны, он писал религиозные оды и дифирамбы
Людовику XV; с другой — эротические стихотворения и пьесы для ярма-
рочного театра. Эти пьесы, написанные частично в сотрудничестве с Ле-
сажем и д'Орневалем, заключали в себе пародийные и сатирические эле-
менты. Особенно большим успехом пользовалась комическая опера Пирона
«Арлекин-Девкалион» («Arlequin-Deucalion», 1723)—остроумная пародия
на «Метаморфозы» Овидия. Пирон пробовал свои силы и в области тра-
гедии, пытаясь подставить ножку Вольтеру, в чем ему всячески содейство-
вала поссорившаяся с последним маркиза Помпадур. Однако эти попытки
были неудачны, так как трагедии Пирона «Калисфен» («Callisthène», 1730)
и «Густав Ваза» («Gustave Wasa», 1733) не удержались в репертуаре.
Наибольший успех Пирон имел как комедийный автор. Он отдал
некоторую дань жанру слезной комедии, который он обычно высмеивал.
Такова его первая пьеса «Неблагодарные сыновья, или Школа отцов»
(«Les Fils ingrats, ou l'École des pères», 1728), поставленная в театре
Французской Комедии. Туда же он отдал и следующую свою пьесу, на-
писанную в стиле мольеровской высокой комедии — «Страсть к стихо-
творству» («La Métromanie», 1738). Эта пьеса является шедевром Пи-
рона, на котором, в сущности, и зиждется вся его литературная слава.
Содержание ее таково. Дамис, молодой поэт, мечтающий о славе,
живет у богатого буржуа, поэта-дилетанта Франкале, у которого есть
дочь Люсиль, девушка холодная и безразличная ко всему на свете, кроме
стихов. Влюбленный в нее Дорант знает это и, желая привлечь ее на
свою сторону, пользуется услугами Дамиса, посылая Люсиль его стихи
как свои собственные. Люсиль в восторге и клянется выйти замуж только
за их автора. Франкале решает выдать ее за Дамиса, так как тот—поэт,
но последний отказывается, ибо он давно влюблен в прекрасную незна-
комку-нормандку, ежемесячно помещающую свои стихи в журнале «Mer-
cure». Тогда Франкале сообщает Дамису, что его прекрасная незнакомка —
он сам. Влюбленный поэт в отчаянии. Он уступает Люсиль Доранту, а
сам продолжает писать стихи и мечтать о великой славе, несмотря на
упреки со стороны дядюшки, обвиняющего его в бездельи и желающего
силой заставить его продолжать прерванное учение.
В этой комедии Пирон высмеивает повальное увлечение современной
молодежи стихотворством. Пьеса написана прекрасными стихами и в лите-
ратурном отношении является шедевром классицистического стиля. Однако
ее центральный образ лишен обычной для драматургии классицизма одно-
сторонности. Это полнокровный реалистический образ, в котором смехо-
творная слабость уживается с целым рядом положительных черт (доброта,
душевное благородство и т. д.). «Метромания» вызывала восхищение даже
энциклопедиста Гримма, предсказывавшего, что она никогда не сойдет со
сцены, благодаря своей художественности и тонкости психологического
анализа. В целом пьеса представляет собой занятную картинку нравов, со-
вершенно лишенную социально-политической остроты.
71'i
ПРОСВЕЩЕНИЯ
Сходными чертами отличается комедия Грессе «Злой человек» («Le
Méchant», 1747). В ней изображается патриархальная семья провинциаль-
ного буржуа Жеронта, который собирается выдать свою племянницу
Хлою за ее друга детства Валера. В это время к ним приезжает в гости
Клеон — светский человек, эгоист и интриган, любящий клеветать на
женщин и забавляться результатами своих сплетен. Подобно Тартюфу,
он быстро сумел завоевать доверие Жеронта и его сестры Флорины. Узнав
о готовящейся свадьбе, Клеон решает воспрепятствовать ей, так как сам
помышляет о женитьбе на Хлое, желая прибрать к рукам имущество ее
дядюшки. Для этого он опутывает семью целой сетью интриг, клеветы и
сплетен, и только вмешательство умной служанки Лизеты, разрушающей
намерения Клеона и открывающей глаза Жеронту, дает возможность
влюбленным соединиться.
В этой комедии, как и в пьесе Пирона, критика французской дей-
ствительности носит довольно поверхностный характер. Здесь столичный
аристократ, клеветник и сплетник, противопоставляется обрисованному в
положительных тонах провинциальному обществу. На образ Клеона ока-
зал влияние целый ряд предшествующих пьес. В нем можно обнаружить
немало черт мольеровакого Альсеста; в некоторых отношениях он напо-
минает Тартюфа, а также героя комедии Детуша «Клеветник». В свою
очередь, комедия Грессе имела некоторое влияние на создание образа гри-
боедовского Чацкого, сходство которого с Клеоном отметил еще Пушкин.
2
Особое место в истории французской комедии XVIII в. занимает
жанр любовно-психологической комедии, созданный Мариво. В творчестве
Маривр, так же как и у Лесажа, сливаются повествовательная проза и
драматургия, притом глубоко различные по своим идеологическим тенден-
циям. Если Мариво, как романист, дал первые образцы буржуазного
реально-психологического романа XVIII в., то в качестве комедийного
автора он отдал большую дань аристократическому мировоззрению.
Пьер Карле де Шамблен де Мариво (Pierre Carlet de Chamblain de
Marivaux, 1688—1763) был сыном начальника лиможского монетного двора.
Сначала по настоянию родителей он изучал право, но вскоре бросил за-
нятия юриспруденцией и переехал в Париж. Там он начал вести светский
образ жизни и сделался постоянным посетителем салона маркизы де Лам-
бер. Этот салон в возродившемся в начале XVIII в. «Gnope о древних и
новых авторах» защищал превосходство современных писателей, в то же
время возрождая на новой основе прециозность XVII в.
Мариво также примкнул к «модернистам». Он высказывался за пре-
восходство Фонтенеля и Ламота над Вергилием и Гомером и написал в ма-
нере Скаррона пародийные поэмы: «Гомер наизнанку» («Homère travesti»,
1716) и «Телемах наизнанку» («Télémaque travesti», 1736), в которых
высмеивал античные образы. Тогда же он выступил с рядом анонимных
романов, написанных в изысканном прециозном стиле XVII в.: «Фарса-
мон, или Новый Дон-Кихот» («Pharsamon, ou le Don Quichotte moderne»,
1712), «Удивительное действие симпатии» («Les Effets surprenants die la
sympathie», 1713—1714) и др. Но, возрождая этот стиль, Мариво слегка
иронизировал над его манерностью и искусственностью.
В 1720 г. Мариво, вследствие краха банка Джона Ло, потерял все
свое состояние и вынужден был из любителя литературы превратиться
в писателя-профессионала. Подражая моральным еженедельникам Стиля и
РАЗВИТИЕ КОМЕДИИ И РОМАНА ДО ДПДРО
715
Аддисона, он издавал поочередно журналы «Французский зритель»
(«Le Spectateur français», 1722—1723), «Неимущий философ» («L'Indigent
philosophe», 1728) и «Кабинет философа» («Le Cabinet du philosophe»,
1734). Для этих журналов Мариво, на ряду со статьями философского ха-
рактера, сочинял сатирические картинки нравов и небольшие характероло-
гические этюды. Журналы Мариво не имели большого резонанса в обще-
стве, потому что они не были насыщены свойственной Стилю и Аддисону
актуальной тематикой, вследствие расплывчатости идейных установок ре-
дактора. Последнее вызывалось двойственным положением Мариво, кото-
рый был одновременно завсегдатаем аристократических салонов и издате-
лем буржуазных журналов. Но все же эти журналы представляли извест-
ный интерес, потому что многие напечатанные в них заметки были перво-
начальными эскизами, развитыми впоследствии Мариво в его романах.
Литературная слава Мариво основана, главным образом, на его ко-
медиях и психологических романах. Единственная трагедия Мариво «Ган-
нибал» («Annibal», 1720) не имела никакого успеха. Свои комедии Мариво
начал писать с 1720 г., т. е. значительно раньше романов. Всего Мариво
написал тридцать комедий. Большую часть их он отдал театру Итальян-
ской Комедии, который был близок ему своим независимым отношением
к канонам классицизма.
Тематика комедий Мариво крайне разнообразна. Он писал комедии
героические, философские, мифологические, феерические, морально-дидак-
тические. Но все эти разновидности были периферийными для творчества
Мариво. Специфическим, оригинальным жанром, создавшим ему большую
известность, была галантная, любовнонпсихологическая комедия, которую
французский критик Аарруме (Larroumet) удачно назвал комедией о «не-
чаянностях любви» («surprises de l'amour»), исходя из двух комедий
Мариво, поочередно носивших это название (1722 и 1727). Помимо этих
пьес, к той же группе комедий относятся такие шедевры Мариво, как
«Двойная неверность» («La Double inconstance», 1723), «Игра любви и
случая» («Le Jeu de l'amour et du hasard», 1730), «Безрассудные клятвы»
(«Les Serments indiscrets», 1732), «Завещание» («Le Legs», 1736), «Лож-
ные признания» («Les Fausses confidences», 1737).
В основе каждой из названных пьес Мариво лежит тема любви, по-
нимаемой как внезапно появляющееся и захватывающее всего человека
чувство. Мариво рисует все тончайшие оттенки любви, ее развитие от мо-
мента зарождения до кульминации, ее борьбу с различными помехами. При
этом Мариво редко изображает внешние преграды, стоящие на пути к
счастью его героев. Обычно он анализирует внутренние конфликты, про-
исходящие в сердце его персонажей, борьбу между любовью и каким-ни-
будь препятствующим ей чувством — робостью, нерешительностью, боязнью
общественного мнения, самолюбием и т. п. В соответствии с этим в каж-
дой комедии Мариво рисуется какой-нибудь особый оттенок любви. То
это — первое полуосознанное чувство, в котором герой боится признаться
даже самому себе; то — любовь, известная влюбленным, но из ложного
самолюбия скрываемая ими друг от друга; то — любовь недоверчивая,
страшащаяся несчастного брака; то—■ любовь боязливая, не решающаяся
открыться; то — любовь, борющаяся с запавшими в душу героя обще-
ственными предрассудками, вроде опасения неравного брака (мезальянса).
В финале комедий Мариво каждая разновидность любви превращается
в любовь торжествующую, поборовшую все внутренние препятствия и пол-
ностью овладевшую сердцем героя.
714
ПРОСВЕЩЕННА
Таким образом, действие в комедиях Мариво сосредоточено исключи-
тельно вокруг любовно-психологических проблем, следствием чего является
крайняя незначительность у него комедийной интриги. Пьесы Мариво ха-
рактеризуются почти полным отсутствием действия, которое заменяется
анализом психологических переживаний героев. В комедиях Мариво доми-
нируют беседы, объяснения, диалоги, происходящие обычно между весьма
ограниченным числом действующих лиц, а все внешние события выносятся
за пределы действия. Сюжет развертывается путем смены тончайших,
почти незаметных оттенков чувств. В этом отношении Мариво достигает
виртуозного мастерства. Несмотря на сходство фабул разных его пьес и
совпадение в них отдельных ситуаций, Мариво умеет избежать однообра-
зия и вносит все новые моменты в свой микроскопический анализ любов-
ных переживаний героев. Сам Мариво высказывался о своих комедиях
следующим образом: «Я разыскивал в человеческом сердце все разно-
образные уголки, в которых может прятаться любовь, когда она боится
показаться на свет, и каждая из моих комедий имеет задачей извлечь ее
из такого уголка».
Подобной же целью задавался в свое время и Расин, с той лишь раз-
ницей, что он не прослеживал эволюцию этого чувства с самого его зарож-
дения, а брал любовь в момент ее кульминации и трагического столкнове-
ния с различными препятствиями и в первую очередь с государственным
долгом. Благодаря этому конфликт у Расина носит трагический характер,
тогда как у Мариво любовь сталкивается лишь с маленькими человече-
скими слабостями; конфликт у него подается в сниженном комедийном
плане, и пьеса, как правило, заканчивается свадьбой героев. Но все же
в своем тонком анализе любовной психологии Мариво идет по стопам
Расина.
Чрезмерно кропотливый любовно-психологический анализ делал коме-
дии Мариво скучными в глазах многих его современников. Философ Да-
ламбер приводит такой отзыв о них одной светской дамы: «Этот человек
сам утомляется и меня утомляет, заставляя проделать с ним сотню миль
по одному квадратику паркета». Примерно в таком же роде высказывался
о Мариво и не любивший его Вольтер: '(«Этот человек знает все тропинки
человеческого сердца, но не знает его большой дороги»и
Этот микроскопический анализ сердечных переживаний героев дается
у Мариво обычно на фоне показа аристократического быта. Наиболее
удачные образы комедий Мариво — копии с блестящих салонных дам вре-
мен Регентства и Людовика XV. Все его Сильвии, Араминты и Анже-
лики, кокетливые и нежные, остроумные и задорные, полные прециозной
грации и несколько наигранной наивности, — типичные героини рококо, как
бы сошедшие с картин Ватто и Ланкре.
В комедиях Мариво окончательно оформляется наметившийся еще в
начале его творчества своеобразный стиль, названный впоследствии, по его
имени, «мариводажем» (marivaudage). Стиль этот, в основу которого
положена прециозная речь салонов маркизы де Ламбер и маркизы де
Тансен, изобилует утонченными шутками, неологизмами и различными
усложненными метафорами. В комедиях Мариво этот стиль создает впе-
чатление словесного поединка, своеобразного состязания героев в изыскан-
ном остроумии. Так, во второй «Нечаянности любви» герой говорит своей
возлюбленной: «Mon amour pour vous durera autant que ma vie» («Моя лю-
бовь к вам продлится столько же, сколько моя жизнь»), на что маркиза
ему отвечает: «Je ne vouis le pardonne qu'à cette condition-là» («Я прощаю
вам ее только при этом условии»).
РАЗВИТИЕ КОМЕДИИ И РОМАНА ДО ДИДРО
71S
Таким салонным жаргоном говорят у Мариво почти все действующие
лица, не исключая и слуг. Часто речь слуг, подражающих господам,
гротескно пародирует утонченную речь последних, что создает второй тип
«мариводажа», отличный от сентиментально-изысканного, а именно — гро-
тескно-пародийный «мариводаж». Так, слуга Фронтен в комедии «Безрас-
судные клятвы» представляется возлюбленной своего господина, произнося
такую тираду: «J'ai l'honneur d'appartenir à M. Damis qui me charge d'avoir
celui de vous faire la révérence» («Я имею честь принадлежать господину
Дамису, который поручил мне иметь честь засвидетельствовать вам почте-
ние»).
Вообще Мариво уделяет в своих комедиях немало внимания образам
слуг, в обрисовке которых он по большей части исходит из традиций
commedia deU'arte. Однако среди слуг Мариво есть фигуры весьма ориги-
нальные, очерченные яркими, реалистическими штрихами. Таков, напри-
мер, умный слуга Тривелин в комедии «Мнимая служанка» («La Fausse
suivante», 1724). Возмущенный социальным неравенством, он стремится,
подобно слугам Лесажа, любым путем отвоевать себе место под солнцем,
и в его блестящих, полных едкой иронии тирадах слышатся будущие
речи Фигаро.
В отличие от Детуша, Лашоссе, Пирона и Грессе, Мариво решительно
отвергал традиционный александрийский стих и писал свои комедии про-
зой, которой предстояло прочно утвердиться на сцене только после ре-
формы Дидро.
Несмотря на крайнюю изысканность комедий Мариво, они обнаружи-
вают значительное влияние на него идеологии третьего сословия. Комедия
Мариво лишена презрительного, насмешливого отношения к браку, столь
свойственного французскому дворянству той эпохи. Мариво весьма серьезно
относится к вопросам любви и семьи. Его герои смотрят на брак как на
важнейший шаг своей жизни, от которого зависит их будущее. Они стре-
мятся еще до брака проверить друг друга, выяснить, подходят ли их ха-
рактеры для совместной жизни. Именно несходство характеров Мариво
считает главнейшим препятствием к браку, а не неравенство общественных
положений. Он стремится доказать, что все люди равны перед лицом
любви.
Весьма характерна в этом отношении комедия «Игра любви и случая»,
необычная для Мариво по своей сравнительно сложной интриге. Содержа-
ние ее вкратце сводится к следующему. Дорант и Сильвия предназначены
родителями друг для друга. Но Сильвия очень серьезно относится к браку
и боится не сойтись характером с будущим мужем. Она хочет до свадьбы
узнать характер Доранта и для этого переодевается в платье своей горнич-
ной Лизеты, которой она велит надеть ее платье и выдать себя за гос-
пажу. В свою очередь Дорант охвачен теми же сомнениями и меняется
платьем с лакеем Паокеном. Дорант и Сильвия встречаются, и в них
быстро зарождается взаимное влечение, которое приводит их в ужас, так
как оба они не видят другого выхода, кроме мезальянса. Между тем
Паскен и Лизета, переодетые господами и пытающиеся подражать утончен-
ному разговору последних, тоже влюбляются друг в друга и тоже пугаются
этой любви, так как, подобно их господам, каждый из них считает, что
предмет его любви — ему не пара. Наконец, безумно влюбившийся Дорант
открывает Сильвии тайну своего переодевания и признается в своем чув-
стве. Но Сильвия желает выяснить, способен ли Дорант жениться на ней,
несмотря на то, что она служанка. Она разжигает ревность Доранта и до-
водит его до такого состояния, что он, пренебрегая мнимой разницей в их
716
ПРОСВЕЩЕНИЕ
общественном положении, умоляет ее согласиться на брак. После этого все
раскрывается, и пьеса заканчивается двумя свадьбами — господ и слуг.
В этой комедии ставится весьма актуальная в то время проблема со-
циального неравенства. Однако практическое разрешение этой проблемы
весьма компромиссно и ограниченно. Мариво показывает здесь столкнове-
ние естественного чувства с укоренившимися в душе героя сословными
предрассудками и преодоление последних под воздействием любви. Но эта
победа над сословными предрассудками дана лишь в чисто психологиче-
ском, а не в социальном плане, не в смысле осуществления ее в реальной
жизни героев, так как в конце концов обнаруживается, что Сильвия по
своему общественному положению стоит не ниже Доранта. Более того:
мысль Мариво о равенстве всех пред лицом любви на практике оборачи-
вается мыслью о сословной ее предопределенности. Герои Мариво, не-
смотря на все переодевания, влюбляются непременно в лиц своего ранга.
С такими же ограничениями ставятся в пьесах Мариво и другие
социальные проблемы. Несмотря на ненависть Мариво к просветительному
движению, мы находим в его творчестве некоторые отголоски просветитель-
ских идей. Таковы, например, комедии: «Остров рабов» («L'île des escla-
ves», 1725), где Мариво, предвосхищая Руссо, выказывает себя сторонни-
ком всеобщего гражданского равенства; «Новая колония» («La Nouvelle
colonie», 1729), в которой он, подобно Монтескье, отстаивает равноправие
женщин; «Остров разума» («L'île de la raison», 1727), где он прославляет
разум, наделяя им наиболее близких к природе и чуждых цивилизации
людей. При этом наименее разумными людьми он считает философов-про-
светителей. Это сближает его творчество с антипросветительскими на-
строениями Детуша и Лашоссе.
Мариво испробовал свои силы и в области нравоучительной комедии.
Он написал серьезную, в манере Детуша, пьесу «Мать-наперсница» («La
Mère confidente», 1735), проникнутую морализирующим пафосом. Здесь
ставятся различные проблемы семейных отношений и выводится трогатель-
ный образ нежно любящей матери. В этой пьесе, как и у Детуша, мы на-
ходим некоторое количество комических сценок и персонажей. Таков,
например, простак-крестьянин Любен, нечаянно выдавший доверившуюся
ему влюбленную пару. Этот жанр мало характерен для Мариво и пред-
ставлен в его творчестве небольшим числом произведений.
Своей любовно-психологической комедией Мариво оказал заметное
влияние на некоторых французских романтиков — на Жюля Жанена, на
Виньи и особенно на Мюссе, определенно подражавшего Мариво в своих
«комедиях-пословицах».
Весьма значительное место в литературном наследии Мариво занимают
его психологические романы. Хотя в этой области он и не был особенно
плодовит, зато он был здесь гораздо радикальнее, чем в своих комедиях.
Мариво написал два больших романа, оставшихся незаконченными, —
«Жизнь Марианны» («La Vie de Marianne»,. 1731—1741) и «Крестьянин,
вышедший в люди» («Le Paysan parvenu», 1735—1736). В этих романах
очень мало галантности и жеманного «мариводажа». Хотя они и уступают
романам Лесажа по широте охвата действительности, зато превосходят их
своей психологической углубленностью. В этом отношении романы Мариво
знаменуют следующий, высший по сравнению с Лесаикем, этап развития
буржуазного реализма в романе.
Мариво выступает зачинателем новой линии во французской художе-
ственной прозе XVIII в. — линии реально-психологического романа. Его
предшественницей в области психологического романа была мадам де Ла-
РАЗВПТПЕ КОМЕДПП И РОМАПА ДО ДПДРО
717
файет. Но она изображала душевные переживания людей высшего обще-
ства, Мариво же демократизирует любовный роман. Его главным новше-
ством является то, что он дает весьма глубокий и тонкий анализ чувств и
переживаний героев, взятых из низших слоев общества. Но, снижая со-
циальный уровень своих персонажей, он в то же время не ослабляет зна-
чительности их переживаний, никогда не подавая чувства своих демокра-
тических героев в гротескно-комическом освещении. Мариво стремится под-
черкнуть, что тонкие и глубокие чувства вовсе не являются исключитель-
ной привилегией высших классов и что в народе можно найти большую,
чем у аристократии, свежесть и непосредственность чувств. Он изобра-
жает переживания своих «низменных» героев в весьма чувствительных
тонах, что делает его одним из предшественников французского сентимен-
тализма.
Что касается социального фона романов Мариво, то и здесь он высту-
пает новатором. Не обращаясь к испанской или восточной экзотике, Ма-
риво рисует реальный Париж, притом не привилегированные его квар-
талы, а Париж глухих окраин и задних дворов с их демократическими
обитателями. Такой Париж до Мариво вовсе не изображался в любовных
романах. Между тем, Мариво относится к нему с огромным вниманием,
делая его обитателей центральными персонажами своих произведений.
Кроме того, Мариво выступает новатором в самой конструкции романа.
Хотя на него оказала некоторое влияние схема авантюрного плутовского
романа, — поскольку в основе обоих его романов лежат приключения вы-
ходцев из социальных низов, стремящихся выдвинуться в обществе, — все
же количество таких приключений у него сильно сокращается. Композиция
романов Мариво уже не имеет характера простого нанизывания авантюр-
ных эпизодов. Мы не встречаем у него бесчисленных новелл, которые ме-
ханически пристегнуты к повествованию и могли бы быть удалены без
всякого ущерба для содержания. Все авантюрные эпизоды его романов
имеют целью осветить с различных сторон внутренний мир его героев,
которых автор показывает во взаимодействии с социальной средой. Мариво
стремится к максимально точному воспроизведению окружающей действи-
тельности, что придает его бытописанию натуралистический оттенок. Быто-
вые сценки выполняют в романах Мариво лишь подсобную роль, и все же
сквозь них выступают те стороны жизни демократических масс, которые
обычно обходились французской литературой. Поскольку основной задачей
Мариво является детальный анализ внутренней жизни героев, он обычно
избирает для своих романов автобиографическую форму. Его герои уси-
ленно анализируют свои переживания. Мариво уделяет большое внимание
вопросам любви. С неменьшей, чем в комедиях, тщательностью он описы-
вает все ее проявления, чем тоже вносит нечто принципиально новое, так
как до него любовь фигурировала лишь в галантных романах, а в реали-
стических (например, у Лесажа) она занимала третьестепенное место.
Первый из двух романов Мариво, «Жизнь Марианны», является его
шедевром. Он выходил в свет на протяжении десяти лет отдельными томи-
ками и оборвался перед самой развязкой. Роман имеет форму автобиогра-
фии героини. Марианна сообщает, что она найденыш. Ее родители были
ограблены и убиты в лесу напавшими на их карету разбойниками, причем,
судя по их роскошной одежде и сопровождавшей прислуге, они принадле-
жали к высшему обществу. Уцелела одна двухлетняя Марианна, которая
никак не могла выкарабкаться из-под упавшего на нее трупа матери и
отчаянно кричала. Проезжавшие мимо офицеры пожалели девочку и отдали
71Q
ПРОСВЕЩЕНИЕ
на воспитание сестре бедного деревенского кюре. Когда Марианне испол-
нилось пятнадцать лет, она неожиданно потеряла своих благодетелей и
очутилась одна в Париже, без всяких средств к существованию. В судьбе
красивой девушки «принял участие» лицемерный святоша Клималь. Он
устроил ее продавщицей в бельевой магазин мадам Дютур, рассчитывая
впоследствии сделать ее своей любовницей. Вскоре Марианна познакоми-
лась с его племянником Вальвилем, который в нее влюбился и вызвал с ее
стороны ответное чувство, тщательно ею скрываемое. Преследования Кли-
маля заставили Марианну уйти от мадам Дютур. Некоторое время она
не имела никакого пристанища, но затем одна богатая дама-патронесса
устроила ее пансионеркой в монастырь, где ее разыскал Вальвиль. Выйдя
из монастыря, Марианна попала в высший свет, где ей открылась перспек-
тива богатого и блестящего брака. На этом роман обрывается.
В романе сильна нравоучительная тенденция. В образе стойкой и чест-
ной Марианны, сумевшей, несмотря на нужду и всякие искушения, сохра-
нить свою добродетель, которая в конце концов и привела ее к победе на
жизненном поприще, автор дает образец поведения для всякого чувстви-
тельного и нравственного человека. Приключения, которые Марианне
пришлось испытать, не имеют самостоятельного значения и служат лишь
средством раскрытия характера этой девушки, умной, полной чувства соб-
ственного достоинства, веселой и кокетливой, хотя и не лишенной некото-
рых человеческих слабостей — эгоизма, тщеславия, хитрости и т. д. Ста-
раясь раскрыть все оттенки чувств и переживаний своей героини, автор
для этого заставляет ее постоянно заниматься самоанализом. Его Мари-
анна — большой психолог, понимающий как себя, так и окружающих ее
людей.
Блестящими страницами романа являются описания отношений Мари-
анны с Клималем. Клималь — развратный, пошлый старик, прикрывающий
свои темные делишки маской ханжи. Это — своеобразный Тартюф, правда,
несколько смягченный. Мариво подробно описывает все его попытки
обесчестить Марианну, в то же время сохранив репутацию богобоязненного
и добродетельного человека. Марианна, в свою очередь, прекрасно его по-
нимает, но старается прикинуться ни о чем не догадывающейся простуш-
кой, так как боится иначе лишиться поддержки Клималя. Очень интересна
в этом отношении оценка в карете, когда Клималь все время говорит Ма-
рианне о своей страсти, а она упорно не хочет понять его слова и наивно
истолковывает их, как выражение христианской любви к бедной сиротке.
Когда же Клималь от слов переходит к действиям и, шепча на ухо Ма-
рианне, слегка целует ее ухо, она делает вид, что они случайно стукнулись
головами и встревоженно спрашивает своего «благодетеля», не очень ли
сильно она его ушибла. Однако все подобные уловки Марианны оказались
вскоре бессильными, и Клималь просто потребовал, чтобы она поступила
к нему на содержание. Тогда Марианна сразу превращается во взрослую,
полную чувства собственного достоинства женщину и с презрением отвер-
гает его, возвращая, не без сожаления, все наряды, полученные ею от
Клималя в качестве опекаемой им сироты.
Показывая характер своей героини во всех его противоречиях, Мариво
наполняет роман реалистическими сценками, правда, лишенными сатириче-
ского элемента и имеющими натуралистический оттенок. Очень забавна,
например, ссора мадам Дютур с извозчиком, которому она хочет недопла-
тить несколько су, готовая спорить из-за них целый день. Любопытен
также первый разговор героини с настоятельницей монастыря. Последняя
приняла Марианну с распростертыми объятиями, так как решила, что это
РАЗВИТИЕ КОМКДИИ И РОМАНА ДО ДИДРО
719
дочь богатых родителей, которая хочет избавиться от насильственного
брака, запершись в ее монастыре. Когда же она узнала, что перед ней
бедная и бездомная девушка, от «святой матери» сразу повеяло холодом,
и места для Марианны у нее не оказалось.
Второй роман Мариво, «Крестьянин, вышедший в люди», был начат
в 1735 г., уже после выхода в свет первых выпусков «Марианны». Это —
история быстрой карьеры жизнерадостного и ловкого крестьянина Жакоба.
Герой — энергичный, терпеливый, умный и грубовато-честный юноша. Он
не хочет довольствоваться должностью лакея и жаждет выйти в люди,
заняв в обществе видное положение, которое дало бы ему право на почет
и уважение. Для этого он использует все средства вплоть до альковных
путей и в конце концов, с помощью женщин, становится крупным чинов-
ником финансового ведомства. Автор всесторонне очерчивает характер сво-
его героя, все его чувства и переживания, и показывает его во взаимоотно-
шениях с окружающей средой, что дает ему возможность ввести в роман
немало бытовых сцен. При этом Мариво нисколько не осуждает Жакоба
за его «вынужденный» аморализм, хотя и наполняет свой роман всякого
рода нравоучительными тенденциями. Значительное развитие получает и
здесь тема любви. Роман не лишен также комических элементов; напри-
мер, очень забавен эпизод пылкой любви богомольной старой девы к кра-
сивому юноше, годящемуся ей в сыновья.
Романы Мариво не пользовались успехом во Франции, где ему ста-
вили в вину «низменность» их сюжетов, а также упрекали его в безнрав-
ственности из-за наличия в его романах оттенка фривольности. Упреки в
аморализме были малоосновательны, так как романы Мариво довольно
безобидны по сравнению с потоком гривуаеной литературы, наводнявшим
в то время Францию. Эти неудачи были с избытком вознаграждены тем
успехом, который романы Мариво имели в Англии. Его «Марианна» сразу
же после выхода в свет была переведена на английский язык и, быть
может, вдохновила Ричардсона на его «Памелу», хотя в основу последней
и был положен бытовой факт из английской жизни.
Третьим крупнейшим французским писателем-романистом первой по-
ловины XVIII в. был аббат Прево. Антуан-Франсуа Прево д'Экзиль
(Antoine-François Prévost d'Exilés, 1697—1763) был сыном королевского
нотариуса. Родители предназначали его для духовной карьеры и отдали
в иезуитский коллеж. По окончании коллежа Прево стал послушником, но
вскоре убежал домой. Между ним и отцом произошло несколько бурных
столкновений, в результате которых Прево снова вернулся в лоно церкви;
но иезуиты отказали ему в обратном приеме. Тогда Прево отправился с
жалобой в Рим. По дороге он заболел и очутился в больнице совершенно
без денег. Какой-то проезжий офицер сжалился над юношей, помог ему
вылечиться, но затем почти силой заставил его «служить королю».
Вскоре после поступления в солдаты Прево был отправлен в дей-
ствующую армию, откуда, однако, быстро дезертировал. По окончании
войны, когда правителем Франции стал Филипп Орлеанский, Прево полу-
чил амнистию и опять постучался в двери монастыря. На этот раз иезуиты
приняли его радушно. Но Прево недолго оставался у них; он снова убе-,
жал из монастыря и на этот раз по своей воле вернулся в полк. После
ряда приключений и неприятностей, связанных с военной жизнью, Прево
покинул полк и отправился в Голландию, где встретил одну девушку, ко-
720
ПРОСВЕЩЕНИЕ
торую горячо полюбил, хотя она его и обманывала. Прево сделал все воз-
можное для ее спасения; когда же все его попытки оказались тщетными,
он вернулся во Францию, где с горя принял тюстриг, но уже в бенедиктин-
ском монастыре Сен-Мор, чем крайне раздосадовал иезуитов.
Некоторое время спустя Прево был направлен в Амьен, где получил
сан священника. Затем мы находим его читающим курс теологии в Беке,
затем преподавателем древних языков в коллеже Сен-Жермен, проповедни-
ком в ряде монастырей Франции, и наконец, участником научных изда-
ний бенедиктинцев. Занимаясь составлением на латинском языке труда
по истории церкви, Прево попутно сочинял романы. Так начали склады-
ваться знаменитые «Записки знатного человека, удалившегося от света»
(«Mémoires d'un homme de qualité qui s'est retiré du monde», 1728—1731) —
объемистое шеститомное произведение. Работа Прево над светским рома-
ном, в котором проскальзывали иногда фривольные нотки, недоброжела-
тельство и интриги монахов, с которыми он никогда не мог, да и не
хотел близко сойтись, привели в конце концов к тому, что Прево при-
шлось снова эмигрировать в Голландию, так как иначе ему грозил арест.
Отдохнув от ненавистной монастырской жизни, Прево окончательно от-
делал там первые два тома «Записок знатного человека» и издал их в
Париже. Некоторое время спустя он переехал в Англию, где познако-
мился, между прочим, с Ричардсоном. Успех первых двух томов романа
окрылил Прево, и в Лондоне он издал следующие два тома, а также вто-
рой роман — «История Кливленда, незаконного сына Кромвеля, или
Английский философ» («Histoire de M. Cleveland, fils naturel de Cromwell,
ou le Philosophe anglais», 1732—1739). К этому же времени относится
возникновение знаменитой повести «Манон Леско», обессмертившей имя
ее автора.
В Лондоне Прево основал еженедельный журнал «За и против» («Le
Роит et le Contre»), издававшийся им с 1733 по 1740 г. и сыгравший зна-
чительную роль в истории французской культуры. Подобно Монтескье
и Вольтеру, Прево был горячим поклонником Англии, одним из зачинате-
лей столь характерной для Франции XVIII в. англомании, обусловленной
преклонением передовых французских писателей третьего сословия перед про-
свещенной буржуазной страной. Журнал Прево имел целью познакомить
французских читателей с английской жизнью и культурой. На страницах
«За и против» рассказывалось о быте англичан, об их достижениях в
области науки и критики и, в особенности, об английской литературе.
Именно Прево впервые познакомил французов с такими писателями, как
Мильтон, Поп, Свифт, Фильдинг. Большое внимание было уделено в его
журнале также пропаганде Шекспира, о котором Прево написал несколько
интересных статей. Журнал имел огромный успех во Франции.
В 1734 г. Прево, соскучившись по родине, возбудил ходатайство о
разрешении вернуться во Францию. Разрешение было получено, так как
Прево поддержал принц Конти, который пригласил его к себе в качестве
домашнего священника. Так как эта должность оставляла ему много сво-
бодного времени, Прево выпустил в это время ряд романов, в том числе
«Киллеринского настоятеля» («Le Doyen de Killerine», 1736) и «Историю
современной гречанки» («Histoire d'une Grecque moderne», 1740). В 1741 г.
сн снова был выслан из Франции, так как случайно оказался замешанным
в историю одного журналиста, обвинявшегося в оскорблении высокопо-
ставленных лиц. Прево прожил в изгнании полтора года и, наконец, по
ходатайству Конти, вторично получил разрешение вернуться на родину.
РАЗВИТИЕ КОМЕДИИ И РОМАНА ДО ДИДРО
721
Бесконечные приключения его бурной, полной треволнений жизни
подошли теперь к концу. Либерально настроенный папа Бенедикт XIV
назначил Прево в 1754 г. настоятелем монастыря св. Георгия в городе
Женне, где он спокойно провел свои последние годы, заполненные литера-
турной и переводческой работой. Помимо сочинения романов, Прево уча-
ствовал в это время в составлении «Всеобщей истории путешествий»
(«Histoire générale des voyages»), работал в архивах Шантильи над исто-
рией семейства Конти и продолжал начатые им еще раньше переводы ро-
манов Ричардсона (перевод «Памелы» вышел в 1742, «Клариссы» — в
1751, а «Грандисона»—в 1755 г.). Впоследствии Дидро подверг эти
переводы критике за допущенные аббатом Прево вольности, которые выра-
жались не только в сокращении свойственных Ричардсону длиннот, но и
в свободном пересказе отдельных мест его романов.
Хотя Прево увлекался Ричардсоном и переводил его, однако в соб-
ственной литературной практике он не шел по его стопам. Романы Прево
(за исключением «Манон Леско») являются первой попыткой создания
жанра «черного романа», развившегося в Англии и Франции в конце
XVIII в. Многотомные, чрезвычайно громоздкие романы Прево перепол-
нены убийствами, преступлениями, изменами и самыми неправдоподобными
приключениями. Их действие развертывается на фоне таинственных пещер,
мрачных подземелий, заброшенных замков с западнями и потайными хо-
дами. В каждом из них имеется отрицательный герой, злодей и изверг,
являющийся источникам большинства творящихся в романе преступлений.
Особенной мрачностью и неправдоподобием отличается «История Клив-
ленда». Однако, при всей своей фантастичности, эти романы были встре-
чены читателями с большим интересом, так как захватили их своей глубо-
кой эмоциональностью.
Прево впервые внес в роман понимание любви как рокового и непре-
одолимого чувства. Именно это в романах Прево более всего восхищало
современников, в том числе и Вольтера. Введение сильных страстей, до сих
пор изображавшихся только в трагедии, содействовало ликвидации в ро-
мане условной манерности. Поэтому оно имело существенное значение как
один из путей утверждения буржуазного реализма.
Наиболее замечательным произведением Прево является знаменитая
повесть «Приключения шевалье де Грие и Манон Леско» («Aventures du
chevalier des Grieux et de Manon Lescaut»), вышедшая в Амстердаме в
1731 г. в качестве седьмого тома «Записок знатного человека», хотя в
сюжетном отношении она совершенно не связана с этим романом. Необы-
чайный успех этой повести был причиной того, что ее в скором времени
начали переиздавать отдельно. Она принесла автору столь громкую славу,
что с этих пор его стали называть не иначе, как автором «Манон Леско».
Во Францию эта книга была привезена тайно и также вызвала всеобщее
восхищение, хотя многие ее почитатели скрывали свое увлечение. Впервые
во Франции «Манон Леско» была издана в Руане в 1733 г., но сразу
была конфискована за безнравственность и приговорена к сожжению.
Только в 1753 г. запрещение было снято.
«Манон Леско» занимает особое место в литературном наследии
Прево. Она выделяется среди остальных его романов как совершенством
своего стиля, так и глубиной содержания.
Эта повесть отличается всеми лучшими достоинствами классической
прозы — необычайной четкостью композиции и ясностью стиля, простотой,
правдивостью и динамичностью повествования. По своему содержанию
«Манон Леско» — история страстной, всепоглощающей любви молодого
46 История француаской литературы—815
722
ПРОСВЕЩЕНИЕ
дворянина де Грие к прекрасной, но морально неустойчивой девушке,
ради которой он жертвует семьей, богатством, положением, репутацией.
Автор рисует непреодолимую, стихийную страсть, которая, овладев чело-
веком, не покидает его до кбнцаТ'Этб — та же страсть, которую можно
встретить и в больших романах Прево, но лишенная элементов магического
и таинственного, раскрытая в очень конкретной жизненной обстановке,
а потому принявшая характер глубокой «естественной» любви.
Эта «естественная» любовь, находящая отклик в сердце Манон, пока-
зана на фоне французской жизни времен Регентства, с характерными для
дворянского общества этих лет полным равнодушием к вопросам морали и
всеобщей распущенностью. Без всякой навязчивости, с большой осторож-
ностью автор показьгоает ту социальную среду, которая окружает его
героев. Она блестяще и реалистически зарисована им в веренице поклонни-
ков Манон. Это—влиятельные и богатые «столпы общества», обозначен-
ные в романе инициалами, все одинаково распутные и пошлые, как бы оли-
цетворяющие собой стиль французской жизни той эпохи. Их дополняют
Тиберж и отец де Грие—благочестивые и черствые блюстители добро-
детели и защитники дворянских традиций. Любовь шевалье де Грие и
Манон не может 'быть санкционирована этим обществам, так как она
вступает в противоречие с сословными предрассудками, запрещающими
аристократу жениться на девушке из «низов». В этом — основной источ-
ник их несчастий. То глубокое и чистое чувство, которое питают друг
к другу эти «неопытные дети» (как их называет Прево), кажется окру-
жающим дьявольским наваждением, «безнравственной страстью», за кото-
рую де Грие выбрасывается из общества и может быть принят обратно
лишь при условии полного отказа от своей любви. Отец де Грие и Тиберж
беспрестанно, но тщетно взывают к разуму, твердят о добродетели и
чести, уговаривают де Грие во имя этого порвать с Манон, но Прево под-
черкивает неразумный, бесчестный и бесчеловечный характер этих требо-
ваний, а также — узость и ограниченность кастовой морали. Носителями
подлинной моральной правоты выступают в его романе как раз мнимые
преступники, а добродетельные Тиберж и отец де Грие оказываются, в
конечном счете, подлинными преступниками, разбившими жизнь де Грие
и попгбившими прелестную Манон.
Повесть «Манон Леско» превращается, таким образом, в апофеоз
всесильного, «естественного» чувства, разрушающего сословные преграды,
сметающего все препятствия и торжествующего, несмотря ни на что. Эта
книга прозвучала как призыв к уничтожению феодальных привилегий,
рождающих аристократические предрассудки, противные природе и разуму.
Именно за это славословие могучей силе чувства, за обличение дворян-
ских привилегий и предрассудков, и ополчились против «Манон Леско»
все реакционные силы старорежимной Франции.
Однако, несмотря на критику сословного строя, заключенную в
повести Прево, несмотря на значительную ее агрессивность по отношению
к старому порядку, она мало ценилась просветителями, находившими ее
только интересной, но не глубокой. Объясняется это тем, что просветители
не удовлетворялись одними критическими элементами в произведении, но
требовали от автора также показа некоторых положительных образов, выра-
жающих справедливые и разумные, с их точки зрения, идеи и отношения.
Всего этого не было в повести Прево, чуждой всякой морализации и ди-
дактических тенденций. То «нравоучительное» предисловие, которым снаб-
жена эта книга, было написано уже после сочинения самой повести и не
только не вяжется со всей ее сущностью, но и в корне ей противоречит.
РАЗВИТИЕ КОМЕДИИ И РОМАНА ДО ДИДРО
723
По меткому выражению Анатоля Франса, это предисловие — «нечто вроде
косынки, накинутой на плечи Манон». Возникло оно, по всей вероятности,
для того, чтобы скрыть от враждебного взора цензоров пленительную на-
готу воспеваемого! в повести чувства.
Но не только это отсутствие нравоучительного элемента делало книгу
Прево не вполне приемлемой для просветителей. Их должна была мало
удовлетворять и сама трактовка образа Манон. Просветители, стоявшие на
рационалистических позициях и относившие вследствие этого все явления
внешнего мира к точно определенным категориям доброго и злого, не
могли понять и почувствовать образ, в котором диалектически соединяются
добро и зло. Маноо* — первый в мировой литературе образ «погибшего,,
но милого созданья», который под пером Прево приобретает крайне слож-
ный характер. Манон — куртизанка, которая вызывает прекрасную, чистую
страсть к себе и которая сама охвачена таким же чистым чувством. Ма-
нон— падшая женщина, но она полна обаяния, благодаря своей внутрен-
ней чистоте, своеобразному благородству, очарованию нежной юности. /
Поведение Манон может сбить с толку читателя так же, как оно ставит
втугагк самого де Грие, ибо зачастую оно противоречит всей сущности ее
образа. Любя страстно и беззаветно, Манон изменяет возлюбленному, не-
однократно обманывает его, хитрит и лукавит, причем избирает своими
объектами богатых и распутных аристократов. Прево показывает в эти
моменты Манон во всей низменности ее поведения, которое всегда дик-
туется обстоятельствами : всякий раз, как де Грие оказывается в затруд-
нительном положении, Манон находит человека, готового купить ее кра-
соту. И де Грие, глубоко страдая от этого, как достойный сын рациона-
листического века, тщетно ломает в такие моменты голову над вопросом,
кто же в сущности его очаровательная Манон — обычная жрица любви
или что-то другое? Его рассудок, поддерживаемый внушениями Тибержа
и отца, заставляет признать ее «демоном в ангельском образе», но чув-
ство отрицает это и, вновь увидев Манон, он уже упрекает себя в том,
как он мог хотя бы на мгновение «счесть позором нежность к этому ча-
рующему созданию». Таким образом, не только внешние условия разру-
шили счастье де Грие и Манон. Эта основная причина дополняется вну-
тренними причинами, заключающимися в неясном и противоречивом ха-
рактере Манон — одновременно ангела и демона, что заставляет несчастного
де Грие считать ее психологию из ряда вон выдающимся, непостижимым
исключением.
Манон — продукт общества, в котором, в результате развития бур-
жуазии, с одной стороны — утверждается идея свободного индивидуального
чувства, а с другой стороны—'Все, и даже любовь женщины, покупается
за деньги. Такое положение создавало своеобразную психологию: раздвое-
ние любви на физическую — чувственную и, вследствие этого, низменную,
и духовную—высшую, «неземную», чуждую плотских стремлений привя-
занность к единому избраннику сердца. Носительницей такой психологии
и является Манон Леско. Она считает настоящей любовью возвышенную
«верность сердца», которое она навеки отдает де Грие, и в душе на всем
протяжении рассказа ни разу ему не изменяет. Что же касается верности
тела, то она вовсе не является для Манон необходимым следствием ее сер-
дечного чувства, как это мы видим у де Грие. Низменные, чувственные
наслаждения кажутся ей столь далекими от подлинной любви, что продать
свое тело богатым покупателям вовсе не является, по ее мнению, изменой
любимому человеку и не загрязняет всей чистоты ее любви. И Манон
делает свою красоту оредством заработка всякий раз, когда де Грие ока-
ПРОСВЕЩЕНИЕ
724
зывается без денег. В ней даже вызывает досаду то, что де Грие так чув-
ствителен к ее изменам и не дает ей возможности устроить таким спосо-
бом их общее материальное благополучие, вследствие чего она вынуждена
прибегать к обманам, лукавству и вероломству, тогда как она предпочитала
бы делать все это с его ведома и согласия. «Клянусь тебе, что лишь тебя
на всем свете могу я любить так, как люблю тебя,—пишет Манон де
Грие перед тем, как тайно уйти к г-ну де Г. М. — Но не очевидно ли
тебе, чтов нашем теперешнем положении верность — глупая добродетель?
Думаешь ли ты, что можно быть нежным, когда нехватает хлеба? Я тебя
обожаю, положись на меня, но предоставь мне на некоторое время устрое-
ние нашего благополучия. Горе тому, кто попадет в мои сети. Я стараюсь
сделать моего шевалье 'богатым и счастливым».
Манон, с детства знакомая с бедностью, не допускает даже мысли
о нищете и бедствиях, и любовь в шалаше нисколько ее не устраивает.
Более того, она хочет получить от жизни максимум возможного, стремится
к нарядам, театру, удовольствиям, и Прево вполне ей в этом сочувствует.
Повесть «Манон Леско» отличается, таким образом, большой смелостью,
так как автор порывает здесь с аскетическими церковными доктринами и
мещанской умеренностью, признавая права личности на всю полноту жиз-
ненных наслаждений. «Склонность Манон к удовольствиям» вполне законна
и естественна с точки зрения Прево. Автор оправдывает Манон в ее иска-
нии как больших, так и малых радостей, и снимает с нее ответственность
за те циничные поступки, путем которых она их добивается. Он переносит
ответственность на общество, виня его в падении Манон, так как этот
цинизм не коренится в ее личности, а является выражением пошлости и
цинизма всего окружающего общества, делающего из женского тела уза-
коненный товар и заставляющего Манон, для удовлетворения ее законных,
естественных влечений, продавать свою молодость и красоту.
«Манон Леско» оказала большое влияние на литературу XIX в.,
укрепив в ней образ благородной и любящей куртизанки. Здесь можно
указать на такие произведения, как «Марион де Лорм» Гюго, «Леоне
Леон и» Жорж Санд, «Дама с камелиями» Дюма и мн. др. Некоторое влия-
ние «Манон» чувствуется и в «Кармен» Мериме, хотя героиня этой по-
вести, конечно, не является прямым потомком Манон.
А
В середине XVIII в., когда сложился жанр слезной комедии и сфор-
мировался реалистический роман, на литературной арене Франции по-
явился ряд второстепенных писателей, которые находились вне всех основ-
ных потоков движения литературы, были тесно связаны с деградирующей
аристократией и являлись основоположниками нового жанра — галантного,
эротического романа рококо.
Среди целой плеяды мастеров фривольного романа (Дюкло и др.)
особенной популярностью пользовался сын известного драматурга Кре-
бильона, Клод Проспер Жолио де Кребильон-младший (Claude-Prosper
Joliot de Crébillon, 1707—1777). Он родился в Париже и получил образо-
вание в иезуитском коллеже. Иезуиты всячески склоняли его вступить в
их орден, но Кребильон категорически отказывался от этого. Тесно свя-
занный с аристократическим обществом, он вел рассеянный образ жизни
в [кругу парижской золотой молодежи и предавался развлечениям и куте-
жам. Кребильон прекрасно знал вкусы людей, среди которых он вращался.
Он писал остроумные, изящные и занимательные, полные эротических наме-
РАЗВИТИЕ КОМЕДИИ И РОМАНА ДО ДИДРО
72*5
ков романы, новеллы и сказки, которые соответствовали гривуазным
настроениям высшего общества. Потому он сделался любимейшим писате-
лем придворной аристократии той эпохи.
Романы Кребильона усеяны намеками на влиятельных лиц и события
придворной жизни и вообще довольно полно отражают аморализм свет-
ского общества. Некоторые из этих намеков были настолько резки, что
вызвали двукратное заключение автора в Бастилию и даже временное
изгнание его за пределы Франции. Однако эти «разоблачения» вовсе не
были проявлением политической оппозиционности Кребильона. Они явля-
лись лишь пикантной приправой, соответствовавшей вкусам класса, по-
требности которого автор обслуживал. Но Кребильон никогда не опу-
скался до откровенной порнографии, всегда умея придать эротическим
ситуациям своих романов внешне благопристойный вид. Гривуазная сущ-
ность произведения зачастую маскируется у него даже легкой морализа-
цией. Так, например, одну из самых скабрезных своих повестей — «Софа»
(«Le Sopha», 1742) он даже назвал «нравоучительной сказкой» («conte
moral»).
Необходимо отметить, что Кребильон больше всех других француз-
ских писателей того времени отдал дань увлечению восточной экзотикой,
которая служит у него лишь средством для беспрепятственного показа
эротических сцен из жизни высшего общества. Это увлечение ориентализ-
мом нашло свое выражение даже в самих названиях произведений Кре-
бильона, чаще всего сугубо-экзотических, например, «Танзаи и Неадарне»
(«Tanzaï et Néadarné», 1733), «Атальзаида» («Atalzaïde», 1736) и др.
Из литературного наследства Кребильона наиболее интересна упомя-
нутая повесть «Софа», представляющая собой мемуары дивана, принадле-
жащего султану и вспоминающего обо всех интимных сценах, свидетелем
которых ему довелось быть. Эта повесть оказала некоторое влияние на
«Нескромные сокровища» Дидро. Известный интерес представляют также
«Любовные похождения Зеокинизюля, короля кофиранов» («Les Amours
de Zéokinizul, roi des Cofirans», 1740), под видом которых изображаются
гривуазные приключения Людовика XV. За этот роман автор был выслан
из Франции, но вскоре получил разрешеиие вернуться, потому что он
успел стать любимцем светского общества, которое требовало все новых и
новых его романов.
Помимо романов, написанных на восточные темы, у Кребильона есть
романы, темы которых взяты непосредственно из французской жизни.
Таков его шедевр «Заблуждения сердца и ума» («Les Égarements du
coeur et de l'esprit», 1736). В этом произведении Кребильон находится под
влиянием Мариво и стремится, подобно ему, дать тонкий анализ любовных
переживаний героев, с той лишь разницей, что Мариво берет героев из
низших классов общества, а Кребильон анализирует чувства людей выс-
шего круга. Однако Кребильон никогда не достигает свойственной Мариво
психологической тонкости. Влияние Мариво сказывается и в стиле романа,
являющемся разновидностью «мариводажа», а также в том, что гривуаз-
ный элемент сведен здесь до минимума.
ГЛАВА VI
ДИДРО И ЭНЦИКЛОПЕДИСТЫ
1
Ш жизни и творчестве Дени Дидро (Denis Diderot, 1713—
1784) нашли свое наиболее яркое и последовательное
■выражение историческое движение передовой француз-
ской буржуазии века Просвещения, ее утверждение на
позициях положительного знания и ее борьба за торже-
ство своих идеалов. Принадлежа к числу «великих му-
жей, подготовивших во Франции умы для восприятия
Р грядущей могучей революции», * Дидро вместе с ними,
а во многом и впереди их, осуществлял великое дело
ьй^а§^^^^ШШШШ разрушения «старого порядка» в сознании своих совре-
менников и теоретического созидания того нового мира, который должен
был прийти на смену отжившей феодально-абсолютистской системе. В этом
великом деле Дидро принадлежит одно из первых мест. Его вклад в идей-
ную подготовку революции, его роль в идейной борьбе с «предрассудками»
феодального сознания, его значение как крупнейшего идейного вождя пред-
революционной буржуазии — огромны. Век буржуазного просвещения на-
шел в нем своего выдающегося идеолога, талантливейшего пропагандиста,
неутомимого организатора творческой мысли.
Многообразнейших сторон идейной жизни своего времени коснулся
Дидро, ставя и исследуя основные философские и социально-политические
проблемы, которые его живой и проницательный ум вскрывал в современ-
ной ему действительности. Многие из этих проблем с большой смелостью
мысли были разрешены самим Дидро, для многих из них он наметил пути
разрешения, многими он вдохновил свою эпоху и своих современников,
щедро делясь с ними результатами своих наблюдений, раздумий и иссле-
дований. В самых различных областях знания он оставил след своей ра-
боты. Этот, по выражению Вольтера, «пантофил» (вселюбец) был редким
по своей настойчивости собирателем французской философской мысли во-
круг знамени буржуазно-демократического прогресса, и если бы время не
пощадило ничего из того, что было написано рукою самого Дидро, то объ-
емистые тома вдохновленной и созданной его организующим гением, его
1 Ф. Энгельс. Вариант введения к «Анти-Дюрингу». К. Маркс и Ф. Энгельс,
Сочинения, т. XIV, стр. 357.
ДИДРО И ЭНЦИКЛОПЕДИСТЫ
727
трудом и его мужественным упорством «Энциклопедии» остались бы до-
статочно величественным памятником дела его жизни.
Дени Дидро родился в г. Лангре (в нынешнем департаменте Верхней
Марны) в зажиточной семье ножовщика, гордившейся своим двухсотлетним
ремесленным генеалогическим древом. Отец Дидро мечтал видеть своего
сына/ носителем духовного сана. С этой целью он определил его в местную
иезуитскую школу, а затем отправил учиться в парижский коллеж Гаркур.
Карьера священника, однако, не прельстила юного провинциала, попавшего
в столицу французской мысли, литературы и искусства. Увлечение матема-
тикой и занятия языками (латинским, греческим, а затем, в связи с про-
будившимся интересом к философии, и английским) увели молодого Дидро
далеко в сторону от намечавшихся жизненных путей. Окончив коллеж, он
добрый десяток лет вел бесприютную и полуголодную жизнь бедного па-
рижского интеллигента, существуя случайными заработками, быстро бросая
предложенные ему служебные занятия и заводя кое-какие знакомства и
дружеские связи в кругу подобных ему искателей того философского камня,
который должен был превратить независимое, но случайное существование
в целеустремленную, насыщенную мыслью, борьбой и творческими волне-
ниями жизнь. К этому же периоду относится и знакомство Дидро с Анту-
анеттой Шампион, с которою он вступил в тайный брак в 1743 г. К тому
же времени относится и сближение его с мадам Пюизье, «е принесшее ему
никаких серьезных и глубоких радостей. К этому же периоду, наконец,
относятся и его первые литературные выступления.
В 1743 г. Дидро по заказу лдного из книгопродавцев перевел с англий-
ского «Историю Греции» Темпля Стениана, а затем, в сотрудничестве с
Туссеном и Эйдесом, работал над переводом шеститомного медицинского
словаря. Это были только переводы, но уже в дни работы над ними Дидро
написал свои первые самостоятельные строки, именно — предисловие к
переводу четвертой части сочинения английского философа-моралиста
Шефтсбери «Характеристики людей, обычаев и мнений», озаглавленной во
французском издании «Исследование о заслуге и добродетели» («Essai sur
le mérite et la vertu», 1745). Здесь, целиком соглашаясь с мыслями Шефт-
сбери (сыгравшим, кстати сказать, довольно важную роль в формирова-
нии философских воззрений Дидро), скромный переводчик доказывал не-
совместимость фанатизма с истинной религией и необходимость быть не
только (последователем того или иного религиозного учения, но и добро-
детельным человеком прежде всего.
Вслед за переводом Шефтсбери Дидро анонимно напечатал свою первую
самостоятельную книгу—«Философские мысли» («Pensées philosophiques»).
Постановлением парижского парламента от 7 июля 1746 г. она была осуж-
дена на сожжение вместе с «Естественной историей души» Ламетри. Дидро
получил, таким образом, боевое крещение как представитель прогрессив-
ной мысли, выступивший с критикой католической ортодоксии. Эта кри-
тика была им продолжена в «Прогулке скептика» («La Promenade du
sceptique», 1747). Вслед затем появились и ростки критики политической,
пробивавшей себе путь сквозь галантную и сказочную форму ромдна «Не-
скром.Шаемюкрдвища» («Les Bijoux indiscrets», 1748) и повести «Белая птица»
(«L'Oiseau blanc»). В 1747 г. было написано, но не опубликовано рассуж-
дение «О достаточности естественной религии» («De la suffisance de la
religion naturelle»), a в 1749 г. анонимно напечатано замечательное «Письмо
о слепых в назидание зрячим» («Lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui
voient»).
728
ПРОСВЕЩЕНИЕ
Все это начинало беспокоить некоторых особенно преданных церкви и
установленному государственному порядку людей. Начальник полиции де
Сартин получил несколько доносов на Дидро. Ему сообщили, что Дидро
«мастер богохульствовать против Иисуса Христа и девы Марии в таких
выражениях, которые нехватает смелости повторить», что он является «мо-
лодым человекам, который корчит из себя вольнодумца и гордится своим
неверием», что он, наконец, «бездельник... который говорит с презрением
о святых таинствах нашей религии и развращает нравы».
Опубликование «Письма о слепых» явилось поводом к тому, чтобы
замеченный полицией вольнодумец и богохульник был подвергнут весьма
обычной в то время репрессии — аресту и заключению в тюремную башню
Венсенского замка, где он и провел три месяца с небольшим, располагая
невольным досугом для того, чтобы обдумать уже складывавшийся в то
время замысел «Энциклопедии».
Годы, к которым относятся первые литературно-философские опыты
Дидро, совпадающие по времени с выходом в свет «Духа законов» Мон-
тескье, первых томов «Естественной истории» Бюффона и «Рассуждения
о науках и искусствах» Руссо, были годами резкого обострения экономиче-
ских и социально-политических противоречий, характеризовавших путь
Франции к буржуазной революции. Только что крайне невыгодным для
французской монархии и в полном смысле слова бедственным для француз-
ского народа мирным договором в Аахене (1748) закончилась так назы-
ваемая война за австрийское наследство. Вызванное этой войной повыше-
ние налогов осталось неотмененным. Народ отказывался их платить. Пар-
ламенты поддерживали и фактически узаконивали эти отказы. Кое-где
вспыхивали волнения, которые усмирялись военной силой. Вместе с тем
церковные власти показали новый пример религиозной нетерпимости, от-
лучив от причастия всех тех, кто не представит удостоверения об испо-
веди от духовников, принявших папскую буллу «Unigenitus» («Единоро-
жденный»), направленную своим острием против янсенистов. Все это
создавало тревожную и напряженную обстановку, способствовавшую,
вместе с тем, росту оппозиционных настроений и оппозиционной лите-
ратуры.
Именно 50-е годы XVIII в. становятся тем рубежом, перейдя кото-
рый, передовая французская буржуазия вступила на путь революции.
В ответ на открытое преследование вольнодумства появились первые тома
«Энциклопедии». Выйдя из Венсенского замка, Дидро с головой окунулся
в работу по ее созданию, тем самым окончательно определив свой идей-
ный и политический .путь. в. жизни, Он приступил к собиранию всех жи-
вых философско-просветительных сил своего времени и поставил всех вра-
гов освобождающейся прогрессивной мысли лицом к лицу уже не с подполь-
ными оппозиционными брошюрами или с зарубежными, свободными от коро-
левской цензуры изданиями, а с единым фронтом лучших умственных сил
нации, которые открыто, в самом сердце Франции, выступили с коллек-
тивным трудом, суммировавшим успехи передовой мысли и передовой, ре-
волюционизирующейся науки.
Предистория «Энциклопедии», однако, не предвещала еще тех важней-
ших результатов, к которым привело это издательское начинание. В 1745 г.
англичанин Милло и немец Селлиус предложили парижскому книгоизда-
телю Лебретону перевести с английского языка двухтомный энциклопеди-
ческий словарь Эфраима Чемберса, вышедший еще в 1727 г. С течением
времени и Милло, и Селлиус, и некоторые другие приглашенные сотруд-
ники отошли от этой работы, и она попала в руки Дидро, уже зарекомен-
ДИДРО И ЭНЦИКЛОПЕДИСТЫ
729
довавшего себя переводом медицинского словаря. Однако, вместо перевода
и редактирования труда Чемберса, Дидро замыслил широкий, всеобъемлю-
щий план энциклопедического свода положительного знания своего времени.
План был принят. Дидро еще до своего заключения в Венсенский замок
стал редактором-организатором задуманного предприятия, обеспечив его
авторитетность и научный престиж близким участием в редакционной ра-
боте крупнейшего представителя французской науки, знаменитого матема-
тика Жана Даламбера (Jean Dalembert или d'Alembert, 1717—1783).
В октябре 1750 г. была открыта подписка и выпущен специальный
проспект; в нем Дидро определял задачу издания «Энциклопедии» как
«создание генеалогического древа всех наук и искусств, которое указывает
происхождение каждой ветви наших знаний и связи их между собою и
общим стволом».
Уже это, сравнительно скромное, определение характера будущей
«Энциклопедии» сделало ее мишенью нападок реакционных сил. Иезуит-
ский орган «Journal de Trévoux» первый поднял тревогу и поспешил пре-
дупредить власти о надвигающейся новой вольнодумной опасности. Вполне
справедливо иезуиты усматривали эту опасность в самой идее издания
«Энциклопедии» как свода положительных знаний эпохи, прекрасно пони-
мая, что в данном случае, как и всегда, истинная и передовая наука яв-
ляется фактором огромной революционизирующей значимости. Тем самым
они великолепно оценили идейные перспективы «Энциклопедии», которая
по отношению к идейной жизни старого порядка, согласно меткой харак-
теристике Сент-Бева в «Литературных портретах» («Portraits littéraires»),
была «некой боевой башней, одной из тех осадных машин, но машин огром-
ных, гигантских, удивительных, какие описывает Полибий».
Машина эта приводилась в движение целым коллективом сотрудников,
собранных вокруг «Энциклопедии». Личные усилия Дидро и Даламбера
и сама идея издания нашли широкий отклик в кругах передовой бур-
жуазной интеллигенции. Вокруг «Энциклопедии» собрался весь цвет
французской мысли и литературы, лучшие специалисты во всех областях
знания и лучшие популяризаторы науки. Вольтер дал статью «Ум»
(«L'Esprit»), Монтескье — статью «Вкус» («Le Goût»), Руссо руководил
отделом истории и теории музыки, Бюффон и Добантон — отделом есте-
ственной истории, Гольбах и Малуэн — отделом химии, Туссен давал статьи
по юриспруденции, Дюмаре и Бозе — по грамматике, Леблон — по воен-
ному искусству, Беллен — по морскому делу. Отдел медицины находился
в руках Троншена, Барта, Ванденесса, анатома Тарена и хирурга Луи.
Статьи по 'политической экономии, финансам, юриспруденции и истории
писали Руссо, Тюрго, Кене, Форбонне, Кондорсе, Буше д'Аржи и президент
де Бросс, по теологии и истории церкви — аббаты Ивон, Малле и Мо-
релле, по литературе, изобразительным искусствам, архитектуре и театру —
Дюкло, Мармонтель, Ландуа, Блондель, Гуссье и Каюзак, по географии —
путешественник Лакондамин и т. д. Список этот можно было бы дополнить
еще многими именами, среди которых следует назвать де Жокура, одного
из самых больших энтузиастов этого дела, исполнявшего обязанности
секретаря редакции и написавшего сотни небольших статей по самым раз-
личным вопросам. Сам Дидро, кроме лежавшей на нем руководящей орга-
низационной и редакторской работы, уделял огромное количество времени
писанию статей, занимающих ныне в полном собрании его сочинений че-
тыре больших тома.
При столь широком составе сотрудников было бы несправедливо тре-
бовать от «Энциклопедии» полного единства точек зрения во всех статьях
730
ПРОСВЕЩЕНИЕ
и по всем трактовавшимся проблемам. Наука находилась еще в периоде
своего становления; над умами многих, даже самых передовых представи-
телей формировавшейся буржуазной культуры тяготело еще наследие про-
шлого; цензурные условия заставляли о многом говорить иносказательным
и, сплошь и рядом, сильно смягченным языком. Перелистывая тома «Энци-
клопедии», мы найдем поэтому в ней немало противоречий идейно-фило-
софского порядка, немало уступок официально господствовавшим мнениям
и убеждениям, немало недосказанного, общих мест и недосмотров. И все
же для своего времени «Энциклопедия», охватившая в своих двух десятках
томов_4*есь наличный фонд положительных знаний в области естественных,
социальных и технических наук, явилась подлинной академией передовой
науки,-единым фронтом выступившей против фанатизма и тирании.1 «Можно
было, — замечает Геттнер в своей «Истории французской литературы
XVIII века», — ие разделять ее отрицания; можно было не быть ее безу-
словным другом и приверженцем, но можно было преследовать с ней одних
„и тех же общих врагов». Этими общими врагами «Эциклопедии» и энци-
клопедистов были «предрассудки» фанатизма, нетерпимости, тирании, фео-
дального права, абсолютистской реакции и т. д. Против них «Энциклопе-
дия» мобилизовала свои силы. Их же силы мобилизовались против нее.
Нужна была огромная выдержка Дидро, его необычайная вера в правоту
своего дела и его мужественная стойкость убежденного борца за истину,
чтобы не опустить руки и не пасть духом перед организованным натиском
реакции. Проникнутый высоким сознанием своего долга, находя себе опору
и поддержку в сочувствии всей передовой европейской общественности,
поощряемый успехом издания «Энциклопедии» в кругах французских чи-
тателей, Дидро не останавливался в своей работе ни перед какими препят-
ствиями, вплоть до разрыва со своими ближайшими друзьями и сотруд-
никами, коль скоро "они малодушно складывали оружие или меняли свои
идейные установки.
Нападки на «Энциклопедию» из иезуитского лагеря начались еще
до выхода в свет ее первого тома. Этот том появился в продаже и был
разослан подписчикам в июле 1751 г. Программа и основные идейные пер-
спективы издания были изложены в предпосланном ему пространном
«Предварительном рассуждении» («Discours préliminaire»), составленном
совместно Дидро и Даламбером. Знаменитый математик в первых двух
частях этого рассуждения подробно обосновал просветительные задачи по-
ложительного знания и набросал картину прогресса науки со времен Френ-
сиса Бекона и провозглашения им принципа опытного познания действи-
тельности. Отправляясь от беконовской классификации наук, Дидро в
третьей части рассуждения начертал таблицу знаний и в пояснение к ней
высказал ряд соображений в защиту научного прогресса и в восхваление
разума.
. Этого было достаточно для того, чтобы лагерь реакции дал сигнал
к наступлению. Одновременно с выходом в свет в январе 1752 г. второго
тома «Энциклопедии» один из ее сотрудников, аббат де Прад, выступил
в Сорбонне с тезисами, утверждавшими, что одни чудеса без пророчеств
о них еще не способны доказать истинности христианской религии. Тезисы
эти вызвали бурю негодования в официальных церковных и богословских
кругах. Де Прад был лишен ученой степени, обвинен в склонности к атеизму
и материализму и вынужден спастись бегством от дальнейших репрессий.
Благодаря содействию Даламбера и Вольтера он нашел пристанище в Бер-
лине при дворе Фридриха II. Для Дидро и для «Энциклопедии» дело его
имело, однако, неприятные последствия. Всем было известно, что де Прад
ДИДРО И ЭНЦИКЛОПЕДИСТЫ
731
принадлежит к числу энциклопедистов. Заступаясь за де Прада и, вместе
с тем, за свое литературно-философское дело, Дидро выступил перед пуб-
ликой с решительной защитой опального аббата. В «Апологии аббата де
Прада» («Apologie de l'abbé de Prades», 1752) он красноречиво поддержал
его тезисы, попутно обрушившись на нетерпимость религиозных фанатиков.
Это навлекло на Дидро ярость и иезуитов и янсенистов. А так как имя
Дидро было неотделимо от «Энциклопедии», то громы обрушились и на
нее. Королевским указом от 7 февраля 1752 г. оба вышедшие тома изда-
ния были осуждены на уничтожение, в виду содержащихся в них проти-
воправительственных и антирелигиозных статей. Впрочем, в принципе,
дальнейшее издание «Энциклопедии» не запрещалось, и уже к осени
1753 г., после того как иезуиты сделали бесплодную попытку заполучить
редактирование «Энциклопедии» в свои руки, третий том ее вышел в свет
с предисловием, иносказательно, но ядовито высмеивавшим ее врагов.
С этого времени до 1757 г. издание «Энциклопедии» не встречало
внешних препятствий. Ежегодно из печати выходил ее очередной том.
Росло количество ее подписчиков и явственно усиливалось ее влияние на
движение общественной мысли во Франции. В ноябре 1757 г. вышел VII
том, содержавший в себе, между прочим, статью Даламбера «Женева»
(«Genève»), написанную под свежим впечатлением поездки ее автора к
Вольтеру в Ферне.
Дав в этой статье довольно обстоятельный исторический очерк Же-
невы, Даламбер попутно высказал несколько суждений о ее церковно-рели-
гиозной жизни, основанных на беседах с женевскими пасторами, которые
оказались, по мнению Даламбера, приверженцами идей Социна, отрицав-
шего божественность Иисуса Христа, некоторые таинства католической
веры и учение о вечности загробных мук.
Подобная характеристика религиозных воззрений женевского духовен-
ства вызвала со стороны последнего резкие протесты, к которым охотно
присоединились и французские клерикалы. Полемика о статье Даламбера
разрослась в целую литературу теологических диссертаций, брошюр, пам-
флетов и листовок. Восхваление еретических заблуждений некоторых из
женевских пасторов было совершенно правильно истолковано главарями же-
невской церкви и реакционным парижским духовенством как замаскиро-
ванный выпад против основных догматов ортодоксального католицизма.
Нападки на Даламбера, естественно, обращались в нападки на «Энци-
клопедию». Дело о статье «Женева» превращалось в дело об «Энциклопе-
дии», ибо Даламбер был, на ряду с Дидро, ее создателем и редактором.
Снова поднялись голоса об «энциклопедической клике» («la séquelle ency-
clopédique»), о заговоре вольнодумных писателей против благочестия, мо-
рали и добрых нравов.
С новой силой и с новым ожесточением нападки эти разгорелись в
связи с выходом в свет книги Гельвеция «Об уме» («De l'esprit», 1758),
содержавшей не только резкие выпады против религиозного фанатизма и по-
литической тирании, но и попытку построения утилитарной этики и объ-
яснения процесса формирования человеческого сознания условиями среды
и воспитания, — попытку, проникнутую тем духом антирелигиозности и ма-
териализма, который сделал эту книгу одним из наиболее ярких памятни-
ков вольнодумства XVIII в. Решительно и прямолинейно Гельвеций раз-
решал в ней ряд таких вопросов, одно приближение к которым представ-
лялось уже свидетельством неверия, бесчестия и пагубной развращенности.
Подстрекаемая клерикалами королевская прокуратура возбудила против
опасной книги преследование, соединила с нею в одном следственном деле
732
ПРОСВЕЩЕНИЕ
еще ряд других вольнодум-
ных сочинений и связала их с
«Энциклопедией» как резуль-
тат ее тлетворного влияния
на умы современников.
В 1759 г. государствен-
ный совет аннулировал вы-
данную в свое время Лебре-
тону привилегию на печатание
«Энциклопедии», запретил
продажу уже вышедших то-
мов и прекратил дальнейшее
издание под угрозой строгого
наказания. Книга Гельвеция
была сожжена. Руссо, в то
время живший уединенно в
Монморанси, порвал отноше-
ния с Дидро и энциклопеди-
стами. Даламбер, кабинетный
ученый, не искушенный в бит-
вах на общественном фронте,
отстранился от руководства
«Энциклопедией». Враги тор-
жествовали. Дидро остался
один, но знамени своего не
выпустил из рук. Запрещен-
ное правительством, издание
перешло на нелегальное поло-
жение. VIII том «Энциклопе-
дии» <был напечатан тайно в
1759 г. Затем наступил почти
пятилетний перерыв, запол-
ненный интенсивной подготов-
кой дальнейших томов и при-
ложений к ним в виде пояснительных таблиц и рисунков.
Вольтер советовал Дидро перенести издание в Лозанну. Фридрих II
и Екатерина II предлагали руководителю «Энциклопедии» довершить ра-
боту над нею в Берлине или в Петербурге, но Дидро не только по при-
чинам практического характера, но и по принципиальным соображениям счи-
тал необходимым бороться со своими врагами на их же собственной тер-
ритории. Закончить дело издания «Энциклопедии» во Франции перед ли-
цом ополчившейся против нее реакции стало для него делом чести. Как ни
был тяжел разрыв с Руссо, как ни был тяжел уход Даламбера и некоторых
других сотрудников, Дидро не сдал ни одной из своих позиций. Неуто-
мимо и упорно он продолжал свою организационную и редакторскую работу.
Однако и после запрещения «Энциклопедии» травля ее продолжалась.
Одним из наиболее красочных эпизодов этой травли было выступление
драматурга Шарля Палиссо (Charles Palissot, 1730—1814) с сатирической
комедией «Философы» («Les Philosophes», 1750), в которой эта рептилия
двора и реакционной критики пыталась изобразить нравственную распу-
щенность, циничную мораль и неблаговидные поступки «энциклопедической
клики». Дидро проходил мимо подобных нападок, мимо свиста и гиканья
таких противников, как Фрерон, мимо десятков направленных против
■'''.,',i .л ;. il: н:<.
Даламбер.
С гравюры Ж. Е. Гайда (1783 г.)
£ИДРО И ЭНЦИКЛОПЕДИСТЫ
735
«Энциклопедии» памфлетов, мимо иезуитской травли. В 1765 г. подписчи-
кам были вручены отпечатанные нелегальным путем последние десять томов
«Энциклопедии», а к 1774 г. закончилось издание одиннадцати томов та-
блиц и рисунков.
Издание «Энциклопедии» было с честью завершено. Оно было делом
жизни Дидро, делом, которому он отдал двадцать своих лучших лет и
которое сопутствовало его философскому и литературному росту. Дидро
шел' в своем идейном развитии в авангарде своего класса. Каждодневная
борьба за торжество разума над предрассудками закаляла и его самого
и руководимую им «Энциклопедию». Тучи реакции сгущались. Когда 'ра-
бота над «Энциклопедией» была в полном разгаре, передовая Франция
была потрясена казнью Каласа. Когда последний том издания был вручен
подписчикам, в Париже пытали, обезглавили и сожгли Лабарра, обвинен-
ного в святотатстве. Нелегально печатавшаяся «Энциклопедия» в этих
условиях заостряла свое оружие. Она приобретала с течением времени все
более и более оппозиционный характер. Она отражала революционный рост
третьего сословия и являлась для него, несмотря на неизбежные, выну-
жденные различными обстоятельствами недомолвки, арсеналом освобо-
ждающейся и революционизирующейся мысли.
«Энциклопедисты, — пишет Дж. Морлей в своей работе «Дидро и
энциклопедисты», — первые возбудили общественное мнение Франции про-
тив злоупотреблений тиранической колониальной системы управления и
против гнусной торговли невольниками. Они доказали безрассудство, разо-
рительность и бесчеловечность той системы налогов, которая истощала жиз-
ненные силы страны. Они. . . протестовали против таких порядков, при ко-
торых отправление правосудия превращалось в сделку между продавцами
и покупателями. Они горячо нападали на отвратительные жестокости уста-
релого уголовного законодательства». Самых различных сторон знания в той
или иной мере коснулась «Энциклопедия», и повсюду она сумела сочетать
передовую для своего времени научную мысль с волнующими интересами
жизни. Статьи на отвлеченные философские темы несли в себе разреше-
ние вопросов освобождения от предрассудков религиозного мышления,
вопросов личной и социальной морали, вопросов нового реалистического и.
материалистического миропонимания. Статьи по политической экономии
превращались в обвинительные акты против существовавшей системы
фискальной эксплоатации французских народных масс. Статьи по истории
приводили читателя к тому выводу, который Дидро несколько позже форму-
лировал в своем «Приложении к Путешествию Бугенвиля» («Supplément
au Voyage de Bougainville», 1772): «История человечества на протяжении
веков — это история угнетения его кучкой мошенников». Даже статьи на
богословские темы давали обильную пищу для критического пересмотра
религиозных догматов и для неверия. Борьба с фанатизмом, с тиранией,
с предрассудками, препятствующими освобождению человеческой мысли,
утверждение свободы научного исследования, духа независимости, идеи
•прогресса, терпимости и гуманизма в самом широком смысле этого слова,—
такова была конкретная идейная программа «Энциклопедии». Она далеко
ушла вперед от тех задач, которые намечались в «Предварительном рас-
суждении», ограничивавшем перспективы «Энциклопедии» рамками пози-
тивной науки и эмпирии^
В своем последовательном росте и развитии «Энциклопедия» обрела
пафос созидания нового идеологического мира. Она была коллективным
осуществлением основных устремлений передовой буржуазной мысли
XVIII в. В пределах своей эпохи и своих возможностей она начертала
734
ПРОСВЕЩЕНИЕ
план нового общественного устройства, опирающегося на достижения пере-
довой науки, передовой философской мысли и передовой техники. Этот
идеальный план был завещан энциклопедистами ближайшему поколению
как вполне готовое «царство разума», требовавшее лишь своего осуще-
ствления в жизни.
Дидро был не только редактором-организатором и идейным руководи-
телем «Энциклопедии», но также ее плодовитейшим сотрудником. Его перу
принадлежит большое количество руководящих статей, характеризующих
не только многообразие его философских и научных интересов, но и суще-
ство его идейных концепций в их утверждении и последовательном развитии.
Из всех авторов «Энциклопедии» Дидро был менее всего академичен в
обычном смысле этого слова. В этом отношении он не выдерживает сравне-
ния не только с такими светилами науки, как Даламбер, Бюффон или зна-
менитый Галлер, приславший «Энциклопедии» прекрасную статью то истории
физиологических исследований, но даже и с учеными значительно меньшего
удельного веса. Темперамент публициста явно преобладал в Дидро над тем-
пераментом исследователя. Сила его статей заключалась не в сообщении
новых научных фактов и не в популяризации тех или других завоеваний зна-
ния, а в публицистической остроте точки зрения, в стремлении даже самую
отвлеченную тему насытить боевой конкретностью, в ярких, заостренных
афоризмах, в широких и далеко идущих выводах и, наконец, в мастерских
характеристиках человеческих типов, нравов, обычаев и отдельных лиц.
Особой заслугой Дидро, как руководителя и как сотрудника «Энци-
клопедии», был созданный им отдел технических наук и ремесл. Будучи по
своему содержанию полярно противоположным отделу философии, он
представлял, однако, вместе с ним неразрывное целое. Это был своеобраз-
ный поэтический апофеоз человеческого труда и человеческого гения в
борьбе за подчинение себе сил природы.
Еще не так давно Французская Академия, составляя свой словарь
французского языка, высокомерно игнорировала термины ремесл и произ-
водства, считая их чересчур «плебейскими». Дидро и «Энциклопедия» под-
няли перчатку, брошенную Академией. Они уделили особое внимание ре-
■ меслам и производству, посвятив им большое количество статей, подробно
излагавших как производственные процессы, так и технологию различных
отраслей современной промышленности. Статьи иллюстрировались специ-
альными пояснительными таблицами рисунков, даже сейчас поражающих
нас тщательностью, технической точностью и мастерством выполнения.
Описывая горные промыслы, работу ткацких станков, процессы выра-
ботки стекла, материй, принадлежностей костюма, оружия, средств пере-
движения и т. д., ведя своего читателя в шахты, на поля, в мануфактуры,
в ремесленные мастерские, Дидро едва ли не впервые обратил внимание на
новый класс, нарождающийся в недрах буржуазного общества — класс
раДочих^ Это «четвертое» сословие нашло в лице Дидро одного из своих
первых заступников. Описывая те или иные производственные процессы,
Дидро не упускал из виду людей, их осуществляющих. Он рисовал их
тяжелое материальное и бытовое положение, их лишения, их бедность, их
эксплоатацию хищными хозяевами. Само наличие этих моментов в тексте
сугубо-технических по своему материалу статей было весьма знаменательно.
Отдавая «Энциклопедии» большую часть своего времени, Дидро, вместе
с тем} не прекращал_своеготворчестваи в...других оелаг.тях. За годы ра-
боты над «Энциклопедией» им был частично опубликован, частично—под-
готовлен к печати ряд литературных трудов, имеющих первостепенное
идейное значение и являющихся важными вехами его философского и кри-
t
к.
-тг* trr"'—~"~"'--7!l
Производство стекла.
Таблица из «Эвцдхлопедиа».
736
ПРОСВЕЩЕНИЕ
тического развития. Именно в эти годы он написал роман «Монахиня»
(«La Religieuse», 1760), начал серию критических отчетов о парижских
художественных выставках—«Салоны» («Les Salons», 1761—1781), напи-
сал «Опыт о живописи» («Essai sur la peinture», 1765) и ряд произведений,
связанных с театрам: «Размышления о Теоенции» («Réflexions sur Térence»,
1762), драмы «Побочный сын» («Le Hls~~nàYùrel», 1757) и «Отец семей-
ства» («Le Père de famille», 1758), равно как и' сопровождающие их
«Беседы о „Побочном сыне"» («Entretiens sur le Fils naturel») и «Рассужде-
ние о драматической поэзии» («Discours sur la poésie dramatique»)—важ-
нейшие документы созидавшейся Дидро новой драматургической системы.
В личной жизни Дидро за эти годы, заполненные самой напряженной,
не знавшей отдыха, работой, не произошло никаких примечательных собы-
тий, кроме его сближения с м-ль Софи Воллан, начало которого относится
к 1754 г. Эта связь оставила значительный и интереснейший для харак-
теристики внутреннего мира Дидро след в его корреспонденции.
Энциклопедическая работа Дидро поставила его в центре философской,
литературной и публицистической жизни его эпохи. Положение это, однако,
было завоевано им не только в силу взятой им на себя многотрудной орга-
низационной работы. Личность и учение Дидро, выходившие далеко за
границы «Энциклопедии», стали сами по себе центральным моментом ум-
ственной жизни его времени, поскольку он суммировал в себе наиболее пе-
редовые философские и социально-политические тенденции той поры, носи-
телями которых были передовые круги революционизировавшейся фран-
цузской буржуазии. Вдохновляющий талант Дидро оказал свое влияние
и на труды тех энциклопедистов или друзей Дидро, которые находились
р. ближайшем умственном контакте с ним.
Непосредственное личное участие Дидро можно установить в некото-
рых трудах Поля-Анри Гольбаха (Paul-Henri' Holbach, 1723—1789), Клода-
Адриана Гельвеция (Claude-Adrien Helvétius, 1715—1771) и аббата Гиль-
ома-Тома Рейналя (Guillaume-Thomas Raynal, 1713—1796). Барон Гольбах,
находившийся в дружеских связях почти со всеми представителями передо-
вой философской мысли, собиравшимися в его гостеприимном салоне, в
своих сочинениях «Разоблаченное христианство» («Le Christianisme dévoilé»,
1756) и «Система природы» («Le Système de la Nature», 1770) планомерно
развил ряд основных положений складывавшейся в это время материали-
стической школы XVIII в. Признание материи единственной субстанцией,
с движением и мышлением в качестве ее атрибутов, утверждение детерми-
низма и строгой закономерности в природе, отрицание божественного на-
чала в каком бы то ни было смысле, иначе говоря, последовательный
атеизм — все это делало «Систему природы» Гольбаха одной из самых
боевых книг XVIII в. Ее воинственность вытекала из систематического
использования, в целях создания материалистического миропонимания,
достижений передовой науки того времени. Интерес Гольбаха к естествен-
ной истории и, в частности, к химии, сыграл огромную роль в формирова-
нии его материалистических принципов. Эти принципы были, конечно,
окрашены типичной для всех материалистов XVIII в. механистичностью,
но хотя мышление Гольбаха еще не возвысилось до диалектики, оно уже
находится в ее преддверии, поскольку он накапливает факты и доводы в
пользу понимания процессов действительности и жизни как движения
материи. «Система природы» охватывает также и общественную жизнь
людей. И здесь Гольбах, оставаясь в пределах типичного для многих про-
светителей понятия о «предрассудках» как основного препятствия к до-
стижению общественного блага, создал, однако, ряд страниц, полных
ДИДРО И ЭНЦИКЛОПЕДИСТЫ
757
истинно революционной энергией, где он смело встает на защиту не
только «третьего сословия», но и широких масс трудящихся — феодально
зависимых крестьян и эксплоатируемых рабочих.
Репутацию опасной и разрушительной книги, на ряду с «Системой
природы», заслужил и труд Гельвеция «Об уме», который королевская
цензура, потребовавшая его сожжения, определила как «кодекс самых от-
вратительных и гнусных страстей». Этому определению книга Гельвеция
была обязана своей попыткой построения индивидуальной и социальной
морали на принципах материалистического сенсуализма с присущим ему
отрицанием религиозных основ нравственности. Источником возникновения
моральных принципов Гельвеций считал воздействие на людей социальной
среды, воспитания и законов, а критерием индивидуальной морали он
считал соответствие ее общественному интересу. Не имея понятия о зако-
нах классовой борьбы, Гельвеций в области анализа социальной действи-
тельности впал в те же ошибки вульгарного материализма, в какие впадал
Гольбах в области анализа действительности материального мира. Но тем
не менее книга «Об уме» сыграла огромную революционизирующую роль
и остается одним из крупнейших памятников материалистической мысли
своего времени.
Таким же памятником гуманистической мысли той эпохи является и
знаменитое сочинение Рейналя «Философская и политическая история
учреждений и торговли европейцев в обеих Индиях» («Histoire philosophique
et politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes»,
1772). Этот огромный, изобилующий фактическим материалом, капиталь-
ный труд собирает в себе, как в фокусе, ряд руководящих мыслей гума-
нистической философии XVIII в. Разоблачение «цивилизирующей» роли
католической церкви в заокеанских колониях, разоблачение истинного ха-
рактера европейской колониальной политики, страстная защита «цветных»
народов, картина их эксплоатации, протест против работорговли и самого
института рабства — все эти моменты придают книге Рейналя характер
исключительно острой и смелой критики старого порядка, церкви и бур-
жуазного хищничества.
Книга Рейналя сыграла огромную роль в пропаганде гуманистических
идей века Просвещения, применив ряд общих социально-философских поло-
жений просветителей к анализу одного из конкретных участков социальной
действительности, на котором особенно явственно выступали все отврати-
тельные стороны «предрассудков» тирании, фанатизма и насилия над чело-
веческими правами. Впоследствии, уже в годы революции, сочинение Рей-
наля вдохновляло сторонников уничтожения рабства во французских
колониях. Достаточно сказать, что по ней учился Туссен-Лувертюр, буду-
щий вождь негритянского восстания на Гаити.
2
Из всех областей мысли, занимавших Дидро, он особенно много вни-
мания уделял проблемам религии, теории познания, натурфилософии, этики
и искусствоведения. По всЗм~~этим"~вапроса1М оставленное им наследие яв-
ляется изумительным примером смелости и независимости мысли, прони-
цательного анализа, критической остроты, глубины понимания и широты
выводов.
Критика религии и церкви занимала исключительное место в работе
философской мысли XVIII в., ибо религия являлась с точки зрения дея-
телей буржуазного Просвещения основным «предрассудком», тормозившим
47 История французской литературы—810
7d«
ПРОСВЕЩЕНИИ
идейное развитие человечества и являвшимся средством порабощения на-
родных масс господствующими сословиями.. Потому все крупнейшие пред-
ставители передовой философской мысли XVIII в. в той или иной сте-
пени тяготели к атеизму. Некоторые из них останавливались на полпути,
чаще всего склоняясь к благодушно-примирительному деизму; однако эле-
менты атеистического мировоззрения наличествовали у каждого из них,
поскольку материалистическая в своей основе философия века Просвеще-
ния являлась наследницей, с одной стороны, старого французского скепти-
цизма и вольнодумства (Монтень, Гассенди), с другой — классической
английской философии сенсуализма, и, наконец, с третьей — материализма
Спинозы. Из всех философов-просветителей Дидро наиболее последовательно
и глубоко, в чисто философском отношении, подошел к проблеме религиоз-
ного сознания, не ограничив себя ни рамками умеренного деизма, ни чисто
публицистической борьбой с церковью.
Уже в своих примечаниях к переводу труда Шефтсбери «Исследова-
ние о заслуге и добродетели» Дидро показал себя далеко не правоверным
католиком. Уже здесь он высказывает некоторые деистические идеи и вы-
ражает сомнение в том, что религиозные верования сами по себе способны
внушить их обладателю добродетель.
В «Философских мыслях» Дидро делает следующий шаг вперед. Он
занимается з"десь исторической критикой «священного писания», подвергает
сомнению идею божественного откровения и загробного возмездия, т. е.
целиком утверждается на позициях деизма с сильным уклоном в сторону
атеистического отрицания самой идеи религиозности. Элементы атеизма
еще отчетливее проявляются в рассуждении «О достаточности естествен-
ной религии» (1747), являющемся развитием отдельных пунктов «Фило-
софских мыслей». Здесь Дидро не только сомневается в божественном от-
кровении, но и приходит к полному его отрицанию.
В следующем рассуждении, озаглавленном «Прогулка скептика, или
Аллеи» («Promenade du sceptique, ou les Allées», 1747), приведен спор между
приверженцем деизма с его идеей о боге, разумно и целесообразно создав-
шем и устроившем вселенную, и атеистом с его отрицанием божественного
начала и божественной воли в мироздании. Знаменательно, что, хотя Дидро
и не становится открыто на сторону атеиста, он тем не менее вооружает
его такими аргументами, которые обеспечивают ему полную победу в этом
религиозно-философском диспуте. Открыто атеистические мысли, снабжен-
ные научной аргументацией, Дидро впервые высказывает в своем зна-
менитом «Письме о слепых в назидание зрячим», ироническое заглавие
которого достаточно выразительно. Сторонником атеистических воззрений
сделан здесь слепец Саундерсон, оригиналом которого является профессор
Кембриджского университета Николас Саундерсон, ослепший в раннем
детстве и тем не менее овладевший такими предметами, как сферическая
геометрия и оптика. В уста Саундерсону Дидро вкладывает полнейшее
отрицание религиозного суеверия, апологию разума и научного опыта,
призванных заменить собою мистические откровения религии.
Атеизм Дидро является выражением роста его материалистического
мировоззрения и опирается на глубокие философские предпосылки, которые
отсутствовали, например, у Гольбаха, считавшего, что религия является
созданием кучки обманщиков, дурачащих народ. Глубоко обоснованные анти-
религиозные воззрения Дидро являются источником его страстной нена-
висти к церкви как носительнице религиозного суеверия и фанатизма.
В своем классическом труде «Материализм и эмпириокритицизм» В. И.
Ленин не раз останавливается на материалистическом мировоззрении Дидро,
ДИДРО И ЭНЦИКЛОПЕДИСТЫ
739
отмечая, например, что французский философ, «вплотную подойдя к взгляду
современного материализма», 1 принадлежит вместе с Фейербахом и Мар-
ксом—Энгельсом к числу «великих материалистов» и что на его примере
можно понять «настоящие взгляды материалистов» 2 в противопоставлении-
их как идеализму Беркли, так и новейшим идеалистическим системам Маха
и его последователей.
Дидро удалось, действительно, подойти вплотную к современному
материализму, потому что его материалистическая система явилась наибо-
лее полным и последовательным развитием материалистических тенденций
европейской философской мысли XVII—XVIII вв. Этим тенденциям он
придал максимально завершенную форму, воинствующую заостренность и
серьезное научное обоснование. Ни дуалистов типа Даламбера, Мабли, Mo-
релли, Руссо и Вольтера, ни материалистов типа Гольбаха, Гельвеция или
Ламетри нельзя сравнивать в этом отношении с Дидро, как бы сконцен-
трировавшим в своей мысли передовое материалистическое миропонимание
на пороге XIX в.
Философская мысль XVIII столетия развивалась под знаком сенсуа-
лизма. Учение об ощущениях как источнике познания действительности,
обстоятельно развитое Локком, нашло живой отклик среди французских
мыслителей. Подавляющее большинство их, однако, восприняло, в конечном
счете, не материалистическую, а идеалистическую линию развития локков-
ской философской системы, которую она получила в сугубо идеалистической
трактовке Беркли. Материалистическое понимание ощущения уступало
место пониманию психологическому. Объективность восприятия действи-
тельности органами чувств подменялись крайним субъективизмом чувство-
ваний, занявших место картезианского разума.
Дидро принимал учение сенсуалистов постольку, поскольку они объ-
являли средством познания действительности органы чувств и ощущения.
Но он отвергал идеалистический сенсуализм, который между объективной
действительностью и ее познанием ставит субъективизм чувствования и
ощущения, тем самым отказываясь от познания действительности и заменяя
его переживанием субъективных физиологических и психологических со-
стояний. В этом смысле теория познания Дидро является материалистиче-
ской теорией познания, преодолевшей противоречия субъективно-психологи-
ческого сенсуализма, столь явственно дающие знать о себе, например, у
такого крупного мыслителя, как Кондильяк в его «Трактате об ощуще-
ниях» («Traité des sensations», 1754).
Дидро утверждает, что сознание (мышление) и бытие (действитель-
ность), несмотря на свою противоположность, едины, так как они оба
являются атрибутами одной и той же субстанции — материи. Устойчивость
наших знаний поэтому проистекает только из нашей связи с природой,
иначе говоря, из нашего жизненного опыта в природе и действительности и
из нашей способности умозаключать на основе этого опыта. Так, агно-
стицизму идеалистической философии и грубому субъективизму идеали-
стической чувствительности Дидро противопоставляет возможность и не-
избежность объективного познания действительности. Какова же в этом
познании роль разума? Сенсуалисты субъективистского толка отводили ра-
зуму второстепенное место: действительность познается ощущением и его
переживанием. Декартовский рационализм с его гегемонией рассудка усту-
пает место чистому эмоционализму. Переживание и чувствительность
Ленин. Материализм и эмпириокритицизм. Сочинения, т. XIII, стр. 28.
* 1ам же, стр. 36.
740
ПРОСВЕЩЕНИЕ
исчерпывают все способности нашего суждения. Рассудок лишь задним
числом регистрирует то, что осознано и понято чувствами. Для Дидро
разум есть суд^ья чувств-свидетелей, он — универсальное чувство. Мышле-
ние об ощущении есть единство, и единство это осуществляется челове-
ческим мозгом, верховной контрольной инстанцией чувствований.
При современном Дидро уровне знаний в области физиологии высшей
нервной деятельности человека, он не мог выражать свои заключения
точным языком. Ему невольно приходилось прибегать к различным упо-
доблениям и сравнениям. Заслуга Дидро заключается в том, что физио-
логическую науку__своего времени, хотя бы в том ее виде, в каком она
была представлена знаменитыми лекциями Галлера, он сумел философски
осмыслить и положить в основу своего материалистического понимания
процесса познания действительности. Исходя из локковского сенсуализма,
Дидро преодолел не только его идеалистическое или субъективно-психо-
логическое истолкование (Беркли, Юм и французские берклианцы), но
и развил его в сторону того материалистического монизма, который по-
зволил ему действительно вплотную подойти к современному материализму
Маркса — Энгельса — Ленина и стать, вместе с Фейербахом, его ближай-
.шим историческим предшественником.
Теория познания Дидро неотделима от его философии природы. По-
нятие природы у'Дидро равняется понятию материи. Материя "является
единственной субстанцией, и мир для своего объяснения вовсе не нуждается
в дуалистическом разделении на мир материальный и мир духовный. Этот
материалистический монизм Дидро нашел у своих ближайших предше-
ственников—Мопертюи, Робине и Ламетри. По сравнению с ними, материа-
листическая натурфилософия Дидро являлась, однако, огромным шагом
■вперед.
Признав субстанциональность материи и исключив из своей картины
мироздания какое бы то ни было идеалистическое начало, Дидро признал
первичным, неделимым элементом материи молекулу. Методологически в
данном случае он следовал достижениям современной ему физики и, в из-
вестной мере, натурфилософии Лейбница, причем, однако, идеалистическую
монаду последнего он заменил материалистической молекулой — предше-
ственницей позднейших атомов и электронов.
Свойствами .мат£рии_ Дидро считал, прежде всего, движение и чувстви-
тельность. В его понимании материя не существовала без движения, как
и движение не существовало вне чувствующей и ощущающей материи.
Характеризуя взгляды Дидро, как «настоящие взгляды материалиста»,
В. и. Ленин подчеркнул именно эту особенность его натурфилософии:
«Не в том состоят эти взгляды, чтобы выводить ощущение из движения
материи или сводить к движению материи, а в том, что ощущение при-
знается одним из свойств движущейся материи». '
Таким образом Дидро приходит к выводу, что жизнь есть чувстви-
тельность.
В своем «Разговоре между Даламбером и Дидро» («Entretien entre
Dalembert et Diderot», 1769) Дидро подробно развивает идею чувствитель-
ности, поднимающейся от низших форм ощущения молекулы к высоким
формам мышления. Отсюда он приходит к выводу, что мышление является
таким же свойством высокоорганизованной материи, как движение и низ-
шие формы чувствительности являются свойствами материи, менее высоко
организованной.
1 Ленин, там же.
ДИДРО И ЭНЦИКЛОПЕДИСТЫ
744
С этим, совершенно естественно, связывается мысль об единстве неор-
ганической, и органической природы. Развивая эту мысль, Дидро приходит
к выводу об эволюции природы и ее форм, высказанному им еще в «Письме
о слепых» и предвосхищающему теорию происхождения видов Ламарка и
Дарвина.
Ряд других крупнейших достижений передовой науки XIX в. пред-
указан или высказан Дидро в виде догадок. Его материалистическая
система философии явилась своего'рода мостом, перекинутым от фило-
софского творчества XVII—XVIII вв. к завоеваниям человеческой мысли
последующего времени. Состояние науки в данный момент не позволило
Дидро, постоянно опиравшемуся в своих философских построениях на
научное знание, в достаточной степени уточнить многие из его взглядов
и высказываний. Во многих отношениях его натурфилософия, в целом про-
никнутая духом подлинного материализма, останавливается на распутьи,
многое представляется недоговоренным и неуясненным до конца, но ее
основное устремление ориентировано в направлении к диалектическому ма-
териализму, элементы которого у Дидро имеют значительно больший вес»
чем у других философов-материалистов XVIII в.
От натурфилософии Дидро остается один шаг до его философии чело-
веческого поведения, до его этики. Как и следовало ожидать, мы и здесь
не покидаем почву природы, поскольку этическая философия всех передо-
вых мыслителей века Просвещения постоянно имела своей исходной точкой
понятие природы. Как и для всех философов-просветителей, человек для
Дидро является существом общественным. Однако понятие общественности
и общества у Дидро имеет несколько иной вид, чем у ряда современных
ему теоретиков обществоведения. В своей «Смеси» («Mélanges») Дидро
весьма определенно подчеркивает свое несогласие с рядом теорий своих
современников, считая метафизическими такие теории происхождения об-
щества, как теория социального инстинкта, теория роста общественных
форм из семьи и теория общественного договора. С точки зрения Дидро
общество обязано своим происхождением необходимости коллективной
борьбы за существование и, прежде всего, борьбы с природой. Во взаимо-
отношениях человека с природой заключается, по мнению Дидро, и исток
общественной морали. Индивидуальная этика у Дидро носит явный отпе-
чаток стоицизма и эпикуреизма — сочетание, которое Дидро мог наблюдать
уже у Спинозы. И стоик и эпикуреец — оба, в конечном счете, согласуют
свою этику с природой. Добродетель для стоика выступает в образе позна-
ния природы, для эпикурейца — в образе наслаждения ею. Дидро прими-
ряет обе эти этические школы в своем учении об общественном благе —
высшем моральном критерии индивидуального человеческого поведения.
Личное благо является для Дидро производным от блага общества. За-
конно и необходимо искать в жизни и добиваться личного счастья, но это
счастье дается человеку окружающими его людьми. Помогая другим на-
ходить свое счастье, человек обеспечивает себе такую же помощь со сто-
роны общества, частью которого он является. Счастье неотделимо от добро-
детели, а добродетель рождается из просвещения. «Пусть все люди
сделаются просвещенными, — говорит Дидро, — и природа заговорит со
всеми языком добродетели». В последнем утверждении — «пусть все сде-
лаются просвещенными» — явственно слышится голос того просветитель-
ского утопизма, который, в конечном счете, характеризует всю просвети-
тельную философию XVIII в., не исключая и Дидро. До тех пор, пока
мыслитель вращается в сфере вопросов теории познания и натурфилософии,
не покидая почвы естественных наук, он остается материалистом. С того
V42
ПРОСВЕЩЕНО!
«Ужин философов>.
Вольтер, Даламбер, Мармонтель, Дидро, Лагарп, Кождорсе, аббат Мори, отец Адам
С сооременного оферта Гюбера.
■момента, когда ему приходится вступать на почву наук социальных, он, не
теряя и здесь из виду отдельных правильных и плодотворных точек зре-
ния, начинает скользить по наклонной плоскости утопизма.
Энгельс в «Людвиге Фейербахе» (гл. II) подробно останавливается
на трех проявлениях «ограниченности» французских материалистов XVIII в.
Это — их механистичность, абстрактность их философии и, наконец, не-
понимание ими материальных основ общественного развития. Г. В. Плеха-
нов в своей работе «К вопросу о развитии монистического взгляда на
историю» довольно подробно характеризует эту черту французских мате-
риалистов XVIII в. Действительно, их гносеологический и натурфилософ-
ский материализм не получил своего должного завершения в материализме
историческом, отдельные намеки на который можно найти в некоторых
частичных высказываниях Дидро и позже, уже в эпоху буржуазной рево-
люции 1789—1799 гг., в исторической концепции Антуана Барнава. Мате-
риалистическая философия XVIII в. созидала «идеальное царство разума» ;
его «идеальность» наиболее ярко сказалась именно в социологических и
политических построениях энциклопедистов и просветителей.
а 5
Одним из интереснейших эпизодов биографии Дидро являются его сно-
шения с Екатериной II, приведшие к поездке Дидро в Россию в 1773—
1774 гг. Екатерина II, подобно Фридриху II, питала слабость к французской
просветительской философии. Интересы все более европеизировавшегося
российского государства требовали создания кадров ученой и техническсй
интеллигенции. Недооценка возможностей создания такой интеллигенции
ДИДРО Л ЭТТ ЦИКЛОПЕ диеты
743
собственными силами заставляла правительство обращать свои взоры за
границу. Кроме того, свое покровительство западной интеллигенции Ека-
терина II склонна была рассматривать как средство привлечения на свою
сторону симпатий европейского общественного мнения. Отсюда — беседы ее
с редактором и издателем «Литературной корреспонденции» Гриммом,
отсюда — переписка с Вольтером и Даламбером, отсюда, наконец, и пригла-
шение Дидро к своему двору, копировавшее приглашение Фридрихом II
Вольтера.
Связи Екатерины II с Дидро завязались при посредстве просвещен-
ного вельможи князя Д. А. Голицына, занимавшего одно время диплома-
тический пост в Париже. Уже во второй половине 1762 г. Екатерина пред-
лагала Дидро перенести издание «Энциклопедии» в Россию. В 1765 г.
Дидро, при посредничестве Гримма и Голицына, продал Екатерине свою
библиотеку и был назначен ее пожизненным хранителем с окладом в 1000
франков в год, причем сразу же получил свое жалование за пятьдесят лет
вперед, в сумме 50 000 франков. После смерти Дидро его библиотека с
большим количеством присоединенных к ней копий рукописей философа
была доставлена в Петербург (в 1785 г.). Книги Дидро не были, однако,
сохранены как особый, целостный фонд, подобно библиотеке Вольтера,
а были распределены по различным отделам библиотеки Эрмитажа и затем
затерялись в книжном море фондов Публичной библиотеки им. M. Е. Сал-
тыкова-Щедрина в Ленинграде.
Дидро случалось рекомендовать Екатерине тех или других специали-
стов по разным отраслям науки и искусства. Именно по его рекомендации
был приглашен в Петербург для сооружения памятника Петру I скульптор
Фальконет. Дидро был также экспертом ори покупке Екатериною коллек-
ции картин барона Тьера, содержавшей в себе полотна Рафаэля, Рем-
брандта, Ван-Дейка, Пуссена и других крупнейших художников и соста-
вившей основу картинной галлереи Эрмитажа.
В 1773 г. Дидро получил приглашение посетить Петербург и в мае
направился в северную столицу через Голландию. Екатерина приняла фи-
лософа милостиво и дружески. Он подолгу беседовал с императрицей на
различные философские, политические и государственные темы, получал от
ее приближенных ответы на интересовавшие его вопросы об экономической
жизни страны, о правах различных сословий, о состоянии сельского хозяй-
ства и т. д., — ответы, далеко не соответствовавшие истинному положению
вещей, — осматривал то, что ему считали нужным показать, сочинял по
просьбе императрицы проекты различных реформ и, наконец, в марте
1774 г. покинул Петербург; он отправился в Гаагу к Голицыну и лишь
к осени вернулся в Париж.
Ни для Дидро, ни для Екатерины поездка французского философа з
Петербург не принесла, да и не могла принести никаких положительных
результатов. Екатерина, конечно, прекрасно понимала весь смысл этой
поездки и вполне сознавала, чего она может ожидать от Дидро. Дидро
не совсем ясно представлял себе раскрывавшиеся перед ним возможности
и, видимо, ошибался в их оценке. Однако пребывание при русском дворе
и беседы с императрицей многое сделали для него ясным, и если он и после
того, как уехал из Петербурга, добросовестно выполнял данные ему пору-
чения, в частности, например, составил записку об организации в России
университетского образования и набросал свои замечания по поводу зна-
менитого «Наказа», — то делал он это только из присущей ему добросо-
вестности и из сознания своего просветительского долга.
744
ПРОСВЕЩЕПИЕ
С каких же политических позиций подходил Дидро к своей короно-
ванной собеседнице в беседах, устных и письменных, на темы о государ-
ственном праве и государственном устройстве? В сущности говоря, поли-
тическая платформа Дидро была довольно умеренной. В основном она
определялась учением Монтескье, изложенным в его «Духе законов», и
обязательным почти для каждого французского просветителя XVIII в.
почитанием английского конституционно-парламентского строя. Было бы
ошибочным, однако, ограничивать этим политическую идеологию Дидро.
В известном смысле она была шире его политической платформы. Послед-
няя выражала реальный взгляд на реальные вещи, тогда как идеология
относилась к тому идеальному «царству разума», где звучали более ради-
кальные мотивы. Заявляя, что «история человечества на протяжении веков
есть история угнетения его кучкой мошенников», Дидро, конечно, по-
нимал, что упомянутая им кучка мошенников отнюдь не является достоя-
нием археологии. Он отдавал себе отчет в положении угнетенной массы
трудящихся, о чем красноречиво свидетельствует его блестящая статья в
«Энциклопедии» — «Народ» («Peuple»), где Дидро с открытым забралом
выступает на защиту тех, чьими руками созидается благосостояние страны
и богатство властвующей над ними «кучки мошенников».
В статье «Тиран» («Tyran») он заявляет: «В наши дни под тираном
разумеют не только узурпатора суверенной власти, но и законного государя,
который злоупотребляет законной властью, насилуя, нарушая законы и де-
лая из подданных жертвы своих страстей и несправедливых желаний, кото-
рые он утверждает вместо законов». И далее: «Всякий произвол в управ-
лении плох; я не исключаю произвола со стороны повелителя доброго, твер-
дого, справедливого и просвещенного. .. ; его добродетели — самые опасные
и самые верные из обольщений; они незаметно приучают народ любить,
уважать и служить своему притеснителю, каков бы он ни был, злой или
глупый. . . Что характеризует деспота? Доброта или злость? Нисколько.
Эти два понятия не входят в определение деспота. Дело в объеме власти,
которую он присвоил, а не в том, как он ее использует». Так Дидро раз-
рушает идею «просвещенного абсолютизма», которая нашла столь яркое
выражение в государственных теориях многих философов XVIII в. Дело
не в характере правления государя — в данном случае Екатерины II, са-
модержицы всероссийской; дело в объеме ее власти — в данном случае в
самом принципе самодержавной безответственности и «непогрешимости».
По мнению Дидро, «корона, правление, публичная власть суть блага, соб-
ственником которых является национальное тело, а государи — лишь узу-
фрутуарии (лица, пользующиеся доходами), министры и временные храни-
тели этой власти». В том случае, если монарх не признает, что источником
его власти является народ, если он нарушает законы, установленные при-
родой и народной волей, если, тем самым, он становится узурпатором
власти,—народ, по мнению Дидро, имеет право на революцию. Отсюда
рождается идея народоправства.
«Нет иного подлинного государя и не может быть иного подлинного
законодателя, кроме народа». По мысли Дидро, каждый законодательный
акт должен был бы начинаться словами: «Мы, народ, и мы, правитель
народа...» Подобные законодательные акты могут издаваться, конечно,
только в государстве, устроенном соответствующим образом. Форма прав-
ления в таком государстве — монархия, в которой монарх избирается, т. е.
в сущности форма республиканская. Понятие «подданного» там заменяется
понятием «гражданина», а существующее деление общества на бедных и
богатых заменяется равномерным распределением национального достояния.
ДИДРО И ЭНЦИКЛОПЕДИСТЫ
74й
Подобного рода мысли Дидро высказывал Екатерине II. Их же он
развивал и в своих замечаниях на ее «Наказ», где особенно подчеркивал
необходимость созыва в России законодательного собрания. Екатерина вы-
слушивала эти мысли, но не придавала им серьезного практического зна-
чения. «Я много и часто разговариваю с ним, — признавалась она впослед-
ствии Сепору, — но не столько с пользой для себя, сколько из любопыт-
ства. Если бы я послушалась его, мне пришлось бы все перевернуть в моей
империи вверх дном, пришлось бы совершенно преобразовать и законода-
тельство, и администрацию, и финансы для того, чтобы очистить место
для невозможных теорий».
По возвращении из своего путешествия в Россию, Дидро представил,
между прочим, Екатерине II «План университета для русского правитель-
ства» («Plan d'une université pour le gouvernement de Russie»). В этом плане
и в приложенной к нему записке о создании «школы для молодых девиц»
(в которой, между прочим, Дидро настойчиво рекомендовал Екатерине
пригласить для научной и педагогической работы в России выдающуюся
преподавательницу анатомии мадам Бьерон, одну из первых поборниц жен-
ского образования) с достаточной полнотой проявились взгляды француз-
ского философа на систему государственной организации дела народного
просвещения. Дидро мыслил эту организацию в форме бесплатной и обя-
зательной школы, программа которой имела бы целью широкое ознаком-
ление учащихся со всеми областями положительного знания. Изучение
гуманитарных наук должно было быть освобождено от схоластики. Особое
внимание надлежало обратить на преподавание основ технических наук.
Истории родины и истории отечественной литературы отводилось также
видное место. Изучению русского языка должно было предшествовать
ознакомление с языком древнеславянским.
Дидро считал также необходимым издание ряда учебников, которые
отражали бы современное состояние науки, а также подготовку достаточ-
ного числа русских профессоров для того, чтобы положить конец засилью
в русской науке иноземцев.
Все эти мероприятия, однако, могут быть осуществлены лишь при
условии обеспечения мира. «Кровь тысячи врагов, — писал Дидро Екате-
рине, — ие возвратит вам потерю одной капли русской крови. Частые по-
беды придают блеск царствованиям, но делают ли они их счастливыми?» 1
Последние десять лет своей жизни Дидро прожил в Париже. Он про-
должал работать над своими «Салонами», опубликовал «Опыт жизнеопи-
сания философа Сенеки, о его сочинениях и о царствованиях Клавдия и
Нерона» («Essai sur la vie de Sénèque le philosophe, sur ses écrits, et sur le
règne de Claude et de Néron», 1778) и закончил обработку пьесы «Хорош
он или плох?» («Est-il bon, est-il méchant?», 1781 ), носившей в первоначаль-
ной редакции название «Пьеса и пролог» («La Pièce et le Prologue»).
К несколько более раннему периоду относится написание романа «Жак-
фаталист» («Jacques le fataliste», 1773) и последней редакции диалога «Па-
радокс об актере» («Paradoxe sur le comédien», 1773).
4
На рубеже 60-х годов Дидро включил в круг своих интересов вопросы
искусства, которыми после этого он не переставал заниматься до конца
своей жизни. Изобразительные искусства, музыка, театр — таковы основ-
1 Сборник Русского исторического общества, т. XXXIII, письмо от 13 сентября
1774 г.
746
ПРОСВЕЩЕНИВ
ные области искусства, привлекавшие по преимуществу его внимание. Им
посвящены многочисленные критические работы Дидро, как, например,
«Салоны»^ «Опыт о живописи», трактат «Об игре на клавесине и о прин-
ципах гармонии», «Рассуждение о драматической поэзии», три «Беседы о
„Побочном сыне"» и «Парадокс об актере», не считая множества черновых
набросков, эстетических фрагментов и статей по вопросам искусства и эсте-
тики в «Энциклопедии». Таково обширное наследие Дидро в области тео-
рии и философии искусства, в которой он, как и в других областях мысли,
оказался передовым представителем революционизирующейся французской
буржуазии.
В своей эстетической системе Дидро как бы суммировал развитие ху-
дожественной мысли третьего сословия. На основе своей материалистиче-
ской философии с использованием лучших сторон эстетики картезианства
и английской философии XVIII в. он разработал и утвердил систему бур-
жуазного художественного реализма, придав ей, на известном этапе ее
развития, воинствующий, революционный характер.
Вопросы эстетики Дидро поставил перед собой впервые в статье «Пре-
красное» («Le Beau»), помещенной в «Энциклопедии» (1751). В этой
статье Дидро во многом стоит на позициях тех абстрактных, метафизиче-
ских понятий о красоте, которые были характерны для французской эсте-
тической мысли его времени. Но уже, в полном согласии со своей мате-
риалистической теорией познания, он признает объективность красоты и
прекрасного. Этот тезис заставляет его объявить основою искусства воспро-
изведение жизненной правды, природы, действительности, отражаемых в
человеческом сознании. «Устойчива лишь та красота, которая основана на
соответствии живых существ природе. .. Красота в искусстве имеет ту же
основу, что и истина в философии. Что такое истина? Соответствие наших
суждений явлениям. Что такое красота подражания? Соответствие изоб-
ражения предмету».
Итак, истина и красота внутренне связаны между собой. Художник
должен искать эту истину-красоту в природе. «Природа — первая модель
искусства... Каждое произведение искусства достойно похвалы, если оно
всюду и во всем соответствует природе; нужно, чтобы я мог сказать: я не
видел этого явления, но оно существует».
Однако эти утверждения, как и всю реалистическую концепцию искус-
ства у Дидро, никоим образом нельзя понимать как провозглашение нату-
ралистического принципа. «Великое искусство, — замечает Дидро, заранее
отводя такого рода истолкование его мыслей, — заключается в возможно
большем приближении к природе, чтобы она пропорционально теряла и
приобретала в художественном отображении». И далее: «Во всяком поэ-
тическом искусстве есть доля лжи, границы которой не были и не будут
никогда определены. Предоставьте искусству свободу отклонения, одобряе-
мую одними и отвергаемую другими. Если однажды признали, что солнце
художника не есть солнце природы и не будет им, не сделали ли этим са-
мым уже другое признание, которое повлечет за собой бесконечное мно-
жество последствий». Таким образом, творческая фантазия художника необ-
ходима в искусстве. Эта фантазия или творческая инициатива является
тем «солнцем художника», в свете которого факты действительности воз-
водятся в степень фактов искусства. «Правдивое в природе, — замечает
Дидро, — есть основа правдоподобного в искустггве». Подражание жизни
является ее творческим отображением в сознании и деятельности худож-
ника, создающего правдоподобные явления искусства. «Прекрасное, — про-
должает Дидро, — есть только правдивое, раскрытое через возможные, но
ДПДРО И ЭНЦИКЛОПЕДИСТЫ
747
редкие и чудесные обстоятельства». Правдивость и правдоподобие искус-
ства провозглашала и эстетика классицизма. В этом отношении Дидро не
выступает ее противником, как и вообще в своих эстетических высказыва-
ниях он принимает те реалистические элементы, которые содержатся в тео-
рии и практике классицистической школы. Но по сравнению с ней он делает
огромный шаг вперед, преодолевая абстрактный рационализм классицистов
и утверждая конкретность реалистического содержания и реалистической
формы искусства. В «редких и чудесных» обстоятельствах он видит некую
специфичность эстетического сознания, которое должно преодолевать соб-
лазны обыденности, прозаизма и шаблона. Искусство должно типизиро-
вать явления жизни, должно находить в действительности ее существен-
ные черты, должно раскрывать содержащуюся в ней высокую истину.
Такое искусство, однако, может быть уделом лишь добродетельного
художника. Истина, красота и добродетель в эстетических воззрениях
Дидро сливаются в одно целое. Произведение искусства должно быть оду-
хотворено высокой и добродетельной идейностью. «Всякое произведение
скульптуры или живописи должно быть выражением одной большой идеи,
должно быть поучительно для зрителя, без этого оно будет немым».
В чем же заключается эта добродетель? Здесь в теоретических взглядах
Дидро можно обнаружить значительную эволюцию. Постепенно от утвер-
ждения буржуазно-мещанской добродетели, которая сыграла огромную роль
в его драматургической практике и в оценке им произведений таких масте-
ров жанрового реализма в живописи, как Шарден, Грез и Верне, он при-
ходит к понятию о добродетели революционной, героической и республи-
канской. Тем самым в эстетических категориях как бы совершается путь
развития революционизирующейся французской буржуазии.
«На твоей обязанности, — обращается Дидро к художнику, — лежит
прославлять, увековечивать великие и благородные дела, воздавать почте-
ние несчастной и оклеветанной добродетели, клеймить счастливый и всеми
почитаемый порок, ужасать тиранов... Отомсти преступнику, богам и
судьбе за добродетельного человека. Предугадай, если осмеливаешься, при-
говор грядущих поколений; а если у тебя для этого нехватает смелости,
покажи мне хотя бы приговоры предшествовавших поколении. Ниспровергни
у фанатичных народов бесчестие, которым они хотели покрыть тех, кото-
рые поучали их и говорили им правду. Разверни передо мной кровавые
сцены фанатизма. Объясни правителям и народам, что именно они могут
получить от священных проповедников лжи. Почему ты не хочешь также
занять место среди учителей человеческого рода, утешителей бедствий науки,
карающих порок и вознаграждающих добродетели?» Реалистическое искус-
ство должно быть проникнуто страстностью отрицания и страстностью
утверждения. Оно должно вести за собой массу, поднимать, воодушевлять
у. облагораживать ее, внушая ей высокие добродетели гражданского муже-
ства. «Выразительность предполагает мощное воображение, пламенное вдох-
новение, искусство творить образы, одушевляя и возвеличивая их. Основ-
ное требование, предъявляемое к поэзии, так же как и к живописи, заклю-
чается в известной страстности суждения и вдохновения, огня и мудрости,
объяснения и хладнокровия, примеры которых несвойственны обыкновенной
природе». Такая программа является уже программой революционного
искусства, которое несколькими десятилетиями позже создаст полотна
Давида и пламенную «Марсельезу» Руже де Лиля.
Конечный идеал искусства для Дидро есть идеал искусства республи-
канского. «Республика — государство равенства. Облик республиканца бу-
дет высоким, твердым и гордым. В монархии, где приказывают и где под-
748
ПРОСВЕЩЕНИЕ
чиняются, характер выражения — изнеженность, грация, кротость, честь,
изящество. При деспотизме и сама красота будет рабской».
Заимствуя свое учение о добродетели в искусстве у английских эсте-
тиков и моралистов, в частности у Шефтсбери, Дидро, в поисках высоких
образцов искусства в прошлом, обращался к искусству античному.
Дважды уже французское искусство обращалось к античности: первый
раз — в эпоху французского Ренессанса, открывшего для себя мир вдохно-
вения в греческой и латинской поэзии, и второй раз — в эпоху класси-
цизма, стремившегося в основном следовать «Поэтике» Аристотеля. К ан-
тичному искусству обратился теперь и XVIII век. Искусство в этом отно-
шении нашло огромную поддержку науки, заново открывшей искусство
античного мира. Многие ученые отдаются в это время тщательному изу-
чению античной древности, — например, Вилуазон (Villoison), Шуазель-
Гуфье (Choiseul-Gouffier), Леруа (Leroy), Гюйс (Guys). Самым крупным
из них был граф де Кейлюс (Caylus, 1692—1765)—ученый, который за-
мыкает полосу антикварного изучения греческой и римской старины и от-
крывает эру научных исследований в этой области. Его колоссальный труд
«Собрание древностей» («Recueil ^antiquités», 7 томов, 1752—1767),
с огромным количеством иллюстраций, сделал во Франции такое же куль-
турное дело, какое в Германии, примерно в те же годы, осуществил зна-
менитый искусствовед-просветитель Винкельман, автор капитального, со-
здавшего целую эпоху, труда «История искусства древности» (1764).
Передовое эстетическое сознание нашло в этом вновь открытом антич-
ном искусстве животворящие и плодотворные примеры. Дидро, хорошо
знавший античность, подошел к ее искусству как к эстетическому выра-
жению идеи демократизма, идеи республиканской добродетели, как к вы-
ражению той красоты-истины, которой он требовал и от современных ху-
дожников. «О афиняне, вы дети!»—восклицал он, как бы предугадывая
ту характеристику античной культуры и искусства, которая будет впослед-
ствии дана Марксом. Вместе с тем, Дидро предвосхищал и буржуазно-
революционный классицизм последнего десятилетия XVIII в., тот класси-
цизм преданий римской республики, в которых «борцы за буржуазное
общество нашли идеалы и искусственные формы, иллюзии, нобходимые им
для того, чтобы скрыть от самих себя буржуазно-ограниченное содержание
своей борьбы, чтобы удержать свое воодушевление на высоте великой исто-
рической трагедии». 1
Конкретная критика художественных произведений, в частности про-
изведений живописи, относится к числу лучших страниц литературного на-
следия Дидро. Он является в своих «Салонах» истинным основателем
жанра критического очерка по вопросам искусства, отличаясь неизменной
остротой суждения, меткостью характеристик, умением передать вырази-
тельность художественных образов и строгим, дисциплинированным вкусом.
В вопросах музыки Дидро занимает те же передовые позиции, что и
в вопросах живописи. В своем учении о гармонии и в своих музыкально-
теоретических высказываниях он стремится преодолеть рационалистическую
систему музыки французского классицизма и открыть пути тому музыкаль-
ному языку, который был бы способен отобразить правду жизни. Он за-
мечает, что «тот, кто ищет мелодию в своем сердце, является человеком
чувствительным, а тот, кто ищет ее в своем ухе, является хорошо органи-
зованным автоматом». Вот почему в знаменитой «войне буффонов», разы-
4 ' К. M а р к с. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта. К. Маркс и Ф. Энгельс
Сочинения, т. VIII, стр. 324.
ДИДРО И ЭНЦИКЛОПЕДИСТЫ
749
гравшейся з 1752 г. в связи с приездом в Париж итальянской комической
оперы (opéra buffa), Дидро встал на сторону «буффонистов», сторонников
реализма в оперном либретто и характерной интонационности вокального
исполнения, не отрицая этим, однако, положительных достижений классиче-
ской музыки, поскольку в ней можно обнаружить тенденции к созданию
реалистического музыкального языка. Этот реалистический музыкальный
язык Дидро ищет, прежде всего, в живой человеческой интонации, усма-
тривая в ней тот прообраз музыкального языка, который должен утвер-
дить реализм музыкального содержания и музыкальной формы. Своими
воззрениями на музыку и на музыкальный реализм, изложенными, в част-
ности, во второй половине диалога «Племянник Рамо», Дидро предугадал
музыкальную революцию Глюка.
Теория театра и драматургии была предметом пристального внимания
Дидро. Говоря, что «драма создается для народа», Дидро-просветитель от-
давал себе ясный отчет в огромной воспитательной силе театрального
искусства. Разработанная им драматургическая система явилась во Фран-
ции последним словом передовой буржуазной мысли в области театра на-
кануне великих социальных потрясений конца XVIII в. Драматургические
взгляды Дидро явились вершиной теории мещанской драмы и обобщением
пройденного ею пути развития. В наследство ближайшему столетию Дидро
оставил целостную концепцию драматургического искусства, подтвержден-
ную и реализованную в литературной практике крупнейших буржуазных
драматургов-реалистов XIX в.
Свою борьбу за реалистическую драматургию Дидро начал с критики
классицизма. Уже в романе «Нескромные сокровища» (гл. 37—38) он дал
забавный обзор всех условностей классицистической драматургии. Впро-
чем, Дидро никогда не становился на позиции сплошного отрицания клас-
сицизма в драматургии. Он восхищался, например, глубоко реалистическим
изображением страстей у Расина. Еще более высоко ставил он античных
драматургов, а одному из них, Теренцию, даже посвятил специальный
очерк, в котором ставил в заслугу латинскому поэту правдивость его харак-
теров, естественность в развитии действия и изящество комедийного диа-
лога.
Основой драматургической программы Дидро было требование реали-
стической правдивости и идеи добродетели. Буржуазная драматургия в этом
отношении должна была стать верной спутницей идейного развития пере-
довой французской буржуазии.
Для осуществления этих задач необходимо было разрушить формаль-
ные правила классицизма. В условиях идейного роста драматургии третьего
сословия эти правила становились обручами, сжимавшими возможность ее
свободного и естественного развития. Дидро обратил особое внимание на
проблему драматургических жанров и предложил новую схему их деления.
«Вот, — писал он, — драматическая система во всем ее объеме: веселая
комедия, предметом которой является смешное и порочное; серьезная ко-
медия, предмет которой—добродетель и долг человека; трагедия, пред-
мет которой — наши семейные несчастья или народные катастрофы, или же
несчастья сильных мира сего. Но кто же ярко нарисует долг человека?
Какими качествами должен обладать тот, который поставит себе эту
задачу? Пусть он будет философом. . . Пусть он заглянет в самого себя и
увидит там человеческую природу, пусть он глубоко изучит общественные
сословия, их функции, значение, недостатки и преимущества». Таков жан-
ровый объем новой драматургии и таковы, вместе с тем, те основные тре-
бования, которые философия предъявляет к драматургу.
ч »u
ПРОСПГЩЕППИ
Особое внимание и в своих теоретических высказываниях и в своей
личной драматургической практике Дидро уделил жанру мещанской драмы,
в котором, по его мнению, должны сочетаться жанровые признаки серьез-
ной комедии с ее «добродетелью и долгом человека» и трагедии с ее «се-
мейными несчастиями». Пьесы «Побочный сын» и «Отец семейства» были
задуманы Дидро как иллюстрация тех возможностей, которые намечались
по линии развития именно этого жанра.
Каковы же должны были быть его общие свойства? Прежде всего —
это тематика буржуазной добродетели, черта, воспринятая Дидро у так
называемой «слезной комедии» XVIII в., но разработанная им в более
широком плане.
Вслед за тематикой подверглись реформе и самые образы драматур-
гии. Вместо рационалистических «характеров» классицистического театра
Дидро предлагал выводить на сцену «сословия» (conditions), т. е. людей
в их общественных функциях, характеризуя их этими функциями и подчи-
няя им житейские характеры индивидуумов, их конкретную психологию и
их поступки. Героями драмы должны были быть представители третьего
сословия, и драматургия, таким образом, должна была превратиться в жи-
вую картину быта и нравов французской буржуазии, а конфликты ее —
вытекать из общественно-бытовой проблематики современности. Драматур-
гические «правила» должны были быть пересмотрены. Не возражая против
знаменитых «трех единств» классицистической поэтики, Дидро пришел
к выводу: «Правила превратили искусство в рутину, и я не знаю, не были
ли они более вредны, нежели полезны. Договоримся: они были полезны
для заурядного человека, они были вредны для человека гениаль-
ного».
По существу, однако, этот вопрос не привлекает серьезного внимания
Дидро. Свою драматургическую реформу он осуществлял не в плане отри-
цания тех или других формальных требований классицизма. Драматурги-
ческая система Дидро имеет своим основанием новое мировоззрение и пред-
ставляет собою конкретный вывод из всей его философской системы приме-
нительно к практике одного из видов искусства. Это новое мировоззрение
и новое понимание действительности, как материала для драматургического
отображения, ясно выражены в следующем отрывке из рассуждения
«О драматической поэзии», где как будто приподнимается завеса над буду-
щим романтическим театром:
«Когда именно природа дает образцы для искусства? Когда дети рвут
на себе волосы у постели их умирающего отца; когда мать обнажает свою
грудь и заклинает сына, вскормленного этой грудью; когда друг отрезает
себе волосы и разбрасывает их по трупу своего друга; . .. когда вдова
в отчаянии раздирает себе лицо ногтями у тела мужа, которого похитила
у нее смерть; когда вожди народа во время общественных бедствий уни-
женно припадают к земле, разрывают на себе одежды и бьют себя в грудь
от горя; .. . когда боги, жаждущие человеческой крови, удовлетворяются
лишь после ее пролития. Я не говорю, что эти нравы хороши, но они по-
этичны. Что нужно поэту? Грубая или возделанная природа, спокойная
или бурная? Предпочтет ли он красоту чистого и безмятежного дня ужасу
темной ночи, когда к непрерывному свисту ветра порой примешивается гро-
хот отдаленного грома и когда он видит молнию, разрезающую темное небо
над его головой? Предпочтет ли он зрелище спокойного моря бушующим
волнам? Немой и холодный облик дворца — прогулке среди развалин?
Здание и сад, засаженный человеческой рукой — чаще древнего леса и не-
ведомой расселине пустынной скалы? Водную поверхность, бассейн,
ДИДРО И ЭТТ ПИК ЛОТТЕ дпстьт
751
каскад — зрелищу гигантского водопада, который распыляется, падая на
скалы?.. Поэзия требует чего-то огромного, варварского, дикого».
Такой программы в своей драматургической практике Дидро не осу-
ществил в силу отмеченных выше противоречий, присущих реализму про-
светителей (см. «Введение» к отд. III). Две основные пьесы Дидро-дра-
матурга — «Побочный сын» и «Отец семейства» — представляют собой
типичные драмы семейной добродетели и буржуазных нравов, идейное содер-
жание которых далеко не поднимается до высот буржуазно-революцион-
ного мировоззрения.
Молодой человек Дорваль, любимый девушкой по имени Констанс,
сам влюблен в Розалию, невесту своего друга Клервиля. Он борется с этой
любовью и отрекается от нее во имя долга дружбы. К счастью, когда Ро-
валия находит своего отца, последний признает в Дорвале своего побочного
сына. Такова драматическая ситуация «Побочного сына» Дидро.
В «Отце семейства» на сцену выступает негоциант д'Орбессон, отец
двух детей Сент-Альбена и Сесиль. Сент-Альбен любит бедную, доброде-
тельную девушку Софи, Сесиль влюблена в Жермениля, сына старого
друга ее отца. Брак Сент-Альбена затрудняется различием общественного
положения и состояний влюбленных, а также вмешательством шурина
д'Орбессона, богатого, но бесчестного д'Овиле. Тем не менее, этот брак
,все же устраивается, так как Софи, против которой д'Овиле запасся пред-
писанием на ее арест, спасает Жермениль, спрятавший ее в комнате своей
невесты, а сам д'Овиле оказывается бессердечным, покинувшим ее в бед-
ности дядей.
В смысле приложения принципов разработанной им новой драматур-
гической системы Дидро в обеих пьесах достаточно последователен. В них
формально содержится все, чего он требовал от драматурга, и «Отец се-
мейства» в этом отношении представляет несомненный драматургический
и театральный интерес, что подтвердил его позднейший успех у зрителей
(в особенности в Германии). Тем не менее, обе эти пьесы в существе своем
далеко не достигают уровня теоретических воззрений Дидро в области дра-
матургии. В них заложены задатки всего дальнейшего развития буржуаз-
ной реалистической драматургии, начиная от жанра семейной мелодрамы и
кончая буржуазной психологической драмой конца XIX в. Но задатки эти
не развиты до степени большой художественной значимости. Теоретическая
мысль Дидро значительно опередила его драматургическую прак-
тику.
Третья пьеса Дидро «Хорош он или плох» («Est-il bon, est-il méchant?»)
заслуживает специальной оценки. Законченная уже под конец жизни писа-
теля, она представляет собою нечто среднее между комедией нравов и из-
любленной Дидро формой повести-диалога. Она содержит некоторые авто-
биографические черты. Под покровом необычной для Дидро легкой
салонно-комедийной формы он разработал здесь проблему буржуазного
устройства в жизни, раскрыв перед читателем один из уголков буржуаз-
ного Парижа с той житейской суетой и неистовым карьеризмом, которые
впоследствии были столь гениально изображены в романах Бальзака.
В своей драматургической теории, завершающей путь, проделанный
европейской художественной и критической мыслью в поисках форм ме-
щанской драмы, Дидро имел предшественников, главным образом, в Анг-
лии. Здесь на первом месте надо назвать буржуазную трагедию Джорджа
Аилло «Лондонский купец, или История Джорджа Барнвеля» (1731), в ко-
торой развернута картина пагубной страсти, доводящей молодого приказ-
чика до полного морального падения. В пьесе этой с силой проявился тот
752
ПРОСВЕЩЕПИБ
новый патетизм чувств, который буржуазное сознание могло противопоста-
вить уже потускневшим краскам классической трагедии. Продолжателем
Лилло был Эдуард Мур, автор нескольких буржуазных драм, среди кото-
рых наибольшей известностью пользовался «Игрок» (1753), вызвавший
восторг Дидро и переведенный им на французский язык.
У английских драматургов Дидро заимствовал ряд основных мотивов
своей драматургической теории и, прежде всего, мотив семейного и обще-
ственного несчастья, подвергающего испытанию мораль буржуазных героев.
Мотив этот можно отчасти уже встретить в «слезной комедии» Нивеля
де Лашоссе, в особенности же у ближайших предшественников мещанской
драмы Дидро — у Ландуа (Landois) с его «Сильвией, или Ревнивцем»
(«Sylvie, ou le Jaloux», 1742) и y мадам де Графиньи (Graffigny) с ее
«Сенией» («Cénie», 1754). Из этих пьес первая в особенности предвосхи-
щала формулированные Дидро принципы сценического реализма.
Косвенное влияние на драматургическую систему Дидро оказало, не-
сомненно, и творчество Ричардсона. Подобно тому, как в области изобра-
зительных искусств Дидро провозглашал необходимость сближения живо-
писи и литературы, так и в области театра он, в сущности, искал обновле-
ния драматургических форм и их содержания в сближении драмы с рома-
ном и, прежде всего, с тем чувствительным семейным буржуазным романом,
образцы которого были даны Ричардсоном.
Драматургическая система Дидро сыграла огромную роль в развитии
европейской драмы. Лессинг, критикуя драматургическую практику Дидро
в своей «Гамбургской драматургии», сам следовал его системе в своих
пьесах и в своих теоретических высказываниях по вопросам драматур-
гии. Во французской предреволюционной драматургии теоретические воз-
зрения Дидро нашли отклик в драматическом творчестве Мишеля Седена
(Michel Sedaine, 1719—1797), автора либретто нескольких мещанских ко-
мических опер — «Блез башмачник» («Biaise le savetier», 1759), «Король
и фермер» («Le Roi et le Fermier», 1762), «Роза и Колас» («Rose et Colas»,
1764), «Дезертир» («Le Déserteur», 1769). Седен написал первую во Фран-
ции мещанскую драму, имевшую крупный сценический успех, — «Философ,
сам того не зная» («Le Philosophe sans le savoir», 1765), в которой Дидро
с радостью увидел мастерское осуществление своей драматургической тео-
рии. Седену удалось в этой пьесе найти простую и, вместе с тем, волную-
щую патетику темы «семейного несчастья». Последовательно осуществлял
в . ряде своих пьес теоретическую программу Дидро Луи-Себастьян
Мерсье (см. ниже, гл. VII). Бомарше отдал дань жанру буржуазной
драмы в своих пьесах «Евгения» (1767), «Два друга» (1770) и «Пре-
ступная мать» (1792). В годы революции этот жанр нашел свое выра-
жение в пользовавшейся огромным успехом драме Монвеля «Мона-
стырские жертвы» (1792). В Германии в подражание «Отцу семей-
ства» Дидро был написан пользовавшийся широкой популярностью на
немецкой сцене «Немецкий отец семейства» Геммингена.
Русский театр XVIII в. воспринял этот жанр, правда, сочетая его
с традициями «слезной комедии». «Друг несчастных» Хераскова (1774) и
его же «Гонимые» (1775), «Преступник от игры» Дмитрия Ефимьева
(1788) и некоторые другие образцы зарождавшейся русской реалистиче-
ской драмы имели свои корни в теории Дидро и драматургической прак-
тике его сподвижников и преемников.
Драматургическая теория Дидро теснейшим образом связана с его
взглядами «а театр. Как в драматургии, так и в вопросах сценического
ДИДРО.
С портрета Фрагонара (в частной коллекции А. Пастое").
ДИДРО И ЭНЦИКЛОПЕДИСТЫ
t53
искусства и актерской игры Дидро был поборником реалистических прин-
ципов. Критику постановочных условностей классицистического театра мы
находим в его сочинениях по драматургии, а также в содержательном пись-
ме к г-же Риккобони, в котором он отвечает на ее упреки по поводу осуж-
дения им освященных обычаем и вкусом театральных традиций. Письмо
свое Дидро начинает с критики существующей системы оформления сцены;
он требует, чтобы декорация представляла собой реалистическое воспроиз-
ведение места действия со всеми деталями, необходимыми для создания пол-
ной иллюзии. Далее он говорит о ряде условностей современного театра —
об условных мизансценах, о декламации актеров, об устройстве сцены, об ее
освещении и т. д., доказывая безжизненность правил классической тра-
диции.
«Парадокс об__актере», в котором повторяется ряд мыслей из письма
к г-же Риккобони и из переписки Дидро с актрисой Жоден, является од-
ним из самых блестящих произведений Дидро по вопросам искусства.
Здесь объединяются и приводятся в систему все его руководящие идеи по
вопросам драматургии и практики театрального искусства; в частности,
дается обоснование метода актерской игры. Последний вопрос весьма
-серьезно дебатировался в критической литературе XVIII в. Теория «пере-
живания» и теория «представления», теория игры «нутром», т. е. эмо-
циональными данными актера, и теория игры «техникой», руководимой
рассудком,— находили себе каждая немало приверженцев. Однако пере-
вес был, несомненно, на стороне тех, кто защищал «переживание».
Дидро написал свой «Парадокс» в опровержение нашумевшей аноним-
ной брошюры «Гаррик, или Английские актеры» (1769), которая пред-
ставляла собой попытку теоретического обоснования принципа переживания
и эмоциональной возбудимости как основы актерского творчества. По от-
ношению к этой точке зрения Дидро занял непримиримую позицию. Исходя
из своего понимания разума как верховного судьи чувств и протестуя
против идеалистического, субъективно-психологического понимания чувстви-
тельности, Дидро строит свое понимание процесса актерской игры на гла-
венстве творческого рассудка и сознательной техники.
Произведение искусства, утверждает Дидро, создается не в бескон-
трольном экстазе, а в разумном творческом состоянии. Отрицая стихий-
ность физиологического эмоционализма в актерской игре, Дидро направляет
острие своей критики в стиль актерского исполнения как старой, уже пере-
жившей себя классицистической школы, так и новой школы, рожденной
успехом «слезной комедии». Обе эти школы должны уступить место реали-
стическому стилю актерской игры, основанному на познании природы и на
строгой разумности, т. е. на полном осознании процесса воплощения сце-
нического образа.
о
Рассмотрение взглядов Дидро на искусство, неотделимых от его общих
философских воззрений, естественно, приводит к вопросу о том, в какой
степени личное литературное творчество Дидро как писателя-художника
было обусловлено его философско-эстетической мыслью.
Наследие Дидро в области художественной прозы невелико, но каж-
дое из его произведений занимает в истории французской литературы
XVIII в. значительное место, а диалог «Племянник Рамо» является одним
из шедевров французской художественной прозы.
Из первых опытов Дидро в области повести и романа следует оста-
.,~т,,,.т„_^ст иа «T-î<v-vnr>MHbTv mvппиитпах» и «Белой птице».
754
ПРОСВЕЩЕНИЕ
«Нескромные сокровища» представляют собою серию отдельных не-
больших новелл, связанных общностью главных персонажей и вставлен-
ных в привычную для литературы XVIII в. условную ориентальную рамку.
Скучающий султан Монгогуль получает от волшебника Кукуфа закол-
дованный перстень, поворот которого заставляет дамские «сокровища»
выбалтывать все будуарные тайны своих обладательниц. Султан развле-
кает себя и своих приближенных этими разоблачениями, попутно ведя со
своей наложницей Мирзозой и со своими приближенными беседы на раз-
личные темы общественной морали, науки, искусства и литературы.
Этот галантно-эротический роман молодой Дидро посвятил своей по-
друге мадам Пюизьё и напечатал его, как обычно печатались произведения
подобного рода, под маркой несуществующего голландского издательства.
«Нескромные сокровища» ближайшим образом примыкают к тем об-
разцам галантно-эротической литературы XVIII в., корифеями которой
были Кребильон-младший, Дюкло, а позднее — Луве де Кувре. Вместе
с тем в этом произведении наличествует и иная традиция — традиция ли-
тературной мистификации, ставящей своей целью обзор современной фран-
цузской действительности и современных нравов глазами стоящих вне ее
сторонних наблюдателей, т. е. традиция «Персидских писем» Монтескье и
философских повестей Вольтера.
Под покровом условного ориентализма читатели легко угадывали со-
временную им французскую действительность. В султане Монгогуле они
различали черты Людовика XV, в его отце, султане Эргебзеде, — облик
«короля-солнца», Людовика XIV; маркиза Помпадур представала в образе
наложницы Мирзозы, а распутный маршал Ришелье — в образе визиря
Селима. Так галантно-эротическое повествование оказывалось стоящим на
грани сатиры, направленной против верхов французского общества. В эро-
тических разоблачениях альковных тайн раскрьшались распущенные нравы
французского двора времен Регентства и Людовика XV.
Повесть «Белая птица» представляет собою аллегорическую сказку,.
где все тот же ориентально-фантастический покров набрасывается на скеп-
тическую усмешку по адресу абсолютизма и аристократии.
Однако не повестями этого жанра Дидро стяжал себе славу одного
из лучших французских прозаиков. Этим он обязан своим реалистическим
романам.
Роман «Монахиня» был написан в 1760 г., но опубликован, как и ряд
других произведений Дидро, значительно позже, именно — уже после
смерти его автора, в 1796 г., когда он сыграл большую роль в развер-
нувшейся в годы революции антиклерикальной пропаганде.
Сюжет «Монахини» несложен. Это — печальные приключения молодой
девушки,,, насильно заточенной родителями в монастырь, становящейся там
жертвой развратных монахинь и, наконец, убегающей из монастыря на
волю, в надежде начать честную трудовую жизнь. Основное в романе —
острая публицистическая направленность, связанная с убедительной карти-
ной душевных переживаний героини. С большим реализмом показано, как
в сердце тихой и покорной вначале девушки появляются первые зародыши
сомнения, вскоре переходящие в чувство протеста и гнева, завершающееся
открытым бунтом против насилия над влечением к жизни, против мона-
стырского лицемерия и религиозного обмана, против суеверия, тирании и
надругательства над правом женщины на свободную, самостоятельную и
радостную жизнь.
С большим мастерством, которое одушевлено пафосом антиклери-
кального и обличительного протеста, рисует Дидро типы затхлого мона-
ДИДРО И ЭНЦИКЛОПЕДИСТЫ
78»
стырского мира. Героиня его отрясает от своих ног прах гниющей мертве-
чины монастырского склепа. Так роман разрешает двойную идейную
задачу — задачу разоблачения религиозного фанатизма незадачу утверж-
дения общественных прав женщины, в защиту которых Дидро приходи-
лось не раз поднимать свой взволнованный и гневный голос.
Дидро в известной мере явился в «Монахине» учеником Ричардсона,
основоположника английского семейного романа. Ричардсон был одним из
первых его литературных увлечений. Его памяти Дидро посвятил востор-
женное «Похвальное слово Ричардсону» («Éloge de Richardson», 1761), в
котором он сравнивал созданный Ричардсоном жанр буржуазного романа
с гомеровским эпосом. Следы литературной манеры Ричардсона можно
обнаружить в языке и в некоторых чертах стиля «Монахини». Однако ро-
ман Дидро по существу своему очень далек от ричардсоновского сентимен-
тализма, поскольку заключенный в нем дух страстного протеста выходит
далеко за рамки «семейного» романа, романа мещанских добродетелей.
Следующий реалистический роман Дидро, «Жак-фаталист» («Jacques
le fataliste»), был написан в 1773 г. Если Ричардсон в той или иной сте-
пени оказал влияние на «Монахиню», то на создание «Жака-фаталиста»
повлиял Стерн с его «Тристрамом Шенди» и «Сентиментальным путеше-
ствием». В. 1780 г. Гете писал: «Здесь ходит по рукам рукопись Дидро,
озаглавленная «Жак-фаталист и его хозяин»,—поистине первоклассное
произведение; это очень тонкое и изящное кушанье, приготовленное и /по-
ложенное на блюдо с большим искусством, точно оно предназначено для
какогоннибудь идола. Я сам занял место этого идола и в течение шести
часов без перерыва глотал все кушанья в том порядке и согласно с теми
целями, какие указал этот превосходный повар и метр-д'отель».
Этот отзыв Гете не был внушен ему, конечно, одной лишь страстью
к литературному гурманству. Великий германский писатель, .видимо, раз-
глядел в романе Дидро тот его внутренний смысл, который ускользнул от
ряда последующих критиков Дидро и который придает нарочито беспоря-
дочной композиции этого произведения глубокую идейную значимость.
Жак-фаталист, слуга и фактотум своего безличного и безыменного
хозяина, сопровождает его в'некоем путешествии, маршрут и цели кото-
рого остаются читателю неизвестными. Образы романа возникаю^ на пере-
крестках проезжих дорог или в гостиницах для путешественников, и
затем исчезают столь же неожиданно, как появились, после нового неожи-
данного поворота все той же нескончаемой дороги. Жак рассказывает
своему хозяину историю своей первой любви, но рассказывает ее с ^десят-
ками отступлений, возвращений назад, перерывов и скачков мысли. ^Роман
превращается в пеструю мозаику диалогов, рассказов, вставных ^новелл,
анекдотов и описаний. Следуя примеру Стерна в его романе «Щристрам
Шенди», Дидро не раз отвлекается для непосредственных разговоров
с читателем, предупреждая его недоумения и разъясняя ему его,сомнения.
В простодушных рассказах Жака о его любовных похождениях%мы|находим
немало отзвуков откровенного -юмора Рабле, а в его фаталистической
философии можно усмотреть тот непобедимый народный оптимизм, чноси-
телем которого является бойкий на язык и неунывающий слуга.
Среди новелл и анекдотов, из которых состоит повествовательный
материал «Жака-фаталиста», обращает на себя внимание рассказ о люгбви
и мести мадам де Ла-Поммере ее неверному любовнику маркизу Дезарси—
один из классических образцов французской новеллистики. Сочетая в себе
тонкость психологического анализа с остротой характеристики современных
нравов, этот рассказ об утонченной мести стареющей и теряющей своего
786
ПРОСВЕЩЕНИЕ
любовника светской дамы,— мести, которая приводит, однако, к торже-
ству истинной любви, раскрывает перед читателем изнанку «галантного
века». Фривольная эротика заслоняется здесь глубоким драматизмом
ситуации, чеканной точностью психологических характеристик действующих
лиц и проникновенным анализом картины вероломства, которому проти-
востоит очищающая сила истинного чувства. Шиллер один из первых
оценил достоинство этой повести и перевел ее на немецкий язык.
Главное действующее лицо «Жака-фаталиста», сам слуга Жак, является
отдаленным потомком бессмертного Санчо Пансы, а также героев плутов-
ского романа. В море житейского существования, на волнах которого чело-
века ежечасно подстерегают счастливые и несчастные неожиданности, его
фатализм перестает быть сознанием покорности судьбе и случайности. Жак
олицетворяет то сочетание стоической и эпикурейской морали, о котором
говорил сам Дидро. Любимая фраза Жака «Так было решено свыше» яв-
ляется, в сопоставлении со всеми обстоятельствами его существования,
самым убедительным опровержением идеи фатума и предустановленностн
человеческой судьбы. Жак — образ неунывающего героя. Его оптимизм —
это оптимизм французской демократии, которая через полтора десятка
лет после написания «Жака-фаталиста» пела на улицах и площадях рево-
люционного Парижа свою задорную песенку «Ça ira».
Рядом с оптимистическими мотивами в «Жаке-фаталисте» звучат и
иные темы. «Кто это такой?» — спрашивает Жак, уолыхав в одном из
разговоров имя Сократа. «Сократ был мудрецом в Афинах, — отвечает
ему хозяин;—испокон веков роль мудреца была опасною среди глупцов».
За этим следует страница, посвященная характеристике современного поло-
жения философов, ненавидимых сильными мира сего за независимость
своей мысли и опасливо неодобряемых обывателями за вольнодумство.
Между «Монахиней» и «Жаком-фаталистом» был написан знаменитый
диалог «Племянник- Рамо»_ («Le Neveu de Rameau», 1762), повидимому,
подвергшийся в 70-х годах некоторой переработке. Как и другие романы
Дидро, «Племянник Рамо» был напечатан только после его смерти, притом
первоначально в немецком переводе Гете, так как французский оригинал
был затерян в 1805 г. Только значительно позже удалось разыскать ру-
копись Дидро, после чего «Племянник Рамо» появился в свет на фран-
цузском языке в 1823 г. В 1869 г. Маркс писал Энгельсу: «Сегодня я Ьу
accident [случайно] обнаружил, что у нас дома имеются два экземпляра
«Neveu de Rameau», поэтому посылаю тебе один. Это неподражаемое про-
изведение еще раз доставит тебе наслаждение». '
Герой диалога — реальная личность, действительно живший племян-
ник знаменитого композитора Рамо, Жак-Франсуа Рамо, человек несом-
ненно одаренный, но в еще большей степени беспорядочный и ленивый,
без особого успеха пробовавший свои силы в музыке и в поэзии и остав-
шийся на всю жизнь тем интеллигентным бродягой, каких в достаточном
количестве порождала предреволюционная французская жизнь. Комменти-
руя в своей «Феноменологии духа» диалог Дидро, Гегель определял его
героя, как яркое воплощение «сознания, сознающего свою разорванность
и выражающего ее», как «язвительную насмешку над наличным бытием...
и над самим собою». Определение это в равной мере подходит и к литера-
турному образу племянника Рамо, воссозданному Дидро, и к его житей-
скому прототипу. Дидро блестяще применил на практике одни из принци-
1 Письмо от 15 апреля 1869 г. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XXIV,
стр. 190.
ДЛДРО И ЭПЦИКЛОПЕДИСТЫ toi
пов своей эстетики—-подражать жизни, создавая в художественных
образах ее правдивое подобие, «раскрытое через возможные, но редкие и
чудесные обстоятельства».
Образ племянника Рамо — это увековечение той «разорванности со-
знания», которая питалась распадом и гниением старого общества. Мефи-
стофелевский цинизм собеседника Дидро, его язвительная насмешка над
«наличным бытием», переходят в апологию лицемерия, лести и обществен-
ного паразитизма. «Не следует забывать, — замечает племянник Рамо, —
что в таком изменчивом предмете, как нравы, нет ничего безусловного,
существенного и вообще верного или ложного, кроме того правила, что
нужно быть таким, каким приказывает быть расчет, — хорошим или Дур-
ным, мудрым или глупцом, приличным или смешным, честным или пороч-
ным. . . Когда я говорю: порочен, я прибегаю к вашему способу выраже-
ния; ведь если бы мы захотели объясниться, то, вероятно, оказалось бы,
что вы называете пороком то, что я называю добродетелью, доброде-
телью— то, что я называю пороком».
Один из основных житейских выводов племянника Рамо сводится
к следующему: «В природе все породы животных пожирают одна другую,
в обществе истребляют друг друга все сословия». В устах племянника
Рамо звучат последующие мотивы бальзаковских романов с их героями
хищничества и паразитизма. Этот представитель деклассированной интел-
лигентской богемы XVIII в. с его беззастенчивым принципом житейского
приспособленчества раскрывает в себе ряд социально-психологических черт,
присущих не только французскому «старому режиму», но и будущему
французскому буржуазному обществу. Он — отражение своих хозяев, а
этими хозяевами в равной мере могут быть и разлагающаяся, старорежим-
ная аристократия, и хищническая буржуазия XIX в.
В своем «Племяннике Рамо» Дидро заглядывает далеко вперед. Са-
тира его обнажает перед читателем то истинное лицо буржуа-хищника,
которое с течением времени выступит на смену идеальному просветитель-
скому «царству разума», либеральному прекраснодушию времен Генераль-
ных штатов и героическому утопизму якобинства. Племянник Рамо —
отщепенец своего общества, с предельной откровенностью запечатлевший
на своем лице все характерные черты его разложения.
В своем воображаемом диалоге с Дидро этот проходимец разворачи-
вает захватывающую и патетическую картину своей принципиальной без-
нравственности. Дидро пользуется этой безнравственностью для того,
чтобы меткими ударами разделаться с явными и тайными врагами «Энци-
клопедии» и философского просветительства, возглавляемыми Палиссо и
подобными ему литературными рептилиями. Дидро не упускает здесь
также случая развить свои взгляды на музыку и на необходимость реали-
стической реформы музыкального языка. Как и ряд других произведений
Дидро, «Племянник Рамо» является маленькой энциклопедией его мыслей,
чувств и настроений, охватывающей в сжатой, афористической форме са-
мые острые и тревожные проблемы жизни, мысли и человеческого поведения.
Этот внциклопедизм мышления, огромная внутренняя необходимость
включать в сферу своей мысли все факты и все явления, которые необхо-
димо учесть, истолковать и переоценить в колоссальной по трудности
выработке нового, прогрессивного и революционного сознания, составляет
одну ия самых замечательных и привлекательных черт творческой лич-
ности Дидро. Его литературное наследие, не говоря уже об организован-
ной и изданной им «Энциклопедии», охватывает разнообразнейшие области
мысли, знания и искусства. И в каждой из этих областей Дидро оставил
7 О»
ПРОСВЕЩЕНИЕ
значительный, почти всегда предвосхищающий их дальнейшее развитие
след. Теория познания, натурфилософия, учение о мироздании, естествен-
ные и общественные науки, технические знания, теория искусства, теория
драмы и музыки, — во всем этом Дидро принадлежат инициативные, сме-
лые и независимые мысли, являющиеся синтезом передовых идейных
устремлений его времени и надолго определившие дальнейшую прогрессив-
ную работу человеческого ума. Как писатель, как мастер языка и художе-
ственных образов, Дидро вместе с другими крупнейшими мастерами фран-
цузской прозы XVIII в. заложил основы того реалистического стиля,
который в течение целого последующего века составил движущее, передо-
вое начало французской литературы. Недаром Маркс, столь высоко це-
нивший Данте, Шекспира, Сервантеса и Бальзака, назвал именно Дидро
своим «любимым прозаиком». '
Последние годы Дидро прошли в неустанных трудах и углубленных
научных занятиях. Один за другим сходили в могилу его былые сподвиж-
ники, сотрудники, противники и друзья. Руссо умер в 1778 г., Даламбер
в 1783, Кондильяк в 1780, Гельвеций в 1771, Тюрго в 1781, Вольтер в
1778 г. Дидро видел, как уходит со сцены жизни и с арены борьбы его
поколение. В одном из писем к княгине Е. Р. Дашковой он указывал на
неизбежность крушения старого порядка. И действительно, через пять лет
после смерти Дидро в Париже были созваны Генеральные штаты, третье
сословие объявило себя истинным представителем освобождающейся на-
ции, и народ штурмовал вековые стены Бастилии — символа угнетения и
деспотизма старого порядка. Многим казалось тогда, что наступает эра
идеального царства разума и должны навеки восторжествовать истина, зна-
ние и справедливость. Но «царство разума» оказалось лишь царством
буржуазии. Светлый и ясный ум Дидро, сослуживший всему передовому
человечеству великую службу в деле разрушения «предрассудков» старого
порядка, не мог еще предвидеть дальнейшего развития буржуазии к дес-
потизму капиталистической эксплоатации, колониального угнетения, со-
циального лицемерия и политической лжи.
Свое литературное наследие Дидро завещал будущему. Он был одним
из тех борцов за счастье угнетенного человечества и за окончательное рас-
крепощение трудящихся, которые, по словам Энгельса, фанатически дер-
жались идеи прогресса человечества и приносили ему часто величайшие
личные жертвы. «Если кто-нибудь посвятил всю свою жизнь служению
«истине и праву» (в хорошем смысле этих слов), то именно Дидро».2
4
1 К. Маркс. Исповедь. К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве. Сборник под ре-
дакцией Мих. Лифшица, М., 1937, стр. 664.
2 Ф. Энгельс. Людвиг Фейербах. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. X!V,
стр. 654.
ГЛАВА VU
ф РУССО И РУССОИЗМ
1
ичность и творчество Жан-Жака Руссо (Jean-Jacques
Rousseau, 1712—1778) принадлежат к тем явлениям
французской культуры XVIII в., которые оказали наи-
более длительное, наиболее глубокое и в некоторых
отношениях решающее влияние на идейную жизнь со-
временников и на развитие литературы ближайших к
нему и более отдаленных поколений. Объяснять это
следует не только личной талантливостью Руссо, не
только (масштабом его художественного дарования как
писателя или оригинальностью его философских и по-
литических концепций, но и тем прежде всего, что в этом своеобразнейшем
представителе идейных устремлений своего времени нашел свое последова-
тельное выражение процесс отрицания существующих условий обществен-
ной жизни, существующей морали, государственного строя и эстетиче-
ских норм.
Мировоззрение Руссо зрело и складывалось на путях к тому огромному
социально-политическому потрясению всего старого порядка, каким явилась
Французская буржуазная революция. Из числа великих деятелей «века
Просвещения» он, пожалуй, с наибольшим правом может быть назван ее
предтечей и идейным провозвестником. Это право остается за ним, не-
смотря на всю противоречивость его социально-философской доктрины,
несмотря на крайний субъективизм ряда его утверждений, несмотря, на-
конец, на то, что объективно-исторические задачи революции были осу-
ществлены в направлении, далеко не совпадавшем с у стремлениями руссоизма.
Руссо прожил жизнь скитальческую и беспорядочную. Причина этого
заключалась отчасти в самом характере писателя, отличавшемся большой
неустойчивостью и склонностью поддаваться случайным внушениям своих
чувств, отчасти в тех отношениях, в которые он вольно или невольно ста-
вил себя к окружавшим его лицам, но прежде всего в самом направлении
его мысли, в откровенности и прямоте, с какими она выражалась, наконец,
в непримиримости многих его воззрений.
Жан-Жак Руссо родился в Женеве. Швейцарец по месту рождения и
по гражданству, он был французом по национальности. Предки его отца
эмигрировали из Франции в годы религиозных войн середины XVI в..
760
ПРОСВЕЩЕНИЕ
обосновавшись в гостеприимной протестантской Швейцарии. Отец писателя,
Исаак Руссо, был часовщиком и учителем танцев; он принадлежал к
среднему кругу женевской буржуазии. Смерть матери, последовавшая
вскоре после рождения будущего писателя, сыграла большую роль в укладе
жизни его ранних лет. Отец доверил воспитание ребенка сначала его
тетке мадам Гонсерю, затем своему шурину Бернару, и вскоре перестал за-
ботиться о его дальнейшей судьбе. Отцу своему, однако, Руссо обязан
одним приобретением — любовью к чтению, заставившей его с юных лет
впитать в себя влияния чувствительно-галантных романов Оноре д'Юрфе,
Ла Кальпренеда и м-ль де Скюдери. Мальчика пытались приохотить к тому
или другому ремеслу, в том числе и к гравировальному делу, но безуспешно.
В нем рано проснулась жажда вольной, бродячей жизни.
В 1728 г. он в один прекрасный день покинул Женеву и очутился на
савойской территории. Здесь его приютил престарелый кюре одной из
сельских церквей, воспользовавшийся случаем обратить в католическую
веру беглого протестанта и направивший его к владелице ближайшего
имения в Аннеси — мадам де Варенс. Гостеприимство мадам де Варенс,—
молодой женщины, легко увлекавшейся и отличавшейся свободными взгля-
дами,— сыграло большую роль в дальнейшей судьбе Руссо. Любопытство
мадам де Варенс к отданному под ее покровительство подростку перешло
вскоре во влюбленную дружбу. Руссо познал сладость чувствительной люб-
ви, но вскоре был отправлен в Турин, где должен был под руководством
местных духовников окончательно приобщиться к католическому вероуче-
нию. Из Турина он вернулся в Аннеси и был помещен в духовную семи-
нарию. Вскоре семинария была оставлена для занятий музыкой, для чего
пришлось ехать вслед за учителем в Лион. По возвращении из Лиона
Руссо уже не застал мадам де Варенс в Аннеси. Она уехала в Париж.
Жан-Жак, переживая по дороге самые различные приключения, отправился
в Женеву, оттуда в Лозанну, потом в Берн. Далее он снова очутился в
Лионе, затем в Париже и, наконец, разыскал мадам де Варенс в Шам-
бери. При ней на довольно двусмысленном положении домоправителя и
друга сердца он прожил с 1732 по 1741 г., то пускаясь в странствия, то
обосновываясь в ее доме, то пользуясь ее гостеприимством в небольшом
поместье Шармет. За эти годы мадам де Варенс, однако, нашла новые
привязанности. Сначала Руссо с ними мирился, но в конце концов, увле-
ченный перспективой столичной карьеры, отправился в Париж.
В Париже Руссо удалось войти в круг литературных и философских
светил. Знаменитый физик Реомюр рекомендовал его вниманию Академии
Наук, где в 1742 г. Руссо прочел доклад об изобретенной им новой циф-
ровой системе музыкальной нотации. Доклад не имел особого успеха, и
Руссо, отчаявшись в возможности одним ударом добиться решающей удачи
в жизни, поступил в 1743 г. в качестве личного секретаря к француз-
скому послу в Венгрии де Монтегю. Париж стал для Руссо на некото-
рое время городом утраченных иллюзий и порванных легких связей. Вскоре,
однако, ссора с Монтегю привела Руссо снова в Париж. Он приехал туда
с проектом задуманной под влиянием итальянской музыки оперы «Влюб-
ленные музы» («Les Muses galantes», 1745), которая не без успеха была
представлена на некоторых частных сценах.
О писательстве, как определенной жизненной профессии, Руссо в ту
пору серьезно еще не думал. Музыка была ему ближе, чем литература.
Он зарабатывал себе на жизнь перепиской нот, уроками игры на клавесине
и исполнением секретарских обязанностей у различных лиц. К этому вре-
мени относится знакомство Руссо с молоденькой служанкой одной из па-
РУССО И РУССОИЗМ
761
рижских гостиниц Терезой Левассер, которая стала спутницей всей его
дальнейшей жизни. Вместе с тем Руссо завязывал литературные связи и
знакомства. Он встречался с Гриммом, Даламбером, аббатом Кондильяком,
Бюффоном и, чаще всего, с Дидро. «Энциклопедии скептический причет»,
как называл эту группу Пушкин, принял его в свой круг. Для «Энцикло-
педии» Руссо написал ряд статей по истории и теории музыки. Его музы-
кальные занятия привели его в дальнейшем к сочинению комической
оперы «Деревенский колдун» («Le Devin du village», 1752), имевшей
даже за пределами Франции успех и повлиявшей, между прочим, на со-
здание «Мельника колдуна, обманщика и свата» Аблесимова. Вслед затем
Руссо сочинил «Письмо о французской музыке» (1753), оперы «Открытие
Нового света» («La Découverte du Nouveau monde», неоконч.), «Ифис»
(«Iphis», неоконч.), монодраму «Пигмалион» («Pygmalion», 1775) и со-
ставил «Музыкальный словарь» («Dictionnaire de musique», 1767).
Отправившись осенью 1749 г. пешком в Венсен, чтобы навестить со-
державшегося там в тюрьме Дидро, Руссо прочел по дороге в номере
газеты «Mercure de France» извещение о том, что Дижонская Академия
объявила конкурс на сочинение трактата на тему: «Способствовало ли воз-
рождение наук и искусств очищению нравов?» Сама постановка этого
вопроса свидетельствовала о возможности дать на него различные ответы,
в частности и ответ отрицательный. Руссо дал именно этот отрицательный
ответ. Явился ли он результатом мгновенной вспышки вдохновения, как
об этом рассказывает сам автор в своей «Исповеди», или же следствием
бесед с Дидро, как утверждают другие, но и в том и в другом случае он
был обусловлен более глубокими причинами. Эта мысль назревала в идейно-
философской и литературной атмосфере XVIII в. уже давно. Руссо, в
силу ряда особенностей своего характера и миросозерцания, дал этой
мысли наиболее яркое и страстное выражение. Его «Рассуждение о науках
и искусствах» («Discours sur les sciences et les arts», 1750) было удо-
стоено премии Дижонской Академии и окружило его имя ореолом известно-
сти, причем одни читатели восторженно восхваляли его, а другие на него
яростно нападали. В тот день, когда «Рассуждение» вышло в свет и при-
обрело себе сразу столь широкий круг читателей, взволновав все мысля-
щие круги Франции остротой своих выводов и смелостью формулировок,
родился если не руссоизм в целом, то некоторые важнейшие его элемен-
ты— требование возврата к природе, отрицание современной цивилизации,
проповедь «естественного человека» и «естественной свободы» от стесни-
тельных норм современной общественной жизни.
В 1754 г. та же Дижонская Академия объявила новый конкурс на
другую, еще более острую тему, формулированную таким образом: «Ка-
ково происхождение неравенства среди людей и оправдывается ли оно за-
конами природы?» Руссо ответил на этот вопрос своим «Рассуждением
о происхождении и основаниях неравенства среди людей» («Discours sur
l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes», 1754). Этот
трактат вышел значительно за рамки предложенной темы и представил со-
бою развернутый критический обзор формирования и развития человече-
ского общества. Рассмотрение этого вопроса привело Руссо к выводу, что
существующий общественный строй, основанный на частной собственности и
узурпации власти, не обеспечивает людям свободы и равенства, тем самым
незаконно лишая их возможности пользоваться своим основным и неотъем-
лемым естественным правом, и что этот строй должен быть заменен дру-
гим, более совершенным строем, удовлетворяющим требования свободного
и равноправного человеческого существован17Я. В этом втором трактате,
702
ПРОСВЕЩЕНИЕ
отличающемся еще большей идеологической остротой и вызвавшем еще
более оживленное обсуждение, руссоизм сделал значительный шаг вперед,
осветив по-новому основные проблемы общественного права.
Опубликование «Рассуждения о неравенстве» привлекло к Руссо вни-
мание властей. Автору пришлось на время покинуть Париж и проехаться
в Швейцарию. Здесь он снова вернулся в лоно родного кальвинизма и был
восстановлен в правах гражданина Женевы, которые он в свое время
утерял, перейдя в католицизм. Управление Женевы предложило ему
занять должность городского библиотекаря. Руссо предпочел этому пре-
бывание на опушке леса Монморанси, в небольшой, уютной вилле «Эрми-
таж», гостеприимно предложенной ему графиней д'Эпине. Восемнадцать
месяцев прожил он в этом уединении, деля время между усидчивой лите-
ратурной работой и беседами с частыми посетителями дома д'Эпине —
с Дидро, Гриммом, поэтом Сен-Ламбером и мадам д'Удето. Однако жизнь
в «Эрмитаже» закончилась рядом неприятностей, в которых сыграли роль
и семейные неурядицы Руссо, и вспыхнувшая в нем страсть к мадам
д'Удето, находившейся в интимных отношениях с Сен-Ламбером, и ссора
с Гриммом и Дидро, которые повели себя не совсем корректно в создав-
шейся весьма сложной и запутанной ситуации. В итоге Руссо покинул
«Эрмитаж» и переселился в Монморанси.
Здесь, в ответ на статью Даламбера о Женеве, напечатанную *в VII
томе «Энциклопедии», Руссо написал свое знаменитое «Письмо к Далам-
беру о театральных представлениях» («Lettre à M. Dalembert sur les
spectacles», 1758). Развивая свою излюбленную мысль о развращающем
влиянии наук и искусств на нравы, он выступил в этом письме с резкой
критикой предложения Даламбера основать в Женеве театр в целях ожи-
вления общественной жизни этого города и развития в его обитателях
художественного вкуса. Эта критика разрослась в пространный обвинитель-
ный акт против современного французского театра, подкрепленный рядом
доводов и примеров развращающего влияния театральных представлений
и театральных нравов на общественную мораль. Одновременно Руссо вос-
хвалял женевских пасторов, не допускавших театральных представлений
в этом городе, и восхищался патриархальными нравами республиканской
Женевы, являвшимися, по его мнению, образцом невинности, чистоты,
здоровой простоты и общественного приличия. «Письмо к Даламберу»
положило конец всяким отношениям Руссо к группе энциклопедистов. Оно
содействовало также разрыву его с Вольтером, который энергично про-
пагандировал театральные начинания на женевской территории, осуще-
ствляя их назло кальвинистским властям города.
В 1761 г. Руссо опубликовал роман «Жюли, или Новая Элоиза.
Письма двух влюбленных, жителей маленького городка у подножия
Альп» («Julie, ou la Nouvelle Héloise. Lettres de deux amants, habitants
d'une petite ville au pied des Alpes»), который создал целую эпоху в истории
европейской литературы и утвердил руссоизм не только как философско-
общественное, но и как литературно-художественное течение. В 1762 г.
появился «Общественный договор» («Le Contrat social»)—знаменитый
трактат по истории и теории государственного права, названный впослед-
ствии «евангелием революции» и сделавшийся настольной книгой Ро-
беспьера. Вслед за «Общественным договором», суммировавшим политиче-
ские взгляды Руссо, вышел в свет его «Эмиль, или'о' воспитании»
(«Emile, ou De l'éducation», 1762) роман-трактат на тему о методах и
задачах идеального воспитания того «естественного человека», права кото-
рого были определены в предшествующих сочинениях Руссо. Обе послед-
РУССО И РУССОИЗМ
7G3
ние книги вызвали жестокую
полемику, закончившуюся
вмешательством властей и вы-
нужденным отъездом, вернее
бегством, Руссо в Швейца-
рию.
В годы работы над «Но-
вой Элоизой», «Обществен-
ным договором» и «Эмилем»
Руссо жил в качестве гостя
то в поместье герцога Лю-
ксембургского в ^онморанси,
то в доме мадам де Буффле,
то в (имениях принца Конти.
8 июня 1762 г. он получил
тайное предупреждение от
герцога Люксембургского о
том, что постановлением цер-
ковных властей и парижского
парламента «Эмиль» осужден
на сожжение, а против его
автора возбуждено преследо-
вание. Причиной этих репрес-
сий явилась та часть «Эмиля»,
которая носит заглавие «Ис-
поведание веры савойского ви-
кария» («Profession de foi du
vicaire savoyard») и содержит
изложение религиозных воз-
зрений Руссо, сводящихся к
проповеди «естественной ре-
лигии» и к отрицанию вся-
кого (и в первую очередь,
католического) культа. Руссо
пришлось бежать и искать
пристанища на родине. ж ж о а
л л л н£о с* Ж. Ж. Руссо, «омиль или о воспитании».
11 июня 17ozr. «сЭмиль» „, .,,« г ,*
__ Фронтиспис изд. 1762 г. с рисунка Гравело. (Фетида, погру-
оыл сожжен в Париже, а жающая Ахилла в воды Стикса, чтобы вакалить его, — символ
„«„л.,-. ..«.__. _ « воспитания, которое проповедывал Руссо.)
через неделю подвергся той
же казни в Женеве. Руссо оказался у наглухо закрытых перед ним
ворот родного города. Сорбонна поспешила выступить с опроверже-
нием мыслей, содержавшихся в еретическом трактате, а парижский
архиепископ Кристоф де Бомон специальным постановлением запретил
его чтение. Даже Голландия, славившаяся свободой своего печатного
станка, изъяла из продажи «Исповедание веры савойского викария». В это
время Руссо искал себе пристанища в маленьком городке Ивердене, в
Бернском кантоне. Но и здесь он просидел недолго, потому что власти
Ивердена испугались пребывания в своих стенах всеевропейского еретика
и предложили автору «Эмиля» покинуть пределы города. Руссо пересе-
лился в графство Невшатель, в местечко Мотье, находившееся под властью
прусского короля. Здесь он прожил около трех лет, в течение которых
составлял «Музыкальный словарь» и опубликовал антиклерикальную
книгу «Письма с горы» («Lettres de la montagne», 1764).
Вольтер обрушился на некоторые из утверждений «Писем с горы»
своим «Мнением граждан» («Sentiment des citoyens»), в котором излил
немало яда на философскую доктрину Руссо в целом, так же как и на не-
которые черты его личной жизни и поведения. До этого он с пером
в руках читал «Эмиля», оставив на полях его ряд своих полемических
пометок — ценный документ для характеристики «ссоры философов»
(«la querelle des philosophes»), как впоследствии назвали литературный
• поединок между этими двумя виднейшими представителями Просвещения.
(Этот экземпляр «Эмиля» сохранился в собрании книг Вольтера, храня-
щемся в Гос. Публичной библиотеке имени M. Е. Салтыкова-Щедрина
в Ленинграде.)
Летом 1765 г. дом Руссо подвергся нападению кучки разгоряченных
антируссоистской кампанией людей. Автор «Писем с горы» едва не по-
страдал от града камней, посыпавшихся в окна его дома. Спасая свою
жизнь, он укрылся на острове Сен-Пьер посредине Бьенского озера, идил-
лическое пребывание на котором было им описано впоследствии в «Меч-
таниях одинокого любителя прогулок» («Rêveries d'un promeneur solitaire»).
Идиллия на Сен-Пьере продолжалась очень недолго. Вскоре был получен
приказ покинуть и это уединенное пристанище. Руссо отправился в Страс-
бург, а оттуда по настоянию друзей выехал через Париж, где он провел
некоторое время в качестве неприкосновенного гостя принца Конти, в Ан-
глию. В сопровождении философа Давида Юма он прибыл в Лондон в
январе 1766 г., а затем поселился в замке Вуттон, в графстве Дерби.
Здесь он написал первую часть своей знаменитой «Исповеди» («Les Con-
fessions», 1766—1770).
В это время У Руссо начали проявляться первые симптомы мании
преследования. Юм сначала пытался создать для своего гостя наиболее
благоприятную и успокоительную обстановку. Однако некоторые допущен-
ные им неловкости и болезненная раздражительность Руссо сделали свое
дело. Руссо, уже склонный усматривать у всех окружающих желание при-
чинить ему неприятность, написал Юму резкое писымо. Юм ответил ему
не менее резким посланием и весьма нетактично предал этот документ ши-
рокой огласке. Руссо бежал из Вуттона и с трудом добрался до Дувра,
откуда вернулся во Францию (1767).
Некоторое время он проживал гостем у графа Мирабо в Медоне и
у принца Конти в Нормандии. Мучимый страхом воображаемых преследо-
ваний, скрываясь под вымышленными именами, Руссо выбирал при своих
переездах с места на место глухие обходные дороги и нигде не находил
себе покоя. Он все время переезжал с места на место — из Жизора в
Лион, из Лиона, в Гренобль, из Гренобля в Гранд-Шартрез, из Гранд-
Шартрез в Бургуэн. Наконец, устав от этого безумного бега по Франции,
он поселился в 1770 г. в Париже в скромной квартирке на\^з^НЦеПлат-
риер, которая носит теперь его имя. Здесь он провел в относительном
внешнем сп1бКойствии восемь последних лет своей жизни вместе с Терезой
Левассер, встречаясь с немногими оставшимися у него верными друзьями
и осаждаемый почитателями его гения. Руссо занимался в эти годы пере-
пиской нот, сочинял романсы, совершал прогулки по Елисейским Полям
и изредка заходил в кафе Режанс выпить чашку кофе и сыграть партию
в шахматы. Он заканчивал свою «Исповедь», писал «Соображения по по-
воду правления в Польше» («Considérations sur le gouvernement de la Po-
logne», 1772), сочинял автобиографические «Мечтания» и «Диалоги».
Аккуратно переписанный экземпляр «Диалогов» он пытается тайно
положить ца алтарь собора Парижской богоматери, желая обеспечить
РУ∫ И РУЛСОИЗМ
763
сохранность их для потомства. Его продолжает все время преследовать
страх. Париж гнетет и давит его своей громадой. В 1778 г. Руссо прини-
мает приглашение маркиза де Жирардена переселиться в его поместье
Эрменонвиль. Здесь 2 июля 1778 г. его настигает смерть. Здесь же на
маленьком «Острове тополей» (l'Ile des peupliers), расположенном по-
среди озера в живописном парке, тело его было предано погребению.
«Остров тополей» сделался местом паломничества почитателей Руссо, при-
езжавших сюда со всех концов света. В 1794 г. решением Националь-
ного Конвента останки великого писателя были перевезены в Париж и
торжественно водворены в Пантеоне, где той же чести несколько ранее
удостоились Мирабо и Вольтер.
<2
Такова была жизнь Руссо, полная скитаний, волнений, упорной про-
поведи, пафоса личного одиночества, «сердечного воображения», сомнений,
отрицаний и взволнованных утверждений. Сам автор описал наибольшую
часть ее в своей знаменитой «Исповеди», по сей день остающейся едва ли
не наиболее откровенной (порой даже нарочито откровенной) автобиогра-
фией в мировой литературе. Являясь документом первостепенной худо-
жественной значимости, «Исповедь» представляет огромную ценность и
как документ психологический. Правда, «Исповеди» Руссо свойственна не-
которая стилизация переживаний автора, смотревшего на свою биографию
сквозь призму настроений уже старческих лет, отмеченных долгой и тяже-
лой нервной болезнью. Однако, при всей своей субъективности, «Испо-
ведь» принадлежит к числу тех документов, которые помогают уяснить
многое в формировании личности и мировоззрения ее автора.
В «Исповеди» непрестанно звучат четыре лейт-мотива, неизменно
выступающие также, в том или другом сочетании, в любом из произведе-
ний Руссо: культ личности, чувствительность, культ природы и ощущение
социальной несправедливости. Этими мотивами, в основном, характери-
зуется и философское мировоззрение Руссо, и его непосредственное жизне-
ощущение, и все его художественное творчество.
Сознание Руссо формировалось в крайне противоречивых условиях.
Чувствительность его натуры сталкивалась с привитой ему еще в молодые
годы пуританской строгостью, упорством и даже упрямством мысли.
Отсутствие интереса к общественной деятельности в собственном смысле
этого слова уравновешивалось обостренным и глубоким интересом Руссо
к основным проблемам общественного существования человека. Крайняя
-внутренняя несдержанность и недисциплинированность, граничившая, осо-
бенно в молодые годы, с моральным индиферентизмом, находила себе
противовес в проповеди идеальной морали и идеальных педагогических
правил, которые оплодотворили впоследствии воспитательные теории
Песталоцци, Фребеля, Дьюи. На каждом шагу жизнь и сознание Руссо
раскрываются в поразительных противоречиях, и вместе с тем эти проти-
воречия находят себе некий синтез в фанатической убежденности пророка
и проповедника. Сомнения сплошь и рядом питали творческую мысль
Руссо и, вместе с тем, изложение этих сомнений приобретало характер не-
пререкаемой догмы.
В своих писаниях Руссо проявлял не только крепкую логику аргумен-
тации (хотя в этой области у него и наблюдаются иногда срывы), но и
особенную способность внушения, таившуюся и в самой природе его мысли
и в способе ее литературного оформления, т. е. в природе его стиля. Док..
760
ПРОСВЕЩЕНИЕ
Могила Ж. Ж. Руссо на островке в Эрменонвиле.
Рисовал с натуры и гравировал Ж. М. Моро-младший (1778 г.)
f трина Руссо распространялась и завоевывала умы не только путем убежде-
i ния и доказательства, но и путем заражающего эмоционального воздей-
ствия. Развивая в своих трудах теорию чувствительности, как метод
познания мира и человека, Руссо усиливал эту чувствительность у своих
третьесословных читателей. Чувствительность становилась в это время
стилем не только литературы, но и жизни. Она была одной из наиболее
примечательных сторон общественной психологии XVIII в. и особенно ярко
выступила впоследствии в идейно-психологических переживаниях револю-
ционных лет.
Проблема индивидуальности нашла в творчестве Руссо свое крайнее
выражение. В понимании и в разрешении этой проблемы автор «Новой
Элоизы» является антиподом классицизма со свойственной этому послед-
нему объективизацией душевных состояний, под знаком которой столь
долго развивалась французская философия и французская литература.
«Исповедь» является в этом отношении образцом исключительно обост-
ренного, можно сказать болезненного внимания к своему «я», создающего
культ субъективизма, культ личных чувств и переживаний. Этот психоло-
гической субъективизм переносится на весь объективный мир. Описания
природы в «Новой Элоизе» теснейшим образом связаны с субъективно-
психическими состояниями действующих лиц. Чувство природы (la .sent^
ment de la nature) становится таким же неотъемлемым свойством руссоист-
ского человека, .каким является для него и чувство своего «я». Руссо куль-
тивирует это чувство природы еще и потому, что он требует возврата
РУССО И РУССОИЗМ
767
к природе. Человечество развращено цивилизацией. Мнимая культура со-
временности способствует лишь порче нравов и искажению естественного
доброго сознания и облика человека. Человек должен сбросить с себя иго
цивилизации и в единении с природой найти покой сердца, чистоту нра-
вов и здоровую простоту гражданского устройства.
Мысли эти в зачаточном состоянии содержатся уже в ранних произ-
ведениях Руссо, предшествующих его «Рассуждению о науках и искусствах».
Ими проникнуто, например, стихотворение «Фруктовый сад в Шармете»
(«Le Verger de Charmettes», 1736), в котором мирные прелести природы
и идиллической сельской жизни противопоставляются городской испор-
ченности и предрассудкам ложной цивилизации. Они встречаются и в
стихотворном «Послании к Борду» («Epître à Bordes», 1740), написанном
в Лионе и содержащем длинную тираду с восхвалением стойкой доброде-
тели тех людей, которые среди всеобщей испорченности сохраняют чистоту,
простоту и естественность своих нравов. В «Послании к Париссо» («Epître
à Parissot», 1742) эти же мысли конкретизируются на примере швейцар-
ских граждан, соотечественников Руссо, не знающих мнимых благ обман-
чивой цивилизации и всех ядовитых плодов просвещения, а мирно, идил-
лически и патриархально живущих на своей земле и занимающихся про-
стым, честным и добродетельным трудом.
Такие мысли зрели в сознании Руссо задолго до того момента, когда,
он решил откликнуться на вопрос, заданный Дижонской Академией.
С этими мыслями Руссо прибыл в Париж. Кипевшая здесь классовая
борьба, философская полемика, литературные и политические споры, со-
действовали конкретизации и заострению этих мыслей. Вопрос Дижонской
Академии оказался искрой, из которой в скором времени разгорелось
пламя революционной доктрины Руссо.
Первая диссертация Руссо посвящена общественно-моральной роли
иаук и искусств. Ее первая часть содержит доказательство пагубного
влияния наук и искусств на общественно-моральную жизнь человечества.
Доказывается это путем сопоставления наблюдающегося расцвета наук и
искусств с развращенным состоянием современного общества. Руссо красно-
речиво изображает общественное лицемерие, испорченность нравов, пре-
зрение к строгой морали, власть моды и этикета, убивающих человеческую
личность, и, наконец, забвение «естественной», доброй природы человека
во имя ложных благ искусственной цивилизации. Вслед затем он перехо-
дит к историческому обзору влияния наук и искусств на жизнь различных
народов. На примере египтян, греков, римлян и византийцев он показы-
вает появление упадка нравов и добродетели под влиянием роскоши циви-
лизации, доведшей эти народы до гибели. Развитие наук и искусств, —
как доказывает Руссо во второй части своего рассуждения,—обязано
стремлению удовлетворять порочные и противоестественные наклонности.
Их успехи являются результатом отхода человека от природы и от перво-
бытной добродетельной жизни. Порожденные пороками, науки и искусства
в свою очередь порождают новые пороки. К числу этих последних принад-
лежат, между прочим, самомнение ученых, тщеславие художников, самона-
деянность философов, цинизм скептиков и безбожников, праздность, при-
служивание к сильным мира сего и т. д. Сильны были только те народы,
которые жили в «естественном состоянии», просто, добродетельно, сурово
и бедно.
Науки и искусства приносят неисчислимый вред делу воспитания
юных граждан, прививая им с детства порочные привычки, ненужные и
вредные взгляды, лицемерную и испорченную мораль. Общество и госу-
768
ПРОСВЕЩЕНИЕ
дарство поощряют таланты и не обращают внимания на добродетель. Уто-
пая в неге и в роскоши, они с презрением смотрят на низшие, трудящиеся
классы населения и покровительствуют бездельникам, общественным пара-
зитам, лгунам и безнравственным людям, к числу которых принадлежит
большинство ученых и писателей. Ни современная наука, ни современное
искусство не служат великим общественным целям. Они не вдохновляются
общественной добродетелью и общественной пользой. Истинные, великие
деятели науки и искусства не получают настоящей поддержки и поощре-
ния. Паразитическое состояние духовной культуры лишает ее в настоящее
время возможности истинного оздоровления.
Эти мысли содержат в себе в общих чертах всю идеологию руссоизма.
Основные положения общественно-философской и общественно-политиче-
ской доктрины Руссо уже даны в «Рассуждении» 1750 г. В дальнейшем
она подвергнется лишь разработке и еще большему заострению.
Предпосылки этой доктрины во многом были подготовлены идейным
развитием французского общества в XVIII в. Это относится, в частности,
к основной мысли Руссо о «естественном человеке» и о «возврате к при-
роде», играющей столь важную роль в «Рассуждении о науках и искус-
ствах». Уже до появления этого рассуждения тема природы и ее благости
в противопоставлении испорченности цивилизации неоднократно встреча-
лась в философской и художественной литературе XVIII в. Она сформи-
ровалась у Руссо под влиянием ряда книг, посвященных описаниям путе-
шествий и быта «диких», «первобытных» народов, которые неизменно
изображались носителями «естественной» добродетели, не испорченной
влиянием цивилизации. Кое-чем в формировании подобной концепции
примитивного, «дикарского» общества Руссо был обязан знаменитому
«Робинзону Крузо» Даниэля Дефо, неоднократно переводившемуся и
переиздававшемуся во Франции.
Многим Руссо был также обязан успехам современного ему естество-
знания, крупнейшим представителем которого был прославленный автор
«Естественной истории» («Histoire naturelle», 1749—1789) Жорж-Луи Лек-
лерк де Бюффон (George-Lcnïis Leclerc de Buffon, 1707—1788), в тече-
ние десятков лет созидавший в тиши своего кабинета эту величественную
поэму о природе. Бюффон был классицистом по своему воспитанию, но его
классицизм впитал в себя многое от тех новых идейных и философских
устремлений, которыми характеризовалась жизнь XVIII в. Его ощущение
природы было проникнуто новым, почти неведомым предыдущему столетию
эмоциональным пафосом. Это чувство природы сказалось и на его научном
методе и на его литературном стиле. Природа в «Естественной истории»
говорила с читателями картинным, эмоционально насыщенным языком.
Жизнь ее раскрывалась не только в ученых, строго логических построе-
ниях, но и в необычайно образном, воздействовавшем «а чувство и сердце
читателя изложении. Жизнь эта не только постигалась, но и переживалась
Бюффоном — добросовестнейшим наблюдателем, строгим эмпириком и,
вместе с тем, настоящим поэтом науки, достигавшим высот эпической
торжественности мысли и глубины лирического вдохновения. В умственной
атмосфере, которая была столь расположена к восприятию природы, голос
Руссо, звавшего к слиянию с природой, к следованию ее естественным
законам, был не одинок и находил многочисленные живые отклики.
Чем сильнее и настойчивее, однако, провозглашался культ природы,
тем сильнее и ярче выдвигалась породившая этот культ проблема «есте-
ственного человека», т. е. человека, раскрепощенного от оков ложной циви-
лизации и вернувшегося в свое первобытное, добродетельное состояние.
РУССО.
С портрета пастелью Латура.
РУССО И РУССОИЗМ
769
Следует отметить тут же, что свою критику науки и искусства, свое отри-
цание цивилизации и свои нападки на существующие испорченные нравы
Руссо, в основном, строит на враждебном, непримиримом отношении
к цивилизации современного ему феодально-буржуазного общества. Он
отрицает прогресс буржуазного общества и цивилизацию господствующих
классов, противопоставляя им ретроспективную утопию «естественного со-
стояния». Критика современного общества у Руссо — плебейско-револю-
циойная критика старого порядка, противоречиво переплетающаяся с идеа-
лизацией патриархальных начал и патриархальной морали. В этом состоит
и ее сила и ее слабость. Она сильна в той степени, в KuKùii несет в себе
революционное отрицание феодально-буржуазных основ современного обще-
ственного строя. Она слаба в той степени, в какой является выражением
положительной идеологии патриархально настроенных ремесленных и кре-
стьянских слоев, и коренится, в конечном счете, в идеализации экономи-
ческого и общественного быта мелких швейцарских собственников, среди
которых родился и воспитался Руссо.
Поскольку Руссо критиковал старый порядок, он шел впереди наибо-
лее передовых мыслителей революционизирующейся французской бур-
жуазии XVIII в. Поскольку же он идеализировал экономическую и со-
циальную среду мелких собственников и клал ее в основу своей социально-
политической доктрины, он был обращен лицом назад и являлся одним
из наиболее ярких и талантливых представителей мелкобуржуазного «па-
триархального» социализма, уравнительной социалистической утопии, одним
из позднейших апостолов которой на базе крестьянской патриархальности
был Л. Н. Толстой, во многом сходный в своей социально-политической
и философской доктрине с женевским мыслителем. Надо сделать, однако,
и здесь поправку на время. Объективно философия Руссо сыграла огром-
ную революционизирующую роль, поскольку она оказала влияние и на
конституцию Соединенных Штатов Америки, и на наказы третьего сосло-
вия Генеральным штатам, и на идеологию и политическую практику яко-
бинской диктатуры 1793—1794 гг.
Политические установки Руссо довольно ясно вырисовываются уже в
его первой «диссертации». «Рассуждение о происхождении и основах нера-
венства среди людей» дает их уже в развернутом виде, тем самым образуя
непосредственный переход к «Общественному договору».
Критика, которой подвергся первый трактат, и нападки на него со
стороны представителей охранительных начал, только разожгли и заост-
рили мысль Руссо. От общих морально-философских и историко-обще-
ственных положений, которые составляли центр тяжести «Рассуждения о
науках и искусствах», он перешел к конкретным общественно-политическим
формулировкам.
Второе «Рассуждение» Руссо начинается идиллической картиной жизни
и, быта «естественного человека», непосредственного продукта природы,
«вязанного с нею теснейшими узами и свободно пользующегося всеми ее
благами. «По природе люди равны, как звери», — пишет Руссо. Неравен-
ство в «естественном состоянии» существует только в смысле различия при-
родных свойств, но эти различия еще не влекут за собой тех последствий,
какие порождаются богатством и властью. «Естественный человек», изо-
бражаемый Руссо, — это дикарь, блуждающий по лесам, без языка, без
жилища, без борьбы, без друзей, без влечения к другим людям. Начатки
цивилизации, как изобретение оружия и примитивных земледельческих
орудий, открытие полезных свойств огня и т. д., уже вносят в эту, одно-
49 История французской литературы—815
770
ПРОСВЕЩЕППВ.
родную в общем, среду известное расслоение и порождают неравенство.
Чем дальше идет процесс развития материальной и духовной культуры,
чем больше человечество отделяет себя от природы, тем это расслоение
и, как следствие его, неравенство все больше становятся характерными
чертами человеческого общественного устройства.
Неравенство окончательно утверждается с того момента, когда появ-
ляется собственность и, в особенности, — частная земельная собственность.
Ее появление "блестяще очерчено Руссо в начале второй части «Рассужде-
ния»: «Первый, кто огородил клочок земли, осмелился сказать: „эта земля
принадлежит мне", и нашел людей, которые были настолько простодушны,,
чтобы поверить этому, был истинным основателем гражданского общества.
Сколько преступлений, сколько войн, сколько бедствий и ужасов отвратил
бы от человеческого рода тот, кто, вырвав столбы или засыпав рвы, слу-
жившие границами, воскликнул бы, обращаясь к людям: „Берегитесь слу-
шать этого обманщика! Вы погибли, если забудете, что плод принадлежит
всем, а земля никому!"» С самого своего возникновения собственность
стала орудием и средством угнетения подпавших под власть собственников
масс. С этого момента родилась авторитарная власть, явившаяся плодом
договора, с одной стороны, собственников между собою, с другой — соб-
ственников и зависевших от них людей труда. Собственность и связанная
с нею эксплоатащия трудящихся породили, с одной стороны, праздность,
роскошь, изнеженность и ряд других пороков, которыми страдает и со-
временное общество, основанное на неравенстве, с другой—бедность, уни-
жение человеческого достоинства и чувство рабской зависимости, которые
характеризуют быт и сознание подчиненных общественных классов.
Государство, как продукт общественного договора, является юридиче-
ским оформлением власти сильных над слабыми, имущих над неимущими,
немногих над многими. Имущественное неравенство служит источником
большинства современных общественных бед и порождает те несчастья,
на которые осуждена масса неимущих. Они окончательно теряют свою сво-
боду, становятся объектом деспотического насилия и обрекаются на безыс-
ходную нужду, бесправие и рабство. Так человечество насилует и иска-
жает естественные законы, среди которых одним из наиболее благодетельных
является закон общественного равенства, и искажает вместе с тем свон>
собственную природу.
В этой последовательности утверждений можно ясно различить выри-
совывающиеся контуры социалистической мысли. Руссо является одним из
наиболее крупных и наиболее страстных провозвестников эгалитарного
социализма, который впоследствии составил один из важнейших элементов
якобинской социально-политической идеологии и нашел свое выражение в
так называемых вандемьерских декретах уравнительного порядка, в со-
циально-политических проектах Робеспьера и, в особенности, в эгалитарно-
утопической программе Сен-Жюста, едва ли не наиболее законченного
руссоиста из всех деятелей якобинского лагеря.
Однако этот эгалитарный мелкобуржуазный социализм является лишь
ограничением положительной доктрины Руссо и руссоистов, — доктрины,
представляющей обратную сторону заключенной в обоих первых тракта-
тах Руссо и, в особенности, в его «Рассуждении о происхождении неравен-
ства» подлинно революционной, плебейской критики классового общества.
Эта революционная критика собственнического государства, истолкование
государственной влг.сти как организованного насилия собственнических,
эксплоататорских классов, осуществлялись Руссо в интересах широких де-
мократических народных масс, которым буржуазный «прогресс» угрожал
ГТГСО И РУССОИЗМ
У71
новыми формами капиталистической эксплоатации и порабощения, не менее
страшными для них, чем старые феодальные формы порабощения и эксплоа-
тации. Эта революционная сторона учения Руосо была впоследствии ярко
оттенена Энгельсом, который посвятил «Рассуждению о происхождении
неравенства» Руссо несколько страниц в своем «Анти-Дюринге».
'< Энгельс противопоставил второе «Рассуждение» Руссо, вместе с «Пле-
мянником Рамо» Дидро, подавляющему большинству «специально фило-
софских трудов» французских просветителей XVIII в., отличавшихся «ме-
тафизическим способом мышления», тогда как в двух названных произведе-
ниях Руссо и Дидро Энгельс находил «высокие образцы диалектики». *
Развивая далее эту мысль, Энгельс говорит, что «учение Руссо, в первом
своем изложении, можно сказать, блистательно обнаруживает печать своего
диалектического происхождения».2 Диалектичность рассуждений Руссо о
происхождении неравенства Энгельс усматривает в том, что для Руссо воз-
никновение неравенства было одновременно и прогрессивно, потому что оно
явилось результатом той способности совершенствования, дальнейшего раз-
вития, которою животные-люди отличались от всех прочих животных,—
и регрессивно, потому что, по словам Руссо, «все дальнейшие успехи пред-
ставляли собою только кажущийся прогресс в направлении усовер-
шенствования отдельного человека, на самом же деле этот
прогресс шел в направлении упадка рода человеческог о». 3
Приведя несколько цитат из Руссо, Энгельс комментирует их таким
образом: «Каждый новый прогрессивный шаг цивилизации есть в то же
время и прогресс неравенства. Все учреждения, которые создает для ce6jf
общество, возникшее вместе с цивилизацией, превращаются в нечто проти-
воположное своей первоначальной цели. «Бесспорно, — и это составляет
основной закон всего государственного права, — что народы создали себе
государей для охраны своей свободы, а не для ее уничтожения». И тем
не менее, говорит Руссо, эти правители необходимо становились угнета-
телями народов, и их угнетение усиливается до того момента, когда нера-
венство, достигшее крайней степени, вновь превращается в свою противо-
положность, становясь причиной равенства: перед деспотом все равны,
именно каждый равен нулю... Но деспот является господином, пока на
его стороне сила, а потому «если его изгоняют, он не может жаловаться
на насилие.. . Насилие его поддерживало, насилие его и свергает, все идет
своим правильным и естественным путем». И, таким образом, неравенство
вновь превращается в равенство, но не в старое естественное равенство пер-
вобытных людей, лишенных языка, а в высшее равенство — общественного
договора. Угнетатели подвергаются угнетению. Это — отрицание отрица-
ния». 4
Отчетливо вскрывая подлинно диалектический ход рассуждений Руссо,
Энгельс заявляет в заключении всего этого отрывка: «Мы здесь, та-
ким образом, имеем уже у Руссо не только рассуждение, как две капли
воды схожее с рассуждением Маркса в «Капитале», но и в подробностях
мы видим целый ряд тех же диалектических оборотов, какими пользуется
Маркс: процессы, которые антагонистичны по своей природе, содержат в
себе противоречие, превращение известной крайности в свою противопо-
ложность и, наконец, как основу всего — отрицание отрицания». "
1 К. МарксиФ- Энгельс, Сочинения, т. XIV, стр. 20.
' 8 Там же, стр. 1 38.
» Там же, стр. 1 39. — Подчеркнуто Энгельсом.
* Там же, т. XIV, стр. 1 39.
» Там же. стр. 139—140.
49*
772
ПРОСВЕЩЕНИИ
Появление «Рассуждения о неравенстве» вызвало еще более широкую
и оживленную полемику, чем предыдущее литературное выступление Руссо.
Ответом на эту полемику явился «Общественный договор» — труд, наибо-
лее полно суммировавший социально-политические воззрения Руссо и вы-
росший из основных мыслей двух предшествовавших ему трактатов. Однако,
если в этих трактатах Руссо является, прежде всего, историком-философом
и политическим мыслителем, то в «Общественном договоре» он выступает
уже в качестве практика-законодателя, делающего из своих философско-
историчешнхТзюЗЗТРений "государственно-правовые выводы.
«Общественный договор» — это подробно изложенная идеальная кон-
ституция, обеспечивающая, по мысли Руссо, любому государству максимум
свободы и равноправия его граждан. Руссо не настаивает на той или иной
форме государственного правления. Он считает, например, республиканско-
демократическое устройство годным исключительно для маленьких нацио-
нальных территорий, вроде его родной Женевы; для средних по величине
государств он предпочитает аристократическую республику, а для госу-
дарств больших и могущественных — монархию. Во всех этих случаях для
Руссо важна не форма, а существо власти, ее природа и характер ее отно-
шений с населением.
Основой государства, как объединения свободных и равноправных
граждан, может и должен быть только общественный договор, имеющий
своей целью общее благо всех граждан и гарантирующий их основные права:
свободу, равенство, неприкосновенность собственности. Абсолютная власть,
подчиняющая частные интересы интересам общим, может принадлежать
только общественной воле, т. е. быть достоянием всех. Законодатель яв-
ляется лишь агентом этой воли, придающим ей законченную юридическую
форму. Правительство, какое бы оно ни было по своей форме, — демокра-
тическое, аристократическое или монархическое, — должно находиться под
постоянным и непрестанным надзором народа. Всякое правительство временно
и может быть отменено народом, поручения которого оно выполняет. Что-
бы предотвратить возможность захвата правительствам верховной власти,
Руссо рекомендует часто созывать народные собрания и ставить перед
ними вопрос: желает ли народ сохранить данную форму правления и дан-
ных лиц, стоящих во главе государства. Народ может в любой момент
отменить да1же самый договор, на котором основано государство.
Но, обладая суверенными правами в государстве, народ, со своей сто-
роны, обязуется уважать принадлежащие ему права и, вместе с тем, быть
преданным известным установленным принципам религии, морали и быта;
сомнение в этих принципах или нарушение их являются преступлениями
против общественного блага. Те из граждан, которые отказываются пови-
новаться общей воле и «е исполняют своих гражданских обязанностей,
могут и должны принуждаться обществом к повиновению. Общество «при-
нуждает их быть свободными», хотя бы при помощи смертной казни.
Общественно-политическая концепция Руссо, изложенная им в «Обще-
ственном договоре», в основном своем содержании восходит к .тем_ идеям
о народоправстве, которые мы встречаем у ряда французских и английских
мыслителей XVIII в. Так же, как эти идеи, она является идеальной проек-
цией в будущее буржуазно-демократического государства, основанного на
идеальном равенстве. Руссоистскую концепцию государства Гегель в своих
«Лекциях по философии истории» объявлял наивысшим выражением прин-
ципа суверенной власти общественной воли.
Однако в то же время Руссо является первым критиком буржуазно-
парламентского государства с его представительным строем. Он видит
РУССО И РУССОИЗМ
773
в народных представителях конституционных государств возможных узур-
паторов народной воли, мешающих осуществлению последовательной демо-
кратии, т. е. непосредственного народоправства. Справедливо было заме-
чено, что теория государства у Руссо, по существу, является теорией рево-
люции. И, действительно, «Общественный договор» имел огромное рево-
люционизирующее значение и остался едва ли не самым крупным памят-
ником политической мысли французской буржуазии на ее путях к рево-
люции и к якобинской диктатуре 1793—1794 гг. Якобинцы нашли здесь
формулированными все основные принципы своей политики, вплоть до тео-
ретического обоснования революционного террора.
Таким образом, «Общественный договор» явился наиболее полным
изложением социально-политической и государственно-правовой доктрины
Руссо. С наибольшей силой в этом произведении проявилась тенденция
руссоистской мысли выйти за пределы норм буржуазного мышления.
С наибольшей силой Руссо поставил здесь ряд вопросов, правильное разре-
шение которых вело к отрицанию классового общества и к созданию обще-
ства социалистического.
Опубликованный вслед за «Общественным договором» роман-трактат
«Эмиль» имел своей задачей утверждение уже не доктрины об обществе,
а доктрины о воспитании гражданина этого общества, того нового человека,
который должен жить и действовать в новых условиях равноправного об-
щежития.
XVIII век дал ряд педагогических трактатов английских и француз-
ских авторов, стремившихся применить достижения новой философии к
построению теории рационального воспитания. Книга Локка «Воспитание
детей» (1693) и Роллена (Rolliin) «Трактат об обучении» («Traité des
études», 1726—1731) противопоставляли новые педагогические принципы
схоластике иезуитского воспитания, господствовавшей в школах в течение
всей первой половины XVIII1 в. В 1762 г. иезуиты были изгнаны из
Франции. Обстоятельства благоприятствовали созданию и пропаганде
новых педагогических теорий, основанных на успехах научного и философ-
ского знания.
«Эмиль» представляет собой смелую и широко развернутую попытку
изложить теорию «естественного» воспитания ребенка, применение которой
могло бы, так сказать, «лабораторным путем» создать тип идеального че-
ловека, предохраненного от развращающего влияния ложной цивилизации,
сохранившего естественность и чистоту своих чувств, не затронутого воз-
действием рационализма и свободного от пагубного проявления страстей,
рождающихся в условиях современной ненормальной жизни. Руссо сам
сознает утопичность подобного рода эксперимента. Более того, он поль-
зуется этой утопичностью, разрабатывая программу-максимум своего педа-
гогического идеала с тем, чтобы сама картина его была наиболее действен-
ным средством пропаганды против уродства существующей системы воспи-
тания и существующих приемов обучения. Шаг за шагом прослеживает он
жизнь своего Эмиля со дня его рождения вплоть до достижения возраста,
когда юноша уже может вступить в брак, подробно излагая всю педаго-
гическую рецептуру и методику своей воспитательной системы.
Исходная предпосылка этой системы воспитания формулирована в на-
чале «Эмиля» в знаменитых словах: «Все прекрасно, когда оно выходит из
рук Творца: все портится в руках человека». Поскольку природа хороша,
la общество дурно, постольку основной задачей воспитания является полная
изоляция воспитанника от влияния окружающей среды и предоставление
его благотворному влиянию природы. Эмиль растет, не стесняемый ника-
774
ПРОСВЕЩЕНИЕ
кими искусственными правилами ложной цивилизации, растет в блаженном
неведении ее соблазнов, ее морали и ее житейских правил. Изгнано даже
чтение, этот «бич^..дел:ског©~ао£растд#, в частности, чтение басен Лафон-
тена, которые, по мнению Руссо, могут лишь породить в девственном со-
знании Эмиля массу недоуменных и опасных вопросов, сомнений и соблаз-
нов.
Задачей воспитателя является сохранить в неприкосновенности есте-
ственные чувства добродетельного по своей природе питомца и в то же время
помочь процессу его естественного, непринужденного саморазвития. Это осу-
ществляется путем ряда педагогических приемов и наставлений, в результате
которых ребенок сам приходит к ряду здоровых, простых и естественных
умозаключений по основным вопросам морали. Одновременно с этим осу-
ществляется и рациональный курс физического воспитания, в свою очередь
имеющего целью помочь юному организму наиболее полно развить зало-
женные в нем самой природой основы здоровья и нормального, естествен-
ного функционирования всех органов тела. Обучение основам геометрии,
физики, астрономии и географии производится ио^цаглядной системвт-в
комплексном порядке знакомства с действительностью и с природой прежде
всего. В целях воспитания трудовых навыков ребенок обязательно обу-
чается какому-либо полезному для жизни ремеслу. Эмиль, в частности,
упражняется в плотничьем деле.
Когда Эмилю исполняется шестнадцать лет, его наставник начинает
заботиться о воспитании его чувствительности. Он прививает ему чувства
сострадания, мягкосердечия и человеколюбия. Тут же он посвящает Эмиля
в основы «естественной религии», катехизис которой прилагается Руссо в
особом разделе трактата, носящем заглавие «Исповедание веры савойского
викария». Теперь надо женить подготовленного к добродетельной жизни
воспитанника. Невеста ему уже выбрана в лице идеально воспитанной по
той же системе девушки — Софи. Заключительная книга трактата, с мо-
мента встречи Эмиля и Софи, превращается в сентиментальный роман,
рисующий чистоту любовных отношений двух добродетельных существ.
Несмотря на всю утопичность предлагаемого Руссо воспитательного
метода, «Эмиль» оказал огромное влияние на дальнейшее развитие пере-
довой педагогики не только своими отдельными, очень ценными педагогиче-
скими идеями и наблюдениями, но и общим своим) направлением, в основу
которого положено внимание к личности ребенка, преобладание моментов
воспитания личности над моментами обучения (в смысле простого усвоения
знаний) и т. д. В этом отношении последующая педагогика в значительной
степени обязана Руссо рядом своих достижений, включая метод трудового
воспитания, систему наглядного и предметного обучения и т. д.
По мысли Руссо, его Эмиль должен стать, прежде всего, добродетель-
ным_ч£довеком. Понятие добродетели у Руссо основывается на принципах
следования предначертаниям мудрой природы, свободы от лжи цивилиза-
ции, честности и прямодушия, свойственных доблестным героям Плутарха,
книга которого была, начиная с детских лет, любимым чтением Руссо. На-
конец, в понятие добродетели входит, по мнению Руссо, также религиозное
чувсгдр... Руссо не мыслит добродетели вне религии. В этом он резко рас-
ходится с атеистическими тенденциями своего времени. Он стоит на пози-
циях деизма, отличающегося от деизма Вольтера своим демократическим
характером и вырастающего в значительной мере из идеализации народа
и его благостной веры в справедливого бога. Руссо хочет построить идеаль-
ную религию, отвечающую требованиям природы и естественных человече-
ских чувств.
. Л / '■• /,j Qcpg '.' '.-.-•.'•' < w, • " j
Ж. Ж. Руссо. «Эмиль или о воспитании*.
Фоовтнспнс по рвствку Ш. Н. Кошеяа (1780 г.). грав. Делоне (1782 г.),
776
ПРОСВЕЩЕНИЯ
Основы этой руссоистской религии излагаются в «Исповедании веры
савойского викария». Религиозность в понимании Руссо имеет два истока —•
культ природы и культ человеческого сердца. ~ В этом заключен принци-
пиальный отказ от рационалистического подхода к проблеме религии. Руссо
имеет в виду религиозность наивную, внецерковную, тем самым входящую
в качестве необходимейшей составной части в его целостную фи.лософско-
моральную систему. Корни идеи «естественной религии» савойского вика-
рия следует искать отчасти в осмыслении Руссо некоторых догматов каль-
винистского вероучения, отчасти в некоторых сентиментально-мистических
религиозных учениях XVII—XVIII вв., вроде религии любви и экстаза
Франциска Сальского или «квиетизма», проповедовавшегося мадам Гюйон.
Руссо пытается построить «идеальную» религию. Он принимает веру
в некое верховное существо, создавшее мир, природу и человека и наде-
лившее человека сердцем и совестью. Религия этого человека должна быть
религией сердца и чистой совести. Храмом этой религии является вся
природа и сам "человек. Этой религии чужды всякие искусственные культо-
вые формы, и она является религией «естественной», свободной и глубоко
индивидуальной по характеру чувств верующих. Она не знает никакой
догмы и является религией глубоко интимных переживаний совести и «сер-
дечного воображения». Она требует лишь искренности чувств, прямодушия
и добрых дел. Вместе с тем, она является мощной силой, противостоящей
дурным влияниям искаженной цивилизации. Такова, в основном, религиоз-
ная программа Руссо, закономерно дополняющая его морально-философское
учение о природе и человеке. Эта религиозная программа требовала все
того же возврата к природе, возрождения чувства непосредственного, интуи-
тивного ее переживания, растворения себя в ней и растворения ее в своем
собственном существе. Эта программа в значительной степени стала достоя-
нием французской буржуазной революции. Якобинцы с их культом «вер-
ховного существа», противопоставлявшимся культу разума и атеистическим
тенденциям «бешеных», явились, во главе с Робеспьером, верными учени-
ками Руссо с его религией добродетели и чувствительного сердца.
Рассмотрение религиозных воззрений Руссо показывает, насколько
глубоко его ^лЬилософекая мысль _была проникнута njaTH4ecKHMHjjtacjpoe-
ниями,_насколько ..ей был присущ чувствите^цьшьлирическии характер, ко-
торый составляет основную черту Руссо — одного из главных представи-
телей европейского сентиментализма и одного из величайших художников
слова французской литературы.
5
Единство философских воззрений и художественных взглядов Руссо
отчетливо обнаруживается в его знаменитом «Письме к Даламберу о те-
атральных представлениях». Здесь, возвращаясь к своей обычной антитезе
добродетельной природы и пагубной цивилизации, Руссо продолжает ли-
нию, начатую им в «Рассуждении о науках и искусствах», и дает резкую
критику театра как яркого выражения порчи общественных нравов. Крас-
норечиво и подробно он развивает мысль о безнравственности самой идеи
театра как подражания жизни и воссоздания в сценических образах ее
страстей и пороков. Не менее красноречиво он обличает распущенность
нравов лиц, занимающихся актерской профессией и подающих тем самым
дурной пример обществу. Руссо подробно разбирает аморальные стороны
классической й современной драматургии, в особенности не щадит Мольера
и изобличает его «Мизантропа», усматривая в нем осмеяние добродетели,
P.VCCO и гтссопзм
777
В итоге Руссо приходит к выводу о крайнем вреде, который причи-
няется, театром, этим наиболее утонченным и изощренным продуктом со-
временной цивилизации, добрым и здоровым нравам граждан. А так как
письмо к Даламберу было написано в ответ на его статью о Женеве в
VII томе «Энциклопедии», где Даламбер предлагал учредить в этом городе
театр, то Руосо не упускает случая вернуться к одной из своих излюблен-
ных тем — к идеализации женевского патриархального быта. Он подчерки-
вает свою любовь к Женеве как к одному из немногих уголков Европы,
где еще сохранилась «естественная» чистота нравов. Его страшит мысль
о возможной порче этих нравов путем прививки им соблазнов безнрав-
ственной цивилизации. Театр не нужен женевцам. Он не только бесполе-
зен, но и вреден для них в экономическом, бытовом и моральном отноше-
ниях. Добродетельные женевцы знают иные способы и формы обществен-
ных развлечений, имеющие непосредственный и народный характер, как то:
спортивные состязания, общественные праздники, вечеринки и т. д.
Опыт этих массовых любительских увеселений подсказывает Руссо
мысль о том, что в Женеве и в подобных ей добродетельных государствах
и коммунах место театра должны занять массовые народные празднества,
посвященные тем или другим памятным дням из жизни свободного, равно-
правного и добродетельного народа. Эту мысль (не отказываясь, впрочем,
от театра как от мощного средства политической пропаганды) осуществит
впоследствии Французская буржуазная революция с ее грандиозными и
пышными массовыми праздниками и торжествами, с ее обрядами посадки
«дерева свободы», с ее церемониями, апофеозами и театрализованными че-
ствованиями братства, равенства и свободы.
Было бы неверно, однако, думать, что Руссо восстает против всякого
театра и других видов профессионального искусства вообще. Уже в своем
«Рассуждении о науках и искусствах» он достаточно ясно дал понять,
что восстает лишь против современного состояния тех и других, обуслов-
ленного ложной, искусственной цивилизацией. В ряде своих писем и выска-
зываний Руссо неоднократно подчеркивает свою веру в добродетельное
действие искусства в условиях здорового общественного строя, в условиях,
свободных от извращений современной культуры. Он защищает Женеву
от французского театра, потому что стремится сохранить женевскую рес-
публиканскую общину как некий живой музей идеального или почти
идеального уклада жизни. Что же касается остальных стран, то здесь окон-
чательное разрешение вопроса о судьбе театра зависит от развития дальней-
ших форм их общественного устройства. Во всяком случае, Руссо не отка-
зывается от мысли о моральном искусстве, вдохновляемом идеалами добро-
детели и чистоты нравов. С этой точки зрения он в своих высказываниях
о драматургии принимает очень многое у Расина и весьма одобрительно
отзывается о «Лондонском купце» Лилло, хотя и отрицает мещанскую
слезную комедию.
В области искусства Руссо заявил о себе также как теоретик музыки
и композитор. Он неоднократно выступал в качестве защитника и аполо-
гета реалистического музыкального языка, языка чувства и живой инто-
нации, которые должны притти на смену классицистическому музыкаль-
ному стилю Люлли, Рамо и их последователей.
Под знаком борьбы с рационализмом протекает и литературное твор-
чество Руссо, являющееся самым ярким образцом «чувствительности» во
французской литературе XVIII в. и тем самым оказавшее огромное влия-
ние на дальнейшее развитие европейской литературы, вплоть до роман-
778
ПРОСВЕЩЕНИЕ
тизма, справедливо усматривавшего в Руссо одного из своих наиболее
крупных предшественников.
В философии XVIII в. «чувствительность» (sensibilité) противопостав-
лялась, как метод познания действительности и как творческий метод
искусства, классицистическому рационализму. Истоком своим понятие «чув-
ствительности» в литературе и искусстве имело психологию и теорию по-
знания сенсуализма, английского и французского, завоевавшего себе пер-
венствующее положение в философской мысли всего XVIII в.
Отрицая примат разума и рассудочной логики, философы этой школы
выдвигали j^ противовес ему интуицию чувств. Задача искусства, говорили
они, заключается в том, чтобы трогать человеческие сердца и воспитывать,
тем самым, человеческую чувствительность в направлении добродетели.
Руссо, а вместе с ним и ряд других сторонников философии чувствитель-
ности неоднократно доходили до полного отрицания разума и рассудоч-
ной деятельности как средства познания действительности. Руссо принад-
лежит знаменитый афоризм: «Человек велик только своим чувством»
(«L'homme n'est grand que par le sentiment»). Чувствительность в понима-
нии Руссо исчерпывала собою сферу сознательной жизни человека. Стано-
вясь на подобную точку зрения, Руссо и другие философы этого направле-
ния развивали идеалистическое понимание чувствительности, в противо-
положность материалистическому сенсуализму, представленному, например,
в натурфилософии и в теории познания Дидро.
Своим возникновением культ чувствительности и меланхолии, имев-
ший общеевропейское распространение, обязан началу крушения просвети-
тельского оптимизма и характерной для большинства передовых предста-
вителей третьего сословия веры в разум. JJ этом смысле чувствительность
Руссо, исповедуемая им «религия сердца», представляла собой оборотную
сторону его плебейской революционности. Именно она и давала отправную
точку для последующей реакционной интерпретации руссоизма.
Художественные произведения Руссо, к числу которых, кроме «Новой
Злоизы», следует причислить также «Исповедь» и «Мечтания одинокого
любителя прогулок», ядляются прежде всего излияниями его сердца. Та-
кими, во всяком случае, хотел видеть их сам автор, такими воспринимали
их современные читатели. Эти излияния сердца имеют свою литературную
историю. Руссо явился не первым представителем «чувствительности» во
французской литературе XVIII в. Первые проблески ее можно обнаружить
задолго до появления «Новой Элоизы», окончательно канонизировавшей
«чувствительный» жанр в европейской литературе и давшей ему длитель-
ную, общеевропейскую жизнь.
Отход от рационалистической поэтики, реалистическая конкретизация
литературных образов, элементы преобладания чувства над логикой и сен-
суалистического восприятия действительности вместо абстрактно-лириче-
ского наблюдаются во французской литературе уже в период высшего
расцвета классицизма. Недаром такие виднейшие, хотя во многом проти-
воположные между собою проповедники «чувствительности», как Дидро
и Руссо, сходятся в признании Расина. Сквозь классицистическую фактуру
его драматургии они усматривают наличие «чувствительного» видения дей-
ствительности и слышат у его героев биение чувствительного сердца.
Крупные художественные успехи «чувствительность», как явление лите-
ратурного порядка, одержала до Руссо в «Манон Леско» аббата Право, в
«Жизни Марианны» Мариво, в «Заире» Вольтера. Итак, Руссо выступил
уже на подготовленной почве, имея ряд крупных предшественников, и скло-
няющиеся к «чувствительности» симпатии публики.
русго и руссоизм
779
Однако не в одной лишь французской литературе можно найти истоки
этого нового направления. Оно проявилось еще раньше в английской лите-
ратуре XVIII в., в частности — в английском романе и, прежде всего, у
Ричардсона с его «Памелой» и «Клариссой Гарлоу». Во Франции Ричард-
сон имел огромный успех. Он серьезнейшим образом повлиял на развитие
французской прозы, оказав воздействие на самых различных ее представи-
телей и, в первую очередь, на Дидро, который объявил себя ревностным
поклонником Ричардсона. Дидро приветствовал в романах Ричардсона но-
вый эпос действительности, реализм чувств и переживаний, проповедь
добродетели и чистоту нравственного наставления.
Несколько по-иному воспринял Ричардсона Руссо. Для него англий-
ский писатель прежде всего — учитель «страсти нежной». Он воспринял
в «Клариссе Гарлоу» пафос ее чувств, ее эмоционТСльную взволнованность,
глубокую интимность формы и содержания.
Замысел «Новой Элоизы» создавался постепенно. Играл в нем роль
и знаменитый памятник средневековой латинской литературы — «Письма
Элоизы к Абеляру», и анонимные «Письма португальской монахини». Из
этих писем, равно как и из романов Ричардсона, Руссо заимствовал эпи-
столярную форму своего романа, позволившую ему с наибольшей полнотой
раскрыть внутренний мир героев, заставить их говорить языком сердца
и избежать рационализма объективных описаний. Наконец, в романе Руссо
звучат и личные переживания. Они связаны отчасти с пребыванием в Мон-
моранси и любовью к мадам д'Удето, отчасти — с восприятием любимых
Руссо швейцарских пейзажей, Альп, озер, горных пастбищ и маленьких
городков, покоящихся у подножья гигантских горных массивов.
Сюжет «Новой Элоизы» сводится к следующему. Благородная девица
Жюли д'Этанж влюбляется в своего учителя Сен-Пре. Отец не желает
брака своей дочери со скромным плебеем. Жюли сначала слушает только
голос своего сердца и отдается Сен-Пре, а затем, повинуясь воле отца, вы-
ходит замуж за равного ей по общественному положению Вольмара и
своим добродетельным поведением в качестве жены и матери стремится
искупить безрассудный порыв своей первой любви. Вольмар посвящен в
былые отношения Жюли и Сен-Пре. Уверенный в своей жене, он поселяет
у себя Сен-Пре, подвергая тем самым двух влюбленных жестокому нрав-
ственному испытанию. Сен-Пре подавляет свое чувство в силу своей чест-
ности, а Жюли ищет прибежища в своих детях и в религии. Спасая своего
сына, упавшего в воду, она простужается и умирает. Смерть избавляет ее
от опасности измены мужу.
Успех «Новой Элоизы» у современников Руссо объяснялся, конечно,
не ее сюжетом, не происшествиями в жизни ее героев. Он таился в обри-
совке перипетий их чувств, в пафосе проникающей роман страсти, в тон-
ком анализе всех оттенков сердечных взаимоотношений героев.
Отдельные образы романа воплощают излюбленные мотивы творче-
ской мысли Руссо. Добродетель, культ природы, «сердечное воображение»,
лирическая меланхолия, обостренное внимание к своему собственному «я»
и ко всем конфликтам его с самим собою и с окружающей средой, — всем
этим с избытком наделены герои «Новой Элоизы». Они — верные ученики
Руссо, идеальные выразители его концепции человека, едва ли не предвос-
хитившие школу воспитания чувств «Эмиля». В образе Сен-Пре отложи-
лось немало автобиографических черт, вернее, тех черт, которые Руссо видел
в себе сквозь призму «руссоизма». «Руссоизм» дан здесь в его «чувстви-
тельном» аспекте, в волнениях сердца, в патетике любви и в отчаянии
страсти. Другая сторона руссоистской мысли воплощена в образе друга
tov
ПРОСВЕ1ЦЕПИЕ
Сен-Пре, англичанина Эдуарда Бомстона, который, по поводу несогласия
барона д'Этанж на брак его дочери с простым учителем, излагает свои
взгляды на сословные предрассудки.
Весь роман в целом представляет собою своеобразную энциклопедию
«руссоизма» в художественной форме, временами уступающей место пря-
мому изложению уже известных нам мотивов и тем руссоистской мысли.
Сен-Пре уезжает в Париж. Он посылает оттуда Жюли пространные письма»
наполненные описаниями столичной жизни и типично руссоистской крити-
кой цивилизации. Он останавливает свое внимание на положении в париж-
ском обществе женщин, сделавшихся предметом сдлонного!^удьта, и не
упускает случая изложить собственные взгляды на назТГачение женщины
быть матерью семейства, воспитательницей детей и хозяйкой дома.
Кругосветное путешествие Сен-Пре и пребывание его на необитаемых
островах дает Руссо повод отвлечься от сюжетной линии романа в сторону
типично-руссоистских восхвалений «естественного состояния» человека и
его жизни на лоне природы. В своих чувствительных письмах Жюли и Сен-
Пре находят место для подробного обсуждения таких проблем, как право
дуэли, предрассудки социального происхождения, моральность театра, са-
моубийство, воспитание детей, атеизм и т. д.
Роман__охнетливо распадается на две части. Выход Жюли замуж за
Вольмара развязывает его первый сюжетный узел. Автор мог бы здесь
поставить точку и не интересоваться дальше судьбой своих героев. Тогда
был бы закончен роман чувствительной страсти, и читателей трогала бы
история неудавшейся любви новых Абеляра и Элоизы. Однако Руссо завя-
зывает второй сюжетный узел, образующийся вследствие решения Воль-
мара пригласить Сен-Пре к себе в дом. С этого момента начинается роман
испытания добродетели.
Подобная конструкция «Новой Элоизы» не является случайной. Она
обусловлена самым существом руссоизма как литературного явления, соче-
тающего в себе стремление к чувствительному живописанию страсти с мо-
рально-дидактическим толкованием жизни человеческого сердца. Этот мо-
ральный дидактизм определяет целиком всю вторую половину романа,
где даже самый уклад жизни Жюли и Вольмара в их доме в Кларане овеян
руссоистской идеализацией.
Руссоизм, однако, заявляет о себе еще одним повествовательным эле-
ментом «Новой Элоизы» — картинами швейцарской природы, имевшими
огромный успех у читателей XVIII в. и совершившими полный переворот
в искусстве литературного пейзажа. Оживотворенная, насыщенная кра-
сками, эмоционально воспринимаемая природа входит в «Новую Элоизу»
как один из основных компонентов романа. Драмы сердца и восторги чувств
протекают на фоне гармонирующих с ними ландшафтов. Старые пейзаж-
ные клише литературы XVII и начала XVIII в. уступают место деталь-
ным описаниям природы, которую Руссо очень любил и превосходно знал,
предпочитая ее городу и находя в ней умиротворение для своей души и
источник вдохновения для творчества.
«Новая Элоиза» является едва ли не кульминационным пунктом в
истории европейского романа XVIII в. Многообразные повествовательные
элементы, накапливавшиеся в нем в течение более чем полустолетия, со-
браны здесь на новой основе и в новых идейно-художественных целях. Не
остался без влияния на Руссо и французский любовный роман аббата
Прево («Манон Леско»). Роман Ричардсона — роман чувствительных испы-
таний и семейного быта — дал «Новой Элоизе» немало своих приемов и
своей атмосферы. Сыграла известную роль и литература путешествий, в том
Wd
^-,Ж»
шм
m
ж
: , ■■-.
™~ ''"..г
m
■^
1 ЧЙ*. "4
^ша
\ .
РИ1
ЩииаШЯ ■■/% ■■"■
ИВШ^ш!!
Щ^-зУд^е ДИВУ»
■ . - .•■■■■■ '
...,■• ■• - _,;
*■'■
ЧЙ
jS^-3
Щ£~£
ш
шш
Ж-
*v*'
Ж. Ж. Руссо. «Новая Элоиза».
Гравюра Ж. М. Моро-младшего для одд. 1774 г.
числе и столь любимый Руссо «Робинзон Крузо». В свою очередь, «Новая
Элоиза» во многом определила дальнейшие пути развития буржуазного
романа. Она заслонила собою всю ту галантно-эротическую литературу
XVIII в., которая еще недавно почти монополизировала описание и литера-
турное истолкование чувства любви. Картинам любовных ощущений роман
789
ПРПСПЕЩЕНПЕ
Руссо противопоставил живопись чувства, раскрытого во всех его самых
глубоких и интимных, незаметных для постороннего глаза, перипетиях.
В смысле этой органической «чувствительности» «Новой Элоизы»
учеником Руссо явился впоследствии Гете со своим «Вертером» и Карам-
зин с «Бедной Лизой», не говоря уже о многочисленных французских под-
ражателях романа.
Руссоизм в литературе заявил о себе и своим повествовательным стилем.
Новая идейно-художественная концепция романа, выдвинутая Руссо, создала
новый литературный язык. «Чувствительность» имела свой словарь, свою
фразеологию и свою стилистику, развивавшиеся под знаком сентименталь-
ной аффектации и сенсуалистической живописности. Музыкальные инте-
ресы Руссо сказались в его литературном стиле, отличающемся поистине
музыкальной ритмичностью периодов и фраз. Живопись чувств выразилась
в эмоционально приподнятом слоге, изобилующем элементами чувствитель-
ной декламации и широким использованием эмоционально-риторических
приемов — сопоставлений, антитез, патетических вопросов, восклицаний
и т. д.
4
Уже при жизни Руссо руссоизм как мироощущение, философия и ли-
тературная школа начал складываться в одно из наиболее заметных явле-
ний французской идейной жизни XVIII в. После смерти писателя в рус-
соизме наметилось расслоение. Мотивы мысли и творчества Руссо дали,
по крайней мере, два основных варианта руссоизма: первый — консерватив-
ный и в той степени, в какой Руссо повлиял на творчество Шатобриана, по-
литически реакционный, и второй, представленный Мерсье и Ретиф де ла
Бретонном, — прогрессивный.
В области социально-политических воззрений ближайшими преемни-
ками Руссо были Габриель Мабли (Gabriel МаЫу, 1709—1785) и Жан-
Пьер Бриссо (Jean-Pierre Brissot, 1754—1793). Мабли, на ряду с аббатом
Морелли (Morelly), явился основоположником коммунистических учений во
Франции XVIII в. Наиболее последовательное революционное истолкова-
ние философия Руссо получила в идеологии якобинцев, хотя руссоизм сего
социально^лолитическим содержанием сыграл большую роль и в дни со-
ставления наказов третьего сословия Генеральным штатам, и в дни разра-
ботки и опубликования Декларации прав. Идеология жирондистов несла в
себе также довольно значительные элементы руссоизма, а руссоистская
чувствительность едва ли не в равной мере окрашивала и настроения и
фразеологию жирондизма и якобинизма. Типичной руссоистской в этом
смысле была мадам Ролан (Roland, 1754—1793)—вдохновительница
круга жирондистских депутатов Конвента.
Революция признала Руссо одним ^1зсвоих ^предтеч. Бюсты его, на-
равне с бюстами героев древности, украшали революционные клубы и залы
официальных собраний законодательных органов. Прах его был перенесен
в Пантеон, отдельные эпизоды его жизни изображались на революционной
сцене. Чувствительная фразеология Руссо придала оттенок «сентимента-
лизма» речам революционных ораторов и, в частности, Робеспьера и Сен-
Жюста, которые считали себя и действительно являлись его идейными уче-
никами. Многие социально-политические концепции Руссо составляли основ-
ные пункты якобинской политической программы. В «Гимне Жан-Жаку
Руссо» Мари-Жозефа Шенье, написанном в честь перенесения праха великого
писателя в Пантеон, весьма полно отражено восприятие и понимание твор-
РУССО И РУССОИЗМ
783
чества Руссо якобинской революцией. Руссо, «друг Эмиля и свободы»,
прославляется революцией потому, что он «с земли, давно порабощенной.. .
снял оковы злобных сил; и вольности перворожденной права от пут осво-
бодил». Франция чтит его память за то, что он «нес рабам дары свободы. . .
гнал тиранов, королей», за то, что он — «всех мудрых назиданье, друг че-
ловечества прямой». В честь этого «друга человечества» революционные
власти и якобинские клубы устраивали общественные празднества, самый
замысел которых был заимствован у Руссо.
Руссоистскими настроениями была проникнута мораль якобинства с его
культом добродетели и чувствительности сердца. Руссоизм определил и
концепцию природы у якобинцев, их идеализацию земледельца, поэтиза-
цию земледельческого труда и т. д. Руссоизму обязана революция и яко-
бинским культом «верховного существа», официально провозглашенным не-
задолго до 9 термидора. Руссоизму же она обязана и своим республикан-
ским календарем, в котором каждый день получил наименование либо ка-
кого-нибудь явления природы или продукта сельского хозяйства, либо какой-
нибудь добродетели. Один из составителей этого календаря, Фабр д'Эглан-
тин, заявил себя идейным приверженцем Руссо, между прочим, и в своей
комедии «Филинт Мольера» («Le Philinte de Molière», 1790), развиваю-
щей замечания Руссо по поводу мольеровского «Мизантропа», изложенные
в «Письме к Даламберу». Вообще руссоизм наложил свою печать на худо-
жественную литературу французской буржуазной революции, в том числе
и на знаменитые «Руины» Вольнея. В литературной идеологии этой эпохи
он находил себе место рядом с неоклассицизмом, тем самым служа связую-
щей нитью между концом XVIII в. и романтической школой последующего
времени.
Из ближайших литературных преемников и продолжателей дела
Руссо и первую очередь следует назвать Бернардена де Сен-Пьера (Bernar-
din de Saint-Pierre, 1737—1814), виднейшего представителя «правого»
крыла руссоизма и едва ли не более «руссоистского» в ряде моментов сво-
его творчества писателя, чем сам Руссо. Бернарден де Сен-Пьер был сто
профессии инженером путей сообщения. Он работал на острове Мальте, в
Голландии, в России (где выдвинул, между прочим, проект колонизации
берегов Аральского моря), в Польше, в Австрии, в Ирландии и на острове
Иль-де-Франс, французской колонии в Индийском океане. В последние
годы старого режима Бернарден был директором парижского Ботаниче-
ского сада, а в годы революции — профессором Высшей нормальной школы.
Пламенный почитатель Руссо, Бернарден был одним из последних дру-
зей великого мыслителя и стал писателем под его непосредственным влия-
нием. Перу его принадлежат: «Путешествие на Иль-де-Франс» («Voyage
à l'île de France», 1773), «Аркадия» («Arcadie», 1781), «Этюды о природе»
(«Etudes de la nature», 1784—1787), знаменитый роман «Павел и Виргиния»
(«Paul et Virginie», 1787), повесть «Индийская хижина» («La Chaumière
indienne», 1790), философский рассказ «Суратская кофейня» («Le Café de
Surate», 1791) и посмертные «Гармонии природы» («Les Harmonies de la
nature», 1815).
Основное, что Бернарден де Сен-Пьер усвоил у Руссо, — это культ
природы и мысль о том, что добродетели можно достигнуть только путем
слияния с благостной природой, созданной творцом вселенной для удовле-
творения всех потребностей человека. В своем восприятии природы Бернар-
ден де Сен-Пьер доходит до экзальтированного культа ее, который в виде
целой морально-философской системы изложен им в «Этюдах о природе».
Общественно-политические взгляды Бернардена де Сен-Пьера исходят так-
784
ПРОСВЕЩЕНИЕ
же из его культа приро-
ды и носят ярко выра-
женный реакционно-уто-
пический характер.
Второе, чем Бернар-
ден де Сен-Пьер обязан
своему учителю, — это
культ чувствительности,
превращающейся у него
сплошь и рядом в чув-
ствительную жеманность
с ее сентиментальными
«храмами уединения»,
«сенью струй», «празд-
никами сердца» и т. д.
Европейский сентимен-
тализм начала XIX в.
в этой его разновидно-
сти обязан своими на-
строениями и своей фра-
зеологией именно Бер-
нардену де Сен-Пьеру.
Гоголь в «Мертвых ду-
шах» дал в образах Ма-
нилова и его жены за-
мечательную сатиру на
подобного рода сенти-
ментально-жеманный об-
раз мыслей.
Сочетание культа
природы и культа чув-
ствительности образует
патетическое содержание
«Павла и Виргинии».
Этот небольшой роман, первоначально входивший в состав IV тома «Этю-
дов о природе», рисует судьбу и злоключения двух юных существ на лоне
тропической природы. Проникнутый лиризмом дружбы, сердечной чувстви-
тельностью и живым ощущением пейзажа, он принадлежит к числу шедев-
ров французской литературы. Основная его мысль сводится к формуле:
«Наше счастье заключается в том, чтобы жить согласно законам природы
и добродетели». Павел и Виргиния — это образ золотого века человечества,
не тронутого и не напорченного искусственной цивилизацией, живущего
непосредственностью своих чувств и не ведающего ни условной морали, ни
условных правил человеческого общежития. Бернарден показывает здесь
те губительные последствия, которые имеет вторжение цивилизации в жизнь
людей, живущих в «естественном состоянии». Виргиния гибнет в конце
романа за то, что ушла из этого земного рая, польстившись на наследство
богатой тетки, выписавшей ее в Париж. Впрочем, финал романа (буря
разносит в щепки корабль, на котором Виргиния возвращается к родимому
острову) отличается искусственностью и надуманностью.
Зато необычайной «естественной* чистотой и благостью добродетели
отмечена окружающая героев романа природа. Бернарден де Сен-Пьер —
исключительный мастер литературного пейзажа, который у него наполнен
Бернарден де Сен-Пьер. < Павел и Виргиния>.
Гибель Виргинии.
С рисунка П. П. Прюдона, грав. Б. Роже.
яркими образами и целым миром звуков. Бернарден был замечательным
художником-колористом, который изобрел настоящую словесную палитру
красок, неведомую его учителю Руссо. Он явился также инициатором
в области изображения моря, морских пейзажей. Как пейзажист Бернарден
де Сен-Пьер сделал вслед за Руссо еще один шаг по направлению к роман-
тическому живописанию природы, которое мы вскоре встретим в американ-
ских повестях Шатобриана.
Бернарден де Сен-Пьер, несмотря на все свои сентиментальные, филан-
тропические мотивы, лишал руссоизм его плебейской революционности.
Эту сторону руссоизма отобразили в своем творчестве два писателя, кото-
рые были современниками Французской буржуазной революции, — Луи-
Себастьян Мерсье (Louis-Sébastien Mercier, 1740—1814) и Ретиф де
Ла-Бретонн (Restif de La Bretonne, 1734—1806).
Мерсье был последовательным пропагандистом ряда основных положе-
ний руссоизма в их демократическом, революционном звучании. Принад-
лежа к младшему поколению просветителей XVIII в., он сочетал в себе
различные тенденции их философской мысли, причем, однако, именно рус-
соизм (несмотря на уважение Мерсье к Вольтеру и на несомненное влия-
ние на него Дидро) явился основой его философских, социально-полити-
ческих и литературных взглядов. Мерсье жил и писал в годы крайнего
обострения классовых противоречий. Непосредственное ощущение при-
ближавшихся грандиозных событий и активное участие в революции за-
острило мысль Мерсье и окрасило его творчество особыми тонами.
Мерсье испробовал свои силы в самых разнообразных жанрах. Среди
его сочинений мы находим и философский роман «Дикарь» («L'Homme
sauvage», 1767), и социальную утопию «2440 год, сон каких мало» («L'An
2440, rêve s'il en fut jamais», 1770), и литературно-теоретические труды, и
драмы, и очерки современного быта и нравов («Tableau de Paris», 1781;
2-е дополненное издание, 1783; «Le Nouveau Paris», 1797), и книги фило-
софского и лингвистического содержания (среди последних необходимо
отметить его словарь неологизмов французского языка—«Néologie»,
1801 ). Разносторонняя деятельность Мерсье оставила след не только во
французской, но и в немецкой литературе. Космополит по своим литера-
турным вкусам, неутомимый пропагандист Шекспира, поклонник Мильтона,
Оссиана и других английских поэтоз, почитатель Гете и еще в большей
степени Шиллера, переводчик иностранных авторов на французский язык,
Мерсье, подобно Бернардену де Сен-Пьеру, весьма способствовал распро-
странению руссоизма за пределами Франции. Особенно большое влияние
он оказал в Германии в период «бури и натиска».
Продолжая дело Руссо, Мерсье в ряде случаев поставил точки над «и»
там, где основоположник руссоизма дал лишь основные, руководящие
мысли. В этом отношении особенный интерес представляет утопический
роман Мерсье «2440 год», запрещенный дореволюционной французской
цензурой. Здесь схематически-правовые формулы «Общественного до-
говора» получают конкретное, образное воплощение. Автор переносит
читателя в будущую Францию, превратившуюся в страну свободных земле-
дельцев, владеющих небольшими, равномерно разделенными между ними",
участками земли. Он описывает города, утратившие свой урбанистический
вид и превратившиеся в города-сады, знакомит нас со здоровой, близкой
к природе жизнью новых поколений, излагает принятую у них систему
воспитания, в основных чертах заимствованную из «Эмиля» Руссо, востор-
гается простотой нравов и добродетелями, царящими в измышленной им
50 История французской литературы—815
v ОО ПРОСВЕЩЕНИЕ
счастливой стране. Словом, Мерсье рисует руссоистский идеал обществен-
ного и государственного устройства будущего, во многом совпадающий
с более поздними идеалами представителей французского утопического
социализма.
В романе «Дикарь» еще ярче и непосредственнее выступают руссоист-
ские убеждения автора. Индеец Задзем повествует о своей жизни в дев-
ственных лесах Америки, которые представляли собою земной рай до
того момента, пока в них не проникли «цивилизованные» колонизаторы.
Руссоистскую концепцию городской цивилизации Мерсье проводит также
в своей «Картине Парижа» — замечательной книге «физиологических очер-
ков» французской столицы, от начала до конца построенной на противо-
поставлении жизни богатого, пресыщенного наслаждениями города-паразита
нищенскому, бедственному и голодному существованию города-труженика.
Эта концепция парижской жизни оказала, повидимому, влияние на посвящен-
ные Парижу страницы «Писем русского путешественника» H. М. Карамзина.
В ряде иных моментов своего миросозерцания Мерсье повторяет и
популяризирует идеи Руссо. Таково его отношение к религии, к природе,
к морали, к вопросам воспитания и т. д. За вычетом отдельных несуще-
ственных деталей, автор «2440 года» остается верным последователем рус-
соизма, порою даже усиливающим некоторые из положений Руссо.
Но главный интерес в деятельности Мерсье представляет его план
драматургической реформы и связанное с этим его собственное драмати-
ческое творчество. Здесь Мерсье выступает как последователь основных
идей Руссо, сочетающий их с драматургическими воззрениями Дидро. Свой
трактат «О театре, или Новый опыт о драматическом искусстве» («Du
Théâtre, ou Nouvel essai sur l'art dramatique», 1773) Мерсье построил,
в основном опираясь на соображения Руссо о театре и драматургии, выска-
занные им в «Новой Элоизе» и в «Письме Даламберу». Несомненной за-
слугой Мерсье является то, что, не в пример многим критикам и противни-
кам театральных воззрений Руссо, он понял их основную идейную тенден-
цию. Он понял, в частности, что жестокая критика театра у Руссо
отнюдь не предполагает и не предопределяет полного отрицания театра
как такового. Вслед за Руссо и другими теоретиками театра из философ-
ского лагеря Мерсье выступает против того состояния театрального и
драматического искусства, в котором оно находится в данный момент и
которое не может удовлетворить интересы идейного и общественно-полити-
ческого прогресса.
Заслугой Мерсье является также и то, что он придал основным мыслям
Руссо и Дидро по вопросам театра законченное выражение. Выступа?
против классической трагедии, пропагандируя Шекспира, требуя макси-
мальной актуализации театра и драматургии, Мерсье окончательно форму-
лирует идею народного театрального искусства, отвечающего интересам
тех классов общества, которые решительно выдвигаются на первый план
общественно-политической жизни страны. Он горячо отстаивает демокра-
тический и социальный реализм театра и драматургии, социальную значи-
мость и актуальность его тематики, жизненный реализм его языка, соци-
альную обусловленность и социальную направленность характеристик его
персонажей, гражданскую добродетель и героизм как движущие пружины
его действия. Идя значительно дальше Дидро в ниспровержении сословиой
иерархии драматических жанров, Мерсье несравненно больше своих пред-
шественников демократизирует драму, обращаясь прямо к жизни социаль-
ных низов в поисках образов и тематики своего театра. Вместе с тем, он
задумывается и над дальнейшими судьбами «высокой» тематики, в первую
РУССО И РУССОИЗМ
785
очередь тематики исторической, которой он ставит воспитательно-граждан-
ские, героические задачи.
Как драматург Мерсье был широко известен не столько на столичной,
сколько на провинциальной французской сцене, потому что в провинции
театральная цензура была значительно менее сурова, чем в Париже, где все
главнейшие пьесы Мерсье были до революции запрещены к постановке.
В то же время некоторые драмы Мерсье шли с большим успехом в Герма-
нии. Переводили их и в России и, что очень характерно, под руководством
Н. И. Новикова. Их переводчик А. Ф. Лабзин называет Мерсье «лучшим
из французских писателей».
Перу Мерсье принадлежит целая серия исторических драм. Таковы:
«Олинд и Софрония» («Olinde et Sophronie», 1771 ) — подражание одно-
именной трагедии немецкого драматурга Кронегка; «Жан Аннюйе, епископ
Лизье» («Jean Hennuyer, évêque de Lisieux», 1772), выпущенная к двух-
сотлетию Варфоломеевской ночи и прославляющая Генриха IV; «Разруше-
ние Лиги, или Сдача Парижа» («La Destruction de la Ligue, ou la Rédu-
ction de Paris», 1782), изображающая осаду Парижа Генрихом IV и
славословящая этого монарха; «Портрет Филиппа II, короля Испании»
(«Portrait de Philippe II, roi d'Espagne», 1785)—пьеса, из которой Шиллер
заимствовал несколько сцен для своего «Дон Карлоса». Во всех этих дра-
мах Мерсье использует историю в качестве пропагандистского материала
для борьбы против тирании и фанатизма.
В своих социально-бытовых драмах Мерсье, в основном следуя теорети-
ческим положениям Дидро, обнаруживает более глубокое, чем автор «Отца
семейства», ощущение классовых конфликтов и нарастающей классовой
борьбы. В пьесе «Дезертир» («Le Déserteur», 1782) он поднимается до
весьма решительной критики порядков и нравов королевской армии;
в пьесе «Судья» («Le Juge», 1774) резко разоблачает классовость старо-
режимного суда. В ряде других пьес, как, например, в «Неимущем»
(«L'Indigent», 1782) или в знаменитой «Тачке уксусника» («La Brouette du
vinaigrier», 1776) он предоставляет сцену представителям «четвертого
сословия», — правда, отдавая немалую дань буржуазно-либеральному по-
ниманию семьи, собственности и общественной морали.
Социальные убеждения Мерсье окрашены типичным для многих про-
светителей XVIII в. филантропизмом. Этот сентиментальный филантро-
пизм вполне соответствовал умеренной политической платформе Мерсье.
Утопические мечтания в руссоистском стиле отступали на второй план
перед конкретными проблемами социальной действительности. Демокра-
тизм Мерсье был демократизмом буржуазного интеллигента, испытавшего
на себе сильное, но не решающее влияние революционной демократии.
В дни революции Мерсье по своим политическим убеждениям был ближе
всего к левому крылу жиронды. Он боялся и сторонился якобинства и
после 9 термидора довольно быстро эволюционировал вправо, что, впро-
чем, характеризовало идейно-политический путь подавляющего большин-
ства представителей младшего поколения просветителей.
Тем не менее, Мерсье сыграл большую роль в подведении идейных и
творческих итогов, литературной истории XVIII столетия. Объединяя
в своих литературных воззрениях эстетическое наследие Дидро и Руссо,
будучи в ряде своих идейных устремлений последовательным руссоистом,
сделав ряд далеко идущих теоретических вьшодов из драматургических
требований Дидро, Мерсье своим филантропическим демократизмом,
своими космополитическими тенденциями и интересами, а также политиче-
ской заостренностью многих из своих произведений, является прямым
788
ПРОСВЕЩЕНИЕ
предтечей ряда прогрессивных романтиков начала XIX в., а его пьесы ока-
зали немалое влияние на формирование жанра романтической мелодрамы.
Еще более предвосхитил литературные тенденции XIX в. Ретиф де Ла-
Бретонн, автор более чем ста пятидесяти томов литературных произведе-
ний. Этот писатель в еще большей степени, чем Мерсье, был забыт и за-
малчивался официальным буржуазным литературоведением. Высокомерно
утвердив за ним кличку эротомана и порнографа, буржуазная литератур-
ная наука только в недавнее время, да и то лишь в лице немногих своих
представителей, стала склоняться к переоценке Ретифа, к признанию за ним
прав на более значительное место в истории французской и европейской
литературы, чем то, которое до сих пор ему уделялось.
По своему происхождению Ретиф де Ла-Бретонн был бургундским
крестьянином. Получив у себя на родине скудное образование, он собствен-
ными силами пробил себе дорогу, изучил печатное ремесло и переселился
в Париж, где, работая в типографиях, получил свое литературное креще-
ние. Ретиф прекрасно знал крестьянский быт и быт низших слоев париж-
ского населения. Вместе с тем, он был горячим, благоговейным поклонни-
кам Руссо. Не имея доступа в высший свет и его литературные салоны, он
всю жизнь оставался писателем парижской улицы и парижской демократии,
неразрывно связанный с нею своими интересами, своим бытом и материа-
лом своих произведений.
Глубокий индивидуализм Ретифа отразился в методе «го писатель-
ской работы. Значительная часть его произведений в большей или мень-
шей степени автобиографична. Вместе с тем, литературное наследие Ретифа
представляет значительный документальный интерес. Ретиф был писате-
лем, творчество которого целиком основано на точном воспроизведении
черт жизни, которые он наблюдал день за днем, кропотливо собирая свои
заметки и впечатления. В этом смысле Ретиф является одним из отдален-
ных предшественников Золя и его натуралистических приемов литератур-
ного описания.
Особенно крупный успех выпал на долю романа Ретифа «Развращен-
ный крестьянин, или Опасности города» («Le Paysan perverti, ou les Dan-
gers de la ville», 1775), построенного на типично руссоистской теме столкно-
вения городской цивилизации с добродетелями «естественного человека»,
воплощенного в образе неискушенного городскими соблазнами крестьян-
ского юноши. В этом столкновении побеждает городская цивилизация. Она
развращает чистого душою крестьянина, доверившегося ее обманчивым
благам, превращая его в преступника и ввергая в пучину дурных страстей
и ужасающих пороков. В приложении к роману дан утопический устав
вымышленной автором земледельческой коммуны — трудового объединения
ста крестьянских семейств, живущих обобществленной экономической
жизнью в замкнутой системе хозяйства и счастливо проводящих свои дни
в радостном труде и невинных сельских развлечениях.
Аналогичную картину коммунистической общины, но уже в условиях
городской жизни, Ретиф рисует в новелле «Двадцать жен двадцати това-
рищей» («Les Vingt épouses des vingt associés»), в которой двадцать семейств
трудящихся интеллигентов живут на началах коммунистической ассоциации
и обобществленного экономического быта. Подобные утопические перспек-
тивы жизни Ретиф подробно развивает в серии книг, объединенных общим
заголовком «Странные идеи» («Idées singulières», 1769—1789): в «Порно-
графе» обсуждаются вопросы проституции и положения женщин в совре-
менном обществе; в «Мимографе» — возможности театральных реформ; в
«Эдукографе» — проблемы воспитания; в «Андрографе» — проекты об-
РУССО П РУССОИЗМ
789
щего оздоровления нравов; в «Тесмографе» — проекты переустройства
юридической системы и законов. В двух последних книгах Ретиф является
непосредственным предшественником социалистов-утопистов начала XIX в.
и, в частности, Фурье. Утопический роман Ретифа «Южное открытие»
(«La Découverte australe», 1781) содержит весьма близкий к воззрениям
Руссо и его прославлению «золотого века» первобытной, дикарской куль-
туры идеал жизни в природе, не ведающей яда лживой и развращающей
цивилизации. Особенно интересен этот роман еще потому, что мы встре-
чаем в нем детально разработанную картину эгалитарно-социалистического
общества, — картину, предвосхищающую идеалы утопического социализма
первой половины XIX в.
К руссоистским литературным традициям восходит и индивидуализм
Ретифа. «Исповедь» Руссо послужила ему образцом для написания шест-
надцатитомного романа «Господин Никола, или Разоблаченное человече-
ское сердце» («Monsieur Nicolas, ou le Coeur humain dévoilé», 1794—1797).
Книга эта едва ли имеет себе равную по откровенному обнажению всех
затаенных уголков биографии ее автора, всех его мыслей и интимнейших
сторон его быта. Именно эта книга и послужила основанием для буржуаз-
ного литературоведения подвергнуть Ретифа опале. Вслед за «Исповедью»
Руссо «Господин Никола» утверждал в истории европейской литературы
жанр того личного повествования, который с предельной эмоциональной
насыщенностью раскрывал перед читателем треволнения, противоречия,
светлые и темные стороны, соблазны, подъемы и падения живой челове-
ческой личности. Это не только мемуарная запись фактов жизни, но и
своего рода «физиологический очерк» человеческой натуры, обнажающей
свои самые сокровенные тайны и раскрывающей свои противоречия. Мо-
мент «чувствительной» стилизации присутствует и здесь, и, надо полагать,
в еще большей степени, чем в «Исповеди» Руссо, но этот момент является
закономерным следствием «чувствительной» концепции человеческого суще-
ства, столь характерной для руссоизма в целом.
В ряде своих произведений Ретиф был непосредственно связан с тра-
дицией галантно-эротического романа XVIII в. Однако изображение
светской среды, свойственное этому роману, он заменял реалисти-
чески-бытовым нравоописанием. Вполне реалистически-бытовой характер,
окончательно порывающий с установленными формами литературы рококо,
носит многотомная серия его новелл «Современницы» («Les Contemporai-
nes», 42 тома, 1780—1783). В течение всей жизни Ретиф оставался верен
своему интересу к женщине. Даже некоторые свои произведения (напри-
мер, «Мимограф») он писал от женского имени. Этот интерес к женщине,
к ее положению в современном обществе, к ее роли в быту, в семье,
в труде, в любви и т. д., был отражен им в ряде повестей и романов,
а также в трактате «Новый Эмиль, или Практическое воспитание» («Le
Nouveau Emile, ou l'Éducation pratique», 1776), значительная часть которого
посвящена воспитанию женщины в духе руссоистских педагогических идеа-
лов. В своих «Современницах» Ретиф собрал огромную галерею женских
типов, выхваченных из различных социальных кругов и профессий, притом,
главным образом, из низов общества. Кроме того, им были написаны
еще две подобные же серии новеллистических очерков — «Француженки»
(«Les Françaises», 1786) и «Парижанки» («Les Parisiennes», 1787).
Во всех этих очерках-новеллах Ретиф выказывает себя апологетом тру-
дящихся женщин. Его идеал женщины — крестьянка. Его сочувствие — на
стороне работниц, модисток, белошвеек, ярмарочных актрис, приказчиц,
прачек и других дочерей трудового Парижа. С тонким сарказмом, не ску-
790
ПРОСВЕЩЕНИЕ
пясь на самые рискованные описания, снижающие традиционный галантный
стиль, он описывает жизнь светских куртизанок, кокоток, избалованных
успехом салонных дам. Острота характеристик, мастерство литературного
рисунка, своеобразие стиля и прекрасное знание того быта и той психоло-
гии, которые составляют материал «Современниц», делают это произведе-
ние Ретифа одной из наиболее интересных книг конца XVIII в.
Большой интерес представляют также его «Парижские ночи, или Ноч-
ной зритель» («Les Nuits de Paris, ou le Spectateur nocturne», 1788—1794).
Неутомимый наблюдатель жизни парижской улицы, Ретиф любил бродить
ночью по столичным тротуарам, ища повсюду материал для своих литера-
турных записей. «Парижские ночи» представляют собой последовательное
изложение подобных ночных странствий, охватывающее ряд лет революции
и развертывающее перед читателем то протокольно-документальные, то ро-
мантически-жанровые, то патетические впечатления их ночного наблюда-
теля. Вместе с «Картиной Парижа» и «Новым Парижем» Мерсье «Париж-
ские ночи» Ретифа представляют собой едва ли не первые, появившиеся
на пороге нового столетия, «физиологические очерки» городской жизни,
которые выросли затем в самостоятельный литературный жанр и рядом
своих черт оказали влияние на последующий реалистический роман нравов
большого города.
Реализм Ретифа, несмотря на наличие в его стиле значительной дозы
сентиментальной аффектации и «чувствительных» клише, в еще большей
степени, чем у Мерсье, проникнут демократическими тенденциями. На-
сквозь плебейское по своей сущности творчество Ретифа явилось послед-
ним звеном в истории французской литературы XVIII в., начавшей свой
путь под знаком аристократического скепсиса. Ретиф де Ла-Бретонн и
Мерсье, ученики и последователи Руссо, образуют переход к французской
литературе XIX в. и, в первую очередь, к ее реалистическому роману, про-
возвестником которого был в особенности первый из них.
Руссоизм имел во Франции и вне ее еще иных наследников и продол-
жателей. Его идейное и художественное влияние на литературную жизнь
Европы было огромно. К руссоистским истокам восходят весьма различные
по своему классовому облику и идейному содержанию своего творчества
писатели. Правый руссоизм через Бернардена де Сен-Пьера пришел к ро-
мантике Шатобриана, левый руссоизм отразился в народнически-социали-
стических идеях Жорж Санд. Мадам де Сталь, Сенанкур, Ламартин, Аль-
фред де Виньи, Мюссе, Гюго — все в той или иной степени отдали дань
руссоистской «чувствительности», руссоистскому культу природы, индиви-
дуализму и утопическим устремлениям. За пределами Франции идейное
влияние Руссо испытали на себе Кант и, в особенности, Фихте с его тези-
сом о первобытном состоянии невинности и инстинктивной добродетели.
В Германии, кроме названных философов, ярыми руссоистами были пред-
ставители «бури и натиска» во главе с Ленцом, Клинтером, молодым Гете
(«Вертер») и молодым Шиллером («Разбойники», «Коварство и любовь»).
В Италии руссоистскими мотивами были проникнуты «Последние письма
Якопо Ортиса» Уго Фосколо. В Англии, не говоря уже о Гольдсмите,
Коупере и Вернее, у Руссо черпали ряд своих литературных мотивов Бай-
рон, Шелли и Вордсворт. В Америке руссоистская идеализация «естествен-
ного человека» проявилась в идеальных образах индейцев у Фенимора Ку-
пера. В России наследие руссоизма сказалось в первую очередь в твор-
честве Карамзина, повлияло на формирование общественно-политических
'взглядов Радищева, нашло свое отражение у Пушкина («Цыганы») и
предстало на новой ступени своего развития в философских и художе-
РУССО И РУССОИЗМ
7У1
ственных произведениях Л. Н. Толстого, столь глубоко симпатизировав-
шего учению женевского мыслителя и писателя.
Своими отдельными литературными устремлениями, своим стилем и
кругом своих творческих интересов руссоизм в значительной степени под-
готовил романтическое движение в литературе, слагаемыми которого в ряде
случаев являются руссоистские мотивы мысли и чувства. После класси-
цизма с его общеевропейским (распространением и влиянием литературная
деятельность Руссо и его ближайших сподвижников оказалась наиболее
космополитическим по своему значению явлением французской литературы.
Противопоставив себя коллективной, объединенной общностью основных
установок и основных интересов работе группы просветителей XVIII в.,
Руссо тем не менее явился для последующих эпох одним из наиболее ярких
воплощений живой, протестующей, разрушающей и созидающей мысли
XVIII столетия. Он сыграл огромную прогрессивную роль в общем идей-
ном движении своего века. В этом смысле его можно назвать «зеркаломд
французской революции. Он был выразителем тех мыслей и чувств, кото-'
рые вошли в идейный инвентарь французской революции и нашли свое
законченное выражение в якобинстве с его плебейскими способами расправы
со старым порядком, с его культом спартанской добродетели, с его «чув-
ствительной» фразеологией и эгалитарными тенденциями.
ГЛАВА VIII
ЛИТЕРАТУРА КАНУНА РЕВОЛЮЦИИ
1
оследним этапом в процессе разложения французского
абсолютизма, заполняющем весь XVIII век, явилось
царствование Людовика XVI (1774—1793). Начало
этого царствования, как указано выше (см. главу «Воль-
тер и его время»), было отмечено попытками либераль-
ных реформ, выразившихся в привлечении к власти про-
светителей Тюрго и Неккера. Однако эти реформы ока-
зались весьма эфемерными, и в 1781 г. Неккер получил
отставку, что вызвало настоящую бурю возмущения про-
тив монархии во всех слоях французского общества.
Классовые противоречия внутри этого общества обострялись с каж-
дым годом. Разложение аристократии и придворных сфер достигло своего
высшего предела, выражаясь не только в развращенности и низкопоклон-
стве, но и в прямых мошенничествах (вспомним скандальное дело об «оже-
рельи королевы»). С другой стороны, с невиданной силой возрастала
эксплоатация народных масс, переживавших страшный голод и нищету
в связи с разразившимся в 80-х годах финансовым кризисом. Народные
массы отвечали на этот усилившийся гнет крестьянскими восстаниями
в деревне и рабочими волнениями в городах. Оппозиционные настроения
третьего сословия по отношению к изжившему себя до конца абсолютист-
скому строю достигли своей высшей точки и грозили со дня на день пере-
расти в революционный взрыв.
Неизбежность революции ощущалась в равной мере всеми слоями
французского общества. В господствующих классах эта надвигавшаяся ре-
волюция вызывала смутную тревогу. Тревогу испытывали не только дво-
рянство и духовенство, но и верхушка буржуазии, сросшаяся с правящими
кругами и боявшаяся крушения существующего строя. Однако, при всей
своей приверженности системе сословной монархии, часть дворянства была
сильно захвачена просветительством. Но, вовлекаясь в сферу умственных
интересов просветителей, дворянство не сознавало или не хотело сознавать
всей взрывчатой силы просветительской идеологии, а видело в ней только
некий новый вид интеллектуального наслаждения, отчасти помогавший ему
отвлечься от тревожной действительности.
Отмеченная расстановка классовых сил предреволюционной Франции
определила своеобразный характер литературы кануна революции. Редко-
ЛИТЕРАТУРА КАНУПА РЕВОЛЮЦИИ
795
когда в литературе царил такой разброд, как в 80-х годах. Если бы мы не
знали его источника, мы могли бы говорить о каком-то своеобразном рас-
цвете, выражающемся в необыкновенном богатстве и разнообразии жанров.
Но это разнообразие — не плод здорового творческого подъема, а резуль-
тат большой внутренней растерянности.
Проще всего было, казалось, забыть обо всем и бежать под бездумную
сень изящно подстриженных боскетов рококо, по старому рецепту, имев-
шему такое широкое хождение во времена Людовика XV. Но воскресшее
рококо конца старого режима было мало похоже на рококо начала XVIII в.
Теперь некому было заменить не то, что Ватто и Лайкре, но даже Буше;
ни у кого анакреонтические мотивы теперь не могли звучать так искренно,
как когда-то у Пирона и Грекура, и даже галантный роман не мог сыскать
теперь мастера, равного Кребильону-младшему.
Все признаки неуверенного нащупывания новых путей можно найти
в двух первых сборниках стихов поэта, которого в будущем ожидала гром-
кая слава и широкая популярность за пределами Франции — Эвариста
Парни (Evariste Рагпу, 1753—1814). Уроженец острова Бурбона, офицер
французской службы, Парни дебютировал сборником элегий «Эротические
стихи» («Poésies erotiques», 1778), за которым последовала вторая книга —
«Поэтические безделки» («Opuscules poétiques», 1779), составляющая по
настроению одно целое с первой книгой. Обе книги имели шумный успех,
а первая принесла автору похвалу Вольтера, назвавшего Парни «француз-
ским Тибуллом».
Оригинальность ранних стихов Парни заключалась в сочетании изящ-
ного эпикуреизма и жеманно-красивого эротизма с элегическими настрое-
ниями, — сочетании, выражавшем глубокий внутренний разлад, характер-
ный для поэтического сознания Парни. Повествуя в четвертой книге «Эро-
тических стихов» о несчастной любви к Элеоноре, Парни впервые во Фран-
ции XVIII в. преодолел галантную стихию рококо своей искренней и глу-
бокой элегичностью. Эта элегичность сочеталась с гармонией формы, ко-
торая предвещала сквозь грацию рококо новый античный идеал Шенье.
Она была подсказана Парни внимательным чтением римских элегиков
и особенно Тибулла. Возродив лирическую стихию в поэзии, Парни
поднял настоящий бунт против рассудочного прозаизма и доказал, что
можно в стихах найти адэкватное выражение истинному чувству.
На ряду с любовными стихами в сборниках Парни встречаются также
стихи гражданского содержания. Так, в своем послании к повстанцам Бо-
стона он громит «неумолимую тиранию», называя ее «чудовищем, которое
под различными именами угнетает порабощенную Европу». Поэзия Парни
хтользовалась огромным распространением в России в начале XIX в., когда
большую дань увлечению его стихами отдали Батюшков и молодой
Пушкин. Маркс также с похвалой отзывался об его «прекрасных стихах
к Элеоноре». ' Своими стихами Парни сразу завоевал читателя. Разлад,
царивший в них, ему прощали, потому что у Парни он искупался боль-
шим талантом. Труднее было простить такой же разлад, когда он рас-
крывался без таланта.
Жан-Пьер Флориан (Jean-Pierre Florian, 1755—1794) напечатал в 80-х
годах две пасторали. Первая из них, «Галатея» («Galatée», 1782), была то-
мительно скучна и лишена всякой оригинальности, ибо представляла
собою плохое подражание «Галатее» Сервантеса. Вторая, «Эстелла» («Estel-
le», 1788), показывает, что автор несколько усовершенствовался в пасто-
1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. III, стр. 91.
794
ПРОСВЕЩЕНИЕ
ральном гканре. Как и «Га-
латея», «Эстелла»—вся
в стиле рококо, но ей не-
достает безмятежной лег-
кости, свойственной старым
образцам этого стиля. Она
пропитана грустью, но на-
думанной и холодной, не
вяжущейся с ее описатель-
ной частью. От этого про-
исходит неискренность об-
щего тона. Это же приводит
к ходульности ее персона-
жей, которые лишены вся-
кой убедительности.
Пастухи и пастушки
буколики Флориана, неза-
висимо от их возраста, не-
стерпимо добродетельны.
Их глаза чрезвычайно бы-
стро наполняются слезами,
и они с чрезвычайной лег-
костью лишаются чувств
от избытка сладостных или
печальных переживаний ;
но читатель остается рав-
нодушным. „«Эстеллу», —
очень справедливо сказал
Сент-Бев, — нужно читать
в четырнадцать с полови-
ной лет, в пятнадцать для
Парни, мало-мальски развитых уже
С гравюры неизвестного художника. СЛИШКОМ ПОЗДНО". Да И у
современников «Эстелла» имела очень сомнительный успех. Вычурность и
изломы рококо явно теряли свою притягательную силу. Флориан это по-
нял и быстро сменил пастушескую свирель на фанфары, трубящие славу
Гонсало Кордовскому, в одноименном романе («Gonzalve de Cordbue», 1791 ),
героем которого является знаменитый полководец Фердинанда Католика.
Даже когда стиль Рококо отдавался на службу неприкрыто эротиче-
ским целям, он не только не поднимал художественных достоинств того
или иного произведения, но уже не в силах был содействовать их элемен-
тарной прелести. Луве де Кувре (Louvet de Couvray, 1760—1797), автора
«Любовных приключений кавалера де Фобласа» («Les amours du chevalier
de Faublas», 1787), историки французской литературы не забывают как
представителя революционного красноречия, но роман его упоминают со-
всем бегло. Действительно, популярность этой книги — невысокого разбора.
В романе нет (реалистической картины нравов, его сюжетные ситуации
явно придуманы с целью раздразнить чувственность читателей. Персо-
нажи «Фобласа» — не живые люди, а марионетки. Сцены, пряные и
острые, имеют мало соперников по откровенности в других произведениях,
претендующих на какую-то литературную ценность.
И последние отголоски рококо в стихах, и пастораль рококо, и гривуаз-
ный роман рококо имели одну цель — заставить аристократическую пуб-
ЛИТЕРАТУРА КАНУНА РЕВОЛЮЦИИ
793
лику, к которой они обращались, забыть о серьезности переживаемого
момента и не слышать рокота близкой политической грозы. Не одни они
стремились к этому: десятилетие перед революцией блло полно произведе-
ниями, которые по целям были совершенно тождественны с «Эстеллою» и
«Фобласом», хотя принадлежали к самым различным жанрам. Нужно
было оторвать от пугающих мыслей и тревожных предчувствий тех, кому
близившиеся бури угрожали больше всего. Для этого хороши были все
жанры.
Так экзотическая и сказочная тема давно уже имели распространение
в литературе XVIII века. Сказки не только занимали и развлекали. Экзо-
тический сказочный мир врывался в серьезную литературу и в театр, ко-
торым он доставлял неисчерпаемые сюжеты. Сказочной тематикой не пре-
небрегали ни Дидро, ни Вольтер, ни опера, ни балет, ни ярмарочная
сцена. Но когда Шарль Майер (Charles Мауег) в течение четырех лет
(1785—1789) выпустил 41 том своего сборника «Кабинет фей» («Le Cabi-
net des Fées»), это преследовало уже совсем другие задачи. Можно сказать
без большого преувеличения, что огромная сказочная энциклопедия Майера
стремилась, как и «Эстелла» с «Фобласом», отвлечь внимание напуганных
людей от нервирующих мыслей и потопить его в мире фей, волшебников,
великанов, драконов и самой невероятной экзотики.
В таких условиях сказки явственно меняли свой смысл и из средства
расширения умственного кругозора и косвенной критики существующего
строя превращались как бы в пестро расписанную фантастическими фигу-
рами ширму, пытавшуюся загородить беспокойные перспективы близкого
будущего. Те же причины, которые меняли смысл сказочной сюжетики и
внезапно сообщали жанру несвойственную ему серьезность, налагали но-
вый отпечаток на давно оформившуюся литературную манеру некоторых
писателей. Из них самым интересным, пожалуй, является Жак Казот
(Jacques Cazotte, 1719—1792). В 40-х годах он писал вещи, пропитанные
восточной экзотикой, вроде «Кошачьей лапы» («La Patte de chat», 1741),
в 60-х годах пародировал Ариосто в шуточной поэме «Оливье» («Olivier»,
1762), а в 70-х годах сочинял изящные новеллы, в которых игривая гра-
ция рококо причудливо сочетается с фантастикой, близкой к фантастике
сказок, но менее наивной и уже предвещающей романтизм. Наиболее за-
мечательным из произведений этого жанра является шедевр Казота —
«Влюбленный дьявол» («Le Diable amoureux», 1772). С одной стороны,
эта повесть перекликается с «готическим» жанром, появляющимся именно
в это время в Англии, с другой стороны — в ней можно видеть своеоб-
разное продолжение «Манон Леско», предвосхищающее романтическую
трактовку чудесного и соблазнительного в любви.
После 1775 г. Казот примкнул к мартинистам и издал книгу
«Мистическая корреспонденция» («Correspondance mystique»), полную не
только мистических настроений, но даже попыток приподнять завесу над
«тайнами» оккультного мира. Именно эта книга, ставшая причиной казни
Казота в 1792 г., подсказала позднее Лагарпу легенду о «пророчестве»
Казота, будто бы раскрывшего в 1788 г. многим будущим жертвам рево-
люционной гильотины ожидавшую их участь. Выдумка Лагарпа, в свою
очередь, вдохновила молодого Лермонтова на стихотворение «На шумном
пиршестве задумчив он сидел. ..»
Таким образом, в литературе эпохи Просвещения постепенно нарастал
своеобразный протест против рассудочности, царившей на протяжении всего
XVIII в. Этот протест появляется, как культ чувствительности, уже
у Руссо и Бернардена де Сен-Пьера, правда, в сочетании с демократиче-
796
ПРОСВЕЩЕНИЕ
скими и даже революционными настроениями. Иную форму реакции против
просветительских идей и культа «разума» мы находим у группы поэтов,
писателей, переводчиков и ученых, прививавших предреволюционному фран-
цузскому обществу интерес к национальной старине, к средневековой ры-
царской культуре, к народной поэзии и к меланхолической лирике англий-
ского образца. Эти весьма разнообразные формы ухода от пресной
рассудочности доживавшего свои последние дни «века Просвещения» мо-
гут быть охвачены понятием «предромантизма» — литературного течения,
особенно широко распространенного в Англии конца XVIII в., где
раньше и острее, чем во Франции, должны были раскрыться противоречия
буржуазного общества и потому раньше возникла реакция против рассу-
дочности Просвещения.
Влияние английского предромантизма началось с перенесения во
Францию английской «кладбищенской поэзии» и в особенности «Ночных
дум» (1742—1745) ее основоположника Эдуарда Юнга, которые были
популяризированы прозаическим переводом Летурнера (1769), широкоиз-
вестного своим переводом Шекспира (см. выше, гл. IV). Вслед за Юнгам
французские читатели познакомились с меланхолической поэзией «кельт-
ского барда» Оссиана — с гениальной подделкой шотландского поэта
Макферсона (1760—1765), вызвавшей во Франции многочисленные пере-
воды и подражания. Лучший французский прозаический перевод поэм
Оссиана был сделан тем же Летурнером (1777), стихотворное же перело-
жение появилось уже после революции и принадлежало перу видного
классициста начала XIX в. Баура-Лормиана (Baour-Lormian) ; оно вышло
под названием «Гаэльские стихи» («Poésies gaellique», 1801).
Увлечение поэмами Оссиана явилось выражением пробудившегося во
Фракции второй половины XVIII в. интереса к средневековью и к народ-
ной поэзии. Этот интерес был поддержан рядом научных работ, среди
которых первое место занимают труды швейцарца Поля-Анри Малле
(Paul-Henri Mallet, 1730—1807), профессора французской литературы в
Копенгагене. Он познакомил Францию, а вслед за ней и всю Европу, со
скандинавской мифологией и поэтическими древностями в своих книгах
«Введение в историю Дании» («Introduction à l'histoire de Danemark», 1755)
и «Памятники мифологии и поэзии кельтов» («Monuments de la mythologie
et de la poésie des celtes», 1756). Автор, как большинство первых исследо-
вателей германских древностей, смешивает германцев и кельтов, чем объяс-
няется заглавие второй книги Малле. В ней содержатся прозаические пере-
воды из Младшей Эдды и песен скальдов, впервые познакомившие фран-
цузов с поэзией скандинавского севера.
Изучению французской национальной старины положил начало вы-
дающийся знаток французского средневековья Жан-Батист Лакюрн де
Сент-Пале (Jean-Baptiste Lacurne de Sainte-Palaye, 1697—1781), собравший
огромные материалы по истории феодального быта, оставшиеся в своей
значительной части неизданными. Он напечатал трехтомный труд «Записки
о древнем рыцарстве» («Mémoires sur l'ancienne chevalerie», 1759—1781).
С провансальскими трубадурами французское общество познакомилось впер-
вые по книге аббата Клода Милло (Claude Millot, 1726—1785) «История
трубадуров» («Histoire des troubadours», 1774), в которой Милло использо-
вал материалы, собранные Лакюрном де Сент-Пале. Но больше всего содей-
ствовал ознакомлению французской читающей" публики с рыцарским сред-
невековьем граф Луи де Трессан (Louis de Tressan, 1705—1783), выпу-
стивший четырехтомное собрание переводов французских рыцарских рома-
нов (1782), за которым последовал его перевод «Амадиса Уэльского»
ЛИТЕРАТУРА КАНУНА РЕВОЛЮЦИЯ tut
{«Aroadis de Gaule», 1787). Большим распространением в 70-х и 80-х го-
дах пользовались также прозаические переводы рыцарских романов, выхо-
дившие в сериях «Всеобщая библиотека романов» («Bibliothèque universelle
des romans», 1775—1789) и «Голубая библиотека» («Bibliothèque bleue»,
1775—1776 и 1787).
Так, уже до революции накоплялась тематика, оформлялись мотивы
и настроения, которые после революции привели к созданию нового
стиля — романтизма.
<2
Приближение революции не только пугало, не только заставляло
искать призрачного опасения от действительности в экзотике рококо и ска-
зок, в культе национальной старины или в мистическом самозабвении. Оно
подталкивало и на другое.
Соперником «Фобласа» по услаждению любителей гривуазного жанра
стал, после опубликования его книги, венецианский авантюрист Джакомо
Казанова (Giacomo Casanova, 1725—1798), написавший свои «Мемуары» на
французском языке, сочном и картинном. Он писал их в Дуксе (в Богемии),
в старости, в 80-х и 90-х годах. Когда они были опубликованы (в 20-х го-
дах XIX в.), то задним числом заняли свое место в цепи произведений
предреволюционной литературы, сомкнувшись с той ее струей, которую
столь характерно представлял «Фоблас». Однако, в отличие от «Фобласа»,
в «Мемуарах» Казановы, на ряду с эротическими картинками, содержится
очень много ценного культурно-исторического материала, характеризую-
щего описываемые автором 40-е и 50-е годы XVIII в.,—время, когда
в Европе пышно произрастали плоды так называемого «просвещенного
абсолютизма».
Жизненный путь Казановы начинается в Венеции, в государстве ярко
абсолютистском, несмотря на свою республиканскую форму, в котором
«просвещенные» эксперименты имели место раньше, чем где бы то ни
было. Потом он проходит через Неаполь, в котором в это время развер-
тывал большую деятельность просвещенный министр Карла III Тануччи.
Во Франции Казанова встречается на короткой ноге с кардиналом Берни,
проводившим вместе с Шуазелем некую «просвещенную политику».
В Австрии, куда он попал в тот момент, когда Мария-Терезия, тоже
в «просвещенном» духе, изобретала свои «комитеты нравственности», он
едва не сделался жертвою душеспасительных выдумок целомудренной импе-
ратрицы. В Испании он вращается около Аранды и Кампоманеса, двух
главных деятелей тамошнего «просвещения». В Пруссии он отклоняет лич-
ное приглашение Фридриха II стать директором одного из кадетских кор-
пусов. В России после холодного разговора с Екатериной II он убеждается,
что ее «просвещенные» эксперименты пройдут без его участия.
Хотя Казанове иной раз приходилось не очень сладко в этой густой
«просвещенной» атмосфере, в общем он все же чувствовал себя в ней пре-
восходно. Единственно чего ему нехватало, это сознания того, что он
вполне полноправный член этого общества. Казанова был не дворянин, а
разночинец, и это было его самым больным местом. Он готов был на все,
чтобы только заставить забыть, что в жилах его течет не «благородная»
кровь. Это ему не удавалось. Но хотя его не допускали в знатную среду,
так сказать, официально, он вертелся где-то с краю ее и всегда, когда ему
было нужно, находил способы общения с любым из ее членов. Через
его руки прошли огромные богатства, которые он выманивал у той же
аристократии. Одной только маркизе д'Юрфе знакомство с ним и с его
каббалистикой обошлось, как уверял потом ее наследник, больше чем в
m vu ПРОСВЕЩЕНИЕ
миллион ливров. Его общество было аристократическое общество, но,
вынужденный ходить у его порота, он был в нем хищником: он облегчал
его от излишних богатств, где мог, и соблазнял его женщин. Среди бес-
численных авантюристов, слетавшихся на предсмертное пиршество умираю -
щего феодально-аристократического мира, он был самым ярким.
В ту пору, когда документальное изучение литературной продукции
Казановы еще не начиналось, было высказано предположение, что «Ме-
муары» его представляют собою грандиозную мистификацию и что авто-
ром их является не кто иной, как Стендаль. Теперь мы знаем, что эта
гипотеза не имеет ни малейшего основания. Но существенно уже* то, что
«Мемуары» Казановы могли быть поставлены рядом с произведениями
одного из величайших критических реалистов французской литературы.
Поводом для такой гипотезы явилась яркость и правдивость книги Каза-
новы. Весьма любопытно также и то, что имя Стендаля пытались при-
крепить к другой книге, возникшей примерно в то же самое время. Это —
«Опасные связи» («Les Liaisons dangereuses», 1782) Шодерло де Лакло
(Choderlos de Laclos, 1741—1803) — книга, которую так любил Стендаль
и от которой он столькому научился.
Возникает вопрос: имеются ли какие-нибудь точки соприкосновения
между «Мемуарами» Казановы и «Опасными связями»? Политическая
настроенность обоих авторов совершенно различна. Казанова был инстинк-
тивным противником всего, что подкапывало феодально-абсолютистскую
культуру, к которой он привык и в которой ему жилось так хорошо. Он
чувствовал себя морально обязанным этой культуре и не видел ее обре-
ченности. Понятно, почему он не мог найти общего языка с Воль-
тером и почему в Жан-Жаке Руссо он увидел только смешного, плохо
одетого переписчика нот: угодник аристократии Кребильон-младший был
ему куда ближе. Понятно, почему под старость, когда буржуазия во Фран-
ции опрокинула абсолютизм и феодально-аристократическую культуру,
Казанова метал громы. Он написал несколько памфлетов против фран-
цузской революции, поносил ее деятелей, называл Мирабо негодяем, при-
готовил к печати филиппику в сто страниц in folio против Робеспьера.
Будучи приживальщикам у графа Вальдштейна в Дуксе, он ругал яко-
бинцами его слуг, когда они подавали ему подгоревшее жаркое или хо-
лодный кофе.
В романе Лакло, напротив, была четко намечена антиаристократи-
ческая тенденция. Черные краски сосредоточены у него на двух главных
действующих лицах его романа, типичных представителях аристократиче-
ского мира — на маркизе де Мертейль и виконте де Вальмоне, а единствен-
ный трогательный образ романа — жертва извращенных, циничных аристо-
кратов, холодно загубленная ими президентша де Турвель. «Опасные
связи» — книга, разоблачающая гниль людей старого мира. Вместе с тем,
это — превосходное литературное произведение. Стендалю было чему по-
учиться у Лакло. Лакло пишет свою книгу с ясным сознанием того, чего
он хочет. Он очень прост в своем изложении. Он скуп на описания и про-
токольно краток. У каждого из персонажей его эпистолярного ро-
мана— свой стиль, и анализ развертывается по тому самому методу, по
какому он впоследствии будет развертываться у Стендаля. Иногда кажется,
что этой алгебре чувств Лакло учился у таких драматургов-аналитиков,
как Расин и Мариво. Но он отличается от них тем, что его анализ — менее
отвлеченный, более естественный и реалистичный. Каждый из образов
раскрывается все полнее, вместе с развертыванием переписки, пока не на-
несен последний штрих; тогда фигура действительно вырисовывается пе-
ЛИТЕРАTJРА КАНУНА РЕВОЛЮЦИИ
/УО
ред читателем во весь рост. Избрав форму эпистолярного романа, Лакло
побеждает ее специфические трудности, и плодом такой победы является
счастливое разрешение художественных задач, которые не встают перед
романистом другого жанра. «Опасные связи» читаются с увлечением. Ин-
терес романа, его выдающиеся достоинства в связи с его социальной тен-
денцией, создали ему огромную популярность.
Популярность романа Лакло рождалась, однако, в других обществен-
ных кругах, чем популярность произведений, рассмотренных до сих пор.
Сатира против дворянства, разоблачение гнили, в которой безнадежно
погрязла аристократическая верхушка общества, вызывали сочувствие
в буржуазных кругах. Они тоже чувствовали приближение крупных собы-
тий и приветствовали всякую атаку на те стороны существующего по-
рядка, которые представлялись им наиболее типичными: на аристократию
и ее привилегии, на пережитки феодальных отношений, на абсолютную
власть короля, на злоупотребления бюрократического аппарата, на адми-
нистрацию, на полицию. Разоблачения такого рода начались давно; они
осуществлялись основными деятелями просветительского лагеря. Заверше-
ние начатого ими дела выпало на долю театра, становящегося на подсту-
пах к буржуазной революции основной политической трибуной третьего
сословия. В первую очередь здесь надо отметить возрождение перед самой
революцией классицистической трагедии. Она уже давно уступила первен-
ство мещанской драме, которая об руку с философией Просвещения орга-
низовывала буржуазную оппозицию и подготовляла ее к неотвратимому
столкновению с господствующим режимом. Но теперь мещанская драма
уже не могла выполнять эту задачу. Она была очень своевременна и очень
нужна в середине XVIII в., когда она выполняла задачу укрепления клас-
сового сознания буржуазии. Но по своей природе она не могла ставить
больших политических проблем, ибо не выходила из круга сюжетов частной
жизни. А интерес зрителя сосредоточился теперь целиком на ситуациях
из жизни общественно-политической. Этому интересу могла отвечать, как
жанр, только трагедия. Поэтому мещанская драма уступила театральные
подмостки лучше вооруженной политическим пафосом классицистической
трагедии. Успех последней превзошел все ожидания.
Еще три жизни Вольтера общественные настроения вынуждали его
учеников и последователей усиливать политическую тенденцию в своих тра-
гедиях. Только этим способом возможно было удерживать их на сцене.
Были, видимо, какие-то сложные, перекрестные мотивы, которые созда-
вали как самую возможность постановки той или иной трагедии, так и ее
успех. Постановка двух трагедий Вольтера, написанных в разгар его
борьбы за жертв церковного фанатизма, — «Гебры» и «Законы Миноса»,
оказалась невозможной, ибо антиклерикальная тенденция их в это время
считалась чересчур резкой. Но одновременная и даже более ранняя по-
становка «Спартака» Сорена, где воспевалась свобода и борьба против
деспотизма, а также постановки тираноборческих трагедий на классиче-
ские сюжеты Лемьерра и Лагарпа не встретили препятствий. Цензура была
настороже против атак на фанатизм и обскурантизм духовенства и церкви
и смотрела сквозь пальцы на усиливавшуюся и принимавшую все более
яркий республиканский характер политическую агитацию.
Обусловленный этими причинами успех трагедий на античные сюжеты
вызвал успех классицистических по форме трагедий и на другие сюжеты.
Так, Дебеллуа (De Belloy), который начал «Титом» («Titus», 1758), увлек
публику «Осадой Кале» («Le Siège de Calais», 1765), написанной но
патриотический сюжет из истории Франции и прославлявшей любовь
к родине,—мотив, давно вышедший из моды, но хорошо звучавший в ре-
волюционном ключе. А Лемьерр, подготовивший свой успех трагедиями на
античные сюжеты, достиг вершины своей славы «Вильгельмом Теллем» y
«Малабарской вдовой», особенно когда в более поздних представлениях стали
показывать сцены с яблоком, которое Телль простреливает на голове
сына, и с сожжением вдовы на костре по требованию жрецов во второй
трагедии. Эти отступления от канона классицистической трагедии легко
терпелись в 60-х годах во имя политических целей, ибо яблоко Телля
символизировало деспотизм, а костер — фанатизм духовенства.
Политическая пропаганда, так хорошо укладывавшаяся в привычную
форму александрийского стиха трагедии, стала причиною более широкого,
литературного, не исключительно театрального явления. Хотя возрождение
классицистической трагедии и не дало ни одного подлинного шедевра, хотя
в художественном отношении большинство перечисленных пьес представ-
ляет собой произведения посредственные, которым на сцене не было суждено
сколько-нибудь длительное существование, тем не менее эти пьесы на-
столько усилили интерес к античным реминисценциям, что представляется
возможным говорить о недолгом периоде неоклассицизма, воцарившегося
в литературе кануна революции.
Интерес к античности получил в эти годы весьма значительный раз-
мах и проник во все виды литературы. Лирика Андре Шенье, творчество
которого будет подробно рассмотрено в главе о литературе периода бур-
жуазной революции, вдохновляется античными мотивами и античными
жанрами. Но из его стихотворений при жизни было напечатано только
два, а собрание их (далеко не (полное) появилось только в 1819 г. До Ре-
ставрации поэзия Шенье не оказала поэтому никакого влияния. Но все,
что Шенье писал до 1789 г., носило яркий классицистический колорит.
Явления не только литературы, но также других искусств и науки слива-
лись в один мощный поток увлечения классической древностью, ибо в ней
видели орудие политической пропаганды. «Размышления о причинах вели-
чия и падения римлян» Монтескье, картины Давида и музыкальные драмы
Глюка одинаково отражают это увлечение.
Лучшим памятником слияния интересов науки, литературы и искус-
ства, — слияния, порожденного общественными настроениями кануна ре-
волюции, был роман аббата Бартелеми (Barthélémy, 1716—1795) «Путе-
шествие молодого Анахарсиса по Греции» («Voyage du jeune Anacharsis
en Grèce», 1788). Бартелеми перевел в нем на язык художественной прозы,
не всегда стоящей на очень высоком уровне, всю ту часть «Древностей»
графа Кейлюса, которая трактовала о Греции.
Перед .революцией, таким образом, завершился крут общественной
эволюции классицизма в европейской литературе. Интерес к нему был
общекультурным и эстетическим в момент его возникновения, в эпоху
Ренессанса. Он сделался в основном политическим у своей конечной межи,
перед Французской буржуазной революцией. Из всех его проявлений в этот
момент самым крупным, по крайней мере количественно, и действовавшим
сильнее всего, была все-таки трагедия.
Трагические поэты кануна революции перелагали в монологи и диа-
логи славные античные республиканские темы, найденные у Плутарха, или
по образцу его воспевали идеалы свободы и республиканские добродетели
на материале новой истории. Героические тирады звучали со сцены и за-
ражали героическим энтузиазмом будущих бойцов революции. Но одной
героики было мало. Революционная борьба требовала не только героиче-
ских дерзаний, но и ясности духа, радостной воли к победе, апофеоза жи-
ЬОМАРШЕ.
С портрета Кошена (грав. Сент-Обен, 1773 г.).
.ЛИТЕРАТУРА КАНУНА РЕВОЛЮЦИИ
«III
тейской энергии в общественном быту. На эти запросы отвечала комедияг
и в первую очередь — произведения величайшего ее мастера в эту пору
Бомарше.
5
Комедия уже давно пробовала подойти с прямой агитацией к тем
общественным группам, которые должны были дать основные кадры ре-
волюционных бойцов — тех, которые в нужный момент возьмутся за ору-
жие и пойдут против твердынь абсолютизма. Едва ли кто-нибудь льстил
себя надеждою, что на такие поступки способны представители верхушки
буржуазии — откупщики, акционеры учетной кассы или хотя бы хозяева
мануфактур. Не бояться риска — гордость низших классов, беднейшего
населения, трудящихся. При той расстановке социальных сил, которая
складывалась во Франции во второй половине XVIII в., почетная приви-
легия принять на себя первые удары обороняющегося старого порядка
выпадала на долю ремесленников, лавочников, огородников, крестьян,
рабочих — в городах и в деревне. Их и иужно было организовать. Не-
посредственно перед началом революции в городах за эту задачу примутся
профессиональные политики, трибуны и агитаторы. А за несколько десят-
ков лет до революции организация социальных низов шла стихийно, и
одной из ее арен были ярмарочные театры.
Городским низам были не по карману зрелища в центре города:
опера, театр Французской Комедии, балет. Да им они были и неинтересны.
Трагедия и буржуазная драма были для них чересчур изысканны или
чересчур пресны. Зато ярмарочные театры удовлетворяли их литературным
вкусам и их оппозиционной настроенности. В произведениях таких авторов,
как Лесаж, Фавар, Ваде (Vadé), было так много всяких острых и пряных
моментов: слово, музыка, танцы, веселые злободневные куплеты, непри-
стойные и бесшабашные экзотические сюжеты — в восточных тюрбанах
и шароварах так удобно было протаскивать на сцену оппозиционную кон-
трабанду, — всего, что вызывает беззаботный смех, всего, что дает подъем,
всего, что разрушает страх перед полицией и администрацией. Публика
валом валила в театры Сен-Жерменской и Сен-Лоранской ярмарок и неза-
метно набиралась там боевых настроений. Общественную и политическую
роль театров малых форм нельзя упускать из виду при изучении роста
революционных настроений в Париже.
Эту роль ярмарочных и бульварных театров отлично оценил Бомарше.
Недаром в 70-х годах он писал много вещей в духе этой мелкой агита-
ционной драматургии. Его две большие комедии тоже примыкали в том,
что было в них оппозиционного и агитационного, что было в них пред-
назначено организовывать не только общественное мнение, но и обществен-
ные силы, — к репертуару тех театров, которые обращались специально
к парижским низам. Только Бомарше в 1775 г. решил, что пришла пора
перенести ту агитацию, которая ютилась на подмостках ярмарочных и
бульварных театров, на сцену центральных театров.
Жизнь его до этого момента была сложная и путанная. В ней были
взлеты и срывы, почти такие же, как у Казановы, с тою лишь разницей,
что венецианцу везло гораздо больше, чем парижанину.
Пьер-Огюстен Карон де Бомарше (Pierre-Augustin Caron de Beaumar-
chais, 1732—1799) происходил из зажиточной ремесленной семьи. Он был
по началу, как и отец его, часовщиком. Ему удалось изобрести одну важ-
ную деталь в механизме карманных часов, и его изобретение проложило
ему дорогу в Версаль, т. е. ко двору. Тут он приобрел связи среди ари-
51 История французской литературы—SXS
fl02
ПРПГПЕЩЕПИК
стократии, быстро разбогател, был возведен в дворянство, но так же
быстро все потерял, попал под суд, ввязался в конфликт с парламентам,
который был незадолго перед тем преобразован канцлером Мопу в чисто
бюрократическое, реакционное учреждение, и, защищаясь против советника
парламента Гёзмана, выпустил одну за другой четыре записки, знаменитые
«Мемуары» («Mémoires», 1773—1774), в которых без всякого стеснения
рассказывал о том, что происходило в глухих стенах парламента. Это была
хроника процесса, сделанная рукой крупного мастера. Она достигла сразу
нескольких целей: явочным порядком внесла в судопроизводство гласность,
нанесла парламенту Мопу такой удар, от которого он уже не мог опра-
виться, и завоевала всеобщее сочувствие самому Бомарше. «Мемуары» при-
надлежат к числу самых блестящих произведений памфлетной литературы.
Вольтер открыто выражал свое восхищение ими. Впоследствии Моммзен
ставил их выше обвинительных речей Цицерона.
«Мемуары» Бомарше были гениальной сатирой не только на фран-
цузский суд, но и на весь французский государственный порядок, и сде-
лана была она так искусно, что не давала никакого повода для преследо-
ваний. Она рисовала беглыми штрихами портреты отдельных людей, пол-
ные то злого сарказма, то заразительного веселья. Страницы, где Бо-
марше выводит на сцену злополучную супругу советника Гёзмана, при-
надлежат к числу самых забавных картинок этого рода. Тонко, весело,
с бесподобной иронией рассказывает он, как он вынуждал бедную наив-
ную женщину соглашаться с ним сейчас в одном, через две минуты в дру-
том, как он заставлял ее выходить из себя и потом успокаивал, как,
запутавшись, она ссылалась на женское нездоровье, как в ответ па его
слова, что ей можно дать восемнадцать лет, а не тридцать, она начинала
улыбаться и находить, что он вовсе не такой уже нахал.
Суд постановил сжечь «Мемуары» рукою палача. Но в тот самый
вечер, когда был вынесен приговор, к Бомарше лично заехал принц Конти,
глава фрондирующей придворной знати, и записочкой, в которой называл
его «великим гражданином», пригласил на весь следующий день к себе.
Пример принца из королевского дома обязывал. В ближайшие дни многие
придворные тоже сделали Бомарше визиты. А в кругах буржуазии он
стал совсем героем. Где бы он ни показался в городе, его повсюду обсту-
пала толпа, бешено ему аплодировавшая.
Дальнейшая судьба Бомарше тесно связана с его драматической три-
логией. Гонорар за пьесы, разные коммерческие операции, а также дела
-менее почтенные, слегка восстановили его благосостояние. Старость свою
он прожил уже при революции. R j_7^2. г- он эмигрировал из-за неприят-
ностей, связанных с интендантскими спекуляциями. При терроре он был
вне пределов досягаемости, вернулся в 1796 г. при директории и умер
18 мая 1799 г., немного не дожив до 18 брюмера. ç
Свою карьеру драматурга Бомарше начал двумя пьесами в жанре ме-
щанской драмы: «Евгения» («Eugénie», 1767) и «Два друга» («Les Deux
amis», 1770). Первой из них он предпослал теоретический манифест в духе
Дидро под заглавием «Опыт о серьезном драматическом жанре» («Essai
sur le genre dramatique sérieux»), в котором он защищал право драматурга
больше интересоваться современными ему типами и социально-бытовыми
ситуациями, чем «смертью какого-нибудь пелопонесского тирана или при-
несением в жертву богам царской дочери в Авлиде». Но скоро Бомарше
убедился, что мещанская драма не может служить революционным целям
в той мере, в какой он считал это необходимым для сценического произве-
дения. " Этому, помимо прочего, служили объективным доказатель-
803
ством драмы Себастьяна Мер-
сье, который сошел с после-
довательного революционного
пути и оказался в заколдован-
ном кругу компромиссов. То, что
Бомарше перешел на комедию
и что из-под его пера вышли
«Севильский цырюльник» («Le
Barbier de Séville», 1775) и
«Женитьба Фигаро» («Le Ma-
riage de Figaro», 1784), показы-
вает, что по мере приближения
революции его общественное
чутье становилось острее, и он
все яснее чувствовал связь с той
группой третьего сословия, ко-
торая была ему особенно близка.
Каковы социальные тенден-
ции обеих комедий ? Графу Аль-
мавиве приглянулась Розина,
красивая и богатая девушка из
буржуазной семьи. Он думает
о легкой интриге. Она любит
графа, но согласна принадле-
жать ему, только став его же-
ною. Розина побеждает аристо-
кратическое упорство графа и за-
ставляет его жениться. Это —
первая победа, победа третьесо-
словной морали над феодаль-
ной.
Фигаро, помогавший гра-
фу обмануть опекуна Розины, становится его доверенным слугой и соби-
рается жениться на горничной графини Сюзанне.^Но Сюзанна нравится
графу, и он хочет, прежде чем она обвенчается с Фигаро, сделать ее своей
возлюбленной, воспользовавшись правами, которые предоставлял ему фео-
дальный обычай. Фигаро ведет с графом глухую, упорную борьбу, в кото*
рой очень искусно пользуется невинной симпатией графини к хорошенькому
пажу и пылкой юношеской страстью пажа к графине. И граф побежден
еще раз. Здоровый ум и твердая воля детей народа одерживают верх
над эгоизмом представителя феодального класса. Таким образом, первый
вывод из обеих комедий заключается в том, что представители третьего
сословия могут и должны бороться с несправедливыми притязаниями дво-
рянства, ибо при уменьи и при энергии они одержат победу.
Гораздо важнее второй вывод. Главных борцов против дворянских
привилегий нужно искать в той части третьего сословия, которая больше
всего страдала от этих привилегий. Фигаро — цырюльник, самостоятель-
ный мелкий ремесленник, представитель низшей группы третьего сословия.
Его положение настолько непрочно, что он без труда меняет его на поло-
жение графского лакея и смотрителя замка. Но здесь он попадает в круг
действия феодальных привилегий и едва не становится их жертвой. Его
возлюбленная Сюзанна, горничная графини, — настоящая дочь народа.
Союз остроумия, ловкости, веселости Сюзанны и ума Фигаро одержи»
Бомарше. «Женитьба Фигаро».
Сцена из первого действия.
С рисунка Сен-Кантена, грав. Лнаром для иад. 1785 г.
вает победу. Фигаро и Сюзанна — герои Бомарше. Фигаро и Сюзанна —
представители тех слоев, которым Бомарше больше всего сочувствовал.
С одной стороны, итог всех его злоключений, перенесенных на службе
у короля и в столкновениях с королевской юстицией, с другой — глухие
подземные толчки приближающейся революционной катастрофы прояснили
сознание Бомарше и представили перед его глазами картину неизбежного
столкновения в недалеком уже будущем между оплотом старой власти и
новыми силами, идущими ей на смену. Бомарше ясно предчувствовал, что
главным бойцом против сил старого мира будут именно низшие слои
третьего сословия. Он понимал, что обе его пьесы, особенно «Женитьба
Фигаро», представляют собою боевой клич, что аплодировать ему будет,
возможно, и буржуазия, но услышат и поймут его по-настоящему только
народные массы. Он стал подлинным буревестником революции.
Обе эти пьесы явились самыми блестящими этапами на том пути,
который был в полном смысле слова жизненным путем Бомарше. Сатирик
и агитатор, общественный боец и пламенный трибун, Бомарше очень
быстро перешел от спокойных драм, развертывающихся в буржуазной
семье и затрагивающих только ее личные интересы, к картине широких
общественных отношений. В нем был здоровый политический инстинкт
человека, вышедшего из трудовых низов и сломавшего столько копий
в борьбе с верхушкой общества. Как и Лакло, но острее, он чувствовал
всю гниль отживающего порядка и сознавал силу поднимающихся новых
классов, выступивших уже на политическую арену. В нем не было ника-
кого страха перед полицией. Он был полон веселья, весь заряжен лука-
вой, бесцеремонной насмешкой и чувствовал себя способным заставить
кого угодно смеяться над людьми и учреждениями отживающего мира.
Недаром смех Бомарше не умер до сих пор, и недаром Пушкин указал
такой верный рецепт против хандры:
Как мысли черные к тебе придут,
Откупори шампанского бутылку,
Иль перечти «Женитьбу Фигаро».
«Севильский цырюльник» был сыгран вскоре после триумфа Бомарше
над Гёзманом, «Женитьба Фигаро» — за пять лет до революции, причем
король долго противился ее постановке на сцене. Когда ему была прочи-
тана в первый раз «Женитьба Фигаро», он воскликнул в ужасе: «Это воз-
мутительно! Пьеса никогда не будет сыграна. Нужно разрушить Бастилию,
потому что иначе представление ее будет опасной непоследовательностью».
В этих словах было много правды. Но король Франции уже не имел
власти. Когда Бомарше передали слова короля, он, говорят, сказал: «Король
не хочет, чтобы пьеса была представлена. Значит, она будет представлена».
Между собою и королем Бомарше видел игру вроде той, какая в
«Цырюльнике» шла между Фигаро и Бартоло. Эта ситуация сулила победу
Фигаро на сцене и в жизни. Фигаро, плебей, как сам Бомарше, во мно-
гом сколок с него самого, такой же ловкий, такой же талантливый, та-
кой же подчас неразборчивый в средствах, — стал в глазах общества
олицетворением французского народа, поднимающегося на бой против фе-
одальных классов и готовящего оружие для штурма Бастилии. Публика
увидела настоящих, живых людей, говорящих честной прозой, смеющихся
во все горло, интригующих, любящих, ревнующих, как в жизни. Впервые
она услышала диалог, полный буйного веселья, сверкающий * яркими
искрами остроумия, запечатлевающийся в памяти отдельными словечками
и выражениями. Обе пьесы были разобраны на пословицы и на поговорки
Автограф комедии Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро».
806
Просвещение
сейчас же после представления, как у нас «Горе от ума». Но в пьесах было
и нечто большее.
Впервые со сцены зазвучала смелая политическая проповедь. Правда,
говорилось о том, что критикуется не французская, а испанская действи-
тельность, но все понимали, что речь идет не об Испании, а о Франции,
и что те полновесные удары, которые наносил Бомарше, попадают по адресу:
французской администрации, французским судам, французскому дворян-
ству, — словом, всему феодально-абсолютистскому режиму французского
королевства. Самые запутанные политические теории, самые трудные эконо-
мические доктрины были превращены в афоризмы и сделались достоянием
слушателя. И все было сделано так, что первыми аплодировали ударам, под-
рубавшим основы их благополучия и их господства, сами представители фео-
дальных классов, наполнявшие ложи театра в дни первых представлений и за-
биравшиеся туда с утра, чтобы захватить места получше. Наполеон был прав.
Представление «Женитьбы Фигаро» было «революцией уже в действии».
Потомок масок старинной итальянской народной комедии (commedia
dell'arte), веселый и беспечный, как Арлекин, умный и ловкий, как Бри-
гелла, Фигаро выполнил огромное историческое дело. Под испанским пла-
щом он пронес на французскую сцену революционные идеи и сделал их
достоянием той толпы, которая через пять лет не побоялась пушек Ба-
стилии, а через восемь — всех армий старых монархий Европы.
Таков смысл первых двух комедий трилогии, которые сам Бомарше
считал лучшим из зсего им написанного. Последняя пьеса трилогии —
«Преступная мать» («La Mère coupable») появилась в 1792 г. Революция
была в полном разгаре. Народ был на улице, и Бастилии уже не суще-
ствовало. На Гревской площади уже работала гильотина. Все то, что дава-
лось в театре до революции, казалось пресным, потому что жизнь была полна
самых потрясающих трагедий, самых сложных и запутанных коллизий.
В 1791 г. в театре Маре была представлена пьеса Ламартельера (La
Martellière) «Робер, атаман разбойников» («Robert chef des brigands»).
Это было довольно неуклюжее подражание «Разбойникам» Шиллера, но
в нем был лозунг: «Война замкам, мир хижинам». Немного позднее он
будет подхвачен Шамфором, а сорок лет спустя прозвучит, как первый
клич социальной революции в Германии, в известной прокламации Георга
Бюхнера. В 1791 г. он просто отражал классовзгю борьбу, кипевшую во
французской деревне. Пьесе Ламартельера посчастливилось. Искусствен-
ная острота ее ситуаций, трагическая фабула, пересыпанная комическими
сценками, привлекали публику. Это было как раз то, чего требовал в
1786 г. в своей «Похвале Грессе» («Éloge de Gresset») один провинциаль-
ный критик, которого в недалеком будущем ожидало иное поприще, —
Максимилиан Робеспьер. Он протестовал против четкого разделения драмы
на трагедию и комедию, — «как будто неисчерпаемое разнообразие инте-
ресных положений, представляемых человеком и обществом, с необходи-
мостью заключено в эти две рамки». Заодно он поддерживал требование
заменить трагедии на античные сюжеты современными драмами. Это вы-
ступление из провинции было симптомом. У публики появлялся вкус
к мелодраме.
Бомарше это почувствовал, и его «Преступная мать» была ответом
большого драматурга на новые общественные запросы. В драме нет еще
всех признаков настоящей мелодрамы: нет смеси из слов, музыки и тан-
цев, нет амальгамы буржуазной драмы, трагедии и комедии, — всего того,
что ярмарочный театр перебросит потом в театр городской. Но стремле-
ние дать в пьесе зрелище острое, способное пощекотать нервы такого зри-
ЛИТЕРАТУРА КАНУПА РЕВОЛЮЦИИ
807
теля, который привык к острым зрелищам жизни, тут налицо. Для того,
чтобы могла появиться настоящая мелодрама, нужно было, чтобы террор про-
несся над Францией и затих; нужно было, чтобы нервы у людей, напряжен-
«ые до последней степени, почувствовали необходимость в какой-то разрядке.
«Преступная мать» не может итти в сравнение с двумя своими стар-
шими сестрами. В пьесе есть нечто, характеризующее новый сдвиг в пози-
циях Бомарше. Он приветствовал революцию, пока она не пришла. Он
испугался ее, когда она разразилась со стихийной силой. Его охватила
паника, когда она стала углубляться. В Бомарше не было настоящей рево-
люционной устойчивости. Его опера «Тарар» («Tarare», 1787; 2-я редак-
ция, 1790), воскрешавшая в разгаре революции экзотическую тематику
ярмарочных театров, и «Преступная мать», поскольку дело идет о полити-
ческой тенденции пьесы, — являются убедительнейшим тому доказатель-
ством. Особенно это относится к последней пьесе. У Фигаро в «Преступ-
ной матери» выдохлась жизненная хватка, упала энергия, выхолостился
.революционный пыл. Он стал скучен, ибо поправел и стал бояться рево-
люции. Он оказался в лагере противников революции вместе с графом
Альмавивой и самим Бомарше.
Жизненный круг Бомарше завершился. Ему больше нечего было де-
лать, нечего было сказать. Но то, что он сказал в «Севильском цырюль-
нике» и особенно в «Женитьбе Фигаро» — настоящий большой этап. Это
высшая точка в эволюции французского театра XVIII в. Это высшая
точка в литературном творчестве кануна буржуазной революции.
Недаром с тех пор обе комедии живут и не умирают. Они завоевали
не только подмостки драматического театра. Они притянули к себе ге-
ниальную музыку Моцарта и Россини, и нет оперной сцены, где бы не
проходили перед зрителем, уже в сопровождении музыки, Розина, Аль-
мавива, Фигаро.
У нас Бомарше был популярен издавна. Правда, его «Женитьбу Фи-
гаро» признала «скучной» Екатерина II, едва ли очень искренне. Вкус
людей, не обремененных короной, был другой. И никто лучше, чем Пуш-
кин, не понимал Бомарше. Кроме стихов из «Моцарта и Сальери», при-
веденных выше, он помянул его в оде «К вельможе»:
. . .Услужливый, живой,
Подобный своему чудесному герою,
Веселый Бомарше блеснул перед тобой. ..
А в одной из своих статей 1834 г. Пушкин в двух словах раскрыл
политический смысл его комедий: «Бомарше влечет на сцену, раздевает
донага и терзает все, что почитается неприкосновенным».
Обе комедии Бомарше вошли в золотой фонд не только западно-
европейской, но и русской сцены. Московский Малый театр, Петербург-
ский Александрийский, MXÀT, провинциальные театры постоянно играли
обе «испанские комедии» Бомарше и особенно «Женитьбу Фигаро».
В советское время, когда стало возможно играть обе комедии без
цензурных купюр, они зазвучали с особенной силой, рассыпая перед зри-
телем первые искры огней великой французской революции и знакомя его
в то же время с двумя шедеврами мировой литературы.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Часть первая.
РАВНЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (стр. 3—S06)
Введение (А. А. Смирнов) ... 7
Отдел I. Народная поэзия и ее отражения в письменных памятниках
(IX—XII вв.) (А. А. Смирнов) 23
Отдел II. Клерикальная литература (IX—XII вв.) (А. А. Смирнов) 57
Отдел III. Рыцарская литература (XII—XIII вв.) (А. А. Смирнов) 73
Отдел IV. Литература периода расцвета городов (XII—XV вв.) 1^1
Глава I. Городская литература с конца XII в. до Столетней войны.
(А. А. Смирнов) 133
Глава II. Литература времени Столетней войны (В. Ф. Шишмарев) 167
Глава III. Литература после Столетней войны (вторая половина XV в.)
(A.А. Смирнов) 184
Часть вторил.
ЭПОХА ФЕОДАЛЬНОГО АБСОЛЮТИЗМА (стр. 207-807)
Отдел I. Возрождение (XVI в.). . . . 209
Введение (А. А. Смирнов) 211
Глава I. Раннее возрождение (первая половина XVI в.) (В. Ф. Шишмарев) 225
Глава II. Рабле (А. К. Дживелегов) 249
Глава III. Плеяда и развитие драматургии Ренессанса
(В. А. Римский
Корсаков)
269
Глава IV. Литература периода гражданских войн (конец XVI в.) (А. А.
Вишневский) ..... 304
Отдел II. Классицизм (XVII в.) . . 335
Введение (С. С. Мокульский) -. . 337
Глава Г Формирование классицизма (С. С. Мокульский) 353
Глава II. Бытовый реализм (М. П. Алексеев) .... 383
Глава III. Корнель и его школа (С. С. Мокульский) . . . 405
Глава IV. Прозаики классицизма (С. Д. Коцюбинский) 43?
810
ОГЛАВЛЕНИЕ
Глава V. Мольер (С. С. Мокулъский) . . . 466>
Глава VI. Лафонтен (С. С. Мокулъский) 508
Глава VII. Буало (С. С. Мокулъский) . . 523
Глава VIII. Расин (С. С. Мокцлыиый) .539
Глава IX. Начало разложения классицизма и подготовка Просвещения
(С. Д. Коцюбинский) . . 568
Отдел III. Просвещение (1715—1789) . 587
Введение (С. С. Мокулъский) 589
Глава I. Накануне. Просвещения (С. С. Мокулъский) 600
Глава II. Лесаж (Г. Н. Гендрихсон) . 612
Глава III. Монтескье (Г. Н. Гендрихсон) .... 626
Глава IV. Вольтер и его школа (С. С. Мокулъский) . 640
Глава V. Развитие комедии и романа до Дидро (Г. Н. Гендрихсон) . 705-
Глава VI. Дидро и энциклопедисты (К. Н. Державин) . 12Ь
Глава VII. Руссо и руссоизм (К. Н. Державин) . 759"
Глава VIII. Литература кануна революции (А. К. Дживелегов). 792
-ИСТОРИЯ ФРАНЦУЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Том I
*
Печатается по постановлению
Редакционно-издательского совета
Академии Наук СССР
*
Технический редактор А. В. Щербаков
Корректор д. А. Фонер
Переплет, титул, шмуц-титул, заставки
и концовки художника С. М. Пожарского
•
'Рисе АН СССР M 479. М01311. Подп. к аеч.
il/IV-45 г. Тип. зак. .N1 61. Формат бумаги
70Х1081/,,. Печати, лист. 60»/i + 9 вклеек.
Учетн.-иэд. л. 70,25. Тираж 1500Э.
Набор произведен 2 тип. «Печатный Диор» им.
Горького треста «Полиграфкнига» ОГИЗа пря
СНК РСФСР.
"Отпечатано с матриц 2-й тип. Издательства Ака-
демии Наук СССР. Мо:ква. Шубинскии. 10.