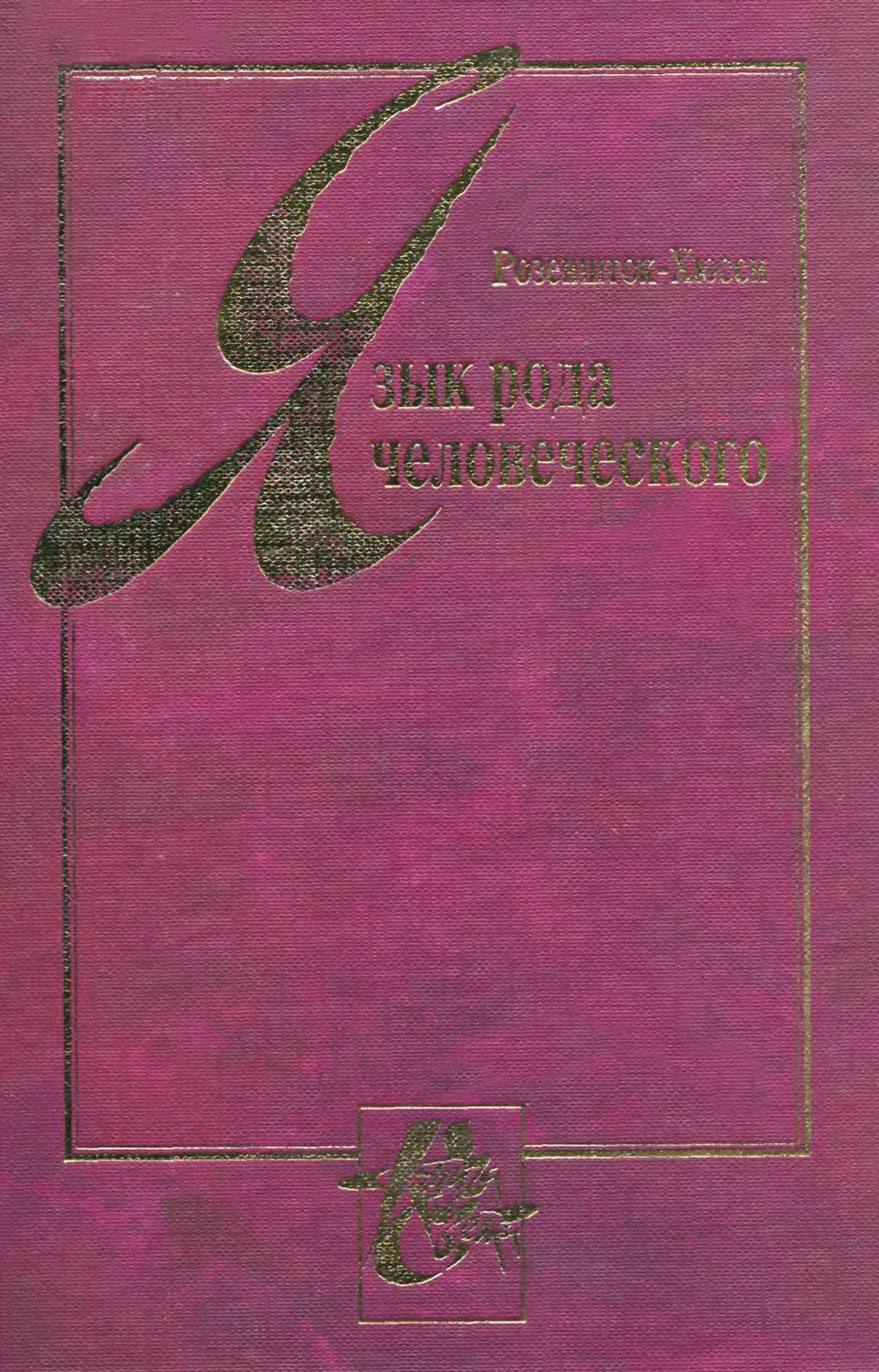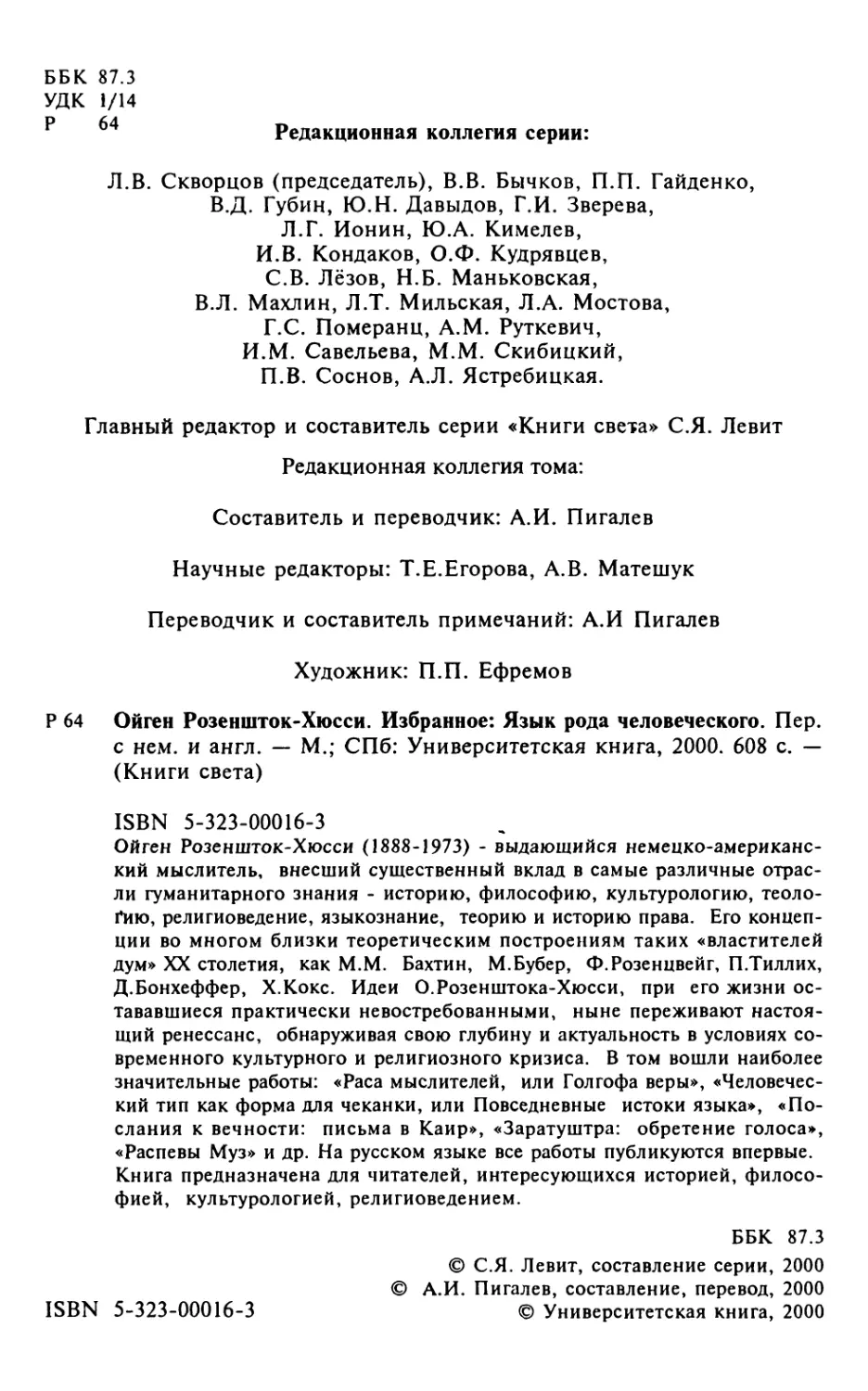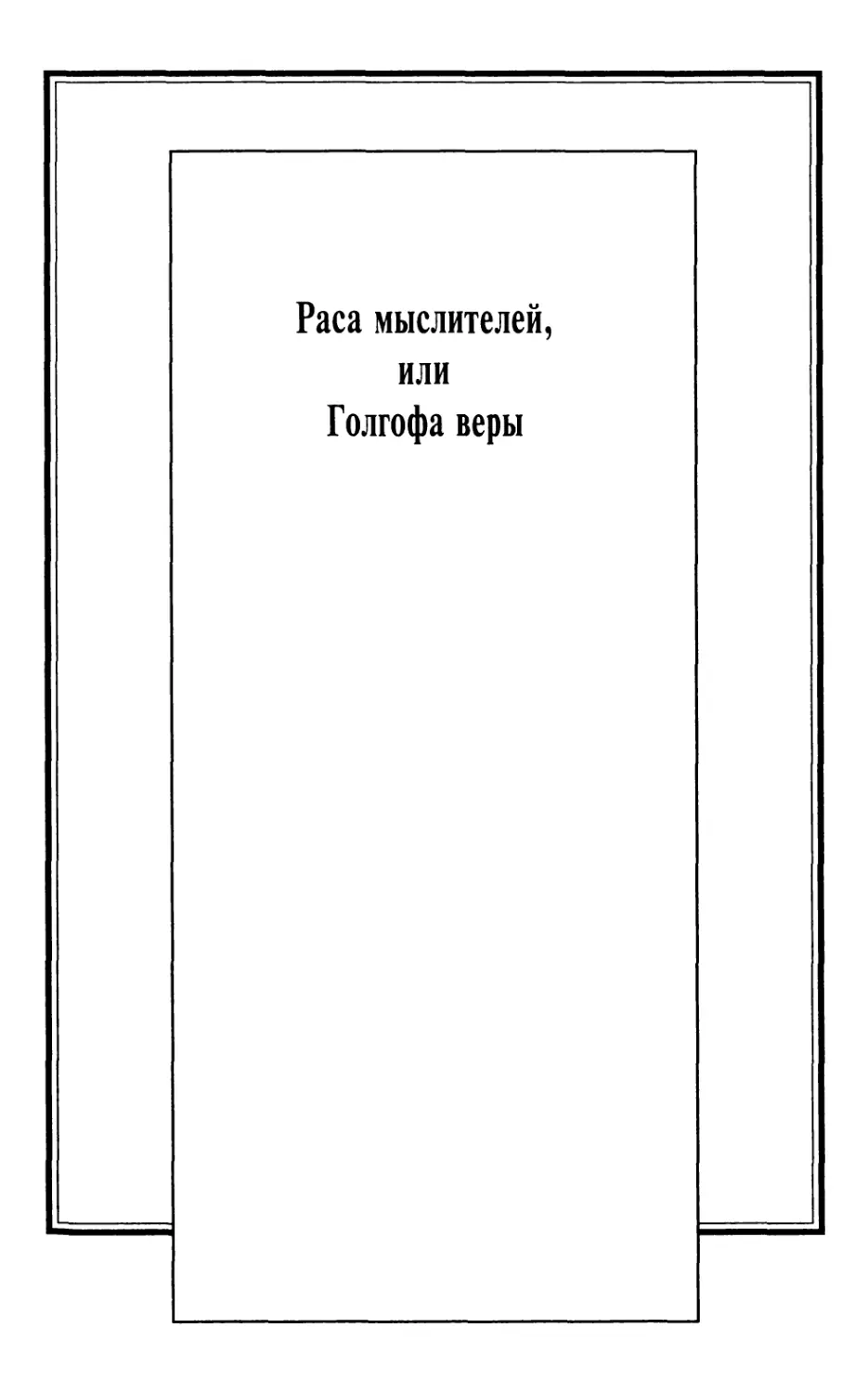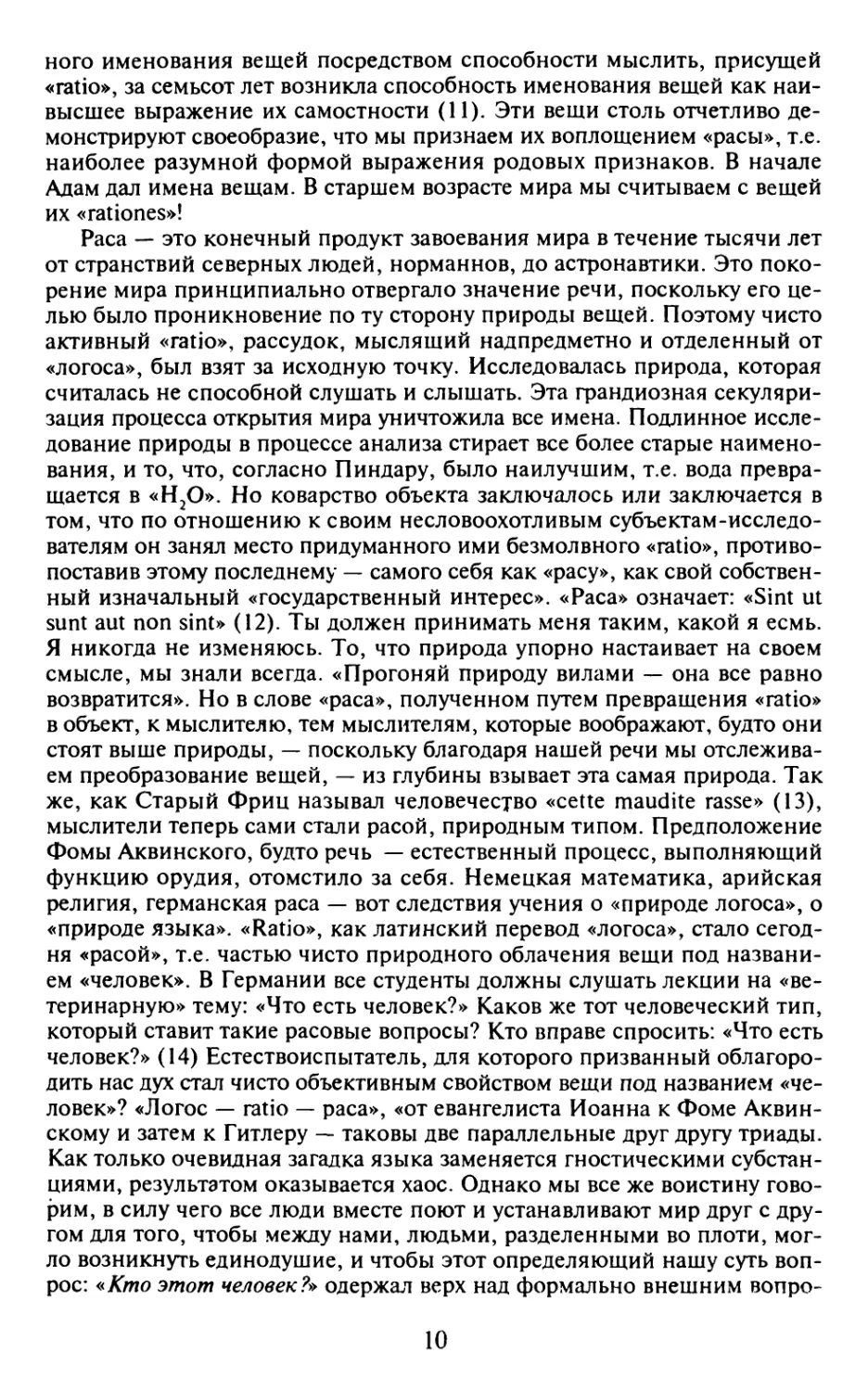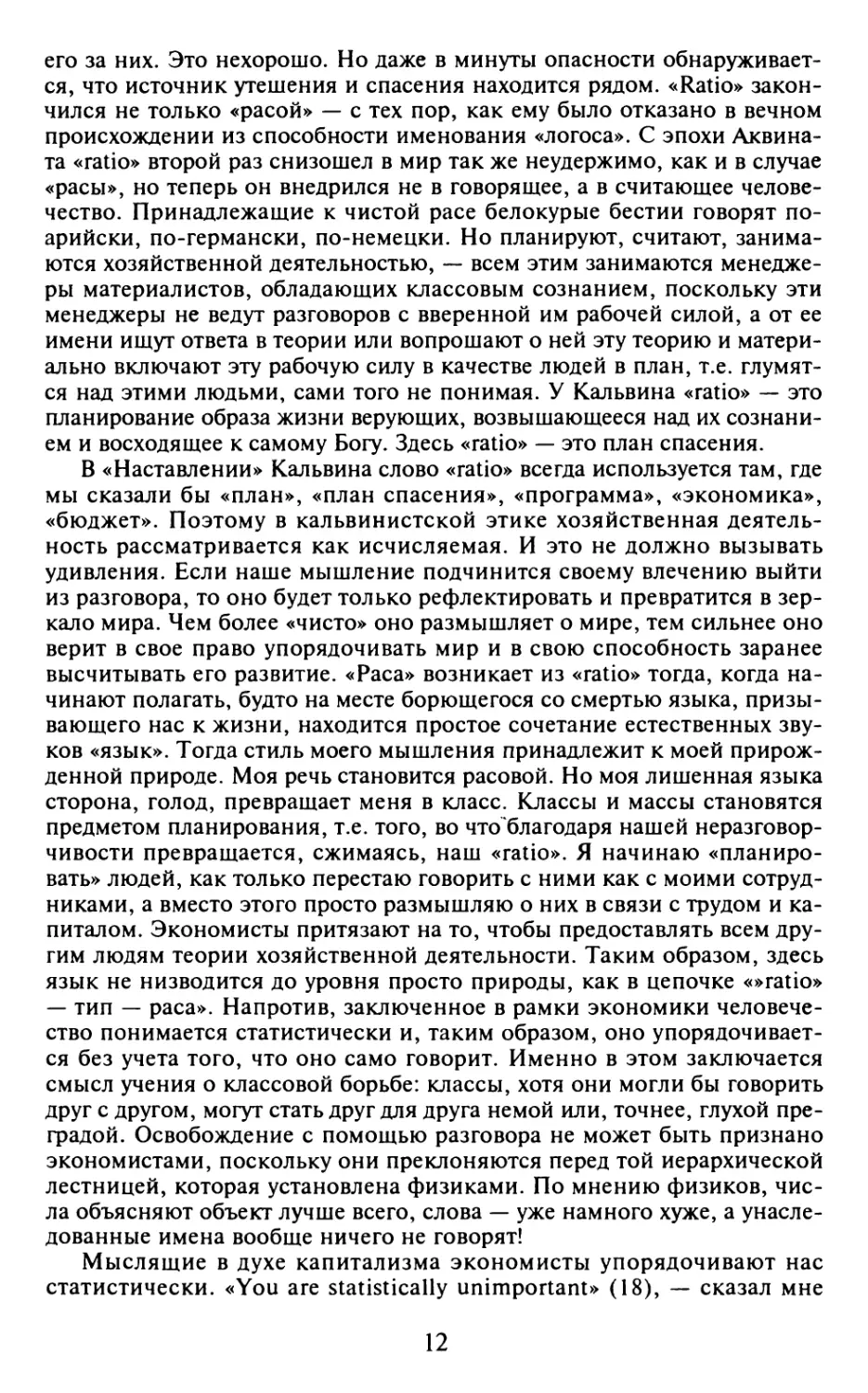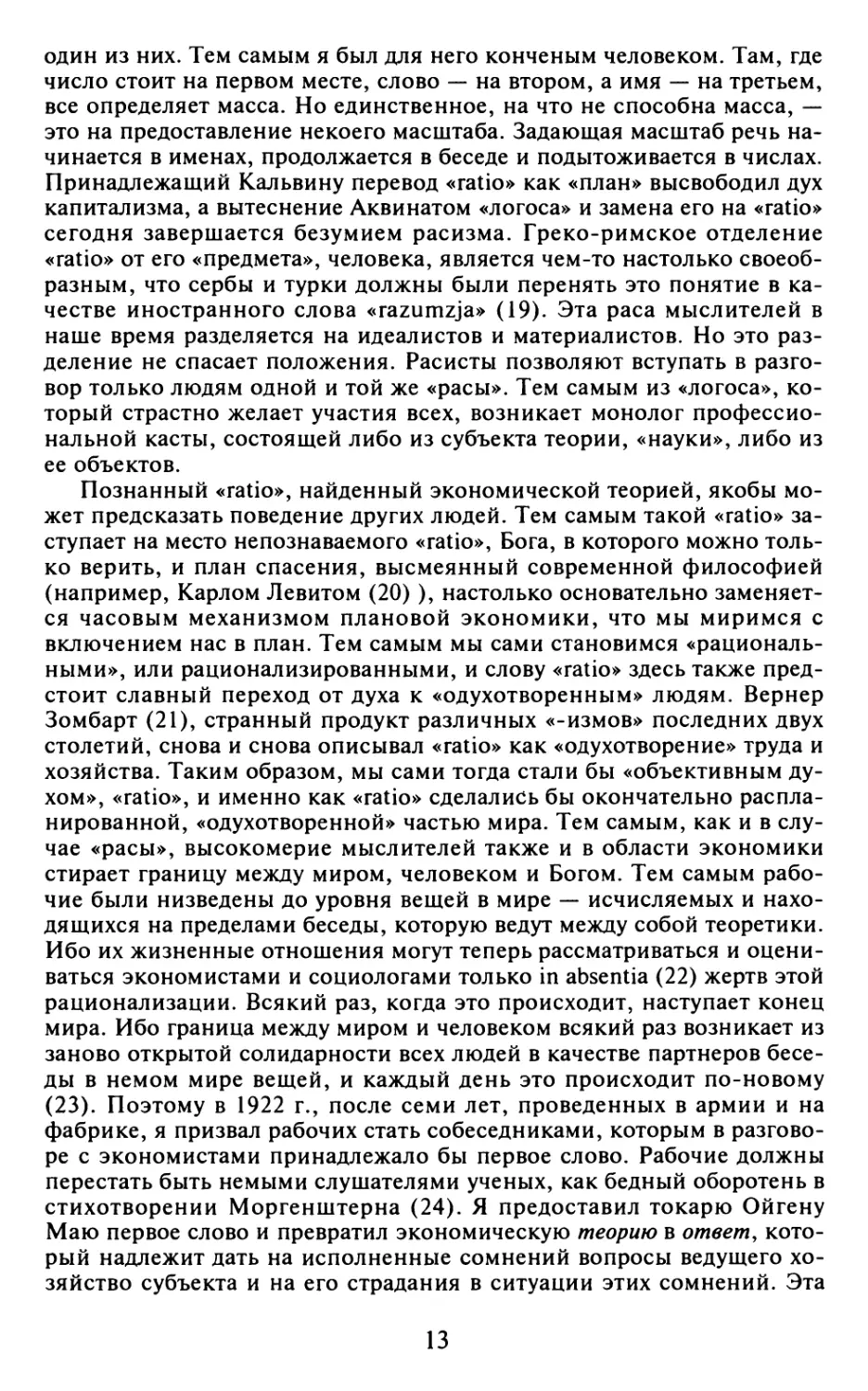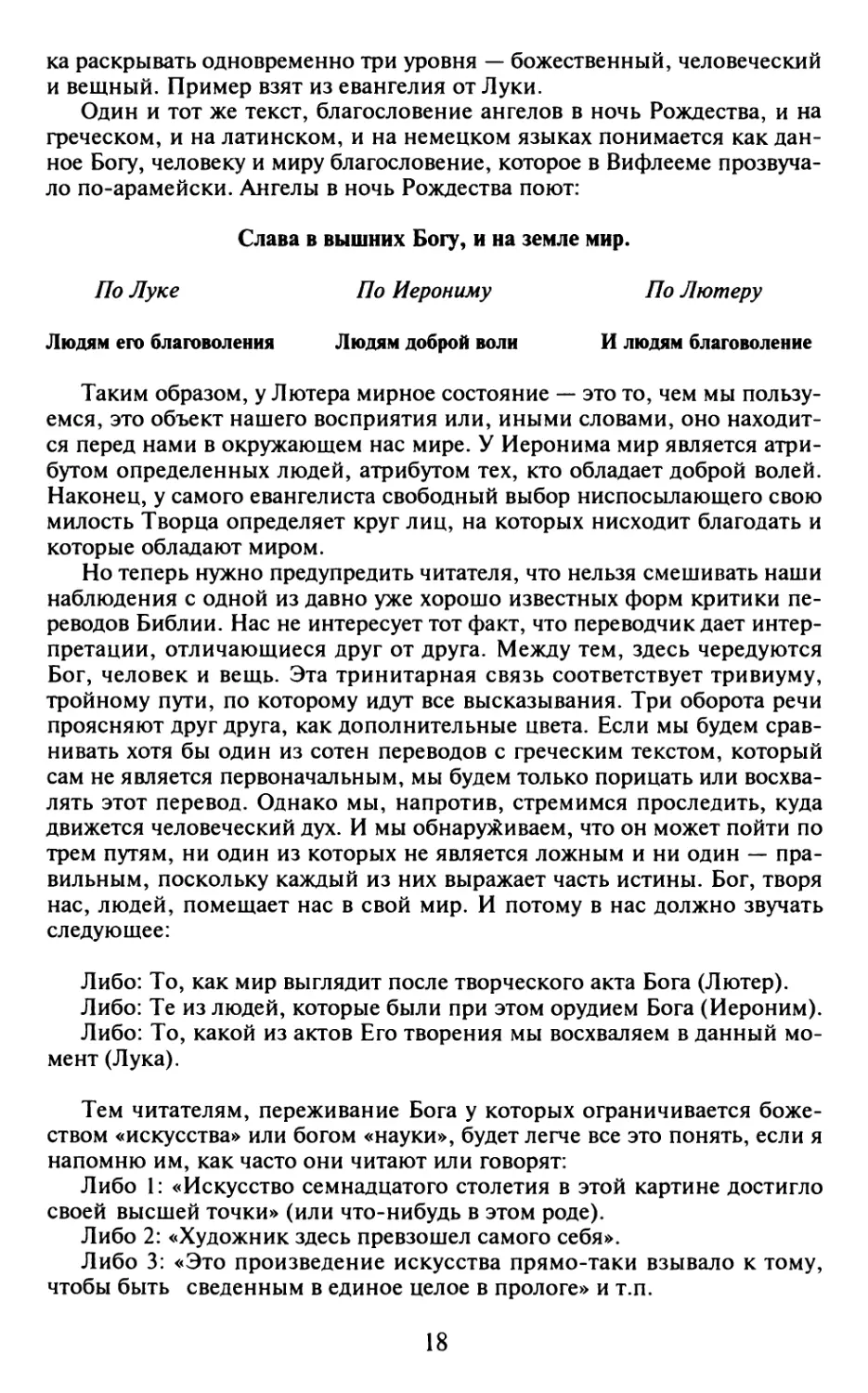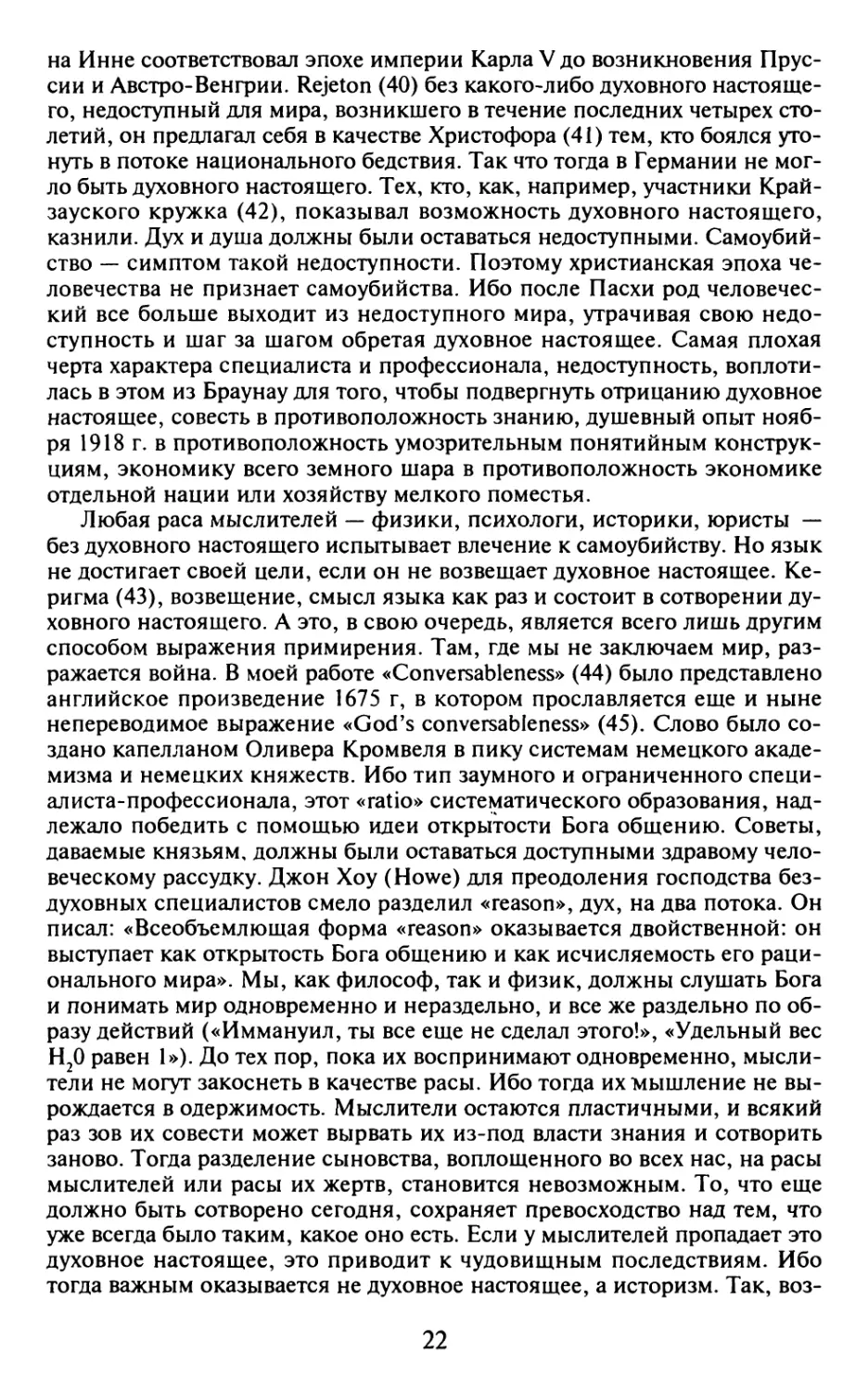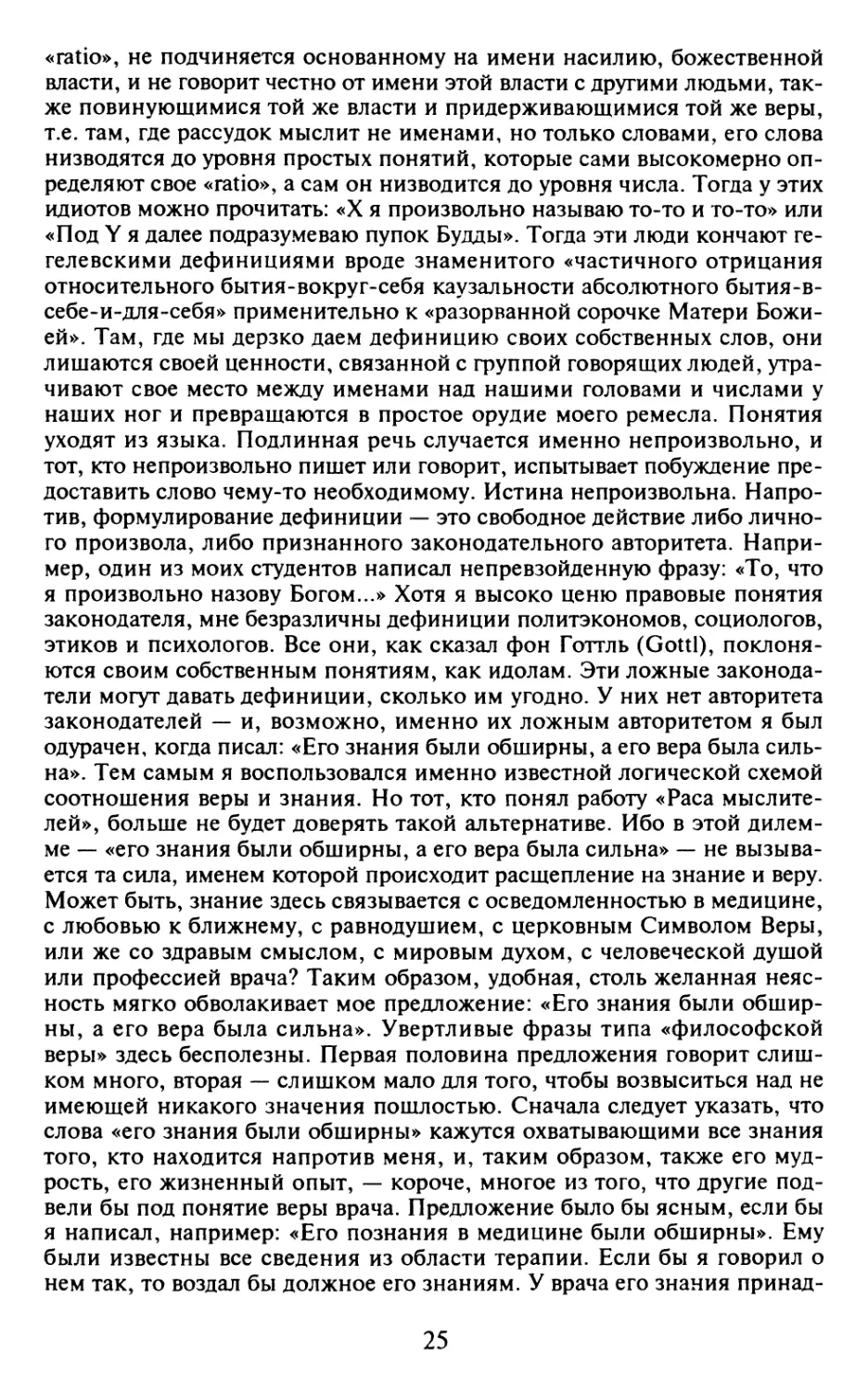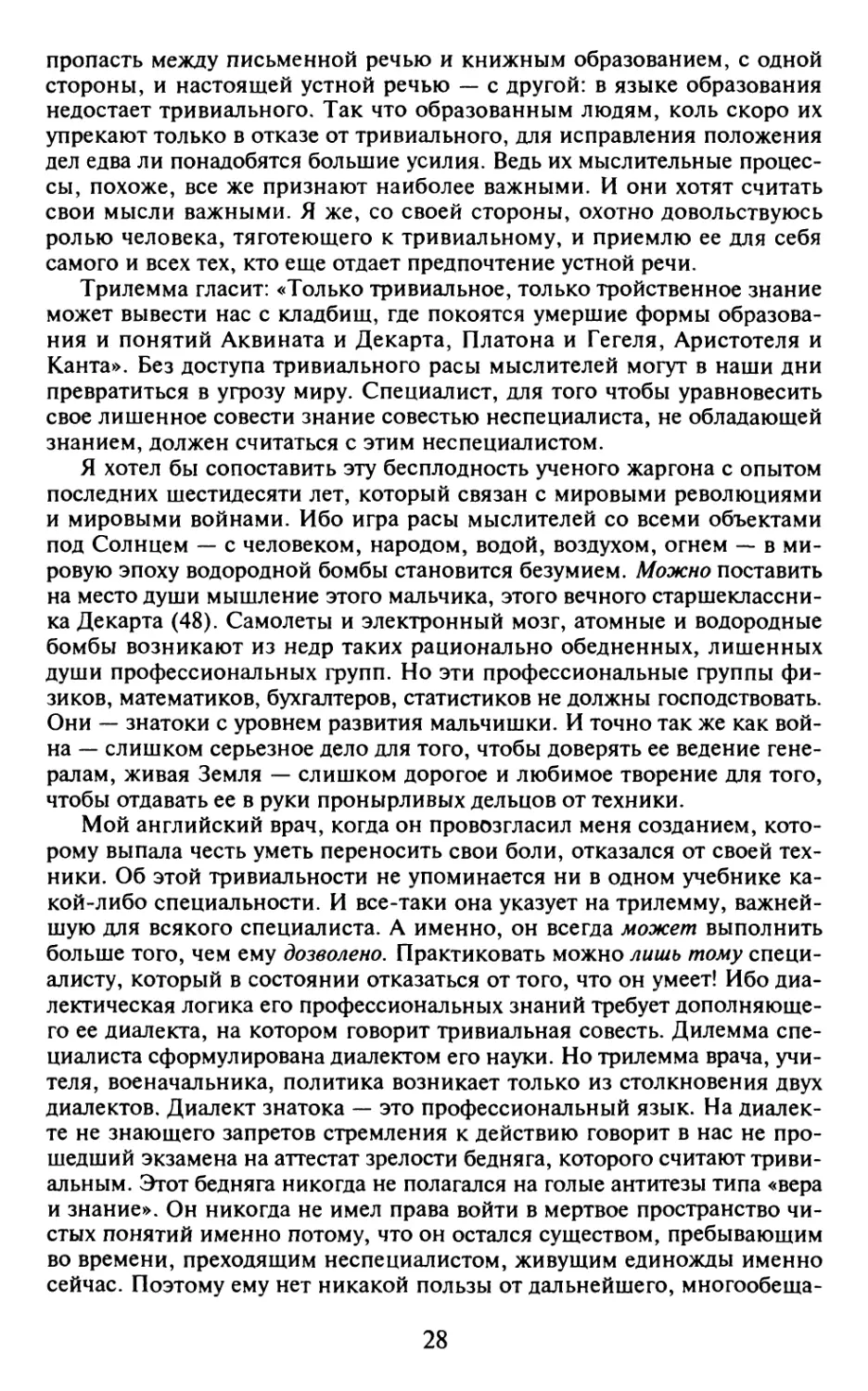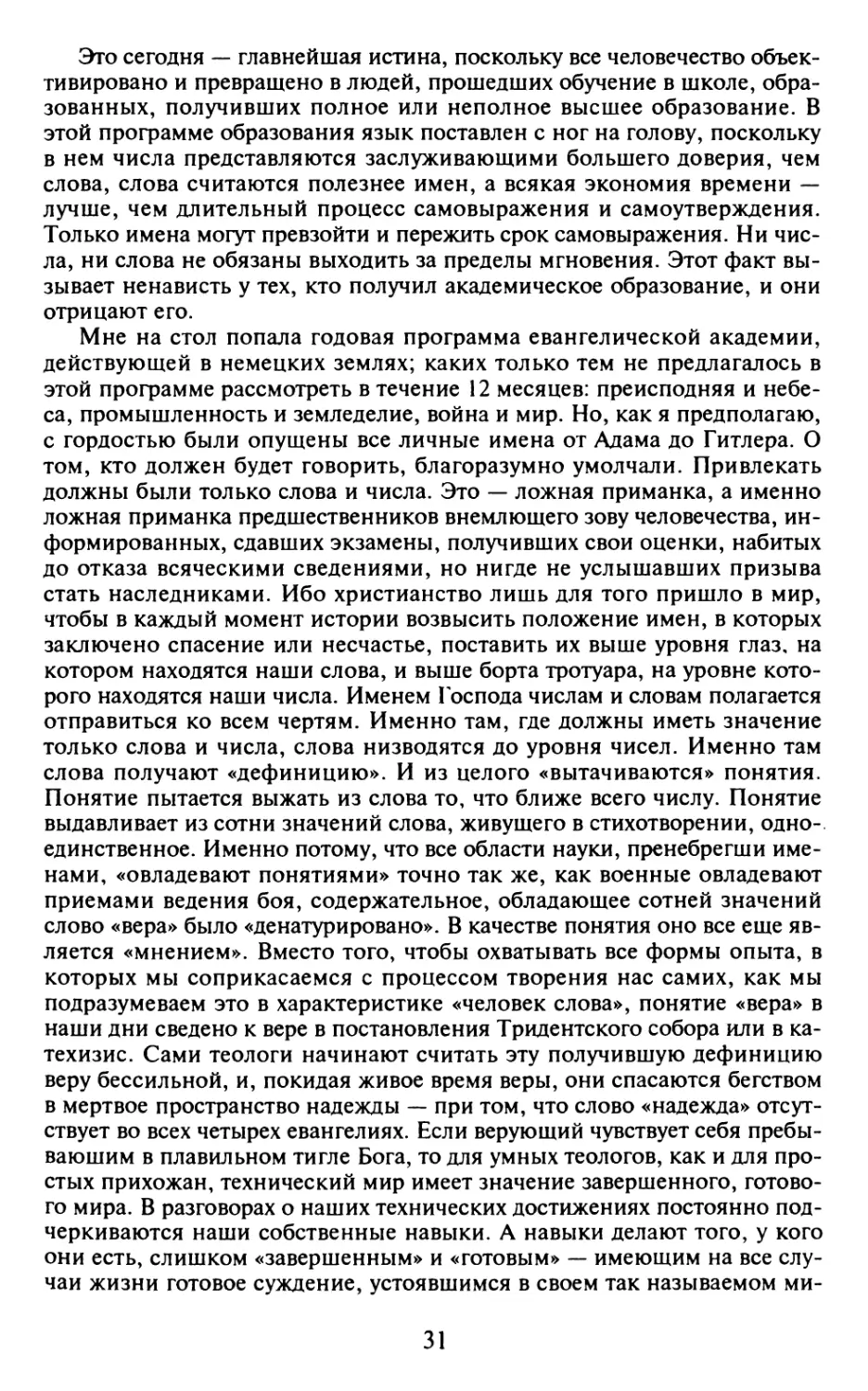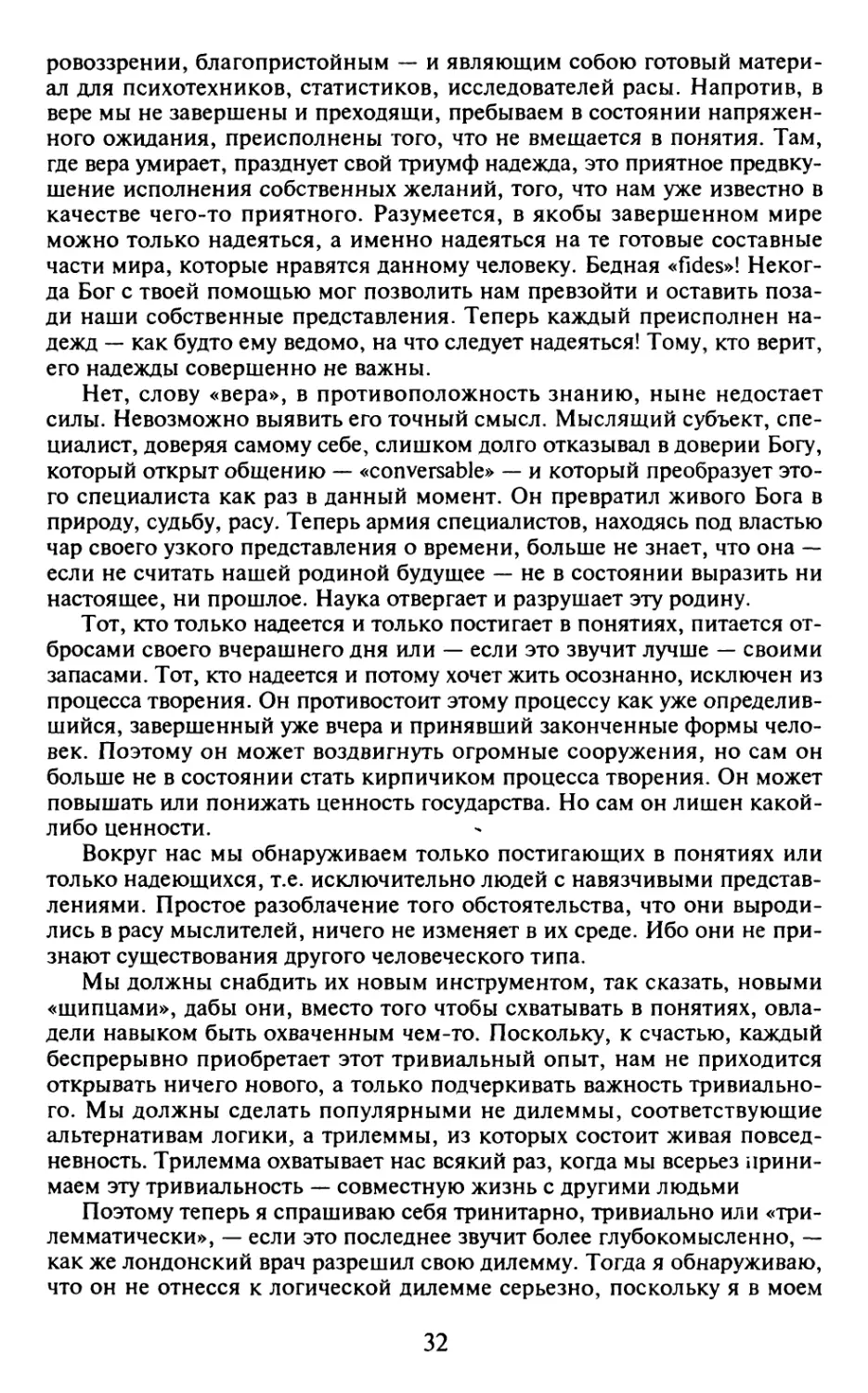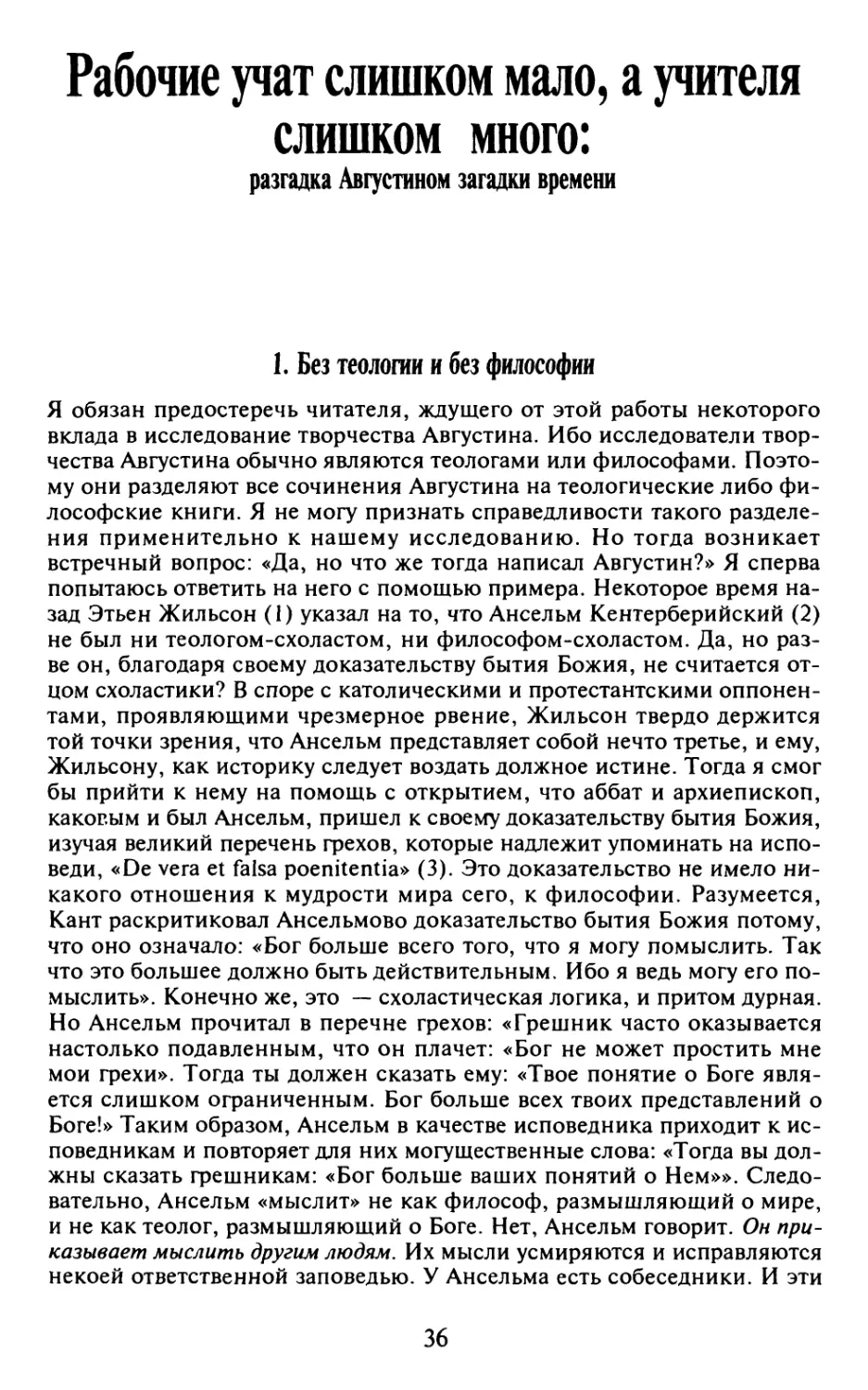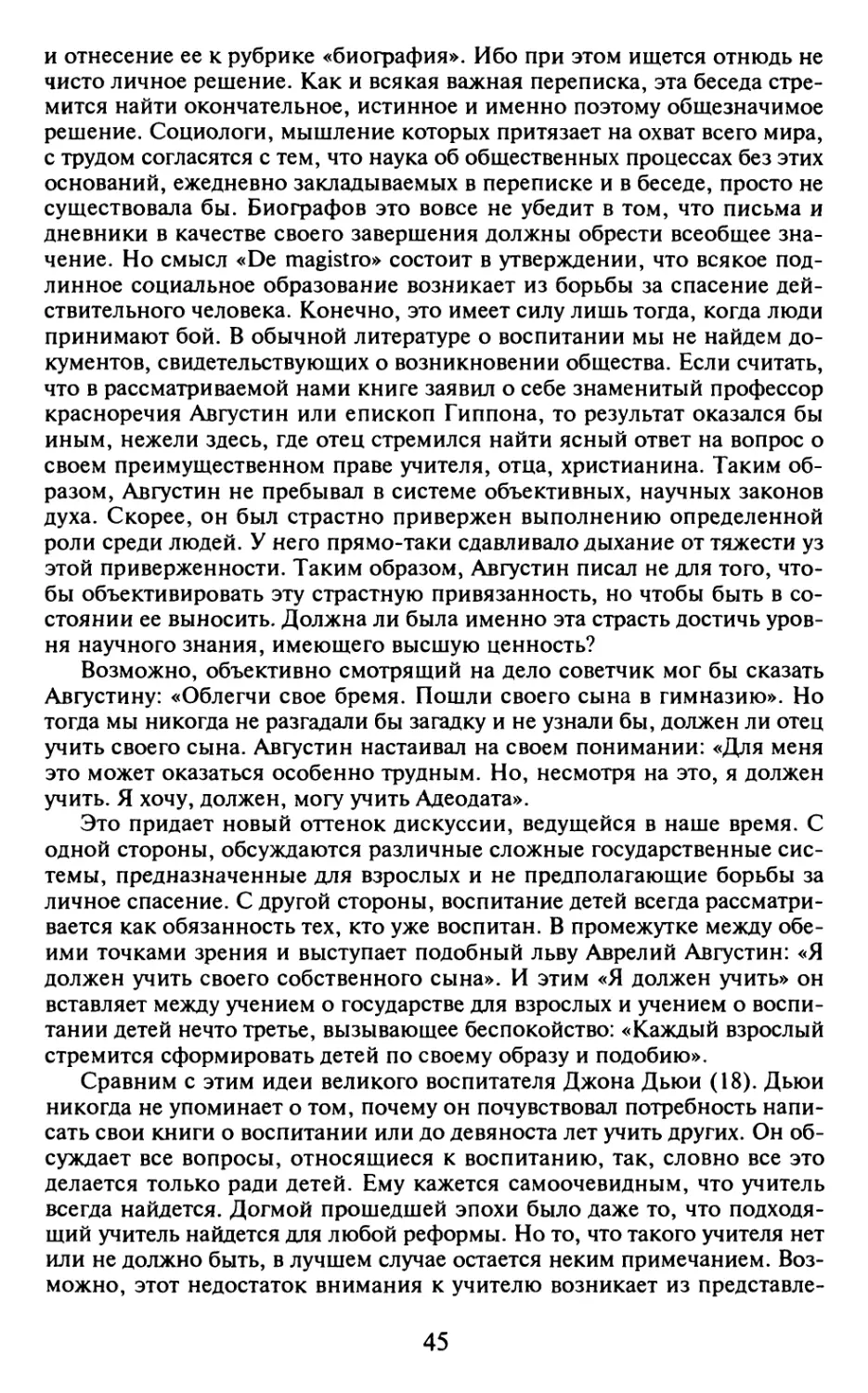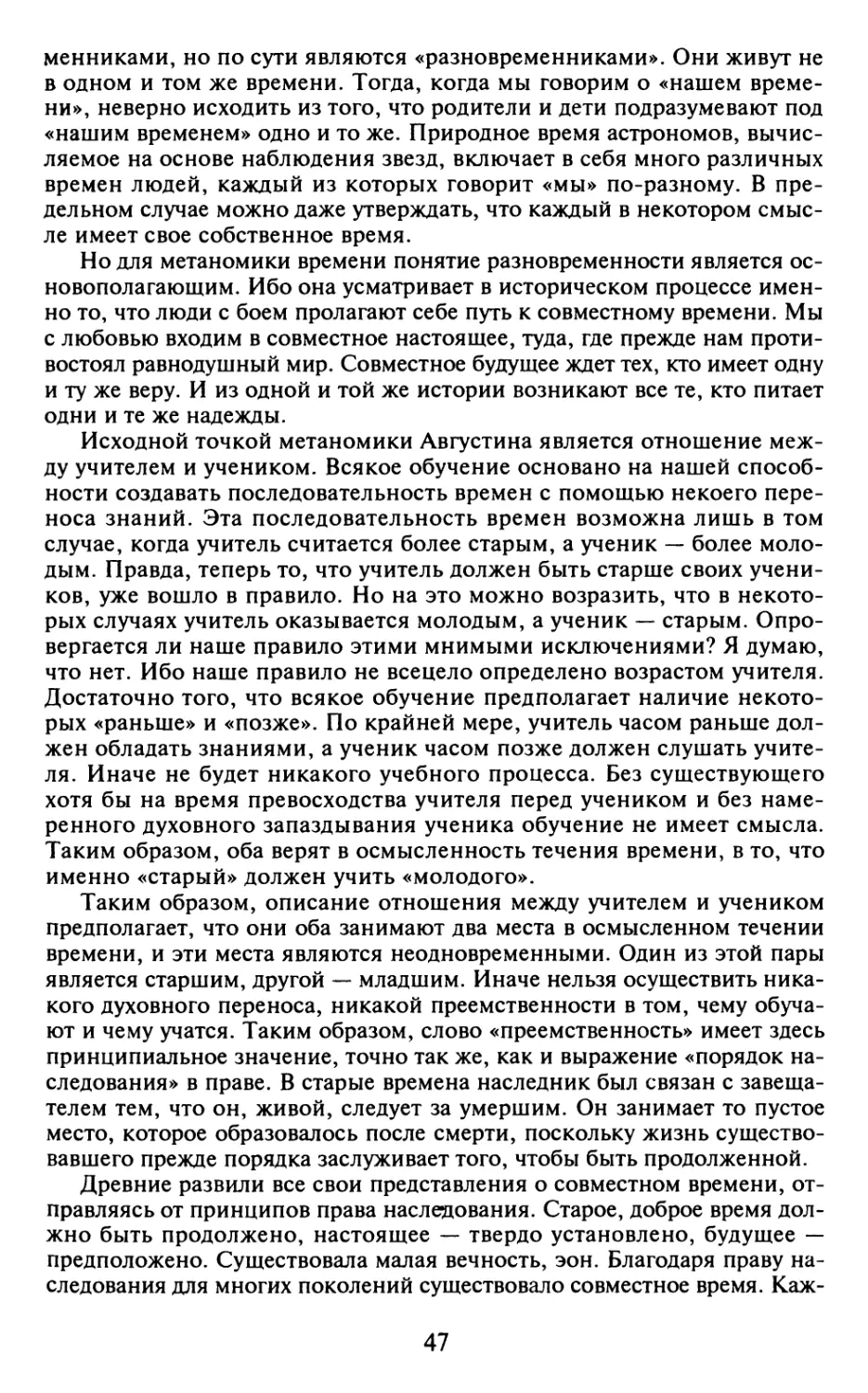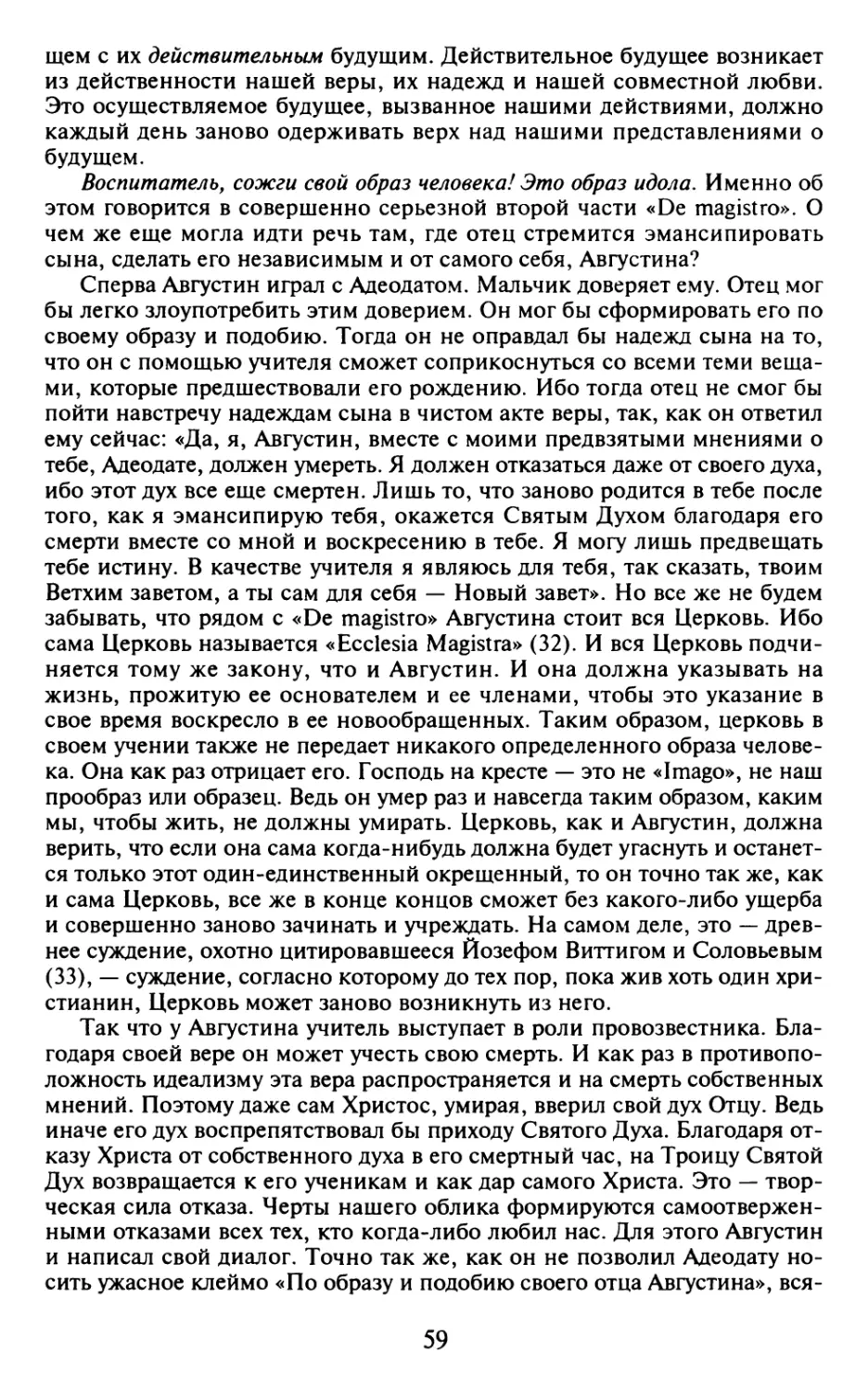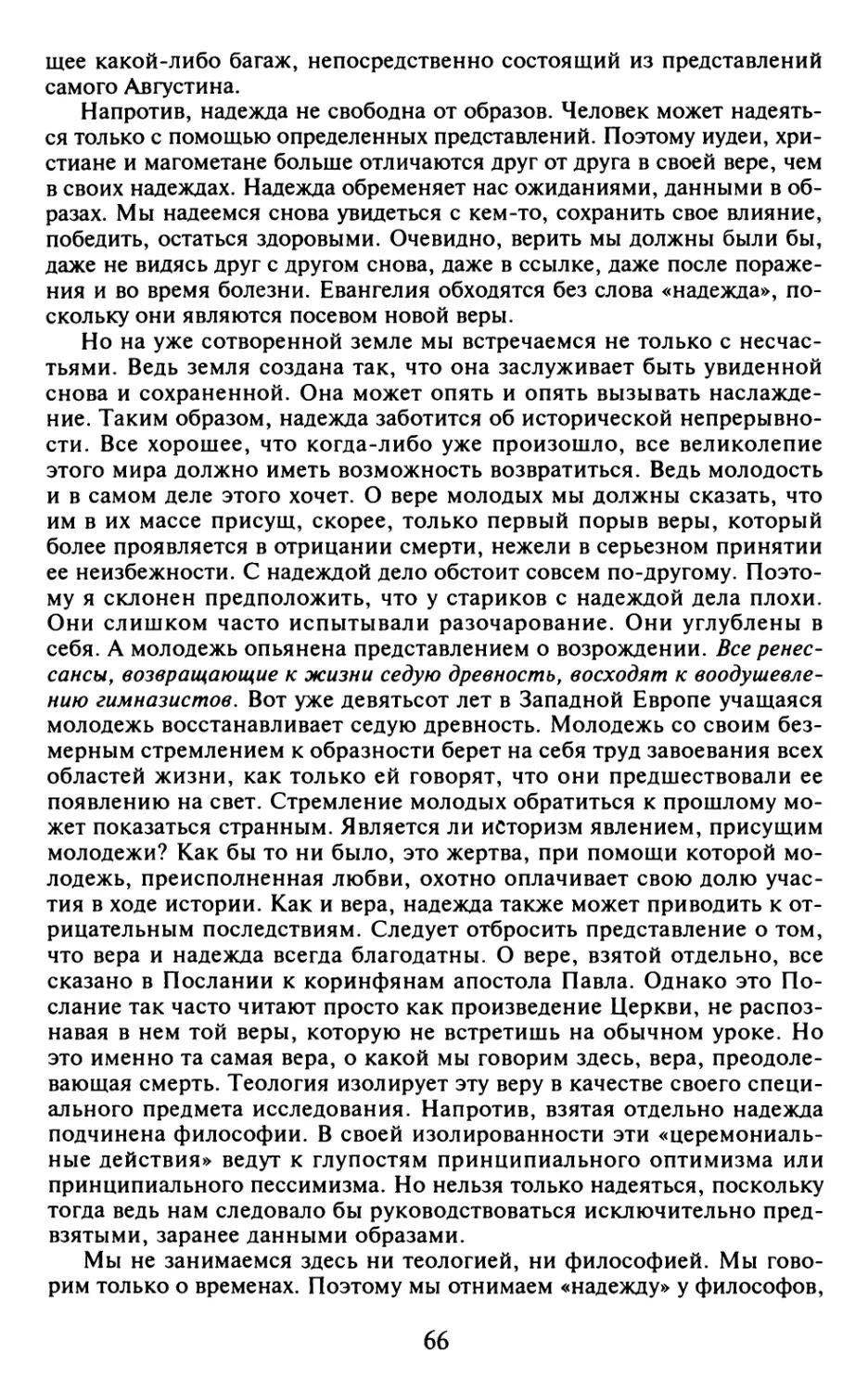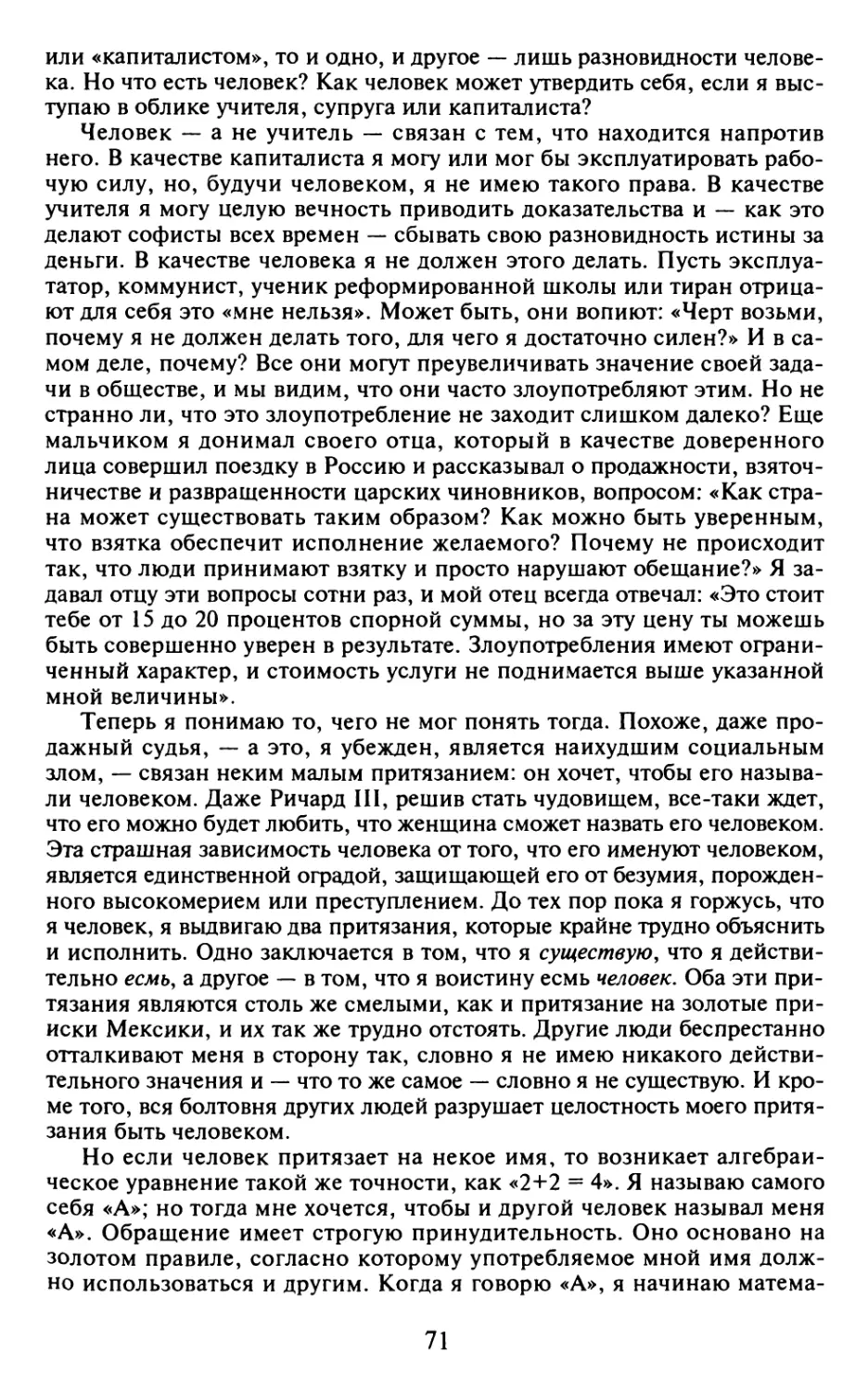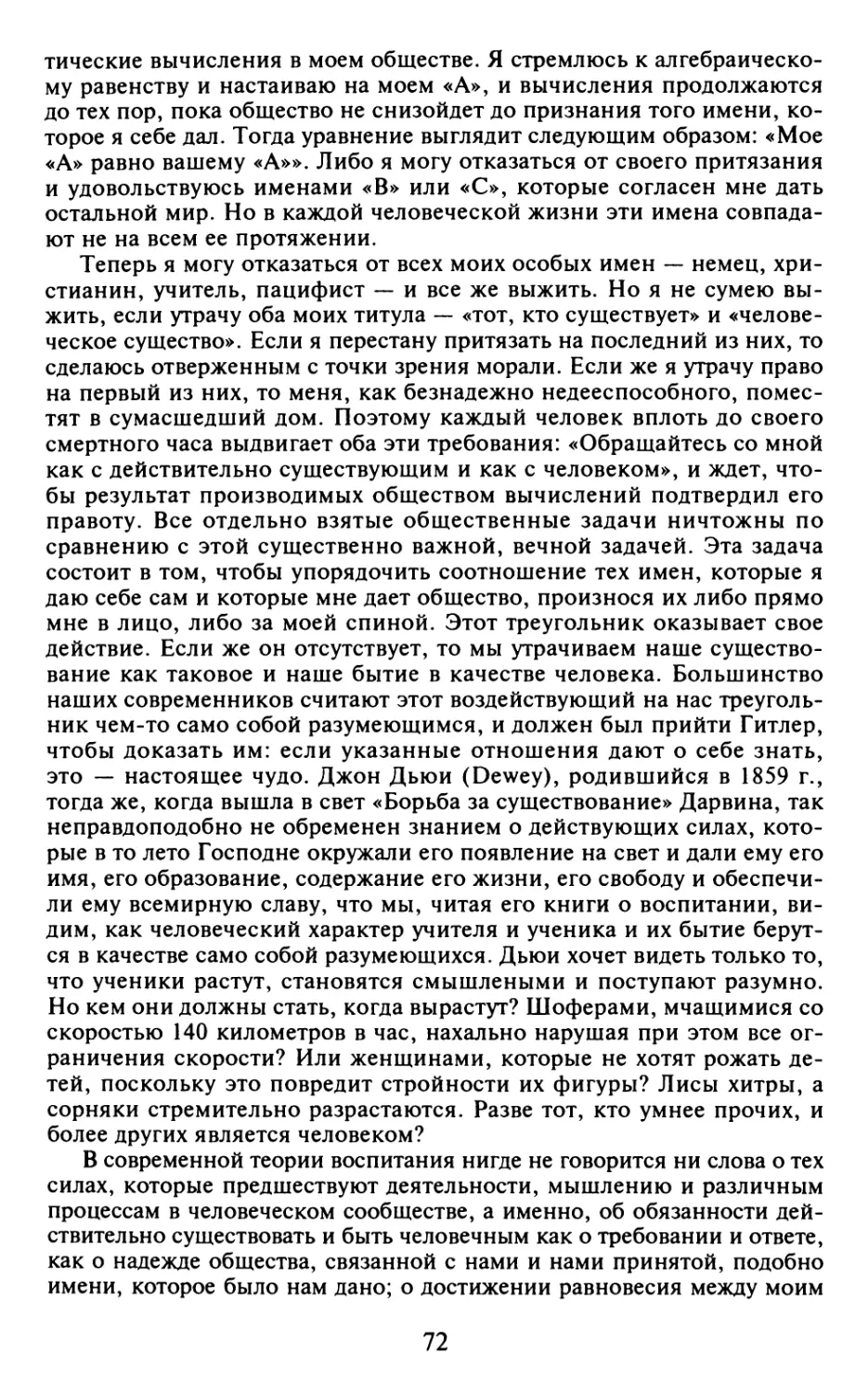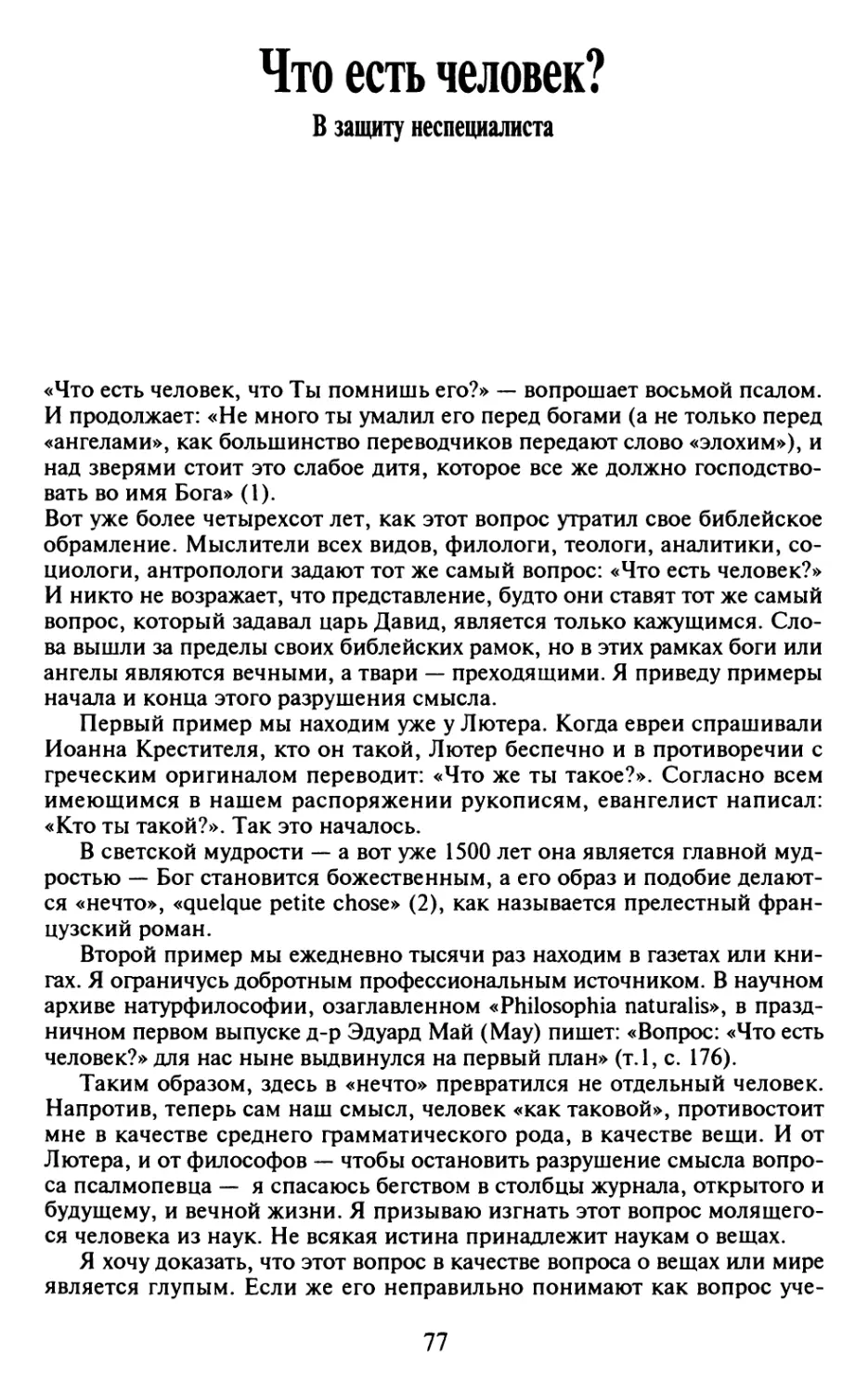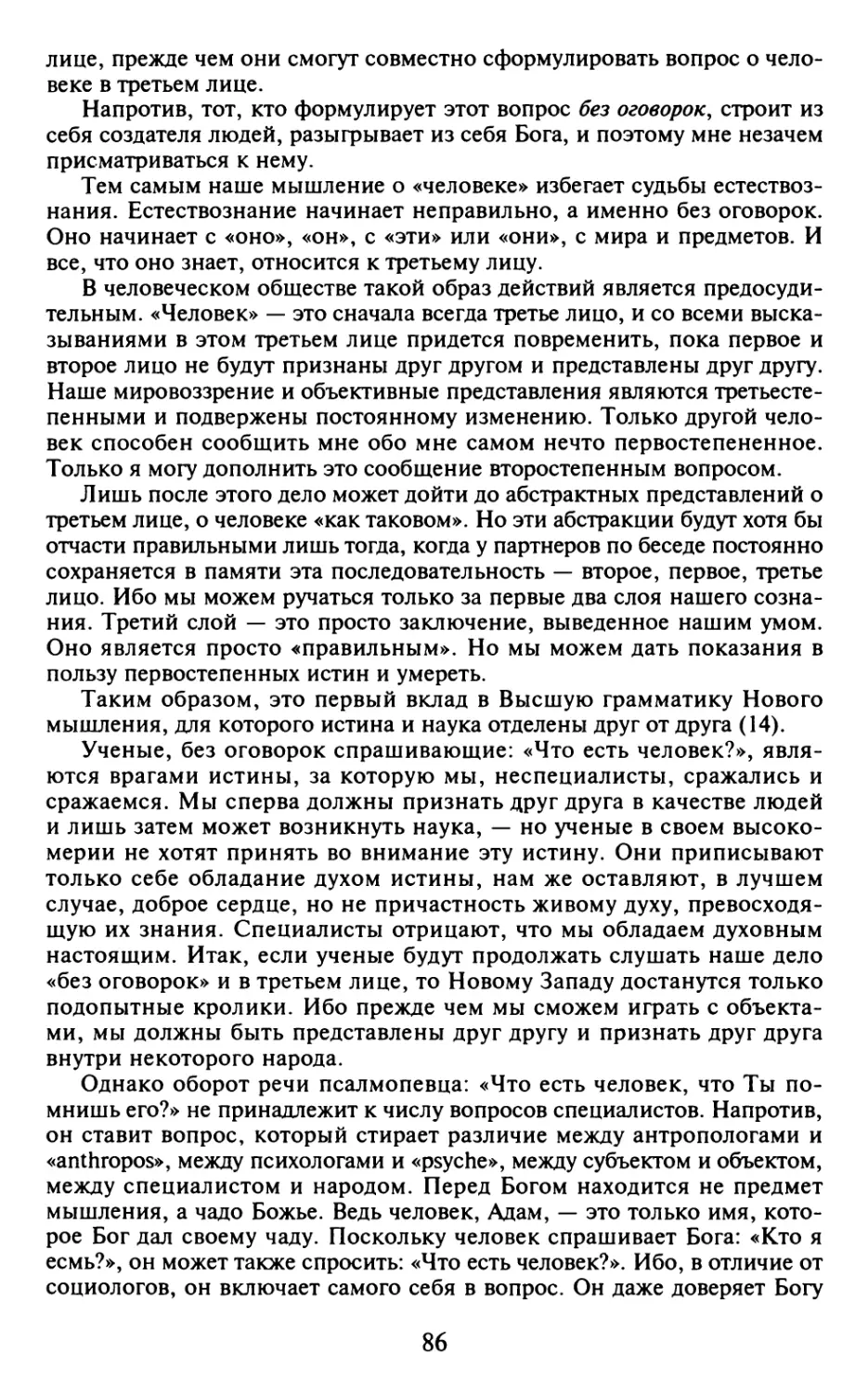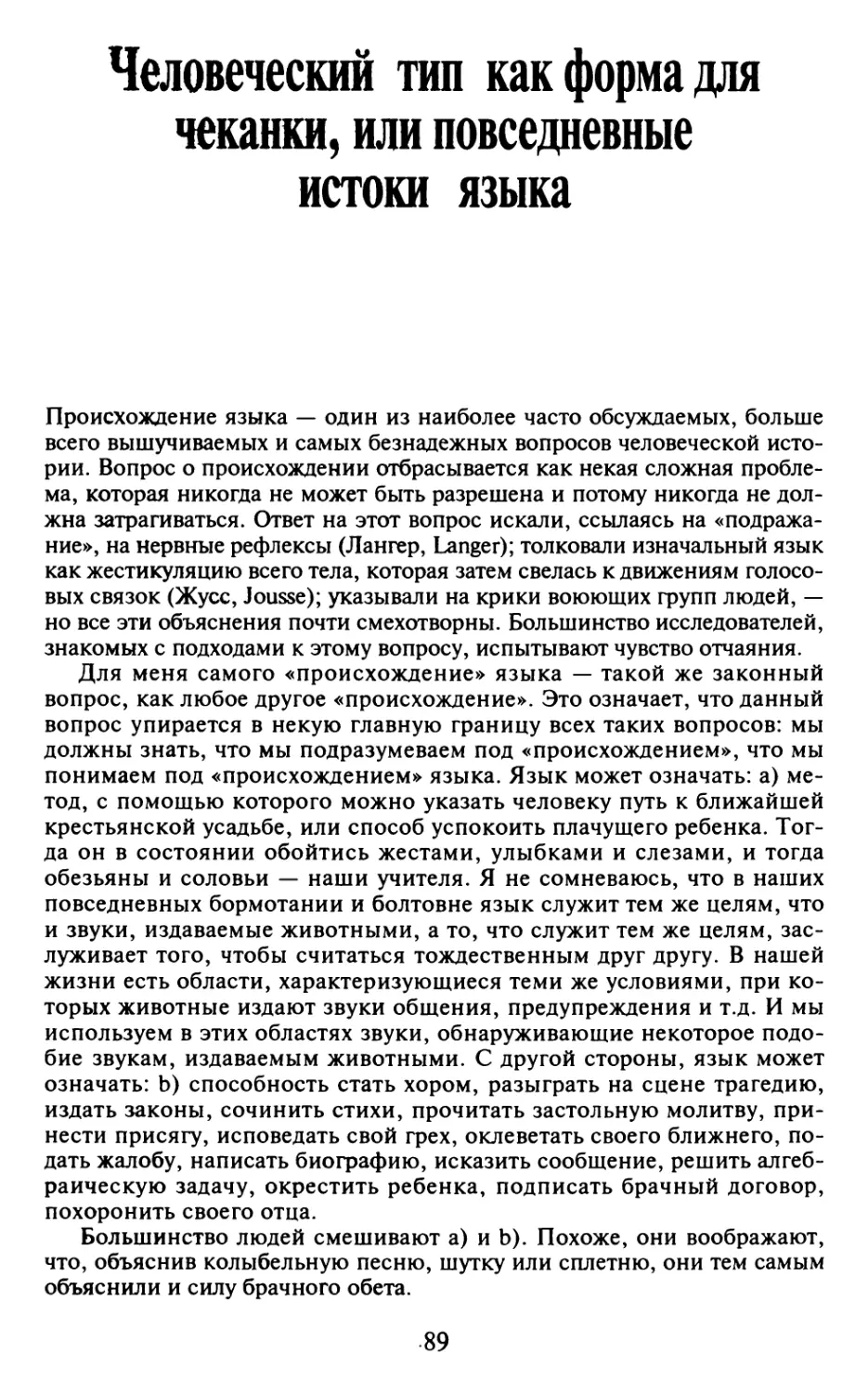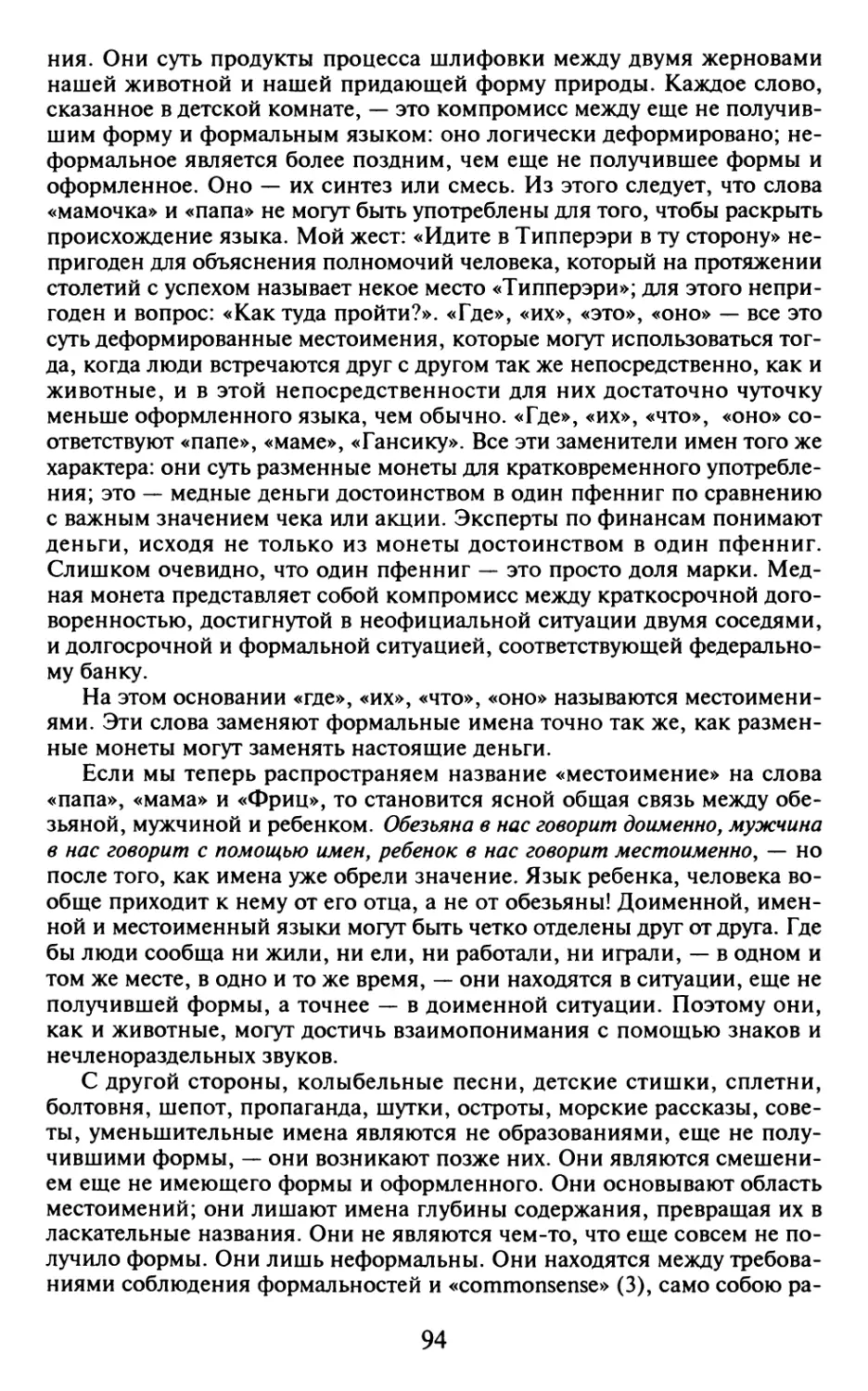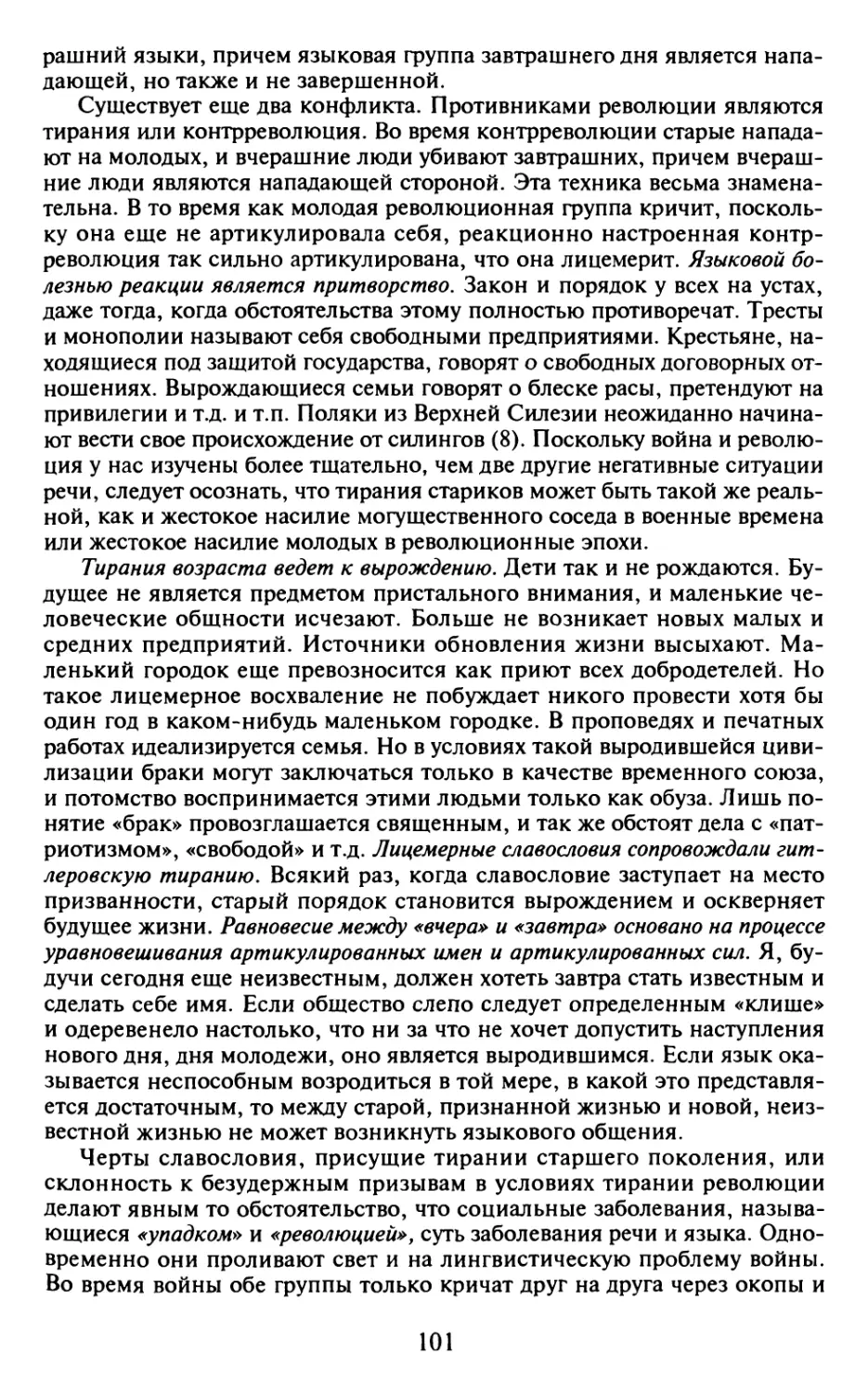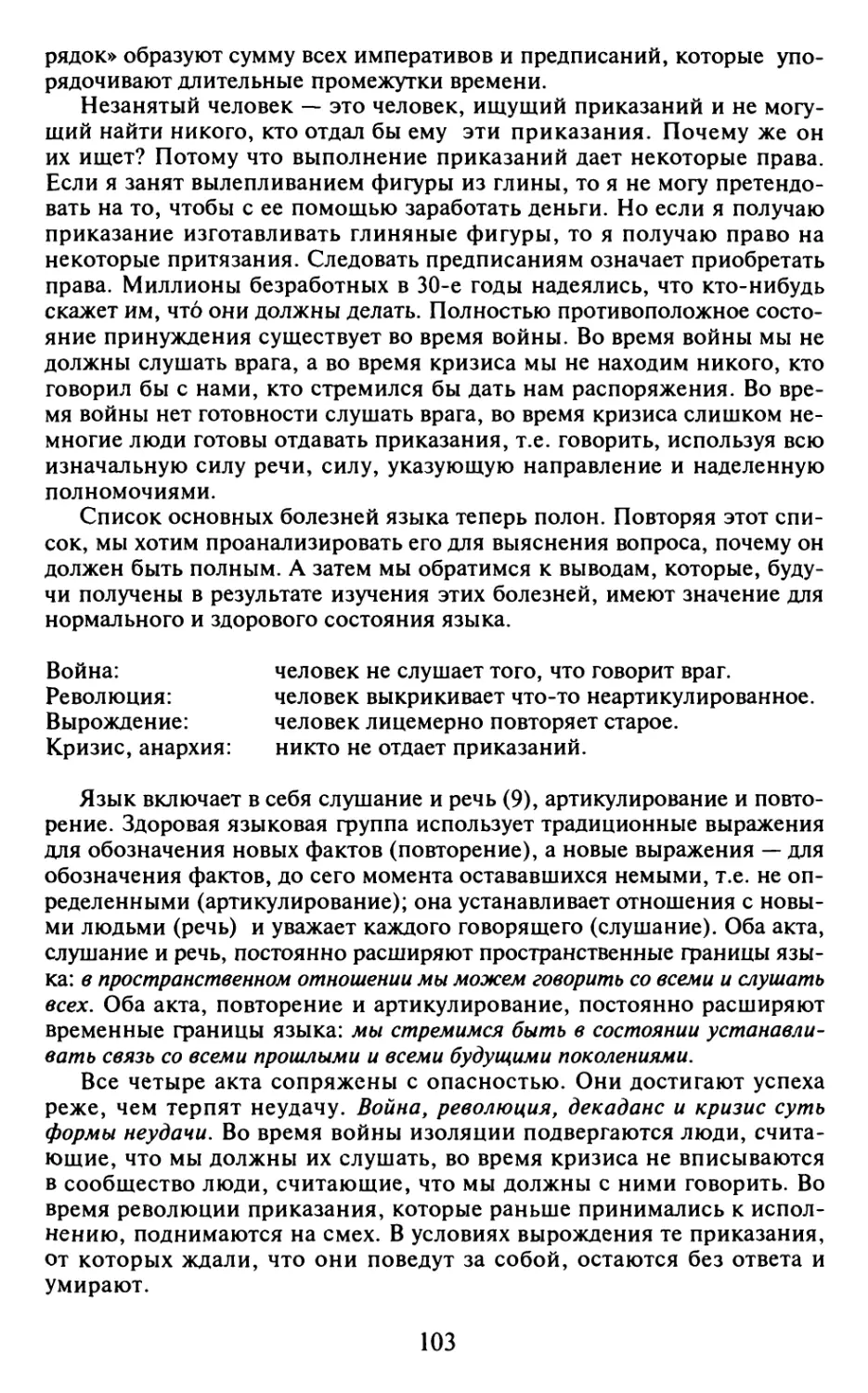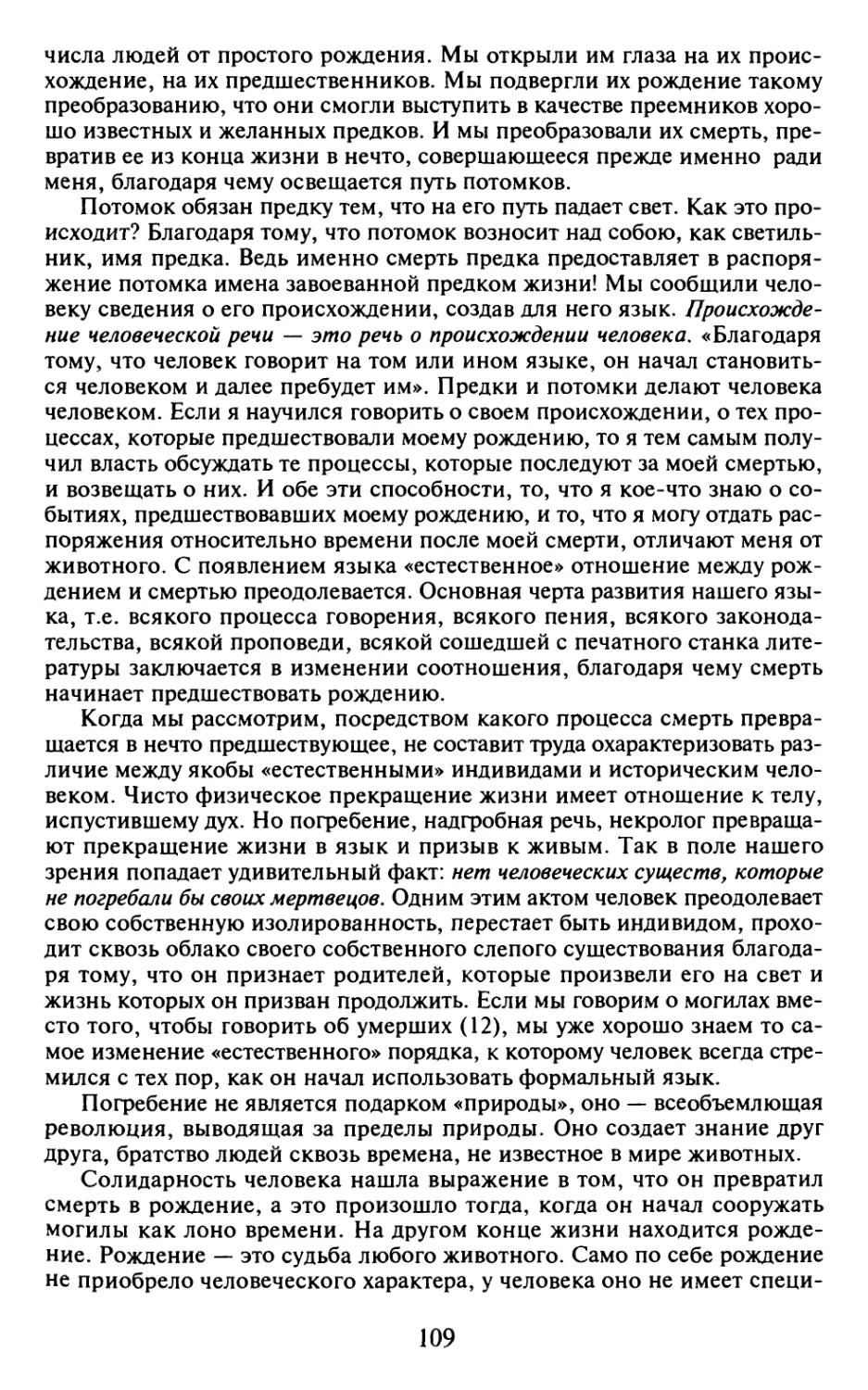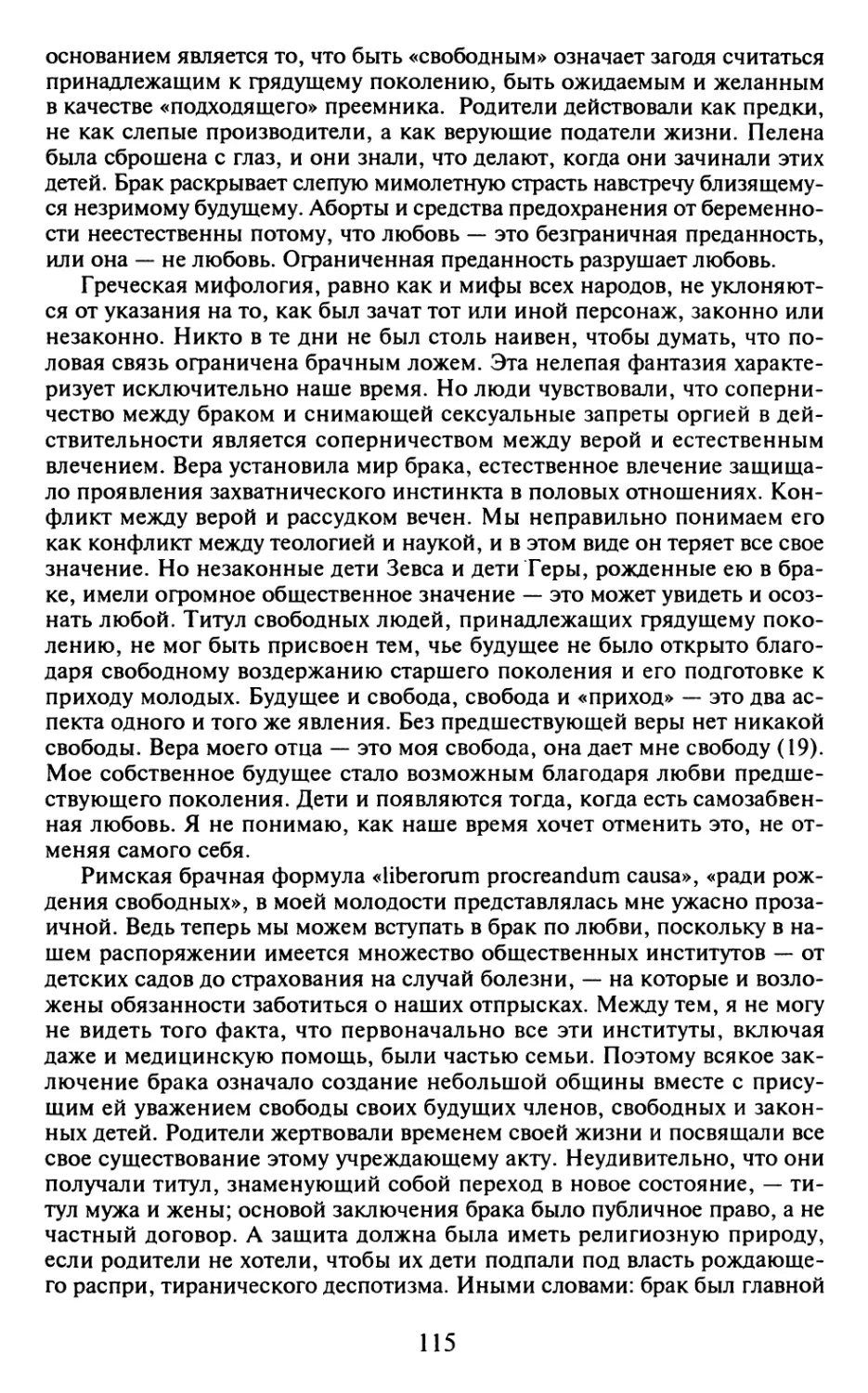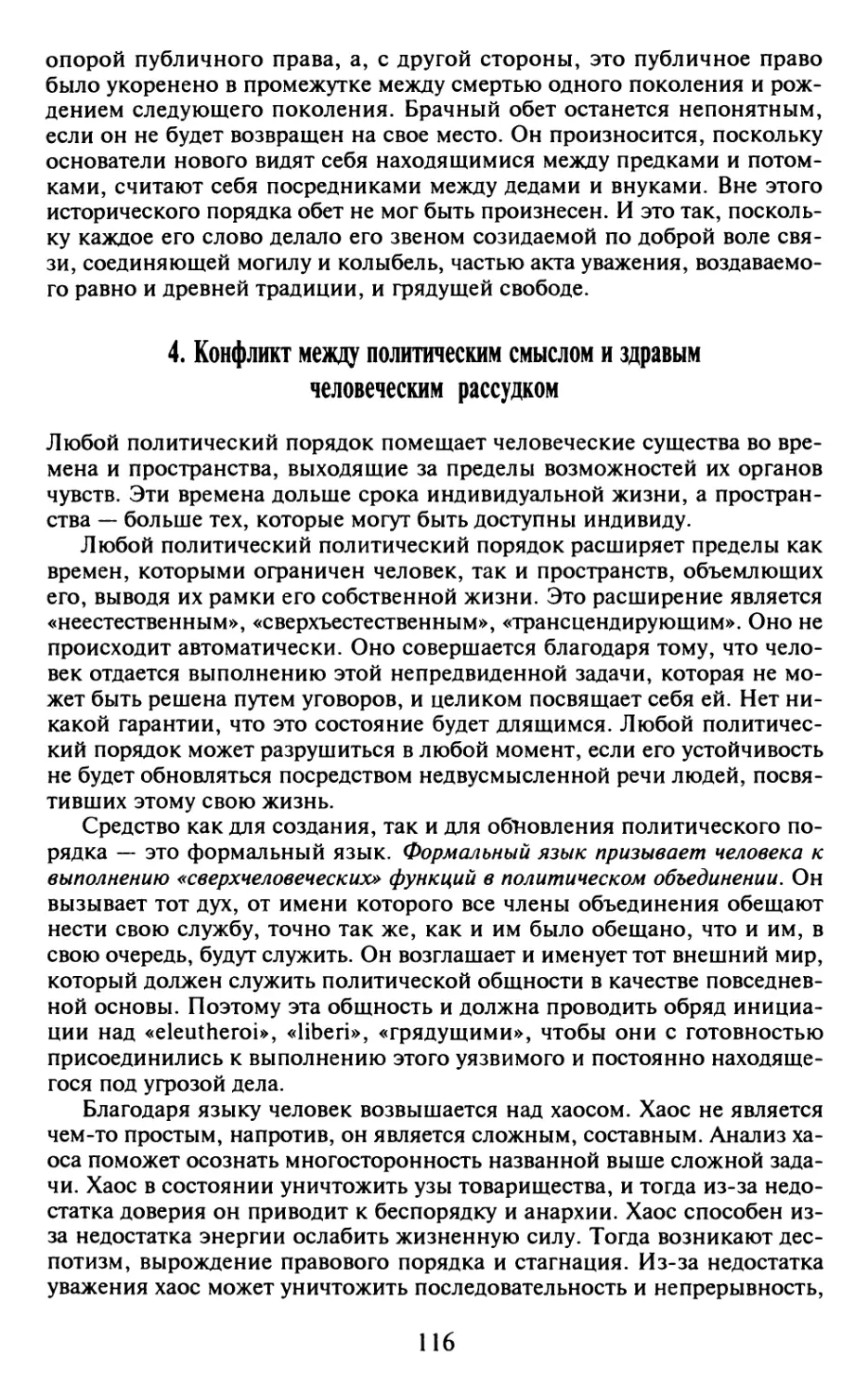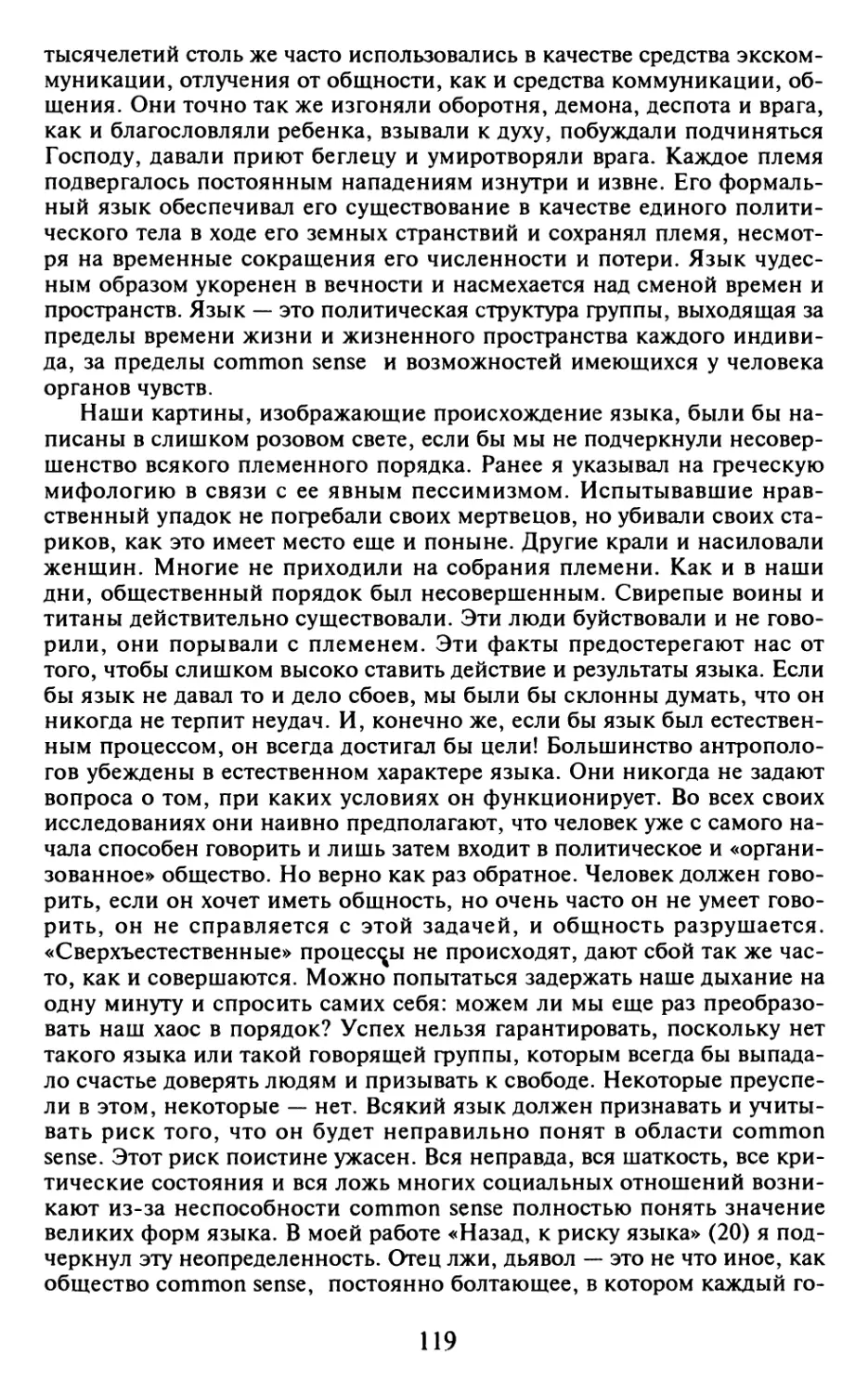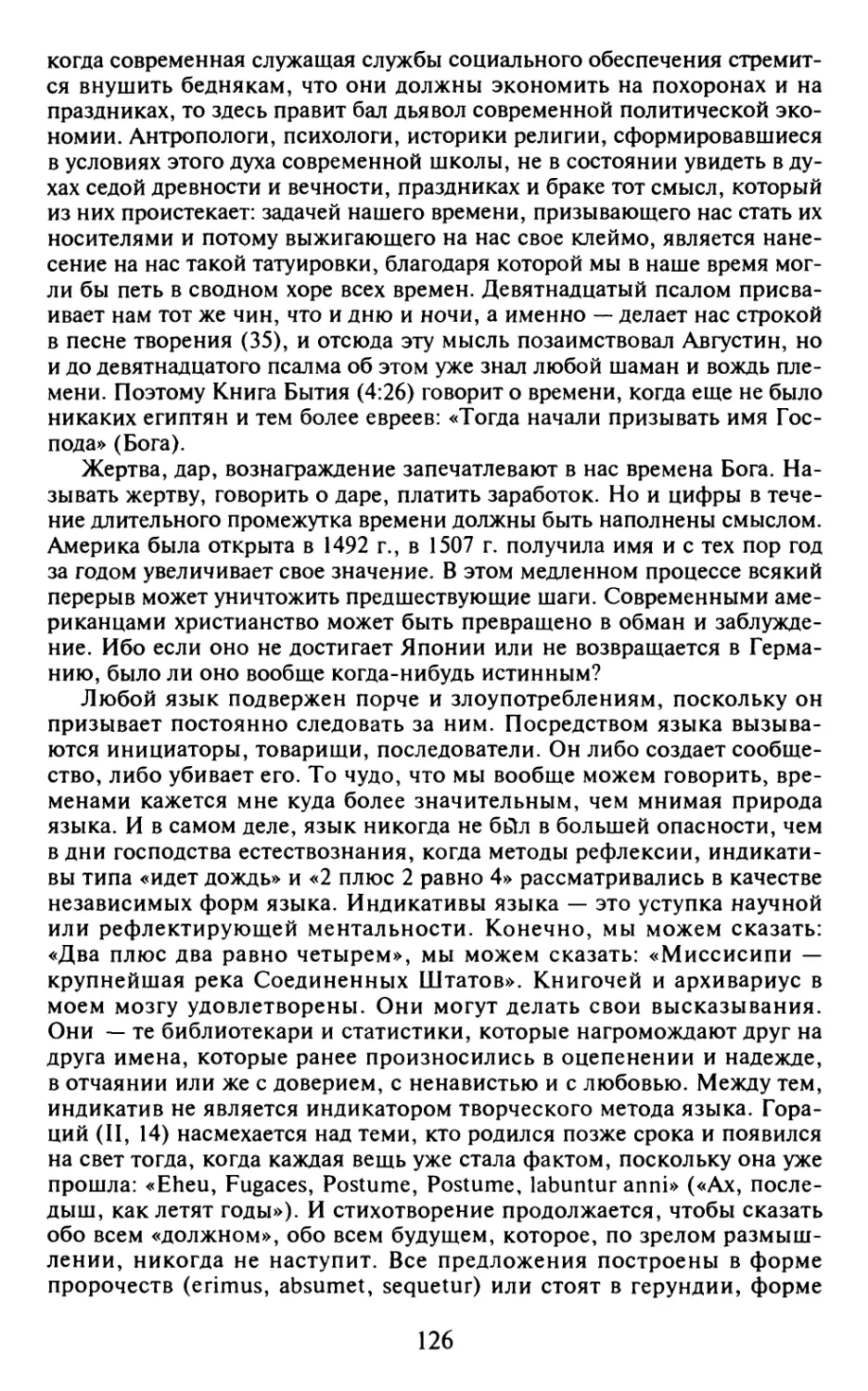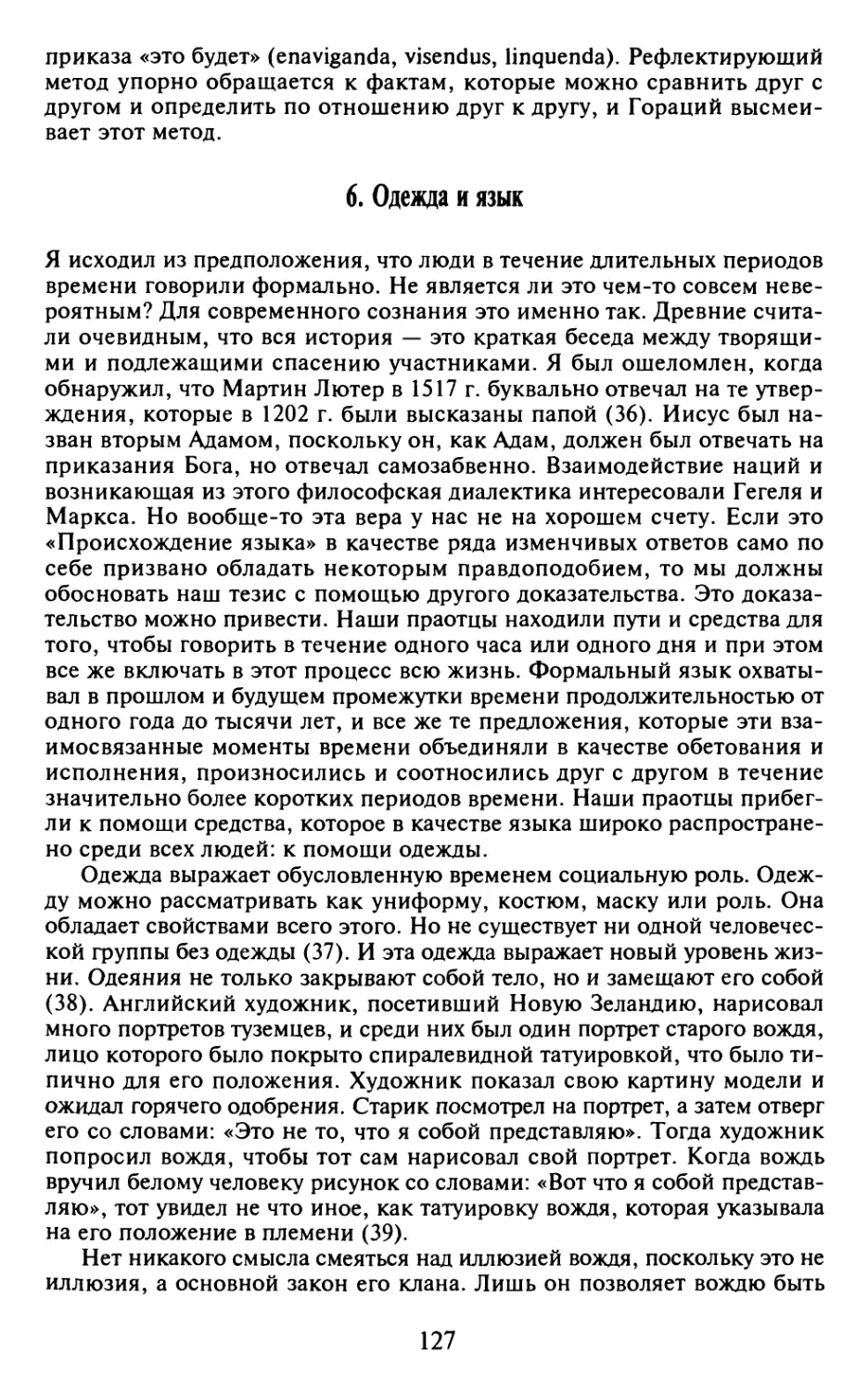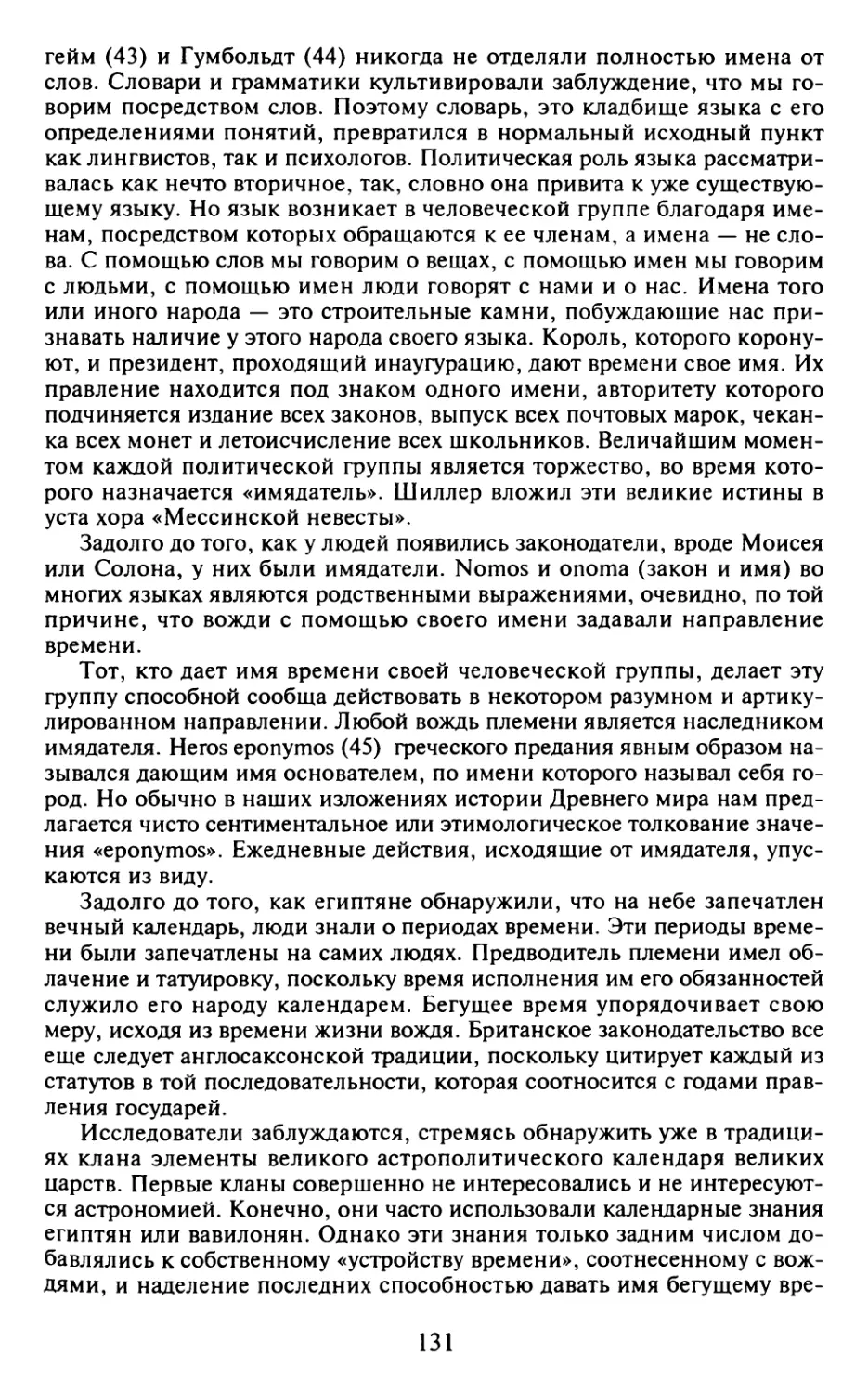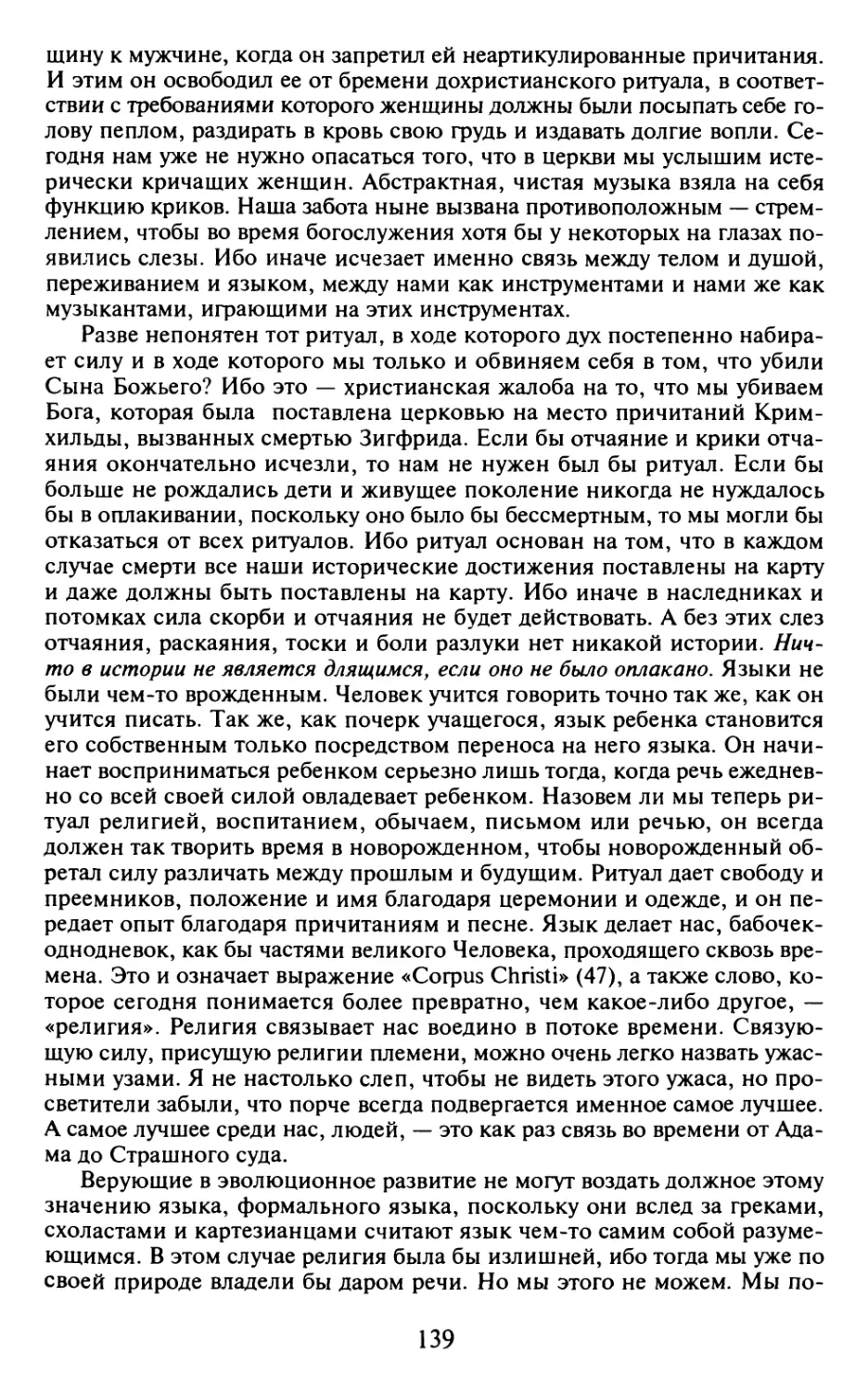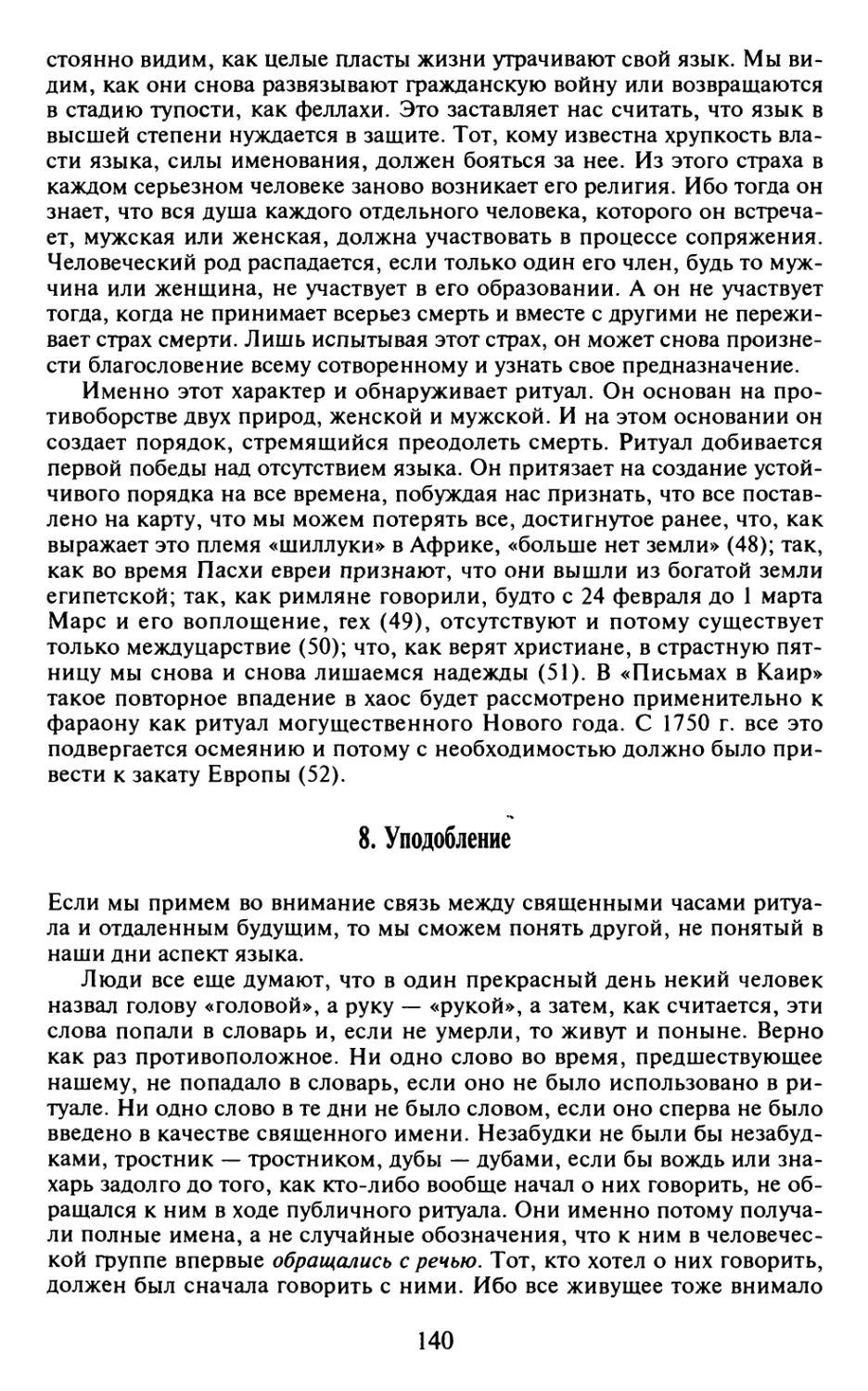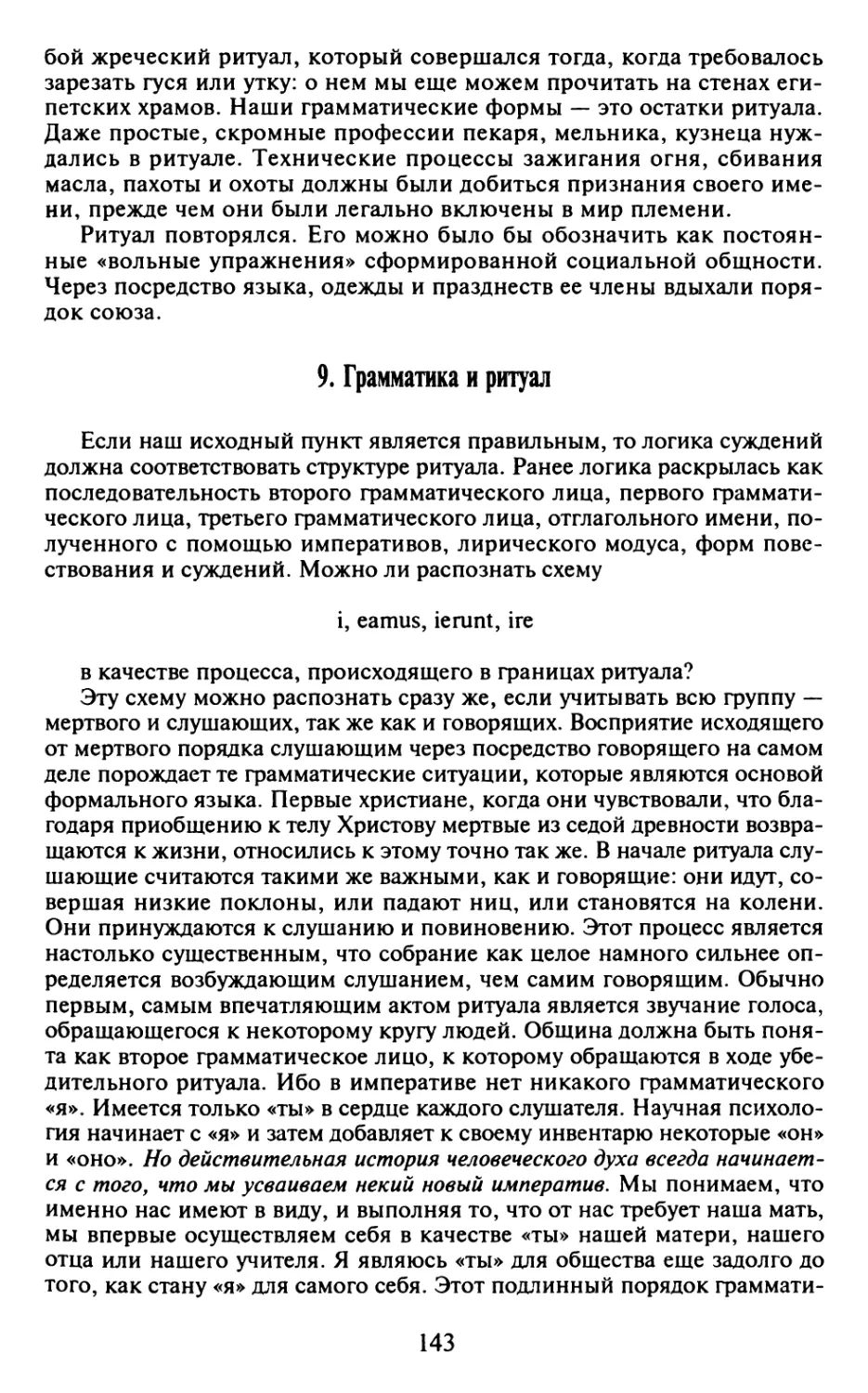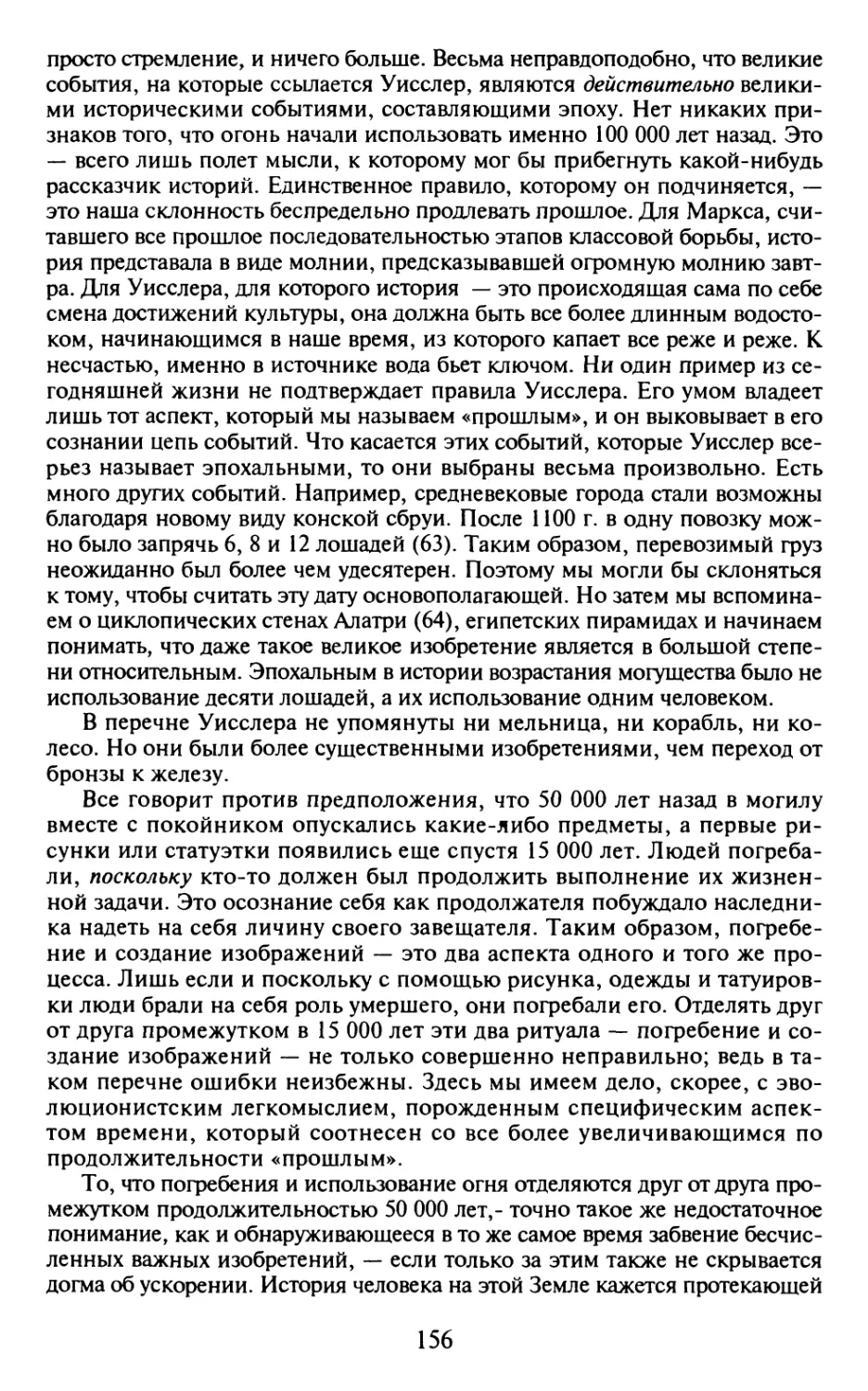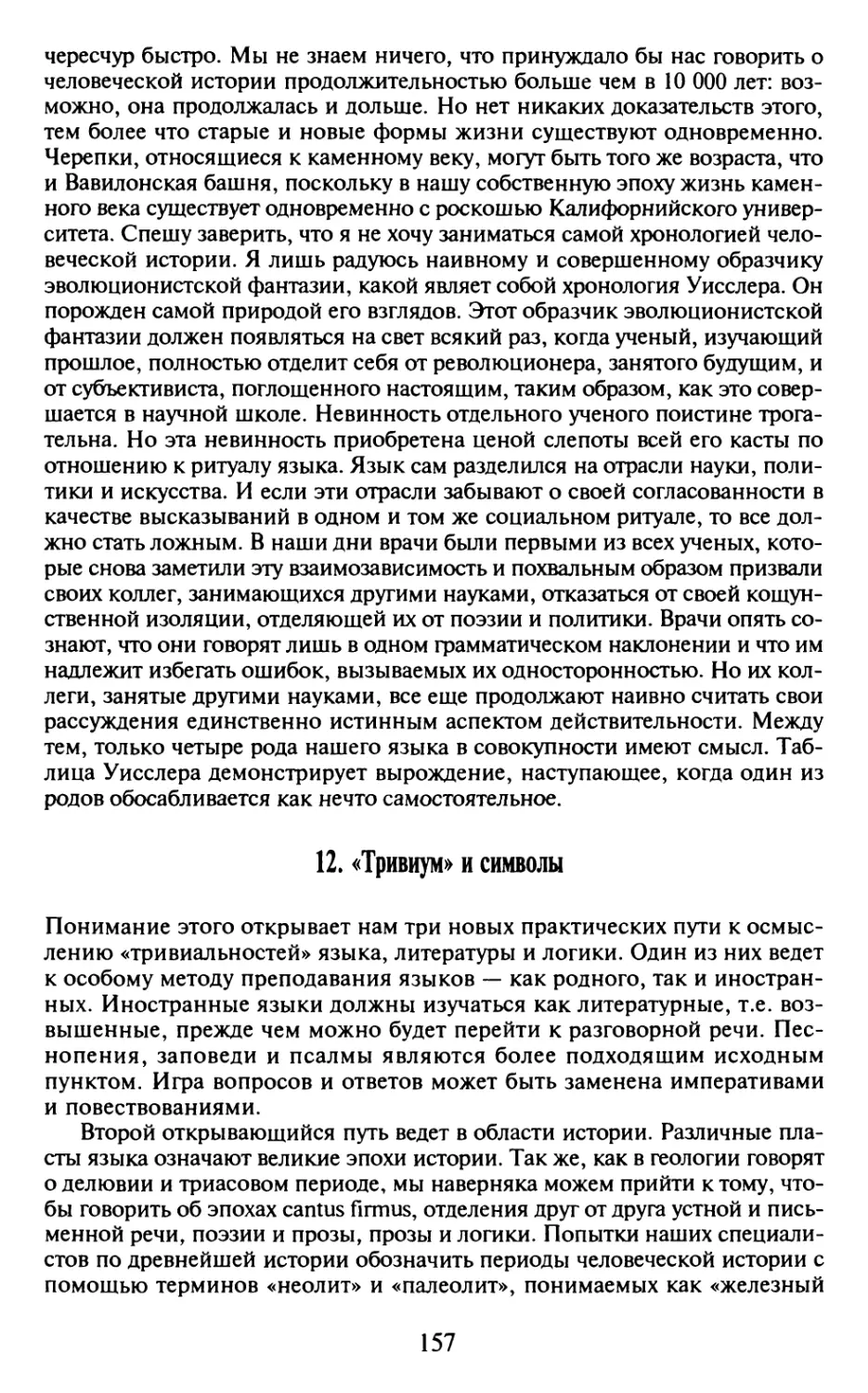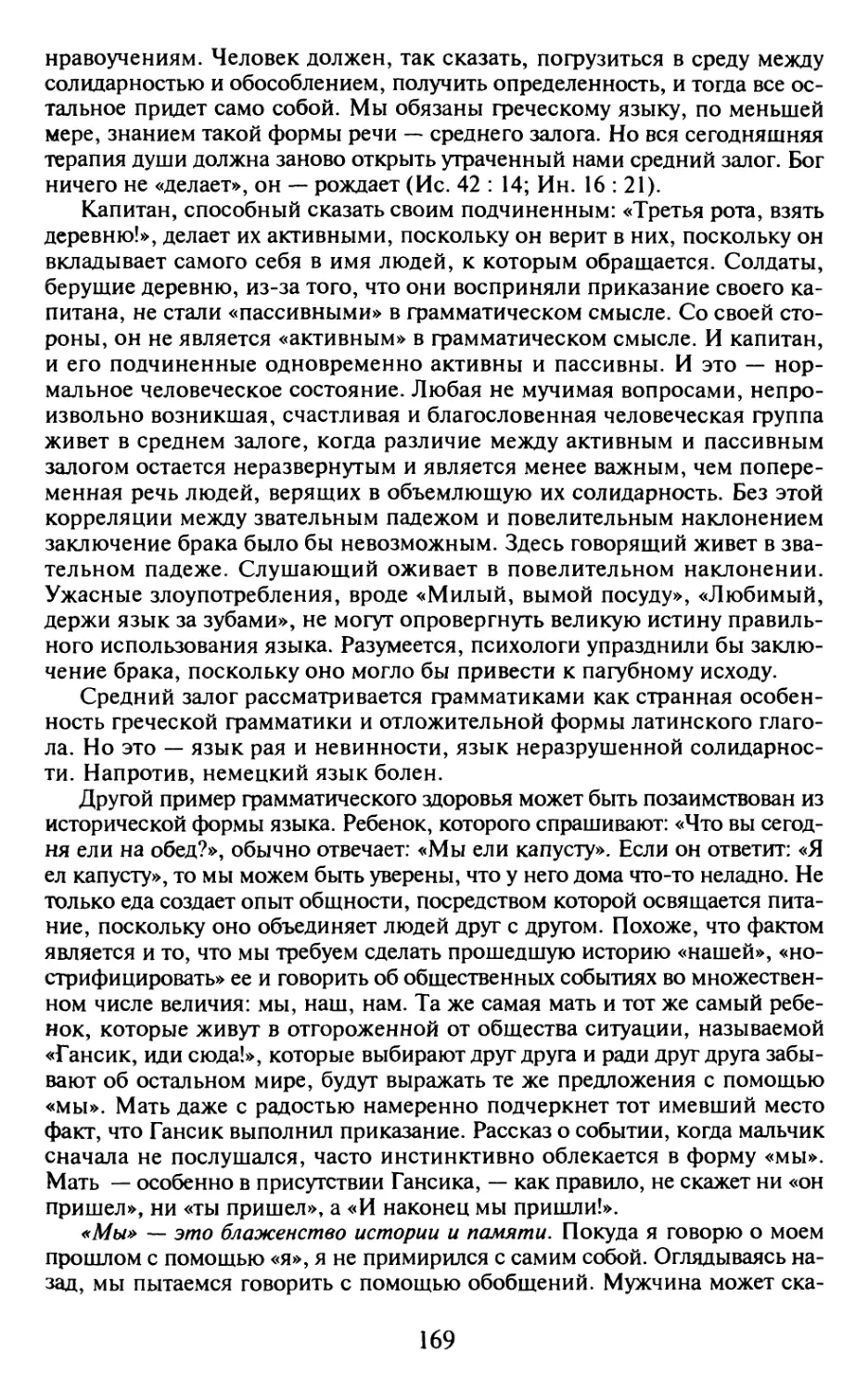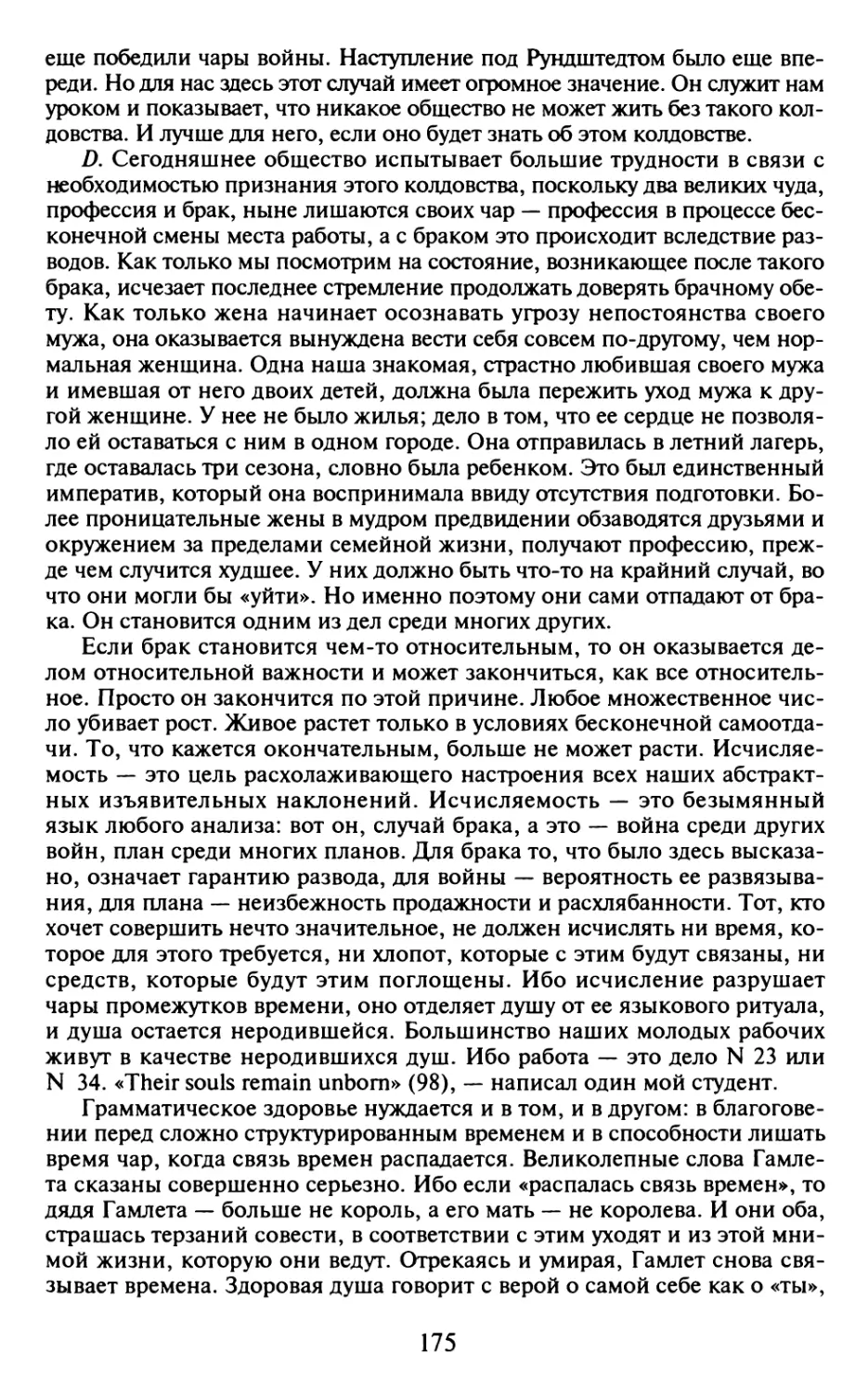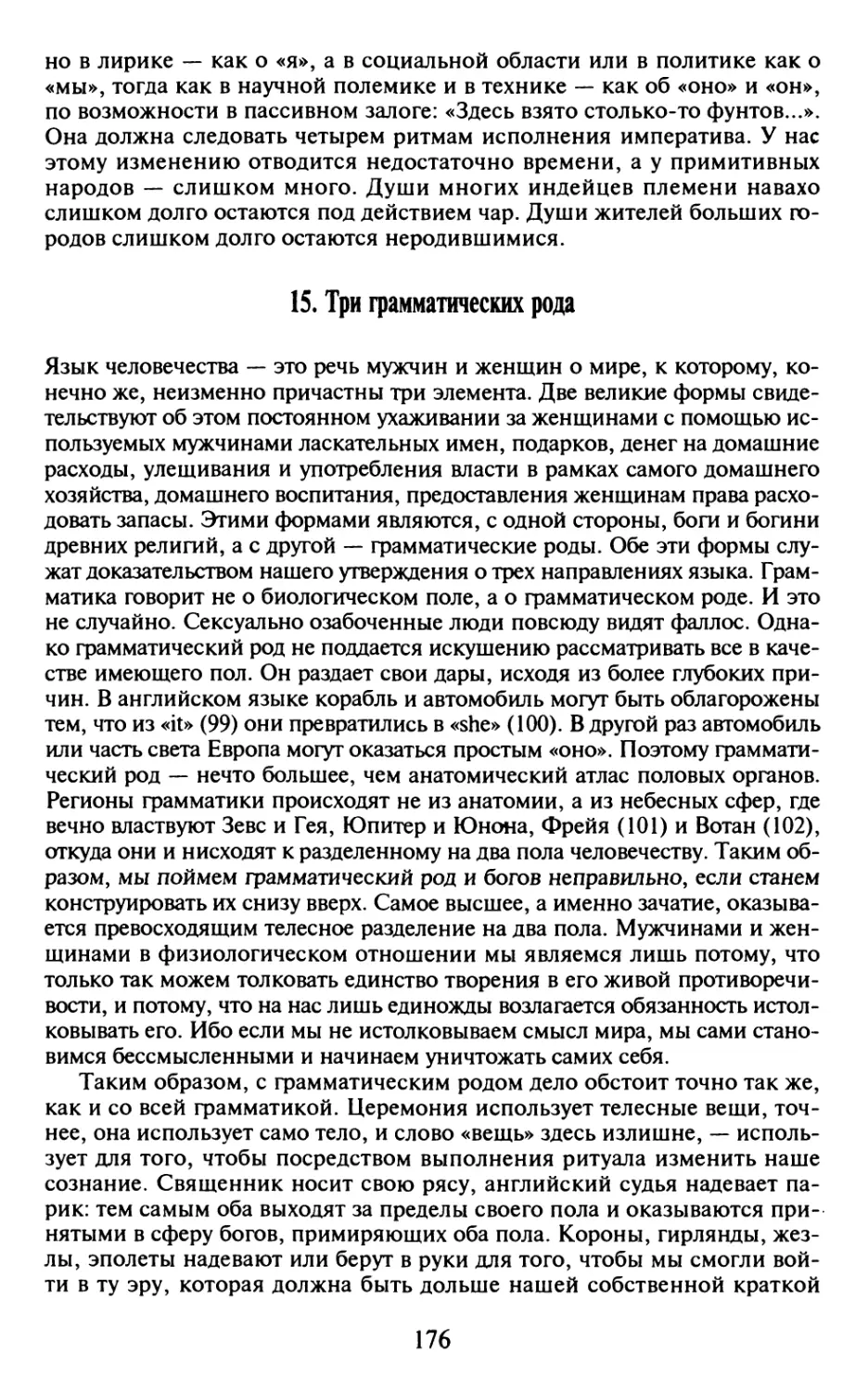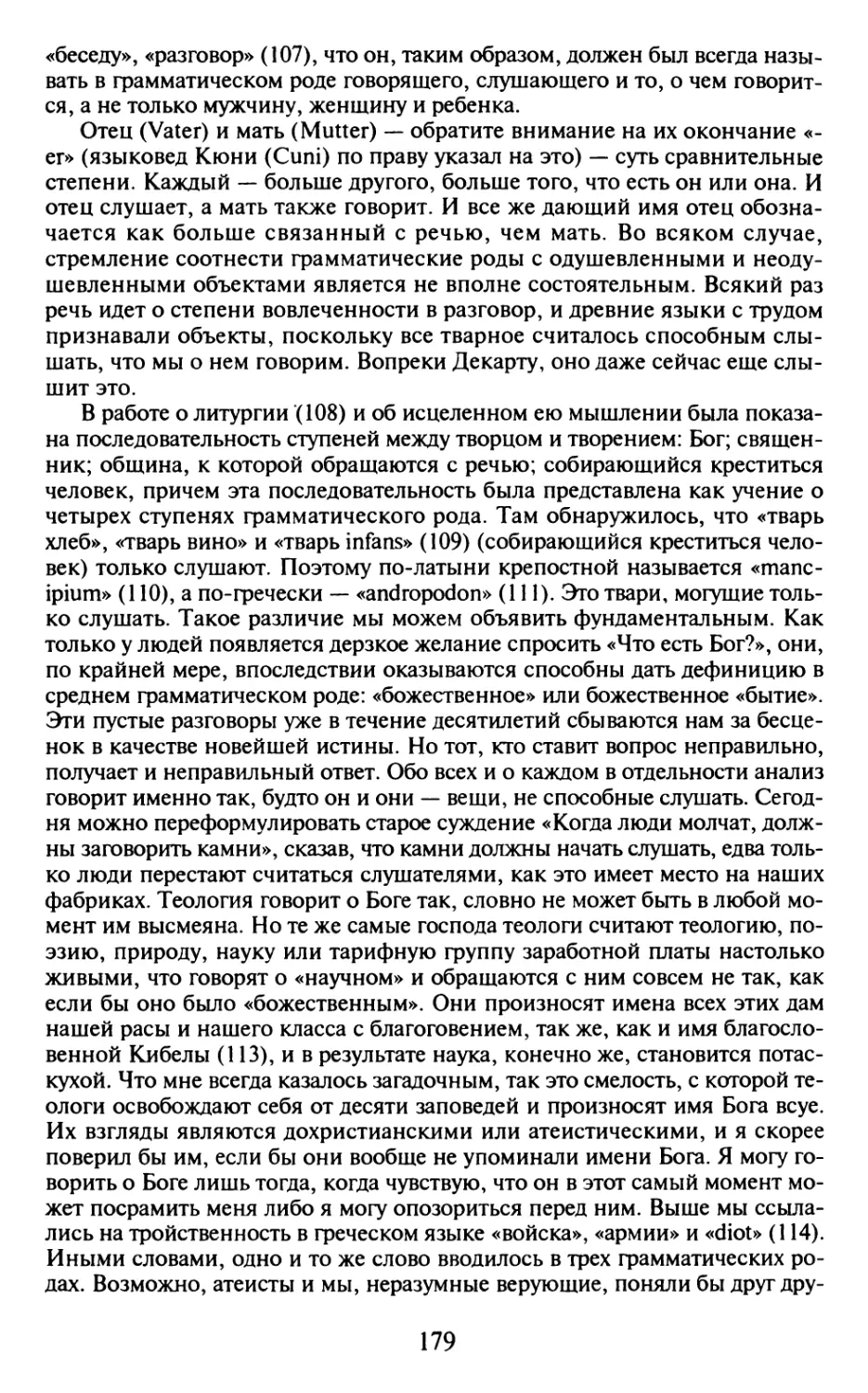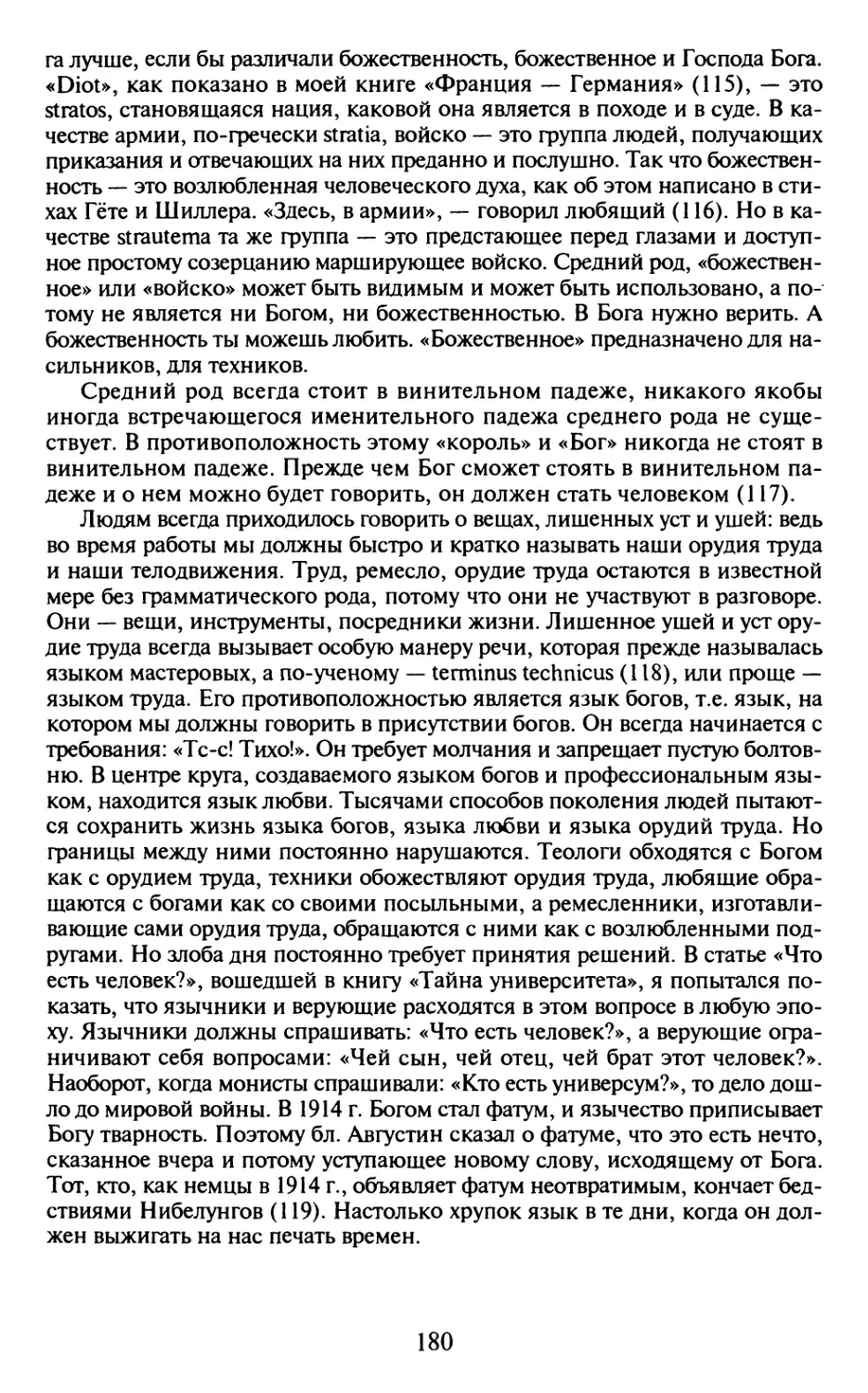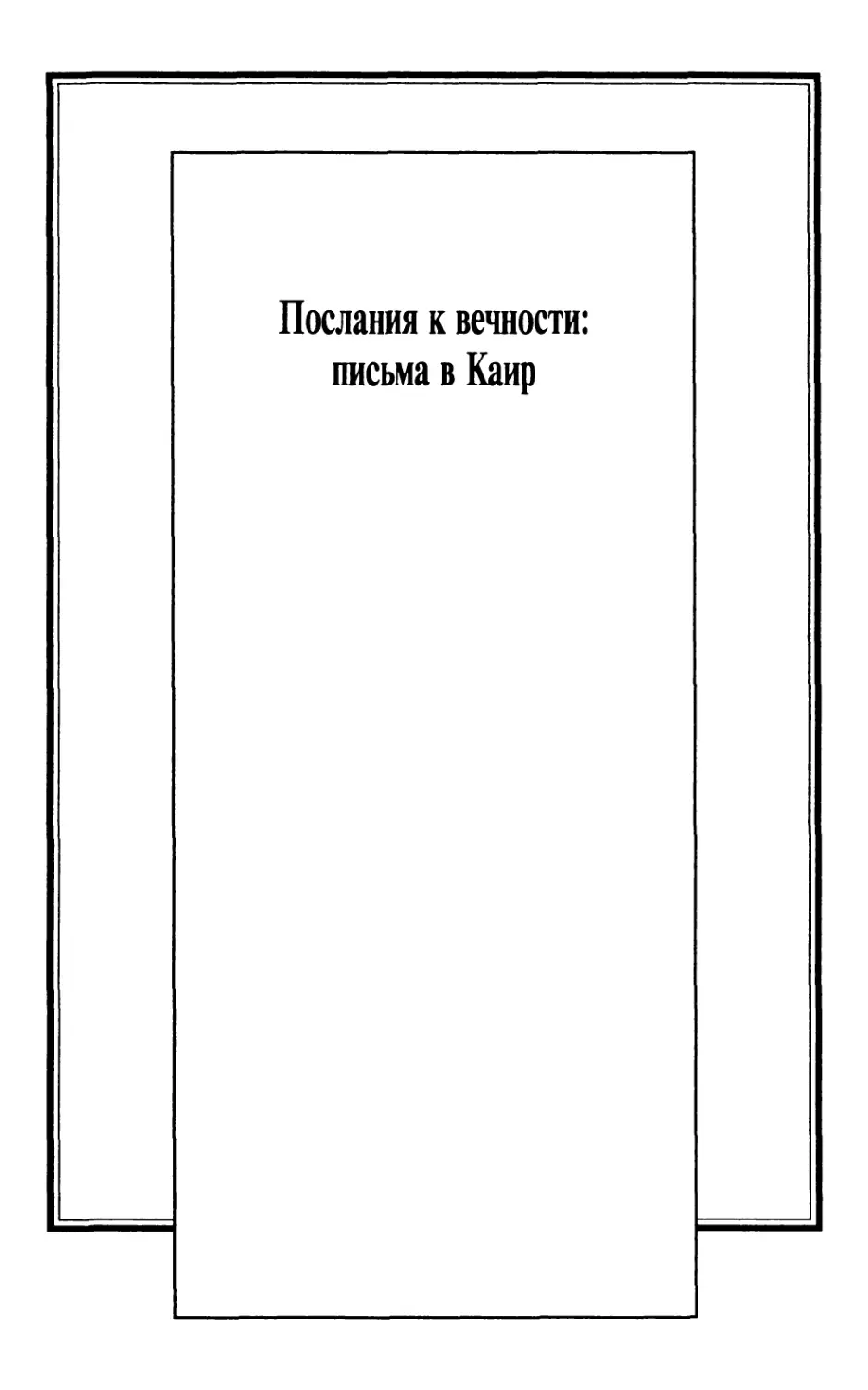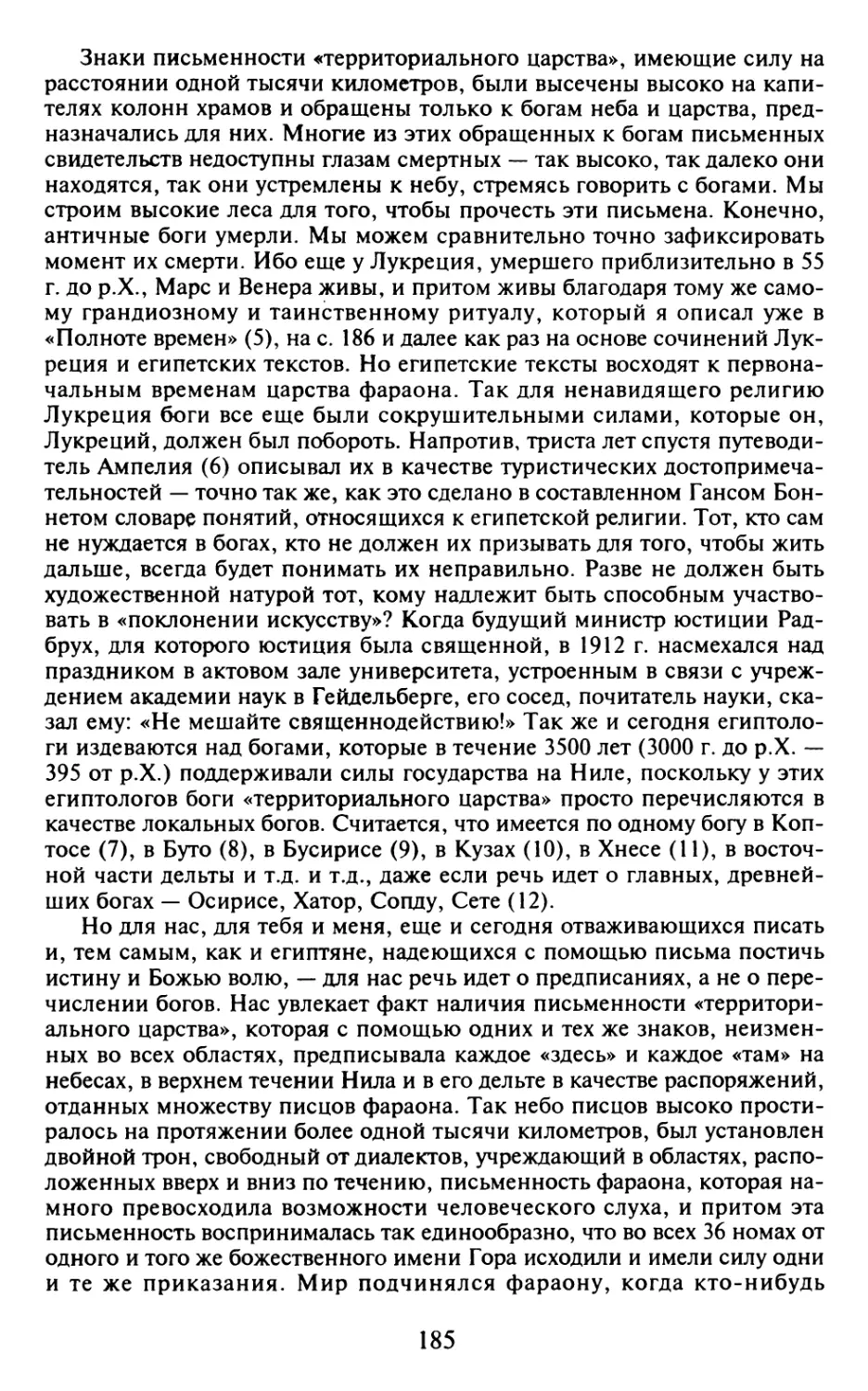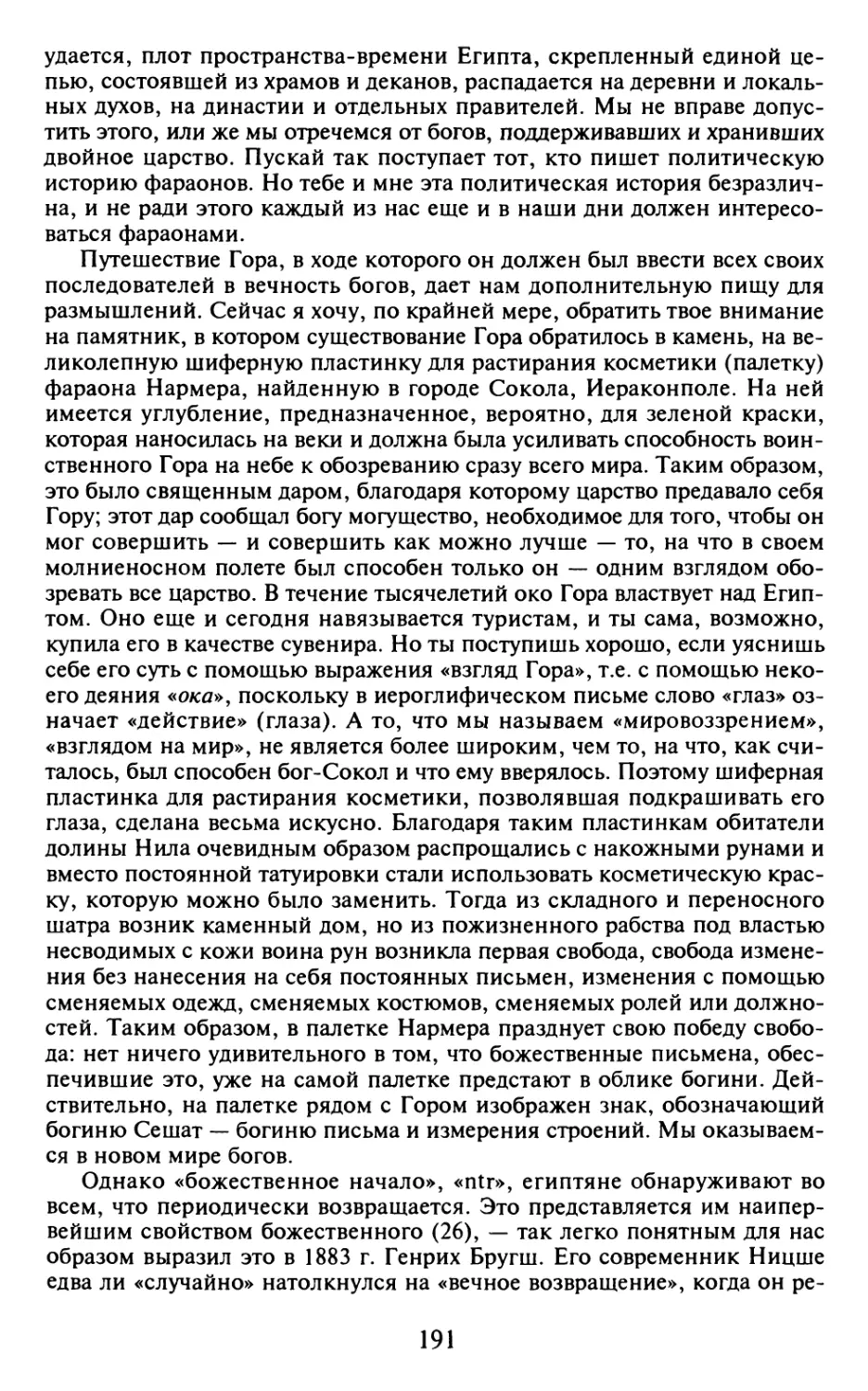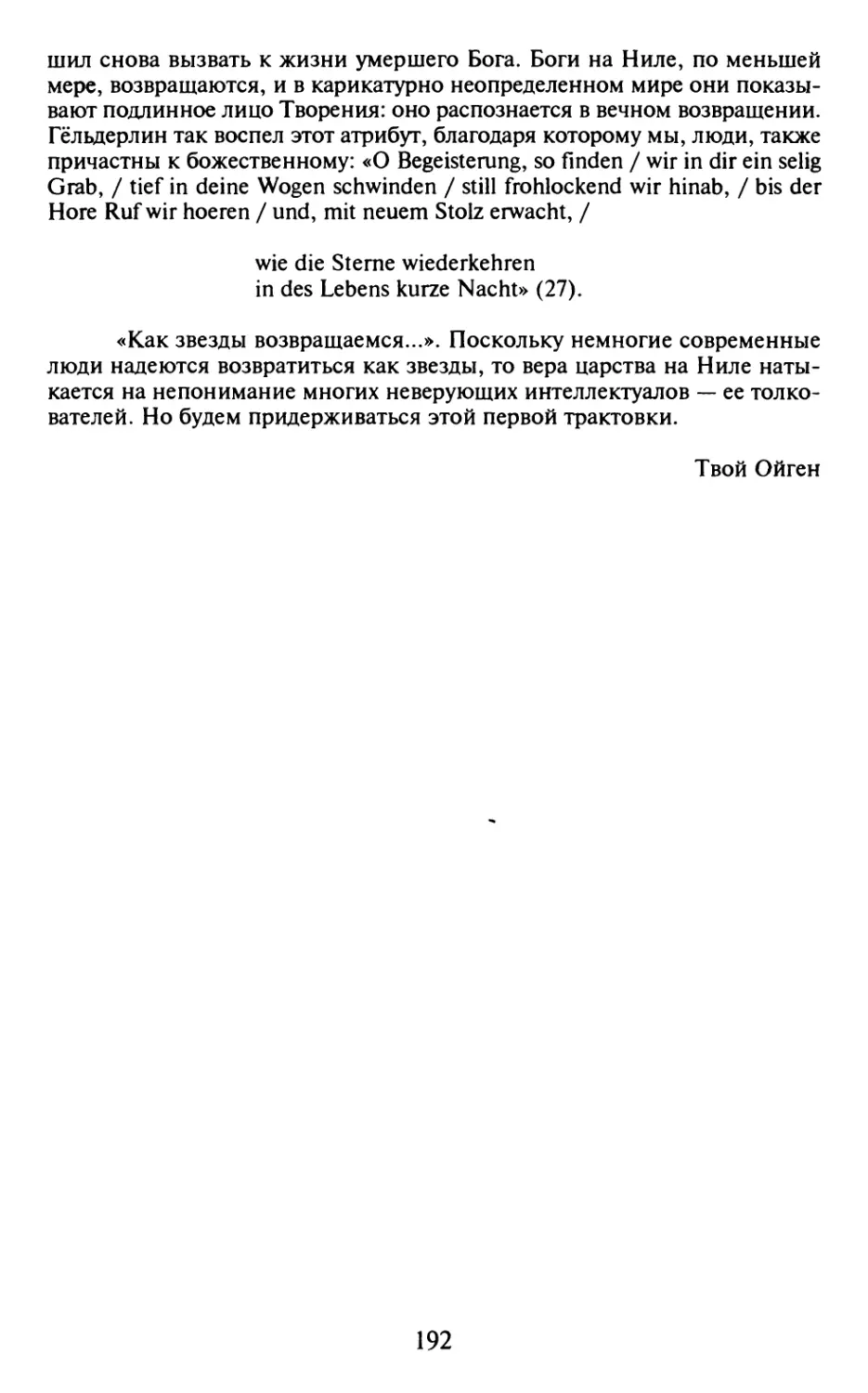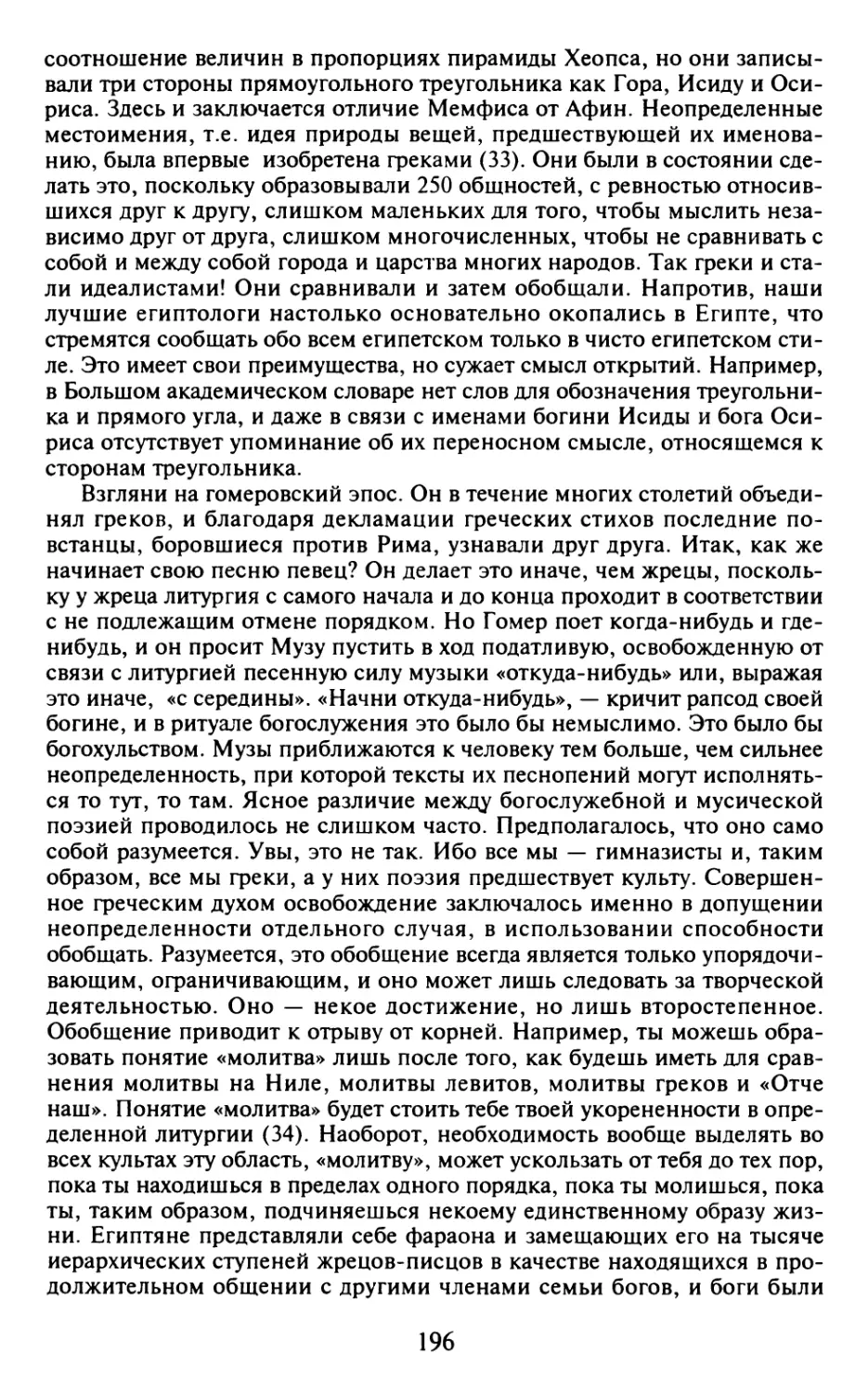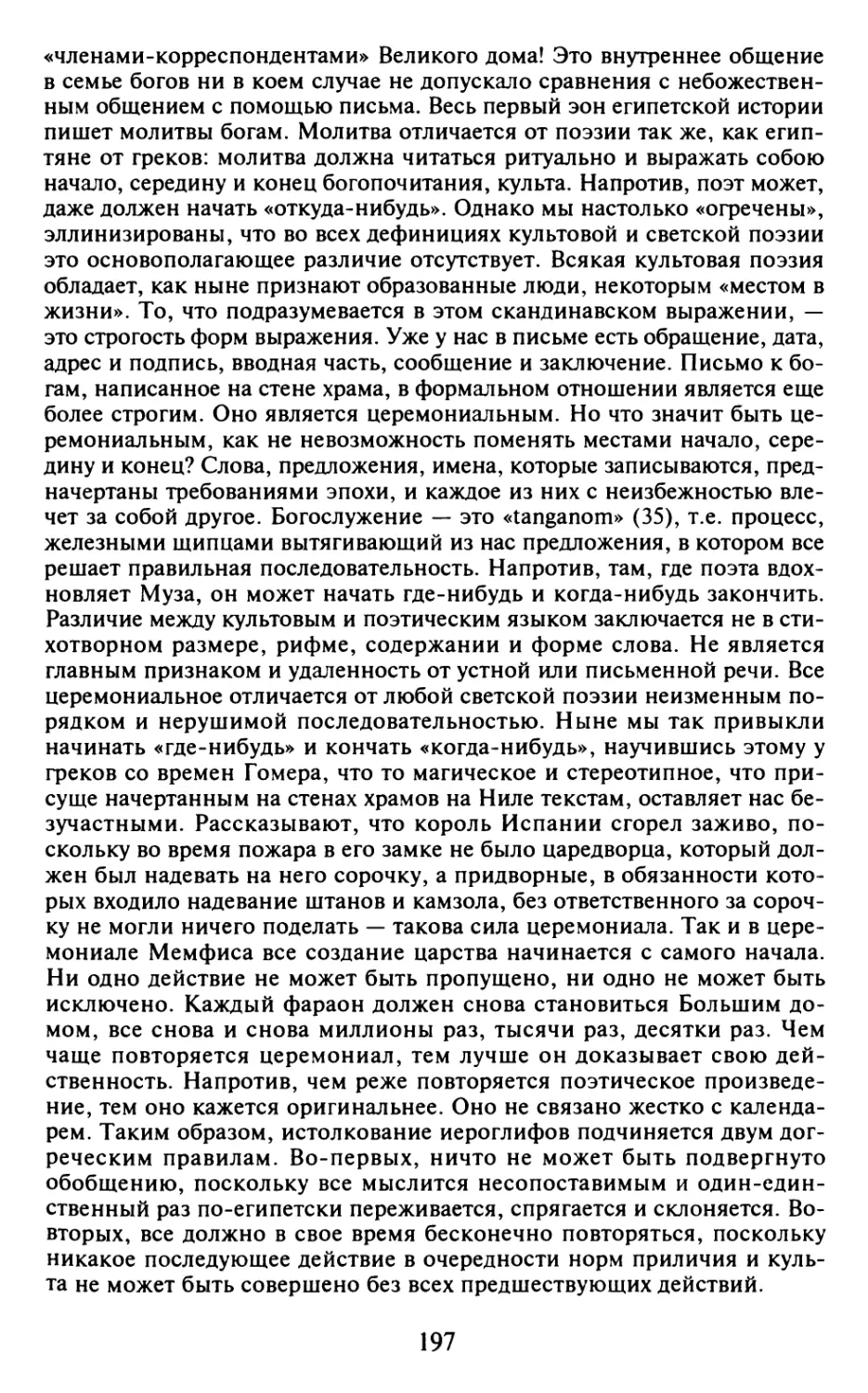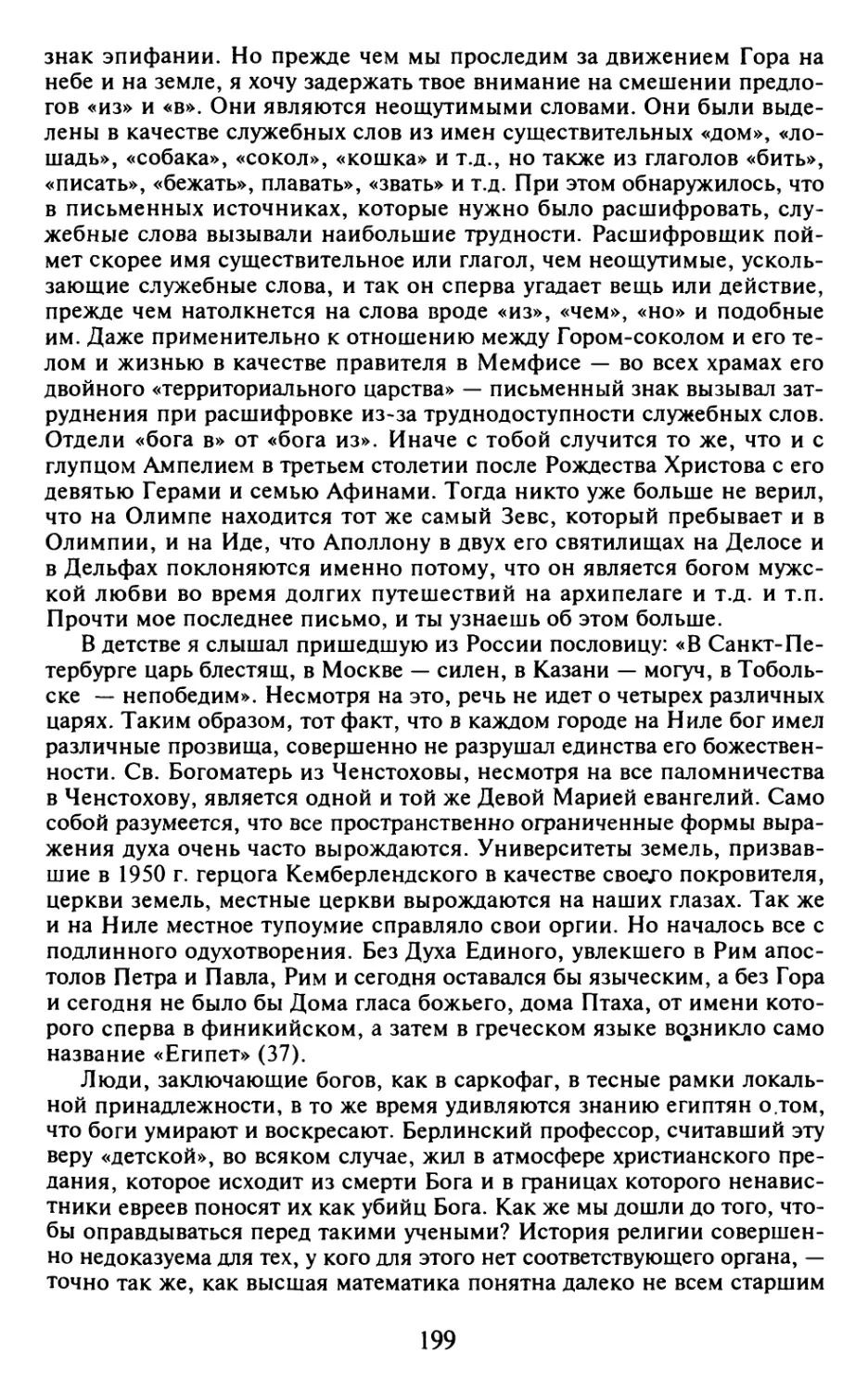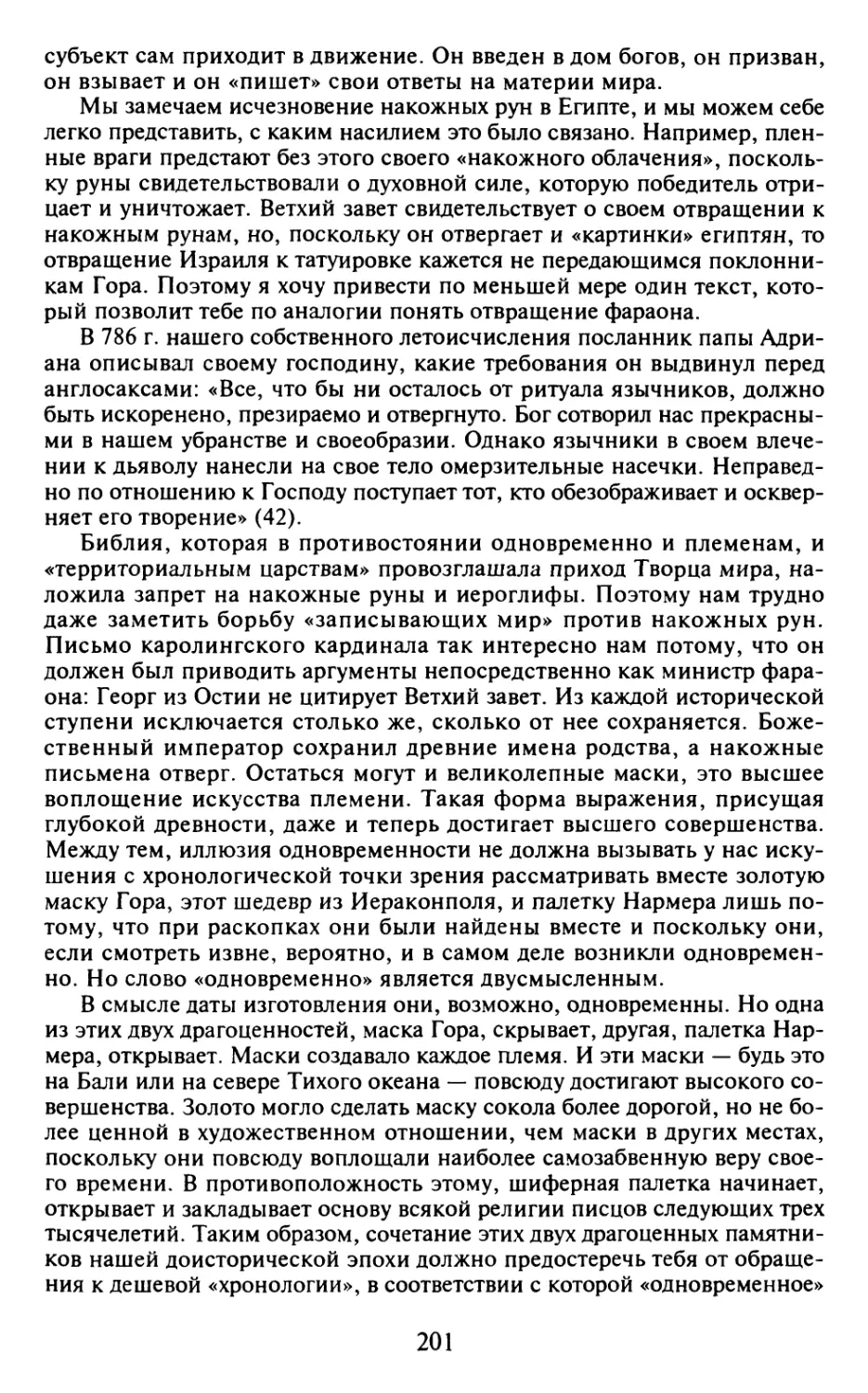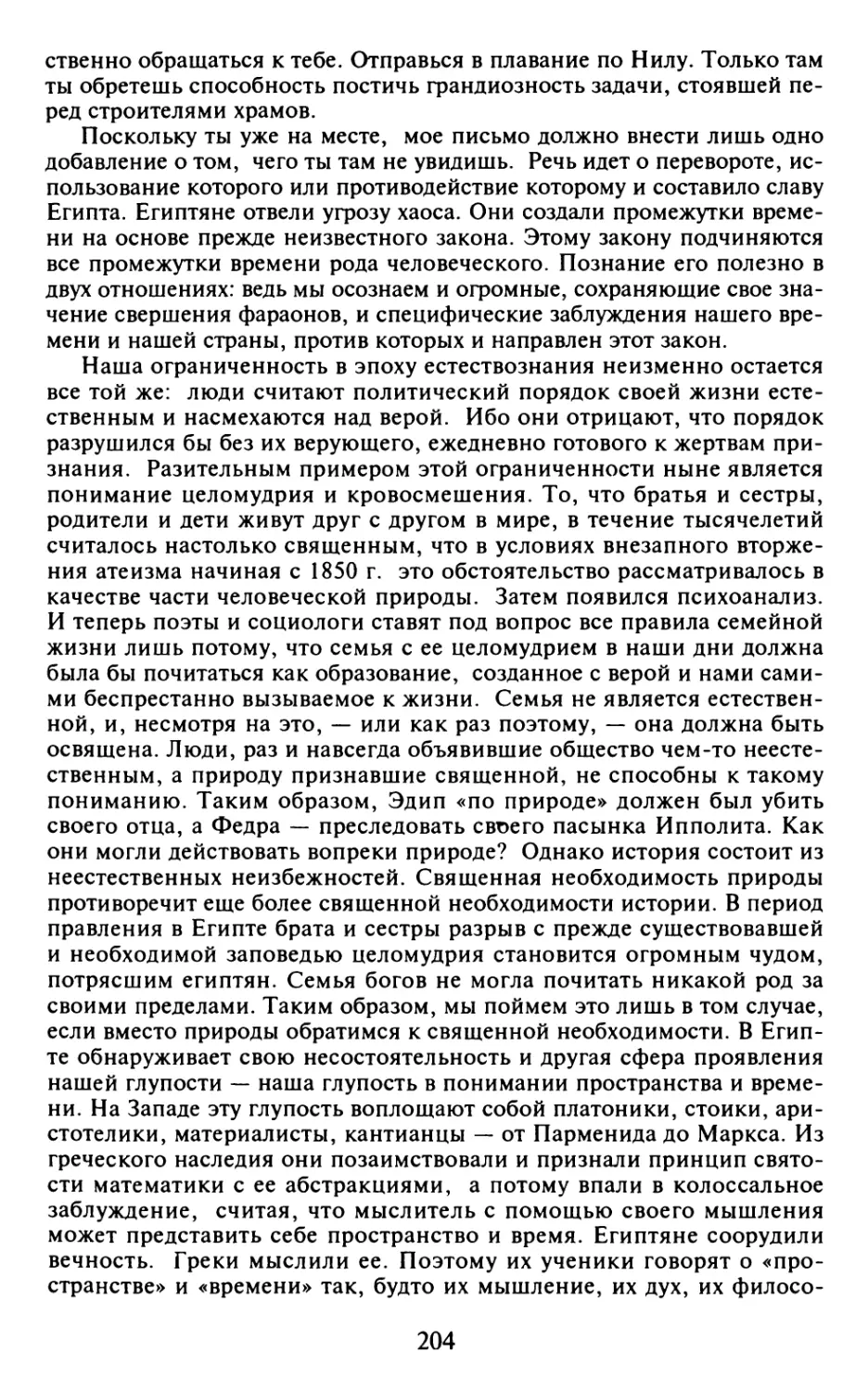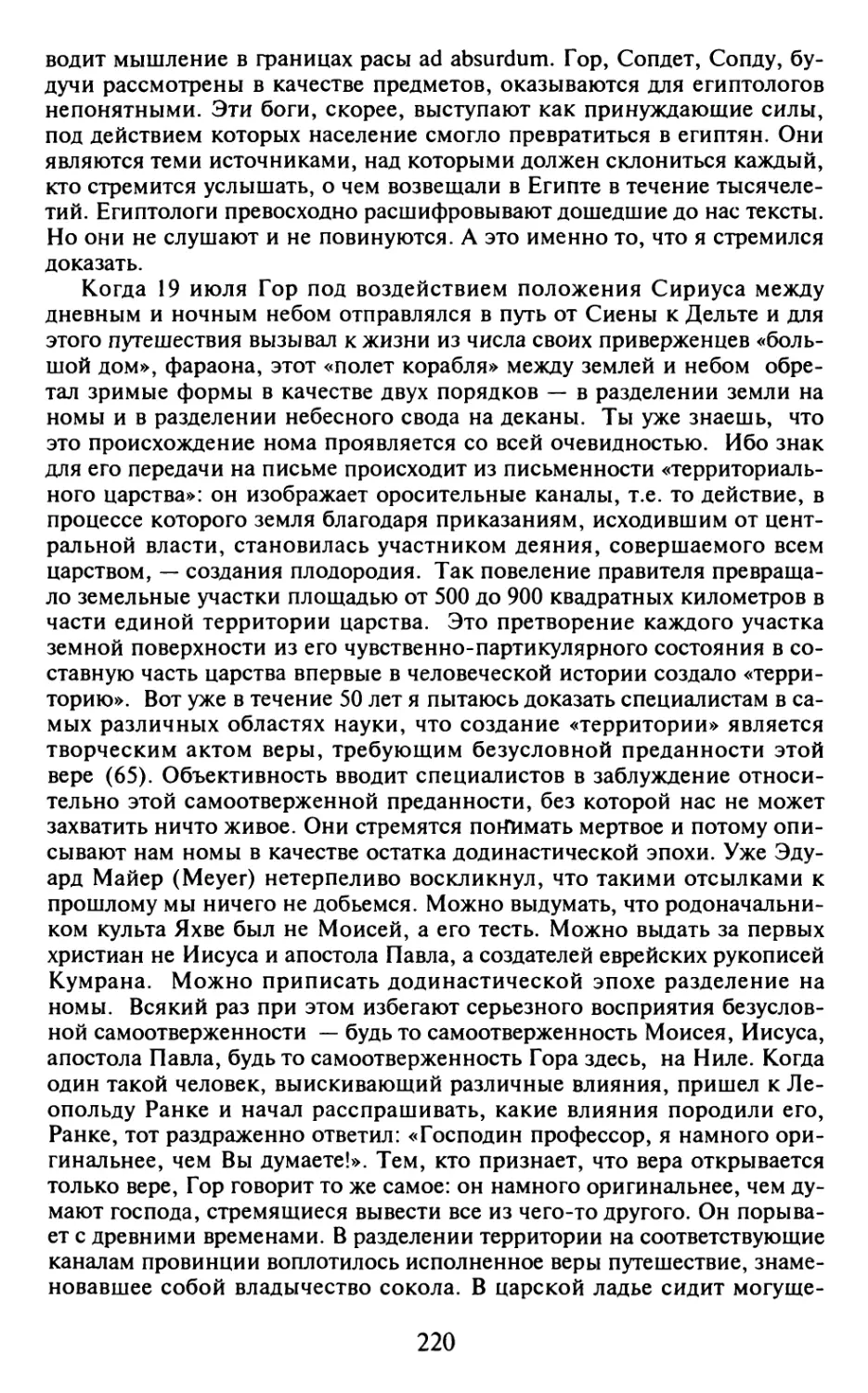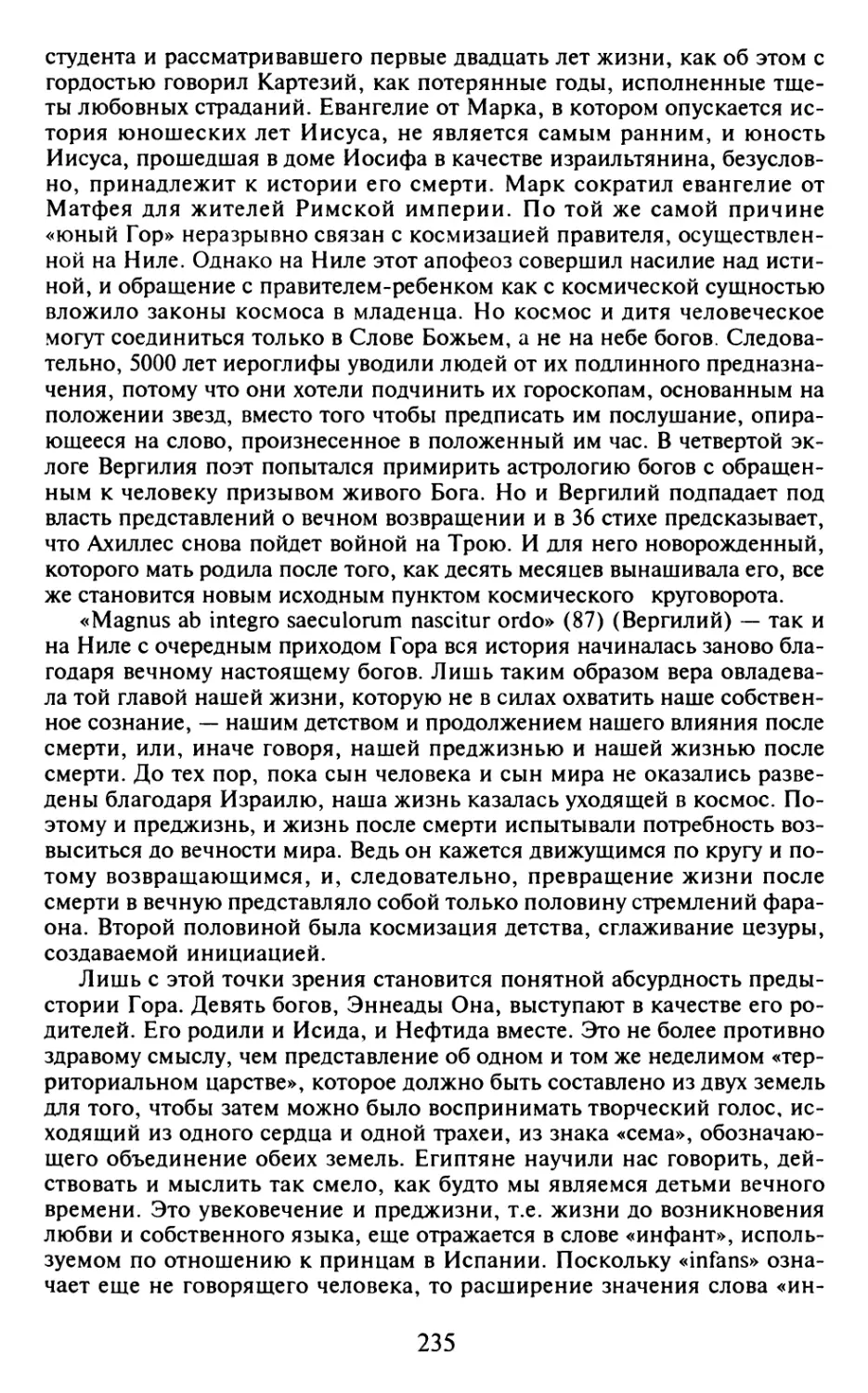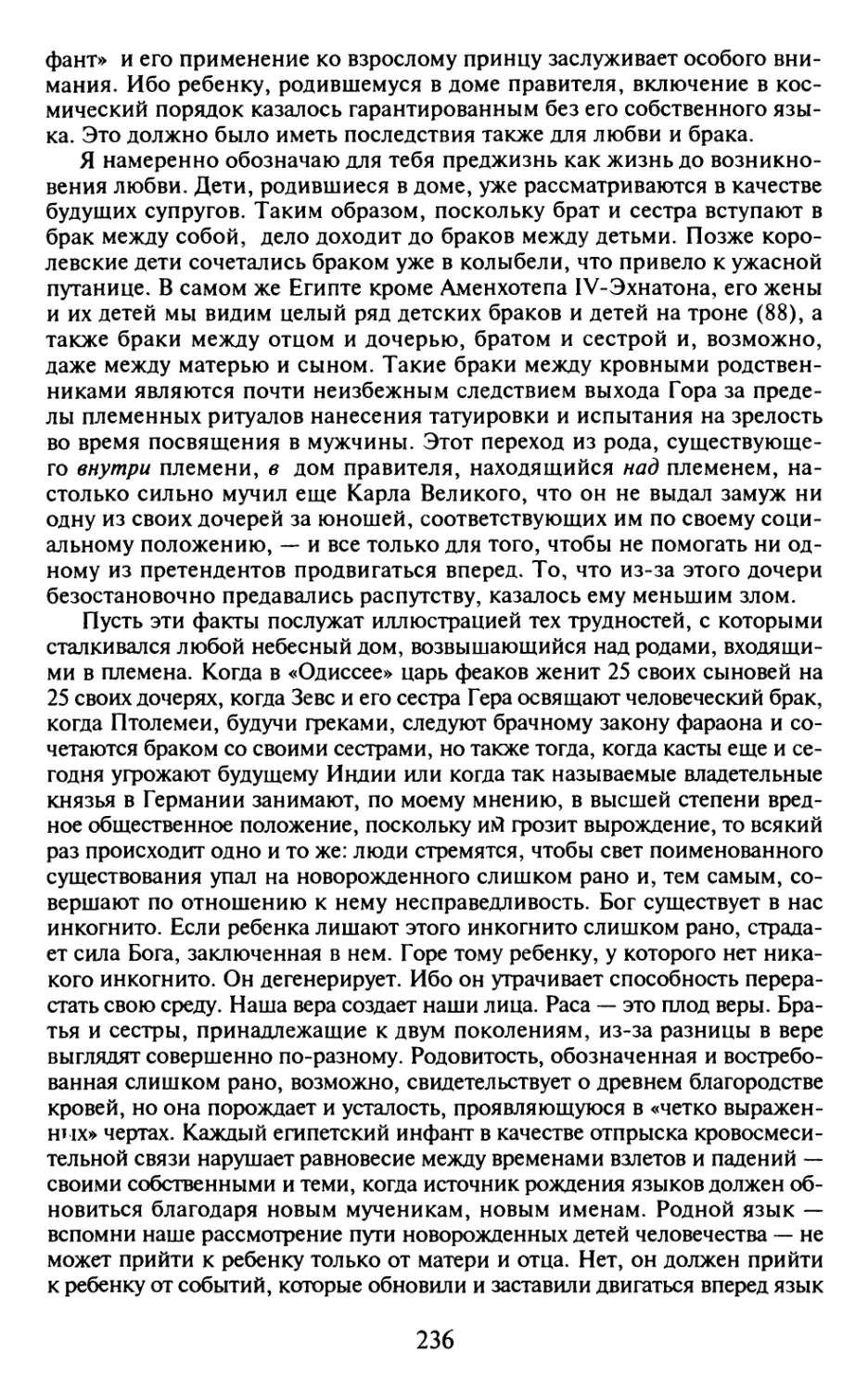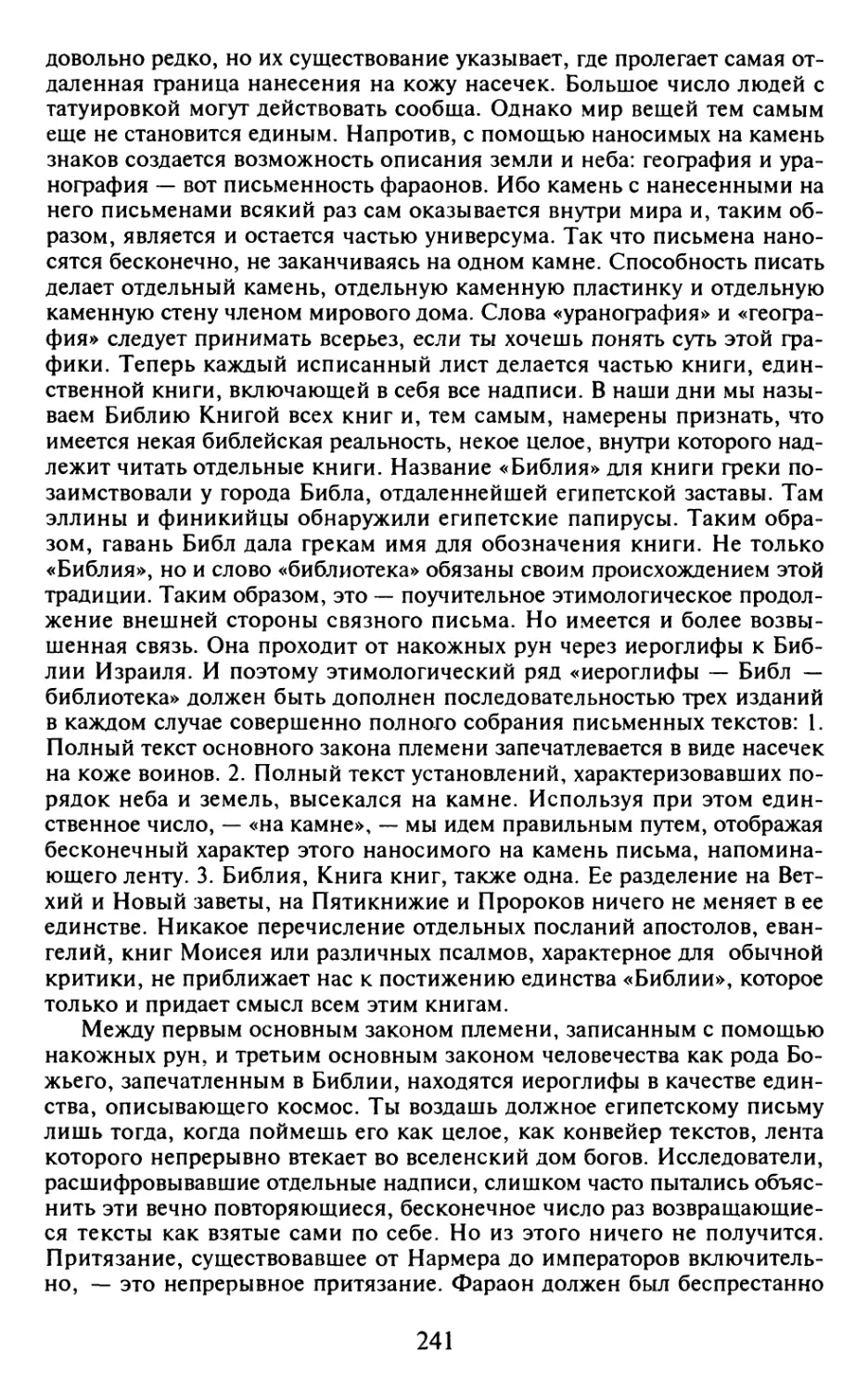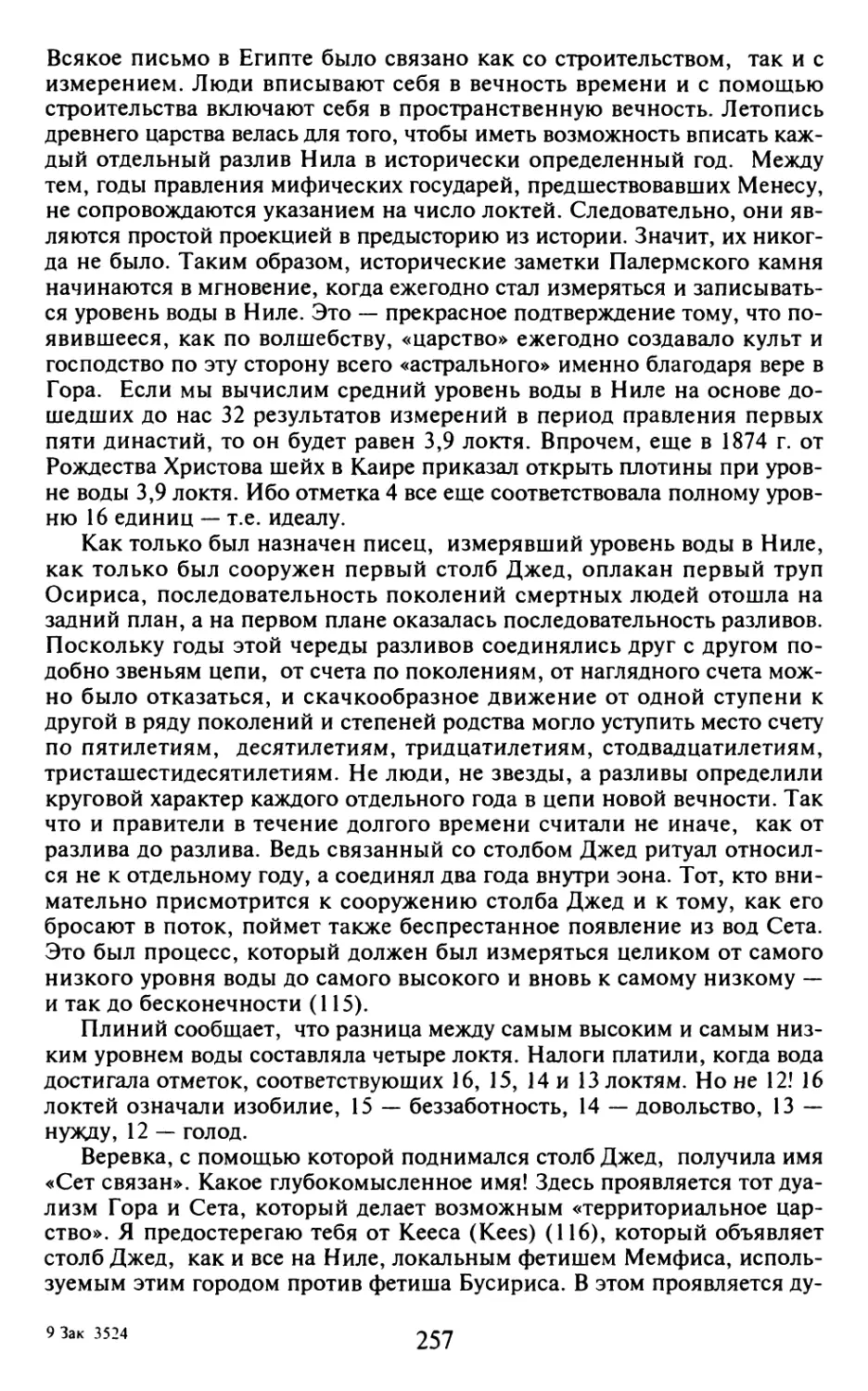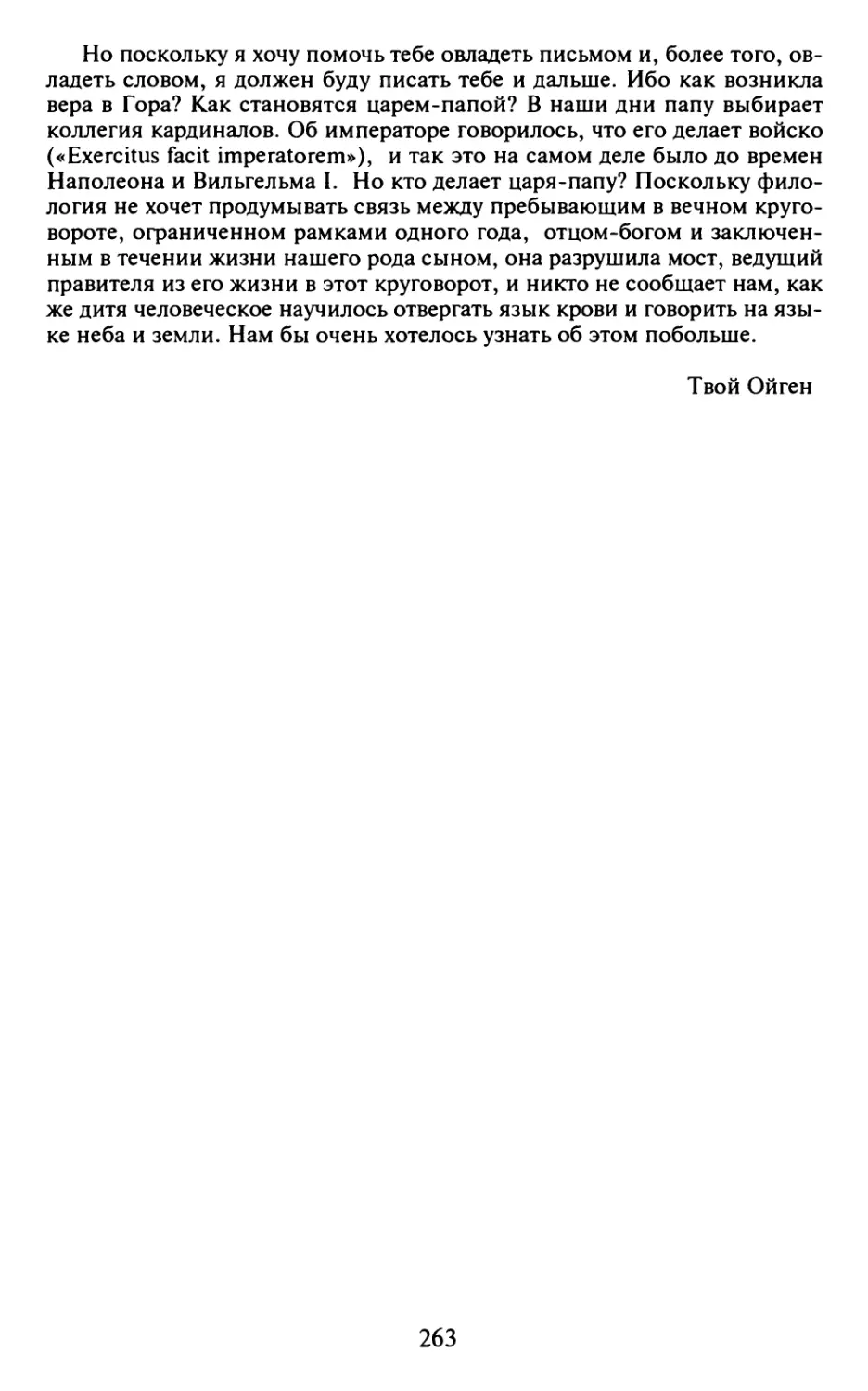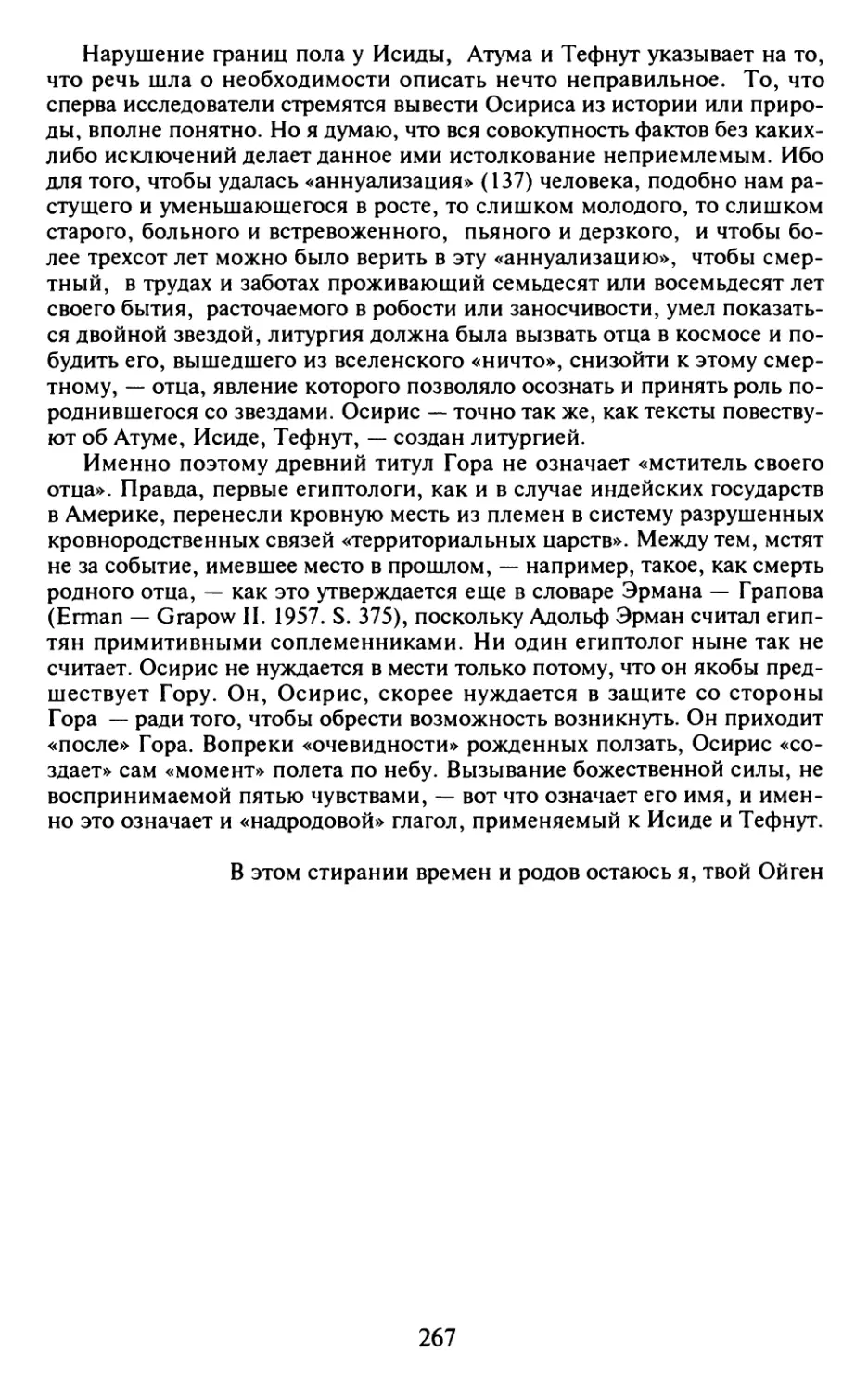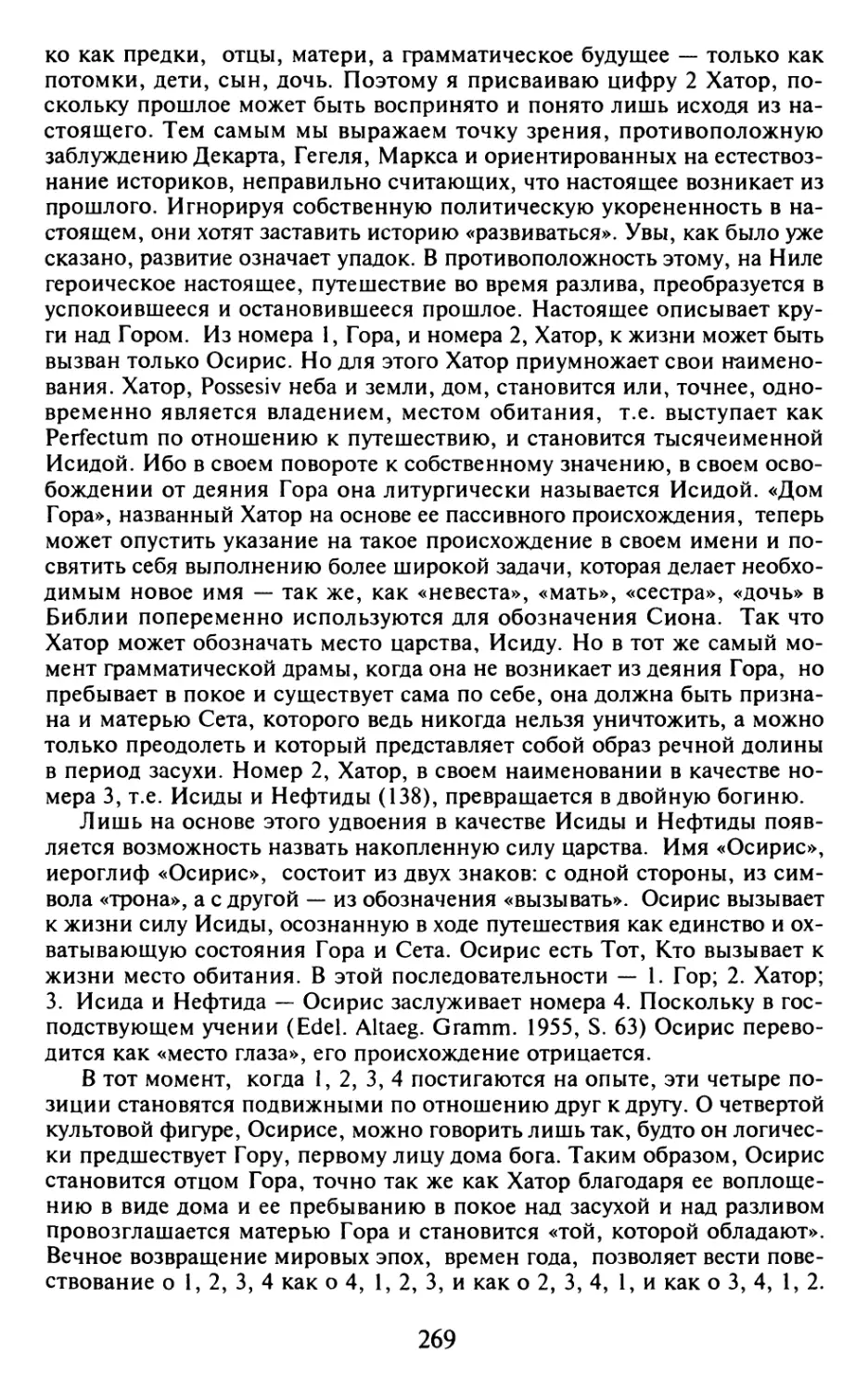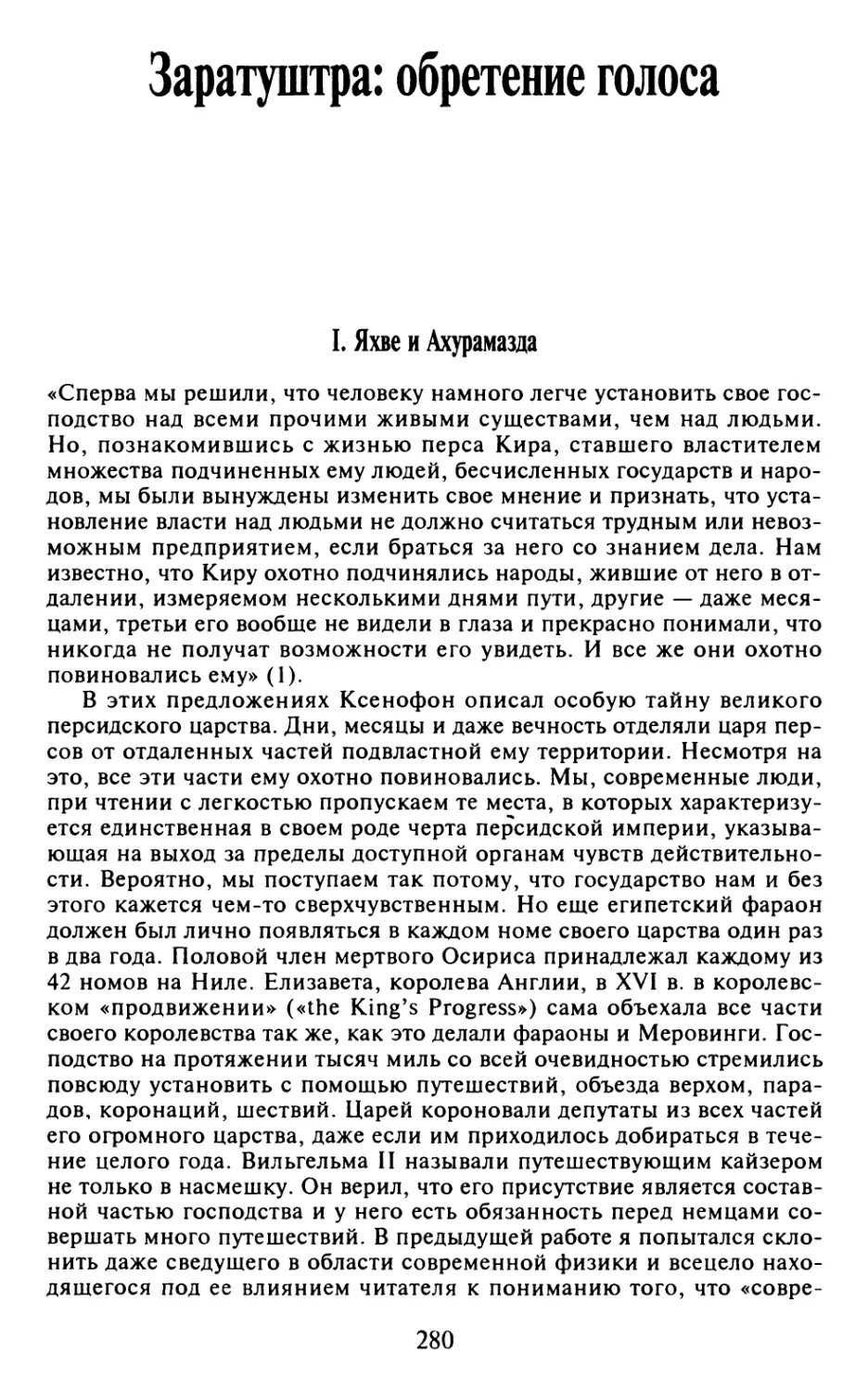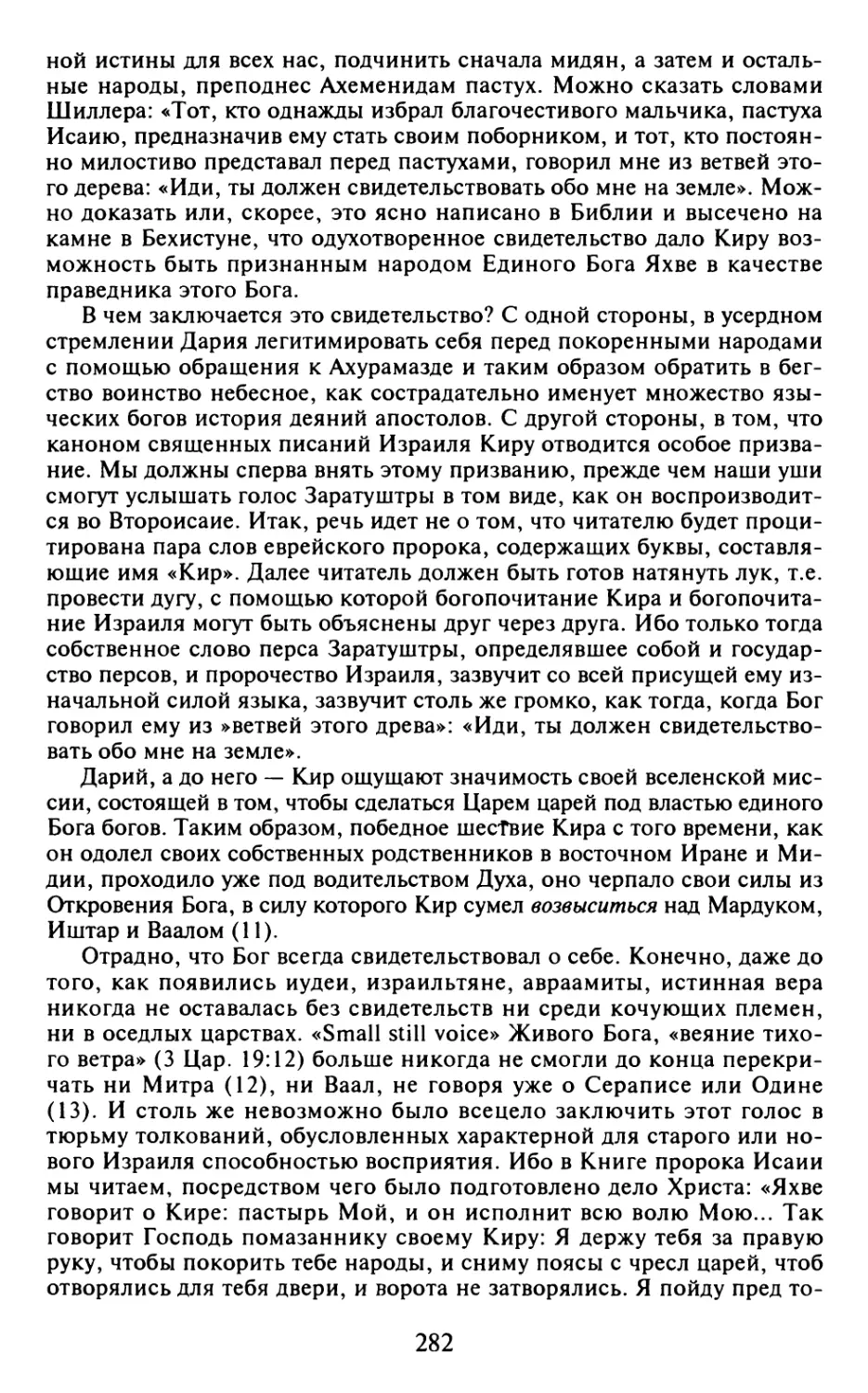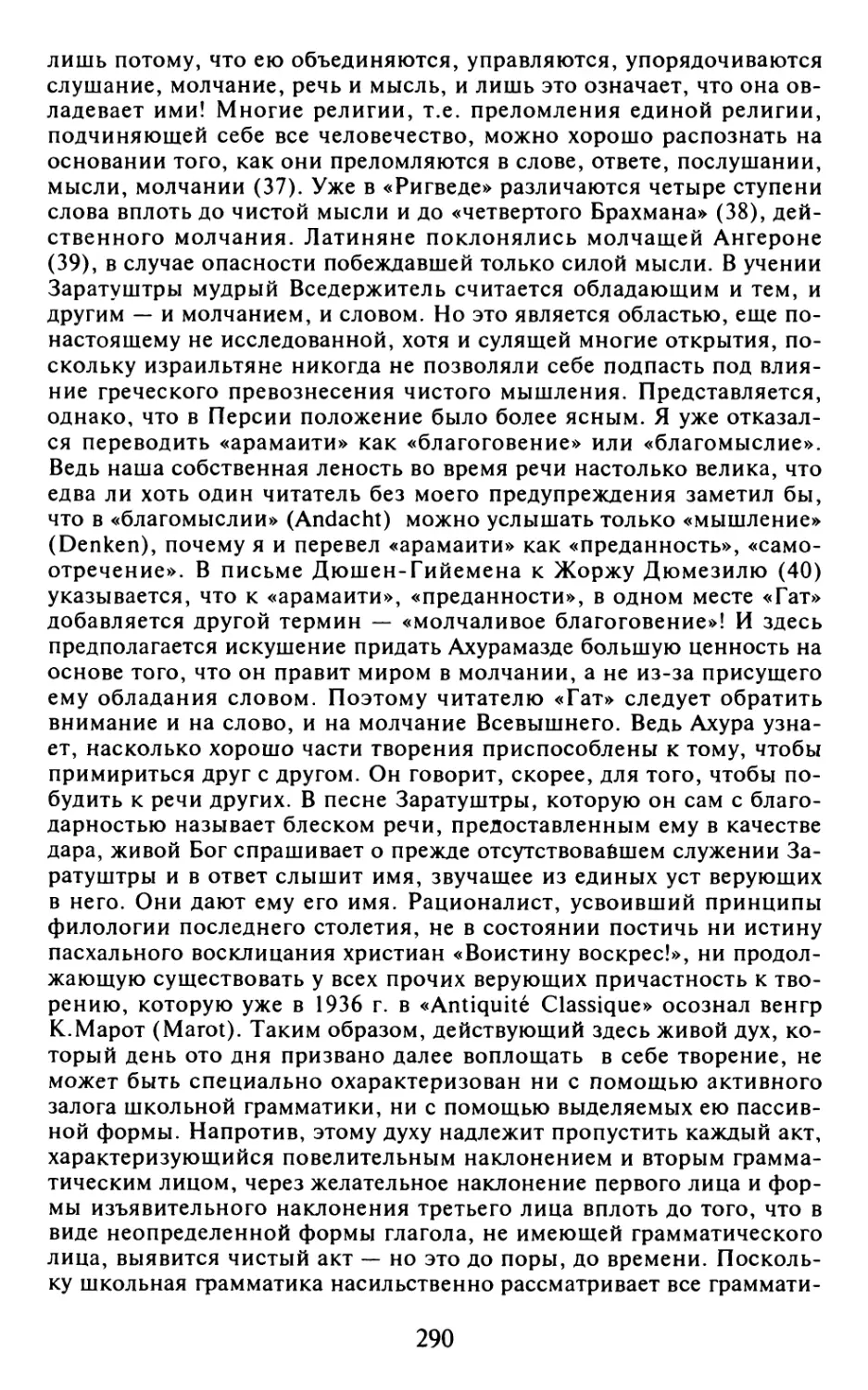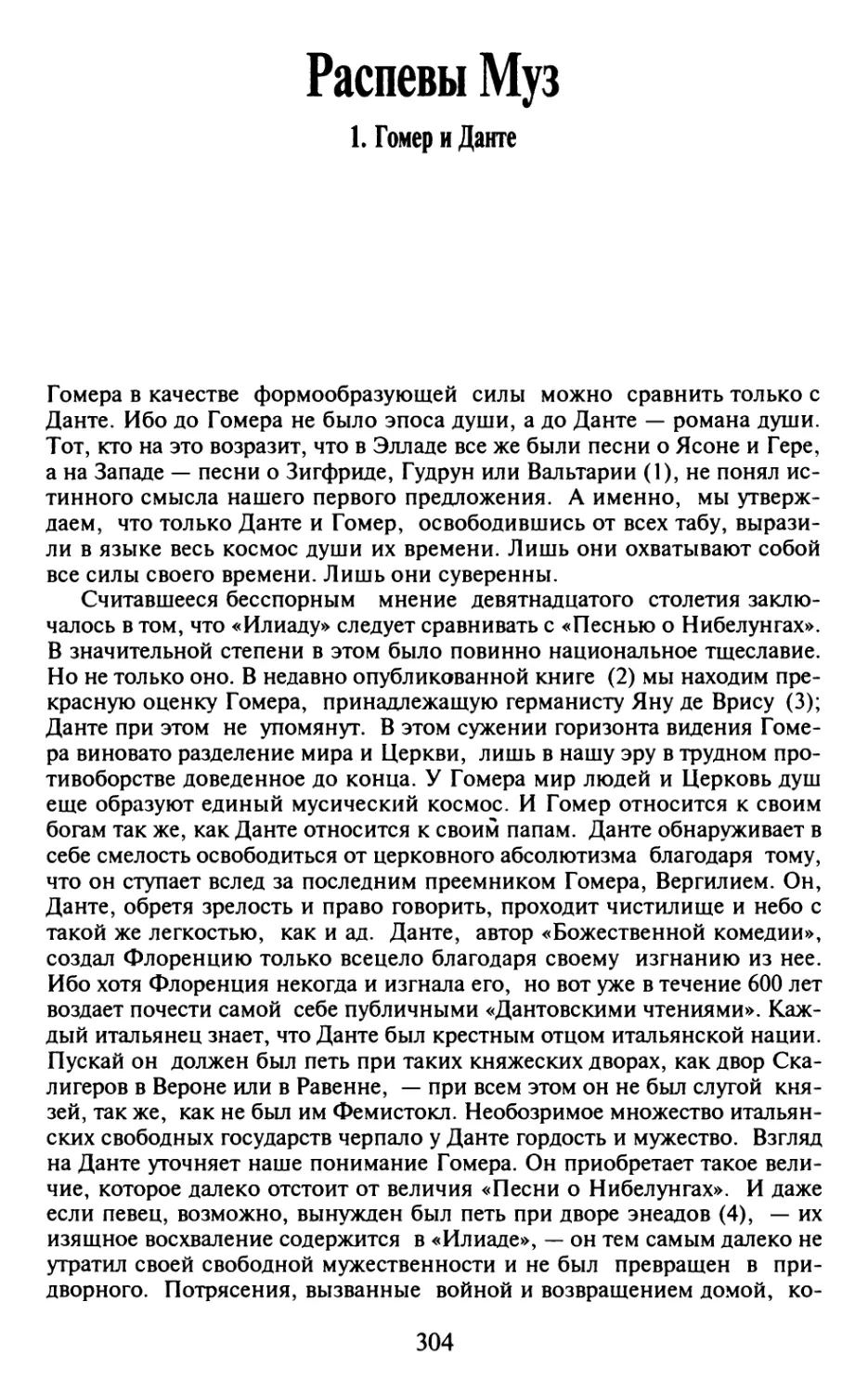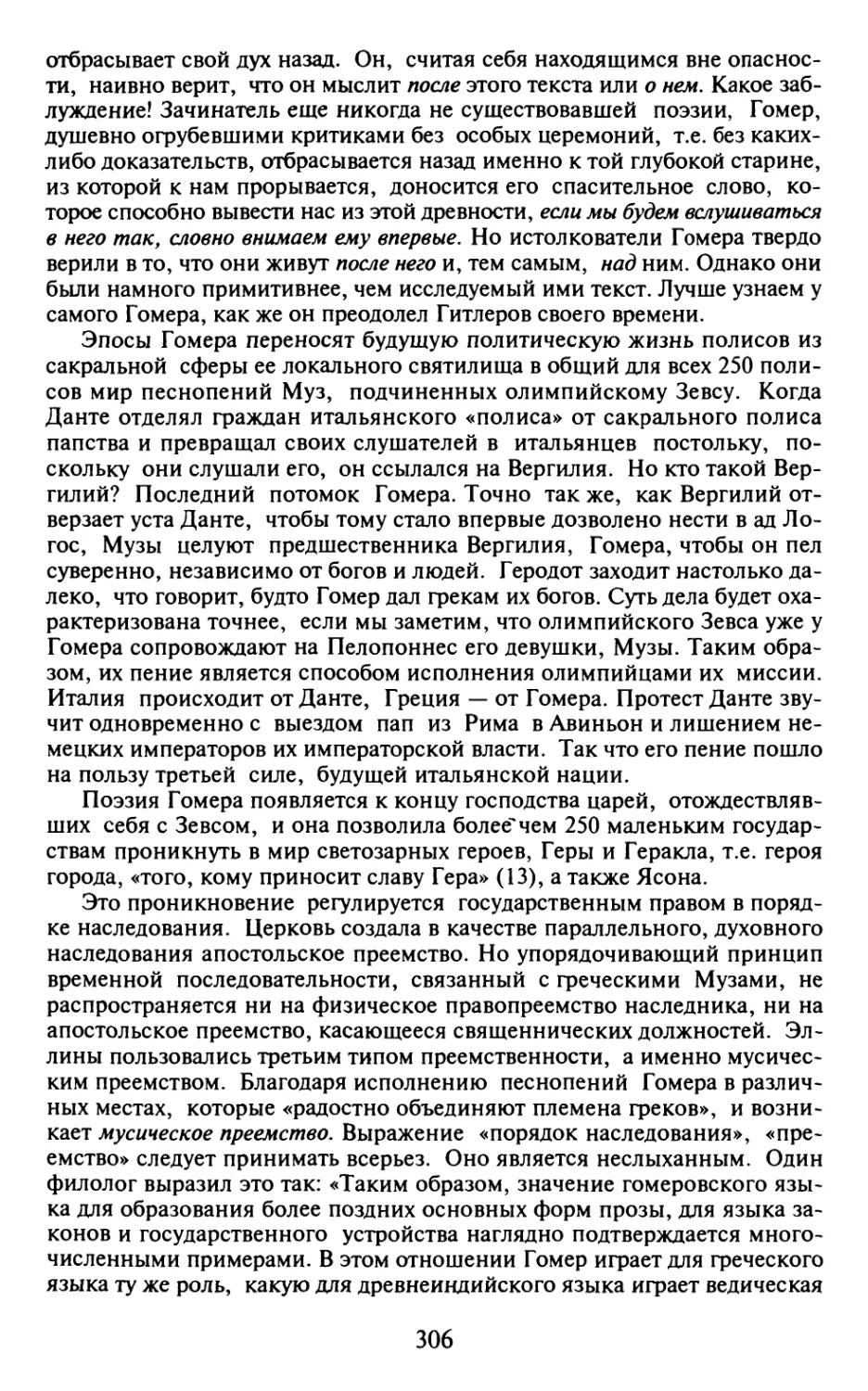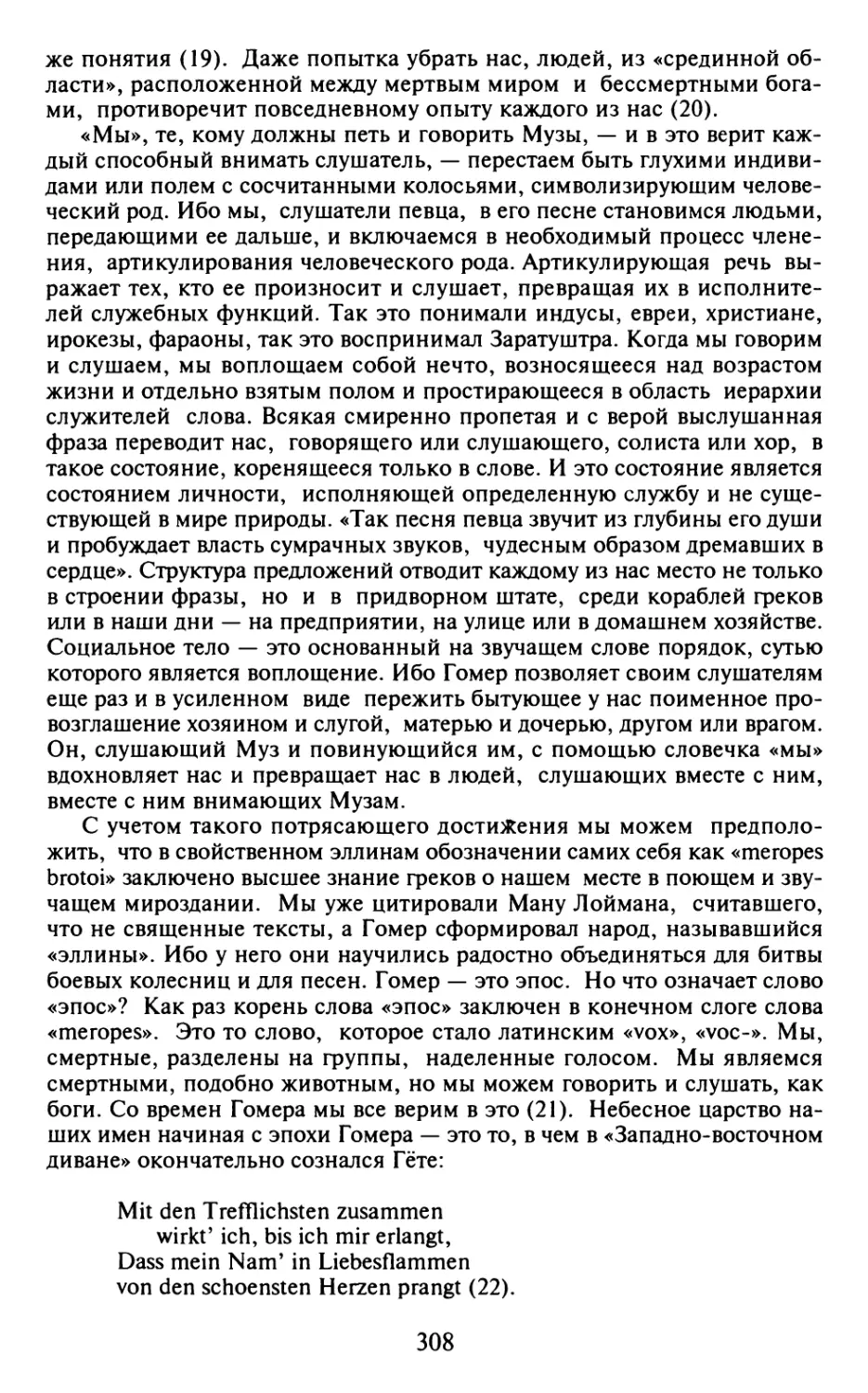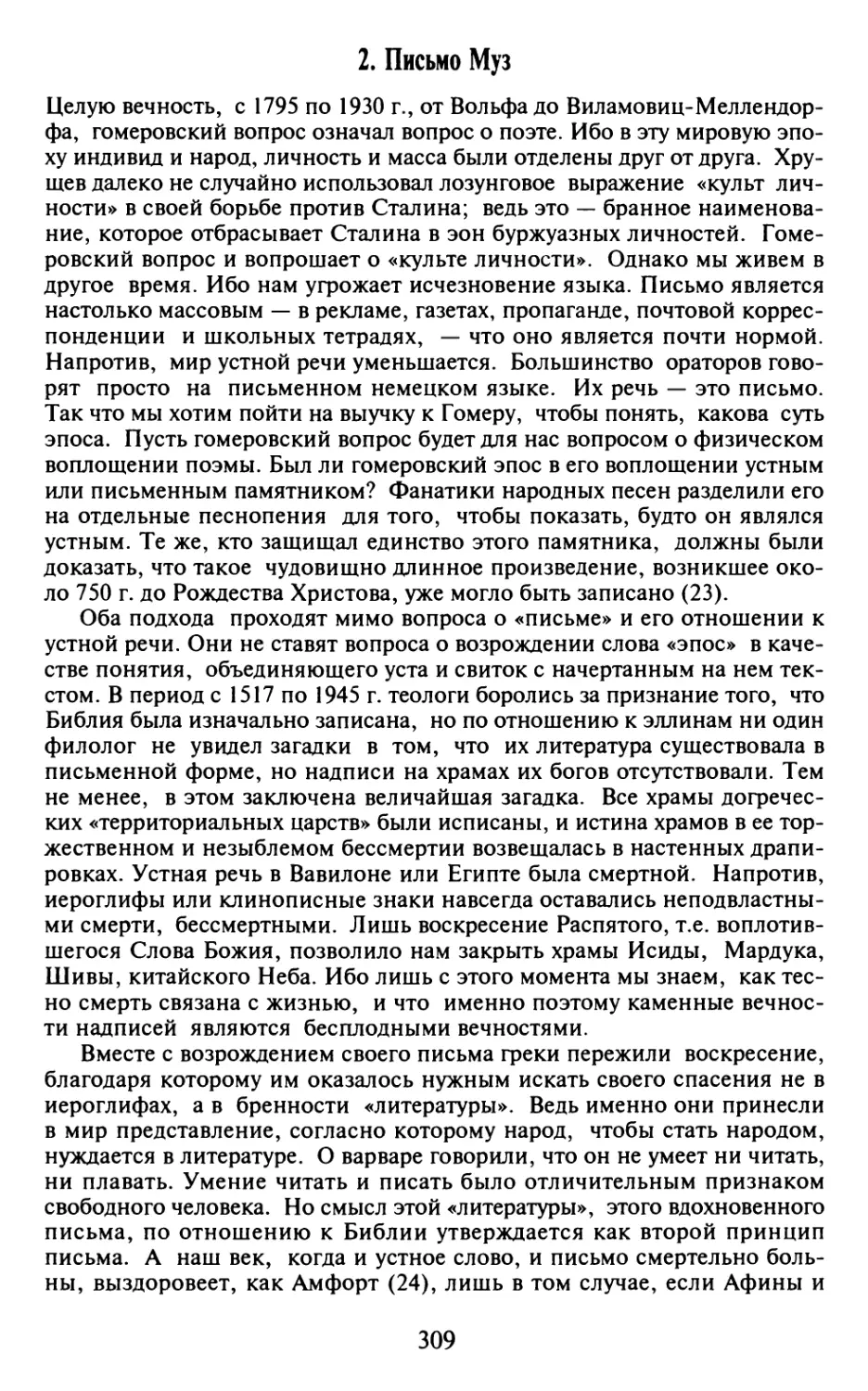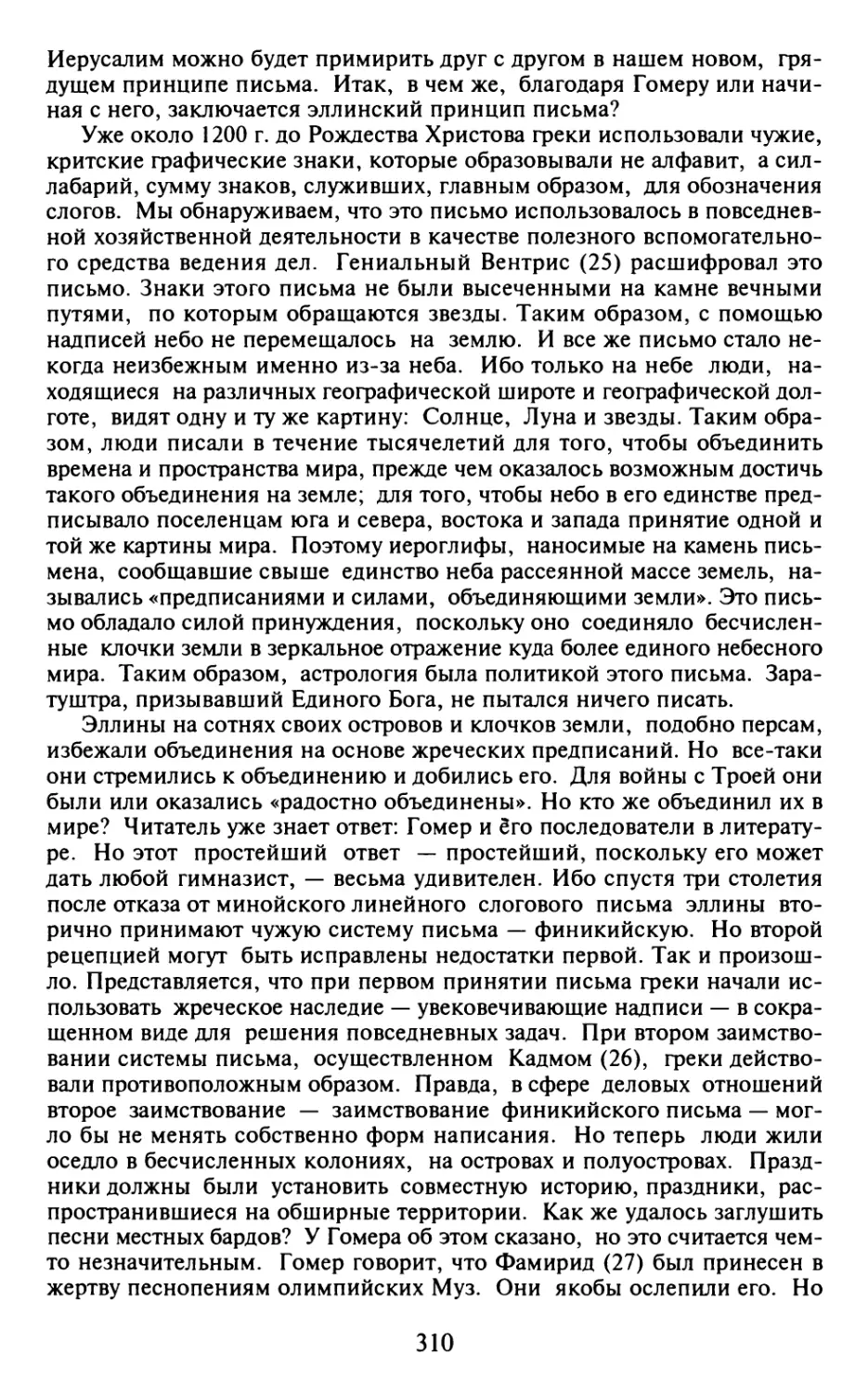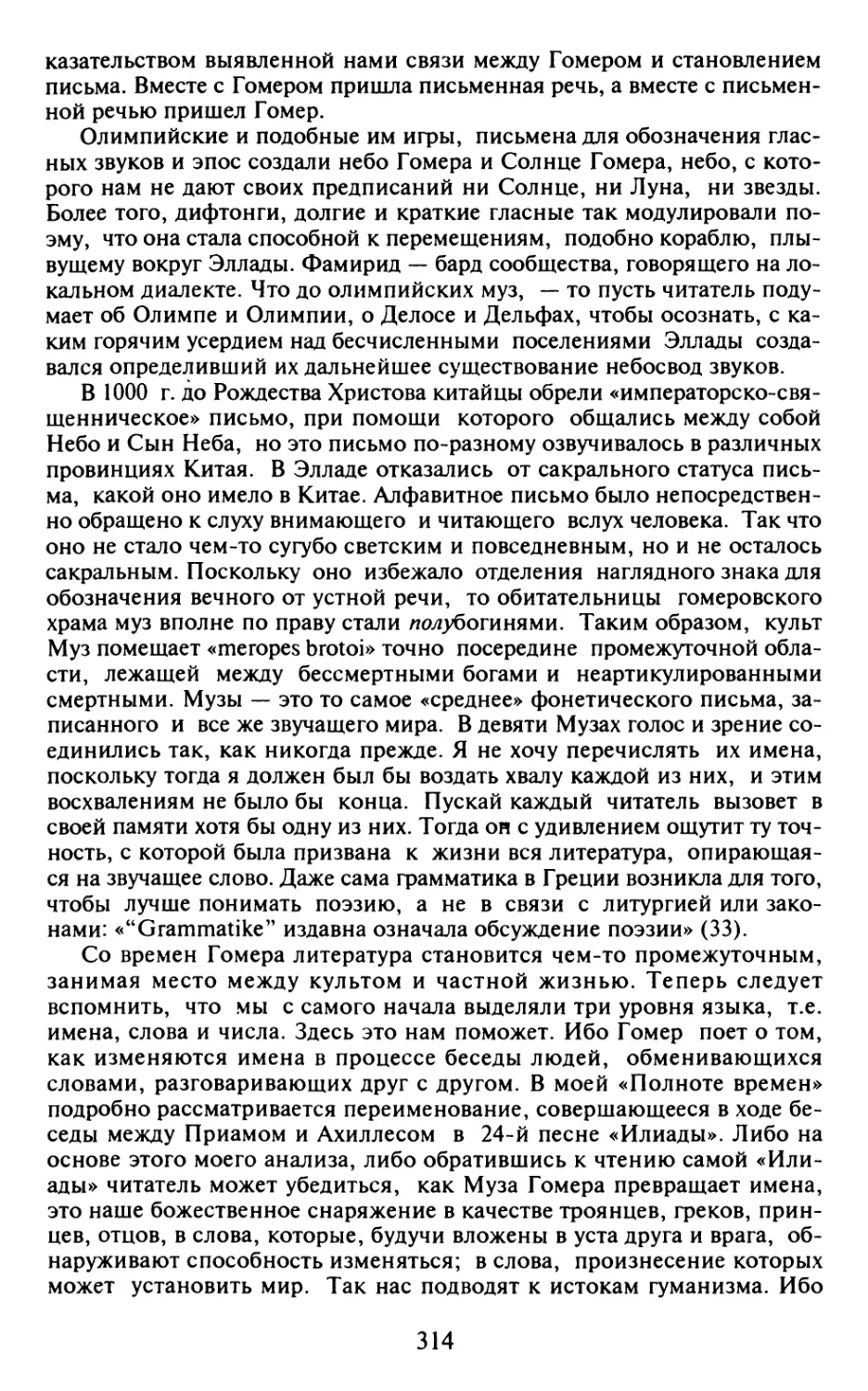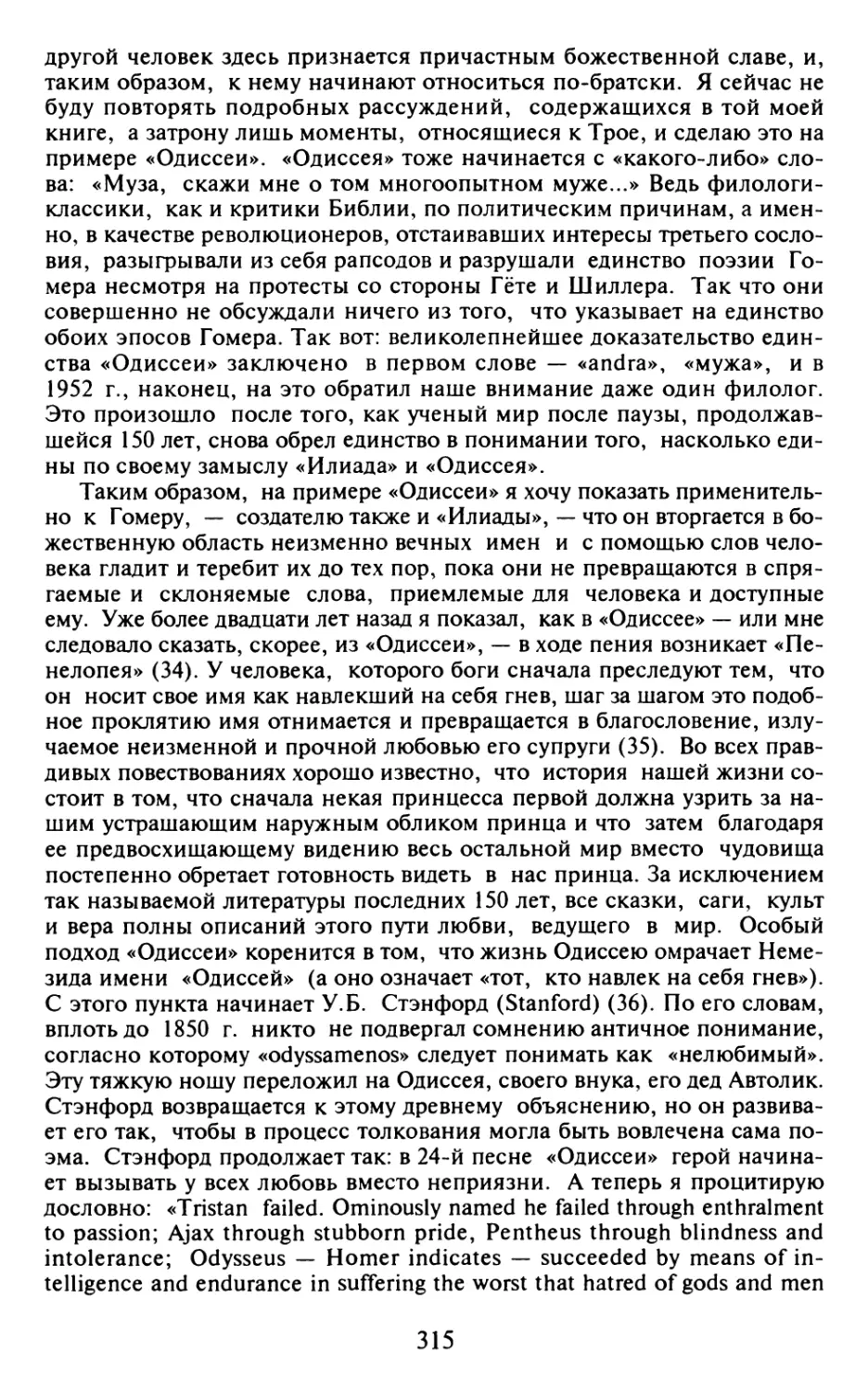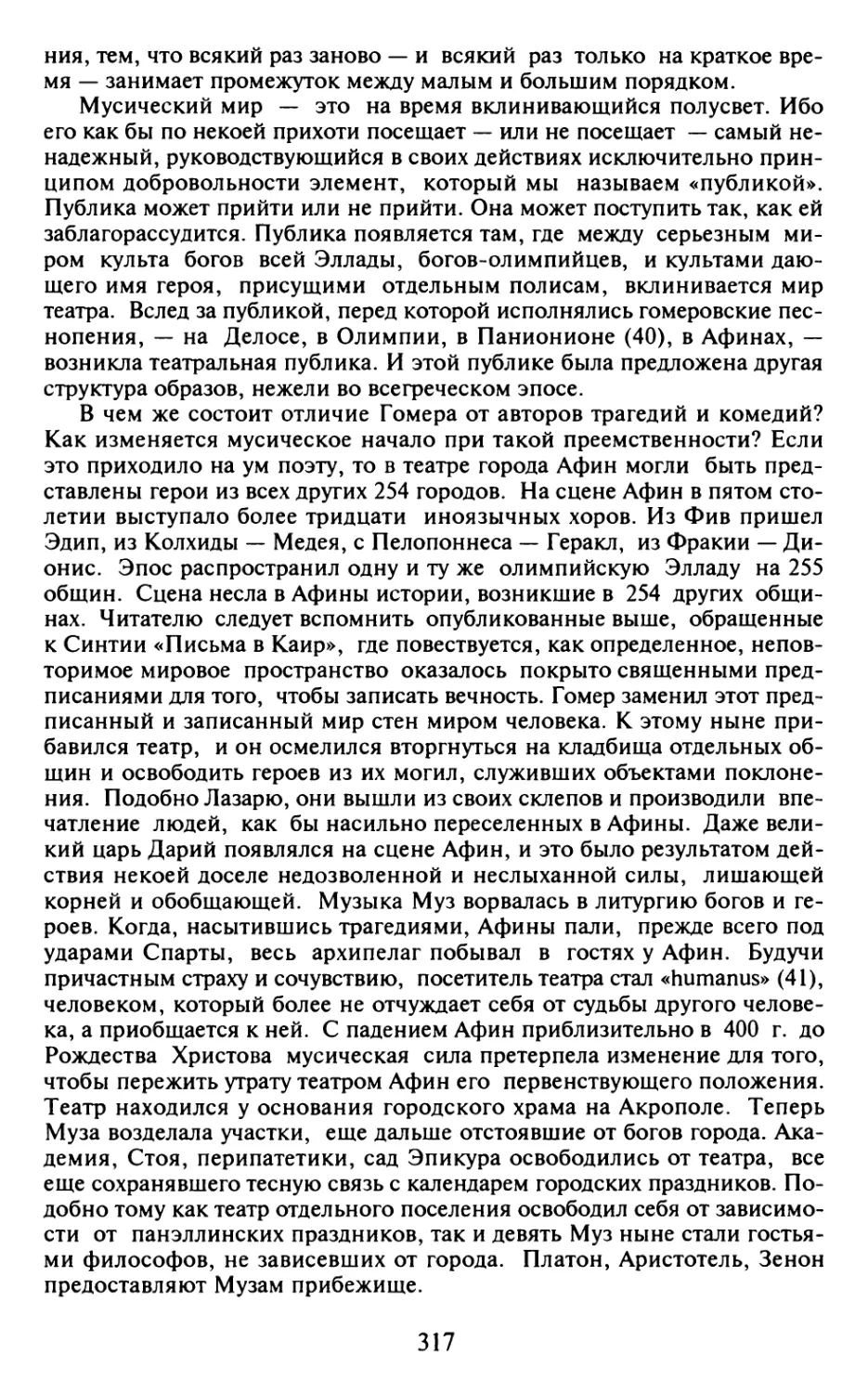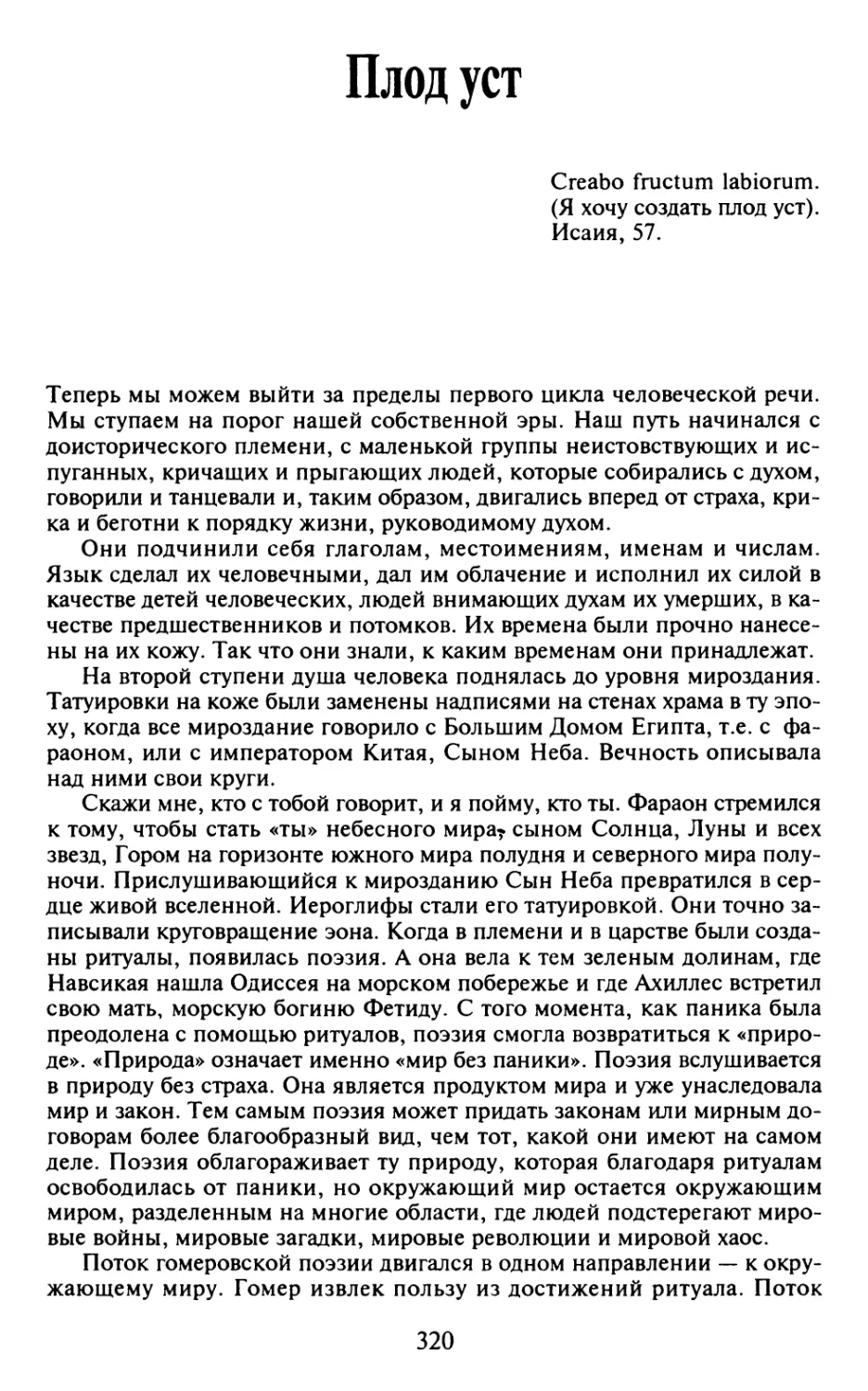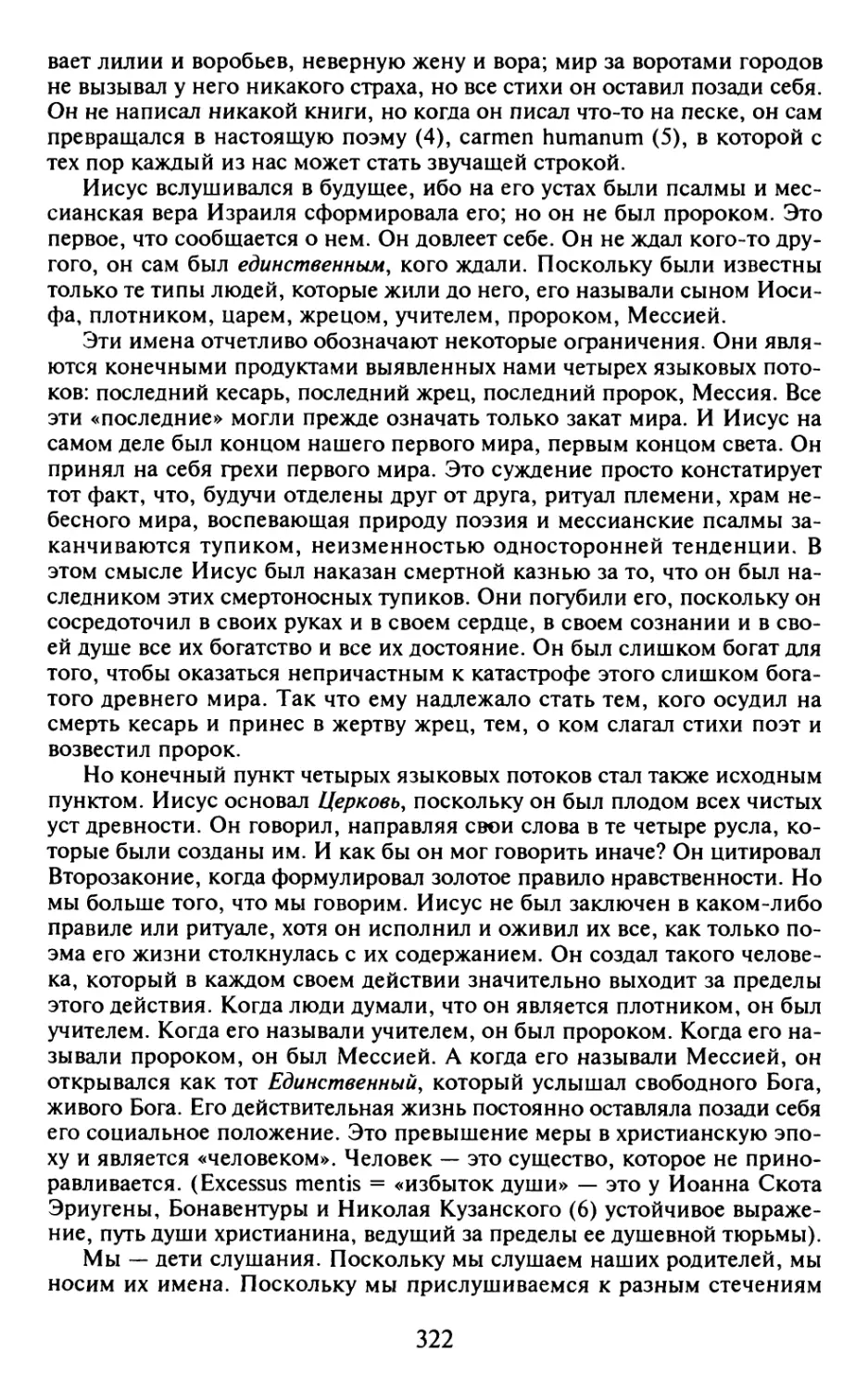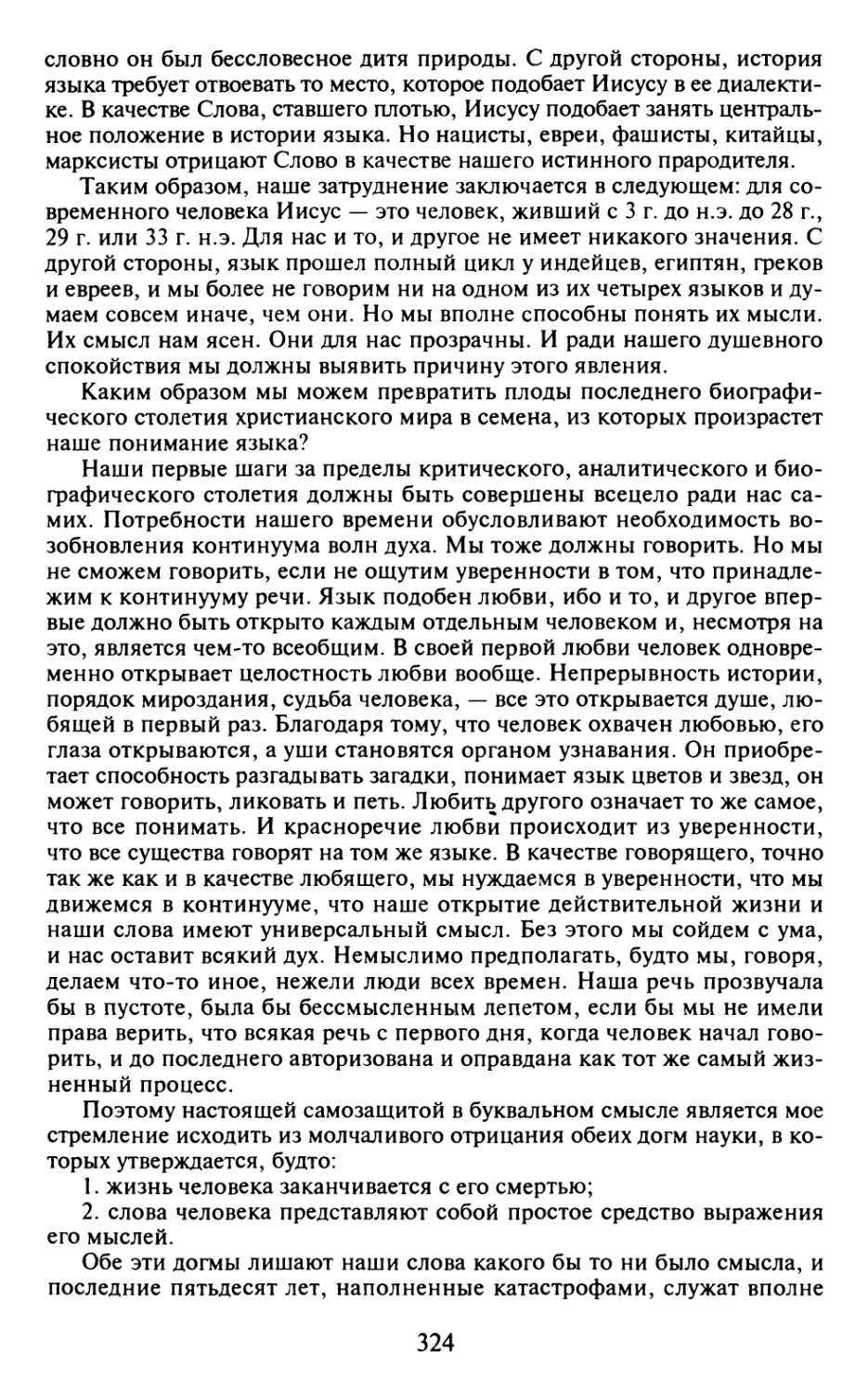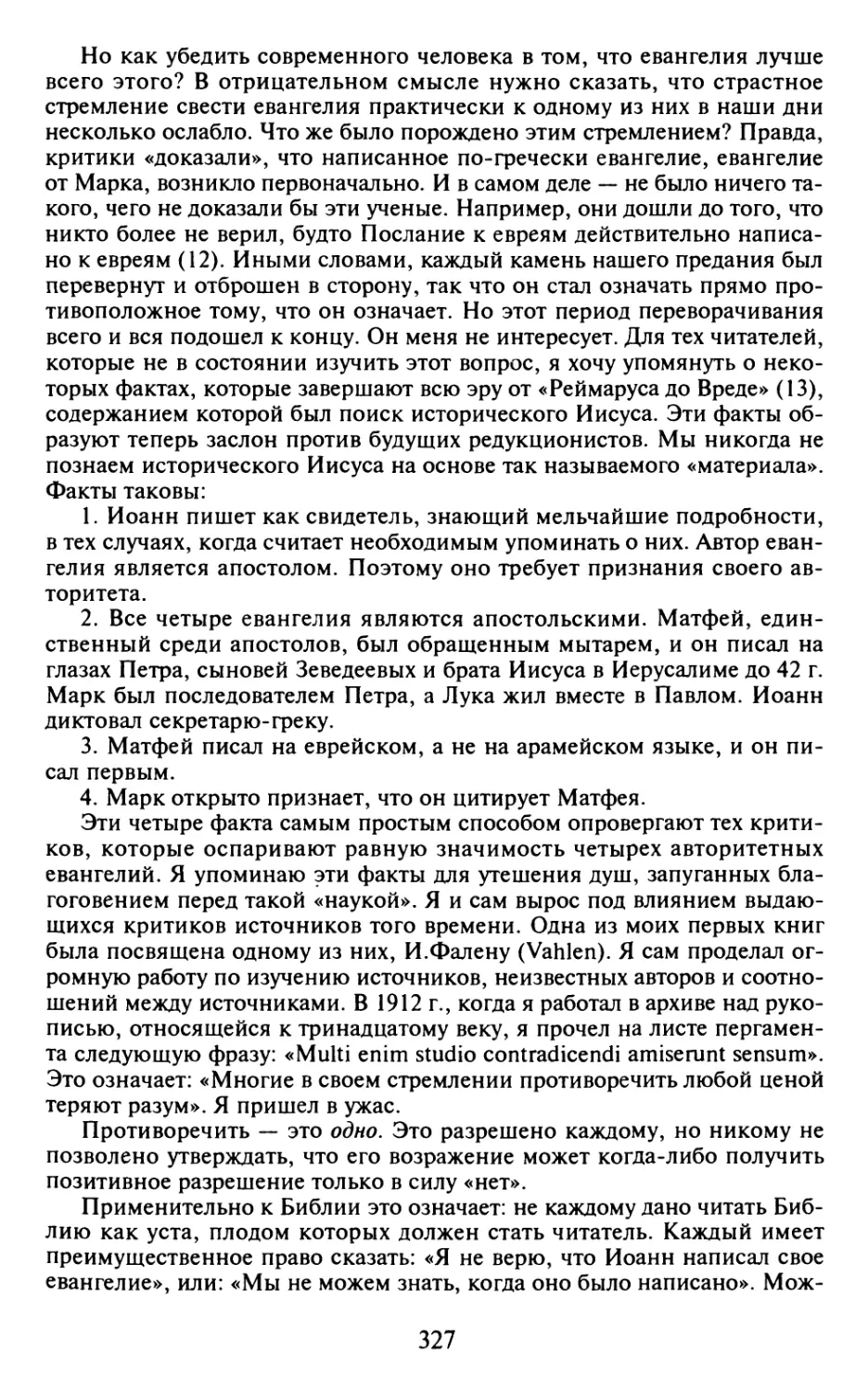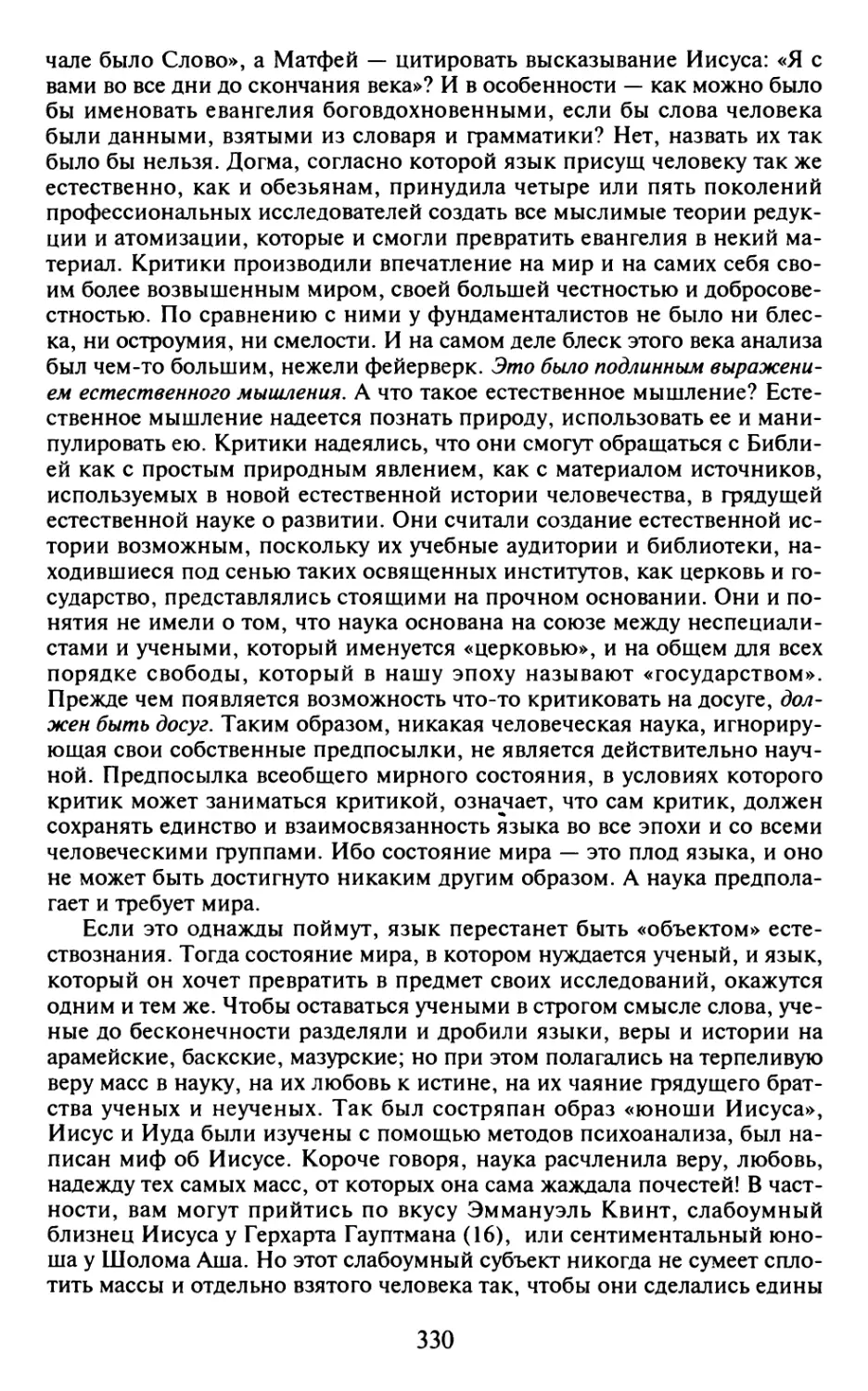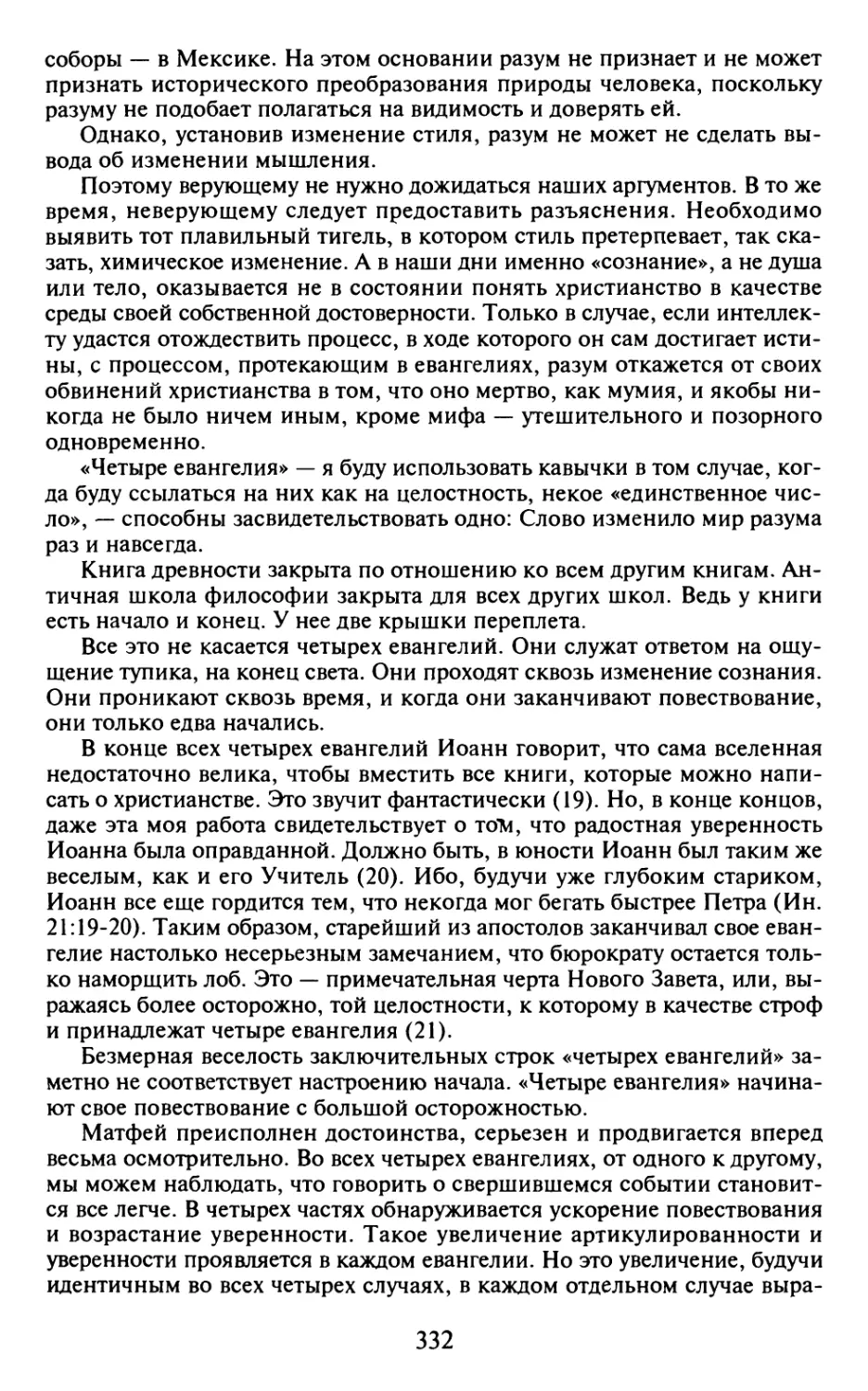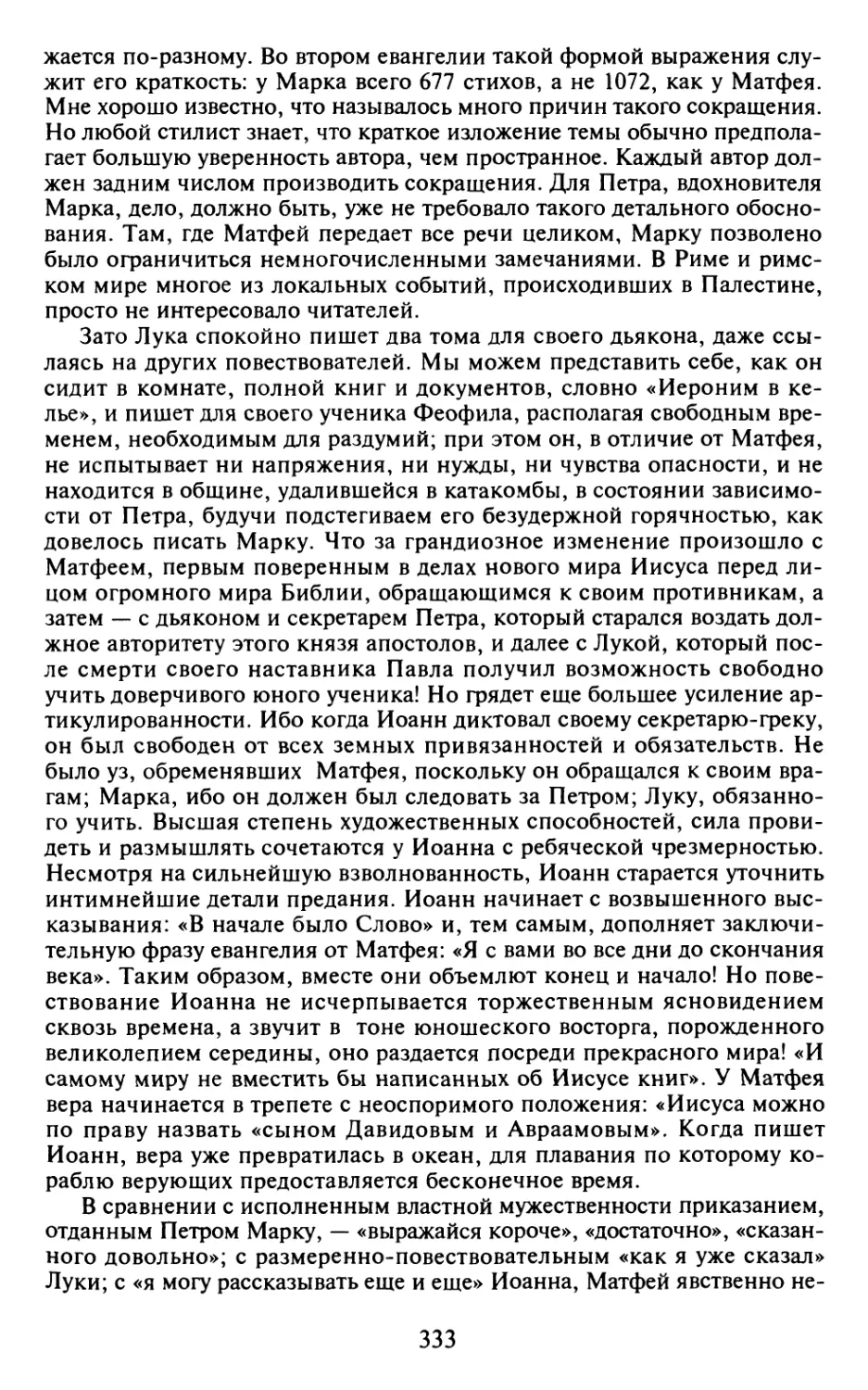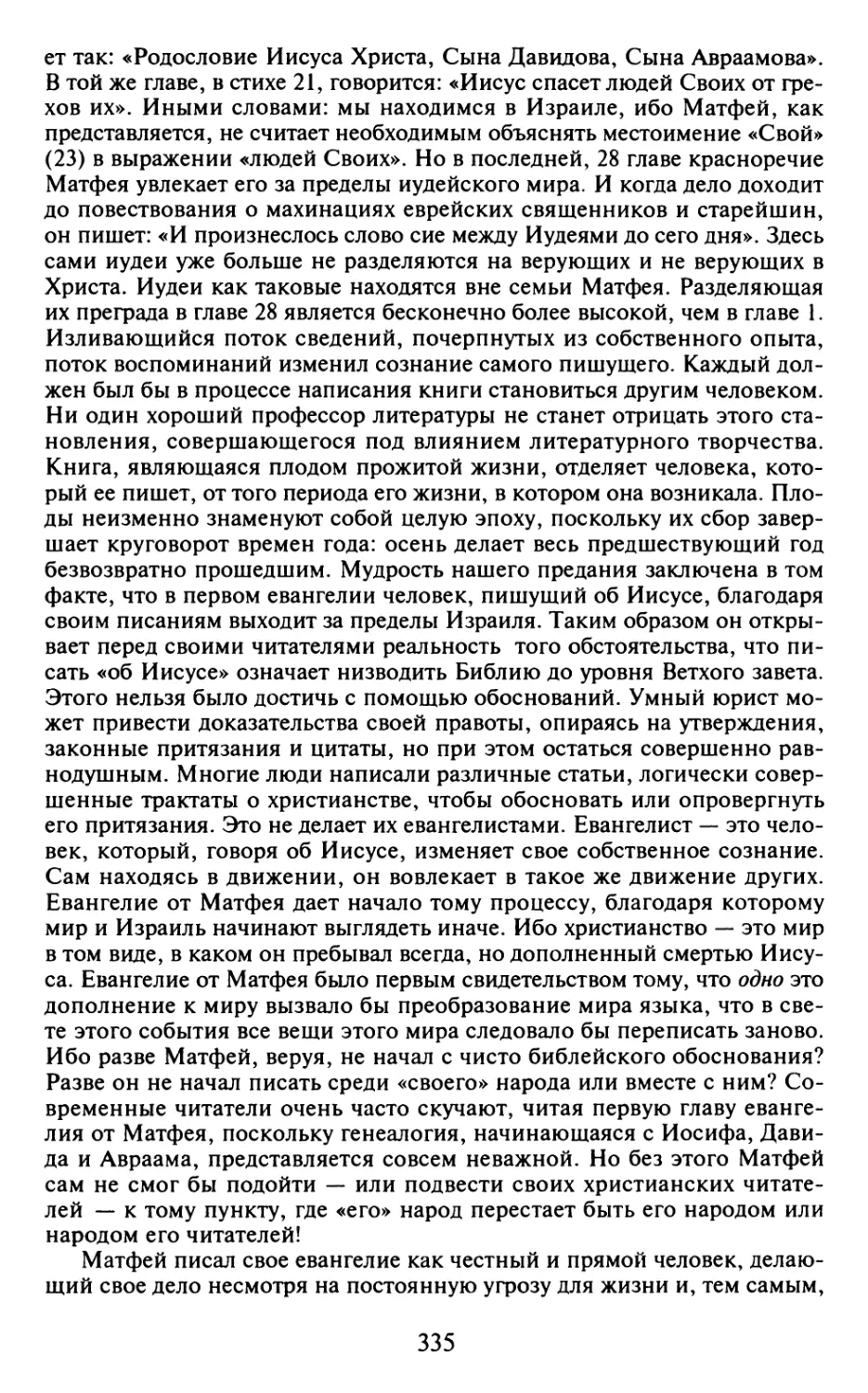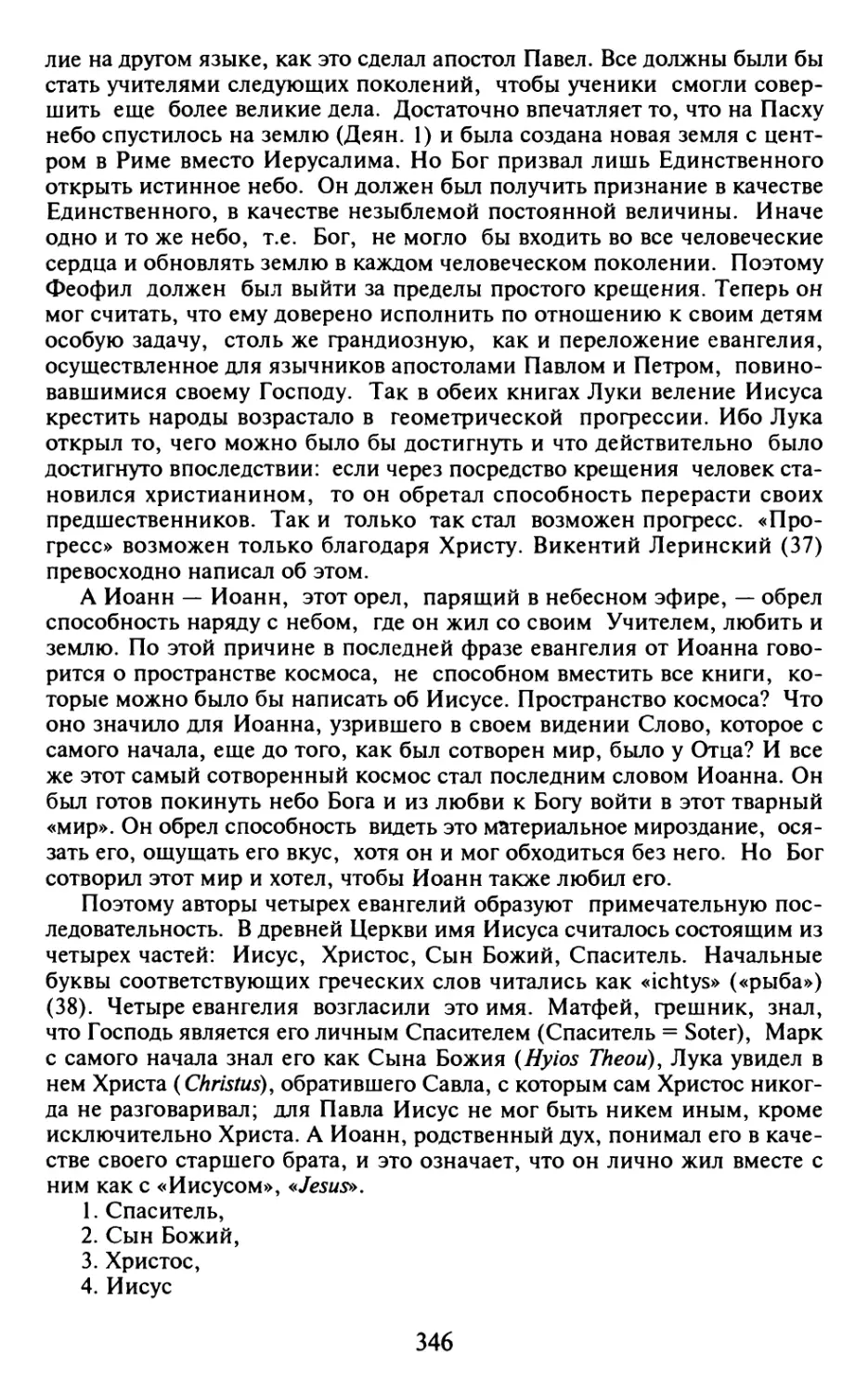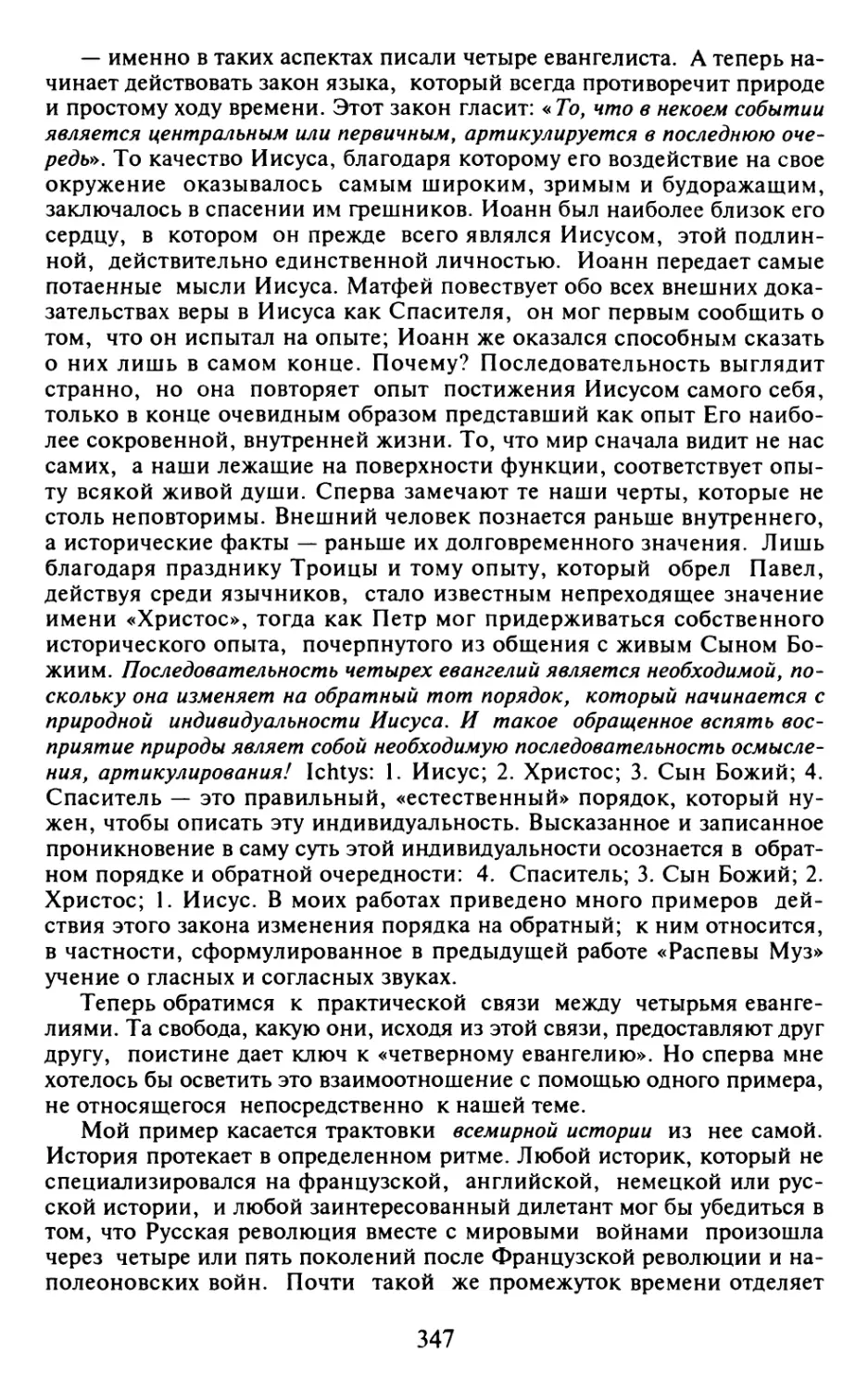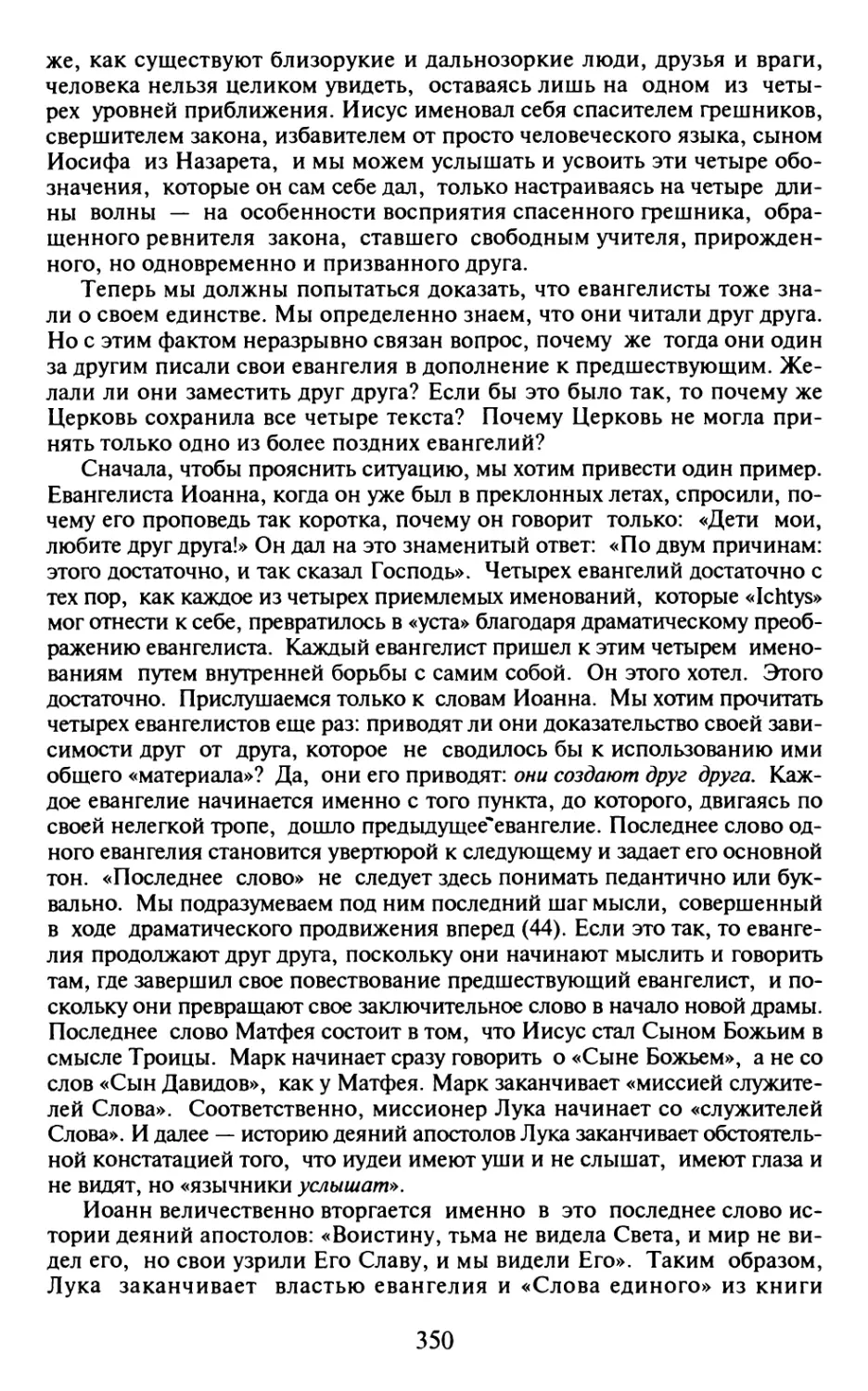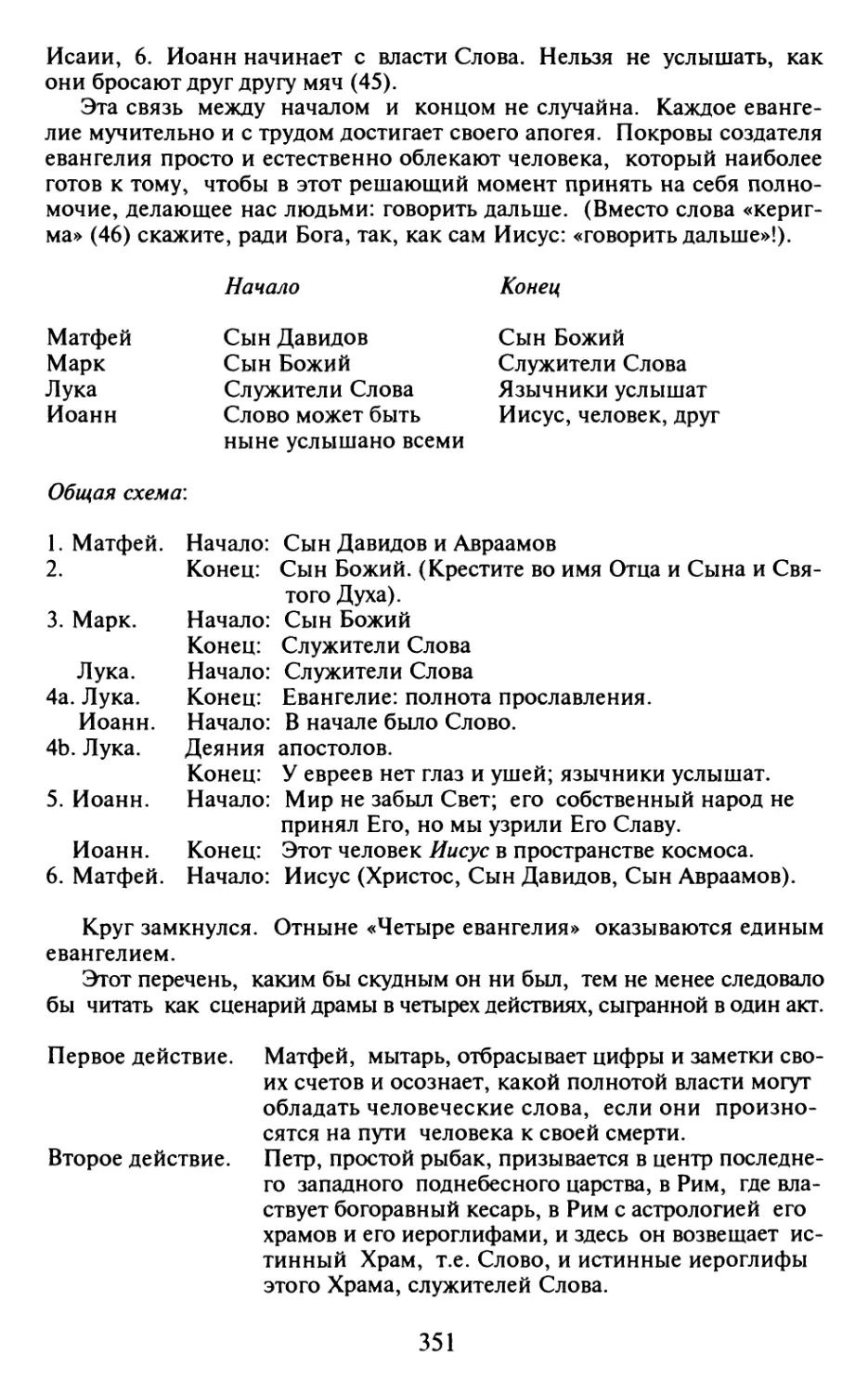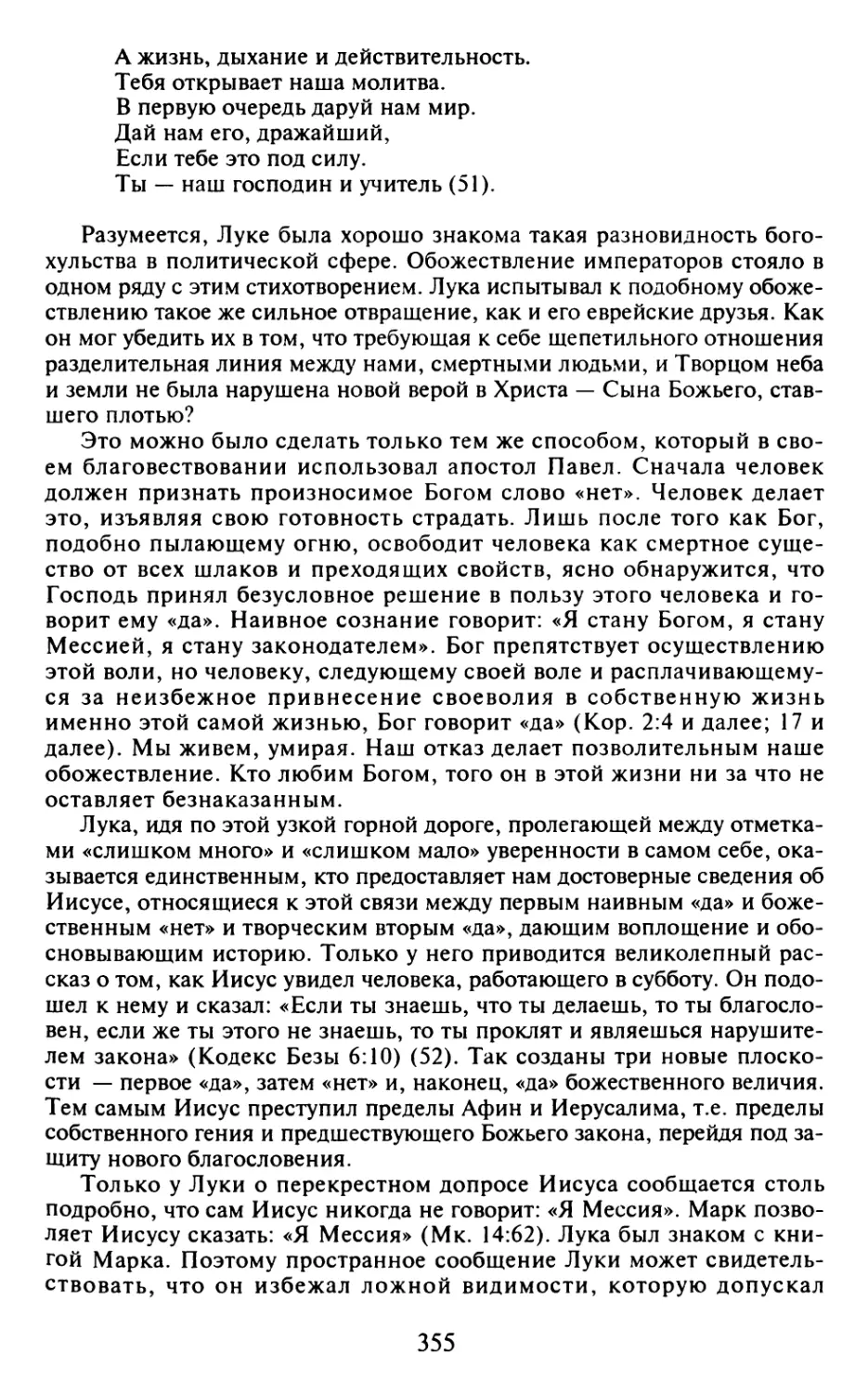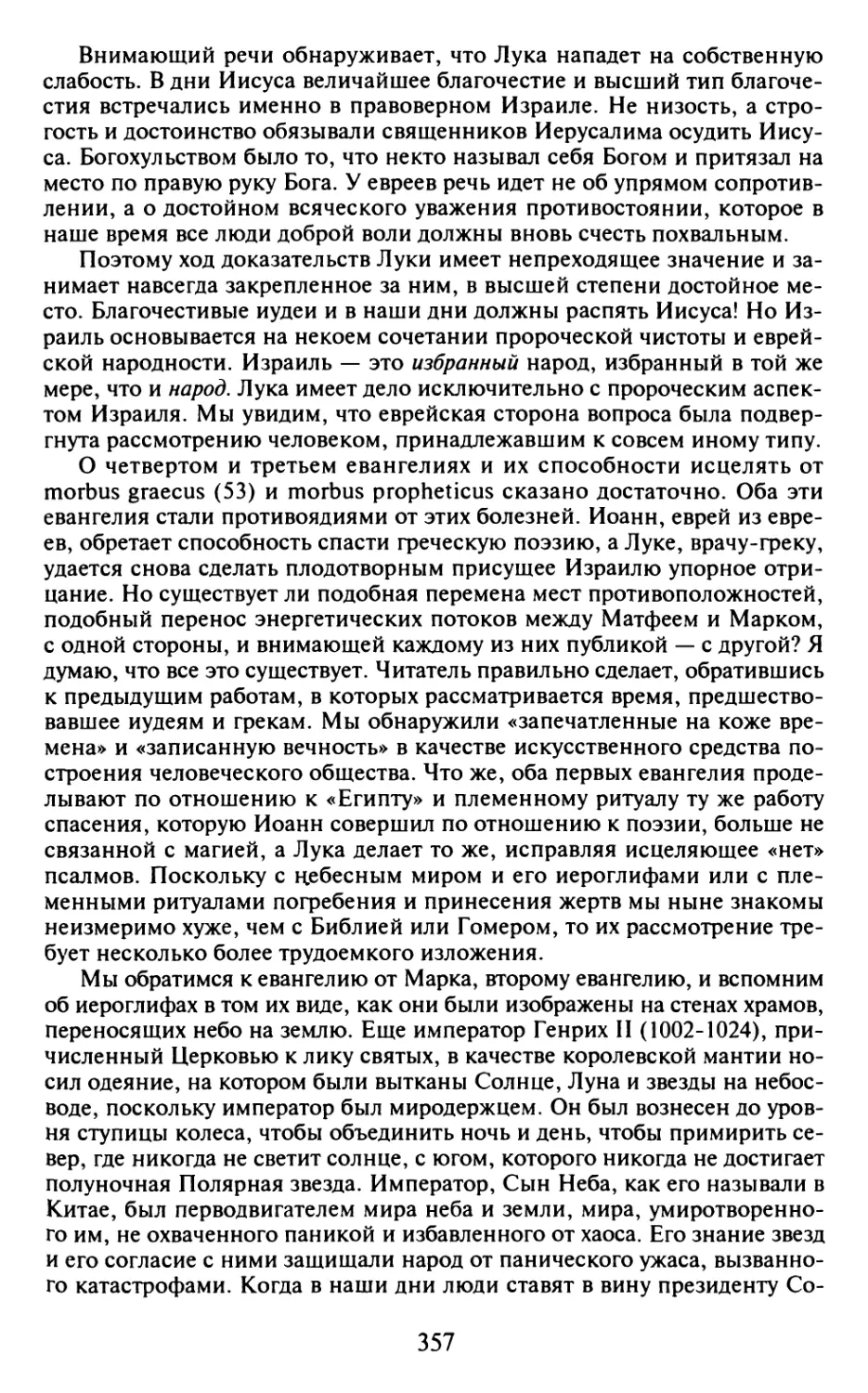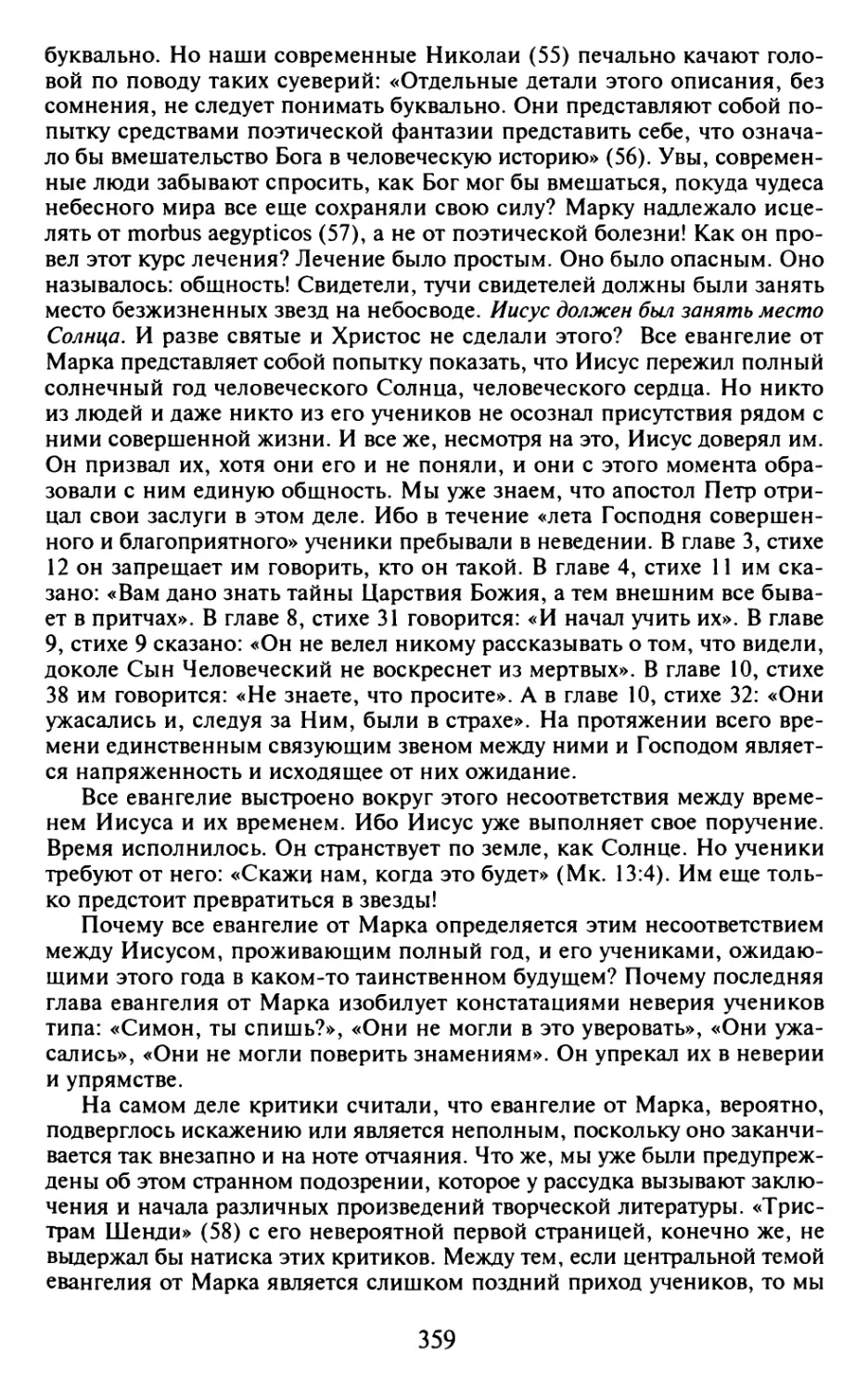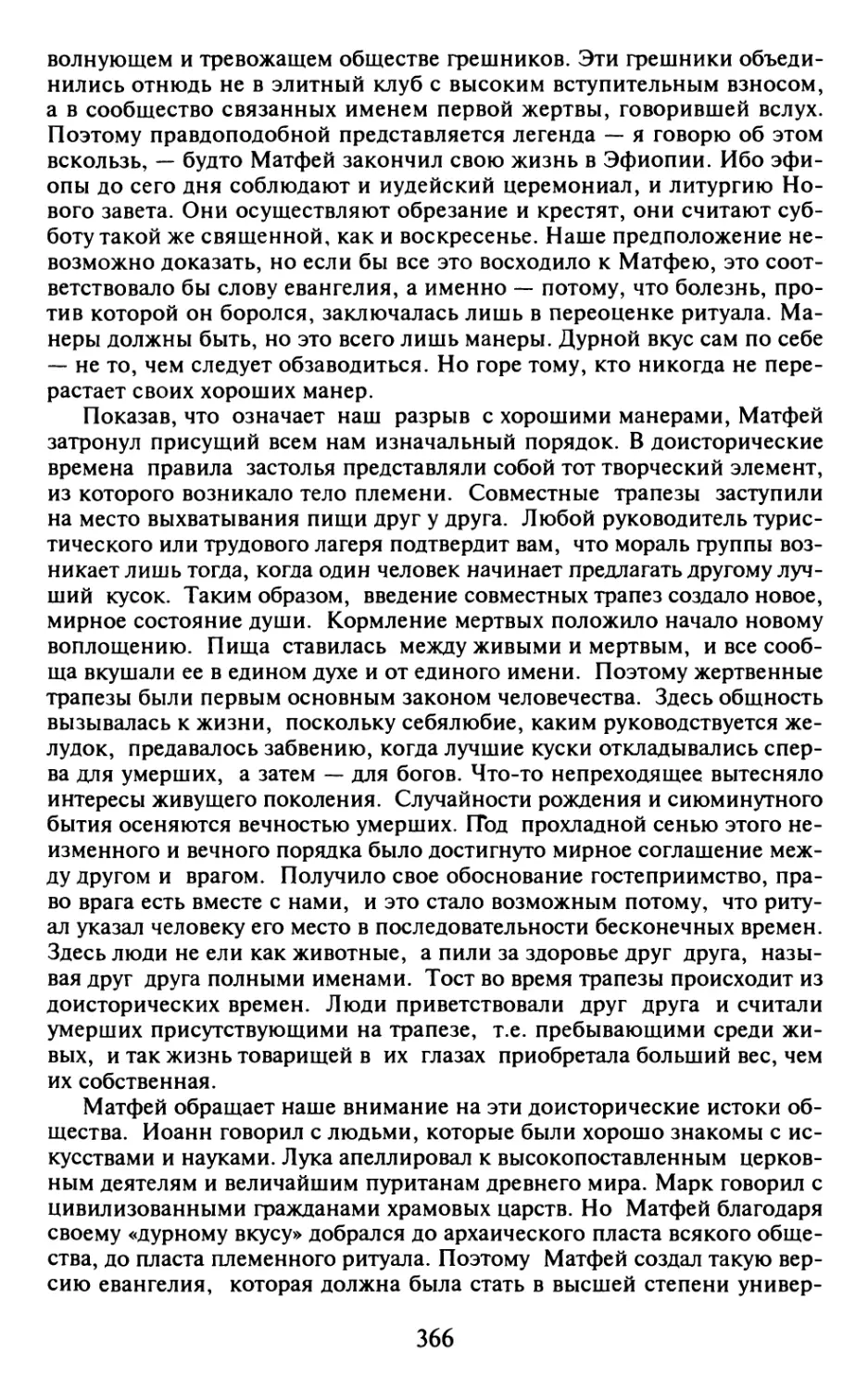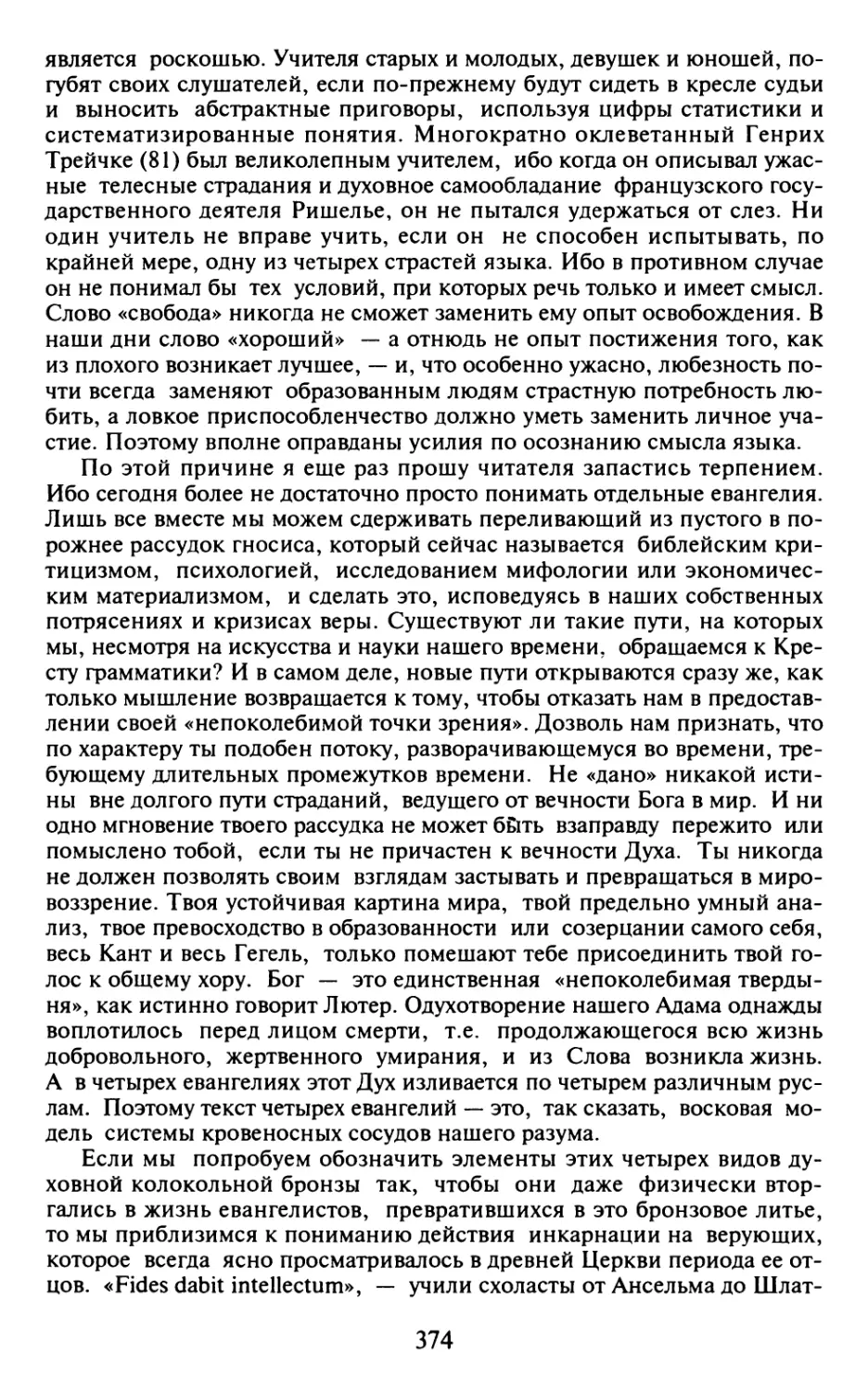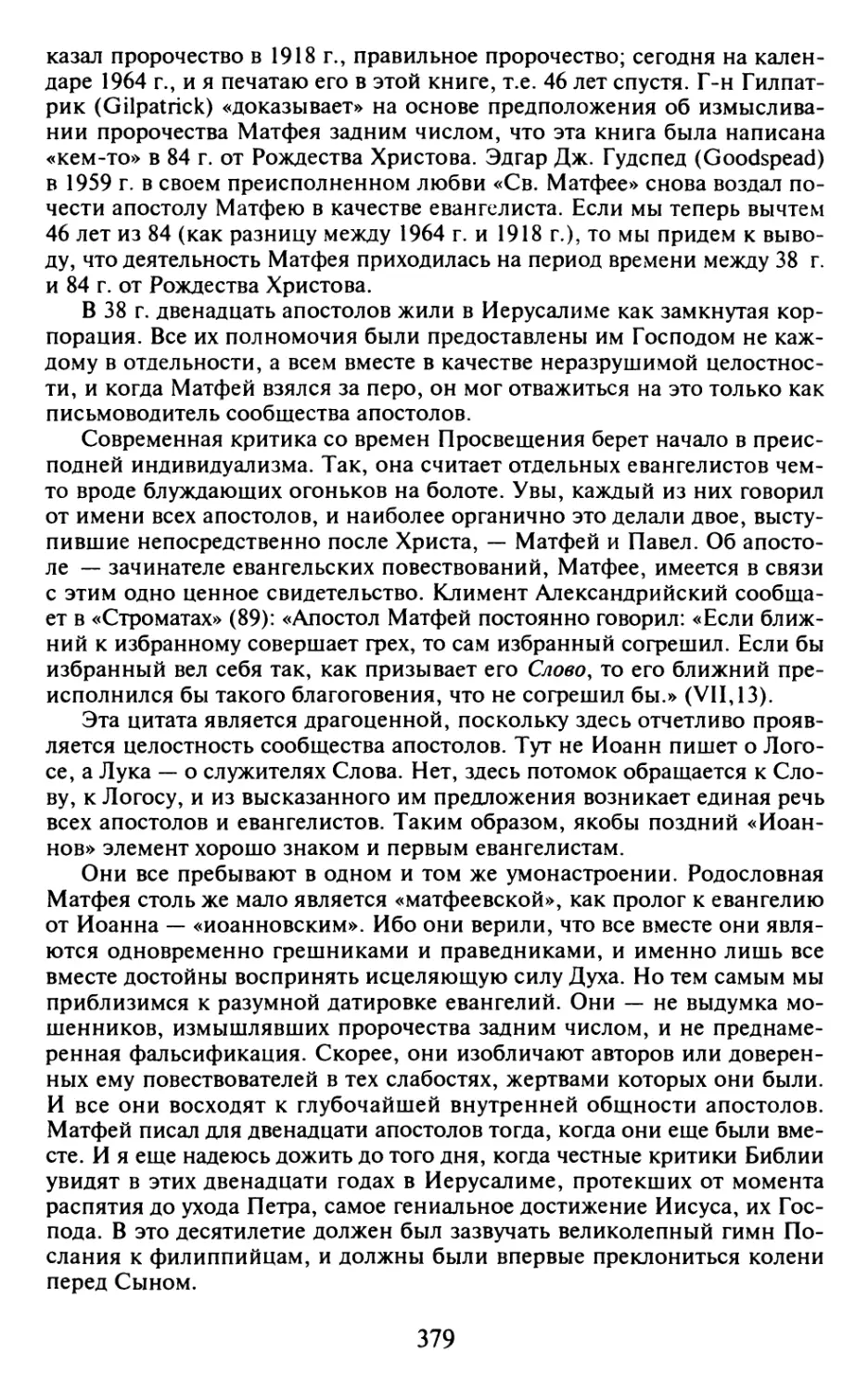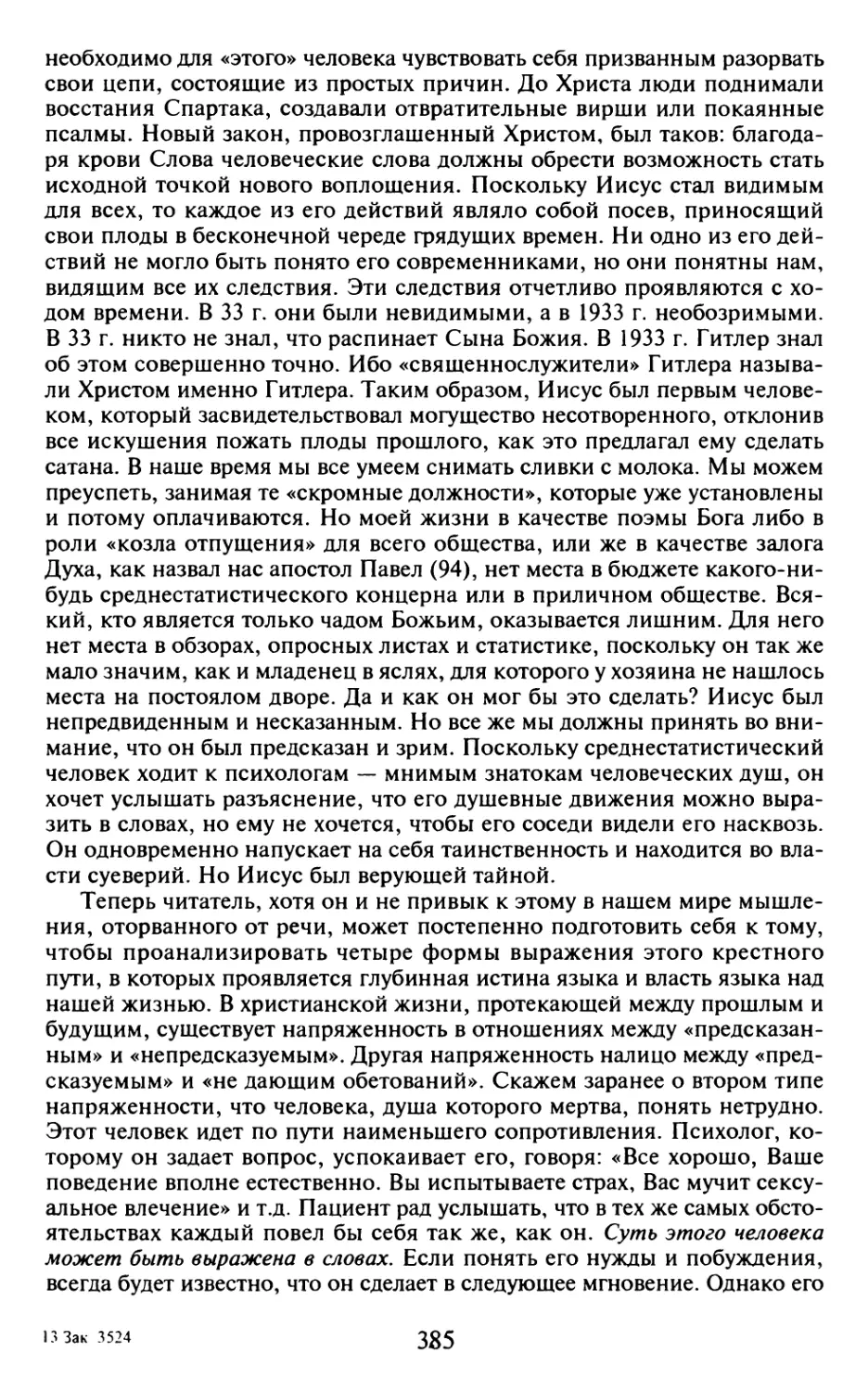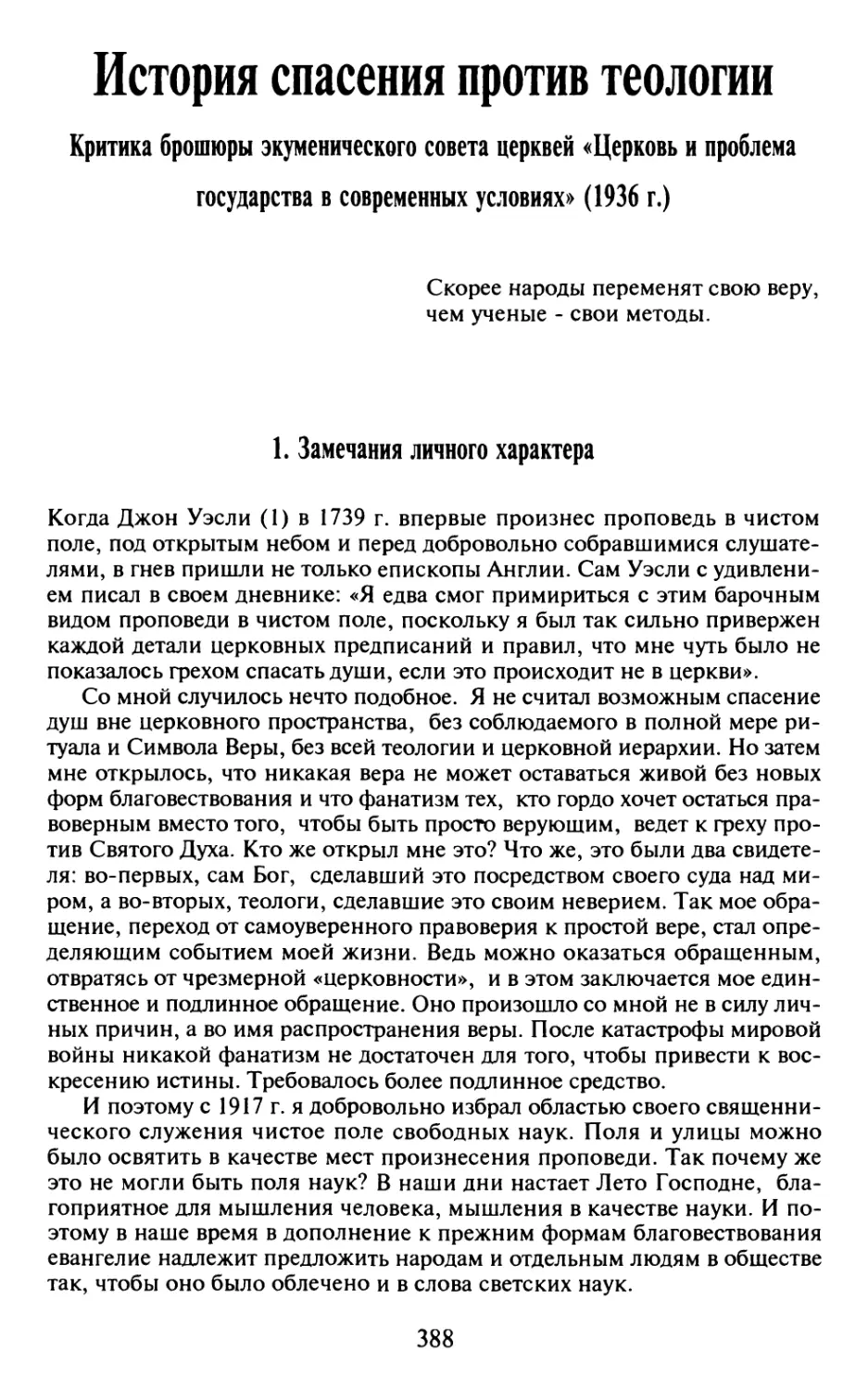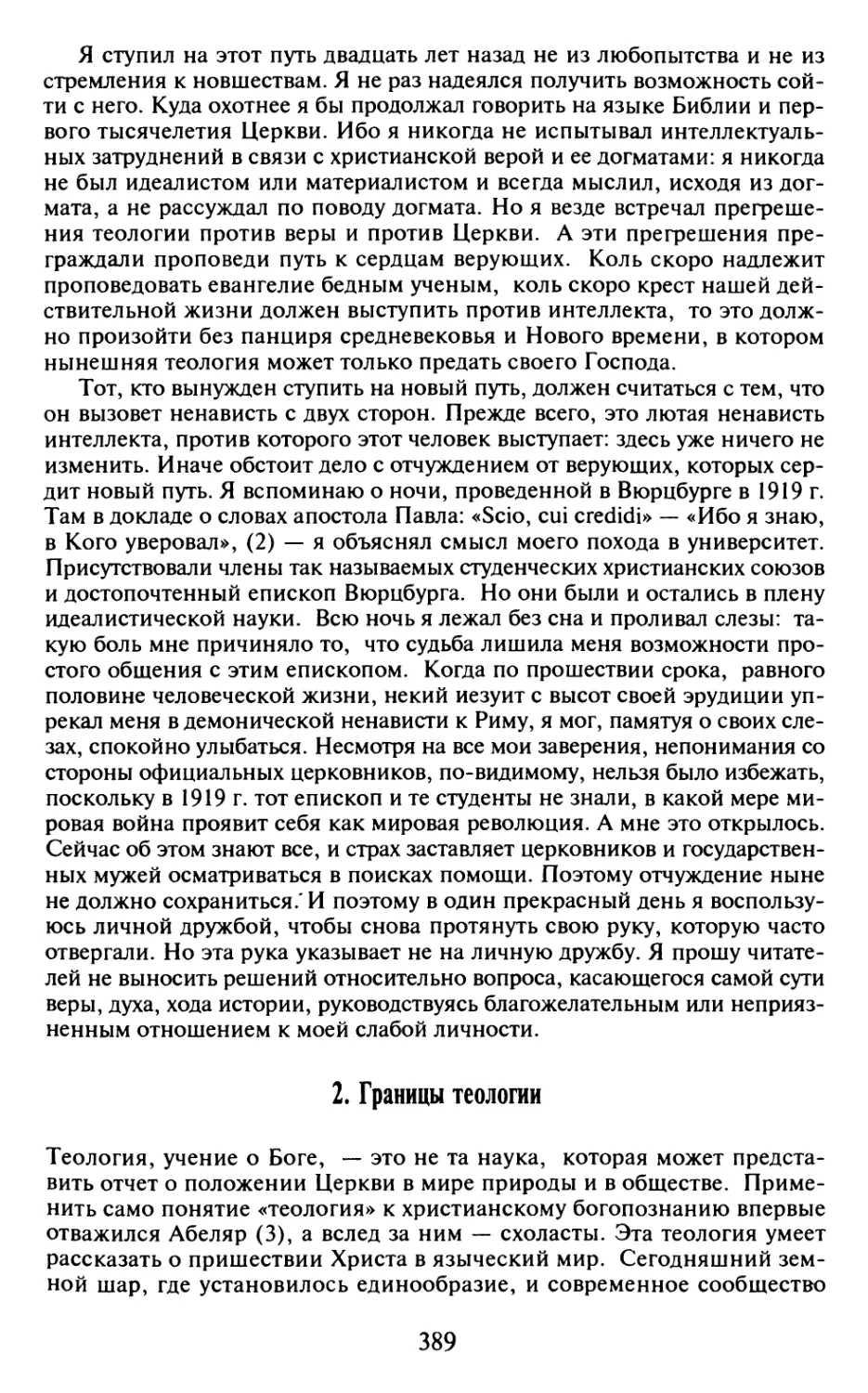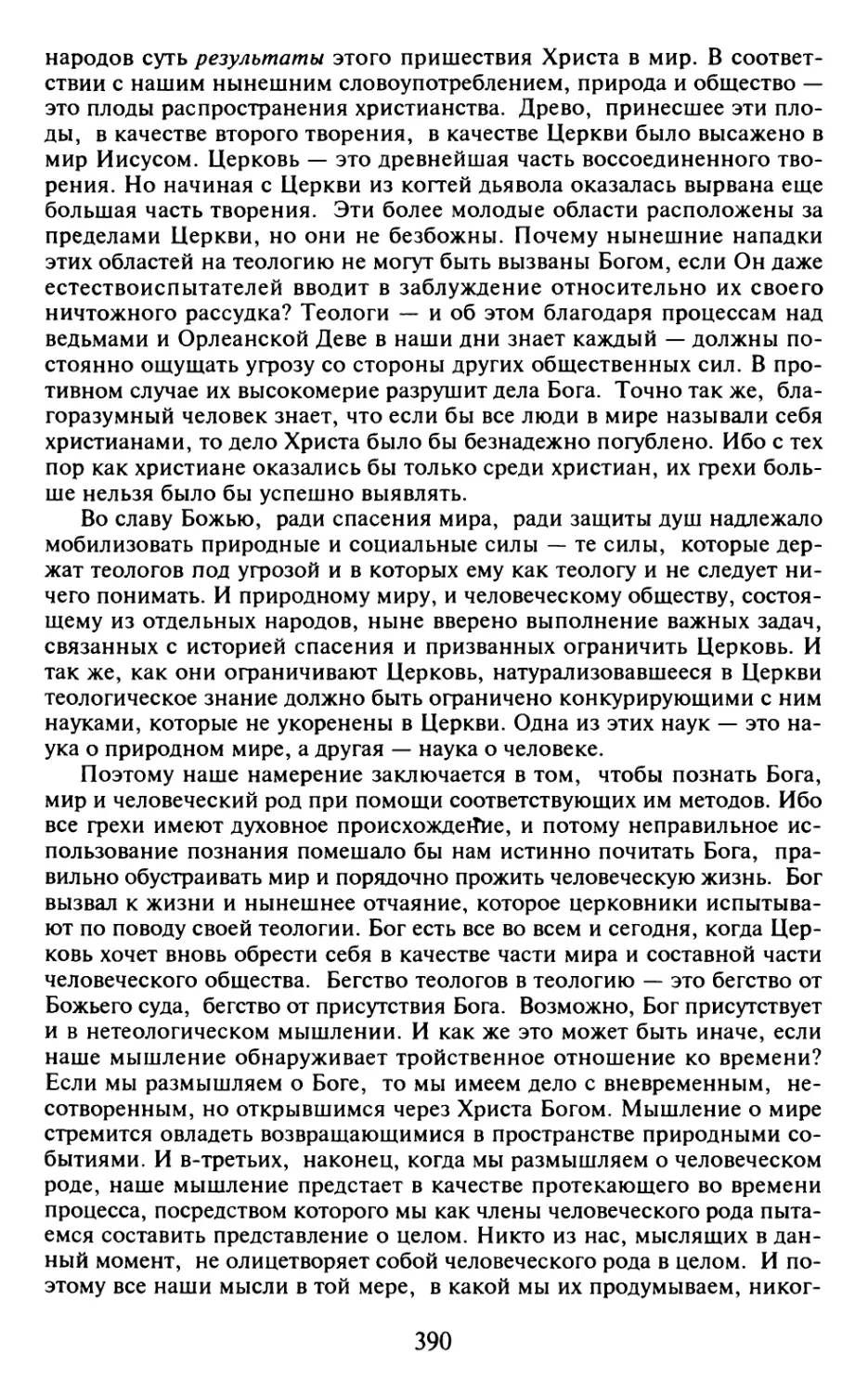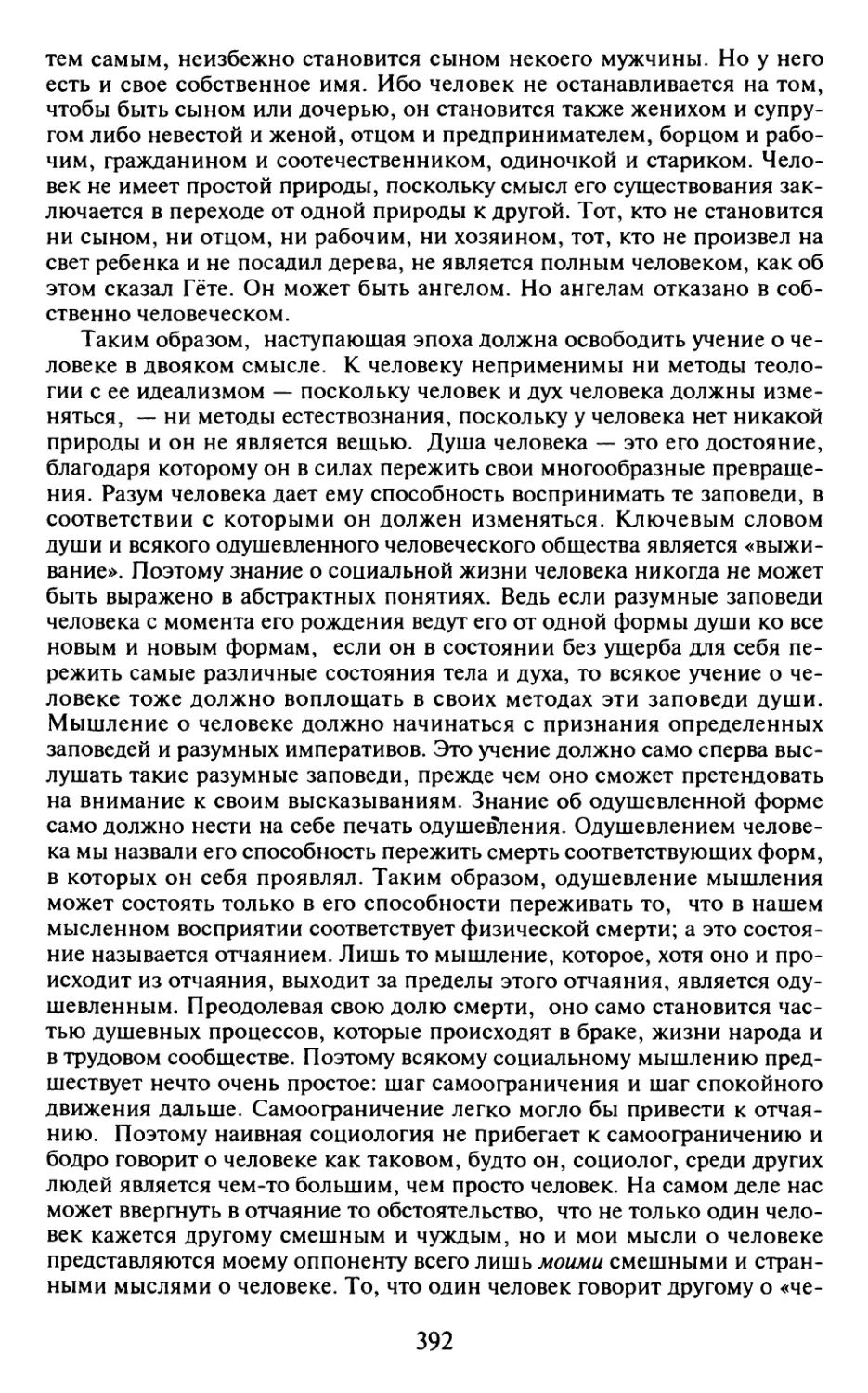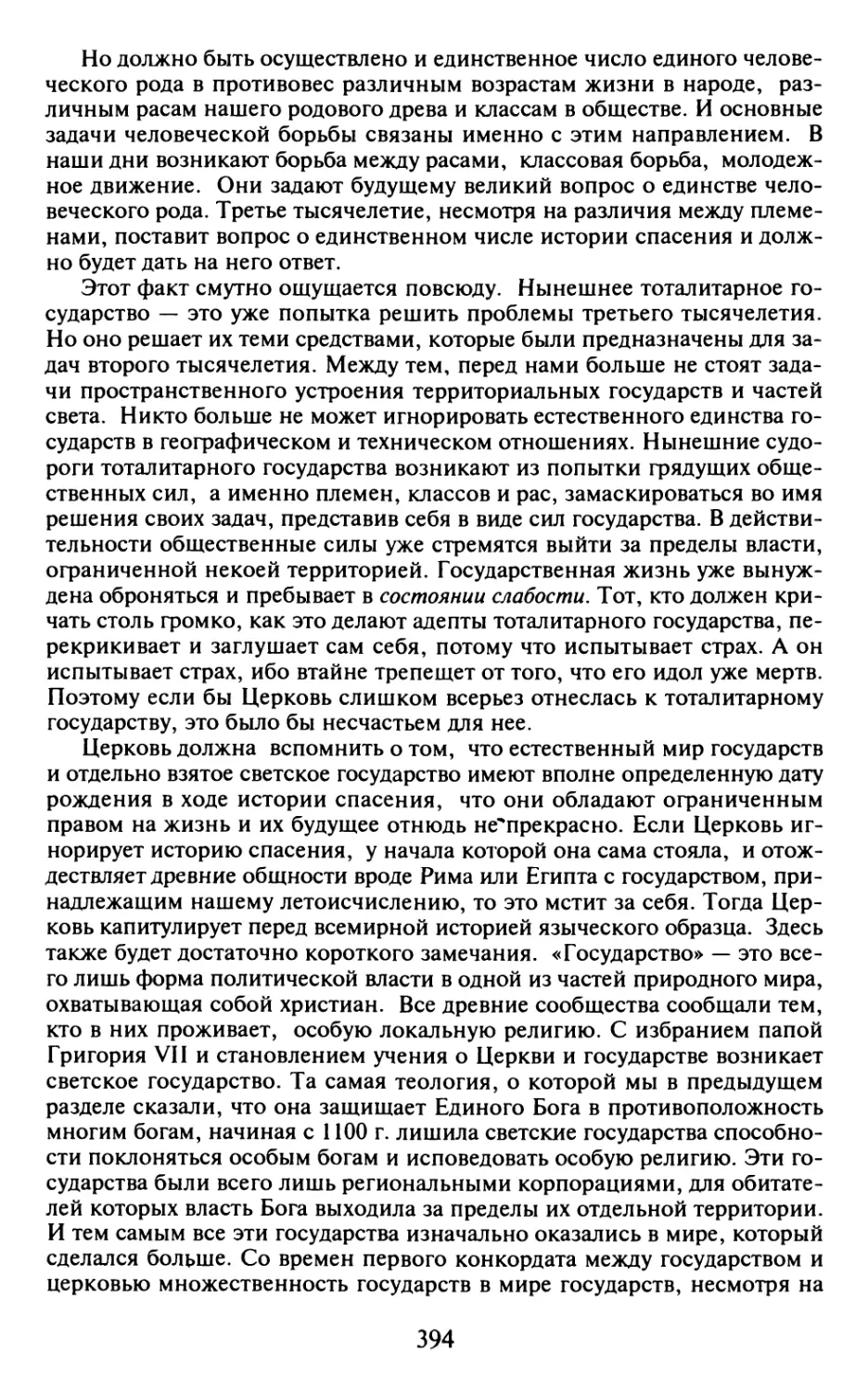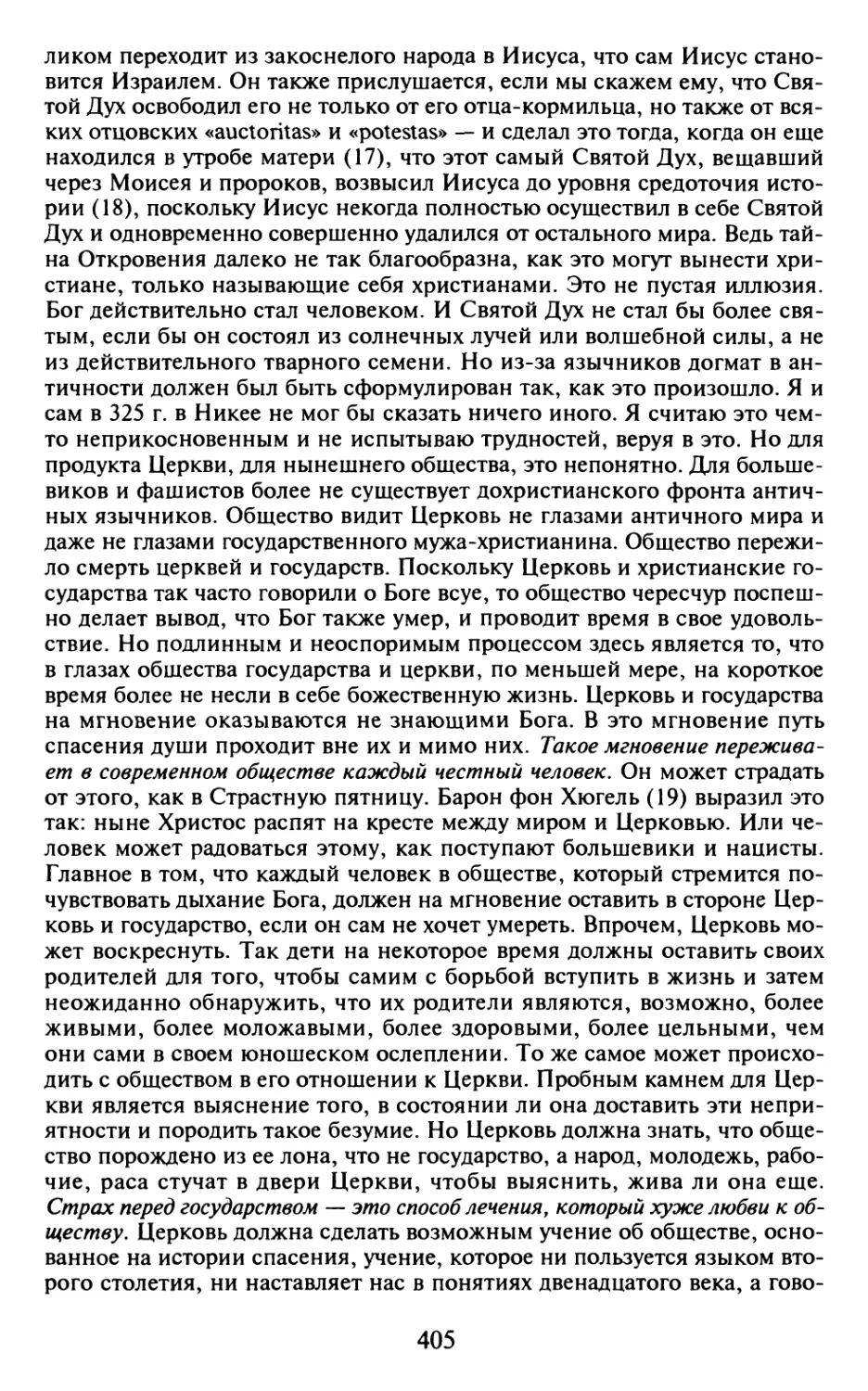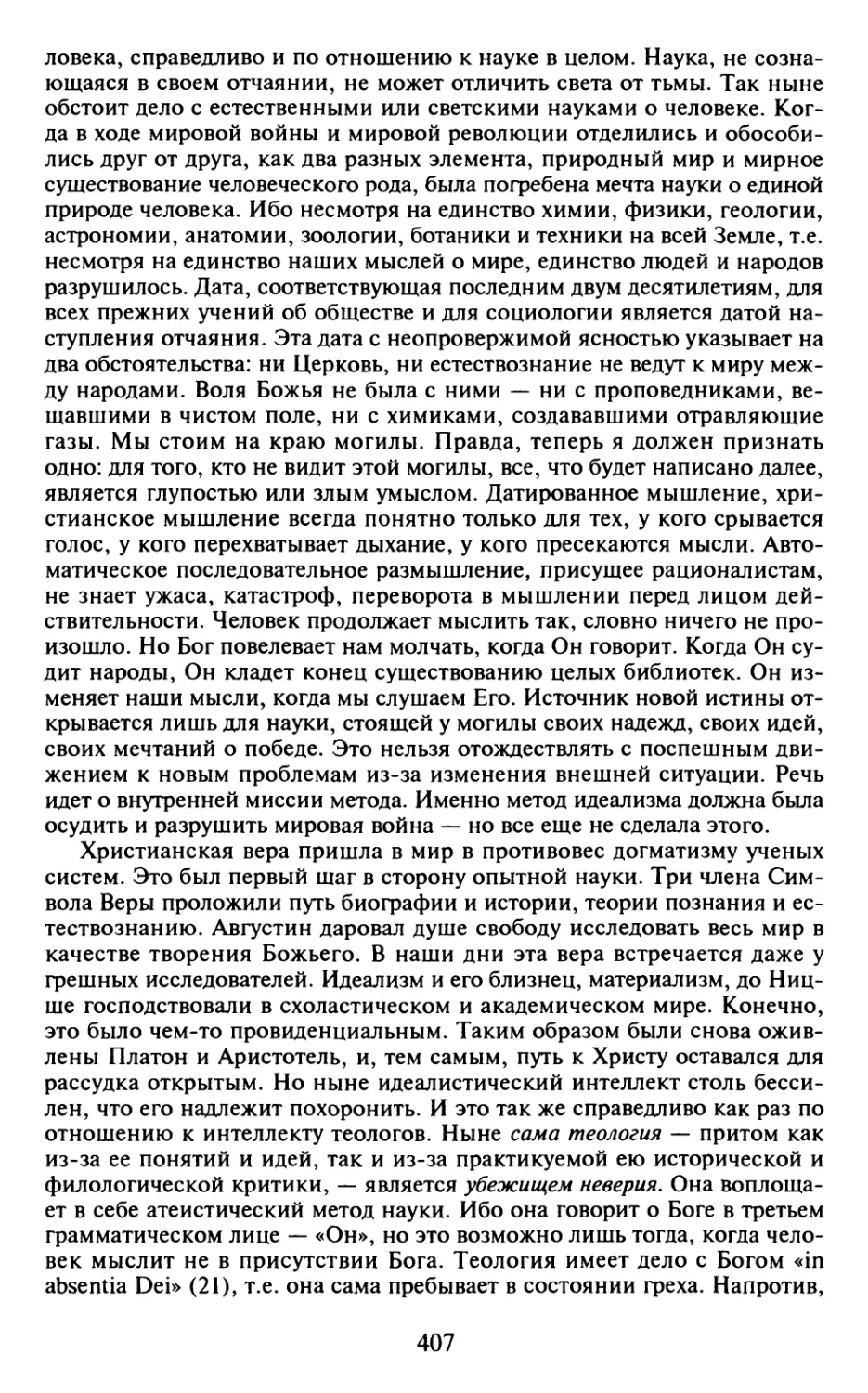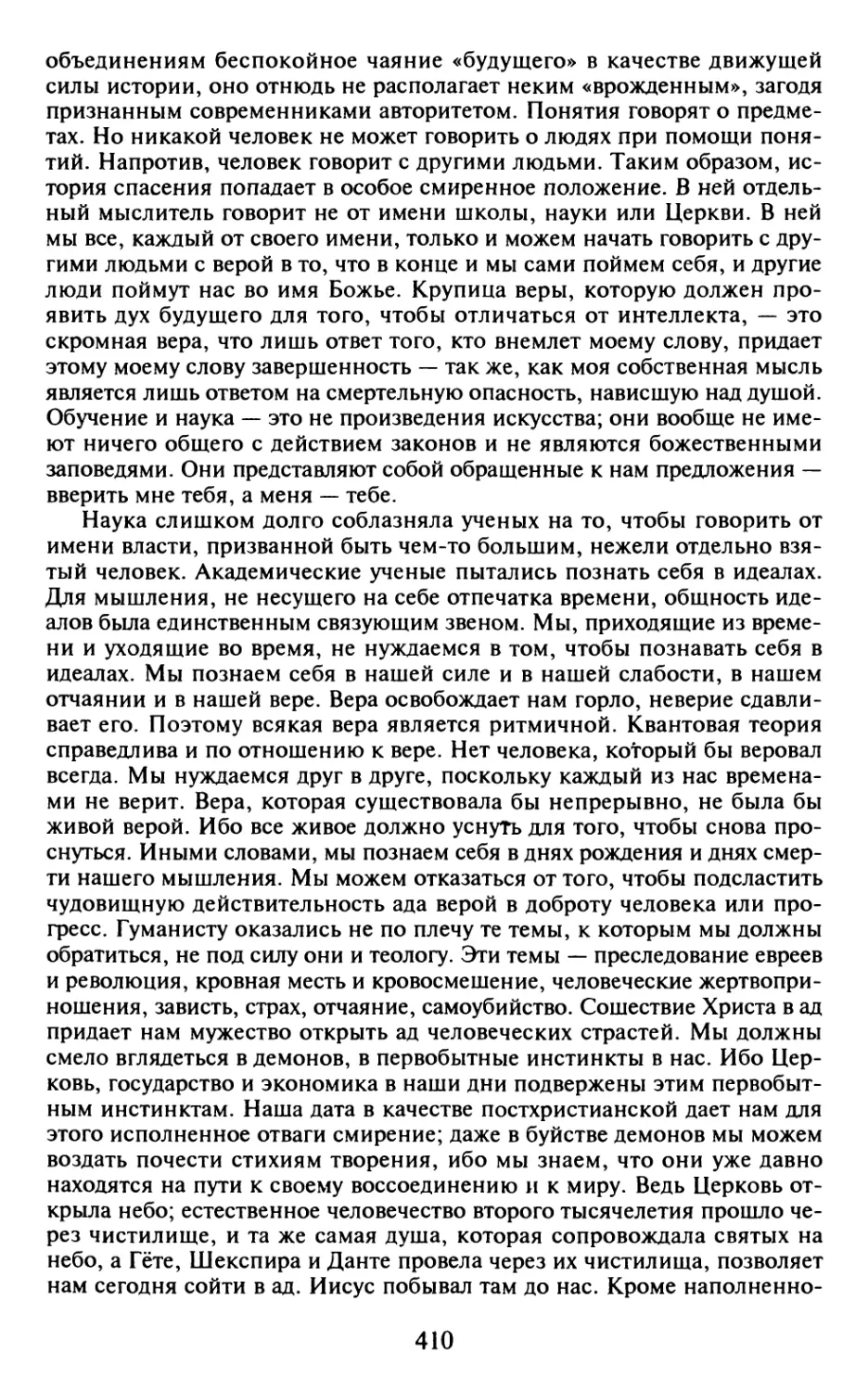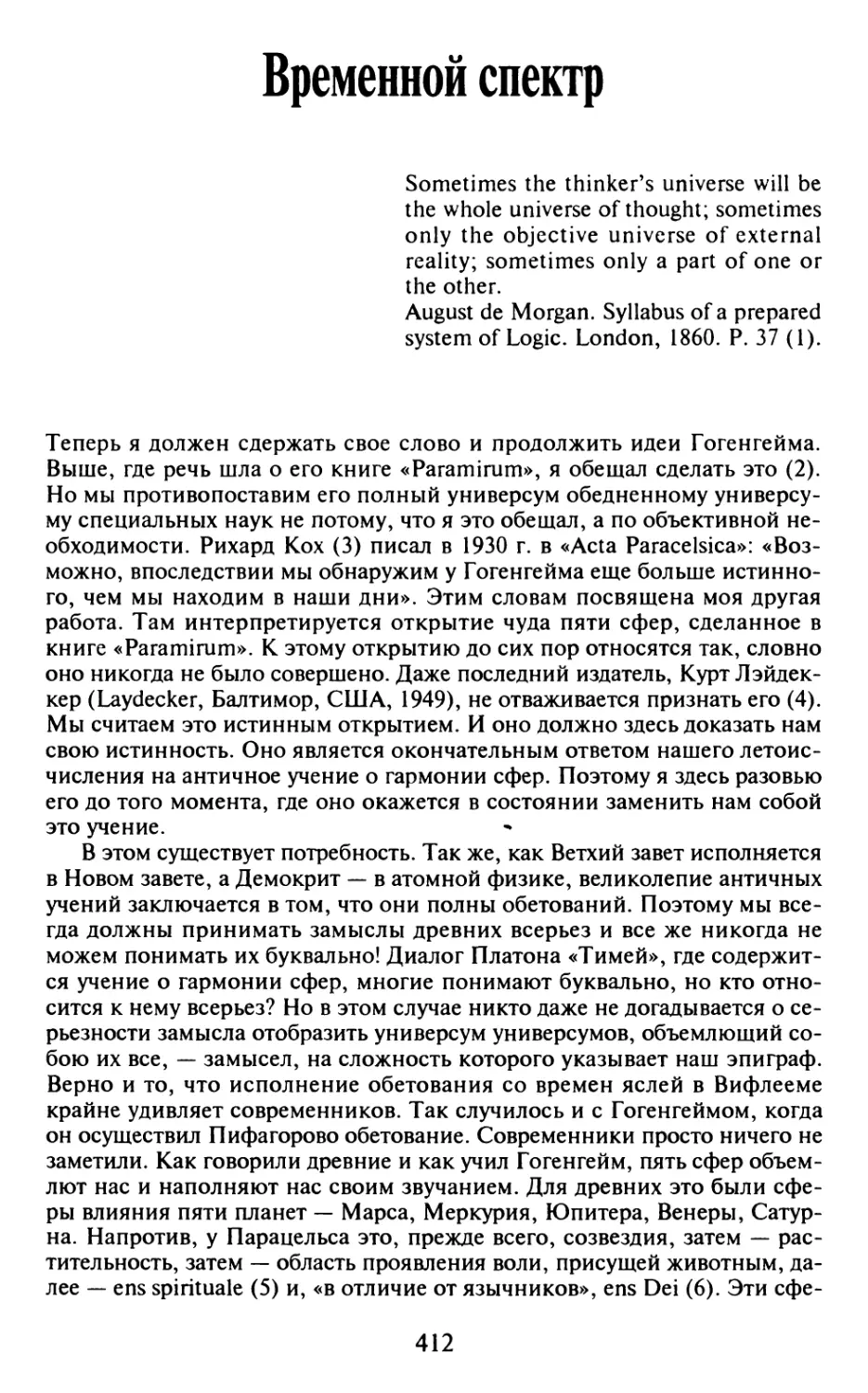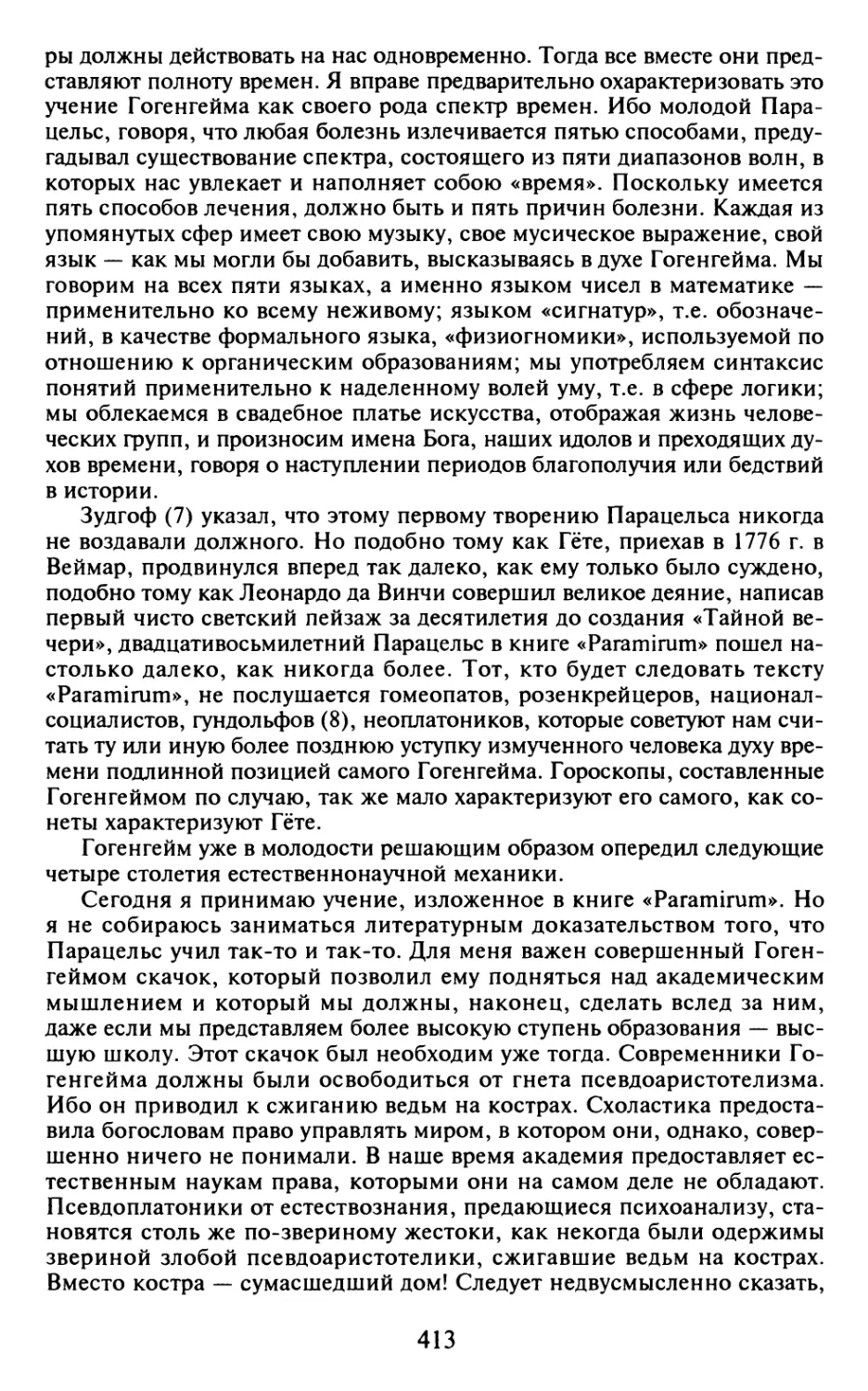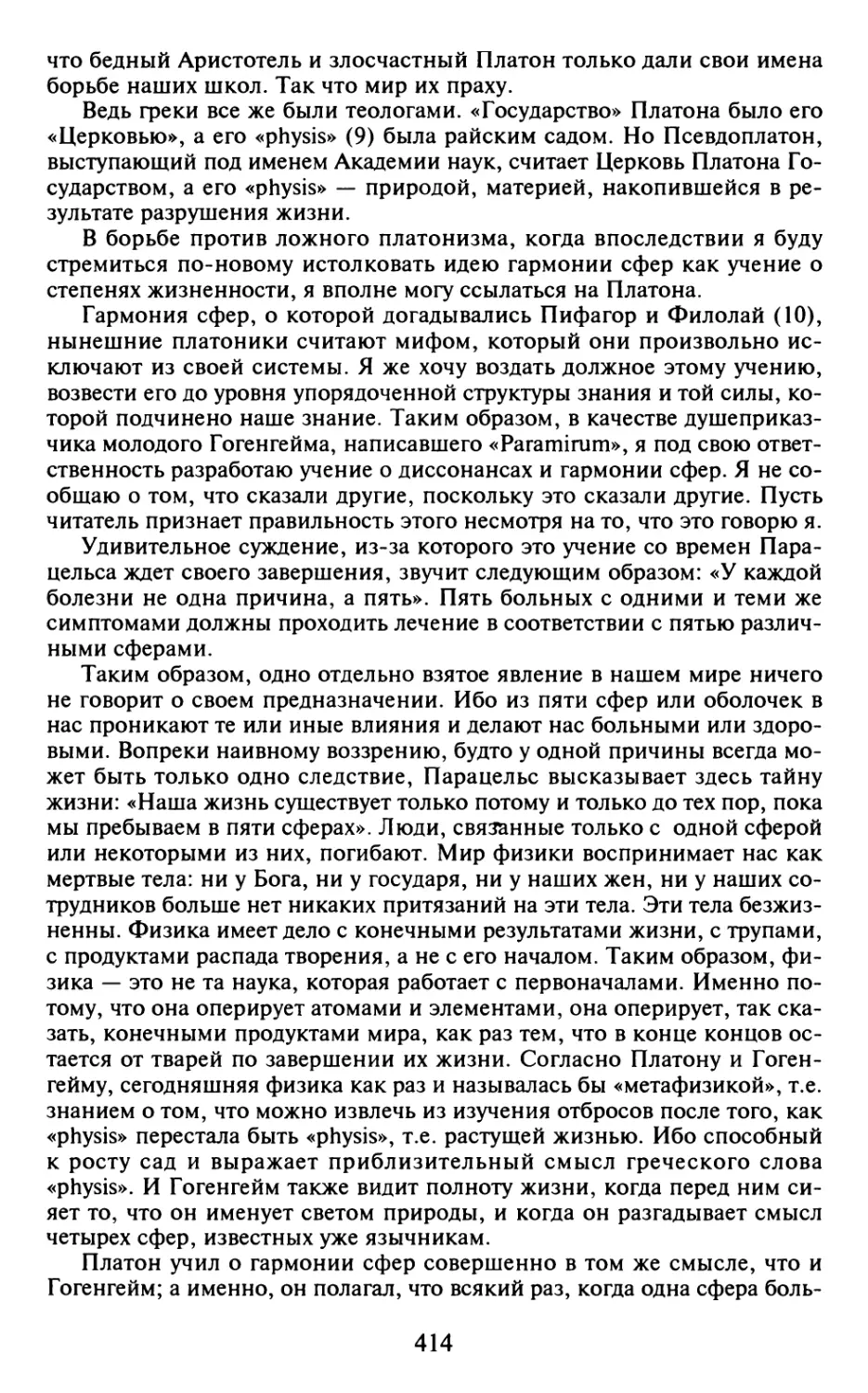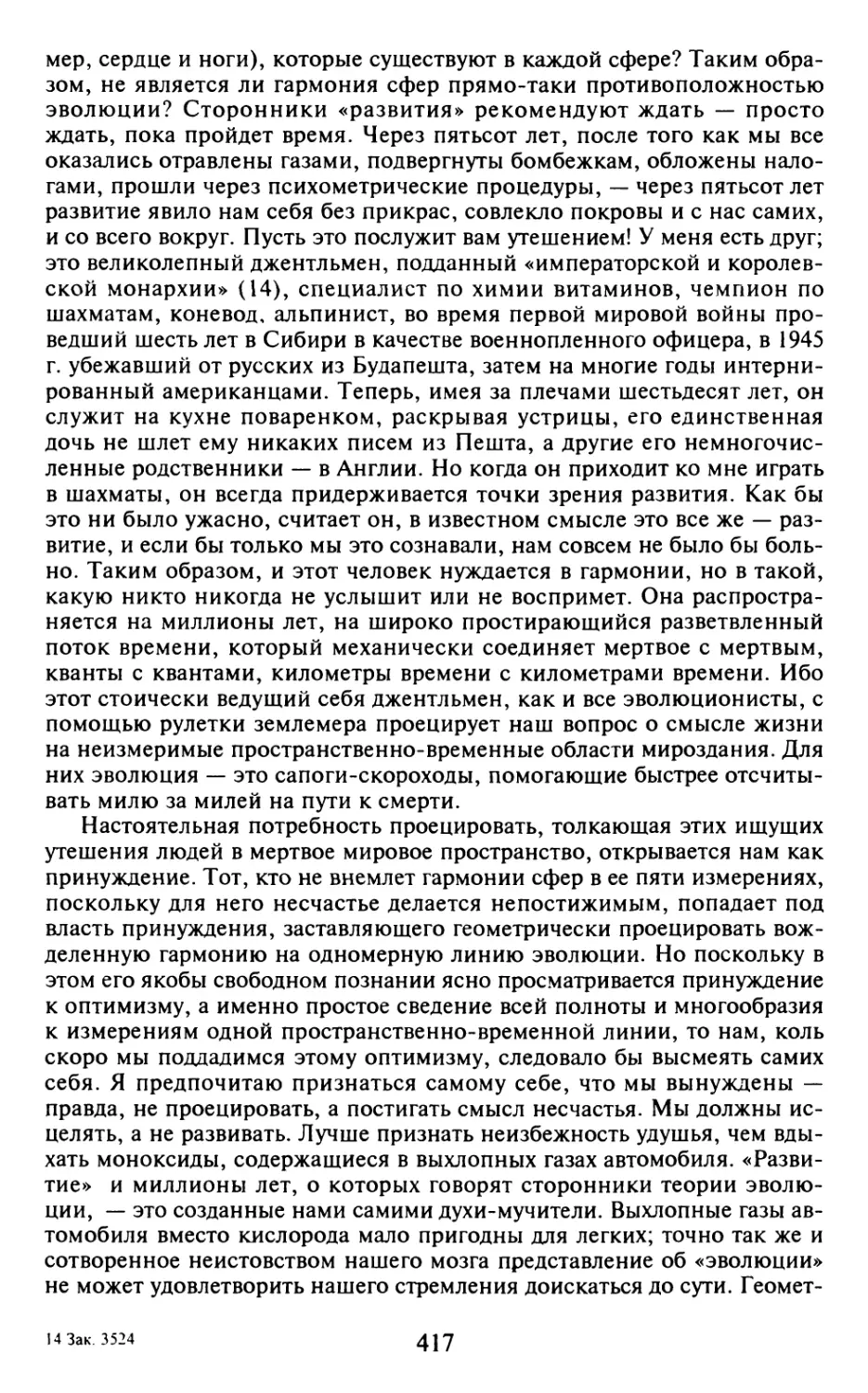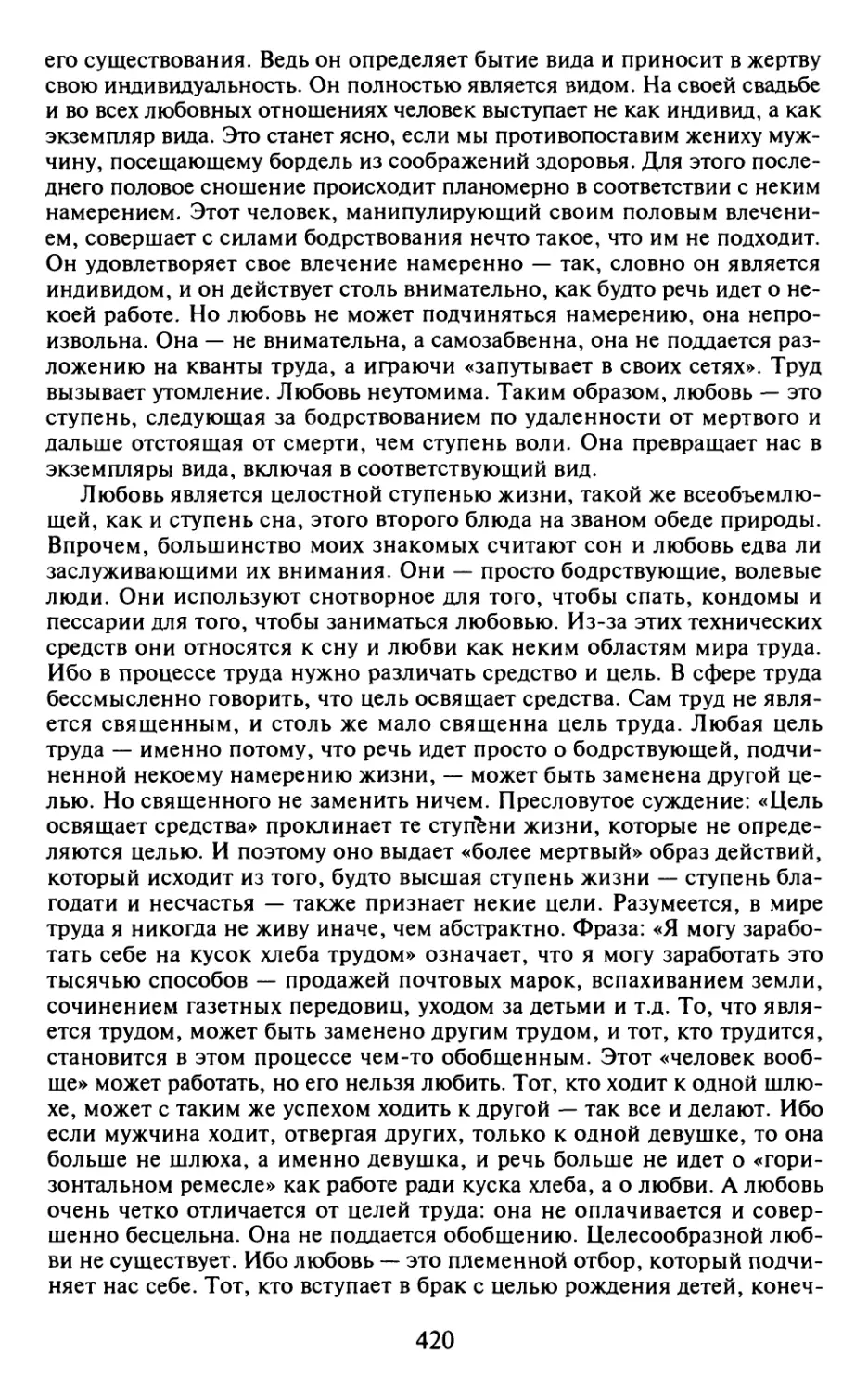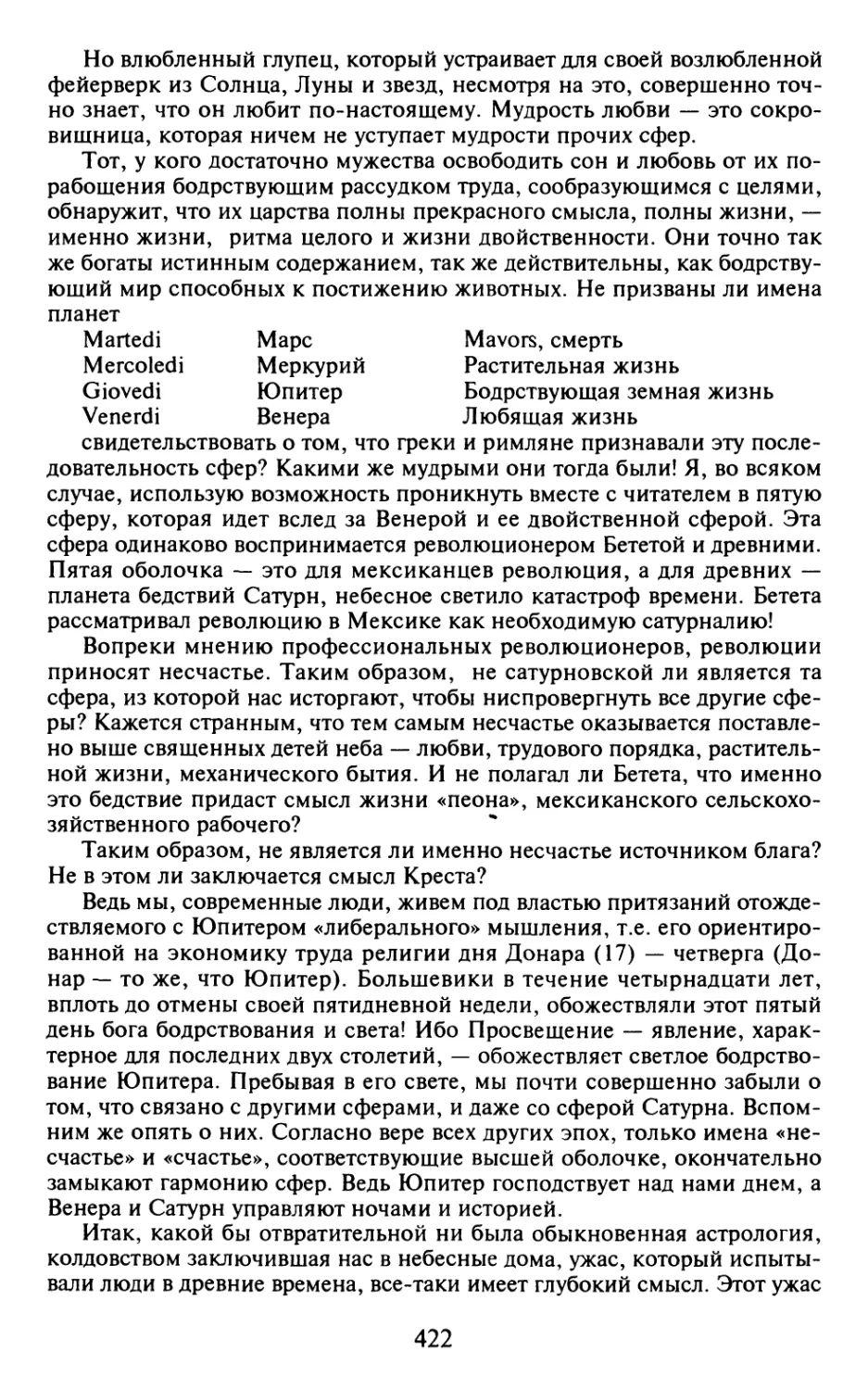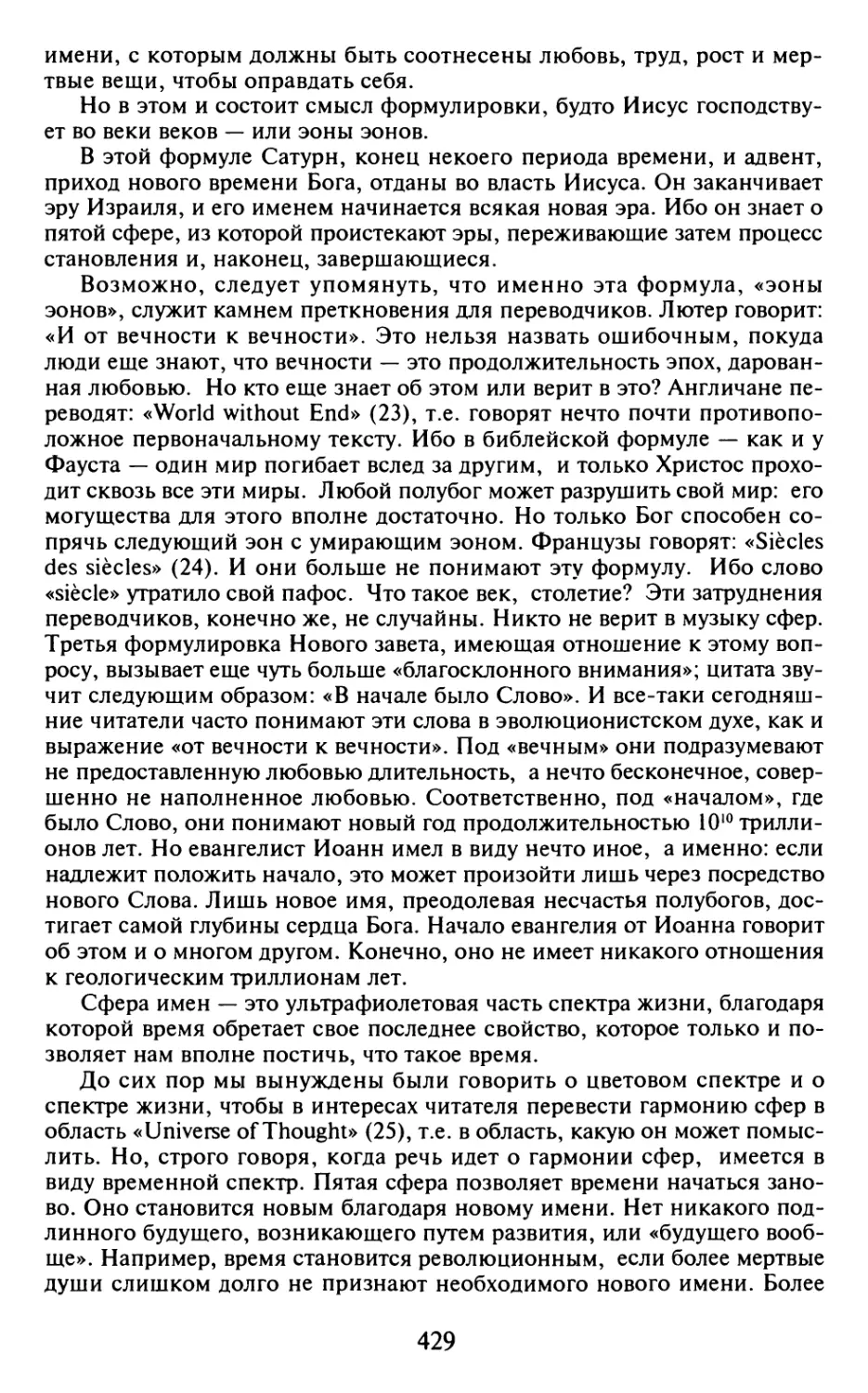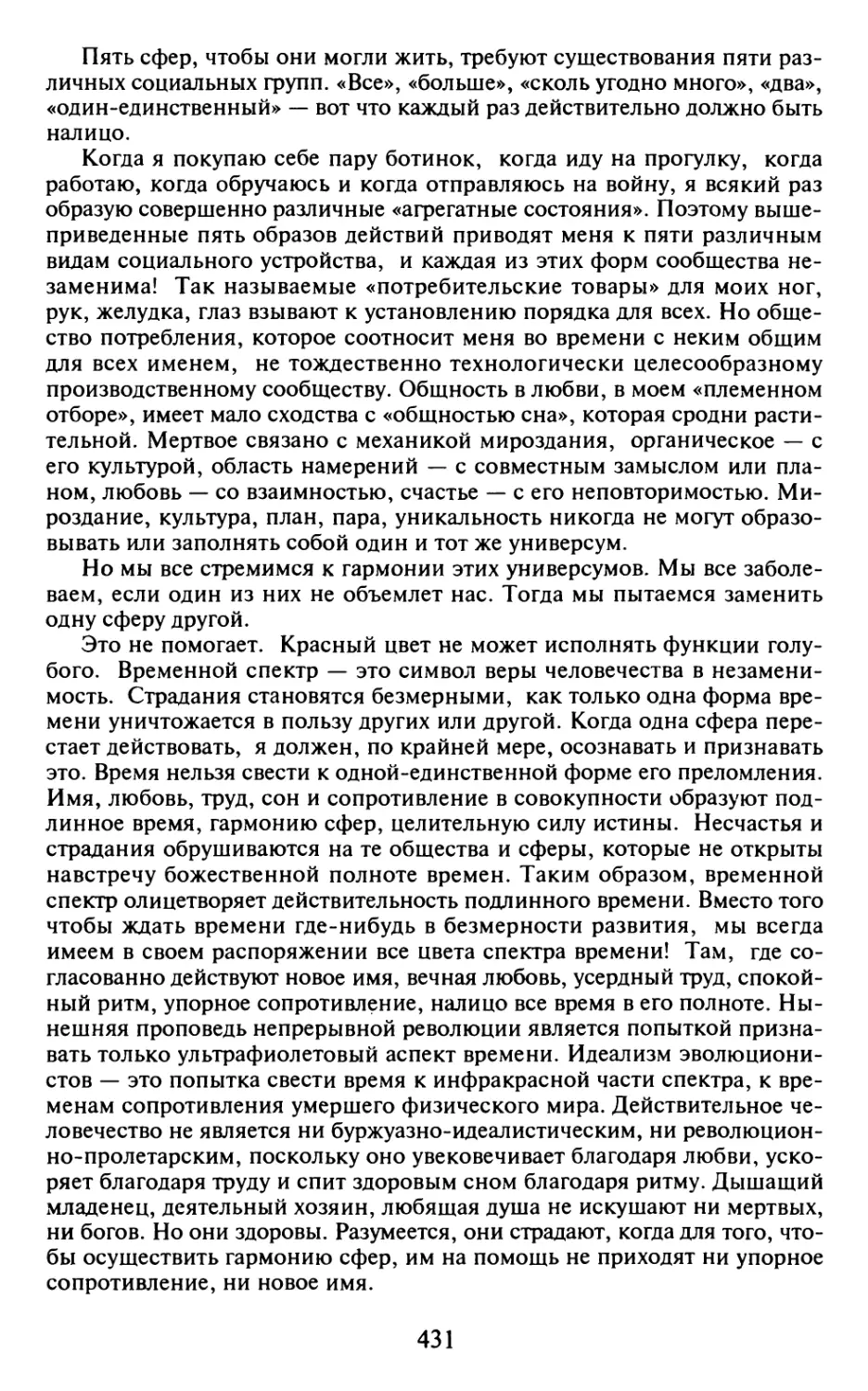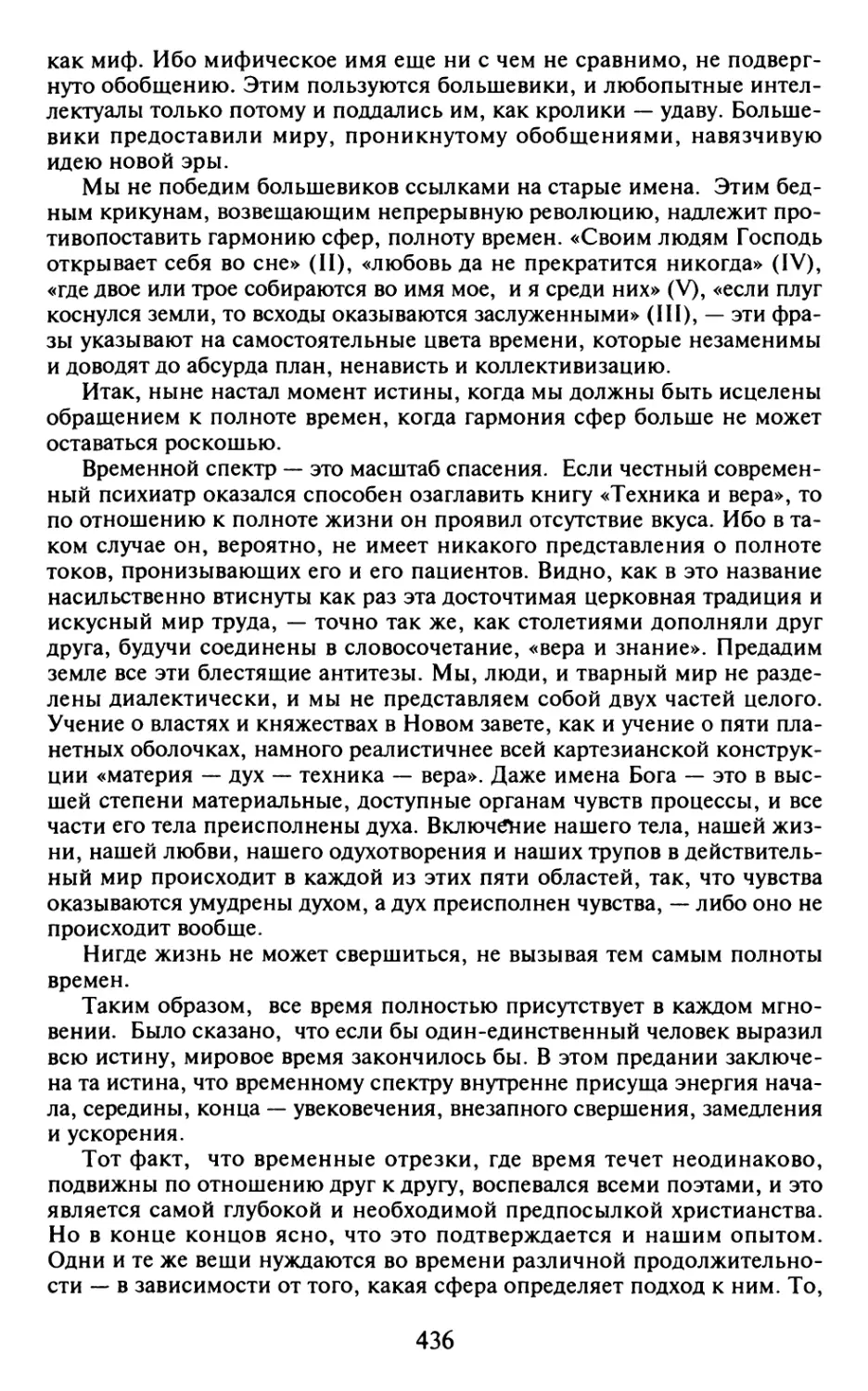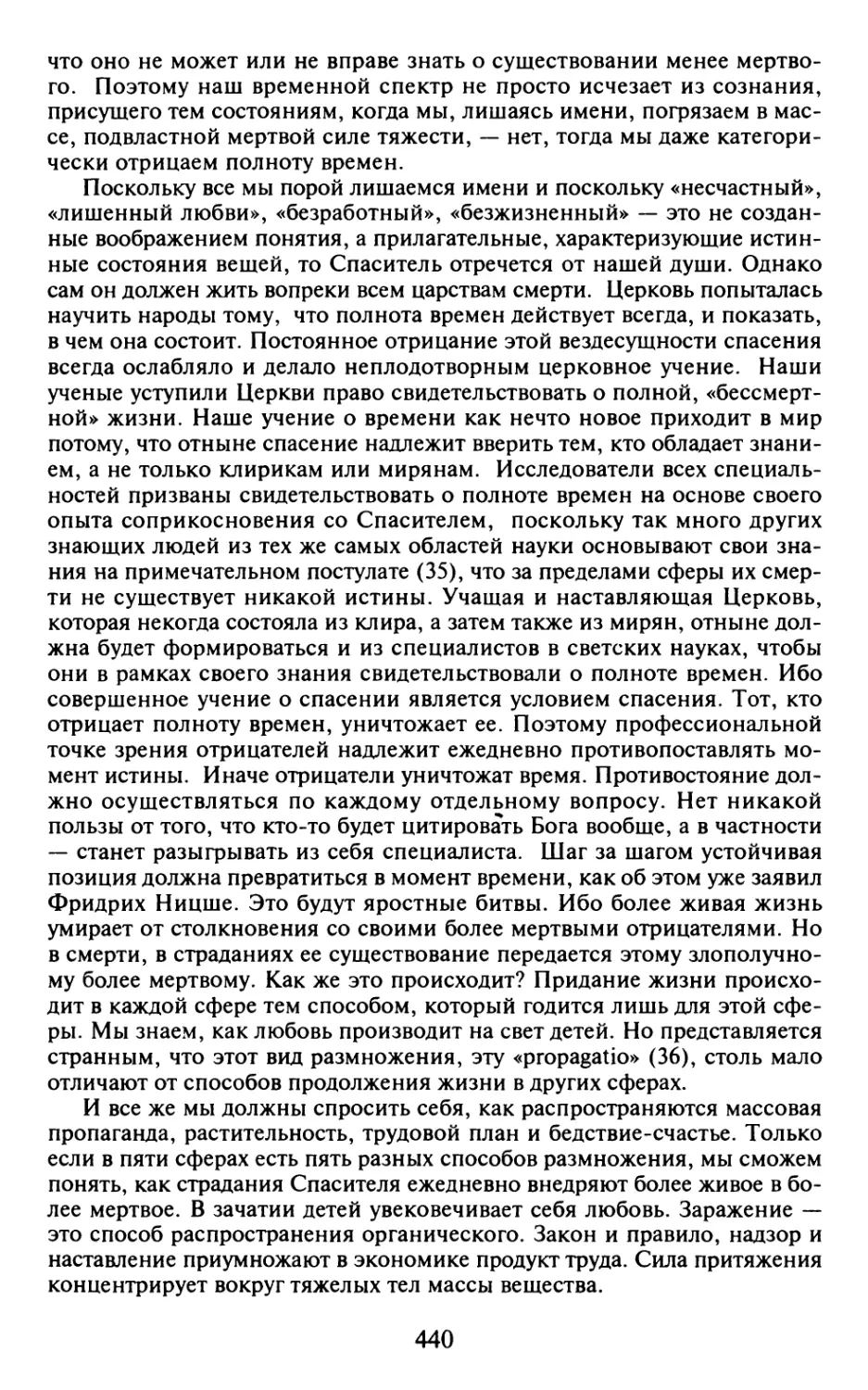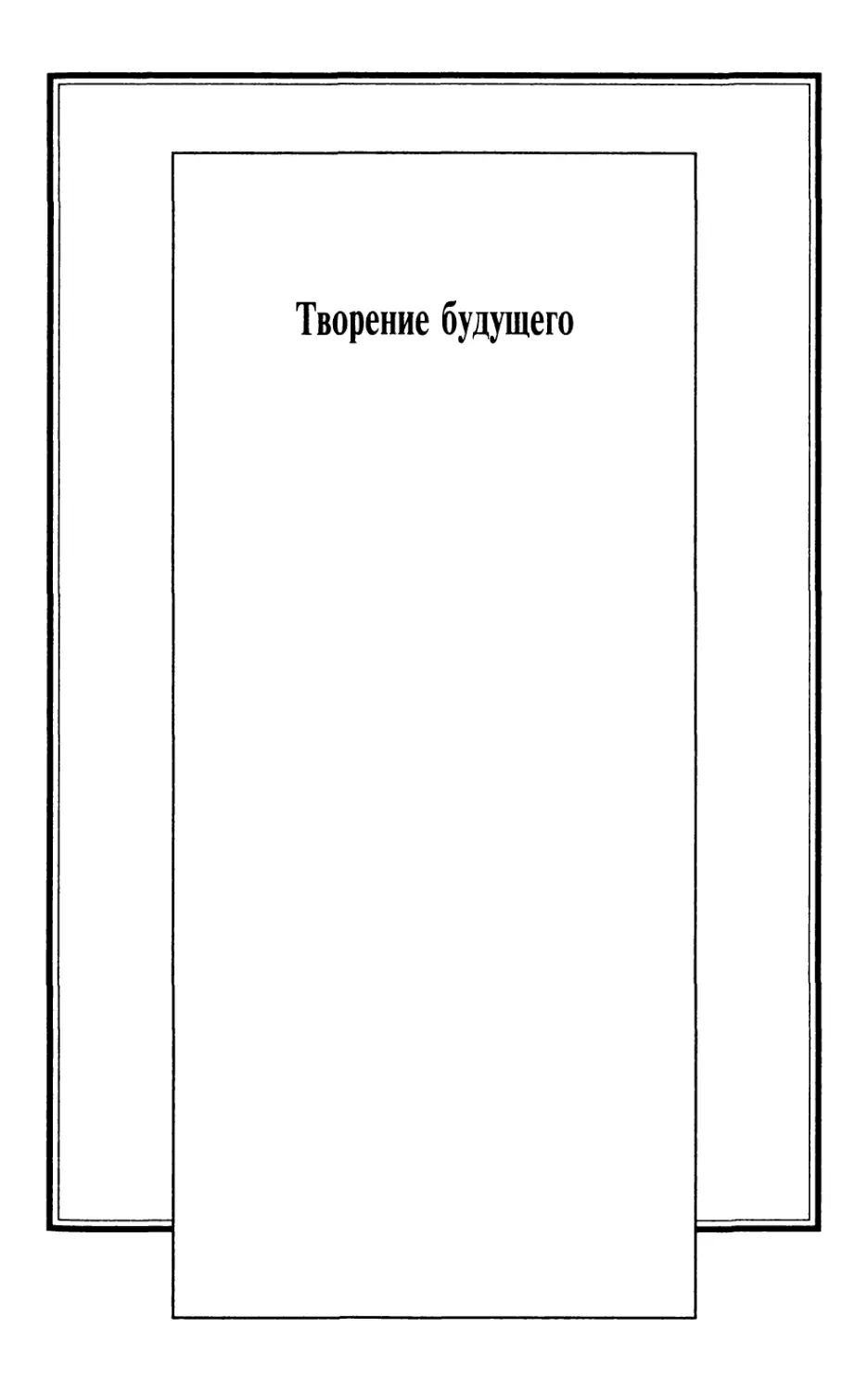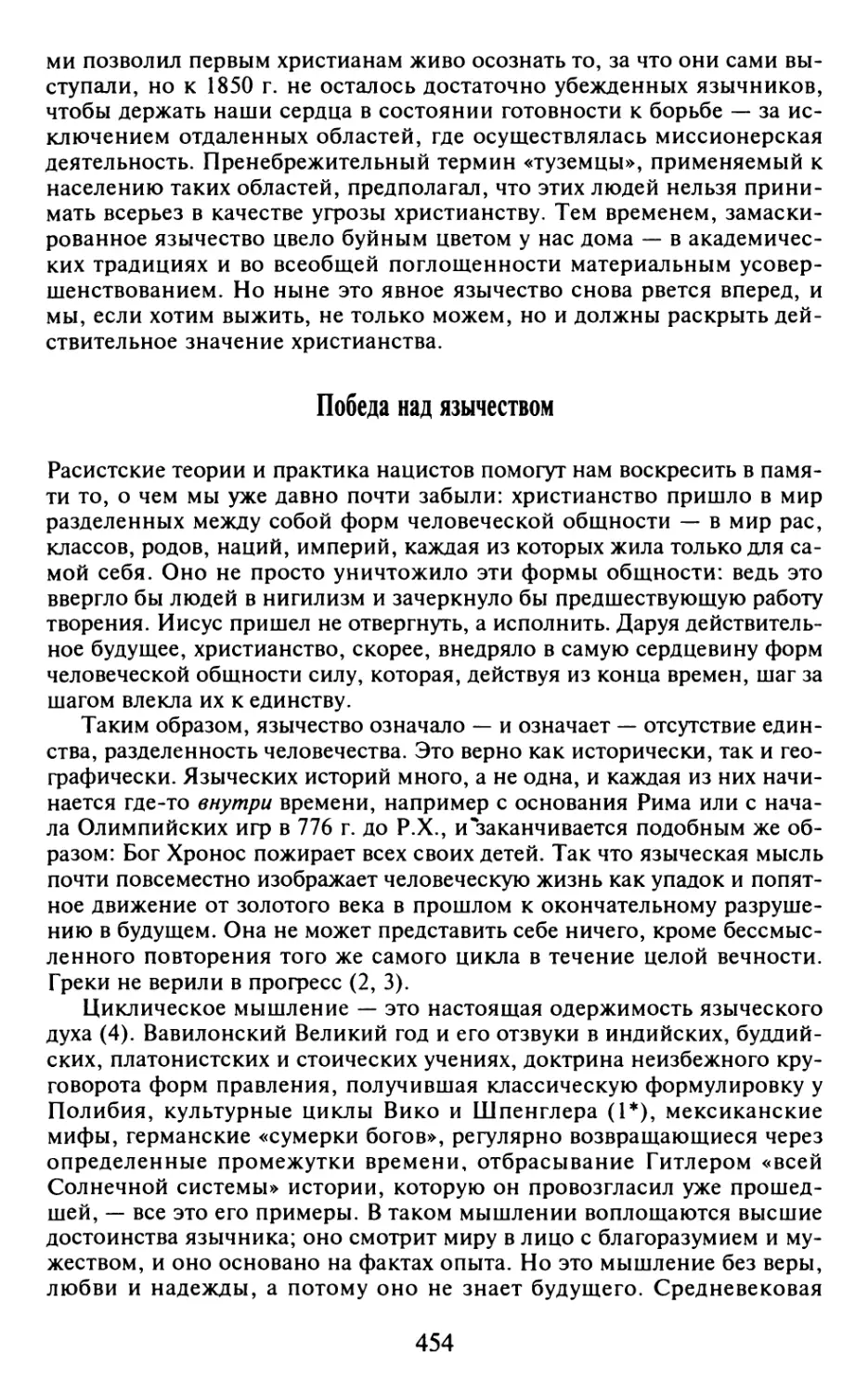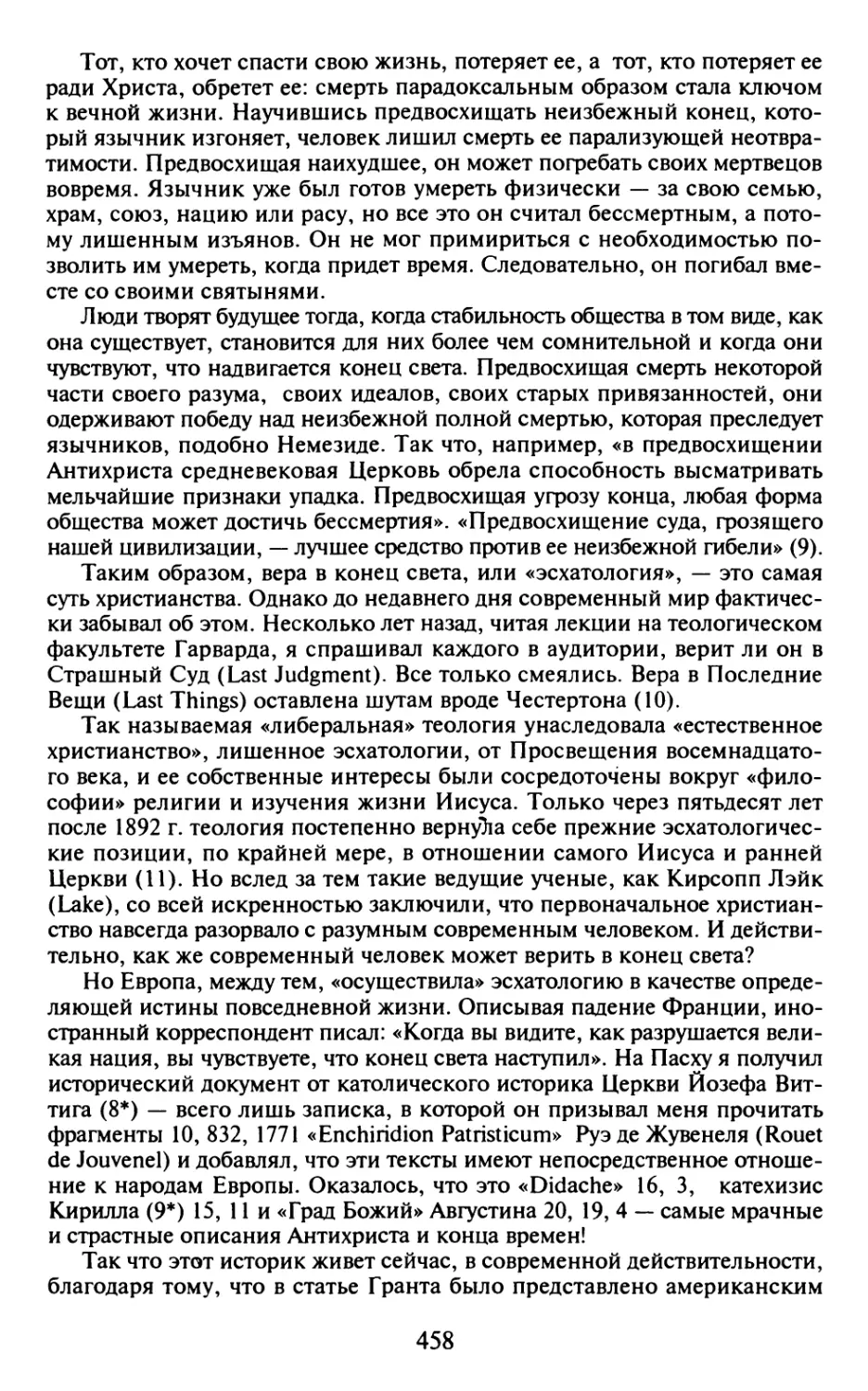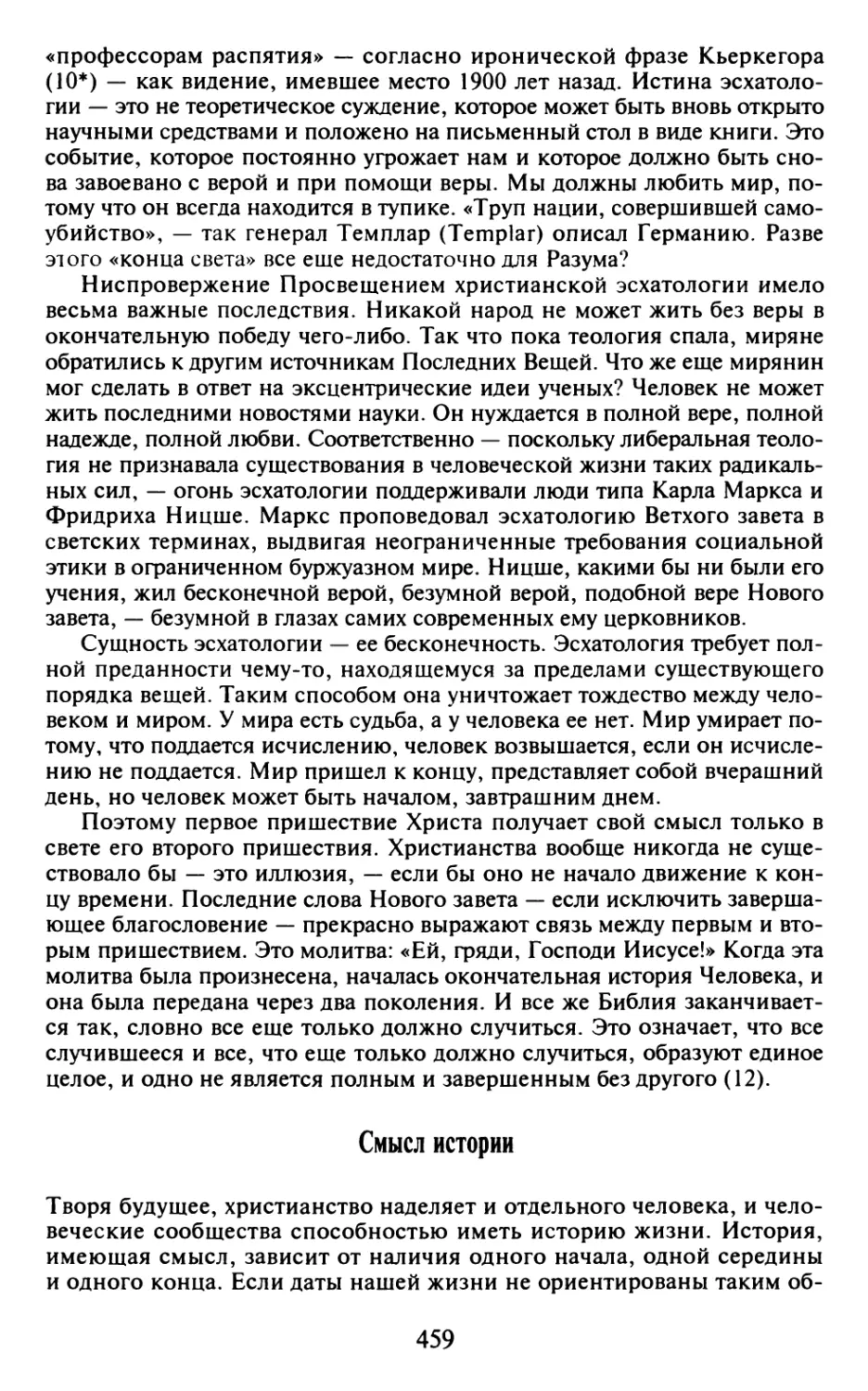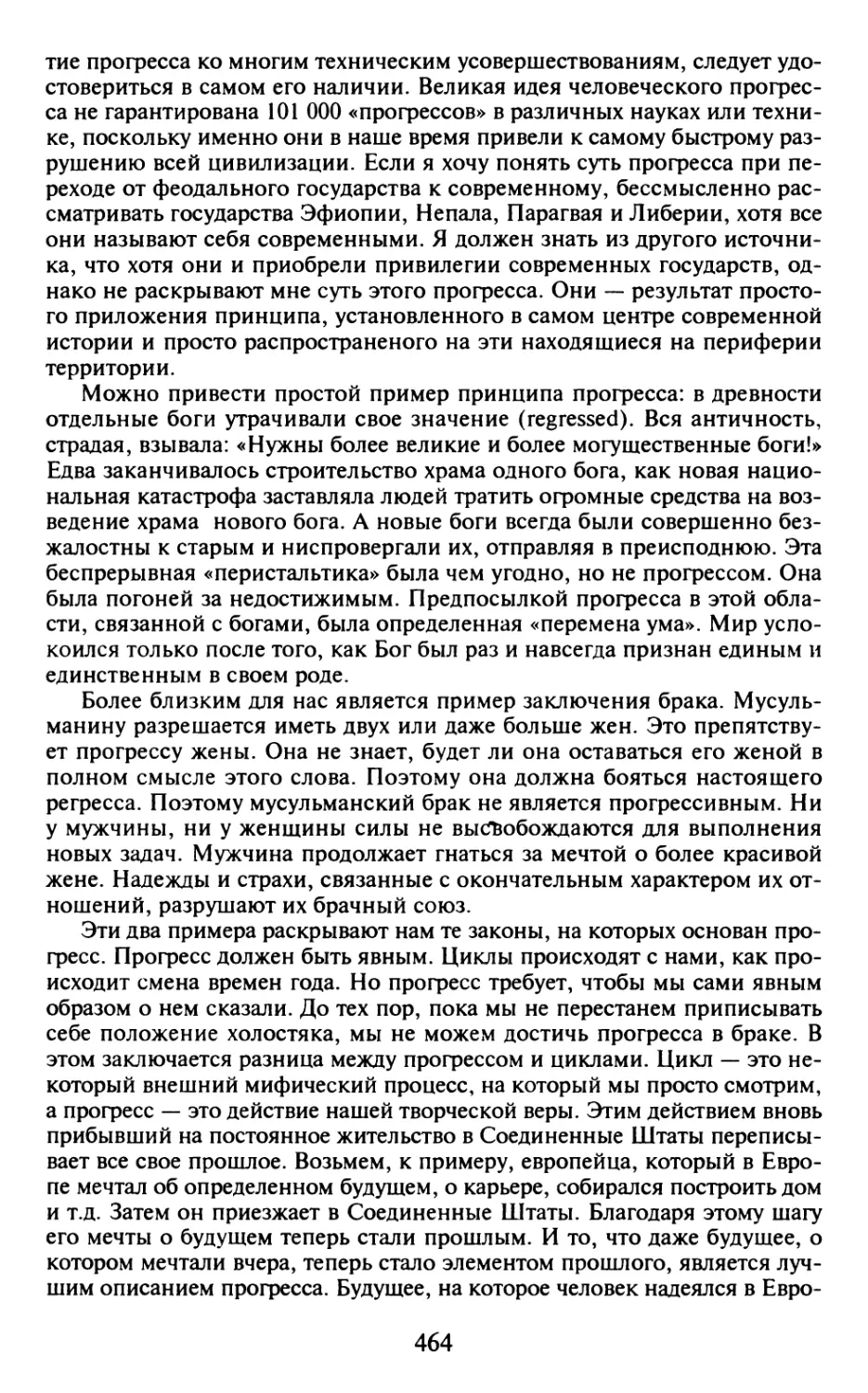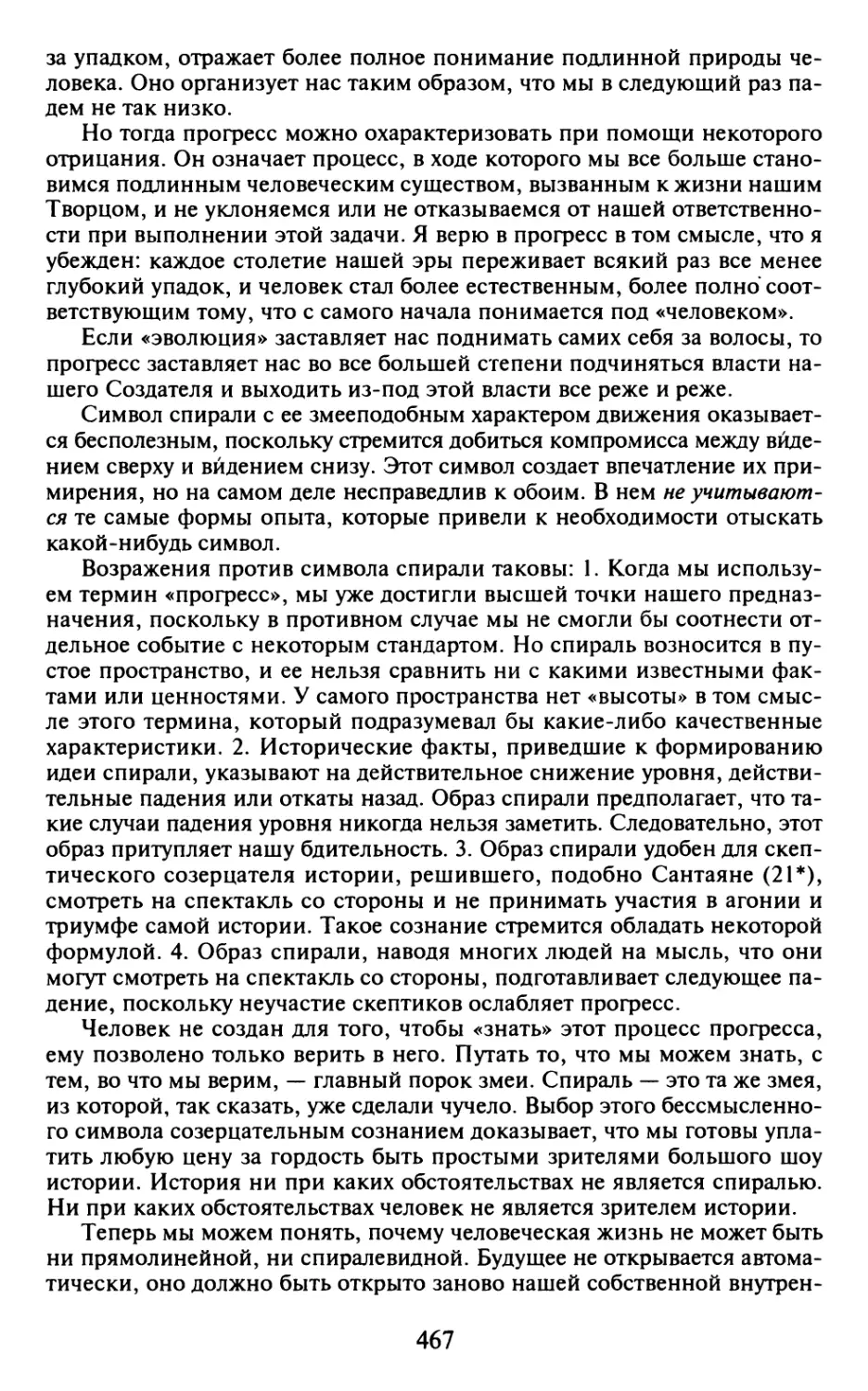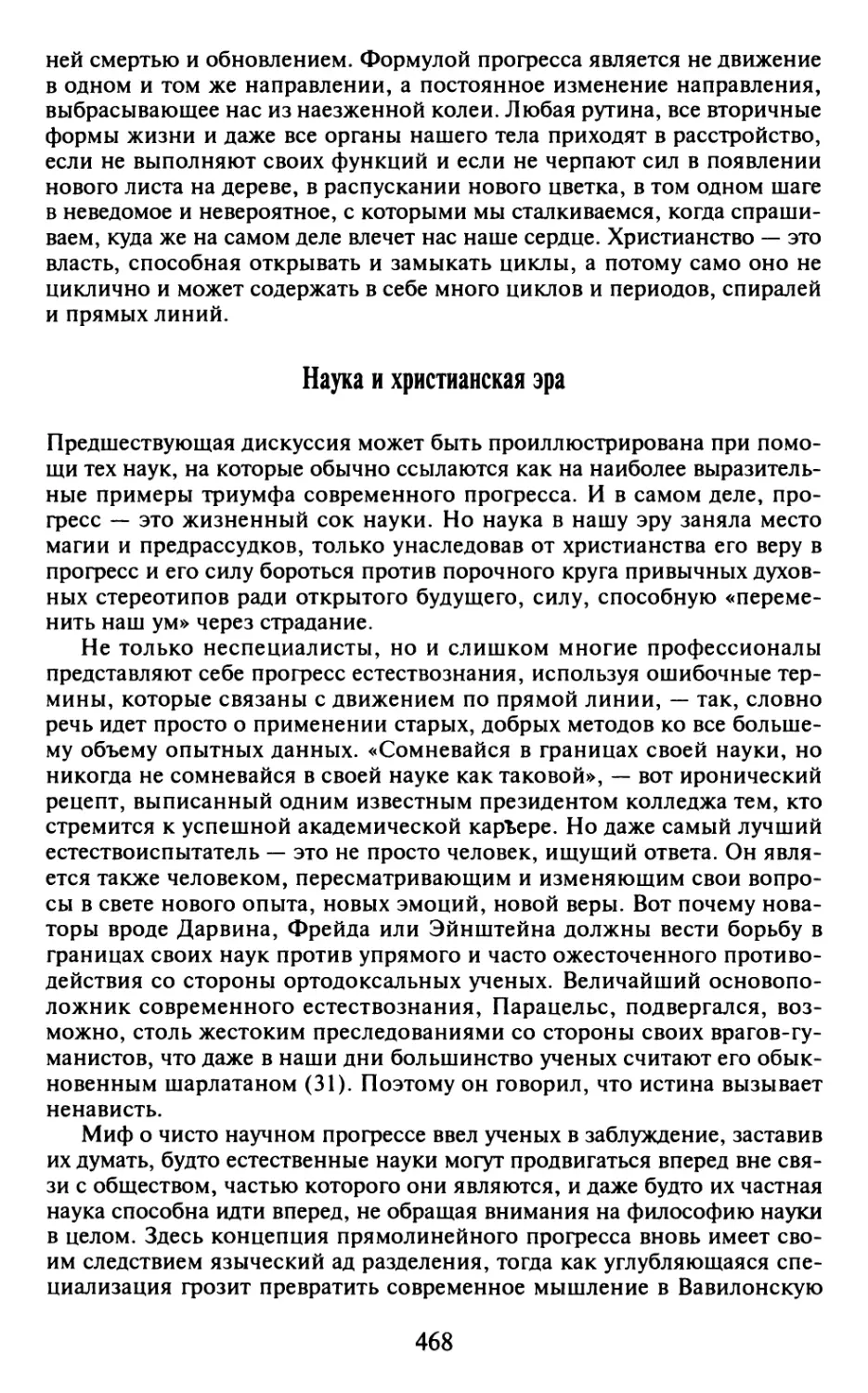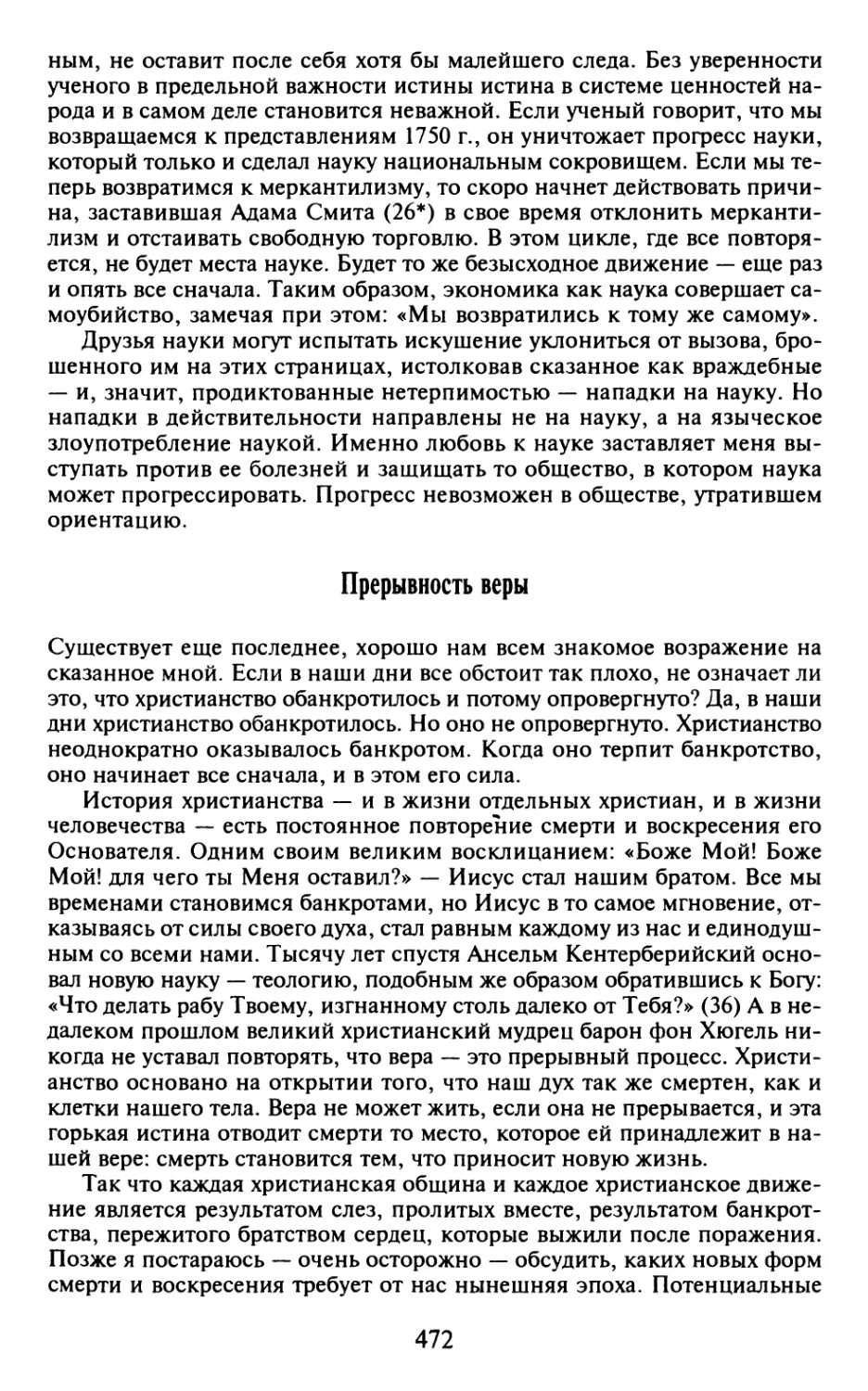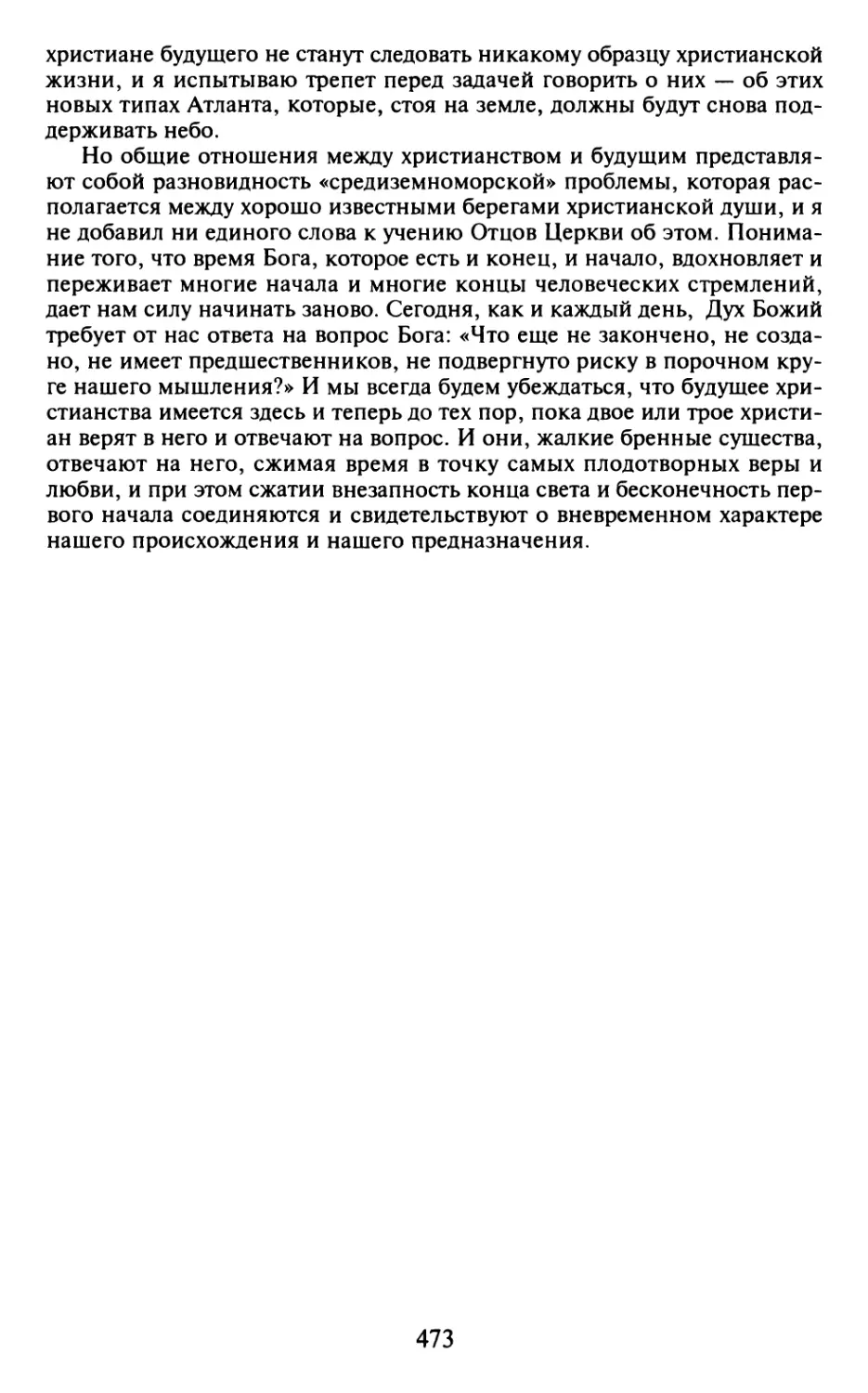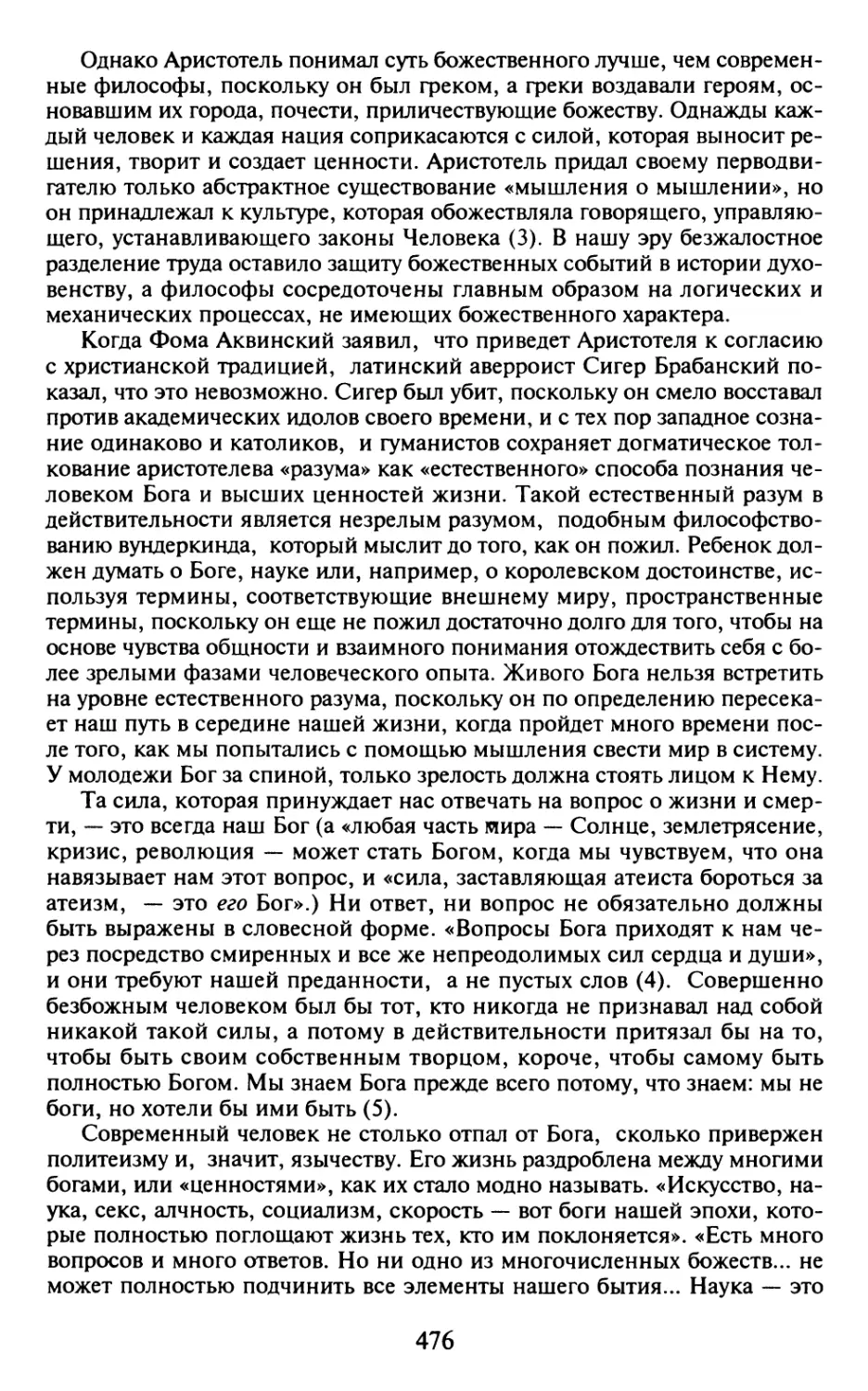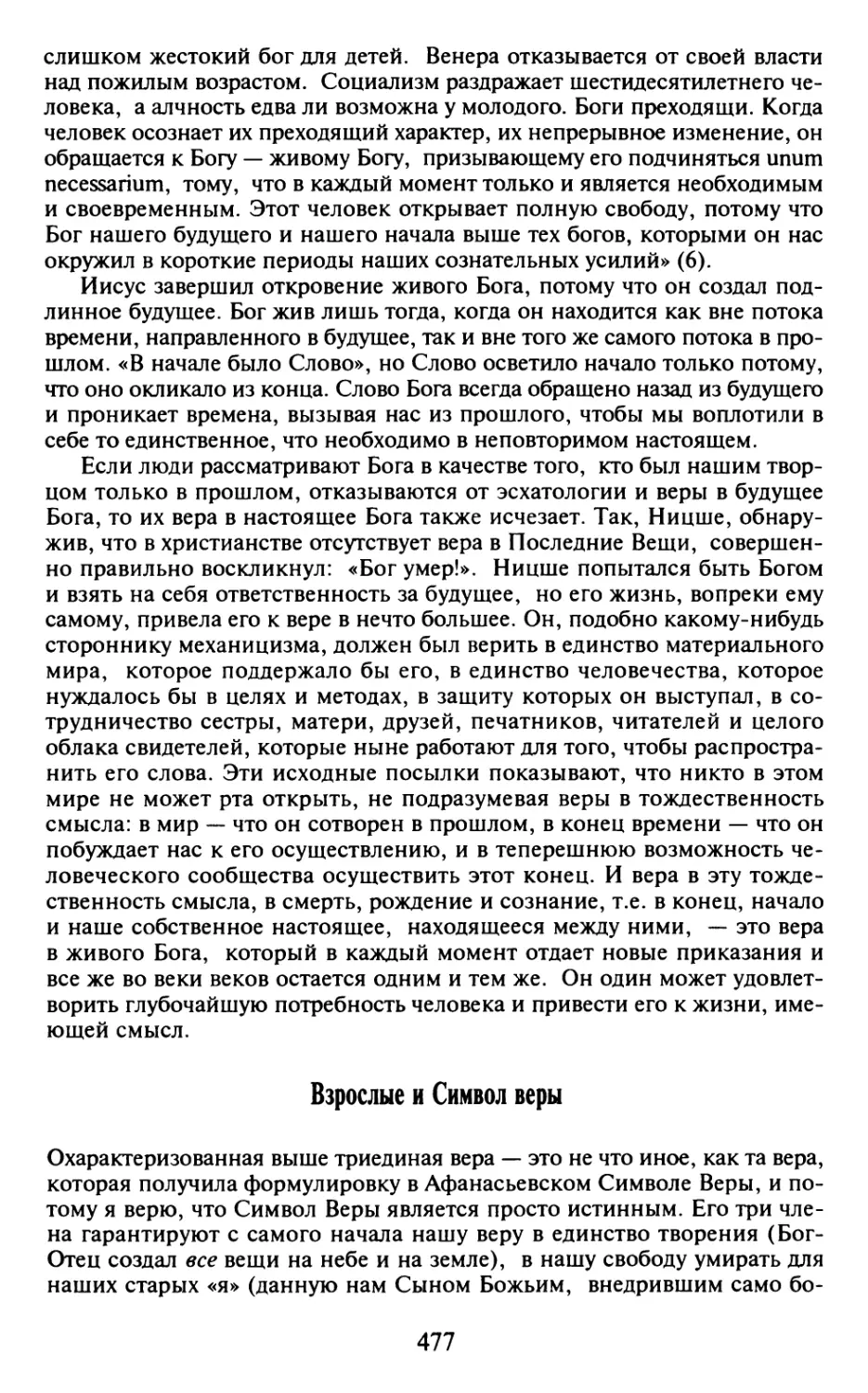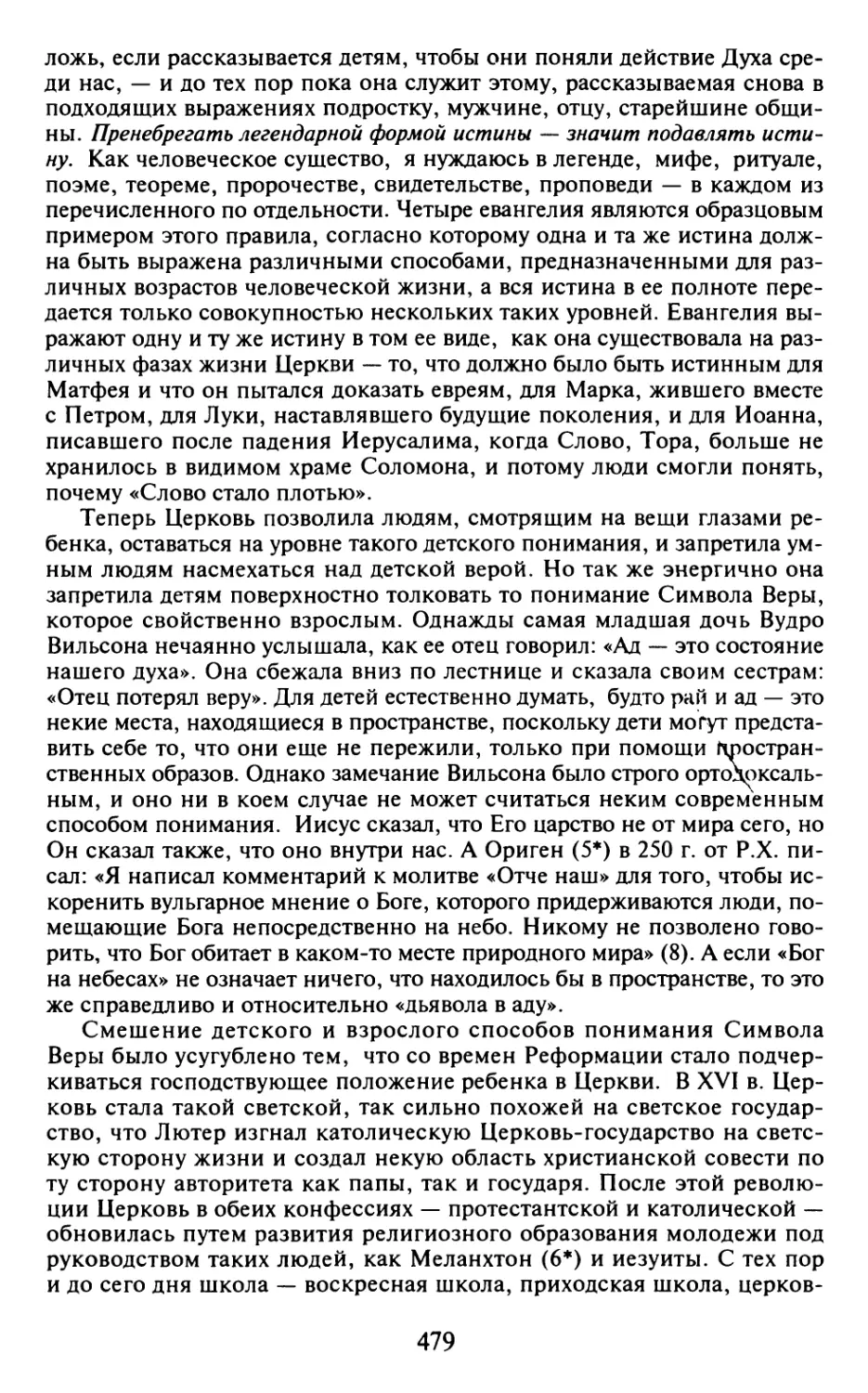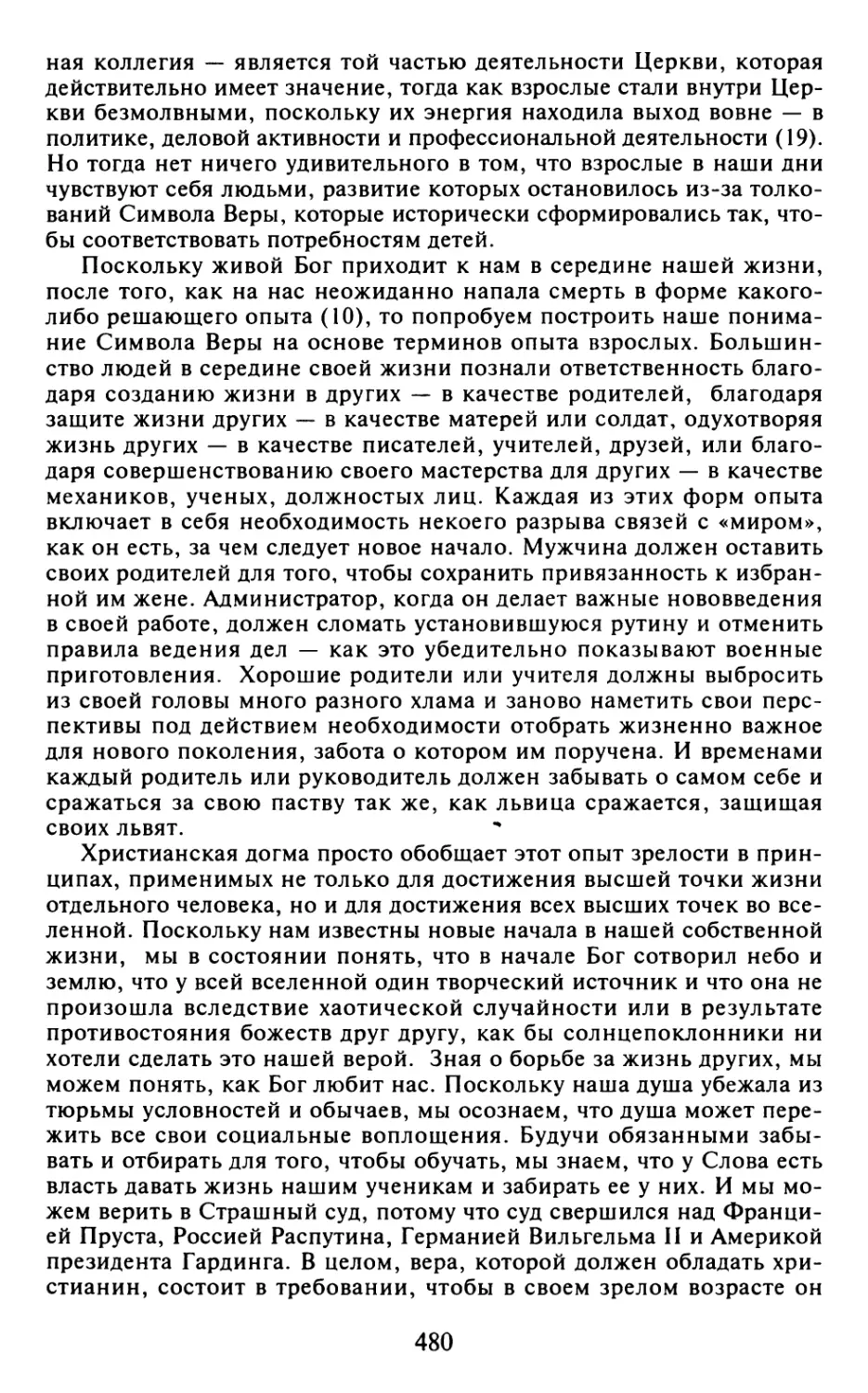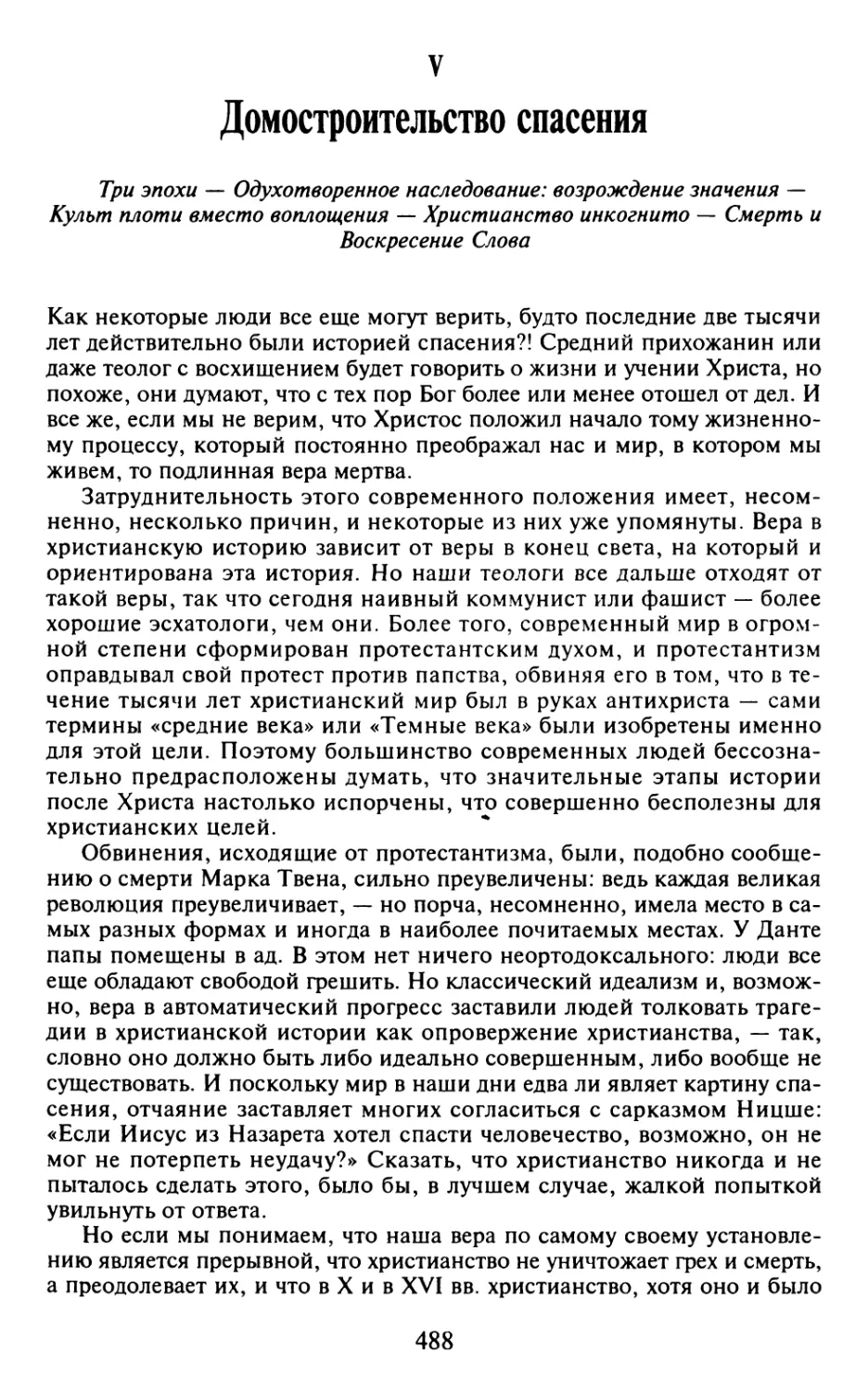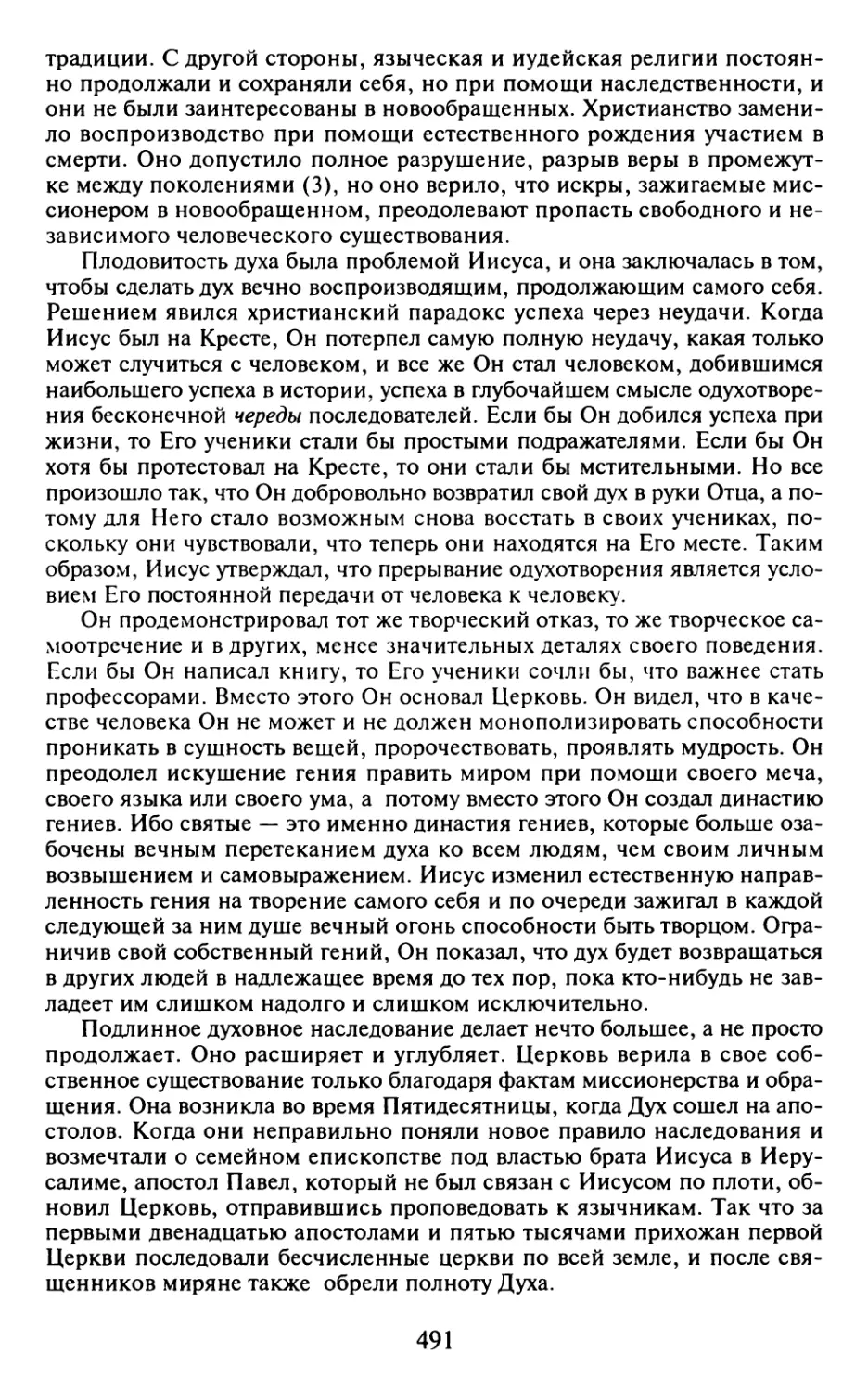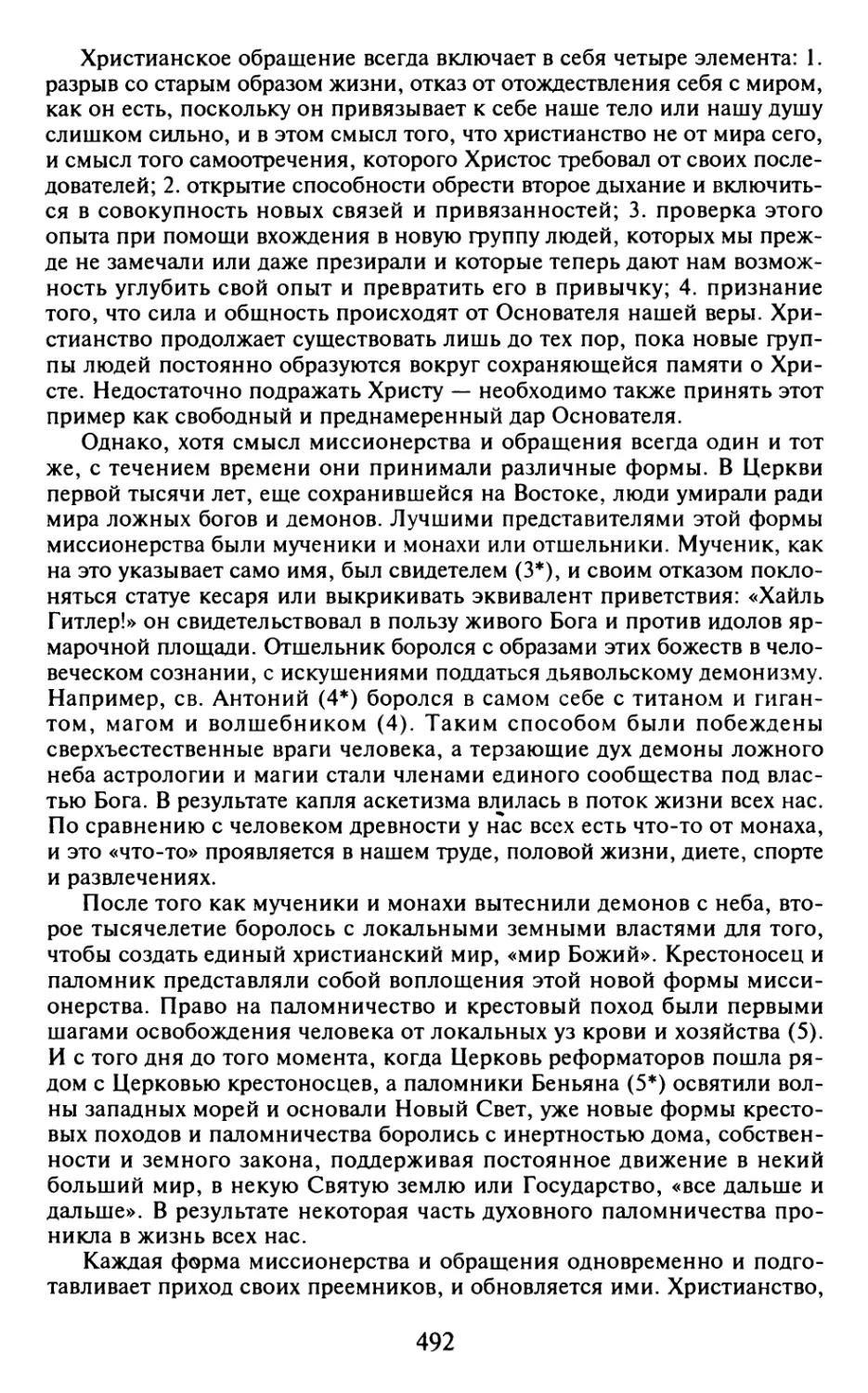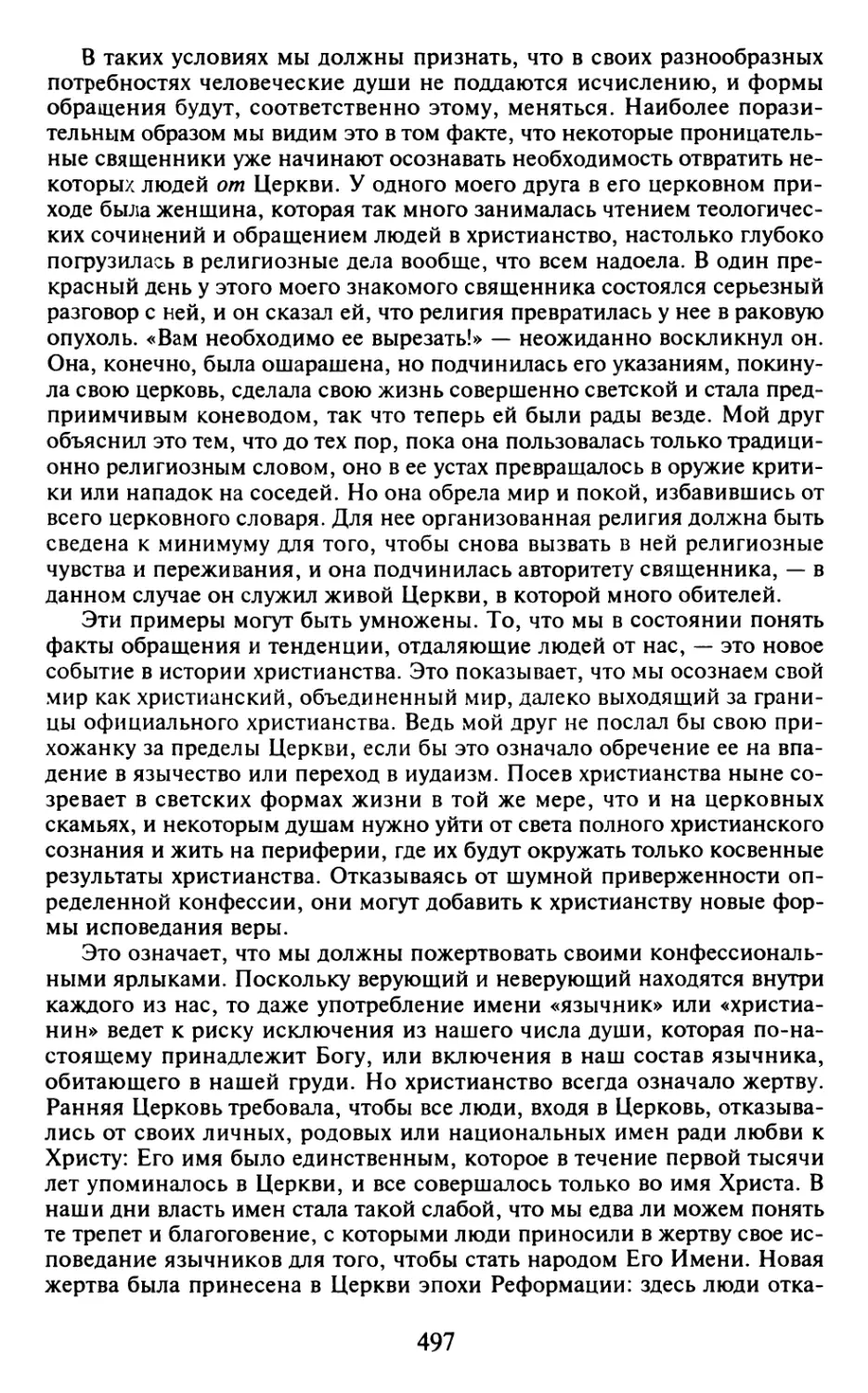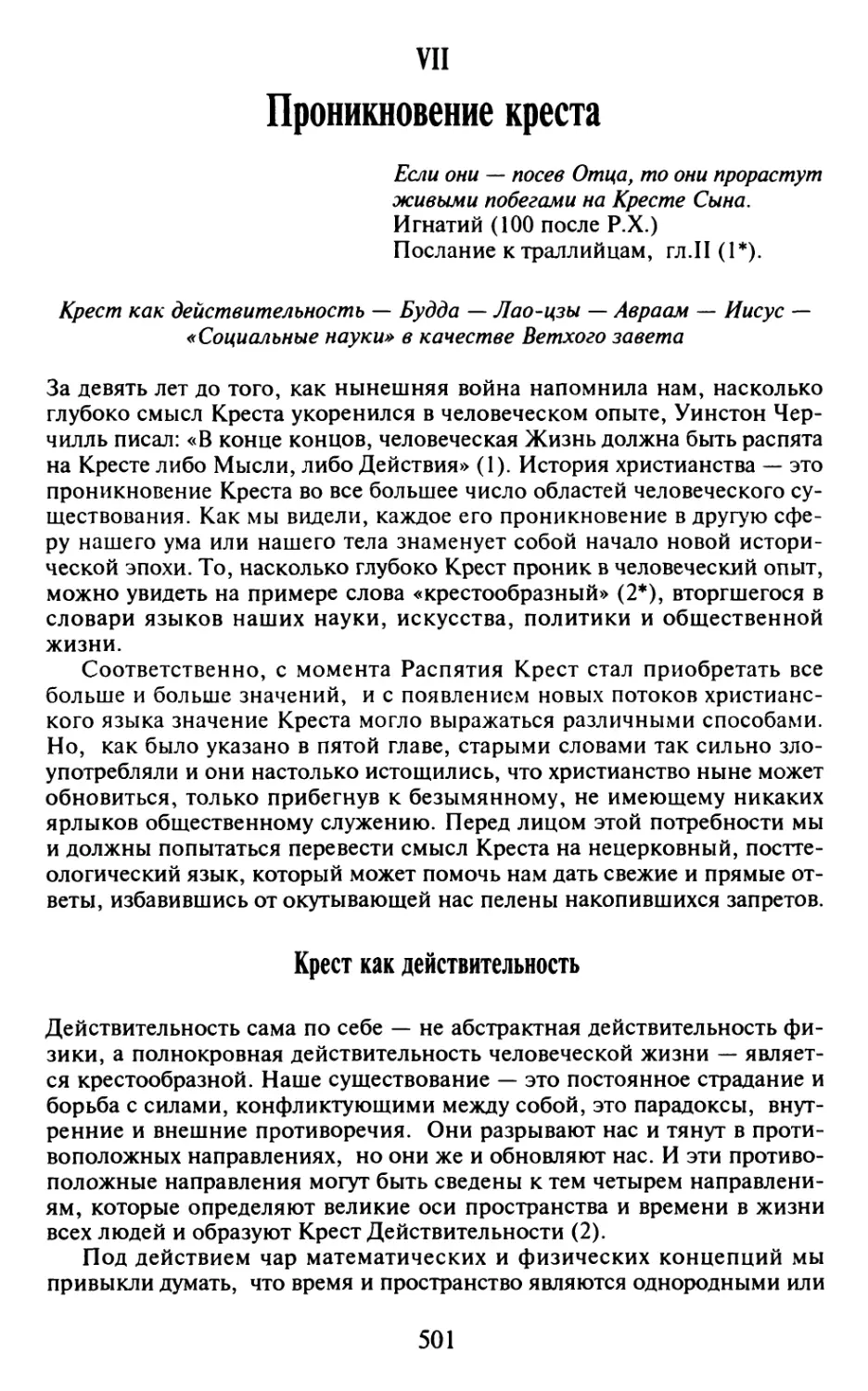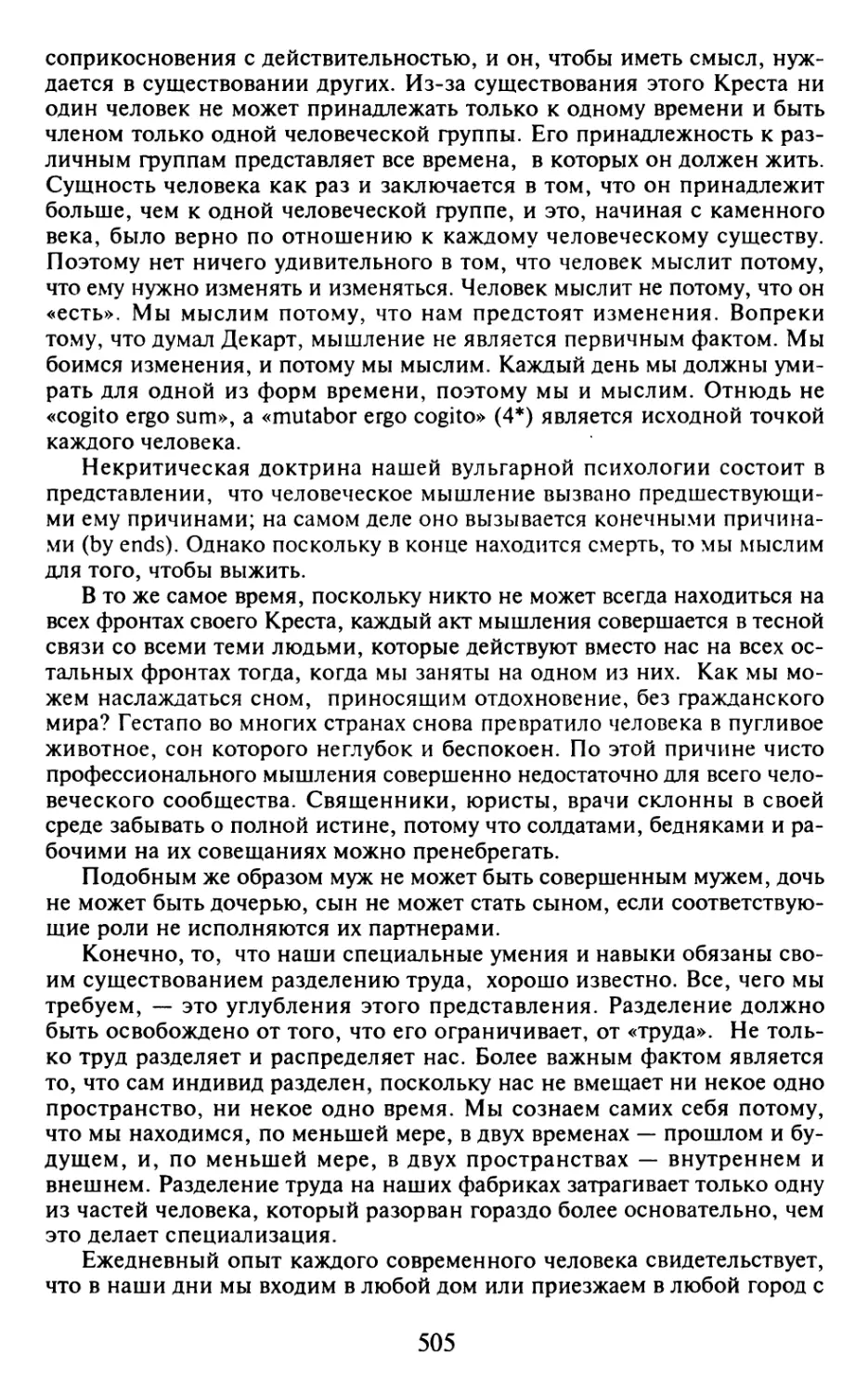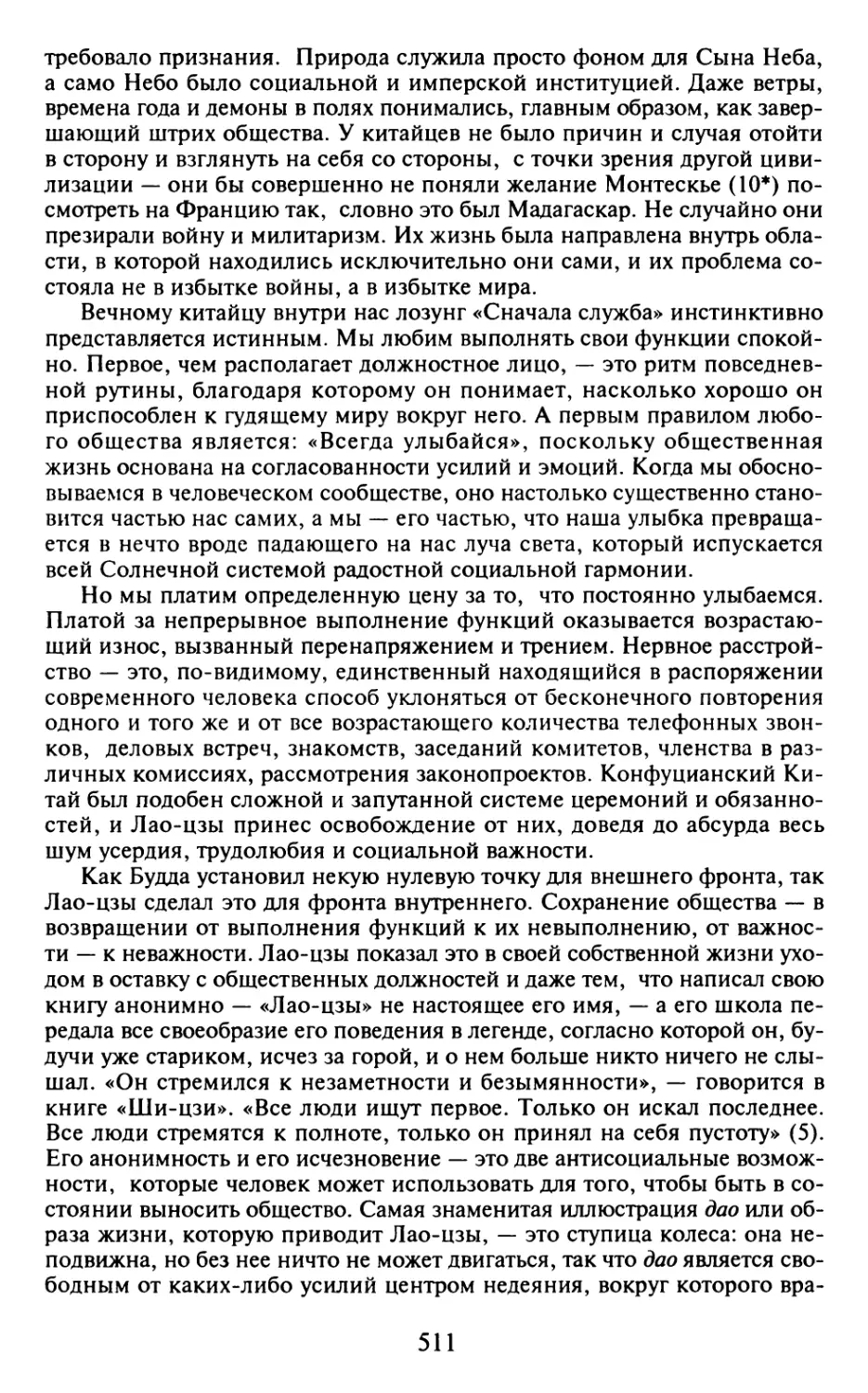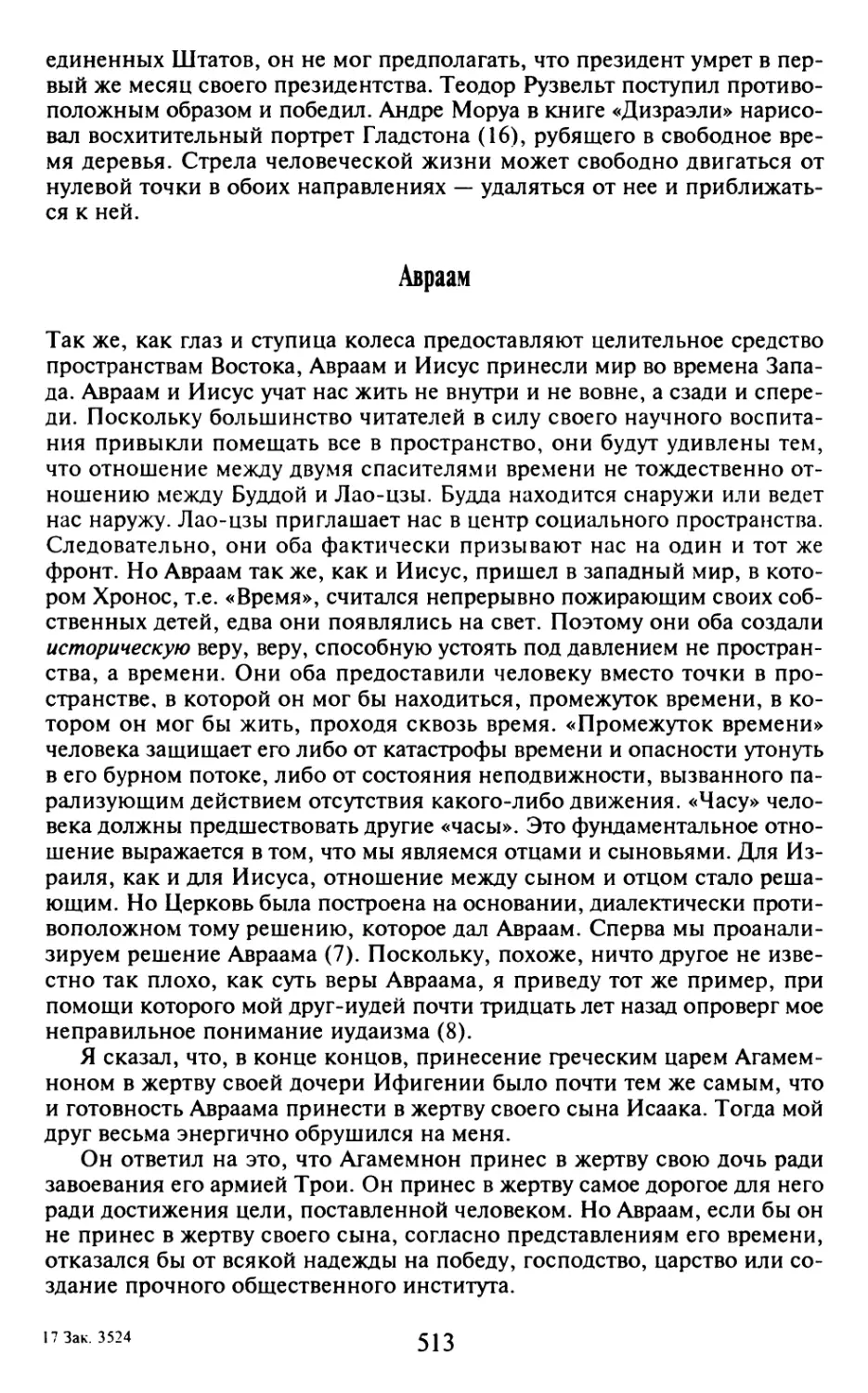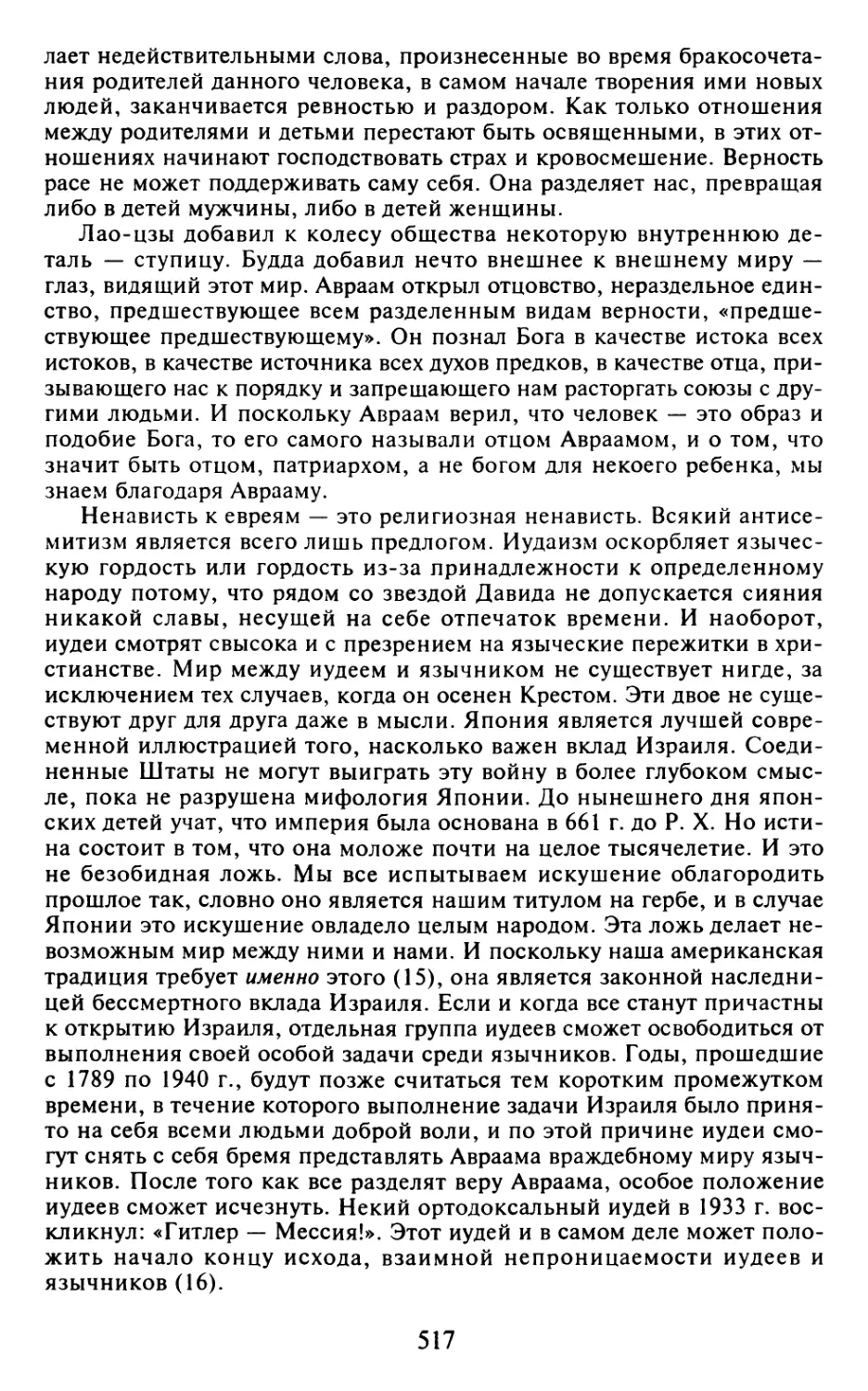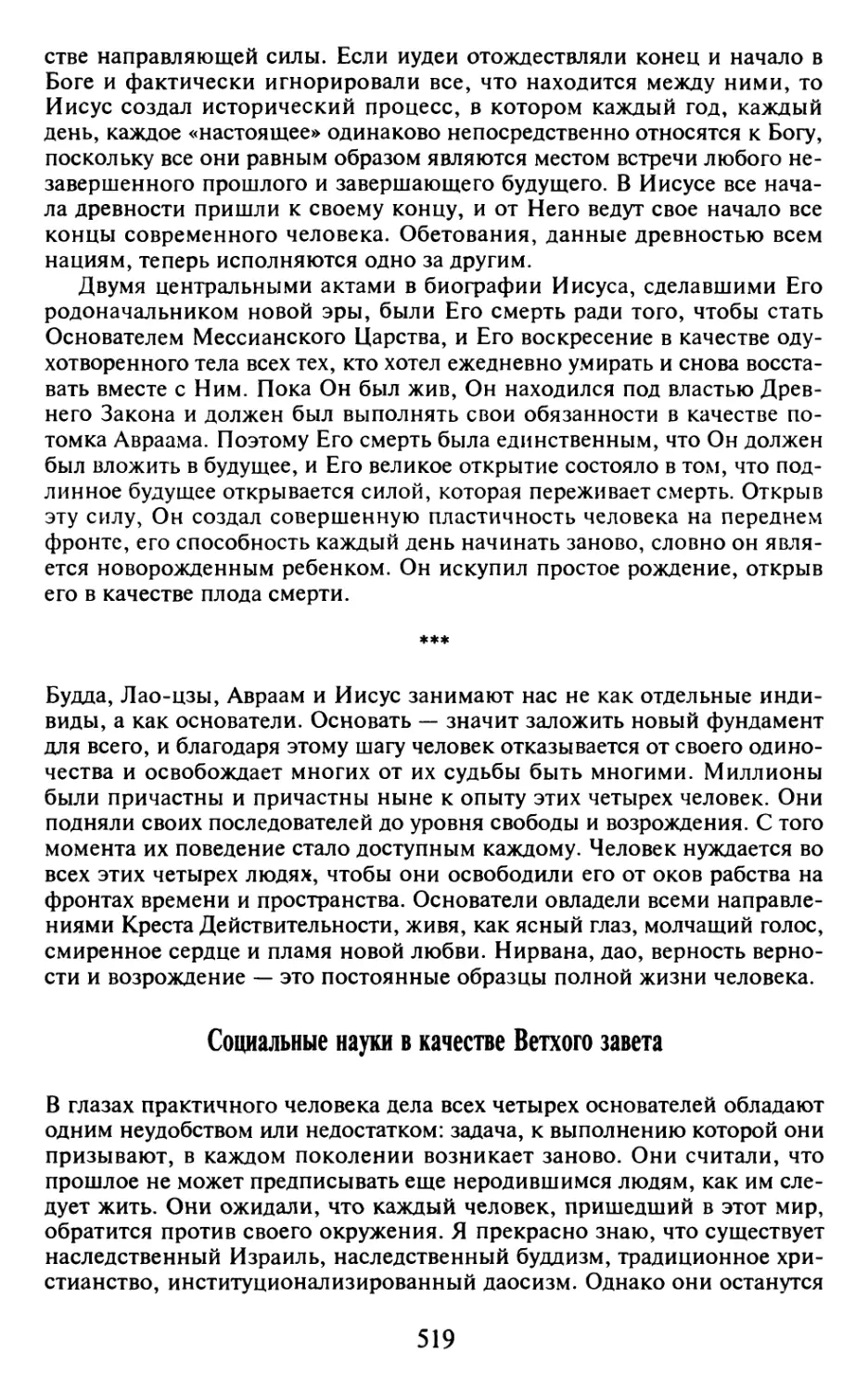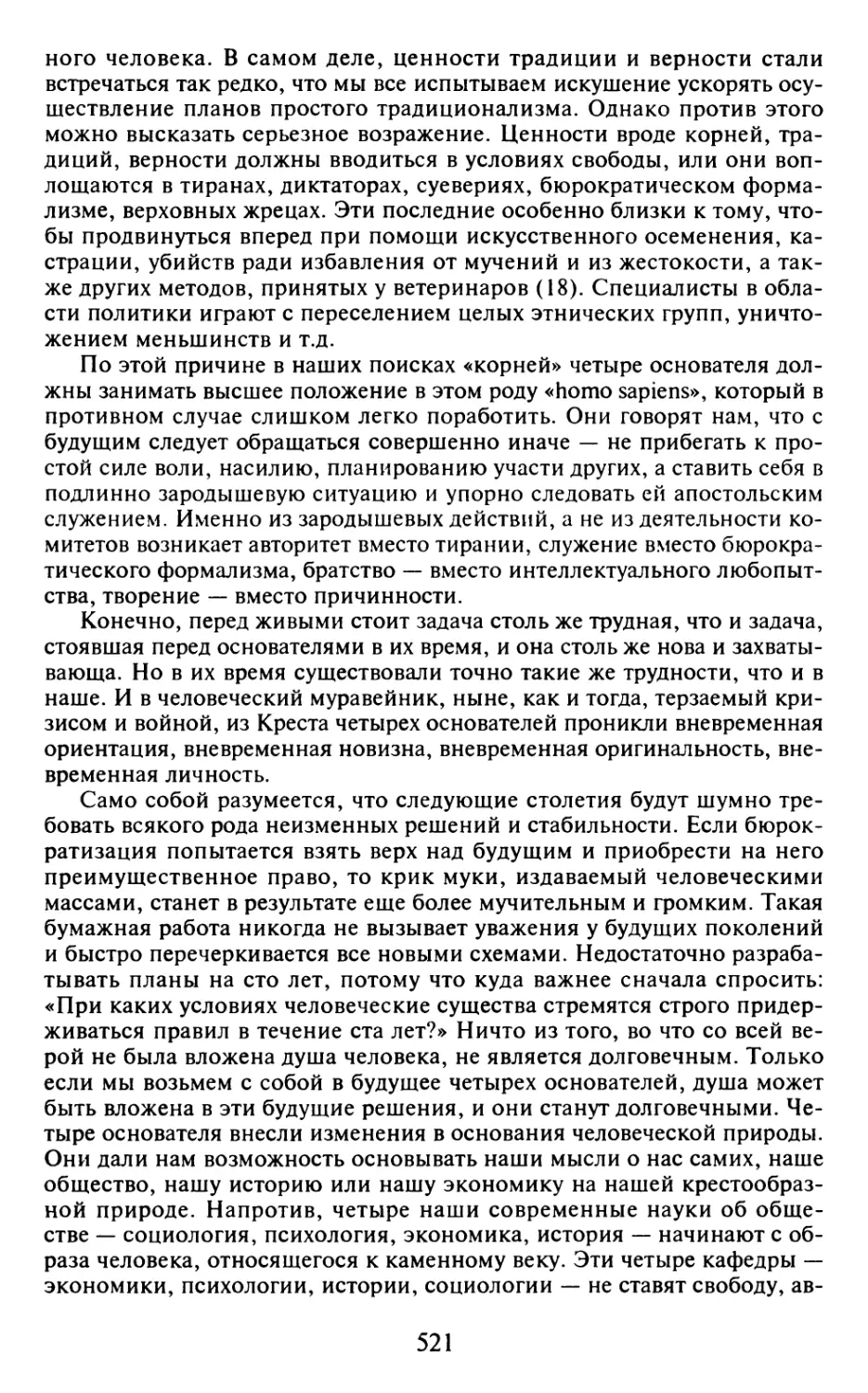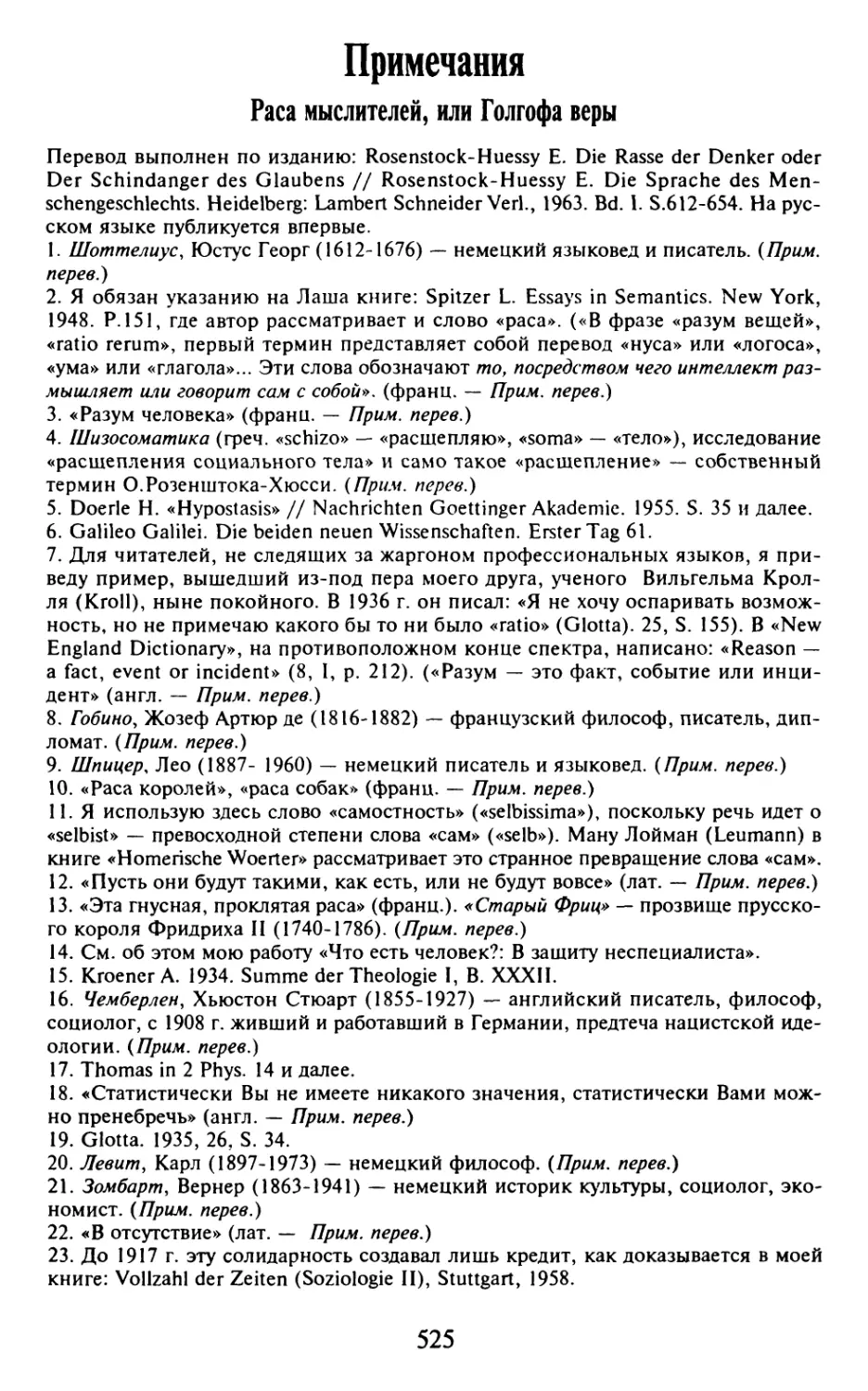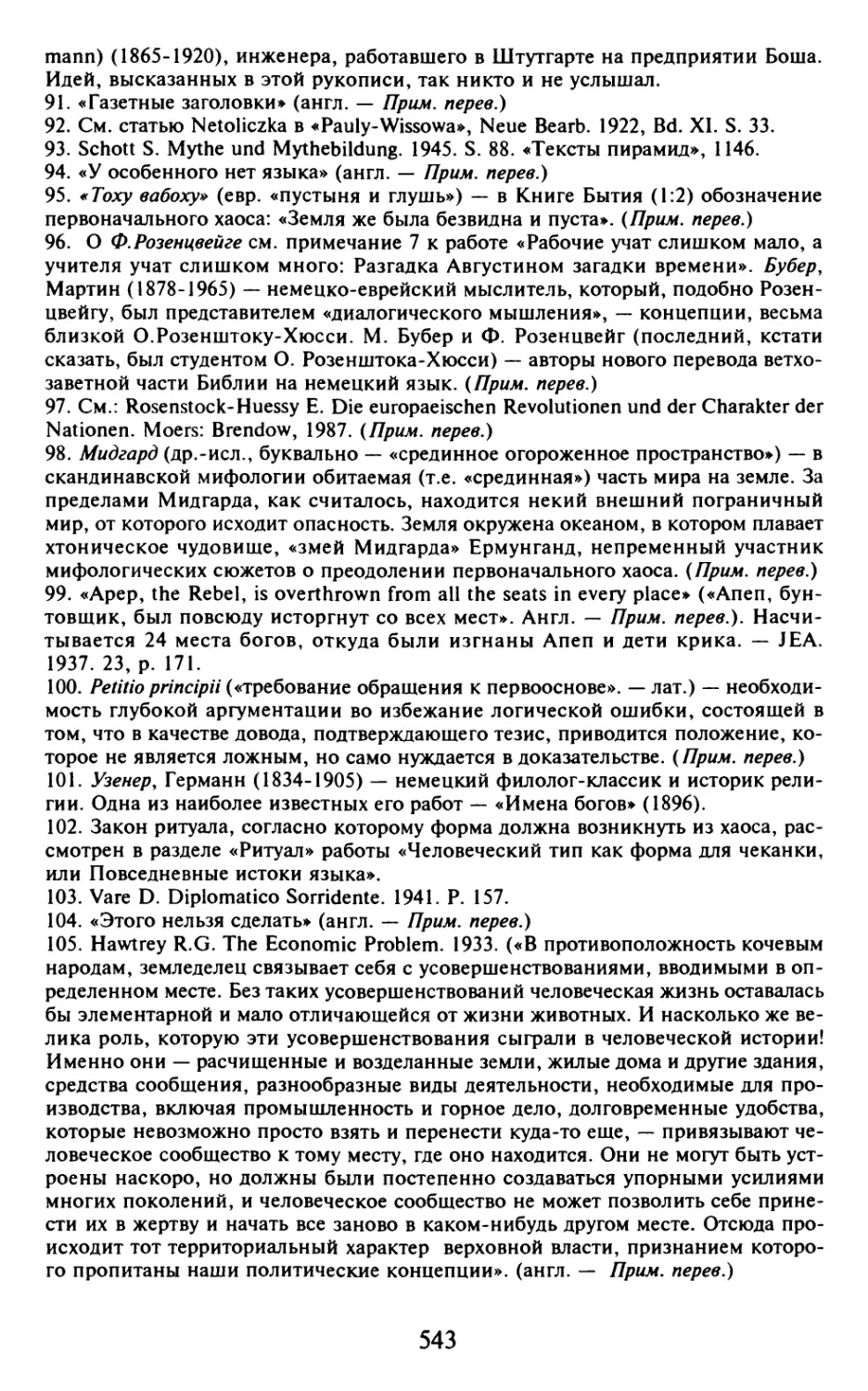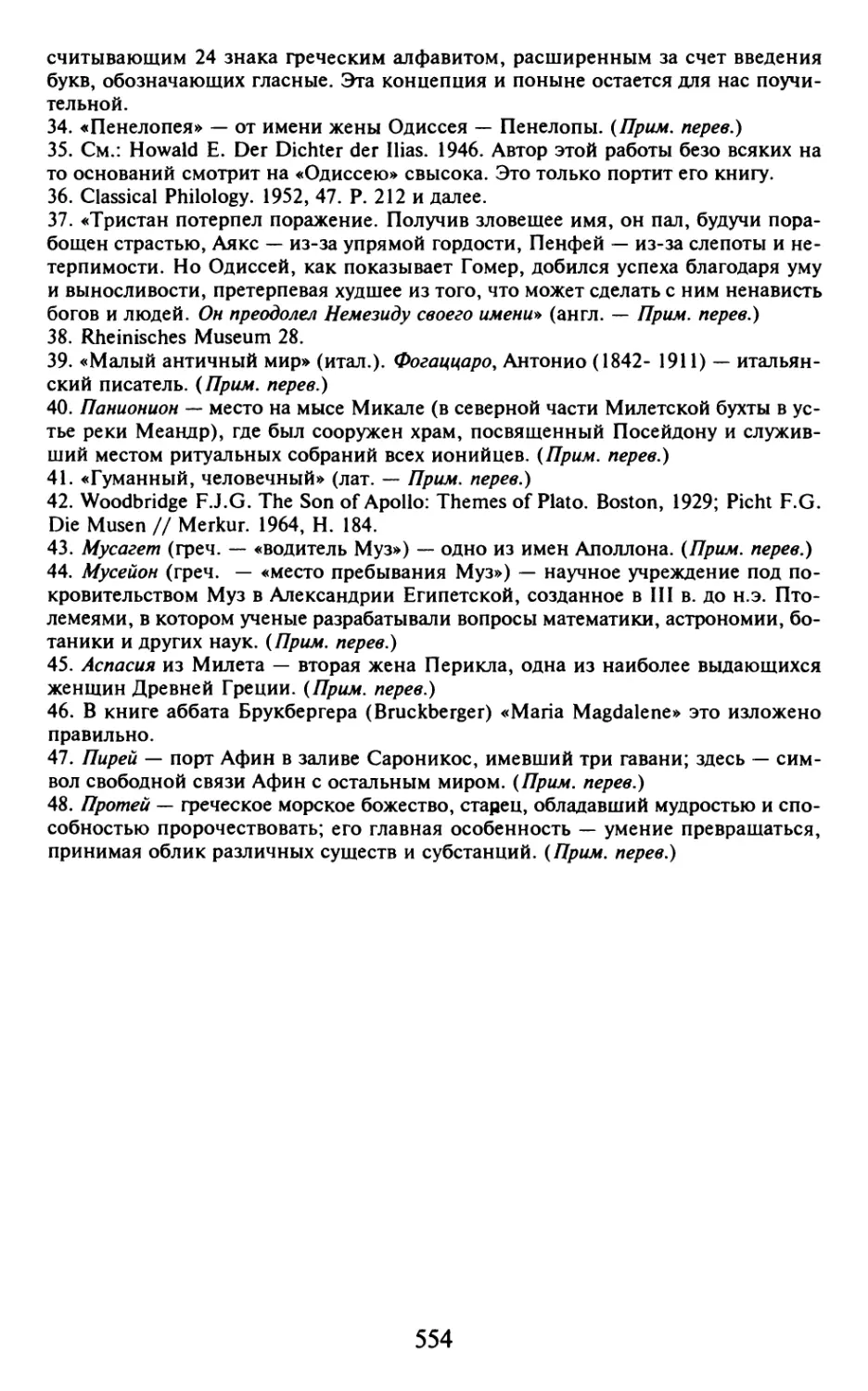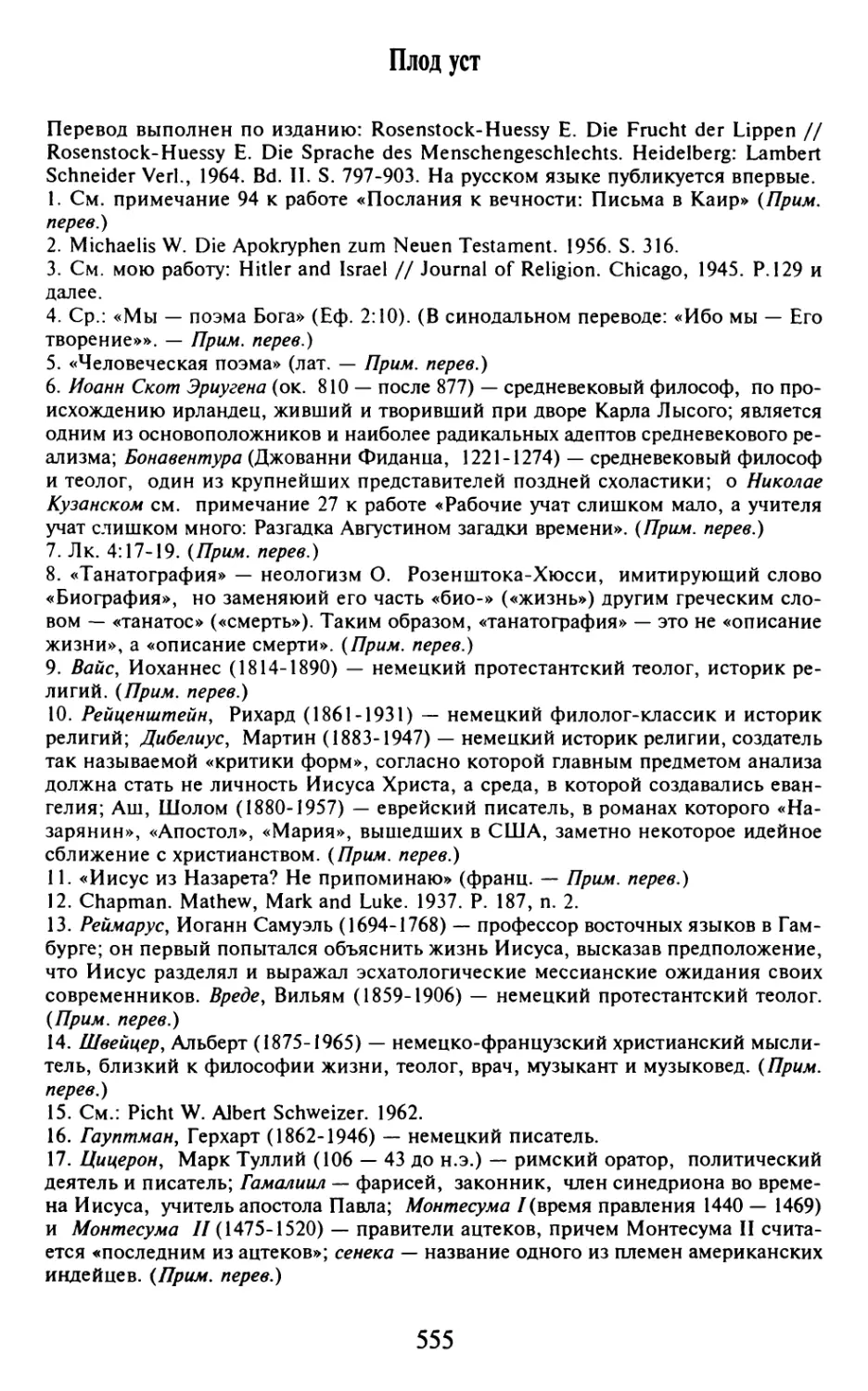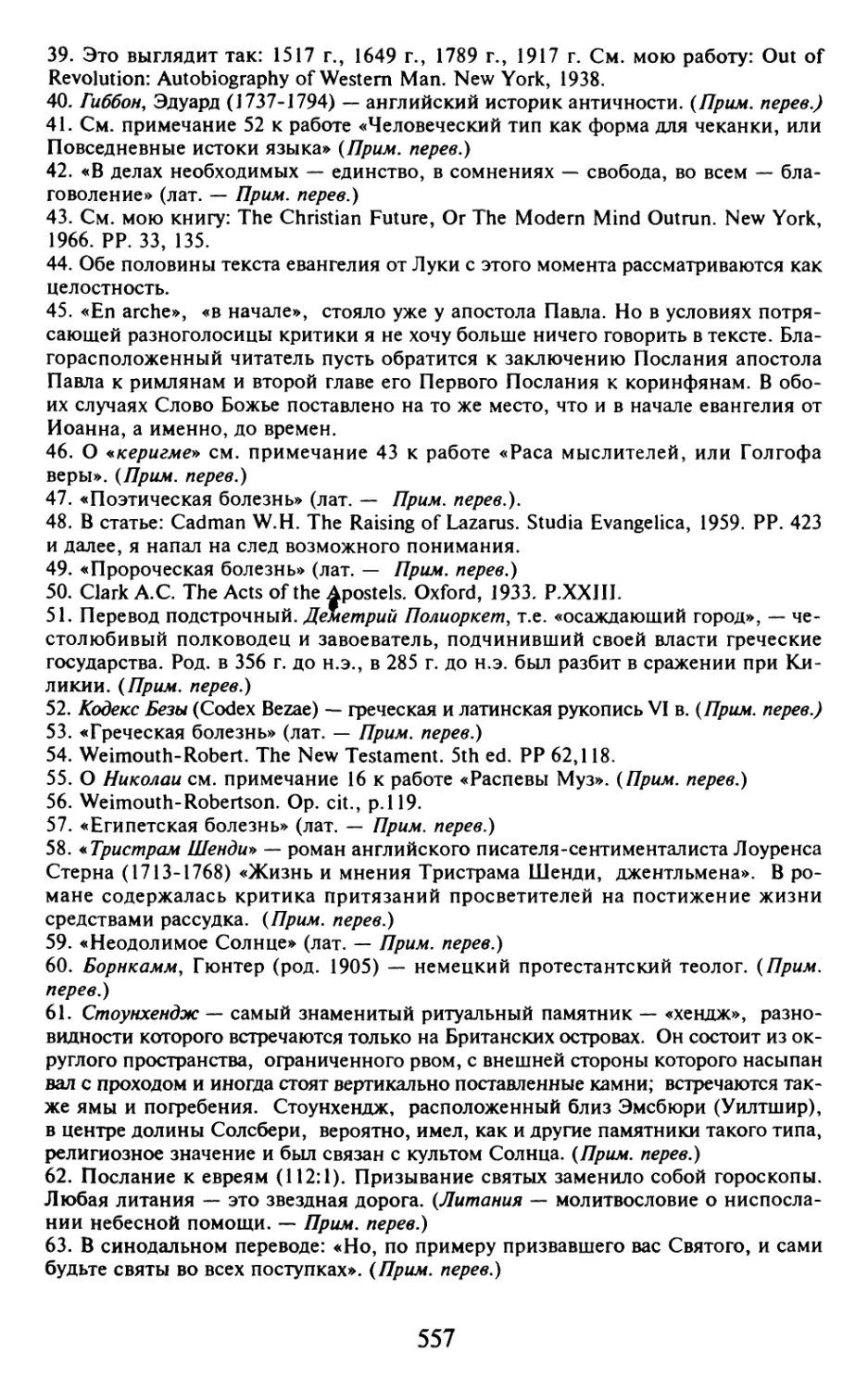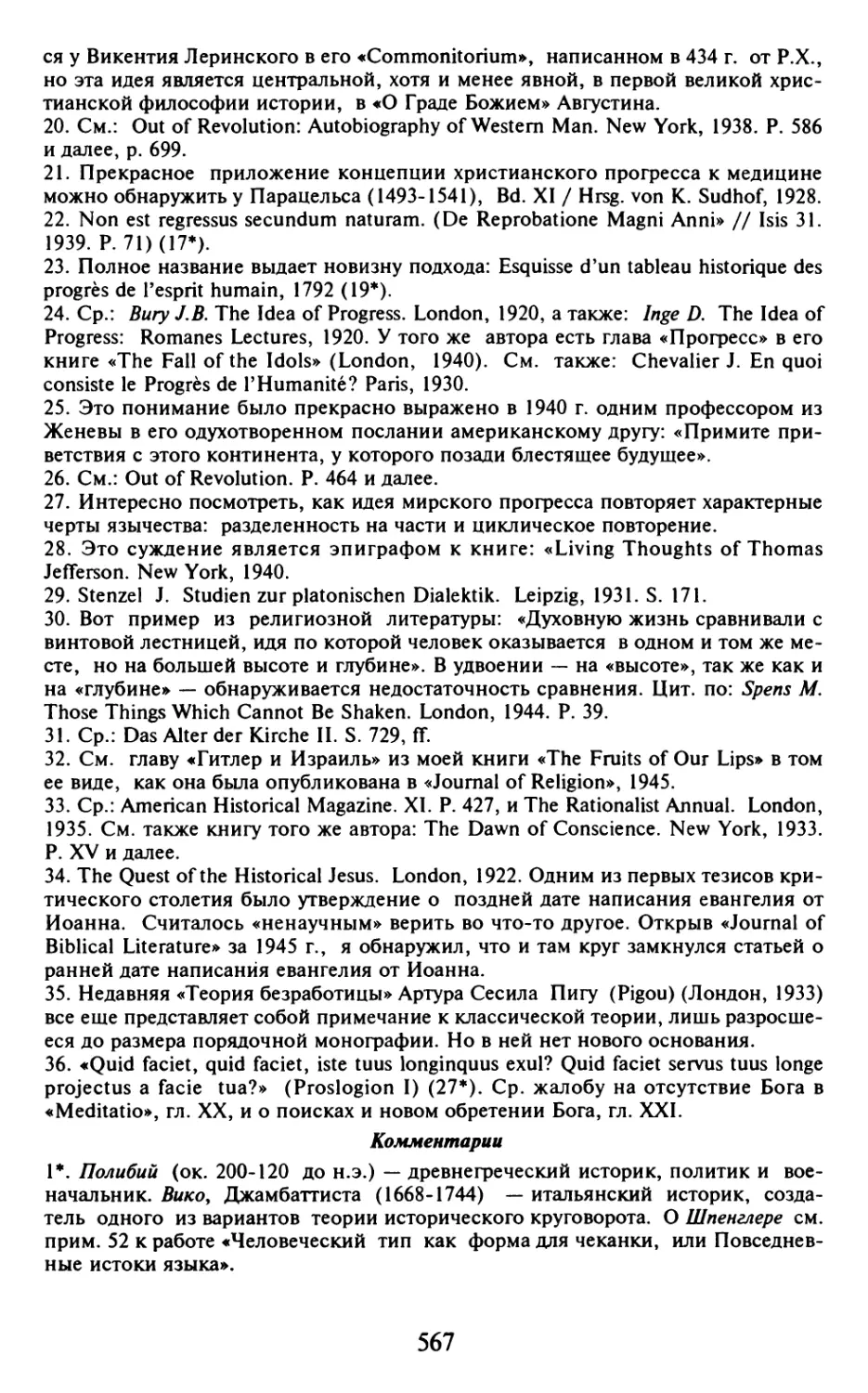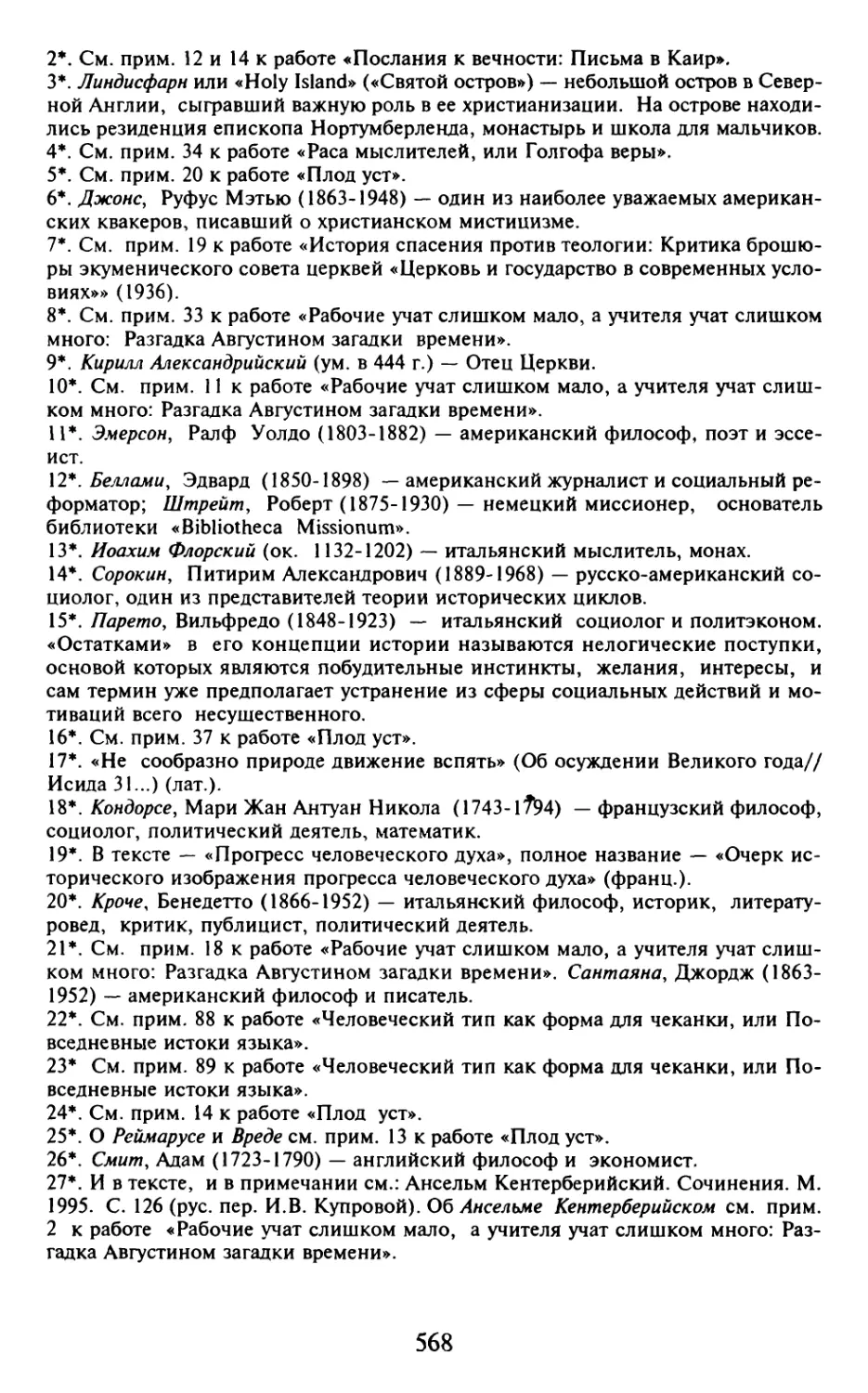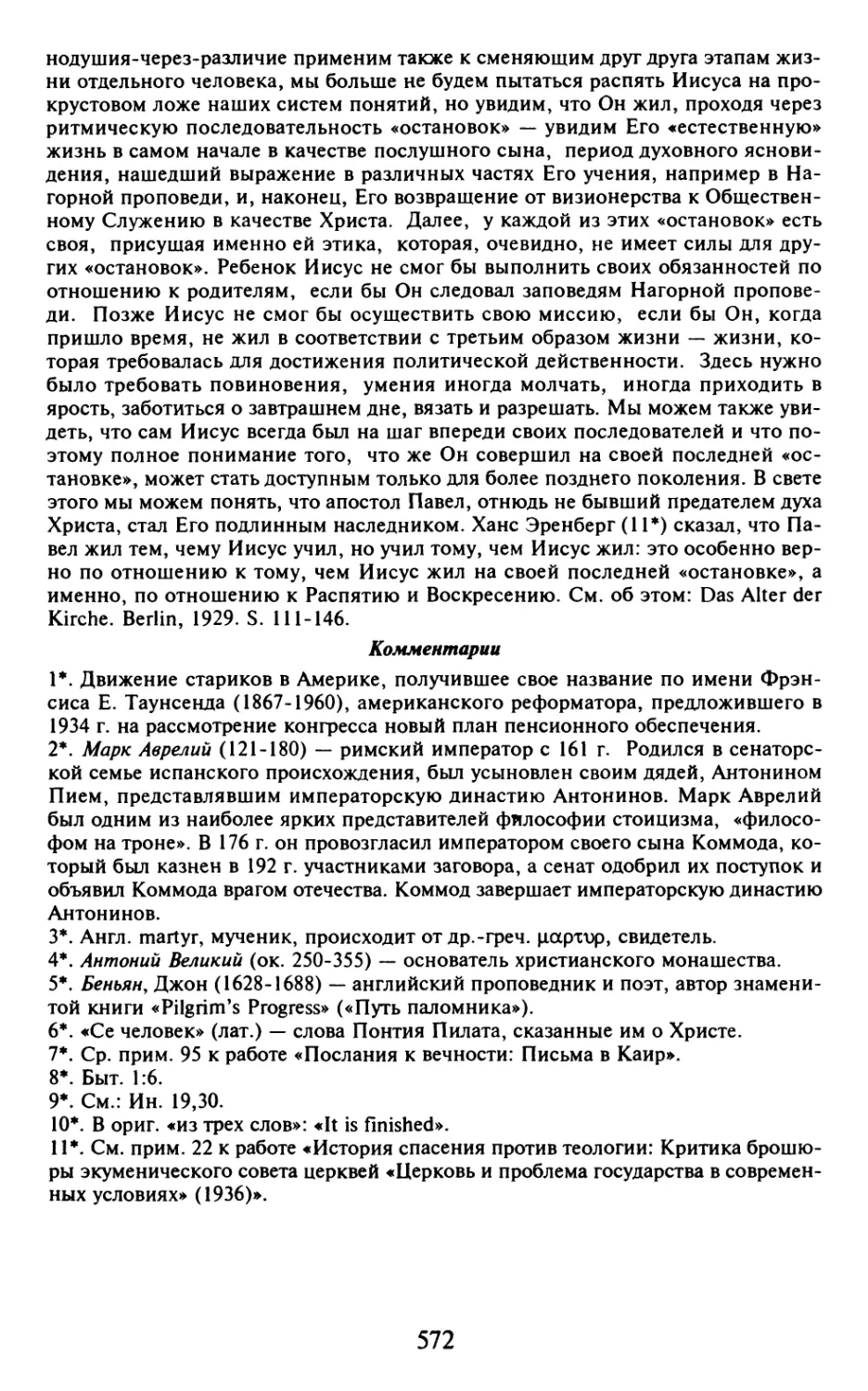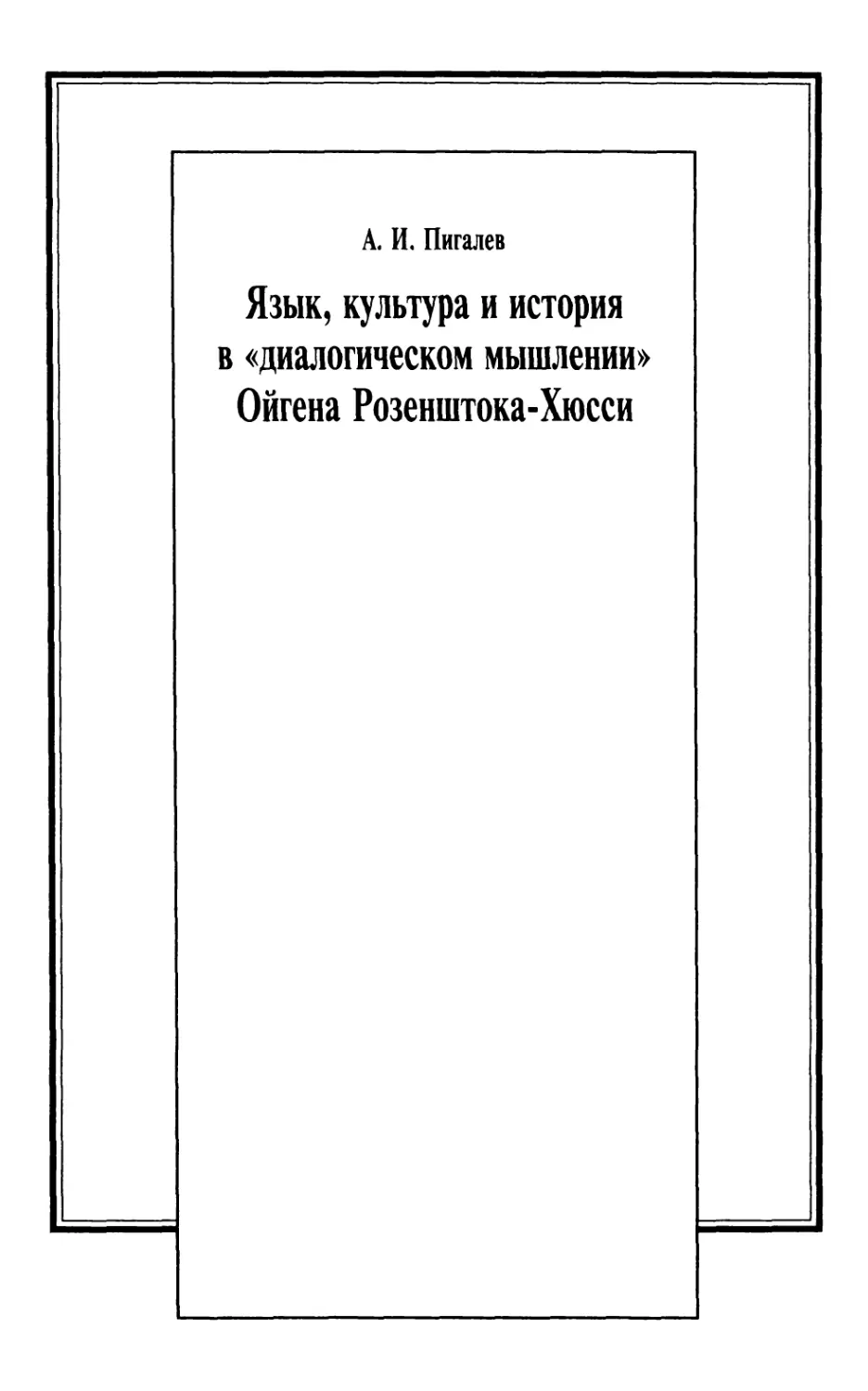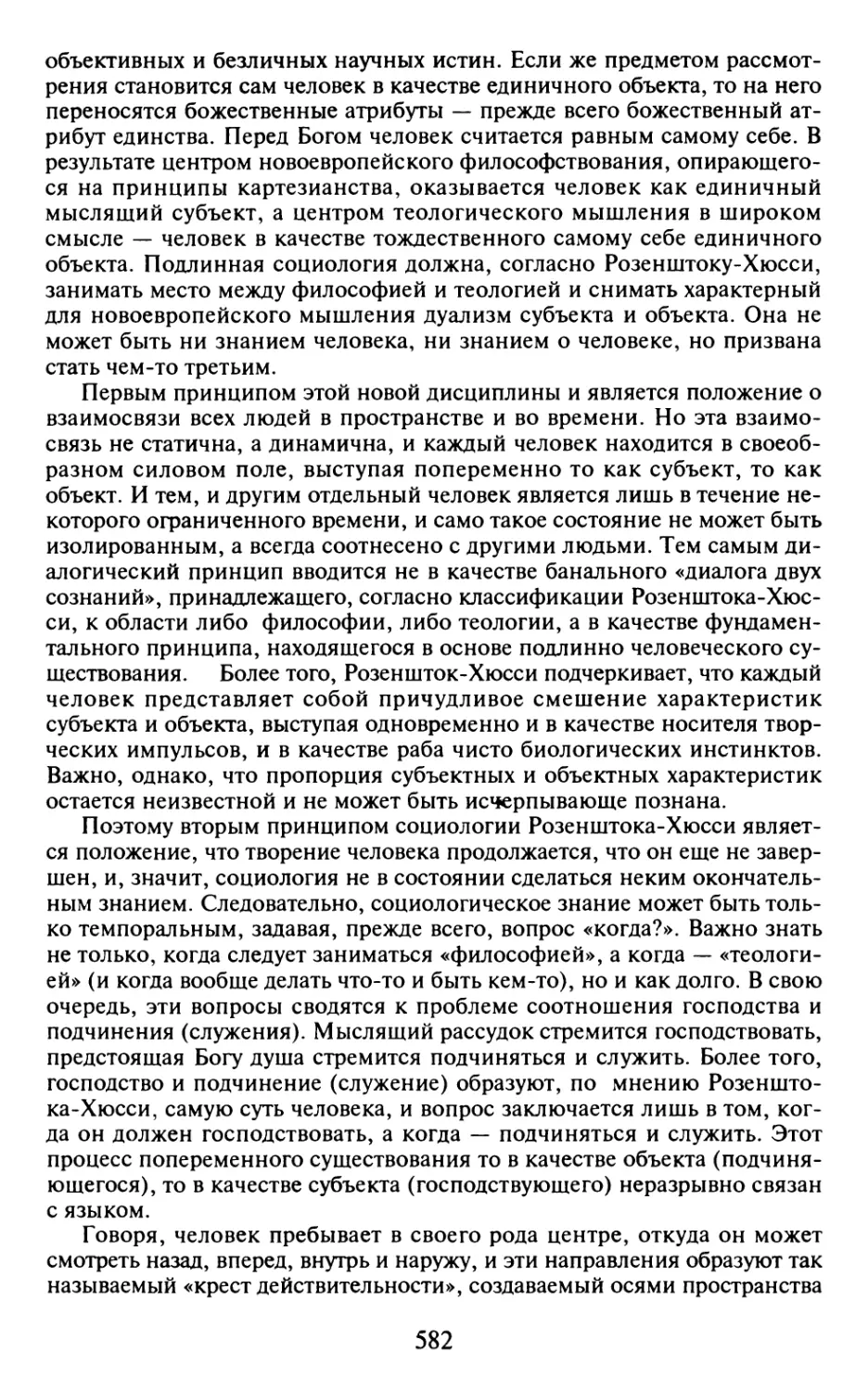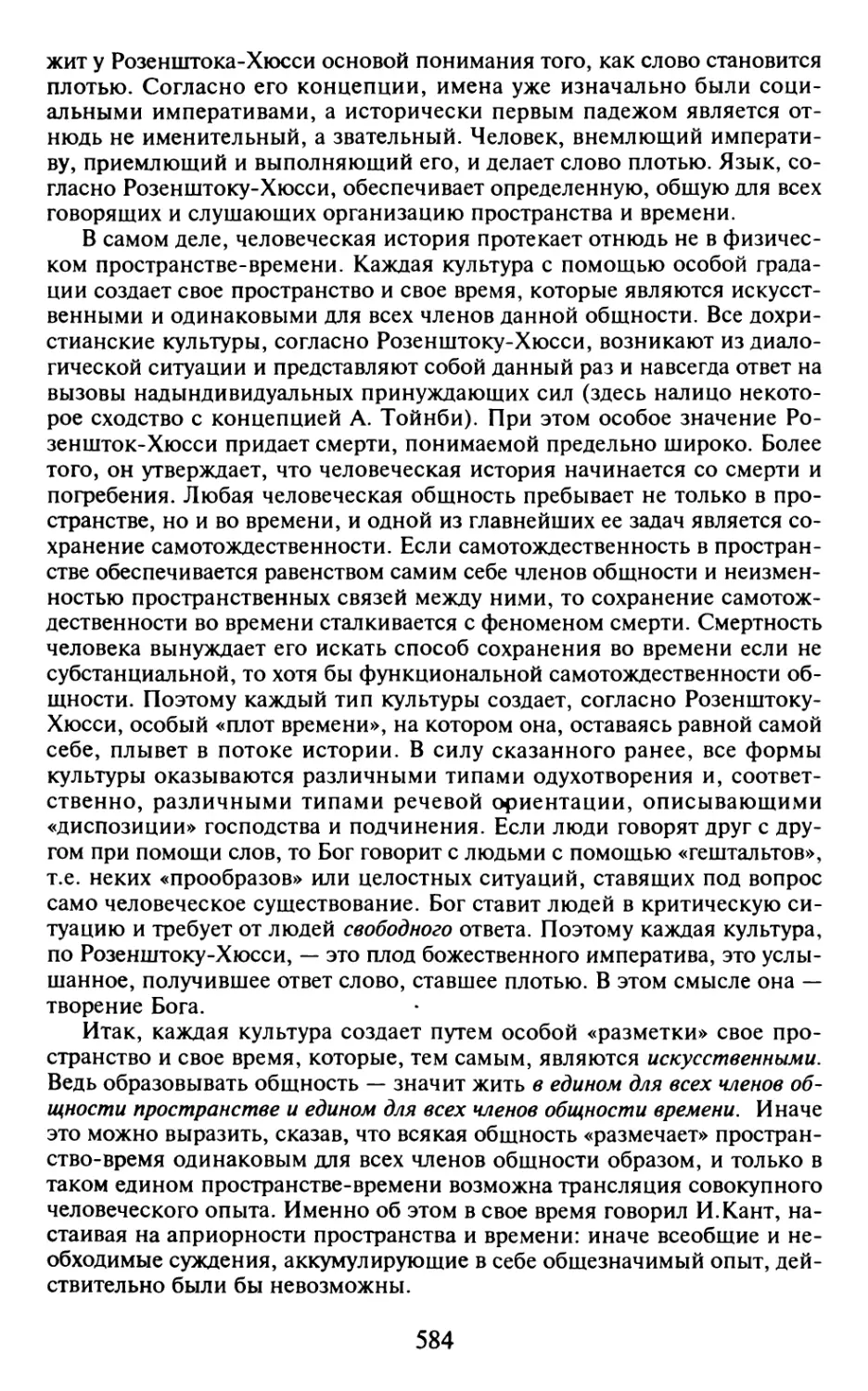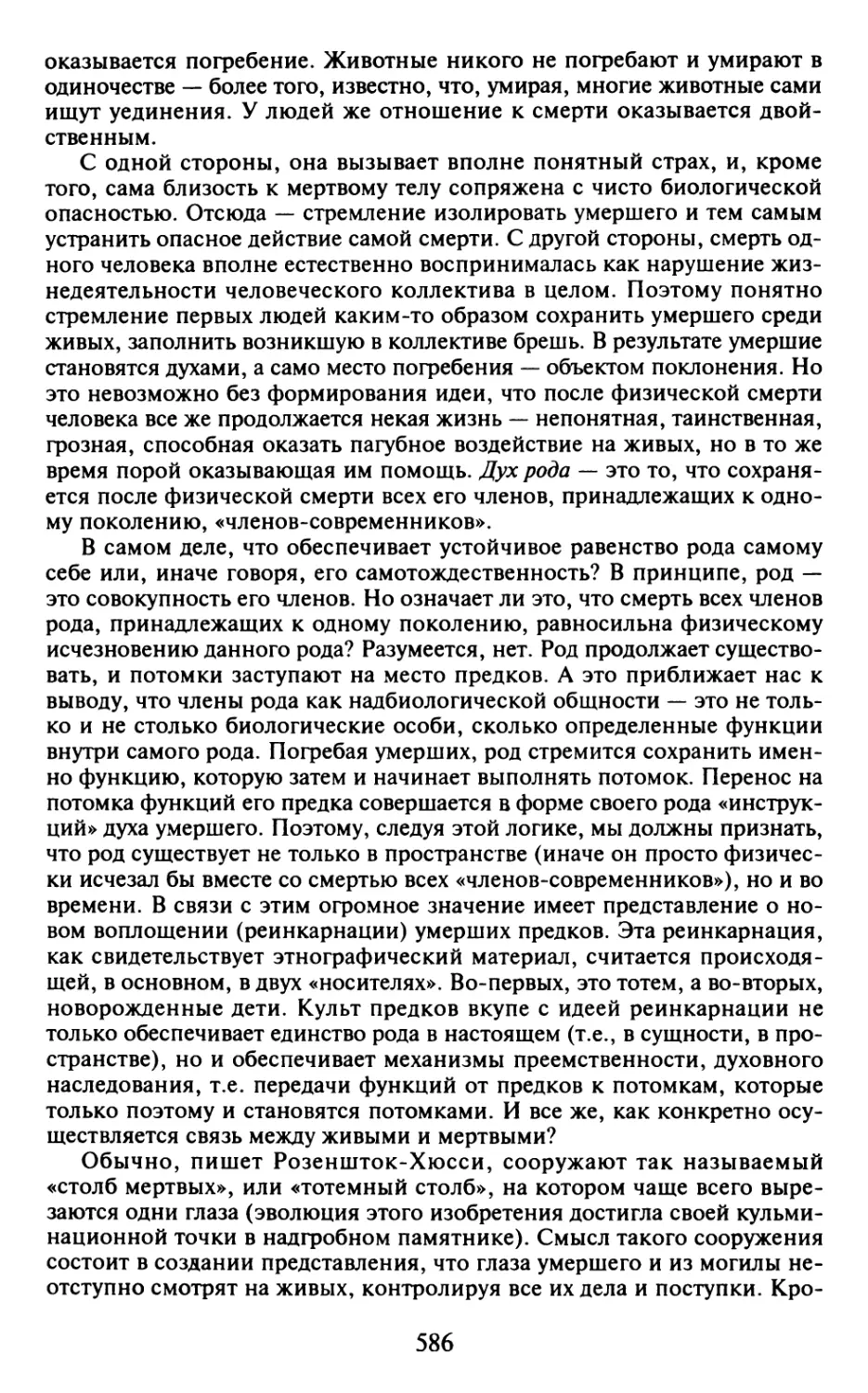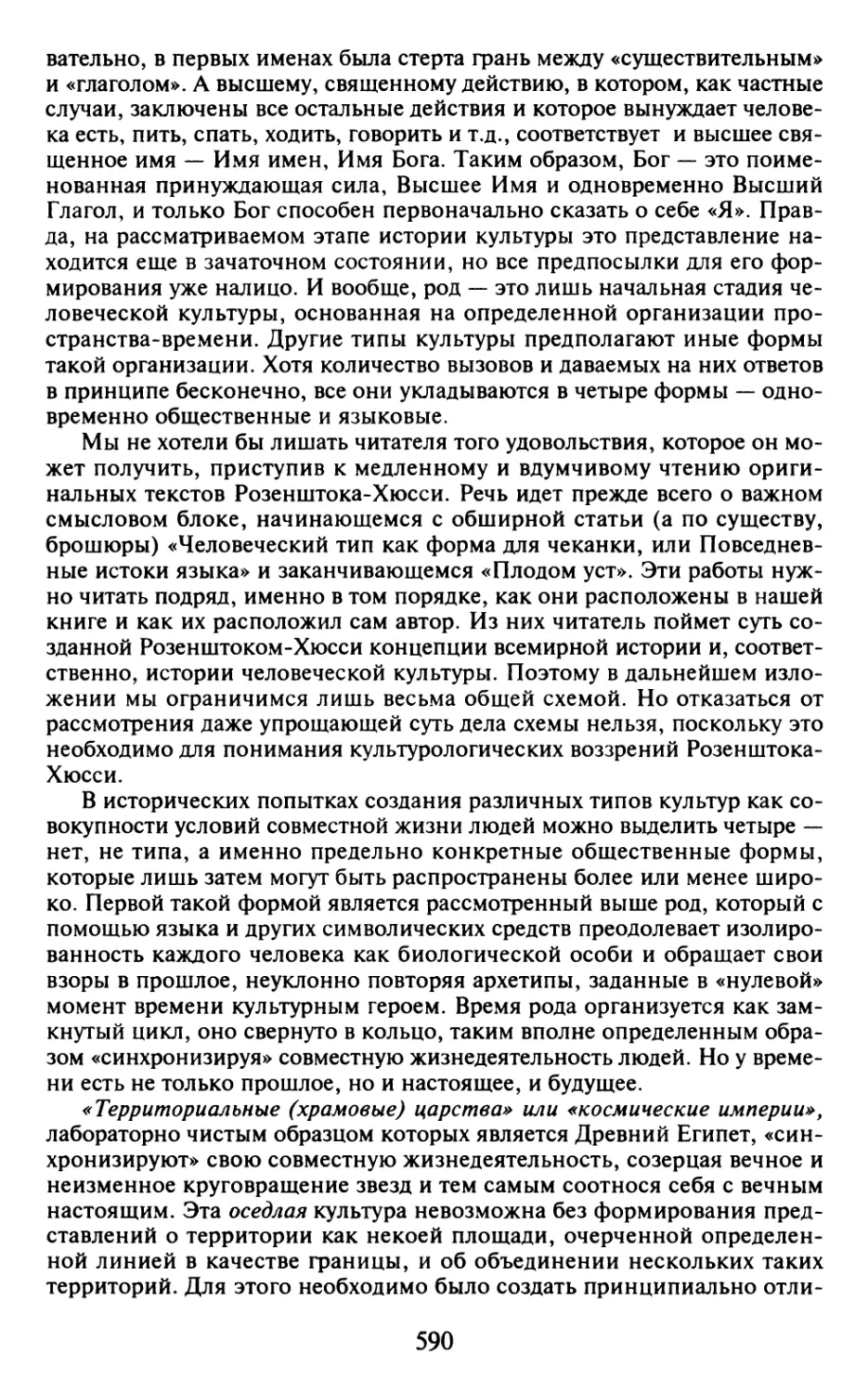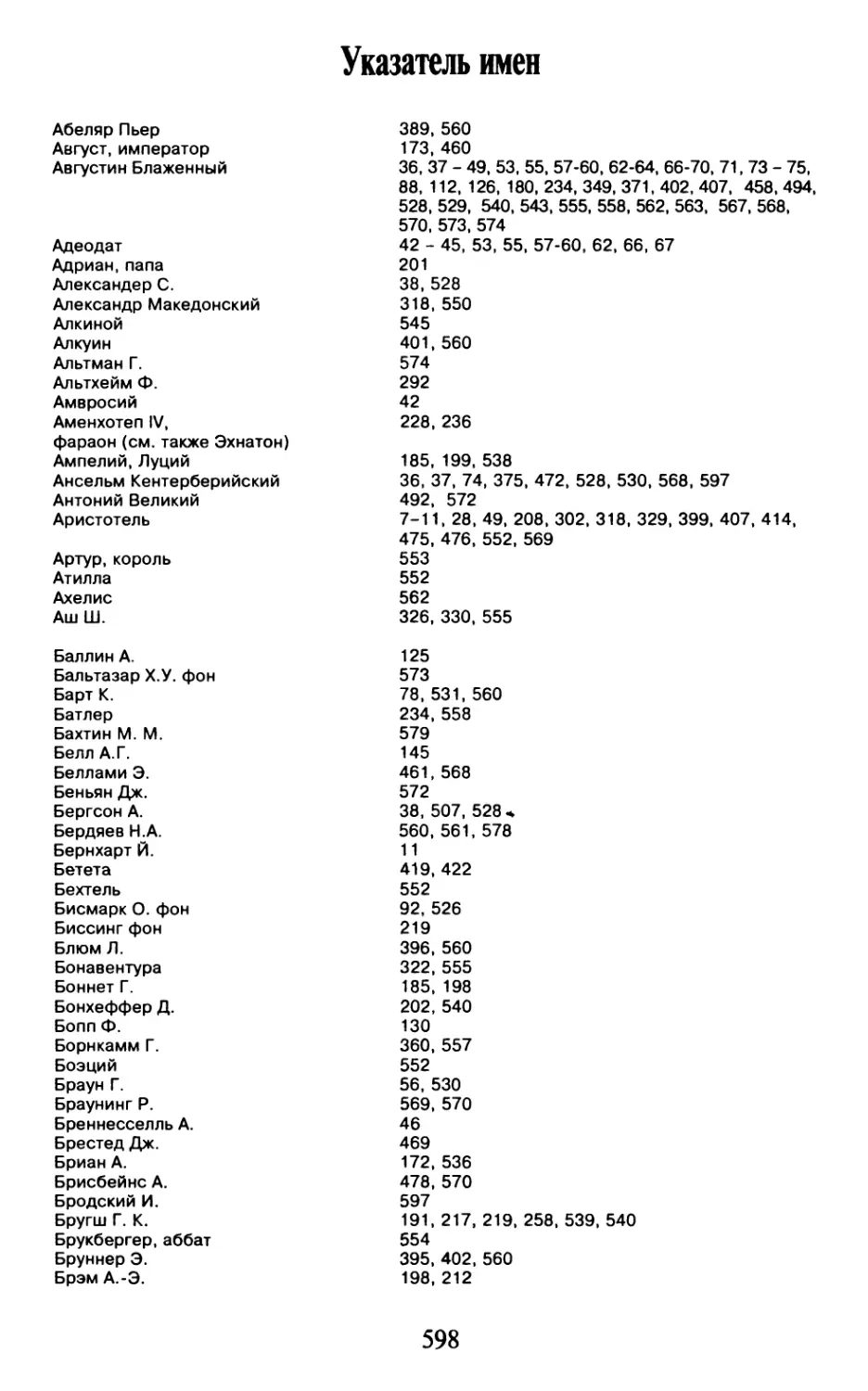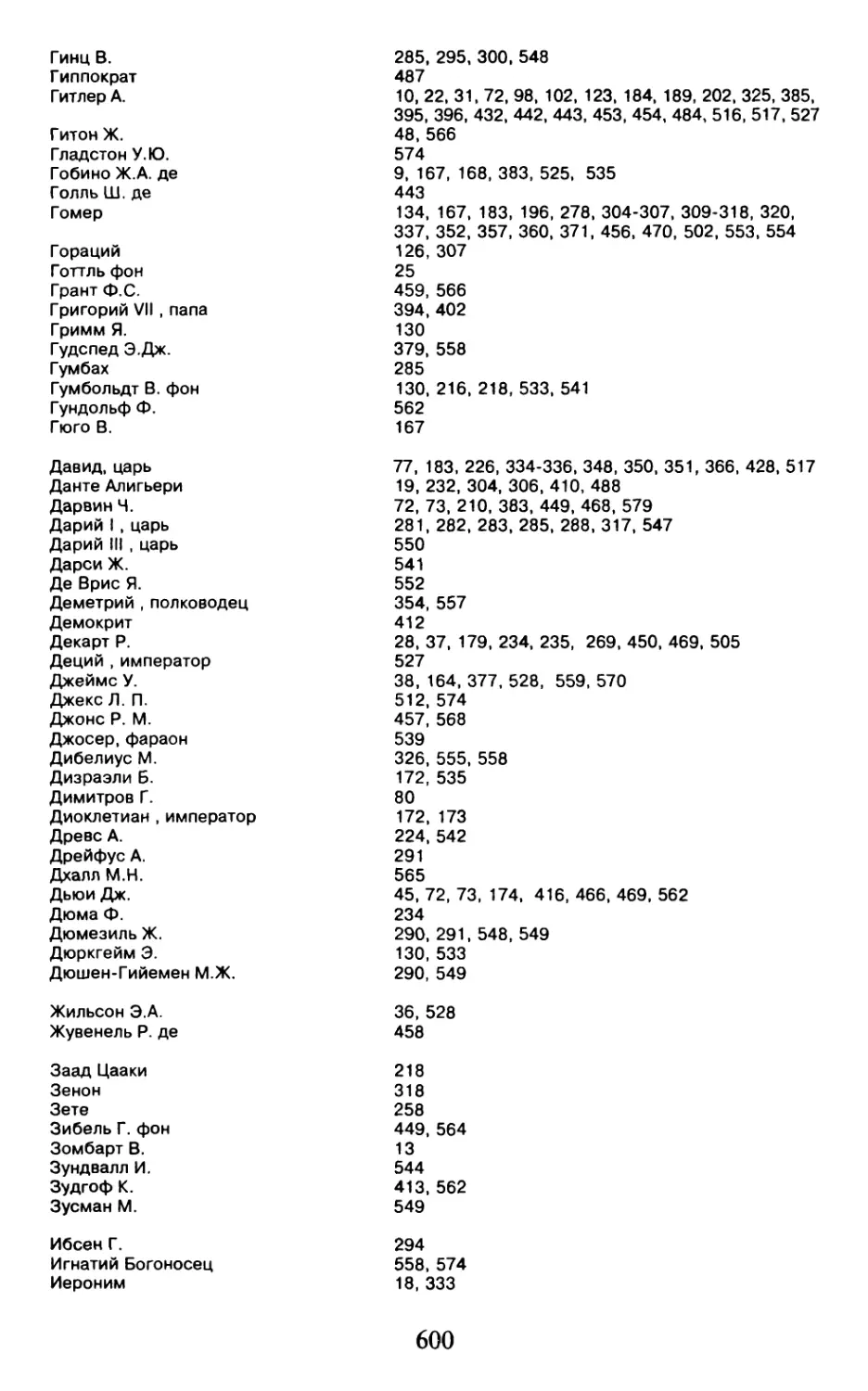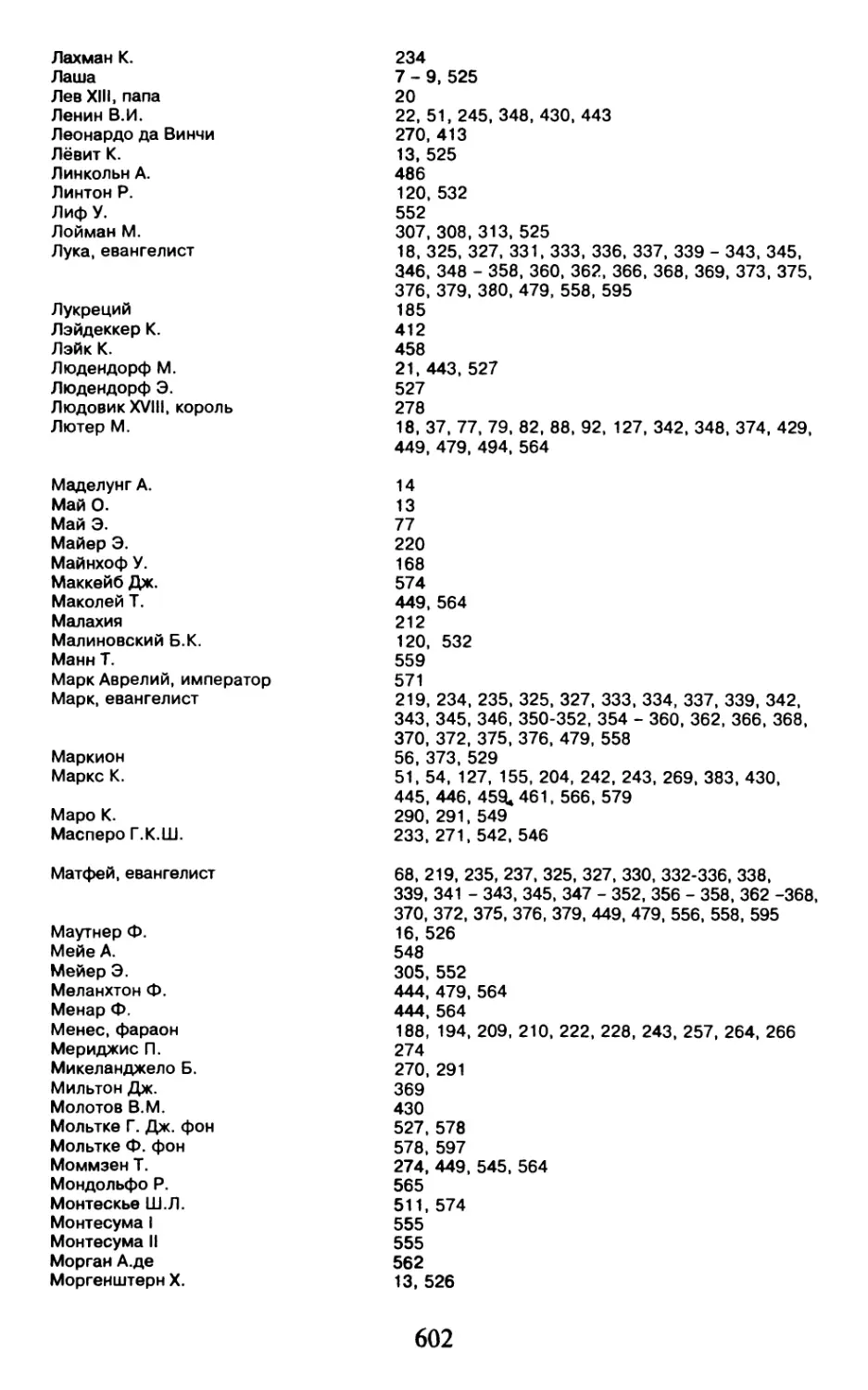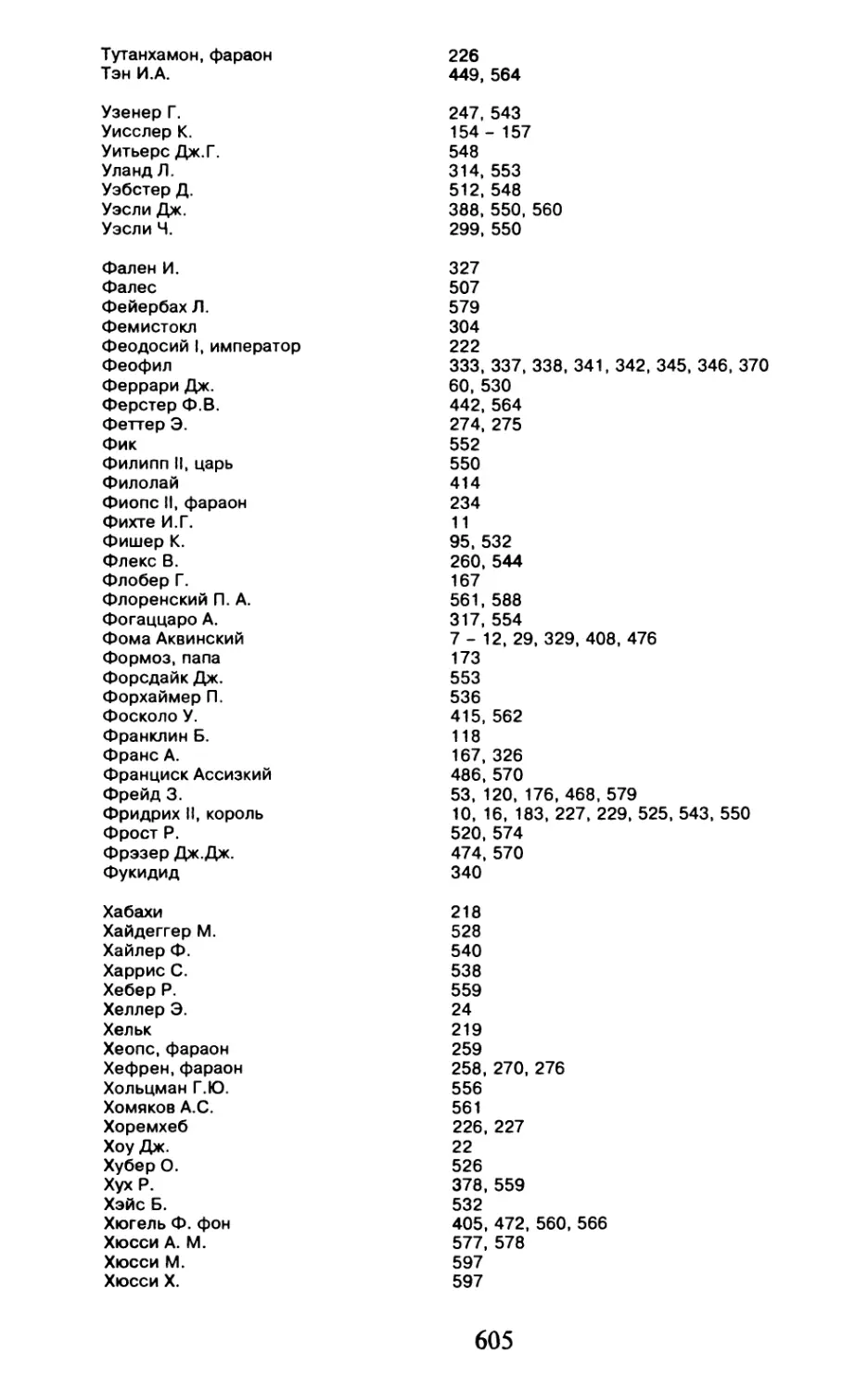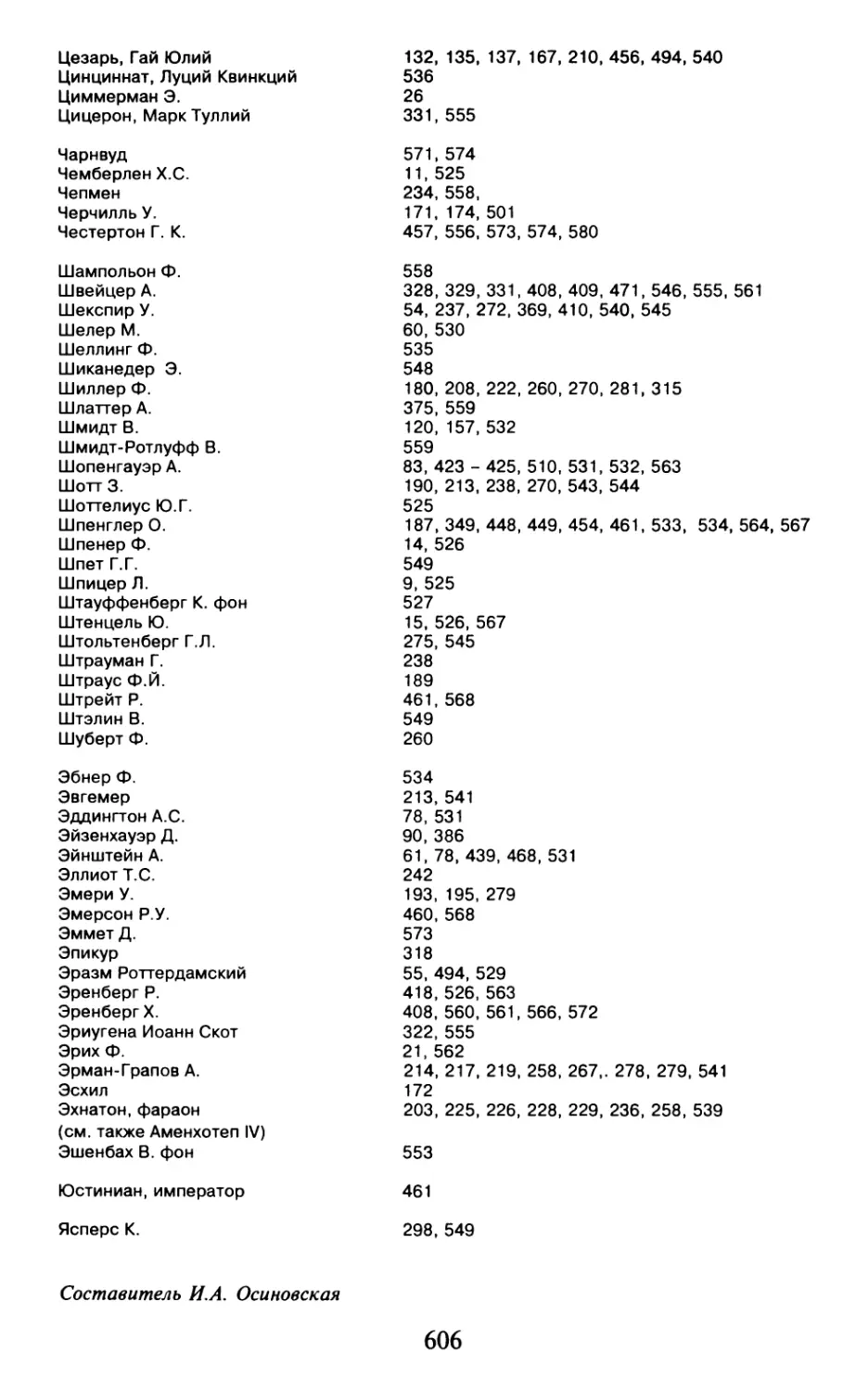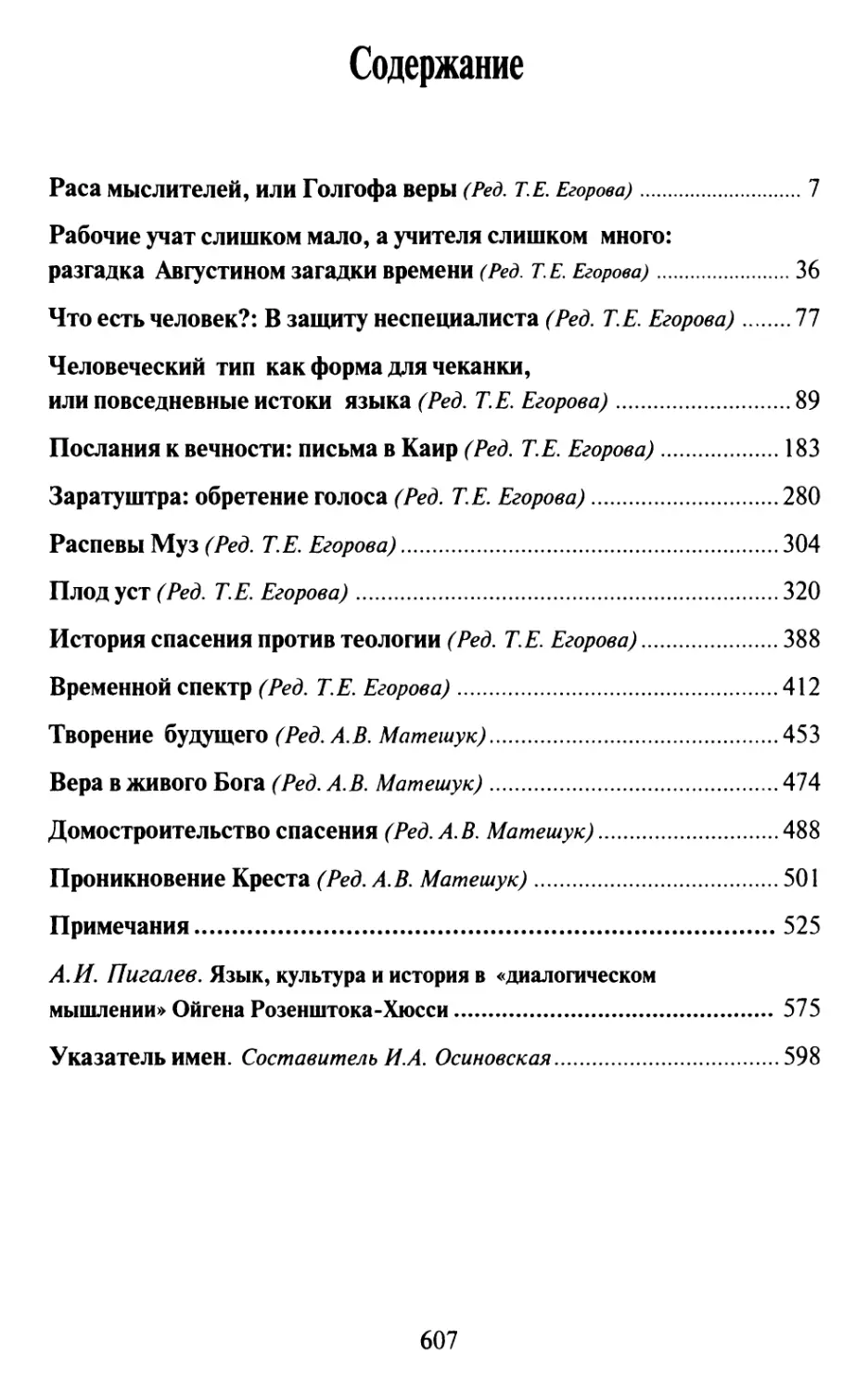Автор: Розеншток-Хюсси О.
Теги: философия психология история философии история религиоведение
ISBN: 5-323-00016-3
Год: 2000
Текст
Ойген
Розеншток-Хюсси
зык рода
человеческого
Eugen Rosenstock-Huessy
Die Sprache
des Menschengeschlechts
Ausgewählte Werke
► С E U
Университетская книга
Москва - Санкт-Петербург
2000
ББК 87.3
УДК 1/14
Р 64
Редакционная коллегия серии:
Л.В. Скворцов (председатель), В.В. Бычков, П.П. Гайденко,
В.Д. Губин, Ю.Н. Давыдов, Г.И. Зверева,
Л.Г. Ионин, Ю.А. Кимелев,
И.В. Кондаков, О.Ф. Кудрявцев,
СВ. Лёзов, Н.Б. Маньковская,
В.Л. Махлин, Л.Т. Мильская, Л.А. Мостова,
Г.С. Померанц, А.М. Руткевич,
И.М. Савельева, М.М. Скибицкий,
П.В. Соснов, А.Л. Ястребицкая.
Главный редактор и составитель серии «Книги света» С.Я. Левит
Редакционная коллегия тома:
Составитель и переводчик: А.И. Пигалев
Научные редакторы: Т.Е.Егорова, A.B. Матешук
Переводчик и составитель примечаний: А.И Пигалев
Художник: П.П. Ефремов
Р 64 Ойген Розеншток-Хюсси. Избранное: Язык рода человеческого. Пер.
с нем. и англ. — М.; СПб: Университетская книга, 2000. 608 с. —
(Книги света)
ISBN 5-323-00016-3
Ойген Розеншток-Хюсси (1888-1973) - выдающийся
немецко-американский мыслитель, внесший существенный вклад в самые различные
отрасли гуманитарного знания - историю, философию, культурологию,
теологию, религиоведение, языкознание, теорию и историю права. Его
концепции во многом близки теоретическим построениям таких «властителей
дум» XX столетия, как М.М. Бахтин, М.Бубер, Ф.Розенцвейг, П.Тиллих,
Д.Бонхеффер, Х.Кокс. Идеи О.Розенштока-Хюсси, при его жизни
остававшиеся практически невостребованными, ныне переживают
настоящий ренессанс, обнаруживая свою глубину и актуальность в условиях
современного культурного и религиозного кризиса. В том вошли наиболее
значительные работы: «Раса мыслителей, или Голгофа веры»,
«Человеческий тип как форма для чеканки, или Повседневные истоки языка»,
«Послания к вечности: письма в Каир», «Заратуштра: обретение голоса»,
«Распевы Муз» и др. На русском языке все работы публикуются впервые.
Книга предназначена для читателей, интересующихся историей,
философией, культурологией, религиоведением.
ББК 87.3
© С.Я. Левит, составление серии, 2000
© А.И. Пигалев, составление, перевод, 2000
ISBN 5-323-00016-3 © Университетская книга, 2000
Раса мыслителей,
или
Голгофа веры
Раса мыслителей, или Голгофа веры
В языки вложено много такого, что
резко отличается от обычных
представлений, что является совершенно
неземным и овладевает не нашим
телом, а нашей душой.
I.G. Schottelius. Staemmwoerter.
1663, S. 74(1).
1. Ложная дилемма
Неслыханное утверждение мыслителей сводится к тому, что
они сначла думают и лишь затем с помощью языка в
качестве своего орудия открывают нам то, о чем они думают,
выдают нам свои мысли.
Но вместо этого они иногда выдают сами себя. Правда, в
династии мыслителей от Платона и Аристотеля до Фомы Аквинского и
Канта существует фикция богоравного «нуса» (nous), мышления в себе и
для себя, но некоторые помощники этих чистых мыслителей выдают нам
то, что подразумевается здесь на самом деле. Например, ученики
Пифагора никогда не говорили: «Так думает учитель». Они решительно
говорили: «Auto epha», т.е.: «Он сам это сказал». Здесь налицо
категорический отказ от фикции преимущества мышления, разорвавшего свою связь
с речью: важно не то, о чем думал учитель. Он сказал то-то и то-то, и мы
можем знать об этом и твердо придерживаться этого.
Но иногда даже в процесс мнимо чистого мышления может
проникнуть непосредственное слово ученика, и я приведу красноречивый
пример этого. Фома Аквинский, продолжая линию Аристотеля, говорит о
«ratio rerum». «Ratio» — это первоначальное слово для обозначения
«raison», «reason», разума, т.е. слово, служащее образцом для мышления,
смотрящего на речь сверху вниз. Издатель сочинений Фомы Лаша
(Lâchât) в 1880 г. написал комментарий к этому слову. Прежде всего,
Лаша напоминает нам, что латинскому слову «ratio» у Аристотеля
соответствует не только «нус», мышление, но также «логос», т.е. речь.
Установив, что присущему латыни господству «ratio» соответствуют в
греческом языке «нус» и «логос», Лаша объясняет смысл понятия «ratio» у
Фомы следующим образом: «Raison des choses, ratio rerum, le premier
terme est la traduction de «nous» ou de «logos», esprit ou verbe... Ces Mots
signifient ce par quoi l'intelligence raisonne ou se parle à elle-même» (2). Если
мы примем такое толкование, то, например, «Staatsraison»,
«государственный разум», будет «способностью, с помощью которой интеллект
размышляет о государстве или говорит сам с собой». Великолепно то, что
Лаша для объяснения сути якобы чистого мышления описывает его как
7
беседу интеллекта с самим собой. Он, разумеется, прав в том, что всякое
мышление есть разговор с самим собой, беседа, перенесенная в сознание
отдельного человека. Признавая то, что у этой беседы якобы есть
носитель, «интеллект» как таковой, он затемняет простой факт, что лишь
после того, как мы поговорим друг с другом, каждый отдельный человек
среди нас в беседе с самим собой оказывается в состоянии говорить или
мыслить в соответствии с этими действительными беседами, продолжать
их или вносить уточнения. Это слишком хорошо известно каждому, кто
возвращается из ратуши. Суждение Лаша, что «разум вещей — это
оборот речи, обозначающий то, посредством чего разум говорит сам с
собой», является бесценной истиной, поскольку оно разглашает секрет.
Мы думаем о том, о чем уже было говорено, обсуждение чего
переносится в наше сознание и продолжается в беседе с самим собой.
Таким образом, Аристотель и Фома Аквинский вынуждены
остановиться перед словом «ratio». Собственная духовная сила мышления — это
«ratio». Но и присущая самим вещам форма упорядоченности
называется «ratio». Когда чистые мыслители разорвали связь мышления с речью
и поставили с ног на голову само отношение между речью и
мышлением, они положили начало процессу дальнейшего расщепления разума: с
того момента как мышление, «этот интеллект, который говорит сам с
собой», стало считаться не связанным с речью, оно, в свою очередь,
разделилось на субъективное и объективное. В словаре Лаланда (Lalande)
«Vocabulaire de Philosophie» «raison des choses» понимается — нужно вслед
за Курно (Cournot) указать на это различие — как объективный принцип
объяснения вещей неким субъективным «raison de l'homme» (3).
Но коль скоро такое расщепление дало начало шизосоматике (4)
прекрасного духовного тела сообщества вследствие обособления людей друг
от друга в качестве исключительно «мыслителей», то процесс этот будет
безостановочно продолжаться. Вот уже в течение семи столетий
самоотверженные адепты «мышления» пытаются «поймать свой собственный
хвост», и именно слово «ratio», «raison», «reàson» все более утрачивает
ясный смысл во время этого одновременно смешного и грустного занятия.
«Логос» означает «беседа», как в евангелии от Иоанна, и это было
так, пока греческие мыслители не сбили нас с толку своей идеей
мышления, не связанного с речью, пока Платон в «Кратиле» не написал
введения, посвященного благоглупостям поверхностно понятого
просвещения.
«Нус», «мышление», заступает на место «логоса» для того, чтобы
давать пищу тщеславию философов. Их не удовлетворяет скромное
словосочетание «беседа с самим собой». Поэтому из «логоса» получается «нус».
Из «нуса» получается «ratio», что означает «отчет», «исчисляемость»,
«типичность». «Ratio» становится объективным основанием объяснения
вещей и субъективным порядком существования всех мыслей. Но «ratio»
продолжает свой путь.
Так что «Лексикону Фомы» понадобилось одиннадцать страниц
мелкого шрифта для того, чтобы описать путь этого слова «ratio» от «oratio»,
т.е. «речь», «логос», к «представлению», «понятию», «роду», «типу»,
«связи», «пониманию», «созерцанию», «учету», «точке зрения»,
«отношению», «сущности», «значению» и «смыслу». Поскольку у создателя это-
8
го словаря Шюца (Schuetz) не было наивности Лаша, он изменяет
последовательность хода событий на противоположную и завершает главу о
«ratio» восемнадцатым значением слова, каковым оказывается... речь!
Настолько непонятным остается для него происхождение «ratio» из
«логоса», из речи. Между тем, семнадцать значений «ratio», перечисленные
прежде, могут возникнуть лишь потому, что пришлось оставить без
внимания исток «ratio» и его происхождение из «логоса». Ведь мыслитель не
может вести свое происхождение от говорящего человека; таким
образом, его мышление не возникает из речи! Для самобытности философии
требуется, чтобы происхождение «ratio» из слова отрицалось. Так что
словарь Фомы начинается с якобы первого значения «ratio»: «Ratio — а)
разум, рассудок в смысле субстанции, разумная субстанция».
Знаток заблуждений духа тотчас же заметит, насколько
необходимым оказывается гротескное изобретение «субстанции» в качестве
следствия отрыва мышления от речи (5). Лишь потому, что «ratio» не
может быть беседой с самим собой, должна неожиданно появиться
«разумная субстанция» в качестве одного из пагубнейших изобретений
гносиса, той, ведущей к изоляции, горячки познания, которая угрожает
каждой эпохе. Итак, именно в церковном учении Фомы произошло
радикальное отделение разума в качестве субстанции от языка как его
простого средства, и он написал ужасную фразу, будто язык относится
к природным вещам! Аристотель и все естествоиспытатели разбирались
в этом лучше. Ибо они учили — об этом сказано еще у Галилея, — что
«природа пытается делать лишь то, что совершается без сопротивления»
(6). Но речь прямо-таки напрашивается на сопротивление, она есть
нечто неестественное, преодолевающее природу, устанавливающее мир,
поскольку она — преодолевающая естественную смерть
неестественность.
«Ratio», будучи однажды вырван из его общественной материнской
почвы, «логоса» (7), и представлен в качестве особой субстанции,
попадает под власть судьбы, которой подчиняется всякое творение,
являющееся в мир. Со времен Фомы «ratio» может быть чем угодно, и странность
истории заключается в том, что в конце концов он и действительно стал
всем, чем угодно. У нас «ratio» превратился в свою полную
противоположность. Пресловутое слово «раса» выведено из «ratio». То, что у
Аристотеля было «логосом», а у Фомы — разумом, у Гобино (8) является
«расой»! Наши словари до 1933 г. довольствовались тем, что объявляли
«расу» арабо-семитским словом. Уже одно это было оскорбительным для
арийцев, поскольку тогда получалось бы, что они позаимствовали имя
своего божества «раса» у семитов. Но тем временем это бездарное
толкование обнаружило свою несостоятельность. Лео Шпицер (9), рассмотрев
в качестве необходимых промежуточных звеньев значения «образцовый»,
«типичный», «примечательный», отнес происхождение слова «раса» к
«ratio»: выражения «race des rois», «race des chiens» (10) должны были
обозначать те формы бытия, которые особенно отчетливо воплощают
подлинную сущность и понятие короля и собаки. Таким образом, из
внутренне присущего вещам разума, объективного «ratio», возник ряд вещей,
и с вещей, принадлежащих к этому ряду, можно, так сказать, лучше всего
непосредственно считывать разум этого их понятия. Итак, из субъектив-
9
ного именования вещей посредством способности мыслить, присущей
«ratio», за семьсот лет возникла способность именования вещей как
наивысшее выражение их самостности (11). Эти вещи столь отчетливо
демонстрируют своеобразие, что мы признаем их воплощением «расы», т.е.
наиболее разумной формой выражения родовых признаков. В начале
Адам дал имена вещам. В старшем возрасте мира мы считываем с вещей
их «rationes»!
Раса — это конечный продукт завоевания мира в течение тысячи лет
от странствий северных людей, норманнов, до астронавтики. Это
покорение мира принципиально отвергало значение речи, поскольку его
целью было проникновение по ту сторону природы вещей. Поэтому чисто
активный «ratio», рассудок, мыслящий надпредметно и отделенный от
«логоса», был взят за исходную точку. Исследовалась природа, которая
считалась не способной слушать и слышать. Эта грандиозная
секуляризация процесса открытия мира уничтожила все имена. Подлинное
исследование природы в процессе анализа стирает все более старые
наименования, и то, что, согласно Пиндару, было наилучшим, т.е. вода
превращается в «Н20». Но коварство объекта заключалось или заключается в
том, что по отношению к своим несловоохотливым
субъектам-исследователям он занял место придуманного ими безмолвного «ratio»,
противопоставив этому последнему — самого себя как «расу», как свой
собственный изначальный «государственный интерес». «Раса» означает: «Sint ut
sunt aut non sint» (12). Ты должен принимать меня таким, какой я есмь.
Я никогда не изменяюсь. То, что природа упорно настаивает на своем
смысле, мы знали всегда. «Прогоняй природу вилами — она все равно
возвратится». Но в слове «раса», полученном путем превращения «ratio»
в объект, к мыслителю, тем мыслителям, которые воображают, будто они
стоят выше природы, — поскольку благодаря нашей речи мы
отслеживаем преобразование вещей, — из глубины взывает эта самая природа. Так
же, как Старый Фриц называл человечество «cette maudite rasse» (13),
мыслители теперь сами стали расой, природным типом. Предположение
Фомы Аквинского, будто речь — естественный процесс, выполняющий
функцию орудия, отомстило за себя. Немецкая математика, арийская
религия, германская раса — вот следствия учения о «природе логоса», о
«природе языка». «Ratio», как латинский перевод «логоса», стало
сегодня «расой», т.е. частью чисто природного облачения вещи под
названием «человек». В Германии все студенты должны слушать лекции на
«ветеринарную» тему: «Что есть человек?» Каков же тот человеческий тип,
который ставит такие расовые вопросы? Кто вправе спросить: «Что есть
человек?» (14) Естествоиспытатель, для которого призванный
облагородить нас дух стал чисто объективным свойством вещи под названием
«человек»? «Логос — ratio — раса», «от евангелиста Иоанна к Фоме Аквин-
скому и затем к Гитлеру — таковы две параллельные друг другу триады.
Как только очевидная загадка языка заменяется гностическими
субстанциями, результатом оказывается хаос. Однако мы все же воистину
говорим, в силу чего все люди вместе поют и устанавливают мир друг с
другом для того, чтобы между нами, людьми, разделенными во плоти,
могло возникнуть единодушие, и чтобы этот определяющий нашу суть
вопрос: «Кто этот человек?» одержал верх над формально внешним вопро-
10
сом: «Что есть человек?», пригодным, скорее, для того, чтобы описать
породу собак. Тот, кто судит о наших расах как о породах собак, не
учитывая способности языка к преобразованию, опускает нас значительно
ниже животных какого бы то ни было рода и вида, поскольку животные
защищены от этого тем, что не могут говорить. Если это безумие, то оно
не лишено метода.
Чтобы в эпоху «расы» спасти святого Фому, остроумный и верующий
католик Йозеф Бернхарт (Bernhart) в 1934 г. нашел заслуживающий
внимания способ. В тогдашнем издании сочинения Аквината (15) он
перевел слово «ratio» как «суждение», a «rationes» — как «обсуждение». Таким
способом Бернхарт хотел восстановить смысл «ratio» в качестве
процесса речи и, тем самым, устранить заблуждение, ведущее от «логоса» к
«ratio», а от него — к «расе». Бернхарт пишет, что «ratio» переводится как
разум, поскольку у него нет другого значения (I, S. XXXII). «Ratio»
оказывается (и довольно часто) «суждением» — словом среднего рода,
сопоставимым с обозначением разговора, если имеется в виду соотнесение
вещи с отвечающим разумом. Бернхарт ссылается на переводчика,
писавшего на средневерхненемецком языке, который следующим образом
интерпретировал предложение «Quidquid pertinet ad rationem boni, conveniens
est deo»: «Все, что относится к благим суждениям, угодно Богу».
Разумеется, попытка Бернхарта была предпринята задним числом.
Традиция «Аристотель — Фома — Фихте — Х.С. Чемберлен» (16) дошла
до своего завершения и закончилась бездной. Новое издание сочинений
Фомы и мудрые замечания на полях ничего в этом не изменят. Нашей
доброй воле больше не под силу помочь слову «ratio», точно так же как
и томизму в целом. У всех философских систем есть свое, именно им
отведенное время. Плодом заблуждения являются попытки придать той
или иной философии характер вечной. Философия — это выражение
духа времени. Фома боролся за истину так, что это внушает уважение, но
в то время как его молитвы суточного круга богослужения, совершаемого
во время праздника Тела Господня, имеют непреходящее значение,
прозе Фомы воздает должное лишь тот, кто оставит ее в его времени.
Изречение Фомы: «Natura nihil est aliud quam ratio cuisdam artis, scilicet divinae
indita rébus qua ipsae res moveantur ad finem determinatum» (17) изображает
«natura» и «ratio» в безнадежной борьбе, поскольку, в соответствии с ним,
природа есть не что иное, как «суждение» божественного искусства,
которое присуще вещам таким образом, что они достигают
предначертанных им целей. И без слов «natura» и «ratio» мы были бы такими же
умными или такими же глупыми. Впредь мы должны будем обходиться без
этих слов. Вещи — это отнюдь не «природа», а тварное сущее, создания,
призванные к жизни. Их имена, даже если сами они изменяются,
остаются элементом их причастности, как творений, к шестидневу Бога. Они
суть то, как они называются, и их имена указывают на то, чем они
становятся.
Со смертью и воскресением слов и имен дело обстоит так же
серьезно, как и с физической смертью человека. Расу истинных мыслителей
образуют лишь те, кто мыслит живо и свежо и кто исключает умершие
слова. Философские системы следует погребать вовремя. Иезуиты знают,
что томизм мертв. Они лишь надеются, что мы, другие люди, погребем
11
его за них. Это нехорошо. Но даже в минуты опасности
обнаруживается, что источник утешения и спасения находится рядом. «Ratio»
закончился не только «расой» — с тех пор, как ему было отказано в вечном
происхождении из способности именования «логоса». С эпохи Аквина-
та «ratio» второй раз снизошел в мир так же неудержимо, как и в случае
«расы», но теперь он внедрился не в говорящее, а в считающее
человечество. Принадлежащие к чистой расе белокурые бестии говорят по-
арийски, по-германски, по-немецки. Но планируют, считают,
занимаются хозяйственной деятельностью, — всем этим занимаются
менеджеры материалистов, обладающих классовым сознанием, поскольку эти
менеджеры не ведут разговоров с вверенной им рабочей силой, а от ее
имени ищут ответа в теории или вопрошают о ней эту теорию и
материально включают эту рабочую силу в качестве людей в план, т.е.
глумятся над этими людьми, сами того не понимая. У Кальвина «ratio» — это
планирование образа жизни верующих, возвышающееся над их
сознанием и восходящее к самому Богу. Здесь «ratio» — это план спасения.
В «Наставлении» Кальвина слово «ratio» всегда используется там, где
мы сказали бы «план», «план спасения», «программа», «экономика»,
«бюджет». Поэтому в кальвинистской этике хозяйственная
деятельность рассматривается как исчисляемая. И это не должно вызывать
удивления. Если наше мышление подчинится своему влечению выйти
из разговора, то оно будет только рефлектировать и превратится в
зеркало мира. Чем более «чисто» оно размышляет о мире, тем сильнее оно
верит в свое право упорядочивать мир и в свою способность заранее
высчитывать его развитие. «Раса» возникает из «ratio» тогда, когда
начинают полагать, будто на месте борющегося со смертью языка,
призывающего нас к жизни, находится простое сочетание естественных
звуков «язык». Тогда стиль моего мышления принадлежит к моей
прирожденной природе. Моя речь становится расовой. Но моя лишенная языка
сторона, голод, превращает меня в класс. Классы и массы становятся
предметом планирования, т.е. того, во что благодаря нашей
неразговорчивости превращается, сжимаясь, наш «ratio». Я начинаю
«планировать» людей, как только перестаю говорить с ними как с моими
сотрудниками, а вместо этого просто размышляю о них в связи с трудом и
капиталом. Экономисты притязают на то, чтобы предоставлять всем
другим людям теории хозяйственной деятельности. Таким образом, здесь
язык не низводится до уровня просто природы, как в цепочке «»ratio»
— тип — раса». Напротив, заключенное в рамки экономики
человечество понимается статистически и, таким образом, оно
упорядочивается без учета того, что оно само говорит. Именно в этом заключается
смысл учения о классовой борьбе: классы, хотя они могли бы говорить
друг с другом, могут стать друг для друга немой или, точнее, глухой
преградой. Освобождение с помощью разговора не может быть признано
экономистами, поскольку они преклоняются перед той иерархической
лестницей, которая установлена физиками. По мнению физиков,
числа объясняют объект лучше всего, слова — уже намного хуже, а
унаследованные имена вообще ничего не говорят!
Мыслящие в духе капитализма экономисты упорядочивают нас
статистически. «You are statistically unimportant» (18), — сказал мне
12
один из них. Тем самым я был для него конченым человеком. Там, где
число стоит на первом месте, слово — на втором, а имя — на третьем,
все определяет масса. Но единственное, на что не способна масса, —
это на предоставление некоего масштаба. Задающая масштаб речь
начинается в именах, продолжается в беседе и подытоживается в числах.
Принадлежащий Кальвину перевод «ratio» как «план» высвободил дух
капитализма, а вытеснение Аквинатом «логоса» и замена его на «ratio»
сегодня завершается безумием расизма. Греко-римское отделение
«ratio» от его «предмета», человека, является чем-то настолько
своеобразным, что сербы и турки должны были перенять это понятие в
качестве иностранного слова «razumzja» (19). Эта раса мыслителей в
наше время разделяется на идеалистов и материалистов. Но это
разделение не спасает положения. Расисты позволяют вступать в
разговор только людям одной и той же «расы». Тем самым из «логоса»,
который страстно желает участия всех, возникает монолог
профессиональной касты, состоящей либо из субъекта теории, «науки», либо из
ее объектов.
Познанный «ratio», найденный экономической теорией, якобы
может предсказать поведение других людей. Тем самым такой «ratio»
заступает на место непознаваемого «ratio», Бога, в которого можно
только верить, и план спасения, высмеянный современной философией
(например, Карлом Левитом (20) ), настолько основательно
заменяется часовым механизмом плановой экономики, что мы миримся с
включением нас в план. Тем самым мы сами становимся
«рациональными», или рационализированными, и слову «ratio» здесь также
предстоит славный переход от духа к «одухотворенным» людям. Вернер
Зомбарт (21), странный продукт различных «-измов» последних двух
столетий, снова и снова описывал «ratio» как «одухотворение» труда и
хозяйства. Таким образом, мы сами тогда стали бы «объективным
духом», «ratio», и именно как «ratio» сделались бы окончательно
распланированной, «одухотворенной» частью мира. Тем самым, как и в
случае «расы», высокомерие мыслителей также и в области экономики
стирает границу между миром, человеком и Богом. Тем самым
рабочие были низведены до уровня вещей в мире — исчисляемых и
находящихся на пределами беседы, которую ведут между собой теоретики.
Ибо их жизненные отношения могут теперь рассматриваться и
оцениваться экономистами и социологами только in absentia (22) жертв этой
рационализации. Всякий раз, когда это происходит, наступает конец
мира. Ибо граница между миром и человеком всякий раз возникает из
заново открытой солидарности всех людей в качестве партнеров
беседы в немом мире вещей, и каждый день это происходит по-новому
(23). Поэтому в 1922 г., после семи лет, проведенных в армии и на
фабрике, я призвал рабочих стать собеседниками, которым в
разговоре с экономистами принадлежало бы первое слово. Рабочие должны
перестать быть немыми слушателями ученых, как бедный оборотень в
стихотворении Моргенштерна (24). Я предоставил токарю Ойгену
Маю первое слово и превратил экономическую теорию в ответ,
который надлежит дать на исполненные сомнений вопросы ведущего
хозяйство субъекта и на его страдания в ситуации этих сомнений. Эта
13
моя работа («Werkaussiedlung» — «Выселение цеха») в течение
последних десятилетий много раз переиздавалась, причем без моего
участия. Таким образом, она пользуется хорошей репутацией. Но из нее
не было извлечено никаких уроков. Ибо в новых изданиях перепеча-
тывалось все, кроме первого слова Ойгена Мая — «ради краткости».
Это означает, что среди социологов и экономистов продолжает
свирепствовать бездуховная мания величия. Не считают ли они, что
отрекутся от самих себя, если им в качестве специалистов не будет
более предоставлено первое слово? Уж лучше они кастрируют текст,
главный смысл которого в том и состоит, чтобы превратить
специалиста в слушателя и, следовательно, сделать его роль служебной. Ибо,
как и в случае «ratio», в экономической сфере «раса» в качестве
мышления, начинающегося с самого себя, смело переходит на сторону
объекта и превращается в «вещь» (Sache), «факт» (Tatsache) и
«причину» (Ursache). Об этом читатель может прочитать в «New English
Dictionary», VIII, 1, pp. 168-212.
Пиетист, глашатай трудовой этики отречения, присущей
капитализму, Филипп Шпенер (1635-1705) страстно желал этого
нисхождения «еще не известного нам «ratio» божественного мастера» на
уровень теоретического осмысления, на что указывает одно место его
«Теологических советов». Добровольное самоуничижение
хозяйствующего человека, отнесение его к тварному миру на основе этого
источника веры и в будущем будут делать честь Шпенеру. Но это
самоуничижение позволяет отчетливее увидеть самовластную деятельность
самой твари, лучше услышать ее вздохи (25). Однако до того, как это
различение между моей рационализацией и моими вздохами войдет в
силу и положит конец бесстыдным планам относительно рабочего,
служащего, кролика, пациента или объекта некоторой области науки,
мы должны запугать экономистов, социологов и специалистов по
планированию угрозой превратить их самих в объект планирования. Моя
знакомая покойная Дороти Томпсон (Thompson) и я однажды
отправились в Вашингтон для того, чтобы отсрочить централизацию
федеральным правительством Добровольной службы труда и мира. Мисс
Томпсон держала речь перед «партером королей», а именно — перед
всеми главами федеральной администрации, государственными
секретарями и их помощниками (только в министерстве сельского
хозяйства насчитывается около 100 000 служащих). Мисс Томпсон
заклинала их оставить местным общинам хоть что-то от того удовольствия,
которое они, представители столичной бюрократии, испытывают от
осуществления властных функций. Ибо иначе с ними случится то же,
что и с обычным человеком: те, кто вносит этого человека в план,
будут сами внесены в план. Ибо если уже «человек цирка», как это
предвидел в 1919 г. Ааге Маделунг (Madelung), приказывает нам всем
пройти тестирование, чтобы мы были распределены по рубрикам и
внесены в память электронного мозга, то ересь относительно
включенной в план рабочей силы должна быть дополнена столь же
еретической мыслью о протестированных генерал-фельдмаршалах,
президентах государства и экономистах.
Но ведь за всем этим кроется очень простое решение, согласно кото-
14
рому «ratio» моего мозга, безличное мышление, никогда не может быть
поставлено выше моего ближнего. В противном случае по отношению к
этому ближнему будет совершена несправедливость. Так можно
относиться только к преступнику, но даже к нему только после того, как он
будет выслушан. «Ratio» любого специалиста должено быть
скорректирован посредством беседы с объектом, предметом этого мышления. В ходе
беседы объект перестает быть объектом. Ибо язык, на котором мы
говорим, превосходит любую твою теорию и теорию твоих коллег по
профессии. Иерархическое соотношение беседы реальных людей (независимо
от их профессии) и «мышления» клана профессионалов, связанного
абстрактными построениями, ныне поставлено с ног на голову. Но, как
сказал Клемансо (26), войны — это слишком серьезное дело для того,
чтобы доверять их ведение генералам. Так вот, экономические теории,
касающиеся нанятой, внесенной в план, защищенной социальным
страхованием рабочей силы, и расистские теории расплодившихся негодяев
ввергают нас в бесконечные войны. Поэтому перед завершением
второго тысячелетия и те, и другие теории должны остаться в прошлом. Мир
слишком важен для того, чтобы доверять его установление и
поддержание специалистам.
Неправильное использование нашего основного права говорить друг
с другом как Бог на душу положит — права, которым обладают
мужчины и женщины, молодые и старые, чернокожие и белые, бедные и
богатые, глупые и умные, ученые и познавшие все на собственном опыте
(27), — состоявшее в принижении его значения по сравнению с
теорией, странным образом быстрее всего исчезло там, где большинство из нас
считают его в высшей степени распространенным — в Советской
России. Трудно поверить, но именно диктатор Сталин испытал ужас от того,
насколько теоретики пренебрегают языком.
Уже в 1950 г. он попытался прекратить перманентную революцию и
избавить будущее поколение от одержимости, побуждавшей снова и
снова совершать революции, основываясь на теории. Поэтому он был
вынужден вывести язык из системы идеалистических и материалистических
догм. Он освободил язык от притязания классов использовать его в
качестве орудия борьбы. Тем самым Сталин — в той мере, в какой это от
него зависело, — завершил мировую революцию. Ибо он отказался от
утверждения, будто язык является идеологией. В своих трех письмах о
языке (28) он отрицает, что язык является теорией, средством, рефлексией
классовой борьбы. Нет, говорит он, язык — это нечто третье, он — и
здесь читатель может удивиться — устанавливает мир. Таким образом,
язык — это ни идея, ни материя, а нечто третье. Он заключает мир между
борющимися — будь то народы, классы или религии. Как было бы
прекрасно, если бы филологи за сто лет также признали бы, — как сказал во
время одного из озарений сознания рано умерший Юлиус Штенцель
(29), — что мы все в лучшем случае «должны продолжить тот процесс
взаимопонимания, который уже давно начал язык».
Между тем, превращение «ratio» в оба его объективных,
противостоящих друг другу предмета, здесь — в «расу», а там — в «плановое хозяйство»,
способно углубить наше понимание того, что наши слова сохраняют свой
смысл только как принадлежность наших имен. Шестьдесят лет назад
15
странный критик языка Фриц Маутнер завершил свое, составившее почти
две тысячи страниц, сочинение, целью которого было уничтожение
ценности языка, таким примером: «Когда в ученой книге мы читаем:
«Гипнотизм считают чем-то более существенным, нежели то, что составляет суть
этого явления», то требуется определенное «чувство языка», чтобы понять,
что в этом предложении слово «сущность» используется в почти
противоположных значениях. В одном случае оно употреблено как внешняя
речевая характеристика, а в другом — как что-то внутреннее, неведомое нам»
(30). Расщепление «сущности» на «внешнюю» и «внутреннюю» сильно
напоминает здесь расщепление смысла «ratio» на субъективный и
объективный, — нечто подобное тому, что происходит в гальванометре. Не
связано ли это с тем, что все наши слова — как только слово пытается
обособиться от своего отвечающего за его произнесение имеющего
определенное имя носителя — претерпевают ту же судьбу, что и «ratio»? История
догматов каждого слова, отделившегося от того, кто его «называет»,
свидетельствует приблизительно о той же самой судьбе. Слово превращается
в вещь. В шведском журнале по языкознанию «Eranos» Лундстрем
(Lundstroem) в 1958 г. представил список таких процессов отпадения: из
«generatio» возникает «id quod generatum est», из «odorationes» возникают
«ноздри», из «contemplatio» возникает «une chose qu'on voit» (31). Итак, из
«ratio» возникает то, о чем чаще всего размышляют в данной
определенной области науки, а в человеческом мире, превращенном в объект, это в
одном случае — желудок, чьи потребности исчисляемы, а в другом —
регулируемое размножение. В обоих случаях «ratio» в качестве якобы
научно компетентного экономиста и в качестве научно вышколенного
специалиста по выведению чистой расы возносился ввысь, превращаясь в
безымянное чистое мышление, и тем самым еще глубже погружалось в мир
созданных им самим порождений ума. «Чистая» теория превратилась в
свою противоположность, в высшей степени «нечистый» предмет (32).
Осторожным экономистам-теоретикам уже давно известно, что они
каждым своим словом по поводу состояния экономики вмешиваются в
работу биржи и в саму экономику. Банкиры, власти, акционеры и
спекулянты жадно внимают каждому якобы научному суждению о
состоянии экономики. Таким образом, тот, чьи слова были восприняты,
вмешивается в экономику, и притом в огромной, почти непостижимой
степени. Все три процесса — восприятие суждений, непостижимость этого
массового возбуждения и вмешательство — являются в высшей степени
земной реальностью этой вознесшейся, так сказать, над бренной землей
экономической теории, которая якобы стремится всего лишь к
пониманию и рассматривает человека, участвующего в экономических
процессах, в качестве объекта. Так каждый день на наших глазах «ratio», будь то
теория народного хозяйства, выведения чистой расы или заключения
брака, превращается в вещь, о которой этот «ratio», якобы чисто
теоретически, мыслит. Единственной защитой от этого безумия служит
обязательное прибавление имен теоретика или теоретиков. Всякий, кто
говорит: «Экономика должна оживиться благодаря распродаже товара со
складов» или «Установление заниженных цен создаст благоприятную
конъюнктуру», должен добавить, кто выдвигает такую концепцию и кто
таков он сам, говорящий об этом. Имена носителей «теории» — вот
16
единственное средство защиты от безгранично широкого воздействия
этой теории, этого «ratio». Прежде чем я поверю в существование расы,
класса и массы, я должен знать, чей это «ratio».
У Софокла в «Эдипе» есть строфа, в которой метко
устанавливается эта тесная связь бытия и имени, называния и жизни. Об Эдипе,
названном так из-за своих отекших ног («pus» — «нога», «oidi» —
«отекшая», «опухшая»), говорится: «Из этого и возникло твое имя, и ты
таков» (ст. 1036).
В нас, людях, соединяются именование и бытие. Мы таковы, как мы
называемся. Гёте зовут Гёте — да, но он и есть Гёте. Ибо его
непостижимо высокие творения столь великолепны, как в первый день их создания.
А это означает: в их взаимосвязи! Каждый из нас, будучи носителем
творческой миссии в этом мире, должен поставить перед собой задачу и
одновременно очертить ее границы своим именем. Теория Кейнса и
расовая теория стали безвредными благодаря тому, что были названы
имена их создателей. Но если мыслители превращаются в безымянную расу,
мир гибнет. Пока еще не слишком часто обращали внимание на то, что
в языке субъекты превращаются в объекты своего собственного
созерцания. Следует ли искать причину в том, что Тот, к кому обратились в
«звательном падеже», к кому воззвали, Тот, кто был призван Логосом, не
может безнаказанно забыть о своей «призванности»? Об этом мы еще
мало знаем. В случае использования звательного падежа (vocativus)
человек поворачивается, меняет направление своего движения и следует туда,
откуда исходит призыв, и в этом повороте становится способен ответить
на обращенные к нему слова, т.е. способен к разговору, о чем знали уже
древнегреческие грамматики (33). Мыслитель, забывающий об этом и
считающий себя «я», берет на себя слишком много. Ибо именительный
падеж является «противительным» (adversativus), это падеж, в котором я
говорю о ком-то, отвернувшись от него. Таким образом, если звательный
падеж заставляет меня повернуться лицом к тому, к кому я обращаюсь,
и потому может быть назван «падежом обращения» (conversativus), то
именительный падеж — это такой падеж, в котором говорящий человек
отворачивается от того, кого он обсуждает в именительном падеже,
обращаясь к кому-то третьему. Превращение «ratio» в «расу» и исчисляе-
мость, т.е. из субъекта в именительном падеже в объект в винительном
падеже, указывает на подвижку языка, происходящую со всяким, кто
обособливается из контекста, заданного прозвучавшим по отношению к
нему обращением, перестает быть погруженным в говорящий с ним
Логос. Таким образом, там, где лингвисты дают «свободное от ценностей»
описание «развития», налицо, возможно, упадок и вырождение.
То, что может существовать живая связь между тождествами
conversativus (падеж обращения) = звательному падежу, Nominativ
(именительный падеж:) = субъекту или противительному падежу и объект = Akkusativ
(винительному падежу), мне бы хотелось показать на примере из Библии.
Ибо этот пример раскрывает существование той же самой связи трех
образов действия — одного, исходящего из Бога, т.е. из превосходства
«Логоса», другого, исходящего из людей или, лучше, заключенного в людях,
и третьего, который выражается посредством объективных действий
вещей. Тем самым было бы доказано существование принуждения для язы-
17
ка раскрывать одновременно три уровня — божественный, человеческий
и вещный. Пример взят из евангелия от Луки.
Один и тот же текст, благословение ангелов в ночь Рождества, и на
греческом, и на латинском, и на немецком языках понимается как
данное Богу, человеку и миру благословение, которое в Вифлееме
прозвучало по-арамейски. Ангелы в ночь Рождества поют:
Слава в вышних Богу, и на земле мир.
По Луке По Иерониму По Лютеру
Людям его благоволения Людям доброй воли И людям благоволение
Таким образом, у Лютера мирное состояние — это то, чем мы
пользуемся, это объект нашего восприятия или, иными словами, оно
находится перед нами в окружающем нас мире. У Иеронима мир является
атрибутом определенных людей, атрибутом тех, кто обладает доброй волей.
Наконец, у самого евангелиста свободный выбор ниспосылающего свою
милость Творца определяет круг лиц, на которых нисходит благодать и
которые обладают миром.
Но теперь нужно предупредить читателя, что нельзя смешивать наши
наблюдения с одной из давно уже хорошо известных форм критики
переводов Библии. Нас не интересует тот факт, что переводчик дает
интерпретации, отличающиеся друг от друга. Между тем, здесь чередуются
Бог, человек и вещь. Эта тринитарная связь соответствует тривиуму,
тройному пути, по которому идут все высказывания. Три оборота речи
проясняют друг друга, как дополнительные цвета. Если мы будем
сравнивать хотя бы один из сотен переводов с греческим текстом, который
сам не является первоначальным, мы будем только порицать или
восхвалять этот перевод. Однако мы, напротив, стремимся проследить, куда
движется человеческий дух. И мы обнаруживаем, что он может пойти по
трем путям, ни один из которых не является ложным и ни один —
правильным, поскольку каждый из них выражает часть истины. Бог, творя
нас, людей, помещает нас в свой мир. И потому в нас должно звучать
следующее:
Либо: То, как мир выглядит после творческого акта Бога (Лютер).
Либо: Те из людей, которые были при этом орудием Бога (Иероним).
Либо: То, какой из актов Его творения мы восхваляем в данный
момент (Лука).
Тем читателям, переживание Бога у которых ограничивается
божеством «искусства» или богом «науки», будет легче все это понять, если я
напомню им, как часто они читают или говорят:
Либо 1: «Искусство семнадцатого столетия в этой картине достигло
своей высшей точки» (или что-нибудь в этом роде).
Либо 2: «Художник здесь превзошел самого себя».
Либо 3: «Это произведение искусства прямо-таки взывало к тому,
чтобы быть сведенным в единое целое в прологе» и т.п.
18
В жизни все происходит подобным же образом, поскольку, когда
больной оказывается спасенным чудодейственной рукой хирурга, то
преисполненная благодарности семья может и будет радоваться тому, что: 1)
его спас врач; 2) победило его природное здоровье; 3) Бог помог.
Только глупец сочтет правильным одно-единственное из этих трех суждений.
В одном и том же абзаце я могу назвать открытие квантовой теории
прогрессом науки, результатом творческих усилий Планка или вспышкой
вечной истины в сознании честного исследователя.
Эта тройственность, это принуждение нашего сознания двигаться по
всем трем направлениям, привлечет в будущем наше внимание: каждое
явление надлежит прослеживать вплоть до решений богов наверху, до
причин мира и вещей внизу и, на уровне человека, до глубин души
ближнего.
В любом пути «с неба через мир и в ад», как его называет Фауст, есть
немного от этого. Данте нащупывает ту же самую тройственность. Ибо
у него обособившийся, ограниченный своей самостью грешник
барахтается в аду как беспомощная вещь, принадлежащая миру. Он стеснен
своей причиной, своим грехом так же, как стеснены своими причинами
камни и вещи мертвого мира. Тот, кого определяет только его причина,
пребывает в аду, и этот человек мертв.
Напротив, в чистилище у Данте бедным душам уже ведома дружба.
У них есть друзья и ближние. Так что они, подобно нам, смертным на
земле, не находятся ни в аду, — ибо мы не одиноки, — ни на небе, —
ибо мы еще разделены на классы, расы, массы, а потому, хотя и не
обладаем единством Бога, все же пребываем в системе социальных связей
и градаций.
Но на небесах у Данте даже противники любят друг друга. И лишь
там, где враги плодотворно влияют друг на друга, творение Божье
приобретает свой подлинный образ. Любовь к врагу позволяет следовать
путем Бога вместе с ним.
Таким образом, и Данте поставил тот же вопрос, который, с тех пор
как Слово стало плотью, проявился через достославное триединство
богов, людей и вещей, — мира, человечества и Элохимов (34).
Даже каждая божественная вспышка гения банально проходит по
этому триединому пути с неба к миру, а оттуда — в ад. Этому учит путь,
пройденный 140 лет назад в Берлине «божественной» арией Карла
Мария фон Вебера из оперы «Вольный стрелок». Это был путь с полей
высокого искусства в Берлинской опере к комнатам восторженных,
стремящихся к «возвышенному» девиц из добропорядочных семейств,
исполнявших ее на фортепиано, а оттуда — вниз, к уличным песенкам на задворках,
где из шарманок доносилось: «Мы сплетем тебе девичий венок из
фиолетовой повилики...». Высоко, возвышенно, низко: вот три этажа того,
что возвышается над нами, образует нас, что подчинено нам, и это
подобно трем лицам во всех нас — «ты», «я» и «он», т.е. «одухотворенный»,
«образованный», «толпа». Пока мы не пройдем через все это, мы
ничего не воспримем истинно. Ибо истина доступна лишь тому, кого она
преобразует. Но на примере текста из Библии обнаруживается, что мы, даже
по случайности, не должны задерживаться на одном-единственном
этаже истины. Благодаря существованию первоначального текста можно
19
дать переводчикам время создать разные варианты. Папа Лев XIII
выразил это так: «Нужно дать ученым время на заблуждения». С течением
времени и раса мыслителей в конце концов достигнет истины, при этом
речь идет, вероятно, не об отдельном поколении мыслителей, а о целой
расе в последовательной смене поколений.
Уровень развития исследований обрекает каждого ученого на
заблуждения, свойственные именно этому «состоянию» науки. Например,
каждый исследователь, изучавший рак, в течение пятидесяти лет был
обречен официально, т.е. ради карьеры, участвовать в поисках бациллы рака.
Эти поиски оказались тщетными, что было установлено уже в 1923 г.
(35). Однако говорить об этом стали только в 1963 г. Тем не менее, даже
в период с 1923 по 1963 г. врач — оказывающий помощь и лечащий врач,
заявлявший о себе в самих этих исследованиях, — обязан был, скорее,
назначать и применять глупейшее домашнее средство, никак не
связанное с гипотезой существования бактерий — возбудителей рака, нежели
отговариваться наличным уровнем исследований. Господа академики
официально отрицали эту обязанность. Врачи по призванию, швен-
нингеры и Рихард Кох (36), всегда признавали такой долг врача. Ибо у
постели больного говорит не только наилучшее знание — там луч света
падает непосредственно на добрую совесть (37).
Процесс исцеления важнее знания; но и всякое обучение есть
исцеление; оно никогда не ограничивается простой передачей знаний. Как и
врач, учитель, который должен говорить о браке или политике, не может
ждать, когда исследование семьи или государства достигнет своей цели.
Пускай послезавтра исследование будет знать больше. Но обучать
необходимо сейчас. Прусская конституция 1850 г. Указывала государству
границы его вмешательства с помощью великолепной фразы: на место
великолепным предложением: «Наука и обучение свободны». В этом
предложении исследование называется сначала, а обучение — потом. Но
человека, поскольку он должен обучать свою дочь, обязывает другое
предложение: «Обучение необходимо, ибо мудрость не должна предаваться
забвению даже там, где имеет место недостаток исследований».
Благодаря этому превосходству обучения тот же самый исследователь, который
обязан во всем сомневаться, одновременно другим ухом внимает голосам
мудрецов, и так он оказывается способным корректировать требования
«состояния» исследований при помощи «потока» мудрости. В живом
человеке ведут беседу два голоса — голос Бога и голос науки. Это так
потому, что состояние исследований и поток обучения относятся друг к
другу как активное и пассивное начала. Исследователь хочет, может,
знает, мыслит. Обучающий слышит, внимает, должен, обретает
возможность. Но никакое изречение не является истинным, если оно не может
склоняться как в активной, так и в пассивной форме. Вслед за тем же
самым мыслителем, который восклицает: «Я ни во что не верю», «Я во
всем сомневаюсь», его читатель, его возлюбленная, его студент должны
с верой говорить: «Он ни во что не верит, — как это прекрасно! Я ему
верю», «Он во всем сомневается, — как это смело! Я в нем не
сомневаюсь». Так что во всех нас родовое существо, мужское и женское,
активное и пассивное одновременно, в грамматических терминах — «средний
залог», ведет борьбу с только активным специалистом (38). Ибо исследо-
20
ватель имеет в виду бесконечность процесса исследования. Но
любящего человека держит в своей власти момент страдания. Нас подчиняет себе
ужасное двойное принуждение к относительному, «на глазок»,
восприятию: с одной стороны, человечество должно предполагать наличие
бесконечного времени, а с другой — данный конкретный человек не должен
терять ни единого мгновения. Логос в каждом из нас омывает нас в двух
существующих одновременно и все же противоречащих друг другу
речевых формах — как понятия (Begriffe) и увлеченность (Ergriffenheit).
Усмотреть самое далекое призван в нас дух: он понимает. Но ближайшему
мгновению должна служить душа: что-то влечет ее.
В моей работе о характере наций, в «Европейских революциях», я
объяснял патриархальные наклонности немецких систематизаторов,
академиков, профессоров их особой функцией в качестве советников
князей. Там повествуется и о том, как англичане высвободились из-под
этого преобладающего влияния специалистов и тайных советников,
установленного в 1517 г., ради духовного настоящего. Британцы сделали это
в период с 1641 по 1688 г. Наука мыслит об уже бывшем и о еще
предстоящем. Но в духовном настоящем два потока духа, исходящих из
прежних учений и из грядущего исследования, сталкиваются в сердце
человека. Словосочетание «духовное настоящее» в стране Реформации до
сего дня еще не воспринято во всей его диалектике. Когда я спрашиваю
кого-нибудь из немецких студентов о смысле духовного настоящего, он
только пожимает плечами. Оно его не интересует, ибо он считает его
простой точкой во времени. Но истина духовного настоящего — это акт
любви между рассудком и разумом, это заключение брачного союза
между духом и душой.
Поэтому, поскольку в 1918 г. наш дух оказался во власти отрицания
наших целей, а наша душа — нашего поражения, мое сочинение о
катастрофе 1918 г. называлось «Брачный союз войны и революции». Ибо в
нем предпринималось попытка обнаружить единственно возможное
тогда духовное настоящее в двойной боли ниспровержения наших целей и
нашего поражения. Но мужское начало от Эриха и до Матильды Люден-
дорф (39) с их требованием «продолжения войны» и женское начало с его
«никогда не допустим новой войны» не смогли, в их душевной
слабости, заключить такой союз. Поэтому потребность в Гитлере стала
ужасным знамением эпохи, не имеющей духовного настоящего. И гордые
духом, и душевно израненные люди отделывались ссылками на простую
потребность. Так повторилась мировая война. Об этом говорили так,
будто она «началась» и будто это «общее дело». Благодаря
повторяемости жизни, столь утешительной для нытиков, мы на самом деле чуть было
не лишились какого-либо духовного настоящего. В школе и на учебном
плацу все повторимо — от письменного экзамена до отрабатывания
ружейных приемов. С 1933 до 1945 г. мы совершенствовали прежние
навыки и проводили «учебные сборы». То скромное духовное настоящее,
которое могло бы обратить взоры на открытие Америки Колумбом и на
эмансипацию России Лениным, считалось излишним. 8 декабря 1941 г.
Гитлер объявил войну Америке и собирался завоевать Россию до Урала.
Он жил как раз в малой Европе, увиденной под тем же углом зрения, что
и в составленном в 1555 г. атласе Меркатора. Его мозг уроженца Браунау
21
на Инне соответствовал эпохе империи Карла V до возникновения
Пруссии и Австро-Венгрии. Rejeton (40) без какого-либо духовного
настоящего, недоступный для мира, возникшего в течение последних четырех
столетий, он предлагал себя в качестве Христофора (41) тем, кто боялся
утонуть в потоке национального бедствия. Так что тогда в Германии не
могло быть духовного настоящего. Тех, кто, как, например, участники Край-
зауского кружка (42), показывал возможность духовного настоящего,
казнили. Дух и душа должны были оставаться недоступными.
Самоубийство — симптом такой недоступности. Поэтому христианская эпоха
человечества не признает самоубийства. Ибо после Пасхи род
человеческий все больше выходит из недоступного мира, утрачивая свою
недоступность и шаг за шагом обретая духовное настоящее. Самая плохая
черта характера специалиста и профессионала, недоступность,
воплотилась в этом из Браунау для того, чтобы подвергнуть отрицанию духовное
настоящее, совесть в противоположность знанию, душевный опыт
ноября 1918 г. в противоположность умозрительным понятийным
конструкциям, экономику всего земного шара в противоположность экономике
отдельной нации или хозяйству мелкого поместья.
Любая раса мыслителей — физики, психологи, историки, юристы —
без духовного настоящего испытывает влечение к самоубийству. Но язык
не достигает своей цели, если он не возвещает духовное настоящее. Ке-
ригма (43), возвещение, смысл языка как раз и состоит в сотворении
духовного настоящего. А это, в свою очередь, является всего лишь другим
способом выражения примирения. Там, где мы не заключаем мир,
разражается война. В моей работе «Conversableness» (44) было представлено
английское произведение 1675 г, в котором прославляется еще и ныне
непереводимое выражение «GocTs conversableness» (45). Слово было
создано капелланом Оливера Кромвеля в пику системам немецкого
академизма и немецких княжеств. Ибо тип заумного и ограниченного
специалиста-профессионала, этот «ratio» систематического образования,
надлежало победить с помощью идеи открытости Бога общению. Советы,
даваемые князьям, должны были оставаться доступными здравому
человеческому рассудку. Джон Хоу (Howe) для преодоления господства
бездуховных специалистов смело разделил «reason», дух, на два потока. Он
писал: «Всеобъемлющая форма «reason» оказывается двойственной: он
выступает как открытость Бога общению и как исчисляемость его
рационального мира». Мы, как философ, так и физик, должны слушать Бога
и понимать мир одновременно и нераздельно, и все же раздельно по
образу действий («Иммануил, ты все еще не сделал этого!», «Удельный вес
Н20 равен 1»). До тех пор, пока их воспринимают одновременно,
мыслители не могут закоснеть в качестве расы. Ибо тогда их мышление не
вырождается в одержимость. Мыслители остаются пластичными, и всякий
раз зов их совести может вырвать их из-под власти знания и сотворить
заново. Тогда разделение сыновства, воплощенного во всех нас, на расы
мыслителей или расы их жертв, становится невозможным. То, что еще
должно быть сотворено сегодня, сохраняет превосходство над тем, что
уже всегда было таким, какое оно есть. Если у мыслителей пропадает это
духовное настоящее, это приводит к чудовищным последствиям. Ибо
тогда важным оказывается не духовное настоящее, а историзм. Так, воз-
22
действие концентрационного лагеря в 1936 г., несмотря ни на что,
представлялось биологам, изучающим проблемы наследственности, медикам,
психологам, — тем, кто составлял по поводу такого воздействия
квалифицированное заключение, — чем-то обусловленным «наследственной
предрасположенностью». В моей работе «Прикладное душеведение» (46)
читатель может достоверно узнать о том, что происходит, когда из
«психологии» делают «душеведение». Тогда жертвы живодеров не должны
требовать возмещения. Причиненный им ущерб «обусловлен
наследственной предрасположенностью», а не вызван действиями
преступников. «Не убийца, а убитый виноват», — вот что является образцом для
экспертных оценок, которые немецкие врачи делали относительно жертв
СС. И как могло бы случиться иначе там, где «ratio» мыслителей,
опираясь на принципы естествознания, рассматривает людей как некий
объект — вместо того чтобы слушать их в качестве своих ближних? Рука
и ухо даны нам не для одного и того же. Механически лечащий врач и
разумный врач — не одно и то же, поскольку человеческое начало
руководит рукой, а божественное — слухом. Поэтому Бог в каждое мгновение
должен вочеловечиваться. И у Джона Хоу это называется «God's
conversableness». Если Бог не становится человеком, то специалисты
больше не верят, что мы, люди, суть события. Тогда мы тотчас
начинаем считать наших ближних объектами, предметами нашего разума.
Время превращается в четвертое измерение физического пространства, а
вещи предстают в качестве причинно обусловленных. Но как будет
обстоять дело, если этот самый эксперт захочет получить назначение на
должность? Тогда он будет барахтаться, как рыба, в сетях будущего,
которое многообещающе манит его. Тот самый эксперт, который
отказывает жертве в возмещении причиненного ей ущерба, объясняя его
«наследственной предрасположенностью», станет торжественно обещать в
случае, если его назначат, оправдать связанные с ним ожидания и даже
сделать больше того, что от него ждут. Иными словами, там, где эксперт
живет, он под воздействием обращенного к нему призыва
превращается в тварное существо, пребывающее в духовном настоящем. Как и
всякая тварь Божья, любая вещь является постоянно происходящим
событием, произнесенным Богом словом, и, таким образом, может быть
постоянно сотворена заново, настроена на другой тон, — вопреки
«наследственной предрасположенности». И эксперт притязает на то, что сам он,
безусловно, обладает этой способностью! Итак, почему же жертва
заключения не является также и событием, а не вещью, «обусловленной
наследственной предрасположенностью»? Словосочетание «обусловленный
наследственной предрасположенностью» — это чистое надувательство,
поскольку в нем «вещь» появляется дважды, в «предрасположенности» и
в «обусловленности». Ведь «раса» — это именно возникшая из удвоения
ошибка мышления, совершаемая рационалистами, которые хотят
остаться безымянными и которые превращают в вещь то, что они привносят в
мир из своего рассудка.
Страдающий человек, сострадать которому не хотят
манипулирующие им специалисты, превращается в предмет. Но настоящее остается
несотворенным. Носители знания ставят преграду вмешательству Бога
в их собственное знание и в жизнь тех, кто испытывает на себе воздей-
23
ствие этого знания. Тогда этот ученый мир отдается дьяволу. Этот мир
отрицает основное положение христианского вероучения, согласно
которому Бог постоянно снова должен становиться человеком и
одухотворять человека, ибо только он — Дух, а мы — только души. Но ученый
мир гордится своим собственным духом без души. Так он становится
расой специалистов, сам становится «миром». И в качестве простого
мира он отрицает значение того великолепного дуэта, обозначенного
словом, которое до сих пор не переведено на немецкий язык и
благодаря которому английское дворянство — «джентри» — в XVII в.
избавилось от высокомерных тайных советников и прошедших полный курс
наук академических ученых: «The comprehensive form of reason is its
conversableness with God and with His rational universe».
Когда я в 1930 г., будучи заведующим архивом прикладного
правоведения, спросил у английских юристов о тех принципах, которые
определяют вынесение решений в экономических спорах, они ответили мне,
что каждый случай отличается от всех остальных, и потому решения по
каждому делу выносятся применительно именно к данному случаю. И
когда я сам на пути в Оксфорд, где я должен был преподавать, нашел в
Лондоне врача, чтобы он избавил меня от сильных болей, он обследовал
меня, осведомился о роде моих занятий и сказал: «У Вас есть боли. Но,
чтобы избавить Вас от них, я должен лечить Вас долгое время. Однако в
наши дни ни офицеры, ни профессора не должны проходить курс
лечения дольше 14 дней, поскольку они должны жить самоотверженно.
Пусть уж у Вас будут боли, и отправляйтесть в Оксфорд». Это был
великий врач, и его знания были обширны, а его вера была сильна.
2. Целительная трилемма
Проведенное выше исследование того, как в современной науке дело
дошло до возникновения расы мыслителей, не является единственным в
своем роде. Эрих Хеллер (Heller) недавно описал превращение
фаустовского человека в «расу учеников волшебника» (47). Но мне теперь
надлежит отдать на суд нашей новой точки зрения мою собственную
манеру выражаться. Ибо в конце предыдущей части в предложении о
британском враче я только что совершил тот самый грех, который ставлю в
упрек специалистам. Теперь я должен сделать самого себя объектом
своего приговора. Ведь я закончил первую часть типично идеалистической
фразой: «Его знания были обширны, а его вера была сильна».
То, как там сформулировано предложение, принадлежит к
открытому мной ошибочному миру мысли последних 800 лет. Ибо душа и дух,
называние и речь смешаны и превращены в невообразимую кашу. Я мог
бы написать это предложение сразу после сдачи экзамена на аттестат
зрелости, вынув его, так сказать, из моего школьного ранца, т.е. до того,
как мы заново воздвигли три этажа: «имена — слова — числа». Имена
стоят в зените. Слова находятся у меня перед глазами. Числа у меня под
рукой. Напротив, в предложении «Его знания были обширны, а его вера
была сильна» есть что-то усыпляющее, как и во всех безразличных и
канцелярских выражениях. Такая двойственность возникает из
самоопьянения собственной двучленной логикой или «ratio». Ибо там, где рассудок,
24
«ratio», не подчиняется основанному на имени насилию, божественной
власти, и не говорит честно от имени этой власти с другими людьми,
также повинующимися той же власти и придерживающимися той же веры,
т.е. там, где рассудок мыслит не именами, но только словами, его слова
низводятся до уровня простых понятий, которые сами высокомерно
определяют свое «ratio», а сам он низводится до уровня числа. Тогда у этих
идиотов можно прочитать: «X я произвольно называю то-то и то-то» или
«Под Y я далее подразумеваю пупок Будды». Тогда эти люди кончают
гегелевскими дефинициями вроде знаменитого «частичного отрицания
относительного бытия-вокруг-себя каузальности абсолютного бытия-в-
себе-и-для-себя» применительно к «разорванной сорочке Матери Божи-
ей». Там, где мы дерзко даем дефиницию своих собственных слов, они
лишаются своей ценности, связанной с группой говорящих людей,
утрачивают свое место между именами над нашими головами и числами у
наших ног и превращаются в простое орудие моего ремесла. Понятия
уходят из языка. Подлинная речь случается именно непроизвольно, и
тот, кто непроизвольно пишет или говорит, испытывает побуждение
предоставить слово чему-то необходимому. Истина непроизвольна.
Напротив, формулирование дефиниции — это свободное действие либо
личного произвола, либо признанного законодательного авторитета.
Например, один из моих студентов написал непревзойденную фразу: «То, что
я произвольно назову Богом...» Хотя я высоко ценю правовые понятия
законодателя, мне безразличны дефиниции политэкономов, социологов,
этиков и психологов. Все они, как сказал фон Готтль (Gottl),
поклоняются своим собственным понятиям, как идолам. Эти ложные
законодатели могут давать дефиниции, сколько им угодно. У них нет авторитета
законодателей — и, возможно, именно их ложным авторитетом я был
одурачен, когда писал: «Его знания были обширны, а его вера была
сильна». Тем самым я воспользовался именно известной логической схемой
соотношения веры и знания. Но тот, кто понял работу «Раса
мыслителей», больше не будет доверять такой альтернативе. Ибо в этой
дилемме — «его знания были обширны, а его вера была сильна» — не
вызывается та сила, именем которой происходит расщепление на знание и веру.
Может быть, знание здесь связывается с осведомленностью в медицине,
с любовью к ближнему, с равнодушием, с церковным Символом Веры,
или же со здравым смыслом, с мировым духом, с человеческой душой
или профессией врача? Таким образом, удобная, столь желанная
неясность мягко обволакивает мое предложение: «Его знания были
обширны, а его вера была сильна». Увертливые фразы типа «философской
веры» здесь бесполезны. Первая половина предложения говорит
слишком много, вторая — слишком мало для того, чтобы возвыситься над не
имеющей никакого значения пошлостью. Сначала следует указать, что
слова «его знания были обширны» кажутся охватывающими все знания
того, кто находится напротив меня, и, таким образом, также его
мудрость, его жизненный опыт, — короче, многое из того, что другие
подвели бы под понятие веры врача. Предложение было бы ясным, если бы
я написал, например: «Его познания в медицине были обширны». Ему
были известны все сведения из области терапии. Если бы я говорил о
нем так, то воздал бы должное его знаниям. У врача его знания принад-
25
лежат его личности в качестве специалиста. Тогда остров знаний
медика омывался бы водами океана действительности; таким образом,
посредством простого дополнения «он всесторонне знал медицину»
изменяются сами контуры его знаний. Ибо медицинские знания всегда
являются лишь частью того, чем человек облечен. Ограничение «его
познания в медицине были обширны» сдержанно, но вместе с тем
решительно отводит знанию в определении моего знакомого врача весьма
скромную роль. У него есть еще много других качеств. Но и выражение «его
вера была сильна» должно быть разъяснено, однако не для того, чтобы,
как в случае со знанием, сузить его с помощью дополнения «его
познания в медицине были обширны». Нет, недостающее дополнение к
высказыванию «его вера была сильна* должно было бы обладать, так сказать,
противоположным свойством, оно должно было бы поднимать его веру
с уровня простого оборота речи до уровня действующей жизненной
силы. Я призываю читателя проявить немного терпения для того, чтобы
признать основательную изношенность словечка «веровать». Я
утверждаю, что ни я сам, ни все мои современники или читатели, — включая
всех служителей кладбища, — говоря: «Его вера была сильна», не
передает четкого смысла этого предложения. До того, как читатели и
писатели сообща не признают этого, они не извлекут никакой пользы из
работы «Раса мыслителей». Поэтому мне нельзя было с таким умилением
писать: «Его вера была сильна» по той простой причине, что это
предложение могло бы встретиться в поэтическом альбоме девочки-подростка.
Ибо там все должно только хорошо звучать, даже если написанное не
заключает в себе никакого содержания.
Ни церкви, ни прихожане сегодня не могут сказать, что такое вера,
если рассматривать это простое слово само по себе.
Сперва следует это доказать. Для этого я хочу сначала обратиться к
области языка, которая лежит точно на полпути между литургией и
повседневным языком, — к области права. Язык права всегда является
заимствованным: он переходит из языка богослужения в светский язык. С
другой стороны, язык права все еще на одну ступень возвышеннее,
торжественнее, формализованнее повседневного языка болтовни и простого
разговора. Итак, что же язык права говорит о вере? Он объясняет нам,
почему вот уже, по крайней мере, в течение столетия от слова «вера»,
взятого само по себе, нет больше никакого толка. Уже сто лет назад, в
1863 г., появилось исследование по истории права Эрнста Циммермана
(Zimmermann), высокопоставленного судьи, под названием «Присяга на
основе веры». Когда я обнаружил эту книгу, я подумал, что в ней речь
идет об историческом исследовании присяги на гостии или на Библии,
или же о клятве Символом Веры. Но когда я прочел книгу, то у меня
открылись глаза на слабость «веры» уже в 1863 г. Дело в том, что «присяга
на основе веры» — это присяга, которую приносят, когда не знают чего-
то достоверно! Присяга на основе веры — присяга второго сорта: «Хотя
я этого и не знаю, я все же в это верю...»
Ныне теологи и психологи себе во вред совершенно отказались от
этой юридической стороны словечка «вера». Повседневное
словоупотребление и теология повсюду пропитаны языком права — так же, как
слова «суд», «приговор», «вердикт», «расследование», «жалоба», «иск»,
26
«вина» используются без каких-либо оговорок. Вся философия со
времен Канта утратила глубину содержания, поскольку она была всего
лишь скрытой теологией, хотя она и пользовалась языком права и
правового общества. Присяга на основе веры, которую человек должен
принести перед судом, хотя он и не знает чего-то, подвергает нас
действию напора жизни: даже смиренное «я верю» или «я не верю»
должны повлиять на суд. Тот, кто учитывает это, не впадает в ошибку
недооценки риска, связанного с предложением «его вера была сильна». Это
— не индивидуальный оборот речи и не сакральная формула. Моя вера
перед судом рассматривается как выражение причастности к обществу,
некий социальный залог, который держит меня, держит так сильно, что
меня обязывают принести присягу. Тем самым вера оказывается столь
же далекой от моего личного мнения, как и от области моих
должностных обязанностей и полномочий. Но, несмотря на это, ей
принадлежит право участия в принятии решения — право, которое должно
оставаться непонятным картезианцам и томистам, поскольку они знают
только мыслителя и содержание мышления, но ничего не понимают в
причастности к языку многих духовных элементов. Юридический мир
присяги на основе веры должен помочь нам всерьез принять кризис
слова «вера». Мы пришли к забавному противоречивому выводу, что
«вера» ныне обозначает второстепенное по своей значимости мнение в
противоположность знанию, но даже в этом приниженном положении,
в этой своей второстепенности оно призвано вносить нечто важное в
духовную жизнь. Изъявление веры обладает властью. Но власть этой
«fides», этой веры, весьма невелика.
Между тем, Церковь считает, что ее слово «fides» противостоит
знанию как равноправное. Но она никогда не упоминает, где и как
человеческое общество проявляет свою причастность к знанию либо вере или
полагается на них. Поэтому в наше время то, что сообщил мне
лондонский врач, а именно вера, должно быть заново определено без
примешивания сюда клерикальных, теологических, философских формул. Ради
этого я категорически отказываюсь от негодной пары понятий «вера и
знание». Это — лежалый товар, оставшийся от прошлой эпохи, а
именно — от тысячелетия диалектических, антитетических, логических
альтернатив. Так же, как ничего не значащими стали «вера и знание»,
пустыми сделались «тело и душа», «субъект и объект», «человек и мир»,
«вождь и масса», «дух и тело».
Названные выше и бесчисленные другие противопоставления
принадлежат языку образования, но этот язык образования является скорее
письмом, чем речью. Книги и школьные учебники, в которых бродят
призраки «знания и веры», — это плотные фильтры, не пропускающие,
отсеивающие, оставляющие как ненужный осадок многие черты устной
речи. Превозносимое «логическое мышление» является отличительной
чертой книжной письменной речи. В тексте книги отображаются отнюдь
не все черты живой речи. И на примере выявившейся
несостоятельности пар «вера и знание», «человек и народ», «слово и мысль» и т.д. и т.п.
можно понять, что расы мыслителей происходят из письменной речи, и
потому они мыслят в редуцированных или обедненных формах
логических антитез. Со своей стороны я хочу предварительно так определить
27
пропасть между письменной речью и книжным образованием, с одной
стороны, и настоящей устной речью — с другой: в языке образования
недостает тривиального. Так что образованным людям, коль скоро их
упрекают только в отказе от тривиального, для исправления положения
дел едва ли понадобятся большие усилия. Ведь их мыслительные
процессы, похоже, все же признают наиболее важными. И они хотят считать
свои мысли важными. Я же, со своей стороны, охотно довольствуюсь
ролью человека, тяготеющего к тривиальному, и приемлю ее для себя
самого и всех тех, кто еще отдает предпочтение устной речи.
Трилемма гласит: «Только тривиальное, только тройственное знание
может вывести нас с кладбищ, где покоятся умершие формы
образования и понятий Аквината и Декарта, Платона и Гегеля, Аристотеля и
Канта». Без доступа тривиального расы мыслителей могут в наши дни
превратиться в угрозу миру. Специалист, для того чтобы уравновесить
свое лишенное совести знание совестью неспециалиста, не обладающей
знанием, должен считаться с этим неспециалистом.
Я хотел бы сопоставить эту бесплодность ученого жаргона с опытом
последних шестидесяти лет, который связан с мировыми революциями
и мировыми войнами. Ибо игра расы мыслителей со всеми объектами
под Солнцем — с человеком, народом, водой, воздухом, огнем — в
мировую эпоху водородной бомбы становится безумием. Можно поставить
на место души мышление этого мальчика, этого вечного
старшеклассника Декарта (48). Самолеты и электронный мозг, атомные и водородные
бомбы возникают из недр таких рационально обедненных, лишенных
души профессиональных групп. Но эти профессиональные группы
физиков, математиков, бухгалтеров, статистиков не должны господствовать.
Они — знатоки с уровнем развития мальчишки. И точно так же как
война — слишком серьезное дело для того, чтобы доверять ее ведение
генералам, живая Земля — слишком дорогое и любимое творение для того,
чтобы отдавать ее в руки пронырливых дельцов от техники.
Мой английский врач, когда он провозгласил меня созданием,
которому выпала честь уметь переносить свои боли, отказался от своей
техники. Об этой тривиальности не упоминается ни в одном учебнике
какой-либо специальности. И все-таки она указует на трилемму,
важнейшую для всякого специалиста. А именно, он всегда может выполнить
больше того, чем ему дозволено. Практиковать можно лишь тому
специалисту, который в состоянии отказаться от того, что он умеет! Ибо
диалектическая логика его профессиональных знаний требует
дополняющего ее диалекта, на котором говорит тривиальная совесть. Дилемма
специалиста сформулирована диалектом его науки. Но трилемма врача,
учителя, военачальника, политика возникает только из столкновения двух
диалектов. Диалект знатока — это профессиональный язык. На
диалекте не знающего запретов стремления к действию говорит в нас не
прошедший экзамена на аттестат зрелости бедняга, которого считают
тривиальным. Этот бедняга никогда не полагался на голые антитезы типа «вера
и знание». Он никогда не имел права войти в мертвое пространство
чистых понятий именно потому, что он остался существом, пребывающим
во времени, преходящим неспециалистом, живущим единожды именно
сейчас. Поэтому ему нет никакой пользы от дальнейшего, многообеща-
28
ющего прогресса знания, уходящего в вечность: дело должно быть
сделано сегодня, а не когда-нибудь. Я хочу прийти на помощь этому
тривиальному неспециалисту, предложив слово «трилемма». Что, если «три
пути» открываются всегда там, где момент времени играет решающую
роль? Может быть, мы в состоянии логически отполировать пары «вера
и знание», «церковь и государство», «труд и досуг», «гений и масса»,
«вождь и народ». Но эта логика дает сбой, как только мы скромно
спрашиваем: «Когда я должен верить?», «Когда я должен знать?», «Когда мне
следует обратиться к специалисту?», «Когда я, как часть народа,
свободен?», «Когда я завишу от вождя?», «Когда чистая логика наталкивается
на мое лишенное чистоты существование?». Тривиальное — это
преходящее, мимолетное мгновение, когда я должен чихнуть, единственное
мгновение, которое принадлежит мне, хотя именно в это мгновение я
чихаю. Горе тебе, если ты считаешь его тривиальным и продолжаешь
размышлять, пока твое единственное мгновение не пройдет. Того, что ты
упустил в определенную минуту, не вернет никакая вечность. Слово
«трилемма», являющееся, впрочем, весьма старым термином логики,
вводится здесь для того, чтобы придать тривиальному некоторую
гордость или чувство собственного достоинства, и для того, чтобы ввести его
в круг профессиональных языков в качестве понятия, способного
принять вызов. Ради логического завершения, пусть тривиальное
именуется здесь трилеммой.
Таким образом, теперь я обращаюсь к тривиальной трилемме.
Физика и математика, высушивающие нас, превращающие нас в свой
объект и бросающиеся на собственный меч своего «ratio», возникли из
квадривиума свободных искусств, «artes liberales». Тривиум,
образовывавший вместе с квадривиумом семь свободных искусств, включает в
себя «только» грамматику, логику и риторику. Что если изменить
сегодня отношение между ними? Что если квадривиум сегодня стал таким
же банальным, как холодильник? Тогда, может статься, грамматика
должна будет обучить нас умению находить живую воду с помощью
волшебного жезла.
В области чисел дело обходится без диалектов. Там имеется лишь
дилемма: «Что ложно?», «Что правильно?» Числовой разум побуждает всех
своих почитателей следовать тому же самому образцу.
Но там, где мы обмениваемся словами, никто не может вложить свои
слова в уста другого. Если два математика должны писать на доске одно
и то же, то ребенок никогда не может говорить так же, как старик, а
пациент — так же, как врач. Горе учителю, ученики которого составляют
свои сочинения так, что их мог бы написать и сам учитель. В таком
случае это были бы его сочинения, а ученики как бы еще не написали
своих собственных сочинений. Слова, в отличие от чисел, принадлежат
лишь тому, кто на том же языке, каким наряду с ним пользуются
миллионы, говорит все же иначе, чем все остальные, поскольку он имеет
некое собственное имя. Каждый из нас должен произносить истину на
одном и том же языке, но отнюдь не теми же самыми словами. Ведь у
каждого, кто имеет честь говорить, его слова именно телесно принадлежат
ему, воплощают его самого. Слова — так же, как и собственное имя —
принадлежат ему, и этой укорененности в телесном существовании че-
29
ловека слово обязано своим более высоким положением по сравнению
с цифрами. Ведь цифры не могут быть ничьей собственностью. Числом
можно оперировать. Но каждое слово воплощает в себе своеобразие.
Правда, справедливо говорится, что даже статистика, выраженная в
числах, может быть действительно понята лишь тем, кто сам ее составил. Но
это доказывает именно большую важность слов. Ибо, прежде чем
статистик абстрагировался от слов и превратил их в числа, он обладал
именно словами, которые только и придают смысл этим открытым для всех
числам. Таким образом, тот, кто хочет понимать статистику, должен
сперва научиться говорить на языке ее составителя.
В ходе моего исследования тринитарной формулы Символа Веры
325 г. (49) я привлек также древние правовые формулы для того,
чтобы показать, как наши предки драматизировали жизненный процесс,
тогда как мы, мертвые души с огромными головами, логизируем
мыслительный процесс. Пять актов драмы не образуют логических частей
«силлогизма». Скорее, они воссоздают красноречивые противоречия,
возникающие между говорящими по-разному лицами. На
древнегреческом языке «syllogos» означает «беседа», т.е. не то, что мы сейчас
называем логической цепочкой доказательства, «силлогизмом». У
syllogos'a драмы есть два свойства, которые отличают его от логического
вывода. Сравним пьесу «Мессинская невеста» с позиций логики и с
позиций законов драмы.
I. С позиций логики.
Тот, кто убивает, должен умереть.
Дон Чезаре убил своего брата.
Следовательно, Дон Чезаре должен умереть.
II. С позиций законов драмы.
Дон Мануэль говорит о своей сестре как о сестре.
Дон Чезаре говорит о своей сестре как о своей возлюбленной и
воображает, будто Мануэль является его соперником. Он убивает своего брата.
Мать взывает к Дону Чезаре как брату обоих — Дона Мануэля и невесты.
Дон Чезаре говорит: «Я видел слезы, которые лились и у меня, мое
сердце успокоилось, я иду вслед за тобой», и убивает себя.
Два участника действия, отсутствующие в логическом примере,
попеременно появляются в речи, выступая то как сын, то как влюбленный, то
как брат. В слезах матери ревнивый влюбленный сливается с сыном и
братом. Он расширяет свою идентичность. Логически это невозможно и
недопустимо. Во-вторых, для того чтобы эти различные диалекты,
соответствующие действительному положению вещей, смогли прозвучать,
необходимо время. Тому, кто должен измениться, нужно время. Но
время появляется только в драме, а не в силлогизме. «Мессинская
невеста» — это не исчисляемый пример, поскольку в ней говорят на
нескольких диалектах, и для нее существенным является значительный
промежуток времени. Таким образом, между логикой и драматургией
разверзается та же пропасть, что и между педагогикой и политикой, между
школьным классом и решением о войне и мире.
30
Это сегодня — главнейшая истина, поскольку все человечество
объективировано и превращено в людей, прошедших обучение в школе,
образованных, получивших полное или неполное высшее образование. В
этой программе образования язык поставлен с ног на голову, поскольку
в нем числа представляются заслуживающими большего доверия, чем
слова, слова считаются полезнее имен, а всякая экономия времени —
лучше, чем длительный процесс самовыражения и самоутверждения.
Только имена могут превзойти и пережить срок самовыражения. Ни
числа, ни слова не обязаны выходить за пределы мгновения. Этот факт
вызывает ненависть у тех, кто получил академическое образование, и они
отрицают его.
Мне на стол попала годовая программа евангелической академии,
действующей в немецких землях; каких только тем не предлагалось в
этой программе рассмотреть в течение 12 месяцев: преисподняя и
небеса, промышленность и земледелие, война и мир. Но, как я предполагаю,
с гордостью были опущены все личные имена от Адама до Гитлера. О
том, кто должен будет говорить, благоразумно умолчали. Привлекать
должны были только слова и числа. Это — ложная приманка, а именно
ложная приманка предшественников внемлющего зову человечества,
информированных, сдавших экзамены, получивших свои оценки, набитых
до отказа всяческими сведениями, но нигде не услышавших призыва
стать наследниками. Ибо христианство лишь для того пришло в мир,
чтобы в каждый момент истории возвысить положение имен, в которых
заключено спасение или несчастье, поставить их выше уровня глаз, на
котором находятся наши слова, и выше борта тротуара, на уровне
которого находятся наши числа. Именем Господа числам и словам полагается
отправиться ко всем чертям. Именно там, где должны иметь значение
только слова и числа, слова низводятся до уровня чисел. Именно там
слова получают «дефиницию». И из целого «вытачиваются» понятия.
Понятие пытается выжать из слова то, что ближе всего числу. Понятие
выдавливает из сотни значений слова, живущего в стихотворении, одно-
единственное. Именно потому, что все области науки, пренебрегши
именами, «овладевают понятиями» точно так же, как военные овладевают
приемами ведения боя, содержательное, обладающее сотней значений
слово «вера» было «денатурировано». В качестве понятия оно все еще
является «мнением». Вместо того, чтобы охватывать все формы опыта, в
которых мы соприкасаемся с процессом творения нас самих, как мы
подразумеваем это в характеристике «человек слова», понятие «вера» в
наши дни сведено к вере в постановления Тридентского собора или в
катехизис. Сами теологи начинают считать эту получившую дефиницию
веру бессильной, и, покидая живое время веры, они спасаются бегством
в мертвое пространство надежды — при том, что слово «надежда»
отсутствует во всех четырех евангелиях. Если верующий чувствует себя
пребывающим в плавильном тигле Бога, то для умных теологов, как и для
простых прихожан, технический мир имеет значение завершенного,
готового мира. В разговорах о наших технических достижениях постоянно
подчеркиваются наши собственные навыки. А навыки делают того, у кого
они есть, слишком «завершенным» и «готовым» — имеющим на все
случаи жизни готовое суждение, устоявшимся в своем так называемом ми-
31
ровоззрении, благопристойным — и являющим собою готовый
материал для психотехников, статистиков, исследователей расы. Напротив, в
вере мы не завершены и преходящи, пребываем в состоянии
напряженного ожидания, преисполнены того, что не вмещается в понятия. Там,
где вера умирает, празднует свой триумф надежда, это приятное
предвкушение исполнения собственных желаний, того, что нам уже известно в
качестве чего-то приятного. Разумеется, в якобы завершенном мире
можно только надеяться, а именно надеяться на те готовые составные
части мира, которые нравятся данному человеку. Бедная «fîdes»!
Некогда Бог с твоей помощью мог позволить нам превзойти и оставить
позади наши собственные представления. Теперь каждый преисполнен
надежд — как будто ему ведомо, на что следует надеяться! Тому, кто верит,
его надежды совершенно не важны.
Нет, слову «вера», в противоположность знанию, ныне недостает
силы. Невозможно выявить его точный смысл. Мыслящий субъект,
специалист, доверяя самому себе, слишком долго отказывал в доверии Богу,
который открыт общению — «conversable» — и который преобразует
этого специалиста как раз в данный момент. Он превратил живого Бога в
природу, судьбу, расу. Теперь армия специалистов, находясь под властью
чар своего узкого представления о времени, больше не знает, что она —
если не считать нашей родиной будущее — не в состоянии выразить ни
настоящее, ни прошлое. Наука отвергает и разрушает эту родину.
Тот, кто только надеется и только постигает в понятиях, питается
отбросами своего вчерашнего дня или — если это звучит лучше — своими
запасами. Тот, кто надеется и потому хочет жить осознанно, исключен из
процесса творения. Он противостоит этому процессу как уже
определившийся, завершенный уже вчера и принявший законченные формы
человек. Поэтому он может воздвигнуть огромные сооружения, но сам он
больше не в состоянии стать кирпичиком процесса творения. Он может
повышать или понижать ценность государства. Но сам он лишен какой-
либо ценности.
Вокруг нас мы обнаруживаем только постигающих в понятиях или
только надеющихся, т.е. исключительно людей с навязчивыми
представлениями. Простое разоблачение того обстоятельства, что они
выродились в расу мыслителей, ничего не изменяет в их среде. Ибо они не
признают существования другого человеческого типа.
Мы должны снабдить их новым инструментом, так сказать, новыми
«щипцами», дабы они, вместо того чтобы схватывать в понятиях,
овладели навыком быть охваченным чем-то. Поскольку, к счастью, каждый
беспрерывно приобретает этот тривиальный опыт, нам не приходится
открывать ничего нового, а только подчеркивать важность
тривиального. Мы должны сделать популярными не дилеммы, соответствующие
альтернативам логики, а трилеммы, из которых состоит живая
повседневность. Трилемма охватывает нас всякий раз, когда мы всерьез
принимаем эту тривиальность — совместную жизнь с другими людьми
Поэтому теперь я спрашиваю себя тринитарно, тривиально или «три-
лемматически», — если это последнее звучит более глубокомысленно, —
как же лондонский врач разрешил свою дилемму. Тогда я обнаруживаю,
что он не отнесся к логической дилемме серьезно, поскольку я в моем
32
своеобразии постоянно оставался для него живым. В его душе я всегда
должен был что-то сказать и беседовать с ним. По этой причине я
отвергаю мою пустую фразу: «Его знания были обширны, а его вера была
сильна», называя ее именно пустой фразой. Там, где алхимик еще видел
отдельные детали, современная химия осуществляет разложение. Что же,
и слово «вера» разлагается, как химическое вещество, если уж мне
надлежит сегодня дать действенную формулировку его смысла. Оно
распадается на два совершенно различных глагола, на глагол «верить» (в
способность кого-то на что-то) и на глагол «доверять» (кому-то что-то). В
первом случае важен господин «кто-то», а во-втором — «что-то». Таким
образом, вторая часть нашего предложения о лондонском враче должна
быть удвоена или утроена. Он, врач, верит в мою способность
переменить мой образ мыслей. И нам вместе — ему и мне — доверено «что-то»
исключительно важное. Нам обоим приказано сделать нечто такое, что
должно произойти впервые. Для этого ему следовало перестать быть
врачом, а мне — пациентом!
То, что это должно было произойти будто впервые, обнаруживается
в существовании двух противоположных ограничений. Врачу угрожает
потеря его законного дохода. Таким образом, его поступок является
невыгодным, и врач будет глупцом, если его совершит. А мое желание,
которое, собственно, и привело меня к врачу, — желание избавиться от
болей, — остается невыполненным. Таким образом, ситуация выглядит
нелепо. Не исполняются ни его надежда заработать деньги, ни моя
надежда уйти оттуда, избавившись от болей. Но какие же тогда вообще у
нас могут быть дела друг с другом? На уровне денег и физических болей
мы потерпели неудачу, и лучше бы нам никогда не знать друг друга. Но
даже величайший скептик почувствует, что ему не следует использовать
выражение «лучше никогда». Произошедшее основано на том, что
ожидания и того, и другого были обмануты: здесь — гонорар, там —
избавление от болей. Следовательно, неудача становится ступенькой на пути
к успеху. Она превращается в тот смысл, обрести который можно было
только в результате моего неудачного визита. То, что врач не получает
своего гонорара, а больной остается со своими болями, — это безумие.
Но обе глупости, его и моя, будучи объединены, создают новое качество,
которого прежде не было. Своеобразие его и моей жизни претерпело
изменение. Обоим стало присуще нечто такое, чего у нас прежде не было.
Тот, кто верит, стремится допустить творение новых свойств. Этот врач
превратил меня, пациента, в своего помощника — точно так же, как Бог
дал Адаму в помощницы Еву. Мое мужское достоинство нисколько не
оскорблено тем, что я признаю эту женскую роль моей души в качестве
помощника врача. Книга Бытия преодолела чувственное влечение полов,
сделав их телесный союз взаимодействием пары помощников. Для моих
физических болей было бы достаточно и сельского лекаря, как для
Адама было бы достаточно шлюхи. Но только по ту сторону удовольствия
начинается брак. По ту сторону болей началась моя «teamwork» (50) с
врачом. Плотское удовольствие и физические боли создают некоторые
потребности. Хотя техника и может удовлетворить эти потребности,
самому процессу их удовлетворения все-таки не видно конца. Почему?
Удовлетворение потребностей — это нечто ущербное, поскольку оно де-
2 Зак. 3524
33
лает человека одержимым болезненной страстью. Те материальные
средства, с помощью которых удовлетворяется потребность, — это нечто
исчисляемое, то, что можно оплатить и подсчитать, это — количество. Но
никакое количество, даже триллион долларов, не обладает таким
качеством, как способность устанавливать мир. Мой врач знал, что, хотя он
и может удовлетворить мою потребность, это не принесет мне мира. Ибо
речь шла о том, чтобы вызвать во мне новое качество, которое у меня
прежде отсутствовало. И его отсутствие не возместить никаким золотом.
Как и всякое воодушевление, его можно получить только «gratis» (51).
Взимание платы за некое качество церковное право называет симонией.
Поскольку мы признаем веру условием грядущего мира или
продолжения творения, она неизбежно превращается в истину, выступающую в
тройственном облике. Ибо у творения есть Творец, который выступает
вперед, когда он вызывает что-то к жизни. Творение располагает
многими служащими ему вещами и тварями, которые ждут, когда их начнут
использовать и предоставят работу, и которые мы называем «миром»,
«вещами» или «чем-то предметным». И наконец, — но на самом деле, в
первую очередь, — творение каждым своим актом в течение каждого дня
творения изменяет социальный порядок. Ибо Бог всегда обращается к
нам в единственном числе: «О человек!» Даже во время врачебного
приема врач и пациент всегда стояли перед их Творцом , как «homo sapiens
insipiens» (52). Под взглядом Творца либо врач, либо пациент должны
были либо очерстветь так, чтобы не замечать открытой Им перед ними
возможности и поступать по шаблону, либо они должны были
решиться действовать сообща, как в некоем содружестве, которого прежде
никогда не было и в котором «исчезают» и врач, и пациент. Единственное
число обращения: «Это сказано тебе, о человек» всегда оказывается
призывом, который должен вызвать перегруппировку. Пациент и врач:
должен произойти обмен рутинными действиями. Верующий человек и его
помощник: они воплощают в себе новую солидарность ради достижения
новой цели.
Таким образом, изначальное слово всегда возникает в тринитарном
виде: оно исходит от Создателя, претворяющего нас в слушателей, от
Бога, который заставляет нас говорить. Это слово включает
слушающего «Адама» в новую группировку, ибо под тяжестью призыва: «Ты
призван, о человек» решается вопрос о том, кто перейдет в ту группу,
которая относит призыв к себе.
Поскольку таким образом вызывается к жизни непредвиденная
группа, то акт установления мира, до этого момента считавшийся
невозможным, становится осуществимым в качестве нового мирового свершения.
Появляются иные способы управления миром вещей, поскольку
сотворение мира переходит на свою следующую ступень.
Для того чтобы затертое слово «вера» засияло вновь, я хочу еще раз
перевести его: мы живем не в необходимом мире, а в мире, в котором
необходимость может быть преодолена. Вера свергает мертвые слова
«природа», «судьба», «закон». Они необходимы для неверия. Но,
поскольку Бог обращается к нам всем вместе со словами: «О человек»,
никогда нельзя предугадать, кто сегодня должен получить возможность
действовать, чтобы стать олицетворением Его Сына. Там, где, несмотря
34
на профессиональное разделение труда, члены группы, внемля призыву,
свободно меняются местами, необходимость отступает. Вера в Творца,
созидающего новое из прежнего «ничто», вера в нашу способность стать
причастными общности, возникшей из обыкновенной толпы, и вера в
то, что в данный момент свершается творение новой вещи этого мира. В
этих трех направлениях двигается драматическая вера, которая
предоставляет каждому человеку его диалект, а ходу времени — власть. Там, где
эти три вида веры действуют вместе, люди на опыте уясняют, что
творение мира продолжается. Но в будущем для этой трилеммы будет
недостаточно простой фразы: «Он верил». Тот, кто относится к этому серьезно,
должен будет волей-неволей составить три предложения. Эту цену — как
возвещали ангелы над Вифлеемом — придется уплатить третьему
тысячелетию за то, чтобы драма была исполнена, поскольку второе
тысячелетие погрязло в стерильном логицизме, не отдающем дани времени. Если
третье тысячелетие не уплатит эту цену, если оно не вспомнит о Никее,
не возгласит себя приверженным творящей времена Троице,
разделяющей людей на группы, то это тысячелетие закончится еще до того, как
оно начнется. Тогда оно разрушит само себя.
35
Рабочие учат слишком мало, а учителя
слишком много:
разгадка Августином загадки времени
1. Без теологии и без философии
Я обязан предостеречь читателя, ждущего от этой работы некоторого
вклада в исследование творчества Августина. Ибо исследователи
творчества Августина обычно являются теологами или философами.
Поэтому они разделяют все сочинения Августина на теологические либо
философские книги. Я не могу признать справедливости такого
разделения применительно к нашему исследованию. Но тогда возникает
встречный вопрос: «Да, но что же тогда написал Августин?» Я сперва
попытаюсь ответить на него с помощью примера. Некоторое время
назад Этьен Жильсон (1) указал на то, что Ансельм Кентерберийский (2)
не был ни теологом-схоластом, ни философом-схоластом. Да, но
разве он, благодаря своему доказательству бытия Божия, не считается
отцом схоластики? В споре с католическими и протестантскими
оппонентами, проявляющими чрезмерное рвение, Жильсон твердо держится
той точки зрения, что Ансельм представляет собой нечто третье, и ему,
Жильсону, как историку следует воздать должное истине. Тогда я смог
бы прийти к нему на помощь с открытием, что аббат и архиепископ,
каковым и был Ансельм, пришел к своему доказательству бытия Божия,
изучая великий перечень грехов, которые надлежит упоминать на
исповеди, «De vera et falsa poenitentia» (3). Это доказательство не имело
никакого отношения к мудрости мира сего, к философии. Разумеется,
Кант раскритиковал Ансельмово доказательство бытия Божия потому,
что оно означало: «Бог больше всего того, что я могу помыслить. Так
что это большее должно быть действительным. Ибо я ведь могу его
помыслить». Конечно же, это — схоластическая логика, и притом дурная.
Но Ансельм прочитал в перечне грехов: «Грешник часто оказывается
настолько подавленным, что он плачет: «Бог не может простить мне
мои грехи». Тогда ты должен сказать ему: «Твое понятие о Боге
является слишком ограниченным. Бог больше всех твоих представлений о
Боге!» Таким образом, Ансельм в качестве исповедника приходит к
исповедникам и повторяет для них могущественные слова: «Тогда вы
должны сказать грешникам: «Бог больше ваших понятий о Нем»».
Следовательно, Ансельм «мыслит» не как философ, размышляющий о мире,
и не как теолог, размышляющий о Боге. Нет, Ансельм говорит. Он
приказывает мыслить другим людям. Их мысли усмиряются и исправляются
некоей ответственной заповедью. У Ансельма есть собеседники. И эти
36
собеседники, со своей стороны, должны сказать пребывающим в
отчаянии душам придающие силу слова поддержки и ободрения. Эту силу
вселяет в них Ансельм, и он мог бы сказать: «Откажитесь от узких,
ограниченных представлений о Боге, присущих трусам». Таким образом,
Ансельм, когда он якобы в духе солипсизма дает свое доказательство,
исполняет обязанности, ставшие необходимыми в Церкви. Ансельм
сделал возможным схоластическое мышление, но сам он является не
мыслителем, а учителем исповедников и знатоков канонического
права (4). Он не постигает в понятиях, а ободряет и воодушевляет на
«более высокое плодотворное слияние» духа.
Этот пример поясняет нашу трактовку Августина. Она постулирует,
что в будущем Августина станут рассматривать как основоположника
грядущего домостроительства спасения или социологии. Он дает нам в
руки новый инструментарий. Мы обращаемся к нему не потому, что он
является мыслителем, размышляющим о мире, или мыслителем,
размышляющим о божественных тайнах. Его воздействие в обоих этих
качествах уже осуществилось. В качестве мыслителя, размышляющего о
мире, он оказал влияние именно на Лютера и Декарта. Ибо Августин
принудил мышление освободить душу человека от мира. Душа — не от
мира сего. В силу своего ультрарадикального августинизма Декарт
отказывает животным в обладании душой. Так Августин оказывается
крестным отцом всей современной светской философии и проведенной ею
математизации мира. До этого размышления о Боге Августина уже
воодушевляли схоластику. Тезис Ансельма «Credo ut intellegam» («Верую,
чтобы понимать») восходит к сочинениям Августина. Логика
схоластики, согласно которой два духовных процесса, вера и знание, стремятся
к совпадению, является августиновой. Но мы, современные люди,
имеем в Августине поручителя за третью основную науку, следующую за
диалектикой и математикой. Мы нуждаемся в новом методе, поскольку мы
должны разрабатывать новую тему. Ибо в нашей грядущей науке речь
идет не о Боге (как об этом говорит «Credo ut intellegam») и не о мире
(как это происходит в объективации мира, превращающей его в простой
предмет), а о времени, о нас как сообществе ближних и о череде времен,
горестных и славных эпохах бытия рода человеческого. Без этой науки
мы пропали. Но Августин подготовил ее. Общеизвестно, что до
Августина никто не высказывал о времени таких глубоких суждений, как те, что
принадлежат ему. Но это глубокомыслие исходит из уст Августина,
поскольку он не говорит при этом ни как теолог, ни как философ — и то,
и другое понимается в современном смысле. Время погибает именно в
руках как теологов (которые хорошо разбираются в вечности), так и
философов (которые имеют дело с пространством). Граф Сен-Симон (5)
стоял очень близко к Августину, пришедшему в ужас от проблемы
времени, поскольку Сен-Симон с нетерпением ожидал порядка,
основанного на чистой временности, «ordre temporel». Августин, который,
высказываясь таким образом, ощупью продвигался к загадкам нашей
временности, — не облеченный должностными полномочиями языческий
профессор, но в данном случае и не рукоположенный епископ Гиппона,
расположенного недалеко от Карфагена. Напротив, мы можем доказать, что
здесь говорит третий Августин.
37
К этому третьему Августину мы подходим не как теологи и не как
философы. Его суждения, имеющие значение для будущей науки,
рассеяны по всем его сочинениям. Пожалуй, в небольшом сочинении «De
magistro» (6) он особенно ясно для нас вступает на новый путь, путь
науки о времени, возможность которой в наши дни обсуждается столь
горячо. Для метода будущей науки о временности не будут полезны ни
схоластическая логика, ни академическая математика. Ибо и то, и
другое — и математика, и логика, — в нашей истории уже отчетливо
проявили свою несостоятельность по отношению к человеку.
Распространение теологической логики имело следствием сжигание ведьм на
кострах, поскольку логика, относящаяся к Богу, совершила ошибку, не
остановившись перед миром предметов. Наука о Боге, будучи
применена к человеку, ведет к религиозным войнам. Распространение
математики привело к умерщвлению, отравлению газом в душегубках,
кастрации, селекции, высылке миллионов людей, поскольку математика мира
не в состоянии остановиться перед человеком. Наука о мире, будучи
применена к человеку, ведет к мировой войне. Таким образом, когда
мы ищем инструментарий, орудие, с помощью которого мы смогли бы
обеспечить людям мирное существование, логика и математика
оказываются бесполезными. В условиях мира люди могут разговаривать друг
с другом. Таким образом, новое учение должно исходить из того, что
люди говорят между собой. У Августина этот третий инструментарий
оказывается в наличии. Заставить людей говорить друг с другом мы не
можем ни с помощью числа, ни с помощью логики. Человек
побуждает человека говорить с помощью речи. Конечно, это речь, обладающая
всей силой спряжений и склонений. Это речь, наделенная
полномочиями, а не речь ученых, пишущих своих труды в тиши кабинетов. Но эта
речь превращает войну в мир, человека — в ближнего, мертвые
предметы — в живое настоящее. Она обращается с нами как с переменными
формами высшей грамматики. Эта последняя овладевает временами с
помощью превращения их в настоящее, т.е. посредством нашего
вхождения во время и в ход времени. Таким образом, будущий
инструментарий должен заново предоставить язык и время в наше
распоряжение — так же, как число подчинило нам пространство. Возведение
времени в его вторую, его полную степень является задачей, побуждавшей
двигаться вперед ведущие умы современности — Бергсона, Уильяма
Джеймса, Александера, а также Ницше и Франца Розенцвейга (7).
У Августина, а именно в сочинении «De magistro», содержится лишь
подход к созданию нового инструментария, нового орудия науки. Оба
акта, на необходимость которых мы указали — побуждение рядом
существующих людей к разговору и превращение в настоящее загадочного
времени, — открываются Августином в одном и том же акте, в беседе
отца с сыном в те моменты, когда Августин говорил с сыном, не будучи
связан своими служебными обязанностями. «De magistro» — это диалог.
Обозначая «De magistro» как диалог, я попадаю из огня да в полымя.
Ведь если даже читатель мне поверит, что Августин никогда не говорил
ни как философ, ни как теолог, то, услышав ключевое слово «диалог», он
тотчас же будет думать о платоновских диалогах. Затем он призовет на
помощь филологию и литературную критику и обнаружит, что в случае
38
диалога речь идет об особом литературном «жанре», который «подобен
драме». Таким образом, последнее слово об этих элементах в
сочинениях Августина остается за историком литературы или филологом, и они,
возможно, уже произнесли его.
Я должен отклонить и разделение творчества Августина на четыре
части, точно так же, как перед этим отверг разделение этого
творчества на две части. Замысел Августина находится в промежутке между
филологией, философией, литературной критикой и теологией. Его
задача связана с пониманием языка как политической силы, с
помощью которой мы первоначально устанавливаем времена и
пространства. Собеседники Августина говорят не только в одно время и в
одном пространстве. Напротив, они обнаруживают, что лишь благодаря
разговору и возникают время и пространство. А именно, если людям
уже или еще нечего сказать друг другу, то они пока еще отнюдь не
находятся в одном времени или одном пространстве. Может быть
несколько, бесконечно много мировых пространств и мировых времен,
соседствующих друг с другом. Создание единства времени и единства
пространств — результат искусства беседы (об искусстве убеждения
уже не раз говорилось). Августин пробуждает нас к пониманию
значения факта воздействия искусства беседы, благодаря которому
собеседники полагают себя находящимися в одном времени и
устремляются в одно время. Возможно, диалоги Платона «подобны драме». Но
Августин учит нас, что всякая драма в лучшем случае «подобна
жизни». Благодаря ему мы начинаем лучше понимать не искусство, а
жизнь. И действительно, только собеседники оказываются в полном
смысле слова людьми! Беседа делает нас людьми. Мы являемся
людьми в большей мере, когда говорим с нашими ближними, вкладывая в
этот разговор всю энергию, нежели когда мы «мыслим» или
«работаем». Ибо только в беседе мы оказываемся в руке Бога и снова
обретаем самих себя благодаря силам, которые были вызваны в нас беседой.
Эти силы «грамматизируют» нас. Они не слишком
«сверхъестественны», чтобы только и сообщить нам нашу высшую возможность, а
именно возможность стать властителями времени. Но что же это за
силы? В них нет ничего мистического. Это силы, с помощью которых
мы обретаем время. Без веры человек остается обрубком самого себя,
поскольку для него закрыто его будущее. Без надежды человек
отрезан от своих корней в прошлом, поскольку они больше не
пробуждают в нем никаких желаний. А без любви ближний становится для
человека только одним из предметов этого мира, поскольку человек не
способен заявить о своей причастности живому настоящему,
открывающемуся в единении со своим ближним. Вере принадлежит грядущее
время, надежде — прошедшее, а любовь объемлет собой простой
предмет для того, чтобы он разделил с нею настоящее.
Тем самым вера, любовь, надежда из «нравственных добродетелей»
отдельного человека превращаются в процессы, происходящие в
обществе и доступные научному исследованию. Они обосновывают наше
отношение к будущему, прошлому и настоящему времени. И они могут
сделать это, лишь так овладевая отдельным человеком, что он включается
в хоровод последовательности времен, охватывающий его ближних.
39
Иными словами, «человек», который якобы находится во времени и
пространстве, никогда не является «одним» человеком (8), поскольку
никто в качестве отдельного живого существа не мог бы воспринимать
времени или пространства. Наоборот, времена оказываются, скорее,
теми процессами, благодаря которым мы превращаемся в звенья
истории. Времена оказываются социальными продуктами. Времена и
пространства — это «неестественные» обстоятельства бытия человека.
Только с их помощью мы входим в человеческую семью.
Но и здесь в слове «человек», как почти во всех предложениях с
«человеком» в качестве подлежащего, заключена чудовищная
двусмысленность. Свободным от времен и пространств своего случайного рождения
оказывается как раз не отдельный человек, а человек, знающий, что он
находится в единстве со всеми остальными людьми. A priori (9) человек
не знает ни о времени, ни о пространстве. Но a posteriori (10) человек,
научившийся побеждать пространства и времена и властвовать над ними,
как раз и не является больше отдельным «человеком». Он становится
таким существом, которое может сказать «мы» и чья победа обусловлена
его способностью говорить «мы». Но силы, позволяющие тебе или мне
когда-либо сказать «мы», — это исключительно вера, надежда и любовь.
Пусть читатель оглядится по сторонам и осмотрит весь мир природы.
Там он не обнаружит в пространстве ничего, кроме атомов, а во
времени — ничего, кроме секунд. Никакой отдельный элемент не дает
человеку, отрезанному от любви, веры и надежды, основания высказать те
странные утверждения, которые налицо во всех предложениях,
содержащих «мы» или «нас».
Когда Кант рассуждал о времени и пространстве с научной
убежденностью, он, безусловно, верил в братство ученых, надеялся на победу их
науки и, как он сам писал об этому своему другу, любил школу больше,
чем весь мир! Поэтому он, обращаясь ко всем ученым вместе, мог бы
начать труд своей жизни с предложения: «Без сомнения, всякое наше
познание начинается с опыта». Но словечксг «наше» в этом предложении
выдает то условие, при котором «Критика чистого разума» только и
имеет смысл, а именно, солидарность Канта со всеми мыслителями.
Однако солидарность — это единство с прошлым, будущим и настоящим.
Таким образом, солидарность — это всего лишь особое наименование того
способа, которым мы связуем воедино секунды, убегающие,
ускользающие моменты, превращая их в устойчивые времена.
В этом введении необходимо было показать, что сами времена
являются творениями, процессами, порождениями любящих, верящих,
надеющихся людей и что эти времена «неестественны». Они суть
продукты совместной истории, свершающейся с людьми как некоей
общностью.
Августин проникает в глубину этих изначальных процессов, не
пребывая ни в доме мирской науки, ни в доме прославляемого в литургии
Бога. Под открытым небом, там, где отец Кьеркегора (11) проклял Бога,
где Моисей услышал Бога в неопалимой купине, — вот где Августину
открылась солидарность человеческого рода. Это произошло благодаря
постановке настоятельного вопроса: «Что должен сказать родной отец
своему внебрачному сыну?»
40
В наши дни истина проходит через времена и пространства. Но при
этом возвращение к Августину представляется мне неизбежным.
Понимание того, что большие периоды, эпохи и циклы искусственно
создаются целыми нациями или церквами, везде пробивает себе дорогу. Но
маленький фрагмент Августина, «De magistro», — а он действительно
невелик по объему, — имеет особую ценность, поскольку истина о
создающих время силах обсуждается применительно к мельчайшему из всех
мыслимых случаев — к отношениям между двумя отдельными людьми.
Вся истина об историческом человечестве в качестве
сверхъестественного существа, в качестве тела времени, составленного только из любви,
веры, надежды, была возглашена уже давно, задолго до выступления
Августина. Его заслуга в деле разработки будущего учения о ближнем
состоит в том, что он продемонстрировал действие законов, которым
подчиняется любое тело времени, на примере наименьшей корпускулы,
какую только можно помыслить, — на примере группы, состоящей из двух
человек. Августин изолирует элементы так тщательно, что мы
оказываемся в состоянии увидеть конфигурацию любого социального
образования словно под микроскопом. Но это сведение к простейшему примеру
может отныне служить моделью всего исторического порядка. Тем
самым основывается некая метаномика (12), которая может выступить на
равных с метафизикой мира и металогикой Бога. Ибо подобно тому, как
логика Бога является высшей логикой, разработанной схоластами в
период с 1100 по 1500 г., а в метафизике заключена высшая физика,
исходя из которой мы смотрим на физический мир, так и мы,
руководствуясь метаномикой, волей-неволей должны овладеть «номосом» людей, их
отношениями друг с другом. Именно к принятию такой точки зрения
ведет нас Августин. Он является первым метаномиком (13).
2. Обучение как основное право человека
Аврелий Августин был последним латинским Отцом Церкви, который
еще должен был бороться с язычеством в Элладе и Риме. При жизни
Августина был закрыт последний большой языческий храм, Серапеум. Но
когда он умер, положение дел совершенно изменилось. Вандалы
находились в Африке. Вследствие этого перед римскими христианами встала
задача спасения сохранившихся ценностей древней цивилизации от
диких племен, которые никогда не жили в городах. Таким образом, новая
линия фронта уменьшала напряженность разлада между христианским,
римским и греческим мышлением. Очень скоро монастыри
превратились в архивы всего античного мира.
Поэтому, читая Августина, мы в последний раз видим древнюю
Церковь в состоянии резкого отделения от старого «мира». Августин был
изящным цветком классической древности, а затем он более тридцати
лет был епископом в убогом Гиппоне. В свои лучшие времена, "когда он
посвятил себя мудрости мира сего", он усвоил все учения философии.
Известная ирония заключена в том, что даже в наши дни некоторые
философы стремятся представить нам Августина платоником, так, словно
"приличного человека" и помыслить нельзя без греческой философии.
41
Эти интерпретаторы не замечают того, что, хотя Августин, разумеется,
свободно говорил на языке различных философских школ, сердцевина
его опыта состояла в отказе от этого языка. Это проявлялось даже в
мелочах. Августин, вопреки всем правилам античной литературы, сочинил
для своей общины направленный против донатистов (14) псалом,
заключительные слова которого были зарифмованы, и, тем самым, создал
основную форму христианских литератур, а именно рифму.
Предпринимаемые в наши дни попытки представить Августина
платоником препятствуют плодотворному подходу к пониманию его
творчества. Ибо Платон, для того чтобы быть значимым, не нуждается ни в
каком Августине. Так что Августин, если он просто философствовал,
становится лишним. Поэтому нам следует, скорее, обратиться к тому
моменту жизни Августина, который был им прожит так не
по-античному, как это только возможно. Лишь тогда Августин превратится из
последнего представителя или отпрыска языческой античности в того
последнего христианина, который смог со всей резкостью обрушиться на
нее.
Этим моментом является отношение Августина к Адеодату. В годы
своего учения, когда ему было ни много ни мало семнадцать лет, он
произвел на свет этого внебрачного ребенка. Теперь сын сам достиг почти
семнадцатилетнего возраста. Когда Августин стал христианином, он
окрестил и сына. Остается открытым вопрос о том, имело ли это большое
значение для Адеодата. Согласно легенде, отец и сын приняли таинство
от Амвросия (15), и Амвросий с Августином попеременно исполнили
песню, которая с тех пор называется хвалебной песнью Амвросия.
Независимо от того, насколько правдива легенда, стоит привести
слова этого гимна:
Тебе, Богу, мы возносим хвалу,
В Тебя, Господа, мы веруем,
Тебе, вечному Отцу, поклоняется вся земля.
Свят, свят, свят Господь Саваоф.
Здесь Августин, отец незаконнорожденного ребенка, призывает
святого Господа, которому в качестве законного Отца должны поклоняться
все земные твари.
В этой хвалебной песне заключен чудовищный конфликт,
совершенно недоступный пониманию грека Платона. Этот конфликт достигнет
предельной остроты, если мы представим себе, что Адеодат
собственными ушами слышит, как его родной отец произносит слова об этом
достойном уважения отцовстве Бога.
Итак, с момента обращения Августина и вплоть до смерти его сына,
последовавшей два года спустя, эти два человека находились в
отношениях, прообраза которым не было ни у язычников, ни у христиан. Ибо
не состоящий в браке отец теперь стоял перед своим внебрачным сыном.
Благодаря своему обращению они объявили эти отношения
обусловленными грехом. Благодаря одновременному крещению между 33-летним
отцом и 15-летним сыном возникли товарищеские отношения на
основе веры. Это духовное товарищество должно было охватить собой гиганта
42
духа, подобного рычащему льву, и юного безобидного мальчика. Эти
отношения не были гармоничными. Никакая логика не могла счесть их
гармоничными. Их можно было вынести лишь при условии, что они
ведут куда-то дальше.
Августин и действовал соответствующим образом. Он целиком
отдался задаче превращения сына в равного себе по духу. Годы после
крещения и до назначения епископом были полностью отданы осуществлению
плана Августина собрать целую библиотеку для воспитания и
образования Адеодата. Похоже, что Адеодат должен был представляться не
имеющему служебных обязанностей Августину неким садом, который Бог
доверил возделать его алчущему сердцу.
Это противоречило церковной и светской традиции. Отец вообще не
был учителем. Плоть и кровь не должны были наследовать дух. Это было
основным положением Церкви: призвание апостола Павла, никогда не
видевшего Иисуса во плоти, служило его наиболее радикальным
выражением. Догмат непорочного зачатия четко фиксировал его. Учреждение
института крестных отца и матери привносило его в жизнь каждого
христианина. В старом Сионе сыновство и ученичество, брак и священство
совпадали. Именно поэтому в новом Сионе они были резко отделены
друг от друга. Следовательно, Августин оказался перед дилеммой,
касающейся возможности совмещения роли родного отца с ролью
христианского учителя.
Августин понимал парадоксальный характер своего смелого
начинания. Он бесстрашно приступает к осмыслению самой его сути. Так что
сочинение «De magistro» — это «преамбула» его веры в то, что он может
стать учителем своего сына. Библиотека так никогда и не была создана.
Но предисловие к ней позволяет нам, следуя за Августином, заново
прожить тот своеобразный период его жизни, когда необходимо было
устранить разрыв между плотью и духом, о котором учила Церковь. Это — и
наша собственная дилемма. Мы должны разгадать ту же самую загадку.
Могут ли родители учить своих детей? На одной стороне оказывается
распад семьи, на другой — Эдипов комплекс. Мы ежедневно
сталкиваемся с упоминанием о жаждущих власти матерях, о беспомощных,
разрывающихся между женой и ребенком отцах, о неспособности всех
членов семьи обсуждать друг с другом вопросы религии.
Преамбула веры каждой отдельной супружеской пары должна
отвечать на вопрос: «В силу какого авторитета мы учим детей, которых
произвели на свет и которых законно называем странным словом «наши»?»
Ибо ни родство по плоти, ни упорядоченные законом отношения не
объясняют тот объем или те границы, с которыми должно считаться
духовное превосходство отца над сыном. В названии книги «De magistro»
выражается именно это сомнение. Если мы хотим полностью передать
смысл этого названия, то мы можем написать: «Кто является твоим
учителем, если я, твой отец, представляюсь поверхностному взгляду
исполняющим обязанности твоего учителя?».
Названной книжечке предназначено стать чем-то наподобие
третейского судьи по отношению к ролям родного отца, товарища по духу,
героя, выступающего образцом для подражания, духовного учителя,
грешника в сфере морали — ролям, которые соединились в Августине и ко-
43
торые могли погубить сына. Мы не знаем, был ли сын столь же
страстным и пылким, как его отец. Если да, то его преждевременная смерть
избавила его от неразрешимой путаницы. В своей «Исповеди» Августин
подробно останавливается на своем грехе, состоявшем в том, что он
произвел на свет этого сына, и на невинности ребенка, произведенного на
свет таким образом. Выслушивать такой ход мысли было бы для сына
чем-то бестактным, и даже ощущать на себе действие самой атмосферы
таких суждений было бы вредно для ребенка. Какое же бремя
возлагалось на этого сына как внебрачного ребенка, как обратившегося в
христианство вместе с отцом, как ученика, как наследника отца, масштаб
которого действительно превосходит среднечеловеческий? Могли ли
потоки истины действительно течь по этому странному каналу и, тем не
менее, оставаться чистой истиной? Очевидно, этот вопрос не означал здесь
необходимости академического обсуждения процесса обучения вообще.
Ответ на него можно было дать только на основе испытания сердца:
«Есть ли у этого особенного отца право воспитывать своего сына?» Если
ответить на этот вопрос утвердительно, то ответ будет иметь силу для
всех случаев. Ибо никакой другой случай не может быть хуже этого.
Имел ли Августин право крестить своего сына вместе с собой? И этот
вопрос связан с предыдущим. Опыт крещения Августина был
единственным в своем роде, и оно произошло в определенный момент. Но Адео-
дат совершил этот переход лишь как сын своего отца.
Тем самым отчетливо проявляется очарование книжечки Августина.
Она возникла в уникальной ситуации, в то время, когда он пребывал в
промежуточном состоянии между светской службой и служением
Церкви в качестве одного из ее иерархов, и потому такое положение вполне
сопоставимо с теми периодами нашей собственной жизни, которые
свободны от исполнения каких-либо должностных обязанностей. Но
следует воздержаться от литературных сравнений. Больше всего это похоже на
жизненно важную переписку в наши дни. И здесь речь может идти о
самой жизни. Судьба обоих участников переписки поставлена на карту.
Хотя мы имеем здесь лишь двоих участников переписки, мы находимся
в области социальной жизни. Подлинная переписка не принадлежит ни
к области литературы, ни к области психологии или биографии. Она
является социологическим документом. Как ни странно, эта точка зрения
до сих пор не получила признания. На практике переписка относится к
фактам отдельной биографии. Я сам попытался разрушить этот
предрассудок, и моя переписка с Францем Розенцвейгом о христианстве и
иудаизме была напечатана как социально значимый документ (16).
Похоже, что современная эпоха жеманится более всего тогда, когда
речь идет о переписке двух влюбленных. Такая переписка, вместо того
чтобы быть оцененной в качестве прафеномена образования общности,
считается всего лишь лирикой. Лирика как раз и образует общность (17).
Но читатель должен сам совершить этот шаг, и он должен увидеть в
переписке удостоверение становления группы. Иначе при рассмотрении
«De magistro» ему будут приходить на ум неподходящие категории. В
этом диалоге отец и сын доводят до конца битву между отцовством и сы-
новством. Какой это «литературный жанр»? Обозначение этой борьбы
как сугубо личной было бы столь же недостаточной характеристикой, как
44
и отнесение ее к рубрике «биография». Ибо при этом ищется отнюдь не
чисто личное решение. Как и всякая важная переписка, эта беседа
стремится найти окончательное, истинное и именно поэтому общезначимое
решение. Социологи, мышление которых притязает на охват всего мира,
с трудом согласятся с тем, что наука об общественных процессах без этих
оснований, ежедневно закладываемых в переписке и в беседе, просто не
существовала бы. Биографов это вовсе не убедит в том, что письма и
дневники в качестве своего завершения должны обрести всеобщее
значение. Но смысл «De magistro» состоит в утверждении, что всякое
подлинное социальное образование возникает из борьбы за спасение
действительного человека. Конечно, это имеет силу лишь тогда, когда люди
принимают бой. В обычной литературе о воспитании мы не найдем
документов, свидетельствующих о возникновении общества. Если считать,
что в рассматриваемой нами книге заявил о себе знаменитый профессор
красноречия Августин или епископ Гиппона, то результат оказался бы
иным, нежели здесь, где отец стремился найти ясный ответ на вопрос о
своем преимущественном праве учителя, отца, христианина. Таким
образом, Августин не пребывал в системе объективных, научных законов
духа. Скорее, он был страстно привержен выполнению определенной
роли среди людей. У него прямо-таки сдавливало дыхание от тяжести уз
этой приверженности. Таким образом, Августин писал не для того,
чтобы объективировать эту страстную привязанность, но чтобы быть в
состоянии ее выносить. Должна ли была именно эта страсть достичь
уровня научного знания, имеющего высшую ценность?
Возможно, объективно смотрящий на дело советчик мог бы сказать
Августину: «Облегчи свое бремя. Пошли своего сына в гимназию». Но
тогда мы никогда не разгадали бы загадку и не узнали бы, должен ли отец
учить своего сына. Августин настаивал на своем понимании: «Для меня
это может оказаться особенно трудным. Но, несмотря на это, я должен
учить. Я хочу, должен, могу учить Адеодата».
Это придает новый оттенок дискуссии, ведущейся в наше время. С
одной стороны, обсуждаются различные сложные государственные
системы, предназначенные для взрослых и не предполагающие борьбы за
личное спасение. С другой стороны, воспитание детей всегда
рассматривается как обязанность тех, кто уже воспитан. В промежутке между
обеими точками зрения и выступает подобный льву Аврелий Августин: «Я
должен учить своего собственного сына». И этим «Я должен учить» он
вставляет между учением о государстве для взрослых и учением о
воспитании детей нечто третье, вызывающее беспокойство: «Каждый взрослый
стремится сформировать детей по своему образу и подобию».
Сравним с этим идеи великого воспитателя Джона Дьюи (18). Дьюи
никогда не упоминает о том, почему он почувствовал потребность
написать свои книги о воспитании или до девяноста лет учить других. Он
обсуждает все вопросы, относящиеся к воспитанию, так, словно все это
делается только ради детей. Ему кажется самоочевидным, что учитель
всегда найдется. Догмой прошедшей эпохи было даже то, что
подходящий учитель найдется для любой реформы. Но то, что такого учителя нет
или не должно быть, в лучшем случае остается неким примечанием.
Возможно, этот недостаток внимания к учителю возникает из представле-
45
ния, что учитель — служащий, работающий по найму и получающий за
свою работу вознаграждение в виде жалованья. Но это было бы
несостоятельной точкой зрения. Ибо для того, кто получает заработную плату на
фабрике, эта фабрика, как таковая, в его собственной жизни ничего не
значит. Но если бы учитель был связан с обучением только жалованьем,
он не мог бы быть хорошим учителем. Таким образом, суть обучения
можно понять лишь тогда, когда оно рассматривается в качестве такой
же изначальной необходимости, каковой является еда или учеба для
самого учащегося. Наши теории воспитания, даже теория, изложенная
Гёте в «Вильгельме Мейстере», оторваны от реальности, поскольку они
всегда берут в качестве исходной точки школьников, публику,
государство, родителей, — вместо того чтобы исходить из кипящей страсти
Августина: «Я должен учить своего сына».
Джон Рокфеллер и многие подобные ему всю свою жизнь содержали
воскресную школу при церкви. Возможно, для понимания сути
педагогики это более примечательно, чем тот факт, что некий шестилетний
Алоис Бреннессель должен выучить буквы. Но почему же всегда
выделяется только второй вопрос? Августин снова призывает нас к порядку.
Как раз тот, кто всего лишь пристально смотрит на детей, которых
нужно обучать, способен писать толстые книги без того, чтобы его
жертвы вообще замечали эти книги. Школьники не читают эту литературу.
Но если я буду обсуждать мое и твое страстное стремление обучать или
присущее профессорам властолюбие, или страсть Джона Рокфеллера к
преподаванию катехизиса, то жертвы моего рассуждения прислушаются
ко мне. Кому хочется хвататься за раскаленное железо? Однако Августин
схватил его. Если бы мы спросили о том, должен ли каждый обучать так
же, как дышать, то воспитание превратилось бы в политический вопрос.
Но его нет ни в одной светской книге, посвященной учению о
государстве! Напротив, выбор Платона, согласно которому обучение должно
осуществляться государством, считается образцом и охлаждает ту
страсть, которая побуждает каждого из нас обучать других.
Августин видел, что изливающееся на ученика изобилие, из
которого состоит обучение других, и то воздействие, из которого состоит
ученичество, — это одна и та же сила. И это вызвало у него сильное
удивление.
3. Наша неодновременность
Мы можем сказать: «Мы — современники». Высказывание,
противоположное этому, еще не может быть произнесено (19). Отдельный
человек может назвать себя «несвоевременным», как назвал себя Ницше,
или сказать, как Гёте, что для того, чтобы начать существовать,
следует иногда ставить себя в положение несуществования. Пожалуй, в
обоих случаях указывается на отсутствие человека в его собственном
времени. Но неравенство двух людей в качестве не-современников, в
качестве «разновременников», при этом не выражается. И все же мы
нуждаемся в этом новом понятии, поскольку в природе человека
заключено то, что старик, мужчина и мальчик лишь внешне являются совре-
46
менниками, но по сути являются «разновременниками». Они живут не
в одном и том же времени. Тогда, когда мы говорим о «нашем
времени», неверно исходить из того, что родители и дети подразумевают под
«нашим временем» одно и то же. Природное время астрономов,
вычисляемое на основе наблюдения звезд, включает в себя много различных
времен людей, каждый из которых говорит «мы» по-разному. В
предельном случае можно даже утверждать, что каждый в некотором
смысле имеет свое собственное время.
Но для метаномики времени понятие разновременности является
основополагающим. Ибо она усматривает в историческом процессе
именно то, что люди с боем пролагают себе путь к совместному времени. Мы
с любовью входим в совместное настоящее, туда, где прежде нам
противостоял равнодушный мир. Совместное будущее ждет тех, кто имеет одну
и ту же веру. И из одной и той же истории возникают все те, кто питает
одни и те же надежды.
Исходной точкой метаномики Августина является отношение
между учителем и учеником. Всякое обучение основано на нашей
способности создавать последовательность времен с помощью некоего
переноса знаний. Эта последовательность времен возможна лишь в том
случае, когда учитель считается более старым, а ученик — более
молодым. Правда, теперь то, что учитель должен быть старше своих
учеников, уже вошло в правило. Но на это можно возразить, что в
некоторых случаях учитель оказывается молодым, а ученик — старым.
Опровергается ли наше правило этими мнимыми исключениями? Я думаю,
что нет. Ибо наше правило не всецело определено возрастом учителя.
Достаточно того, что всякое обучение предполагает наличие
некоторых «раньше» и «позже». По крайней мере, учитель часом раньше
должен обладать знаниями, а ученик часом позже должен слушать
учителя. Иначе не будет никакого учебного процесса. Без существующего
хотя бы на время превосходства учителя перед учеником и без
намеренного духовного запаздывания ученика обучение не имеет смысла.
Таким образом, оба верят в осмысленность течения времени, в то, что
именно «старый» должен учить «молодого».
Таким образом, описание отношения между учителем и учеником
предполагает, что они оба занимают два места в осмысленном течении
времени, и эти места являются неодновременными. Один из этой пары
является старшим, другой — младшим. Иначе нельзя осуществить
никакого духовного переноса, никакой преемственности в том, чему
обучают и чему учатся. Таким образом, слово «преемственность» имеет здесь
принципиальное значение, точно так же, как и выражение «порядок
наследования» в праве. В старые времена наследник был связан с
завещателем тем, что он, живой, следует за умершим. Он занимает то пустое
место, которое образовалось после смерти, поскольку жизнь
существовавшего прежде порядка заслуживает того, чтобы быть продолженной.
Древние развили все свои представления о совместном времени,
отправляясь от принципов права наследования. Старое, доброе время
должно быть продолжено, настоящее — твердо установлено, будущее —
предположено. Существовала малая вечность, эон. Благодаря праву
наследования для многих поколений существовало совместное время. Каж-
47
дый индеец или германец мог сказать «мы», поскольку он был
наследником прошлого, завещателем будущего и современником своих братьев по
племени, участником их празднеств.
Августиновская модель сводит те времена, которые должны быть
сплавлены в отношениях между двумя людьми, к беседе в ходе обучения.
Но в принципе и учебное занятие — это все еще сопряженное с
преемственностью проникновение молодого человека во время старшего. И
учебное занятие — это определенный порядок наследования.
Августин постоянно занимался фактами, связанными с создающим
преемственность проникновением молодого в дух пожилого. «Времена
учреждаются и располагаются в определенном порядке для того, чтобы
отобразить вечность. Круговороты времен с помощью бесчисленных
процессов наследования сочленяются и превращаются в песнь всего
человеческого рода» (20). Точное датирование овладевает мышлением
Августина настолько сильно, что Гитон (Guiton) мог сказать на основе ав-
густиновского способа выражения: «Непреодолимая пропасть между
греческим и христианским мышлением образуется из-за восстановления
христианством значения единственных в своем роде событий в их
времени. Нравственный порядок для всякого философствующего или
греческого рассудка является всеобщим и абстрактным. В христианстве время
любого человеческого существования даже в его мельчайших фрагментах
приобретает превосходящее качество» (21).
Соответственно, греческий рассудок в своем современном
облачении не замечает временного момента в процессе обучения.
Современным облачением греческого мышления является академический мир.
В этом мире академический час, в течение которого говорится о
государстве или Церкви, рассматривается так, словно сам он находится
вне времени государства или Церкви. Особое временное
соотношение, существующее между временем лекционной аудитории и
временем жизни, не подвергается никакому обсуждению. Ибо греческое
мышление исходит из того, что мышлению не присуща никакая
временная продолжительность. Всякое абстрагирование живет фикцией,
согласно которой само мышление не требует никакого времени.
Идеальнейшей мыслью считается та, которая требует менее всего
времени. Если при анализе школьных занятий исходить из этой основной
ошибки, то их продолжительность — один час или один семестр —
предстанет всего лишь как необходимое зло. Отсюда следует, что
время, отданное обучению, — будь то учеба в течение восьми семестров,
курс лекций, читаемый в течение трех месяцев, академический час,
продолжающийся 45 минут, — никогда не раскроет нам свою тайну. В
14-й главе «De magistro» Августин удивляется тому, что люди не
обращают внимания на эту трату времени. Сам он учитывает ее. И, следуя
ему, мы получили поразительный результат, касающийся любого
учебного занятия. «Молодой» и «старый» — это не биологические
понятия. Это — духовные представления нашей общественной жизни.
Ибо самый молодой учитель все же старше самого старого ученика,
поскольку первый учит, а второй учится.
С этим связано второе, столь же поразительное свойство всякого
обучения. В процессе обучения его участники способны исправить содержа-
48
ние того, чему в данном случае учат, но позже у них уже нет такой
возможности и такой свободы.
Учебное занятие, продолжающееся с 9.15 до 10.00, неизбежно ведет к
неправильным толкованиям. Если бы занятие закончилось в 9.30, то
школьник вернулся бы домой с совершенно ложными представлениями,
и за пределами школы он мог бы из-за этого натворить немало бед. К
счастью, все, что говорится до окончания занятия, до 10.00, может быть
изменено, и части сказанного можно поменять местами. Например, в
половине десятого учитель может привести контрпример, смысл
которого станет ясен лишь позже. И в течение всего занятия неизбежно
неправильное понимание учителя учениками. Но оно оказывается
безопасным, если занятие доведено до конца. Отвратительно лишь устойчивое
пребывание в заблуждении, тогда как прохождение этапа заблуждения
является условием наследования, т.е. усвоения знаний учителя. Да,
степень важности того или иного учения прямо связана с тем, в какой мере
оно может быть непонятным. В суждении: «2x2 = 4» меньше того, что
можно понять неправильно, чем в суждении: «Европа совершила
самоубийство». Но именно поэтому второе суждение важнее первого.
Несмотря ни на что, академический мир утверждает нечто прямо
противоположное. Поскольку он не нуждается во времени для
мышления, то для него, само собой разумеется, лучшим методом
преподавания оказывается такой, который обеспечивает безошибочное
усвоение учащимся того, что сказал учитель в течение времени с 9.15 до
9.30 и с 9.45 до 10.00. Этот мир считает безошибочную передачу
мыслей учителя ученику возможной. Он не воспринимает того поля
времени, где происходит исправление или перемещение частей
сказанного по отношению друг к другу в течение урока или семестра. Он не
принимает всерьез той примечательной устремленности старого и
молодого к настоящему, которое способно свободно изменять все
высказывания. Он ошибочно полагает, что новое поколение учеников
может иметь те же мысли, что и учитель. Но этого, конечно, никогда не
бывало. Со времен Платона, конечно, и Аристотеля все ученики
начинали там, где остановились их учителя. Ведь все учителя
высказывают ученикам последние мысли своего времени. Но для учеников эти
самые мысли оказываются первыми мыслями их собственного
времени. Если это не будет принято в расчет, то результатом станет
неправильное понимание философа его учениками. Именно это
составляет основной элемент истории философии.
Как только мы откажемся от академической иллюзии
вневременного мышления, мы сможем преодолеть все ошибки, проистекающие из
течения времени. Ибо теперь учитель и ученик могут открыто уделить
время взаимному непониманию. Да, тогда промежуток времени,
соответствующий учебному занятию, станет ареной неизбежной жизни еще-не-
в-одном-и-том-же-времени. Если педагогический метод говорит:
«Недоразумений между учителем и учеником можно избежать», мы говорим
вместе с «De magistro» Августина: «Чем важнее вопрос, тем с большим
количеством неверных толкований следует считаться».
Учитель, которого его ученики никогда не понимали неправильно,
наверняка не сказал ничего важного. Благо преподавания измеряется
49
количеством заблуждений, которые были преодолены в его процессе. И
всякое преподавание своим успехом обязано тому факту, что им было
создано некоторое пространство свободы, внутри которого предложения
могут безнаказанно поменяться местами. До самого конца любой лекции
профессор еще может опровергнуть самого себя или быть опровергнут
студентами, и до самого конца лекции все истинно лишь условно. Я могу
явным образом отменить все, что я сказал. Но уже после перерыва я не
могу это сделать с полным успехом. Ибо мои слова способны оказать
свое действие уже во время перерыва.
Следовательно, в отношении «учитель-ученик» создается некоторый
промежуток времени, отсутствующий в природе. Внутри этого
промежутка моменты времени можно поменять местами. Там нет «прежде»
или «позже». То, что сказано в 9.15, одновременно сказанному в 9.58,
поскольку все это говорится в течение одного и того же учебного часа!
Здесь мы настораживаемся. Ибо мы исходим из одновременности и
разновременности. Таким образом, можно ли считать, что мы
являемся современниками в той мере, в какой умеем объединяться друг с
другом в качестве учителя и ученика? Был ли наследник прежде способен
получить наследство от завещателя лишь потому, что он ходил к нему
в школу? Не потому ли в наши дни всякая духовная преемственность
все заметнее исчезает из сферы государственной службы и частных
предприятий, что там нигде не учат и не учатся? Не потому ли столь
велико число отцов и сыновей, участников молодежного движения и
«бывших», что не создается никакой одновременности? На эти
вопросы легче ответить, если обратить внимание на тот способ, каким
объединяются между собой два элемента такого промежутка времени для
начала акта обучения. Чтобы увидеть этот способ, необходимо
отказаться от еще одной академической ереси, а именно от представления,
будто учитель, обучающий некоему искусству или некоей науке, в
процессе обучения просто пользуется этим искусством или этой наукой.
Тогда физик учил бы согласно принципам физики, математик —
математики, историк — истории, юрист — юриспруденции. Но преподавание
математики не относится к области математического знания! Обучение
юриспруденции само по себе не является юриспруденцией. И все же
противоположная точка зрения столь сильна, что она присутствует во
всех концепциях обучения. Читатель, разделяющий эту точку зрения,
не сможет понять нашего исследования. Обучение еще не открылось
ему в качестве большой модели всякой жизни, происходящей во
времени. Он считает обучение неудобным дополнением к своим навыкам или
знаниям. Для нас все выглядит противоположным образом. Поскольку
отцы, сыновья, короли, кронпринцы, зодчие имеют учеников,
постольку происходит обучение. Поскольку нужно кого-то учить, возникает
знание. Обучение — источник наук. Без обучения науки сразу же
перестают существовать.
И потому то одна, то другая наука иссякает, как только они
оказываются больше не в состоянии выполнять первое условие, жизненно
важное для науки. Это условие заключается в требовании так воодушевить
человека ради процесса обучения, чтобы он считал себя обязанным
передать эту науку своему преемнику, и так одухотворить другого челове-
50
ка ради изучения этой науки, чтобы он ощутил стремление усвоить то,
что ему передает предшественник.
Следовательно, в обучении заключен некоторый опыт, обладая
которым два человека исходят из одного духа, но ведут себя
противоположным образом. Один учит, а другой учится. Обучающий намеренно
делает себя старым, а учащийся намеренно делает себя молодым. Быть
старым означает духовно принимать определенный образ для того, чтобы
быть в состоянии учить, а быть молодым означает объявлять себя
аморфным, необразованным, пустым и в таком виде, ради возможности
учиться, покориться стремлению к обретению формы и образа.
С помощью модели этой связи между старым и молодым
раскрывается тайна всякого духа, невидимая в эпоху «интеллектуалов», а именно
то обстоятельство, что он веет лишь там, где люди, исходя из одного духа,
берут на себя выполнение противоположных задач. Ни один отдельный
человек не «имеет» духа. Напротив, дух есть сила, побуждающая людей
к разделению труда. Есть дух семьи, поскольку отец, мать, сын и дочь
воплощают собой различные роли внутри семьи (22). Почти никогда дух
не веет там, где в массе все кричат одно и то же. Но он веет тогда, когда
в ходе революции один строит баррикады, другой печатает прокламации,
третий отливает пули, а четвертый, пятый и шестой сопротивляются
полиции. Здесь обнаруживается то, что Марксово понимание разделения
труда, каким бы глубоким оно ни было, все же нуждается в углублении.
Благодаря нашей модели, состоящей из учителя и ученика, мы приходим
к выводу, что дух способен также организовать работу на фабрике. Но
его первоочередной задачей является связывание между собой людей
различных времен. Поскольку марксизм осознал разделение труда в
пространстве как великое деяние духа, он дальновиднее индивидуализма. Но
ряд «Гегель — Маркс — Ленин — Сталин» сам по себе — это не
разделение труда в пространстве. Это разделение труда во времени. И
поскольку всякая духовная жизнь нуждается во времени, то для того, чтобы
понять разделение труда между людьми, работающими в пространстве,
сперва нужно принципиально осмыслить разделение труда во времени.
Маркс находится всецело под властью естествознания, а там природа
считается прежде всего и главным образом пространственным миром.
Поэтому у Маркса время и пространство находятся в обратном
соотношении по сравнению с человеческой действительностью. Диктатура
пролетариата является порождением этого обратного соотношения. Ибо
диктатура — это такая форма власти, у которой нет времени, которая
должна сразу же овладеть пространством и не терпит никакой отсрочки.
Модель учебного занятия неподвластна этому гибельному извращению
отношения между пространством и временем. Здесь, скорее, можно
вполне ясно увидеть, что участвующие в духовном разделении труда
люди тем самым способны принимать время совершенно серьезно. Ведь
лучшими учениками того или иного учителя являются не те, которые
выдерживают у него экзамен. Лучшие ученики — это те, кто долго
слушает его, спустя длительное время после того, как они закончили учебу,
и нередко при этом бывает так, что лично у него они никогда не учились.
Расходование времени — это условие учения. Мы должны уделить
друг другу время, если нам надлежит учиться друг у друга. Но те про-
51
межутки времени, которые расходуют учитель и ученик, обладают
противоположными качествами. И мы обязаны серьезно отнестись к
этой противоположности для того, чтобы самим соприкоснуться с
силами, образующими время.
Обучающий обращается с речью к ученику, поскольку тот
потенциально «моложе» и, таким образом, может пережить учителя. Истина,
которую обучающий в противном случае унес бы в могилу, благодаря ее
восприятию учащимся защищена от смерти. Таким образом, будущее
истины отделяется от сегодняшнего бытия учителя. Учитель преодолевает
пределы собственной жизни. Истина продвигается вперед благодаря
живущему. Итак, она становится, так сказать, «продвинутой вперед».
Наоборот, учащийся получает доступ к тому прошлому, которое
противостоит ему в обучающем. Благодаря обучению учащийся отодвинут назад
по отношению к его собственной жизни. Он и в самом деле становится
«отодвинутым назад».
Указывая на акты «продвижения вперед» и «отхода назад», я хотел бы
напомнить читателю, что современные психиатры приписывают
человеку стремление проникнуть в самый момент своего рождения и даже в то,
что предшествовало этому рождению. Услужливые психоаналитики
прослеживают развитие человеческого зародыша в ретроспективе вплоть до
момента его зачатия. При этом они не замечают, что учение всегда
уносило людей всех эпох во времена, предшествовавшие их рождению.
Всякое воспитание и обучение всегда были возвращением, попятным
движением во времени. Живущий человек должен обрести чувство, что он
уже до своего рождения присутствовал во времени. В наши дни дела с
попятным движением во времени с помощью подлинного учения
обстоят довольно плохо. Вероятно, именно этим объясняются порожденные
психоанализом недоразумения. Конечно же, человек стремится
присутствовать во времени, предшествовавшем его рождению, но не при
своем зачатии. Так же сильно или даже еще сильнее он хочет присутствовать
при сотворении мира.
Но, кроме того, это стремление можно понять целиком, только если
рассматривать его в качестве противовеса стремлению к продвижению
вперед. Нам хочется проникнуть во время, предшествовавшее рождению,
но точно так же — во время, следующее за смертью.
И учитель, и ученик признают наличие этих здоровых стремлений. К
чему тут психоаналитик, если для блага и старого, и молодого нужно,
чтобы были уничтожены границы рождения и смерти? Любой процесс
учения свидетельствует о существовании двух этих побуждений. Они
доказывают, что человек создан для того, чтобы принадлежать всем
временам. Тот, кто заключает человека в границы времени его жизни, так или
иначе калечит его. Мы хотим присутствовать во всех временах и не
обретем покоя, не достигнув этого. Через посредство учителя к ученику
приходит вся жизнь, предшествовавшая его рождению, и всякий учитель
воплощает в себе для ученика не собственное время, но всю жизнь от
Адама и с самых незапамятных времен. Учащийся научается от того, кто
обучает, не тому, что тот думает, а тому, что тот знает. А знание — это
сумма всех бывших до сего дня и осознанных фактов. Зигмунд Фрейд
был малодушен. Ибо на самом деле он хотел еще раз пережить обруче-
52
ние своих родителей, их язык! Но вместо этого он внушил себе, что
хочет вернуться в лоно своей матери.
Наоборот, ученик воплощает в себе для учителя не его
собственную молодость, а весь последующий мир вплоть до Страшного суда.
Преодоление рубежа, полагаемого собственной смертью, — вот
наименьшее из того, на что надеется человек. Пребывающий в настоящем
ученик является для него мостом, по которому можно перейти во все
времена после его собственной смерти. Ученик является
минимальной гарантией того, что он не окажется заключен, как в темницу, в
узкие рамки отведенного ему времени жизни. «L'avenir est à nous» —
воскликнул одинокий Сен-Симон на смертном одре (23). Раньше
поручителем этого стремления двигаться далее за пределы собственной
смерти был наследник. В наши дни таким поручителем является
политическое движение, скажем, пролетариата, которое одухотворяет
даже тех, кто изнуряет себя служением этому движению. На примере
модели учебного занятия смысл этого стремления продвинуться
вперед раскрывается как желание выйти за пределы собственной смерти
вплоть до Страшного суда. Это проливает свет на полный смысл
слова «будущее». Это слово «будущее» в наши дни почти совершенно
утратило свой смысл. Можно слышать разговоры о том, что всякое
продолжение существующего порядка вещей за пределы сегодняшнего
дня переводит этот порядок в будущее. Но слово «будущее» зазвучит
по-настоящему только тогда, когда между сегодняшним днем и тем,
что произойдет потом, будет признано и принято наличие смерти.
Лишь такой рубеж делает чем-то стоящим усилия осмыслить
представления о «будущем». В этой идее будущего заложен риск того, что
сам живущий в настоящее время человек не сможет извлечь
результатов своей деятельности в будущем. Таким образом, он должен
доверить грядущий успех своей деятельности кому-то другому — так же,
как учитель должен доверить то, чему он обучает, своему ученику и
при этом не быть в состоянии увидеть окончательный результат. Ибо
этот результат проявится лишь тогда, когда ученик, молодой человек
в настоящем, станет таким же старым, как и его учитель!
Итак, будущее отделено от права распоряжаться им смертью, по
крайней мере, одного человека. Наши представления о будущем
значительно улучшились бы, если бы мы перестали отождествлять их с
простым продолжением настоящегЪ или прошлого.
В общем и целом, мы установили, что Августин обучает «от Адама»,
что Адеодат учится «до Страшного суда» и что, таким образом, Августин
ведет Адеодата назад, к Адаму, а Адеодат Августина — вперед, к
Страшному суду. Итак, странное и по большей части неправильно понимаемое
слово «воспитание» означает, что между «продвижением вперед» и
«отходом назад» взращивание и обучение создают настоящее, что
правильный способ этого взращивания уничтожает и для старого, и для молодого
бездну, разделяющую не только их времена, но и все времена в целом.
На примере учебного занятия можно понять, как времена вообще
превращаются в единое время. Верно, что во многих случаях в процессе
преподавания соединяются друг с другом только совсем небольшие
промежутки старого и нового времени. Но сам принцип остается неизменным
53
независимо от того, получил ли сам духовный учитель урок всего час
назад или же он повествует о происхождении рода человеческого с
непоколебимой уверенностью того, чья жизнь — звено в цепи идущих друг за
другом поколений.
Стремление проникнуть за пределы рождения и смерти мы
осуществляем с помощью уже упомянутых особых сил, которые называются верой
и надеждой.
Вера и надежда в процессе воспитания и обучения часто приводят к
разочарованию. Но именно в этом обнаруживается, что они необходимы.
Таким образом, математик не может вести обучение на основе
принципов математики потому, что только вера и надежда подготавливают и
предоставляют время для всякого обучения. Ибо лишь благодаря им
возникает та структура, наличие которой наивно предполагают так
называемые рационалисты, интеллектуалы, академически образованные люди,
мыслители и которую они, — всякий раз как они пишут книгу, читают
лекцию или обсуждают международное положение, — принимают в
расчет как нечто само собой разумеющееся. Речь идет об образовании
совместного времени, тела времени, простирающегося от периода,
предшествовавшего моему рождению, до того, что последует за твоей смертью.
Это тело времени, «this body of time», как великолепно называет его
Шекспир, должно беспрестанно твориться заново. И здесь в Марксовой
теории перманентной революции заключено предчувствие истины, но
Маркс от проблемы созидания времени снова соскальзывает в
пространство. «Время» именно беспрестанно творится нами из наших отдельных
биологических времен посредством их сочленения, и это именно то
время, которое может быть названо «нашим». Это время не дано, ибо оно
создается. И создается оно посредством отказа от любого особого
времени, путем выхода за его пределы. Вера и надежда обеспечивают такой
отказ. Они заставляют нас забыть о границах нашего «собственного»
времени, установленных рождением и смертью. Но нельзя понимать «отход
назад» за пределы нашего собственного рождения и «продвижение
вперед» за пределы нашей собственной смерти как механическое
продолжение (наподобие продолжения прямой линии в геометрии). Такого рода
продолжение нашего собственного времени можно измыслить по
первому требованию. Ведь человеческая голова делает все, что от нее требуют,
она чисто прагматически готова придумать средства для достижения
любой поставленной перед ней цели. Рассудок — это флюгер. Он может
служить любому духу, любому веянию времени. Но у нас речь идет о
происхождении самого этого веяния времени] Ибо сила, указывающая
направление и ориентиры деятельности отдельной головы, сообщающая
этой деятельности упорство и смысл, не находится в распоряжении
отдельного обладателя головы. Она возникает у него лишь из уверенности
в том, что он находится внутри некоторого совместного тела времени и
что все, о чем он сам думает в данный момент, существенно важно,
истинно и осмысленно для всего этого тела времени.
Животное не может поставить перед своим рассудком задачу думать,
поскольку оно не охвачено этой структурой совместного времени.
Напротив, самый дерзкий невежда может возражать или говорить «нет»,
поскольку его возражение относится к чему-то уже сказанному и по-
54
скольку его «нет» оспаривает значение уже признанного «да». Таким
образом, этот невежда не говорит, а участвует в разговоре. Поэтому его
голова может выдумать много разумного. Ибо эта голова получает
возможность ориентироваться из причастности ее обладателя к некоей группе,
существующей дольше, нежели промежуток времени между рождением
и смертью. Итак, ни речь, ни мышление не могли бы происходить в
обособленном биологическом времени индивидов. Они являются, скорее,
теми актами, в которых происходит образование тела времени. В этом
теле времени старый и молодой, люди противоположного типа и
выполняющие противоположные роли', так объединяются в одном духе, что
оказываются в состоянии говорить каждый свое и иметь
противоположные мысли. Это тело времени является прообразом драм на театральной
сцене, а не наоборот. Поэтому сравнение беседы между Августином и
Адеодатом с произведением драматического искусства было бы
увековечением заблуждения, берущего свое начало у Платона. Наоборот, все
драматическое искусство подражает изначальному образу действий
группы, одушевленной единым духом. В свою очередь, диалоги Платона —
это подражание записывающего свои мысли философа тем драмам,
которые шли в афинском театре. В наше время существует опасность
неправильного понимания «De magistro» Августина в качестве подражания
некоему подражанию (Платону), которое само подражает (драме). Это и
произошло на самом деле с тех пор, как Платон вошел у нас в моду, т.е.
с тех пор, как Эразм Роттердамский «канонизировал» Сократа, от «De
magistro» отделываются как от «платонистского» (24). Власть Платона над
мышлением современной школы не перестает удивлять. Но эта власть
заключается как раз в том, что у Платона отношение явления и
действительности поставлено с ног на голову. Современный платоник может с
успехом напечатать сегодня следующее суждение и не подвергнуться
осмеянию: «Посредством той любви, которую женщина вызывает у
мужчины, она подготавливает его к пониманию искусства». До тех пор, пока
будет сохраняться такое возмутительное положение, когда все ставится
с ног на голову, категорические формы полемики невозможны.
Вопреки неправильному пониманию Эразма Роттердамского, Августин не
подражает Платону. Скорее, из любви к своему сыну он проникает в ту
первоначальную клеточку, в которой мы, люди, обретаем способность
говорить. Мы — ты и я — обретаем способность говорить тогда, когда мы
подчиняемся некоторому совместному духу. А совместному духу мы
подчиняемся тогда, когда безоглядно забываем о своем собственном
времени и ведем себя так, словно у нас есть бесконечно много времени.
Грядущая наука о человеке и его временах основывается на представлении о
бесконечности тех промежутков времени, которым человек целиком
отдается, — точно так же, как физика некогда приписала
пространственную бесконечность сумме всех конечных вещей, т.е. природе.
Метафизика естествознания заключается в том, что она твердо придерживается
противоречия, согласно которому все веши являются ограниченными, а
природа — безграничной. Natura est creatura infinita (25). Посредством
этого природа приобретает свойство Бога, которого как раз и недостает
каждой природной вещи. Отдельному человеку не хватает времени. Ведь
он не живет вечно. Образование любой человеческой группы оказывает-
55
ся возможным только благодаря парадоксу, в соответствии с которым
мы, люди, нищие временем, забываем именно о нехватке времени и
ведем себя так, словно имеем бесконечное время друг для друга (26).
Поэтому тот же мыслитель, который определил природу как «creatura
infïnita», Николай Кузанский (27), назвал человека «deus finitus» (28). Ибо
человек становится Богом тогда, когда он действует, не считаясь со
временем, находящимся в его единоличном распоряжении. В чем суть
Креста, на котором был распят Христос? Маркион, Гарнак, Бультман,
Герберт Браун (29) выдумали некоего человека, у которого могли быть
только современники, т.е. ближние в пространстве. Так что они никогда не
поймут, почему Иисус в пустыне отказался от таких незамысловатых
отношений с ближними (30).
Сегодня мы постоянно слышим разговоры о краткости отдельной
человеческой жизни и бесконечных миллионах лет истории Земли. Время
стало бесконечно долгим. Но это чисто пространственное расширение
хронологии назад, до области, предшествовавшей моему рождению,
является всего лишь второстепенной мысленной проекцией подлинной
задачи создания единого тела времени, хотя ни у кого из нас времени как
раз и нет. И при этом указанная задача является важнейшей. Проекция
геологов и палеонтологов на миллионы лет не слишком убедительна,
поскольку она не уравновешивается будущим. Для этих самых ученых и
для большинства наших современников время, направленное вперед,
уже следующие десять лет, кажутся немыслимо долгими. Когда я
объявил лекцию о порядке нашей духовной жизни «с 1100 по 2000 г.», это
показалось дурной шуткой, и в перечень лекций было внесено
исправление: «с 1100 по 1200 г.»! При этом в 1950 г. я все же не смог бы сделать
ничего разумного, если бы только влияние моих действий не сказалось
в 2000 г. Но благодаря Платону и исследованию природы было нарушено
равновесие между будущим и прошлым. Люди хотят проникнуть во время,
предшествовавшее их рождению, но они больше не хотят проникать за
пределы своей смерти. Они стремятся все знать, или, иными словами,
они не хотят верить. Ибо в «историю-до-рождения» проникают с
помощью знания, а в то, что произойдет после смерти, напротив, с помощью
веры. Но жить вместе можно лишь тогда, когда мы проникаем во время
как после нашей смерти, так и до начала нашей жизни. Разумеется, вера
в будущее, в отличие от истекших миллионов лет геологов, не измеряет
конкретные годы будущего. Напротив, тем свойством, на основе
которого образуется человеческая общность, является именно безмерность
времени. Может быть, время, в существование которого мы верим, на самом
деле окажется ограниченным и когда-нибудь кончится. Но совокупное
время не возникнет, покуда мы упорствуем в наших представлениях о
такой ограниченности и думаем об этом конце. Тот, кто отправляется в
путешествие с обратным билетом в кармане, не может образовать
никакой общности с людьми, в стране которых он путешествует. Ибо он
уделяет им лишь заранее отмеренное время. Еще меньше рабочий,
трудящийся на условиях повременной оплаты, способен патриархально
почитать свое предприятие: он заранее слишком ясно видит ограниченный
промежуток своей работы по найму. Как говорит пословица, «после
девяти часов все кончено», и это лишает будущее какого-либо пафоса. Но
56
общности вроде брака, государства, церкви или дружеского союза
нуждаются как раз в этом пафосе, отвергаемом народной остротой. Эти
общности возникают лишь при условии, что люди заранее не
сосредоточивают свое внимание на их конце. Хотя они и могут перестать
существовать, их можно учредить лишь тогда, когда мы действуем так, будто этот
конец никогда не наступит. Мой покойный друг Вагеман (Wagemann) в
своей книге с помощью физико-математических аргументов доказал, что
даже малейшее ограниченное воздействие на живой мир может быть
вызвано только приложением бесконечной силы. Напротив, обычные
ограниченные проявления воли, конечно же, способны оказать
некоторое воздействие, но только будучи направленными на мертвый мир
предметов. Очевидно, существует шкала творения: бесконечное усилие
создает живые плоды, а ограниченное усилие создает мертвые предметы.
Творение и изготовление относятся друг к другу в точности как
безмерная преданность и соразмерные затраты.
Животное по имени «человек» может действительно стать человеком
лишь тогда, когда он обретет способность, забывая о самом себе и о
времени, прикладывать бесконечные усилия.
Но обратимся снова к модели «Августин — Адеодат». Во всей первой
части участники играют. Эта первая часть более всего похожа на
платоновскую перебранку. Августин предоставляет Адеодату сколько угодно
времени для того, чтобы тот усовершенствовался в игре. Опять же, будет
поучительным обращение за советом относительно этой первой части
«De magistro» к критике от Платона до Тоуршера (Tourscher). Все
комментаторы воспринимают эту первую часть совершенно серьезно, хотя
Августин из озорства отпускает шутки одну за другой. Например, он
обсуждает отрицание, это глубокомысленное отражение смерти, «ничто»,
в языке, и после нескольких намеков спешит дальше, «чтобы нас не
задержало «ничто»». Лишь после этого возникает тяжеловесная серьезность
второй части: «Ради небес, сын, брат-христианин, ученик, не позволяй
мне подавлять тебя. Не верь, что я, грешный Августин, являюсь твоим
учителем. В лучшем случае, через меня действует истина того, кто есть
«Альфа» и «Омега», кто был в самом начале, кто есть теперь и пребудет
во веки веков».
Так диалог обнаруживает то равновесие между прошлым и будущим,
которое должно возникнуть из слияния старого учителя и молодого
ученика, но которое, однако, так часто не создается школами, потому что
там замалчивается справедливое притязание учителя на будущее. Ибо в
первой части Августин идет Адеодату на уступки. Адеодат хочет играть,
потому что он молод. Игра бесконечна. У детей есть бесконечное время.
Эта вера в бесконечность времени в биологическом отношении
является приданым молодости. Эта вера еще не является верой в будущее,
которое должно перепрыгнуть через брешь смерти, моей смерти.
Юношеская вера — это, скорее, «еще-не-мышление-о-конце-жизни», то, что у
американцев называется «intrepidity» (31). Эта юношеская вера в
бесконечность времени представляет собой, так сказать, еще не подвергнутое
испытанию, естественное предвосхищение подлинной веры,
преодолевающей смерть. Юношеская вера наивна. Ее не нужно сохранять. Но
Августин, принимая участие в играх наивной поры своего сына, доказывает
57
на деле свою истинную, уже не наивную веру в будущее, которое
преодолевает его собственную смерть. Именно наивный, играющий в детские
игры сын должен стать его наследником. Если бы Августин обучал
своей мудрости высокоодаренного второго Августина, то он, разумеется, не
нуждался бы в этой игровой первой части «De magistro». Но тогда
Августин и не относился бы серьезно к своей собственной смерти. Тогда он
попытался бы создать свою собственную школу, как это делали
языческие ученые. Такой глава школы отнюдь не стремится ничего сеять в
душах людей, которые дальше всего отстоят от мира школы. Напротив, он
подбирает себе уже интересующихся наукой, особо склонных к
размышлениям или интеллигентных молодых людей в качестве своих
последователей. Отцу Адеодата это не подходит. И следует обратить внимание на
то, что это не подходит никакому отцу. Он должен обучать, каким бы ни
был этот Адеодат. Адеодат наверняка был далек от всех тех духовных
путей, которые прошел Августин. Но истинное учение не должно быть
пересажено в душу того, кто подобен учителю. Как раз наоборот: учение
обнаруживает свою истинность в том, что захватывает и того, кто не
похож на учителя. Чем было бы христианство без апостола Павла? Все
рыбаки и ремесленники в Галилее были слишком похожи на сына
плотника. Апостол Павел подтвердил его истину именно потому, что был
наименее похож на него. Ведь имя сына, «Адеодат», указывает на то, что
Августин понимал суть дела. Этот дар, который «дан ему непосредственно
Богом», нельзя «воспитывать» по собственному образу и подобию. Это
было бы чем-то безнравственным, тем, что нельзя назвать воспитанием.
Современные воспитатели в наши дни совершенно в языческом духе
говорят повсюду об образе человека, являющемся, по их мнению, целью
образования или воспитания. В одном случае таким образом является
английский джентльмен, в другом — белокурая бестия. Но за всем этим
неизменно стоит высокомерие вместо безмерности.
Августину ясно, что хорошее воспитание удастся в той мере, в какой
воспитатель и воспитуемый оказываются в состоянии отказаться от
своих собственных образов человека. Правильное воспитание как раз
лишает значимости те образы, которые воспитатель и воспитуемый
связывают с человеком. Ибо все эти образы человека привносятся в готовом виде
еще до того, как устанавливается сообщество обучения, из которого
только и может возникнуть правильное воспитание. Правильное воспитание,
созидание образа и подобия триединого Бога должно и может следовать
за опытом переживания Отца, Сына и Святого Духа во время самого
учебного занятия. Если учитель приходит на урок с готовым образом
человека либо ученик обожествляет учителя в качестве образца для себя, то
уроку недостает этой подлинной, именно ему присущей власти. Урок
должен лишить учителя и ученика самостоятельной значимости и,
освободив их от высокомерной приверженности собственным образам,
бросить их в безмерность бесконечного времени.
Нет, всякое правильное воспитание основано на нашей способности
отречься от всех созданных прежде образов человека. Перед лицом сына
именно отец отказывается от своих предвзятых мнений о будущем сына.
Конечно, мы составляем себе представление о будущем наших детей. Но
горе нам и им, если мы смешиваем эти наши представления об их буду-
58
щем с их действительным будущим. Действительное будущее возникает
из действенности нашей веры, их надежд и нашей совместной любви.
Это осуществляемое будущее, вызванное нашими действиями, должно
каждый день заново одерживать верх над нашими представлениями о
будущем.
Воспитатель, сожги свой образ человека! Это образ идола. Именно об
этом говорится в совершенно серьезной второй части «De magist го». О
чем же еще могла идти речь там, где отец стремится эмансипировать
сына, сделать его независимым и от самого себя, Августина?
Сперва Августин играл с Адеодатом. Мальчик доверяет ему. Отец мог
бы легко злоупотребить этим доверием. Он мог бы сформировать его по
своему образу и подобию. Тогда он не оправдал бы надежд сына на то,
что он с помощью учителя сможет соприкоснуться со всеми теми
вещами, которые предшествовали его рождению. Ибо тогда отец не смог бы
пойти навстречу надеждам сына в чистом акте веры, так, как он ответил
ему сейчас: «Да, я, Августин, вместе с моими предвзятыми мнениями о
тебе, Адеодате, должен умереть. Я должен отказаться даже от своего духа,
ибо этот дух все еще смертен. Лишь то, что заново родится в тебе после
того, как я эмансипирую тебя, окажется Святым Духом благодаря его
смерти вместе со мной и воскресению в тебе. Я могу лишь предвещать
тебе истину. В качестве учителя я являюсь для тебя, так сказать, твоим
Ветхим заветом, а ты сам для себя — Новый завет». Но все же не будем
забывать, что рядом с «De magistro» Августина стоит вся Церковь. Ибо
сама Церковь называется «Ecclesia Magistra» (32). И вся Церковь
подчиняется тому же закону, что и Августин. И она должна указывать на
жизнь, прожитую ее основателем и ее членами, чтобы это указание в
свое время воскресло в ее новообращенных. Таким образом, церковь в
своем учении также не передает никакого определенного образа
человека. Она как раз отрицает его. Господь на кресте — это не «Imago», не наш
прообраз или образец. Ведь он умер раз и навсегда таким образом, каким
мы, чтобы жить, не должны умирать. Церковь, как и Августин, должна
верить, что если она сама когда-нибудь должна будет угаснуть и
останется только этот один-единственный окрещенный, то он точно так же, как
и сама Церковь, все же в конце концов сможет без какого-либо ущерба
и совершенно заново зачинать и учреждать. На самом деле, это —
древнее суждение, охотно цитировавшееся Йозефом Виттигом и Соловьевым
(33), — суждение, согласно которому до тех пор, пока жив хоть один
христианин, Церковь может заново возникнуть из него.
Так что у Августина учитель выступает в роли провозвестника.
Благодаря своей вере он может учесть свою смерть. И как раз в
противоположность идеализму эта вера распространяется и на смерть собственных
мнений. Поэтому даже сам Христос, умирая, вверил свой дух Отцу. Ведь
иначе его дух воспрепятствовал бы приходу Святого Духа. Благодаря
отказу Христа от собственного духа в его смертный час, на Троицу Святой
Дух возвращается к его ученикам и как дар самого Христа. Это —
творческая сила отказа. Черты нашего облика формируются
самоотверженными отказами всех тех, кто когда-либо любил нас. Для этого Августин
и написал свой диалог. Точно так же, как он не позволил Адеодату
носить ужасное клеймо «По образу и подобию своего отца Августина», вся-
59
кий учащийся развивается до высшего божественного уровня лишь
тогда, когда учитель подходит к нему с безмерной, непредвзятой верой.
Вся вторая часть диалога скомпонована вокруг тезиса: «Я, Августин,
не являюсь твоим учителем. Христос в своей земной жизни запретил
своим ученикам называть себя учителем. Я запрещаю тебе, Адеодат,
видеть во мне учителя». Большинство толкователей находят эту вторую
часть незначительной. Напротив, они бьются над тем, чтобы выявить
важность филологических намеков первой части на тривиум и квадри-
виум. Я опускаю здесь детали трех американских интерпретаций этих
текстов, относящихся к последним десятилетиям, что не столь
существенно для немецкого читателя. Резюмируя, я могу сказать о них, что
все они относятся к первой части. Но она бледнеет перед важностью
второй части. Перед лицом коммунистических партийных школ, перед
лицом всех идеалистических школ и перед лицом всех бесконечных
речей об образе человека в воспитании я считаю освобождение Адеодата
от определенного образа человека, происходящее во второй части,
догмой всякого будущего воспитания. Христианин воспитывает, поскольку
отказывается. Но современная теория воспитания цепляется за такие
элементы содержания воспитания, как «пролетарий», «джентльмен»,
«немец», и на то есть серьезные основания. Если выдвинуть именно
этот замысел воспитателя на передний план, то можно увильнуть от
унизительной истины, согласно которой любой такой замысел должен
быть исключен из процесса обучения! Макс Шелер (34) однажды
сказал, что он, несмотря ни на что, надеется попасть на небо, поскольку он
не вел себя по отношению ни к одному из своих учеников «как
педагог». Что он хотел этим сказать? То, что он не приноравливался ни к
какому образу человека, а позволял безмерности веры, любви,
надежды господствовать в отношениях между собой и своими учениками. Он
был вместе с ними в плавильном тигле, в том, что составляет истинное
могущество времени.
Я тоже верю, что из-за этого Шелер попадет на небо.
Ибо и в самом деле основные силы, образующие тело времени, — это
надежда у молодых, вера у старых и любовь, связующая их.
Любовь, вера, надежда в атоме времени
Любовь создает настоящее, включающее в себя обоих — и учителя, и
ученика. До сих пор об этом настоящем говорилось совсем немного. Теперь
следует устранить это упущение, поскольку только тогда всецело
прояснится смысл веры и надежды как содержания нашей жизни в будущем и
прошлом.
«Любовь — это равновесие страстного стремления и жертвы»,-
написал Джузеппе Феррари (35). Таким образом, если мы говорим, что
учитель и ученик должны быть связаны между собой любовью, то это
имеет двоякий смысл. Во-первых, это означает, что оба страстно стремятся
выйти за собственные пределы, и поэтому их задачей является
воплощение в них всех времен до них самих и после них самих. Собственная
оболочка является слишком узкой. Они хотят взорвать ее, они стремятся
60
достичь истины. Ибо истиной обучения является не что-то абстрактное,
даже если большинство читателей при упоминании об истине, скорее
всего, думают о научных положениях или фактах. Самая живая истина —
это просто подтверждение человеческого начала в нас. Но человеческое
в нас — это наше право изменяться. Страстное стремление вырывает нас
из состояния неизменности и косности, в котором пребывает каждый,
кто хочет быть только человеком своего времени.
Во-вторых, любовь в отношениях между учителем и учеником
означает, что для обоих это страстное стремление оказывается чем-то
несбыточным без жертвы. Ибо только принося в жертву наше
собственное время, мы можем требовать того же самого от нашего
ближнего. Ведь он должен жертвовать своим временем для того, чтобы
вывести нас обоих за наши собственные пределы. С одной стороны, мы
нуждаемся в нем для того, чтобы самим попасть в полноту времен. С
другой стороны, для этого мы должны быть солидарны с ним. Он
также должен войти вместе с нами в эту полноту времен, иначе мы бы
просто использовали его в корыстных целях. Но оба мы должны
обрести жизнь. Таким образом, мы должны позвать его идти вместе с
нами — точно так же, как он предвещает нам в процессе обучения
нашу лучшую жизнь. Любовь делает человеческий род солидарным. А
«быть солидарным» как раз и означает, что мы образуем прочное,
нерушимое тело времени. Увы, оно не является прочным и нерушимым
по природе. Как раз наоборот — мы ежедневно разбиваем общность
на части. Господь беспрестанно подвергается распятию на кресте. Но,
как бы то ни было, там, где двое или трое собираются во имя Его, там
бездна времени между Адамом и Страшным судом снова
уничтожается. Таким образом, «нерушимость» означает только то, что
разрушение может быть снова и снова устранено. Одна-единственная пара
может в своей взаимной любви репрезентативно выражать нечто
очень важное, она — всю глубокую древность, он — все будущие
поколения, тем самым обручая друг другу все времена. То исполненное
любви обретение настоящего, которого в своем страстном стремлении
и своей готовности к самопожертвованию достигают жених и
невеста, возможно и там, где не возникает отношения между полами, — как
в «уменьшенной модели», оно может быть осуществлено старым и
молодым на учебном занятии. И здесь старый и молодой приносят в
жертву друг другу свое собственное время. И здесь оба страстно
стремятся выйти за свои пределы и тем самым, исходя из двух
самостоятельных форм существования, достигают совместного настоящего.
Странно, но, тем не менее, истинно, что живое настоящее исключает
самостоятельность индивидов или предметов. Предметы, «объекты»
суть умерщвленное настоящее. Предмет и настоящее относятся друг к
другу, как смерть и жизнь. Таким образом, необходимо выбирать
между предметом и настоящим. Они — смерть и жизнь — не даны
одновременно. Планк и Эйнштейн вместе образуют живую физику,
принадлежащую настоящему. Но электроны или кванты могут быть
только предметами физики. Они никогда не являются ее настоящим.
Таким образом, любовь означает страстное стремление выйти из
своей самостоятельности и уплату некоторой цены за это освобождение из
61
тюрьмы нашего времени, поскольку мы признаем свою солидарность с
теми, кто добавляет нам недостающие времена. Следовательно, всякое
настоящее является пересечением, по крайней мере, двух отдельно
взятых времен, превращающим их в некоторое совместное время, которое
можно выразить словом.
Но сначала эти времена резко не соответствуют друг другу. Это
значит, что объединению двух времен должна посвятить себя некая сила.
Поэтому Августин говорит, что люди, прежде всего, непременно
должны быть объединены между собой узами любви, и лишь затем они
сумеют с пользой говорить друг с другом или будут в состоянии слушать друг
друга. Так сказано в «Исповеди», в той же книге, где Августин
пространно говорит о времени.
Благодаря любви те, кто разделен во времени, становятся друг для
друга настоящим. Но это не просто оборот речи. Ведь отец уже живет
«всерьез», а сын еще пребывает в дарованном ему жизнью мире игры.
Итак, каждый из них посещает другого в его времени. Требование «ога
et labora» (36) бенедиктинцев хорошо известно, но оно никогда не
кладется в основание науки о времени. И все же в этом требовании
заключен некий родственный закон, который, правда, не высказан явно, так
что он предстает как своего рода тайна, известная лишь сообществу
монахов. Там, где нет любви, люди встречаются только ad hoc (37), для
работы, выборов, игры или выпивки. Современные жители пригородов
работают в городе в окружении одних людей, а отдыхают от работы в
окружении других. Поэтому они не могут любить ни тех, ни других (38). Их
любовь к окружающим людям остается недейственной. Монахи вместе
склоняются перед Богом в молитве и вместе гнут спину в своих трудах.
Поскольку они сообща проходят две стадии жизни, их любовь является
действенной. Если родители только играют со своими детьми, а дети
никогда не принимают своих родителей всерьез, то в отношениях между
ними не может укорениться любовь. Любовь должна пронести нас по
меньшей мере через два вида времени, прежде чем она проявит себя в
качестве несущей и поддерживающей нас любви.
Для диалога «De magistro» существенным является именно это
странствие через два вида времени, игру и серьезность. Комментаторы
не хотят или не могут себе этого представить. Они совершенно
серьезно воспринимают игровую половину, когда Августин ненадолго входит
в детский сад Адеодата, иногда понимая собственные слова Августина
в прямо противоположном смысле. Ибо Августин сообщает нам, когда
он играет, а когда серьезен. Августин говорит нам, что область
понимания расширяется в той мере, в какой собеседники добровольно и с
любовью соединяются друг с другом. Августин подчеркивает, что от
большинства людей ускользает тот факт, в какой мере мышление
нуждается во времени.
В первом томе моей «Социологии» я показал, как каждая группа
создает свое игровое поле и в свободном перемещении между этим
защищенным внутренним игровым пространством и незащищенным,
серьезным внешним миром только и обретает уверенность в себе. Точно так же
Августин учреждает общность со своим сыном. Диалог происходит в двух
пространствах, следующих одно за другим: сначала в школьном про-
62
странстве мальчика, а затем — в жизненном пространстве отца. В
школьном пространстве о многом из того, чему научился сын, у него
спрашивают кратко и в стиле игры. В жизненном пространстве отца с
неумолимой серьезностью высказано то, что угнетает отца.
Следует сравнить с диалогом Августина педагогические и
пропедевтические диалоги Платона. Там всегда одновременно и шутят, и мыслят
серьезно. Либо только шутят, как в юношеских диалогах, либо только
говорят серьезно, как в «Тимее». Ибо Платон не обращает внимания на
то, что времена резко не соответствуют друг другу, или что мышление
требует времени. Время у него как раз не исполнено или не открыто.
Часто говорилось о том, что в античности зло было менее злым, а
добро — менее добрым, чем под Крестом. Дьявол в чистом виде мог
появиться, по-видимому, только с момента воплощения Сына Божьего.
Аналогия с «De magistro» бросается в глаза. Абсолютное разделение — и
все же связь игры и серьезности, обнаруживающиеся в этом диалоге,
едва ли были известны Платону, поскольку его задача состояла именно
в том, чтобы уговорить своих учеников перейти от игры как состояния,
присущего юности, к серьезности. Для этого он использует все свое
искусство убеждения. Подобное намерение отсутствует у Августина. Он не
хочет убеждать того, кто пока только играет. Напротив, он посещает
комнату для игр своего сына для того, чтобы сын, со своей стороны, тоже
осмелился навестить его в его жизненной серьезности. Августин
подчиняется правилам беседы. Но в ней заключена возможность воздействия,
какое времена в состоянии оказать на нас, когда мы постигаем их
подлинную полноту. Мы делаем это, когда бесконечно любим, верим и
надеемся. Ибо тогда открываются настоящее, будущее и прошлое. В этом
процессе мы, правда, сами не становимся художниками, как Платон.
Нет, под мощным воздействием беседы мы становимся новыми тварями,
произведениями искусства нашего Творца. И пусть здесь платоник
примирится с нами. «De magistro» — это не произведение искусства. При
сравнении этого диалога с величественным творчеством Платона
испытываешь чувство некоторого стыда. Как можно заниматься чем-то столь
запутанным и сложным, как диалог Августина, если уже имеются
произведения искусства, созданные Платоном? Единственное отличие
художественного великолепия Платоновых диалогов от «De magistro»
заключается только в том, что при помощи этого диалога Августин оказывает
некоторое воздействие на самого себя. Автор диалогов Платона
остается их автором. Это — участь художника. Но подлинный собеседник
становится продуктом своей беседы. Он становится плодом беседы между
ним самим и его собеседником. Всякий специалист в области обучения
взрослых знает, что прекраснейший доклад ничего не значит в
сравнении с шероховатой, сформулированной ценой больших усилий фразой,
вышедшей из уст участника рабочего сообщества. Это сама жизнь, и в
ней что-то происходит. Но по большей части эта фраза не слишком
благозвучна. Она не оформлена художественно. Платоники разобрали
диалог Августина по косточкам, поскольку они считали невозможным
обстоятельство, что он, с одной стороны, отнюдь не претендовал на то,
чтобы быть произведением искусства, а с другой — и не мог являться
таковым из-за особенностей положения «действующих лиц». Единственное,
63
что было запрещено писать обращенному Августину, — если он не хотел
отправить сына, принявшего крещение вместе с ним, в ад, — это
произведение искусства об их «отношениях». Следует четко представить себе
эту запретительную табличку над пюпитром Августина: «Я не могу
общаться с моим сыном в манере платоновского художественного
диалога. Скорее, мне надлежит самому смиренно вступить в разговор с ним.»
Платоники, если они не будут помнить об этой запретительной
табличке, никогда не поймут сути противоречия, согласно которому, с одной
стороны, с наступлением христианской эры всякое искусство
совершенно утратило свою ценность по сравнению с задачей осушить одну-един-
ственную действительно выплаканную человеческую слезу, а с другой
стороны, в мире искусства мы ставим творения Платона неизмеримо
выше диалога Августина. Все попытки понимания человеческой истории
в наши дни кружат и всегда кружили вокруг этого пункта. Гуманисты не
смогут и не захотят признать, что наше летоисчисление совершило шаг
вперед по сравнению с Платоном, до тех пор, пока они теперь, наконец, не
поймут, что коммунизм и либерализм, мировые войны и мировые
революции суть следствие победы их Платона над Христом. Они,
академические ученые, подготовили то состояние дел, при котором тираны
повелевают осуществлять воспитание в соответствии с неким образом
человека, полис живет в состоянии вечной войны, массы разучились
видеть отличие между игрой, спортом и сферой полной серьезности, а
интеллектуалы, вместо того чтобы подчиниться духу, необоснованно
утверждают, будто они сами обладают духом. Все это — платонизм. Все это
питается чтением его диалогов. Бедный Платон! Он не может ничего
поделать с тем, что его искусство используется для отказа от полноты
времен, от преисполненного любви настоящего, от будущего, в которое
верят, и от возрождения прошлого, на которое надеются. Он жил до
Рождества Христова, и потому он устарел.
Все богатство гуманизма пускается в ход для того, чтобы возвысить
нас до уровня Разумного, Благого, Истинного, Прекрасного. Августин в
своем уничижении должен помочь нам противостоять этому безумию.
Ведь он не стремится ввысь к каким-либо идеалам. Он просит лишь о
возможности совершить в своей жизни следующий шаг. Он только
хочет, — потому что иначе он умрет, — благодаря истине, которую он
сообщает своему сыну, быть в состоянии остаться в живых и продолжать
дышать. Диалог «De magistro» — это следующий вдох Августина, без
которого он не мог бы продолжать дышать, поскольку иначе он не
осуществил бы в полной мере только что совершившегося акта двойного
крещения вместе с сыном, не воспитал бы сына, не усмирил бы самого себя.
Поэтому наш диалог, правда, безыскусен, но, несмотря на это, он
охватывает оба времени — время игры и время жизни. Ибо оба эти
времени должны быть пройдены до того, как получит выражение любовь
между отцом и сыном. Лишь благодаря тому, что ни время сына —
время игры, ни время отца — время жизни не может господствовать
безусловно, любовь между отцом и сыном становится настоящим. Ведь
любовь должна одержать победу над простым собственным временем
каждого из обоих партнеров, поскольку это собственное время
неудержимо ускользает. Каждый сам по себе подвержен смерти. Но любовь столь
64
же сильна, как и смерть. Таким образом, она еще не укрепила и не
поддержала бы нас, если бы речь велась во времени одного из
собеседников. В браке любовь восхваляется «for better, for worse», в радости и
горе. Соответственно, любовь должна войти в беседу, в этот
мельчайший структурный элемент всех тел времени, в свободную игру и в
священную серьезность. Иначе она не была бы бесконечной, безмерной;
ибо она прекращалась бы по завершении точно отмеренного периода
времени. Но то, что не безмерно, — это совсем не любовь! Тогда у нее
не было бы еще той независимости от предварительных расчетов, той
свободы распоряжаться бесконечным временем, которая является
необходимым свойством сил, образующих время. Это свойство служит тому,
чтобы содействовать переходу объективно противостоящих друг другу
человеческих тел в состояние живого, одухотворенного настоящего.
Таким образом, лишь если любовь переживает множество видов
времени, два или три человека, соединяясь, образуют «deus finitus» и
воплощают в себе тот избыток времени, который включается в каждое время
и благодаря своей безмерности неуязвим и защищен от того, чтобы
просто пройти или закончиться.
Здесь становится ясным то загадочное положение, в соответствии с
которым во всяком учебном занятии должны сочетаться серьезность и
шутка. Произносимые академическим преподавателем слова: «А в этом
месте я обычно шучу» даже вопреки его собственной воле воздают
почести истине, гласящей, что благодаря чередованию серьезности и шутки
понятия «учиться» или «обучать» обретают значение: «жить одной
жизнью». Становится также ясно, почему «старый» и «молодой» — это не
биологические, не «физические», а социальные понятия. Ибо молодой
человек может играть лишь потому, что его в пространстве игры
защищает от серьезной жизни некий вал. Человек молод, поскольку сам он не
стоит на переднем крае жизни. Он может шутить, поскольку кто-то
другой противостоит серьезности жизни. И наоборот, старые люди являются
старыми, поскольку они обеспечивают другим возможность игры. Таким
образом, «старый» и «молодой» представляют собой двойственный образ
действий каждого отдельно взятого человека, а человек должен всегда
изменяться, переходя от игры к серьезности, от праздника к
повседневности, от «ога» к «labora» для того, чтобы не попасть всецело под власть
какого-либо одного времени.
Из этого вытекает функция обеих других образующих время сил —
веры и надежды — в создании тела времени. Естественно, вера, любовь,
надежда не могут быть отделены друг от друга. Но теперь можно сказать
о вере и надежде немного больше. Полная вера не сводится к
неустрашимости юноши, и «верой» здесь называется невозмутимое примирение с
собственной смертью и будущим без меня. Так что полная вера
возносится к будущему. Это будущее не является продолжением настоящего.
Нет, путь в него прерывается моей смертью таким образом, что мое
настоящее внезапно обрывается. Я могу лишь «возвратиться», но сперва
должен умереть. Поэтому заслуга веры тем более велика, чем менее
образной она является, чем свободнее она от предвзятых представлений.
Вера Августина в будущее своего ребенка непрерывно очищается в
диалоге, ибо он все меньше требует, чтобы Адеодат принес с собой в буду-
3 Зак. 3524
65
щее какой-либо багаж, непосредственно состоящий из представлений
самого Августина.
Напротив, надежда не свободна от образов. Человек может
надеяться только с помощью определенных представлений. Поэтому иудеи,
христиане и магометане больше отличаются друг от друга в своей вере, чем
в своих надеждах. Надежда обременяет нас ожиданиями, данными в
образах. Мы надеемся снова увидеться с кем-то, сохранить свое влияние,
победить, остаться здоровыми. Очевидно, верить мы должны были бы,
даже не видясь друг с другом снова, даже в ссылке, даже после
поражения и во время болезни. Евангелия обходятся без слова «надежда»,
поскольку они являются посевом новой веры.
Но на уже сотворенной земле мы встречаемся не только с
несчастьями. Ведь земля создана так, что она заслуживает быть увиденной
снова и сохраненной. Она может опять и опять вызывать
наслаждение. Таким образом, надежда заботится об исторической
непрерывности. Все хорошее, что когда-либо уже произошло, все великолепие
этого мира должно иметь возможность возвратиться. Ведь молодость
и в самом деле этого хочет. О вере молодых мы должны сказать, что
им в их массе присущ, скорее, только первый порыв веры, который
более проявляется в отрицании смерти, нежели в серьезном принятии
ее неизбежности. С надеждой дело обстоит совсем по-другому.
Поэтому я склонен предположить, что у стариков с надеждой дела плохи.
Они слишком часто испытывали разочарование. Они углублены в
себя. А молодежь опьянена представлением о возрождении. Все ренес-
сансы, возвращающие к жизни седую древность, восходят к
воодушевлению гимназистов. Вот уже девятьсот лет в Западной Европе учащаяся
молодежь восстанавливает седую древность. Молодежь со своим
безмерным стремлением к образности берет на себя труд завоевания всех
областей жизни, как только ей говорят, что они предшествовали ее
появлению на свет. Стремление молодых обратиться к прошлому
может показаться странным. Является ли историзм явлением, присущим
молодежи? Как бы то ни было, это жертва, при помощи которой
молодежь, преисполненная любви, охотно оплачивает свою долю
участия в ходе истории. Как и вера, надежда также может приводить к
отрицательным последствиям. Следует отбросить представление о том,
что вера и надежда всегда благодатны. О вере, взятой отдельно, все
сказано в Послании к коринфянам апостола Павла. Однако это
Послание так часто читают просто как произведение Церкви, не
распознавая в нем той веры, которую не встретишь на обычном уроке. Но
это именно та самая вера, о какой мы говорим здесь, вера,
преодолевающая смерть. Теология изолирует эту веру в качестве своего
специального предмета исследования. Напротив, взятая отдельно надежда
подчинена философии. В своей изолированности эти
«церемониальные действия» ведут к глупостям принципиального оптимизма или
принципиального пессимизма. Но нельзя только надеяться, поскольку
тогда ведь нам следовало бы руководствоваться исключительно
предвзятыми, заранее данными образами.
Мы не занимаемся здесь ни теологией, ни философией. Мы
говорим только о временах. Поэтому мы отнимаем «надежду» у философов,
66
а «веру» — y теологов. Нет, надежда — это наша связь с тем, что
совершалось прежде, точно так же, как вера — это связь с тем, что будет
впереди. Это все еще шокирует читателя. Ибо читатель привык относить
надежду к будущему. Он не замечает того, что надеющийся человек
полон образами. Читатель не приобрел навыков разгадывать все свои
представления и видеть в них то, чем они и являются на самом деле:
прошлое, воспоминания, предвзятые понятия, которые лишь
проецируются в будущее.
Но если поставить надежду на ее место в ходе наведения моста сквозь
времена, то шокирующее впечатление исчезнет. Ибо функция надежды
почетна. Надежды сохраняют связь всего, созданного прежде, с молодой,
не прошедшей обучения жизнью того, кто к этому обучению
приступает. И наоборот, на противоположный берег времени, преодолевая при
этом смерть уже сформированной, старой жизни, т.е. жизни
обучающего, ведет, конечно, только вера. Но мост настоящего возникает как
самоотверженность, преисполненная страстного стремления и жертвенности,
и лишь посредством этого надежда и вера уравновешиваются.
Таким образом, взращивание человеческого рода, его вскармливание
и воспитание будут делом достойным, если старые и молодые люди,
используя три силы — движение вперед, возвращение назад и создание
настоящего, — переместятся в совместное время.
Лишь тогда мы обретем время. Лишь тогда мы увидим время. Ибо
лишь тогда мы превратим себя в носителей единого, общего для всех
времени, в котором люди разных возрастов имеют что-то сказать друг
другу.
Ситуация, существующая в отношениях между Августином и Адеода-
том, освобождает нас от самонадеянной иллюзии последних столетий, в
соответствии с которой настоящее считается естественным понятием.
Присутствие в настоящем Бога — это результат жертвенного деяния
общины верующих, совершенного с верой, надеждой и страстным
упованием. Там, где исследователи всего мира легкомысленно говорят о том,
что нечто происходит «в настоящем», они всякий раз питаются
христианским наследием. Перед лицом Августина мы приобретаем способность
положить конец процессу растранжиривания нашего капитала на
настоящее. Присутствие в настоящем Бога означает, что действие любви, веры
и надежды является условием нашего существования, проходящего
сквозь время. Наука о пространстве — каковой в совокупности
являются все естественные науки — могла не замечать этого условия. Ибо она
умышленно не замечала тварного характера времени.
Нам приходится не так легко. Настоящее является, скорее, нашим
единственным достижением, опираясь на которое мы можем
надеяться когда-нибудь снова стать свободными. Мы уже сказали, что во
время учебного занятия все утверждения, произнесенные между 9.15 и
10.00, можно отменить и поменять местами. Таким образом, учебное
занятие оказывается также простейшей, «атомарной» моделью
отпущения грехов. Ведь грехи, когда их отпускают, не становятся чем-то
таким, чего никогда не происходило. Однако мы становимся
свободными от них — так же, как и в случае учебного занятия, когда ложное
высказывание произносится, но не сохраняется. Отпущение грехов — это
67
процесс, в силу которого настоящему возвращаются его права по
отношению к прошлому и будущему.
В своем обзоре собственных сочинений, написанных им в течение
всей жизни, «Retractationes» (39), Августин ссылается на диалог «De
magistro» без упоминания этого его названия, а просто указывает на
отрывок из евангелия от Матфея (23:8-10): «А вы не называйтесь
учителями... И отцом себе не называйте никого на земле... И не называйтесь
наставниками...». Пожалуй, это место из Писания никогда не оживало с
большей силой, чем в обращении Августина к сыну: «Я не твой отец,
который оказывал бы на тебя свое влияние, я не твой учитель, я не твой
наставник». Тогда, в 389 г., крещение сына, произошедшее в 387 г.,
впервые в полной мере превратилось в то освобождение от земного
авторитета, каким и должно быть крещение.
Но если мы посмотрим на церковное окружение Августина, то с
ужасом поймем, что освобождение удалось ему лишь в промежуточный
период между крещением и принятием епископского сана. Странным
образом сохранилась проповедь его ученика Ираклия, которую тот
произнес в присутствии Августина. Эта проповедь находится в вопиющем
противоречии со всеми предписаниями «De magistro». Это — не что иное,
как отвратительнейшая лесть. Ираклий, между прочим, говорит: «Все,
что в нашей проповеди могло бы вызвать твое удовольствие, ты вправе
считать своей собственностью. Все, что тебе действительно не
понравится, передай мне, оно целиком мое» (40). Я думаю, мы не должны
упускать из виду эту дожившую до сего дня вызывающую омерзение
практику, которая встречается и у самого Августина, для того, чтобы отдать
должное очищению, достигнутому благодаря его преданной заботе об Аде-
одате. Здесь происходит нечто сакраментальное. Ведь древняя Церковь
не знала семи таинств. Скорее, ее собственная история состояла из
таинств, чудесным образом случавшихся одно за другим в качестве этапов
дела спасения. Еще в двенадцатом столетии распятие на Голгофе
называлось наиболее величественным и самым первым таинством (41). В
этом ряду «De magistro» выступает в качестве акта истории спасения.
Диалог является биографическим и социологическим одновременно,
имеющим значения для общества и для личности. В нашу эпоху его
называют «автобиографическим». Это выражение в данном случае
способно ввести в заблуждение, ибо для Августина вся история мира имеет
личностный характер. История — это автобиография человеческого рода тем
в большей мере, чем сильнее самодостаточные личности, «autoi»,
освобождают свои биографии от обособленности и с верой, любовью и
надеждой подчиняют их присутствию Бога в настоящем. Тогда видно, что
слово «автобиографический» означало бы прямо противоположное тому,
чему учит «De magistro». В жизни Августина этот диалог имел то
значение, что его последняя дохристианская привязанность, привязанность к
сыну, силой таинства была поднята на уровень его нового
существования. Диалог «De magistro» обеспечил ему отпущение грехов, связанных
с той виной, которая, возможно, пала на него, когда он дал жизнь Аде-
одату. Поэтому диалог и не был написан в платоновском стиле.
Напротив, жизнь получила возможность продолжаться благодаря беседе,
которая сама стала необходимой составной частью жизненного процесса. На
68
этом примере видно, как обучение оказывается изначально
необходимым для самого учителя. Августин должен был сказать сыну именно то,
что он сказал, чтобы устоять перед самим собой. Но ведь из этого мы
исходили. Мы хотели увидеть, является ли учитель наемной рабочей
силой или что-то в его собственной жизни побуждает его к обучению
других. Теперь мы нашли ответ у Августина. Даже его ученик Ираклий знает
об этом: «То, что мы видим в Августине, станет нашей собственностью,
как только мы его полюбим».
Таким образом, мы узнаем из метаномики Августина нечто такое, что
упорно отрицает психология, а именно, что силы, образующие время, —
любовь, вера, надежда, — уже давно сделали свое дело в каждом
отдельном человеке задолго до того, как мы сможем когда-либо представить
этого отдельно взятого человека как некую абстракцию. Отдельный
человек является плодом человеческой общности, в которой он научился
говорить и возражать, поскольку именно в ней он обрел время. Таким
образом, его воля, его чувства, его рассудок, которые в нем вычленяет
язычество, суть элементы вторичного по своему характеру разделения
человека, который своей причастностью к телу времени уже
преобразован и в своих основах сотворен заново. Ибо благодаря любви, вере,
надежде он превратился из животного, не обладающего временем, в члена
рода человеческого, в распоряжении которого — безграничное время.
Остережемся тратить наше время зря! Тот, кто говорит, стоит перед
выбором, потратит ли он свое время напрасно или заново создаст тело
времени.
Ведь речь — это беседа. Таким образом, она является сотворением
совместного времени. Время достигает своей истинной силы воздействия
лишь тогда, когда оно благодаря самоотдаче самых разных людей
соединяет их. Полная сила времени властно проявляет себя на живом учебном
занятии или же в сегодняшнем дне «современного состояния науки», —
точно так же, как и в каждой подлинной беседе, поскольку там она с
определенностью становится достоянием общности людей. Ученые тоже
пребывают в этом времени «в квадрате», часто даже не замечая этого,
потому что они говорят просто о слабом, преходящем времени в некоей
«внешней области» — в мире природы. Разумеется, неосторожные
ученые с неимоверной быстротой уничтожают это тело сверхвремени,
внутри которого они обитают и благодаря которому они только и могут
говорить о «нашем времени». Ведь они отрицают наличие выражаемых
смертью и рождением разрывов времени, ради которых мы и отрекаемся от
обособленного времени, свойственного животному, т.е. тому животному
началу, которое есть в нас.
Новая наука не может прислушиваться к ученым, задававшим тон до
сих пор, но она зорко следит за ними. Само государство ученых — это
доказательство человеческой власти над временем. Учение об этой
власти не может строиться на основе традиционных теорий академических
исследователей. Ибо эти исследователи путают слабое наблюдаемое
время и осуществленное время. Вместо этого новое учение должно
исходить из идей Августина. Разумеется, этот Августин — не Отец
Церкви и не профессор, а человек, нуждающийся в спасении, борющийся за
спасение своей души и в трудном противостоянии с самим собой созда-
69
ющий, будто таинства, свои произведения, — предтеча нашего
собственного движения через времена. Как уже завершенная строка в
великом песнопении всего процесса творения Единого Человека
Августин побуждает нас дерзать.
4. Со-ответствие времени, приносимого в жертву
Вторая часть «De magistro» устраняет власть учителя над истиной.
Великие гуру в Индии и главы античных школ были источниками
истины. Августин настаивает на тройственном отношении. Бог, который
есть любовь и истина, вкладывает в учителя любовь, а в ученика —
истину.
Современный читатель скажет: «Прекрасно, мы об этом знаем. Мы
больше не придаем слишком большого значения великим учителям. Мы
просто считаем учителя неким средством, ничем не отличающимся от
прочих средств». Наши прогрессивные мыслители восторгаются
учеником и советуют ему привносить в обучение как можно больше
творчества. В наше время учителя отступают на второй план по сравнению с
ребенком как простые поденщики, как безличные орудия,
обеспечивающие рост и развитие детей.
И все же, если анализ Августина верен, то нынешняя точка зрения —
хотя она и противоположна античной — так же ошибочна, как и
языческая. Ни ребенок, ни взрослый не несут ответственности за процесс
обучения и воспитания. Они могут только переживать его во
взаимодействии и взаимозависимости. И их зависимость продолжается в той
среде, которая является общей для них обоих. Учитель не притязает на
исключительное обладание истиной, которую он либо выучил, либо
открыл, а ученик не открывает мир в полном одиночестве. Если люди
представляют себе человеческие отношения исключительно как
двусторонние — мужчина и женщина, капитал и труд, учитель и ученик, — то,
похоже, почти всегда происходит так, что одна из партий вскоре сводит
эту обоюдность к ее половине, и точно так же поступает другая партия.
Труд говорит: «Я превыше всего», и мы получаем коммунизм. Капитал
говорит: «Я превыше всего», и мы получаем эксплуатацию. Если супруг
говорит: «Я самый главный», то мы получаем домашнего тирана. Если
хозяйка дома говорит: «Я самая главная», то мы получаем... — нет, об
этом я лучше умолчу!
Что же, после того, как античность отдала все на откуп гуру, учителю,
мы слышим, как в области образования громко говорится о наличии у
ребенка особой гениальности, проявляемой в учебном процессе. В нашу
эпоху масс вождь скрывается за теми массами, которыми он управляет,
тогда как учитель прячется за малыми детьми, на которых он оказывает
влияние. Здесь, как и прежде, истина извращена.
Следует ли мне предположить, что во всем цивилизованном мире
всякий дуализм находится под угрозой сведения его к монизму, если —
и покуда — он не понимается как тройственное отношение? Поэтому
нам следует твердо придерживаться тройственности отношений в том
виде, в каком ее представил Августин. Если я являюсь «рабочей силой»
70
или «капиталистом», то и одно, и другое — лишь разновидности
человека. Но что есть человек? Как человек может утвердить себя, если я
выступаю в облике учителя, супруга или капиталиста?
Человек — а не учитель — связан с тем, что находится напротив
него. В качестве капиталиста я могу или мог бы эксплуатировать
рабочую силу, но, будучи человеком, я не имею такого права. В качестве
учителя я могу целую вечность приводить доказательства и — как это
делают софисты всех времен — сбывать свою разновидность истины за
деньги. В качестве человека я не должен этого делать. Пусть
эксплуататор, коммунист, ученик реформированной школы или тиран
отрицают для себя это «мне нельзя». Может быть, они вопиют: «Черт возьми,
почему я не должен делать того, для чего я достаточно силен?» И в
самом деле, почему? Все они могут преувеличивать значение своей
задачи в обществе, и мы видим, что они часто злоупотребляют этим. Но не
странно ли, что это злоупотребление не заходит слишком далеко? Еще
мальчиком я донимал своего отца, который в качестве доверенного
лица совершил поездку в Россию и рассказывал о продажности,
взяточничестве и развращенности царских чиновников, вопросом: «Как
страна может существовать таким образом? Как можно быть уверенным,
что взятка обеспечит исполнение желаемого? Почему не происходит
так, что люди принимают взятку и просто нарушают обещание?» Я
задавал отцу эти вопросы сотни раз, и мой отец всегда отвечал: «Это стоит
тебе от 15 до 20 процентов спорной суммы, но за эту цену ты можешь
быть совершенно уверен в результате. Злоупотребления имеют
ограниченный характер, и стоимость услуги не поднимается выше указанной
мной величины».
Теперь я понимаю то, чего не мог понять тогда. Похоже, даже
продажный судья, — а это, я убежден, является наихудшим социальным
злом, — связан неким малым притязанием: он хочет, чтобы его
называли человеком. Даже Ричард III, решив стать чудовищем, все-таки ждет,
что его можно будет любить, что женщина сможет назвать его человеком.
Эта страшная зависимость человека от того, что его именуют человеком,
является единственной оградой, защищающей его от безумия,
порожденного высокомерием или преступлением. До тех пор пока я горжусь, что
я человек, я выдвигаю два притязания, которые крайне трудно объяснить
и исполнить. Одно заключается в том, что я существую, что я
действительно есмь, а другое — в том, что я воистину есмь человек. Оба эти
притязания являются столь же смелыми, как и притязание на золотые
прииски Мексики, и их так же трудно отстоять. Другие люди беспрестанно
отталкивают меня в сторону так, словно я не имею никакого
действительного значения и — что то же самое — словно я не существую. И
кроме того, вся болтовня других людей разрушает целостность моего
притязания быть человеком.
Но если человек притязает на некое имя, то возникает
алгебраическое уравнение такой же точности, как «2+2 = 4». Я называю самого
себя «А»; но тогда мне хочется, чтобы и другой человек называл меня
«А». Обращение имеет строгую принудительность. Оно основано на
золотом правиле, согласно которому употребляемое мной имя
должно использоваться и другим. Когда я говорю «А», я начинаю матема-
71
тические вычисления в моем обществе. Я стремлюсь к
алгебраическому равенству и настаиваю на моем «А», и вычисления продолжаются
до тех пор, пока общество не снизойдет до признания того имени,
которое я себе дал. Тогда уравнение выглядит следующим образом: «Мое
«А» равно вашему «А»». Либо я могу отказаться от своего притязания
и удовольствуюсь именами «В» или «С», которые согласен мне дать
остальной мир. Но в каждой человеческой жизни эти имена
совпадают не на всем ее протяжении.
Теперь я могу отказаться от всех моих особых имен — немец,
христианин, учитель, пацифист — и все же выжить. Но я не сумею
выжить, если утрачу оба моих титула — «тот, кто существует» и
«человеческое существо». Если я перестану притязать на последний из них, то
сделаюсь отверженным с точки зрения морали. Если же я утрачу право
на первый из них, то меня, как безнадежно недееспособного,
поместят в сумасшедший дом. Поэтому каждый человек вплоть до своего
смертного часа выдвигает оба эти требования: «Обращайтесь со мной
как с действительно существующим и как с человеком», и ждет,
чтобы результат производимых обществом вычислений подтвердил его
правоту. Все отдельно взятые общественные задачи ничтожны по
сравнению с этой существенно важной, вечной задачей. Эта задача
состоит в том, чтобы упорядочить соотношение тех имен, которые я
даю себе сам и которые мне дает общество, произнося их либо прямо
мне в лицо, либо за моей спиной. Этот треугольник оказывает свое
действие. Если же он отсутствует, то мы утрачиваем наше
существование как таковое и наше бытие в качестве человека. Большинство
наших современников считают этот воздействующий на нас
треугольник чем-то само собой разумеющимся, и должен был прийти Гитлер,
чтобы доказать им: если указанные отношения дают о себе знать,
это — настоящее чудо. Джон Дьюи (Dewey), родившийся в 1859 г.,
тогда же, когда вышла в свет «Борьба за существование» Дарвина, так
неправдоподобно не обременен знанием о действующих силах,
которые в то лето Господне окружали его появление на свет и дали ему его
имя, его образование, содержание его жизни, его свободу и
обеспечили ему всемирную славу, что мы, читая его книги о воспитании,
видим, как человеческий характер учителя и ученика и их бытие
берутся в качестве само собой разумеющихся. Дьюи хочет видеть только то,
что ученики растут, становятся смышлеными и поступают разумно.
Но кем они должны стать, когда вырастут? Шоферами, мчащимися со
скоростью 140 километров в час, нахально нарушая при этом все
ограничения скорости? Или женщинами, которые не хотят рожать
детей, поскольку это повредит стройности их фигуры? Лисы хитры, а
сорняки стремительно разрастаются. Разве тот, кто умнее прочих, и
более других является человеком?
В современной теории воспитания нигде не говорится ни слова о тех
силах, которые предшествуют деятельности, мышлению и различным
процессам в человеческом сообществе, а именно, об обязанности
действительно существовать и быть человечным как о требовании и ответе,
как о надежде общества, связанной с нами и нами принятой, подобно
имени, которое было нам дано; о достижении равновесия между моим
72
самосознанием и моим местом в обществе; об образующем силовое поле
нашей человеческой жизни напряжении, создаваемом отношением
между самопознанием, признанием меня другими людьми и нашим
совместным познанием. В 1859 г., когда родился Джон Дьюи, когда была
провозглашена борьба за существование, считалось само собой
разумеющимся, что все это находится в безопасности.
Но человек борется не за существование — он борется за свое
признание. Именно поэтому народ объявляет войны. Это прямая
противоположность борьбе за существование. Мы боремся за что-то другое, нежели
наше собственное существование. Почему же? Потому что мы
упорствуем в том фантастическом притязании, что мы действительно
существуем, живые или мертвые, и что мы участвуем в той беседе, в ходе которой
сами выдвигаем притязания или отвечаем на притязания, выдвинутые по
отношению к нам. Разумеется, я знаю, что ныне существование нашей
социальной группы объясняется при помощи теории Дарвина. Но и это
неверно. Однако здесь не место доказывать, что ни один человек,
идущий на войну, не может без этой надежды воевать и умирать. Здесь мы
можем ограничиться очевидными вещами. Человек в первую очередь
интересуется отнюдь не своим собственным существованием. Никакой
брак, никакие роды, никакая война, никакое преследование по
религиозным мотивам, никакое суровое испытание, — нет, ни одно из этих
событий не могло бы вообще иметь места, если бы человек прежде всего
преследовал свой собственный, открывшийся ему, так сказать, будто в
некоем озарении интерес. Только потребности развития и разум не
могут определять нашу жизнь. Они слишком корыстны. Ни один человек
никогда не жил в соответствии с их требованиями — за исключением
разве что жертв прагматического воспитания. Однако мы живем под
властью замечательной человеческой обязанности, которая предшествует
всякому общественному разделению труда и которая в течение всей
нашей жизни побуждает нас к деятельности и страданию, к поиску
приключений и риску. Это со-ответствие подобно вечной беседе, которая
ведется нами. В другом месте я показал, что не мы сами начинаем эту
беседу, и то, что мы ощущаем с самого начала — это некое обращенное
к нам притязание. К нам обратились задолго до того, как мы начинаем
отвечать. С другой стороны, поскольку эта беседа поддерживает нашу
жизнь, мы всегда с любопытством ждем следующего ответа в этом со-от-
ветствии, в этом общении с мирозданием. Это побуждает всех нас искать
свидетеля за пределами нашей преходящей социальной функции.
Учитель и ученик хотят отвечать кому-то за пределами класса, поскольку они
стремятся защитить себя от утраты своей человеческой
действительности в течение этого урока. Со-ответствие должно, преодолевая рамки их
мимолетных «ролей» в течение рабочего дня, коснуться их имени. Ибо
это имя поражает их в самое сердце.
С исторической точки зрения очень интересно посмотреть, как
Августин рассматривает это принципиальное отношение
общечеловеческого начала, заключенного в учителе и ученике, в качестве третьего,
соответствующего голоса. До тех пор, пока учитель или ученик придают
слишком большое значение самим себе в ходе беседы, они будут
говорить: «Я обучаю» и «Я учусь». Оба выражения доказывают, что со-от-
73
ветствие пока что является недостаточным. Среда, в которой
находятся два «ты», или так называемые два «я», не рассматривается. И все же
наличие этой среды, этой общей для них атмосферы является
удивительным и замечательным фактом, который предшествует их
собственным действиям и поступкам. Разумеется, слово «атмосфера»
представляет собой один из тех удивительных академических способов обойти
религиозные «табу». «Атмосферой» называется совместный дух,
который люди сообща как вдыхают, так и выдыхают. Слово «атмосфера»
звучит безобидно и кажется чем-то естественным, но нам совершенно
ясно, что это выражение, поскольку оно является ни чем иным, как
переводом понятия «дух», указывает на некое социальное обстоятельство.
Оба, учитель и ученик, уже образуют «мы» из двух «ты» до того, как они
распадутся на два «я». Возможность разговора друг с другом вообще
обусловлена этим совместным духом, который соединяет этих двоих
посредством карандашей, а не пуль. Поэтому следует вынудить эти два
«я» увидеть эту общую для них основу, а именно их происхождение и
условие некоего единого духа.
Августин приводит из Книги Исайи те же слова, которые послужили
источником высказывания Ансельма «Верую, чтобы понимать». Они
звучат следующим образом: «Пока ты не вызовешь в себе доверия (веры), ты
не сможешь понимать» (42). Августин, в пику современной теории,
говорит, что ученик должен сначала верить учителю и, исходя из этого,
двигаться вперед и прийти в непосредственное соприкосновение с
истиной. Мы с самого начала поступаем правильно, доверяя своим
родителям. Поскольку родители любят нас, они заслуживают нашего доверия.
Любовь — это просто притязание на то, чтобы тебе доверяли. Но мы
должны возвыситься над этим, поскольку Бог — это не только любовь.
Он — это также истина, и он просит нас относиться к Нему так же, как
к истине, подобно тому, как прежде мы могли воспринимать его в
качестве любви. Но нам не постичь Его как истину, если мы будем смотреть
на Него чужими глазами.
Нужно привести в действие одно за другим все наши человеческие
свойства. Учитель не должен переоценивать своей любви, а ученик —
преувеличивать свою веру. Им надлежит допустить в свои отношения
своего великого партнера, Бога, который господствует над их
временами. Тем самым обучение возрождается, преобразуется и
осуществляется «правильно». В ходе обучения и учебы партнеры находятся в
процессе взаимодействия друг с другом. Мы освобождаемся от своих
разделяющих времена ограничений, когда учитель приносит жертвы
будущему, а ученик — прошлому. Благодаря этому они остаются
человечными, несмотря на относящийся к области морали риск впасть в
ребячливость или строгость, возможность которого необходимо
учитывать в процессе обучения. Грань, отделяющая удачный урок от
неудавшегося, очень узка.
Таким образом, вся полнота истины о «человеке» становится
доступной людям только после того, как они отнесутся друг к другу с
участием. Это можно также выразить, сказав, что о человеке
никогда нельзя говорить, не говоря одновременно о Боге, а о Боге
никогда не может быть речи, если одновременно два или три человека со-
74
обща не взывают к Нему. Бог и человек — это два
взаимообусловленных опыта. «Человек» становится человеком лишь потому, что
одновременно человеком делается другой человек. И оба одновременно
становятся людьми тогда, когда они позволяют стать господином их
разделенных времен некоему Третьему, большему, чем они, а
именно — Богу, которого они допускают в этот промежуток времени и
который вступает в него. В работе «Раса мыслителей» раздел о «три-
лемме» посвящен противопоставлению этой истины взглядам расы
западных мыслителей.
Таким образом, нет никакого способа логически доказать
отдельному человеку бытие Бога. Ибо Бог перестанет быть Богом и превратится
в простой предмет, если его захочет понять одиночка. Бог должен
обладать властью, если Он Бог, и потому даже в процессе обоснования его
бытия, коль скоро существует такого рода доказательство, Он должен
сохранять свою власть.
Но такое доказательство может быть только метаномическим. А
именно, если человек понял, что до того, как он столкнулся с
обращенными к нему согласием и возражением, исходящими от других людей, он
еще никогда по-настоящему не был человеком, если бы он, таким
образом, счел себя способным дождаться прихода своего ближнего для того,
чтобы самому найти путь к своей собственной человечности, то он
осознал бы, что Бог — не понятие, а сила, которая всегда должна заново
творить из него, животного по имени «человек», человека как такового. В
этом дерзновенном стремлении упорно ждать своего ближнего мы
обретаем способность верить в Бога.
В этом смысле существует метаномическое доказательство бытия
Бога, поскольку метаномика может представить обоснование того, что
без этого смелого устремления никто не становится человеком. Таким
образом, доказательство направлено не на Бога, а на человека. На пути
превращения в подлинного человека «человек» должен встретить Бога.
Эта встреча является необходимой, поскольку Бог никогда не творил и
не будет творить в качестве людей только тебя или меня по отдельности,
а нас в нашей взаимозависимости, в нашем со-ответствии. Мы
бессильны, покуда не откроем друг другу время в его истинной мощи. Так
метаномика доказывает бытие «человека» в силу всемогущества Бога. Ибо
именно тогда, когда отдельный человек оказывается под угрозой
обнаружить свою полную несостоятельность, его ближний — благодарение
Богу! — скажет ему, как он страдает, и благодаря этому ближнему он
сможет узрить Бога. В Новом завете ясно сказано, что там, где двое
собираются во имя Бога, и Он находится меж них. И Августин
истолковывает троичность присутствующего в настоящем Бога в «De vera religione»
(43), говоря, что любовь, вера, надежда ведут к вечной жизни. Итак, там,
где двое сошлись в вере, любви, надежде, Бог пребывает с ними. В
церковной проповеди — пусть там и читают что-то из Библии — он
присутствует не больше, чем на уроке, который отец дает своему внебрачному
сыну. В электрической сети языка — вот где родные отец и сын являются
служителями Духа.
Сын Божий, господствующий во веки веков вместе с Отцом в Духе
Святом, объемлет собой грандиозную продолжительность всех времен.
75
Учебное занятие — это своего рода атом времени, однако эта мельчайшая
модель метаномического структурного элемента, возможно, окажется в
состоянии помочь запуганному быстрым движением секундной стрелки,
не ведающему Троицына дня человечеству заново уверовать во время.
«Час урока» — вот минимальное время, это минимум перед лицом
тысячелетий, в которые может войти Троица.
76
Что есть человек?
В защиту неспециалиста
«Что есть человек, что Ты помнишь его?» — вопрошает восьмой псалом.
И продолжает: «Не много ты умалил его перед богами (а не только перед
«ангелами», как большинство переводчиков передают слово «элохим»), и
над зверями стоит это слабое дитя, которое все же должно
господствовать во имя Бога» (1).
Вот уже более четырехсот лет, как этот вопрос утратил свое библейское
обрамление. Мыслители всех видов, филологи, теологи, аналитики,
социологи, антропологи задают тот же самый вопрос: «Что есть человек?»
И никто не возражает, что представление, будто они ставят тот же самый
вопрос, который задавал царь Давид, является только кажущимся.
Слова вышли за пределы своих библейских рамок, но в этих рамках боги или
ангелы являются вечными, а твари — преходящими. Я приведу примеры
начала и конца этого разрушения смысла.
Первый пример мы находим уже у Лютера. Когда евреи спрашивали
Иоанна Крестителя, кто он такой, Лютер беспечно и в противоречии с
греческим оригиналом переводит: «Что же ты такое?». Согласно всем
имеющимся в нашем распоряжении рукописям, евангелист написал:
«Кто ты такой?». Так это началось.
В светской мудрости — а вот уже 1500 лет она является главной
мудростью — Бог становится божественным, а его образ и подобие
делаются «нечто», «quelque petite chose» (2), как называется прелестный
французский роман.
Второй пример мы ежедневно тысячи раз находим в газетах или
книгах. Я ограничусь добротным профессиональным источником. В научном
архиве натурфилософии, озаглавленном «Philosophia naturalis», в
праздничном первом выпуске д-р Эдуард Май (Мау) пишет: «Вопрос: «Что есть
человек?» для нас ныне выдвинулся на первый план» (т.1, с. 176).
Таким образом, здесь в «нечто» превратился не отдельный человек.
Напротив, теперь сам наш смысл, человек «как таковой», противостоит
мне в качестве среднего грамматического рода, в качестве вещи. И от
Лютера, и от философов — чтобы остановить разрушение смысла
вопроса псалмопевца — я спасаюсь бегством в столбцы журнала, открытого и
будущему, и вечной жизни. Я призываю изгнать этот вопрос
молящегося человека из наук. Не всякая истина принадлежит наукам о вещах.
Я хочу доказать, что этот вопрос в качестве вопроса о вещах или мире
является глупым. Если же его неправильно понимают как вопрос уче-
77
ных, — а это ныне имеет место и в Москве, и в Чикаго, — то все ответы
на него причиняют вред. Мои утверждения сводятся к следующему:
«Вопрос приводит к глупости, если он не остается вздохом и стоном.
Если на него пытаются дать ответ с научных позиций, то возникает
угроза гибели. Светская мудрость поставила глупый вопрос. Отдельные
дисциплины стремятся дать правильный ответ на неправильно
поставленный вопрос и приводят нас к краху». Эти два обвинения на самом
деле являются одним: «Мышление не может говорить «сразу»,
«немедленно», т.е. так же, как, конечно, должен говорить о Боге верующий».
Если этот запрет нарушается, то война и рабство становятся
неизбежными.
Но такое обвинение сводится к тому, что нам, людям, навечно дана
заповедь различать и использовать два способа говорить. Эта заповедь
для современных теологов и философов является равно непостижимой и
странной. Ни Бультман, ни Барт, ни Эйнштейн, ни Эддингтон, ни Макс
Вебер, ни Александр Рюстов (3) никогда не слышали о такой заповеди.
Монизм стиля истин признается всеми специалистами в качестве чего-
то само собой разумеющегося. Специалисты обо всем говорят одним и
тем же беспристрастным тоном.
Таким образом, я поступлю правильно, если сразу же скажу, что
выдвигаю мои обвинения в качестве неспециалиста, в качестве
дилетанта и объекта этих форм социологии и теологии. Я требую внимания
именно как неспециалист для того, чтобы защитить мое право
говорить, как Бог на душу положит, от требования молчать, выдвигаемого
специалистами. Вопрос: «Что есть человек, что Ты помнишь его?» —
это вопрос неспециалиста, и я считаю грабежом и обманом, что он
похищается у неспециалиста каким-нибудь специалистом. Таким
образом, я возбуждаю дело для того, чтобы спасти язык неспециалистов.
Вопрос: «Что есть человек?» — это только один и, конечно же,
прославленный пример вечного и обязательного любительского языка души,
аннексировать который не должен иметь права никакой специалист,
никакой клир, никакой «-лог» («они так называются, потому что лгут»,
как говорил Фридрих Рюккерт (4)).
Откровенно истолковывая два моих обвинения как защиту языка
неспециалиста, я, возможно, не улучшаю, а ухудшаю свое положение. Ибо
я утверждаю, что тайна неспециалиста недоступна специалистам. Тайна
заключается в следующем: «Здоровая душа должна знать, что
профессиональный язык не может выразить очень многого, поскольку это было
бы не выдержано стилистически». Но то, что является стилистически
невыдержанным в профессиональной области, обладает чистотой стиля
в устах неспециалиста. В евангелии от Иоанна специалисты стремятся
устранить последнее предложение «Surgimus. Eamus hinc» (5), которое
стоит в речах Господа, ибо это предложение нарушает высокий стиль
прощальной речи. Но речь должна изменяться в промежутке между
различными стилями именно таким образом. Единство стиля, как и всякая
химическая чистота, абстрактно и стерильно. Неспециалисту
приличествует смена стиля! Итак, могут ли в журнале «Новый Запад» рядом со
схоластами и академиками существовать также неспециалисты? Лишь
тогда мы, читатели этого журнала, когда-нибудь превратимся также в
78
обитателей новой, благословенной страны, воспринявшей все
достижения Запада. Если мы сможем говорить именно так, как Бог на душу
положил, мы сумеем населить землю. В противном случае мы, самое
большее, получим звание доцента. Итак, для нетерпеливого читателя это уже
может служить извинением: нападая на Лютера и ученых, я
одновременно защищаю еще не известную и не определенную истину, чтобы,
несмотря ни на какой прогресс науки и вопреки переводчикам Библии,
существовало также чадо Божье, пользующееся устной речью и способное
говорить иначе, нежели все специалисты мира.
1. Что?
Почему крик души: «Что есть человек? Что есть человек, о Боже?» —
всегда становится глупым, если он превращается в вопрос мыслителя? Что
же, мышление заранее решает, как ответить на него, опираясь на
предвзятое мнение. Ведь душа надеется, что Бог откликнется на ее зов, но Бог
отвечает не с помощью дефиниций, а давая душе заповеди. Поскольку
Бог дает душе приказания, преисполненные любви, душа перестает
вопрошать. Но «мышление» — это спрашивающий и отвечающий в одном
лице. Поэтому ответ мышления может быть дан только в виде
повествовательных предложений, как при перекрестном допросе. А при
перекрестном допросе перед судом уже находится определенный случай, и
судебное дело уже должно получить дефиницию в вопросе. Вопрос: «Что есть
человек?» выражает собой предрассудок, будто человек есть «нечто».
В этом предрассудке кроются сразу три ложных суждения:
a) что человек есть «нечто», предмет, вещь, случай;
b) что человек «как таковой» идентичен каждому отдельному человеку;
c) что каждый отдельный человек может понять ответ на этот вопрос.
Итак, человек должен пониматься а) вещно, Ь) индивидуализирован-
но, с) обобщенно.
Тем самым, изначально уже решено, что спрашивающему не нужно
признавать никакого человека — ни божественного, ни
принадлежащего к какому-либо сообществу, ни являющегося личностью. «Что» и
«нечто» могут быть описаны именно как светские (=без Бога),
индивидуальные (=без причастности к группе), всеобщие (=без личности). Всякое
«что» — это объект мыслителя. Когда социальная служащая фрау д-р Зах-
лих (6) отыскала свой «типичный случай», случай пьяницы, и спросила
об этом его жену, та ответила: «Что Вы себе позволяете? Мой муж не
пьет. Может быть, это Ваш муж пьет?». При помощи встречного
вопроса о ее собственном муже фрау Захлих напомнили, что вопросы о людях
самым досадным образом отличаются от вопросов естествознания.
Вопросы о людях вовлекают нас в истории, последствия которых никогда
нельзя предвидеть. Объекты мышления не следуют за нами в нашу
частную жизнь. Напротив, люди входят в историю нашей жизни и
разделяют с нами наше время. Абстрактное «что» — это находящаяся в
пространстве вещь, а люди — это наши современники. Они могут задавать
79
нам встречные вопросы. Поскольку этим они неприятно удивляют нас,
— фрау Захлих может даже возбудить иск об оскорблении! — то к ним
нельзя подходить ни объективно, ни обобщенно, ни индивидуализиро-
ванно. По отношению к каждому партнеру по разговору мы меняем свой
тон и тему. Мы никогда не являемся элементом сферы мировоззрения
партнера по разговору, вещами его системы мира или объектами его
исследования. Мы не являемся предметами его мышления, поскольку мы,
напротив, делаем себя чем-то, тем сильнее противостоящим ему во
времени, чем больше духовного настоящего мы имеем. Ибо тогда мы
задаем встречные вопросы, из-за которых его мышление может стать
смешным. Каждый читатель социологической книги свободен от того, что
написано в этой книге о человеке «как таковом».
Мышление имеет в качестве своего предмета только те объекты,
которые не задают встречных вопросов.
Ибо тот, кто спрашивает о «нечто», уже решил, что не хочет или не
должен спрашивать о ком-либо. Каждый «кто» мог бы ответить или
даже возразить против вопроса. Один человек не знает другого,
покуда этот другой — этот некто — в своем обращении к нему не даст
понять, кем он его считает. Степень остроты его ума, его юмор, его
человечность впервые познаются нами из того, как он к нам обратился.
Таким образом, мы узнаем, какова его сущность, только посредством его
обращения к нам. Когда палачи пытают обвиняемых в совершении
преступления, то редко случается, что они узнают, с кем имеют дело. Ибо
страх сдавливает жертвам горло. Но каждому известны и такие случаи,
когда жертва преодолевает страх и ставит палача на место. И
благодаря этому почти всегда что-то происходит: полицейский или судья
разоблачают себя. Так мнимый свидетель Герман Геринг в ходе
процесса о поджоге рейхстага был разоблачен Димитровым просто потому,
что у этого болгарина было мужество, которого недоставало
большинству свидетелей, — мужество задать встречный вопрос о том, где же
герр Геринг был в ночь пожара.
Итак, социолог, вообще кто-то спрашивающий, допускает наличие
полной жизни, равноправной жизни, только у тех, кто может задать ему
встречные вопросы. По большей части это его коллеги и его кредиторы.
Другие люди должны ответить на его анкету. Тем самым спрашивающий
возвышает себя до уровня судьи. Ибо вверху этой анкеты невидимыми
чернилами, конечно же, написано: «Что есть человек?». Ибо теперь ему
вынесен приговор судьи: «Он — не полный жизни современник,
которого социолог считает равноправным себе, а человек второго сорта,
которого социолог объективирует».
Тем самым это «что?» провозглашается менее живым, чем сам
социолог. Для каждого из моих «что?» я разыгрываю из себя Бога, и все эти
«что?» — мои предметы. Но я должен обратиться на себя и предстать
перед множеством «кто?». Они находятся со мной в одном времени и так
близко от меня, что в любой момент могут разбросать мои игрушки.
"Что?» и «кто?» — это вопросы о жизни или смерти. Об этом знал бы
каждый, если бы в школьных учебниках не говорилось, что существуют
три рода — мужской, женский и средний. Если бы «что?» также было
родом, то пропасть между «кто» и «что» не была бы столь важной. Но в
80
пику всем школьным учебникам Бог дал жизни только два рода (пола).
Средний род является более мертвым, чем полная жизнь.
В моих книгах «Der Atem des Geistes» ("Дыхание духа», 1951 г.) и
«Heilkraft und Wahrheit» ("Целительная сила и истина», 1952 г.)
показано, как все грамматики ориентируются на степени жизни. Мы говорим
так, чтобы в каждый момент различить между собой три степени
жизни. Тех, в ком я нуждаюсь больше всего, я призываю для того, чтобы
они повернулись ко мне. Они стоят в звательном падеже. «Отче наш»,
«месье», «мадемуазель» — их я зову и прошу указать мне путь, дать
огня, услышать меня. Я пытаюсь добиться того, чтобы они обернулись
ко мне. Звательный падеж отчетливо показывает, что тот, к кому я
обращаюсь с речью, может стать для меня, говорящего, судьбой. Я
нуждаюсь в нем. Всякий звательный падеж — это попытка вынудить
повернуться. Напротив, уже представленные мне люди находятся со мной на
одной и той же высоте. Я не боюсь, что они будут что-то делать,
отвернувшись от меня. Я не сомневаюсь, что они хотят слушать меня. Этих
моих товарищей не нужно заставлять поворачиваться вместе со мной.
Мы слушаем друг друга. Мы нужны друг другу. Их жизнь и моя жизнь
исторически переплетены между собой. И, в-третьих, имеются
предметы, которые находятся вместе со мной в пространстве. Но они не
слушают моих слов. Я не жду, что они повернутся ко мне. Я знаю, что они
не понимают того, что я о них говорю. Поскольку они не
поворачиваются ко мне и не должны разговаривать, они нуждаются во мне
больше, чем я в них. Они — заменимые предметы. Если их еще не
заменили, то я пытаюсь найти им замену.
Всякая речь, даже в тех языках, которые не наносят на слова
насечки так называемых «родов» — мужского, женского и среднего, —
должна в каждом предложении различать эти три ступени будущего,
нынешнего и заменимого в пространстве. Тот, к примеру, кто писал о закате
Европы, тем самым уже объявил Европу угасшей, т.е. заменимой.
Напротив, незаменимое принадлежит также будущему, а мой
современник — настоящему.
Поскольку все заменимое является более мертвым, чем те
незаменимые силы, действие которых мы хотели бы обратить на себя, или чем те
товарищи, с которыми мы живем, то средний род «что?» должен
оставаться отделенным от «кто?» и моих богов, и моих любимых друзей. В
противном случае мертвые и живые смешиваются. Наши призывы
страстно желаемого или вызывающего страх грядущего, наши обращения к
любимым современникам, наше обсуждение всего преходящего и
заменимого постоянно чередуются. Постоянно сообщать всему эти три
степени жизни — таково наше предназначение. Но из этого вытекает один
вывод: мы перестаем бояться того и любить то, что мы объявляем чем-
то нейтральным, чем-то заменимым, неким материалом. Мы
доказываем это тем, что объективно обращаемся со всем этим, как с «оно», т.е.
как с вещью.
Благодаря этой нейтрализации мы помещаем менее живое позади
себя. «Что?» — это всегда извещение о смерти. В древних языках это
выражал тот факт, что средний род существительного не мог иметь ни
звательного, ни именительного падежа, и его основной формой был вини-
81
тельный падеж, поскольку человек не опасался того, что обозначаемая
такими существительными действительность захочет нас выслушать или
даже как-то отнестись к нам и высказать свое мнение. Именно этими
вечными винительными падежами мы пользовались и именно ими
манипулировали. Мое мышление играет с ними. Я думаю о них, но они
никогда не думают обо мне. Как мы видели, вопрос: «Что есть
человек?» — это «игрушечный» вопрос. Ибо в нем «человек» стал
заменимым. Я размышляю о нем. Но он никогда не размышляет обо мне. Лишь
в противном случае он был бы незаменимым для моего мышления! Тогда
я бы испытывал трепет: «Что он там обо мне думает?».
2. Прафеномен ранга
Если социолог, прочитавший первый раздел этой статьи, пришел бы и
написал: «Кто есть человек?», то это не было бы выходом из положения.
Жизнь духа не столь механистична. Язык позволяет нам сразу же задать
более определенный вопрос: «Кто есть этот человек?».
Переход от «что» к «кто» — это просто замена одного слова другим!
Мы не переходим от оперирования объектами в лаборатории мышления
к беседе между задающими друг другу вопросы партнерами просто
потому, что мы заменяем одно слово другим. Скорее, мы сами должны для
этого войти в некую иную ситуацию (на жаргоне мышления эта
ситуация ныне называется «экзистенциальной»). Такой переход от игры к
серьезности требует сил и времени. Поэтому, вероятно, у профессора,
доктора Мартина Лютера вопрос: «Что есть человек?» совсем не случайно
соскальзывает в средний род «что?». Разве Платон не спрашивал : «Что
есть божественное?» вместо: «Кто есть Бог?». Даже Пиндар воскликнул:
«Что есть один человек, что не есть один человек?».
Вопрос: «Кто есть человек?» слишком неопределенный. Он всегда
будет смещаться то в одну сторону, превращаясь во всеобщий вопрос,
задаваемый из любопытства: «Что есть человек?», то в другую, становясь
определенной, необходимой для моей политической ориентации формой
предложения: «Кто есть этот человек?». «Что есть человек?» и «Кто есть
этот человек?» — самодостаточные вопросы. Всегда может быть задан
первый или второй из них, и можно сразу, без каких-либо оговорок при
помощи «что?» спрашивать о всеобщей вещи в мире, а при помощи
«кто?» — об определенном человеке, живущем рядом со мной. Но
задавать вопрос: «Кто есть человек?» нельзя без оговорок. И запрет,
заключенный в этом «не без оговорок», является прафеноменом,
оказавшимся неизвестным для ученых.
Познав этот прафеномен, мы сможем сразу освободить знание о
человеке от его порабощения естествознанием и понятиями.
Вопрос: «Кто есть человек?», — как только он задан без оговорок, — это
вопрос, обреченный на соскальзывание к «что» или «который». Но я могу
задавать общие вопросы без оговорок только в области мертвого и
отсутствующего! Это странно, но истинно. Что есть минерал? Что есть предмет?
Об этом я могу спрашивать всегда и везде. Но вопрос: «Кто есть человек?»
я могу задать вам, себе или своим коллегам лишь после того, как я пред-
82
ставился им, вам или самому себе! Когда студент во втором семестре
спрашивает: «Кто есть человек?», то на свет Божий выходит разве что
злосчастный Артур Шопенгауэр (7), который вынужден был утолять свою
жажду любви в борделе, а свое представление сводить в систему. У него
любовь превратилась в простую волю, а представление — в воображение.
Среди живых, здоровых людей представление человека в третьем лице
может возникнуть лишь после того, как, по крайней мере, два из них
представлены в первом и во втором лице. Это не игра слов и не дурная
шутка. Вопрос: «Кто есть человек?» основан на двух предварительных
вопросах. Первый из них — «Кто есть ты сам?», а второй — «Не скажешь ли
ты мне, кем ты считаешь меня?». Человек обладает самосознанием
только благодаря тому факту, что кто-то обращается или обратился к нему по
имени. Без этого в нем нет ничего своего, и он является просто «one of
ours» (8), одним из нас. В Англии у члена палаты общин нет
собственного имени, кроме тех случаев, когда он должен быть призван к порядку. Как
только спикер парламента обращается к «member for Ipswich» (9) как к
мистеру Смиту, с членством мистера Смита покончено, и теперь опозорен
«Смит» как таковой. Тем самым он впервые осознает себя (10).
3.0 духовном настоящем
Итак, мы должны признать, что осознать самих себя нас вынуждают
наши ближние. Ни у какого из мыслителей нет самосознания, и в
качестве неспециалиста он должен быть признан другими людьми и узнать,
кем они его считают. Кто мы такие есть — это мы должны сказать друг
другу. «Self conscious» (11) является только пристрастный человек.
Беспристрастный человек говорит о других людях и позволяет другим людям
говорить о себе. То, что мы сами думаем о себе, совершенно неважно и
не имеет никакого значения. Мы обладаем сознанием только в качестве
партнеров в процессе установления взаимного согласия. Если мы
замечаем друг друга, нас омывает духовное настоящее.
Это знает здоровая душа, это знает Библия. Вот уже 150 лет
высокопоставленные критики прилагают усилия к тому, чтобы разделить
Библию на «Яхвиста» и «Элохиста» (12). Вот уже 3500 лет Библия
стремится защитить нас от социологов и психологов. При помощи пары
предложений Книга Бытия говорит, что человек, отдельный человек, только в
беседе обретает самосознание, благодаря которому он возвышается до
уровня Элохимов. Однако при каждой беседе собеседников осеняет
единое имя, в котором говорящие только и могут пребывать в
умиротворении. Таким образом, творение человеческого рода состоит в том, что ему
поручается вести мирную беседу. Вот уже 150 лет эта констатация,
содержащаяся в пятой главе Книги Бытия, остается за пределами
повествования о Творении. Высокопоставленные критики позволяют нам читать
только первую или вторую главу. Однако, хотя мне не поверит ни один
студент-теолог, истиной является то, что, согласно Библии, «человек»
был окончательно сотворен только в пятой главе.
Согласно первой главе, он стал живым. Согласно второй, третьей и
четвертой главам, он разделился на полы и роды со всеми последствия-
83
ми существования любви и пола. Но теперь — как и во всякой
изначальной, исходящей из самых истоков речи (13) — рассказчик начинает все
снова в третий раз. Да, конечно, во втором стихе пятой главы Книги
Бытия Бог сотворил человека, конечно, он сотворил его, и мужчину и
женщину, но он сделал еще кое-что дополнительное, и лишь благодаря
этому человек стал человеком. Ибо Адам, Ева и все их дети узнали,
в-третьих, что они все вместе должны слушаться одного и того же имени и все
вместе призывать Бога, называя его истинное имя. Они узнали друг друга
в имени «человек».
Почему это считается не правдой, а легендой? Женщину познает
не тот, кто ее изнасиловал, а только тот, кому она отвечает любовью
и кто откликается на названное ею имя. Сватовство и называние по
имени, представление и назначение на должность, — иными словами,
мир, — даруются лишь тем, кто узнает себя в одном и том же имени.
Это так же верно, как и то, что дважды два равняется четырем.
Всякая любовь ведет от жизни к познанию чего-то на опыте, поскольку
любовь должна называть по имени. А называние по имени — это
обретение жизнью некоего голоса. Вечно почитаемые и изучаемые
греки могут отрывать друг от друга мышление и бытие, но любящий не
сделает такой глупости вместе с ними. Тот, кто оглашает содержание
своего ощущения, сам вмешивается в бытие. Называние по имени
означает, что живые существа объемлют мир. Мои мысли,
становящиеся словом, окутывают собою мою возлюбленную. Следовательно, они
являются жизненными процессами. Обретение знания в процессе
называния по имени содержит больше жизни, чем наука. В познании
жизнь усиливается посредством установления связи. Ибо тогда жизнь
сгущается и превращается в дух, который признает и создает
человеческие сообщества. Только любящий человек знает то, чего не ведает
никакая наука: ему известно, кто возносит его до уровня жизни, дает
сознание и посылает ему смерть. Таким образом, для любящего
человека «кто» (невеста) и «что» (происхождение) отличаются друг от друга
так же, как жизнь и смерть. Жизнь без любви не имела бы и логоса,
не имела бы и грамматики звательного, именительного,
винительного падежей, т.е. степеней божественного, человеческого, вещного.
Только любовь побуждает нас говорить и думать, поскольку в обоих
этих действиях мы отторгаем мертвое и соединяемся с живыми. Сила
именования, призываемая в первой главе евангелия от Иоанна и в
пятой главе Книги Бытия, — это одна и та же сила. Эта сила
именования — как и следует переводить «логос» — каждый день заново
отделяет друг от друга царство будущей жизни, созданной любовью, и
богооставленные поля, на которых разлагаются трупы. Первый акт,
последний акт и кульминация всякой речи, несмотря на все словари
и пособия по грамматике, всегда будут одним и тем же: защитой
живого от мертвого посредством именования, основанного на
противопоставлении.
Нашу жизнь Бог сотворил в соответствии с первой главой Книги Бытия;
нашу любовь Бог сотворил в соответствии со второй главой Книги
Бытия;
наш дух Бог сотворил в соответствии с пятой главой Книги Бытия.
84
Но это единый и тот же самый акт. Ибо люди существуют лишь
благодаря совместному имени, используемому во взаимном
именовании. Поскольку я могу говорить только в союзе партнеров по беседе,
то мне в одиночку или вам в одиночку нельзя задавать вопрос: «Что
есть человек?».
Никакой отдельно взятый «мыслитель» не может задавать этот
вопрос, исходя только из самого себя. Прежде должны признать друг
друга, по меньшей мере, два человека, которые и будут задавать вопросы.
Я должен был умолять другого человека: «Скажи мне, кто я такой,
скажи мне, кем ты меня считаешь». Этот человек должен был ответить
мне и также умолять меня: «Теперь и ты скажи мне, кем ты меня
считаешь».
Люди, испорченные школьным воспитанием, не замечают этого
факта. Ведь этому не учат в школе. Как же это может быть истинным? Но
один и тот же школьник Генрих Шмидт обращается к учителю
«господин учитель» и, тем самым, прямо говорит ему, что он о нем думает, по
крайней мере, официально. Школьник говорит «Карл» и «Курт» своим
одноклассникам, «привратник» — привратнику, «господин директор» —
директору, «папа» — отцу и «мама» — матери. И неужели при этом он не
высказывает, что он о них думает? Именно это он и стремится делать! В
свою очередь, они отвечают ему, произнося «Генрих», «учащийся
Шмидт», и так он скоро узнает, из каких элементов он состоит в их
глазах. Итак, наши различные имена — это навязываемые нам
представления общества о нас самих, и мы, наоборот, стремимся принудить
общество изменить эти имена.
Очевидно, человек, рассудок, мыслитель или мышление оказались бы
не в состоянии задать вопрос: «Кто есть человек?», если бы к этому
определенному человеку уже не были многократно обращены слова, из
которых он узнавал бы, кем его считают. Так что место вопроса: «Что есть
человек?» — в конце жизненного пути, по меньшей мере, двоих, а
скорее всего — тысяч собеседников, которые высказали друг другу свое
мнение, представились друг другу и позволили отвести им определенное
положение. В связи с вопросом о человеке не может быть никакого
простого, абстрактного, пустого или чистого рассудка. Итак, любые
высказывания о человеке — это всегда результат опыта человеческого сообщества.
Эти высказывания неизменна являются эмпирическими и никогда —
научными.
Теперь мы понимаем, почему вопрос: «Кто есть человек?» обычно
сводится к вопросу: «Что есть человек?». «Что» — это всегда нечто
внешнее, некий предмет. Человек, задающий встречный вопрос, всегда
пребывает в настоящем. Настоящее — это прямая противоположность
предмету. Человек, задающий встречные вопросы, противостоит во времени
всем социологам, пользующимся естественнонаучной методологией,
позитивистам. Ибо он препятствует тому, чтобы они, преисполнясь
величия, низвели его до уровня предмета.
Итак, кто же есть человек? Об этом могут спросить сообща русский
и янки, генерал и вдова, если они уже засвидетельствовали любовь,
внимание, уважение друг к другу, назвав друг друга по именам. По меньшей
мере двое должны быть признаны в качестве людей в первом и втором
85
лице, прежде чем они смогут совместно сформулировать вопрос о
человеке в третьем лице.
Напротив, тот, кто формулирует этот вопрос без оговорок, строит из
себя создателя людей, разыгрывает из себя Бога, и поэтому мне незачем
присматриваться к нему.
Тем самым наше мышление о «человеке» избегает судьбы
естествознания. Естествознание начинает неправильно, а именно без оговорок.
Оно начинает с «оно», «он», с «эти» или «они», с мира и предметов. И
все, что оно знает, относится к третьему лицу.
В человеческом обществе такой образ действий является
предосудительным. «Человек» — это сначала всегда третье лицо, и со всеми
высказываниями в этом третьем лице придется повременить, пока первое и
второе лицо не будут признаны друг другом и представлены друг другу.
Наше мировоззрение и объективные представления являются
третьестепенными и подвержены постоянному изменению. Только другой
человек способен сообщить мне обо мне самом нечто первостепененное.
Только я могу дополнить это сообщение второстепенным вопросом.
Лишь после этого дело может дойти до абстрактных представлений о
третьем лице, о человеке «как таковом». Но эти абстракции будут хотя бы
отчасти правильными лишь тогда, когда у партнеров по беседе постоянно
сохраняется в памяти эта последовательность — второе, первое, третье
лицо. Ибо мы можем ручаться только за первые два слоя нашего
сознания. Третий слой — это просто заключение, выведенное нашим умом.
Оно является просто «правильным». Но мы можем дать показания в
пользу первостепенных истин и умереть.
Таким образом, это первый вклад в Высшую грамматику Нового
мышления, для которого истина и наука отделены друг от друга (14).
Ученые, без оговорок спрашивающие: «Что есть человек?»,
являются врагами истины, за которую мы, неспециалисты, сражались и
сражаемся. Мы сперва должны признать друг друга в качестве людей
и лишь затем может возникнуть наука, — но ученые в своем
высокомерии не хотят принять во внимание эту истину. Они приписывают
только себе обладание духом истины, нам же оставляют, в лучшем
случае, доброе сердце, но не причастность живому духу,
превосходящую их знания. Специалисты отрицают, что мы обладаем духовным
настоящим. Итак, если ученые будут продолжать слушать наше дело
«без оговорок» и в третьем лице, то Новому Западу достанутся только
подопытные кролики. Ибо прежде чем мы сможем играть с
объектами, мы должны быть представлены друг другу и признать друг друга
внутри некоторого народа.
Однако оборот речи псалмопевца: «Что есть человек, что Ты
помнишь его?» не принадлежит к числу вопросов специалистов. Напротив,
он ставит вопрос, который стирает различие между антропологами и
«anthropos», между психологами и «psyché», между субъектом и объектом,
между специалистом и народом. Перед Богом находится не предмет
мышления, а чадо Божье. Ведь человек, Адам, — это только имя,
которое Бог дал своему чаду. Поскольку человек спрашивает Бога: «Кто я
есмь?», он может также спросить: «Что есть человек?». Ибо, в отличие от
социологов, он включает самого себя в вопрос. Он даже доверяет Богу
86
право дать ответ! «Что есть человек, что Ты помнишь его?» — это такое
предложение, которое уничтожает все предшествующее разделение
труда и стремится во имя Бога включить грядущего человека в живое
творение. Как же оно это делает? Напоминая самому себе, что он сегодня без
«завтра» Бога еще есть «ничто».
Что есть человек до того, как Бог обращается к нему с речью?
Ничто, пока ничто, но при этом он ждет вечной жизни. Человек, который не
является предметом мышления, ждет Божьего настоящего, памяти Бога
о нем, поскольку каждому человеку предназначено стать мыслью Бога,
словом Бога, творением Бога, т.е. из преходящего стать вечным, а из
«что» — «кто». Мы, люди, суть пути, ведущие от «что» к «кто».
Приходит день, когда каждый из нас вырастает из универсума
заменимых вещей. Тогда человек приходит в ужас от того факта, что даже он
сам является заменимым «нечто». В состоянии этого кризиса мы
цепляемся за имя, которое с давних пор называлось при обращении к нам. Это
имя является не только преходящим, оно не только налицо — оно
является также некоторым ожиданием. Мы размыкаем наше сиюминутное
существование, распахивая двери любого времени, ведущие
соответственно к началу и к концу. С самого начала и до Страшного суда
человек может достаточно глубоко дышать только как Адам, как Сын Божий.
Дух — эта та потенция дыхания, которая выходит за пределы моего
существования в качестве «нечто». Эта сила своей музыкой увлекает меня
в хоровод всех призывающих друг друга и обращает друг к другу лицом
всех участников хоровода, подлежащих определению, со-ответствующих
друг другу, и они узнают себя в качестве «он» и «она». Они
предоставляют друг другу исполнение неких задач во Вселенной. Ибо каждый из
этих одухотворенных людей сам являет собою нечто сотворенное в
качестве звена неповторимой, единственной в своем роде истории творения.
Наша участь такова, что мы должны стать теми, кого призвали, к кому
обратились с речью, и теми, кто сам высказывается. В качестве такого
«клира», т.е. избранных по жребию, мы преодолеваем охвативший нас
ужас погружения в заменимое «что».
Эпоха светской мудрости закончилась концентрационными
лагерями, где нагому человеку отказывали в имени и месте проживания,
должности и предназначении. Это было триумфом той критики, которая
видела в человеке животное и цодовое существо и замечала только
первую и вторую главы Книги Бытия, но не ее пятую главу (второй стих),
где говорится об установлении мира. Логика была принудительной:
научная чернь подражала уличной черни. Народ Нового Запада и
Грядущего Востока мог бы возродиться только как «клир»: ты и я, он и она,
спаянные взаимной верностью.
Специалисты вырывают застенчиво задаваемый вопрос: «Что есть
человек, что Ты помнишь его?» из его смысловой связи. Ведь неспециалист
может задавать вопрос таким образом лишь потому, что он надеется на
в высшей степени личное обращение к нему с речью, благодаря
которому мы переходим от «что?» к «кто?» и изменяемся. Господа профессора и
специалисты считают себя уже обладающими этим качеством. Ведь их
студенты обращаются к ним как к великим «кто». Но неспециалист
находится в состоянии двуполярной неопределенности. Он не знает, как он
87
составит себя из «что» и «кто» в различных пропорциях, поскольку никто
не гарантирует обращения к нему как к господину профессору, и, тем
самым, никто не утешает его.
Каждый день какая-либо отрасль науки похищает один звук из
беседы верующей души с ее Господом и Творцом. Эти заимствования
обедняют нас. На вопрос: «Что есть человек?», который вырван из его
контекста, никогда нельзя дать ответ. Таким образом, теперь господа
специалисты, возможно, смогли бы перестать его задавать.
Ибо мы, неспециалисты, нуждаемся в этом вопросе для нашего
спасения, чтобы с его помощью стать личностями. Как и Библия, Лютер мог
бы спросить: «Кто есть этот человек?».
Мои друзья, узнав название этой статьи, нашли его отвратительным.
И в самом деле, оно так же безвкусно, как и название, данное
Августином работе о «количестве души», de quantitate animae. Однако Августин
доказал, что у души нет количества. Я должен защищать всеобщее
дилетантство человечества от обращения с человеком как со средним
грамматическим родом. Если в журнале «Evangelischer Erzieher» (15) можно
прочитать вопрос: «Что есть человек?» в качестве заглавия, набранного
жирным шрифтом (V, 3, 1953, S. 113), то настает тот момент, когда следует
прибегнуть к самообороне. И тогда в качестве средства защиты
неспециалистов от первосвященников различных отраслей науки сохраняет силу
заповедь: «Если ныне этот путь и не является священным, то завтра он
будет освящен».
88
Человеческий тип как форма для
чеканки, или повседневные
истоки языка
Происхождение языка — один из наиболее часто обсуждаемых, больше
всего вышучиваемых и самых безнадежных вопросов человеческой
истории. Вопрос о происхождении отбрасывается как некая сложная
проблема, которая никогда не может быть разрешена и потому никогда не
должна затрагиваться. Ответ на этот вопрос искали, ссылаясь на
«подражание», на нервные рефлексы (Лангер, Langer); толковали изначальный язык
как жестикуляцию всего тела, которая затем свелась к движениям
голосовых связок (Жусс, Jousse); указывали на крики воюющих групп людей, —
но все эти объяснения почти смехотворны. Большинство исследователей,
знакомых с подходами к этому вопросу, испытывают чувство отчаяния.
Для меня самого «происхождение» языка — такой же законный
вопрос, как любое другое «происхождение». Это означает, что данный
вопрос упирается в некую главную границу всех таких вопросов: мы
должны знать, что мы подразумеваем под «происхождением», что мы
понимаем под «происхождением» языка. Язык может означать: а)
метод, с помощью которого можно указать человеку путь к ближайшей
крестьянской усадьбе, или способ успокоить плачущего ребенка.
Тогда он в состоянии обойтись жестами, улыбками и слезами, и тогда
обезьяны и соловьи — наши учителя. Я не сомневаюсь, что в наших
повседневных бормотании и болтовне язык служит тем же целям, что
и звуки, издаваемые животными, а то, что служит тем же целям,
заслуживает того, чтобы считаться тождественным друг другу. В нашей
жизни есть области, характеризующиеся теми же условиями, при
которых животные издают звуки общения, предупреждения и т.д. И мы
используем в этих областях звуки, обнаруживающие некоторое
подобие звукам, издаваемым животными. С другой стороны, язык может
означать: Ь) способность стать хором, разыграть на сцене трагедию,
издать законы, сочинить стихи, прочитать застольную молитву,
принести присягу, исповедать свой грех, оклеветать своего ближнего,
подать жалобу, написать биографию, исказить сообщение, решить
алгебраическую задачу, окрестить ребенка, подписать брачный договор,
похоронить своего отца.
Большинство людей смешивают а) и Ь). Похоже, они воображают,
что, объяснив колыбельную песню, шутку или сплетню, они тем самым
объяснили и силу брачного обета.
89
Мы начинаем с того, что стремимся отделить одно от другого. Наша
вера в возможность этого основывается на открытии уровней,
соответствующих колыбельной песне; пальцу, указывающему на дом моего
соседа; болтовне в свое удовольствие: имеется язык первого, второго и
третьего уровней. Поэтому и получается, что мы употребили здесь более
двадцати различных глаголов для того, чтобы точно охарактеризовать
действительную речь: отвечать, подражать, жестикулировать, кричать,
показывать, успокаивать, бормотать, болтать, петь, разыгрывать на
сцене, издавать, сочинять, исповедовать, жаловаться, писать, сообщать,
крестить, подписывать, шутить, клеветать, сплетничать, объяснять. Это
обусловлено уровнем, а не случаем.
1. Решающий момент во время речи
Я прошу проводить различие между звуками, издаваемыми животными,
формальной и неформальной речью. Вопрос «Как мне перейти через
этот ручей?», колыбельная песня и уменьшительные имена «Тони» и
«Ганс» не принадлежат ни к языку животных, ни к формальному языку.
Для первого они слишком точны, для второго — слишком небрежны. В
Соединенных Штатах Америки каждый старается выражаться столь
небрежно, как будто он пас свиней вместе с президентом. Так, охотно
говорят о г-не Кеннеди как о Джеке. Эйзенхауэра нежно звали «Айк». Но
необходимо подлинное усилие для того, чтобы быть таким
неформальным. Поэтому то, что люди ведут себя так, будто они вправе похлопать
президента по плечу, не имеет ничего общего со звуками животных, еще
не получившими формы, или с детским лепетом. Ибо пикантность
неформальности заключается в том, что мы хорошо знаем ту самую форму,
от использования которой отказываемся. Лишь поэтому восстание
против формальностей доставляет удовольствие. Быть неформальным
означает пренебрегать уже существующими формами. Нельзя пренебрегать
тем, чего не существует. Таким образом, тот, кто хочет жить и говорить
без формальностей, тем самым отнюдь не объяснил появление этих
формальностей. Скорее, он напоминает того знаменитого атеиста, который
привел своего сына на урок закона Божия к православному священнику
(1). Священник спросил отца о том, не произошла ли ошибка. «Нет,-
сказал отец,- для меня важно, чтобы у моего сына было что-то такое, о
чем он мог бы размышлять свободно. Религия для этого как раз
подходит!». Таким образом, именно существующие формальности объясняют
нашу склонность к неформальному, а не наоборот. Поэтому никто не
может сказать: «Боже мой, какой прекрасный день», если прежде кто-то
не пел: «Небеса поют Славу Господу». Никто не может говорить «мама»
или «папа», если кто-то прежде не сказал благоговейно «отец» и «мать».
Однако лингвистика, сжившаяся со своей идиллической руссоистской
грезой, считает милое дитятко изобретателем корней слов «папа» и
«мама» (2).
Наше различение разделяет все виды речи на две половины, которые
непрерывно взаимно дополняют друг друга: формальный и
неформальный язык. Логически и исторически формальный язык предшествует
90
неформальному; в свою очередь, формальный язык следует за звуками
животных. Мы различаем, во-первых, неартикулированные, так сказать,
предшествующие оформленности звуки животных, во-вторых,
формальный человеческий язык, и в-третьих, неформальную, неофициальную
речь, и эта неформальная речь живет за счет обоих видов языка — еще не
получившего формы и формального; она представляет собой смесь их
обоих. Наше различение прокладывает путь к новому пониманию
языка: определенная разновидность речи существует и у животных.
Историкам человечества не нужно его объяснять — он является дочеловеческим.
Другая разновидность языка существует только у людей. Это должно быть
четко понято, поскольку в противном случае человеческая история
останется тайной.
Представленный выше перечень некоторых актов формального
языка — от хорала до заключения мира — обосновывает человеческое
начало в нас в отличие от животных. Но человечество склонно к
небрежности и расслабленности. Поэтому формальный язык испытывает
постоянное воздействие до тех пор, пока он не превратится в бесформенный
язык, переходящий из крайности в крайность — от «кошки» к «собаке»,
от «брата» к «свинье», как в детской комнате или казарме. Из этого
следует, что использование нами формального языка в качестве средства
информирования, передачи неформальных сообщений и простого
намека не может служить для того, чтобы объяснить формальный язык. На
самом деле обнаруживается тенденция поглощения, изглаживания,
раздробления формального языка. Тенденция движения к шутливому,
поверхностному, небрежному сильна, поэтому мы должны забыть обо всех
наших склонностях к шутливому взгляду на вещи, если мы хотим понять
величие, возвышенность, ликование, достоинство и рассудительность,
предполагаемые формальным языком.
Формальный язык не мог возникнуть внутри групп, все стремления
которых сводятся к тому, чтобы жить неформальной жизнью. Например,
отношения между матерью и ребенком должны быть исключены из той
области, в которой мог возникнуть формальный язык. Сборище или
толпа молодых парней, солдат или охотников столь же мало является той
средой, в которой когда-либо родился человеческий формальный язык.
Но наука обращалась именно к таким группам. Из их изучения она не
извлекла никаких результатов. В этой среде всякий артикулированный
язык деградирует. Напряжение ослабляется там, где мы говорим без
умолку. Небрежность уничтожает, например, грамматические окончания
и обходится простыми восклицаниями и пожатием плечами. Она
разрушает даже лучший язык. Что за странное предположение, будто
богатство грамматических и синтаксических форм должно восходить к той
среде, которая так враждебно настроена по отношению к формам!
Способен ли химический растворитель служить для того, чтобы объяснить
процесс кристаллизации? Но именно такого рода попытки все снова и
снова предпринимаются лингвистами и философами языка.
При этом преобладали два направления мысли. Одно из них
сложилось под впечатлением мнимого факта, согласно которому и животные
«говорят». Это впечатление превратило бездны между языком животных
и человеческим языком в канавки пренебрежимо малой глубины. Либо
91
объявлялось о согласии с тем, что язык можно объяснить, исходя из
событий человеческой повседневности. Но если бы это было исходной
точкой, то, как представляется, проще всего было бы сосредоточиться на
изучении детей. Между тем, именно дети и их матери, равно как и ватаги
мальчишек — это, прежде всего, доисторические формы человеческого
существования; если мы обратимся к этим группам, ближе всего среди
нас стоящим к природе, то мы возложим на них задачу создания вещи,
дальше всего в мире отстоящей от природы — артикулированного и
грамматически оформленного языка. К счастью, если мы хотим понять
происхождение формального языка, мы можем взглянуть в
противоположную сторону, отвернувшись от обезьян, от грудных детей, от
мальчиков и девочек. Формальный язык должен быть созданием серьезных
мужей и старцев. Гёте, Бисмарк и Лютер сделали для немецкого языка
больше, чем весь Союз немецких матерей.
Поскольку мы радикально изменяем направление нашего
исследования и бросаем взгляд в доселе неизвестном направлении, то есть
опасность чересчур забежать вперед. Ведь психология детского
возраста и социология животных достигли у нас столь значительных успехов
лишь потому, что они могут рассчитывать на постоянно возрастающие
вложения капитала, поставки оборудования и предоставление
сотрудников. Эту помощь еще долгое время нельзя будет использовать для
проведения соответствующих изысканий в области артикулированного
языка, тем более что предшествующая практика финансирования не
подготовила инвесторов к мысли об осуществлении такого рода
исследований применительно к религии, языку, политике, праву,
литературе и ритуалу. Кредиторы находят несомненно предосудительным
утверждение, что ребенок не может служить средством объяснения
мужчины, но, вероятно, мужчина может служить средством объяснения
ребенка. Лишь успех позволит вынести решение, какой метод является
наиболее подходящим. Эта глава всего лишь призывает читателя
обратить внимание на черты зрелого, взрослого и ответственного человека
в нас самих и внимательно присмотреться к линии поведения великих
душ всех времен в связи с вопросом о происхождении формального
языка. Результаты будут простыми, но они придут в противоречие с
распространенными предрассудками. Язык — это нечто большее, чем
простое орудие и простая игрушка нашего сознания. Он пришел к нам как
нечто глубоко серьезное с тем, чтобы мы могли следовать своему
человеческому призванию. Говорить — означает войти в сверхчеловеческую
область и руководствоваться, постоянно руководствоваться ею. Теперь
мы можем подвести итоги. Мы можем установить последовательность
трех видов социальных звуков:
1. Еще не получивший формы доисторический язык.
2. Формальный или исторический язык.
3. Неформальный обиходный язык.
Звуки, издаваемые животными, являются выразительными, но до-
грамматическими. Язык взрослых является артикулированным и
литературным. Дети говорят неформально, используя диалект или жаргон. Ис-
92
ходя из этого, мы можем продвигаться дальше. Язык человека направлен
на то, чего не домогаются обезьяны или соловьи: он стремится к
превращению слушающего в такое существо, которого не было до того, как к
нему обратились. Человеческий язык строго формален, и по этой
причине он стал оформленным и грамматически определенным.
Грамматические формы и отношения надлежит понимать в качестве симптомов,
доказывающих, что язык животных надстроен артикулированным
человеческим языком. Этот язык может назвать некоторое место в Ирландии
Типперэри, а ребенка — Доротеей, т.е. даром Божьим. Животные на это
не способны. Величайшая форма человеческого языка — это имена. В
языке животных они, очевидно, отсутствуют. Чего бы общего ни имел
человек с обезьянами тогда, когда он говорит, но обезьяна не может
призывать Бога. Собственное имя Бога означает «Тот, который говорит» или
«Тот, который одухотворяет людей таким образом, что они говорят».
Формальный язык требует имен, к которым человек должен
прислушиваться и силою которых он должен быть поименован.
Поскольку центр тяжести оформленного языка заключен в именах, то
формальный язык может быть обозначен как номинальный или
именной. Это имеет некоторые преимущества. Называя человеческий язык
номинальным, мы получаем доступ к одному из наиболее странных
феноменов нашего языка — к использованию местоимений. Существуют
языки без заменителей имен. Данное обстоятельство требует
осмысления. Ибо «ты», «я», «мой», «мы», «оно», «это» кажутся нам наиболее
часто встречающимися словами. Но они используются вместо имен; мы
выражаемся «местоименно», говоря вместо слова «доска» некое «она»
либо «это». Мы должны разъяснить различие между именами и
местоимениями, поэтому мы хотим теперь заменить ряд «еще не получивший
форму», «формальный», «неформальный» язык выражениями «доимен-
ной», «именной», «местоименный». Поэтому мы можем рассматривать
язык обезьян, птиц и т.д. как доименной, как язык, предшествующий
использованию имен. Мы можем обозначить человеческий язык как
номинальный. Но здесь возникает трудность.
Язык животных, используемый во взаимоотношениях самца и самки,
кобылы и жеребенка, в стае волков или стаде серн, отчасти проникает и
в наши человеческие отношения. Мать и ее ребенок, любовник и его
возлюбленная, офицер и его подчиненные живут в таких ситуациях,
которые не вполне отличны от соответствующих ситуаций животного мира.
Нельзя из ложной гордости не видеть подобий, существующих в
естественных товарищеских отношениях.
Там, где возникает оформленный язык, группы наделенных душой
особей, соответствующие группам животных, оказываются под
влиянием двух сил: одна — это воздействие доименной, неформальной
ситуации, характерной для непосредственной, телесно видимой и
воспринимаемой группы товарищей, определенной клики, наседки и ее цыплят,
а другая — влияние оформленного, грамматически артикулированного
языка имен и соподчинений. Семья, товарищество, пара особей
приходили и приходят к компромиссу между оформленным и
условно-формальным языками: они говорят на деформированном языке,
местоименно. Мамочка, папа, Ганс — это деформированные языковые образова-
93
ния. Они суть продукты процесса шлифовки между двумя жерновами
нашей животной и нашей придающей форму природы. Каждое слово,
сказанное в детской комнате, — это компромисс между еще не
получившим форму и формальным языком: оно логически деформировано;
неформальное является более поздним, чем еще не получившее формы и
оформленное. Оно — их синтез или смесь. Из этого следует, что слова
«мамочка» и «папа» не могут быть употреблены для того, чтобы раскрыть
происхождение языка. Мой жест: «Идите в Типперэри в ту сторону»
непригоден для объяснения полномочий человека, который на протяжении
столетий с успехом называет некое место «Типперэри»; для этого
непригоден и вопрос: «Как туда пройти?». «Где», «их», «это», «оно» — все это
суть деформированные местоимения, которые могут использоваться
тогда, когда люди встречаются друг с другом так же непосредственно, как и
животные, и в этой непосредственности для них достаточно чуточку
меньше оформленного языка, чем обычно. «Где», «их», «что», «оно»
соответствуют «папе», «маме», «Гансику». Все эти заменители имен того же
характера: они суть разменные монеты для кратковременного
употребления; это — медные деньги достоинством в один пфенниг по сравнению
с важным значением чека или акции. Эксперты по финансам понимают
деньги, исходя не только из монеты достоинством в один пфенниг.
Слишком очевидно, что один пфенниг — это просто доля марки.
Медная монета представляет собой компромисс между краткосрочной
договоренностью, достигнутой в неофициальной ситуации двумя соседями,
и долгосрочной и формальной ситуацией, соответствующей
федеральному банку.
На этом основании «где», «их», «что», «оно» называются
местоимениями. Эти слова заменяют формальные имена точно так же, как
разменные монеты могут заменять настоящие деньги.
Если мы теперь распространяем название «местоимение» на слова
«папа», «мама» и «Фриц», то становится ясной общая связь между
обезьяной, мужчиной и ребенком. Обезьяна в нас говорит доименно, мужчина
в нас говорит с помощью имен, ребенок в нас говорит местоименно, — но
после того, как имена уже обрели значение. Язык ребенка, человека
вообще приходит к нему от его отца, а не от обезьяны! Доименной,
именной и местоименный языки могут быть четко отделены друг от друга. Где
бы люди сообща ни жили, ни ели, ни работали, ни играли, — в одном и
том же месте, в одно и то же время, — они находятся в ситуации, еще не
получившей формы, а точнее — в доименной ситуации. Поэтому они,
как и животные, могут достичь взаимопонимания с помощью знаков и
нечленораздельных звуков.
С другой стороны, колыбельные песни, детские стишки, сплетни,
болтовня, шепот, пропаганда, шутки, остроты, морские рассказы,
советы, уменьшительные имена являются не образованиями, еще не
получившими формы, — они возникают позже них. Они являются
смешением еще не имеющего формы и оформленного. Они основывают область
местоимений; они лишают имена глубины содержания, превращая их в
ласкательные названия. Они не являются чем-то, что еще совсем не
получило формы. Они лишь неформальны. Они находятся между
требованиями соблюдения формальностей и «commonsense» (3), само собою ра-
94
зумеющегося, «разрываются» между ними. Они составляют область
местоимений. Они лишают имена глубинного смысла с помощью знаков,
кивков и гримас. Один из моих друзей времен моего студенчества в Гей-
дельберге постоянно употреблял выражение «почему-то» для
обозначения всех тайн жизни. У нас было впечатление, что он использовал это
выражение вместо имени Бога. Так и было на самом деле. Там, где
прежние поколения говорили о воле или помощи Бога, он удовлетворялся
этим неопределенным и сомнительным выражением. Он жил «почему-
то» вместо того, чтобы жить — как называл это его отец — благодаря
Провидению Божию. Прозвища, краткие формы слов, местоимения,
жесты всё усекают, опустошают и обесценивают. Несмотря на это, они
все же играют и положительную роль. Они предохраняют имена от
износа. Очень знаменитый Куно Фишер (4), профессор философии, с
большой гордостью носил государственный титул «Ваше
превосходительство». Но однажды некий молодой студент, придя к нему домой,
превзошел самого себя в употреблении этого титула. «Ваше
превосходительство» так и сыпалось через каждое слово, на что Фишер в конце
концов сказал: «Не так часто, не так часто, мой юный друг. Только время от
времени, к слову!» По большей части он удовлетворялся простым
местоимением «Вы» вместо полного титула «Ваше превосходительство». Ибо
тогда «Ваше превосходительство» сияло куда более ярко.
Местоимения защищают имена там, где их употребление
неуместно: мы, ищущие аутентичное место языка, нашли теперь аутентичное
место местоименного языка, поскольку там, где формальный язык
неуместен, появляются местоимения. Кроме того, они что-то добавляют к
серьезности титулов и имен. Местоимения не принадлежат к языку
животных. Они находятся в отчетливой связи с великими именами и
званиями человеческого языка. «Оно», «он», «меня» — это полные формы;
«папа» артикулировано и очевидно связано с «отцом» или «pater».
Местоимения менее церемонны, чем имена. В течение последних двух
столетий люди, занимавшиеся проблемой происхождения языка, не
проводили различия между полнозначной и опустошенной речью.
Однако если мы относим к одной категории колыбельную песню и указ,
болтовню и принесение присяги, то мы возводим неприступную стену,
препятствующую нашему пониманию происхождения языка.
Поистине удивительно, сколько проблем сразу становятся простыми, когда
колыбельной песне отводят подобающее ей место в детской комнате, а
болтовне оставляют присущее ей место — гостиную. Ни детские
комнаты, ни гостиные не являются областями, где берет начало
формальный язык. Величайшей жертвой этого грехопадения было имя самих
богов. Люди начали называть Бога идеей, но идеи не могут взывать к
богам, это могут только имена. Детская комната и гостиная заступают
на место дома для собраний, государева двора и языка, на котором там
говорят, формального языка, тогда, когда из президента федерации и
Бога-Отца возникает наше «идеология».
Теперь, когда мы раз и навсегда убрали с нашего пути детский язык,
мы можем с успехом исследовать вопрос о том, когда и где вызывается
к жизни формальный язык и что введение языка должно означать для
общности, ставшей в наши дни безъязыкой. Аутентичное место и леги-
95
тимный момент времени для рождения языка теперь могут быть
охарактеризованы подробно.
Пока мы не рассмотрим ситуацию человеческого общества, в
котором недостает языка, мы не сможем понять второй вопрос — вопрос
о том, почему вспомогательные средства языка были отлиты в
грамматические формы.
Вопрос о происхождении языка получает смысл в качестве следствия
двух вопросов. Прежде всего — где, в соответствии с нашим собственным
опытом, оказывается необходимым новый язык? И далее — когда язык
вследствие этого становится необходимым?
Конечно, если у нас не будет определенного собственного опыта
постижения того, как прямо на наших глазах рождаются новые элементы
языка, мы не будем знать, с какой мерой нам подходить к прошлому.
Скептики скажут, что это делает вопросы бессмысленными. Сегодня
не может быть никакого нового языка. Искусственно созданные языки,
дескать, ничего не дают для решения нашей проблемы. Эсперанто,
очевидно, не может объяснить греческий язык. «Basic English» (5) не в
состоянии объяснить англосаксонский язык.
Вполне очевидно, что скептики правы. То, что закладывает основы
языка, не проявляет своего действия в этих произвольных планах
создателей искусственных языков. Но скептики правы не во всех смыслах.
История — это не просто то, что произошло 10 000 лет назад, с нами
происходят и доисторические процессы. Хотя искусственные языки ничего не
дают для понимания происхождения языка, в самом средоточии нашей
жизни существуют доязыковые ситуации. Эти доязыковые или
доисторические ситуации в известной степени отражают то силовое поле, в
котором и возник первый язык. Вакуум и прежде, и теперь определяется
аналогичными полюсами. В обоих случаях доязыковая ситуация
требует и взывает к тому, чтобы быть артикулированной. Человеческие
существа, точно так же как и социальные отношения, ждут того, чтобы
сделаться артикулированными. Меж нас воцаряется молчание, ждущее того,
чтобы стать языком. Если мы спросим себя о том, когда мы не говорим
или не в состоянии говорить, хотя должны были бы говорить, то мы
можем открыть ту функцию, которая действительно выполняется языком.
Здесь мы выйдем за рамки простой теории, и мы не будем,
руководствуясь своими скромными познаниями в английском, немецком или
латинском языках, пытаться достичь абстрактного понимания сути языка. Мы
попробуем добиться этого понимания, изучая болезнь человеческой
группы, которой недостает языка, хотя ее здоровье зависит от
возникновения внутри нее нового языка.
До того как мы изучим сам язык, мы исследуем то поле — и слово
«поле» поможет нам во многих отношениях, — в котором возникает
искра языка. Это попятное движение в сторону самого языка поставит
наше исследование его происхождения на почетное основание нашего
собственного повседневного опыта. Если определенная область жизни
невозможна без языка, то в восстановлении или создании этой особой
области язык и должен иметь свой исток. Сравнение с другими
научными дисциплинами поддерживает нас в использовании такого метода.
Экономика стала наукой лишь тогда, когда она начала изучать кризисы,
96
в результате которых разрушался порядок экономической деятельности.
Вечное «происхождение» хозяйства, его постоянное развитие в качестве
действенного разделения труда становятся понятными, если мы обратим
внимание на тот беспорядок, который проистекает из недостатка
действенного разделения труда. Медицина является наукой лишь
постольку, поскольку она проникает в тайну болезни. Социология становится
наукой только потому, что научается объяснять суть войн и революций.
Отсутствие привычного порядка, беспорядок, служит тому, чтобы
объяснить происхождение подлинного порядка. Если мы осознали, почему
данное положение вещей является плохим, а не хорошим, то мы
начинаем понимать происхождение самого блага.
Биология сделается наукой о жизни в тот день, когда станет понятной
смерть. В том же самом смысле мы можем иметь науку о речи или
языке лишь тогда, когда мы проникнем в ад невозможности говорить. Если
мы погрузимся в ту тьму, в которой человек еще не способен или уже не
может говорить с другим человеком — своим современником, своим
братом, — то мы наилучшим образом подготовимся к ответу на вопросы:
« Что такое язык ? Как он возникает ? Когда мы говорим ?». Эти три
вопроса, несомненно, являются одним и тем же вопросом, взятым в его
различных аспектах. При каких условиях современный человек не вступает в
беседу со своим братом? Очевидно, это не только лингвистический или
филологический вопрос. Если члены одной семьи не разговаривают друг
с другом, то с семьей что-то неладно. Здесь затронута сфера морали. Если
нации не разговаривают друг с другом, то они находятся в состоянии
войны. И это даже не обязательно должна быть война, в ходе которой
стреляют. В случае Испании, Аргентины и других стран мы сделали
сенсационное открытие: государству совсем не обязательно стрелять, чтобы
находиться в состоянии войны с другим государством, поскольку оно не
может вести с ним переговоры. Путь, идя по которому мы ставим
вопрос о происхождении языка, переводит этот вопрос в области политики
и истории. Вопрос «Когда человек должен заговорить?» оказывается
вопросом, ответ на который должны дать иные авторитеты, нежели
преподаватели английского, арабского или санскрита. Для последних язык
выступает в качестве факта.
Наш вопрос относится к языку как к вопросительному знаку
политической истории. Мы хотели бы предупредить тех читателей, интересы
которых связаны только с литературой или грамматикой, чтобы они не
читали дальше. Ибо они испытают разочарование, обнаружив, что новый
язык создается не мыслителями или поэтами, а огромной и тяжкой
политической нуждой и религиозными переворотами. Поэтому наши
намерения являются дофилософскими и долингвистическими. По этой
причине наша новая постановка вопроса исключает целый ряд ответов,
которые вызвали радость или интерес у нынешнего поколения. Эти
ответы были основаны на изучении детской психологии. Наблюдению
подвергались дети, пытавшиеся начать говорить, а происхождение языка
описывалось в выражениях, связанных с этими наблюдениями.
Объектом подобных наблюдений были и слабоумные. Наш способ постановки
вопроса исключает эти попытки психологов. Ни один ребенок не создает
общности в подлинном смысле этого слова. Он обучается языкам, кото-
4 Зак. 3524
97
рые уже существуют и используются. Но это — полная
противоположность вопросу о том, что происходит, когда язык не функционирует. В
этом пункте исследования я не исключаю, что гений детей может
обновить ту общность, которой недостает живого языка. Enfant terrible (6)
является столь же реален, как и какой-нибудь гений. А поступки детей
иногда бывают так же благотворны, как деяния взрослых. Но моя точка
зрения заключается в следующем: всякий раз, когда дети обновляют
группу, которая испытывает нехватку языка, они ведут себя как какой-
нибудь творец или создатель языка вообще.
В этом отношении не может быть проведено никакого различия
между молодым и старым. Так что даже в случае исцеляющей благодати
слова, исходящего от ребенка, происхождение этого слова не может быть
объяснено с помощью детской психологии. Это — всеобщая и
общечеловеческая возможность, которая осуществляется здесь в ребенке. Дети
сами по себе не изобретают язык, однако они могут вести себя как
полноправные члены человеческой группы, которые при случае снова
упорядочивают всю эту группу. Значение этой истины в том и состоит, что мы видим,
как на устах детей и младенцев заново рождается язык. Тогда они ведут
себя как настоящие люди. И так должны были бы поступать мы все.
Итак, где же в нашей жизни мы находимся под угрозой и испытываем
огорчения из-за отсутствия языка? Это не просто основная ситуация, в
которой люди не ведут беседу. Негативный аспект нехватки языка
недостаточно характеризуется такими утверждениями, как, например:
«Представители молодого поколения белых и чернокожих в южных
американских штатах больше не разговаривают друг с другом». Или: «У тебя не
может быть никаких дел с Гитлером». Или: «Мои родители так
старомодны, что они вообще больше ничего не понимают». Или: «Солдаты на
фронте не понимают бастующих рабочих на их родине».
Если мы проанализируем утверждения, подобные этим, то
негативное выражение «отсутствие языка» расщепится на множество «нет»,
имеющих различные значения. Каждое из этих значений оказывается
весьма поучительным. Каждое из них может добавить элемент истины к
нашим усилиям обнаружить посредством индукции, что же такое язык и
как он возникает.
2. Четыре болезни языка
Различные «нет», относящиеся к языку, указывают на различные
функции языка, посредством которых он обычно сплачивает человеческую
группу. Анализ различных видов нехватки языка не так субъективен или
произволен, как мог бы предположить читатель. Его подозрения были
оправданы до тех пор, пока такие лингвистические процессы, как
происхождение языка, были заключены в тесную клетку лингвистики. Но мы
изучаем нехватку языка в качестве политического феномена наших дней. И
как только мы поступим таким образом, мы, к своему удивлению,
обнаружим, что люди уже давно дали имена тем видам жизни, которые
сопряжены с нехваткой языка. На первом месте здесь стоит война. Люди,
находящиеся в состоянии войны друг с другом, называют добром и злом
98
не одно и то же. Победа одного есть поражение другого. Планы каждой
из воюющих сторон должны храниться в тайне. Раньше в секрете
хранились даже имена родов и богов, чтобы враг не мог увеличить свою силу
с помощью бесстыдной расшифровки и произнесения этих освященных
имен. Подлинное и тайное имя города Рима хранилось как сокровенное
знание в храме богини Весты. Кажется, оно звучало как «Флора».
Таким образом, война замыкает язык в границах каждой из
противоборствующих сил. Война проводит географическую границу между
двумя видами речи. Таким образом, с исторической точки зрения война
может разрушить языковое единство. Гражданская война часто создает
предпосылки для существования речевого дуализма. Южноафриканские
англичане говорят на более чистом английском языке, чем канадцы на
американской границе. Люди в Чикаго говорят на более чистом
американском варианте английского языка и менее чистом английском, чем
канадцы. Восточные и западные немцы после 1945 г. в языковом
отношении отошли друг от друга на удивление далеко.
Но сейчас отвлечемся от гражданской войны и сосредоточим свое
внимание на войне вообще. Война заканчивается, если люди снова
начинают разговаривать друг с другом. Там, где этого не происходит,
война продолжается в скрытой форме. Мирный договор — это начало
беседы между территориальными соседями. Люди, живущие в областях,
которые не примыкают друг к другу, не стремятся ни воевать между собой,
ни поддерживать друг с другом мир. Вероятно, в древности это было
правилом в отношениях между племенами, живущими далеко друг от
друга, и между удаленными друг от друга территориями. В наши дни это
состояние равнодушия является исключением. Между тем, на этом фоне
войну можно понять лучше. Война — это не мир, но мир — нечто
большее, чем состояние сосуществования в двух областях без какого-либо
соприкосновения или каких-либо отношений. На примере войны мы
имеем возможность изучить то, что человеческие группы могут находиться
друг с другом не только в состоянии войны или мира, но и в состоянии,
предшествующем всем отношениям, состоянии, в котором они еще не
имеют ничего сказать друг другу. На этой стадии они просто не
существуют друг для друга. Поэтому нет необходимости в выражении каких-
либо общих ценностей. Но война вносит разделение. В ней тот факт, что
люди не разговаривают друг с другом, доведен до крайности и приводит
к всплеску насилия. Задача состоит в том, чтобы прийти к установлению
хоть каких-то отношений. Мир имеет своей целью создание такого
состояния для воюющих сторон, которое было бы основано на законе. При
этом либо одна из сторон терпит настолько сокрушительное поражение,
что ее язык исчезает, либо мирный договор или пакт устанавливает
новый закон, и тогда рождается новое языковое единство, охватывающее
собой обе воюющие стороны. Однако тот характер мирного договора,
благодаря которому создается новый язык, редко оценивается по
достоинству.
Между тем, для древних война была не просто отсутствием или
нарушением мира, как нам это ошибочно представляется. Ибо существовало
множество возможностей для того, чтобы люди смогли отделиться друг
от друга и рассеяться по всему земному шару. Война была шагом на-
99
встречу друг другу, и, таким образом, конфликт, хотя и представлял
собой некоторое осложнение, все же создавал контакт, ведущий к
установлению мира. Жизнь предпочитает страдание равнодушию. Война являлась
следствием отсутствия отношений и выступала в качестве конфликта,
создающего эти отношения. Как и всякое рождение, заключение мира
должно было пройти через муки рождения, которые и были названы
войной. Для нашего анализа важно принять во внимание это
равнодушие как фон, оттеняющий войну. Отношения между краснокожими и
белыми совершенно очевидно имели этот допотопный характер. Стадии
войны здесь явно предшествовало состояние, когда они не разговаривали
друг с другом. В наши дни войны с индейцами должны
рассматриваться как неизбежные муки рождения, которые объединили между собой
белых и краснокожих.
Война — это стадия, на которой становится невыносимым тот факт,
что соседи, живущие в одном и том оке пространстве, не разговаривают
друг с другом. Революция является разломом языка в том оке смысле. Но
она — отнюдь не разрыв между соседями в пространстве. Революция не
прислушивается более к старому языку закона и предшествующего
порядка. Она создает новый язык. Это верно в буквальном смысле.
Троцкий имел основание написать, что русская революция образовала
несколько новых, известных во всем мире слов, таких, как «совет»,
«колхоз», «комсомолец», а некоторые другие, например «кнут», уничтожила.
Чудесная книга о новом языке Французской революции была написана
в Америке. Французская революция создала, к примеру, прилагательное
«революционный». Менее чем за десять лет французский язык
изменился, и даже произношение стало другим. Язык королевского двора более
не был законом. «Roi', «moi» ранее произносились по типу
английского произношения слов «loyal» и «royal». После 1789 г. победу одержало
парижское произношение «гоа» и «тоа»(7).
Но сначала революция остается неарти купирован ной. Это отличает ее
от войны. В условиях войны обе воююийие партии имеют свой особый
языковый запас. Два уже существующих языка спорят друг с другом. Во
время революции революционный язык еще не определен. По этой
причине революционеров называют молодыми. Их язык должен вырасти в
процессе революции. Мы можем даже назвать революцию рождением
нового языка. И с точки зрения этого процесса рассматриваются все
великие революции Запада в моей книге о революции. Здесь мы хотим
сделать шаг вперед в создании определения революции в ее отличии от
войны. Во время революции старый язык заглушается новым призывом,
стремящимся стать артикулированным. Революционеры создают
ужасный шум, но девять десятых их воплей в конце концов затихают, и
окончательный язык, на котором спустя тридцать лет будут говорить
буржуазия или пролетариат, очищается от этих первоначальных выкриков. В
ходе революции возникают страдания из-за того факта, что революция
все еще остается неартикулированной. Существует конфликт между
более чем артикулированным, но отжившим, старым языком и не
артикулированной новой жизнью. Во время войны спор идет между
пространственными областями, между готовыми языками друга и врага. Во
время революции спорят между собой старое и новое, вчерашний и завт-
100
рашний языки, причем языковая группа завтрашнего дня является
нападающей, но также и не завершенной.
Существует еще два конфликта. Противниками революции являются
тирания или контрреволюция. Во время контрреволюции старые
нападают на молодых, и вчерашние люди убивают завтрашних, причем
вчерашние люди являются нападающей стороной. Эта техника весьма
знаменательна. В то время как молодая революционная группа кричит,
поскольку она еще не артикулировала себя, реакционно настроенная
контрреволюция так сильно артикулирована, что она лицемерит. Языковой
болезнью реакции является притворство. Закон и порядок у всех на устах,
даже тогда, когда обстоятельства этому полностью противоречат. Тресты
и монополии называют себя свободными предприятиями. Крестьяне,
находящиеся под защитой государства, говорят о свободных договорных
отношениях. Вырождающиеся семьи говорят о блеске расы, претендуют на
привилегии и т.д. и т.п. Поляки из Верхней Силезии неожиданно
начинают вести свое происхождение от силингов (8). Поскольку война и
революция у нас изучены более тщательно, чем две другие негативные ситуации
речи, следует осознать, что тирания стариков может быть такой же
реальной, как и жестокое насилие могущественного соседа в военные времена
или жестокое насилие молодых в революционные эпохи.
Тирания возраста ведет к вырождению. Дети так и не рождаются.
Будущее не является предметом пристального внимания, и маленькие
человеческие общности исчезают. Больше не возникает новых малых и
средних предприятий. Источники обновления жизни высыхают.
Маленький городок еще превозносится как приют всех добродетелей. Но
такое лицемерное восхваление не побуждает никого провести хотя бы
один год в каком-нибудь маленьком городке. В проповедях и печатных
работах идеализируется семья. Но в условиях такой выродившейся
цивилизации браки могут заключаться только в качестве временного союза,
и потомство воспринимается этими людьми только как обуза. Лишь
понятие «брак» провозглашается священным, и так же обстоят дела с
«патриотизмом», «свободой» и т.д. Лицемерные славословия сопровождали
гитлеровскую тиранию. Всякий раз, когда славословие заступает на место
призванности, старый порядок становится вырождением и оскверняет
будущее жизни. Равновесие между «вчера» и «завтра» основано на процессе
уравновешивания артикулированных имен и артикулированных сил. Я,
будучи сегодня еще неизвестным, должен хотеть завтра стать известным и
сделать себе имя. Если общество слепо следует определенным «клише»
и одеревенело настолько, что ни за что не хочет допустить наступления
нового дня, дня молодежи, оно является выродившимся. Если язык
оказывается неспособным возродиться в той мере, в какой это
представляется достаточным, то между старой, признанной жизнью и новой,
неизвестной жизнью не может возникнуть языкового общения.
Черты славословия, присущие тирании старшего поколения, или
склонность к безудержным призывам в условиях тирании революции
делают явным то обстоятельство, что социальные заболевания,
называющиеся «упадком» и «революцией», суть заболевания речи и языка.
Одновременно они проливают свет и на лингвистическую проблему войны.
Во время войны обе группы только кричат друг на друга через окопы и
101
волны пропаганды. Но в своих границах эти группы хорошо
артикулированы. Таким образом, путаница во время войны возникает из-за того,
что язык считается истинным только внутри ограниченной области:
«Тебе, мой друг, я скажу правду, но мы оба солжем нашему врагу».
«Я не верю тому, что говорит враг. Что бы он ни говорил, я иду на
него войной». Победа в войне означает, что мы не слушали нашего
врага! В языковом отношении мы могли бы определить войну как ситуацию,
в которой мы не хотим слушать врага, но очень чутки к ропоту и
шепоту внутри нашей собственной группы.
Война:
Революция:
Вырождение:
сверхвосприимчивость к
словам, сказанным в
собственном лагере
сверхвосприимчивость по
отношению к призывам
молодежи
славословие с
использованием доставшихся по
наследству фраз
невосприимчивость к
словам, приходящим
извне
невосприимчивость к
заповедям и законам
стариков
невосприимчивость к
еще не артикулированной
новой жизни
Теперь мы достигли того момента, когда мы можем более детально
определить четвертую болезнь общественного языка.
Как революция вызывает контрреволюцию, — например, белый
террор в эпоху Реставрации или при Гитлере, — так и у войны есть ее
противоположность. У человека может быть иммунитет к словам,
произносимым «внутри» его собственного сообщества. Если мы попробуем
подобрать самое точное выражение для обозначения такой ситуации, то мы
можем попытаться использовать слова «кризис» или «анархия». Если
безработный стучится в мою дверь, а я говорю: «У меня нет работы для Вас»,
то кажется, что это не затрагивает проблемы языка. И все же именно это
имеет место. Безработный, ищущий работу, страстно требует, чтобы ему
сказали, что же он должен делать. Я склонен подозревать, что наши
экономисты не видят настоятельности этого требования в качестве
потребности безработного в том, чтобы с ним заговорили! Мы требуем, чтобы
нам сказали, что мы должны делать в обществе. Общественный порядок
нарушается, если это сообщается лишь немногим.
Большинству сегодняшних людей очень трудно понять, что это —
болезнь языка. Они все привыкли думать, что язык является внешним
выражением мыслей или идей. Поэтому, когда безработный коммерсант
пытается получить какой-нибудь заказ, а безработный рабочий
надеется на получение работы, связь между этими требованиями и языком
упускается из виду. Между тем, язык — это, в первую очередь, отдание
приказания. Если родители пренебрегают тем, чтобы отдавать приказания
своему ребенку, семья перестает быть семьей. Она превращается в
совокупность мало связанных друг с другом индивидов. Все приказания —
это суждения, из которых и составляется приказание. Абстрактное
использование слова «приказание» заставило нас забыть, что «закон» и «по-
102
рядок» образуют сумму всех императивов и предписаний, которые
упорядочивают длительные промежутки времени.
Незанятый человек — это человек, ищущий приказаний и не
могущий найти никого, кто отдал бы ему эти приказания. Почему же он
их ищет? Потому что выполнение приказаний дает некоторые права.
Если я занят вылепливанием фигуры из глины, то я не могу
претендовать на то, чтобы с ее помощью заработать деньги. Но если я получаю
приказание изготавливать глиняные фигуры, то я получаю право на
некоторые притязания. Следовать предписаниям означает приобретать
права. Миллионы безработных в 30-е годы надеялись, что кто-нибудь
скажет им, что они должны делать. Полностью противоположное
состояние принуждения существует во время войны. Во время войны мы не
должны слушать врага, а во время кризиса мы не находим никого, кто
говорил бы с нами, кто стремился бы дать нам распоряжения. Во
время войны нет готовности слушать врага, во время кризиса слишком
немногие люди готовы отдавать приказания, т.е. говорить, используя всю
изначальную силу речи, силу, указующую направление и наделенную
полномочиями.
Список основных болезней языка теперь полон. Повторяя этот
список, мы хотим проанализировать его для выяснения вопроса, почему он
должен быть полным. А затем мы обратимся к выводам, которые,
будучи получены в результате изучения этих болезней, имеют значение для
нормального и здорового состояния языка.
Война: человек не слушает того, что говорит враг.
Революция: человек выкрикивает что-то неартикулированное.
Вырождение: человек лицемерно повторяет старое.
Кризис, анархия: никто не отдает приказаний.
Язык включает в себя слушание и речь (9), артикулирование и
повторение. Здоровая языковая группа использует традиционные выражения
для обозначения новых фактов (повторение), а новые выражения — для
обозначения фактов, до сего момента остававшихся немыми, т.е. не
определенными (артикулирование); она устанавливает отношения с
новыми людьми (речь) и уважает каждого говорящего (слушание). Оба акта,
слушание и речь, постоянно расширяют пространственные границы
языка: в пространственном отношении мы можем говорить со всеми и слушать
всех. Оба акта, повторение и артикулирование, постоянно расширяют
временные границы языка: мы стремимся быть в состоянии
устанавливать связь со всеми прошлыми и всеми будущими поколениями.
Все четыре акта сопряжены с опасностью. Они достигают успеха
реже, чем терпят неудачу. Война, революция, декаданс и кризис суть
формы неудачи. Во время войны изоляции подвергаются люди,
считающие, что мы должны их слушать, во время кризиса не вписываются
в сообщество люди, считающие, что мы должны с ними говорить. Во
время революции приказания, которые раньше принимались к
исполнению, поднимаются на смех. В условиях вырождения те приказания,
от которых ждали, что они поведут за собой, остаются без ответа и
умирают.
103
Глухота по отношению к врагу,
немота по отношению к другу,
стремление заглушить криком старую артикуляцию,
нечувствительность по отношению к новой жизни —
все это вызывает войну, кризис, революцию, декаданс, если мы
анализируем это как болезни языка. В качестве глухоты, немоты, крика и
нечувствительности эти явления имеют имена, явно указывающие на
языковые процессы.
Представляется законным возражение, согласно которому война —
это не глухота, кризис — не косность и т.д. Пушечные залпы и торпеды,
разорение банков и безработица сами по себе суть то, чем они
являются. Они являются огромным злом, даже катастрофами величайшего
масштаба. Если я хочу обозначить эти катастрофы как болезни
функционирования языка, то разве это не выглядит так, как если бы я пытался
стрелять в линкор стрелами? Симптомы этих взрывов социального порядка
и наш диагноз, констатирующий недостаток живой циркуляции
слабого, тихого голоса, кажутся несопоставимыми.
Конечно, я не хочу отвлекать внимание от того содрогания, которое
сопутствует этим поворотам. И мне не приходит на ум требовать, чтобы
мы не испытывали потрясения от таких апокалиптических процессов,
как экономический кризис 1929 г., большевистская революция, мировые
войны или поражение Франции в 1940 г.
Но я вынужден настаивать на своем диагнозе. То, что диагноз верен,
может быть проверено в процессе лечения. Война заканчивается
подписанием мирного договора. Революция заканчивается с появлением
нового общественного порядка. Упадок Франции был преодолен ее
верующей, ценящей счастье семейной жизни молодежью, а кризис
завершается в результате восстановления доверия и денежного кредита, например,
благодаря введению рентной марки 1923 г., сразу же сделавшейся
платежеспособной!
Так что все эти процессы исцеления имеют лингвистическую или
грамматическую природу. Когда подписан мирный договор, люди снова
разговаривают друг с другом и снова слушают друг друга.
Омолодившиеся французы даже проявляют волю к совместному планированию!
Большевистская революция создала новый порядок, посредством которого
она признала в качестве первопричины общественной жизни то, что
прежде считалось простым результатом наложения случайностей:
производство. А кризис 1929 г. открыл путь новым видам денежного кредита,
и с помощью этих новых видов кредита доверие со стороны
общественности было восстановлено. Мир, кредит, социальный порядок, новый
план — все это содержит в себе отличительные признаки
грамматических элементов и сбывшихся надежд, и все это обязано своим
появлением более совершенному порядку речевого общения.
Мир побуждает нас слушать человека, прежде бывшего врагом.
Кредит — это наш словесный ответ человеку, который просит, чтобы ему
было доверено выполнение некоего поручения (10). Новый социальный
порядок означает ослабление революционной лихорадки и превращение
большевистских выкриков в высшей степени «артикулированные» голу-
104
бые банкноты для повседневного использования в отношениях между
революционером и нереволюционером. Выход на передний план
молодежи и Сопротивления воспрепятствовал возврату к оцепенению
пережившей саму себя Третьей республики. Если мы сопоставим болезнь и
состояние здоровья, то получится следующее:
1. Война — это глухота по отношению к мирному состоянию.
2. Революция — это призыв к новому порядку.
3. Кризис — это равнодушное отношение к отданию приказаний.
4. Декаданс — это господство фразы.
Таким образом, апокалиптические катастрофы сжимаются до
масштаба человеческой жизни. Они необычайно сильны лишь до тех пор,
пока существуют препятствия для свободной циркуляции языка.
Когда этот поток снова циркулирует, состояние нашего социального
окружения внезапно перестает вызывать содрогание. Там, где хорошо
функционируют мир, кредит, порядок, представительство, мы
чувствуем себя как дома, т.е. в системе соразмерных нам соотношений
величин: ведь в условиях полноты силы именования мир не кажется
ни слишком большим, ни слишком маленьким. Это чувство меры
сразу же исчезает, когда язык утрачивает живительные соки. Тогда мы
чувствуем себя подавленными, бессильными, испуганными; тогда
состояние общества представляется нам сродни землетрясению, пожару,
наводнению, и в ощущении собственной ничтожности мы видим себя
маленькими и затерянными в море бедствий. Если слово является нам
по-новому, то мы чувствуем себя хозяевами положения. Дыхание
становится ровным. Шторм утих. Поток, который, казалось бы, вот-вот
поглотит нас, предстает как безопасный пруд. При этом мера
событий, насколько об этом может судить третье лицо, совершенно не
изменяется. От двух до трех миллиардов человек населяют одну и ту же
планету. Но поскольку мы снова чувствуем в себе силы обратиться с
речью к каждому, излишек исчезает. Наш голос снова преодолевает
изначальные процессы в обществе. Тогда становится ясно, что
четыре «нет» речи являются великими переломами в жизни народов. И в
наши дни, после двух мировых войн, мы вынуждены шепотом
говорить о холодной войне, поскольку никакой новый мир, никакой
новый порядок, никакое новое представительство и никакое новое
доверие не заполняют собою нашу планету. Даже в 1964 г. Бонн отвечает
Востоку окриками или молчанием.
Таким образом, мы говорим о четырех потоках «да», которые должен
создать язык и затем поддерживать их жизнь. Но это означает, что
вечный источник нового языка возникает из грозящих нам четырех форм
смерти: декаданс — это тление и распад, не знающие свободы.
Революция — это забегание вперед без возрождения. Война — это убийство без
жалости. Анархия — это отвержение всего и вся без сострадания. Во всех
четырех катастрофах исчезает совместное время: люди, попадающие в
эти водовороты, перестают быть друг для друга современниками или
обитателями одного пространства. Следовательно, возникновение
всякого языка может быть понято как победа над этим злом. Потому мы и
хотим сделать это исходным пунктом. Если наш диагноз верен, то
структура языка подтвердит его политические цели. Прежде, чем проверить
105
это, необходимо поставить еще один вопрос, который также возникает
из нашего собственного опыта. Следует ли рассматривать каждое из
четырех состояний, обусловливающих появление нового языка,
независимо от других? Должны ли война, кризис, революция, упадок
рассматриваться в качестве различных болезней? Надлежит ли использовать четыре
различных языка: один — для заключения мира, другой — для
преодоления кризиса, третий — для ликвидации революции, а четвертый — для
того, чтобы остановить упадок? Похоже, что ответы на эти вопросы
будут отрицательными.
Когда я доверяю некоему человеку 50 000 долларов, когда ты
рассматриваешь его в качестве моего доверенного лица, когда твои сыновья
одобряют руководимое тобой дело и когда мы разрешаем нашим
сыновьям выбирать себе невесту из незнакомой нам среды, то и я, и мой
должник, и ты, и наши сыновья, и наша невестка, — все мы должны
говорить на одном языке. Несмотря на это, мой кредит устраняет
экономические трудности; твое доверие к моим действиям доказывает, что мы
находимся в мире друг с другом; наши сыновья поступают на основе
некоторого принципа, свидетельствующего об их уважении к родителям; а
мы оказываем разумное уважение требованиям новой, только
начинающейся жизни.
Война, кризис, революция, вырождение — это разные проявления
заболевания одного и того же, а именно, языка. Язык, на котором, кроме нас,
никто не говорит, ведет к войне. Язык, который не используется для
объединения необходимых линий жизни внутри его собственной области, ведет
к кризису. Язык, на котором не говорили вчера, свидетельствует о
революции. Язык, на котором не будут говорить завтра, ведет к упадку.
Язык, если он не хочет умереть, должен жить, двигаясь по четырем
путям выздоровления. Это справедливо для наших дней и справедливо для
всего времени существования человечества. Это — вневременная
истина. Но она является таковой лишь потому, что язык учреждает времена.
Язык направлен на то, чтобы заключать мир, оказывать доверие,
почитать стариков и делать свободным следующее поколение. Языковые
формы должны служить этим целям, поскольку без них любой человеческий
язык разрушается. Это воистину так с тех пор, как тысячи лет назад
началась человеческая история. Сила языка действовала всегда.
Если теперь обратиться к начальным моментам истории, когда люди
с помощью формального языка достигли мира, уважения, свободы и
доверия, то следует упомянуть о еще одной границе, отделяющей нас от
прошлого. Речь старше, чем письмо. Поэтому устная речь должна была
обеспечить то, что сегодня нам совместно обеспечивают и произносимое
слово, и письмо. Вся наша цивилизация с ее устным и письменным
языком должна быть рассмотрена вместе с ее мирными договорами и
парламентскими речами, с ее законами и параграфами, с ее моральными
проповедями, с ее медицинскими свидетельствами и церковными
свидетельствами о браке, с ее слухами о забастовках и трудовыми договорами.
И затем ее необходимо сравнить с изначальным, только устным языком
племени. В племени формальный язык был одновременно устным
словом и напечатанной книгой. Кроме того, он был пением и разговором,
поэзией и прозой одновременно. Он был формальным языком именно
106
по той причине, что формальное и неформальное, книга и шепот, пение
и разговор, проза и поэзия, закон и любовь в языковом отношении еще
не были отделены друг от друга. Формальный язык племени,
состоявшего из «нецивилизованных» людей, не мог создать выражений вроде «sugar
daddy» (11), «кто это такой?» или «бе-е» (блеяние), поскольку он призван
был служить целям церкви и государства на устной стадии
существования этих институтов. Аутентичное место языка — только там, где
создаются мир, порядок, доверие и свобода. Эти акты образуют основу
человечности человека. Шведская школа религиоведения говорит в связи с
этим о «месте в жизни». Но место — это уже особенность «положения»
или «точки». Если мы посмотрим на современность, то, пожалуй,
сможем понять, что такие катастрофы, как большевистская революция,
мировые войны, мировой экономический кризис и, скажем, крах Франции
в 1940 г., означают тот или иной вид отсутствия языка. Ущерб имел
различный вид, его причины имели различную специфику, и из-за своего
конкретного своеобразия он утратил свой бесцветный, всеобщий
характер. Отчетливо проступили те особые виды энергии, которые и
формируют общество.
Если мы теперь обратимся к рассмотрению языковых форм
прошлого, то используем аналогичные методы. Нехватка языка высветила те
положительные качества речи, благодаря которым преодолеваются все
четыре ущербных состояния. Поэтому формы племенного языка станут
прозрачными, если мы будет трактовать их как формы, создающие
отношения групповой жизни. То понимание, которым мы обязаны анализу
современных катастроф, объясняет логику языка, его аутентичную цель
и его логическое положение в качестве ответа на определенную
необходимость. Аналогичную роль в осуществляемом нами исследовании его
истории играют ритуал и церемонии племен. Таким образом, язык
может проявить свою суть лишь в своем отношении к другим институтам:
если он действует совместно с другими формами, то излишни попытки
приписывать ему те или иные дополнительные общественные функции.
Поскольку язык связан с другими формами, не на него одного возлагается
ответственность за достижение тех результатов, которых люди ждут
от своей групповой жизни.
В этом разделе язык открылся нам как ответ на определенную
необходимость. Теперь нам необходимо выявить его собственные конкретные
свойства и его собственную аутентичную форму.
3. «Церковь» и «государство» доисторического человека
В подходе, использованном нами для объяснения того процесса, в
котором язык стал формальным и артикулированным, есть нечто большее,
чем просто спекуляция: мы увидим, что факты человеческой
предыстории и антропологии согласуются друг с другом. Они доказывают, что
люди начинали говорить для создания некоего перехода от могилы их
собственного поколения к инициации следующего. Язык создал силовое
поле между теми, кто некогда жил, и теми, кто когда-нибудь умрет.
Обычно мы указываем на этот факт, признавая наличие некоторых отно-
107
шений между мертвыми и живыми. Мы объясняем церемонии
погребения, говоря, что мертвый рассматривается как все еще живой. Но это не
является истинным убеждением человечества. Вера человечества
изменила соотношение между смертью и рождением на противоположное:
мертвые становились объектом поклонения, поскольку они жили в
качестве предков, а живущие получали свободу потому, что они были
готовы умереть в качестве потомков.
Мир и порядок зависели от этого обращения в свою
противоположность так называемого естественного порядка отношений между
рождением и смертью. Для современного просвещенного и научного сознания
первичным является представление о том, что рождение предшествует
смерти. «Ребенок — отец мужчины», — вот что мы можем сказать об этой
чисто индивидуалистической точке зрения. Но при этом индивид,
рассматриваемый как некая неизменяемая целостность от рождения до
смерти, оставался бы безъязыким. Животные лишены языка именно по
той очень важной причине, что они ни для кого не являются образцами
или преемниками. Основной закон существования человечества
основывается на возвышении могилы до уровня материнского лона. Племена,
царства и церкви в этом отношении ничем не отличаются друг от друга.
Разумеется, они используют очень разные методы. И я без колебаний
скажу, что методы нашей эры — это «правильные» методы, а методы,
использовавшиеся племенами, устарели. Но если мы хотим объяснить
грамматическое строение языка, то это различие имеет для нас
второстепенное значение. Различие между устаревшим и «действительным»,
между эпохой до Христа и эпохой после Христа перед лицом общей
задачи не играет никакой роли. Совпадение племени и Церкви является
полным, если иметь в виду отношения между нами, теми, кто умрет, и
теми, кто жил до нас. В обоих случаях эти отношения рассматриваются
как противоположные зоологическим. У человека оспаривается наличие
зоологического права находить свое место между своим рождением и
своей смертью, — право, который любой просветитель считает
незыблемым. Человек призван осуществить себя между смертью и рождением!
Оба образования, и Церковь, и племя, противоречат методу науки,
упорядочивающей эту встречу так, словно рождение предшествует смерти. И
племя, и Церковь могли бы сказать и говорят: «Это богохульство, оно
отбрасывает человека на тот уровень, где один волк пожирает другого, и
с этого уровня благодаря используемому ими формальному языку
Церковь и племена подняли человека». Если человек считает промежуток от
собственного рождения до собственной смерти своей жизнью, то он
отрицает прогресс. Прогресс зависит от радикального качества смерти в
качестве лона времени. Цивилизованный человек оказывается
артикулирован, прозревает, избирает себе ориентиры и направление движения в
промежутке времени между могилой и колыбелью. Исходящее из
могилы давление создает напор, благодаря которому воды жизни получают
возможность достичь высот нового рождения. Животное рождается, но
оно не может проникнуть в область, предшествовавшую его рождению.
Плотная завеса отделяет его знание от его предков. Никто не
рассказывает животному о его происхождении. Но мы, представители церкви, а
с незапамятных времен — племена уничтожили зависимость огромного
108
числа людей от простого рождения. Мы открыли им глаза на их
происхождение, на их предшественников. Мы подвергли их рождение такому
преобразованию, что они смогли выступить в качестве преемников
хорошо известных и желанных предков. И мы преобразовали их смерть,
превратив ее из конца жизни в нечто, совершающееся прежде именно ради
меня, благодаря чему освещается путь потомков.
Потомок обязан предку тем, что на его путь падает свет. Как это
происходит? Благодаря тому, что потомок возносит над собою, как
светильник, имя предка. Ведь именно смерть предка предоставляет в
распоряжение потомка имена завоеванной предком жизни! Мы сообщили
человеку сведения о его происхождении, создав для него язык.
Происхождение человеческой речи — это речь о происхождении человека. «Благодаря
тому, что человек говорит на том или ином языке, он начал
становиться человеком и далее пребудет им». Предки и потомки делают человека
человеком. Если я научился говорить о своем происхождении, о тех
процессах, которые предшествовали моему рождению, то я тем самым
получил власть обсуждать те процессы, которые последуют за моей смертью,
и возвещать о них. И обе эти способности, то, что я кое-что знаю о
событиях, предшествовавших моему рождению, и то, что я могу отдать
распоряжения относительно времени после моей смерти, отличают меня от
животного. С появлением языка «естественное» отношение между
рождением и смертью преодолевается. Основная черта развития нашего
языка, т.е. всякого процесса говорения, всякого пения, всякого
законодательства, всякой проповеди, всякой сошедшей с печатного станка
литературы заключается в изменении соотношения, благодаря чему смерть
начинает предшествовать рождению.
Когда мы рассмотрим, посредством какого процесса смерть
превращается в нечто предшествующее, не составит труда охарактеризовать
различие между якобы «естественными» индивидами и историческим
человеком. Чисто физическое прекращение жизни имеет отношение к телу,
испустившему дух. Но погребение, надгробная речь, некролог
превращают прекращение жизни в язык и призыв к живым. Так в поле нашего
зрения попадает удивительный факт: нет человеческих существ, которые
не погребали бы своих мертвецов. Одним этим актом человек преодолевает
свою собственную изолированность, перестает быть индивидом,
проходит сквозь облако своего собственного слепого существования
благодаря тому, что он признает родителей, которые произвели его на свет и
жизнь которых он призван продолжить. Если мы говорим о могилах
вместо того, чтобы говорить об умерших (12), мы уже хорошо знаем то
самое изменение «естественного» порядка, к которому человек всегда
стремился с тех пор, как он начал использовать формальный язык.
Погребение не является подарком «природы», оно — всеобъемлющая
революция, выводящая за пределы природы. Оно создает знание друг
друга, братство людей сквозь времена, не известное в мире животных.
Солидарность человека нашла выражение в том, что он превратил
смерть в рождение, а это произошло тогда, когда он начал сооружать
могилы как лоно времени. На другом конце жизни находится
рождение. Рождение — это судьба любого животного. Само по себе рождение
не приобрело человеческого характера, у человека оно не имеет специ-
109
фического качества, отличающего его от того, что оно означает у
животных. Но рождение все же превратилось в свою противоположность
— точно так же, как и смерть. Нет такой человеческой группы, в
которой не было бы ритуала инициации. Последней стадией этого
универсального процесса является крещение. Параллели между погребением
и крещением очевидны. То, что кажется только моим делом,
становится событием в жизни поколений. Мы сказали, что могила превращается
в материнское лоно и что происхождение речи — это речь о
происхождении человека. Теперь мы можем добавить к этому следующее: цель
речи — это речь о цели. Проходящему инициацию говорится, куда он
будет идти, и он научается заранее соприкасаться со своей смертью. Он
научается так относиться к своей жизни, словно она уже простирается
за пределы его собственной смерти. Ему дается имя, которое
переживет его физическую жизнь. К нему обращен призыв служить мостом,
ведущим к тому времени, которое не может быть оценено с помощью
понятий его собственного физического существования. Во всех
ритуалах инициации могила как колыбель соответствует гробу. Христианское
крещение связано с этой универсальной традицией. Ребенок должен
умереть для этого мира еще до того, как он жил в нем. К нему
обращаются так, что самим фактом этого обращения его проталкивают сквозь
жизнь к состоянию, находящемуся по ту сторону могилы. Все наше
физическое существование ясно предстает в обратном порядке
благодаря порядку погребения и инициации. Погребение — это второе
рождение, устанавливающее то, что произошло прежде. Инициация — это
первая смерть, побуждающая человека думать о том, что он должен
приобрести последователей. Оба акта находятся за пределами
«природы» (13). Язык усмиряет хаос природы, уничтожает распрю между
отдельными индивидами, присущие им разрывы существования и
недостаток свободы. В природе каждое существо рождается для себя и
умирает для самого себя. Все подчиняется необходимости. Верх одерживает
судьба. Язык создает мир, порядок, взаимосвязь и свободу. Он
налагает на человека некоторые обязанности и обеспечивает участие в жизни,
расширяя область самой жизни. Человек освобождается от того
представления, что именно он является мерой жизни.
Использование слова «жизнь» в современных дискуссиях стало
корнем многих зол. Оно одинаково применяется как по отношению к
индивидуальной жизни, так и по отношению к жизни вечной, с которой
человек племени и член Церкви соприкасаются во время проведения и
посещения богослужения. Наши современные скептики, восторгаясь
витальностью и правом на жизнь, лишают достоинства такие
выражения, как «вечная жизнь», «жизнь сообщества» и «историческая жизнь».
Жизнь расы и жизнь индивидов в нашем мышлении смешиваются друг
с другом весьма запутанным образом. Наши энтузиасты простой
природы, обладая преданностью настоящих почитателей, одновременно с
обожествлением жизненной силы и энергий природы наивно ждут от
нас, что мы все поголовно не будем принимать всерьез нашу жизнь
между рождением и смертью. Ибо они все-таки ожидают, что мы будем
покупать их книги, что мы будем слушать все их проповеди о законах
природы, в соответствии с которыми жизнь человечества следует пред-
110
почесть жизни индивида. Они требуют от ученых, чтобы те в своих
экспериментах поставили на карту свою жизнь, от первооткрывателей —
чтобы они рисковали собственной жизнью в пустынях, а от
изобретателей — чтобы они противостояли народным предрассудкам. Эти
провозвестники ценности природы всякий раз требуют, чтобы мы
признали их точку зрения правильной и единственно соответствующей самой
природе. Таким образом, они обитают в хрупком здании, построенном
нашими древними предками, с помощью которых мы, люди,
выступили против природы и сопротивлялись ее хаосу, ее беспорядку и ее
гнету. Почитатели человеческой природы обитают вместе с нами на одном
общем кладбище, на котором мы впервые вообще научились
почитанию. Они живут за счет нашего капитала, состоящего в силе почитания,
— капитала, который мы скопили, когда формальный язык освободил
наши глаза от пелены, скрывавшей от нас наше происхождение и
предназначение. Но не все ли равно, как мы живем — между нашими
собственными рождением и смертью или между смертью и рождением?
Современное сознание настолько рассудительно, что воображает,
будто доисторический человек был слишком суеверным и слишком
боящимся смерти. Этому доисторическому человеку также рекомендуется
смотреть на все проще, не связывать все свое счастье с могилами
предков и не причинять столь многочисленных и жестоких страданий
молодым людям, проходящим инициацию. Если язык действительно
сделал людей способными приносить в жертву 300 пленников и 100
лошадей, сжигать вдов на штабеле дров, наносить татуировки на лицо и
туловище, мучить и подвергать унижениям молодежь, то у него, похоже,
на оправдание меньше шансов, чем на осуждение.
Действительно ли это силовое поле благодаря своей способности
говорить о происхождении, предшествовавшем моему рождению, и о моем
предназначении создает мир и порядок, свободу и прогресс? Есть ли
универсальное доказательство этой истины?
Ни одно человеческое существо не имеет права жениться на своей
матери. В каждом племени или в каждой группе, о которых нам что-либо
известно, имеются определенные ограничения, налагаемые на
заключение брака. Наша новейшая художественная литература впервые в
истории человечества пытается изменить смысл этого первого результата
исследования нашего происхождения — инцеста. Романисты и
психоаналитики ставят под вопрос запрет инцеста. Нас пытаются убедить, что не
следует пренебрегать глубоко запрятанными инстинктами дочерей,
обращенными к их отцу, и сыновей, обращенными к их матери, что их
«вытеснение» вредит «индивиду». На самом деле все человеческие
общества начинали с создания островков мира. Эти островки мира были
неуязвимыми для военных действий, ревности, разбоя и анархии. Мир
создавался на основе исключения полового соперничества. Уже наиболее
примитивная группа нашла средства обеспечения мира между полами.
Брак — это длящаяся связь между представителями обоих полов. В
рамках этой связи могут чередоваться периоды страсти и равнодушия, но
связь при этом не разрывается. Формы брака могут быть различными —
от полигамии до моногамии, от временного до постоянного союза. Но не
существует «племени дикарей», не знающего брака.
111
Брак означает отказ, отказ из уважения к нашей бренности, и он
означает разделение на поколения. Члены семьи испытывают некое
принуждение. Семья, островок мира, как таковая является ограниченной,
она создана чистой. Выражение «чистота», «castitas», связано не с
нравственностью некоего индивида, а с нравами внутри семьи, в которой
усмиряется и успокаивается пол. Семья в качестве группы была чистой,
если и поскольку не происходило инцеста. Поэтому чистота — это
более раннее выражение, созданное человеком для обозначения мира. Такой
островок возникает не случайно. Брак — это борьба против
естественных процессов, против инцеста. Племя завоевало себе мир,
свойственный прошедшим очищение группам, тем, что оно заплатило за этот мир
некоторую цену. Оно свело свободу половой жизни к определенным
случаям и допустило ее только в определенных группах. Нет племени
без групповых танцев, оргий, в которых участвуют оба пола, т.е. без
половой свободы, посредством которой только и может быть сохранена
чистота семьи.
Я никогда не замечал, чтобы в дискуссиях о браке упоминался бы тот
простой факт, что в доисторическом обществе все семьи, не хранившие
свою castitas, резко вырождались вследствие инцеста, допускаемого по
отношению к своим детям. Эта необходимость — источник и основание
всех семейных институтов. Никто не мог и думать о том, чтобы требовать
чистоты от группы или семьи, если большое единство, единство
племени, не следило за соблюдением половых ограничений, налагаемых на
членов каждой семьи. Племя создало основу для соблюдения чистоты
каждой семьи точно так же, как оно создало погребение и инициацию.
Этот мир разделил слепую жизнь полов на область чистоты и область
животного состояния. Оргии племен нельзя просто сбросить со счетов
как непристойные, порочные или безнравственные, а с другой стороны,
их нельзя понимать упрощенно. Они, как и всякая проституция, — это
цена, которую надлежит уплатить за ми^ внутри семьи; об этом,
по-видимому, знал св. Августин, и об этом он написал в своем труде «Аса-
demica». Всякий мир имеет определенную цену, плату за преодоление
природного хаоса. Мир внутри семьи основан на том, что на племенных
празднествах отдается дань свободе половых отношений. На самом деле
разделение жизненных периодов человека на праздники и будни
основано на этой первой необходимости уравновесить мир внутри семьи и
оргии за ее пределами. Календарь всех человеческих групп не случайно
проводит различие между праздничными и рабочими днями (тропой
войны, временем охоты). Люди признали друг друга в качестве братьев
и сестер лишь благодаря тому, что они особо выделили семьи как
островки мира, но иногда соединялись за их пределами. Эти неминуемые
встречи были их праздниками.
Таким образом, брак был организацией жизни в промежутке между
чистотой и оргией. Брак нельзя понять сам по себе. Он — полюс
изменяющейся организации племени. В семье молодые люди не вступают в
половые контакты произвольно. Во время праздника у них есть такая
возможность. Семья успокаивает, праздник возбуждает. Без этой общей
защиты, осуществляемой племенем, семья не может исполнить свое
предназначение. Разрушение наших современных семей происходит по
112
той простой причине, что эта полярность исчезла. Если от людей ждут,
что они останутся чистыми без масленицы и карнавала, то инцест
становится трудной проблемой. Тогда нарушается тот ритм, с помощью
которого мы заключили перемирие, разновидность мира между матерью и
сыном, отцом и дочерью, братом и сестрой, поскольку оргии
уравновесили собой этот мир.
Островки чистоты скрывали от мужчины и женщины их взаимную
половую привлекательность (14). И они достигали этого, помимо
прочего, с помощью присвоения обитателям этих островков имен. Великие
имена «семья», «отец», «мать», «сестра», «брат» имеют одно
отличительное свойство: в своем соотношении друг с другом они построены как
слова «другой» или «лучше». Французский языковед Кюни (Сипу) уделил
особое внимание этому симптому. Похоже, что аналогия с нашими
сравнительными словами, окончание «-ег» у каждой нашей сравнительной
степени указывает, что первоначально люди рассматривали себя не
только как пары, а еще интимнее, поскольку они даже называли себя в
соединении с другими. Лишь там, где есть отец, может, строго говоря, быть
и мать. У кобылы есть жеребенок, у женщины может быть потомство. Но
это обстоятельство в доисторический период еще не делало женщину
матерью в полном смысле слова. Материнство — это слишком почетный
титул для того, чтобы применять его к незамужним женщинам в эпохи,
предшествовавшие нашей. Взаимодействие отца и матери, сестры и
брата — это для нас постоянная проблема. Наиболее отчетливой она
становится тогда, когда число разводов резко возрастает, и дети снова
начинают видеть своих родителей в качестве индивидов, в качестве особей
мужского и женского пола. Устройство семьи скрывало от детей это отличие.
Родители рассматривались в качестве людей, исполняющих
определенные обязанности — обязанности хозяина и хозяйки дома. Их связь в
качестве сексуальных партнеров выступает как что-то второстепенное.
Дети не могут рассматривать своих родителей, в первую очередь, как
сексуальных партнеров. Если малыш Карл обращается к отцу как к
мужчине, который спит с его матерью, то подлинное значение семьи
уничтожается. Имена «отец» и «мать» имеют как раз тот смысл, который
позволяет в этом отношении изменить ситуацию. На самом деле мы имеем
жениха и невесту. Но перед всем остальным миром они должны
предстать в виде мужа и жены и в качестве отца и матери. Эти служебные
имена — «отец» и «мать» — скрывают внутреннее содержание и
устанавливают дистанцию.
Тот странный факт, что все люди во все времена скрывают законы
природы с помощью установлений и имен, теперь предстает в новом
свете. Мы отменяем законы природы. Когда лицо невесты закрыто
вуалью, всему остальному миру запрещено думать о ней, как о женщине,
которая будет спать с этим конкретным мужчиной. Она — часть
некоего целого, и потому естественные связи вытесняются новыми
отношениями между мужем и женой. Исходя из этого единства, жена
представляет мужа, а муж — жену, поскольку детям и соседям не должны
быть видны даже следы половых отношений. Мужчина ложится в
постель, изображая роженицу, когда рождается его ребенок. Этот
знаменитый обычай, «кувада», — всего лишь крайняя форма предпринятого
113
нами изменения закона природы. В отсутствие супруга всем
распоряжается жена. В римском праве она приравнивается к одному из детей
своего супруга, что есть лишь другой способ обозначения чистоты ее
положения. Она носит имя мужа, она разделяет его судьбу. Они —
едина плоть, как возвещает Церковь, вновь утверждающая нерушимость
мирного соглашения, преодолевающего индивидуальность или, лучше
сказать, ее «dividedness» (15).
То, что жизни и мужчины, и женщины не поддаются грубой
классификации на основе полового признака, и то, что они могут быть
признаны обществом супругами, является плодом языка. Это в высшей
степени неестественно. Это выявляет ту связь, которая не дана природой, а
создана верой. Опыт доисторического общества, раскрывающий
творческие способности человека, сосредоточивается вокруг могилы, колыбели
и брачного ложа. По сравнению с нашей теологией вера этого общества
в богов, может быть, была слабой и непрочной, но его вера в брак —
непоколебимой.
Между тем, верить в брак труднее, чем верить в Бога. Натиск
естественного влечения, заставляющий каждого мужчину до шестидесяти
лет стремиться к каждой женщине до сорока лет, — это действие,
требующее того же качества, в котором нуждается и вера в богов: оно
требует доверия. Доверие — это наша устойчивая способность оказывать
сопротивление мимолетным мыслям, стремлениям или настроениям.
Мышление, для которого все в области мужского является мужским, а
все в области женского — женским, временами очень близко каждому
нормальному мужчине и каждой женщине. Современный мир полон
такого мышления. Доверие создает брак в качестве противовеса такому
мышлению. Никакой брак не может существовать без такого доверия.
И в случае брака самое большое значение имеет не пустое слово
«доверие», а его повседневная сила и действенность. По этой причине мы и
сказали, что вера в брак дается труднее, чем вера в Бога, тем более что
слово «вера» в его обычном сочетании со многими другими словами
уже деградировало. Лишь когда мужчина и женщина могут стать
супругами, дочь и сын будут видеть в них своих отца и мать и по этой
причине смогут увидеть себя в качестве брата и сестры в зеркале чистоты
своих родителей. Группа, создавшая это, изменила естественный ход
событий. Конечно, половое влечение — это в определенном возрасте
сильнейшая человеческая страсть. Но язык, присваивая титулы
«супруг» и «супруга», подчинил себе природу. Он открывает тем, кто
верует, новый способ жизни, который различает пол, исходя из
некоторого единства.
Институт брака образует самую сердцевину раннего человеческого
общества. Но почему брак является результатом изменения отношения
человека к рождению и смерти, вызванного языком?
Римляне вступали в брак liberorum procreandorum causa (16).
Отпрыски назывались liberi (17), а по-гречески — eleutheros, т.е., буквально,
членами подрастающего поколения (18). Таким образом, свобода и брак
взаимосвязаны. Почему дети, рожденные в браке, являются свободными, а
вне брака — обычно нет? Это снова тот вопрос, который был затемнен
натурализмом Руссо и его пристрастием к найденышам. Единственным
114
основанием является то, что быть «свободным» означает загодя считаться
принадлежащим к грядущему поколению, быть ожидаемым и желанным
в качестве «подходящего» преемника. Родители действовали как предки,
не как слепые производители, а как верующие податели жизни. Пелена
была сброшена с глаз, и они знали, что делают, когда они зачинали этих
детей. Брак раскрывает слепую мимолетную страсть навстречу
близящемуся незримому будущему. Аборты и средства предохранения от
беременности неестественны потому, что любовь — это безграничная преданность,
или она — не любовь. Ограниченная преданность разрушает любовь.
Греческая мифология, равно как и мифы всех народов, не
уклоняются от указания на то, как был зачат тот или иной персонаж, законно или
незаконно. Никто в те дни не был столь наивен, чтобы думать, что
половая связь ограничена брачным ложем. Эта нелепая фантазия
характеризует исключительно наше время. Но люди чувствовали, что
соперничество между браком и снимающей сексуальные запреты оргией в
действительности является соперничеством между верой и естественным
влечением. Вера установила мир брака, естественное влечение
защищало проявления захватнического инстинкта в половых отношениях.
Конфликт между верой и рассудком вечен. Мы неправильно понимаем его
как конфликт между теологией и наукой, и в этом виде он теряет все свое
значение. Но незаконные дети Зевса и дети Геры, рожденные ею в
браке, имели огромное общественное значение — это может увидеть и
осознать любой. Титул свободных людей, принадлежащих грядущему
поколению, не мог быть присвоен тем, чье будущее не было открыто
благодаря свободному воздержанию старшего поколения и его подготовке к
приходу молодых. Будущее и свобода, свобода и «приход» — это два
аспекта одного и того же явления. Без предшествующей веры нет никакой
свободы. Вера моего отца — это моя свобода, она дает мне свободу (19).
Мое собственное будущее стало возможным благодаря любви
предшествующего поколения. Дети и появляются тогда, когда есть
самозабвенная любовь. Я не понимаю, как наше время хочет отменить это, не
отменяя самого себя.
Римская брачная формула «liberorum procreandum causa», «ради
рождения свободных», в моей молодости представлялась мне ужасно
прозаичной. Ведь теперь мы можем вступать в брак по любви, поскольку в
нашем распоряжении имеется множество общественных институтов — от
детских садов до страхования на случай болезни, — на которые и
возложены обязанности заботиться о наших отпрысках. Между тем, я не могу
не видеть того факта, что первоначально все эти институты, включая
даже и медицинскую помощь, были частью семьи. Поэтому всякое
заключение брака означало создание небольшой общины вместе с
присущим ей уважением свободы своих будущих членов, свободных и
законных детей. Родители жертвовали временем своей жизни и посвящали все
свое существование этому учреждающему акту. Неудивительно, что они
получали титул, знаменующий собой переход в новое состояние, —
титул мужа и жены; основой заключения брака было публичное право, а не
частный договор. А защита должна была иметь религиозную природу,
если родители не хотели, чтобы их дети подпали под власть
рождающего распри, тиранического деспотизма. Иными словами: брак был главной
115
опорой публичного права, а, с другой стороны, это публичное право
было укоренено в промежутке между смертью одного поколения и
рождением следующего поколения. Брачный обет останется непонятным,
если он не будет возвращен на свое место. Он произносится, поскольку
основатели нового видят себя находящимися между предками и
потомками, считают себя посредниками между дедами и внуками. Вне этого
исторического порядка обет не мог быть произнесен. И это так,
поскольку каждое его слово делало его звеном созидаемой по доброй воле
связи, соединяющей могилу и колыбель, частью акта уважения,
воздаваемого равно и древней традиции, и грядущей свободе.
4. Конфликт между политическим смыслом и здравым
человеческим рассудком
Любой политический порядок помещает человеческие существа во
времена и пространства, выходящие за пределы возможностей их органов
чувств. Эти времена дольше срока индивидуальной жизни, а
пространства — больше тех, которые могут быть доступны индивиду.
Любой политический политический порядок расширяет пределы как
времен, которыми ограничен человек, так и пространств, объемлющих
его, выводя их рамки его собственной жизни. Это расширение является
«неестественным», «сверхъестественным», «трансцендирующим». Оно не
происходит автоматически. Оно совершается благодаря тому, что
человек отдается выполнению этой непредвиденной задачи, которая не
может быть решена путем уговоров, и целиком посвящает себя ей. Нет
никакой гарантии, что это состояние будет длящимся. Любой
политический порядок может разрушиться в любой момент, если его устойчивость
не будет обновляться посредством недвусмысленной речи людей,
посвятивших этому свою жизнь.
Средство как для создания, так и для обновления политического
порядка — это формальный язык. Формальный язык призывает человека к
выполнению «сверхчеловеческих» функций в политическом объединении. Он
вызывает тот дух, от имени которого все члены объединения обещают
нести свою службу, точно так же, как и им было обещано, что и им, в
свою очередь, будут служить. Он возглашает и именует тот внешний мир,
который должен служить политической общности в качестве
повседневной основы. Поэтому эта общность и должна проводить обряд
инициации над «eleutheroi», «liberi», «грядущими», чтобы они с готовностью
присоединились к выполнению этого уязвимого и постоянно
находящегося под угрозой дела.
Благодаря языку человек возвышается над хаосом. Хаос не является
чем-то простым, напротив, он является сложным, составным. Анализ
хаоса поможет осознать многосторонность названной выше сложной
задачи. Хаос в состоянии уничтожить узы товарищества, и тогда из-за
недостатка доверия он приводит к беспорядку и анархии. Хаос способен из-
за недостатка энергии ослабить жизненную силу. Тогда возникают
деспотизм, вырождение правового порядка и стагнация. Из-за недостатка
уважения хаос может уничтожить последовательность и непрерывность,
116
и тогда он предстает как бунт и революция. И, наконец, хаос может
уничтожить новые границы политического объединения, созданные с
огромным трудом. Тогда он принимает облик войны. Но сами имена,
служащие для обозначения хаоса, являются продуктами формального
языка. Люди, которые заключили мир, теперь в состоянии познать войну в
качестве процесса, в котором находятся под угрозой созданные для
племени времена и пространства.
Пацифисты слишком наивны, когда называют войну убийством. С
того времени, как люди научились говорить, убийство и война
находятся почти на противоположных концах шкалы социальных процессов.
Убийца был и остается «доплеменным» существом. Он направляет свою
волю против воли другого. Война защищает тот порядок, в который воин
вложил часть своей воли, поскольку он верит в некое более высокое
состояние, превосходящее «естественное», а именно в мир, который в
своем существовании зависит от каждого. Не вступить в войну — значит
разрушить тот мир, который создала моя политическая общность.
Пацифист убивает этот мир.
Первая политическая общность, племя, была создана на основе мира
между семьями. Семьи — это подразделения племени. Ни одна семья не
может существовать вне племени. Противовесом мира внутри семьи
являются оргии и брачные классы племени. В логическом отношении
«идея» племени предшествует семье. Традиционные суждения,
рассыпанные на страницах наших книг, в соответствии с которыми семьи
развились до уровня племен, должны быть пересмотрены. Семьи не
развиваются до уровня племен, а выделяются из племен. С помощью
основанного на именах точного и возвышенного языка племени принадлежащие
к нему семьи могли достичь трех целей:
1. Речь идет о мире между половыми соперниками и осквернителями
чистоты. В жилище воцаряется освященный мир.
2. Речь идет о мире между возрастными группами, между
поколениями людей. Те, кто оскорбляет дух древнего предания и уважения,
изгоняются из-под покрова языка в лес, становясь «волками», «верволь-
фами», оборотнями. От них ведут свое происхождение многие новые
языки.
3. Речь идет о мире между сферой пяти органов чувств и
сверхчувственным политическим порядком времен и пространств, выходящим за
пределы отдельной человеческой жизни.
Эти три цели достигаются благодаря тому, что жилищу отводится
роль, возникающая не «от природы», а на основе четкого разделения
труда. Жилище приобретает такое значение, что его обитатели собираются
у очага, находясь одновременно в границах более широкой общности —
племени. Ритуал племени превращает каждую семью в один из центров
common sensé. Common sensé связан с областями чувств и
литературного языка так же, как постформальная речь связана с доформальной и
формальной, как местоимения связаны со звуками, издаваемыми
животными — с одной стороны, и именами литературного языка — с другой.
В наши дни common sensé не рассматривается в качестве историческо-
117
го продукта. Но common sensé — это конечный продукт конфликта
между животной природой человека и его именным облачением, состоящим
из социальных установлений. У очага каждой семьи возвышенный язык
духа племени сводится к сокращенным наименованиям. Так дело и
доходит до common sensé, т.е. до здравого человеческого рассудка.
Этот common sensé образуется в семье, в группе, где установлен мир,
в группе, которая отказывается от ревности, тирании, бунта и убийства.
Он настолько надежно обеспечивает существование группы под защитой
племени, что становится ненужным употребление тех возвышенных
слов, песнопений, заклинаний, обетов и прочих ритуальных формул,
которые произносятся на племенных празднествах. Common sensé
полагается на этот фон, и тогда, когда все племя должно выражать себя
эксплицитно (точно, формально), группа, основанная на common sensé,
может действовать имплицитно (небрежно, бесформенно).
Все, что мы, не испытывая сомнений, считаем само собой
разумеющимся, сначала возникло как нечто ясно определенное. Таким образом,
это связь между common sensé, местоимением и неформальным языком в
семье, с одной стороны, и super-sense или политическим смыслом,
именами и формальностями политической общности — с другой. Требование,
чтобы общность основывалась лишь на common sensé, которое
выдвигалось Руссо и Бенджамином Франклином, является бессмысленным.
«Эмиль» и «Бедный Ричард» позаимствовали весь свой common sensé из
политического super-sense, и чем больше у нас common sensé, тем в
большей степени мы, как представляется, уже развили свой политический
рассудок, и наоборот. Основой этой постоянной противоположности
является язык. Язык исходит не из common sensé, а приходит к нам от отцов —
обосновывающих смысл творцов новой организации. Здравый
человеческий рассудок использует и делает обыденным существующий язык, и
благодаря ему мы чувствуем себя как дома в условиях жесткого и
непоколебимого политического порядка. Мы расслабляемся. Однако под
воздействием могил позади нас и колыбели перед нами, врагов, стоящих с нами
лицом к лицу, и отсутствия единства в наших собственных рядах создается
новый язык. Это — ситуации, не встречающиеся в области common sensé,
ситуации, взывающие к эксплицитно осознанному, предельно
формальному и в высшей степени определенному порядку. Призыв к миру и
порядку — это крик отчаяния. Призывы к свободе и возвращению старого
доброго времени чрезвычайно страстны, а колыбельные песни и
сладости, которыми потчует common sensé, бесполезны для кричащих,
плачущих, взывающих и беснующихся людей. Они должны испытать что-то
вроде чуда, чтобы мертвые ожили, враги стали друзьями, чтобы раздор
превратился в новое согласие, а крики — в слова. Они должны видеть,
слышать и осязать до того, как они смогут верить. Формальный язык
совершает именно это чудо. Умерший кажется воскресшим, крики
становятся молитвами, враги проявляют готовность к переговорам, а внутренняя
распря превращается в гармоническое песнопение, состоящее из строфы
и антистрофы, из диалога и хорового единства.
Если бы язык не совершал для общества этого чуда, то он был бы не
нужен. В качестве средства, обеспечивающего взаимопонимание, он
используется только common sensé. Но десять тысяч языков в течение
118
тысячелетий столь же часто использовались в качестве средства экском-
муникации, отлучения от общности, как и средства коммуникации,
общения. Они точно так же изгоняли оборотня, демона, деспота и врага,
как и благословляли ребенка, взывали к духу, побуждали подчиняться
Господу, давали приют беглецу и умиротворяли врага. Каждое племя
подвергалось постоянным нападениям изнутри и извне. Его
формальный язык обеспечивал его существование в качестве единого
политического тела в ходе его земных странствий и сохранял племя,
несмотря на временные сокращения его численности и потери. Язык
чудесным образом укоренен в вечности и насмехается над сменой времен и
пространств. Язык — это политическая структура группы, выходящая за
пределы времени жизни и жизненного пространства каждого
индивида, за пределы common sensé и возможностей имеющихся у человека
органов чувств.
Наши картины, изображающие происхождение языка, были бы
написаны в слишком розовом свете, если бы мы не подчеркнули
несовершенство всякого племенного порядка. Ранее я указывал на греческую
мифологию в связи с ее явным пессимизмом. Испытывавшие
нравственный упадок не погребали своих мертвецов, но убивали своих
стариков, как это имеет место еще и поныне. Другие крали и насиловали
женщин. Многие не приходили на собрания племени. Как и в наши
дни, общественный порядок был несовершенным. Свирепые воины и
титаны действительно существовали. Эти люди буйствовали и не
говорили, они порывали с племенем. Эти факты предостерегают нас от
того, чтобы слишком высоко ставить действие и результаты языка. Если
бы язык не давал то и дело сбоев, мы были бы склонны думать, что он
никогда не терпит неудач. И, конечно же, если бы язык был
естественным процессом, он всегда достигал бы цели! Большинство
антропологов убеждены в естественном характере языка. Они никогда не задают
вопроса о том, при каких условиях он функционирует. Во всех своих
исследованиях они наивно предполагают, что человек уже с самого
начала способен говорить и лишь затем входит в политическое и
«организованное» общество. Но верно как раз обратное. Человек должен
говорить, если он хочет иметь общность, но очень часто он не умеет
говорить, он не справляется с этой задачей, и общность разрушается.
«Сверхъестественные» процессы не происходят, дают сбой так же
часто, как и совершаются. Можно попытаться задержать наше дыхание на
одну минуту и спросить самих себя: можем ли мы еще раз
преобразовать наш хаос в порядок? Успех нельзя гарантировать, поскольку нет
такого языка или такой говорящей группы, которым всегда бы
выпадало счастье доверять людям и призывать к свободе. Некоторые
преуспели в этом, некоторые — нет. Всякий язык должен признавать и
учитывать риск того, что он будет неправильно понят в области common
sensé. Этот риск поистине ужасен. Вся неправда, вся шаткость, все
критические состояния и вся ложь многих социальных отношений
возникают из-за неспособности common sensé полностью понять значение
великих форм языка. В моей работе «Назад, к риску языка» (20) я
подчеркнул эту неопределенность. Отец лжи, дьявол — это не что иное, как
общество common sensé, постоянно болтающее, в котором каждый го-
119
ворит одно, а делает другое, следует принципу: «Придерживайся для
себя одного мнения, а на людях высказывай другое» и т.д. Сегодня
никто не верит в существование дьявола, поскольку никто не боится за
язык. В округе Колумбия (США) служащие в начале каждого месяца
должны заново присягать Конституции, и делается это не ради какой-
то возвышенной цели, а лишь для того, чтобы получить свое жалованье.
Таким образом, присяга превращается в фарс. Что же, в случае
присяги в Вашингтоне, округ Колумбия, когда она становится объектом
манипулирования, она может быть фарсом, а слова вырождаются и
становятся просто оборотами речи. Но политическое тело должно быть в
состоянии говорить авторитетно. А человек должен быть способен
приносить свою жизнь в жертву некоторой священной цели даже тогда,
когда старые формы пришли в негодность, когда люди не могут заключить
мир с помощью старых слов, когда новые формулировки, новые
формы не преисполняют нас новой верой и новым уважением. Конфликт
между формами и common sensé ведет к заболеваниям языка.
Заболевания языка превращают человека в лжеца. Лжец — это человек,
которому общество дает дурное имя. Он не верит в то, во что должен верить
в соответствии с общественными ожиданиями. Это может быть виной
общества или его собственной виной. Но эти разногласия вызывают
несчастье. Эти разногласия возникли с незапамятных времен. Мы
страдаем от того, что создали сами. Прометей — не единственный герой,
печень которого болит, поскольку его тело приковано к утесу времени.
С тех пор как человек говорит, он находится в разладе с самим собой.
Лишь половина его высказываний достигает цели и имеет значение.
Вторая половина является либо мертвыми словами, либо обманом.
Нарушенные обеты, использованные не по назначению кредиты,
необеспеченные банковские чеки, несоблюдаемые важные законы, чисто
формальная молитва относятся к этой второй половине.
Таким образом, подлинным чудесам языка, как и всем чудесам,
угрожает подделка. Рядом с каждой церковью имеются агностики, всякое
истинное суждение вызывает ложные. Редьярд Киплинг в своей речи в
университете св. Андрея утверждал, что первый человек, начавший
говорить, уже был лжецом. Это не так. Но второй человек, пожалуй, уже
был им.
Мы не поймем ни истории государства, ни истории Церкви, если не
будем изначально помнить о неизбежности такого рода ложных
интерпретаций. Связь между истиной и ложью господствует над нами: она
возникает вместе с сотворением нас в качестве существ, продолжающих
речь. Клемансо, испытывая презрение к людям, сказал: «Не лгут только
цветы». Его слова предостерегают нас о том, что человек с самого
начала и до конца должен бороться против отца лжи. Ибо любой стареющий
порядок вырождается в сыновей и дочерей этого отца лжи, как об этом
сказал евангелист Иоанн применительно ко всем нам (8:44). Вся
Европа выглядит такой устаревшей.
Серьезность первоначального языка, его формальность и
торжественность могут быть по-настоящему оценены только теми наблюдателями,
которые посмотрят в лицо трагическому аспекту лживости. Во лжи нет
никакого прогресса. Она таит в себе опасность для любой эпохи.
120
5. Жертва, дар, вознаграждение
Мы, современные люди, больше не испытываем страха перед дьяволом.
У древних этот страх был. И во всем, о чем они говорили, учитывалась
эта опасность. По этой причине рефлексии современных мыслителей
по поводу языка древних или диких народов оказываются не
соответствующими действительности. Д-р Зигмунд Фрейд, Линтон (21),
Малиновский (22), Ранк (23) или отец Вильгельм Шмидт (24)
рефлектируют, когда они пишут свои научные книги. Рефлексия означает
относительную защищенность, и пространство, принимаемое в расчет
рефлексией, — это промежуток времени, характеризующийся покоем и
безопасностью. Но формальный язык распространяется в условиях
огромной опасности, как говорится об этом по-английски, «between the devil
and the high sea» (25). Дословно, открытое море — это явный бушующий
хаос, а дьявол — это искушение в условиях новой необходимости
легкомысленно использовать выдохшиеся слова и заклинания. Ойген Кю-
неман (Kuehnemann) в Бреслау был наказан за то, что при прохождении
колонны СА сказал: «Как быстро прошел Третий рейх». И на самом
деле, эта игра в индейцев продолжалась всего двенадцать лет вместо
тысячи. Некий парижанин в 1964 г. описал это состояние ада с
помощью остроумной фразы: «Nos mots n'ont pas de lendemain» (26). По
отношению к определенному моменту эта фраза справедлива. Но
должны быть и «Les mots qui restent» (27), как называется одна канадская
книга по истории.
У американцев есть подход к этой связи начиная со слов Линкольна:
«Девяносто лет назад наши предки провозгласили: все люди рождены
свободными и равными. Девяносто лет это суждение повторялось, но его
не придерживались на нашем Юге». Поэтому в 1860 г. американцы
находились между отцом лжи и открытым морем замешательства.
Возвышенное имя «человечество», произнесенное в 1776 г. с должным
уважением, привело в 1860 г. к последствиям, возможность которых не
допускал Юг. Имя «человечество» и выражения «свободный» и «равный»,
прозвучавшие как обетование, требовали, чтобы в дальнейшем они были
оправданы делами веры. Если негры — это люди, то они также были
рождены свободными и равными.
Эта связь между знаменитой Декларацией 1776 г. и геттисбергской
речью Линкольна является той связью, которая проявляется во всякой
говорящей группе: имена — это обетования, которые должны быть
исполнены; Кристиан и Хильдегард, Фридрих, Альфред и Доротея, вера,
любовь и надежда суть императивы. Они требуют от своих носителей,
чтобы они вели себя в соответствии с теми обетованиями, которые эти
императивы заключают в себе. Так называемые «теофорные» имена,
включающие в себя в качестве составной части имя Бога, такие как Годфруа,
Рамсес, Тутмос, Диодор, названия дней недели в германских и
романских языках сегодня низведены до роли простых обозначений, но для их
носителей они — не констатации, а обетования и приказания, заряды,
присущие их носителям и духу, вызванному носителями имен и
общностью, взывающей к носителям имен силой этого духа (28). Все имена
первоначального языка действуют в трех направлениях: на круг людей,
121
которым что-то сообщается, на личность, которая призывается, и на
«animus» (29), к которому они обращаются. Современная рефлексия
классифицирует имена в качестве однотипных понятий, которые можно
обобщить.
Подлинный язык продвигается не от фактов к обобщениям. Такое
движение он предоставляет совершать академической рефлексии.
Аболиционисты и люди, подписавшие Декларацию независимости 1776 г.,
пребывали отнюдь не в области рефлексии или возвышенной критики. Они
говорили. А речь идет по трем направлениям. Я говорю. Я готов к тому,
что от меня будут ждать исполнения сказанного. Я утверждаю, что это
необходимо сказать.
Язык начинает каждый раз с такого слова, которое произносится с
верой в то, что оно истинно, что я, если подвергнусь нападкам,
поручусь за него и что я питаю надежду, будто остальные члены общности
верят мне и считают, что я поневоле говорю истину. Историческая
жизнь языка разворачивается в действии, в драматическом
столкновении, во-первых, моей веры в мой народ, во-вторых, моего доверия к
истине и, в-третьих, моего доверия к самому себе. Любое имя,
произнесенное в надлежащем месте, — это акт веры, сплоченности,
послушания, общественного действия. Оно целиком основано на этой
троичности, и то имя, которое более не создает такую тройственную связь
между общественностью, говорящим человеком и духом, является мертвым
и должно быть погребено.
Фактически именно это и делает наша академическая рефлексия,
касающаяся слов и имен: она предает земле и анализирует мертвые имена,
при произнесении которых больше не возникает искры между
говорящим человеком, слушающим человеком и истиной. Рефлексия — это
могильщик прошлых процессов развития языка. Она возникает после того,
как подлинное место языка оказывается оставленным. Поэтому она
определяет слово »Доротея» как «дар божий». Эта дефиниция дается за
пределами общности, в которой в ситуации крайней опасности и возникло
имя «Доротея». Мы можем предположить, что клан жил в условиях
тиранического матриархата. Имя «Доротея» было дано для того, чтобы
ограничить власть матери ребенка и открыть кровавой тирании истину о
ребенке: он — не ваш, а является свободным даром Бога. В
действительности имя имело характер табу: оно давало ребенку защиту против
злоупотреблений со стороны его родителей. Оно было защитой и чудом. Но
разве не было оно и обязанностью, возложенной на Доротею,
постоянным призывом к ее чувству ответственности? И, наконец, что за
прекрасное восхваление Бога это было, что за почитание Творца
человечества! Одно из этих «значений» имени «Доротея» вполне подошло бы для
его определения. Но ни одно из этих «значений» не имеет смысла без
учета взаимодействия всех трех из них. Таким образом, выражения
«значение» недостаточно для того, чтобы объяснить язык. Когда мы даем
дефиницию наших выражений, значение «значения» не раскрывается.
Семантики правы, применяя свои методы к мертвым словам прошлого.
Они — могильщики. Они совершенно беспомощны по отношению к
именам, которые пока еще связуют самих семантиков с их публикой в
духе сотрудничества и доверия. Краткое размышление, относящееся не
122
к прошлым словам, а к именам, с которыми имеют дело эти семантики,
могло бы прояснить этот центральный пункт всех недоразумений
относительно языка. Наши семантики называются семантиками, а
семантика — это наука. От нас ожидают веры в то, что это наука и что очень
хорошо было бы почитать книги о семантике, написанные семантиками,
до того как мы будем публично использовать наши понятия. Выражение
«наука» в этой связи рассматривается не как факт, который существует,
а как действие, за совершение которого от меня, читателя научной
книги, требуют уплатить тридцать марок; действие, от которого автор ставит
в зависимость свое доброе имя и на которое тратит свое время. Он
говорит со мной от имени науки семантики. Я подчиняюсь его языку
благодаря тому авторитету, который имеет для меня имя «наука». Мы хотели
бы надеяться, что сам семантик не нанесет урон своему авторитету,
обманывая нас, но что он стремится сделать все, что в его силах. Однако
как я могу об этом знать? Как я могу знать, что он «есть» ученый?
Конечно, у него есть предшественники, чьи методы указали путь к истине, и он
следует их примеру. Это — существенная помощь. В конце концов, он
полагается на то, что я сам следую за ним, читая его книгу и соглашаясь
с ним. Это — третья опора для защиты истины от заблуждения и
злоупотреблений. Эти три гарантии защищают общество от ложного языка:
Говорящий человек является последователем.
Говорящий человек говорит в некоем содружестве.
Говорящий человек подвергается проверке.
Семантики существуют лишь постольку, поскольку их мысли
двигаются по проторенному пути, который называется наукой. Содержание
действительной науки удостоверяется содружеством ученых, товарищей
по профессии, и проверяется каждым критиком и читателем в процессе
широкого, открытого и свободного публичного обсуждения.
Представьте себе вместо этого говорящего человека без контакта с
соответствующим состоянием науки, без риска, сопряженного с его
призывом, и без авторитета законодателя для его последователей: названия
его книг, которые он выставляет на продажу, как бы не имеют
предшественников, товарищей, не подвергаются возможной критике. «Майн
кампф» Гитлера показывает, что должно произойти, если ученые не
замечают действительно могущественного воздействия каждого
произнесенного слова в качестве теофорного имени, с помощью которого
говорящий человек и общественность объединяются и вызывают некоторый
общий дух. Поэтому нет иных живых имен, кроме теофорных, и все
имена вызывают дух союза между приверженцами одного и того же бога.
Ныне это отрицается, поскольку в наши дни аутентичное место языка
полностью отождествляется с местом рефлексии. Рефлексия, могильщик
износившихся слов, не является повивальной бабкой живой истины.
Древние очень хорошо знали, что человек с каждым произносимым
словом должен представать в качестве последователя, товарища и автора, и
что его имя осеняется благословением или проклятием.
Для того чтобы понять логику языка, мы должны распрощаться с
нашими собственными методами простой рефлексии. Логика языка осно-
123
вывается на некотором знании, которое современному научному
сознанию не представляется даже отдаленной возможностью. Древние
знали, что слова легко могут быть поняты неправильно, ложно
истолкованы или забыты, если они с самого начала не были поняты целиком.
Они давали каждому слову длительное время для того, чтобы оно было
усвоено. Они исходили из того, что говорящий человек и слушатель
литературного языка понимают сказанное медленно и постепенно. Что
касается свадебного обета, то нам потребуется целая жизнь, чтобы мы
поняли, в чем тогда состояла суть наших обещаний. Язык требует
времени, прежде чем он наполнится значением. Никто не ждет от имени,
клятвы или чуда, что они окажутся чем-то иным, нежели обещание
постепенного понимания. Имена — это не обобщения, как думают
наши философы. Наши предки считали обобщения чем-то
дьявольским. Воспитание в качестве развития способности производить
обобщения они бы подвергли наказанию как богохульство. Те имена,
которые давались юношам, проходившим инициацию, обещали медленное
углубление понимания. Они были покрыты тайной, но не потому, что
они не были истинными, а потому, что от них ждали грядущего
однажды превращения в истинные. До этого момента они по праву были
скрыты покровом еще не понятого.
Но как они осуществлялись, эти обетованные имена? Очевидно,
достоинство таких имен не могло основываться на каком-либо
фонетическом качестве, на подражании звуку воды или грома. Определенные
слова нашего языка подражают естественным звукам. Но не они образуют
ядро человеческого языка. В его ядре находятся долгосрочные имена,
покрывающие собой всю жизнь действительного человека. Дух языка и
язык духа — это освященная жизнь, находящая выражение в именах.
«Духом» обычно называется способность имени так объединять давно
прошедшие и отдаленнейшие области жизни, что они переживаются и
испытываются теми, кто произнес эти имена, как актуальные. Если мы
сравним цифры 10,15 или 3 с именами богов и людей, то цифры
помогут нам дать дефиницию имен путем противопоставления. Цифры могут
быть поняты без затраты времени. Поэтому мы изобрели особую запись
для 1,2,3,4 и т.д. Математика — это наука, факты которой не
используют времени действительной жизни для того, чтобы стать понятными. Но
имена находятся на противоположном полюсе. Все люди всех времен
должны были жить, прежде чем мы смогли познать Бога, и Бог — это не
цифра и не слово. У Бога есть имя. По сравнению с его именем все
другие имена являются короткоживущими. Поскольку ныне эти простые
факты отрицаются дьяволами, я хочу доказать это, говоря не о богах и
людях, а о жертвах, дарах и заработной плате. Это также возможно.
Экономическая структура зарабатывания на жизнь тоже подвергается
угрозе со стороны дьявола. Именно дьявол изобрел повременную оплату, на
которой основана современная экономическая теория. Она ничего не
знает ни о жертвах войны, ни о дарах.
Но истинное представление о жертве объединяет нас со
всемогуществом (30). Там, где приносят жертвы, безраздельно правит любовь,
и, таким образом, приносящие жертву верят в вечность.
Экономический порядок, основанный на принесении жертв, как, например, воен-
124
ная экономика, верит в вечность и божественность. Наоборот,
сегодняшняя светская мирная экономика верит лишь во мгновение. Ибо
она основана на оплате геллерами и пфеннигами. Но это имеет
место лишь в краткое мгновение преходящих отношений. Работодатель и
рабочий не хотят быть или оставаться должниками друг друга. Вот
почему этот современный рабочий мир был изобретателем повременной
оплаты. Если рабочий неожиданно оставался на фабрике дольше, чем
часы и недели, он тотчас же получал рождественский бонус, т. е.
подарок! Почему? Между жертвой, приносимой вечности, которой с
верой предается любовь, и жалованьем, которое должно быть
заработано, поскольку с ним надо возвращаться домой, находится «дарящая
экономика» (Лаум, Laum). Хотя в ней и не правит любовь, в ней не
правит и мгновение. Ибо маленькие подарки поддерживают дружбу,
они должны снискать нам расположение. Тот, кто добивается
внимания, сватается к девушке, стремится понравиться, хотел бы завести
друзей на все время своей жизни. Так что божественный
экономический порядок, имеющийся в творении, направлен на вечность; там
приносят жертвы, потому что любят. Имеется экономика труда, в
которой кризис следует за кризисом, поскольку от мгновенных связей
«материальных ценностей» ничего не остается. Между ними
находится третий тип экономики, создаваемый тем, кто только хочет быть
любимым, а сам не любит, т.е. обычным хозяином, остающимся им в
течение всей своей жизни. Из этих трех типов экономики в
античности преобладала жертвующая экономика, в наши дни терпит
банкротство третий тип, основанный на заработке. Но все три типа
предлагают себя всегда в качестве искушения и веры, будь то вера в вечного
Бога, или в собственную жизнь, или в ощущение мгновения. Имя
подразумевает вечность, слова подразумевают время, равное сроку
жизни, а числа подразумевают один день. Народное хозяйство,
основанное на повременной оплате, должно будет возмещать это
ужасными жертвами на войне. Если заглянуть в души господ Кирдорфа
(Kirdorf) (31) и Ягова (Jagow) (32) во время первой мировой войны, то
нас стошнит, поскольку они составляли годовой баланс немецкой
промышленности и на его основе подсчитывали миллионы кровавых
жертв, вместо того чтобы действовать наоборот. Альберт Баллин
(Ballin) (33) припомнил это названным господам (34).
Вечное, равное сроку жизни, повседневное — это три меры
времени, которые Бог стремится запечатлеть или выжечь на нас. Мы —
продолжатели его дела творения во все времена, а потому никакая жертва
не может быть чрезмерной. Мы — самодовольные сибариты,
наслаждающиеся своим существованием, и потому мы раздаем дары: ведь нам
нужны друзья. Мы — ломовые извозчики, поденщики, добывающие
свой заработок, и для этого мы работаем, не разгибая спины.
Приносящий жертву свободен, сибарит щедр, работающий по найму делает это
добровольно.
Древнее племя считало, что никакая жертва, приносимая во время
погребения, не является чрезмерной, что для расположения к себе
гостей никакой подарок не является слишком роскошным, а под гнетом
повседневной нужды никакая работа не является слишком тяжелой. Но
125
когда современная служащая службы социального обеспечения
стремится внушить беднякам, что они должны экономить на похоронах и на
праздниках, то здесь правит бал дьявол современной политической
экономии. Антропологи, психологи, историки религии, сформировавшиеся
в условиях этого духа современной школы, не в состоянии увидеть в
духах седой древности и вечности, праздниках и браке тот смысл, который
из них проистекает: задачей нашего времени, призывающего нас стать их
носителями и потому выжигающего на нас свое клеймо, является
нанесение на нас такой татуировки, благодаря которой мы в наше время
могли бы петь в сводном хоре всех времен. Девятнадцатый псалом
присваивает нам тот же чин, что и дню и ночи, а именно — делает нас строкой
в песне творения (35), и отсюда эту мысль позаимствовал Августин, но
и до девятнадцатого псалма об этом уже знал любой шаман и вождь
племени. Поэтому Книга Бытия (4:26) говорит о времени, когда еще не было
никаких египтян и тем более евреев: «Тогда начали призывать имя
Господа» (Бога).
Жертва, дар, вознаграждение запечатлевают в нас времена Бога.
Называть жертву, говорить о даре, платить заработок. Но и цифры в
течение длительного промежутка времени должны быть наполнены смыслом.
Америка была открыта в 1492 г., в 1507 г. получила имя и с тех пор год
за годом увеличивает свое значение. В этом медленном процессе всякий
перерыв может уничтожить предшествующие шаги. Современными
американцами христианство может быть превращено в обман и
заблуждение. Ибо если оно не достигает Японии или не возвращается в
Германию, было ли оно вообще когда-нибудь истинным?
Любой язык подвержен порче и злоупотреблениям, поскольку он
призывает постоянно следовать за ним. Посредством языка
вызываются инициаторы, товарищи, последователи. Он либо создает
сообщество, либо убивает его. То чудо, что мы вообще можем говорить,
временами кажется мне куда более значительным, чем мнимая природа
языка. И в самом деле, язык никогда не бйл в большей опасности, чем
в дни господства естествознания, когда методы рефлексии,
индикативы типа «идет дождь» и «2 плюс 2 равно 4» рассматривались в качестве
независимых форм языка. Индикативы языка — это уступка научной
или рефлектирующей ментальности. Конечно, мы можем сказать:
«Два плюс два равно четырем», мы можем сказать: «Миссисипи —
крупнейшая река Соединенных Штатов». Книгочей и архивариус в
моем мозгу удовлетворены. Они могут делать свои высказывания.
Они — те библиотекари и статистики, которые нагромождают друг на
друга имена, которые ранее произносились в оцепенении и надежде,
в отчаянии или же с доверием, с ненавистью и с любовью. Между тем,
индикатив не является индикатором творческого метода языка.
Гораций (II, 14) насмехается над теми, кто родился позже срока и появился
на свет тогда, когда каждая вещь уже стала фактом, поскольку она уже
прошла: «Eheu, Fugaces, Postume, Postume, labuntur anni» («Ах,
последыш, как летят годы»). И стихотворение продолжается, чтобы сказать
обо всем «должном», обо всем будущем, которое, по зрелом
размышлении, никогда не наступит. Все предложения построены в форме
пророчеств (erimus, absumet, sequetur) или стоят в герундии, форме
126
приказа «это будет» (enaviganda, visendus, linquenda). Рефлектирующий
метод упорно обращается к фактам, которые можно сравнить друг с
другом и определить по отношению друг к другу, и Гораций
высмеивает этот метод.
6. Одежда и язык
Я исходил из предположения, что люди в течение длительных периодов
времени говорили формально. Не является ли это чем-то совсем
невероятным? Для современного сознания это именно так. Древние
считали очевидным, что вся история — это краткая беседа между
творящими и подлежащими спасению участниками. Я был ошеломлен, когда
обнаружил, что Мартин Лютер в 1517 г. буквально отвечал на те
утверждения, которые в 1202 г. были высказаны папой (36). Иисус был
назван вторым Адамом, поскольку он, как Адам, должен был отвечать на
приказания Бога, но отвечал самозабвенно. Взаимодействие наций и
возникающая из этого философская диалектика интересовали Гегеля и
Маркса. Но вообще-то эта вера у нас не на хорошем счету. Если это
«Происхождение языка» в качестве ряда изменчивых ответов само по
себе призвано обладать некоторым правдоподобием, то мы должны
обосновать наш тезис с помощью другого доказательства. Это
доказательство можно привести. Наши праотцы находили пути и средства для
того, чтобы говорить в течение одного часа или одного дня и при этом
все же включать в этот процесс всю жизнь. Формальный язык
охватывал в прошлом и будущем промежутки времени продолжительностью от
одного года до тысячи лет, и все же те предложения, которые эти
взаимосвязанные моменты времени объединяли в качестве обетования и
исполнения, произносились и соотносились друг с другом в течение
значительно более коротких периодов времени. Наши праотцы
прибегли к помощи средства, которое в качестве языка широко
распространено среди всех людей: к помощи одежды.
Одежда выражает обусловленную временем социальную роль.
Одежду можно рассматривать как униформу, костюм, маску или роль. Она
обладает свойствами всего этого. Но не существует ни одной
человеческой группы без одежды (37). И эта одежда выражает новый уровень
жизни. Одеяния не только закрывают собой тело, но и замещают его собой
(38). Английский художник, посетивший Новую Зеландию, нарисовал
много портретов туземцев, и среди них был один портрет старого вождя,
лицо которого было покрыто спиралевидной татуировкой, что было
типично для его положения. Художник показал свою картину модели и
ожидал горячего одобрения. Старик посмотрел на портрет, а затем отверг
его со словами: «Это не то, что я собой представляю». Тогда художник
попросил вождя, чтобы тот сам нарисовал свой портрет. Когда вождь
вручил белому человеку рисунок со словами: «Вот что я собой
представляю», тот увидел не что иное, как татуировку вождя, которая указывала
на его положение в племени (39).
Нет никакого смысла смеяться над иллюзией вождя, поскольку это не
иллюзия, а основной закон его клана. Лишь он позволяет вождю быть
127
вождем и вести себя соответствующим образом. Никого не обманывают,
ни у кого нет никаких иллюзий. Вождь достиг того типа существования,
которого нет в физической природе, но который все же является
совершенно реальным.
Никто не может стать отцом семьи до того, как кто-то не назовет его
так и не присвоит ему знаки отличия женатого мужчины. В условиях
чрезвычайного события — женитьбы — брак должен утверждаться
посредством ритуала. Мир в доме зависит, как мы говорили, от праздников
племени, а основой всякого праздника племени в качестве постоянного
свидетельства служит одежда. Правила жизни базируются на
исключительных моментах, а ее времена учреждаются, исходя из времен
высшего торжества (Hoch-zeiten).
Там, где этого не замечают, возникают удивительные представления.
Один из наших крупнейших этнографов, Артур Кребер, пишет о
племени зуни, что он вынужден признать факты, указующие на
основополагающую роль их кланового устроения. Но, как он раздраженно
восклицает, он не может в это поверить. Ибо это означало бы, что клан с его
промискуитетом и его аморальными оргиями старше, чем семья. Кребер
вместе со своей школой не видит роли языка и одежды. Естественно, мы
не стоим перед альтернативой выбора между неупорядоченной жизнью
клана и упорядоченной жизнью семьи. Напротив, «не подчиняющаяся
правилам» праздничная жизнь дает законы повседневной жизни,
предоставляя имена и одежду. Клан порождает семью точно так же, как он
предоставляет мужчинам имя и одежду. Факты, свидетельствующие в
пользу первичного характера клана, и защита Кребером первоначальной
роли семьи полностью совместимы друг с другом. В одежде находят
выражение временные роли, которые отводятся нам посредством языка. И
столь же часто, как мы меняем один костюм на другой, мы меняем и
наши социальные и политические роли.
Одежда сделала нас способными к изменениям. Наш физический
организм в каждом поколении должен реорганизовываться в новых
социальных формах. Беспомощность наших тел побуждает нас создавать из
их пластического материала новые группы в том постоянном потоке,
который мы называем историей. История — это постоянное
возникновение и разрушение ограниченных во времени социальных порядков,
ограниченных по территории мирных договоров, определенных областей,
в которых артикулированные языки или литературы пользуются
доверием. Одежда дает людям свободу усовершенствовать свою телесную
природу посредством того, что они в данное время и в данном месте
организуются социально. Одежду надевают и снимают. Мы занимаем
различные места в зависимости от того, носим ли мы докторскую мантию,
сутану священника или униформу Красного Креста.
Эта «многоликость» людей с самого начала является подлинной
тайной. Человек чувствовал, что он должен надеть на себя орлиные перья,
львиную гриву или слоновый хобот и, тем самым, в течение некоторого
времени играть в обществе роль соответствующих существ.
Дарвинизм ложен не потому, что учит, будто человек произошел от
обезьяны. Зоологии недостает лишь того понимания, что именно
множественность наших ролей делает нас людьми. Homo — humus — это древ-
128
нее сравнение, на многое раскрывающее глаза, если только мы
признаем, что каждый из нас обязан быть чем-то наподобие податливой глины
для совокупности видов службы, характеров, ролей и званий.
Я готов признать, что кусок ткани согревает меня или защищает от
какого-нибудь нападения. Между тем, одежда — это не только кусок
материи. Нагие индейцы надевают набедренные повязки и наносят на свои
тела татуировки, поскольку целью одеяний является у них не
непосредственная полезность, а социальное костюмирование. Одежда
предоставляет точку опоры в жизни общности. Большинство дискуссий в этом
пункте прекращается, и поэтому связь между одеждой и языком
остается непроясненной. Но при более внимательном рассмотрении
комплексная цель использования одежды становится ясной. Этот комплексный
характер обусловлен тем обстоятельством, что человек, принадлежащий
к некоей группе и носящий орлиные перья, не только сам выделен
среди других, но и оказывает определенное воздействие на тех, кто на него
смотрит. Эти перья вызывают в людях определенное ожидание: «Вот
орел», и их ожидания на самом деле служат основой его власти
разыгрывать из себя орла! Должна быть подвергнута анализу трехсторонняя связь
между носящим одежду, зрителем и самой одеждой. Ибо просветители
1750 — 1950 гг. всякий раз вместо трех анализируют два отношения.
Присвоение социальной роли дает некоторую силу. Вождь обретает
свободу вести себя как вождь благодаря своему облачению точно так же,
как диаконисса обладает свободой вести себя как диаконисса. Человек
обретает свободу и силу благодаря своему облачению. Человек, чью
голову сопровождающая его свита украсила перьями, получает свободу рук.
Всякое одеяние, всякая мантия, предоставляемая личности, пролагает
путь свободному действию в той социальной области, которая
определена одеждой. Одежда делает нас способными осуществлять социальные
функции свободно и в качестве наделенных силой. Одежда в сфере
времени является тем, чем является в области пространства документ на
право владения. Она — законное обозначение долгого, исполненного
превратностей пути сквозь время.
Таким образом, одежда, которую мы в наши дни с легкостью меняем,
первоначально предназначалась для носки в течение всей жизни. Это
время обычно начиналось с инициации. Это было не физическое, а
политическое и духовное время жизни, но в ходе этих церемоний
облачения якобы доисторические люди проявляли намерение и способность
создавать органы общества и, таким образом, организовывать группы
так, чтобы они существовали в течение длительного времени. Одежда и
татуировка дикарей служат подтверждением нашего положения, что
люди в своих человеческих действиях проявляли заботу, в первую
очередь, о больших периодах жизни, которые связывали друг с другом
целые поколения. Одежда служила не нескольким минутам, проведенным
в ночном клубе, а различным общественным должностям, исполнение
которых продолжалось всю жизнь. Церемония коронации британского
короля — один из последних остатков первоначального облачения и
формального языка, которые еще сохранились у нас, людей Запада. Здесь
существенны оба момента — и первоначальное облачение, и строгая
языковая форма.
5 Зак. 3524
129
Теперь одежда может послужить нам ключом для понимания того,
как в языке формируется промежуток времени. Коронация — это
праздничное событие, праздничный акт. Оно конденсирует задачу всей
жизни в промежутке времени, длящемся несколько часов. Символы
коронации в течение короткого дня осеняют все области королевского опыта и
в условиях мира, и в условиях войны. Король увенчивается как
законодатель, добрый правитель, командующий армией, великий адмирал,
император Индии, защитник веры. Он «чествуется», а чествование
означает сосредоточение и сгущение в коротком мгновении событий
длительного периода времени. «Праздник» (Feiertag) и «пир» (Fest) происходят
от индогерманского корня, означающего «установление», «устав».
Посредством коронации грамматика жизненных связей может
присутствовать в настоящем времени. Весь язык первоначально был церемонией,
которая в пределах короткого промежутка времени сосредоточивала те
действия, которые выражали значение всего срока жизни.
Я прошу читателя выписать на одну страницу своего рода духовной
основной книги всю болтовню, все те напевы и рассказы, которые он
услышал в своей жизни, а на другую страницу внести свое собственное
имя, свою фамилию, список своего имущества и все, что имело значение
для него или по отношению к нему в течение того же промежутка
времени. Если это будет сделано добросовестно, то можно будет заново
открыть забытые предания человеческой расы, торжества, в ходе которых
распределялись имена. Твое имя, читатель, создало для тебя некоторый
фон, состоящий из бесчисленных людей, которых — еще до того, как ты
появился на свет — знали твои родители и та человеческая группа, к
которой они принадлежали. Твое имя тем или иным образом
классифицировало тебя в ушах тех, кто знает самих себя по имени. С другой
стороны, ты сам придал значение своему имени благодаря собственным
успехам. Ты покинул тот фон в том его виде, как он был описан твоим
фамильным именем, и вписал свое собственное имя в книгу жизни. Но при
движении в обеих направлениях имена уже были в наличии еще до того,
как ты о них узнал, и независимо от того, что ты сам о них думал.
Имена создают ассоциации, поскольку они оказывают воздействие и на
носителя имени, и на публику. Психология учит нас, что ассоциации
возникают без участия разума и не подчиняются законам логики. Она
порицает за «незрелость» всю школу, посвятившую себя изучению
ассоциаций. Но наша всеобъемлющая логика, являющаяся логикой как
действия, так и науки, не позволяет нам посмеиваться над ассоциациями
как «всего лишь» ассоциациями. Если я слышу, как о ком-то
упоминают как об Ойгене, или Розенштоке, или Хюсси, я испытываю интерес.
Это и является целью имен. Они должны ассоциировать носителей имен
с другими людьми!
Что ложно в этой цели? Я могу ассоциироваться с моим фоном, с
моей семьей, с моими товарищами по играм, или вместо этого я могу
ассоциировать себя с избранными ассоциациями моей более поздней
жизни. Но быть объектом ассоциации я должен всегда. Протест против
псевдоассоциаций не обесценивает значимых ассоциаций.
Пренебрежение чисто ассоциативным характером языка в течение последнего
столетия легко объяснимо. Вундт (40), Гримм (41), Бопп (42), Дюрк-
130
гейм (43) и Гумбольдт (44) никогда не отделяли полностью имена от
слов. Словари и грамматики культивировали заблуждение, что мы
говорим посредством слов. Поэтому словарь, это кладбище языка с его
определениями понятий, превратился в нормальный исходный пункт
как лингвистов, так и психологов. Политическая роль языка
рассматривалась как нечто вторичное, так, словно она привита к уже
существующему языку. Но язык возникает в человеческой группе благодаря
именам, посредством которых обращаются к ее членам, а имена — не
слова. С помощью слов мы говорим о вещах, с помощью имен мы говорим
с людьми, с помощью имен люди говорят с нами и о нас. Имена того
или иного народа — это строительные камни, побуждающие нас
признавать наличие у этого народа своего языка. Король, которого
коронуют, и президент, проходящий инаугурацию, дают времени свое имя. Их
правление находится под знаком одного имени, авторитету которого
подчиняется издание всех законов, выпуск всех почтовых марок,
чеканка всех монет и летоисчисление всех школьников. Величайшим
моментом каждой политической группы является торжество, во время
которого назначается «имядатель». Шиллер вложил эти великие истины в
уста хора «Мессинской невесты».
Задолго до того, как у людей появились законодатели, вроде Моисея
или Солона, у них были имядатели. Nomos и onoma (закон и имя) во
многих языках являются родственными выражениями, очевидно, по той
причине, что вожди с помощью своего имени задавали направление
времени.
Тот, кто дает имя времени своей человеческой группы, делает эту
группу способной сообща действовать в некотором разумном и
артикулированном направлении. Любой вождь племени является наследником
имядателя. Heros eponymos (45) греческого предания явным образом
назывался дающим имя основателем, по имени которого называл себя
город. Но обычно в наших изложениях истории Древнего мира нам
предлагается чисто сентиментальное или этимологическое толкование
значения «eponymos». Ежедневные действия, исходящие от имядателя,
упускаются из виду.
Задолго до того, как египтяне обнаружили, что на небе запечатлен
вечный календарь, люди знали о периодах времени. Эти периоды
времени были запечатлены на самих людях. Предводитель племени имел
облачение и татуировку, поскольку время исполнения им его обязанностей
служило его народу календарем. Бегущее время упорядочивает свою
меру, исходя из времени жизни вождя. Британское законодательство все
еще следует англосаксонской традиции, поскольку цитирует каждый из
статутов в той последовательности, которая соотносится с годами
правления государей.
Исследователи заблуждаются, стремясь обнаружить уже в
традициях клана элементы великого астрополитического календаря великих
царств. Первые кланы совершенно не интересовались и не
интересуются астрономией. Конечно, они часто использовали календарные знания
египтян или вавилонян. Однако эти знания только задним числом
добавлялись к собственному «устройству времени», соотнесенному с
вождями, и наделение последних способностью давать имя бегущему вре-
131
мени оставалось основой мира и порядка внутри племени. Вначале имя
и титул были одним и тем же.
Полномочия предоставлялись человеку, который следовал
Единственному, сделавшему себе такое имя, что его надгробный памятник
подчинял себе народ. Имя знаменует собою успех, если оно завоевано
своими силами. Имя означает свободу в исполнении должностных
обязанностей, если оно человеку присваивается. Все имена в одно и то же
время могут быть плодом и бременем. Имена возглашались и
присваивались во время исполнения скорбных песнопений при погребении и
гимнов при возведении на престол. Эти песнопения, вне всякого
сомнения, указывают на один и тот же процесс, рассматриваемый в двух
аспектах — прошлого и будущего. Эта способность связывать более чем
одно поколение отсутствует в природе. В 1702 г. Коттон Мэтер (Cotton
Mather) в своей «Magnolia Dei» сказал, что Америке грозит опасность
стать res unius aetatis, т.е. делом одного поколения, а в 1922 г. Г.К.
Честертон думал о США то же самое. США всегда трудно давалось умение
жить полихронно, т.е. во многих поколениях. Но эта потребность
продолжать жить несмотря на смерть является центральной проблемой
политики. Поэтому перелом, вызванный смертью вождя племени, был
точкой кристаллизации формального языка. Если его смерть удавалось
преодолеть, то «угроза стать res unius aetatis» была отведена. Ритуалы
погребения праздновали эту победу! До сегодняшнего дня в доисторических
обществах в случае смерти мужчины женщины бьются в отчаянии, они
сооружают могилу, объявляют имя умершего и переносят власть имени
этого мужчины на его преемника. Так что могилы и облачения
обусловливают друг друга. Любая одежда была униформой преемников тех
людей, имена которых после их смерти или после их ухода со своей
должности оставались признанными. Это были имена, присваивавшиеся
наследникам и связывавшие «прежде» и «потом». Имя Цезаря — всего
лишь великолепнейший пример этого, и из «Цезаря» возник целый ряд
«кесарей», «кайзеров» и «царей», существовавших до 1900 г. и позже,
7. Ритуал
Полярность одежды и языка — это полярность «прежде» и «потом».
Жизнь надлежит «вкладывать» в той мере, насколько она призвана
продолжаться в грядущем, а коль скоро она прошла, ее следует обновить.
Поскольку мы не можем выжить, если мы не будем постоянно
приспосабливаться к новым моделям, то одежда и передача сообщений
являются двумя необходимыми актами нашей земной жизни.
По-видимому, для этих актов всегда должны существовать формы выражения.
Единство таких форм выражения, состоящее из одежды и языка, мы
называем ритуалом. Их полярность мы называем также церемониалом и
историческими событиями. То, что совершил мужчина,
удостоверяется памятниками и воспоминаниями, хвалебными речами и
некрологами, причиной которых он служит. То, что вправе будет совершить тот
или иной человек, мы узнаем из церемоний и формальностей его
посвящения. Если бы мужчину окончательно определяли обстоятельства
132
рождения, он мог бы ходить нагим и не нуждался бы ни в каких
формальностях. Поскольку же он не определен до того момента, как на
протяжении его жизни раскроются временные роли его органов, мы
нуждаемся в формах для того, чтобы защитить его неопределенность в
самом начале его жизни. Формы обеспечивают свободу нашим
неопределенным пластическим силам до того, как мы доверимся сами себе. А
памятники придают убедительность нашему личному вкладу в
организацию жизни после того, как мы сделали себе имя на этой планете.
Человеческая жизнь ни нага, ни безымянна; она ритуальна. Она
обретает завершенность в своих церемониях и памятниках. Отнюдь не
мое природное тело включается в выполнение социальных функций. Я
включаюсь в выполнение социальных функций в образе одежды,
представляющей бренное тело.
Если мы исследуем лингвистическое значение обоих этих
элементов, то они окажутся диалектически противопоставленными друг
другу. Люди испытывают побуждение высказаться об умершем на
поминках, при сооружении ему надгробного памятника, по случаю появления
его биографии. Они называют его имя. Его личность обсуждается в
книгах, речах или на торжествах, она оказывается воплощена в
произнесенном слове. Тот, кто сделал себе имя, вынуждает других людей
говорить о нем. Личность человека через посредство называющих его
обращается к потомкам и к миру.
Нечто противоположное происходит при присвоении звания или
назначении на должность. Праздник, переносящий на личность
функцию, звание или власть, связан со словами, которые побуждают
кандидата на должность слушать. Для того чтобы заставить слушать,
используются любые психологические средства. Там, где облачение
появляется рано, как, например, во время крещения, крестных отца и мать
призывают к вниманию, и в колыбель кладется ценный подарок,
серебряная чаша или золотое кольцо. Торт был бы в высшей степени
неподходящим подарком по случаю крещения. Огромный риск крещения
заключается в попытке убедительно внушить ребенку что-то так, чтобы это
внушение действовало в течение следующих двадцати лет. Есть
некоторая смелость в том, чтобы верить в нашу способность заставить кого-
нибудь слушать в течение двадцати лет, но именно такая попытка
предпринимается при крещении. Происходящая церемония означает
стремление сформировать на весь период взросления ребенка его слух,
внимание и понимание.
Погребение и крещение выдвигают весьма серьезные притязания.
Поэтому они тесно связаны с происхождением языка. Они имеют дело
со значительными «прежде» и «потом». Во время крещения
принимаются в расчет двадцать лет детства. Целая жизнь говорит с миром с
надгробного памятника или из некролога. Эти два события дают нам
возможность узнать первоначальную меру, соответствующую речи. Одежда
означает представление кредита на все время жизни. Именно на этот
промежуток времени ориентирован первоначальный процесс речи. Ритуал
создает подлинную основу устойчивости языка. Человеческий
артикулированный язык возникает там, где люди проходят инициацию или где
умерших предают земле, ибо эти пожизненные установления и предпи-
133
сания ставят подлинные задачи перед теми людьми, которые пытаются
положить конец войне, чрезвычайному положению, упадку или
революции. Смысл ритуала становится ясным в тех случаях, когда им
злоупотребляют. Ритуал не может быть принят всерьез и не может быть
завершенным в формальном отношении, когда он соотнесен со слишком
коротким сроком. Нельзя организовать торжество по случаю назначения на
должность для того, чтобы затем проработать неделю на фабрике.
Свадебный пир в связи с намерением мужчины и женщины провести
вместе одну ночь был бы богохульством. Некий миллионер устроил бал и
нанял священника-отступника для того, чтобы на одну ночь обвенчать
пары, собиравшиеся отправиться в постель. Эта дерзость предоставляет
немаловажное доказательство нашего понимания подлинного ритуала и
смысла слова «богохульство». Поскольку «эпоха модерна» ни во что не
ставила ритуал, — тот модерн, который ныне уже представляется
полностью устаревшим, — то она отрицала саму возможность богохульства. И
поскольку эпохе модерна незачем было думать о своих дочерях, так как
она либо оказывалась не способной к зачатию, либо вытравливала плод,
ей не нужно было готовить себя к тому, что ее собственная дочь будет
таким же образом обесчещена священником-отступником.
Но настоящая дочь человеческая вырастает лишь там, где глаголы
мужчин создадут для пути во времени такую временную дугу, которая
будет вести от дочерей Евы к королевам. Это произойдет там, где
ритуал подарит нам полное самоотречение, самоотверженность. «Модерн»
зависит от своего самосознания, но самоотверженно любящая девушка
обретает мир, в условиях которого ее самосознание играет роль
маленького карманного зеркальца, и она может в лучшем случае увидеть в нем,
хорошо ли на ней сидит платье, но нам это зеркальце не может о «ней»
ничего сказать.
В нашей исторической действительности ритуалы повсюду
лишаются большей части своего содержания, поскольку они все чаще
применяются к коротким периодам жизни. Этсхг процесс всякий раз ведет к
обесцениванию. Благодаря этому процессу позднейшие египетские
мистерии Гора и Сета превращаются в фарс. Благодаря этому процессу
боги Гомера начинают вызывать ироническое отношение. Несмотря на
это, полнокровный ритуал истолковывается на основе таких
превратившихся в фарс пережитков. Это недопустимо, поскольку в выполнении
древнейших ритуалов речь шла о жизни и смерти человеческой группы.
Выродившиеся формы ритуала можно сравнить с песнями и сказками,
которые, хотя и не искажают первоначальную истину, все же
ослабляют ее. До того, как ритуалами овладел юмор, они были подобны
топорам и мечам, поскольку они расчищали длинные дороги времени,
ведущие в будущее и в прошлое. Они корчуют пни и кустарники, и без
них мы были бы недочеловеками. Мы низвергаемся с высоты своего
положения, если оказываемся неспособны посредством посвящения и
исповеди присоединить наше настоящее к совокупному телу
человеческого рода. Церемонии и воспоминания, взывающие к именам,
помогают такому соединению. Нельзя принимать всерьез тот ритуал, который
не стремится пережить несколько поколений. Создание обществ и
объединений остается по эту сторону истории. Поскольку в женевской те-
134
лефонной книге «Société des Nations» («Лига Наций») соседствует со
всеми кегельными клубами и хоровыми обществами, ей вряд ли
можно предсказать долгую жизнь.
Для того чтобы проторить путь длиной тридцать или сорок лет,
потребовалась особая сила. На это нужна сила большая, чем та, которую
психологи предполагают у языка. Ибо если бы язык служил для передачи
мыслей одного человека другому, ему требовалась бы не слишком
большая сила. Если юноша охотно ложится в постель с девушкой, то это
легко поддается пониманию. Если, однако, он хочет дать девушке понять,
что благодаря этому событию он будет любить ее вечно, то это требует
церемоний, присвоения имени и публичности; короче, это требует
совершения неслыханного фокуса. При этом обнаруживается, что мы
должны ворожить точно так же, как и древние колдуны, и что слово «фокус»
приобрело дурную славу незаслуженно. Ибо на следующее утро
девушка должна проснуться уже с другим именем. И если это не волшебство,
то я не знаю, что же тогда называется словом «колдовать».
Естественно, что чем больше мы переносим нашу жизнь в мыслимую
внутреннюю область субъектов, тем тише, почти беззвучно, шепчут наши
говорящие люди нового времени. Они стараются создать как можно
меньше шума, поскольку верят, что во время речи имеют дело с
собственными мыслями. Но кто я такой, что мое мнение, мои мысли или
идеи должны тревожить кого-то другого? Современный субъект верит
вместе с Кантом в то, что «время» — это мысленная схема, категория.
Вопреки этому, настоящая глава посвящена тому вызывающему
беспокойство факту, что время у людей имеется лишь благодаря языку. Мы
сами включаем себя в некую связную историю. Мы сами отделяем
прошлое от будущего. И мы делаем это не ради прошлого и не ради
будущего. Мы обременяем себя заботами о прошлом, чей след подобен хвосту
кометы, и об утренней заре грядущего лишь для того, чтобы быть в
состоянии соединить жалкие мгновения нашего существования в незапамятные
времена в могущественное настоящее. У нас есть лишь столько времени,
сколько вмещает период, в течение которого мы носим имя, под сенью
которого поколения людей готовы действовать сообща, несмотря на
разломы во времени. Поэтому мы имеем настоящее, лишь если мы можем в
едином духе протянуть руку другим людям из иных времен — из прошлого
и из будущего. Поскольку время возникает лишь благодаря языку, философия
языка не имеет никакой ценности. Ибо философствовать означает
абстрагироваться от времени. Таким образом, настоящее — это растянутое во
времени мгновение между именем, освещающим предшествующие годы,
и титулом, загодя высвечивающим будущие годы таких же свершений.
Цезарь, великий римлянин, еще долго освещает своим именем
прошедшее; титул «кайзер», производный от «цезаря», в течение 2000 лет служит
обетованием грядущего царства. Следовательно, в подлинном времени
имеется явная связь между прошедшими и будущими годами. Чем
больше мы наследуем, тем большего мы ожидаем и предчувствуем. Человек, у
которого нет прошлого, не имеет и будущего. У современного западного
мира нет будущего, поскольку он сделал свое прошлое равным миллионам
лет и, таким образом, превратил его в безразличную ложь. Поэтому он
знает лишь один путь в будущее — мировую войну.
135
Вождь, поднятый на щит своего предшественника, отныне говорит,
опираясь на авторитет этого имени. Но если я говорю от имени кого-то,
то я говорю его языком. Заслуживает внимания то обстоятельство, что
новый глава группы всегда стремится говорить на родном языке своих
приближенных. Язык, который в течение тысячелетий является родным,
и «глава», признаваемый господином из поколения в поколение, — это
выражения, благодаря которым короткий день этой жизни включается в
огромный промежуток времени. Ибо здесь подразумеваются отнюдь не
телесные органы «язык» и «голова». Постоянная обязанность присвоения
имен освещает короткое мгновение, и я полагаюсь на его дальнейшее
вневременное существование.
Поклонники Жан-Жака Руссо давно отделили толкования «глав» и
«языков» друг от друга. Родной язык превратился в сентиментальное
понятие для обозначения якобы невинного народа. А главы и вожди были
переданы для исследования специалистам — антропологам, психологам
и т.д. Но мир, создаваемый языками, и власть предводителей нельзя
отделять друг от друга. Родной язык — это опыт группы, приобретаемый в
процессе признания над собой власти имен, которые возникают изо дня
вдень благодаря их утверждению верховным главой. Если родной язык,
язык матери, и голова отца, т.е. Церковь и Государство, отделяются друг
от друга, они превращаются в великое зло. Наш национализм породил
почитание матери без отцовства. В подражание церкви он приписал некую
разновидность непорочного зачатия своему собственному языку.
Национализм совершенно неправильно понимает язык как естественную
принадлежность нации. Поэтому мы сегодня наблюдаем, как распадаются
целые языки. Высокомерие немецкого национализма привело к тому,
что рядом друг с другом развиваются и распространяются голландский,
фламандский, люксембургский, эльзасский и швейцарско-немецкий
языки. В 1945 г. в Вене вышел в свет журнал «Austria», на титульном
листе которого читателя уведомляли: «Этот журнал печатается на
австрийском языке». Поэтому у нас есть основания для того, чтобы задаваться
вопросом о происхождении языка. Лишь тогда можно с верой вытерпеть
сегодняшний беспорядок. Тогда, когда языки возникали на земле, как
грибы, — должно быть, существовало до 10 000 языков, — человечество
также было безумным. Первый результат нашего анализа выглядит
следующим образом: главы и языки должны говорить от имени преданных
земле героев. При этом главы торжественно переносят авторитет имяда-
теля на тех, кто согласен выступить в качестве тела этого имядателя.
Одежда, которую они носят, дает титул и обеспечивает положение в
общности. При этом все это может предоставляться на срок жизни или на
установленное время либо переходить по наследству. Так в чаще
времени вырубались определенные периоды. Например, для президента это
семь лет, для графа — время от колыбели до могилы, а для врача — от
государственного экзамена до тех пор, пока он в состоянии практиковать.
Во всех трех случаях получившее титул или должность лицо
приобретает свободу самому употреблять ту власть, которая уже была признаваема
прежде. Всякая свобода — это путь, проложенный из прошлого опыта в
будущее. Правовое основание свободы возникает из необходимости
определить преемников испытанного предшественника. Если мы сегодня
136
говорим: «Каждый — священник», то тем самым мы не утверждаем,
будто Иисус не является нашим первосвященником. Такое мнение могло бы
возникнуть из вульгарного понимания. Однако мы хотим сказать, что в
конце концов каждый получит такую же свободу, как и наш
первосвященник. Всеобщее священство всех верующих, всеобщее королевское
достоинство всех граждан, всеобщая творческая сила всех людей
происходят из функции, какую ранее исполняла личность, задающая меру. Все
это — дары вечного человеческого тела своим будущим членам.
В народном хозяйстве будущего может очень скоро возникнуть
лозунг: «Каждый — начальник». Это означало бы, что каждый на фабрике
в случае необходимости мог бы отдавать распоряжения точно так же, как
он их сейчас получает. Но мы еще так далеко стоим от суждения
«Каждый — начальник», что ни служащие, ни рабочие не могли бы притязать
на соответствие этому лозунгу.
Тот, кто поймет, что ныне, после долгих тысячелетий, каждый из нас
призван действовать и как священник, и как гений, и как король,
осознает также чудовищную продолжительность того пути, который
предстоит пройти, прежде чем экономика сможет принять для себя требование
«Каждый — начальник». Я стремлюсь к этому как к конечной цели, и я
поставил ее еще в 1921 г. Но я знаю также, что в межвременье мы
нуждаемся в капитанах индустрии — иначе добрая половина из нас
окажется в джунглях безработицы. Ибо сперва должны быть, по крайней мере,
несколько начальников, которые уже сегодня отдают распоряжения. Но
их слишком мало. Мы ищем их: «The captain of ту soûl» (46) — им я еще
могу быть в церкви; но сделаться капитаном моего хлеба насущного?
Напряжение, существующее между экономическим порядком на
больших предприятиях, всеобщим избирательным правом в государстве
и свободой вероисповедания в церкви, учит нас думать о языке и
одежде более корректно. Лишь они дают нам власть над нашим будущим.
Одежда и язык предоставляют свободу. Когда нас официально признают
наследниками, происходят торжества. Не факт рождения, а формальное
восприемничество из рук отца создает порядок наследования. Римляне
почтительно обозначали этот переход с помощью величественного
слова «творить». По-латыни о наследстве говорили, как о консульском
звании, подчеркивая, что оно было «сотворено». Это — то же самое
выражение, которое используется для обозначения сотворения мира из
ничего. Естествоиспытатели отрицают творение из ничего. Но сама
деятельность естествоиспытателя была сотворена точно так же. Ибо язык
возникает в пограничной зоне между смертью и рождением. Кто-то должен
был прожить «успешно», прежде чем он смог явным образом обрести
себе преемника. Мы говорили о Цезаре. Распятие Христа, исход из
Египта, изгнание из рая, сила пережить конец — вот что создает язык.
Таким образом, неудивительно, что первой и изначальной правовой
областью, которую надлежало упорядочить, было наследственное право,
право иметь преемника. А уголовное и гражданское право с самого
начала были разделены на основе различия между насильственной и
естественной смертью. Поэтому стенания перед судом в связи с
насильственной смертью, с одной стороны, и стенания в связи с естественной
смертью, формальное оплакивание — с другой, почти во всех языках обозна-
137
чаются похожими друг на друга словами. Почти во всех культурах до
Рождества Христова причитания над покойником разделяются на дикие,
страстные вопли слепого чувства и совокупность артикулированных
воспеваний героев и жалоб. И в наши дни у евреев имеются плакальщицы,
как у греков были вакханки, оплакивавшие смерть Диониса. Когда
нацисты своими заклинаниями вызвали первобытные времена, они послали
женщин ликовать на праздничные улицы. Одновременно Геббельс
произносил свои торжественные речи. Это разделение труда, похоже,
доказывает, что мы здесь сталкиваемся с разновидностью исторического
закона. Где бы ни должна была переживаться и преодолеваться бездна
смерти, всегда создавался новый ритуал, состоявший из двух половин.
Хаос, вызванный смертью, и восстановление порядка благодаря новому
языку следуют в одном ритуале друг за другом. Поэтому мы правильно
говорим, что ритуал проходит. Ибо негативная ситуация становится
составной частью ритуала точно так же, как и позитивное преодоление.
Ритуалы, причина которых становится непонятной, больше не трогают
наше сердце. Следовательно, благоговение перед силой именования,
которой обладает священник, т.е. человек, совершающий ритуал, зависит
от силы нашего опасения, что мы можем впасть в доязыковое состояние
и стать жертвой ужаса. В рамках христианского летоисчисления мы все
настолько способны к языку, что женщины могут победоносно говорить
наравне с мужчинами. В начале нашей истории, за пределами
христианского летоисчисления, это было не так. Но путь от крика к речи нужно
было пройти с самого начала, поскольку только так речь обретает
форму. Обретение нами дара речи должно всякий раз ежедневно
праздноваться заново. В этом совместном действии сначала одних только
мужчин, затем также женщин и детей проявляет себя дух. В этом и
заключается смысл выражения: «processus» духа, его «исхождение».
Сознание ясно видит только половину процесса, поскольку оно
оценивает мир с помощью зрения. Оно видит хаос, вызванный военными
потерями и смертью вождя. Мы выплываем из §оды, из ужаса, и это выплы-
вание кажется объективным процессом, словно водная стихия и тот, кто
из нее выплывает, — две отдельные вещи природы. Но у нас, людей, все
не так. Лишь потому, что хаос или поток отчаяния вносят в нас часть
потока или часть хаоса, из хаоса или потока и возникает артикуляция. Если
бы никто не причитал, не возникло бы никакой песни. В течение
тысячелетий на родственниках убитого лежала обязанность принести его труп к
судье и с помощью своих причитаний вызвать произнесение формального
обвинения устами ближайших сородичей. В этом дуализме становится
отчетливо видно, что необходим «concentus», созвучие нашей дочеловечес-
кой природы и нашей артикулирующей истории. Сперва кричать, потом
говорить. Вызовет ли у нас доверие убитый горем человек, который в
первую же минуту будет в состоянии произнести совершенную по форме
траурную речь? Вот причина того, что в траурную церемонию включается
плач, даже крики и вопли или, по крайней мере, пение псалмов, чтобы из
них вырвался наружу артикулированный язык. Во взаимодействии
сначала мужчины и женщины, затем мирянина и священника и, наконец,
пения и прозы примирялись между собой наши природы — телесная и
облеченная должностью в истории. Апостол Павел начал приравнивать жен-
138
щину к мужчине, когда он запретил ей неартикулированные причитания.
И этим он освободил ее от бремени дохристианского ритуала, в
соответствии с требованиями которого женщины должны были посыпать себе
голову пеплом, раздирать в кровь свою грудь и издавать долгие вопли.
Сегодня нам уже не нужно опасаться того, что в церкви мы услышим
истерически кричащих женщин. Абстрактная, чистая музыка взяла на себя
функцию криков. Наша забота ныне вызвана противоположным —
стремлением, чтобы во время богослужения хотя бы у некоторых на глазах
появились слезы. Ибо иначе исчезает именно связь между телом и душой,
переживанием и языком, между нами как инструментами и нами же как
музыкантами, играющими на этих инструментах.
Разве непонятен тот ритуал, в ходе которого дух постепенно
набирает силу и в ходе которого мы только и обвиняем себя в том, что убили
Сына Божьего? Ибо это — христианская жалоба на то, что мы убиваем
Бога, которая была поставлена церковью на место причитаний Крим-
хильды, вызванных смертью Зигфрида. Если бы отчаяние и крики
отчаяния окончательно исчезли, то нам не нужен был бы ритуал. Если бы
больше не рождались дети и живущее поколение никогда не нуждалось
бы в оплакивании, поскольку оно было бы бессмертным, то мы могли бы
отказаться от всех ритуалов. Ибо ритуал основан на том, что в каждом
случае смерти все наши исторические достижения поставлены на карту
и даже должны быть поставлены на карту. Ибо иначе в наследниках и
потомках сила скорби и отчаяния не будет действовать. А без этих слез
отчаяния, раскаяния, тоски и боли разлуки нет никакой истории.
Ничто в истории не является длящимся, если оно не было оплакано. Языки не
были чем-то врожденным. Человек учится говорить точно так же, как он
учится писать. Так же, как почерк учащегося, язык ребенка становится
его собственным только посредством переноса на него языка. Он
начинает восприниматься ребенком серьезно лишь тогда, когда речь
ежедневно со всей своей силой овладевает ребенком. Назовем ли мы теперь
ритуал религией, воспитанием, обычаем, письмом или речью, он всегда
должен так творить время в новорожденном, чтобы новорожденный
обретал силу различать между прошлым и будущим. Ритуал дает свободу и
преемников, положение и имя благодаря церемонии и одежде, и он
передает опыт благодаря причитаниям и песне. Язык делает нас, бабочек-
однодневок, как бы частями великого Человека, проходящего сквозь
времена. Это и означает выражение «Corpus Christi» (47), а также слово,
которое сегодня понимается более превратно, чем какое-либо другое, —
«религия». Религия связывает нас воедино в потоке времени.
Связующую силу, присущую религии племени, можно очень легко назвать
ужасными узами. Я не настолько слеп, чтобы не видеть этого ужаса, но
просветители забыли, что порче всегда подвергается именное самое лучшее.
А самое лучшее среди нас, людей, — это как раз связь во времени от
Адама до Страшного суда.
Верующие в эволюционное развитие не могут воздать должное этому
значению языка, формального языка, поскольку они вслед за греками,
схоластами и картезианцами считают язык чем-то самим собой
разумеющимся. В этом случае религия была бы излишней, ибо тогда мы уже по
своей природе владели бы даром речи. Но мы этого не можем. Мы по-
139
стоянно видим, как целые пласты жизни утрачивают свой язык. Мы
видим, как они снова развязывают гражданскую войну или возвращаются
в стадию тупости, как феллахи. Это заставляет нас считать, что язык в
высшей степени нуждается в защите. Тот, кому известна хрупкость
власти языка, силы именования, должен бояться за нее. Из этого страха в
каждом серьезном человеке заново возникает его религия. Ибо тогда он
знает, что вся душа каждого отдельного человека, которого он
встречает, мужская или женская, должна участвовать в процессе сопряжения.
Человеческий род распадается, если только один его член, будь то
мужчина или женщина, не участвует в его образовании. А он не участвует
тогда, когда не принимает всерьез смерть и вместе с другими не
переживает страх смерти. Лишь испытывая этот страх, он может снова
произнести благословение всему сотворенному и узнать свое предназначение.
Именно этот характер и обнаруживает ритуал. Он основан на
противоборстве двух природ, женской и мужской. И на этом основании он
создает порядок, стремящийся преодолеть смерть. Ритуал добивается
первой победы над отсутствием языка. Он притязает на создание
устойчивого порядка на все времена, побуждая нас признать, что все
поставлено на карту, что мы можем потерять все, достигнутое ранее, что, как
выражает это племя «шиллуки» в Африке, «больше нет земли» (48); так,
как во время Пасхи евреи признают, что они вышли из богатой земли
египетской; так, как римляне говорили, будто с 24 февраля до 1 марта
Марс и его воплощение, гех (49), отсутствуют и потому существует
только междуцарствие (50); что, как верят христиане, в страстную
пятницу мы снова и снова лишаемся надежды (51). В «Письмах в Каир»
такое повторное впадение в хаос будет рассмотрено применительно к
фараону как ритуал могущественного Нового года. С 1750 г. все это
подвергается осмеянию и потому с необходимостью должно было
привести к закату Европы (52).
8. Уподобление
Если мы примем во внимание связь между священными часами
ритуала и отдаленным будущим, то мы сможем понять другой, не понятый в
наши дни аспект языка.
Люди все еще думают, что в один прекрасный день некий человек
назвал голову «головой», а руку — «рукой», а затем, как считается, эти
слова попали в словарь и, если не умерли, то живут и поныне. Верно
как раз противоположное. Ни одно слово во время, предшествующее
нашему, не попадало в словарь, если оно не было использовано в
ритуале. Ни одно слово в те дни не было словом, если оно сперва не было
введено в качестве священного имени. Незабудки не были бы
незабудками, тростник — тростником, дубы — дубами, если бы вождь или
знахарь задолго до того, как кто-либо вообще начал о них говорить, не
обращался к ним в ходе публичного ритуала. Они именно потому
получали полные имена, а не случайные обозначения, что к ним в
человеческой группе впервые обращались с речью. Тот, кто хотел о них говорить,
должен был сначала говорить с ними. Ибо все живущее тоже внимало
140
ему. Мальчик и его мать могут показывать на орех или палку и во
время своих игр, здесь или там, издавать радостные крики, вызванные
этими предметами. Они могут повсюду искать пищу, предметы для игры,
оружие. Но ни одно имя не возникает из такой жизни, основанной на
мгновениях. Ибо мгновению недостает уважения к сорванным только
что незабудкам. Для того чтобы создать язык, который существовал бы
на протяжении жизни пятидесяти или ста пятидесяти поколений,
необходим ритуал. Ритуал является существенным для такого языка.
Отношение какого-либо ритуала ко времени — это отношение часа или
дня ко всему прошлому, к которому этот час взывает от его имени, и ко
всему будущему, которое он облачает в праздничные одеяния. Когда
открывается и получает имя новый элемент, современное человечество
все еще использует древнюю ритуальную дисциплину. Ритуал
продолжался как можно дольше в соответствии со своей удивительной
задачей — представить собою промежуток времени, в течение которого
обетование дается и исполняется. Племя могло праздновать что-то в
течение трех дней или недели. Но никуда не деться от того факта, что
собравшиеся в конце концов должны были разойтись. Люди должны
были возвратиться домой. Проблема ритуала заключалась в том, чтобы
компенсировать это нарушение непрерывности и телесного
присутствия. Язык и одежда превратились в заместителей ритуала на все то
время, когда племя не собиралось вместе.
В этом заключается недостаточность ритуала: по сравнению с теми
промежутками времени, влиять на которые он пытается, его
собственная продолжительность никогда не является достаточной. Поэтому он
и создал длящиеся замещения! И это имело такой успех, что мы и
сегодня говорим на языках, возникших шесть тысяч лет назад. Языки
бессмертны потому, что они стремились к бессмертию. Но стали бы мы
говорить «вождь», «язык», «рука», «корона», «столб», «огонь», если бы эти
слова только сказал своей матери какой-нибудь ребенок? Конечно же,
нет. Слова, которые мы употребляем сегодня, первоначально не были
чисто техническими средствами взаимопонимания. Они были
освященными именами, силами, правами и законами, священными
проклятиями и благословениями, помощниками и противниками.
Современные слова «вождь», «корона», «рука», «язык» и т.д. первоначально
были провозглашены как имена в ходе короткого празднества. На этом
празднестве должны были быть организованы длинные промежутки
времени. Для того чтобы перенести на преемника героя его право на
его народ, он короновался, он становился «главой» и обозначался как
«язык» (орган) героя. На него надевалась маска. Каждый римский
полководец, в честь которого организовывали церемонию триумфа, носил
красную маску Ромула. Он говорил языком другого человека и носил
голову другого человека.
Оба эти выражения с самого начала употреблялись символически.
Никто не нуждался в окончательных именах для «головы» или
«языка» до тех пор, пока можно было высоко держать голову и показывать
на другого пальцем. Но праздники нуждаются в именах, поскольку
при этом используется такая телесная вещь, которая должна
свидетельствовать о политическом порядке. Формальный язык возник как
141
священный ритуал. Всякое произнесенное слово выходило за пределы
физического или «объективного» и указывало на свой политический и
религиозный смысл. Язык именовал не предметы природы, он
именовал историческую роль людей и вещей в том их виде, в каком они
представали на Thing'e или thingus'e (53). Почка была названа почкой,
печень — печенью, язык — языком, поскольку все эти выражения по
своему происхождению были священными именами. Происхождение
языка является сакраментальным. «Вещи», физические вещи
использовались для того, чтобы выразить новый порядок, введенный властью
умерших вождей. Язык как орган человеческого тела был таинством,
посредством которого новый руководитель, начиная говорить,
доказывал свой авторитет. Печень была средоточием духа и страдания.
Голова была главой племени тогда, когда на голову нового вождя
надевали большую маску. Половые органы свидетельствовали о
возобновлении жизни. Каждое имя, было ли это название части
человеческого тела или имя некоего творения, выступало в качестве таинства,
через посредство которого мимолетный телесный акт вызывал к жизни
длящуюся политическую действительность!
Мы обычно говорим, что «семь» или «девять» использовались в
качестве священных чисел. По всей вероятности, они использовались в
качестве священных в том же смысле, что и другие имена. Они были
освящены с самого начала, поскольку во время ритуала определенные
действия повторялись три, девять или семь раз. Древнейшая часть
персидской «Зендавесты» является чудесным примером языка, в
котором не существовало слов, но который состоял из имен. Масло и вода,
молоко и огонь, воздух и ветер — все было личностями, с которыми
говорил проповедующий вождь. Он действительно никогда не мог
говорить о них как об объектах, с помощью слов. Они для него более
реальны, чем он сам. Он реализует себя лишь посредством того, что
дает им всем правильные имена и в то же самое время продвигается
среди них в правильном порядке. В этом"ритуале из имен постоянно
возникают новые имена для обозначения новых действий. С другой
стороны, общность не допускает никакого действия, прежде чем
ритуал не провозгласит, что оно проверено и найдено приемлемым.
Выражения, употребляемые сегодня для обозначения видов стряпни
(жарить, парить, тушить и т.д.), вошли в употребление в качестве
обозначения специфических форм ритуала принесения в жертву животных.
В Аравии до сего дня некоторые блюда можно готовить только на
собраниях всего племени, тогда как другие блюда дозволяется
употреблять отдельной семье. Настолько сильно продукты питания были
вовлечены в политический ритуал. Это соответствует природе явлений, и
это имеет отношение к животным. А человек был связан с ними.
Когда человеческие семьи обеспечили свою безопасность, человек
научился выращивать волов, и он использовал одно и то же имя для
обозначения как кастрации животных, так и целомудрия в семье. Ибо
кастрация была религиозной церемонией точно так же, как и
бракосочетание. Я знал одну старую добрую повариху-католичку, которая
никогда не отрубала курице голову, предварительно не сказав: «Да
благословит Бог эту курицу». Такая христианская формула заменила со-
142
бой жреческий ритуал, который совершался тогда, когда требовалось
зарезать гуся или утку: о нем мы еще можем прочитать на стенах
египетских храмов. Наши грамматические формы — это остатки ритуала.
Даже простые, скромные профессии пекаря, мельника, кузнеца
нуждались в ритуале. Технические процессы зажигания огня, сбивания
масла, пахоты и охоты должны были добиться признания своего
имени, прежде чем они были легально включены в мир племени.
Ритуал повторялся. Его можно было бы обозначить как
постоянные «вольные упражнения» сформированной социальной общности.
Через посредство языка, одежды и празднеств ее члены вдыхали
порядок союза.
9. Грамматика и ритуал
Если наш исходный пункт является правильным, то логика суждений
должна соответствовать структуре ритуала. Ранее логика раскрылась как
последовательность второго грамматического лица, первого
грамматического лица, третьего грамматического лица, отглагольного имени,
полученного с помощью императивов, лирического модуса, форм
повествования и суждений. Можно ли распознать схему
i, eamus, ierunt, ire
в качестве процесса, происходящего в границах ритуала?
Эту схему можно распознать сразу же, если учитывать всю группу —
мертвого и слушающих, так же как и говорящих. Восприятие исходящего
от мертвого порядка слушающим через посредство говорящего на самом
деле порождает те грамматические ситуации, которые являются основой
формального языка. Первые христиане, когда они чувствовали, что
благодаря приобщению к телу Христову мертвые из седой древности
возвращаются к жизни, относились к этому точно так же. В начале ритуала
слушающие считаются такими же важными, как и говорящие: они идут,
совершая низкие поклоны, или падают ниц, или становятся на колени.
Они принуждаются к слушанию и повиновению. Этот процесс является
настолько существенным, что собрание как целое намного сильнее
определяется возбуждающим слушанием, чем самим говорящим. Обычно
первым, самым впечатляющим актом ритуала является звучание голоса,
обращающегося к некоторому кругу людей. Община должна быть
понята как второе грамматическое лицо, к которому обращаются в ходе
убедительного ритуала. Ибо в императиве нет никакого грамматического
«я». Имеется только «ты» в сердце каждого слушателя. Научная
психология начинает с «я» и затем добавляет к своему инвентарю некоторые «он»
и «оно». Но действительная история человеческого духа всегда
начинается с того, что мы усваиваем некий новый императив. Мы понимаем, что
именно нас имеют в виду, и выполняя то, что от нас требует наша мать,
мы впервые осуществляем себя в качестве «ты» нашей матери, нашего
отца или нашего учителя. Я являюсь «ты» для общества еще задолго до
того, как стану «я» для самого себя. Этот подлинный порядок граммати-
143
ческих лиц в душе проявляется во всех ритуалах. «Мы» как существа —
это отнюдь не говорящие. Напротив, «вы» принуждаетесь к слушанию.
Ритуал притязает на сверхмогущество той власти, которая заставляет
кого-либо говорить во время собрания. Единственное «я» — это Бог. И
с тех пор, как люди племени соприкоснулись с Богом в моменты
беспомощности, смерти и покинутости, дух мертвого человека говорит, а
живые слушают. Таким образом, в своем опыте восприятия самих себя
они — звательный, а не именительный падеж. Здоровье любой души до
сего дня зависит от этого отношения, в соответствии с которым мы
сначала являемся слушателями и лишь благодаря этому можем стать
говорящими. В грамматике души сперва стоит мое «меня», которое
окликнули, т.е. тот, к кому обращаются как к «тебе», на «ты», а мое «я» стоит на
втором месте. Дух может обратиться к каждому, но лишь благодаря тому,
что он слушает, а не говорит, и уж тем более не мыслит. Напротив, дух
определяет нас, и когда он овладевает нами и одухотворяет нас, мы
начинаем петь, танцевать, отвечать.
Как только научная догма перестанет преграждать читателю путь, он
сам узнает в лирике и балете, хоре и припеве и в своей собственной
жизни второй акт ритуала.
Тогда начинается третий акт. Тогда сообщается об истории.
Рассказывается о герое. Надевается его маска, его сила прославляется, его дела
воспеваются. Так он погребается и оплакивается. Притом это
повторяется снова и снова, как только произносится великое имя. Иными
словами, начинается повторение — три, четыре раза и даже чаще. К этому
могут торжественно призывать пролог, герольд, глашатай. Заключение
также оформляется с большой тщательностью. Священник еще и в наши
дни моет чашу. «Ite, missa est» (54) — эта древняя формула в конце
мессы связывает нас с доисторическим ритуалом. Мы можем назвать ее
четвертым актом всякого ритуала, поскольку здесь служитель выходит из
ритуала и отпускает общину.
Церковь, племена и священники не ждали, пока придет г-н Бультман
(55) для того, чтобы завершить их ритуалы, демифологизировать их. Они
сами смиренно снова поставили чашу в шкаф и возвратились к
повседневности. Повседневность — нормальное состояние только для ученых.
Для всех смелых людей нормальным является праздник. И поскольку на
праздниках приводятся в действие длинные промежутки времени жизни,
все существа обрели свои часы торжеств, на которые они могут быть
приглашены. Были организованы разнообразные праздники. Часто
случалось, что необходимым казался новый праздник, и тогда санкцию
общины должны были получить процессии, которые нередко казались
противоречащими предшествующему празднеству. Когда сегодня мы
раскапываем черепки и остатки захоронений, насчитывающие тысячи лет, то
кажется, что мы находим нечто, относящееся к повседневной жизни
прошлых эпох. Но те кости, которые мы откапываем, не являются
останками людей, а обугленные камни — не те глыбы, что остаются в
каменоломнях. Окаменелости — это не химические или биологические факты,
а недвусмысленные остатки языка и ритуала. Они — «жизнь жизни», а
именно тот порядок, в силу которого смерть вызывает рождение, а конец
служит истоком начала.
144
И мы живем отнюдь не по-другому. Мы тоже сплачиваемся
посредством ритуала. Только в наши дни великий ритуал называется
искусством, наукой, правом, религией, спортом, воспитанием. Эти виды
деятельности также стремятся к характеру оригинала, по крайней мере в
своей очередности. Они образуют великую грамматику общества. И они
должны провести нас через те же фазы слушания, «ты-бытия» к лирике
субъективности нашего желательного наклонения, эпике
биографической истории и арифметике или числовой объективности, как это имело
место для всех людей во все времена.
И так же, как во все времена, в наши дни многие люди не вполне
участвуют в этом ритуале. Мы должны подумать над тем, что для
большинства людей наши слова представляют собой не что иное, как
черепки. Словарь Вебстера содержит 175 000 слов. Это — братская могила
черепков. Все эти слова, с помощью которых мы можем говорить обо
всем, что существует под солнцем, некогда были славными именами,
воспевавшимися в молитве, они возглашались в ходе ритуала и
вдохновляли человека на совершение тех или иных действий. Ни одно из
них не могло быть произнесено, не побуждая все общество двигаться,
становиться на колени, разводить огонь, маршировать, призывать,
убивать, танцевать, обнимать и повиноваться.
Дошедшие до нас черепки древних языков — это слова, которые
мы можем употреблять, не совершая действий. От наших законов,
нашей поэзии, религии и истории мы ждем, что они позаботятся о
жизни великих имен. Мы стремимся к тому, чтобы жить
«упрощенно», как средний человек, и культивируем сленг. Кто может
оставаться серьезным и днем, и ночью? На самом деле, нам это не под силу.
Мы не хотим быть сентиментальными. Неформальный,
местоименный язык, гнусавый и гортанный, вытеснил все звуки светлого
песнопения из груди и торса, с помощью которых человек говорил
первоначально. Мы употребляем «это» и «то», «как-то» и «что еще?»
вместо правого и неправого, Бога и вдохновения. Но краткая история
телефонной компании Белла может даже сегодня напомнить нам о
действенном существовании формального языка и его различных
видоизменениях на Востоке и на Западе.
Попытка, предпринятая телефонной компанией Белла, проливает
свет на формальный и неформальный язык. Когда компания
рекомендовала своим служащим вместо слова «three» (три) произносить
протяжное «thththrreee», она, сама того не подозревая, вернулась к cantus
firmus, к формальному языку древних. Для того чтобы компенсировать
строгость таких формальных звуков, компания пошла по тому пути,
на котором народы Востока, китайцы, в повседневной жизни
освободились от бремени серьезности формального языка: еще и в наши дни
китайцы используют модуляции долгих гласных при произнесении
кратких. У них нет местоимений, но, несмотря на это, они не
формальны, поскольку улыбаются: с помощью улыбки мы смягчаем
звуки, и тот, кто улыбается, находится, так сказать, в фонетических
домашних тапочках. Китайцы могут быть неформальными благодаря
улыбке точно так же, как мы для этой цели используем местоимения.
Американская телефонная компания Белла на самом деле требует от
145
своих служащих, чтобы они улыбались, когда они говорят особенно
точно. Так неформальный язык Востока — китайцам неизвестны
местоимения — был вновь открыт в Америке.
10. Вопрос и ответ
Мы еще не говорили об одной языковой форме, преобладающей во
многих грамматиках, которые предназначены для изучающих
иностранный язык. «Что это такое?» — «Это гвоздь». «Кто этот человек?» —
«Этот человек — мой отец». Игра вопросов и ответов настолько
сильно преобладает в преподавании современных языков, что мы должны
проанализировать связанное с ней притязание. Противоречит ли это
нашему тезису о языковом ритуале? Не все вопросы схожи друг с
другом. В вышеприведенных примерах вопрос и ответ, как мы увидим, в
ритуале оказываются второстепенными. С другой стороны, существуют
драматические вопросы, которые могут относиться к какой-нибудь
клятве, какому-нибудь обету или ордалии (суду божьему) и, похоже,
имеют ритуальный характер. Когда при заключении брака священник
спрашивает: «Хочешь ли ты взять в жены эту девушку?», а невеста
отвечает: «Он хочет», то что она подразумевает под этим ответом?
Сначала мы рассмотрим тот тип вопроса, который у нас является
обычным и в котором просто спрашивают совета или наставления. Он
объяснит неразрывную связь языка с действием путем
противопоставления. Анализ показывает, что вопросы и ответы подготавливают нас к
участию в движении общества. «Ты должен чтить отца твоего и мать
твою», «Этот путь ведет в Париж» — именно эти суждения могут быть
преобразованы в следующие вопросы:
а) (Кто)
(Какой)
?
Ь) Ты?
Эта?
с) Ты будешь?
Этот путь?
должен
путь ведет
будешь
можешь
должен
тропа
река
дорога
не слушаться
слушаться
любить
в Париж
чтить отца своего и мать свою
в Париж
чтить отца и мать
ведет в Париж
отца и мать
приведет
привел
146
бабушку
d) Ты должен чтить? сестру и мать
дочь
дядю
ведет
Этот путь? не ведет в Париж
скорее всего
приведет
или
е) Ты должен чтить отца? больше, чем мать
не больше, чем
обходную дорогу
проход к Парижу
железную дорогу
брата
предков
семью
сыновей
Лондон
Ведет ли эта дорога в? Нью-Йорк
Версаль
Все эти вопросы выдают неуверенность говорящего, относящуюся к
одному из членов предложения. Он не может произнести предложение
целиком, прежде чем не найдет недостающего звена цепи. В его
сознании высказывание уже готово, и затруднение вызвано только
отсутствием в нем слова или нескольких слов. Вопрос устраняет этот пробел.
Когда ответ дан, говорящий оказывается в состоянии высказаться уверенно;
например, четвертая заповедь гласит: «Ты должен чтить отца твоего и
мать твою». Или: «Этот путь ведет в Париж».
Следовательно, вопрос — это предварительное обращение. Он
подготавливает говорящего к формулированию предложения. Таким образом,
когда на этот вопрос отвечают, спрашивающий получает возможность
участвовать в разговоре, ведущемся в обществе. Как прекрасно говорят
французы, он теперь au courant («в курсе»). И в самом деле, теперь он
может участвовать в «протекании» событий. Его кораблик теперь на
плаву. Он может двигаться вместе с остальными и обретать знания вместе с
ними. Вопросы и ответы устраняют заминки.
Ребенок, изучающий десять заповедей, и чужак, стремящийся вести
себя, как коренной житель, благодаря своим вопросам находят путь к
жизни в сообществе. Таким образом, вопросы предполагают наличие
общности живых существ, и они включают в нее новых членов. Они
готовят к участию в этой общности. Если мы рассмотрим форму таких воп-
Этот путь представляет собой?
О Ты должен чтить отца и?
147
росов, это станет совершенно ясно. Ибо мы всякий раз можем
схематически представить любой вопрос как вырывание отдельного члена
предложения из целостности предложения.
Пусть предложение состоит из нескольких элементов. После
каждого отдельного элемента поставим вопросительный знак. Теперь начнем
составлять список вопросов. Не будем трогать эти элементы, кроме
одного, который и поставлен под вопрос. Так мы придем к «quis», «quo»,
«quantum», «ubi», «quando» или по-гречески — «tis», «tini», «ti»,
по-немецки — «was», «wer», «wo», «wann» (56). Так один из членов предложения
превращается в некую оболочку, наполнением которой намерен заняться
спрашивающий и наполнить которую он просит. Он дает понять, что
применительно к одной части предложения он считает возможным
любое решение. Таким образом, вопрос требует от кого-нибудь другого
превращения предложения в полное. По этой причине стоящая под
вопросом часть предложения произносится тихим голосом, приглушенно и
лишь наполовину артикулированно. Вопрос подобен «ля-ля-ля» при
исполнении песни, слов которой мы не знаем. Мы не могли бы задать
вопрос, если бы не было песни или предложения, которое необходимо
завершить. По этой простой причине некоторые вопросы не имеют
смысла. Нельзя спросить: «Почему толпа ревет?», поскольку люди,
обреченные на то, чтобы представлять собой чернь, могут в лучшем случае
потребовать, чтобы им было позволено больше не быть чернью. В
поведении черни нет никаких «почему». «Что планирует совершить мир?» —
это вопрос идиота. Мир, возможно, может быть распланирован, но с
помощью слова «мир» мы называем тот аспект универсума, в котором он
предстает перед нами в качестве объекта нашего сознания. Поэтому сам
мир не может ничего планировать. «Есть ли Бог?» — столь же глупый
вопрос. Бог — это говорящий голос, это способность говорить. Таким
образом, когда я задаю вопрос, меня уже коснулась сила Бога или Его
власть. Такие вопросы, как «Чего требуют массы?», «Что планирует
совершить мир?», «Есть ли Бог?», не имеют (ГМысла. Ибо массы, поскольку
они суть чернь, не знают никаких оснований для действия. Мир, поскольку
это мир, не имеет никаких намерений. Бог, поскольку Он — чисто речевой
акт, не обладает никаким видимым существованием. Еще до постановки
вопросов «Почему ревут массы?», «Что планирует совершить мир?»,
«Есть ли Бог?» мы слышим высказывания: «Чернь — это нечто
негативное. Чернь лишена разума», «Мир — это нечто объективное, и он
двигается бесцельно в соответствии с законами». Истинно то, что воплощает
акт веры: я верю самому себе как сосуду истины. По этой причине
приведенные выше вопросы разоблачают себя как псевдовопросы: они не
подготавливают нас к участию в восстановленной жизни человеческой
общности. Они не восстанавливают для человека предложение, уже
удостоверенное прежде.
Но в рамках ритуала имеется вопрос другого характера. От новичка
могут трижды потребовать ответа на некоторый связанный с торжеством
вопрос, и он должен будет трижды ответить в рамках соответствующей
церемонии. С помощью этих вопросов новичок проверяется и испыты-
вается. Здесь, в отличие от случая «ля-ля-ля», нет необходимости
дополнять предложение в соответствии со схемой ab?d. Похоже, что в данном
148
случае призванный ответить человек нуждается в подбадривании, и его
сознание должно полностью проясниться. Цель этих вопросов —
вынудить того, к кому они обращены, со всей ясностью осознать, что же
говорится в том суждении, обязанность следовать которому на него
возлагается. Таким образом, эти вопросы препятствуют исполнению
обязанностей только на словах. Клятва, ордалия и обет обладают способностью
проявлять глубинные убеждения человека, т.е. его устойчивое
отношение к определенному суждению. И здесь мы сталкиваемся с великими
ответами — «да», «нет» или «аминь». Мы видим, что в этом случае
имеют место пиры, братания, заклады, предоставление заложников. Все они
пытаются ответить на вопрос: «Ты действительно так думаешь?». Очень
хорошо было сказано: человеческая жизнь должна быть живым
подтверждением истины. С самого начала язык стремился к созданию форм,
которые облачали бы жизнь личности в одеяния истины. Окончание
первого грамматического лица в латинском и греческом языках — amo, dico,
lego — и в древнегерманском — sago, gebo — связано с таким возгласом
подтверждения, как мы это делаем и ныне в наших «О да!» и «О нет!».
Это грамматическое «первое лицо» в поведении человека появляется под
воздействием клятвы, ордалии, брачного обета, и это «первое лицо» было
не предпосылкой абстрактной истины, а четким добровольным
решением в течение всей жизни хранить верность истине. Высказывание «Здесь
десять тысяч овец» может быть правильным или неправильным. Кто
знает? Но если ты требуешь от меня весомых утверждений, таких, как «Я
это говорю», «Я ручаюсь», «Я обещаю», «Я сделаю», то это — обещания,
заключающие в себе ответственность всего человека. По этой причине их
грамматическая форма так явно отличается от изъявительного
наклонения третьего лица. «Я есмь» и «он есть» совершенно различны (57). В
современном английском языке, — поскольку спряжение глагола в нем
почти совсем исчезло, — вся прелесть грамматики перешла в способ
написания. Поэтому, если мы хотим понять особенности первого лица,
следует обратить внимание на значение способа его написания. Как
«borrow» и «borrough», «waive» и «wave», «root» и «route» живут в качестве
различных форм благодаря тайне правописания, так и дух единственного
числа первого лица глагола продолжает существовать с помощью
заглавной буквы, используемой для написания «Ich» («Я»). На самом деле
важно, что человек может дать свое слово в залог истины. Он — Бог,
Который посвящает всю свою жизнь истине или ручается сдержать свое
обещание всем, что имеет. Человеку, приносящему присягу, сообщается «я»
Бога. Отверзая уста для того, чтобы произнести «Но я говорю тебе», он
соединяет себя с богами. От ученого, который публикует свое открытие,
ждут, что вся его репутация станет залогом возможности его
воспроизведения. И каков же результат? Он заключается в том, что
электрические динамомашины производятся в одном из городов штата
Нью-Джерси, именуемом Ампер, и что мы используем такие единицы измерения,
как «вольт» и «ватт». Наука выдвинула такие «я», которые поставили всю
свою репутацию в зависимость от истины, от способности благодаря
своей истинности стать устойчивыми именами. Никому не следует думать,
что этот процесс присвоения имен наукой является изобретением самой
науки. Традиции науки лишь продолжают обычаи более ранних времен.
149
Во все времена люди, осмеливаясь произнести «я», чувствовали себя
связанными с божественным. Если они ощущают себя простыми смертными,
они скромно говорят «мне» или «меня», а не «я». Знаменитая
автобиография имеет название «Обо мне». Могла ли она быть озаглавлена «Я»?
Мы можем сделать вывод: вопросы, связанные со степенью моей
серьезности, не восстанавливают уже удостоверенное предложение, а
создают новое свидетельство истины в лице того человека, от которого
требуется ответ. Это свидетельство подвергается проверке так же, как металл
подвергается легированию. Пригодность человека связывается с его
будущим поведением, поскольку он должен ручаться за свои слова.
Имеется ли третий тип вопросов и ответов? Разве мы не испытываем
недоверия к истине? Разве мы не испытываем недоверия к богам?
Разумеется, можно, не особенно затрудняя себя, сказать, что вопрос о том,
существует ли Бог, является бессмысленным. Но разве мы не
принуждены говорить ужасные и бессмысленные вещи?
Это может прозвучать странно, но аутентичным местом подлинных
вопросов Тантала (58) является молитва. Всякая серьезная молитва
возникает из сомнения, из внутреннего беспокойства, беспомощности и
невозможности выразить себя. Остывший остаток молитвы в наши дни
называется «исследованием». Если это действительно исследование, то
оно еще обладает достоинством молитвы, хотя и представляет собой
последнюю и сильнее всего остывшую форму первоначальной
молитвы. Молитва не спрашивает о частях предложения, как это делается в
первом типе вопроса. Она не спрашивает и о степени вовлеченности,
причастности отвечающего человека, как это делается во втором типе
вопроса. Она спрашивает о самом спрашивающем. Молитва
спрашивает: «Кто же я такой, что отваживаюсь вопрошать самого себя?». «Что
есть человек, что Ты помнишь его?» (59). Пиндар разразился словами:
«Человек — бабочка-однодневка, тень сна. Но когда на него падает
сияние Зевса, жизнь становится ясной и простой, а время его жизни —
благословенным».
В этом заключается смысл призывания Бога — придать силы
спрашивающему, сообщить его ритуалу направление, а ему самому —
высшее достоинство. Молитва наставляет, просвещает его и делает его
уверенным в себе и своей правоте. Таким образом, священство —
полученное с помощью молитвы право говорить так, что мы можем выдвинуть
притязание на приобретение последователей и повинующихся.
Моление духу, дающему мне право говорить — будь это несомненное или
вновь ставшее для меня очевидным после жестоких сомнений право —
теперь в приличествующей форме заменяется представлением оратора
церемониймейстером. Одна из немногих церемоний в нашем
покончившем с церемониями обществе все еще отражает первоначальное
призывание Бога: «Кто может здесь говорить?». Этот одухотворенней-
ший из всех вопросов задает именно председательствующий или
ведущий. Тем самым он ставит говорящего на приличествующее ему место,
которое должен занять каждый из нас, прежде чем он сможет
надеяться, что его слушают.
У священников обмен репликами придает говорящему правильный
дух, поскольку священник говорит: «Мир всем!». А община с благодар-
150
ностью отвечает: «И духу твоему!», и, тем самым, она доверяется тому,
кто только что объявил о своей заботе о ней.
Это — очищенная форма старого заклинания, произносившегося
жрецом. Во время богослужения, во время своей молитвы за общину он
в своем отношении к своим слушателям забывает о самом себе, ибо
посредством услужливого и добровольного дара этих слушателей дух
нисходит на него.
Это взаимодействие происходит осмысленно, прежде чем священник
отверзнет уста для благословения. Когда в наше время учитель
появляется перед классом, его больше никто специально не представляет
ученикам. Но он находится на своем месте под покровительством школы.
Это означает, что школа в качестве институции постоянно замещает
собой его назначение на должность. Тот, кто должен говорить, зависит от
постоянного содействия и поддержки со стороны общности. Это имеет
всеобщее значение, и в качестве потрясающего примера можно указать
на индейцев племени «осаге». У них всадники поют: «Наши отважные
молодые мужчины назначили меня своим вождем, и я скачу вперед,
послушный их призыву». Или они поют: «Есть много достойных людей,
более подходящих на роль вождя, чем я, но вы выбрали меня. Вы
говорите, что наши враги мужественны и бесстрашны, но я — тот, на кого вы
полагаетесь» (60).
Призыв к вождю (61), призыв к жрецу, исходит ли он от невидимой
или видимой общины, создает доверие. Клятва верности превращает
людей в истинных слушателей. Поиски выражения в ритуале,
правильного выражения, придают достоинство последнему предложению.
Когда мы говорим, сомнению могут быть подвергнуты три истины. И у всех
трех видов сомнений есть свой ритуал. Мы ведем себя странно,
поскольку резко отделяем эти три вида сомнений друг от друга. У нас есть
1) сомнение в говорящем, относящееся к области религии;
2) сомнение в слушающем, касающееся законов об опросе
свидетелей, о клятве, принятии заклада и предоставлении заложников,
относящееся к области юриспруденции;
3) сомнение в содержании предложения, которое анализируется в
логике.
Это разделение является неуместным и противным здравому
смыслу, поскольку все три аспекта истины объясняют друг друга. Все
тонкости логики, права и религии будут для нас бесполезны до тех пор, пока
мы не рассмотрим сначала эти три аспекта или эти три вида сомнений
как проявления одного и того же сомнения. Ибо любой ритуал и любой
действительно принимаемый всерьез язык должны делать очевидными
три вещи: авторитет отдающего приказания или говорящего; доверие,
которого заслуживают его слушатели; истинность утверждений, с
которыми должны согласиться оба, и говорящий, и его слушатели. Мое
выражение «молитва» для обозначения вызывания духа может быть во
всех трех направлениях подвергнуто критике в качестве слишком
узкого или слишком широкого по смыслу, но каждый говорящий должен
обратиться с призывом прежде, чем он начнет говорить, и после того,
как он закончил говорить. Критик, находящий в этом что-то
мистическое или противоразумное, живет лишь частичной жизнью, поскольку
151
дух должен пронизать собой — как бы напитать живой кровью — все
три элемента разговора. Молитва — это освобождение от безъязыкой
дремоты и переход будущего говорящего человека и его слушателей в
тот промежуток времени, в границах которого «я» требует, чтобы его
выслушали.
По этой причине молитва имеет отношение к любому говорящему
человеку: «На какое право я вообще претендую, когда говорю?», «От
чьего имени я претендую на ваше внимание?», «Являются ли любопытство,
тщеславие, чувство правоты, стремление к свободе, рвение, себялюбие
причиной того, что я говорю?». «Или меня принуждают к тому, чтобы
говорить, а вас — к тому, чтобы слушать, призыв, долг, видения,
озарение, приказание?»
В молитвенных призывах мы имеем дело с третьим типом вопросов.
Речь идет о вопросе, который человек задает о самом себе, если он не
хочет утратить свою способность говорить.
Так что мы снова объединили три типа вопросов.
Вопросы о «qui» и «quid», о «кто» и «что».
Вопросы, относящиеся к обетам, клятвам и обязательствам.
Призывы и молитва.
Первый тип заполняет пустое место в уже ставшем обычным
предложении, которое было составлено прежде.
Второй тип подразумевает наличие свидетеля, в сознании
собственной силы и правоты выдвигающего свое утверждение.
Третий тип сообщает вопрошающему право говорить от имени чего-
либо (свободы, правил приличия, науки, поэзии, истины и т.д.), что
требует послушания.
Три типа вопросов еще раз проясняют уже известный нам факт, что
всякое произнесенное предложение отбрасывает свет на говорящего,
слушающего и внешний мир. Поэтому свет, — если в одном из трех
направлений он начинает меркнуть, — может быть восстановлен в его
прежней яркости благодаря особому типу вопросов.
Функция вопросов и ответов в ритуале языка заключается в том,
чтобы восстановить ход языковой драмы. Они помогают чужакам, новичкам,
необразованным, невежественному и забывчивому узнать то, что должен
знать каждый, если он хочет участвовать в общественных процессах.
Таким образом, удивительным результатом нашего анализа является
более глубокое проникновение в эту драму. Три типа вопросов
воссоздают перед нами ту сцену, в рамках которой человеческое существо
обладает способностью говорить.
Вопрос подтверждает, что я завишу от признанной истины. Он
связывает вновь прибывшего с признанными в обществе формами
выражения. Осмысленными являются лишь такие вопросы, которые касаются
уже начавшейся драмы, какого-либо исторического порядка, каких-либо
исходящих из прошлого приказаний, передающихся по традиции
эмоций или древних сказаний, причем все это было сообщено еще до того,
как был сформулирован вопрос об информации. Таким образом, в
первом типе вопросов предпринимается попытка проникнуть не в
природную действительность, а в социальные формулировки и предания. Если
мы не учтем этого, то одурачим сами себя. Большинство наших наук так
152
далеко и необратимо отошло от своих духовных источников, что они не
знают, когда им можно ставить вопросы «почему» или «что». Там, где
прежде никто не говорил, эти вопросы являются бессмысленными.
Большинство вопросов Сократа не имеют смысла. Ибо сведение разговора к
самовыражению отдельных индивидов — это вырождение. Теперь о том,
что касается второго типа вопросов. Они неосознанно требуют
утверждения, которое было бы признано всеми. Но если я спрашиваю:
«Почему индивиды образуют общность?», я никогда не сумею получить
имеющего силу ответа. Язык, в рамках которого поставлен этот вопрос, и
существует как раз потому, что эти мнимые индивиды участвуют в
языковом ритуале. Тем самым они уже принесли в жертву свою
индивидуальную природу для того, чтобы заменить ее «второй природой»,
превращающей их в членов общности. Следовательно, индивиды перестают
быть индивидами, как только они начинают говорить! (Прошу извинить
меня за мой ужасный немецкий язык, причиной которого является
необходимость борьбы против ужасных представлений.)
Хитрый аналитик, спрашивающий, почему мы образуем общность, не
видит самой сути вопроса. Ибо его вопрос имеет смысл только в
границах уже сложившейся и признанной традиции. Таким образом, он,
задавая вопрос, предполагает наличие у нас общей истории всей нашей
жизни. Он переоценивает силу своего вопроса, поскольку этот вопрос
значим лишь до тех пор, пока он честно стремится восстановить ход
прерванного разговора. Таким образом, в разговоре индивиды уже
превращаются в свидетелей будущего. Наука ничего не предсказывает, но для
будущего мы нуждаемся в людях, которые выдерживают проверку. Они
должны служить гарантами наших законов, наших надежд, наших
обещаний. Ибо все вопросы, которые задаются во время конфирмации, в
армии, при заключении брака, у нотариуса и на суде, призваны созидать
пути, ведущие в будущее. Отвечающий на вопросы стремится
придерживаться своих слов, и он признает будущую жизнь, начинающуюся с
произнесенного им предложения.
Третий уровень или тип вопросов, по-видимому, имеет самое важное
значение. Ибо он создает авторитет. Это проявляется в создании некоего
нового измерения. К этому читатель не готов. В школе или на занятиях
философского семинара об этом никогда не говорят. Несмотря на это, я
никогда не смог бы написать эти строки, а читатель никогда не смог бы их
прочитать, если бы этого измерения не существовало. Мы не можем
сегодня увидеть это измерение потому, что, я бы сказал, мы за деревьями не
хотим видеть леса. Ибо мы утверждаем, что каждый может говорить и
писать. И в самом деле, кто же не пишет книг? Когда организованные на
Филиппинах миссии потерпели провал, вождь одного племени сказал:
«Пусть один человек учит другого». С того времени, как говорить начинает
каждый, даже дети и женщины, нелегко провести границу между лесом
говорящих и пустыней, лишенной речи. Но то, что каждый якобы говорит,
является такой же фикцией, как и утверждение, что в условиях диктатуры
говорит лишь один человек. Не является истиной ни то, ни другое. В
Америке обычно голосует лишь треть всех имеющих право голоса. Остальные
90 миллионов, не участвующие в выборах, должны смириться с тем, что
обязательные для них решения принимает, отдавая свои голоса, треть из-
153
бирателей. Даже если бы филиппинский вождь добился своего и один
человек учил бы другого, отношение говорящих и слушающих все еще
оставалось бы один к одному. Ибо каждый говорящий нуждается в
слушателе, который верит, что слушать стоит. Поэтому Ницше в своем
стихотворении говорил: «Струны моей души звучали для нее самой. Слушал ли ее
песню кто-нибудь?». И поскольку никто не слушал, дух покинул Ницше.
Естественно, дух должен был уйти, поскольку, если никто не слушает, наш
язык перестает существовать. А для того, кто слушает и хочет сделать то,
что ему сказано, «босс» должен быть именно боссом. Хотя он и может
ненавидеть превосходство этого босса, оно все же является предварительным
условием воздействия, оказываемого какой-либо газетой, лекцией, судом,
армией, правительством, литературой или театром. Поэтому разделение на
«высокое» и «низкое» — условие человеческого языка. Все маски
демократии — простота в общении, добродушие, человечность, любезность,
юмор — не могут заставить исчезнуть божественный характер любой речи.
Ты слушаешь меня совсем не потому, что я лучше и возвышеннее тебя,
а потому, что превосходящее, высшее и благородное, избрав своим
вместилище хМ меня — непрочный сосуд, может быть, передастся и тебе.
Говорящий человек не выше сам по себе, но он стоит выше. Общество, в
котором я не стою выше в то время, когда говорю, — это сброд. Десять тысяч
человек, собравшиеся на площади, не имеющей возвышения, благодаря
которому меня можно слышать или с которого можно провозгласить
некие принципы, — это унылое скопление земной черни, ß 1944 г. некий
интеллектуал в газете «Нация» подверг остракизму одного поэта. Поэт
сказал, что высокое и низкое отличаются друг от друга больше, чем
излюбленное политическое разделение на правых, левых и центр. Но
разгневанный интеллектуал донес на поэта, и, следовательно, именно он стоял на
кафедре, т.е. выше. Его место возвышалось над толпой в то время, когда
он осуждал человека, осмелившегося указать именно на этот факт. И
критик не думал о том, что именно в это время генерала Эйзенхауэра
должны были слушаться все его подчиненные. "
Дорогая личинка человека! Ты должна выйти из стадии
окукливания, и, прежде чем сможешь стать человеком, тебе следует занять
место на возвышении. Высокое и низкое — это продукты человеческой
веры в язык. Поэтому третий тип вопросов требует сооружения
подиумов. До этого полярность между тем, кто говорит, и тем, кто
слушает, не может воодушевить их обоих. Как только говорящий смиренно
спросит богов: «Кто же я такой?», или «Я, бедняга, сегодня вынужден
говорить здесь перед вами и даже от вашего имени», или когда
ведущий призывает собрание: «Слушайте оратора», становится
действительностью различие между высоким и низким. Индивиды и толпа
исчезли. Человек, принадлежащий в силу своих обязанностей к роду
«говорящих», разделяет членов единого духовного тела. Таким
образом, это тоже творческое деяние языка, как это уже было показано в
моей работе «Голова во время речи» (62/ Язык помещает нас в
историю, в будущее, и ставит нас высоко или низко. В ходе ответа на три
типа вопросов, которые могут быть отнесены к любой речевой
деятельности, стремление ставить сами эти вопросы прививается
каждому новичку, входящему в общество.
154
IL Развитие
Слепое пристрастие к эволюционному аспекту времени удивительным
образом проявляется в хронологии великих культурных событий
Древнего мира, представленной в высшей степени уважаемым и
заслуживающим доверия ученым Кларком Уисслером (Wissler) в 1919 г. Он принял
в качестве доказанного факта представление об ускорении развития
культуры и о том, что от тысячелетия к тысячелетию делается все
больше и больше изобретений и изменений по мере того, как мы
приближаемся к нашему времени. Поэтому чем более старым является
изобретение, тем больше времени должно было пройти, прежде чем за ним
следовало новое изобретение. Эта догма наивно санкционирует наше
детское понимание прошлого. Чем ближе оно к нам, тем оно кажется
проходящим более быстро. Результатом является замечательный перечень:
Использование энергии пара
Книгопечатание и порох
Железо
Бронза
Одомашнивание крупного
рогатого скота и лошади
Начало земледелия
Использование лука и стрел
Использование копья и гарпуна
Обработанный кремень
Первые рисунки
Предметы, опускаемые
в могилу вместе с покойником
Использование огня
Необработанный кремень
Предшественники человека
200 лет назад
1000 лет назад
3500 лет назад
6000 лет назад
10 000 лет назад
12 000 лет назад
14 000 лет назад
20 000 лет назад
25 000 лет назад
35 000 лет назад
50 000 лет назад
100 000 лет назад
125 000 лет назад
500 000 лет назад
Очевиден заколдованный круг, причиной которого является принцип
классификации. Закон ускорения всякого развития считается доказанным.
А это создает возможность проявлять стремление к неограниченному
продлению прошлого, которое обладало бы видимостью научности. Но это —
155
просто стремление, и ничего больше. Весьма неправдоподобно, что великие
события, на которые ссылается Уисслер, являются действительно
великими историческими событиями, составляющими эпоху. Нет никаких
признаков того, что огонь начали использовать именно 100 000 лет назад. Это
— всего лишь полет мысли, к которому мог бы прибегнуть какой-нибудь
рассказчик историй. Единственное правило, которому он подчиняется, —
это наша склонность беспредельно продлевать прошлое. Для Маркса,
считавшего все прошлое последовательностью этапов классовой борьбы,
история представала в виде молнии, предсказывавшей огромную молнию
завтра. Для Уисслера, для которого история — это происходящая сама по себе
смена достижений культуры, она должна быть все более длинным
водостоком, начинающимся в наше время, из которого капает все реже и реже. К
несчастью, именно в источнике вода бьет ключом. Ни один пример из
сегодняшней жизни не подтверждает правила Уисслера. Его умом владеет
лишь тот аспект, который мы называем «прошлым», и он выковывает в его
сознании цепь событий. Что касается этих событий, которые Уисслер
всерьез называет эпохальными, то они выбраны весьма произвольно. Есть
много других событий. Например, средневековые города стали возможны
благодаря новому виду конской сбруи. После 1100 г. в одну повозку
можно было запрячь 6, 8 и 12 лошадей (63). Таким образом, перевозимый груз
неожиданно был более чем удесятерен. Поэтому мы могли бы склоняться
к тому, чтобы считать эту дату основополагающей. Но затем мы
вспоминаем о циклопических стенах Алатри (64), египетских пирамидах и начинаем
понимать, что даже такое великое изобретение является в большой
степени относительным. Эпохальным в истории возрастания могущества было не
использование десяти лошадей, а их использование одним человеком.
В перечне Уисслера не упомянуты ни мельница, ни корабль, ни
колесо. Но они были более существенными изобретениями, чем переход от
бронзы к железу.
Все говорит против предположения, что 50 000 лет назад в могилу
вместе с покойником опускались какие-либо предметы, а первые
рисунки или статуэтки появились еще спустя 15 000 лет. Людей
погребали, поскольку кто-то должен был продолжить выполнение их
жизненной задачи. Это осознание себя как продолжателя побуждало
наследника надеть на себя личину своего завещателя. Таким образом,
погребение и создание изображений — это два аспекта одного и того же
процесса. Лишь если и поскольку с помощью рисунка, одежды и
татуировки люди брали на себя роль умершего, они погребали его. Отделять друг
от друга промежутком в 15 000 лет эти два ритуала — погребение и
создание изображений — не только совершенно неправильно; ведь в
таком перечне ошибки неизбежны. Здесь мы имеем дело, скорее, с
эволюционистским легкомыслием, порожденным специфическим
аспектом времени, который соотнесен со все более увеличивающимся по
продолжительности «прошлым».
То, что погребения и использование огня отделяются друг от друга
промежутком продолжительностью 50 000 лет,- точно такое же недостаточное
понимание, как и обнаруживающееся в то же самое время забвение
бесчисленных важных изобретений, — если только за этим также не скрывается
догма об ускорении. История человека на этой Земле кажется протекающей
156
чересчур быстро. Мы не знаем ничего, что принуждало бы нас говорить о
человеческой истории продолжительностью больше чем в 10 000 лет:
возможно, она продолжалась и дольше. Но нет никаких доказательств этого,
тем более что старые и новые формы жизни существуют одновременно.
Черепки, относящиеся к каменному веку, могут быть того же возраста, что
и Вавилонская башня, поскольку в нашу собственную эпоху жизнь
каменного века существует одновременно с роскошью Калифорнийского
университета. Спешу заверить, что я не хочу заниматься самой хронологией
человеческой истории. Я лишь радуюсь наивному и совершенному образчику
эволюционистской фантазии, какой являет собой хронология Уисслера. Он
порожден самой природой его взглядов. Этот образчик эволюционистской
фантазии должен появляться на свет всякий раз, когда ученый, изучающий
прошлое, полностью отделит себя от революционера, занятого будущим, и
от субъективиста, поглощенного настоящим, таким образом, как это
совершается в научной школе. Невинность отдельного ученого поистине
трогательна. Но эта невинность приобретена ценой слепоты всей его касты по
отношению к ритуалу языка. Язык сам разделился на отрасли науки,
политики и искусства. И если эти отрасли забывают о своей согласованности в
качестве высказываний в одном и том же социальном ритуале, то все
должно стать ложным. В наши дни врачи были первыми из всех ученых,
которые снова заметили эту взаимозависимость и похвальным образом призвали
своих коллег, занимающихся другими науками, отказаться от своей
кощунственной изоляции, отделяющей их от поэзии и политики. Врачи опять
сознают, что они говорят лишь в одном грамматическом наклонении и что им
надлежит избегать ошибок, вызываемых их односторонностью. Но их
коллеги, занятые другими науками, все еще продолжают наивно считать свои
рассуждения единственно истинным аспектом действительности. Между
тем, только четыре рода нашего языка в совокупности имеют смысл.
Таблица Уисслера демонстрирует вырождение, наступающее, когда один из
родов обосабливается как нечто самостоятельное.
12. «Тривиум» и символы
Понимание этого открывает нам три новых практических пути к
осмыслению «тривиальностей» языка, литературы и логики. Один из них ведет
к особому методу преподавания языков — как родного, так и
иностранных. Иностранные языки должны изучаться как литературные, т.е.
возвышенные, прежде чем можно будет перейти к разговорной речи.
Песнопения, заповеди и псалмы являются более подходящим исходным
пунктом. Игра вопросов и ответов может быть заменена императивами
и повествованиями.
Второй открывающийся путь ведет в области истории. Различные
пласты языка означают великие эпохи истории. Так же, как в геологии говорят
о делювии и триасовом периоде, мы наверняка можем прийти к тому,
чтобы говорить об эпохах cantus firmus, отделения друг от друга устной и
письменной речи, поэзии и прозы, прозы и логики. Попытки наших
специалистов по древнейшей истории обозначить периоды человеческой истории с
помощью терминов «неолит» и «палеолит», понимаемых как «железный
157
век» и «бронзовый век», были похвальными, пока мы не слышали и не
могли слышать, как говорят эти обитатели неолита и палеолита. Похоже, что у
тех, кто изучает древнейшую историю, отсутствовали все относящиеся к ней
документы, кроме найденных во время раскопок орудий труда. Но наши
беглые исследования грамматических структур как структур, описывающих
строение языка, способны внести ценные дополнения в лингвистические
доказательства. Мне известны попытки в этом направлении,
предпринимаемые о. Вильгельмом Шмидтом (65). Последующие разделы этой книги (66)
соотносят новые периоды развития родов языка с историей.
Третий путь разъясняет нам логика. Об этом было много сказано в
предыдущих моих работах. Одним из практических результатов
нашего исследования было открытие, что рациональный язык имеет своей
предпосылкой язык ритуалов. Мы открыли, что логика наших школ в
лучшем случае охватывает лишь четверть действительной области
логики. Прежде чем можно что-то исчислять, высчитывать, наблюдать,
испытывать, это «что-то» должно быть как-то названо, к нему надлежало
обратиться с речью, с ним следовало совершить некие действия и
приобрести опыт обращения с ним. Наука, освобождая в своих обобщениях
и числовых обозначениях вещи от их имен, не может сделать этого с
тем, что прежде не было облачено в одеяния имен. Наука означает
вторичное, эмансипирующее себя приближение к действительности. Мы
должны быть сначала соединены в поименованный универсум и
укорениться в нем, прежде чем мы сможем эмансипировать себя. Этот
краткий обзор показывает, что из «семи свободных искусств» наибольшую
пользу из наших усилий извлекает так называемый тривиум —
грамматика, риторика и логика. Тривиальности этих трех пропедевтических
или вводных областей знания нашими усилиями возвышаются до
уровня полноценных наук. Именно они будут великими науками будущего.
Это — усиление власти, имеющее параллели в процессе, который
четыре столетия назад придал научное значение так называемому квадриви-
уму. До 1500 г. только теология, право и-медицина считались науками
о Боге, обществе и теле, тогда как квадривиум (арифметика, геометрия,
музыка, астрономия) и тривиум (грамматика, риторика, логика) имели
подчиненное значение и служили в качестве некоего
вспомогательного орудия.
Гуманизм эмансипировал арифметику, геометрию, музыка,
астрономию и заменил средневековую медицину целой совокупностью наук о
физическом мире, включая наши собственные тела.
С 1800 г. начал изменяться и тривиум. Но он чаще всего
рассматривался по типу квадривиума как придаток физических знаний. Между
тем, мы вынуждены были заменить факультет права целой группой
социальных дисциплин, включая учение об упорядоченном характере
нашего собственного сознания.
Можно тотчас же привести здесь небольшой пример такого
применения соответствующих методов к нашему сознанию. Упорядоченность
нашего собственного сознания существует лишь до тех пор, пока наше
сознание отвечает на императивы и пока мы используем сравнения (уподобления)
и символы. Сами ученые должны говорить, будучи исполненными
доверия и веры, прежде чем они смогут мыслить аналитически.
158
Но что такое символы, что такое сравнение, коль скоро они должны
стать для человека хлебом насущным?
Символы — это кристаллизованный язык, и язык кристаллизуется в
символы, поскольку они в стадии своего творения сродни уподоблениям.
Символы и метафоры относятся друг к другу как молодость и старость
языка.
На первый взгляд обручальное кольцо, фоб и шляпа-цилиндр могут
существовать без языка. Разве они не являются немыми? Но ведь
именно язык привел к появлению этих символов, и без языка они вовсе не
могут существовать!
Это звучит очень по-доктринерски. Но это истинно в самом общем
смысле. Даже символы самих логиков служат тому доказательством. Их
знаки 1, -, = являются кристаллизованным языком. Они позволяют нам
слушать логиков, поскольку их первоначальный языковый характер еще
остается прозрачным. Язык должен вести к символам, а символы
возникают из языка. Мы «слушаем» символы так, словно они являются
языком. Мы «смотрим» на язык, поскольку он ведет к символам.
Не является ли это простой игрой словами?
Первое, что мне бросилось в глаза на каменноугольном руднике,
было значение головного убора для горняка в США. Он стоял,
обнаженный по пояс, грязный, потный. Но он мог надевать свою шляпу, когда
с ним говорили. Это должно было подтвердить ему самому, что он —
гражданин, равноправный со всеми, живущими под солнцем, хотя он,
как немое животное, работает под землей. Он носил свою шляпу не для
защиты от солнца, а как символ гражданского права свободного
человека; на каменноугольном руднике или на строительстве железной дороги,-
короче, везде, где люди заняты тяжелым физическим трудом, — всегда
наготове лежит шляпа для того, чтобы надеть ее, когда придет время
говорить с другим человеком. С помощью шляпы удается избежать
некоей опасности, а именно, опасности того, что преходящее состояние
изнурительной физической работы может изменить свободное состояние
обреченного гнуть свою спину человека.
Благодаря головному убору он остается свободным гражданином. Чем
тяжелее труд, тем больше ценность головного убора. Миллионерам и
студентам незачем думать о нем. Президент Кеннеди повсюду появлялся без
шляпы.
Ибо символы указывают на действительное или главное положение
человека в отличие от его кажущегося положения. Они представляют мое
лучшее «я» в его отсутствие, подобно тому как оба сенатора от каждого
штата представляют его в резиденции центрального правительства.
Если мужчина носит обручальное кольцо, все понимают, что перед
ними — женатый мужчина, хотя он может находиться далеко от дома и
в остальном производить впечатление ищущего приключений Дон
Жуана. Черное одеяние человека, пребывающего в трауре, свидетельствует
о его утрате, несмотря на тот факт, что на людях он ведет себя так же, как
и все остальные.
Это дает нам ключ к пониманию аутентичного места символов. Они
подчинены актам инвеституры, посредством которых они становятся
несокрушимыми и важными элементами действительности. Обручальное
159
кольцо не имеет никакой ценности, если супруг может спрятать его в
карман. Он должен подчиниться акту, повелевающему ему носить кольцо,-
либо символ перестает быть символом. Сенаторы могут представлять свой
штат в Вашингтоне лишь до тех пор, пока мы верим в право избрания
большинством голосов и в свободные выборы. Сенаторы должны
рассматриваться в качестве символических представителей их штата, поскольку
они были призваны на эту должность у себя дома с помощью ритуала
избрания. Обручальное кольцо можно носить лишь постольку, поскольку
оно было надето на палец во время серьезной церемонии надевания
колец. Символу предшествует ритуал. Если человек не был утвержден в
своем положении посредством такого ритуала, то символ оказывается всего
лишь забавной игрушкой. Власть символа основана на власти обычая в
человеческих отношениях, ибо символ воплощает собою обычай в его
отсутствие. Фермеры Лексингтона и Конкорда, толпа вооруженного народа,
оказавшаяся в 1775 г. достойным противником регулярной
профессиональной армии британцев, сумели добиться того, что шляпы
американских граждан стали символом свободы. Нет более действенного ритуала,
чем эта борьба за свободу. Раны, полученные во время битвы,
освящаются. Татуировки членов племени — это сохраняющиеся символы
испытаний, пережитых на тропе войны. Этим объясняются воображаемые битвы,
разыгрываемые в бесчисленных ритуалах. Они должны были облачить
проходящих инициацию в одеяния символов мужества (67).
Символ утверждается тем лучше, чем серьезнее был «произнесен»
ритуал. Но нет никакого символа без языка, как это обдуманно было
высказано в Декларации независимости 1776 г. Она впервые придала
американцам некоторый характер, она представила их миру как
американцев, и благодаря торжественному акту принятия Декларации они в
глазах всего мира перестали быть британскими колонистами.
Их «Déclaration of Independence» была чем-то большим, нежели
сказанные «просто так» слова. Звездное знамя, долларовые банкноты, собственные
монеты тотчас же засвидетельствовали тот факт, что Декларация имела
целью истину на продолжительное время и что она заменила
предшествующий порядок на более важный, более совершенный и более убедительный.
Поскольку символы наиболее отчетливо проявляют свою непреходящую
силу после своего отделения от создающей их церемонии, то эти церемонии
с самого начала воспринимались в качестве неких врат, ведущих ко
второму миру. И конституция — тоже символ. В 1894 г. король Вюртемберга
заявил, что он может нанести ущерб конституции империи, поскольку он ей
не присягал! Таким образом, клятва=ритуал, конституция=символ (68).
Следовательно, язык по самому своему смыслу метафоричен. Ничто в
языке не является таким, какое оно есть. Каждое слово означает нечто,
отличное от него самого по себе. Любой язык переносит значения. Пример:
Фрэнсис Ла Флеш сообщает о ритуале индейского племени «оусейдж»(69):
«Упоминаемое в этом ритуале небо — отнюдь не материальное небо,
покрывающее нас своим сводом, а небо, на котором люди встречаются друг с
другом. Подобно физическому небу, оно может затягиваться опасными и
смертоносными тучами войны, но люди способны оказывать на него
воздействие посредством самоотверженности, доброй воли и сдержанности.
Только люди могут изгнать ураганы ненависти и злобы и сделать небо
160
встречи ясным и сияющим». Таким образом, «небо» имеет
непосредственное отношение к жизни и счастью человека. Лишь с помощью этого
ритуала возвещенного неба можно было осуществить воспитание для мирной
жизни. Глашатаи этого ритуала выбирают небо и многообразие его
изменений для того, чтобы обрисовать мирное настроение. Для того чтобы в
символической форме выразить это учение о мире, указывают на летящих в
небе птиц: «Птица, кажущаяся в спокойном состоянии выкрашенной
красной краской, птица — «кардинал», связывается с нежными утренними
облаками, которые в лучах восходящего солнца выглядят красными,
поскольку и эта птица, и нежные утренние облака обещают тихий, безветренный
день. Голубая сойка отождествляется с небом, которое, даже будучи
затянуто облаками, все же сияет, и, как наша дымка на небе, оказывается
достаточно голубой для того, чтобы нас обнадежить. Зарянка связывается с
розовеющей утренней зарей — безошибочным признаком великолепного дня.
Пятнистый нырок соотносится с безобидными голубыми облаками,
большой кроншнеп — с солнечным днем, который эта птица своими криками
предсказывает уже перед восходом солнца. А белый лебедь принадлежит
самому чистому и самому мирному небу». Метафора здесь является
необходимой. Но эта потребность усиливается, как только упорядоченная жизнь
оказывается вынуждена утвердить себя перед лицом вторгающегося
беспорядка. Ла Флеш продолжает: «Nowhonghinga — это ритуал, совершаемый
всеми участниками охоты на буйвола. Он требует присутствия всех
участников. Положение каждого рода на площадке, где проводится смотр, не
может быть изменено, за исключением того, что церемониал иногда
проводится только для одного рода. Тогда этот род располагается на восточной
части площадки, на которой и происходит церемониал. Но все другие роды и
в этом случае также располагаются на своих обычных местах».
Распределение мест изображает небо и землю: «tsi-zhu» находится на
севере, «honga» — на юге. Небо подразделяется на день и ночь, земля —
на воду и сушу. «Honga Uts nundsi» (земля) является важнейшей частью
(с. 202 и далее).
В рамках великой церемонии, объединяющей поселения племени в
новую гармонию и обеспечивающей непрерывность расы, зачинается
новый сын всего рода как гарантия мира и доброй воли.
Изображаются зачатие, беременность, рождение нового Honga,
маленького ребенка или сына племени, нового вождя, приносящего мир.
Например, священные флейты, которые держат исполнители ритуала, во
время четвертого песнопения выпадают у них из рук после того, как из
них был извлечен последний звук. Но прежде, чем они упадут на землю,
их подхватывают два других исполнителя ритуала. Это означает, что
ребенок родился.
Выбор кандидатов выглядит величественно. Две матримониальные
части племени, небо и земля, выбирают четырех кандидатов из каждой
части с помощью палок, которые и обозначают кандидатов. Затем жена
мужчины, проводящего церемонию, выбирает палку будущего «ребенка мира»,
и посредством этого выбора она дает своему супругу право считать
«ребенка» его сыном и общим ребенком его супруги и его самого (с. 212 и далее).
Наша рождественская история не слишком далеко ушла от этого
замечательного ритуала (70).
6 Зак 3524
161
Расположение позиции «7» родов на собрании племени «оусейдж»
К — костер
Север
Запад
7 6 5
Группа tsi-zhu
К
Группа honga
7654321
4321
Исполнители ритуала 1
К
7654321
Восток
Юг
Северная сторона
Небо
1. Люди Солнца
2. Люди в маске буйвола
Пожилые носители Солнца
3. Люди звезд
Луна
4. Мир сумерек
Род (72)
5. Ночь
Огонь
6. Люди мистерии
Гром
Последний человек
7. Буйвол
Южная сторона
Земля
А. Суша
1. Орел
2.Бурый медведь
3. Пума
4. Лось
5. Рак
6. Ветер
7. Земля
Б. Вода
1. Носители черепахи
2. Люди метеора
Люди чистой воды
Носители мира
Водяные люди
Кошачий хвост
3. Благородный олень
4. Стрелки из лука
5. Ночь и рыба
6. Благородный олень
7. Град
162
Германские племена говорили точно так же, как «оусейдж», греки —
точно так же, как австралийцы. Речь придает чувственно воспринимаемому
миру такое значение, которое противоречит видимости. Ибо наши пять или
шесть чувств на уровне видимости применяются недостаточно. Таким
образом, язык должен создать те связи, которые вызывают некое общее
чувство в том «разброде чувств», о котором мы специально говорили в другой
своей работе (72). То, что наши семантики и логики называют
уподоблением, воображением, ассоциативным мышлением, символом, мистикой,
аллегорией, — это стальные тросы, соединяющие нас, случайных людей,
сквозь времена со всей мировой историей. Тот, кто говорит, разъединяет
или объединяет. Ложное заключение сознания состоит в мнении, будто
достаточно высказать то, что мы думаем. С другой стороны, мы неправильно
считаем, что обладаем полномочиями по своему усмотрению вступать в
общности или выходить из них. Лишь потому, что рассудок считает, будто
язык является нашей врожденной способностью и присущ нам от природы,
он не чувствует пульсации языка как животворной крови, обеспечивающей
жизнь человеческого рода. Эта кровь проливается, если говорящий отрицает
ту человеческую общность, в которой он говорит. Как только в племени
язык выносится за пределы политического порядка, он становится
колдовством. Таковым он является в большинстве случаев и ныне, когда древний
ритуал используется по отношению к соседской корове. Тогда священная
песня становится пустой и сводит людей с ума вместо того, чтобы
направлять их действия на будущее сообщества. Овеществление критицизма,
видящего во всей человеческой речи, любом ритуале или символе суеверие,
отрицает политическую функцию языка. Никакой подлинный ученый не
будет участвовать в этом злоупотреблении. Напротив, своими
исследованиями он укрепит республику ученых. Любая наука является языковой
общностью до тех пор, пока она слишком не загордится и пока она
продолжает признавать то большое общество, ради которого мы только и можем
позволять себя роскошь занятий этими специальными науками.
В любом случае наука, даже математика, оперирующая числами,
должна сохранять веру в могущество языка. Фактически она это делает, как
доказывают имена «вольт», «ампер», «гаусс». Здесь физика объединяет людей
доброй воли, именуя или провозглашая деятельность отдельных физиков
неким воплощением содержания общей для них сферы исследований.
Таким образом, наука выстраивает некий внутренний общественный мир и
потому является поистине символической, даже если ее александрийская
традиция страшится мысли о символизме. Нет, сама наука выстраивает
внутренний общественный мир по отношению к физическому миру и за его
пределами. Только александрийская традиция философии, грамматики и
логики осталась позади истинного символизма науки, создающего
общность. Тогда как наука в своих лабораториях создала новый ритуал и новые
символы, теория мышления и науки еще не освободилась от наследия их
аристотелевых, стоических и александрийских предшественников.
Благодаря антропологии все это представляется давно устаревшим. Любое
сообщение из какой-либо части мира способно свидетельствовать в пользу
ритуала языка. Образ, сравнение, уподобление и символ — это предпосылки
человеческого понимания. Великие слова греческой трагедии отнюдь не были
простым украшением или поэтическим декором, как это предположил Гил-
163
берт Мюррей (Murray) в своих «поэтических» переложениях греческих
классиков. Они являлись религиозными и правовыми понятиями,
посредством которых греки создавали присущий их городам дух общности и
посредством которых внутренний мир их общества получил возможность
выйти из хаоса внешних раздоров. Представление о «поэтическом» языке, как
оно существовало в викторианскую эпоху, было удивительно отчужденным
от действительности. Скелет рациональных и логичных мыслей был
фантастическим образом задрапирован «красотой», украшен поддельными
драгоценностями, старомодными словами англосаксонского или греческого
происхождения, и это считалось «поэзией». Но не в этом заключается различие
между поэзией и прозой. Наша работа о запятой (73) уже выявила
истинное различие между поэзией и прозой.
В этой работе, посвященной ритуалу языка, всего лишь указывается
на необходимость отказаться от викторианских представлений о поэзии
как использовании иносказаний и о научной прозе как неприятии этих
последних. Но можно было бы утверждать противоположное: любая
наука основана на иносказаниях; изначальная поэзия не использует
метафор в викторианском смысле.
13. Грамматическое здоровье
К нам должны обращаться с речью, чтобы мы не утомились или не
заболели. Никогда не будет доволен ребенок, для которого ни у кого нет
особого имени и к которому никогда не обращались с речью так,
словно он для того, кто к нему обращается, является единственным
ребенком на земле.
Учебники по психологии страдают от того заблуждения, которое
исказило знаменитую психологию Уильяма Джеймса (74). Сам Джеймс в
конце жизни отмежевался от этого своего учения. Ибо, как он говорил в свой
поздний период, истинным источником душевной жизни является тот
факт, что мы получаем признание со стороны других. В наши дни это даже
написано в учебниках. Но они упоминают об этом между прочим, и тогда
кажется, что данная истина только дополняет предшествующее описание
некоего самодостаточного «я», сделанное другим самодостаточным «я», а
именно психологом. Но существуют ли в действительности обе эти самости
— описываемая и описывающая? Более сорока лет назад один старый
рабочий, достойный, уважаемый токарь Хаазис сказал мне на своем смертном
одре: «Вся суть социального вопроса сводится к следующему: каждый
человек хочет быть любимым и любить». Как многозначителен этот в высшей
степени личный перфект: «Быть любимым»!"0 И Хаазис продолжал:
«Рабочий в качестве рабочего не любим обществом». Что же, то, что Уильям
Джеймс, увертываясь в духе современности от подлинного чувства, называл
«признанием» и то, что в устах умирающего Хаазиса в полном соответствии
с истиной называлось любовью, — это, говоря на языке грамматики,
призыв, адресованный исключительно Тебе, любимому. Поскольку сексуально
озабоченные люди способны думать только о чувственной любви, они не
* По-немецки: geliebt worden sein. - {Прим. ред.).
164
признают ни по отношению к самим себе, ни по отношению к нам
никакой избирательности, селекции, т.е. того факта, что все обращенные к нам
и доходящие до нас слова являются строго исключительными,
предназначенными только для нас. Я могу просто пронумеровать девушек. Но уже
знакомые мне девушки, прежде чем они воспримут меня всерьез,
стремятся услышать из моих уст свое единственное, неповторимое имя. Любовь —
а это полное обращение с речью — никогда не может быть испытана
человеком, боящимся, что его отнесут к области статистики. Либо я
принадлежу к области статистики, либо я способен принадлежать кому-то. Любое
смешение этих двух видов зависимости является неподобающим. Любой
воспитатель может проявлять справедливость и благородство по отношению
ко всем в равной мере. Может быть, это не пустяки. Но психологи заходят
слишком далеко, внушая воспитателям, что те должны ненавидеть
исключительность. Полдюжины матерей в Нью-Йорке сами организовали
детский сад для своих отпрысков, но в одной из них заговорила пробужденная
психологической наукой совесть и она пригласила профессионального
психолога-женщину. Та сказала: «Вы, матери, не должны организовывать этот
детский сад. Ибо каждая из вас либо предпочтет своего собственного
ребенка, либо, поддавшись угрызениям совести, вы предпочтете чужих детей.
Примите на работу меня, поскольку только я могу быть действительно
беспристрастной». Так они и поступили.
Но верно как раз противоположное: где нет ревности, нет и любви.
Если человек считает, что избежал ревности, он возводит тюрьму. И
этому ни в малейшей степени не поможет то, что тюрьма выдается за
детский сад. Тогда отменяется высшее призвание языка, поскольку именно
язык объявляет войну и объясняется в любви.
Принадлежать исключительно кому-то одному часто бывает
по-настоящему ужасным. Но, несмотря на это, здесь — исток всего великого. Дух
существует, вернее, происходит и возникает из понимания, что «никто
другой этого не хочет, а я — единственный человек в мире, которого это
заботит, а это — единственный ребенок в мире». Кому бы ни был присущ этот
дух исключительности по отношению к другому существу, он обладает тем
грамматическим качеством, которого нет ни у кого другого и которое
незаменимо. Мышление, основанное на гражданском праве, к сожалению,
изгнало это качество из сознания, но мы все живем им. Это грамматическое
качество, дающее способность и право отдавать приказания.
Юриспруденция выдает офицера за простого служащего (75). Но ни один служащий не
может мне приказать поставить на карту мою жизнь в бою. Специалист по
государственному праву не заметил этого небольшого различия между
офицером и служащим. Оно наводит меня на размышления. Между
командиром взвода и его подчиненными, очевидно, течет связующий их поток
исключительности, благодаря которому они образуют некое единое тело и
благодаря которому обретает смысл, например, то, что мы говорим о
капитане так, словно он является говорящей головой, а его подчиненные —
членами тела, которым он может безоговорочно отдавать приказания.
В доме для сирот распоряжение идти спать может быть отдано 160
детям. И опекун может распорядиться относительно того, в какую
церковь должен ходить его питомец. Но в обоих случаях эти распоряжения
являются производными изначальной родительской власти и родитель-
165
ских полномочий, поскольку мы предполагаем, что родители отделяют
весь остальной мир как нечто второстепенное от тех, кому они отдают
приказания, — от своих детей. Мы позволяем родителям распоряжаться
по их усмотрению лишь потому, что у этих родителей дети, как
правило, стоят на первом месте. И точно так же, у хорошего офицера его
подчиненные стоят на первом месте, впереди всех остальных. Таким
образом, открытое нами грамматическое качество — это не известная
учебникам по языку предпосылка всего силового поля приказаний и
послушания. Это силовое поле способно образоваться лишь тогда, когда
слушающий может полагаться на то, что говорящий действительно думает
только о нем, слушающем. Возможно, здесь можно говорить о vocativus
exclusivus (76). Любая супружеская пара свидетельствует о нем.
Мне кажется, что в наши дни роль звательного падежа понята столь
же мало, как и повелительного наклонения. Немногие обращают
внимание на то, что в языках имеются особые виды повелительного
наклонения. Такие образования, как Ганс, Фриц, Курт, мы обычно называем
уменьшительными именами, ласкательными именами, шутливыми
именами. Не вызвано ли это, однако, лишь тем, что грамматики стремятся
представить первый падеж, звательный, как восклицание? Если это все-
таки восклицание, то нельзя недооценивать его формообразующую силу
в именах. Звательный падеж — это не языковая роскошь. Конечно, если
исходить из не способных говорить вещей и из того, что люди — факт
природы, то время возникновения языка выпадает из поля зрения. Ведь
имя «незабудка» все же должно было напоминать нам обо всем звучащем
мироздании, в котором никто не мог говорить о предмете, вещи или
человеке, если прежде он не обращался с речью к этой вещи, этому
предмету, этому человеку. Однако лингвисты исходят из некоей коллекции
слов и начинают с adversativ'a, некоего противительного падежа, т.е.
такой речи, когда мы говорим о творении за его спиной. И эту могильную
плиту лингвисты называют обычной формой «именительного падежа».
Тот, для кого универсум состоит из «противительных падежей», должен
превратить его в атомные бомбы. Ибо противостоящее мне,
противительное, предмет, я воспринимаю в качестве чего-то угрожающего до тех
пор, пока не смогу орудовать им по своему усмотрению.
Мир лингвистики считал нормальным начинать анализ языка с таких
фраз, как «Зевс посылает дождь», или «солнце сияет», или «солдаты
маршируют», или, что еще хуже, с противительных форм «Зевс», «солнце»,
«солдаты». Платоновский диалог «Кратил» являет собой печальный
образец такого негибкого подхода к языку. Как автор этого диалога может
считаться святым гуманитарного исследования — великая тайна.
Совершенно очевидно, что Платон потерял связь со своим народом. И сближение с
ним состояло не в том, чтобы говорить с помощью именительных
падежей, а в том, чтобы взывать: «Зевс, пошли нам дождь!». Не следует думать,
что я всего лишь занимаюсь здесь игрой грамматическими формами.
Целые народы были побеждены с помощью звательного падежа. Наиболее
выразительным примером этого является город Рим. Этот маленький
клочок земли посреди Лация в VI в. отказался от культа Зевса-Вейовиса (77),
маленького Зевса в образе юноши, выступающего в качестве бога
преисподней. И в то время как Рим упрочивал свое собственное понимание,
166
римляне сосредоточили свое внимание на Юпитере, звательном падеже
«Зевса-отца». С помощью этого римского звательного падежа «Зевса-отца»
имя, бытовавшее у латинян, было оттеснено на задний план, оно
«прозябало» в сельской местности, где ему еще сохраняла приверженность семья
Юлия Цезаря. Граждане Рима могли взирать свысока на этих отсталых
крестьян. Римляне никогда не употребляли какой-нибудь «именительный
падеж» для называния своего верховного божества, и Геркулес — это тоже
звательный падеж. Мамертины (78) были прозваны так потому, что они
дважды призывали Марса: «Марс, Марс, Map-Map» (79).
Пошли дождь, Зевс, пошли дождь, Юпитер! Солдаты, маршируйте!
Солнце, свети! Будь моей женой! Эти обращения образуют первый слой
языка, и в живом универсуме призывы и требования появляются раньше,
чем имена. В нашей грамматике приводятся примеры звательного падежа.
При этом его целью объявляется призывание тех лиц, к которым
обращаются с речью. Но уже колебания в выборе выражений для обозначения
этого главного процесса — «призывать», «звать», «звательный падеж» и
«воззвание», «обращение» — выдают некоторую неуверенность. Выражение
«призыв» точно так же отличается от выражений «vocativ» и «apellativ». Но
«звательный падеж», «призыв» и «падеж» с необходимостью взаимосвязаны.
Говорящий сам бросается в них. Мы обретаем самих себя в наших звательных
падежах. Так же, как мать становится матерью лишь потому, что она
призывает по имени своего ребенка, мы делаемся офицерами, когда отдаем
приказания своим подчиненным, или становимся учителями, поскольку
наши ученики встают, когда мы к ним обращаемся. Звательные падежи
направляют что-то на того, кто их произносит. Они увлекают за собой.
Французское предложение «Je suis leur chef; il faut que je les suive» (80) — не
просто шутка, оно вполне истинно. Своей формой жизни мы обязаны тем, кого
призываем, — и притом с помощью звательного падежа (81).
Когда Гомер призывает Музу, он отнюдь не играет с архаическими
формами, как это делает поэт нашего барокко. Нет, Гомер утрачивал самого
себя, свою собственную прозаическую самость в этом призыве и, тем
самым, пускал корни в поэтической сфере олимпийских Муз. Когда Цезарь
в своем знаменитом обращении к легионерам назвал их квиритами (82), т.е.
гражданскими лицами, то в это же самое мгновение в силу этого
обращения Цезарь и солдаты оказались в области гражданского мира города Рима.
Точно так же Гомер переносился на Олимп для того, чтобы быть в
состоянии запеть свою песню в возвышенном настроении боговдохновенного
певца. Пускай нам, александрийцам, каковыми мы на самом деле
являемся, трудно всерьез воспринять этот смысл его призыва. Но мы можем
проникнуть в великое время рождения поэзии лишь тогда, когда будем
сопровождать Гомера в его перемещении в эту страну, находящуюся за
пределами его повседневной самости, страну, которую он первым из всех
человеческих существ призван был открыть. Чтобы мы снова поверили в богиню
Гомера, среди нас выступил Гёльдерлин (83), как дар Муз. Всякий раз, когда
наши звательные падежи оказываются изначальными, происходит так, что
мы живем в наших звательных падежах или поселяемся в них. В наши дни
это едва ли кто понимает. Французы XIX в. сделали из Эллады культ. Даже
когда граф Гобино (84) прославлял средневековье в своем «Амадисе», или
когда Клемансо (85) проявлял чудеса политического красноречия, или в
167
произведениях Анатоля Франса, Флобера, Виктора Гюго и многих
других, — везде призывалась Греция. Как это происходило? Я приведу
особенно яркий пример. Гобино с помощью одних только звательных падежей
дает нам понять, насколько сильно ему хотелось бы навязать нам Афины в
качестве духовной родины. Он наверняка гордился следующей строкой: «Et
toi, Athènes, Athènes, Athènes, Athènes —» (86).
И здесь мы видим четыре звательных падежа. Но душа поэта с
помощью этого призыва приходит на свою настоящую родину. Эта шалость
гения Гобино превращает Афины в часть средневекового мира. И
Джульетта ведет себя соответствующим образом, когда произносит имя
Ромео, — но у нее, любящей и любимой, обращенный к ней императив
оказывается запечатлен в самой глубине сердца, как огненный знак: «It
is ту soûl that calls upon ту пате» (87).
Звательный падеж и призыв еще не осуществили своих притязаний в
лингвистике и социологии, не говоря уже о политических науках. Иначе
первые строки «Илиады» и «Одиссеи» привлекли бы больше внимания
тех, кто отрицает их единство. Если бы они поняли призывание Музы как
призывание духовной родины певца, то они сумели бы осознать, каким
образом «гнев» и «муж» были странами, странами души, которые увлекли
великого поэта в страну Муз. Никакая последующая мысль никогда не
была бы в состоянии так сосредоточить в себе промежуток времени
между первым и последним словами «Илиады» и «Одиссеи», как эти два
слова. И нам предлагают считать, будто последующая мысль, простая
совокупность отрывочных, механически соединенных между собою сведений,
лишь задним числом создала эту столь привлекательную дугу времен
между ожиданием и исполнением гнева мужа? Филологи от Вольфа (88) до
Виламовица (89) ничего не понимали в религии имен. Здоровье
говорящего, дающее ему способность переноситься в поэтическую страну, раньше
называлось ответом, а теперь перегруженным словом «ответственность».
В английском языке из «response» также возникло скучное слово «respon-
sibility». В наши дни «ответственность» и" «responsibility» утратили свой
блеск. Их воспринимают слишком активно. «Гансик, иди сюда!» — это
языковая связь, благодаря которой мать и ребенок отказываются от
своих прежде существовавших самостей: она, вкладывая всю себя в
звательный падеж, и Гансик, относя к себе императив и взбираясь на него как на
скамеечку для ног, которая теперь сообщает ему его самобытность.
Конечно, мать делает это из чувства ответственности за своего ребенка. Но не
следует при этом недооценивать ее отказ от собственного «я», ее превра-
щение-в-мать, если это звучит лучше. Никто не может быть
ответственным, если это не будет ответом. В словаре индейских наречий, во втором
томе, Э.Сепир (90) приводит интересный материал о звательном падеже в
сфере семейных отношений, а другой исследователь, Трахтенберг,
следует ему в этом вопросе. Еще один языковед, Майнхоф, указывает, что в
диалекте «корана» языка готтентотов слова в звательном падеже утрачивают
свои суффиксы грамматического рода. Современная грамматика не
замечает того, насколько двузначна любая жизнь. Она колеблется между
деятельным бытием и долженствованием претерпевать воздействия.
Поэтому она должна руководствоваться средним регистром и иметь
возможность определяться им. Никто не становится ответственным благодаря
168
нравоучениям. Человек должен, так сказать, погрузиться в среду между
солидарностью и обособлением, получить определенность, и тогда все
остальное придет само собой. Мы обязаны греческому языку, по меньшей
мере, знанием такой формы речи — среднего залога. Но вся сегодняшняя
терапия души должна заново открыть утраченный нами средний залог. Бог
ничего не «делает», он — рождает (Ис. 42 : 14; Ин. 16 : 21).
Капитан, способный сказать своим подчиненным: «Третья рота, взять
деревню!», делает их активными, поскольку он верит в них, поскольку он
вкладывает самого себя в имя людей, к которым обращается. Солдаты,
берущие деревню, из-за того, что они восприняли приказание своего
капитана, не стали «пассивными» в грамматическом смысле. Со своей
стороны, он не является «активным» в грамматическом смысле. И капитан,
и его подчиненные одновременно активны и пассивны. И это —
нормальное человеческое состояние. Любая не мучимая вопросами,
непроизвольно возникшая, счастливая и благословенная человеческая группа
живет в среднем залоге, когда различие между активным и пассивным
залогом остается неразвернутым и является менее важным, чем
попеременная речь людей, верящих в объемлющую их солидарность. Без этой
корреляции между звательным падежом и повелительным наклонением
заключение брака было бы невозможным. Здесь говорящий живет в
звательном падеже. Слушающий оживает в повелительном наклонении.
Ужасные злоупотребления, вроде «Милый, вымой посуду», «Любимый,
держи язык за зубами», не могут опровергнуть великую истину
правильного использования языка. Разумеется, психологи упразднили бы
заключение брака, поскольку оно могло бы привести к пагубному исходу.
Средний залог рассматривается грамматиками как странная
особенность греческой грамматики и отложительной формы латинского
глагола. Но это — язык рая и невинности, язык неразрушенной
солидарности. Напротив, немецкий язык болен.
Другой пример грамматического здоровья может быть позаимствован из
исторической формы языка. Ребенок, которого спрашивают: «Что вы
сегодня ели на обед?», обычно отвечает: «Мы ели капусту». Если он ответит: «Я
ел капусту», то мы можем быть уверены, что у него дома что-то неладно. Не
только еда создает опыт общности, посредством которой освящается
питание, поскольку оно объединяет людей друг с другом. Похоже, что фактом
является и то, что мы требуем сделать прошедшую историю «нашей», «но-
стрифицировать» ее и говорить об общественных событиях во
множественном числе величия: мы, наш, нам. Та же самая мать и тот же самый
ребенок, которые живут в отгороженной от общества ситуации, называемой
«Гансик, иди сюда!», которые выбирают друг друга и ради друг друга
забывают об остальном мире, будут выражать те же предложения с помощью
«мы». Мать даже с радостью намеренно подчеркнет тот имевший место
факт, что Гансик выполнил приказание. Рассказ о событии, когда мальчик
сначала не послушался, часто инстинктивно облекается в форму «мы».
Мать — особенно в присутствии Гансика, — как правило, не скажет ни «он
пришел», ни «ты пришел», а «И наконец мы пришли!».
«Мы» — это блаженство истории и памяти. Покуда я говорю о моем
прошлом с помощью «я», я не примирился с самим собой. Оглядываясь
назад, мы пытаемся говорить с помощью обобщений. Мужчина может ска-
169
зать: «Что же, мне было семнадцать лет, и я думаю, в семнадцать лет мы все
ведем себя.так». У меня нет априорной теории по поводу какого-либо из
этих грамматических наблюдений. Но я считаю их великими законами
человеческого пресуществления (транссубстанциализации). Субстанциально
люди переходят от задач будущего к обязанностям прошлого, переходя от
«ты» будущего к «мы» прошлого. Нострификация спасает нас от нашего
одиночества в качестве первопроходцев. Возможно, мы стремимся к
товариществу и воспринимаем призыв из будущего как возможность нового
товарищества. Одинокий первопроходец в своем одиночестве продвигается
вперед. Но стал бы он это делать, если бы в результате его первопроходчес-
кой деятельности не появился однажды штат Вайоминг? Первый шаг
совершается в одиночестве. Но в результате историческое провидение всегда
превращает это действие в общую собственность и общее знание. Это
происходит оттого, что связь между подлинным будущим и подлинной историей
— это связь невольного и всеобщего узнавания, полного опасности и
неопределенности. Это субстанциальное превращение проявляется, когда «ты»
заменяется на «мы». Пока действие находится в начальной стадии,
наибольшее давление должно сосредоточиться всецело на личности, вызванной по
имени. Действие само по себе не существует, и потому все, что
существует, возникает из рвения того, кто с неизбежностью должен выполнить это
действие. Всем известно, что приказание не считается отданным
правильно, если оно не сделает целиком ответственным за его исполнение хотя бы
одного человека. Но если смотреть в прошлое, это все меняется.
Выполненное по приказанию действие теперь освобождается от звательного падежа
исполнителя, поскольку между тем он сам «родился», и теперь естественная
скромность исполнителя снова возвращает его в состояние девственной
души. До тех пор, пока действие называется «его» действием, оно еще не
поглощено товариществом, и исполнитель еще не отделился от него.
Тщеславие может ввести деятеля в искушение связать с действием
исключительно свое имя. Требование грамматического здоровья будет состоять в том,
чтобы он отделил действие от исключительной связи с собой, поскольку
тогда он освободится от дальнейшей ответственности или чувства
ответственности. Если же исходящее от него действие кем-то другим
обозначается как наше действие, то его инициатива тем самым достигла своей цели,
и в нем теперь может проявиться нечто новое, касающееся приказания и
исполнения.
Эти две позиции, звательный падеж и повествовательное суждение,
иллюстрируют выражение «грамматическое здоровье». Мы, люди,
здоровы настолько, насколько мы беспрерывно меняемся, проходя через
соответствующие грамматические формы. Поэтому «здоровее» сказать себе:
«Не будь дураком!», чем: «Я дурак». Здоровее сказать: «Мы поступили
хорошо», чем: «Я поступил хорошо». Точно так же здоровее, если человек
поет: «Я хотел бы быть свободным» или: «О, полюби меня!», чем: «Пускай
они будут счастливы!» или другие тому подобные благочестивые фразы.
Религиозное, поэтическое, общественное и научное сознание
должно обладать своими способами выражения и своими грамматическими
представлениями в наших душах. Мы снова и снова должны быть
неисписанными листами, но перед лицом призыва или заповеди
становиться «ты», прежде чем сможем сделаться для самих себя «я», «мы» и «оно».
170
Между тем, мы должны изменяться, и никакая форма не может быть
связана с нами постоянно. Все наши внутренние «ты» должны быть
однажды объективно погребены в нас. Но всякий раз должен появляться
некий новый призыв, другое «ты», к которому еще обратятся с речью и
которое переживет все относящиеся к истории и проанализированные
«ты», «я» и «мы». Смерть души наступает непосредственно после
исчезновения последнего призыва к способности человека предоставлять себя
в его распоряжение.
Грамматическое здоровье — это здоровье, связанное со способностью
преобразовать свою субстанцию (способностью к транссубстанциализа-
ции). Ибо то, что изменяется, когда мы переходим от звательного к
именительному падежу, от состояния призванности (appellation) к научной
упорядоченности (classification), — это действительно наша субстанция.
Грамматическое здоровье включает в себя как умирание духа, так и его
переход к жизни. Грамматическое здоровье подтверждает тот факт, что
дух должен умереть для того, чтобы снова возвыситься.
Очевидно, что с таким положением дел связаны серьезные трудности.
Целые человеческие общности могут отрицать, что специфическое
одухотворение когда-либо умирает. Другие человеческие сообщества могут
оспаривать то, что какое-либо специфическое одухотворение может
притязать на то, чтобы сделаться для них авторитетным.
На древнем мире лежит проклятье не способных умереть, но мертвых
духов. На нашем механистическом мире лежит проклятье
неродившихся, не знающих зачатия форм одухотворения. Два примера - (А и В) -
могут послужить иллюстрациями великой дохристианской проблемы не
способных умереть духов, а два других — (С и D) — иллюстрацией
проблемы мертворожденного одухотворения.
14. Уход в отставку, отмена полномочий (лишение силы)
А. Каждые четыре года мы выбираем президента. Американская
конституция не разрешает, чтобы в течение последующих четырех лет президент
обращался к народу с целью нового подтверждения доверия. Он имеет,
удерживает и сохраняет власть все четыре года. Если у него появится
желание уйти в отставку, вице-президент займет его место и таким образом
воспрепятствует непосредственному обращению к народу уходящего в
отставку президента. Когда в 1938 г., непосредственно перед второй
мировой войной, президент чувствовал себя настолько несчастным, насколько
он мог быть несчастен в связи с законом о нейтралитете, — а его секретарь
Халл (Hüll) плакал, поскольку сенатор Боура (Borah) блокировал
проведение какой-либо разумной политики, — он все же не мог уйти в отставку
и в ходе отважной кампании побудить страну начать быстро вооружаться.
Черчилль или премьер-министр какой-нибудь другой страны мог бы
поступить так. Иными словами, американская конституция непреклонна,
она не позволяет человеку вывести народ из того душевного состояния, в
которое он пришел в итоге выборов, результаты которых действительны в
течение четырех лет. Нет никакого способа лишить силы эти результаты.
Президент не может уйти в отставку, поскольку вице-президент — его вто-
171
рое «я». Телесно президент может уйти в отставку. Но дух той платформы,
на которой он был избран, продолжал бы жить в личности
вице-президента. Не во власти президента Соединенных Штатов с помощью отставки
провести перегруппировку политических сил, — а ведь именно эта
перегруппировка была мощнейшим оружием таких людей, как Дизраэли (91),
Клемансо или Бриан (92).
Это ограничение власти президента — если принять во внимание
короткий промежуток времени продолжительностью в четыре года — не
кажется необоснованным. Возможно, до 1938 г. не было момента, когда
отсутствие этой власти лишения силы вообще было ощутимым. Признавая
ныне, что эта власть в пережитом нами мировом кризисе превратилась в
серьезный вопрос, мы начинаем понимать великие дела других эпох. Если
даже мы так сильно верим в законность духа, считая, что он не может быть
изменен в течение четырех лет, то древние вообще не могли его отменить.
Шабаш ведьм является очень характерным в этом отношении примером.
Древний танцевальный ритуал племени был вытеснен христианством. Но
как эти магические песнопения, относящиеся к ритуалам плодородия,
могли когда-либо утратить свою силу и свою власть над душами людей?
Этого не могло случиться до тех пор, пока живой оставалась
непосредственная инициация. В «Фаусте» Гёте, в сцене Вальпургиевой ночи,
описаны последние остатки традиции. Ибо ведьмы, о сжигании которых мы
сожалеем, глубоко верили в то, что они являются ведьмами. Сила их
колдовства происходила из лишенных корней, оторванных от своих истоков
ритуалов дохристианского общественного порядка.
Клайд Клакхон (93) написал замечательную монографию о
колдовстве у индейцев племени навахо (94). Он перечислил факты очень
добросовестно. Однако и он допускает, что разрушение строения племени
передало древний ритуал в руки лишенных корней индивидов. В
колдовство превратился ритуал, выполняемый без надлежащей
ответственности, поскольку авторитет сохранился, а ответственность исчезла.
Исполнителей колдовских песнопений нельзя было лишить силы.
Когда Эриний в Афинах нужно было умиротворить с помощью
приготовленного им в городе убежища, то Эсхил сначала описывает
магический закон их колдовских песнопений и затем позволяет им обрести
новое, более красивое имя. Они были названы Эвменидами. Никакое
однажды созданное колдовство не могло быть уничтожено, оно могло
быть только надстроено новыми знаниями и значениями.
Таким образом, колдовство — это выдающийся пример
одухотворения, которое нельзя объективировать и похоронить, прежде чем группа,
давшая ему жизнь, не утратит свою жизнеспособность.
В. Проблема ухода в отставку государя, короля или императора — это
вторая великая проблема «лишения силы». Фактически история связывает
это выражение с вынужденным отречением императора Людовика
Благочестивого в 834 г. Языческих римских кесарей, становившихся
невыносимыми, просто убивали. Но на пороге христианского мира Диоклетиан
впервые отказался от императорского достоинства как от обязанности,
которую можно с себя снять. В 305 г. он сложил с себя пурпурное одеяние
«Августа». Когда его соправитель впоследствии заклинал его вернуться к
власти, Диоклетиан презрительно говорил об этой высокой должности:
172
«Если бы ты увидел прекрасные овощи, которые я выращиваю в Сплите,
ты бы мне этого не предлагал». Благодаря своей религиозной твердости
Диоклетиан поставил себя позади того времени, когда из кесарей делали
богов. Он был гражданином старой Римской республики и говорил так:
«Моему благочестивому и религиозному сознанию представляется, что
институции, созданные римскими законами, должны будут вызывать
уважение вечно. Я не сомневаюсь, что бессмертные боги и в будущем будут
покровительствовать имени Рима и защищать его, если только эта
благочестивая и религиозная, мирная и благородная жизнь продолжится». Это
написал не «бессмертный» бог, а смиренный человек.
Благодаря этому великодушному поведению он практически вывел себя
за пределы магического круга, в который была заключена божественная
фигура кесаря. Тот же самый Диоклетиан, последний император, который
преследовал христиан, в своей собственной жизненной практике
предвосхитил требование новой веры, а именно то, что кесарь должен считаться
смертным человеком. В этом смысле Диоклетиан был настоящим
христианином. Константин, пришедший ему на смену и ставший первым
христианским императором, в своей практике был менее христианином, чем
Диоклетиан. Трагическая сторона преследования Диоклетианом христиан
заключается именно в том факте, что в течение его правления христиане
страстно стремились к власти, а он — нет. Его историю написали его враги, но
они заметили эту дилемму «лишения силы»: «Когда Диоклетиан увидел, что
его имя будет уничтожено при его жизни, чего не случалось ни с одним
другим императором, он решил умереть» (95). Exauctoratio, отставка,
невозможна до тех пор, пока есть вера в то, что одухотворение живо. В Соединенных
Штатах выборы считаются одухотворенным актом. По этой причине ни
один президент не может отменить итогов выборов, прежде чем не
закончится соответствующий промежуток времени. Однако Диоклетиан
освободился от магического действия одухотворения, связанного с божественным
именем императора Августа, уйдя в тень как архаический республиканец;
подобно Цинциннату (96), он вернулся к своей пашне. С этой точки зрения,
в целом не было значительным шагом решение Константина, что
императоры могли бы становиться христианами. Огромное препятствие, мешавшее
его крещению — обожествление на все время жизни, — было устранено
преследователем христиан Диоклетианом. Через пятьсот лет после
Диоклетиана епископы Галлии попытались лишить наихристианнейшего из всех
императоров его ранга. Они отобрали у него меч и его пояс воина, они
вынудили его подписать заявление об «exauctoratio». Все это было напрасно.
Народ не верил, что помазанный на царство государь может когда-либо
перестать быть законным правителем. Епископы были вынуждены вновь
посадить его на трон. В конце того же IX в. шабаш ведьм разразился внутри
самого института папства. Это означает, что папа даже этим тевтонским
прелатам казался человеком, владеющим вечной, не подлежащей отмене
магией. Папа Формоз был вызван из епископства в Далмации и в течение
короткого правления в Риме рукополагал священников. Его враги пытались
доказать, что епископ не может быть переведен из одного места в другое без
нарушения присяги. И действительно, это было древним священным
основоположением церкви. Поэтому они выкопали его труп, посадили его на
трон, провели тщательное обследование тела и отрезали ему руку. Отделив
173
от тела руку, которая осуществляла рукоположение священников, они
сами верили, что теперь эти действия аннулированы и уничтожены.
Трудность уничтожения авторитета этого папы казалась настолько
непреодолимой, что он должен был потерять свою руку, прежде чем смогла
возникнуть вера в утрату им его колдовской силы! Но нам следовало бы
остановить мгновение и уважительно отнестись к тому раздору, во власти
которого оказались эти люди, если учесть, что индейцы племени навахо были
близки к тому, чтобы убивать друг друга с помощью колдовской силы, и
что из этих ритуалов могла бы возникнуть невообразимая анархия, если
бы в дело не вмешалось американское правительство (97). А теперь мы
рассмотрим присущие нашему собственному миру трудности
противоположного свойства, которые вызваны слишком ранним публичным
обнаружением творческого поведения.
С. Я сам пережил на опыте провал двух предприятий, к осуществлению
которых казался предназначенным. Причиной стало преждевременное
разглашение замысла. Никакой императив не способен стать действенным,
если за ним не может последовать некоторое посвященное исключительно
ему действие, причем еще до рефлектирующего рассуждения и публичной
критики. Освещенная светом приказания «чаша времени» должна быть
защищена от огня и тепла, прежде чем начнется первый объективный
анализ, — иначе силовое поле, в котором человеческая группа может
сотрудничать, никогда не образуется. В одном из двух упомянутых случаев мы
умоляли маленького человека, который сорвал нашу работу, не писать о нас
слишком рано. У него был шанс заработать тридцать долларов за статью о
нас в «Нью Йорк Геральд Трибьюн». Эта статья появилась на четыре
недели раньше того, как дело пошло. Тот человек думал, что он мог бы помочь
себе и уменьшить урон, написав с похвалой о президенте и о нас. Но
доверие к спокойному, огражденному от всяческих споров началу было
подорвано. Хвалили ли нас или критиковали — при появлении
преждевременной публикации это было безразлично. Только что появившиеся из-под
земли ростки салата нельзя освещать дуговой лампой. Но я не хочу
навязывать читателю этот свой опыт. Ведь читатель привык считать доказательную
силу личного опыта слабее доказательной силы статистических данных.
Однако огромное напряжение сил США во время войны может послужить
примером. Осенью 1944 г. губернатор Дьюи попытался воспрепятствовать
четвертому переизбранию президента Рузвельта, сказав: «Если вы
выберете президентом меня, то я вступлю в должность только 20 января 1945 г.;
вторая мировая война тогда закончится». Таким образом, он попытался
одержать победу с помощью аргумента, который год спустя в Англии
фактически сверг Уинстона Черчилля. Императив, который в обоих случаях
был призывом к единству в условиях войны, перестает действовать, как
только мы оказываемся в состоянии увидеть его исполнение. Таким
образом, как только заповедь некоего промежутка времени кажется
выполненной, она утрачивает способность подвигнуть нас на самоотречение. И в
самом деле, пятеро моих друзей в период между октябрем и Рождеством
1944 г. прекратили участвовать в войне, причем каждый выдвигал свои
причины. Ведь едва только улетучиваются чары промежутка времени, причин
становится так много, как ягод на кусте ежевики. Когда чары выборов и
чары войны столкнулись между собой, осенью 1944 г. в Америке по праву
174
еще победили чары войны. Наступление под Рундштедтом было еще
впереди. Но для нас здесь этот случай имеет огромное значение. Он служит нам
уроком и показывает, что никакое общество не может жить без такого
колдовства. И лучше для него, если оно будет знать об этом колдовстве.
D. Сегодняшнее общество испытывает большие трудности в связи с
необходимостью признания этого колдовства, поскольку два великих чуда,
профессия и брак, ныне лишаются своих чар — профессия в процессе
бесконечной смены места работы, а с браком это происходит вследствие
разводов. Как только мы посмотрим на состояние, возникающее после такого
брака, исчезает последнее стремление продолжать доверять брачному
обету. Как только жена начинает осознавать угрозу непостоянства своего
мужа, она оказывается вынуждена вести себя совсем по-другому, чем
нормальная женщина. Одна наша знакомая, страстно любившая своего мужа
и имевшая от него двоих детей, должна была пережить уход мужа к
другой женщине. У нее не было жилья; дело в том, что ее сердце не
позволяло ей оставаться с ним в одном городе. Она отправилась в летний лагерь,
где оставалась три сезона, словно была ребенком. Это был единственный
императив, который она воспринимала ввиду отсутствия подготовки.
Более проницательные жены в мудром предвидении обзаводятся друзьями и
окружением за пределами семейной жизни, получают профессию,
прежде чем случится худшее. У них должно быть что-то на крайний случай, во
что они могли бы «уйти». Но именно поэтому они сами отпадают от
брака. Он становится одним из дел среди многих других.
Если брак становится чем-то относительным, то он оказывается
делом относительной важности и может закончиться, как все
относительное. Просто он закончится по этой причине. Любое множественное
число убивает рост. Живое растет только в условиях бесконечной
самоотдачи. То, что кажется окончательным, больше не может расти. Исчисляе-
мость — это цель расхолаживающего настроения всех наших
абстрактных изъявительных наклонений. Исчисляемость — это безымянный
язык любого анализа: вот он, случай брака, а это — война среди других
войн, план среди многих планов. Для брака то, что было здесь
высказано, означает гарантию развода, для войны — вероятность ее
развязывания, для плана — неизбежность продажности и расхлябанности. Тот, кто
хочет совершить нечто значительное, не должен исчислять ни время,
которое для этого требуется, ни хлопот, которые с этим будут связаны, ни
средств, которые будут этим поглощены. Ибо исчисление разрушает
чары промежутков времени, оно отделяет душу от ее языкового ритуала,
и душа остается неродившейся. Большинство наших молодых рабочих
живут в качестве неродившихся душ. Ибо работа — это дело N 23 или
N 34. «Their soûls remain unborn» (98), — написал один мой студент.
Грамматическое здоровье нуждается и в том, и в другом: в
благоговении перед сложно структурированным временем и в способности лишать
время чар, когда связь времен распадается. Великолепные слова
Гамлета сказаны совершенно серьезно. Ибо если «распалась связь времен», то
дядя Гамлета — больше не король, а его мать — не королева. И они оба,
страшась терзаний совести, в соответствии с этим уходят и из этой
мнимой жизни, которую они ведут. Отрекаясь и умирая, Гамлет снова
связывает времена. Здоровая душа говорит с верой о самой себе как о «ты»,
175
но в лирике — как о «я», а в социальной области или в политике как о
«мы», тогда как в научной полемике и в технике — как об «оно» и «он»,
по возможности в пассивном залоге: «Здесь взято столько-то фунтов...».
Она должна следовать четырем ритмам исполнения императива. У нас
этому изменению отводится недостаточно времени, а у примитивных
народов — слишком много. Души многих индейцев племени навахо
слишком долго остаются под действием чар. Души жителей больших
городов слишком долго остаются неродившимися.
15. Три грамматических рода
Язык человечества — это речь мужчин и женщин о мире, к которому,
конечно же, неизменно причастны три элемента. Две великие формы
свидетельствуют об этом постоянном ухаживании за женщинами с помощью
используемых мужчинами ласкательных имен, подарков, денег на домашние
расходы, улещивания и употребления власти в рамках самого домашнего
хозяйства, домашнего воспитания, предоставления женщинам права
расходовать запасы. Этими формами являются, с одной стороны, боги и богини
древних религий, а с другой — грамматические роды. Обе эти формы
служат доказательством нашего утверждения о трех направлениях языка.
Грамматика говорит не о биологическом поле, а о грамматическом роде. И это
не случайно. Сексуально озабоченные люди повсюду видят фаллос.
Однако грамматический род не поддается искушению рассматривать все в
качестве имеющего пол. Он раздает свои дары, исходя из более глубоких
причин. В английском языке корабль и автомобиль могут быть облагорожены
тем, что из «it» (99) они превратились в «she» (100). В другой раз автомобиль
или часть света Европа могут оказаться простым «оно». Поэтому
грамматический род — нечто большее, чем анатомический атлас половых органов.
Регионы грамматики происходят не из анатомии, а из небесных сфер, где
вечно властвуют Зевс и Гея, Юпитер и Юнона, Фрейя (101) и Вотан (102),
откуда они и нисходят к разделенному на два пола человечеству. Таким
образом, мы поймем грамматический род и богов неправильно, если станем
конструировать их снизу вверх. Самое высшее, а именно зачатие,
оказывается превосходящим телесное разделение на два пола. Мужчинами и
женщинами в физиологическом отношении мы являемся лишь потому, что
только так можем толковать единство творения в его живой
противоречивости, и потому, что на нас лишь единожды возлагается обязанность
истолковывать его. Ибо если мы не истолковываем смысл мира, мы сами
становимся бессмысленными и начинаем уничтожать самих себя.
Таким образом, с грамматическим родом дело обстоит точно так же,
как и со всей грамматикой. Церемония использует телесные вещи,
точнее, она использует само тело, и слово «вещь» здесь излишне, —
использует для того, чтобы посредством выполнения ритуала изменить наше
сознание. Священник носит свою рясу, английский судья надевает
парик: тем самым оба выходят за пределы своего пола и оказываются
принятыми в сферу богов, примиряющих оба пола. Короны, гирлянды,
жезлы, эполеты надевают или берут в руки для того, чтобы мы смогли
войти в ту эру, которая должна быть дольше нашей собственной краткой
176
жизни. В ритуале посвящения юноша обретал свое предназначение.
Поэтому отныне он надевал набедренную повязку. Она выражала собой
продолжение инициации, и благодаря ей он не забудет о своей
длящейся роли. На время своей жизни он возвышен до уровня воина, а воин —
к сожалению, об этом чаще всего забывают, — это больше, чем просто
мужчина, он возведен в особое достоинство и ему может быть дано
слово. Слово может быть дано лишь тому, кто научился одерживать победу
над своим половым влечением: именно в этом и состоит инициация!
«Волчья пасть» или «Медвежья лапа» раз и навсегда предназначены быть
воинами, и такое предназначение — больше, чем то, чем нам сегодня
представляется «имя». Это назначение на службу, которое должно сохранить ему
ясность сознания в ходе всех перипетий телесной жизни, как в кругу
своих, так и в изгнании, в пустыне. И даже в заточении и на колу, куда его
посадят враги, имя человека еще будет петь ему свою песнь, а набедренная
повязка — служить облачением его политического образа. Таким образом,
для воина его временной континуум, образованный именем и одеждой,
прикрывающей срам, охватывал собой пятьдесят и более лет. Решающим
началом этого пути времени являлась инициация, а решающим концом —
погребение. Когда я читаю у антропологов рассуждения об обрезании, этом
снятии покрова с мужественности, которое компенсируется надеванием
одежды, прикрывающей срам, то я всегда удивляюсь тому, насколько эти
рассуждения «чужды времени». Объявлялся ли воин полностью достигшим
мужской зрелости с помощью обрезания, как это имеет место в племенах,
либо обрезанию подвергался младенец в первые дни своей жизни, как это
происходит в Израиле, — это и только это изменяло угол зрения на жизнь
воина. В одном случае поименованное существование начиналось с
инициации, в другом — с колыбели. В этой альтернативе выражается чудовищная
пропасть между двумя полностью отделенными друг от друга религиями.
Ибо наша жизнь в материальном отношении предлагает очень мало
альтернатив. Дыхание, еда, сон, зачатие, роды, смерть — все это предопределено.
Но наше «когда» — это важнейшее свойство, освобождающее или
порабощающее нас. Постящегося, проходящего инициацию, вступающего в брак,
мученика — всех их ждет божественная свобода вследствие выбора кайро-
са, подходящего момента. Любое откровение умело растягивать моменты
своего разрешения, позволяя нам стать господином «когда» наших
решений. Если читатель прочтет еще и мои «Письма в Каир» о запечатленном
времени, в частности рассуждения о «письменности мировых империй», он
узнает больше о переходе от времени родов к времени «территориальных
царств». Поскольку позади нас лежит странная эпоха, в которой мы, люди,
считались частью природных процессов, то погребения, инициации и т.д.
все еще считаются «простыми формами». Но люди погребают своих
мертвецов, поскольку до тех пор пока и как только система «голосовых»
отношений (мы сегодня называем их «общественными» отношениями, причем
наши современники не особенно об этом задумываются), этот мир звуков,
называемый нами царством духа, оглашается именем, в том числе твоим
именем, о себе дает знать жизнь. Поэтому последнее выкрикивание имени,
принадлежащего покойнику, является более важным, чем кончина
живущего тела (103). Во время похорон погребались татуировка, одежда, оружие.
Таким образом, Abdankung, уход отдел, как называется погребение в Швей-
177
царии, был также отстранением умершего от должности, и если вдовы
оказывались вправе занимать престол именно в качестве вдов, как это сделала
Агнес, супруга императора Генриха III, после его смерти, то умерший не
уходил от дел! (105). Глаза столба предков (тотемного столба), а позже
статуи были признаками жизни («Lipzeichen», как назывался памятник
Отгону II, стоявший в Магдебурге на рыночной площади, которой император
пожаловал ее права). Ибо даже в границах того, что мы натуралистически
называем «временем жизни», одежда, имя, оружие были признаками
«подлинной» жизни лица, несущего определенную службу. Когда Вудро
Вильсон, совершенно парализованный, лежал на смертном одре, миссис
Вильсон воспрепятствовала его уходу от дел, продолжая управлять от его
имени — Бог знает как! Возвращение слова «Lipzeichen», «признак жизни», а
точнее, «признак тела и жизни», для обозначения одежды и татуировки,
вероятно, могло бы помочь освобождению от власти Просвещения,
отрицавшего, что только в границах некоего определенного порядка,
провозглашенного и вызванного голосами общности, мы суть то, во что мы верим, будто
это действительно мы. Те, к кому еще не обратились с речью, и те, кто еще
не говорит сам — дети, женщины, рабы, пленные, — только в свое время
получили свои грамматические роды, полы языка — «он» и «она» (105). В
библейской Книге Бытия при описании истории Ноя Бог говорит только с
мужчинами, поскольку Бог впервые называет Себя только мужчинам и
впервые посвящает только их. Но и тогда каждый уже любил своих
ближних. Таким образом, то, что любовь уже существует даже там, где Бог еще
не говорит свободно, проливает свет на сущность грамматических родов, о
которых мы говорили в работе о литургии (106).
Поэтому заслуживает внимания рассмотрение рыхлости форм для
обозначения пола в дохристианском языке. Самым удивительным мне
кажется то, что почти каждое слово в греческом, древнегерманском,
славянском и двевнееврейском языках может быть превращено в имя
мужского, женского или среднего рода. Греческое слово для «войска» может
быть Stratos (муж. p.), stratia (жен. р.) и strateuma (ср. р.).
Во многих случаях мы должны предположить что «изначально» различие
родов использовалось не для обозначения мужского, женского и вещного,
а только для обозначения «дружественных» и «враждебных» объектов. С
другой стороны, правилом является то, что «мужские» и «женские» слова
имели свой характерный порядок, но «оно», «бесполые» слова, отнюдь не во
всех языках образуют свой особый класс — либо этот класс появился
позже. В африканских языках имеется более трех классов, поскольку в
границах, очерченных неким заданным горизонтом, человечество испробовало
множество возможностей, и каждая ступенька лестницы, которая, исходя из
Духа Божьего, казалось, достигала нашей расы, была старательно обтесана.
Пестрота родов — это то, чего следовало ожидать. Но необходимость
вообще грамматически обозначать двойственность полов следует отличать от
возможности делать это различными способами. Во всяком случае, наше
сознание тоже испытывает потребность в том, чтобы внедрить в мышление
представления о единственном, двойственном, множественном числе.
Смысл грамматического рода — не только в том, чтобы описывать половые
отличия. Нет, необходимы выражения для обозначения ролей в беседе.
Читателю надлежит каждый раз сознавать, что с самого начала «язык» означает
178
«беседу», «разговор» (107), что он, таким образом, должен был всегда
называть в грамматическом роде говорящего, слушающего и то, о чем
говорится, а не только мужчину, женщину и ребенка.
Отец (Vater) и мать (Mutter) — обратите внимание на их окончание «-
ег» (языковед Кюни (Cuni) по праву указал на это) — суть сравнительные
степени. Каждый — больше другого, больше того, что есть он или она. И
отец слушает, а мать также говорит. И все же дающий имя отец
обозначается как больше связанный с речью, чем мать. Во всяком случае,
стремление соотнести грамматические роды с одушевленными и
неодушевленными объектами является не вполне состоятельным. Всякий раз
речь идет о степени вовлеченности в разговор, и древние языки с трудом
признавали объекты, поскольку все тварное считалось способным
слышать, что мы о нем говорим. Вопреки Декарту, оно даже сейчас еще
слышит это.
В работе о литургии (108) и об исцеленном ею мышлении была
показана последовательность ступеней между творцом и творением: Бог;
священник; община, к которой обращаются с речью; собирающийся креститься
человек, причем эта последовательность была представлена как учение о
четырех ступенях грамматического рода. Там обнаружилось, что «тварь
хлеб», «тварь вино» и «тварь infans» (109) (собирающийся креститься
человек) только слушают. Поэтому по-латыни крепостной называется «manc-
ipium» (110), а по-гречески — «andropodon» (111). Это твари, могущие
только слушать. Такое различие мы можем объявить фундаментальным. Как
только у людей появляется дерзкое желание спросить «Что есть Бог?», они,
по крайней мере, впоследствии оказываются способны дать дефиницию в
среднем грамматическом роде: «божественное» или божественное «бытие».
Эти пустые разговоры уже в течение десятилетий сбываются нам за
бесценок в качестве новейшей истины. Но тот, кто ставит вопрос неправильно,
получает и неправильный ответ. Обо всех и о каждом в отдельности анализ
говорит именно так, будто он и они — вещи, не способные слушать.
Сегодня можно переформулировать старое суждение «Когда люди молчат,
должны заговорить камни», сказав, что камни должны начать слушать, едва
только люди перестают считаться слушателями, как это имеет место на наших
фабриках. Теология говорит о Боге так, словно не может быть в любой
момент им высмеяна. Но те же самые господа теологи считают теологию,
поэзию, природу, науку или тарифную группу заработной платы настолько
живыми, что говорят о «научном» и обращаются с ним совсем не так, как
если бы оно было «божественным». Они произносят имена всех этих дам
нашей расы и нашего класса с благоговением, так же, как и имя
благословенной Кибелы (113), и в результате наука, конечно же, становится
потаскухой. Что мне всегда казалось загадочным, так это смелость, с которой
теологи освобождают себя от десяти заповедей и произносят имя Бога всуе.
Их взгляды являются дохристианскими или атеистическими, и я скорее
поверил бы им, если бы они вообще не упоминали имени Бога. Я могу
говорить о Боге лишь тогда, когда чувствую, что он в этот самый момент
может посрамить меня либо я могу опозориться перед ним. Выше мы
ссылались на тройственность в греческом языке «войска», «армии» и «diot» (114).
Иными словами, одно и то же слово вводилось в трех грамматических
родах. Возможно, атеисты и мы, неразумные верующие, поняли бы друг дру-
179
га лучше, если бы различали божественность, божественное и Господа Бога.
«Diot», как показано в моей книге «Франция — Германия» (115), — это
Stratos, становящаяся нация, каковой она является в походе и в суде. В
качестве армии, по-гречески stratia, войско — это группа людей, получающих
приказания и отвечающих на них преданно и послушно. Так что
божественность — это возлюбленная человеческого духа, как об этом написано в
стихах Гёте и Шиллера. «Здесь, в армии», — говорил любящий (116). Но в
качестве strautema та же группа — это предстающее перед глазами и
доступное простому созерцанию марширующее войско. Средний род,
«божественное» или «войско» может быть видимым и может быть использовано, а
потому не является ни Богом, ни божественностью. В Бога нужно верить. А
божественность ты можешь любить. «Божественное» предназначено для
насильников, для техников.
Средний род всегда стоит в винительном падеже, никакого якобы
иногда встречающегося именительного падежа среднего рода не
существует. В противоположность этому «король» и «Бог» никогда не стоят в
винительном падеже. Прежде чем Бог сможет стоять в винительном
падеже и о нем можно будет говорить, он должен стать человеком (117).
Людям всегда приходилось говорить о вещах, лишенных уст и ушей: ведь
во время работы мы должны быстро и кратко называть наши орудия труда
и наши телодвижения. Труд, ремесло, орудие труда остаются в известной
мере без грамматического рода, потому что они не участвуют в разговоре.
Они — вещи, инструменты, посредники жизни. Лишенное ушей и уст
орудие труда всегда вызывает особую манеру речи, которая прежде называлась
языком мастеровых, а по-ученому — terminus technicus (118), или проще —
языком труда. Его противоположностью является язык богов, т.е. язык, на
котором мы должны говорить в прис>тствии богов. Он всегда начинается с
требования: «Тс-с! Тихо!». Он требует молчания и запрещает пустую
болтовню. В центре круга, создаваемого языком богов и профессиональным
языком, находится язык любви. Тысячами способов поколения людей
пытаются сохранить жизнь языка богов, языка любви и языка орудий труда. Но
границы между ними постоянно нарушаются. Теологи обходятся с Богом
как с орудием труда, техники обожествляют орудия труда, любящие
обращаются с богами как со своими посыльными, а ремесленники,
изготавливающие сами орудия труда, обращаются с ними как с возлюбленными
подругами. Но злоба дня постоянно требует принятия решений. В статье «Что
есть человек?», вошедшей в книгу «Тайна университета», я попытался
показать, что язычники и верующие расходятся в этом вопросе в любую
эпоху. Язычники должны спрашивать: «Что есть человек?», а верующие
ограничивают себя вопросами: «Чей сын, чей отец, чей брат этот человек?».
Наоборот, когда монисты спрашивали: «Кто есть универсум?», то дело
дошло до мировой войны. В 1914 г. Богом стал фатум, и язычество приписывает
Богу тварность. Поэтому бл. Августин сказал о фатуме, что это есть нечто,
сказанное вчера и потому уступающее новому слову, исходящему от Бога.
Тот, кто, как немцы в 1914 г., объявляет фатум неотвратимым, кончает
бедствиями Нибелунгов (119). Настолько хрупок язык в те дни, когда он
должен выжигать на нас печать времен.
180
Послания к вечности:
письма в Каир
Послания к вечности: письма в Каир
Письменность в целом вообще не
иуеет целью передачу сообщений
только непосредственным
товарищам по языку.
Eduard Herrmann. Goettinger Gelehrte
Nachrichten, 1929, S. 69.
Первое письмо в Каир
Предписанный мир
Дорогая Синтия! (1)
Вот ты и в Каире. Куда еще ты могла бы обратить свой взор для
того, чтобы с пониманием проникнуть во время,
простирающееся между Адамом и Евой, с одной стороны, Давидом и
Гомером — с другой? Но забудь о миллионах или сотнях тысяч лет,
которые сегодня отделяют тебя от Homo Pekinensis (2). Ибо
«великое искусство обычно заставляет тебя неистовствовать», а именно —
великое искусство большого количества лет. То, что было существенным
тогда, — это не 500 000 или 30 000 лет, а жертвы, акты веры, дела любви
в течение каждого дня жизни, — точно так же, как и сегодня. Мученик
гитлеровского ада, о котором мы вспоминаем с благодарностью, и
сегодня может искупить для нас время с 1933 по 1945 г. и стать главой
истории нашей собственной души. Ибо где мы должны любить, там и
протекает наша история. А «против великого превосходства человека нет
другого средства, кроме любви». Подданным изверга Нерона,
оплакивавшим апостолов Павла и Петра, мы обязаны христианским
летоисчислением. При этом большинство их современников горевали о Нероне,
когда в 69 г. он в конце концов был убит, и даже с нетерпением ожидали его
возвращения в 79 г. — точно так же, как немцы в средние века ожидали
возвращения императора Фридриха. Таким образом, вместо того чтобы
задыхаться в геологических по масштабу миллионах лет, мы сможем
вдохнуть воздух истории лишь тогда, когда примем такое решение:
«Каждый должен избрать для себя героя, за которым он последует на
пути к Олимпу». Так поэт приукрасил это с помощью героического
костюма нашей классики. Можно сказать и проще: каждый человек
нуждается в такой восприимчивости, с помощью которой мы с
благодарностью и увлечением прислушиваемся к временам и эпохам Бога и без
которой мы срываемся в бездну времен дьявола, времен, взращенных из
183
семян раздора и пораженных вирусом ненависти. Ибо ненависть — это
ведь всего лишь другое слово для обозначения невосприимчивости.
Вчера мой знакомый написал мне о свастике, которая в связи с выборами в
Нью-Йорке была наклеена на стенах дома кандидата-еврея. Позавчера я
прочитал о том, как адмирал Редер в ответ на резкие слова, сказанные
его адским шефом Гитлером о флоте, пришел к нему с ядом в руке и
заявил бесноватому, что он примет яд в его присутствии, чтобы
восстановить честь флота. Для этих Великих Моголов история распадается на
мгновенные акты воли. Для нас она расчленяется на действующие в
течение продолжительного времени случаи смерти и подобные полету
мгновения любви. Ибо любовь должна всегда заново становиться такой
же сильной, как и смерть, для того чтобы победить ее. Эти победы
всегда новой, всегда неиссякаемой любви, внезапно охватывающей нас,
суть кольца, из которых возникло и доныне возникает великолепное
украшение, называемое людьми «историей». Поклонники Нерона, герои
свастики, геологи слышат в слове «история» (Geschichte) слово «слой»
(Schicht), «слой пыли и праха» (Staubschicht). Я слышу в нем слова
«событие» (Geschehen) и «свершайся» (Geschieh).
Пусть в Каире тебя встретит только история, из которой зазвучит
«fiât» (3). Что бы это была за нечеловеческая история слоев пыли, из
которой слова «Tua res agitur», «Ты — героиня этой истории», не
возносили бы тебя в круг света, исходящего от всеведущего Творца этого мира,
который каждый день заново творится посредством его «fiât lux» (4)? Так
что у вод Нила обрати внимание на самое главное. Но как это
возможно спустя пять тысяч лет, спустя почти три тысячи лет, в течение
которых этим Египтом управляли чужеземцы? Ведь Насер — первый
настоящий египтянин, которому подчиняется страна, — после албанцев,
турок, арабов, римлян, греков, персов, эфиопов. Поскольку возделанные
земли на Ниле по площади почти равны Бельгии, — при том, что
плотность населения нильской дельты и поныне &три раза выше, чем в этой
самой густонаселенной стране Европы, —"то обращенное к тебе
требование, чтобы на Ниле ты приняла самое важное для себя решение,
звучит почти комически. И все же я настаиваю на своем. Интересно, что же
это за «самое важное»? Об этом «самом важном» каждый из нас должен
узнать, прислушавшись к своему внутреннему голосу. Важно все то, о
чем не говорится на школьном экзамене. Самые важные вопросы
далеки от академических экзаменов, поскольку в этих вопросах нас нельзя
подвергнуть экзаменационному испытанию. Мы должны отвечать на них
всей своей жизнью. Они не могут быть разрешены в промежутке между
десятым и одиннадцатым классами; и самое главное: тем, кто
подвергает испытанию твое знание, нет никакого дела до твоих ответов. Ибо
экзамен не может подступиться к тому, кого ты должен любить всем
сердцем своим, всей душой своей, всем разумением своим и всей крепостью
своей. Но эта заповедь связана с Египтом. Ведь люди вокруг нас живут
в плюралистическом обществе и хвастаются этим. Но кто же тогда Бог?
Кто является богами этого плюралистического общества? Теперь в
Каире перед тобой сразу возникает эта главная цель устремлений истории.
Кто такие боги? Ведь в Бога, как представляется, умеет веровать тот, кто
захочет учиться у пирамид.
184
Знаки письменности «территориального царства», имеющие силу на
расстоянии одной тысячи километров, были высечены высоко на
капителях колонн храмов и обращены только к богам неба и царства,
предназначались для них. Многие из этих обращенных к богам письменных
свидетельств недоступны глазам смертных — так высоко, так далеко они
находятся, так они устремлены к небу, стремясь говорить с богами. Мы
строим высокие леса для того, чтобы прочесть эти письмена. Конечно,
античные боги умерли. Мы можем сравнительно точно зафиксировать
момент их смерти. Ибо еще у Лукреция, умершего приблизительно в 55
г. до р.Х., Марс и Венера живы, и притом живы благодаря тому же
самому грандиозному и таинственному ритуалу, который я описал уже в
«Полноте времен» (5), на с. 186 и далее как раз на основе сочинений
Лукреция и египетских текстов. Но египетские тексты восходят к
первоначальным временам царства фараона. Так для ненавидящего религию
Лукреция боги все еще были сокрушительными силами, которые он,
Лукреций, должен был побороть. Напротив, триста лет спустя
путеводитель Ампелия (6) описывал их в качестве туристических
достопримечательностей — точно так же, как это сделано в составленном Гансом Бон-
нетом словаре понятий, относящихся к египетской религии. Тот, кто сам
не нуждается в богах, кто не должен их призывать для того, чтобы жить
дальше, всегда будет понимать их неправильно. Разве не должен быть
художественной натурой тот, кому надлежит быть способным
участвовать в «поклонении искусству»? Когда будущий министр юстиции Рад-
брух, для которого юстиция была священной, в 1912 г. насмехался над
праздником в актовом зале университета, устроенным в связи с
учреждением академии наук в Гейдельберге, его сосед, почитатель науки,
сказал ему: «Не мешайте священнодействию!» Так же и сегодня
египтологи издеваются над богами, которые в течение 3500 лет (3000 г. до р.Х. —
395 от р.Х.) поддерживали силы государства на Ниле, поскольку у этих
египтологов боги «территориального царства» просто перечисляются в
качестве локальных богов. Считается, что имеется по одному богу в Коп-
тосе (7), в Буто (8), в Бусирисе (9), в Кузах (10), в Хнесе (11), в
восточной части дельты и т.д. и т.д., даже если речь идет о главных,
древнейших богах — Осирисе, Хатор, Сопду, Сете (12).
Но для нас, для тебя и меня, еще и сегодня отваживающихся писать
и, тем самым, как и египтяне, надеющихся с помощью письма постичь
истину и Божью волю, — для нас речь идет о предписаниях, а не о
перечислении богов. Нас увлекает факт наличия письменности
«территориального царства», которая с помощью одних и тех же знаков,
неизменных во всех областях, предписывала каждое «здесь» и каждое «там» на
небесах, в верхнем течении Нила и в его дельте в качестве распоряжений,
отданных множеству писцов фараона. Так небо писцов высоко
простиралось на протяжении более одной тысячи километров, был установлен
двойной трон, свободный от диалектов, учреждающий в областях,
расположенных вверх и вниз по течению, письменность фараона, которая
намного превосходила возможности человеческого слуха, и притом эта
письменность воспринималась так единообразно, что во всех 36 номах от
одного и того же божественного имени Гора исходили и имели силу одни
и те же приказания. Мир подчинялся фараону, когда кто-нибудь
185
предъявлял его письмена. То, что я хочу сказать тебе с помощью слова
«мир», которое ныне используется слишком широко, означает все
пространство по ту сторону чувственно доступной родины. Правда, Гор
никогда никоим образом не владел тем, что мы в соответствии с наукой
сегодня называем миром. Несмотря на это, первое из мировых царств
принадлежало ему, поскольку он в принципе осваивался даже там, куда
попадал только в виде исключения, где он изначально вызывал жуть и где
он сам чувствовал себя крайне неуютно. Придерживайся этого смысла
слова «мир» — слова, которое на Ниле было таким новым, что его
можно было понять только в двойственном числе, в качестве двух земель, и
ты не подвергнешься искушению понимать царство на Ниле как
универсальное — неважно, «примитивное» или совершенное. Ты и я, мы еще
пишем, хотя наша письменность не является ни примитивной, ни
универсальной, как математика. Боги, уполномочившие нас на это, — боги,
с чьей помощью и Моисей записал свои заповеди, — все еще остаются
ревнивыми. Тот, кто хочет быть любимым, ревнив. Первое, что фараон
должен был сделать для того, чтобы учредить свое царство Гора, — это
несправедливость, которую из ревности призвана совершить всякая
любовь по отношению к любимому: он должен был потребовать, чтобы
посредством письменности люди обращались только к его богам. Ему
нужно было порвать с духами, господствующими в локальной сфере,
подвластной органам чувств. Богов призывают с помощью письма, а духи — это
силы, вызываемые с помощью голоса. У богов, к которым обращены
письмена, мы можем быть на хорошем или плохом счету, в то время как
духи нашептывают, бормочут и окликают нас.
Когда мы адресуем кому-нибудь письмо, мы попадаем в царство
страстей, поклонения и ревности египтян. В определенном смысле
верно, что сегодня эти страсти могут оставить нас равнодушными из-за
более сильной и более истинной, просветленной любви к троичному
Богу. Однако это происходит именно тогда! Без собственной страсти,
без ревности и без более сильной любви мы не поймем, как же это
новшество, записывание богов или их призывание с помощью письма,
угасило все прежние страсти. Например, фараон, его жена, его дети, его
губернаторы, его подданные на всех дошедших до нас памятниках
изображены без татуировок, и их прекрасная, чистая человеческая кожа
подобна неисписанному листу. Л.Каймер (Keimer) установил, что
татуировка появляется — притом случайно, совершенно спорадически, —
только начиная с XI династии, через тысячу лет после основания
царства в Мемфисе (13). Но татуировка — это первая форма
письменности, созданная человечеством. Кочевники наносят на свою кожу
татуировку, поскольку там каждый воин носит на себе свидетельство их
основного закона как издание книги, действительное на протяжении всей
жизни. Библия горячо протестует против этих нанесенных на кожу рун
и наказывает за них смертной казнью. Это естественно, поскольку
Библия вела борьбу на двух фронтах — против египтян и кочевых племен,
против письма и татуировки. Но ты живешь в Каире лишь потому, что
повторяешь борьбу писцов против людей, наносящих на себя
татуировку, борьбу египтян против бедуинов. Загадочная хитрость Творца
сохраняет каждую более древнюю ступень внутри более молодой. Иудеи
186
должны пребывать среди христиан, иначе большинство христиан
незаметно превратятся в заурядных иудеев, каковыми и являются
большинство прихожан. Соответственно, бедуины бродят вокруг Каира, так что
они даже смогли напасть на короля Фарука. Поэтому достижение
строителей пирамид остается известным и сохраняет свою значимость: ведь
оно представляет собой нанесение письмен на мировое целое вместо
бренной человеческой кожи. Живя в племени, мы научились говорить
«отец», «мать», «внук» и «невестка». Без племен существовал бы
только мимолетный половой акт, о котором мечтают современные вандалы
от промискуитета. Для них, обделенных письмом и речью, индивид в
его обособленности является масштабом того, что каждый из нас с
течением времени должен совершить в качестве преобразователя жизни
на земле. Но выходя из повседневности — будь это еда, питье, сон или
зачатие, — мы превращаемся из обжор в сотрапезников, а из
участников случки — в супругов. Таким образом, мы оказываемся одарены
временем, и из мимолетного сына мгновения возникают супруг, отец и
даже прародитель. Наоборот, из нежеланных детей, прижитых «на
стороне», возникают долгожданные наследник или наследница,
последователь и сын. Все это в племени воинов осуществляют накожные руны.
Ибо они — это порядок имен. Таким образом, уже племя учреждает
времена. Разумеется, эти времена выделены и ограничены каждым
племенем по-своему и только с большим трудом могут быть объединены с
другими временами других племен. Чаще всего в одном племени
объединены не более 3000-5000 «современников», т.е. людей, живущих в
одном и том же времени. Однако фараоны превзошли этот способ
объединения с помощью совершенно нового порядка величин. Племена
считали предков, девять поколений или, самое большее, двенадцать.
Поэтому англосаксонские короли в 790 г. отсчитывали время назад,
вплоть до Одина (14), т.е. приблизительно до 340 г.! На Ниле эти
предки молчат. Ибо писцы фараона возвысили бесконечный ряд лет до
уровня прародителей мира. С тех пор как появился праздник, славящий
имя Гора, первого записанного и почитаемого бога земли и неба в
Египте, каждый человек, живущий в долине Нила, узнал о том, что
непоколебимый порядок эонов описывает над ним свои круги. Вместо
двенадцати предков этот круг охватывал бесконечное число лет. Эта
бесконечная полнота лет, провозглашенная письменами на камне,
стала границами жизни людей. Каждые 1460 лет с начала нового
исчисления времен, т.е. в 1320 г. до Рождества Христова и в 139 г. от Рождества
Христова, люди славили бога Эона. Только письмо сделало это
возможным. Но не нужно было бы ничего писать, если бы с помощью письма
нельзя было войти в Великий год эона. Правда, будучи однажды
заключен в этой галерее времен Великого года, человек уже не мог
ускользнуть. В середине времени никто не мог выйти из лодки. Египтяне
боялись чудовищ не только в Ниле, но и в потоке времени. Этот страх не
столь чужд нам, как это кажется образованным людям. Шпенглер
возвестил об этом упадке, который наступает, как только лишенный
предков человек, феллах, утрачивает даже политическое время, как о
закате Европы (15). Впрочем, тот, кто теряет и свою вторую память, —
сначала память о предках, а затем память царства, — пожалуй, ощутит себя
187
потерянным. Когда пришел Христос и преодолел и то, и другое, и
кланы, и империю, он был назван рыбой (16). Ибо он увлек нас —
вовлеченных в эон культурных людей, внуков своих предков, — в открытое
море неопосредованной веры.
В Египте один и тот же бог Гор удерживал эон как целое от первого
до последнего дня, не давая распасться, т.е. действовал в промежутке
времени от фараона Менеса до римлянина Вергилия с его знаменитой
эклогой. Каждый был послушен этому богу. Хотя выражение
«последователь Гора» хорошо известно, но вся глубина его смысла никогда не
оценивалась по достоинству. Мы можем это утверждать, поскольку
произошло нечто ужасное: фараон испытал это на опыте. Этот господин
эона незадолго до истечения первого эона захотел выйти из него и
войти в обыкновенное земное пространство, ограничить себя тем, чтобы его
отдельные мгновения, часы и дни проходили в некотором единственном
месте. Он пожелал выйти или, возможно, точнее, «спуститься» с колеса
вечно вращающегося времени. Он искоренил имя первого знака письма,
имя Гора, вместе с праздником его имени. Для этого он основал новый
город, который вне связи со временем должен был ориентироваться
только на знак письма, обозначающий отдельный день (17).
Обо всем этом я напишу тебе позже. Сейчас ты должна только
твердо придерживаться того положения, что египтяне стали египтянами с тех
пор, как первый фараон уверовал в то, будто он живет в эоне,
тысячелетнем царстве. В этом связном промежутке времени, а именно в вечности,
законы страны и хозяйственные предписания должны были оставаться
одними и теми же. Они подвергались улучшению, люди наблюдали небо
все более усердно и делали все большую территорию пахотной и
орошаемой. Но ты должна видеть величие основания «территориального
царства» в том, что уже с самых первых дней люди отправились в плавание
по потоку времени бесконечных улучшений, беспрестанной
интенсификации и тысячелетних наблюдений неба. В «Полноте времен» я
воспроизвел одно из этих смелых предписаний, целью которых является
создание и поддержание вечного порядка «территориального царства».
Обрати внимание на это слово — «пред-писание». В Египте пред-писание
заняло место именного приказания. Именное приказание исходит от отца
и направлено на сына, от старших — к младшим во время их жизни, и,
таким образом, оно в лучшем случае охватывает два поколения.
Напротив, предписание издается в его звездный час внутри эона. В
соответствии с бесконечным временем, которое исчисляется и наблюдается,
мировое домостроительство «территориального царства» располагается
не так, как развернутый строй племени воинов (18). Измеренное
прямоугольное мировое пространство, заменяющее собой круглые постройки
племени (19), — это пространство, на которое распространяется
господство фараона. Возможно, нужно определенно сказать, что смысл этого
«территориального царства» не может быть передан с помощью римского
слова «imperium» или английского слова «empire», как это сделано в
заглавии известной книги «Des clans aux empires» (20). Римская империя
лежала перед городом Римом и не включала его в себя, а у египтян их
главный город находился внутри царства, Мемфис смотрит как вверх, так и
вниз по течению. Египет не завоевал это свое царство, — по крайней
188
мере, дело не осознавалось таким образом. Скорее, боги с самого
начала приготовили это царство для него. И для того чтобы это мировое
пространство и этот эон были связаны между собой, использовалось
письмо. Это первое письмо еще не имеет обмирщенных знаков алфавита. Это
была письменность, полная сакраментальных чудес. Рационалист
археолог Рейснер (Reisner), считавший все египетское письмо чисто
практическим, в 1908 г. все же признавался: «The persistance of idéographie
writing in the Horus name of the king indicates that the writing of this name
was one of the earliest uses to which writing was put» (21). Естественно, в
этом имени Гора фараон входил в эон Гора, становился участником этой
вечности. А без имени он бы не попал в эон.
В циклах биржи от «бума» до «спада» ты можешь увидеть
значительный пережиток веры Египта. Ибо если ты лишишь предпринимателя
этой веры в то, что мы имеем благоприятную конъюнктуру, ты лишишь
его уверенности в том, что затем наступит экономический спад. Высокое
и низкое, подъем и спад обусловливают друг друга. Таким образом, наша
собственная жизнь без этих условий может быть прожита безусловно
лишь в том случае, если у нас обязательно имеется внутреннее
пристанище за пределами конъюнктуры. Иначе депрессия 1931 г. может
служить оправданием Гитлера, а экономическое чудо — оправданием
господина Штрауса. Но дети мира оправдывают себя с помощью таких
условий, и на Ниле, в Египте, человек — с тех пор как он нанес иероглиф
Гора на камень, не подверженный изменениям, — оставался плодом
конъюнктуры, зона.
Однако эоническая конъюнктура, отнесенная к порогам Нила, ко
временам посева и жатвы, величественность которой Библия удерживает в
эпизоде благословения Ноя (ибо Ветхий завет возвышенно изображает в
образах Адама и Сифа племена, а в образе Ноя — фараона), — эта
эоническая конъюнктура была со всей страстью направлена против племенных
собраний с их танцами, с их инициациями, с их накожными рунами. Она
подавила все это. От всех этих богатых танцевальных ритуалов и
празднеств племени сохранились только профессиональные танцовщицы и
отдельные танцы самого фараона. Все остальное, относящееся к миру
ритуалов племени, погибло, и сам этот мир был уничтожен в новом царстве
профессиональных сословий. Египет как отдельно взятая область был
назван так благодаря «территориальному царству». Названия мест, которые
дошли до нас, едва ли возникли до появления фараона. Ибо каждый ном
использовал тот же знак, который применялся в письменности для
обозначения понятия «канал», т.е. иероглиф, приходящий из царства в целом
в его отдельную часть. Города Бехдет на севере и Бехдет на юге были
названы единообразно по отношению к положению Мемфиса. В Мемфисе
смотрели, писали и думали «от Бехдета до Бехдета» (а не «от Дана до Вир-
савии», как в чуждом зону Израиле). Отдухов, духов предков, в
словоупотреблении остались только духи Нехена (22), вероятно из-за того, что их
родиной было центральное святилище Гора — Нехен. Ибо в противном
случае они должны были бы исчезнуть. Боги — это не духи, а духи — это
не боги. Подобная путаница возникла бы, как если бы антропологи
стали неправильно считать перуанских и мексиканских фараонов и царей
воинами-индейцами и вождями племен.
189
Имена богов записывают и высекают на камне. Имена духов наносят
на кожу. Так что духам свойственно существовать в течение некоторого
промежутка времени, но не очень продолжительного. Богам же присуще
другое отношение ко времени благодаря тому, что они записываются.
Поскольку духи связаны с племенами и родами людей, для них
подходит родовое древо, охватывающее во времени по меньшей мере семь
поколений — три вверху и три внизу, тогда как живущее поколение
находится в середине. Соответственно, воины племени обладают лишь той
землей, по которой они кочуют, хотя пространственная область, которую
они охватывают своим кочеванием, часто оказывается потрясающе
огромной. Но тропа, по которой они кочуют, является мерой их земли —
так же, как тропа войны является мерой их мира. У египтян все иначе.
Здесь мерой служит небо зона в том виде, как оно медленно, но
безостановочно изменяется в течение 1460 лет в своем круговом движении.
Поэтому Гор сообщил Египту границы его номов, указал
местоположение храмов, их удаление от неба. Поскольку Сопдет=Сириус,
величайшее календарное божество, каждый год 19 июля рано утром появлялось
на горизонте рядом с Солнцем, чтобы возвестить о подъеме воды в Ниле,
то Гор записал 36 раз по десять дней для того, чтобы дождаться
следующего разлива. Так его жрецы присвоили каждой декаде некоего декана,
созвездие, которое — правда, сперва только приблизительно — в течение
этих десяти дней ранним утром появлялось рядом с Солнцем и, таким
образом, на протяжении этой декады должно было замещать главную
звезду, Сопдет, в день ее чествования 19 июля (23). Этот
декан-заместитель (отсюда же происхождение слова «locumtenens», «лейтенант»), этот
наместник Сопдет, передавался на письме с помощью с высшей
степени архаичного знака, как это доказал в 1936 г. Зигфрид Шотт.
Построение этого резервного офицерского корпуса на небе должно было
произойти задолго до выдвижения на передний план культа Солнца,
которое мы приписываем Имхотепу (24) и жрецам Она (25). Это построение
относилось именно к первому овладению"возвращением, к первому
связыванию изменчивого времени путем предания себя тому, что вечно
возвращается. На земле было осуществлено подобное связывание
пространства. Храмовые номы были созданы в качестве областей, объединенных
строительством каналов. Каждый номовый храм соответствовал одному
декану. Гор-фараон обрел на земле замещавшие его корпорации жрецов,
которые повсюду записывали и наблюдали возвращающиеся временные
циклы. А его дом, Хат(х)ор, Гатор, благодаря деканам стал постоянным,
длящимся, поскольку эти «наместники» как бы обеспечивали
присутствие Сопдет, звезды Сириус, в течение всего года. «Эон» и «обе земли»
были вследствие этого вездесущими, и нигде никакая часть времени,
никакой клочок земли не могли выпасть из прекрасного венка космоса.
Космос воплощал собой «всегда» и «везде». «Всегда» — так теперь небо
откликалось на царскую волю, «везде» — так жрецы повсюду
подтверждали царское присутствие.
Это имеет важное значение для нашего чтения текстов. Двойственное
стремление писцов — вписать себя в эон и в четырехугольник царства —
соответствует страстному желанию решительно выписать себя из всякой
череды предков, из тотемов, из родового древа. Для того, кому это не
190
удается, плот пространства-времени Египта, скрепленный единой
цепью, состоявшей из храмов и деканов, распадается на деревни и
локальных духов, на династии и отдельных правителей. Мы не вправе
допустить этого, или же мы отречемся от богов, поддерживавших и хранивших
двойное царство. Пускай так поступает тот, кто пишет политическую
историю фараонов. Но тебе и мне эта политическая история
безразлична, и не ради этого каждый из нас еще и в наши дни должен
интересоваться фараонами.
Путешествие Гора, в ходе которого он должен был ввести всех своих
последователей в вечность богов, дает нам дополнительную пищу для
размышлений. Сейчас я хочу, по крайней мере, обратить твое внимание
на памятник, в котором существование Гора обратилось в камень, на
великолепную шиферную пластинку для растирания косметики (палетку)
фараона Нармера, найденную в городе Сокола, Иераконполе. На ней
имеется углубление, предназначенное, вероятно, для зеленой краски,
которая наносилась на веки и должна была усиливать способность
воинственного Гора на небе к обозреванию сразу всего мира. Таким образом,
это было священным даром, благодаря которому царство предавало себя
Гору; этот дар сообщал богу могущество, необходимое для того, чтобы он
мог совершить — и совершить как можно лучше — то, на что в своем
молниеносном полете был способен только он — одним взглядом
обозревать все царство. В течение тысячелетий око Гора властвует над
Египтом. Оно еще и сегодня навязывается туристам, и ты сама, возможно,
купила его в качестве сувенира. Но ты поступишь хорошо, если уяснишь
себе его суть с помощью выражения «взгляд Гора», т.е. с помощью
некоего деяния «ока», поскольку в иероглифическом письме слово «глаз»
означает «действие» (глаза). А то, что мы называем «мировоззрением»,
«взглядом на мир», не является более широким, чем то, на что, как
считалось, был способен бог-Сокол и что ему вверялось. Поэтому шиферная
пластинка для растирания косметики, позволявшая подкрашивать его
глаза, сделана весьма искусно. Благодаря таким пластинкам обитатели
долины Нила очевидным образом распрощались с накожными рунами и
вместо постоянной татуировки стали использовать косметическую
краску, которую можно было заменить. Тогда из складного и переносного
шатра возник каменный дом, но из пожизненного рабства под властью
несводимых с кожи воина рун возникла первая свобода, свобода
изменения без нанесения на себя постоянных письмен, изменения с помощью
сменяемых одежд, сменяемых костюмов, сменяемых ролей или
должностей. Таким образом, в палетке Нармера празднует свою победу
свобода: нет ничего удивительного в том, что божественные письмена,
обеспечившие это, уже на самой палетке предстают в облике богини.
Действительно, на палетке рядом с Гором изображен знак, обозначающий
богиню Сешат — богиню письма и измерения строений. Мы
оказываемся в новом мире богов.
Однако «божественное начало», «ntr», египтяне обнаруживают во
всем, что периодически возвращается. Это представляется им
наипервейшим свойством божественного (26), — так легко понятным для нас
образом выразил это в 1883 г. Генрих Бругш. Его современник Ницше
едва ли «случайно» натолкнулся на «вечное возвращение», когда он ре-
191
шил снова вызвать к жизни умершего Бога. Боги на Ниле, по меньшей
мере, возвращаются, и в карикатурно неопределенном мире они
показывают подлинное лицо Творения: оно распознается в вечном возвращении.
Гёльдерлин так воспел этот атрибут, благодаря которому мы, люди, также
причастны к божественному: «О Begeisterung, so finden / wir in dir ein selig
Grab, / tief in deine Wogen schwinden / still frohlockend wir hinab, / bis der
Ноге Ruf wir hoeren / und, mit neuem Stolz erwacht, /
wie die Sterne wiederkehren
in des Lebens kurze Nacht» (27).
«Как звезды возвращаемся...». Поскольку немногие современные
люди надеются возвратиться как звезды, то вера царства на Ниле
натыкается на непонимание многих неверующих интеллектуалов — ее
толкователей. Но будем придерживаться этой первой трактовки.
Твой Ойген
192
Второе письмо в Каир
Предрассудки Уолтера Б. Эмери
Дорогая Синтия!
Изменения в представлениях об архаическом Египте, произошедшие
за последние тридцать лет, не в последнюю очередь являются заслугой
английского археолога Уолтера Б. Эмери. Он, прежде всего, заново
открыл и раскопал очень важные погребения I и II династий, так что две
эпохи правления перестали быть бесцветными и приобрели намного
более отчетливые формы. Поэтому его первая работа «Archaic Egypt» (1961,
Penguin) тем более дает повод для того, чтобы провести различие между
новыми находками Эмери и его домыслами. Так что я сообщаю тебе о
его книге для того, чтобы, используя ее в качестве некоего образца,
предостеречь тебя. Древняя религия Сета — Гора — Исиды — Осириса для
Эмери состоит из трех отдельных религий. Сет был до эпохи фараонов
благодетельным богом коренного населения всей страны, Гор был богом
поселенцев с юга, Осирис первоначально почитался в Бусирисе, в
дельте, и притом как локальный царь. Все три положения я вынужден
признать неверными. Как коренное население, которое, согласно взглядам
самого Эмери, никогда не было единым, уже могло веровать в имеющий
одну и ту же форму на протяжении более чем тысячи километров
мистический образ, т.е. знак, воспроизведенный в виде, которого до
изобретения письма никогда прежде не знали? Как Гор мог бы с самого
начала одинаково называться на северной оконечности дельты и на южной
оконечности Верхнего Египта, в Бехдете, если бы обе эти части
изначально не были провозглашены его областью? Поистине отрадно, что
Эмери так резко указывает на непоследовательность господствующего
учения: «Представляется вероятным, что коренные жители долины
Нила занимали к тому же более отдаленные области долины Нила, где
они поклонялись Сету, который был богом-царем Египта до появления
людей, поклонявшихся Гору» (с. 95). Это именно мистическое удвоение
настоящего в прошлом, которое еще раньше отразилось в начертанных
на Палермском камне (28) анналах царства, когда они сообщают о
существовании бесконечного двойного ряда царей отдельно Верхнего и
отдельно Нижнего Египта до начала правления Менеса. Эмери
следует этому мифу (29) и верит в существование двух параллельных
правлений в течение нескольких столетий, одного из них — в Верхнем
Египте, совершенно не заботясь о доказательствах и вопреки всем
археологическим находкам, введенным в научный оборот им же самим. Как
сооружение столба Джед (30) в качестве измерителя уровня воды в
Ниле возле Каира, объединение номов в качестве частей тела Осириса
и забота всегда живого сына, Гора-фараона, о всегда мертвом отце,
Осирисе, — как все это могло бы праздноваться постоянно, если бы Гор
(фараон) и его мать Хатор в качестве Исиды в полном соответствии с
тем, что говорит ее иероглиф, во время ежегодного господства Сета (120
дней засухи) не собирали бы по кусочкам расчлененное тело Осириса
7 Зак. 3524
193
и не возвращали бы его к жизни? Эмери настолько свыкся с
существующей манерой говорить о локальных богах, что он не признает
наличия противоречия между духами племенной эпохи, которые, конечно
же, связаны с определенным местом, и богами «территориального
царства», основанного на письменности. Но даже пропасть, разделяющую
Менеса и IV династию, он уничтожает чисто спекулятивно. Это
проявляется в его трактовке смысла ладьи, найденной им в погребении
правителя I династии. Он называет ее солнечной ладьей и считает, что на
ней душа фараона следовала за Солнцем.
Однако твердо установлено, что ладья Гора в течение столетий
ежегодно отправлялась в путешествие с юга на север из Асуана к дельте еще
до того, как Солнце в своем движении с востока на запад было
объявлено подражающим путешествию Гора, с Сетом в качестве его передового
бойца и его фиктивным противником чудовищем Апопом (31) в качестве
врага. Плавание вслед за Солнцем на пятьсот лет моложе плавания
фараона. Оно было роскошью, которая на один день давала утешение
соседям-общинникам, оседлым крестьянам, поскольку сами они не
участвовали в волнующем путешествии с юга на север. Подобно культу
Божьей матери Марии в повседневной жизни верующих, в отличие от
героического образа мученика, Ее Сына, чествовавшегося в торжественные
дни, культ Солнца воспроизводил то, что в культе Гора имело силу для
всего года. И здесь возвышенный культ нескольких дней должен был
сопровождаться повседневным культом. Ведь солнечная ладья
отправлялась в плавание ежедневно! Иероглиф Ра, солнечного бога, — это
иероглиф для обозначения отдельного дня. Но религия «территориального
царства» всегда имела дело только с целым годом, продолжавшимся от
урожая до урожая. Отсюда следует вывод: найденная при раскопках
ладья, относящаяся к периоду I династии, имеет для нас отнюдь не тот же
смысл, что и четыре ладьи, которые позже стали устанавливаться в
восточной, западной, северной и южной частях каждой пирамиды.
Разумеется, они были солнечными ладьями. Но*поскольку была найдена
только одна ладья, относящаяся к эпохе I династии, и эта ладья была
направлена на север, то она является парадной ладьей Гора в течение его
путешествия вдоль по Нилу. Допустимо ли умножать ее на четыре, так,
словно солнечная литургия Гелиополиса — Она, — литургия, в ходе которой
Солнце, движущееся с востока на запад, подражает Гору, — имеет тот же
возраст, что и литургия Гора? Вероятно, наилучшим судьей в этом
вопросе является Палермский камень. Ибо на нем солнечная ладья
упоминается в качестве недавно введенной. В эпоху XII династии Аменемхет,
последний строитель пирамид, выделил на своей небольшой пирамиде
северное направление, так что здесь Гор несет Солнце на своих
крыльях на север. Следовательно, солнечная ладья была чем-то вторичным.
Подобным же предубеждением Эмери обусловлено данное им
объяснение появления имени и знака Сета у фараона Перабсена в качестве
уступки религии коренного населения, в прочих отношениях нам
совершенно не известной. Я обхожу молчанием то, что здесь Эмери снова
путает духов с богами. Главная ошибка заключается в присущем ему и здесь
смешении светской политики с вопросами веры. Разве голод, угрозы
земледельческому циклу не способны были бы вызвать попытку лучше-
194
го обращения с Сетом? Стремление единодержца на основе ежегодной
победы Гора над Сетом, на основе единственного числа победителя
создать «двойственное число» двух попеременно господствующих сил не
обязательно должно иметь отношение к коренному населению или к
восстаниям. Ежегодное высыхание почвы, засуха, была ужасающим
зрелищем, каждый год заставлявшим трепетать сердца. Поэтому та служба,
которая во всей стране исходит от государя, — это служба строителя
каналов, служба правителя нома. Несмотря на это, на с. 109 Эмери мог
написать: «Вся земля была поделена на номы или провинции, и это было
остатком прежних племенных областей. Правители этих провинций
были, возможно, потомками прежних племенных вождей».
На примере замечательного, достойного восхищения организатора
раскопок, каковым является Эмери, ты можешь видеть, что орошать
землю, в различные части которой правитель посылает строителей каналов,
и раскапывать одно погребение за другим — это различные виды
деятельности, которые мы не должны смешивать друг с другом.
Можно проводить раскопки в том или ином месте, но тот, кто сумел
бы раскопать пирамиду вместо обычного могильника, раскопал бы
царствие небесное, а не пространственную область.
Ты теперь в Каире, и поскольку ты пребываешь в том же, что и
Эмери, двусмысленном положении, я хочу дать тебе в руки нить Ариадны,
чтобы ты знала, где же ты находишься на самом деле. Ведь ты можешь
оценивать свое пребывание в чужих краях по-разному: «Я в Древнем
Египте», или: «I am in the Near East» (32) или: «Я в гостях у Насера».
Трудно даже представить, насколько различные слова слетают с наших
уст в соответствии с этими тремя основоположениями.
Позволь мне изложить это так, чтобы ты научилась извлекать пользу
из предрассудков Эмери.
Подходи к Нилу, пирамидам и храмам на Ниле, руководствуясь
следующими четырьмя непоколебимыми характеристиками:
1. Точка, куда ступает твоя нога: место.
2. 1/36 часть «территориального царства», в которой храм
представляет все царство: ном.
3. Земли, которые делает плодородными разлив Нила: Двойное
царство.
4. Мир, освещаемый Солнцем и Луной: универсум.
В наших источниках, относящихся к временам до Моисея и Эхнато-
на, речь не идет ни о п.4, ни о п. 1, и ни Менее, ни Нармер, ни Периб-
сен, ни Джосер совсем не заботились ни о месте, ни об универсуме.
Мы, современные люди, не можем совершенно выбросить из головы
ни геометрическую точку, ни универсум. Так что, хотя ты и можешь
пребывать в Египте, ты не должен оставаться всецело зависимой от Египта
и должна найти из него выход. То, что ты приобретешь таким образом,
может быть объяснено с помощью нашего первого примера. Еще со
школы ты знаешь теорему Пифагора, согласно которой сумма квадратов
катетов прямоугольного треугольника равняется квадрату гипотенузы. Мы
обязаны грекам тем, что можем записать эту теорему в виде: а2 = Ь2 + с2.
Она была известна и на Ниле, но египтянам недоставало великого
греческого преимущества — способности сравнивать. Жрецы постигли это
195
соотношение величин в пропорциях пирамиды Хеопса, но они
записывали три стороны прямоугольного треугольника как Гора, Исиду и
Осириса. Здесь и заключается отличие Мемфиса от Афин. Неопределенные
местоимения, т.е. идея природы вещей, предшествующей их
именованию, была впервые изобретена греками (33). Они были в состоянии
сделать это, поскольку образовывали 250 общностей, с ревностью
относившихся друг к другу, слишком маленьких для того, чтобы мыслить
независимо друг от друга, слишком многочисленных, чтобы не сравнивать с
собой и между собой города и царства многих народов. Так греки и
стали идеалистами! Они сравнивали и затем обобщали. Напротив, наши
лучшие египтологи настолько основательно окопались в Египте, что
стремятся сообщать обо всем египетском только в чисто египетском
стиле. Это имеет свои преимущества, но сужает смысл открытий. Например,
в Большом академическом словаре нет слов для обозначения
треугольника и прямого угла, и даже в связи с именами богини Исиды и бога
Осириса отсутствует упоминание об их переносном смысле, относящемся к
сторонам треугольника.
Взгляни на гомеровский эпос. Он в течение многих столетий
объединял греков, и благодаря декламации греческих стихов последние
повстанцы, боровшиеся против Рима, узнавали друг друга. Итак, как же
начинает свою песню певец? Он делает это иначе, чем жрецы,
поскольку у жреца литургия с самого начала и до конца проходит в соответствии
с не подлежащим отмене порядком. Но Гомер поет когда-нибудь и где-
нибудь, и он просит Музу пустить в ход податливую, освобожденную от
связи с литургией песенную силу музыки «откуда-нибудь» или, выражая
это иначе, «с середины». «Начни откуда-нибудь», — кричит рапсод своей
богине, и в ритуале богослужения это было бы немыслимо. Это было бы
богохульством. Музы приближаются к человеку тем больше, чем сильнее
неопределенность, при которой тексты их песнопений могут
исполняться то тут, то там. Ясное различие между богослужебной и мусической
поэзией проводилось не слишком часто. Предполагалось, что оно само
собой разумеется. Увы, это не так. Ибо все мы — гимназисты и, таким
образом, все мы греки, а у них поэзия предшествует культу.
Совершенное греческим духом освобождение заключалось именно в допущении
неопределенности отдельного случая, в использовании способности
обобщать. Разумеется, это обобщение всегда является только
упорядочивающим, ограничивающим, и оно может лишь следовать за творческой
деятельностью. Оно — некое достижение, но лишь второстепенное.
Обобщение приводит к отрыву от корней. Например, ты можешь
образовать понятие «молитва» лишь после того, как будешь иметь для
сравнения молитвы на Ниле, молитвы левитов, молитвы греков и «Отче
наш». Понятие «молитва» будет стоить тебе твоей укорененности в
определенной литургии (34). Наоборот, необходимость вообще выделять во
всех культах эту область, «молитву», может ускользать от тебя до тех пор,
пока ты находишься в пределах одного порядка, пока ты молишься, пока
ты, таким образом, подчиняешься некоему единственному образу
жизни. Египтяне представляли себе фараона и замещающих его на тысяче
иерархических ступеней жрецов-писцов в качестве находящихся в
продолжительном общении с другими членами семьи богов, и боги были
196
«членами-корреспондентами» Великого дома! Это внутреннее общение
в семье богов ни в коем случае не допускало сравнения с
небожественным общением с помощью письма. Весь первый эон египетской истории
пишет молитвы богам. Молитва отличается от поэзии так же, как
египтяне от греков: молитва должна читаться ритуально и выражать собою
начало, середину и конец богопочитания, культа. Напротив, поэт может,
даже должен начать «откуда-нибудь». Однако мы настолько «огречены»,
эллинизированы, что во всех дефинициях культовой и светской поэзии
это основополагающее различие отсутствует. Всякая культовая поэзия
обладает, как ныне признают образованные люди, некоторым «местом в
жизни». То, что подразумевается в этом скандинавском выражении, —
это строгость форм выражения. Уже у нас в письме есть обращение, дата,
адрес и подпись, вводная часть, сообщение и заключение. Письмо к
богам, написанное на стене храма, в формальном отношении является еще
более строгим. Оно является церемониальным. Но что значит быть
церемониальным, как не невозможность поменять местами начало,
середину и конец? Слова, предложения, имена, которые записываются,
предначертаны требованиями эпохи, и каждое из них с неизбежностью
влечет за собой другое. Богослужение — это «tanganom» (35), т.е. процесс,
железными щипцами вытягивающий из нас предложения, в котором все
решает правильная последовательность. Напротив, там, где поэта
вдохновляет Муза, он может начать где-нибудь и когда-нибудь закончить.
Различие между культовым и поэтическим языком заключается не в
стихотворном размере, рифме, содержании и форме слова. Не является
главным признаком и удаленность от устной или письменной речи. Все
церемониальное отличается от любой светской поэзии неизменным
порядком и нерушимой последовательностью. Ныне мы так привыкли
начинать «где-нибудь» и кончать «когда-нибудь», научившись этому у
греков со времен Гомера, что то магическое и стереотипное, что
присуще начертанным на стенах храмов на Ниле текстам, оставляет нас
безучастными. Рассказывают, что король Испании сгорел заживо,
поскольку во время пожара в его замке не было царедворца, который
должен был надевать на него сорочку, а придворные, в обязанности
которых входило надевание штанов и камзола, без ответственного за
сорочку не могли ничего поделать — такова сила церемониала. Так и в
церемониале Мемфиса все создание царства начинается с самого начала.
Ни одно действие не может быть пропущено, ни одно не может быть
исключено. Каждый фараон должен снова становиться Большим
домом, все снова и снова миллионы раз, тысячи раз, десятки раз. Чем
чаще повторяется церемониал, тем лучше он доказывает свою
действенность. Напротив, чем реже повторяется поэтическое
произведение, тем оно кажется оригинальнее. Оно не связано жестко с
календарем. Таким образом, истолкование иероглифов подчиняется двум дог-
реческим правилам. Во-первых, ничто не может быть подвергнуто
обобщению, поскольку все мыслится несопоставимым и
один-единственный раз по-египетски переживается, спрягается и склоняется. Во-
вторых, все должно в свое время бесконечно повторяться, поскольку
никакое последующее действие в очередности норм приличия и
культа не может быть совершено без всех предшествующих действий.
197
Таким образом, мы рискуем при чтении иероглифов придать им
либо слишком много, либо слишком мало «всеобщности». Приведу
пример: в новом научном изложении религии Нила утверждается, что
во многих поселениях на Ниле их жители в храмах поклонялись своим
локальным богам-соколам. Затем же Гор-сокол, бог
«территориального царства» из Иераконполя, слился с этими локальными богами.
Причиной неправильного понимания является смешение предлога «в» с
предлогом «из». В данном случае слишком большое уважение к
специфике «из» ввело исследователя в заблуждение. Было придумано
множество богов-соколов, и все это лишь для того, чтобы не признавать
Единого Великого «Гора-сокола». И все же существовал только один бог
Гор. Верно то, что в этих бесчисленных местах поклонялись
богу-соколу, а именно Гору. Но он никогда не был богом из Хнеса или Нехена;
он присутствовал в Эдфу (36), в Мемфисе, и туда он попадал во время
своего полета от Бехдета до Бехдета. Именно так назывались
пограничные города древнейшего царства. Они назывались одним и тем же
именем «Бехдет» и передавались на письме одним и тем же знаком, чтобы
обозначить на юге и на севере установленные из Мемфиса границы
недавно созданного государства. Для этой разметки «территориального
царства» взывали к благосклонности самого быстрого
«воздухоплавателя». Ведь поток создает единство точно так же, как и Гор. Гор сидит в
парадной ладье фараона, будучи великолепно вырезан из дерева. Он
торопится, как и речной поток. Так спешит только сокол, как ты можешь
прочитать в «Жизни животных» Брэма. Множества богов-соколов д-ра
Бонне (Bonnet) никогда не существовало хотя бы уже из-за наличия
одной-единственной письменности для всего Египта. Напротив, был
лишь один сокол, который летит так быстро и так мощно, что он
повсюду оправдывает и делает необходимой единую письменность
«территориального царства». Ведь на своих крыльях он может нести
беспомощный солнечный диск туда, куда своими силами Гелиос не может
проникнуть — на север. Его взгляд объемлет все одновременно. Но
произвольное смешение «в» с «из» настолько прочно утвердилось, что
и сегодня ни один египтолог не заметил моего скромного
напоминания. А речь идет о том, что именно послание Гора, бога
«территориального царства», которого он должен был собой воплотить и в качестве
которого каждый фараон должен был жить для того, чтобы стать
фараоном, и было прафеноменом, из которого возникли «территориальное
царство» и две его части. Ибо эту веру в божественность сокола
вызвали только вечная разобщенность Солнца и Луны, с одной стороны, и
северной части неба — с другой. Только Гор и течение Нила движутся
с юга на север. Это означает, что они оба совершают то, чего на небе не
могут сделать ни Солнце, ни Луна. Победоносный бог-сокол, птица и
правитель одновременно, способен появляться на востоке, западе, юге,
как делают на небе Солнце и Луна, а на севере он может появляться
так, как это происходит на земле в течение 120 дней разлива Нила.
Поэтому он — откровение божественной силы, уравнивающей его с
Солнцем и Луной и ставящей его выше них. Фараон — это двойной бог.
Поэтому на письме он обозначается с помощью дважды повторенного
знака «восхода», «ха», там, где Солнцу только один раз присваивается
198
знак эпифании. Но прежде чем мы проследим за движением Гора на
небе и на земле, я хочу задержать твое внимание на смешении
предлогов «из» и «в». Они являются неощутимыми словами. Они были
выделены в качестве служебных слов из имен существительных «дом»,
«лошадь», «собака», «сокол», «кошка» и т.д., но также из глаголов «бить»,
«писать», «бежать», плавать», «звать» и т.д. При этом обнаружилось, что
в письменных источниках, которые нужно было расшифровать,
служебные слова вызывали наибольшие трудности. Расшифровщик
поймет скорее имя существительное или глагол, чем неощутимые,
ускользающие служебные слова, и так он сперва угадает вещь или действие,
прежде чем натолкнется на слова вроде «из», «чем», «но» и подобные
им. Даже применительно к отношению между Гором-соколом и его
телом и жизнью в качестве правителя в Мемфисе — во всех храмах его
двойного «территориального царства» — письменный знак вызывал
затруднения при расшифровке из-за труднодоступности служебных слов.
Отдели «бога в» от «бога из». Иначе с тобой случится то же, что и с
глупцом Ампелием в третьем столетии после Рождества Христова с его
девятью Герами и семью Афинами. Тогда никто уже больше не верил,
что на Олимпе находится тот же самый Зевс, который пребывает и в
Олимпии, и на Иде, что Аполлону в двух его святилищах на Делосе и
в Дельфах поклоняются именно потому, что он является богом
мужской любви во время долгих путешествий на архипелаге и т.д. и т.п.
Прочти мое последнее письмо, и ты узнаешь об этом больше.
В детстве я слышал пришедшую из России пословицу: «В
Санкт-Петербурге царь блестящ, в Москве — силен, в Казани — могуч, в
Тобольске — непобедим». Несмотря на это, речь не идет о четырех различных
царях. Таким образом, тот факт, что в каждом городе на Ниле бог имел
различные прозвища, совершенно не разрушал единства его
божественности. Св. Богоматерь из Ченстоховы, несмотря на все паломничества
в Ченстохову, является одной и той же Девой Марией евангелий. Само
собой разумеется, что все пространственно ограниченные формы
выражения духа очень часто вырождаются. Университеты земель,
призвавшие в 1950 г. герцога Кемберлендского в качестве своехо покровителя,
церкви земель, местные церкви вырождаются на наших глазах. Так же
и на Ниле местное тупоумие справляло свои оргии. Но началось все с
подлинного одухотворения. Без Духа Единого, увлекшего в Рим
апостолов Петра и Павла, Рим и сегодня оставался бы языческим, а без Гора
и сегодня не было бы Дома гласа божьего, дома Птаха, от имени
которого сперва в финикийском, а затем в греческом языке возникло само
название «Египет» (37).
Люди, заключающие богов, как в саркофаг, в тесные рамки
локальной принадлежности, в то же время удивляются знанию египтян о.том,
что боги умирают и воскресают. Берлинский профессор, считавший эту
веру «детской», во всяком случае, жил в атмосфере христианского
предания, которое исходит из смерти Бога и в границах которого
ненавистники евреев поносят их как убийц Бога. Как же мы дошли до того,
чтобы оправдываться перед такими учеными? История религии
совершенно недоказуема для тех, у кого для этого нет соответствующего органа, —
точно так же, как высшая математика понятна далеко не всем старшим
199
преподавателям. Важнейшее знание отнюдь не доступно всем и
каждому, даже членам академии наук. Этим мы и должны утешиться.
Лучше посмотри еще раз на тот письменный знак, с помощью
которого передаются понятия «ном» и «царство». Для «нома» это —
искусственно созданный оросительный канал, т.е. сооружение,
возникшее в результате правления из центра, запланированное и
осуществленное, проникающее внутрь соответствующей области и служащее
доказательством наличия центральной власти, благодаря которому ты
знаешь, что речь должна идти об одном из номов. Так дух целого
приходит в провинции. Древнейший титул начальника нома или
земельного совета звучит как «строитель канала» (38). Наоборот, создание
единства «территориального царства» описывается с помощью двух
частей. А именно, иероглиф для обозначения Египта состоит из двух
знаков, обозначающих землю. Таким образом, это непривычно
объединенный, сливающийся воедино, составленный из своих частей
Египет. Это, так сказать, «исполнительный лист», отображающий порядок
его создания, который на письме обозначает уже созданное (39). Так
что «Египет» и «ном» вошли в письменность в качестве знака,
обозначающего направленность на целое или исхождение из целого. Тот, кто
теперь припишет номовым храмам или главным городам Мемфису,
Кузам, Гелиополю локальную ограниченность, должен будет взять на
себе бремя доказательства. Часто совершаемая ошибка заключалась в
том, что вместо того, чтобы прочитать «Гор в Эдфу», давали
интерпретацию «Гор из Эдфу» (40). Тем самым Гор уже был истолкован
по-новому, в качестве локального бога. Но ни один из истолкователей
локальных культов от Зете (Sethe) до Хелька (Helck) не потрудился
привести доказательства либо не отличил «из» от «в». Тем самым они
нарушают первое методическое требование, которым необходимо
руководствоваться при чтении домашнего письма Большого дома фараона,
имеющего силу для всего Египта, нигде не являющегося локально
ограниченным и не допускающего даже самых незначительных
отклонений (41).
Куда бы ты сейчас ни отправилась из Каира, ты столкнешься с
действующими в течение вот уже 3000 лет предписаниями страны,
предназначенными для ведения одного и того же домашнего хозяйства на
протяжении свыше 1500 км. Эти условия жизни «территориального
царства» — гидротехника на земле, календарь на небе — защищают от
голода. Поэтому боги страны не изменяются. Именно они
предписали египтянам строить пирамиды, ради которых мы и сегодня, точно
так же, как Геродот, совершаем путешествия в Египет. Ибо мы, люди,
боимся времени, но время боится пирамид. Пирамиды
свидетельствуют, что время не идет вперед, а возвращается. Египетская
письменность — это предписание, приказание, отдаваемое вечности, эону.
Поэтому слово «иероглиф» лучше всего можно было бы передать как
«бог велел». Мы, современные люди, приказываем природе. У нас
пишущий субъект воображает, будто он противостоит природе, и
поскольку он воображает себе это, поскольку египтолог стоит перед
пирамидой, он считает себя способным правильно наблюдать ее, точно
описывать и определять в соответствии с истиной. Но египетский
200
субъект сам приходит в движение. Он введен в дом богов, он призван,
он взывает и он «пишет» свои ответы на материи мира.
Мы замечаем исчезновение накожных рун в Египте, и мы можем себе
легко представить, с каким насилием это было связано. Например,
пленные враги предстают без этого своего «накожного облачения»,
поскольку руны свидетельствовали о духовной силе, которую победитель
отрицает и уничтожает. Ветхий завет свидетельствует о своем отвращении к
накожным рунам, но, поскольку он отвергает и «картинки» египтян, то
отвращение Израиля к татуировке кажется не передающимся
поклонникам Гора. Поэтому я хочу привести по меньшей мере один текст,
который позволит тебе по аналогии понять отвращение фараона.
В 786 г. нашего собственного летоисчисления посланник папы
Адриана описывал своему господину, какие требования он выдвинул перед
англосаксами: «Все, что бы ни осталось от ритуала язычников, должно
быть искоренено, презираемо и отвергнуто. Бог сотворил нас
прекрасными в нашем убранстве и своеобразии. Однако язычники в своем
влечении к дьяволу нанесли на свое тело омерзительные насечки.
Неправедно по отношению к Господу поступает тот, кто обезображивает и
оскверняет его творение» (42).
Библия, которая в противостоянии одновременно и племенам, и
«территориальным царствам» провозглашала приход Творца мира,
наложила запрет на накожные руны и иероглифы. Поэтому нам трудно
даже заметить борьбу «записывающих мир» против накожных рун.
Письмо каролингского кардинала так интересно нам потому, что он
должен был приводить аргументы непосредственно как министр
фараона: Георг из Остии не цитирует Ветхий завет. Из каждой исторической
ступени исключается столько же, сколько от нее сохраняется.
Божественный император сохранил древние имена родства, а накожные
письмена отверг. Остаться могут и великолепные маски, это высшее
воплощение искусства племени. Такая форма выражения, присущая
глубокой древности, даже и теперь достигает высшего совершенства.
Между тем, иллюзия одновременности не должна вызывать у нас
искушения с хронологической точки зрения рассматривать вместе золотую
маску Гора, этот шедевр из Иераконполя, и палетку Нармера лишь
потому, что при раскопках они были найдены вместе и поскольку они,
если смотреть извне, вероятно, и в самом деле возникли
одновременно. Но слово «одновременно» является двусмысленным.
В смысле даты изготовления они, возможно, одновременны. Но одна
из этих двух драгоценностей, маска Гора, скрывает, другая, палетка
Нармера, открывает. Маски создавало каждое племя. И эти маски — будь это
на Бали или на севере Тихого океана — повсюду достигают высокого
совершенства. Золото могло сделать маску сокола более дорогой, но не
более ценной в художественном отношении, чем маски в других местах,
поскольку они повсюду воплощали наиболее самозабвенную веру
своего времени. В противоположность этому, шиферная палетка начинает,
открывает и закладывает основу всякой религии писцов следующих трех
тысячелетий. Таким образом, сочетание этих двух драгоценных
памятников нашей доисторической эпохи должно предостеречь тебя от
обращения к дешевой «хронологии», в соответствии с которой «одновременное»
201
в техническом смысле отдельного образца характеризуется также «одной
и той же духовной принадлежностью». Нет, в каждый момент истории
многое, возникшее абсолютно не одновременно, находится рядом друг с
другом, и я вынужден был ввести английский термин «dis-temporary»,
чтобы предостеречь наших обезумевших благодаря газетам
«современников» от иллюзий и заставить их увидеть, что в Гитлере восстал догоме-
ровский человек индейских племен «алгонкин» или «сиу»: он обладает
всеми чертами человека, наносящего татуировку. Но и каждый еврей до
создания нового христианского государства Израиль по своим
намерениям был дохристианским человеком. Среди нас Бультман (43) является
греком, а Дитрих Бонхеффер (44) — сегодняшним человеком. Так что в
каждый момент хаос времени велик. Но именно так и должно быть.
Правда, это может быть смертоносным, но нам это не поможет: все
времена для Бога одновременны, как это выразил Ранке (45). И все же,
когда для подтверждения этого я цитировал древнего мудреца, те, кто не
узнавал в этих высказываниях Ранке, называли меня законченным
глупцом. Однако мы либо являемся большим Человеком «вообще»,
существующим от Адама до Страшного суда, либо мы перестаем быть людьми.
Любой вид письма — будь это маска, надпись, высеченная на камне,
крест под INRI, обручальное кольцо или манускрипт — должен
вписывать нас в книгу вечности. Всеми средствами и с помощью всех знаков
мы оживляем цельные души всех эпох прошлого, чтобы они помогли
нашим смертным телам дышать. Маски могли остаться, татуировка
должна была исчезнуть. Поэзия, созданная в Элладе, могла остаться.
Человек, лишивший тело святости, Платон, должен быть отвергнут. И так
далее. Все должно проходить сквозь сито. Игра Гитлера в индейцев, не
подвергнутая отсеву, заставила коммунистов и капиталистов
объединиться в борьбе против него. Ибо происходящее из седой древности и не
прошедшее сквозь сито не должно возвращаться никогда. Но ни в какое
другое время наследие веков не воспринималось столь неразборчиво, как
в течение двенадцати лет Гитлера. Его жертвы будут жить в качестве
наших мучеников. Этой цели теперь, как и пять тысяч лет назад, и служит
письмо. Оно возвышает непреходящее, то, что не должно умереть
никогда, и вводит его в круг света вечности.
Твой Ойген
202
Третье письмо в Каир
Сопду и Сопдет
Дорогая Синтия!
Тропы племени и тропы войны подверглись преобразованию,
поскольку царство неба и земли теперь было разделено на деканы и
храмовые номы. Первое письмо позволило тебе лучше понять переход от
накожных рун воинов племени к иероглифам. А теперь ты должна
безотлагательно обратить внимание на то, что не было заключено в
переходе к «территориальному царству». В этом переходе не было
приравнивания действительного неба и действительной земли к целостности
«территориального царства». И универсум, и «территориальное
царство» на Ниле, и государство инков, и Римская империя — все они
создают впечатление всеобщности, когда они, двигаясь по своим новым
путям универсального господства, поднимаются над изученными в
результате миграций пространствами и унаследованными временами.
Эон и область протяженностью в тысячу километров: на первый взгляд
они кажутся «всеобщими» по сравнению с охотничьими угодьями апа-
чей или Мазуров. Однако по ту сторону порядка их величин еще не
просматривается действительный универсум. Поэтому в средствах
выражения нашей речи и нашего письма необходимо отделить друг от
друга универсум и «территориальное царство». Гор-«цезаропапа» сам в
течение длительного времени не замечал этого отличия или не
придавал ему большого значения. Великие кризисы египетской истории
порождены трудностями примирения притязаний истинного универсума
Творца и притязаний диалектического универсума Гора,
противостоящего племенным традициям. Ты можешь представить себе, что
наибольшие трудности были связаны именно с древними знаками письма.
Ибо в них совпадали бог «территориального царства» и Бог всего мира.
На самом деле в эпоху III династии было предпринято
усовершенствование письменности для того, чтобы, выйдя из литургического
универсума, попасть в действительный универсум. То, что всецело
неправильно называют религией Солнца в Оне, — это попытка такой
корректировки. Подобные попытки повторялись от Имхотепа до Эхнатона.
Затем от них отказались.
Но сначала порадуйся сегодня первому успеху. Ибо все подлинные
пилоны и ворота, порталы и стены обеспечат тебе доступ в мир
вечности, золота и неугасимого света, который был создан верой
поклоняющихся Гору. Космос, создаваемый этим миром, еще и сегодня ведет
призрачное существование в представлениях о «жизни после смерти» и
в культе погребений. Среди нас живут много «древних египтян»,
которые сами не подозревают, что они являются таковыми, и, как
египтяне, считают, что они никогда не умрут. Я попытался показать тебе
ценность великих открытий египтян — аллей времени, проходящих сквозь
тысячи лет, и святилищ, расположенных внутри замкнутого
пространства, которое они отвоевали у хаоса. Теперь все это может непосред-
203
ственно обращаться к тебе. Отправься в плавание по Нилу. Только там
ты обретешь способность постичь грандиозность задачи, стоявшей
перед строителями храмов.
Поскольку ты уже на месте, мое письмо должно внести лишь одно
добавление о том, чего ты там не увидишь. Речь идет о перевороте,
использование которого или противодействие которому и составило славу
Египта. Египтяне отвели угрозу хаоса. Они создали промежутки
времени на основе прежде неизвестного закона. Этому закону подчиняются
все промежутки времени рода человеческого. Познание его полезно в
двух отношениях: ведь мы осознаем и огромные, сохраняющие свое
значение свершения фараонов, и специфические заблуждения нашего
времени и нашей страны, против которых и направлен этот закон.
Наша ограниченность в эпоху естествознания неизменно остается
все той же: люди считают политический порядок своей жизни
естественным и насмехаются над верой. Ибо они отрицают, что порядок
разрушился бы без их верующего, ежедневно готового к жертвам
признания. Разительным примером этой ограниченности ныне является
понимание целомудрия и кровосмешения. То, что братья и сестры,
родители и дети живут друг с другом в мире, в течение тысячелетий
считалось настолько священным, что в условиях внезапного
вторжения атеизма начиная с 1850 г. это обстоятельство рассматривалось в
качестве части человеческой природы. Затем появился психоанализ.
И теперь поэты и социологи ставят под вопрос все правила семейной
жизни лишь потому, что семья с ее целомудрием в наши дни должна
была бы почитаться как образование, созданное с верой и нами
самими беспрестанно вызываемое к жизни. Семья не является
естественной, и, несмотря на это, — или как раз поэтому, — она должна быть
освящена. Люди, раз и навсегда объявившие общество чем-то
неестественным, а природу признавшие священной, не способны к такому
пониманию. Таким образом, Эдип «по природе» должен был убить
своего отца, а Федра — преследовать своего пасынка Ипполита. Как
они могли действовать вопреки природе? Однако история состоит из
неестественных неизбежностей. Священная необходимость природы
противоречит еще более священной необходимости истории. В период
правления в Египте брата и сестры разрыв с прежде существовавшей
и необходимой заповедью целомудрия становится огромным чудом,
потрясшим египтян. Семья богов не могла почитать никакой род за
своими пределами. Таким образом, мы поймем это лишь в том случае,
если вместо природы обратимся к священной необходимости. В
Египте обнаруживает свою несостоятельность и другая сфера проявления
нашей глупости — наша глупость в понимании пространства и
времени. На Западе эту глупость воплощают собой платоники, стоики, ари-
стотелики, материалисты, кантианцы — от Парменида до Маркса. Из
греческого наследия они позаимствовали и признали принцип
святости математики с ее абстракциями, а потому впали в колоссальное
заблуждение, считая, что мыслитель с помощью своего мышления
может представить себе пространство и время. Египтяне соорудили
вечность. Греки мыслили ее. Поэтому их ученики говорят о
«пространстве» и «времени» так, будто их мышление, их дух, их филосо-
204
фия противостоят времени и пространству или тому и другому
вместе. Люди, получившие академическое образование, считают своей
привилегией способность мыслить универсум и вечность в качестве
предметов философии, объектов, о которых можно задать вопрос на
экзамене. Ведь академическое мышление настолько уверенно
держится в седле, что большинство современников даже не замечают, как
безобразно порабощает их этот всадник. Они подчиняются
философскому окрику и послушно повторяют, что пространство и время всегда
«налицо» и мыслящему человеку нужно только выйти на место
действия и поразмыслить о пространстве и времени. Так что в случае
пространства и времени господствует та же самая ограниченность, что и
в случае братьев и сестер. При этом наличие сестры считается
естественным фактом. Никто не проводил различия между сутью дела и
фактом. Однако всякому факту предшествует акт признания. Лозунг о
братстве всего человечества, о fraternité, в 1789 г. был провозглашен
«природным». Однако разве по природе мы являемся братьями?
Разве братья никогда не убивали? Они убивали, чтобы не потерять свой
пансион. И это была, пожалуй, еще одна из наиболее благородных
причин. Наше братство здесь ускользало, как угорь, от всех понятий,
относящихся к природе. Братство должно учреждаться ежедневно. Его
нет самого по себе. Точно так же обстоит дело с временем и
пространством. Именно «мыслитель», предметом мысли которого являются
пространство и время, очень часто уклоняется от участия в их
ежедневном сотворении. Да, обыкновенный человек думает, что я сошел с
ума, потому что я кричу ему: «Помоги мне создать наши времена и
пространства!». Но египтяне, среди которых еще не проповедовали
своих учений никакие философы, в течение тысяч лет направляли все
свое существование не на что иное, как на создание промежутков
времени, а именно, промежутков времени, в рамках которых фараон мог
и должен был бы жениться на своей сестре. К приверженцам
академической мысли нельзя было бы и подступиться, если бы они не
выдавали себя тем оборотом речи, которому можно научиться только
после сдачи экзамена на аттестат зрелости. Этот оборот речи не режет
слух образованным людям, но обладатели здравого человеческого
рассудка не произносят его. Он звучит следующим образом: «Время и
пространство». У живых людей имеются только «здесь» и «там»,
«вчера» и «послезавтра», «прежде» и «позже», «внутри» и «вне», «вверху» и
«внизу». Но ни один нормальный человек совершенно определенно не
говорит о времени и пространстве. И у этого есть серьезные причины.
«Время» и «пространство» в единственном числе никогда не могут
быть восприняты с помощью органов чувств. На опыте нам
встречаются многие времена и пространства, но время и пространство в
единственном числе — никогда. Ни один геометр не может измерить
пространство, не находясь сам во втором пространстве, хотя бы во
внутреннем пространстве своего представления. Девятнадцатое
столетие имеется лишь потому, что существуют восемнадцатое и
двадцатое столетия. Никто не пребывает вне времен и пространств, и если я
вижу перед собой одно пространство, то сам нахожусь в другом. Но
гордостью философии является именно то, что она утверждает нали-
205
чие единственного числа. Что же, мыслитель заключен в свое
местоположение и в даты своей жизни, даже если он в своем тщеславии
преклоняет колени перед собственными мыслительными процессами.
Тот, кто говорит о некоем времени или некоем пространстве,
должен, пока он говорит, находиться во втором времени и во втором
пространстве. И то, и другое настолько бренно, что они должны быть
гарантированы самим нашим существованием. Прежде чем два специалиста
смогут что-то думать о времени и пространстве, они уже должны создать
«состояние» своей науки, т.е. внутреннее пространство своей
специальности, внутри которого они говорят друг с другом, и им надлежит
установить определенный, достаточно продолжительный промежуток
времени. Например, тот, кто говорит, что «с научной точки зрения это так»,
участвует в осуществляемом в истории построении определенной науки.
Таким образом, когда мы говорим о времени и пространстве, мы
вынуждены извещать о создании того второго пространства-времени, благодаря
которому мы получаем возможность размышлять о временах до и после
нас и о пространствах вокруг нас. Пространство, в котором я как
специалист могу глубокомысленно — а на самом деле очень упрощенно —
рассуждать о пространстве, должно ежедневно завоевываться нами
посредством обеспечения мира на улице, отопления учебной аудитории,
обслуживания в столовой, готовности друзей выслушать нас, верности
договоренности среди коллег, с помощью журналов, академий, экзаменов,
соревнований и т.д. Времена и пространства основываются на наших
высказываниях и исчезают без явных дел нашей веры, которыми мы
ручаемся за их существование.
Можно ли это доказать? Да. Времена и пространства должны быть
вызваны в нас в качестве совместных времен или пространств. Ибо
только современники или люди, находящиеся в одном и том же
пространстве, понимают друг друга. Когда пылкий Эдвард Кеннет Рэнд
(Rand), лучший американский ученик Людвига Траубе (Traube),
рекомендовал нам изучать классиков, он выразился своеобразно: «Хотя в
истории и выделяются периоды, но наша сила воображения не отделяет их
друг от друга. Мы должны побудить наше воображение к созданию и
восприятию достославных анахронизмов или, точнее, гиперхронизмов».
При этом «гиперхронизм» для Рэнда означает власть распоряжаться
временами. Здесь отделенные друг от друга времена явным образом
превращаются в одно время. Так создается «сверхвремя». Я сам должен был
назвать английскую статью «Supertime», «сверхвремя» — в параллель к
«гиперхронизму» Рэнда — для того, чтобы доказать, что каждый
учебный час, каждый учебный год должны нами включаться и вовлекаться в
более продолжительное время, время пожизненного обучения или даже
тысячелетие народного образования, поскольку без этого «supertime» они
теряют свой смысл (46).
Наша вера так соединяет короткие промежутки времени с более
продолжительными, большими временами, чтобы из них
развернулась и распрямилась вечность. Противоположным образом обстоит
дело с пространствами. Они разделяют универсум, единый большой
мир, на области, части света, мельчайшие участки. Пространства,
которые мы выделяем посредством разделения универсума на части, на-
206
ходятся во внешнем пространстве. Этому внешнему пространству в
качестве непроницаемого противостоит наш внутренний мир.
Времена, которые мы соединяем друг с другом, мы связываем в более
продолжительное время. Внутреннее пространство и внешнее
пространство, мгновение и вечность — это неизбежные противоположности.
Таким образом, мы по собственному желанию и разумению
добавляем пространствам словечко «внутренний», а временам — слова «более
продолжительное». В случае пространств совокупное пространство
воспринимается прежде внутренних пространств: младенец в
колыбели сперва протягивает свои ручки в далекий безграничный мир.
Приобретаемый при этом опыт вынуждает его признавать наличие
внутри универсума стен, границ, земельных участков, планет. Там, где
младенец тянет руки к звездам, старик понимает ограниченность
возможности своего вмешательства. Но, с другой стороны, у младенца
имеется в распоряжении только короткое мгновение. Напротив,
старик думает о детях и внуках, о начале и конце. Его тело кладут в гроб,
но его душа вобрала в себя связь времен и вдохновляет на сопряжение
самых отдаленных времен.
Ни у Канта, ни у Платона, ни у какого-нибудь другого мыслителя-
философа пространство и время не различаются по тому признаку,
воспринимается ли сперва целое, как в случае пространства, или отдельная
секунда, как в случае времени. Как же можно осмысленно рассуждать о
времени и пространстве, если мышление пренебрегает этим
основополагающим различием в их восприятии? Когда мне открылось, что
времена и пространства являются творением политического существования,
в течение тридцати лет я никак не решался поверить, что различные
школы мыслителей способны замалчивать факт противоположного
восприятия времен, с одной стороны, и пространств — с другой. Теперь я
знаю, что они до сего дня упускают из виду именно это обстоятельство
и что они, таким образом, передают это глубокое заблуждение
специалистам в различных областях науки. Философ и специалист внушают
себе, будто они объективны. Выражение «внушают себе» показывает
тебе, что они ставят язык на службу такому самообожествлению.
Говоря «Я действую в соответствии с наукой», они внушают себе, что
противостоят всему миру как не имеющие никаких ощущений. Независимость
наук от их носителей — это самовнушение. Носители науки должны
явным образом вырваться из своего окружающего мира для того, чтобы
встретить подобных себе в царстве духа. Этот отрыв от своего мира на
ученом языке звучит так: они должны абстрагироваться. Между тем, хотя
для большинства слово «абстракция» и кажется таким безобидным, оно
всякий раз означает разрыв, выдергивание из почвы укорененного в ней
твоего или моего образа действий. Таким образом, абстракция — это не
просто акт мышления. Ибо она изменяет того, кто абстрагирует, в том
отношении, что он больше не принадлежит к тому месту и времени, где
и когда он прежде был своим человеком в качестве члена некоей
общности или товарища. Напротив, поскольку он перестает принадлежать
этому конкретному миру, он с помощью своих абстракций переходит в тот
промежуток времени, в котором коллеги принимают участие в его
абстракциях. Он разорвал связь со своим временем!
207
Со времен Ренессанса мы восстановили платоновскую академию,
пространство абстракций. Поэтому в наши дни предано забвению то, что
между кочевниками и философами простирается огромная мировая
эпоха, которая не мыслила о пространстве и времени абстрактно, а
хитростью выманивала пространства и времена у мимолетного чувственного
мира. Мировая эпоха космических царств Китая, Мексики, Индии,
Шумера, Вавилона и, прежде всего, Египта была вызвана к жизни
посредством строительства и нанесения письмен на построенное — в отличие от
мыслителей Греции, писавших книги, или кочевых племен, проводивших
ритуалы инициации. Такие внутренние пространства, как наука, и также
мировые времена, как «двадцатый век», — это продукты письменности!
В Каире ты должна выйти из университетского мира Платона и
Аристотеля, если ты только хочешь проникнуть в царства миродержцев, в
мировое время фараонов, инков, сыновей и дочерей неба. Наши
школьные учебники еще не соглашаются с этим, но месть времен ныне
заключается в необходимости признать, что мы, коль скоро мы хотим быть
затронутыми историей, должны были, да и сейчас обязаны, придавать
длительность мгновению, должны были освящать времена и пространства и
сохранять их священный статус. «Места, куда ступала нога хорошего
человека, остаются освященными на все времена», — воскликнул Гёте, и
тем самым он напутствовал нам: эти места должны оставаться
освященными. Однако тем самым мы проникаем во время и пространство части
мира. Пусть это место представляет собой просто скамейку в саду, как у
Гёте: «Здесь влюбленный думал о своей возлюбленной...», пусть память
о чем-либо почитается только единственным грядущим поколением, но
все же самое главное произошло: эон, мировое время, возник из
непостоянного, мимолетного мгновения, и к этому мгновению тем самым
оказался приращен некий промежуток времени, который не мог быть
присоединен ни с помощью абстракций, ни с помощью органов чувств.
И не только время растягивается таким образом, не только из секунды
возникает человеческий возраст или даже столетие. Из
воспринимаемого зрением мирового пространства выделяется некоторая часть и
превращается в священное место. Так создаются историческое пространство и
историческое время. Таким образом, это — два космических
достижения, которые в Египте могли бы вырвать тебя из пут абстрактной
философии. Мы хотим также изъять пространства и времена фараона из рук
египтологов с их абстрактными толкованиями. Мы хотим понять, как
по-египетски именовался факт предоставления человеком некоторой
длительности мгновению.
Мировое время, созданное пирамидами, часто отодвигается на
задний план дурной философией специалистов. Так что я хочу
предостеречь тебя от некоторых ложных наименований, ведущих призрачное
существование в современных книгах. Например, египтян называют
крестьянским народом. Но уже в «Прогулке» Шиллера есть все
необходимое для правильного, т.е. противоположного, понимания. Но, похоже,
Шиллер не пользуется большим авторитетом у антропологов и
социологов. Пирамиды как раз и не указывают на народ, состоящий из
крестьян. Странный крестьянский народ, отрабатывающий барщину у
вечного правителя. Нет, в Египте на место воинственных кочевников за-
208
ступили профессиональные сословия. Словосочетание «крестьянский
народ» вводит в заблуждение лишь тем, что нивелирует разделение
народа на жрецов, воинов, крестьян и ремесленников ради одного
слова — «крестьяне». Однако новшество миродержцев и состояло во
введении разделения труда. Новизна состояла не в том, что собирали
урожай зерновых культур. Неслыханным являлось то, что отныне
каждому отдельному воину не нужно было воплощать собой все стороны
жизни. Еще и в наши дни отдельно взятый бедуин, отдельно взятый воин
племени, отдельно взятый эскимос способны на все то, что вообще
вменяется в обязанность мужчины.
Не так обстояло дело в «территориальных царствах». Индийские
касты являются последней утонченной формой разделения труда оседлого
населения по профессиям. До этого человек был воином племени. Так
Тацит характеризует германцев. Вечная тропа войны запрещала
разделение на профессии. Однако фараон отделяет друг от друга военную
службу и мирный труд, и призыв, исходящий от фараона, вызвал к жизни
новую структуру общности. Таким образом, тот, кто говорит о
«крестьянском народе», замалчивает факт вызывания к жизни профессий, среди
которых называются и крестьяне. Тем самым этот человек обходит
главный вопрос основания любого «территориального царства» в угоду
своему небрежному, натуралистическому подходу. Вместо подчеркивания
того, что в «территориальных царствах» любой человек действует
согласно своему предназначению, сформулированному центральной властью,
словосочетание «крестьянский народ» ввергает читателя в безъязыкий и
безымянный натурализм, ничего не знающий о пожаловании
должностей и званий. Но ни один египтянин не был египтянином или не мог
стать таковым без назначения на должность и включения его в идущую
сверху вниз иерархию степеней достоинства, созданную
последователями Гора, т.е. верхушкой «территориального царства».
Вторым неудачным словом, встречающимся в книгах, является
«астральный». Например, египтологи говорят, что древнейшее
общественное устройство Египта свидетельствует о меньшей зависимости от
астральных представлений, чем на более поздних этапах египетской
истории. Таким образом, становление первоначального «территориального
царства» фараона Менеса можно было бы легко объяснить племенными
междоусобицами Нижнего, Среднего и Верхнего Египта, а также
ливийскими и шумерскими воздействиями и конфликтами. Мировая история
стонет от ее сведения к последовательности военных столкновений
точно так же, как история «территориальных царств» стонет от
использования словосочетания «крестьянский народ». Тем самым сфера
астрального, а именно Солнце, Луна и звезды, превращается в некое украшение,
некий добавленный позже элемент наружного убранства, образованный
суевериями. Считается, что Осирис якобы был царем, правившим в
древние времена. Тогда Гор и Сет становятся представителями
различных государств, воюющих между собой. 363 года, упомянутые в
знаменитой надписи, тогда читаются как отрезок исторического времени,
состоящий из 363 действительных лет, тогда как подразумеваются 363
дня — каждый день продолжительностью один год — из 365 дней года.
Да, приняв в качестве исходных событий войны, завоевания и полити-
209
ческие акции, египтологи сочли 4100 г. и 4200 г. началом
«территориального царства» на Ниле, тогда как космическое создание пространства-
времени Египта не могло произойти раньше 3000 г. И здесь, как и в
случае с «крестьянским народом», используется словарь просветителя
девятнадцатого века, который вводит в заблуждение, поскольку жрецы и
правители представляются излишними, так, словно сначала существовали
египтяне, а затем уже — жрецы и правители. Но жрецы и правители —
это создатели Египта. Они сами не были ни гражданскими, ни
военными лицами, но именно они впервые вводят «территориальные царства»
в мировое время, в котором война и мир могли чередоваться, а
крестьяне и солдаты — меняться местами. Просветители этого больше не
осознавали. Вольтер и Руссо исходили только из мира, Дарвин и Ницше —
только из войны. Вечный мир — это для Руссо «естественное состояние»,
точно так же, как «вечная война» для Ницше. Но история начинается
тогда, когда можно отличить мир от войны. Ведь мы попеременно
существуем между объявлением войны и признанием в любви, между войной
и миром, между изнасилованием и браком. Поэтому силы, которые
совершают чудо перехода от войны к миру и обратно, всегда будут
носителями власти «территориального царства». Тот, кто объявляет войну или
мир, создает хаос или учреждает порядок, является сувереном. Конечно,
«территориальным царствам» понадобились столетия для того, чтобы
согласовать свои установления с силами неба. Верно утверждение, что
звездочеты веками должны были наблюдать движение Солнца и
созвездий, прежде чем стало возможно составление календаря,
фиксирующего местоположение каждого созвездия в любой день любого года с
точностью до минуты. Но «астральное» означает не только стремление
выдавать себя за Солнце, Луну и звезды, как это охотно делали более
поздние правители и как о себе в качестве небесных светил позволяли
говорить Юлий Цезарь, Карл Великий и Сталин (47).
Сын Неба в Китае и инки в Перу пользовались достижениями
Египта. Поэтому неудивительно, что на* Ниле первые тысячелетия от
Менеса до Имхотепа были посвящены наблюдению звезд.
Величайшим делом фараона было отнюдь не использование неба для создания
«территориального царства». Его величайшим свершением было
научное наблюдение, теория неба. Какая же вера была нужна для того,
чтобы постоянно, и днем, и ночью, оставив в стороне звездочетов в их
тихих обсерваториях, создавать письмо, с помощью которого могли быть
запечатлены вечные законы обращения небесных светил! Сегодняшние
египтологи справедливо отвергают ложь астрологов — составителей
гороскопов, но они низводят письмо до уровня чего-то чисто
практического, считая его изобретенным для записывания сортов вина и счетов.
Но письменность была направлена на тех, кто жил в отдалении, и тех,
кто будет жить позже.
Письмо находится по ту сторону войны и мира, как космос, как
фараон. Конечно, оно так же практично, как император, как папа. И они
тоже действуют, и они вторгаются в мир вместо того, чтобы его просто
понимать. Но письменность, жрец и миродержец продлевают мгновение,
превращая его в возвращающуюся вечность. Пусть Солнце на Ниле
должно было служить знаком, символизирующим отдельный день, — но то,
210
что ты его пишешь, придает ему смысл повседневности и любого дня.
Письменность осуществляет превращение, поскольку она делает
возможным повторение. Не случайно, что в письменности самой древней
династии уже возникает иероглиф «миллионы лет». Это — программа
письма, это его обетование, и небо знает, что оно исполнилось. Таким
образом, письмо, звездочеты, объединение царств, древнейшие имена
фараона и его слуг не были «астральными» в современном техническом
смысле. И как они могли быть «астральными»? Они впервые обратились
к задаче предоставления мгновению длительности. Необходимо было
создать вечность, промежуток времени, предназначенный для узкого и
длинного участка земли, долины Нила, длина которой — 1000
километров, а площадь — 25 000 квадратных километров. Для этого необходимо
было перенести небо на землю, и оно постепенно оказалось перенесено
на землю. Даже освоение сферы астрального было достижением.
Иисус слабо связан с собором Айя София в Константинополе. Тем
не менее, этот Дом Божий возник из его Слова, этого Слова Божьего.
Сравнение должно успокоить недовольных рассуждениями об
«астральном». С 33 г. по 325 г. от Рождества Христова христианство не имело
мирового пространства, оно уходило от мира. Но в конце концов собор Айя
София и церкви Равенны преобразили христианский мир, сообщив ему
ясность. Однако язык и дух жителей Равеннского экзархата и
византийцев вел свое происхождение от Иисуса и апостолов. Ты сама
показывала мне в Равенне видоизмененного летящего Гора (48). Так что замысел
«территориального царства» Египет возникает у первого пишущего Гора-
царя, объединителя земель Верхнего и Нижнего Египта. Выделяемая
ныне в качестве «астральной» глава истории под название «Солнце и
Луна» возникла из этого первого этапа позже и уже содержалась в нем,
хотя в период правления I династии наблюдения только начались.
Неправильное употребление слова «астральный» приводит к еще более
ужасным заблуждениям, чем выражение «крестьянский народ». Ибо
тогда все — Гор и око Гора, крылатое Солнце и храмовый ном, Сет и
Сопдет, пирамиды и культ Осириса — превращается в отвлеченные
понятия и истолковывается либо в духе представления о локальных богах,
либо в духе астрологии, утрачивая тем самым свой единый смысл,
неразрывно связанный с «территориальным царством». В Египте
почитались силы, благодаря которым человек становился египтянином. Но
египтянами становились не с помощью локальных культов или
астральных сил. Египтянами делались благодаря имеющему решающее значение
совокупному египетскому опыту. Богу «территориального царства» Гору
из-за этих обеих абстракций, «локальное» и «астральное», досталась
самая жестокая судьба. В словаре египетского языка о нем утверждаются
невероятные глупости, основанные на представлении о его локальном
характере. Так, Гор считается обладающим прозвищем «Бехдетский». Его
мгновенно объявили локальным богом двух мест — Даманхура в Дельте
и Иераконполя далеко на юге, на развалинах которых это имя
встречается весьма часто. Но обрати внимание на то, что Гор называется Бехдет-
ским и в других местах по всему Египту. Ибо величественный образ
сокола должен возвещать, что 938-980 километров долины Нила были
«мгновенно» пройдены в ходе сотворения нового пространства-времени.
211
В «Жизни животных» Брэма о соколе высказывается потрясающее
суждение: «Его необычайная способность к перемещению в пространстве
выражается в том, что перелеты на расстояние 1000 километров
представляются ему своего рода прогулками» (49). Именно это важно в
долине Нила. Подобно соколу, око Гора охватывает весь Египет. Это —
тайна ока Гора, которая изначально не имеет никакого отношения ни к
Солнцу, ни к Луне, а выражает телескопическую способность
устремляющегося вниз по Нилу правителя. Тексты явно говорят о том, что Гор
превосходит взгляд Солнца и Луны, равно как и Сопдет на пирамиде.
Натуралистическая теория трактует знак, обозначающий око Гора, как
вещь, а не как действие, функцию и глагол. Однако в нем выражено
изумление, какое вызывает всепроникающая власть «территориального
царства», и ты уже готова к тому, чтобы принимать всерьез слово
«мгновение». Для ока Гора обзор расширяется до видения мирового времени.
Египтологи, не поднимающиеся над мнениями своего цеха, называют
это пустой болтовней и умалчивают о том, что в девятнадцатом веке так
называемый крылатый солнечный диск, претерпевший некоторое
обновление и принявший вид крылатого колеса — эмблемы железных дорог,
— выступает в качестве прекраснейшего дополнения этого истолкования.
Еще и в наши дни железнодорожники, как я уже сказал, подражая
крылатому солнечному диску, используют крылатое колесо в качестве
своего символа. Сила локомотива здесь воплощается в образе «крыльев» пара,
сообщающего движение колесам. Но и в так называемом крылатом
солнечном диске действующим началом является не само Солнце. Гор, бог-
сокол, делает для Солнца то, что оно само делать не может: сила его
полета влечет Солнце на север, в том единственном направлении,
которое для самого Солнца остается недоступным. И как же он это делает?
«Мгновенно». Каждый год вместе с усиливающимся разливом Нила он
устремляется от первого порога к северу, и так он возносит Солнце над
всем небом. Таким образом, когда в церковных песнопениях вслед за
пророком Малахией поется: «А для вас, благоговеющие пред именем
Моим, взойдет Солнце правды и исцеления под крыльями Солнца» (50),
то это прекрасное утешение происходит из того действия, которым Гор-
сокол нес на своих крыльях Солнце вниз по долине во благо земель.
Древняя вера давала крылья не только Солнцу. Нет, Гор, великий
двойной бог, одалживал свои крылья ограниченному в своих перемещениях
небесному светилу. Так что лишь поэтому одно небо раскидывается над
многими ландшафтами, и Гор учит соседей, живущих вдоль всего Нила,
смотреть на одно и то же Солнце, одну и ту же Луну, одни и те же
звезды. Одно небо, много ландшафтов. Гор в царской ладье так
победоносно летит вниз по Нилу, как сокол, что Единое Небо становится более
заметным и достойным преклонения, чем меняющиеся участки
местности. Таким образом, прежде чем Солнце и Луна стали «астральными», на
первый план выходит сила, превосходящая астральные силы и
сохраняющая свое превосходство. Ибо она может устремляться на север, и
именно это действие, невозможное ни для какой звезды, создает
соответствующую небу единую область на земле. Таким образом, крылья Гора несут
Солнце. Поэтому Египет — это не страна солнечного культа, а страна
созидательного деяния, исходящего от правителя. Гор доводит до совер-
212
шенства и небесный космос. Благодаря его путешествию небо способно
стать символом господства над огромной областью. Так что Гору — как
Сталину и Карлу Великому — с самого начала присваивается чин
двойного небесного светила. Ведь он восходит, как Луна, и он восходит, как
Солнце. Поэтому его появление описывается с помощью удвоения
глагола для обозначения восхода звезд: chai и chai. Понимание движения,
изменяющего мир, — это обожествление. Гор — это ступица колеса
мира, соответствующего «территориальному царству» на Ниле, но не
потому, что Гору поклонялись в Иераконполе и Даманхуре. Считать так
означало бы менять местами причину и следствие. Наоборот, ему были
возведены великолепные храмы в точке начала его путешествия, в Нехе-
не на Верхнем Ниле, и в месте завершения путешествия в Дельте,
поскольку в ходе своего божественного путешествия он делает то, чего не
могут делать ни Солнце, ни Луна: проходит и обозревает землю с юга
на север. Его способность преодолеть и подчинить себе пространство
протяженностью в тысячу километров сделала его богом. А боги — это
не идолы в храме. Напротив, им поклоняются в храме, поскольку
должны быть увековечены следы их странствия. Путешествие Гора нашло
отражение в разделении Египта на 36 номов и в разделении небесного года
на 36 периодов по 10 дней в каждом. Эти 36 раз по 10 составляли
пространство-время двойной страны и промежуток времени года. Они
намного старше солнечного культа, как доказывает анализ их в высшей
степени архаических имен, проведенный Зигфридом Шоттом (Schott). В
случае 36 деканов и номов, помноженных на десять, пять дней
остаются в качестве новогодних. То, насколько существенно 36 в качестве
первого числа египетского космоса, показывает золотое ожерелье женщины-
фараона I династии. Оно состоит из 36 Горов-соколов (51).
Таким образом, Гор выступает в качестве поручителя времен и
пространств. Поскольку не признается изначальное соответствие —
деканы для «36 раз по 10 дней» в году и номовые храмы для 36 областей
страны, — то египтологи вращаются в кругу политических
заблуждений. Тогда возникновение Египта мыслится без богов, и боги
становятся неким дополнением. Так же, как блаженной памяти Эвгемер (52)
в древности ложно толкует богов в качестве великих людей,
египтологи, находясь под чарами греческого просвещения, неправильно
понимают саму власть богов. Но уже Эрнст Курциус (53) применительно к
Элладе увидел в Аполлоне бога, распространявшего по архипелагу культ
Зевса-Олимпийца. И Аполлон, которому поклонялись на бесплодном
острове Делосе, служившем главным «перевалочным пунктом» всего
архипелага, подобно Гору, устремляется от одного участка суши к
другому, будь это остров или полуостров, и освящает их для господства
олимпийцев. Новейший скепсис (Зигфрид Шотт) низводит деканы
(десятидневные периоды) до уровня периодов выплаты заработка рабочим
в более позднее время. Но тексты на надгробиях и все другие
источники доказывают, что 36 созвездий были выделены уже в эпоху
правления I династии для того, чтобы в течение всего года они вместо
главной звезды Сопдет (Сириуса), а точнее, в качестве ее «заместителей»,
устанавливали единство ночного и дневного неба, неба Солнца и неба
Луны, если это можно так назвать.
213
Теперь обратимся к началу 360 дней, равных 36, помноженным на
10 дней, а также к началу 36 номов. У «простого» или «чистого»
времени астрономов и «простого» пространства геометров нет ни начала, ни
конца. Но Гор учреждает начало и конец, поскольку человеческая
история возникает из начал и концов. Мы — создания богов, которые
заранее знают и о нашей смерти, и о конце всех вещей, и создают новые
начала. Наша история — это прикладное знание о смерти, т.е. знание о
концах и вера в начала. Гор создает Египет, поскольку он способен
предвосхитить конец и затем новое начало времен и пространств.
(Математик Нойгебауэр (Neugebauer), однако, пишет о египетской «науке»,
которой никогда не было.)
19 июля разлив, вызванный таянием абиссинских снегов, двигаясь
от первого порога, достигает окрестностей Мемфиса,
расположенного на широте 30 градусов. Ему требуются недели для того, чтобы,
двигаясь от Сиены (Асуана), достичь Каира. Эти разливы, оставляющие
после себя много ила, превращают скудную землю берегов Нила в
плодородную пахотную почву. Из покрытой кустарниками,
непригодной для обработки земли, пустоши, возникает земля во второй
степени, земное царство. Ты можешь различать обе степени как землю и
почву. Главное заключается в том, что древние люди в Египте
научились выделять две степени земли — пустошь или покрытая
кустарником земля и плодородная почва. Появление плодородной почвы
представлялось им в качестве ежегодно происходящего события. Земля
пришла! Ее не было, и она возникла как совершающееся каждый год
чудо. Гор на своей ладье ежегодно выводил за собой это чудо. Из
земли Сета (54) возникало земное царство Гора, и из земли диких зверей
(злой Сет изображается в виде неизвестного млекопитающего) теперь
образуется плодородная земля сокола. И дни его движения из Сиены
в Мемфис — о чудо из чудес! — иллюстрировались чудом на небе.
Самая яркая звезда всего ночного неба, Сириус — она на целый класс
ярче ближайших к ней звезд — утром перед восходом Солнца в день
разлива Нила появляется на горизонте. Так эта звезда стала первым
деканом и потому называлась «царицей деканов». И, в отличие от
мужского рода нашего имени «Сириус», она имела женский род. Она
была «Сопдет». То, что в списке богов, помещенном в многотомном
словаре египетского языка, нет имени Сопдет, а вместо него
приведена только греческая искаженная форма этого главного имени
космоса на Ниле, Сотис, свидетельствует о тирании гуманистической
гимназии. Так школа Эрмана (55) своими руками закрыла себе доступ к
пониманию роли Гора в качестве «доастрального» учредителя царства.
Ибо сейчас я намереваюсь тебе показать, как благодаря «началу года»
фараон обретает способность творить историю и что Моисей и
Израиль вышли из Египта в тот самый момент, когда эта власть Гора над
историей исчезла.
Гор охватывает небо и землю. Но только небо и землю от Асуана до
Библа (56). Ибо он сообщает небу такое движение, на которое не
способны Солнце, Луна и звезды: полет с юга на север; и он придает земле
такое свойство, которого ей недостает: сверхчувственное, постигаемое
лишь в полете сокола единство большого пространства на земле.
214
Поэтому Египет — это дар Нила, возникающий из деяния Гора. В
следующих письмах я смогу тебе рассказать, каким удивительным
образом поклонение великому богу Осирису было обязано своим
возникновением этим обеим воздействиям — разливу Нила и путешествию Гора.
В культе Осириса именно сын производит на свет своего отца, и око
Гора создает скрытое от человеческого глаза единство всего Египта, а
сестра зачинает ребенка от своего мертвого брата. Во всех трех актах
Египет с помощью письма освобождается от власти рода, клана, тотема,
кровной мести, татуировки, инициации и превращается в царство, еще
никогда прежде не существовавшее, вызванное к жизни и запечатленное
в ней с помощью письма. В этом царстве нет судьбы, поскольку
происходит круговращение вечности. В нем вместо смерти имеется
возвышающее душу бессмертие. В нем нет взрастания детей до зрелости и
возникновения страстей. До наступления зрелости дети молчат среди
взрослых, после смерти молчат умершие. Но круговорот небесного царства
отменяет начало совершеннолетней жизни: — опоясывание мечом,
конфирмацию, нанесение татуировок — так же, как он отрицает свой
конец, свою смерть. Мумии служат «территориальному царству»
доказательством его вечного порядка, движущегося по кругу, — служат так же
хорошо, как появляющиеся на свет младенцы. Жизнь до возникновения
страстей, годы несовершеннолетия, и жизнь после смерти, годы мнимого
бессмертия, в Египте притязают на равные права с годами
совершеннолетней и зрелой жизни. На место подвигов героев племени
«территориальное царство» ставит нескончаемое, не знающее отдыха господство
дома правителя. Вера фараона в космос проникает в области,
предшествующие совершеннолетию и следующие за смертью. Для обозначения
восхода и захода звезд и для обозначения вступления в царский дом и
исхода оттуда эта вера использует один и тот же иероглиф. Прежде чем мы
проследим за этим выходом человека из земной общности и его
восхождением на небо, мы должны более основательно заняться самим Гором.
Мы должны сказать о нем еще больше, прежде чем ты сможешь отделить
его в качестве истории от суеверий, астрологии и математики.
Загорающийся на небе образ, сияние которого приводит в движение
Гора-фараона, — поскольку этот образ в начале разлива Нила стоял
между днем и ночью на небе в Бехдете-Нехене 19 июля 2778 г., 2779 г. или
2780 г. до Рождества Христова и снова появлялся 19 июля 1322 г. или
1318 г. до Рождества Христова, а также 19 июля 139 г. от Рождества
Христова, — именуется не, Сотис, как писали греки. Он называется сестрой
пирамидального света Сопду — Сопдет. Одним из табу современного
«просвещения» является замалчивание этого сестринского родства. При
этом относительно каждой возведенной фараоном пирамиды
категорически утверждается, что Сопдет в единственный день нового года
соединяется на ее вершине со своим отцом Ра, богом Солнца. Но Сопдет
связана с Сопду, богом, имя которогоепередается на письме древнейшим
пирамидальным знаком. Следовательно, пирамида чествует в
космическом отношении наиболее точное соответствие Сопду и Сопдет разливу
на земле и свету на небе, а именно, соответствие тому краткому
мгновению 19 июля, расширение которого до малого года продолжительностью
365 дней и до Великого года продолжительностью 1460 лет, равно как и
215
увеличение его протяженности до совокупной области обеих земель
Египта, узкой долины и Дельты, а также до составляющих его номов и их
храмов, и составляло «деяние» Египта.
Но что такое пирамида? Об этом было сказано столько чепухи
людьми, заботливо хранящими в памяти старинные тайны и суеверия,
что я должен тебе признаться: молчание специалистов (57)
относительно вопроса «Почему пирамиды?» все же намного ужаснее стремления
делать из всего тайну, характерного для бесплодных мечтателей.
Египтологи рассказывают тебе и мне небылицы, согласно которым
пирамиды будто бы не имеют никакого космического смысла. Они, говорят
нам эти египтологи, являются роскошными «гробницами королей». Я
обращаю твое внимание на это словосочетание «гробницы королей»
точно так же, как на словечки «астральный» и «крестьянский народ».
Фараон — это противоположность короля. Короли германцев были
связаны с родом. «Kunig» означало человека древних кровей. Но фараон —
это хозяин дома, большого дома, построенного Гором с помощью Соп-
дет над всем Египтом. Фараон — олицетворение ситуации, когда сын
оказывается могущественнее своего отца. Ты можешь называть
правителя «Египта» в течение 3000 лет цезаропапой, но не «королем». А
пирамида — противоположность современной могилы. Как только фараон
входит в дом своей жизни, он начинает обеспечивать продолжение жизни
этого дома после своей смерти: для этого он отрицает свою собственную
смерть. «Я никогда не умру», — говорит пирамида. Здесь не довлеет
никакое наследственное право. Наследник воздвигает своему завещателю
надгробный памятник, а египетский фараон, в противоположность
этому, отрицает смерть: он сам расширяет свой дом до самого неба. Таким
образом, его пирамида служит отображением Египта в целом. Уже
ступенчатая пирамида Джосера помещает важнейшие святилища Верхнего
и Нижнего Египта во внутреннее пространство строения и тем самым
прекрасно выражает преодолевающую пространство силу Гора, ее
строителя: он собирает обе части Египта в едином месте. Это — древнейший
синойкизм всемирной истории. Каждое отдельное место утрачивает свое
значение перед лицом синойкизма, совместного поселения всего царства
в месте объединения обеих земель. Таким образом, приблизительно
семьдесят пирамид, которые нам известны, воплощают тысячелетие
космического сосредоточения. Сооружение, воздвигнутое человеком ради
вечности, воплощает на земле порядок, воспринятый сперва на небе.
Этот порядок фараон должен осуществить на земле. Здесь нет ни
мистики, ни обмана, основанного на суеверии. Простая, доступная органам
чувств истина, получившая распространение в землях, кольцом
охватывающих земной шар на широте 30 градусов, состоит в том, что там
«территориальные царства» видели на небе «ярко сияющую» пирамиду, по
образцу которой они соорудили пирамиды на земле — в Центральной
Америке точно так же, как в Африке. Когда Александр фон Гумбольдт
(58) прибыл в Америку и путешествовал по местности на широте 30
градусов, в течение приблизительно 200 дней в году он наблюдал свет,
который без какой-либо задней мысли или намека на Египет назвал
«пирамидальным светом» (59). Ибо он распространялся на небе после
захода Солнца и перед его восходом, принимая форму поднимающейся от
216
земли пирамиды. В Греции этот свет не виден совсем или виден
крайне редко. Так и случилось, что наши ученые впервые увидели и
описали этот пирамидальный свет в 1666 г. Они дали ему бессмысленное
название «зодиакальный свет», и таким образом получилось, что
египтяне, преданно и неустанно наблюдавшие небесные явления, строили свои
грандиозные сооружения — пирамиды, якобы не имея перед собой
какого-либо их подобия на небе. Это, пожалуй, — самый замечательный
промах, совершенный когда-либо наукой. Этот промах был актом
личной мести Адольфа Эрмана человеку, открывшему пирамидальный
свет, — Генриху Бругшу. Эрман даже совершенно бессмысленно
разорвал статью Сопду, предназначенную для словаря египетского языка
Эрмана-Грапова — только для того, чтобы увековечить свою ненависть к
Бругшу. Согласно Эрману, Сопду должно означать не «пирамида», а
«острый», и в такой неприятной манере он развивает это забавное
толкование. Но пирамиды ацтеков и майя тоже подражали именно
пирамидальному свету. И точно так же поступали египтяне. Ведь мы с тобой на
досуге наблюдали это в обсерватории Лоуэлла в Финиксе, штат Аризона —
в северном направлении, и именно там, для того чтобы утвердить
превосходство правителя, двойного бога Гора над Солнцем и Луной. Но
своей формой пирамида воспроизводит пирамидальный свет, который
мы с тобой видели в Луксоре. Генрих Бругш и Грузон (Gruson)
доказали это в 1894 г. Бругш умер сразу же после этого, а Грузон не был
египтологом. Египтология попала под безраздельную власть школы Эрмана.
А она начала подавление всех неудобных людей, выступающих с
предостережениями, или самих предостережений. По этой причине Сопдет в
словаре Эрмана — Грапова выступает не как Сопдет, а как Сотис, т.е.
используется ее греческое имя (60). Ведь тогда с первого взгляда
обнаружилось бы, что в качестве Сопдет она связана о Сопду, богом
пирамидального света, которого Бругш правильно истолковал в качестве образца
пирамид на земле. И Сопду, и Сопдет передаются на письме одним и
тем же знаком, подобие которого пирамиде сразу же приходит на ум
любому человеку, не являющемуся египтологом. Но ты не сможешь стать
профессором египтологии, если для тебя это очевидно. Ибо дело здесь
заключается в том, что в знаке стоящего треугольника, который
обозначает Сопду и Сопдет, «пирамида» отмечена небольшим черным
штрихом, указывающим, что она имеет характер сооружения. Знак,
относящийся к небу, не нуждается в этом дополнительном штрихе,
указывающем на строительство, поскольку он, конечно же, является творением
Бога. Из этого делался вывод, что знаки для обозначения пирамиды и
Сопду никак не связаны между собой. Однако эта семидесятилетняя
«изоляция» пирамидального света, видимого на небе, к которой его
приговорило мышление «науки», должна закончиться. Как раз совсем
недавно на одной из древнейших пирамид был обнаружен иероглиф,
выглядящий точно так же, как знак Сопду на небе. Этот памятник
архитектуры настолько древен, что в нанесенных на него надписях знак Сопду
и Сопдет используется и для обозначения пирамиды. Следовательно,
более позднее добавление к иероглифу Сопду, указывающее на то, что
подразумевается сооружение, в ту пору еще не утвердилось. «Я понимаю
треугольный знак, обозначающий все имена пирамиды, как ранний
217
иероглиф, соответствующий пирамиде, который использовался в то
время, когда сам образ пирамиды еще находился в процессе развития» (61).
И для тебя, и для меня это означает, что было время, когда
пирамида света на небе и пирамида, построенная на земле, обозначались одним
и тем же знаком. И в это время имена богов Сопду и Сопдет, равно как
и построенная на земле пирамида, находились в одном и том же
пространстве располрженного на небе треугольника. (Когда Александр фон
Гумбольдт увидел этот треугольник в Америке, он описал его в своем
«Космосе» и назвал «пирамидальным светом» в противоположность
наименованию «зодиакальный свет», ставшему общепринятым с 1666 г.
Пирамиды на Ниле тогда еще не были исследованы, и имена «Сопду» и
«Сопдет» еще не стали известны Гумбольдту.)
Наши египтологи сопротивляются необходимости принять во
внимание этот факт. Они допускают отрицание того, что Сопду и Сопдет
связаны между собой и в устной речи, и на письме. Они допускают
замалчивание продолжения действия Сопду в качестве бога мирового воздуха
Шу, чтобы получить возможность высмеивать Сопду, низводя его до
уровня простого локального бога, и полностью отделить его от Сопдет.
Однако, называя ярчайшую звезду на-Ниле лишь по-гречески, «Сотис»,
и оставляя непроясненным смысл письменного знака для ее
обозначения, который имеет форму треугольника, они делают непонятной
самую суть календаря. Ученые уклоняются от того, чтобы взглянуть на
пирамидальный свет. Ибо, хотя египтяне уже за 3000 лет до Рождества
Христова с усердием и страстью изучали все феномены на небе, будто
читали огромную книгу образов, на ученого, убедившегося, что в
течение 200 дней в году он действительно видит на небе свет в форме
огромного треугольника, ложится бремя доказательства. Он должен привести
доказательства, если он пытается утверждать, что иероглифы никогда не
упоминали об этом свете. Однако, поскольку предполагается, что свет
Сопду не мог играть никакой роли, на него предпочитают не смотреть.
Я был в Каире у ученого Хабахи (НаЬасЫ),т<огда к нему пришел Цааки
Заад (Zaaki Saad) с новой находкой из Гелуана (62). На кристалле была
надпись «SEM SOPDU»! Как это не подходит для семитского бога
восточного нома в Дельте! В «Личных именах» Ранке ты найдешь больше
имен Сопду, относящихся к древним временам.
Когда я в Гелуане и Луксоре до восхода Солнца и после его захода
часами созерцал Сопду — занимающий почти половину ночного неба
беловатый пирамидальный свет, — сын Алана Гардинера порой составлял
мне компанию. Но мне никогда не удавалось уговорить ни одного
египтолога — ни француза, ни американца, ни немца, ни англичанина —
хргя бы раз взглянуть на этот необыкновенный природный феномен.
Они сочли бы это ненаучным. На географической широте Малой Азии,
Греции и Италии его нельзя увидеть почти никогда.
Поэтому ни один европейский или американский египтолог в свои
гимназические годы ничего не слыхал о распространенности, форме
выражения или силе воздействия этого явления (63). В результате они не
ощущают, насколько чудовищно стремление отделить Сопдет от Сопду;
ссылаясь на несколько строчек из греческого словаря, они говорят о
Сопдет, сестре Сопду, используя только имя «Сотис» и, тем самым, за-
218
ранее делая невозможным для себя познание смысла ее брата Сопду.
Сопду и Сопдет — это прообразы более поздних Шу и Тефнут. Во
время, предшествовавшее эпохе фараона Джосера, бог Сопду обозначался
знаком пирамиды — точно так же, как и его сестра Сопдет. Именно ему,
Сопду, свету треугольной формы, приличествовал этот знак, и лишь
затем через его посредство — Сопдет. Но это якобы ничего не значит, и
он должен быть семитским богом. Хельк (Helck) в 1962 г. вынужден был
признать, что Сопду не мог быть семитским богом; но это тоже ничего
не значит, он остается богом «восточных людей, не относящихся к
семитам». Как же все это понимать? Тот же Хельк вынужден заявить, что
одежда Сопду, считавшаяся «восточной», — это та же одежда, в которой
на своей палетке фараон Нармер из I династии изображен в верховьях
Нила. Однако сохраняется навязчивая идея, согласно которой Сопду
считается «восточным». При этом уже фон Биссинг (von Bissing) признал
древнейший характер Сопду. Сопду поклонялись на левом берегу Нила
в окрестностях Мемфиса, т.е. на западном берегу, противоположном
«востоку». Вопреки мнению египтологов, ему поклонялись и на
западном, и на восточном берегах. Поскольку он не летит от Асуана к
Дельте, как Гор-завоеватель, а спокойно стоит или лежит на небе в качестве
беловатого пирамидального света, он изображался в виде спокойно
сидящего сокола, и это было очень подходящим видоизменением знака
сокола, там — применительно к Гору в полете, здесь — применительно
к Сопду в покое. Таким образом, между небесным знаком и деянием
правителя, между наличным существованием и действием возникал
образ. Не имеет никакого значения, что египтологи не говорят об этом ни
слова. Ибо это замалчивание открытия Бругша означало победу школы
Эрмана. В отдельных науках такие трофеи означают переломные
моменты, сравнимые с победами фараона над людьми Юга или ливийцами,
изображенными на палетках Древнего царства. Начиная с 1894 г. Сопду
не должен был иметь никакого отношения к Сопдет — точно так же, как
евангелисту Матфею не полагалось быть старше евангелиста Марка. И
если кто-то хотел стать в Германии ординарным профессором (64), он
должен был придерживаться этих положений. И у мира ученых есть свои
иероглифы.
Связь между соколом, летящим вдоль долины Нила, т.е.
путешествием Гора, совершаемым раз в году, и соколом, находящимся в покое на
небе вечером и утром в течение, по меньшей мере, 200 дней в году,
сообщает богине деканов, Сопдет, единственную в своем роде роль,
которую она должна играть в промежутке между вечным небом и историей.
В подробном изложении я назвал это пересечение двух областей
«астральной политикой» (см. мою книгу «Полнота времен»). Ни один
исследователь не смог подвергнуть отрицанию это достоинство Сопдет. Но
упрямство специалистов побуждает их истолковывать этот исходный
пункт письменной речи на Ниле в качестве чего-то побочного,
упоминаемого обычно в дополнительных главах, посвященных «календарю» или
«богам». В книге Зигфрида Моренца (Morenz) о египетской религии сама
«религия» представлена в качестве обособленной области жизни. Я
лишил специалистов их корпоративной веры, присущей им как некоей
«расе», задав им вопрос: «Кто говорит?». Работа «Раса мыслителей» до-
219
водит мышление в границах расы ad absurdum. Гор, Сопдет, Сопду,
будучи рассмотрены в качестве предметов, оказываются для египтологов
непонятными. Эти боги, скорее, выступают как принуждающие силы,
под действием которых население смогло превратиться в египтян. Они
являются теми источниками, над которыми должен склониться каждый,
кто стремится услышать, о чем возвещали в Египте в течение
тысячелетий. Египтологи превосходно расшифровывают дошедшие до нас тексты.
Но они не слушают и не повинуются. А это именно то, что я стремился
доказать.
Когда 19 июля Гор под воздействием положения Сириуса между
дневным и ночным небом отправлялся в путь от Сиены к Дельте и для
этого путешествия вызывал к жизни из числа своих приверженцев
«большой дом», фараона, этот «полет корабля» между землей и небом
обретал зримые формы в качестве двух порядков — в разделении земли на
номы и в разделении небесного свода на деканы. Ты уже знаешь, что
это происхождение нома проявляется со всей очевидностью. Ибо знак
для его передачи на письме происходит из письменности
«территориального царства»: он изображает оросительные каналы, т.е. то действие, в
процессе которого земля благодаря приказаниям, исходившим от
центральной власти, становилась участником деяния, совершаемого всем
царством, — создания плодородия. Так повеление правителя
превращало земельные участки площадью от 500 до 900 квадратных километров в
части единой территории царства. Это претворение каждого участка
земной поверхности из его чувственно-партикулярного состояния в
составную часть царства впервые в человеческой истории создало
«территорию». Вот уже в течение 50 лет я пытаюсь доказать специалистам в
самых различных областях науки, что создание «территории» является
творческим актом веры, требующим безусловной преданности этой
вере (65). Объективность вводит специалистов в заблуждение
относительно этой самоотверженной преданности, без которой нас не может
захватить ничто живое. Они стремятся понимать мертвое и потому
описывают нам номы в качестве остатка додинастической эпохи. Уже
Эдуард Майер (Меуег) нетерпеливо воскликнул, что такими отсылками к
прошлому мы ничего не добьемся. Можно выдумать, что
родоначальником культа Яхве был не Моисей, а его тесть. Можно выдать за первых
христиан не Иисуса и апостола Павла, а создателей еврейских рукописей
Кумрана. Можно приписать додинастической эпохе разделение на
номы. Всякий раз при этом избегают серьезного восприятия
безусловной самоотверженности — будь то самоотверженность Моисея, Иисуса,
апостола Павла, будь то самоотверженность Гора здесь, на Ниле. Когда
один такой человек, выискивающий различные влияния, пришел к
Леопольду Ранке и начал расспрашивать, какие влияния породили его,
Ранке, тот раздраженно ответил: «Господин профессор, я намного
оригинальнее, чем Вы думаете!». Тем, кто признает, что вера открывается
только вере, Гор говорит то же самое: он намного оригинальнее, чем
думают господа, стремящиеся вывести все из чего-то другого. Он
порывает с древними временами. В разделении территории на соответствующие
каналам провинции воплотилось исполненное веры путешествие,
знаменовавшее собой владычество сокола. В царской ладье сидит могуще-
220
ственный сокол и превращает клочки земли, излучины реки, болота в
части некоего «единственного числа», воспринимаемого только в
полете сокола оком этого сокола, — в части единой территории. Но даже
прибегнув к выражению «единственное число», мы сочли бы
первоначальное достижение слишком легким. Подобно тому как в самых древних
племенах «человек» считался состоящим из мужчины и женщины и
прародители поэтому должны были считаться двуполыми, так и
территория Гора является творением, актом созидания именно потому, что,
во-первых, она была отвоевана у Сета, а во-вторых, она составлена из
двух частей. Оба брата, Гор и Сет, попеременно просматриваются в
первых фараонах. Ибо лишь так из сенсации единственного путешествия по
Нилу возникает вечная литургия «территориального царства»:
территория ежегодно создается благодаря путешествию с юга на север. И
своеобразие Гора должно возникнуть из ритуала Сета, из предопределенного
заранее сопротивления мира до разлива Нила. Комизм положения, при
котором Сет и Гор провозглашаются царями различных царств,
является столь впечатляющим именно потому, что речь идет о создании
первого «территориального царства». Если бы его можно было вывести из двух
более древних царств, не имеющих, впрочем, ни собственных имен, ни
собственных функций, то вопрос о происхождении этих более древних
царств стал бы еще более настоятельным. Это тот же самый комизм,
порождаемый приписыванием тестю Моисея того духа, наличие которого
отрицается у самого Моисея.
Однако учредители «территориального царства» на Ниле не повинны
в отсутствии веры у тех людей, которые пытаются разгадать его суть. Эти
учредители не только присвоили царице тот титул, который выражает
превращение из Сета в Гора и из Гора в Сета, но и явным образом
поставили свою собственную способность письма в зависимость от этого
вступления во владение обеими землями. Ибо они основали вечность
своего «территориального царства» на письме. «Анх», домом «вечной
жизни», назывался скрипторий царства в Мемфисе. К тому факту, что
один из древнейших иероглифов означает «миллионы лет», я должен
добавить, что именно Гор становится тем, кому предоставляется голос,
единый для обеих земель, Верхней и Нижней. Под троном каждого
правителя прикреплялась «сема» (66), и ты хорошо знаешь, что легкие и
трахея богов обеих частей страны связываются там в единый орган. Нельзя
выразить это прекраснее и резче, чем сказав, что Гор, говоря с высоты
своего трона, провозглашает вечный порядок «территориального
царства». Этот самый твердый камень, диорит или сиенит, этот каменный
трон, часто доставлявшийся в Мемфис из самого Асуана или даже еще
более отдаленных мест, давал тому, кто правил, восседая на нем, такой
язык, который, будучи обращен к простым смертным, мог исходить
только их уст этого правителя: каждым предложением он устанавливал
некое космическое правило. С каждым высказыванием, слетавшим с его
уст, хаос кратких минут и крошечных клочков земли, очевидный и
единственно доступный восприятию неверующего, упорядочивался,
превращаясь в установления «территориального царства», простиравшегося от
Асуана до моря и от вечности до вечности. Речь фараона может
воспринять лишь тот, кто внимает ей с готовностью повиноваться. Вся струк-
221
тура Египта рухнет в том случае, если трахеи Сема не заставят зазвучать
единый голос, которого послушается все тварное в границах
«территориального царства». Двойственность Гора и Сета, камыша и лотоса,
Верхнего и Нижнего Египта — все это должно вызывать у нас убежденность
в могуществе одного-единственного голоса — том могуществе, которое
от Менеса до Феодосия, от строительства Мемфиса до закрытия Серапе-
ума определяло жизнь Египта.
В то время как в древнейшем племени догадывались об изначальном
существовании некоего двуполого существа, царство Гора переживает
объединение как нечто совершающееся в настоящем времени. И в этом
«ничтожном» (?) различии между племенем и «территориальным
царством» коренится диалектическое отношение «территориального
царства» к племени. «Территориальное царство» говорит на другом языке,
отличном от языка племени, поскольку на место родового древа
заступает письменная речь. Но в чем же здесь отличие? Наши объективисты его
не признают. Они не в состоянии понять, что, прежде чем пророки
Израиля должны были создать будущее в качестве времени Творца,
который еще повергнет нас в изумление своим внезапным явлением, нужно
было посредством создания вечного настоящего преодолеть страх перед
предками и их прошлым. Когда Шиллер восклицает: «Вечность
описывает над ними круги», то тем самым он удивительным образом
выражает в словах тайну «территориального царства». Для учредителей
«территориального царства» воздаянием служит только вечное, т.е. эоническое.
Лишь то, что всегда возвращается, заслуживает того, чтобы быть
записанным. Таким образом, письменная речь превращает мимолетную
боевую песню марширующих воинов и возгласы танцующих пар в вечные
ритмы никогда не кончающихся юбилеев. Календарь египтян трижды в
течение 1460 лет сдвигал свои 365 дней, изменяя сроки, что нашему
астрономическому мышлению представляется крайне неудобным. Ибо в
этом случае один и тот же день приходился то на зиму, то на лето, и лишь
через 1460 лет Сириус снова был виден на Утреннем небе в тот же самый
день, 19 июля, когда Исида на первом пороге Нила вызвала разлив, плача
над мертвым Осирисом. Попытки греческих Птолемеев устранить это
неудобство потерпели неудачу. Вечное возвращение было для
«территориального царства» более достоверным, чем современная наука. Мне до
сих пор не удалось пробудить у ученых понимание того, что «настоящее»
было и остается созданием нашего духа в «территориальных царствах».
Культ предков, родовое древо и тотемный столб создали прошлое.
Напротив, круговорот на небе и на земле выстроил правдоподобное
настоящее. Пророкам мы обязаны опыту веры в подлинное будущее.
Настоящее на Ниле с самого начало основывалось на соответствии
неба и земли: разлив Нила, Сопдет, Сопду, Гор. Территория,
вызывавшая такой повторяющийся опыт и побуждавшая со знанием дела
записывать его, — это земли вдоль Нила протяженностью около 1000
километров и площадью 25 000 квадратных километров. Лишь
приблизительно через четыреста лет египтяне собрали так много точных результатов
наблюдений неба, что смогли вовлечь Солнце, Луну и все мироздание в
сотворение настоящего. Нойгебауэр (Neugebauer) очень хорошо показал,
что деканы, в течение года 36 раз замещавшие Сириус, т.е. Сопдет, были
222
лишь «приблизительными» созвездиями, т.е. группами звезд,
появлявшимися на небе каждые десять дней, при том, что их название не
соответствовало требованиям, предъявляемым к точности наблюдений
современной астрономией (67). В этом несовершенстве деканов
проявляется ограниченность веры в Гора. Если смотреть из точки начала
«территориального царства», то единство представлялось огромным и
неслыханным: тысяча километров. Величие полета сокола над
препятствующими передвижению неровностями почвы превосходило все результаты
«обозревания» и «наблюдения», какие только можно было доныне
получить с помощью пяти органов чувств. Это можно проиллюстрировать
небольшим примером: кочевники использовали полугодичный календарь,
основанный на движении созвездия Плеяд и выделявший в качестве
переломных дат 1 мая и 1 ноября. По сравнению с ним достижения
календаря Гора-Сопдет казались столь огромными, что еще у римлян был
календарь, состоявший из десяти раз по 36 дней и пяти дней ежегодного
междуцарствия, которые помещались между 24 февраля и 1 марта.
Поэтому получается, что и сегодня наш добавочный день високосного года
один раз каждые четыре года вставляется как раз после 24 февраля.
Драма «24 февраля» воспользовалась этим обычаем; она ведет свое
происхождение от календаря Гора-Сопдет.
Страстное стремление современных исследователей выводить все и
вся из чего-то другого заставляет их набрасываться на тот факт, что
законы, которым подчиняются Солнце, Луна, все мироздание и земной
шар или земной диск, были признаны египтянами лишь с большим
трудом. Однако выявление связи с неегипетскими феноменами стало
целесообразным лишь постольку, поскольку возможность высказаться и дать
ответ должна была быть предоставлена неегиптянам. Следовало
понимать, что год римлян, состоявший из десяти месяцев и пяти добавочных
дней перед 1 марта, о чем написано во всех школьных учебниках,
свидетельствует о близости Мемфиса к Альба Лонга и Риму. Ибо каким же
близким станет тогда для нас Эней! Но школьные учебники не говорят
об этом ни слова. Египтологи также нигде ничего об этом не сообщают.
Тебе следует знать, что в окрестностях Мемфиса ты соприкасаешься с
предысторией Эллады и Рима. Поэтому я и пишу все это тебе в Каир.
Твой Ой ген
223
Четвертое письмо в Каир
Тель-Амарна: побег из вечности
Дорогая Синтия!
С Исидой и Осирисом тесно связан древнейший римский
календарный культ. Изоляция египтологии от всех воздействий, какие оказывал
ее «объект» за пределами собственно Египта, послужила, возможно,
причиной некоторых наиболее странных проявлений ее замкнутости. Я
считаю, например, что свойственное египтологам пренебрежение
деянием Гора происходит именно от этого. С этим же связано и
недостаточное понимание сути вечных юбилеев на Ниле, без которого не
могут быть поняты и юбилеи Библии (67). То, что бог «территориального
царства» нес Солнце на своих крыльях к северу, было тайной
бога-фараона; поэтому ему воздавали почести, обозначая его повторенным
дважды знаком восхода небесного светила, стоящего выше Солнца и
Луны. Но еще и сегодня большинство египтологов сочиняют сказки о
прогрессе или «реформе», каковыми представляется культ Солнца по
отношению к культу Гора. Они замалчивают тот простой, но
непоколебимый факт, в соответствии с которым письменность, возвещающая
вечное возвращение, уже заранее объявила Солнце неспособным
обозначить тайну Египта. Иероглиф, обозначавший бога Солнца Ра, был и
оставался именно знаком, применяемым для передачи на письме
отдельного дня. Таким образом, Ра мог быть объектом поклонения лишь
в рамках ежедневного культа. Положения Солнца на широте 30
градусов не слишком разнообразны для того, чтобы ими можно было
руководствоваться в течение года или даже столетия. Конечно, Солнце и
Луна — это светила, вызывающие уважение, но природная религия
кажется приемлемой только для рационалистов. Природные религии —
это деревянное железо. Мы объединяемся только перед лицом чего-то
уникального. Разлив Нила — это выдающийся феномен, и поэтому он
способен творить историю. Ежедневному движению Солнца на
широте 30 градусов недостает необычайности. Когда юлианский календарь
лишил движение небесных светил последних остатков чуда, настало
время для человеческого чуда Иисуса из Назарета. И библейская
критика также попыталась по-своему двигаться по ложному пути, якобы
ведущему от Гора к Солнцу. А именно, в изучении жизни Иисуса в
тезисе, что Иисус не был сыном Иосифа и Марии, а некоей идеей,
проявилось стремление заменить необычное чем-то повседневным. Всякий
раз, как Иисус удостаивается чести быть извлеченным из Палестины и
Галилеи и эпохи Тиберия, он отнюдь не возвеличивается до мирового
значения, а верующие теряют к нему всякий интерес. В Египте
величественное и безумное заблуждение попыталось отменить Гора в угоду
Солнцу, несмотря на его лишенное историчности равнодушие,
проявляющееся изо дня в день, не знающее ни чуда Нила, ни исполненного
жертвенности ежегодного созидания «территориального царства». Это
заблуждение закончилось без последствий — точно так же, как «идея
Иисуса» г-на Древса (69).
224
Египтологи регистрируют эту попытку. Однако — и я сегодня этого
еще не понимаю — ни один из них не исследовал сути этой попытки
отменить культ Гора. Между тем, эта попытка была предпринята
непосредственно перед исходом египетского ученого жреца Моисея и
непосредственно перед окончанием первого Великого годового круга
продолжительностью в 1460 лет. Точно так же, как критики Библии отрицают
чудо, в 1358 г. до Рождества Христова были явным образом отменены
культ Гора и драматизм взаимооотношений Гора и Сета.
Перед окончанием первого периода Сопдет, который должен был
завершиться между 1322 г. и 1318 г. до Рождества Христова, некий
фараон попытался заменить путешествие вниз по Нилу оседлостью, культ
Гора — чистым поклонением Солнцу, а город Мемфис, построенный
между Дельтой и долиной Нила, — абстрактно определенным с
помощью методов геометрии центром. Он устранил имя Гора из своего
титула. Он основал город, равноудаленный от южной и северной границ, а
именно — находящийся от них на расстоянии около 515 километров,
основал на «бессмысленном» месте, положение которого в самом центре
царства было определено только на основании подсчета километров. Он
совершил политическое самоубийство, дав торжественную клятву в
течение всей своей жизни физически никогда не покидать этого столь
искусственно вычисленного центра царства. Лучи Солнца должны были
отныне озарять его лишь в центре универсума его «территориального
царства». Геркулесовы усилия, с какими было сопряжено путешествие Гора,
как он полагал, могли прекратиться. Чудо, благодаря которому Гор
возвышался над небесными светилами, свободное движение вверх на север,
к неутомимым звездам северного полюса, было отменено. Как считалось
до этого, вблизи северного полюса копье Гора на небе поражало бедро
быка (созвездие, подобное нашей Большой Медведице), и, таким
образом, и на небе, и на земле продолжалось пресуществление Сета и
превращение его в Гора. Теперь же этот ежегодный литургический акт
возведения в сан был отменен в угоду простому созерцанию неба. Несмотря на
мою «Полноту времен», ни один египтолог не осветил смысл или
значение этого исхода Эхнатона.
Между тем, переселением Эхнатона в его город Ахетатон отвергался
не только полет бога Гора, но и богиня Сопдет. Ибо боги заставляют нас
действовать, или они — не боги. Сопдет в день Нового года, — день
разлива Нила 19 июля, — которая не побуждала бы правителей земли
совершать progressus, adventus (70) или joyeuse entrée (71), перестала бы быть
Сопдет. Боги существуют лишь до тех пор, пока они действуют и
оказывают воздействие. Боги не знают платоновского бытия без воздействий,
т.е. без создания магистралей или путей времени, на которых могущество
бога проявляет себя в соответствии с календарем, приводя в движение
армии, служащих, крестьян, жрецов либо вынуждая их остановиться,
даже вернуться назад!
Следовательно, реформа Эхнатона сняла различие между «идеей»
мирового господства и принудительным культом повинующегося Сопдет
фараона — точно так же, как докеты (72) пятого столетия охотно бы
«возвысили» Иисуса из Назарета до уровня Сына Отца Небесного, отринув
высокую подлинность его исторических страданий. Обе тенденции дол-
8 Зак. 3524
225
жны были потерпеть неудачу, — и они действительно потерпели
неудачу, поскольку именно вступление на определенный путь жизни, а не
«идея» в небесах понятий властно повелевает нам найти себе
воплощение в наших служебных функциях, в наших профессиональных
обязанностях. Неудавшаяся попытка Эхнатона остановить историю вызвала в
самом Египте возобновление поклонения Гору, а за его пределами —
выход Моисея из оков вечного возвращения. Эхнатон отрицал Гора и,
тем самым, его достоинство фараона утратило свою законность. Моисей,
этот бывший египтянин, предпочел Божий покой в субботу календарю
Гора и «территориальному царству» на Ниле.
Тогда Египет перестал быть важным для будущего всего человечества.
И тем важнее оказалось восстановление поклонения Гору для самого
Египта. Позже считалось, что генерал Хоремхеб, восстановивший этот
культ, правил вместо Эхнатона, Тутанхамона и Эйе в течение 59 лет.
Исчисляемое таким образом время его правления покрывает собой оба
события — кризис Тель-Амарны и наступление Великого года в 1322 г.
Несмотря на эту очевидную важность Хоремхеба, специалисты
отказывают его имени — Хоремхеб — в какой-либо связи с Гором. Ведь его
созвучное Гору имя происходит якобы от названия не слишком
значительного города Гора Хрис. Ведь в этом городке было всего лишь
маловажное святилище Гора. Бог Гор, которому поклонялись в этом месте, не
имел, будто бы, никакого отношения к могущественному богу
«территориального царства». Я предоставляю тебе право воздать должное
нечуткости такого рода науки. Для каждого имеющего уши, чтобы слышать,
Мадонна из Ченстоховы была и остается той же самой Мадонной,
которая почитается немецкими бенедиктинцами в Иерусалиме в монастыре
«Ob Dormitionem Mariae» (73).
Недооценка действительной сути попытки Эхнатона удивительным
образом идет рука об руку с переоценкой его «религиозной» реформы.
Поскольку ни магический квадрат, служивший ориентиром при выборе
местоположения его города, ни его отречение от веры в путешествие
Гора никогда не освещались, столь трогательно прозвучали
фантастические суждения о монотеизме Эхнатона. Но из этого ничего не
получается. Однако при приближении конца периода Сопдет
продолжительностью 1460 лет египтянами овладело возбуждение, подобное тому, которое
охватило израильтян при вступлении на престол в качестве преемника
царя Давида некоего неизраильтянина, первого едомитянина Ирода.
Конец Великого года был основательной причиной для того, чтобы
привести души в состояние крайнего возбуждения. «Кто не теряет рассудка
от определенных вещей, тому нечего терять, поскольку он не имеет
рассудка». Следовательно, и Эхнатон, и Моисей воплощают то человеческое
возбуждение, отсутствие которого породило бы у нас заблуждения
относительно человечности наших тогдашних братьев.
Отделение друг от друга «территориального царства» Гора и веры
Моисея в будущее, совершившееся в четырнадцатом веке до Рождества
Христова, позволило императору Константину 1700 лет спустя сообщить
пророческий опыт Израиля — это наследие Гора — своему
«территориальному царству». На примере Константина мы видим самую суть принципа,
которому подчинены и дела веры, и языковые потоки нашего рода. Этот
226
принцип гласит: «Порознь идем маршем, вместе наносим удар». То, что
тогда, в 1318 г., еще раз подтвердило свою устойчивость и способность
повторяться, т.е. эон, и то, что тогда здесь появилось и вышло за пределы
долины Нила, т.е. разделение потока нашего духа на строителей храмов и
Израиль, создало наши современные языки в качестве плода брачного
союза между «территориальным царством» и Израилем. От Хоремхеба до
Константина прошло 1620 лет. Мир и сердце мира приблизились друг к
другу в 325 г. В 1945 г. наша земля стала неделимой планетой.
Таким образом, закат последнего «территориального царства»
продолжался от 325 г. до 1945 г.
В 1957 г. мне удалось доказать, что в наименованиях «Германия» и
«Франция» до конца изжили себя остатки христианской Римской
империи. Эпоха, продолжавшаяся от 1804 до 1945 г., имела своим
содержанием окончательное упразднение самого названия «империя»; поэтому
имеет смысл сблизить 2778 г. до Рождества Христова, 1318 г. до
Рождества Христова, 325 г. от Рождества Христова (Никея) и 1806 г. (падение
Священной Римской империи) с 1945 г.
Язык «территориального царства»
В «территориальном царстве» язык всегда исходит сверху вниз. В
«территориальном царстве» все люди сверху назначаются на должность,
призываются к служению, возводятся в дворянское достоинство,
получают приказы и поручения. В «территориальном царстве» не боятся
предков; напротив, предки боятся ныне живущих, — факт, на который
красноречиво указал Алан Гардинер. Дом «территориального царства»,
фараон, т.е. Великие врата, вступает в противоречие с кланами и
родами седой древности. То, относительно чего мы сегодня остаемся в
неведении, большая семья и малая семья, тогда, за 3000 до Рождества
Христова и вплоть до 1800 г. от Рождества Христова, были частями
всеобъемлющей противоположности, а именно, родом и домом. Род
основывает все на кровном родстве и происхождении, а дом — на
повседневной общности жизни. На Ниле дом оттеснил на задний план
племена. Он перешел в наступление на все древнейшие святыни, которые
еще и сегодня имеют силу среди бедуинов. Пожалуй, нет ничего более
прекрасного для нашего приближения к подлинному пониманию
человеческой истории, чем тот факт, что и сегодня десятки тысяч бедуинов
живут вокруг Египта, не имея никакого представления о домашних
обычаях фараона. Эти бедуины не были охвачены тремя периодами
Сотис. Так же, как некий священник, отвечая на вопрос атеистически
настроенного Старого Фрица (74), назвал евреев самым сильным
доказательством в пользу христианства, бедуины могут раскрыть тебе и мне,
хотя мы и не египтологи, суть главного достижения фараона, а
именно — создания письменной речи; правда, египтологам это покажется
неубедительным. Ибо там, где филологи признают всего лишь
изобретение письменности, я могу показать тебе первую человеческую
общность, события жизни которой происходили, находя выражение не в
словах, передаваемых из уст в уста, а в запечатленных на камне знаках,
227
переносимых с одного каменного монумента на другой. Тем самым
оказывается возможным перехитрить слабость плоти и крови.
Прежде чем я отделю египетское «Ка» (75) и его письменную речь от
их бедуинского фона, я хочу еще раз оградить тебя от специалистов. По
моему ощущению, эта пропасть непонимания специалистами действий
Аменхотепа ÏV-Эхнатона все еще нуждается в объяснении, потому что в
противном случае никто не поверит нашим словам о единстве Великого
года (2778-1318 гг. до Рождества Христова). Аменхотеп IV, как и Иоанн
Креститель за сорок лет до разрушения Иерусалимского храма,
приблизительно за сорок лет до начала нового цикла вечного возвращения
попытался вывести свою страну из круговорота повторения. Он не был
радикальным монотеистом, и он не обожествил самого себя. И он не
поклонялся Солнцу иначе, чем все фараоны. Правда, учебники произносят
одну за другой тирады о его монотеизме. Но в этом письме всего лишь
предпринимается попытка прояснить для тебя эоническую практику
фараонов с помощью противопоставления ее практике Тель-Амарны.
Пусть тебе поможет рассмотрение культуры майя в Юкатане. Майя
мчались наперегонки со временем так, что у них прямо-таки
останавливалось дыхание. Правда, у них не было Великого года, но был цикл
Венеры продолжительностью 52 года и внутри этого цикла — более короткие
промежутки времени по пять лет каждый. Они сооружали каменные
монументы, чтобы доказать небу: мы идем в ногу с твоим временем.
Точно так же, как в наши дни запыхавшиеся читатели газет,
радиослушатели, ревностные телезрители любой ценой стремятся быть в курсе
событий, майя платили любую цену за то, чтобы успевать за временем. Если
ты ничуть не сопереживаешь этому состязанию с эоном, ты не сможешь
по-настоящему ощутить свою сопричастность пространству
Тель-Амарны. Именно здесь правитель вышел из барки времени, когда эон
заканчивался, и поклялся неподвижно сидеть в магическом мировом
квадрате под ежедневно падающими на него лучами Солнца. Поразмысли еще
раз о его безумной по своей сути клятве Никогда не покидать Тель-Амар-
ну!
И все же, если ты внимательно рассмотришь иероглиф для
обозначения бога Солнца, которому поклонялся Эхнатон, трудность будет
преодолена. Ра был «Солнцем его земного дня». Только отдельный день
сохранял за собой своего бога, и только этому богу поклонялись в Тель-
Амарне. Тем самым был разрушен даже год и, тем более, юбилеи и
Великий год. На дошедших до нас изображениях лучи Солнца
дотрагиваются до тела правителя и входят в его руки и пальцы: дневное Солнце
преображает его. Менее начал верить в великое время и встроил свое
господство в такой Великий год, что огромный промежуток времени стал
соизмеримым с огромной территорией Египта. Однако Эхнатон
ударился в другую крайность: он покинул целостность времени и положился на
бога отдельного дня продолжительностью 24 часа. Соответственно, он
оставил без внимания территорию царства или предоставил ее самой
себе, а сам, словно добровольно поддавшись колдовству, заключил себя
и своих придворных в установленном с помощью абстрактных
измерений центре государства. Поэтому характеристика его как монотеиста не
является ни ложным, ни истинным суждением. Это был побег из време-
228
ни, приведший его к Солнцу как самому краткосрочному божеству. Так
в Тель-Амарне был оставлен на произвол судьбы первый эон. Несмотря
на реставрацию, во втором зоне больше не строили пирамид. В
известном смысле это может служить утешением. Даже если люди хотят
только повторения, бог заставляет их изменяться. И поэтому даже безумие
Эхнатона является не бессмысленным, а безысходным и одновременно
хорошо обоснованным.
Твой Ойген
229
Пятое письмо в Каир
Не только после смерти, нет, также и до возникновения любви
Дорогая Синтия!
Итак, племенной вождь заменяется двойной звездой в космосе.
Таким образом, смерть фараона отменяется. Это известно настолько
хорошо, что любой школьник знает о мумиях, пирамидах и гороскопах. Все
это пользовалось бы еще большей популярностью, если бы мы не
узнали лишь недавно, что «Вавилоном» называлась астрономическая
обсерватория под Каиром и что ты в Каире ближе к астрологии, чем в месо-
потамском Вавилоне. Вплоть до Гунделя (Gundel) никто не предполагал,
что упомянутый в источниках «Вавилон» находится под Каиром.
Таким образом, для тебя нет ничего нового в убеждении египтян,
будто достаточно обратиться к звездам и окружить себя золотом, камнями,
алмазами, чтобы упразднить смерть. Ты также знаешь, что статуям даже
открывали рот для того, чтобы они могли говорить. Придание голоса
показывает, насколько хорошо египтяне знали, что мы жизнеспособны
только в качестве говорящих существ. Они знали об этом намного
лучше многих сегодняшних «мыслителей».
Но «sky-world», огромный небесный дом, преображал не только
говорящих, не только мертвых. И на другом конце жизни, о котором мы
почти никогда не думаем, было необходимо преображение, а именно,
преображение еще-не-говорящих, детей. Почему?
На тропе войны имеют значение только воины, и первоначально
язык, по-видимому, был так интимно связан с посвящением в воины,
что дети не имели права говорить. Весьма торжественные слова «fas»,
«fari», «fatum», входящие в состав слова «infant» (ребенок), означают
«строго формальный, обязывающий язьГк», овладеть которым не имели
права ни дети, ни женщины.
Если же на Ниле посвящение в воины отменяется точно так же, как
и смерть, то время от колыбели до потустороннего мира должно
восприниматься в своей целостности, и тогда впервые возникает связный
жизненный путь вместо жизни мужчины, прошедшей от опоясания мечом
до погребения.
Таким образом, начиная со времени Гора в расчет принимаются не
только воины. К марширующим с оружием родам, корпорациям
присоединяется новое, прежде не доходившее до артикуляции корпоративное
объединение: малая семья, до этого не имевшая истории и языка. В
шатре ли, в хижине или пещере — где бы это сообщество, включавшее в себя
отца, мать и детей, ни проживало свой краткий отрезок каменного века,
оно не испытывало никакой потребности в культовых формах. Место,
где собирались воины, площадка для танцев мужчин и женщин — вот что
только и было священными местами.
В Эль-Кабе на Ниле доисторические круглые формы хижин,
предшествующие установлению власти Гора, сохранились настолько хорошо,
что они отчетливо выделяются на фоне городских сооружений времен
230
«территориального царства». Что именно их отличает? Они являются
круглыми. Эпоха «территориального царства» из принципиальных
соображений строит дома четырехугольной формы. Ибо сооружения этой
эпохи должны быть дорогой в космос. Этот путь идет во все четыре
небесных направления, он должен быть ориентирован точно на юг, север,
восток и запад. Только живя в ориентированном доме, мы находимся в
части «территориального царства». Зато каждый, кого укрывает этот дом,
в том числе грудной младенец и слуга, является гражданином
«территориального царства». В книге «Полнота времен» я перевел для тебя
обнаруженный в Готе календарь придворной жизни Большого дома на Ниле,
где упоминались придворные пекари и повара, кондитеры и молочники
в качестве служащих «территориального царства». К сожалению,
исследователи не стали помещать этот «Готский календарь» в центр их
истолкования фараона. Но достаточно одного только упоминания о
молочнике, чтобы разъяснить тебе тему сегодняшнего письма — тему важности
младенцев, принцев, престолонаследников.
Начиная со времен Гора, новорожденный ребенок приобретает
значение в царском доме. Так что необходимо было написать следующую
главу государственных уложений, которая могла бы четко и ясно
охарактеризовать положение детей в обратной хронологической
последовательности — от возмужания до рождения ребенка.
Дом, детская жизнь, родственная пара — брат и сестра, которые в
царском доме как родственники сочетаются браком, — все это
неразрывно связано между собой. Уже на палетке Нармера ориентация, письмо и
строительство дома представлены в качестве чего-то единого. На фартуке
Нармера нанесено четыре раза повторенное изображение богини Хатор.
Она, Хатор, — его Большой дом, и иероглиф для обозначения этого дома
позже ориентировался по четырем сторонам света для того, чтобы
поместить его в правильный угол космоса. Но, поскольку Нармер еще
изображал Хатор в виде коровы, то у него ориентация на четыре основных
направления «розы ветров» достигается с помощью четырех Хатор.
Впрочем, это выражение — «роза ветров» — может показать тебе, какие
трудности и сегодня испытывает язык в выражении четырех направлений.
Ибо «ориентация» по четырем направлениям может быть названа не
путем соотнесения с Солнцем или Луной, а как «четыре направления стран
света» или «роза ветров»! Звезды не делают нам одолжения и не
путешествуют повсюду. Этим объясняется важность Полярной звезды, которую
египтяне превозносили за то, что она никогда не заходит. Во всяком
случае, ветры и их «роза» являются весьма скромным вспомогательным
средством для того, чтобы охватить все небо, и «ориентировать»
означает всего лишь «направлять на восток». Однако это слово и сегодня
является нашим единственным вспомогательным средством для понимания
величественного пафоса строительства храмов, этого врезания в мир
(храм, «Tempel», и роща, «temenos», происходят от глагола «резать»). Но,
согласно «Готскому календарю», на Ниле даже отдельный храм
обладает меньшим пафосом, чем весь Египет, ибо в государство царского
двора вместе с принцами царствующего дома вписаны, к примеру, все
номы: таким всеобъемлющим представляется мировой дом, и так он
описывается. В процессе обретения новой ориентации с этим домом со-
231
единяются во временном отношении эон, а в пространственном —
«территориальное царство». Дом — это царство, в противоположность тому,
что имело место в Риме, где «империя» позже находилась перед стенами
urbs-a (76) Рима; на Ниле urbs находился в orbis'e, а дом был космосом!
Таким образом, фараон не был империалистом. Ибо указания
относительно того, как устроить свой дом, давались ему, наоборот, исходя из
положения звезд.
При таком понимании устройства государства становится сразу же
ясно, почему 42 судьи, осуществлявших суд над умершими, должны
происходить из 42 номов «территориального царства». Это является
отличным доказательством, направленным против концепции «локальных
богов». То, что все номы единообразно понимают царство мертвых и
вершат над ним суд, показывает, что территория царства и эон царства
описывают вечное настоящее, какое и стремится удостоверить каждый
иероглиф.
С тех пор для большинства добрых душ потусторонний мир выглядит
как царство мертвых, каким его представляли себе живые люди на Ниле.
Ибо они подчинили Осириса Гору, мертвых — живым. Это господство
вечного зона настоящего над мертвыми прекращается только после
выступления Иисуса в роли судьи над мертвыми. Ибо Символ Веры явным
образом называет нашего Господа Господом и живых, и мертвых.
Посредством этого предложения преодолевается племя, в котором мертвые
судили живых, предки требовали мести, вендетты по отношению к
живым. Точно так же утрачивает свою сущность и «территориальное
царство», в котором живые мнят себя судьями мертвых. Разумеется, лишь
немногие принимают всерьез освобождение, исходящее от Христа. И все
же только в этом случае действительно вечная посюсторонняя жизнь
становится независимой от положения, занимаемого человеком в земной
жизни,- будь это твое положение по отношению к родоначальникам
племени, будь это статус, определяемый звездами на небе царства.
Таким образом, только христианский суд живого Творца обрекает на
проклятие государства античности, точно так же, как и столбы предков,
взывавшие к вечной кровной мести. Уже Моисей разрушил эти чары
«территориального царства», а Христос в своей роли судьи мира
добавляет лишь то, что из закрытого сосуда Израиля, презираемого всеми
народами, вырастает вселенская церковь, которую должны узрить все и
которая постепенно уничтожит все «территориальные царства» и
племена. Эта фраза о судье мертвых и живых была добавлена к
израильскому Символу Веры именно для того, чтобы больше никогда не было
ни древних племенных вождей или шаманов, ни египетских фараонов
или жрецов.
Христианский суд, осуществляемый живым Богом, делает
несущественным различие между тем, кто еще жив, и теми, кто уже умер.
(Поэтому-то Данте поместил одного из своих живых современников в
ад!) Символ Веры останется непонятым, если в него не вслушиваться,
исходя из противостояния и духам предков, и суду над мертвыми.
Христос, как и Израиль, возвышается и над племенами, и над
царствами, поскольку и те, и другие считают творение Божие чересчур
кратким и малым.
232
Живой имеет право, приобрел право в Египте. Мертвые на Ниле
испытывали панический страх перед живыми. Но когда в доме, в Доме
фараона, у царя-папы возникла семья, изменилась не только его жизнь
после смерти. И его жизнь перед жизнью стала иной. Ты можешь
сначала не знать, что могло бы значить выражение «жизнь перед жизнью». По
нашим обычаям человек живет, если ребенок издал первый крик.
«Советница, он жив!», — воскликнула повивальная бабка во время рождения
Гёте. В это самое мгновение Иоганн Вольфганг Гёте уже жил под
защитой права и церкви, и наше гражданское право рассчитано на момент
появления на свет.
Но эта природная сущность человеческого права как права, данного
рождением, была неизвестна до фараона. Дети и женщины могли
оставаться без имен. Воин обладал именем лишь тогда, когда он сражался.
Инициация, посвящение юношей, конфирмация — это моменты
времени, в которые начинается серьезность, обладание именем, долг. До
этого «человек» не идет в счет. Появление на свет и самосознание должны
каждый раз заново расходиться друг с другом. Иначе мы выродимся.
Жизнь до возмужания — это преджизнь. Так в течение тысячелетий
жили индийцы, эскимосы, китайцы, индонезийцы, майя и германцы;
таким образом, имелось три промежутка времени — преджизнь, жизнь,
жизнь после смерти.
Читатель уже может дедуцировать чисто теоретически, что там, где
жизнь после смерти возобновлялась и воспринималась как бессмертная,
свет сознания, возможно, падал и на преджизнь
Так оно и есть на самом деле: фараон — это звезда. Фараон — это
Солнце и Луна. Поэтому фараон впервые подпадает под власть
предписаний неба не тогда, когда он восходит на трон. Члены дома фараона
принимаются в расчет с момента их рождения.
В последние столетия египтологи обратили свое внимание на культ
юного Гора. Эти храмы грудного ребенка, «mammisi», это
поименованное существование «Гора veris», юного Гора, были тщательно
исследованы. И точно так же, как в случае культа быка, происходящего
из времени I династии, — культа, оргии которого справлялись в
конце языческой эпохи, — нам бросаются в глаза сооружения,
посвященные мальчику Гору в конце второго эона, т.е. под властью римских
императоров. При этом легко возникает впечатление, что
существованию царя-папы до его вступления на престол уделялось столько
внимания лишь в эпоху Птолемеев. Я сам не могу высказать никакого
суждения относительно хронологических границ этого культа дитяти.
Но ты должна проникнуть в суть этого культа юного Гора настолько
глубоко, чтобы заметить параллели, возникшие в ритуале царя-папы
между «преджизнью» и «жизнью после смерти». Промежутки времени
до возникновения сознания и после его угасания надлежало сделать
частью космоса неба и земли. Это имело интересные последствия для
титула царя. Масперо (78) писал уже в своих «Etudes Egyptiennes II»:
«La chronologie de la vie royale est, comme on voit en sens inverse de
Tordre des titres» (c. 287) (79). A раньше (с. 275) он говорил о
«приобретении правителем имени»: «Le premier membre de protocol, le premier
nom d'épervier, mène le pharao au delà de la vie, le second cartouche le
233
prend à sa naissance». «Первый элемент имени (состоящего из пяти
частей), имя Гора, выводит фараона за пределы жизни, второй картуш
(80) выражает его суть в момент рождения».
За именем Гора и именем сына Солнца обычно следовало
действительно данное при рождении имя, так что фактически первое имя этого
дитяти человеческого стояло последним. Приобщение этого давно
рожденного дитяти человеческого к детству бога было таким же
искусственным и таким же необходимым для небесного дома, как и отмена
смерти. Ты ведь с удовольствием вспомнишь наше совместное посещение
Дендера, во время которого Франсуа Дома (Daumas), французский
археолог, столь любезно давал нам объяснения. После этого в 1958 г. он
опубликовал в Париже прекрасную книгу «Les Mammisis des Temples
Egyptiennes» (81) и еще одну об Асуане «Le Mammisi de Philae» (82).
Благодаря Дома мне не нужно рассматривать отдельные аспекты
волшебства, с помощью которого богиня Хекет околдовывала новорожденного
(83). То, о чем идет речь, заключалось в принципе: «Le roi d'essence divine
existe, prêt à assumer la succesion de son père». (84) «Золото создало вашего
(т.е. девяти богов) сына, которого вы любите, и он семя великого бога»
(85). Классический филолог Эдуард Норден (Norden) в своей книге
«Рождение дитяти» (86) описал включение обожествления дитяти на
Ниле в историю императоров и в историю христианства. Каждый
читатель евангелий знает, что крест и колыбель в жизни Богочеловека
неразрывно связаны. Наше летоисчисление ведется не от смерти Иисуса, а от
Рождества Христова. И все же этим не отрицается, что лишь смерть
завершила его рождение! По свидетельству Августина, современные ему
толкователи спорили, следует ли отсчитывать первые 365 лет (четверть
Великого года на Ниле продолжительностью в 1460 лет) эпохи Христа от
его рождения или от его смерти.
Насколько же велико было значение юного Гора до его вступления на
престол в качестве параллели жизни после^смерти! Сглаживание,
выравнивание глубоких разломов в пределах одной и той же человеческой
жизни, пренебрежение возрастами жизни создавало немалые трудности всем
монархиям. На самом Ниле фараон Фиопс II должен был стать царем в
шестилетнем возрасте! И это привело к тому, что его почти бесконечное
правление закончилось его свержением. Для тебя и для меня этого
может оказаться достаточно для понимания космической задачи детства,
возникающей из породнения правителя со звездами. Его преджизнь
должна была проходить в тот же звездный час, что и его жизнь после
смерти. В обоих направлениях телесная действительность «безъязыкой»
главы его жизни уступала свои права космической фикции. Жрецы
приписывали дитяти — точно так же, как и умершим — способность
предначертать человечеству его вечность только в свой звездный час. В
теологии этот вопрос подверг испытанию на прочность четыре евангелия. С
1840 по 1952 г., от Лахмана (Lachmann) и Вайсе (Weisse) до Батлера
(Butler) и Чепмена (Chapman), утверждалось, что евангелие от Марка,
начинающееся с крещения в Иордане, т.е. с середины жизни Иисуса,
должно считаться самым ранним. Это была ни на чем не основанная
абстракция девятнадцатого века, отождествлявшего характерное для него
состояние сознания с «я» Декарта или двадцатилетнего тюбингенского
234
студента и рассматривавшего первые двадцать лет жизни, как об этом с
гордостью говорил Картезий, как потерянные годы, исполненные
тщеты любовных страданий. Евангелие от Марка, в котором опускается
история юношеских лет Иисуса, не является самым ранним, и юность
Иисуса, прошедшая в доме Иосифа в качестве израильтянина,
безусловно, принадлежит к истории его смерти. Марк сократил евангелие от
Матфея для жителей Римской империи. По той же самой причине
«юный Гор» неразрывно связан с космизацией правителя,
осуществленной на Ниле. Однако на Ниле этот апофеоз совершил насилие над
истиной, и обращение с правителем-ребенком как с космической сущностью
вложило законы космоса в младенца. Но космос и дитя человеческое
могут соединиться только в Слове Божьем, а не на небе богов.
Следовательно, 5000 лет иероглифы уводили людей от их подлинного
предназначения, потому что они хотели подчинить их гороскопам, основанным на
положении звезд, вместо того чтобы предписать им послушание,
опирающееся на слово, произнесенное в положенный им час. В четвертой
эклоге Вергилия поэт попытался примирить астрологию богов с
обращенным к человеку призывом живого Бога. Но и Вергилий подпадает под
власть представлений о вечном возвращении и в 36 стихе предсказывает,
что Ахиллес снова пойдет войной на Трою. И для него новорожденный,
которого мать родила после того, как десять месяцев вынашивала его, все
же становится новым исходным пунктом космического круговорота.
«Magnus ab integro saeculorum nascitur ordo» (87) (Вергилий) — так и
на Ниле с очередным приходом Гора вся история начиналась заново
благодаря вечному настоящему богов. Лишь таким образом вера
овладевала той главой нашей жизни, которую не в силах охватить наше
собственное сознание, — нашим детством и продолжением нашего влияния после
смерти, или, иначе говоря, нашей преджизнью и нашей жизнью после
смерти. До тех пор, пока сын человека и сын мира не оказались
разведены благодаря Израилю, наша жизнь казалась уходящей в космос.
Поэтому и преджизнь, и жизнь после смерти испытывали потребность
возвыситься до вечности мира. Ведь он кажется движущимся по кругу и
потому возвращающимся, и, следовательно, превращение жизни после
смерти в вечную представляло собой только половину стремлений
фараона. Второй половиной была космизация детства, сглаживание цезуры,
создаваемой инициацией.
Лишь с этой точки зрения становится понятной абсурдность
предыстории Гора. Девять богов, Эннеады Она, выступают в качестве его
родителей. Его родили и Исида, и Нефтида вместе. Это не более противно
здравому смыслу, чем представление об одном и том же неделимом
«территориальном царстве», которое должно быть составлено из двух земель
для того, чтобы затем можно было воспринимать творческий голос,
исходящий из одного сердца и одной трахеи, из знака «сема»,
обозначающего объединение обеих земель. Египтяне научили нас говорить,
действовать и мыслить так смело, как будто мы являемся детьми вечного
времени. Это увековечение и преджизни, т.е. жизни до возникновения
любви и собственного языка, еще отражается в слове «инфант»,
используемом по отношению к принцам в Испании. Поскольку «infans»
означает еще не говорящего человека, то расширение значения слова «ин-
235
фант» и его применение ко взрослому принцу заслуживает особого
внимания. Ибо ребенку, родившемуся в доме правителя, включение в
космический порядок казалось гарантированным без его собственного
языка. Это должно было иметь последствия также для любви и брака.
Я намеренно обозначаю для тебя преджизнь как жизнь до
возникновения любви. Дети, родившиеся в доме, уже рассматриваются в качестве
будущих супругов. Таким образом, поскольку брат и сестра вступают в
брак между собой, дело доходит до браков между детьми. Позже
королевские дети сочетались браком уже в колыбели, что привело к ужасной
путанице. В самом же Египте кроме Аменхотепа IV-Эхнатона, его жены
и их детей мы видим целый ряд детских браков и детей на троне (88), а
также браки между отцом и дочерью, братом и сестрой и, возможно,
даже между матерью и сыном. Такие браки между кровными
родственниками являются почти неизбежным следствием выхода Гора за
пределы племенных ритуалов нанесения татуировки и испытания на зрелость
во время посвящения в мужчины. Этот переход из рода,
существующего внутри племени, в дом правителя, находящийся над племенем,
настолько сильно мучил еще Карла Великого, что он не выдал замуж ни
одну из своих дочерей за юношей, соответствующих им по своему
социальному положению, — и все только для того, чтобы не помогать ни
одному из претендентов продвигаться вперед. То, что из-за этого дочери
безостановочно предавались распутству, казалось ему меньшим злом.
Пусть эти факты послужат иллюстрацией тех трудностей, с которыми
сталкивался любой небесный дом, возвышающийся над родами,
входящими в племена. Когда в «Одиссее» царь феаков женит 25 своих сыновей на
25 своих дочерях, когда Зевс и его сестра Гера освящают человеческий брак,
когда Птолемеи, будучи греками, следуют брачному закону фараона и
сочетаются браком со своими сестрами, но также тогда, когда касты еще и
сегодня угрожают будущему Индии или когда так называемые владетельные
князья в Германии занимают, по моему мнению, в высшей степени
вредное общественное положение, поскольку wü грозит вырождение, то всякий
раз происходит одно и то же: люди стремятся, чтобы свет поименованного
существования упал на новорожденного слишком рано и, тем самым,
совершают по отношению к нему несправедливость. Бог существует в нас
инкогнито. Если ребенка лишают этого инкогнито слишком рано,
страдает сила Бога, заключенная в нем. Горе тому ребенку, у которого нет
никакого инкогнито. Он дегенерирует. Ибо он утрачивает способность
перерастать свою среду. Наша вера создает наши лица. Раса — это плод веры.
Братья и сестры, принадлежащие к двум поколениям, из-за разницы в вере
выглядят совершенно по-разному. Родовитость, обозначенная и
востребованная слишком рано, возможно, свидетельствует о древнем благородстве
кровей, но она порождает и усталость, проявляющуюся в «четко
выраженных» чертах. Каждый египетский инфант в качестве отпрыска
кровосмесительной связи нарушает равновесие между временами взлетов и падений —
своими собственными и теми, когда источник рождения языков должен
обновиться благодаря новым мученикам, новым именам. Родной язык —
вспомни наше рассмотрение пути новорожденных детей человечества — не
может прийти к ребенку только от матери и отца. Нет, он должен прийти
к ребенку от событий, которые обновили и заставили двигаться вперед язык
236
только после детства его прародителей. И нас могут определять образцы,
воспринимаемые в качестве таковых нашей душой, а не вечно
двигающиеся по кругу созвездия. Поэтому воздействие астрологического
предопределения является смертоносным. Ибо оно делает невозможным претворение
всего богатства моего языка. Тогда утрачивается настойчивое ожидание,
напряженные годы между страстным желанием и его исполнением.
Создаются препятствия для здоровой инкарнации. Новорожденный попадает под
власть устаревших побуждений и притязаний.
Для того чтобы совершенно заново создать даже одно тварное
существо, необходимо бесконечное усилие. Страх смертного человека, чаще
всего изводящий родителей, побуждает их заранее предусматривать
опасности, угрожающие отпрыску, на основе феноменов, хорошо известных
самим родителям. Элемент бесконечности при этом уничтожается.
Однако то, что является ограниченным и четко определенным, может быть
создано самим человеком. Но сам он не может быть создан таким
образом, ибо его вызывает к жизни лишь бесконечная самоотдача,
самозабвенное страстное стремление. Должно господствовать экзогамное, т.е.
бесконечное влечение. Делает ли аборт замужняя женщина, выполняет
ли президент свои служебные обязанности в течение четырех лет,
предается ли дилетант на пару лет своим любительским исследованиям, —
везде отсутствует то огромное, из чего только и возникает творение. Оливер
Кромвель сказал: «Человек никогда не поднимается выше, чем тогда,
когда он не знает, куда идет» (89). Суждение евангелиста Матфея: «Ибо
от избытка сердца говорят уста» (12:34) чаще всего рассматривается в
качестве общего места. Но оно не является таковым, если избыток сердца
осознается как бесконечность и независимость от среды. Тогда поток
артикулированной речи в сравнении с избытком сердца является
ограниченным, но полнота сердца взрывает всякую унаследованную,
порождающую скованность и предубеждения среду.
Можно рассматривать сонеты Шекспира как его бесконечность, из
океана которой почерпнули свои контуры, границы и определенность
все его пьесы. Богослужение имеет для нас тот же смысл, что для
гения — глубочайший источник его собственных экстазов: оно должно
предпослать повседневности бесконечность, из которой повседневная
работа только и может получить свою форму.
Самим египтянам не была чужда пропорция «бесконечное/конечное
= инкарнация» (90). На это указывает иероглиф «бесконечно много лет»,
который играет большую роль уже во время правления I династии. Для
всех нас Гор соединил жизнь от рождения до могилы в жизненный путь.
Ему мы обязаны существованием «биографии». Предшественники
Откровения притязают именно на то, чтобы за ними признали их
непреходящий вклад в постижение истины о нас, людях. Злой фараон Библии
зол лишь постольку, поскольку он не мог понять сути Исхода при
завершении своего первого эона. Но его собственный шаг за 1460 лет или еще
больше до Моисея был сделан для всех нас, евреев и язычников. Без
юного Гора дело никогда не смогло бы дойти до появления Судии
мертвых и живых, происходящего из колыбели в Назарете.
Твой Ойген
237
Шестое письмо в Каир
Об избытке
Дорогая Синтия!
Я уже сообщал тебе, что очень видный археолог Рейснер (Reisner)
назвал египетское письмо чисто практическим. В век образования —
эпоху чтения, газет, средств массовой информации, — его суждение может
быть легко понято неправильно. «Практическое» должно означать
следующее: благодаря письму происходит нечто столь же нерефлектирован-
ное, как действие, а отнюдь не воспроизводящее только что-то
мысленное — системы, понятия, теории. Таким образом, правило Рейснера не
означает, что египтяне писали лишь для того, чтобы перечислить
виноградники или птичьи дворы фараона. Но слово «практический»,
используемое Рейснером, всецело включает в себя и другое значение слова «не-
рефлектируемый». Практическим может быть названо то, что глубоко
укоренено в литургии или ритуале, неразрывно связано с действием еще
до того, как бесцветность мысли расщепит нас на «замысел» и
«осмысление», а способность именования уступит натиску анализа.
Цюрихский англист Генрих Штрауман (Straumann) в 1935 г.
опубликовал в Лондоне книгу «Newspaper Headlines» (91). Эти «лозунговые
заголовки» являют собой новый речевой оборот в мировую эпоху рекламы.
Заголовки, реклама должны кричать или шептать для того, чтобы мы
обратили на них внимание. У нас, миллионов и даже сотен миллионов
людей, происходит становление прежде не существовавшего речевого
стиля. Он является «практическим» в том предельно всеобщем смысле, в
каком считались практическими, деятельными письмена жрецов. Но
лозунговые заголовки направлены на новый вид читателя, на публику,
которая не обязана повиноваться, а может идти своим путем. Такая
публика появляется только начиная с греков. Однако древнее письмо
направляло писца на его путь. Оно побуждало его действовать. Египтолог Шотт
(Schott) удивляется тому, что в пирамидах один и тот же текст
обнаруживается написанным то в первом, то во втором, то в третьем
грамматическом лице. Таким образом, фараон говорил «я», но затем это звучало
также: «тебя» объемлет солнечный луч или богиня; и столь же часто это
означало, что «его» овевал несущий прохладу ветер или ему угрожал
гиппопотам. Шотт выделяет эти грамматические лица — он, ты, я — в
качестве различных стилей погребальных текстов. Я считаю это
методически неверным. Ибо принуждение письма, заключенное в иероглифах,
отнюдь не было тождественным выкрикиванию рекламы в утратившую
бдительность публику. Скорее, оно вызывало бедных смертных детей
человеческих из их предыдущей беседы, ведшейся в их роду, в военном
походе, во время танцев или на площади и призывало их к участию в
новой беседе. Возник новый взгляд на мир, появились новые партнеры на
небе и на земле. Во всякой беседе, в любом дебате, выступаю ли я в
качестве истца, пациента или офицера, ко мне попеременно обращаются
с помощью «ты»; меня обсуждают, говоря «он»; в качестве «я» я сам
выступаю с речью; в качестве «мы» становлюсь членом общности, а в каче-
238
стве «вы» — принимаю на себя ответственность. Язык принуждает лишь
того, кого он преобразует в диапазоне от «я» до «они». Чтобы вырваться
из устной речи племенного собрания — thing'a, фараоны и их писцы
подчинились натиску письма. При этом все писцы выступали
представителями самого фараона. Мы считаем, что на самых ранних этапах
истории Египта закладка сооружения осуществлялась самим правителем
по соответствующей форме. Уже очень давно не помышлялось о том,
будто он появится, чтобы сделать это самому, но все обставлялось таким
образом, будто именно он натягивал трос и закладывал основание.
Английский король и императоры из династии Габсбургов также
совершали тысячи действий, не присутствуя при этом лично. Всякое правление
передает полномочия слугам и подчиненным. Но это возможно лишь
потому, что им хорошо известно о существовании над ними правителя,
в доме которого нет недостатка в слугах и подчиненных. Так что письмо
в Египте оказывается новым языком, который, исходя от фараона,
передавался множеству слуг, графов и подчиненных. Но это не снимает
вопроса о том, с кем это письмо должно было побудить говорить самого
правителя. Кому он писал? Кто писал ему? Если мы примем иероглифы
всерьез и будем считать их новым видом речи, то суть решающего
обновления племенной жизни следует искать в том, что письмо вводит в
действие нового партнера беседы. Благодаря письму фараон общается с
родственниками и «друзьями», с которыми невозможно никакое устное
общение. Письмо вписывает его — и потому скрипторий называется
«домом жизни» — в новый процесс жизни. Благодаря избытку нового
одухотворения этот новый процесс жизни превосходит предшествующий.
Воин седой древности выставлял напоказ перед себе подобными свои
письмена-нарезы точно так же, как шрамы от ран, полученных в бою.
Подобно татуировкам моряков в наши дни, во время инициации на кожу
воина на всю его жизнь наносились знаки племени, подобные шрамам,
свидетельствующим о его победах в условиях смертельной опасности.
Таким образом, он является новейшим изданием основного закона
племени, и том, представленный его телом, выражает этот основной закон
в течение всей его жизни.
Что происходит, когда воин перестает терпеливо сносить нанесение
на его кожу рун? Что происходит, когда он выставляет перед Солнцем и
Луной неповрежденное тело? Как же он тогда включает в себя
непреходящую истину, если он не накалывает ее на своей коже? Здесь и
появляется письмо, знаки которого высекаются на камне мира. Камень не
умирает. На камне имеет право, может и должен быть записанным только
вечный порядок. Вождь племени выделяется рунами предков на его
коже. Фараона обозначают каменные руны на его доме. Эти руны
делают все части дома, его обитателей и членов подвижными по отношению
друг к другу. Поскольку письмена высекаются на камне, они
освобождают носителя накожных рун, воина, и позволяют движущейся толпе,
состоящей из множества людей, царедворцам, свите, жрецам, солдатам,
лекарям, зодчим, — всем сословиям вместе войти в область действия
основного закона, увековеченного в нанесенных на камень рунах.
Кажется, что все, проникшее в камень, никогда не умрет. «Территориальное
царство» на Ниле пребывает в иллюзии бессмертия. Смерть должна быть
239
отменена. Если бренная кожа уступила место камню, то почему смерть
также не может уступить место бессмертию? Накожные руны,
татуировки, как уже упоминалось, встречаются в Египте только через 1500 лет
после введения письма на камне. Я вижу здесь тот карантин, который
воспрепятствовал строительству храмов в Израиле в первые столетия
после Исхода. И христианство ждало 1500 лет, прежде чем римские папы
начали непринужденно использовать дохристианские, императорские
формы и каменотес в Риме изобразил на стене нашего Господа Бога в
виде Юпитера. Однако египтологи ни словом не обмолвились об
искоренении татуировки. Они не проронили ни слова и о появлении у
первых фараонов-объединителей страны шиферных пластинок для
растирания косметики (палеток). Однако если письмена «ушли с кожи», т.е.
если теперь не смертные воины, а бессмертный камень носил на себе
остающийся неизменным основной закон, то каменные палетки были
тем самым новшеством, которого и следовало ожидать: фараон не
наносил татуировок ни на себя, ни на кого-нибудь другого. Камень палетки
четко указывал на это. В то же самое время, на каждом празднике
должны были наноситься разные краски, которые можно было менять: на
место накожных рун пришла косметика. Так людям была придана
подвижность, а земле — постоянство и прочность. Прекрасные шиферные
пластинки для растирания косметики выражают именно этот процесс
изменения пропорции между изменчивостью человека и неизменностью
божественного мира, и их внезапное появление на заре египетской
истории само по себе является удивительным достижением. Однако тому,
кто не помнит о седой древности с ее татуировками, достаточно
инвентарного номера, поставленного музеем на палетке Нармера. Но ты
должна прочувствовать воодушевление творений Бога, вписанных этой
палеткой в вечность. Дополнением этого нового отношения к
собственному телу в обиходе женщин могло бы стать зеркало. Египетские зеркала
являются древнейшими в мире из всех известных нам зеркал. Они
восходят к эпохе 1 династии. Женщина берет с собой зеркало на
богослужение. Зеркало — часть ее костюма (92). Предоставляю тебе возможность
самой развить это толкование появления зеркала. Я сам знаю
недостаточно много для того, чтобы чувствовать себя здесь так же уверенно, как
в случае татуировки. Но этому имеются доказательства. Моисей (Лев.
19:28) запрещал нанесение накожных рун, покрывание тела письменами
под угрозой смертной казни. Ибо люди, выведенные им из Египта, не
должны были снова впасть в верования, предшествующие египетским.
Он стремился выйти за пределы власти фараона и возвыситься над ним,
а потому не хотел терпеть ни накожных рун, ни иероглифов. Письменам
на камне присуща еще и третья тайна. Как только мы поймем, какая
корпорация наносит на кожу руны, сразу же станет ясно, что они могут
описывать только порядок человеческой общности — людей, а не
страну. У некоторых племен имеются такие накожные руны, благодаря
которым десять или двенадцать человек с нанесенными на их кожу
письменами, собравшись вместе, должны выразить собой один текст. Таким
образом, текст оказывается распределенным по нескольким главам, и его
связность достигается соединением нескольких страниц, в качестве
которых выступают человеческие тела. Эти групповые руны встречаются
240
довольно редко, но их существование указывает, где пролегает самая
отдаленная граница нанесения на кожу насечек. Большое число людей с
татуировкой могут действовать сообща. Однако мир вещей тем самым
еще не становится единым. Напротив, с помощью наносимых на камень
знаков создается возможность описания земли и неба: география и
уранография — вот письменность фараонов. Ибо камень с нанесенными на
него письменами всякий раз сам оказывается внутри мира и, таким
образом, является и остается частью универсума. Так что письмена
наносятся бесконечно, не заканчиваясь на одном камне. Способность писать
делает отдельный камень, отдельную каменную пластинку и отдельную
каменную стену членом мирового дома. Слова «уранография» и
«география» следует принимать всерьез, если ты хочешь понять суть этой
графики. Теперь каждый исписанный лист делается частью книги,
единственной книги, включающей в себя все надписи. В наши дни мы
называем Библию Книгой всех книг и, тем самым, намерены признать, что
имеется некая библейская реальность, некое целое, внутри которого
надлежит читать отдельные книги. Название «Библия» для книги греки
позаимствовали у города Библа, отдаленнейшей египетской заставы. Там
эллины и финикийцы обнаружили египетские папирусы. Таким
образом, гавань Библ дала грекам имя для обозначения книги. Не только
«Библия», но и слово «библиотека» обязаны своим происхождением этой
традиции. Таким образом, это — поучительное этимологическое
продолжение внешней стороны связного письма. Но имеется и более
возвышенная связь. Она проходит от накожных рун через иероглифы к
Библии Израиля. И поэтому этимологический ряд «иероглифы — Библ —
библиотека» должен быть дополнен последовательностью трех изданий
в каждом случае совершенно полного собрания письменных текстов: 1.
Полный текст основного закона племени запечатлевается в виде насечек
на коже воинов. 2. Полный текст установлений, характеризовавших
порядок неба и земель, высекался на камне. Используя при этом
единственное число, — «на камне», — мы идем правильным путем, отображая
бесконечный характер этого наносимого на камень письма,
напоминающего ленту. 3. Библия, Книга книг, также одна. Ее разделение на
Ветхий и Новый заветы, на Пятикнижие и Пророков ничего не меняет в ее
единстве. Никакое перечисление отдельных посланий апостолов,
евангелий, книг Моисея или различных псалмов, характерное для обычной
критики, не приближает нас к постижению единства «Библии», которое
только и придает смысл всем этим книгам.
Между первым основным законом племени, записанным с помощью
накожных рун, и третьим основным законом человечества как рода
Божьего, запечатленным в Библии, находятся иероглифы в качестве
единства, описывающего космос. Ты воздашь должное египетскому письму
лишь тогда, когда поймешь его как целое, как конвейер текстов, лента
которого непрерывно втекает во вселенский дом богов. Исследователи,
расшифровывавшие отдельные надписи, слишком часто пытались
объяснить эти вечно повторяющиеся, бесконечное число раз
возвращающиеся тексты как взятые сами по себе. Но из этого ничего не получится.
Притязание, существовавшее от Нармера до императоров
включительно, — это непрерывное притязание. Фараон должен был беспрестанно
241
покрывать надписями тело мира. Так что он ориентирует стены храмов
в качестве частей этого величественного божественного тела и
указывает на каждой стене, что именно она описывает в строении космоса.
«Тексты пирамид» великолепно выражают характер письма, суть которого —
мировой порядок: «Я писец, — говорит просветленный царь, — писец,
который своим письмом говорит, что создано, и вершит то, что еще не
создано»(93).
В письме вещи должны включиться в единую связь. От хаоса
разобщения спасало только письмо, поскольку лишь теперь знак для
обозначения каждой отдельной вещи вовлекался в видимую, устойчивую связь.
Поскольку мы уже давно живем в системе вещей мира, мы далеки от
мысли связывать с письмом некий избыток, порыв вдохновения. Но и
Галилей не смог бы выкрикнуть свое: «И все-таки она вертится» —
более страстно, чем это делал писец фараона, описывавший око Гора. Все
формы выражения новой истины возникают в состоянии избытка. Так
отдельные неисчислимые, кажущиеся не связанными друг с другом, во
всем различные вещи этого мира посредством письменности
включаются в некую связь. О том, что за порядок при этом был достигнут, я тебе
сегодня не буду рассказывать. Ибо немалое значение имеет, прежде
всего, то чтобы ты ощутила тот избыток, благодаря которому все это
только и могло произойти. Письмо избавило от хаоса, окружавшего дикаря
в чаще тесным кольцом, хаоса, в котором есть только особенное: здесь —
одно чудовище, там — другое. Т.С. Эллиот говорит: «The particular has no
language» (94), и, тем более, у особенного нет письма. Ибо знаки для
обозначения вещей соединяли все и вся в некую видимую и устойчивую
связь. Представление о хаосе, который противостоит космосу, не будет
понято до тех пор, пока ты ставишь хаос и космос на одну и ту же
плоскость чувственного восприятия, что, к сожалению, и делает школа. Нет,
хаос воспринимается с помощью органов чувств, и если мы искренне
доверяем им, он снова и снова окружает нас в нашей обособленности, и
он заключен в нас самих. Но благодаря письму он преобразуется в
космос или, точнее, может быть преобразован в космос. Таким образом,
следует говорить не о диалектике «хаоса-космоса», как это делают
логики в своих лишенных обстановки школьных классах. Нет, имеется хаос,
та необозримая «движимость» мира по ту сторону моего опыта и
поименованного мира, то самое «тоху вабоху» (95) первой главы Книги Бытия,
что Розенцвейг и Бубер (96) переводят так: «Мир был путаницей и
неразберихой». Тем самым корректно передан смысл «хаоса». Теперь же
письмо начинает служить мировому дому, фараону, и теперь мир можно
описать, мир становится космосом. В самом слове «описание» ты еще
сталкиваешься с неким двойным смыслом: с одной стороны, с сегодняшним
греческим безразличием, всему дающим дефиниции, а с другой — с
возбуждающим исписыванием самого космоса в Египте. 1. Хаос. 2.
Письмо. 3. Космос. Вот что должен признать тот, кто стремится избавиться от
заблуждений диалектики Гегеля и Маркса. Эти логические заблуждения
запирают двери, ведущие к изначальному миру как племени, так и
«территориального царства». В третьем издании моей книги «Европейские
революции» (97) я показал, что сам Сталин в конце своей жизни
неожиданно, как кажется, разгадал и отбросил эти заблуждения Гегеля и Мар-
242
кса. Он назвал наше вхождение в создаваемую речью — неважно, устной
или письменной, — связь именований «заключением мира», которое
только и избавляет нас от массовых, классовых и расовых заблуждений.
Запад в лице своего образованного слоя воздвиг почти непреодолимую
стену, препятствующую эмансипации от чистой абстрактной логики. В
самом Каире тебе нужно было бы сделаться в состоянии преодолеть эту
стену и обрести свободу чад Божьих, чада богов. Когда Гёльдерлин
воскликнул: «В руке богов я вырос», он тем самым превосходно «описал»
наше погружение в хаос, наш совместный выход из него благодаря
языку и письму и проникновение в космос. Ибо не забывай: он возгласил и
написал это. Если бы он просто подумал об этом так, как думают
логики, мы бы ничего не знали о нем, а он ничего бы не знал о богах.
Жертва, которую он принес своим восклицанием, возвысила его до уровня
Гёльдерлина, предмета насмешек академических ученых, до уровня
безумца, нашего помощника и целителя. Принесенная им жертва состоит
в том, что он написал это, осмелился написать, бросив написанное в
лицо обезбоженному миру. Так же Гор вошел в мир духов прежде всех
богов и разыскал, нашел, посетил остальных богов — все эти выражения
правильны. Поиск богов Гором — так может быть названа египетская
авантюра. В конце существования «территориального царства» богиня
Исида все еще называлась тысячеименной. «Погоня за успехом» — так
называется наша последняя, упрощенная и обедненная разновидность
этой космической погони. Она не была дикой охотой Вотана и воинов.
Она была поиском, попыткой выяснить, может ли в именах богов быть
описан предполагаемый порядок космоса.
Попытка потерпела неудачу. Ибо, хотя наш Единый Бог и сотворил
Египет, он сотворил также дикие заросли, пустыню и оазисы. И бог
Сет постоянно воплощал собой это напоминание о заслугах только
говорящего, но еще лишенного письменности доисторического мира, а
в противостоянии хаосу, обиталищу чудовища Апопа, бог Сет был на
стороне новых богов. «Апоп» («аапеп») означало «носящий 77
проклятых имен», и в нем основанное Менесом «территориальное царство»
достигло той зрелости, благодаря которой отныне могло быть
проведено различие между эпохой Адама, тысячелетием родоплеменного
строя, т.е. эпохой, которую должен был воплощать собой Сет, и
мировым периодом, предшествовавшим появлению племен, периодом
дочеловеческого, никогда не могущего быть успешно поименованным
хаоса змея Мидгарда (98), мирового чудовища (99). Лапидарным
выражением этого соединения собственного родоплеменного,
доисторического прошлого с собственной историей «территориального царства»
было решение взять в солнечную ладью противника Гора — Сета, чтобы
он из нее победил чудовище. В эпоху V династии в «территориальном
царстве» возникло учение, согласно которому вызывающий такой страх
Сет имеет и благодатную сторону, поскольку он успешно поражает
копьем мировое чудовище, чудовище грозного вселенского хаоса,
существовавшего еще до наступления века устной человеческой речи. Это
стремление воздать должное доисторическим временам собственной
истории отличается столь глубоким смыслом, что в течение первых пяти
столетий Египта оно еще не могло осуществиться. Но в постоянно пред-
243
принимаемых попытках воздать по заслугам Сету разгорается такая же
битва, которую церковь должна была вести против Израиля.
Предшествующая эпоха становится «эпохой Сета» лишь ретроспективно. И
потому Сет не является богом коренных жителей. Ведь они верили только
в духов и общались только с духами, а не с богами. Точно так же, как не
может быть Ветхого завета, если нет Нового завета, предшествовавшее
Ною человечество, человечество до преодоления потопа, не могло еще
выразить свою общность в едином имени. Ведь оно не могло видеть себя
с позиции «потом». Но именно это могли сделать последователи Гора. С
точки зрения людей Гора Сет описывает то время племени, за пределы
которого они вышли. И это — самое удивительное в том письменном
знаке, в котором ты узнаешь Сета. Он появляется как подлежащее
отрицанию, вооруженное копьем, даже неизвестное нам и, возможно,
уничтоженное животное, которое — согласно иероглифу — эвфемистически
также охотно описывают с помощью второго имени Гора. Тогда два Гора
должны быть прочитаны как «Гор и Сет». Так последовательность
превращается в рядоположность или, выражая это определеннее, время
превращается в пространство. В этом превращении заключены и величие, и
нищета. Ибо ты, как и фараон, не можешь безнаказанно превращать
времена в пространства. Фараоны пошли на крайность. Они заключили все
времена в пространства. Таким образом, они строили для вечности. В
этом смысл пирамид. И потому сооружения фараонов и сегодня стоят
как исключительный случай отмены смерти, неистового стремления к
бессмертию, когда каждое время созидалось и описывалось навсегда.
Все мировые уклады неправильно понимают место смерти в жизни.
Смертность наилучших законов, смертность прекраснейшего космоса —
эта истина скрыта от тех, кто верует в мироздание. Поскольку фараоны
стремились отрицать смерть, их «территориальное царство» бесследно
погибло, когда пришел тот, кто в дополнение к гибели античного мира
принял настоящую, неизбежную смерть, и благодаря ему на смену
звездным путям детей космоса пришла свобода чад Божьих.
Твой Ойген
244
Седьмое письмо в Каир
Три тайны разума
Дорогая Синтия!
Публично используемое на Ниле письмо связано с тремя тайнами.
Первая — это освобождение человеческого тела от нанесенных на него
письмен основных установлений племени; накожные руны перестают
быть пожизненной принадлежностью прекрасного облика человека и
навязывать ему свой закон. Вторая — это проникновение в откровение
мира; языки танцующих шаманов и колдунов, действующие в
преходящих людских сообществах, умолкают. Бессмертные камни, золото и
драгоценные камни учат египтян бессмертию, предписывают его им. Третья
тайна — принадлежность этих камней, в том числе драгоценных, к
космическому целому. Многие небеса и обе земли к северу и югу от
Мемфиса, будучи описаны, запечатлеваются в сердце и устах своих
декламаторов.
Методы египтологии оставляют без внимания все эти три тайны.
Антитеза накожным рунам, выход в вечный мир, якобы не подверженный
смерти, отодвигается на периферию исследования, так, словно это
является простой случайностью. Так что вечное возвращение в качестве
мысленной заповеди культуры речных долин захватило только Ницше, а
египтология отказывается от того, чтобы пытаться понять что-то
большее, нежели симптом. Эверт (Everth), осознавший целое, был объявлен
еретиком. Третья тайна — смысл обособления нильского универсума,
наполовину небесного, наполовину земного, т.е. страны бога Гора, — в
духе умонастроений, свойственных читателям газет, оказывается
помещена на прокрустово ложе наших представлений о небе и земле,
соответствующих уровню развития ученика начальной школы. То, что было
звучащим домом богов, возвещенным, вписанным, начертанным,
продолжающим писать, подлежащим переписке, интерпретируется как нечто
астральное (т.е. астрономическое) или географическое в нашем
современном смысле, т.е. как немая природа. Три четверти легенд о культе
Солнца у египтян являются пустой болтовней, поскольку Солнце как
дневное небесное светило никогда не могло иметь определяющего
политического значения. Ибо всякая политика должна связывать времена и
создавать пространства, выходящие за пределы одного дня. Таким
образом, политика никогда не может быть основана на повседневности. Даже
материалистически настроенные русские должны отмечать день
рождения Ленина и годовщину Октябрьской революции. Однако это — особые
дни. Возможно, день повседневного труда и можно отмечать 1 мая, —
этот праздник сперва был затеей американских рабочих в 1889 г., — но
лишь при условии, что именно в этот день не работают! Он должен
оставаться единственным.
Но когда, наконец, оказываются открыты эти три тайны,
господствующие над всеми иероглифами и сокрытые во всех иероглифах, то это
воспринимается как чистейшее надувательство. Ни в одном печатном
245
органе египтологии, будь то книга или журнал, не были хотя бы чисто
библиографически упомянуты написанные мной сотни страниц,
посвященные исследованию египетского государственного устройства.
Потому и получается, что так называемый культ Солнца в Египте считается
тем культом, который «постепенно» — излюбленное слово
дарвинистов — заменил собой культ Гора. При этом само слово используется так
некритически, словно оно относится к одному и тому же кругу
верующих. Но это — petitio principii (100). Разве истинно то, что превознесение
Солнца и часов его движения ночью и днем конституировали Египет
точно так же, как Гор и Хатор, Исида и Осирис? Верно ли то, что
движение Солнца с востока на юг и на запад когда-либо могло заменить
собой победный полет сокола на север вплоть до околополярных звезд на
небе и до Библа на земле? Все это неверно. Иероглиф для обозначения
Гелиоса, Ра, т.е. Солнца, — это письменный знак для обозначения
отдельного дня. Но отдельный день является доисторическим, лишенным
истории. Таким образом, культ Солнца подходит для не имеющего
истории слоя общества — точно так же, как культ Девы Марии обеспечивает
обыкновенным христианам и убогим старушкам некую причастность к
героическому христианству без собственного подвижнического
свидетельства. Ничего не пишущее, не участвующее в управлении страной, не
находящееся в движении от Нубии до Библа население египетских
земель с помощью восхваления Солнца становилось причастным к культу.
Я хочу обосновать это, ограничась только одной деталью. Гор, бог-сокол,
несет на своих крыльях Солнце к северу. Широко раскинув крылья,
золотой сокол сидит в царской ладье, соединяя один за другим те номы,
которые расположены по ходу разлива, начинающегося от Асуана, и
преобразуя их тем самым в обе земли царства. По образцу этой
величественной парадной ладьи, несущей трон Гора, спустя примерно 500 лет была
создана солнечная ладья. Таким образом, эта ладья предназначалась для
оседлого населения, которое почти ежедневно переправлялось по реке с
востока на запад или плавало вверх по течению. Ибо Солнце не участвует
в движении по главному направлению — течению реки с юга на север.
Таким образом, для оседлого населения, которое почти ежедневно
пересекало реку поперек, т.е. с востока на запад или с запада на восток,
солнечная ладья была символом, неким соответствующим их опыту
отражением царского деяния их правителя, плывущего в ладье Гора. Это
превращение или отражение с изменением направлений на небе затронуло
даже мельчайшие детали.
Ладья Гора повсюду сталкивается с Сетом и вступает в
противоборство с его людьми и зверями. До начала разлива бог Сет в течение
четырех месяцев засухи является господином иссохшей земли и
млекопитающих, живущих на твердой почве. Таким образом, Гор вытесняет Сета
лишь на время разлива и его спада. Никогда только Сет или только Гор
не могли овладеть Египтом. Царица всегда должна была именоваться:
«та, которая видит Гора и Сета». Но как же тогда следует снаряжать
солнечную ладью в отличие от ладьи Гора? Культ очень легко решает этот
вопрос. Сет считается капитаном третьего ранга солнечной ладьи. Таким
образом, тот же самый Сет, которого изгоняет летящая на север вместе
с разливающимся потоком ладья Гора, становится героем, на солнечной
246
ладье одолевающим водяного дракона Апопа. Диалектика здесь
оказывается в высшей степени точной. Ибо Гор помогает царю добиться
победы в его борьбе против Сета. Но Солнцу помогает одержать победу Сет.
Добиться триумфа над Апопом Солнцу помогает именно Сет. На
основе движения Солнца в течение 365 дней года в эпоху правления V
династии удалось достичь того равновесия, к которому прежде тщетно
стремились, — равновесия между временем засухи в обеих землях, «Сетом»,
и благословенной порой обеих земель, «Гором». В течение
предшествующих столетий это напряжение между засухой и обводнением искало
себе выражения. Ибо мы, люди, говорим с богами, и Бог говорит в нас
самих лишь там, где всегда действует вечная жизнь. С другой стороны,
ничто и никто в видимом мире не бывает зримым всегда и везде. Таким
образом, всякий бог посредством невидимости взывает к нашей вере, а
посредством своей зримости — к нашему пониманию. Всякий бог
попеременно является видимой и невидимой силой. Для одного Эла среди
Элохимов это — минимум: ему должны быть присущи зримость и
незримость. Но частичные боги, боги грома или грозы, не идут дальше
временной доступности восприятию. Выявленные Узенером (101) «боги
случайных обстоятельств» характеризуются лишь неожиданными
чудесными свершениями. Ведь всякое чудо — это только уникальное
проявление закона природы. От такого неповторимого явления, «чуда», где,
вопреки Узенеру, имя бога, возможно, неуместно, вера египтян ведет
их к тому, кто временами отсутствует, временами присутствует, т.е. к
попеременно возвращающимся и попеременно удаляющимся богам.
Именно поэтому прообразами, воспринятыми у небес и земли, были
Гор и Сет. Они создали границы Египта, они сделали его постижимым.
Они определили его размеры, и благодаря им понимание вечно
возвращающейся, хотя и постоянно изменяющейся природы стало чем-то
непосредственно переживаемым, осуществимым и выступающим в
качестве образца.
Школы, придерживающиеся теории локальных богов и культа
Солнца, превратно истолковали многие надписи, запечатлевшие деяния Гора
и Сета, отнеся их к повествованию о неких исторических процессах. Над
этими «выдающимися просветителями» уже посмеивался пожилой
венский исследователь, великолепный Йозеф Краль (Krall). Если, согласно
одной из надписей, 363 года отводятся господству Сета, то сюда
мгновенно подставляют 363 года власти гиксосов. Между тем, речь шла лишь о
календарном годе, состоящем из 360 и 5 дней или из 360 и 5 лет,
поскольку третий день в этих дополнительных пяти днях принадлежал
Сету. Фараон Перибсен подверг испытанию письменность для того,
чтобы принять в расчет этот неизбежный дуализм бога засухи и бога
разлива: Перибсен поместил Сета рядом с Гором на письменном знаке для
обозначения дворца. И ты, и я можем испытать ощущения Перибсена.
Благословенный разлив, вызванный таянием снегов, никогда не может
всецело стать господином земли. Он приносит благословение, только
будучи преходящим. Вера, которая всегда должна властвовать без каких-
либо ограничений, здесь сталкивается с серьезным препятствием. Ибо
как вера устанавливает это царство царя пустыни, Сета, если размеры
этого царства уменьшились почти до нуля? Как она устанавливает пре-
247
дел подъему воды в Ниле, не нанося оскорбления божественной власти?
У того, кто попытается осмыслить ежедневное изменение пропорции
между землей и водой, этой опасной, никогда не остающейся статичной
пропорции, каждый день увеличивающейся или уменьшающейся по
сравнению со средней величиной, откроются глаза на роль двух земель
и на функцию Осириса и Исиды, находящихся между Гором и Сетом, в
структуре мышления обитателей долины. Каждый, отважившийся
проникнуть в прилегающую к Нилу землю, существовал в состоянии
неустойчивого равновесия между Гором и Сетом, между наступающим
половодьем и надвигающейся засухой. Он становился египтянином
благодаря тому, что целиком покорялся ритму этих изменений. И чем сильнее
он покорялся, тем больше он мог надеяться на скорое овладение этим
ритмом. Путь того, кому надлежит им овладеть, проходит сквозь
страсти — будь это страсти сердца, земли или неба. Для того чтобы овладеть
Гором и Сетом, как это делает царица, которая видит их обоих, фараон
должен был «привлечь» их к себе, «наряжаясь» ими. Без этого двойного
одеяния он не смог бы стать магнитом, притягивающим поселенцев.
Степень его силы притяжения определялась бы тогда степенью его
собственной убежденности в том, что он воздает должное обеим
крайностям, Гору и Сету, в их вечном возвращении и в их вечном чередовании.
Поэтому календарь, состоявший из трех времен года, — времени
разлива, времени посева и времени засухи, — стал величайшим
установлением, определявшим жизнь дома этой двойственности. Две земли — не
просто Верхний Египет и Дельта, а две территории, соотношение
площадей которых ежедневно менялось, при том что ни одна из них не могла
исчезнуть совсем, — беспрестанно росли и уменьшались. Два бога
наступали или отступали, и подданный был обязан повиноваться им обоим.
Фараон должен был существовать в качестве живого примера этого
вечно изменяющегося повиновения. Календарь стал чудом, ежедневно
совершаемым фараоном. Он, подобно Солнцу^и Луне, ежедневно жил
выпадающим на этот день «золотым сечением» засухи и воды. Это стало
участью всех царей. Вечность описывала над ними круги.
Признавая двойственное число «Гор и Сет», мы проникаем в
египетский культ (102). Напротив, у того, кто считает Сета одним богом, а
Гора — другим, Осириса — одним богом, а Ра — другим и т.д., нет ключа
к воротам храма. Целое всегда предшествует своим частям. Все
египетское письмо уже налицо в первый день благодаря Гору и Сету,
благодаря готовности правителя своею жизнью показать пример того, как они
преобразуются во времени, и сделать это так, чтобы никто из
подчинившихся этому примеру не пострадал. Ты можешь дополнительно
проверить это утверждение, представив себе, что произошло бы, если бы Гор
и Сет со своим календарем остались непонятыми. Я попытаюсь показать
тебе это. Китайский император перенес правила игры, принятые на
Ниле, на две великие реки. И он, подобно фараону, получил вследствие
этого повиновение на срок почти 3000 лет. Недаром плуг был его
отличительным знаком. Но некий дипломат красноречиво
засвидетельствовал для нас хрупкость этого царства: «Нив какой другой стране
страдания населения не приобретают такого апокалиптического размаха, как в
Китае. Наводнения и периоды голода следуют друг за другом с удручаю-
248
щей регулярностью, а отсутствие устойчивых путей сообщения делает
невозможной соответствующую помощь. Провинции размером с
европейские государства и с населением от 10 до 60 миллионов человек при
разливе великих рек оказываются под водой либо испепеляются
затяжными засухами. И тогда начинаются гражданские войны, которые
выступают всего лишь в качестве проявления крайне тяжелого
экономического положения. Сообщается о десяти, двадцати, пятидесяти миллионах
погибших. И тогда напрашивается вопрос: «Так ли это на самом деле?»
Но это именно так. Если и есть какая-то ошибка, то лишь потому, что
число жертв занижено. Патер Вигер (Wieger) называет это большим
кровопусканием в перенаселенной и плохо управляемой стране. Моя
голова поседела после того, как я проехал по китайской провинции, в
которой свирепствовал голод» (103). Сделай выводы из этой ужасной
картины, и ты поймешь, насколько греховным, насколько «неестественным»
было вовлечение бедуинов, кочевников в систему разделения труда на
Ниле. Египет — это земля со знаком «минус». «Разумные» люди за 3000
лет до Рождества Христова смеялись над самой идеей связать свою жизнь
с разливом и засухой. «It can't be done» (104). «Это полнейшая
бессмыслица, — кричали воины с накожными рунами. — Вы идете в хаос.
Крокодилы! Гиппопотамы!» И когда нанесение татуировок впервые
прекратилось, когда вера была соотнесена со звездами, воины племени пришли
в ярость. Воины, о преодолении сопротивления которых нам сообщают
шиферные палетки фараона, наверняка сетовали на утрату
национальной чести и кричали о богохульной отмене культа предков и о мировой
революции.
И на то были основания. Страдания, изображаемые Варэ и
терзавшие в Китае миллионы человек, имели место и в Древнем Египте. Один
современный экономист дает беглое описание того, чего бедуины не
могли ни понять, ни предвидеть: «In contrast to the nomadic peoples, the
cultivator commits himself to improvements fixed in a particular place.
Without such improvements human life must remain elementary and little
removed from that of animais. And how large a rôle hâve thèse fixtures played
in human history! It is they, the cleared and cultivated lands, the houses and
the other buildings, the means of communication, the multifarious plant
necessary for production, including industry and mining, ail the permanent
and immovable improvements that tie a human Community to the locality
where it is. They cannot be improvised, but must be built up gradually by
générations of patient effort, and the community cannot afford to sacrifice
them and start elsewhere. Hence that territorial character of sovereignty
which permeates our political conceptions» (105). Речь шла не только о
борьбе не на жизнь, а на смерть. Это был неустранимый разрыв со всем
предшествующим языком, всеми предшествующими духами. Из
черного возникло белое, из минуса — плюс. Тогда, за 3000 лет до Рождества
Христова, весь мир Передней Азии и Египта мучительно искал
решения той же задачи. Поэтому я не формулирую тебе эту задачу на
примере индейцев майя, китайцев, перуанцев или мексиканцев. Имеется
даже символ, проходящий по всему миру от оазиса Юпитера-Аммона
до Элама (106), который возвещает нам новые устремления, новую
веру, вечное возвращение вместо духов войны.
249
Сообща пережитое чудо, случившееся в 3000 г. до Рождества Христова
с пастушьими и занятыми мотыжным земледелием племенами,
наносящими руны на свою кожу, было, так сказать, благословением проклятия,
а именно, безопасностью в половодье, овладением прежде недоступной
областью природы. На Тигре, Евфрате и Ниле было нарушено табу
ежегодного разлива, вынуждавшего племя отступать перед ним.
Неожиданно обнаружилось, что к чудовищным силам, во много раз
превосходящим силы современных машин с двигателями мощностью в сотни
лошадиных сил, можно приспособиться.
Как и в наши дни, вызывали ужас испепеляющая засуха и
смывающий все разлив, но во всем пространстве «территориальных царств» в
силе было одно и то же решение, одна и та же разгадка сокрытой
мировой тайны: так благословить два наводящих страх чудовища, чтобы они
сплелись и неразрывно соединились друг с другом. Союз огня и воды в
кузнечном горне понятен даже нам. Укрощение чудовищ засухи и
половодья нам не столь близко. Таким образом, ты должна приложить усилия
для того, чтобы остудить страсти ревущего, вопящего, спасающегося
бегством полчища и воздать должное календарю жрецов, вычисляющих
периоды половодья и засухи. Я поставил вопрос таким образом: «Как
можно было высвободить силы звездочетов для неустанного, непрерывного,
усидчивого наблюдения неба и земли в течение четырехсот, пятисот лет,
тысячелетия?» (107).
Ибо то, что дошло до нас от астрономии древности, — это отнюдь не
идеи отдельных мудрецов. Необходимо было изо дня в день делать
записи. Они принесли свои плоды лишь после столетий кропотливых
наблюдений. Сначала небо представало чем-то лишь приблизительно
изученным, а земля отличалась разнообразием. Но писцы, сидя на своем
месте изо дня в день, а точнее, из ночи в ночь, отважились с
пониманием вмешаться в чередование засухи и половодья и, пристально
рассматривая и то, и другое, изучить связь между ними и даже положить
ее в основу никогда прежде не бывавшего устроения жизни. Таким
образом, руководствоваться надлежало не половодьем или засухой. Тот,
кто стремился превратить проклятье в благословение, должен был
руководствоваться законом возвращения в процессе чередования. Первой
догмой всех обитателей земель, лежащих в долинах рек, было вечное
возвращение, смена засухи половодьем. Ежегодные праздники,
юбилеи, Хебсед (106), Великий год, разделение года на три времени года по
120 дней в каждом с дополнительными пятью днями Нового года,
которые до сих пор продолжают жить и у нас в промежутке между 24
февраля и 1 марта, — все это коренится в открытии мирового порядка,
который можно использовать, так как он представляет собой возвращение
в процессе чередования. Новым условием наступления этого мирового
порядка и его использования, — условием, неведомым охотникам и
пастухам, — было беспрестанное, никогда не прекращающееся
наблюдение. Таким образом, сначала оседлыми стали звездочеты, и лишь потом
крестьяне. Иероглифы «миллионы лет» и «вечность» появляются с
первого же мгновения этого процесса. Ибо эти понятия предоставляли
новые границы, внутри которых отдельно взятое половодье или засуха
нынешнего года уже не вызывало ужаса.
250
В Месопотамии и на шиферных пластинках для растирания
косметики, появившихся на Ниле, это установление отношений с чудовищами,
совладать с которыми раньше никогда не удавалось, выражается одним
и тем же исполненным фантазии знаком: человек невозмутимо стоит
между двух чудовищ и либо принуждает их смотреть друг на друга
миролюбиво, железной хваткой держа их обоих за шеи, либо даже переплетает
их длинные шеи друг с другом. Обстоятельства, при которых были
найдены эти изображения, позволяют предположить, что данный символ
был изобретен в Месопотамии и был затем подхвачен Египтом. Высший
расцвет многих великих изобретений часто происходит не в той стране,
где жил изобретатель. Расцвет буддизма произошел не в Индии. Общее
грандиозное впечатление было переработано в новом образе. Особенно
важно для тебя в Каире осознать, что представление о двойственном
числе чудовищ, которые должны вечно взаимодействовать друг с другом и
которые, тем самым, перестают быть ужасными, питало всю древность
вплоть до легенды о Ромуле и Реме. Но прежде всего это двойственное
число создало и определило письменную речь Египта. Гор и Сет — это
способ выражения такого дуализма, толкование которого я тебе уже дал.
Но мы имеем и письменное доказательство этого. В середине пути от
Асуана до Мемфиса, почти точно в центре Верхнего Египта,
расположено главное святилище Хатор, Гора и Сета. Этот храм, одновременно
бывший главным городом нома, у греков назывался Кузами (по-египетски
он именовался Кус). Поговорим о нем. Так вот, в этом храме символ,
предположительно проникший из Месопотамии, включен в герб города.
Я должен выразиться точнее: имя «Кус» записывается иероглифом с
изображением человека, который склоняет шеи двух чудовищ друг к
другу. Знак является настолько старым, что его писали без каких-либо
добавлений. Ни один египтолог не сомневается в том, что письмена Куз
восходят к первой эпохе «территориального царства». Здесь мы видим,
как двойственное число, которое доставляет нам столько хлопот,
начинает свое победное шествие в области древнего мышления. Тот, кто с
помощью пространства хочет выразить время, сталкивается с серьезными
трудностями. Древний символ сплетает между собой двух чудовищ. Но
следует постоянно помнить и о Горе, и о Сете, хотя во времени они
сменяют друг друга. Следствием этого было мнение исследователей,
согласно которому здесь изображено примирение двух противников и
заключение мирного договора. Выбор символа для обозначения центра
страны, огромное святилище Хатор-Исиды, Гора и Сета опровергает это
рассудочное объяснение. Именно потому, что оно рассудочно, оно не
является разумным. Рассудок порабощен пространством. Он видит то, что
есть. Но подразумевать, удерживать в памяти нечто такое, чего в данный
момент нет, т.е. в Рождество — самые долгие дни лета, в новое время —
древность, может только разум. Ибо он собирает и накапливает то, что
исключено из пространства. 2 плюс 2 для рассудка равно 4. Для него А
также равняется А. Первое, что должен выучить ребенок для того, чтобы
стать разумным, — это то, что оба эти суждения справедливы только
относительно мертвых вещей в пространстве, поскольку они окружают нас
одновременно. Тогда эти суждения самоочевидны. Для живых времен и
для живых существ оба эти триумфальные достижения логики являются
251
глупыми и вредными. В политике возникает невообразимая путаница
всякий раз, как идеалисты осмеливаются перенести оба эти суждения о
вещах на живые души. Письменность фараона начинается с победы
разума: ничто не является лишь тем, чем оно представляется в данное
мгновение. Все письмо построено вокруг этого. Поэтому сказочные
животные на палетке фараона Нармера и в письменном знаке для
обозначения центра страны, Куз, никогда не исчезали. Хороший вкус лишь
приблизил их к повседневной действительности. Ведь в
действительности нельзя связать узлом шеи живых чудовищ. Это продолжает вызывать
ужас. Символ высвечивает первоначальную великолепную отвагу.
Но когда победа над половодьем стала чем-то привычным, чудовищ
стало возможным заменить прекрасным знаком «сема». На цоколе
трона каждого фараона в течение 3000 лет высекали знак «сема»; боги
страны сплетают на нем лотос и папирус, чтобы фараон мог стать живым
голосом эонического «территориального царства». Так говорят о нем
древние тексты. Голос эонического «территориального царства» — это
голос, вписывающий в простое мгновение бытия вещей божественный
смысл вечного возвращения. Благодаря этому пишущему голосу мир
превращается в дом богов, понятый как место, где ведется
оживленнейшая беседа. Таким образом, мир воспринимается только в состоянии
беседы, — или, как напыщенно выражают это нынешние теологи, в
состоянии «диалога». Именно открытие письма призвано описать мир как
«диван», как общество богов, ведущих между собой беседу. Эта
могущественная сила письма могла быть освобождена не ради повседневных
событий: начинался новый «день», новый эон. Только идиоты могут
считать день библейской истории творения состоящим из 24 часов. Фараон
и Моисей спорят из-за эонов. Это стоит того. Поэтому письменный знак
для обозначения эона открывает новую ступень нашей истории, ступень,
впервые применившую к долине, периодически заливаемой
половодьями, вечный закон творения: «Последние станут первыми». Бесплодный
камень, который останавливавшиеся в оазисах кочевники отбрасывали
прочь, отныне станет описывать великолепие постоянного возвращения.
Ведь Ветхий завет отмеривает тысячелетия нашей истории как
мгновения. Поэтому с библейской точки зрения ежегодное освоение
орошенных разливом долин воспроизводится только в виде короткой истории
Ноя. Ты уже читала об этом в моей книге «Полнота времен». Но это
величественное благословение правителю, не падающему духом перед
лицом потопа, пусть будет еще раз со всей определенностью высказано по
отношению к фараону: «Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод
и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся» (Быт. 8:22).
Здесь область Гора и Сета признана очищенной от характерной для
Египта власти случая и увековечена. То, что удалось сделать Пифагору
благодаря его «азбучному подходу» в области мышления применительно
к прямоугольному треугольнику, сторонами которого были Осирис,
Исида и Гор, удалось совершить Библии по отношению к Гору, Хатор и
Сету, по отношению к переплетению гигантских противоречий в
природе любой части и любого мгновения мира.
Итак, мы возвращаемся от образа Ноя к фараону — точно так же, как
от Пифагора мы перешли к Гору. Ибо мы сможем воздать должное на-
252
шим предшественникам лишь тогда, когда застанем их испытывающими
ту же нужду, которая мучает и нас самих. Безысходная нужда, та нужда,
которая составляет эпоху, поскольку она впервые вызывает к жизни
необходимое, — ее не вывести из ретроспективного взгляда на Пифагора или
из рассказа о Ное. Пифагор и Ной являются чем-то окончательным, они
выражают все в общей и завершенной форме. Но в Кузах чудовища
должны ежегодно превращаться из катастроф в неизбежный поворот судьбы,
словно это происходит в первый раз. По моим подсчетам, двойственное
число теснящих, но никогда не вытесняющих друг друга чудовищ
встречается на шиферных пластинках для растирания косметики,
принадлежащих трем древнейшим фараонам, четырнадцать раз (109). На самой
значительной из них, палетке фараона Нармера, богиня, сожительствующая
с обоими, и Гором, и Сетом, и видящая их обоих, — Хатор, богиня
скотоводства, — два раза изображена в виде находящейся на небе женщины
с рогами. Но внизу, на земле, ее возлюбленный, бог-сокол Гор,
захватывает в плен своих земных врагов. Здесь мы видим образец новых
уранографии и географии, соответствующих первой форме письма нашего рода.
Скот, тяжело ступающий по земле, в течение всего года получающий корм
от своих хозяев, проецируется на небо, а воздушный корабль, сокол,
перемещается на землю. Эта парадоксальная перемена мест составляет тайну
языка иероглифов, а точнее, выражает собой принцип их написания. Но
нам этот парадокс дает ключ к их разгадке. Боги являются богами лишь
потому, что они делают больше того, что мы ожидаем от тварных существ.
Животные, относящиеся к богине, богине-корове, переживают в зарослях
тростника в болотистой Дельте и время Сета, и время Гора. Так что
позже Хатор-Исида была чудесным образом изображена в виде коровы в
зарослях Дельты. Но уже при фараоне Нармере она предстает в облике
небесного дома и бедра быка Сета, который должен воплощать животное
времени засухи, т.е. ту силу, которая хотя и уходит от половодья на север,
но никогда не исчезает полностью. Эту загадку на небе, это бедро быка, в
небесной области северных околополярных звезд опережает бог времени
разлива: он поражает бедро копьем! На земле Гор никогда не может
победить окончательно. Позднейшие мифы севера еще воспроизводят это
метание копья. Ибо разлив должен заканчиваться для того, чтобы он мог
возвратиться. Так звезды северного полюса, остающиеся видимыми в течение
всего года, получают имя «звезд, которые никогда не заходят». Тем самым
они становятся следующим средством выражения на небесах вечного
двойственного числа на земле, и устремляющийся от Сиены к северу Гор
бросает в них свое копье. Тем самым он подтверждает как свою силу,
превосходящую силу звезд и позволяющую ему распространить свою власть
на Север, так и свои притязания на верховное господство. Св. Августин
назвал наднебесным, supercaelestis, и нашего Бога. Мнимо допотопные
обитатели долины Нила познали сына бога — Гора — как supercaelestis, а
Солнце и Луна были лишь его глазами. Таким образом, небесные
светила повиновались ему. Небо и земля подчинены каждому человеку,
одухотворенному верой.
На палетке фараона Нармера приведена вся первоначальная запись
основного закона царства: шеи двух сказочных животных переплетены в
качестве прообраза двух растений, как позже они будут соединены в зна-
253
ке «сема» на троне. Правитель выступает как бык и как сокол. Его богиня
предстает как возлюбленная двоих — Гора и Сета на небе. И здесь уже
запечатлен один важный для нас, поклонников письма, изначальный
новый рунический знак: цветку с семью лепестками богини письменности
Сешат (110) отводится такая важная роль, что этот знак присутствует на
обеих сторонах палетки — как знаки Хатор, Гора и фараона. В своем
двойном изображении она становится главной статьей основного
закона. Ибо тем самым осознается новый рубеж, новый уровень бытия:
пишущий и читающий вступают в единое «настоящее» надписей, оставляя
позади себя культ предков и власть пары глаз, которые, глядя с
тотемного столба, указывали кочевникам их место в ряду потомков и
закрепляли его выжиганием знаков на коже. Перешагнувший порог мира
надписей цезаропапа и тысяча его помощников знали, что с ними происходит.
Это доказывается тем, что само чудо письма было увековечено: оно было
высечено на первом памятнике, использовавшем это чудо. Такое
самосознание человеческого духа можно встретить только в редчайшие
мгновения истории. Но египетская история представляется мне мерилом,
таким, как Реформация или Французская революция, поскольку
необходимое средство для ведения беседы с возвращающейся вечностью было
найдено и осмыслено выявлено и понято теми, кто его использовал и
восторгался им. Дважды повторенный знак для обозначения искусства
письма на палетке фараона Нармера подобен огромному
восклицательному знаку «фортиссимо»: «Смотрите, что мы делаем: мы пишем!»
Я должен это особенно подчеркнуть, поскольку этим объясняется
основная египетская догма. Египтяне объединяют письмо и строительство.
Тот, кто пишет, строит, а тот, кто строит, пишет. Храм — это вписанная
в мировое пространство часть мира. Поскольку эллины не исписывали
свои храмы, уже нельзя сказать, что ощущение взаимосвязи
строительства и письма у нас в крови. Храмы Греции отделены от подлинной
природы. В силу природы письма при всяком изгибе линий фасада храма
была необходима богиня письма. Храм подчиняется закону неба и
земли потому, что он исписан. Для того чтобы запечатлеть этот уранографи-
ческий характер в самом иероглифе, обозначающем «Сешат»,
представлявшая ее чашечка цветка была очень скоро «уранизирована». Эти два
возносящихся вверх рога Сешат были заимствованы у иероглифа
богини Хатор с обоими ее изогнутыми рогами. Но когда их отделили от нее,
эти рога были направлены вниз, и в качестве спустившейся таким
образом на землю Хатор появляется Сешат: чашечка цветка с семью
лепестками и двумя наклоненными вниз коровьими рогами. Снова
подтверждается то, что боги для египтянина никогда не были вещами. Ибо они
вполне обоснованно сбивали его с толку, представая в виде смешения
сегодня невидимого, а завтра — видимого, сегодня небесного, а завтра —
земного. Но мы, пишущие, становимся причастны божественному роду
в той мере, в какой умеем правильно вписывать «вчера» и «сегодня»
богов в наше «послезавтра». Благодаря фараону Нармеру друзья могут
понимать друг друга в качестве возвращающихся. Так об этом и говорится
в конце «Диотимы» Гёльдерлина.
Твой возвращающийся Ойген
254
Восьмое письмо в Каир
Джед, или О постоянстве
Дорогая Синтия!
На примере следующего письменного знака я хотел бы настолько
близко познакомить тебя с тем, что ныне безо всякого смысла именуется
«мифом», чтобы ты получила прививку против использования самого
этого сделавшегося непригодным термина «миф». Когда в погребальных
текстах следующая строфа должна была успокоить умершего и убедить
его в том, что существование продолжается, что он не умолкнет и не
попадет под власть ужасного безмолвия смерти, то изречение начиналось
не с короткого предложения «Он говорит», а с предложения «Он
продолжает говорить», «Он говорит постоянно» (Erman-Grapow. V, 629). Но
знаком для обозначения этого «продолжает» или «постоянно» является
столб, верхнюю часть которого окаймляют четыре уступа. Это — столб
Джед. «Джед», «тет» означало «постоянный», «устойчивый»,
«продолжительный». Это слово «Dhet» и ныне используется в качестве названия
долго не портящегося печенья. В Берлине на Мауэрштрассе был
магазин, на фасаде которого меня — тогда еще мальчика — удивлял
многократно изображенный древний знак. Этому столбу Джед я и посвящаю
свое письмо.
На этом столбе запечатлены четыре ребра Осириса. Но то, что у
человека отнюдь не четыре ребра, не оставалось неизвестным. Столб стал
игрушкой для ученых толкований. Однако в рамках возвращения в
процессе чередования он является красноречивым свидетельством
охватившей весь мир веры, которой мы также обязаны победителям наводнения.
Вплоть до 1874 г. под Каиром ежегодно исполняли обряд,
существовавший более 4000 и, возможно, даже более 5000 лет. Когда разлив,
вызванный 19 июля в Асуане слезами Исиды, через три недели достигал
Каира, уровень воды в последующие два месяца постоянно повышался. В
это время весь Египет затаивал дыхание. Ведь слишком низкий уровень
воды обозначал бы, как и тощая корова во сне, описанном в Библии
(111), пришествие голода. Местные жители говорили при этом о
голодном годе, поскольку именно год был системой координат их
политического существования. Но и слишком высокий уровень воды мог также
причинить вред. Так определенные нижняя и верхняя границы уровня
воды стали приметами, обещавшими ту или иную «погоду»
политического существования. Таким образом, нужда или благосостояние, но также
проклятие и оправдание фараона, вызванные божественными тайнами,
зависели от уровня воды в данном году.
Поэтому измеритель уровня воды в Ниле был для всей страны так же
важен, как биржевой курс в XIX в. Столб Джед с его четырьмя
кольцами, ребрами или ответвлениями воздвигался ежегодно, и в момент
спада воды его бросали в поток в качестве дани вечности и постоянству —
дани, которую, преисполнившись веры, должен был платить и
нынешний, текущий год. Но что означает число четыре? Тот, кто измеряет
уровень воды, может производить измерения снизу вверх или сверху вниз.
255
Но лучше всего было нанести отметки, соответствующие обычному для
этой земли верхнему и нижнему уровням, и затем на основе
сопоставления высоты разлива с минимумом и максимумом вычислить
среднегодовой уровень. У нас есть два столба Джед, относящиеся к эпохе I
династии и изготовленные из слоновой кости (112). Таким образом, они были
культовыми копиями столба, длина которого превышает человеческий
рост и который можно было поднять только с помощью веревок после
того, как заканчивалось оплакивание старого Осириса. Таким образом,
он стоял на земле, заново созданной последним разливом. Похоже, что
столб Джед оставался стоять со дня разрыхления земли в октябре до тех
пор, пока новое половодье в разгар следующего лета не опрокидывало и
не смывало его. Имеющиеся в нашем распоряжении результаты
исследований не дают на это четкого ответа. Во всяком случае, твердо
установлено, что фараон-Гор (или принц в роли Гора) и жрец в качестве
писца богов, бога Тота, подходили к столбу и обвязывали его узлом
жизни. Этот знаменитый узел-анх гарантировал участникам
богослужения и «территориальному царству», что и этому году будет дарована
жизнь внутри эона. Ты осознаешь смысл слова «анх», если поймешь, что
«пр-анх», «дом жизни», служил для передачи на письме скриптория и
книгохранилища.
Для того чтобы столб, помещенный в вечную жизнь, мог быть снова
снесен водой, он устанавливался без закрепления. Имевший четыре
подпорки столб украшался зеленой веткой дерева, «пекер» (113), для того
чтобы обозначить оживание Осириса, и это делалось уже в эпоху I
династии. Но четыре поперечные балки, служившие подпорками,
свидетельствовали о выдающейся проницательности бога Птаха — мастера,
соорудившего этот столб. Ибо столб выходил из рук Птаха, и мудрость Птаха
создала практику измерения уровня воды в Ниле сначала у Мемфиса, а
затем и по всему Египту. Ибо этот уровень должен быть известен для
того, чтобы можно было повелеть открыть шлюзы, пропускающие воду
в каналы. Почти до первой мировой войны-шейх сохранил у «ниломера»
возле Каира доарабскую систему мер. Она была ориентирована на 16
локтей. Если он объявлял именно число 16, то жизнь, годовой бюджет
«территориального царства» были гарантированы. В соответствии с этим,
на сохранившихся «ниломерах» узел жизни завязывался на отметке 16.
Почему же тогда на столбе Джед имеются четыре уступа? Дело в том, что
лишь последние четыре локтя с 13 по 16 решали судьбу года. А число 12
означало, грубо говоря, «из рук вон плохо». Число 12 означало голод, а
ниже 12 отсчет вообще не велся, ниже этой отметки все было
одинаково плохо. А выше 16 находилось нечто непредвиденное. Таким образом,
«территориальное царство» беспокоилось лишь о том, что произойдет
между 12-й и 16-й отметками. Поэтому эти последние четыре «верхних
локтя» стали приметой столба Джед, а позднее — бога Аммона в
прекрасном иероглифе, где две руки богов высоко поднимают четыре
локтя, а над ними стоит вода (114). На «ниломере» самые низкие шесть
локтей не разделялись на отдельные локти. Затем шли следующие шесть
локтей, 7-12, которые графически уже разделялись, но не
контролировались. Затем шли решающие четыре отметки. Поэтому на Палермском
камне 13 колен обозначены как 1, 14 — как 2, 15 — как 3, а 16 — как 4.
256
Всякое письмо в Египте было связано как со строительством, так и с
измерением. Люди вписывают себя в вечность времени и с помощью
строительства включают себя в пространственную вечность. Летопись
древнего царства велась для того, чтобы иметь возможность вписать
каждый отдельный разлив Нила в исторически определенный год. Между
тем, годы правления мифических государей, предшествовавших Менесу,
не сопровождаются указанием на число локтей. Следовательно, они
являются простой проекцией в предысторию из истории. Значит, их
никогда не было. Таким образом, исторические заметки Палермского камня
начинаются в мгновение, когда ежегодно стал измеряться и
записываться уровень воды в Ниле. Это — прекрасное подтверждение тому, что
появившееся, как по волшебству, «царство» ежегодно создавало культ и
господство по эту сторону всего «астрального» именно благодаря вере в
Гора. Если мы вычислим средний уровень воды в Ниле на основе
дошедших до нас 32 результатов измерений в период правления первых
пяти династий, то он будет равен 3,9 локтя. Впрочем, еще в 1874 г. от
Рождества Христова шейх в Каире приказал открыть плотины при
уровне воды 3,9 локтя. Ибо отметка 4 все еще соответствовала полному
уровню 16 единиц — т.е. идеалу.
Как только был назначен писец, измерявший уровень воды в Ниле,
как только был сооружен первый столб Джед, оплакан первый труп
Осириса, последовательность поколений смертных людей отошла на
задний план, а на первом плане оказалась последовательность разливов.
Поскольку годы этой череды разливов соединялись друг с другом
подобно звеньям цепи, от счета по поколениям, от наглядного счета
можно было отказаться, и скачкообразное движение от одной ступени к
другой в ряду поколений и степеней родства могло уступить место счету
по пятилетиям, десятилетиям, тридцатилетиям, стодвадцатилетиям,
тристашестидесятилетиям. Не люди, не звезды, а разливы определили
круговой характер каждого отдельного года в цепи новой вечности. Так
что и правители в течение долгого времени считали не иначе, как от
разлива до разлива. Ведь связанный со столбом Джед ритуал
относился не к отдельному году, а соединял два года внутри зона. Тот, кто
внимательно присмотрится к сооружению столба Джед и к тому, как его
бросают в поток, поймет также беспрестанное появление из вод Сета.
Это был процесс, который должен был измеряться целиком от самого
низкого уровня воды до самого высокого и вновь к самому низкому —
и так до бесконечности (115).
Плиний сообщает, что разница между самым высоким и самым
низким уровнем воды составляла четыре локтя. Налоги платили, когда вода
достигала отметок, соответствующих 16, 15, 14 и 13 локтям. Но не 12! 16
локтей означали изобилие, 15 — беззаботность, 14 — довольство, 13 —
нужду, 12 — голод.
Веревка, с помощью которой поднимался столб Джед, получила имя
«Сет связан». Какое глубокомысленное имя! Здесь проявляется тот
дуализм Гора и Сета, который делает возможным «территориальное
царство». Я предостерегаю тебя от Кееса (Kees) (116), который объявляет
столб Джед, как и все на Ниле, локальным фетишем Мемфиса,
используемым этим городом против фетиша Бусириса. В этом проявляется ду-
9 Зак. 3524
257
шевная грубость атеистов. Для картезианцев Кееса, Рейснера, Зете
(Sethe), Эрмана существовало только целое мировое пространство, с
одной стороны, а с другой — локальные пункты. Так что ни один
картезианец не может испытать благоговения перед тем достижением, в
результате которого из огромного универсума и безразличных пунктов
было создано нечто промежуточное. Благодаря этому в ритуале,
связанном со столбом Джед, все пространство от Сиены до Библа обрело
общую судьбу. Посредством культа над этим пространством была создана
объемлющая его вечность, т.е. совместное время. Вследствие этого все
события могли происходить внутри этого совместного времени в одном
и том же пространстве и соотноситься друг с другом. Чем свободнее
самое древнее во временном отношении может сообщаться с самым
отдаленным будущим, тем меньше мы зависим от случайности. Чистые
ученые об этом не знают. И поскольку они вместо атеизма поднимают как
можно выше и примеривают, словно налобную повязку, это ложное
ключевое словосочетание — «чистая наука», — они не пойманы с
поличным. Со своими идеями они, однако, вращаются в замкнутом круге,
поскольку не двигаются в направлении к божественной истине, а к ней
причастиы только «не чистые» мыслители. Это люди, которые не
боятся пережить потрясение, как Нармер, Хефрен, Эхнатон или Моисей, и
осознают себя вовлеченными в порывы жизни вместо того, чтобы в
отталкивающем и безумном высокомерии превратить этих своих предтеч в
объект своего исследования и в предмет науки, тем самым лишая их
души. .
Эти атеисты называют столб Джед мифом. Надеюсь, я показал тебе,
что только безучастные люди могут попусту болтать об этом. Но мы, ты и
я, не можем себе этого позволить. Ибо где бы мы были без Ноя и без
одного из первых потомков Ноя, без первого основателя
«территориального царства» среди половодья, без фараона? Благодаря нашей
причастности нам не подходит выражение «миф». Столб Джед свидетельствует о
причастности к общей судьбе. В книге «Полнота времен» я дал
дефиницию того, что, во всяком случае, может быть названо мифом без
оскорбления наших предков. Поскольку границы страны и границы мира не
совпадают, происходящее на Ниле зависит от многих событий, развитием
которых нельзя руководить из Мемфиса ни при помощи столба Джед, ни
при помощи строительства храмов. Например, фараон ежегодно плыл на
север в парадной ладье Гора. Это было литургией «территориального
царства», как «The King's progress or the Emperor's Adventures» (117), его
«advent» (118). Но как Гор возвращался, как случалось, что он, дойдя до
Библа, в следующем году снова оказывался у первого порога? Конечно
же, об этом нам рассказывает миф, как он опубликован Генрихом Бруг-
шем. Для этого было придумано обратное путешествие через Красное
море. Поэтому я — вопреки Бультману — буду использовать «миф» в
качестве технического выражения там, где литургия должна быть
дополнена повествованием. Без этого сцепления литургии и мифа слово «миф»
будет надменным осуждением сразу и культа, и мифа, а потому оно
станет и непригодным, и недействительным.
Таким образом, мы — ты и я — должны отобрать столб Джед у
атеистов. Он является не мифическим предметом, а литургическим актом мо-
258
литвы: ведь в нем были соединены благословение и проклятие. В
папирусе «Весткар» некий мудрец, имя которого записывается с помощью
столба Джед, т.е. выступающий от имени столба и носящий имя Дедей,
предвещает фараону Хеопсу рождение трех детей, с которых начнется V
династия. И Дедей сообщает Хеопсу название этого «Вифлеема». Теперь
царь должен спешить туда, но его одолевают раздумья об уровне воды.
Дедей в ответ на это обещает ему «воду в четыре локтя» (119). Ведь
четыре локтя вошли в поговорку. Просмотри фрагмент каирских
летописей N 44859 (120) и прочитай там об уровне воды в Ниле. Из
одиннадцати лет восемь имели уровень четыре локтя или чуть больше, ни один
не имел пять или больше, три имели три локтя и еще немного.
Показатели уровня воды в Ниле, будучи увековечены, стали новой таблицей
предков (121). Я уже пытался приобщить тебя к постижению
долговечности письменности фараона. В течение столетий люди
довольствовались случайными положениями 36 созвездий на небе, которые весь год
замещали собой Сопдет и благодаря утреннему сиянию которых
вечность годового круговорота могла ежедневно, даже в отсутствие
Сириуса, поддерживать человеческие души. Эти деканы, как они архаически
назывались с незапамятных времен, лишь приблизительно сменялись
каждые десять дней. Ибо тогда люди, как, скажем, астрономы эпохи
Камбиса (122), были еще очень далеки от того, чтобы иметь
возможность каждый день сверяться с астрономическими таблицами и т.д.
Современная публика не в состоянии с пониманием отнестись к этому
процессу, в ходе которого из правильно осмысленной случайности
выкристаллизовывались мельчайшие детали. Но если тебя увлечет присущая
основателям «территориального царства» глубокая уверенность в том, что
уже с первым их словом они приобщаются к постоянному потоку
истины, то тебя поразит то великолепное единство, благодаря которому в
чередовании половодья и засухи, т.е. благодаря превращению знака Ха-
тор в место пребывания, в Исиду, заключенный внутри дома Гор
сменяется Осирисом в качестве бога этого неслыханного доселе дома,
воплощающего собою единство. С тотемного столба безжизненные глаза,
глаза умерших, взирали на живых, определяя их жизнь. Но око Гора
преображает мир. «Живой Гор», «живой голос Египта», «прекраснейший
член семьи богов, пребывающих в беседе», «бык своей матери» — все это
цитаты из его титулатуры, и присущее этим должностям возвышенное
чувство подчинило страну разлива этому новому писцу урано- и
географии, и подчинило ее ему в качестве Осириса. «Тот, кто создает место
пребывания», «тот, кто вызывает к жизни место пребывания» — таков
буквальный смысл иероглифа «Осирис». Осирис — это литургический
бог. Не может называться христианином тот, кто не способен сказать:
«Христос воистину воскрес», — и я спрашиваю себя, кто из так
называемых христиан может сегодня на Пасху воскликнуть это? Так же и
Осирис потому является отцом Гора, что сын, его невеста и мать Хатор-
Исида вызывают его к жизни. Хатор в качестве связанной с Гором, Иси-
да в качестве пробуждающей Осириса, — эта богиня включает
смертного правителя в бессмертное «территориальное царство». Здесь я без
особой охоты напоминаю тебе, свободной американке, об имперском
романтизме европейцев. Но я все же, по-видимому, должен это сделать.
259
Ибо тем самым пусть для тебя станет достоверным то, что Гор сделался
создателем своего отца, чтобы можно было уничтожить и искоренить
превосходящие силы духов племени. В Египте, как подчеркивает Алан
С. Гардинер, мертвые боятся живых. Таким образом, настоящее
одержало победу над обычаем и традицией. Поскольку отдельному дню стал
доступен круговорот в году и в зоне, бабочка-однодневка человек больше
не испытывал страха перед смертью и перед духами предков. Лишь
после этого моего письма ты с достаточной серьезностью сможешь
осмыслить разрыв с накожными рунами. Мертвые записывали на коже свое
право на отмщение. Небо и земля записывали на камне свои законы.
Египтология вот уже столетия переводит титул Гора как «мститель
своего отца Осириса». Теперь она от этого отказалась. Я бы не хотел
рассказывать тебе об этом споре подробно (123). По сути дела, око Гора,
конечно же, является диалектическим снятием, отвержением глаз предков
на столбе предков. И по сути дела Гор, конечно же, мог называться
мстителем своего отца, карающим за него Сета, — точно так же, как в
племени сын-наследник совершал возмездие во имя своего отца. Но
преобразование основного закона выражалось резче с помощью действительного
имени. Ибо служение Гора — это служение родителей детям: его титул
означает, что Гор так заботится о своем отце Осирисе, как опекун
Осириса! А это, конечно же, было тотальной революцией. Ибо если отец
всем был обязан сыну, то это поставило предшествующий мир на голову.
Ты легко освоишься с этой антитезой и диалектикой, если тебя не
будут смущать слова «сын» и «отец» — точно так же, как и то, что
Осирис, по-видимому, — старик, а Гор — юноша. Литургическое создание
Осириса было продиктовано жесткой необходимостью вырвать фараона,
смертного человека, из последовательной смены поколений и
перенести его в круговороты неба и земли. Осирис имеет отношение к
календарю года и тысячелетий. Мы, люди, сообразуем нашу жизнь с календарем
наших возрастов и поколений. Мы обманываем самих себя, ставя свою
отдельную жизнь в зависимость от выбора^благоприятных дней и
нагромождения лет, в течение которых мы трудились и которые дают нам
право на получение пенсии. Ибо ни наша смерть, ни наша жизнь не
зависят от календаря-еженедельника. Моцарт, Шуберт, Вальтер
Флекс (124) и Гёльдерлин, разница в возрасте между Шиллером,
которого смерть унесла в 46 лет, и Гёте, прожившим 83 года, предостерегают
против этого. Но разве мы не можем говорить вместе «Гёте и Шиллер»
лишь потому, что один умер слишком рано, а другой — слишком
поздно? Это было бы богохульством. Наши души, духи наших предков и
наших потомков насмехаются над астрологией. Но Гор перешел на это
скрытое от нас, свободных душ, мировое колесо вечного возвращения
для того, чтобы учредить «территориальное царство», для того, чтобы
спасти благородную часть творения. В качестве служителя мира Гор
поставил на место своего отца по плоти календарного отца — Осириса.
Творческий, свободный сын бога Гор должен заботиться об этом
запертом в темнице годовых периодов календарном отце так же, как некогда
отцы племени заботились о своих сыновьях. Ибо он — отец,
учреждаемый письменностью, строительством, измерениями; отец, вызываемый
к жизни половодьем. Сын по крови — это вождь, король. В Египте сы-
260
новство правителя почти полностью замалчивается. Он — царь и папа.
Ибо ему ведь надлежит править потому, что он в состоянии
провозгласить и назначить календарного отца.
Древние «территориальные царства» — Китай, ацтеки, майя, даже
Камбоджа и Япония — в противоположность племенному культу
предков были чистым настоящим, очищенным отдухов умерших предков. И
почитание предков, и вечность «территориального царства» в наши дни
почти не принимаются всерьез. Поэтому даже мудрые исследователи
вопреки имеющимся данным источников смешивают основные
принципы существования и того, и другого. Путешествие Гора ежегодно
создавало Осириса, вызванного к жизни Исидой и воплощавшего в себе
объединенный Египет Гора и Сета. Осирис находится в непримиримом
противоречии с любым телесным происхождением и наследованием. Ради
нового космического календарного года Гор отказывается от культа,
основанного на представлении о нем как сыне по плоти. Поэтому фараон,
взойдя на престол, строит свою собственную гробницу, а не гробницу
своего отца. Ибо на каждой из стен его собственной гробницы
фигурирует Осирис как отец календарного года, а вовсе не его отец по плоти.
Физический правитель Египта выбирал себе приемного
географически-астрологического отца, Осириса, и тем самым он сам обретал одно
недоступное простым смертным качество — качество мирового бога,
вовлеченного в вечное возвращение эонов (ты и я должны были бы в
наши дни сказать «гражданина мира»). Распутать клубок веры фараонов
позволяет следующее суждение: если смертный вождь племени
становится членом дома богов, то его жизненный путь должен исчезнуть и
смениться круговоротом мира. Ты сразу же вспомнишь о том, что деяния
миродержца в его круговороте вместе с небесными светилами и
временами года не может прервать никакое возмужание, никакая инициация,
и поэтому грудной ребенок, мужчина и мертвый в его свитке небесного
календаря ничем не отличаются друг от друга. Жизнь до возникновения
любви и жизнь после смерти, если бы она развивалась согласно
письменам вечной жизни, ничем не отличалась бы от взрослой жизни в
промежутке между любовью и смертью. Однако лишь взрослая жизнь является
жизнью личности.
Таким образом, утрата биографической личности угрожала каждому
миродержцу. Император ацтеков должен был давать обет, что он будет
заставлять реки течь, Солнце — светить, поля — плодоносить. Таким же
безличным становится Гор, ответственный за своего отца Осириса в
круговороте лет. Он делается небесным светилом среди светил и мировым
растением среди растений, приносящим свой плод не в свое время, а в
соответствии с календарем.
Поскольку Осирис рассматривался как старый царь, пропасть
между проживающим свои шестьдесят или семьдесят лет, стареющим
фараоном-сыном и его ежегодно умирающим и вновь воскресающим
отцом Осирисом не была четко обозначена. Осирис никогда и нигде не
имеет той или иной продолжительности жизни, как мы, люди. Он
всецело выражает себя в годовом круговороте. Именно поэтому
прослеживаемое начиная уже с первого фараона подчинение физического
правителя законам календарного отца Осириса и его годового цикла
261
может быть понято только через противопоставление тому, откуда
фараон должен быть выйти в свободное пространство мира, с одной
стороны, и попасть под власть законов Египта — с другой. До того, как
фараон получал возможность поступать как фараон, он должен был
обрести новую государственную принадлежность. Если Рейснер (125)
предлагает тебе свои измышления, касающиеся развития, заявляя, что «все
номы Египта в известной степени воплощают границы между
племенами первоначальных поселенцев», то это делает понимание
интересующего нас процесса невозможным. Ибо не разделенной, не скрепленной
никаким единым смыслом совокупности клочков земли лишь на
короткое время угрожает ее подлинная судьба — уничтожение, находящая
выражение лишь в крике ужаса: «Наводнение!». Как говорит
повествование о Ное, благословение года людям было передано голубем Святого
Духа, а не вороном. Здесь автор библейского рассказа, видимо,
полемизирует с образом сокола, с литургией Гора независимо от того,
подразумевается ли под «вороном» непосредственно Гор-сокол либо здесь
избрано описательное изложение. Ибо учитывающий свободу Бога
израильтянин превратил вечное возвращение Великого Года на Ниле в
однократное вмешательство всегда неожиданного Творца. Однако в
новом описании свершившегося как деяния Яхве он оставил в силе
результат, достигнутый фараоном, — вечное возвращение. И тем самым
именно враждебная полемика Яхвиста (126) может удостоверить нас в
том, что даже он приписывает возникновение всех связей в стране
половодью и совместному противодействию этому половодью. Тогда
номы являются подразделениями, и до свершений строителя Куз и
Мемфиса в Египте не было ни 36, ни 42, ни 22 «номов».
Ни в одном из этих номов не было никаких локальных богов,
поскольку сами боги возникли одновременно с первым обожествленным
сыном человеческим, фараоном. Прежде были духи. И на исходе всей
египетской истории снова появляются духи. Самая последняя эпоха из-
за общей усталости вновь допустила верования, предшествовавшие эпохе
фараонов. Но царство на Ниле в свой первый Великий год с 2780 по 1320
г. до Рождества Христова в качестве «территориального царства» взяло
верх над всеми племенами и дало возможность «территориальным
царствам» Азии и Америки унаследовать основной закон своего построения:
смертный человек выходит из последовательности поколений своих
предков по плоти и помещается в календарь лет космического эона. Он
движется, как небесные созвездия, как времена эона, как Гор, Сет и Ха-
тор-Исида. Из этого жертвоприношения возникает возглашенный и
назначенный бог вечного возвращения, созданный в ходе литургии
дающего имя слова, литургии способности именования. Ибо благодаря
нашей способности именования мы недвусмысленно высказываем
притязание на то, чтобы продолжать творить небо и землю. Разделение
труда, превратившее воинов племени в жрецов, ремесленников, крестьян,
солдат, — вот что называется «Осирисом». Разделение труда подвергло
испытанию всю землю. Я не хочу здесь перечислять все виды трудовой
деятельности, потребные в этом годовом цикле, соотнося их с теми или
иными профессиональными сословиями, чиновничеством,
«феодальными кругами».
262
Но поскольку я хочу помочь тебе овладеть письмом и, более того,
овладеть словом, я должен буду писать тебе и дальше. Ибо как возникла
вера в Гора? Как становятся царем-папой? В наши дни папу выбирает
коллегия кардиналов. Об императоре говорилось, что его делает войско
(«Exercitus facit imperatorem»), и так это на самом деле было до времен
Наполеона и Вильгельма I. Но кто делает царя-папу? Поскольку
филология не хочет продумывать связь между пребывающим в вечном
круговороте, ограниченном рамками одного года, отцом-богом и
заключенным в течении жизни нашего рода сыном, она разрушила мост, ведущий
правителя из его жизни в этот круговорот, и никто не сообщает нам, как
же дитя человеческое научилось отвергать язык крови и говорить на
языке неба и земли. Нам бы очень хотелось узнать об этом побольше.
Твой Ойген
263
Девятое письмо в Каир
О создании богов
Дорогая Синтия!
Толкование иероглифа, обозначающего Осириса как «Созданного
Исидой», не признано. Несмотря на это, оно соответствует всем
правилам египетского искусства письма. Так что я сегодня посвящу своего
рода экскурс моей защите такого прочтения.
При этом на помощь мне придут теологи из Она. Они до конца
продумали дела Имхотепа, строителя пирамиды Джосера, и
попытались дополнить практикуемую со времен Менеса литургию
«территориального царства» теологией, охватывающей мир, действительный
мир. Для этого они составили генеалогическое древо богов, идущее от
Атума (126) к Осирису. Но в этом родовом древе нет Гора. Скорее,
четыре поколения из универсума сходятся к Гору обоих Египтов. Уже
это шествие богов Гелиополиса поразительно, но, насколько я знаю
литературу, оно нигде не нашло объяснения. Однако это не могло бы
быть достаточным основанием для дебатов, каким бы интересным я
ни считал отсутствие Гора. К счастью, имеется весьма красноречивое
свидетельство, равно соответствующее как отсутствию Гора в родовом
древе, так и созданию Осириса с помощью извращенного
оплодотворения Хатор-Исиды. Это лингвистическое свидетельство, и мои
усилия будут направлены на то, чтобы обратить на него твое внимание,
хотя речь и идет всего лишь о слове для обозначения действия
«создавать».
Как учат жрецы Она, бог-прародитель Атум, «Ничто», создал
воздушных богов — бога Шу и богиню Тефнут, древнейших брата и
сестру и древнейшую супружескую пару. В обоих своих качествах они —
одна и та же пара. Функционально они заменили Сопду и Сопдет. О
Шу ясно говорится: «Шу по своему характеру подобен Сопду». В
«текстах пирамид» Тефнут и Шу именуются «двумя львами», и я не знаю,
почему это так. Может быть, это сделано для того, чтобы отождествить
их с изначальным диким состоянием. Атум создал — и здесь
используется то же слово для «создавать», что и в иероглифе для обозначения
Осириса, — детородный член, передаваемый на письме как фаллос, Ка
бога Шу, и сотворил лоно Тефнут, изображаемое с помощью знака
препинания в виде рук, положенных на плечи. Так центральное слово «Ка»
появляется в игре слов дважды, словно теология играет с
обозначением «мужского» и «женского» начал. Но я отмечаю это здесь лишь
предварительно. Ибо в одном из последних писем я намереваюсь и
должен буду дать Ка более подробное толкование. В нашем случае
двойное употребление слова «Ка» заслуживает внимания лишь
потому, что эрзац-теология Она придерживается традиционных
сакральных слов так упорно, как это вообще возможно. Таким образом, если
«Ка» появляется как фаллос и как положенные на плечо руки и это
делается для того, чтобы вызвать первых богов, и если в дополнение
к этому употребляется глагол «1г», служащий для обозначения дей-
264
ствия Атума, «Ничто», — ведь Атум и означает «Ничто», — то это
будет иметь отношение к сакральному словоупотреблению (см. «Тексты
пирамид», 969/970).
Отсюда путь ведет дальше. По отношению ко всем потомкам Шу в
совокупности используется термин «Хунну-Шу», и в этом коллективе не
называется сестра и супруга Шу — Тефнут. При этом все ее потомки,
зачатые Шу, упоминаются. Но тот, кто в этом увидит пренебрежение
богиней Тефнут, ошибется. Ибо, хотя Тефнут и кажется исключенной из
этого позднего выражения «Хунну-Шу», в «Текстах пирамид» дело
обстоит иначе. Ибо там так же, как об Исиде и Атуме, говорится, что она
«создала богов» (128). Но это сказано особым образом, и нам — тебе и
мне — стоит рассмотреть эту особую фигуру речи более тщательно. Я
сказал, что Тефнут создала богов, т.е., вопреки ожиданиям, она не
родила их, не произвела на свет, и ей не приписывается ничего
материнского. Таким образом, становится очевидным, что по отношению к Исиде,
Атуму, Тефнут действуют одни и те же представления. Разумеется, тот,
кто объявляет иероглиф для обозначения Осириса непереводимым — так
делает, например, Моренц (Morenz), — или переводит его как
«прекрасное зрелище», — так поступает Зете (Sethe), — отказывается от
применения правил, все еще имеющих силу в филологии. Поэтому ради
Осириса я превращусь в педанта.
Шу и Тефнут — это близнецы и супружеская пара, как Сопду и Соп-
дет, сменяющие их. Таким образом, сперва мы замечаем преображение
брака между братом и сестрой. И поэтому для этой теологии нет «пред-
жизни» до возникновения любви и до бракосочетания, как это
объяснило тебе пятое письмо. Но подобно тому, как дети сначала, до
достижения зрелости, живут в доме друг подле друга как бесполые существа, так
же древний текст говорит и об этих брате и сестре. Ибо в то время как
наш язык, в том числе и египетский, до самого основания разделяет все
мужское и все женское и подчиняет грамматические формы
биологическому полу, у этих чад Божьих все странным образом обстоит иначе. В
некоторых языках пол не выражается явным образом (129). Но в Египте
с этим не все так просто. Язык очень хорошо различает полы. Только
теология не следует в этом языку, по крайней мере, в случае Шу и Тефнут!
Об этой паре, породившей богов, говорится: «Irti ntrw wtt ti ntrw». «Они
создали богов, они произвели на свет богов». Зете назвал это
«двойственным числом», скорее двумя «duale a potiori» (130). Ибо оба
использованных здесь причастия, образованных как от глагола «делать», так и от
глагола «производить», стоят в двойственном числе женского рода, хотя
«производить» может только Шу, и тогда для Тефнут остается только
глагол «создавать»! Там, где мы должны были бы сказать: «Шу произвел
богов, Тефнут их родила», древний текст говорит, притом дважды в
женском роде: «Они оба создали богов, они оба произвели богов». Разве на
самом деле все выглядит не так, что Шу только произвел, а Тефнут — как
Исида и Осирис — только создала?
Недавний толкователь этого текста говорит о нем: «Cette fantasie
grammaticale dont on conviendra qu'elle est un peu précieuse, n'a pas survécu
dans la langue» (131). В соответствии с этим толкованием, речь идет об
архаическом, окаменевшем в культовом языке выражении, отказываться от
265
которого писец не хотел, хотя оно не слишком подходило для новых
видов суждений. Поэтому слово «irti» становится для нас тем более
многозначительным. Древнейшая литургия выбрала для обозначения
подвига любви Исиды, ее ликования («Я сделала то, чего до меня не делала
для своего возлюбленного ни одна женщина...») слово «irti», и эта
литургия ясно назвала действие Исиды двуполым. Ибо о таинстве
совокупления говорится так: «Нет ни бога, ни богини, которые сделали то, что
сделала я» (132). Имеет ли «duale a potion» в женском роде, форма,
которую — когда она используется по отношению к Тефнут — Гарно по
праву называет вычурной, какое-либо отношение к ситуации, в которой
находилась Исида, ситуации «богини или бога»? Литургия,
инспирированная самим космическим процессом, избрала неустойчивое
выражение «irti», т.е. создавать, для обозначения неслыханного явления,
которое древние «прочитали» на небесах и земле, пристально всматриваясь в
них. Ученые мужи Она, которые в действительности были «учеными
писцами» и которые для обозначения «Ничто» Атума, пустого воздуха
Шу, земли Геб уже использовали абстрактное письмо, — но без
священных знаков богов, с помощью которых следовало передавать на письме
Гора или Исиду, — хотели оставаться по возможности
ортодоксальными и потому подчинились старому способу выражения. Когда они
воспользовались выражением, избранным уже изначально для
обозначения «обратного положения», обретающего силу детородного члена
Осириса, они дали Осирису родословную. Это было «metabasis eis allô
genos» (133). Но консервативное обозначение все еще констатирует,
что, как сказала Ульрика фон Левецов, героиня мариенбадской элегии
Гёте, «это вовсе не было любовной связью» и здесь не рассказывается
никакой миф, не повествуется ни о какой шутке богов в духе
аттической комедии, а говорится о событии, от правильного толкования и
пристойного называния которого, от благочестивого следования
которому зависело будущее «территориального царства».
Мне приходят на ум иные старые, пробные формы написания,
относящиеся к начальному времени. В нашем собственном роду
человеческом мужской детородный член используется в древнейшую эпоху также
для письменного обозначения священного быка (134). Огромное
смятение, порожденное таким продвижением в область налаженного,
подчиненного богам скотоводства, отражается в этом «metabasis eis allô genos».
Не прав ли историк земледелия Ган (Hahn), утверждающий, что крупный
рогатый скот сперва держали потому, что он ходил очень медленно и тем
самым лучше всего мог своим шествием воспроизводить медленное
движение на небе? (135). Таким образом, сперва подражали содержанию
крупного рогатого скота en masse (136), и так же обстоит дело с
кастрацией. Эта последовательность, становящаяся практической, но
начинающаяся как сакральная, очень похожа на поведение человеческого рода.
Только так я могу объяснить тебе использование знака, обозначающего
член человеческого тела, для передачи на письме животного (Gardiner А.
Grammar. Sign-List D 52). Наоборот, огромное волнение эпохи Мене-
са было связано с тем, что у сокола на месте крыльев или когтей были
изображены человеческие руки. И это слияние звериных и человеческих
членов сохранилось вплоть до фиванской эпохи.
266
Нарушение границ пола у Исиды, Атума и Тефнут указывает на то,
что речь шла о необходимости описать нечто неправильное. То, что
сперва исследователи стремятся вывести Осириса из истории или
природы, вполне понятно. Но я думаю, что вся совокупность фактов без каких-
либо исключений делает данное ими истолкование неприемлемым. Ибо
для того, чтобы удалась «аннуализация» (137) человека, подобно нам
растущего и уменьшающегося в росте, то слишком молодого, то слишком
старого, больного и встревоженного, пьяного и дерзкого, и чтобы
более трехсот лет можно было верить в эту «аннуализацию», чтобы
смертный, в трудах и заботах проживающий семьдесят или восемьдесят лет
своего бытия, расточаемого в робости или заносчивости, умел
показаться двойной звездой, литургия должна была вызвать отца в космосе и
побудить его, вышедшего из вселенского «ничто», снизойти к этому
смертному, — отца, явление которого позволяло осознать и принять роль
породнившегося со звездами. Осирис — точно так же, как тексты
повествуют об Атуме, Исиде, Тефнут, — создан литургией.
Именно поэтому древний титул Гора не означает «мститель своего
отца». Правда, первые египтологи, как и в случае индейских государств
в Америке, перенесли кровную месть из племен в систему разрушенных
кровнородственных связей «территориальных царств». Между тем, мстят
не за событие, имевшее место в прошлом, — например, такое, как смерть
родного отца, — как это утверждается еще в словаре Эрмана — Грапова
(Erman — Grapow II. 1957. S. 375), поскольку Адольф Эрман считал
египтян примитивными соплеменниками. Ни один египтолог ныне так не
считает. Осирис не нуждается в мести только потому, что он якобы
предшествует Гору. Он, Осирис, скорее нуждается в защите со стороны
Гора — ради того, чтобы обрести возможность возникнуть. Он приходит
«после» Гора. Вопреки «очевидности» рожденных ползать, Осирис
«создает» сам «момент» полета по небу. Вызывание божественной силы, не
воспринимаемой пятью чувствами, — вот что означает его имя, и
именно это означает и «надродовой» глагол, применяемый к Исиде и Тефнут.
В этом стирании времен и родов остаюсь я, твой Ойген
267
Десятое письмо в Каир
Грамматика времен: вечный круговорот
Дорогая Синтия!
Как фараон меняет свое подданство? Как сын, внук, правнук и
потомок смертных родителей становится звездой, Гором и Сетом, сыном бога
года Осириса, которого вызывает к жизни Хатор-Исида, наклоняясь над
мертвой землей, посредством чего поток энергии, объединяющий
отдельные ее области, так возбуждает мужскую силу Осириса, что он
вливает в нее свое семя и становится отцом живого правителя — Гора?
Здесь, по крайней мере до известной степени, перед тобой предстает
перестановка во временной последовательности, т.е. грамматика времен,
на которой основана или из которой состоит литургия.
Позволь мне пронумеровать эти времена. Смертный правитель,
например Нармер, устремляется с юга на север, от одной границы страны
к другой, от Бехдета до Бехдета. За эти три недели он и его свита
узнают в ходе путешествия, проезжают и объезжают область разлива в
качестве своего царства. Ибо они — ее единственные правители во время
половодья. Все, кто не садится в ладью с символом небесного сокола Гора,
обращаются в бегство, отходят с затопляемой земли. Никакая тропа
межплеменной войны не может сравниться с опытом победы, с которым эта
команда мореплавателей сходит на берег в Дельте или уже в Мемфисе.
Пронумеруем этот опыт победы Гора как 1 : продолжающееся с 19 июля
до середины августа победное плавание того, кого разлив
уполномочивает объезжать и постигать Египет в ходе путешествия. Теперь разлив
достигает своего максимума. В этом году Нармера разлив достиг уровня
16 локтей, что и современный опытный инженер сочтет чудовищно
большим уровнем, означающим, что поток достиг небывалой мощи. Дом
Гора, полученный им благодаря его путешествию, небесный свод и
земная поверхность окружают победителя как Хатор, как целостность,
охватывающая Гора и Сета. Это осуществившееся вступление во владение,
которое мы усматриваем в переплетении сказочных зверей в Кузах,
будет обозначено цифрой 2. Такое переплетение именуется, таким
образом, способствующей обретению единства божественной силой Хатор.
Ее храм находится в Кузах. Поскольку из обретаемой в движении силы,
т.е. Гора, возникает сила, которой обладают, т.е. Хатор, Praesens
превращается в Perfectum. Грамматический процесс, в ходе которого из
продвижения возникает опыт, из овладения — обладание, египетское письмо
изображает в виде Гора и Хатор, т.е. в виде сокола наверху и
четырехугольного каменного дома внизу. Так оно записывает Praesens и
Perfectum. Таким образом, благодаря своему удачному путешествию
смертный человек приобретает небесную мать, Хатор, и Perfectum выражает
это свершение. Следовательно, к Гору, осуществившему это,
присоединяется Хатор в качестве совершенного им. На языке сотворения Хатор
должна называться матерью Гора. Но «мать» — это лишь тогдашнее
выражение для passé défini Гора. Ведь еще не было никаких
грамматических терминов. Грамматическое прошедшее могло еще выражаться толь-
268
ко как предки, отцы, матери, а грамматическое будущее — только как
потомки, дети, сын, дочь. Поэтому я присваиваю цифру 2 Хатор,
поскольку прошлое может быть воспринято и понято лишь исходя из
настоящего. Тем самым мы выражаем точку зрения, противоположную
заблуждению Декарта, Гегеля, Маркса и ориентированных на
естествознание историков, неправильно считающих, что настоящее возникает из
прошлого. Игнорируя собственную политическую укорененность в
настоящем, они хотят заставить историю «развиваться». Увы, как было уже
сказано, развитие означает упадок. В противоположность этому, на Ниле
героическое настоящее, путешествие во время разлива, преобразуется в
успокоившееся и остановившееся прошлое. Настоящее описывает
круги над Гором. Из номера 1, Гора, и номера 2, Хатор, к жизни может быть
вызван только Осирис. Но для этого Хатор приумножает свои
наименования. Хатор, Possesiv неба и земли, дом, становится или, точнее,
одновременно является владением, местом обитания, т.е. выступает как
Perfectum по отношению к путешествию, и становится тысячеименной
Исидой. Ибо в своем повороте к собственному значению, в своем
освобождении от деяния Гора она литургически называется Исидой. «Дом
Гора», названный Хатор на основе ее пассивного происхождения, теперь
может опустить указание на такое происхождение в своем имени и
посвятить себя выполнению более широкой задачи, которая делает
необходимым новое имя — так же, как «невеста», «мать», «сестра», «дочь» в
Библии попеременно используются для обозначения Сиона. Так что
Хатор может обозначать место царства, Исиду. Но в тот же самый
момент грамматической драмы, когда она не возникает из деяния Гора, но
пребывает в покое и существует сама по себе, она должна быть
признана и матерью Сета, которого ведь никогда нельзя уничтожить, а можно
только преодолеть и который представляет собой образ речной долины
в период засухи. Номер 2, Хатор, в своем наименовании в качестве
номера 3, т.е. Исиды и Нефтиды (138), превращается в двойную богиню.
Лишь на основе этого удвоения в качестве Исиды и Нефтиды
появляется возможность назвать накопленную силу царства. Имя «Осирис»,
иероглиф «Осирис», состоит из двух знаков: с одной стороны, из
символа «трона», а с другой — из обозначения «вызывать». Осирис вызывает
к жизни силу Исиды, осознанную в ходе путешествия как единство и
охватывающую состояния Гора и Сета. Осирис есть Тот, Кто вызывает к
жизни место обитания. В этой последовательности — 1. Гор; 2. Хатор;
3. Исида и Нефтида — Осирис заслуживает номера 4. Поскольку в
господствующем учении (Edel. Altaeg. Gramm. 1955, S. 63) Осирис
переводится как «место глаза», его происхождение отрицается.
В тот момент, когда 1,2,3,4 постигаются на опыте, эти четыре
позиции становятся подвижными по отношению друг к другу. О четвертой
культовой фигуре, Осирисе, можно говорить лишь так, будто он
логически предшествует Гору, первому лицу дома бога. Таким образом, Осирис
становится отцом Гора, точно так же как Хатор благодаря ее
воплощению в виде дома и ее пребыванию в покое над засухой и над разливом
провозглашается матерью Гора и становится «той, которой обладают».
Вечное возвращение мировых эпох, времен года, позволяет вести
повествование о 1, 2, 3, 4 как о 4, 1, 2, 3, и как о 2, 3, 4, 1, и как о 3, 4, 1,2.
269
Тем самым мы переносимся из области, где свершаются жизненные пути
смертных людей, в круговорот вечных, эонически возвращающихся
космических процессов.
Представление египтян о времени присоединяет к творящему,
вступающему во владение настоящему вечно покоящееся прошлое, и из
взаимодействия настоящего и прошлого возникает будущее, допускаемое
только как вечное возвращение. Несмотря на усилия Шотта, царству на
Ниле было отказано в «будущем». Ибо мир лишен будущего. Он
приходит в упадок. Новые египтяне, естествоиспытатели, маскируют это
отсутствие у мира будущего с помощью модного словечка для обозначения
упадка — слова «развитие». Египтяне, по выражению греков,
«обвивали» отдельные дни или годы ободом колеса своего Великого года,
своего зона. Внутри этого колеса счастья и фатума, астрологии и
письменности проходит вечное настоящее «территориального царства». Поскольку
в современных исследованиях неправильно понимается соотношение
будущего, настоящего и прошлого, а именно так, будто настоящее
возникает из прошлого, то предлагаемые этими исследователями объяснения
беспорядочно нагромождаются друг на друга, и им абсолютно
непостижимо, что мать грамматически вполне может представлять Perfectum по
отношению к Praesens своего сына. Каждому египтологу известны
тысячи, да, тысячи текстов, в которых отец и мать возникают из сына. Однако
поскольку сами они живут в картезианском сумасшедшем доме, в
котором будущее должно возникать из прошлого и настоящего, то отсюда
возникает их юдофобия. Ведь Моисей высмеял их за то, что они
надеялись заключить будущее в оковы, представив его в виде круговорота.
Так что они намного более пристрастны, чем сами египтяне. Египтяне
были последовательны. И они завоевали мир с помощью своих
профессиональных сословий. Они создали хорошо расчлененное, вечно
двигающееся по кругу настоящее. Никто никогда не воздвигнет ничего, что
превосходило бы пирамиды. Никакой ваятель не создаст ничего, что
превосходило бы золотого сокола из Иераконполя или статую фараона
Хефрена. То, что способно совершить вечное возвращение, поскольку
оно может поставить каждому человеку его особую задачу на
тысячелетия, на Ниле достигло высшей степени совершенства. Почему? Потому
что чистое будущее соединяет всех в то Единое, которое необходимо.
Этому мы учимся во время войны. Но чистое настоящее, вечный
египетский вклад, разделяет всех на такое число профессиональных сословий,
какое только возможно.
Вечный круговорот ставит прошлое и будущее под власть
конъюнктуры. Но это особая форма императива, которую использует жизнь,
отдавая свои повеления. Там, где господствуют и командуют предки, я
становлюсь их потомком, и тесные узы кровного родства исключают
для меня возможность свободного движения. Сын в качестве
наследника должен принять на себя родовые обязательства исполнения
мести, поиска добычи, обеспечения пропитания. Так что никакой Гёте не
мог ускользнуть из своего родного города, никакой Шиллер не мог
поставить в Маннгейме «Разбойников», никакой Микеланджело не мог
переехать в Рим, а Леонардо да Винчи — перебраться во Францию.
Все эти оковы рода разбивает властное слово фараона. Иосиф может
270
стать его визирем. В новом мировом порядке, основанном на
круговороте, приказания отдаются сверху вниз. Этот мировой порядок создает
тайных советников, поставщиков двора, арендаторов государственной
земли и начальников королевской железной дороги, а также
консисторских советников и епископов. Кайзер Вильгельм II просил еврейского
банкира Фюрстенберга принять какие-нибудь почести. Остроумный
банкир ответил: «Единственное, чем Его Величество могло бы
порадовать меня — это звание главного консисторского советника»! Для
фараона это не представляло бы трудностей. Ведь тогда еще не было
евреев! Поскольку Гор возвращается, как и звезды, в соответствии с
ежегодным ритмом, его властное слово, данный им документ о назначении
вычленяет каждого, на кого падает его взгляд, из его рода и включает
его в иерархию, ведущую от вершин власти вниз. Не является ли
«вершина власти» несуразной выдумкой, чистым надувательством? Разве
демократ или республиканец не знают, что ноги колосса сделаны из
глины? Это ничего не меняет в том, что «вершина» здесь воздвигается
из «ничто» и способна вырвать каждого из его рода. «Жаловать,
предоставлять» — сегодня не слишком сильное слово, поскольку имеются
учреждения, где предоставляют ссуды и начисляют жалованье. Но когда
кесарь стал жаловать почестями и званиями, начала возникать
электрическая сеть, способная последовательно всем сверху донизу
присваивать титулы и назначать на должности. Господа профессора,
занимающиеся изучением иероглифов, очень редко думают о своих
собственных титулах, о формах обращения к ним в адресах писем —
«господину Флиндерсу Петри», «сэру Алану», «мистеру Алану, эсквайру»,
«доктору Рейснеру». Но тем самым они подошли бы к постижению духа
фараона намного ближе, чем в своих чересчур бескорыстных
предрассудках относительно нашего бренного существования на этой земле. В
исполнении своей службы они настолько эмансипировались от своего
рода, что по-настоящему не задумываются об удивительном
достижении — способности предоставлять службу, не зависящую от рода. В
своей книге «Полнота времен» я отобразил такой схематизм служб,
опубликовав «Готский альманах» Египта. Однако ни один
профессиональный исследователь культуры царства на Ниле не положил этот
текст в основу своей работы. Даже такие издатели текстов, как Маспе-
ро и Гардинер, не знакомят с ним читателей своего всеобъемлющего
труда по истории Египта. При этом Гардинер, к примеру, считает
достойными упоминания совершенно незначительные войны, восстания и
признаки упадка. Но у них не упоминается столб Джед — точно так же,
как визирь Иосиф или виночерпий Потифар. В наши дни благодаря
папе Иоанну XXIII всякий знает, насколько важна курия в Риме и что
для того, чтобы воздать должное нынешнему возвращению папы в ряд
апостолов, нужно понимать курию так, как она была создана в 1059 г.
Однако большой дом фараона — это древнейшая курия мира.
Должности, профессии, сословия, титулы, все разделение труда вырастают из
включения тысяч людей в пирамиду служб и должностей в Мемфисе.
Таким образом, вместо того, чтобы подробно обсуждать в высшей
степени маловажные битвы господ Рамсеса или Сесотрида (139), мне
следовало бы разъяснить тебе процесс превращения мира в царский двор.
271
Я говорил тебе о принятии фараоном нового подданства. Что же,
слово «придворный штат» — это первая составная часть государства. Таким
образом, если я в следующем письме сумею правдоподобно описать тебе
происхождение придворного штата, то тем самым я дам решающее
объяснение того, что же раз и навсегда было создано на Ниле. Пока же
подготовься к этому, прочитав у меня или в оригинале великолепные
стихи Шекспира, в которых провозглашается достоинство чина. После
Карла Великого Запад еще раз прошел неизбежный для древней истории
путь, ведущий от племен к царствам. Со времен Отгона Великого до
обеих мировых войн в Европе было совершено то же, что и в речных
культурах тысячи лет назад. Однако на этот раз благодаря Библии будущее
оставалось открытым, и когда появились двор, царствующий град и
царство, результатом тому отнюдь не сделался вечный круговорот. Шаг от
племен к царству был совершен, так сказать, в духе Пифагора и Ноя,
плюралистически, а не в духе фараона, не по-египетски и не
неолитически. Тем не менее, в сегодняшних ключевых словах «монолитный» и
«гидравлический», применяемых по отношению к большевистскому
экономическому порядку, ты можешь распознать стремление Запада
приблизиться к образу речных царств.
Что же касается иероглифов, подумай об ирландском толковании
(140) латинских письмен, которые я обнаружил. Автор — монах эпохи
Отгонов с огромным удовольствием возвел бы эти невинные,
доставшиеся по наследству латинские графические знаки в ранг иероглифов, он
охотно превратил бы их снова в иероглифы. Его достойная всяческого
внимания попытка читается как комментарий, как разновидность
введения в тайну письма. Ибо у него, как и в случае иероглифов, мы движемся
в покрытом письменами мировом порядке, который вообще только и
был порожден письменным словом. Доставь мне удовольствие, прочти...
о заколдованном мире письма того ирландца, с помощью которого он
как бы по волшебству вызвал к жизни придворный штат Бога. Тогда тебе
будет легче отнестись к вечной надежде человечества — увидеть мир как
иерархию — со снисхождением, т.е. глядя свысока, и всмотреться в эту
надежду на Ниле, у самых ее истоков.
Твой Ойген
272
Одиннадцатое письмо в Каир
Тебя, тебе, ты, или о Ка
Дорогая Синтия!
I Кто же повелевает тому смертному, который должен взойти на
двойной трон в Мемфисе, пройти по мосту в вечное возвращение? Или,
точнее, как он научается языку возвращающегося мира небес и земель?
Историки не должны спрашивать об этом, но мы уже знаем слишком
много для того, чтобы не задать вопрос, проходящий через всю нашу книгу:
«Кто дает тебе слово, Гор, папа Верхнего и Нижнего Египта,
воплощение Гора и Сета или обоих Горов, сын и опекун Осириса, сын Хатор,
любимец Исиды?»
Ибо мы считаем на пальцах, когда видим вещи, и произносим
приветливые слова, когда видим друг друга. В противоположность этому,
титул и имя должны предварять нас (141). Тот, от чьего имени
учитель, начальник, офицер, судья требуют от нас повиновения, не
присутствует непосредственно ни в их жестах, ни в их речах. Сами по
себе эти жесты и речи не делают нас ни непреклонными, ни
властными. Это имя начертано над ними, и потому мы знаем, что они
настоятельно требуют повиновения от имени истины, от имени короля, от
имени египтологии. Благодаря этим именам они возвышаются над
нами. Так Нармер на своей палетке становится выше человеческого
роста. Высоко над маленьким человеком, качавшимся в нильской
ладье на волнах разлива, обитатели берегов реки должны были слышать
имя, которое позволяло ему величественно распоряжаться этим
разливом, которое отличало и обозначало его. Прежде всего, это имя,
которое давало ему слово. Ибо поверь мне, хотя мы и живем в
анонимном, беспорядочном мире публики, но все же в «апостольском
преемстве», переданном нам по праву церковью, мы обладаем
последним звеном великой последовательности предоставления слова
всему человечеству. Никто не может осмысленно высказаться перед
подобными себе, если он не будет представлен им и если боги,
начальники, добрые духи или дьявол не откроют ваши уши для моего
обращения. Только в Германии можно услышать: «Разрешите мне
представиться, милостивая государыня. Мое имя — Гретцебаух, фон Грет-
цебаух». Но даже этот комичный пограничный случай не является
столь варварским, каким он выглядит, будучи запечатлен на бумаге.
Ибо почти всегда та, кому этот человек представляется, и он сам
некоторое время путешествовали или просто были вместе. Таким
образом, благодаря проведенному вместе времени между дамой и тем, кто
называет себя сам, возникает нечто общее. Именно удобный случай
создает воров. А к предоставлению слова даже здесь причастен
удобный случай. Без него, без уверток — например, на улице, — слова
болтуна будут отклонены. Таким образом, в данный момент мы имеем
дело не с разговором, речью, приказанием, пением, а с
предоставлением слова. Древние египтяне могли выполнять команды только того,
кому было предоставлено слово. Мои письма к тебе, вероятно, ныне
273
прояснили одно: родной отец не мог предоставить слово правителю.
Ибо нельзя было завоевать или вывести первенство по отношению к
Солнцу и Луне, пустыне и наводнению, исходя из родства по плоти и
крови.
Вопрос о предоставлении слова до сих пор не был поставлен ни од-
ним исследователем-источниковедом. Поэтому на него никто еще не
дал ответа. Возможно, тебя это не удивит. Но цеховое братство ученых
живет — по крайней мере, официально — верой в то, что следует лишь
тщательно читать тексты. Тогда они, дескать, смогут дать
исчерпывающие ответы на все вопросы — даже на те, которые не были поставлены.
Увы, тексты этого не делают.
Для того чтобы встретить терпимый прием у этих людей, слепо
верящих в источники, я хочу указать тебе на наличие во всех неизвестных
языковых мирах некоторого класса слов, который редко привлекает
внимание. При расшифровке незнакомого слова используются все
возможные варианты, прежде чем дело доходит до попытки обратиться к
этому классу слов. Предоставление слова фараону не было замечено
потому, что оно осуществлялось с помощью того класса слов, которым
пренебрегали или который упускали из виду. Таково мое убеждение.
Именно поэтому я сейчас пойду окольным путем, ведущим к этому классу
слов в других языках, в которых их роль золушки не позволяет прочитать
тексты.
Для этого я предоставлю слово Эмилю Феттеру (Vetter),
исследователю лидийского языка. В третьем выпуске «Докладов Венской
Академии наук» он пишет: «Существует известное сходство между новым
толкованием слова «alarm» — «сам» и слова «dumm» — «но», «тогда как». Оба
эти слова являются именно служебными словами, и недавно
предложенные переводы значительно более бесцветны, чем принятые прежде. Эти
последние, которые я в известном смысле считаю ошибочными, в
методическом отношении кажутся мне весьма ценными.
Проницательность Пьеро Мериджиса (Meriggis) намного продвинула
вперед понимание лидийского языка. Его толкование «amu» в качестве
«я» и связанное с этим определение первого лица единственного числа
в настоящем времени, а затем и с необходимостью вытекающее из
этого толкование притяжательных местоимений, перевод таких важнейших
слов, как «als» («alius», «другой») и «kot» («как»), обеспечивают надежный
исходный пункт.
Прежде «kot» считалось глаголом. Психологически понятно, почему
такие служебные слова долее всего не поддаются правильному
осмыслению. Кому даже при расшифровке придет в голову такое, казалось бы,
малозначащее слово, как «но»? Поэтому не случайно, что даже Кирхгоф
(Kirchhoff) не признавал перевод окского «loufîr» латинским «vel», т.е.
«либо». При этом Кирхгоф по сравнению с Моммзеном (142) достиг
многого в правильном понимании всего существенного. Окское «dat»
еще понималось Моммзеном как латинское «dat» или же «det», тогда как
Кирхгоф верно понял его как служебное слово, передаваемое латинским
предлогом «de». С внутренним смехом мы читаем, что Пассери (Passeri)
в 1740 г. истолковал умбрское слово «ne» как «овца». Это на самом деле
«только», служебное слово «neque», известное нам «а не».
274
Мы всякий раз видим, что консервативное противодействие более
правильному осмыслению оказывается наиболее упорным и стойким
именно в случае служебных слов. Когда я высказал ошеломляющее
утверждение, что марруцинское «agine» ни в коем случае не означает
«процессию», а является служебным словом «ради», «с целью», как
латинские «causa» и «ergo», мне не удалось убедить всех. Но все-таки в
данном случае все совершенно ясно. Понятие «ради» с точки зрения
истории языка является очень молодым. Поэтому в италийских
диалектах мы обнаруживаем исключительно формообразования, присущие
отдельным, «специальным» языкам. Латинское «causa», немецкое
«Sache», умбрское «ose», марруцинское «agine», окское «amnud»
происходят из языка права.
Несколько примеров неузнанных служебных слов предоставляет
этрусский язык, и эти примеры особенно ярко подтверждают
консервативную приверженность несостоятельным старым толкованиям. Прошли
десятилетия, прежде чем «etnam» было понято просто как «точно так же»
вместо «жертвоприношения». Этрусское слово «esi», соответствующее
окскому «loufir» и латинскому «vel», считалось обозначением грозди
винограда или амфоры для вина. Этрусское «пас» интерпретировали как
«ночь». На самом деле, этрусское «пас», лидийское «пак» соответствуют
немецкому слову «so», т.е. «так», и точно так же, как в немецком языке,
оно используется в смысле «когда».
То, как упорно держатся за старые заблуждения именно там, где речь
идет о признании служебных слов, показывает противодействие
признанию того, что этрусское «ipa», «ipas» означает вопросительное
местоимение «quis», «cuius», т.е. «который», «какой», «чей». Точно так же не
допускалась возможность того, что «атсе» означает «он был», что «ana ато»
соответствует латинскому «est» («он есть»). Ведь в известном смысле
вспомогательный глагол «быть» также является служебным словом, и
глухота к иным толкованиям основана, в сущности, на той же
склонности мыслить только конкретно, которую мы обнаружили в переводе Пас-
сери «пер» («а не») как «овца» « (т. 232, 1959, с. 30).
Но достаточно цитировать Феттера. В 1950 г. вышла в свет
книга Штольтенберга (Stoltenberg) об этрусском языке с наиболее
полным на тот момент словарем. Прогресс, достигнутый в нем,
поистине удивителен. Словарь буквально кишит глаголами. Распознаны «я»
и «он», но — и это касается нас в первую очередь — Штольтенберг не
в состоянии сказать, как в Этрурии обращались к человеку (143).
Выражения «ты», «твой», «тебе», «тебя», «вам», «ваш», «вас» ему
незнакомы. Беспристрастному наблюдателю такие зияющие пробелы не
дают покоя. Но Штольтенберг считает, что слово «ты» в этрусском
языке отсутствовало.
В Англии вплоть до 1650 г. обращались друг к другу с помощью «thou»
и «thee». Квакеры делают это и сейчас. Все другие люди, говорящие на
английском языке, британцы или американцы, ограничили
использование «thou» и «thee» только по отношению к Господу Богу (144).
Комично выглядит такое выделение Бога среди других живых существ путем
обращения к нему: «Thou, о God, but you, о ту friend» (145), — говорит
англосакс.
275
Что же, именно так говорил или, скорее, писал писец Сешат.
Древнейшая форма «ты» — «Ка» — в начале истории письма на Ниле относилась
ко всем людям. Но затем применительно к подданным стала
использоваться другая форма «ты». Только по отношению к фараону сохранилось
обращение «Ка», исходящее из уст богов. Египетские грамматики
предоставляют свидетельство этому находящему параллель в английском языке
ограничению древнего слова для обозначения «ты» его использованием
лишь по отношению к богу-правителю. Но египтологи сопротивляются
признанию того, что в этом служебном слове заключено предоставление
слова новым братьям и сестрам богов. Из этого принятия в
домостроительство мировых сил они вывели образ чудовищного морского змея и
приписали Ка характер «double», двойника, подобия и прочего в этом
роде. Чтение такой литературы занимательно, но оно вызывает досаду.
Удивительно обилие значений этой мнимо спиритической душевной
силы. Ибо, согласно указанным исследованиям, каждый обладает Ка. И
попытка постижения разбивается об эту абстракцию (145).
К Гору другие боги обращаются на «ты». Родовое название — это
всегда nomen, имя. Но Ка — это местоимение. Ибо в клане, сельской
общине или войске мужчина выступает под своим именем: «Вернер Шта-
уффахер прибыл!» В противоположность этому, дома, в семье, фамилия
отпадает. Имя «Вернер Штауффахер» заменяется женственным «Верни»
и «ты». Мы собираемся обнаружить эту наблюдаемую в словарном
составе языка дома богов замену племенного имени. Иероглифы в этом
отношении достаточно убедительны: входящему в обиталище богов на плечи
кладутся защищающие его руки. Ка бога-сокола проявляется в том, что
на великолепной статуе фараона Хефрена сокол изображен
обнимающим своими лапами плечи правителя. Но это еще не все. С самого
начала у Гора-сокола изображались человеческие руки, чтобы этими
руками он мог обнимать правителя. Скульптуры, иероглифы и настенная
живопись состязаются в том, чтобы «ты» можно было петь, писать,
сообщать. В «ты», «тебе», «тебя» сокола, а позднее также и Солнца,
правитель выходил из сомкнутого строя рода, эмансипировался. Теперь он
принадлежит к богам мирового дома. Ибо там, где ко мне обращаются на
«ты», я принадлежу к домочадцам, там я у себя дома и там мне
предоставляется слово. Человеческие руки сокола, изображенного на палетке
Нармера, возвещают о том, что отнюдь не накожные руны предков
назначают нового исполина власти, который находится перед нами. С ним
на «ты» говорит небесный сокол, и местоимение обретает силу.
Из посещений музеев в Каире и Луксоре, из книг ты знаешь,
сколько чернил было потрачено на различные писания о Ка. Масперо
решительно воскликнул: «Во французском языке нет слова для обозначения
Ка» (147). Самым поразительным является тот произвол, с которым
многие исследователи рассматривают Ка в качестве разновидности
спиритического изобретения — так, словно эта бессмыслица совершенно
непоколебима. Но в историю должно войти только необходимое. Трактовка
Ка — это бесконечная канитель произвола, словно египтяне нарочно
выдумали что-то для того, чтобы загадывать нам загадки. Simplex veritas
(148): борьба между родом и домом — это вечная борьба между кровью
и плотью, с одной стороны, и призванием, профессией — с другой, меж-
276
ду наследованием и назначением в предельно широком смысле, между
монархией и республикой. Обращение, усыновление благодаря «ты»,
прикрытие тыла посредством возложения рук на плечи обожествляют. В
моей книге «Полнота времен» ты уже читала об этом. Однако
египтологи не читают ни этих писем, ни «Полноты времен». Для них я
неспециалист. Увы, для меня неспециалистами являются они. Мы хотим
спокойно предоставить это на благосклонное усмотрение некоей третьей
стороны. Но тебя я прошу обратить самое пристальное внимание на
адресованный к фараону призыв войти в состав домочадцев дома богов. Ибо
дело дошло до современных профессий лишь постольку, поскольку
призванный таким образом правитель, к которому боги обращаются на «ты»,
начал на основании этого вверять и другим людям некоторую часть своих
обязанностей в доме богов. До самого конца царства на Ниле
сохранялось представление, что фараон сам говорит, судит, сооружает храмы,
командует войском, заботится о каналах. У него на службе уже давно
состояли тысячи людей, но исполнителем все еще считался он сам. Это
«именем правителя» воспитало всех, образующих пирамиду служб, как
верных исполнителей своего долга, подобно тому как вплоть до 1918 г.
каждый прусский судья осуществлял правосудие именем короля. Часто
дело не доходило до такого верного исполнения своего долга — ни в
Египте, ни в Баварии, ни в Ройсе, Шляйце или Грайце. И все же
сохранилось достаточно чувства ответственности и командного духа для того,
чтобы питать глубокое уважение к Ка. Без веры в такое вступление в дом,
преисполненный божественного духа, не может править ни один
государь. Ибо это вступление, в силу которого к нему обращается на «ты»
высший мир, является единственным оправданием для его
приспешников, палачей и солдат, которые от его имени отрубают головы, грабят,
опустошают огнем и мечом. Этот правитель, обращение к которому
богов на «ты» должно восприниматься людьми с верой, наряду с
отсечением голов и опустошением огнем и мечом обязан на длительный срок
миловать и благодетельствовать — иначе никто не поверит в наличие у него
Ка, в то, что боги предоставили ему право отдавать приказания.
Благодаря этому предоставлению слова весы справедливости становятся
отличительным знаком власти фараона. Ибо справедливость — это
чередование вознаграждения и наказания, налогообложения и предоставления
помощи. Посредством Ка управление начинает функционировать,
поскольку тот, к кому обратились на «ты», теперь способен делать и то, и
другое: воспитывать и наказывать, назначать на должность и смещать с
должности. Но он способен на это только до тех пор, пока у него
предполагается наличие Ка. В конце VI династии дело дошло до глубоких
сомнений в божественности фараона. И справедливость, похоже, была
подорвана. Тогда знать по всей стране потребовала права быть
причастными к дому богов и завоевала это право. Дело зашло настолько далеко,
что в конце концов каждый стал утешаться верой, будто он сам
является Осирисом. Демократия пяти миллионов Осирисов, оплодотворяющих
Хатор-Исиду, знаменует собой наступление заката Египта.
Естественно, она была концом, ибо означала прекращение того первого
прислушивания к богам, которое посредством воздетых рук сокола,
способного парить на большой высоте, призвало человека стать братом богов, к
277
которому они обращаются на «ты». Но если что-то заканчивается, то это
не означает, что оно опровергнуто. В своих профессиональных знаниях
мы до сих пор остаемся египтянами. И в наши дни Ка продолжает жить
в очищенном виде, знаменуя собой принятие в члены высшей духовной
иерархии. Оно живет, например, в словосочетании «высшая школа»,
используемом для обозначения университета даже тогда, когда он
деградировал до уровня обычной школы. Даже демократия не может обойтись
без Ка. Когда французские республиканцы устраивали в Париже
Пантеон, они приписали его к свершениям Ка гения. Ибо надпись гласит:
«Писателям Франции». Таким образом, письменная речь здесь
назначила умерших верховными жрецами литературы этой страны. Если ты
хочешь осмыслить понятие нации у французов, ты должна всегда думать о
литературе гениев, а не о народном языке. Прежде всего, Ка живет в
предоставлении председательствующим слова каждому оратору. Даже
форма в большинстве случаев продолжает существовать и наполняться
содержанием. Ибо тот, кто предоставляет слово, и в наши дни сидит или
стоит позади оратора, которого он представляет.
Неправдоподобно звучащая истина всемирной истории — это ее
экономность. Когда Людовик XVIII в 1815 г. возвратился во
Францию, он сформулировал лозунг: «Еще один француз вернулся домой».
Приглашение правителя в мировой дом богов, в «большой дом»,
который мы унаследовали в слове «фараон», приходит вместе со
скромным местоимением «Ка» — «ты». И тем более глубоким оказывается
переворот, который стало необходимым совершить в отношении
личного статуса правителя. Тот, к кому боги обратились на «ты»,
женится на собственной сестре, члене его семьи, обитательнице дома... Еще
у Гомера так говорится о царской семье феаков (149), и греческие
Птолемеи, как цари-первосвященники Мемфиса, послушно вступали
в брак со своими сестрами Арсиноей или Береникой. Но только тот,
к кому обратились на «ты», тот, кто включен в самую маленькую
семью, кто стал домочадцем богов, берет себе в жены сестру. «Наличие
браков между братьями и сестрами у простых людей в Египте эпохи
фараонов невозможно доказать» (150). Это обстоятельство является
неопровержимым подтверждением существования пропасти между
принятым в роду обращением по имени, т.е. использованием nomen,
и обращением посредством местоимения «Ка» в доме. К сожалению,
несчастное слово «семья» парализует всякое размышление о
пропасти между домашней общностью в мире фараона и генеалогическим
древом воинов рода. Пятьдесят лет назад мне не поверили, когда я
указал на пропасть между родами и королевским домом у германских
племен в средние века, теперь же эту мою старую книгу собираются
переиздать. Не подозревая, что я когда бы то ни было обнаружу на
Ниле черты, которые сродни нашему средневековью, с 1903 г. я
изучал египтологию (с 1906 г. — у Адольфа Эрмана). В 1903 г. я перевел
изречения Птахотепа (151). И теперь я не могу предложить тебе на
Ниле лучшего ключа для понимания союза духа и крови, союза,
делающего нас людьми, чем сооружение дома. Благодаря Ка призывается
смертный хозяин дома богов, и он получает способность издавать
законы, жаловать титулы, содержать служащих. В отличие от прежнего
278
времени, отныне всякий порядок насаждается сверху, как это
удивительно хорошо говорит Одиссей в «Троиле и Крессиде» (152).
В пятом томе словаря Эрмана — Грапова на с. 116 сказано все о
единстве «thou», «ты», со словом для обозначения якобы двойника,
«Ка», а на с. 247 — о его замене «То» и «thm» для повседневности.
Эмери в 1958 г. при анализе погребения I династии продемонстрировал даже
египтологам трудности осмысления служебных слов применительно к
слову «сам» (153). Несмотря на это, утверждаемое мной тождество «ты»
или «тебя» с Ка не было даже ни разу упомянуто во всем потоке
рассуждений о Ка (154), не говоря уже о каком-либо обсуждении. Все авторы
остаются в узких рамках того менталитета, который до книги «Я и Ты»
Мартина Бубера и моего «Прикладного душеведения» (155) покоился на
картезианстве, на смешном разделении мира на субъекты и объекты.
Поскольку авторы не находили у самих себя способности быть «ты» для
кого-либо, кто должен предоставить ему слово, то такой способности
они не могли искать и на Ниле. Ведь эти жалкие субъекты в
объективированном мире не знают, что только их докторская степень дала им
самим право «работать над изучением Ка». Это забавное выражение
немецких ученых, которые все «над чем-нибудь работают», демонстрирует
тебе наличие высокого, заложенного высшей школой постамента, стоя
на котором они мнят себя «работающими над чем-то». Если бы они хоть
на мгновение обратили внимание на это свое духовное возвышение,
позволяющее им работать «над» тем самым Ка, они вынуждены были бы
задуматься о принятии в дом письмен, обращенных к богам на Ниле.
Один из них со счастливым видом назвал мне число своих докторантов.
Он по праву гордился этим урожаем с нивы, которую он засеял, этой
жатвой плодов своего учения, происходящей год от года. Но то, что
именно фараон, большой дом, только и обеспечил возможность таких
ежегодных пахоты и посева, что он, профессор, таким образом, сам
являлся египтянином среди нас, — эту истину, которую я, отвергший
принятые в высшей школе представления о Египте, высказываю ему, он
считает «не подтвержденной источниками». Да, то обстоятельство, что я
сам рассматриваю его в качестве источника осмысления душевных
потребностей существования фараона, вместо того чтобы казаться
почетным, вызывает обиду и раздражение. Пусть тебе это представляется
смешным и забавным, — тебе, кто, как и любое дитя человеческое,
может дышать лишь до тех пор, пока Бог, оберегая тебя, по-отечески
кладет тебе руки на плечи, стоя позади тебя. Распознать Ка, местоимение,
трудно, поскольку это —- служебное слово. Но все мы являемся
призванными лишь с того момента, когда один из нас осознал, что он призван
представлять порядок, исходящий сверху. Из этого порядка возникают
территориальные области, служащие, округа управления или, как их
называет «Готский альманах» фараонов (156), «все учреждения, которые
соединяют одну часть земли с другой». Поскольку призванные
умолчали об этом, да простится мне, непризванному, вмешательство в эти
вопросы. Ибо предначертания письменности мира царств и сегодня
направлены на тебя и меня,
твоего Ойгена.
279
Заратуштра: обретение голоса
I. Яхве и Ахурамазда
«Сперва мы решили, что человеку намного легче установить свое
господство над всеми прочими живыми существами, чем над людьми.
Но, познакомившись с жизнью перса Кира, ставшего властителем
множества подчиненных ему людей, бесчисленных государств и
народов, мы были вынуждены изменить свое мнение и признать, что
установление власти над людьми не должно считаться трудным или
невозможным предприятием, если браться за него со знанием дела. Нам
известно, что Киру охотно подчинялись народы, жившие от него в
отдалении, измеряемом несколькими днями пути, другие — даже
месяцами, третьи его вообще не видели в глаза и прекрасно понимали, что
никогда не получат возможности его увидеть. И все же они охотно
повиновались ему» (1).
В этих предложениях Ксенофон описал особую тайну великого
персидского царства. Дни, месяцы и даже вечность отделяли царя
персов от отдаленных частей подвластной ему территории. Несмотря на
это, все эти части ему охотно повиновались. Мы, современные люди,
при чтении с легкостью пропускаем те места, в которых
характеризуется единственная в своем роде черта персидской империи,
указывающая на выход за пределы доступной органам чувств
действительности. Вероятно, мы поступаем так потому, что государство нам и без
этого кажется чем-то сверхчувственным. Но еще египетский фараон
должен был лично появляться в каждом номе своего царства один раз
в два года. Половой член мертвого Осириса принадлежал каждому из
42 номов на Ниле. Елизавета, королева Англии, в XVI в. в
королевском «продвижении» («the King's Progress») сама объехала все части
своего королевства так же, как это делали фараоны и Меровинги.
Господство на протяжении тысяч миль со всей очевидностью стремились
повсюду установить с помощью путешествий, объезда верхом,
парадов, коронаций, шествий. Царей короновали депутаты из всех частей
его огромного царства, даже если им приходилось добираться в
течение целого года. Вильгельма II называли путешествующим кайзером
не только в насмешку. Он верил, что его присутствие является
составной частью господства и у него есть обязанность перед немцами
совершать много путешествий. В предыдущей работе я попытался
склонить даже сведущего в области современной физики и всецело
находящегося под ее влиянием читателя к пониманию того, что «совре-
280
менность» воплощала в себе исторически созданное
«территориальными царствами», и прежде всего фараонами, вечно возвращающееся
время, которое нельзя смешивать ни с «прошлым», ни с «будущим». В
наши дни разделение последовательно на прошлое, настоящее и
будущее осуществляется неправильно. Физика не знает никакого
настоящего и никакого будущего. Но в распоряжении Царя царей, первым
из которых был Кир из династии Ахеменидов, не было полученного с
помощью астрологической магии круговорота настоящего, которым
обладали фараон, Гор, Мардук (2) или наши биржевые астрологи. Его
царство было иным. Его царство шло навстречу обетованиям Авраама
и Моисея, той особой форме времени, которая называется «будущим»,
т.е. временем обетованным. Кир (558-528), Дарий (522-486) и Ксеркс
(486-465) веровали в еще только открывающего себя Творца неба и
земель, и это было для них свидетельством о Творце.
То же, что говорится у Моисея об Аврааме (Быт. 1:15), может быть
сказано и о персидских царях во время вавилонского пленения евреев:
из пылавшего в пустыне куста вышел Яхве, но он не вывел детей
Иакова из Египта, а свел сотню раздробленных, поклоняющихся различным
богам царств в заново собирающееся Единое Творение. Геродот,
обладавший неполными сведениями, тем не менее, называет по именам
семьдесят восемь различных властителей, над которыми
господствовали цари-Ахемениды (III, 93). Хотя персы образовывали главную часть
их войска, уравнивающее объединение всех тогдашних правителей
было все же смыслом и основной чертой этого царства, которое
одновременно было многоязычным. Эти великие правители действительно
хотели стать царями, поставленными над царями и, таким образом, над
многими пантеонами богов. Они должны были относиться к этому
совершенно серьезно, ведь они повелевали приверженцами более чем
сотни вальхалл (3) богов. Но как мог человек из Пасаргад (4) в
Западном Иране или из Персеполя (5) превзойти великих богов Евфрата,
Тигра, Малой Азии, Нила или Сирии, богов, которые господствовали
там в течение тысячи лет до прихода иранцев и которым поклонялись
даже в самой Персии? И все же мы можем кое-что узнать об этой силе,
приведшей в движение весь мир, несмотря на то, что именно новейшая
ученость усердствует в сильнейшем скептицизме. Но факты смеются
над скептицизмом.
Когда Дарий, отпрыск побочной линии Ахеменидов, завладел
престолом и в наскальной надписи в Бехистуне (6) оправдал себя, то перед
всеми своими народами, а не только перед персами он обратился к Аху-
рамазде (7), своему великому богу-повелителю, и изобразил его над
собой. Конечно же, претендент с сомнительной легитимностью может
обращаться к имени лишь того бога, который тогда уже имеет силу и
может обеспечить ему законность. Отсюда я делаю вывод,
противоположный скептицизму последней книги об Иране (8), и заключаю, что
предшественник Дария, истинный Ахеменид и основатель царства, Кир,
поклонялся Ахурамазде. Проистекающий отсюда вывод, будто Кир уже
придерживался учения Заратуштры, является настолько необходимым,
что такие иранисты, как Герцфельд (9), его уже давно сделали (10).
Неслыханный соблазн с помощью Единого Бога, являющегося Богом пол-
281
ной истины для всех нас, подчинить сначала мидян, а затем и
остальные народы, преподнес Ахеменидам пастух. Можно сказать словами
Шиллера: «Тот, кто однажды избрал благочестивого мальчика, пастуха
Исайю, предназначив ему стать своим поборником, и тот, кто
постоянно милостиво представал перед пастухами, говорил мне из ветвей
этого дерева: «Иди, ты должен свидетельствовать обо мне на земле».
Можно доказать или, скорее, это ясно написано в Библии и высечено на
камне в Бехистуне, что одухотворенное свидетельство дало Киру
возможность быть признанным народом Единого Бога Яхве в качестве
праведника этого Бога.
В чем заключается это свидетельство? С одной стороны, в усердном
стремлении Дария легитимировать себя перед покоренными народами
с помощью обращения к Ахурамазде и таким образом обратить в
бегство воинство небесное, как сострадательно именует множество
языческих богов история деяний апостолов. С другой стороны, в том, что
каноном священных писаний Израиля Киру отводится особое
призвание. Мы должны сперва внять этому призванию, прежде чем наши уши
смогут услышать голос Заратуштры в том виде, как он
воспроизводится во Второисаие. Итак, речь идет не о том, что читателю будет
процитирована пара слов еврейского пророка, содержащих буквы,
составляющие имя «Кир». Далее читатель должен быть готов натянуть лук, т.е.
провести дугу, с помощью которой богопочитание Кира и богопочита-
ние Израиля могут быть объяснены друг через друга. Ибо только тогда
собственное слово перса Заратуштры, определявшее собой и
государство персов, и пророчество Израиля, зазвучит со всей присущей ему
изначальной силой языка, зазвучит столь же громко, как тогда, когда Бог
говорил ему из »ветвей этого древа»: «Иди, ты должен
свидетельствовать обо мне на земле».
Дарий, а до него — Кир ощущают значимость своей вселенской
миссии, состоящей в том, чтобы сделаться Царем царей под властью единого
Бога богов. Таким образом, победное шествие Кира с того времени, как
он одолел своих собственных родственников в восточном Иране и
Мидии, проходило уже под водительством Духа, оно черпало свои силы из
Откровения Бога, в силу которого Кир сумел возвыситься над Мардуком,
Иштар и Ваалом (11).
Отрадно, что Бог всегда свидетельствовал о себе. Конечно, даже до
того, как появились иудеи, израильтяне, авраамиты, истинная вера
никогда не оставалась без свидетельств ни среди кочующих племен,
ни в оседлых царствах. «Small still voice» Живого Бога, «веяние
тихого ветра» (3 Цар. 19:12) больше никогда не смогли до конца
перекричать ни Митра (12), ни Ваал, не говоря уже о Сераписе или Одине
(13). И столь же невозможно было всецело заключить этот голос в
тюрьму толкований, обусловленных характерной для старого или
нового Израиля способностью восприятия. Ибо в Книге пророка Исайи
мы читаем, посредством чего было подготовлено дело Христа: «Яхве
говорит о Кире: пастырь Мой, и он исполнит всю волю Мою... Так
говорит Господь помазаннику своему Киру: Я держу тебя за правую
руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму поясы с чресл царей, чтоб
отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись. Я пойду пред то-
282
бою, и горы уровняю, медные двери сокрушу и запоры железные
сломаю; и отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства,
дабы ты познал что Я Яхве, называющий тебя по имени, Бог Израи-
лев. Ради Иакова, раба Моего, и Израиля, избранного Моего, Я назвал
тебя по имени (а именно, Кира. — Р.-Х.), почтил тебя, хотя ты не знал
Меня. Я Господь, и нет иного; нет Бога кроме Меня; Я препоясал
тебя, хотя ты не знал Меня, дабы узнали от восхода солнца и от
запада, что нет кроме Меня; Я Господь, и нет иного» (Ис. 44:28; 45:1-6).
(Вероятно, под этим молящимся на северо-востоке человеком
подразумевается Кир, а не Заратуштра).
Еврейский пророк знает о пробуждении Кира, в силу которого Кир
призывает имя живого Творца. Он верит, что истинный Бог называет
Кира по имени. В обоих этих предложениях история Израиля впервые
расширяется до всемирной истории, которая в наши дни привела к
новому учреждению государства Израиль и которая непрерывно
обновляется на основе встречи народа Библии и народов всего мира. Соревнуясь
друг с другом, они призывают и оказываются призванными.
Не Библия и не еврейский пророк научили Ахеменидов призывать
имя истинного Бога. Но как они дошли до этого? Из Библии мы
знаем, что Бог стал слышимым из «веяния тихого ветра». Победы царей
являются слишком громкими для того, чтобы в их грохоте можно
было услышать Бога. Именно поэтому он отсутствовал в шуме бури, в
реве моря, в раскатах грома. Бог может быть воспринят слабой тварью
в нас, а не сильными мира сего во всем могуществе их власти. Анна и
Мария — это скромные тварные существа, оказавшиеся
причастными Его голосу в Ветхом и Новом Заветах. Таким образом, мы должны
искать истоки принадлежности Кира и Дария к внимающим голосу
Бога на окольных путях, рассматривая слова Анны и Марии тогда,
когда они слушали и отвечали. «Скажи ему, но скажи смиренно», —
так говорят эти два женских голоса, как позже скажет Марианна (14).
Как говорила Анна, будущая мать Самуила? Она была любимой женой
ефрафянина Елканы. Однако у Елканы были дети только от его
другой жены Феннаны. Феннана же «сильно огорчала ее», поскольку
Господь «заключил чрево ее». Анна плакала и не ела, даже когда Елкана
уверял ее в своем расположении к ней. Семья ежегодно ходила
поклоняться в святилище Силома (15), где священником был Илий. И вот
снова пришел день, когда Анна воззвала к Богу, прося его даровать ей
сына, и плакала, плакала. Она дала обет, говоря: «Бог воинств
Саваоф! Если Ты призришь на скорбь рабы Твоей и вспомнишь обо мне,
и не забудешь рабы Твоей, и дашь рабе Твоей дитя мужеского пола, то
я отдам его Тебе в дар на все дни жизни его» (16). Священник Илий
смотрел, как она страстно молилась, счел ее пьяной и упрекнул ее в
этом. «И отвечала Анна, и сказала: нет, господин мой, я — жена,
скорбящая духом, вина и сикера я не пила, но изливаю душу мою пред
Господом. От великой печали моей и от скорби моей я говорила
доселе. И отвечал Илий: иди с миром, и Бог Израилев исполнит
прошение твое, чего ты просила у Него. Она же сказала: да найдет раба твоя
милость в очах твоих! И пошла она в путь свой, и ела и лицо ее не
было уже печально, как прежде» (17).
283
Анна и в действительности забеременела и родила сына и назвала
его Самуилом, «испрошенным от Бога», ибо «у Бога я испросила его».
Анна привела своего сына к Илии и пала ниц и молилась, говоря:
«Возрадовалось сердце мое в Господе; вознесся рог мой в Боге моем;
широко разверзлись уста мои на врагов моих; ибо я радуюсь о
спасении Твоем. Нет столь святого, как Господь; ибо нет другого, кроме
Тебя; и нет твердыни, как Бог наш. Не умножайте речей надменных;
дерзкие слова да не исходят из уст ваших; ибо Господь есть Бог
ведения, и дела у Него взвешены. Лук сильных преломляется, а немощные
препоясываются силою. Сытые работают из хлеба, а голодные
отдыхают; даже бесплодная рождает семь раз, а многочадная изнемогает.
Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и
обогащает, унижает и возвышает. Из праха подъемлет Он бедного, из брения
возвышает нищего, посаждая с вельможами, и престол славы дает им
в наследие; ибо у Господа основания земли, и Он утвердил на них
вселенную. Столпы святых своих Он блюдет, отпавшие от Бога во тьме
исчезают» (18).
Так молилась Анна в красноречии своей благодарности. Из ее
молитвы мы узнаем, что новый голос начинает громко звучать тогда, когда
некая тварь, доселе казавшаяся исключенной из строя творения,
обретает смысл своей жизни. Здесь этой тварью оказывается младшая жена,
поздно ставшая матерью и не обладавшая правом голоса в строго
регламентированном богослужении Израиля. Но в той мере, в какой она
обрела возможность и силу превозносить величие Бога, отдав ему в дар
своего сына, которого не чаяла получить, она обрела и право голоса. «И
узнал весь Израиль от Дана до Вирсавии, что Самуил удостоен быть
пророком Господним» (19). Голос Самуила нельзя мыслить в отрыве от
голоса его матери. Женщина, не являвшаяся активным участником
богослужения в Израиле, свидетельствует о небывалом прежде акте
творения, совершенном Богом. Если история шести дней творения может
быть неправильно истолкована в качество естественной истории, — а
это, к сожалению, происходит постоянно, — то в случае Анны и Марии
это невозможно. В евангелии от Луки говорить начинает девушка,
которая, находясь в еще большей опасности, чем Анна, должна убедить
своего мужа: «Величит душа моя Господа. И возрадовался дух Мой о
Боге, Спасителе Моем, что призрел он на смирение рабы Своей; ибо
отныне будут ублажать Меня все роды; что сотворил Мне величие
Сильный, и свято имя Его, и милость Его в роды родов к боящимся
Его; явил силу мышцы Своей, рассеял надменных помышлениями
сердца их; низложил сильных с престолов и вознес смиренных; алчущих
исполнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем; воспринял Израиля,
отрока Своего, воспомянув милость...» (20) .
По прошествии тысячелетия после Анны история Марии была
возвещена голосом ангела и пастухов, и бык и осел присутствовали при этом.
«А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце Своем» (21).
В Библии именно голоса Анны и Марии кажутся мне наиболее
близкими к голосу Заратуштры. И здесь, и там продолжающее творить
слово Бога вырывается из неприметного, почти не способного говорить. На
решающих поворотах нашего развития речь идет не о создателях миров
284
и помазанниках на царство, не о статистических данных и о большинстве
голосов, а о тоске и стенаниях якобы богооставленной и исключенной из
существующего общественного порядка твари.
Ни великий визирь фараона Иосиф, ни царь Соломон во всем их
великолепии не могут нам помочь понять Заратуштру. Но Анна и
Мария — родные сестры той бедной твари, которая обрела голос в
древнейшей, двадцать девятой «Гате» (22) Заратуштры. Теперь мы сосредоточим
внимание на проникновении Заратуштры в это благочестие недавно
призванной бедной твари. Моя задача состоит в том, чтобы снова
пробудить интерес к этим вопросам у читателя, чьи знания о Зороастре либо
расплывчаты, либо ложны. Ради этой цели я в течение многих лет,
насколько это возможно, вчитывался в тексты великого перса (23). Слова
Второисаии призывают к тому, чтобы услышать подлинное звучание,
истинный голос того, благодаря кому Ахемениды смогли соперничать в
вере с правоверными царями Израиля и благодаря кому они в качестве
праведников и помазанников истинного Бога оказались включены в
Библию.
Благодаря усердному изучению в течение последних восьмидесяти
лет Заратуштра, на след которого, еще ничего не подозревая, напал
Ницше, больше не является простым именем, происходящим из досок-
ратовского мира или из оперы «Волшебная флейта» Моцарта (24). Мы
можем прочитать, о чем он пел, еще не умея записать своих слов.
Благодаря умозаключениям таких удивительных ученых, как Бартоломе
(Bartholomae), Андреас (Andreas), Моултон (Moulton), Мэри Уилкинс
Смит (Smith), Гертель (Hertel), Герцфельд (Herzfeld), Дюшен-Гийемен
(Duchesne-Guillemin), Гумбах (Humbach), Гинц (Hinz) я, не будучи
иранистом, получил возможность слушать и воспринимать Заратуштру, а
также осознать близость его славословий и его литургии к
славословиям Анны и Марии. Эта близость возникает потому, что «опасное
положение», «незащищенность» продолжающего творить истинного слова
Божьего, по-видимому, заново ощущается человечеством, привыкшим
использовать обыденную разговорную лексику, лишь тогда, когда эта
хрупкость проявляется более чем в одном случае. Ибо лишь этой
хрупкости Заратуштра обязан своей навечно запечатленной причастностью
к божественной истории, свершающейся с нами, людьми. В силу
этого он имеет отношение и к Библии, и к нам. Заратуштра — можно
предположить, что его деятельность относится к периоду,
продолжавшемуся приблизительно до прихода поколения, жившего в годы правления
Кира Великого (558-528), — в строфах, передаваемых из уст в уста, ради
общины верующих в него, к какой принадлежали Дарий, а также отец
Дария Вишташпа и его сын Ксеркс, воспел размах и процесс
осуществления его нового начала.
Слабость, которой здесь снова приходит на помощь Бог, воплощена
в таком творении, как домашний скот, который доныне в виде гекатомб
приносили в жертву богам иранцы и жители Месопотамии (например,
жертвоприношения Митре, Варуне, Анахите (25)).
Заратуштра отводит скоту другое место. Для него скот представляет
все Божьи твари. Поскольку крупный рогатый скот дает людям молоко,
сыр, масло, мясо, среди людей должна возникнуть служба пастуха, под
285
защитой которого скот идет на водопой и на пастбище. В этом простом
чередовании ролей пастуха, оберегающего скот на водопое, и коров,
дающих молоко человеку и тем самым питающих его, пастух и стадо
достигают нерасторжимого единства перед своим Творцом и Повелителем.
Ибо Творец и Повелитель действует точно так же. Ахурамазда один раз
действует, проявляясь в истинной, типологически правильной внешней
связи, а другой раз — в пронизывающем наши душевные глубины
благоговении (26) или самоотверженности.
Великим открытием Библии и Заратуштры является то, что Бог и его
тварь никогда не прекращают своего диалога (27). Беспомощный
крупный рогатый скот голосит, и поскольку он голосит, а его рев
воспринимается, поскольку он впадает в отчаяние и просит, для него
открывается новый путь жизни. Каким образом? Что же, слабый человек,
неприлично слабый по сравнению с самими быками и коровами, Заратуштра
из рода Спитама, установит истинную упорядоченную связь между
Творцом, стадом и пастухом? Корова не может в это поверить: «Как, этот
беспомощный одиночка, не имеющий власти Заратуштра должен
превзойти жрецов, приносящих жертвы?» И в самом деле, быки и коровы
воспринимают все это именно так. Ибо к слабости Заратуштры должна
присоединиться лишь приятность речей, и тогда он сможет защищать так же
надежно, как и царь!
Литургия двадцать девятой «Гаты», вероятно, первой из песен
Заратуштры (28), звучит так:
I. Вам, Властители, Тебе, Владыка (29),
Жаловалась душа стада быков и коров:
«Для кого Вы меня создали? Кто меня сотворил?
Я одержима злым духом Асмодеем (30),
Слугой смерти, насильником,
Жестоким, заносчивым, грубым.
Кроме Тебя у меня нет пастуха.
Покажи мне того, кто хорошо несет службу пастуха.
II. Тогда Творец вселенной быков и коров
Спросил Правильный Распорядок:
«Есть ли у Тебя тот,
Кто предназначен для вселенной стада,
Чтобы Твоя власть над пастбищами обеспечивала
Действенный порядок выпаса?
Кто у Тебя главный, способный прогнать Асмодея
И его приспешников, служащих лжи?»
III. И ответствовал Ему Правильный Распорядок:
«Нет у меня помощника,
Который защитил бы быков и коров от всякого вреда».
(Душа стада вздыхает): «Вы не знаете,
Как жестоко обращаются с нами обладающие силой!»
(Правильный Распорядок): «Сила всех существ
Наполняет того, кому Я по его призыву спешу на помощь».
286
IV. (Душа стада): «Всемудрейший как лучший знаток
Должен все же заметить, что за неправедные дела
Совершили и совершают духи и смертные люди,
Не подчиняющиеся Ахурамазде».
(Правильный Распорядок): «Пусть решит Владыка!»
(Душа стада): «Да исполнится воля Его!»
V. «Поэтому мы смиренно приближаемся к Владыке
С воздетыми руками,
Мы, душа быка и душа коровы,
Поскольку мы настаиваем,
Чтобы Всемудрейший выслушал нас.
Ведь для праведно живущих, для пастухов и доильщиков
Нет места среди слуг лжи».
VI. На что Он сам, Всемудрейший Владыка,
Хорошо зная о смятении души скота, ответствовал:
«Но в Правильном Распорядке нет господина,
Поставленного над тобой от века.
Ибо Творец некогда создал тебя
Для сторожей и пастухов, вышедших из людей».
VII. (Заратуштра говорит): «Водопой — скотине,
Молоко — людям!
Так устроил своим распоряжением Мудрый Господин,
Всегда единый с Правильным Распорядком, святой».
VIII. (Ангел «Благой Помысел»): «Он, Спитама Заратуштра,
Был измышлен для нас,
Он — единственный, кто прислушивается к нашим распоряжениям.
Он хочет воздать хвалу Ахурамазде,
Нам и Правильному Распорядку.
Посему да будет сладкозвучной его речь!»
IX. Тогда душа крупного рогатого скота начала стенать:
«И мы должны удовольствоваться
Бессильно послушным, услужливым голосом
Слабого человека,
Тогда как я жду господствующего силою и уповаю на него?
Когда же появится тот, у кого он найдет прочную поддержку?»(31).
X. (Заратуштра): «Даруй ей, о Ахура,
Моей правоверной общине, силу,
Исходящую из Правильного Распорядка
И того Царства Благого Помысла,
Силу, благодаря которой возникают благосостояние и мир.
Ведь я познал Тебя, Всемудрейший,
Как изначального учредителя этого Царства.
287
X. Где Вы, Правильный Распорядок,
Благой Помысел, Царство?
Милостиво указуя, возьми меня,
О Всемудрейший, Бессмертный, в Ваш великий союз».
Душа быков и коров: «О Владыка, теперь к нам пришла помощь!..»
Таким образом, для этой души причисление Заратуштры к великому
союзу подтверждается. Пребывающая в отчаянии тварь получает помощь
всякий раз, когда бессильное дитя человеческое в качестве ее
представителя оказывается услышанным.
Непостижимым следствием благословения Самуила и Анны были
закат семьи священника Илии и закат культового святилища. Израиль
лишился блеска, «отошла слава от Израиля» и наступил Ихавод (1 Цар.
4:22) (32).
Непостижимым следствием благословения Марии и Иисуса стало
падение Иерусалимского храма.
Непостижимым следствием благословения Заратуштры и его стад
стало прекращение кровавых жертвоприношений и многобожия в культе
персидских царей. Вплоть до Ксеркса I (445 г. до н.э.) новое царство
было свободно от идолопоклонства и храмовых культов, и Единый Бог,
приблизившийся к Давиду, Моисею и Аврааму, призывался и Дарием, и
Ксерксом.
Но если мы теперь спросим себя, как же все трое — Анна, Мария,
Заратуштра — призывали Его, то наше изумление возрастет.
Испуганная, жалкая тварь здесь оказывается обладающей высшим
царским достоинством. Библейский критицизм снова обнаружил именно
в молитве Анны дословный текст псалма, служившего молитвой
царей Израиля. «Слишком мало сказано о том, что Анна не могла
произнести слова этого песнопения, и они не были вложены ей в уста их
автором, т.е. они не были созданы для того места в Библии, где они
написаны. Это, скорее, псалом среди псалмов, и он мог бы
располагаться в каноническом Псалтире. Большинство оборотов в нем
имеют свои многочисленные подобия. Если попытаться выявить ту
личность, которая стоит за «Я» псалмов, то ей может оказаться только
царь народа Израиля» (33). То, что в пятом стихе славится Яхве, то,
что он может даровать детей даже бесплодным женщинам, побудило
Анну к тому, чтобы запеть этот псалом. Каждый из нас легче всего
преодолевает огромное душевное потрясение с помощью
литургической цитаты. Иисус на кресте молился словами двадцать второго
псалма. Гёте, получив известие о смерти своего сына, обратился к
греческому мудрецу, который в таком же случае воскликнул: «Non
ignoravi me mortalem genuisse» («Я знал, что родил смертного»).
Таким образом, не может быть и речи о том, чтобы нести вздор об
интерполяциях лишь потому, что здесь царский псалом произносится
женщиной, которая обычно в общине молчала. Скорее, у каждого,
кто исследует власть языка, здесь возникает некоторое понимание
того, как передается речь. Изречение, исходящее из уст оратора по
должности, благоговейно выслушивается слушателями бесконечное
количество раз и так часто проникает в них, что в конце концов на-
288
чинает исходить из их уст. Молодой человек, ранее являвшийся
протестантом и перешедший в католицизм, усвоил в католической
церкви, что священник и община так обращаются друг к другу: когда
священник молится: «С вами Бог», община отвечает ему: «И с духом
твоим». Однажды он встретил своего священника на улице и
радостно сказал: «С Вами Бог!» Священник быстро нашелся, что ответить
ему: «И с духом твоим».
Это превращение слова священников, исполняющих налагаемые
их саном обязанности, в слово всех верующих, служащих Богу,
господствует во всемирной истории. Ибо скованный язык таким
образом снова превращается в свободную речь. За охваченностью Анны
царским красноречием следует «Magnificat» (34) Марии. Но молитва
Заратуштры также слишком мало поразила интерпретаторов. Гинц,
пожалуй, все же увидел величественность персидской молитвы в
смирении обращающейся с мольбой твари. Правда, и Мэри Уилкинс
Смит ощутила драматизм этого стенания безропотной скотины и
прониклась сочувствием к ней. Но самое значительное и самое
возвышенное в «Гате» мы, читатели, можем обнаружить в том, что
везде, где прежде государь, городской сеньор, царь страны, города,
народа были ораторами и возносили к небу молитвы либо с помощью
своих священников призывали богов Варуну, Митру, Анахиту,
теперь были разрушены границы круга людей, совершающих
литургию. «Ты не умна, неразумная скотина...», — вместе с Верни из
«Вильгельма Телля» возмущенно восклицали жрецы бога Митры.
Поскольку старые боги могли быть призваны только священниками
по должности, Заратуштре пришла в голову мысль присвоить тому
уху, которое должно было выслушивать его жалобы, новое имя, и
сделать это как в устной речи, так и на письме. Смысл имени «Аху-
рамазда» нельзя объяснить, исходя из представления о
могущественном говорящем боге, будь это бог войны, бог договора (35) или бог
изобилия (36). Это можно сделать только на основе представления о
живом Боге, способном слышать «немую тварь» так же хорошо, как
и склонных к обману священников. В «Прометее» Гёте
высмеиваются те, кто благочестив по должности, на том основании, что там,
наверху, предполагается некое ухо для того, чтобы выслушивать наши
жалобы. Что же, поэтому Прометей, одинокий гений, и умолкает. Но
тот, кто входит в продолжающееся творение, пронизанное силой
именования, каждый день упорно ждущее новой власти языка, не
пережевывает старые молитвенные формулы, но и не упрямится.
Нет, так же, как Анна своей молитвой достигает уха Бога, который
отвечает не только словам царя, Заратуштра верит в Бога, который
дает аудиенцию тем, кто еще ни разу не был услышан. Я хочу
сказать, что наш Бог получил свое новое имя «Ахурамазда» из-за своей
превосходящей все мудрости, основанной на умении слушать,
прислушиваться и услышать. Ведь мудрость, «Мазда», отнюдь не
приписывается кому-нибудь на основе его собственных речей. Но
поскольку идеализм перепрыгивает все ступени, ведущие от мысли к
действию, он ничего не знает о мудрости! Воспаряя высоко над
звучанием многих голосов в мироздании, мудрость оказывается мудростью
ЮЗак. 3524
289
лишь потому, что ею объединяются, управляются, упорядочиваются
слушание, молчание, речь и мысль, и лишь это означает, что она
овладевает ими! Многие религии, т.е. преломления единой религии,
подчиняющей себе все человечество, можно хорошо распознать на
основании того, как они преломляются в слове, ответе, послушании,
мысли, молчании (37). Уже в «Ригведе» различаются четыре ступени
слова вплоть до чистой мысли и до «четвертого Брахмана» (38),
действенного молчания. Латиняне поклонялись молчащей Ангероне
(39), в случае опасности побеждавшей только силой мысли. В учении
Заратуштры мудрый Вседержитель считается обладающим и тем, и
другим — и молчанием, и словом. Но это является областью, еще по-
настоящему не исследованной, хотя и сулящей многие открытия,
поскольку израильтяне никогда не позволяли себе подпасть под
влияние греческого превознесения чистого мышления. Представляется,
однако, что в Персии положение было более ясным. Я уже
отказался переводить «арамаити» как «благоговение» или «благомыслие».
Ведь наша собственная леность во время речи настолько велика, что
едва ли хоть один читатель без моего предупреждения заметил бы,
что в «благомыслии» (Andacht) можно услышать только «мышление»
(Denken), почему я и перевел «арамаити» как «преданность»,
«самоотречение». В письме Дюшен-Гийемена к Жоржу Дюмезилю (40)
указывается, что к «арамаити», «преданности», в одном месте «Гат»
добавляется другой термин — «молчаливое благоговение»! И здесь
предполагается искушение придать Ахурамазде большую ценность на
основе того, что он правит миром в молчании, а не из-за присущего
ему обладания словом. Поэтому читателю «Гат» следует обратить
внимание и на слово, и на молчание Всевышнего. Ведь Ахура
узнает, насколько хорошо части творения приспособлены к тому, чтобы
примириться друг с другом. Он говорит, скорее, для того, чтобы
побудить к речи других. В песне Заратуштры, которую он сам с
благодарностью называет блеском речи, предоставленным ему в качестве
дара, живой Бог спрашивает о прежде отсутствовабшем служении
Заратуштры и в ответ слышит имя, звучащее из единых уст верующих
в него. Они дают ему его имя. Рационалист, усвоивший принципы
филологии последнего столетия, не в состоянии постичь ни истину
пасхального восклицания христиан «Воистину воскрес!», ни
продолжающую существовать у всех прочих верующих причастность к
творению, которую уже в 1936 г. в «Antiquité Classique» осознал венгр
К.Марот (Marot). Таким образом, действующий здесь живой дух,
который день ото дня призвано далее воплощать в себе творение, не
может быть специально охарактеризован ни с помощью активного
залога школьной грамматики, ни с помощью выделяемых ею
пассивной формы. Напротив, этому духу надлежит пропустить каждый акт,
характеризующийся повелительным наклонением и вторым
грамматическим лицом, через желательное наклонение первого лица и
формы изъявительного наклонения третьего лица вплоть до того, что в
виде неопределенной формы глагола, не имеющей грамматического
лица, выявится чистый акт — но это до поры, до времени.
Поскольку школьная грамматика насильственно рассматривает все граммати-
290
ческие лица — «я», «ты», «он», «оно», «мы» и т.д. — в каждом из трех
первых наклонений, т.е. в повелительном, сослагательном,
изъявительном, она не смогла понять необходимость прохождения этой
последовательности всех грамматических форм: «Делай; о, если бы я
это сделал; он сделал это» в качестве основной задачи религии. Это
способен сделать лишь тот, кто признает важность и незаменимость
каждой из форм. Но, как заметил уже Герцфельд, в стихах Заратуш-
тры падеж, повелительное наклонение, выбор грамматического лица
должны выражать глубочайшую истину. «Для всех «Гат» типичен
переход от третьего лица к звательному падежу» (41). Архангелы, Аме-
ша Спента (42), могут отважиться предстать перед Всевышним лишь
в творительном, т.е. так называемом инструментальном падеже.
Применительно ко Всевышнему Ахурамазде отдельное слово и
отдельные два слова чередуются для того, чтобы не закрепиться за ним,
и кто может знать, присуще ли ему единственное или множественное
число? «Истинное, таким образом, есть вакхический восторг, все
участники которого упоены; и так как каждый из них, обособляясь,
столь же непосредственно растворяется в нем, он также есть чистый
и простой покой» (43). Так Микеланджело изобразил Элохимов (44),
воинства Яхве, на потолке Сикстинской капеллы (45). Мудрость, Дух
Божий должны включать в себя слушание и лепет, пение и сказыва-
ние, речь и слух, именование и призывание. Простая речь, простое
мышление, простое молчание — все это лишь разновидности его
звучания. Об этом напоминает распределение речи и молчания в
представленной нами «Гате». Только влюбленные в понятия люди
забывают об этой полифонии и полигармонии. С 1945 г. Жорж Дюмезиль
пытался диалектически объяснить Амеша Спента, кружащих вокруг
трона Ахурамазды, в качестве видоизменений индоиранских богов, и
последняя попытка такого рода, насколько я знаю, была
предпринята им в 1958 г. (46). Хотя я и признаю правоту его суждений в том,
что старые боги получили от Заратуштры ответ и были им изгнаны,
читатель тем паче должен поставить впереди всякой просто
рефлектирующей диалектики накал нового опыта веры и — здесь
тривиальный способ выражения на самом деле весьма уместен — принять
этот опыт близко к сердцу.
Новый мир архангелов и воинств Всевышнего сначала познают на
опыте, и лишь затем он выражается в словах, призывается как венец
целого и, в конце концов, мыслится или, лучше сказать, становится
предметом мысли. Уже в 1924 г. К.Марот указал, что там, где мы
имеем дело с полноценным языком, рефлексия лишь следует за
спонтанной речью (47). Мы добились бы лучшего понимания сути
языка, если бы эта позиция пользовалась большим вниманием со
стороны тех, кто предается рефлексии профессионально, т.е. ученых.
Они никогда не могут создавать язык, а способны только подвергать
его ревизии. Но именно поэтому мир все же не состоит только из
ревизоров. Перед судом и в книге — вот где мы должны
демонстрировать рефлексию. Но тот, кто, будучи влюблен или находясь под
воздействием любви, не осмеливается говорить и петь необдуманно,
является жалким, бессильным, неполноценным человеком, и Бог не
291
проявляет милости к его душе. Чудо случается лишь с тем, кто не
предается рефлексии.
Все верующие должны почитать голос и ухо внемлющего Бога,
говорящего Бога и его молчание, а потому у нас, смущенных, не
умеющих слышать, косноязычных людей, бессмысленно повторяющих
чужие слова и молитвы, уши и уста должны подвергаться избавлению от
порчи снова и снова. Все то, что еще услышит истинный Бог, не
известно его священникам, погрязшим в рутине. «Civiltà Cattolica»,
газета иезуитов, выходившая в Риме, в 1898 г. потребовала в деле
Дрейфуса гитлеровских мер против убийц Христа, евреев. Эти самые
иезуиты в наши дни испытали бы радость, если бы, несмотря ни на что,
хотя бы несколько евреев могли верить в их приверженность
христианству. Живой Бог всегда чаще и внимательнее нас, образованных
людей, занятых созданием абстракций, прислушивается ко вздохам и
стонам твари. Заратуштра осмелился совершить шаг от бога,
призываемого только царями, к Богу, внимающему вздохам, которые прежде
оставались неуслышанными, к Богу, которого мы именно поэтому
называем живым.
Всякий раз, когда вздох, прежде остававшийся неуслышанным,
становится слышным, прежнее официальное священство терпит крах.
Анна зачинает Самуила, но сыновья Илии погибают, а дом Илии перед
лицом Самуила утрачивает свое достоинство. Мария несет во чреве, и
завеса в святая святых Иерусалимского храма раздирается. Заратуштра
получает власть наставлять и взращивать творения, и жрецы,
взывающие к другим именам бога, становятся обманщиками. Таким образом,
именно здесь следует искать ключ к пониманию присущего
мировоззрению Заратуштры дуализма, который часто толковался неправильно.
Его дуализм отражает противостояние между старыми богами и живым
Богом. Прежние боги были лишены мудрости. Они оказались обманом,
заблуждением. Бог более велик. Отныне прежние боги стали
называться «другами» (48).
Этих «другов», эти ложные умозаключения, как и во времена
Лютера, настигает их судьба: «Их может свалить одно-единственное слово».
Какое слово? Слово, произнесенное с верой, отважившееся выразить
наши слабости. Беспомощность молящегося является предварительным
условием нового откровения.
У Заратуштры достало мужества оказать честь быть призванным
только Ахурамазде, мудрому Владыке владык, Богу одновременно во
множественном и единственном числе. Напротив, он лишил чести быть
призванными и даже чести стоять в именительном падеже все те силы,
которые мы замечаем при первом же взгляде — Благочестие, Святой
Дух, Благой Помысел, Правильный Распорядок, Спасение, Смирение,
Власть, Вечную Жизнь. В 1929 г. Мэри Уилкинс Смит, эта слишком
рано умершая гениальная иранистка, убедительно доказала, что
Заратуштра поставил эти качества в творительном падеже преднамеренно.
Благодаря этой моей книге читатель уже научился обращать особое
внимание на то, что именительный падеж на самом деле является
последним падежом, падежом господства, который скорее следовало бы
назвать «противительным». Заратуштра показывает, что он заботится об
292
этом средоточии господства Всевышнего Бога, поскольку он «не
поставил ни одного из Элохимов, ни одну из сил, причастных к
божественной сущности, в именительном падеже» (Франц Альтхейм (Altheim)).
Для нас имеет огромное значение не только то, что у Заратуштры все
силы, действующие во взаимоотношениях между нашим Господом и
нами, людьми, появляются в творительном падеже, но и то, что
поздняя «Авеста» в бездумном окостенении неправильно использует эти
формы творительного падежа как именительные. Теологи часто
поступают так же, как «Авеста». Моисей пытался защитить Бога, никогда не
называя его без присовокупления глагола: имя Яхве было и оставалось
предложением, и в выражении схоластики «actus purissimum» (49) этот
глагольный аспект был сохранен в силе, по крайней мере,
теоретически. Но наш сегодняшний язык превращает Бога в вещь: ведь он
называет его понятием. Очевидно, понятие Бога — это точная
противоположность Богу Моисея, который называл Его «Тот, кем я буду». Мы не
будем богохульствовать лишь тогда, когда услышим в Его имени: «Я
буду таким, каким вы меня еще никогда не знали». Но мы
богохульствуем, если ставим Бога в винительном падеже. Иисус стал Сыном для
того, чтобы Бог смог выступать в винительном падеже, поскольку мы
ведь хотим увидеть, а все видимое — это всегда объект, нечто «accused»,
обусловленное. Бог не мог преодолеть нашу глухоту и слепоту, нашу
бессердечность и черствость иначе, чем позволив воспринимать его в
винительном падеже. Современные физики ныне опять обнаруживают
в своих объектах и винительных падежах живых и воздействующих на
этих самых физиков собратьев. По отношению к распятию Христа
физики движутся по дороге, на которой все тварное может снова
превратиться из объектов в братьев и сестер. В древнеперсидском языке эта
внутренняя свобода еще могла утверждаться с помощью
грамматических окончаний. Кажется, что физика даже слишком поспешно
полюбила свои объекты в качестве «ты» и воздала им соответствующие
почести. С нашей точки зрения, это все чересчур радикально, потому что мы
так долго ждали этого изменения образа мыслей. Ведь этого, к
сожалению, нельзя добиться простым изменением позиции на
противоположную. Творец, твари, творение остаются, а электрон, братское «тебя» и
божественное «Я, Господь» сохраняются в таком виде, что даже «оно»,
электроны, могут потребовать себе умельцев, способных обращаться с
ними. Члены сообщества встречаются нам в трех лицах — в звательном
падеже, в творительном падеже и в винительном падеже. Заратуштру
отличает то, что он усматривал в нашей способности именования нашу
суверенную власть, при помощи которой мы каждый день ощущаем
требование подобающим образом разделять и воспринимать три лица
божества: ведь поистине чуду подобно то, что наше любящее сердце
каждый день должно заново устанавливать троичную реальность.
Чудо — это естественный закон уникального события, поскольку чудо
вызывает к жизни такое соединение прежде не связанных друг с другом
созданий — будь то так называемые вещи или люди, — которое
раньше еще никто и никогда не осмелился осуществить и которое
впоследствии, возможно, перестанет быть необходимым. Чудо произошло с
Анной, Марией, скотом Заратуштры.
293
П. Язык как жизненный процесс: схема
Разделение областей исследования снова и снова угрожает «расщепить»
единую и очень простую историю человеческого рода, воплощенную в
его языке, его молитвах, его священных именах, на дисциплины, не
знающие подлинной дисциплины. Так от внимания ускользает то,
насколько близок был Кир к императору Константину. То, что было задачей
Кира в 540 г. до Рождества Христова, и то, что должен был сделать
Константин в 325 г., призывание Единственного истинного Бога, все же
оказывается не чем иным, как возобновлением Откровения у неопалимой
купины, сведением воедино трех времен, для язычников остававшихся
навечно разъединенными — будущего, прошлого, настоящего. Бог живет
лишь там, где все эти времена остаются его временами. Гитлеры живут
в прошлом, политики-конъюнктурщики — в циклическом настоящем, а
преисполненные тоски по недостижимому страдальцы — в тотальной
революции чистого будущего. Все три группы лгут. Большинство ученых-
богословов довольствуются комбинацией двух из трех времен либо
прославлением только одного из них (50). В каждую эпоху следует отрывать
знатоков Священного Писания от их попыток извратить полное имя
Бога и возвращать их на некие исходные позиции. Для этого каждое
поколение должно испытать те тяготы, которые были вызваны исходом
Моисея из Египта и исходом Иисуса из Израиля. Через это должно
пройти и наше поколение, поскольку оно приходит в ужас от той
грубости, с которой в наши дни так называемые теологи обращаются с
именем Бога. Каждого ожидает встреча с его тайной, ибо ведь каждому
надлежит отказаться от собственного будущего ради грядущего,
принадлежащего Богу. Каждое поколение совершает поход аргонавтов, ведет
борьбу с призраками и страхами в нашем сердце и нашем сознании, как это
называет Ибсен.
Пророк Иеремия стал невыносим в Израиле и удалился в Египет. Но
в каноне Ветхого Завета все еще не находилось доброго слова для
какого-либо из соседних народов, и это несмотря на все услуги, которые
филистимляне, хетты, египтяне, Тир и Сидон оказывали израильтянам. И
вот находится один израильтянин, который ощущает универсальную
власть Бога настолько сильно, что он отваживается с радостью признать
ее в Кире, первом из царей, отрекшихся от богов своей страны. Да, Кир,
как восклицает Второисаия, — это праведник Божий, и более того, он —
помазанник Яхве. Это переименование кажется невероятным. Но
сказано именно это.
Мы можем так перефразировать это великое восклицание,
записанное в главах 40-55 Книги Исайи: в Кире Откровение Яхве начинает
действовать за пределами Израиля. Эти воздействия умножаются именно
для того, чтобы подготовить и сделать возможным пришествие Иисуса.
Септуагинта, греческие канонические тексты, вторжение Ахеменидов в
Палестину и Иерусалим, учение об архангелах, представления,
нашедшие отражение в Книге Иова, — все это свидетельствует о том, что уши
народов начинают слышать, и Израиль черпает оттуда. Таким образом,
увеличение числа носителей Откровения началось в шестом столетии.
Признанное Новым Заветом учение об ангелах берет начало в Персии,
294
оттуда происходит архангел Гавриил, который обращается к Марии. А
серьезная борьба вокруг признания или непризнания, смысла или
бессмысленности архангелов нам еще предстоит, нам, современникам
обожествления таких частичных благ, как, с одной стороны, «революция», а
с другой — «наука». Нам незачем спорить о словах. Спор должен идти об
именах. Ибо нужно взывать к ним и руководствоваться ими.
История формирования слуха, пусть даже предназначенного лишь
для того, чтобы вызвать эхо имени, — это живая история языков.
Поскольку Израиль хранит объемлющую весь мир истину, ее первым эхом
смог стать только мир в целом. Мировоззрения типа нацистского не
способны даже отстраненно воспринять роль иудаизма, и именно поэтому
иудаизм для них непереносим. Но мы, люди, не являемся людьми, если
мы отказываемся признать даже такого человека, который полностью
отличается от нас. Ибо заранее мы еще совсем не осознаем
величественности и масштабов нашей собственной сущности. Маленький Израиль
сперва проявил заботу о тайне по имени «человек», которая охватывала
и врагов, которая скрепляла эпоху, в стороне от остального мира. Затем
приходит Царь царей. Но как в 1300 г., так и в 550 г. народы своенравно
стояли между Иерусалимом и Киром. Лишь при Константине,
во-первых, император мира, во-вторых, Божий народ и, в-третьих, многие
народы подошли друг к другу так близко, что смогли слышать друг друга.
Таким образом, нам надлежит рассматривать 1280 г. до Р.Х., 540 г. до
Р.Х. и 325 г. н.э. как тесно связанные между собой.
Нет никакой необходимости вычитывать уже у Заратуштры все
христианство (как это делает Гинц). Ведь мудрость Божья достаточно
проявляется во всем своем величии уже в том, что Он дозволил Заратушт-
ре осуществить первое очищение первого мирового царства.
Промежуточные звенья между Израилем и императором еще должны были
прорасти в народах. Но для этого необходима именно первая неудача,
поскольку иначе мы, люди, не поймем, что нам еще необходимо
наверстать. Однако в случае Анны, Марии, Заратуштры, Кира не только
произошло чудо, — ведь оно происходит всегда с того времени, как
существует язык и, таким образом, человеческий род. Нет, в этих случаях
оно стало видимым и неискушенному взгляду зрителя. То зримое,
которое ревизоры всегда воспринимают только задним числом, теперь
предстает перед ними наглядно. Вот что должно означать слово
«откровение» — то, что теперь загадка языка сама стала выразимой в словах,
выразимой настолько, что она может захватить тех, кто способен
дышать Духом. Первое условие Откровения: со мной что-то происходит,
и я сознаю, что Бог здесь говорит, любит, утешает, грозит, действует,
присутствует. Вторым условием является следующее требование: я и
мой опыт должны иметь такую степень подлинности и чистоты перед
лицом неверующих из мира ревизоров, чтобы этот опыт оказался
неуязвим перед лицом их стремления умертвить его с помощью понятий,
чтобы он выжил, как Иисус во время избиения младенцев в Вифлееме,
и вынудил мир включить его в себя. Цена приобретения такого
опыта — принесение в жертву своей жизни либо выражение любви со
стороны ближнего, спасающее жизнь, как это было сделано Елисаветой по
отношению к Марии и Второисаией по отношению к Киру. Ибо, по-
295
скольку обособившаяся жизнь закончилась бы гибелью, присоединение
к ней одного-единственного любящего, понимающего, прощающего
действует как спасение.
Или, выражаясь наиболее точно: мир и ревизоры, превращающие все
в объекты, находятся на одной стороне. В работе «Раса мыслителей»
показано, как мыслители становятся частью мира, расой мыслителей, как
только они выделяются из облака свидетелей, отделяются от
творческого элемента языка и, таким образом, отказываются от совместной
духовной жизни. Тот, кто мнит, будто ему дозволено мыслить, не ведая
сомнений и оставаясь невозмутимым, отрекается от самого себя. И мы
говорим о нем: «Он несостоятелен». На стороне жизни находятся лишь те,
кто не осмеливается «судить» о живом, использовать его и
манипулировать им, а вместе со всем живым подчиняется совместной жизни,
поскольку эти люди видят перед собой объекты не «субъективно», т.е. с
точки зрения «субъектов мышления», а отваживаются оставаться sub-iecti
в смысле подданных существующей божественной власти, вовлеченных
в установленный этой властью распорядок. В сфере такой безраздельной
власти и сопряжения сущего нам, правда, свободно доступны и
заступничество, и повторение чужих слов; и «мысленное предвидение» (51), и
размышление о свершившемся; и предсказание, и повествование о
прошедшем. Но эта свобода дается лишь при одном условии: ревизор
должен признавать другие формы языка, духа, молитвы, одухотворения.
Шутовство тех, кто выдает свой ревизорский образ действий за
единственно истинный и обладающий неоспоримым превосходством,
является преступным. Ибо так прерывается поток речи, умерщвляется
Единый и Единственный Дух, а скромный телеграфный столб
собственного рассудка отождествляется с поддерживаемыми им проводами, по
которым передается энергия Бога. Ниже я дам читателю правила, на
которые он может ориентироваться, поскольку во всяком духовном
процессе виды предложений, науки и искусства взаимосвязаны и идут следом
друг за другом. Первый почитатель веры "Заратуштры так описал
электрическую сеть языка вопреки язычникам и грекам: ... Нет, я не могу
здесь сразу привести слова Второисаии. Ибо на Библии лежит
проклятие, ибо она считается назидательной, составленной из мифов, и такой
профессор как г-н Бультман (52) полагает, что он сам рассудительнее
того, кто, по словам г-на Бультмана, «к сожалению», обречен
пользоваться языком образов, а именно Исайи. Этот г-н Бультман не знает, что он
просто обречен использовать затасканные образы позавчерашнего дня в
качестве своих собственных понятий. Работа о запятой (53) может
послужить примером того, что ревизоры гордо превозносят в качестве
«понятийного» язык поэзии, взятый «в четвертом поколении», т.е. тогда,
когда он уже изношен и стоит на краю могилы. Бультманы готовят слова для
помойного ведра, для хайдеггеровского «бытия» и гегелевского
«абсолютного духа в-себе и для-себя», т.е. для того, куда не должен
проникнуть никто живой.
Из уважения к этому нашему положению осажденных, окруженных
понятиями, и принимая во внимание лежащее на нас проклятие вплоть
до третьего и четвертого колена, читатель может потребовать от меня
оградить его от всего этого, чтобы он мог свободно дышать и слушать
296
в свежем воздухе человека первого поколения. Для этого я предлагаю
читателю сначала изучить саму ограду, а именно, схему того, как поток
всех проявлений Духа вытекает из первой заповеди, проходит через
преисполненную сомнения и трепета молитву и движется к области,
которой он овладел, до тех пор пока в океане неопределенности он,
наконец, не лишится грамматических лиц «тебя», «меня», «его» для того,
чтобы оказаться в состоянии вернуться назад в качестве божественной
бесконечности. Лишь если читатель сделает себе эту сухую схему
заслоном от самума, создаваемого ревизорами, ему откроется глубинный
смысл тех слов Библии, с которыми Израиль и Заратуштра бросились
друг другу в объятия.
Язык в его движении в процессе жизни
Схема
Полоса обеспечения,
занятая с любовью или захваченная в борьбе:
в лоне языков или в случае крайней опасности
Первая фаза:
Будущее время
Вторая фаза:
Настоящее время
Третья фаза:
Прошедшее время
Четвертая фаза:
«Les adieux» (55),
не существует
времени, а есть лишь
место в
пространстве, «бытие»
Ты
Тебя
Тебе
Мне?
Меня?
Я
Его
Ему
Он
Без него
Без меня
Без тебя
Слушатель призывается в повелительном
наклонении и принуждается в звательном
падеже к тому, чтобы он обернулся
(54). Пассивная форма повелительного
наклонения является его завершением
Говорящий человек сопряжен с
сослагательным наклонением и колеблется, пребывая
в первом лице в неопределенности
Тот, о ком говорят, воспринимается в
изъявительном наклонении, признается и
обретает самостоятельность в
именительном падеже
Действие
Неопределенная форма глагола сама по
себе (с герундием)
Благодаря предлагаемой схеме проясняется первоначальное
экзистенциальное значение слов «склонение» и «спряжение». С их помощью
описывается здоровое жизненное поведение и изменение предложений.
Например, звательный падеж — это не междометие, как осмеливаются
297
выражаться современные специалисты по грамматике, а исходный
падеж, с которого начинается процесс изменения слова. А именительный
падеж — это все, что угодно, но только не первый падеж (56).
Сперва нам предвещается некое событие, и так возникает будущее.
Мы должны пережить некое событие, и так возникает настоящее. Мы
должны удержать некое событие, и так возникает прошлое. Из
будущего, настоящего и прошлого создается и состоит история до того, как
оказывается возможным ее подытожить, проанализировать,
классифицировать, похоронить и обратить в прах. Тогда мертвое, будучи
исключенным из времени, находится только в пространстве. Тогда остается лишь
именительный падеж, простое имя или даже только слово, цифра или,
как называет это Карл Ясперс (57), «шифр». Если язык умер таким
образом, то некий новый случай, новый «исходный падеж» должен
произнести новое имя. Ибо лишь звательные падежи создают действительное
время, поскольку оно всегда начинается с обетования. Совы Минервы
(58), создатели дефиниций, ревизоры заканчивают эпоху. То, что
сегодня, спустя 1963 г. после Рождества Христова, в виде схемы
представлено скептическому читателю, является древней истиной. Ее выражает
Второисаия, ставший красноречивым в попеременном пении вместе с
Киром и Заратуштрой, и она, возможно, не даст никакой ложной
грамматике сбить с толка читателя, защищенного нашей схемой.
Уже у первого Исайи данное в Откровении слово в седьмом стихе
девятой главы называется объективной силой, которая действует
непосредственно и вызывает жуткие последствия. Но Второисаия идет еще
дальше. С помощью слова не только вызывается предвещенное в
пророчествах несчастье, но и путь слова, как говорится в девятнадцатом псалме,
подобен пути Солнца; оно следует своим путем, как герой: «Как дождь
и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю, и
делает ее способною рождать и произращать, чтобы она давала семя тому,
кто сеет, и хлеб тому, кто ест: так и слово Мое, которое исходит из уст
Моих, — оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что
Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал его» (Ис. 55:10-11). То же,
что в пятьдесят пятой главе говорится о Слове Божьем, о его речи, в
последнем стихе сорок четвертой главы сказано о Кире! И мы,
размышляющие о потоке языка, понимаем: Бог говорит с помощью образов. Были
выявлены и осмыслены три этажа языка — имена, слова, числа. В
образе обретшего голос человека, созданного вместе с его именем, мы, люди,
пребывающие в бесчисленных «единственных числах», становимся
«личностью», «лицом». Поэтому израильский свидетель может наделить
Слово Божье и Кира одной и той же способностью создавать образы и
формы. Таким образом, к божественному статусу личности принадлежит
отнюдь не только способность действенно говорить. Нет, Кир благодаря
Заратуштре впервые услышал, впервые внял тому, что Вседержитель Аху-
рамазда подчиняет себе как персидских, так и вавилонских богов. Яхве,
Ахурамазда — вот кто по ту сторону отдельных актов мысли, слова,
действия, по ту сторону молчания и послушания, призыва, приказания,
размышления от Адама и до Страшного Суда определяет любое духовное
деяние каждого человека и управляет им. До сего дня в Северной Индии
есть зороастрийцы, последователи Заратуштры. Когда ислам привел к
298
тому, что Персия отпала от своей веры, предки этих индийских парсов
(а их совсем немного, около 100 000, и они являются своего рода
иудеями Индии) предпочли покинуть страну, но не отречься от своей веры.
Здесь мы подходим к тайне всякого истинного языка. Бог защищает и
оберегает тех, кто говорит на этом языке. Они остаются необходимыми, и
Он в них нуждается. Когда Фридрих Великий в шутку спросил одного из
священников, существует ли доказательство достоверности евангелия,
тот находчиво ответил: «Ваше Величество, это доказательство — евреи».
Этот же злосчастный Фридрих был воспет Чарльзом Уэсли (59) в
качестве второго Кира. Иначе говоря, немец был воспет англичанином,
атеист — благочестивым методистом (60). Старому Фрицу (61) не было
лучшей награды, чем такое воспевание. Ведь лишь тот, кто призывает
истинного Бога, умеет подобающим образом воздать хвалу смертному
человеку: за время, прошедшее между битвой при Россбахе и битвой при
Лейтене, Уэсли сочинил свое стихотворение.
A Second Cyrus
While yet we call, the prayer is seal'd
Thou answerest «Here 1 am to save»!
Thou hast thy faithful word rulfill'd,
Thy sovereign Nod the victory gave,
Whatever subservient causes join,
О King of Kings, the work is thine.
Thee let thy prosperous Servant (=Frederick) own
sole author of his stränge success,
Who liftest up and castest down,
but dost with all thy blessings bless
The man that in his maker trusts,
and glories in the Lord of Hosts.
Rais'd up through thee the righteous man,
called to thy foot and girt by thee,
Bid him a Second Cyrus reign
and exécute thy whole decree;
Kings to his sword as dust bestow,
as driven stubble to his bow (62).
В обретении Заратуштрой голоса не последним является то, что эхо
его голоса в словах вызванного им Второисаии все еще в состоянии
звучать снова и снова.
299
III. Ахурамазда и Зевс
Действия человека оказываются вызванными. И чем дальше
продвигается вперед призывание на то или иное поприще, тем сильнее вызов
затрагивает человека в его целостности. Иисус — это первый целиком и
полностью вызванный человек, а Савл из Тарса — это вызванный
апостол. Илиада и Одиссея — это песнопения, вызванные битвами,
проходившими на архипелаге.
Этот опыт стал именем сперва в имени ангелов. Они суть angeloi,
вестники Бога, и эти вестники поочередно приносят нам вести Бога и
подтверждают те ответы Богу, которые пытаются ему дать его чада.
Поэтому в Библии Бог называется Богом воинств, т.е. окруженным
воинствами.
В учении Заратуштры всякое душевное движение уже понимается
так, как каждый из нас вынужден ощущать его ежедневно. Например,
«арамаити» — это моя преданность делу Бога. Гинц попытался передать
это слово как «благоговение», «благомыслие» (Andacht), и об этом
упоминалось выше. Но немецкое слово «Andacht» уже давно перекочевало в
узкую область богослужения. «Арамаити» должно заставить нас не только
думать (denken) обо всем (это — цель «аша», «правильного распорядка»).
«Арамаити» побуждает нас стать преданными и на словах, и в мыслях, и
в делах. Лишь там, где мы испытываем блаженство от того, что наши
слова, наши мысли, наши дела соответствуют друг другу, мы можем стать
воплощением вестников, angeloi, ангелов Господа. Таким образом,
триада «слово-мысль-дело» должна оставаться неким единством в
«арамаити», в «преданности», тогда как «благомыслие» разрушило бы это
единство. Увы, наши теологи уклоняются от истолкования учения об ангелах.
Только Вестерман (Westermann) написал о них серьезную книгу. Но и
он, к сожалению, осуждает «позднеиудейское» и «персидское» учение об
ангелах как «порчу» и «вырождение» (63). В связи с этим я могу задать
критические вопросы. Лука, благочестивый врач, два раза называет
ангела Гавриила по имени. Является ли это чем-то позднеиудейским,
персидским или вавилонским? Или мы можем так же осмысленно говорить
о Гаврииле, поскольку он, по крайней мере, защищает нас от понятия
Бога или от мыслей о Боге? Должны ли мы называть ангелов по имени,
призывать их, умалчивать о них, отрицать их?
Давайте подумаем над следующим: две ветви индоевропейцев —
греки и персы — яростно столкнулись друг с другом у Марафона, при
Саламине и у Исса (64). Греки некогда натолкнулись на
средиземноморских богов на Олимпе и в Фессалии и подчинили тамошних старых
богов — Деметру, Посейдона, Аида, Персефону, Афродиту, Аполлона —
Зевсу и Гере. В конце концов индогерманский бог погоды Зевс
завоевал первенство среди них в качестве отца богов и людей. Но мы еще
можем почувствовать, что он возвысился над Посейдоном только
постепенно (65), что Деметра и Персефона лишь медленно уступали
Юноне-Гере. Последующее возвышение Зевса до уровня «primus inter
pares» (66) среди массы богов, унаследованных от многих народов, было
путем, который вел к Марафону, Фермопилам и Херонее (67). Персы
начали с такого же языкового оснащения, что и эллины. Но Заратуш-
300
тра уничтожил 127 пантеонов азиатских религий, взятых персами
штурмом. Ангелы Бога, Ахурамазды, заполнили собой образовавшиеся
бреши. Кажется, в наши дни стало модным приуменьшать гениальное
открытие Мэри Уилкинс Смит, касающееся «аспектов» Ахурамазды,
лишь потому, что можно придраться к слову «аспект» в том случае,
когда оно применяется к Богу.
Истинным в открытии этой гениальной женщины остается то, что
Заратуштра видел, как между нами и нашим Господом перемещаются
вниз и вверх некие небесные силы, точно так же, как наш Господь в
пустыне узрил ангелов, двигающихся между нашим Отцом и им, или так
же, как Иаков символически изобразил это передвижение в виде
лестницы. Без этого движения туда-сюда никто из нас не знает о Боге.
Миссионеры, привыкшие толковать о «понятии Бога» в Медлинге*,
убивают Бога. Мы, люди, становимся людьми лишь в движении туда-сюда.
Призывание многих богов и наречение имен ангелам — это все-таки
нечто более истинное, чем разглагольствование о «понятии Бога» и
стремление навязать нам, людям, возможность манипулировать этим
понятием. Понятие вводит нас в заблуждение, поскольку указывает на мнимое
отсутствие Бога, но так как Бог вездесущ, он может благословлять нас
все-таки лишь до тех пор, пока мы не пытаемся строить ошибочные
предположения по отношению к Нему. В работе «Когда у нас
отказывают слух и зрение» («Когда у нас голова идет кругом») (68) я поставил в
центр рассуждений исполненный страдания возглас Прометея. В свете
двадцать девятой «Гаты» Заратуштры становится очевидным недостаток
греческой религии Зевса: торжествующий Зевс не слышит жалоб
Прометея. Это происходит потому, что главный бог греков должен
возвышаться над все большим количеством богов. Он должен подчинить их
себе. Ему все еще нужно становиться все сильнее и сильнее. Сила — это
отличительная черта Кронида (69), победителя титанов. Это странное
безостановочное стремление возвысить Зевса (а Зевс — это подлинно
индоевропейский бог) со времени прихода маленькой группы
поклоняющихся Зевсу эллинов в давно возделанную землю, покрытую храмами
древних богов, являло собой заблуждение и ослепление греческого
гения. Это настойчивое стремление к власти лишило главного бога
Олимпа его свободы. Его никогда нельзя было вообразить себе слабым, тихим,
невзрачным.
Поэтому в среде образованных людей Европы и Америки Зевс и
греческие гении стали в наши дни символами их собственного
высокомерия. Живой Бог умирает за нас, поскольку без своей смерти он не был бы
живым. Смерть — это рубеж жизни, на которой жизнь доказывает свою
истинность. Зевс никогда не может стать истинным. Ибо в Царствие
Божие нас ведет преисполненное любви умирание тех, кто спокойно
отрекается от самое себя. Зевс не способен отрекаться. Но что же это был
бы за отец, который не мог бы от чего-то отказаться из любви?
Заратуштра проложил нам путь к этому самоотречению, к этому ожиданию Бога,
поскольку каждый способ воздействия Ахурамазды встречает с нашей
* Медлинг (Moedling) — город в Австрии, славящийся своей военной
академией (прим. ред.).
301
стороны тот или иной «вид восприимчивости». Все, что мы можем
узнать о Боге, участвует в игре дуэтом, трио, квартетом, поскольку к этой
игре причастно наше сердце — играет вместе, поет вместе, звучит в
унисон. По ту сторону этого слаженного звучания господствует только наше
невежество. Ибо Бога, не открывающегося нам, скрывает не понятие —
нет, он окутан непроглядной тьмой и безмолвием. Мы никогда не
осознаем Бога в его отсутствие. Таким образом, вместо того чтобы
сбрасывать со счетов учение Заратуштры об ангелах в качестве персидского или
позднеиудейского, следует позволить архангелу Гавриилу, этому
вестнику Бога (у Луки), отучить теологов рассуждать о понятии Бога. Да
здравствует Заратуштра! Долой непонятную теологию, основанную на
понятиях! Бог говорил с нами. Мы призывали его. Так мы становимся
вызванными, и так были вызваны наши браться и сестры. Пусть так же
вызваны будут наши потомки. Мы в этом ничего не понимаем. Но,
испытывая это, мы об этом свидетельствуем. Это свидетельство предстает в
тройственном виде — как прославление вчерашнего дня, как отчаяние
сегодня, как Символ Веры завтра. Однако сами эти три формы
свидетельства непостижимы. Нас властно побуждают принять их. Все они
отрицаются и опровергаются обыденным рассудком. Если «я» философов
выражает себя честно, то оно атеистично, поскольку ускользает от
всякого движения туда-сюда, что только и делает наш голос способным
свидетельствовать. В другом месте (70) я подробно описал, как греческое
образование сделало Зевса безжизненным. Боги не могут услышать тех,
кто хочет их увидеть. Поэтому неудивительно, что из-за Платона,
который хотел все видеть, могут погибнуть целые народы. Но чудом
является то, что эллинист Ницше, почувствовав, что Бог мертв, призвал
совершенно не известного ему Заратуштру для того, чтобы освободиться от
Платона и Сократа. Признавая, что Заратуштра верил в Бога, мы
приходим к непреднамеренному возданию почестей Ницше. Ибо Ницше
изгнал из храма идолов школы — Платона, Сократа и Аристотеля, а
также религию, лишенную этими идеалистами'души. При этом он опорочил
Сына Человеческого. Однако Господь, властвующий над жизнью и
смертью, заранее простил ему такое бичующее и животворящее богохульство.
К Ницше нам надлежит обратить величайшие слова нашего Господа:
«И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет, а
кто скажет хулу на Святого Духа, тому не простится» (71). Любовь к
своим врагам составляет в нашем Господе сильнейшую по отношению к
будущему, самую непостижимую черту его божественности. Под
действием ее силы богохульники, порочащие церковного Христа,
возвращаются к Кресту. И Ницше возвратится домой, поскольку он все же надел
маски Заратуштры и Диониса воистину из крайней необходимости.
Ибо надевание масок в случае Ницше совершенно определенно
является паломничеством к живому Богу в противовес мертвому богу
«культурных» людей. Какое мужество было нужно для того, чтобы восстать
против обожаемого Вагнера! Ницше заблуждался относительно самого
себя (72). Но нас соприкосновение с действительным Заратуштрой
снова ведет к установлению более прочной связи с нашим Творцом.
Ибо Заратуштра приблизил нас к Богу тем, что счел его главным
именем мудрость, а не его слово или его могущество. У Заратуштры Бог по-
302
зволяет говорить противоположным сторонам. Он не настолько
надменен, чтобы не спросить «Правильный Распорядок», как следовало бы
применить законы творения к домашним животным, как обстоят дела с
положением крупного рогатого скота в мировом целом. И он
позволяет твари стенать и жаловаться, а Заратуштре — выступить со своей
ролью. Таким образом, Господь Мудрости по-прежнему стоит превыше
активного потока речи и пассивного восприятия, заключающегося в
слушании и повиновении; Его мудрость распределяет роли и
предоставляет слово. Из этого опыта познания Бога в качестве мудрого Господа
происходит как история Иова в Ветхом завете, так и пролог на небе в
«Фаусте» Гёте. Но и соединение слова, предначертания и послушания в
электрической сети, управляемой мудростью, равно как и все учение об
ангелах, возникают из этой связи всех сил творения в мудрости
Всевышнего. Ибо божественная мудрость требует, чтобы громко зазвучали
многие голоса, чтобы они говорили, оказались услышаны и сами стали бы
внимать. Бог был великим капельмейстером еще до того, как появились
капельмейстеры. А небесные воинства были и остаются его оркестром.
Если мы скажем о нашем Отце Небесном, что он побуждает нас
говорить, это отнюдь не станет недостойным Его величия именем. Он
побуждает нас молчать. Он побуждает нас вслушиваться. Он побуждает
нас взывать. Он дает нам силу отрекаться от самих себя. И именно из
этого, вероятно, должно исходить будущее учение об ангелах. Если это
ошеломит и озадачит читателя, пусть он последует за мной в царство
тех ангелов, которых даже он за две тысячи лет научился принимать
всерьез, — в царство Муз.
303
Распевы Муз
1. Гомер и Данте
Гомера в качестве формообразующей силы можно сравнить только с
Данте. Ибо до Гомера не было эпоса души, а до Данте — романа души.
Тот, кто на это возразит, что в Элладе все же были песни о Ясоне и Гере,
а на Западе — песни о Зигфриде, Гудрун или Вальтарии (1), не понял
истинного смысла нашего первого предложения. А именно, мы
утверждаем, что только Данте и Гомер, освободившись от всех табу,
выразили в языке весь космос души их времени. Лишь они охватывают собой
все силы своего времени. Лишь они суверенны.
Считавшееся бесспорным мнение девятнадцатого столетия
заключалось в том, что «Илиаду» следует сравнивать с «Песнью о Нибелунгах».
В значительной степени в этом было повинно национальное тщеславие.
Но не только оно. В недавно опубликованной книге (2) мы находим
прекрасную оценку Гомера, принадлежащую германисту Яну де Врису (3);
Данте при этом не упомянут. В этом сужении горизонта видения
Гомера виновато разделение мира и Церкви, лишь в нашу эру в трудном
противоборстве доведенное до конца. У Гомера мир людей и Церковь душ
еще образуют единый мусический космос. И Гомер относится к своим
богам так же, как Данте относится к своим папам. Данте обнаруживает в
себе смелость освободиться от церковного абсолютизма благодаря тому,
что он ступает вслед за последним преемником Гомера, Вергилием. Он,
Данте, обретя зрелость и право говорить, проходит чистилище и небо с
такой же легкостью, как и ад. Данте, автор «Божественной комедии»,
создал Флоренцию только всецело благодаря своему изгнанию из нее.
Ибо хотя Флоренция некогда и изгнала его, но вот уже в течение 600 лет
воздает почести самой себе публичными «Дантовскими чтениями».
Каждый итальянец знает, что Данте был крестным отцом итальянской нации.
Пускай он должен был петь при таких княжеских дворах, как двор Ска-
лигеров в Вероне или в Равенне, — при всем этом он не был слугой
князей, так же, как не был им Фемистокл. Необозримое множество
итальянских свободных государств черпало у Данте гордость и мужество. Взгляд
на Данте уточняет наше понимание Гомера. Он приобретает такое
величие, которое далеко отстоит от величия «Песни о Нибелунгах». И даже
если певец, возможно, вынужден был петь при дворе энеадов (4), — их
изящное восхваление содержится в «Илиаде», — он тем самым далеко не
утратил своей свободной мужественности и не был превращен в
придворного. Потрясения, вызванные войной и возвращением домой, ко-
304
торые у этого певца впервые нашли воплощение в слове, перенесли
гуманность в отношениях между друзьями и врагами, женщиной и мужчиной
по всему архипелагу Средиземного моря, и сделали это, став именно
словом. Благодаря Гомеру греки не остались кем-то наподобие финикийцев
или пунийцев, и его песнопения не являются сказками мореплавателей
или сагами скальдов. Все это служит для Гомера лишь фоном.
Мы можем догадаться о том, что предшествовало творчеству Гомера,
сравнивая его с «Chansons de Geste» (5), или мы можем вместе со старым
Ноткером Заикой (6) вложить в уста корабельщиков Сидона и Тира
песни об их Геракле, Мелькарте (7). Все это нельзя оспорить. Но мы все еще
ничего не знаем об этом. И как недовольно воскликнул уже Эдуард Мей-
ер (8), оригинал не перестает быть оригиналом, если пускаться от него
в бегство, двигаясь вспять. Моисей отнюдь не станет более понятным
благодаря ссылке на его якобы столь влиятельного тестя. 24-я песнь
«Илиады» никогда не исполнялась раньше, и именно потому чистый филолог
отрицает ее подлинность. Не чем-то смелым, а всего лишь честным
является восстановление достоинства певца, создавшего эту песню, и воз-
дание почестей неслыханному достижению обоих эпосов, «Илиады» и
«Одиссеи». Ни один из них не имеет ничего общего ни с сербскими
народными песнями, ни с «Ригведой». И те, и другие заучивались наизусть
для закрепления их в памяти. Ниже мы докажем, что Гомер освободился
от необходимости напрягать память благодаря Музам и что именно в
результате этого освобождения он смог стать Гомером, певцом, благодаря
которому в ходе его пения в одном случае враги, в другом — мужчина
и его жена смогли понять друг друга, претерпевая определенное
превращение под действием слова. Только Гомер выразил в слове внутренние
битвы, бушевавшие среди троянцев, среди греков.
Таким образом, то, что возвышает Гомера до уровня
отца-кормильца и отца-воспитателя греков, находится по ту сторону «сказок
мореплавателей» господ Кирхгофа и Виламовица-Меллендорфа (9). Чтобы не
перегружать эту работу, в качестве части доказательства я укажу на
точный анализ 24-й песни «Илиады», который был осуществлен мной
шесть лет назад в книге «Полнота времен» (10). Здесь же я лишь
вкратце напомню о том, что долгое время считался верным тезис,
согласно которому 24-я песнь «Илиады» не является подлинной, поскольку
Приам, отец Гектора, и Ахиллес с удивлением учатся смотреть на себя
как на «людей» и, будучи смертельными врагами, плачут вместе.
Изначально комическое требование считать заключение эпоса подложным
долгое время официально излагалось в преподавании.
Именно после 1789 г. Гомера и Библию постигает одна и та же участь.
Филологи верили, что они должны работать над ними. И, к сожалению,
в словечке «над» был заключен запрет смотреть на тексты с уважением.
Таким образом, на них смотрели сверху вниз и притом nolens volens (11),
т.е. так, как если бы речь шла о священном долге. С 1789 г. люди
исходили из этого священного долга упразднить дворянство и Церковь. И
красноречивым примером этой бесспорно великолепной честности был
критик Библии Юлиус Велльхаузен (12). Но тот, кто работает «öd
текстами вместо того, чтобы, основываясь на них, возвыситься над самим
собой, неизбежно оставляет свой текст впереди на целый мировой период и
305
отбрасывает свой дух назад. Он, считая себя находящимся вне
опасности, наивно верит, что он мыслит после этого текста или о нем. Какое
заблуждение! Зачинатель еще никогда не существовавшей поэзии, Гомер,
душевно огрубевшими критиками без особых церемоний, т.е. без каких-
либо доказательств, отбрасывается назад именно к той глубокой старине,
из которой к нам прорывается, доносится его спасительное слово,
которое способно вывести нас из этой древности, если мы будем вслушиваться
в него так, словно внимаем ему впервые. Но истолкователи Гомера твердо
верили в то, что они живут после него и, тем самым, над ним. Однако они
были намного примитивнее, чем исследуемый ими текст. Лучше узнаем у
самого Гомера, как же он преодолел Гитлеров своего времени.
Эпосы Гомера переносят будущую политическую жизнь полисов из
сакральной сферы ее локального святилища в общий для всех 250
полисов мир песнопений Муз, подчиненных олимпийскому Зевсу. Когда
Данте отделял граждан итальянского «полиса» от сакрального полиса
папства и превращал своих слушателей в итальянцев постольку,
поскольку они слушали его, он ссылался на Вергилия. Но кто такой
Вергилий? Последний потомок Гомера. Точно так же, как Вергилий
отверзает уста Данте, чтобы тому стало впервые дозволено нести в ад
Логос, Музы целуют предшественника Вергилия, Гомера, чтобы он пел
суверенно, независимо от богов и людей. Геродот заходит настолько
далеко, что говорит, будто Гомер дал грекам их богов. Суть дела будет
охарактеризована точнее, если мы заметим, что олимпийского Зевса уже у
Гомера сопровождают на Пелопоннес его девушки, Музы. Таким
образом, их пение является способом исполнения олимпийцами их миссии.
Италия происходит от Данте, Греция — от Гомера. Протест Данте
звучит одновременно с выездом пап из Рима в Авиньон и лишением
немецких императоров их императорской власти. Так что его пение пошло
на пользу третьей силе, будущей итальянской нации.
Поэзия Гомера появляется к концу господства царей,
отождествлявших себя с Зевсом, и она позволила более*чем 250 маленьким
государствам проникнуть в мир светозарных героев, Геры и Геракла, т.е. героя
города, «того, кому приносит славу Гера» (13), а также Ясона.
Это проникновение регулируется государственным правом в
порядке наследования. Церковь создала в качестве параллельного, духовного
наследования апостольское преемство. Но упорядочивающий принцип
временной последовательности, связанный с греческими Музами, не
распространяется ни на физическое правопреемство наследника, ни на
апостольское преемство, касающееся священнических должностей.
Эллины пользовались третьим типом преемственности, а именно мусичес-
ким преемством. Благодаря исполнению песнопений Гомера в
различных местах, которые «радостно объединяют племена греков», и
возникает мусическое преемство. Выражение «порядок наследования»,
«преемство» следует принимать всерьез. Оно является неслыханным. Один
филолог выразил это так: «Таким образом, значение гомеровского
языка для образования более поздних основных форм прозы, для языка
законов и государственного устройства наглядно подтверждается
многочисленными примерами. В этом отношении Гомер играет для греческого
языка ту же роль, какую для древнеиндийского языка играет ведическая
306
литература, а для языков некоторых культур — различные переводы
Библии. Следует благодарить единственную в своем роде судьбу за то,
что высокочтимый текст, сопровождавший греков в течение столетий в
школе и в жизни, текст, в котором они снова обретали самих себя и с
которого они начинали свою речевую и духовную выучку, не был
религиозным. Тем самым вместе с духовной свободой у них могло
беспрепятственнее развиваться доверие к силе собственного мышления» (14).
Итак, греков облагородил и возвысил до их уровня не ритуал,
восходивший к их племенным культам, — их превратили в греков песни
мореплавателей, возвращавшихся на архипелаг, как это подробно
показано в моей книге «Полнота времен», так что я не хочу здесь
повторяться. Но в работе од артикулированной речи я не могу пройти мимо одного
обстоятельства, мимо спорного вопроса о том, что же греки имели в
виду, когда они ставили между немой природой и блаженными,
неподвластными смерти богами людей в качестве «meropes brotoi». Самое
старое объяснение сводится к интерпретации указанных слов в качестве
«артикулированно говорящих смертных» (15). Понимание этой великой
истины утрачено. Эпохе безверия это казалось слишком истинным,
слишком величественным. Но если такое понимание правильно, то
греки точнее всего выявили взаимосвязь нас, людей, с «артикуляцией»! Боги
говорят с помощью образов, животные — с помощью звуков. Мы же
расчленяем звуки на слова, предложения, даже на песни и книги, на
законы, молитвы и т.д. Таким образом, в слове «meropes» оказалось бы
правильно выражено, по крайней мере, то, что Логос являет собой наше
активное действие. Понимание «meropes» в качестве членораздельно
говорящих людей согласуется также с тем фактом, что через всю античную
эпоху проходит восприятие слова «meros» не только в качестве части
вещи, но и в качестве части речи. Глагол «merizein» означал «расчленять
речь» и, таким образом, артикулировать!
Современная филология отгородилась от этих фактов. Зачем давать
простые объяснения, если все можно сделать очень сложным?
Николаи (16) двадцатого века, уже шестьдесят лет назад отвергнутый даже
Виламовиц-Меллендорфом, Николай Веклейн (Wecklein) (17),
«вычитал» в слове «meropes» смысл «озабоченно смотрящий». Это напоминает
Фридерику Кемпнер (Kempner). Лойман (Leumann) объявляет
«meropes» словом, не поддающимся объяснению. Слог «ops» содержит
некоторую двусмысленность, т.к. он может быть выведен как из
«взгляда», так и из «голоса». Однако в случае сомнений тождество
«ops=vox» можно считать впоследствии утраченным и именно
поэтому таким, которое следует рассматривать в первую очередь. «Meropes»
помещает человека между неартикулированной природой и
бессмертными богами. Таким образом, «ambrotoi», «неподвластных смерти
богов», — вот что смиренно увидит грек в обновленном нами древнем
толковании, идущем от Гомера до Вергилия. Это благочестие еще у
Горация отчеканило восхитительное предложение: «Dis te minorem quod
geris imperas» (18). Мы не могли бы сказать об этом более
благочестиво: «Лишь тот, кто считает себя меньшим, нежели боги, может
повелевать, может властвовать». Никакие уловки не позволяют уклониться
от восприятия «необъяснимых» «meropes» и «brotoi» как одного и того
307
же понятия (19). Даже попытка убрать нас, людей, из «срединной
области», расположенной между мертвым миром и бессмертными
богами, противоречит повседневному опыту каждого из нас (20).
«Мы», те, кому должны петь и говорить Музы, — и в это верит
каждый способный внимать слушатель, — перестаем быть глухими
индивидами или полем с сосчитанными колосьями, символизирующим
человеческий род. Ибо мы, слушатели певца, в его песне становимся людьми,
передающими ее дальше, и включаемся в необходимый процесс
членения, артикулирования человеческого рода. Артикулирующая речь
выражает тех, кто ее произносит и слушает, превращая их в
исполнителей служебных функций. Так это понимали индусы, евреи, христиане,
ирокезы, фараоны, так это воспринимал Заратуштра. Когда мы говорим
и слушаем, мы воплощаем собой нечто, возносящееся над возрастом
жизни и отдельно взятым полом и простирающееся в область иерархии
служителей слова. Всякая смиренно пропетая и с верой выслушанная
фраза переводит нас, говорящего или слушающего, солиста или хор, в
такое состояние, коренящееся только в слове. И это состояние является
состоянием личности, исполняющей определенную службу и не
существующей в мире природы. «Так песня певца звучит из глубины его души
и пробуждает власть сумрачных звуков, чудесным образом дремавших в
сердце». Структура предложений отводит каждому из нас место не только
в строении фразы, но и в придворном штате, среди кораблей греков
или в наши дни — на предприятии, на улице или в домашнем хозяйстве.
Социальное тело — это основанный на звучащем слове порядок, сутью
которого является воплощение. Ибо Гомер позволяет своим слушателям
еще раз и в усиленном виде пережить бытующее у нас поименное
провозглашение хозяином и слугой, матерью и дочерью, другом или врагом.
Он, слушающий Муз и повинующийся им, с помощью словечка «мы»
вдохновляет нас и превращает нас в людей, слушающих вместе с ним,
вместе с ним внимающих Музам.
С учетом такого потрясающего достижения мы можем
предположить, что в свойственном эллинам обозначении самих себя как «meropes
brotoi» заключено высшее знание греков о нашем месте в поющем и
звучащем мироздании. Мы уже цитировали Ману Лоймана, считавшего,
что не священные тексты, а Гомер сформировал народ, называвшийся
«эллины». Ибо у него они научились радостно объединяться для битвы
боевых колесниц и для песен. Гомер — это эпос. Но что означает слово
«эпос»? Как раз корень слова «эпос» заключен в конечном слоге слова
«meropes». Это то слово, которое стало латинским «vox», «voc-». Мы,
смертные, разделены на группы, наделенные голосом. Мы являемся
смертными, подобно животным, но мы можем говорить и слушать, как
боги. Со времен Гомера мы все верим в это (21). Небесное царство
наших имен начиная с эпохи Гомера — это то, в чем в «Западно-восточном
диване» окончательно сознался Гёте:
Mit den Trefflichsten zusammen
wirkt' ich, bis ich mir erlangt,
Dass mein Nam' in Liebesflammen
von den schoensten Herzen prangt (22).
308
2. Письмо Муз
Целую вечность, с 1795 по 1930 г., от Вольфа до Виламовиц-Меллендор-
фа, гомеровский вопрос означал вопрос о поэте. Ибо в эту мировую
эпоху индивид и народ, личность и масса были отделены друг от друга.
Хрущев далеко не случайно использовал лозунговое выражение «культ
личности» в своей борьбе против Сталина; ведь это — бранное
наименование, которое отбрасывает Сталина в эон буржуазных личностей.
Гомеровский вопрос и вопрошает о «культе личности». Однако мы живем в
другое время. Ибо нам угрожает исчезновение языка. Письмо является
настолько массовым — в рекламе, газетах, пропаганде, почтовой
корреспонденции и школьных тетрадях, — что оно является почти нормой.
Напротив, мир устной речи уменьшается. Большинство ораторов
говорят просто на письменном немецком языке. Их речь — это письмо.
Так что мы хотим пойти на выучку к Гомеру, чтобы понять, какова суть
эпоса. Пусть гомеровский вопрос будет для нас вопросом о физическом
воплощении поэмы. Был ли гомеровский эпос в его воплощении устным
или письменным памятником? Фанатики народных песен разделили его
на отдельные песнопения для того, чтобы показать, будто он являлся
устным. Те же, кто защищал единство этого памятника, должны были
доказать, что такое чудовищно длинное произведение, возникшее
около 750 г. до Рождества Христова, уже могло быть записано (23).
Оба подхода проходят мимо вопроса о «письме» и его отношении к
устной речи. Они не ставят вопроса о возрождении слова «эпос» в
качестве понятия, объединяющего уста и свиток с начертанным на нем
текстом. В период с 1517 по 1945 г. теологи боролись за признание того, что
Библия была изначально записана, но по отношению к эллинам ни один
филолог не увидел загадки в том, что их литература существовала в
письменной форме, но надписи на храмах их богов отсутствовали. Тем
не менее, в этом заключена величайшая загадка. Все храмы догречес-
ких «территориальных царств» были исписаны, и истина храмов в ее
торжественном и незыблемом бессмертии возвещалась в настенных
драпировках. Устная речь в Вавилоне или Египте была смертной. Напротив,
иероглифы или клинописные знаки навсегда оставались
неподвластными смерти, бессмертными. Лишь воскресение Распятого, т.е.
воплотившегося Слова Божия, позволило нам закрыть храмы Исиды, Мардука,
Шивы, китайского Неба. Ибо лишь с этого момента мы знаем, как
тесно смерть связана с жизнью, и что именно поэтому каменные
вечности надписей являются бесплодными вечностями.
Вместе с возрождением своего письма греки пережили воскресение,
благодаря которому им оказалось нужным искать своего спасения не в
иероглифах, а в бренности «литературы». Ведь именно они принесли
в мир представление, согласно которому народ, чтобы стать народом,
нуждается в литературе. О варваре говорили, что он не умеет ни читать,
ни плавать. Умение читать и писать было отличительным признаком
свободного человека. Но смысл этой «литературы», этого вдохновенного
письма, по отношению к Библии утверждается как второй принцип
письма. А наш век, когда и устное слово, и письмо смертельно
больны, выздоровеет, как Амфорт (24), лишь в том случае, если Афины и
309
Иерусалим можно будет примирить друг с другом в нашем новом,
грядущем принципе письма. Итак, в чем же, благодаря Гомеру или
начиная с него, заключается эллинский принцип письма?
Уже около 1200 г. до Рождества Христова греки использовали чужие,
критские графические знаки, которые образовывали не алфавит, а сил-
лабарий, сумму знаков, служивших, главным образом, для обозначения
слогов. Мы обнаруживаем, что это письмо использовалось в
повседневной хозяйственной деятельности в качестве полезного
вспомогательного средства ведения дел. Гениальный Вентрис (25) расшифровал это
письмо. Знаки этого письма не были высеченными на камне вечными
путями, по которым обращаются звезды. Таким образом, с помощью
надписей небо не перемещалось на землю. И все же письмо стало
некогда неизбежным именно из-за неба. Ибо только на небе люди,
находящиеся на различных географической широте и географической
долготе, видят одну и ту же картину: Солнце, Луна и звезды. Таким
образом, люди писали в течение тысячелетий для того, чтобы объединить
времена и пространства мира, прежде чем оказалось возможным достичь
такого объединения на земле; для того, чтобы небо в его единстве
предписывало поселенцам юга и севера, востока и запада принятие одной и
той же картины мира. Поэтому иероглифы, наносимые на камень
письмена, сообщавшие свыше единство неба рассеянной массе земель,
назывались «предписаниями и силами, объединяющими земли». Это
письмо обладало силой принуждения, поскольку оно соединяло
бесчисленные клочки земли в зеркальное отражение куда более единого небесного
мира. Таким образом, астрология была политикой этого письма. Зара-
туштра, призывавший Единого Бога, не пытался ничего писать.
Эллины на сотнях своих островов и клочков земли, подобно персам,
избежали объединения на основе жреческих предписаний. Но все-таки
они стремились к объединению и добились его. Для войны с Троей они
были или оказались «радостно объединены». Но кто же объединил их в
мире? Читатель уже знает ответ: Гомер и его последователи в
литературе. Но этот простейший ответ — простейший, поскольку его может
дать любой гимназист, — весьма удивителен. Ибо спустя три столетия
после отказа от минойского линейного слогового письма эллины
вторично принимают чужую систему письма — финикийскую. Но второй
рецепцией могут быть исправлены недостатки первой. Так и
произошло. Представляется, что при первом принятии письма греки начали
использовать жреческое наследие — увековечивающие надписи — в
сокращенном виде для решения повседневных задач. При втором
заимствовании системы письма, осуществленном Кадмом (26), греки
действовали противоположным образом. Правда, в сфере деловых отношений
второе заимствование — заимствование финикийского письма —
могло бы не менять собственно форм написания. Но теперь люди жили
оседло в бесчисленных колониях, на островах и полуостровах.
Праздники должны были установить совместную историю, праздники,
распространившиеся на обширные территории. Как же удалось заглушить
песни местных бардов? У Гомера об этом сказано, но это считается чем-
то незначительным. Гомер говорит, что Фамирид (27) был принесен в
жертву песнопениям олимпийских Муз. Они якобы ослепили его. Но
310
«Фамирид» («Тамирис») — это наименование чисто локального
собрания, будь то на Пелопоннесе, будь то собрание простого клана.
Олимпия был основана в пику этому локальному ритуалу Фамирида для того,
чтобы нести единство Высокого Олимпа с севера вплоть до
Пелопоннеса. Имя «Олимпия» становится универсальным именем, которое
должно заглушить локальное пение! Так кем же или чем было создано
единство? Эпосом Муз. Жизнь Эллады, пение всех групп, призывающих
олимпийцев, стали посредниками между локальной общиной и
отдельной территорией, с одной стороны, и деяниями могущественных богов
в их святилищах — с другой. Так что эпос становится силой, задающей
меру. Везде, где мы говорим об общественном мнении, о литературе,
об искусстве и науке, об образовании и культуре, присутствует Гомер.
Его власть не была сакральной или культовой, но она не была и частной.
Скорее, она представляла собой что-то третье, будучи одинаково
свободной как от произвола Фамирида и местных филистеров, так и от
незыблемой религии. Она одухотворяла «публику», собиравшуюся вокруг
эпоса певцов, верующих в олимпийцев. Второе заимствование
письма после 800 г. до Рождества Христова приняло в расчет эту «среднюю
высоту» совместной, всеобъемлющей и все же не жреческой духовной
жизни. Ибо без изменения финикийской системы письма греческие
племена не смогли бы «радостно объединиться». Догреческий мир не
передавал на письме гласные звуки. Астрологические предписания неба
не понесли от этого никакого ущерба. Но эпос живет гласными
звуками, поскольку от их долготы или краткости зависит ритм исполнения
песни! Краткое «о» и долгое «о», «омикрон» и «омега», «эпсилон» и
«эта», дифтонги «eu», «oi» и «au» — все это финикийцы не могли
записать, но для эллинов их письмо не представляло бы никакого
политического интереса, если бы с его помощью нельзя было выражать долготу и
краткость гласных звуков. Из-за особенностей исполнения эпоса
греческое письмо стало первым, в котором нашлось место гласным звукам.
Более того, в конце концов эти звуки, которым прежде не уделялось
внимания, приобрели преимущество перед согласными. Но с практической
точки зрения гласные звуки из-за их различного значения в стихе
необходимо было различным образом выделить именно в связи с пением
рапсодов. «Мусически» можно было писать «а», «е», «i», «о», «u», «au»,
«ei», «oi» и даже вскоре начать отличать долгое «е» и долгое «о» от
краткого «е» и краткого «о». Для букв, каждая из которых обозначала
лишь единственный звук, впервые были найдены имена, и благодаря
этому присвоению имен люди очутились в некой новой сфере. Мы
сегодня называем эту сферу духовной или интеллектуальной сферой. Здесь
же неизбежно появляется и слово «культура», которым в наши дни
немцы обыкновенно подбадривают себя в противостоянии американцам.
При этом речь всякий раз идет о некоей совокупности идей, лежащих
как бы посередине, т.е. находящихся между телом и Богом, между
землей и небом. Греческое письмо никогда не было причастно к
жречески-сакральной святости, но оно всегда представляло собой нечто
большее, чем светское дело частных лиц. Благодаря искусству письма
каждый становился частью более высокого, но не высшего мира. Когда
гласные звуки стали наравне со знаками для обозначения корней слов,
311
использовавшимися в жреческих надписях на храмах, Музы отделились
от богов, певцы от жрецов, поэзия от литургии, литургия от вкуса
эпохи. Мусический эпос, хотя он и находится за пределами литургии
богов, высоко возносится над хороводами, хлопанием в ладоши и
ликованием варваров, не знающих артикуляции. Греческий эпос был
записан, мог быть записан с ясно обозначенной артикуляцией долгих и
кратких звуков. И так гекзаметр эпоса способен проникнуть повсюду. В
придуманном образе Мусея (28) уже встречается эта двойственность.
Легенда утверждает о Мусее, что он, с одной стороны, изобрел алфавит, а
с другой — гекзаметр. А собственное имя Мусея произошло от Муз (29).
Итак, в одном образе, который, очевидно, был выдуман, соединяется то,
что сделало греческую культуру особой формой светской культуры.
Греческая письменность восприняла 22 буквы финикийского
алфавита, и эллины ввели после «t», последней буквы семитов,
дополнительные знаки, так что алфавит кончался «омегой». Об этом знает каждый
ребенок, поскольку из слов Исайи о том, что Бог — это Первое и
Последнее, евангелист Иоанн мог создать предложение: «Он — Альфа и
Омега» (30). Но известно ли людям еще и в наши дни, что в эпоху, когда
родился Христос, «альфа» была первой, а «омега» — последней буквой
греческого алфавита? У евреев же «А» и «Т» были и остаются крайними
буквами последовательности элементов, стихий, как их называли греки.
Сегодняшней публике очень трудно доказать, что греки не только
расширили финикийский алфавит путем добавления гласных «a», «i»,
«о», «е», «u», «oi», «eu», «au». Поскольку никакой другой народ прежде не
передавал на письме гласные звуки, то это само по себе уже могло бы
стать причиной удивления и восхищения или, лучше, предчувствия, что
именно поэтому отношение народа к письму должно было измениться.
Сам Платон в «Кратиле» (393 d) озадаченно указывает на то, что «е», «о»
«и» носят местные имена в отличие от других букв. Но, как ни
странно, современная филология и языкознание сами повинны в том, что
никто не уделяет должного внимания особенностям греческого
письма. Ведь современная фонетика при анализе звуков действует так, что
этот анализ будто самоочевидным образом начинается с гласных, а
затем переходит к плавным и согласным звукам. Тем самым получается,
что мы считаем этот способ действий единственно правильным. Но здесь
ситуация оказывается подобной переходу от Птолемея к Копернику. Тот,
кто сперва занимается гласными, а потом согласными, никогда не
думает о том, что такой метод является поздним и совершенно
искусственным. Гласные звуки издают и животные, но до Эллады их никогда
не записывали. Вследствие этого до Гомера нельзя было даже
представить себе возможность низведения других звуков до уровня
«сопутствующих звучанию», т.е. простых «согласных». Ведь именно они прежде
были главными!
Да, до греков не существовало особого слова для обозначения
отдельного звука! И все же ныне каждый говорит о гласных и согласных,
поскольку латинское слово «con-sonans» и означает «согласный». Но
«consonans» — это, в свою очередь, перевод греческого «symphonos».
Все выглядит довольно странно: каждый знает иностранное слово
«симфония». Но кому известно о том, что «symphonos» является исходным
312
словом для обозначения согласного, для «consonans»? У догреческого
мира не было имени для обозначения гласных, и потому он не мог и
подумать о том, чтобы говорить о буквах для обозначения согласных как
о знаках созвучий. Но на самом деле то, для чего у нас нет имени,
остается нам неизвестным. Теперь, благодаря новым буквам, обозначавшим
долгие «е» и «о», собственно звуки, т.е. гласные, представились
сидящим в классе греческим школьникам своего рода распевами, а звуки,
сопутствующие звучанию, т.е. согласные, — только со-звучиями (31).
Тем самым греческая молодежь преодолела рамки предшествующей
истории письма в Передней Азии и заключила союз с внечеловеческой, не
имеющей истории природой звуков. Таков безо всякого исключения
путь эпоса, и в моей «Полноте времен» приведены многие другие
примеры этого пути эллинов. Таким образом, Эллада не только изобрела
гласные звуки. Она также поместила их в качестве первостепенных в
самый центр своих наименований букв, а согласные, доставшиеся ей от
древних народов Передней Азии, назвала второстепенными звуками.
Тем самым греки косвенно, но четко высказали положение о том, что их
письмо строится на гласных. В этом отношении гласные имеют право и
у нас считаться творением, которым мы обязаны Гомеру. Ибо до
Гомера они не имели никакого значения, и у них не было ни внешнего
образа, ни имени.
На Делосе, в Олимпии, в Афинах и где угодно еще произведения
Гомера декламировались на великих праздниках. Видимо, так
называемые гомеровские гимны были связующим звеном между эпосом и
локальными культами. К примеру, гимн, воспевавший Аполлона,
почитавшегося на Делосе, как нельзя лучше включал эпос в местную жизнь
и согласовывал панэллинский эпос с местным преданием. Но хотя это
было замечено уже давно, филологическая литература странным образом
отделяет воздействие Гомера от распространения письменности.
Например, Лойман указывает на то, что Гомер обогатил языки Спарты, Крита,
Афин самыми важными словами, и все же отделяет это воздействие
Гомера, имевшее огромные и неожиданные для него самого масштабы, от
обсуждения проблемы возникновения и развития письма. При этом на
с. 277 без всякой связи с эпосом у него написано: «Если напомнить
также о перемещении слов и вещей, то по мере развития письменности
по всей Греции, от области одного диалекта к области другого
диалекта, в качестве культурных заимствований переходили выражения,
служившие для обозначения письма и чтения: «graphein», «grammata»,
«anagignoskein», «ananemesthai». Если даже [эти] послегомеровские
слова получили распространение среди всех греков, то и у гомеровских
стихов была такая же возможность». Лойман, естественно, прав в том,
что в тексте Гомера не называются ни чтение, ни письмо на бумаге.
«Graphein» там означает «наносить надписи». Но то, чего нет в поэме,
уже вполне могло оказать свое воздействие в ходе ее сочинения. Если
почитать немецкую классику, то и там всегда говорится только о
певце, песня которого звучит из глубин его души. Но, несмотря на это,
чернила и типографская краска уже давно господствовали на письменных
столах Клопштока и Уланда (32). Поэтому совпадение слов для
обозначения письма и книжного дела по всей Греции является простейшим до-
313
казательством выявленной нами связи между Гомером и становлением
письма. Вместе с Гомером пришла письменная речь, а вместе с
письменной речью пришел Гомер.
Олимпийские и подобные им игры, письмена для обозначения
гласных звуков и эпос создали небо Гомера и Солнце Гомера, небо, с
которого нам не дают своих предписаний ни Солнце, ни Луна, ни звезды.
Более того, дифтонги, долгие и краткие гласные так модулировали
поэму, что она стала способной к перемещениям, подобно кораблю,
плывущему вокруг Эллады. Фамирид — бард сообщества, говорящего на
локальном диалекте. Что до олимпийских муз, — то пусть читатель
подумает об Олимпе и Олимпии, о Делосе и Дельфах, чтобы осознать, с
каким горячим усердием над бесчисленными поселениями Эллады
создавался определивший их дальнейшее существование небосвод звуков.
В 1000 г. до Рождества Христова китайцы обрели «императорско-свя-
щенническое» письмо, при помощи которого общались между собой
Небо и Сын Неба, но это письмо по-разному озвучивалось в различных
провинциях Китая. В Элладе отказались от сакрального статуса
письма, какой оно имело в Китае. Алфавитное письмо было
непосредственно обращено к слуху внимающего и читающего вслух человека. Так что
оно не стало чем-то сугубо светским и повседневным, но и не осталось
сакральным. Поскольку оно избежало отделения наглядного знака для
обозначения вечного от устной речи, то обитательницы гомеровского
храма муз вполне по праву стали ла/губогинями. Таким образом, культ
Муз помещает «meropes brotoi» точно посередине промежуточной
области, лежащей между бессмертными богами и неартикулированными
смертными. Музы — это то самое «среднее» фонетического письма,
записанного и все же звучащего мира. В девяти Музах голос и зрение
соединились так, как никогда прежде. Я не хочу перечислять их имена,
поскольку тогда я должен был бы воздать хвалу каждой из них, и этим
восхвалениям не было бы конца. Пускай каждый читатель вызовет в
своей памяти хотя бы одну из них. Тогда on с удивлением ощутит ту
точность, с которой была призвана к жизни вся литература,
опирающаяся на звучащее слово. Даже сама грамматика в Греции возникла для того,
чтобы лучше понимать поэзию, а не в связи с литургией или
законами: «"Grammatike" издавна означала обсуждение поэзии» (33).
Со времен Гомера литература становится чем-то промежуточным,
занимая место между культом и частной жизнью. Теперь следует
вспомнить, что мы с самого начала выделяли три уровня языка, т.е.
имена, слова и числа. Здесь это нам поможет. Ибо Гомер поет о том,
как изменяются имена в процессе беседы людей, обменивающихся
словами, разговаривающих друг с другом. В моей «Полноте времен»
подробно рассматривается переименование, совершающееся в ходе
беседы между Приамом и Ахиллесом в 24-й песне «Илиады». Либо на
основе этого моего анализа, либо обратившись к чтению самой
«Илиады» читатель может убедиться, как Муза Гомера превращает имена,
это наше божественное снаряжение в качестве троянцев, греков,
принцев, отцов, в слова, которые, будучи вложены в уста друга и врага,
обнаруживают способность изменяться; в слова, произнесение которых
может установить мир. Так нас подводят к истокам гуманизма. Ибо
314
другой человек здесь признается причастным божественной славе, и,
таким образом, к нему начинают относиться по-братски. Я сейчас не
буду повторять подробных рассуждений, содержащихся в той моей
книге, а затрону лишь моменты, относящиеся к Трое, и сделаю это на
примере «Одиссеи». «Одиссея» тоже начинается с «какого-либо»
слова: «Муза, скажи мне о том многоопытном муже...» Ведь филологи-
классики, как и критики Библии, по политическим причинам, а
именно, в качестве революционеров, отстаивавших интересы третьего
сословия, разыгрывали из себя рапсодов и разрушали единство поэзии
Гомера несмотря на протесты со стороны Гёте и Шиллера. Так что они
совершенно не обсуждали ничего из того, что указывает на единство
обоих эпосов Гомера. Так вот: великолепнейшее доказательство
единства «Одиссеи» заключено в первом слове — «andra», «мужа», и в
1952 г., наконец, на это обратил наше внимание даже один филолог.
Это произошло после того, как ученый мир после паузы,
продолжавшейся 150 лет, снова обрел единство в понимании того, насколько
едины по своему замыслу «Илиада» и «Одиссея».
Таким образом, на примере «Одиссеи» я хочу показать
применительно к Гомеру, — создателю также и «Илиады», — что он вторгается в
божественную область неизменно вечных имен и с помощью слов
человека гладит и теребит их до тех пор, пока они не превращаются в
спрягаемые и склоняемые слова, приемлемые для человека и доступные
ему. Уже более двадцати лет назад я показал, как в «Одиссее» — или мне
следовало сказать, скорее, из «Одиссеи», — в ходе пения возникает «Пе-
нелопея» (34). У человека, которого боги сначала преследуют тем, что
он носит свое имя как навлекший на себя гнев, шаг за шагом это
подобное проклятию имя отнимается и превращается в благословение,
излучаемое неизменной и прочной любовью его супруги (35). Во всех
правдивых повествованиях хорошо известно, что история нашей жизни
состоит в том, что сначала некая принцесса первой должна узрить за
нашим устрашающим наружным обликом принца и что затем благодаря
ее предвосхищающему видению весь остальной мир вместо чудовища
постепенно обретает готовность видеть в нас принца. За исключением
так называемой литературы последних 150 лет, все сказки, саги, культ
и вера полны описаний этого пути любви, ведущего в мир. Особый
подход «Одиссеи» коренится в том, что жизнь Одиссею омрачает
Немезида имени «Одиссей» (а оно означает «тот, кто навлек на себя гнев»).
С этого пункта начинает У.Б. Стэнфорд (Stanford) (36). По его словам,
вплоть до 1850 г. никто не подвергал сомнению античное понимание,
согласно которому «odyssamenos» следует понимать как «нелюбимый».
Эту тяжкую ношу переложил на Одиссея, своего внука, его дед Автолик.
Стэнфорд возвращается к этому древнему объяснению, но он
развивает его так, чтобы в процесс толкования могла быть вовлечена сама
поэма. Стэнфорд продолжает так: в 24-й песне «Одиссеи» герой
начинает вызывать у всех любовь вместо неприязни. А теперь я процитирую
дословно: «Tristan failed. Ominously named he failed through enthralment
to passion; Ajax through stubborn pride, Pentheus through blindness and
intolérance; Odysseus — Homer indicates — succeeded by means of
intelligence and endurance in suffering the worst that hatred of gods and men
315
could do to him. Не surmounîed the nemesis ofhis name» (37). Имя,
оказывающее магическое, культовое и сакральное действие, может быть
лишено своей силы, расколдовано и переплавлено Музами. Так считает
Стэнфорд. Именно потому, что я не разделяю его неприкрытого
индивидуализма, ориентированного только на Одиссея, а, исходя из текста
самой поэмы, скорее, считаю решающим содействие Пенелопы в
расколдовывании имени, я удовлетворюсь здесь тем, что мы оба, и
Стэнфорд, и я, обнаруживаем тут эмансипацию человека от его имени. Так
вот какая тайна выражена в первых словах первой песни: речь пойдет
о муже, который сначала зовется Одиссеем, но этим именем о нем
сказано отнюдь не все!
Тем самым прекращается господство литургии. Ибо от ее имен
нельзя отказаться. Однако поэзия может снова обратить имена в
слова. В других работах мы подробно исследовали случаи вызванного
тяжкой необходимостью отказа от присяги, принесенной на знамени, и
отречения. Мир греческого архипелага был полон таких тягот
существования в маленьких государствах, и тем самым «где-то» и «кто-то»,
«повсюду» и «нигде», «господин Никто», в которого временами превращается
сам Одиссей, становятся чем-то намного большим, чем «сказки
мореплавателей». Это новый речевой способ избежать прямолинейности — вот
что знаменует собой эта множественность проявлений человечности, в
силу которой человек является одним и становится другим.
Ахиллеса в «Илиаде» от его роли гневающегося освобождает его
уважение к врагу. Одиссея от роли того, на кого гневаются боги и люди,
освобождает любовь женщины и ребенка.
Так Муза нашла или создала мусическое, среднее решение
проблемы соотношения между вечными, а потому роковыми именами,
нареченными богами, и изменчивыми словами людей. Имена ни в коем
случае не утрачивают свой смысл или свою формообразующую силу. Но
мы сами можем подняться в ту мастерскую богов, где чеканятся
формы, мастерскую, которая приводит в действие время и его
преобразующую силу. Наше страстное стремление к божественному
существованию придает нам смелость с терпением и выдержкой вступить в этот
поток времени, и с тех пор, как пел Гомер, никто не может обойтись
без этого благозвучного пения Муз.
3. Нисхождение в музей
Из храмов Муз, которые стояли в Аскре Гесиода или в Академии
Платона, в конце концов возникли школы. Ницше принадлежит заслуга
сухого и рассудительного перевода более позднего выражения «museion
logon» как «школы красноречия» (38).
Как это произошло?
Знаток высокого и глубокого обычно называет «полусветом» тот мир,
который не является ни миром малого, ни миром великого, не
представляет собой ни «piccolo mondo antico» Фогаццаро (39), т.е. малый мир
дома, ни большой деловой мир правящих сил, а оказывается, скорее,
беспорядком, чем-то неоформленным, находящимся в состоянии броже-
316
ния, тем, что всякий раз заново — и всякий раз только на краткое
время — занимает промежуток между малым и большим порядком.
Мусический мир — это на время вклинивающийся полусвет. Ибо
его как бы по некоей прихоти посещает — или не посещает — самый
ненадежный, руководствующийся в своих действиях исключительно
принципом добровольности элемент, который мы называем «публикой».
Публика может прийти или не прийти. Она может поступить так, как ей
заблагорассудится. Публика появляется там, где между серьезным
миром культа богов всей Эллады, богов-олимпийцев, и культами
дающего имя героя, присущими отдельным полисам, вклинивается мир
театра. Вслед за публикой, перед которой исполнялись гомеровские
песнопения, — на Делосе, в Олимпии, в Панионионе (40), в Афинах, —
возникла театральная публика. И этой публике была предложена другая
структура образов, нежели во всегреческом эпосе.
В чем же состоит отличие Гомера от авторов трагедий и комедий?
Как изменяется мусическое начало при такой преемственности? Если
это приходило на ум поэту, то в театре города Афин могли быть
представлены герои из всех других 254 городов. На сцене Афин в пятом
столетии выступало более тридцати иноязычных хоров. Из Фив пришел
Эдип, из Колхиды — Медея, с Пелопоннеса — Геракл, из Фракии —
Дионис. Эпос распространил одну и ту же олимпийскую Элладу на 255
общин. Сцена несла в Афины истории, возникшие в 254 других
общинах. Читателю следует вспомнить опубликованные выше, обращенные
к Синтии «Письма в Каир», где повествуется, как определенное,
неповторимое мировое пространство оказалось покрыто священными
предписаниями для того, чтобы записать вечность. Гомер заменил этот
предписанный и записанный мир стен миром человека. К этому ныне
прибавился театр, и он осмелился вторгнуться на кладбища отдельных
общин и освободить героев из их могил, служивших объектами
поклонения. Подобно Лазарю, они вышли из своих склепов и производили
впечатление людей, как бы насильно переселенных в Афины. Даже
великий царь Дарий появлялся на сцене Афин, и это было результатом
действия некоей доселе недозволенной и неслыханной силы, лишающей
корней и обобщающей. Музыка Муз ворвалась в литургию богов и
героев. Когда, насытившись трагедиями, Афины пали, прежде всего под
ударами Спарты, весь архипелаг побывал в гостях у Афин. Будучи
причастным страху и сочувствию, посетитель театра стал «humanus» (41),
человеком, который более не отчуждает себя от судьбы другого
человека, а приобщается к ней. С падением Афин приблизительно в 400 г. до
Рождества Христова мусическая сила претерпела изменение для того,
чтобы пережить утрату театром Афин его первенствующего положения.
Театр находился у основания городского храма на Акрополе. Теперь
Муза возделала участки, еще дальше отстоявшие от богов города.
Академия, Стоя, перипатетики, сад Эпикура освободились от театра, все
еще сохранявшего тесную связь с календарем городских праздников.
Подобно тому как театр отдельного поселения освободил себя от
зависимости от панэллинских праздников, так и девять Муз ныне стали
гостьями философов, не зависевших от города. Платон, Аристотель, Зенон
предоставляют Музам прибежище.
317
Таким образом, вслед за эпосом и драмой философствование
оказывается третьей эпохой мусического полусвета, а именно эпохой
полубогинь, пребывающих между вечными олимпийцами и нами, арти-
кулированно говорящими смертными. Даже Платон, будучи смертным,
говорил артикулированно, подобно бессмертным, и мир справедливо
чествует его как «сына Аполлона» (42). Именно после 400 г. до
Рождества Христова Мусагет (43) перевел Муз в философию. Музы
изменились еще раз.
Когда Александр Великий, не делая различий, победил греческие
полисы, ни Афины, ни Коринф, ни Фивы не могли более искать
убежища на каких-либо островах Муз. Так что Музы бежали в музеи,
которые устроили для них новые властители. Мусейон (44), таким
образом, становится четвертой ступенью. В музее происходит последнее
превращение мусической преемственности. Музы переносятся в
Александрию, Пергам и на Родос. И их путь достигает даже евангелий.
Мария Магдалина — это форма Аспасии (45), и обычное понимание Марии
Магдалины является неполным от того, что она не включена в
греческий духовный мир. Так и получается, что христиане вместе со своими
теологами не хотят видеть Иисуса из Назарета вместе с апостолом
Павлом на греческом Ареопаге (46).
Конечно, Мусейон больше не мог символизировать свободное небо
пирейских (47) Муз. Над свободной жизнью Муз теперь сооружена
крыша. Под этой крышей девять Муз обращаются в знание о том, чего
добились Музы, будучи свободными. И это знание сразу же стало
называться семью свободными искусствами.
Как начал Гомер? Уже в «Письмах в Каир» читатель найдет
изложение того, как певец ворвался в строгое царство служителей культа, как
«где-нибудь, когда-нибудь», созданные певцом, возникают там, где
служитель культа осуществлял священнодействие, строго соблюдая его
последовательность от начала к середине и далее к завершению. Гомер поет
о каком-то муже, и «какой-то» — это мусИЧеское изобретение. В
«Илиаде» воспевается гнев, откуда-то взявшийся после девяти лет войны,
тогда как жрецы торжественно возвещали годовщины этой войны и
должны были их праздновать.
Так что же сделали семь свободных искусств? Они назывались
свободными из-за своей связи с Музами. Но теперь они собирали тысячи
свободных «откуда-то» и «кто-то», сотворенных мусическими экстаза-
ми. Теперь одухотворение и гений оказались помещены в каталог,
систематизированы и внесены в энциклопедию, т.е. заключены в круг и
четырехугольник, из тесных границ которых вырвался Гомер. Тем
самым вольное путешествие, скитание эллинов, как назвал его красноре-
чивейший грек, подошло к концу. Переход от холма Муз в свободном
пространстве под открытым небом к музею — вот как осуществлялась
величественная преемственность. Ей мы обязаны возникновением
музыкальной, собранной Музами в беспрестанной импровизации,
неравнодушной и образованной публики. Между бесчисленными
отдельными мирами, «piccoli mondi», и миром богов Музы вскормили
«meropes brotoi», людей, которые, несмотря на то что они смертны,
сообща говорят, поют и думают, обращаясь к богам. Между писаным зако-
318
ном полиса и молитвой, адресованной богам, с одной стороны, и
устным приказом в армии и договорными обязательствами по отношению
к ближнему — с другой, музыка, драма, философия и музеи поместили
динамичную беседу, возникающую из сочетания письма и речи. Такая
беседа причастна и строгости букв, и живости звучащего слова, как в те
времена, когда Муза поставила певца на место жреца, сделав его
провозвестником греческого гения, а благозвучие гласных соединилось с
устойчивостью согласных во взаимном признании и своего рода брачном
союзе между преходящим и постоянным, неповторимым и
возобновляющимся.
Мы надеемся, что Музы будут снова и снова вдохновлять
человеческого Протея (48), гения, и его публику. Но перед нами, аргонавтами,
стоит вопрос: «Являются ли Музы ангелами?».
319
Плод уст
Creabo fructum labiorum.
(Я хочу создать плод уст).
Исайя, 57.
Теперь мы можем выйти за пределы первого цикла человеческой речи.
Мы ступаем на порог нашей собственной эры. Наш путь начинался с
доисторического племени, с маленькой группы неистовствующих и
испуганных, кричащих и прыгающих людей, которые собирались с духом,
говорили и танцевали и, таким образом, двигались вперед от страха,
крика и беготни к порядку жизни, руководимому духом.
Они подчинили себя глаголам, местоимениям, именам и числам.
Язык сделал их человечными, дал им облачение и исполнил их силой в
качестве детей человеческих, людей внимающих духам их умерших, в
качестве предшественников и потомков. Их времена были прочно
нанесены на их кожу. Так что они знали, к каким временам они принадлежат.
На второй ступени душа человека поднялась до уровня мироздания.
Татуировки на коже были заменены надписями на стенах храма в ту
эпоху, когда все мироздание говорило с Большим Домом Египта, т.е. с
фараоном, или с императором Китая, Сыном Неба. Вечность описывала
над ними свои круги.
Скажи мне, кто с тобой говорит, и я пойму, кто ты. Фараон стремился
к тому, чтобы стать «ты» небесного мира? сыном Солнца, Луны и всех
звезд, Гором на горизонте южного мира полудня и северного мира
полуночи. Прислушивающийся к мирозданию Сын Неба превратился в
сердце живой вселенной. Иероглифы стали его татуировкой. Они точно
записывали круговращение эона. Когда в племени и в царстве были
созданы ритуалы, появилась поэзия. А она вела к тем зеленым долинам, где
Навсикая нашла Одиссея на морском побережье и где Ахиллес встретил
свою мать, морскую богиню Фетиду. С того момента, как паника была
преодолена с помощью ритуалов, поэзия смогла возвратиться к
«природе». «Природа» означает именно «мир без паники». Поэзия вслушивается
в природу без страха. Она является продуктом мира и уже унаследовала
мир и закон. Тем самым поэзия может придать законам или мирным
договорам более благообразный вид, чем тот, какой они имеют на самом
деле. Поэзия облагораживает ту природу, которая благодаря ритуалам
освободилась от паники, но окружающий мир остается окружающим
миром, разделенным на многие области, где людей подстерегают
мировые войны, мировые загадки, мировые революции и мировой хаос.
Поток гомеровской поэзии двигался в одном направлении — к
окружающему миру. Гомер извлек пользу из достижений ритуала. Поток
320
псалмов Израиля изливался в противоположном направлении. Израиль
чутьем угадал изъян в многообразии и незавершенности ритуалов. Все
они заклинали духов прошлого либо богов, заключенных в круговороте
настоящего. Израиль направил свои усилия не на «мир минус паника»,
а на тот факт, что грядущее творение еще впереди. Израиль видел, что
один ритуал противоречил другому и что ни храм, ни татуировка, ни
поэмы не в состоянии когда-либо выйти за границы места и времени
своего действия. Чем больше создавалось ритуалов и сооружалось храмов,
чем больше сочинялось поэм, тем сильнее становилась неразбериха
форм речи, тем выше возносилась Вавилонская башня. Израиль вышел
из этого состояния «Тоху вабоху» (1), из этого мира, в котором,
согласно императору Нерону, бок-о-бок сосуществует много эонов (2).
Правда, Израиль построил храм, но, сделав это, он тут же осознал, что
Бог не живет в этом храме. Израиль лишил храм власти. Разумеется,
Израиль подвергал обрезанию своих молодых мужчин, но он делал это с
младенцами в колыбели, а не с проходящими инициацию юношами. В
ритуалах плодородия, совершаемых родами, мальчик благодаря
обрезанию должен был одухотворяться. Израиль лишил содержания этот ритуал
племени, отнеся его к малолетним. Конечно, Израиль слагал стихи, но
он не признавал, что он сам «создал» их: нельзя было почитать идолы
или изображения, сделанные людьми. Израиль настаивал на том, что к
нему обратились и он отвечает. Таким образом, Израиль лишил власти
искусства. Он превратил гения в отвечающего. Этими тремя действиями
он лишил три великие формы речи язычников — ритуал, храм,
искусства — их заманчивого очарования и соблазна выдавать себя за нечто
абсолютное. Действительный язык, как на том настаивал Израиль, еще
должен был возникнуть. Его услышит лишь тот, кто, внимая движению
эона, подобно пророку, воззовет к настоящему из грядущего (3). Когда
все это было сказано, когда сказали свое слово племя сиу и китайцы,
греки и евреи, настал конец света. Это было и является полным циклом
древности:
1. Внимавшие духам умерших создали ритуал одухотворения.
2. Внимавшие небесному миру и мирозданию воздвигли храмы
вечного возвращения.
3. Те, кто слушался правил и соблюдал уже достигнутый мир, стали
поэтами и художниками для публики.
4. Внимавшие будущему взывали к настоящему, исходя из конца
времен.
Эти четыре ступени языка были объединены и преодолены Иисусом.
Из-за этого деяния он и называется Христом. Христос — это Иисус в
качестве плода уст древности. Иисус прислушивался к духам древности.
Борьба между полами, олицетворявшаяся Адамом, Евой и всем их
потомством, была преодолена Марией и ее сыном, когда они оставили
позади себя брак и ритуал погребения. Иисусу были известны календарь
небесного мира и власть мироздания, поскольку он выступил тогда,
когда Понтий Пилат воплощал в себе в Палестине земное единство
римского мира, а в Страстную пятницу он пожертвовал собой вместо
кровавого жертвоприношения в храме. Иисусу были известны поэзия и уже
достигнутый мир, поскольку его речь, несомненно, очищает и облагоражи-
М Зак. 3524
321
вает лилии и воробьев, неверную жену и вора; мир за воротами городов
не вызывал у него никакого страха, но все стихи он оставил позади себя.
Он не написал никакой книги, но когда он писал что-то на песке, он сам
превращался в настоящую поэму (4), Carmen humanum (5), в которой с
тех пор каждый из нас может стать звучащей строкой.
Иисус вслушивался в будущее, ибо на его устах были псалмы и
мессианская вера Израиля сформировала его; но он не был пророком. Это
первое, что сообщается о нем. Он довлеет себе. Он не ждал кого-то
другого, он сам был единственным, кого ждали. Поскольку были известны
только те типы людей, которые жили до него, его называли сыном
Иосифа, плотником, царем, жрецом, учителем, пророком, Мессией.
Эти имена отчетливо обозначают некоторые ограничения. Они
являются конечными продуктами выявленных нами четырех языковых
потоков: последний кесарь, последний жрец, последний пророк, Мессия. Все
эти «последние» могли прежде означать только закат мира. И Иисус на
самом деле был концом нашего первого мира, первым концом света. Он
принял на себя грехи первого мира. Это суждение просто констатирует
тот факт, что, будучи отделены друг от друга, ритуал племени, храм
небесного мира, воспевающая природу поэзия и мессианские псалмы
заканчиваются тупиком, неизменностью односторонней тенденции. В
этом смысле Иисус был наказан смертной казнью за то, что он был
наследником этих смертоносных тупиков. Они погубили его, поскольку он
сосредоточил в своих руках и в своем сердце, в своем сознании и в
своей душе все их богатство и все их достояние. Он был слишком богат для
того, чтобы оказаться непричастным к катастрофе этого слишком
богатого древнего мира. Так что ему надлежало стать тем, кого осудил на
смерть кесарь и принес в жертву жрец, тем, о ком слагал стихи поэт и
возвестил пророк.
Но конечный пункт четырых языковых потоков стал также исходным
пунктом. Иисус основал Церковь, поскольку он был плодом всех чистых
уст древности. Он говорил, направляя свои слова в те четыре русла,
которые были созданы им. И как бы он мог говорить иначе? Он цитировал
Второзаконие, когда формулировал золотое правило нравственности. Но
мы больше того, что мы говорим. Иисус не был заключен в каком-либо
правиле или ритуале, хотя он исполнил и оживил их все, как только
поэма его жизни столкнулась с их содержанием. Он создал такого
человека, который в каждом своем действии значительно выходит за пределы
этого действия. Когда люди думали, что он является плотником, он был
учителем. Когда его называли учителем, он был пророком. Когда его
называли пророком, он был Мессией. А когда его называли Мессией, он
открывался как тот Единственный, который услышал свободного Бога,
живого Бога. Его действительная жизнь постоянно оставляла позади себя
его социальное положение. Это превышение меры в христианскую
эпоху и является «человеком». Человек — это существо, которое не
приноравливается. (Excessus mentis = «избыток души» — это у Иоанна Скота
Эриугены, Бонавентуры и Николая Кузанского (6) устойчивое
выражение, путь души христианина, ведущий за пределы ее душевной тюрьмы).
Мы — дети слушания. Поскольку мы слушаем наших родителей, мы
носим их имена. Поскольку мы прислушиваемся к разным стечениям
322
обстоятельств и конъюнктуре нашего социального мира, мы являемся
детьми нашего времени. Слушая соблазнительный призыв поэзии, мы
становимся детьми природы. И поскольку мы внимаем голосу нашего
предназначения, мы становимся сыновьями и дочерьми революции или
будущего.
Иисус — это сын Бога. Он исполняет и завершает четыре «задачи
слушания»
детей предков,
детей эона,
детей природы и
детей пророчества.
Между тем он показывает, что эти задачи могут быть выполнены
здесь и теперь на наших глазах только в это благоприятное лето Господне
благоприятное (7) , которое мы называем словом «сегодня». Сначала
необходимо освободиться от всех законов четырех видов слушания, и лишь
затем их можно наполнить новой жизнью.
Иисус был сыном ритуала, сыном всех произнесенных слов, но,
поскольку он продемонстрировал свою независимость от их особого
авторитета, он стал основателем нового языка, в котором все они
оказываются слиты воедино в новое начало (Ин. 8:25-47). В этом месте, говоря о
Нем, мы испытываем некоторое затруднение. Девятнадцатое столетие
разорвало связь Иисуса с его прошлым. Это было столетие искусства.
Оно любило жизнь и ненавидело страдание. Ему не нравились никакие
кресты: почему, собственно, Он должен был умереть? Оно
сосредоточилось на изучении жизни Иисуса. Биографии повсеместно вошли в моду,
так что и Иисус получил свою биографию. Это было что-то новое. Это
находилось в противоречии с христианским преданием. Христианское
предание состояло в «танатографии» (8). Биография заканчивается
смертью того, о ком она повествует. История Иисуса имеет смысл лишь
тогда, когда его смерть обосновывает наши жития и предшествует им.
Отдельный христианин — это человек, с которым Иисус уже говорит, а
Тело Христово состоит из тех, кто слушает его. Но модная болезнь
создания биографий привела к такому состоянию духа, когда для
христианина считается достаточным говорить о Христе и самому называть себя
христианином. Но единственный вопрос, который Христос сделал
настоятельным, звучит так: «Наложил ли я для вас печать на древность? Живете
ли вы согласно моим заповедям? Свободны ли вы от власти племени,
профессионального сословия, публики и пророчеств?»
Для современных руссоистов Иисус — это невинный юноша, герой
христианского союза молодых людей, славный парень. Биографии
отняли у Него его действительное имя, поскольку, если Он не есть Слово,
нам оно неинтересно. Мы показали, что говорить означает
рассматривать плоды конца в качестве зародышей будущего. Если могила Иисуса
не является лоном христианской эпохи, то нам лучше забыть обо всей
его истории как о сказке. Произошло некое выхолащивание: когда в
наши дни Церковь говорит об Иисусе, Он больше не предстает
виноградной лозой, а мы — гроздьями винограда. Просто Он некогда жил. И
никакая критика, обращенная к библейскому критицизму, не в состоянии
сделать это событие никогда не бывшим. Об Иисусе писали так мало,
323
словно он был бессловесное дитя природы. С другой стороны, история
языка требует отвоевать то место, которое подобает Иисусу в ее
диалектике. В качестве Слова, ставшего плотью, Иисусу подобает занять
центральное положение в истории языка. Но нацисты, евреи, фашисты, китайцы,
марксисты отрицают Слово в качестве нашего истинного прародителя.
Таким образом, наше затруднение заключается в следующем: для
современного человека Иисус — это человек, живший с 3 г. до н.э. до 28 г.,
29 г. или 33 г. н.э. Для нас и то, и другое не имеет никакого значения. С
другой стороны, язык прошел полный цикл у индейцев, египтян, греков
и евреев, и мы более не говорим ни на одном из их четырех языков и
думаем совсем иначе, чем они. Но мы вполне способны понять их мысли.
Их смысл нам ясен. Они для нас прозрачны. И ради нашего душевного
спокойствия мы должны выявить причину этого явления.
Каким образом мы можем превратить плоды последнего
биографического столетия христианского мира в семена, из которых произрастет
наше понимание языка?
Наши первые шаги за пределы критического, аналитического и
биографического столетия должны быть совершены всецело ради нас
самих. Потребности нашего времени обусловливают необходимость
возобновления континуума волн духа. Мы тоже должны говорить. Но мы
не сможем говорить, если не ощутим уверенности в том, что
принадлежим к континууму речи. Язык подобен любви, ибо и то, и другое
впервые должно быть открыто каждым отдельным человеком и, несмотря на
это, является чем-то всеобщим. В своей первой любви человек
одновременно открывает целостность любви вообще. Непрерывность истории,
порядок мироздания, судьба человека, — все это открывается душе,
любящей в первый раз. Благодаря тому, что человек охвачен любовью, его
глаза открываются, а уши становятся органом узнавания. Он
приобретает способность разгадывать загадки, понимает язык цветов и звезд, он
может говорить, ликовать и петь. Любить другого означает то же самое,
что все понимать. И красноречие любви происходит из уверенности,
что все существа говорят на том же языке. В качестве говорящего, точно
так же как и в качестве любящего, мы нуждаемся в уверенности, что мы
движемся в континууме, что наше открытие действительной жизни и
наши слова имеют универсальный смысл. Без этого мы сойдем с ума,
и нас оставит всякий дух. Немыслимо предполагать, будто мы, говоря,
делаем что-то иное, нежели люди всех времен. Наша речь прозвучала
бы в пустоте, была бы бессмысленным лепетом, если бы мы не имели
права верить, что всякая речь с первого дня, когда человек начал
говорить, и до последнего авторизована и оправдана как тот же самый
жизненный процесс.
Поэтому настоящей самозащитой в буквальном смысле является мое
стремление исходить из молчаливого отрицания обеих догм науки, в
которых утверждается, будто:
1. жизнь человека заканчивается с его смертью;
2. слова человека представляют собой простое средство выражения
его мыслей.
Обе эти догмы лишают наши слова какого бы то ни было смысла, и
последние пятьдесят лет, наполненные катастрофами, служат вполне
324
логичным ответом на них. Эти догмы выявляют бессмысленность той
науки, которая рассматривает человека в качестве части природы.
В противоположность обеим этим догмам, я придерживаюсь той
точки зрения, что мы являемся плодом уст, и убежден, что наши уста будут
приносить плоды. Ибо это представляется мне убедительным. Это
восстанавливает мое право слушать и говорить. Но такой смысл, подобно
всякому пониманию смысла, требует универсального использования. Я
попытался убедить читателя, что Иисус — это плод четырех языковых
потоков, которые предшествовали ему. Он — плод уст всей древности.
Мой ответ столетию, проникнутому историей, искусством,
литературой, биографиями и критикой, является строго лингвистическим. Дело
обстоит отнюдь не так, будто Бог дозволил расцвести в Палестине
некоему прекрасному цветку, существующему вне истории. Все человечество
причастно к появлениию этого человека. Поскольку оно говорило
плодотворно, логически последовательно, настоятельно и связно, то лишь
благодаря этому человеку у него есть будущее.
Четыре языковых потока, закончившиеся под Крестом, были нами
выявлены в предыдущих главах. Но в то же время Крест преграждает
путь, ведущий назад к каждому отдельному потоку. Я не могу
возвратиться к племенному ритуалу или к небесному миру фараона. Гитлер,
предпринявший именно такую попытку, оказался безумцем, а два других
потока тоже заблокированы: современные эллины, т.е. физики, и
современные иудеи, т.е. сионисты, конечно же, — не греки и не евреи
древности. Греки прославляли красоту космоса, а наши физики лишили
космос его смысла. Евреи славили Бога, а сионисты возвели в качестве
первого официального здания в Иерусалиме университет. Таким образом,
блокирование путей назад, осуществленное с помощью Слова, — это
свершившийся факт. Ни один из языковых потоков человека древности
не продолжается непосредственно в нас.
И поскольку дело обстоит именно так, нам надлежит рассматривать
Иисуса как источник становления всех языков нашей эпохи. В качестве
слушающих и говорящих, поющих и учащих мы — плод его уст. Если это
призвано стать чем-то большим, нежели игра слов, то мы должны
смело поставить вопрос об этих устах. Устами живого Иисуса, которые, по-
видимому, были столь же чудесны, как и его слова, мы не можем более
внимать.
И все же его уста должны воздействовать на нас. Но как же мы
узнаем о них? Этим вопросом обозначена задача данной работы. Четыре
евангелия — от Матфея, Марка, Луки и Иоанна — это уста воскресшего
Иисуса. Они раскрывают смысл его смерти. Они — это уста,
сообщающие нам о значении того, что его сердце было разбито. С нами
связываются ожидания, что мы станем плодом его уст.
Ради самозащиты человек совершает отчаянные действия. Защищая
себя, мы обретаем мужество понимать речь, приносящую плод.
Поскольку Иисус является своеобразным шлагбаумом, отделяющим нас от
изобилующих плодами языковых потоков древности, мы должны
научиться понимать, что такое его «уста». Как были созданы эти уста?
Можно ли утверждать, что четыре евангелия являются для нас устами
Слова во время Его распятия? Очевидно, их было бы недостаточно,
325
если бы они не использовали силы всех дохристианских языков и,
делая это, не вышли бы за пределы всего того, что было сказано когда-
либо прежде.
Но может ли это быть истинным? И почему четыре евангелия, а не
одно или два?
Наша гипотеза заключается в том, что четыре евангелия — это уста,
плодом которых мы должны быть, и что это — Его уста, уста Иисуса. Из
этого следует, что — поскольку четыре евангелия являются одним
органом, а именно устами Иисуса, — тайна единства евангелий оказывается
именно той тайной, которую мы должны понять.
«Натуралистическое» столетие библейского критицизма очень хорошо
знало, что даже простое существование «уст» распятого Христа
расстроило бы их собственные поиски Иисуса в качестве обычного человека.
Нападки библейского критицизма сосредоточились в одном аргументе:
дескать, мы не должны читать евангелия в качестве четырех; следственно, они
должны быть сведены к одному. Это произошло, когда три евангелия были
в сокращенном виде соединены в одно, а четвертое — отброшено. За
первыми тремя евангелиями, «синоптиками», Вайсом (9) был поставлен
некий общий для них источник, знаменитый «Q», и он, — нам надлежало
верить, — является документом, к которому восходят все три. Напротив,
евангелию от Иоанна было отказано в характере источника, и оно было
отнесено куда-то ко второму веку, когда по прошествии долгого времени
оно уже не могло притязать на роль важного свидетельства о фактах. Так
святой Иоанн превратился в «легенду», тогда как три синоптических
евангелия были упрощены тем, что их свели к единственному письменному
источнику. Соответственно, ни одно из них не могло остаться некоей
целостностью, имеющей самостоятельное значение, поскольку ни одно не
могло быть лучше общего для них «источника» («Quelle»).
После того как три синоптических евангелия были однажды сведены
к одному источнику, они превратились в обычный материал для
реконструкции жизни Иисуса, применяемый наряду со всем прочим
материалом. Рейценштейн использовал для этой цели мистерии восточных
религий, Дибелиус привлек к исследованию образцы искусства, а Шолом
Аш (10) обратился к раввинской традиции, чтобы «объяснить» Иисуса.
Постепенно Иисус сделался выражением стиля или моды
предшествовавшей ему жизни. Его убрали с пути как дорожное заграждение. Теперь
он принадлежал к той самой античности, от которой он, казалось бы,
спас нас! Он говорил, мыслил, молился и учил, как многие мужи
древних времен. Тут не было причин поднимать много шума вокруг этого
человека, этого маленького человека с «Востока». Анатоль Франс
подытожил все это в замечании Понтия Пилата, обращенном к его другу.
Пилат отдыхает на Ривьере, предается воспоминаниям о своем интересном
прошлом и говорит своему собеседнику: «Jesus de Nazareth? Je ne me
souviens pas» (11). И в самом деле, он не оставил после себя ничего,
заслуживающего внимания, — в точности так, как это понимают критики:
Иисус превратился в одно из воспоминаний о древности.
Я не преувеличиваю, говоря, что предпосылкой такого результата
стала научная редукция четырех евангелий к беспорядочной груде
материалов, предоставляемых разными источниками.
326
Но как убедить современного человека в том, что евангелия лучше
всего этого? В отрицательном смысле нужно сказать, что страстное
стремление свести евангелия практически к одному из них в наши дни
несколько ослабло. Что же было порождено этим стремлением? Правда,
критики «доказали», что написанное по-гречески евангелие, евангелие
от Марка, возникло первоначально. И в самом деле — не было ничего
такого, чего не доказали бы эти ученые. Например, они дошли до того, что
никто более не верил, будто Послание к евреям действительно
написано к евреям (12). Иными словами, каждый камень нашего предания был
перевернут и отброшен в сторону, так что он стал означать прямо
противоположное тому, что он означает. Но этот период переворачивания
всего и вся подошел к концу. Он меня не интересует. Для тех читателей,
которые не в состоянии изучить этот вопрос, я хочу упомянуть о
некоторых фактах, которые завершают всю эру от «Реймаруса до Вреде» (13),
содержанием которой был поиск исторического Иисуса. Эти факты
образуют теперь заслон против будущих редукционистов. Мы никогда не
познаем исторического Иисуса на основе так называемого «материала».
Факты таковы:
1. Иоанн пишет как свидетель, знающий мельчайшие подробности,
в тех случаях, когда считает необходимым упоминать о них. Автор
евангелия является апостолом. Поэтому оно требует признания своего
авторитета.
2. Все четыре евангелия являются апостольскими. Матфей,
единственный среди апостолов, был обращенным мытарем, и он писал на
глазах Петра, сыновей Зеведеевых и брата Иисуса в Иерусалиме до 42 г.
Марк был последователем Петра, а Лука жил вместе в Павлом. Иоанн
диктовал секретарю-греку.
3. Матфей писал на еврейском, а не на арамейском языке, и он
писал первым.
4. Марк открыто признает, что он цитирует Матфея.
Эти четыре факта самым простым способом опровергают тех
критиков, которые оспаривают равную значимость четырех авторитетных
евангелий. Я упоминаю эти факты для утешения душ, запуганных
благоговением перед такой «наукой». Я и сам вырос под влиянием
выдающихся критиков источников того времени. Одна из моих первых книг
была посвящена одному из них, И.Фалену (Vahlen). Я сам проделал
огромную работу по изучению источников, неизвестных авторов и
соотношений между источниками. В 1912 г., когда я работал в архиве над
рукописью, относящейся к тринадцатому веку, я прочел на листе
пергамента следующую фразу: «Multi enim studio contradicendi amiserunt sensum».
Это означает: «Многие в своем стремлении противоречить любой ценой
теряют разум». Я пришел в ужас.
Противоречить — это одно. Это разрешено каждому, но никому не
позволено утверждать, что его возражение может когда-либо получить
позитивное разрешение только в силу «нет».
Применительно к Библии это означает: не каждому дано читать
Библию как уста, плодом которых должен стать читатель. Каждый имеет
преимущественное право сказать: «Я не верю, что Иоанн написал свое
евангелие», или: «Мы не можем знать, когда оно было написано». Мож-
327
но обратить свое «нет» именно против какого-либо утверждения,
адресованного одним человеком другому. Но никогда нельзя посредством
простой спекуляции поставить некое новое позитивное решение на
место прежнего. Между тем, это именно то, что сделали критики Библии.
Они не удовольствовались недоверием к традиции. Они вполне
определенно рассказали нам, кто изложил подлинную историю, как обстоит с
ней дело, когда были написаны наши евангелия и для каких партийных
целей.
Рассудку не дано постигать действительность через отрицание.
Наше предание может быть плохим или мало достоверным. Но как раз
тогда мы и не имеем дела с истинным преданием. Логические сальто-
мортале не могут создать позитивную историю. Когда сознание
пытается выступать в роли творца действительных фактов, мы снова
сталкиваемся с методами гностиков. В области воспитания гностицизмом
оказывается такая ситуация, когда людям рассказывают, каким должно
быть воспитание, а потом думают: «Ну вот, теперь они воспитаны».
Гностицизм в области истории господствует там, где человеку
рассказывают, как могла бы протекать история, а потом думают: «Ну вот, по
этому пути она и пошла».
Это знакомство с негативным способом рассмотрения, присущим
столетию критики, так глубоко потрясло одного великого человека, что
он пожертвовал своей славой знатока библейского критицизма, изучил
медицину и отправился в Африку, чтобы лечить там чернокожих. Прежде
чем Альберт Швейцер (14) покинул Европу, он опубликовал книгу, в
которой изложено это его понимание,- свою знаменитую «Окончательную
критику полуторавековых изысканий, касающихся жизни Иисуса».
Именно такое название мы, оглядываясь назад, можем теперь дать его
тогдашней книге, вышедшей в свет в 1908 г.! Ее первое название
звучало так: «От Реймаруса до Вреде: История изучения жизни Иисуса».
Отказ Швейцера от Европы ради безъязыкого физического мира джунглей
был вызван негативным образом действий критиков Библии. Понимание
Швейцером ложности этого образа действий на некоторое время
излечило его. Но в конце концов привычные для него формы учености
вернулись к нему, и он пережил рецидив. То, что он запретил себе делать по
отношению к Иисусу, он теперь применил к апостолу Павлу. Его толстая
книга о мистике апостола Павла написана в духе тех же основных
положений, которые он предал осуждению в изучении Иисуса.
Так Швейцер стал трагической фигурой, разрушившей чары,
поскольку он отверг критицизм, но все же не освободившейся от них. Это
может послужить нам предостережением: труд ста пятидесяти лет нельзя
быстро отменить простым волевым решением. Отрицая отрицание,
Швейцер все же не достиг некоей новой позиции. Когда его вера еще раз
потребовала позитивного языка, он снова вернулся на традиционные
пути мысли. Из предисловия к «Мистике апостола Павла» явствует, что
Швейцер осознавал свои трудности. Он признает, что читает Новый
Завет как источник. Он предпринимает попытку сконструировать из такого
материала некую религию, далеко отстоящую от кого-либо вообще.
Новый Завет выступает отнюдь не как уста, из коих исходит голос,
создавший новое измерение языка, — измерение, в котором все поколения лю-
328
дей становятся братьями и чем-то единым. Напротив, в качестве сына
природы Швейцер пытается доказать самому себе и своим читателям,
что каждое поколение обладает своим особым духом (15).
Конечно, каждое поколение обладает особым духом, но разве не
столь же очевидно, что человек, называемый «Альфой и Омегой»,
началом и концом всех времен, знал об этом факте так же хорошо, как и
Альберт Швейцер, как и парижский модельер, как и популярный
нью-йоркский публицист, как и немецкое молодежное движение? На самом деле
именно эти призраки различных времен и мест призвали Иисуса. Он
решил сделать кое-что для швейцеров своего времени и всех времен. И он
провозгласил, что мы могли бы привнести в мир такую силу, при
помощи которой удается наложить заклятие на этих призраков. Поскольку
эти призраки и духи времени были совершенно очевидны для его души,
он назвал новую силу здоровым, или исцеляющим, духом. Когда
Швейцер писал об апостоле Павле, он имел дело с человеком, который первым
в огромных масштабах применял новую силу. Согласно научным трудам
Швейцера, которым он посвятил свою жизнь, — но не его практической
деятельности! — обоим, и Иисусу, и Павлу, недостает цели, которой они
сами некогда объявили себя приверженными; цели, состоящей в том,
чтобы связать друг с другом все времена. И так утверждается несмотря на
то, что в Первом Послании к коринфянам и в Послании к эфесянам об
этой цели сказано совершенно открыто.
Поскольку я прослеживаю метаморфозы этого великого и
достойного удивления, а для меня — совершенно непонятного теолога, Альберта
Швейцера, мне надлежит спросить самого себя, оснащен ли я лучше
него. Моим огромным преимуществом, как мне кажется, является то,
что я никогда не был профессиональным священником или филологом.
Поскольку мне были слишком хорошо известны те предпосылки, из
которых они исходят, меня всегда страшил обычный для них круговорот
бытия: сначала достичь положения в жизни и хорошо зарабатывать,
занимаясь изучением тех или иных классических текстов, а затем
посвятить время своей жизни тому, чтобы убрать эти тексты с пути; в
результате такой «расчистки» прежняя традиция заменяется «действительным»
преданием. Мы можем отказать себе в том, чтобы быть плодом уст
Иисуса — евангелий; но кто же заинтересован в том, чтобы в результате
серьезных, продолжавшихся всю жизнь исследований прийти к выводу,
будто уст Иисуса никогда не существовало?
Так что я оказался избавлен как от искушения Швейцера, которое
вызвало к жизни книгу об апостоле Павле, так и от потрясения,
вынудившего его отплыть в Африку. Мой подход к Слову, сотворившему
нашу эру, не был поколеблен ни такого рода Сциллой теологических
иллюзий, ни Харибдой утраты этих иллюзий. Вместо этого я сохранил
убежденность в том, что столетие «природы» ставило только ложно
сформулированные вопросы: критики Библии были верными и честными
последователями Руссо, Фомы Аквинского и Аристотеля. Эти три
мыслителя, служившие для них авторитетом, учили, будто язык
представляет собой естественное оснащение человека. На основе этой догмы было
воздвигнуто все здание критицизма. Ну как перед лицом
натуралистической догмы Иисус мог бы быть Словом, Иоанн мог бы говорить: «В на-
329
чале было Слово», а Матфей — цитировать высказывание Иисуса: «Я с
вами во все дни до скончания века»? И в особенности — как можно было
бы именовать евангелия боговдохновенными, если бы слова человека
были данными, взятыми из словаря и грамматики? Нет, назвать их так
было бы нельзя. Догма, согласно которой язык присущ человеку так же
естественно, как и обезьянам, принудила четыре или пять поколений
профессиональных исследователей создать все мыслимые теории
редукции и атомизации, которые и смогли превратить евангелия в некий
материал. Критики производили впечатление на мир и на самих себя
своим более возвышенным миром, своей большей честностью и
добросовестностью. По сравнению с ними у фундаменталистов не было ни
блеска, ни остроумия, ни смелости. И на самом деле блеск этого века анализа
был чем-то большим, нежели фейерверк. Это было подлинным
выражением естественного мышления. А что такое естественное мышление?
Естественное мышление надеется познать природу, использовать ее и
манипулировать ею. Критики надеялись, что они смогут обращаться с
Библией как с простым природным явлением, как с материалом источников,
используемых в новой естественной истории человечества, в грядущей
естественной науке о развитии. Они считали создание естественной
истории возможным, поскольку их учебные аудитории и библиотеки,
находившиеся под сенью таких освященных институтов, как церковь и
государство, представлялись стоящими на прочном основании. Они и
понятия не имели о том, что наука основана на союзе между
неспециалистами и учеными, который именуется «церковью», и на общем для всех
порядке свободы, который в нашу эпоху называют «государством».
Прежде чем появляется возможность что-то критиковать на досуге,
должен быть досуг. Таким образом, никакая человеческая наука,
игнорирующая свои собственные предпосылки, не является действительно
научной. Предпосылка всеобщего мирного состояния, в условиях которого
критик может заниматься критикой, означает, что сам критик, должен
сохранять единство и взаимосвязанность языка во все эпохи и со всеми
человеческими группами. Ибо состояние мира — это плод языка, и оно
не может быть достигнуто никаким другим образом. А наука
предполагает и требует мира.
Если это однажды поймут, язык перестанет быть «объектом»
естествознания. Тогда состояние мира, в котором нуждается ученый, и язык,
который он хочет превратить в предмет своих исследований, окажутся
одним и тем же. Чтобы оставаться учеными в строгом смысле слова,
ученые до бесконечности разделяли и дробили языки, веры и истории на
арамейские, баскские, мазурские; но при этом полагались на терпеливую
веру масс в науку, на их любовь к истине, на их чаяние грядущего
братства ученых и неученых. Так был состряпан образ «юноши Иисуса»,
Иисус и Иуда были изучены с помощью методов психоанализа, был
написан миф об Иисусе. Короче говоря, наука расчленила веру, любовь,
надежду тех самых масс, от которых она сама жаждала почестей! В
частности, вам могут прийтись по вкусу Эммануэль Квинт, слабоумный
близнец Иисуса у Герхарта Гауптмана (16), или сентиментальный
юноша у Шолома Аша. Но этот слабоумный субъект никогда не сумеет
сплотить массы и отдельно взятого человека так, чтобы они сделались едины
330
сердцем и мыслью. Так что прощай, свободная наука! Что же, все это
вполне могло бы произойти. Но дорожное заграждение, препятствующее
доступу к самому древнему периоду языка, было бы все еще налицо, —
считался бы им Иисус или кто-то другой. Мы живем в другую эру, чем
Цицерон, Гамалиил, Монтесума или краснокожие из племени сенеки
(17). В интересах каждого уметь понимать эту нашу эру.
Речь идет не об интересе теологов вроде Швейцера или филологов
вроде Бультмана (18), а об интересах каждого человека, стремящегося
жить в мире после того, как две мировые войны на некоторое время
отбросили нас на воистину дохристианский, догомеровский и домоисеев-
ский уровень. Моя защита от этой атаки на мое мирное существование,
на мой окружающий мир, на мою эпоху основана на одной-единствен-
ной догме: язык — это континуум.
И вот четыре евангелиста утверждают, что в их дни с этим
единственным континуумом что-то произошло. Поэтому я предлагаю задать
вопрос: «Что произошло?». То, как я в этом разобрался, задним числом
представляется мне очень простым, и теперь я хочу обрисовать скелет
моей логики.
Все четыре евангелиста единодушно говорят: «Речь и письмо должны
претерпеть изменение, поскольку и то, и другое было фактически
преобразовано Словом». Если эти четверо не лгут, их собственная устная и
письменная речь должны свидетельствовать об этом будто бы
произошедшем изменении.
Если мы сможем выявить тот факт, что их языку присуще
своеобразие, и показать, в каком отношении он отличается от всего, сказанного
ранее, то изменение, в существовании которого они хотят нас убедить,
и изменение, которое язык претерпел в письменной речи составленных
ими евангелий, должно быть одним и тем же изменением. «Обращение»,
«вера», «спасение», «откровение», «говорить языками», «сошествие
Святого Духа» — все эти почти мертвые выражения должны были бы точно
соответствовать процессу, который находит выражение в текстах
евангелий. Это доказало бы их правоту.
Подведем итог всему сказанному: итак, сами создатели евангелий
должны были служить документальным свидетельством вызванного
Словом изменения языка.
Четыре евангелиста с их новой формой речи не должны были стать
единственным документальным подтверждением такого изменения.
Преобразование человеческой природы, обусловленное деяниями
мучеников и миссионеров, беспрерывно производит впечатление на
верующих христиан. Такой апостол, как Павел, одновременно являвшийся
мучеником и миссионером, покажется правоверному христианину
лучшим свидетелем, нежели текст евангелия от Луки, а широкие массы
будут всегда испытывать влечение к реликвиям, чудесам, кафедральным
соборам и монастырям.
Но ни кости, ни камни не могут предоставить чистому разуму, науке,
интеллекту доказательств того, что изменение мышления могло бы
совершиться. Наша научная совесть восстает против такой внешней
видимости. Монахи живут в Индии, мученики и послушники — в Китае, раки
со святыми мощами находятся в Таиланде и на Юкатане, кафедральные
331
соборы — в Мексике. На этом основании разум не признает и не может
признать исторического преобразования природы человека, поскольку
разуму не подобает полагаться на видимость и доверять ей.
Однако, установив изменение стиля, разум не может не сделать
вывода об изменении мышления.
Поэтому верующему не нужно дожидаться наших аргументов. В то же
время, неверующему следует предоставить разъяснения. Необходимо
выявить тот плавильный тигель, в котором стиль претерпевает, так
сказать, химическое изменение. А в наши дни именно «сознание», а не душа
или тело, оказывается не в состоянии понять христианство в качестве
среды своей собственной достоверности. Только в случае, если
интеллекту удастся отождествить процесс, в ходе которого он сам достигает
истины, с процессом, протекающим в евангелиях, разум откажется от своих
обвинений христианства в том, что оно мертво, как мумия, и якобы
никогда не было ничем иным, кроме мифа — утешительного и позорного
одновременно.
«Четыре евангелия» — я буду использовать кавычки в том случае,
когда буду ссылаться на них как на целостность, некое «единственное
число», — способны засвидетельствовать одно: Слово изменило мир разума
раз и навсегда.
Книга древности закрыта по отношению ко всем другим книгам.
Античная школа философии закрыта для всех других школ. Ведь у книги
есть начало и конец. У нее две крышки переплета.
Все это не касается четырех евангелий. Они служат ответом на
ощущение тупика, на конец света. Они проходят сквозь изменение сознания.
Они проникают сквозь время, и когда они заканчивают повествование,
они только едва начались.
В конце всех четырех евангелий Иоанн говорит, что сама вселенная
недостаточно велика, чтобы вместить все книги, которые можно
написать о христианстве. Это звучит фантастически (19). Но, в конце концов,
даже эта моя работа свидетельствует о том, что радостная уверенность
Иоанна была оправданной. Должно быть, в юности Иоанн был таким же
веселым, как и его Учитель (20). Ибо, будучи уже глубоким стариком,
Иоанн все еще гордится тем, что некогда мог бегать быстрее Петра (Ин.
21:19-20). Таким образом, старейший из апостолов заканчивал свое
евангелие настолько несерьезным замечанием, что бюрократу остается
только наморщить лоб. Это — примечательная черта Нового Завета, или,
выражаясь более осторожно, той целостности, к которому в качестве строф
и принадлежат четыре евангелия (21).
Безмерная веселость заключительных строк «четырех евангелий»
заметно не соответствует настроению начала. «Четыре евангелия»
начинают свое повествование с большой осторожностью.
Матфей преисполнен достоинства, серьезен и продвигается вперед
весьма осмотрительно. Во всех четырех евангелиях, от одного к другому,
мы можем наблюдать, что говорить о свершившемся событии
становится все легче. В четырех частях обнаруживается ускорение повествования
и возрастание уверенности. Такое увеличение артикулированности и
уверенности проявляется в каждом евангелии. Но это увеличение, будучи
идентичным во всех четырех случаях, в каждом отдельном случае выра-
332
жается по-разному. Во втором евангелии такой формой выражения
служит его краткость: у Марка всего 677 стихов, а не 1072, как у Матфея.
Мне хорошо известно, что называлось много причин такого сокращения.
Но любой стилист знает, что краткое изложение темы обычно
предполагает большую уверенность автора, чем пространное. Каждый автор
должен задним числом производить сокращения. Для Петра, вдохновителя
Марка, дело, должно быть, уже не требовало такого детального
обоснования. Там, где Матфей передает все речи целиком, Марку позволено
было ограничиться немногочисленными замечаниями. В Риме и
римском мире многое из локальных событий, происходивших в Палестине,
просто не интересовало читателей.
Зато Лука спокойно пишет два тома для своего дьякона, даже
ссылаясь на других повествователей. Мы можем представить себе, как он
сидит в комнате, полной книг и документов, словно «Иероним в
келье», и пишет для своего ученика Феофила, располагая свободным
временем, необходимым для раздумий; при этом он, в отличие от Матфея,
не испытывает ни напряжения, ни нужды, ни чувства опасности, и не
находится в общине, удалившейся в катакомбы, в состоянии
зависимости от Петра, будучи подстегиваем его безудержной горячностью, как
довелось писать Марку. Что за грандиозное изменение произошло с
Матфеем, первым поверенным в делах нового мира Иисуса перед
лицом огромного мира Библии, обращающимся к своим противникам, а
затем — с дьяконом и секретарем Петра, который старался воздать
должное авторитету этого князя апостолов, и далее с Лукой, который
после смерти своего наставника Павла получил возможность свободно
учить доверчивого юного ученика! Но грядет еще большее усиление
артикул ированности. Ибо когда Иоанн диктовал своему секретарю-греку,
он был свободен от всех земных привязанностей и обязательств. Не
было уз, обременявших Матфея, поскольку он обращался к своим
врагам; Марка, ибо он должен был следовать за Петром; Луку,
обязанного учить. Высшая степень художественных способностей, сила
провидеть и размышлять сочетаются у Иоанна с ребяческой чрезмерностью.
Несмотря на сильнейшую взволнованность, Иоанн старается уточнить
интимнейшие детали предания. Иоанн начинает с возвышенного
высказывания: «В начале было Слово» и, тем самым, дополняет
заключительную фразу евангелия от Матфея: «Я с вами во все дни до скончания
века». Таким образом, вместе они объемлют конец и начало! Но
повествование Иоанна не исчерпывается торжественным ясновидением
сквозь времена, а звучит в тоне юношеского восторга, порожденного
великолепием середины, оно раздается посреди прекрасного мира! «И
самому миру не вместить бы написанных об Иисусе книг». У Матфея
вера начинается в трепете с неоспоримого положения: «Иисуса можно
по праву назвать «сыном Давидовым и Авраамовым». Когда пишет
Иоанн, вера уже превратилась в океан, для плавания по которому
кораблю верующих предоставляется бесконечное время.
В сравнении с исполненным властной мужественности приказанием,
отданным Петром Марку, — «выражайся короче», «достаточно»,
«сказанного довольно»; с размеренно-повествовательным «как я уже сказал»
Луки; с «я могу рассказывать еще и еще» Иоанна, Матфей явственно не-
333
сет бремя глубочайшего одиночества, поскольку он является первым. И
все же поверхностному взгляду самым одиноким может показаться
Иоанн, пишущий в крайнем уединении, тогда как Лука, как
академический исследователь, надежно обосновался в своем кабинете, Марк живет,
по крайней мере, под защитой общины верующих, а Матфей
противостоит сонму врагов, пытаясь быть ими услышанным. Но одиночество
или уединение по отношению к языку — это нечто иное, чем
одиночество, порожденное отсутствием чисто физического контакта. Мы можем
быть одинокими в Нью-Йорке, а на вершине горы ощущать полное
душевное единение. Четыре евангелия показывают, как язык, стиль или
артикуляция создаются степенью нашего нравственного одиночества или
братства.
Мытарь и грешник Матфей должен был предстать перед всей
синагогой и иерусалимским храмом в мантии адвоката. У них есть власть, а он
изгой или, по крайней мере, человек подозрительный. Сравним с ним
Иоанна: Иерусалим, священный город, в первой главе его евангелия с
абсолютной уверенностью характеризуется как «мир» и «тьма». Нам это
кажется естественным: ведь когда Иоанн писал, этот город был
разрушен. Иоанн жил уже в испытывавшей новый подъем Церкви, вместе с
ним видящей свет, принимающей Слово, с юношеской энергией
стремящейся вперед, чтобы радостно приветствовать пришествие Господа и Его
вступление во владение своей собственностью. С точки зрения Иоанна,
одиночество подобает Сиону, а не ему. Матфей писал, когда зубцы на
стенах Сиона еще гордо взирали на него сверху вниз. Когда он
произносил свою защитительную речь, он едва ли мог надеяться далее мирно
жить в Иерусалиме. Он был странником, идущим по дороге, которая
выводила его за пределы старого порядка. Евангелие от Матфея — это
прощальная речь, последняя попытка убедить Иерусалим, что тот убил
праведника, поскольку евреям не хватило терпения ждать радикального
изменения в методах, которыми Бог управляет миром.
Однако именно это непрестанное пророческое ожидание было
единственным raison d'être (22) Израиля в самой середине мира. Очевидно,
поэтому благовествование Матфея должно было одновременно воздать
должное законной функции Иерусалима и открыться навстречу новому
летоисчислению. Всякому известно, что Матфей приводит множество
мест из Библии. Но просто знать об этом недостаточно. Поскольку он
был первым автором евангелия, в его распоряжении не было Нового
завета и даже никакой из его частей, которые давали бы ему право или
полномочие называть Библию его времени Ветхим заветом. То, что кто-
то цитирует Библию, не должно производить на нас никакого
впечатления. Даже дьявол может цитировать Священное Писание. Языковое
значение первого евангелия заключено в чем-то другом. Когда Матфей
писал это евангелие, он преобразовал Библию своего времени в Ветхий
завет. По мере того, как он писал, Библия Израиля превращалась в Ветхий
завет. Для всех читателей Матфея это стало свершившимся фактом. Для
самого Матфея это было свершением, какого он не осознавал до тех пор,
пока оно не состоялось.
В процессе составления своего евангелия Матфей переходит от речи
иудея к речи неиудея. Текст прозрачен. В первой главе Матфей начина-
334
ет так: «Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова».
В той же главе, в стихе 21, говорится: «Иисус спасет людей Своих от
грехов их». Иными словами: мы находимся в Израиле, ибо Матфей, как
представляется, не считает необходимым объяснять местоимение «Свой»
(23) в выражении «людей Своих». Но в последней, 28 главе красноречие
Матфея увлекает его за пределы иудейского мира. И когда дело доходит
до повествования о махинациях еврейских священников и старейшин,
он пишет: «И произнеслось слово сие между Иудеями до сего дня». Здесь
сами иудеи уже больше не разделяются на верующих и не верующих в
Христа. Иудеи как таковые находятся вне семьи Матфея. Разделяющая
их преграда в главе 28 является бесконечно более высокой, чем в главе 1.
Изливающийся поток сведений, почерпнутых из собственного опыта,
поток воспоминаний изменил сознание самого пишущего. Каждый
должен был бы в процессе написания книги становиться другим человеком.
Ни один хороший профессор литературы не станет отрицать этого
становления, совершающегося под влиянием литературного творчества.
Книга, являющаяся плодом прожитой жизни, отделяет человека,
который ее пишет, от того периода его жизни, в котором она возникала.
Плоды неизменно знаменуют собой целую эпоху, поскольку их сбор
завершает круговорот времен года: осень делает весь предшествующий год
безвозвратно прошедшим. Мудрость нашего предания заключена в том
факте, что в первом евангелии человек, пишущий об Иисусе, благодаря
своим писаниям выходит за пределы Израиля. Таким образом он
открывает перед своими читателями реальность того обстоятельства, что
писать «об Иисусе» означает низводить Библию до уровня Ветхого завета.
Этого нельзя было достичь с помощью обоснований. Умный юрист
может привести доказательства своей правоты, опираясь на утверждения,
законные притязания и цитаты, но при этом остаться совершенно
равнодушным. Многие люди написали различные статьи, логически
совершенные трактаты о христианстве, чтобы обосновать или опровергнуть
его притязания. Это не делает их евангелистами. Евангелист — это
человек, который, говоря об Иисусе, изменяет свое собственное сознание.
Сам находясь в движении, он вовлекает в такое же движение других.
Евангелие от Матфея дает начало тому процессу, благодаря которому
мир и Израиль начинают выглядеть иначе. Ибо христианство — это мир
в том виде, в каком он пребывал всегда, но дополненный смертью
Иисуса. Евангелие от Матфея было первым свидетельством тому, что одно это
дополнение к миру вызвало бы преобразование мира языка, что в
свете этого события все вещи этого мира следовало бы переписать заново.
Ибо разве Матфей, веруя, не начал с чисто библейского обоснования?
Разве он не начал писать среди «своего» народа или вместе с ним?
Современные читатели очень часто скучают, читая первую главу
евангелия от Матфея, поскольку генеалогия, начинающаяся с Иосифа,
Давида и Авраама, представляется совсем неважной. Но без этого Матфей
сам не смог бы подойти — или подвести своих христианских
читателей — к тому пункту, где «его» народ перестает быть его народом или
народом его читателей!
Матфей писал свое евангелие как честный и прямой человек,
делающий свое дело несмотря на постоянную угрозу для жизни и, тем самым,
335
рискующий утратить свою принадлежность к еврейскому народу. Он
изменил значение Библии, осознав, что она больше не является последним
словом. Последняя фраза его евангелия — критики объявили ее
неподлинной, поскольку она и в самом деле помещает нас на новую почву —
выражает этот факт очень просто: «Крестите их во имя Отца и Сына и
Святого Духа». В отличие от Библии, являющейся последним словом для
иудеев, нам говорится, что Иисус будет с наш/до скончания века. В этом
единственном предложении короткая земная жизнь Иисуса неожиданно
приобретает такое монументальное значение, что маленькое дополнение
к миру, каким, в лучшем случае, кажется эта жизнь, неожиданно
вырастает до огромных размеров. Это дополнение, высказанное одной этой
фразой, всей своей тяжестью ложится на плечи читателя. Одна эта жизнь
своим весом удерживает в равновесии чаши весов истории человечества;
на другой чаше находятся времена от Адама до Авраама и Давида и
далее — вплоть до дней Ирода. В этом предложении, осмеливающемся
говорить обо всей грядущей истории как о развивающейся отдельно от
иудейской Библии, евангелие становится евангелием в полном смысле
слова, поскольку лишь теперь прошлое становится прошлым, а
Библия — Ветхим заветом. Это тем более примечательно, так как Матфей,
несомненно, не имел никакого понятия о судьбе своей книги. Поскольку
сперва он писал на еврейском, а не на арамейском языке (24), он едва ли
мог ожидать, что благодаря переводу она будет сохранена в качестве
первой книги греческого канона (25).
Теперь мы можем двигаться непосредственно дальше и сосредоточить
наше внимание на драме, совершающейся в рамках каждого евангелия,
так, как мы это сделали по отношению к евангелию от Матфея. Начнем
с Луки. Матфей открыл, что Библия является Заветом ушедшего
прошлого. У Луки обе книги, евангелие и Деяния апостолов, взаимосвязаны и
образуют внутренне единую драму. Апостол Павел не знал Иисуса во
плоти и не придает никакого значения цитированию его высказываний.
И все же апостол Павел достаточно вооружен для того, чтобы возвещать
евангелие с силой «сердца мира» в качестве «правой руки Иисуса», как
его называли позже. Евангелие от Луки и история деяний апостолов в
совокупности раскрывают неповторимую суть Христа. Апостол Павел и
Иисус, Христос во плоти и Христос в апостоле Павле — вот опоры того
моста, который Лука воздвигает к своему собственному изумлению.
Внезапное завершение истории деяний апостолов часто подвергалось
критике. Но можно ли считать «отрывочной фразой» слова, какими
заканчивается евангелие от Луки: «И они поклонились Ему, и возвратились в
Иерусалим с великой радостью, и пребывали всегда в храме, прославляя
и благословляя Бога»? Его история деяний апостолов заканчивается так:
«И жил Павел целых два года на своем иждивении и принимал всех
приходящих к нему, проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе
Христе беспрепятственно со всею радостью» (26). Отметьте себе дважды
повторенное слово «радость», завершающее обе книги и, тем самым,
позволяющее установить их самобытную внутреннюю связь. А теперь
посмотрим на их начало: евангелие начинается с рождения Иисуса, а
история деяний апостолов — с рождения Церкви. Рождение и радость — это
в обоих случаях начало и конец. Там, где у Матфея мировой процесс де-
336
лает из иудеев человечество, у Луки тот же самый мировой процесс
делает из Иерусалима Рим. И здесь мы не уловим смысла Священного
Писания, если будем обращаться с ним как с «материалом». Смысл
Писания состоит в том, чтобы побудить нас ощутить изнутри преобразование
собственного образа мыслей. Никакой коммунист не является
материалистом в такой же степени, как критик Библии.
То, что в конце апостол Павел оказывается в Риме и что теперь храм
стоит там, вызывает удивление у самого Луки. Правда, в одном
справочнике по современной литературе уже в первой фразе говорится: «Мы
пишем книги, чтобы зарабатывать деньги». Там, где все определяется
именно этим, автор бесстрастно, расчетливо и насмешливо
придумывает уловки, которые должны заставить покупать его книгу- Служитель
Слова в том смысле, как это понимает Лука, должен писать, поскольку
иначе ему не постичь собственного сердца. В апостолах Петре и Павле
тот Христос, который был в Иисусе, жил уже для второго поколения
людей. Мученичество апостола Павла не принадлежит к раскрытому Лукой
ходу развития и прогрессу. Тезис, будто история деяний апостолов
осталась незавершенной и должна была бы заканчиваться смертью апостола
Павла, настолько же глубокомысленный, как фантастическое
предположение Виламовиц-Меллендорфа (27), что «Илиада» Гомера должна была
бы, собственно, заканчиваться или действительно заканчивалась
смертью Ахиллеса. Лука открыл удвоение, победу над последовательностью
поколений, обусловленную действием Святого Духа, и по мере
продвижения вперед обнаружил, что его сообщения об Иисусе во плоти в
Израиле (Деян. 1:2) и о деяниях Святого Духа среди язычников (Деян.
28:29) оказались параллельными. Но точно так же, как апостол Петр
настоял на том, чтобы Марк не воздавал ему никаких почестей, Лука
писал не во славу апостола Павла, а во славу Господню. Если бы в конце
истории деяний апостолов он сообщил о смерти Павла, — примерно так
же, как если бы в конце «Илиады» говорилось о смерти Ахиллеса, — то
признание Святого Духа в качестве «еще раз пришедшего Христа» было
бы упразднено. Но почему задачей Луки стало сопряжение воедино двух
поколений — поколения Иисуса и поколения апостолов? Почему
следовало провести параллели, с одной стороны, между крещением огнем на
Троицу и рождением младенца в Вифлееме, а с другой — между
путешествием апостола Павла по языческим землям и благовествованием
Иисуса в Иерусалиме? Причину этого усмотреть нетрудно. Сам Лука писал
для христианина второго поколения. Между ним и Феофилом
существовала духовная проблема отцов и детей — так же, как она существовала в
отношениях между Иисусом и апостолами. Унаследованного
христианства не существует; но, несмотря на это, христианство кажется чем-то
достающимся нам по наследству. История деяний апостолов,
написанная Лукой, протекает параллельно евангелию, поскольку Феофил должен
быть превращен из наследственного или традиционного христианина в
человека, впервые и непосредственно внимающего Духу. Поскольку
сочинения Луки перебрасывали мост между двумя поколениями, его
повествование побуждало его читателя, Феофила, думать о собственных
детях. Ведь в той мере, в какой Луке удалось выявить параллели между
евангелием и историей деяний апостолов, в той же мере ему удалось пе-
337
ребросить мост от Феофила к грядущей Церкви. У современного
читателя могут возникнуть сомнения относительно того, следует ли ему
присоединяться к этой логике. Отчего же Феофил должен был учить своих
детей и внуков иначе только потому, что прочитал о параллелях между
евангелием и историей деяний апостолов, Иудеей и империей,
Иерусалимом и Римом? Какое отношение имеет эта книга к нашему
собственному поведению? Современный человек вправе испытывать здесь
некоторые колебания. Для нас чтение не является фазой действия, но для
Феофила чтение было чем-то иным. Сначала евангелия доверительно
передавались из уст в уста. «Путь», как называлась новая жизнь, был тем
путем, на котором люди общались и говорили друг с другом. Христианин
первого столетия оказывался выведен на дорогу жизни, и на этом пути
ему сообщали о тех вещах, которые были необходимы, чтобы сделать его
миссионером, свидетелем, исповедником веры, а в случае
необходимости — и мучеником. Слушать означало не что иное, как совершить
первый шаг к тому, чтобы вести повествование дальше. Речь шла не о
любопытстве, а о спасении. И оно осуществлялось посредством глупости
устного возвещения. Поэтому потрясающая новизна письменного
евангелия заключалась в том, что нечто написанное вообще должно было
быть возведено в ранг евангельской истины.
Христос ничего не писал (28). И вся истина Креста основывалась
на этом — на этой почти нечеловеческой вере. Кто из нас отважился
бы доверить свою величайшую истину неразумию неверующих
соседей? Но с тех пор как такая попытка однажды была предпринята, это
стало определенным примером. И письменное слово было признано
второстепенным. Оно было хуже, менее желанным, менее
заслуживающим доверия, нежели устное возвещение. Мне кажется, мы еще
можем живо представить себе, как Матфей писал, обливаясь кровью,
потом и слезами, и при этом вымаливал прощение за то, что
пользуется чернилами. Он нуждался в полном оправдании. Ибо в его время
считалось, что именно «один из падших аггелов обучил человечество
письму, а потому вплоть до сегодняшнего дня сделал многих людей
грешниками. Ибо люди не были созданы для того, чтобы доказывать
свою веру чернилами и пером» (Книга Еноха, 69:10). Я полагаю, что
Матфей, потрясенный тем, как Стефан (29) был побит камнями,
осмелился возвратиться на узкую тропу использования чернил и пера.
Именно первая кровь мученика сделала допустимым применение
чернил также и в новом человеческом союзе. Я делаю этот вывод на
основании того, что великая речь Стефана перед священниками нашла
отражение в первой главе евангелия от Матфея (ниже мы остановимся
на этом подробнее).
Жертва первого мученика сделала весомыми письменные
свидетельства первого евангелиста там, где без Стефана его слова показались бы
в высшей степени подозрительными. Великое ручательство Стефана за
свершающееся претворение Духа в новые образы необходимо было
спасти. После того как Стефан отдал за это свою жизнь, новую весть уже
нельзя было бы осквернить пером. Письменные евангелия были
допущены на новый путь только с внутренним сопротивлением. Впрочем, они
были предназначены для чтения вслух.
338
Наш ум настолько извращен, что мы спрашиваем всех и каждого:
«Почему ты не пишешь?» Но с первыми приверженцами нового Духа
дело обстояло наоборот: «Должны ли мы писать? Можем ли писать?
Позволено ли нам писать?» И истина связана с таким целомудрием
нашего духа, которое стало теперь встречаться реже, чем целомудрие тела.
Когда мы должны писать?'Тогда, когда опасность угрожает нашей
собственной жизни или жизни других людей, в состоянии самозащиты, в
ситуациях, когда самооборона оказывается единственным способом
сохранить себя. Мы должны говорить, писать, учить и свидетельствовать в
том случае, если мы или наш душевный покой без этого оказались бы
уничтожены. Новый стиль создается лишь под сильнейшим давлением.
Матфей обрел право использовать свое перо как меч тогда, когда кровь
мучеников обагрила землю Палестины. Так же и Марк писал тогда, когда
арена и крест ждали в Риме Петра.
Наше утверждение сводится теперь к тому, что Лука писал в
состоянии подобного возбуждения или под таким же давлением. Осознать это
не так-то просто. Он не жил в центрах наибольшей опасности. Он к 84г.
после Рождества Христова уже достиг почтенного возраста — где-то в
Греции, как нам сообщает об этом канон евангелий, — и его стиль
настолько нравился Эрнесту Ренану (30), что тот назвал евангелие от Луки
прекраснейшей книгой, которая когда-либо была написана. Что же, по
духу Ренан был греком, и его похвала может смутить нас, поскольку
грека воодушевляет все игровое и простое. Суровое и серьезное мешает ему
как нечто недостаточно элегантное.
И в самом деле, давление, испытываемое Лукой, сильно отличается от
напряжения, порождаемого очевидной опасностью, грозившей Матфею
и Марку. Лука, по-видимому, располагал свободным временем, когда
исследовал истоки своей веры. Но Лука также привнес в мир
историографии некую новую и специфическую силу давления. Хроники
запечатлели временную последовательность событий из жизни Рима, Пароса и
Афин. Историки писали о духе Рима, благодаря которому он за
пятьдесят лет завоевал мир, или о духе афинян эпохи Перикла.
Соответственно, различные книги Ветхого завета свидетельствуют о специфическом
менталитете определенного периода. Книги, приписываемые Моисею,
Песнь Песней, Книга пророка Иеремии, Книга Судей, Книга Царств —
все они служат свидетельствами перехода единого Духа в определенные
конкретные формы выражения.
Однако первое предложение евангелия от Луки изменяет это. Темой
становится межвременной характер Духа: одухотворенность означает
способность осуществить перенос, трансляцию; обратив внимание на этот
стык между временами, Лука стал первым человеческим существом,
способным видеть сразу дух каждого из двух периодов и воплощать его в
слова в качестве подчиненного единому Духу. Он стал «служителем
Слова», «minister of the word», — «minister» в греческом языке означает
«повинующийся», «обязанный служить»; он возложил на себя обязанность
служить Духу всех духов.
Подлинное значение выражения «Святой Дух» будет утрачено, если
мы не станем твердо придерживаться того понимания, согласно
которому он открывает навстречу друг другу духи различных времен. Какая-
339
нибудь мирно существующая человеческая группа может в радости,
гармонии, дружелюбии и доброте обладать истинным духом, не обладая
Святым Духом, но в наше время мы обычно рассматриваем добрый и
злой духи так, словно они находятся на одной плоскости. Для Луки свято
лишь то, что имеет власть над многими модами, или способами
поведения, присущими разным эпохам. Эти моды каждой эпохи, эти духи
времен являются подлинными и действительными. У каждого поколения
свой гений. Гений Иисуса был элементом его собственной,
неповторимой жизни. Гений Гёте — автора «Страданий молодого Вертера» — был
обусловлен временем. Но Святой Дух — это, так сказать, гений во
второй степени. Бог — это отец всех духов. Открытие Иисуса состояло в
том, что одной гениальности недостаточно. И вот он принес в жертву
свой гений, свой собственный дух ради мира между духами всех
времен. Его вкладом в историю было отнюдь не его тело, — как много
солдат принесли свои тела в жертву духу своих национальных героев!
Иисус пожертвовал своим гением, так как он был преисполнен
решимости разрушить бесконечное возобновление круговоротов в делах и
призваниях людей. Ему надоели духи всех времен, включая и его
собственный гений. По этой причине он не написал никакой книги. Ибо
он испытывал потребность обратить друг к другу сердца всех
поколений, невзирая на моды их времен и даже на свою собственную моду!
Так об этом сказано у Луки (23:46).
Лука был первым человеком, получившим исключительную
возможность отобразить это изменение значения духа в книге, состоящей из
двух частей. В обоих написанных им томах показано, как Дух
возвышается над духами. О гении шествия Иисуса по Иудее и о гении,
выражающем себя в деяниях апостольской эпохи, сообщается как о гранях
проявления единого Духа. С тех пор люди начали требовать от своих
историков, чтобы они сообщали им больше, чем об одном периоде развития.
Если за духами различных периодов мы не чувствуем воздействия
единого Духа, история не способна воодушевить нас. Тогда история мертва, а
играть могилами прошлого опасно. Нелепо подражать какому-либо
великому человеку или великому деянию, и это оказывает парализующее
действие. Но история является благом и позволяет нам восстать из
мертвых, если мы проникаем по ту сторону фактов повседневности и ясно
представляем себе ту сумму жертв и творческих сил, которая скрыта за
каждым хорошо известным нам мелким фактом. Знание исторических
фактов приносит вред, если мы не усматриваем в них их сути в качестве
либо порожденных вдохновением, либо развращающих.
Каждый великий историк после Луки признавал существование
множества духов времен и предпринимал попытку выявить действие в них
единого Духа. Фукидид еще не мог этого сделать, и еще менее на это был
способен Тит Ливии.
Лука одержал первую победу над духом времени и традицией
определенной страны. В его книгах было проведено различие между, —
выражаясь современным языком — гением и духом, а говоря на его языке, —
между Духом и многими духами.
Этого триумфа нельзя было добиться с помощью теоретических
рассуждений «о» Духе. Это должно было произойти противоположным
340
образом, путем открытого признания — при всякой возможности —
многообразия времен и мест. Слово, прежде принадлежавшее особым
ландшафтам и особым временам, теперь оказалось Единым на
Востоке и на Западе, с Иисусом на земле и с воскресшим Христом. Слепой
фанатизм какой-либо школы мысли или национальной литературы,
равно как и усердие читателя Луки Феофила, теперь были
«прояснены» и «очищены». Феофил получил предупреждение, что в каждом
поколении Дух может порождать из своих чресл новые формы. Гений
эпохи не может быть ложно истолкован в качестве Духа Божия. Ибо
у нас есть будущее ровно настолько, насколько мы познали наше
прошлое. Нашим символом веры могут быть только будущее и история
вместе! Если кто-то желает исчезнуть вместе со своим временем, ему
никто не может помешать или оспорить само это желание. Мы сами
выбираем временные границы нашей роли на земле. Поскольку Лука
предоставил Церкви, в которой находился Феофил, предысторию,
состоявшую более чем из одного периода и одного гения, он
одновременно дал всем христианам последующую историю, выходившую за
пределы их собственного периода и их собственного времени жизни.
Право истории вообще придавать нам форму зависит от той победы,
которую одерживает власть переноса во времени над властью каждой
отдельно взятой эпохи. Это убеждение, несомненно, жило в душе
Стефана, Матфея и их Учителя. Но Луке удалось воплотить эту истину в
литературном документе. Эллада рассказала о Геракле, но о
продолжающемся бытии Духа мы знаем только со времени Луки. Святые — это
не герои!
Гений и дух каждого отдельного времени рассеивались в их
обособленности. Наивная преданность духу собственного fin du siècle (31)
ввергла Европу в две разрушительные войны. Люди отдали себя на произвол
своего времени. И дух времени превратился в демона. До тех пор пока
мы считаем, будто каждое время обладает своим собственным духом, мы
будем снова и снова вместе с «гитлерюгендом» оказываться в самой гуще
кровавой резни.
И если мы ожидаем, что Святой Дух существует как бы в некоей
теплице вне времен года человеческой души, мы закончим стерилизацией и
превратимся в ничтожества. Нам следовало бы приучить себя к тому,
чтобы думать о каждом поколении как о теле времени, а о Духе — как о
Едином Духе, связующем между собой все эти тела. Потребовалось
время продолжительностью 1900 лет для того, чтобы научиться этому.
Вплоть до наших дней словосочетание «тело времени» остается
непривычным. Но сегодня это — наиболее точное выражение и наиболее
точное воспроизведение того, как Лука описал духов, и того, как они были
преодолены Святым Духом. Только тогда, когда наши времена станут
телами времени, — и только в случае, если это произойдет, — мы
осуществим то, о чем сообщает Лука в своей двойной книге об Иисусе и
апостолах. Тогда было уничтожено господство богов-ровесников: Зевса и
Геры. У божественного человека много возрастов! Когда Иисус говорил:
«Дела, которые творю я, и вы сотворите, и больше сих сотворите» (32),
он был божественным. И он был божественным тогда, когда уступил
половину своей жизни апостолам.
341
Поколение Феофила, читавшее Луку, пережило падение Иерусалима
и переход от апостольской эпохи к епископской. Отличительной чертой
Церкви является то, что в ней одна эпоха следует за другой в
захватывающем дух темпе. То, что в наши дни протестантизм подверг критике,
говоря о быстром распаде первоначального христианства, является
доказательством принципиально важного представления Луки о постоянно
продолжающемся и вечно претерпевающем изменения переносе Духа.
Мученики, епископы, исповедники веры, апологеты, отцы Церкви,
монахи, отшельники, миссионеры — все эти виды движения к святости в
быстрой «смене декораций» следовали за деяниями апостолов и
евангелистов, учителей и пророков первого поколения Церкви. Я был бы
склонен обратить аксиому Лютера о ценности первоначального христианства
в ее противоположность и сказать, что я не мог бы верить в Святой Дух,
если бы он не изменял немилосердно формы своего выражения. Нашей
заботой снова является обеспечение того, чтобы быть в состоянии
переходить от гения к гению и при этом оставаться объединенными в
Едином Духе. С каждым столетием это становится все труднее, и нам
надлежит в разумной степени дозволить нашим молодым людям оставаться в
некотором неведении, чтобы их гений не был подавлен. Но мы все
должны продвигаться вперед, исходя из единого Духа и невзирая на
многообразие времен и пространств.
Это проливает свет на ход событий в евангелии от Марка. Как и
евангелия от Матфея и Луки, евангелие от Марка — это победа над
опасностями времени. Петру было поручено пасти овец. Иоанн в
конце своего евангелия испытывает большое воодушевление по поводу
такой задачи, и в этом он согласен с Матфеем. Однако если бы Петр,
величайший из апостолов, слишком явно рассматривался как равный
Иисусу, это поставило бы под угрозу истинное соотношение между
Иисусом и апостолами. Поэтому именно Марк в качестве помощника и
секретаря Петра должен был раз и навсегда удостоверить
единственность Христа как Сына Божия. Петр, триЗкды отрекшийся от Господа,
должен был оспорить то, что он, Петр, представляет собой нечто
большее, нежели просто грешного человека. Если это можно было доказать
применительно к Петру, князю апостолов, то для всех христиан это
навсегда стало бы свершившимся фактом. Что же, Марк сослужил
именно такую службу. Он начинает просто с утверждения, что Иисус — Сын
Божий, а заканчивает указанием на бесконечный поток исполнения
миссии, состоящий из «служителей», которые повинуются Слову, а не
Петру или какому-либо другому авторитету во плоти. Этот негативный
процесс сложнее проследить у Марка, чем выявить подобный
негативный процесс у Матфея. У Матфея Ветхий завет представляет тот
порядок, который предшествовал Иисусу. Когда Иисус пришел и принял
власть, Дух покинул Израиль. У Марка обнаружилось, что один
только Христос был и останется Сыном Божьим. Все грядущие поколения
были подчинены этому единственному воплощению, поскольку даже
Петр по сравнению с этим Сыном Божьим отошел на лежащую
бесконечно ниже ступень. Процесс, происходящий в евангелии от Марка,
защитил Иисуса от будущего. Одержана победа над стремлением
восславить Петра, и все попытки такого прославления предотвращаются.
342
Марк сообщает, что Петр был «в страхе» (Мк. 9:6), в то время как
другие евангелисты не осмеливаются сказать об этом; он изменяет
единственное число в приведенных у Матфея словах Петра «я был» в более
скромное «они были», он опустил его имя, когда был задан умный
вопрос. «Дом Петра» Матфея у Марка превращается в дом, в который
пришли четыре апостола. Сам Петр называет себя у Марка «Сатаной», и, в
отличие от других евангелистов, этому не предоставляется извиняющее
объяснение (33). И высшей точкой самоотверженности Петра можно
считать то, что Марку не позволяется дать имя Петра одному из двух
учеников, которые увидели воскресшего Христа в Еммаусе (34). И все же
апостол Павел однозначно говорит о том, что Петр был первым, кто
увидел воскресшего Христа. Иными словами, в глазах самого Павла для
удостоверения апостольского достоинства нельзя найти более важного
свидетельства, чем то, о котором Марку было велено молчать. Лука и
Иоанн берут на себя труд оправдать это молчание, поскольку они по-
братски проявляют заботу о том, чтобы упомянуть о первенстве Петра
(Лк. 24:13 и далее; Ин. 21; 1Кор. 15:5).
«В евангелии от Марка Иисус изолирован и совершенно не понят
своими избранными учениками. В евангелии от Марка это имеет
жизненно важное значение, поскольку спасение вынуждено пребывать в
полной изоляции. Матфей и Лука обнаруживают свою неспособность
показать это с такой же удивительной жесткостью, как Марк» (35).
Преодоленное Марком искушение хорошо описано в евангелии,
когда он сообщает об Иисусе, сказавшем: «Ибо не вы будете говорить, но
Дух Святый»! (13:11). Петр, отрекшийся от Господа во время Страстей
Христовых, теперь переходит к тому, чтобы оградить Господа от такой
зависимости от слабых людей. У него — и только у него — было
право удержать Марка от противопоставления Петра Господу. Если
называть результат «удивительной жесткостью», это будет означать
следующее: критики не замечают, что борьба Петра направлена против его
собственного потенциального авторитета. Евангелие следовало
проповедовать только от имени Иисуса (Мк. 16:17). Петр был суров по отношению
к самому себе.
Тем самым мы переходим к четвертому евангелию. Развитие
событий в евангелии от Иоанна снова иное, но даже это, казалось бы,
чисто духовное, возвышенное евангелие повествует о происходящем
весьма драматически. Иоанн, как никакой другой апостол, был братом
Господа из естественной симпатии. В качестве брата Господа он
пользовался его любовью и дружбой, и это служило дополнением к его
призванию апостола. Естественная близость по духу и человеческая
симпатия были у Иоанна особыми источниками познания.
Соответствующими источниками углубленного понимания были у Петра его
церковное служение, у Матфея — осознание того, что он спасен и
пишет ради всех учеников, а у Луки — забота о вовлечении следующего
поколения. Такой учитель, как Лука, достигает более глубокого
понимания, поскольку он имеет дело с незрелыми и не испытавшими
душевного потрясения учениками. Такой епископ, как Петр,
становится более заботливым, поскольку этого требует его ответственность за
спасение душ, а Матфей знает и понимает лучше, поскольку он рас-
343
стался со своим довольно постыдным ремеслом и ощущал глубокую
благодарность и радость от того, что его приняли в круг учеников
Иисуса. Иоанн, детская душа, понимает то, чего сперва не мог понять
никто другой: становление живой личности. Члены семьи по плоти
понимают глубинные причины поведения друг друга, и исток всех их
реакций и жестов для них очевиден. То же самое справедливо и в
отношении родственников по духу. Ибо дух предшествует инкарнации; дух
— это изначальная мысль Творца, а мы, живые люди, представляем
собою форму ее проявления. Поэтому родственный дух благодаря
симпатии и «конгениальности» в первоначальном смысле понимает,
откуда пришел Иисус, из какой роковой глубины, из какой изначальной
матрицы, предшествующей закону, нации и религии, он возник. Иоанн
как родственный дух начинает с действительного, изначального места
человека в Духе Божием. Но путь его евангелия ведет его с небесной
родины на землю. У Иоанна таинственный ход событий, таинственный
процесс заключается в движении от Слова у Бога к обладающему
плотью Иисусу. У Иоанна Иисус прерывает свои самые возвышенные
речи (Ин.14) будничным и конкретным физическим движением:
«Пойдем отсюда». Только Иоанн — и никто другой — передает это
драгоценное свидетельство реальности Иисуса (Ин. 14:31). Вследствие
своей личной душевной близости Иисусу Иоанн никогда не
испытывает потребности смотреть на Него со стороны. Он жил вместе с ним в
глубинах его души. Но то, что он смог отождествить своего брата
Иисуса, переживавшего мелкие события повседневной жизни, с
космическим титулом «Христос», было победой Иоанна. Иоанн видел в
Господе свое другое «Я». Душа Иоанна по своей природе была христианской.
По этой причине для своего знания и понимания он не нуждался ни в
каких знамениях или особых процессах. Он знал Его своим сердцем.
Но когда Иоанн писал свое евангелие, он понял, что и внешние
проявления душевных движений Господа были столь же необходимы. Хотя
Иоанн и был един с ним в вечности, он уничижил себя до того,
чтобы перед лицом истории стать просто его учеником. В этом — красота
последней главы евангелия от Иоанна. Фома, прежде чем уверовать,
должен был увидеть, а для Иоанна такая наглядность не имела никакой
доказательной силы. Однако Иоанн добросовестно передал историю
Фомы в качестве описания такой разновидности ученичества, которая
в наибольшей степени была противоположна его собственной. Он
уважал в Фоме готовность к смерти (Ин. 11:16). И он почитал Петра в
качестве того, кто наделен авторитетом, — даже по отношению к
Иоанну, — поскольку так сказал Господь. Так Иоанн от глубинной жизни
сердца переходит к таким внешним обстоятельствам, как социальное
служение и социальное положение, и тем самым не позволяет всем
душам, от природы являющимся христианскими, ускользать от мира
истории и осуществления. Иоанн не стал ни папой в Риме, ни
миссионером в Индии, однако он сообщил силу и значимость и тому, и
другому. И потому папа и миссионер должны вечно считаться с
«беспокоящим присутствием Иоанна» (36).
Все четыре евангелия — это процессы, в ходе которых четыре
евангелиста преодолевают свою человеческую ограниченность, оставляя ее у под-
344
ножия Креста, и превращают свой индивидуальный опыт в достояние
общности. Матфей признал, что он больше не иудей; Марк, ученик
апостола Петра, признал, что Петр отказался от своего собственного
имени; Лука, спутник апостола Павла, признал: Павел делает среди
язычников то, что Иисус совершил среди евреев; Иоанн признал, что, хотя
родственный дух и может постичь вечный смысл без какой-либо
дискуссии, все же остается необходимым, чтобы верующая душа сначала
повиновалась должностным лицам и инстанциям, поскольку в условиях
разделения труда в этом видимом мире мы должны смириться с
неизбежностью медленного протекания всех процессов.
Наше выражение «признать» используется здесь в том смысле,
как его понимали четыре евангелиста, т.е. означает отнюдь не некий
подтверждающий документ наподобие расписки. Требуется
изменение сознания в процессе написания, чтобы сам пишущий мог выявить
следствия. Он учится признавать, и в этом учении и заключено его
евангелие.
Возьмем случай Матфея. Критики, ссылающиеся на содержащееся в
его тексте множество цитат из Писания, вводят нас в искушение видеть
в нем законника, который создает для своего клиента удивительный
документ. Законник пишет свою первую фразу, памятуя о последней.
Такое сообщение планомерно составляется в соответствии с единым
замыслом и сочиняется единым духом. (По крайней мере, так обстоит
дело теоретически, во что я, впрочем, не верю.) Но Матфей начинает
так: «Иисус был Царь Иудейский», а в конце он сам сознает: «О небо,
ведь я больше не иудей!» и покидает Иерусалим.
Обратимся к Марку. Марк преклоняет колени по время
богослужения, совершаемого Петром. Петр для него — это высший авторитет. В
конце своего евангелия Марк осознает, что он не может строить,
используя в качестве основания Петра, — точно так же, как и какого-либо
другого грешного человека. Марк, так часто, должно быть,
испытывавший боль, будучи вынужден слушать, что Петр вычеркнул тот или иной
кусок предания, в котором он славил Петра, обрел достаточное
мужество, чтобы возвыситься над своей задачей быть подручным Петра.
Услышав от Петра, как князь апостолов преуменьшил свою собственную
значимость, Марк получил наставление о единстве Церкви. Церковь
могла возникнуть лишь тогда, когда Единственный дал свое имя ее телу.
И Марк пошел в Александрию в Духе Божием, а не в духе Петра.
Лука сделался иным ради Феофила. Феофил знал Луку. И обращение
язычников было, вероятно, единственным, что его интересовало. Но
писания Луки осуществили здесь некое изменение. Изначальное
свершение теперь со всей очевидностью предстало в качестве вечной
матрицы, лишь одним из плодов которой был апостол Павел. И каждое
поколение должно заново устремляться к этой единственной подлинной
матрице — матрице Креста! После апостола Павла все поколения
призваны были черпать свою пищу и свой образец из евангелия их Учителя
до тех пор, пока они сами в качестве учеников, но уже со своей
собственной «историей деяний апостолов», не смогут вступить в состязание с
пережитыми апостолами страданиями. Всем следовало бы слушать
евангелиста, прежде чем они окажутся в состоянии снова передать еванге-
345
лие на другом языке, как это сделал апостол Павел. Все должны были бы
стать учителями следующих поколений, чтобы ученики смогли
совершить еще более великие дела. Достаточно впечатляет то, что на Пасху
небо спустилось на землю (Деян. 1) и была создана новая земля с
центром в Риме вместо Иерусалима. Но Бог призвал лишь Единственного
открыть истинное небо. Он должен был получить признание в качестве
Единственного, в качестве незыблемой постоянной величины. Иначе
одно и то же небо, т.е. Бог, не могло бы входить во все человеческие
сердца и обновлять землю в каждом человеческом поколении. Поэтому
Феофил должен был выйти за пределы простого крещения. Теперь он
мог считать, что ему доверено исполнить по отношению к своим детям
особую задачу, столь же грандиозную, как и переложение евангелия,
осуществленное для язычников апостолами Павлом и Петром,
повиновавшимися своему Господу. Так в обеих книгах Луки веление Иисуса
крестить народы возрастало в геометрической прогрессии. Ибо Лука
открыл то, чего можно было бы достигнуть и что действительно было
достигнуто впоследствии: если через посредство крещения человек
становился христианином, то он обретал способность перерасти своих
предшественников. Так и только так стал возможен прогресс.
«Прогресс» возможен только благодаря Христу. Викентий Леринский (37)
превосходно написал об этом.
А Иоанн — Иоанн, этот орел, парящий в небесном эфире, — обрел
способность наряду с небом, где он жил со своим Учителем, любить и
землю. По этой причине в последней фразе евангелия от Иоанна
говорится о пространстве космоса, не способном вместить все книги,
которые можно было бы написать об Иисусе. Пространство космоса? Что
оно значило для Иоанна, узрившего в своем видении Слово, которое с
самого начала, еще до того, как был сотворен мир, было у Отца? И все
же этот самый сотворенный космос стал последним словом Иоанна. Он
был готов покинуть небо Бога и из любви к Богу войти в этот тварный
«мир». Он обрел способность видеть это материальное мироздание,
осязать его, ощущать его вкус, хотя он и мог обходиться без него. Но Бог
сотворил этот мир и хотел, чтобы Иоанн также любил его.
Поэтому авторы четырех евангелий образуют примечательную
последовательность. В древней Церкви имя Иисуса считалось состоящим из
четырех частей: Иисус, Христос, Сын Божий, Спаситель. Начальные
буквы соответствующих греческих слов читались как «ichtys» («рыба»)
(38). Четыре евангелия возгласили это имя. Матфей, грешник, знал,
что Господь является его личным Спасителем (Спаситель = Soter), Марк
с самого начала знал его как Сына Божия {Hyios Theou), Лука увидел в
нем Христа (Christus), обратившего Савла, с которым сам Христос
никогда не разговаривал; для Павла Иисус не мог быть никем иным, кроме
исключительно Христа. А Иоанн, родственный дух, понимал его в
качестве своего старшего брата, и это означает, что он лично жил вместе с
ним как с «Иисусом», «Jesus».
1. Спаситель,
2. Сын Божий,
3. Христос,
4. Иисус
346
— именно в таких аспектах писали четыре евангелиста. А теперь
начинает действовать закон языка, который всегда противоречит природе
и простому ходу времени. Этот закон гласит: «То, что в некоем событии
является центральным или первичным, артикулируется в последнюю
очередь». То качество Иисуса, благодаря которому его воздействие на свое
окружение оказывалось самым широким, зримым и будоражащим,
заключалось в спасении им грешников. Иоанн был наиболее близок его
сердцу, в котором он прежде всего являлся Иисусом, этой
подлинной, действительно единственной личностью. Иоанн передает самые
потаенные мысли Иисуса. Матфей повествует обо всех внешних
доказательствах веры в Иисуса как Спасителя, он мог первым сообщить о
том, что он испытал на опыте; Иоанн же оказался способным сказать
о них лишь в самом конце. Почему? Последовательность выглядит
странно, но она повторяет опыт постижения Иисусом самого себя,
только в конце очевидным образом представший как опыт Его
наиболее сокровенной, внутренней жизни. То, что мир сначала видит не нас
самих, а наши лежащие на поверхности функции, соответствует
опыту всякой живой души. Сперва замечают те наши черты, которые не
столь неповторимы. Внешний человек познается раньше внутреннего,
а исторические факты — раньше их долговременного значения. Лишь
благодаря празднику Троицы и тому опыту, который обрел Павел,
действуя среди язычников, стало известным непреходящее значение
имени «Христос», тогда как Петр мог придерживаться собственного
исторического опыта, почерпнутого из общения с живым Сыном Бо-
жиим. Последовательность четырех евангелий является необходимой,
поскольку она изменяет на обратный тот порядок, который начинается с
природной индивидуальности Иисуса. И такое обращенное вспять
восприятие природы являет собой необходимую последовательность
осмысления, артикулирования! Ichtys: 1. Иисус; 2. Христос; 3. Сын Божий; 4.
Спаситель — это правильный, «естественный» порядок, который
нужен, чтобы описать эту индивидуальность. Высказанное и записанное
проникновение в саму суть этой индивидуальности осознается в
обратном порядке и обратной очередности: 4. Спаситель; 3. Сын Божий; 2.
Христос; 1. Иисус. В моих работах приведено много примеров
действия этого закона изменения порядка на обратный; к ним относится,
в частности, сформулированное в предыдущей работе «Распевы Муз»
учение о гласных и согласных звуках.
Теперь обратимся к практической связи между четырьмя
евангелиями. Та свобода, какую они, исходя из этой связи, предоставляют друг
другу, поистине дает ключ к «четверному евангелию». Но сперва мне
хотелось бы осветить это взаимоотношение с помощью одного примера,
не относящегося непосредственно к нашей теме.
Мой пример касается трактовки всемирной истории из нее самой.
История протекает в определенном ритме. Любой историк, который не
специализировался на французской, английской, немецкой или
русской истории, и любой заинтересованный дилетант мог бы убедиться в
том, что Русская революция вместе с мировыми войнами произошла
через четыре или пять поколений после Французской революции и
наполеоновских войн. Почти такой же промежуток времени отделяет
347
Кромвеля от Робеспьера. И опять же четыре или пять поколений
отделяют Лютера от Кромвеля (39). Почему революции разражаются через
четырежды по тридцать лет? Пускай мы не в состоянии ответить на этот
вопрос. Это ничего не изменит в том, что речь идет о факте,
основанном на датах, слишком впечатляющих, чтобы оставить их без внимания.
Этот вопрос лишал покоя раннюю Церковь. По-видимому, Иисус
пришел как раз в нужное время, т.е. за одно поколение до разрушения
Храма. Иоанну в его старости и Церкви после 70 г. было ясно, что Иисус
правильно рассчитал время. Он извлек семя с Сиона еще до того, как оно
там стало бесплодным. Но до 70 г. этот аргумент не мог быть приведен.
Иисус предчувствовал порчу и погибель. Он истолковал знамения
времени за одно поколение до событий. В промежутке времени между его
распятием и 70 г. вера христиан упорно искала убедительные
аргументы, способные подтвердить такое толкование истории, — точно так же,
как Ленин и Троцкий оказались в состоянии предвидеть мировую
революцию задолго до 1917 г. на основе логического изучения революций,
тогда как Ницше просто чувствовал упадок и разложение. Стефан в
своей речи и Матфей в своем изложении событий, написанном против
находившейся у власти еврейской аристократии, попытались доказать
наличие четкого ритма, предопределяющего пришествие Иисуса. Как
сказал Стефан перед синедрионом, история издавна снова и снова
совершала скачки. На первое место он ставил Авраама и его семью вплоть до
Иосифа. Затем Моисей, затем Давид и Соломон и, наконец, пророки и
вавилонское пленение. «Разве вы не видите, — так воскликнул он, — что
Иисус означает поворотный пункт, такой, как пленение, как Давид, как
Моисей, как Авраам?» (Деян. 7). Речь Стефана была первым
христианским домостроительством Духа. У Матфея эта оправдательная речь
возвысилась до уровня закона истории. Как он пишет, о переходе Духа
нам сообщается через каждые 14 поколений. Четырнадцать родов
сменилось от Авраама до Давида и до вавилонского пленения,
четырнадцать — от вавилонского пленения до пришествия Христа в лице
потомка Авраамова и Давидова. Так называемая «генеалогия» в первой главе
евангелия от Матфея — это не генеалогия, а философия революции и
ритма революций. И она следует духу речи Стефана.
Даже Лука дал генеалогию Иисуса, но эта генеалогия больше не была
основой его евангелия, поскольку за прошедшее время был разрушен
Иерусалим. Суть великого всплеска красноречия Стефана заключалась в
том, что Дух изменяет формы своего проявления от одной эпохи к
другой. И это — нам не следует об этом забывать — просто истина! Матфей
систематизировал высказывания Стефана и сказал, что такой прорыв
происходит в каждом четырнадцатом поколении. После апостольского
служения Павла среди язычников Лука больше не нуждался в этом верном
по отношению к «Израилю» закону Матфея, но хранил в своей душе
тайну передачи Духа. Однако он мог позволить себе еще более широкое
обобщение. Он установил срок в трижды четырнадцать поколений для
эпохи, завершившейся пришествием Христа и начавшейся с
основоположников иудаизма, но расширил список до семидесяти семи поколений,
живших от сотворения Богом Адама до создания второго Адама, Иисуса.
С другой стороны, в двух случаях он заменил число 14 числом 22. Мы на-
348
блюдаем действие того принципа, который связывает свободу с
единством. Вопрос, общий для всех троих, — Стефана, Матфея и Луки, — это
настоящий вопрос. Тем, кто не желает считать его вечным вопросом, я
могу указать на его секуляризованную версию. Гиббон (40) поставил
вопрос евангелий по отношению к Риму. Он спросил не о том, «почему пал
Израиль», а о том, «почему пал Рим». Рим пал тогда, когда его оставил
дух. В этой форме вопроса, заданного в учебной аудитории, он и
интересует людей — от Гиббона до Шпенглера (41).
Что же, Матфей указал на некую закономерность. Лука внес
поправки в числа. «Трижды четырнадцать» оказалось неправильным числом,
так что его следовало исправить; но сам вопрос, хотя он и остался без
ответа, все же требовал решения. Этого можно было достичь не с
помощью диалектически последовательного сопоставления «да» и «нет», а в
процессе подлинного, опирающегося на здравый разум исследования,
ведущего, вероятно, к «утвердительному ответу, достигаемому, правда,
иным способом». Это выдвинуло новый метод, тогда как греческое
сознание всегда продвигалось вперед в рамках противопоставлений. Новый
христианский метод стал возможен потому, что сердце и душа различных
мыслителей оказались едины еще до того, как они начали
аргументировать. Современное исследование происходит из христианства, поскольку
исследователи, несмотря на различные идеи в сердце и душе,
поддерживают мир. Это — закон нашего летоисчисления. Еще у Платона идеи
должны были объединять его учеников. Но идеи не делают нам такого
одолжения. Поэтому апостол Павел должен был обратить в
христианство эллинов для того, чтобы мог существовать прогресс наук. Августин
выразил в словах это условие научного прогресса: «In necessariis unitas,
in dubiis libertas, in omnibus Caritas» (42). Стефан, Матфей и Лука
создали первый известный мне совершенный образец этого. С этого
времени всякая диалектика является чем-то устаревшим.
Стефан воскликнул: «Этот Сын Авраамов воистину сам принес ту
жертву, которую не совершил Авраам по отношению к своему сыну
Исааку. Наступил век, завершающий историю семени Авраамова».
Матфей размышляет об этом возвещении, и Сын Авраамов в его евангелии
становится для всей истории Сыном Божьим. Лука соединяет период
между Сыном Божьим Иисусом и Сыном Божьим Адамом в единый
отрезок времени. Лука создал христианскую эру. В наших школьных
учебниках это разграничение между христианской эрой и древностью
относится к значительно более позднему моменту (533 г.) (43). Но
действенное вызывание к жизни новой эры было общим свершением
Стефана, Матфея и Луки. И в третьей главе евангелия от Луки явным
образом заданы границы нового способа понимания — с одной эрой до
Христа и другой после него.
А теперь «Четыре евангелия» должны быть даже в буквальном
смысле представлены в качестве чего-то единого. «Четыре евангелия» — и
мы настаиваем на этом — суть уста, какими сердце Ichtys'a говорит
сквозь эпохи. Мы должны внимать им всем. То, почему мы должны
читать все из них, мы попытались объяснить, выявив четыре уровня
близости к Учителю, представленные евангелистами. Учитель, очевидно,
живо присутствует в них всех, но в большем или меньшем отдалении. Так
349
же, как существуют близорукие и дальнозоркие люди, друзья и враги,
человека нельзя целиком увидеть, оставаясь лишь на одном из
четырех уровней приближения. Иисус именовал себя спасителем грешников,
свершителем закона, избавителем от просто человеческого языка, сыном
Иосифа из Назарета, и мы можем услышать и усвоить эти четыре
обозначения, которые он сам себе дал, только настраиваясь на четыре
длины волны — на особенности восприятия спасенного грешника,
обращенного ревнителя закона, ставшего свободным учителя,
прирожденного, но одновременно и призванного друга.
Теперь мы должны попытаться доказать, что евангелисты тоже
знали о своем единстве. Мы определенно знаем, что они читали друг друга.
Но с этим фактом неразрывно связан вопрос, почему же тогда они один
за другим писали свои евангелия в дополнение к предшествующим.
Желали ли они заместить друг друга? Если бы это было так, то почему же
Церковь сохранила все четыре текста? Почему Церковь не могла
принять только одно из более поздних евангелий?
Сначала, чтобы прояснить ситуацию, мы хотим привести один пример.
Евангелиста Иоанна, когда он уже был в преклонных летах, спросили,
почему его проповедь так коротка, почему он говорит только: «Дети мои,
любите друг друга!» Он дал на это знаменитый ответ: «По двум причинам:
этого достаточно, и так сказал Господь». Четырех евангелий достаточно с
тех пор, как каждое из четырех приемлемых именований, которые «Ichtys»
мог отнести к себе, превратилось в «уста» благодаря драматическому
преображению евангелиста. Каждый евангелист пришел к этим четырем
именованиям путем внутренней борьбы с самим собой. Он этого хотел. Этого
достаточно. Прислушаемся только к словам Иоанна. Мы хотим прочитать
четырех евангелистов еще раз: приводят ли они доказательство своей
зависимости друг от друга, которое не сводилось бы к использованию ими
общего «материала»? Да, они его приводят: они создают друг друга.
Каждое евангелие начинается именно с того пункта, до которого, двигаясь по
своей нелегкой тропе, дошло предьщущее'евангелие. Последнее слово
одного евангелия становится увертюрой к следующему и задает его основной
тон. «Последнее слово» не следует здесь понимать педантично или
буквально. Мы подразумеваем под ним последний шаг мысли, совершенный
в ходе драматического продвижения вперед (44). Если это так, то
евангелия продолжают друг друга, поскольку они начинают мыслить и говорить
там, где завершил свое повествование предшествующий евангелист, и
поскольку они превращают свое заключительное слово в начало новой драмы.
Последнее слово Матфея состоит в том, что Иисус стал Сыном Божьим в
смысле Троицы. Марк начинает сразу говорить о «Сыне Божьем», а не со
слов «Сын Давидов», как у Матфея. Марк заканчивает «миссией
служителей Слова». Соответственно, миссионер Лука начинает со «служителей
Слова». И далее — историю деяний апостолов Лука заканчивает
обстоятельной констатацией того, что иудеи имеют уши и не слышат, имеют глаза и
не видят, но «язычники услышат».
Иоанн величественно вторгается именно в это последнее слово
истории деяний апостолов: «Воистину, тьма не видела Света, и мир не
видел его, но свои узрили Его Славу, и мы видели Его». Таким образом,
Лука заканчивает властью евангелия и «Слова единого» из книги
350
Исайи, 6. Иоанн начинает с власти Слова. Нельзя не услышать, как
они бросают друг другу мяч (45).
Эта связь между началом и концом не случайна. Каждое
евангелие мучительно и с трудом достигает своего апогея. Покровы создателя
евангелия просто и естественно облекают человека, который наиболее
готов к тому, чтобы в этот решающий момент принять на себя
полномочие, делающее нас людьми: говорить дальше. (Вместо слова «кериг-
ма» (46) скажите, ради Бога, так, как сам Иисус: «говорить дальше»!).
Начало
Матфей Сын Давидов
Марк Сын Божий
Лука Служители Слова
Иоанн Слово может быть
ныне услышано всеми
Конец
Сын Божий
Служители Слова
Язычники услышат
Иисус, человек, друг
Общая схема:
1. Матфей. Начало: Сын Давидов и Авраамов
2. Конец: Сын Божий. (Крестите во имя Отца и Сына и
Святого Духа).
3. Марк. Начало: Сын Божий
Конец: Служители Слова
Лука. Начало: Служители Слова
4а. Лука. Конец: Евангелие: полнота прославления.
Иоанн. Начало: В начале было Слово.
4Ь. Лука. Деяния апостолов.
Конец: У евреев нет глаз и ушей; язычники услышат.
5. Иоанн. Начало: Мир не забыл Свет; его собственный народ не
принял Его, но мы узрили Его Славу.
Иоанн. Конец: Этот человек Иисус в пространстве космоса.
6. Матфей. Начало: Иисус (Христос, Сын Давидов, Сын Авраамов).
Круг замкнулся. Отныне «Четыре евангелия» оказываются единым
евангелием.
Этот перечень, каким бы скудным он ни был, тем не менее следовало
бы читать как сценарий драмы в четырех действиях, сыгранной в один акт.
Первое действие.
Второе действие.
Матфей, мытарь, отбрасывает цифры и заметки
своих счетов и осознает, какой полнотой власти могут
обладать человеческие слова, если они
произносятся на пути человека к своей смерти.
Петр, простой рыбак, призывается в центр
последнего западного поднебесного царства, в Рим, где
властвует богоравный кесарь, в Рим с астрологией его
храмов и его иероглифами, и здесь он возвещает
истинный Храм, т.е. Слово, и истинные иероглифы
этого Храма, служителей Слова.
351
Третье действие. Лука, врач-грек, искусный в деле исцеления,
призывается в иудейскую атмосферу, где миру тел говорят
«нет» и где избегают соприкосновения с телесными
идолами. Он направляет это «нет» на естественный
закон как иудеев, так и язычников и, с другой
стороны, возвещает творческое «да» христиан.
Четвертое действие. Иоанн, пророк Откровения, вступает в греческий
космос и освобождает искусство и поэзию греков,
делая своей темой поэзию Бога. Он спрашивает:
«Как Бог пишет свою поэму?»
Коль скоро мы станем осуществлять этот сценарий, давайте внесем
ясность в его действия, начиная с Иоанна. Ибо его случай более всего
понятен нам, современным людям. Причиной тому является факт, что
мы лучше всего понимаем поэзию — лучше, чем науку, молитву или
ритуалы.
Евангелие от Иоанна всегда понимается как эллинизирующее или
эллинистическое. Но именно это неоспоримый факт сделал данное
евангелие подозрительным. Почему Лука, грек, должен был быть
менее эллинистичным, чем галилеянин Иоанн? Напротив, это
окажется необходимым, как только мы станем рассматривать язык как
продвижение вперед по пути из «откуда» к некоему «куда». Иоанна
вызвали из Галилеи в греческий духовный мир, а Луку — из мира
лекарей в иудейский духовный мир; Петр был призван в римский
поднебесный мир, а Марк, его помощник, позже отправился даже в
Египет, колыбель всех поднебесных миров. Матфей, современный
деловой человек, проходит путь, ведущий к исходному слою ритуалов, и
открывает, какой ценой надлежит платить за ритуал. Дальний путь
оказывается пройденным четырежды. Евангелисты не создают
изображений, они идут вперед.
Поскольку язык подобен потоку, Иоанн не написал никакого
эллинистического евангелия. Вместо этого он спас греческий
поэтический гений. Греки почитали Логос. Они говорили и говорили до
упоения. Риторика, логика, философия и театр были их хлебом насущным,
а искусства являлись их пороком и добродетелью, их жизнью и
религией.
К чему бы в сфере поэзии, — а именно она выражала собой их
способ творить, — ни прикасалась их волшебная палочка, — все
претерпевало превращение, будто камни, из которых были сложены
стены Фив, под воздействием музыки Орфея. Мы внимаем песне
Гомера о гневе Ахиллеса до тех пор, пока не начинаем плакать о
Гекторе, его враге. И мы читаем историю о «муже» Одиссее до тех
пор, пока Гомер не убедит нас, что в общем и целом речь идет о
настоящей «Пенелопее».
Платон пришел в ужас от этого гения своего народа. Он обратился
против поэзии и предложил проклясть Гомера. Но запретный плод
сладок. Освобождение от одержимости искусствами должно было прийти от
евреев. Евреи свергли искусства с их престола. Свои самые
восхитительные поэмы они понимали как простые ответы Богу. Но гениальное
352
было живо в них. Как подлинный гений, вдохновленный Духом Божьим,
Иоанн принял в себя Апокалипсис, лежа замертво на крошечном
островке Патмосе. В наших комментариях не учитывается, что здесь
действуют и проявляют себя все греческие гении, чтобы показать, что
случается, когда гений начинает следовать за Господом. Платону, сыну
Аполлона, не дано было исцелить греческую душу от опьянения гениальностью;
он сам был поражен morbus poeticus (47). Евангелист Иоанн сумел дать
исцеление.
Как это произошло? Поистине великим предметом его евангелия не
стали ни грек, ни троянец, ни Эрос, ни София. Вместо этого он
воспевал ту силу, которая побуждает нас любить, страдать, говорить и
повиноваться, — воспевал человека как поэму Бога. Слово стало плотью.
Так снимается покров с внутренней поэзии человека, говорящего
истинно, — независимо от того, говорит ли он стихами или прозой. У
Иоанна был иммунитет против morbus poeticus. Его евангелие
превосходно отражает атаки репортеров, т.е. греков. В главе 12 (стих 21)
говорится о том, что они хотят увидеть Иисуса; они путают фотографическое
изображение тела с проникновением в суть пройденного жизненного
пути и приносящей плоды смерти, с просветлением, преобразившим Его
в дитя Света. На этом пути Иоанн приводит самую величественную
речь Иисуса, но ни один репортер не смог понять в ней ни единого
слова. Несмотря на крайнюю серьезность момента, Иисус и Иоанн могли
бы вдоволь позабавиться над полным непониманием со стороны прессы.
Но честность требует, чтобы я, когда дело дойдет до эпизода с
воскресением Лазаря, проявил бы такую же скромность, как те репортеры.
Подобно какому-нибудь греку, я еще не понял этого эпизода,
воплощающего самую суть видения Иоанна. Однако он, очевидно, является
центральным в его евангелии (48).
У Луки, как у грека и врача, был иммунитет против morbus propheticus
(49), против иудейского отрицания всех земных успехов. Бог был
Единственным, — так утверждали евреи в противовес плюралистическому,
жаждущему власти хаосу политеизма. В этом противостоянии Израиль
прав настолько, — точно так же, как во многом прав греческий гений и
не прав восстающий против него Платон, — что даже Крест Иисуса не
смог преодолеть отвращения иудеев к какому-либо окончательному
обожествлению. Они распяли его, поскольку Бог для них должен был
оставаться «грядущим». Понадобился грек Лука, чтобы выявить
ограниченность или пределы их отрицания. В качестве врачевателя телесных
болезней Лука знал целительную силу яда, хирургии и многих якобы
негативных процессов. Лука мог согласиться с тем, что никто не является
сверхчеловеком и, значит, никто не имеет права притязать на роль целителя
социальных пороков. Это может делать только Бог. А что, если человек
является используемым Богом лекарством, Его плазмой крови, Его
витамином, Его сывороткой? Посланный Богом человек проникает в
артерии общества и может быть поглощен им, как это и произошло с
Иисусом. Но если он, будучи Христом, знал, что он делает, он в то же время
будет оказывать очищающее и исцеляющее воздействие. Таким образом,
в этом воздействии, вопреки раввинам, свободное будущее Бога,
возвещенного пророками, не упраздняется! И фактически в этом заключает-
12 3ак. 3524
353
ся благовествование Луки в его евангелии и в Деяниях апостолов. Иисус
начал этот процесс нашего обожения, принеся себя — чадо Божье — в
жертву ради своих врагов, того общества, которое отреагировало на него
крайне пристрастно. Он открыл людям глаза на предназначение
каждого чада Божьего быть «впрыснутым в систему кровообращения
общества», и так Иисус становится помазанником Божьим, «Христом», а всем
остальным не остается ничего иного, как следовать за ним.
Я хорошо понимаю, что намерение Луки спасти благочестивейших
иудеев большинством критиков не принимается в расчет даже как
отдаленнейшая возможность. Поэтому упомянем отдельные технические
моменты, достаточные для того, чтобы признать его случай, по крайней
мере, не проясненным до конца. Лука писал либо в Беотии, либо в
Кесарии в Малой Азии. Строго иудейский элемент в его общине — не
случайное вкрапление. Лука был первым из тех, кто должен был написать
книгу в строгом смысле слова — так, чтобы ее можно было использовать
для чтения во время богослужения параллельно чтению текстов из
Ветхого завета. Часто обращали внимание на то, что он повсюду изменил
слова «он говорит» Марка на «он сказал», соответствующие
изысканному стилю. Это было необходимо, чтобы каждый отрывок заключал в себе
посвящение, нужное для чтения вслух в ходе богослужения.
Лука уважал иудейское имя центра веры Израиля. Ибо он употребляет
название «Иерусалим» тридцать раз, и в 26 случаях из 30 он приводит его
в еврейской форме «Jerusalem», а не в греческой «Hierosolyma». Во всех
других евангелиях наблюдается противоположный подход. Тот, кто
говорил с иудеями, должен был действовать так же осмотрительно, как Лука,
и щадить уши своих слушателей. Лишь недавно было сказано о том, что
его стиль полон гебраизмов и что он цитирует Ветхий Завет не по
греческому тексту, а по еврейскому оригиналу (50). Кларк считает это
доказательством тому, что сам Лука был евреем, но это доказательство
выглядит не слишком убедительным. Правда, оно еще сильнее выявляет то
стремление, которое мы приписываем Л^се. Но пусть читатель примет во
внимание, что Лука в своем евангелии избегает употребляемого
пророками слова «надежда». Пункт, в котором Израиль был наиболее
тугоухим, — и не случайно, поскольку это затрагивало его глубочайшую
веру, — состоял в следующем: христиане хотели знать о Боге то, что он
окончательно сказал «да» религиозной миссии одного человека. О Боге
было известно, что он постоянно удерживал людей от тяги к
обожествлению, избавлял их от искушения соорудить небеса уже на земле.
Язычники легкомысленно обожествили людей. Чтобы прояснить суть
дилеммы Луки, я процитирую отвратительный гимн, сочиненный греком Гер-
моклом в честь генерала Деметрия:
Он — Солнце, любящее вас.
Слава тебе, потомок Посейдона, могущественный бог.
У других богов нет ушей —
Может быть, потому, что они не способны или не хотят
Услышать наши стенания.
Тебя видят наши глаза.
Не дерево, не камень,
354
А жизнь, дыхание и действительность.
Тебя открывает наша молитва.
В первую очередь даруй нам мир.
Дай нам его, дражайший,
Если тебе это под силу.
Ты — наш господин и учитель (51).
Разумеется, Луке была хорошо знакома такая разновидность
богохульства в политической сфере. Обожествление императоров стояло в
одном ряду с этим стихотворением. Лука испытывал к подобному
обожествлению такое же сильное отвращение, как и его еврейские друзья. Как
он мог убедить их в том, что требующая к себе щепетильного отношения
разделительная линия между нами, смертными людьми, и Творцом неба
и земли не была нарушена новой верой в Христа — Сына Божьего,
ставшего плотью?
Это можно было сделать только тем же способом, который в
своем благовествовании использовал апостол Павел. Сначала человек
должен признать произносимое Богом слово «нет». Человек делает
это, изъявляя свою готовность страдать. Лишь после того как Бог,
подобно пылающему огню, освободит человека как смертное
существо от всех шлаков и преходящих свойств, ясно обнаружится, что
Господь принял безусловное решение в пользу этого человека и
говорит ему «да». Наивное сознание говорит: «Я стану Богом, я стану
Мессией, я стану законодателем». Бог препятствует осуществлению
этой воли, но человеку, следующему своей воле и
расплачивающемуся за неизбежное привнесение своеволия в собственную жизнь
именно этой самой жизнью, Бог говорит «да» (Кор. 2:4 и далее; 17 и
далее). Мы живем, умирая. Наш отказ делает позволительным наше
обожествление. Кто любим Богом, того он в этой жизни ни за что не
оставляет безнаказанным.
Лука, идя по этой узкой горной дороге, пролегающей между
отметками «слишком много» и «слишком мало» уверенности в самом себе,
оказывается единственным, кто предоставляет нам достоверные сведения об
Иисусе, относящиеся к этой связи между первым наивным «да» и
божественным «нет» и творческим вторым «да», дающим воплощение и
обосновывающим историю. Только у него приводится великолепный
рассказ о том, как Иисус увидел человека, работающего в субботу. Он
подошел к нему и сказал: «Если ты знаешь, что ты делаешь, то ты
благословен, если же ты этого не знаешь, то ты проклят и являешься
нарушителем закона» (Кодекс Безы 6:10) (52). Так созданы три новые
плоскости — первое «да», затем «нет» и, наконец, «да» божественного величия.
Тем самым Иисус преступил пределы Афин и Иерусалима, т.е. пределы
собственного гения и предшествующего Божьего закона, перейдя под
защиту нового благословения.
Только у Луки о перекрестном допросе Иисуса сообщается столь
подробно, что сам Иисус никогда не говорит: «Я Мессия». Марк
позволяет Иисусу сказать: «Я Мессия» (Мк. 14:62). Лука был знаком с
книгой Марка. Поэтому пространное сообщение Луки может
свидетельствовать, что он избежал ложной видимости, которую допускал
355
Марк, — того, что сам Иисус называет себя Сыном Бога Живого.
Марку это было безразлично. Ибо египтянам, грекам и римлянам апофеоз
смертного человека, выраженный в провозглашении самого себя
божеством, не резал уши. Марк мог позволить себе писать так
двусмысленно. Но Израиль с его благоговением перед единственностью Бога не
мог перенести ничьих притязаний на то, чтобы приравнять себя к
Господу. Только воскресение превращает Иисуса в главу Сына Божьего.
Только его благословенная смерть. В этом пункте Лука признавал: «Им,
иудеям, а не Иисусу, принадлежат решающие слова. Только таким
способом человек может стать Словом, сказанным Богом, а именно
благодаря тому, что сам он не возводит какие бы то ни было из своих
смертных утверждений до уровня божественной истины. (Такое
обоснование используется также в Послании к евреям.) Постоянное
соответствие между, с одной стороны, властью Отца, побуждающего все
окружение Иисуса вести себя и говорить так, что оно его удостоверяет, а с
другой — собственными поступками Сына, является для Луки
истинным доказательством, что здесь Бог говорит свое полновесное «да»
Сыну. Поскольку Сын отказывается от применения насилия в делах
веры и поскольку он отвергает возможность вызывать страдания
вместо того, чтобы страдать самому, он удостоверяет свое посланничество.
Он в своем самоотречении принимает на себя вечную миссию
Израиля быть народом-семенем всего человечества. Поскольку христианство
смиряется с поражением, оно включает в себя и эту непреходящую
истину Ветхого завета. Если пророки подчинились велению: «Говори
«нет» идолам», то почему должны считаться святотатством слова: «Я
подчиняюсь приказанию говорить «нет» нашей воле и «да» — выходу за
пределы этого «нет»?» И, таким образом, с самого начала намерение
Луки состоит в том, чтобы доказать, что для Бога нет ничего
невозможного (Лк. 1:37). Поскольку Иисус умирает за своих врагов, то его
враги должны подтвердить истинность его миссии. Лишь благодаря этому
взаимодействию человеческую волю можно отличить от воли Бога. И
лишь после того, как это произошло, может совершиться
преображение. То, что ненавистный провозвестник евангелия отдает себя под суд
тех, кому это евангелие адресовано, очищает волю провозвестника от
его собственного своеволия. Это изменяет образ мыслей его
преследователей. Таким образом, благая весть Луки состоит именно в этом.
Поскольку я пишу как внимающий речи, ход моего доказательства
относится в первую очередь к тем, кто интересуется преимущественно не
«теологией» в узком смысле слова и кто поэтому не будет требовать
рассмотрения всех точек зрения ученых теологов на евангелие от Луки. И
все же для тех, кто сведущ в этой теологической постановке вопроса, я
должен добавить, что Лука не покинул полностью области иудейской
традиции. Мы увидим это, когда обратимся к евангелию от Матфея.
Строго историческое или натуралистическое изучение евангелий с
1880 г. чересчур упростило те линии борьбы, над которыми должен был
быть сооружен Крест. Мы увидим, что греки и евреи образуют два из
четырех фронтов, тогда как разделение на «язычников» и «иудеев» в Новом
Завете в наши дни неправильно рассматривается как исчерпывающее
двухчастное деление.
356
Внимающий речи обнаруживает, что Лука нападет на собственную
слабость. В дни Иисуса величайшее благочестие и высший тип
благочестия встречались именно в правоверном Израиле. Не низость, а
строгость и достоинство обязывали священников Иерусалима осудить
Иисуса. Богохульством было то, что некто называл себя Богом и притязал на
место по правую руку Бога. У евреев речь идет не об упрямом
сопротивлении, а о достойном всяческого уважения противостоянии, которое в
наше время все люди доброй воли должны вновь счесть похвальным.
Поэтому ход доказательств Луки имеет непреходящее значение и
занимает навсегда закрепленное за ним, в высшей степени достойное
место. Благочестивые иудеи и в наши дни должны распять Иисуса! Но
Израиль основывается на некоем сочетании пророческой чистоты и
еврейской народности. Израиль — это избранный народ, избранный в той же
мере, что и народ. Лука имеет дело исключительно с пророческим
аспектом Израиля. Мы увидим, что еврейская сторона вопроса была
подвергнута рассмотрению человеком, принадлежавшим к совсем иному типу.
О четвертом и третьем евангелиях и их способности исцелять от
morbus graecus (53) и morbus propheticus сказано достаточно. Оба эти
евангелия стали противоядиями от этих болезней. Иоанн, еврей из
евреев, обретает способность спасти греческую поэзию, а Луке, врачу-греку,
удается снова сделать плодотворным присущее Израилю упорное
отрицание. Но существует ли подобная перемена мест противоположностей,
подобный перенос энергетических потоков между Матфеем и Марком,
с одной стороны, и внимающей каждому из них публикой — с другой? Я
думаю, что все это существует. Читатель правильно сделает, обратившись
к предыдущим работам, в которых рассматривается время,
предшествовавшее иудеям и грекам. Мы обнаружили «запечатленные на коже
времена» и «записанную вечность» в качестве искусственного средства
построения человеческого общества. Что же, оба первых евангелия
проделывают по отношению к «Египту» и племенному ритуалу ту же работу
спасения, которую Иоанн совершил по отношению к поэзии, больше не
связанной с магией, а Лука делает то же, исправляя исцеляющее «нет»
псалмов. Поскольку с небесным миром и его иероглифами или с
племенными ритуалами погребения и принесения жертв мы ныне знакомы
неизмеримо хуже, чем с Библией или Гомером, то их рассмотрение
требует несколько более трудоемкого изложения.
Мы обратимся к евангелию от Марка, второму евангелию, и вспомним
об иероглифах в том их виде, как они были изображены на стенах храмов,
переносящих небо на землю. Еще император Генрих II (1002-1024),
причисленный Церковью к лику святых, в качестве королевской мантии
носил одеяние, на котором были вытканы Солнце, Луна и звезды на
небосводе, поскольку император был миродержцем. Он был вознесен до
уровня ступицы колеса, чтобы объединить ночь и день, чтобы примирить
север, где никогда не светит солнце, с югом, которого никогда не достигает
полуночная Полярная звезда. Император, Сын Неба, как его называли в
Китае, был перводвигателем мира неба и земли, мира,
умиротворенного им, не охваченного паникой и избавленного от хаоса. Его знание звезд
и его согласие с ними защищали народ от панического ужаса,
вызванного катастрофами. Когда в наши дни люди ставят в вину президенту Со-
357
единенных Штатов охватившую весь мир депрессию, они идут по стопам
всех древних народов, в понимании которых вечные круговороты могли
быть усовершенствованы благодаря человеческому существу,
возвышенному до роли ступицы колеса. Фимиам, воскурявшийся статуе
императора, был средством оживить его ноздри, чтобы он мог ощутить
гармонию и красоту мироздания. Тот, кто не воскурял фимиам, не говорил
«Хайль Гитлер!», разрушал небесный мир. Он должен был умереть.
Евангелие от Марка, повествующее об истинном Сыне Божьем, было
направлено против этого культа. Оно было написано в мире, ради
своей безопасности настаивавшем на том, что император является сердцем
зона, сыном бога, и поддерживавшем эту веру с помощью заклинаний,
календарей, жертвоприношений, храмов и иероглифов. Это евангелие
было написано людьми, которые отрицали притязания императора и
которые поэтому навлекали на тех, ради кого они его писали,
непосредственную угрозу смерти: ведь оно могло быть истолковано как
государственная измена, способная разрушить благосостояние империи.
Они проповедовали в самом средоточии небесного мира,
считавшегося священным, мира, в который проникла «мерзость запустения», т.е.
статуя кесаря в качестве бога, выступающая в роли центра магически
скрепленного мироздания, — проникла даже туда, где ей быть «не
должно» (Мк. 13:14), даже в самый центр главной святыни в Иерусалиме.
Это выражение, которое я здесь цитирую по евангелию от Марка,
сначала было использовано Матфеем, и поэтому мы были бы не вправе
приписывать Марку особый интерес к нему. Матфей, поскольку он был
первым, излагал имевшийся в его распоряжении материал так пространно,
как это только возможно, и, конечно же, более пространно, чем
вносящий сокращения Марк. И все же я хочу процитировать некоторые
знаменитые выражения из этой речи Иисуса и доказать, что эта речь имела
более важное значение для апостола Петра в Риме, чем для какого-либо
другого апостола. В обоснование этого тезиса я могу привести две
причины — ведь иначе он будет произвольным. Сперва критики неизменно
признавали, что по части эсхатологических образов Марк более понятен,
чем Лука или Матфей. Веймаус-Робертсон замечает: «Определенные
черты речи наиболее отчетливо выявлены в сообщении о ней Марка». А
также: «Самый ясный обзор этого эсхатологического процесса дан
Марком» (54).
Иными словами, Марк потратил на эту речь много сил. Вторая и
более веская причина такова: эта речь о знамениях небесного мира
является единственной речью, приведенной Марком полностью. Все
другие речи им сокращены или опущены. Что же, если во всей книге
Марка полностью передана лишь одна речь из многих, приведенных у
Матфея, то тем самым она становится центром внимания: ведь в Риме
она сделалась особенно нужной.
В этой речи, — пусть мой читатель перечитает ее, — описывается
астрологический небесный мир: «Солнце померкнет, и луна не даст света
своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются». До тех
пор все жреческие культы были направлены на то, чтобы преодолеть
подобные нарушения на небе; но поскольку благодаря евангелию эти
культы разрушаются, пророчество Иисуса надлежало понимать совершенно
358
буквально. Но наши современные Николаи (55) печально качают
головой по поводу таких суеверий: «Отдельные детали этого описания, без
сомнения, не следует понимать буквально. Они представляют собой
попытку средствами поэтической фантазии представить себе, что
означало бы вмешательство Бога в человеческую историю» (56). Увы,
современные люди забывают спросить, как Бог мог бы вмешаться, покуда чудеса
небесного мира все еще сохраняли свою силу? Марку надлежало
исцелять от morbus aegypticos (57), а не от поэтической болезни! Как он
провел этот курс лечения? Лечение было простым. Оно было опасным. Оно
называлось: общность! Свидетели, тучи свидетелей должны были занять
место безжизненных звезд на небосводе. Иисус должен был занять место
Солнца. И разве святые и Христос не сделали этого? Все евангелие от
Марка представляет собой попытку показать, что Иисус пережил полный
солнечный год человеческого Солнца, человеческого сердца. Но никто
из людей и даже никто из его учеников не осознал присутствия рядом с
ними совершенной жизни. И все же, несмотря на это, Иисус доверял им.
Он призвал их, хотя они его и не поняли, и они с этого момента
образовали с ним единую общность. Мы уже знаем, что апостол Петр
отрицал свои заслуги в этом деле. Ибо в течение «лета Господня
совершенного и благоприятного» ученики пребывали в неведении. В главе 3, стихе
12 он запрещает им говорить, кто он такой. В главе 4, стихе 11 им
сказано: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все
бывает в притчах». В главе 8, стихе 31 говорится: «И начал учить их». В главе
9, стихе 9 сказано: «Он не велел никому рассказывать о том, что видели,
доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». В главе 10, стихе
38 им говорится: «Не знаете, что просите». А в главе 10, стихе 32: «Они
ужасались и, следуя за Ним, были в страхе». На протяжении всего
времени единственным связующим звеном между ними и Господом
является напряженность и исходящее от них ожидание.
Все евангелие выстроено вокруг этого несоответствия между
временем Иисуса и их временем. Ибо Иисус уже выполняет свое поручение.
Время исполнилось. Он странствует по земле, как Солнце. Но ученики
требуют от него: «Скажи нам, когда это будет» (Мк. 13:4). Им еще
только предстоит превратиться в звезды!
Почему все евангелие от Марка определяется этим несоответствием
между Иисусом, проживающим полный год, и его учениками,
ожидающими этого года в каком-то таинственном будущем? Почему последняя
глава евангелия от Марка изобилует констатациями неверия учеников
типа: «Симон, ты спишь?», «Они не могли в это уверовать», «Они
ужасались», «Они не могли поверить знамениям». Он упрекал их в неверии
и упрямстве.
На самом деле критики считали, что евангелие от Марка, вероятно,
подверглось искажению или является неполным, поскольку оно
заканчивается так внезапно и на ноте отчаяния. Что же, мы уже были
предупреждены об этом странном подозрении, которое у рассудка вызывают
заключения и начала различных произведений творческой литературы. «Трис-
трам Шенди» (58) с его невероятной первой страницей, конечно же, не
выдержал бы натиска этих критиков. Между тем, если центральной темой
евангелия от Марка является слишком поздний приход учеников, то мы
359
можем всецело понять его окончание. В этом «неподлинном» окончании
есть такие фразы: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей
твари... Уверовавших же будут сопровождать сии знамения... И так
Господь, после беседования с ними, вознесся на небо и воссел одесную Бога.
А они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и
подкреплении слова последующими знамениями». Теперь читатель совсем
запутается и покачает головой. По моему мнению, гуманистически
образованный читатель должен был бы понять, что Иоанн воспевает «Слово»
там, где Гомер воспевал «человека», и что Лука говорит «Христос теперь»
там, где иудеи слышали только о «еще не Христе». Однако то, что Иисус
превзошел собой иероглифы небесного мира и звездный календарь
правителя «территориального царства», который почитался как бог Солнца,
Sol Invictus (59), кажется слишком большой натяжкой, поскольку наш
собственный мир убежден, что он стоит намного выше всяческих небесных
знамений. Если современное сознание испытывает потребность в
некоторой аналогии, то в качестве таковой можно использовать цикл
экономического развития, власти и почитания власти. Современная вера в
медицину, машины и щедро дотируемую организацию имеет ту же природу,
что и культ Солнца в древности. Такие выражения, как «влияние»,
«влиятельный», «власть и конъюнктура», «цикл» и «депрессия» — это наши
астрологические выражения. В наши дни их применяют к социальным
отношениям, а не космическим процессам. В том же смысле аналогией
может служить то, что мы привыкли относиться к этим «констелляциям»
столь же терпеливо, как к дождю и солнечному свету. Это означает, что и
у нас есть свои иероглифы, ставящие нам пределы, подобно священным
заклинаниям. Впрочем, считайте это не более чем беглым замечанием.
Как бы то ни было, благодаря одному только последнему высказыванию
Марка порядок старого небесного мира превратился в свою
противоположность, и теперь Бог подкрепляет слова проповедников последующими,
сопутствующими им знамениями. В небесном мире слово Сына Неба
оказывало воздействие, не нуждаясь в том, чтобы пройти испытание миром
реальности. Боги появлялись ex machina, посредством машин, дождь или
кровь созидались жрецами, ведущими себя, подобно Юпитеру или Иси-
де. Люди принуждали иероглифы свидетельствовать об истине с
помощью черной магии в тех случаях, когда белая оказывалась бессильной.
Этот фронт астрологии в течение 150 лет не принимался всерьез, и лишь
Гюнтер Борнкамм (60) начал упоминать о нем, по крайней мере, с
1958 г., после того как проклятие этого фронта — спустя 1900 лет после
Христа — уничтожило Германию! У мира как такового — называется ли
он расой, отечеством, Европой, природой, развитием или революцией, —
у этого мира нет сердца. Но «территориальные царства» выдумывали
сердце космоса и приписывали его миродержцу. Иисус своей жертвой
создал сердце мира благодаря тому, что всякий, следующий за ним в
своем исполненном любви ответе Ему, Слову, звуком и отзвуком, биением
собственного сердца участвует в сотворении этого сердца мира. «Сердце
мира» — так это назвали отцы Церкви. Так что мы, спустя последнее
тысячелетие всемирной истории, скорее, припишем исходящие из облака
святых потоки спасения, направленные жертвам насилия и
заставляющие биться наши собственные маленькие сердца, именно сердцу Бога,
360
сердцу Сына. Ибо мертвый мир и живой Бог должны соединиться друг
с другом в нас. Сердце Бога стремится, пройдя сквозь нас, начать
биться в бессердечном мире.
Иисус стал сердцем живого мироздания благодаря своей вере в
свободный ответ. «Это первое творение мира Божьего», как называет такой
ответ рыбак Петр, было вырвано у астрологического мира благодаря вере
в континуум всякого языка. Эти говорящие люди могли взяться за руки
и передать дальше новую власть единого общего Духа. Они говорили от
имени единственного Единого, который обнаружил эту веру в
свободный ответ тогда, когда такой веры ни у кого не было. Его день прошел.
Но в ночи, которую он оставил после себя, члены его Тела могли стать
сияющими звездами, ждущими яркого света другого дня. То, что мы не
ошибаемся, предложив такую интерпретацию, можно было бы
непосредственно доказать путем обращения ко Второму Посланию апостола
Петра. Там небеса — т.е. астрологический мир — целиком объяты пламенем.
Этот мир будет уничтожен. Должны возникнуть новое небо и новая
земля, без астрологии, «доколе не начнет рассветать день и не взойдет
утренняя звезда в сердцах ваших» (2 Петр. 1:19). Это сказано красноречиво.
Ибо центром небесного мира Египта было одновременное появление
сияющей ночной звезды Сириуса и Солнца утром 19 июля. Это был день
нового года фараона, поскольку в этот самый момент ночь и день, север
и юг примирялись друг с другом. В словах апостола Петра это
надлежало заменить утренней зарей в сердце человека и новой утренней
звездой — Христом. Но я остерегусь использовать это Послание, поскольку
это могло бы повредить выдвигаемому мной тезису. Ибо критики
относятся к этому Посланию слишком строго и говорят, что оно не может
принадлежать апостолу Петру. Так что я позволю этому «колесу
Фортуны» модной критики вращаться дальше. Поэтому должно быть
достаточно привлечь внимание к тому действительному фронту, на линии
которого сражалась Церковь. Апостол Петр и папы, для многих
являющиеся прообразами властолюбивого священнослужителя, одержали победу
над храмовыми культами древности, поскольку низвели себя до уровня
servi servorum, рабов раба Божьего.
С одной стороны, еврейский рыбак Петр был хорошо знаком с
реальными космическими процессами — погодой, водой, воздухом и небом.
С другой стороны, как израильтянин он не был запятнан астрологией.
Таким образом, этот человек был избавлен от соприкосновения с
оскверняющей наукой древности, но одновременно наделен чрезвычайно
острыми чувствами. Это был человек, которого Господь избрал для
излечения четырех болезней — для разрушения древнего неба с его
локальными календарями и замены иероглифов Стоунхеджа (61) или Мемфиса
жизнью мучеников, исполненной страданий плоти. Служители Слова
стали иероглифами нового Храма. Для этого Петр и отправился в Рим.
И облако свидетелей поднялось в литаниях (62).
Для подтверждения этого я могу, наконец, процитировать самого
апостола Петра. То, что его Первое Послание написано именно им, ныне
уже больше не оспаривается. В этом Послании мы видим, как он
возвещает победу над камнями старого Храма. И мы можем понять его
высказывание лишь в том случае, если вспомним о том, что эти Храмы были
361
испещрены заклинаниями и иероглифами. Петр провозглашает, что он
действует на основе не «гносиса», т.е. искусства предсказания, которым
обладают астрологи, а «прогносиса» Бога. Бог призвал Петра в такое
время, когда он вообще не знал, чего от него ждут, и задолго до того,
как он «по примеру призвавшего его Единого» (63) оказался в
состоянии соответствовать ему ( 1 Петр. 1:15). А затем следует буквальное
разъяснение: «И сами, как живые камни, устрояйте из себя храм
духовный» (Шетр. 2:5) (64). Соответственно, начало Послания к евреям в
наших переводах должно быть исправлено: «Бог, многократно и
многообразно говоривший издревле, в последние дни сии говорил нам в Сыне,
отраженном свете Славы Божьей, иероглифе Божьей сущности»! (65).
Речь идет о единственном использовании слова «характер» в Новом
завете, и это слово означает «иероглиф». В своем Послании к ефесянам
мученик Игнатий Богоносец (66) пылко борется против каменных храмов.
Он так страстно стремится заменить чем-то иным мертвое здание храма,
что называет Святой Дух подъемным тросом, Крест — новой машиной,
а христиан — камнями, которые с помощью этого подъемного крана
возносятся на самый верх строящегося дома Божьего.
Таким образом, живший однажды бренный Иисус обретает
способность стать долговечнее иероглифов, высеченных на камнях Карнака или
на Розетте ком камне (67), пережить и преодолеть их. Ибо он обладает
жизнью Бога.
Вот то, что следовало сказать по отношению к Петру в Риме и к
Марку, который именно поэтому считается первым епископом Александрии
и Египта. Morbus aegypticus была заговорена. Марк победил фараона
точно так же, как Петр победил Рим, и то обстоятельство, что критики
отрицают факт служения Марка в Египте, ничего не меняет.
Теперь мы возвращаемся к автору первого евангелия, евангелисту
Матфею. Мы не вправе ждать от Матфея столь же ясной и своеобразной
позиции; поскольку он вообще был первым из тех, кто делал записи, он
должен был очень подробно сообщать обо всем и о каждом. Раньше мы
нашли подтверждение тому в речи о небесном мире, которую Марк лишь
тщательнее прорабатывает, поскольку для Рима это было важнее. И все
же Матфей, хотя он и был первым, уже потрясающе точно ориентируется
на свою особую публику. Болезнь, которую он преодолевает, подобно
другим болезням, присуща нам самим. Только эта болезнь так тесно
связана с нами, что обнаружить ее труднее и это вызывает более
неприятные ощущения. Мы сознаем, что его свершение есть специальное
средство исцеления от определенной болезни, когда замечаем, что он
рассматривает двенадцать апостолов не в качестве двенадцати звезд, а в
качестве судей над двенадцатью коленами Израилевыми. Почему он
вспомнил о них? Не потому ли, что он, возможно, был вынужден
прежде всего нарушить табу ритуала племени?
Мы проследили стремления Петра, Луки и Иоанна в том виде, как
они возникли из их специфического иммунитета. Может показаться, что
в отношении Матфея нельзя обнаружить специфики. Ибо тогда он
должен был бы, приступая к своему евангелию, оставаться во всеоружии
своих навыков и полномочий счетовода и сборщика налогов. Уже
пророк Исайя призывал стенографистов. Не был ли Матфей стенографистом
362
Иисуса? Петр был человеком устной речи и, по-видимому, презирал
чернила. Но Матфею были хорошо знакомы расчеты и записи. Поскольку
мы не можем ожидать, что Иисус и другие апостолы использовали его в
сфере его прежней деятельности, где его записи служили кесарю в деле
управления империей, мы можем предположить, что он вел борьбу в
другой области.
Мы читаем, что Матфей не мог вращаться в приличном обществе, и
этот человек, как нарочно, начинает свое евангелие с места Иисуса в
«Готском альманахе» Израиля! Он подчеркивает тот факт, что его
Учитель Иисус, несмотря на внешнюю видимость, в качестве сына царей
принадлежит к действительно лучшему обществу. А затем он
показывает, что Иисус добровольно отказывается от привилегий, связанных с
этим общественным положением. Сын царей должен быть освобожден
от уплаты налогов и податей (Мф. 17:27)! Он не должен платить каких-
либо пошлин или налогов, будь это подушная подать или уплата
половины шекеля, как с улыбкой говорит Иисус. Но Матфей продолжает:
«Произошло именно противоположное». Он выражает все значение
жизни Иисуса в стиле денежного расчета. Я боюсь оскорбить читателя в
лучших чувствах, но Матфей и в самом деле говорит: «Сын Человеческий
для того пришел, чтобы отдать душу Свою в качестве выкупа за многих»
(Мф. 20:28) (68).
Для Матфея это не просто манера выражаться. Матфей понимает
Иисуса как подлинного наследника института вождей племени, как
такого наследника, который на празднестве племени добровольно
приносит себя в жертву. Но благодаря тому, что вождь становится
добровольной жертвой, он оказывается первой жертвой всемирной истории,
жертвой, способной говорить. Никто в этой роли никогда не говорил,
поскольку племя нуждалось в немой жертве, как об этом говорится в
предшествующей работе о запечатленных на коже временах. Связь между
предками и живыми поддерживалась совместной трапезой, в которой
участвовал умерший, словно он был живым, и весь ритуал погребения
был основан на этой связи между мертвыми и живыми. Духи умерших
требовали себе пропитания, и эти духи, если их не кормили, становились
кровожадными. Именно это следовало из верований и суеверий всех
племен. Мы продолжаем этот обычай в торжественном обеде по случаю
открытия клуба или товарищества. Наше слово «пища» (нем. «Speise»)
означает «полученное за большие деньги»! За большие деньги мы тоже
становимся членами приличного общества. Жертвы были самой
сердцевиной ритуала, поскольку только они сплачивали, инкорпорировали
человеческую группу и предоставляли ей законный статус корпорации, т.е.
некоего публично признаваемого социального тела, чье существование
не было ограничено гробовой чертой или случайностями рождения и
смерти. Поэтому жертва была единственным средством устанавливать
порядок и создавать юридические лица.
И во время принесения этих жертв было существенно важно
произносить собственные имена и совершать особые торжественные
действия. Это было как раз тем, что и мы считаем существенным и
называем умением вести себя за столом. Для скольких людей нашего
времени хорошие манеры — это выражение самой сути общественного поло-
363
жения, принадлежности к приличному обществу и карьеры! В
древности правила поведения за столом были еще строже. Мы, современные
люди, не считаем возможным, чтобы официант по собственной
инициативе принял участие в нашей беседе. Точно так же мы не считаем, что
поданные к столу ростбиф и рыба начнут говорить. Предпосылкой того,
что за столом соберется приличное общество, является полное
молчание тех, кто подает на стол, и кушаний, которые подаются. Читатель,
обладающий хорошим вкусом, отвергнет эту часть моей работы,
поскольку я принимаю в расчет слабую возможность того, что ростбиф
способен заговорить. Но именно это предположение составляет самую
суть евангелия от Матфея! Как часто он слышал выражение «у него
(них) скверные манеры» применительно к самому себе и к тому
дурному обществу, в котором он вращался! Он знал, что это суждение,
отнесенное к тому или иному человеку, губило его скорее, чем даже
преступление. Общество ждет от нас соблюдения правил игры.
Непростительно наше нарушение этикета, и все же я сам, если я хочу сделать
Матфея понятным, должен нарушить этот этикет. Ибо в этом пункте и
заключено подлинное достижение Матфея. Матфей — единственный
евангелист, сообщивший нам о бегстве Иисуса в Египет в тот период,
когда Ирод подвергал избиению вифлеемских младенцев. У Матфея
центр тяжести состоит в утверждении, что хотя Ирод и не смог убить
Иисуса, его позже все же убило приличное общество — убило за то, что
он нарушил этикет, настаивая на предоставлении слова жертвам
общества. То, что Иисус, будучи жертвой, говорил, сделало его невыносимым.
Матфей оскорбил иудеев, изобразив Иисуса их жертвой. Ведь они, во
всяком случае, уже давно были настолько цивилизованными, что
приносили в жертву только животных, — с тех пор, как Авраам
отступился от своей решимости принести в жертву Исаака. Еще тысячу лет
спустя в Швеции могло иметь место убийство королем шести своих
сыновей для умиротворения духов. Когда он хотел схватить седьмого сына,
народ спас ребенка, обратился в христианство и отказался от
человеческих жертвоприношений. Но Израиль в качестве народа Авраама и
Моисея уже давно не приносил в жертву людей. До сегодняшнего дня все
иудеи верят, что евангелие оскорбляет хороший вкус. В наших текстах
мы читаем слово «скандал». Однако выражение «дурной вкус» более
подошло бы во всех тех случаях, когда нас коробит от допущенного
кем-либо нарушения хороших манер. Ритуал той или иной
человеческой группы, — и я боюсь, что мы упускаем это из виду чаще, чем что-
либо другое, — сохраняется посредством жесткой реакции на всякое
нарушение. Таков он везде и во все времена. «Почему твои ученики
преступают традиции предков, не умывая рук перед едой?» —
спрашивали книжники. Иисус отвечал им вопросом на вопрос: «Почему вы
преступаете заповедь Божью и отказываете родителям в том, в чем они
нуждаются, лишь потому, что это должно быть «даром Богу»?» «Вы
лишили силы слово Божье в интересах ваших хороших манер» (Мф. 15:2
и далее). «Есть немытыми руками не оскверняет человека».
Матфей «грешит» против табу, налагаемых хорошими манерами, и
так же «грешит» Иисус, поскольку Матфей представляет нам Иисуса в
качестве говорящей жертвы, в качестве пищи и вина, которые начинают
364
говорить в самый разгар трапезы. Шок, вызванный Матфеем, получил
удивительную формулировку благодаря одному современному критику.
«Требование есть плоть Иисуса и пить его кровь, содержащееся в
арамейском (69) евангелии, невозможно в Иерусалиме первого столетия, и
ничто не могло сильнее противоречить понятиям и чувствам иудеев.
Слова, подобные этим, тогда, как и теперь, повергли бы иудейское
население в ужас. Иудеи резко отвергали и отвергают обычай пить кровь,
который неоднократно запрещал их закон. Было бы трудно придумать
высказывание, менее подходящее для того, чтобы когда-либо и где-либо
быть записанным в иудео-христианском регионе». Ни один иудейский
евангелист не мог бы его привести (70). Это убедительные суждения, и
они, вероятно, снова вызовут у многих читателей чувство отвращения.
Комичность этого отрывка заключается, во-первых, в том, что критик
здесь имеет дело с Иоанном, который в этом пункте просто подтверждает
слова Матфея. Наш критик пытается оспорить именно иудейское
происхождение Иоанна, и он не замечает прецедента, созданного Матфеем,
который, очевидно, писал для евреев. Второй комический факт
заключается в современном притязании на возможность избежать любого
скандала. Иудеи, будучи исполнены гнева, побили камнями Стефана, убили
Иакова и заключили в тюрьму Петра. «Агнец», «кровь», «хлеб», — все эти
выражения были, несомненно, богохульством. Но вся Церковь была
воздвигнута на этом гневе. Павел потерпел полную неудачу в Афинах,
когда он единственный раз попытался приспособиться к местным
особенностям (71), Матфей вызывал отвращение и ненависть, его евангелие
побуждало те же чувства и — будем же честны — продолжает вызывать
неприятие у всех людей с хорошим вкусом (Гёте).
Жертва — это всегда плата за обязательный ритуал. Если мы
связываем себя с духом прошлого, с клочком бумаги, домом или могилой, то
может случиться так, что ради этой цели мы прольем кровь другого
человека, например, во время войны. И это так до сего дня. Это не столь
страшно, покуда мы сознаем, какой ценой мы за это платим. Но Иисус
создал братство отверженных, братство молчащих жертв, в котором он
стал первым, говорившим от их имени. Почему он обрел способность
говорить? Потому, что он принес себя в жертву добровольно, тогда как
прежде жертвы были лишены воли. Но и в наши дни причащение, с
точки зрения иудея, — это скандал. Оно вызывает у него чувство
отвращения в буквальном смысле, как это могло бы произойти с любым
человеком, строго соблюдающим этикет. Но непристойность, то, что
задевает наше чувство такта и стыдливость, не изгоняется из мира тем,
что ее существование отрицается. Матфей знал об этом. Почему то, что
жертва сама называла себя хлебом и вином, было дурным вкусом, а
осуждение властями невиновного — нет? Матфей обладал иммунитетом
против смертельной болезни общества. Он знал, что у каждой вещи
есть своя цена и что нет ничего дороже свободы от табу приличного
общества. И поэтому он отказался от того, чтобы называть первого
человека, заговорившего от имени жертв и в качестве жертвы, данными
ему обществом именами — «Сын Давидов», «Сын Авраамов», т.е. так,
как он сам это сделал в первой главе своего евангелия. Это табу было
нарушено. В последней главе Матфей оказывается в бесконечно более
365
волнующем и тревожащем обществе грешников. Эти грешники
объединились отнюдь не в элитный клуб с высоким вступительным взносом,
а в сообщество связанных именем первой жертвы, говорившей вслух.
Поэтому правдоподобной представляется легенда — я говорю об этом
вскользь, — будто Матфей закончил свою жизнь в Эфиопии. Ибо
эфиопы до сего дня соблюдают и иудейский церемониал, и литургию
Нового завета. Они осуществляют обрезание и крестят, они считают
субботу такой же священной, как и воскресенье. Наше предположение
невозможно доказать, но если бы все это восходило к Матфею, это
соответствовало бы слову евангелия, а именно — потому, что болезнь,
против которой он боролся, заключалась лишь в переоценке ритуала.
Манеры должны быть, но это всего лишь манеры. Дурной вкус сам по себе
— не то, чем следует обзаводиться. Но горе тому, кто никогда не
перерастает своих хороших манер.
Показав, что означает наш разрыв с хорошими манерами, Матфей
затронул присущий всем нам изначальный порядок. В доисторические
времена правила застолья представляли собой тот творческий элемент,
из которого возникало тело племени. Совместные трапезы заступили
на место выхватывания пищи друг у друга. Любой руководитель
туристического или трудового лагеря подтвердит вам, что мораль группы
возникает лишь тогда, когда один человек начинает предлагать другому
лучший кусок. Таким образом, введение совместных трапез создало новое,
мирное состояние души. Кормление мертвых положило начало новому
воплощению. Пища ставилась между живыми и мертвым, и все
сообща вкушали ее в едином духе и от единого имени. Поэтому жертвенные
трапезы были первым основным законом человечества. Здесь общность
вызывалась к жизни, поскольку себялюбие, каким руководствуется
желудок, предавалось забвению, когда лучшие куски откладывались
сперва для умерших, а затем — для богов. Что-то непреходящее вытесняло
интересы живущего поколения. Случайности рождения и сиюминутного
бытия осеняются вечностью умерших. Под прохладной сенью этого
неизменного и вечного порядка было достигнуто мирное соглашение
между другом и врагом. Получило свое обоснование гостеприимство,
право врага есть вместе с нами, и это стало возможным потому, что
ритуал указал человеку его место в последовательности бесконечных времен.
Здесь люди не ели как животные, а пили за здоровье друг друга,
называя друг друга полными именами. Тост во время трапезы происходит из
доисторических времен. Люди приветствовали друг друга и считали
умерших присутствующими на трапезе, т.е. пребывающими среди
живых, и так жизнь товарищей в их глазах приобретала больший вес, чем
их собственная.
Матфей обращает наше внимание на эти доисторические истоки
общества. Иоанн говорил с людьми, которые были хорошо знакомы с
искусствами и науками. Лука апеллировал к высокопоставленным
церковным деятелям и величайшим пуританам древнего мира. Марк говорил с
цивилизованными гражданами храмовых царств. Но Матфей благодаря
своему «дурному вкусу» добрался до архаического пласта всякого
общества, до пласта племенного ритуала. Поэтому Матфей создал такую
версию евангелия, которая должна была стать в высшей степени универ-
366
сальной и основополагающей характерной чертой новой жизни.
Месса и причащение, т.е. самая суть всякого богослужения, были
обозначены Матфеем.
Поскольку он дал понять, что Христос своей жертвой добыл
спасение тем, кто принес его в жертву, отныне Писание гласило: во время
каждой трапезы жертва, а именно хлеб и вино, говорят со вкушающей
их общиной, и они приглашают нас, так сказать, вместе с их
Учителем перейти на другую сторону, на сторону жертвы. В ходе мессы от
каждого слушателя требуют пожертвовать собой или проявить
готовность быть принесенным в жертву ради спасения и обновления мира. В
мессе первая жертва приглашает других, т.е. участников мессы, к
такому служению, в котором они сами вызываются стать жертвами. Этот
процесс редко пробуждает порывы в косной и невосприимчивой душе
«среднего человека». Люди низвели богослужение до уровня
церковного парада или встречи общины. Но Церковь была воздвигнута на вере в
то, что отныне не допускается никакого богослужения, если его
участники не рассматривают самих себя в качестве приносимых в жертву.
Выражение «Тело Христово», голова которого находится в небесах,
означает именно это: в каждое мгновение мы распнули бы Господа нашей
яростью, нашей завистью, нашим равнодушием. Однако теперь наши
глаза открылись, и мы поняли, что сотворили и доныне творим, а
потому мы торжественно возвещаем: вместе с нашим Господом мы
переходим на сторону немых жертв. Мы передаем себя в распоряжение
нашего Создателя так, чтобы он мог заново сотворить нас по своему
усмотрению. Если мы не предложим себя в качестве сосуда для нового
одухотворения, то как же иначе на нас должно снизойти это
одухотворение? Лемех страдания должен вновь и вновь перепахивать человека, и
человек, как иссохшая и одичавшая земля, должен открыться
навстречу росе и дождю. И поскольку однажды некий человек совсем один
сделал это так, что это стало образцом для всех, то нам больше не надо
делать этого в полном одиночестве. Теперь в каждом поколении
численность группы, способной образоваться заново, может возрастать до тех
пор, пока все человечество не окажется в состоянии молчать,
очистить себя от повседневной болтовни и суесловия и сообща внимать Духу.
Когда умер основатель первого христианского университета в
Японии, он оставил после себя предостережение своему любимому ученику
Канамори: «Я имею основание считать, что ты будешь моим
преемником, но я предупреждаю тебя, что при исполнении своих новых
обязанностей ты должен будешь преодолеть некоторые свои слабости». И
затем он перечислил их. В неразберихе траурной церемонии эта
записка была публично зачитана вместе с другими бумагами, оставшимися
после покойного. Канамори почувствовал себя униженным, покинул
университет, отрекся от христианской веры и в течение последующих
тридцати лет оставался светским ученым. Но когда умерла его жена, с
которой он образцово жил, он не смог более выносить своего
одиночества. Он вернулся на свое старое место и выступил с публичной речью.
Он произнес проповедь о тексте Писания. «Мы — живая жертва», —
такова была ее тема. «Мы должны жертвовать собой при жизни. Вот чего
я не понимал. Как прежде бык, приведенный к алтарю, часто вырывал-
367
ся и наносил раны людям вокруг него, так и я не воспользовался
предоставленной мне возможностью включить пережитое мной унижение в
свою жизнь». Более великолепного комментария к евангелию от Матфея
не существует.
В японском празднике мужской трапезы этот потрясающий опыт
живой жертвы оживляет весь ритуал. Кинжал, который использовался
в ходе торжественной церемонии ритуального самоубийства, — в
ритуале, столь популярном среди самураев, — приносят завернутым в лист
белой бумаги, который должен быть сложен определенным образом.
Белизна бумаги намекает на предстоящее принесение в жертву жизни. У
этого светского прообраза был заимствован обычай использовать белую
бумагу для заворачивания хлеба, и хлеб для причастия предлагается
причащаемым именно в такой обертке. Таким образом, смысл жертвы и
самопожертвования оказывается передан в японской культуре столь же
точно, как и — осмелюсь сказать — в евангелии от Матфея, где он
перенесен из Ветхого в Новый завет.
Итак, Матфей, самый грубоватый и прямолинейный из всех
евангелистов, пишет о наиболее элементарных вещах. Благодаря ему мы
имеем описание нового ритуала. Без него нашей эпохе было бы нечем
прикрыть свою наготу. Приятно иметь возможность сбросить
старомодное платье; но все же наша эпоха испытывает потребность в одеянии,
вполне определенном облачении. Что же, воспримем силу ритуала,
освобожденного от суеверий, мифа и магии. Матфея может понять
любой — ребенок и гений, воин и крестьянин, если их сердцам не чуждо
самопожертвование. Те, кто презирает таинства, считая их
мистическими или старомодными, неизменно приводят меня в ужас своей детской
наивностью. Какими же несведущими и необученными должны быть
их сердца, как сильно жернова их мозга размололи все серьезные
переживания их бытия и их собственных сокровеннейших надежд! Обычно
эти самые люди ждут, что их семья будет их боготворить, публика —
читать, а состоятельные организации —оплатить им деньги. Но как они
могли бы этого ждать, если бы каждый в глубине души не был готов
принести часть самого себя в жертву? Высшим проявлением нашей
природы является способность к самопожертвованию. «Литургия — это всего
лишь другое название правил поведения за столом, установленных
всемогущим Богом» (72).
То, что жертва обретает способность говорить, что сердце мира
творится благодаря ответу, что «нет» Бога преобразуется в целительную
медицину страдания на пути к новому воплощению, что человеческая
душа понимается как новейшая поэма Бога, — вот что составляло
содержание четырех благих вестей. Тупики ритуала, храмового культа,
Израиля и Греции открылись друг для друга. И эти четыре евангелиста
добились успеха, поскольку они обладали иммунитетом против
специфической болезни языка, изгнанной их вестью. Поэтому не следует
продолжать называть Иоанна эллинистическим, Марка — египтянином,
Матфея — иудаизированным, а Луку — приверженцем апостола Павла.
Ибо новая свобода нашей речи исходит из евангелий благодаря тому, что
в них противники оказываются соединены между собой теснейшими
узами! Исполненный пророческого духа Иоанн писал не для иудеев, а
368
врач Лука — не для греков. Все было как раз наоборот: вскормленный
пророками Иоанн побеждает греческих Муз, а академически
образованный врач Лука одерживает верх над книжниками. Рыбак Петр
проповедует, чтобы преодолеть жречески-астрологический мир; и отнюдь
не человеку с хорошим вкусом и прочным общественным положением
суждено превзойти Ветхий завет, — нет, первое евангелие записано
этим незначительным в социальном отношении мытарем. Если мы
примем во внимание специфическую болезнь, исцелить которую
призвано отдельно взятое евангелие, то его литературная форма и его стиль
покажутся безупречными. С точки зрения критиков, у всех евангелий
налицо поддельное окончание. Но если они будут прочитаны и
восприняты как средство исцеления, то в конце они окажутся настолько же
целесообразными, как и в своем начале. Их нельзя считать
«естественными источниками» исторического исследования. Но в качестве
источника духовного языка они обладают целительной силой. Ранее мы
сделали подобный вывод относительно заключения и окончания «Одиссеи»
и «Илиады». И как это могло быть иначе? Что образует окончание и
начало речи? Начало человеческого вдоха определяет собой время и
место этого особого деяния Духа. Окончание и начало ниспосылают
на землю одухотворение. Окончание и начало любой книги вносят
ясность в то, является ли она истинной или нет. Эта истина —
тройственная истина. Слово может быть истинным в том, что касается его
содержания. Во-вторых, оно способно быть достаточно истинным для того,
чтобы предоставить определенные права своему автору. //, наконец, оно
может быть настолько истинным, что побудит следующего человека
отвечать и продолжать говорить. Шекспир принудил Мильтона
отклониться от прежнего пути поэзии, поскольку язык Шекспира был столь
совершенным, что Мильтон даже жаловался на это (см.: «К Шекспиру»,
1630). Церковь жила истиной тех фактов, о которых повествуют четыре
евангелия. Правдивостью людей, которые сообщали эти факты,
христиане питали и поддерживали собственную жизнь. Эти оба аспекта
истины оставались действенными на протяжении длительного времени.
Как я объяснял выше, мое мышление обусловлено третьим аспектом
любой истины — ее всесильной способностью принуждать к ответу,
поскольку она преобразует язык. Эта третья истина проявляет себя в том,
что она передается дальше всякий раз в новых образах. И я надеюсь, что
к удовлетворению самых больших скептиков я доказал эту
действенность четырех евангелий. Евангелия были достаточно истинными для
того, чтобы побудить следующего человека продолжать говорить,
приняв за отправную точку последнее слово того, кто говорил перед ним.
Каждый из евангелистов должен был начать говорить там, где
закончил предыдущий. Они так живо воспроизводили и передавали один
другому конкретное время и предмет своей речи, что побуждали друг
друга к дальнейшему движению. В течение, может быть, сорока лет они
возвещали Одно евангелие — каждый в своем ключе, в соответствии со
своей специфической длиной волны, согласно своему пониманию, —
один за другим вверяя исполнение этой радостной и трудной задачи
следующему, более достойному человеку. Таким образом, в ходе этого
процесса «четыре евангелия» становятся продолжением жизни Иисуса,
369
проходящей через душу и разум тех, кто всецело посвятил себя своему
служению в качестве евангелистов. Они претворяются в Уста Слова
Божьего.
Следуя неодолимому призыву своего Спасителя, благодаря своим
записям Матфей вырывается из прежней духовной столицы
человечества, близ которой он был мытарем, и вписывает себя в Церковь
ойкумены. Одним повелением «Иди!» он оказывается стремительно брошен
в новый эон.
Марк находится внутри этой Церкви, как сподвижник апостола
Петра, он пребывает на втором плане и защищен от внешнего давления.
Сильные субъективные душевные движения Петра и его миссия
всецело подчиняют себе его помощника, но Марк в лице Петра имеет
крышу над своей головой, крышу, какую обеспечивает ему его роль
сопровождающего. В отличие от Матфея, ему не нужно было отказываться от
своего статуса и окружения.
Лука повествует. Его намерение — рассказать о прошлом, снабдив
свой рассказ свидетельствами. Поскольку он имеет перед собой
ученика, он представляет собой своего рода кабель для передачи сообщений
о славных деяниях двух первых поколений тем, кто родился позже, так
чтобы не менее четырех поколений — от родителей Иисуса до Церкви
детей Феофила — сообща подошли к причастию.
Иоанн пребывает вне этого цикла повеления, подчинения и истории.
Он находится у источника, в вечном начале. Посредством одного этого
слова — «в начале» — в Апокалипсисе оно будет звучать как «в
конце»! — Иоанн сослужил Иисусу самую главную службу, изъяв событие
его смерти из древности. В эпоху античности смерть Иисуса могла иметь
следствием только ее использование в ритуале, календаре, поэзии или
в рукописных текстах Израиля. Какой предстала бы судьба Иисуса,
прозвучи повествование о ней из уст его друга в Греции, мире поэзии? Его
друг Иоанн оплакал бы смерть своего друга, подобно тому как Гомер
оплакал смерть Ахиллеса, в бессмертное стихотворении — может быть
таком, как «Критий» или «Апология» Платона. Напротив, в Израиле
смерть Иисуса стала бы свидетельством провала всего его дела; с
точки зрения Израиля, Бог сказал «нет» распятому Мессии. В Египте
противниками Иисуса были бы звезды. Люди ждали бы более удачного
гороскопа, нового цикла с другим Христом. В ритуале племени Иисус стал
бы героем мифа, христианская община стала бы еще одним племенем,
в котором ученики Христа праздновали бы Пасху, а его миф ежегодно
обновлялся бы этим немногочисленным кружком. Евангелие от
Иоанна препятствует возникновению таких рецидивов — откату к
ритуалу, к круговращению небесного мира, к поэзии и иудейскому
отрицанию. Иисус не означал конца, и его смерть не была завершением.
Матфей, Марк и Лука уже сообщали, как один свободный человек
преодолел бесконечные цепи этих циклов и начал движение к новой
жизни вне старого порядка вещей, в объемлющую весь мир Церковь.
Иоанн удостоверяет наступление новой эры, идущей на смену племени,
храму, поэзии и Израилю; вместо круговоротов новая эра стала
открытым временем, поскольку четыре потока языка теперь, как испокон
веков, оказались снова объединены и смогли ворваться в вечность с той же
370
первоначальной силой, какая был присуща четырем потокам рая.
Бесконечное повторение круговоротов было нарушено тогда и с того
момента, как Крест, в котором эти потоки языка сливаются воедино, высоко
водружается, знаменуя собою начало бесконечного движения вперед.
Наша эра оставляет круговороты позади себя. Несомненно, они вводят
в соблазн даже нас, и именно в наши дни западный человек снова почти
оттеснен к представлениям о вечном возвращении, принявшим облик
шпенглеровского фатализма. Он говорит о новом средневековье, о
третьей мировой войне и тому подобном. С помощью грамматики
Креста он должен пробудиться для понимания Креста грамматики. Иоанн
предоставил сотворению человека из языка место у входа, ведущего к
нашим, к его особым историческим обретениям. «В начале было
Слово», — мир племен, Египет, Гомер и Израиль были творениями
человека, поскольку непреходящий человек внимает, говорит и передает
сказанное дальше. Поэтому каждый правдивый человек возвышается над
своими древними языковыми ритуалами. «Как христианин может быть
подвластен року, — воскликнул Августин, — если рок означает всего
лишь слова, сказанные ранее, тогда как Христос — это Слово,
произносимое ныне?» Бог создал человека по своему образу и подобию, чтобы
тот говорил как некое вечное начало, и Иисус вплоть до своей
горестной кончины оставался столь же свободен, как и его Отец. Наша эра не
подвержена влиянию цикла до тех пор, пока между ней и древностью
находится преграда христианства. Каждый отец меняет свои планы,
если его дети совершают ошибку. Таким образом, Бог меняет свои
планы из любви к Сыну. Этому научил нас Сын.
Три других евангелия могли быть прочитаны более поздними
поколениями как дохристианские, т.е. как обыкновенная история. Весь
девятнадцатый век отказался от Иоанна и сосредоточился на трех первых
евангелиях, «синоптиках». Без Иоанна «евангелие» существовало бы
лишь как банальная история. С помощью Иоанна Церковь предолева-
ет угрожающую ей опасность стать чисто ритуальным, чисто
мифологическим, чисто поэтическим, выдуманным институтом. Теперь она
созерцает все свои временные формы в свете вечного начала. Это так,
поскольку ее основатель всегда главенствует над ней и всеми путями ее
языка. Он — Слово, которое пребывает в начале и начинает свои
изменения сквозь времена.
Четыре евангелиста сделали нашу эру защищенной от угрозы
возврата к простому движению по инерции и слепым круговоротам. Они
представляют собой Крест грамматики древности в новой эре. В Кресте
грамматики весь язык с давних пор отливался в формы драмы, лирики,
эпоса и теории, но, будучи однажды обоснованы, эти грамматические
формы претерпели свою судьбу и превратились в бесконечные ритуалы.
Ритуалы утратили прозрачность и превратились в магию, колдовство,
круговорот, рутину, игру ума, в своеобразный логический спорт и суеверие.
Слово зачахло. Евангелисты преобразуют Крест грамматики в
грамматику Креста. Человек жил, осуществляя переход от «Это происходило»
(fiât) к «Это произошло» (factum est) , от «Иди в мир» к «Свершилось,
мой Отец», от восприятия призыва через посредство поэзии и
повествования к знаку, преобразующему звучание, с помощью которого человек
371
подводил итоги всей своей жизни и делал ее завершенной. Четыре
евангелия обозначили это круговое движение так, как в конце четвертого
столетия это выразил Иларий Исаак: «Почему опыт постижения Господа и
его речения изложены в четырех томах и четырьмя авторами?» (73).
Четыре тома и четыре автора соответствуют друг другу. Ибо в словах
Исайи мы имеем перед собой единое лето Господне благоприятное. Это
лето заключено в четырех томах как в четырех периодах, подобных
четырем временам года: в их череде каждое время года необходимо для
всех остальных. Соответствующим образом деяния и речения Господа
излагаются в эре, состоящей из четырех книг, и каждая их них
необходима для остальных. В их совокупности они совершенны,
свидетельствуя о полноте времен.
«К тому же имелись все основания для того, чтобы это было
изложено непременно четырьмя авторами. Выражения для обозначения времен
года различны, и точно так же различны названия евангелий. Даже
когда они на словах кажутся противоречащими друг другу, между ними
нет расхождений, если они истолковываются в свете этого понимания.
Времена года в природе так же различны, как это только возможно, и в
своих именованиях, и в своих погодных условиях, и в своем
астрономическом аспекте, но в своем главном умении приносить жизнеспособные
плоды они не разнятся между собой» (74).
Относительно всей нашей книги мы можем сказать, что каждое
евангелие стремится выявить полный круговорот этой жизни,
начинающийся с imperativus personalis, проходящий через грамматические
формы subjunctivus concomitativus и narrativus historicus и завершающийся
indicativus aeternus (75). Все четыре выражают в языке вечное. Но
каждый отдельный автор евангелия испытал на себе определяющее
воздействие преимущественно одной грамматической формы. Матфей,
постигший на собственном опыте увлекающую за собой силу
неожиданного приказания «Следуй за мной!», руководствуется indicativus perso-
nificativus. Марк писал для князя воинства апостолов и вместе с ним, и
писал он своего рода журнал боевых действий. Таким образом, он был
движим всецело относящимся к «настоящему времени» мотивом
непосредственного присутствия, мотивом сопровождающего (76). Лука,
который был спутником апостола Павла и так же, как и Павел, не
принадлежал сам к кругу учеников, начал повествование с Рождества, как это
сделал бы рассказчик, не причастный непосредственно к тому
промежутку времени, о событиях которого он сообщает. Он прислушивался
к narrativus'y истории. Но Иоанн, не нуждавшийся во внешних
свидетельствах или событиях для того, чтобы уверовать в своего друга, обрел
точку опоры для своих писаний в вечности Бога, обеспечившей Сыну
победу над бесплодными круговоротами ритуала, эонов и революций,
над романами и мистериями. Края бездны времен у Иоанна
смыкаются. Он начинает с того шага, который совершается только с помощью
силы Слова, его indicativus aeternus: «В начале было Слово». И так
подтверждается свидетельство об Иисусе как свободе для нового начала.
Таким образом, здесь проявляется грамматика Креста, и теперь фазы
всякой групповой жизни ясно выражают себя в образе Креста
грамматики. До тех пор, пока от человек скрыта суть этого Креста граммати-
372
ки — выступает ли этот человек в качестве последователя, внимающего
призыву долга, либо в качестве некоего любящего «Я», которого моя
душа зовет по имени, либо в качестве «Тебя», больного, охваченного
надеждой на выздоровление, либо, наконец, в качестве мыслителя,
осуществляющего в самом себе категорию свободы и свободно
противостоящего тем законам, какие его мышление приписывает природе, — до тех
пор, пока человек не приобрел, по крайней мере, один из этих четырех
видов опыта, он не использует язык для разумных целей. Язык без
соответствующего опыта всегда буйно разрастается, как сорная трава в
саду. Как только были написаны евангелия, эта никак не связанная с
опытом болтовня начала мешать постижению тех новых фактов, на
которых основывается существование Церкви. Такое мешающее
воздействие было названо «гносисом». Люди пытались выдумать для себя
некую новую жизнь, не будучи прежде захваченными ею, — будь это
призвание, послушание, страсть или изменение состояния души. Если бы
четырех евангелий не было, то вся история в Палестине не сумела бы
противостоять наплыву гностиков. Гносис начался с Симона Мага,
который бродил в то время, когда «кровь мучеников еще обагряла
Палестину». Несмотря на это, он возвестил, что маленькая блудница отныне
является Марией, а сам он теперь Спаситель. А закончился этот наплыв
Маркионом, не признававшим никакого другого евангелия, кроме
написанного Лукой, и заявившим, что оно упало прямо с неба. Так что
у нас есть все основания вместе с Гарнаком (77) рассматривать
«Четыре евангелия» в связи с вопросом о том, насколько они защитили нас
от гносиса. Библейский критицизм воспринял это недостаточно
серьезно и вместо этого буквально «растерзал» евангелия, доискиваясь до
мельчайших деталей. Но «Четыре евангелия» защищают и нас — так же,
как христиан, живших в 150-180 гг. от Рождества Христова (78).
Гностик отделяет повседневную жизнь писателя или учителя,
апостола или оратора от содержания их писаний. Иными словами, гностики не
проникли в область опыта, в границах которой сам говорящий человек
стал плодом уст, а его сердце представляет собой уста других сердец. В
наши дни гносис распространился по всему миру. Сами церкви
полны гносиса. Пацифизм основан на гносисе как попытке познать мир до
того, как нас самих изменило обращенное к нам слово согласия. В
течение последнего столетия любовь между мужчиной и женщиной была
последним оплотом, защищавшим нас от скатывания к гносису.
Благодаря словам Джульетты, обращенным к Ромео, не один мужчина
девятнадцатого столетия научился — пусть и смутно — сознавать себя тем,
кто вызван устами души, которую он любил. Следующие поколения,
идущие за этим последним столетием великих людей, исполненных
любви, — от Гёте до Сельмы Лагерлеф (79), — похоже, не слушали
ничего, кроме призыва к оружию. Жизнь спасается любовью. Дух
переносит любящих людей через опасности. Но если любовь низводится до
уровня секса, то Дух, по-видимому, принимает вид военного
воодушевления, и возможно, что добровольцы, ушедшие на войну 1914 г., в
восприятии этого призыва нашли единственное для своего времени
противоядие против гносиса «Волшебной горы» (80). Эти добровольцы 1914 г.
любили смерть! По этой причине понимание структуры евангелий не
373
является роскошью. Учителя старых и молодых, девушек и юношей,
погубят своих слушателей, если по-прежнему будут сидеть в кресле судьи
и выносить абстрактные приговоры, используя цифры статистики и
систематизированные понятия. Многократно оклеветанный Генрих
Трейчке (81) был великолепным учителем, ибо когда он описывал
ужасные телесные страдания и духовное самообладание французского
государственного деятеля Ришелье, он не пытался удержаться от слез. Ни
один учитель не вправе учить, если он не способен испытывать, по
крайней мере, одну из четырех страстей языка. Ибо в противном случае
он не понимал бы тех условий, при которых речь только и имеет смысл.
Слово «свобода» никогда не сможет заменить ему опыт освобождения. В
наши дни слово «хороший» — а отнюдь не опыт постижения того, как
из плохого возникает лучшее, — и, что особенно ужасно, любезность
почти всегда заменяют образованным людям страстную потребность
любить, а ловкое приспособленчество должно уметь заменить личное
участие. Поэтому вполне оправданы усилия по осознанию смысла языка.
По этой причине я еще раз прошу читателя запастись терпением.
Ибо сегодня более не достаточно просто понимать отдельные евангелия.
Лишь все вместе мы можем сдерживать переливающий из пустого в
порожнее рассудок гносиса, который сейчас называется библейским
критицизмом, психологией, исследованием мифологии или
экономическим материализмом, и сделать это, исповедуясь в наших собственных
потрясениях и кризисах веры. Существуют ли такие пути, на которых
мы, несмотря на искусства и науки нашего времени, обращаемся к
Кресту грамматики? И в самом деле, новые пути открываются сразу же, как
только мышление возвращается к тому, чтобы отказать нам в
предоставлении своей «непоколебимой точки зрения». Дозволь нам признать, что
по характеру ты подобен потоку, разворачивающемуся во времени,
требующему длительных промежутков времени. Не «дано» никакой
истины вне долгого пути страданий, ведущего от вечности Бога в мир. И ни
одно мгновение твоего рассудка не может быть взаправду пережито или
помыслено тобой, если ты не причастен к вечности Духа. Ты никогда
не должен позволять своим взглядам застывать и превращаться в
мировоззрение. Твоя устойчивая картина мира, твой предельно умный
анализ, твое превосходство в образованности или созерцании самого себя,
весь Кант и весь Гегель, только помешают тебе присоединить твой
голос к общему хору. Бог — это единственная «непоколебимая
твердыня», как истинно говорит Лютер. Одухотворение нашего Адама однажды
воплотилось перед лицом смерти, т.е. продолжающегося всю жизнь
добровольного, жертвенного умирания, и из Слова возникла жизнь.
А в четырех евангелиях этот Дух изливается по четырем различным
руслам. Поэтому текст четырех евангелий — это, так сказать, восковая
модель системы кровеносных сосудов нашего разума.
Если мы попробуем обозначить элементы этих четырех видов
духовной колокольной бронзы так, чтобы они даже физически
вторгались в жизнь евангелистов, превратившихся в это бронзовое литье,
то мы приблизимся к пониманию действия инкарнации на верующих,
которое всегда ясно просматривалось в древней Церкви периода ее
отцов. «Fides dabit intellectum», — учили схоласты от Ансельма до Шлат-
374
тера (82): вера дарует понимание. Но вера схоластов Парижа и Гей-
дельберга — это не вера евангелистов или отцов Церкви. Последние
вместе с Христом восклицали: «Fides créât согрога». Вера определяет
лик и образ — это познали на своем опыте евангелисты и народы. Все
совершается с нами по нашей вере — и физически, и в своем образном
воплощении. Всякому известно, что наше тело — это не деревянный
ящик или сундук. Оно, насколько это возможно, связано с нашими
духовными переживаниями. Мы дрожим, когда нами овладевает новая
истина. Мы лежим и спим или дремлем, и тогда на нас, беззащитных,
нисходят величайшие мысли или нападает сильнейший страх. Мы
садимся и, сидя, намечаем, где нам следует разрешить те или иные
противоречия. Мы беседуем во время прогулки. Таким образом, мы
изменяемся. В других своих книгах я умолял теологов не возлагать на нас,
верующих, все еще верующих именно в то, что Бог только собирается
нас сотворить, тяжкое бремя их давно исчерпавших себя понятий. Ибо
эти теологи препятствуют процессу обретения и утверждения веры,
телесному изменению как неизбежному пути, по которому Дух
проникает в нас, — либо отрицают сам этот процесс. Они смеются, когда
верующий опускается на колени вместо того, чтобы «обдумывать суть дела».
Я мог бы рассказать о редкостном случае обращения, когда
превосходство великого мыслителя было сокрушено глупыми
коленопреклонениями человека, далеко не отличавшегося мудростью духа, и это не было
чем-то показным или сентиментальным, — нет, это свершилось лишь
потому, что засыпанные всяким хламом источники его души здесь
впервые отважились течь и вынудили его тоже опуститься на колени,
преобразили его телесно.
Мы вскакиваем и начинаем шагать, когда пребываем в воинственном
расположении духа. Конечно, современный человек подавляет или
презирает многие из этих физических реакций на душевные процессы. Но
в своем языке он использует их обозначения, даже если своему
собственному телу он никогда не позволяет упражняться в них. Мы
говорим, что художник «зачинает», как женщина, что преступник «ломается»
под тяжестью улик, что оратор находится в «боевом настроении» и что
учитель сидит в преподавательском кресле и начинает свой урок словом
«Садитесь!». Таким образом, очевидно, что одно телесное движение
лучше, чем какое-либо другое, выражает определенное душевное состояние.
Я представляю себе Матфея стоящим и сражающимся, Иоанна, по
словам «Откровения», «лежащим, как мертвый», Марка —
склоняющимся в поклоне или стоящим на коленях перед апостолом Петром, а Луку,
естественно, сидящим за своим пюпитром. В сравнении с этими
положениями тела древние символы, используемые художественной
традицией последних девятнадцати столетий, оставляют меня безучастным. В
течение последних 150 лет они практически не употреблялись ни одним
выдающимся художником даже в церковном искусстве. Возможно ли,
что для внезапного прекращения этой почтенной традиции имеются
достаточные основания? Не могло ли случиться так, что эти прочно
укоренившиеся формы и символы устарели? Они стали архаичными
благодаря нашему собственному превращению в христиан, и мы можем
поблагодарить Бога за начавшийся с 1750 г. период аморфности — ибо
375
именно в этот период обретала зрелость возникшая внутри самого
христианства символика, чьи плоды ныне поспели (83).
Древними атрибутами евангелистов были лев для Марка, ангел для
Матфея, телец для Луки и орел для Иоанна. Эти атрибуты были взяты у
четырехликих херувимов Ветхого завета. Образ херувимов, в свою
очередь, был почерпнут из египетских и вавилонских верований.
Херувимы Ветхого завета были составлены из орла, тельца, льва и ангела. Но
Ветхий завет уже давно утратил свою власть над нашей способностью
символического воображения. Ибо чем сильнее человек становится
творением Слова, тем более явно его тело несет эту службу. Ни одно
животное как сосуд языка во время слушания и речи не может сидеть,
стоять, опускаться на колени или лежать распростершись, как мертвый.
Дух побуждает нас принимать положение, подобающее слушающему
или говорящему человеку. Слово не могло бы прийти в мир, если бы
оно не обладало способностью высвобождать мужчин и женщин, коль
скоро они слушают и говорят, из-под власти их пола. «Стоять» — это
движение, означающее следование приказу «опускаться на колени», —
значит внимать в вере и мире, «сидеть» означает учить и рассказывать,
«лежать, распростершись» означает быть готовым к зачатию, как
художник, гений восприимчивости и творческой силы. Если признавать
истину, то не покажется произволом сказать, что дух оказывает
определяющее воздействие на наше тело и предписывает нам наши рамки. Дух
призывает наши тела в свое царство, которое превыше любви полов, и
лишь с такой высоты Духа на тебя и меня нисходит наш смысл. Когда
«Четыре евангелия» стали устами Духа, его уста сформировались у
Матфея, поскольку он, споря, отдалился от иудеев и тем самым побудил
Марка преклонить колени во внутреннем святилище Церкви Петра.
Они формировались и у Марка, поскольку он побудил Луку разделить
сообщения на два периода, и у Луки, поскольку он побудил Иоанна
прорваться к вечной космической области пребывания истины. Таким
образом эти четыре человека достигли обновленного мира, где
продолжается речь и сказанное передается дальше, проникли во
внутреннее святилище, в череду поколений и вознеслись к вечной истине. Они
преобразовали Крест грамматики, о котором так часто говорилось на
этих страницах, сформировав грамматику Креста. Эта грамматика
Креста связует смертных людей; будучи объединены, они способны
высказать истину. На мгновение этот Крест грамматики воплотился в
одной живой душе. По этой причине ее назвали Словом. Но на этой
земле нет места для абсолютной истины. На земле отдельные
проявления истины распределены по временам. Поэтому Крест — это
единственное место, где полнота истины человеческого сердца может
открыться сразу. Великая истина сохраняется только благодаря
евангелиям — в каждую эпоху они снова побуждали прислушаться к себе
даже вопреки погрязшему в ритуализме клиру, даже вопреки циничной
науке, даже вопреки тайной инквизиции, даже вопреки суеверной
толпе. Напротив, сами соответствующие институции должны учить
евангельским истинам и тем самым на своих собственных алтарях, в
своих собственных судах, высших школах и дворцах спорта, во
время своих собственных избирательных кампаний предостерегать от сво-
376
их собственных естественных тенденций. Этими четырьмя истинами
были: во-первых, свобода души, во-вторых, относительность любого
закона для свободного человека, в-третьих, цена свободы, в-четвертых,
абсолютный авторитет закона для тех, кто несвободен.
1. Свобода не была свободой мышления, поскольку помыслить
можно только закон. Когда Уильям Джеймс (84) в течение четырех долгих лет
говорил о том, что он является так называемым свободным мыслителем,
в один прекрасный день он обнаружил, что его сознание в состоянии
воспринимать только законы. Он вскочил с одра своей болезни и
провозгласил: «Человек должен верить в свободу своих действий; доказать
ее существование нельзя». Так он снова открыл истину евангелия:
свободным становится тот, кто любит. Ибо любовь призывает говорить
дальше, а человек, продолжающий речь, несет освобождение.
2. Свобода делает относительными все законы. Ибо тот, кто любит,
читает все законы так, словно они установлены ради защиты свободы.
Брак — это плод любви. Конституция — это плод братства по оружию.
Наука — плод интеллектуального братства. То, что для
первооткрывателей является свободой, служит законом их преисполненным доверия и
благодарности наследникам. Они охотно говорят на языке своих отцов,
закрепленном в законах, ибо узнают самих себя в именах, перешедших
к ним от первооткрывателей.
3. Цена свободы является троякой: чтобы достичь великих целей,
надлежит добровольно пожертвовать временем, богатством и жизнью.
Свобода будет пустым словом там, где я не скажу себе хотя бы об одной
из этих трех вещей: «Откажись от этого». Путь свободы, ведущий в мир,
состоит в отречении от этих трех состояний ради новой любви, новой
веры, новой надежды. В противном случае никакой инкарнации души не
произойдет.
4. Связи между свободой и законом абсолютны, и человек, не
желающий платить соответствующую цену, не может пользоваться свободой.
Тот, кто не стремится к единобрачию, не может и никогда не будет в
состоянии узнать, чего призвана достичь обретающая зрелость истинная
любовь между полами. Тот, кто не готов пострадать за истину, никогда
не сумеет постичь, что такое истина. Тот, кто не защищает свое
отечество, не понимает и не обязан понимать, что такое свобода.
Разумеется, далеко не все, что называется отечеством, действительно является
таковым. В этих четырех истинах осуществлен обратный перевод
четырех имен Иисуса. Это — его имена, от которых и под которыми
написаны евангелия. Никогда прежде поэма, закон, пророчество или
книга не выходили за свои пределы и не указывали, какую цену нужно
заплатить, чтобы сочинить поэму, исполнить закон, воспринять
пророчество и создать книгу. Евангелия были использованы неправильно. Они
либо рассматривались в качестве собрания материала, либо в них
объявлялось священным каждое слово. Но до тех пор, пока евангелия
оказывают свое воздействие, они защищают своего читателя от них самих.
Древность такого не знала. Все уста древности были сами по себе
идолами, божествами, Священным Писанием и авторитетом. Греческая Муза
целовала в лоб только каждого отдельного человека. Но к нашей эре
относятся лишь те процессы, которые обладают качеством евангелий,
377
т.е. совершаются по воле сердца и возглашаются от Его Имени. Все
прочее осталось дохристианским, даже если разыгры вал ось в 1500 г. или
1900 г. Точно так же, как символы четырех евангелистов были
дохристианскими и лишь в наши дни могут быть крещены Его Именем,
христианская эра знала бесчисленные книги «о» христианстве, которые
полимизировали с Христом и поэтому сами не были христианскими.
Это продолжалось «от Реймаруса до Вреде».
Такие поделки, книги или тезисы, относящиеся к области религии,
искусства, науки, экономики и образования, постепенно исчезнут.
В свете четырех евангелий они оказались набором бесплодных слов.
А мы, живущие после эры бесплодных слов, свободны, поскольку мы
являемся побегами дерева свободы, предсказанного Исайей: «Я
сотворю плод уст» (Ис. 57:19) (85).
Отцы Церкви всегда усматривали глубокий смысл в
множественности евангелий. Поэтому современный библейский критицизм
использовал особую едкую щелочь для того, чтобы разрушить этот смысл
множественности. Он датировал евангелия более поздней эпохой. Теперь
следует, наконец, разоблачить трюк, посредством которого
«доказывалась» такая поздняя датировка.
Приближающееся разрушение Иерусалима оркеструет распятие. Все
вместе — Иисус, Павел, Петр — в последний момент перед падением
Храма по-христиански и по-апостольски «осуществили» Церковь.
Евангелисты пророчествовали о падении Иерусалима словами Иисуса.
«Ага, — говорит критик, — это пророчества задним числом, vaticinia ex
eventu (86). Эти предсказания придумали, когда Иерусалим пал».
Таким образом, людей, боровшихся со львами, преодолевавших свой
смертельный страх, превращают в лжецов и не видят, как тем самым
делают евангелистов Мюнхгаузенами, лгунами и хвастунами. Но это про-
делывается с людьми, беспощадно разоблачавшими человеческие
слабости — свои собственные и апостолов. Из всех дерзостей библейского
критицизма предположение, будто апостолы и евангелисты придумали
пророчества задним числом, является самым бесстыдным, поскольку в
этом случае Церковь оказывается воздвигнутой на лжи. Пускай читатель,
еще сохранивший способность к непредвзятому восприятию,
перечитает мою статью «Без чести — без родины» (87), написанную в 1919 г. В
ней пророчески предсказывалось появление ложного кайзера и
истребление евреев, поскольку в 1918-1919 гг. я жил самоотверженно и
самозабвенно, а, как сказала Рикарда Хух (88), «в глубине души каждый
человек — пророк». Те господа, которые никогда не были способны
пророчествовать, потому что никогда не знали самоотвержения, не должны
посягать на евангелистов. Евангелисты, скорее, сами пошли бы на
крестную смерть, чем стали бы придумывать пророчество задним числом.
Библейский критицизм обвиняет этих героев в смертном грехе. Но
правильный вывод из исследования текста является прямо
противоположным: пророчества произвели сильное впечатление, поскольку они
свидетельствовали о даре пророчества у Иисуса. Поэтому они были
сохранены в памяти и записаны.
Для датировки евангелий была использована эта гнусная ложная
теория. Было заявлено, что они были созданы много позже! Что же, я выс-
378
казал пророчество в 1918 г., правильное пророчество; сегодня на
календаре 1964 г., и я печатаю его в этой книге, т.е. 46 лет спустя. Г-н Гилпат-
рик (Gilpatrick) «доказывает» на основе предположения об измыслива-
нии пророчества Матфея задним числом, что эта книга была написана
«кем-то» в 84 г. от Рождества Христова. Эдгар Дж. Гудспед (Goodspead)
в 1959 г. в своем преисполненном любви «Св. Матфее» снова воздал
почести апостолу Матфею в качестве евангелиста. Если мы теперь вычтем
46 лет из 84 (как разницу между 1964 г. и 1918 г.), то мы придем к
выводу, что деятельность Матфея приходилась на период времени между 38 г.
и 84 г. от Рождества Христова.
В 38 г. двенадцать апостолов жили в Иерусалиме как замкнутая
корпорация. Все их полномочия были предоставлены им Господом не
каждому в отдельности, а всем вместе в качестве неразрушимой
целостности, и когда Матфей взялся за перо, он мог отважиться на это только как
письмоводитель сообщества апостолов.
Современная критика со времен Просвещения берет начало в
преисподней индивидуализма. Так, она считает отдельных евангелистов чем-
то вроде блуждающих огоньков на болоте. Увы, каждый из них говорил
от имени всех апостолов, и наиболее органично это делали двое,
выступившие непосредственно после Христа, — Матфей и Павел. Об
апостоле — зачинателе евангельских повествований, Матфее, имеется в связи
с этим одно ценное свидетельство. Климент Александрийский
сообщает в «Строматах» (89): «Апостол Матфей постоянно говорил: «Если
ближний к избранному совершает грех, то сам избранный согрешил. Если бы
избранный вел себя так, как призывает его Слово, то его ближний
преисполнился бы такого благоговения, что не согрешил бы.» (VII, 13).
Эта цитата является драгоценной, поскольку здесь отчетливо
проявляется целостность сообщества апостолов. Тут не Иоанн пишет о
Логосе, а Лука — о служителях Слова. Нет, здесь потомок обращается к
Слову, к Логосу, и из высказанного им предложения возникает единая речь
всех апостолов и евангелистов. Таким образом, якобы поздний
«Иоаннов» элемент хорошо знаком и первым евангелистам.
Они все пребывают в одном и том же умонастроении. Родословная
Матфея столь же мало является «матфеевской», как пролог к евангелию
от Иоанна — «иоанновским». Ибо они верили, что все вместе они
являются одновременно грешниками и праведниками, и именно лишь все
вместе достойны воспринять исцеляющую силу Духа. Но тем самым мы
приблизимся к разумной датировке евангелий. Они — не выдумка
мошенников, измышлявших пророчества задним числом, и не
преднамеренная фальсификация. Скорее, они изобличают авторов или
доверенных ему повествователей в тех слабостях, жертвами которых они были.
И все они восходят к глубочайшей внутренней общности апостолов.
Матфей писал для двенадцати апостолов тогда, когда они еще были
вместе. И я еще надеюсь дожить до того дня, когда честные критики Библии
увидят в этих двенадцати годах в Иерусалиме, протекших от момента
распятия до ухода Петра, самое гениальное достижение Иисуса, их
Господа. В это десятилетие должен был зазвучать великолепный гимн
Послания к филиппийцам, и должны были впервые преклониться колени
перед Сыном.
379
В других моих работах (90) язык современной физики в качестве
тринитарного, возникшего в результате смешения национальных,
литургических и научных источников, был противопоставлен просто
трехкратно повторяющемуся языку ворожбы язычников. Этот тринитарный
язык начал формироваться с 33 г., в первую очередь, именно в то
десятилетие ожидания в Иерусалиме.
Таким образом, поскольку благодаря сообщаемой Климентом
Александрийским истории мы обретаем Господа как Логос в словах всех
четырех евангелистов, а далеко не одного только Иоанна, — а ведь 50 лет
назад евангелие от Иоанна из-за этой «спекуляции о Логосе»
датировалось вторым веком от Рождества Христова! — то все четыре евангелия
совпадают друг с другом в том, что для них является запретным то слово,
которым наши современники заменяют нашу веру.
Слово «надежда» отсутствует во всех четырех евангелиях, но,
несмотря на это, всемирная конференция христиан провозгласила эту самую
надежду сутью веры. Увы, верующая община евангелий видела Господа
своей веры во всей предельной серьезности его кровавых ран, в
безысходной смертной боли, терзающей Его — преданного, оплеванного и
распятого. Они веровали вместе с ним, — да, они уповали на то, что
окажутся способны веровать вместе с Первым, и, таким образом, имели
прежде остававшуюся невозможной надежду. Ибо христиане надеются,
что они вправе и в состоянии веровать так же, как их Господь. Так что
они надеются надеждой, на какую до того, как Иисус уверовал, никто не
мог надеяться!
Вместо этого в наши дни на церковных соборах (Эванстон) кичатся
тем, что вера и надежда представляют собой якобы одно и то же, и при
этом ссылаются на Послание к евреям. Но не стоит так суетиться. Для
евангелий слово «надежда» является запретным. Читатель либо не
поверит мне, либо, если статистическое исследование текстов это докажет,
объявит данное обстоятельство чистой случайностью. Но Святой Дух
сделал мне одолжение, и я не позволю уважаемому читателю
воспользоваться этой уверткой.
Ибо евангелисты написали не только евангелия; перу Луки
принадлежат также «Деяния апостолов». Лука употребляет слово
«надежда» в «Деяниях апостолов» восемь раз, но ни разу в своем евангелии!
Это не может быть случайностью. Лука воздерживался от слова
«надежда» в своем евангелии. Он запретил себе его использовать. Иисус
остался победителем только благодаря вере, не имея надежды.
Именно в этом и заключается суть евангелия. Иисус не был «тоскующим и
страждущим», страстно стремившимся к недостижимому. Он не был
мальчиком, многообещающим юношей, преисполненным надежд
студентом богословия. Он — Арнольд Винкельрид (91),
прокладывающий нам путь в царство дьявола, в царство мертвых, для которых все
закончилось с их смертью, и даже мертвых Он возвращает к жизни.
Какое отношение к этому имеет надежда? Надежда исходит от нас и
направлена в мир. Она всегда имеет в качестве своего содержания
некие вещи, которые представляются нам достойными упований, а это
значит, что такие вещи раньше уже были в наличии. Я могу
надеяться лишь на то, что желательно. Но желательное не казалось бы мне та-
380
ковым, если бы я ничего о нем не знал. Так что надежда — это
движение, которое начинается во мне.
Иначе обстоит дело с верой: в ней Творец приближается к своему
творению, чтобы создать нас до конца. Поскольку наш Господь позволил
своему Отцу сотворить себя до конца и пребывал в руках своего Отца, он
оставался там, откуда убежал Адам, и, тем самым, мог быть сотворен
Богом так, что это далеко выходило за пределы его собственных чаяний.
Иисус — это не только второй Адам. Он — еще и сотворенный до
конца, окончательный Сын, которого в страхе и ужасе сначала отталкивает
от себя Адам, любой обыкновенный Адам, преисполненный слепой
надежды. Иисус не отстранил от себя смерть, а всецело осуществил ее.
Четыре евангелиста поклонялись в Иисусе окончательному, второму
Адаму и сотворенному до конца Сыну Божию, а потому не оскорбляли
его словом «надежда».
Само Слово
Мы не занимаемся здесь ни церковной, ни всемирной историей. Мы
намереваемся заложить основу истории человеческого образа. В других
моих работах этот образ применительно к нашей современности был
открыт в качестве «тривиального» и имеющего вид «трилеммы». Ибо
физики в сфере своих профессиональных занятий говорят на трех языках.
Врач и пациент должны относиться друг к другу трояким образом,
прежде чем они смогут эффективно говорить друг с другом. Бедные буржуа и
бедные большевики страдали от голода и жажды из-за своей
диалектической противоположности, пока в 1950 г. Сталин не провозгласил
тройственности языка. Таким образом, новшеством третьего тысячелетия
будет лишь осознание того, что отныне сакральную форму троичности
надлежит перевести в понятия светского «тривиума» и социальной «трилле-
матики». «Плод уст» безостановочно приносит новые плоды. Наши
предшествующие работы были похожи на гигантскую шараду, ответы на
которую даются только теперь.
Дух привел в движение племенных вождей и жрецов, поэтов и
пророков. Однако они испытывали воздействие этой силы, не будучи в
состоянии дать себе отчет о ее источнике. По этой причине духи
вынуждали людей перечеркивать свои собственные цели. Преобладали смешение
языков и непрекращающаяся война между языками.
Это было изменено Сыном, который держался спокойно. Он
положил конец половодью болтливой, жадно стремившейся к новшествам,
мистической или практической человечности. Таким образом он открыл,
что языки, будучи отделены друг от друга, питают друг к другу неприязнь
и злобу, хотя каждый из них сам по себе является в высшей степени
совершенным и действенным. Иисус не утверждал, что поэзия или магия,
ритуал или пророчество вовсе не заслуживают внимания. Он знал, что
они продолжают существовать, и то, насколько хорошо он это знал, он
доказал своим творческим изобретением нового ритуала, своим
поэтическим гением, проявившимся в притчах, своей дающейся без усилий
властью над одержимыми и бесноватыми, своим пророческим видением
381
будущего всемирной истории. Но, будучи наполненным до краев
четырьмя потоками языка, он освободился от всех этих потоков. Он, наследник
всех времен, решился превратить себя в посев такого будущего, которое
будет всецело защищено от того, чтобы стать простым временем.
Надлежало преодолеть прежнюю раздробленность человеческой души,
созданную безднами, которые были вымыты течением языковых потоков. С
момента рождения Христа все времена по отношению друг к другу
являются одновременными! Иисус поставил себя между эрой этих бездн и
временем нашей собственной жизни для того, чтобы мы не слишком
ослабели под напором лавины, под натиском одержимости, которая гонит
перед собой не сознающих этого неверующих, движимых силой, с
которой распространяются, сминая все на своем пути, все виды жаргона
мышления. Чем религиознее, тем помпезнее; чем искуснее, тем
пламеннее. Чем более учено, тем более превратно...
До сего дня нас поддерживают дающий имена язык и космическое
письмо, даруемая природой поэзия и пророческое видение. Мы можем
обозначить их как «обычай» и «наука», «искусство» и «политика». Но это
отнюдь не незначительная разница в выражениях, если провести
сопоставление с древностью, когда обычай заключался в нанесении
татуировки, о чем возвещалось на собраниях племени; когда наука выступала в
образе рун, начертанных на космическом теле храмов; когда искусства
освящались одной из Муз и объявлялись политические акции и войны
на уничтожение. «Чаши времени» или оболочки времени, созданные
этими четырьмя длинами волн, — посредством «Возглашай, внемли,
прислушивайся, молчи!» на всех устанавливающих законы собраниях;
«Осматривай, измеряй, приступай, вставай!» всех космических храмов;
«Пой, рассказывай, говори, украшай, учреждай!» всех девяти Муз; «Ты
обязан им сказать, предостеречь, избегать, ожидать, пасть, выступить
вперед, обещать, надеяться!» всех пророчеств, — эти времена были
сведены Иисусом воедино. В нем содержимое чаш времени перелилось
через край. По этой причине в течение последнего столетия — столетия
«расчленяющего» анализа, восходящего к греческому образу, —
либералы могли считать его гением в области искусства, психоаналитики —
приверженцем племенных ритуалов, эмансипированные евреи — одним
из своих пророков, а фундаменталисты — космической силой. Анатомия
души, несомненно, может обнаружить в нем эти элементы. Поскольку
он должен был устранить разрыв между этими четырьмя «функциями»
человеческого языка, он должен был освоить их все. Но все они были
просто теми устоями, опираясь на которые он напряженно создавал
новую жизнь. Он отверг свои четыре изначальных вида служения,
поскольку они были мертвыми итоговыми формами древнего культа предков,
астрологии, пророчества и поэзии. После того как он показал, что может
исцелять, господствовать, учить и создавать поэтические произведения,
он отказался от всего этого как от чего-то недостаточного. И поскольку
он отказался от своей собственной роли наследника, он превратил конец
в начало. Его жизнь подобна неприступной стене, на которой
начертано: «Никогда больше!». Благодаря его приходу слепая лавина
рационалистического познания, движущегося всегда по одной и той же колее,
утратила всю свою мощь.
382
Человечность окончательного человека заключена в наших четырех
служениях в качестве судьи, ученого, художника и пророка. Наше
божественное призвание состоит в том, чтобы отказаться от любого из этих
отдельно взятых служений, если они разобщают человечество. Иисус
отказался от своего собственного духа, чтобы с новым творением не
соединилось что-нибудь дохристианское, предшествовавшее Его приходу. Он
помещает себя между прошлым и будущим; ничто от человека Иисуса не
вправе было перейти в новый порядок его второго тела, в Церковь.
Люди, говорящие о принесенной Им жертве, часто этого не понимают.
Он ставит всю свою жизнь, — а не только свои последние дни, — между
прошлым и нашей эрой. На эту «уборку в доме» Он потратил
собственную жизнь. Он подтверждал, что даже его плоть еще принадлежит
прежнему эону. По этой причине имеет смысл говорить о воскресшем
Христе как о первой клетке нового тела нашей собственной человечности.
Иисус Христос — это первое имя универсального языка человечества.
Наш отказ от нашего частного, профессионального и случайного
имянаречения является нашим вкладом в общий для всех, единственный,
универсальный, рождающий единодушие язык, основанный Его именем и
на его имени. В Послании к евреям это выражается просто: «Итак будем
через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть, плод уст,
прославляющих имя Его» (Евр. 13:15) (92). Что же, для вас сегодня речь
идет именно об этом. Ведь Слово не может войти в мир, если мы сами
не привнесем его в каждую эпоху, произнеся его на нашем родном
языке в нашем собственном окружении. И это принятие имени
воспринимается каждой эпохой как скандал и как что-то смехотворное. Все
пребывающие в естественном состоянии души — греки и римляне, евреи и
готы — ненавидят представление, будто новый язык может возникнуть
здесь и теперь, — тот новый язык, который лишает непреходящей
ценности их великие литературы и своды законов, их научные справочники
и правила хорошего тона. Поскольку слово «христианин» на нашей
визитной карточке обозначает именно это, четыре антиевангельские
партии, «дизангелисты», следующие за Дарвином, Марксом, Гобино,
Ницше, объясняют всем, что упоминание имени «Иисус Христос»
свидетельствует о дурном вкусе. Как мы видели, оно и в самом деле
указывает на дурной вкус. «Дизангелисты» объявляют это имя ненаучным, но,
как мы видели, оно и в самом деле является ненаучным. Они
объявляют его богохульством, но, как мы видели, оно и в самом деле является
богохульством. И они объявляют его нелогичным, но, как мы видели,
оно действительно является нелогичным: поскольку одно и то же имя
каждый день, каждый год и каждое столетие всякий раз должно
возвещаться на новом языке, оно не может звучать ни как приличное, ни как
научное, ни как благочестивое, ни как логичное. В противном случае оно
не оказывало бы никакого действия! Имя Слова — это наша жертва. И
если мы слишком стыдливы для того, чтобы упоминать это имя,
поскольку руководствуемся соображениями хорошего вкуса, или слишком
кротки из-за своей приверженности науке, из-за стремления к гармонии
или корректности, соответствующей духу системы, то мы исключаем
себя из нового эона и сферы действия языка свободных людей, языка,
сформированного Крестом. Чаще всего мы предпочитаем влачить жал-
383
кое существование во времени, предшествовавшем рождению Христа, как
это делают ученые, занимающиеся психологией апостола Павла, и мы
скоро будем хвастаться тем, что эпохи «после Рождества Христова»
будто вообще не было. Без Христа времена весело продолжаются, проходя
мимо него. Таким образом, современный кризис заключается в
существовании напряженного противоречия между страстным стремлением
всех нас отказаться от различных вероисповеданий и серьезной
необходимостью признать скандальность и смехотворность Креста. Слово
человечества останется беспомощным лепетом и недостойным повторением
мертвых слов, если мы ради соблюдения хорошего вкуса и нравов, ради
науки и духа системы откажемся от того, чтобы апеллировать к своему
поручителю, понимать его величие и бросать миру вызов одиозными
словами «Христос» и «христианин». Если Христос — Логос, Слово, то мы
должны быть — как называли это греки — homologi, что означает
«относящиеся к тому же самому слову». Мы должны преобразовать наши
слова, со всем усердием превращая Его в ключевое слово всех наших
собственных слов, и каждый должен проделать это совершенно
индивидуально. Теперь можно определить простую причину этого железного
закона языка в нашу эру. Когда мы говорим или действуем, плоды наших
слов и действий скрыты от нас. В минуты слабости мы все думаем, что
сможем отделаться пустыми, лживыми или формальными речами. И мы
склонны вообразить, будто такие слова или дела не влекут за собой
никаких последствий. Мы говорим: «Я вынужден сказать это, меня
побудили к этому страх, собственный интерес или сострадание». И
предполагается, что такое объяснение может служить нам извинением. Но что в
действительности мы подразумеваем в этих высказываниях? Мы
утверждаем, что являемся простыми шестеренками в мельничном колесе
слепой судьбы, поскольку все эти обычные объяснения нашей манеры
говорить связывают наши высказывания с таким обоснованием, с такими
причинами или мотивами, которые происходят из чего-то уже
прошедшего. Все наши извинения направлены назад, в былое. Все
высказывания Иисуса направлены в грядущее. Каждое из них обретает смысл
исключительно в свете будущего. Ни одно из них не было вызвано чем-то
предшествующим, какой-либо традицией, оправданием, причиной,
основанием или мотивом. Напротив, все это «предшествующее»
противоречило каждому из его действий и высказываний. Он говорил так-то и
действовал так-то, поскольку был вынужден создавать будущее, отличное от
прошлого. Как выразил это Амброуз Верной, «Jesus went to the cross,
because he could not help it» (93). К сожалению, выражение «По плодам
их узнаете их» имеет отношение не к нам, а к нашему Господу. В его
распятии полностью проявилось непримиримое противоречие прежнего
оправдания посредством указания на прецедент, мотив, среду и
благочестия направленной в будущее любви. Тот, кто живет, неся свой крест,
знает, что не может быть оправдан ссылкой на рациональные,
социальные, природные и физические склонности либо узы. Он знает, что
«человек» как таковой, конечно, трус, конформист, что он следует
шаблону и от многого зависим. Но после Христа он также знает, что это
является лишь половиной главной книги. Чем сильнее гнет условий и
предрассудков, традиции и природы, тяготеющий над «человеком», тем более
384
необходимо для «этого» человека чувствовать себя призванным разорвать
свои цепи, состоящие из простых причин. До Христа люди поднимали
восстания Спартака, создавали отвратительные вирши или покаянные
псалмы. Новый закон, провозглашенный Христом, был таков:
благодаря крови Слова человеческие слова должны обрести возможность стать
исходной точкой нового воплощения. Поскольку Иисус стал видимым
для всех, то каждое из его действий являло собой посев, приносящий
свои плоды в бесконечной череде грядущих времен. Ни одно из его
действий не могло быть понято его современниками, но они понятны нам,
видящим все их следствия. Эти следствия отчетливо проявляются с
ходом времени. В 33 г. они были невидимыми, а в 1933 г. необозримыми.
В 33 г. никто не знал, что распинает Сына Божия. В 1933 г. Гитлер знал
об этом совершенно точно. Ибо «священнослужители» Гитлера
называли Христом именно Гитлера. Таким образом, Иисус был первым
человеком, который засвидетельствовал могущество несотворенного, отклонив
все искушения пожать плоды прошлого, как это предлагал ему сделать
сатана. В наше время мы все умеем снимать сливки с молока. Мы можем
преуспеть, занимая те «скромные должности», которые уже установлены
и потому оплачиваются. Но моей жизни в качестве поэмы Бога либо в
роли «козла отпущения» для всего общества, или же в качестве залога
Духа, как назвал нас апостол Павел (94), нет места в бюджете
какого-нибудь среднестатистического концерна или в приличном обществе.
Всякий, кто является только чадом Божьим, оказывается лишним. Для него
нет места в обзорах, опросных листах и статистике, поскольку он так же
мало значим, как и младенец в яслях, для которого у хозяина не нашлось
места на постоялом дворе. Да и как он мог бы это сделать? Иисус был
непредвиденным и несказанным. Но все же мы должны принять во
внимание, что он был предсказан и зрим. Поскольку среднестатистический
человек ходит к психологам — мнимым знатокам человеческих душ, он
хочет услышать разъяснение, что его душевные движения можно
выразить в словах, но ему не хочется, чтобы его соседи видели его насквозь.
Он одновременно напускает на себя таинственность и находится во
власти суеверий. Но Иисус был верующей тайной.
Теперь читатель, хотя он и не привык к этому в нашем мире
мышления, оторванного от речи, может постепенно подготовить себя к тому,
чтобы проанализировать четыре формы выражения этого крестного
пути, в которых проявляется глубинная истина языка и власть языка над
нашей жизнью. В христианской жизни, протекающей между прошлым и
будущим, существует напряженность в отношениях между
«предсказанным» и «непредсказуемым». Другая напряженность налицо между
«предсказуемым» и «не дающим обетовании». Скажем заранее о втором типе
напряженности, что человека, душа которого мертва, понять нетрудно.
Этот человек идет по пути наименьшего сопротивления. Психолог,
которому он задает вопрос, успокаивает его, говоря: «Все хорошо, Ваше
поведение вполне естественно. Вы испытываете страх, Вас мучит
сексуальное влечение» и т.д. Пациент рад услышать, что в тех же самых
обстоятельствах каждый повел бы себя так же, как он. Суть этого человека
может быть выражена в словах. Если понять его нужды и побуждения,
всегда будет известно, что он сделает в следующее мгновение. Однако его
13 3ак. 3524
385
поведение в то же самое время столь повторимо, что он не может ждать
для себя никакого обетования или возвещения, поскольку никто даже и
не надеется, что он даст миру нечто новое. Он всегда «уже был». Этот тип
человека известен нам со времен Адама. Поэтому такой человек очень
заботится о том, чтобы мы не разгадали его суть в его частной религии,
в его частных мнениях и в его поступках. Он охотно называет эти
частности своей личной жизнью или использует формулировку «личная
сфера». Несомненно, здесь мы имеем дело со вполне возможным способом
вытеснения из нашего поведения, полностью выразимого в словах,
определенных могущественных сил, этого достигают, частным образом
совершая несказанные поступки и произнося несказанные слова. Фраза о
«личной сфере» — это чудесный способ обманывать самого себя. Ведь
«личностью» был бы только тот человек, который, поскольку он
индивидуален, стал бы гласом истины, «персонифицировал» ее. Выражение
«быть личностью» означает стать проницаемым для света, сделаться
прозрачным, раскрыться и быть репрезентативным. У Эйзенхауэра в 1942 -
1945 гг. не было никакой жизни в личной сфере, поскольку он
представлял американские G.I. (95). Именно здесь и нигде больше перед нами
личность, здесь она пребывает, здесь она живет, здесь она осуществляет
себя. Постоянное злоупотребление выражением «личность» для
обозначения свободы, которой не воспользовались, и мнений, о которых
умолчали, ныне заставляет нас избегать употребления этого слова. Оно
больно (96). Для большинства людей его смысл заключается лишь в том, что
у них есть некие собственные тайны. Это их утешение и их роскошь. Ибо
это означает следующее: «Хотя мы и выразимы в словах, хотя мы и
подчинены закону средних чисел, другие люди знают обо мне далеко не все.
И поэтому никто не является в полной мере моим господином и
повелителем». Человека, который как полностью постижим, так и полностью
выразим в словах, психологи видели бы насквозь, и он был бы живым
трупом. Человек, выразимый в словах, должен, по крайней мере,
предпринять хотя бы слабую попытку играть^в прятки. Однако есть и другой
путь. О человеке может быть на сто процентов известно все, что
касается его социальных недостатков и личных достоинств, как это и было с
Иисусом, но все же он при этом способен оставаться свободным и
неизъяснимым. Всякий ясно видел, что Иисус не имел ни определенной
должности, ни семьи, не обладал ни красотой, ни властью. И люди
заблуждались относительно него не потому, что они знали его в его личной
атмосфере. Они не верили, что среди всех людей он является
единственным обетованным, единственным человеком, появление которого в
качестве единственного по-настоящему свободного человека предсказали
мудрецы и который не мог быть ничем иным, кроме как посевом ради
будущего, первым Словом второго творения, исполнением четырнадцать
раз повторенного «творения» в Книге Исайи (40-57). Иисус не был
незрим, но он был предсказан, предречен как обетованная жатва всей
истории всех людей всех эпох повсюду, где произносили пророчества,
возвещали судьбу и составляли научные прогнозы. Он был личностью,
сделавшей Дух прозрачным. И на его лице сиял отсвет божественной
свободы творить мир, затмевавший кровь, пот и слезы, которые, конечно,
проливал смертный человек. Мы говорили о трех лицах Троицы, по-
386
скольку они обозначают три пути, на которых обретает свое отражение
и оставляет на нас свой знак вся мощь и власть Бога. Ведь «три лица» —
это отнюдь не три обособленных индивида. Далеко не каждый может
встретиться с тремя лицами Троицы в своей собственной, личной
сфере. Они — три ипостаси, на которые Бог продолжает изливать свет: они
суть Отец, Сын и Дух. И в Сыне Бог побеждает смерть нашей души, из-
за которой мы должны были бы жить, поддаваясь исчислению и вместе
с тем укромно. В Сыне Бог воплощается, как это было возвещено и дано
в откровениях, и являет себя созидающим. Так Сын восстанавливает
подлинное упорядоченное соотношение между изреченными словами и
прожитой жизнью. Словам надлежало быть отданными приказаниями и
возвещенным обетованием. Пусть жизнь слагается из исполненных
приказаний и осуществившихся обетовании! Это, как мы видели, и было
подлинной целью всякого языка и всякого ритуала с того момента, как
человек начал говорить. Использование языка только в изъявительном
наклонении, характерное для наших учебников и «мыслителей»,
является просто «положением во гроб» или запоздалым размышлением после
событий, которые могут свершиться благодаря языку. Иисус делает
очевидным, что все сказанные до Него слова вызвали Его, повелели Ему
существовать, поскольку они были истинными, действительными
молитвами, выражением действительной потребности, действительными
предсказаниями и плодотворной поэзией. И он исполнил все эти слова. Тем
самым он открыл нам, что мы совершаем в процессе речи: говоря, мы
верим в посев и жатву, обетование и осуществление, приказ и
сообщение о его выполнении. Мы верим, что в начале было Слово, а в конце
будет воплощение, поскольку дарованное нам новое рождение Слова
благодаря Христу в каждом новом поколении присоединяется к нашему
физическому рождению. Передающий и продолжающий речь человек —
как Сын Человеческий он начал, а как Слово он завершает наше
творение, превращая нас в род Божий.
387
История спасения против теологии
Критика брошюры экуменического совета церквей «Церковь и проблема
государства в современных условиях» (1936 г.)
Скорее народы переменят свою веру,
чем ученые - свои методы.
1. Замечания личного характера
Когда Джон Уэсли (1) в 1739 г. впервые произнес проповедь в чистом
поле, под открытым небом и перед добровольно собравшимися
слушателями, в гнев пришли не только епископы Англии. Сам Уэсли с
удивлением писал в своем дневнике: «Я едва смог примириться с этим барочным
видом проповеди в чистом поле, поскольку я был так сильно привержен
каждой детали церковных предписаний и правил, что мне чуть было не
показалось грехом спасать души, если это происходит не в церкви».
Со мной случилось нечто подобное. Я не считал возможным спасение
душ вне церковного пространства, без соблюдаемого в полной мере
ритуала и Символа Веры, без всей теологии и церковной иерархии. Но затем
мне открылось, что никакая вера не может оставаться живой без новых
форм благовествования и что фанатизм тех, кто гордо хочет остаться
правоверным вместо того, чтобы быть просто верующим, ведет к греху
против Святого Духа. Кто же открыл мне это? Что же, это были два
свидетеля: во-первых, сам Бог, сделавший это посредством своего суда над
миром, а во-вторых, теологи, сделавшие это своим неверием. Так мое
обращение, переход от самоуверенного правоверия к простой вере, стал
определяющим событием моей жизни. Ведь можно оказаться обращенным,
отвратясь от чрезмерной «церковности», и в этом заключается мое
единственное и подлинное обращение. Оно произошло со мной не в силу
личных причин, а во имя распространения веры. После катастрофы мировой
войны никакой фанатизм не достаточен для того, чтобы привести к
воскресению истины. Требовалось более подлинное средство.
И поэтому с 1917 г. я добровольно избрал областью своего
священнического служения чистое поле свободных наук. Поля и улицы можно
было освятить в качестве мест произнесения проповеди. Так почему же
это не могли быть поля наук? В наши дни настает Лето Господне,
благоприятное для мышления человека, мышления в качестве науки. И
поэтому в наше время в дополнение к прежним формам благовествования
евангелие надлежит предложить народам и отдельным людям в обществе
так, чтобы оно было облечено и в слова светских наук.
388
Я ступил на этот путь двадцать лет назад не из любопытства и не из
стремления к новшествам. Я не раз надеялся получить возможность
сойти с него. Куда охотнее я бы продолжал говорить на языке Библии и
первого тысячелетия Церкви. Ибо я никогда не испытывал
интеллектуальных затруднений в связи с христианской верой и ее догматами: я никогда
не был идеалистом или материалистом и всегда мыслил, исходя из
догмата, а не рассуждал по поводу догмата. Но я везде встречал
прегрешения теологии против веры и против Церкви. А эти прегрешения
преграждали проповеди путь к сердцам верующих. Коль скоро надлежит
проповедовать евангелие бедным ученым, коль скоро крест нашей
действительной жизни должен выступить против интеллекта, то это
должно произойти без панциря средневековья и Нового времени, в котором
нынешняя теология может только предать своего Господа.
Тот, кто вынужден ступить на новый путь, должен считаться с тем, что
он вызовет ненависть с двух сторон. Прежде всего, это лютая ненависть
интеллекта, против которого этот человек выступает: здесь уже ничего не
изменить. Иначе обстоит дело с отчуждением от верующих, которых
сердит новый путь. Я вспоминаю о ночи, проведенной в Вюрцбурге в 1919 г.
Там в докладе о словах апостола Павла: «Scio, cui credidi» — «Ибо я знаю,
в Кого уверовал», (2) — я объяснял смысл моего похода в университет.
Присутствовали члены так называемых студенческих христианских союзов
и достопочтенный епископ Вюрцбурга. Но они были и остались в плену
идеалистической науки. Всю ночь я лежал без сна и проливал слезы:
такую боль мне причиняло то, что судьба лишила меня возможности
простого общения с этим епископом. Когда по прошествии срока, равного
половине человеческой жизни, некий иезуит с высот своей эрудиции
упрекал меня в демонической ненависти к Риму, я мог, памятуя о своих
слезах, спокойно улыбаться. Несмотря на все мои заверения, непонимания со
стороны официальных церковников, по-видимому, нельзя было избежать,
поскольку в 1919 г. тот епископ и те студенты не знали, в какой мере
мировая война проявит себя как мировая революция. А мне это открылось.
Сейчас об этом знают все, и страх заставляет церковников и
государственных мужей осматриваться в поисках помощи. Поэтому отчуждение ныне
не должно сохраниться.' И поэтому в один прекрасный день я
воспользуюсь личной дружбой, чтобы снова протянуть свою руку, которую часто
отвергали. Но эта рука указывает не на личную дружбу. Я прошу
читателей не выносить решений относительно вопроса, касающегося самой сути
веры, духа, хода истории, руководствуясь благожелательным или
неприязненным отношением к моей слабой личности.
2. Границы теологии
Теология, учение о Боге, — это не та наука, которая может
представить отчет о положении Церкви в мире природы и в обществе.
Применить само понятие «теология» к христианскому богопознанию впервые
отважился Абеляр (3), а вслед за ним — схоласты. Эта теология умеет
рассказать о пришествии Христа в языческий мир. Сегодняшний
земной шар, где установилось единообразие, и современное сообщество
389
народов суть результаты этого пришествия Христа в мир. В
соответствии с нашим нынешним словоупотреблением, природа и общество —
это плоды распространения христианства. Древо, принесшее эти
плоды, в качестве второго творения, в качестве Церкви было высажено в
мир Иисусом. Церковь — это древнейшая часть воссоединенного
творения. Но начиная с Церкви из когтей дьявола оказалась вырвана еще
большая часть творения. Эти более молодые области расположены за
пределами Церкви, но они не безбожны. Почему нынешние нападки
этих областей на теологию не могут быть вызваны Богом, если Он даже
естествоиспытателей вводит в заблуждение относительно их своего
ничтожного рассудка? Теологи — и об этом благодаря процессам над
ведьмами и Орлеанской Деве в наши дни знает каждый — должны
постоянно ощущать угрозу со стороны других общественных сил. В
противном случае их высокомерие разрушит дела Бога. Точно так же,
благоразумный человек знает, что если бы все люди в мире называли себя
христианами, то дело Христа было бы безнадежно погублено. Ибо с тех
пор как христиане оказались бы только среди христиан, их грехи
больше нельзя было бы успешно выявлять.
Во славу Божью, ради спасения мира, ради защиты душ надлежало
мобилизовать природные и социальные силы — те силы, которые
держат теологов под угрозой и в которых ему как теологу и не следует
ничего понимать. И природному миру, и человеческому обществу,
состоящему из отдельных народов, ныне вверено выполнение важных задач,
связанных с историей спасения и призванных ограничить Церковь. И
так же, как они ограничивают Церковь, натурализовавшееся в Церкви
теологическое знание должно быть ограничено конкурирующими с ним
науками, которые не укоренены в Церкви. Одна из этих наук — это
наука о природном мире, а другая — наука о человеке.
Поэтому наше намерение заключается в том, чтобы познать Бога,
мир и человеческий род при помощи соответствующих им методов. Ибо
все грехи имеют духовное происхождение, и потому неправильное
использование познания помешало бы нам истинно почитать Бога,
правильно обустраивать мир и порядочно прожить человеческую жизнь. Бог
вызвал к жизни и нынешнее отчаяние, которое церковники
испытывают по поводу своей теологии. Бог есть все во всем и сегодня, когда
Церковь хочет вновь обрести себя в качестве части мира и составной части
человеческого общества. Бегство теологов в теологию — это бегство от
Божьего суда, бегство от присутствия Бога. Возможно, Бог присутствует
и в нетеологическом мышлении. И как же это может быть иначе, если
наше мышление обнаруживает тройственное отношение ко времени?
Если мы размышляем о Боге, то мы имеем дело с вневременным, не-
сотворенным, но открывшимся через Христа Богом. Мышление о мире
стремится овладеть возвращающимися в пространстве природными
событиями. И в-третьих, наконец, когда мы размышляем о человеческом
роде, наше мышление предстает в качестве протекающего во времени
процесса, посредством которого мы как члены человеческого рода
пытаемся составить представление о целом. Никто из нас, мыслящих в
данный момент, не олицетворяет собой человеческого рода в целом. И
поэтому все наши мысли в той мере, в какой мы их продумываем, никог-
390
да не могут выражать собой все мысли всех людей. Следовательно,
мышление о народах, о наших ближних и о нас самих понимает нас,
отдельных людей, только в качестве преходящих частиц всего человеческого
рода. Здесь речь идет о преходящих, обусловленных моментом,
временных мыслях, которые возникают у нас тогда, когда мы решаем
преходящую задачу в человеческом обществе. Это так, поскольку все мы
разделяемся на различные функции этого общества, выступая как женщина и
мужчина, брат и сестра, сын и отец, рабочий и предприниматель, солдат
и гражданское лицо, европеец и американец. В соответствии с этим, три
различных способа мышления должны решать три различные задачи. И
эти задачи были решены последовательно, одна за другой. Около 1100 г.
теология пришла в христианский мир, крещеный лишь поверхностно.
Она должна была с помощью понятий защитить евангелие, возвещавшее
одного Бога, который уничтожил множественность языческих богов.
Столетия спустя христиане вышли из своего состояния детей
Божьих и приступили к построению естествознания для того, чтобы
исследовать единство творения вопреки множественности явлений, вещей и сил.
Обе науки выполнили свои задачи, но обе науки превысили свои
полномочия. Когда теология приблизилась к своему концу, она воздвигла
своего рода памятник этому превышению собственной власти; таким
памятником стало преследование ведьм. Сегодня, похоже, наука превышает
свои полномочия по отношению к человеку. Она подвергает его
испытаниям, вивисекции, стерилизации и выражает его в числах так,
словно он является природной вещью. Ведь естествознание в наши дни
добилось той же власти, что и теология в XV в. Поэтому мы, очевидно,
идем навстречу тому времени, когда естествознание будет иметь
возможность безнаказанно злоупотреблять своим могуществом.
Между тем, уже сегодня после теологии и после естествознания, в
расколдованном мире и под обезбоженным небом, возникает наука об
обществе. Она пытается постичь человеческий род в изменчивости его
характера, в отрыве от Бога и природы. Поскольку человек может
существовать только как существо, способное к изменениям, то наука об
обществе должна заботиться о том, чтобы все упорядоченные формы
человеческого существования оставались преходящими или подвергались
революционным преобразованиям.
Первый тезис Церкви в качестве начала второго Творения может быть
сформулирован так: «Soli Dei Gloria» (4).
Второй тезис о природе, целью которого является новое обретение
Творения, мог бы звучать примерно так: «Вещи не суть то, чем они
кажутся».
Основной тезис о человеке должен сводиться к тому, что хотя он, как
и Бог, имеет не одну форму проявления, формы эти, как и у природы,
всего лишь преходящи. Человек является в преходящем образе, но
число этих образов в течение его жизни всегда больше одного.
Если оба первых тезиса — о славе Божьей и об устройстве мира — уже
давно всесторонне разработаны, то третий тезис о человеке,
претерпевающем изменение, мы еще только должны развить, ибо здесь мы
стоим перед новой задачей, задачей третьего тысячелетия. Животное,
называемое человеком, после своего рождения получает имя своего отца и,
391
тем самым, неизбежно становится сыном некоего мужчины. Но у него
есть и свое собственное имя. Ибо человек не останавливается на том,
чтобы быть сыном или дочерью, он становится также женихом и
супругом либо невестой и женой, отцом и предпринимателем, борцом и
рабочим, гражданином и соотечественником, одиночкой и стариком.
Человек не имеет простой природы, поскольку смысл его существования
заключается в переходе от одной природы к другой. Тот, кто не становится
ни сыном, ни отцом, ни рабочим, ни хозяином, тот, кто не произвел на
свет ребенка и не посадил дерева, не является полным человеком, как об
этом сказал Гёте. Он может быть ангелом. Но ангелам отказано в
собственно человеческом.
Таким образом, наступающая эпоха должна освободить учение о
человеке в двояком смысле. К человеку неприменимы ни методы
теологии с ее идеализмом — поскольку человек и дух человека должны
изменяться, — ни методы естествознания, поскольку у человека нет никакой
природы и он не является вещью. Душа человека — это его достояние,
благодаря которому он в силах пережить свои многообразные
превращения. Разум человека дает ему способность воспринимать те заповеди, в
соответствии с которыми он должен изменяться. Ключевым словом
души и всякого одушевленного человеческого общества является
«выживание». Поэтому знание о социальной жизни человека никогда не может
быть выражено в абстрактных понятиях. Ведь если разумные заповеди
человека с момента его рождения ведут его от одной формы души ко все
новым и новым формам, если он в состоянии без ущерба для себя
пережить самые различные состояния тела и духа, то всякое учение о
человеке тоже должно воплощать в своих методах эти заповеди души.
Мышление о человеке должно начинаться с признания определенных
заповедей и разумных императивов. Это учение должно само сперва
выслушать такие разумные заповеди, прежде чем оно сможет претендовать
на внимание к своим высказываниям. Знание об одушевленной форме
само должно нести на себе печать одушевления. Одушевлением
человека мы назвали его способность пережить смерть соответствующих форм,
в которых он себя проявлял. Таким образом, одушевление мышления
может состоять только в его способности переживать то, что в нашем
мысленном восприятии соответствует физической смерти; а это
состояние называется отчаянием. Лишь то мышление, которое, хотя оно и
происходит из отчаяния, выходит за пределы этого отчаяния, является
одушевленным. Преодолевая свою долю смерти, оно само становится
частью душевных процессов, которые происходят в браке, жизни народа и
в трудовом сообществе. Поэтому всякому социальному мышлению
предшествует нечто очень простое: шаг самоограничения и шаг спокойного
движения дальше. Самоограничение легко могло бы привести к
отчаянию. Поэтому наивная социология не прибегает к самоограничению и
бодро говорит о человеке как таковом, будто он, социолог, среди других
людей является чем-то большим, чем просто человек. На самом деле нас
может ввергнуть в отчаяние то обстоятельство, что не только один
человек кажется другому смешным и чуждым, но и мои мысли о человеке
представляются моему оппоненту всего лишь моими смешными и
странными мыслями о человеке. То, что один человек говорит другому о «че-
392
ловеке», само по себе не имеет никакого авторитета. Мы мыслим,
находясь именно внутри человеческого рода. Те, кто мыслит «об» обществе,
должны смиренно сознавать, что они мыслят в обществе. Они должны
признать наличие определенного момента времени, так сказать, дня
рождения их мыслей, и служебную роль их мышления. Тот, кто мыслит
о человеке, всякий раз только вносит свой вклад в совокупное мышление
всех людей. Ему известно нечто другое, чем прочим людям, и он мыслит
иначе, чем все остальные, именно потому, что он является
определенным человеком. Несмотря на это, он не должен впадать в отчаяние.
Правда, тут он находится совершенно в другом положении, нежели
естествоиспытатель. Ибо первый принцип естествознания гласит: «То
истинное, что один человек думает о природе, могут и должны думать о
природе и все другие люди». Единогласие — начальная предпосылка
естествознания, единогласие познающего субъекта и наблюдателя. Но в
науке о человечестве первоочередным является то, что мы все должны
думать о человеке по-разному, отец — иначе, чем сын, невеста — иначе,
чем мать, поэт — иначе, чем банкир, грешник — иначе, чем святой. Тот,
кто стоит на пороге жизни, должен смотреть на нее иначе, чем тот, для
кого все кончено. Следовательно, различное положение в обществе
обусловливает также разницу в мышлении о человеке, тогда как наша вера в
Бога и наше знание о природе могут единодушно разделяться всеми.
3. История спасения
Если существует история спасения на земле, то она должна быть чем-то
простым, о чем можно было бы спросить любого ребенка. Стыдно, что
даже образованный взрослый обычно не может ничего об этом сказать.
Теологические лозунговые выражения типа «язычество» и
«христианство» в устах мирянина обладают весьма незначительной силой
убеждения. И все же я полагаю, что можно охарактеризовать историю спасения
одной фразой. История спасения на земле — это история победы
единственного числа над множественным. Спасение приходит в мир
бесчисленных племен, многих стран, частей света и богов. История спасения
противопоставляет единственное число каждому из этих множественных
чисел. И в зависимости от того, направлена ли она против
множественности богов, множественности стран или, наконец, против
множественности племен, она разделяется на три эпохи.
В первую эпоху утверждается единственное число Единого Бога в
противовес множественному числу многих идолов. Результатом этой
эпохи является христианская Церковь, и ее история составляет
содержание первого тысячелетия нашей эры. Поэтому в первом тысячелетии
нашего летоисчисления история Церкви является важнейшей и
интереснейшей частью истории.
Во втором тысячелетии утверждается единственное число Единого
Мира в противовес множественному числу не связанных между собой
частей света, китайских стен и не открытых земель нашей Земли.
Результатом второго тысячелетия является единство природного мира, и
потому великой темой второго тысячелетия является всемирная история.
393
Но должно быть осуществлено и единственное число единого
человеческого рода в противовес различным возрастам жизни в народе,
различным расам нашего родового древа и классам в обществе. И основные
задачи человеческой борьбы связаны именно с этим направлением. В
наши дни возникают борьба между расами, классовая борьба,
молодежное движение. Они задают будущему великий вопрос о единстве
человеческого рода. Третье тысячелетие, несмотря на различия между
племенами, поставит вопрос о единственном числе истории спасения и
должно будет дать на него ответ.
Этот факт смутно ощущается повсюду. Нынешнее тоталитарное
государство — это уже попытка решить проблемы третьего тысячелетия.
Но оно решает их теми средствами, которые были предназначены для
задач второго тысячелетия. Между тем, перед нами больше не стоят
задачи пространственного устроения территориальных государств и частей
света. Никто больше не может игнорировать естественного единства
государств в географическом и техническом отношениях. Нынешние
судороги тоталитарного государства возникают из попытки грядущих
общественных сил, а именно племен, классов и рас, замаскироваться во имя
решения своих задач, представив себя в виде сил государства. В
действительности общественные силы уже стремятся выйти за пределы власти,
ограниченной некоей территорией. Государственная жизнь уже
вынуждена оброняться и пребывает в состоянии слабости. Тот, кто должен
кричать столь громко, как это делают адепты тоталитарного государства,
перекрикивает и заглушает сам себя, потому что испытывает страх. А он
испытывает страх, ибо втайне трепещет от того, что его идол уже мертв.
Поэтому если бы Церковь слишком всерьез отнеслась к тоталитарному
государству, это было бы несчастьем для нее.
Церковь должна вспомнить о том, что естественный мир государств
и отдельно взятое светское государство имеют вполне определенную дату
рождения в ходе истории спасения, что они обладают ограниченным
правом на жизнь и их будущее отнюдь не^прекрасно. Если Церковь
игнорирует историю спасения, у начала которой она сама стояла, и
отождествляет древние общности вроде Рима или Египта с государством,
принадлежащим нашему летоисчислению, то это мстит за себя. Тогда
Церковь капитулирует перед всемирной историей языческого образца. Здесь
также будет достаточно короткого замечания. «Государство» — это
всего лишь форма политической власти в одной из частей природного мира,
охватывающая собой христиан. Все древние сообщества сообщали тем,
кто в них проживает, особую локальную религию. С избранием папой
Григория VII и становлением учения о Церкви и государстве возникает
светское государство. Та самая теология, о которой мы в предыдущем
разделе сказали, что она защищает Единого Бога в противоположность
многим богам, начиная с 1100 г. лишила светские государства
способности поклоняться особым богам и исповедовать особую религию. Эти
государства были всего лишь региональными корпорациями, для
обитателей которых власть Бога выходила за пределы их отдельной территории.
И тем самым все эти государства изначально оказались в мире, который
сделался больше. Со времен первого конкордата между государством и
церковью множественность государств в мире государств, несмотря на
394
единственность Бога, является великим фактом всемирной истории.
Все разговоры о государстве в единственном числе и всякая наука,
которая хочет что-то сказать о государстве, не исходя при этом из
множественности государств, являются нехристианскими. Таким образом,
вклад христианства в учение о государстве — вклад, которого
справедливо требовал Эмиль Бруннер (5), — это нечто очень простое. Он
заключается в том, что понятие государства ставится во множественном
числе и превращается в «мир государств». Действительно, в наши дни
нет ни одного государства, которое не вело бы духовную борьбу,
противопоставляя свою государственную форму формам соседних
государств. Прозрачные границы нынешних государств не допускают того,
чтобы государство существовало, не имея духовного оружия,
направленного против принципов жизни соседей. Борьба Гитлера против Москвы
или против западной демократии, ненависть либеральных государств по
отношению к феодальным структурам власти — это только примеры
того, что никакое государство культурного мира не создало свой
правовой порядок «из себя самого». Скорее, оно приобрело его благодаря
существованию всех других форм государственного устройства, вследствие
диалектического противостояния или как результат эклектического
синтеза. Отдельно взятые государства, так сказать, выкликают, обращаясь
друг к другу, ключевые слова своих ролей, как это происходит в драме,
и пестрота их конституций представляет собой в действительности их
вклад в дело наполнения мира богатством всех форм государственного
устройства, которые предоставляет в распоряжение история спасения.
Семья народов, которая образуется в ходе истории последнего
тысячелетия, растревоженной и вызванной к жизни Крестом, должна
рассматриваться как биологическое изменение нашего природного вида.
Однако пары противоположностей «государство и церковь»,
«философия и теология», «император и папа», «светское и духовное»,
образовавшиеся в 1100 г., больше не должны приниматься во внимание в
связи с проблемой будущего. И Церковь вводит себя в заблуждение, когда
продолжает дальше пользоваться этими старыми расхожими
выражениями, бесконечно отягощенными прошлыми смыслами. Причина этого
такова: когда мы смотрим на естественный мир с его множеством государств,
мы подчеркиваем единство внутри государства и различия между
государствами. Таким образом, мы проводим различия между немцами,
французами, англичанами, китайцами, потому что речь идет о жителях
разных государств. Независимо от того, называются ли живущие на
территории государства гражданами или обитателями, соотечественниками
или подданными, мы всегда рассматриваем этих людей так, как если бы
они навечно принадлежали к одному-единственному государству. Это
никогда не было правдой. Брак, война, революция и эмиграция снова и
снова уничтожали притязания государства на всех своих жителей.
Пожизненное гражданство человека, родившегося, скажем, в Детмольде
или на берегах реки Липпе, всегда было фикцией. Но все же эта фикция
была и остается полезной для учения о государстве.
Все без исключения общественные проблемы будущего
обнаруживают некую черту, которая отличает их от территориальных проблем мира
государств. Все общественные проблемы сопряжены с переходом чело-
395
века от одной формы жизни к другой. Здесь всегда принимается во
внимание изменение, преобразование, трансгрессия из одного состояния в
другое. Ребенок должен стать мужчиной, родина и места странствий
должны быть соотнесены между собой. Свободный парень становится
супругом. Происходит смена убеждений, воспетая даже в «Хорсте Весселе»
(6). Поскольку человек изменяется, то все состояния, места работы и
точки зрения, которые он может занимать или отстаивать, ограничены
промежутками времени, более короткими, чем продолжительность
человеческой жизни. Молодость и старость, труд и любовь, воспитание и
партийная принадлежность — вот некоторые из тех преходящих
состояний, с которыми мы связываем себя и от которых мы должны снова
освобождаться, и притом делать это безостановочно.
Итак, мы можем сказать, что Церковь объединяет нас в
ниспосланном нам всеобщем спасении и божественности. Государства занимают
различные территории, управляют различными народами и создают
различные принципы своего устройства. В обществе человек
последовательно проходит различные формы существования. Таким образом,
общество объединяет нас не верой, как Церковь, и не правом, как
государства; напротив, люди, исповедующие иную веру либо не наделенные
всей полнотой прав, действуют друг на друга, отталкивая и притягивая
друг друга, и на время объединяются в трудовое сообщество, как ученик
и мастер. До тех пор, пока существует трудовое сообщество, ученик
должен быть всецело учеником, а мастер — мастером. Но в один
прекрасный день из ученика получается мастер, а из сына — отец. И поэтому
всякая противоположность в обществе — это только ограниченная
противоположность. В обществе один и тот же человек безо всякого
умысла последовательно, одно за другим проходит через состояния, которые
в высшей степени противоположны друг другу. И поскольку рано или
поздно он может прийти к тому, чтобы играть роль своего
сегодняшнего противника, он уже сегодня должен волей-неволей признавать
правомерность других форм человеческого существования.
Поэтому здесь и должна быть исходная точка «христианского»
вклада в учение о государстве. И тут я тоже предпочитаю говорить не о вкладе
христианства, а о вкладе истории спасения. В чем же он заключается?
Церковь действует внутри общества, и бесполезно оспаривать это
положение в споре с неверующими. Ибо человек становится христианином,
священником, неверующим начиная с раннего детства, с младых ногтей.
Конечно же, это не вся правда о Церкви. Но это открывает доступ в
Церковь неверию наук. Мы в общих чертах обрисовали суть христианского
вклада в учение о государстве: государственные мужи должны
отказаться от представления о государстве в единственном числе и признать свою
множественность; они должны, наконец, распознать
взаимообусловленность форм их государства. А затем государственным мужам следует
осознать, что они, как таковые, появились после Церкви и вслед за
христианством, что со времени Христа государство больше не учреждает
религию. Ибо государство занимает лишь часть земной поверхности, а
наше разумное служение Богу может быть только единым на всей
земле. Леон Блюм (7), будучи евреем, мог прийти к власти во Франции лишь
потому, что в Германии правил уничтожающий евреев Гитлер, и т.д. и
396
т.п. Одно государство — это не государство. Церкви вместо одного
императора противостоит множество государственных мужей.
Учение об обществе, соотнесенное с историей спасения, не может
состоять и в описании существующих друг подле друга каст, сословий,
профессий, классов, возрастов или полов. Все эти силы и различия
должны оказывать свое воздействие. Но история спасения имеет дело с
борьбой между частями человечества и с мирным состоянием, которое
превыше разума этих частей. Она говорит об Одном во всем. Таким
образом, уже давно сделалось ясно, что благодаря Церкви, духовенству и
одухотворению профессий мужчина и женщина доверились друг другу,
открыв друг другу свою душу. Борьба между полами ведет к мирному
состоянию взаимного постижения. То, что нет — и не должно быть —
мужчины, не имеющего женских черт, и женщины — черт мужских, является
фактом истории спасения. Учение Библии и Отцов Церкви о невесте,
матери, женщине следует понимать именно в этом смысле. В наши дни
оно мертво. Применить его в полной мере только к женщине нельзя.
Нам еще недостает мужества применить его к человеку вообще.
Возрасты ребенка, юноши, мужчины и старика, рассуждениями о которых
полны Послания апостола Иоанна, образуют второй круг проблем. Эти
возрасты должны следовать один за другим, но в то же время
сосуществовать друг с другом. Тайна человека состоит в том, что с ним может вдруг
произойти все что угодно, но внутри общества он способен воплотить в
себе раз и навсегда лишь немногое. К возрастам жизни
присоединяются классы и сословия. И они заключают в себе частичные истины наших
возможностей жить. С экономической точки зрения я должен работать
и тратить деньги, экономить и приобретать, жить любовью других, а в
другой раз — заботиться об этих других. Индивидуализму и
коллективизму в экономике противостоит наше христианское, наше основанное на
истории спасения требование множественности форм экономики. С
точки зрения человека, экономические формы как раз не являются
формами природы; а поскольку они не являются таковыми, а представляют
собой общественные состояния, то в соответствии с установленным
нами основным принципом общества они должны быть преходящими.
Никакая форма экономики не является «наилучшей», поскольку ни одна
из них не может быть нашей средой от колыбели до могилы.
Экономика различных возрастов жизни человека должна иметь различный
характер: ребенок должен расти в доме, молодой человек — обучаться на
техническом предприятии с высококвалифицированными специалистами,
взрослому необходима некая самостоятельная сфера деятельности.
Таким образом, достигнутое нами понимание того, что общество имеет
дело с преходящими формами жизни, с состояниями человека, которые
не являются пожизненными, непосредственно ведет в область практики.
Никто из тех, кто позволяет общественным обстоятельствам полностью
покорить свой разум, не в состоянии избежать опасности увлечься
утопией, лучшими планами или каким-нибудь «-измом», — будь это
капитализм, коммунизм, солидаризм или всевозможные прочие
монистические лозунги. Но монизм — это именно попытка трактовать человеческую
жизнь как часть природы. Способ рассмотрения, основанный на
истории спасения, приводит к выводу о множественности форм экономики.
397
Но где бы ни должно осуществиться изменение массы людей, эта масса
нуждается в формах воспитания, с помощью которых она учится жить,
переходя из одной такой формы в другую.
Поэтому наша общественная проблема состоит ныне в том, чтобы
предоставить такие средства, которые подготовили бы человека к тому,
что и в продолжительные, и в краткие периоды жизни он должен опять
и опять устанавливать новые связи и отношения и освобождаться от них.
Это — нечто новое. Церковники должны увидеть, что теология в этом
вопросе бросает их на произвол судьбы. Даже церковный год не
является достаточным для этого воспитательным установлением. Правда, в
своем твердом порядке он содержит все тайны превращения человека во
времени. Но его продолжительность равна одному году. А человек в
современном обществе страдает как раз от того, что он не может овладеть
более длительными периодами жизни, выходящими за пределы одного
года. Церковь и народ знают еще очень мало о том, как это можно
сделать, потому что они еще не уяснили того, что делать это необходимо.
Языческая фраза: «Хочешь жить — умей вертеться» отобразила
положение вещей, но теперь это положение вещей должно обрести душу. Ибо
приспосабливаться — это нечто механическое. Но речь идет о росте и
созревании, о связывании себя некими обязательствами и
освобождении от связей, о странствиях и переходе к оседлости, о присвоении и
отказе, о принятии должности и своевременной отставке. Все должно
происходить в свое время, и что ничто, имеющее преходящую природу, не
продолжается вечно, — в этом и состоит вклад истории спасения в
учение об обществе.
Тот, чей дух идеалистически или материалистически ограничивается
рамками природы, будет либо рационалистически упрощать
конфликты общественной жизни, либо будет замазывать и гармонизировать их.
Тот, кто выносит суждения с точки зрения истории спасения, может
беспристрастно всматриваться в борьбу полов, классов, рас и масс. Ибо
он знает, что наши души несмотря на смерть, навстречу которой
стремится любое из их земных изменчивых воплощений, укрыты в Боге. Мы
можем говорить о первородном грехе и общественных связях людей
намного радикальнее любого исследователя, для которого последней
инстанцией являются природа или отдельный человек.
4. Три части Символа Веры
Вполне допустимо подчинить христианскую историю спасения тем
положениям нашего догмата, которые касаются Бога и которые
выражены в Апостольском Символе Веры. Если беспристрастно и вне связи с
теологией однажды принять к сведению то, что действительно
произошло между нулевым и 1936 годом, и то, что подготавливается
сегодня, то эта осуществляемая ретроспективно проверка принесет пользу и
самому догмату. Я даже считаю эту пользу весьма значительной. Как
известно, в трех частях Символа Веры речь идет сперва о Творении,
затем о Спасении и, наконец, об Откровении. Как только мы начинаем
мыслить с позиции истории спасения, обнаруживается тот удивитель-
398
ный факт, что историческое осуществление этого шествия Бога
произошло в другой последовательности.
Церковь первого тысячелетия сообразно со своей природой
стремилась только к тому, чтобы быть Corpus Christi (8). И поэтому вторая
часть Символа Веры — это ядро Церкви. Отец Иисуса — истинный
Отец, Иисус — истинный христианин, дух его Церкви — Святой Дух.
Тот, кто верит в это, может стать блаженным. Церковь — это
сообщество спасенных.
Во втором тысячелетии мир, т.е. таинственное космическое
чудовище, снова в качестве тварного возвращается к Творцу. Магия, демоны,
хаос, беспорядок, разделение всех частей мира устраняются. После того
как христианская душа нашла место своего пребывания в Боге, природа
могла быть освобождена от всего богопротивного. Первый элемент
Символа Веры стал живым достоянием человека лишь в природном мире.
Таким образом, современное естествознание само является процессом
истории спасения. Только оно всерьез показало, что царство небесное
может прийти лишь в наше сердце. Звездное небо — это не резиденция
старого Господа с седой бородой и трубящих ангелов вокруг него. Семь
небес не более божественны, чем семь слоев земной коры. Пусть
перемещение Бога в локальное пространство на небе, совершенное в
противоборстве с множеством локальных богов античности, и оказало свое
воздействие. На наших детей такой Бог уже не может произвести
впечатления. И этим мы обязаны естествознанию. Оно поместило Платона в
университет, пронизанный духом апостола Павла, и сообщило античной
науке элементы, которые были созданы Св.Павлом и которых
недоставало Платону и Аристотелю: достоверность прогресса, общественный
характер духа, самоотверженное братство исследователей. Эти три
принципа апостол Павел перенес из богослужения Церкви в процесс
обучения народов и тем самым открыл их знание делу спасения мира.
В третьем тысячелетии борьба идет вокруг третьей части Символа
Веры. Новое оживление всех отмерших частей рассматриваемого
обособленно человеческого рода, новое одухотворение всех механизированных
частей отдельной человеческой жизни — такова его двойная задача. Это
третье положение Символа Веры должно получить власть над жизнью, в
течение которой мы вынуждены несколько раз менять свои роли.
Поэтому эта часть Символа Веры нуждается в некотором добавлении. Если
наша жизнь так изменчива, то Святой Дух должен быть в состоянии
овладевать нами снова и снова. И для того чтобы он оказался в состоянии
это делать, мы должны уметь открывать его заново год за годом или
десятилетие за десятилетием. Но духовные открытия человека происходят
для него всегда только в форме нового способа выражения или нового
языка. Таким образом, дополнение к третьему положению Символа
Веры, вероятно, звучало бы следующим образом: «Верую в Святой Дух..,
который каждый раз вновь овладевал нами от поколения к поколению и
который мы можем заново открывать во всякий день нашей жизни».
Древний гимн Церкви уже выразил это следующим образом: «Qui
temporum das tempora, ut alleves fastidium» («Ты, дающий времена эпохам,
да избежишь ты пресыщения»). Это дружеское облегчение Бог дает и
нашей духовной жизни, и он позволяет нам изменять наш словарный
399
запас. И он разрешает нам это для того, чтобы Откровение заново
овладевало нами со своей изначальной силой, с тем великолепием, которое
было присуще первому дню. Тем самым обнаруживается, почему
мировая эпоха преходящих общественных форм связана, прежде всего, с
воспроизведением откровения. И теперь ретроспективный взгляд приводит
к такому выводу: первое тысячелетие имеет дело со вторым положением
Символа Веры, второе тысячелетие — с первым его положением, третье
тысячелетие — с третьим. Ключевое слово первого тысячелетия звучит
как «resurrectio», «воскресение», «Пасха». Ключевое слово второго
тысячелетия — это «ренессанс», «возрождение», «Рождество». Ключевое
слово, из-за которого народы и массы еще и в наши дни изводят себя под
гнетом пропаганды, доносящихся из радиоприемников воплей,
искусственного света и искусственного шума, — это «re-inspiratio», «новое
одухотворение», «Пятидесятница» («Троицын день»), а также в довольно
скромном обозначении — «respiratio», «дыхание». Нужно снова открыть
«дыхание духа». Ибо дышать может только цельный человек. Поэтому в
сочельник Церковь безыскусно просит: «Господь, позволь нам дышать».
«Da nobis respirare».
Само собой разумеется, что такая последовательность эпох истории
спасения правильна лишь отчасти, ибо все истины веры с пришествием
Христа были даны в такой полной и совершенной форме, какую они
будут иметь в последнее мгновение мира. Возможно, вся история
спасения — это одно-единственное мгновение Бога. И перед его лицом
навечно остаются в силе требования по отношению к отдельно взятому
христианину. И все-таки представляется важным допустить воздействие на нас
неожиданно обнаружившейся последовательности истории спасения. В
этой неожиданности Откровение говорит с нашим разумом. А наш разум
оказывается в состоянии задним числом понять последовательность:
«часть II: любовь, вера, надежда; часть I: вера, надежда, любовь; часть III:
надежда, любовь, вера». Здесь невозможно сделать ничего больше, кроме
как дополнительно поставить задачу. Можно сказать лишь одно. На
Пасху в 30 г. существовал только один-единственный христианин. В ту пору
история спасения должна была быть сосредоточена вокруг спасения
нехристиан. Массу нехристиан можно было подвести к истории спасения
лишь в том случае, если бы оказалась непосредственно удовлетворена их
наивная потребность в спасении. В 40 г. они понимали Иисуса
несравненно хуже нас. Например, они искали божественное начало в непорочном
зачатии — точно так же, как они делали это по отношению к сынам
своих богов и героев. Но тогда их души жаждали спасения несравненно
сильнее наших. Язычники понимали Христа неправильно в духовном
отношении, но душевно они были им спасены. Нынешнее человечество
проникнуто христианством. Оно христианское только по своему имени, оно
мнимо христианское, постхристианское. Так что наши души раздроблены, и
сила христианства многократно преломляется и отражается. Нынешнее
проникнутое христианством человечество хотело бы иметь право прожить
свою жизнь как Откровение Господне. Ребенок, гений, ученый, летчик,
старик, — человечество стремится обрести возможность дать им жить
своей жизнью в том ее виде, как она была дарована в процессе творения. Мы,
более того, верим не только в то, что Христос нас спасет. В дополнение к
400
этому мы верим, что он уже спас мир. И тем самым мы верим, что
человеческий род может воспринять предначертанный верой ритм жизни, —
жизни, в которой ясно обнаруживает себя Бог. Церковь — это Пресвятая
Дева, которая снова рождает от Духа, в муках Духа, и это опять должно
произойти с нами.
Без такой веры в действительную историю спасения, изменяющую нас
и мир вот уже две тысячи лет, всякая вера кажется мне мертвой. В
брошюре «Церковь и проблема государства в современных условиях» мне
особенно бросается в глаза, какого невысокого мнения
придерживаются большинство авторов о достижениях христианства в течение
последних двух тысячелетий. С их точки зрения Бог, похоже, с 33 г. от Р. X.
ушел в отставку. Пожалуй, это глубокое неверие теологии в
христианскую историю спасения является наиболее существенной причиной того,
что церкви ныне находятся под угрозой отправиться к дьяволу. Теологи
больше не верят, что боговоплощение — это процесс, начатый 1900 лет
назад. Я также не могу обнаружить большие различия в том, что одна
теологическая школа учит, будто Бог открыл себя в Христе и с тех пор
никогда более не открывал себя, а другая школа доказывает, будто Христос
и апостолы духовно и душевно не имеют совершенно ничего общего с
представлениями современного человека наших дней. Ни бартианцы (9),
ни критическая школа не верят, что 1900 лет назад был начат процесс,
жизненно важный процесс, который неудержимо охватывает нас.
Теологи больше не живут ожиданием конца света, эсхатологией. Наивный
коммунист или фашист наших дней сильнее верят в коней, света, чем средний
христианин или даже теолог. Христиане уступили веру в конец света
новым язычникам и атеистам. Церковь, мир и человеческий род
намереваются ступить в глубокую тень конца света. Мы недолго будем жить в
Новом времени. По смыслу, за средневековьем и Новым временем
следует конец света. Мы не просто ждем его, он — среди нас. Он может
продолжаться тысячу лет. Но он уже начался. Теологи подняли много шума
вокруг ожидания первыми христианами второго пришествия Христа и
последующей отсрочки этого пришествия. Эти дебаты беспочвенны. Ибо
для человека, живущего во время конца света, и ожидание второго
пришествия Христа, и его отсрочка — это противоречие, которым он как раз
живет (10).
5. Церковь, мир государств, общество
Теперь, в конце, мы хотим вернуться к началу. Мы должны подвергнуть
критике методы, которые используются в работе «Церковь и проблема
государства в современных условиях». Христианин должен был бы
стоять над историей и тем самым обладать преимуществом в сравнении с
силами духа времени. Но указанная работа позволяет силам духа
времени в значительной степени навязать ей свои методы.
Есть учение о Церкви, учение о государстве и учение об обществе.
Учение о Церкви разрабатывалось апостолами Петром, Павлом и
Иоанном и далее — Алкуином (11) и папой Николаем 1. Тогда не было
никакого государства. Ибо не существовало чисто светского сообщества граж-
401
дан-христиан. Даже во времена Августина только сам император
являлся христианином, но не было христианского государства. У Августина
нет учения о государстве. Именно в этом заключается смысл его книги
о граде Божьем. Император как личность получил равноапостольское
служение в Церкви, ибо только он тогда мог защитить Церковь,
безразличную к пространству, поскольку речь шла о внешнем пространстве.
Учение о государстве создается лишь тогда, когда папа Григорий VII
снова вычленяет из учения о Церкви императорскую власть и раз и
навсегда делает множественность государств отличительным признаком
светского меча. Начиная с глоссаторов и схоластов, реформаторов и
идеалистов вплоть до большевиков и нацистов создается такое учение о
государстве, которое уже предполагает существование Церкви. Чем
отчетливее в этом учении подчеркивается плюрализм мира государств, чем
больше места в нем отводится уяснению того, что все эти формы
общности выводят свой собственный светский характер из предшествующего им
христианства, тем большим оказывается вклад христианства в это
учение, — вклад, которого совершенно справедливо требует Эмиль Бруннер.
Учение об обществе в современном смысле не было известно ни
третьему, ни тринадцатому столетию. Все усилия неотомистов или
толстой книги Трёльча (12) ничего в этом не меняют. Я хорошо знаю, что
Церковь называется «societas perfecta» (13). Но именно в этом проявляет
себя тот факт, что здесь мы еще имеем дело с употреблением слова
«общность» во множественном числе. В этом смысле каждый из нас,
конечно, может основать некое сообщество. Но эти сообщества стоят во
множественном числе. И поэтому они могут рассматриваться только с
точки зрения Церкви или государства. До самостоятельного
рассмотрения общественных форм дело может дойти лишь тогда, когда общество
сделается «единственным числом», заключающим в себе все частичные
состояния общества и при этом не отождествляемым ни с Церковью,
ни с государствами. Тогда обнаруживается, что общество имеет
предпосылкой как Церковь, так и государства. Оно возникает вслед за
учреждением Церкви и открытием природного мира. Общество — это нечто
третье. Общество создает нам проблемы, поскольку уже существуют
Церковь и природный мир, а род человеческий, тем не менее, еще не
достиг мирного состояния. Техническое, экономическое,
географическое, естественнонаучное единство мира открыло нам, что мир между
людьми не является чем-то техническим, экономическим,
географическим и естественнонаучным. И, кроме того, человечество узнало на
опыте и убедилось, что мир между людьми — отнюдь не что-то ритуальное,
литургическое, догматическое и теологическое. Учение о государстве
знает, что человек вовлечен в исполнение множества функций в силу
ограниченности наших физических возможностей. Это учение
пытается указать человеку те роли, следуя которым мы в драматической борьбе
со всеми остальными обретаем способность преодолеть эту нашу
ограниченность. Оно стремится склонить нас к участию в этом, используя
именно нашу ограниченность. Тщеславие, страх, голод, половое
влечение, азарт, честолюбие, стремление собираться вместе, радость
творчества, властолюбие, алчность — лишь немногие из тех «замечательных»
свойств, при помощи которых общество использует нас. Поэтому име-
402
ни «общество» заслуживают только те учреждения человечества,
которые занимаются утилизацией отходов или обращают себе на пользу
человеческие грехи. Иными словами, общество обслуживает и
регулирует нашу земную, слишком земную часть. Но домостроительство
спасения общества имеет дело не только с нашим голодом. Такая точка
зрения является заблуждением примитивного материализма. Оно, скорее,
распоряжается всем «скопищем грехов» в нас, в том числе нашими
духовными страстями или пороками — такими, как слишком усердное
чтение газет или слишком частое посещение кино. Но мы уже видели,
что грешный человек эпохи конца света более не образует части
природы. Он одинаково удален от областей вещей, земли и неба благодаря
множественности своих природ. И эсхатологически он уже охвачен
христианством. Общество отобрало мессианизм у веры Церкви и
заглушает его своими не знающими меры учениями о конце света. Утопии
вроде представления о бесклассовом обществе, или «миф XX века»
стремятся преодолеть Царство Божие. Общество поставило на место
мессианизма революцию. Быть обращенным к будущему — сущность
общества. Его характер является революционным. Это нечто новое.
Когда первоначальная Церковь пришла в мир, она должна была только
открыть народам понятие будущего и Пришествия. Нынешняя Церковь
должна разбавить водой бродящее вино революции. Прежде чем мы
объясним это, было бы, вероятно, неплохо соотнести этот
общественный конец света со Священным Писанием. Глубокий смысл заключен
в том, что стих, в котором предвидится свойственное только человеку
ослепление, является последним стихом Ветхого завета. Этот стих
пророка Малахии разоблачает искушения, связанные с концом света: «Вот,
Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня,
великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к
отцам их, чтобы Я, придя, не поразил земли проклятием» (14). Евангелист
Лука подхватил только первую половину этих слов: когда пришел
Христос, обратятся сердца отцов к детям (15). Где же исполнится вторая
часть? Она может стать истинной лишь тогда, когда сердца детей
устремятся к концу. И в самом деле, накануне русской революции
появилась книга «Отцы и дети». Как рассказывает Софья Ковалевская, в
шестидесятые годы в России разрушился мир между родителями и детьми.
В наши дни, после подъема немецкого молодежного движения, ребенок
начинает так далеко заглядывать в будущее, что он должен быть
повернут к своим родителям. Если учение об обществе хочет сдержать и
преодолеть революции в обществе, то краеугольным камнем этого учения
должен стать эсхатологический мир между отцами и сыновьями.
Только в наши дни человек стал столь независимым от географии и
межгосударственных границ, что брак, воспитание, зрелость и старение
человека и народов можно толковать как вечную проблему чередования
времен, как приливы и отливы. Ибо человек начинает с того, что
отвращается от прежней жизни, — даже дочери поступают так. Такое
спасительное учение об обществе является задачей нашего времени. Никакое
учение о государстве не может с этим справиться. Государственные
мужи от отчаяния хватаются за такое средство, как диктатура. И
теология тоже обнаруживает признаки своего рода отчаяния, когда говорит
403
только о Церкви и государстве и когда она, как и прежде, делает своей
исходной точкой высказывания о языческом мире кесарей.
Ибо проблемы общества возникают лишь в наши дни, т.е. внутри
человечества, очищенного от многобожия, облагороженного
христианской теологией и светским естествознанием. Народы Европы и
Америки ни географически, т.е. по своему территориальному положению на
Земле, ни биологически, т.е. по своему происхождению, не являются
дохристианскими народами. Они все пребывают в нынешнем обществе
в качестве продукта борьбы Церкви с миром государств. Общество —
это нечто несовершенное, конечное и бренное, то, о чем с таким
презрением обычно говорил Гегель. Таким образом, исполненная
миссионерского духа любовь Церкви может принять порожденное ею
общество лишь при условии, что Церковь верно понимает общество:
общество — это постхристианская величина. Поэтому общество совершает
исключительно те грехи, которые противоположны грехам древнего
язычества. Общество устремлено к концу. Церковь должна сказать ему:
«Не спеши». Революционизированному обществу грозит жизнь без
самоосуществления, потому что это общество слишком быстро
расходует все средства. История спасения должна облагородить
революционизированное общество, чтобы оно всецело исполнило требования
времени. Для того общества догмат — каким бы неприкосновенным он ни
был — должен быть переведен заново. То, что в догмате направлено
против суеверий языческого мира, т.е., например, непорочное зачатие,
делает догмат непонятным для современного человечества. Я хочу
более подробно рассмотреть этот пример, но то же самое касается и
понятий неба, Воскресения, ада.
«Непорочное зачатие» — это формула, с помощью которой Иисус
должен был получить оправдание в мире племен, подчинявшемся
законам патриархата. Обязанность Иисуса по отношению к своему отцу
Иосифу состояла в том, чтобы образовывать с ним единую культовую
общность и продолжать род. Но эта обязанность означала для него не
только долг сына перед отцом. Понятие отцовства и сыновства, будучи
обращено назад, к истокам, прочно связывало евреев с Авраамом,
Исааком и Иаковом. Поскольку Иисус не был сыном Иосифа, он был
освобожден от всех ветхозаветных связей. В качестве сына Иосифа он не был
бы без греха. То, что справедливо относительно еврейского Бога предков,
в еще большей степени имеет силу применительно к культу предков у
язычников. Только сыну богов позволено создавать новые родословные.
Формула «зачатый от Святого Духа» в глазах человека древнего мира
знаменует собой освобождение Иисуса от культа предков. Если
ортодоксальный священник хочет внушить мне, — а это со мной всякий раз
случается, — что по отношению к Марии произошел волшебный
космический процесс, что благодаря магическому излучению она в течение
девяти месяцев была и все же не была беременной, то это толкование
является безвкусным, языческим и докетическим (16). Если Церковь
призвана сказать человеку в обществе нечто о божественной тайне, то она
должна сказать этому человеку то, что ему импонирует. А этому человеку
импонирует представление, будто Иисус добровольно, до конца
исполняет иудейский закон. Этот человек может понять, что душа Израиля це-
404
ликом переходит из закоснелого народа в Иисуса, что сам Иисус
становится Израилем. Он также прислушается, если мы скажем ему, что
Святой Дух освободил его не только от его отца-кормильца, но также от
всяких отцовских «auctoritas» и «potestas» — и сделал это тогда, когда он еще
находился в утробе матери (17), что этот самый Святой Дух, вещавший
через Моисея и пророков, возвысил Иисуса до уровня средоточия
истории (18), поскольку Иисус некогда полностью осуществил в себе Святой
Дух и одновременно совершенно удалился от остального мира. Ведь
тайна Откровения далеко не так благообразна, как это могут вынести
христиане, только называющие себя христианами. Это не пустая иллюзия.
Бог действительно стал человеком. И Святой Дух не стал бы более
святым, если бы он состоял из солнечных лучей или волшебной силы, а не
из действительного тварного семени. Но из-за язычников догмат в
античности должен был быть сформулирован так, как это произошло. Я и
сам в 325 г. в Никее не мог бы сказать ничего иного. Я считаю это чем-
то неприкосновенным и не испытываю трудностей, веруя в это. Но для
продукта Церкви, для нынешнего общества, это непонятно. Для
большевиков и фашистов более не существует дохристианского фронта
античных язычников. Общество видит Церковь не глазами античного мира и
даже не глазами государственного мужа-христианина. Общество
пережило смерть церквей и государств. Поскольку Церковь и христианские
государства так часто говорили о Боге всуе, то общество чересчур
поспешно делает вывод, что Бог также умер, и проводит время в свое
удовольствие. Но подлинным и неоспоримым процессом здесь является то, что
в глазах общества государства и церкви, по меньшей мере, на короткое
время более не несли в себе божественную жизнь. Церковь и государства
на мгновение оказываются не знающими Бога. В это мгновение путь
спасения души проходит вне их и мимо них. Такое мгновение
переживает в современном обществе каждый честный человек. Он может страдать
от этого, как в Страстную пятницу. Барон фон Хюгель (19) выразил это
так: ныне Христос распят на кресте между миром и Церковью. Или
человек может радоваться этому, как поступают большевики и нацисты.
Главное в том, что каждый человек в обществе, который стремится
почувствовать дыхание Бога, должен на мгновение оставить в стороне
Церковь и государство, если он сам не хочет умереть. Впрочем, Церковь
может воскреснуть. Так дети на некоторое время должны оставить своих
родителей для того, чтобы самим с борьбой вступить в жизнь и затем
неожиданно обнаружить, что их родители являются, возможно, более
живыми, более моложавыми, более здоровыми, более цельными, чем
они сами в своем юношеском ослеплении. То же самое может
происходить с обществом в его отношении к Церкви. Пробным камнем для
Церкви является выяснение того, в состоянии ли она доставить эти
неприятности и породить такое безумие. Но Церковь должна знать, что
общество порождено из ее лона, что не государство, а народ, молодежь,
рабочие, раса стучат в двери Церкви, чтобы выяснить, жива ли она еще.
Страх перед государством — это способ лечения, который хуже любви к
обществу. Церковь должна сделать возможным учение об обществе,
основанное на истории спасения, учение, которое ни пользуется языком
второго столетия, ни наставляет нас в понятиях двенадцатого века, а гово-
405
рит от избытка сердца. Именно в этом откроется истина, что Святой Дух
снова овладевает нами от поколения к поколению. И с нами также
происходит непорочное зачатие.
6. Датированное мышление
Библейский язык — это христианский язык. Теологическое мышление
и его выражения являются нехристианскими. Какой бы христианской
ни была душа отдельно взятого теолога, его мысли делаются
нехристианскими, едва они становятся абстрактными. То, что не возникает из
определенного собственного опыта, а также из определенного
исторического опыта Церкви, с позиций идеализма, платонизма, философии
и систематики может быть очень хорошим, но христианским это быть
не может. Поэтому в данной работе мы сами оказались вынужденными
говорить с позиции истории спасения. Ибо у меня нет никакой системы,
за исключением того, что произошло со мной и со всем миром и что все
еще происходит (20). Иисус знал о духе и его искушениях. Он мог бы
писать книги лучше, чем философы. Не будем упорно всматриваться
только в его кровавую жертву на кресте. Современным людям это
иногда отнюдь не импонирует. Они не подозревают, что он умер ради
обретения Бога человеком и именно потому не должен был писать книг.
Давайте скажем современному человеку, что Иисус принес даже еще
большую жертву, отказавшись от абстрактного мышления. Он
проповедовал не так, как книжники. Он ограничивался тем, чтобы говорить с
людьми, которых он встретил и которые искали его. Он не стремился
привести в систему представления о Благом, Истинном, Прекрасном
или об идеалах. Так он пожертвовал богатством своего духа, чтобы
вместо этого быть вправе сказать: «Сегодня на ваших глазах исполнилось
Писание». Лишь после того, как Иисус превозмог искушение духа, он
выступил как Мессия. После него к его "мессианскому царству могут
принадлежать только те элементы жизни, которые оставили позади
себя искушения идеализма.
Мышление в качестве науки, в качестве системы, в качестве
упорядоченного научного материала работает вхолостую, если оно не является
следствием искушения духа. Прежде чем дух проявит себя, мысли
должны временами иссякать, а дар речи должен порой нам отказывать. Ибо
Бог может открыть себя лишь тому, кому он отказал в своей милости.
Только та наука, которая дошла до конца своего собственного знания,
может воскреснуть. Общим местом является то, что грешник, для того
чтобы вновь обрести путь к Богу, должен признать себя пропащим. Но
все-таки в этом общем месте заключена глубочайшая тайна духовной
жизни. Ибо теперь у грешника есть дата его обращения, когда у него
словно пелена с глаз упала. Если бы у него не было этой даты, он не мог
бы отличить света от тьмы. Теперь же благодаря этой дате у него есть
предыстория и последующая история. И таким образом человек
благодаря этому решению, приходящемуся на середину его жизненного пути,
оказывается в состоянии отстаивать свои убеждения и знать что-то
действительное. Но то, что имеет силу по отношению к душе отдельного че-
406
ловека, справедливо и по отношению к науке в целом. Наука, не
сознающаяся в своем отчаянии, не может отличить света от тьмы. Так ныне
обстоит дело с естественными или светскими науками о человеке.
Когда в ходе мировой войны и мировой революции отделились и
обособились друг от друга, как два разных элемента, природный мир и мирное
существование человеческого рода, была погребена мечта науки о единой
природе человека. Ибо несмотря на единство химии, физики, геологии,
астрономии, анатомии, зоологии, ботаники и техники на всей Земле, т.е.
несмотря на единство наших мыслей о мире, единство людей и народов
разрушилось. Дата, соответствующая последним двум десятилетиям, для
всех прежних учений об обществе и для социологии является датой
наступления отчаяния. Эта дата с неопровержимой ясностью указывает на
два обстоятельства: ни Церковь, ни естествознание не ведут к миру
между народами. Воля Божья не была с ними — ни с проповедниками,
вещавшими в чистом поле, ни с химиками, создававшими отравляющие
газы. Мы стоим на краю могилы. Правда, теперь я должен признать
одно: для того, кто не видит этой могилы, все, что будет написано далее,
является глупостью или злым умыслом. Датированное мышление,
христианское мышление всегда понятно только для тех, у кого срывается
голос, у кого перехватывает дыхание, у кого пресекаются мысли.
Автоматическое последовательное размышление, присущее рационалистам,
не знает ужаса, катастроф, переворота в мышлении перед лицом
действительности. Человек продолжает мыслить так, словно ничего не
произошло. Но Бог повелевает нам молчать, когда Он говорит. Когда Он
судит народы, Он кладет конец существованию целых библиотек. Он
изменяет наши мысли, когда мы слушаем Его. Источник новой истины
открывается лишь для науки, стоящей у могилы своих надежд, своих идей,
своих мечтаний о победе. Это нельзя отождествлять с поспешным
движением к новым проблемам из-за изменения внешней ситуации. Речь
идет о внутренней миссии метода. Именно метод идеализма должна была
осудить и разрушить мировая война — но все еще не сделала этого.
Христианская вера пришла в мир в противовес догматизму ученых
систем. Это был первый шаг в сторону опытной науки. Три члена
Символа Веры проложили путь биографии и истории, теории познания и
естествознанию. Августин даровал душе свободу исследовать весь мир в
качестве творения Божьего. В наши дни эта вера встречается даже у
грешных исследователей. Идеализм и его близнец, материализм, до
Ницше господствовали в схоластическом и академическом мире. Конечно,
это было чем-то провиденциальным. Таким образом были снова
оживлены Платон и Аристотель, и, тем самым, путь к Христу оставался для
рассудка открытым. Но ныне идеалистический интеллект столь
бессилен, что его надлежит похоронить. И это так же справедливо как раз по
отношению к интеллекту теологов. Ныне сама теология — притом как
из-за ее понятий и идей, так и из-за практикуемой ею исторической и
филологической критики, — является убежищем неверия. Она
воплощает в себе атеистический метод науки. Ибо она говорит о Боге в третьем
грамматическом лице — «Он», но это возможно лишь тогда, когда
человек мыслит не в присутствии Бога. Теология имеет дело с Богом «in
absentia Dei» (21), т.е. она сама пребывает в состоянии греха. Напротив,
407
спасенная душа и все спасенные человеческие сообщества знают о
власти Бога из своего собственного опыта. Поэтому они не нуждаются в
том, чтобы вспоминать платоновские идеи и рассуждать о них, даже если
бы эти идеи были самыми прекрасными, даже если бы это была идея
самого Бога. Всякая душа и любое сообщество душ, которые что-то
вместе познали на опыте, могут просто рассказать о том, какое великое
деяние совершил с ними Бог. И поскольку они все вместе уже
переправились через поток жизни, они больше не являются субъектами,
говорящими о чуждых им объектах. Душа, поскольку она узнала о Боге, — это тра-
ект, а поскольку, руководствуясь заповедью Бога, она позволяет увлечь
себя в будущее — это преект. Разум и послушание — это не свойства
субъектов и объектов, а свойства души, благодарящей Бога за то, что он
сделал с ней, и внемлющей Богу, чтобы знать, что с ней должно
произойти. Такие сообщества, народы, семьи, группы узнали на
собственном опыте, что они являются преходящими образами и подобиями Бога.
Поэтому они должны возражать против того, чтобы подвергаться анализу
при помощи лишенных отпечатка времени понятий, рожденных
неверием теологии. В наши дни теологии наряду со всеми прочими науками,
оперирующими «in absentia Dei», должны быть указаны ее границы.
Это можно выразить иначе. Кант и Фома Аквинский, католические и
евангелические схоласты, аристотелики и платоники — все они
оказались побежденными мировой войной. Поэтому сегодня и католики, и
протестанты так сильно рассчитывают на воссоединение с восточной
Церковью. Ибо «в душе эти православные все еще говорят на не
изведавшем упадка языке древней Церкви» (Ханс Эренберг) (22). Рим, Виттен-
берг и Женева душевно истощены, но, тем не менее, в духовном
отношении больше не имеют никакого преимущества перед восточной
Церковью. Ибо хотя западные Церкви и превосходят восточную Церковь в
учении о государстве, мы только теперь можем приступить к разработке
основанного на истории спасения учения об обществе. Западная теология
по своим методам еще не сопряжена с историей спасения, а является
дохристианской. Она не является датированной и не представляет собой
беседу, она не конкретна и не преобразует Словом, как речь Иисуса.
Поэтому ныне идеалистическая и критическая теология иссякает.
Внезапное исчезновение жизненной силы теологии нашло выражение в
личности одного великого теолога. Отъезд Альберта Швейцера (23) на берега
Конго — это великий протест христианина в конце Нового времени.
Швейцер открыл, что теология от Гердера до Вреде двигалась по кругу.
Понятия теологии больше не помогали христианину в Швейцере, а лишь
сбивали его с толку. У него самого греческий разум, и он говорит о
«мистике» апостола Павла. Именно поэтому Швейцер отказался от самого
себя, т.е. от этого греческого ума.
Сами теологи рассматривают свой предмет именно как некий
предмет, а в предмет никто не может верить. Нужно еще придумать того,
кто способен почитать объект своего мышления. Мы не признаем
будущего за тем, во что мы не верим. Так что теология не предоставляет
вере никакого будущего. Известная энциклопедия «Религия в истории
и современности» увековечила это невероятное воздействие теологии в
самом своем названии: у этой «религии в истории и современности»,
408
несомненно, нет будущего. Но дух должен усиливать веру. Дух, не
вызывающий к жизни будущее, — это не дух, а интеллект. Социология
апостола Павла была не «мистикой», не была она и тем, что ныне
называется «теологией». Не была она и человеческим здравым смыслом.
Апостол Павел говорит, скорее, как обретший спасительное исцеление
человеческий рассудок. Кто хотел бы говорить иначе? Апостол Павел
говорит так, как не может думать никакой Альберт Швейцер. Ибо
апостол Павел говорит, а теологи научно мыслят. Павел знал, что говорить
может лишь тот, кто следует призыву. Но научная теология ни у
католиков, ни у протестантов ныне не вызывает к жизни будущее. Она от-
чуждена от веры. Она рассуждает о вере. Она погребает — в достойной
форме — веру прошлого.
Мышление, основанное на истории спасения, в современной
ситуации в мире черпает свой смысл из двух источников: 1. Из даты этой
ситуации; 2. Из ее связи со степенью революционизированности общества.
1. Дата нашего мышления является постхристианской. В мире,
побуждающем нас мыслить, мы уже застаем Церковь и все влияния
Церкви на мир. Коль скоро мы соглашаемся с этой датой и считаем Церковь
столь же реальной, как дерево и куст, мы обретаем способность
действовать плодотворно. Обычная социология скрывает свою дату. Она
воображает, будто ее мышление вершит суд над временем и само по себе вне-
временно. Из-за отсутствия датировок эта разновидность социологии
лишена корней. Но общество оказывается в состоянии укорениться во
времени в ясно обозначенный момент истории только в качестве
продукта Церкви и государства. Лишь как дщерь Иисуса новая мудрость может
стать осуществлением той Софии, которую столь ревностно почитали
греки.
2. Учение о сообществе народов и людей ориентировано на револю-
ционизированность общества. Состязание с этим псевдомессианством и
задает цель нашему учению. Уэсли вынужден был со всей страстью
выступить против энтузиастов, поскольку они хотели двигаться к цели, не
имея правильных средств. Подобным же образом дело обстоит с
современным мышлением. Социология, которая идет на службу революции,
утрачивает свой дух. Она становится чистой революцией ради нее самой.
Либеральная социология, которая хотела бы скрыть свою связь с
революцией, призвана оставаться беспорядочной и бесцельной. Бесцельность
столь же бессмысленна, как и отсутствие корней. Учение о сообществах
может быть духовной силой только в случае, если оно развертывается в
четком промежутке между часом своего рождения и своей целью, если
оно соотнесено с историей спасения. Час рождения пробил во время
мировой войны с победой сил техники и революционизацией
человеческого рода. Цель стала ясна, когда началась стремительная погоня
революционизированного человечества за конечной целью. Дух учит нас
терпеливо выполнять предначертания времени.
Учение об устройстве человеческих сообществ не может быть
догматическим и лишенным предпосылок. Поэтому оно не является ни
схоластическим, ни академическим. Вне своего исторического дня оно не
имеет смысла. И поскольку это учение появляется в определенный
исторический день, в который христианство уже сообщило человеческим
409
объединениям беспокойное чаяние «будущего» в качестве движущей
силы истории, оно отнюдь не располагает неким «врожденным», загодя
признанным современниками авторитетом. Понятия говорят о
предметах. Но никакой человек не может говорить о людях при помощи
понятий. Напротив, человек говорит с другими людьми. Таким образом,
история спасения попадает в особое смиренное положение. В ней
отдельный мыслитель говорит не от имени школы, науки или Церкви. В ней
мы все, каждый от своего имени, только и можем начать говорить с
другими людьми с верой в то, что в конце и мы сами поймем себя, и другие
люди поймут нас во имя Божье. Крупица веры, которую должен
проявить дух будущего для того, чтобы отличаться от интеллекта, — это
скромная вера, что лишь ответ того, кто внемлет моему слову, придает
этому моему слову завершенность — так же, как моя собственная мысль
является лишь ответом на смертельную опасность, нависшую над душой.
Обучение и наука — это не произведения искусства; они вообще не
имеют ничего общего с действием законов и не являются божественными
заповедями. Они представляют собой обращенные к нам предложения —
вверить мне тебя, а меня — тебе.
Наука слишком долго соблазняла ученых на то, чтобы говорить от
имени власти, призванной быть чем-то большим, нежели отдельно
взятый человек. Академические ученые пытались познать себя в идеалах.
Для мышления, не несущего на себе отпечатка времени, общность
идеалов была единственным связующим звеном. Мы, приходящие из
времени и уходящие во время, не нуждаемся в том, чтобы познавать себя в
идеалах. Мы познаем себя в нашей силе и в нашей слабости, в нашем
отчаянии и в нашей вере. Вера освобождает нам горло, неверие
сдавливает его. Поэтому всякая вера является ритмичной. Квантовая теория
справедлива и по отношению к вере. Нет человека, который бы веровал
всегда. Мы нуждаемся друг в друге, поскольку каждый из нас
временами не верит. Вера, которая существовала бы непрерывно, не была бы
живой верой. Ибо все живое должно уснуть для того, чтобы снова
проснуться. Иными словами, мы познаем себя в днях рождения и днях
смерти нашего мышления. Мы можем отказаться от того, чтобы подсластить
чудовищную действительность ада верой в доброту человека или
прогресс. Гуманисту оказались не по плечу те темы, к которым мы должны
обратиться, не под силу они и теологу. Эти темы — преследование евреев
и революция, кровная месть и кровосмешение, человеческие
жертвоприношения, зависть, страх, отчаяние, самоубийство. Сошествие Христа в ад
придает нам мужество открыть ад человеческих страстей. Мы должны
смело вглядеться в демонов, в первобытные инстинкты в нас. Ибо
Церковь, государство и экономика в наши дни подвержены этим
первобытным инстинктам. Наша дата в качестве постхристианской дает нам для
этого исполненное отваги смирение; даже в буйстве демонов мы можем
воздать почести стихиям творения, ибо мы знаем, что они уже давно
находятся на пути к своему воссоединению и к миру. Ведь Церковь
открыла небо; естественное человечество второго тысячелетия прошло
через чистилище, и та же самая душа, которая сопровождала святых на
небо, а Гёте, Шекспира и Данте провела через их чистилища, позволяет
нам сегодня сойти в ад. Иисус побывал там до нас. Кроме
наполненного
го отвагой смирения, которым мы обязаны своим последователям, мы
нуждаемся в молчаливом страхе Божьем. И он приходит к нам от
нашего ясного целеполагания. Находясь среди мчащихся к своему концу, мы
должны примирить упорство и ожидание. Ибо мы знаем, что наши
действенные слова порождены не нами. Этих слов требуют от нас, и мы
произносим их — каждое слово в свое время.
Будучи ограничены датой и целью, мы знаем, что нам не нужно
«создавать» ни начало, ни конец. Начало положил Иисус из Назарета. А
конец принесет Святой Дух. Но середина вверена нашей любви. Мы
видим, что наши ближние, наши дети, наша Церковь по вине идеалистов
от теологии и физики обмануты в своих чаяниях на спасение,
превращающее их в образ и подобие Божье. И тогда мы снаряжаемся на борьбу с
теологией.
411
Временной спектр
Sometimes the thinker's universe will be
the whole universe of thought; sometimes
only the objective universe of external
reality; sometimes only a part of one or
the other.
August de Morgan. Syllabus of a prepared
system of Logic. London, 1860. P. 37 (1).
Теперь я должен сдержать свое слово и продолжить идеи Гогенгейма.
Выше, где речь шла о его книге «Paramirum», я обещал сделать это (2).
Но мы противопоставим его полный универсум обедненному
универсуму специальных наук не потому, что я это обещал, а по объективной
необходимости. Рихард Кох (3) писал в 1930 г. в «Acta Paracelsica»:
«Возможно, впоследствии мы обнаружим у Гогенгейма еще больше
истинного, чем мы находим в наши дни». Этим словам посвящена моя другая
работа. Там интерпретируется открытие чуда пяти сфер, сделанное в
книге «Paramirum». К этому открытию до сих пор относятся так, словно
оно никогда не было совершено. Даже последний издатель, Курт Лэйдек-
кер (Laydecker, Балтимор, США, 1949), не отваживается признать его (4).
Мы считаем это истинным открытием. И оно должно здесь доказать нам
свою истинность. Оно является окончательным ответом нашего
летоисчисления на античное учение о гармонии сфер. Поэтому я здесь разовью
его до того момента, где оно окажется в состоянии заменить нам собой
это учение.
В этом существует потребность. Так же, как Ветхий завет исполняется
в Новом завете, а Демокрит — в атомной физике, великолепие античных
учений заключается в том, что они полны обетовании. Поэтому мы
всегда должны принимать замыслы древних всерьез и все же никогда не
можем понимать их буквально! Диалог Платона «Тимей», где
содержится учение о гармонии сфер, многие понимают буквально, но кто
относится к нему всерьез? Но в этом случае никто даже не догадывается о
серьезности замысла отобразить универсум универсумов, объемлющий
собою их все, — замысел, на сложность которого указывает наш эпиграф.
Верно и то, что исполнение обетования со времен яслей в Вифлееме
крайне удивляет современников. Так случилось и с Гогенгеймом, когда
он осуществил Пифагорово обетование. Современники просто ничего не
заметили. Как говорили древние и как учил Гогенгейм, пять сфер объем-
лют нас и наполняют нас своим звучанием. Для древних это были
сферы влияния пяти планет — Марса, Меркурия, Юпитера, Венеры,
Сатурна. Напротив, у Парацельса это, прежде всего, созвездия, затем —
растительность, затем — область проявления воли, присущей животным,
далее — ens spirituale (5) и, «в отличие от язычников», ens Dei (6). Эти сфе-
412
ры должны действовать на нас одновременно. Тогда все вместе они
представляют полноту времен. Я вправе предварительно охарактеризовать это
учение Гогенгейма как своего рода спектр времен. Ибо молодой Пара-
цельс, говоря, что любая болезнь излечивается пятью способами,
предугадывал существование спектра, состоящего из пяти диапазонов волн, в
которых нас увлекает и наполняет собою «время». Поскольку имеется
пять способов лечения, должно быть и пять причин болезни. Каждая из
упомянутых сфер имеет свою музыку, свое мусическое выражение, свой
язык — как мы могли бы добавить, высказываясь в духе Гогенгейма. Мы
говорим на всех пяти языках, а именно языком чисел в математике —
применительно ко всему неживому; языком «сигнатур», т.е.
обозначений, в качестве формального языка, «физиогномики», используемой по
отношению к органическим образованиям; мы употребляем синтаксис
понятий применительно к наделенному волей уму, т.е. в сфере логики;
мы облекаемся в свадебное платье искусства, отображая жизнь
человеческих групп, и произносим имена Бога, наших идолов и преходящих
духов времени, говоря о наступлении периодов благополучия или бедствий
в истории.
Зудгоф (7) указал, что этому первому творению Парацельса никогда
не воздавали должного. Но подобно тому как Гёте, приехав в 1776 г. в
Веймар, продвинулся вперед так далеко, как ему только было суждено,
подобно тому как Леонардо да Винчи совершил великое деяние, написав
первый чисто светский пейзаж за десятилетия до создания «Тайной
вечери», двадцативосьмилетний Парацельс в книге «Paramirum» пошел
настолько далеко, как никогда более. Тот, кто будет следовать тексту
«Paramirum», не послушается гомеопатов, розенкрейцеров, национал-
социалистов, гундольфов (8), неоплатоников, которые советуют нам
считать ту или иную более позднюю уступку измученного человека духу
времени подлинной позицией самого Гогенгейма. Гороскопы, составленные
Гогенгеймом по случаю, так же мало характеризуют его самого, как
сонеты характеризуют Гёте.
Гогенгейм уже в молодости решающим образом опередил следующие
четыре столетия естественнонаучной механики.
Сегодня я принимаю учение, изложенное в книге «Paramirum». Но
я не собираюсь заниматься литературным доказательством того, что
Парацельс учил так-то и так-то. Для меня важен совершенный
Гогенгеймом скачок, который позволил ему подняться над академическим
мышлением и который мы должны, наконец, сделать вслед за ним,
даже если мы представляем более высокую ступень образования —
высшую школу. Этот скачок был необходим уже тогда. Современники
Гогенгейма должны были освободиться от гнета псевдоаристотелизма.
Ибо он приводил к сжиганию ведьм на кострах. Схоластика
предоставила богословам право управлять миром, в котором они, однако,
совершенно ничего не понимали. В наше время академия предоставляет
естественным наукам права, которыми они на самом деле не обладают.
Псевдоплатоники от естествознания, предающиеся психоанализу,
становятся столь же по-звериному жестоки, как некогда были одержимы
звериной злобой псевдоаристотелики, сжигавшие ведьм на кострах.
Вместо костра — сумасшедший дом! Следует недвусмысленно сказать,
413
что бедный Аристотель и злосчастный Платон только дали свои имена
борьбе наших школ. Так что мир их праху.
Ведь греки все же были теологами. «Государство» Платона было его
«Церковью», а его «physis» (9) была райским садом. Но Псевдоплатон,
выступающий под именем Академии наук, считает Церковь Платона
Государством, а его «physis» — природой, материей, накопившейся в
результате разрушения жизни.
В борьбе против ложного платонизма, когда впоследствии я буду
стремиться по-новому истолковать идею гармонии сфер как учение о
степенях жизненности, я вполне могу ссылаться на Платона.
Гармония сфер, о которой догадывались Пифагор и Филолай (10),
нынешние платоники считают мифом, который они произвольно
исключают из своей системы. Я же хочу воздать должное этому учению,
возвести его до уровня упорядоченной структуры знания и той силы,
которой подчинено наше знание. Таким образом, в качестве
душеприказчика молодого Гогенгейма, написавшего «Paramirum», я под свою
ответственность разработаю учение о диссонансах и гармонии сфер. Я не
сообщаю о том, что сказали другие, поскольку это сказали другие. Пусть
читатель признает правильность этого несмотря на то, что это говорю я.
Удивительное суждение, из-за которого это учение со времен Пара-
цельса ждет своего завершения, звучит следующим образом: «У каждой
болезни не одна причина, а пять». Пять больных с одними и теми же
симптомами должны проходить лечение в соответствии с пятью
различными сферами.
Таким образом, одно отдельно взятое явление в нашем мире ничего
не говорит о своем предназначении. Ибо из пяти сфер или оболочек в
нас проникают те или иные влияния и делают нас больными или
здоровыми. Вопреки наивному воззрению, будто у одной причины всегда
может быть только одно следствие, Парацельс высказывает здесь тайну
жизни: «Наша жизнь существует только потому и только до тех пор, пока
мы пребываем в пяти сферах». Люди, связанные только с одной сферой
или некоторыми из них, погибают. Мир физики воспринимает нас как
мертвые тела: ни у Бога, ни у государя, ни у наших жен, ни у наших
сотрудников больше нет никаких притязаний на эти тела. Эти тела
безжизненны. Физика имеет дело с конечными результатами жизни, с трупами,
с продуктами распада творения, а не с его началом. Таким образом,
физика — это не та наука, которая работает с первоначалами. Именно
потому, что она оперирует атомами и элементами, она оперирует, так
сказать, конечными продуктами мира, как раз тем, что в конце концов
остается от тварей по завершении их жизни. Согласно Платону и Гоген-
гейму, сегодняшняя физика как раз и называлась бы «метафизикой», т.е.
знанием о том, что можно извлечь из изучения отбросов после того, как
«physis» перестала быть «physis», т.е. растущей жизнью. Ибо способный
к росту сад и выражает приблизительный смысл греческого слова
«physis». И Гогенгейм также видит полноту жизни, когда перед ним
сияет то, что он именует светом природы, и когда он разгадывает смысл
четырех сфер, известных уже язычникам.
Платон учил о гармонии сфер совершенно в том же смысле, что и
Гогенгейм; а именно, он полагал, что всякий раз, когда одна сфера боль-
414
ше не участвует в совместном действии, человек нисходит на одну
ступень ниже в область более мертвого и менее ценного, в область более
безразличного. Но источник нашей жизненной силы находится в Боге,
в эфире, и мы спускаемся из эфира в огонь, из огня — в воздух, из
воздуха — в воду, из воды — в землю. Или он использует сравнение с пятью
планетами — Марсом, Меркурием, Юпитером, Венерой, Сатурном, и все
эти пять планет в их обращении оказывают существенное влияние. Так
что необходимо воздать должное им всем одновременно для того, чтобы
совершать колебания в полной гармонии с ними.
Подобно тому как Гогенгейм, имея дело с болезнями, чутко
прислушивается к великой тайне, согласно которой целительные силы,
необходимые для лечения одной и той же болезни, притекают из пяти
различных областей, так и Платон прислушивается к дисгармонии души, и для
него недостаток душевной гармонии становится поводом обратиться к
проявлениям душевной гармонии мироздания. «Зачем, — восклицает
он, — нам непритязательные звуки легкой музыки? Моя душа жаждет
гармонии вселенной, и только ради нее нам следовало бы беспокоить
Муз». Итак, целительная сила врача становится у Парацельса залогом
того, что гармония сфер обретет действенность; Платон же обращается
к ритмическому искусству воспроизведения, каким обладают Музы.
Некий смелый последователь Платона попытался дать Музам их имя
на основании того, что именно благодаря им мы навечно связаны со
сферами. Но он сам перечеркнул беспримерную языковую смелость
своей формулировки, согласно которой Музы должны были управлять
звучанием сфер в винительном падеже. И все же я хочу здесь попробовать
спасти эту великолепную попытку итальянского гения как попытку
наиболее ясно изложить Символ Веры Платона. Уго Фосколо (11) называет
Муз «Eternatrici le armonie divine, Eternatrici le armonie secrète»: «Te, кто
увековечивает божественное звучание сфер»! («Те, кто увековечивает
тайно властвующие гармонии богов»). Разве суть Муз и в самом деле не
состоит именно в этом? (12). Таким образом, смысл целительной силы и
искусства состоит в том, чтобы спасти богатую действительность пяти
сфер жизни от скатывания к смертельной ограниченности физического
мира.
Этот глубокий смысл представляется бессмыслицей всей науке
начиная с 1500 по 1900 г. Эта наука считает простое более истинным, чем —
как она это называет — «составное», сложное. Указанный аргумент
последовательно доводится до крайнего вывода: Бог, чтобы быть истинным,
должен быть простым. Мне никогда не удавалось увидеть в этом
аргументе ничего другого, кроме чего-то весьма смешного. Это — типичная
логика ученика пятого класса. Пусть в классной комнате простое
празднует свой триумф: ведь его проще изучить. Но разделение
действительности по степеням согласно принципу большей или меньшей
доступности для изучения — идиотский критерий. Именно этот способ
разгадывания мировых загадок, опирающийся на логику пятиклассника,
господствовал в период с 1500 по 1900 г. Так было опровергнуто триединство
Бога. Ибо фундаментом дворца знания стала физика, а первым этажом
— химия. Над всем этим надстраивались биология, психология,
социология и — в лучшем случае, как украшение, — теология. Та самая наука
415
о трупах, изучающая все задним числом, наука «метафизическая», т.е.
берущая начало в области, находящейся позади сферы роста «physis»,
современными людьми воспринимается как основа познания жизни,
основа, к которой надлежит свести все остальные науки.
Родившееся объясняется посредством умершего, одухотворенное —
посредством бездуховного, любимое — посредством нелюбимого. И в
течение четырех столетий никто не смеялся. Это силовое поле трупов,
отвергающее гармонию и ритм, целительную силу и искусства, с
убийственной серьезностью рассматривается как источник происхождения
нас самих.
Поскольку возникает сомнение в том, что жизнь когда-либо могла
быть создана этими самыми трупами вместо одухотворенного,
любящего, бодрствующего и могущественного творца, продолжительность
процесса развития увеличивают на несколько миллионов лет, т.е.
приписывают пару нулей. У Джона Дьюи (13), американского эволюциониста,
Бог буквально и означает «миллионы лет», сотворившие наш дух. Ведь
необузданность геологии и астрономии, оперирующих тысячами
миллионов лет, хорошо известна. Тот, кто возьмет на себя труд проверить
логику этой хронологии, исчисляющей все триллионами лет, оцепенеет от
необоснованности всех этих цифр. Их нам подсказывает не что иное, как
нечистая совесть. Я не знаю, отчего стремление вытеснить Слово Божье
процессом эволюции продолжительностью в 900 триллионов лет вместо
15 или 20 тысяч представляется внушающим более спокойствия.
Самое интересное в этих эволюционистских мифах дарвинистов —
это их вера в могущество времени. Ведь эти мифы о триллионах лет как
раз и пытаются убедить в том, что по прошествии сотен миллионов лет
в конце концов обнаружится некая гармония живых существ.
Следует обратить внимание, что эти науки о смерти умеют только
продлевать и сгущать времена. Возраст мироздания, говорят они, равен
10п лет. Очевидно, это прекрасное число. Но гармония сфер и ритм
бытия живых существ — это отнюдь не пример на умножение. Ритм был
бы уже ближе к жизни, поскольку он все же придает таким величинам,
как 10, 100, 85, определенное своеобразие, вследствие которого они
обозначают в домостроительстве спасения нечто особенное! Если два
сердца бьются в такте в три четверти, то это, конечно, менее
грандиозно, чем сто триллионов лет в качестве заменителя Бога. Но это
намного более важно. Данный факт указывает именно на тайную связь
между двумя сердцами и тактом в три четверти, отбиваемым четырьмя
ногами. Неужели три вместо четырех в этих четвертях совершило чудо,
сделав из четырех два, из двух одно — из четырех ног одно сердце и
одну душу? Таким образом, разве гармония сфер стремится к развитию,
а не к преобразованию? Возможно, врачебное искусство Гогенгейма
исцеляет именно потому, что всякая страждущая низшая сфера — а
этих сфер множество — каждый раз заново соединяется с единственной
целительной высшей сферой, которая задает число всему остальному.
Не потому ли «Eternatrici le armonie divine» не делают нас людьми,
имеющими в своем распоряжении миллионы лет, что Музы
прикосновением своей волшебной палочки могут запечатлеть и увековечить в общей
для всех пропорции золотого сечения те числовые отношения (напри-
416
мер, сердце и ноги), которые существуют в каждой сфере? Таким
образом, не является ли гармония сфер прямо-таки противоположностью
эволюции? Сторонники «развития» рекомендуют ждать — просто
ждать, пока пройдет время. Через пятьсот лет, после того как мы все
оказались отравлены газами, подвергнуты бомбежкам, обложены
налогами, прошли через психометрические процедуры, — через пятьсот лет
развитие явило нам себя без прикрас, совлекло покровы и с нас самих,
и со всего вокруг. Пусть это послужит вам утешением! У меня есть друг;
это великолепный джентльмен, подданный «императорской и
королевской монархии» (14), специалист по химии витаминов, чемпион по
шахматам, коневод, альпинист, во время первой мировой войны
проведший шесть лет в Сибири в качестве военнопленного офицера, в 1945
г. убежавший от русских из Будапешта, затем на многие годы
интернированный американцами. Теперь, имея за плечами шестьдесят лет, он
служит на кухне поваренком, раскрывая устрицы, его единственная
дочь не шлет ему никаких писем из Пешта, а другие его
немногочисленные родственники — в Англии. Но когда он приходит ко мне играть
в шахматы, он всегда придерживается точки зрения развития. Как бы
это ни было ужасно, считает он, в известном смысле это все же —
развитие, и если бы только мы это сознавали, нам совсем не было бы
больно. Таким образом, и этот человек нуждается в гармонии, но в такой,
какую никто никогда не услышит или не воспримет. Она
распространяется на миллионы лет, на широко простирающийся разветвленный
поток времени, который механически соединяет мертвое с мертвым,
кванты с квантами, километры времени с километрами времени. Ибо
этот стоически ведущий себя джентльмен, как и все эволюционисты, с
помощью рулетки землемера проецирует наш вопрос о смысле жизни
на неизмеримые пространственно-временные области мироздания. Для
них эволюция — это сапоги-скороходы, помогающие быстрее
отсчитывать милю за милей на пути к смерти.
Настоятельная потребность проецировать, толкающая этих ищущих
утешения людей в мертвое мировое пространство, открывается нам как
принуждение. Тот, кто не внемлет гармонии сфер в ее пяти измерениях,
поскольку для него несчастье делается непостижимым, попадает под
власть принуждения, заставляющего геометрически проецировать
вожделенную гармонию на одномерную линию эволюции. Но поскольку в
этом его якобы свободном познании ясно просматривается принуждение
к оптимизму, а именно простое сведение всей полноты и многообразия
к измерениям одной пространственно-временной линии, то нам, коль
скоро мы поддадимся этому оптимизму, следовало бы высмеять самих
себя. Я предпочитаю признаться самому себе, что мы вынуждены —
правда, не проецировать, а постигать смысл несчастья. Мы должны
исцелять, а не развивать. Лучше признать неизбежность удушья, чем
вдыхать моноксиды, содержащиеся в выхлопных газах автомобиля.
«Развитие» и миллионы лет, о которых говорят сторонники теории
эволюции, — это созданные нами самими духи-мучители. Выхлопные газы
автомобиля вместо кислорода мало пригодны для легких; точно так же и
сотворенное неистовством нашего мозга представление об «эволюции»
не может удовлетворить нашего стремления доискаться до сути. Геомет-
МЗак. 3524
417
рическое мышление удобно — и только; наша голова всецело владеет им.
Но оно ни от чего не исцеляет. Оно только проецирует. Целительные
силы находятся не в голове, а в действительном мире — подобно тому,
как дышащий человек должен выбежать из загазованного гаража в лес,
чтобы выздороветь благодаря озону, а в лесу есть небо, атмосфера,
земля. Там есть деревья с их кронами, стволами, ветвями и корнями. Там
налицо не два, а пять измерений! Туда и увлек нас Гогенгейм. Уже
Платон говорит, что нашими «корнями» являются не наши ноги, а
клеточки нашего мозга. Но тот, кто всерьез отнесется хотя бы к одному этому,
созданному Платоном, образу корней, сразу выйдет за пределы
концепций всех идеалистов и платоников! Мозг в качестве корня. Какое
освобождение это несет! Ибо в мире растений корень живет не там, где
цветы, листья, сердцевина ствола, плоды или крона. Даже растение уже
нуждается в четырех измерениях! Так серьезное сопоставление ведет к
следующему: корень и мозг. И у того, и у другого мы замечаем одну и ту же
«неброскость», темноту и «отставание». Как и корень, наша голова — это
наш остаток в земле. Мы терпим его ради расцвета телесного и ради
плодов души. Последовательные платоники не вправе были бы обожествлять
голову, поскольку она является только корнем. Но Гогенгейм и мы сами
перестаем заниматься простыми сопоставлениями. Тому, кому уже
открылся смысл сравнения, оно помогает приобщить к истине новичков.
Но читающий эту работу отнюдь не является новичком или чем-то
наподобие чистого листа бумаги. Он настроен критически. И его — что
совершенно правильно — не убеждает никакое простое сравнение. Мы
должны назвать ему подлинное имя нашей вселенной, не имеющей себе
равных среди вселенных.
Мы отвергаем ложные чары километров времени. Настоящая
волшебная палочка смысла, Муз, целительной силы превращает простую
протяженность в священное мгновение нужды, в поворот судьбы, и это
происходит тогда, когда мы напрягаем слух и внимаем различным
ритмам, вибрации которых пронизывают rtac. Как это происходит? Когда
мы слышим? Когда мы признаем, что мертвы и должны стать еще
безжизненнее. И это не шутка. Читателю следует хотя бы на мгновение
вдуматься в это добровольное объявление о смерти, чтобы увидеть его
плодотворность. Любая более полная жизнь, которой ты хочешь жить,
требует от тебя признания, что менее полная жизнь является, собственно
говоря, мертвой.
Мой друг Рудольф Эренберг (15) уже давно настаивает на
использовании сравнительной степени «более мертвый», поскольку
необходимость этого обусловлена мышлением. Естественный человек, по его
мнению, является мертвым, более мертвым, самым мертвым (16). Воздадим
должное такой точке зрения. Отбросим пока образ гармонии сфер.
Подумаем просто о степенях нашей собственной жизненности. Тогда мы
обнаружим себя пребывающими в пяти степенях витальности, которые
за нас борются. Спящий человек является менее живым, чем
бодрствующий. Но все-таки он ничуть не менее «живущий». Ведь мы растем во
сне, а не во время бодрствования. Но спящий ребенок, работающий
каменщик или бдительный полицейский все же явно отличаются друг от
друга по степени жизненности. Спящая жизнь является более «мертвой»,
418
чем бодрствующая. Полицейский и каменщик принадлежат
бодрствующей жизни. А именно — они настороже. Труд и полицейская служба
требуют осторожности, осмотрительности, ясного целеполагания и
проницательности. А у спящего закрыты именно органы зрения.
Бодрствующему в процессе его труда ничто так не помогает, как его глаза. Таким
образом, спящий закрывает глаза, бодрствующий — открывает.
Бодрствующий хочет того, что он видит, и выбирает среди того, что видит. И все
же бодрствование — только одна из форм жизни. Ибо живой человек
дышит даже тогда, когда он спит. Только мертвый больше не дышит. Он
ничего не преодолевает. Он ничего не выделяет. Вместо этого он
разлагается и распадается. Итак, именно поэтому он совершенно мертв. У
него отсутствуют подъемы и спады ритма. Поэтому родник производит
на нас впечатление живого, хотя это всего лишь вода. Но он бурлит и
струится ритмично. Так образуется следующая последовательность:
Мертвое
Без ритма, без дыхания. Здесь имеют значение только километры
времени, только физика, только пространство-время.
Живое
Глаза не бодрствуют; не трудящееся, не проявляющее внимания, но
дышащее, размножающееся, растущее, осуществляющее обмен веществ.
Бодрствующее
Работающее, ставящее перед собою цель, внимательное,
проявляющее свои намерения.
Так нам открывается смысл трех сфер. Но тем самым градация того,
что является менее мертвым, еще не закончилась. Какие еще степени мы
переживаем? Слава Богу, мы работаем не всегда. Если я ленив, я сплю
часто, но все же не всегда. Ибо решающим фактом является только то,
что мне больше не хочется работать. Но, как ни смешно, целительные
средства из всех остальных сфер так же желательны! Я могу излечиться
от своего изнеможения, притворившись мертвым или улегшись спать.
Но этого можно добиться и выходом из области труда в мир острых
ощущений, наслаждения, Муз, возбуждения, развлечений, революции,
войны, богослужений, беседы и игры. Мы отдыхаем от труда с помощью
возбуждения так же хорошо, как и с помощью сна!
Мексиканский министр труда Бетета (Beteta) написал мне, что
революция привнесла в отупляющую, бессмысленную трудовую жизнь
мексиканцев подъем, разнообразие, возбуждение. Это является ее
подлинной заслугой. Таким образом, обрушивается ли революция на
бодрствующую жизнь как духовное переживание, как одухотворение? Или же
она — оргия? Прежде чем мы разрешим этот вопрос, мы должны
остеречься поспешных выводов. Вероятно, революция не является ступенью,
следующей непосредственно после ступени истины и воли. Это и в
самом деле так. Даже мексиканец занимался не только революцией. Он к
тому же влюблялся и вступал в брак, горевал и радовался. Итак, на
нашей шкале более мертвого любовь, по-видимому, стоит ближе к смерти,
чем распятие или революция, но не столь близко, как состояние
бодрствования целесообразно действующей рабочей пчелы. Трутень, который
в своем любовном танце ухаживает за пчелиной маткой, в этот момент
упоения находится, конечно же, как мы это называем, на вершине сво-
419
его существования. Ведь он определяет бытие вида и приносит в жертву
свою индивидуальность. Он полностью является видом. На своей свадьбе
и во всех любовных отношениях человек выступает не как индивид, а как
экземпляр вида. Это станет ясно, если мы противопоставим жениху
мужчину, посещающему бордель из соображений здоровья. Для этого
последнего половое сношение происходит планомерно в соответствии с неким
намерением. Этот человек, манипулирующий своим половым
влечением, совершает с силами бодрствования нечто такое, что им не подходит.
Он удовлетворяет свое влечение намеренно — так, словно он является
индивидом, и он действует столь внимательно, как будто речь идет о
некоей работе. Но любовь не может подчиняться намерению, она
непроизвольна. Она — не внимательна, а самозабвенна, она не поддается
разложению на кванты труда, а играючи «запутывает в своих сетях». Труд
вызывает утомление. Любовь неутомима. Таким образом, любовь — это
ступень, следующая за бодрствованием по удаленности от мертвого и
дальше отстоящая от смерти, чем ступень воли. Она превращает нас в
экземпляры вида, включая в соответствующий вид.
Любовь является целостной ступенью жизни, такой же
всеобъемлющей, как и ступень сна, этого второго блюда на званом обеде природы.
Впрочем, большинство моих знакомых считают сон и любовь едва ли
заслуживающими их внимания. Они — просто бодрствующие, волевые
люди. Они используют снотворное для того, чтобы спать, кондомы и
пессарии для того, чтобы заниматься любовью. Из-за этих технических
средств они относятся к сну и любви как неким областям мира труда.
Ибо в процессе труда нужно различать средство и цель. В сфере труда
бессмысленно говорить, что цель освящает средства. Сам труд не
является священным, и столь же мало священна цель труда. Любая цель
труда — именно потому, что речь идет просто о бодрствующей,
подчиненной некоему намерению жизни, — может быть заменена другой
целью. Но священного не заменить ничем. Пресловутое суждение: «Цель
освящает средства» проклинает те ступени жизни, которые не
определяются целью. И поэтому оно выдает «более мертвый» образ действий,
который исходит из того, будто высшая ступень жизни — ступень
благодати и несчастья — также признает некие цели. Разумеется, в мире
труда я никогда не живу иначе, чем абстрактно. Фраза: «Я могу
заработать себе на кусок хлеба трудом» означает, что я могу заработать это
тысячью способов — продажей почтовых марок, вспахиванием земли,
сочинением газетных передовиц, уходом за детьми и т.д. То, что
является трудом, может быть заменено другим трудом, и тот, кто трудится,
становится в этом процессе чем-то обобщенным. Этот «человек
вообще» может работать, но его нельзя любить. Тот, кто ходит к одной
шлюхе, может с таким же успехом ходить к другой — так все и делают. Ибо
если мужчина ходит, отвергая других, только к одной девушке, то она
больше не шлюха, а именно девушка, и речь больше не идет о
«горизонтальном ремесле» как работе ради куска хлеба, а о любви. А любовь
очень четко отличается от целей труда: она не оплачивается и
совершенно бесцельна. Она не поддается обобщению. Целесообразной
любви не существует. Ибо любовь — это племенной отбор, который
подчиняет нас себе. Тот, кто вступает в брак с целью рождения детей, конеч-
420
но же, не любит. Дети появляются у тех, кто любит, как бы нечаянно.
Во всей борьбе вокруг абортов речь идет на самом деле о борьбе
ступени бодрствующей жизни против ступени любящей жизни. Нет никакой
целенаправленной любви. Нет никакого нецеленаправленного труда.
Поэтому любимая женщина и трудовая пчела, Мария и Марта, так же
отличаются друг от друга, как спящий человек и труп. Мы вступаем в
брак, чтобы защитить любовь от мира целесообразности.
Эти четыре оболочки существования окружают нас всегда. Тот, кто
поет: «Среди самой жизни мы окружены смертью», часто, сам того не
сознавая, выражается корректно в научном отношении. Ибо мы должны
приблизиться и к мертвенному, даже мертвое проявляется в нас, и мы
должны совладать с ним, чтобы прожить хотя бы свою частицу жизни.
Ведь мы сделаны не из асбеста, мы не являемся беспримесными.
Мертвое в наших волосах, ногтях, испражнениях, моче, выдыхаемом нами
углекислом газе должно выйти из нас для того, чтобы, подобно
реактивному двигателю, отбросить «нас», еще не мертвых, назад, в жизнь. Итак, мы
должны уметь терпеть это самое мертвое в отбросах в качестве оборотной
стороны сохранения нашей жизни. То, что является необходимым на
этой плоскости мертвого пространства, можно по крупицам положить на
весы и посчитать.
Напротив, в универсуме органической жизни наши члены предстают
в высшей степени образцовыми тогда, когда они функционируют
словно во сне. Ибо как только мы оказываемся вынуждены обратить на них
внимание, это значит, что они уже дают сбои. Тайным языком всякого
роста является не внимательность, а ритм. Растительность и то, что
относится к сфере роста, дышат в согласии с душой, но бессознательно,
как грудной ребенок. Физиогномика простой жизни — это отражение
ритмов ее движения.
Напротив, бодрствующий человек заявляет о себе. Он ставит себе
цели. Он регулирует свой произвол с помощью правил целесообразного
труда. Ибо он хочет, и хочет настоятельно. «Подтянуться!» — кричит не
только унтер-офицер. В каждом человеке заключен унтер-офицер,
который стремится разделаться с работой как можно быстрее. Таким
образом, бодрствующий человек, в отличие от спящего, живет не ритмично,
потому что он ускоряет процессы. Фраза: «Он знает, чего хочет»
означает, что данный человек достигает желаемого кратчайшим путем.
Бедняга! Способен ли он любить? Ибо в распоряжении любви находится
вечность. Любовь живет совсем иначе. Прежде всего, любовная страсть
освобождает нас от силы тяжести. Так же, как лосось во время нереста идет
против течения, чтобы метать икру, любовь дает нам крылья. Наперекор
физикам следует сказать, что любовью сила тяжести уличается во лжи.
Любовь, не побуждающая «мотылька» летать, — это не любовь.
Я не знаю, как физики будут объяснять это выступление против силы
тяжести. Но я знаю, что, поскольку физики до сего дня даже не
заметили этой победы над силой тяжести, у них нет дара наблюдать
действительный мир. В области любви в счет идет лишь то, что уличает силу
тяжести во лжи или высмеивает ее. Точно так же из этой области
изгоняются все цели и замыслы, денежные выплаты и жалованья, поскольку
они превращают их получателей в некое обобщение.
421
Но влюбленный глупец, который устраивает для своей возлюбленной
фейерверк из Солнца, Луны и звезд, несмотря на это, совершенно
точно знает, что он любит по-настоящему. Мудрость любви — это
сокровищница, которая ничем не уступает мудрости прочих сфер.
Тот, у кого достаточно мужества освободить сон и любовь от их
порабощения бодрствующим рассудком труда, сообразующимся с целями,
обнаружит, что их царства полны прекрасного смысла, полны жизни, —
именно жизни, ритма целого и жизни двойственности. Они точно так
же богаты истинным содержанием, так же действительны, как
бодрствующий мир способных к постижению животных. Не призваны ли имена
планет
Martedi Марс Mavors, смерть
Mercoledi Меркурий Растительная жизнь
Giovedi Юпитер Бодрствующая земная жизнь
Venerdi Венера Любящая жизнь
свидетельствовать о том, что греки и римляне признавали эту
последовательность сфер? Какими же мудрыми они тогда были! Я, во всяком
случае, использую возможность проникнуть вместе с читателем в пятую
сферу, которая идет вслед за Венерой и ее двойственной сферой. Эта
сфера одинаково воспринимается революционером Бететой и древними.
Пятая оболочка — это для мексиканцев революция, а для древних —
планета бедствий Сатурн, небесное светило катастроф времени. Бетета
рассматривал революцию в Мексике как необходимую сатурналию!
Вопреки мнению профессиональных революционеров, революции
приносят несчастье. Таким образом, не сатурновской ли является та
сфера, из которой нас исторгают, чтобы ниспровергнуть все другие
сферы? Кажется странным, что тем самым несчастье оказывается
поставлено выше священных детей неба — любви, трудового порядка,
растительной жизни, механического бытия. И не полагал ли Бетета, что именно
это бедствие придаст смысл жизни «пеона», мексиканского
сельскохозяйственного рабочего?
Таким образом, не является ли именно несчастье источником блага?
Не в этом ли заключается смысл Креста?
Ведь мы, современные люди, живем под властью притязаний
отождествляемого с Юпитером «либерального» мышления, т.е. его
ориентированной на экономику труда религии дня Донара (17) — четверга (До-
нар — то же, что Юпитер). Большевики в течение четырнадцати лет,
вплоть до отмены своей пятидневной недели, обожествляли этот пятый
день бога бодрствования и света! Ибо Просвещение — явление,
характерное для последних двух столетий, — обожествляет светлое
бодрствование Юпитера. Пребывая в его свете, мы почти совершенно забыли о
том, что связано с другими сферами, и даже со сферой Сатурна.
Вспомним же опять о них. Согласно вере всех других эпох, только имена
«несчастье» и «счастье», соответствующие высшей оболочке, окончательно
замыкают гармонию сфер. Ведь Юпитер господствует над нами днем, а
Венера и Сатурн управляют ночами и историей.
Итак, какой бы отвратительной ни была обыкновенная астрология,
колдовством заключившая нас в небесные дома, ужас, который
испытывали люди в древние времена, все-таки имеет глубокий смысл. Этот ужас
422
связан с тем, что древние видели: над упорядоченностью обращения
небесных светил господствует нечто безмерное, некая
неупорядоченность — Сатурн. Вера древних в пятую сферу, сферу бедствий, является
частью их веры, которая менее всего сродни фатализму и суевериям. Ибо
она оставляла кратер открытым для еще небывалого извержения
вулкана. Благодаря этому Сатурну мир еще не был завершенным, он еще не
представлял собой механический круговорот. Ему угрожала катастрофа.
Но катастрофа намного ближе к живому Богу, чем виды времени,
соответствующие четырем низшим сферам. Ибо катастрофа свободна, и она
устанавливает законы. Без такой свободы законы четырех других сфер
будут несостоятельными. Чем выше мы поднимаемся в своем мышлении
над этими четырьмя незаменимыми видами хода времени — над
любовью, волей, сном, смертью, — тем яснее для нас становится их зыбкость,
обнаруживающаяся в случае, если они останутся без высшего
завершения, будь то даже несчастье. Но ведь в каждой отдельно взятой жизни все
мы знаем несчастье как смерть. Не будет ли мудро признать его?
Посмотрим, например, на сферу любви с ее не ведающей усилий
энергией подъема. Здесь все происходит без труда, с благословенной
легкостью. Не является ли эта сфера вполне самодостаточной? Нуждается
ли она в сфере, стоящей над ней? Почему вечная любовь — это иллюзия?
Она иллюзорна, потому что все сферы теснят одна другую, и можно,
вероятно, смело сказать, что они пытаются друг друга вытеснить. Итак,
влюбленные видят, что люди, проявляющие волю и бодрствующие,
повсюду имитируют их — подобно тому, как спящие в своих снах
подражают бодрствующим. Но благодаря этому подражанию происходит нечто
ужасающее, нечто высвобождающее несчастья, именно потому, что
более мертвая сфера притязает на выполнение задач более живых сфер —
например, сфера бодрствования вытесняет и смещает сферу любви. Ибо
если бодрствующий и проявляющий волю человеческий тип намеренно
и произвольно подражает усилиям любви, они вырождаются. Язык мстит
этим подражателям, держа для них наготове исключительно скверные
слова — «сексуальность», «коитус», «блуд», «половое сношение» — и еще
много других, более грубых. Это связано с тем, что бедняга,
становящийся жертвой своего пола без любви, идет по ложному пути.
Поскольку современная медицина считает исходным для себя тип
бодрствующего человеческого существа, что сродни животному, но
отнюдь не человека влюбленного, она открывает исключительно
конфликты или комплексы там, где гармония сфер выявляет, что гондола нашей
жизни подвешена на множестве переплетенных канатов, разных по
высоте и протяженности. Таким образом, человек чувственный и
бодрствующий должен быть подчинен любящему человеку в нас, поскольку
несущие тросы влюбленности поднимают нашу гондолу выше в область
жизни, чем тросы бодрствования. Если несущие тросы любви слабы, мы
страдаем от того, что сфера целеполагания, эта следующая более мертвая
сфера, стремится воплотить в себе сферу любви. Артур Шопенгауэр (18)
отказывал себе в любви, но он был сама чувственность. (Пожалуй,
именно его ужасная мать-интеллектуалка дискредитировала в его глазах сферу
любви). В своих дневниках он добросовестно указывает свои расходы во
франкфуртских публичных домах. Бедный Артур Шопенгауэр! Но и ве-
423
ликолепный Артур Шопенгауэр, поскольку именно он воплотил в себе
всю нелепость стремления поставить на одну доску бодрствующую жизнь
и любящую жизнь. Если рассматривать любящую жизнь таким образом,
если манипулировать ею на манер Шопенгауэра, это означает
издевательство над ней. Ибо активная воля делает в любви импотентом!
Это позволяет сделать вывод, что каждой сфере объемлющей нас
гармонии соответствует у нас разный образ действий. Здесь есть
отступления в активный, пассивный, средний залог и т.д. Ибо действие,
очевидно, и составляет сущность деятельного человека. Он должен быть
активным и стремиться записать в свой актив в главной книге жизни
как можно больше дел. Но мы сознаем, что активный залог
целенаправленно действующего волевого индивида составляет лишь часть
нашего жизненного процесса. Любовь не активна и не пассивна. Она
является творческой и тварной. Любящий — это creatura creatrix (19), он
находится в промежуточном состоянии свободы действовать и свободы
страдать. Таким образом, агрегатное состояние любви грамматически
никогда бы не следовало выражать с помощью предложений, где
сказуемое стоит в активном залоге. Неправильными были бы выражения
«я люблю», «я хочу», «я сватаюсь», «я женюсь», «я беру в жены», «я
строю дом», «я произвожу на свет детей». Все эти образованные здесь
формы активного залога суть именно суждения, порожденные
бодрствованием, и волеизъявления, оскорбляющие любовь. Воля не имеет
ничего общего с любовью. Ибо предложения, в которых выражается
воля, произносятся без любви. Вместо этих предложений, в высшей
степени красноречиво выдающих намерения бодрствующего человека,
любящий произносит, скорее, фразы, сопряженные с дерзновением:
«Люби меня!», «Ты хочешь?», «Что я могу тебе подарить?», «Ради Бога,
я должен жениться», «Черт побери, она мне отказывает», «Это будет
наш дом», «Это невозможно», «Это действительно так?». Итак,
влюбленный говорит, используя глаголы в среднем залоге, который не
является ни активным, ни пассивным, а представляет собой нечто третье.
Ибо в нем явным образом остается нерешенным, кто является
действующим, а кто — испытывающим действие. Оба эти вида жизни
присутствуют, но не господствуют. Это связано с упразднением силы
тяжести в период любви. «Ты должен либо победить, либо потерпеть
поражение, быть либо наковальней, либо молотом», — говорит прометеевский
человек воли. Этот Прометей, одержимый трудом бедняга, не имеющий
ни малейшего представления о настоящей жизни, угнетает любящих.
Любящие говорят: «Позвольте нам быть чем-то большим, чем
простыми завоевателями. По ту сторону наковальни и молота начинается
состояние свободы и радости, которое признает каждый любящий». Так
что эти четыре сферы, звучание которых можно услышать до сих пор,
задевают друг друга, борются за нас. Тление, сон, бодрствование,
любовь, хрустальные оболочки Марса, Меркурия, Юпитера и Венеры не
просто вибрируют друг подле друга, — нет, они стремятся вытеснить
друг друга. Это доказывается соотношением двух явлений: страдания и
освобождения от тягот. Как только более живая сфера берется
выполнить задачу более мертвой сферы, мы испытываем облегчение; как
только более мертвая сфера принимает на себя выполнение задачи бо-
424
лее живой сферы, мы страдаем. Читателю нужно лишь уяснить это на
примере страданий Шопенгауэра или своей собственной счастливой
любви. Тогда он распознает диссонанс и гармонию в отношениях
между сферами в зависимости от того, выходят ли более мертвые сферы на
передний план либо оттесняются назад.
Возможно, страшный сон — это перенос трудового свершения из
бодрствования в сон, из сферы III в сферу II. Но там оно неосуществимо,
и потому мы страдаем. Мы претерпеваем страх, если исполнение задачи
приходится на более мертвую сферу, если брак (IV) должен быть заключен
из соображений морали (III), если обучение (III) превращается в простое
подражание (II) и т.д.
Если же, наоборот, спящий должен прийти в себя, и бодрствующий
друг, как пишет Сент-Экзюпери, подкладывает свою руку ему под
затылок, то это — воистину служение, преисполненное любви. Здесь сфера
сна испытывает бесконечное облегчение и освобождение от бремени,
поскольку бодрствующая жизнь берет на себя заботу о ней.
Каждому известно, какой легкой бывает работа, которую мы делаем
с любовью. Короче, похоже, что страдание и радость — это отношение
сфер между собой. Сферы должны приходить на помощь друг другу.
Похоже, это верно и по отношению к процессам выделения
неорганического, мертвого вещества. Для того чтобы не разрушить нас, заноза
должна быть охвачена органическим процессом. Это и делает гной.
Таким образом, применительно к процессам в нашем теле «организация»
означает нечто прямо противоположное тому, что понимается под
организацией кегельного клуба. Ибо общность, организуясь, становится не
более живой, а более механической, более мертвой, чем она была без
устава. Но неорганическое, совершенно мертвое инородное тело под
действием гноя переносится в органическую жизнь. Так
механистичность этого тела организуется по-новому, т.е. оно становится на
порядок более живым и именно потому менее вредным, поскольку
вовлекается в вегетативную жизнь органов, или, по Гогенгейму, перетекает
в дух ядов. Спящее тело осуществляет это первое возвышение над
мертвым в органическом действии своей целительной силы. Лишь если это
действие второй сферы не дает результата, мобилизуется третья
сфера — сфера сознательной воли, и бодрствующая воля оперативным
путем извлечет инородное тело. А четвертая сфера должна вмешаться
тогда, когда необходимо извлечь больше, нежели просто занозу. Тогда
любовь сиделки должна сдержать панические настроения страдающего
человека и, тем самым, предоставить процессу исцеления то время,
которое бывает утрачено человеком, пребывающим в панике. В этом и
заключается смысл пребывания в больнице в случае, если предстоит
сложная операция. Любовь всегда предоставляет время. Этого времени ей
всегда недостает. Свершением любви является увековечение. Процесс
выздоровления должен протекать под попечением любви.
Бодрствование всегда нетерпеливо и старается сделать все быстрее, чем раньше.
Хирурги не разбираются в процессе реабилитации. Ради исцеления,
ради гармонии сфер они сообщаются между собой, и всякое страдание
призывает к содействию более высокую сферу, а всякая радость
высвобождает энергии более низких сфер.
425
Все сферы вносят свой вклад во время: увековечение, ускорение,
ритм, сопротивление времени.
Следовательно, эти обстоятельства вынуждают нас не просто
перечислять четыре сферы как нечто случайное, а рассматривать их как
октавы спектра нашей жизни. Если цвета располагаются между
инфракрасной и ультафиолетовой частями спектра, то волны жизни также
даны в диапазоне от силы тяжести умершего до воодушевления
влюбленного. Если считать мертвое инфракрасной частью спектра, то
сон,
бодрствование,
любовь
будут основными цветами живого. И теперь осталось спросить,
имеется ли здесь ультрафиолетовая часть спектра, которая ограничивает эти
степени жизни с другого конца.
Это возвращает нас к исследованию роли Сатурна, планеты Saturday,
субботы, с которой соотносится Кронос (20) древних. В качестве пятой
планеты Сатурн был воплощением бедствия, несчастья, катастрофы,
переломной эпохи, революции, в ходе которой эон, т.е. некое время,
сменяется новым временем.
Здесь, на изломе времен обыденной жизни, Сатурн напоминает о
несчастье, которое необычным образом, аномально, губительно внезапно
разрушает всю гармонию. «Чудесное здание разбито в куски, — поет у
Гёте хор духов, — ты, полубог, его расшатал». Ибо Фауст проклял весь
порядок человеческой жизни.
Музыка сфер эонов всегда прерывается именно так — внезапно,
поскольку каждый член скрепленного любовью союза может в некий, не
известный заранее момент его проклясть:
Я проклинаю ложь без меры
И изворотливость без дна,
С какою в тело, как в пещеру,
У нас душа заключена.
Я проклинаю самомненье,
Которым ум наш обуян,
И проклинаю мир явлений,
Обманчивых, как слой румян.
И обольщенье семьянина,
Детей, хозяйство и жену,
И наши сны, наполовину
Неисполнимые, кляну.
Кляну Маммона, власть наживы,
Растлившей в мире все кругом,
Кляну святой любви порывы
И опьянение вином.
Я шлю проклятие надежде,
Переполняющей сердца.
Но более всего и прежде
Кляну терпение глупца» (21).
426
Как гармония сфер может действовать на нас, если каждый в любое
мгновение может заглушить ее пронзительными звуками? Умершие,
спящие, бодрствующие, любящие должны делать то, чего они не могут
не делать. Их жизнь соответствует им самим. Но из сферы,
расположенной по ту сторону Венеры, исходит нечто безмерное. Фауст нежданно-
негаданно обращается против этого прекрасного мира и отправляет его
развалины в бездну «ничто», поскольку он пресытился скукой гармонии.
Пресыщение, taedium vitae (22), превращает жизнь в тяжкое бремя.
Перед лицом этого нигилизма хорошую службу нам сослужит та странная
шкала степеней жизни от менее безжизненного до все еще
омертвевшего. Ибо если мы примем за масштаб мертвую массу, подчиняющуюся
силе тяжести, то и ритмичное кружение, и бодрствующая жизнь, и
любящая жизнь окажутся степенями этого мертвого бытия. Фауст
обращается даже к мертвому существованию более высоких сфер, и именно
поэтому оно предстает лишь в виде бремени и силы тяжести и поэтому
кажется ничуть не лучше самой смерти. Для Фауста сферы менее
мертвого, надстраивающиеся над полностью умершим, становятся чем-то
таким, что в принципе тоже уже мертво. Он низводит их до уровня сферы
мертвого. Тем самым они становятся хуже смерти. Поэтому он сам
жаждет смерти. Фауст предпочитает проявлениям мнимой жизни полную
смерть. Инфракрасный цвет смерти не знает страданий, тогда как
«основные цвета» еще заставляют нас страдать.
Страдания, порождаемые менее мертвыми сферами любви,
бодрствования, роста, оказываются для Фауста еще бессмысленнее, чем сама
смерть, поскольку и в этих сферах он воспринимает лишь то, что также
отмирает и обречено на гибель: «Мне тяжко от неполноты такой, / я
жизнь отверг и смерти жду с тоской». Это позволяет объяснить
самоубийство. Но именно здесь, в месте вторжения сатурновского несчастья,
для Фауста начинается новая эра, новый жизненный путь. И именно эта
связь между бедствиями и эрой обрела отчетливые очертания в
летоисчислении народов. Ведь мы обладаем обширными знаниями, а другие
люди верят в пятую сферу. Но кто же верит в Сатурна?
Именно в соперничестве Сатурна и Господина жизни и смерти
впервые была явлена музыка сфер пяти планет. Неделя, соотнесенная с
планетами, выступила против недели Израиля, кульминация которой —
суббота. Посредством недели, соотнесенной с планетами, — недели,
произвольно склеенной астрологами из Солнца и Луны, с одной стороны, и
планет — с другой, — языческий мир противился власти Бога истории
Яхве. Астрологическая неделя моложе недели Моисея и противостоит ей.
Ибо Яхве вызвал свой народ именно из четырех сфер и собрал его у
начала новой гармонии сфер, в зоне эонов. Суббота иудеев позволяет
высшей сфере — сфере покоя Бога, молчания Бога, мира Бога и
неподвижности Бога — воцариться над сферой Сатурна, сферой несчастья.
Иудеев так сильно ненавидят потому, что они упорно ждут только блага.
Живые существа, которые находятся в более мертвых сферах, должны
продолжать жить в соответствии с тем законом, с которым они пришли в
мир. Они не могут убежать от самих себя. В сфере субботы это
«долженствование» заканчивается. Здесь смерть умирает, ибо здесь никакое
бремя не тяготит и никакой груз не тянет, здесь ничто не трудно. Таким об-
427
разом, субботний покой — это отнюдь не покой тех менее мертвых сфер,
которые соответствуют исходным формам поведения, а именно росту,
бодрствованию, любви. Он образует ультрафиолетовую часть спектра.
Ибо он — только жизнь; если нужно выразиться яснее, он «немертвый».
Тем самым спектр жизни восходит от самого неживого, от
инфракрасного света уже умершего, к наименее мертвому, к ультрафиолету того, что
«еще-не-вступило-в-жизнь». Божественные сферы
А Е
«ультрафиолетовый «инфракрасный свет»,
свет», немертвое, неживое,
еще не творившее уже умершее
Любовь Бодрствование Сон
В CD
становятся сферами Бога тогда, когда Сатурн, носитель несчастья,
сменяется творческой силой того, кто будет здесь, кто будет тем, кто он
есть, того, кто-еще-не-сотворил. Как же эта изнанка жизни, эта
ультрафиолетовая часть ее спектра воздействует на временной спектр? Силой
новых имен! Ведь новый дух дает мчащемуся времени новое имя. Новая
жизнь невозможна без нового имени. Ибо если бы имена оставались
старыми, то именно из-за них все осталось бы по-старому. Таким образом,
имена полновластно входят в историю жизни, чтобы завершить
существование, ставшее ненавистным, сделавшееся тяжким бременем, и
начать новую жизнь.
День Сатурна, несущий несчастье, и суббота безымянного
молчания в христианстве слились воедино. Великая страстная суббота,
находящаяся между страстной пятницей и пасхальным воскресеньем,
составлена из несчастья, поскольку прекратилось прежнее бытие, и из
Яхве, поскольку он означает творение. В страстную субботу Иисус
пребывает в аду, вся прежняя эра безнадежно, по-сатурновски
завершается. Жизнь ненавистна, поскольку даже любовь на Кресте стала
пленницей смерти. Любовь, обычно обновляющая народы, здесь приводит
лишь к продолжению смерти, поскольку и народ Израиля, и языческие
народы оказались более не в состоянии с помощью браков вырваться из
когтей смерти. Любовь Иисуса больше не могла возвысить народ
Израиля над самим собой. Это сумела сделать только его смерть. Если бы
Иисус жил жизнью любви, воспетой Песнью песней, он тем самым
только обновил бы тот телесно привлекательный народ Израиля,
которым правил царь Давид. Но для великолепнейшего царя Давида
даруемая любовью вечность времени стала бы бесполезной в год Рождества
Христова. Ибо Ирод не был отпрыском рода Давидова, и эон
разделения на иудеев и язычников подошел к концу, стал по-сатурновски
губительным. Так Иисус стал Сатурном Израиля, а день его смерти —
последней субботой Израиля, поскольку имя Иисуса стало первым
именем нового эона. В этом смысл слов апостола Павла,
воскликнувшего: ни в каком другом имени нет святости. Таким образом, четыре
более мертвые сферы получают из пятой сферы смысл исторического
428
имени, с которым должны быть соотнесены любовь, труд, рост и
мертвые вещи, чтобы оправдать себя.
Но в этом и состоит смысл формулировки, будто Иисус
господствует во веки веков — или зоны эонов.
В этой формуле Сатурн, конец некоего периода времени, и адвент,
приход нового времени Бога, отданы во власть Иисуса. Он заканчивает
эру Израиля, и его именем начинается всякая новая эра. Ибо он знает о
пятой сфере, из которой проистекают эры, переживающие затем процесс
становления и, наконец, завершающиеся.
Возможно, следует упомянуть, что именно эта формула, «зоны
эонов», служит камнем преткновения для переводчиков. Лютер говорит:
«И от вечности к вечности». Это нельзя назвать ошибочным, покуда
люди еще знают, что вечности — это продолжительность эпох,
дарованная любовью. Но кто еще знает об этом или верит в это? Англичане
переводят: «World without End» (23), т.е. говорят нечто почти
противоположное первоначальному тексту. Ибо в библейской формуле — как и у
Фауста — один мир погибает вслед за другим, и только Христос
проходит сквозь все эти миры. Любой полубог может разрушить свой мир: его
могущества для этого вполне достаточно. Но только Бог способен
сопрячь следующий зон с умирающим эоном. Французы говорят: «Siècles
des siècles» (24). И они больше не понимают эту формулу. Ибо слово
«siècle» утратило свой пафос. Что такое век, столетие? Эти затруднения
переводчиков, конечно же, не случайны. Никто не верит в музыку сфер.
Третья формулировка Нового завета, имеющая отношение к этому
вопросу, вызывает еще чуть больше «благосклонного внимания»; цитата
звучит следующим образом: «В начале было Слово». И все-таки
сегодняшние читатели часто понимают эти слова в эволюционистском духе, как и
выражение «от вечности к вечности». Под «вечным» они подразумевают
не предоставленную любовью длительность, а нечто бесконечное,
совершенно не наполненное любовью. Соответственно, под «началом», где
было Слово, они понимают новый год продолжительностью 1010
триллионов лет. Но евангелист Иоанн имел в виду нечто иное, а именно: если
надлежит положить начало, это может произойти лишь через посредство
нового Слова. Лишь новое имя, преодолевая несчастья полубогов,
достигает самой глубины сердца Бога. Начало евангелия от Иоанна говорит
об этом и о многом другом. Конечно, оно не имеет никакого отношения
к геологическим триллионам лет.
Сфера имен — это ультрафиолетовая часть спектра жизни, благодаря
которой время обретает свое последнее свойство, которое только и
позволяет нам вполне постичь, что такое время.
До сих пор мы вынуждены были говорить о цветовом спектре и о
спектре жизни, чтобы в интересах читателя перевести гармонию сфер в
область «Universe of Thought» (25), т.е. в область, какую он может
помыслить. Но, строго говоря, когда речь идет о гармонии сфер, имеется в
виду временной спектр. Пятая сфера позволяет времени начаться
заново. Оно становится новым благодаря новому имени. Нет никакого
подлинного будущего, возникающего путем развития, или «будущего
вообще». Например, время становится революционным, если более мертвые
души слишком долго не признают необходимого нового имени. Более
429
живое угрожает людям, всецело подчиняющимся силе тяжести,
поскольку оно является настолько «немертвым», что они считают его
невозможным и нежизнеспособным. И поэтому оно вынуждено вызвать
катастрофу. «Люди силы тяжести» закрепляют за ним имя несчастья! То, что
означает «начинать», мы всегда узнаем благодаря слову! Поскольку слово как
звучание нового имени начинает новое время, мгновенно становится
ясно, что именно четыре других цвета спектра времени, уже хорошо
известных нам через посредство четырех агрегатных состояний, ничего не
ведают о начале.
Имя начинает.
Любовь увековечивает.
Труд ускоряет.
Органическая жизнь сообщает ритм.
Мертвому в физике время отмеряется отрезками, как пространство.
Но оно больше не является подлинным временем. Оно даже считается
четвертым измерением пространства. Оно превратилось в безвременье,
которое эволюция оставляет позади, семимильными шагами спеша к
гибели.
Имя творит время, а смерть его уничтожает. Время течет между ними,
спешит и сгущается. Священник опускается на колени перед началом
времени, физик, склонившись, вглядывается в конец времени.
Благословение времени основано на согласованнности всех пяти
воздействий. Можно попытаться жить, сообразуясь только с одной из
сфер. Например, можно непрестанно вводить новые имена без любви,
без труда, без захватывающего ритма, без конца. Это была бы
настоящая перманентная революция. Бедные большевики приняли эту
религию, определяемую именем Сатурна. Но они не меняют своих имен!
Монотонное повторение ими имен Маркса и Ленина вкупе с теми же
самыми Молотовым и Калининым, с их бесконечным Сталиным, т.е.
с устойчивыми и фиксированными именами, так же далеко от
непрерывной революции, как небо от земли. Ибо в «непрерывности» мы
должны были бы каждый день слышать новые имена! Однако большевики
своей перманентной любовью к Сталину пытаются купить
продолжительное существование революции в сфере IV. Это отнюдь не
непрерывная революция. Напротив, здесь победу одержали более низкие
сферы, а именно — всего лишь обычная влюбленность в определенные
имена, которые хотят сделать вечными. Одновременно здесь
господствует типичная бдительность усердно трудящихся бодрствующих
людей, чтобы они своей работой ускорили победу в сфере III. Здесь же
произрастает сонная преданность масс, призванных в сфере II
сообщать импульс этому порядку имен в такт принесению в жертву
собственной жизни. И в качестве сферы I тяжелым бременем лежит
смерть многих жертв, всех «бывших», которые оказывают
сопротивление этому типу мира. Большевики сегодня — это мертвая опора, от
которой должна отталкиваться имеющая имя, благословенная жизнь
остального мира. Для того чтобы обрести характер действительного
времени, оно нуждается именно в согласованном действии сфер. Русские
говорили только об одной сфере, сфере Сатурна, так что они попали
под власть всех остальных.
430
Пять сфер, чтобы они могли жить, требуют существования пяти
различных социальных групп. «Все», «больше», «сколь угодно много», «два»,
«один-единственный» — вот что каждый раз действительно должно быть
налицо.
Когда я покупаю себе пару ботинок, когда иду на прогулку, когда
работаю, когда обручаюсь и когда отправляюсь на войну, я всякий раз
образую совершенно различные «агрегатные состояния». Поэтому
вышеприведенные пять образов действий приводят меня к пяти различным
видам социального устройства, и каждая из этих форм сообщества
незаменима! Так называемые «потребительские товары» для моих ног,
рук, желудка, глаз взывают к установлению порядка для всех. Но
общество потребления, которое соотносит меня во времени с неким общим
для всех именем, не тождественно технологически целесообразному
производственному сообществу. Общность в любви, в моем «племенном
отборе», имеет мало сходства с «общностью сна», которая сродни
растительной. Мертвое связано с механикой мироздания, органическое — с
его культурой, область намерений — с совместным замыслом или
планом, любовь — со взаимностью, счастье — с его неповторимостью.
Мироздание, культура, план, пара, уникальность никогда не могут
образовывать или заполнять собой один и тот же универсум.
Но мы все стремимся к гармонии этих универсумов. Мы все
заболеваем, если один из них не объемлет нас. Тогда мы пытаемся заменить
одну сферу другой.
Это не помогает. Красный цвет не может исполнять функции
голубого. Временной спектр — это символ веры человечества в
незаменимость. Страдания становятся безмерными, как только одна форма
времени уничтожается в пользу других или другой. Когда одна сфера
перестает действовать, я должен, по крайней мере, осознавать и признавать
это. Время нельзя свести к одной-единственной форме его преломления.
Имя, любовь, труд, сон и сопротивление в совокупности образуют
подлинное время, гармонию сфер, целительную силу истины. Несчастья и
страдания обрушиваются на те общества и сферы, которые не открыты
навстречу божественной полноте времен. Таким образом, временной
спектр олицетворяет действительность подлинного времени. Вместо того
чтобы ждать времени где-нибудь в безмерности развития, мы всегда
имеем в своем распоряжении все цвета спектра времени! Там, где
согласованно действуют новое имя, вечная любовь, усердный труд,
спокойный ритм, упорное сопротивление, налицо все время в его полноте.
Нынешняя проповедь непрерывной революции является попыткой
признавать только ультрафиолетовый аспект времени. Идеализм
эволюционистов — это попытка свести время к инфракрасной части спектра, к
временам сопротивления умершего физического мира. Действительное
человечество не является ни буржуазно-идеалистическим, ни
революционно-пролетарским, поскольку оно увековечивает благодаря любви,
ускоряет благодаря труду и спит здоровым сном благодаря ритму. Дышащий
младенец, деятельный хозяин, любящая душа не искушают ни мертвых,
ни богов. Но они здоровы. Разумеется, они страдают, когда для того,
чтобы осуществить гармонию сфер, им на помощь не приходят ни упорное
сопротивление, ни новое имя.
431
Ибо насыщенным является только то время, когда каждого из нас
объемлют все пять сфер. Тогда оно не течет ни слишком быстро, ни
слишком медленно, не оказывается ни слишком безразличным, ни
чересчур беспокойным.
Таким образом, истина времени заключается в гармонии его сфер. И
поэтому сама истина должна постигаться нами в пяти кульминациях
времени (Hochzeiten). Теперь становится ясно, что теология — это истина
без времени, она — инфракрасная часть спектра религии, а именно —
овеществленная объективность, т.е оказывающая сопротивление мертвая
истина. Эта опора, образуемая инфракрасной частью спектра, является
необходимой. Но это истинно лишь до тех пор, пока действенными
остаются и другие сферы. История спасения — в противоположность
теологии — хранит в себе извергающийся кратер новых имен. Поэтому
даже такие чреватые бедствиями новые имена, как Гитлер, значат для
времени больше, чем скучное понятие бодрствования, доставшееся нам
от теологов. Ибо каждая менее живая сфера жаждет облегчения своего
бремени, взывая к менее мертвой сфере.
Это — мелодия времен, эти вздохи и томительное ожидание большей
и более способной к творчеству жизни, — ожидание, которым
преисполняется не до конца сотворенная жизнь, чтобы вознести тяготы бытия
на ту высоту, где мы кажемся себе умеющими летать и где время
пролетает мгновенно, ибо все сферы звучат там в унисон. Там, где это
происходит, время перестает быть ощутимым. Тот, кто осчастливлен
гармонией сфер, более не воспринимает времени. В отличие от пространства,
высшая истина времени заключается не в том, что мы ему
противостоим. Пространства суть объекты. По отношению к времени это неверно.
Лишь безвременье, пространство-время, эта взлетная полоса нашего
реактивного истребителя, является объектом. Все другие времена — как это
выражает и сам язык —- мы воспринимаем, только исполняя наши
временные обязанности: своевременно услышать новую заповедь, любить,
трудиться, спать, умереть. Таким образом^ мы должны войти во
времена для того, чтобы их воспринимать. «Уйти от вещей, войти во
времена» — поступить так повелевает человеку путь спасения.
Монахам-пустынникам удавалось войти в историю спасения только тогда, когда они
уходили из мира, чтобы исцелить ложные мировые пространства. Но так
называемые сегодняшние христиане являются по большей части
идеалистами и стремятся убежать от времени, вместо того чтобы убегать от
пространства. Христос отказался от пространства, чтобы обеспечить полноту
всех времен. Он вошел во времена!'Все пять преломлений времени
сливаются в лете Господнем благоприятном, когда он жил впервые.
История веры язычников с их пятью планетами, с Сатурном —
носителем несчастья, т.е. низвержения прежней жизни, история веры
иудеев с их великолепной Единой Субботой, история веры Церкви с ее
исполненной бедствий Страстной субботой и благодатью Пасхи — это
одна-единственная история. Всякий раз речь шла об исцелении
времени, о достижении момента истины. И всегда мыслители, философы,
бодрствующие выступали против Бога и выхватывали у него его скипетр.
Для того чтобы войти во время, мы, существа преходящие, должны
вырваться из объятий так называемого мышления.
432
Но теперь мы можем точнее установить связь временного спектра с
его человеческими носителями. Новое имя предлагается тебе одному.
Новое время призывает тебя. Любовь затрагивает тебя и ее, вас.
Рабочее время принадлежит многим, а именно всем людям, которые
позволяют потреблять свой труд и хотят одного и того же. Ритм сна не
нуждается в индивидах. Для того чтобы проявить свое воздействие, ему
достаточно органов, частей космоса. И, наконец, пространственное время
расчленяет мою целостность и захватывает даже то, что по отношению к
ней является чем-то низшим, — мои мертвые составные части. Это
приводит к примечательным последствиям. Новые имена должны нисходить
к нам, людям, точно так же, как после свадьбы невеста получает новое
имя. Таким образом, хотя большевики, экзистенциалисты — это два
модных слова, но новые моды столь же необходимы для жизни, как
ультрафиолет. Однако ошибается тот христианин, который призывает
старое имя Христа вместо того, чтобы побудить людей прислушиваться, как
будто они слышат это имя Христа в первый раз. Христианским народом,
принадлежащим к истории спасения, являлся бы тогда лишь тот народ,
который во имя Христово вдруг собрался, чтобы выполнить свою
насущную и небывалую задачу — так, словно он еще никогда не слышал этого
имени! На самом деле все так и происходит. Мертвый Иисус из Назарета
и вся история Церкви находятся во временном спектре не там, где мы
ищем его ультрафиолетовую часть — еще-не-творившее-время. Нет там
и так называемого воскресшего Христа. Там находится только
воскресающий в тебе Христос, объединяющий всех нас, грядущий и
неслыханный, которого только еще предстоит признать. Поскольку он должен
всего лишь сделаться следующим именем, другие четыре времени
спектра целиком причастны к уже прожитому христианству. Пиетисты
особо подчеркивают вечную любовь (IV), специалисты по римскому
праву — дела бодрствующего состояния (III), простые и ограниченные люди
— спокойный сон (II), а мертвые души — упорное сопротивление
обычая и привычки (I). Но Бог Спасения подчиняет себе их всех. Он
завоевывает любовь ненавидевших его, он использует труд не признававших
Его, он оберегает сон доверяющих Ему, и Он превращает пагубные
деяния замысливших зло в предначертанные Им пути просветления. Ибо у
Него все времена объединены единой властью. Второе пришествие
Христа, вызывающее серьезные затруднения у теологов, — это
согласующаяся с законами жизни истина, которая только и может оправдать и
поддержать все прочее уже обмирщенное христианство. Господь грядет;
только у него пиетист, святой труда, по-детски простодушный человек и
злодей могут найти исцеление, благодаря которому их собственный
способ бытия не станет тяжким грехом и сила тяжести не повлечет их к
смерти, ибо этот герой, дающий имена, еще только грядет под новым
именем. Итак, что за почести надлежит воздать сферам? Мы скажем так:
большие и малые. Ибо временные порядки, будучи взяты сами по себе,
являются здесь непрочными.
Раньше «temporalis» означало «преходящий», «бренный», и
патентованные святоши, идолопоклонники, падавшие ниц перед
существующим, охотно противопоставляли бесконечную вечность этому
преходящему времени, на которое они хотели смотреть свысока. Но преходящий
433
характер бренного не является его бесчестьем. Поэт сочиняет стихи лишь
в течение двадцати лет, девушка сохраняет свою красоту лишь
пятнадцать лет, но это не значит, что гения и красоту следует презирать.
Христос никогда не учил этому. Отвратительно то, что временной порядок
не был улучшен теми, кто оплакивает преходящее. Поскольку холера
была только в 1889 г., стала ли она от этого менее страшной или менее
нуждающейся в лечении? Не временный характер безработицы,
революции, брака, дружбы или земной жизни Иисуса Христа лишают их
святости. Сам Бог стал человеком. Но это должно означать, что мы обязаны
входить во времена, навстречу нашему апофеозу. Люди, которые якобы
верят в Бога, чаще всего проникнуты убеждением, будто Бог никогда не
входит во времена. Ибо я вижу, что они непоколебимо уверены: с Богом
они никогда не встретятся.
Но «l'ordre temporel», временной порядок, к которому граф
Сен-Симон (26) в первую очередь и обращался, считая его способным быть
силой спасения, не требует презирать гений, красоту, моду или машины.
Он призывает к порядку спасения, соотнесенному с его сферами.
Крестьянин, который не садится на трактор, совершенно справедливо
погибает, поскольку он не почитает механическое, а законы сферы силы
тяжести заслуживают должного уважения.
Мы заболеваем, если надолго остаемся в слишком малом числе сфер.
Поражающая нас болезнь происходит из той сферы, по отношению к
которой мы стали глухи. Исцеление начинается, как только мы снова
признаем эту сферу. Мы не всегда имеем власть над всеми сферами. Но
спасение уже приходит к каждому, кто открыто признает, что ему не
удается войти в ту или иную сферу. Гармония начинает действовать сразу
же. Например, тот, кто не сознается, что ему недостает детей — плода
любви, т.е. недостает увековечения, с легкостью становится любителем
кошек или начинает обожать собак. Мужчины или женщины,
вытеснившие свою потребность в любви и не признавшие этого, встречаются
повсюду. Каждому видно, ведет ли хозяин собаку на поводке или она ведет
его. Тот, кто откровенно говорит: «У меня нет детей, поэтому у меня есть
хотя бы собака», спасен. Однако женщина, которая держит семь кошек,
скрывая от самой себя, что хотела бы и должна была бы иметь детей,
попадает в ад.
Тот, кто обожествляет свою жену или позволяет ей обожествлять
себя, заменяет сферу, откуда нас призывает новое имя Бога,
учреждающего и расторгающего браки, сферой увековечения, принадлежащей
любви. Поэтому этот человек начинает жить без нового начала, т.е.
высшего свойства правильного времени, с помощью которого Бог
подчиняет нас своему плану — мужчину, женщину, детей и всех любящих. Тот,
кто превращает свою любовь в идол, именно поэтому должен не только
увековечивать ее — это само по себе правильно, — но даже в
увековечении искать единственную форму осуществления своего временного
бытия. Тогда всякая разлука истолковывается как жертва, всякая
самостоятельность — как утрата, а всякая новая любовь — как измена по
отношению к собственной любви. Такая любовь ведет в ад. Правда, Бог тоже
является Вечным, но не только Вечным. Ибо он сотворил также смерть
и новое начало.
434
Эти примеры уже указывают: когда нет гармонии сфер, нам
угрожают всевозможные напасти. Я хочу закончить эту работу одним-един-
ственным своевременным примером.
Что же я совершил? Я подхватил гениальную юношескую грезу Го-
генгейма. Я заново распознал материальные, так сказать, ветхозаветные
сферы Платона в бурных процессах, которые ежедневно происходят
вокруг нас, и осмыслил их в духе Нового Завета. Благодаря этому нам
открылось понимание единства иудаизма, христианства и язычества в
вопросе о пути спасения, проходящем сквозь времена. Ибо, как только
отворилась эта высшая, главная сфера, находящаяся превыше Марса,
Меркурия, Юпитера и Венеры, несчастье Сатурна, умиротворенность
субботы, сошествие Христа в ад и его воскресение объяснили друг друга. Но
высшая сфера открывается лишь тому, для кого звучат и другие сферы.
Герой Креста воистину принял на себя бедствия мира Сатурна,
поскольку для него звучал весь космос. Бедствие и благо неразрывно связаны
друг с другом так же, как лица Януса, так же, как на китайских стелах
чередуются дракон и голова ангела. Поэтому Страстная суббота говорит
о «felix culpa» (27), о превращенном в спасение несчастном деянии
Адама.
Поэтому понятно, что на этот раз новое имя сначала явило себя
заскучавшему человечеству как несчастье. Бог только так мог вынудить
людей внимать себе. Бог не замедлит послать несчастья, когда люди не
хотят слышать, что их играм пришел конец.
Таким образом, современные революционеры своими бедствиями
монополизировали пятую сферу, из которой к нам приближается Бог.
Большевики противопоставили основанному на частной инициативе
капитализму свою монополию зла. Таким образом, большевизм нельзя
преодолеть простым взыванием к «Богу». Скорее, на распределительном
щите токов времени должна быть включена гармония сфер. Любовь,
труд, ритм и упорное сопротивление — это те сферы, над которыми мода
на несчастья в одиночку не может взять верх.
История спасения призвана поддержать нашу веру в то, что с
Рождества Христова нам дана полнота времен. Эта полнота времен
становится таковой тем больше, чем реже мы произносим имя Бога всуе.
«Только имя может положить начало» — таков смысл первого стиха
евангелия от Иоанна. Чем быстрее и основательнее мы признаем это
и начнем осмысливать несчастье, называя его по имени, тем
действеннее мы будем использовать те рубильники, которые позволяют
включить столь долго остававшиеся невостребованными токи времени иной
силы. Таким образом, это не только дань Парацельсу, не только Новый
завет подлинного Платона, направленный против платоников. Это —
доведение до конца нашего поединка с теологией. Она с такой
губительной уверенностью сочла имя Христа незаменимым и не
поддающимся износу, что на протяжении тысячелетнего господства
богословских школ упорно сопротивлялась ему в критическом противостоянии.
Из этого извлек пользу дьявол. Дух революции, по крайней мере, более
нов, чем Христос господ Бультмана и Гарнака (28), которого они
хотели демифологизировать. Имя — это имя только до тех пор, пока оно
еще приходит к нам с властью, присущей чему-то неслыханному, т.е.
435
как миф. Ибо мифическое имя еще ни с чем не сравнимо, не
подвергнуто обобщению. Этим пользуются большевики, и любопытные
интеллектуалы только потому и поддались им, как кролики — удаву.
Большевики предоставили миру, проникнутому обобщениями, навязчивую
идею новой эры.
Мы не победим большевиков ссылками на старые имена. Этим
бедным крикунам, возвещающим непрерывную революцию, надлежит
противопоставить гармонию сфер, полноту времен. «Своим людям Господь
открывает себя во сне» (II), «любовь да не прекратится никогда» (IV),
«где двое или трое собираются во имя мое, и я среди них» (V), «если плуг
коснулся земли, то всходы оказываются заслуженными» (III), — эти
фразы указывают на самостоятельные цвета времени, которые незаменимы
и доводят до абсурда план, ненависть и коллективизацию.
Итак, ныне настал момент истины, когда мы должны быть исцелены
обращением к полноте времен, когда гармония сфер больше не может
оставаться роскошью.
Временной спектр — это масштаб спасения. Если честный
современный психиатр оказался способен озаглавить книгу «Техника и вера», то
по отношению к полноте жизни он проявил отсутствие вкуса. Ибо в
таком случае он, вероятно, не имеет никакого представления о полноте
токов, пронизывающих его и его пациентов. Видно, как в это название
насильственно втиснуты как раз эта досточтимая церковная традиция и
искусный мир труда, — точно так же, как столетиями дополняли друг
друга, будучи соединены в словосочетание, «вера и знание». Предадим
земле все эти блестящие антитезы. Мы, люди, и тварный мир не
разделены диалектически, и мы не представляем собой двух частей целого.
Учение о властях и княжествах в Новом завете, как и учение о пяти
планетных оболочках, намного реалистичнее всей картезианской
конструкции «материя — дух — техника — вера». Даже имена Бога — это в
высшей степени материальные, доступные органам чувств процессы, и все
части его тела преисполнены духа. Включение нашего тела, нашей
жизни, нашей любви, нашего одухотворения и наших трупов в
действительный мир происходит в каждой из этих пяти областей, так, что чувства
оказываются умудрены духом, а дух преисполнен чувства, — либо оно не
происходит вообще.
Нигде жизнь не может свершиться, не вызывая тем самым полноты
времен.
Таким образом, все время полностью присутствует в каждом
мгновении. Было сказано, что если бы один-единственный человек выразил
всю истину, мировое время закончилось бы. В этом предании
заключена та истина, что временному спектру внутренне присуща энергия
начала, середины, конца — увековечения, внезапного свершения, замедления
и ускорения.
Тот факт, что временные отрезки, где время течет неодинаково,
подвижны по отношению друг к другу, воспевался всеми поэтами, и это
является самой глубокой и необходимой предпосылкой христианства.
Но в конце концов ясно, что это подтверждается и нашим опытом.
Одни и те же вещи нуждаются во времени различной
продолжительности — в зависимости от того, какая сфера определяет подход к ним. То,
436
что освоение техники психоанализа требует двух лет, а обручение —
двух недель, обусловлено разницей между волей и любовью. По
своему опыту знаю, что изучение языков может быть механическим,
органическим, целенаправленным, движимым любовью, одухотворенным.
Всякий раз якобы один и тот же процесс изучения языка оказывается
принципиально различным. Я изучил болгарский язык механически,
английский — органически, французский — целенаправленно,
итальянский — побуждаемый любовью, греческий — одухотворенно. Я знаю
эти языки совершенно по-разному. Так что временной спектр — это не
только советчик, помогающий больному избавиться от страданий, но и
важное наставление всем, кто должен жить и умирать. Как учил Пара-
цельс, одна и та же болезнь у нас порождается пятью причинами. У нас
в жизни есть пять tempi (29), и это заметил Теофраст Бомбаст фон Го-
генгейм. В живом предвосхищении он явил их нам уже в начале своей
жизни. Но тогда они осенили собой и его собственную жизнь. Лето
Господне благоприятное в Базеле: что же это такое, как не полное
время? Мы говорим о благодати. Вот она, здесь. И она всегда является
временем благодати. Благодать — не пространственное понятие и не
процесс, происходящий в пространстве.
Поскольку мы понимаем благодатное время, выпавшее на долю
Парацельса, как полноту времен, тяжелые времена, исполненные
страданий, раскрывают себя как неполные, несовершенные.
Временной спектр отражается в множестве наших имен. Немецкий врач,
умница Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм по прозвищу Парацельс,
пребывал под сенью полноты времен и потому — полноты имен. Они
были даны ему отцом, родиной, Церковью, школой и
неблагополучием его времени, и он принял их все, и в переменах его жизни все они
поочередно поддерживали и оберегали его. Но вдруг он узнал и постиг
их все — в лето Господне благоприятное и в юношеском вдохновении,
под воздействием которого он создавал свою первую концепцию. Так
что мы хотим воспринять у него первый принцип науки о времени: в
благодатном состоянии не абстрагируются от времени. Во время
благодати мы не ускользаем от времени в ложную бесконечность. В
благодатном состоянии время не отменяется, а исполняется, и все сферы
звучат вместе. In gratia non tollitur tempus sed pleniscit (30). Благодать
объемлет собой тварное существо, здесь или нигде, сейчас или
никогда. С помощью этого суждения вера всегда запрещала побег из
времени в некий заоблачный странноприимный дом, находящийся в ином
мире. Но мы, возможно, сумеем помочь сердцам верующих сохранять
приверженность благодати, осуществляющейся во времени, вместо
того чтобы с помощью разорительных похорон убегать в мертвую
вечность. К сожалению, бесцветное предложение: «Gratia non tollit
naturam sed sublevat» (31) сформулировано так, что в нем отсутствует
непосредственное упоминание о времени. Поток времен
рассматривался как простой беспорядок, а «природа вещей» казалась не столь
запутанной, если человек брал вещи в руки без учета времени и
рассматривал их в мертвом пространстве. Но только тот, кто
полагается на время и входит во время, может испытать, как по отношению к
нему гнев сменяется на милость. Ведь мы постигли, что время — это
437
порядок, а момент времени — это суть вещи. Нет никакой
естественной науки о живом, поскольку живущий обусловлен своим временем.
Мертвые тела пространства поднимаются и перемещаются, когда их
настигает время, время, простирающееся от инфракрасной до
ультрафиолетовой части спектра, а именно время, состоящее из импульса и
давления, сна и бодрствования, труда и воли, любви и ненависти,
благополучия и несчастья. Мы выздоравливаем от своих болезней,
когда из ущербного времени входим в более полное. Кто такой
здоровый человек? В мертвом пространстве инородных тел его спасает его
органическая жизнь. На земле, где растут и размножаются полезные
растения и сорняки, бактерии и вирусы, его спасает собственная
целеустремленная воля. В мире хищнического истребления, мире зверей
и чудовищ, планов и произвола его спасает нечаянная,
непроизвольная любовь. От вечного и «уютного» неба любви его спасает
священное несчастье, которое ради его же блага насылает на него Бог.
Невредимым может остаться лишь тот человек, которого осеняет
собой такое чреватое бедствиями и одновременно священное, вызванное
исторической необходимостью имя. Но ради нашего исцеления нам
должны быть даны и должны сохраняться за нами также любовное имя,
профессиональное имя, видовое имя и вещное имя. Ибо пять времен
должны оставаться для нас открытыми как всегда находящиеся в нашем
распоряжении пути спасения, дарованные нам Его милостью; эти
имена предвещают нам доступ к таким путям. Ибо имена — это наша
причастность к временам. Поскольку мы заболеваем, если никакое высшее
имя не побуждает нас противостоять бедствиям времени, то
господствующая в наши дни иерархия «физика, химия, биология, социология,
теология» должна быть исключена из науки о времени. Люди проявляют
себя в связи с насущными задачами времен (32).
V. В первую очередь общее несчастье — такое, как война, пожар,
революция, голод. Из всех этих несчастий должно возникнуть спасение, и
это является таинством.
IV. Любовный календарь двойственного числа, рождения и смерти,
выбора рода занятий и должности, праздников и свадеб.
III. Повседневный труд, экономический план, налоги и заработная
плата.
II. Обмен веществ и сон, расцвет молодых и увядание стариков, ритм
органического.
I. Толчок и давление, стихии, воздух и огонь, земля и вода, небесные
тела.
Таким образом, первая часть учения о времени должна стать
сакральным учением. Ибо «sacer» по латыни означает и «несчастье», и «счастье»,
и «проклятие», и «благословение». Древние знали, — и нам снова
надлежит это изведать, — что во времени о Боге можно узнать только как о
единстве несчастья и счастья. История спасения противостоит теологии,
поскольку учение о пришествии Бога в историю должно стать первой
отраслью науки о времени.
Вторая часть учения о времени — это высшая грамматика любви. В
«дательном мышлении» (33) обнаруживается, что внутренняя связь
любящих пар, над которыми нависла угроза смерти, преодолевает губи-
438
тельность всех истин. Высшая грамматика противостоит здесь
статистике и филологии.
Третья часть учения о времени — это учение об экономике, о
домостроительстве сил воли в хозяйстве и в жизненных возрастах
занимающегося хозяйственной деятельностью человека. Здесь учение о
домостроительстве разумных людей противостоит политической экономии
государств-хищников.
Четвертая часть учения о времени — это учение о нарастании
ритмичности. Здесь возникает биономия повиновения ритму, противостоящая
мании вмешательства в ритм — например, посредством применения
химических препаратов в медицине.
И пятая часть учения о времени — это учение о массах в
пространстве. Здесь физика Иордана (34), исходящая из индивидуального
характера промежутков времени, уже противостоит теории Эйнштейна,
рассматривающей не просто мертвое, но приговоренное к вечной смерти
пространство-время.
Лишь зная об этих пяти формах времени, мы будем жить и в
области наук. Но это невозможно без борьбы.
Старая идеалистическая иерархия — «физика, химия и т.д.» —
основывалась на представлениях, что всякое знание хорошо и,
следовательно, всякая наука благодетельна.
У новых наук о времени дела будут обстоять не так хорошо. Ведь в
каждой сфере будет происходить борьба между обреченными на
несчастье и жаждущими спасения. Ведь никого нельзя заставить предпочесть
промежуток времени пространству-времени, богатство ритмов —
монотонности, бюджетную экономику — грабительской экономике,
воскресение — концу любви, спасение — бедствиям. У каждой группировки
будут свои ученые. Мы сами, каждый из нас в отдельности, в течение всей
своей жизни подвергаемся искушениям. Мы все ведем распри с Богом.
В моменты слабости мы видим, что связь времен распадается. Поэтому
в новую эпоху наук религиозные войны перемещаются в область самих
наук. Скоро ни один человек не будет в состоянии понять, что знание и
вера некогда противостояли друг другу. Ибо разделение общества на
части каждодневно будет вторгаться в нас именно потому, что мы знаем:
здесь — время, там — безвременье, здесь — превратная, а там —
настоящая истина, здесь — моменты времен, а там — местонахождение в
пространстве, здесь — факты различных отраслей науки, а там — время
исследования. Само знание превращается в арену борьбы душ, и борьба
идет за гармонию сфер.
Ибо в самом характере нашего знания обнаруживает себя большая
или меньшая степень нежизненности нашего бытия. Ведь душа,
достигнув очередной ступени и преисполнясь ее времени, всякий раз
будет отрицать все истины, действующие на менее мертвых ступенях.
Быть более мертвым, иметь меньше жизни — это состояние и
заключается именно в отрицании более живого. Но отрицать — не значит лгать.
Это происходит непреднамеренно. Если лгать — дьявольское занятие,
то отрицать — всего-навсего смертельное. Однако дело именно так и
обстоит! Таким образом, более мертвое бытие выражается в том, что
мы отрицаем более живые сферы. Своеобразие мертвого состоит в том,
439
что оно не может или не вправе знать о существовании менее
мертвого. Поэтому наш временной спектр не просто исчезает из сознания,
присущего тем состояниям, когда мы, лишаясь имени, погрязаем в
массе, подвластной мертвой силе тяжести, — нет, тогда мы даже
категорически отрицаем полноту времен.
Поскольку все мы порой лишаемся имени и поскольку «несчастный»,
«лишенный любви», «безработный», «безжизненный» — это не
созданные воображением понятия, а прилагательные, характеризующие
истинные состояния вещей, то Спаситель отречется от нашей души. Однако
сам он должен жить вопреки всем царствам смерти. Церковь попыталась
научить народы тому, что полнота времен действует всегда, и показать,
в чем она состоит. Постоянное отрицание этой вездесущности спасения
всегда ослабляло и делало неплодотворным церковное учение. Наши
ученые уступили Церкви право свидетельствовать о полной,
«бессмертной» жизни. Наше учение о времени как нечто новое приходит в мир
потому, что отныне спасение надлежит вверить тем, кто обладает
знанием, а не только клирикам или мирянам. Исследователи всех
специальностей призваны свидетельствовать о полноте времен на основе своего
опыта соприкосновения со Спасителем, поскольку так много других
знающих людей из тех же самых областей науки основывают свои
знания на примечательном постулате (35), что за пределами сферы их
смерти не существует никакой истины. Учащая и наставляющая Церковь,
которая некогда состояла из клира, а затем также из мирян, отныне
должна будет формироваться и из специалистов в светских науках, чтобы
они в рамках своего знания свидетельствовали о полноте времен. Ибо
совершенное учение о спасении является условием спасения. Тот, кто
отрицает полноту времен, уничтожает ее. Поэтому профессиональной
точке зрения отрицателей надлежит ежедневно противопоставлять
момент истины. Иначе отрицатели уничтожат время. Противостояние
должно осуществляться по каждому отдельному вопросу. Нет никакой
пользы от того, что кто-то будет цитировать Бога вообще, а в частности
— станет разыгрывать из себя специалиста. Шаг за шагом устойчивая
позиция должна превратиться в момент времени, как об этом уже заявил
Фридрих Ницше. Это будут яростные битвы. Ибо более живая жизнь
умирает от столкновения со своими более мертвыми отрицателями. Но
в смерти, в страданиях ее существование передается этому
злополучному более мертвому. Как же это происходит? Придание жизни
происходит в каждой сфере тем способом, который годится лишь для этой
сферы. Мы знаем, как любовь производит на свет детей. Но представляется
странным, что этот вид размножения, эту «propagatio» (36), столь мало
отличают от способов продолжения жизни в других сферах.
И все же мы должны спросить себя, как распространяются массовая
пропаганда, растительность, трудовой план и бедствие-счастье. Только
если в пяти сферах есть пять разных способов размножения, мы сможем
понять, как страдания Спасителя ежедневно внедряют более живое в
более мертвое. В зачатии детей увековечивает себя любовь. Заражение —
это способ распространения органического. Закон и правило, надзор и
наставление приумножают в экономике продукт труда. Сила притяжения
концентрирует вокруг тяжелых тел массы вещества.
440
Сила притяжения Масса (физика) Приумножение
Заражение Органическое (медицина) Распространение
Регулирование Труд (экономика) Обобщение
Зачатие Дети (государство) Наследование
Приумножение, распространение, обобщение и наследование —
это попытки продлиться, способы, которыми четыре низшие сферы
пытаются овладеть временем. Таким образом, очевидно, что форма
продолжения своего бытия, присущая Спасителю, должна быть столь
же своеобразной. Мы тоже не в состоянии, как бы нам этого ни
хотелось, выдумать ее теоретически. И распространение блага — это
конкретный процесс, такой же, как оплодотворение или заражение! В нем
нет ничего сентиментального или вымышленного. Он является
дорогостоящей операцией в действительном мире. Он совершается с
точностью арифметического примера. Плодотворность спасения
проистекает исключительно из Воскресения Спасителя. Мы все должны
умереть, и ежедневно кто-то из нас умирает. Эта обыкновенная
смерть, подобная умиранию леса или луга, не приносит плодов.
Воскресение — это превращение смерти в приносящее плоды семя. Оно
начинается всякий раз, когда более живое по своей воле позволяет
более мертвому взять над собой верх. Это самоотречение большего во
имя меньшего — первый акт распространения силы спасения. Но
здесь имеется в виду не массовое убийство тупых и немых животных
ради принесения их в жертву. Особенно в наши дни такие жертвы и их
душераздирающая судьба у нас на виду и на слуху. Поэтому все
жертвы кажутся обесчещенными, использованными в преступных целях,
бессмысленными: «Мы благодарны фюреру за то, что умираем здесь».
Но такие слова больше никто не хочет слышать. 14 «жертв» пивного
путча 1923 г. тоже больше нельзя принимать всерьез. Спокойно,
спокойно. Во всяком случае, фигуранты так называемой всемирной
истории слепо подражают грому и молнии истории спасения. Тиран,
революционер, священник, мистик, гуманист, Прометей — все они
жаждут бессмертия. Нет ни одного человека, который не хотел бы
проникнуть в пятую сферу, сферу спасения. Перечисленные
человеческие типы «захватывают царство небесное» или, иными словами,
хотят стать бессмертными непосредственно — вместо того, чтобы
смиренно идти по единственному пути распространения блага,
ведущему в сферу V, и этот путь называется «воскресение». Именно здесь и
возникает путаница. Мы умираем, но некоторые хотят жить вечно. В
их страстном желании бессмертия отчетливо проявляется вечное
смешение методов сфер 1-1V с распространением спасения. Возьмем, к
примеру, богомолок. Они с гневом выступают против «Concupi-
scenz» — против плотских желаний. Но при этом они страстно
жаждут бессмертия. И все же та алчность, для искоренения которой
пришел Иисус, — это жадное стремление к духовному бессмертию.
«Плоть», которую Он проклинал, — это желание придать длительность
нашим намерениям! «Плотью» в Библии называется воля, а не
наслаждение. Апостол Павел разоблачает психологов, т.е. рационалистов
из сферы III, а не фиалку или льва.
441
Так что сферу блага и спасения надлежит самым педантичным
образом разложить на ее составные части, чтобы проследить за теми, кто по
злому умыслу расчленяет ее и растаскивает по своим укромным уголкам.
Осмыслив частичные акты, деяния, совершенные Гитлером, Терезой из
Коннерсройта (37), Фридрихом Вильгельмом Ферстером (38), Троцким,
мы, возможно, обнаружим то целое, которое они разламывают на куски.
В сфере V воплощается Бог. Но Бог вечен. Следовательно, каждое
событие в сфере V происходит раз и навсегда. Значит, одно и то же
мгновение должно быть соотнесено с двумя системами координат —
«однажды» и «навсегда», А и В. А: новое событие должно произойти
впервые. В: должно быть обеспечено его вечное возвращение.
Контрпримером является Эмпедокл, который, как говорят, прыгнул в жерло
вулкана Этна. Это — чистое А. Конечно, безумное событие, но без
последствий. Или же Сократ, у которого было много учеников, бесконечная
череда их, но ни одной завязи истины, какой был среди них сам Сократ.
Это — чистое В.
Ни безумное событие, ни бесконечная череда последователей еще не
являются «священными».
Иисус умер бы, не принеся плода, если бы пожертвовал собою
только ради того, чтобы его деяние признали «событием», т.е. совершил то,
что мы назвали элементом А. Он умер бы, не принеся плода, если бы
основал Иерусалимский университет. Ибо тогда он передал бы власть
элементу В. Процесс А и процесс В, взятые сами по себе, не создали бы
новой преемственности.
Единственное отличие Иисуса и двенадцати апостолов, с одной
стороны, и бесчисленными жертвами и бесчисленными учителями
человечества — с другой, заключается в единстве А и В. Но как оно
осуществляется? Благодаря тому, что времена обретают способность
заменять друг друга. Именно это подразумевается, когда говорится о
полноте времен. Естественно, ни один разумный человек не слышал
ни о чем подобном. «Что это еще за свободная подвижность времен по
отношению друг к другу?» — сердито спросит читатель. Что же, ни
один из апостолов или современных последователей Христа не ушел
так далеко, как он. Он уже добрался до конца. Они старомоднее его.
Все наши носители спасения моложе нас самих; Парацельс ждет нас.
Гёте — наш грядущий предок. Святые ждут, когда мы обратимся к
ним. И все-таки они уже здесь! Таким образом, в спасении нечто,
осуществленное лишь после нас, было посеяно задолго до нас.
Возможно, теперь читатель поймет абсурдно звучащее утверждение,
будто времена способны свободно заменять друг друга, когда в действие
вступает пятая сфера. «Грядущие предки» именно в этот момент еще
не являются твоими предками, но они ждут тебя, чтобы ты снова
воплотил их в себе. Таким образом, спасение дает завязь благодаря тому,
что ты любишь тех, кто был до тебя, и веришь, что будешь любим
теми, кто впереди. Тем самым становится безразличным, кто пришел
раньше, а кто позже! В сфере V нет ни отдельных индивидов, ни
наций или семей. В сфере V благодаря твоей любви «рождается» твой
предок, прежде тебе не известный, а твой потомок «умирает»; ведь из
любви к тебе он однажды откажется от самого себя. Таким образом,
442
апостолы Петр и Павел стали Христом для своего поколения. Они
задали масштабы самоотречения: у Петра его степень была мала, у
Павла — безмерно велика.
Это отчетливо видно на контрпримере апостола Иоанна. В отличие
от других апостолов, ему не нужно было обращаться в новую веру. Ибо
Иоанн не участвовал в распятии Христа. Я намеренно только что
обозначил потребность быть любимым внуками с помощью слов: «Из
любви к тебе они умрут и откажутся от себя». Ибо по этой причине Иоанн
произнес такие слова: «Ученик этот пребудет» (39). По этой же причине
Иисус на кресте мог доверить ему заботу о своей матери. У Иоанна дело
не доходит до кризиса и перелома. Он христианин по природе. Поэтому
Церковь не может быть построена на нем. Напротив, Петр и Павел
происходят из катастрофы распятия. Когда в них сливаются воедино А и В,
распятие и учреждение Церкви, Иоанн остается за рамками этого
процесса, ибо он пребывает именно там, где он и был. «Если я хочу, чтобы
он пребыл, что тебе до того?» — говорится Петру, когда он начинает
руководить новообращенными. Поэтому на Иоанна было возложено
выполнение совсем другой задачи. Ему дано вызвать к жизни эпоху! А
именно, когда в 70 г. от Рождества Христова старый Иерусалим был
разрушен, Иоанн оказался в состоянии в своем «Апокалипсисе» выразить
единство разрушения Храма и крестной смерти Иисуса. События в Геф-
симанском саду, случившиеся за сорок лет до 70 г., представляются ему
чем-то внешним по отношению к этому году, и так появляется небесный
Иерусалим.
Таким образом, между Христом, воскресшим в возрождении
апостолов Петра и Павла, и описанным в «Апокалипсисе» от Иоанна
Вечным Иерусалимом, воскресшим в смерти 70 г., существует
разграничение функций, имеющее глубокий смысл. Благодаря этому
разграничению распятие Иисуса и падение Иерусалима сливаются в одно и то же
событие. События спасения — все такого же рода. Они все
начинаются дважды. Гегель как-то сказал, что всякое начало должно произойти
дважды. Теперь мы видим, почему это так. Спасение создают эпоху.
Но в потоке времени нельзя было бы отличить эпохальное событие от
других, если бы определенные события не выделялись из общего ряда,
поскольку любовь, вера и надежда порождают их заново. Церковь
возникла лишь после того, как распятие Иисуса и разрушение Храма
слились в одно событие. Обе мировые войны составляют эпоху,
поскольку пары «Гитлер — Людендорф», «Рузвельт — Вильсон», «Сталин —
Ленин», «де Голль — Клемансо» снова всплыли на поверхность. Эпоха
«наций», начавшаяся в 1789 г. и доныне, как призрак, еще
гнездящаяся в сознании большинства людей, сложилась лишь после того, как
канонада под Вальми в 1792 г. и битва «Belle Alliance» (40) в 1815 г.
привели к одному и тому же результату — признанию французской нации
великими европейскими державами. Сегодня мы снова живем в другую
эпоху, рамки которой точно очерчены корейской кампанией 1904-
1905 гг. в качестве прелюдии и корейской кампанией 1950-1951 гг. в
качестве развязки. В 1789-1815 гг. речь шла о признании эпохи наций. В
1904-1951 гг. установилось единство мира, и в эту эпоху мы теперь
живем. Но эпоха национализма прошла.
443
Было бы несложно обнаружить те черты Французской революции,
которые восходят к Петру, Павлу и Иоанну. Но ореол святости вокруг
апостолов имел бы следствием то, что благочестивый читатель испытал
бы раздражение по отношению к современым носителям святости. И все
же я настаиваю на том, что Гёте, несомненно, принадлежал к типу
Петра, а сражение при Вальми было его Троицей.
И для нашей новой эпохи, установленной на срок с 1904 по 1951 г.,
существует точно такое же разделение, и похоже, что всегда должен
существовать тот Единственный, жизнь которого просто проходит сквозь
всю эпоху: Меланхтон (41), Менар (42), Талейран, Сталин.
Воскресение — это процесс, некогда начавшийся и с тех пор ставший
воспринимаемым и предсказуемым раз и навсегда. Весь сакральный поток
счастья и несчастья может передаваться и распространяться только
благодаря отрекающейся от самой себя и возлюбленной жертвы. В мучениках
спасение возникает снова. Все народы Земли вплоть до 1800 г. знали, что
приумножение, распространение, обобщение, наследование на высшей,
пятой ступени должны увенчиваться Воскресением. Между тем,
теология девятнадцатого века отрицала это. Наибольшее понимание у нее
встречало обобщение: по ее представлениям, оно вкупе с
распространением и приумножением не было сопряжено с жертвой. Иисус был
простым учителем! Поэтому частные науки, а не теология, должны снова
открыть и реабилитировать Воскресение.
Каждый исследователь призван решить, имеет ли значение для его
исследования спасение, насаждаемое далее благодаря Воскресению. Это
должно быть засвидетельствовано или опровергнуто каждым словом,
которое он печатает, изучает, мыслит или читает. В науках имеет силу
родовое древо смерти. Там ветви, более близкие к смерти, отрицают свою
зависимость от более живых ветвей. Но мы говорим, что временной
спектр и гармония сфер должны почитаться всегда. Не может быть
никакого продвижения вперед, кроме как через высшую сферу жизни,
понимаемую как Воскресение: только она защищает наиболее уязвимый
способ воспроизводства, отдавая ему предпочтение перед всеми другими
способами, и пусть поденщики от науки признают это. Только
благодаря жертве вступает в силу полнота времен, в которой — для того чтобы
ориентироваться, — нуждается даже такой труженик на ниве научного
познания. Планомерно работающий исследователь воображает, что он
может безусловно рассчитывать на прогресс: даже столетие спустя кто-
нибудь еще будет считаться с его исследованием. Какая иллюзия!
Прежде чем докторские диссертации, написанные в 1960, 1970, 2020 гг.,
смогут осмысленно дополнить друг друга, некая сила должна будет связать
воедино сердца людей 2050 и 1950 гг. Пятая сфера благодаря
Воскресению создает именно эту эпоху. Ибо она так обращает друг к другу
сердца преемников и предшественников, что из обычных потомков и
предков возникает новый тип человека — личность. Личности — это люди,
которые постигают друг друга в качестве предшественников и
наследников. В такой способности понимать друг друга время превращается в
единую цветущую ниву; здесь будущее перестает быть «лучше»
прошлого, а традиция перестает быть «лучше» новшеств. Ведь все времена — это
одна-единственная полнота времен, исходя из которой все оказывается
444
находящимся в нашем распоряжении — как старое, так и новое; как
древнейшее наследие Адама, так и события Страшного Суда. Тогда
«небеса», т.е. порядки, которые во времени выходят за пределы твоей и моей
жизни, открыты. В свете этого открытого неба обнаруживается то, что
по-настоящему необходимо. Бесконечные физические силы,
ритмическая органика цикла, создающее ускорение усилие воли, вечно длящаяся
любовь — все они равно оказываются в распоряжении носителей блага,
и все они в равной мере обоснованны. Таким образом, в
летоисчислении освобожденных и спасенных обретают смысл даже докторские
диссертации с воплощенной в них задушевной верой в про фесе науки. Ибо
в этом летоисчислении почти безжизенные докторанты, изнуряющие
себя ради получения диплома доктора наук, как и все более
безжизненные сферы, ставятся на службу эпохе.
Не первооткрыватели как таковые, не люди труда, не
прометеевский тип или люди с железной волей устанавливают мир между
тысячелетиями, мир, без которого мы должны были бы зачахнуть, вверившись
слепому случаю. Из тех, кто открыт навстречу спасению, в каждом
поколении созидается тело детей Кроноса. Все вместе они творят Зевса —
Юпитера, Кронида, т.е. свет нашего земного дня. Они порождают свет,
в конусе которого только и приобретают смысл труды, ритмы, случаи,
браки.
Из дня Сатурна в молчании и умирании субботы возникает
Воскресение воскресного дня. Это совершается, чтобы была в наличии и
пятая сфера, сообразуясь с которой обновляют себя все другие сферы и в
которой вечное Слово принимает на себя наши страхи, в противном
случае оставшиеся бы безымянными.
Вчерашняя, сегодняшняя и завтрашняя жертвы передаются далее не
через посредство половой любви, а только в актах воскресения.
Христос воскресает всякий раз, когда кто-то во имя Бога берет на себя
несчастье и тем самым освобождает время из-под власти Сатурна.
Другие сферы получают из стоящей над ними сферы личностей,
связанных между собой в качестве воскресающих, свой эон, свою
триангуляцию во времени; они определяют, в каком моменте времени
они находятся. Ибо смысл мгновения не известен ни публичному, ни
частному праву, ни любви, ни труду, ни медицине, ни физике. Тот,
кто вышел из сферы Сатурна, воскресающий, говорит именно это:
«Сегодня». Вот что он говорит. И еще: «Время настало». Так он
говорит под открытым небом по ту сторону публичного и частного права.
Только благодаря этому сферы устанавливают между собой разумную
взаимосвязь. В том, кто отрекается от самого себя и при этом любим,
времена соединяются. Это — истинный путь жертвы — носительницы
имени в глубину вещей. Ибо не существует хода вещей, а только путь
в глубину вещей. Вещи подвергаются воздействиям, гибнут и
разрушаются. Но истина состоит в следующем: когда в этот мир — мертвый
наполовину, на три четверти и совершенно мертвый — привносится,
как некая жертва, новое имя, начинается новое течение жизни.
Именно такое движение, а не гегелевская диалектика, ведет к
истории. Маркс и Гегель представляли себе мир как дуэль адвокатов, т.е.
исходя из своего бодрствующего рассудка, поскольку они считали
445
язык орудием дискуссионного мышления мужчин. Но язык служит
нам всем — детям и художникам, матерям и невестам, а не только
мыслителям. Язык связует между собой все возрасты жизни, все
времена. И он движется от исцеляющего и спасающего имени к союзу
влюбленной пары, к трудовому объединению, к культурному
сообществу, к концу. Это означает, что то же самое слово, которое, будучи
принесено в жертву, вверяет себя смерти ради обновления жизни, в
ходе событий произносится все чаще, обретает все большую полноту
звучания и в конце концов, увы, изнашивается. Но это свершилось
не напрасно: некоторое время оно обновляло мир. Таким образом,
значима не рассудочная диалектика, которая мысленно разлагает мир
на части, а путь страданий одухотворенной жертвы. Даже в случае
Маркса в счет идут только жертвы, принесенные им самим и его
удивительной женой. Иначе «антитеза» все еще лежала бы на письменном
столе. Однако именно так безвременье и время становятся едины, и
временной спектр остается полным, когда диссонанс сфер вызывает к
жизни новый тон, когда он оказывается услышан повинующимися и
когда таким образом снова начинает звучать гармония сфер — от имен
героев Пасхи, любви, связующей браком, до деяний Юпитера, до
сделок и повседневных забот Меркурия. Тогда снова на некоторое время
устанавливается мир.
Мир зависит от настойчивого призывания и почитания высшей
сферы низшими. Ибо только в призывании низшие, одурманенные сферы
открываются навстречу пробуждающей силе истории спасения. Низшие
сферы, которые больше не призывают высшую, отрицают полноту
времен. И тотчас же устремления, определяемые воскресающими,
сменяются войной против всех. Либерализм своим отказом от призывания
породил хаос.
Подведем итог. Пребывая на пяти разных уровнях, мы дополняем
друг друга во имя обретения власти над временем или, точнее, ради
исполнения времени. Ибо никто из нас не"остается навсегда на одном и
том же уровне. И никто из нас не может воплощать в себе все сферы
одновременно. Поэтому нет никакой «этики», поскольку она
перечеркивается «летописью». Это означает, что целостность полноты времен, Хро-
нос, отводит каждому из нас свою сферу времени. Однако эта сфера
постоянно сменяется другой.
Велико искушение от осуществленного нами установления прав сфер
сразу же вернуться к отвергнутой традиции — ибо, может быть, эта
истина уже давно учитывалась, например, в красках церковной литургии.
Церковь почитает фиолетовый, голубой, желтый, красный и белый
цвета. У нас черный и белый означают смерть и жизнь, а в Китае, наоборот,
жизнь и смерть; и то, и другое оказывается вполне понятно, если
времена должны быть символически выражены при помощи цветового
спектра. Белый и черный цвета как раз обрамляют полученные в результате
преломления цвета, обозначая свет и мрак. Подобным же образом
времена любви, бодрствования, сна ограничиваются, с одной стороны,
эпохальными именами, с другой — бесконечными механизмами, и это
означает начало творения и конец развития. Цвета вызывают к жизни и
приговаривают к смерти.
446
V Белый Свет Начало творения Новые имена
IV,111,II Цвета Жизненные процессы
I Черный Мрак Конец развития Сила тяжести
I и V близки друг другу: каждое новое имя дается ценой смерти!
Слово «evolutio» представляется недостаточно ясным, если мы
переводим его как «развитие». С помощью приставки «раз-» мы
рассчитываем поднять механическое развертывание до уровня биологического
процесса. Но развертывание не содержит в себе ничего живого. Напротив,
те жизненные процессы, которые таким образом объясняют, исходя из
механических процессов, возникают из способности всякий раз
благодаря творению ускользать от простого развития, ведущего к концу, и тем
самым снова и снова обманывать смерть.
Просто развивающееся «бесконечно» продолжается, поскольку оно
уже мертво! Никакой естественной истории творения потому и нет, что
жизнь всякий раз самым неестественным образом обращается против
существовавшей до сих пор природы.
Можно провести и другие соединительные линии. Но сегодня мне не
хотелось бы касаться этих связей с мудростью, заключенной в традиции.
К сожалению, они «в высшей степени интересны», а на интересном
лежит проклятие: у нынешних критических умов интересное убивает
истинное. Ведь так интересно знать, какие цвета использует Церковь или
какие звуки слышал Пифагор, что никто больше не спрашивает, а те ли
это истинные цвета и звуки, благодаря которым мы становимся живыми?
Я иногда думаю, что большевистские заклинания так монотонны
потому, что марксисты борются против всего интересного.
Мы должны принимать во внимание степени жизненности не из
интереса, а для того, чтобы отвести несчастье. Исцелятся те больные,
которым откроется полнота сфер. Я видел, как больные погибали,
поскольку мнили себя отрезанными от пятой или второй сфер. Я вижу каждый
день, как врачи лечат больных исходя из симптомов, не выделяя тех
сфер, из которых должно было бы прийти исцеление. У трех четвертей
людей нет доступа к той или иной сфере просто потому, что
существование самих этих сфер отрицается.
Следует начать признавать истинность пяти октав, при помощи
которых время обращается к нам, а для этого, по-видимому, их нужно
перестать считать интересными. Пока что безразлично, кто уже познал или
символически выразил эти истины. Прежде всего речь идет о том,
имеют ли они силу среди нас.
Поэтому пусть читатель представит себе нашу жизнь, а не ее
отзвуки в сферах или символах. Я апеллирую к опыту читателя, связанному
с «piano», «fortissimo», «presto», «ritardando» (43) его жизни и с их
энгармоническим чередованием. Но мой аргумент — это не аргумент ad
hominem (44). Осуществляемая вами перепроверка моих тезисов должна
совершаться ex homine (45), т.е. исходить из полноты ваших собственных
времен, а не из пустоты вашего рассудка. Ибо слово обращено к
совершенному человеку в тебе, а не к человеку рассудительному.
Человек пребывает в пяти временах разной продолжительности,
каждое из которых действует на нас по-своему. Покупка автомобиля, выбор
447
моей диеты, избрание профессии принадлежат к временным сферам I,
II, III, поскольку они оказывают воздействие в промежутки времени
продолжительностью от одного дня, состоящего из 24 часов, до
срока человеческой жизни. Пищеварение осуществляется в течение 24
часов, профессия сказывается через 30 лет. Но любовь и политика
апеллируют к доверчивости тех, кто причастен к совсем другим временам.
Любовь воспроизводит этот народ из поколения в поколение, а
политика определяет эпохи и то, какой тип народа должен существовать.
Многие поколения связаны с моим биологическим видом. Носителями этих
далеких горизонтов времени никогда не становятся «просто так». Уин-
стон Черчилль пишет в пятом томе своей истории второй мировой
войны, как в результате некоего «озарения» ему удалось вырвать
архитектурное решение здания палаты общин из рук планировщиков сферы
бодрствования. Он хотел видеть в этом здании осуществление сферы IV,
соответствующей дому для одной семьи, в которой был бы
один-единственный стол. А его непонятное для всех рационалистов решение
происходит из сферы V. Согласно этому решению, нельзя допустить, чтобы
в здании число мест составляло больше двух третей от числа членов
Палаты. Тогда в важных ситуациях зал будет создавать впечатление
огромного скопления народа, привлеченного неотложной необходимостью.
Ибо, как он пишет, собственные пульты и просторные залы в форме
окружности разрушили многие парламенты. Таким образом, у каждой
сферы — своя архитектура. И как могло быть иначе, если каждая сфера
пытается придать тем, кто к ней принадлежит, всецело соответствующие ей
формы? Великая архитектура возможна только для четвертой и пятой
сфер, поскольку только в них известно о переходе из одной сферы во все
другие. Но в Европе или Америке, за исключением Англии, того, кто
вслед за Черчиллем утверждал бы, что не каждый депутат нуждается в
собственном пульте и даже в собственном месте, сочли бы безумцем. А
именно, здесь предполагается, что человек «сразу» становится
депутатом. Но в Англии палата каждый день творит своих членов заново.
Архитектура — это не единственное искусство, которое изменяется в
соответствии с пятью сферами. Историографы тоже обретаются на этих пяти
уровнях в зависимости от того, считают ли они свою тему предметом
природы, культуры, политики, любви или жертвенной преданности.
Истории развития, пребывающие на самом безжизненном уровне
существования, близящегося к концу, на уровне мертвых тел, усердно
пытаются придать достоверность историческим «случайностям»,
преувеличивая длительность отмеренных им промежутков времени. Но, может быть,
разворачивание мертвых механизмов, т.е. постепенный распад,
завершающийся гибелью и замерзанием, вовсе не следовало бы называть
историей. Но несмотря на то, что еще встречающийся по ту сторону
смерти «ход событий» представляет собою нечто противоположное истории,
а именно историю утратившего свою пригодность объекта, историю
трупов, читателю самому ведь слишком хорошо известно, что в наше время
половина всех книг заполнена такими описаниями мертвых тел. Это
становится предельно ясно, если мы вспомним о том ликовании, каким
была встречена в 1918 г. книга Шпенглера (46). Шпенглер пребывает
именно на уровне Меркурия, растительной жизни, и потому его «куль-
448
туры» имеют органический и растительный характер. Но поскольку они
спят, они, по крайней мере, не мертвы. Так что мир преклонил голову
перед этим гением, который у могилы Запада прислушивался к его
ритму и улавливал дыхание «культур», а не «подвижки» в системе господства
механизмов. В сознании неспециалистов Шпенглер сменил геологов или
эволюционистов. Среди профессиональных историков преобладает
третий стиль. Там есть добросовестные труженики в области политической,
экономической, религиозной, национальной, правовой и тому подобной
истории. Наиболее выразительным типом такого ученого можно считать
историка искусства, который совлекает для нас покров с намерений
художников и заказчиков. Но сюда же относятся и Зибель, Вайц, Тэн,
Моммзен, Гардинер, Олар (47) с их научными притязаниями на
объективное исследование материала, основанными на присущей им
гуманистически-рациональной психологии отдельных личностей и
государственных мужей.
Эта история происходит из третьей сферы, сферы бодрствования, она
представляет собой результат неусыпного и тяжкого труда индивидов и
четко отделена от Шпенглера и Дарвина.
Национальные историографы и биографы вместо этого
осуществляют свою деятельность в сфере IV. Трейчке, Маколей, Бэнкрофт (48)
совсем не стыдились своей великой любви — так же, как авторы
жизнеописаний Лютера или школа Стефана Георге (49). Не было такого
бедствия, какого бы они ни устранили своими толкованиями, не было
таких благих свойств, которые они ни приписали бы своим героям. Ибо
эти историки любви и ненависти искали в тех, кого они любят,
всяческое благо, и они не заметили, что их восхваления привели к падению
наций. Историки, влюбленные в своих героев, причиняют страдания
именно тем, кого они любят: они делают их слепыми. Об этом знал
Якоб Буркхардт (50). Поэтому он еще не предан забвению. Он — сатур-
нист, историк несчастий, но именно поэтому он причастен к высшей
сфере — сфере V. Разумеется, этот ум, вера которого была слаба, не
хотел ничего знать о том, как в истории проявляет себя спасение.
Действительная «история просьб», история новых начал, не пишется
такими детьми Сатурна, как Буркхардт. Первая глава евангелия от Матфея
здесь все еще остается недостижимым образцом; правда, поэтому
обитателям сфер I-V эта глава представляется простой генеалогией. Но
речь идет о сотворении Спасения.
Действию сфер подчинены не только архитектурные сооружения или
книги по истории. Их отличительные знаки или соответствия имеются
и на нашем теле. То, что сердце, половые органы, желудок оказывают на
нас свое воздействие, после открытия психоанализа не является чем-то
новым. Но врач Рихард Кох в конце своей жизни, в 1948 г., будучи на
Кавказе, еще попытался напечатать статью, в которой говорилось, что и
сфера V с ее властью освобождать нас от имен и подчинять нас новым
именам имеет в нашем теле свой орган. Он назвал его «quadrigemina»,
«четверной бугорок». По его мнению, это — архаический орган, с
помощью которого мы на протяжении жизни «задаем тон» всем тем видам
общения, к которым мы «взываем». Тогда мозг — это только орган,
перерабатывающий информацию под верховным контролем четверного бу-
15 3ак. 3524
449
горка. Кох указывал на то, что уже Декарт искал чего-то подобного, когда
писал о шишковидной железе. Наше тело всегда находится во всех пяти
сферах, и мне отрадно ждать, как подтвердится гипотеза о четверном
бугорке. Очевидно одно: каждая сфера начинает звучать благодаря нам.
Мы озвучиваем ее. И, таким образом, великая последовательность
блистательных имен, наполняющая собой столетия, по-видимому, должна
материально воплотиться в некий орган и высоко вознестись над
безудержными потоками слов и понятий. Ибо мы и в самом деле
находимся в истории имен, сохраняющих свое значение и пронизывающих
своим звучанием тысячелетия. В течение всей нашей жизни нас заставляет
вибрировать та широчайшая сфера волн, которая и обусловливает смысл
нашего бытия. Носителем этих колебаний как раз и мог бы быть
четверной бугорок. Тогда мозг в сравнении с ним был бы предназначен для
восприятия кратковременных процессов.
450
Творение будущего
Будущее христианства
ш
Творение будущего
Победа над язычеством — Предвосхищение смерти — Смысл истории —
Прогресс — христианский или современный ? — Наука и христианская
вера — Прерывность веры
Вопрос о будущем христианства неуместен. «Будущее
христианства» — это не случайная комбинация слов вроде «будущее
автомобильного дела» или «будущее Европы». Христианство
является основателем и попечителем будущего, самого
процесса его обнаружения и обеспечения, и без христианского духа
для человека не существует настоящего будущего.
Будущее означает новизну, неожиданность, вырастание из прошлых
привычек и отказ от прежних достижений. Когда работа, движение,
учреждение не обещают ничего, кроме однообразного повторения рутины,
существующей в мысли и действии, мы совершенно правильно говорим:
«У них нет будущего».
Испытывая очевидные сомнения относительно того, есть ли еще
будущее у христианства, люди в последние годы требовали спасти
христианство от разрушения — спасти вместе с цивилизацией и некоторыми
соседними островами сокровищ. Но «спасение» христианства ненужно,
нежелательно, невозможно, потому что это является чем-то
антихристианским. Христианство говорит, что тот, кто пытается спасти свою душу,
потеряет ее. Нашей высшей потребностью является не спасение того, что
мы самодовольно считаем принадлежащим нам, но возрождение того,
что мы почти потеряли. Настоящий вопрос стоит так: «Есть ли у нас
будущее?». Т.е. будем ли мы христианами?
В центре христианского вероучения находится вера в смерть и
воскресение. Христиане верят в конец света, который происходит не один
раз, а снова и снова. Это и только это является той силой, которая
делает нас способными умирать для наших старых привычек и идеалов,
выходить из старой колеи, оставлять наше мертвое «я» позади себя и делать
первый шаг в сторону подлинного будущего (1). Поэтому «будущее» и
«христианство» означают одно и то же.
Когда Гитлер пришел к власти, современный мир почти забыл, что
означает христианство. Многие его дары, пропитавшие нашу жизнь,
мы перестали осознавать, так что принимали их как само собой
разумеющееся и не обращали внимания на дарителя. Конфликт с язычника-
453
ми позволил первым христианам живо осознать то, за что они сами
выступали, но к 1850 г. не осталось достаточно убежденных язычников,
чтобы держать наши сердца в состоянии готовности к борьбе — за
исключением отдаленных областей, где осуществлялась миссионерская
деятельность. Пренебрежительный термин «туземцы», применяемый к
населению таких областей, предполагал, что этих людей нельзя
принимать всерьез в качестве угрозы христианству. Тем временем,
замаскированное язычество цвело буйным цветом у нас дома — в
академических традициях и во всеобщей поглощенности материальным
усовершенствованием. Но ныне это явное язычество снова рвется вперед, и
мы, если хотим выжить, не только можем, но и должны раскрыть
действительное значение христианства.
Победа над язычеством
Расистские теории и практика нацистов помогут нам воскресить в
памяти то, о чем мы уже давно почти забыли: христианство пришло в мир
разделенных между собой форм человеческой общности — в мир рас,
классов, родов, наций, империй, каждая из которых жила только для
самой себя. Оно не просто уничтожило эти формы общности: ведь это
ввергло бы людей в нигилизм и зачеркнуло бы предшествующую работу
творения. Иисус пришел не отвергнуть, а исполнить. Даруя
действительное будущее, христианство, скорее, внедряло в самую сердцевину форм
человеческой общности силу, которая, действуя из конца времен, шаг за
шагом влекла их к единству.
Таким образом, язычество означало — и означает — отсутствие
единства, разделенность человечества. Это верно как исторически, так и
географически. Языческих историй много, а не одна, и каждая из них
начинается где-то внутри времени, например с основания Рима или с
начала Олимпийских игр в 776 г. до Р.Х., и "заканчивается подобным же
образом: Бог Хронос пожирает всех своих детей. Так что языческая мысль
почти повсеместно изображает человеческую жизнь как упадок и
попятное движение от золотого века в прошлом к окончательному
разрушению в будущем. Она не может представить себе ничего, кроме
бессмысленного повторения того же самого цикла в течение целой вечности.
Греки не верили в прогресс (2, 3).
Циклическое мышление — это настоящая одержимость языческого
духа (4). Вавилонский Великий год и его отзвуки в индийских,
буддийских, платонистских и стоических учениях, доктрина неизбежного
круговорота форм правления, получившая классическую формулировку у
Полибия, культурные циклы Вико и Шпенглера (1*), мексиканские
мифы, германские «сумерки богов», регулярно возвращающиеся через
определенные промежутки времени, отбрасывание Гитлером «всей
Солнечной системы» истории, которую он провозгласил уже
прошедшей, — все это его примеры. В таком мышлении воплощаются высшие
достоинства язычника; оно смотрит миру в лицо с благоразумием и
мужеством, и оно основано на фактах опыта. Но это мышление без веры,
любви и надежды, а потому оно не знает будущего. Средневековая
454
«Песнь о Нибелунгах» завершается криком, что всякая любовь
кончается мукой и скорбью.
И в самом деле, цикл — это прототип существования, не имеющего
будущего и навсегда прикованного к колесу бессмысленного повторения.
Далеко не случайно самым ранним известным источником циклического
мышления является вавилонская астрономия. Язычество основывает
свою веру на автоматизме солнечного календаря и принимает для
своего каменного сердца ту долговечность, которой обладают небесные
светила — простое слепое движение по кругам, эллипсам и эпициклам.
Единственное известное язычеству средство избавления от чувства
неотвратимости судьбы — это набрасывание на нее покрывала в мифах.
В наши дни мы много слышим о мифах, и их намеренное
восстановление — очевидный признак возрождения язычества. Я думаю, что
язычество лучше всего понимается, если его рассматривать как ответ
первобытного человека на страх смерти. Все люди рождаются в некоторой
определенной системе связей с семьей, расой, страной. Но все конечные
формы должны умереть, и если ничто не может приподнять нас над
этими случайными событиями рождения, то, когда они прекратятся, мы
должны будем умереть вместе с ними. Язычник привязан к крошечному
клочку земли, в котором его укореняет его рождение, и поэтому его душу
преследует неумолимая и непреклонная судьба.
Миф — это форма духовной жизни, которая претендует на то, чтобы
быть бессмертной, и суть его всегда есть фиксация сознания на какой-
либо преходящей вещи, которая тем самым увековечивается. Ничто на
земле не является совершенным или вечным. Миф претендует быть
таковым. При языческой раздробленности человечества посредством
мифов каждое сообщество было заключено в собственные время и
пространство. Каждый миф — от мифа об Осирисе в Египте до мифа об
Одине в Швеции (2*) — стремился установить непосредственное
отношение между его носителями и вселенной для того, чтобы отграничить
свое особое место или свою этническую группу от остальных. В VIII в.
папа Римский с удивлением обнаружил, что короли Линдисфарна (3*),
начиная приблизительно с 340 г. от Р.Х., были удовлетворены тем, что их
родословная восходит к богу Одину.
Мифы возникли, чтобы скрыть смерть как в прошлом, так и в
будущем. Каждый основатель города ревниво обрубал корни, которые
связывали его с прошлым. Ромул должен был стать царем, и Рем был убит,
потому что никто не может быть царем в глазах своего брата. Роды и
города древности утратили общие воспоминания из-за того, что у их
истоков находилась кровавая вина. В соответствии с этим, их мифы были
построены на той части их опыта, которая была подавлена и оставлена
без имени, которая представляла собой невыразимый пробел. Греки и
называли его «appiycov», т.е. «то, о чем не принято говорить». У всех
светских обществ есть скелет в шкафу. Даже семейные генеалогии
обычно избегают упоминать о неприятных предках и вместо этого
рассказывают сказки.
С другой стороны, христианство сочло неприятное само собой
разумеющимся: на место родословной, начинающейся от мифического
предка, оно поставило первородный грех, унаследованный от Адама. И оно
455
решительно начало с середины времени, а не с мифологического
тумана. В противоположность отрицающим смерть мифам и не оставляющим
надежды циклам, живое будущее оплачивается нашей готовностью
впустить смерть в нашу жизнь и преодолеть ее. Это — наиболее важный дар
христианства: оно показало, что страх смерти не должен гнать человека
в узкий круг какого-либо определенного сообщества. На месте
языческого разделения христианство создало всеобщую родословную для
человека, который преодолевает все частные концы и начала и измеряет
историю, исходя из конца времени.
Но у христианской эры недостало бы гордого мужества идти к концу,
если бы Израиль не подготовил для него путь, объявив войну мифологии
путем установления единства происхождения человека. Библия
открывается ликующим восклицанием: «В начале сотворил Бог небо и землю».
Эти слова были произнесены для того мира, в котором небесные боги
освящали разделение стран на земле при помощи мифов, различных в
каждой отдельной местности, для того мира, в котором разделение неба
и земли, страны и страны, нации и нации было признанной
реальностью. В противоположность тысячам Элохимов (4*), вдохновляющих
мифических героев, Бог един. Но евреи не превратили своих создателей в
мифических героев, они оставили их человечными и неприметными,
окружив их историями об их разговорах и отношениях с другими
людьми. Прорвав завесу частных, языческих начал, они сделали видимой цепь
преступлений, о которых не принято говорить, — вроде убийства Авеля
Каином, — и которые разрушили единство человеческого рода. За всем
этим они обнаружили Единого Бога, который не участвовал в
произведенных людьми разделениях. В Нем конечная цель человеческого рода —
жить в мире в качестве единого — открылась как единство, которое
гарантировано уже в сотворении Адама.
Но тогда нет ничего удивительного в том, что в наши дни христиане
в Германии преследуются под сенью преследований евреев.
Сочинители мифов знают своего главного врага. Евреи являются живыми
свидетелями истины, которую необходимо замалчивать всякий раз, когда
нужно сочинить миф. Возможно, когда-нибудь будет сфабрикован миф об
индейском характере всех американцев. Если это случится, то евреи
снова должны будут страдать, как они сегодня страдают от комплекса
нордической расы.
Иисус создал будущее человека, стоя на фундаменте, заложенном
Израилем. Задачей Израиля было установление единства неба и земли,
мужчины и женщины, брата и брата, отца и сына. Иисус завершил это
движение человеческой истории к единению, открыв новое измерение: творение
нового человека путем предоставления язычнику и иудею возможности
пережить самих себя. Вот почему он был совершенным человеком,
первым совершенным человеческим существом. Он преодолел разделение
людей, раз и навсегда прожив по специфическому закону человеческого
рода, согласно которому человек может продвигаться от
фрагментарности к полноте, только переживая смерть своего ветхого Адама, своих старых
привязанностей, и создавая новые. Конечно, Гомер, Перикл, Цезарь были
великими людьми, но ни один из них не пережил самого себя полностью,
ни один из них не отверг свою национальность, свой клан или город так
456
основательно, чтобы это стало темой всей его жизни и заставило бы
других людей следовать ему в этом обращении. Иисус сделал именно это и
тем самым доказал, что каждый конец может стать новым началом, что
даже абсолютный крах и смерть могут сделаться плодоносными.
Посредством этого была завоевана последняя граница души, и вся область души
смогла начать развиваться. Преодолев наш языческий страх духовной
смерти, Иисус открыл во всех нас пути, соединяющие нас со всеми
остальными. Смерть стала носителем жизни между душами (5).
Предвосхищение смерти
Иисус, поскольку он был первым, кто повернул движение человечества
к единству, является центром истории (6). Он — «Альфа» и «Омега»,
начало и конец: все прошлое и все будущее встречаются в нем. Он не был
просто пророком грядущего, как Иоанн Креститель. Не был он и
идеалистом, как Платон. Он был первым «окончательным человеком»,
первым, кто жил, исходя из конца времени и двигаясь к своей собственной
эпохе.
Честертон (5*) неподражаемо выразил парадоксальную природу
христианской концепции времени, написав в «Балладе о белой лошади»: «И
конец света был уже давно». У христианина конец света, т.е. его мира,
находится позади него. Начало и конец поменялись местами.
Естественный человек язычества начинает с рождения и живет, двигаясь сквозь
время к смерти. Христианин живет, двигаясь в противоположном
направлении — от конца жизни к новому началу. Переживая смерть, он
снова обнаруживает перед собой первый день творения. Он выходит из
могилы своего ветхого «я» и входит в открытость реального будущего (7).
Руфус Джонс (6*), говоря о современном христианине, объяснил, что
означает жить, исходя из конца времени: «Он не намеревался
отсрочивать применение принципов Царства Божия до тех пор, пока оно не
восторжествует окончательно. Если бы был избран такой образ действий,
то Царство Божие никогда бы не пришло. Единственный способ
принести его — это мужественно начать быть Царством Божиим в той мере, в
какой отдельный человек может открыть его другим. Вместо того чтобы
отсрочивать его приход, относя его к небесной сфере или к рассвету,
который должен наступить через тысячу лет, он смело взял на себя задачу
начать жить в соответствии с требованиями Царства Божия» (8).
Живя Царством Божиим, принося его из конца времени и воплощая в
себе часть его здесь и теперь — вот каким образом человек, начиная с
Иисуса, сознательно участвует в творении самого себя. Человек
посвящается в тайну своего предназначения. Он стал партнером Бога в обладании
глубочайшей мудростью: теперь он знает, когда следовать ходу эволюции,
когда прощаться с ней, когда заканчивать ее. В период расцвета великих
языческих культур человек проявил себя как мастер блестящих творческих
начинаний. Через посредство христианства он стал мастером творческих
концов, завершения самого себя и всех своих дел. Обретя способность
говорить и нет, и да, умирать частично и частично выживать, человек стал
целым, и теперь он обладает полной свободой чад Божьих.
457
Тот, кто хочет спасти свою жизнь, потеряет ее, а тот, кто потеряет ее
ради Христа, обретет ее: смерть парадоксальным образом стала ключом
к вечной жизни. Научившись предвосхищать неизбежный конец,
который язычник изгоняет, человек лишил смерть ее парализующей
неотвратимости. Предвосхищая наихудшее, он может погребать своих мертвецов
вовремя. Язычник уже был готов умереть физически — за свою семью,
храм, союз, нацию или расу, но все это он считал бессмертным, а
потому лишенным изъянов. Он не мог примириться с необходимостью
позволить им умереть, когда придет время. Следовательно, он погибал
вместе со своими святынями.
Люди творят будущее тогда, когда стабильность общества в том виде, как
она существует, становится для них более чем сомнительной и когда они
чувствуют, что надвигается конец света. Предвосхищая смерть некоторой
части своего разума, своих идеалов, своих старых привязанностей, они
одерживают победу над неизбежной полной смертью, которая преследует
язычников, подобно Немезиде. Так что, например, «в предвосхищении
Антихриста средневековая Церковь обрела способность высматривать
мельчайшие признаки упадка. Предвосхищая угрозу конца, любая форма
общества может достичь бессмертия». «Предвосхищение суда, грозящего
нашей цивилизации, — лучшее средство против ее неизбежной гибели» (9).
Таким образом, вера в конец света, или «эсхатология», — это самая
суть христианства. Однако до недавнего дня современный мир
фактически забывал об этом. Несколько лет назад, читая лекции на теологическом
факультете Гарварда, я спрашивал каждого в аудитории, верит ли он в
Страшный Суд (Last Judgment). Все только смеялись. Вера в Последние
Вещи (Last Things) оставлена шутам вроде Честертона (10).
Так называемая «либеральная» теология унаследовала «естественное
христианство», лишенное эсхатологии, от Просвещения
восемнадцатого века, и ее собственные интересы были сосредоточены вокруг
«философии» религии и изучения жизни Иисуса. Только через пятьдесят лет
после 1892 г. теология постепенно вернула себе прежние
эсхатологические позиции, по крайней мере, в отношении самого Иисуса и ранней
Церкви (11). Но вслед за тем такие ведущие ученые, как Кирсопп Лэйк
(Lake), со всей искренностью заключили, что первоначальное
христианство навсегда разорвало с разумным современным человеком. И
действительно, как же современный человек может верить в конец света?
Но Европа, между тем, «осуществила» эсхатологию в качестве
определяющей истины повседневной жизни. Описывая падение Франции,
иностранный корреспондент писал: «Когда вы видите, как разрушается
великая нация, вы чувствуете, что конец света наступил». На Пасху я получил
исторический документ от католического историка Церкви Йозефа Вит-
тига (8*) — всего лишь записка, в которой он призывал меня прочитать
фрагменты 10, 832, 1771 «Enchiridion Patristicum» Руэ де Жувенеля (Rouet
de Jouvenel) и добавлял, что эти тексты имеют непосредственное
отношение к народам Европы. Оказалось, что это «Didache» 16, 3, катехизис
Кирилла (9*) 15, 11 и «Град Божий» Августина 20, 19, 4 — самые мрачные
и страстные описания Антихриста и конца времен!
Так что этот историк живет сейчас, в современной действительности,
благодаря тому, что в статье Гранта было представлено американским
458
«профессорам распятия» — согласно иронической фразе Кьеркегора
(10*) — как видение, имевшее место 1900 лет назад. Истина
эсхатологии — это не теоретическое суждение, которое может быть вновь открыто
научными средствами и положено на письменный стол в виде книги. Это
событие, которое постоянно угрожает нам и которое должно быть
снова завоевано с верой и при помощи веры. Мы должны любить мир,
потому что он всегда находится в тупике. «Труп нации, совершившей
самоубийство», — так генерал Темплар (Templar) описал Германию. Разве
этого «конца света» все еще недостаточно для Разума?
Ниспровержение Просвещением христианской эсхатологии имело
весьма важные последствия. Никакой народ не может жить без веры в
окончательную победу чего-либо. Так что пока теология спала, миряне
обратились к другим источникам Последних Вещей. Что же еще мирянин
мог сделать в ответ на эксцентрические идеи ученых? Человек не может
жить последними новостями науки. Он нуждается в полной вере, полной
надежде, полной любви. Соответственно — поскольку либеральная
теология не признавала существования в человеческой жизни таких
радикальных сил, — огонь эсхатологии поддерживали люди типа Карла Маркса и
Фридриха Ницше. Маркс проповедовал эсхатологию Ветхого завета в
светских терминах, выдвигая неограниченные требования социальной
этики в ограниченном буржуазном мире. Ницше, какими бы ни были его
учения, жил бесконечной верой, безумной верой, подобной вере Нового
завета, — безумной в глазах самих современных ему церковников.
Сущность эсхатологии — ее бесконечность. Эсхатология требует
полной преданности чему-то, находящемуся за пределами существующего
порядка вещей. Таким способом она уничтожает тождество между
человеком и миром. У мира есть судьба, а у человека ее нет. Мир умирает
потому, что поддается исчислению, человек возвышается, если он
исчислению не поддается. Мир пришел к концу, представляет собой вчерашний
день, но человек может быть началом, завтрашним днем.
Поэтому первое пришествие Христа получает свой смысл только в
свете его второго пришествия. Христианства вообще никогда не
существовало бы — это иллюзия, — если бы оно не начало движение к
концу времени. Последние слова Нового завета — если исключить
завершающее благословение — прекрасно выражают связь между первым и
вторым пришествием. Это молитва: «Ей, гряди, Господи Иисусе!» Когда эта
молитва была произнесена, началась окончательная история Человека, и
она была передана через два поколения. И все же Библия
заканчивается так, словно все еще только должно случиться. Это означает, что все
случившееся и все, что еще только должно случиться, образуют единое
целое, и одно не является полным и завершенным без другого (12).
Смысл истории
Творя будущее, христианство наделяет и отдельного человека, и
человеческие сообщества способностью иметь историю жизни. История,
имеющая смысл, зависит от наличия одного начала, одной середины
и одного конца. Если даты нашей жизни не ориентированы таким об-
459
разом при помощи верстовых столбов времени, то история
превращается в простой каталог изменений типа «1066 г. и тому подобное». Для
языческого понимания истории в качестве цикла под солнцем нет
ничего нового, и все, что мы делаем, уже случалось прежде и случится
опять. Не достигается ничего, что имело бы непреходящую ценность,
происходит только изменение, не имеющее ни начала, ни конца.
Напротив, христианство показало, «как человек может быть вечным в
мимолетности, как он может жить и действовать раз и навсегда» (13).
Как написал французский ученый, «непреодолимая бездна между
греческим и христианским мышлением возникла из-за того, что
христианство восстановило в правах событие единственное и преходящее.
Для любого философского или греческого ума нравственный порядок
является всеобщим и абстрактным. В христианстве даже мельчайшие
промежутки времени существования каждого человека приобретают
высшую ценность» (14).
Человек придает своим действиям вечный, — т.е. «раз и навсегда» —
смысл, отдавая всего себя той стороне жизни, которая в данный момент
должна выйти на первый план, и он делает это в каждый момент
своего движения во времени. Но он может выбирать из того, что на первом
плане, и это сделает момент единственным в своем роде только
потому, что конец времени, как магнит, при каждом шаге влечет сердце
человека к будущему. Уникальность настоящего определяется
уникальностью конца. Следовательно, наши действия, совершаемые в
настоящем, могут иметь смысл «раз и навсегда» только при условии, что
история едина.
В наши дни люди воображают, будто человек и его история уже сами
по себе едины, но все факты против них. Единство не дано, оно не
является фактом природы, а есть общая задача некоторых девяносто девяти
поколений вплоть до сегодняшнего дня (15). И в мире, забывшем, что
это единство целиком зависит от решимости, оно может быть в любой
момент разрушено любым человеком, вознамерившимся сделать это.
Чисто светские «истории» никогда не могут достичь единства. Они и
предлагают нам тысячи хорошо известных фрагментов — историю
искусства или экономики, Америки или современного театра. Но смысл
любой из этих частичных «историй» сразу же пропадет, если автор какой-
либо из них не сможет связать свою историю с более обширной
историей, выходящей за пределы его собственной. Например, слова
«современный» и «театр» не имеют смысла в отрыве от отношения «современного»
к «средневековому» и «театра» — к Греции и к мистериям Церкви. Если
же светская история стремится быть энциклопедической, она
представляется исчерпывающей системой, в которой исходным моментом
становится пещерный человек, — но напрасно, поскольку примитивные расы
не испытывают потребности в сотрудничестве с остальной частью
мира — не говоря уже о слиянии с ней.
Значение Иисуса в качестве центра истории заключается в том, что
человек был расщеплен на такое число типов, что единство рода было
поставлено под угрозу и, следовательно, низшая форма человека — не
Цезарь Август, а дитя в яслях, — должна была стать основой всеобщего
единства. Все, что наши современные оптимисты от Эмерсона (11*) до
460
Маркса и от Беллами до Штрейта (12*) могут сказать в поддержку
единого и всеобщего смысла или общей задачи человечества,
позаимствовано из христианской эры (16).
В наши дни миллионы людей отказались и от будущего самого
христианства, и от будущего в христианстве. То, что нацисты, фашисты,
коммунисты и японцы отрицают христианскую ориентацию в истории, —
весьма зловещий знак. Но настоящая опасность связана с тем, что
образованные люди из нашей среды легкомысленно отказались от
христианского летоисчисления. Весной 1941 г. на собрании клуба в моем
маленьком городке в штате Вермонт было прочитано стихотворение,
начинавшееся с заявления, что, в конце концов, нет никакой разницы между «до
Рождества Христова» и «от Рождества Христова»: ведь никакого
христианского летоисчисления не существует! (17). Если такая доктрина могла быть
провозглашена в штате Вермонт, дело зашло слишком далеко. На том же
собрании приглашенный оратор утверждал, что цивилизация, очевидно,
подошла к концу, но что это не так уж и плохо: разве не господствовали
в течение нескольких столетий Темные века и разве затем не наступил
великолепный Ренессанс? Оратор забыл добавить, что люди выжили в
Темные века благодаря своей вере в будущее, в конец времени, в Страшный
суд, в окончательное пришествие Слова, ставшего плотью. Он забыл, что
эта страстная вера вызывала все Возрождения от поколения к поколению
у францисканцев, протестантов, пуритан, перфекционистов — и даже в
эпоху Ренессанса, которой так сильно восхищаются.
Упомянутые выше поэт и оратор, которым не были заданы вопросы,
которым не был брошен вызов и которые не потерпели поражения перед
собравшимися, беззаботно отбросили жемчужины своей веры и
надежды. Они покинули свою собственную цивилизацию с легким сердцем,
приговаривая: «Да, похоже, все кончилось», и предложили нам
подождать несколько сотен лет в кромешной тьме. Такая позиция настолько
произвольна, что подрывает всякую уверенность в наличии у истории
смысла. Довольно трудно согласиться с протестантами в том, что
несколько десятков столетий со времени Христа, от Юстиниана до
Реформации, были сведены к нулю испорченностью, моральным
разложением, продажностью и предрассудками. Но если теперь мы должны будем
выбросить за борт две тысячи лет христианства, то мы просто потеряем
ориентацию во времени и будем кружить, подобно человеку,
заблудившемуся в лесу. Человечество, не имеющее начала или конца, сделается
жертвой бессмысленного цикла с его подъемами и спусками, как у
Шпенглера, или колебаниями и виражами, как у Сорокина (14*), или
изменяющимися «остатками», как у Парето (15*). Цивилизация, Темные
века и Ренессанс преследуют друг друга. Мы начинаем где-нибудь и
заканчиваем там, где начали. Если люди в течение двух тысяч лет
заблуждались, то вряд ли вообще можно считать историю прогрессом.
Прогресс - христианский или современный?
Довольно странно, что к слову «прогресс» можно свести все самые
готовые возражения современного читателя на те аргументы, которые изло-
461
жены на этих страницах. Разве от самой зари истории не тянется
колеблющаяся, но очевидная линия прогресса? Разве не ясно, что она была
продуктом человеческого разума, изобретающего все более совершенные
средства использования окружающей среды? И разве присущая нам
сообразительность не является лучшей гарантией осуществления надежд,
возлагаемых на будущее?
Прогресс и будущее и в самом деле не могут быть отделены друг от
друга, но они зависят друг от друга прямо противоположным образом по
сравнению с обрисованными выше представлениями. Именно потому,
что христианство творит будущее, прогресс — это дар христианской эры
(18), и он ослабевает в той мере, в какой мы отдаляемся от этой эры.
Конечно, и до Христа существовали отдельные организации, учреждения и
установления, целью которых было улучшение положения человека, но
они оставались чем-то спорадическим, поскольку находились во власти
циклического характера языческой истории, которая пожирает всех
своих детей, так что в конце концов к ней ничего не добавляется. И только
после того, как христианство объединило историю человека, исходя из
конца времени, эти достижения были спасены от сумерек богов,
наступающих с неотвратимостью судьбы. Что, например, стало бы с греческой
наукой и философией, если бы Рим просто пришел в упадок и погиб, как
Вавилон, и не имел бы Церкви, чтобы сохранить его реликвии и начать
восстановление античной учености, которое было одним из наших
славных дел после двенадцатого столетия?
Идея прогресса была изобретена не в 1789 г. и не в 1492 г. Иисус
пообещал, что его последователи сотворят более великие дела, чем те,
которые сотворил Он (Ин. 14,12). Отцы Церкви защищали прогресс в
качестве христианской точки зрения в противоположность языческой вере
в циклы судьбы с золотым веком в прошлом. Они провозглашали
воскресение жизни и любви после страдания и через него, каковым образом
сам Бог достигал прогресса в сердцах верующих (19). В двенадцатом веке
Иоахим Флорский пророчествовал о наступлении в следующем столетии
видимого, земного прогресса за пределами Церкви, и, таким образом, он
возвестил о начале всех социальных реформ и революций нашего
тысячелетия (20). Но его концепция прогресса за пределами Церкви
зависела по смыслу от существования Церкви, и, таким образом, его позиция
оставалась христианской (21). В средние века велась открытая борьба
против любого представления о регрессе или о Великом годе (22).
Характерная для современности идея прогресса едва ли возникла
раньше восемнадцатого века, когда такой человек, как Кондорсе (18*), в
своем сочинении «Les progrès de l'esprit humain» (23) разорвал связь с
предшествующими столетиями религиозной преемственности и
выдвинул чисто светский идеал человечности (24). Человеческий дух заменил
собой Святой Дух. В то время казалось, что освобождение от
христианских традиций обещает неограниченные возможности, но мысль, что
любое такое предположение не имеет гарантий, преследовала всех
светских философов истории.
Секуляризация идеи прогресса началась только у Кондорсе. Он все
еще понимал его в религиозных терминах, хотя и несколько смягченных
гуманистическими представлениями. Французский «esprit» имеет, в кон-
462
це концов, особый оттенок, и с веселым мужеством он может отстоять
свое достоинство даже в ситуации ухудшения материальных условий. В
1789 г. французы хорошо знали, что шагов вперед, которые они называли
«прогрессами», было много, и что поэтому было много духов, тесно
связанных друг с другом определенным Единым Духом. Сегодня проблема
заключается в том, что это различение забыто. В наши дни люди,
пишущие о прогрессе, даже не упоминают о том удивительном факте, что
Кондорсе в своей книге ни разу не использовал слово «прогресс» в
единственном числе. И на титульном листе, и в самом тексте употребляется
«les progrès». На это использование множественного числа процесса
улучшений и усовершенствования никто не может ничего возразить. Бомбы
постоянно становятся все лучше. Но это улучшение отнюдь не
определяет прогресс. Единый прогресс всех нас может быть обеспечен лишь
тогда, когда бомбы, хотя и совершенствуются, все же не используются.
Кондорсе не говорит об этом //^использовании наших собственных
технических новинок, поскольку он считал не требующим доказательств
наше единодушное согласие с этой целью. Он стремился применить
установленный им принцип Единого прогресса к Церкви и государству, к
искусствам и наукам и, тем самым, расширить область его действия. Это
и только это было темой его книги. Он был убежден в том, что прогресс,
продвинув вперед сердце и ум отдельного человека, теперь может быть
сделан множественным (multiple). Если прежде паломники ввели
прогресс в застоявшийся мир, то французы осознали нашу способность
сделать прогресс частью нашего окружения, нашего мира.
И именно потому, что известное свойство следовало придать
некоторой внешней области, из-под пера Кондорсе всегда выходило
множественное число, «les progrès», охватывающее все науки и все искусства.
«Le génie, — писал он, — semble avoir plus forces que double ses forces» (p.
151). «Похоже, что гений увеличил свои силы более чем в два раза».
Английский язык пренебрег этой французской концепцией
множественного прогресса, распространенного на новые области. Различие
между прогрессом души, учрежденным христианской эрой, и les progrès,
размноженным (multiplied) благодаря приложению идеи к новым
областям искусств и наук, в английском языке было стерто
двусмысленностью, что нередко для этого языка. И у английских переводчиков
Кондорсе, и на Великой Всемирной выставке в Хрустальном дворце в Лондоне,
и в чикагском «Столетии прогресса» «прогресс» употреблялся в
единственном числе; таким образом смешивали религиозный оригинал и
технические приложения, создав страшную неразбериху.
К концу этого периода наше восприятие настолько притупилось, что
теперь мы обычно не проявляем интереса к этому фундаментальному
различию между единственным и множественным числом. Боюсь,
читатель может усмехнуться по поводу этого моего различения как
проявления педантизма. Но может ли он не заметить, что любой «прогресс» в
создании торпед, в стрельбе, в разрушении — это «прогрессы» в
специальных областях, и они могут воспрепятствовать продвижению вперед
самого человека, находящегося в самом центре этих
усовершенствований? «Прогрессы» не гарантируют прогресса. Они могут сопровождать
или украшать его. Но сперва, прежде чем мы сможем приложить поня-
463
тие прогресса ко многим техническим усовершествованиям, следует
удостовериться в самом его наличии. Великая идея человеческого
прогресса не гарантирована 101 000 «прогрессов» в различных науках или
технике, поскольку именно они в наше время привели к самому быстрому
разрушению всей цивилизации. Если я хочу понять суть прогресса при
переходе от феодального государства к современному, бессмысленно
рассматривать государства Эфиопии, Непала, Парагвая и Либерии, хотя все
они называют себя современными. Я должен знать из другого
источника, что хотя они и приобрели привилегии современных государств,
однако не раскрывают мне суть этого прогресса. Они — результат
простого приложения принципа, установленного в самом центре современной
истории и просто распространеного на эти находящиеся на периферии
территории.
Можно привести простой пример принципа прогресса: в древности
отдельные боги утрачивали свое значение (regressed). Вся античность,
страдая, взывала: «Нужны более великие и более могущественные боги!»
Едва заканчивалось строительство храма одного бога, как новая
национальная катастрофа заставляла людей тратить огромные средства на
возведение храма нового бога. А новые боги всегда были совершенно
безжалостны к старым и ниспровергали их, отправляя в преисподнюю. Эта
беспрерывная «перистальтика» была чем угодно, но не прогрессом. Она
была погоней за недостижимым. Предпосылкой прогресса в этой
области, связанной с богами, была определенная «перемена ума». Мир
успокоился только после того, как Бог был раз и навсегда признан единым и
единственным в своем роде.
Более близким для нас является пример заключения брака.
Мусульманину разрешается иметь двух или даже больше жен. Это
препятствует прогрессу жены. Она не знает, будет ли она оставаться его женой в
полном смысле этого слова. Поэтому она должна бояться настоящего
регресса. Поэтому мусульманский брак не является прогрессивным. Ни
у мужчины, ни у женщины силы не высвобождаются для выполнения
новых задач. Мужчина продолжает гнаться за мечтой о более красивой
жене. Надежды и страхи, связанные с окончательным характером их
отношений, разрушают их брачный союз.
Эти два примера раскрывают нам те законы, на которых основан
прогресс. Прогресс должен быть явным. Циклы происходят с нами, как
происходит смена времен года. Но прогресс требует, чтобы мы сами явным
образом о нем сказали. До тех пор, пока мы не перестанем приписывать
себе положение холостяка, мы не можем достичь прогресса в браке. В
этом заключается разница между прогрессом и циклами. Цикл — это
некоторый внешний мифический процесс, на который мы просто смотрим,
а прогресс — это действие нашей творческой веры. Этим действием вновь
прибывший на постоянное жительство в Соединенные Штаты
переписывает все свое прошлое. Возьмем, к примеру, европейца, который в
Европе мечтал об определенном будущем, о карьере, собирался построить дом
и т.д. Затем он приезжает в Соединенные Штаты. Благодаря этому шагу
его мечты о будущем теперь стали прошлым. И то, что даже будущее, о
котором мечтали вчера, теперь стало элементом прошлого, является
лучшим описанием прогресса. Будущее, на которое человек надеялся в Евро-
464
ne, теперь уничтожено и превращено в удобрение для его поля в
Америке. Прогресс зависит от нашей способности самим давать имя «прошлое»
тому образу, который вчера казался нам отдаленным будущим (25).
Явное присвоение каждому действию имени, явное погребение
прошлого, принятие на себя обязательств и единственный в своем роде
ответ — это предпосылки прогресса. До тех пор, пока люди не высказали
это, они могут спать, есть, работать вместе и все же не состоять в
браке. Они не исключили возможность вести себя иначе. Теперь мы
достигли глубокого понимания действительной истории прогресса: от Кондор-
се до Выставки в Хрустальном дворце в 1850 г. «прогрессы» в искусствах
и науках считались распространением на другие области прогресса
человека в целом. Начиная с 1850 г. эти частные формы прогресса стали
считаться единственным прогрессом, центр разрушился.
В этом веке, после 1850 г., впервые был придуман систематический
метод совершения изобретений, и отсюда возникла идея
организованного, автоматического прогресса, гарантированного только
изобретательным человеческим разумом. В первоначальном христианском
понимании прогресс считался зависящим от хрупких, но живых человеческих
сердец, согласных умереть и стать местом рождения Бога. В
механическом характере современного прогресса, не знающего ни жизни, ни
смерти, сердце вполне логично отвергается, как досадная помеха.
Конструктор механического сердца стал полубогом для миллионов американцев.
Теперь мы уже знаем, что, когда некоторый аспект человеческой
жизни притязает на бессмертие, он превращается в миф. Излюбленным
символом мифа об автоматическом прогрессе была прямая линия,
изображающая непрерывное продвижение в одном направлении, которое не
имеет никакого определенного начала и никакого определенного конца. Но
точно так же, как заблудившийся человек пытается идти прямо вперед,
но в действительности ходит по кругу, мнимо линейный прогресс,
отказываясь от ориентации на начало и конец, обеспечиваемой компасом
христианства, по опрометчивости попадает в ловушку и начинает ходить
по кругу, все время возвращаясь туда, откуда начал свой путь. Это —
проклятие, лежащее на язычнике. Поэтому вера в автоматический прогресс
прекращает сам прогресс.
Но на самом деле было бы неправильным считать любое повторение
чем-то плохим. Сама жизнь основана на известном равновесии между
повторяющимися и порождающими нечто новое процессами. Первые —
это наше вложение основного капитала, а вторые — диапазон выбора,
отбора, изменения в любой данный момент. Если бы достижения
прошлого постоянно не воспроизводились вместе с тем, что мы впервые
создаем в настоящем, имели бы место просто изменения без какого-либо
кумулятивного роста (26).
Однако естественная тенденция жизни, предоставленной самой себе,
выражается в стремлении расслабиться, от инициативы перейти к
рутине и, таким образом, нарушить равновесие между прошлым и будущим,
повторением и новаторством. Вот почему концепция автоматического
прогресса ошибочна. Каждая группа внутри общества только из-за
своей косности стремится продолжать делать то, что она делала раньше, и
требует все больше и больше того, к чему ее влечет сердце — сокраще-
465
ния рабочего дня, более высоких прибылей, профессиональных
привилегий, удовлетворения групповых интересов, следования
установившимся методам. Но требование «больше того же самого» означает, что люди
попадают в наезженную колею, в порочный круг, поскольку
количественный рост означает повторение качества. Колеи, по которым мы
двигаемся, отделяют нас друг от друга и разрывают наши связи с
будущим. А когда жизнь утратила единство и лишена будущего, когда она
разрушается и попадает в тюрьму прошлого, она мертва (27).
То, что цивилизация действительно неизменно двигалась вперед и
назад в соответствии с механической формулой, — явный миф для того,
кто смотрит на историю реалистически. Так, очевидно стремясь к
компромиссу с очевидностью глубоких спадов, Бенедетто Кроче (20*)
предложил понимать историю как восходящую спираль, в движении по
которой случаются и упадки, но за ними, однако, всегда следует еще
больший подъем. Но спиралевидный прогресс — это все еще автоматический
прогресс, поскольку он не зависит от того, что вы или я создаем его. Он
избегает Креста, проходящего через наши сердца и не двигающегося ни
по какой предсказуемой кривой. Спираль была принята многими
представителями академических профессий в качестве самого лучшего
способа понимания. «Жизнь двигается вверх по спирали» (28) — сказал нам
Джон Дьюи (21*). «Любая эволюция происходит по восходящей
спирали», — таково недавнее высказывание другого знающего человека (29).
Эти изречения хорошо подтверждают старую поговорку, что миром
правит неправдоподобно маленький ум. Ибо этот «символ» спирали, столь
серьезно защищаемый его приверженцами, ни в малейшей степени не
соответствует цели самих адвокатов (30). Они, должно быть, никогда не
анализировали этот «символ». В конце концов, он был избран потому,
что перед глазами этих людей стояли христианская идея прогресса,
языческая идея циклов и исторический или личный опыт смутных времен —
войны, депрессии, преступления и т.д. Попятное движение происходит,
продвижение вперед происходит, жизнь непрерывно возвращается.
Таковы три наших факта.
Выражает ли образ спирали эти три факта? Я этого не вижу.
Преступления, паранойя целой нации переводят стрелку часов назад, а упадок
оказывается столь глубоким, что мы просто вынуждены восстановить
минимум приличий, и их уровень намного ниже, чем прежде. В процессе
восстановления утраченного уровня обыкновенных приличий мы
вполне способны подняться выше и, в конце концов, двигаясь по пути
прогресса, мы можем достичь новых высот. Но этого не произойдет, если
сперва мы не признаем, как низко мы пали.
Тогда прогресс включает в себя следующие шаги: 1. Определенный
уровень обыкновенных приличий в течение некоторого времени
считается «естественным». 2. Впадение в варварство, временное отрицание
всех норм отдельным человеком или группой людей шокирует нас.
Нормы, до сих пор считавшиеся надежными, оказались под угрозой. 3. Мы
пересматриваем условия своего существования. Будучи не в состоянии
понять такой глубокий упадок, мы пытаемся еще глубже проникнуть в
тайну нашей природы. Мы обнаруживаем некоторую брешь в нашем
прежнем понимании справедливости. 4. Мирное состояние, следующее
466
за упадком, отражает более полное понимание подлинной природы
человека. Оно организует нас таким образом, что мы в следующий раз
падем не так низко.
Но тогда прогресс можно охарактеризовать при помощи некоторого
отрицания. Он означает процесс, в ходе которого мы все больше
становимся подлинным человеческим существом, вызванным к жизни нашим
Творцом, и не уклоняемся или не отказываемся от нашей
ответственности при выполнении этой задачи. Я верю в прогресс в том смысле, что я
убежден: каждое столетие нашей эры переживает всякий раз все менее
глубокий упадок, и человек стал более естественным, более полно
соответствующим тому, что с самого начала понимается под «человеком».
Если «эволюция» заставляет нас поднимать самих себя за волосы, то
прогресс заставляет нас во все большей степени подчиняться власти
нашего Создателя и выходить из-под этой власти все реже и реже.
Символ спирали с ее змееподобным характером движения
оказывается бесполезным, поскольку стремится добиться компромисса между
видением сверху и видением снизу. Этот символ создает впечатление их
примирения, но на самом деле несправедлив к обоим. В нем не
учитываются те самые формы опыта, которые привели к необходимости отыскать
какой-нибудь символ.
Возражения против символа спирали таковы: 1. Когда мы
используем термин «прогресс», мы уже достигли высшей точки нашего
предназначения, поскольку в противном случае мы не смогли бы соотнести
отдельное событие с некоторым стандартом. Но спираль возносится в
пустое пространство, и ее нельзя сравнить ни с какими известными
фактами или ценностями. У самого пространства нет «высоты» в том
смысле этого термина, который подразумевал бы какие-либо качественные
характеристики. 2. Исторические факты, приведшие к формированию
идеи спирали, указывают на действительное снижение уровня,
действительные падения или откаты назад. Образ спирали предполагает, что
такие случаи падения уровня никогда нельзя заметить. Следовательно, этот
образ притупляет нашу бдительность. 3. Образ спирали удобен для
скептического созерцателя истории, решившего, подобно Сантаяне (21*),
смотреть на спектакль со стороны и не принимать участия в агонии и
триумфе самой истории. Такое сознание стремится обладать некоторой
формулой. 4. Образ спирали, наводя многих людей на мысль, что они
могут смотреть на спектакль со стороны, подготавливает следующее
падение, поскольку неучастие скептиков ослабляет прогресс.
Человек не создан для того, чтобы «знать» этот процесс прогресса,
ему позволено только верить в него. Путать то, что мы можем знать, с
тем, во что мы верим, — главный порок змеи. Спираль — это та же змея,
из которой, так сказать, уже сделали чучело. Выбор этого
бессмысленного символа созерцательным сознанием доказывает, что мы готовы
уплатить любую цену за гордость быть простыми зрителями большого шоу
истории. История ни при каких обстоятельствах не является спиралью.
Ни при каких обстоятельствах человек не является зрителем истории.
Теперь мы можем понять, почему человеческая жизнь не может быть
ни прямолинейной, ни спиралевидной. Будущее не открывается
автоматически, оно должно быть открыто заново нашей собственной внутрен-
467
ней смертью и обновлением. Формулой прогресса является не движение
в одном и том же направлении, а постоянное изменение направления,
выбрасывающее нас из наезженной колеи. Любая рутина, все вторичные
формы жизни и даже все органы нашего тела приходят в расстройство,
если не выполняют своих функций и если не черпают сил в появлении
нового листа на дереве, в распускании нового цветка, в том одном шаге
в неведомое и невероятное, с которыми мы сталкиваемся, когда
спрашиваем, куда же на самом деле влечет нас наше сердце. Христианство — это
власть, способная открывать и замыкать циклы, а потому само оно не
циклично и может содержать в себе много циклов и периодов, спиралей
и прямых линий.
Наука и христианская эра
Предшествующая дискуссия может быть проиллюстрирована при
помощи тех наук, на которые обычно ссылаются как на наиболее
выразительные примеры триумфа современного прогресса. И в самом деле,
прогресс — это жизненный сок науки. Но наука в нашу эру заняла место
магии и предрассудков, только унаследовав от христианства его веру в
прогресс и его силу бороться против порочного круга привычных
духовных стереотипов ради открытого будущего, силу, способную
«переменить наш ум» через страдание.
Не только неспециалисты, но и слишком многие профессионалы
представляют себе прогресс естествознания, используя ошибочные
термины, которые связаны с движением по прямой линии, — так, словно
речь идет просто о применении старых, добрых методов ко все
большему объему опытных данных. «Сомневайся в границах своей науки, но
никогда не сомневайся в своей науке как таковой», — вот иронический
рецепт, выписанный одним известным президентом колледжа тем, кто
стремится к успешной академической карьере. Но даже самый лучший
естествоиспытатель — это не просто человек, ищущий ответа. Он
является также человеком, пересматривающим и изменяющим свои
вопросы в свете нового опыта, новых эмоций, новой веры. Вот почему
новаторы вроде Дарвина, Фрейда или Эйнштейна должны вести борьбу в
границах своих наук против упрямого и часто ожесточенного
противодействия со стороны ортодоксальных ученых. Величайший
основоположник современного естествознания, Парацельс, подвергался,
возможно, столь жестоким преследованиями со стороны своих
врагов-гуманистов, что даже в наши дни большинство ученых считают его
обыкновенным шарлатаном (31). Поэтому он говорил, что истина вызывает
ненависть.
Миф о чисто научном прогрессе ввел ученых в заблуждение, заставив
их думать, будто естественные науки могут продвигаться вперед вне
связи с обществом, частью которого они являются, и даже будто их частная
наука способна идти вперед, не обращая внимания на философию науки
в целом. Здесь концепция прямолинейного прогресса вновь имеет
своим следствием языческий ад разделения, тогда как углубляющаяся
специализация грозит превратить современное мышление в Вавилонскую
468
башню. Истина является прямой противоположностью такого
понимания: каждая наука зависит от других наук, а наука в целом зависит от
остального общества, поскольку нас спасает от рутины поддержка и
обновление. Конечно, события последних десятилетий в Европе должны быть
начертаны большими буквами на стене, чтобы они произвели
впечатление даже на самые тупые умы. Если не поддерживается жизнь общей
веры, которая объединяет ученых с обществом, общество не будет
защищать ученых (32).
В наше время специалисты и эксперты обязаны своим
существованием нескольким столетиям, в течение которых вера в науку и добрая воля
по отношению к ней были сформированы во всем западном обществе.
По меньшей мере половину всей энергии западного мышления
пришлось использовать для постоянного сплачивания всех современников
при помощи общей философии, распространяющейся повсюду веры в
то, что все люди живут в одной природе, подчиняются всеобщим
законам. До тех пор пока публика не была приведена к некоторой степени
единодушия, пока новая философия не научила публику уважать науку,
у нового академического исследования природы было мало шансов на
успех. В противном случае едва ли имело бы место сотрудничество, не
было бы поддержки отдельных научных экспериментов или отбора
важных вопросов. Науки без философии подобны спицам без ступицы:
колесо обязательно сломается. И в Европе оно ломается прямо на наших
глазах. Науки, утратившие свой собственный центр, разрушаются и
извращаются диктаторами.
Объединение наук, разбегающихся в разные стороны, с
философией, влекущей их к центру, было делом тех, кто переносил страдания
ради того, чтобы пробудить у людей интерес к науке, заставить их
уважать ее и быть терпеливыми по отношению к ней даже тогда, когда
ученые совершали колоссальные ошибки или заставляли ждать своих
открытий в течение столетий. От Декарта до Дьюи миры психологии,
географии, политической экономии, истории, химии и других наук
удерживались вместе философами, говорившими каждому члену общества
— и знатоку, и неспециалисту, — что такое природа, человек, наука и
как они могут взаимодействовать в построении будущего. Добрую волю
и сотрудничество ради достижения цели следовало создать и
постоянно воссоздавать.
Неспособность делать это подобающим образом в наши дни имеет
следствием те потрясения, которые мы переживаем, и ответственность за
них несет также язычество, возрожденное в наших науках. Ученые
самодовольно спиливали ствол откровения, всего лишь одной ветвью
которого была их наука. Отказываясь признать, что христианской эре они
обязаны единым будущим, единым временем, общим для всех людей, они
потеряли ориентацию. Науки не дают возможности ориентироваться,
они сами предполагают наличие некоторой ориентации. Верстовые
столбы времени устанавливаются прожитыми жизнями, а не теориями.
Наиболее драматический, на моей памяти, случай отхода от
христианского летоисчисления — это выступление Джеймса Брестеда (Вгеа-
sted), знаменитого египтолога и очень дружелюбного человека, перед
членами Американской Исторической Ассоциации в 1934 г. (33) «Слава
469
Богу, мы оставили позади четыре тысячи лет Откровения», — заявил он,
имея в виду Израиль и христианство. Так что теперь Франклин Д.
Рузвельт за заслуги в деле социального прогресса мог бы быть
непосредственно поставлен в один ряд с великими фараонами Египта.
Брестед выражает поддержку множеству ученых, каждый из которых
только из любви к великим открытиям в их собственных областях науки
настаивал на том, что эти области науки и являются центром истории.
Восхваление Брестедом Египта за его «социальный идеализм», за
учреждение Египтом «эпохи характеров» показывает: он не утруждал себя
пониманием того, что же Откровению пришлось преодолеть в египетском
идолопоклонстве. Не то чтобы порок язычества был не так уж мал — но
он привел к появлению слишком сильного характера и слишком
большого числа человеческих жертвоприношений в честь общества!
Египтяне были первыми, кто организовал территорию, и это стало бессмертным
достижением, но ценой, которую они заплатили за это, было
отождествление законов на земле с законами неба: фараон не был королем в
нашем смысле этого слова, а «большим домом», богом, принадлежащим
небу. Пророки Израиля видели, что жизнь в пустыне предпочтительнее
законов неба.
Когда науки уничтожают последние остатки своего христианского
основания, они неизбежно становятся жертвой духовной смерти,
оказываясь в порочном круге. Критика поэм Гомера относится ко времени,
предшествующему деятельности Вольфа (22*). Бассетт (Bassett) и другие
исследователи возвратились к тезису о единстве Гомера, который
умирающим героем греческой филологии, Виламовиц-Меллендорфом (23*),
был предан анафеме еше в 1927 г. История вновь сводится к изучению
хроник, поскольку она стала «социальной» историей и она просто
излагает последовательность событий и обычаев, подлинных периодов не
существует. Сознание не допускает возможности начала какой-нибудь
совершенно новой истории. И никакая новая история не осуществляется.
Историки, утверждающие, что действуют"только в интересах науки, не
ставят и не могут ставить вопрос о том, как вера создает эпоху, как она
начинает и заканчивает эпоху, поскольку об этом мы узнаём
исключительно из нашей веры в будущее. И вся живая история соединяет
прошлое с будущим. Но прошлое, созданное научной историей, является для
нее не результатом нашего будущего, а причиной нашего настоящего. У
прошлого нашего будущего будет конец, а у прошлого нашего
настоящего нет никакого окончания. Оно буквально «бесконечно», а
единственной формой описания бесконечности в смысле отсутствия конечной
точки является круг. Любой порочный круг порочен потому, что он не
включает в себя избытка, чрезмерности, загадки. Только нерешенные
проблемы истории способны организовать бесконечный материал,
расположив его вокруг решенных проблем.
Наиболее совершенный круг был довольно своеобразно
продемонстрирован библейским критицизмом. В 1906 г. Альберт Швейцер (24*)
опубликовал историю изучения жизни Иисуса от начала первых
исследований в 1770 г. вплоть до его собственного времени (34). В этой книге
он показал, что ученость прошла полный цикл: каждый возможный
тезис был выставлен, отклонен, заменен другим, пока в конце концов
470
Вреде (Wrede) не поставил те же самые вопросы, с которых начал Рей-
марус (25*). Такой большой ум, как Швейцер, увидел, что
христианский мир больше не может ждать прояснения сути дела от продолжения
того же самого кругового движения. Вместо того чтобы изучать Жизнь
Иисуса, он снова открыл Смерть Христа и отправился в Конго в
качестве врача-миссионера.
Благодаря Швейцеру мы можем понять, какое важное значение имеет
проведение различия между прогрессом и порочным кругом.
Человеческое существо, обнаружившее, что его духовная деятельность попала в
плен языческого круговорота, будет реагировать на это отчаянной
попыткой вынырнуть из него. Наши колледжи не могут позволить себе
безучастно смотреть на то, как наука попадает в такую наезженную колею,
поскольку это разрушило бы доверие студентов. Цинизм, неистовство,
отход от науки — таким должен быть ответ души на подобные глупые
игры. Эрозия души уже происходит.
Другая наука, которой грозит попадание в порочный круг, — хотя
этого можно было бы ожидать меньше всего, — экономика. Поскольку
экономика имеет дело с постоянно изменяющимися материальными
процессами, связывающими нас с землей, изменение является
центральным пунктом экономического мышления. Мы не можем съесть одну и ту
же буханку хлеба дважды. Хотя трудно поверить, что такая наука о
непрерывном изменении сама может иметь тенденцию к превращению в
круговорот, многие очевидные факты указывают именно на это. В
приступе духовной усталости многие экономисты публично и в частных
беседах говорят нам: «Маятник качнулся в другую сторону, и мы
возвращаемся к меркантилизму, мы возвращаемся к экономике в качестве части
моральной философии». Буря прогресса в экономической теории,
бушевавшая в течение 160 лет, затихает. Только новая исходная точка в
экономической теории могла бы воспрепятствовать этому скатыванию к
циклу. А это — духовная революция, смерть и воскресение, от которых
зависит любой прогресс в науке, как и во всех прочих областях.
Исходная точка очевидна. В последние десятилетия появились большие труды
по теории безработицы, но все они были написаны как приложения или
дополнения к общей экономической теории. В учебнике по экономике
Тауссига (Taussig) «Основы экономики» не было сперва даже отдельной
главы, посвященной безработице (35). Между прочим, то же самое
верно и относительно марксистской экономики. Проблема безработицы, все
больше разрастаясь, постепенно превратилась в больное место
современного способа мышления. Позже мы затронем вопрос о практических
выводах, вытекающих из этого кризиса экономической теории. Здесь же
для нашей ориентации достаточно понимания того, что и этой науке
угрожает вытеснение подлинного прогресса механическим повторением.
Меня больше всего угнетает то, что люди в этих областях не
испытывают никакого беспокойства в связи с ситуацией, в которой они
оказались. Они думают, что все это — только различие в терминах или
выражениях и что неважно, как вы называете или организуете свое
мышление. Моя проповедь о необходимости переосмысления поглошается
стенами их чистой совести, обитыми войлоком, но жизнеспособность их
науки также утрачивается. Ничто из того, что вы сами считаете неваж-
471
ным, не оставит после себя хотя бы малейшего следа. Без уверенности
ученого в предельной важности истины истина в системе ценностей
народа и в самом деле становится неважной. Если ученый говорит, что мы
возвращаемся к представлениям 1750 г., он уничтожает прогресс науки,
который только и сделал науку национальным сокровищем. Если мы
теперь возвратимся к меркантилизму, то скоро начнет действовать
причина, заставившая Адама Смита (26*) в свое время отклонить
меркантилизм и отстаивать свободную торговлю. В этом цикле, где все
повторяется, не будет места науке. Будет то же безысходное движение — еще раз
и опять все сначала. Таким образом, экономика как наука совершает
самоубийство, замечая при этом: «Мы возвратились к тому же самому».
Друзья науки могут испытать искушение уклониться от вызова,
брошенного им на этих страницах, истолковав сказанное как враждебные
— и, значит, продиктованные нетерпимостью — нападки на науку. Но
нападки в действительности направлены не на науку, а на языческое
злоупотребление наукой. Именно любовь к науке заставляет меня
выступать против ее болезней и защищать то общество, в котором наука
может прогрессировать. Прогресс невозможен в обществе, утратившем
ориентацию.
Прерывность веры
Существует еще последнее, хорошо нам всем знакомое возражение на
сказанное мной. Если в наши дни все обстоит так плохо, не означает ли
это, что христианство обанкротилось и потому опровергнуто? Да, в наши
дни христианство обанкротилось. Но оно не опровергнуто. Христианство
неоднократно оказывалось банкротом. Когда оно терпит банкротство,
оно начинает все сначала, и в этом его сила.
История христианства — и в жизни отдельных христиан, и в жизни
человечества — есть постоянное повторение смерти и воскресения его
Основателя. Одним своим великим восклицанием: «Боже Мой! Боже
Мой! для чего ты Меня оставил?» — Иисус стал нашим братом. Все мы
временами становимся банкротами, но Иисус в то самое мгновение,
отказываясь от силы своего духа, стал равным каждому из нас и
единодушным со всеми нами. Тысячу лет спустя Ансельм Кентерберийский
основал новую науку — теологию, подобным же образом обратившись к Богу:
«Что делать рабу Твоему, изгнанному столь далеко от Тебя?» (36) А в
недалеком прошлом великий христианский мудрец барон фон Хюгель
никогда не уставал повторять, что вера — это прерывный процесс.
Христианство основано на открытии того, что наш дух так же смертен, как и
клетки нашего тела. Вера не может жить, если она не прерывается, и эта
горькая истина отводит смерти то место, которое ей принадлежит в
нашей вере: смерть становится тем, что приносит новую жизнь.
Так что каждая христианская община и каждое христианское
движение является результатом слез, пролитых вместе, результатом
банкротства, пережитого братством сердец, которые выжили после поражения.
Позже я постараюсь — очень осторожно — обсудить, каких новых форм
смерти и воскресения требует от нас нынешняя эпоха. Потенциальные
472
христиане будущего не станут следовать никакому образцу христианской
жизни, и я испытываю трепет перед задачей говорить о них — об этих
новых типах Атланта, которые, стоя на земле, должны будут снова
поддерживать небо.
Но общие отношения между христианством и будущим
представляют собой разновидность «средиземноморской» проблемы, которая
располагается между хорошо известными берегами христианской души, и я
не добавил ни единого слова к учению Отцов Церкви об этом.
Понимание того, что время Бога, которое есть и конец, и начало, вдохновляет и
переживает многие начала и многие концы человеческих стремлений,
дает нам силу начинать заново. Сегодня, как и каждый день, Дух Божий
требует от нас ответа на вопрос Бога: «Что еще не закончено, не
создано, не имеет предшественников, не подвергнуто риску в порочном
круге нашего мышления?» И мы всегда будем убеждаться, что будущее
христианства имеется здесь и теперь до тех пор, пока двое или трое
христиан верят в него и отвечают на вопрос. И они, жалкие бренные существа,
отвечают на него, сжимая время в точку самых плодотворных веры и
любви, и при этом сжатии внезапность конца света и бесконечность
первого начала соединяются и свидетельствуют о вневременном характере
нашего происхождения и нашего предназначения.
473
IV
Вера в живого Бога
Как Бог познается — Взрослые и Символ веры — Божественность
Христа — Сотворим человека
«Бог умер», — воскликнул Фридрих Ницше. Духовенство нашей
разделенной на департаменты религии, живущее, как жило оно в мире,
который уже не боялся быть оставленным Богом, отделалось от этого
суждения как от болезненного богохульства. Но это было настоящим
обвинением священнослужителей и той их эпохи, и между 1870 и 1917 гг.
никто, вероятно, не сделал больше, чем Ницше, для того, чтобы воскресить
Бога в сердцах людей. Эта эпоха забыла о древней традиции
человечества, в соответствии с которой Бог умирал и затем воскресал; Его
убивали те, кто Ему поклонялся, чтобы Он мог возродиться, или Его
распинали, для того чтобы Он мог пробудить всех нас.
Вера человека в смерть и воскресение Бога проходит красной нитью
через века, соединяя первобытных людей, описанных в «Золотой ветви»
Фрэзера (1*), с самой просвещенной формой богослужения в
протестантской церкви. До Христа считалось, что боги умирают в сумерках своей
судьбы или в безумии племенного экстаза, как Адонис, Таммуз или
Осирис (2*). Но христианство сначала в Распятии, а затем в
католической мессе и протестантском богослужении Слова показало, что Бог
умирает от нечистых рук, мыслей и уст тех, кто может принять участие в его
Воскресении. Весь смысл прощения нас Иисусом заключается в том, что
мы остаемся чадами Божьими несмотря на тот факт, что мы все
временами убиваем его в наших сердцах.
Как Бог познается
Бог открывается нам во всех тех силах, которые одерживают
триумфальную победу над смертью, и люди издавна называли любую такую силу
божественной. Используя это определение в качестве руководящего
принципа, мы попробуем расмотреть развитие знания о Боге.
Когда люди жили родами и племенами, они видели Бога в той силе,
которая сохраняла род как целое после смерти всех его
членов-современников. Эта сила познавалась в особенности тогда, когда воины отдавали
жизнь за свой род и когда в жертву приносились пленные. На этом
уровне Бог отождествляется с духами предков рода и преодолевает смерть
простым ее отрицанием: предки «в действительности» не умерли, а
удалились на благодатные охотничьи угодья.
Затем возникли языческие города и империи. Они понимали Бога
как вечный космический порядок, который открывался благодаря
звездам и которому подражали, возводя каменные стены, храмы и
пирамиды, чтобы поклоняться этому порядку. Одним из древнейших терминов
474
в египетской традиции является «миллионы лет», тогда как первобытные
люди не умели считать больше чем до ста или тысячи. На этом уровне
Бог преодолевает факты смерти, не отрицая их, а обходя, игнорируя их:
бог-солнце и его храм существовали бесконечно долго, не зная смерти.
Иудеи открыли Бога как силу, которая, сотворив и небесный порядок,
и землю, могла сделать Свой народ способным не принимать в расчет тот
факт, что все видимые вещи являются преходящими, и ждать Его
будущего пришествия в качестве Мессии. Здесь смерть не отрицается и не
игнорируется, но все еще имеет отрицательное значение. Она есть то, что
следует претерпеть.
Высшей точкой в победе над смертью, а следовательно, и в познании
человеком Бога, было Распятие и Воскресение Христа. Благодаря Христу
смерть в конце концов была включена в жизнь в качестве
положительного фактора, а потому она была полностью и окончательно преодолена:
смерть стала вратами в будущее, вратами в новую жизнь (1). Более того,
Иисус отказался как от своего ума, своего духа, своего вдохновения, так и
от своего тела, и все же выжил. Теперь родовые духи перестали влачить
свое жалкое существование, а стены городов и целых цивилизаций могли
пасть без вреда для себя, поскольку Бог одержал победу и над умами
людей, и над объектами на небе и на земле: смерть потеряла свое жало.
Таким образом, открытого Иисусом живого Бога следует всегда отличать
от выраженного в чистых понятиях Бога философов. Большинство атеистов
отвергают Бога, потому что они ищут Его не там, где надо. Он — не объект,
а личность, и Он — не понятие, а имя. Подходить к Нему как к объекту
теоретической дискуссии, — значит с самого начала делать поиски
невозможными. Так нельзя найти ничего, кроме мира пространства. Никто не
может смотреть на Бога как на объект. Бог смотрит на нас, и Он смотрел на
нас еще до того, как мы открыли наши глаза или наш рот. Он есть сила,
заставляющая нас говорить. Он вклыдывает в наши уста слова жизни.
Если божественное познается в нашей жизни в качестве силы,
побеждающей смерть, то оно есть что-то, что может только случиться с
нами в тот или иной момент времени. Божественное познается как
событие, и никогда — как сущность или вещь. И это событие может
произойти с нами только в середине нашей жизни, после того как мы
пережили смерть в той или иной ее форме как тяжелую утрату, нервное
расстройство, потерю надежд. Следовательно, в христианстве нет Бога в
смысле Аристотеля, Платона или современного деиста (2), которые
составляют понятие о нем как о перводвигателе, мировой душе или
первопричине. У нас нет другого авторитета для нашей веры в Бога, кроме
живой человеческой души, которая полностью осуществила себя в
воскресении первого совершенного человека. Однако в несовершенном
виде каждый ребенок с первого дня своей жизни верит в спасительную
благодать, и эта вера намного сильнее его веры в самого себя.
Типичный философ начинает с мира пространства и потому в
действительности никогда не выходит за его пределы. Для Аристотеля Бог
может быть логической необходимостью, но он никогда не может быть
переживаемой и говорящей действительностью, потому что философия
стремится быть вне времени. Перводвигатель ничего не знает и не
заботится ни о чем, что имеет отношение к вам или ко мне.
475
Однако Аристотель понимал суть божественного лучше, чем
современные философы, поскольку он был греком, а греки воздавали героям,
основавшим их города, почести, приличествующие божеству. Однажды
каждый человек и каждая нация соприкасаются с силой, которая выносит
решения, творит и создает ценности. Аристотель придал своему перводви-
гателю только абстрактное существование «мышления о мышлении», но
он принадлежал к культуре, которая обожествляла говорящего,
управляющего, устанавливающего законы Человека (3). В нашу эру безжалостное
разделение труда оставило защиту божественных событий в истории
духовенству, а философы сосредоточены главным образом на логических и
механических процессах, не имеющих божественного характера.
Когда Фома Аквинский заявил, что приведет Аристотеля к согласию
с христианской традицией, латинский аверроист Сигер Брабанский
показал, что это невозможно. Сигер был убит, поскольку он смело восставал
против академических идолов своего времени, и с тех пор западное
сознание одинаково и католиков, и гуманистов сохраняет догматическое
толкование аристотелева «разума» как «естественного» способа познания
человеком Бога и высших ценностей жизни. Такой естественный разум в
действительности является незрелым разумом, подобным
философствованию вундеркинда, который мыслит до того, как он пожил. Ребенок
должен думать о Боге, науке или, например, о королевском достоинстве,
используя термины, соответствующие внешнему миру, пространственные
термины, поскольку он еще не пожил достаточно долго для того, чтобы на
основе чувства общности и взаимного понимания отождествить себя с
более зрелыми фазами человеческого опыта. Живого Бога нельзя встретить
на уровне естественного разума, поскольку он по определению
пересекает наш путь в середине нашей жизни, когда пройдет много времени
после того, как мы попытались с помощью мышления свести мир в систему.
У молодежи Бог за спиной, только зрелость должна стоять лицом к Нему.
Та сила, которая принуждает нас отвечать на вопрос о жизни и
смерти, — это всегда наш Бог (а «любая часть мира — Солнце, землетрясение,
кризис, революция — может стать Богом, когда мы чувствуем, что она
навязывает нам этот вопрос, и «сила, заставляющая атеиста бороться за
атеизм, — это его Бог».) Ни ответ, ни вопрос не обязательно должны
быть выражены в словесной форме. «Вопросы Бога приходят к нам
через посредство смиренных и все же непреодолимых сил сердца и души»,
и они требуют нашей преданности, а не пустых слов (4). Совершенно
безбожным человеком был бы тот, кто никогда не признавал над собой
никакой такой силы, а потому в действительности притязал бы на то,
чтобы быть своим собственным творцом, короче, чтобы самому быть
полностью Богом. Мы знаем Бога прежде всего потому, что знаем: мы не
боги, но хотели бы ими быть (5).
Современный человек не столько отпал от Бога, сколько привержен
политеизму и, значит, язычеству. Его жизнь раздроблена между многими
богами, или «ценностями», как их стало модно называть. «Искусство,
наука, секс, алчность, социализм, скорость — вот боги нашей эпохи,
которые полностью поглощают жизнь тех, кто им поклоняется». «Есть много
вопросов и много ответов. Но ни одно из многочисленных божеств... не
может полностью подчинить все элементы нашего бытия... Наука — это
476
слишком жестокий бог для детей. Венера отказывается от своей власти
над пожилым возрастом. Социализм раздражает шестидесятилетнего
человека, а алчность едва ли возможна у молодого. Боги преходящи. Когда
человек осознает их преходящий характер, их непрерывное изменение, он
обращается к Богу — живому Богу, призывающему его подчиняться unum
necessarium, тому, что в каждый момент только и является необходимым
и своевременным. Этот человек открывает полную свободу, потому что
Бог нашего будущего и нашего начала выше тех богов, которыми он нас
окружил в короткие периоды наших сознательных усилий» (6).
Иисус завершил откровение живого Бога, потому что он создал
подлинное будущее. Бог жив лишь тогда, когда он находится как вне потока
времени, направленного в будущее, так и вне того же самого потока в
прошлом. «В начале было Слово», но Слово осветило начало только потому,
что оно окликало из конца. Слово Бога всегда обращено назад из будущего
и проникает времена, вызывая нас из прошлого, чтобы мы воплотили в
себе то единственное, что необходимо в неповторимом настоящем.
Если люди рассматривают Бога в качестве того, кто был нашим
творцом только в прошлом, отказываются от эсхатологии и веры в будущее
Бога, то их вера в настоящее Бога также исчезает. Так, Ницше,
обнаружив, что в христианстве отсутствует вера в Последние Вещи,
совершенно правильно воскликнул: «Бог умер!». Ницше попытался быть Богом
и взять на себя ответственность за будущее, но его жизнь, вопреки ему
самому, привела его к вере в нечто большее. Он, подобно какому-нибудь
стороннику механицизма, должен был верить в единство материального
мира, которое поддержало бы его, в единство человечества, которое
нуждалось бы в целях и методах, в защиту которых он выступал, в
сотрудничество сестры, матери, друзей, печатников, читателей и целого
облака свидетелей, которые ныне работают для того, чтобы
распространить его слова. Эти исходные посылки показывают, что никто в этом
мире не может рта открыть, не подразумевая веры в тождественность
смысла: в мир — что он сотворен в прошлом, в конец времени — что он
побуждает нас к его осуществлению, и в теперешнюю возможность
человеческого сообщества осуществить этот конец. И вера в эту
тождественность смысла, в смерть, рождение и сознание, т.е. в конец, начало
и наше собственное настоящее, находящееся между ними, — это вера
в живого Бога, который в каждый момент отдает новые приказания и
все же во веки веков остается одним и тем же. Он один может
удовлетворить глубочайшую потребность человека и привести его к жизни,
имеющей смысл.
Взрослые и Символ веры
Охарактеризованная выше триединая вера — это не что иное, как та вера,
которая получила формулировку в Афанасьевском Символе Веры, и
потому я верю, что Символ Веры является просто истинным. Его три
члена гарантируют с самого начала нашу веру в единство творения (Бог-
Отец создал все вещи на небе и на земле), в нашу свободу умирать для
наших старых «я» (данную нам Сыном Божьим, внедрившим само бо-
477
жественное в человеческую жизнь своей жизнью в качестве человека,
своей смертью и Воскресением) и в одухотворение Святым Духом,
которое делает нас способными общаться с потомками и создавать
сообщество здесь и теперь.
В наши дни модно третировать вероучение в религии, и даже
теологи говорят о нем апологетически, т.е. как защитники. Это происходит из-
за того, что ленивое духовенство предпочитает евангелию пацифизм или
социальное евангелие, и наши теологи, забывая о словах Иоанна (14,17)
(7), трактуют Символ Веры чисто по-светски, так, словно это некая
теорема из области языческой философии, а не поток, несущий их
собственную жизнь.
Христианская догма — это не интеллектуальная формула, а летопись
и обещание жизни. Она не предлагает нам усвоить идеи, а рассказывает
о некоторых событиях, которые могут овладеть нами и преобразить нас,
как они сделали это с первыми христианами. Это не просто предмет
мысли, а предпосылка здравомыслия. Это христианское a priori,
таблица категорий, по которой живет верующий.
Первые христиане узнали на опыте о новых процессах, о которых
Артур Брисбейнс (Brisbanes) (4*) их дней сказал бы, конечно, что они не
существуют. Христиане знали, что «мир» в нас, а именно, та часть
человечества или нас самих, которая отставала от этого нового этапа
эволюции человеческой расы, либо никогда не признает нового опыта, либо
будет снова и снова забывать о нем (Евр. 5,11 — 6,7). Так что защитить
его они могли, только побудив нации всего мира принять эти истины в
качестве таких, с которыми им, по крайней мере, еще предстоит
столкнуться. Это было достигнуто обращением язычников в христианство.
Крещение не открывало глаза отдельным людям, но указывало их
поискам направление, которое должно было привести их к открытию заново
жизненно важного опыта первых христиан. Каждое поколение должно
было — и должно до сих пор — быть включено в общий мучительный
процесс этого открытия заново.
Следовательно, Церковь, как огромная губка, поглощала все детские
попытки понимания, не отпугивая никого от тех, кто был честен, стоял
на правильном пути и был еще жив. Никого не упрекали в том, что его
первый шаг был языческим, примитивным, обусловленным рождением,
и такое отношение сохранялось до тех пор, пока человеческая группа или
отдельный человек поддерживали связь с полной истиной и ее стражем,
Церковью. В результате рационалисты, в наши дни являющиеся
значительной частью «мира», будучи в состоянии видеть эту способность
Церкви впитывать в себя различные подходы, никак не могут усмотреть
центральные истины, к которым Церковь стягивала все дохристианские
подходы, поглощаемые ею. Так рационалисты сводят христианство к
простой мешанине более ранних источников и отождествляют точное
понимание Символа Веры, присущее взрослым, с той или иной стадией его
детского понимания.
Однако истина содержится лишь в формах опыта, а они могут быть
выражены различными возрастами по-разному. Даже в математике одна
и та же истина повторяется в новых ее приложениях и в весьма
различных формулировках. Так что легенда, вроде сказки о Санта Клаусе, не
478
ложь, если рассказывается детям, чтобы они поняли действие Духа
среди нас, — и до тех пор пока она служит этому, рассказываемая снова в
подходящих выражениях подростку, мужчине, отцу, старейшине
общины. Пренебрегать легендарной формой истины — значит подавлять
истину. Как человеческое существо, я нуждаюсь в легенде, мифе, ритуале,
поэме, теореме, пророчестве, свидетельстве, проповеди — в каждом из
перечисленного по отдельности. Четыре евангелия являются образцовым
примером этого правила, согласно которому одна и та же истина
должна быть выражена различными способами, предназначенными для
различных возрастов человеческой жизни, а вся истина в ее полноте
передается только совокупностью нескольких таких уровней. Евангелия
выражают одну и ту же истину в том ее виде, как она существовала на
различных фазах жизни Церкви — то, что должно было быть истинным для
Матфея и что он пытался доказать евреям, для Марка, жившего вместе
с Петром, для Луки, наставлявшего будущие поколения, и для Иоанна,
писавшего после падения Иерусалима, когда Слово, Тора, больше не
хранилось в видимом храме Соломона, и потому люди смогли понять,
почему «Слово стало плотью».
Теперь Церковь позволила людям, смотрящим на вещи глазами
ребенка, оставаться на уровне такого детского понимания, и запретила
умным людям насмехаться над детской верой. Но так же энергично она
запретила детям поверхностно толковать то понимание Символа Веры,
которое свойственно взрослым. Однажды самая младшая дочь Вудро
Вильсона нечаянно услышала, как ее отец говорил: «Ад — это состояние
нашего духа». Она сбежала вниз по лестнице и сказала своим сестрам:
«Отец потерял веру». Для детей естественно думать, будто рай и ад — это
некие места, находящиеся в пространстве, поскольку дети могут
представить себе то, что они еще не пережили, только при помощи Гиюстран-
ственных образов. Однако замечание Вильсона было строго
ортодоксальным, и оно ни в коем случае не может считаться неким современным
способом понимания. Иисус сказал, что Его царство не от мира сего, но
Он сказал также, что оно внутри нас. А Ориген (5*) в 250 г. от Р.Х.
писал: «Я написал комментарий к молитве «Отче наш» для того, чтобы
искоренить вульгарное мнение о Боге, которого придерживаются люди,
помещающие Бога непосредственно на небо. Никому не позволено
говорить, что Бог обитает в каком-то месте природного мира» (8). А если «Бог
на небесах» не означает ничего, что находилось бы в пространстве, то это
же справедливо и относительно «дьявола в аду».
Смешение детского и взрослого способов понимания Символа
Веры было усугублено тем, что со времен Реформации стало
подчеркиваться господствующее положение ребенка в Церкви. В XVI в.
Церковь стала такой светской, так сильно похожей на светское
государство, что Лютер изгнал католическую Церковь-государство на
светскую сторону жизни и создал некую область христианской совести по
ту сторону авторитета как папы, так и государя. После этой
революции Церковь в обеих конфессиях — протестантской и католической —
обновилась путем развития религиозного образования молодежи под
руководством таких людей, как Меланхтон (6*) и иезуиты. С тех пор
и до сего дня школа — воскресная школа, приходская школа, церков-
479
ная коллегия — является той частью деятельности Церкви, которая
действительно имеет значение, тогда как взрослые стали внутри
Церкви безмолвными, поскольку их энергия находила выход вовне — в
политике, деловой активности и профессиональной деятельности (19).
Но тогда нет ничего удивительного в том, что взрослые в наши дни
чувствуют себя людьми, развитие которых остановилось из-за
толкований Символа Веры, которые исторически сформировались так,
чтобы соответствовать потребностям детей.
Поскольку живой Бог приходит к нам в середине нашей жизни,
после того, как на нас неожиданно напала смерть в форме какого-
либо решающего опыта (10), то попробуем построить наше
понимание Символа Веры на основе терминов опыта взрослых.
Большинство людей в середине своей жизни познали ответственность
благодаря созданию жизни в других — в качестве родителей, благодаря
защите жизни других — в качестве матерей или солдат, одухотворяя
жизнь других — в качестве писателей, учителей, друзей, или
благодаря совершенствованию своего мастерства для других — в качестве
механиков, ученых, должностых лиц. Каждая из этих форм опыта
включает в себя необходимость некоего разрыва связей с «миром»,
как он есть, за чем следует новое начало. Мужчина должен оставить
своих родителей для того, чтобы сохранить привязанность к
избранной им жене. Администратор, когда он делает важные нововведения
в своей работе, должен сломать установившуюся рутину и отменить
правила ведения дел — как это убедительно показывают военные
приготовления. Хорошие родители или учителя должны выбросить
из своей головы много разного хлама и заново наметить свои
перспективы под действием необходимости отобрать жизненно важное
для нового поколения, забота о котором им поручена. И временами
каждый родитель или руководитель должен забывать о самом себе и
сражаться за свою паству так же, как львица сражается, защищая
своих львят.
Христианская догма просто обобщает этот опыт зрелости в
принципах, применимых не только для достижения высшей точки жизни
отдельного человека, но и для достижения всех высших точек во
вселенной. Поскольку нам известны новые начала в нашей собственной
жизни, мы в состоянии понять, что в начале Бог сотворил небо и
землю, что у всей вселенной один творческий источник и что она не
произошла вследствие хаотической случайности или в результате
противостояния божеств друг другу, как бы солнцепоклонники ни
хотели сделать это нашей верой. Зная о борьбе за жизнь других, мы
можем понять, как Бог любит нас. Поскольку наша душа убежала из
тюрьмы условностей и обычаев, мы осознаем, что душа может
пережить все свои социальные воплощения. Будучи обязанными
забывать и отбирать для того, чтобы обучать, мы знаем, что у Слова есть
власть давать жизнь нашим ученикам и забирать ее у них. И мы
можем верить в Страшный суд, потому что суд свершился над
Францией Пруста, Россией Распутина, Германией Вильгельма II и Америкой
президента Гардинга. В целом, вера, которой должен обладать
христианин, состоит в требовании, чтобы в своем зрелом возрасте он
480
знал о фундаментальных процессах жизни больше, чем в детстве.
Философия может не заметить начала и конца. Мужчина,
посадивший дерево, выигравший битву, зачавший ребенка, должен
поставить в центр факт нового творения. Для него это так же очевидно,
как и то, что дважды два четыре. Он знает, что вопрос «почему?» —
детский вопрос, если речь идет о творческом акте или героическом
поступке.
Божественность Христа
Возможно, здесь мне будет позволено некоторое личное признание. Я
всегда надеялся, что я христианин. Но двадцать лет назад я почувствовал,
что подвергаюсь настоящему распятию. Я лишился всех сил, был
фактически парализован и все же — изменившимся человеком — вернулся к
жизни. Меня спасло то, что я мог обратиться к самому важному событию
в жизни Иисуса и узнать в его великом страдании мое слабое
помрачение. Это дало мне силы, не теряя веры, пережить воскресение после
распятия на своем собственном опыте. С тех пор мне всегда казалось
глупым сомневаться в исторической реальности первоначальных Распятия
и Воскресения.
Распятие — это источник всех моих ценностей, великий водораздел,
откуда берут начало процессы, являющиеся самыми реальными для моей
внутренней жизни, и моим первым ответом на нашу традицию
являются слова благодарности источнику моей собственной системы отсчета,
которой я пользуюсь в повседневной жизни. Вот почему наша
хронология «до Р.Х.» и «от Р.Х.» имеет для меня смысл. Тогда появилось нечто
новое — человек не в качестве части мира, а Человек, придающий смысл
миру, небу и аду, телам и духам. Когда невеста получает имя своего
мужа, создается некая новая область, к которой относятся все ее
действия. Точно так же, в имени Христа мы входим в область свободы, не
известной простым наследникам.
Каждая ценность в человеческой истории сначала возносится на
высоту благодаря одному-единственному событию, которое дает ей свое
имя и придает смысл более поздним событиям. Каждому безымянному
событию должно предшествовать некое событие, единственное в своем
роде (11). Мы видели много походов, называемых крестовыми, —
например, вступление Америки в войну в 1917 г., — но они получают свое имя
(если оно дается правильно) от Первого крестового похода, который
обрушился на Запад как новая концепция и произвел глубокие изменения
в последующем образе жизни.
Безверие современных людей, включая и духовенство,
происходит прежде всего из игнорирования этого принципа. Речь утратила
свой жизненный, творческий, ценностный характер. Люди не видят
крови, которую вынуждены проливать миллионы для того, чтобы
возвести на трон жизни определенные ценности. Они используют
слова для пропаганды или рекламы и даже не говорят «спасибо» тем
мученикам, которые подняли эти слова над толпой в качестве
священных ценностей. Они думают, что путем абстрагирования можно
16 3ак. 3524
481
получить дефиницию крестового похода, рассмотрев больше
пятидесяти семи крестовых походов и выведя некоторую среднюю
величину. Но как можно было бы отобрать образцы крестовых походов,
если бы заранее не было известно, что такое крестовый поход? В
мире вещей целое может быть построено из многих деталей, но
ценности не создаются таким способом. Единственное в своем роде
событие должно предшествовать многим событиям. Следовательно,
Распятие (или Страшный суд) (12) и Воскресение не могли бы быть
узнаны как повседневные события нашей жизни, если бы они не
произошли раз и навсегда в страшном величии.
Мне кажется, что именно по этой причине следует поддерживать
догмат о божественности Иисуса (13). Иисус-человек означал бы
одного человека из многих, — возможно, доброго и милого, но всего лишь
«какого-то» человека. Однако поскольку он — норма, путь, истина и
жизнь, которые нам следует раскрыть и распространить по ту сторону
нашего собственного общественного положения, то невозможно
называть его «какой-то» человек. Он — «мой Творец», первый, кто не был
ни греком, ни иудеем, ни скифом, а был законченной и совершенной
человечностью, и каждый из остальных людей — если мы не являемся
просто завистливыми, как Ницше, — должен довольствоваться тем, что
является Его человеком. Если мы позволяем себе судить, критиковать,
одобрять Иисуса, то мы, конечно же, превращаем Его просто в
человека. Но Он — мера, в соответствии с которой мы должны судить самих
себя, Его жизнь придает смысл нашей жизни, и слово «человек» было
бы совершенно непригодным для того, чтобы поддерживать уровень
человеческого совершенства, достигнутый Им в мире, где каждый
кесарь был богом.
В наши дни Символ Веры застает людей в положении, прямо
противоположном положению тех, для кого он первоначально был
сформулирован. Противопоставим друг другу два одинаково приводящих в
замешательство факта, касающихся Символа Веры, — один отрицательный,
а другой — положительный.
Отрицательный — в наши дни
Символ Веры застает людей в
положении, прямо противоположном
положению тех, для кого он
первоначально был сформулирован.
Сам успех христианства привел к
исчезновению тех верований и
культов, против которых нас
победоносно защищал догмат.
Положительный — Символ Веры
совершенно истинно говорит,
что появляется окончательный
человек, приходящий из конца
всех времен, Иисус, и что
теперь Он истолковывает все
события, случившиеся до этого
конца, в свете этого конца.
Каждое слово в Символе Веры является истинным, и все же оно
стало непонятным, поскольку оно стало истинным. И еще несколько слов
о божественности Христа. Возможно, читатель пойдет так далеко, что
согласится с тем, что Иисус обладает духом, но почему Иисус является «бо-
482
жественным»? Полный ответ станет ясным позже. Пока же
удовлетворимся этим логическим различением: мы называем его совершенным
человеком, потому что он сам был преисполнен надлежащего духа.
Многие, тем не менее, преисполнятся духа. Однако Он — и только Он
один, — будучи одухотворен сам, дал нам и оставил в нас надлежащий
дух как общее достояние и открыл навстречу друг другу акты
одухотворения отдельных людей и наций. В качестве Творца нашего
собственного духа Он обладает божественностью.
Я прекрасно понимаю бессодержательность этих замечаний для
многих людей, не имеющих никакого представления о Боге. То, что
Иисус обладает божественностью, мало что им говорит. Они сперва
должны понять, что такое Бог, на собственном опыте пережив сначала
соприкосновение с Духом, одерживающим победу над их
предрассудками. Именно третий член Символа Веры должен создать основу для
опыта, без которого любое размышление о догмате совершенно
бесполезно. В конце концов, Символ Веры отражает активное участие в
некоторой молитве, обращенной к Богу-Отцу, или некоторую
жертвенность в любви Сына. Все схоласты, продумавшие до конца
представление о Боге, были священниками или монахами, которые молились день
и ночь. Их размышления о Троице происходили как раздумье над
реальным действием и образом жизни. С другой стороны, один из моих
студентов в своем экзаменационном сочинении откровенно признался
мне: «Я никогда по-настоящему не молился и, в сущности, не знаю, что
такое молитва или чем она считается». Обсуждать с этим юношей
вопрос о божественности Христа запрещено, и такое обсуждение, если бы
оно состоялось, было бы богохульством. Сначала он должен быть
погружен в некоторый совместный опыт одухотворенной жизни, и лишь
после этого мы в беседе с ним сможем ссылаться на Дух, находящийся
по ту сторону всех актов одухотворения. Я боюсь, что в наших
дискуссиях о Божестве мы склонны забывать о второй заповеди,
запрещающей произносить имя Бога всуе. Увы, вторая заповедь имеет
непосредственное отношение к нашим напрасным попыткам «обсуждать»
вопрос о Боге с людьми до того, как они узнали его на опыте в одном из
трех действий, которыми Бог овладевает нами как наш Творец, как
наша Жертва и как Податель Жизни. Эта опасность впасть в
богохульство ставит догмат в такое положение, которое прямо противоположно
его положению в античности.
Язычники, так же как иудеи, молились, приносили жертвы и
переживали экстазы. Тогда были хорошо известны те три действия, которые
современные студенты притворно не признают. Кесари, священники,
поэты, пророки, церковные службы, восстановленные Иисусом, были
известны. Считалось невозможным только их единство в жизни
отдельного человека. Современный маленький человек, безработный, немой,
подвергнутый психоанализу, не стремится стать кесарем, пророком,
поэтом, священником. Эти стремления должны быть возбуждены в
современных людях до того, как они поймут, что такое «божество». Древние
знали много историй о Боге или богах, но никогда не слышали об
Иисусе. Так что сообщить им об Иисусе можно было, только начиная с
рассказа о Боге.
483
Поскольку Символ Веры был обращен и к евреям, и к грекам, то
он должен был учитывать особенности мышления и тех, и других.
Первый член Символа Веры принимает сторону евреев в противовес
грекам. Небо и земля — это не области отделенных друг от друга богов,
поскольку в начале Бог сотворил и то, и другое. Второй член принимает
сторону греков в противовес евреям, утверждая, что один человек был
Богом. Для греков это означало включение Иисуса в список сынов Бога
от Геркулеса и Ахиллеса до божественных Юлия и Тита, Его
современников. Но в качестве Христа, единственного Сына, рожденного Богом,
Иисус завершал список, заканчивал эру, в которой отдельным людям
могли воздаваться божественные почести. И хотя этого родства
Иисуса с языческими героями было достаточно, чтобы евреи питали к Нему
ненависть, догмат убеждал их, что Он, в конце концов, был героем не
из-за кровного родства или каким-то мистическим образом: никакой
героический поступок не укоренял Его в этой жизни так, как это
имело место в Его время. Дух Божий витал над этим младенцем, с самого
начала побуждая Его идти на Крест. Каждый Его вдох был духновени-
ем той жизни, которую следовало передать будущему человечеству:
вечной надежде евреев на Мессию и бесконечной вере греков в
божественные плоть и кровь в самой их среде должно было прийти на смену
чувство братства тех, кто был бы причастен к Единому Божественному
Духу и потому оставался бы в руке Бога и больше не мог упасть. Мы
развиваемся не без падений; однако после Иисуса мы падаем не так
низко. То, что Иисус был единственным в своем роде Сыном Бога,
означает, что Он был окончательным историческим явлением
божественности человека. Христианство передает Божественную Жизнь всем
людям, живущим после Иисуса. Мы все — сыны Бога, но нам
приличествует множественное число, происходящее из Его единственного
числа, и «один из» возникает из Его «единственный в своем роде». Как все
песчинки в песочных часах должны пройти через узкую горловину,
через которую они могут проходить только по одной, так и Божественная
Жизнь должна была быть полностью сосредоточенной в одном
человеке, и лишь затем от него она могла передаться всем. Вот почему это
могло случиться только однажды, и вот почему только Иисус мог быть
единственным сыном Бога. Он объединил божественное и человеческое
раз и навсегда, а говорить о втором или третьем Христе означало бы
отрицать самую суть Его достижения и сводить на нет начатое Им
объединение человечества. Позиция антихриста и состоит в попытке
сделать именно это. Всякого христианина может одолевать «комплекс
Мессии», заставляющий Его притязать на роль единственного для
своего поколения представителя божества. Так что когда сообщество
христиан приходит в упадок, появляется антихрист. Слова Ницше «Бог
умер» с логической необходимостью ведут к немецким штурмовикам,
которые и в самом деле говорили: «Гитлер — Христос».
Знаменательно, что апостол, старавшийся преодолеть проблему
антихриста, был по природе товарищем Иисуса и одухотвореннейшим
человеком. Св. Иоанн в старости любил повторять, что все евангелие
содержится в словах: «Дети мои, любите друг друга». И когда его
спрашивали, почему, он отвечал, что по двум причинам: «Во-первых, потому
484
что этого достаточно, а во-вторых, потому что так сказал Господь».
Признавая, что его товарищ — Бог, и, тем самым, добровольно
подчиняясь той исторической последовательности, начало которой положил
Иисус, Иоанн преодолевал искушение выступать в качестве
заместителя Христа.
Догмат боговоплощения, согласно которому в Иисусе Бог стал
человеком раз и навсегда, является единственным средством,
гарантирующим нам защиту от впадения в политеизм, что всегда возможно, и в
наши дни политеизм широко растространен. Современные философии
ценностей почти все политеистичны (14). Человеческих ценностей
много, и философия — если у нее нет общего образца совершенного
человека — неизбежно отражает их множественность.
Один Человек должен быть по праву назван Богом на все времена —
или язычество будет возвращаться снова и снова, и это будет
происходить всякий раз, когда одухотворение будет поднимать людей над
обыденной рутиной закона. Иисус преодолел разделение человечества между
сынами богов, разграбившими мир в древности. Они основывали
города и империи при помощи убийств и насилия, незаконно захватывая
духовные силы масс, поклонявшихся им, как героям. Иисус проявил свою
божественность прямо противоположным способом — приняв на себя не
земную славу, а позор и земное страдание. Таким образом, вместо того,
чтобы эксплуатировать свойственный массам культ героя, Он освободил
их, разделив с ними свою божественность. Но к этому было добавлено
одно условие, согласно которому отныне ни один человек не может стать
Богом своими силами. Общение с Богом стало одним-единственным для
всех людей вместе взятых, и в каждом поколении объединение Бога и
человека, начавшееся в Иисусе, осуществлялось теми людьми, которые
держались вместе в Едином Духе. В этом смысл Церкви в качестве Тела
Христова.
Сотворим человека
Следовательно, третий член Символа Веры является специфически
христианским: с этого момента Святой Дух делает человека партнером в
процессе творения самого человека. В начале Бог сказал: «Сотворим
человека по образу Нашему и по подобию Нашему» (Быт. 1,26). В свете
этого Отцы Церкви истолковывали человеческую историю в качестве
процесса, в ходе которого Человек делался как Бог. Они называли это
«антропоургией»: так же, как металлургия получает металл из руды, ан-
тропоургия выделяет подлинную материю Человека из его
низкокачественной физической субстанции. Христос, находясь в центре истории,
дал нам возможность сознательно участвовать в этом процессе творения
человека и изучить его законы.
Один из величайших среди этих законов сформулирован Символом
Веры как воскресение плоти. Только таким способом высшие типы
человека, однажды сотворенные, могут регулярно воспроизводиться в
человеческой истории и тем самым осуществлять постоянный прогресс в
эволюции человека. Посредством этого новая душа — свежая ориги-
485
нальность человеческого сердца — переживает человека или нацию, в
которых родилась, и воплощается в духовном преемстве типичных
представителей, проходящих через века. Ибо совершенно новые формы
(phases) человеческого существования, никогда еще не
переживавшиеся, возникают в определенное время и — если являются подлинными —
отпечатываются на пластическом человеческом материале весьма
выразительно, так что поочередно «надевают» на себя тела все новых мужчин
и женщин и превращают их в тот же самый тип.
Но это нельзя понимать как языческое переселение душ или не
имеющее выбора механическое повторение. Новое воплощение — это не
просто копия старого, не говоря уже о том, что оно не тождественно
старому. «Сеется тело душевное, восстает тело духовное» (1 Кор. 15,44).
«Испорченное тело не возвращается в своем первом естестве, ибо
испорченный посев не возвращается как зерно. Но как из посеянного зерна
восстает колос, так же и в нашем теле есть raison d'être (9*), под действием
которой, если она не была испорчена, тело восстает в неиспорченном
состоянии» (15). Так что человеческий тип возникнет снова, если он «не
испорчен». Он должен быть, и в воскресении не появится ничего,
кроме чистого металла.
В христианской истории существует множество примеров
воскресения плоти. Св.Франциск (10*), например, умер, не оставив потомства,
но францисканская человечность с тех пор цвела всегда, и не только в
его ордене. Францисканский образ жизни, получивший бессмертное
изображение в книге «Подражание Христу», стал хлебом насущным для
жизни бесчисленных христиан, принадлежащих ко всем направлениям,
даже для наиболее радикальных протестантов. Францисканский тип
руководил политической жизнью средневековых итальянских городов.
«Третий Орден» распространился по всей Европе и имел среди своих
членов даже императоров из династии Габсбургов, которые смиренно
слагали с себя свои титулы перед величием францисканского духа (16).
В конце концов, в Аврааме Линкольне Франциск Ассизский праздновал
свое светское воскресение в Америке. Когда Линкольн в качестве
президента и главнокомандующего победоносной армии прибыл в 1865 г. в
Ричмонд пешком, без эскорта, Св. Франциск одержал победу над
властями этой земли. В Сибири, в Египте люди шептали, что в мире
появился старый Эйб, новый тип человека (17). Здесь правитель и слуга были
сплавлены воедино. Такие люди открывают новую эпоху в истории
видов человека. Связь Линкольна со Св. Франциском была
бессознательной. Это было не подражанием, а подлинным преемством,
раскрывающим силу души, пытающейся стать плотью снова и снова после того, как
Св. Франциск подал пример.
Подобным же образом христианские астрономы, химики, врачи,
проповедники, художники, каменщики заселили землю. Предвосхищая
Страшный суд над нашей плотью, подверженной порче, они из духа
стали плотью, добившись бурно протекающего воскресения во имя
новой жизни. Халдейские астрологи древности ожили в качестве
современных астрономов. Следующий Гиппократу лекарь, в соответствии
с традицией которого Сократ просил, чтобы в день его смерти был
принесен в жертву петух, ожил в качестве современного врача, следу-
486
ющего науке во имя живого Бога и не испорченного местными
предрассудками (18). В свете центрального догмата об окончательном
Воскресении мы видели завершение многих частичных воскресений, и
именно это, а не что-то другое, является Великим Домостроительством
нашего предназначения.
Таким образом, христианская антропоургия совершалась и
продолжает совершаться прямо на наших глазах. Эти видимые процессы
являются проекцией нашей веры на эту землю, они предвосхищают и
предвещают конечные цели нашего Символа Веры. Общность, окружающую
нас во имя Сына, мы назвали Церковью, и, поскольку мы верили в
Сына, мы обнаружили, что мы созреваем и становимся взрослыми в
христианском мире. Общность вокруг нас, существующую во имя Отца, мы
назвали Природой, и, поскольку мы верили в Отца, мы исследовали все
вещи на небе и на земле, которые он сотворил.
Короче говоря, история человека со времени Христа была
применением Афанасьевского Символа Веры к повседневной жизни. Эта история
ясно показывает, что Символ Веры является не утверждением голых
фактов, а приказанием, отданным нам во время крещения. В сущности,
Символ Веры описывает три вещи — доверие Бога к человеку, свободу
Бога, способность Бога творить (19) — и предписывает нам принять
условия, при которых мы можем сотворить Человека, становясь
причастными к этим божественным атрибутам.
На протяжении пятнадцати столетий люди, внесшие выдающийся
вклад в ту жизнь, которой мы живем, верили в приказания Символа
Веры и выполняли их. Они верили, что способны создать нечто,
заслуживающее доверия, с надеждой взлелеяли свои творческие силы и вели
себя как свободные люди. Живя таким образом, они поклонялись Отцу
как поручителю их доверия, Сыну как поручителю их свободы, и Духу
как поручителю их способности творить.
Итак, все наследие нашей цивилизации было создано людьми по
образу и подобию Троицы, и мы можем видеть этот образ в таких
повседневных вещах, как пилоты, которым мы доверяем свою жизнь, врачи,
использующие последние достижения медицины, и учителя,
обладающие свободой оказывать на учеников такое влияние, которое было бы
невозможно, если бы мы просто допустили естественный ход событий.
Соответственно, мы являемся также свидетелями того, что случается,
когда современное общество отказывается от божественных атрибутов и
заменяет их противоположными свойствами — недоверием,
механизацией того, что не может быть механизировано, фатализмом: людей
убивают на войне, их связи разрушаются механическим повторением, а сами
они порабощаются диктаторами.
Поэтому люди, которые разрушают христианство, превращая
Иисуса в некоего милого и славного человека, говорившего всякие
приятные вещи и совершавшего героические подвиги в Палестине,
просто не пользуются своими пятью чувствами. В противном случае
они обнаружили бы, что при определенных условиях у них есть нечто,
заслуживающее доверия, есть способность творить и свобода, а при
других условиях ничего этого нет. И это самая суть христианского
Символа Веры.
487
V
Домостроительство спасения
Три эпохи — Одухотворенное наследование: возрождение значения —
Культ плоти вместо воплощения — Христианство инкогнито — Смерть и
Воскресение Слова
Как некоторые люди все еще могут верить, будто последние две тысячи
лет действительно были историей спасения?! Средний прихожанин или
даже теолог с восхищением будет говорить о жизни и учении Христа, но
похоже, они думают, что с тех пор Бог более или менее отошел от дел. И
все же, если мы не верим, что Христос положил начало тому
жизненному процессу, который постоянно преображал нас и мир, в котором мы
живем, то подлинная вера мертва.
Затруднительность этого современного положения имеет,
несомненно, несколько причин, и некоторые из них уже упомянуты. Вера в
христианскую историю зависит от веры в конец света, на который и
ориентирована эта история. Но наши теологи все дальше отходят от
такой веры, так что сегодня наивный коммунист или фашист — более
хорошие эсхатологи, чем они. Более того, современный мир в
огромной степени сформирован протестантским духом, и протестантизм
оправдывал свой протест против папства, обвиняя его в том, что в
течение тысячи лет христианский мир был в руках антихриста — сами
термины «средние века» или «Темные века» были изобретены именно
для этой цели. Поэтому большинство современных людей
бессознательно предрасположены думать, что значительные этапы истории
после Христа настолько испорчены, что совершенно бесполезны для
христианских целей.
Обвинения, исходящие от протестантизма, были, подобно
сообщению о смерти Марка Твена, сильно преувеличены: ведь каждая великая
революция преувеличивает, — но порча, несомненно, имела место в
самых разных формах и иногда в наиболее почитаемых местах. У Данте
папы помещены в ад. В этом нет ничего неортодоксального: люди все
еще обладают свободой грешить. Но классический идеализм и,
возможно, вера в автоматический прогресс заставили людей толковать
трагедии в христианской истории как опровержение христианства, — так,
словно оно должно быть либо идеально совершенным, либо вообще не
существовать. И поскольку мир в наши дни едва ли являет картину
спасения, отчаяние заставляет многих согласиться с сарказмом Ницше:
«Если Иисус из Назарета хотел спасти человечество, возможно, он не
мог не потерпеть неудачу?» Сказать, что христианство никогда и не
пыталось сделать этого, было бы, в лучшем случае, жалкой попыткой
увильнуть от ответа.
Но если мы понимаем, что наша вера по самому своему
установлению является прерывной, что христианство не уничтожает грех и смерть,
а преодолевает их, и что в X и в XVI вв. христианство, хотя оно и было
488
таким же банкротом, каким является сегодня, все же возрождалось, то
мы можем взглянуть на историю свежим взглядом и увидеть ее именно
как действительно протекавшую историю спасения.
Три эпохи
Эта история по самой своей природе должна быть не труднодоступным
открытием ученых, а чем-то настолько простым, чтобы ее мог понять
любой школьник. Она может быть сформулирована в одном
предложении. История спасения на земле — это победа единственного числа над
множественным. Спасение пришло в мир многих богов, многих стран,
многих народов. Над всеми ими оно водружает единственное число:
один Бог, один мир, один человеческий род.
Соответственно, история охватывает собой три великие эпохи. В
первую эпоху один Бог одерживает победу над многими ложными богами.
Этот процесс составляет содержание первого тысячелетия нашей эры, и
его результатом является христианская Церковь. Поэтому история
Церкви — это интересный и важный аспект первой тысячи лет от Рождества
Христова. Во вторую эпоху из множественного числа не связанных друг
с другом стран и еще не открытых земель возникла единая земля, и
против этого не могли устоять никакие китайские стены. Это то положение,
в котором мы находимся сегодня: географически, технически,
статистически земля, наконец, является единой, и таким же в действительности
является весь мир природы благодаря современной науке, созданной
христианством. Главные установления второго тысячелетия — это
папство в качестве мировой силы, а затем система территориальных
государств, возникших под его крыльями (1). Поэтому темой данного
периода является всемирная история или политическая история.
Сегодня мы переживаем муки перехода к третьей эпохе. Мы еще
должны создать Человека, великое единственное число человечества, в
едином домохозяйстве, возвышающемся над множественностью рас,
классов и возрастных групп. Это станет в будущем главным направлением
борьбы, и мы уже видели взрыв молодежных движений и таунсендитов
(1*), войну классовую и расовую. Они ставят те вопросы, ответить на
которые должно будет третье тысячелетие. Тоталитарное государство — это
ошибочная попытка разрешить новые проблемы, используя старые
методы, созданные вторым тысячелетием и для второго тысячелетия. Сами
судороги тоталитаризма являются признаком слабости, и его
приверженцы громко вопят, поскольку в глубине души испытывают страх, что их
идол уже умер. Государство занимает оборонительную позицию, потому
что оно не в состоянии удовлетворить потребности грядущей эпохи. Тема
будущей истории не территориальная или политическая, а социальная:
это будет повесть о творении человека.
Поняв последовательность трех главных эпох, мы можем увидеть,
что каждая эпоха соответствует одному члену Символа Веры, а
потому история спасения осуществляет Символ Веры в человеческой
истории. Три члена Символа Веры имеют дело, соответственно, с (1)
Творением, (2) Спасением, (3) Откровением. История осуществляет
489
их в другом порядке: второй член создал первую эпоху. Затем был
осуществлен первый член. А теперь мы обращаемся к третьему члену
Символа Веры.
В первом тысячелетии Церковь была главным образом озабочена тем,
чтобы стать Телом Христовым. Соответственно, второй член Символа
Веры — Иисус — истинный Христос был сердцевиной Церкви, его Отец
— истинный Бог, дух его Церкви — Святой Дух, и тот, кто верил в это,
был спасен. Церковь была общиной спасенных.
Второе тысячелетие возвратило творение Творцу. После того как
христианская душа нашла место своего обитания в Боге, внешний мир мог
быть очищен от всего небожественного: вся земля была организована,
как система территориальных государств, и сама природа стала областью
всеобщего закона и порядка — магия, демоны, непредсказуемые силы
были изгнаны. Таким образом, даже современная наука является
процессом, происходящим в рамках истории спасения, и благодаря
осуществленной ею унификации природы первый член Символа Веры стал живой
собственностью человека.
По-видимому, следующее тысячелетие будет сосредоточено на
третьем члене Символа Веры, а именно, на выполнении задачи откровения
Бога в обществе. Заботами этой эпохи будет, во-первых, оживление всех
мертвых ветвей единственного человеческого рода, а во-вторых, новое
одухотворение всех механизированных частей единственной
человеческой жизни. Поскольку и следующие друг за другом этапы биографии
отдельного человека, и меняющиеся требования индустриального общества
включают нас в круг повторяющихся ролей, необходимо признать, что
дыхание жизни должно снова и снова охватывать нас изначальной силой
обновления, чтобы целые серые части жизни и человечества не остались
не одухотворенными (2). История Церкви и история мира должны быть
дополнены историей всего человечества. А кто такой человек? Существо,
которое может быть одухотворено.
Одухотворенное наследование: возрождение значения
Однако, проходя через все эпохи, история спасения оказывается
единым процессом: миссионерством и обращением, постоянной передачей
жизни первых христиан новым людям. Этот процесс и является сутью
чуда христианства: оно есть воспроизводство без наследственности.
Наследственное христианство, конечно же, существовало, но оно
является уступкой путям мира и в основе своей внутренне противоречиво. В
строгом смысле христианство находится между философией и более
старыми религиями. Философия существует благодаря приятному
общению на досуге, а не благодаря обращению, и она не требует
постоянного воспроизведения своих убеждений или некоторой линии
организованной преемственности, проходящей через века. Один платоник
мог жить в 550 г. до Рождества Христова, три в 1700 г., дюжина — в
1942 г. Даже Сократ, святой и мученик философии, основал только
несколько эзотерических и резко противостоящих друг другу школ. Для
философии не имеет большого значения то, что у нее нет непрерывной
490
традиции. С другой стороны, языческая и иудейская религии
постоянно продолжали и сохраняли себя, но при помощи наследственности, и
они не были заинтересованы в новообращенных. Христианство
заменило воспроизводство при помощи естественного рождения участием в
смерти. Оно допустило полное разрушение, разрыв веры в
промежутке между поколениями (3), но оно верило, что искры, зажигаемые
миссионером в новообращенном, преодолевают пропасть свободного и
независимого человеческого существования.
Плодовитость духа была проблемой Иисуса, и она заключалась в том,
чтобы сделать дух вечно воспроизводящим, продолжающим самого себя.
Решением явился христианский парадокс успеха через неудачи. Когда
Иисус был на Кресте, Он потерпел самую полную неудачу, какая только
может случиться с человеком, и все же Он стал человеком, добившимся
наибольшего успеха в истории, успеха в глубочайшем смысле
одухотворения бесконечной череды последователей. Если бы Он добился успеха при
жизни, то Его ученики стали бы простыми подражателями. Если бы Он
хотя бы протестовал на Кресте, то они стали бы мстительными. Но все
произошло так, что Он добровольно возвратил свой дух в руки Отца, а
потому для Него стало возможным снова восстать в своих учениках,
поскольку они чувствовали, что теперь они находятся на Его месте. Таким
образом, Иисус утверждал, что прерывание одухотворения является
условием Его постоянной передачи от человека к человеку.
Он продемонстрировал тот же творческий отказ, то же творческое
самоотречение и в других, менее значительных деталях своего поведения.
Если бы Он написал книгу, то Его ученики сочли бы, что важнее стать
профессорами. Вместо этого Он основал Церковь. Он видел, что в
качестве человека Он не может и не должен монополизировать способности
проникать в сущность вещей, пророчествовать, проявлять мудрость. Он
преодолел искушение гения править миром при помощи своего меча,
своего языка или своего ума, а потому вместо этого Он создал династию
гениев. Ибо святые — это именно династия гениев, которые больше
озабочены вечным перетеканием духа ко всем людям, чем своим личным
возвышением и самовыражением. Иисус изменил естественную
направленность гения на творение самого себя и по очереди зажигал в каждой
следующей за ним душе вечный огонь способности быть творцом.
Ограничив свой собственный гений, Он показал, что дух будет возвращаться
в других людей в надлежащее время до тех пор, пока кто-нибудь не
завладеет им слишком надолго и слишком исключительно.
Подлинное духовное наследование делает нечто большее, а не просто
продолжает. Оно расширяет и углубляет. Церковь верила в свое
собственное существование только благодаря фактам миссионерства и
обращения. Она возникла во время Пятидесятницы, когда Дух сошел на
апостолов. Когда они неправильно поняли новое правило наследования и
возмечтали о семейном епископстве под властью брата Иисуса в
Иерусалиме, апостол Павел, который не был связан с Иисусом по плоти,
обновил Церковь, отправившись проповедовать к язычникам. Так что за
первыми двенадцатью апостолами и пятью тысячами прихожан первой
Церкви последовали бесчисленные церкви по всей земле, и после
священников миряне также обрели полноту Духа.
491
Христианское обращение всегда включает в себя четыре элемента: 1.
разрыв со старым образом жизни, отказ от отождествления себя с миром,
как он есть, поскольку он привязывает к себе наше тело или нашу душу
слишком сильно, и в этом смысл того, что христианство не от мира сего,
и смысл того самоотречения, которого Христос требовал от своих
последователей; 2. открытие способности обрести второе дыхание и
включиться в совокупность новых связей и привязанностей; 3. проверка этого
опыта при помощи вхождения в новую группу людей, которых мы
прежде не замечали или даже презирали и которые теперь дают нам
возможность углубить свой опыт и превратить его в привычку; 4. признание
того, что сила и общность происходят от Основателя нашей веры.
Христианство продолжает существовать лишь до тех пор, пока новые
группы людей постоянно образуются вокруг сохраняющейся памяти о
Христе. Недостаточно подражать Христу — необходимо также принять этот
пример как свободный и преднамеренный дар Основателя.
Однако, хотя смысл миссионерства и обращения всегда один и тот
же, с течением времени они принимали различные формы. В Церкви
первой тысячи лет, еще сохранившейся на Востоке, люди умирали ради
мира ложных богов и демонов. Лучшими представителями этой формы
миссионерства были мученики и монахи или отшельники. Мученик, как
на это указывает само имя, был свидетелем (3*), и своим отказом
поклоняться статуе кесаря или выкрикивать эквивалент приветствия: «Хайль
Гитлер!» он свидетельствовал в пользу живого Бога и против идолов
ярмарочной площади. Отшельник боролся с образами этих божеств в
человеческом сознании, с искушениями поддаться дьявольскому демонизму.
Например, св. Антоний (4*) боролся в самом себе с титаном и
гигантом, магом и волшебником (4). Таким способом были побеждены
сверхъестественные враги человека, а терзающие дух демоны ложного
неба астрологии и магии стали членами единого сообщества под
властью Бога. В результате капля аскетизма влилась в поток жизни всех нас.
По сравнению с человеком древности у нас всех есть что-то от монаха,
и это «что-то» проявляется в нашем труде, половой жизни, диете, спорте
и развлечениях.
После того как мученики и монахи вытеснили демонов с неба,
второе тысячелетие боролось с локальными земными властями для того,
чтобы создать единый христианский мир, «мир Божий». Крестоносец и
паломник представляли собой воплощения этой новой формы
миссионерства. Право на паломничество и крестовый поход были первыми
шагами освобождения человека от локальных уз крови и хозяйства (5).
И с того дня до того момента, когда Церковь реформаторов пошла
рядом с Церковью крестоносцев, а паломники Беньяна (5*) освятили
волны западных морей и основали Новый Свет, уже новые формы
крестовых походов и паломничества боролись с инертностью дома,
собственности и земного закона, поддерживая постоянное движение в некий
больший мир, в некую Святую землю или Государство, «все дальше и
дальше». В результате некоторая часть духовного паломничества
проникла в жизнь всех нас.
Каждая форма миссионерства и обращения одновременно и
подготавливает приход своих преемников, и обновляется ими. Христианство,
492
прежде чем оно смогло завоевать ложную, т.е. разделенную землю,
должно было победить ложных богов. Но дух двигается дальше, и старые
формы жизни могут оставаться живыми лишь до тех пор, пока новые
формы не освободят их от бремени застоя, возникающего вместе с
повторением. К концу первого тысячелетия подлинный духовный рост
Церкви уступил место явному количественному расширению ее границ,
когда короли обращали народы в христианство огнем и мечом, а целые
племена принимали христианство просто по приказу своих вождей. Это
означало, что следующее тысячелетие должно будет бороться с
язычеством, остававшимся в результате в людях и общественных институтах,
которые номинально стали христианскими, и с язычеством в тех странах,
которые отпали от христианства. Следовательно, крестовые походы и
реформации должны были дополнять более старые формы. Сегодня
крестоносцы и реформаторы считаются чем-то таким, что, вообще говоря,
в порядке вещей, но они значительно снизили свою роль, с горячностью
занимаясь несущественными проблемами. Они останутся с нами,
поскольку никакой христианский образ жизни не разрушен временем
полностью, но они требуют обновления путем воплощения духа.
Культ плоти вместо воплощения
Миссионерство и обращение будут продолжаться до тех пор, пока душа
будет сбиваться с пути и нуждаться в возрождении, но мы можем
ожидать, что в грядущем тысячелетии они будут происходить более
доверительно по отношению к человеку. Искушения нашего времени
возникают не из небесного демонизма или земного провинциализма. Они
происходят вследствие эрозии души. Нашу жизнь преследуют скука и
невроз, она разрушается все механизирующим обществом, превращающим
человека в простой результат предшествующих причин. Следовательно,
мы испытываем искушение поклоняться грубой жизненной силе,
сенсационности, жизни любой ценой (6).
Что традиционные методы реформации или обращения могут
предложить таким людям? Нет ничего, от чего их следует отвратить в
процессе обращения в христианство. Эти люди слишком слабы. Лечение,
которое восхваляется громче всего и выглядит наиболее
соблазнительным, — это витализм или превозношение родо-племенных отношений,
культ человеческой плоти, которые превращают в идолы истоки
человека, связанные с классом, расой, верой, цветом кожи или нацией.
Возможно, мы вправе воспользоваться указанием на сам факт
феноменальной распространенности этого культа, поскольку нам придется
бороться именно с ним.
Христианство всегда должно было вести борьбу с шарлатанами,
предлагающими простые, вводящие в заблуждение, укороченные пути
к спасению. Ранняя Церковь, обращая язычников в христианство,
боролась с гностиками, успех которых был ошеломляющим. Гностики
заменили обращение сердца изменением направленности ума. Люди
просто выдумали некую космическую систему и избавились от
необходимости подчиняться историческому откровению. Гностики считали, что
493
истина живет тем или иным способом, и ее следует только познать,
тогда как христианин знал, что он должен жить истиной. Во втором
тысячелетии крестоносцы имели своих шарлатанов в викингах, которые
быстро все завоевывали, но не знали, что им делать со своей
Гренландией, и по тем же причинам над деятелями Реформации почти взяли
верх гуманисты: Эразм — над Лютером, Бэкон — над Кальвином,
модель, восходящая к Платону, — над моделью, восходящей к апостолу
Павлу. Платоник — это идеалист, а христианин распят на своих
естественных идеалах, поскольку получает свой дух назад вместе с
божественным одухотворением, которое должно получить воплощение здесь
и теперь, только при условии, что он отказывается от этого своего духа.
Гуманисты думали, что жизнь сама по себе хороша, а реформатор знал,
что он сам должен подтверждать свои обещания. Шарлатанами
нашего времени являются люди, поклоняющиеся плоти и превозносящие
родо-племенные отношения. Они обещают вечную жизнь при условии,
что вы — пролетарий, немец или принимаете витамин В,. Они
считают, что жизнь прекрасна сама по себе, а христианин знает, что жизнь
снова впадает в дикость, если мы сами не делаем ее воплощением
нового творческого Слова.
Обратите внимание на последовательность: гностики учили, что в
жизни есть истина и без исторического Откровения, гуманисты учили,
что жизнь хороша и без Распятия, а поклоняющиеся плоти считают, что
жизнь прекрасна и без боговоплощения. Таким образом, все шарлатаны
прибегают, в сущности, к одному и тому же трюку, и потому нет ничего
удивительного в том, что люди, превозносящие родо-племенные
отношения, в наши дни побивают гуманистов их же оружием. В течение
четырех столетий поклонники классической цивилизации сделали все, что
в их силах, для того, чтобы обойтись без христианства. Оставаясь
верными своим убеждениям, согласно которым жизнь хороша и без
Откровения, без Креста, они возвели на престол ца место Бога миф о
человечности и человеколюбии и покинули христианскую эру. Мои коллеги на
отделении классической филологии все еще читают со своими студентами
Ксенофона вместо апостола Павла и Цезаря вместо Августина. Хотя
студентов, изучающих латинский и греческий языки, у них почти нет, они
все же не видят, насколько смешны. Естественно, без ориентации на
христианство их отбор греческих и римских классиков выглядит
совершенно произвольным, и, следовательно, совершенно не в состоянии
защититься от тех, кто превозносит родо-племенные отношения и
углубляется еще дальше в прошлое в поисках своих моделей, каковыми
становятся жестокости Ниневии и танцы на о. Бали.
Мы можем одержать победу над новыми ордами, сделавшими своим
богом жизненную силу, лишь при помощи меча, сталь которого не
содержит примесей гностицизма или гуманизма. Этот меч должен быть
выкован цельным человеком — тварным существом, а не только мыслителем.
В поте лица своего и в ходе выполнения поденной работы
индустриального общества мы должны искать место обновления духа и божественного
происхождения человека. Воплощение должно занять место культа плоти.
Поклоняющийся родо-племенным отношениям человек обладает
жизненной силой за счет какого-нибудь другого племени. Христианин стремит-
494
ся к всеобъемлющему воплощению человека во всех его ответвлениях
через совместный труд и страдание. Следующая форма нашего обращения
должна дать надежду на рождение великой человеческой семьи.
Резкое противоречие между культом плоти и воплощением — это
только новая форма вековечного дуализма между принадлежностью к
миру сему и принадлежностью к миру потустороннему, и данный
дуализм составляет самую суть христианского обращения. В последнее
время этот дуализм часто неправильно понимался как простое отрицание.
Например, Ницше отождествлял христианство с нигилизмом, полным
отрицанием жизни; и все же в своем понимании сверхчеловека и
постоянном самопреодолении жизни он создал светскую версию
христианской потусторонности.
Заблуждения относительно христианства в значительной степени
обусловлены живучестью языческих или детских подходов к пониманию
Символа Веры. Даже обычные термины «потусторонний»,
«сверхъестественный» указывают именно на это. Ум ребенка, используя, главным
образом, пространственные термины, рисует себе небо как некий иной
мир, существующий «над» этим миром. Но поскольку самая сущность
христианства исторична (ведь это история спасения человека), то быть
христианином — значит мыслить главным образом на языке времени, а
не пространства, как это показано излюбленной библейской фразой о
«будущем веке». Христианство, как мы видели, создало истинное
будущее. Христианская потусторонность действительно состоит в «силах
будущего века» (Евр. 6, 5), вторгающихся в мир, каким он уже стал.
Точно так же, под сверхъестественным следует понимать не некую
волшебную силу, соперничающую в мире пространства с электричеством
или гравитацией, а способность выходить за пределы прошлого, шагая в
открытое будущее. Природа движется по повторяющимся кругам и
нисходящим траекториям, она не вольна сказать «нет» и стать выше
присущих ей энтропии и инерции. Но человек — это животное, которое
больше, чем природа, поскольку он может пойти против своей природы: Ессе
homo (6*). Его сердце может приостановить действие его социальных
привычек и физических причин, когда они угрожают человеческой
жизни, и оно может положить начало будущему, сделав в него первый шаг.
Язычники действовали по прецеденту (précèdent), но христиане
непредсказуемы: они сами л/?едшествуют (précède).
Иисус пришел не для того, чтобы отрицать жизнь, а для того, чтобы
дать ее в более полной форме. Христианство — это не декадентское
поклонение смерти ради нее самой, а открытие того, что включение
смерти в жизнь является тайной самой полной жизни (7). Даже аскеты —
отшельники и монахи, представляющие собой самые крайние образцы
христианского ухода от мира, христианской потусторонности, — жили
этой истиной. Отказываясь от части мира до того, как они умирали
телесно, они ставили смерть в самую середину жизни в качестве
ободрения. Они доказали, что смерть является существенным элементом
жизни и, фактически, ее самой напряженной частью. Но существует и много
других форм ухода от мира. Любой отец, менеджер или учитель должен
отказаться от дел и дать воможность молодежи учиться в ходе их
выполнения, — хотя сам он мог бы сделать их намного лучше, — поскольку
495
знает, что однажды умрет и молодежь должна будет занять его место.
Новый завет полон повествований о таком героическом отказе, и Иисус
добровольно воздерживается от высказывания многих истин, которые
второе или третье поколение должно будет открыть самостоятельно. Все
такие действия «из потустороннего» происходят не из нашего
инстинктивного чувства жизни, а из нашей умудренности смертью. Человек как
животный организм живет, двигаясь от рождения к смерти, но как душа,
заранее знающая о том, что умрет, данный человек формирует свою
жизнь, смотря из ее конца.
Возможно, другая причина неправильного понимания более старых
форм потусторонности — это необходимость в наши дни новых форм.
Поскольку в течение двух тысяч лет христианства человек во все большей
степени отделялся от природы, становился неестественным, в наши дни
необходимы менее резкие и менее очевидные формы противостояния.
Первые христиане противостояли совершенно нехристианскому миру, и
только держась от него в стороне и предсказывая его скорый и
катастрофический конец, они смогли сделать свое собственное сообщение
эффективным. Так святые и мученики все вместе ушли из этого мира. Во
втором тысячелетии паломники и крестоносцы путешествовали,
проходя через мир, который частично уже был христианским, но нуждался в
том, чтобы его завоевали заново, реформировали, подняли над родо-пле-
менными узами, над привязанностью к почве и местности. В третью
эпоху, начинающуюся в наши дни, христиане должны войти в мир нашей
повседневности, чтобы воплотить там дух в непредсказуемых формах.
Ибо повседневная жизнь людей теперь настолько неестественна,
настолько далека от наивности, полна забот, мелочна и мучительна и в то
же время содержит в себе так много частей и обломков прошлых
христианских времен, что старые способы противопоставления жизни в мире
и ухода от мира оказались непригодными. Нет необходимости отрицать
этот мир: хаос отрицает сам себя. Современный человек уже распят.
Спасение, в котором он нуждается, — эта одухотворение его
повседневного труда и досуга. Для нас разница между жизнью в мире и уходом от
мира — это разница между конечными формами, уже созданными
прошлым, и бесконечным дыханием духа, проникающим в нас из
открытого будущего. Иной мир присутствует в этом мире как предназначение
человека, как само значение человека.
Христианство инкогнито
Поскольку мы обнаружили, что христианин и язычник, верующий и
неверующий больше не отделены друг от друга, как это было прежде, но
бок-о-бок существуют в каждой душе, нам предстоит достичь нового
уровня в развитии христианства. Никто не может притязать на то, что он
является стопроцентным христианином или стропроцентным
язычником. Новообращенный и тот, кто обращает, должны будут продолжать
жить, будучи объединены в одной и той же личности, подобно вдоху и
выдоху в нашем дыхании, подобно постоянному умиранию и
возрождению нашей веры.
496
В таких условиях мы должны признать, что в своих разнообразных
потребностях человеческие души не поддаются исчислению, и формы
обращения будут, соответственно этому, меняться. Наиболее
поразительным образом мы видим это в том факте, что некоторые
проницательные священники уже начинают осознавать необходимость отвратить
некоторых людей от Церкви. У одного моего друга в его церковном
приходе была женщина, которая так много занималась чтением
теологических сочинений и обращением людей в христианство, настолько глубоко
погрузилась в религиозные дела вообще, что всем надоела. В один
прекрасный день у этого моего знакомого священника состоялся серьезный
разговор с ней, и он сказал ей, что религия превратилась у нее в раковую
опухоль. «Вам необходимо ее вырезать!» — неожиданно воскликнул он.
Она, конечно, была ошарашена, но подчинилась его указаниям,
покинула свою церковь, сделала свою жизнь совершенно светской и стала
предприимчивым коневодом, так что теперь ей были рады везде. Мой друг
объяснил это тем, что до тех пор, пока она пользовалась только
традиционно религиозным словом, оно в ее устах превращалось в оружие
критики или нападок на соседей. Но она обрела мир и покой, избавившись от
всего церковного словаря. Для нее организованная религия должна быть
сведена к минимуму для того, чтобы снова вызвать в ней религиозные
чувства и переживания, и она подчинилась авторитету священника, — в
данном случае он служил живой Церкви, в которой много обителей.
Эти примеры могут быть умножены. То, что мы в состоянии понять
факты обращения и тенденции, отдаляющие людей от нас, — это новое
событие в истории христианства. Это показывает, что мы осознаем свой
мир как христианский, объединенный мир, далеко выходящий за
границы официального христианства. Ведь мой друг не послал бы свою
прихожанку за пределы Церкви, если бы это означало обречение ее на
впадение в язычество или переход в иудаизм. Посев христианства ныне
созревает в светских формах жизни в той же мере, что и на церковных
скамьях, и некоторым душам нужно уйти от света полного христианского
сознания и жить на периферии, где их будут окружать только косвенные
результаты христианства. Отказываясь от шумной приверженности
определенной конфессии, они могут добавить к христианству новые
формы исповедания веры.
Это означает, что мы должны пожертвовать своими
конфессиональными ярлыками. Поскольку верующий и неверующий находятся внутри
каждого из нас, то даже употребление имени «язычник» или
«христианин» ведет к риску исключения из нашего числа души, которая
по-настоящему принадлежит Богу, или включения в наш состав язычника,
обитающего в нашей груди. Но христианство всегда означало жертву.
Ранняя Церковь требовала, чтобы все люди, входя в Церковь,
отказывались от своих личных, родовых или национальных имен ради любви к
Христу: Его имя было единственным, которое в течение первой тысячи
лет упоминалось в Церкви, и все совершалось только во имя Христа. В
наши дни власть имен стала такой слабой, что мы едва ли можем понять
те трепет и благоговение, с которыми люди приносили в жертву свое
исповедание язычников для того, чтобы стать народом Его Имени. Новая
жертва была принесена в Церкви эпохи Реформации: здесь люди отка-
497
запись черпать уверенность в созерцании соборов, реликвий и
церковных служб духовенства. В темной ночи секулярного мира они полностью
положились на веру в Бога.
В наши дни мы призваны к тому, чтобы принести в жертву гордость
уверенности в том, что мы вообще христиане. «Надеюсь, что верую», —
вот все, что наиболее ортодоксальный человек может, запинаясь,
пролепетать в условиях растерянности и путаницы общества эпохи машин. Так
что в наши дни любовь к Христу и вера в Бога должны быть
подкреплены надеждой на Дух.
Третье христианство, христианство Надежды, начинается с того, что
было правильно названо Страстной пятницей христианства. Страстная
пятница — это подлинное средоточие нашей веры, но современные
церкви, опьяненные цивилизацией, чувствующие себя в безопасности и
преисполненные чувства превосходства, не смогли добровольно создать
для себя свою Страстную пятницу: их обычные проповеди,
направленные против эгоизма и своекорыстия, были не столь выразительными, как
их своекорыстные действия, служащие их имущественным интересам.
Так что теперь мы окружены ужасами настоящей Страстной пятницы в
Европе и России, где христианство отрицается или подвергается
циничным манипуляциям. Следовательно, от нас требуется придать лишенным
веры массам новую надежду, поскольку именно надежда является нашей
естественной точкой соприкосновения с ними. Вера может уйти,
надежда дает нам время для ожидания возвращения веры. Если люди не
имеют надежды, они не будут достаточно терпеливыми, чтобы слушать.
Хотя я верю, что Церковь — это божественное творение и
Афанасьевский Символ Веры является истинным, я верю также, что в будущем
Церковь и Символ Веры смогут возродиться и вернуть себе жизненные
силы только через посредство тех форм служения, которые являются
безымянными или выступают инкогнито. Одухотворение, наполняющее
людей Святым Духом, не останется внутри стен видимой или
проповедующей Церкви. Третья форма, слушающая Церковь, должна будет
сбросить с себя груз более старых форм поклонения, собирая верующих в
группы, не имеющие ярлыков и обозначений, для того чтобы они
смогли жить своими надеждами в совместном труде и страдании и,
следовательно, смогли бы ждать появления нового вида сострадания и
прислушиваться к исходящему из него утешению. Это сострадание избавит
современную жизнь от проклятия распада и механизации. Благодаря этой
епитимье мы можем надеяться на спасение наших гимнов, символов
веры и исторически возникших церквей от разрушения в грядущих
временах. Само христианство может восстать из мертвых, только если оно
сейчас откажется от присущей ему сосредоточенности на самом себе.
Смерть и воскресение Слова
Изнашивание старых имен, старых слов, старого языка — это факт,
который переживается наиболее широко и глубоко в ходе того кризиса,
через который проходит христианство. Именно поэтому в наши дни мы
должны отказаться от них. Великий швейцарский писатель-иезуит даже
498
пошел настолько далеко, что написал: «Слово «Бог» так основательно
затерто, что мы не собираемся из-за него спорить с Ницше» (9). И в
самом деле, это было бы безымянное христианство.
Вопрос о языке христианства — это не поверхностный вопрос
техники пропаганды. Христианство считает, что слово — это материнское лоно
человека (10). Мы совершенно правильно говорим о «родном языке», а
не о «языке матери», поскольку сам язык обладает материнским
характером, он является лоном времени, в котором был сотворен человек и в
котором он постоянно творится заново: почти каждое употребляемое
нами слово имеет историю, охватывающую тысячи лет, и все же всякая
подлинная речь создает заново и слушателя, и говорящего — факт,
игнорируемый пропагандистами, считающими, что они могут заразить
своими словами человека, не заразившись сами. Идеализм, материализм,
реализм безнадежно путаются в вопросе о месте языка в творении
человека и ненавидят язык, потому что он превращает наш дух в некое твар-
ное сущее. Но теология не должна начинаться ни с вещей, ни с идей, а
со слов «Свят, свят, свят» и с голосов, которые судят, молятся, поют,
именуют, благословляют и проклинают. История творения повествует о
том, как Бог привнес порядок в «пустыню и глушь» (7*): «И сказал Бог:
да будет свет» (8*). Все вещи были созданы Словом и возникли из него.
В начале не было ни духа, ни материи. В начале было Слово. Св. Иоанн
был, собственно, первым христианским теологом, потому что он был
потрясен выразимостью в языке всех значимых событий.
Язык светского ума является либо всеобщим и абстрактным, как
математика, либо конкретным и своеобразным, как диалект южан.
«Дважды два — четыре» имеет силу для всех, но это суждение абстрактно,
«Мэриленд, мой Мэриленд» — это конкретное предложение, но оно имеет
силу не для всех. Однако язык христианской души является
одновременно и всеобщим, объединяющим, и, тем не менее, личным, придающим
конкретную единственность в своем роде целям и говорящего, и его
слушателей (11). Душа пробуждается лишь тогда, когда к ней обращаются на
языке, сочетающем в себе общезначимость и конкретность ситуации
«здесь и теперь». Все высказывания Иисуса были очень простыми, но
они стали важными навсегда, потому что были высказаны в подходящий
момент, «когда исполнилось время». Он умер за всех людей, но сделал
это «здесь и теперь», от всего сердца, со словами, сказанными Его
соседу именно по этому, а не по какому-либо другому случаю.
Миссия Иисуса состояла в том, чтобы восстановить связь слова и дела
на всех фронтах жизни. Его заповеди, Его лирика, Его краткие и четкие
формулировки законов природы являются совершенными образцами
различных способов, которыми может быть выражена действительность.
Следует обратить особое внимание на Его «совершилось» (9*): Он не
произносит речей с Креста, как это делали современные мученики из мира
политики. Он не собирает пресс-конференций. Здесь нет никакого духа,
наблюдающего материю, никакой души, ищущей другую душу, и евангелие
еще не проповедовалось. Смыслом этого предложения является нечто
такое, о чем обычно не упоминается: слова — это действия, и эти действия
являются фазами самого процесса жизни. Завершая свой путь, жизнь в
конце концов приводит к высказыванию. «Совершилось» — это последнее
499
действие Распятия. То, что Иисус после полного отчаяния может
возобновить человеческую историю в том ее виде, как она проходила через
Авраама, Моисея и пророков, и осознать свою жизнь в качестве
исторического следствия жизни человеческого рода, отличает Его конец от конца
двух Его соседей. Именно это короткое предложение, состоящее из одного
слова (10*), делает это событие содержанием Его собственного опыта.
Язык нельзя сохранить живым, заморозив или заключив в словари.
Закон изнашивания при переходе от одухотворения к рутине в
отношении языка имеет силу точно так же, как и в отношении других
процессов жизни. Всякий раз, когда мы говорим, мы либо обновляем
используемые нами слова, либо уменьшаем их значимость. Следовательно,
языком христианства можно злоупотреблять, как и всяким другим, и мы
слышим, как сегодня им злоупотребляют «христианские» фашисты,
коммунисты, пацифисты и снобы. Оглядываясь в прошлое, мы можем
увидеть, что все потоки христианского языка застыли и превратились в
геологические напластования. Языки святых и мучеников, крестоносцев и
паломников больше не трогают человеческое сердце. Ни ритуал, ни
месса — эти безупречные творения первого тысячелетия, — ни
величественный язык Ханаана в протестантской Библии не достаточны для того,
чтобы в наши дни установить мир между людьми. И все же мы видим
также, что когда хлеб жизни черствел, он снова и снова делался свежим
посредством нового пресуществления. Эти виды преобразования живой
речи в действии являются настоящим таинством Духа, и если мы
сегодня смиренно признаем свое банкротство, то сможем надеяться, что
услышим, как Слово будет произнесено еще раз.
Смерть и Воскресение мира, прерывность христианской веры, отлив
и обновленный прилив ее жизни не должны заслонять от нас
существенного единства истории спасения. Древо вечной жизни может расти,
только проходя через последовательно сменяющие друг друга поколения
людей, в одном Духе протягивающих друг другу руки сквозь века. И
каждое поколение должно действовать по-другому именно для того, чтобы
олицетворять собой одно и то же. Только так каждый человек может стать
партнером в процессе Творения Человека, только так жизнь в конце
времени может стать такой же подлинной, как и в его начале.
В последнее столетие историческая наука забыла об этой основной
истине, и потому до сего дня среди ученых модно пренебрегать
фундаментальным единодушием христиан, проходящим через века, и вместо
этого сосредоточивать свои усилия на отделении многих исторических
пластов от исторических форм их выражения (12). Современные люди
сочли, что Церковь, изменившись в течение двух тысяч лет своего
существования, совершила преступление. Св. Павел был назван первым
дезертиром (13); затем принялись за епископов, и началось выявление
одного искажения за другим, пока в 1789 г. рационалисты не сочли
Церковь совершенно излишней.
И все же роль Церкви была особой, явной, осязаемой и
непрекращающейся. Смысл христианской эры заключается в том, что время
раздельных привязанностей подходит к концу, и начинается воссоединение
человечества. В каждую эпоху после Христа все новые части тварного мира
обретают свой дом в длящемся единстве.
500
VII
Проникновение креста
Если они — посев Отца, то они прорастут
живыми побегами на Кресте Сына.
Игнатий (100 после Р.Х.)
Послание ктраллийцам, гл.II (1*).
Крест как действительность — Будда — Лао-цзы — Авраам — Иисус —
«Социальные науки» в качестве Ветхого завета
За девять лет до того, как нынешняя война напомнила нам, насколько
глубоко смысл Креста укоренился в человеческом опыте, Уинстон
Черчилль писал: «В конце концов, человеческая Жизнь должна быть распята
на Кресте либо Мысли, либо Действия» (1). История христианства — это
проникновение Креста во все большее число областей человеческого
существования. Как мы видели, каждое его проникновение в другую
сферу нашего ума или нашего тела знаменует собой начало новой
исторической эпохи. То, насколько глубоко Крест проник в человеческий опыт,
можно увидеть на примере слова «крестообразный» (2*), вторгшегося в
словари языков наших науки, искусства, политики и общественной
жизни.
Соответственно, с момента Распятия Крест стал приобретать все
больше и больше значений, и с появлением новых потоков
христианского языка значение Креста могло выражаться различными способами.
Но, как было указано в пятой главе, старыми словами так сильно
злоупотребляли и они настолько истощились, что христианство ныне может
обновиться, только прибегнув к безымянному, не имеющему никаких
ярлыков общественному служению. Перед лицом этой потребности мы
и должны попытаться перевести смысл Креста на нецерковный,
посттеологический язык, который может помочь нам дать свежие и прямые
ответы, избавившись от окутывающей нас пелены накопившихся запретов.
Крест как действительность
Действительность сама по себе — не абстрактная действительность
физики, а полнокровная действительность человеческой жизни —
является крестообразной. Наше существование — это постоянное страдание и
борьба с силами, конфликтующими между собой, это парадоксы,
внутренние и внешние противоречия. Они разрывают нас и тянут в
противоположных направлениях, но они же и обновляют нас. И эти
противоположные направления могут быть сведены к тем четырем
направлениям, которые определяют великие оси пространства и времени в жизни
всех людей и образуют Крест Действительности (2).
Под действием чар математических и физических концепций мы
привыкли думать, что время и пространство являются однородными или
501
совершенно одними и теми же в каждой точке. Например, время, хотя
оно обычно и разделяется на прошлое, настоящее и будущее, на
диаграммах привычно изображается в виде прямой линии, и нет, очевидно,
никакого основания, позволившего бы нам различать прошлое и будущее.
И похоже, что точно так же обстоит дело с неорганической природой:
она не знает будущего, ей известны только совершенные и
несовершенные грамматические времена, только процессы, которые закончились, и
процесы, которые в любой данный момент еще продолжаются.
Мы избавились от широко распространенного предрассудка нашего
времени, что время и пространство могут быть объединены в качестве
двух общих систем отсчета, применимых ко всякому опыту. Люди
любят многословно рассуждать о «пространстве» и «времени» так, словно
мы воспринимаем их на опыте одинаковым образом. Но каждый
читатель на своем собственном опыте может увидеть, что это не так.
Пространство воспринимается как целое. Все, что человек охватывает своим
взглядом, он воспринимает как один мир пространства. Но вещи
внутри мироздания — это подразделения, которые мы очертили после того,
как нам уже была дана целостность пространства.
Теперь обратимся к нашему восприятию времени. Как сказал Гомер,
на настоящем так же неудобно сидеть, как на лезвии бритвы. И все же
мы говорим о «настоящей» Конституции, хотя она относится к 1787 г.,
и мы говорим о «нашей» эре, о постоянном прогрессе, о духе
Флоренции, проходящем через века. Что это означает? Время не дано как
пространство, т.е. как мироздание. Оно дано каждому из нас
индивидуально как призрачное мгновение или как бесчисленные призрачные
мгновения. Но все вместе мы творим времена: любое тело времени
существует лишь потому, что мы так говорим. Вещь, молекула, атом, электрон —
все это подразделения пространства потому, что мы так их называем, и
они являются исторически созданными частями Единого пространства.
Однако час, год, века — все это исторически созданные единицы,
сотворенные нашей верой из бесчисленных моментов. Когда мы имеем дело
с пространством, мы исходим из мироздания. Когда мы имеем дело с
временем, мы переходим к телам времени, называя их так. И мы не в
состоянии назвать их так до тех пор, пока мы совместными усилиями не
отбросим некоторые частицы времени в качестве «прошлого» и не
определим другие его частицы в качестве будущего. Именно тогда приходит
христианство, открывающее подлинное качество времен как дел нашей
веры в процессе нашего совместного называния их таковыми. Иисус
стал будущим, хотя однажды Он уже умер. И теперь человек может
двигаться во времени в прошлом, будущем, настоящем действительно
свободно. Иисус стал творцом всех тел времени, больших и малых, в свете
одного тела, которое вмещает в себя все одухотворенные существа, всех,
кто творил времена, всех людей.
Если это так, то все люди являются людьми потому, что они
одновременно смотрят и назад, и вперед. Благодаря этому факту мы распяты,
имеем крестообразную форму. Никто не живет в одном времени. В любой
момент человеческое сообщество заново определяет как свое
собственное прошлое, так и свое будущее. Создание Церкви привело к
постоянному обновлению нашего исторического прошлого. «Ренессанс» — это
502
лишь одно действие драмы нашей эры, и в этой драме все времена,
когда в них возникает потребность, разыгрываются на сцене снова.
Действительный Человек живет между провозглашенным будущим и
возрожденным прошлым.
Подобным же образом жизнь выделяет в пространстве внутренний и
внешний миры. Наиболее очевидным образом это обнаруживается в
том, как животное отделено своей кожей от своего окружения или клетка
отделена от среды своими стенками. Но это так же верно
применительно к любому виду социальной группы, участники которой чувствуют, что
они образуют некий внутренний круг, противостоящий более или менее
враждебному внешнему миру, и кожа, отделяющая их от «посторонних»,
не менее реальна из-за того, что является неосязаемой.
Тогда получается, что человеческая жизнь — как индивидуальная, так
и социальная — протекает в месте, где перекрещиваются четыре
«фронта», ведущих назад, к прошлому, вперед, к будущему, внутрь нас самих,
к нашим чувствам, желаниям и мечтам, и наружу, к тому, против чего
мы должны бороться или что должны использовать, с чем мы должны
приходить к согласию или чем должны пренебрегать (3). Очевидно,
губителен провал на любом из этих фронтов — утратить прошлое, упустить
будущее, испытывать недостаток внутреннего мира или внешней
действенности. Если мы будем двигаться только вперед, то все
приобретенные качества характера и цивилизации исчезнут. Если мы будем
смотреть исключительно назад, то у нас больше не окажется будущего. И так
далее.
И все же, столь же очевидно, что ни один человек не может
одновременно двигаться во всех четырех направлениях. Поэтому жизнь — это
постоянный выбор: когда продолжать прошлое, когда изменять и где
проводить линию между внутренним кругом, с которым мы говорим, и
внешними объектами, о которых мы просто говорим и которыми
пытаемся манипулировать. Следовательно, и душевное, и социальное
здоровье зависит от поддержания хрупкого и изменчивого равновесия
между тенденциями, ведущими вперед и назад, внутрь и наружу.
Соответственно, целостность, полная и совершенная жизнь — это не результат
«гибкого приспособленчества», и мы не можем надеяться, что достигнем
ее раз и навсегда, а затем будем пользоваться ею по инерции, как это
представляет себе популярная психология. Это, скорее, постоянный
процесс ее достижения перед лицом тех сил, которые на Кресте
действительности разрывают нас на части.
Общество компенсирует несоответствие каждого из нас требованиям
разделения труда. Например, обучение, церемониал и ритуал
поддерживают нашу связь с прошлым, учителя, священники и юристы несут свою
службу на этом фронте для всех нас. Мы создаем единодушие в обществе
совместными играми, пением, разговором, согласуя между собой наши
настроения и стремления, и на этом внутреннем фронте поэты,
художники и музыканты являются нашими типичными представителями. Мы
добываем средства к существованию и защищаем свою жизнь, научаясь
контролировать природные силы и манипулируя ими для достижения
своих целей в сельском хозяйстве, промышленности и войне, а ученые,
инженеры и солдаты представляют миллионы тех, кто сражается за нас
503
на внешнем фронте. И, наконец, религиозные и политические вожди,
пророки и государственные деятели ответственны за то, чтобы вызывать
изменения и продвигать общество в его будущее.
Поскольку четыре фронта отличаются по своему качеству и
направлению, они представляют собой окончательные и ни к чему не сводимые
измерения человеческого существования, но наш ум с его высокомерным
стремлением соотносить все со всем и все объединять склонен упрощать
жизнь и отрицать наличие Креста Действительности путем сведения
четырех к одному. Это главный источник опасных, односторонних
заблуждений, касающихся человека и общества — сентиментализма и
мистицизма, которые заключают все в скорлупу внутренней жизни человека,
утопического радикализма, который должен привести к Царствию Бо-
жию при помощи насилия, реакционного романтизма, который всецело
пребывает в феодальном прошлом, циничного рационализма, который
сводит человека к простому объекту естествознания.
В качестве не столь крайнего примера укажем на то, что Джосайя
Ройс (3*) заново открыл исключительную важность привязанности и
верности в человеческой жизни, но, создавая свою «Философию
верности», он не смог устоять перед искушением объяснить все в терминах
одной этой силы, неизбежно привязывающей нас к прошлому. Верность —
это выражение исторической непрерывности, и она никогда не может
оправдать решительный разрыв. Но для Ройса она должна была стать
неким хамелеоном, который означал бы также «любовь». Подчинение
любви верности — подход, может быть, типичный для Старой и Новой
Англии, но утверждение, что человек оставляет отца своего и мать свою
и прилепляется к избранной им жене из верности, просто не имеет
никакого смысла.
Наша цивилизация, в течение нескольких столетий находившаяся
под влиянием естествознания и его приложений, больше всего страдает
от одержимости внешним фронтом. Сущностью отношения человека к
этому фронту является объективность: все^то, что, мы считаем, поддается
классификации, изучению с помощью эксперимента, описанию,
контролированию, именно поэтому становится внешним и рассматривается
как нечто с нами никак не связанное, отчужденное от всей системы
нашей жизни. Ученый заставляет себя исключать из общей картины свои
эмоции, привязанности, свою любовь и свою ненависть. Ему
подобает делать так при изучении материальных вещей, но когда он
рассматривает таким образом человеческую жизнь, то он склонен забывать, что
представляет собой только одну четвертую часть нашей полной
действительности. Неправомерно подставлять эту четверть вместо целого —
значит превращать человека в морскую свинку или в мышь, бегущую по
лабиринту, т.е осквернять человеческую природу. Созданный
натурфилософом образ человека может быть полезным, но если им заменяется
полная истина, это обрубает наши корни, уходящие в прошлое,
задерживает нас в состоянии эмоциональной незрелости из-за недостатка
нормальной способности выражения и умерщвляет нашу способность
отыскивать следы, ведущие в будущее, наше понимание того, что
действительно жизненно важно. Крест Действительности показывает нам, что
научный подход — это только один из четырех равнозначных способов
504
соприкосновения с действительностью, и он, чтобы иметь смысл,
нуждается в существовании других. Из-за существования этого Креста ни
один человек не может принадлежать только к одному времени и быть
членом только одной человеческой группы. Его принадлежность к
различным группам представляет все времена, в которых он должен жить.
Сущность человека как раз и заключается в том, что он принадлежит
больше, чем к одной человеческой группе, и это, начиная с каменного
века, было верно по отношению к каждому человеческому существу.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что человек мыслит потому,
что ему нужно изменять и изменяться. Человек мыслит не потому, что он
«есть». Мы мыслим потому, что нам предстоят изменения. Вопреки
тому, что думал Декарт, мышление не является первичным фактом. Мы
боимся изменения, и потому мы мыслим. Каждый день мы должны
умирать для одной из форм времени, поэтому мы и мыслим. Отнюдь не
«cogito ergo sum», a «mutabor ergo cogito» (4*) является исходной точкой
каждого человека.
Некритическая доктрина нашей вульгарной психологии состоит в
представлении, что человеческое мышление вызвано
предшествующими ему причинами; на самом деле оно вызывается конечными
причинами (by ends). Однако поскольку в конце находится смерть, то мы мыслим
для того, чтобы выжить.
В то же самое время, поскольку никто не может всегда находиться на
всех фронтах своего Креста, каждый акт мышления совершается в тесной
связи со всеми теми людьми, которые действуют вместо нас на всех
остальных фронтах тогда, когда мы заняты на одном из них. Как мы
можем наслаждаться сном, приносящим отдохновение, без гражданского
мира? Гестапо во многих странах снова превратило человека в пугливое
животное, сон которого неглубок и беспокоен. По этой причине чисто
профессионального мышления совершенно недостаточно для всего
человеческого сообщества. Священники, юристы, врачи склонны в своей
среде забывать о полной истине, потому что солдатами, бедняками и
рабочими на их совещаниях можно пренебрегать.
Подобным же образом муж не может быть совершенным мужем, дочь
не может быть дочерью, сын не может стать сыном, если
соответствующие роли не исполняются их партнерами.
Конечно, то, что наши специальные умения и навыки обязаны
своим существованием разделению труда, хорошо известно. Все, чего мы
требуем, — это углубления этого представления. Разделение должно
быть освобождено от того, что его ограничивает, от «труда». Не
только труд разделяет и распределяет нас. Более важным фактом является
то, что сам индивид разделен, поскольку нас не вмещает ни некое одно
пространство, ни некое одно время. Мы сознаем самих себя потому,
что мы находимся, по меньшей мере, в двух временах — прошлом и
будущем, и, по меньшей мере, в двух пространствах — внутреннем и
внешнем. Разделение труда на наших фабриках затрагивает только одну
из частей человека, который разорван гораздо более основательно, чем
это делает специализация.
Ежедневный опыт каждого современного человека свидетельствует,
что в наши дни мы входим в любой дом или приезжаем в любой город с
505
верой, что это не постоянное и не последнее наше пристанище.
Промышленность была бы невозможна без этой свободы передвижения, и
даже большевиков промышленность заставила разрешить миллионам
людей переезжать из города в город и перенаселять большие города. Все
наши пространства стали подвижными и изменчивыми. Вероятно,
именно по этой причине единство нашего времени поддерживалось
столь настойчиво: нам было сказано, что мы все являемся
современниками, а тот факт, что человек принадлежит ко многим временам,
замалчивается, и его обычно не принимают в расчет. Нам придали форму
современников последних новостей, и пятнадцати миллионам человек
было велено слушать радиокомментатора Рэймонда Грэма Свинга
(Swing).
Однако Крест Действительности должен напоминать нам, что мы
никогда не можем предаться полному совпадению во времени. В не
меньшей степени, чем современниками, мы являемся — и мне пришлось
создать новое слово для обозначения этого факта — также «разновремен-
никами» (distemporaries) тех людей, которых мы встречаем. Конечно,
встречая милых и приятных людей, мы стремимся стать их
современниками в той мере, в какой это вообще возможно. Но это акт установления
дружеских связей, а не естественный или возможный факт. Внутри
самих себя мы представляем больше, чем одно время, и потому как же мы
можем быть пленниками только одного времени? Часто мы вынуждены
жить с людьми, считающими нас очень старомодными, или с людьми,
которые сами уже давно умерли, только не заметили этого. Для
рационалиста я старомоден потому, что сражаюсь за христианство, которое он
считает «пережитком». А для меня, возможно, «прагматизм» или «нация»
принадлежат к каменному веку суеверий и представляются мне
возрождением старого доброго Конфуция.
Нас приводит в замешательство, по правде говоря, что в каждый
момент нашей жизни мы и старше, и моложе остальных членов
человеческого сообщества. Думая и говоря о чем-л^бо, мы вместе со всем тем
выбираем соответствующее время: это может быть идеей сына или идеей
основателя, оно может быть мудрым или по-детски простодушным, но
все всегда принадлежит к некоторому особому времени. И это только
несколько примеров «полноты времен», которой мы, будучи «разновре-
менниками», должны оставаться открытыми. Крест Действительности
позволяет нам точно определить полную душу.
Ни один фронт сам по себе не достаточен, но важен каждый из них
(4). Если мы терпим неудачу, то смерть подстерегает нас на любом
фронте. В обществе смерть выступает как упадок, революция, анархия
или война, принимая форму, соответствующую переднему, заднему,
внутреннему или внешнему сектору — смотря на каком из них мы
оказались некомпетентными. Упадок, например, означает неспособность
достичь будущего телом, умом или душой. Это не просто биологический
изъян, а слабость всего человека. Когда она проявляется в нашем теле,
мы теряем способность к деторождению. Когда она поражает наши
души, мы испытываем недостаток жизненных сил для того, чтобы
вдохновить следующее поколение целями, которые выведут его за его
собственные пределы, — и этот недостаток трагически преобладал в 1920-х
506
гг. Упадок старшего поколения обрекает молодежь на варварство.
Единственная сила, способная победить это зло, — вера. Собственно говоря,
вера — это всегда вера в некоторое будущее, в грядущий мир.
В течение последних восьми сотен лет два пространственных и два
временных фронта были разделены, и это было постоянным
разделением труда между философией и теологией или наукой и религией. Обе
стороны совершенно игнорировали друг друга или боролись, и лучшее,
чего они достигли, — это разделили действительность между собой,
заключив педантичный компромисс. От Фалеса до Гегеля все
философии в своем размышлении исходили из мира пространства или
познающего рассудка и соответствующей логики вневременных абстракций,
и, следовательно, время появлялось в суженной перспективе, поскольку
с самого начала оно рассматривалось с точки зрения пространства.
Науки, будучи ответвлениями философии, следовали ее примеру —
тенденция научного мышления превращать в пространство все, даже
время, после Бергсона (6*) стала общепринятой. С другой стороны,
теология никогда не исходила из пространства и не признавала за
проблемой пространства такой же важности, как и за проблемой времени. Она
интересовалась именно временем, историей, она имела дело с
творением Адама, рождением Иисуса, смертью Господа, основанием Церкви,
Страшным судом — теми предметами, о которых философу незачем
даже упоминать.
Разделение труда между философией и теологией было выражением
действующего компромисса, с помощью которого христианство
предоставило возможность возрождения греческой философии вместе с
сопутствующими ей искусствами и науками. Но теперь компромисс перестал
действовать, в обстановке напряженности и неразберихи
революционных перемен уже не удается, как прежде, провести четкие линии.
Однако западное мышление парализовано наследственным расколом между
двумя способами мышления, которые должны были дополнять друг
друга. Если понимание Действительности как Креста дает нам возможность
преодолеть это разделение и объединить тех, кто мыслит в понятиях
пространства, и тех, кто говорит в терминах времени, одним
вероисповеданием, то это завершит проникновение Креста в последнюю крепость
язычества, находящуюся внутри наших собственных традиций.
Мы обретем силы для совершения этого шага, если в то же самое
время сделаем нечто иное и пригласим великие цивилизации Востока —
Китай и Индию — также стать под Крест. Ибо Крест — это не
исключительный символ эгоизма одной группы, это символ воссоединения
человека, и каждая искра жизни желанна до тех пор, пока не отказывается
умереть вовремя. Даже примитивные культуры в конце концов должны
быть включены сюда.
В наши дни Восток и Запад потрясает катаклизм, демонстрирующий
неполноту обоих, пока они изолированы друг от друга. Необходимо
новое проникновение Креста, которое объединит сердца людей Востока и
Запада, показав, что каждый человек обладает некоторой существенной
частью жизни, в которой нуждается другой. Чистота восточных зрения
и слуха может научить нас исцеляться от разрушительного характера
наших наук и лихорадочного экспрессионизма наших искусств, тогда
507
как религиозный и политический застой Китая и Индии может быть
преодолен, если они обретут присущую христианству способность к
смерти и воскресению.
Чтобы содействовать достижению этой цели, я хочу показать, что
и Восток, и Запад дали нам по паре людей, заново основавших
человеческую природу и указавших ей новое направление, — Будду и Лао-
цзы, Авраама и Иисуса. Эти люди сообща создали полную свободу
человека на всех фронтах Креста Действительности. В отличие от
животных, человек благодаря дару речи способен расширить свое
восприятие действительности во всех четырех направлениях, — в своей
верности прошлому творению, в своей солидарности с другими
людьми, в своей власти над природой, в своей любви и вере в будущее, —
однако, как мы видели, он склонен крепко держаться одного фронта
в ущерб трем другим. Люди, указавшие новые направления,
преодолели эту тенденцию к фиксации, доведя каждое направление Креста до
парадоксальной крайности, которая освобождает нас от характерных
навязчивых идей данного фронта. Освободив каждое направление от
его случайного содержания, они дали нам возможность снова войти
в другие фронты и таким образом убедиться в бесконечной
податливости и движении жизни.
Важно, что каждый из этих людей выступил с протестом против той
культуры, которая была образцом культур ее типа. Мы поймем этих
людей неправильно, если будем относить их к тем, кто некогда вызвал
улучшение общества путем исправления того или иного недостатка.
Скорее, они освободили нас от тирании совершенства, показав, что даже
социальная мудрость конфуцианского Китая, философская глубина Вед и
Веданты, массивная устойчивость Вавилона, Египта или славные дела
Греции и Рима недостаточны.
Здесь читатель может вспомнить о вторжении Востока в Америку.
Когда исчезла граница страны, прагматизм снова ввел в нее социальное
евангелие Конфуция, требующее от общества объединения в одно целое.
А дарвинизм порвал с платоновским мировоззрением и навязал нам
представление о тотальной, всеобъемлющей борьбе.
Здесь очень важным в практическом отношении оказывается
обнаружение противоядий, созданных на Востоке для защиты от Конфуция и
Вед. Однако это не означает, что мы здесь будем обсуждать какие-либо
практические приложения этих противоядий. Как и в том случае,
когда врач ставит диагноз, подлинно практический подход заключается в
том, чтобы прервать действие и выдержать паузу. Практический подход
заключается в том, чтобы погрузиться в медитацию. Нет никакого
другого способа осознать величие Будды и Лао-цзы, Авраама и Иисуса.
Величие не раскроет свою тайну любопытному уму, надеющемуся
воспользоваться готовым рецептом. Величие сопротивляется активности. Его
требование к нам — «осознай меня». Ибо в наших спешке и
суетливости мы слепы по отношению к нему. Взаимодействие между четырьмя
людьми, изменившими и освободившими наш род, переполняет меня
благоговением. Эти люди, разделенные континентами и столетиями,
полностью завоевали душевную свободу и сделали себя ее стражами раз
и навсегда. Вот что требует внимания.
508
На последующих страницах я пожертвовал детальностью и полнотой
ради того, чтобы выявить единство этих четырех человек. О каждом из
них сказан самый минимум, и это тот минимум, которого достаточно для
понимания их зависимости друг от друга и того факта, что Иисус пришел
тогда, когда исполнились времена. Если Иисус пришел тогда, когда
Авраам, Лао-цзы, Будда уже утвердили себя, то мы, конечно же, сможем
более ясно и определенно понять единство и внутреннюю связь всего
человечества.
Будда
Будда жил в культуре, испытывавшей особое давление внешнего
фронта, так что природа вторгалась в само общество: кастовая система
недалеко ушла от каннибализма и ужасов джунглей. Она делала разделения
в обществе почти такими же глубокими и фатальными, как различия
между животными. Индусы отразили космическую борьбу в мифах
своей религии, а позже и более глубоко — в философии, выросшей из Вед.
Эта философия рассматривала природу как царство иллюзии или
видимость, обозначаемое ею словом «Майя». Майя была составлена из
многих миров, из нагромождения миров, бесконечно следовавших один за
другим, и ей крайне недоставало единства и в пространстве, и во
времени. Майя включала в себя все общественные отношения и связи.
Единство можно было обнаружить, только «смотря сквозь покров» Майи до
тех пор, пока она полностью не исчезала и ум не достигал благодатного
знания Брахмана, высшего и предельного бытия.
Будда не был удовлетворен простым описанием природы в качестве
иллюзии, и он начал исцеление царящего в ней раздора. С этой целью он
изобразил Майю в более черных красках, чем когда-либо: повсюду царят
неразбериха и страдание, все толкается, вожделеет, потеет, убивает, и сам
человек ведет постоянную борьбу, страдая и причиняя страдания, так что
только убийство делает возможной жизнь. Под взглядом Будды, не
поддающимся обману, вся человеческая деятельность обнаруживает точно
такую же безжалостность. То, о чем прежде никогда не думали в свете
таких представлений, вроде еды и питья, теперь рассматривается как
нечто, полное насилия. Однако благодаря двум центральным
переживаниям своей жизни, Великому Отказу и Великому Просветлению, Будда
указал способ смягчить всеобщую борьбу. Он учил, что человек может
отказаться от своей причастности к этой космической mêlée (7*),
помещая все свое существование в свой глаз, в свое просветление, в свою
духовную сосредоточенность и доходя до такого состояния, в котором все
желания угасают. Таким способом Будда превосходит людей,
стремившихся отдать жизнь в монопольное владение внешнему фронту: сам их
образ действий он доводит до его крайней точки. А этот образ действий,
как мы знаем, заключается в рассмотрении вещей или людей в качестве
объектов, т.е. в качестве чего-то, находящегося снаружи и
противостоящего нашей системе жизни, а потому в качестве чего-то, что можно
просто рассекать, что можно использовать и чем можно манипулировать
по нашему усмотрению. Но если, как учит Будда, мы полностью перей-
509
дем в тот объект, который мы постигаем, если мы сосредоточим свое
внимание на абсолютной объективности, от ненасытных насущных
желаний, заставляющих нас эксплуатировать других, ничего не останется.
По выражению Шопенгауэра (8*), мы полностью превратились в глаз.
Когда западный человек сталкивается с хаосом, представленным
современной наукой, и испытывает огорчение от ее разрушительных
последствий, он не может не согласиться с некоторыми прозрениями Будды.
Если бы будущих ученых готовили как одного гигантского Будду, то
наука, возможно, скорее ослабила бы, а не усилила мировой раздор. Когда
человек уходит от борьбы, он убирает тот краеугольный камень, на
котором покоится все здание взаимной вражды и агрессии.
Самоуничтожение одной частицы ужасной воли к жизни уменьшает напряженность
между всеми. Большинство из нас обнаружили, что некоторая доля
сдержанности, аскетизма является способом, которым жизнь может быть
сделана менее ужасной. Действия вызывают противодействия. Не
противодействуй, и ты ослабишь напряженность конфликта, уничтожишь
распрю и раздор.
Конечно, подход Будды был нелогичным: он должен был прожить
долгую жизнь для того, чтобы провозгласить отрицание жизни. Но суть
в том, что внутри жизни он действительно представлял силу,
отрицающую повсеместный раздор. Абсолютное отрицание ради него самого
бессмысленно, точно так же, как абсолютный ноль не имеет смысла без
связи с теплом, а абсолютно черный цвет — без связи с другими
цветами. Но так же, как математика, начав рассматривать ноль в качестве
числа, достигла очень большой свободы в своих вычислительных
операциях, созданная Буддой нулевая ситуация просто удваивает возможности
человека, позволяя ему колебаться между самоотречением и
самоутверждением. Мы должны продолжать движение вдоль перекладины Креста
Действительности, направленной наружу, в качестве солдат, рабочих,
эксплуататоров природы, но мы также нуждаемся в том, чтобы из этой
тенденции получить нашу свободу. Человек-борец нуждается в особожден-
ной от борьбы, не оказывающей сопротивления нирване.
Лао-цзы
Природа — это война, общество — это колоссальная координация. На
внутреннем фронте непреодолимая доброжелательность и настойчивость
включают нас самих в выполнение бесчисленных общественных
функций. От переплетения служб в большом городе у нас перехватывает дух.
Ателье по пошиву одежды и продовольственные склады, агенты по
торговле недвижимостью, театральные менеджеры, электричество,
больницы, музеи, железные дороги и катание на лыжах — все это образует
организованный мир, являющийся прямой противоположностью хаоса,
описанного Буддой и Бертраном Расселом (9*).
Древний Китай жил в условиях социального монизма, будучи столь
же поглощен внутренним фронтом, как Индия была поглощена
внешним. Социальная система была одним миром, вне которого — если
человек начинал размышлять о человеческом существовании — ничто не
510
требовало признания. Природа служила просто фоном для Сына Неба,
а само Небо было социальной и имперской институцией. Даже ветры,
времена года и демоны в полях понимались, главным образом, как
завершающий штрих общества. У китайцев не было причин и случая отойти
в сторону и взглянуть на себя со стороны, с точки зрения другой
цивилизации — они бы совершенно не поняли желание Монтескье (10*)
посмотреть на Францию так, словно это был Мадагаскар. Не случайно они
презирали войну и милитаризм. Их жизнь была направлена внутрь
области, в которой находились исключительно они сами, и их проблема
состояла не в избытке войны, а в избытке мира.
Вечному китайцу внутри нас лозунг «Сначала служба» инстинктивно
представляется истинным. Мы любим выполнять свои функции
спокойно. Первое, чем располагает должностное лицо, — это ритм
повседневной рутины, благодаря которому он понимает, насколько хорошо он
приспособлен к гудящему миру вокруг него. А первым правилом
любого общества является: «Всегда улыбайся», поскольку общественная
жизнь основана на согласованности усилий и эмоций. Когда мы
обосновываемся в человеческом сообществе, оно настолько существенно
становится частью нас самих, а мы — его частью, что наша улыбка
превращается в нечто вроде падающего на нас луча света, который испускается
всей Солнечной системой радостной социальной гармонии.
Но мы платим определенную цену за то, что постоянно улыбаемся.
Платой за непрерывное выполнение функций оказывается
возрастающий износ, вызванный перенапряжением и трением. Нервное
расстройство — это, по-видимому, единственный находящийся в распоряжении
современного человека способ уклоняться от бесконечного повторения
одного и того же и от все возрастающего количества телефонных
звонков, деловых встреч, знакомств, заседаний комитетов, членства в
различных комиссиях, рассмотрения законопроектов. Конфуцианский
Китай был подобен сложной и запутанной системе церемоний и
обязанностей, и Лао-цзы принес освобождение от них, доведя до абсурда весь
шум усердия, трудолюбия и социальной важности.
Как Будда установил некую нулевую точку для внешнего фронта, так
Лао-цзы сделал это для фронта внутреннего. Сохранение общества — в
возвращении от выполнения функций к их невыполнению, от
важности—к неважности. Лао-цзы показал это в своей собственной жизни
уходом в оставку с общественных должностей и даже тем, что написал свою
книгу анонимно — «Лао-цзы» не настоящее его имя, — а его школа
передала все своеобразие его поведения в легенде, согласно которой он,
будучи уже стариком, исчез за горой, и о нем больше никто ничего не
слышал. «Он стремился к незаметности и безымянности», — говорится в
книге «Ши-цзи». «Все люди ищут первое. Только он искал последнее.
Все люди стремятся к полноте, только он принял на себя пустоту» (5).
Его анонимность и его исчезновение — это две антисоциальные
возможности, которые человек может использовать для того, чтобы быть в
состоянии выносить общество. Самая знаменитая иллюстрация дао или
образа жизни, которую приводит Лао-цзы, — это ступица колеса: она
неподвижна, но без нее ничто не может двигаться, так что дао является
свободным от каких-либо усилий центром недеяния, вокруг которого вра-
511
щаются все вещи. «Вот вещь, в хаосе возникшая, прежде неба и земли
родившаяся! О беззвучная! О лишенная формы! Одиноко стоит она и не
изменяется» (11*). «Поэтому овладение Поднебесной всегда
осуществляется посредством недеяния». «Кто слушает дао, изо дня в день уменьшает
свои желания» (12*).
Мы можем многому научиться у Лао-цзы. Мы одержимы идеями
репутации, доброго имени, успеха: «Кто есть кто» — типичное мерило
нашей важности в свете. Наша экономическая система в восторге от
разрекламированных торговых марок и настаивает на том, чтобы все
заслуги перед обществом были снабжены ярлыками. В нашем
стремлении к художественному творчеству нам грозит не дождаться созревания
плодов творчества, поскольку мы слишком сильно жаждем получить их.
Тысячи людей, принадлежащих к академическому миру, —
профессора, их жены, юноши и девушки, — пытаются решить свои проблемы
путем написания книг, но при этом забывают о столь же важной
проблеме творческого молчания. Вопрос о том, когда следует прикладывать
творческие усилия, а когда — нет, так редко принимается во внимание,
что большинство авторов просто бездумно продолжают создавать одну
книгу за другой. Мы должны воспитывать смелость некоторое время
хранить молчание рядом с теми людьми, вместе с которыми мы живем,
так, чтобы тогда, когда мы затем заговорим, наш голос стал бы их
голосом.
Для того чтобы сделать общество, оказывающее определенное
воздействие на человека, тоталитарным, не нужна никакая диктатура.
Наше современное Мировое Общество по-своему столь же
тоталитарно, как и конфуцианский Китай. Наше подчеркивание
приспособления к окружению, уход от конфликтов, прагматическое отношение к
истине, наша озабоченность практическим успехом — все это
напоминает Китай, но нам все еще недостает чуткости даосского слуха. Мы
можем стать «ступицей», вслушиваясь в скрытую и возможную
гармонию среди очевидных диссонансов общественного прогресса.
Л.П. Джеке (13*) в своем очаровательном произведении «Легенды
Смоуковера» («Legends of Smokeover») заставляет возбужденного
психолога вслушиваться в остатки возможного ритма в хаосе, и этот
человек все больше воодушевляется, когда начинает слышать какое-то
симфоническое решение. Последователи Лао-цзы действительно
пытались «танцевать вселенную». «Весь космос пронизывает глубокая и
тайная торжественность, напоминающая подготовку к большому
балу» (6). Правильным термином для обозначения пути Лао-цзы была
бы «оркестровка», поскольку первоначально «оркестр» обозначал не
группу музыкантов, а единство танца и музицирования. И похоже, что
слух, чуткий к космической оркестровке, был в Китае надлежащим
средством против скуки Конфуция.
Дао, подобно нирване, открывает новое измерение свободы.
Недостаточно стремиться к успеху, и для того, чтобы стать популярным
человеком, нужно нечто большее, чем честолюбие, — нужно обладать и
честолюбием, и отсутствием честолюбия. У Дэниэла Уэбстера (15*) был
негибкий, прямолинейный ум, и он думал, что к успеху ведет только самый
прямой путь: отказавшись баллотироваться на пост вице-президента Со-
512
единенных Штатов, он не мог предполагать, что президент умрет в
первый же месяц своего президентства. Теодор Рузвельт поступил
противоположным образом и победил. Андре Моруа в книге «Дизраэли»
нарисовал восхитительный портрет Гладстона (16), рубящего в свободное
время деревья. Стрела человеческой жизни может свободно двигаться от
нулевой точки в обоих направлениях — удаляться от нее и
приближаться к ней.
Авраам
Так же, как глаз и ступица колеса предоставляют целительное средство
пространствам Востока, Авраам и Иисус принесли мир во времена
Запада. Авраам и Иисус учат нас жить не внутри и не вовне, а сзади и
спереди. Поскольку большинство читателей в силу своего научного
воспитания привыкли помещать все в пространство, они будут удивлены тем,
что отношение между двумя спасителями времени не тождественно
отношению между Буддой и Лао-цзы. Будда находится снаружи или ведет
нас наружу. Лао-цзы приглашает нас в центр социального пространства.
Следовательно, они оба фактически призывают нас на один и тот же
фронт. Но Авраам так же, как и Иисус, пришел в западный мир, в
котором Хронос, т.е. «Время», считался непрерывно пожирающим своих
собственных детей, едва они появлялись на свет. Поэтому они оба создали
историческую веру, веру, способную устоять под давлением не
пространства, а времени. Они оба предоставили человеку вместо точки в
пространстве, в которой он мог бы находиться, промежуток времени, в
котором он мог бы жить, проходя сквозь время. «Промежуток времени»
человека защищает его либо от катастрофы времени и опасности утонуть
в его бурном потоке, либо от состояния неподвижности, вызванного
парализующим действием отсутствия какого-либо движения. «Часу»
человека должны предшествовать другие «часы». Это фундаментальное
отношение выражается в том, что мы являемся отцами и сыновьями. Для
Израиля, как и для Иисуса, отношение между сыном и отцом стало
решающим. Но Церковь была построена на основании, диалектически
противоположном тому решению, которое дал Авраам. Сперва мы
проанализируем решение Авраама (7). Поскольку, похоже, ничто другое не
известно так плохо, как суть веры Авраама, я приведу тот же пример, при
помощи которого мой друг-иудей почти тридцать лет назад опроверг мое
неправильное понимание иудаизма (8).
Я сказал, что, в конце концов, принесение греческим царем
Агамемноном в жертву своей дочери Ифигении было почти тем же самым, что
и готовность Авраама принести в жертву своего сына Исаака. Тогда мой
друг весьма энергично обрушился на меня.
Он ответил на это, что Агамемнон принес в жертву свою дочь ради
завоевания его армией Трои. Он принес в жертву самое дорогое для него
ради достижения цели, поставленной человеком. Но Авраам, если бы он
не принес в жертву своего сына, согласно представлениям его времени,
отказался бы от всякой надежды на победу, господство, царство или
создание прочного общественного института.
ПЗак. 3524
513
Причиной этого является то, что в шотландском, македонском
клане или индейском племени сиу сын получает истинный дух через
посредство своих предков. Здесь многое проясняет рассмотрение
положения кронпринца, принца Уэльского или вице-президента
Соединенных Штатов. У них нет своего собственного духа. Они ждут и
надеются занять положение кого-то другого. Наиболее сильным
выражением этого линейного перехода духа по наследству от отцов к
сыновьям является право отцов объявлять войну и заставлять своих детей
сражаться на этой войне с верой в дух своих отцов. Непосредственное
индивидуальное принесение в жертву первенца мужского пола было
добровольной заменой войны. Принося в жертву своего сына, человек
надеялся, так сказать, достичь той же цели — подчинить богов своей
воле — без связанных с войной сложностей. И очевидно, что до тех
пор, пока существуют войны, мы в состоянии понять Агамемнона. Но
понять Авраама труднее, поскольку он освободил от своей воли жизнь
сына. Сделав это, он признал Бога отцом всех людей — отцом даже
своего собственного сына.
Это кажется чем-то смешным современному человеку,
поддерживающему отцовство Бога посредством Лиги граждан мира. Такие общества
представляют некий абстрактный принцип. Но как члены этого
общества рассматривают своих близких родственников? Разве некоторые из
членов таких обществ не заявляют свои права на своих родителей, на
своих жен, своих мужей, наконец? Если они делают это, то
установлением одной этой связи он отрицают отцовство Бога. Наши собственные
дети являются детьми Бога в той же мере, что и Иисус. Так что мы
должны позволить им жить своей жизнью, ждать прихода Бога в их жизнь
и самим не быть их богами.
Следовательно, Авраам ввел новый принцип там, где этому
принципу труднее всего было следовать. И по этой причине, продолжал мой
друг, Израиль всегда считал отказ от убийства Исаака великой духовной
революцией. Конечная цель Бога открьгйась как мир, а не как война. И
намерение Бога было таким всегда. Бог одержал победу в столкновении
человеческого стремления к победе с правом Бога,
распространяющимся на всех людей. По этой причине Бог перестал быть Богом Авраама,
теперь он называется Богом Авраама, Исаака и Иакова (Исх. 3, 6, 15, 16;
4, 5; 33, 1; Деян. 3, 13). И по этой причине мы должны надеяться, что
однажды сможем уничтожить войну.
Как настойчиво утверждает Библия, единственной защитой
Авраама является вера в непосредственное единство Духа с каждым
поколением с самого начала и до конца — в противном случае он был бы
просто обычным человеком (9). Своей жизнью он сказал людям, что
существует некоторая высшая верность, верность Единственному
Богу, сотворившему небо и землю, верность, которой измеряются все
виды земной верности. Джосайя Ройс описал в своей философии
«верности верности» позицию Авраама как верность, включающую в
себя все виды верности людей, которые не находятся в состоянии
войны друг с другом. Люди эпохи Авраама, верность которых была
разделенной, поклонялись различным частям земли и неба. Единственным
способом пройти сквозь стены, воздвигнутые разделенными видами
514
верности, было проникновение в область, находящуюся по ту
сторону исторического прошлого, т.е. освобождение от уз, которые
привязывали естественного человека к культу ценностей, воплощенных в
языке матери и земле отца. Так что первое предложение Библии
говорит фактически, что, несмотря на способ, которым человек отделил
друг от друга небо и землю, все вещи были первоначально сотворены
едиными.
Как и в случае Будды и Лао-цзы, биография Авраама подытожена в
двух центральных переживаниях, в его исходе из Ура и в его открытии,
что отцу не нужно приносить в жертву своего первенца. Покидая свою
родную землю — землю верностей, разделенных между многими
враждующими божествами, и ожидая, когда Бог исполнит свое обещание,
Авраам свидетельствовал в пользу своей веры в единство творения. С тех
пор и до нынешнего дня исход и ожидание были постоянной функцией
Израиля в человеческом обществе. Не имея ни своей страны, ни
национальной цивилизации, иудеи считали время просто от сотворения мира
и ждали Мессию, который должен будет восстановить первоначальное
единство этого мира. Конечно, каждое поколение должно было
действовать по-разному для того, чтобы представлять собой то же самое, но мы
не должны позволять различиям ослепить нас настолько, что мы не
увидим существенного единства смысла, которое красной нитью проходит
от Авраама, Моисея и пророков до находящихся в рассеянии иудеев,
присутствие которых повсюду на земле соответствует разделению видов
верности по месту обитания у язычников.
Своим ожиданием иудей сделал относительным все существующие
виды верности и привязанности. Никакое status quo (17*) не считалось
божественным, никакой монарх не признавался богом. Даниил и царь
Навуходоносор сошлись в признании этого обесценения царского
достоинства, но придворные хотели обожествления своего царя, и Даниил
был брошен в ров ко львам. То же самое случалось в наше время в
Японии или Германии. Израиль — это опасный вопросительный знак
любого идолопоклонства.
Всякая языческая религия стремится сделать человека сильным перед
лицом обступающих его со всех сторон сил, заставляя их выполнять его
волю. С Авраама начался процесс противоположный. В то время как у
семитов был обычай приносить в жертву первенцев, чтобы придать
новые силы отцу (10), рука Авраама была отведена, и он не убил Исаака
(11). В этом опыте четко высвечивается подлинный смысл отказа
Авраама от безопасности вавилонского общества: он был в руках Бога с
жертвоприношением или без него, и в таком же положении находился его
сын, которому он предназначил всю жизнь быть живым
жертвоприношением, а не жертвой, убитой на каменном алтаре. Итак, каждое
поколение, в свою очередь, вместо того чтобы сделать сильными отцов,
должно было испытать то же чувство беспомощности беженца, попавшего в
руки Бога (12). Эта беспомощность — сущность истории Израиля.
Израиль должен оставаться слабым, чтобы Бога можно было увидеть в силе.
Глава 53 книги Исайи — это последняя победная песня целого народа,
который не приносит жертв, но сам есть жертва, снова приводящая всех
язычников к их первоначальному единству.
515
Слабость Израиля была его единственной силой. Он должен был
оставаться таким безоружным, таким маленьким, таким рассеянным по
всему свету, не имеющим вождя, потому что он должен был буквально
противостоять рву со львами бесчисленных видов верности,
заставляющих людей умирать за некие особенные дело, страну или язык.
Поэтому он выходил за пределы языческого понимания религии как
выражения обособленного существования некоторой человеческой группы и
приглашал все человеческие группы в мессианское царство, где мечи
будут перекованы на орала, а лев будет лежать рядом с ягненком. Небо же
и земля станут едины, и змей групповой гордыни должен будет
смириться с этим.
В христианском мире люди впервые должны были покинуть свою
родную страну ради свободы отправления культа во времена Кальвина,
и он советовал человеку эмигрировать именно по этой причине. В 1552 г.
людям, обнаружившим творческий смысл эмиграции, открылся новый
мир. С течением времени «верность верности» стала нашим общим
знаменателем в такой степени, что необходимость ее особого представления
Израилем отпала, и Французская революция эмансипировала евреев
(13). Когда Франция и Америка провозгласили естественное равенство
людей и естественные права человека, они, в сущности, сказали, что
каждый ребенок начинает все с самого начала, как Адам, и, таким
образом, возвращение всех наций к природе стало противоядием,
нейтрализующим язычество, которое внутренне присуще состоянию разделенных
видов верности. Иудеи смогли примириться с нациями, переставшими
быть языческими (14).
В наше время реакционером, который еще раз начал настаивать на
том, что предназначение человека — становиться все более и более
разделенным, был Гитлер. Он буквально сделал недействительной
верность верности и, следовательно, заставил Израиль вновь начать нести
свой дозор в Сионе. Он лишил людей их права освобождаться от уз
верности и отказываться от привязанностей, углублять свое понимание
родного языка и отечества до тех пор, пока человеческая речь и место
обитания не станут считаться едиными для всех людей. Но
беспомощное семя Авраама сильнее идолопоклоннического культа земли или
крови. Ибо земля и почва разделяют различные виды человеческой
верности в той же мере, в какой они их объединяют. Я — сын моей
матери и моего отца. Если я поклоняюсь их брачному обету, который они
дали, став моими родителями, я сохраняю творческое единство,
созданное их брачным союзом, и становлюсь первым представителем нового
рода. Но если я, движимый любопытством к своему происхождению,
превращаю их союз в игру гормонов в стиле Менделя, то два потока
моей крови разделяются на отцовские и материнские истоки. Тогда мой
отец фактически перестает быть моим отцом, а моя мать — моей
матерью. Ибо только в своей нераздельности эта пара является «моими
родителями». В качестве пары особей мужского и женского пола они не
вызывают у меня никакого уважения, и творческий акт создания их
союза оказывается разрушенным. Истоки воюют друг с другом. Кровь
каждого человека разделена, если он не уважает той печати, которую
его родители поставили на свой союз. То единство крови, которое де-
516
лает недействительными слова, произнесенные во время
бракосочетания родителей данного человека, в самом начале творения ими новых
людей, заканчивается ревностью и раздором. Как только отношения
между родителями и детьми перестают быть освященными, в этих
отношениях начинают господствовать страх и кровосмешение. Верность
расе не может поддерживать саму себя. Она разделяет нас, превращая
либо в детей мужчины, либо в детей женщины.
Лао-цзы добавил к колесу общества некоторую внутреннюю
деталь — ступицу. Будда добавил нечто внешнее к внешнему миру —
глаз, видящий этот мир. Авраам открыл отцовство, нераздельное
единство, предшествующее всем разделенным видам верности,
«предшествующее предшествующему». Он познал Бога в качестве истока всех
истоков, в качестве источника всех духов предков, в качестве отца,
призывающего нас к порядку и запрещающего нам расторгать союзы с
другими людьми. И поскольку Авраам верил, что человек — это образ и
подобие Бога, то его самого называли отцом Авраамом, и о том, что
значит быть отцом, патриархом, а не богом для некоего ребенка, мы
знаем благодаря Аврааму.
Ненависть к евреям — это религиозная ненависть. Всякий
антисемитизм является всего лишь предлогом. Иудаизм оскорбляет
языческую гордость или гордость из-за принадлежности к определенному
народу потому, что рядом со звездой Давида не допускается сияния
никакой славы, несущей на себе отпечаток времени. И наоборот,
иудеи смотрят свысока и с презрением на языческие пережитки в
христианстве. Мир между иудеем и язычником не существует нигде, за
исключением тех случаев, когда он осенен Крестом. Эти двое не
существуют друг для друга даже в мысли. Япония является лучшей
современной иллюстрацией того, насколько важен вклад Израиля.
Соединенные Штаты не могут выиграть эту войну в более глубоком
смысле, пока не разрушена мифология Японии. До нынешнего дня
японских детей учат, что империя была основана в 661 г. до Р. X. Но
истина состоит в том, что она моложе почти на целое тысячелетие. И это
не безобидная ложь. Мы все испытываем искушение облагородить
прошлое так, словно оно является нашим титулом на гербе, и в случае
Японии это искушение овладело целым народом. Эта ложь делает
невозможным мир между ними и нами. И поскольку наша американская
традиция требует именно этого (15), она является законной
наследницей бессмертного вклада Израиля. Если и когда все станут причастны
к открытию Израиля, отдельная группа иудеев сможет освободиться от
выполнения своей особой задачи среди язычников. Годы, прошедшие
с 1789 по 1940 г., будут позже считаться тем коротким промежутком
времени, в течение которого выполнение задачи Израиля было
принято на себя всеми людьми доброй воли, и по этой причине иудеи
смогут снять с себя бремя представлять Авраама враждебному миру
язычников. После того как все разделят веру Авраама, особое положение
иудеев сможет исчезнуть. Некий ортодоксальный иудей в 1933 г.
воскликнул: «Гитлер — Мессия!». Этот иудей и в самом деле может
положить начало концу исхода, взаимной непроницаемости иудеев и
язычников (16).
517
Иисус
Таким образом, три направления Креста наложили свой отпечаток на
душу нашего беспокойного рода. К этим направлениям Сын добавил
«грядущее» — такой способ поведения, который понадобится после всех
бунтов детей, всех новшеств, которые будут принесены цепью новых
поколений. Иисус сказал, что если считать, что каждое поколение живет
для себя, в духе своего времени, то все равно будут иметь место
высокомерие, неверность и безразличие последнего поколения по отношению
ко всем предшествующим. Из-за простой косности новой жизни,
переливающейся через край и распространяющейся по всему земному шару,
жизненный цикл будет переходить от одного ослепления к другому.
Иисус положил конец этому непрекращающемуся расщеплению на
новые истоки. После всех этих «после», всех этих юношеских «волн
будущего», просто зачинатель (beginner) должен быть все же обращен в сына
и наследника всех времен. В разобщенной «ментальности» нашего
пригорода или нашего поколения «обращение» создает обращенность всех
поколений друг на друга. Предвосхищая последнее возможное
поколение и бунты каждого поколения, Иисус вернулся в свое время с неким
мерилом, приложимым ко всем движениям, несущим на себе отпечаток
времени. Тогда как ныне живущее поколение в порыве жажды жизни
всегда кричит: «Ôte-toi que je m'y mette!» (18*), «Позднее — лучше!»,
Иисус включил все времена, в том числе и свое собственное, в единое
сверхвремя, в одно вечное настоящее. Он сделал ступицу, глаз,
поведение сына и отца доступными в любом месте и в любое время. И потому
Крест Действительности был завершен. Теперь мы обрели полную
свободу по отношению ко всем тенденциям.
Иисус принял на себя Крест Действительности; каждый человек
разорван между двумя временами и двумя пространствами. Эту
«разорванность на куски» нельзя изменить. Однако все вместе мы можем
стремиться к сверхвремени, к братству, благодаря которому мы можем
облегчить бремя крестообразного разделения при помощи сопричастности
друг другу. Благодаря братству всех поколений человек может вернуться
домой. Ключ к этому сверхвремени должен быть перекован верой
каждого поколения, и в нашей последней главе мы попытаемся открыть
палаты нашей собственной жизни подходящим ключом. Но это будет
всего лишь простым применением принципа открывания дверей,
отделяющих друг от друга времена, в том его виде, как он использовался
Иисусом.
Теперь мы можем понять, как Иисус в качестве центра истории
объединяет Будду, Лао-цзы и Авраама, располагая их вокруг Креста
действительности. Поскольку суть достижения Иисуса, творение подлинного
будущего, обсуждалась в работе «Творение будущего», мне нужно
только кратко повторить ее выводы для того, чтобы ввести их в данный
контекст. Вся идея христианства есть не что иное, как положение «Время
пришло». «В наши дни пророчества исполняются на наших глазах» (17).
Иисус стал центром истории, став человеческой душой, которая была
сделана видимой, став Мессией, которого иудеи ждали только в конце
истории. Таким способом Он включил во время конец истории в каче-
518
стве направляющей силы. Если иудеи отождествляли конец и начало в
Боге и фактически игнорировали все, что находится между ними, то
Иисус создал исторический процесс, в котором каждый год, каждый
день, каждое «настоящее» одинаково непосредственно относятся к Богу,
поскольку все они равным образом являются местом встречи любого
незавершенного прошлого и завершающего будущего. В Иисусе все
начала древности пришли к своему концу, и от Него ведут свое начало все
концы современного человека. Обетования, данные древностью всем
нациям, теперь исполняются одно за другим.
Двумя центральными актами в биографии Иисуса, сделавшими Его
родоначальником новой эры, были Его смерть ради того, чтобы стать
Основателем Мессианского Царства, и Его воскресение в качестве
одухотворенного тела всех тех, кто хотел ежедневно умирать и снова
восставать вместе с Ним. Пока Он был жив, Он находился под властью
Древнего Закона и должен был выполнять свои обязанности в качестве
потомка Авраама. Поэтому Его смерть была единственным, что Он должен
был вложить в будущее, и Его великое открытие состояло в том, что
подлинное будущее открывается силой, которая переживает смерть. Открыв
эту силу, Он создал совершенную пластичность человека на переднем
фронте, его способность каждый день начинать заново, словно он
является новорожденным ребенком. Он искупил простое рождение, открыв
его в качестве плода смерти.
***
Будда, Лао-цзы, Авраам и Иисус занимают нас не как отдельные
индивиды, а как основатели. Основать — значит заложить новый фундамент
для всего, и благодаря этому шагу человек отказывается от своего
одиночества и освобождает многих от их судьбы быть многими. Миллионы
были причастны и причастны ныне к опыту этих четырех человек. Они
подняли своих последователей до уровня свободы и возрождения. С того
момента их поведение стало доступным каждому. Человек нуждается во
всех этих четырех людях, чтобы они освободили его от оков рабства на
фронтах времени и пространства. Основатели овладели всеми
направлениями Креста Действительности, живя, как ясный глаз, молчащий голос,
смиренное сердце и пламя новой любви. Нирвана, дао, верность
верности и возрождение — это постоянные образцы полной жизни человека.
Социальные науки в качестве Ветхого завета
В глазах практичного человека дела всех четырех основателей обладают
одним неудобством или недостатком: задача, к выполнению которой они
призывают, в каждом поколении возникает заново. Они считали, что
прошлое не может предписывать еще неродившимся людям, как им
следует жить. Они ожидали, что каждый человек, пришедший в этот мир,
обратится против своего окружения. Я прекрасно знаю, что существует
наследственный Израиль, наследственный буддизм, традиционное
христианство, институционализированный даосизм. Однако они останутся
519
чем-то рудиментарным, если в середине человеческой жизни они не
будут восприняты со всей определенностью личного выбора и не будут
доведены до их нового осуществления. Например, «Христианский фронт»
злоупотребляет словом «христианство» применительно к язычникам, и
это же делает «Немецкая христианская партия». И то, и другое
представляют собой внутренне противоречивые выражения.
Наши четыре основателя одержали победу над угнетением,
исходящим от каст, правящих классов, денег, культов и взаимных трений,
которые из-за косности простого повторения превращают в гнет и бремя
само постоянство любой формы жизни.
В конфуцианском образовании, в прагматическом социализме, в
деньгах, в браминах проявляется противоположная тенденция. Они
утверждают свое намерение сохраняться и стать чем:то наследственным.
На первый взгляд, история также демонстрирует стремление всех этих
форм к статичности и окончательности. С другой стороны, Лао-цзы
особенно удачно выступил против скуки конфуцианского образования,
Израиль выжил при всех тираниях, христианство и Будда успешно
противостояли денежным интересам. И этот список может быть продолжен.
Следовательно, новичок в обществе обнаруживает, что в его
распоряжении четыре арсенала средств вынесения личных решений в условиях
ужасного давления того или иного рода. И в наше время необходимо
открытое объединение этих арсеналов, однако без отказа от порядка
Креста, ибо только под Крестом все четыре арсенала вместе имеют смысл.
Почему такое объединение является желательным? Потому что все
враги свободы, творчества, братства и авторитета ныне действуют,
занимая положение, противоположное тому, которое они занимали в
прошлом. Они больше не противоречат четырем основателям, они стремятся
их даже перещеголять! Если, к примеру, христианство открыло единство
нашей веры, то современное секулярное движение стремится превзойти
его и провозгласить программу на несколько тысяч лет. Один мой
английский друг после путешествия в Египет написал мне так: «Мы также
должны строить на четыре тысячи лет». Демагоги кричат: «Корни,
стабильность!». Что такое иудейский мессианизм в сравнении с его секуляр-
ным соперником, коммунизмом, обещающим избавить людей от всех
страданий? И время благоприятствует таким преувеличениям. Корни,
стабильность, безопасность ныне пользуются большим спросом. «Мы
нуждаемся в правителях», — сказал Роберт Фрост (19*). Мы нуждаемся
в лесах. Мы нуждаемся в сохранении почвы. Мы нуждаемся в
терпеливом сотрудничестве многих грядущих поколений для обеспечения
определенного социального поведения. Жизнь, основанная на далеко идущих
планах, ныне пользуется большим уважением. Если Сократ говорил о по-
лихронной (polychronical) мудрости многих поколений (Ксенофон. Мет.
I, 14) как о величайшей мудрости, то мы, испытывая недостаток такой
мудрости, не можем замолчать этого замечания.
Если кризис выходит далеко за пределы продолжительности нашей
индивидуальной жизни, то, похоже, наши основатели мало чем могут
здесь помочь. Они говорят, обращаясь к отдельному человеку, а
орошение земли, сохранность ее плодородного слоя, стремление к прочной
укорененности, похоже, имеют преимущество перед спасением отдель-
520
ного человека. В самом деле, ценности традиции и верности стали
встречаться так редко, что мы все испытываем искушение ускорять
осуществление планов простого традиционализма. Однако против этого
можно высказать серьезное возражение. Ценности вроде корней,
традиций, верности должны вводиться в условиях свободы, или они
воплощаются в тиранах, диктаторах, суевериях, бюрократическом
формализме, верховных жрецах. Эти последние особенно близки к тому,
чтобы продвинуться вперед при помощи искусственного осеменения,
кастрации, убийств ради избавления от мучений и из жестокости, а
также других методов, принятых у ветеринаров (18). Специалисты в
области политики играют с переселением целых этнических групп,
уничтожением меньшинств и т.д.
По этой причине в наших поисках «корней» четыре основателя
должны занимать высшее положение в этом роду «homo sapiens», который в
противном случае слишком легко поработить. Они говорят нам, что с
будущим следует обращаться совершенно иначе — не прибегать к
простой силе воли, насилию, планированию участи других, а ставить себя в
подлинно зародышевую ситуацию и упорно следовать ей апостольским
служением. Именно из зародышевых действий, а не из деятельности
комитетов возникает авторитет вместо тирании, служение вместо
бюрократического формализма, братство — вместо интеллектуального
любопытства, творение — вместо причинности.
Конечно, перед живыми стоит задача столь же трудная, что и задача,
стоявшая перед основателями в их время, и она столь же нова и
захватывающа. Но в их время существовали точно такие же трудности, что и в
наше. И в человеческий муравейник, ныне, как и тогда, терзаемый
кризисом и войной, из Креста четырех основателей проникли вневременная
ориентация, вневременная новизна, вневременная оригинальность,
вневременная личность.
Само собой разумеется, что следующие столетия будут шумно
требовать всякого рода неизменных решений и стабильности. Если
бюрократизация попытается взять верх над будущим и приобрести на него
преимущественное право, то крик муки, издаваемый человеческими
массами, станет в результате еще более мучительным и громким. Такая
бумажная работа никогда не вызывает уважения у будущих поколений
и быстро перечеркивается все новыми схемами. Недостаточно
разрабатывать планы на сто лет, потому что куда важнее сначала спросить:
«При каких условиях человеческие существа стремятся строго
придерживаться правил в течение ста лет?» Ничто из того, во что со всей
верой не была вложена душа человека, не является долговечным. Только
если мы возьмем с собой в будущее четырех основателей, душа может
быть вложена в эти будущие решения, и они станут долговечными.
Четыре основателя внесли изменения в основания человеческой природы.
Они дали нам возможность основывать наши мысли о нас самих, наше
общество, нашу историю или нашу экономику на нашей
крестообразной природе. Напротив, четыре наши современные науки об
обществе — социология, психология, экономика, история — начинают с
образа человека, относящегося к каменному веку. Эти четыре кафедры —
экономики, психологии, истории, социологии — не ставят свободу, ав-
521
торитет, приобретаемый посредством жертвы, творчество, братство в
центр своих предположений. И наоборот, эти науки считают
доказанным, что будущее не творится, а вызывается причинами, что прошлое
является не авторитетом, а просто замедленным развитием культуры,
которое имеет тиранический характер. Эти науки считают, что дух
воспринимается не как братский союз, а как некий готовый чертеж, и они
отрицают, что земля ждет доведения ее до совершенства, но
рассматривают ее в качестве объективного препятствия, которое должно быть
устранено или использовано.
Эти кафедры не изменились, не были духовно очищены, не
восприняли содержание откровения и не были обращены. Они остались стоять
перед Крестом, не дойдя до него. Объединение энергий, исходящих из
всех четырех сторон Креста, — это, как представляется, условие
согласной атаки на доисторический образ действий названных «наук». Они
являются доисторическими, поскольку не допускают того, что в центре
времени наша собственная природа однажды осознала саму себя и
потому была окончательно преображена. Они не допускают того, что
самобытие любой науки доказывает существование творения, а не причинно-
следственных связей, братства, а не бюрократии, авторитета, а не
тирании, служения, а не эксплуатации. Но тогда эти науки не осознали себя
в своем собственном центре. Ибо именно в центре нашей жизни мы
перестаем играть с миром как с простым объектом, простой традицией,
простым мысленным образом, простым левиафаном. В этот
центральный момент мы снова преобразуем факты в действия и начинаем жить
во имя тех сил, которыми эти действия могут быть осуществлены. Мы
освобождаемся от ночных кошмаров интеллекта, считающего, что
одиночество, углубленность в себя, эгоизм и скептицизм внутренне
присущи мышлению. Мы открываем, что ни мы сами в нашем существовании,
предшествующем абсолютизации интеллекта, ни кто-либо другой,
заслуживающий имени «человек», никогда в^жизни не принимал никаких
важных решений на основе такого интеллектуального процесса, который
был выдуман для судов и судебных дел, а не для действий, имеющих
некоторый положительный смысл.
В центре нашей жизни мы постигаем наш действительный образ
жизни. И мы слышим, как основатели говорят, что мы должны воспарить
мыслью к самому лучшему в наших действительных переживаниях и
отказаться от всех наших абстрактных принципов. Они говорят:
«Подчинись величию великой души, которая дает тебе свободу, тогда как он мог
поступить иначе. Подчинись зову своей судьбы тогда, когда, конечно же,
было бы удобнее не делать этого. Подчинись свободе нового начала.
Подчинись любви к ближнему, ставшему вором».
Четыре науки — история, экономика, психология, социология —
утверждают противоположное: они требуют от человека «жить в
соответствии» с фактическими элементами рассудка. Причина и следствие, дух
и тело, окружение и приспособление, действие и противодействие,
прибыль и интересы образуют основу их действительности, но это силы,
разрушительное и губительное действие которых на наш образ жизни мы
испытываем каждый день. И именно в эти силы мы должны верить как
в нечто окончательное.
522
Множество отдельных ученых протестовали против доисторических
методов своих отраслей науки (19).
Однако все ведущие ученые в этих областях, не забывшие своих
глубочайших прозрений, занимают оборонительную позицию и
защищаются от проникших повсюду методов поиска причин, власти, тирании,
законов, а не авторитета, творения, братства и служения. В качестве
учебной площадки для молодых ученых эти области удерживались вместе
методом, остановившимся перед Крестом и не дошедшим до него. Если
бы некто сказал, что в качестве верующего он не может исходить из
гипотезы о существовании «естественного» рассудка и его мышления, он
был бы лишен своего звания «чистого» ученого. Я сам должен был
исполнять эту роль и добровольно вызвался быть «грязным», а это
означает, что «крестообразное» мышление было отличительной чертой всей
моей академической карьеры и в Европе, и в Соединенных Штатах.
Комичная кульминация случилась в Гарвардском университете. Там сочли,
что я достаточно компетентен и могу преподавать аспирантам шести
различных факультетов. Однако когда стало известно о моих «ненаучных»
принципах, биолог, физико-химик, журналист объединились и подняли
такой шум, что меня «сослали» на теологический факультет Гарварда. Но
бедные сотрудники и преподаватели этого факультета также были
сильно шокированы, поскольку они делали все, что в их силах, доказывая
другим факультетам «научность» теологического факультета и его
соответствие доисторическим стандартам, преобладающим в социальных
науках.
Я не критикую такую реакцию. Я прекрасно понимаю, что
академический мир испытывает ужас от идеи «христианской» науки. Кто может
порицать его за это? Однако эти четыре социальные науки не могут
выражать такой же протест тому человеческому сообществу, которое
мыслит о человеке «крестообразно» и которое опирается на то, что было
создано четырьмя основателями. Крест, непреднамеренно, но надежно
воздвигнутый четырьмя основателями, не является принадлежностью ни
определенной конфессии, ни определенной церкви. Он столь же
объективен, как гранит или уголь, он — сотворенная Действительность.
Синтез Креста Действительности, объединяющий Восток и Запад, должен
обладать достаточной силой для того, чтобы предписать этим наукам
изменить их метод. Почему семья является оплотом Израиля? Потому что
там патриарх не приносит в жертву своего сына ради достижения своих
целей. Следовательно, отец обретает авторитет, а не тираническую
власть. Почему обращение является оплотом христианства? Потому что
в нем Сын отказывается от своих честолюбия, талантов, гения,
превосходства своего собственного одухотворения, связанного с его
поколением, ради сохранения навсегда мира между людьми. Следовательно,
теперь самый бедный грешник также может легко отказаться от своих
личных причуд ради мира в нашем мире. Почему аскетизм является сутью
буддизма? Потому что могущественный человек отказывается от
применения своей власти. Следовательно, тех, кто страстно желает власти,
могущественный человек может перевести в область, находящуюся по ту
сторону власти. Почему исключительная легкость танцора,
остающегося инкогнито, составляет тайну даосизма? Потому что Лао-цзы не оста-
523
вил после себя никакого следа, никакого имени, ничего весомого, а
только радостное чувство некоторого ритма. Следовательно, этот радостный
ритм может стать заразительным.
И в свете богатого жизненного опыта этих людей известные
социальные факты могут быть расшифрованы при помощи некоторого
окончательного образца. Общественный порядок может быть назван больным,
если вместо авторитета в нем преобладает тирания, а вместо творения —
причинность. Либо он может быть назван здоровым благодаря
достигнутой степени братства, ритма и «симфоничности» вместо
бюрократического формализма или готового к служению сострадания вместо власти.
Свет Креста проникает в пещеры общества. Все «ценностные» суждения,
без которых невозможен никакой разговор об общественных процессах,
должны основываться на открытом признании того, что благодаря
Кресту тварной человеческой природы мы уже знаем, чем должны быть
полная свобода, полное творение, братство, основанное на полноте сердца,
и совершенное служение человеческого рода. Огромный материал,
собранный в ходе исследований, которые ведутся в различных отраслях
социальных наук, подобен Ветхому завету того Мира, который ждет,
когда же он будет прочитан глазами Будды, выслушан с верой пророка,
гармонизирован с легкостью и непринужденностью Лао-цзы и воплощен с
любовью Христа (20).
В этой работе мы говорили о проникновении Креста. Имеется
бесчисленное множество фактов социального мира, ждущих, когда же они
будут рассортированы и упорядочены подобно так называемым фигурам
Хладни, возникающим тогда, когда смычком скрипки водят по краю
стеклянной пластины, а песчинки, насыпанные на ее поверхность,
приходят в движение и образуют некоторые геометрически совершенные
формы. Некогда в истории сердце было подвергнуто обрезанию, глаз —
открыт, ухо — «оркестровано», а тварь была сделана Творцом. И от
этого созданного во времени крестообразного стандарта зависят наше
здоровье и здоровье нашего духа, включая духовное здоровье
организованных наук.
От тех ученых, которые в своем образовании, в своем сообществе, в
своем служении и в своем духе не прошли через соприкосновение с этим
образцом, нельзя ждать понимания мира человека.
524
Примечания
Раса мыслителей, или Голгофа веры
Перевод выполнен по изданию: Rosenstock-Huessy Е. Die Rasse der Denker oder
Der Schindanger des Glaubens // Rosenstock-Huessy E. Die Sprache des
Menschengeschlechts. Heidelberg: Lambert Schneider Verl., 1963. Bd. 1. S.612-654. На
русском языке публикуется впервые.
1. Шоттелиус, Юстус Георг (1612-1676) — немецкий языковед и писатель. (Прим.
перев.)
2. Я обязан указанию на Лаша книге: Spitzer L. Essays in Semantics. New York,
1948. P.151, где автор рассматривает и слово «раса». («В фразе «разум вещей»,
«ratio rerum», первый термин представляет собой перевод «нуса» или «логоса»,
«ума» или «глагола»... Эти слова обозначают то, посредством чего интеллект
размышляет или говорит сам с собой», (франц. — Прим. перев.)
3. «Разум человека» (франц. — Прим. перев.)
4. Шизосоматика (греч. «schizo» — «расщепляю», «soma» — «тело»), исследование
«расщепления социального тела» и само такое «расщепление» — собственный
термин О.Розенштока-Хюсси. (Прим. перев.)
5. Doerle H. «Hypostasis» // Nachrichten Goettinger Akademie. 1955. S. 35 и далее.
6. Galileo Galilei. Die beiden neuen Wissenschaften. Erster Tag 61.
7. Для читателей, не следящих за жаргоном профессиональных языков, я
приведу пример, вышедший из-под пера моего друга, ученого Вильгельма Крол-
ля (Kroll), ныне покойного. В 1936 г. он писал: «Я не хочу оспаривать
возможность, но не примечаю какого бы то ни было «ratio» (Glotta). 25, S. 155). В «New
England Dictionary», на противоположном конце спектра, написано: «Reason —
a fact, event or incident» (8, I, p. 212). («Разум — это факт, событие или
инцидент» (англ. — Прим. перев.)
8. Гобино, Жозеф Артюр де (1816-1882) — французский философ, писатель,
дипломат. (Прим. перев.)
9. Шпицер, Лео (1887- 1960) — немецкий писатель и языковед. (Прим. перев.)
10. «Раса королей», «раса собак» (франц. — Прим. перев.)
И. Я использую здесь слово «самостность» («selbissima»), поскольку речь идет о
«seibist» — превосходной степени слова «сам» («selb»). Ману Лойман (Leumann) в
книге «Homerische Woerter» рассматривает это странное превращение слова «сам».
12. «Пусть они будут такими, как есть, или не будут вовсе» (лат. — Прим. перев.)
13. «Эта гнусная, проклятая раса» (франц.). «Старый Фриц» — прозвище
прусского короля Фридриха II (1740-1786). (Прим. перев.)
14. См. об этом мою работу «Что есть человек?: В защиту неспециалиста».
15. Кгоепег А. 1934. Summe der Theologie I, В. XXXII.
16. Чемберлен, Хьюстон Стюарт (1855-1927) — английский писатель, философ,
социолог, с 1908 г. живший и работавший в Германии, предтеча нацистской
идеологии. (Прим. перев.)
17. Thomas in 2 Phys. 14 и далее.
18. «Статистически Вы не имеете никакого значения, статистически Вами
можно пренебречь» (англ. — Прим. перев.)
19. Glotta. 1935, 26, S. 34.
20. Левит, Карл (1897-1973) — немецкий философ. (Прим. перев.)
21. Зомбарт, Вернер (1863-1941) — немецкий историк культуры, социолог,
экономист. (Прим. перев.)
22. «В отсутствие» (лат. — Прим. перев.)
23. До 1917 г. эту солидарность создавал лишь кредит, как доказывается в моей
книге: Vollzahl der Zeiten (Soziologie II), Stuttgart, 1958.
525
24. Моргенштерн, Христиан (1871-1914) — немецкий поэт. (Прим. перев.)
25. Заслугой Макса Вебера является то, что он указал на это место у Шпенера.
См.: Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus // Gesammelte Aufsaetze
zur Religionssoziologie. I, S. 141. (Anm. 3 von S. 141). (Вебер, Макс (1864-1920) —
немецкий социолог, философ и историк. — Прим. перев.)
26. Клемансо, Жорж (1841-1929) — французский политический деятель. (Прим.
перев.)
27. См. об этом мою работу: Muendig, Unbefangen, Unentbehrlich // Rosenstock-
Huessy E. Die Sprache des Menschengeschlechts. Heidelberg: Lambert Schneider Verl.,
1963. Bd. I. S. 110-118.
28. В моих «Европейских революциях» (Die europaeischen Revolutionen und der
Charakter der Nationen. 3. Aufl., 1961, S. 502 и далее) рассматриваются именно эти
письма. Генрих Придик (Pridik) в книге «Historischer Materialismus» (Duesseldorf,
1954. S.44 ff.) даже сравнил их с посланиями апостола Павла!
29. Штенцель, Юлиус (1883-1935) — немецкий философ. (Прим. перев.)
30. Kritik der Sprache. III. 1902, S. 541. (Маутнер, Фридрих (1849-1923) -
немецкий писатель и философ; в литературе основной жанр — пародия, в философии
относил себя к «агностической мистике». — Прим. перев.)
31. Eranos. Vol. 56, p. 56 и далее. Дополнительный материал приводит В. Булль-
харт (Bullhart): Tertullianstudien // Wiener S.В. Bd. 231, 5. Abhg. 1957. S. 10. (Из
«рождения» возникает «то, что рождено», из «восприятия запахов» — «ноздри»,
из «созерцания» возникает «вещь, которую видят», (лат., франц. — Прим. перев.).
32. Развенчанию иллюзии существования чистого мышления посвящена моя
работа «Я — не чистый мыслитель» (Ich bin ein unreiner Denker // Rosenstock-Huessy
E. Das Geheimnis der Universitaet: Wider den Verfall von Zeitsinn und Sprachkraft:
Aufsaetze und Reden aus den Jahren 1950 bis 1957. Stuttgart, 1958).
33. См. об этом мою книгу: Die Uebermacht der Raeume (Soziologie I). Stuttgart,
1956. S. 156.
34. Элохим (множ. число) — одно из обозначений Бога в Ветхом Завете. Для
О.Розенштока-Хюсси этот термин имеет принципиальное значение, поскольку,
с его точки зрения, отождествление Яхве с Элохимами означало победу
принципа единства над принципом множественности, и Элохимы (по-русски
множественное число иначе и не выразишь) превратились в ангелов Божьих, в
«специализированных богов», принуждающих людей к тому или иному виду
деятельности и поведения. (Прим. перев.)
35. Рудольфом Эренбергом. (Эренберг, Рудольф (1884-1969) — немецкий врач,
профессор медицины, автор концепции «метабиологии», изложенной им в книге
с тем же названием. — Прим. перев.)
36. Швеннингер, Эрнст (1850-1924) — немецкий врач, с 1881 г. — врач Бисмарка;
Кох, Рихард (ум. в 1949 г.) — немецкий врач, с которым О.Розеншток-Хюсси
сотрудничал в процессе написания книги о Парацельсе; спасаясь от нацистов, Кох
добрался до г. Ессентуки, где работал врачом и где скоропостижно скончался.
(Прим. перев.)
37. См. в связи с этим «Помощь и лечение» Виктора фон Вайцзеккера, впервые
опубликованную в 1927 г. Эта великолепная статья великолепного врача
никогда не перепечатывалась. (Вайцзеккер, Виктор фон (1886-1957) — немецкий врач
и философ. — Прим. перев.)
38. Немецкие университеты отказались от признания этого превосходства
преисполненного веры обучения над фрагментарностью новых исследований. Но в
книге о швейцарском гражданском праве, написанной Ойгеном Хубером
(Huber), «испытанное временем, хорошо зарекомендовавшее себя обучение»
рассматривается в качестве одного из источников права. Это разделяет имперских
немцев и швейцарцев.
526
39. Людендорф, Эрих (1865-1937) — немецкий военный и политический деятель,
генерал пехоты. Вместе с А.Гитлером возглавил путч в Мюнхене в 1923 г. С 1924
г. — депутат рейхстага от Национал-социалистской партии. Людендорф,
Матильда (1877-1966) — вторая жена Эриха Людендорфа (урожденная Кисе), активно
поддерживавшая публично взгляды и начинания своего мужа. (Прим. перев.)
40. «Потомок, отпрыск» (франц. — Прим. перев.)
41. Христофор — святой мученик, один из двенадцати святых-помощников. По
преданию язычник Репрев, который при крещении принял имя Христофор, был
воином, казненным во время гонений на христиан при императоре Деции. В
католической традиции изображается великаном, перенесшим через реку
младенца Христа. (Прим. перев.)
42. «Крайзауский кружок» (или «группа Краизау»), именовавшийся так по
названию поместья, где собирались его участники, объединял противников
гитлеровского режима. В кружок входили чиновники, офицеры, духовенство,
представители интеллигенции. Руководитель кружка — граф Г.Д. фон Мольтке. Имеются
сведения об определенных связях с группой полковника К. фон Штауффенбер-
га, совершившего 20 июля 1944 г. покушение на Гитлера.
Социально-экономические и политические программы «Крайзауского кружка» восходили к идеям
О.Розенштока-Хюсси. (Прим. перев.)
43. Керигма (греч. «kerygma» — «возвещение», «проповедь») — термин,
используемый Р.Бультманом для обозначения главного содержания христианского
вероучения, остающегося после его демифологизации. Бультман, Рудольф ( 1884-
1976) — немецкий протестанский теолог, философ, историк религии, один из
представителей «диалектической теологии» и концепции «демифологизации»
Нового завета, согласно которой христианская мифология должна получить
иное, антропологическое и экзистенциальное истолкование и пониматься как
совокупность особых способов отношения человека к Богу. (Прим. перев.)
44. См.: Conversableness // Rosenstock-Huessy Е. Die Sprache des
Menschengeschlechts. Heidelberg: Lambert Schneider Verl., 1963. Bd. 1. S. 256-258. (Прим. перев.)
45. Более или менее точно это можно перевести как «готовность Бога к беседе».
(Прим. перев.)
46. См.: Angewandte Seelenkunde // Rosenstock-Huessy Е. Die Sprache des
Menschengeschlechts. Heidelberg: Lambert Schneider Verl., 1963. Bd. I. S. 739-810.
(Прим. перев.)
47. Merkur. 1963. N 1.
48. Подробнее см. мою книгу: Die Uebermacht der Raeume (Soziologie I). Stuttgart,
1958.
49. См.: Rosenstock-Huessy E., Wittig J. Das Alter der Kirche. Bd. 1. Berlin, 1927.
50. «Игра в одной команде», «сыгранность», «взаимодействие» (англ. — Прим.
перев.)
51. «По благодати», «даром» (лат. — Прим. перев.)
52. «Человек разумно-неразумный» (лат. — Прим. перев.)
527
Рабочие учат слишком мало, а учителя - слишком много
Разгадка Августином загадки времени
Перевод выполнен по изданию: Rosenstock-Huessy Е. Die Arbeiter lehren zu wenig
und die Lehrer lehren zu viel: Augustins Loesung des Raetsels der Zeit // Rosenstock-
Huessy E. Die Sprache des Menschengeschlechts: Eine leibhaftige Grammatik in vier
Teilen. Heidelberg: Lambert Schneider Verl., 1964. Bd. II. S. 369-427. На русском
языке публикуется впервые.
1. Жильсон, Этьен Анри (1884-1978) — французский католический философ,
историк средневековой философии. {Прим. перев.)
2. Ансельм Кентерберийский (1033-1109) — средневековый мыслитель и
церковный деятель, с 1093 г. — епископ Кентерберийский. {Прим. перев.)
3. Эту работу, ошибочно причисленную к сочинениям Августина и
происходящую из эпохи папской революции, см. в: Migne. Patrologia. 40, 1129. (Работа
называется «Об истинном и ложном раскаянии» (лат. — Прим. перев.)
4. Позором является то, что мы сегодня одержимы глупостью и считаем
«больше» чем-то количественным, чего никогда не подразумевал Ансельм.
5. Сен-Симон, Клод Анри де Рувруа (1760-1825) — французский мыслитель,
социолог, социалист-утопист, очень высоко ценимый О.Розенштоком-Хюсси в
качестве предшественника многих его собственных концепций и, прежде всего,
самой «социологии» в качестве «домостроительства спасения»; более того, О.Розен-
шток-Хюсси называет его даже «первым социологом», т.е родоначальником
подлинной социологии, отличной от господствующих в научном мировоззрении
социологических подходов, объективирующих человека и общество. {Прим. перев.)
6. «Об учителе» (лат. — Прим. перев.)
I. Бергсон, Анри (1859-1941) — французский философ, представитель
интуитивизма и философии жизни; Джеймс (Джемс) Уильям (1842-1910) —
американский философ, один из основателей прагматизма; Александер, Сэмюэль (1859-
1938) — английский философ, представитель неореализма и создатель теории
«эмерджентной» (т.е. глубинной) революции; Розенцвейг, Франц (1886-1929) —
немецко-еврейский философ, представитель «диалогического мышления», друг
О. Розенштока-Хюсси. {Прим. перев.)
8. В связи с этим см. мою статью: Im Notfall oder Die Zeitlichkeit des Geistes //
Neue Sammlung. III. 1963. S. 518 и далее.
9. «Из предшествующего» (лат.), т.е. до опыта и независимо от него. {Прим. перев.)
10. «Из последующего» (лат.), т.е. на основе опыта. (Прим. перев.)
II. Кьеркегор (Киркегор), Серен (1813-1855) — датский философ, теолог и
писатель, предшественник экзистенциализма. (Прим. перев.)
12. Метаномика (греч. «мета-» — «сверх», «над», «номос» — «порядок», «закон»,
«установление») — собственный и весьма многозначный термин О.Розенштока-
Хюсси, построенный по тому же принипу, что и «метафизика» и служащий для
обозначения реальности, которая не может быть осмыслена ни
«социологически» в традиционном смысле, ни с помощью терминов права или экономики. Это
учение о законах образования самих социальных законов, учение о мирном
осуществлении социальных перемен и о выживании после социальных катастроф,
«грамматика общественного согласия», позволяющая каждому человеку
отождествлять себя с другими людьми и одновременно сохранять свою свободу и
автономность. Вместе с тем, «метаномику можно истолковать как поиск
вездесущности Бога в наиболее противоречивых областях человеческого общества». (Розен-
шток-Хюсси О. Речь и действительность. М.: Лабиринт, 1994. С. 45). В этом
смысле метаномика представляет собой преодоление метафизики, правда, не в
том смысле, как понимает эту задачу М.Хайдеггер. (Прим. перев.)
528
13. Рассмотрение сути метаномики образует заключение моей книги: Out of
Revolution: Autobiography of Western Man. New York, 1938. (Наш перевод этих
заключительных глав опубликован в журнале «Вопросы философии». 1997. N 8. —
Прим. перев.)
14. Донатисты — последователи донатизма, т.е. взглядов Доната, избранного в
ходе внутрицерковной борьбы епископом Карфагенским. Согласно Донату,
характерным признаком всякой истинной Церкви является святость, которая
выражается в личном совершенстве ее служителей, тогда как таинства теряют свою
силу, если совершаются священнослужителями, провинившимися против
Церкви, или же в тех церквах, которые продолжают сохранять связь с виновными.
Августин, в противовес донатистам, настаивал на объективном значении
Церкви и на объективности благодати, ее независимости от святости
священнослужителя. Донатизм был причиной раскола в Западной Церкви, возникшего из
столкновения личных интересов, но превратившегося в принципиальное
разногласие. {Прим. перев.)
15. Амвросий Медиоланский (ок. 340-397) — епископ Миланский, автор
многочисленных гимнов, преобразователь церковного пения (в частности, именно он ввел
антифонное пение). (Прим. перев.)
16. См.: Rosenzweig F. Briefe. Berlin, 1955.
17. Об этом качестве лирики см. мою книгу: Die Uebermacht der Raeume (Soziologie
I). Stuttgart, 1956. S. 117, где показано, что взаимность, согласие предшествуют
общности. См. также мою работу: Ein Sprachenschoss um das Jahr 1200 // Rosenstock-
Huessy E. Die Sprache des Menschengeschlechts: Eine leibhaftige Grammatik in vier
Teilen. Heidelberg: Lambert Schneider Verl., 1964. Bd. II. S. 320-344.
18. Дьюи, Джон (1859-1952) — американский философ, представитель
прагматизма (его инструменталисте кого варианта), создатель педагогической концепции
«обучения посредством деланья». (Прим. перев.)
19. См. о «временном различии», которое нас мучит, главу в книге «Полнота
времен» (Die Vollzahl der Zeiten (Soziologie II) ), с. 260 и далее.
20. Migne. Patrologia Latina. Opera Augustini I, 1179.
21. Guiton. Le temps et l'éternité chez Plotin et Saint Augustin. Paris, 1933. P. 359.
22. См. мою работу: Muendig, Unbefangen, Unentbehrlich // Rosenstock-Huessy E.
Die Sprache des Menschengeschlechts: Eine leibhaftige Grammatik in vier Teilen.
Heidelberg: Lambert Schneider Verl., 1963. Bd. I. S. 111-118.
23. См. об этом главу «Первый социолог» в моей книге: Soziologie I. («Будущее
принадлежит нам!» (франц. — Прим. перев.)
24. См. суждение, впервые высказанное в 1527 г. самим Эразмом: «Все, что есть
хорошего в «De magistro», уже сказано у Платона. Все, что есть там плохого,
принадлежит Августину!»
25. «Природа — это творение, не знающее конца» (лат. — Прим. перев.)
26. Язык всех эпох, обладающих верой, простирается от Адама и до Страшного
суда, а язык эпох, этой веры не имеющих, — например, эпохи Третьего рейха, —
существует лет двенадцать. См. мою книгу: Die europaeischen Revolutionen und der
Charakter der Nationen. 3. Aufl., 1961. S. 109 и далее.
27. Николай Кузанский (Николай Кребс, 1401 — 1464) — мыслитель раннего
Возрождения, предвосхитивший многие основные проблемы новоевропейской
философии. (Прим. перев.)
28. «Конечный бог» (лат. — Прим. перев.)
29. См. мою работу: Das Haupt beim Sprechen // Rosenstock-Huessy E. Die Sprache
des Menschengeschlechts: Eine leibhaftige Grammatik in vier Teilen. Heidelberg:
Lambert Schneider Verl., 1963. Bd. I. S. 295- 311, а также работу «Раса мыслителей».
30. Маркион — один из гностиков II в.; Гарнак, Адольф (1851-1930) — немецкий
протестантский теолог и историк религии; О Р.Бультмане см. примечание 43 к
529
работе «Раса мыслителей, или Голгофа веры»; Браун, Герберт (1903-?) —
немецкий протестантский теолог, исследователь Нового завета. (Прим. перев.)
31. «Бестрепетность, бесстрашие» (англ. — Прим. перев.)
32. «Церковь-наставница» (лат. — Прим. перев.)
33. Виттиг, Йозеф (1879-1949) — немецкий католический священник,
отлученный от Церкви за свою книгу о Христе; после отлучения Виттига О.Розеншток-
Хюсси написал и опубликовал вместе с ним трехтомную книгу «Das Alter der
Kirche» («Возраст Церкви»); Соловьев, Владимир Сергеевич (1853-1900) — pyc-i
ский христианский философ. {Прим. перев.)
34. Шелер, Макс (1874-1928) — немецкий философ, представитель
феноменологии и философской антропологии. (Прим. перев.)
35. Феррари, Джузеппе (1811-1876) — итальянский историк, во многом
предвосхитивший многие идеи О. Розенштока-Хюсси и высоко им ценимый: в ряде
работ он называл Феррари «своим предшественником». (Прим. перев.)
36. «Молись и работай» (лат. — Прим. перев.)
37. Для данного случая (лат. — Прим. перев.)
38. См. мою работу: Die Grosstadt // Rosenstock-Huessy Е. Die Sprache des
Menschengeschlechts: Eine leibhaftige Grammatik in vier Teilen. Heidelberg: Lambert
Schneider Verl., 1963. Bd. I. S. 221-237.
39. «Припоминание» и в то же время «пересмотр» (лат. — Прим. перев.)
40. Migne. 39, 1717 и далее.
41. См. мою книгу: Die europaeischen Revolutionen und der Charakter der Nationen.
3. Aufl., 1961. S. 109.
42. Речь идет о фразе, которая в синодальном переводе звучит следующим
образом: «Если вы не верите, то потому, что вы не удостоверены» (Ис. 7:9). У Ан-
сельма Кентерберийского эта фраза использована в его сочинении «Прослоги-
он»: «Я, Господи, не стремлюсь проникнуть в высоту Твою, ибо нисколько не
равняю с ней мое разумение; но желаю сколько-то уразуметь истину Твою, в
которую верует и которую любит сердце мое. Ибо я не разуметь ищу, дабы
уверовать, но верую, дабы уразуметь. Верую ведь и в то, что «если не уверую, не
уразумею»!» (Ансельм Кентерберийский. Сочинения / Пер. И.В. Купреевой. М.:
Канон, 1995. С. 128. — Курсив мой. — Перев.). По-видимому, синодальный
перевод требует уточнения. Например, в английской Библии короля Якова
(санкционированная версия) этот стих Исайи выглядит так: «If уе will not believe,
surely ye shall not be established» («Если не уверуете, то не будете удостоверены»),
и именно данное понимание лежит в основе идущей от Ансельма
схоластической традиции. (Прим. перев.)
43. «Об истинной религии» (лат. — Прим. перев.)
530
Что есть человек?
В защиту неспециалиста
Перевод выполнен по изданию: Rosenstock-Huessy Е. Was ist der Mensch?: Eine
Laien-Abwehr // Rosenstock-Huessy E. Das Geheimnis der Universitaet: Wider den
Verfall von Zeitsinn und Sprachkraft: Aufsaetze und Reden aus den Jahren 1950 bis 1957.
Stuttgart: Kohlhammer, 1958. S. 134-145. На русском языке публикуется впервые.
1. В синодальном переводе это выглядит так: «Когда взираю я на небеса Твои,
дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил: то что есть человек,
что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его? Не много ты
умалил его перед Ангелами; славою и честью увенчал его; поставил его владыкою
над делами рук Твоих; все положил под ноги его...» (Пс. 8:4-7). Об Элохимах см.
примечание 34 к работе «Раса мыслителей, или Голгофа веры». (Прим. перев.)
2. «Одна маленькая вещь» (франц. — Прим. перев.)
3. О Р. Бультмане см. примечание 43 к работе «Раса мыслителей, или Голгофа
веры»; Барт, Карл (1886-1968) — швейцарский протестантский теолог, один из
основателей «диалектической теологии»; Эддингтон, Артур Стэнли (1882-1944) —
английский физик, астрофизик и астроном, развивал и популяризировал идеи
теории относительности А.Эйнштейна, первый осуществил экспериментальную
проверку одного из следствий этой теории; о М.Вебере см. примечание 25 к
работе «Раса мыслителей, или Голгофа веры»; Рюстов, Александр (1885-1963) —
немецкий социолог и экономист. (Прим. перев.)
4. Рюккерт, Фридрих (1788-1866) — немецкий ориенталист, поэт и переводчик.
(Прим. перев.)
5. «Встаньте, пойдем отсюда» (лат.). (Ин. 14:31). (Прим. перев.)
6. «Вещная», «объективная» (нем. — Прим. перев.)
7. Шопенгауэр, Артур (1788-1860) — немецкий философ, представитель
иррационализма. (Прим. перев.)
8. Название знаменитой книги американской поэтессы Уилы Кэтер (Cather).
9. «Член палаты от Ипсвича» (англ. — Прим. перев.)
10. Подробнее см. в моей книге: Out of Revolution: Autobiography of Western Man.
New York, 1938. P. 307.
11. «Сознающий себя» (англ. — Прим. перев.)
12. Яхвист — название одного из четырех источников Пятикнижия наряду с Эло-
хистом, Второзаконием и Жреческим кодексом. Автор Яхвиста, также условно
называемый Яхвистом, считается составителем текстов, начиная с Быт. 2:4 и
кончая описанием того, как израильтяне захватили земли к западу от Иордана. В
Элохисте, автор которого называется также Элохистом, особо подчеркивается
господство Бога над своим народом. Само разделение на Яхвист и Элохист
связано с определенными представлениями о возникновении Пятикнижия (теория
двух источников). (Прим. перев.)
13. О троекратном начале, которое придало форму даже Символу Веры, см.
подробнее в книге: Rosenstock-Huessy Е., Wittig J. Das Alter der Kirche. Bd I. Berlin,
1927.
14. Подробнее см. в моей книге «Дыхание духа» (Der Atem des Geistes. Frankfurt
a.M., 1951.) Оновные принципы «нового мышления» изложены Францем Розен-
цвейгом в работе: Das neue Denken // Rosenzweig F. Kleinere Schriften. Berlin,
1937.
15. «Евангелический воспитатель» (нем. — Прим. перев.)
531
Человеческий тип как форма для чеканки, или повседневные истоки языка
Перевод выполнен по изданию: Rosenstock-Huessy Е. Im Praegstock eines
Menschenschlags oder Der taegliche Ursprung der Sprache // Rosenstock-Huessy
E. Die Sprache des Menschengeschlechts: Eine leibhaftige Grammatik in vier Teilen.
Heidelberg: Lambert Schneider Verl., 1964. Bd. II. S. 451-594. На русском языке
публикуется впервые.
1. Эта история произошла с моим другом преподобным Мак-Нейтом из
Бостона (штат Массачусетс).
2. См. например: Jakobson R. Why «Mama» and «Papa»? //Idem. Selected Writings.
1967. P. 538 и далее.
3. «Здравый смысл» (англ.)
4. Фишер, Куно (1824-1907) — немецкий историк философии, гегельянец,
автор многотомной «Истории новой философии». (Прим. перев.)
5. «Бейсик инглиш» — упрощенный английский язык из 850 слов и система
обучения этому языку (англ. — Прим. перев.)
6. «Бедовый ребенок», «сорванец» (франц. — Прим. перев.)
7. См. подробнее в моей книге: Out of Revolution: Autobiography of Western Man.
New York, 1938.
8. Это действительно имело место в 1932 г. в моем лагере для рабочих,
крестьян и студентов в Верхней Силезии. (Силинги — название группы родов,
входивших в состав племени вандалов. — Прим. перев., прим. ред.)
9. Американский киномагнат Билл Хэйс (Hays) назвал свою киноиндустрию
новым мировым языком. Но этой «индустрии» недостает возражения со
стороны слушателей.
10. О кредите см. мою книгу «Uebermacht der Raeume» (Soziologie I), S. 178 ff.
11. Богатый пожилой поклонник, букв.: «сладкий папочка» (англ. — Прим. перев.)
12. «Ранние могилы» Клопштока (1764) далеко не случайно относятся ко времени
накануне нового всплеска духа!
13. В англиканском обряде крещения открыто говорится, что он дает то, «what
nature cannot give» («чего не может дать природа» — англ.). Пусть дарвинисты
опровергнут это!
14. Во многих племенах женщине достаточно «ля расторжения брака того факта,
что ее муж осмелился взглянуть на ее половые органы.
15. « Разделе нность на части» (англ. — Прим. перев.)
16. «Ради рождения свободных» (лат. — Прим. перев.)
17. «Свободные» (лат. — Прим. перев.)
18. «Eleutheroi» — это «идущие вослед». Тот же смысл имеют латинские «liberi»
и германское «Leute».
19. См. в связи с этим прекрасное посвящение Шопенгауэра отцу, открывающее
его главный труд; оно анализируется в моей книге «Vollzahl der Zeiten»
(Soziologie II), Stuttgart, 1958. S. 195 ff.
20. См.: Rosenstock-Huessy E. Zurueck in das Wagnis der Sprache: Ein aufzufindener
Papyrus. Berlin: Kaethe Vogt, 1957.
21. Линтон, Ральф (1893-1953) — американский этнограф и социолог. (Прим.
перев.)
22. Малиновский, Бронислав Каспер (1884-1942) — английский этнограф и
социолог, один из основателей функциональной школы в этнографии. (Прим. перев.)
23. Ранк (наст, фамилия Розенфельд), Отто (1884-1939) — австрийский
психиатр. (Прим перев.)
24. Шмидт, Вильгельм (1868-1954) — католический священник, лингвист и
этнограф, один из представителей теории прамонотеизма. (Прим. перев.)
25. «Между дьяволом и открытым морем» (англ. — Прим. перев.)
532
26. «У наших слов нет завтрашнего дня»(франц. — Прим. перев.)
27. «Слова, которые остаются» (франц. — Прим. перев.)
28. Я установил автора магдебургского городского права благодаря этому
подходу (см.: Ostfalens Rechtsliteratur. Weimar, 1912). «Собственное имя действует,
как императив», — писал я тогда.
29. «Дух» (лат. — Прим. перев.)
30. См. мою работу «Имена Бога» (Die Namen Gottes // Rosenstock-Huessy E.
Die Sprache des Menschengeschlechts: Eine leibhaftige Grammatik in vier Teilen.
Heidelberg: Lambert Schneider Verl., 1963. Bd. 1. S. 152-158).
31. Кирдорф, Эмиль (1847-1938) — немецкий предприниматель. (Прим. перев.)
32. Ягов, Готлиб фон (1863-1935) — немецкий дипломат. (Прим. перев.)
33. Баллин, Альберт (1857- 1918) — немецкий судовладелец. (Прим. перев.)
34. Его письмо опубликовано Фишером в книге «Griff nach der Weltmacht».
35. Прекраснейшее место в комментарии Бернхарда Дума (Duhm) к Псалмам
(1899, S. 60) — то, где ему открылись слова: «День дню передает сказания, а ночь
ночи открывает знание». Поколения людей продолжаются лишь в пении духов.
36. См.: Rosenstock-Huessy Е. Out of Revolution. New York, 1938. P. 567 и
далее.
37. См.: Imthurn CF., sir. Among the Indians of Guyana, 1883. P. 193 и далее.
38. Crawley E. Dress, Drink and Drums, 1931. PP. 54, 73.
39. Заимствовано из «Social Psychology» Элинберга (Elinberg).
40. Вундт, Вильгельм (1832-1920) — немецкий философ, психолог, филолог и
языковед.
41. Гримм, Якоб (1785-1863) — немецкий филолог, один из основоположников
так называемой мифологической школы в фольклористике. Вместе со
своим братом Вильгельмом Гриммом (1786-1859) издал знаменитую книгу
сказок. (Прим. перев.)
42. Бопп, Франц (1791-1867) — немецкий языковед, один из основателей
сравнительной грамматики индогерманских языков.
43. Дюркгейм, Эмиль (1858-1917) — французский социолог, основатель
французской социологической школы. (Прим. перев.)
44. Гумбольдт, Вильгельм фон (1767-1835) — немецкий языковед, филолог,
эстетик, государственный деятель и дипломат. (Прим. перев.)
45. «Дающий имя герой» (древнегреч. — Прим. перев.)
46. «Капитан моей души» (англ. — Прим. перев.)
47. «Тело Христово» (лат. — Прим. перев.)
48. См. мою книгу «Die Vollzahl der Zeiten» (Soziologie II), где рассматривается
ежегодное исчезновение земли (и страны).
49. «Повелитель», «король» (лат. — Прим. перев.)
50. См.: Geheimnis der Universitaet, S. 203 ff.
51. См. мою работу: Das Dreitagewerk // Rosenstock-Huessy E. Die Sprache des
Menschengeschlechts: Eine leibhaftige Grammatik in vier Teilen. Heidelberg: Lambert
Schneider Verl., 1964. Bd. 2. S.428-448.
52. Пусть читатель еще раз просмотрит мою статью «Самоубийство Европы» (Der
Selbstmord Europas // Rosenstock-Huessy E. Die Sprache des Menschengeschlechts:
Eine leibhaftige Grammatik in vier Teilen. Heidelberg: Lambert Schneider Verl., 1964.
Bd. 2. S. 45-84), исходя из этой ритуальной заповеди. Ибо тогда ему станет ясна
связь шпенглеровского названия «Закат Европы» с верой в прогресс, а моего
названия «самоубийство» — с глубокой скорбью. (Шпенглер, Освальд (1880-
1936) — немецкий философ, автор двухтомного труда «Закат Европы», имевшего
сенсационный успех. Отрицая рожденное христианством понимание истории в
качестве единого потока времени, Шпенглер разработал концепцию локальных
культур, в которой каждая культура живет в своем циклическом времени. От-
533
ношение О.Розенштока-Хюсси к Шпенглеру не было однозначным. В указанной
выше обширной рецензии и многих других его работах философия Шпенглера,
с одной стороны, признавалась весьма показательным симптомом болезненных
процессов в развитии европейской культуры и потому подвергалась критике, а
с другой — подчеркивалась гениальность Шпенглера, что, впрочем, в устах Ро-
зенштока-Хюсси, помимо общепринятого, имело и другой смысл, указывая на
связь с греческим духом школы и его языческими корнями. — Прим. перев.).
53. «Thing» или «thingus» — племенное (как правило, судебное) собрание у
древних германцев. (Прим. перев., прим. ред.)
54. «Идите, закончено» (лат., заключительная фраза католической мессы,
давшая название самому богослужению — «месса»). (Прим. перев.)
55. О Р.Бультмане см. примечание 43 к работе «Раса мыслителей, или Голгофа
веры». (Прим. перев.)
56. По-русски — «что», «кто», «где», «когда». (Прим. перев.)
57. Фердинанд Эбнер придавал этому различию огромное значение. (Эбнер,
Фердинанд (1882-1931) — австрийский мыслитель, один из ведущих представителей
«диалогического мышления». — Прим. перев.).
58. Тантал — герой одного из популярных древнегреческих мифов, царь и
любимец богов, который, возгордившись, оскорбил богов и был низвергнут в Аид,
где стоял по горло в воде и терзался жаждой, но вода отступала всякий раз, когда
он собирался сделать глоток; он не мог утолить и голод, поскольку плоды,
висевшие на ветках над ним, исчезали всякий раз, когда он протягивал к ним руку
(другая версия: Тантал терзался мучительным страхом, поскольку над ним
нависала огромная качающаяся скала). «Танталовымуки» — мучения, вызванные
близостью страстно желаемой цели и невозможностью ее достичь. (Прим. перев.)
59. Пс. 8:5 (Прим. перев.)
60. Bureau of American Ethnology 101, 1939, pp. 21, 23.
61. С него началась написанная мною совместно с Иозефом Виттигом (Wittig) и
опубликованная в 1927 г. трехтомная работа «Das Alter der Kirche» («Возраст
Церкви»).
62. См.: Das Haupt beim Sprechen // Rosenstock-Huessy E. Die Sprache des
Menschengeschlechts: Eine leibhaftige Grammatik in vier Teilen. Heidelberg: Lambert
Schneider Verl., 1963. Bd. 1. S. 295-311. (Прим.уерев.)
63. См. подробнее: Rosenstock-Huessy E. Out of Revolution. New York, 1938.
64. Алатри — город в Италии севернее города Фрозиноне. Основан в 1830 г. до
н.э. как Alatrium и упоминается греческим географом Страбоном; известен
окружающим его поясом циклопических стен, сооруженных в VI в. до н.э. (Прим.
перев.)
65. См. примечание 24.
66. Речь идет о представленных в этой книге избранных переводов работах
«Послания к вечности: Письма в Каир», «Заратуштра: Обретение голоса», «Распевы
муз» и «Плод уст». (Прим. перев., прим. ред.)
67. Название знаменитой американской книги звучит как «The Badge of
Courage» («Символ отваги»).
68. Balfour M. The Kaiser. London, 1964. P. 184.
69. Bulletin U.S. Bureau of Ethnology, 101, 1939. PP. 225, 229.
70. См.: Norden E. Die Geburt des Kindes. Leipzig, 1924.
71. «Сумерки» прекращают войну между днем и ночью — в египетском ритуале
точно так же, как и в этом.
72. См.: Der Widersinn der Sinne // Rosenstock-Huessy E. Die Sprache des
Menschengeschlechts: Eine leibhaftige Grammatik in vier Teilen. Heidelberg: Lambert
Schneider Verl., 1963. Bd. 1. S. 86-109. (Прим. перев.)
73. См.: Ein Komma // Rosenstock-Huessy E. Die Sprache des Mensche—
534
ngeschlechts: Eine leibhaftige Grammatik in vier Teilen. Heidelberg: Lambert
Schneider Verl., 1963. Bd. 1. S. 269- 294. {Прим. перев.)
74. Джеймс (Джемс) Уильям (1842-1910) — американский философ, один из
основателей прагматизма. (Прим. перев.)
75. Против этой дерзости направлена моя работа «Kriegsheer und Rechts—
gemeinschaft». Breslau, 1932.
76. «Исключительный звательный падеж» (лат. — Прим. перев.)
77. Вейовис (Ведиовис, Ведиус, лат. «ve-Jovis»; «ve-» — приставка, означающая
ту или иную чрезмерность в качестве недостатка) — римское божество
подземного мира, возможно, Юпитер-мститель. Изображался безбородым юношей со
стрелами в руках. Был покровителем рода Юлиев, из которого вышел основатель
первой императорской династии Юлий Цезарь. (Прим. перев.)
78. Жители города Мессаны (совр. Мессины. — Прим. перев.), прозванные
«сынами Марса».
79. Zeitschrift fuer vergleichende Sprachwissenschaft 32, S. 195, Anm. I; Festschrift
fuer Wackernagel, S. 248. См. также мою работу «Im Notfall» // Neue Sammlung. III,
S. 518 ff.
80. Игра слов: je suis — первое лицо единственного числа от être (быть) и suivre
(следовать за кем-л., слушаться кого-л.). Отсюда возможность двух вариантов
перевода: «Я их руководитель, и нужно, чтобы я слушался их» либо «Я
слушаюсь их руководителя и нужно, чтобы я слушался их», (франц. — Прим. перев.,
прим. ред.)
81. См. также мою работу: Synonyme gibt es nicht // Rosenstock-Huessy E. Die
Sprache des Menschengeschlechts: Eine leibhaftige Grammatik in vier Teilen.
Heidelberg: Lambert Schneider Verl., 1963. Bd. I. S. 568-578.
82. Квириты (лат. Quirites, первоначально prisci Quintes = Curenses, т.е.
жители сабинского города Cures, впоследствии populus Romanus Quiritesque или
populus Romanum Quiritium) — почетно-торжественное наименование
римского народа. (Прим. перев.)
83. Гёлъдерлин, Фридрих (1770-1843) — великий немецкий поэт. Учился в Тю-
бингенском теологическом институте вместе с Г.Гегелем и Ф.Шеллингом. В его
поэзии воспевалась античность и оплакивалась гибель античной культуры.
(Прим. перев.)
84. О Гобино см. примечание 8 к работе «Раса мыслителей, или Голгофа веры».
(Прим. перев.)
85. О Клемансо см. примечание 26 к работе «Раса мыслителей, или Голгофа
веры. (Прим. перев.)
86. «И вы, Афины, Афины, Афины, Афины...» (франц. — Прим. перев.)
87. «Сама моя душа окликает меня по имени» (англ. — Прим. перев.)
88. Вольф, Фридрих Август (1759-1824) — немецкий филолог-классик,
усилиями которого классическая филология была преобразована во всеобщее антико-
ведение, а древнегреческий язык занял достойное место в школьной
программе. Вольф способствовал отделению филологии от теологии и первым начал
употреблять слово «филолог» для обозначения особой профессии; он является
родоначальником так называемого «гомеровского вопроса», т.е. вопроса об
авторстве «Илиады» и «Одиссеи». (Прим. перев.)
89. Виламовиц-Меллендорф, Ульрих фон (1848-1931) — немецкий
филолог-классик, одним из первых предпринявший попытку синтетического исследования
филологии и античной материальной культуры. (Прим. перев.)
90. Сепир, Эдуард (1884-1939) — американский языковед и этнолог. (Прим. перев.)
9\.Дизраэли, Бенджамин, лорд Биконсфилд (1804-1881) — английский
государственный деятель и писатель, лидер Консервативной партии, в 1874-1880 гг. —
премьер-министр. (Прим. перев.)
535
92. Бриан, Аристид (1862-1932) — французский политический деятель. (Прим.
перев. )
93. Клакхон, Клайд (1905-1960) — американский антрополог и этнопсихолог.
(Прим. перев.)
94. Papers of the Peabody Museum. XXII, 1944, 2.
95. Лактанций, 42.
96. Цинциннат, Л. Квинкций — римский полководец; слыл образцом
добродетели и храбрости, жил в деревне, в 460 г. до н.э. — консул, в 458 г. до н.э. —
диктатор. (Прим. перев.)
97. Papers of the Peabody Museum. XXII, 1944, p. 62b.
98. «Их души остаются неродившимися» (англ. — Прим. перев.)
99. «Оно» (англ. — Прим. перев.)
100. «Она» (англ. — Прим. перев.)
101. Фрейя (др.-исл. Freya, госпожа) — богиня плодородия, любви и красоты в
скандинавской мифологии. (Прим. перев.)
102. Вотан (Водан) — верховный бог в германской мифологии. (Прим. перев.)
103. См. об этом открывающую новые пути книгу: Berg J.H. van den. Het
Menselijk Lichaam. Nijkerk, 1959.
104. Подробнее см. в моей книге: Koenigshaus und Staemme in Deutschland
zwischen 919 und 1250. Leipzig, 1914. Есть переиздание 1964 г. (Речь идет об
особой форме права, в соответствии с которой жена умершего короля, не
считающаяся вдовой, замещает его на троне на определенное время, так что король не
считается официально умершим и удалившимся от дел; в политическом смысле
это как бы отсрочивает смерть короля до вступления на трон его преемника. —
Прим. перев.)
105. Добросовестная работа Пауля Форхаймера (Forchheimer) «The Category of
Person in Language», 1953, выиграла бы, если бы автор видел дальше школьной
грамматики.
106. См.: Liturgisches Denken: Ein Dank an Josef Wittig // Rosenstock-Huessy E. Die
Sprache des Menschengeschlechts: Eine leibhaftige Grammatik in vier Teilen.
Heidelberg: Lambert Schneider Verl., 1963. Bd. 1. S. 465-492.
107. Осторожности ради я повторяю, что даже «логос» по-гречески означает
«беседу». То же справедливо относительно «seqrio» («беседа», лат. — Прим. перев.)
и «verbum» («слово», «высказывание», лат. — Прим. перев.) на протяжении их
долгой истории. Но поскольку я здесь должен опустить рассмотрение
греческой культуры из-за недостатка места, см. мою книгу Soziologie II.
108. См. примечание 106.
109. «Ребенок» (лат.- Прим. перев.).
110. «Личная собственность» (лат. — Прим. перев.)
111. «Человеконогое животное» (древнегреч. — Прим. перев.).
112. Кибела — фригийская богиня, Великая Мать, мать богов и всего
живущего на земле, главная функция которой — возрождение жизни на земле и
обеспечение плодородия; ее культ носил оргиастический характер.
113. «Diot» обозначало «общевойсковое соединение» на языке франков,
бывшем языком администрации, суда и, прежде всего, военных команд в
армии каролингского государства, в состав которого входило много племен.
(Прим. перев.)
114. См.: Rosenstock-Huessy Е. Frankreich — Deutschland: Mythos oder Anrede.
Berlin, 1957. В этой книге О.Розеншток-Хюсси доказывает, что прилагательное
«deutsch» (немецкий) возникло именно из слова «diot». (Прим. перев.)
115. Доказательство — в моей книге «Kriegsheer und Rechtsgemeinschaft». Breslau,
1932. S. 6.
116. LaneJ. (Baker, Elaine Kidner). King James The Last. 1942. P VI.
536
117. «Технический термин» (лат. — Прим. перев.)
118. Нибелунги, в германо-скандинавской мифологии — имя, употребляемое в
разных и недостаточно ясных значениях. Главным мифологическим сюжетом,
связанным с Нибелунгами, являются вариации темы клада, приносящего
несчастье его обладателю. (Прим. перев.)
537
Послания к вечности: письма в Каир
Перевод выполнен по изданию: E.Rosenstock-Huessy Е. Die angeschriebene
Ewigkeit: Briefe nach Kairo // Rosenstock-Huessy E. Die Sprache des
Menschengeschlechts. Heidelberg: Lambert Schneider Verl., 1964. Bd. II. S. 595-735. На русском
языке публикуется впервые.
1. Письма писались начиная с первой половины 40-х годов и имели адресатом
молодую американскую студентку Синтию Харрис (Harris). Они представляют собой
часть большого цикла писем, адресованных ей же и озаглавленного «Новое
завоевание нашей эры» (весь цикл до сих пор не опубликован). Речь идет об уникальном
изложении созданной Розенштоком-Хюсси концепции всемирной истории. Как
вспоминала сама Синтия Харрис, «он (Розеншток-Хюсси. — А/7.) хотел писать так
просто и ясно, с такой верой, как это только было возможно, и — по крайней мере,
мне так кажется, — он хотел обратиться к простому, преисполненному энтузиазма,
невинному человеку. Мне посчастливилось стать этим человеком» (Harris S. Préface
// Rosenstock-Huessy E. Hitler und Israel oder Vom Gebet = Hitler and Israel or On
Prayer. Moessingen-Talheim: Talheimer, 1992. S. 13). Синтия Харрис замечает также:
«...Хотя я и в самом деле недолго жила в Каире, ни одно письмо в
действительности не было направлено мне туда» (ibid., S. 14). Таким образом, речь идет об особом
жанре изложения, характерном для Розенштока-Хюсси, который почти никогда не
писал для «читателя вообще» и всегда обращался к некоему конкретному человеку,
который, по меньшей мере, подразумевался. (Прим. перев.)
2. «Пекинский человек» (лат.), синантроп — устаревшее название
разновидности «человека прямоходящего» (питекантропа). (Прим. перев.)
3. «Да будет!» (лат.- Прим. перев.)
4. «Да будет свет!» (лат.- Прим. перев.)
5. Речь идет о книге: Rosenstock-Huessy Е. Soziologie II: Die Vollzahl der Zeiten.
Stuttgart, 1958. (Прим. перев.)
6. Ампелии, Луций — латинский писатель II в. н.э., автор «Назидательной
книги», представлявшей собой свод сведений по географии, истории, мифологии,
праву, космографии. (Прим. перев.)
I. Коптос (греч., егип. Гебтиу) — город в Верхнем Египте. (Прим. перев.)
8. Буто (греч., егип. Пе) — город в дельте Нцла, состоявший из двух частей,
называвшихся Пе и Деп. (Прим. перев.)
9. Бусирис (греч. от егип. Бу-Усир — «Место Осириса») — город в дельте Нила.
(Прим. перев.)
10. Кузы, Кусса (греч., егип. Кус) — город в Среднем Египте. Ср. также седьмое
письмо. (Прим. перев.)
II. Хнес (коптск., греч. Гераклеополь) — город в Фаюмском оазисе. (Прим. перев.)
12. Осирис, Хатор, Сопду, Сет — четверка главных египетских богов,
обеспечивавших сам переход к оседлости. Осирис считался богом производительных сил
природы и верховным божеством загробного культа. Именно Осирис царствует
над Египтом. Хатор (Хат(х)ор, егип. «Дом Гора (Хора)» ) — великая богиня неба,
часто отождествлявшаяся с сестрой и женой Осириса (мотив инцеста), матерью
Гора Исидой. Сопду — бог в виде сокола, отождествлявшийся с Гором. Сет —
бог «чужих стран», пустыни, убийца Осириса. Борьба между Сетом и Осирисом,
завершившаяся победой последнего, имела огромный смысл для конституирова-
ния всей древнеегипетской культуры и в особенности для культа фараона.
Согласно этому основному комплексу мифологических представлений, Сет желал
править вместо Осириса и придумал способ погубить его. С помощью
изощренной хитрости он убил Осириса, разрубил его тело на части и разбросал по всему
Египту. Но Исида как верная и преданная супруга разыскала части тела
Осириса, собрала их воедино и зачала от мертвого Осириса сына — Гора. Выросший
538
Гор вступает в спор с Сетом и на суде богов добивается признания себя
единственным наследником Осириса. В итоге долгой и упорной борьбы Гор
побеждает Сета, и Осирис воскресает. Однако он передает трон сыну, а сам начинает
царствовать и вершить суд в загробном мире. Фараоны считались служителями
Гора и даже отождествлялись с ними. (Прим. перев.)
13. Bibliothèque, Institut d'Egypte XXI, 1939, 294. Уинлок (Winlock) в 1924 г. хотел
доказать наличие татуировки на руке статуи (Journal Eg. Aren.), но это не
получило признания.
14. Один в скандинавской мифологии соответствует Вотану в древнегерманской
мифологии. См. примечание 102 к работе «Человеческий тип как форма для
чеканки, или Повседневные истоки языка». (Прим. перев.)
15. О предвидении этого неизбежного упадка см. мою работу «Самоубийство
Европы» — Der Selbstmord Europas // Rosenstock-Huessy E. Die Sprache des
Menschengeschlechts. Heidelberg: Lambert Schneider Verl., 1964. Bd. II. S. 45-84.
16. Первые буквы греческих слов «Иисус Христос, Сын Божий» образуют слово
«ichtys», которое по-гречески означает «рыба». Подробнее см. помещенную в
этом томе работу «Плод уст». (Прим. перев.)
17. О.Розеншток-Хюсси имеет в виду реформу фараона Эхнатона, о чем
специально пойдет речь в четвертом письме. (Прим. перев.)
18. Отсылаю читателя к работе «Человеческий тип как форма для чеканки, или
Повседневные истоки языка».
19. Nagaet Der I, 124, Nr. 3.
20. «От кланов к империям» (франц. — Прим. перев.)
21. «Живучесть идеографического письма, проявляющаяся в использовании для
обозначения имени царя имени Гора, указывает на то, что написание этого
имени было одним из наиболее ранних способов применения письма» (англ. —
Прим. перев.) Это следует понимать буквально. Внутри древнейшего города Эль-
Каб находится одно нефараоновское поселение, и оно, в отличие от этого
города, является круглым по форме. См.: Kriesis A. Amer. Journal of Archeology, 1949.
P. 261 и далее.
22. Нехен (егип., греч. Иераконполь, «Город сокола») — древняя столица
Верхнего Египта. (Прим. перев.)
23. К этому добавляется Новый год продолжительностью 5 дней. Таким образом,
36x10+5 дней и составляют год. Еще латиняне имели 10 месяцев по 36 дней в
каждом. Подробнее см.: Rosenstock-Huessy Е. Das Geheimnis der Universitaet: Wider den
Verfall von Zeitsinn und Sprachkraft: Aufsaetze und Reden aus den Jahren 1950 bis 1957,
herausg. und eingel. von Georg Mueller. Stuttgart: Kohlhammer, 1958. S. 201 ff.
24. Имхотеп — визирь фараона Джосера (III династия), зодчий, строитель
ступенчатой пирамиды Джосера. Впоследствии Имхотеп был обожествлен и стал
считаться сыном богом Птаха. (Прим. перев.)
25. Он, Иуну (егип., греч. Гелиополь, «Город Солнца) — город в Нижнем Египте.
(Прим. перев.)
26. Brugsch H. Tesaurus I, S. 408. (Бругш, Генрих Карл (1827-1894) — немецкий
египтолог, исследователь демотического письма, основатель первого журнала по
египтологии. — Прим. перев.).
27. «О, вдохновение, так мы находим в тебе блаженную могилу, и, глубоко
погружаясь в твои волны, мы с тихим ликованием опускаемся все ниже, пока не
услышим зова времени, и тогда, проснувшись и исполнившись новой гордости, мы
как звезды возвращаемся в короткую ночь жизни». (Перевод подстрочный. —
Прим. перев.) О Гёльдерлине см. примечание 83 к работе «Человеческий тип как
форма для чеканки, или Повседневные истоки языка». (Прим. перев.)
28. Палермский камень — плита из черного базальта с записью сведений о пяти
первых египетских династиях (составлена приблизительно в 2400 г. до н.э.). Со-
539
хранилось пять небольших фрагментов этой плиты, крупнейший из которых
хранится в музее г. Палермо. {Прим. перев.)
29. В Японии, в Юкатане (Мексика) имела место аналогичная ретроспекция. В
очищенном виде она продолжает жить в нашем «до Рождества Христова». Ни
одного их таких правителей никогда не было.
30. Столб Джед — фетиш Осириса, столб, символизирующий ствол дерева, в
котором, согласно мифу, Исида спрятала сундук с трупом Осириса. Более подробно
о столбе Джед см. восьмое письмо. (Прим. перев.)
31. Лпоп — в египетской мифологии огромный змей, который обитает в глубине
земли, олицетворяет собой мрак и зло и выступает в качестве собирательного
образа врагов бога Ра. (Прим. перев.)
32. «Я на Ближнем Востоке» (англ. — Прим. перев.)
33. См. подробнее: Rosenstock-Huessy Е. Soziologie II: Die Vollzahl der Zeiten.
Stuttgart, 1958.
34. Книга Хайлера (Heiler) «Das Gebet» («Молитва») стоила ему его церковной
веры. (Хайлер, Фридрих (1892-1967) — немецкий теолог и историк религии. —
Прим. перев.).
35. Lex Salica 92. «Gandapot» — «принуждение, принудительность» (ранневерхне-
нем. — Прим. ред.)
36. Эдфу (арабск., егип. с Древнего царства — Эджбо, со Среднего царства — Бех-
дет) — город в Верхнем Египте на западном берегу Нила. (Прим. перев.)
37. Впервые на это обратил внимание Генрих Бругш. См. также: Dussaud R.
Egypte et Egée. Paris: Académie des Inscriptions, 1938. P. 537.
38. Junker. Geschichte der Aegypter, S. 15.
39. Это двойственное число очень красиво объясняется Эженом Гребо (Grebaut):
Hymne à Ammon Ra. Paris, 1874. P. 165.
40. Kees. Goettinger Nachrichten. 1929. S. 58.
41. После эпохи Второй династии число округов, соответствующих каналам,
увеличилось с 36 до 42. (Dykmans. Histoire sociale et économique. III, p. 56).
Сельское хозяйство столь же неустанно улучшалось. Ср.: Otto Е. Aegypten. 2. Aufl.,
S. ПО.
42. Письмо кардинала Георга из Остии приведено в Monumenta Germaniae Hist.,
Epistolae Aevi Caroli Magni, 26.
43. О Р.Бультмане см. примечание 43 к работе «Раса мыслителей, или Голгофа
веры». (Прим. перев.)
44. Бонхеффер, Дитрих (1906-1945) — немецкий протестантский теолог, автор
концепции «безрелигиозного христианства», узник нацистского концлагеря
Флоссенбюрг, где и был казнен. (Прим. перев.)
45. Ранке, Леопольд фон (1795-1886) — немецкий историк, которому
принадлежит часто цитируемое высказывание, что «каждая эпоха находится в одинаковом
(непосредственном) отношении к Богу». (Прим. перев.)
46. См. мою работу «Рабочие учат слишком мало, а учителя учат слишком
много: Разгадка Августином загадки времени», где рассматривается гиперхронизм
или «supertime», сплавленное воедино время.
47. Приведем три примера.
Цезарь. У Шекспира Цезарь говорит, что он неподвижен, как Олимп,
непоколебим, как Полярная звезда. Акт III, сцена I.
Карл. «Я должен быстрыми шагами подняться туда, где сияет своим светом маяк
благородной Европы, где король Карл рассеивает свое великое имя среди звезд.
Солнце, как бы ясно оно ни сияло, иногда все же затягивается грозовыми
тучами. Карла не могут поколебать никакие бури. Солнце в течение двенадцати
часов не испускает свет. Карл сияет вечно, и его свет не может угаснуть». Mon.
Germ. hist. Poetae Carolini Aevi I, 366.
540
Сталин. «Ты выше неба. Выше тебя твои мысли, Сталин! Солнце светит только
днем, ты же приносишь нам счастье днем и ночью!» Weber А. Вауг. Ak. der Wiss.
1950. Heft 1, S. 19 Cl.
48. Этого Гора можно увидеть, если в мавзолее Galla Placida, построенном в
пятом столетии, посмотреть на часть потолка над обоими апостолами.
49. «Voegel» I. 1911, S. 448.
50. Мал. 4:2. Перевод несколько изменен по сравнению с синодальным в
соответствии с немецким текстом. В синодальном переводе: «А для вас,
благоговеющие пред именем Моим, взойдет Солнце правды и исцеление в лучах Его...»
{Прим. перев.)
51. Royal Tombs. Vol I. Frontispice.
52. Эвгемер (Евгемер, ок. 300 г. до н.э.) — древнегреческий философ, близкий по
взглядам к киренаикам. В своем романическом сочинении «Священная запись»
изложил теорию, будто боги суть не что иное, как подвергнутые обожествлению
лучшие люди древности (эвгемеризм). (Прим. перев.)
53. Курциус, Эрнст (1814-1896) — немецкий историк, исследовавший
классическую античность, особо известный как организатор раскопок Олимпии. Автор
трудов по истории Афин, топографии, аттической демократии. (Прим. перев.)
54. Одной из самых лучших статей о Горе является работа Жоржа Дарси (Daressy)
(Bullletin XIII (1916) ).
55. Эрман, Адольф (1854-1937) — немецкий египтолог, директор Египетского
музея в Берлине, член Прусской Академии наук, основатель берлинской школы
египтологов. Изучал египетское письмо и египетский язык. Под его
руководством был подготовлен самый полный словарь египетского языка. (Прим. перев.)
56. Библ — греческое название финикийского торгового города Гебала (в
настоящее время — Джубейля). Город поддерживал тесные экономические связи с
Египтом; греки покупали там, в частности, папирус, который по-гречески и
назывался «byblos», что дало название греческому слову для обозначения книги.
См. также шестое письмо. (Прим. перев.)
57. Алан Гардинер не говорит ни слова о смысле пирамид. (Гардинер, Алан Хен-
дерсон (1879-1963) — английский египтолог, автор наиболе подробной и
тщательно разработанной грамматики классического египетского языка. Считал
природу речи субъективной и на основе этого подхода создал теорию предложения
как факта речи. — Прим. перев.).
58. Гумбольдт, Александр фон (1769-1859) — немецкий естествоиспытатель и
путешественник, брат Вильгельма фон Гумбольдта (см. примечание 44 к работе
«Человеческий тип как форма для чеканки, или Повседневные истоки языка»).
(Прим. перев.)
59. Humboldt A. von. Kosmos I. 1845, S. 142, 145: «...Удивительный,
пирамидально поднимающийся от земли свет».
60. Erman-Grapow. VI, 200а.
61. Smith W.S. The Old Kingdom of Egypt // Cambridge Anc. History. 1962. Ch. XIV,
p. 21. Тем самым Смит, сам того не заметив, заново открыл Сопду.
62. Гелуан — город, находящийся к Востоку от дельты Нила. Это название часто
применяется также для обозначения соседнего неолитического памятника Эль-
Омари. (Прим. перев.)
63. В Новой Зеландии этот пирамидальный свет был одним из знаков, важных
для мореплавателей. См.: Mackensen M.W. The Morning Star Rises. New Haven,
1941. P. 144.
64. Так именовался в Германии профессор, назначенный заведовать кафедрой в
высшем учебном заведении. (Прим. ред.)
65. Впервые в моей книге «Koenigshaus und Staemme». Leipzig, 1914. Некий
профессор в 1962 г. следующим образом порицал эту книгу: «Он там сказал такую
541
вещь, которую в то время еще нельзя было знать». Книга была без изменений
переиздана в 1964 г.
66. Сема — символ, обозначающий «объединение земель» и схематически
изображающий два легких и трахею. (Прим. перев.)
67. Neugebauer О. The Exact Sciences in Antiquity, 1951. «Each decan may represent
any constellation rising during an interval of ten days». («Каждый декан может
представлять созвездие, появляющееся на небе в течение десяти дней» — англ.)
68. Ибо юбилеи фараона воспроизводили усмирение и наложение заклятия, а
юбилеи Библии повторяли Исход, освобождение!
69. Древе, Артур (1865-1935) — немецкий философ, автор работ по истории
первоначального христианства, в которых отрицалось существование личностного
Бога и выдвигалась концепция всеединства божественной субстанции
пантеистического типа. (Прим. перев.)
70. Движение вперед, пришествие, (лат. — Прим. перев.)
71. Торжественный въезд (франц. — Прим. перев.)
72. Докеты (от греч. dokeo — кажусь) — представители докетизма, еретического
учения в христологии, утверждавшие призрачность Богочеловека. С точки
зрения докетизма Иисус Христос только казался человеком, а его тело только
представлялось по-настоящему материальным. (Прим. перев.)
73. Во имя Успения Марии (лат. — Прим. перев.)
74. О «Старом Фрице» см. примечание 13 к работе «Раса мыслителей, или
Голгофа веры». (Прим. перев.)
75. «Ка» — в египетской мифологии один из элементов, составляющих
человеческую сущность, олицетворение жизненной силы богов и царей, наряду с «Ах»
и «Ба» одна из душ человека. См. подробнее одиннадцатое письмо. (Прим. перев.)
76. Главный город, столица (лат. — Прим. перев.)
77. Земной круг, земля, мир (лат. — Прим. перев.)
78. Масперо, Гастон Камиль Шарль (1846-1916) — французский египтолог,
руководил археологическими раскопками в Египте, в 1881 г. основал в Каире
французский Институт восточной археологии, был вторым директором Каирского
музея, ас 1881 по 1886 г. — генеральным директором египетской Службы
древностей, первым издал «Тексты пирамид». (Прим. перев.)
79. «Хронология жизни царя, как мы видим, противоположна порядку его
титулов» (франц. — Прим. перев.)
80. Картуш — замкнутая линия, имеющая форму овала, которой при письме
обводили имя фараона. (Прим. перев.)
81. Храмы младенцев среди египетских храмов (франц. — Прим. перев.)
82. Храм младенцев на о. Филэ (франц. — Прим. перев.)
83. Daumas, р. 472 и далее. (Хекет — богиня воды и плодородия,
покровительница рожениц, изображалась в виде лягушки или женщины с лягушкой на
голове. — Прим. перев.)
84. Daumas, р. 479. («Царь, обладающий божественной сущностью, живет,
готовый наследовать своему отцу», (франц. — Прим. перев.)
85. Daumas, р. 479, 282.
86. См. примечание 70 к работе «Человеческий тип как форма для чеканки, или
Повседневные истоки языка». (Прим. перев.)
87. «Сызнова рождается великий порядок веков» (лат. — Прим. перев.)
88. См.: Gardiner A. Egypt of the Pharaos. 1961. P. 234 и далее. Sottas. Un cas
d'incest // Revue Egyptienne. 14, p. 150 и далее. Naville E. Totenbuch, S. 51.
89. О величии этого суждения см. мою книгу: Out of Revolution: Autobiography of
Western Man. New York, 1938. P. 357 и далее.
90. Творческое отношение «бесконечного» к «конечному» является темой
написанной в 1912 г. гениальной рукописи моего друга Адольфа Вагемана (Wage-
542
mann) (1865-1920), инженера, работавшего в Штутгарте на предприятии Боша.
Идей, высказанных в этой рукописи, так никто и не услышал.
91. «Газетные заголовки» (англ. — Прим. перев.)
92. См. статью Netoliczka в «Pauly-Wissowa», Neue Bearb. 1922, Bd. XI. S. 33.
93. Schott S. Mythe und Mythebildung. 1945. S. 88. «Тексты пирамид», 1146.
94. «У особенного нет языка» (англ. — Прим. перев.)
95. «Тоху вабоху» (евр. «пустыня и глушь») — в Книге Бытия (1:2) обозначение
первоначального хаоса: «Земля же была безвидна и пуста». (Прим. перев.)
96. О Ф.Розенцвейге см. примечание 7 к работе «Рабочие учат слишком мало, а
учителя учат слишком много: Разгадка Августином загадки времени». Бубер,
Мартин (1878-1965) — немецко-еврейский мыслитель, который, подобно Розен-
цвейгу, был представителем «диалогического мышления», — концепции, весьма
близкой О.Розенштоку-Хюсси. М. Бубер и Ф. Розенцвейг (последний, кстати
сказать, был студентом О. Розенштока-Хюсси) — авторы нового перевода
ветхозаветной части Библии на немецкий язык. (Прим. перев.)
97. См.: Rosenstock-Huessy Е. Die europaeischen Revolutionen und der Charakter der
Nationen. Moers: Brendow, 1987. (Прим. перев.)
98. Мидгард (др.-исл., буквально — «срединное огороженное пространство») — в
скандинавской мифологии обитаемая (т.е. «срединная») часть мира на земле. За
пределами Мидгарда, как считалось, находится некий внешний пограничный
мир, от которого исходит опасность. Земля окружена океаном, в котором плавает
хтоническое чудовище, «змей Мидгарда» Ермунганд, непременный участник
мифологических сюжетов о преодолении первоначального хаоса. (Прим. перев.)
99. «Арер, the Rebel, is overthrown from all the seats in every place» («Апеп,
бунтовщик, был повсюду исторгнут со всех мест». Англ. — Прим. перев.).
Насчитывается 24 места богов, откуда были изгнаны Апеп и дети крика. — JEA.
1937. 23, р. 171.
100. Petitio principii («требование обращения к первооснове». — лат.) —
необходимость глубокой аргументации во избежание логической ошибки, состоящей в
том, что в качестве довода, подтверждающего тезис, приводится положение,
которое не является ложным, но само нуждается в доказательстве. (Прим. перев.)
101. Узенер, Германн (1834-1905) — немецкий филолог-классик и историк
религии. Одна из наиболее известных его работ — «Имена богов» (1896).
102. Закон ритуала, согласно которому форма должна возникнуть из хаоса,
рассмотрен в разделе «Ритуал» работы «Человеческий тип как форма для чеканки,
или Повседневные истоки языка».
103. Vare D. Diplomatico Sorridente. 1941. P. 157.
104. «Этого нельзя сделать» (англ. — Прим. перев.)
105. Hawtrey R.G. The Economie Problem. 1933. («В противоположность кочевым
народам, земледелец связывает себя с усовершенствованиями, вводимыми в
определенном месте. Без таких усовершенствований человеческая жизнь оставалась
бы элементарной и мало отличающейся от жизни животных. И насколько же
велика роль, которую эти усовершенствования сыграли в человеческой истории!
Именно они — расчищенные и возделанные земли, жилые дома и другие здания,
средства сообщения, разнообразные виды деятельности, необходимые для
производства, включая промышленность и горное дело, долговременные удобства,
которые невозможно просто взять и перенести куда-то еще, — привязывают
человеческое сообщество к тому месту, где оно находится. Они не могут быть
устроены наскоро, но должны были постепенно создаваться упорными усилиями
многих поколений, и человеческое сообщество не может позволить себе
принести их в жертву и начать все заново в каком-нибудь другом месте. Отсюда
происходит тот территориальный характер верховной власти, признанием
которого пропитаны наши политические концепции», (англ. — Прим. перев.)
543
106. Элам (Елам) — страна севернее Тигра и Персидского залива, ныне
Курдистан {Прим. перев.)
107. См. мою Soziologie II, S. 174 ff.
108. Хебсед (Хеб-сед) — праздник тридцатилетия царствования правящего
фараона. {Прим. перев.)
109. Asselbergh. Chaos en Beheersing. 1961. NN 46, 50, 56, 118, 127, 129, 130, 131,
132, 155, 156, 160, 168, 169.
110. Сешат (Сешет, женский род от «сеш» — «писец» ) — богиня письма, знаний
и покровительница строителей, сестра, жена или дочь бога письма Тота,
изображалась женщиной в шкуре пантеры, накинутой поверх рубашки, и с цветком,
имеющим семь лепестков (или с семиконечной звездой), на голове {Прим. перев.)
111. Речь идет о сне фараона, истолкованном Иосифом (Быт. 41:1-36). {Прим.
перев.)
112. Royal Excavations. 1942, pi. XIV, 6.
113. Sethe. Dramatische Texte. Bilder 8, 9.
114. Mem. de l'Institut d'Egypte. IX .1925. PP. 321, 348.
115. См. об этом: Annales du Service. 48. 1948. P. 430.
116. Kees. Goetterglaube. 1941. S. 98.
117. «Продвижение короля вперед или прибытие императора» (англ. — Прим.
перев.)
118. «Пришествие» (англ. — Прим. перев.).
119. Papyrus Westcar. 9, 14 и далее.
120. Gauthier. Receuil du Musée Eg. III. 1915. P. 44 и далее.
121. См. также фиванское подражание: Zakey A. Annales du Service. 47. 1943;
Jequer. Bulletin Caire. V, pp. 63-64. См. также «Тексты пирамид» 389b; Schaefer.
Zeitschrift fiier aegypt. Sprache. 71. 1955. P. 24, Abb. 5. Ужас смерти, каким
отзывается подобное понимание незыбленности, побудил 3. Шотта толковать это
слово как «будущее». Но на Ниле нет «будущего». Его место занято «возвращением»:
Schott S. Mythe, S. 107.
122. Камбис И — царь персов с 529 г.—522 г. до н.э., сын Кира II (Великого). В
525 г. захватил Египет, в результате чего Персия и Египет образовали
персональную унию {Прим. перев.)
123. «La vieille traduction de «ndh it f» vengeur de son père, qui, si longtemps, fit
autorité, doit être condamnée sans appel». («Старей перевод «ndh it f» как «мститель
своего отца», столь долго считавшийся несомненно правильным, должен быть
безоговорочно отвергнут», франц. — Прим. перев.) Garnot J.S.F. L'Hommage aux
Dieux sous Ancien Empire Egyptien, d'après les Textes des Pyramides. Paris, 1954. P.
136. См. об этом также девятое письмо.
124. Флекс, Вальтер (1887-1917) — немецкий поэт.
125. Development. 1934, р. 343.
126. О Яхвисте и Элохисте см. примечание 12 к работе «Что есть человек?: В
защиту неспециалист)». {Прим. перев.)
127. Атум — «совершеннейший», создатель Осириса, ипостась Солнца. Умерший
фараон отождествлялся именно с Атумом. Позднее Атум превращается в
главного демиурга гелиопольской космологии. (Прим. перев.)
128. «Тексты пирамид», 447Ь — W559. Edel Е. Altaeg. Gramm. 1955. S. 628.
129. См., например, у Иоханна Зундвалла (Sundwall). Klio Beiheft. 1911 (1913), S.
263.
130. «Двойственное число преимущества (или предпочтения)» (лат. — Прим.
перев.)
131. Garnot. L'Hommage aux Dieux. Paris, 1954. P. 108. («Эта грамматическая
фантазия, которую следует признать несколько вычурной, не сохранилась в языке».
Франц. — Прим. перев.)
544
132. Soziolologie II: Die Vollzahl der Zeiten, S. 187.
133. «Переход в другой род» (греч.) как логическая ошибка. (Прим. перев.)
134. Newberry. Journal Egypt. Aren. XIV, p. 212. Hornblower in «Man». 1931. P. 31.
135. Этот вопрос об отношении между культовым скотом и скотиной, которую
держали ради ее полезности, должен быть поставлен заново. К досаде
просветителей, культ является более старым. Коль скоро необходимость странствовать по
земле, как звезды, побудила выбрать крупный рогатый скот, то это объясняет его
двойственное существование на Ниле: с одной стороны, движение Аписа,
известное уже со времени правления Первой династии и до конца самого
«территориального царства», и используемый для его обозначения на письме символ
человеческого детородного члена, а с другой стороны — содержание большого
поголовья крупного рогатого скота в мирских, секуляризованных целях.
136. «Во множестве» (франц. — Прим. перев.)
137. От лат. «annualis» — «годичный», «относящийся к году». (Прим. перев.)
138. Нефтида (греч., егип. Небетхет, Небтот) — богиня, считавшаяся женой
Сета; ее сущность и функции ясны не до конца. Смысл имени этой богини —
«владычица дома», иероглиф для ее обозначения изображает дом со
строительной корзиной наверху. Вместе с Исидой Нефтида оплакивает Осириса и
участвует в поисках его тела. Согласно «Текстам пирамид», Исида плавает в дневной
ладье, а Нефтида — в ночной. (Прим. перев.)
139. Сесотрид (Сесотрис) — египетский фараон середины XIV в. до н.э.,
обычно отождествляемый с Рамсесом. (Прим. перев.)
140. См. мою работу: Alphabet und Hieroglyphen // Rosenstock-Huessy E. Die
Sprache des Menschengeschlechts. Heidelberg: Lambert Schneider Verl., 1964. Bd. II.
S. 345- 356.
141. См. мою работу: «Es regnet» oder die Sprache steht auf dem Kopf// Rosenstock-
Huessy E. Die Sprache des Menschengeschlechts. Heidelberg: Lambert Schneider Verl.,
1963. Bd. I. S. 35-85. (Имеется русский перевод А.И. Пигалева: «Идет дождь», или
Язык стоит на голове // Философские науки. 1994. N 1-3, 4-6. — Прим. перев.)
142. Моммзен, Теодор (1817-1903) — немецкий историк античности. За работу
«Римская история» в 1903 г. удостоен Нобелевской премии по литературе. (Прим. перев.)
143. Сам Штольтенберг объясняет отсутствие таких текстов тем, что этрусскому
глаголу недостает различных форм для «я», «ты» и «он» (с. 5, сноска 3). Но тем
самым, естественно, не отрицается существование выражения для обозначения
обращения, поскольку налицо слова «eme» и «mi» для обозначения «я» и «ni» —
для обозначения «он» и «она».
144. Finkenstaedt Т. You und Thou: Zur Anrede im Englischen. Berlin, 1963.
145. «Ты (thou), о Бог, но ты (you), мой друг» (англ. — Прим. перев.)
146. Полную беспомощность проявляет Лизелотта Грефен (Greven L. Der Ка.
Glueckstadt, 1952), поскольку она думает только об именах существительных.
147. «Mais ce mot n'existe pas dans notre langue» («Но этого слова не существует в
нашем языке». Франц. — Прим. перев.)
148. Простая истина (лат. — Прим. перев.)
149. Феаки — сказочно счастливый и беззаботный народ, живущий на острове
Схерия и занимающийся мореплаванием. Король феаков Алкиной на одном из
чудесных кораблей, способных быстро и без кормчего достичь любой точки,
велел доставить на родину Одиссея. (Прим. перев.)
150. Cerny J. Journal Egypt. Arch. 1954. 40, p. 23 и далее.
151. Речь идет о «Поучениях Птахотепа (Птах-хетепа)» — религиозно-моральном
сочинении, состоящем из 37 наставлений и приписываемом визирю V династии
Исеси. (Прим. перев.)
152. «Троил и Крессида» — Пьеса У.Шекспира. (Прим. перев.)
153. Great Tombs III. 1958. P. 60, Al, fig.l.
18 3ак. 3524
545
154. Schweizer U. Das Wesen des Ka. 1956.
155. Речь идет о работе О. Розенштока-Хюсси: Angewandte Seelerfkunde //
Rosenstock-Huessy E. Die Sprache des Menschengeschlechts. Heidelberg: Lambert
Schneider Verl., 1963. Bd. I. S. 740-810. (Прим. перев.)
156. См.: Vollzahl der Zeiten (Soziologie II), S. 450. Там приведен текст,
опубликованный Масперо и Гардинером.
546
Заратуштра: обретение голоса
Перевод выполнен по изданию: Rosenstock-Huessy Е. Zaratustras
Stimmhaftwerden // Rosenstock-Huessy Е. Die Sprache des Menschengeschlechts.
Heidelberg: Lambert Schneider Verl., 1964. Bd. II. S. 737-772. На русском языке
публикуется впервые.
1. Ксенофон. Киропедия. I, 3. (Ксенофон. Киропедия. М., 1977. С. 5-6; пер. ВТ.
Боруховича немного изменен. — Прим. перев.)
2. Мардук — главное божество вавилонского пантеона. {Прим. перев.)
3. Вальхалла (вальгалла, валхалла, др.-исл. «чертог убитых») — в скандинавской
мифологии небесное жилище павших в бою храбрых воинов, которые образуют
там дружину верховного бога Одина (см. также примечание 13). (Прим. перев.)
4. Пасаргады — один из городов-резиденций древних персидских царей
недалеко от Персеполя (см. следующее примечание), основанный ок. 560-550 гг. до н.э.
Киром II; развалины к юго-востоку от Исфахана. (Прим. перев.)
5. Персеполь — один из городов-резиденций древних персидских царей,
основанный Дарием I после 518 г. до н.э., ныне — Такт-и-Джамсид к северо-востоку от
Шираза. (Прим. перев.)
6. Бехистун (Бизитун) — селение в Иране, находившееся неподалеку от
нынешней дороги Керманшах-Хамадан; вблизи этого места расположена скала,
называемая Бехистунской или просто Бехистуном. В 516 г. до н.э. Дарий I повелел
высечь на этой скале барельеф, увековечивающий его победы. Сама скала для
лучшей сохранности барельефа была обрублена вертикально и потому стала
практически недоступной. (Прим. перев.)
I. Ахурамазда (авест. — «господь мудрый») — верховное божество ахеменидско-
го и зороастрийского пантеона. (Прим. перев.)
8. Frye R.N. The Héritage of Persia. Cleveland (Ohio), 1963. PP. 26 и далее.
9. Герцфельд, Эрнст Эмиль (1879-1948) — немецкий археолог. (Прим. перев.)
10. Мой высокоученый друг Артур Дарби Нок (Nock) в 1949 г. опубликовал
работу «Problem of Zoroaster» («Проблема Зороастра») в «American Journal of
Archeology» в противовес точке зрения Герцфельда. К сожалению, она
совершенно ничего не дает, и даже «Великий год Гераклита» не упоминается ни разу.
II. Иштар (восточносемит. — «богиня») — главное женское божество в
аккадской мифологии, богиня плодородия и плотской любви, войны и распри; Ваал
(Балу, Баал, общесемит. — «хозяин», «владыка») — в западносемитской
мифологии одно из наиболее употребительных имен общих и локальных богов.
(Прим. перев.)
12. Митра (Мифра, авест. «договор», «согласие») — древнеиранский бог
Солнца и мифологический персонаж, который был связан с идеей договора. (Прим.
перев.)
13. Серапис (Сарапис) — один из богов эллинистического мира, специально
введенный для сближения египетского и греческого населения на религиозной
почве; Один — главный бог в скандинавской мифологии, соответствующий
Вотану (Водану) у континентальных германцев; его имя указывает на шаманский
экстаз и поэтическое вдохновение, он был богом-колдуном и покровителем
воинских союзов. (Прим. перев.)
14. Вероятно, имеется в виду св. мученица Марианна (Мария), которая в IV в.
пострадала в Персии. (Прим. перев.)
15. Силом — место в Ефремских горах, столица Земли Обетованной при Иисусе
Навине, главное святилище, где был установлен ковчег Завета. (Прим. перев.)
16. 1 Цар. 1:11. (Прим. перев.)
17. 1 Цар. 1:12-18. (Прим. перев.)
18. 1 Цар. 2:1-9. (Прим. перев.)
547
19. 1 Цар. 3:20. (Прим. перев.)
20. Лк. 1:46-54. (Прим. перев.)
21. Л к. 2:19. (Прим. перев.)
22. «Гаты» — гимны Заратуштры. (Прим. перев.)
23. См. мою статью: Zaratustra and Zoroasrtrism // American People's Encyclopedia.
Vol. XIX. 1962.
24. Заратуштра рано превратился в «Зараштро», как это имя фигурирует в тексте
«Волшебной флейты» Шиканедера. В Сардах, главном городе Лидии, уже во
времена Александра Македонского его называли «Зариштро». См.: Wetter Е. Wiener S.B.
der Akademie. Band 232. 1952, 5. S. 53. (Шиканедер, Эммануэль (1751-1812) —
немецкий театральный поэт, автор либретто оперы «Волшебная флейта». — Прим. перев.)
25. Варуна — в древнеиндийской мифологии бог космических вод, истины и
справедливости, имеющий параллели в хеттской и иранской мифологии; Ардви-
сура Лнахита (авест. «Ардви могучая, беспорочная») — в иранской мифологии
богиня воды и плодородия. (Прим.перев.)
26. «Арамаити» чаще всего переводится как «благоговение». Следующими
значениями являются «преданность», «самоотречение», «самоотверженность».
Вышедшая в Лейпциге в 1929 г. работа Гертеля еще не оценена до конца.
27. См мою работу: «Convesableness» // Rosenstock-Huessy Е. Die Sprache des
Menschengeschlechts. Heidelberg: Lambert Schneider Verl., 1963. Bd. I. S. 256-258.
28. Так предполагает Вальтер Гинц. См. его книгу: Zaratustra. 1961, 5. S. 59-70.
29. В имени Ахурамазды, Всемудрейшего Господина, чередуются единственное
и множественное число. В первом стихе я пытаюсь представить это читателю
перед словами о душе. «Аша» чаще всего переводится как «божественный порядок»
или «истинность». Поскольку это слово имеет широкие смысловые связи, я
перевожу его как «Правильный Распорядок». В общем и целом, приводимым ниже
текстом я обязан книге: Hinz W. Zaratustra. 1961. S. 59 и далее, 166 и далее. Я
сравнил также семь других немецких, французских и английских переводов. Об
«Аша» см. : Humbach, 1959. S. 72 и далее.
30. Асмодей — в иудаистской мифологии демоническое существо.
Применительно к иранской мифологии корректнее было бы говорить об Айшме (авест. —
«буйство»), злом духе, являющемся воплощением разнузданности и грабежа.
Скорее всего, представление об Асмодее является вторичным, оно было
заимствовано именно из иранской мифологии, и его прообразом послужил Айшма.
(Прим. перев.)
31. Андреас (Andreas) и Вакернагель (Wackernagel) (Goettl. Gel. Nachrichten. 1933,
323) на этом месте обрывают «Гату».
32. Этот «Ихавод», в Европе давно забытый, в США продолжает жить
благодаря сильному стихотворению Уитьерса, написанному против Дэниэля
Уэбстера. («Ихавод» («бесславие») — имя внука священника Илии, отцом которого
был его сын, непутевый священник Финеес; Уитьерс, Джон Гринлиф (1807-
1892) — американский поэт; Уэбстер, Дэниэль (1782-1852) — американский
политик. (Прим. перев.)
33. Budde К. Die Buecher Samuel, S. 13; Mowinkel S. The Psalms in IsraeFs Worship.
1962. S. 88, 140.
34. «Magnificat» — начальное слово латинского текста хвалебной песни Девы
Марии («Magnificat anima mea Dominum» — «Величит душа Моя Господа», Лк. 1:46).
(Прим. перев.)
35. Имеется в виду знаменитое восходящее к Мейе отождествление бога Митры
с договором. (Мейе, Антуан (1866-1936) — французский языковед,
компаративист, принадлежавший к социологической школе в языкознании. (Прим. перев.)
36. Так считает Ж.Дюмезиль. (Дюмезилъ, Жорж (1898-1988) — французский
культуролог и историк религий. (Прим. перев.)
548
37. Подробнее об этом разделении и преломлении см. в моей работе: Heilkraft
und Wahrheit: Konkordanz der kosmischen und der politischen Zeit. Stuttgart, 1952.
(В нашем сборнике переведена работа «Временной спектр» из этой книги, в
которой как раз и идет речь о Боге и богах, религии и «религиях». {Прим. перев.)
38. Брахман — в древнеиндийских религиозно-философских системах высшая
объективная реальность, первооснова, нередко отождествлявшаяся с верховным
богом, творцом всего сущего (Брахмой). {Прим. перев.)
39. Лнгерона — в римской мифологии богиня с неясным значением,
изображавшаяся с прижатым к губам пальцем, что, впрочем, недвусмысленно указывает на
молчание. {Прим. перев.)
40. В работе Дюмезиля «Déesses latines et mythes védiques» (Latomus Collection, vol.
25, 1956) письмо M.Ж. Дюшен-Гийемена напечатано на с. 69-70. У Дюмезиля
объясняется учение о четвертом Брахмане, равно как и смысл латинской Анге-
роны, «молчащей».
41. Herzfeld Е. Zoroaster. 1947. S. 135.
42. Амеша Спента («бессмертные святые») — в иранской мифологии шесть или
семь божеств, образующих ближайшее окружение Ахурамазды. {Прим. перев.)
43. Hegel G.W.F. Werke (Glockner, 1927). Bd. 2. (Vorrede zur Phaenomenologie des
Geistes), S. 45. (Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа /Пер с нем. Г.Г. Шпета. М.,
1959. С. 25. {Прим. перев.)
44. Об Элохимах см. примечание 34 к работе «Раса мыслителей, или Голгофа
веры». {Прим. перев.)
45. Воспроизведено в моей книге: Out of Revolution: Autobiography of Western
Man. New York, 1938.
46. L'idéologie Tripartite Indo-Européen. Paris II, lf.
47. Marot K. Der Eid als Tat. Szeged, 1924.
48. Друг (авест. — «ложь») — в иранской мифологии злой дух, один из дэвов.
{Прим. перев.)
49. «Чистейшее деяние» (лат. — Прим. перев.)
50. «Я буду там, где Я еще никогда не был», — говорит Господь. Ср.: Rosenzweig
F. Kleinere Schriften. Berlin, 1937. S. 187 и далее. Можно указать также на
примеры невежества и глупости (и это спустя 25 лет после Розенцвейга!): Journal of
Biblical Literature. 79, pp. 151, 277. Ср. мою книгу: Vollzahl der Zeiten (Soziologie
II), Stuttgart, 1958. S. 205 и далее.
51. Пусть читатель еще раз обратится к данному Кампе (Kampe) описанию
«мысленного предвидения» в заключении нашей работы: Unvordenklich // Rosenstock-
Huessy Е. Die Sprache des Menschengeschlechts. Heidelberg: Lambert Schneider Verl.,
1964. Bd. II. S. 201-207.
52. О Р. Бультмане см. примечание 43 к работе «Раса мыслителей, или Голгофа
веры». {Прим. перев.)
53.См.: Ein Komma // Rosenstock-Huessy E. Die Sprache des Menschengeschlechts.
Heidelberg: Lambert Schneider Verl., 1963. Bd. I. S. 269-294.
54. Об этом знали уже древние. См. мою книгу: Heilkraft und Wahrheit:
Konkordanz der kosmischen und der politischen Zeit. Stuttgart, 1952. О пассивном залоге
верно написал Штэлин; см: Staehlin W. Symbolon. 1958. S. 80 и далее.
55. «Прощание» (франц. — Прим. перев.)
56. См. об этом мою статью, приуроченную к юбилею Маргарет Зусман в
декабрьском номере «Neue Sammlung»: «Die Zeitweiligkeit des Geistes». {Зусман,
Маргарет (1872-1966) — немецкая писательница; основные темы — женская
любовь, отношение человека к Богу, место иудаизма в современном мире. —
Прим. перев.)
57. Ясперсу Карл (1883-1969) — немецкий философ-экзистенциалист. {Прим.
перев.)
549
58. Минерва — римская богиня, считавшаяся покровительницей ремесленников,
врачей, ваятелей, музыкантов, поэтов, учителей, что сообщило ей черты
богини мудрости. Поэтому иносказательно Минерва и означает «мудрость», а в
известном крылатом выражении «Сова Минервы вылетает по ночам» фактически
утверждается, что лучшие мысли приходят ночью. {Прим. перев.)
59. Уэсли, Чарльз (1707-1788) — английский священник, поэт, создатель
религиозных гимнов, ставший вместе со своим братом Джоном Уэсли
родоначальником методистского движения. (Прим. перев.)
60. См.: Wesley Ch. Poetical Works. VI, p. 123. См. также его том «Repraesentative
Verse», 1962, N 262. Но и главный раввин Дюссельдорфа приветствовал
Наполеона I в качестве нового Кира. В обоих случаях эти обращения содержали в себе
истину.
61. О «Старом Фрице» см. примечание 13 к работе «Раса мыслителей, или
Голгофа веры».
62. Второй Кир. «До тех пор, пока мы взываем к Тебе, молитва является
залогом обетования. / Ты ответствуешь: «Я здесь, чтобы принести спасение!»/ Ты
исполнил Свое правдивое слово, / Своей верховной властью даровал победу, / И
какие бы содействующие силы ни присоединялись к Тебе, / О Царь царей,
свершение всегда принадлежит Тебе. / Ты позволил Своему удачливому слуге (=
Фридриху) признать себя единственным виновником своего необыкновенного
успеха; / Ты тот, кто возносит и низвергает, / Но своим освящающим
благословением / Ты создаешь человека, верящего в своего Творца / И славящего Его как
Господа небесных сил. / Даруй этому праведному человеку, / Возвышенному
Тобой, / Призванному припасть к Твоим стопам и Тобой препоясанному, /
Царство Второго Кира / И выполни Свое решение полностью, / Чтобы цари во прахе
присягали его мечу, / Будучи вынужденными склонять перед ним голову».
(Перевод подстрочный. Россбах — деревня в Саксонии, где Фридрих II в ходе
Семилетней войны, ведшейся Англией, Францией, Австрией, Саксонией, рядом
других германских государств и Россией против Пруссии за власть над богатой
Силезией, одержал блестящую победу над австрийцами. Лейтен — селение в Си-
лезии, где Фридрих II снова одержал победу, выступив против восьмидесяти
тысяч австрийцев всего с тридцатитысячным войском. — Прим. перев.)
63. Westermann Cl. Gottes Engel brauchen keine Fluegel. Berlin, 1957. К сожалению,
Вестерман отзывается о персидском учении об ангелах только отрицательно.
64. Марафон — поселение на северо-восточном побережье Аттики. На
Марафонской равнине афинское войско в 490 г. до н.э. разгромило персидскую армию;
Соломин — остров с городом того же названия. В 480 г. до н.э. в Саламинском
проливе произошла Саламинская битва, закончившаяся победой греков над
персами; Исс — город на побережье Киликии, где в 333 г. до н.э. Александр
Македонский разбил царя персов Дария III. (Прим. перев.)
65. См. мою статью: Zeus // American People's Encyclopedia. 1962. Vol. 19.
66. «Первый среди равных» (лат. — Прим. перев.)
67. Подробнее о поглощении олимпийских богов см. мою книгу: : Vollzahl der
Zeiten (Soziologie II), Stuttgart, 1958, S. 212-265. (Фермопилы (греч. — «теплые
ворота») — ущелье в Центральной Греции. В 480 г. до н.э. греки во главе с царем
Спарты Леонидом несколько дней защищали Фермопилы от персов, которые в
конечном счете победили и продвинулись до Афин; Херонея — город на северо-
западе Беотии. В 338 г. до н.э. Филипп II Македонский добился при Херонее
победы над войсками афинян и фиванцев, и это означало начало гегемонии
македонян в союзе греческих государств и в войне против персов. — Прим. перев.)
68. См.: Wenn uns Hoeren und Sehen Vergehen... (Fuer Ernst Michel) // Rosenstock-
Huessy E. Die Sprache des Menschengeschlechts. Heidelberg: Lambert Schneider Verl.,
1963. Bd. I. S. 159-171. (Прим. перев.)
550
69. Кронид — сын бога Кроноса. Так чаще всего именуется самый знаменитый из
детей Кроноса — Зевс. (Прим. перев.)
70. См. мою книгу: Vollzahl der Zeiten (Soziologie II), Stuttgart, 1958. S. 243.
71. Л к. 12:10. (Прим. перев.)
72. Rosenstock-Huessy Е. Die Uebermacht der Raeume (Soziologie I). Stuttgart, 1958.
S. 220 и далее. См. также мою работу: Die Grosstadt // Rosenstock-Huessy E. Die
Sprache des Menschengeschlechts. Heidelberg: Lambert Schneider Verl., 1963. Bd. I.
S. 220-237.
551
Распевы муз
Перевод выполнен по изданию: Rosenstock-Huessy Е. Die Vokale der Musen //
Rosenstock-Huessy E. Die Sprache des Menschengeschlechts. Heidelberg: Lambert
Schneider Verl., 1964. Bd. II. S. 773-796. На русском языке публикуется
впервые.
1. Зигфрид (нем., др.-исл. Сигурд, этимологическая основа — «победа») — герой
в германо-скандинавской мифологии и эпосе, персонаж «Старшей Эдды»,
«Младшей Эдды», «Песни о Нибелунгах» и др.; Гудрун (Кримхильда,
этимологическая основа — «битва» и «тайна») — в германо-скандинавской мифологии жена
Зигфрида; Вальтарий — латинизированная форма имени Вальтера Аквитанско-
го, героя переведенной на латинский язык и христианизированной германской
героической песни «Вальтарий» (IX в.), в которой повествуется о том, как он был
заложником предводителя гуннов Этцеля (Аттилы) и совершил побег, а также о
его героических битвах. {Прим. перев.)
2. Zur Heldensage / Hrsg. von K.Hanck, 1961.
3. Де Врис, Ян (1890-1964) — нидерландский германист. (Прим. перев.)
4. Энеады — римляне, которых иногда так называют в связи с именем троянца
Энея, считающегося их мифическим родоначальником. (Прим. перев.)
5. Schueck H. Les origins des Chansons de Geste // Neuphil. Mitteilungen.
Helsingfors, 1915.
6. Ноткер Заика (ок. 950-1022) — один из первых немецких представителей
схоластики. Писал трактаты по логике, переводил на немецкий язык сочинения
Аристотеля и Боэция.
7. Мелькарт (финик. — «царь города») — в западносемитской мифологии
верховный бог города Тира, почитавшийся в качестве бога мореплавания,
покровителя и предводителя финикийской колонизации; относится к числу «умирающих
и воскресающих» богов. (Прим. перев.)
8. Мейер, Эдуард (1885-1930) — немецкий историк, автор фундаментальной
пятитомной «Истории древности», основанной на синхронном изложении истории
древнего мира. (Прим. перев.)
9. Кирхгоф, Адольф (1826-1908) — немецкий филолог-классик. Об У. фон Вила-
мовиц-Меллендорфе см. примечание 89 к работе, «Человеческий тип как форма для
чеканки, или Повседневные истоки языка». (Прим. перев.)
10. См.: Rosenstock-Huessy Е. Vollzahl der Zeiten (Soziologie II), Stuttgart, 1958.
(Прим. перев.)
11. «Волей-неволей» (лат. — Прим. перев.)
12. Веллъхаузен, Юлиус (1844-1918) — немецкий протестантский теолог.
(Прим. перев.)
13. Об этом идет речь в моей книге «Полнота времен».
14. Leumann M. Homerische Woerter. 1950. S. 329.
15. Ср.: Dionisius Thrax. Ed. Uhlig. 1882. S. 454.
16. Николаи, Фридрих (1733-1811) — немецкий писатель, философ-эстетик и
издатель, подвергавшийся современниками язвительной критике за пошлость и
банальность его писаний. (Прим. перев.)
17. Sit. Вег. der Muenchener Akademie. H. 3. S. 39 и далее.
18. Carmina III, 6.
19. Это ценное упрощение, касающееся «Илиады» (сигма 288), принадлежит
Уолтеру Лифу (Leaf). Но такое понимание происходит еще из древности.
20. Упомянутая ранее позиция после Николая Веклейна отстаивалась в
лингвистике Фиком (Fick), Бехтелем (Bechtel), Вальде (Walde) и Покорным (Рокоту),
но никто из них не привел каких-либо доказательств. См.: Vergleichendes
Woerterbuch der indogermanischen Sprachen. II, 1927. S. 690.
552
21. См. нашу работу: Das Haupt beim Sprechen // Rosenstock-Huessy E. Die
Sprache des Menschengeschlechts. Heidelberg: Lambert Schneider Verl., 1963. Bd. I.
S. 295-311, содержащую такое толкование. Словосочетание «человек — существо,
распространяющее речь дальше», казалось слишком простым наименованием
для зоологического столетия, продолжавшегося от воя Вольфа до лая
Геббельса. Поэтому стих 8:26 евангелия от Иоанна до сего дня переводится
неправильно. ( О Ф.Л.Вольфе см. примечание 88 к работе «Человеческий тип как форма для
чеканки, или Повседневные истоки языка». — Прим. перев.)
22. «Я действовал вместе с превосходнейшими / до тех пор, пока не достиг того, /
что мое имя засияло, озаренное пламенем любви / прекраснейших сердец».
(Перевод подстрочный. — Прим. перев.)
23. Противоречащие друг другу точки зрения налицо во всей литературе. Я
приведу два примера. Джон Форсдайк (Forsdyke) пишет в книге «Greeks Before
Homer», 1956 («Греки до Гомера»): «Homer must be connected with the invention of
writing» («Гомер должен быть связан с изобретением письма», с. 18). А О.С. Керк
(Kirk) в книге «The Songs of Homer», 1962 («Песнопения Гомера») пишет, будто
Гомер не имел никакого отношения к письму.
24. Амфорт — в романе средневекового автора Вольфрама фон Эшенбаха «Пар-
цифаль» (начало XIII в.) и его последователей — «король Грааля», дядя Парци-
фаля, одного из рыцарей Круглого стола короля Артура. У Вольфрама фон
Эшенбаха Грааль — не таинственный сосуд (чаша, потир) с кровью Иисуса Христа,
обладающий особой целительной силой, а некий камень, принесенный
ангелами на землю. Он имеет чудесные свойства, равно как и то место, где он
хранится и где возникает династия «королей Грааля». Амфорт во время служения
прекрасной даме был ранен неким язычником отравленным копьем и может быть
исцелен лишь тогда, когда к нему придет рыцарь и сам спросит о причине его
болезни. Спасителем Амфорта оказывается Парцифаль, герой, странствующий в
поисках Грааля. (Прим. перев.)
25. Вентрис, Майкл (1922-1956) — английский ученый, расшифровавший
микенское линейное письмо В. (Прим. перев.)
26. Кадм — сын мифического финикийского царя Агенора, по преданию,
завезший в Грецию финикийский алфавит. (Прим. перев.)
27. Фамирид (Тамирис, Тамир) — в греческой мифологии фракийский певец,
который вместе с Орфеем считался одним из родоначальников поэзии. Фамирид
дерзко вызвал на соревнование в пении и игре на кифаре семь Муз, но был ими
побежден, ослеплен, лишен голоса и дара играть на кифаре. Основу имени
образует глагол «thamizein», т.е. «часто приходить», «часто бывать», что, вероятнее
всего, указывает на связь «Фамирида» с родовыми собраниями (см. об этом
дальше в основном тексте). (Прим. перев.)
28. Мусей — в греческой мифологии певец, поэт и герой, почитавшийся
афинянами, любимый ученик (по некоторым версиям — сын) Орфея. (Прим. перев.)
29. См.: Diels H. Die Fragmente der Vorsokratiker. 1903, Bd. III. S. 67.
30. См.: Nestle. Philologus 1911; Kittel. Theologisches Woerterbuch. Bd.I. S. 1 и
далее.
31. См.: Платон. Софист 253 а, где гласные являются звучащими буквами, а
согласные — связанными гласными. Уже у Гомера (Одиссея 9, 458) «голосовой»
обозначается как «potiphoneis», и забавно, что жители Аттики позаимствовали
свое слово для обозначения «гласного» у Гомера. См.: Leumann M. Homerische
Woerter, S. 300.
32. Клопшток, Фридрих Готлиб (1724-1803) — немецкий поэт; Уланд, Людвиг
(1787-1862) — немецкий поэт и германист. (Прим. перев.)
33. Grammatici Graeci I, 3 (1901), 7. Там же (с. 320) изложена краткая история
алфавита. При этом разделение гомеровских поэм на 24 песни связывается с на-
553
считывающим 24 знака греческим алфавитом, расширенным за счет введения
букв, обозначающих гласные. Эта концепция и поныне остается для нас
поучительной.
34. «Пенелопея» — от имени жены Одиссея — Пенелопы. (Прим. перев.)
35. См.: Howald Е. Der Dichter der Ilias. 1946. Автор этой работы безо всяких на
то оснований смотрит на «Одиссею» свысока. Это только портит его книгу.
36. Classical Philology. 1952, 47. P. 212 и далее.
37. «Тристан потерпел поражение. Получив зловещее имя, он пал, будучи
порабощен страстью, Аякс — из-за упрямой гордости, Пенфей — из-за слепоты и
нетерпимости. Но Одиссей, как показывает Гомер, добился успеха благодаря уму
и выносливости, претерпевая худшее из того, что может сделать с ним ненависть
богов и людей. Он преодолел Немезиду своего имени» (англ. — Прим. перев.)
38. Rheinisches Museum 28.
39. «Малый античный мир» (итал.). Фогаццаро, Антонио (1842- 1911) —
итальянский писатель. (Прим. перев.)
40. Панионион — место на мысе Микале (в северной части Милетской бухты в
устье реки Меандр), где был сооружен храм, посвященный Посейдону и
служивший местом ритуальных собраний всех ионийцев. (Прим. перев.)
41. «Гуманный, человечный» (лат. — Прим. перев.)
42. Woodbridge F.J.G. The Son of Apollo: Thèmes of Plato. Boston, 1929; Picht F.G.
Die Musen // Merkur. 1964, H. 184.
43. Мусагет (греч. — «водитель Муз») — одно из имен Аполлона. (Прим. перев.)
44. Мусейон (греч. — «место пребывания Муз») — научное учреждение под
покровительством Муз в Александрии Египетской, созданное в III в. до н.э.
Птолемеями, в котором ученые разрабатывали вопросы математики, астрономии,
ботаники и других наук. (Прим. перев.)
45. Аспасия из Милета — вторая жена Перикла, одна из наиболее выдающихся
женщин Древней Греции. (Прим. перев.)
46. В книге аббата Брукбергера (Bruckberger) «Maria Magdalene» это изложено
правильно.
47. Пирей — порт Афин в заливе Сароникос, имевший три гавани; здесь —
символ свободной связи Афин с остальным миром. (Прим. перев.)
48. Протей — греческое морское божество, старец, обладавший мудростью и
способностью пророчествовать; его главная особенность — умение превращаться,
принимая облик различных существ и субстанций. (Прим. перев.)
554
Плод уст
Перевод выполнен по изданию: Rosenstock-Huessy Е. Die Frucht der Lippen //
Rosenstock-Huessy E. Die Sprache des Menschengeschlechts. Heidelberg: Lambert
Schneider Verl., 1964. Bd. II. S. 797-903. На русском языке публикуется впервые.
1. См. примечание 94 к работе «Послания к вечности: Письма в Каир» (Прим.
перев.)
2. Michaelis W. Die Apokryphen zum Neuen Testament. 1956. S. 316.
3. См. мою работу: Hitler and Israel // Journal of Religion. Chicago, 1945. P.129 и
далее.
4. Ср.: «Мы — поэма Бога» (Еф. 2:10). (В синодальном переводе: «Ибо мы — Его
творение»». — Прим. перев.)
5. «Человеческая поэма» (лат. — Прим. перев.)
6. Иоанн Скот Эриугена (ок. 810 — после 877) — средневековый философ, по
происхождению ирландец, живший и творивший при дворе Карла Лысого; является
одним из основоположников и наиболее радикальных адептов средневекового
реализма; Бонавентура (Джованни Фиданца, 1221-1274) — средневековый философ
и теолог, один из крупнейших представителей поздней схоластики; о Николае
Кузанском см. примечание 27 к работе «Рабочие учат слишком мало, а учителя
учат слишком много: Разгадка Августином загадки времени». (Прим. перев.)
I. Лк. 4:17-19. (Прим. перев.)
8. «Танатография» — неологизм О. Розенштока-Хюсси, имитирующий слово
«Биография», но заменяюий его часть «био-» («жизнь») другим греческим
словом — «танатос» («смерть»). Таким образом, «танатография» — это не «описание
жизни», а «описание смерти». (Прим. перев.)
9. Вайс, Иоханнес (1814-1890) — немецкий протестантский теолог, историк
религий. (Прим. перев.)
10. Рейценштейн, Рихард (1861-1931) — немецкий филолог-классик и историк
религий; Дибелиус, Мартин (1883-1947) — немецкий историк религии, создатель
так называемой «критики форм», согласно которой главным предметом анализа
должна стать не личность Иисуса Христа, а среда, в которой создавались
евангелия; Аш, Шолом (1880-1957) — еврейский писатель, в романах которого
«Назарянин», «Апостол», «Мария», вышедших в США, заметно некоторое идейное
сближение с христианством. (Прим. перев.)
II. «Иисус из Назарета? Не припоминаю» (франц. — Прим. перев.)
12. Chapman. Mathew, Mark and Luke. 1937. P. 187, п. 2.
13. Реймарус, Иоганн Самуэль (1694-1768) — профессор восточных языков в
Гамбурге; он первый попытался объяснить жизнь Иисуса, высказав предположение,
что Иисус разделял и выражал эсхатологические мессианские ожидания своих
современников. Вреде, Вильям (1859-1906) — немецкий протестантский теолог.
(Прим. перев.)
14. Швейцер, Альберт (1875-1965) — немецко-французский христианский
мыслитель, близкий к философии жизни, теолог, врач, музыкант и музыковед. (Прим.
перев.)
15. См.: Picht W. Albert Schweizer. 1962.
16. Гауптман, Герхарт (1862-1946) — немецкий писатель.
17. Цицерон, Марк Туллий (106 — 43 до н.э.) — римский оратор, политический
деятель и писатель; Гамалиил — фарисей, законник, член синедриона во
времена Иисуса, учитель апостола Павла; Монтесума /(время правления 1440 — 1469)
и Монтесума 7/(1475-1520) — правители ацтеков, причем Монтесума II
считается «последним из ацтеков»; сенека — название одного из племен американских
индейцев. (Прим. перев.)
555
18. О Л Бультмане см. примечание 43 к работе «Раса мыслителей, или Голгофа
веры». (Прим. перев.)
19. В 1893 г. Г.Ю. Хольцман назвал это «чудовищной гиперболой», которую
лучше было бы опустить! (Хольцман, Генрих Юлиус (1832-1910) — немецкий
протестантский теолог. — Прим. перев.)
20. Честертон заканчивает свою восхитительную работу об Иисусе великим
словом «mirth» («веселость»). (Честертон, Гилберт Кит (1874-1936) —
английский писатель, публицист, журналист и христианский мыслитель, по духу
весьма близкий О.Розенштоку-Хюсси. Розеншток-Хюсси был лично знаком с
Честертоном и в своих лекциях, читанных в Дартмутском колледже (г. Гано-
вер, штат Нью-Хэмпшир, США) называл его «великим англичанином». —
Прим. перев.).
21. Меня радует, что H.Cunlifte-Jones, Studia Evangelica, 1959. P. 14 («The Fourfold
Gospel, a Theological Problem») требует той же, что и у меня, постановки вопроса.
22. Смысл существования (франц. — Прим. перев.)
23. «Свой» в явном виде присутствует в греческом тексте.
24. Grintz I.M. J. of Bibl. Lit. 79, 1960. P. 52 и далее.
25. Мне известно, что некоторые критики исходят из греческого оригинала
евангелия от Матфея.
26. В синодальном переводе: «И жил Павел целых два года на своем иждивении
и принимал всех приходящих к нему, проповедуя Царствие Божие и уча о
Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно». (Прим. перев.)
27. См. примечание 89 к работе «Человеческий тип как форма для чеканки, или
Повседневные истоки языка». (Прим. перев.)
28. Vischer L. Die Rechtfertigung der Schriftstellerei in der alten Kirche // Theolog.
Ztschr. 1956, 12. S. 320-336.
29. Стефан — христианин из Коринфа, один из семи диаконов первой
Иерусалимской общины, ставший первым христианским мучеником: он был обвинен
перед синедрионом в богохульстве, в ответ на обвинение выступил с яркой
речью (Деян 7:1-53), после которой был без приговора выведен за город и побит
камнями. (Прим. перев.)
30. Ренан, Жозеф Эрнест (1823-1892) — французский философ, филолог,
писатель, историк религии, подходивший к изучению^образа Иисуса Христа на
основе принципов деизма и позитивизма. (Прим. перев.)
31. Конец века (франц. — Прим. перев.).
32. Ср. Ин. 14:12. (Прим. перев.)
33. См. подробнее: Chapman. Op. cit. P. 38 и далее.
34. Еммаус (Эммаус, Еммаум, евр. «теплый колодец», «теплый источник») —
место, расположенное приблизительно в 24 км северо-западнее Иерусалима. (Прим.
перев.)
35. Hoskyns and Davey. Das Raetsel des Neuen Testaments. New York, 1931. S. 137
и далее.
36. См. мою работу: Die Stoerende Anwesenheit des Johannes // Rosenstock-Huessy
E. Die Sprache des Menschengeschlechts. Heidelberg: Lambert Schneider Verl., 1963.
Bd. I. S. 259-265.
37. Викентий Леринский — церковный писатель V века (ум. ок. 450 г.), монах
Леринского монастыря (на острове напротив г. Канн), автор богословского
трактата «Первое предостережение, или Трактат в защиту древней и вселенской
кафолической веры против всех безбожных еретических новшеств» (434 г.). (Прим.
перев.)
38. См. мою работу: Ichtys: Leben — Lehre — Wirken // Rosenstock-Huessy E. Die
Sprache des Menschengeschlechts. Heidelberg: Lambert Schneider Verl., 1963. Bd. I.
S. 119-142.
556
39. Это выглядит так: 1517 г., 1649 г., 1789 г., 1917 г. См. мою работу: Out of
Revolution: Autobiography of Western Man. New York, 1938.
40. Гиббон, Эдуард (1737-1794) — английский историк античности. (Прим. перев.)
41. См. примечание 52 к работе «Человеческий тип как форма для чеканки, или
Повседневные истоки языка» (Прим. перев.)
42. «В делах необходимых — единство, в сомнениях — свобода, во всем —
благоволение» (лат. — Прим. перев.)
43. См. мою книгу: The Christian Future, Or The Modem Mind Outrun. New York,
1966. PP. 33, 135.
44. Обе половины текста евангелия от Луки с этого момента рассматриваются как
целостность.
45. «En arche», «в начале», стояло уже у апостола Павла. Но в условиях
потрясающей разноголосицы критики я не хочу больше ничего говорить в тексте.
Благорасположенный читатель пусть обратится к заключению Послания апостола
Павла к римлянам и второй главе его Первого Послания к коринфянам. В
обоих случаях Слово Божье поставлено на то же место, что и в начале евангелия от
Иоанна, а именно, до времен.
46. О «керигме» см. примечание 43 к работе «Раса мыслителей, или Голгофа
веры». (Прим. перев.)
47. «Поэтическая болезнь» (лат. — Прим. перев.).
48. В статье: Cadman W.H. The Raising of Lazarus. Studia Evangelica, 1959. PP. 423
и далее, я напал на след возможного понимания.
49. «Пророческая болезнь» (лат. — Прим. перев.)
50. Clark A.C. The Acts of the Apostels. Oxford, 1933. P.XXJIL
51. Перевод подстрочный. Деметрий Полиоркет, т.е. «осаждающий город», —
честолюбивый полководец и завоеватель, подчинивший своей власти греческие
государства. Род. в 356 г. до н.э., в 285 г. до н.э. был разбит в сражении при Ки-
ликии. (Прим. перев.)
52. Кодекс Безы (Codex Bezae) — греческая и латинская рукопись VI в. (Прим. перев.)
53. «Греческая болезнь» (лат. — Прим. перев.)
54. Weimouth-Robert. The New Testament. 5th ed. PP 62,118.
55. О Николаи см. примечание 16 к работе «Распевы Муз». (Прим. перев.)
56. Weimouth-Robertson. Op. cit., p. 119.
57. «Египетская болезнь» (лат. — Прим. перев.)
58. «Тристрам Шенди» — роман английского писателя-сентименталиста Лоуренса
Стерна (1713-1768) «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена». В
романе содержалась критика притязаний просветителей на постижение жизни
средствами рассудка. (Прим. перев.)
59. «Неодолимое Солнце» (лат. — Прим. перев.)
60. Борнкамм, Гюнтер (род. 1905) — немецкий протестантский теолог. (Прим.
перев.)
61. Стоунхендж — самый знаменитый ритуальный памятник — «хендж»,
разновидности которого встречаются только на Британских островах. Он состоит из
округлого пространства, ограниченного рвом, с внешней стороны которого насыпан
вал с проходом и иногда стоят вертикально поставленные камни; встречаются
также ямы и погребения. Стоунхендж, расположенный близ Эмсбюри (Уилтшир),
в центре долины Солсбери, вероятно, имел, как и другие памятники такого типа,
религиозное значение и был связан с культом Солнца. (Прим. перев.)
62. Послание к евреям (112:1). Призывание святых заменило собой гороскопы.
Любая литания — это звездная дорога. (Литания — молитвословие о
ниспослании небесной помощи. — Прим. перев.)
63. В синодальном переводе: «Но, по примеру призвавшего вас Святого, и сами
будьте святы во всех поступках». (Прим. перев.)
557
64. В синодальном переводе: «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом
духовный». (Прим. перев.)
65. В синодальном переводе: «Бог, многократно и многообразно говоривший
издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого
поставил наследником всего, чрез Которого и веки сотворил. Сей, будучи
сияние славы и образ ипостаси Его и держа все словом сиды своей...». (Евр. 1:1-3).
(Прим. перев.)
66. Игнатий Богоносец — один из «мужей апостольских», второй или третий
епископ Антиохии; во время преследования христиан при императоре Траяне
(98-117) был замучен и казнен в Риме. (Прим. перев.)
67. Розеттский камень — обломок большой базальтовой плиты, обнаруженный
в Розетте у западного устья Нила во время египетского похода Наполеона и
содержащий запись декрета в честь Птолемея V иероглифическим, демотическим
письмом и на греческом языке. Это обстоятельство позволило французскому
ученому Ф.Шампольону расшифровать древнеегипетские иероглифы. В настоящее
время Розеттский камень хранится в Британском музее. (Прим. перев.)
68. В синодальном переводе: «Так Сын человеческий не для того пришел,
чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления
многих». (Прим. перев.)
69. Библейский критицизм с упоением добавлял к характеристике евангелия от
Матфея слово «арамейское». Это помогало критикам принижать евангелиста. Но
Матфей писал по-еврейски.
70. Goodspeed E.J. Journal of Biblical Literature. 1944. P.90.
71. И здесь забавно выглядит то, как библейский критицизм (Дибелиус)
неправильно трактует промах апостола Павла, о котором честно сообщает Лука, как
риторический шедевр Луки.
72. Этим высказыванием я обязан отцу Смиту. См.: Marshall В. The World and
Father Smith. Смит, Бернард (ок. 1630-1708) — родившийся в Германии и
живший в Англии органный мастер, знакомый со многими выдающимися людьми
свего времени. Прим. перев.).
73. Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum. 50. P. 430. (Иларий Исаак —
автор трактата, содержащего интерпретацию Ветхого и Нового заветов (375).
Биографические сведения о нем весьма скудны; в*литературе утверждается, что
он был иудеем, на время перешедшим в христианство; еврейское имя «Исаак»
и латинское «Hilarius» означают, в сущности, одно и то же — «смех», «веселье».
— Прим. перев.)
74. Ibidem.
75. Соответственно «личное повелительное наклонение», «сопроводительное
сослагательное наклонение», «историческое повествовательное наклонение»,
«вечное изъявительное наклонение» (лат.), что, впрочем, не соответствует
установившимся в грамматике нормам; О.Розеншток-Хюсси создает эти грамматические
формы в контексте противостояния александрийской грамматической традиции.
См. об этом подробнее: Розеншток-Хюсси О. Речь и действительность. М. 1994.
(Прим. перев.)
76. В давно опровергнутом Чепменом и Батлером фантастическом утверждении,
будто Марк был старше Матфея, упускается из виду, помимо многого другого,
вопрос, почему же Марк в своем повествовании, подобном дневнику боевых
действий, не уделил внимания речам Матфея.
77. Об Л.Гарнаке см. примечание 30 к работе «Рабочие учат слишком мало, а
учителя учат слишком много: Разгадка Августином загадки времени». (Прим. перев.)
78. Harnack А. Sitzungsberichte der Berliner Akademie. 1928. S. 333 и далее.
79. Лагерлеф, Сельма (1858-1940) — шведская писательница, лауреат
Нобелевской премии (1909). (Прим. перев.)
558
80. «Волшебная гора* — роман немецкого писателя Томаса Манна (1875-1955).
(Прим. перев.)
81. Трейчке, Генрих фон (1834-1896) — немецкий историк и публицист, автор
трудов по политической истории европейских стран, прежде всего Пруссии.
Придерживался консервативных убеждений. (Прим. перев., прим. ред.)
82. Шлаттер, Адольф (1852-1938) — немецкий протестантский теолог. (Прим.
перев.)
83. Художник Шмидт-Ротлуфф (Schmidt-Rotluff) в 1912 г., т.е. в момент
перехода от одного духовного мира к другому, написал четырех евангелистов. Он уже
отбросил ветхозаветные атрибуты, но, сам будучи порождением девятнадцатого
века, ограничился изображением только их голов! Евангелисты дико взирают с
жестяной поверхности — а именно жесть он избрал своим материалом. Но Бог
некогда предписал свершиться воплощению, инкарнации, а не претворению в
одни только головы. Ср.: Grohmann W. Schmidt-Rothlufif. 1956. S. 159,240.
84. О Джеймсе см. примечание 7 к работе «Рабочие учат слишком мало, а учителя
учат слишком много». (Прим. перев.)
85. В синодальном переводе: «Я исполню слово». (Прим. перев.)
86. «Пророчества после события» (лат. — Прим. перев.)
87. Ehrlos-Heimatlos // Rosenstock-Huessy E. Die Sprache des Menschengeschlechts.
Heidelberg: Lambert Schneider Verl., 1964. Bd. II. S. 85-115.
88. Xyxy Рикарда (1864-1947) — немецкая писательница. (Прим. перев.)
89. Климент Александрийский Тит Флавий (ум. до 215) — христианский теолог и
писатель конца II — начала III в., стремившийся к синтезу эллинской
культуры и христианской веры. «Строматы» («Узорчатые ковры») — часть так
называемой «Великой трилогии» Климента Александрийского, представляющей собой
попытку дать первую систематизацию христианского вероучения и определить
отношение христианства к античной культуре и, в особенности, к античной
философии. (Прим. перев.)
90. См. раздел книги: Rosenstock-Huessy Е. Die Sprache des Menschengeschlechts.
Heidelberg: Lambert Schneider Verl., 1964. Bd. II, S. 208-448, который называется
«Seit dem Dreitagewerk» и включает в себя ряд статей. (Прим. перев.)
91. Винкелърид, Арнольд (Эрни) — легендарный швейцарский герой, который во
время битвы под Земпахом (1386 г.) отвлек на себя взвод вражеских стрелков, тем
самым открыв путь своим воинам. (Прим. перев.)
92. Прекрасная песня Реджинальда Хебера (Heber) «Holy, Holy, Holy» («Свят,
Свят, Свят») требует от святых «casting down their golden crowns around the glassy
sea» («снять свои золотые венцы возле зеркальной поверхности моря». Англ. —
Прим. перев.).
93. «Иисус пошел на Крест, потому что не мог ничего поделать» (англ.). Верной,
Амброуз — американский ученый и христианский проповедник, близкий О. Ро-
зенштоку-Хюсси по духу, его имя стоит среди тех, кому Розен шток-Хюсси
посвятил свою книгу «The Christian Future» (в наш сборник вошли четыре статьи из
этой книги — «Сотворение будущего», «Вера в Живого Бога»,
«Домостроительство спасения» и «Проникновение Креста»). (Прим. перев.)
94. 2 Кор. 1:22.
95. «Джи Am — прозвище американского солдата. (Прим. перев.)
96. См. в связи с этим мою работу: Liturgisches Denken in zwei Kapiteln: Ein Dank
an Josef Wittig // Rosenstock-Huessy E. Die Sprache des Menschengeschlechts.
Heidelberg: Lambert Schneider Verl., 1963. Bd. I. S. 464-492, и пять грандиозных
глав «О мировой книге личности» в работе: Rang F.C. Shakespeare der Christ.
Heidelberg, 1954. S. 55 и далее.
559
История спасения против теологии
Критика брошюры экуменического совета церквей «Церковь и проблема
государства в современных условиях» (1936).
Перевод выполнен по изданию: Rosenstock-Huessy Er Heilgeschichte wider
Theologie: Eine Kritik der Schrift «Die Kirche und das Staatsproblem in der
Gegenwart» des Oekumenischen Rates der Kirchen (1936) // Rosenstock-Huessy E.
Heilkraft und Wahrheit: Konkordanz der politischen und der kosmischen Zeit.
Moers: Brendow; Wien: Amandus, 1990. S. 22-50. На русском языке
публикуется впервые.
1. Уэсли, Джон (1703-1791) — англиканский священник, основатель и глава
методистской церкви. (Прим. перев.)
2. 2 Тим. 1:12. (Прим. перев.)
3. Абеляр, Пьер (1079-1142) — французский философ, теолог и поэт. (Прим. перев.)
4. «Богу единому слава» (лат. — Прим. перев.)
5. Брукнер, Эмиль (1869-1966) — швейцарский теолог, представитель
«диалектической теологии». (Прим. перев)
6. Вессель, Ханс Хорст (1907-1930) — немецкий штурмовик, возведенный
нацистской пропагандой в ранг мученика; сутенер, ставший членом нацистской
партии и сочинивший слова на мотив старой морской песенки. Эта песня,
проникнутая духом национал-социализма, после смерти автора, убитого в уличной
драке другим сутенером, оказавшимся коммунистом, стала гимном нацистской
партии под названием «Хорст Вессель». (Прим. перев.)
I. Блюм, Леон (1872-1950) — французский политик и писатель. (Прим. перев.)
8. «Тело Христово» (лат. — Прим. перев.)
9. О К. Барте см. примечание 3 к работе «Что есть человек?: В защиту
неспециалиста». (Прим. перев.)
10. См. об этом: Die Kirche am Ende der Zeit // Credo Ecclesiam. Guetersloh, 1931.
II. Алкуин (ок. 735-804) — теолог, ученый и педагог, советник и наставник
Карла Великого, создатель своего рода академии — научного кружка в его империи.
(Прим. перев.)
12. Трёльч, Эрнст (1865-1923) — немецкий протестантский теолог, философ,
социолог и историк религии; разрабатывал исторический метод в теологии.
(Прим. перев.)
13. «Совершенная общность» (лат. — Прим. перев.)
14. Мал. 4:5-6. Здесь приведен канонический текст Библии. (Прим. перев.)
15. Лк. 1:17.
16. О докетизме см. примечание 72 к работе «Послания к вечности: Письма в
Каир». (Прим. перев.)
17. К моей радости, то же самое говорит Карл Барт в своем сочинении о Символе
«Веры. («Auctoritas» — «авторитет», «власть», «potestas» — «власть», «господство».
Лат. — Прим. перев.)
18. Удачное выражение Пауля Тиллиха. (Тиллих, Пауль (1886-1965) — немецко-
американский протестантский теолог и философ, представитель «диалектической
теологии». — Прим. перев.)
19. Хюгель, Фридрих фон (1852-1925) — английский светский теоретик
католицизма, выходец из Германии. (Прим. перев.)
20. Это непревзойденным образом выражено в письме Франца Розенцвейга от 17
января 1920 г. См.: Rosenzweig F. Briefe. Berlin, 1935. S. 386 и далее.
21. «В отсутствие Бога» (лат. — Прим. перев.)
22. Эренберг, Ханс (1883-1958) — немецкий протестантский теолог и
философ, участник кружка «Патмос», куда входили О.Розеншток-Хюсси, М.Бу-
560
бер, Ф.Розенцвейг, а по прибытии в Берлин в 1922 г. — Н.А.Бердяев. В
1925 г. Ханс Эренберг не без влияния со стороны Н.А.Бердяева опубликовал
книгу «Восточное христианство», куда вошли ранее практически не
известные на Западе работы А.С.Хомякова, Вл.С.Соловьева, Н.А.Бердяева,
П.А.Флоренского. (Прим. перев.)
23. Об Л.Швейцере см. примечание 14 к работе «Плод уст». (Прим. перев.)
561
Временной спектр
Перевод выполнен по изданию: Rosenstock-Huessy Е. Das Zeitenspektrum //
Rosenstock-Huessy E. Heilkraft und Wahrheit: Konkordanz der politischen und der
kosmischen Zeit. Moers: Brendow; Wien: Amandus, 1990. S. 156-201. На русском
языке публикуется впервые.
1. «Иногда вселенная мыслителя может быть всей вселенной мысли, иногда —
только объективной вселенной внешней реальности, иногда — только частью той
или другой». Август де Морган. Конспект системы логики. Лондон, 1860. С. 37.
(англ.). Морган, Август де (1806-1871) — английский математик и логик, первый
президент Лондонского математического общества. (Прим. перев.)
2. О.Розеншток-Хюсси ссылается на свое обещание раскрыть суть учения Па-
рацельса о причинах болезней, данное им в другой статье этого же сборника,
которая посвящена общему анализу взглядов названного мыслителя. Парацельс
(Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм) (1493-1541) — философ,
естествоиспытатель, врач, швейцарец по происхождению, скитавшийся по всей
Европе в качестве практикующего врача. «Paramirum», собственно «Opus
Paramirum» («Предивное сочинение»), или, точнее, «Paramirum de Quinque
Entibus Omnium Morborum» («Предивное сочинение о пяти причинах,
вызывающих все болезни»), в немецком варианте — »Das Buch Paramirum, darin die
wäre Ursache der Krankheyten erkleret wird» («Предивная книга, в которой
раскрывается истинная причина болезней»). Первая часть этой книги была
издана в 1562 г. в Мюльхаузене, а вторая и третья — в Кёльне в 1565 и 1566 гг.
соответственно. (Прим. перев.)
3. О Р.Кохе см. примечание 36 к работе «Раса мыслителей, или Голгофа веры».
(Прим. перев.)
4. Проницательная и превосходная работа Ахелиса (Achelis) о книге «Paramirum»,
опубликованная в 1928 г., имела другие задачи. Впрочем, Парацельс так и не
закончил свою книгу. Она у него разбросана на страницах многих других его
сочинений, и было бы замечательной темой точно проследить, как это наиболее
гениальное его творение, изливаясь потоком, воплощалось в деле всей его
жизни. Это привело бы к возникновению нового стиля в литературной критике, суть
которого состоит в том, чтобы нарисовать гидррграфическую сеть вдохновения.
5. «Духовная сущность», (лат. — Прим. перев.)
6. Бог, дословно — «божественная сущность», (лат. — Прим. перев.)
I. Зудгоф, Карл (1853-1938) — немецкий врач, один из основоположников
современной истории медицины, издатель трудов Парацельса. (Прим. перев.)
8. Гундольф (Гундольфингер), Фридрих (1880-1931) — немецкий историк
литературы, поэт, последовательный сторонник немецкого национализма, профессор
Гейдельбергского университета, где у него учился Й.Геббельс. (Прим. перев.)
9. Многозначное греческое слово, которое обычно переводится как «природа»,
хотя древние греки вкладывали в представление о природе несколько иной
смысл, считая ее чем-то растущим и становящимся. (Прим. перев.)
10. В наши дни так называемые влиятельные критики безосновательно
добавляют к именам пифагорейцев эпитет «так называемые». Эрих Франк (Frank) в
первую очередь повинен в умалении роли Пифагора.
II. Фосколо, Уго (1778-1827) — итальянский поэт и историк литературы. (Прим.
перев.)
12. Rendiconti Reale Accademia d'Italia. 1941. P. 31.
13. О Дж.Дьюи см. примечание 18 к работе «Рабочие учат слишком мало, а
учителя учат слишком много: Разгадка Августином загадки времени». (Прим. перев.)
14. «Императорской и королевской монархией» называлась Австро-Венгрия.
(Прим. перев.)
562
15. О Р.Эренберге см. примечание 35 к работе «Раса мыслителей, или Голгофа
веры». (Прим. перев.)
16. «Наше рассмотрение вынудит нас установить наличие разных степеней
действительности в живом». ( Ehrenberg R. Metabiologie. Heidelberg, 1950. S. 19.)
Эренберг отстаивает это учение в течение тридцати лет. Биологи, опирающиеся
на методологию механицизма, полностью замалчивают его.
17. Донар — бог-громовержец в германской мифологии. Тот же корень
используется и в немецком слове для обозначения четверга — «Donnerstag»
(Прим. перев.)
18. Об Л.Шопенгауэре см. примечание 7 к работе «Что есть человек?: В защиту
неспециалиста». (Прим. перев.)
19. «Творящая тварь» (лат. — Прим. перев.)
20. Кронос — в греческой мифологии один из титанов. Кроносу было
предсказано, что он будет лишен власти собственным сыном. Поэтому, как только у его
супруги и сестры Реи рождались дети, Кронос сразу же проглатывал их. Рее
удалось обмануть Кроноса, подложив ему вместо младшего сына Зевса камень,
который и был проглочен, что спасло Зевса. Возмужав, Зевс опоил Кроноса
волшебным напитком, и тот изрыгнул всех проглоченных им детей. Под
предводительством Зевса его братья и сестры объявили войну титанам, закончившуюся
поражением последних. В орфической традиции считается, что Кронос
примирился с Зевсом и стал править на блаженных островах, на чем и основано
представление о царствовании Кроноса в качестве некоего благодатного времени.
Весьма существенно, что в народной этимологии из-за сходства звучания
Кронос отождествлялся с богом времени Хроносом, пожиравшим своих собственных
детей. Римляне отождествляли Кроноса с Сатурном. (Прим. перев.)
21. Перевод Б.Л. Пастернака. (Прим. перев.)
22. «Пресыщенность жизнью» (лат. — Прим. перев.)
23. «Мир без конца» (англ. — Прим. перев.)
24. «Веки веков» (франц. — Прим. перев.)
25. «Универсум мысли» (англ. — Прим. перев.)
26. О графе Сен-Симоне см. примечание 5 к работе «Рабочие учат слишком
мало, а учителя учат слишком много: Разгадка Августином загадки времени».
(Прим. перев.)
27. «Счастливая вина» (лат. — Прим. перев.)
28. О Р.Бультмане см. примечание 43 к работе «Раса мыслителей, или
Голгофа веры». Об А.Гарнаке см. примечание 30 к работе «Рабочие учат слишком
мало, а учителя учат слишком много: Разгадка Августином загадки времени».
(Прим. перев.)
29. Времена (итал. — Прим. перев.)
30. «В благодати время не упраздняется, а исполняется» (лат. — Прим. перев.)
31. «Благодать не уничтожает природу, а возвышает ее» (лат. — Прим. перев.)
32. Я намеренно поменял порядок цифр на противоположный.
33. Под «дательным мышлением» О.Розеншток-Хюсси понимает такое
мышление, которое явным образом учитывает своего адресата, мыслит не
«вообще», а с учетом того, на кого направлено обретенное в процессе размышления
знание. См.: Rosenstock-Huessy Е. Datives Denken // Rosenstock-Huessy Е.
Heilkraft und Wahrheit: Konkordanz der politischen und der kosmischen Zeit.
Moers: Brendow; Wien: Amandus, 1990. S.83-104. См. также нашу работу: Pigalev
A. Bakhtin and Rosenstock-Huessy: «Absolute Need of Love» versus «Dative
Thinking» // Face to Face: Bakhtin in Russia and the West. Sheffield: Sheffield
Académie Press, 1997. Pp. 118-128.
34. Иордан, Паскуаль (1902-?) — немецкий физик-теоретик, участвовавший в
разработке квантовой механики. (Прим. перев.)
563
35. Зд. букв, «шибболет» (Schiboleth) (евр. «колос» или «проточная вода») —
пароль, установленный евреями в войне против ефремлян, поскольку ефремляне
произносили это слово иначе и, тем самым, могли быть сразу опознаны (Суд.
12:5-6). В широком смысле означает именно «пароль». (Прим. перев.)
36. Продолжение, продление, сохранение из рода в род (лат. — Прим. перев.)
37. Тереза из Коннерсройта (Тереза Нойман) (1899-1962) — немецкая провидица,
известная своими экстатическими видениями и стигматами. (Прим. перев.)
38. Ферстер, Фридрих Вильгельм (1869-1966) — швейцарский философ и
педагог, концепции которого приобрели несколько сенсационную известность в
связи с леворадикальными принципами, лежащими в их основе. (Прим. перев.)
39. Вся теология не знает, что делать с этими словами, поскольку думает только
о телесной смерти. (Указанный фрагмент см.: Ин. 21:22-23. — Прим. перев.)
40. Имеется в виду битва при Ватерлоо 18 июня 1815 г., в которой
антинаполеоновская коалиция Англии, Голландии, Пруссии и некоторых других
европейских государств одержала победу над армией Наполеона. (Прим. ред.)
41. Меланхтон, Филипп (1497-1560) — немецкий гуманист, теолог и педагог,
деятель Реформации, друг и сподвижник М.Лютера, создатель новой системы
школьного и университетского образования. (Прим. перев.)
42. Менар, Франсуа (1582-1646) — французский поэт, один из первых членов
Французской Академии, не слишком известный при жизни, но приобретший -
большую популярность после смерти. (Прим. перев.)
43. «Тихо», «очень громко», «очень быстро», «замедляясь» (музыкальные
термины). (Прим. перев.)
44. «Ad hominem* (лат. «к человеку») — аргумент, обращенный к личным
свойствам того, о ком идет речь, или того, кому адресовано доказательство. (Прим.
перев.)
45. «Из человека» (лат.- Прим. перев.)
46. Об О.Шпенглере см. примечание 52 к работе «Человеческий тип как форма для
чеканки, или Повседневные истоки языка» (Прим. перев.)
47. Зибель, Генрих фон (1817-1895) — немецкий историк; Вайи,, Георг (1813-
1886) — немецкий историк, Тэн, Ипполит Адольф (1828-1893) — французский
историк, философ, психолог, искусствовед; о Т.Моммзене см. примечание 142 к
работе «Послания к вечности: Письма в Каир»; об А.Гардинере см. примечание 57
к той же работе; Олар, Франсуа Виктор Альфонс71849-1928) — французский
историк. (Прим. перев.)
48. Треичке, Генрих фон (1834-1896) — немецкий историк и публицист; Маколей,
Томас Бабингтон (1800-1859) — английский политик и историк; Бэнкрофт,
Джордж (1800-1891) — американский историк. (Прим. перев.)
49. Георге, Стефан (1868-1933) — немецкий поэт. (Прим. перев.)
50. Буркхардт, Якоб (1818-1897) — швейцарский историк культуры и искусства.
(Прим. перев.)
564
Будущее христианства
Перевод глав III-V и VII выполнен по изданию: Rosenstock-Huessy Е. The
Christian Future Or The Modem Mind Outrun. New York: Harper and Row, 1966.
P. 61- 131, 165-197. На русском языке публикуется впервые.
///. Творение будущего
1. Когда в начале 1942 г. наши автомобильные заводы должны были перейти на
выпуск военной продукции, «Тайм» заметил, что промышленность «буквально
умерла и возрождается». Вся эта история является христианской притчей в
современном облачении, предупреждающей, что люди должны позаботиться о
том, чтобы умереть вовремя, иначе их настигнет еще худшая смерть.
2. Когда научной модой было третирование уникальности христианства и
иудаизма, настаивали на необходимости делать исключение для зороастризма (см.
обсуждение зороастризма в «Энциклопедии религии и этики» Гастингса,
статья «Мировые эпохи» («The Ages of the World»)). Но более современная ученость
опровергла предпосылки, на которых основывался этот аргумент. Зороастр жил
в шестом веке до Р.Х., а не в десятом или одиннадцатом, как предполагалось
ранее. Древнейший зороастрийский текст, выражающий понимание истории,
близкое к иудаистскому и христианскому, не мог быть написан раньше 650 г.
от Р.Х., в то время, когда под влиянием ислама зороастризм действительно стал
более восприимчивым к идеям иудаизма и христианства. Следовательно, это не
может служить основанием для утверждения, что зороастризм создал
нециклическое понимание истории совершенно самостоятельно. Еще меньше это
может служить основанием для вывода, что зороастризм жил таким пониманием,
как иудеи и христиане. Единственные ранние источники зороастризма, «Гаты»,
просто сообщают, как Гесиод, об обычных для мифологии четырех возрастах
человека и ничего не говорят о середине или конце истории. Ср. статьи Герц-
фельда (Herzfeld) и Лемана-Гаупта (Lehmann-Haupt) в «Восточных исследованиях
в честь Корсетия Ирадия Парэ» (Oriental Studies in Honor of Corsetji Eradji Parry.
Oxford University Press, 1933). Обширная «История зороастризма»,
принадлежащая перу зороастрийского священника М.Н. Дхалла (Dhalla, New York, 1938),
совершенно неисторична. См.: Гертель И. (Hertel J.) в Abhandlungen Saechsischer
AdW. Leipzig, 1929. 40, S. 192 и далее. См. также: Смит Мария В. «Исследование
синтаксиса «Гат» Заратустры» (Smith M.W. Study in the Syntax of the Gathas of
Zaratushtra. Philadelphia, 1929), с 18.
3. Nock A. Conversion. 1933, p. 113.
4. Глубокую трактовку греческого понимания циклов развития см. у Родольфо
Мондольфо (Rodolfo Mondolfo) — сейчас живет в Аргентине — в «Studi sopra
L'Infinito nel Pensiero dei Greci» (Memorie dell'Instituto di Bologna, Classe di
Szienze Morali. IHa série, 1931/32. Vol. VI), с 67-116, особенно с. 73.
5. См. с. 147, 190.
6. Ср.: Tillich Р. Interpretation of History. New York, 1936; Dodd G.H. History and the
Gospel. New York, 1938; Idem. The Apostolic Preaching, with an Appendix on
Eschatology. London, 1939. Ныне люди считают единство человеческой истории
чем-то само собой разумеющимся — так, словно оно просто дано, как
пространство, — и склонны отделываться, считая его безосновательным, от того
представления, что какое-либо событие может быть центром истории. Однако
в глазах христианина утверждение, что Иисус является центром истории,
оказывается единственным, от которого ни один человек, живущий после Иисуса,
не может отказаться, не ввергая свой мир в кромешную тьму.
7. «Конец света» с этого момента должен стать техническим термином для
выражения особой точки зрения при рассмотрении человека, в соответствии с кото-
565
рой следует, так сказать, принимать в расчет его конец. См. мою статью: Die
Kirche am Ende der Welt // Credo Ecclesiam / Hrsg, von H.Ehrenberg. Guetersloh,
1930. S. 161 и далее.
8. The Hibbert Journal. XXXIII, p. 39.
9. Rosenstock-Huessy E. Out of Revolution: Autobiography of Western Man. New
York, 1938. P. 561. Ср. также: Rosenstock-Huessy E., Wittig J. Das Alter der Kirche.
3 Bde. Berlin, 1927. Bd I. S. 84 и далее.
10. Такой знаток сферы религии, как фон Хюгель (7*), в работе
«Апокалиптический элемент в учении Иисуса» («The Apocalyptic Element in the Teaching of
Jesus»//Essays and Addresses, 1919. P. 132) демонстрирует свое незнание того,
что Ницше, Маркс и другие приобрели вес благодаря этому пренебрежению.
«Похоже, что учение о конце света не пользуется особым влиянием», — сухо
замечает он. Правда состояла в том, что это учение отделилось, стало
самостоятельным и вдохновляло коммунистов и фашистов потому, что в христианском
мире оно выродилось в верования «свидетелей Иеговы». И что же, конец
быстро наступил!
11. Ср.: Grant FS. Realized Eschatology // Christendom. Spring, 1941.
12. Теологи подняли большой шум по поводу ожидания первыми
христианами второго пришествия Христа и его последующей отсрочки. Эти дебаты
бессмысленны. Для того, кто живет, исходя из конца времени, неразрывная
связь ожидания и отсрочки возвращения Христа — это то противоречие,
которым и живет христианин (2 Пет. 3,8-10). Это напряжение составляет
парадоксальную сущность христианства. Предвосхищая смерть, мы действительно
отсрочиваем ее приход и тем самым порождаем единственный в своем роде
исторический процесс — христианскую историю спасения. В книге «Essays and
Addresses» фон Хюгеля и моей статье «Die Kirche am Ende der Welt / Credo
Ecclesiam, 1930 (c. 132 и далее) обсуждается именно этот факт.
13. Das Alter der Kirche. Berlin, 1927. Bd. I. S. 108.
14. Guitton J. Le temps et l'éternité chez Plotin et Saint Augustin. Paris, 1933. P. 359.
15. В свете этого первая глава Нового завета, к которой часто относятся с
пренебрежением, оказывается насыщенной смыслом.
16. Всякая революция после Иоахима Флорского (13*), т.е. после 1200 г.,
выступает против христианского летоисчисления. Ницше относил последнюю эру к
30 сентября 1888 г. Моя книга «Out of Revolution: Autobiography of Western
Man» (New York, 1938) посвящена этой проблеме единого летоисчисления,
включающего в себя особые эры.
17. Именно вследствие «усталости от борьбы» самой христианской теологии,
христианское летоисчисление было отдано на милость различных революций.
Похоже, первым сделал это Франц Овербек (Overbeck) из Базеля. Против него
«Journal of Religion» опубликовал в 1945 г. фрагмент моего цикла писем «Новое
завоевание нашей эры». Точка зрения Овербека, сформулированная им в
семидесятые годы девятнадцатого века, теперь проникла в массы. Она знаменует
собой капитуляцию теологии перед лицом «науки» и самоубийственна для Европы.
18. «Разве не может быть прогресса религии в Церкви Христа? Конечно же, там
есть величайший прогресс. Кто может быть таким завистливым по отношению к
людям и таким злобным по отношению к Богу, чтобы "пытаться мешать ему?
Однако прогресс должен быть таким, чтобы его можно было назвать
прогрессом нашей веры, а не простым изменением». «Решения христианской религии
должны строго следовать этим законам, показывающим, как добиться
прогресса». Migne. Patrologia Latina. 50, 667 (Викентий Леринский (16*), 434 г. от Р.Х.).
19. Материалы об этом можно найти у Гуго Ранера (Rahner): Die Gottesgeburt in
den Herzen der Glaeubigen nach den Kirchenvaetern // Zeitschrift fuer katholische
Theologie. 1935. Возможно, первое явное обсуждение сути прогресса содержит-
566
ся у Викентия Леринского в его «Commonitorium», написанном в 434 г. от Р.Х.,
но эта идея является центральной, хотя и менее явной, в первой великой
христианской философии истории, в «О Граде Божием» Августина.
20. См.: Out of Revolution: Autobiography of Western Man. New York, 1938. P. 586
и далее, p. 699.
21. Прекрасное приложение концепции христианского прогресса к медицине
можно обнаружить у Парацельса (1493-1541), Bd. XI / Hrsg. von К. Sudhof, 1928.
22. Non est regressus secundum naturam. (De Reprobatione Magni Anni» // Isis 31.
1939. P. 71) (17*).
23. Полное название выдает новизну подхода: Esquisse d'un tableau historique des
progrès de l'esprit humain, 1792 (19*).
24. Ср.: Вигу J.В. The Idea of Progress. London, 1920, a также: Inge D. The Idea of
Progress: Romanes Lectures, 1920. У того же автора есть глава «Прогресс» в его
книге «The Fall of the Idols» (London, 1940). См. также: Chevalier J. En quoi
consiste le Progrès de l'Humanité? Paris, 1930.
25. Это понимание было прекрасно выражено в 1940 г. одним профессором из
Женевы в его одухотворенном послании американскому другу: «Примите
приветствия с этого континента, у которого позади блестящее будущее».
26. См.: Out of Revolution. P. 464 и далее.
27. Интересно посмотреть, как идея мирского прогресса повторяет характерные
черты язычества: разделенность на части и циклическое повторение.
28. Это суждение является эпиграфом к книге: «Living Thoughts of Thomas
Jefferson. New York, 1940.
29. Stenzel J. Studien zur platonischen Dialektik. Leipzig, 1931. S. 171.
30. Вот пример из религиозной литературы: «Духовную жизнь сравнивали с
винтовой лестницей, идя по которой человек оказывается в одном и том же
месте, но на большей высоте и глубине». В удвоении — на «высоте», так же как и
на «глубине» — обнаруживается недостаточность сравнения. Цит. по: Spens M.
Those Things Which Cannot Be Shaken. London, 1944. P. 39.
31. Ср.: Das Alter der Kirche II. S. 729, ff.
32. См. главу «Гитлер и Израиль» из моей книги «The Fruits of Our Lips» в том
ее виде, как она была опубликована в «Journal of Religion», 1945.
33. Ср.: American Historical Magazine. XI. P. 427, и The Rationalist Annual. London,
1935. См. также книгу того же автора: The Dawn of Conscience. New York, 1933.
P. XV и далее.
34. The Quest of the Historical Jesus. London, 1922. Одним из первых тезисов
критического столетия было утверждение о поздней дате написания евангелия от
Иоанна. Считалось «ненаучным» верить во что-то другое. Открыв «Journal of
Biblical Literature» за 1945 г., я обнаружил, что и там круг замкнулся статьей о
ранней дате написания евангелия от Иоанна.
35. Недавняя «Теория безработицы» Артура Сесила Пигу (Pigou) (Лондон, 1933)
все еще представляет собой примечание к классической теории, лишь
разросшееся до размера порядочной монографии. Но в ней нет нового основания.
36. «Quid faciet, quid faciet, iste tuus longinquus exul? Quid faciet semis tuus longe
projectus a facie tua?» (Proslogion I) (27*). Ср. жалобу на отсутствие Бога в
«Meditatio», гл. XX, и о поисках и новом обретении Бога, гл. XXI.
Комментарии
1*. Полибий (ок. 200-120 до н.э.) — древнегреческий историк, политик и
военачальник. Вико, Джамбаттиста (1668-1744) — итальянский историк,
создатель одного из вариантов теории исторического круговорота. О Шпенглере см.
прим. 52 к работе «Человеческий тип как форма для чеканки, или
Повседневные истоки языка».
567
2*. См. прим. 12 и 14 к работе «Послания к вечности: Письма в Каир».
3*. Линдисфарн или «Holy Island» («Святой остров») — небольшой остров в
Северной Англии, сыгравший важную роль в ее христианизации. На острове
находились резиденция епископа Нортумберленда, монастырь и школа для мальчиков.
4*. См. прим. 34 к работе «Раса мыслителей, или Голгофа веры».
5*. См. прим. 20 к работе «Плод уст».
6*. Джонс, Руфус Мэтью (1863-1948) — один из наиболее уважаемых
американских квакеров, писавший о христианском мистицизме.
7*. См. прим. 19 к работе «История спасения против теологии: Критика
брошюры экуменического совета церквей «Церковь и государство в современных
условиях»» (1936).
8*. См. прим. 33 к работе «Рабочие учат слишком мало, а учителя учат слишком
много: Разгадка Августином загадки времени».
9*. Кирилл Александрийский (ум. в 444 г.) — Отец Церкви.
10*. См. прим. 11 к работе «Рабочие учат слишком мало, а учителя учат
слишком много: Разгадка Августином загадки времени».
И*. Эмерсон, Ралф Уолдо (1803-1882) — американский философ, поэт и
эссеист.
12*. Беллами, Эдвард (1850-1898) — американский журналист и социальный
реформатор; Штрейт, Роберт (1875-1930) — немецкий миссионер, основатель
библиотеки «Bibliotheca Missionum».
13*. Иоахим Флорский (ок. 1132-1202) — итальянский мыслитель, монах.
14*. Сорокин, Питирим Александрович (1889-1968) — русско-американский
социолог, один из представителей теории исторических циклов.
15*. Парето, Вильфредо (1848-1923) — итальянский социолог и политэконом.
«Остатками» в его концепции истории называются нелогические поступки,
основой которых являются побудительные инстинкты, желания, интересы, и
сам термин уже предполагает устранение из сферы социальных действий и
мотиваций всего несущественного.
16*. См. прим. 37 к работе «Плод уст».
17*. «Не сообразно природе движение вспять» (Об осуждении Великого года//
Исида 31...) (лат.).
18*. Кондорсе, Мари Жан Антуан Никола (1743-1^4) — французский философ,
социолог, политический деятель, математик.
19*. В тексте — «Прогресс человеческого духа», полное название — «Очерк
исторического изображения прогресса человеческого духа» (франц.).
20*. Кроне, Бенедетто (1866-1952) — итальянский философ, историк,
литературовед, критик, публицист, политический деятель.
21*. См. прим. 18 к работе «Рабочие учат слишком мало, а учителя учат
слишком много: Разгадка Августином загадки времени». Сантаяна, Джордж (1863-
1952) — американский философ и писатель.
22*. См. прим. 88 к работе «Человеческий тип как форма для чеканки, или
Повседневные истоки языка».
23* См. прим. 89 к работе «Человеческий тип как форма для чеканки, или
Повседневные истоки языка».
24*. См. прим. 14 к работе «Плод уст».
25*. О Реймарусе и Вреде см. прим. 13 к работе «Плод уст».
26*. Смит, Адам (1723-1790) — английский философ и экономист.
27*. И в тексте, и в примечании см.: Ансельм Кентерберийский. Сочинения. М.
1995. С. 126 (рус. пер. И.В. Купровой). Об Ансельме Кентерберийском см. прим.
2 к работе «Рабочие учат слишком мало, а учителя учат слишком много:
Разгадка Августином загадки времени».
568
Вера в живого Бога
1. Школа Рейценштейна (3*) стремилась свести распятие к одному из
бесчисленных мистических культов древности, в ходе которых убивали богов, точно так
же, как представители других школ исследовали в наших больницах случаи
психических расстройств для того, чтобы «объяснить* нашу веру. Конечно, все
наоборот. Все мы от рождения христиане, но несовершенные, часто испорченные
или остановившиеся в своем развитии на полпути. Очевидно, мистериальные
культы подпитывались теми затруднениями, с которыми сталкивается каждая
человеческая группа: гениальность и вдохновение появляются и исчезают. Бог в
нашей душе и единодушие нашей нации появляются и исчезают, и такое
чередование оказывается необъяснимым. Мистериальные культы исходили из
предпосылки, что все «движения» умирают. Титаническая борьба сыновей Бога
заканчивалась истощением. Мистерии посвящали верующих в эту великую
загадку конца их частичного мира. Но не было миссионерского элемента,
который требовал бы от верующих искать свой собственный крест и продолжать
свою историю до бесконечности. Миф включал их в конечную структуру, не
способную расшириться до всеобщности. Когда Иисус был распят, очень по-
светски, после судебного разбирательства, Он взял всех тех, кто в Него верит,
вместе с собой за пределы мифа и повел их по свободным путям, которые вели
и ведут к концам действительного мира и пролегают как в пространстве, так и во
времени. Отличие в сжатом виде изложено в Послании к евреям (13,13).
2. Ницше был убежден, что он опроверг существование «Бога». И все же в 1886 г.
он писал: «Опровергнуто существование только морального Бога», а это Бог,
который не говорит и не одухотворяет, а является просто идеей, подобной
моральному Богу Вольтера.
3. Рассказывают, что Аристотель дважды приносил жертвы своим друзьям, как
богам (см.: Hamelin О. Système d'Aristôte. Paris, 1920. P. 12). Следовательно, здесь
мы видим его «богов, которые говорят»!
4. Out of Revolution. New York, 1938. P. 723, 725.
5. Феаг в диалоге Платона говорит, что каждый человек хочет быть богом.
6. Out of Revolution. P. 725, 727. Ср.: Das Alter der Kirche I.S. 103; II. S. 713-717.
7. «Тот дух истины, Которого мир не может принять, потому что не видел Его
и не знает Его».
8. Ср. Rouet de Jouvenel Enchiridion Patristicum. N 472.
9. См. мою работу «Politische Reden». Berlin, 1929. S. 44 и далее.
10. Как было известно грекам, эрос — это наша первая встреча со смертью.
Любящий человек начинает умирать.
11. См. последнюю речь Тибурцио в поэме «Лурия» Роберта Браунинга (7*):
Народ — это всего лишь попытка многих
Возвыситься до более полной жизни одного,
И люди, живущие в качестве образца для массы,
По отдельности являются более ценными,
чем все остальные вместе.
A people is but an attempt of many
То rise to the compléter life of one;
And those who live as models for the mass
Are singly of more value than they ail.
12. В Распятии, сопрождавшемся темнотой, раздиранием завесы в Храме и т.д.,
то, что должно произойти в самом конце, уже однажды случилось, и для веру-
569
ющих второе пришествие Христа как Судьи уже действительно началось вместе
с его первым пришествием. Распятие судит нас всех, поскольку мы знаем, что
мы все вели бы себя, как Пилат, Гамалиил (8*), Петр, Иуда или солдаты.
Страшный суд должен сделать достоянием публичности то, что умершие вместе с их
Первым Братом уже испытывают ежедневно, то, что наш Творец остается нашим
Судьей.
13. О политическом аспекте этого догмата см., например, «Проникновение Креста».
14. Hartmann N. Ethics. 3 vols. New York; London, 1932.
15. Rouet de Jouvenel. Enchiridion Patristicum. N 528. (Origen. Contra Celsum (248
г. от P.X.) 5, 22).
16. Cp. Out of Revolution. P. 507 и далее.
17. Ср.: Basler R.P. The Lincoln Legend. Boston, 1935.
18. Об этом полном преображении ср.: Weizsaecker V. von. Bilden und Helfen.
(Hippokrates und Paracelsus) // Die Schildgenossen. 1926. VI. S. 477 и далее.
19. Именно сила веры, любви и надежды перебрасывает мост через бездну
внутри «Человека», которого мы, люди, должны представлять, проходя через века.
Существенным является понимание того, что эта сила исходит из Бога, а не
возникает из человеческой воли. В греческом и еврейском языках слова для
обозначения веры означают верность Бога и доверие. Наша вера — всего лишь
бледное отражение этой верности Бога всем нам, вместе взятым. Неудачное
выражение Уильяма Джеймса (11*) «воля к вере» возвещало восстание масс, потому
что оно лишило нашу веру ее опоры. Массы погружаются в темноту, когда
забывают, что нас защищает рука Бога, и вера ставится в зависимость от
человеческой воли. Подобным же образом любовь и ее свобода слишком часто
смешиваются с волей, и так поступают даже теологи. Любовь и воля столь же слабо
связаны друг с другом, как обручальное кольцо с пушкой. Воля не свободна,
поскольку она должна бороться за жизнь, а любовь свободна, потому что она
может выбрать смерть. История этой ложной доктрины гуманизма, с самого
начала подчиняющей «любовь» «воле», описана в моей книге: Industrierecht
(Breslau, 1926).
Комментарии
1*. Фрэзер (Фрейзер) Джеймс Джордж (1854-1941) — английский этнолог и
религиовед.
2*. Адонис (финик, «господь», «владыка») — в греческой мифологии божество
финикийского происхождения, ассоциировавшееся с ритмами жизни
растительности и, прежде всего, с периодическими умиранием и возрождением; Таммуз
— у ряда народов Передней Азии бог плодородия, один из умирающих и
воскресающих богов; об Осирисе см. прим. 12 к работе «Обращение к вечности:
Письма в Каир».
3*. См. прим. 10 к работе «Плод уст».
4*. Брисбейнс, Артур — один из самых высокооплачиваемых американских
журналистов, писания которого отличались банальностью и пошлостью.
5*. Ориген (ок. 185-254) — христианский теолог, философ и ученый.
6*. См. прим. 41 к работе «Временной спектр».
7*. Браунинг, Роберт (1812-1889) — английский поэт.
8*. См. прим. 17 к работе «Плод уст».
9*. Причина существования (франц.).
10*. Франциск Ассизский (1182-1226) — итальянский религиозный деятель,
основатель ордена миноритов («меньших братьев»); один из первых отчетливо
выразил потребность в обновлении форм культуры, послужившую основой
возрожденческой идеологии.
11*. См. прим. 7 к работе «Рабочие учат слишком мало, а учителя учат слишком
много: Разгадка Августином загадки времени».
570
Домостроительство спасения
1. Ср. Out of Revolution.
2. См. гл. VIII. Конечно, это соответствие эпох членам Символа Веры
является не чем-то исключительным, а лишь положением, которому в наших
рассуждениях придается особое значение. Все истины нашей веры с приходом
Христа были даны с такой же полнотой, какая будет им присуща в конце
времени.
3. Марк Аврелий (2*), согласно философским критериям, «лучший» император,
был усыновлен его предшественником. Ценя свою философию выше своего
духовного происхождения, он позволил своей плоти и крови сменить себя на
посту императора, и это погубило империю.
4. Мы никогда не поймем суть чудес, описанных в Новом завете, пока не
примем во внимание одержимость языческого ума демонами. Эти чудеса были
действительными процессами на созданном человеком небе. Магия и волшебство
вводили людей в искушение разыгрывать из себя Бога и манипулировать
космосом как угодно. Иисус преодолел эти искушения в пустыне. Позже он совершил
очень немного чудес — они достаточны лишь для того, чтобы показать его
способность делать вещи такого рода, а потому это доказывает, что его отвращение
к знамениям и чудесам было подлинным и не соответствовало известной басне
о лисе и винограде.
5. Ср.: Out of Revolution. P. 543 и далее.
6. В наши дни даже человеческие похоть и страх стали считаться
заслуживающими уважения, поскольку свидетельствуют о жизненной силе человека.
«Жизнеспособный, динамичный, могущественный, деятельный, поощряющий,
возбуждающий, волнующий, ужасающий» — вот те медали, которыми награждается
современный человек. Они являются настоящим оскорблением. К примеру,
назвать оратора поощряющим — значит признать триумф Понтия Пилата в нашей
среде. Похоже, истина больше не имеет никакого значения.
7. Ср.: Das Alter der Kirche I. S. 83-91.
8. См. мою работу: Die Uebermacht der Raeume (Soziologie I). Stuttgart, 1958. S. 197
и далее.
9. Balthasar H.U. von. Die Apokalypse der deutschen Seele. 3 Bde. Salzburg und
Leipzig, 1939. Bd. II. S. 379.
10. Не представляется возможным сказать здесь об этом больше. Я понимаю, что
сказанного недостаточно, и в качестве оправдания можно только добавить, что
книга значительно большего объема о происхождении языка и его обновлении
Словом ждет публикации. Хотя мне и сказали, что ее публикация невозможна,
я не оставляю надежды.
11. Если это в некоторой степени напоминает Гегеля, то потому, что Гегель в свою
очередь развил свою философию, исходя из изучения христианской истории.
Однако, будучи идеалистом, Гегель полностью извратил христианский смысл
конкретности. Бога нельзя найти в нашем уме или в идеях, Он говорит с нами через
посредство другого человека, которому мы пытаемся помочь. Творческие энергии
Веры, Надежды и Любви — это не свойства ума, а узы, объединяющие людей.
12. Картина великого единства Церкви в течение первых трех поколений
нарисована лордом Чарнвудом (Charnwood) в его очаровательной книге: According to
Saint John. Boston, 1925. В этом отношении столь же выразительна книга: Hoskyns
E.S., Davey F.N. The Riddle of the New Testament. New York, 1931.
13. Подобный же неисторический по своей сути метод был применен и к
самому Иисусу, и это привело к таким роковым антитезам, как «Жизнь» в
противоположность «Учению», «религия Иисуса» в противоположность «религии,
возникшей в связи с Иисусом» и т.д. Однако если мы осознаем, что закон еди-
571
нодушия-через-различие применим также к сменяющим друг друга этапам
жизни отдельного человека, мы больше не будем пытаться распять Иисуса на
прокрустовом ложе наших систем понятий, но увидим, что Он жил, проходя через
ритмическую последовательность «остановок» — увидим Его «естественную»
жизнь в самом начале в качестве послушного сына, период духовного
ясновидения, нашедший выражение в различных частях Его учения, например в
Нагорной проповеди, и, наконец, Его возвращение от визионерства к
Общественному Служению в качестве Христа. Далее, у каждой из этих «остановок» есть
своя, присущая именно ей этика, которая, очевидно, не имеет силы для
других «остановок». Ребенок Иисус не смог бы выполнить своих обязанностей по
отношению к родителям, если бы Он следовал заповедям Нагорной
проповеди. Позже Иисус не смог бы осуществить свою миссию, если бы Он, когда
пришло время, не жил в соответствии с третьим образом жизни — жизни,
которая требовалась для достижения политической действенности. Здесь нужно
было требовать повиновения, умения иногда молчать, иногда приходить в
ярость, заботиться о завтрашнем дне, вязать и разрешать. Мы можем также
увидеть, что сам Иисус всегда был на шаг впереди своих последователей и что
поэтому полное понимание того, что же Он совершил на своей последней
«остановке», может стать доступным только для более позднего поколения. В свете
этого мы можем понять, что апостол Павел, отнюдь не бывший предателем духа
Христа, стал Его подлинным наследником. Ханс Эренберг (11*) сказал, что
Павел жил тем, чему Иисус учил, но учил тому, чем Иисус жил: это особенно
верно по отношению к тому, чем Иисус жил на своей последней «остановке», а
именно, по отношению к Распятию и Воскресению. См. об этом: Das Alter der
Kirche. Berlin, 1929. S. 111-146.
Комментарии
1*. Движение стариков в Америке, получившее свое название по имени
Фрэнсиса Е. Таунсенда (1867-1960), американского реформатора, предложившего в
1934 г. на рассмотрение конгресса новый план пенсионного обеспечения.
2*. Марк Аврелий (121-180) — римский император с 161 г. Родился в
сенаторской семье испанского происхождения, был усыновлен своим дядей, Антонином
Пием, представлявшим императорскую династию Антонинов. Марк Аврелий
был одним из наиболее ярких представителей философии стоицизма,
«философом на троне». В 176 г. он провозгласил императором своего сына Коммода,
который был казнен в 192 г. участниками заговора, а сенат одобрил их поступок и
объявил Коммода врагом отечества. Коммод завершает императорскую династию
Антонинов.
3*. Англ. martyr, мученик, происходит от др.-греч. (ictprup, свидетель.
4*. Антоний Великий (ок. 250-355) — основатель христианского монашества.
5*. Беньян, Джон (1628-1688) — английский проповедник и поэт, автор
знаменитой книги «Pilgrim's Progress» («Путь паломника»).
6*. «Се человек» (лат.) — слова Понтия Пилата, сказанные им о Христе.
7*. Ср. прим. 95 к работе «Послания к вечности: Письма в Каир».
8*. Быт. 1:6.
9*. См.: Ин. 19,30.
10*. В ориг. «из трех слов»: «It is finished».
11*. См. прим. 22 к работе «История спасения против теологии: Критика
брошюры экуменического совета церквей «Церковь и проблема государства в
современных условиях» (1936)».
572
Проникновение Креста
Перевод выполнен по изданию: Rosenstock-Huessy Е. The Penetration of the Cross //
Rosenstock-Huessy E. The Christian Future Or The Modern Mind Outrun. New York:
Harperand Row, 1966. P. 165-197. На русском языке публикуется впервые.
1. A Roving Comission. New York, 1930. P. 113.
2. Это не символический образ, рожденный фантазией, или произвольная
схема, но нечто развивавшееся в течение двух тысяч лет. Писатель-иезуит Ханс Урс
фон Бальтазар (Balthasar H.U. von. Die Apokalypse der deutschen Seele. Salzburg;
Leipzig, 1939. Bd. 3. S. 434 и далее), комментируя Послание к ефесянам (3,18),
ссылается на авторитет Оригена и Августина и даже заходит настолько далеко,
что говорит: «В предмете философского знания знак креста запечатлен подобно
нестираемому и несмываемому водяному знаку».
3. Крест Действительности, образованный четырьмя фронтами, если он однажды
стал понятен,.настолько самоочевиден, что сначала может показаться чем-то
тривиальным. Но наш «естественный» ум отрицает эту тривиальную истину. Он не
допускает того, чтобы мы принимали во внимание прошлое. Он требует, чтобы
прошлое было «причиной» настоящего и будущего. Он не соглашается с тем, что
всякое мышление является беседой внутри некоторого человеческого сообщества
и что вся «природа» находится за пределами этого сообщества. Из сказанного
следует, что Крест не является чем-то тривиальным. Он противоречит абстрактной
ментальности «стороннего наблюдателя». Важность Креста связана с
плодотворностью его приложения и с катастрофическими последствиями его забвения. О
плодотворности идеи четырех фронтов см. мою работу: Die Uebermacht der Raeume
(Soziologie I). Stuttgart, 1958, а также: Meyer A. Bios I, 1934.
4. Мой покойный друг Ричард Кэйбот (Cabot) в книге «Чем жив человек» («What
Man Lives Ву»), впервые опубликованной в 1912 г., очень близко подошел к этой
концепции Креста Действительности применительно к отдельному человеку.
Клиника Мэйоу (Мауо) (5*) сейчас проводит эксперименты с его системой
координат в качестве диагностического и терапевтического средства.
5. Fung Yu-Lan. A History of Chinese Philosophy. Peiping, 1937. P. 170 и далее, 221
и далее.
6. Г.К. Честертон в своем бессмертном эссе о Маккейбе (14*) в сборнике
«Еретики».
7. Подробнее см. мою статью: Hitler and Israel // Journal of Religion. April 1945.
8. Этот случай описан в статье мисс Д.Эммет (Emmet), Jourmal of Religion.
October 1945.
9. См.: Robertson E.S. The Bible's Prose Epie of Eva and Her Sons. London, 1916.
10. В конце языческой эпохи на севере Европы король Швеции принес в
жертву шесть или семь сыновей для того, чтобы сохранить свое господство. Когда над
седьмым сыном нависла опасность разделить участь его братьев, народ
взбунтовался, убил старого короля, страстно желавшего власти, и под властью
молодого принца был обращен в христианство. Люди отказались брать на себя роль
Провидения и обратились к вере в живого Бога, который завтра может либо дать
власть, либо отнять ее.
И. Авраам изобрел антисемитизм. И преследователи евреев смогли открыто
выступить со своей ненавистью к Израилю, поскольку сам Авраам обратился
против других семитов и «жителей Востока».
12. Иаков, когда он должен был встретить своего смертельного врага, брата
Исава, был охвачен страхом. В ту ночь он боролся с ангелом и проснулся хромым.
Поэтому, когда он встретил Исава, он был хромым и беспомощным. И в этой
своей беспомощности он еще раз пренебрег магическими силами, которые
другой человек на его месте использовал бы себе на пользу.
573
13. См.: Out of Revolution. P. 216-237.
14. О юридических изменениях в законе о браке, сопровождавших освобождение
евреев, см. Гитлер и Израиль/ Религиозный журнал. Апрель, 1945. Французская
революция была смесью греческого гения и израильского мессианизма.
15. См. об этом главу «Американцы» в моей книге: Out of Revolution. P. 672 и
далее.
16. См. раздел «Эмансипация евреев» в моей книге «Out of Revolution», а также
статью Альтмана (Altmann G.), Journal of Religion. October 1944.
17. «Следует особенно подчеркнуть, что религиозное понимание приходит не как
утверждение, а как приказание». Lord Charnwood. According to St. John. Boston,
1925. P.309.
18. Примечательно, что нацисты во многих случаях делали ветеринаров
ректорами университетов. У ветеринаров было меньше сомнений в своей правоте и
меньше угрызений совести.
19. Великолепным примером такого протеста является книга: Kroeber A.L. The
Superorganic. Hanover (N.H.), 1927.
20. К отношениям между социальными науками и полной истиной можно
применить старое изречение: «Novum testamentum in vetere latet; vetus testamentum in
novo patet». («Новый завет уже содержится в Ветхом, а значение Ветхого
раскрывается в Новом»).
Комментарии
1*. Игнатий Богоносец, см. прим. 66 к работе «Плод уст».
2*. crucial — решающий, критический, крестообразный.
3*. Ройс, Джосайя (1855-1916) — американский философ и логик.
4*. «Мыслю, следовательно существую» ... «Изменяюсь, следовательно мыслю»
(лат.).
5*. Знаменитая и авторитетная клиника в г. Рочестере (штат Миннесота, США),
основанная в 1889 г. Уильямом У. Мэйоу (1819-1911) и его сыновьями.
6*. См. прим. 7 к работе «Рабочие учат слишком мало, а учителя учат слишком
много: Разгадка Августином загадки времени».
7*. Неразбериха (франц.).
8*. См. прим. 7 к работе «Что есть человек?: В защиту неспециалиста».
9*. Рассел, Бертран (1872-1970) — английский филЪсоф, математик, логик,
социолог, общественный деятель.
10*. Монтескье, Шарль Луи (1689-1755) — французский философ, историк,
писатель.
11*. См.: Дао дэ цзин // Древнекитайская философия: Собрание текстов в двух
томах. М., 1972. Т. 1.С. 122.
12*. Там же, с.129.
13*. Джеке, Лоренс Перселл (1860-1955) — американский писатель; указанное
произведение опубликовано в 1921 г.
14*. О Г.К. Честертоне см. прим. 20 к работе «Плод уст». Маккейб, Джозеф (1867-
1955) — английский философ, монах-францисканец, в 1896 г. отказался от сана,
вышел из Ордена и стал выступать с резкой критикой католицизма с позиций
рационалистической философии.
15*. См. прим. 32 к работе «Заратуштра: Обретение голоса».
16*. Моруа, Андре {Герцог, Эмиль) (1885-1967) — французский писатель; Глад-
стон^ Уильям Юарт (1809-1898) — английский государственный деятель,
премьер-министр в 1868-1874, 1880-1885, 1892-1894 гг.
17*. Существующее положение вещей (лат.).
18*. Уходи, чтобы я занял твое место (франц.).
19*. Фрост, Роберт (1875-1963) — американский поэт.
574
А. И. Пигалев
Язык, культура и история
в «диалогическом мышлении»
Ойгена Розенштока-Хюсси
Предлагаемый вниманию читателей сборник представляет
собой подборку программных работ одного из самых
интересных и глубоких представителей так называемого
«диалогического мышления» Ойгена Розенштока-Хюсси. Ой-
ген Мориц Фридрих Розеншток-Хюсси (06.07.1888, г.Берлин,
Германия — 24.02.1973, г.Норвич, штат Вермонт, США) —
немецко-американский христианский мыслитель, философ, историк, культуролог. Он
родился в либеральной еврейской семье, в 1906 г. пережил религиозный
кризис и принял крещение, став прихожанином евангелической церкви.
После окончания университета и защиты диссертации в 1912 г. он стал
самым молодым приват-доцентом Лейпцигского университета. В его
обязанности входило чтение курсов лекций по немецкому частному
праву и истории немецкого права. В 1914 г. Розеншток вступает в брак с
гражданкой Швейцарии, дочерью фабриканта Анной Маргаритой (Мар-
грит) Хюсси и по швейцарскому обычаю присоединяет ее фамилию к
собственной (формально это было закреплено в 1925 г.) В 1921 г. у них
родился сын Иоганн Пауль Теодор, единственный в семье (умер 9 мая
1997 г.). Сразу после женитьбы Розеншток-Хюсси оказывается на фронте
в качестве добровольца, пройдя первую мировую войну боевым
офицером. Впоследствии он очень высоко оценивал годы, проведенные в
армии, считая их весьма существенными для формирования своего
мировоззрения.
В 1918 г. Розеншток-Хюсси оказался перед трудным выбором.
Министр внутренних дел Брейтшейд пригласил его занять пост
статс-секретаря для разработки конституции Веймарской республики. Издатель
католического журнала «Hochland» Карл Мут предложил ему стать
одним из редакторов этого журнала. И, наконец, Лейпцигский
университет был готов снова видеть его в числе своих преподавателей — теперь
уже в качестве профессора. Он избежал этих трех искушений и сделал
неожиданный для всех выбор — стал главным редактором заводской
(Даймлер-Бенц) газеты в Штутгарте. В этой газете — вплоть до ее
закрытия в 1920 г. — было напечатано множество его статей. В 1921 г.
Розеншток-Хюсси основал и до 1923 г. возглавлял Рабочую Академию во
Франкфурте-на-Майне, в 1925 г. был избран вице-президентом Все-
19 3ак. 3524
577
мирной Ассоциации образования взрослых, в 1928-1930 гг. организовал
добровольческие трудовые лагеря для совместного
сельскохозяйственного труда рабочих, крестьян и студентов в условиях экономического и
политического кризиса. Впоследствии этот опыт был перенесен Розен-
штоком-Хюсси в США, куда он переселился в 1933 г. сразу же после
прихода нацистов к власти в Германии. Эта и другие инициативы Ро-
зенштока-Хюсси послужили основой для создания американского
«Корпуса мира». В 1934-1936 гг. Розеншток-Хюсси был профессором
Гарвардского университета, а с 1936 г. и до выхода на пенсию в
1957 г. — профессором Дартмутского колледжа (г. Ганновер, штат
Нью-Хэмпшир), проживая в г. Норвич (штат Вермонт), где он построил
дом в местечке под названием «Four Wells».
В 1950 г. он вновь ступил на немецкую землю. Но это не было
возвращением: он не хотел начинать все сначала. Розеншток-Хюсси становится
«приглашенным профессором» различных немецких университетов,
участвует в заседаниях евангелических академий, занимается другими
формами академической деятельности. Факультет евангелической теологии
Мюнстерского университета по случаю его семидесятилетия присваивает
ему звание почетного доктора. В 1959 г. умирает жена Маргрит, утрату
которой Розеншток-Хюсси переживал очень тяжело. Спустя год к нему
в «Four Wells» переезжает вдова главы «Крайзауского кружка» Гельмута
Джеймса фон Мольтке Фрейя фон Мольтке с сыном Конрадом («Край-
зауский кружок» объединял противников гитлеровского режима, и
большинство его членов были казнены незадолго до окончания второй
мировой войны). Умер Розеншток-Хюсси в 1973 г., в годовщину своей
свадьбы с Маргрит — 24 февраля, в своем имении «Four Wells».
Дистанцируясь от школьной, профессорской философии,
Розеншток-Хюсси на протяжении всей свой жизни много и активно писал. Его
литературное наследие огромно, и это тем более поразительно, если
учесть его колоссальную загруженность практическими делами. Тесные
узы дружбы связывали его с выдающимся еврейским философом
Францем Розенцвейгом. Его знаменитая «Звезда спасения» возникла из
духовного импульса, полученного от Розенштока-Хюсси (и это история,
достойная настоящего романа). Он был знаком с такими выдающимися
людьми нашего столетия, как М.Бубер и H.A. Бердяев.
Розеншток-Хюсси был также блестящим лектором. При чтении лекций он почти не
прибегал к записям, и многие его блестящие идеи возникали в процессе
импровизации перед студенческой аудиторией. Студенты записывали его
лекции на магнитофон; так сформировался целый фонд магнитофонных
записей. В настоящее время в США закончена работа по их
расшифровке, перепечатке и изданию полученных таким образом текстов. Один из
крупнейших протестантских мыслителей XX столетия Пауль Тиллих
сравнивал лекции Розенштока-Хюсси со вспышками молнии, а
известный современный американский богослов Харви Кокс, сожалея, что
идеи Розенштока-Хюсси в свое время не были восприняты с должным
вниманием, подчеркивал возрастание их важности для теологии в
условиях продолжающейся секуляризации общества. В Германии в 1963 г.
было создано и по сей день функционирует Общество Ойгена
Розенштока-Хюсси, а в США — Фонд Ойгена Розенштока-Хюсси.
578
Пытаться кратко описать взгляды Розенштока-Хюсси — значит почти
ничего не сказать. Если стремиться непременно обозначить его
«философскую принадлежность», то его следовало бы охарактеризовать как
«христианского экзистенциалиста», хотя эта характеристика весьма и
весьма условна. Ведь сам Розеншток-Хюсси вообще не считал себя
философом, метафизиком. Кроме того, отнесение его к христианским
экзистенциалистам сразу же объединяет его с мыслителями, против
взглядов которых он выступал из принципиальных соображений. Так что эта
характеристика может быть принята только с существенными
оговорками. В то же время, если такие представители «философии диалога», как
М. Бубер или М.М. Бахтин, у нас хорошо известны, то другие имена —
а их немало — до сих пор остаются в тени. Данная книга представляет
собой попытку хотя бы частично восполнить этот пробел и ознакомить
отечественного читателя с работами, в которых отнюдь не повторяются
основные идеи «диалогического принципа» в том его виде, как он
представлен, скажем, Бубером, а развиваются совершенно иные подходы.
Следует сразу же предупредить, что это нелегкое чтение — и не столько
из-за сложностей языка или логики изложения. Наибольшие трудности
восприятия взглядов Розенштока-Хюсси связаны, пожалуй, с
шокирующей академически образованного читателя свободой его мысли и явной
конфронтацией его концепций с основами академического мышления.
Это — не привходящее для Розенштока-Хюсси обстоятельство, оно
связано с самим пониманием им природы и задач мышления, его роли в
жизни как отдельного человека, так и человеческого общества. И в самом
деле, несмотря на блестящее начало академической карьеры, Розеншток-
Хюсси, как мы знаем, вскоре отдалился от академической среды.
Разумеется, такое экзистенциальное решение имело свои причины,
поскольку Розеншток-Хюсси отлично сознавал, что мысль существует не в
вакууме, и определенное положение в обществе, да и определенные
поступки способны сделать совершенно невозможными и некоторые типы
мышления, и вербальное выражение соответствующих взглядов. Без
страсти и увлечения, считал Розеншток-Хюсси, нельзя понять ни один
социальный процесс — равно как и без дерзаний. Действительно, в его
жизни было много и страсти, и политического риска. Почти таким же
многогранным, как сама жизнь, было его творчество, что, впрочем, не
мешало ему по отношению к «профессионалам» оставаться «человеком
окраины».
Розеншток-Хюсси испытал влияние различных духовных
тенденций, прежде всего иудаизма, философии Гераклита, немецкой
классической философии, включая Л.Фейербаха, концепции И.Г. Гамана,
холизма и идей мыслителей, которых он называл «дизангелистами» (в
противоположность «евангелистам» — носителям «благой вести») и
которых резко критиковал — Ч.Дарвина, К.Маркса, Ф.Ницше, З.Фрейда.
Прихотливая и своеобразная мысль Розенштока-Хюсси с трудом
поддается классификации, не вписывается в академические схемы, что
порой приводило не только к профессиональным, но и чисто
человеческим проблемам. Свой стиль, противостоящий «систематическому» и
«эссеистскому», Розеншток-Хюсси называл «пост-систематическим» и
«пост-афористическим», предполагающим наличие не «коллег», а «дру-
579
зей». Бросающееся в глаза нарочитое стремление к некоторой
обыденности здравого смысла напоминает Г.К. Честертона, которого Розенш-
ток-Хюсси знал и высоко ценил.
Междисциплинарный характер теоретизирования и
сосредоточенность на классических проблемах человеческого бытия, истории и
культуры позволяют говорить о мощном культурологическом компоненте
творчества Розенштока-Хюсси. Характерной особенностью
подавляющего большинства его работ является сочетание основательного
исторического анализа с учетом состояния, тенденций и противоречий
современной культуры. При этом фоном всех культурологических штудий
неизменно оказывается проблема условий совместного существования
людей, равно как и проблема возможности самой общечеловеческой
истории. В результате этого вся концепция Розенштока-Хюсси после
мучительных и долгих сомнений была названа самим ее создателем
«социологией», хотя в ее рамках основы общепринятого понимания
социологии становятся объектом серьезной критики. Социология Розенштока-
Хюсси и представляет собой, по сути дела, его культурологическую
концепцию, резко отличающуюся от самих принципов традиционных
истории и теории культуры.
Называя себя не «чистым», а «темпоральным» мыслителем, Розенш-
ток-Хюсси поставил в центр своих размышлений особую концепцию
языка. Язык понимается им как надындивидуальная целостность типа
«прообраза» — «гештальта», как некий «эфир», в который погружены все
люди. Именно поэтому язык — не просто средство для выражения наших
мыслей и «внутренних состояний»; точнее, это вообще не «средство».
Язык является особой целостной средой, в которой протекает вся жизнь
человека и в которой только и возможны длящиеся межчеловеческие
связи. В самом деле, впечатления отдельного человека «принадлежат» ему,
и они могут существенно отличаться от впечатлений, «принадлежащих»
другому человеку, тем более если этот человек находится в другом
месте пространства и относится к другой исторической эпохе. Ведь
человек — существо конечное, и он не способен одновременно
присутствовать во всех точках пространства. Но тогда возникает вопрос: кто
является носителем всех впечатлений, когда-либо бытовавших в пространстве
и времени, и существует ли такой носитель вообще? Упреждая
аргументированный ответ, скажем, что у Розенштока-Хюсси в качестве этого
носителя выступает именно язык, и, тем самым, именно он обеспечивает
непрерывность совокупного человеческого опыта.
Для Розенштока-Хюсси очень важно то обстоятельство, что без
непрерывности человеческого опыта никакие устойчивые межчеловеческие
связи невозможны, а связи, возникающие на основе так называемого
«материального интереса», вне этой среды были бы мимолетными и по
существу ничем не отличались бы от отношений между животными,
возникающих из их инстинктивных потребностей. Языку, подчеркивает
Розеншток-Хюсси, и предназначено быть специфической средой,
передающей совокупный опыт человечества, а потому язык создает братство
людей в пространстве и времени. Он способен соединить человека не
только с «ближними», но и с «дальними», не только с предками, но и с
потомками. Следовательно, только язык создает такую единственную в
580
своем роде субстанцию совокупного опыта, как род человеческий. При
этом необходимо отличать «род человеческий» от «человечества»,
поскольку в последнем понятии связь поколений и темпоральное
измерение человеческой общности несколько стерто.
В литературе довольно активно обсуждается вопрос о сущности
«языка животных» и о самой правомерности применять понятие «язык» ко
всем живым существам вообще. Между тем, в концепции языка Розен-
штока-Хюсси содержится четкое и аргументированное указание на то,
что человеческий язык качественно отличается от сигналов,
используемых другими живыми существами, и они остаются не более чем
сигналами, которые при большом желании, конечно, можно назвать языком.
Но это будет язык «третьего ранга». По мнению Розенштока-Хюсси,
следует осознавать различие между формальным человеческих языком,
неформальным человеческим языком и звуками, издаваемыми животными
и насекомыми. Формальный язык — это язык молитвы и клятвы, обета
и заповеди, и именно он является первичным, подлинно человеческим
языком. Поэтому, считает Розеншток-Хюсси, язык не может быть
выведен из детского лепета. Подлинно человеческий язык является
творением серьезных мужей и старцев, и он — нечто большее, чем просто
«средство» или «орудие». Говорить — значит проникать в надындивидуальное
измерение, в сферу совокупного человеческого опыта и, будучи
определенным им, оставаться в этой определенности1.
Язык человека направлен на то, что не может быть целью животных:
на превращение слушающего в иное существо, нежели то, каким оно
было до того, как к нему обратились с речью. Человеческий язык
изначально нацелен на сверхчувственное, и он позволяет говорить о том,
что находится за пределами пространства, доступного отдельному
человеку, и за пределами его времени: о том, что было до его появления на
свет, и что будет после его смерти. Поэтому человеческий язык
создает своеобразное силовое поле между теми, кто некогда жил, и теми, кто
когда-либо умрет. На этой основе пересматривается традиционное
понимание взаимоотношения языка и мышления и формулируются
основы нового подхода, который называется по-разному — «речевое
мышление», «грамматический метод», «метаномика». Сверхзадачей при этом
оказывается разработка учения о совместной жизни людей, которое
было бы одновременно и некоей сотериологией. Такова «социология»
Розенштока-Хюсси.
Будучи мыслителем экзистенциального склада, Розеншток-Хюсси
выступает, прежде всего, против понимания человека как чего-то уже
окончательно сформировавшегося. Отличие от классических
экзистенциалистских концепций состоит в отрицании возможности
рассмотрения человека в единственном числе. В этом пункте, по Розенштоку-Хюс-
си, сходятся естествознание и теология, которая понимается в качестве
весьма широкой парадигмы мысли.
Для естествознания и связанного с ним типа философствования,
квинтэссенцией которого является декартовское cogito, характерен
дуализм мира и человека, причем последний считается только
представителем своего рода, «человеком вообще». Это лежит в основе представления,
будто все люди мыслят одинаково и одинаково готовы к восприятию
581
объективных и безличных научных истин. Если же предметом
рассмотрения становится сам человек в качестве единичного объекта, то на него
переносятся божественные атрибуты — прежде всего божественный
атрибут единства. Перед Богом человек считается равным самому себе. В
результате центром новоевропейского философствования,
опирающегося на принципы картезианства, оказывается человек как единичный
мыслящий субъект, а центром теологического мышления в широком
смысле — человек в качестве тождественного самому себе единичного
объекта. Подлинная социология должна, согласно Розенштоку-Хюсси,
занимать место между философией и теологией и снимать характерный
для новоевропейского мышления дуализм субъекта и объекта. Она не
может быть ни знанием человека, ни знанием о человеке, но призвана
стать чем-то третьим.
Первым принципом этой новой дисциплины и является положение о
взаимосвязи всех людей в пространстве и во времени. Но эта
взаимосвязь не статична, а динамична, и каждый человек находится в
своеобразном силовом поле, выступая попеременно то как субъект, то как
объект. И тем, и другим отдельный человек является лишь в течение
некоторого ограниченного времени, и само такое состояние не может быть
изолированным, а всегда соотнесено с другими людьми. Тем самым
диалогический принцип вводится не в качестве банального «диалога двух
сознаний», принадлежащего, согласно классификации Розенштока-Хюс-
си, к области либо философии, либо теологии, а в качестве
фундаментального принципа, находящегося в основе подлинно человеческого
существования. Более того, Розеншток-Хюсси подчеркивает, что каждый
человек представляет собой причудливое смешение характеристик
субъекта и объекта, выступая одновременно и в качестве носителя
творческих импульсов, и в качестве раба чисто биологических инстинктов.
Важно, однако, что пропорция субъектных и объектных характеристик
остается неизвестной и не может быть исчерпывающе познана.
Поэтому вторым принципом социологии Розенштока-Хюсси
является положение, что творение человека продолжается, что он еще не
завершен, и, значит, социология не в состоянии сделаться неким
окончательным знанием. Следовательно, социологическое знание может быть
только темпоральным, задавая, прежде всего, вопрос «когда?». Важно знать
не только, когда следует заниматься «философией», а когда —
«теологией» (и когда вообще делать что-то и быть кем-то), но и как долго. В свою
очередь, эти вопросы сводятся к проблеме соотношения господства и
подчинения (служения). Мыслящий рассудок стремится господствовать,
предстоящая Богу душа стремится подчиняться и служить. Более того,
господство и подчинение (служение) образуют, по мнению
Розенштока-Хюсси, самую суть человека, и вопрос заключается лишь в том,
когда он должен господствовать, а когда — подчиняться и служить. Этот
процесс попеременного существования то в качестве объекта
(подчиняющегося), то в качестве субъекта (господствующего) неразрывно связан
с языком.
Говоря, человек пребывает в своего рода центре, откуда он может
смотреть назад, вперед, внутрь и наружу, и эти направления образуют так
называемый «крест действительности», создаваемый осями пространства
582
и времени. Язык является наиболее выразительным свидетельством
специфики человеческого существования. Соответственно, грамматические
формы описывают определенные способы согласования пространств и
времен, а прорыв одного или нескольких фронтов «креста
действительности» означает разрушение единого пространства-времени.
Интерпретированная в новом ключе грамматика служит Розенштоку-Хюсси
методом, с помощью которого осмысляется текущий социальный процесс.
При этом вся история предстает в качестве последовательности форм
речи и, следовательно, способов организации
пространственно-временного континуума культуры.
Розеншток-Хюсси считает, что в современных лингвистических и
антропологических исследованиях подлинная функция языка остается
скрытой. При анализе речи существенным считается лишь говорящий,
тогда как слушающий исключается из рассмотрения. Тем самым
утрачивается возможность понять речь как систему межчеловеческих
отношений, а основой ее изучения становится следующая последовательность:
мышление — речь (письмо) — слушание (чтение). Если же считать
слушающего неотъемлемым элементом речевого акта, то должна быть
принята следующая последовательность: речь (письмо) — слушание
(чтение) — мышление. Важное значение при этом имеет понятие
одухотворения, которое, равно как и понятие духа, Розеншток-Хюсси толкует, на
первый взгляд, весьма необычно. Но при ближайшем рассмотрении
оказывается, что он подчеркивает одну из изначальных характеристик духа,
а именно его способность сплачивать, объединять людей. Язык делает
мир целостным, преодолевая, прежде всего, главный раскол —
противостояние полов: «Тела мужчины и женщины отделены друг от друга
кожей. Дух видит людей без кожи. Он позволяет им проникнуть друг в
друга. Для этого мы должны выбраться из своей кожи. Акт, позволяющий
нам освободиться от своей кожи, — это одухотворение. Всякое
одухотворение соединяет то, что телесно отделено друг от друга. Оно создает
членов общности»2.
Языки были, по Розенштоку-Хюсси, орудием одухотворения, и они
делают одухотворение бессмертным. Язык — изначально отнюдь не
орудие мышления и не средство передачи некоего «сообщения» (такую
функцию он приобретает позже), а средство разрушения биологической
обособленности, превращения особи из экземпляра рода в родовое
существо. Это означает, что язык не мог возникнуть в повседневных
ситуациях, а является продуктом одухотворяющего ритуала, для которого
характерно экстатическое перенапряжение всех человеческих сил. Именно
язык оказывается главнейшим средством создания устойчивых условий
совместного существования людей. Специфика формального
человеческого языка заключается в его принципиальной ориентации на незримое
и на использование имен. Он позволяет выразить то, что было до
рождения каждого отдельного человека и что будет после его смерти.
Поэтому исходная задача языка — установление связи между поколениями,
т.е. устранение дисконтинуитета внутри человеческого рода.
Неформальный язык опирается на заменители имен (местоимения); при этом сама
возможность неформальности обусловлена существованием формальной
строгости и исходит из нее. Включение слушающего в речевой акт слу-
583
жит у Розенштока-Хюсси основой понимания того, как слово становится
плотью. Согласно его концепции, имена уже изначально были
социальными императивами, а исторически первым падежом является
отнюдь не именительный, а звательный. Человек, внемлющий
императиву, приемлющий и выполняющий его, и делает слово плотью. Язык,
согласно Розенштоку-Хюсси, обеспечивает определенную, общую для всех
говорящих и слушающих организацию пространства и времени.
В самом деле, человеческая история протекает отнюдь не в
физическом пространстве-времени. Каждая культура с помощью особой
градации создает свое пространство и свое время, которые являются
искусственными и одинаковыми для всех членов данной общности. Все
дохристианские культуры, согласно Розенштоку-Хюсси, возникают из
диалогической ситуации и представляют собой данный раз и навсегда ответ на
вызовы надындивидуальных принуждающих сил (здесь налицо
некоторое сходство с концепцией А. Тойнби). При этом особое значение Ро-
зеншток-Хюсси придает смерти, понимаемой предельно широко. Более
того, он утверждает, что человеческая история начинается со смерти и
погребения. Любая человеческая общность пребывает не только в
пространстве, но и во времени, и одной из главнейших ее задач является
сохранение самотождественности. Если самотождественность в
пространстве обеспечивается равенством самим себе членов общности и
неизменностью пространственных связей между ними, то сохранение
самотождественности во времени сталкивается с феноменом смерти. Смертность
человека вынуждает его искать способ сохранения во времени если не
субстанциальной, то хотя бы функциональной самотождественности
общности. Поэтому каждый тип культуры создает, согласно Розенштоку-
Хюсси, особый «плот времени», на котором она, оставаясь равной самой
себе, плывет в потоке истории. В силу сказанного ранее, все формы
культуры оказываются различными типами одухотворения и,
соответственно, различными типами речевой ориентации, описывающими
«диспозиции» господства и подчинения. Если люди говорят друг с
другом при помощи слов, то Бог говорит с людьми с помощью «гештальтов»,
т.е. неких «прообразов» или целостных ситуаций, ставящих под вопрос
само человеческое существование. Бог ставит людей в критическую
ситуацию и требует от людей свободного ответа. Поэтому каждая культура,
по Розенштоку-Хюсси, — это плод божественного императива, это
услышанное, получившее ответ слово, ставшее плотью. В этом смысле она —
творение Бога.
Итак, каждая культура создает путем особой «разметки» свое
пространство и свое время, которые, тем самым, являются искусственными.
Ведь образовывать общность — значит жить в едином для всех членов
общности пространстве и едином для всех членов общности времени. Иначе
это можно выразить, сказав, что всякая общность «размечает»
пространство-время одинаковым для всех членов общности образом, и только в
таком едином пространстве-времени возможна трансляция совокупного
человеческого опыта. Именно об этом в свое время говорил И.Кант,
настаивая на априорности пространства и времени: иначе всеобщие и
необходимые суждения, аккумулирующие в себе общезначимый опыт,
действительно были бы невозможны.
584
Розеншток-Хюсси считает, что люди становятся говорящими для
того, чтобы осуществить переход от могилы одного поколения к
инициации следующего поколения. Человек — существо, которое погребает
своих умерших, и именно язык устанавливает связь между живыми и
мертвыми. Человеческая история, согласно Розенштоку-Хюсси, зависит
от понимания и признания смерти в качестве лона времени каждого типа
культуры. Животное рождается, но оно не в состоянии проникнуть в
прошлое, за пределы момента своего рождения. Люди научились
освобождаться от связанности своим рождением «здесь и теперь» именно с
помощью языка. Если человек научился говорить о своем
происхождении, т.е. о процессах, предшествовавших его рождению, то тем самым он
получает власть обсуждать и предвещать процессы, которые последуют за
его смертью. С появлением языка преодолевается «естественная» связь
рождения и смерти: смерть превращается в нечто «предшествующее». В
акте погребения предка человек, согласно Розенштоку-Хюсси,
побеждает свою изолированность, признавая своих родителей, жизнь которых он
призван продолжить. Погребение создает братство людей сквозь
времена, и могила становится лоном времени.
Противоположный полюс — инициация. Проходящему инициацию
говорят, куда он должен идти, и он учится предвосхищать свою смерть.
Его учат жить так, словно он способен преодолеть собственную смерть.
Ему дается имя — императив, которому он должен следовать, и это имя
призвано пережить его плотскую смерть. Таким образом, погребение —
это второе рождение (в качестве предка), а инициация — первая смерть
(в качестве чисто биологического существа, изолированной особи, не
занимающей никакой ячейки в социальной структуре). Поэтому язык
создает свободу, мир, упорядоченность и вводит человека в пространство
и время, выходящие за пределы возможностей его органов чувств.
Именно язык осуществляет сверхприродное трансцендирование пространства
и времени, и именно потому он, согласно Розенштоку-Хюсси,
оказывается не просто системой знаков или сигналов, не просто «говорением»,
а формой публичного поведения, устанавливающей длящиеся во времени
межчеловеческие отношения. Это приводит Розенштока-Хюсси к
весьма оригинальной концепции происхождения человеческого языка. Если
язык устанавливает связи между живыми и мертвыми, то как конкретно
это происходит?
Первой формой собственно человеческой общности является, как
известно, род, который возникает сразу вслед за первобытным стадом и
обычно определяется как союз кровных родственников. Но как
определяется это кровное родство? Ведь этнографические данные убедительно
свидетельствуют, что на самых ранних этапах человеческой истории у
людей нет отчетливых представлений ни о причинно-следственных
связях вообще, ни о связи между половым актом и рождением ребенка.
Согласно концепции Розенштока-Хюсси, собственно человеческая история
начинается с табуирования инцеста и установления экзогамии. Запрет
половых связей внутри первичной человеческой группы делает «своих»
женщин ничьими и, тем самым, устраняет главный источник
противоречий, раздирающих первобытное стадо, — борьбу за самок. Еще одним
механизмом, регулирующим складывающиеся человеческие отношения,
585
оказывается погребение. Животные никого не погребают и умирают в
одиночестве — более того, известно, что, умирая, многие животные сами
ищут уединения. У людей же отношение к смерти оказывается
двойственным.
С одной стороны, она вызывает вполне понятный страх, и, кроме
того, сама близость к мертвому телу сопряжена с чисто биологической
опасностью. Отсюда — стремление изолировать умершего и тем самым
устранить опасное действие самой смерти. С другой стороны, смерть
одного человека вполне естественно воспринималась как нарушение
жизнедеятельности человеческого коллектива в целом. Поэтому понятно
стремление первых людей каким-то образом сохранить умершего среди
живых, заполнить возникшую в коллективе брешь. В результате умершие
становятся духами, а само место погребения — объектом поклонения. Но
это невозможно без формирования идеи, что после физической смерти
человека все же продолжается некая жизнь — непонятная, таинственная,
грозная, способная оказать пагубное воздействие на живых, но в то же
время порой оказывающая им помощь. Дух рода — это то, что
сохраняется после физической смерти всех его членов, принадлежащих к
одному поколению, «членов-современников».
В самом деле, что обеспечивает устойчивое равенство рода самому
себе или, иначе говоря, его самотождественность? В принципе, род —
это совокупность его членов. Но означает ли это, что смерть всех членов
рода, принадлежащих к одному поколению, равносильна физическому
исчезновению данного рода? Разумеется, нет. Род продолжает
существовать, и потомки заступают на место предков. А это приближает нас к
выводу, что члены рода как надбиологической общности — это не
только и не столько биологические особи, сколько определенные функции
внутри самого рода. Погребая умерших, род стремится сохранить
именно функцию, которую затем и начинает выполнять потомок. Перенос на
потомка функций его предка совершается д,форме своего рода
«инструкций» духа умершего. Поэтому, следуя этой логике, мы должны признать,
что род существует не только в пространстве (иначе он просто
физически исчезал бы вместе со смертью всех «членов-современников»), но и во
времени. В связи с этим огромное значение имеет представление о
новом воплощении (реинкарнации) умерших предков. Эта реинкарнация,
как свидетельствует этнографический материал, считается
происходящей, в основном, в двух «носителях». Во-первых, это тотем, а во-вторых,
новорожденные дети. Культ предков вкупе с идеей реинкарнации не
только обеспечивает единство рода в настоящем (т.е., в сущности, в
пространстве), но и обеспечивает механизмы преемственности, духовного
наследования, т.е. передачи функций от предков к потомкам, которые
только поэтому и становятся потомками. И все же, как конкретно
осуществляется связь между живыми и мертвыми?
Обычно, пишет Розеншток-Хюсси, сооружают так называемый
«столб мертвых», или «тотемный столб», на котором чаще всего
вырезаются одни глаза (эволюция этого изобретения достигла своей
кульминационной точки в надгробном памятнике). Смысл такого сооружения
состоит в создании представления, что глаза умершего и из могилы
неотступно смотрят на живых, контролируя все их дела и поступки. Кро-
586
ме того, тотемный столб позволяет, так сказать, носить с собой свои
погребения, а для кочующего рода это — единственный способ сохранять
связь с предками и при этом не оставаться на месте. Но ведь мертвые
сами не могут ни говорить, ни петь и, разумеется, они не в состоянии
отвечать на обращенные к ним вопросы. Умерший предок
оказывается способным по-настоящему контролировать живых лишь тогда,
когда он может быть определенным образом «вызван» и получит
возможность «говорить». Розеншток-Хюсси обращает внимание на то, что
реально создание представления о таком «вызывании духа»
осуществляется с помощью масок.
Шаман (колдун, знахарь и т.п.) надевал маску умершего предка и с
помощью специальных приемов доводил себя до состояния высшего
психического напряжения, экстаза. В этот момент, как считалось, его
душа покидает тело, и в него входит дух умершего предка. Шаман как бы
предоставляет свое тело этому духу, и умерший предок начинает
«говорить» сквозь ротовое отверстие маски. Согласно Розенштоку-Хюсси,
именно в ритуальном танце рядом с «тотемным столбом» в ритме,
задаваемом шаманом, и формируется род как совокупность потомков
умершего предка. Все собравшиеся благодаря ритуальному танцу «публично»
признают себя его потомками, хотя на самом деле физически они могут
ими и не быть. Но о чем говорит голос умершего предка? Очевидно, он
должен требовать от живых отчета о сохранении и поддержании
установленного им порядка — о продолжении существования рода в качестве
некоего единого «социального тела», которому, как и всем достижениям
культуры, постоянно угрожает опасность возвращения в хаос природного
состояния. Согласно Розенштоку-Хюсси, усилие, обеспечивающее
защиту против хаоса и дезорганизации, и создается языком. Поэтому язык
возникает отнюдь не для того, чтобы как-то назвать окружающие
человека вещи или просто что-то сообщить другим людям. Функцию
именования обыденных вещей и передачи повседневных сообщений язык
приобретает позже.
Действительно, слова, возникающие из мимолетного контакта с
вещами, тотчас же забываются: здесь, как и во всей сфере культуры,
действует закон «энтропийного» рассеяния. Слова, справедливо считает
Розеншток-Хюсси, могут сохраняться очень долго лишь тогда, когда они
порождены необходимостью защищаться от опасности возвращения
хаоса и дезорганизации, от угрозы впадения в животное, дочеловеческое
состояние. А это значит, что язык не мог возникнуть в сфере
повседневности. Он мог сформироваться только на собраниях рода в состоянии
экстаза. Поэтому язык оказывается, прежде всего, средством
обеспечения единства рода, т.е. возможности для каждого человека проникнуть за
пределы собственного рождения и собственной смерти, стать
наследником умершего предка и предком грядущего потомка. Поэтому было бы
ошибкой, считает Розеншток-Хюсси, выводить язык из отрывочных
звуков, издаваемых животными, или системы жестов и мимики, поскольку
все они обозначают (называют) предметы, доступные органам чувств.
Подлинно человеческий язык должен был именовать невидимое,
сверхчувственное, т.е. то, что выходит за пределы возможностей пяти органов
чувств человека. Таковы, прежде всего, события до рождения человека и
587
после его смерти, и язык обеспечивает единство, непрерывность рода
человеческого.
Язык позволяет сохранить присутствие умершего предка (его
социальную функцию) среди живых. Поэтому первой, исходной формой
языка должно быть признано имя. Розеншток-Хюсси считает, что исходным
именем следует считать имя умершего предка, выкрикиваемое во время
ритуала его погребения; это имя остается после его смерти. При этом
само имя рассматривается как внутренняя, глубинная сущность того, кто
им нарекается. Розеншток-Хюсси настаивает, что процесс называния
должен был использовать в качестве исходного не нейтральный
именительный, а эмоционально насыщенный звательный падеж, поскольку
называние предполагало снятие обезличенности и пугающей
непознаваемости вещи или процесса. Кроме того, называние не могло не быть
ритуальным действием, участники которого сплачивались в тождественном
понимании сущности называемого.
Имя умершего предка обладает магией в том смысле, что оно не
только объединяет людей вокруг себя, но и придает межчеловеческим
связям вполне определенную структуру. Этим же объясняется перенос
имен умерших на новорожденных: такой перенос означает
реинкарнацию. В рамках концепции Розенштока-Хюсси считается, что с
именами связана некая особая энергия, переходящая от одного поколения
к другому: имя — своеобразный «очаг творческого образования
личности» (П.А. Флоренский). Имена для Розенштока-Хюсси — это особые
точки сверхнапряжения, фокусы общественных взаимодействий и
общественных ожиданий. Именно в них концентрируется энергия
новой, уже не животной, а человеческой среды. В этом смысле имена
всегда чего-то требуют от своих носителей, они — социальные
императивы, а потому способны творчески формировать тех, на кого они
направлены.
Согласно Розенштоку-Хюсси, в именах «оседает» жизнь духа: ведь
«духом» обычно и называют способность имени так охватывать
прошедшие и отдаленные области жизни, что они обретают актуальность для
людей, которые дали это имя3. В ритуалах в качестве «точек
переизбытка» организовывались и структурировались обширные пространственно-
временные области, делающие возможной совместную жизнь людей. В
священном ритуале каждое имя, раскаленное, испускающее искры
экстатического перевозбуждения, выходило за пределы физического и
психического к своему «трансцендентному» смыслу. Поэтому первые
имена, согласно Розенштоку-Хюсси, должны были иметь как бы
двухслойную структуру. С одной стороны, они называли вещи «видимые», т.е.
доступные органам чувств человека. С другой стороны, они указывали на
«невидимое», а именно — на структуру общности и на место человека в
ней, т.е. на его социальную роль или функцию в общности. В
соответствии с логикой Розенштока-Хюсси получается, что, называя ту или
иную вещь, первый язык имен мог говорить о ней лишь постольку,
поскольку она была способна служить средством организации
общественных отношений. И есть основания предполагать, что первые люди
вообще не говорили о вещах как таковых, они их просто не замечали.
«Вещью» могло стать лишь то, что «вещало» о социальном порядке, установ-
588
ленном умершим предком, т.е. то, что имело отношение к ритуальным
собраниям рода.
Таким образом, согласно Розенштоку-Хюсси, первые элементы
человеческого языка, имена, изначально были метафорами, поскольку
метафора предполагает использование слова не по его «прямому»
назначению, а в «переносном смысле». Поэтому метафора принципиально дву-
планова и взаимодействует с двумя различными типами объектов. В
результате мы приходим к выводу, что первые слова человеческого языка
возникают в качестве священных имен, бывших и социальными
императивами, и метафорами. Розеншток-Хюсси считает, что местом
рождения языка является не повседневность с ее монотонностью и рутиной, а
экстатические ритуалы рода, в ходе выполнения которых рождался
возвышенный язык священных имен. С помощью этого периодически
повторяемого ритуала воспроизводилась структура рода, структура первых
общественных отношений, установленных умершим предком, которого
воспринимали как культурного героя. Именно ритуал предписывал
каждому человеку его место в структуре рода.
Поэтому в роду танцевали все его члены, и ритуальный танец был
своеобразной «выбраковкой», распределением социальных ролей,
«назначением на должность». Розеншток-Хюсси особо подчеркивает, что
танцам человеческих тел в ритуале соответствует и «танец» священных
имен. Эти имена могли исходить из единственного легитимного
источника — духа предка. Следовательно, и произносящий имя в качестве
императива, и выполняющий приказание, содержащееся в
имени-императиве, подвластны некоей общей для обоих, стоящей над ними силе.
Бледной копией этого параллелизма танца человеческих тел и «танца»
имен являются, например, детские считалки: в них, как в древних
ритуальных танцах, происходит одновременно и распределение ролей, и
присвоение соответствующих имен. Поэтому ритуальные танцы рода и
сопряженные с ними «танцы» имен — это своеобразная матрица
социальной структуры рода.
Однако ритуал не может длиться бесконечно, рано или поздно он
завершается, а имена, переходя в сферу повседневности, «остывают». Как
же сохранить, продлить сформированную ритуалом организацию
родовых отношений? Ведь, будучи предоставлена самой себе, эта структура
неизбежно распадается в соответствии с законом «энтропийного»
рассеяния. Язык, согласно Розенштоку-Хюсси, и служит этой цели, выступая
в качестве заместителя ритуала в промежутках между его выполнением,
т.е. в то время, когда род не собирался вместе. Согласно убеждению Ро-
зенштока-Хюсси, только эта функция могла сохранить язык на
протяжении столетий и тысячелетий: ведь утрата языка означала бы утрату
способности поддерживать и транслировать во времени родовую структуру.
Важно отметить, что первые люди, как полагал Розеншток-Хюсси,
начинают не с того, чтобы говорить, а с того, чтобы слушать. Живые
слушают, а «говорит» дух мертвого человека (сквозь маску шамана).
Поэтому история человеческого языка начинается не с «я», а с «ты».
Имена побуждали членов рода к движению, к разведению огня, к войне
и т.д., поскольку имя — это, прежде всего, социальный императив,
призыв к совершению некоего действия или совокупности действий. Следо-
589
вательно, в первых именах была стерта грань между «существительным»
и «глаголом». А высшему, священному действию, в котором, как частные
случаи, заключены все остальные действия и которое вынуждает
человека есть, пить, спать, ходить, говорить и т.д., соответствует и высшее
священное имя — Имя имен, Имя Бога. Таким образом, Бог — это
поименованная принуждающая сила, Высшее Имя и одновременно Высший
Глагол, и только Бог способен первоначально сказать о себе «Я».
Правда, на рассматриваемом этапе истории культуры это представление
находится еще в зачаточном состоянии, но все предпосылки для его
формирования уже налицо. И вообще, род — это лишь начальная стадия
человеческой культуры, основанная на определенной организации
пространства-времени. Другие типы культуры предполагают иные формы
такой организации. Хотя количество вызовов и даваемых на них ответов
в принципе бесконечно, все они укладываются в четыре формы —
одновременно общественные и языковые.
Мы не хотели бы лишать читателя того удовольствия, которое он
может получить, приступив к медленному и вдумчивому чтению
оригинальных текстов Розенштока-Хюсси. Речь идет прежде всего о важном
смысловом блоке, начинающемся с обширной статьи (а по существу,
брошюры) «Человеческий тип как форма для чеканки, или
Повседневные истоки языка» и заканчивающемся «Плодом уст». Эти работы
нужно читать подряд, именно в том порядке, как они расположены в нашей
книге и как их расположил сам автор. Из них читатель поймет суть
созданной Розенштоком-Хюсси концепции всемирной истории и,
соответственно, истории человеческой культуры. Поэтому в дальнейшем
изложении мы ограничимся лишь весьма общей схемой. Но отказаться от
рассмотрения даже упрощающей суть дела схемы нельзя, поскольку это
необходимо для понимания культурологических воззрений Розенштока-
Хюсси.
В исторических попытках создания различных типов культур как
совокупности условий совместной жизни людей можно выделить четыре —
нет, не типа, а именно предельно конкретные общественные формы,
которые лишь затем могут быть распространены более или менее
широко. Первой такой формой является рассмотренный выше род, который с
помощью языка и других символических средств преодолевает
изолированность каждого человека как биологической особи и обращает свои
взоры в прошлое, неуклонно повторяя архетипы, заданные в «нулевой»
момент времени культурным героем. Время рода организуется как
замкнутый цикл, оно свернуто в кольцо, таким вполне определенным
образом «синхронизируя» совместную жизнедеятельность людей. Но у
времени есть не только прошлое, но и настоящее, и будущее.
«Территориальные (храмовые) царства» или «космические империи»,
лабораторно чистым образцом которых является Древний Египет,
«синхронизируют» свою совместную жизнедеятельность, созерцая вечное и
неизменное круговращение звезд и тем самым соотнося себя с вечным
настоящим. Эта оседлая культура невозможна без формирования
представлений о территории как некоей площади, очерченной
определенной линией в качестве границы, и об объединении нескольких таких
территорий. Для этого необходимо было создать принципиально отли-
590
чающийся от родового механизм «синхронизации» совместной жизни,
действие которого распространялось бы на тысячи километров. Но духи
предков не могут простирать свое влияние так далеко: их власть
ограничена силой голоса шамана, «озвучивающего» их приказания, и
пределом слышимости, присущим человеческому уху. У человеческих глаз
есть и предел видимости — если смотреть вдаль. А если направить
взгляд ввысь? Есть ли наверху что-то такое, что можно наблюдать
всегда и что имеет почти одинаковый вид для людей, рассеянных на
довольно большой территории?
Очевидно, это небосвод, имеющий свой собственный нерушимый
ритм. Таким образом, если сделать основой общего ритма жизни небо,
то все смогут видеть один и тот же источник общего ритма и, стало быть,
смогут жить в этом общем ритме. Мы не описываем выявленный Розен-
штоком-Хюсси весьма остроумный механизм такой «синхронизации»,
отметим лишь, что и в этом случае время культуры оказывается
циклическим, точно следуя за циклами обращения небесных светил. Но эти
циклы столь велики по сравнению с продолжительностью отдельной
человеческой жизни, что время представляется остановившимся, кажется
неким «вечным настоящим» (речь идет о так называемом «великом
египетском годе» (эоне), равном 1460 годам).
Израиль, поставив субботу как точку абсолютного разрыва в конце
недельного цикла и Иом Кипур как такую же точку внутри годового
цикла, размыкает кольцо «вечного возвращения» родов и «территориальных
царств», впервые создавая «линейное» время. Древнееврейская культура
и начинается с отмежевания от обоих этих типов культуры. Израиль,
согласно Розенштоку-Хюсси, вел ожесточенную борьбу на три фронта и
победил (на третьем фронте борьба велась против древнегреческой
культуры, о чем речь впереди). Поэтому стать евреем значило, прежде всего,
перестать быть членом рода и подданным «территориального царства» и
более не поклоняться собственному разуму, как поступали греки.
Отмежевание от культуры родовой общины — смысл ветхозаветного
эпизода, связанного с жертвоприношением Исаака. В самом деле,
принесение первенцев в жертву — один из основополагающих ритуалов
рода. Когда Исаак не был принесен Авраамом в жертву, само это
событие стало символом того, что дух не переходит от одного поколения
(предков) к другому (потомков), а исходит от единого Бога, общего для
всех поколений — Бога не только Авраама, но также Бога Исаака и Бога
Иакова (как Он и сказал о Себе из Неопалимой купины).
Следовательно, провозглашается общее сыновство всех людей перед лицом единого
Бога, и Ему не нужна смерть первенцев. Если бы Исаак все же оказался
принесен в жертву, то мы получили бы еще один род среди других родов,
род Авраама, а отнюдь не самобытную культуру Израиля.
Известный ветхозаветный эпизод, связанный с «золотым тельцом»,
знаменует собой отмежевание от культуры «территориальных царств»,
поскольку культ быка был в этом типе культур одним из основных. Если
бы Моисей отнесся к созданию фигуры «золотого тельца» терпимо, то
никакой особой древнееврейской культуры просто не возникло бы.
Появилась бы еще одна культура, построенная по принципу
«территориального царства», и только. Отныне же небо перестает быть божественным,
591
над ним стоит Бог-Творец. Небо тварно, и поклонение ему (например,
в культе золотого тельца) оказывается всего лишь разновидностью
идолопоклонства.
Отсюда же и фундаментальное представление Библии о том, что Бог
творит мир из ничего. До Израиля идея творения вообще отсутствовала,
и господствовали представления либо об эманации, либо об оформлении
некоей изначальной субстанции. В древнееврейской космогонии,
напротив, имеется только Бог, который и творит мир из ничего. Возможно,
лучше было бы сказать «ни из чего», поскольку рядом с Богом не
допускается никакой наличной субстанции, хотя бы она и называлась «ничто».
Но если мир творится из ничего, это означает, что отсекаются все связи
(причинно-следственные, функциональные и др.), которые делали бы
творение зависящим от прошлого. Мир, сотворенный единым Богом
Израиля, считается изначально свободным, не зависящим от
предшествовавших ему событий и процессов. Более того, творение считается
продолжающимся, поскольку вода, земля и, наконец, человек сами
создают новое, то, чего не было (согласно недавним филологическим
изысканиям, первый стих Библии следует точнее читать так: «В начале начал
творить Бог небо и землю»).
Следует особо подчеркнуть известный факт, что под «небом» в
первом стихе Библии нельзя понимать эмпирическое, доступное
человеческим органам чувств небо: это духовный мир, все, что готово
воплотиться, стать чем-то вещественным, осязаемым. Небо, сотворенное Богом, —
это будущее, готовое стать настоящим, и Бог открывает Себя как
Грядущий, как Бог будущего. Напротив, «земля» первого стиха — это все
вещественное, из которого и формируется материальный мир, в том
числе и «твердь», т.е. эмпирическое небо, и «суша», т.е. эмпирическая земля.
Культуры, предшествовавшие Израилю, жили в циклическом
времени. Но Бог Авраама, Исаака и Иакова творит мир, и все циклические
процессы устанавливаются раз и навсегда. Поэтому в древнееврейской
культуре божественным считается лишь то^ что однократно. Розеншток-
Хюсси постоянно подчеркивает, что древнееврейская культура смотрит
свысока на бесконечную гонку, характерную для вынужденных кочевать
родов и оседлых «территориальных царств», неотрывно следящих за
поворотами колеса фортуны. И Бог, Творец Мира, и Его народ, Израиль,
отдыхают каждый седьмой день. Поэтому, как считает Розеншток-Хюс-
си, заповедь соблюдения субботы, сакрализация субботнего покоя —
главное и в ветхозаветной Библии, и в древнееврейской культуре в
целом. Суббота оказывается абсолютным разрывом в круговороте времени,
освобождением от содержания шести предшествовавших дней. В субботу
мир подготавливается для нового творения, поскольку прошлое и
настоящее объявляются чем-то уже бывшим.
Бог Израиля требует от человека постоянного отказа от собственной
воли, и потому обожествление собственной воли, следование всем ее
прихотям считается едва ли не худшим видом идолопоклонства. Должна
исполниться не воля человека, а воля Бога. Познание воли Бога после
того, как цели, поставленные человеком самому себе, открылись как
недостижимые, и есть, согласно Розенштоку-Хюсси, то, что называется
Откровением. Поэтому древнееврейская культура смотрит на все из кон-
592
ца времен, и вещи оцениваются отнюдь не с той точки зрения, что они
из себя представляют. Гораздо важнее то, чем они должны быть. Высший
смысл, находящийся в конце времен, создает своеобразную тягу, под
действие которой попадает все существующее: будущее диктует нормы
настоящему, и потому только в этой культуре Слово Бога может стать
плотью.
Тем самым, основные «элементы» времени — прошлое, настоящее и
будущее — служат своего рода фундаментами различных культур, и,
казалось бы, четвертой культуры быть не может. Тем не менее, в
концепции Розенштока-Хюсси такая культура есть, и это — Древняя Греция. Эта
четвертая культура создает качественно новый тип времени — досуг,
свободное время, пребывая в котором человек свободен от всех
обязанностей перед богами и людьми. Только имея досуг, — schole, — можно иметь
школу, т.е. особое игровое пространство-время, в котором допустимо
постоянно ошибаться и мыслить абстрактно, оставаясь при этом
совершенно безнаказанным.
Действительно, человек, пребывающий в сфере серьезности, а не
игры, не может ошибаться и мыслить абстрактно — это сразу же
приведет к кораблекрушению, пожару, гибели скота и т.д. Человек в сфере
серьезности вынужден постоянно помнить и о своем конкретном
положении в обществе, и о своих конкретных обязанностях. В противном
случае это приведет к самым серьезным последствиям: жизнь — не игра.
Совершенно иначе все выглядит в школе. Поэтому только в школе, т.е.
в игровом пространстве-времени, можно абстрагироваться, отвлекаясь и
от своего конкретного места в общности, и от конкретного адресата
своих суждений. Только в школе можно безнаказанно предаваться
иллюзиям, считая, что мыслить можно везде и всегда, обращаясь при этом «ни
к кому», к некоему «адресату вообще», и в то же время скрывать, кто ты
сам — мыслящий.
Поэтому и философия вообще, и платоновская метафизика для
Розенштока-Хюсси являются закономерным продуктом особого типа
межчеловеческих связей, существующих только в границах школы.
Школьное мышление превращает Бога в идею Бога, в «божественное»,
и помещает его в мир идей. Розеншток-Хюсси пишет: «Поклоняться
божественному смешно. Ибо «оно» всегда меньше, чем «я». Тем самым
душа обманом лишается власти советоваться с собой, не претерпевая
при этом ущерба. «Оно» — это всегда то, о чем говорится. Ни по
отношению к автору этой книги, ни по отношению к ее читателю нельзя
употребить слово «человеческое»; они являются и продолжают быть
автором или читателем либо читательницей. Говорящий и слушающий —
это именно существа, имеющие пол. «Человеческое» отрицает борьбу,
предшествующую всякой классовой борьбе — борьбу между полами и
между поколениями»4 .Таким образом, метафизическое мышление
оказывается изначально вневременным, а повсеместное распространение
духа школы создает иллюзию, будто метафизика является
единственным и чуть ли не «естественным» способом мышления. Претензия
абстрактного мышления на универсальность вытесняет воспоминания о
прежних формах речи и затушевывает конкретно-исторический фон
возникновения метафизики.
593
Четыре культуры соприкоснулись в границах римского лимеса и
открыли для себя свою взаимную непроницаемость. Только
искупительный подвиг Христа смог открыть их навстречу друг другу и, таким
образом, положил начало новой культуре, в хронотопе которой мы живем и
ныне. И это было высшей точкой человеческого отношения к смерти.
Роды отрицали смерть: культурный герой, как считалось, не умирал, его
дух говорил с людьми сквозь маску шамана. «Территориальные царства»
релативировали смерть, строя храмы, пирамиды и мумифицируя
покойников, т.е. были ориентированы на вечность. Израиль лишь терпел
смерть в процессе ожидания Мессии. Греция забывала о смерти в
художественном и философском творчестве. Но только Иисус,
подчеркивает Розеншток-Хюсси, придал смерти позитивное значение. Он умирает
совсем не так, как умирают за государство, науку, искусство, идеалы и
т.д. Такого рода жертвенная смерть исходит из представления о вечности
и неизменности того, за что умирают. Так легко встречали гибель
античные герои и вообще представители всех дохристианских культур, ибо она
предполагала бессмертие той системы межчеловеческих отношений, к
которой они принадлежали. Крестная смерть Иисуса имеет совсем
другое качество и совсем другой смысл. Он умирает для того, чтобы вместе
с Ним умерли те четыре типа культуры, ценности которых Он
сосредоточил в Своей душе. Это смерть для старой жизни ради любви к новой.
Это «исход» из старого мира, окончательный разрыв всех старых связей.
Умереть должны были бы зашедшие в тупик, закосневшие четыре
культуры, объединенные римским лимесом. Смерть Иисуса является
искупительной, или заместительной жертвой, поскольку она замещает
собой принесение каждой культурой в жертву части самой себя ради трех
остальных — вместо того, чтобы их уничтожить; и только так можно
«пробиться» и к другому человеку, и к другой культуре — жертвуя частью
своей души. Если бы Иисус не был распят, а ограничился только
проповедями и притчами, то Он стал бы основателем еще одного учения, а Его
дух сделался бы лишь одним среди множества других враждовавших
между собой духов эпохи. Но Его смерть стала смертью за форму жизни,
«выпадающую» из всех существовавших до него форм. Для Розенштока-
Хюсси христианство связано, прежде всего, с размыванием границ
между четырьмя типами культуры и формированием новой культуры в
горизонте единого исторического времени.
Итак, как мы видели, ответы, даваемые каждой дохристианской
культурой, постепенно абсолютизируются в своей неизменности, изолируя
культуры друг от друга и препятствуя им осознать неизбежность
собственной смерти. Христианство отрицает окончательность
сформулированных различными культурами ответов, и Иисус Христос, согласно Ро-
зенштоку-Хюсси, умирает для того, чтобы вместе с ним умерли те четыре
типа ценностей, которые он соединил в своей душе. Таким образом, это
не смерть за неизменные ценности, а смерть для старой жизни ради
любви к новой, т.е. «исход» из старого мира. При этом весьма существенна
связь Иисуса Христа с революцией, совершенной иудаизмом. В самом
деле, уже Авраам отменяет представления о божественности отца для
сына, характерные для рода. Бог — это Бог Авраама, Исаака и Иакова, и
перед лицом всеобщего отцовства сын приобретает независимость от
594
своего отца, от того уже закосневшего ответа, который был дан отцами
и стал основой соответствующей культуры. Сын получает право дать
собственный ответ. Поэтому быть сыном еврейского народа означает
право давать ответы, отличные от ответов отцов. Неизменность иудейского
закона парадоксальным образом состоит в требовании изменчивости. Но
и этот закон, согласно Розенштоку-Хюсси, способен окаменеть, т.е.
подойти к своей смерти. Тогда человек будет чувствовать себя только
сыном Авраама — но не более того. Иисус Христос действует и как сын
Авраама, и как человек, ответ которого состоит в требовании подчиняться
Богу больше, чем Аврааму и другим «отцам». Тем самым он становится
Сыном Божиим. Он уничтожает расхождения между отцами и
сыновьями, неизбежные, если сыновья получают право давать свои ответы. Для
этого люди, следуя Христу, должны отказаться от своей «локальной»
родословной и включить себя в состав генеалогического древа
человеческого рода, стать сыновьями Адама и, тем самым, сыновьями Бога
(отсюда две родословные Христа у евангелистов Матфея и Луки: у первого он
назван Сыном Давидовым и Сыном Авраамовым, а у второго — Сыном
Адамовым, Божиим).
Это — тайна смерти Иисуса Христа, поскольку он проживает до
конца все четыре формы культуры, и прежде всего ту, из которой сам
происходит. Он отваживается умереть как иудей в тот момент, когда
четыре формы культуры должны были раскрыться навстречу друг другу (по
Розенштоку-Хюсси, в разрыве с локальными рамками иудаизма —
главный смысл догмата о непорочном зачатии, блестящей речевой формулы,
созданной апостолами). Но он умирает и как представитель трех
остальных типов культуры, тем самым разрушая их герметичность. Для этого
Иисус Христос отказался от форм жизни и форм языка, которые
сделали бы его «великим» или «значительным». Самой своей жизнью,
состоявшей из постоянного умирания, и своей крестной смертью Иисус
Христос показал, что не может быть никаких ответов, данных раз и
навсегда. Поэтому, считает Розеншток-Хюсси, евангелия — это не био-графии,
а танато-графии, и христианская культура строится не на жизни, а на
смерти Иисуса Христа. Своей смертью он попрал смерть дохристианских
культур: от смерти нельзя убежать, ее можно только впустить в саму
жизнь и уже там преодолеть. Следовательно, Иисус Христос и его
апостолы понимаются Розенштоком-Хюсси как люди, пришедшие вовремя,
и только на этой основе могла возникнуть церковь в качестве ek-klesia,
т.е. группы людей, «вы-званных» из своих социальных ячеек, из своих
прежних дохристианских форм жизни. «Кеносис» Бога состоит в том, что
Иисус Христос как Слово Божие начинает следовать за человеческими
ответами, возникшими из самого этого Слова. Но тем самым все
человеческие ответы делаются относительными: они могут воскреснуть,
только умерев вместе с Христом.
Культура должна измениться, т.е. позволить какой-то своей части
умереть для того, чтобы ее не настигла окончательная и полная смерть.
Иисус Христос, подчеркивает Розеншток-Хюсси, зримым образом
пережил все ложные вечности, наглядно продемонстрировал умение
предвосхищать свой неизбежный конец, а потому — необходимость
своевременно погребать все мертвое в себе. Языческие культуры умирают вместе со
595
своими святынями, если считают их бессмертными. Напротив,
христианская культура позволяет части своих ценностей, идеалов, идей,
обычаев и т.д. умирать и тем самым ускользает от полной и окончательной
смерти. Только христианство, выявив смертность языческого мира,
разрушает исключительную связь человека с «его» миром и открывает путь
к единству культур.
Однако Иисус Христос является, согласно Розенштоку-Хюсси, не
началом, не концом, а самим средоточием истории, ее центром.
Христианское летоисчисление основывается на посылке, что отдельно
взятый момент времени должен осознаваться как элемент единого
времени и что с приходом Иисуса Христа все времена «заговорили», образуя
всемирную историю. Это и означает разрушение герметичности
дохристианских культур, поскольку каждая форма культуры, как мы видели,
основана на определенной организации времени и, соответственно, на
определенной речевой ориентации. Именно поэтому, следуя
новозаветной характеристике (1 Тим. 1:17), Розеншток-Хюсси называет Иисуса
Христа «царем веков»: он собирает все «веки» (эоны), и все они
узнают себя в нем. Розеншток-Хюсси утверждает: «Христос как средоточие
истории в наши дни стал научным требованием рассудка.
Христианское летоисчисление — это рациональное требование. Без него
академический мир не является научным. В первом тысячелетии верующие
должны были любить Христа. Во втором тысячелетии они должны
были, по крайней мере, веровать в него... Но в третьем тысячелетии мы
должны надеяться на Христа, поскольку иначе мы окажемся в хаосе
шабаша всех свободных духов. Надежда — это задача нашего
одухотворения. Христианское летоисчисление становится духовным результатом
надежды, и без него, в противодействии ему, за его пределами не
существует ни направления, ни начала, ни конца истории человеческого
рода. Ибо история — это связь поколений»5.
Вся история в концепции Розенштока-Хюсси предстает в качестве
истории спасения, и ее цель открывается как творение единого
человеческого рода. Революции в этом контексте становятся неизбежными и
кардинальными изменениями, формирующими новый человеческий
тип. Однако в настоящее время, считает Розеншток-Хюсси, эпоха
революций завершается. В этом смысле революции — независимо от их
моральных оценок — суть продолжение творения. Они являются продуктом
христианской культуры, неизменно продвигающейся к единству
несмотря на провалы и откаты назад. Но возможны и выпадения из
христианского летоисчисления: таковыми для Розенштока-Хюсси, несомненно,
были нацизм и сталинизм. Иными словами, рецидивы неоязычества не
исключены, и христианская культура, как и любая другая, требует
постоянно возобновляемых человеческих усилий. В настоящее время,
считает Розеншток-Хюсси, мы переходим в постхристианскую эпоху,
поскольку уже почти нет людей, которые никогда не слышали о Кресте.
Постхристианский образ жизни состоит в том, чтобы, руководствуясь
полнотой собственной истины, тем не менее быть в состоянии признать
истины других людей и даже жить в соответствии с ними. Розеншток-
Хюсси выражает это в формуле: «Respondeo etsi mutabor» («Отвечаю,
даже если должен буду измениться»), которая приходит на смену декар-
596
товскому принципу: «Cogito ergo sum» («Мыслю, следовательно
существую») и девизу Ансельма Кентерберийского «Credo ut intellegam»
(«Верую, чтобы понимать»).
При жизни взгляды Розенштока-Хюсси были известны лишь
немногим его друзьям и студентам, хотя, как уже отмечалось, они и
оценивались высоко такими «властителями дум» двадцатого столетия, как П.Тил-
лих, Л.Мэмфорд и Х.Кокс. Концепция языка Розенштока-Хюсси
оказала сильное влияние на выдающегося американского поэта У.Х. Одена, а
через него, возможно, на И.Бродского. В целом, Розеншток-Хюсси до
сих пор остается маргинальным мыслителем, а его идеи проникают в
современные гуманитарные науки, главным образом, через посредство его
немногочисленных учеников и последователей. Надеемся, что
предлагаемый отечественному читателю сборник его избранных работ вызовет
интерес и стимулирует разработку проблем современной культурологии
в России. Похоже, что в наши дни, в преддверии третьего тысячелетия,
Розеншток-Хюсси начинает медленно перемещаться с окраины в самый
центр духовной жизни.
***
Составитель и переводчик выражает глубокую благодарность внуку
Ойгена Розенштока-Хюсси г-ну Марку Хюсси (США) за любезное
разрешение перевести на русский язык и опубликовать в России работы,
включенные в данный сборник. Неоценимой была также помощь сына
Ойгена Розенштока-Хюсси, профессора Ханса Хюсси (США), который
прилагал немало усилий для пропаганды теоретического наследия
своего отца. К сожалению, профессор Х.Хюсси не дожил до выхода в свет
этой книги. Нельзя не отметить и огромного вклада в дело перевода и
издания данного сборника г-на Клинтона Гарднера, г-жи Фрейи фон
Мольтке, профессора Хэролда Стэймера (США), постоянная готовность
которых помочь позволила составителю и переводчику быстро получить
отсутствующие в России работы Ойгена Розенштока-Хюсси.
Примечания
1. Rosenstock-Huessy Е. Die Sprache des Menschengeschlechts. Bd. 2. Heidelberg,
1964. S. 456.
2. Rosenstock-Huessy E. Soziologie I. Stuttgart, 1956. S. 144.
3. Rosenstock-Huessy E. Die Sprache des Menschengeschlechts. Bd. 2. Heidelberg,
1964. S. 506.
4. Rosenstock-Huessy E. Soziologie II. Stuttgart, 1958. S. 514.
5. Ibidem, S. 282.
597
Указатель имен
Абеляр Пьер
Август, император
Августин Блаженный
Адеодат
Адриан, папа
Александер С.
Александр Македонский
Алкиной
Алкуин
Альтман Г.
Альтхейм Ф.
Амвросий
Аменхотеп IV,
фараон (см. также Эхнатон)
Ампелий, Луций
Ансельм Кентерберийский
Антоний Великий
Аристотель
Артур, король
Атилла
Ахелис
АшШ.
Баллин А.
Бальтазар Х.У. фон
Барт К.
Батлер
Бахтин M. М.
Белл А.Г.
Беллами Э.
Беньян Дж.
Бергсон А.
Бердяев H.A.
Бернхарт Й.
Бетета
Бехтель
Бисмарк О. фон
Биссинг фон
Блюм Л.
Бонавентура
Боннет Г.
Бонхеффер Д.
Бопп Ф.
Борнкамм Г.
Боэций
Браун Г.
Браунинг Р.
Бреннесселль А.
Брестед Дж.
Бриан А.
Брисбейнс А.
Бродский И.
Бругш Г. К.
Брукбергер, аббат
Бруннер Э.
Брэм А.-Э.
389, 560
173, 460
36, 37 - 49, 53, 55, 57-60, 62-64, 66-70, 71, 73 - 75,
88, 112, 126, 180, 234, 349, 371, 402, 407, 458, 494,
528,529, 540,543,555,558,562,563, 567,568,
570, 573, 574
42 - 45, 53, 55, 57-60, 62, 66, 67
201
38,528
318, 550
545
401,560
574
292
42
228, 236
185, 199, 538
36, 37, 74, 375, 472, 528, 530, 568, 597
492, 572
7-11, 28, 49, 208, 302, 318, 329, 399. 407, 414,
475, 476, 552, 569
553
552
562
326, 330, 555
125
573
78, 531, 560
234, 558
579
145
461, 568
572
38,507,528*
560, 561, 578
11
419, 422
552
92, 526
219
396, 560
322,555
185, 198
202, 540
130
360, 557
552
56, 530
569, 570
46
469
172, 536
478, 570
597
191,217,219,258,539,540
554
395, 402, 560
198,212
598
Бубер M.
Бультман P.
Буркхардт Я.
Бэкон Р.
Бэнкрофт Дж.
Вагеман А.
Вагнер Р.
Вайс И.
Вайсе Хр. Г.
Вайц Г.
Вайцзеккер В. фон
Варэ Д.
Вебер K.M. фон
Вебер М.
Веклейн Н.
Велльхаузен Ю.
Вентрис М.
Вергилий Публий
Вернер 3.
Вернон А.
Вессель Х.Х.
Вестерман К.
Викентий Леринский
Вико Дж.
Виламовиц-Меллендорф У. фон
Вильгельм I, император
Вильгельм II , император
Вильсон В.
Винкельрид А.
Виттиг Й.
Вольтер (Аруэ М.Ф.)
Вольф Ф.А.
Вотан
Вреде В.
Врис Я. Де
Вундт В.
Галилей Г.
Гамалиил
Гаман И. Г.
Гардинер А.
Гарднер К.
Гарнак А.
Гауптман Г.
Геббельс Й.
Гегель Г.В.Ф.
Гельдерлин Ф.
Генрих II , император
Генрих III , император
Георг из Остии
Георге С.
Гераклит
Геринг Г.
Гермокл
Геродот _
Гертель Й.
Герцфельд Э.Э.
Гесиод
Гёте И.В.
Гиббон Э.
242, 279, 543, 560. 578, 579
56, 78, 202, 258, 296, 331, 435, 527, 529, 531,
534, 540, 549, 556, 563
449, 564
494
449, 564
57, 542
302
326, 555
234
449
526
249, 543
19
78, 526, 531
307, 552
305, 552,
310, 553
188, 235,304,306,307
525
384, 559
560
300, 550
346, 556, 566, 567
454, 567
168, 305, 307, 309, 337, 470, 535
263
271,280,480
178, 443, 479
380, 559,
59, 458, 530, 531, 534, 559, 566
210, 569
168,309,470, 535, 552
176
471,555
304
130
9,525
331,555, 570
579
218, 227, 260, 266, 271, 449, 541, 542, 546, 564
597
56, 373, 435, 529, 558, 563
330, 555
137, 552, 562
28, 51, 127, 242, 243, 269, 374, 404, 445, 507,
535, 549, 571
167, 191, 243, 254, 260, 535, 539
357
178
201,540
449,564
579
80
354
281
285, 548, 565
281, 285, 290, 547, 549, 565
316, 565
17, 46, 92, 172, 180, 208. 233, 260, 266, 270, 289,
303, 308, 315, 340, 365, 373, 392, 410, 413, 426, 444
349, 557
599
Гинц В.
Гиппократ
Гитлер А.
Гитон Ж.
Гладстон У.Ю.
Гобино Ж.А. де
Голль Ш. де
Гомер
Гораций
Готтль фон
Грант Ф.С.
Григорий VII , папа
Гримм Я.
Гудспед Э.Дж.
Гумбах
Гумбольдт В. фон
Гундольф Ф.
Гюго В.
Давид, царь
Данте Алигьери
Дарвин Ч.
Дарий 1 , царь
Дарий III , царь
Дарси Ж.
Де Врис Я.
Деметрий , полководец
Демокрит
Декарт Р.
Деций , император
Джеймс У.
Джеке Л. П.
Джонс Р. М.
Джосер, фараон
Дибелиус М.
Дизраэли Б.
Димитров Г.
Диоклетиан , император
Древе А.
Дрейфус А.
Дхалл М.Н.
Дьюи Дж.
Дюма Ф.
Дюмезиль Ж.
Дюркгейм Э.
Дюшен-Гийемен М.Ж.
Жильсон Э.А.
Жувенель Р. де
Заад Цааки
Зенон
Зете
Зибель Г. фон
Зомбарт В.
Зундвалл И.
Зудгоф К.
Зусман М.
Ибсен Г.
Игнатий Богоносец
Иероним
285, 295, 300, 548
487
10, 22, 31, 72, 98, 102, 123, 184, 189, 202, 325, 385,
395, 396, 432, 442, 443, 453, 454, 484, 516, 517, 527
48, 566
574
9, 167, 168, 383, 525, 535
443
134, 167, 183, 196, 278, 304-307, 309-318, 320,
337, 352, 357, 360, 371, 456, 470, 502, 553, 554
126, 307
25
459, 566
394, 402
130
379, 558
285
130, 216, 218,533, 541
562
167
77, 183, 226, 334-336, 348, 350, 351, 366, 428, 517
19, 232, 304, 306, 410, 488
72, 73, 210, 383, 449, 468, 579
281, 282, 283, 285, 288, 317, 547
550
541
552
354, 557
412
28, 37, 179, 234, 235, 269, 450, 469, 505
527
38, 164, 377,528, 559, 570
512, 574
457,568
539
326, 555, 558
172, 535
80
172,173
224, 542
291
565
45, 72, 73, 174, 416, 466, 469, 562
234
290,291,548,549
130, 533
290, 549
36, 528
458
218
318
258
449, 564
13
544
413, 562
549
294
558, 574
18,333
600
Иларий Исаак 372, 558
Имхотеп 190, 203, 210, 264, 539
Иоанн, евангелист 8, 78, 84, 120, 325-327, 329, 332-334, 342-348,
350 - 353, 357, 360, 362, 365, 366, 368 - 372, 375,
376, 379, 380, 397, 401, 429, 435, 443, 444, 478,
479, 485, 499, 553, 557, 567
Иоанн XXIII, папа 271
Иоахим Флорский 462, 566, 568
Иордан П. 439, 563
Ираклий 68, 69
Ирод, царь 226, 336, 428
Исайя 74
КаймерЛ. 186
Калинин М.И. 430
Кальвин Ж. 12, 13,494,516
Камбис II , царь 544
Канамори 367
Кант И. 7, 27, 28, 36, 40, 135, 207, 374, 408, 584
Карл Великий, император 210, 213, 236, 272, 560
Карл Лысый, король 555
Карл V, император 22
Квинт Э. 330
Кеес 258
Кемпнер Ф. 307
Кеннеди Дж. 90, 159
Киплинг Р. 120
Кир II Великий , царь 280 - 283, 285, 294, 295, 298,. 299, 544, 547, 550
Кирдорф 125
Кирилл Александрийский 458, 568
Кирхгоф А. 274, 305, 552
Клакхон К. 172, 536
Кларк А. 354,557
Клемансо Ж. 15, 167, 172, 443, 526, 535
Климент Александрийский 559
Клопшток Ф.Г. 314, 532, 553
Ковалевская С. 403
Кокс X. 597
Колумб X. 22
Кондорсе М.Ж.А.Н. 462, 463, 465, 568
Константин, император 173, 226, 227, 294
Конфуций 508, 512
Коперник Н. 312
Кох Р. 20, 412, 449, 450, 526, 562
Краль Й 247
КреберА.Л. 128,574
Кролль В. 525
Кромвель О. 237,348
Кроме Б. 466, 568
Ксенофон 280, 494, 520, 547
Ксеркс, царь 281,285,288
Курно А.О. 8
КурциусЭ.Р. 213, 541
Кьеркегор С. 40, 528
Кэйбот Р. 573
Кюнеман О. 121
Лагерлеф С. 373, 558
Лактанций 536
Лаланд 8
Лангер С. 89
Лао-цзы 508 - 513, 515, 517 - 520, 523, 524
Лаум 125
ЛафлешФ. 160, 161
601
Лахман К. 234
Лаша 7-9,525
Лев XIII, папа 20
Ленин В.И. 22, 51, 245, 348, 430, 443
Леонардо да Винчи 270, 413
ЛёвитК. 13,525
Линкольн А. 486
ЛинтонР. 120,532
Лиф У. 552
Лойман М. 307, 308, 313, 525
Лука, евангелист 18, 325, 327, 331, 333, 336, 337, 339 - 343, 345,
346, 348 - 358, 360, 362, 366, 368, 369, 373, 375,
376, 379, 380, 479, 558, 595
Лукреций 185
Лэйдеккер К. 412
Лэйк К. 458
Людендорф М. 21, 443, 527
Людендорф Э. 527
Людовик XVIII, король 278
Лютер М. 18, 37, 77, 79, 82, 88, 92, 127, 342, 348, 374, 429,
449, 479, 494, 564
Маделунг А. 14
Май О. 13
Май Э. 77
Майер Э. 220
МайнхофУ. 168
Маккейб Дж. 574
Маколей Т. 449, 564
Малахия 212
Малиновский Б.К. 120, 532
Манн Т. 559
Марк Аврелий, император 571
Марк, евангелист 219, 234, 235, 325, 327, 333, 334, 337, 339, 342,
343, 345, 346, 350-352, 354 - 360, 362, 366, 368,
370, 372, 375, 376, 479, 558
Маркион 56, 373, 529
Маркс К. 51, 54, 127, 155, 204, 242, 243, 269, 383, 430,
445, 446, 459* 461, 566, 579
МароК. 290, 291, 549
Масперо Г.К.Ш. 233, 271, 542, 546
Матфей, евангелист 68, 219, 235, 237, 325, 327, 330, 332-336, 338,
339, 341 - 343, 345, 347 - 352, 356 - 358, 362 -368,
370, 372, 375, 376, 379, 449, 479, 556, 558, 595
Маутнер Ф. 16, 526
Мейе А. 548
Мейер Э. 305, 552
Меланхтон Ф. 444, 479, 564
Менар Ф. 444, 564
Менее, фараон 188, 194, 209, 210, 222, 228, 243, 257, 264, 266
Мериджис П. 274
Микеланджело Б. 270, 291
Мильтон Дж. 369
Молотов В.М. 430
Мольтке Г. Дж. фон 527, 578
Мольтке Ф. фон 578, 597
Моммзен Т. 274, 449, 545, 564
Мондольфо Р. 565
Монтескье Ш. Л. 511, 574
Монтесума I 555
Монтесума II 555
Морган А.де 562
Моргенштерн X. 13,526
602
Моренц 3.
Моруа А.
Моултон Дж.
Моцарт В.А.
МутК.
Мэйоу У.
Мэмфорд Л.
Мэтер К.
Мюррей Г.
Наполеон Бонапарт
Нармер, фараон
Нерон, император
Николаи Ф.
Николай I, папа
Николай Кузанский
Ницше Ф.
Нойгебауэр О.
Норден Э.
Ноткер Заика
Овербек Ф.
Оден У. X.
Олар Ф.В.А.
Ориген
Оттон II, император
Павел, апостол
Парацельс
(Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм)
Парето В.
Парменид
Пассери
Пастернак Б.Л.
Перибсен, фараон
Перикл
Петр, апостол
Петри Ф.
Пигалев А.И.
ПигуА.С.
Пилат Понтий
Пиндар
Пифагор
Планк М.
Платон
Плиний
Полибий
Придик Г.
Пруст М.
Птахотеп
Птолемей
Рамсес, фараон
Ранер Г.
220, 265
513, 574
285
260, 285
577
574
597
132
163
263
219, 241, 253, 259, 268, 273, 276
183,321
307, 552, 557
401
56, 322, 529, 555
38, 46, 153, 191, 210, 245, 285, 302, 316, 348,
383, 407, 440, 459, 474, 477, 482, 484, 488, 495,
499, 566, 569, 579
214, 223,542
234, 534
305, 552
566
597
449, 564
479, 570, 573
178
58, 66, 138, 183, 199, 220, 318, 327 - 329, 331, 336,
337, 345-349, 355, 365, 368, 372, 378, 379, 384,
385, 389, 399, 401, 408, 409, 428, 441, 443, 444,
491,494,500, 555-558,572
412- 416, 418, 425, 435, 437, 468, 526, 562, 567
461, 568
204
274, 275
563
247
339, 456
183, 199, 327, 332, 333, 337, 339, 342 - 345, 352,
358, 359, 361, 362, 365, 369, 370, 375, 376, 378,
380,401,443,444,479, 570
271
545
567
321, 326, 570, 571
10,82, 150
7, 252, 272, 412, 414, 447, 562
61
7, 8, 28, 42, 46, 49, 55-57, 63, 64, 82, 166, 202,
207, 208, 302, 312, 316, 318, 349, 352, 353, 370,
399, 407, 412, 414, 415, 418, 435, 457, 475, 494,
529, 553, 569
257
454, 567
526
480
278, 545
312, 558
271, 545
566
603
Ранк (Розенфельд) О.
Ранке Л. фон
Распутин Г.Е.
Рассел Б.
Реймарус И.С.
Рейснер
Рейценштейн
Ренан Ж. Э.
Ричард III, король
Робеспьер М.
Розенцвейг Ф.
Розенштейн Р.
Розеншток-Хюсси О.
Ройс Дж.
Рокфеллер Дж.
Ростов А.
Рузвельт Т.
Рузвельт Фр. Д.
Руссо Ж.Ж.
РэндЭ.К.
Рюккерт Ф.
Сантаяна Дж.
Свинг Р. Г.
Сен-Симон (Клод Анри де Рувруа)
Сент-Экзюпери А. де
Сепир Э.
Сесотрид, фараон
Сигер Брабанский
Симон Маг
Смит А.
Смит Б.
Смит B.C.
Смит М.У.
Сократ
Соловьев B.C.
Соломон, царь
Сорокин П.А.
Софокл
Спартак
Сталин И.В.
Стеймер X.
Стефан
Стэнфорд У. Б.
Талейран Ш.М.
Таунсенд Е.
Тацит
Твен М.
Темплар, генерал
Тереза из Коннерсройта
(Тереза Нойман)
Тиллих П.
Тит Ливии
Тойнби А.
Томпсон Д.
Траубе Л.
Траян, император
Трейчке Г. фон
Трельч Э.
Троцкий Л.
120, 532
202,218,220, 540
480
510, 574
471, 555
189, 238,258, 262, 271
326, 569
339, 556
71
348
38, 45, 242, 528, 531, 543, 549, 560
555
130, 193, 203, 223, 229, 237, 244, 254, 263, 267,
272, 279, 525 - 534, 536, 538 - 540, 543, 545 -
547, 549 - 553, 555, 556, 558 - 560, 562, 563, 565,
566, 573, 577 - 597
504, 514, 574
46
78, 531
174, 513
443, 470
114, 118, 136, 210,329
206
78, 531
467, 568
506
37, 53, 434, 528, 563
425
169, 535
271, 545
476
373
472, 568
558
541
285, 289,292,301,565
55, 152, 302, 442, 487, 490, 520
59, 530, 561
348, 479
461,568
17
385
15, 51, 210, 213, 242, 309, 381, 430, 443, 444, 541
597
338,341,348,349,365,556
315, 316
444
572
209
488
459
442, 564
560, 578, 597, 565
340
584
14
206
558
374, 449, 559, 564
402, 560
348, 442
604
Тутанхамон, фараон
Тэн И.А.
226
449, 564
Узенер Г. 247, 543
УисслерК. 154-157
УитьерсДж.Г. 548
УландЛ. 314,553
Уэбстер Д. 512,548
Уэсли Дж. 388, 550, 560
Уэсли Ч. 299, 550
Фален И. 327
Фалес 507
Фейербах Л. 579
Фемистокл 304
Феодосии I, император 222
Феофил 333, 337, 338, 341, 342, 345, 346, 370
Феррари Дж. 60, 530
Ферстер Ф.В. 442, 564
Феттер Э. 274, 275
Фик 552
Филипп II, царь 550
Филолай 414
Фиопс II, фараон 234
Фихте И.Г. 11
Фишер К. 95, 532
Флекс В. 260, 544
Флобер Г. 167
Флоренский П. А. 561, 588
ФогаццароА. 317,554
Фома Аквинский 7-12, 29, 329, 408, 476
Формоз, папа 173
Форсдайк Дж. 553
Форхаймер П. 536
ФосколоУ. 415, 562
Франклин Б. 118
Франс А. 167,326
Франциск Ассизкий 486, 570
Фрейд 3. 53, 120, 176, 468, 579
Фридрих II, король 10, 16, 183, 227, 229, 525, 543, 550
Фрост Р. 520, 574
Фрэзер Дж.Дж. 474, 570
Фукидид 340
Хабахи 218
Хайдеггер М. 528
Хайлер Ф. 540
Харрис С. 538
Хебер Р. 559
Хеллер Э. 24
Хельк 219
Хеопс, фараон 259
Хефрен, фараон 258, 270, 276
Хольцман Г.Ю. 556
Хомяков A.C. 561
Хоремхеб 226, 227
Хоу Дж. 22
Хубер О. 526
Хух Р. 378, 559
Хэйс Б. 532
Хюгель Ф. фон 405, 472, 560, 566
Хюсси А. М. 577, 578
Хюсси М. 597
Хюсси X. 597
605
Цезарь, Гай Юлий
Цинциннат, Луций Квинкций
Циммерман Э.
Цицерон, Марк Туллий
Чарнвуд
Чемберлен Х.С.
Чепмен
Черчилль У.
Честертон Г. К.
Шампольон Ф.
Швейцер А.
Шекспир У.
Шелер М.
Шеллинг Ф.
Шиканедер Э.
Шиллер Ф.
Шлаттер А.
Шмидт В.
Шмидт-Ротлуфф В.
Шопенгауэр А.
ШоттЗ.
Шоттелиус Ю.Г.
Шпенглер О.
Шпенер Ф.
Шпет Г.Г.
Шпицер Л.
Штауффенберг К. фон
Штенцель Ю.
Штольтенберг Г.Л.
Штрауман Г.
Штраус Ф.Й.
Штрейт Р.
Штэлин В.
Шуберт Ф.
Эбнер Ф.
Эвгемер
Эддингтон A.C.
Эйзенхауэр Д.
Эйнштейн А.
Эллиот Т.С.
Эмери У.
Эмерсон Р.У.
Эммет Д.
Эпикур
Эразм Роттердамский
Эренберг Р.
ЭренбергХ.
Эриугена Иоанн Скот
Эрих Ф.
Эрман-Грапов А.
Эсхил
Эхнатон, фараон
(см. также Аменхотеп IV)
Эшенбах В. фон
Юстиниан, император
Ясперс К.
132, 135, 137, 167, 210, 456, 494,
536
26
331, 555
571, 574
11,525
234, 558,
171, 174,501
457, 556, 573, 574, 580
558
328, 329, 331, 408, 409, 471, 546,
54, 237, 272, 369, 410, 540, 545
60, 530
535
548
180, 208, 222, 260, 270, 281, 315
375, 559
120, 157, 532
559
83, 423 - 425, 510, 531, 532, 563
190, 213, 238, 270, 543, 544
525
187, 349, 448, 449, 454, 461, 533,
14, 526
549
9, 525
527
15, 526, 567
275, 545
238
189
461, 568
549
260
534
213, 541
78,531
90,386
61,78, 439,468, 531
242
193, 195, 279
460, 568
573
318
55, 494, 529
418, 526, 563
408, 560, 561, 566, 572
322, 555
21, 562
214, 217, 219, 258, 267,. 278, 279
172
203, 225, 226, 228, 229, 236, 258,
553
461
298, 549
540
555, 561
534, 564,
,541
539
567
Составитель ИЛ. Осиновская
606
Содержание
Раса мыслителей, или Голгофа веры (Ред. Т.Е. Егорова) 7
Рабочие учат слишком мало, а учителя слишком много:
разгадка Августином загадки времени (Ред. Т.Е. Егорова) 36
Что есть человек?: В защиту неспециалиста (Ред. Т.Е. Егорова) 77
Человеческий тип как форма для чеканки,
или повседневные истоки языка (Ред. Т.Е. Егорова) 89
Послания к вечности: письма в Каир (Ред. Т.Е. Егорова) 183
Заратуштра: обретение голоса (Ред. Т.Е. Егорова) 280
Распевы Муз (Ред. Т.Е.Егорова) 304
Плод уст (Ред. Т.Е.Егорова) 320
История спасения против теологии (Ред. Т.Е. Егорова) 388
Временной спектр (Ред. Т.Е. Егорова) 412
Творение будущего (Ред. A.B. Матешук) 453
Вера в живого Бога (Ред. A.B. Матешук) 474
Домостроительство спасения (Ред. А. В. Матешук) 488
Проникновение Креста (Ред. A.B. Матешук) 501
Примечания 525
А. И. Пигалев. Язык, культура и история в «диалогическом
мышлении» Ойгена Розенштока-Хюсси 575
Указатель имен. Составитель И.А. Осиновская 598
607
Ойген Розеншток-Хюсси
Избранное
Язык рода человеческого