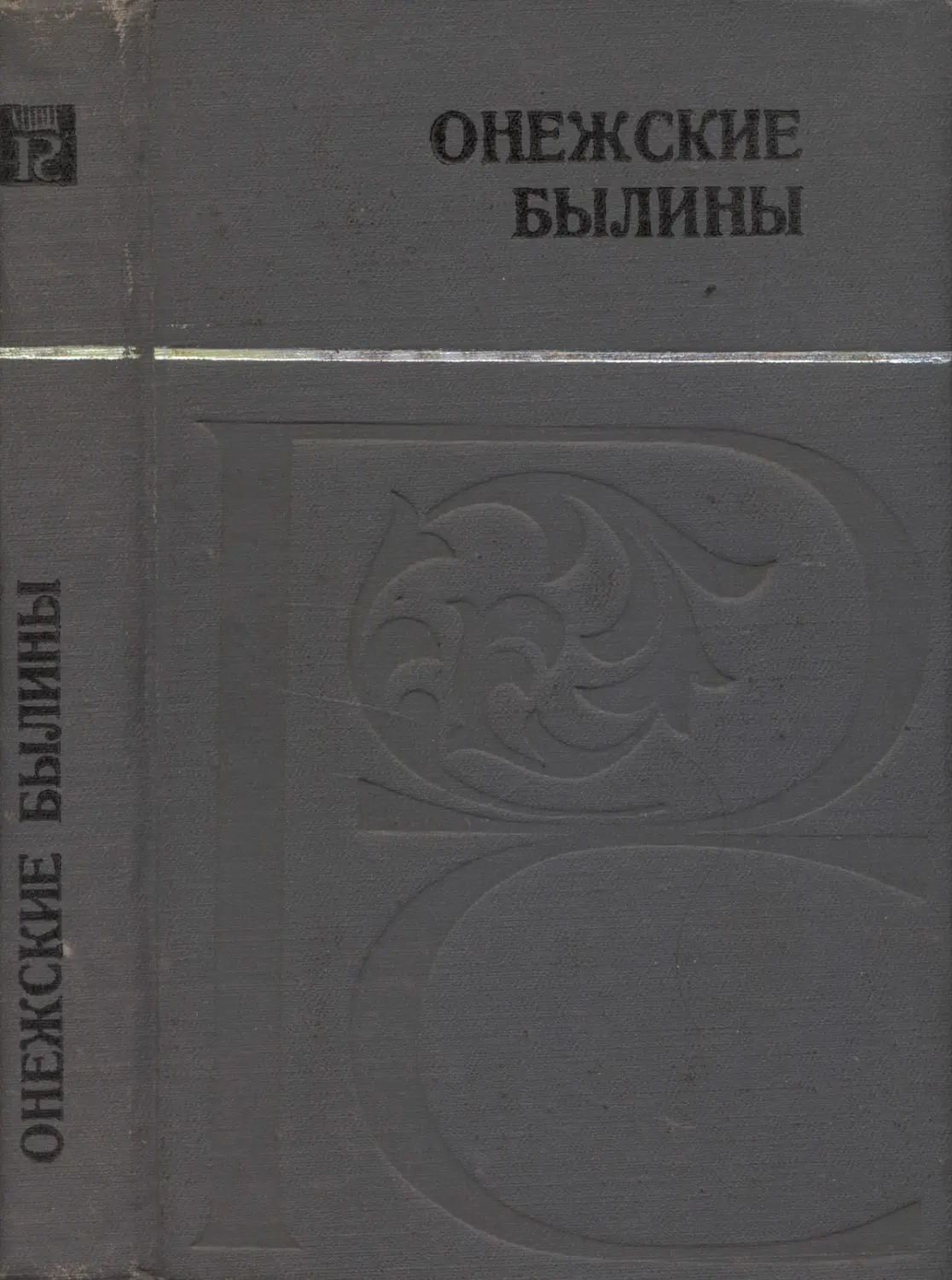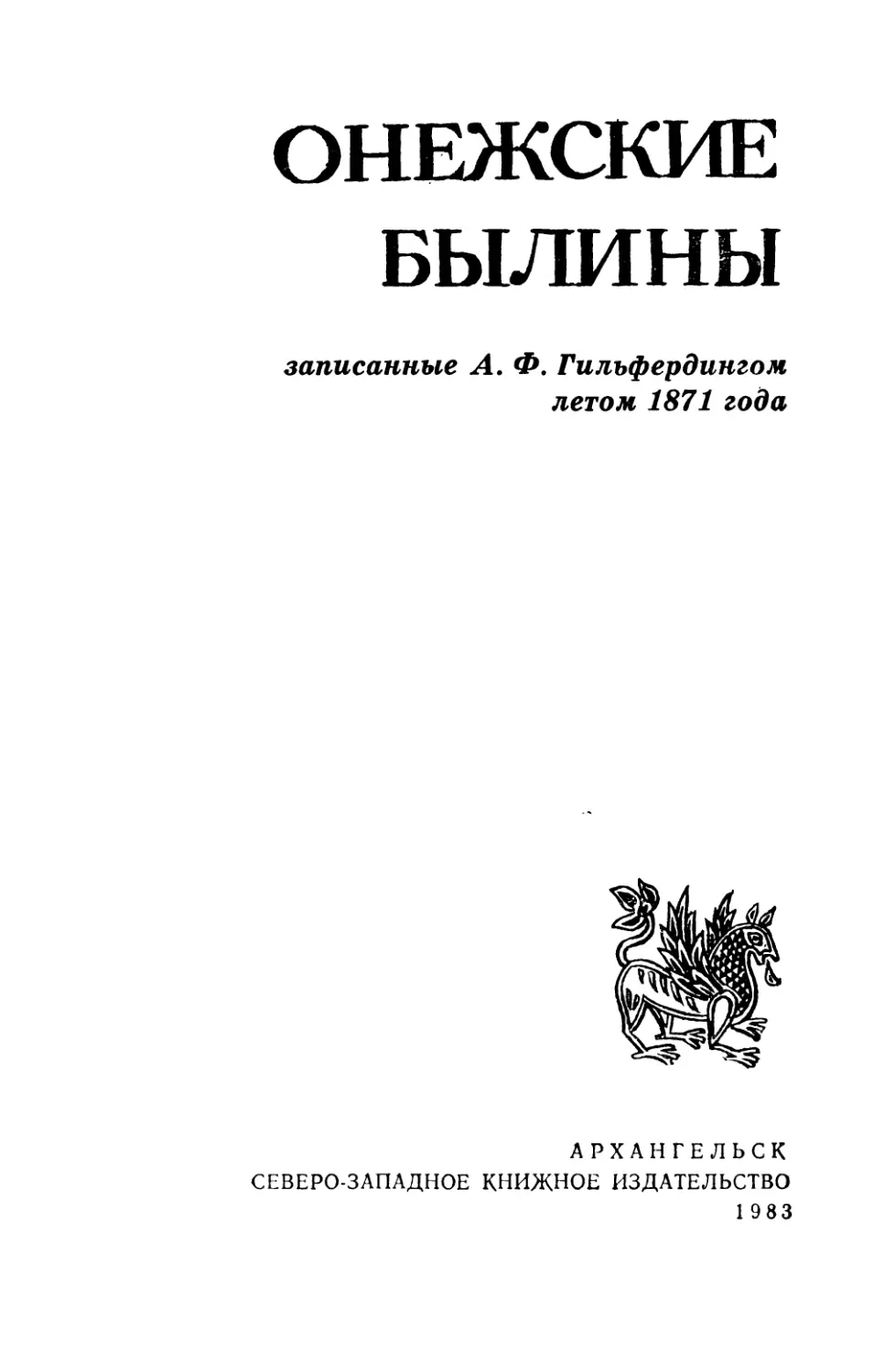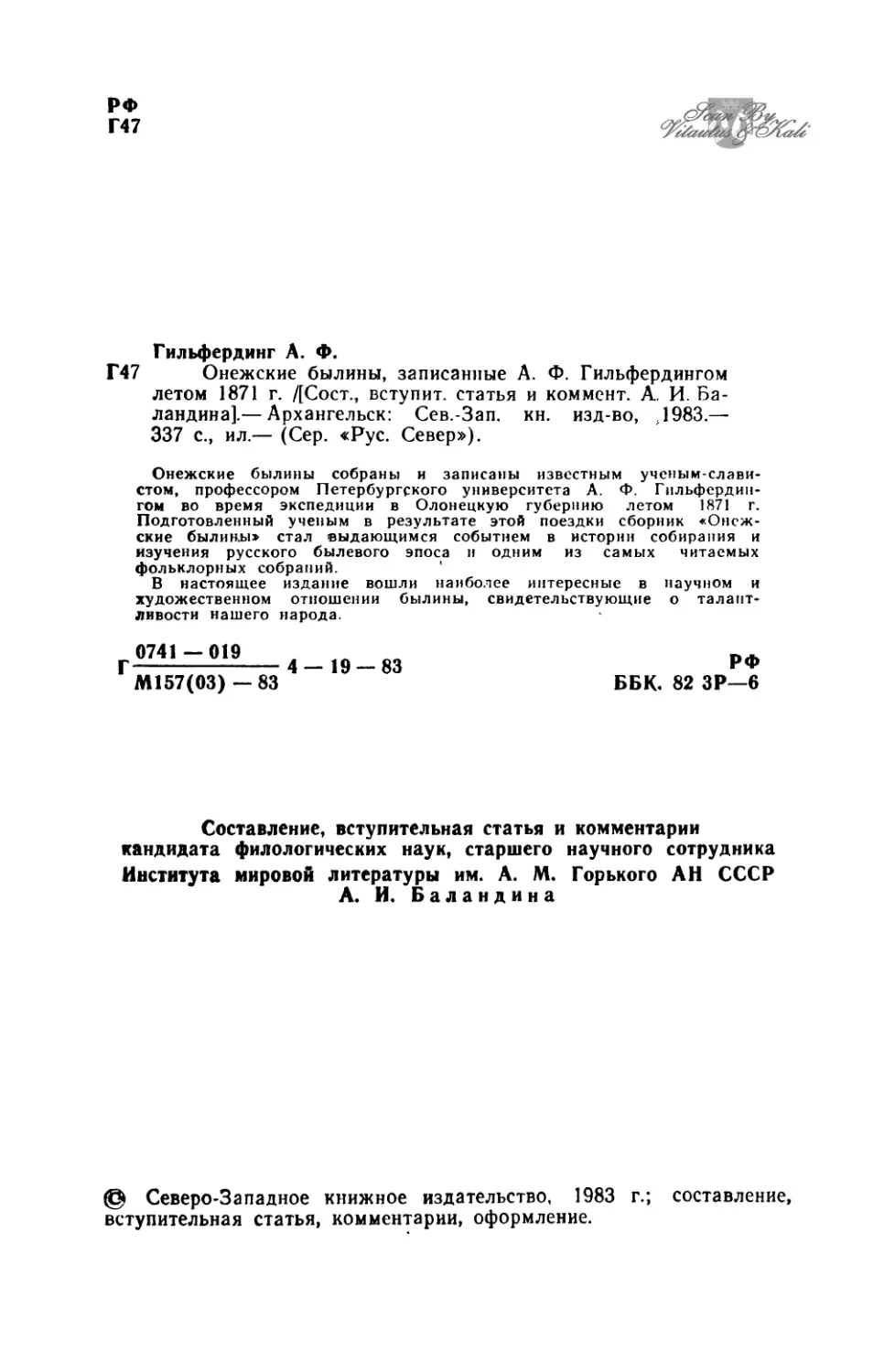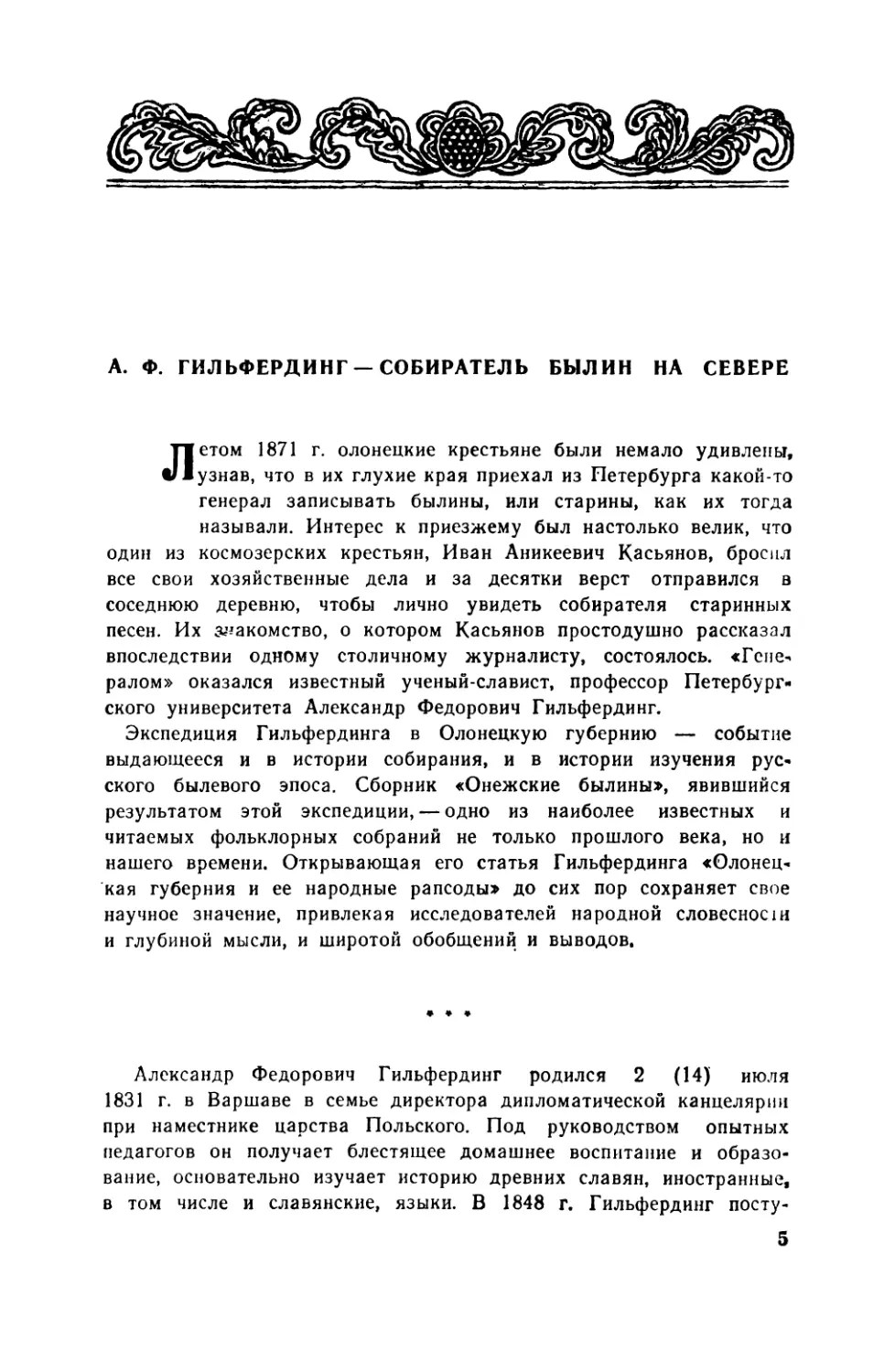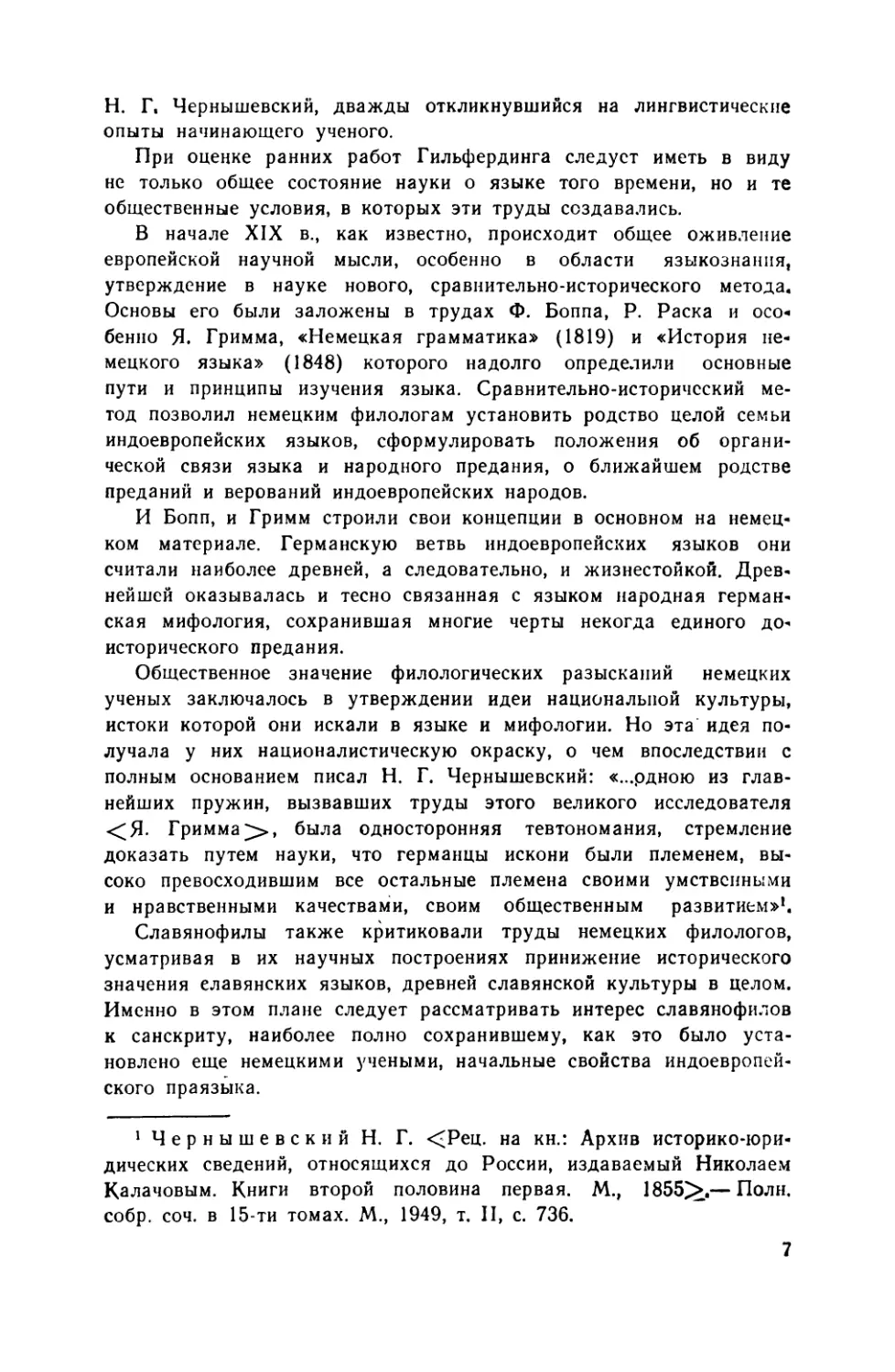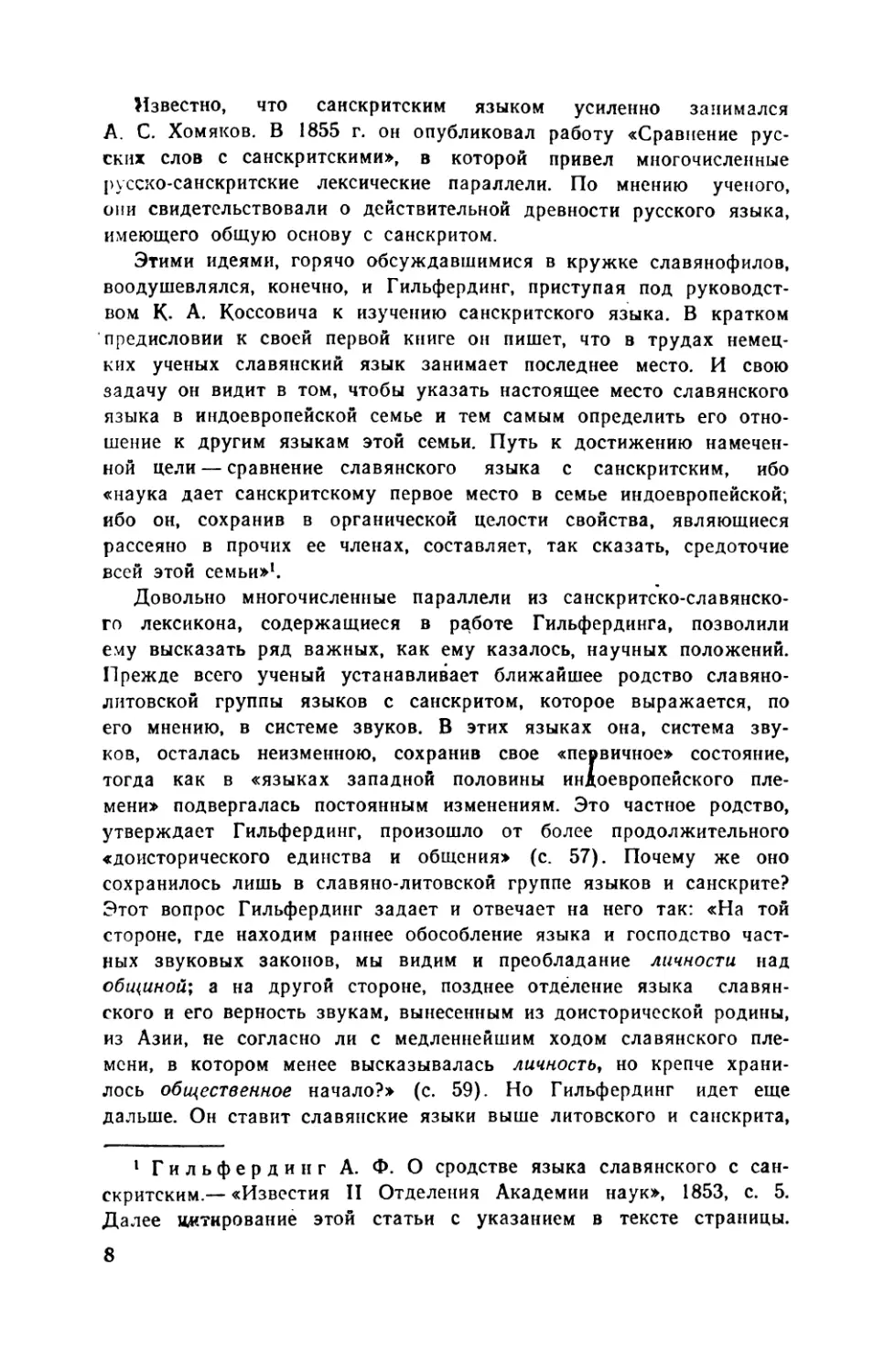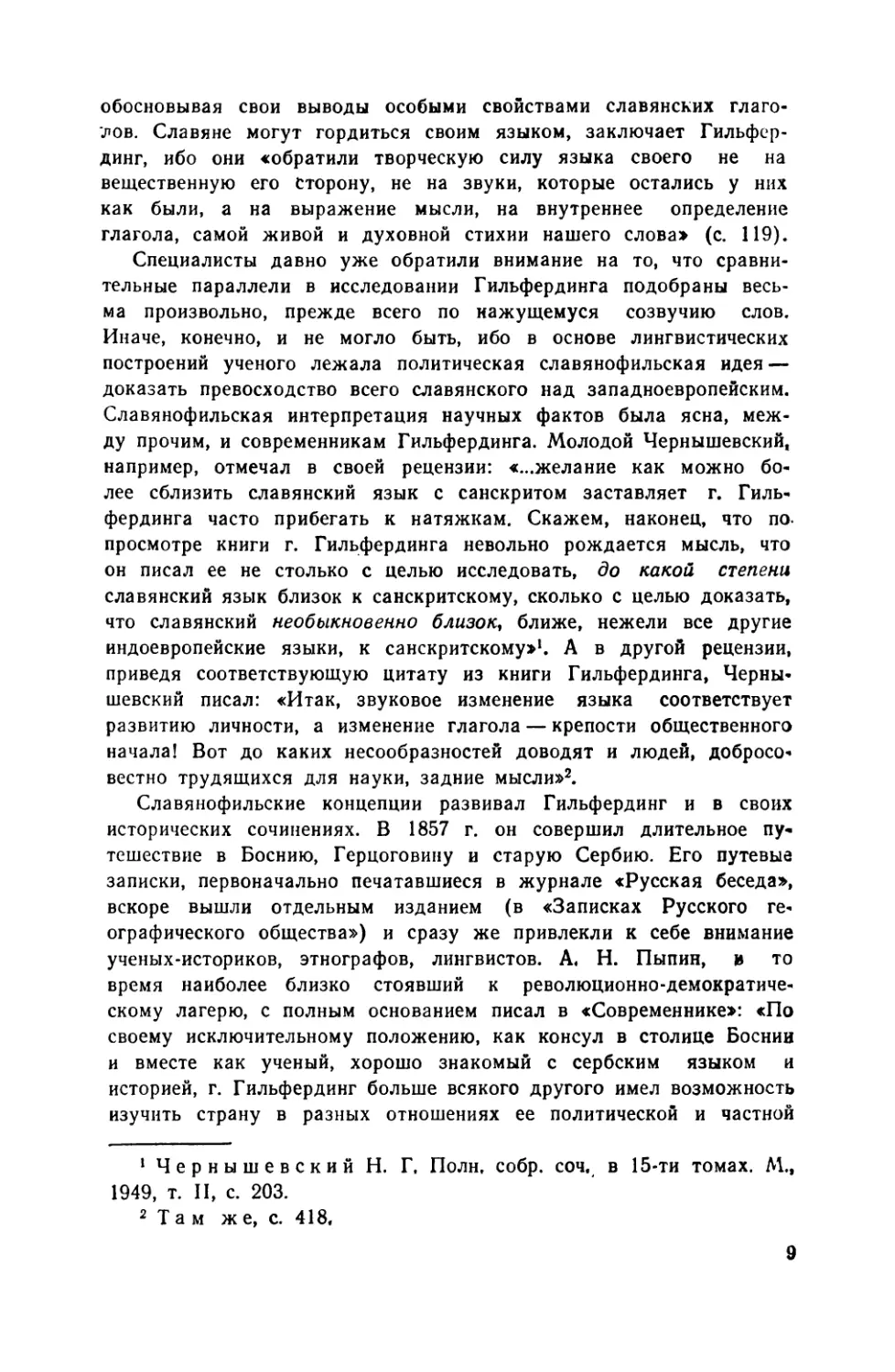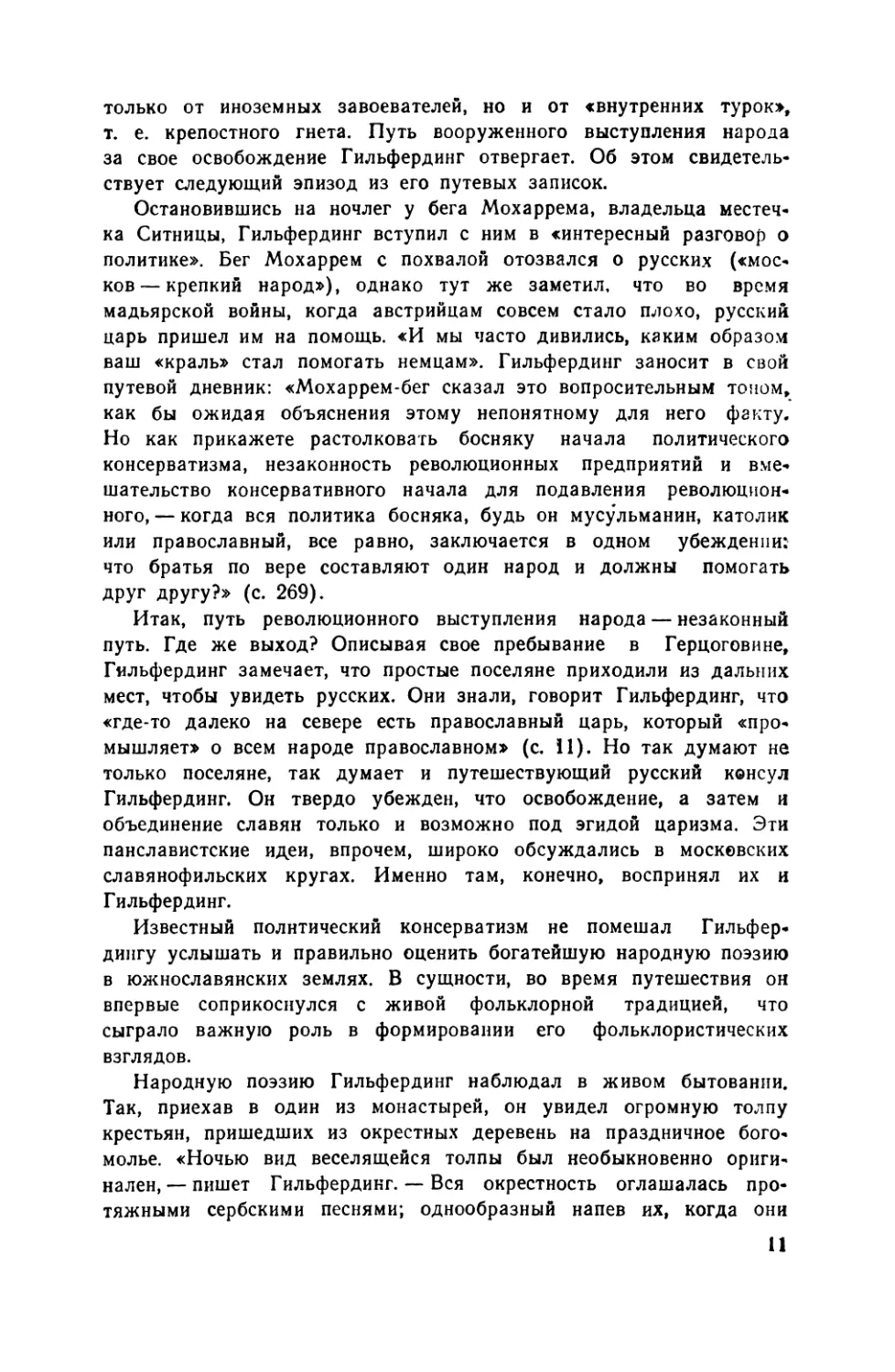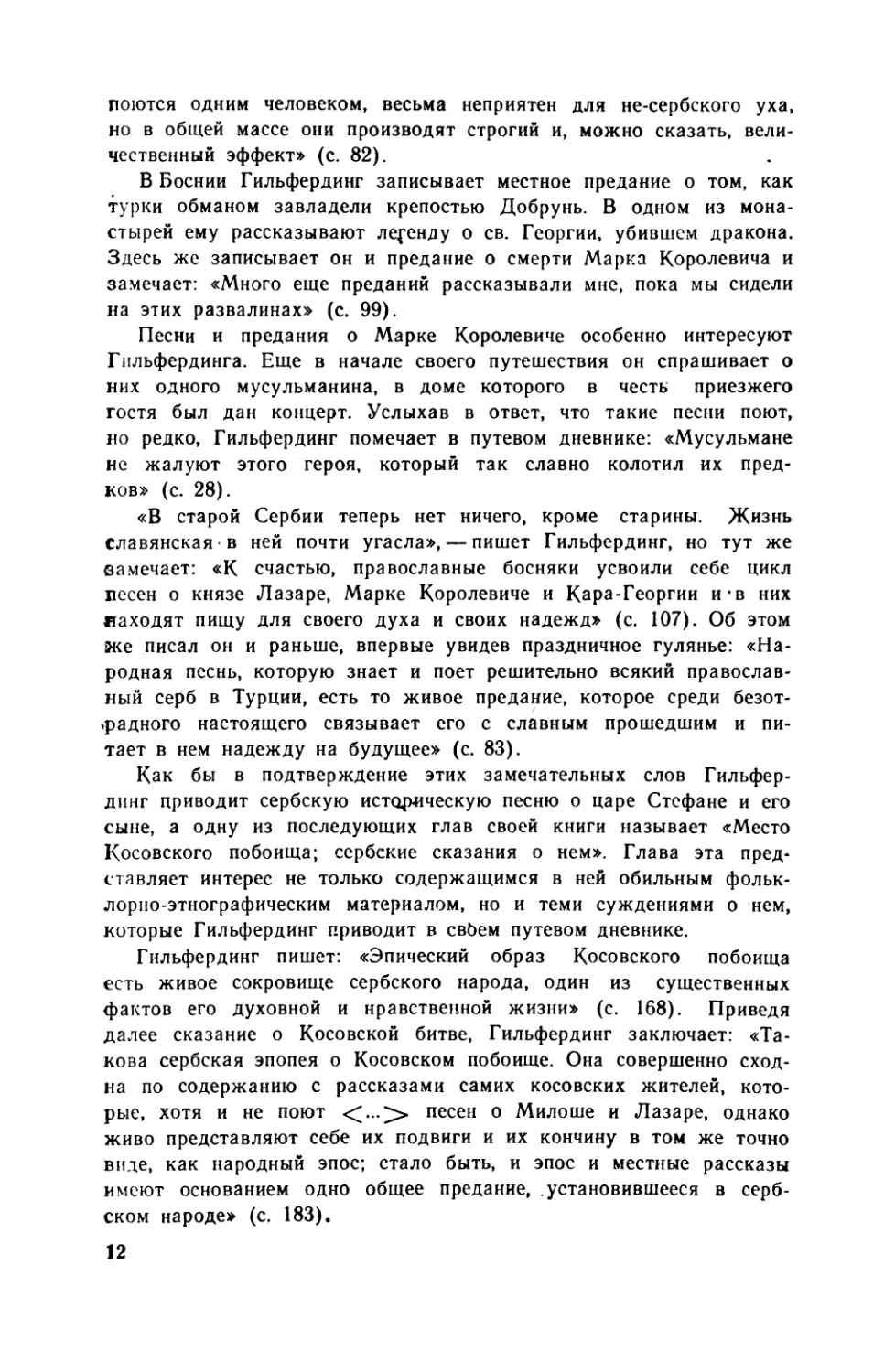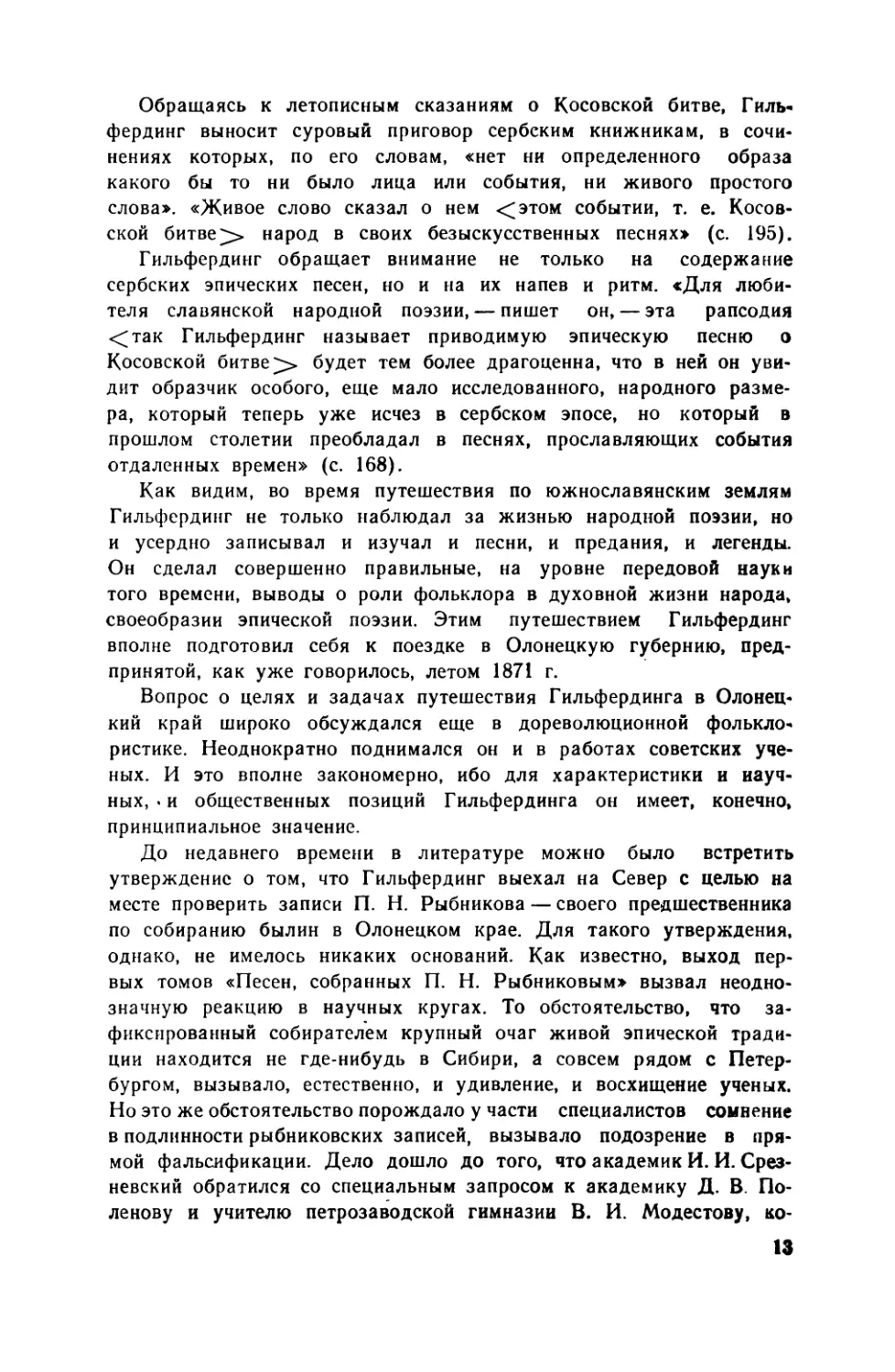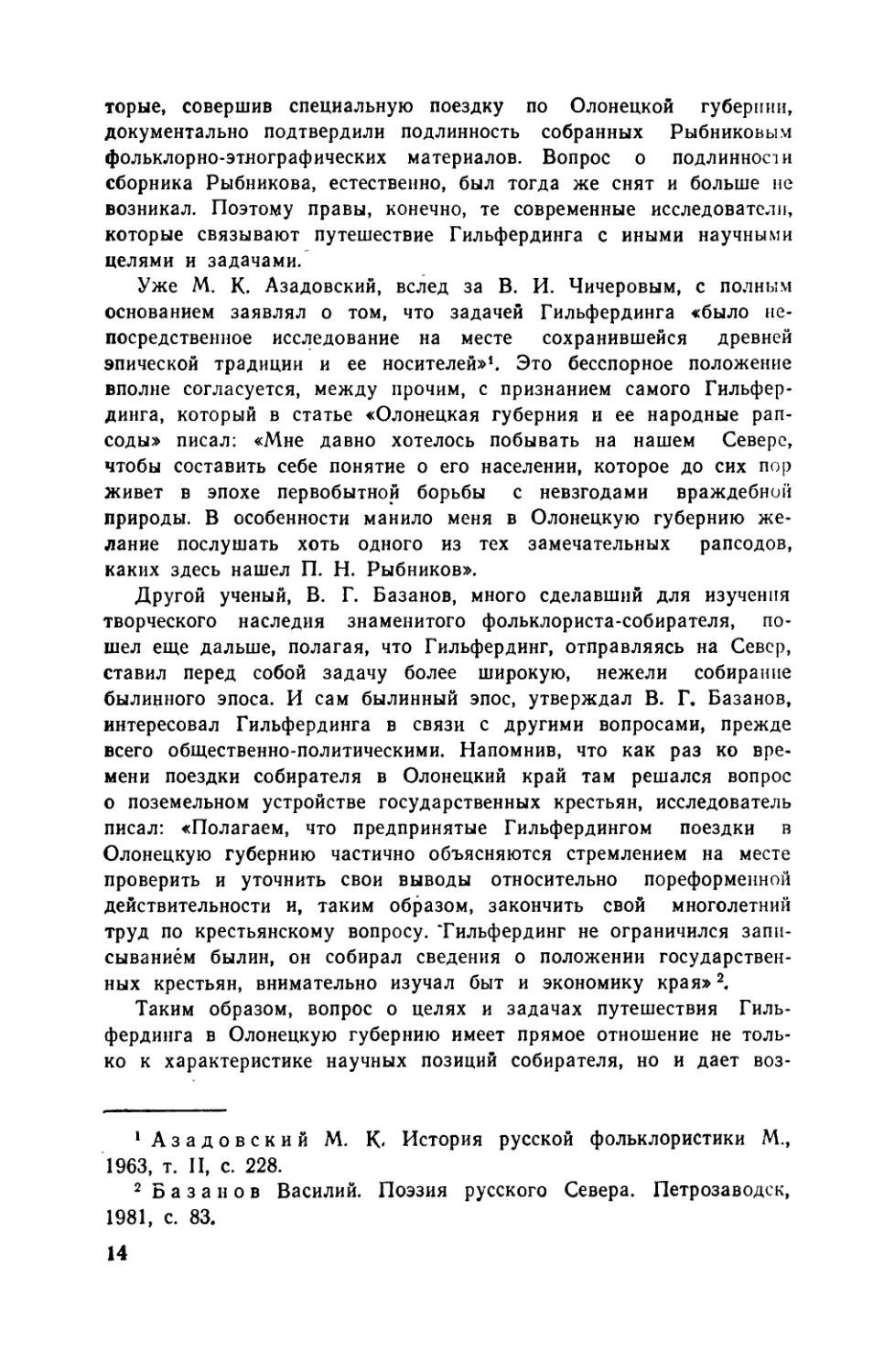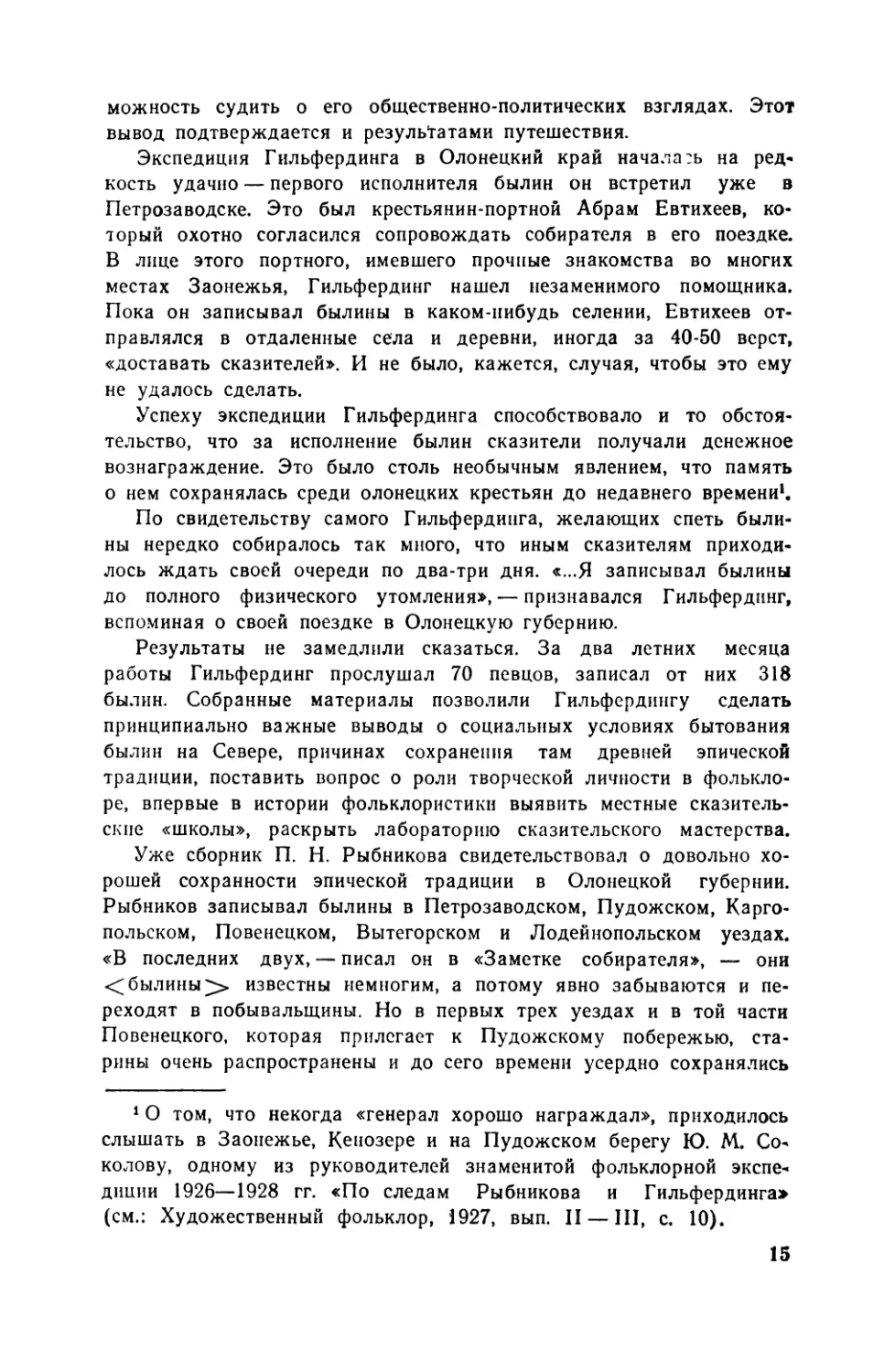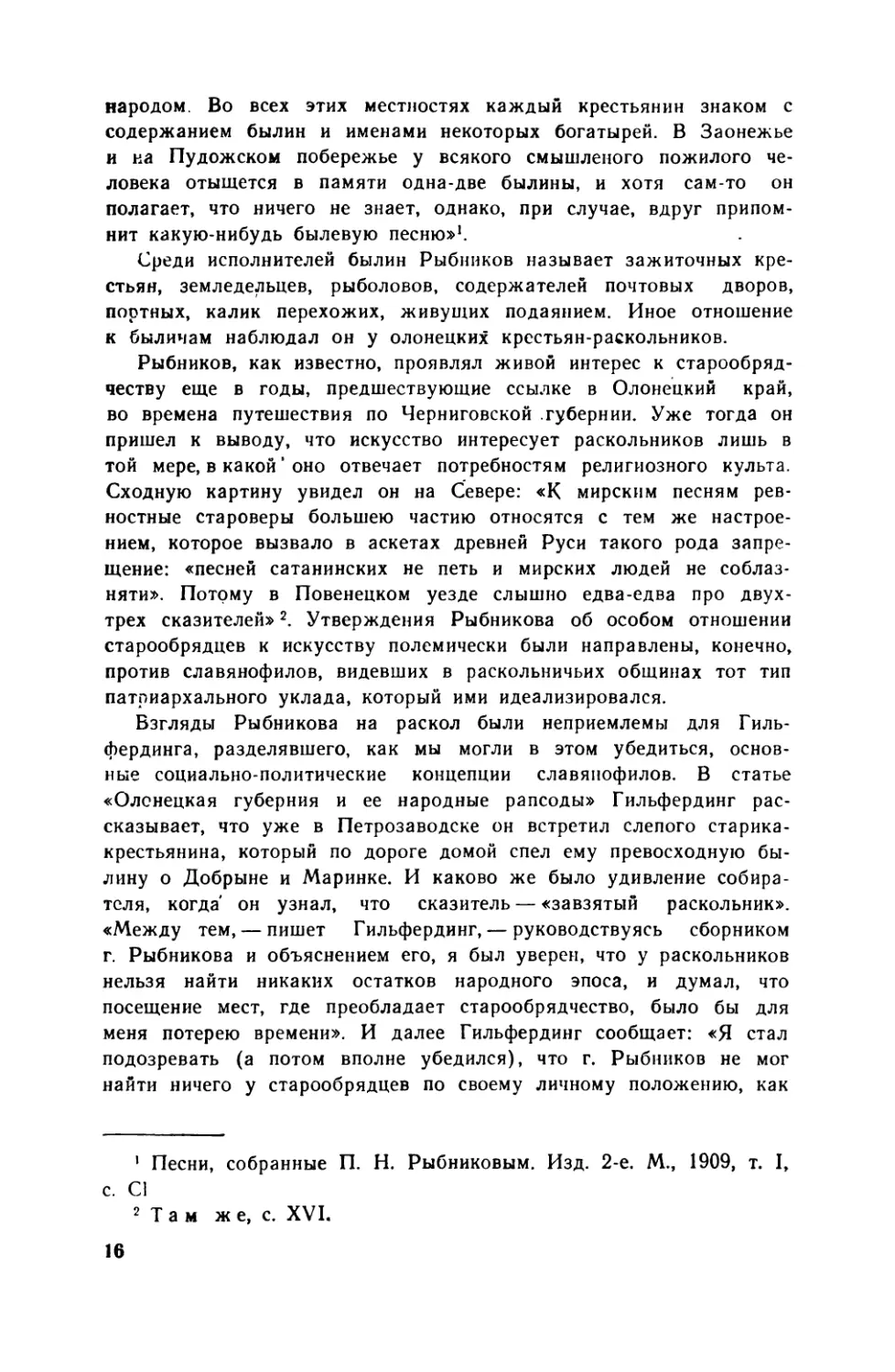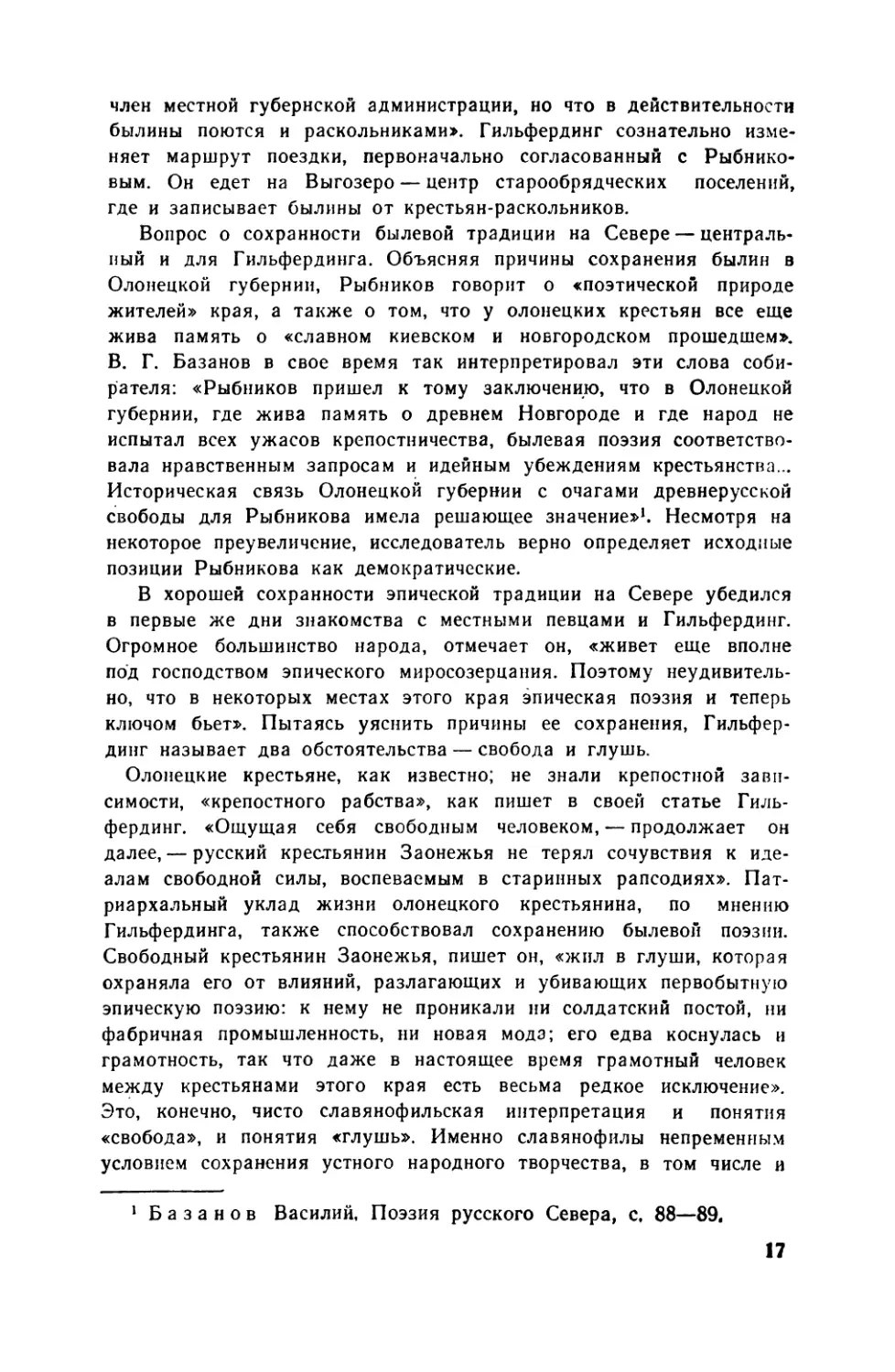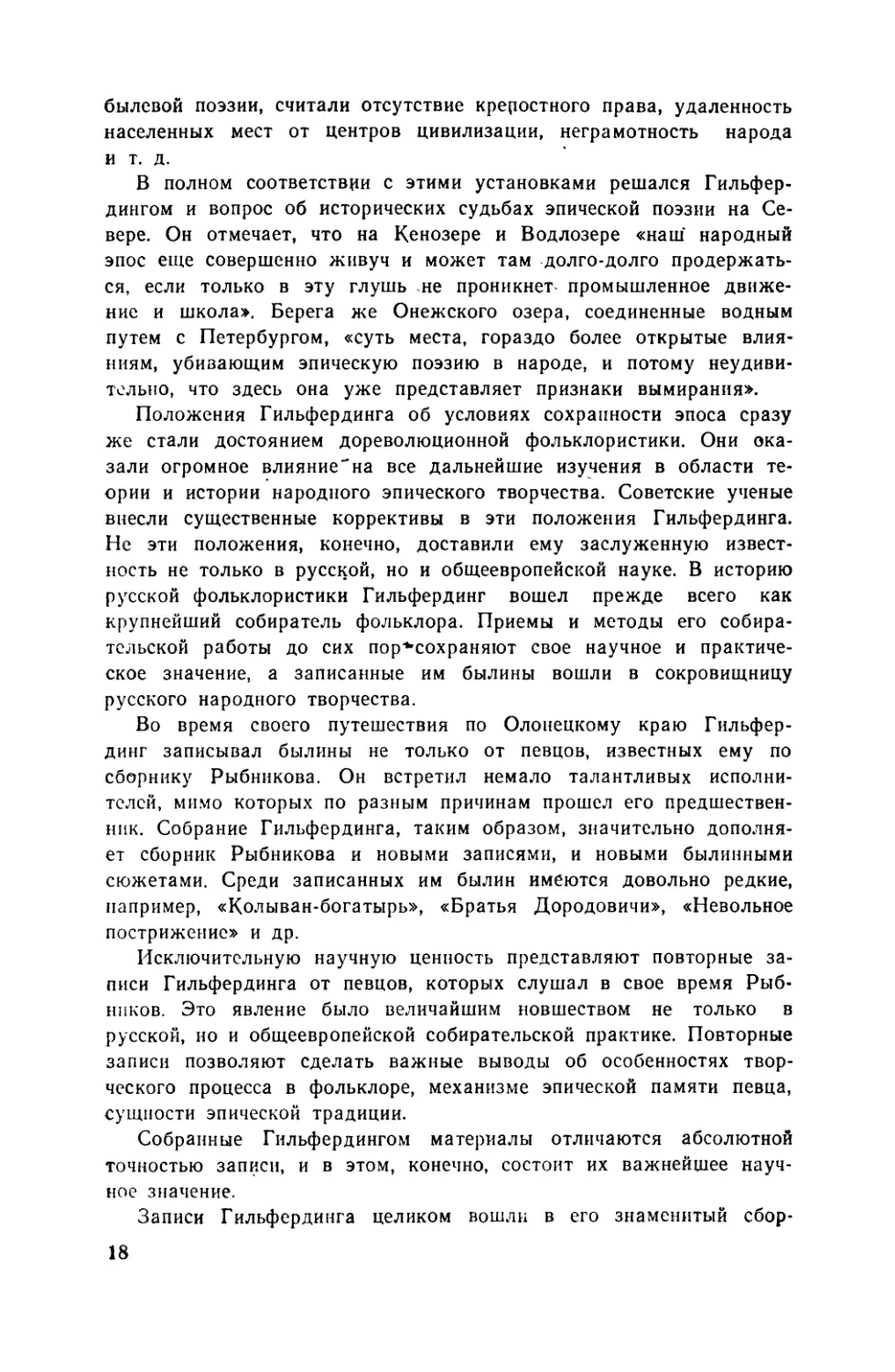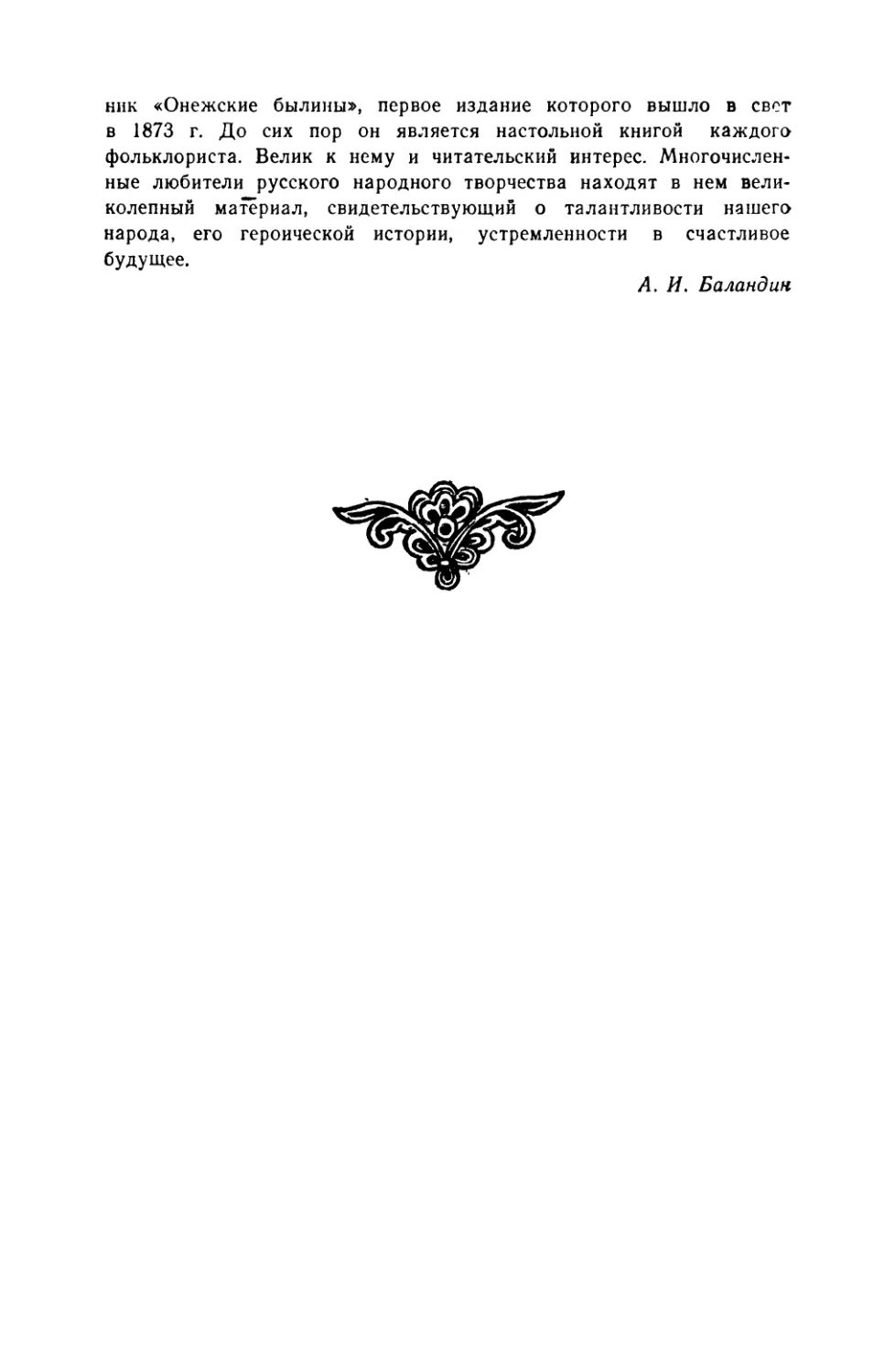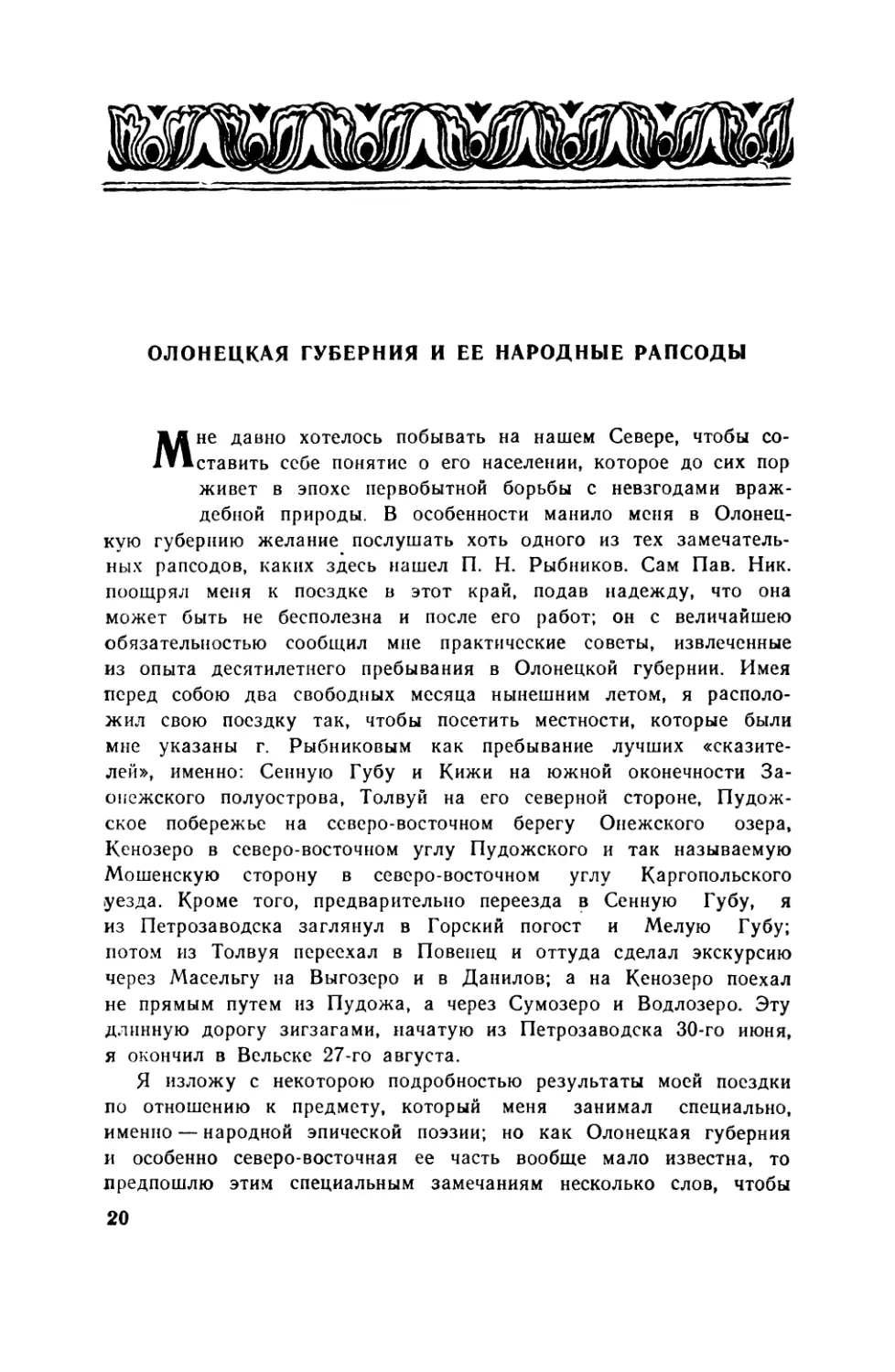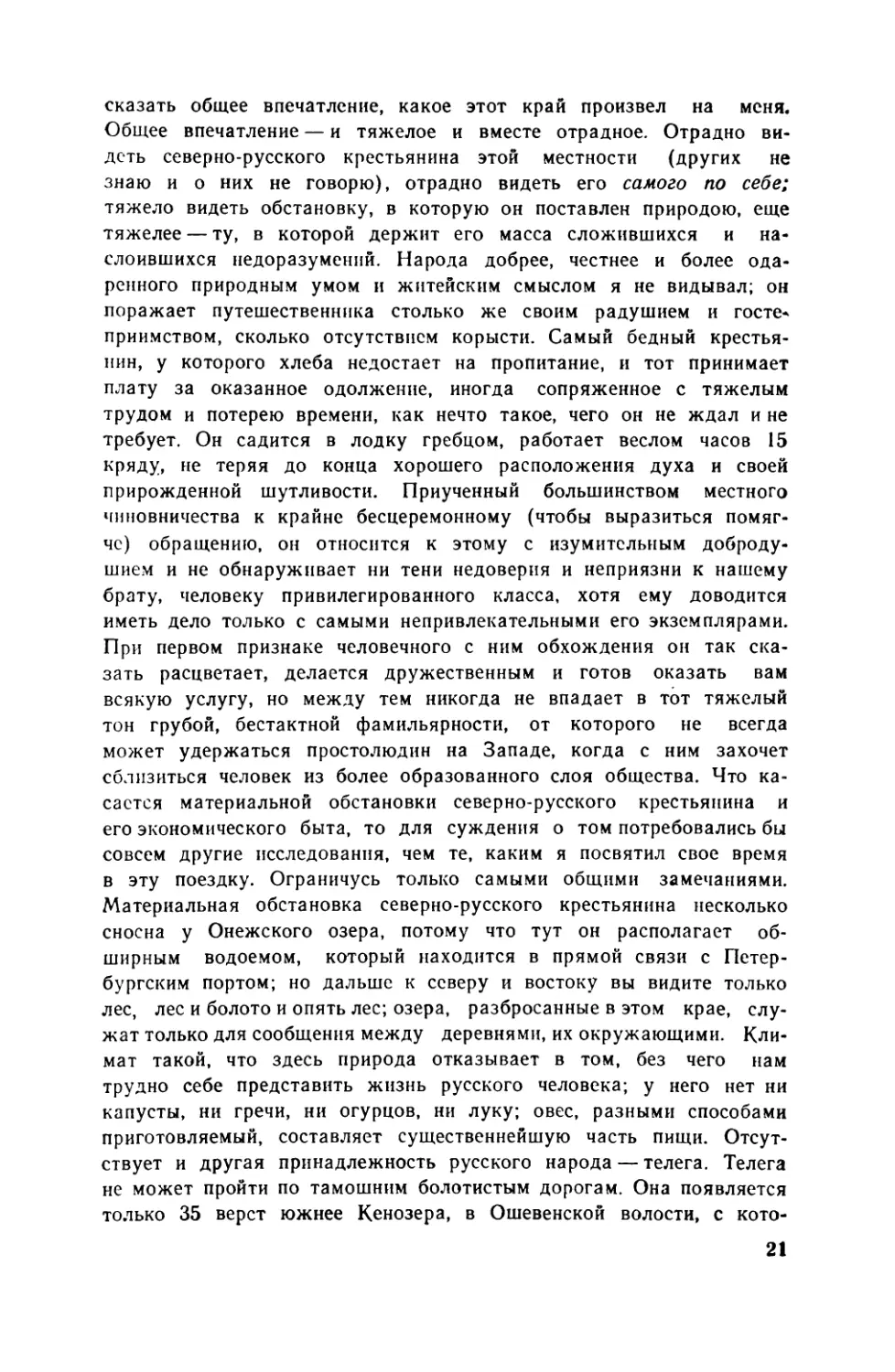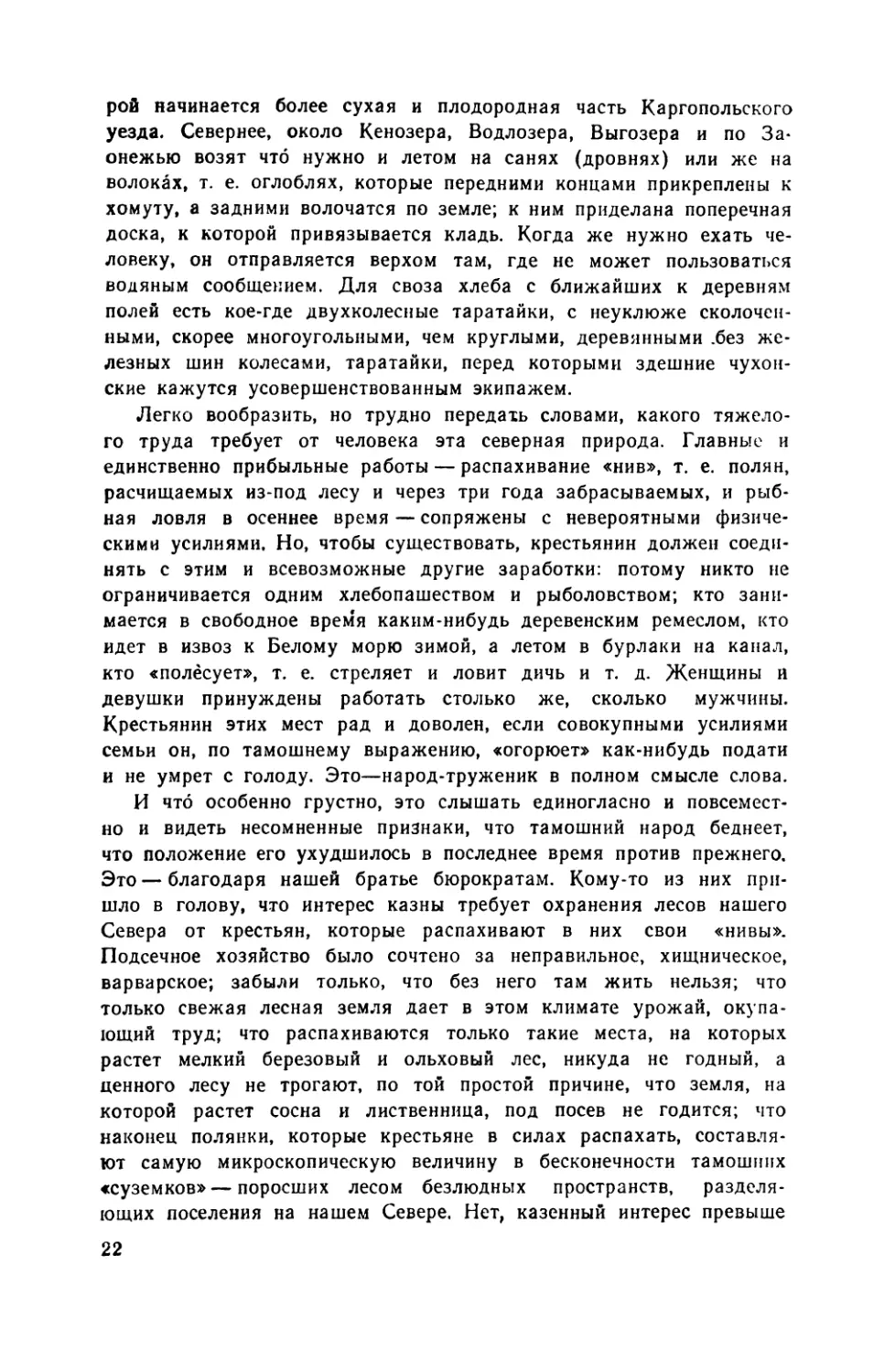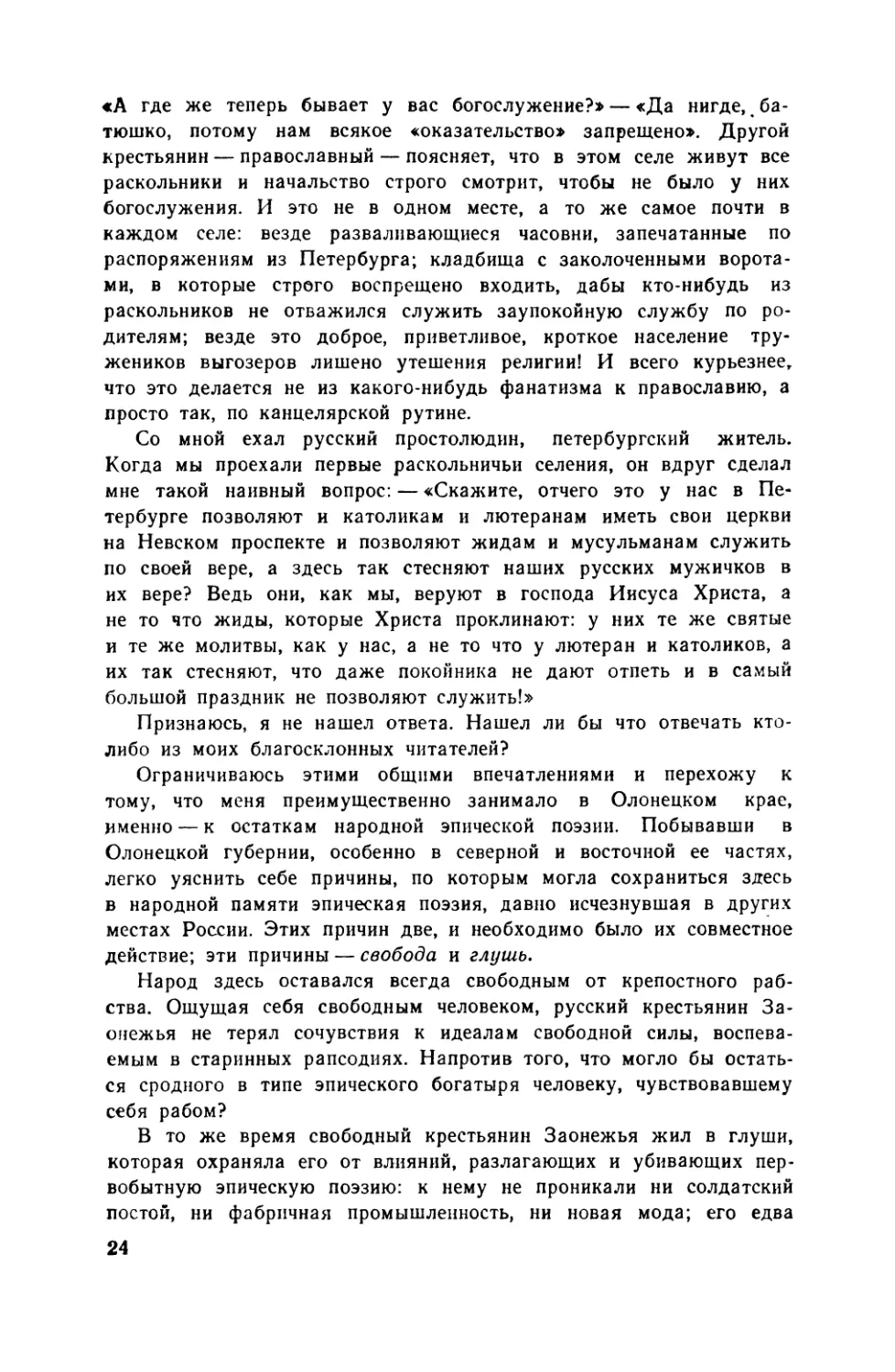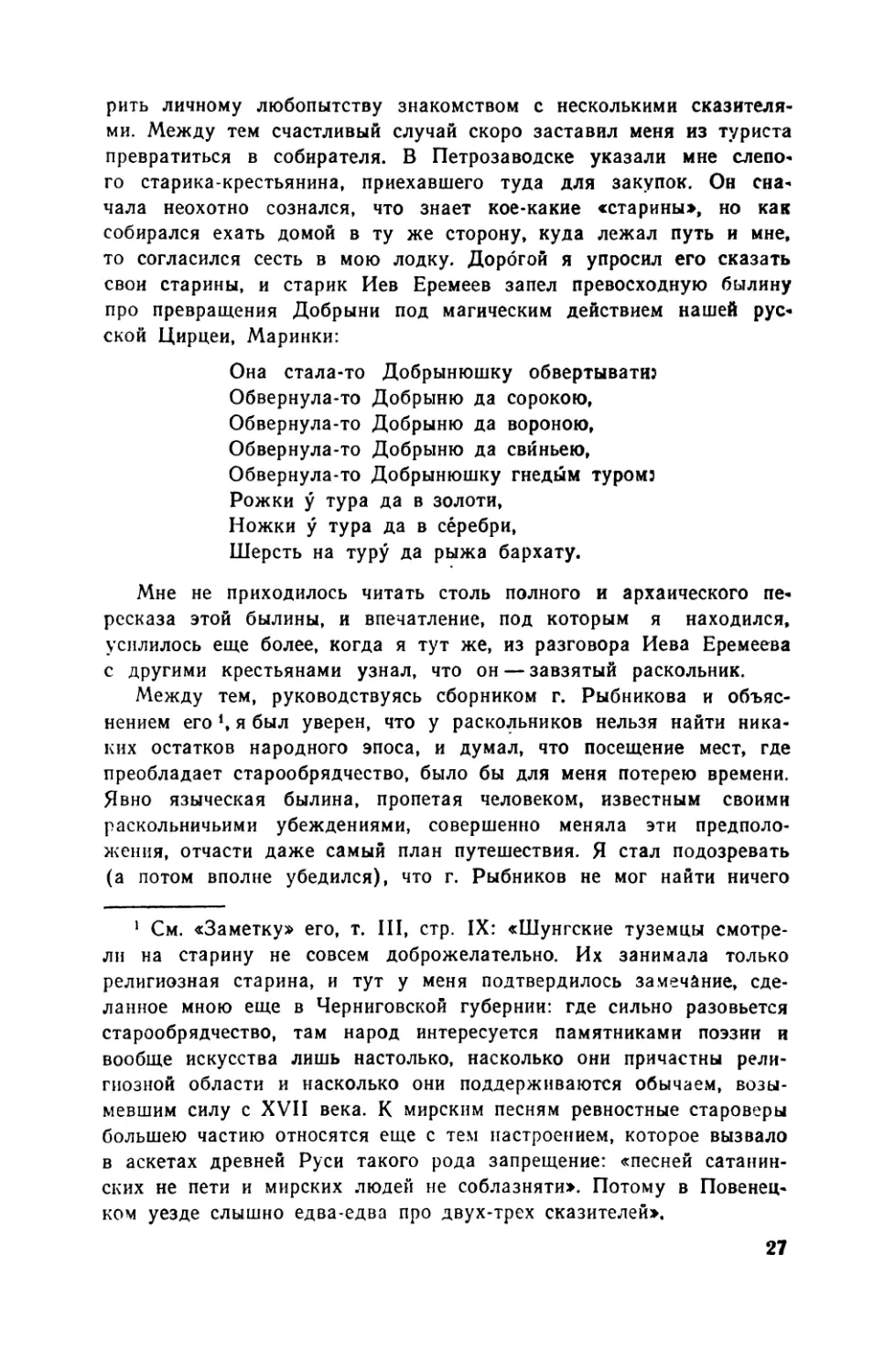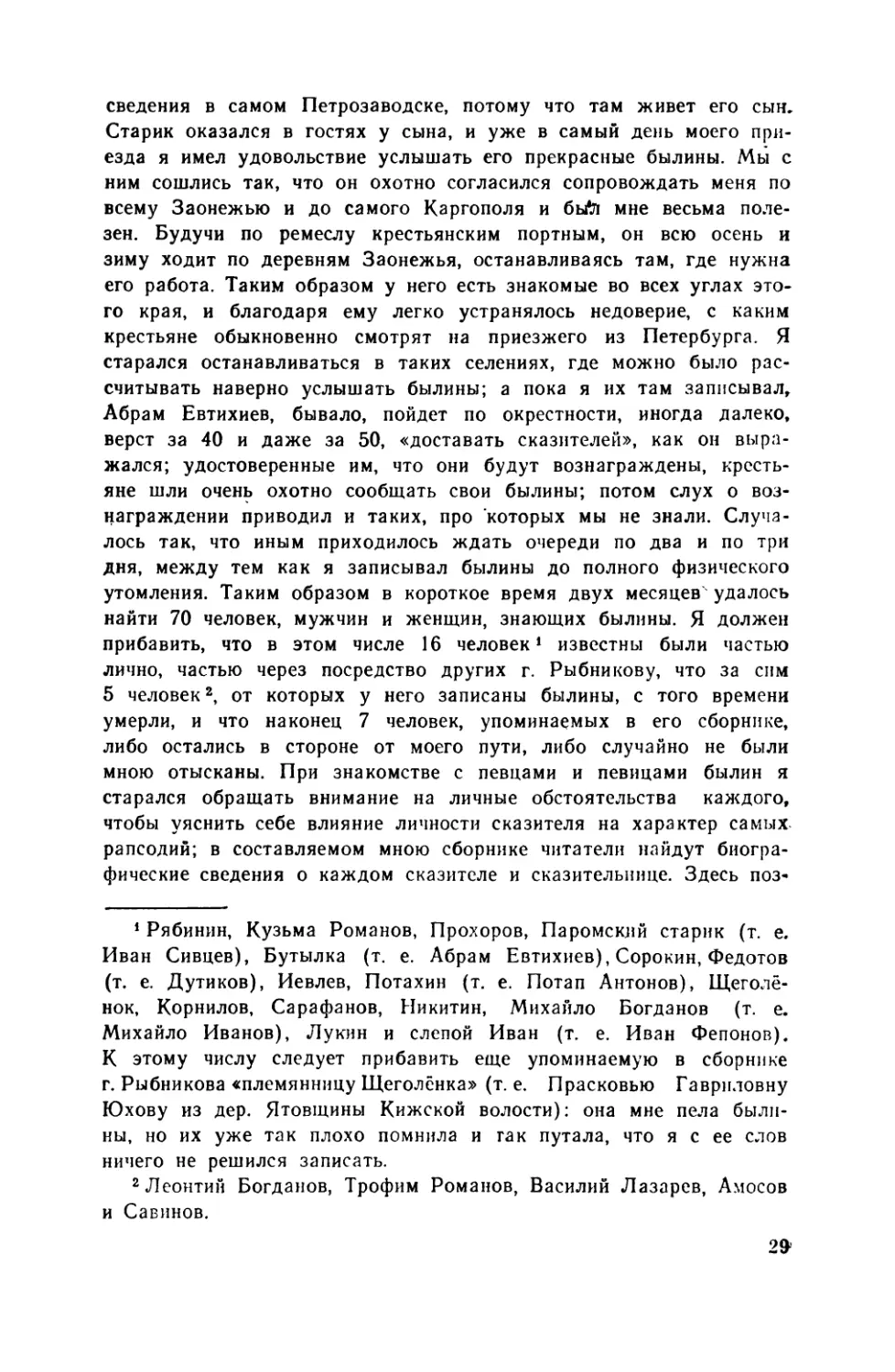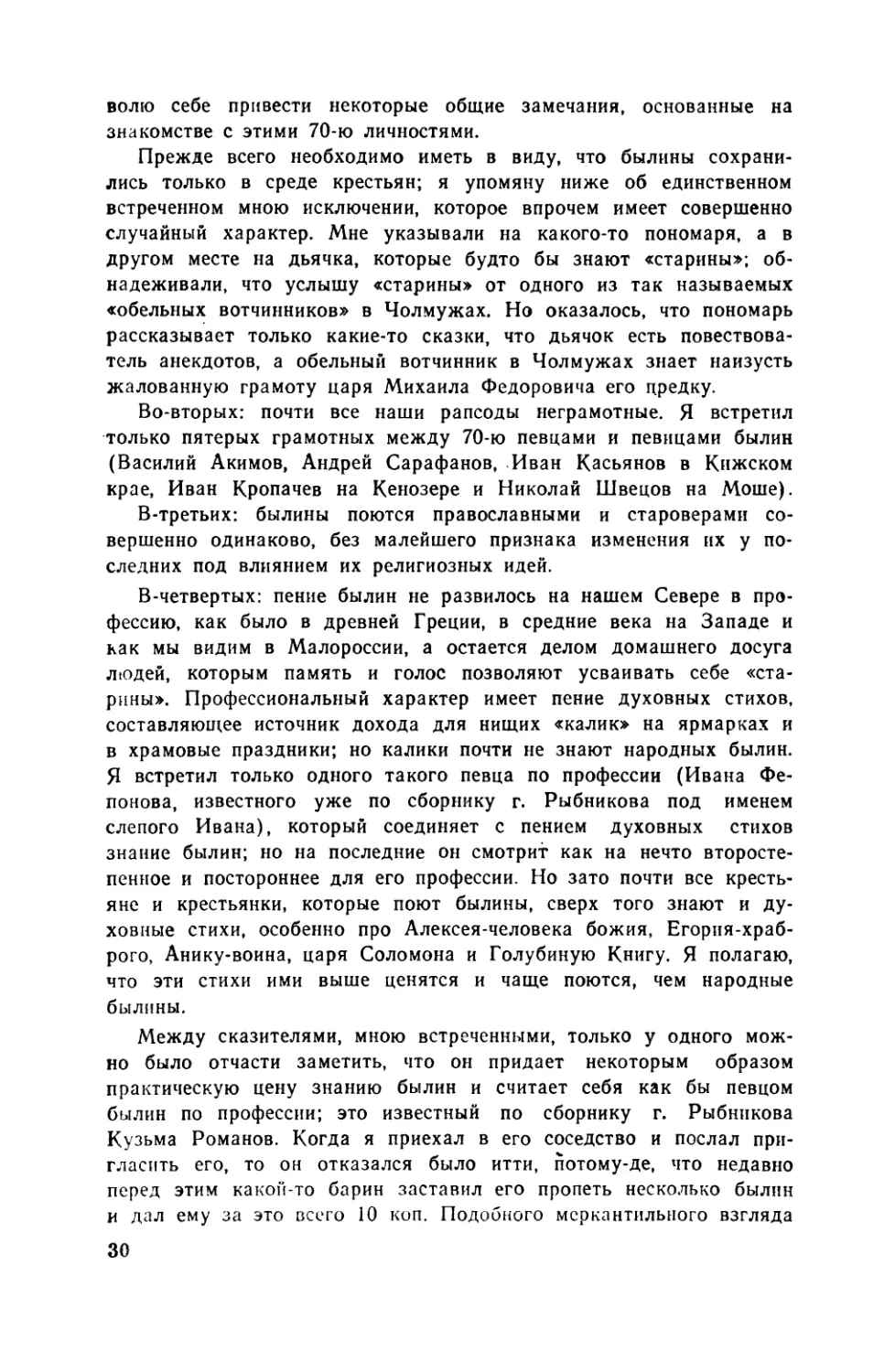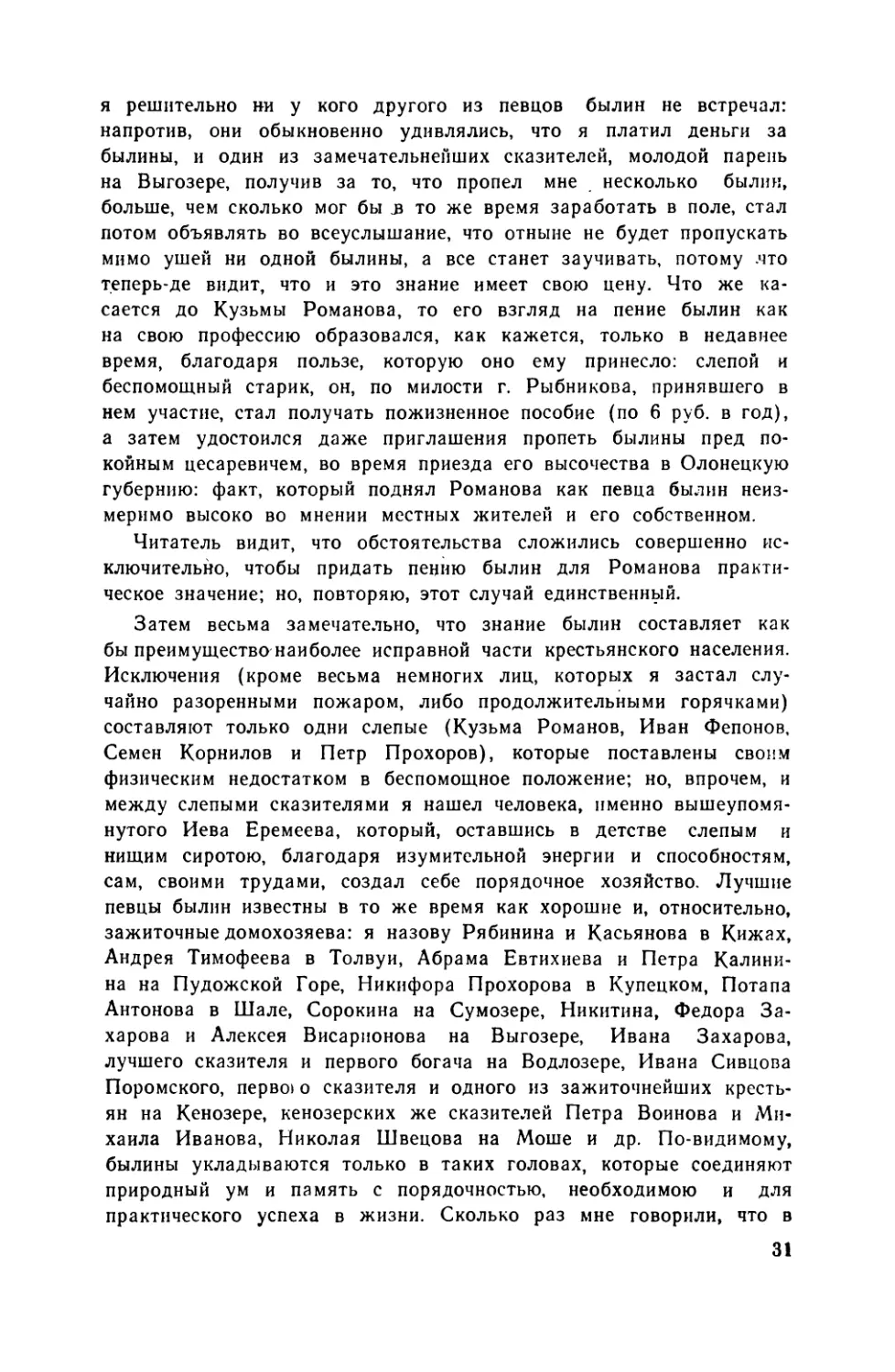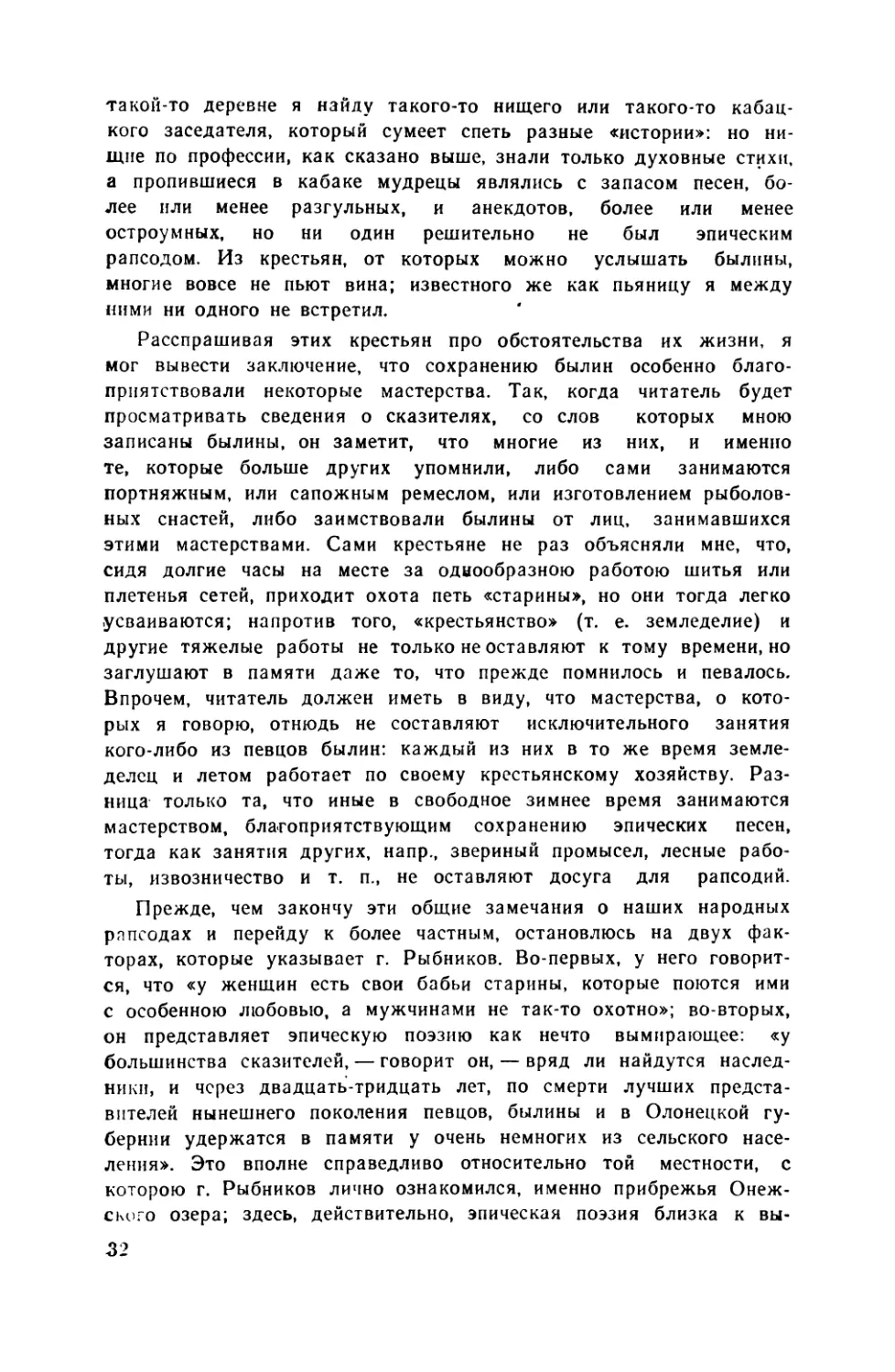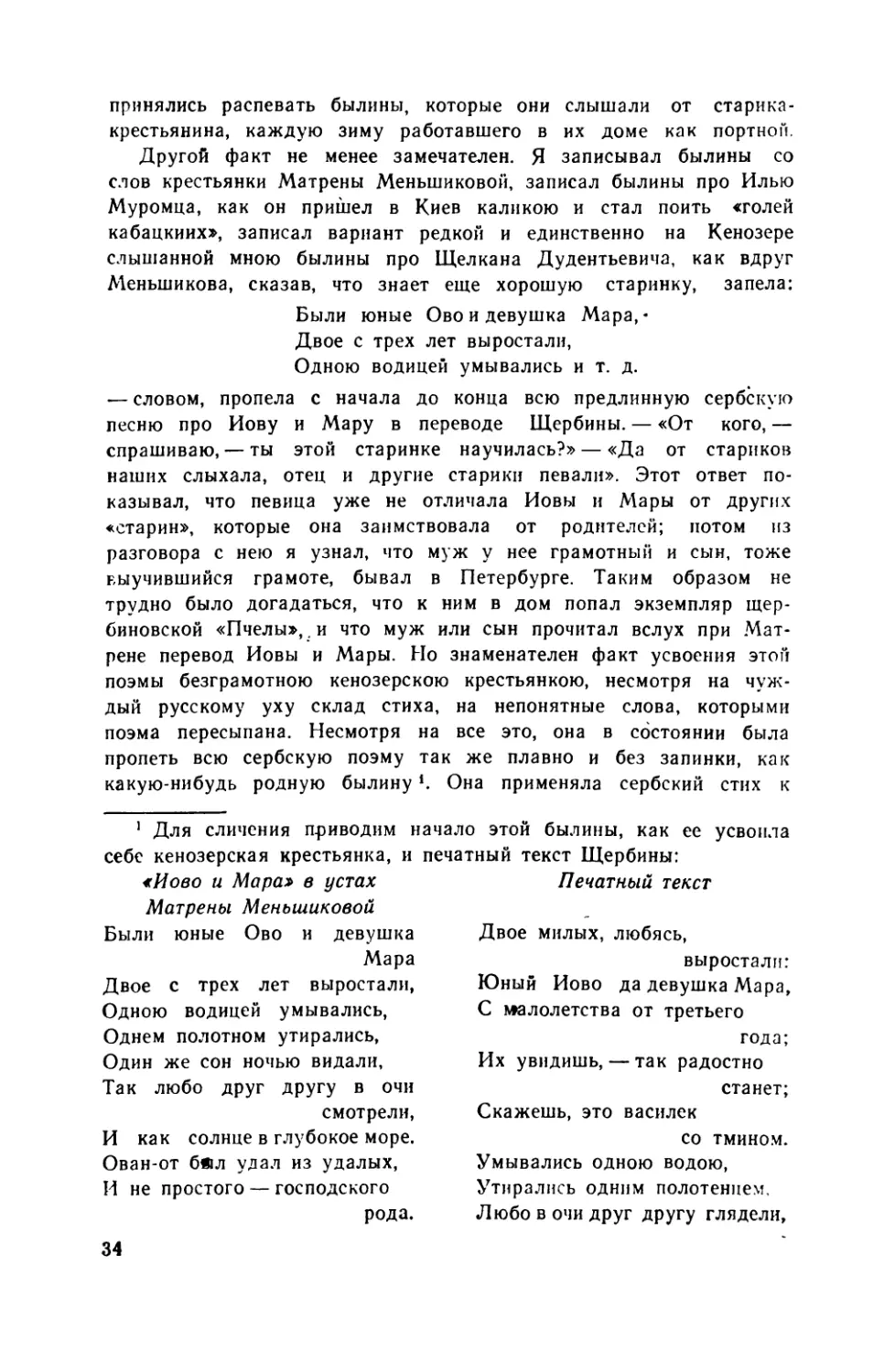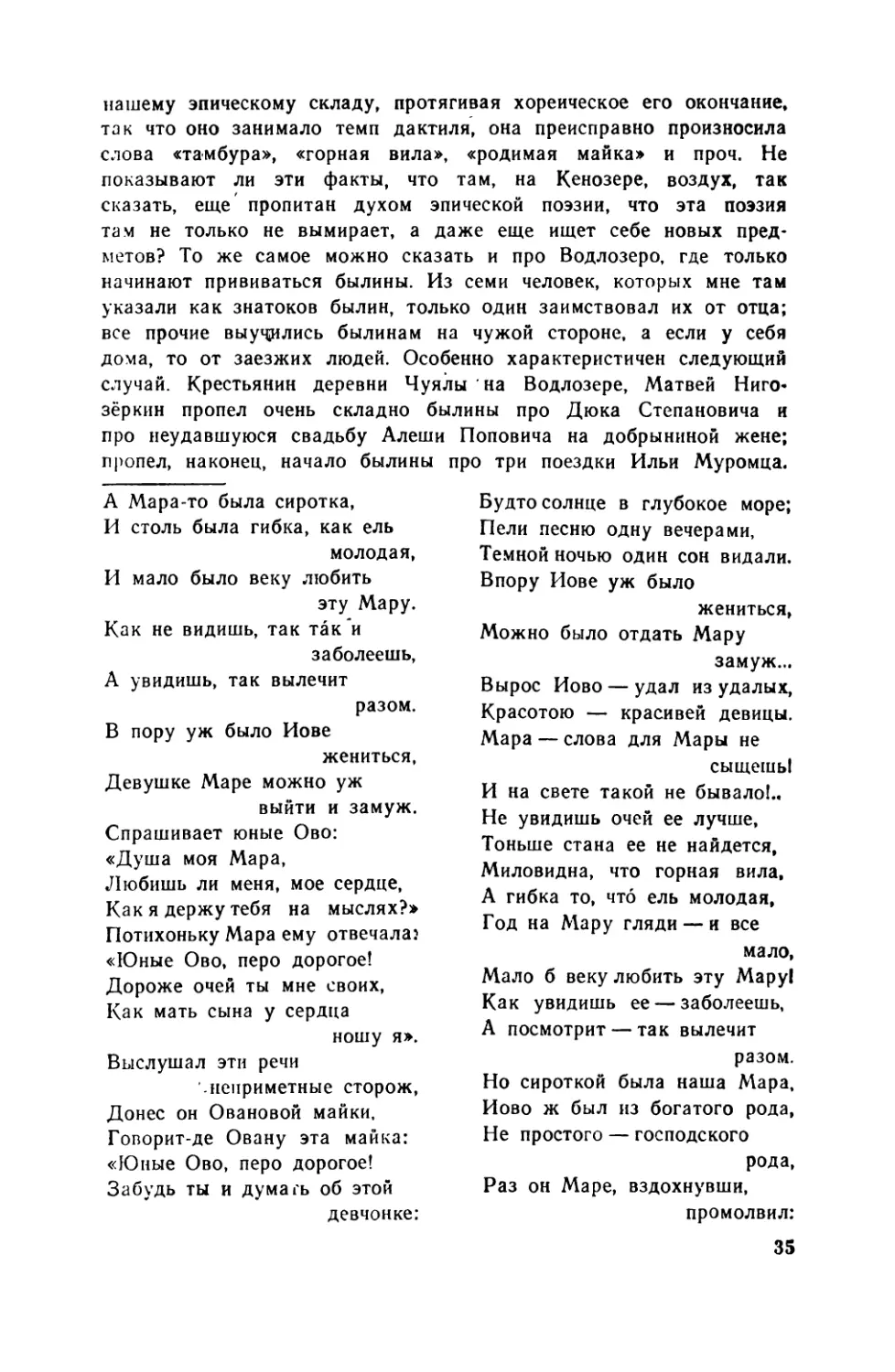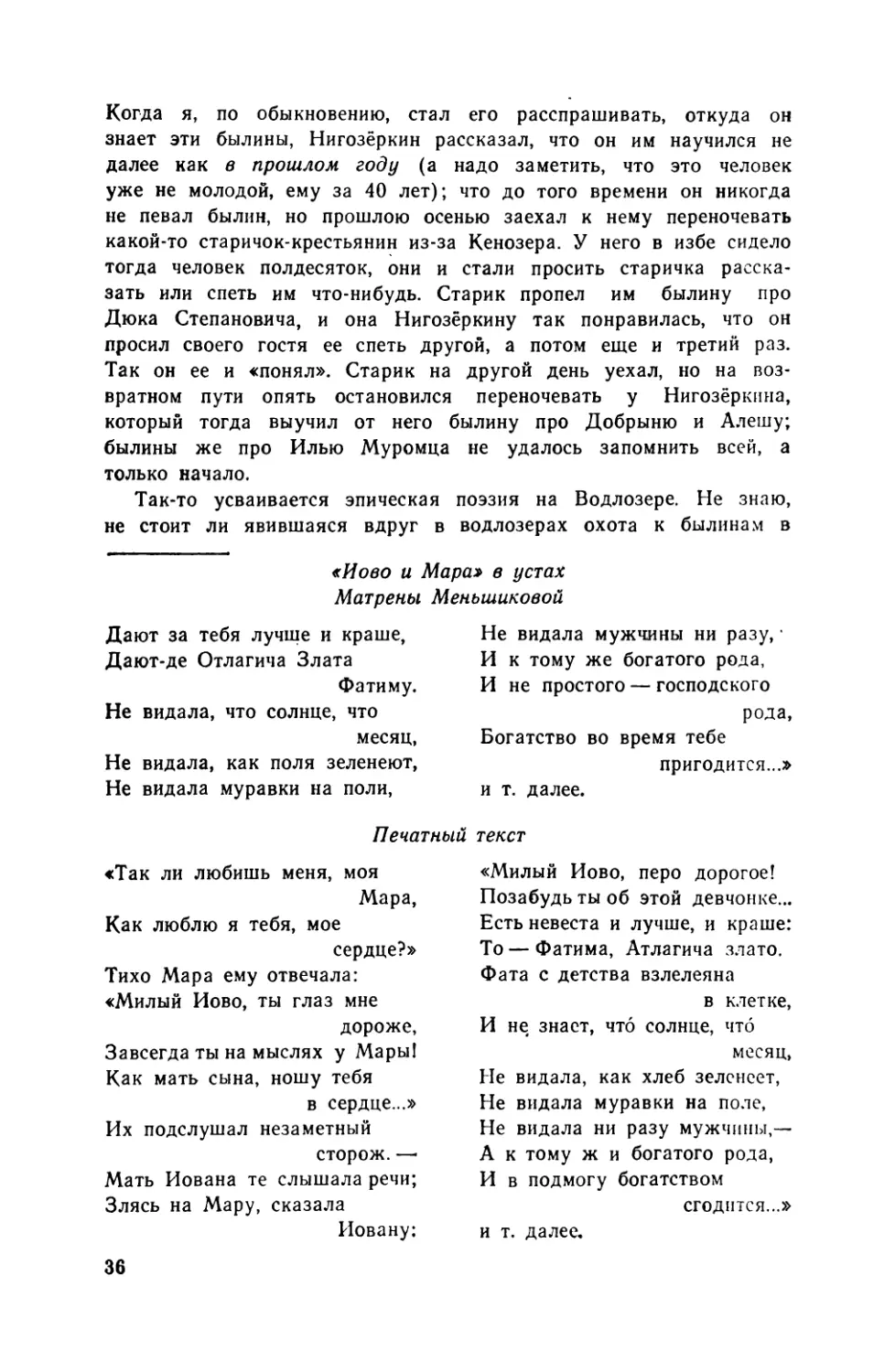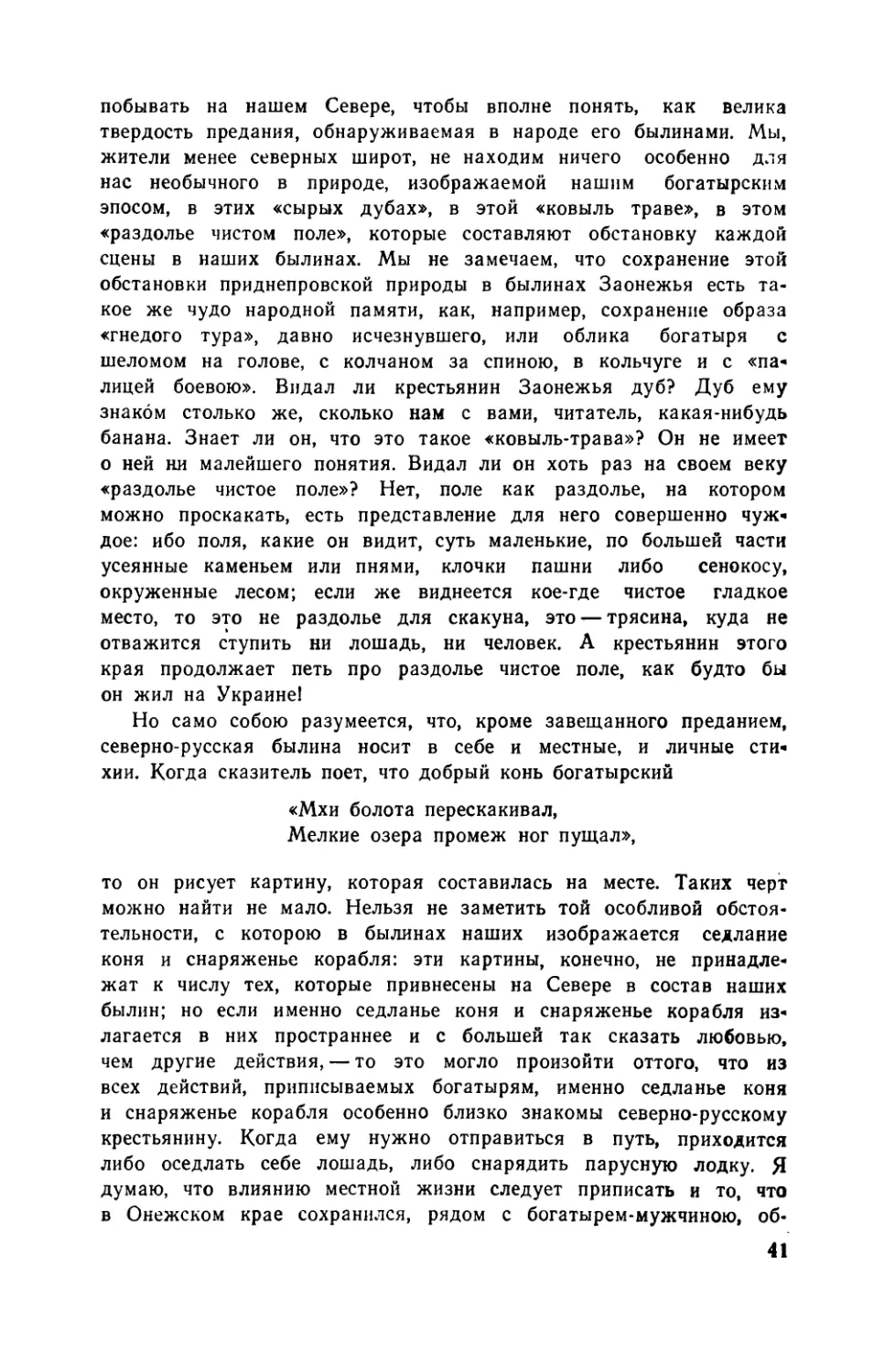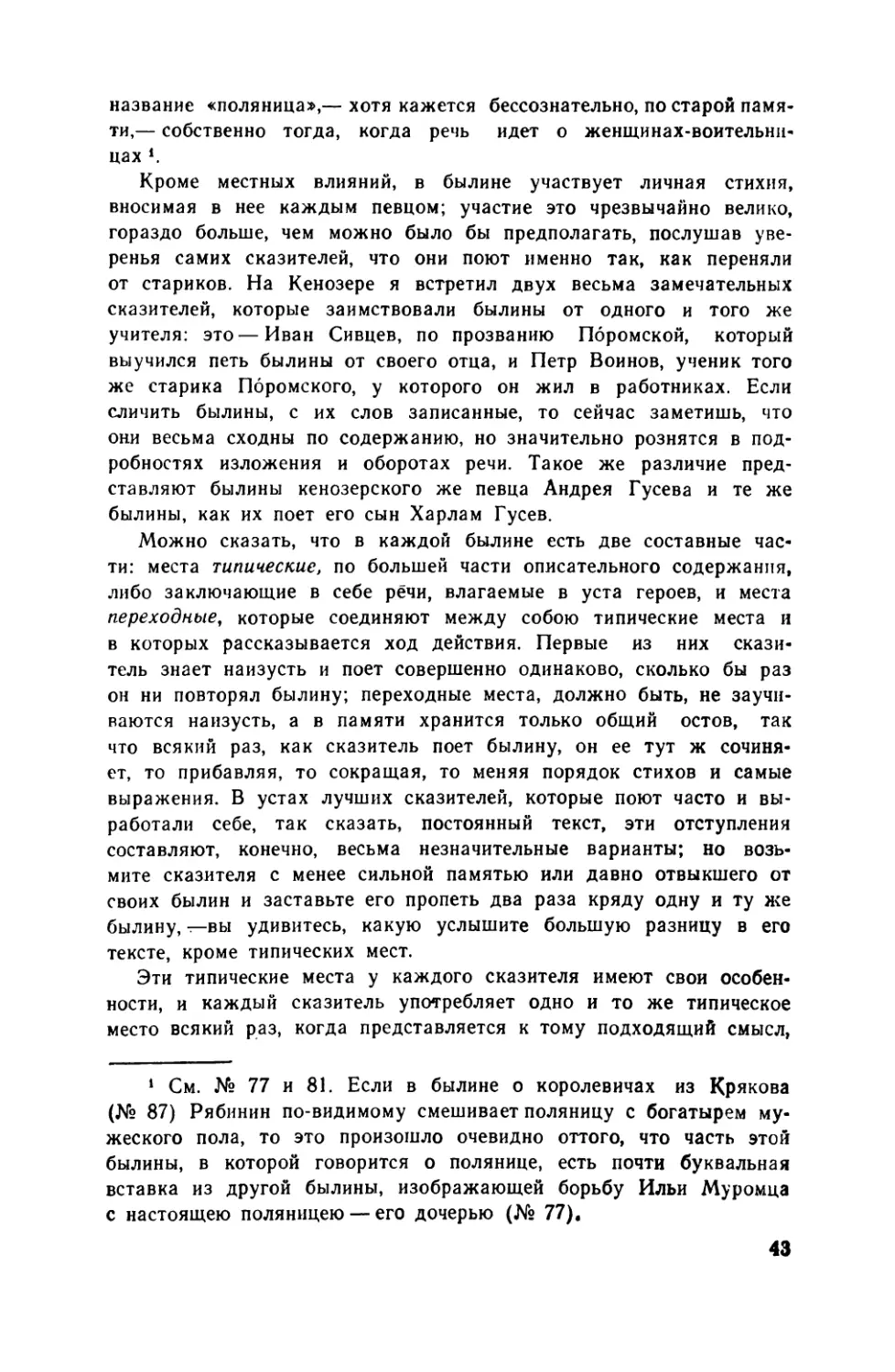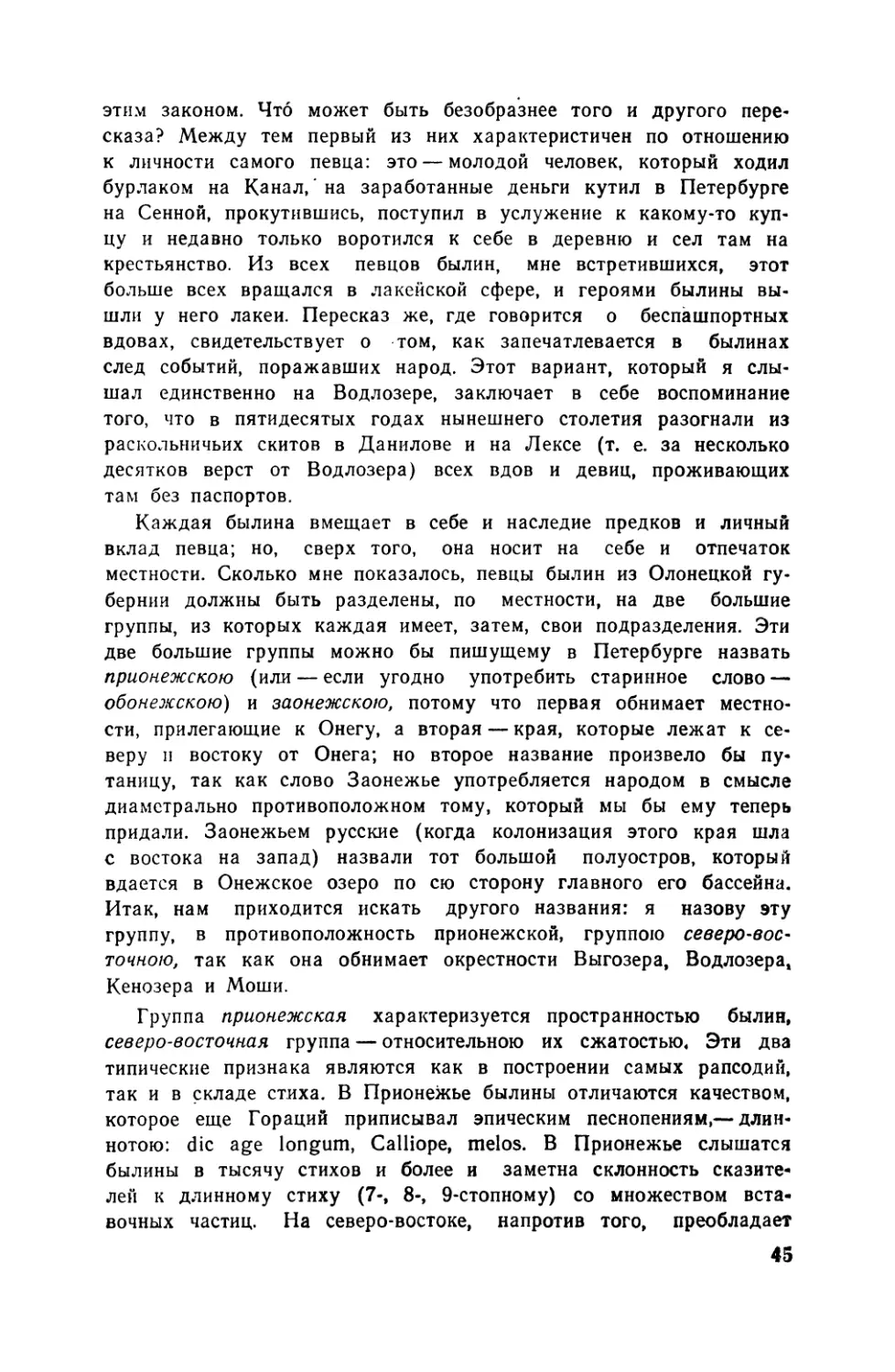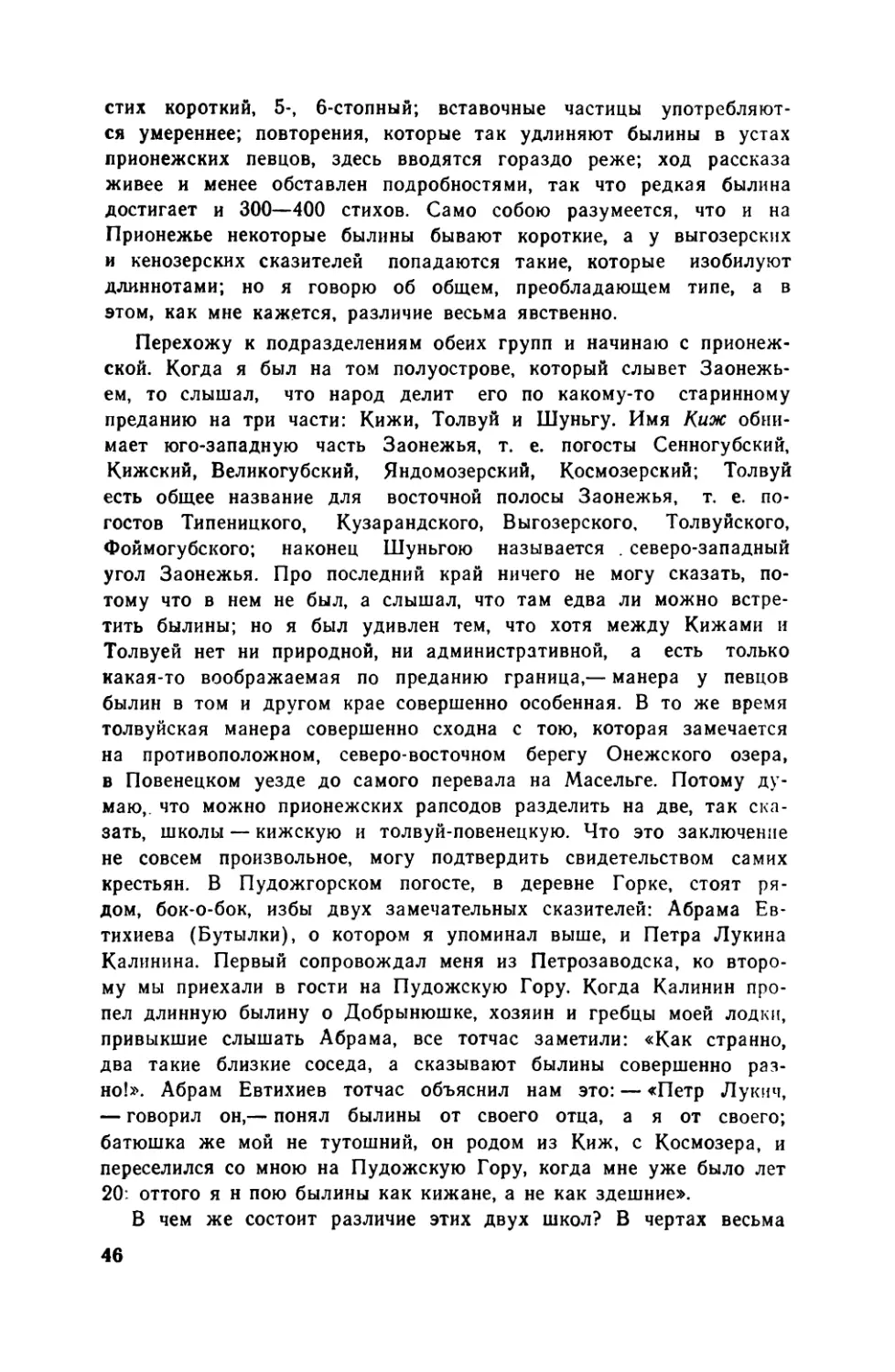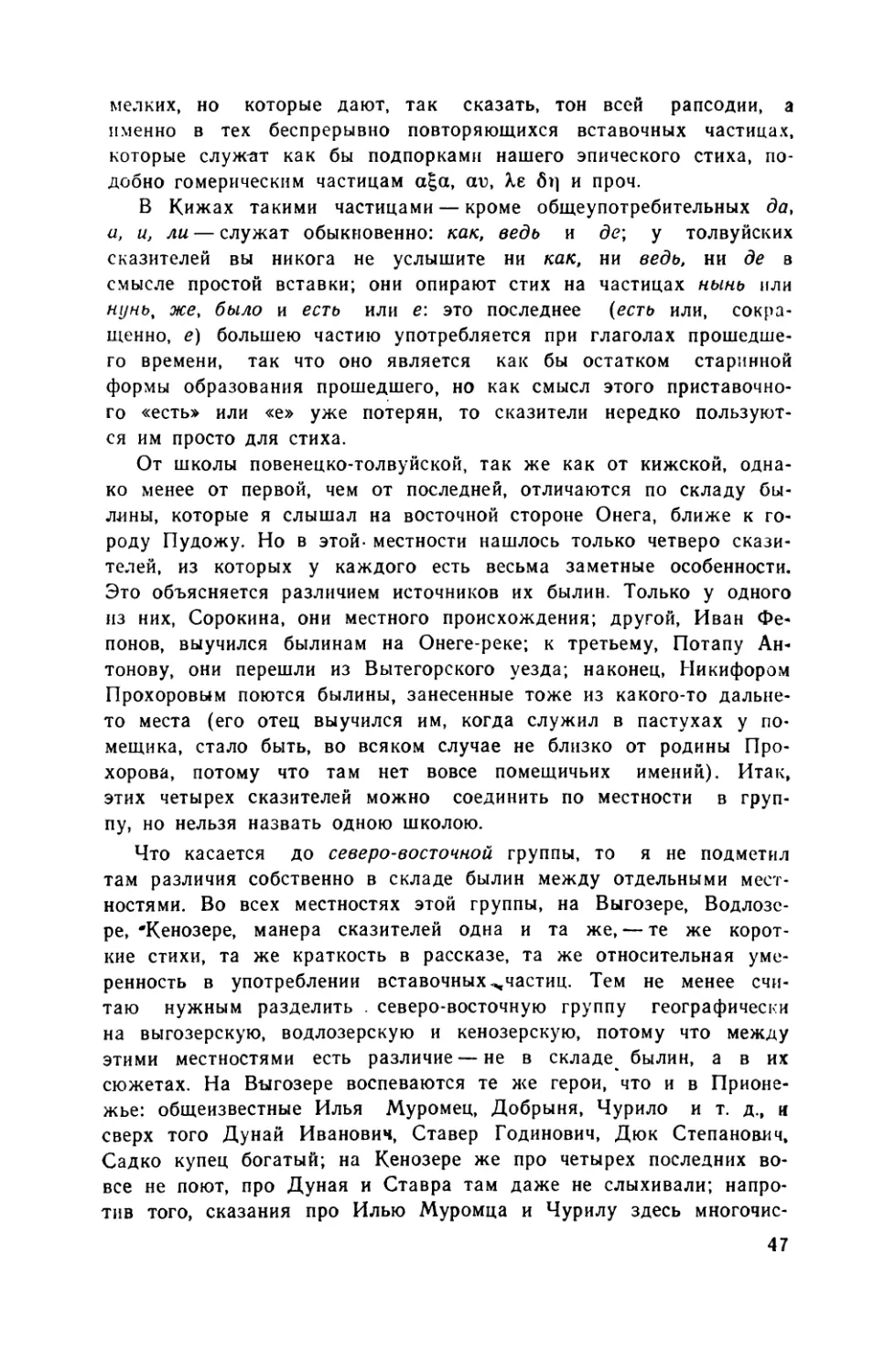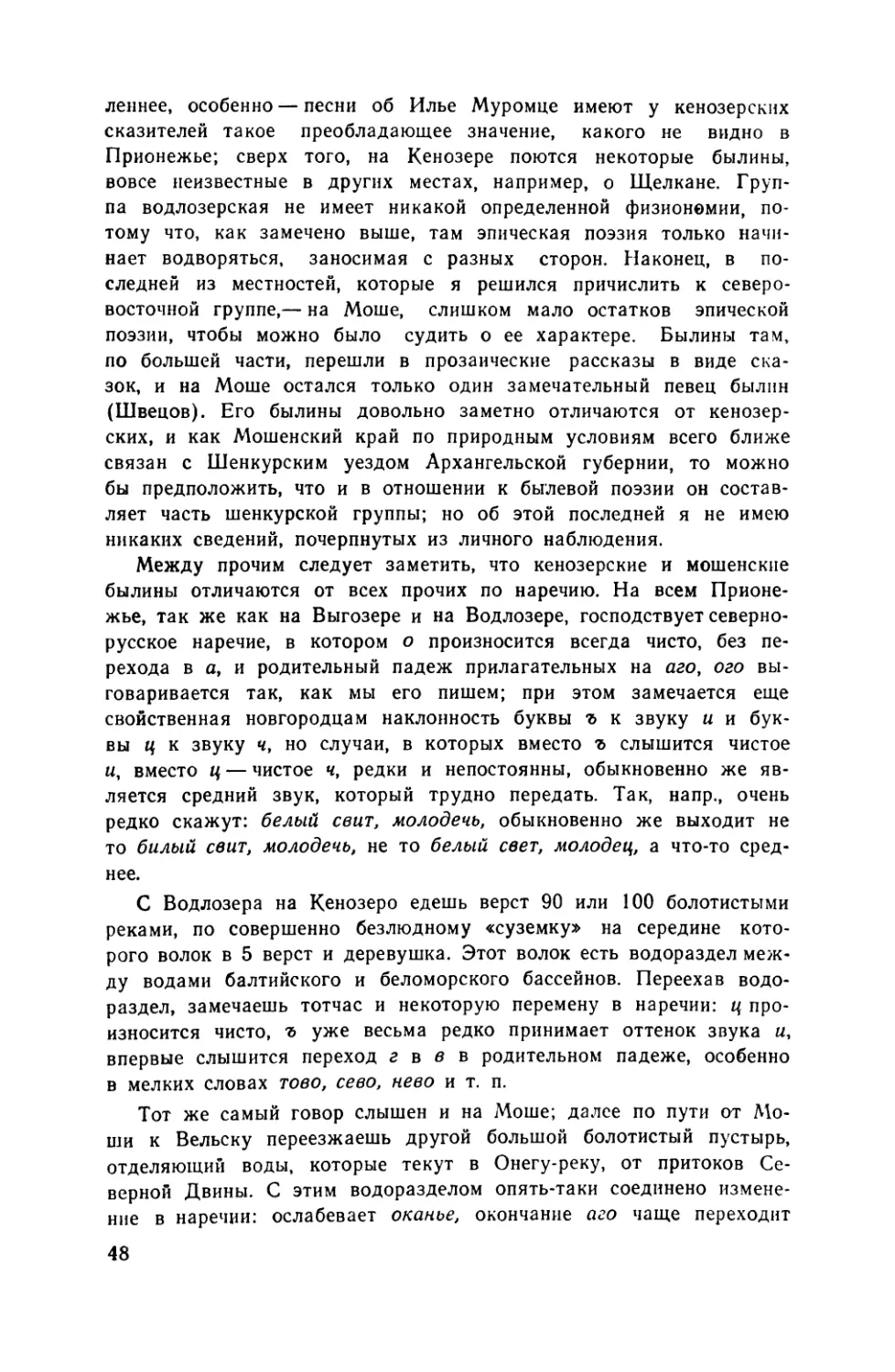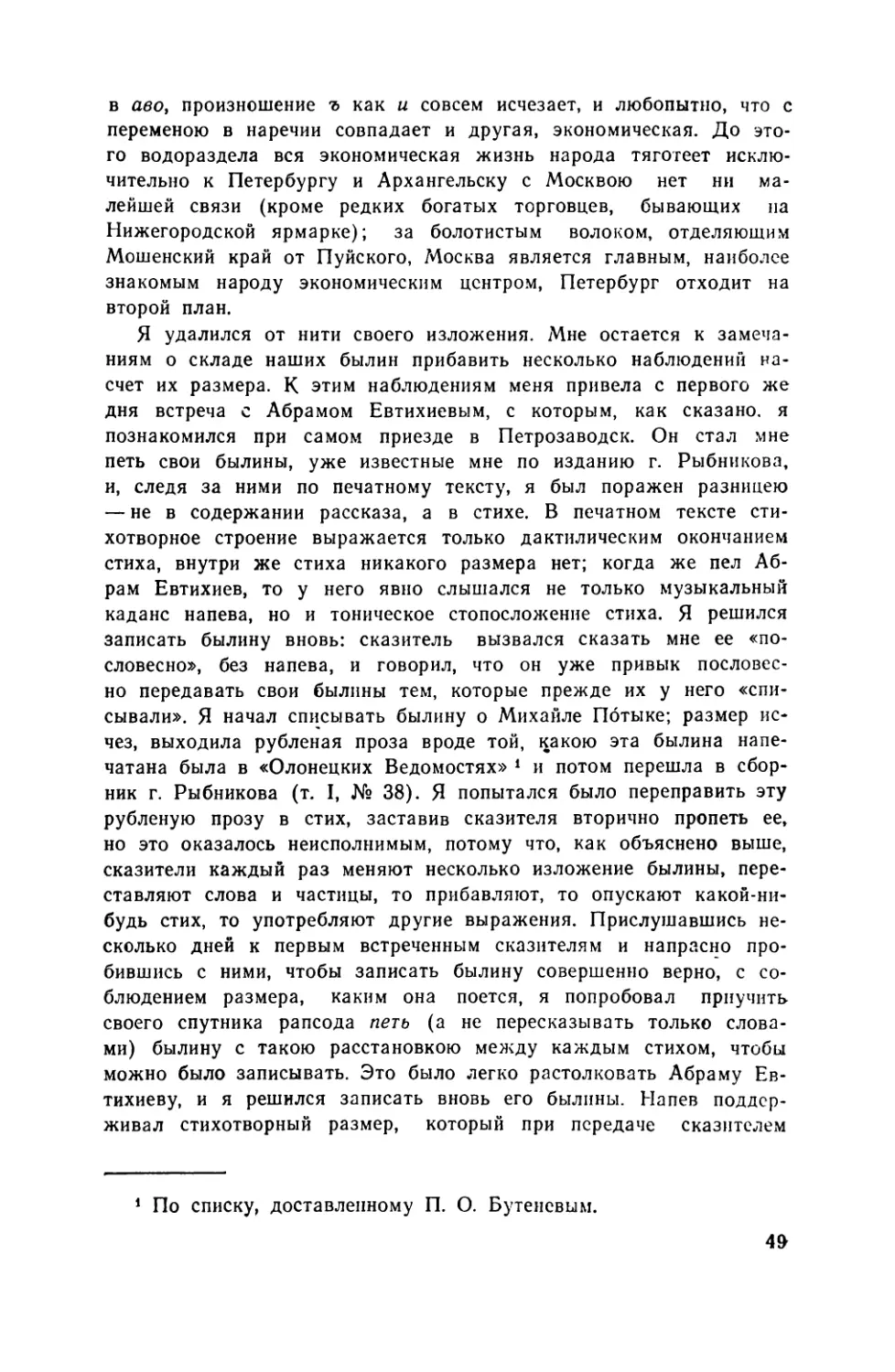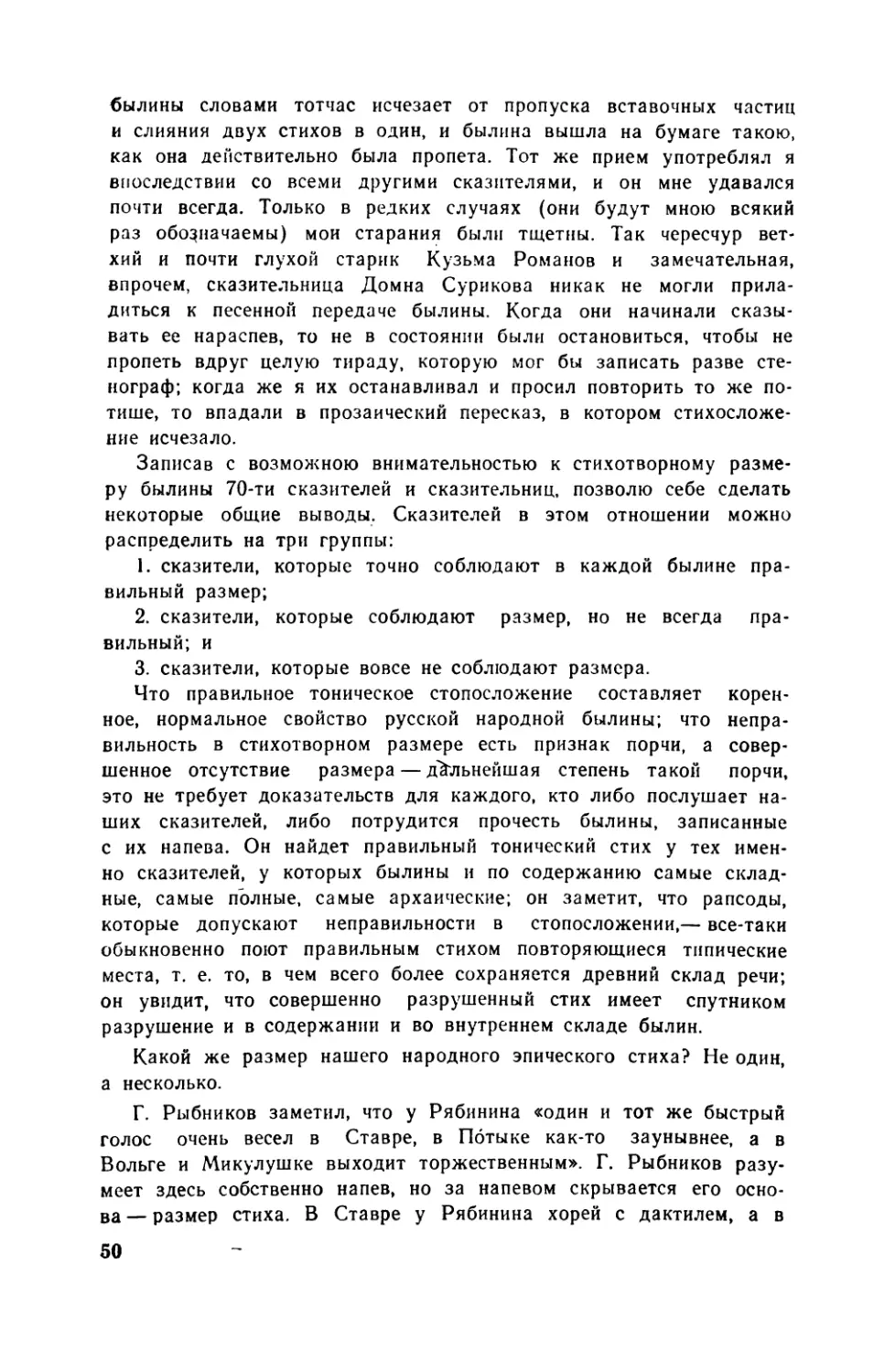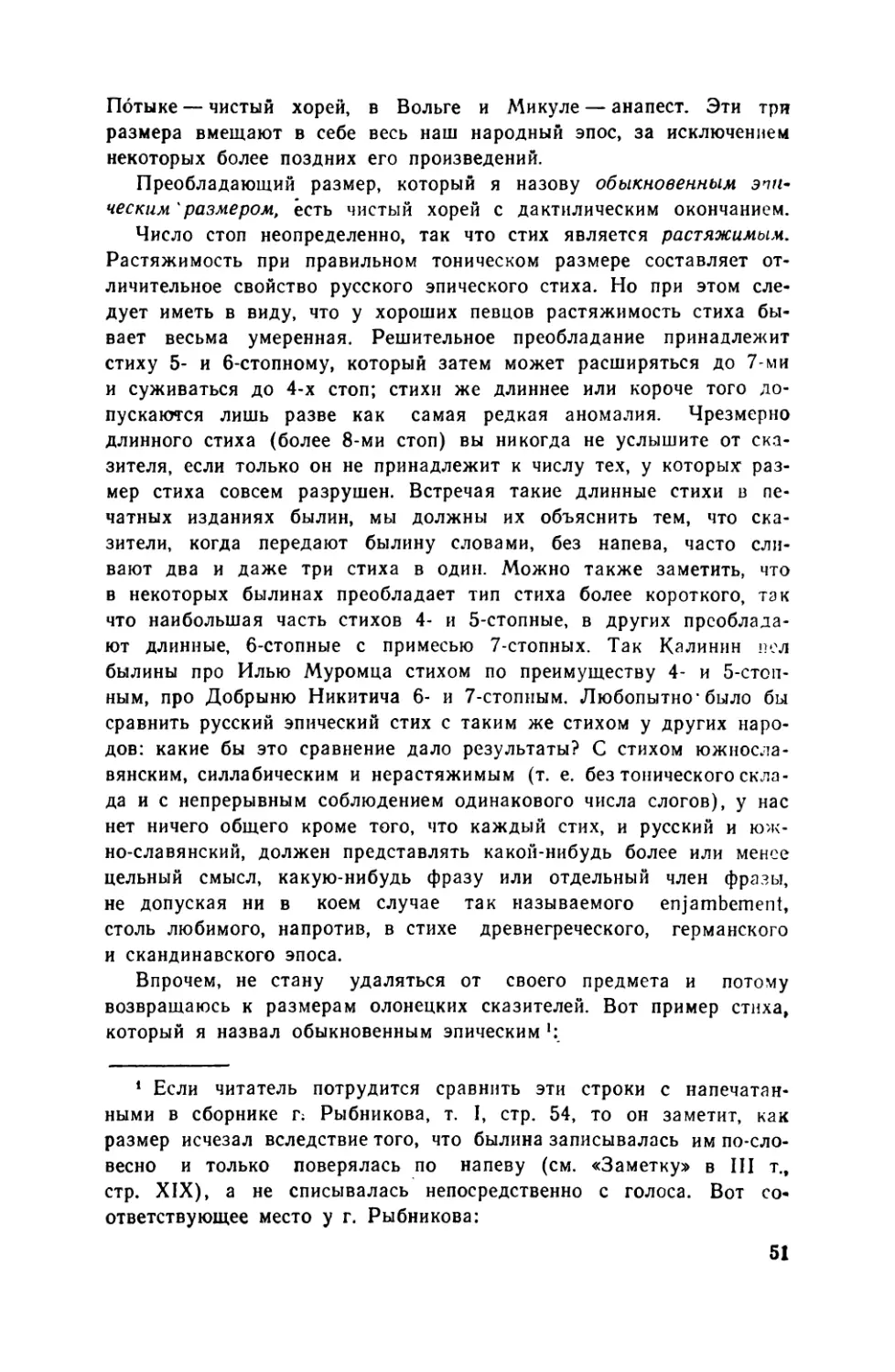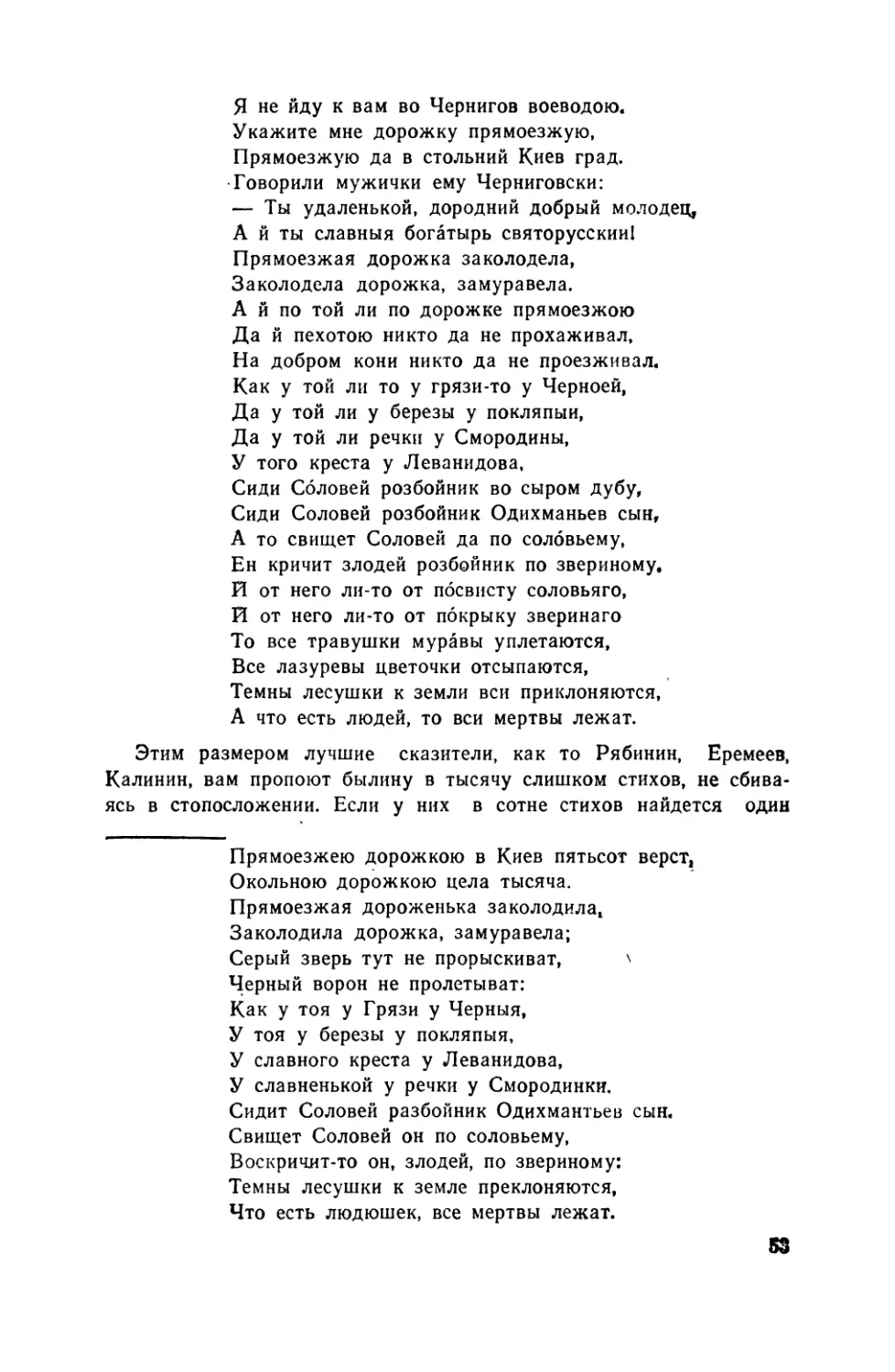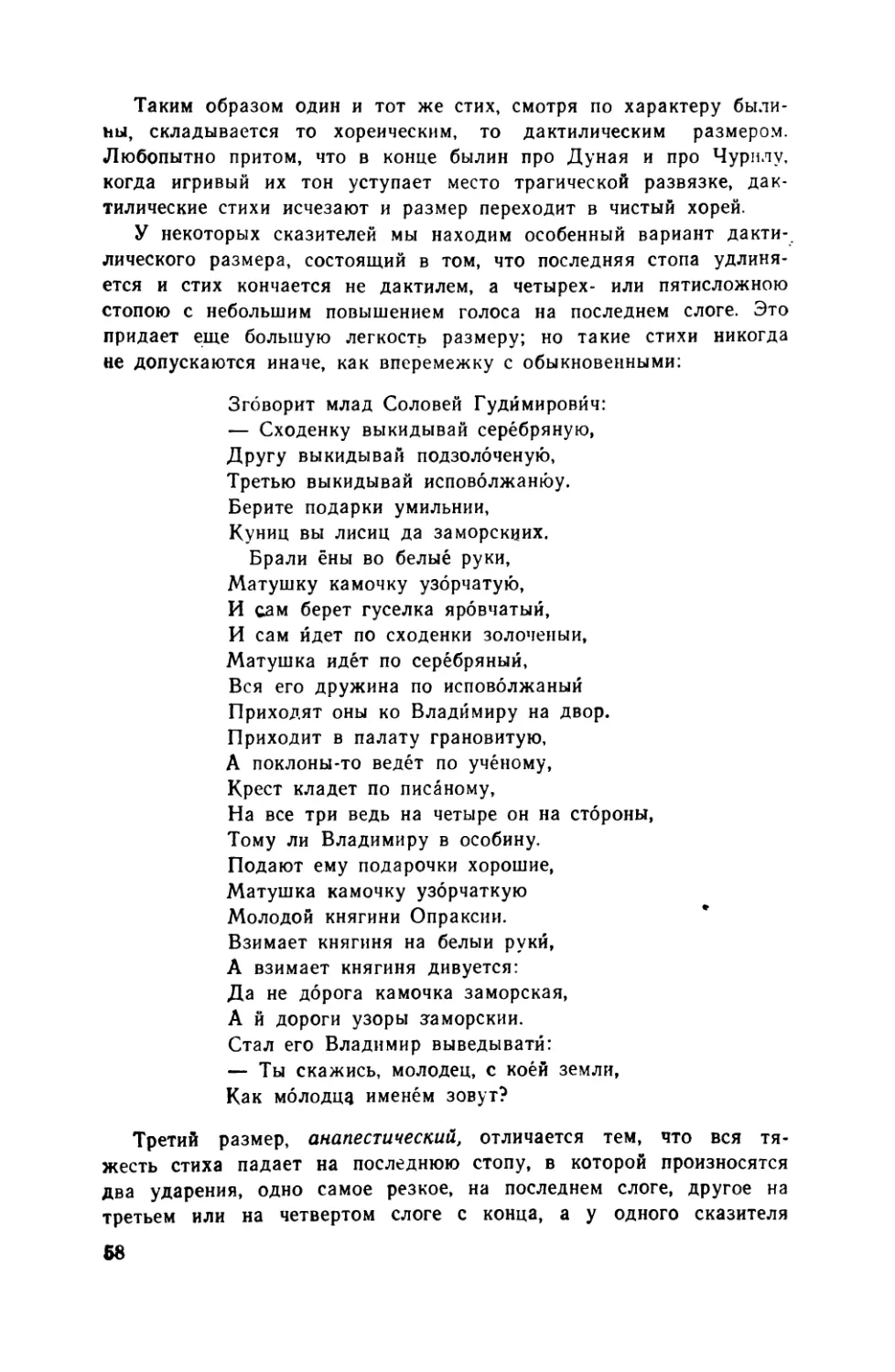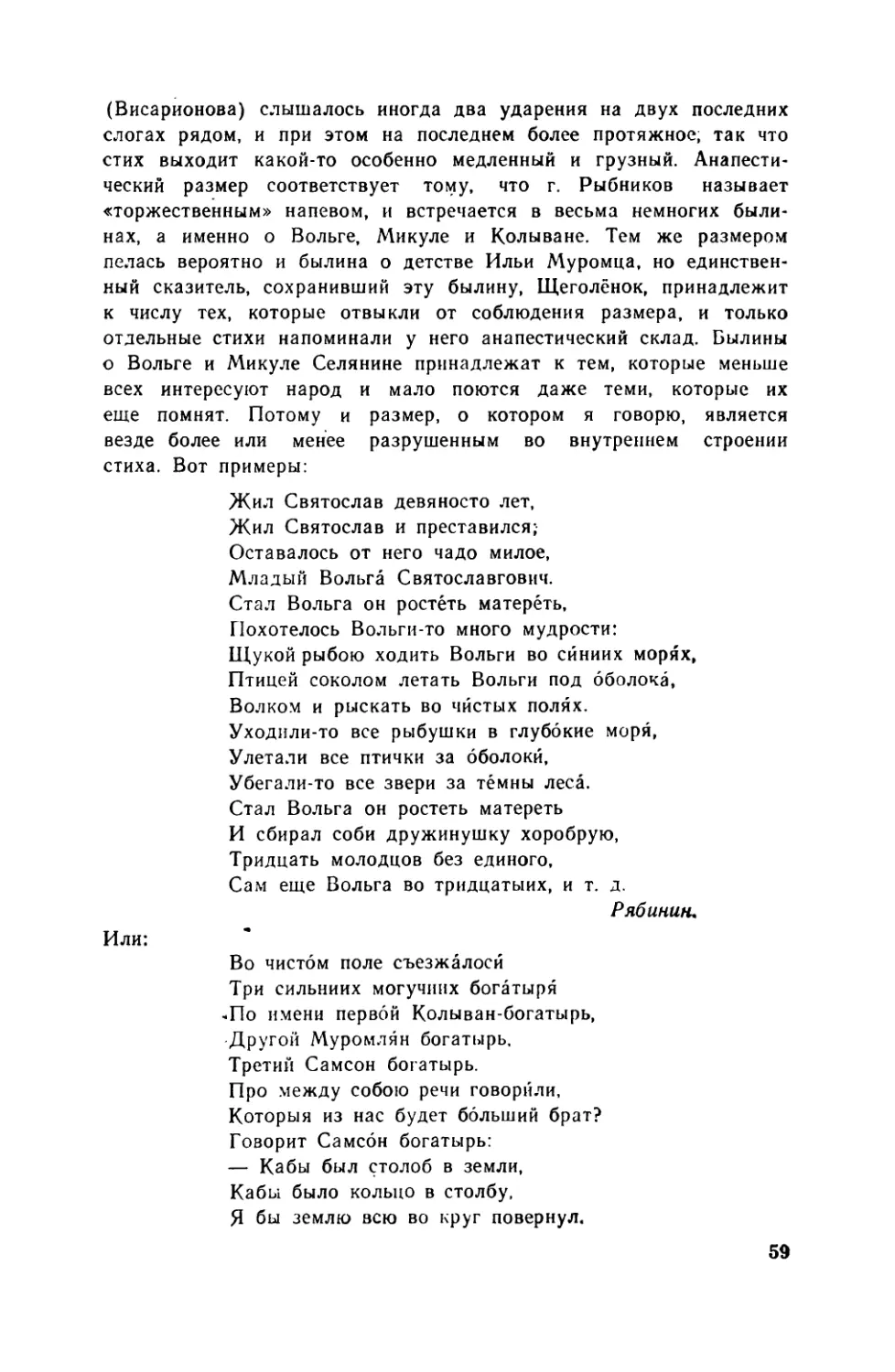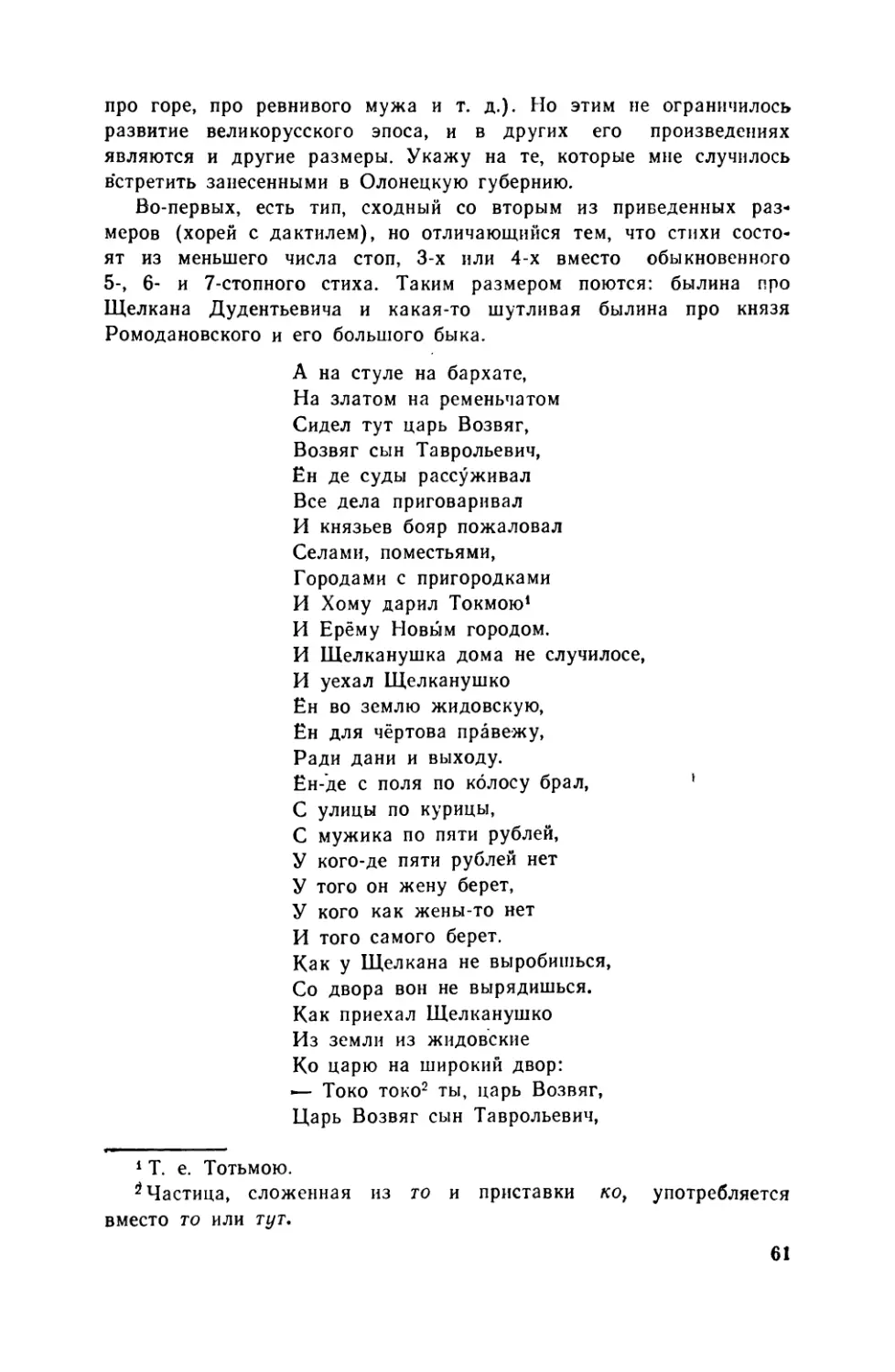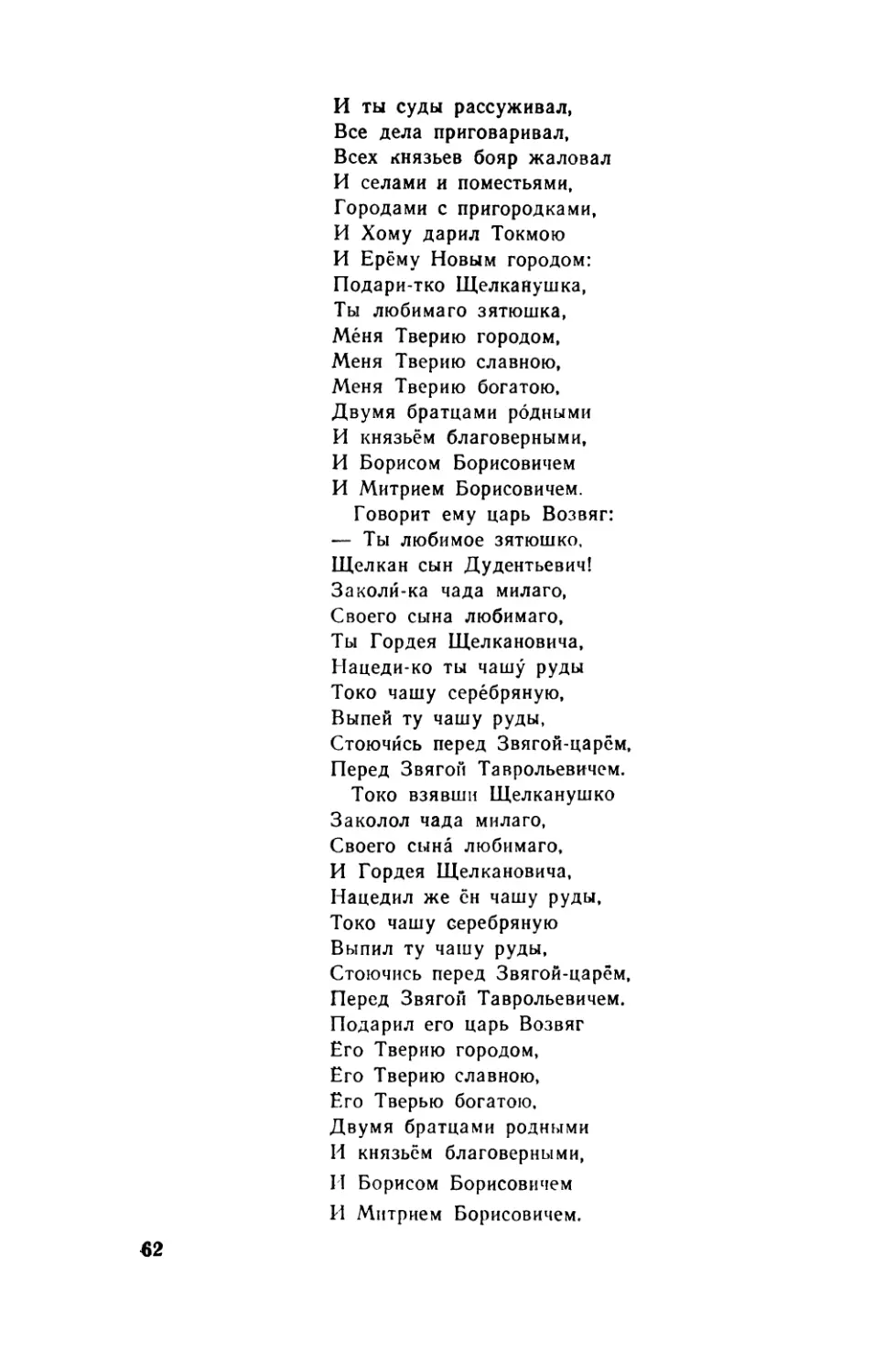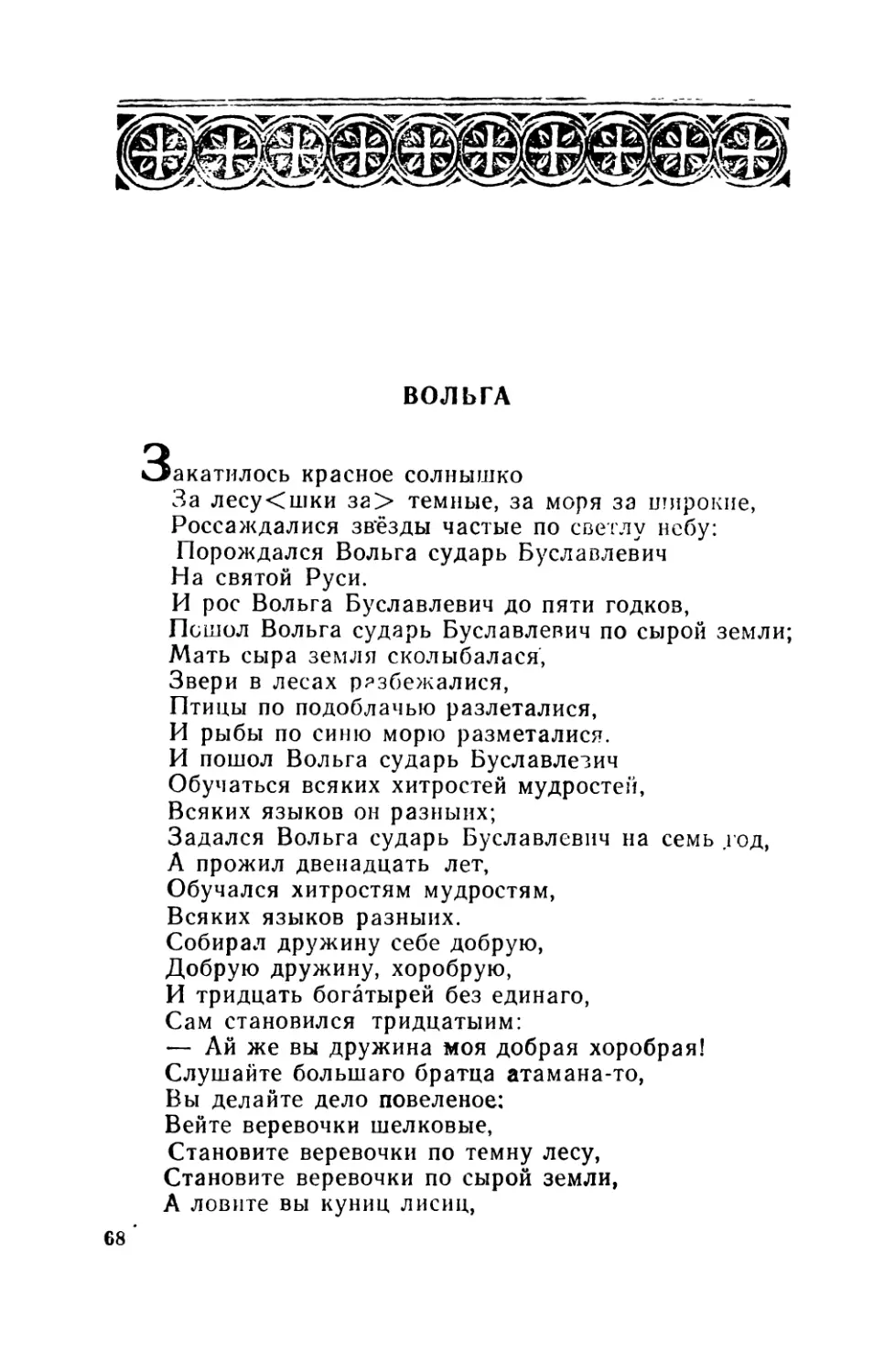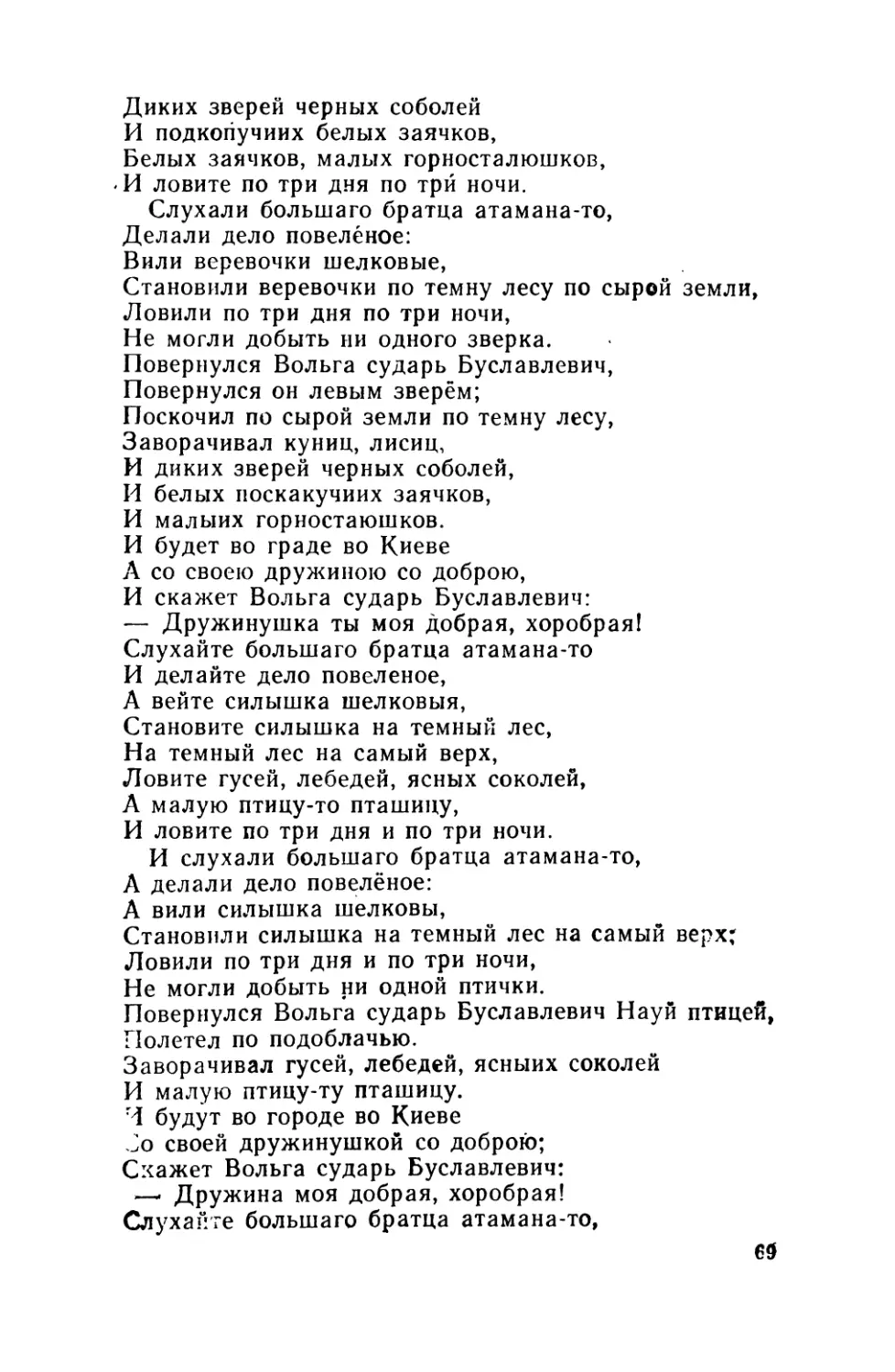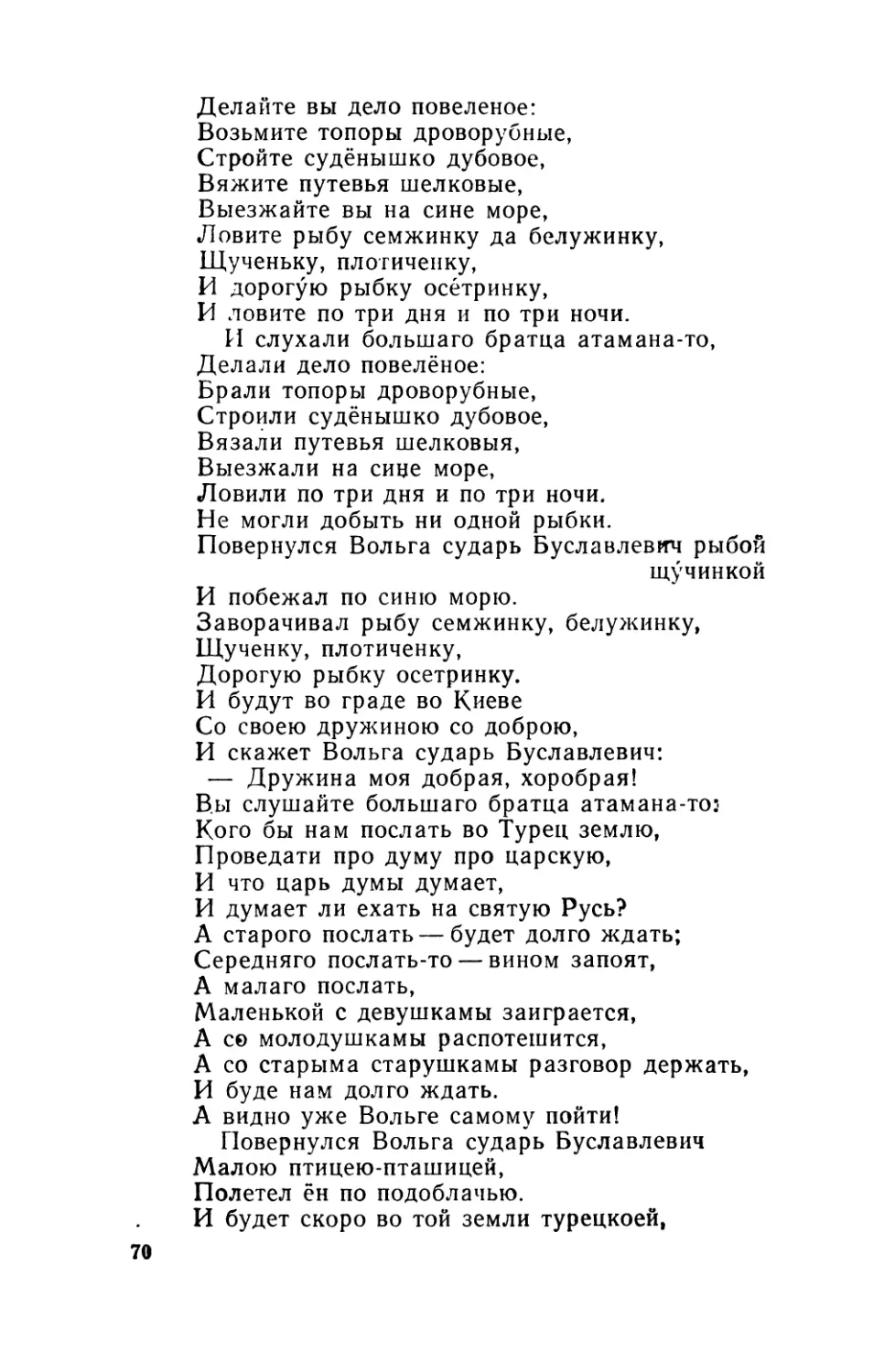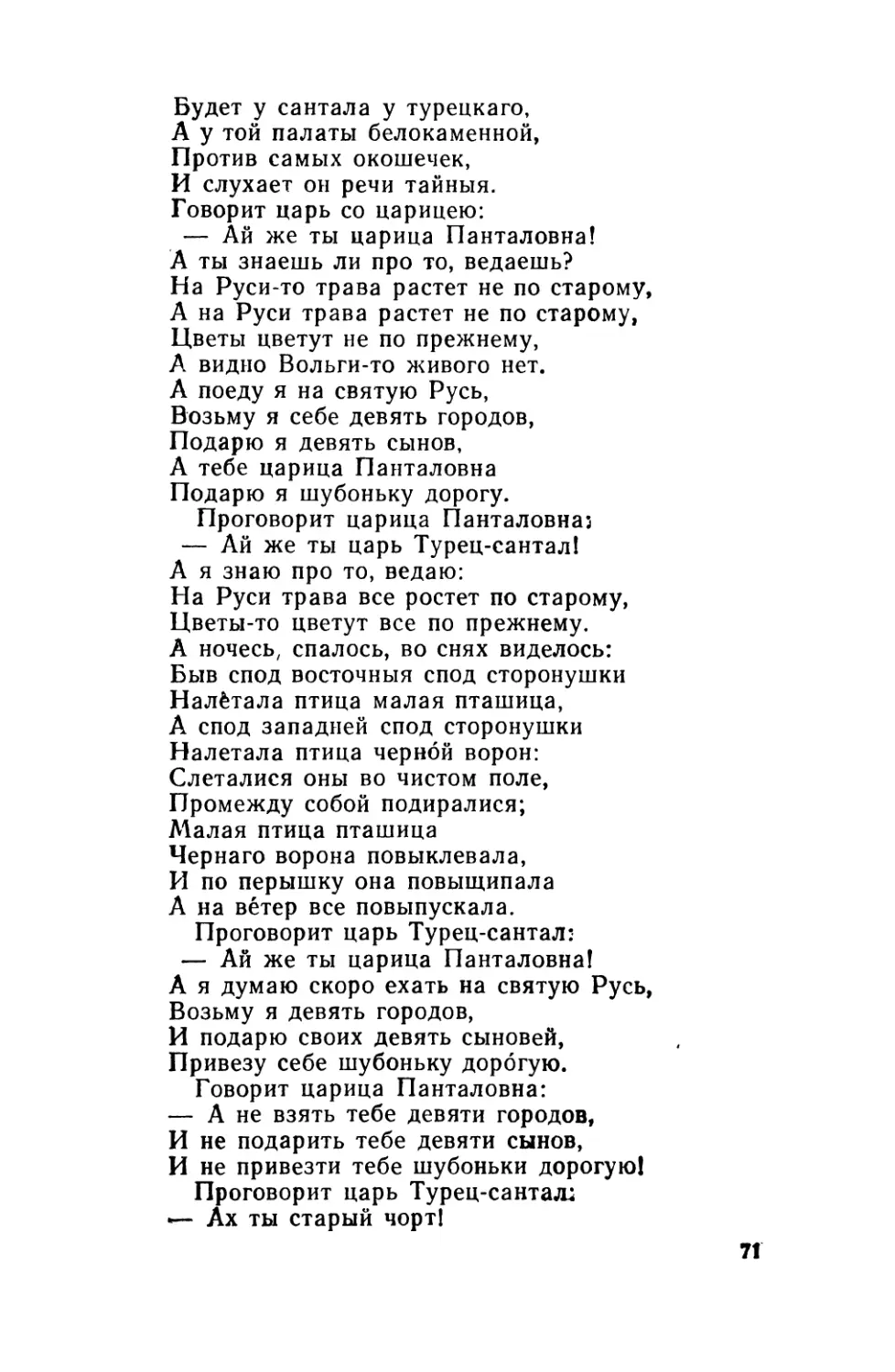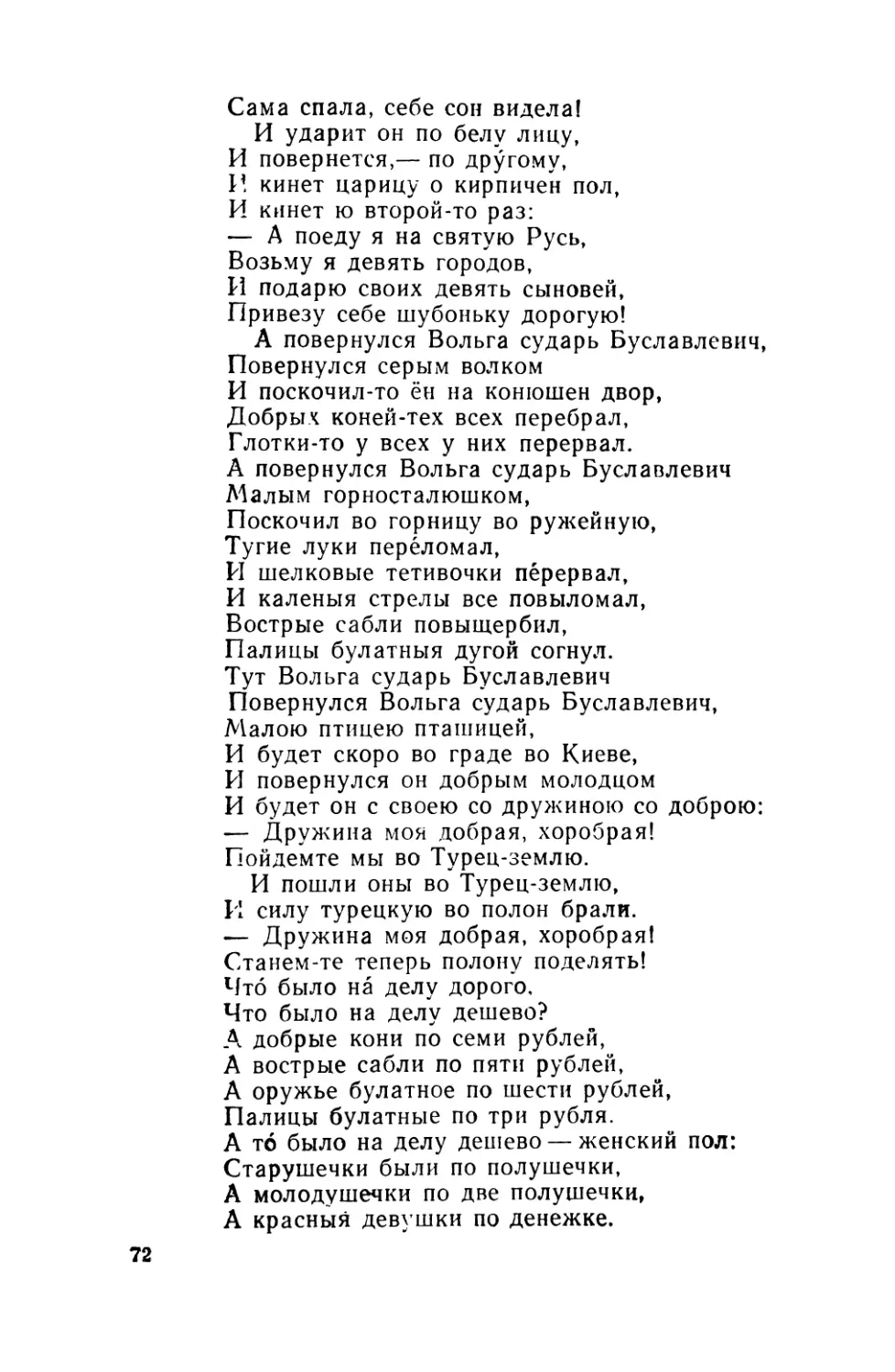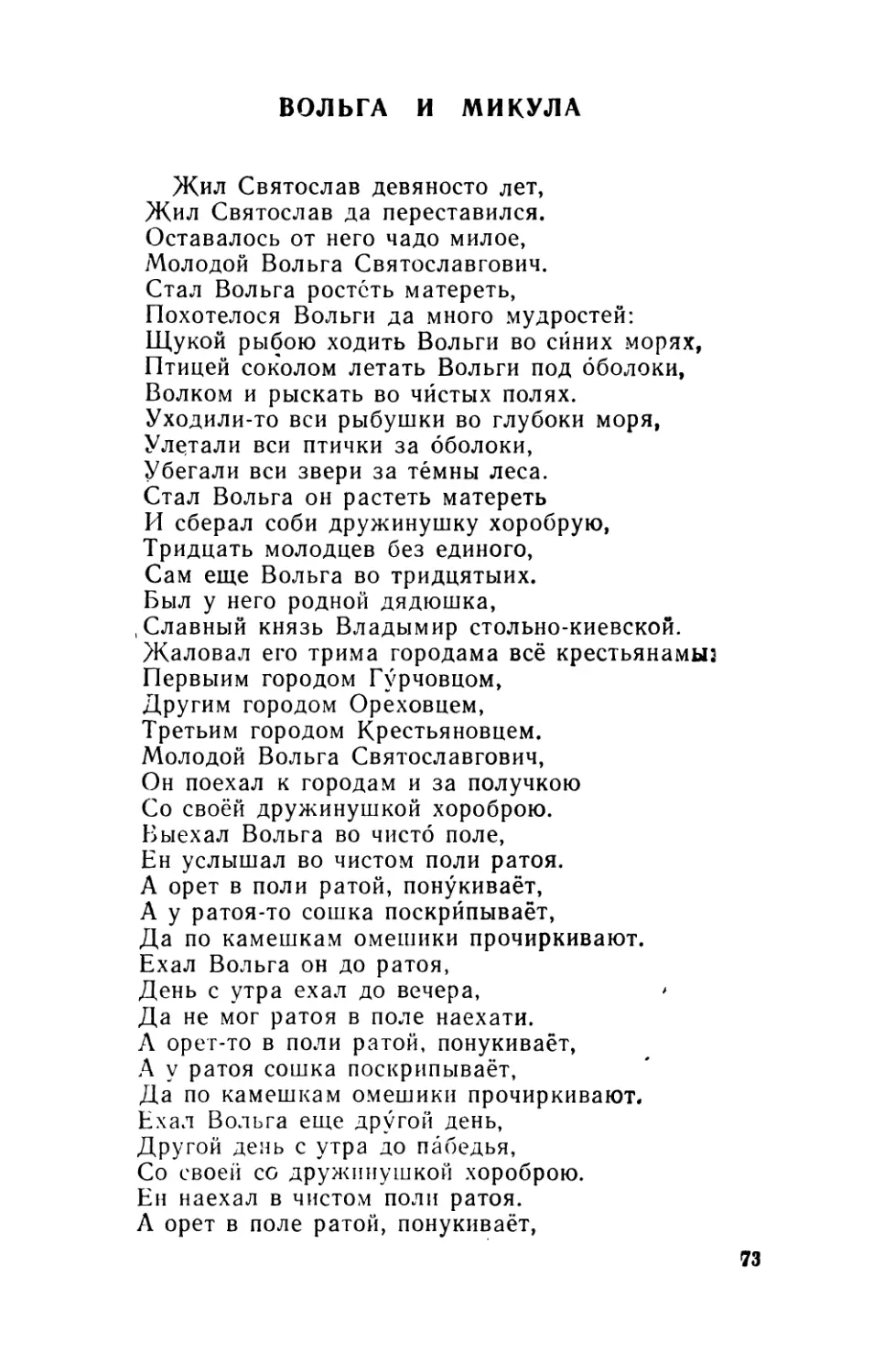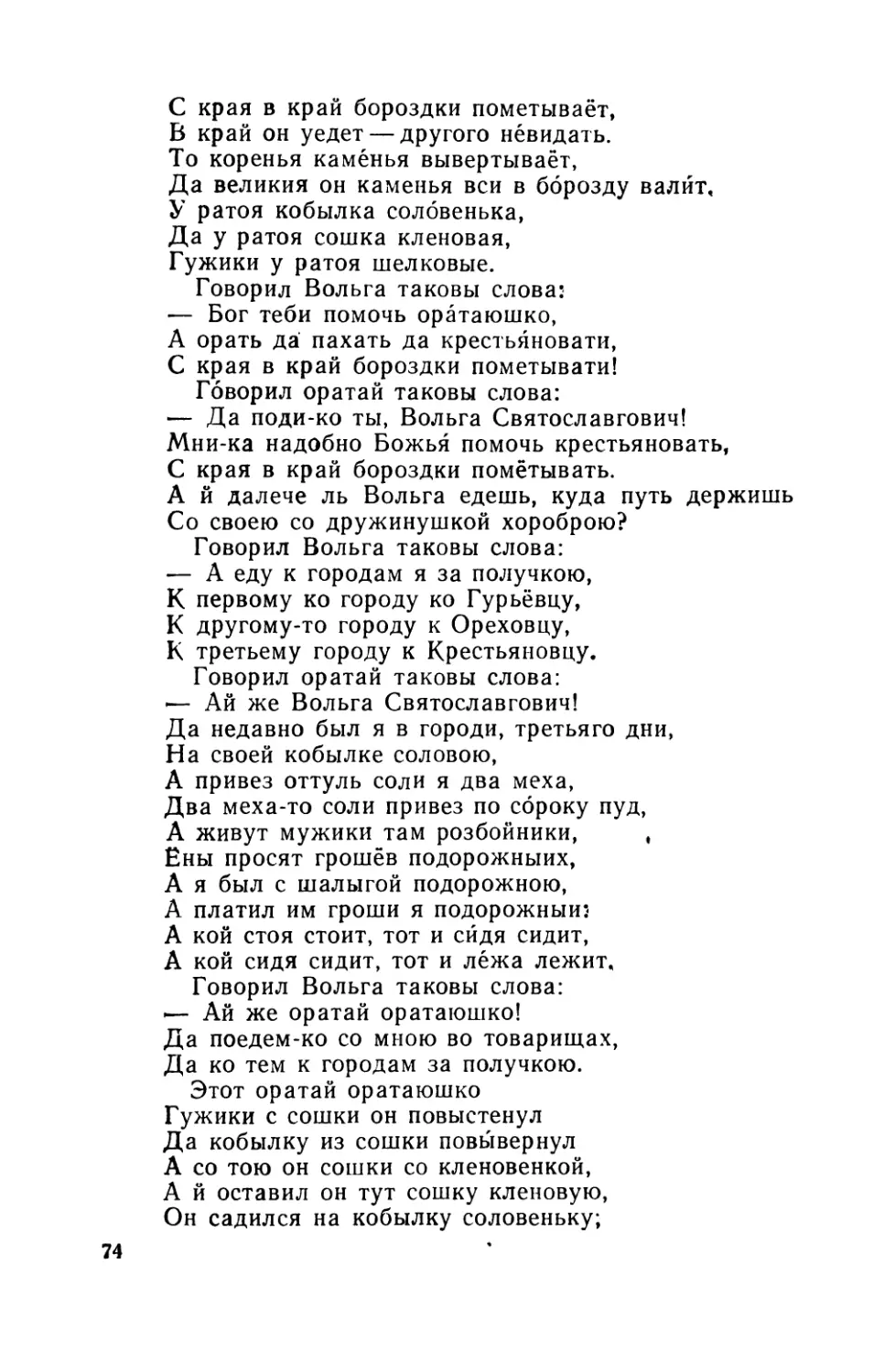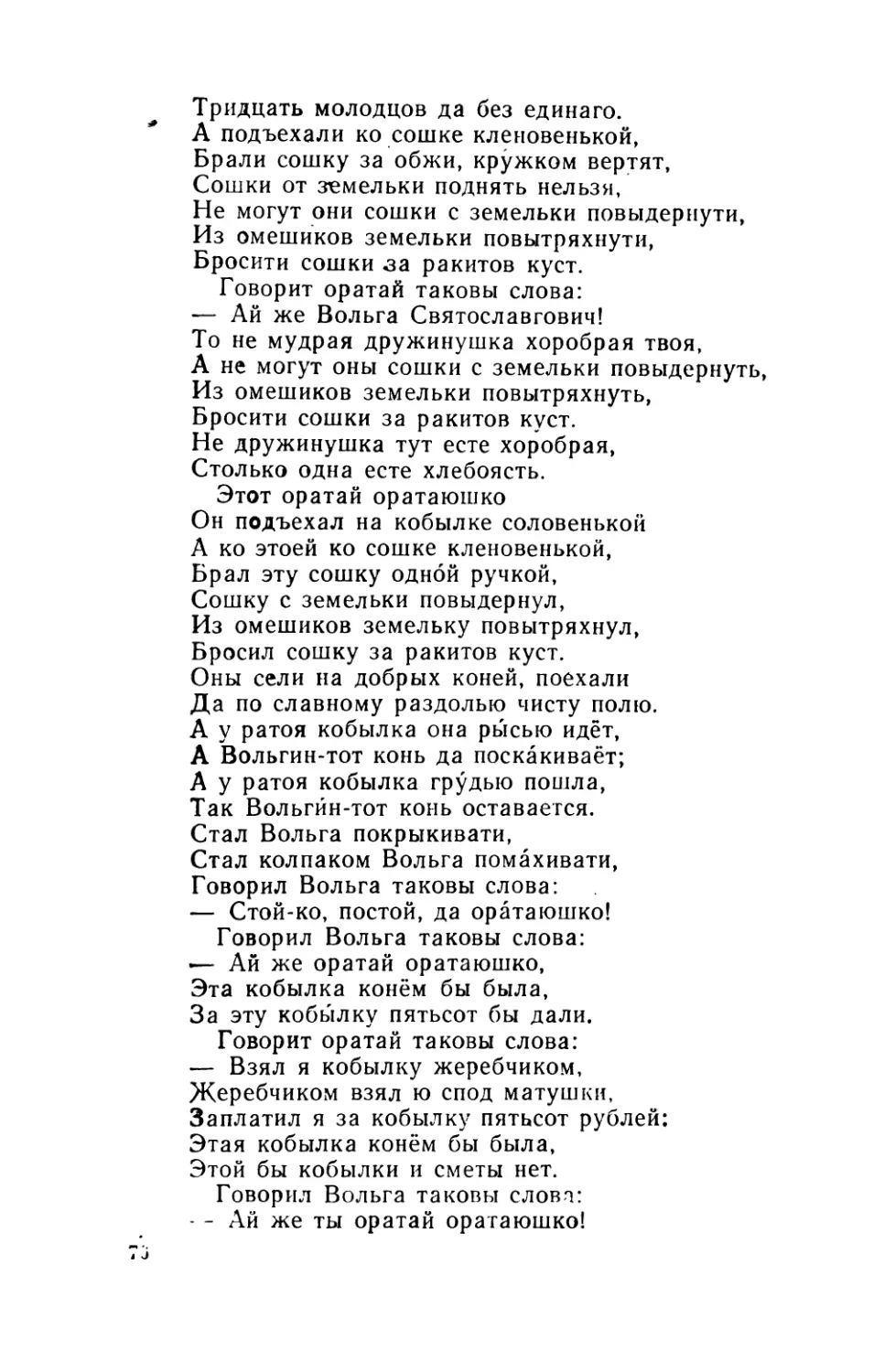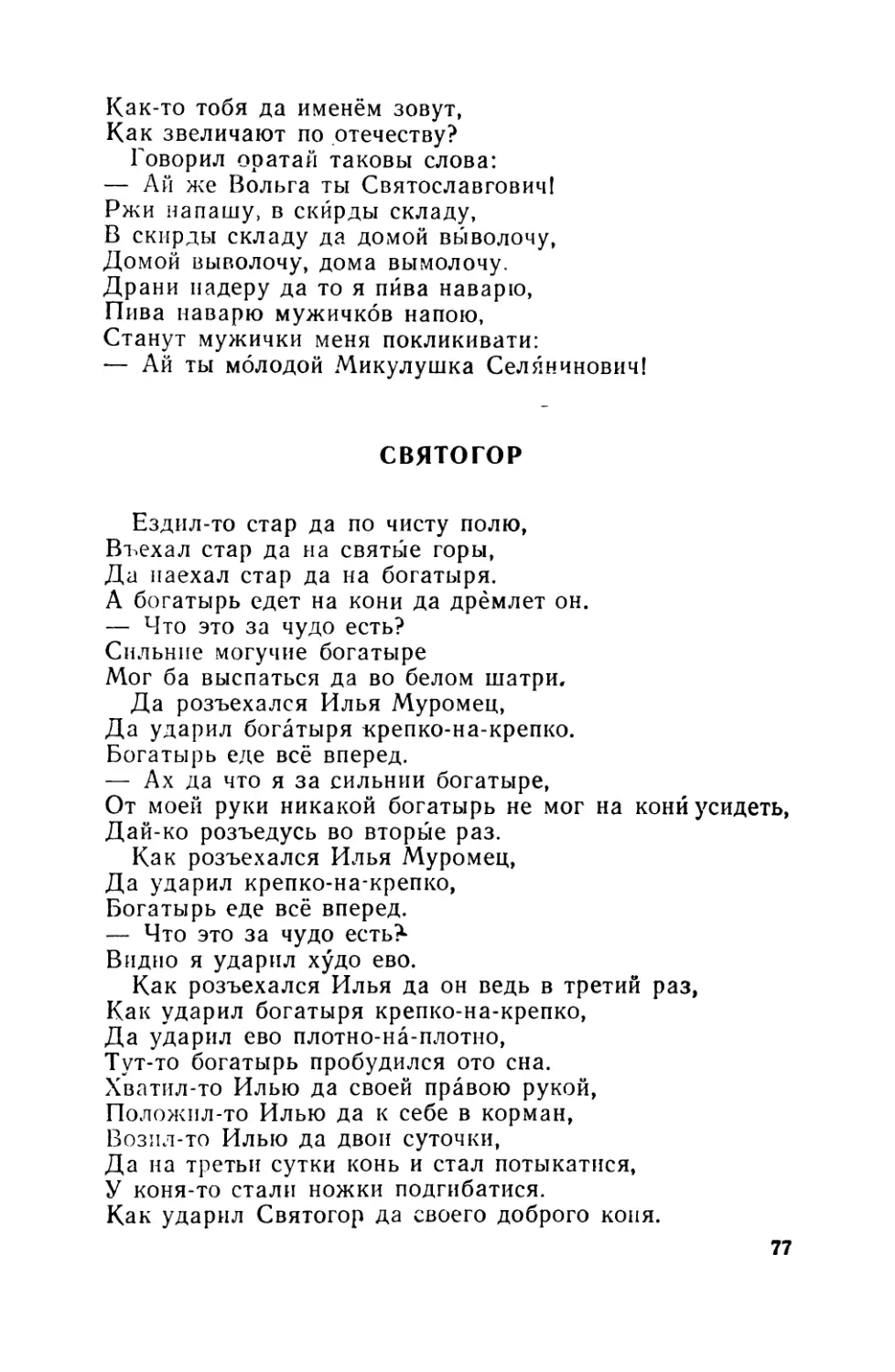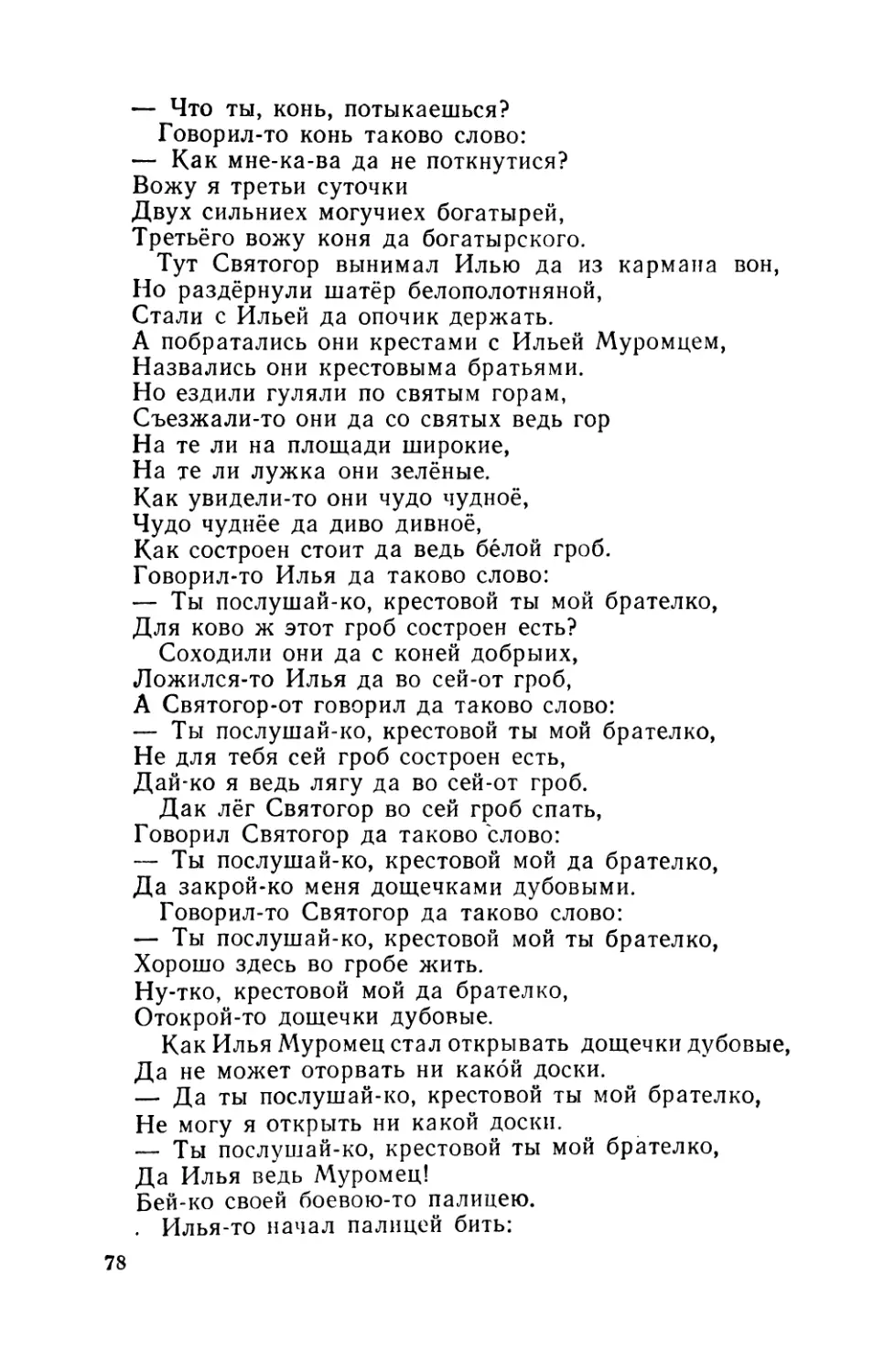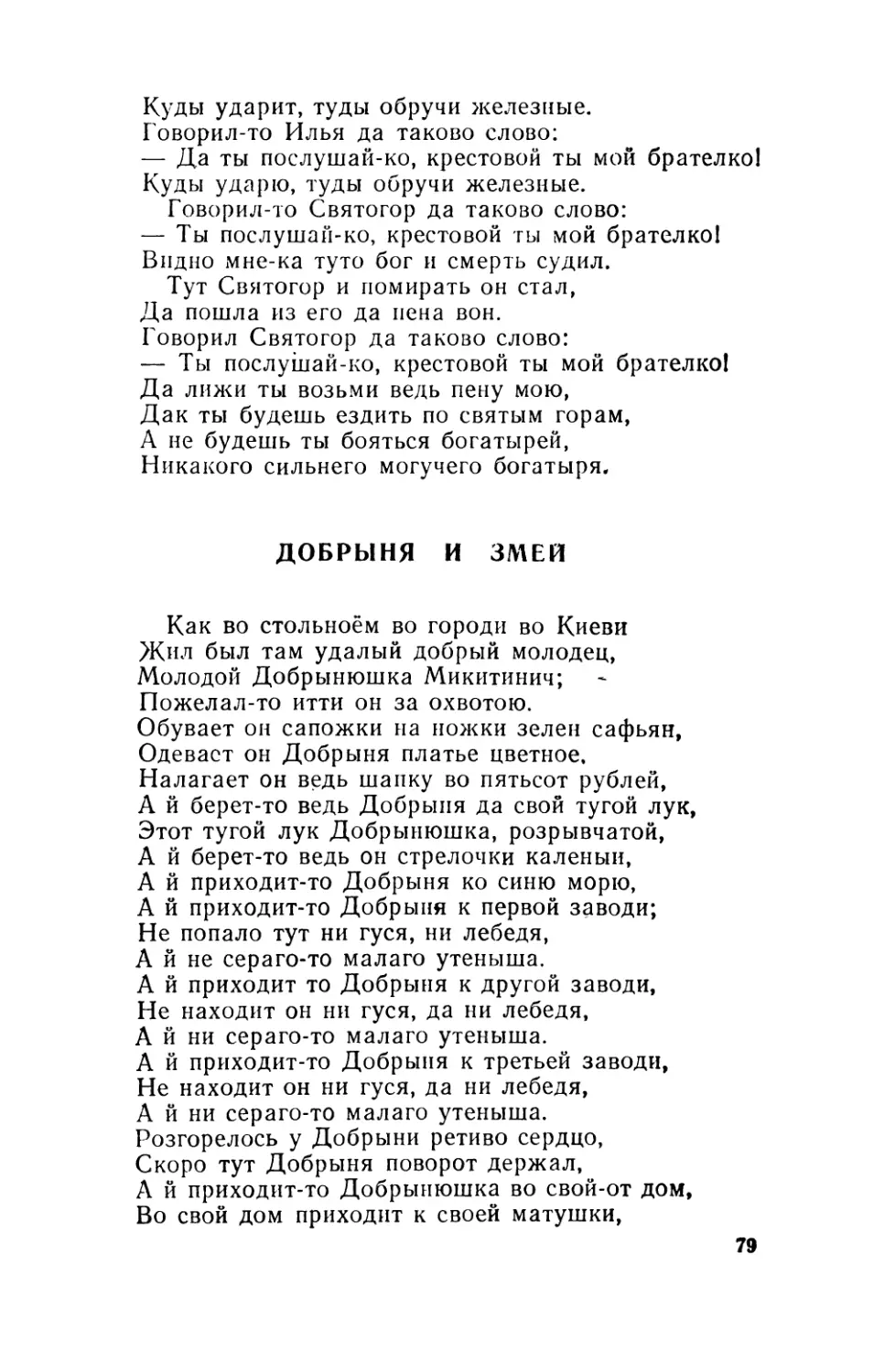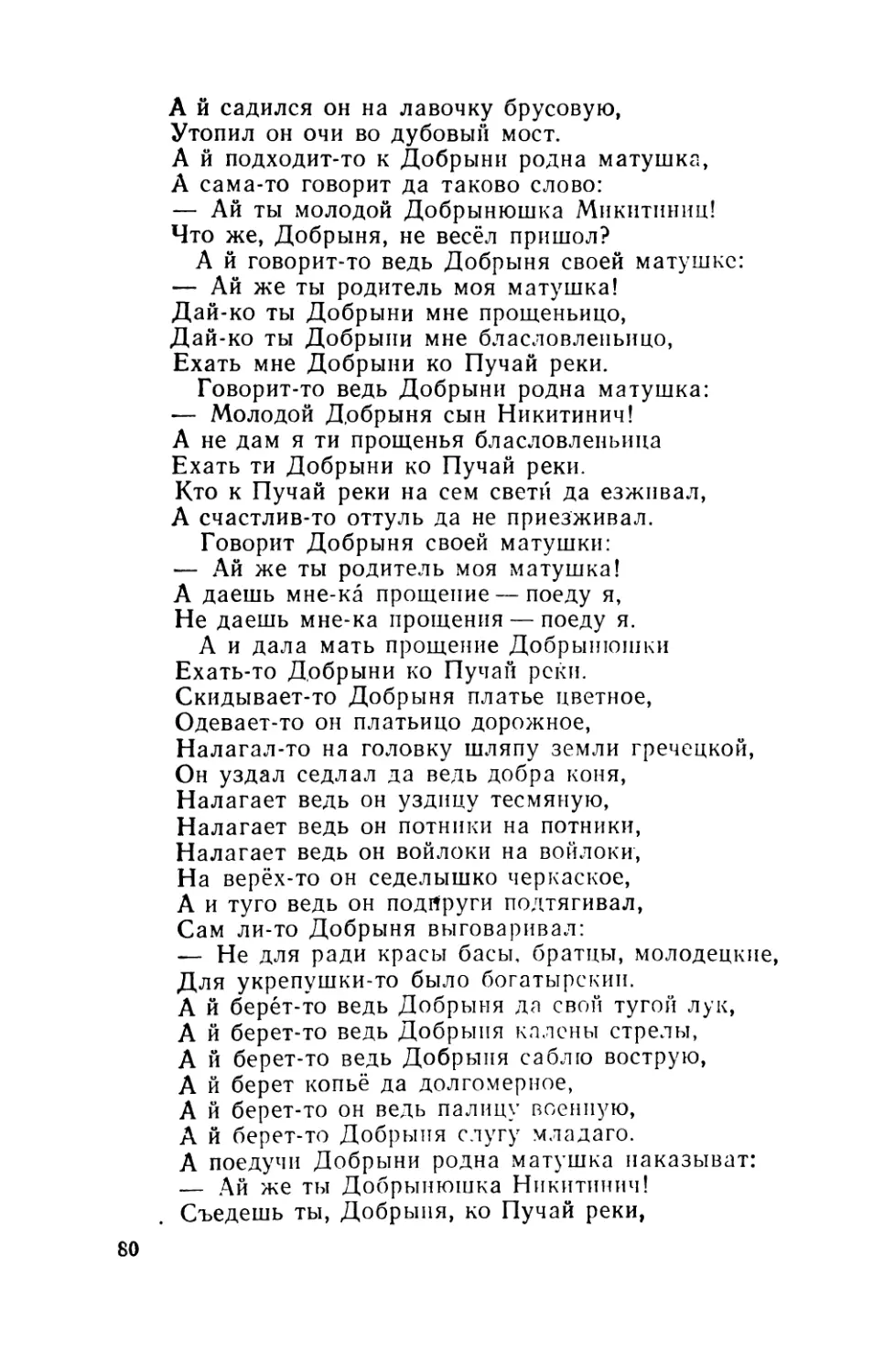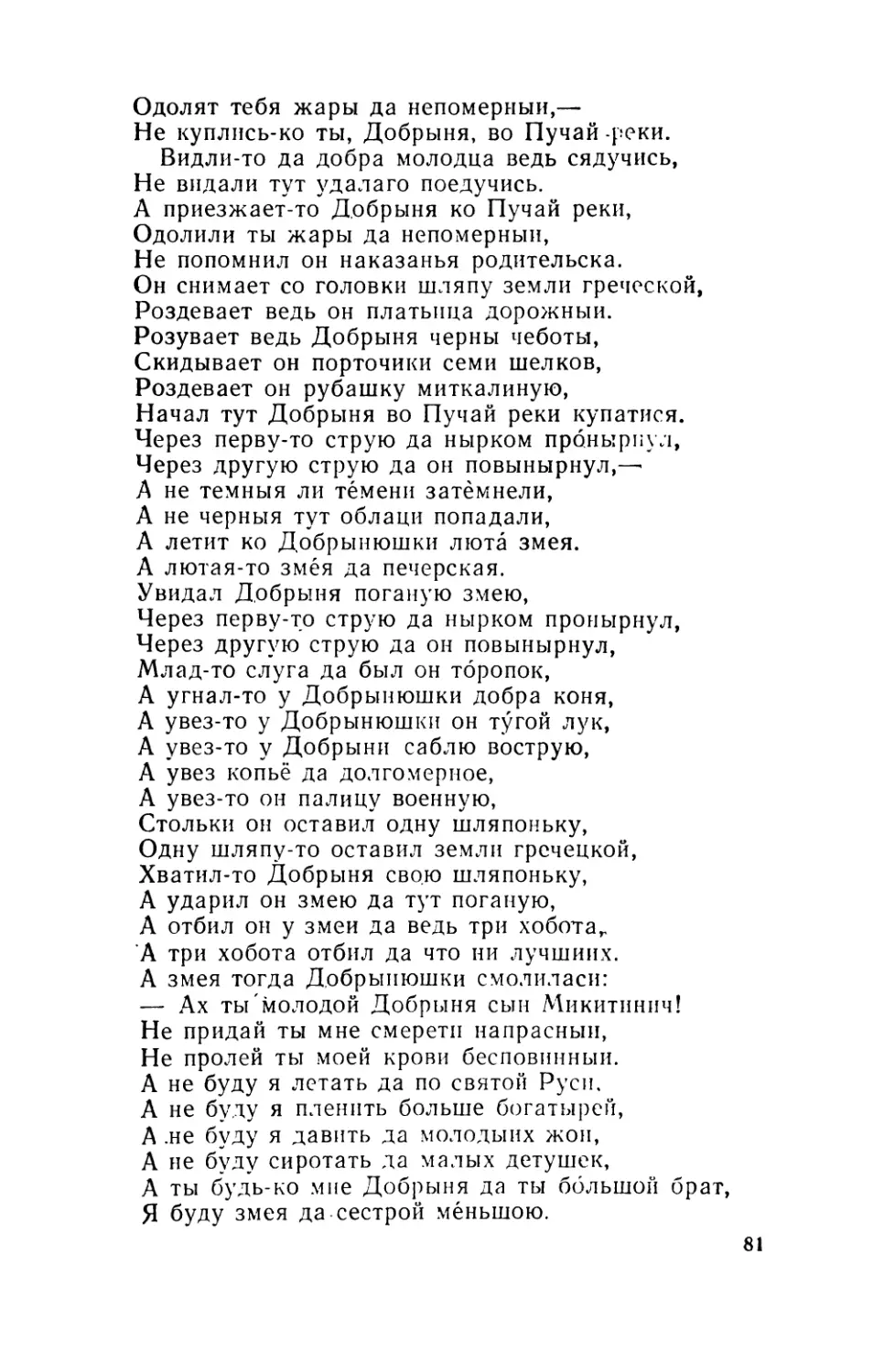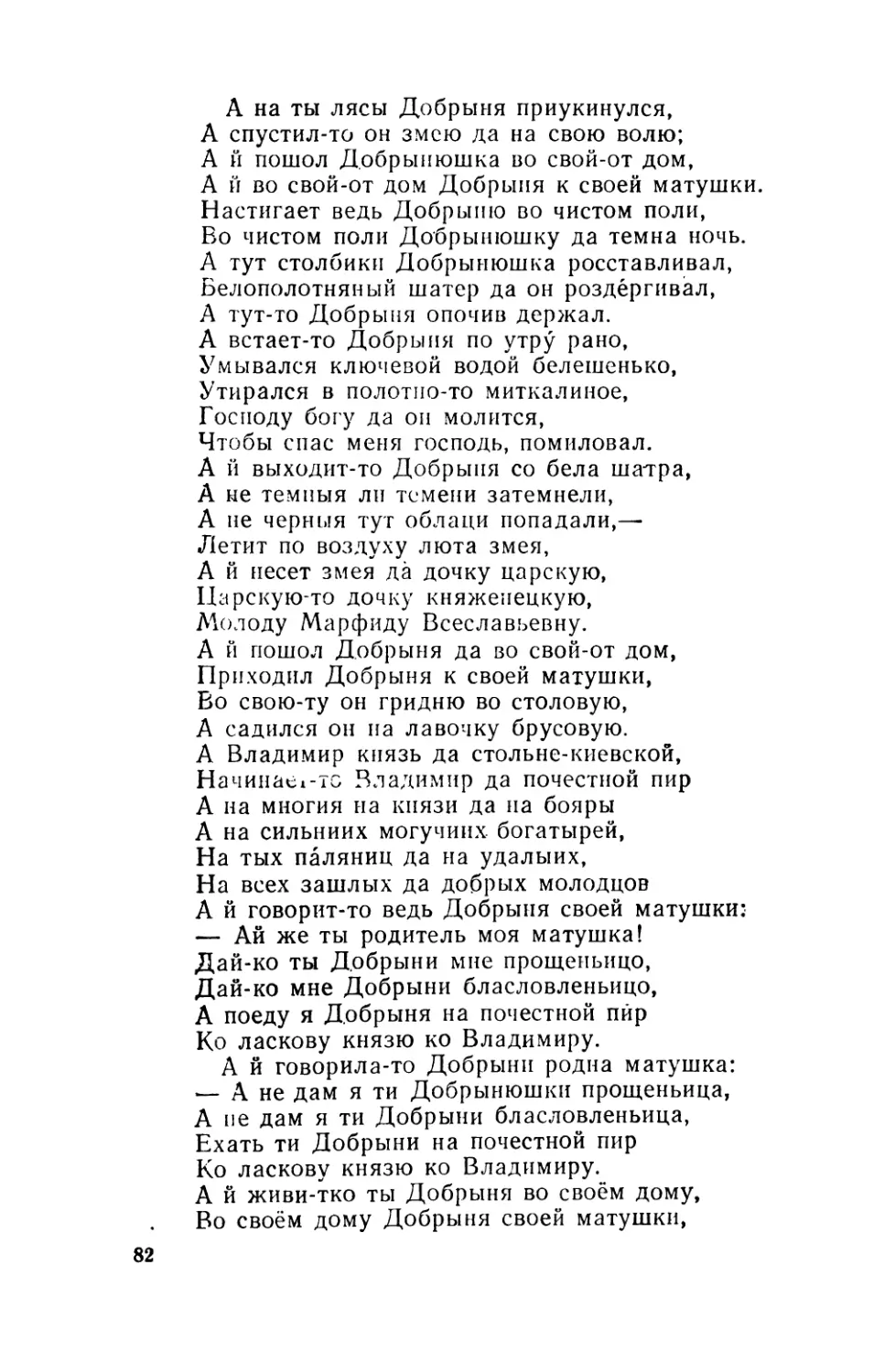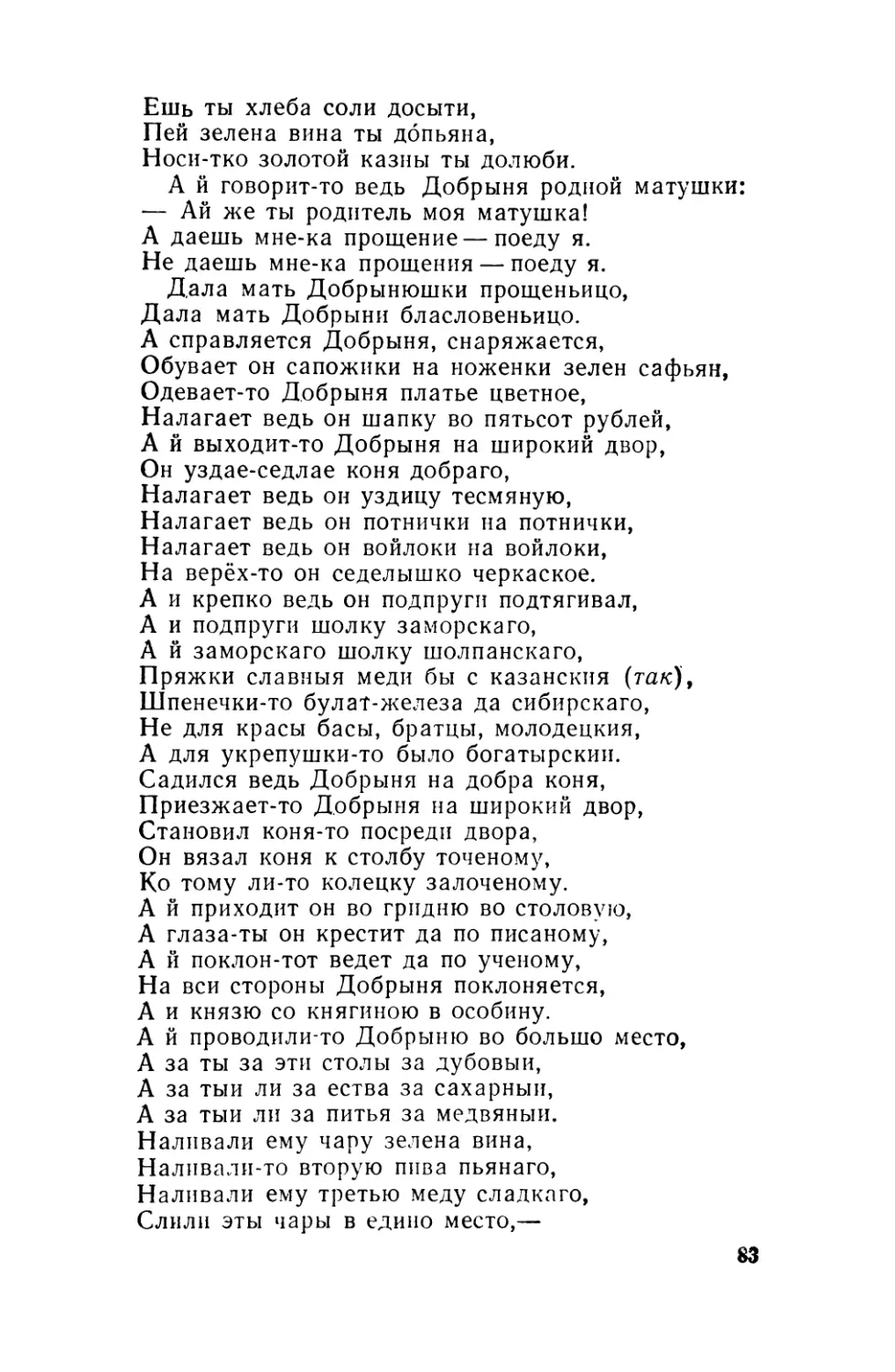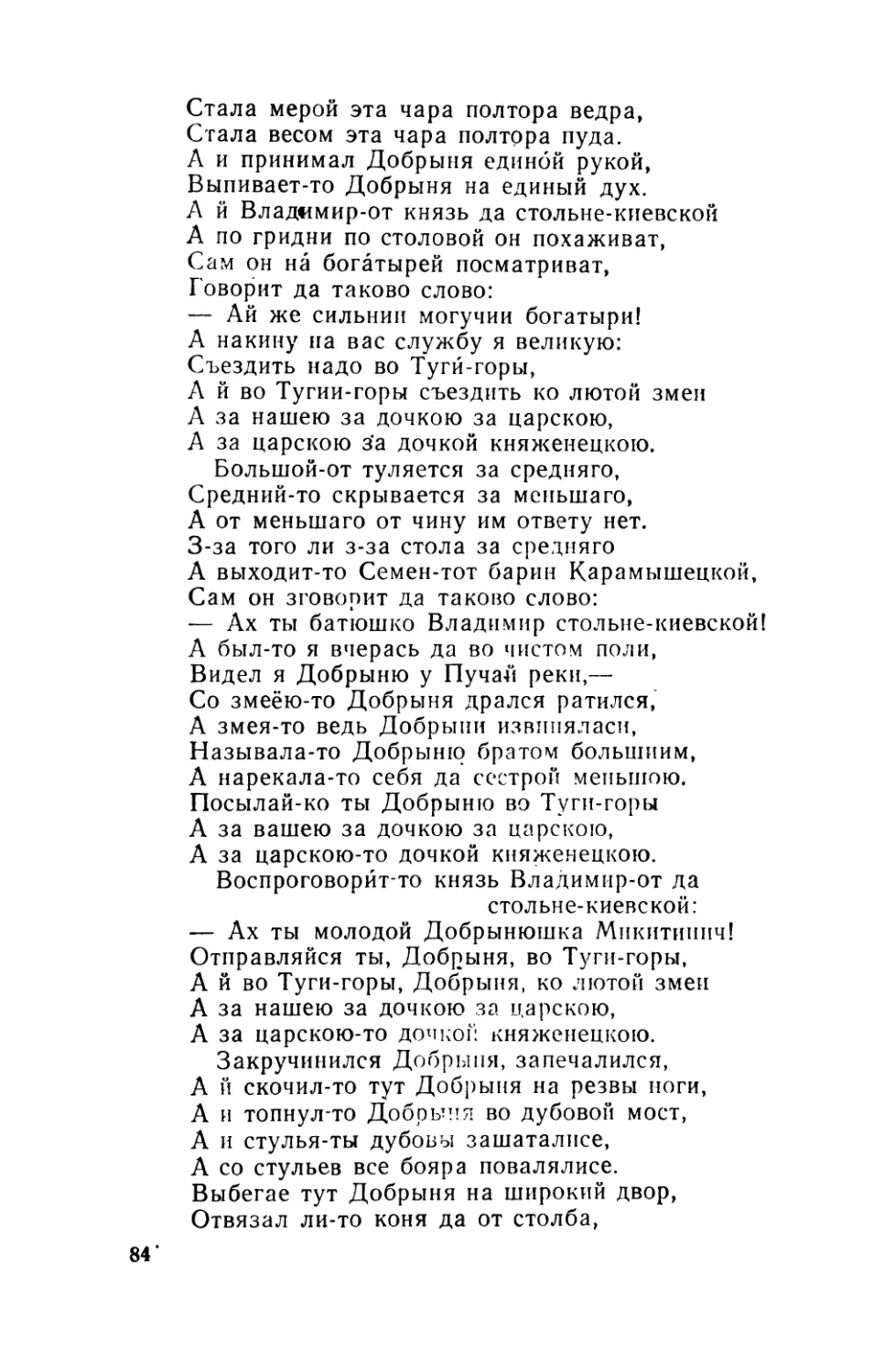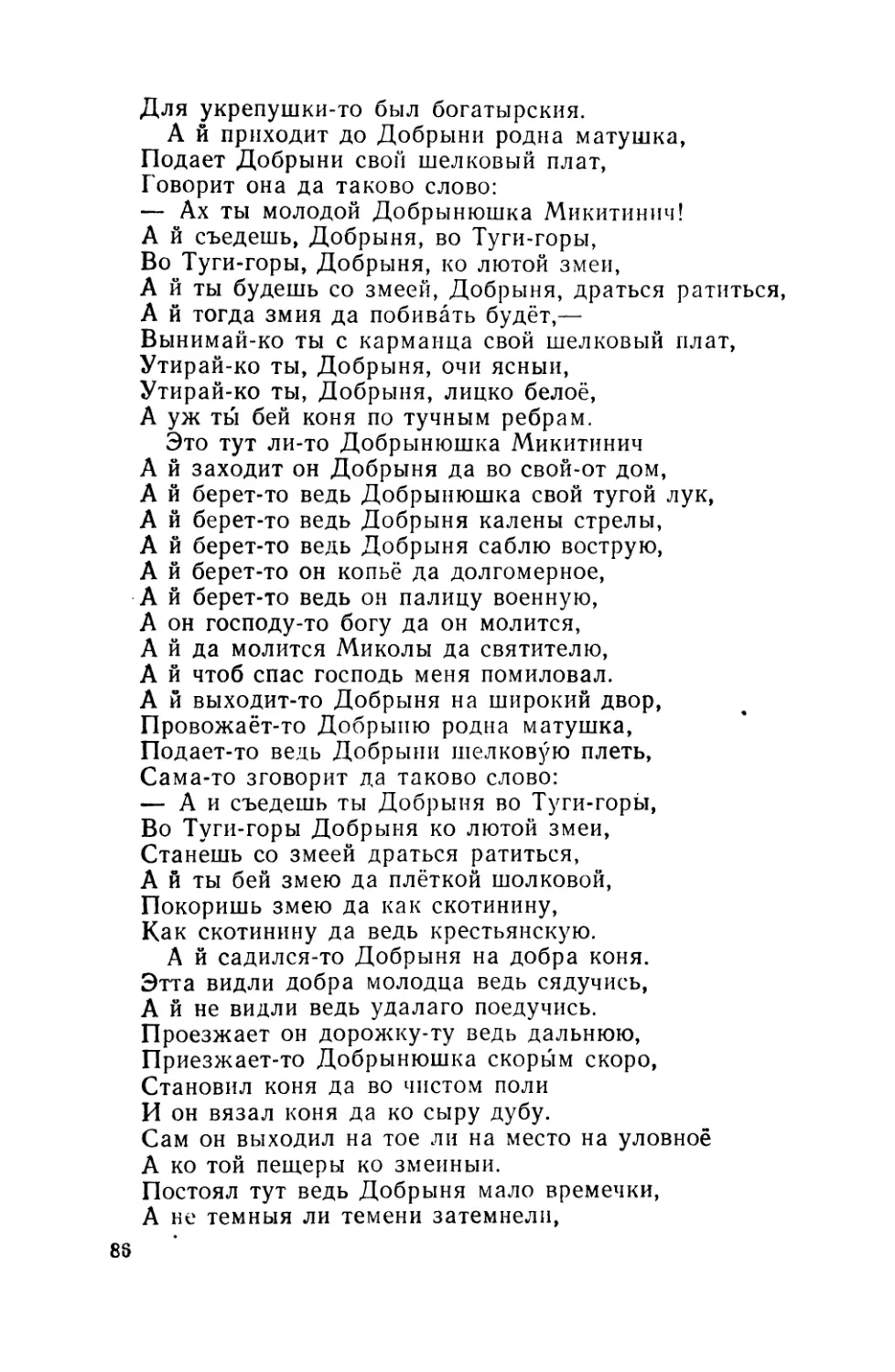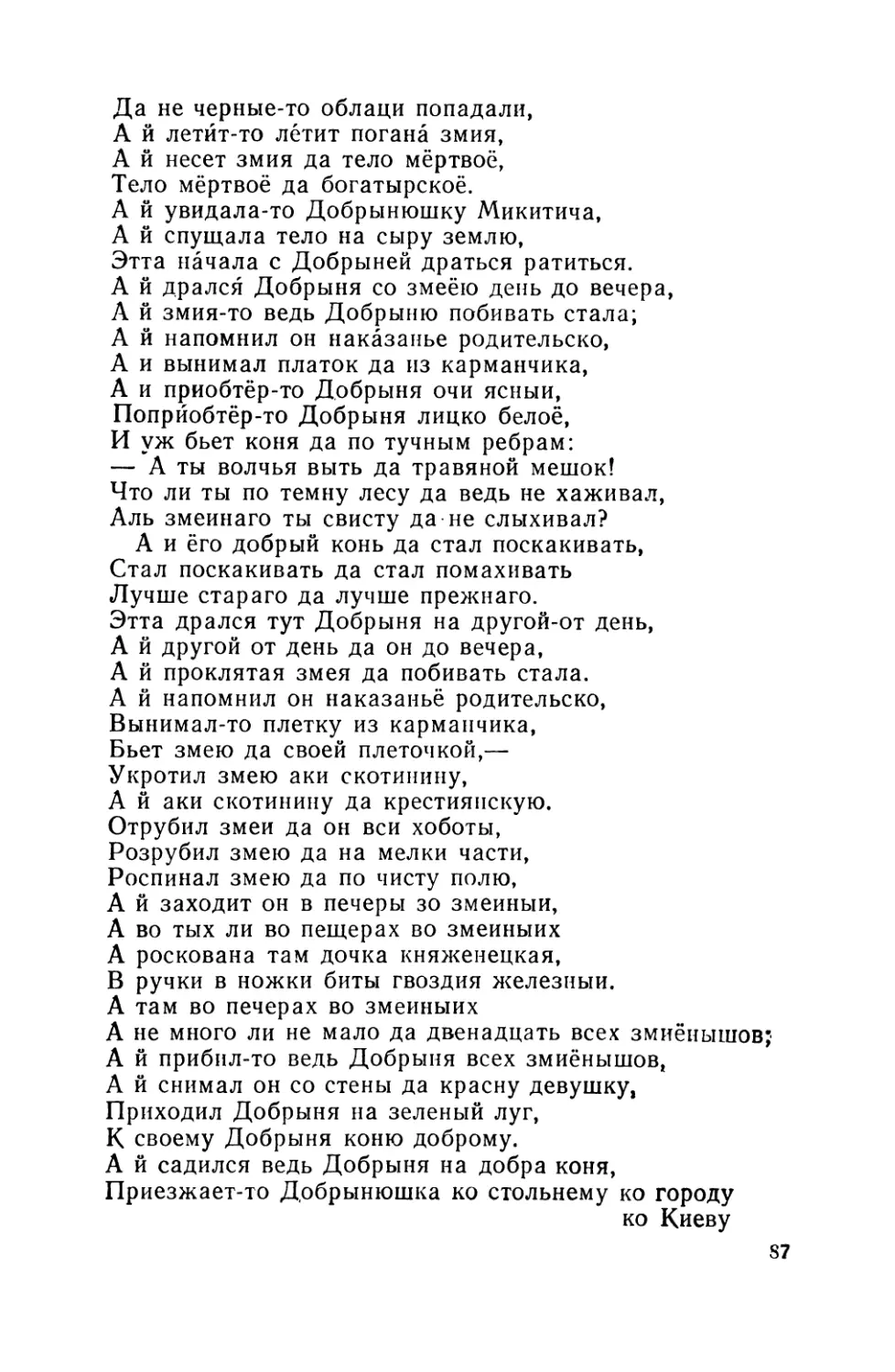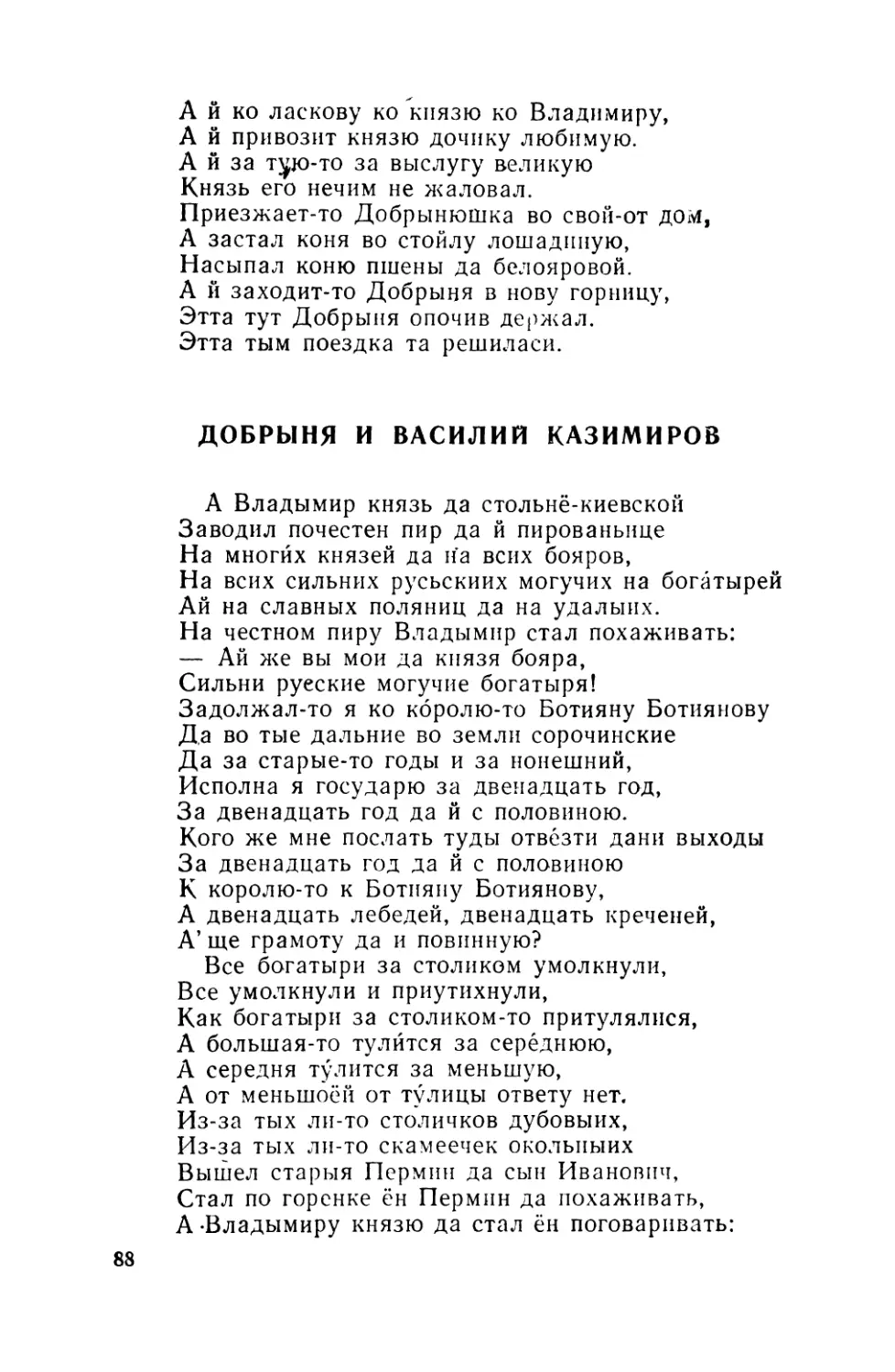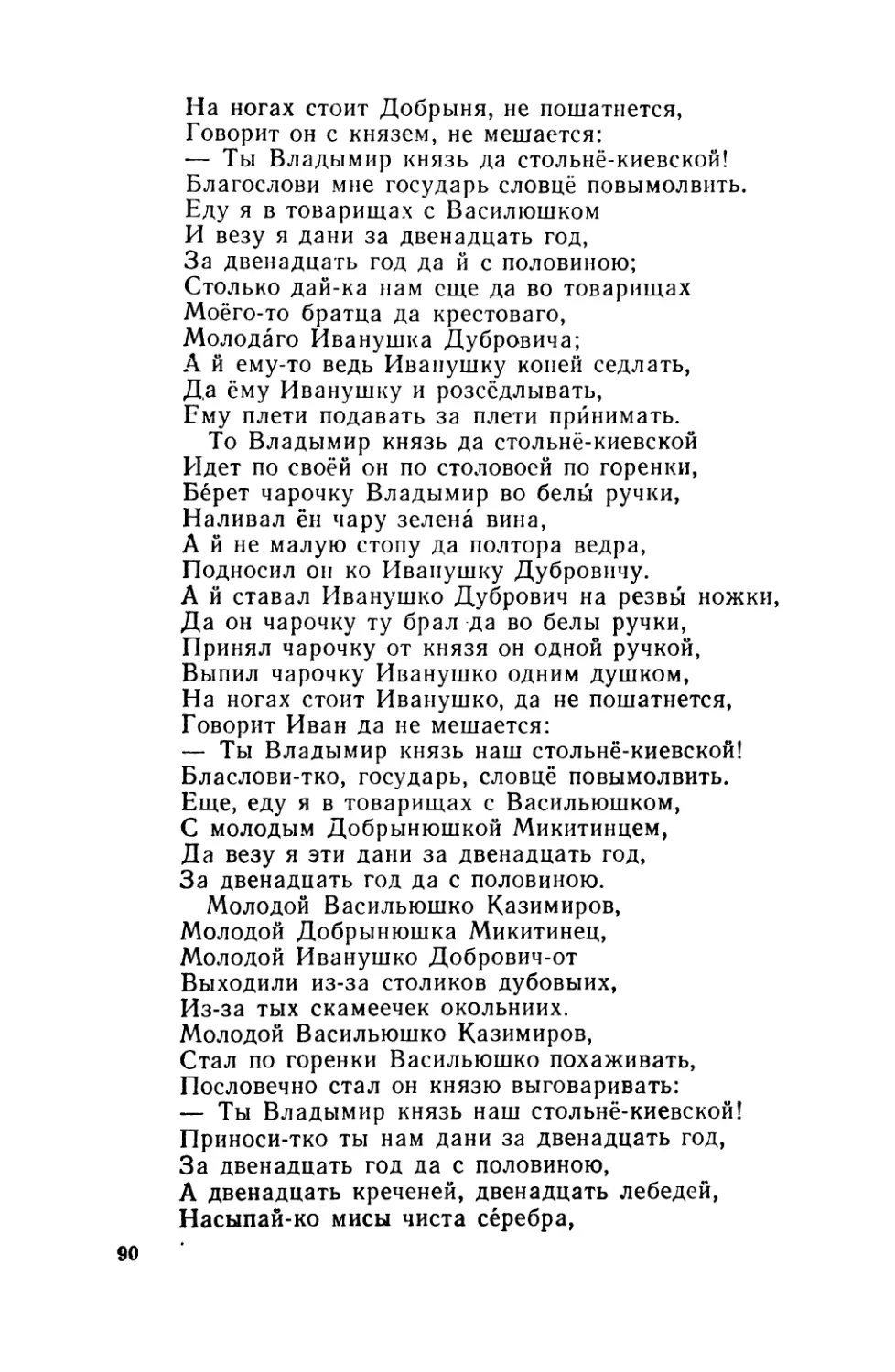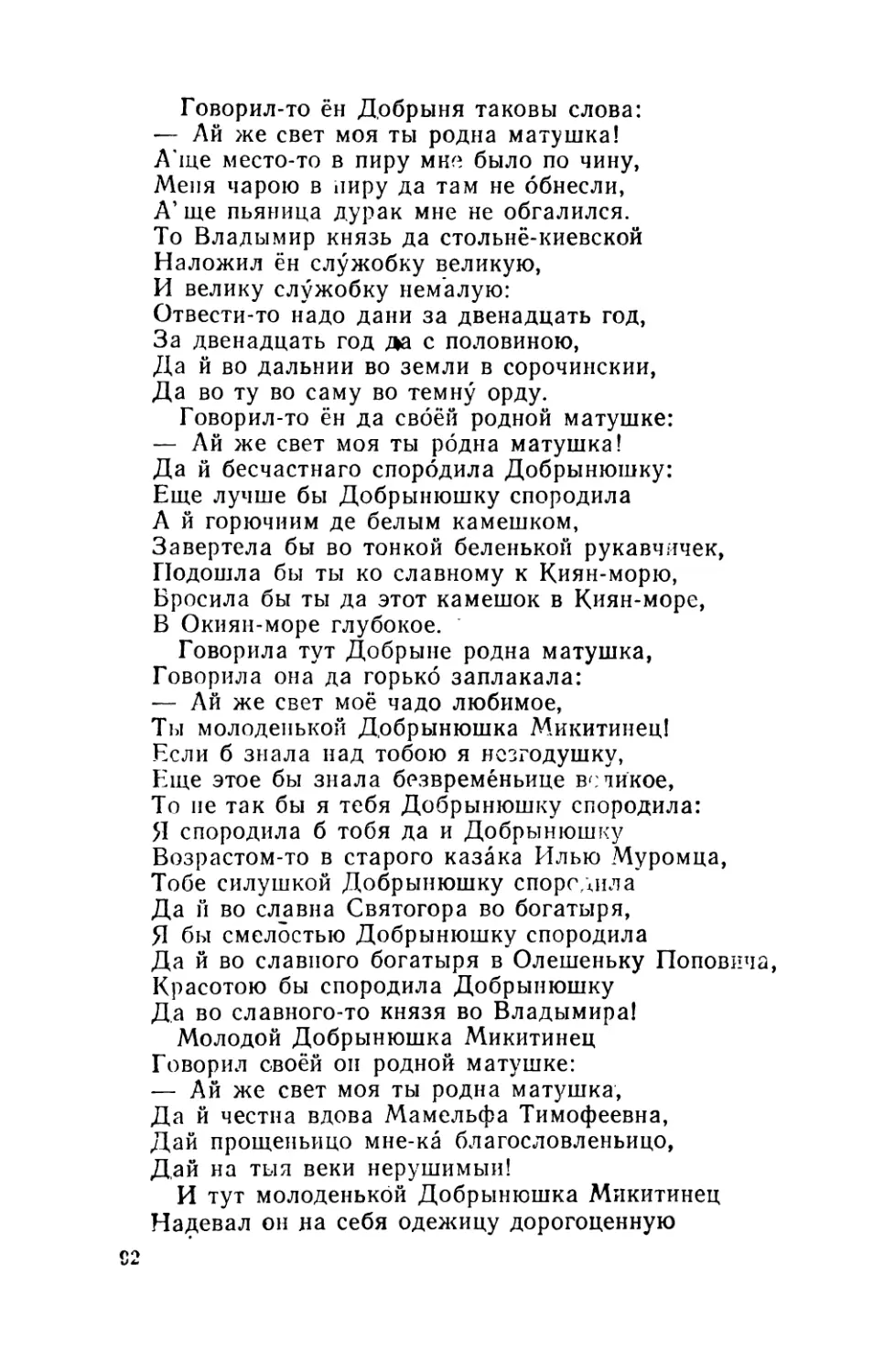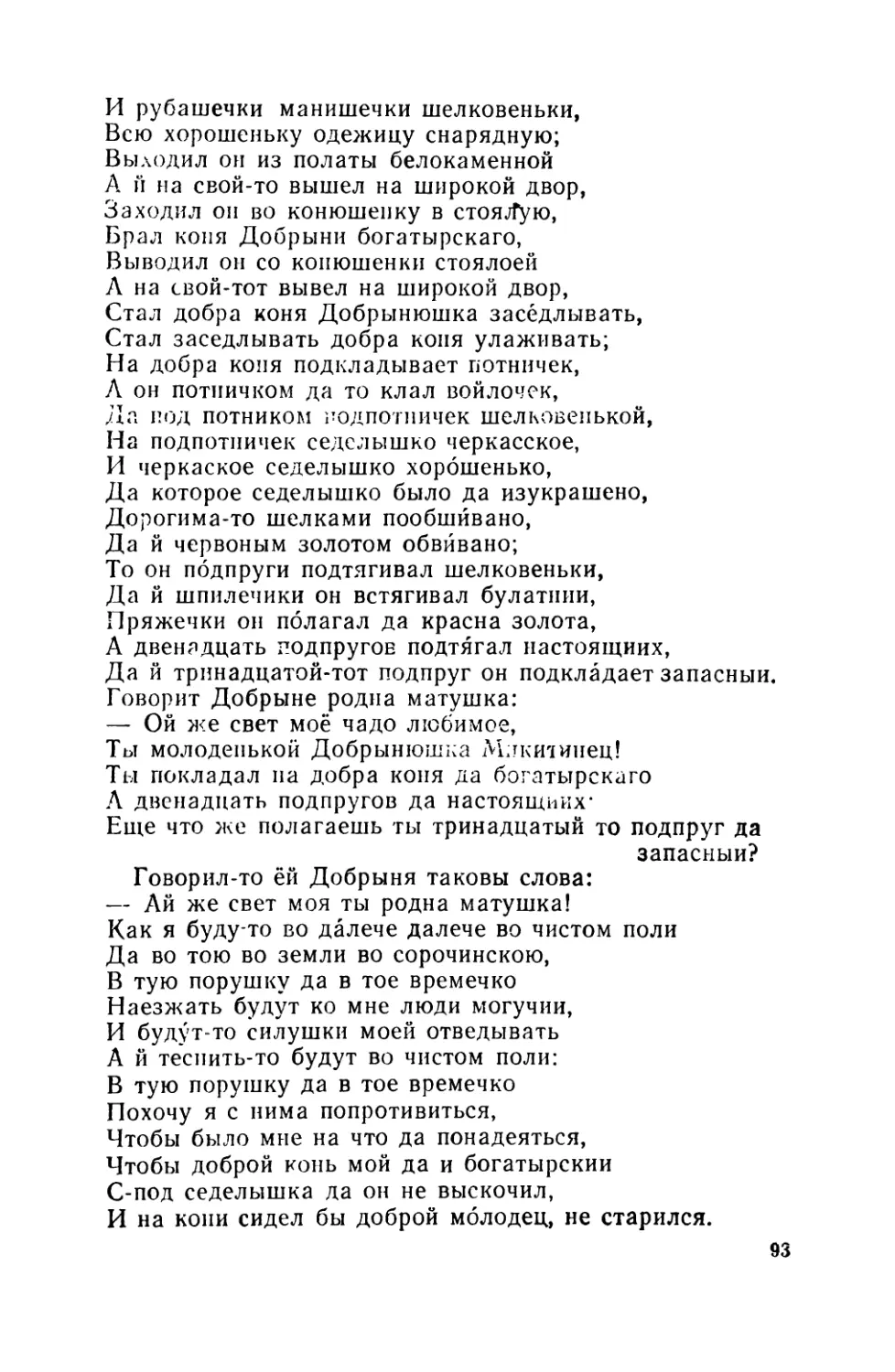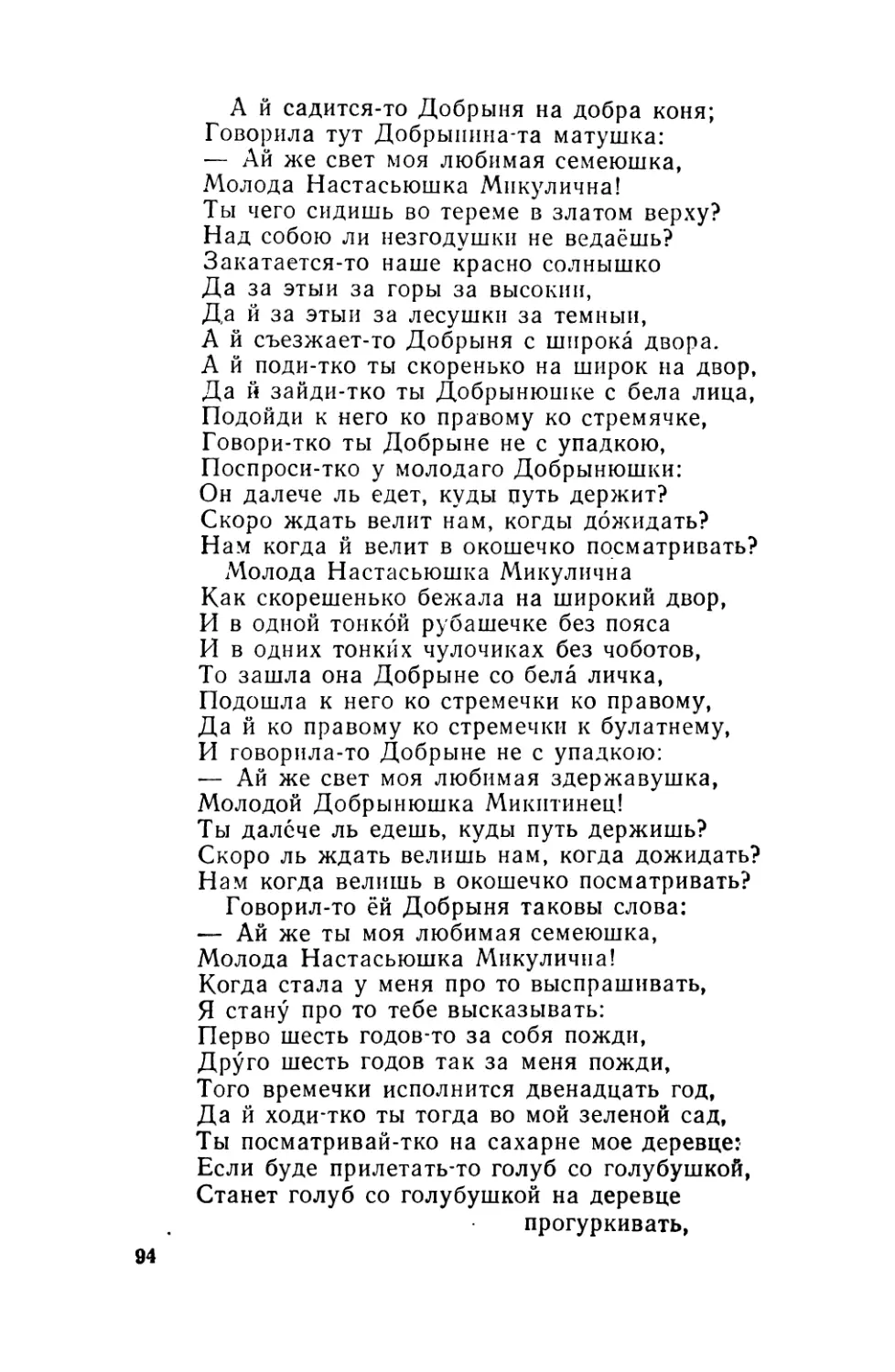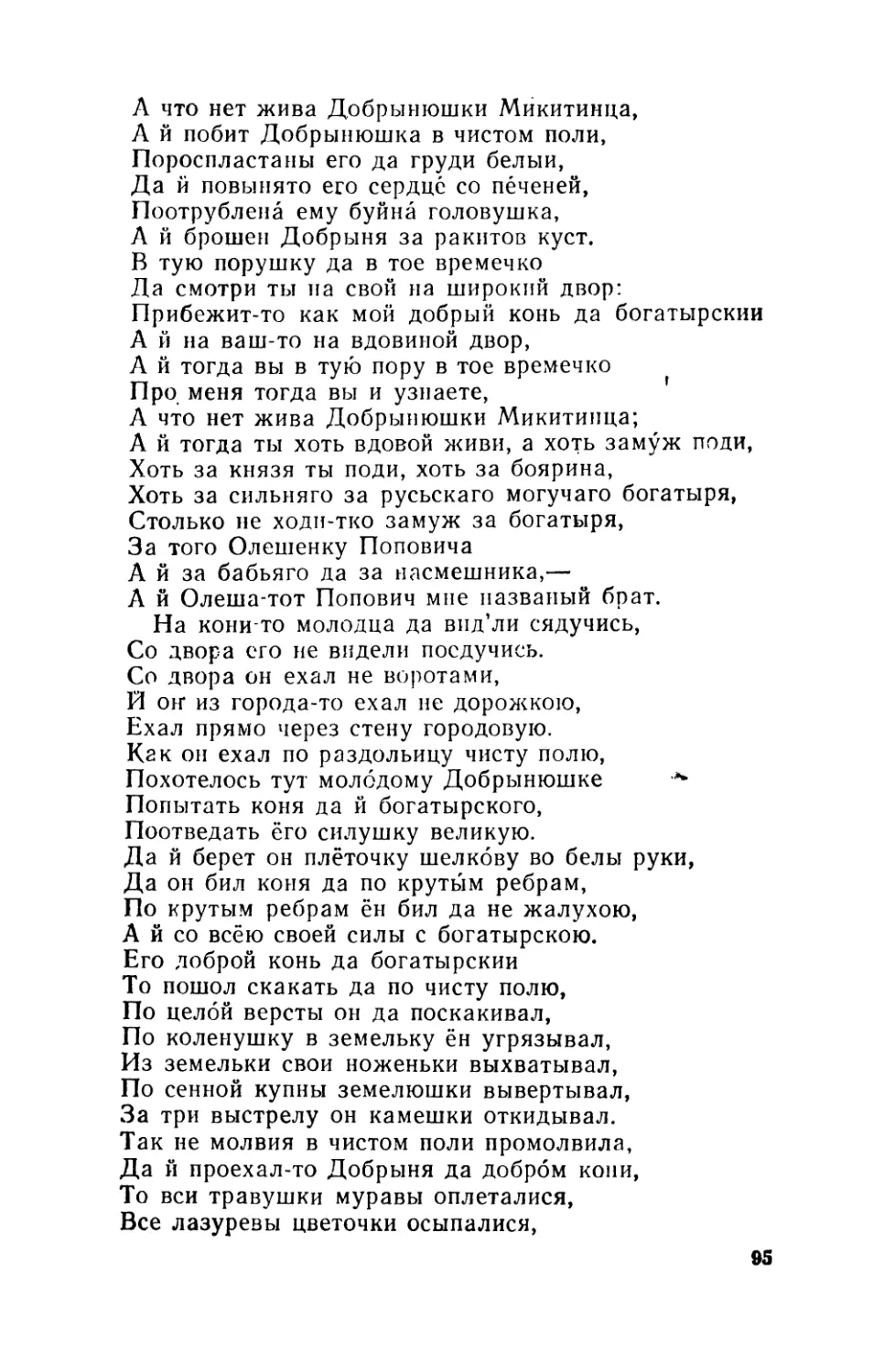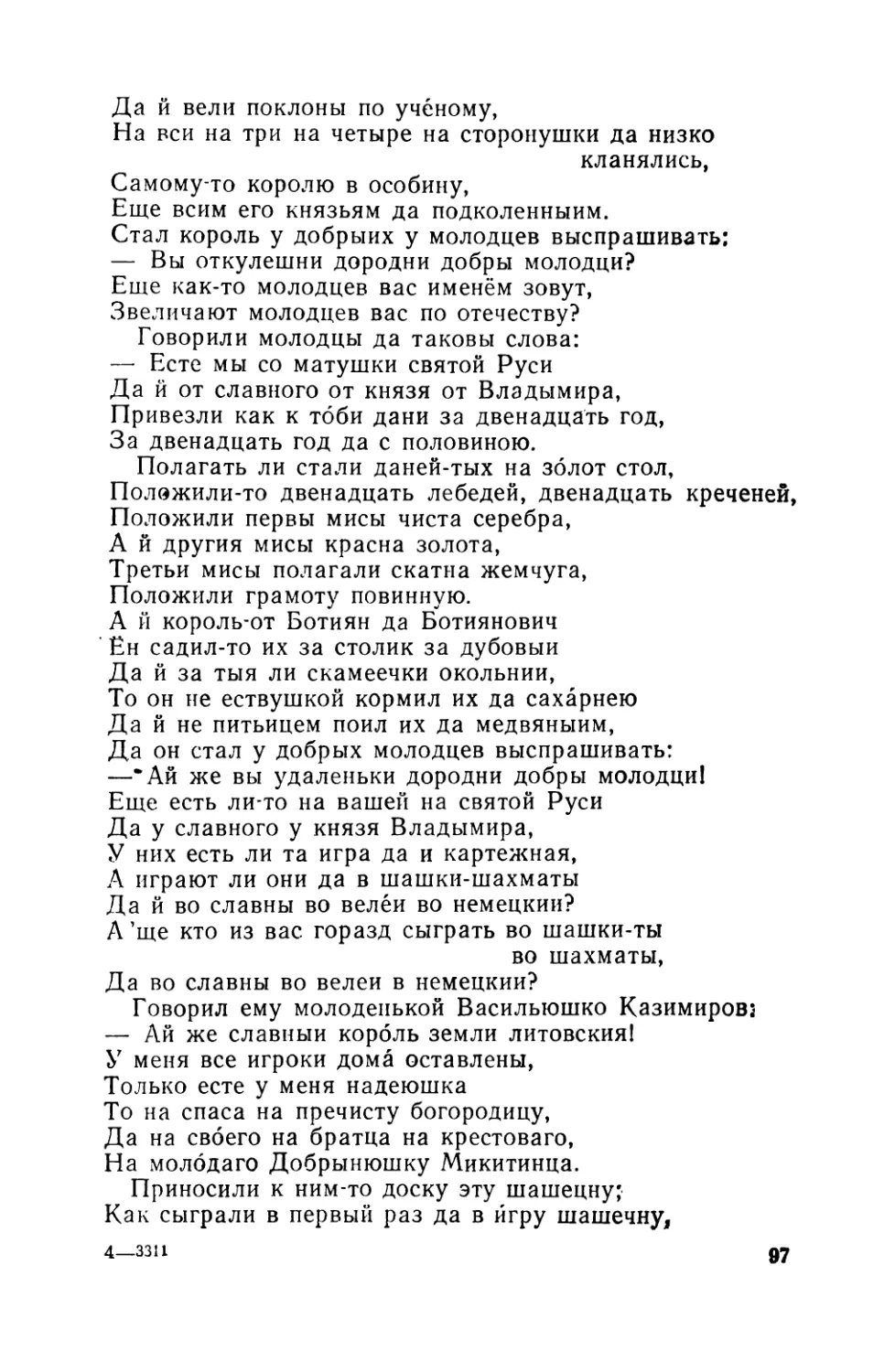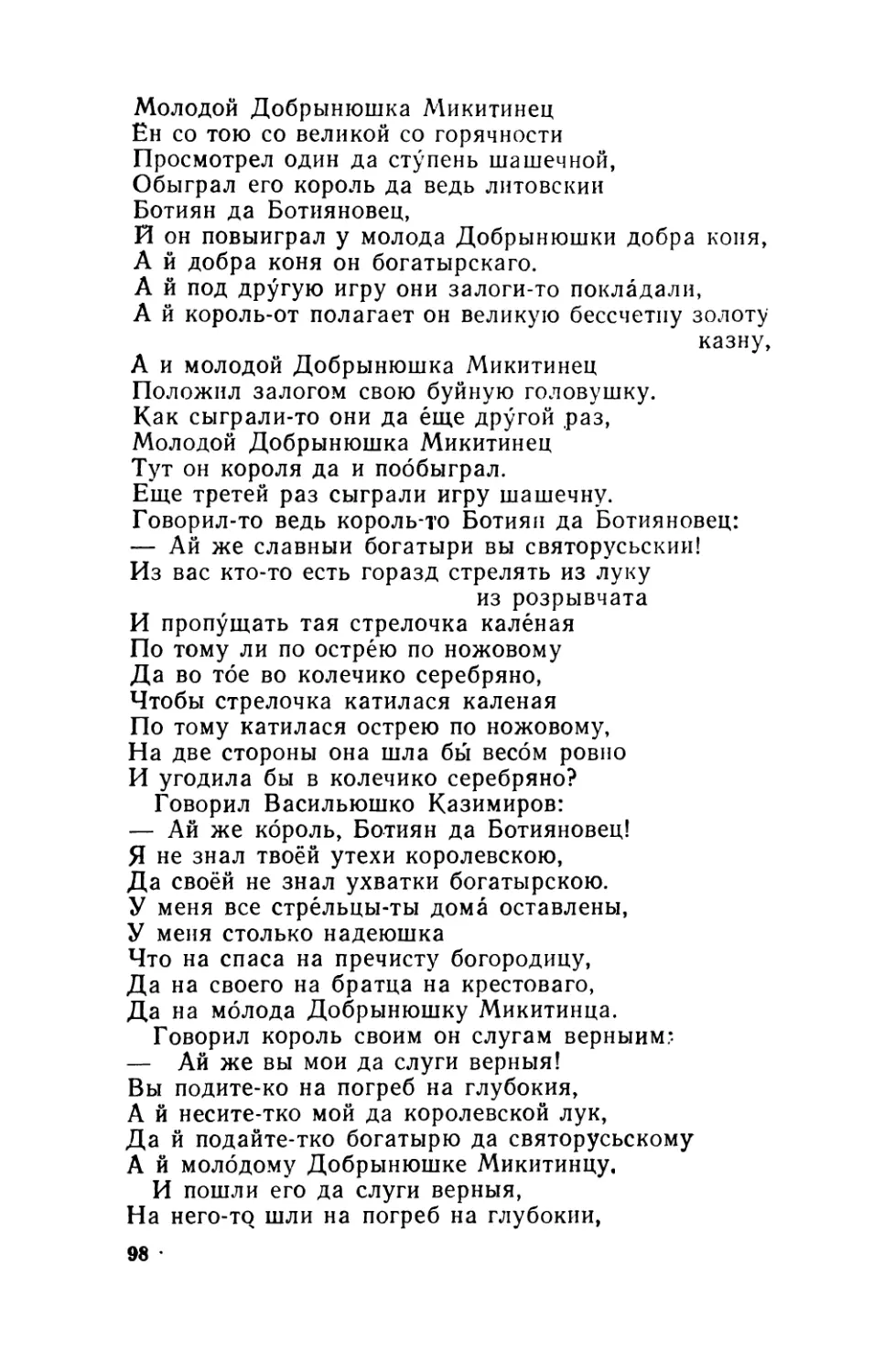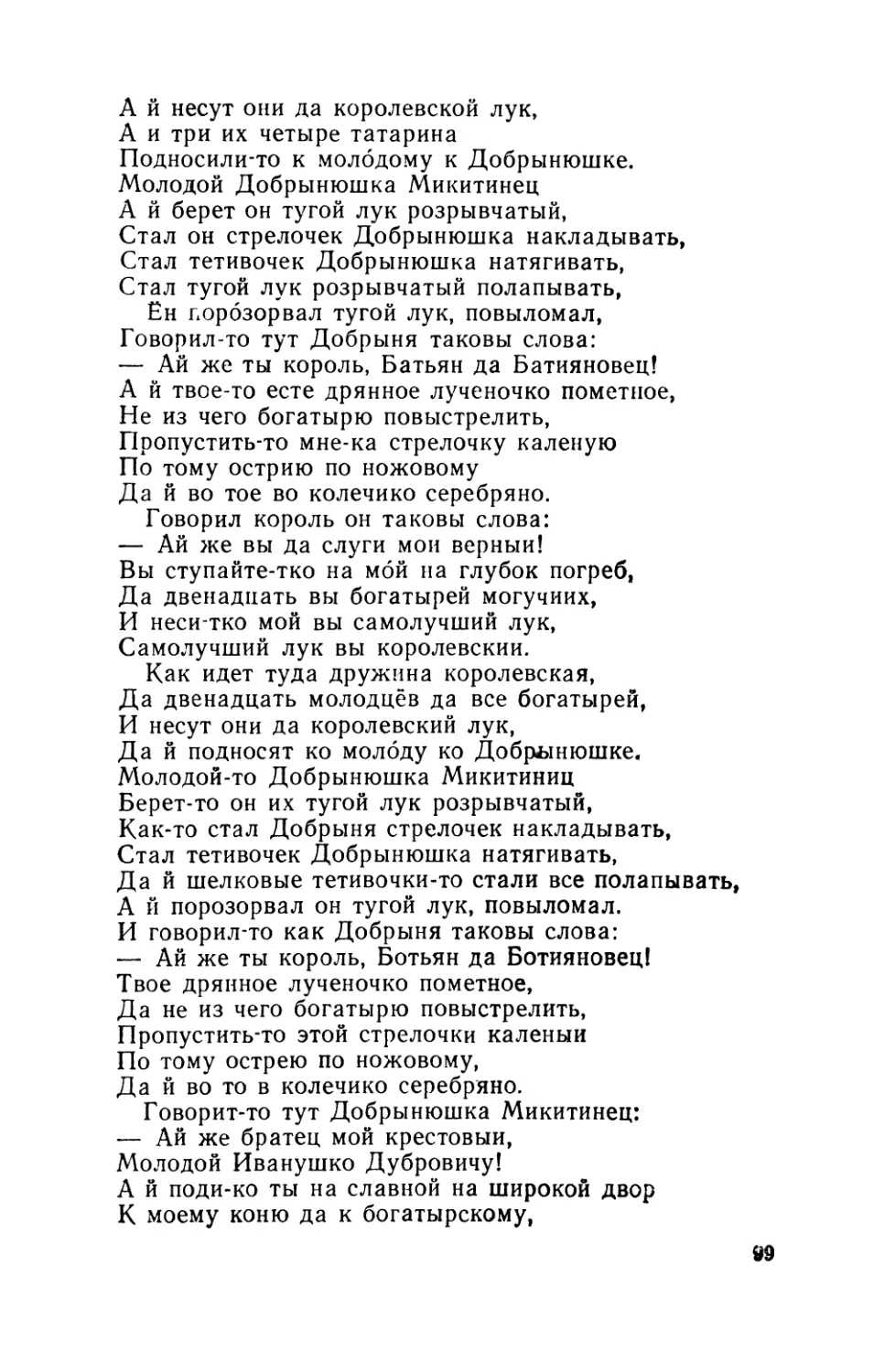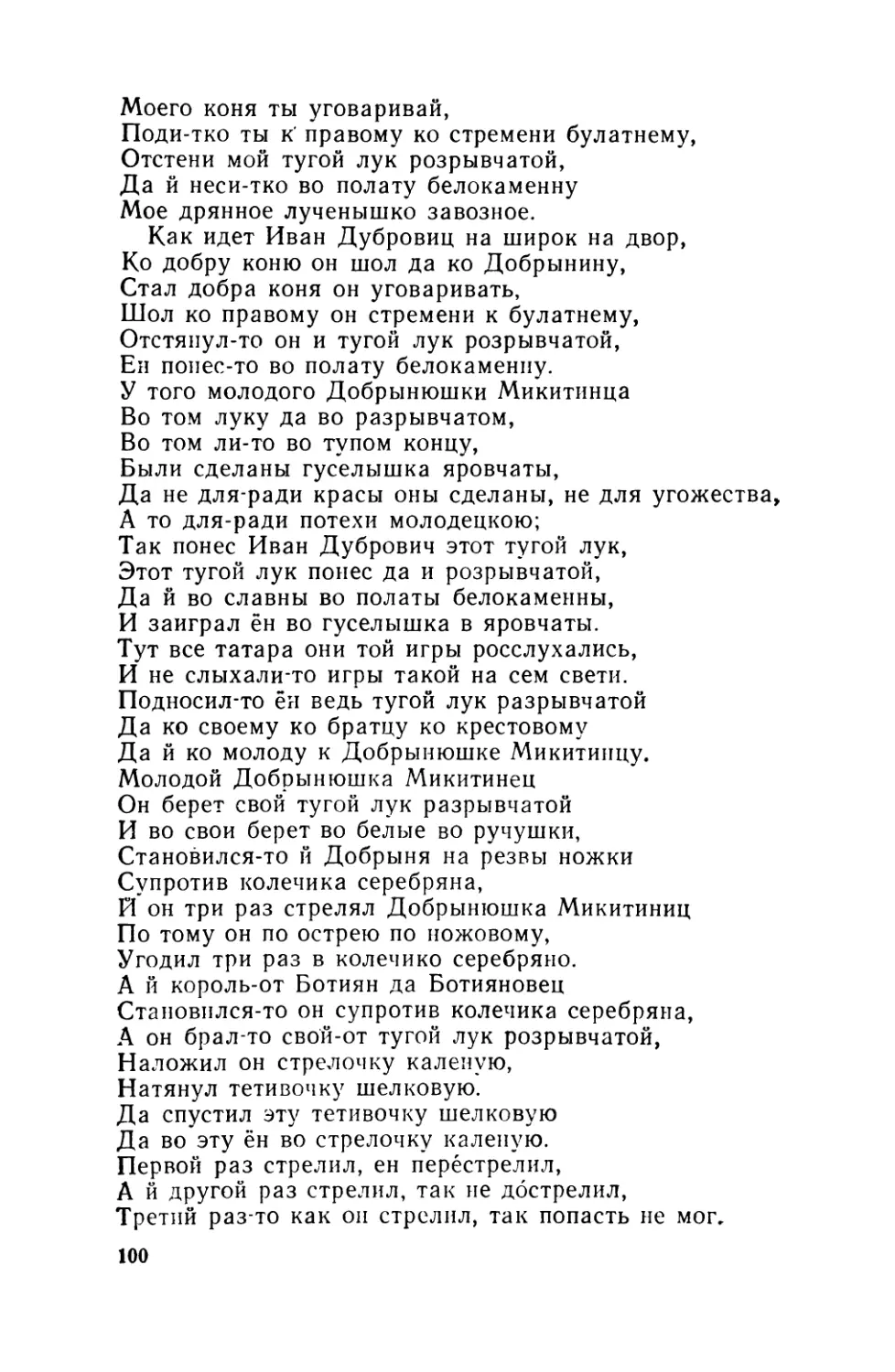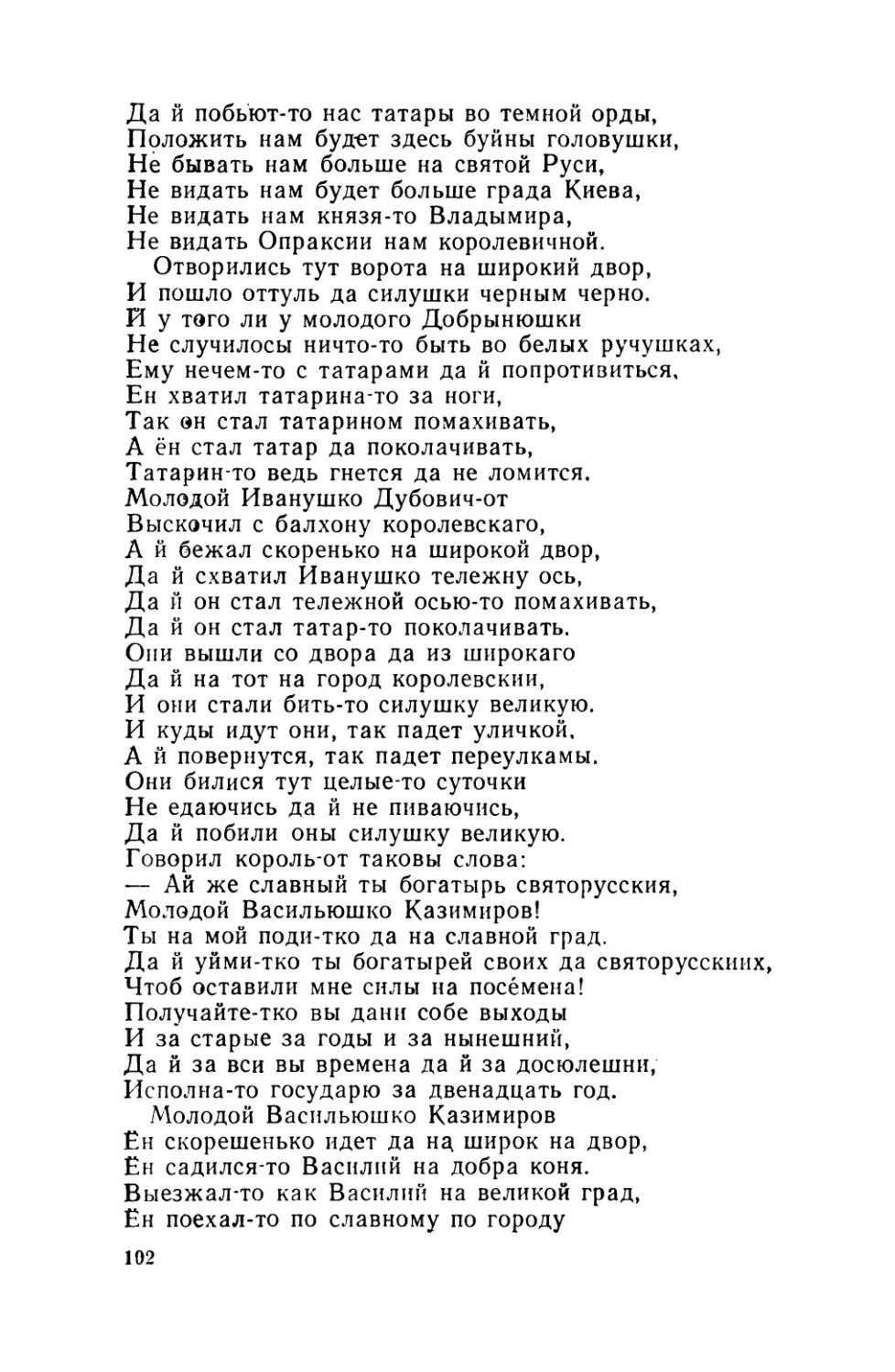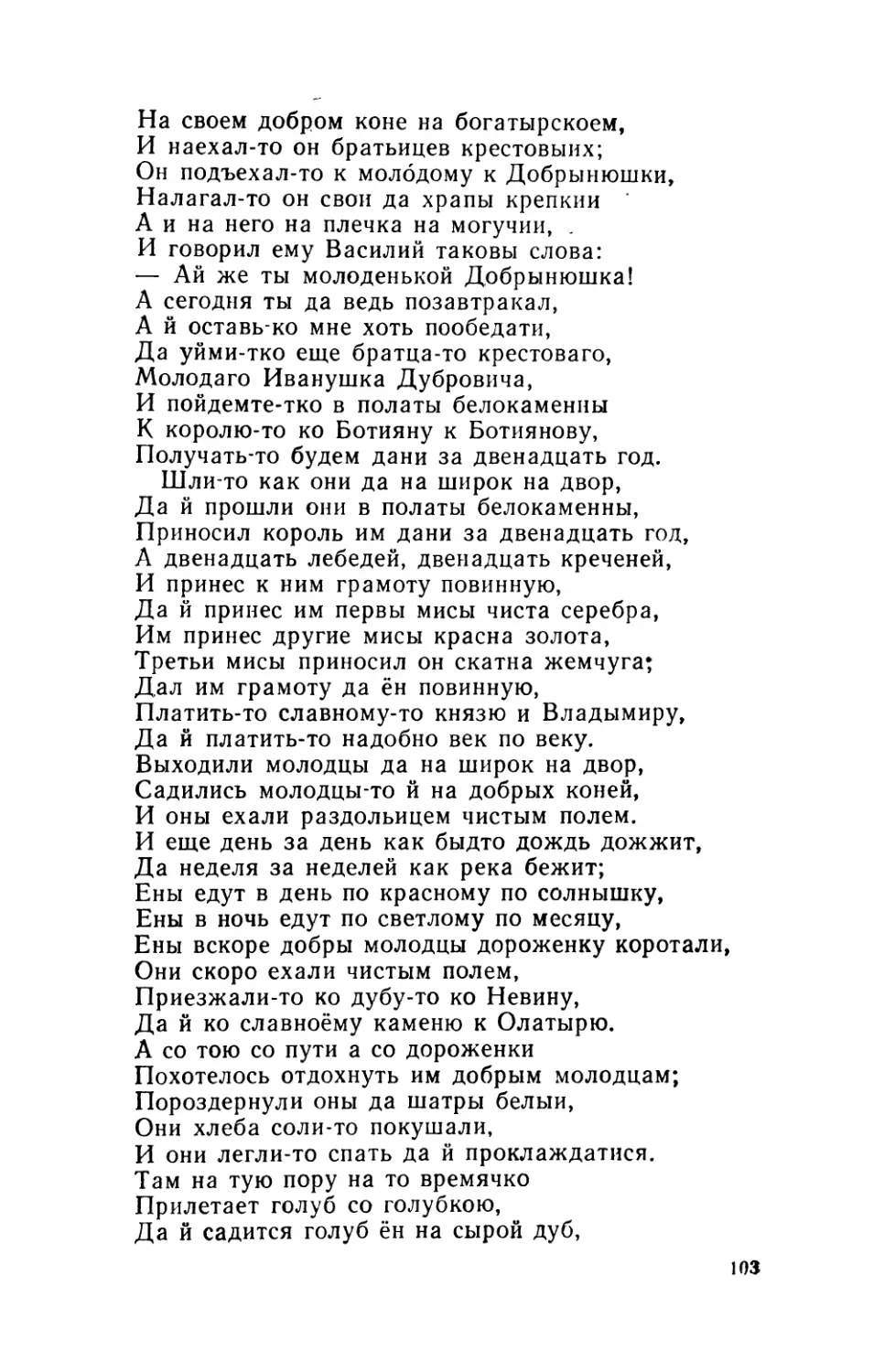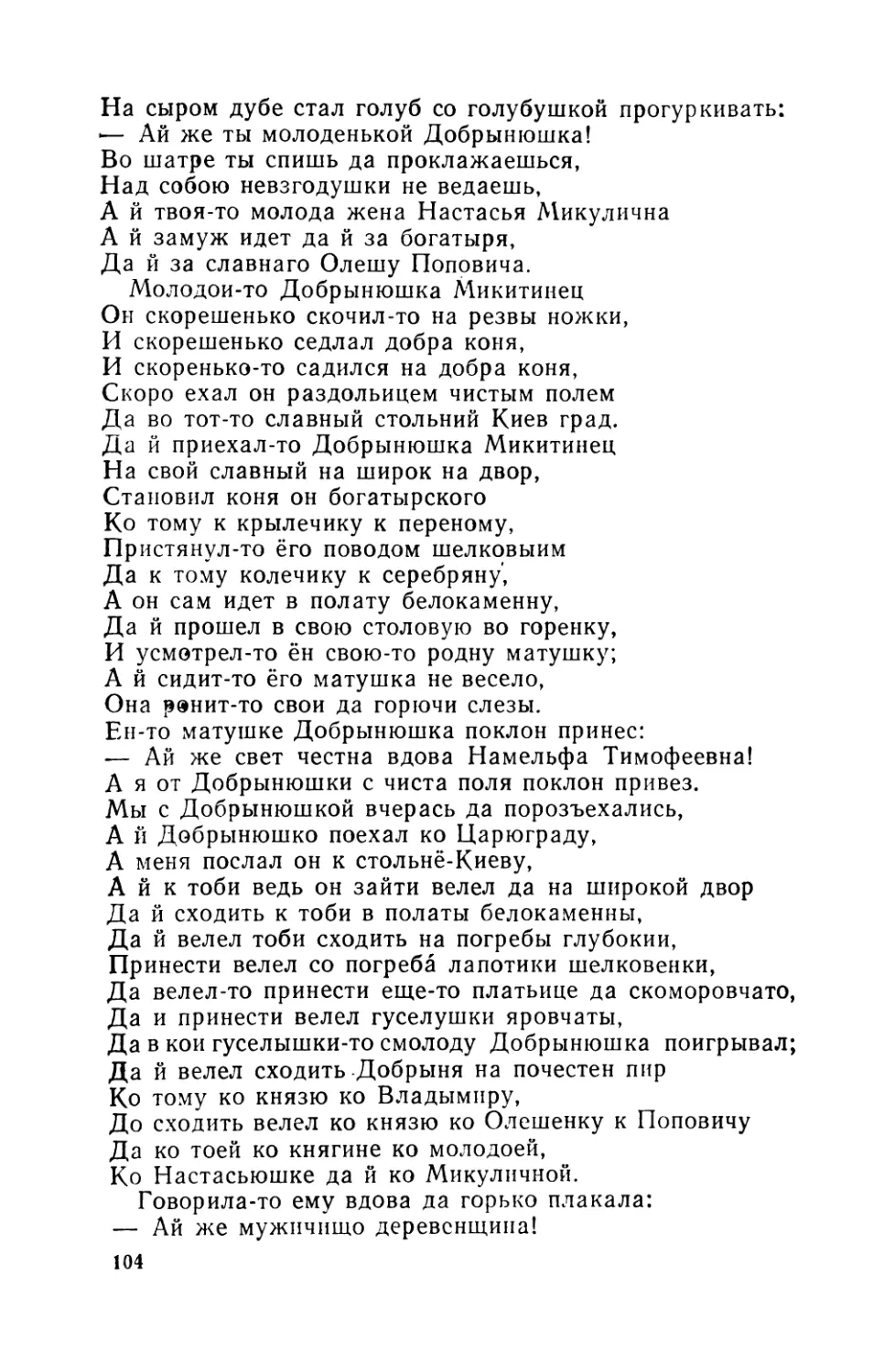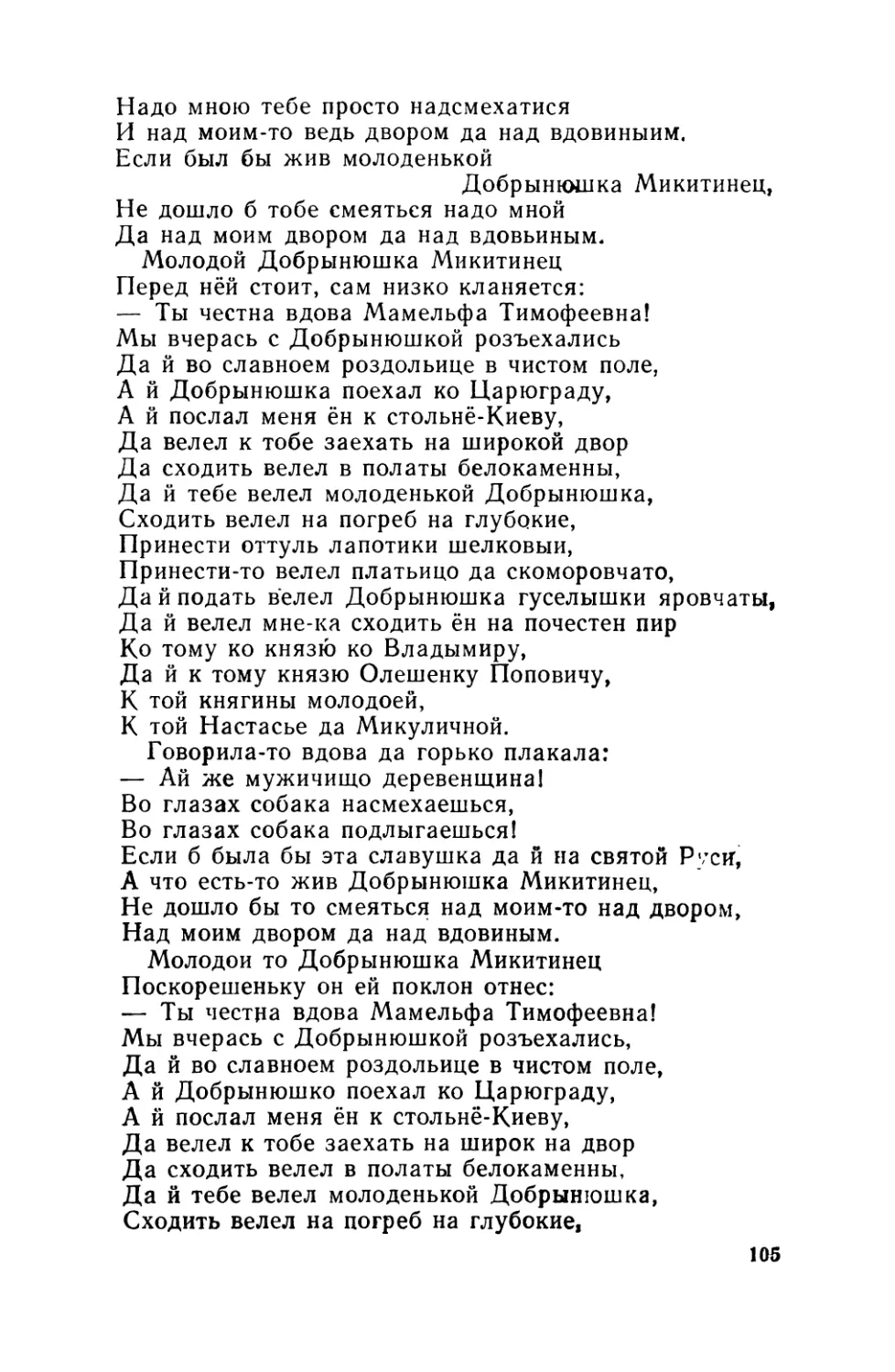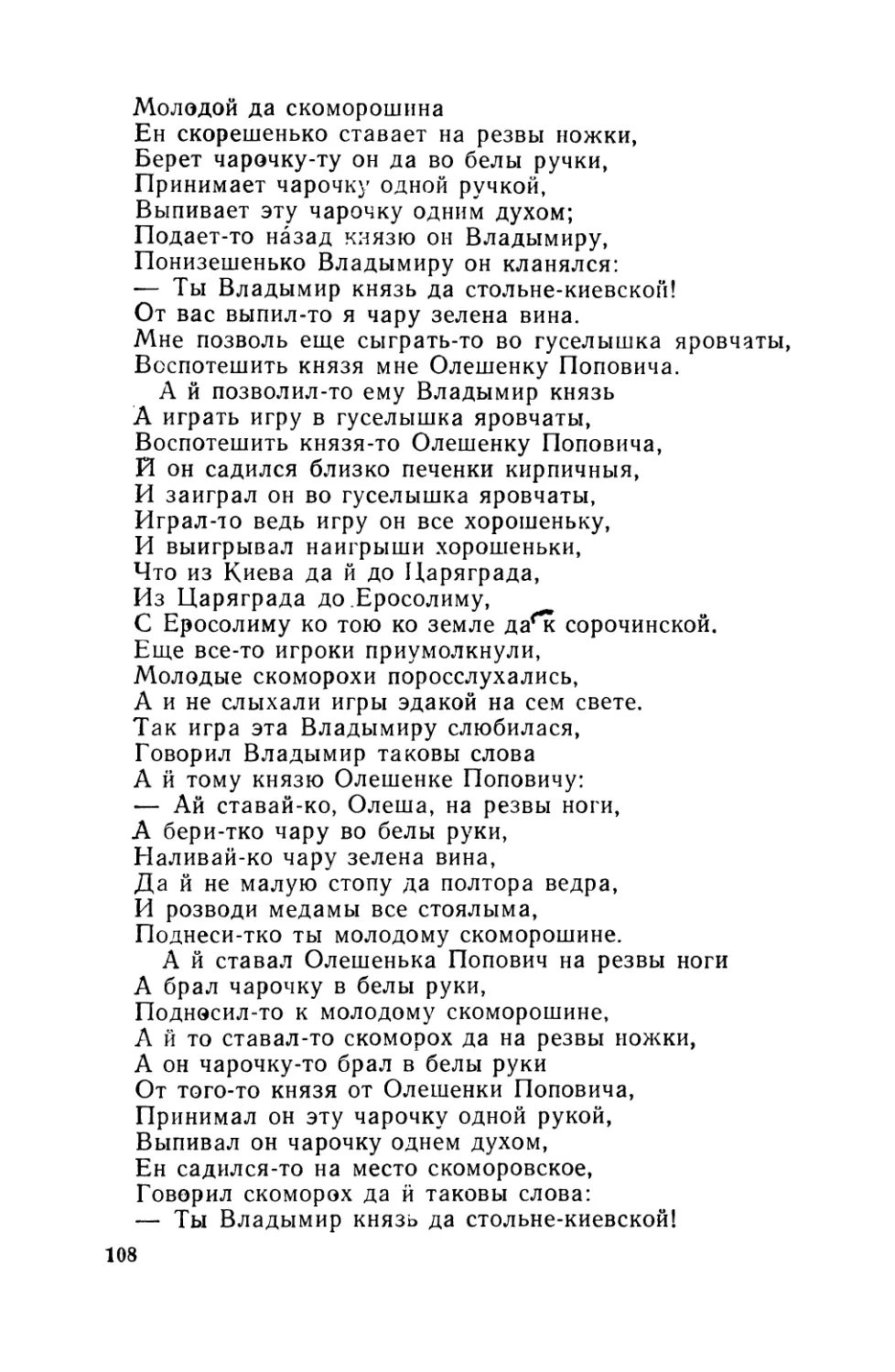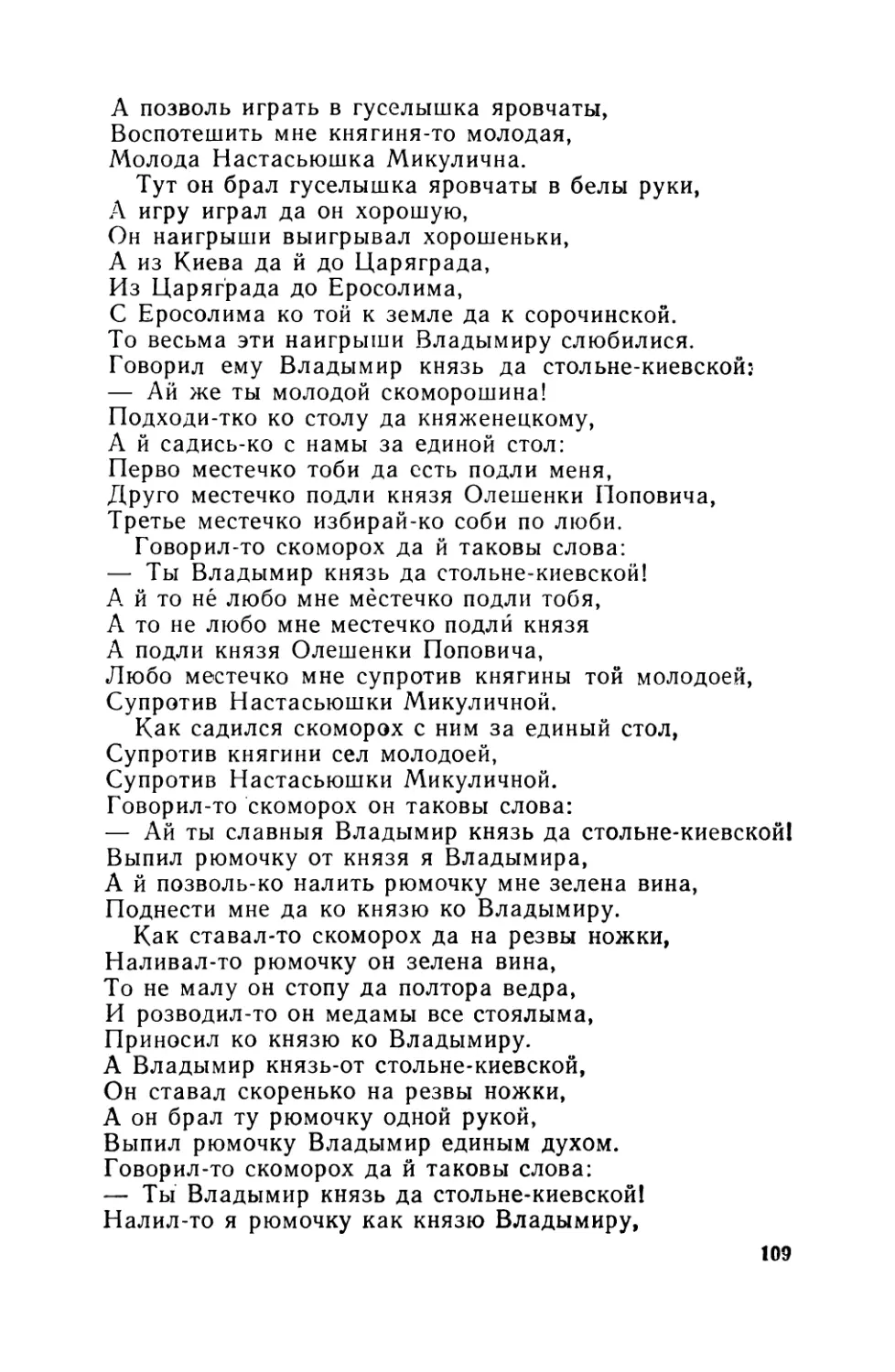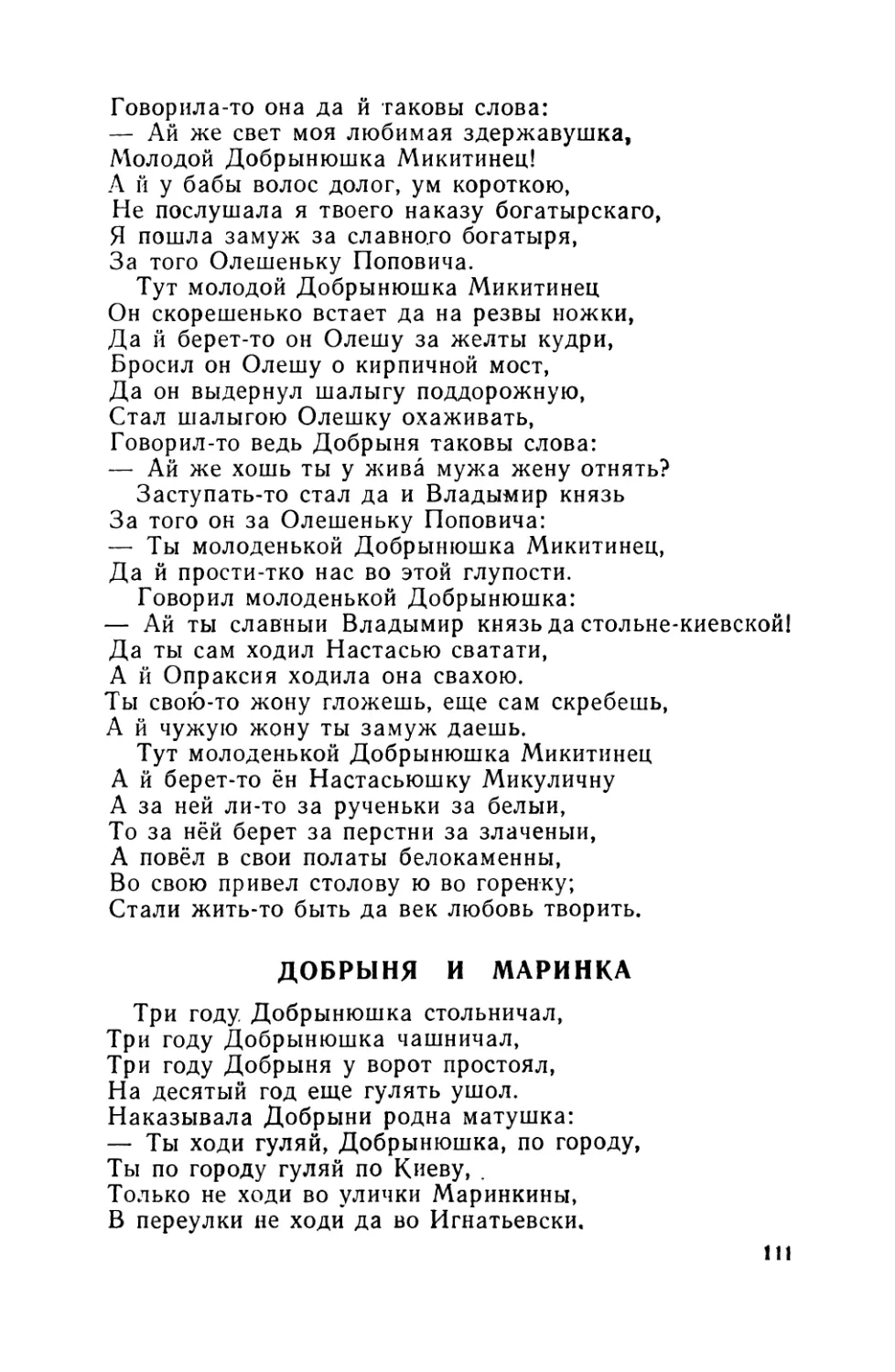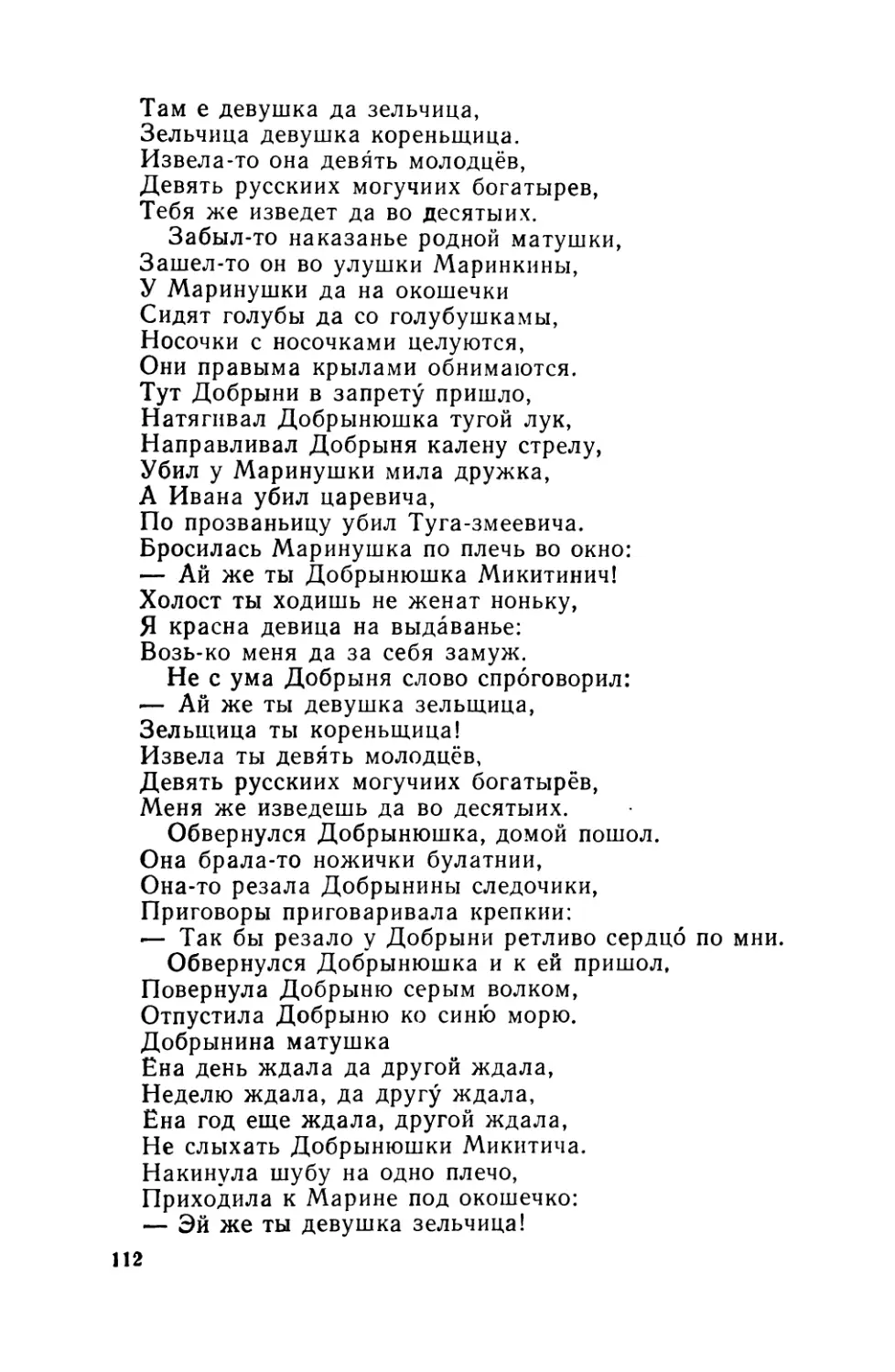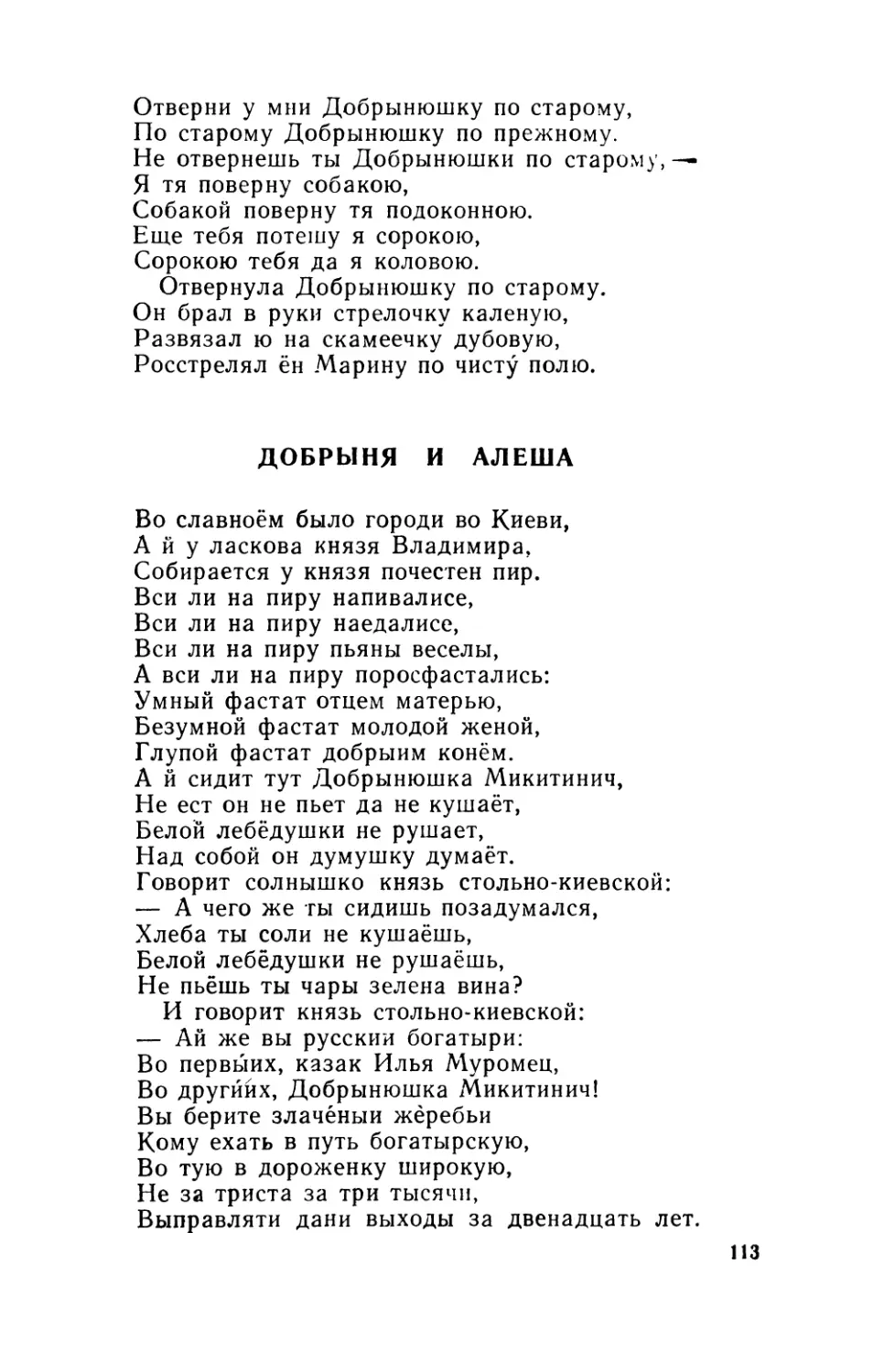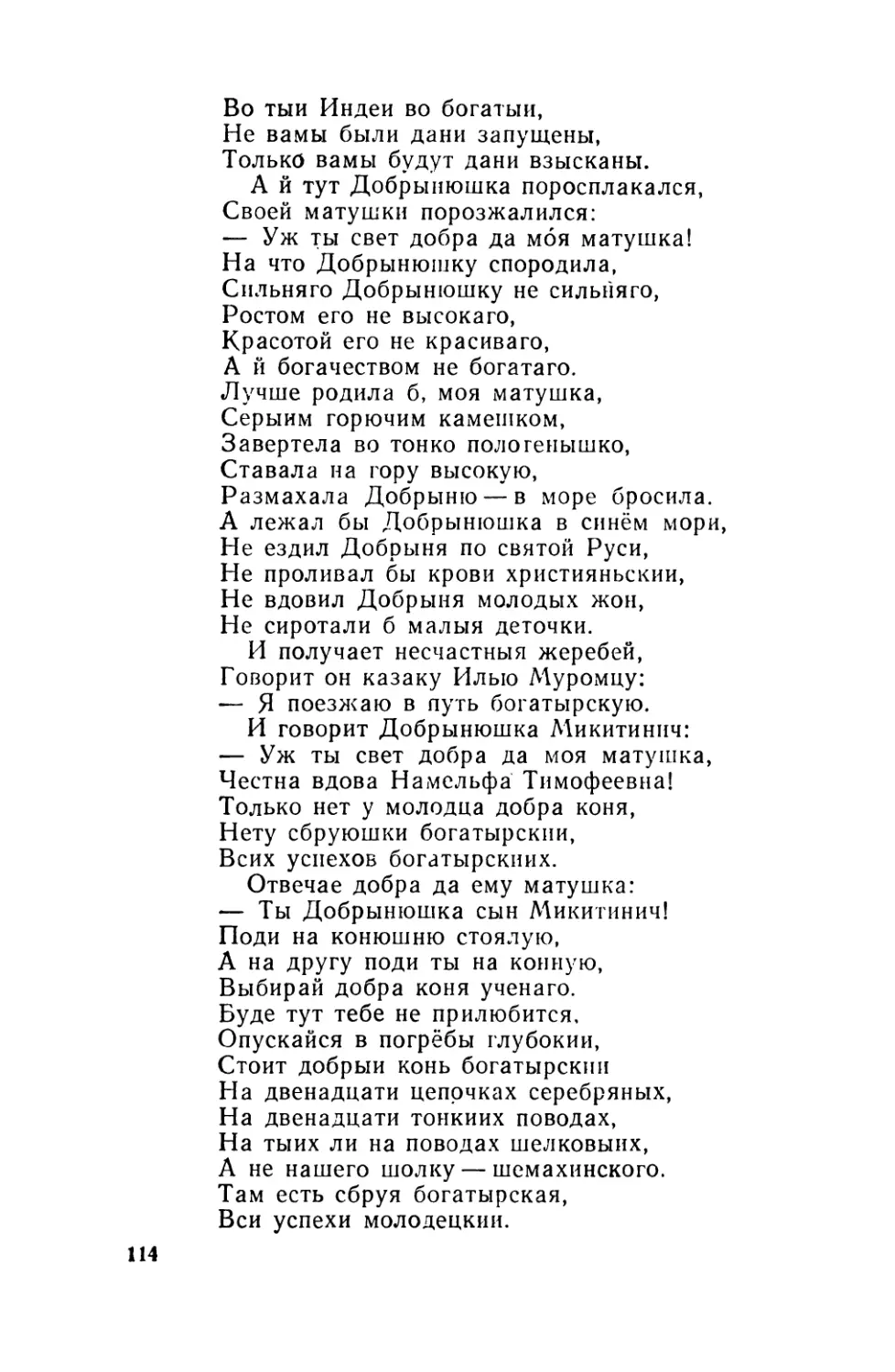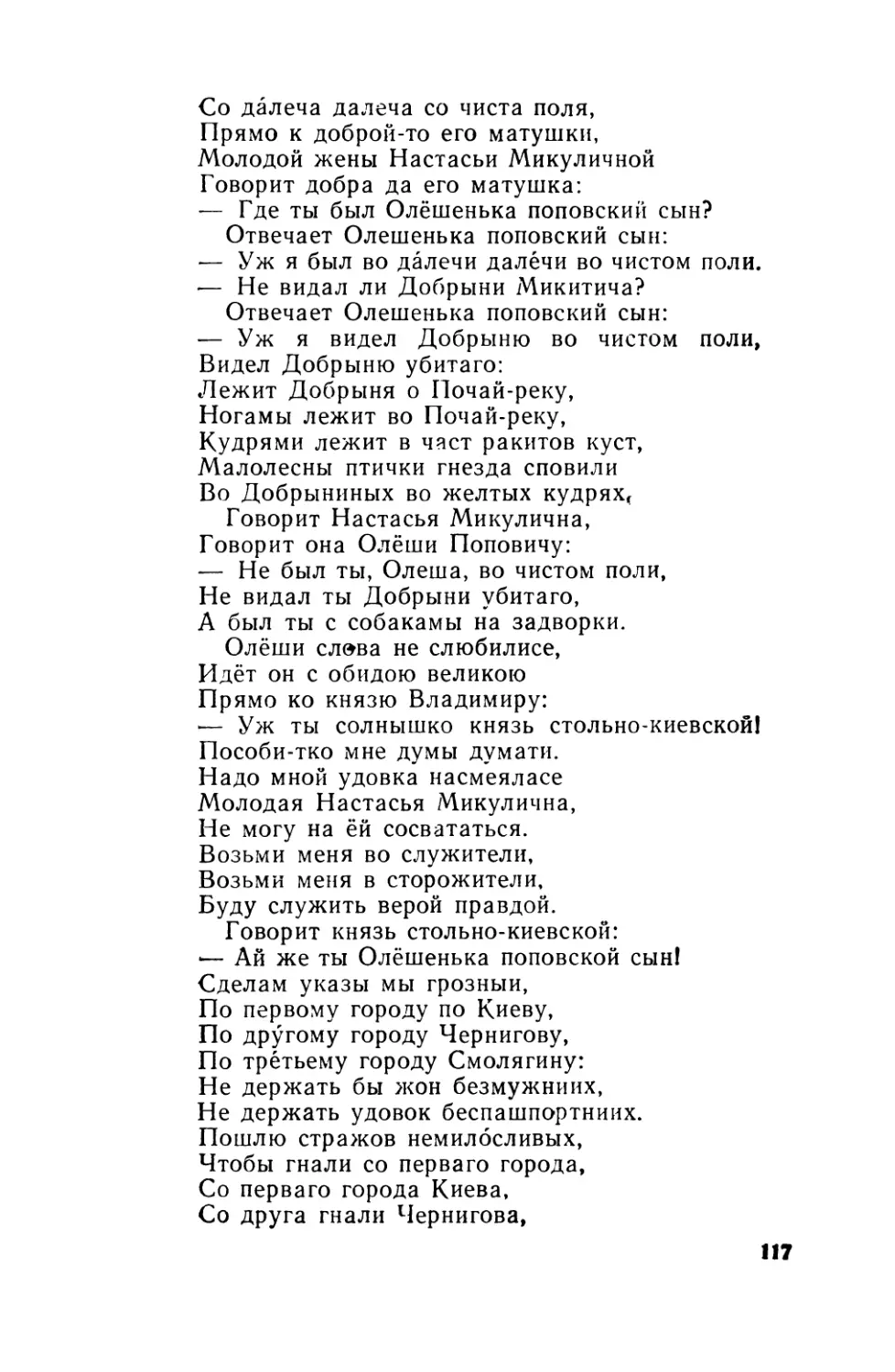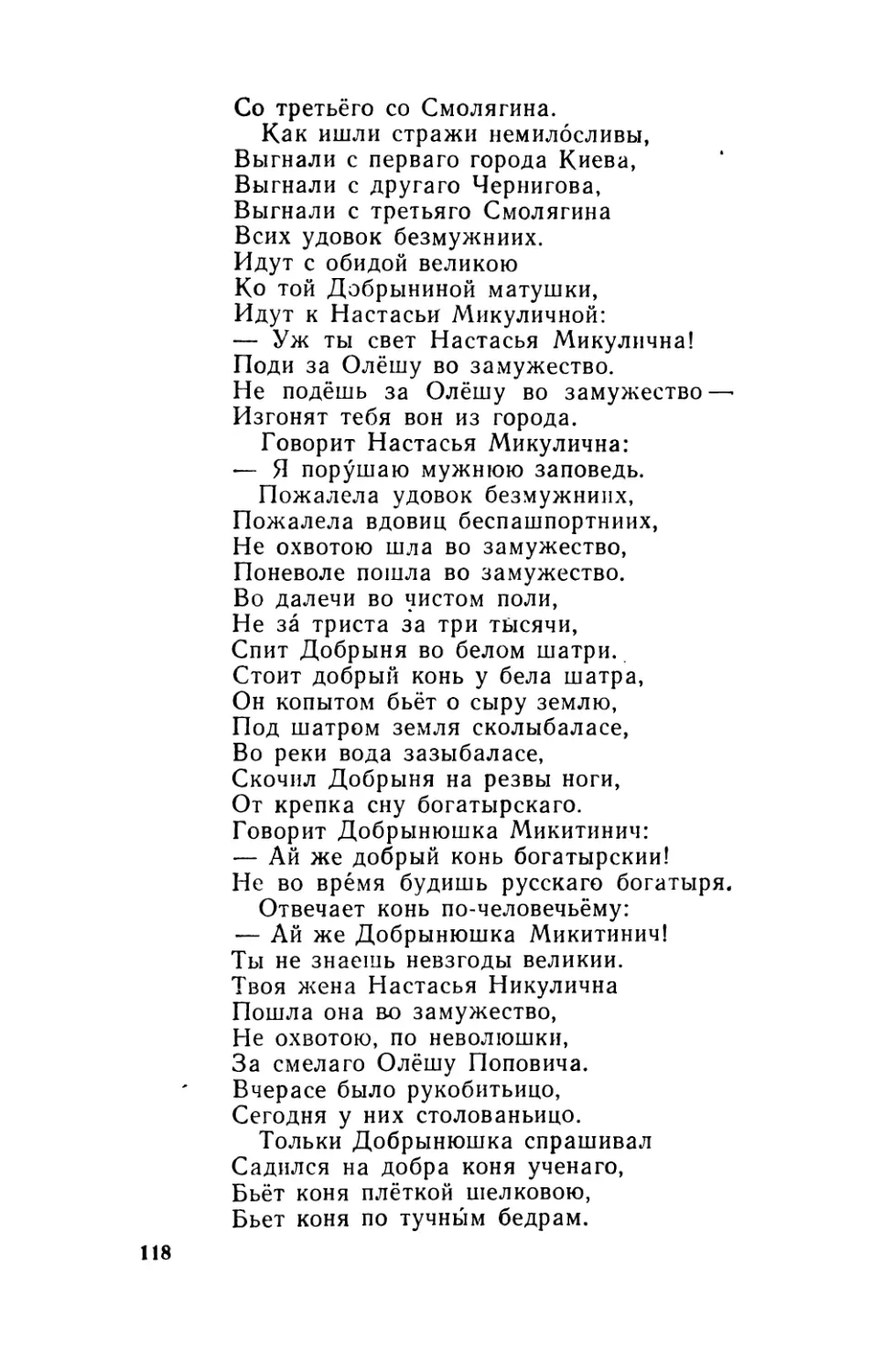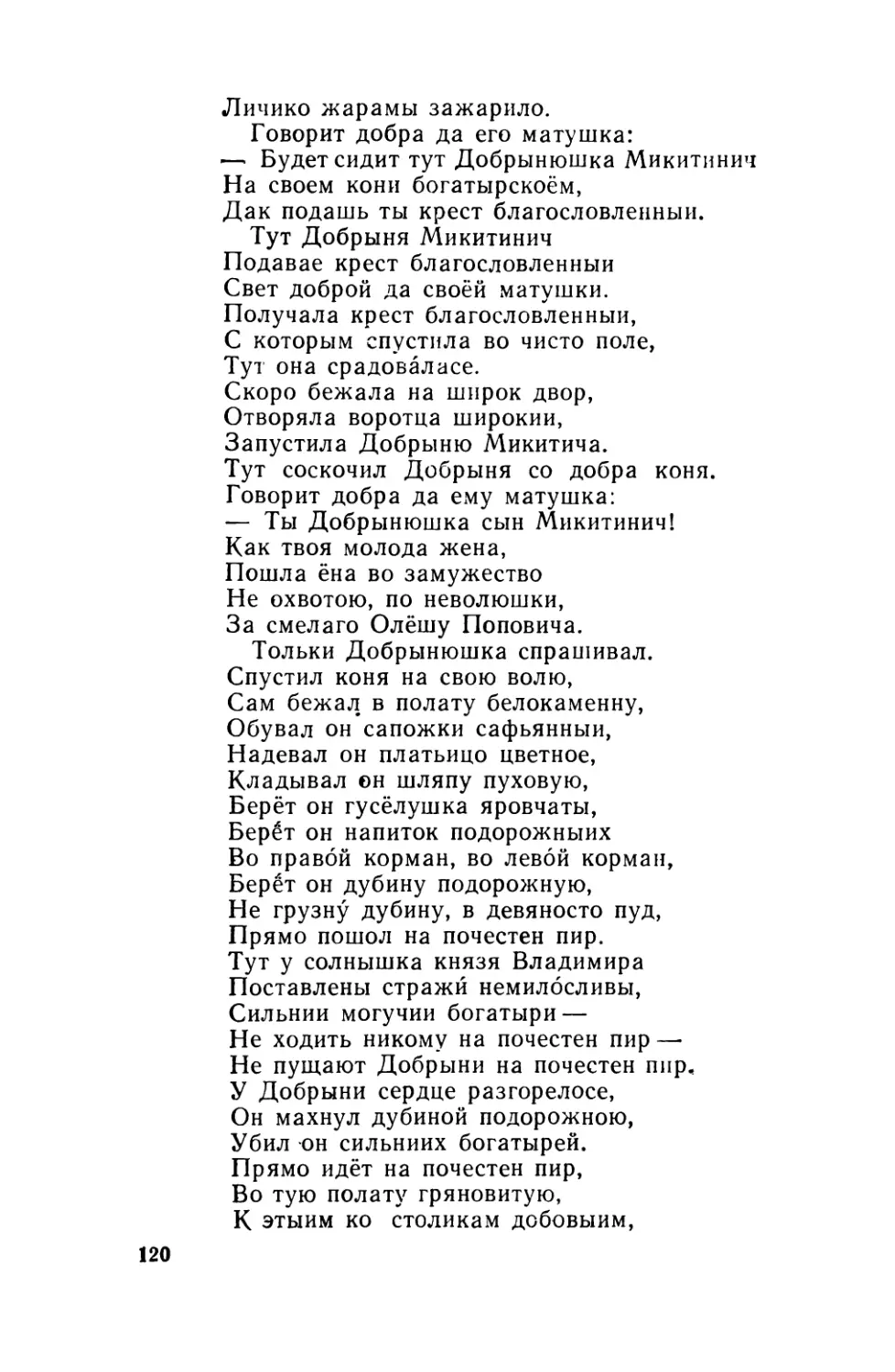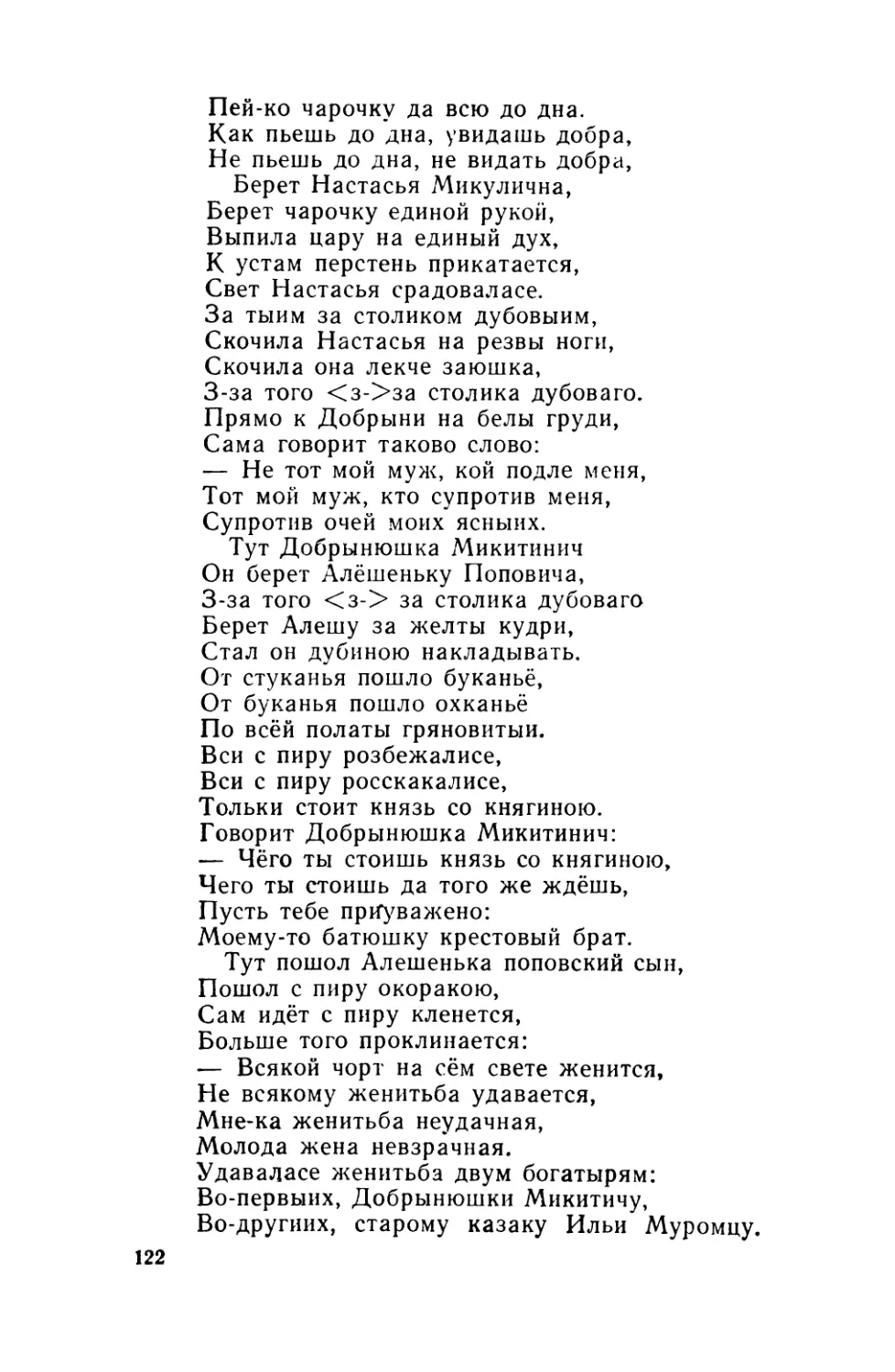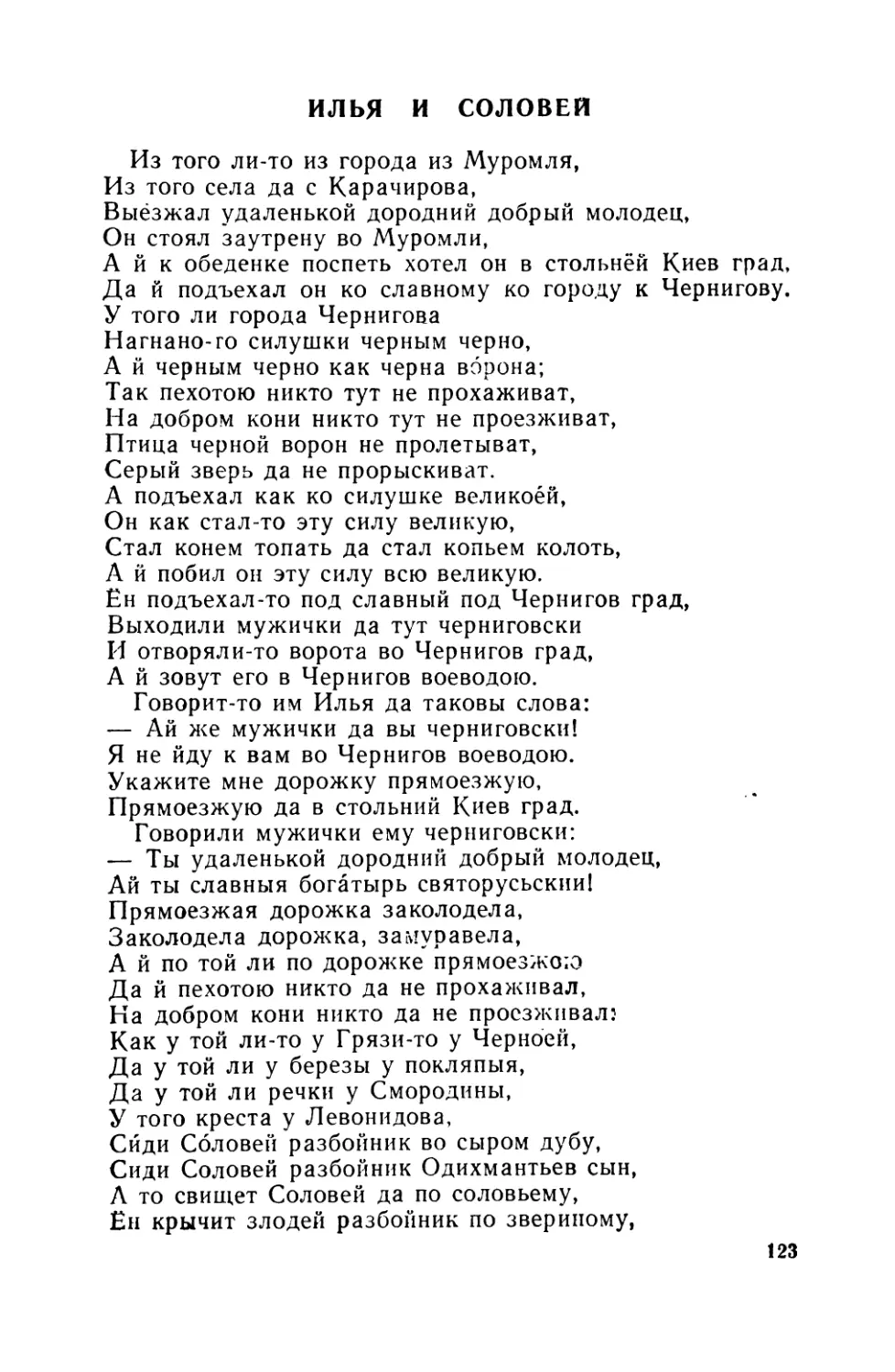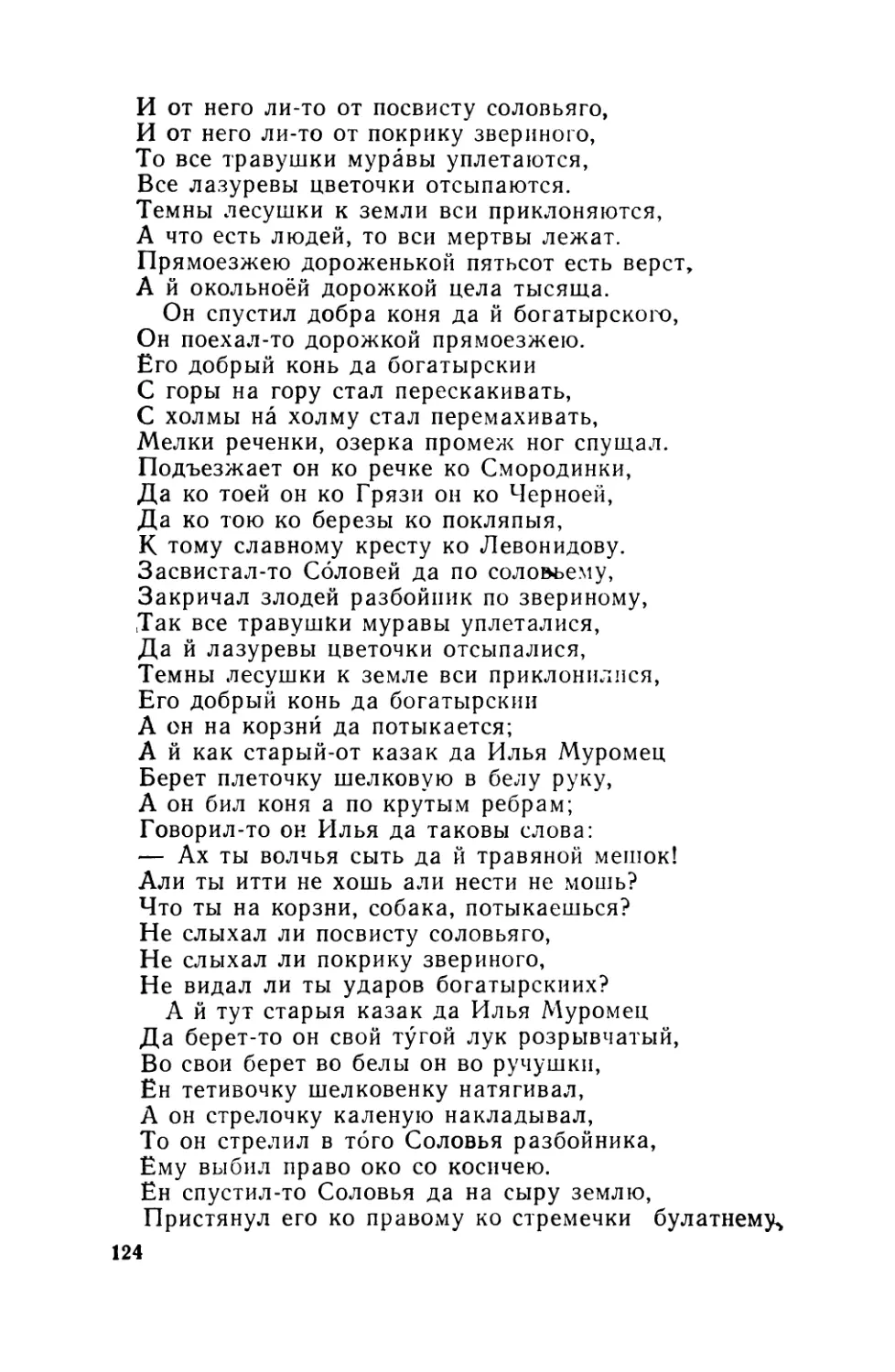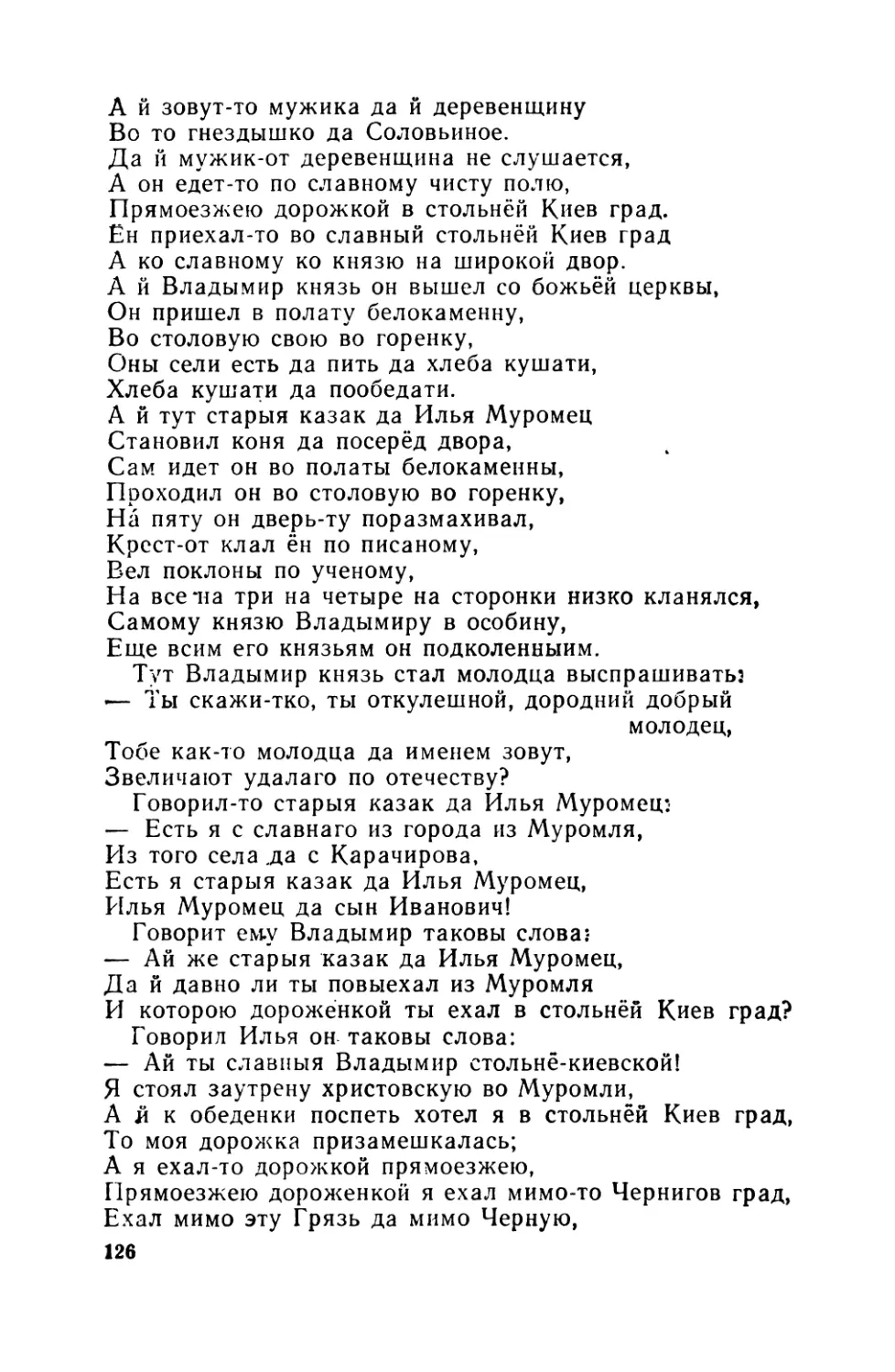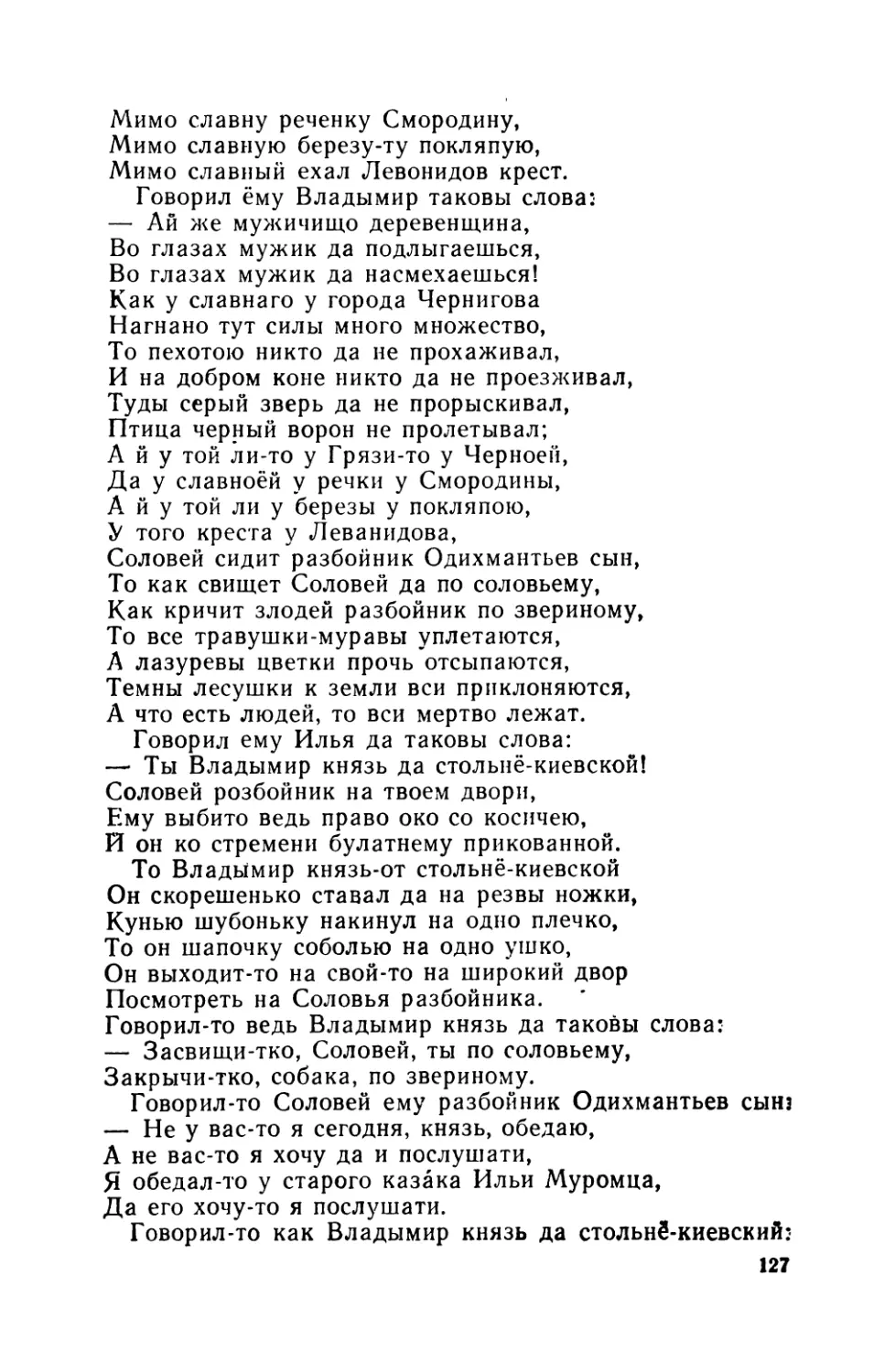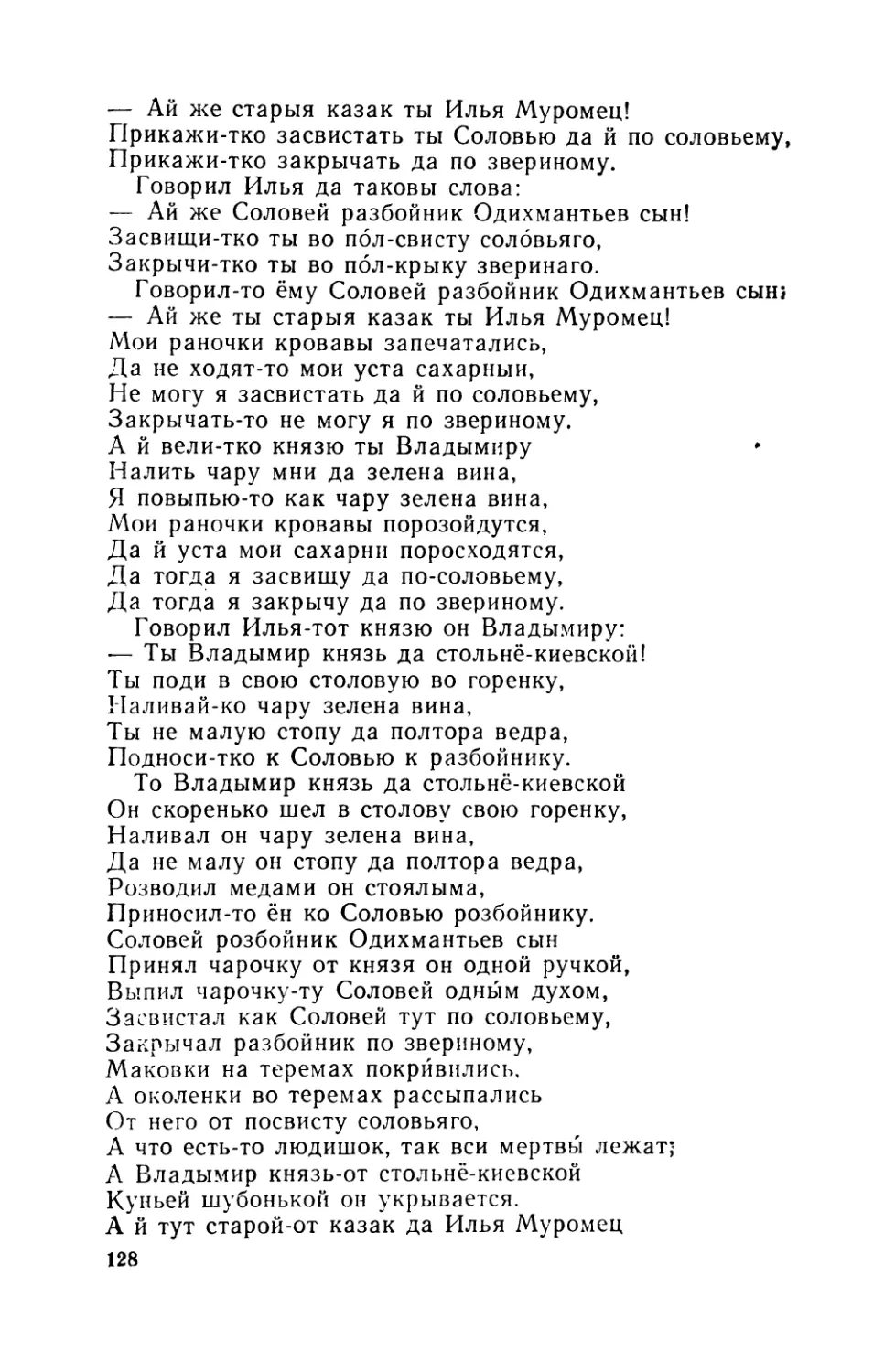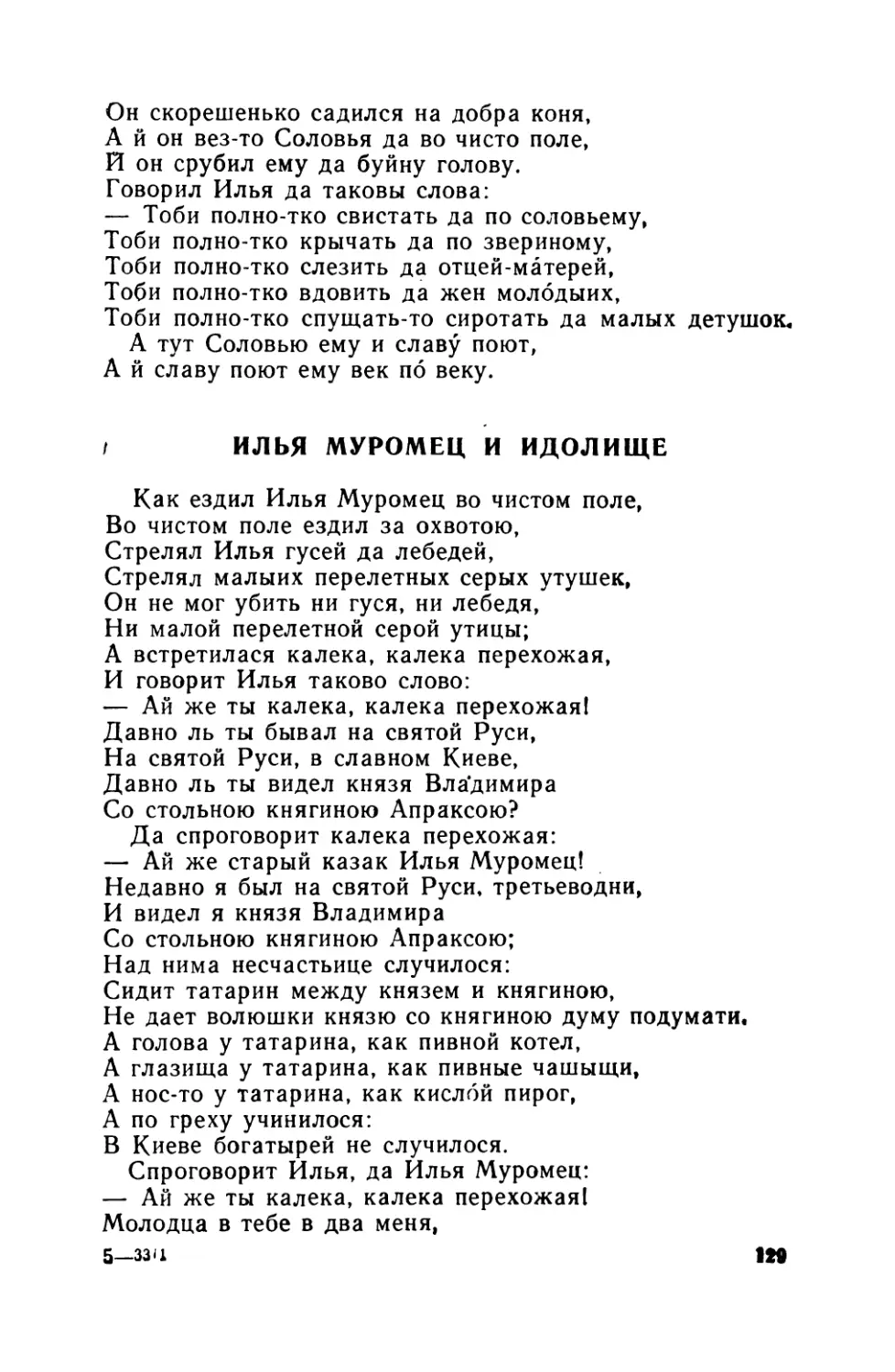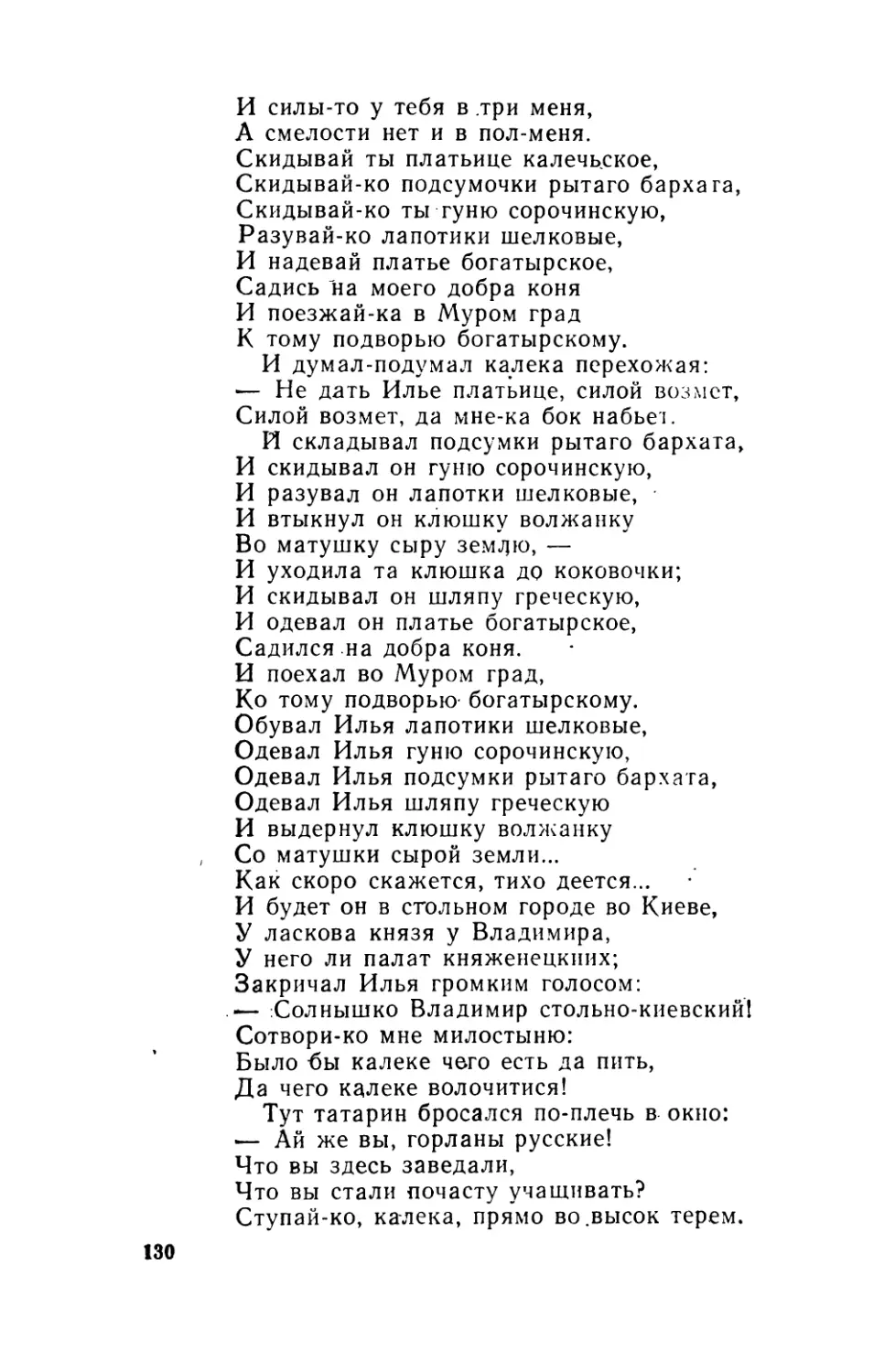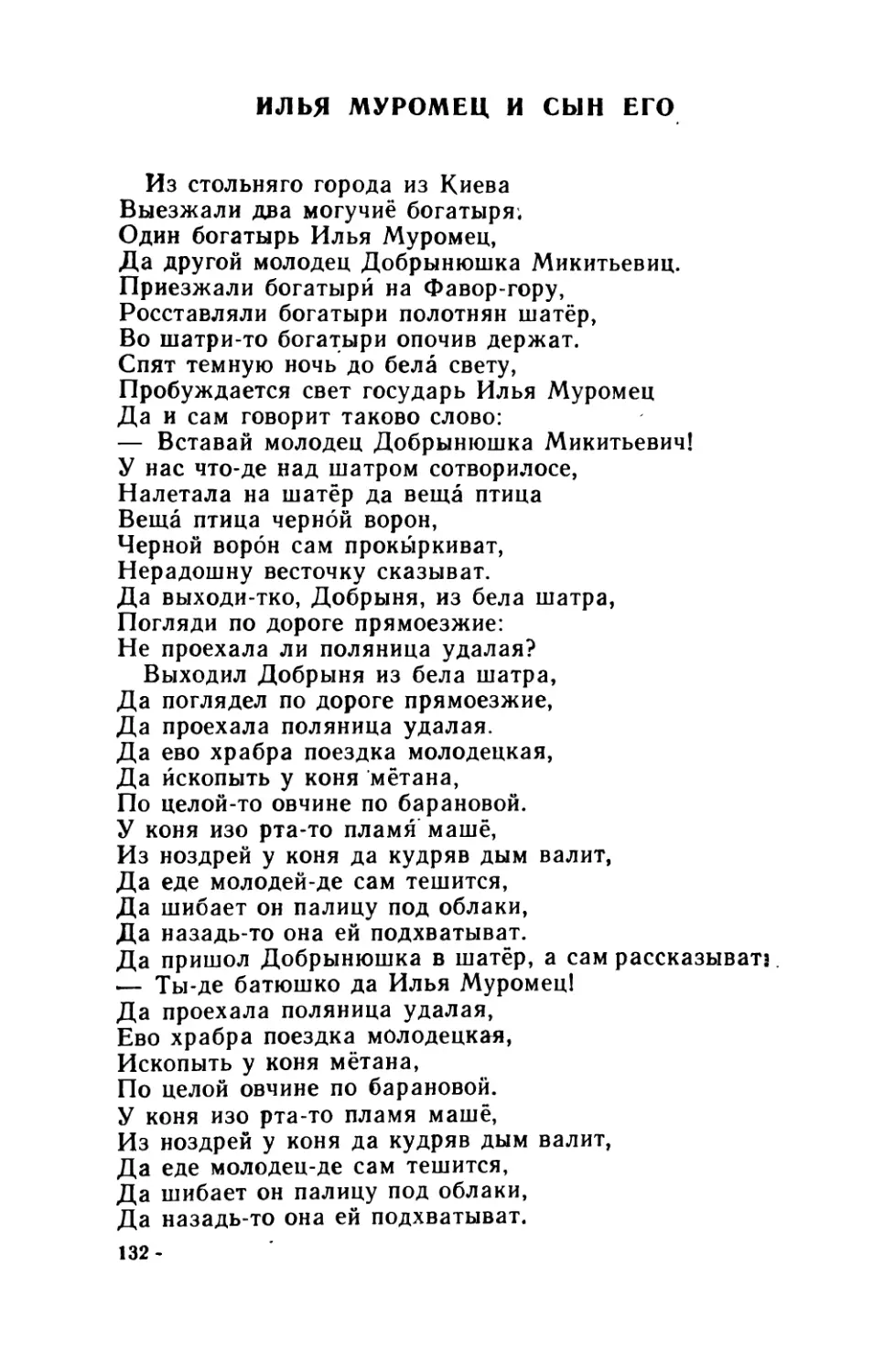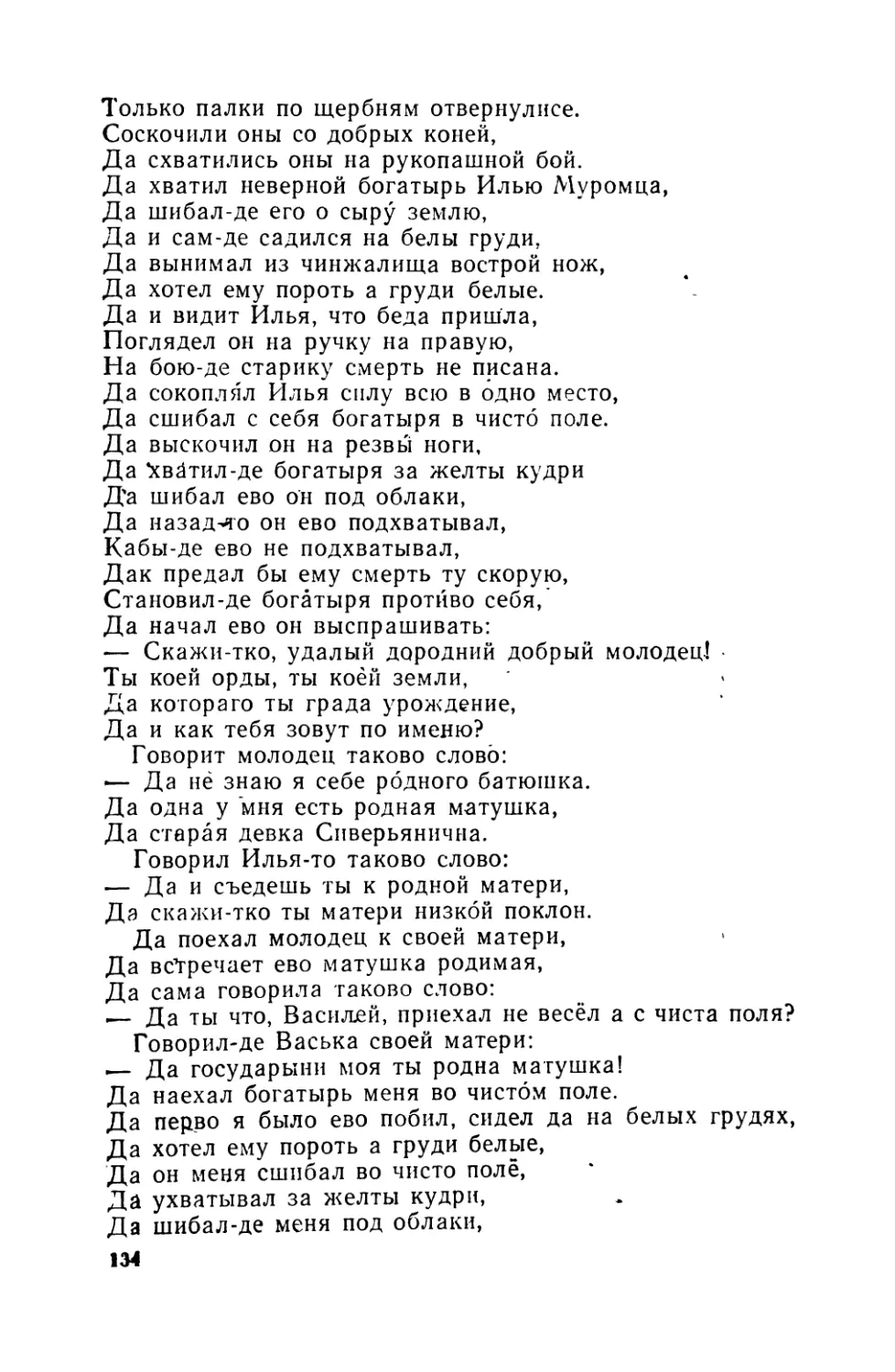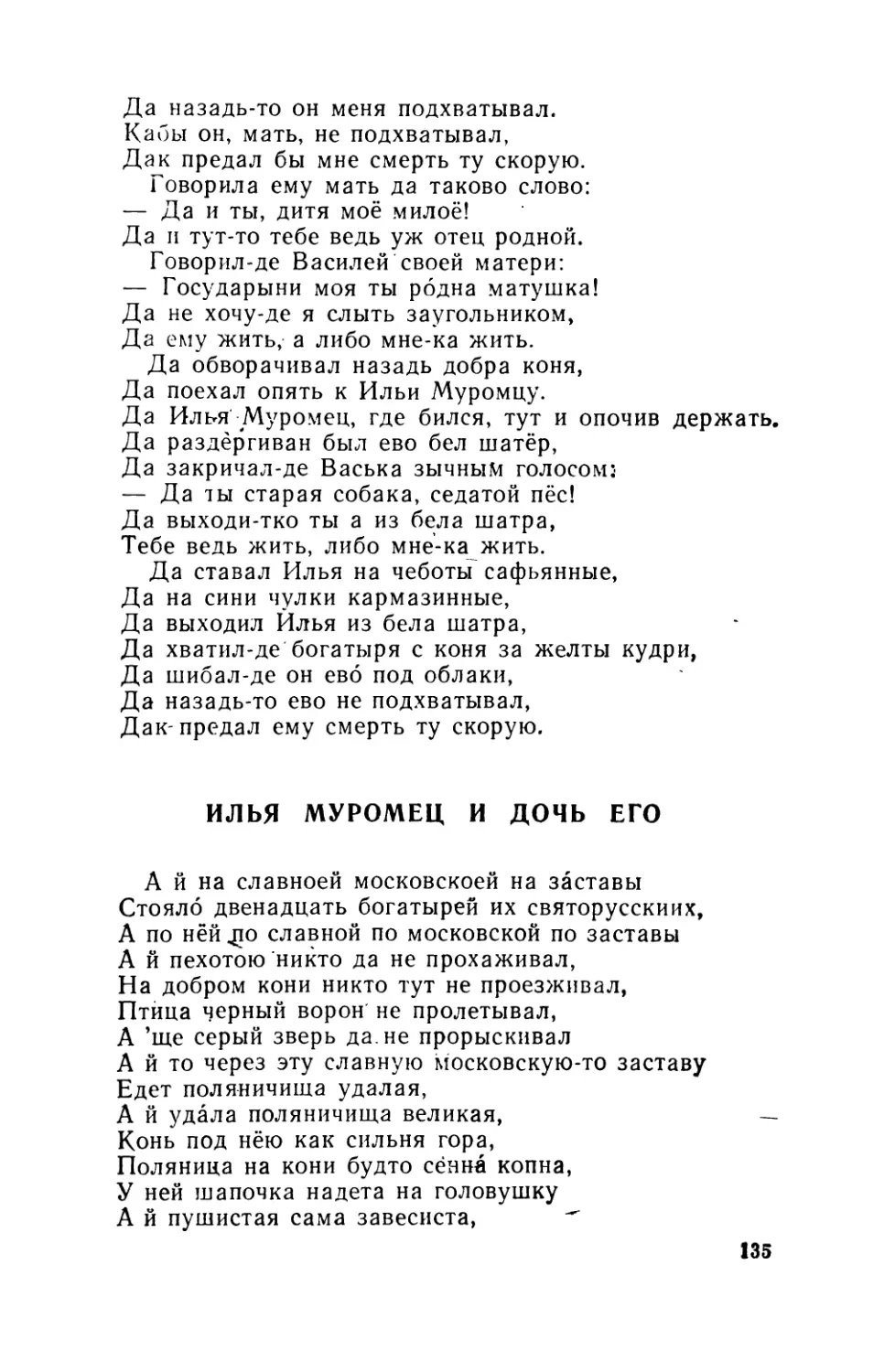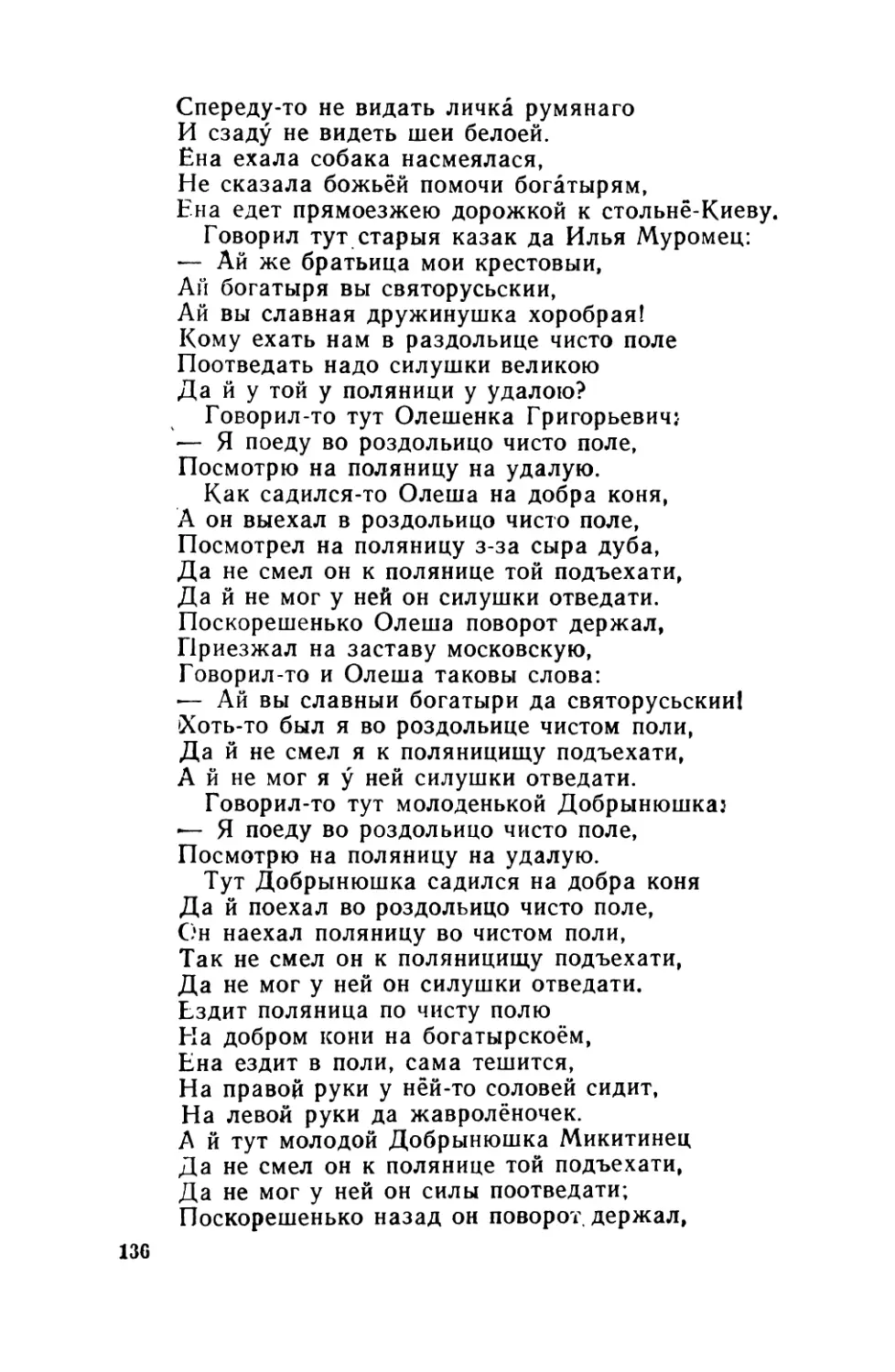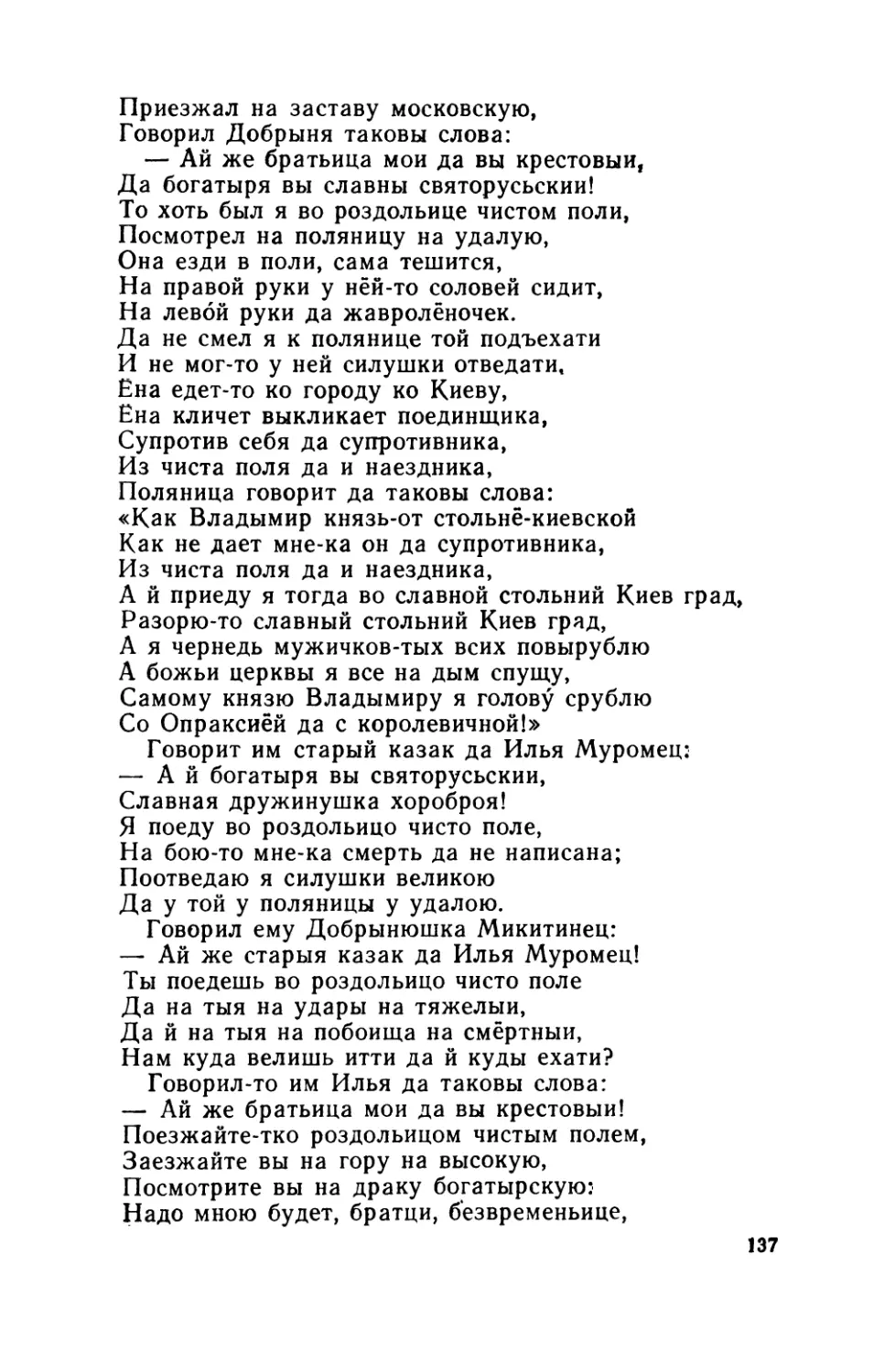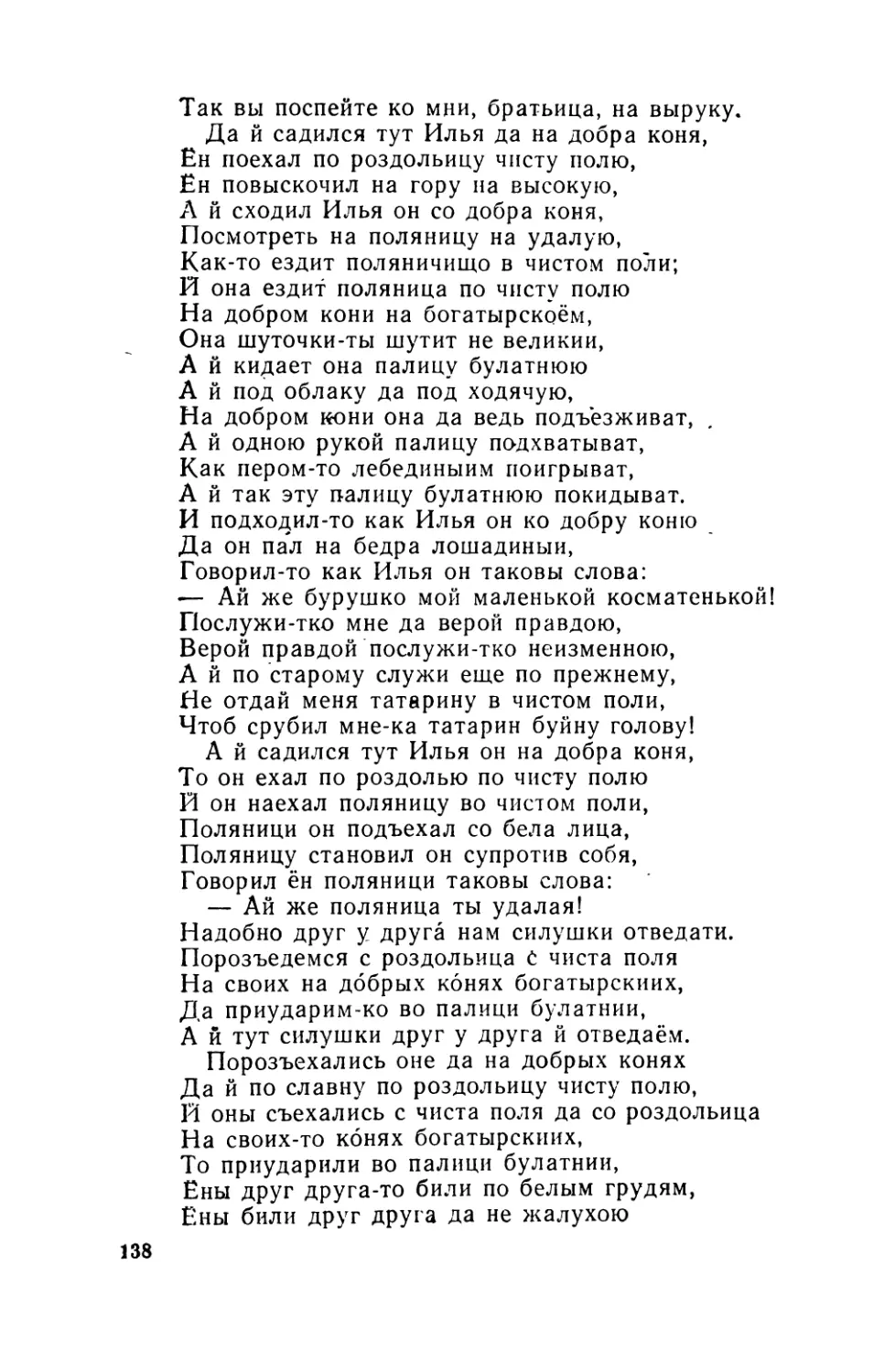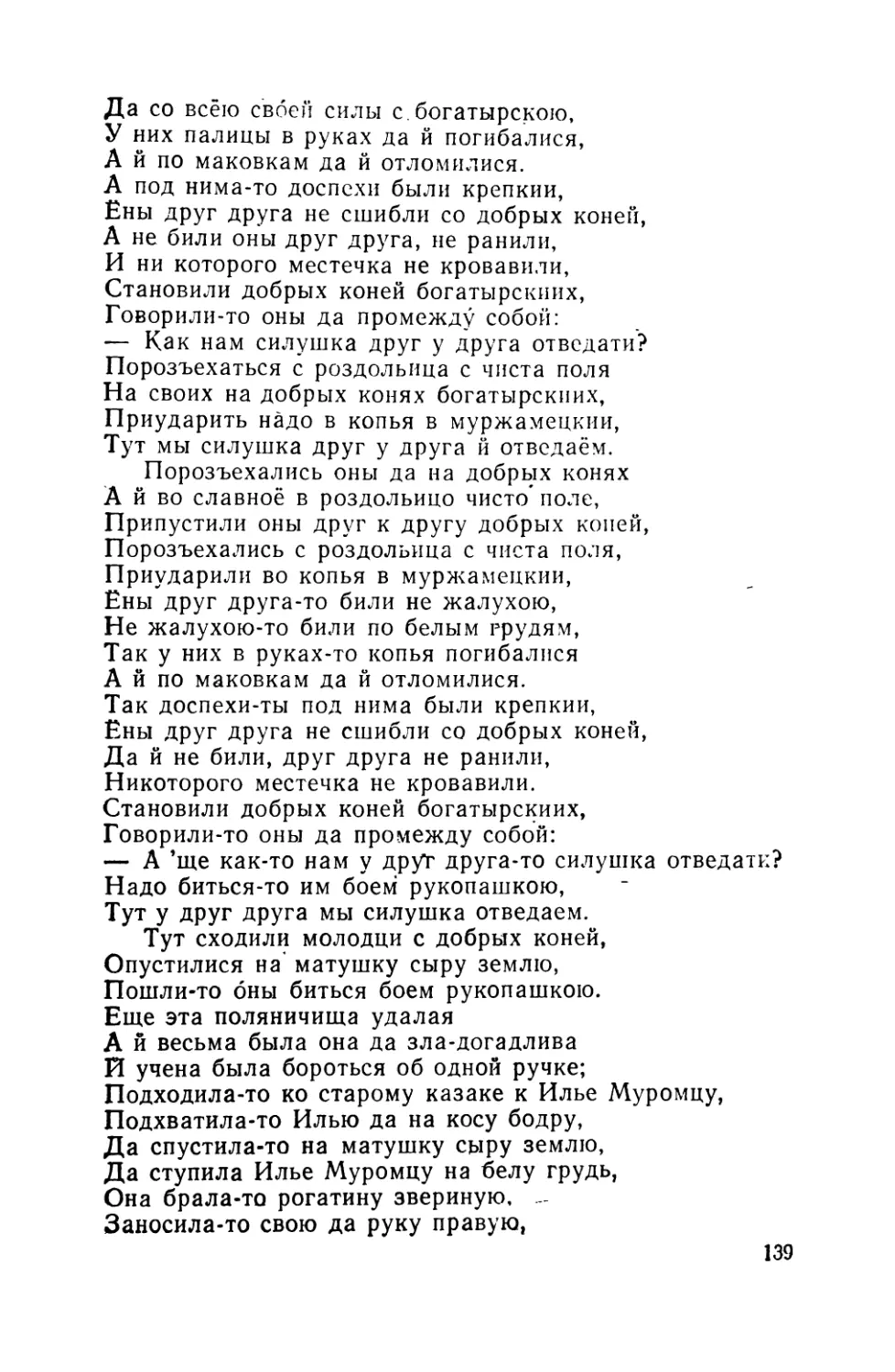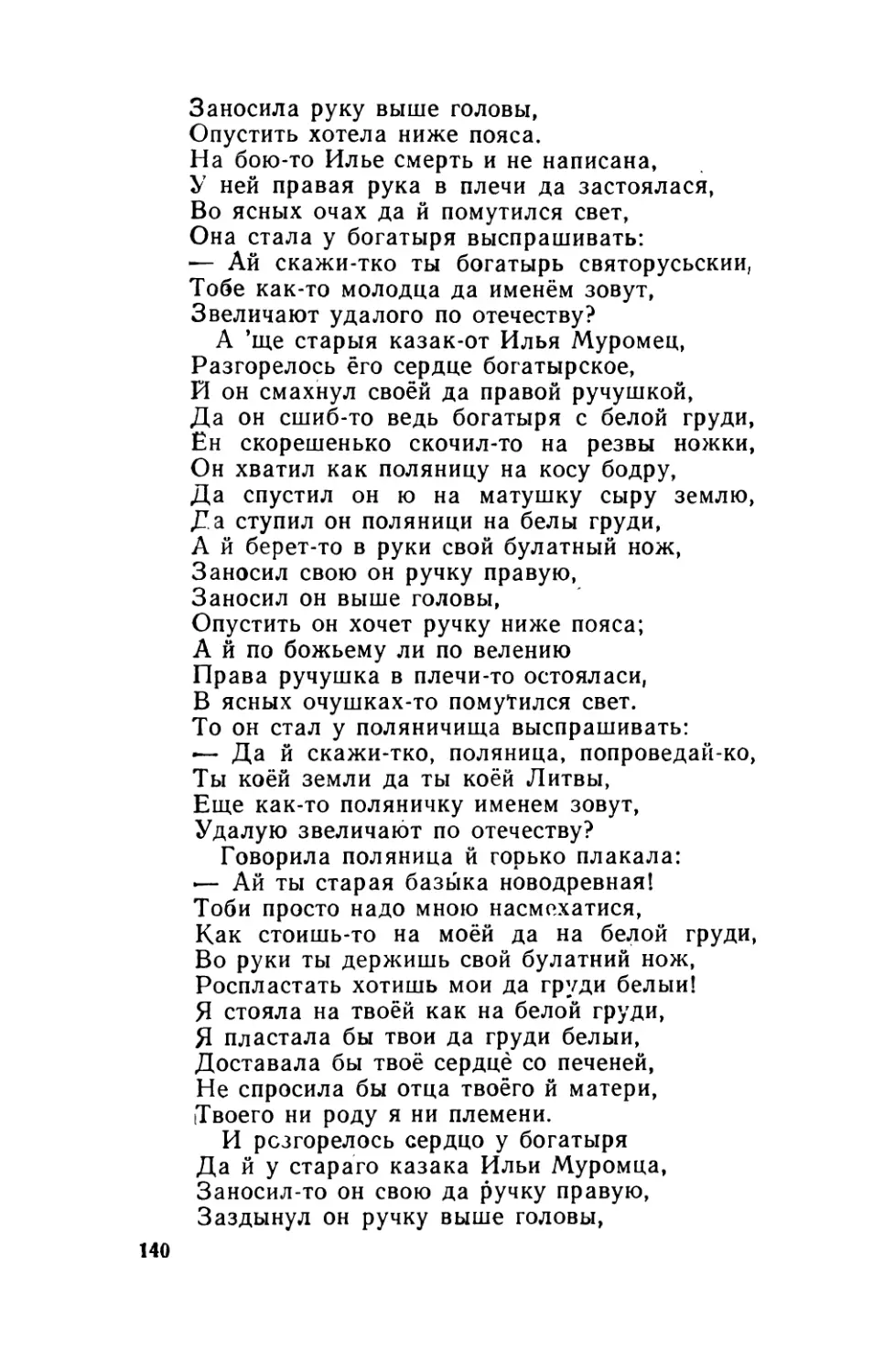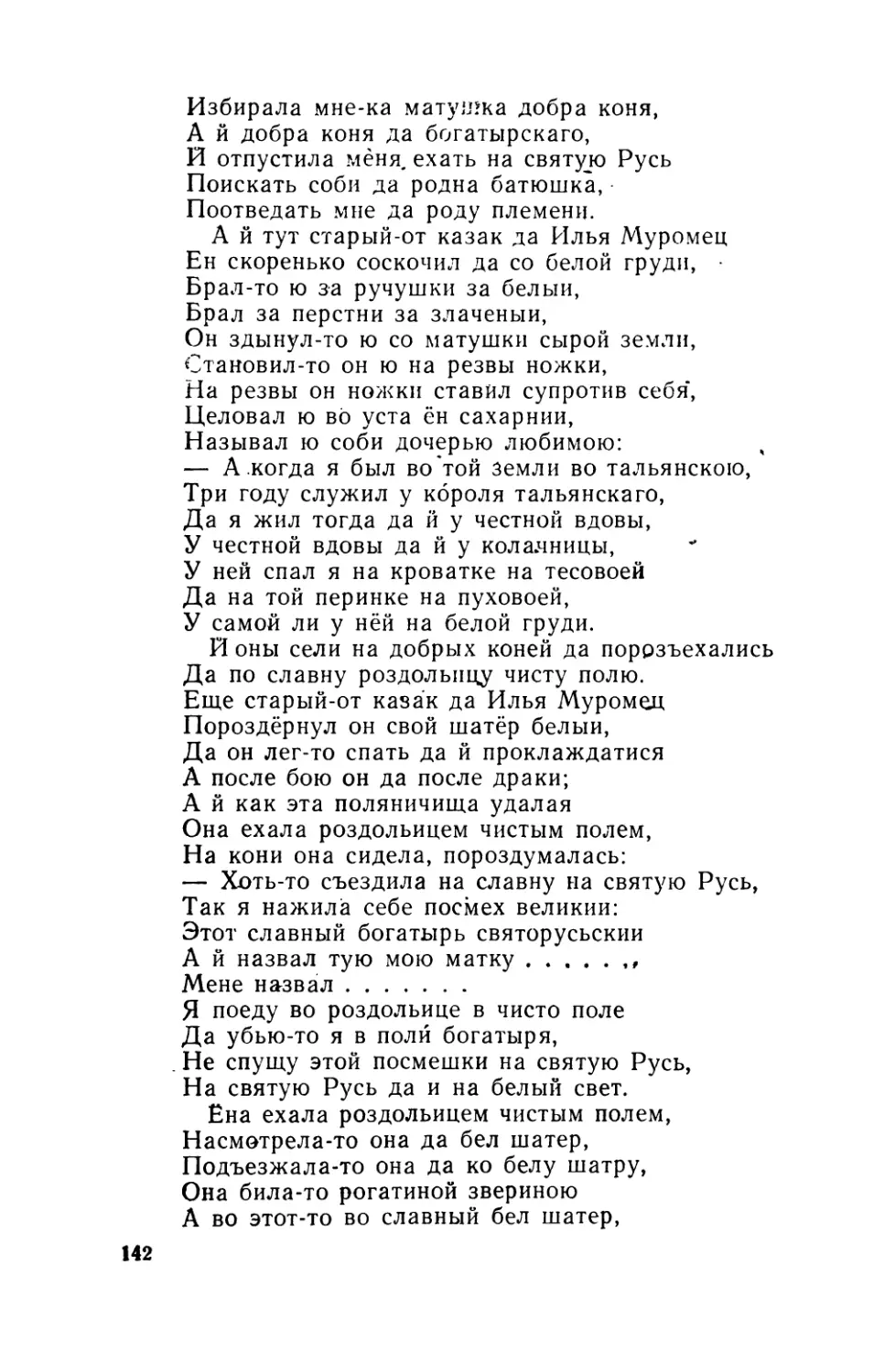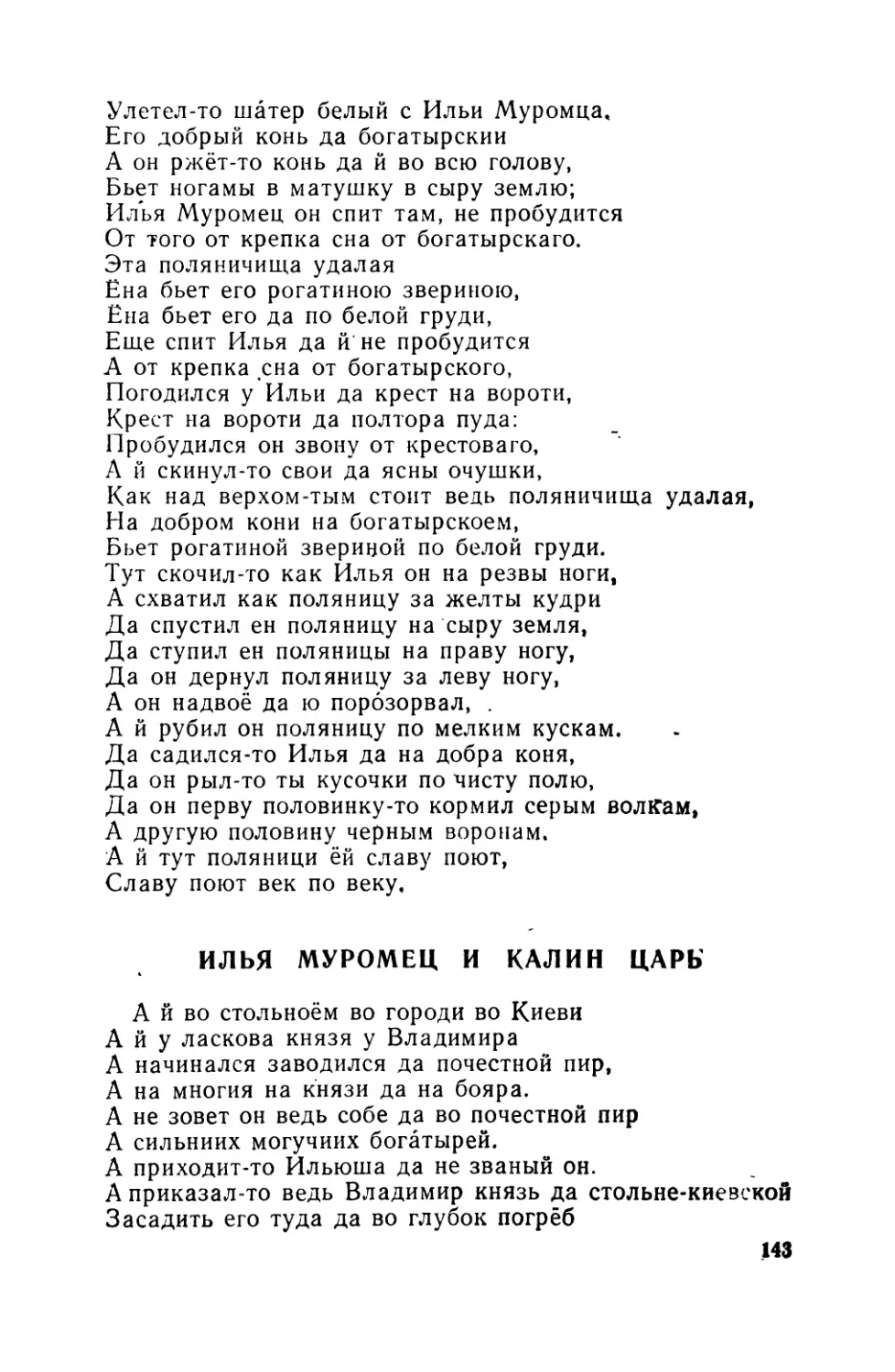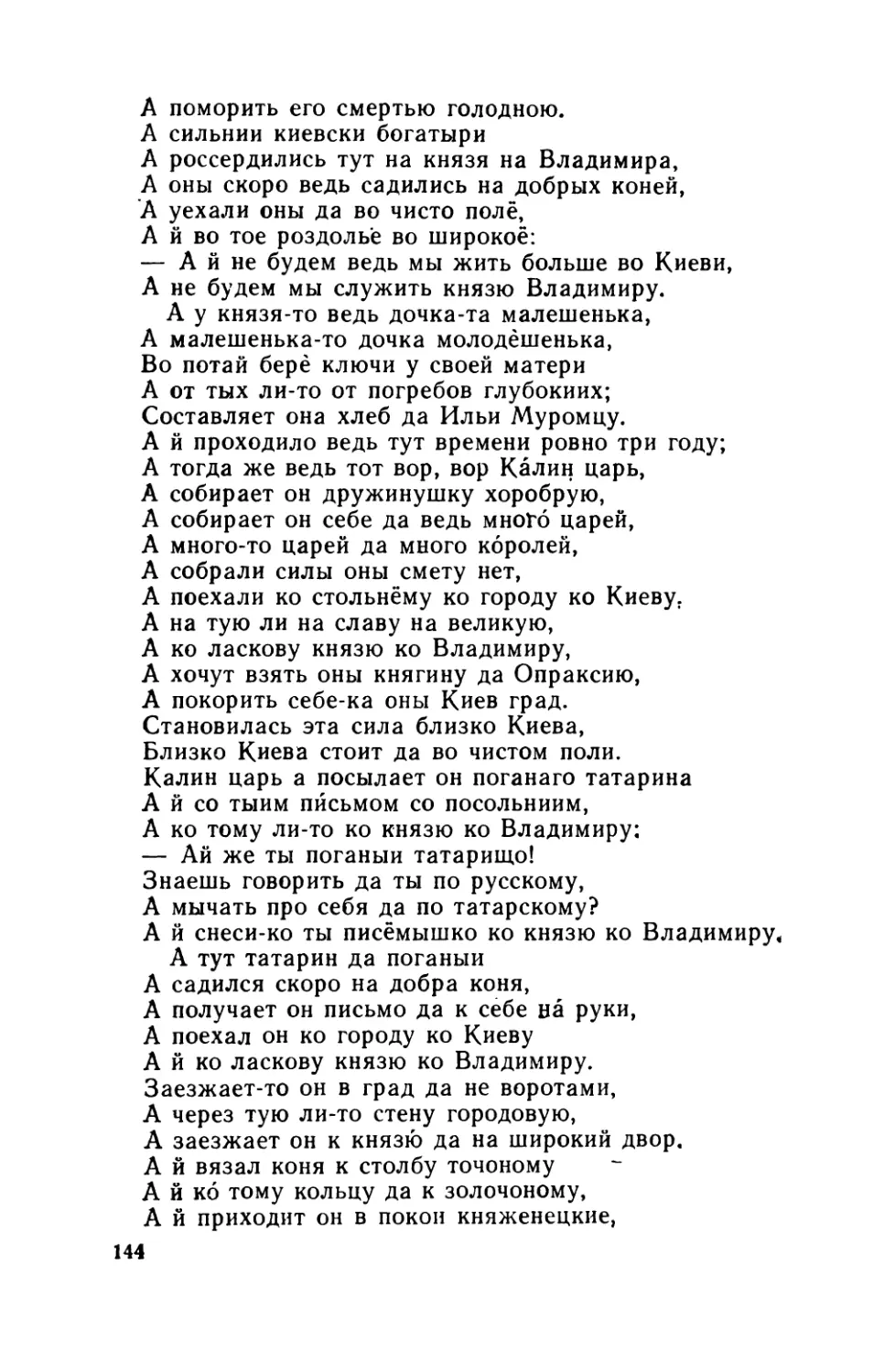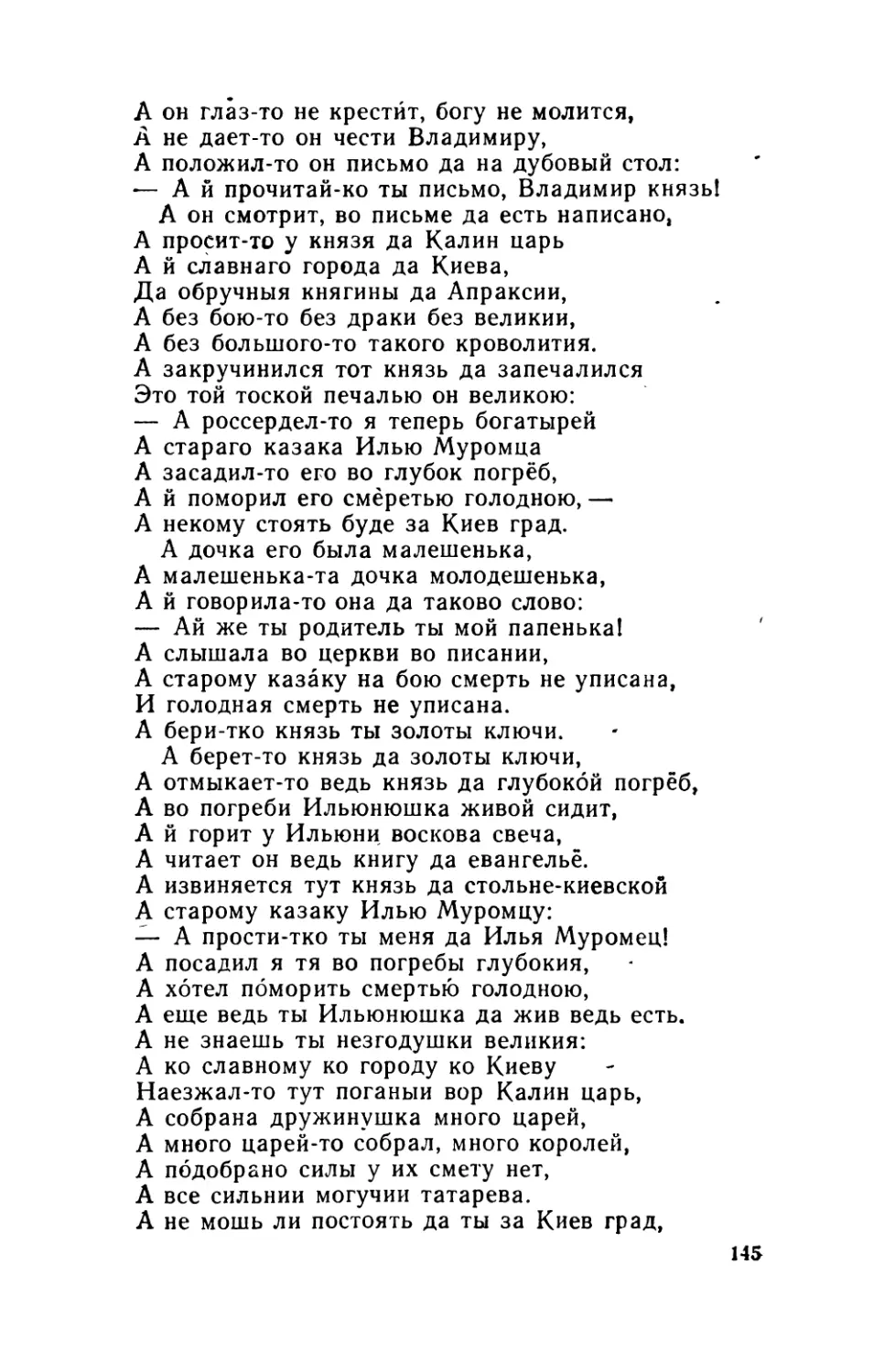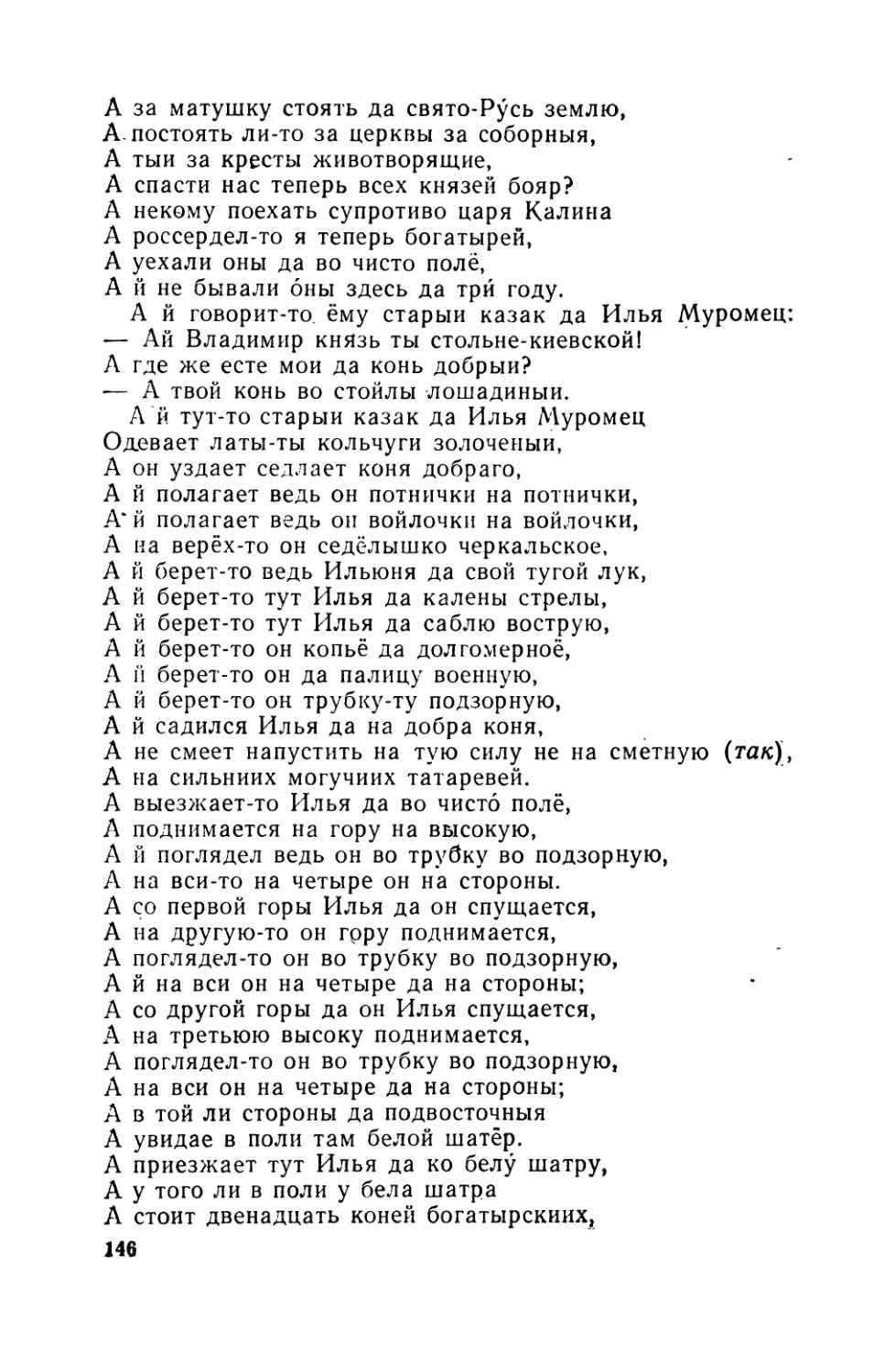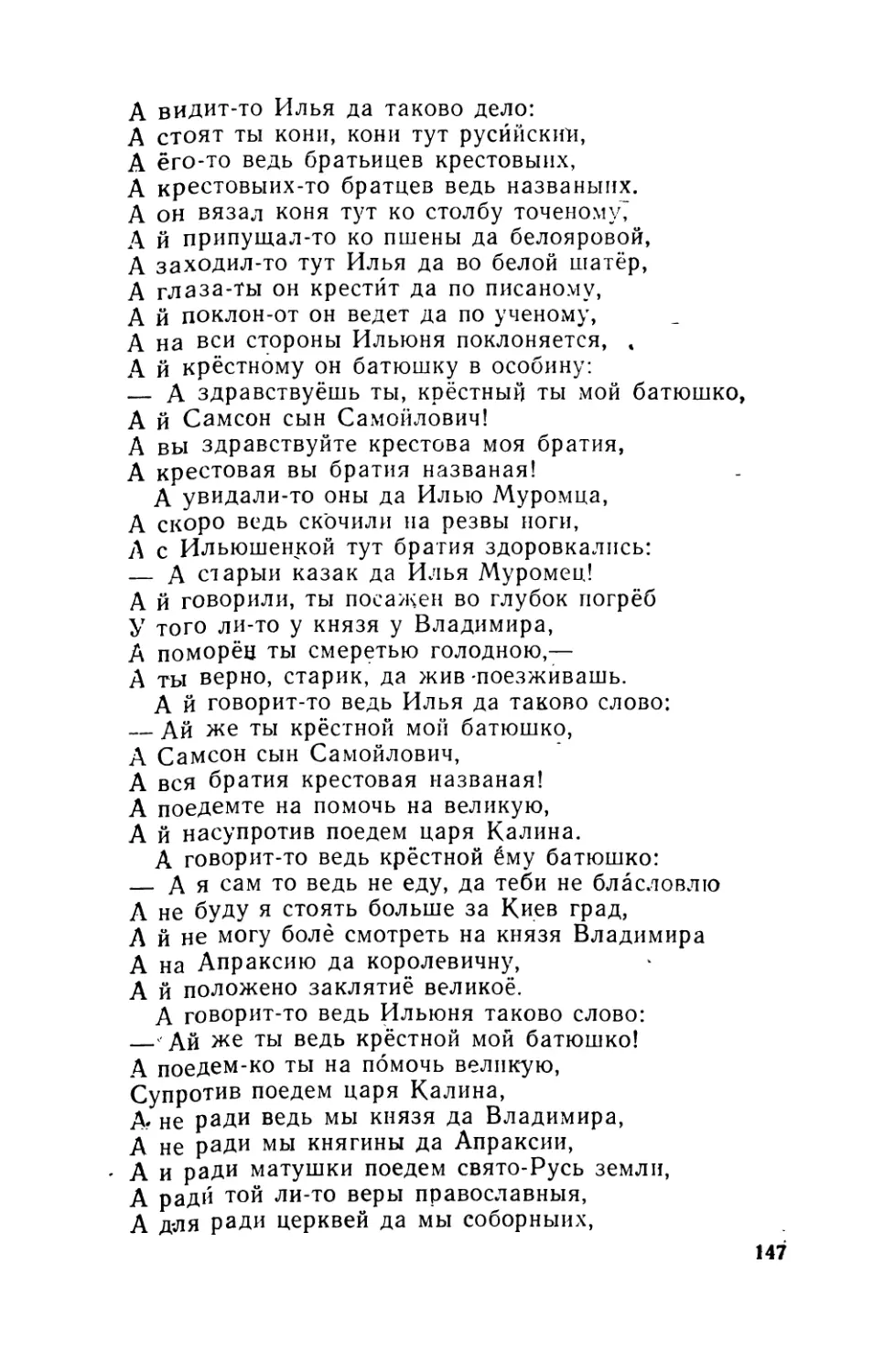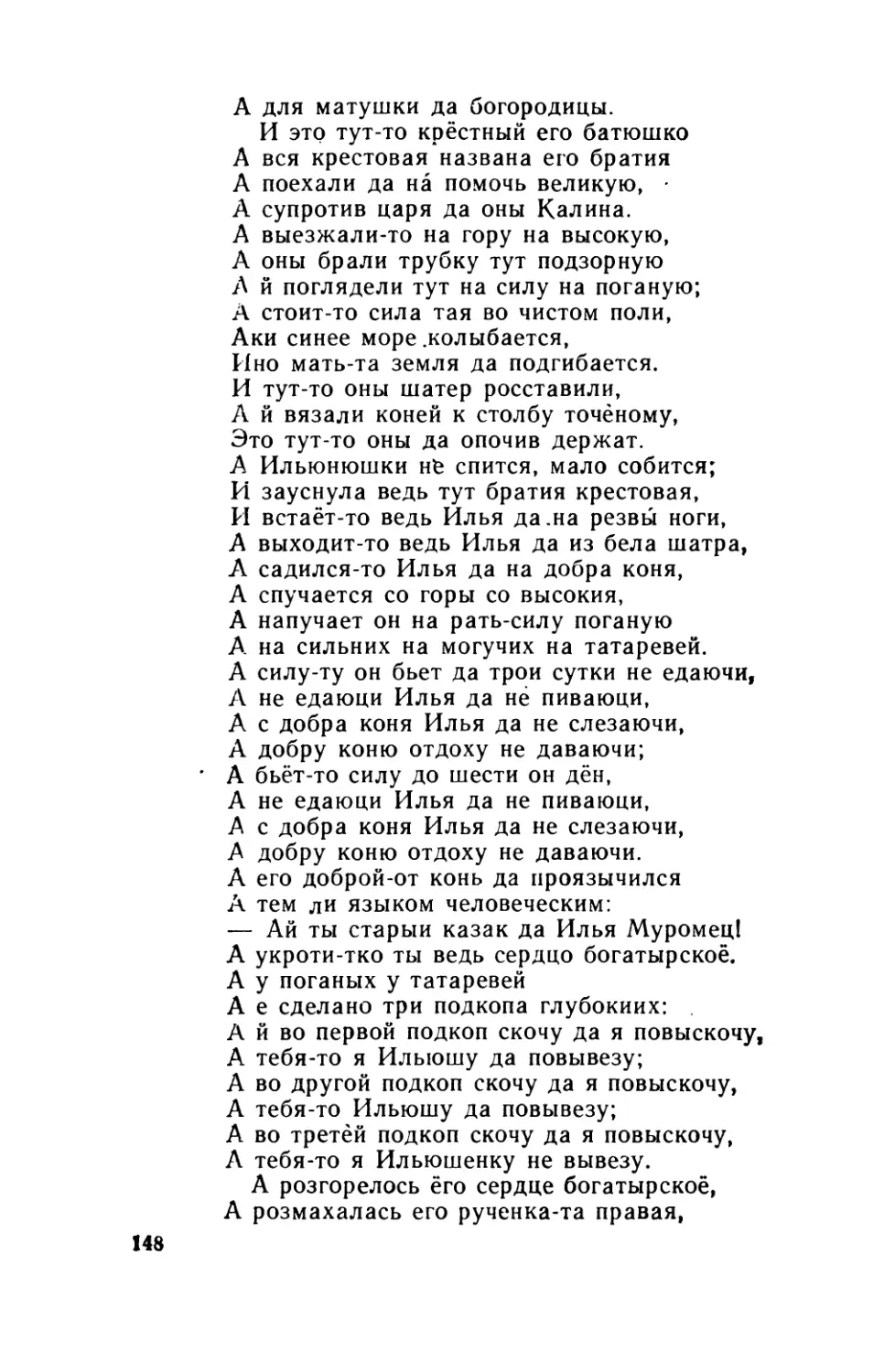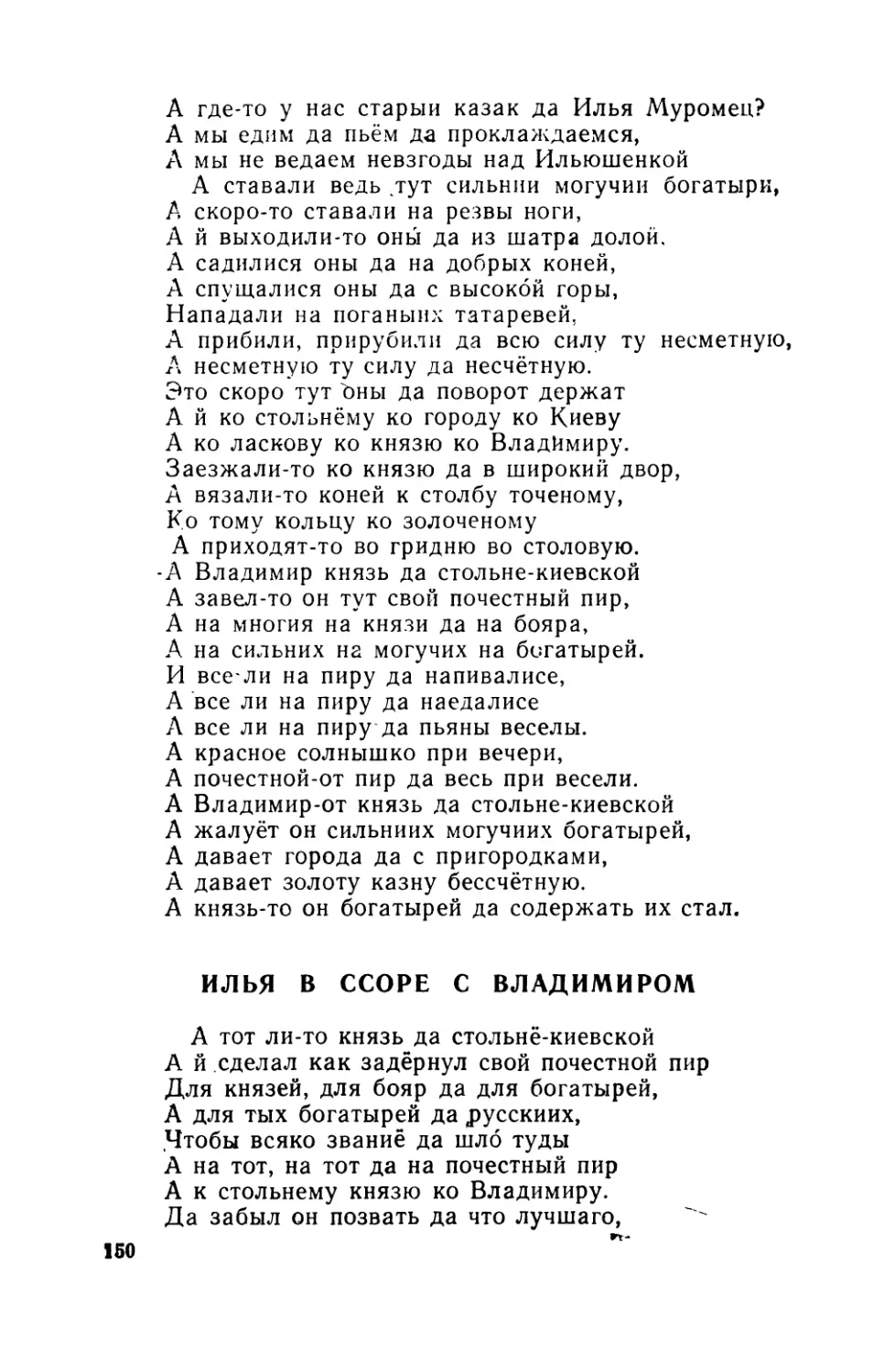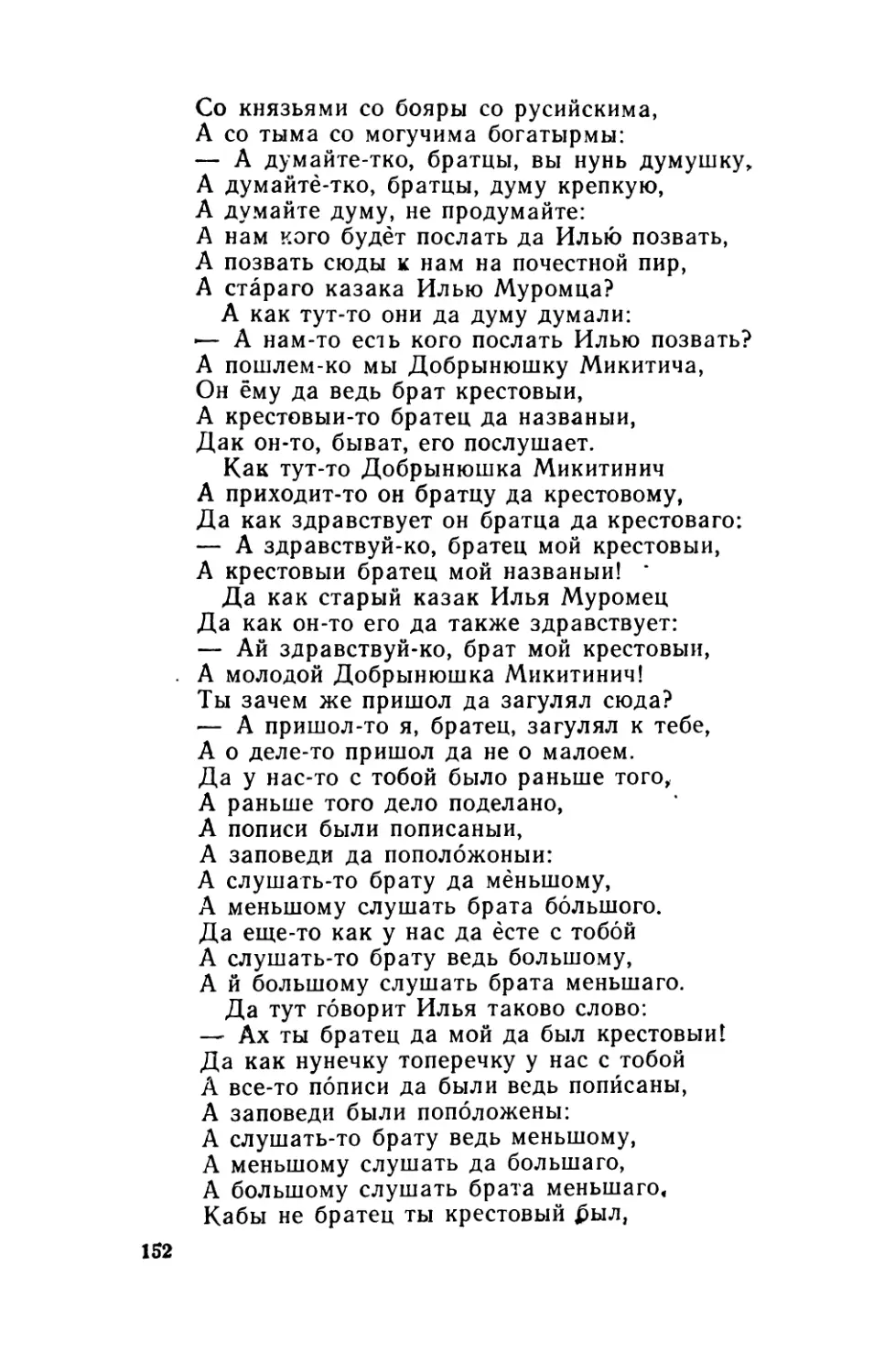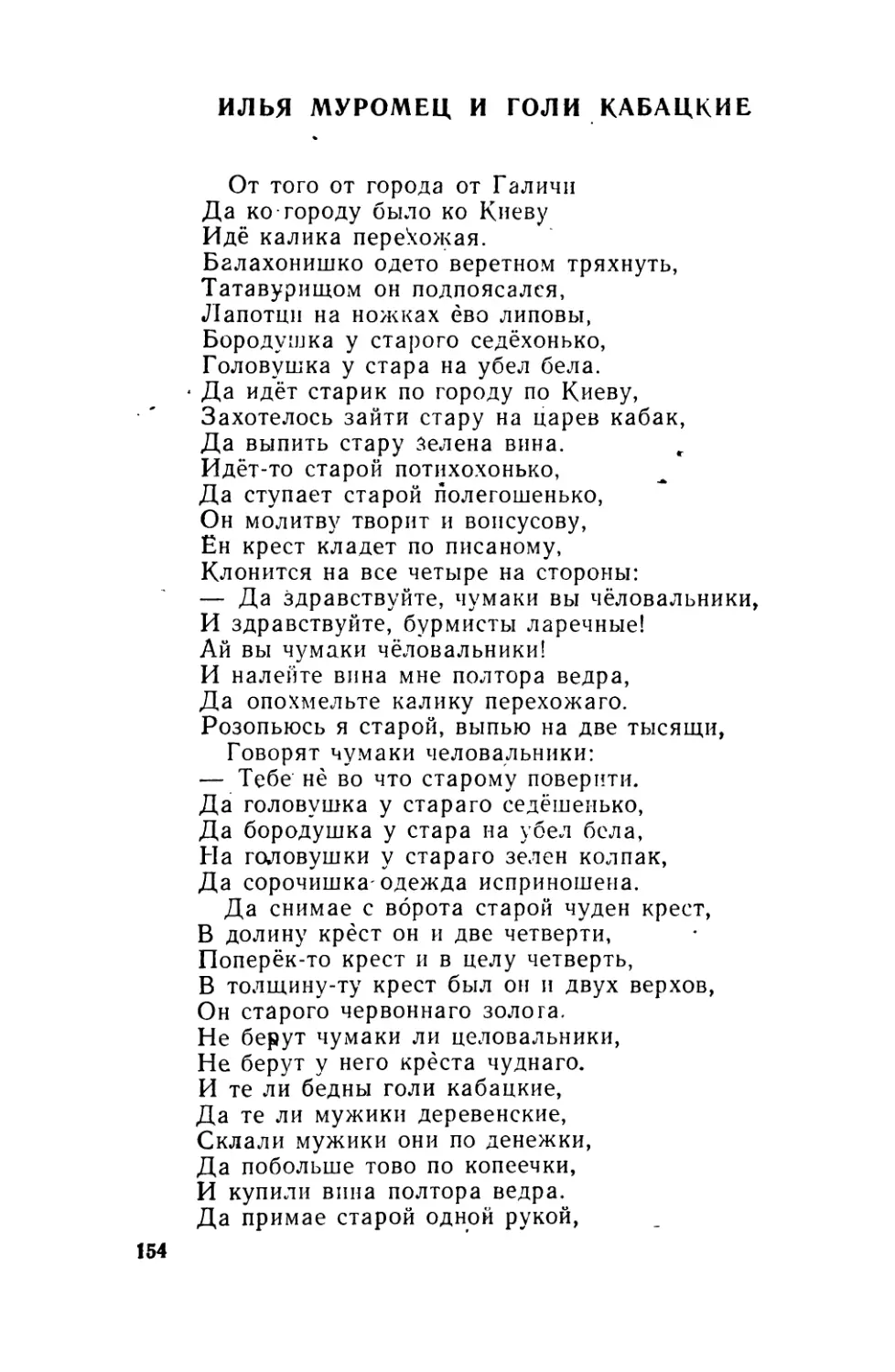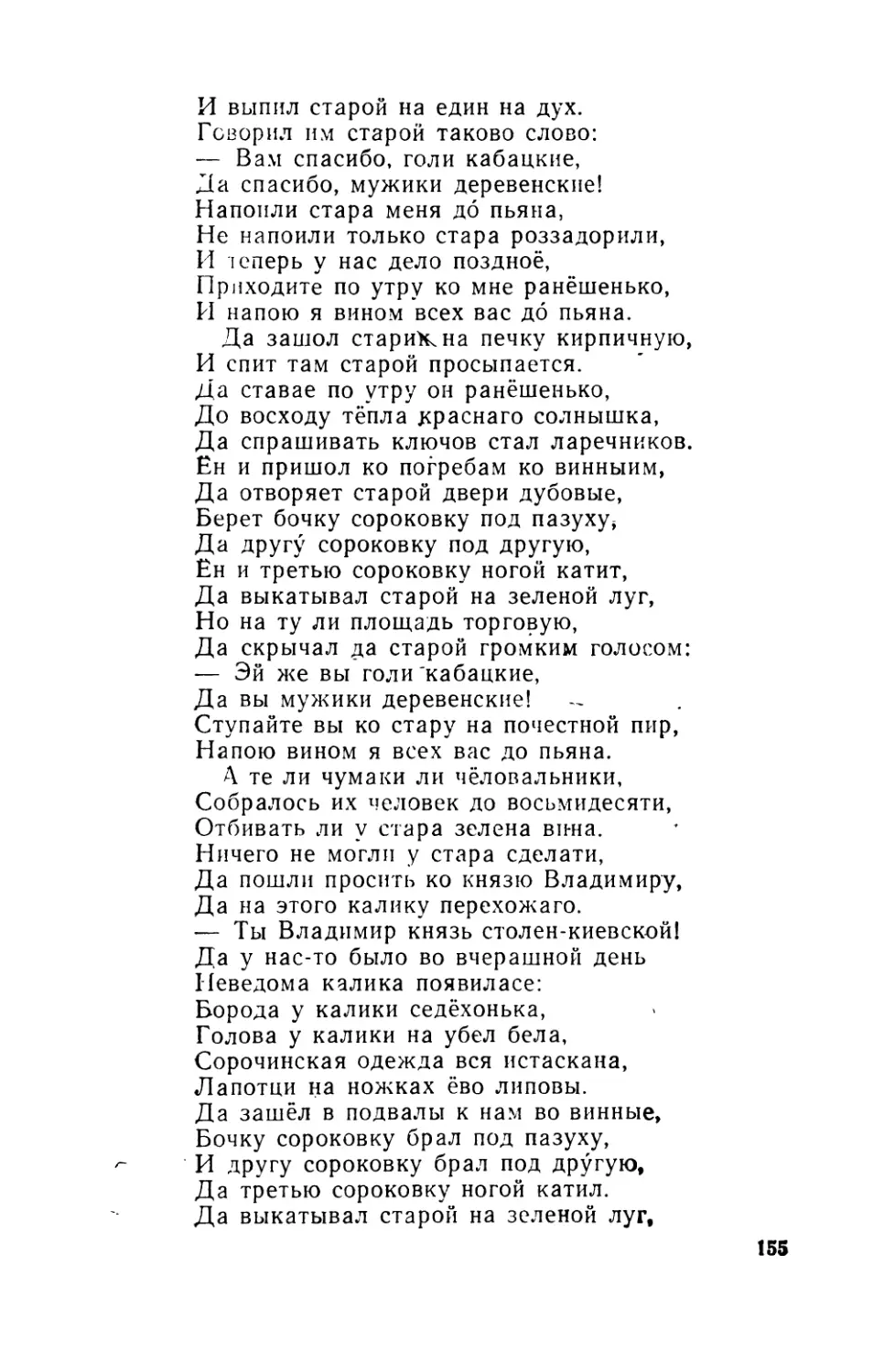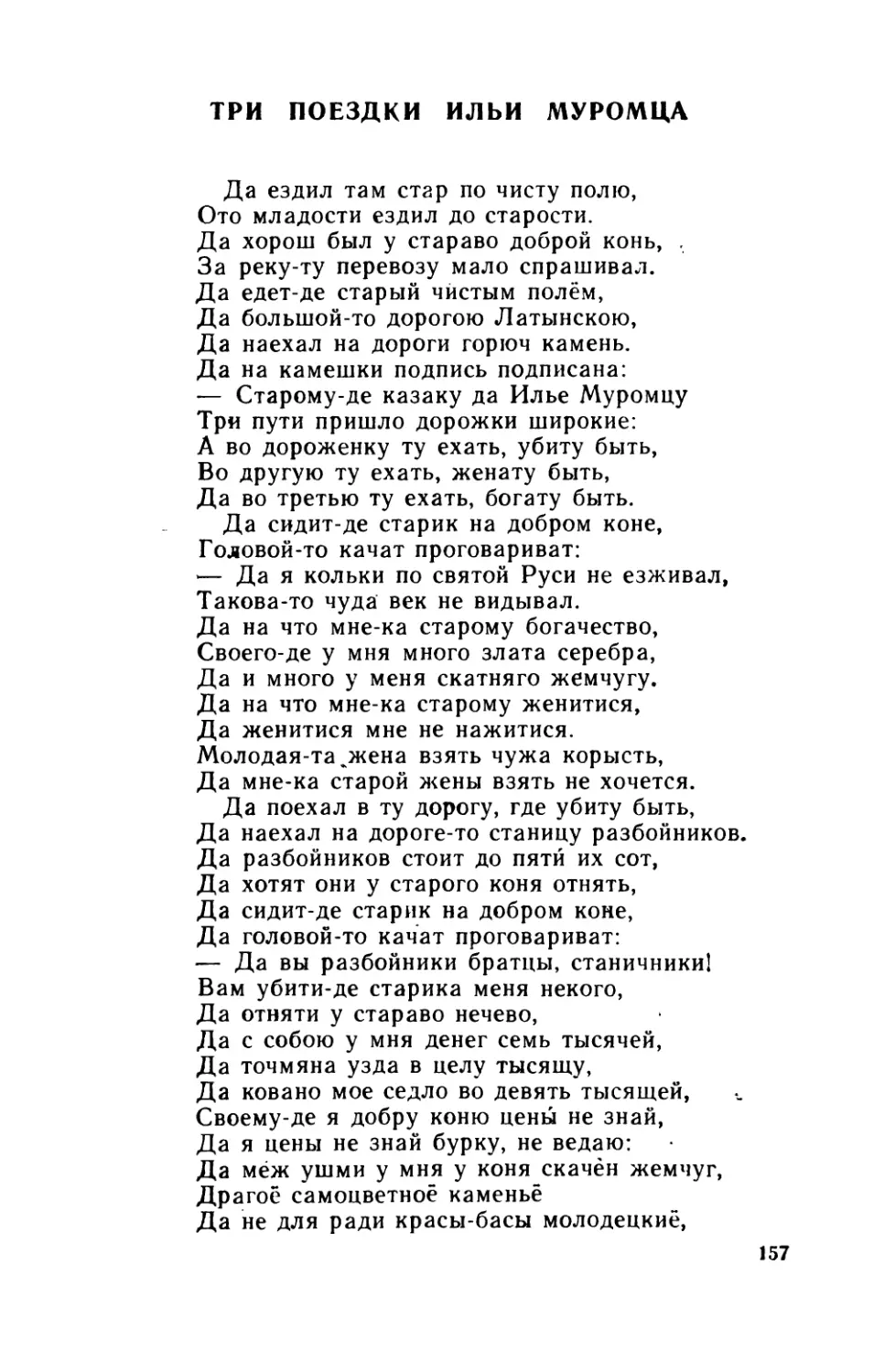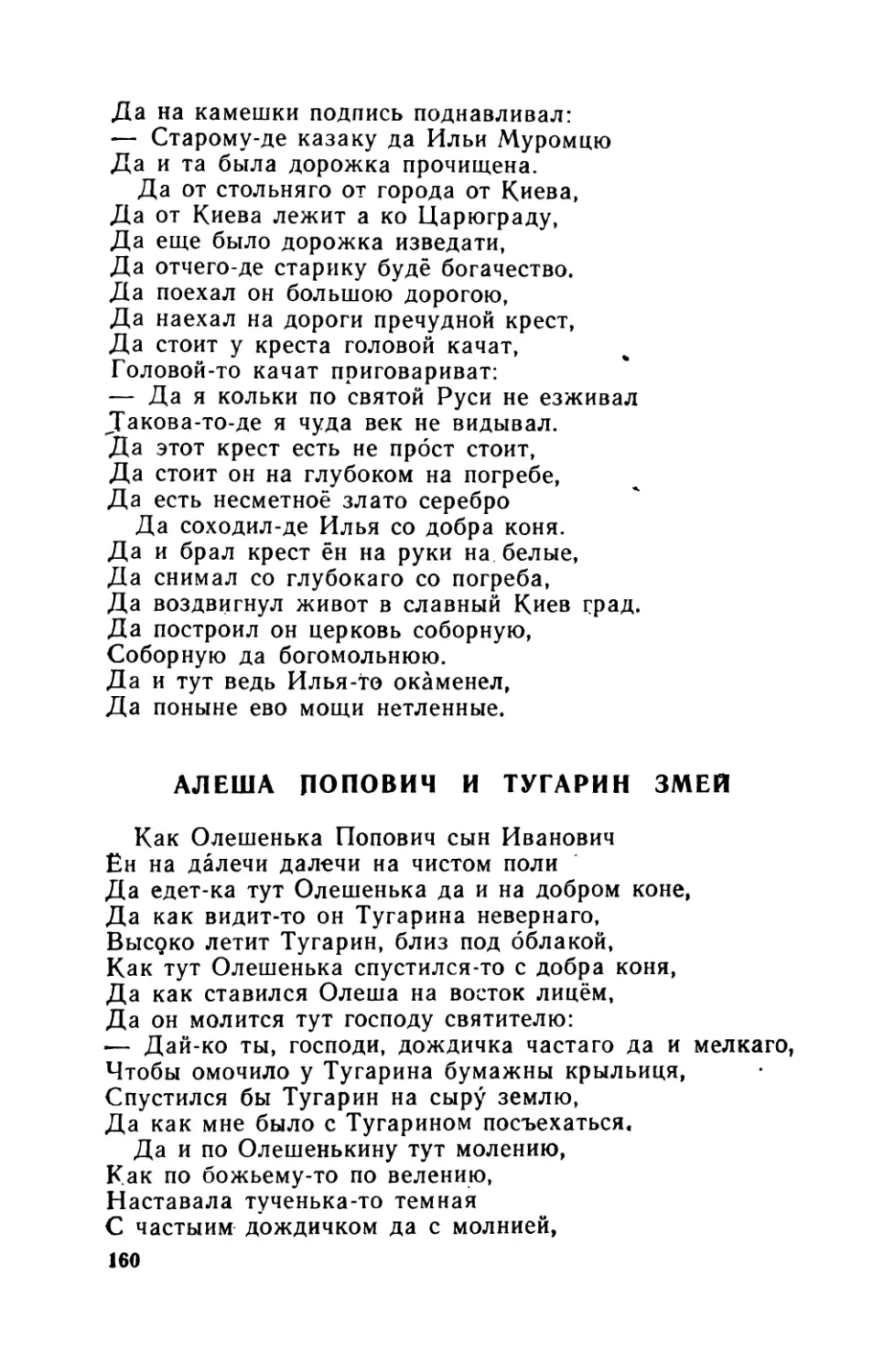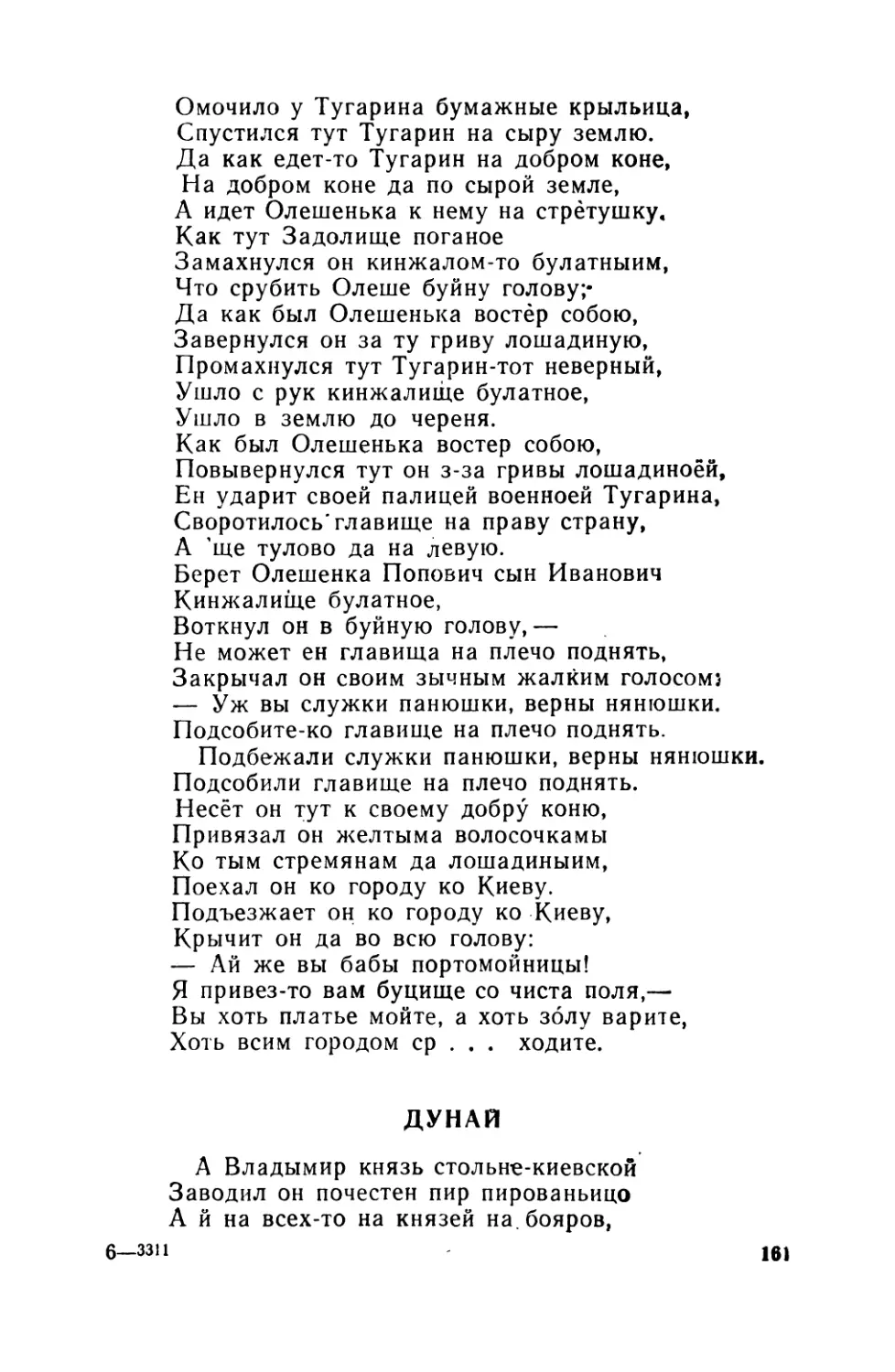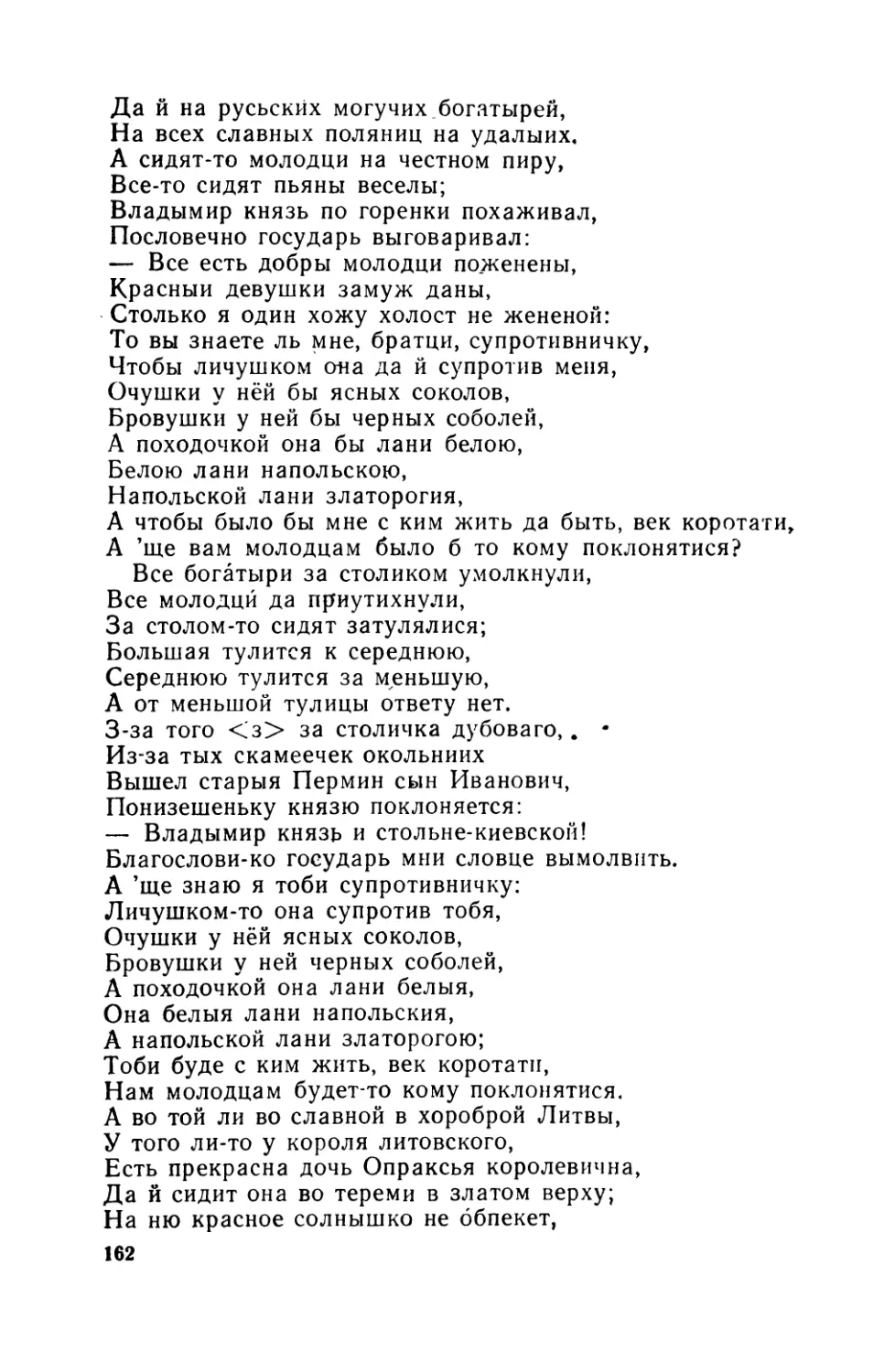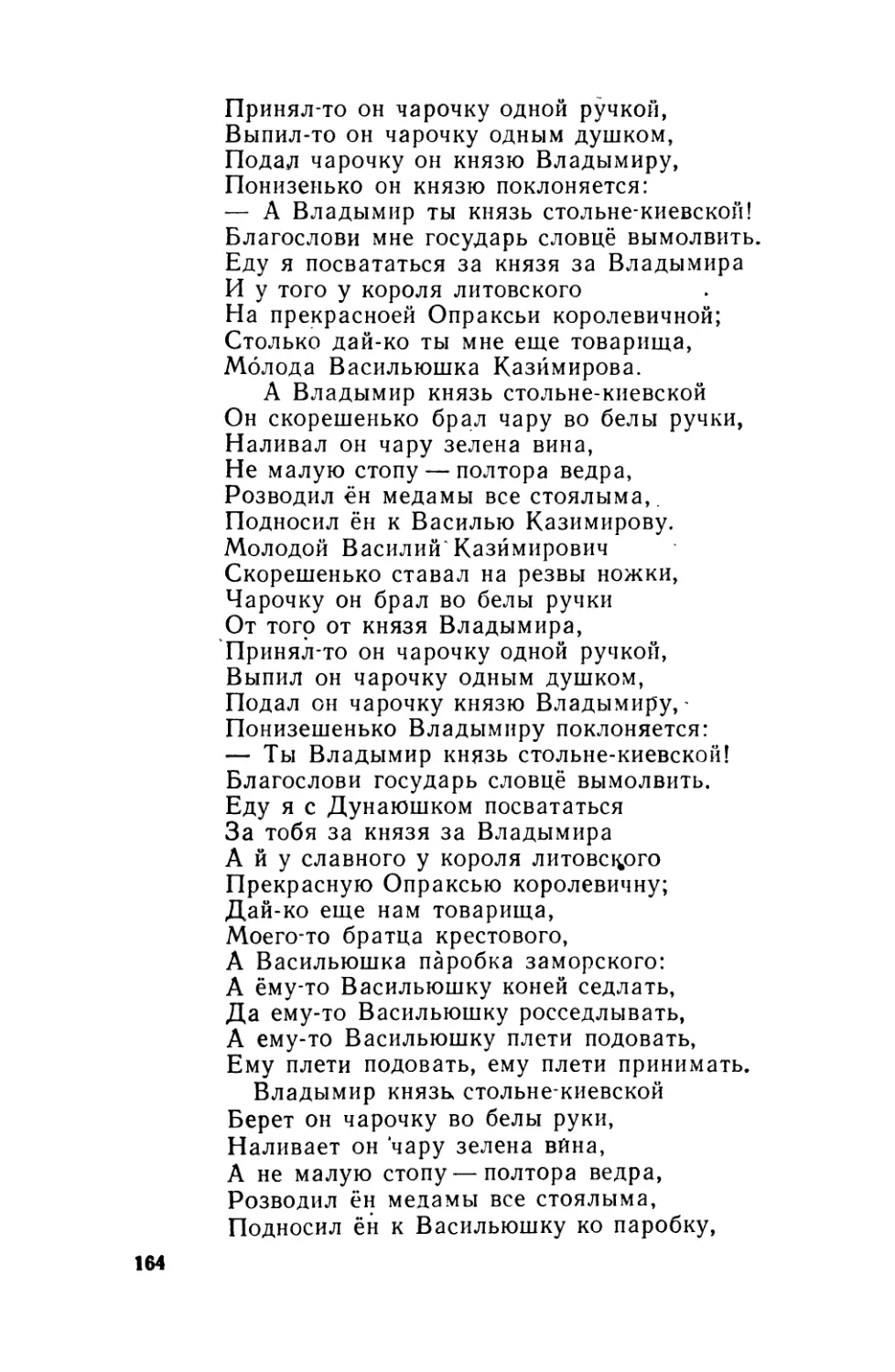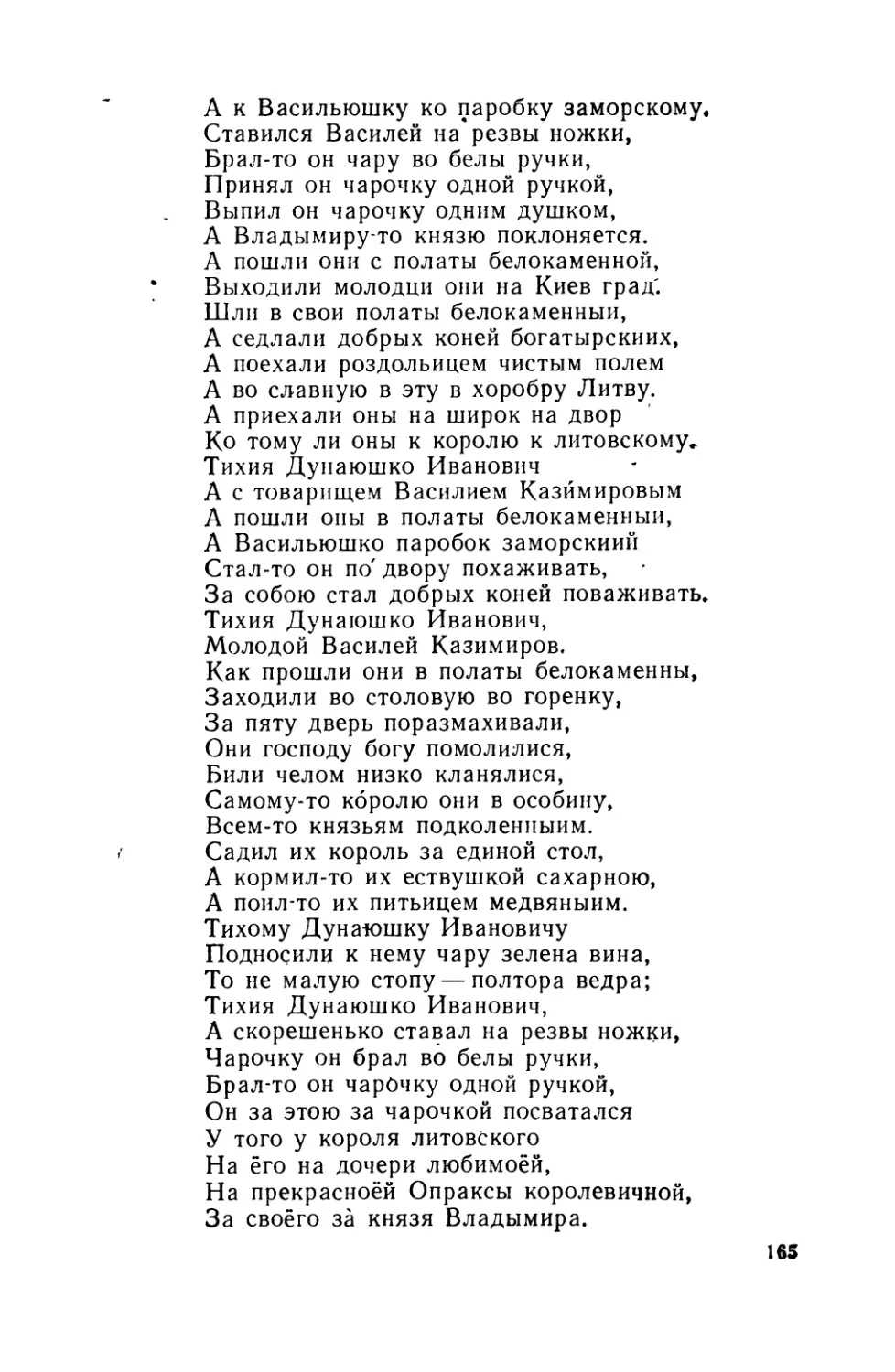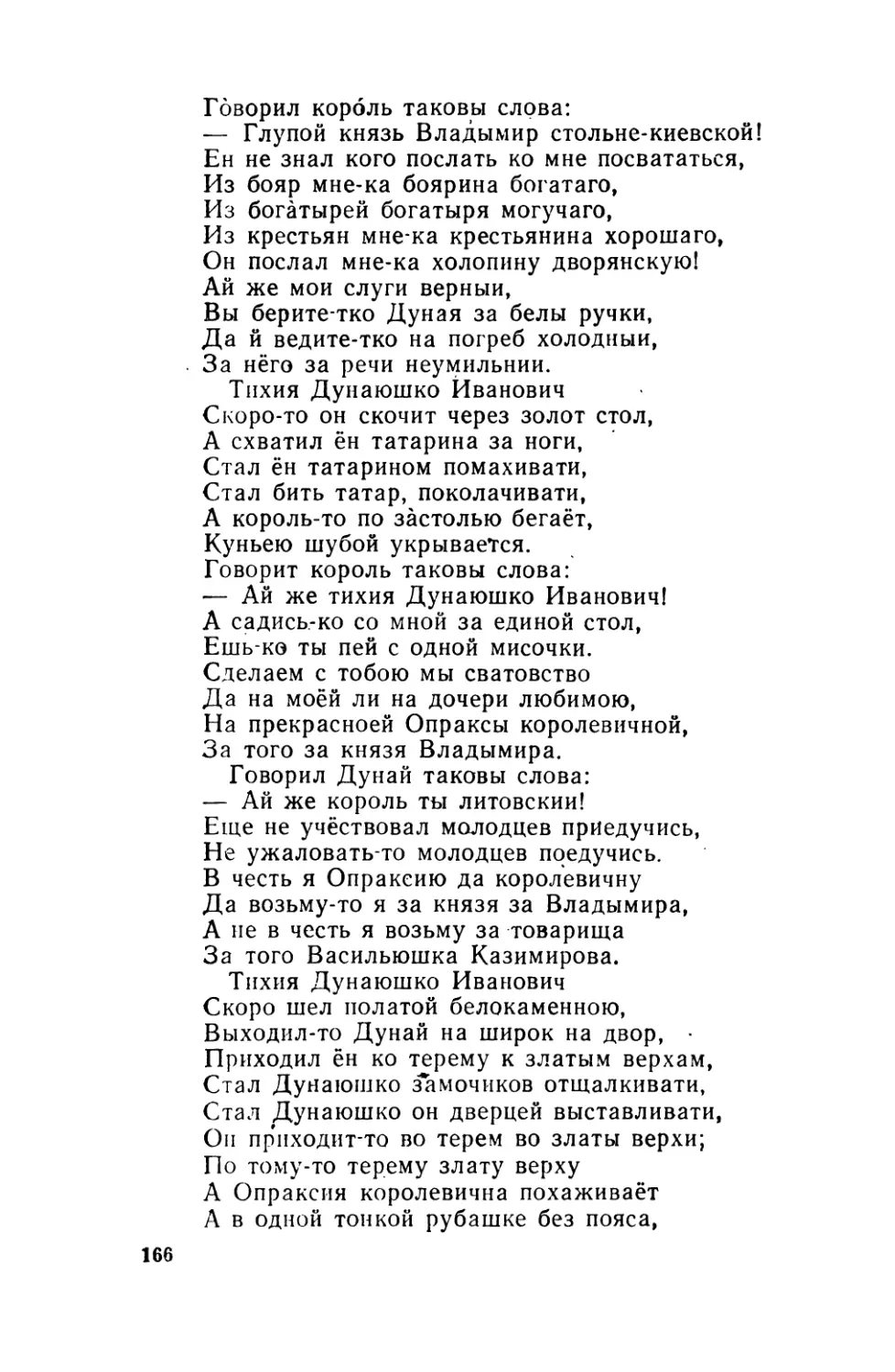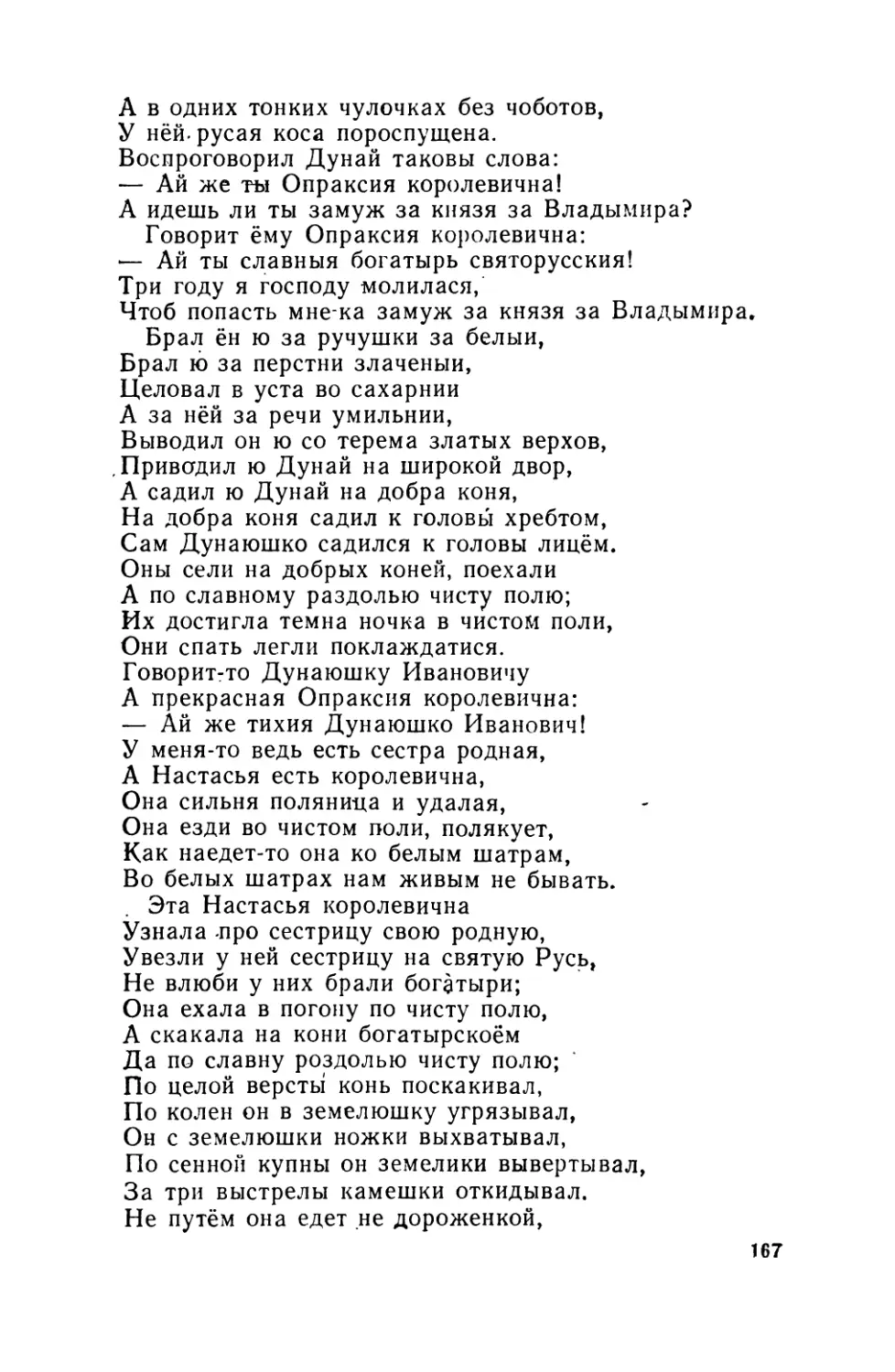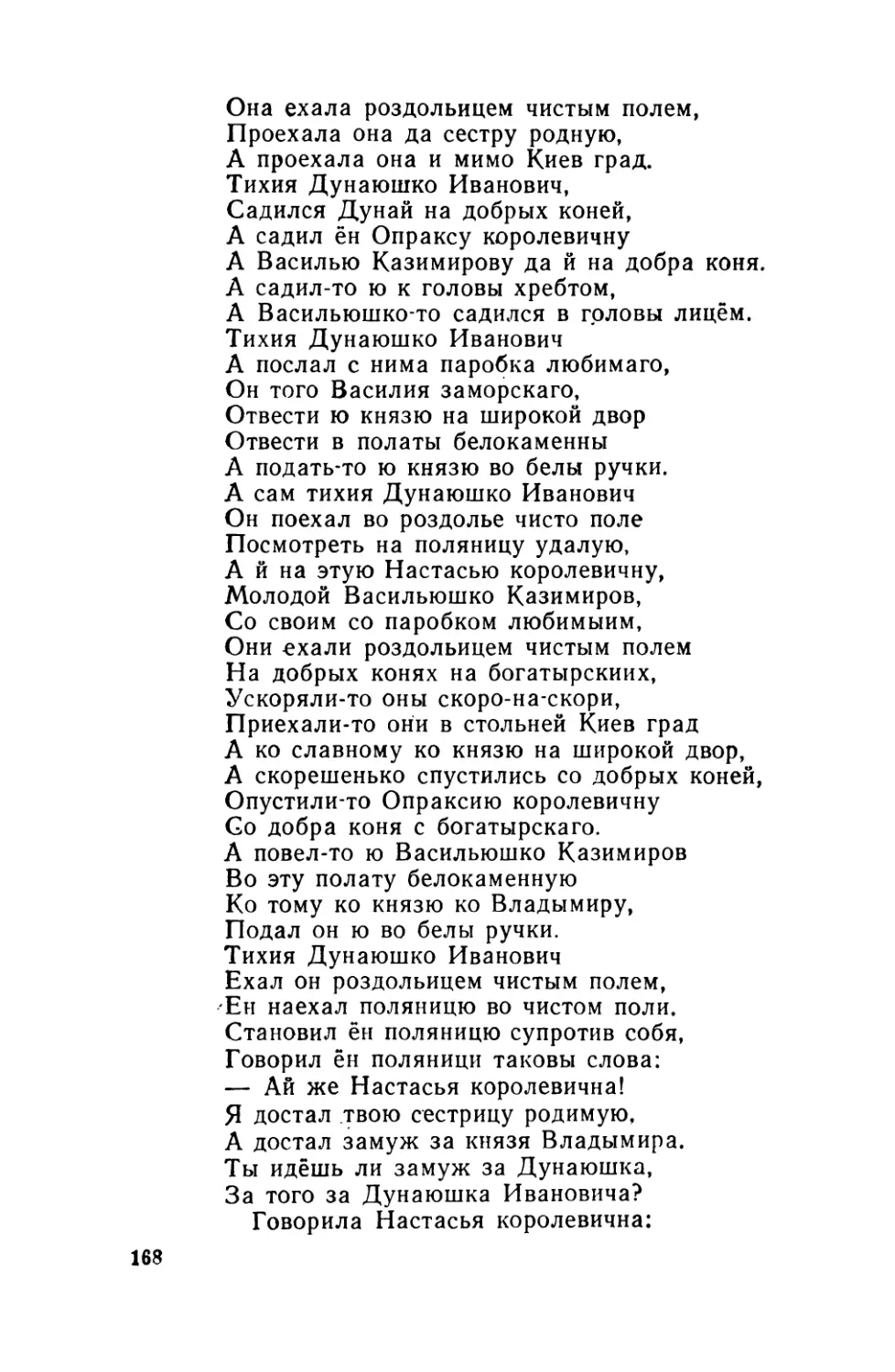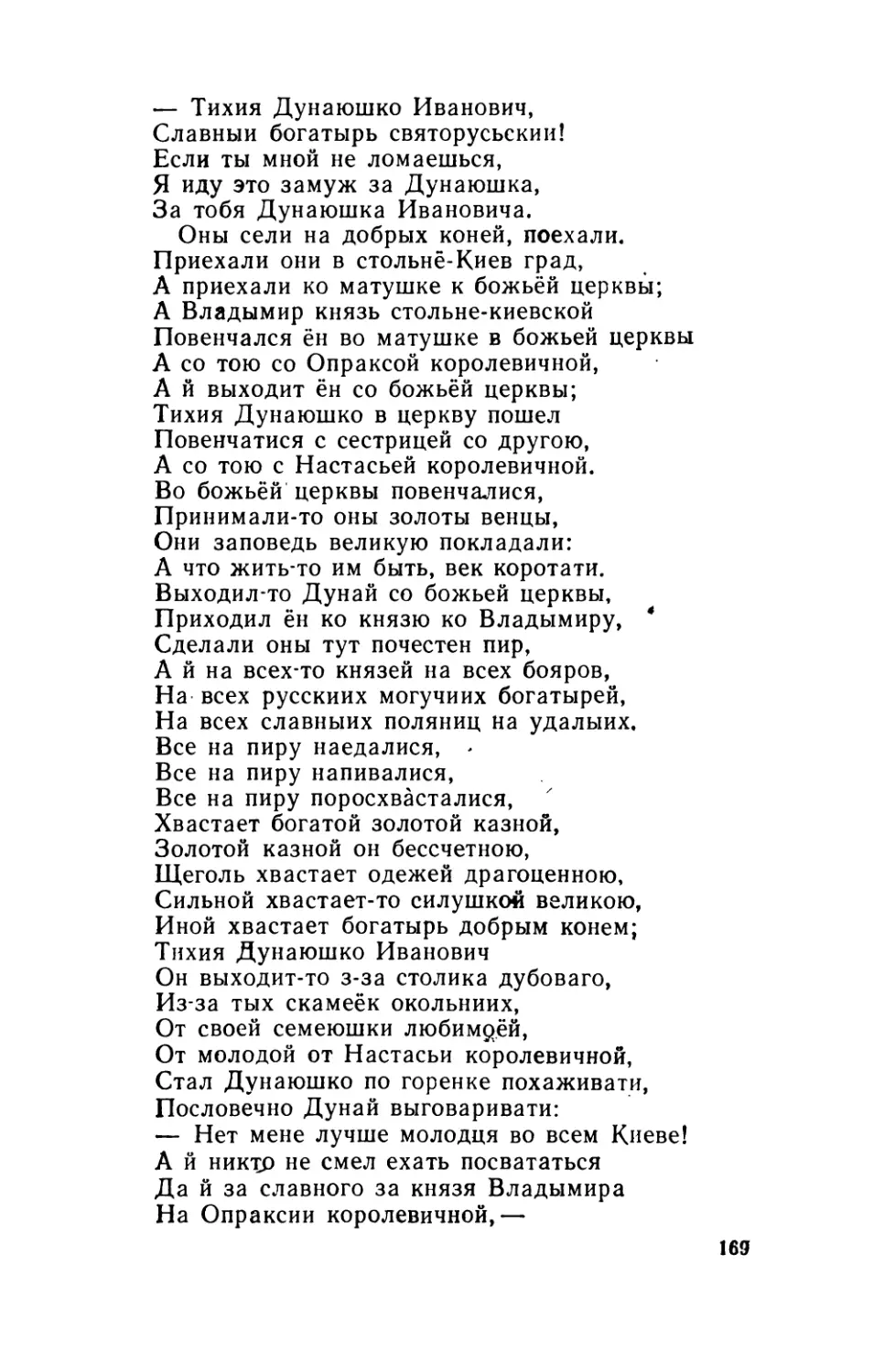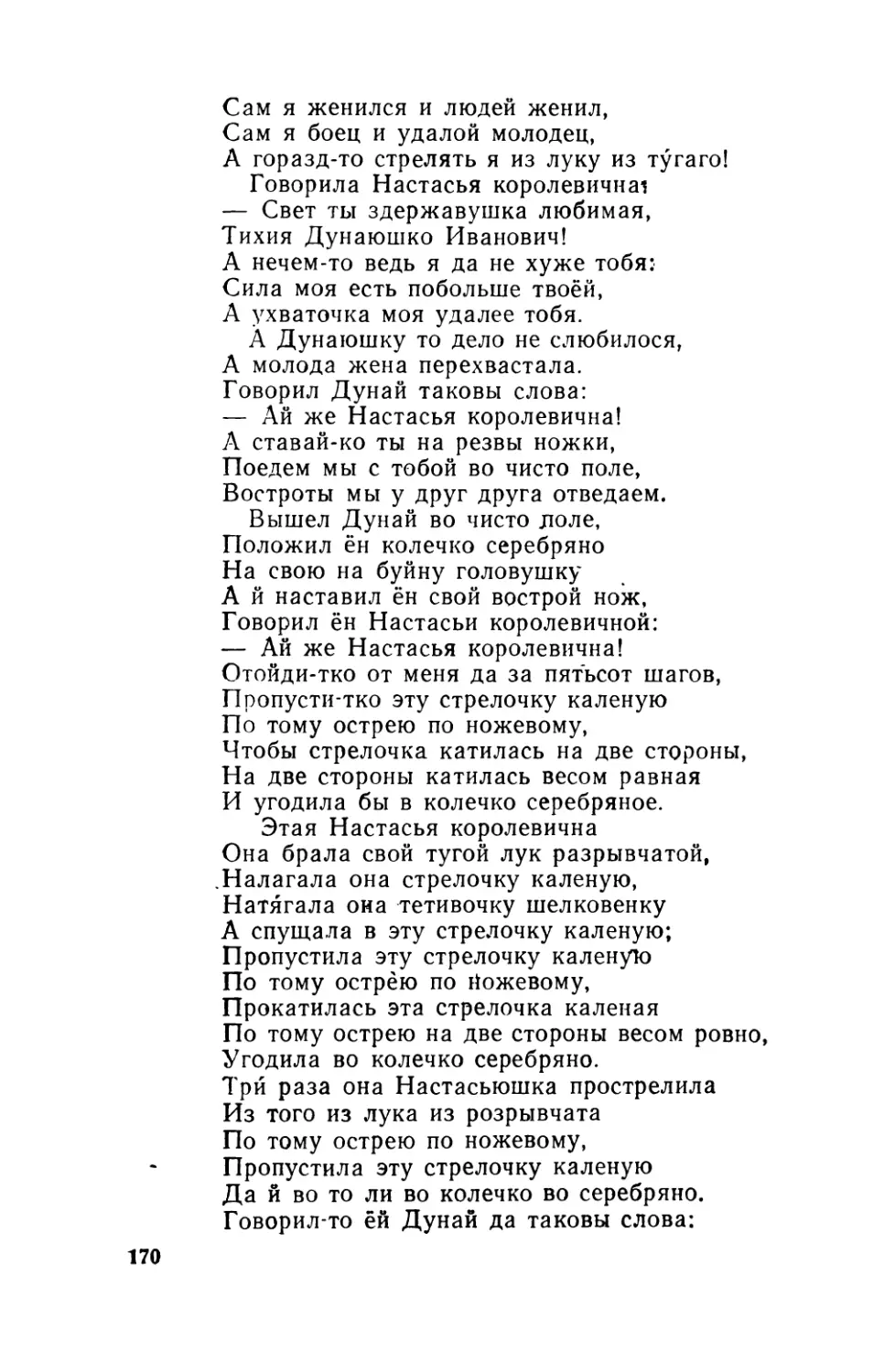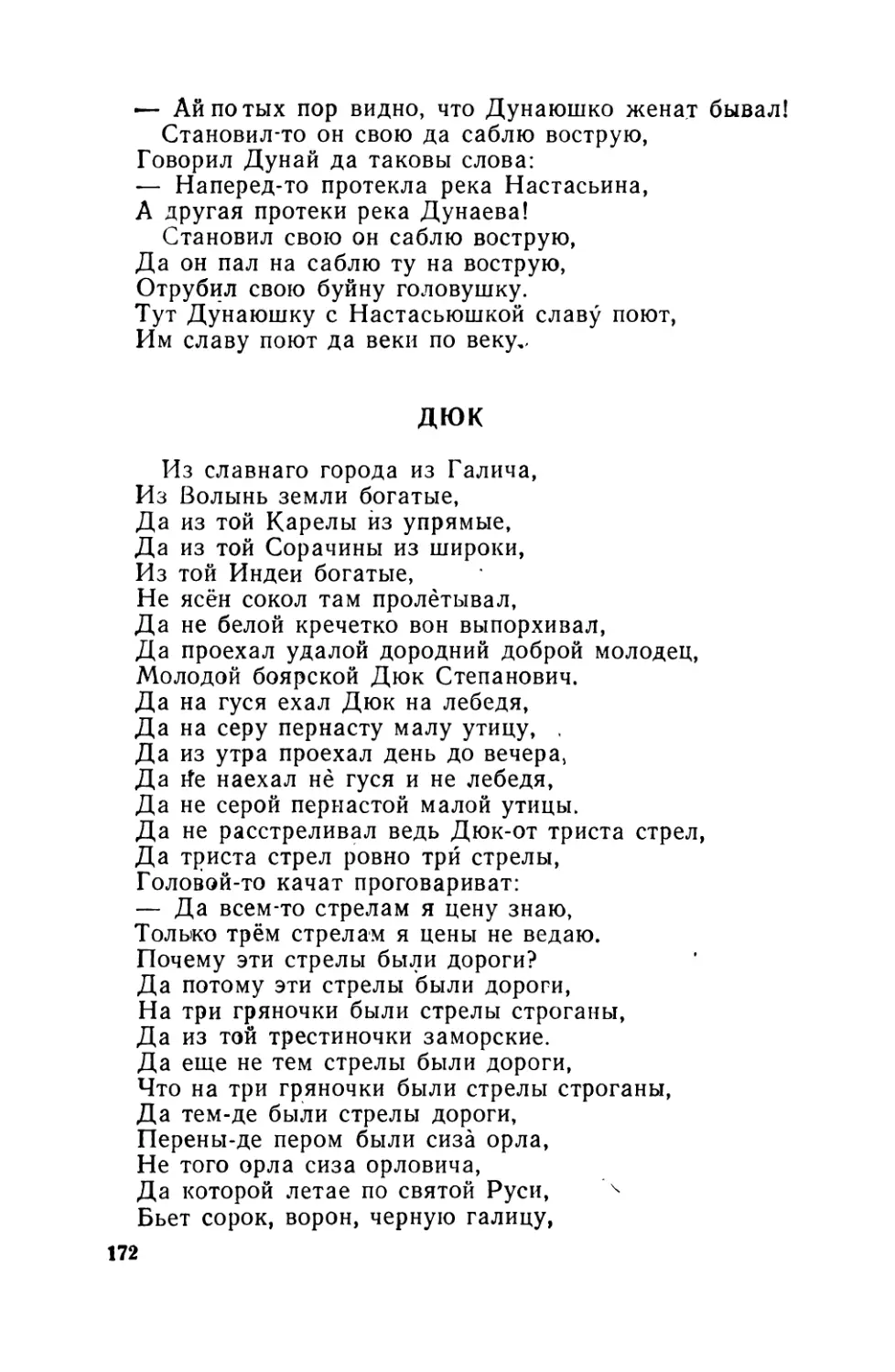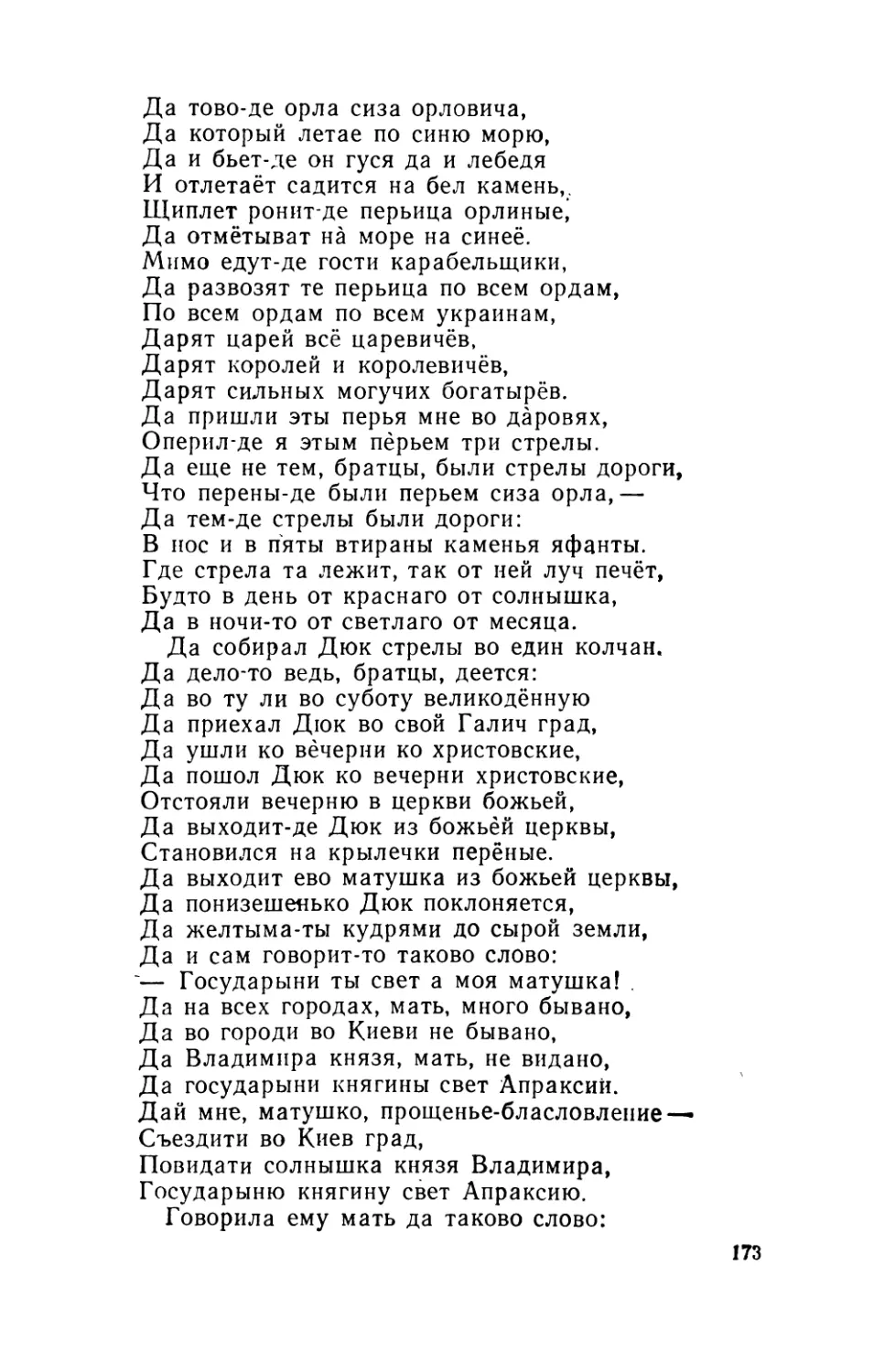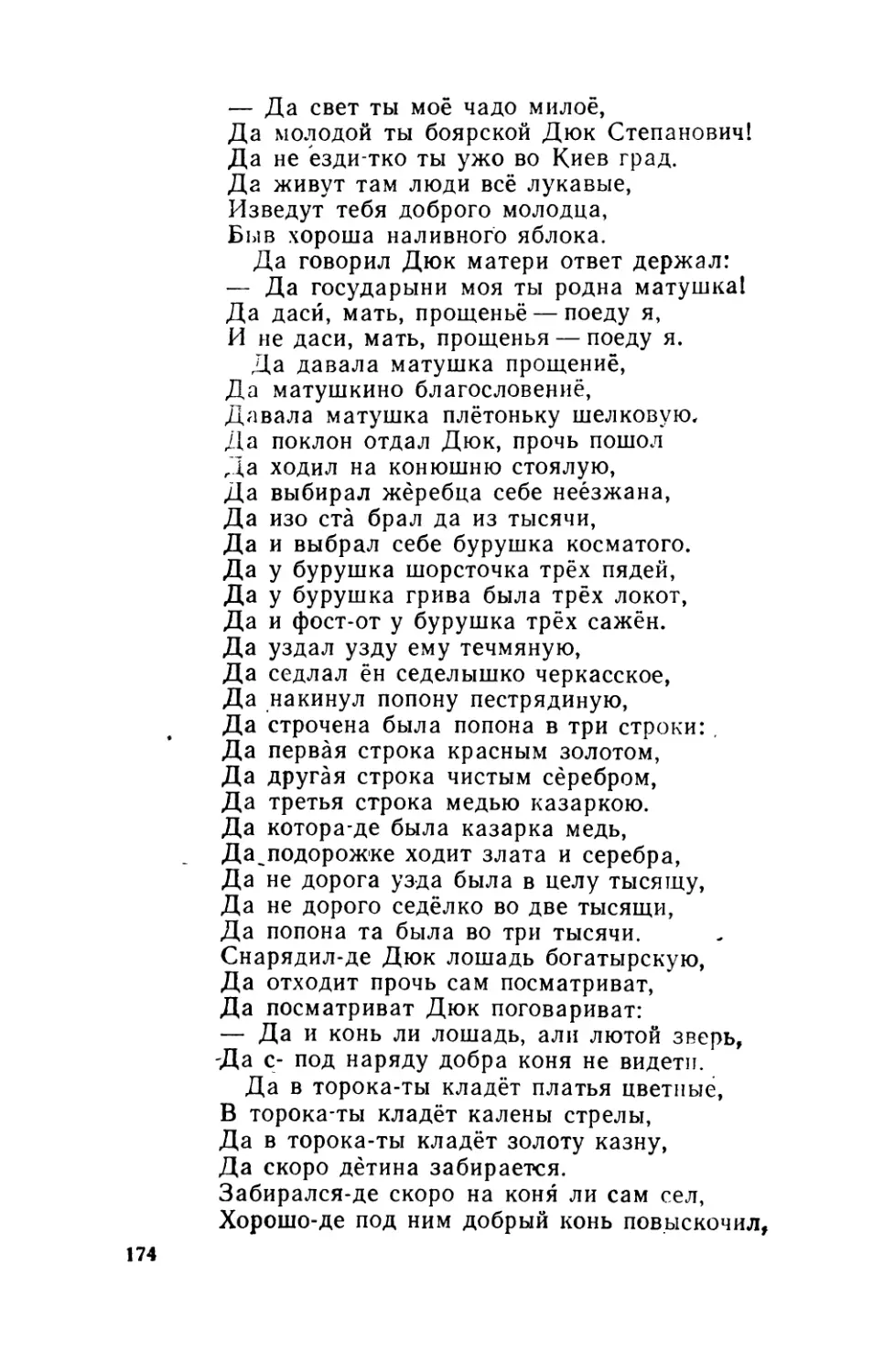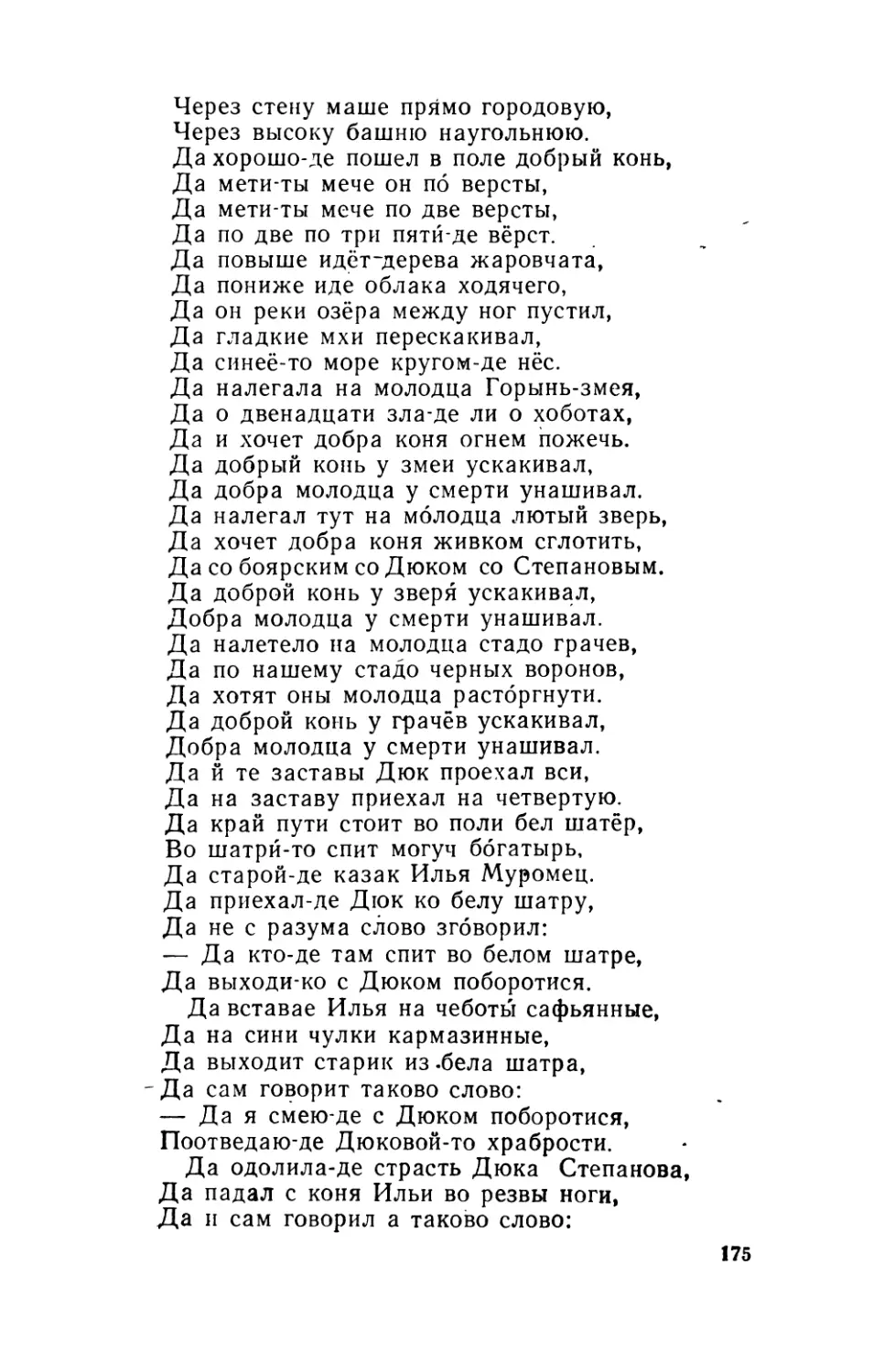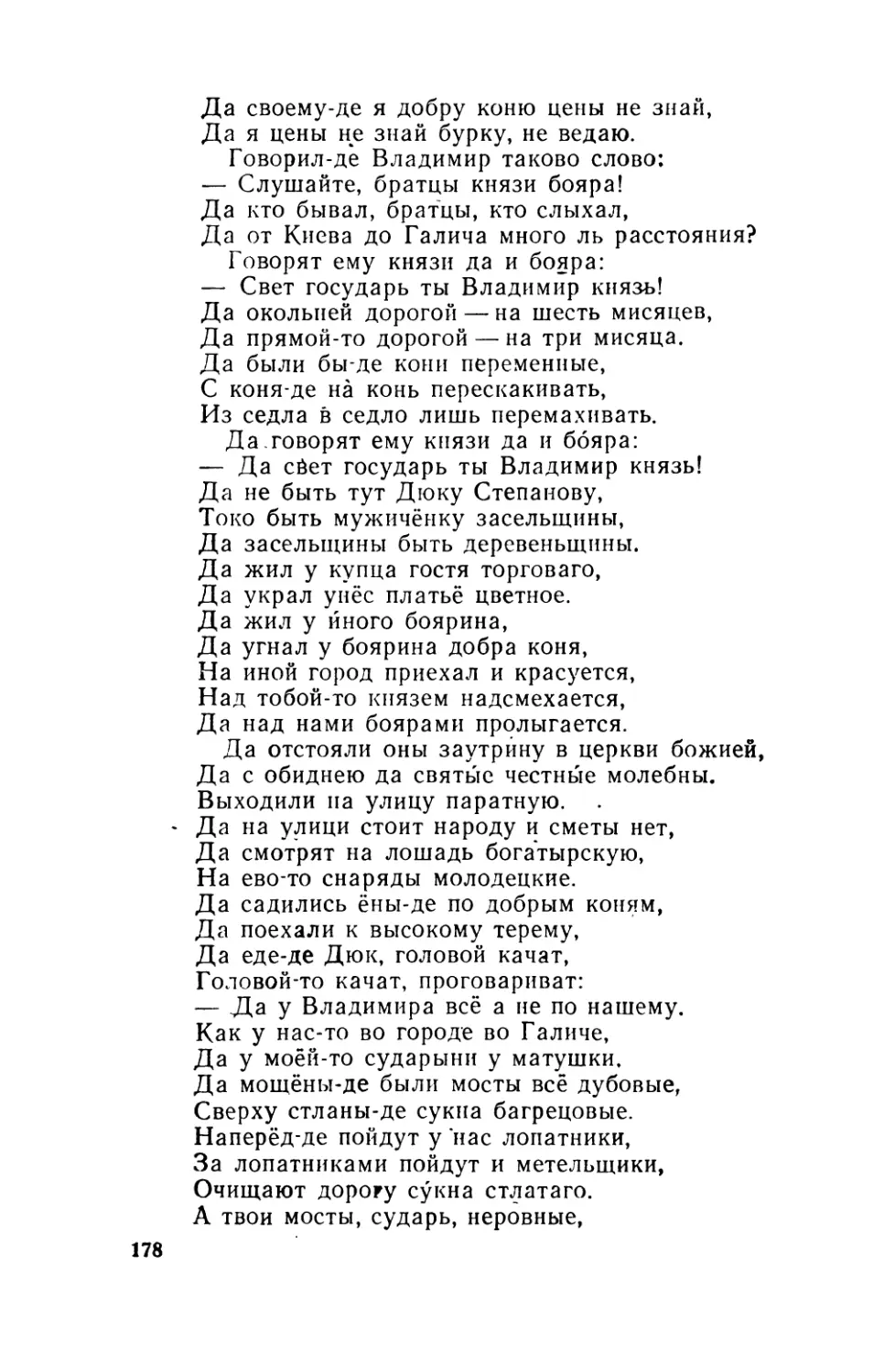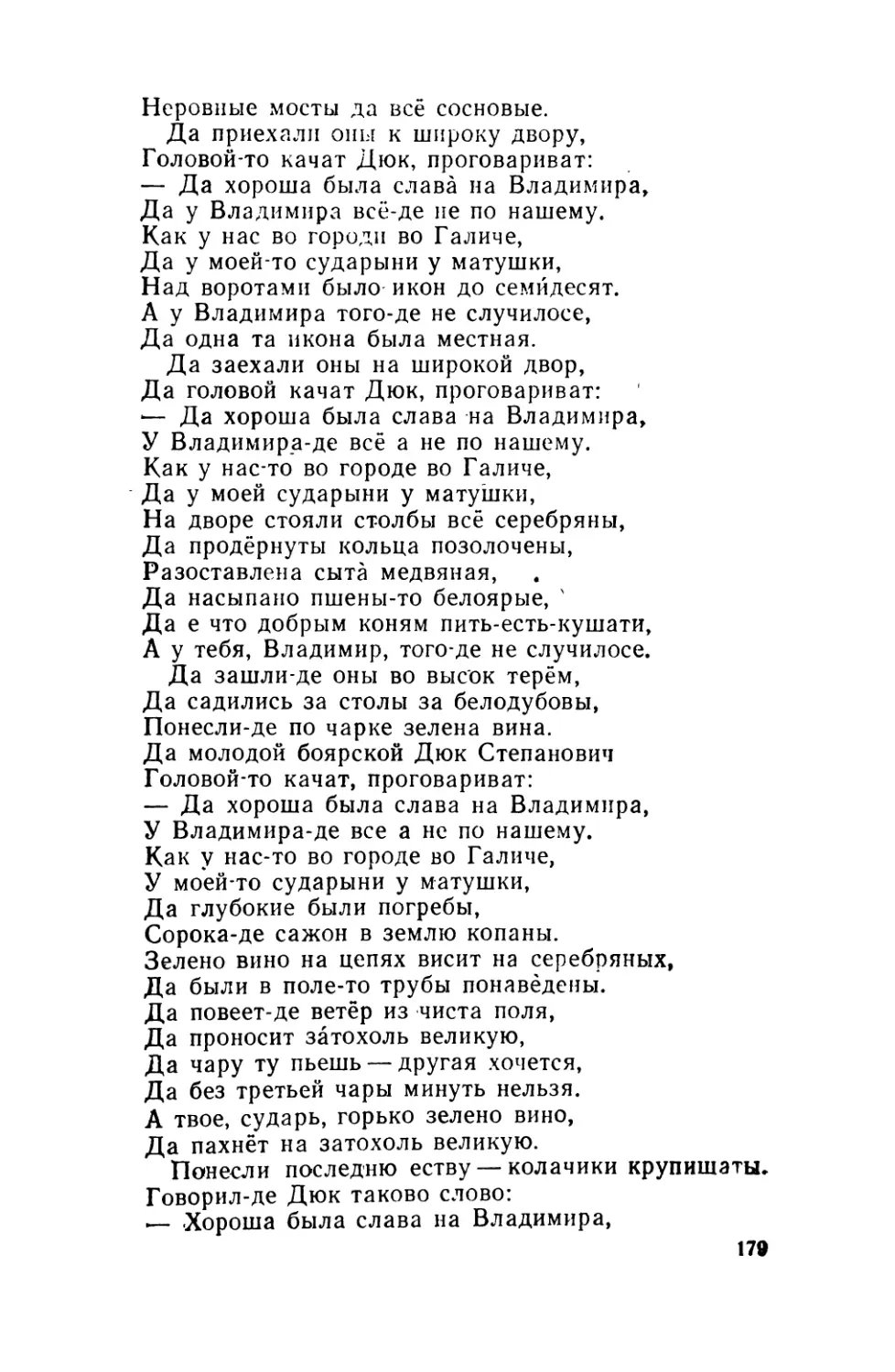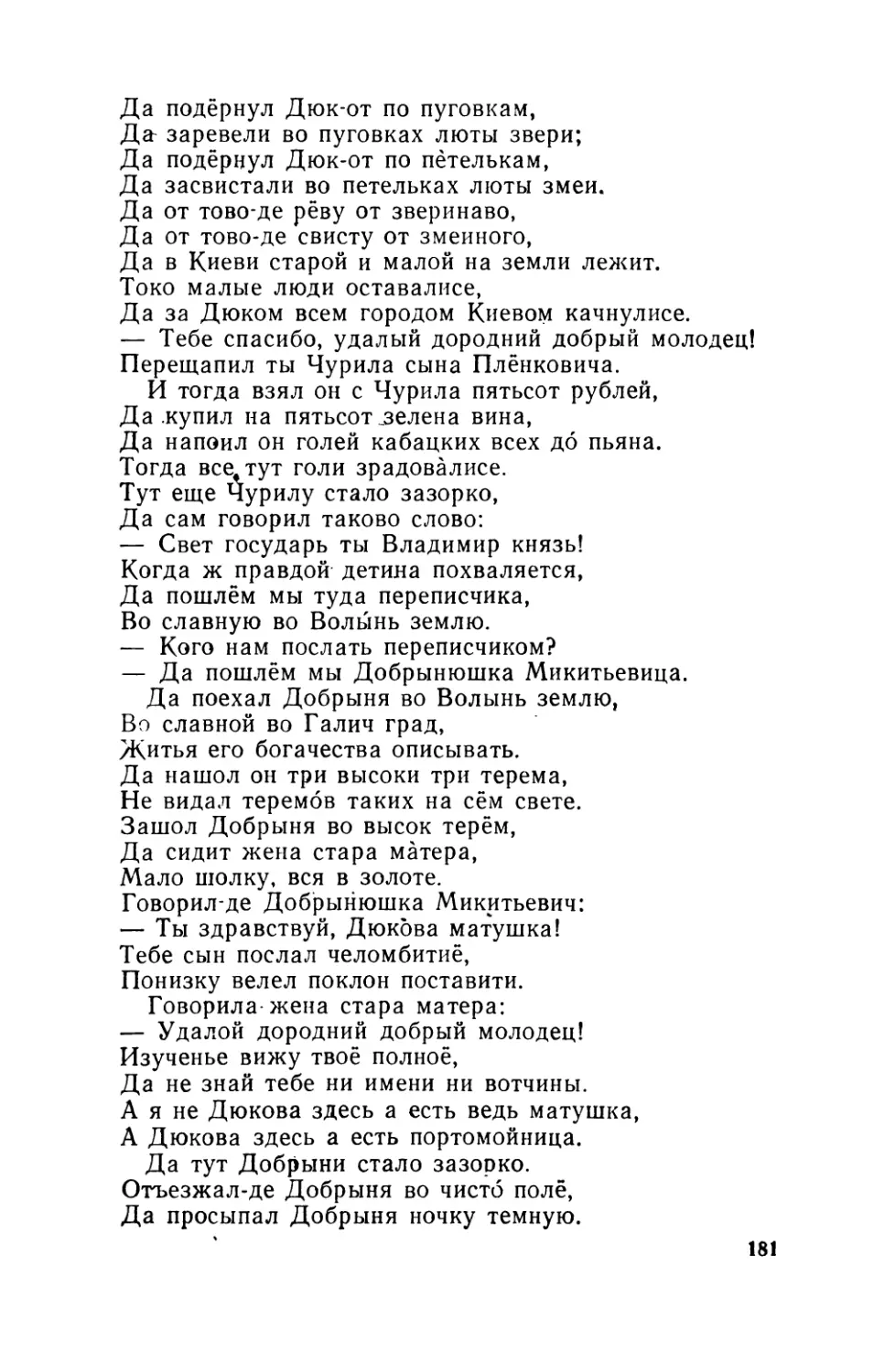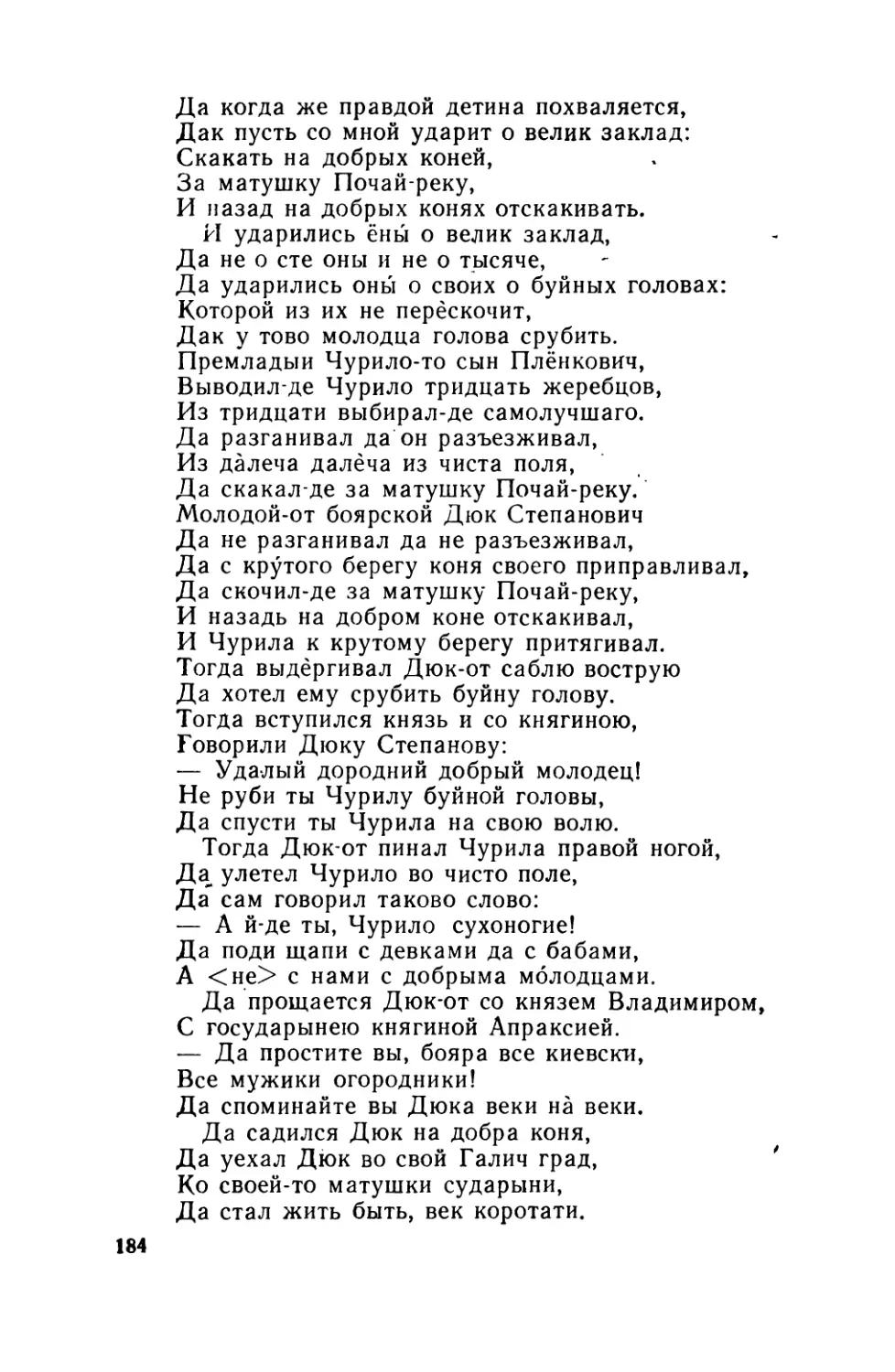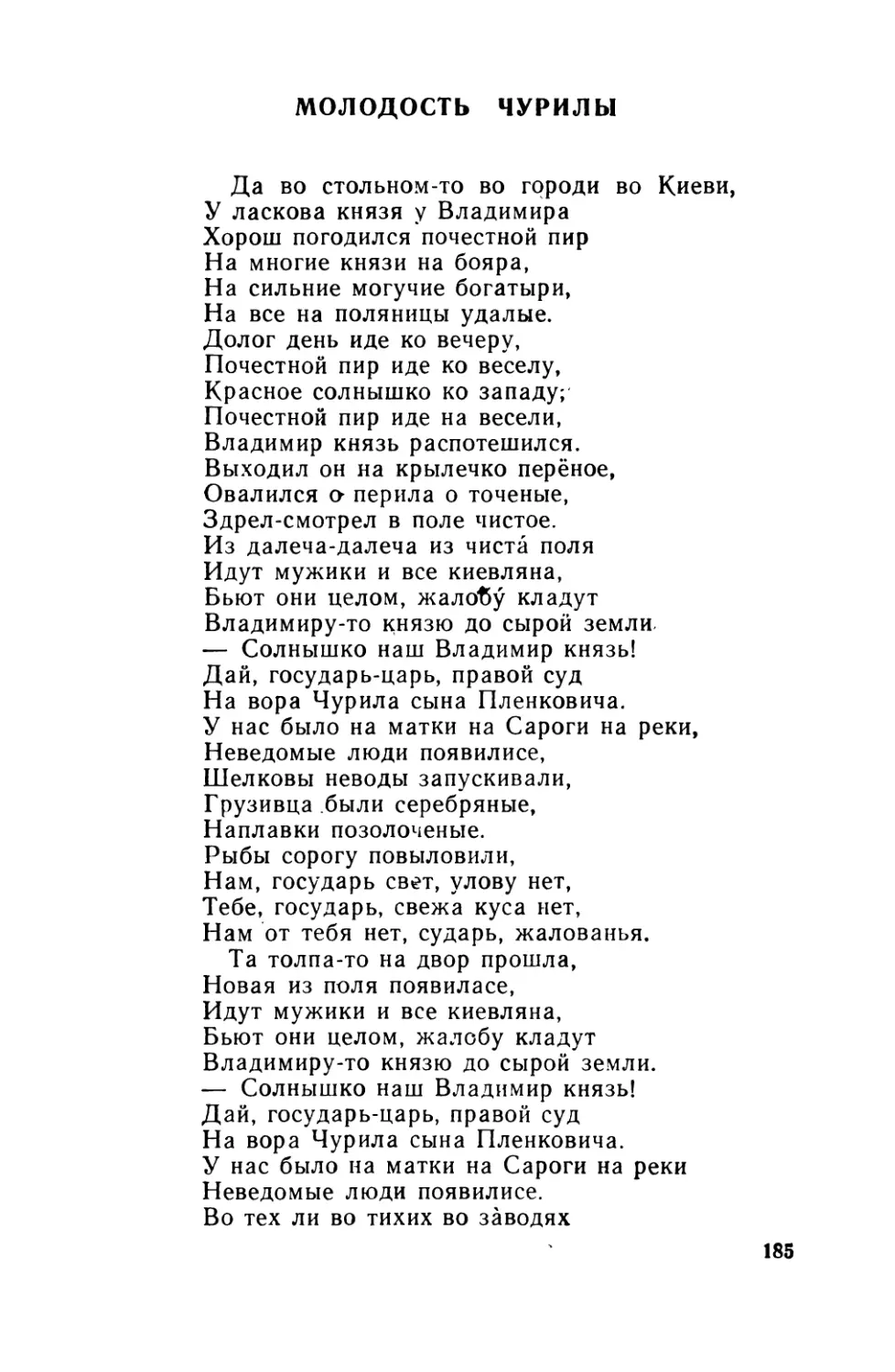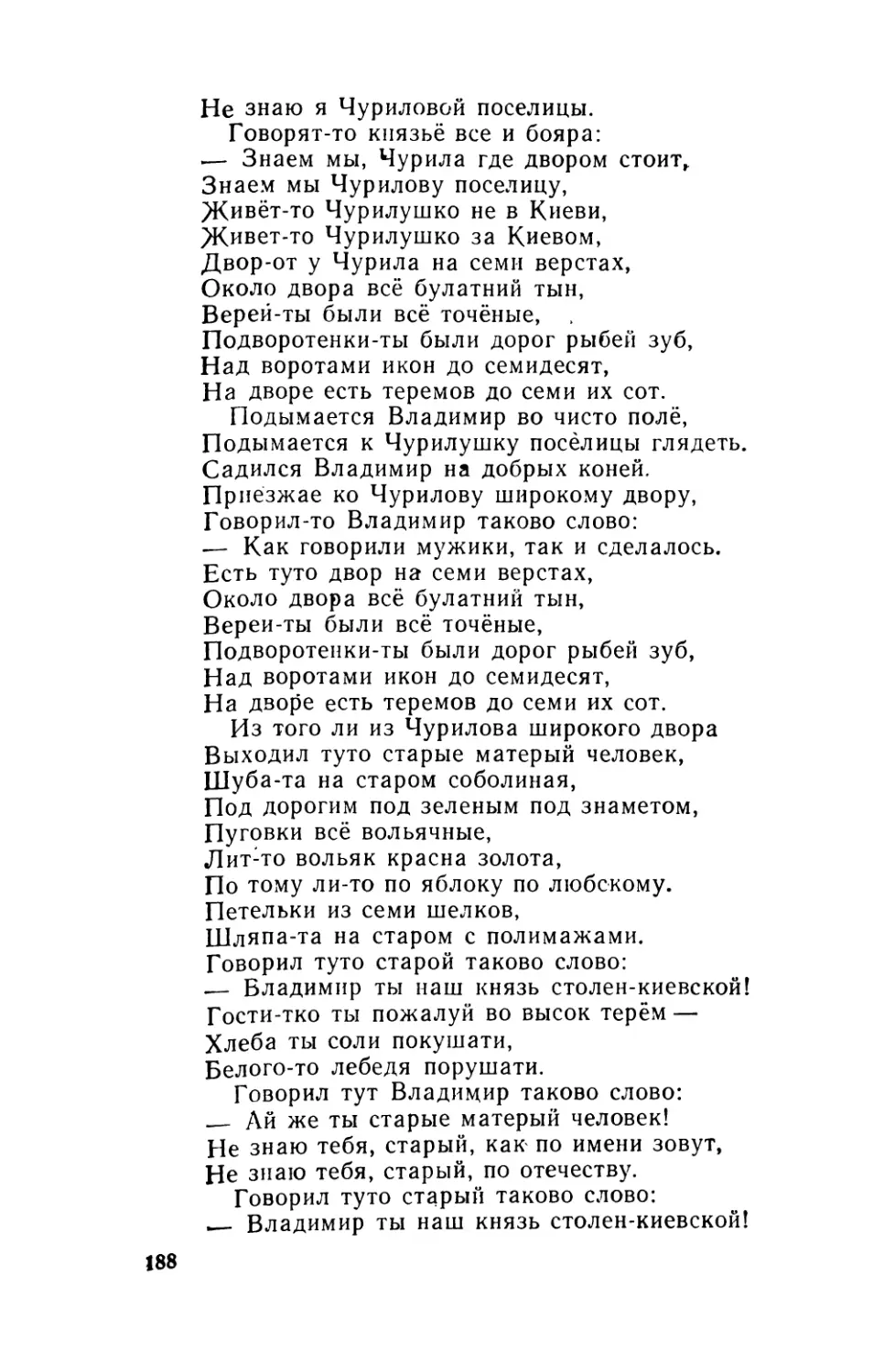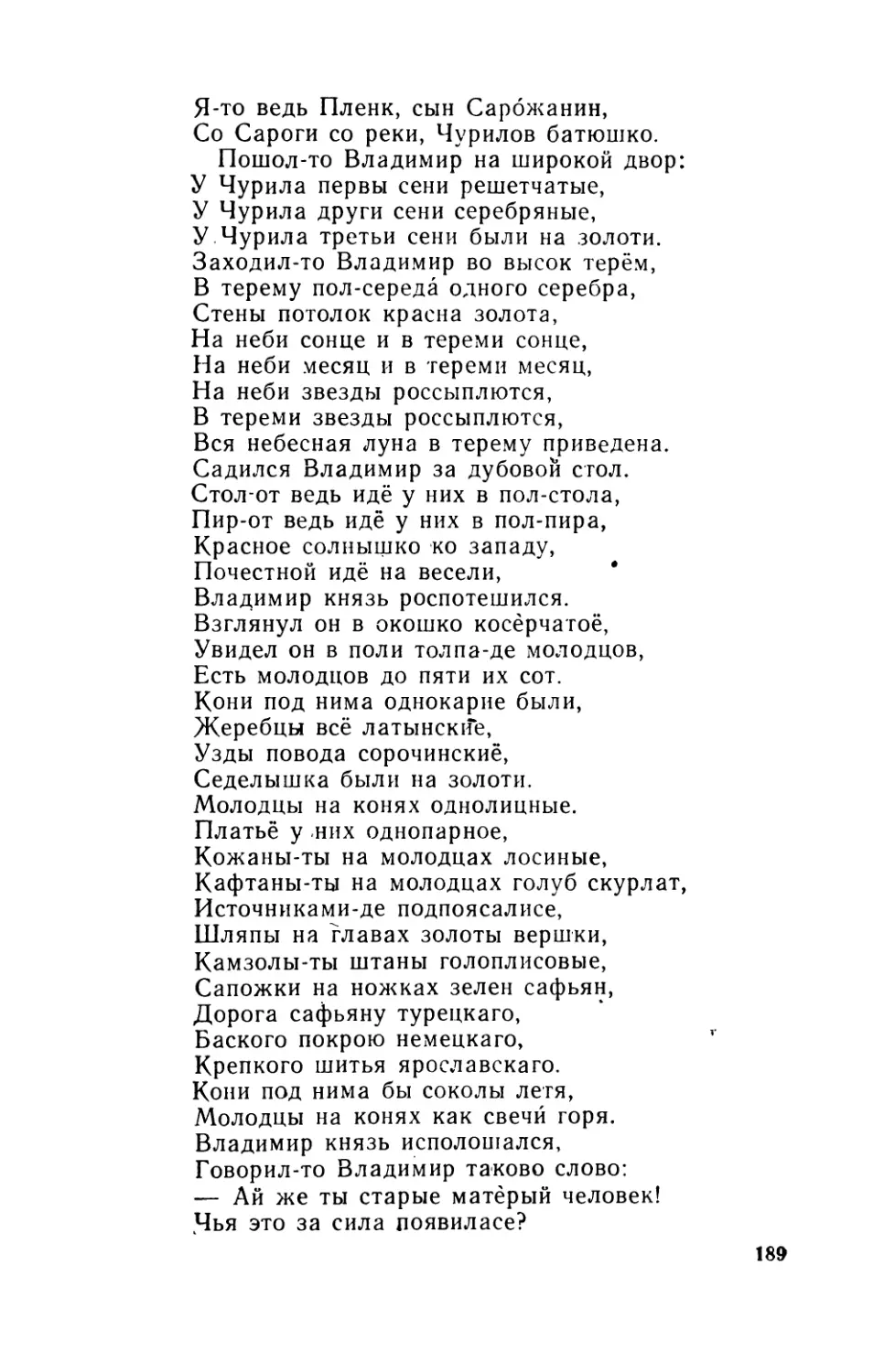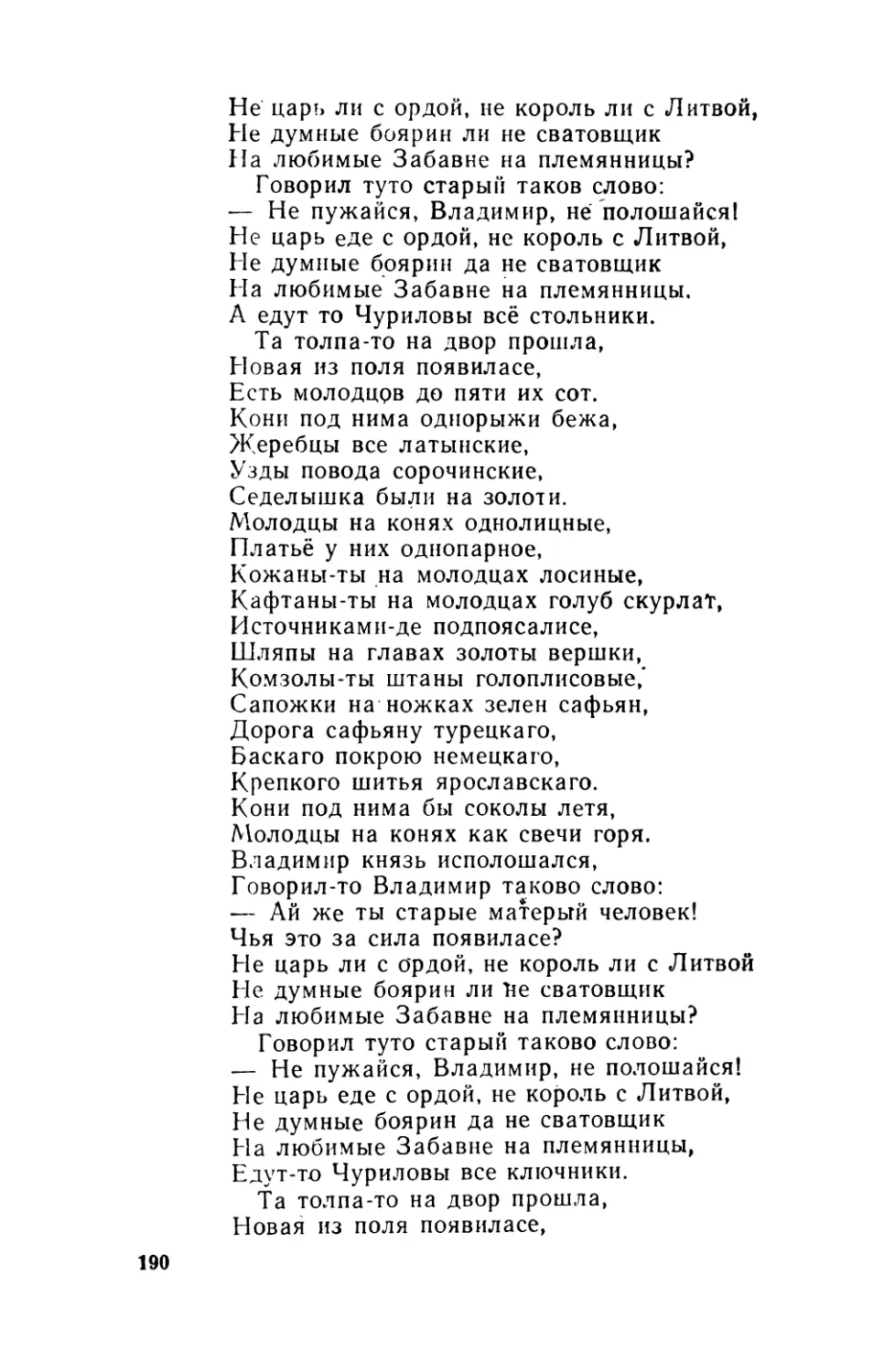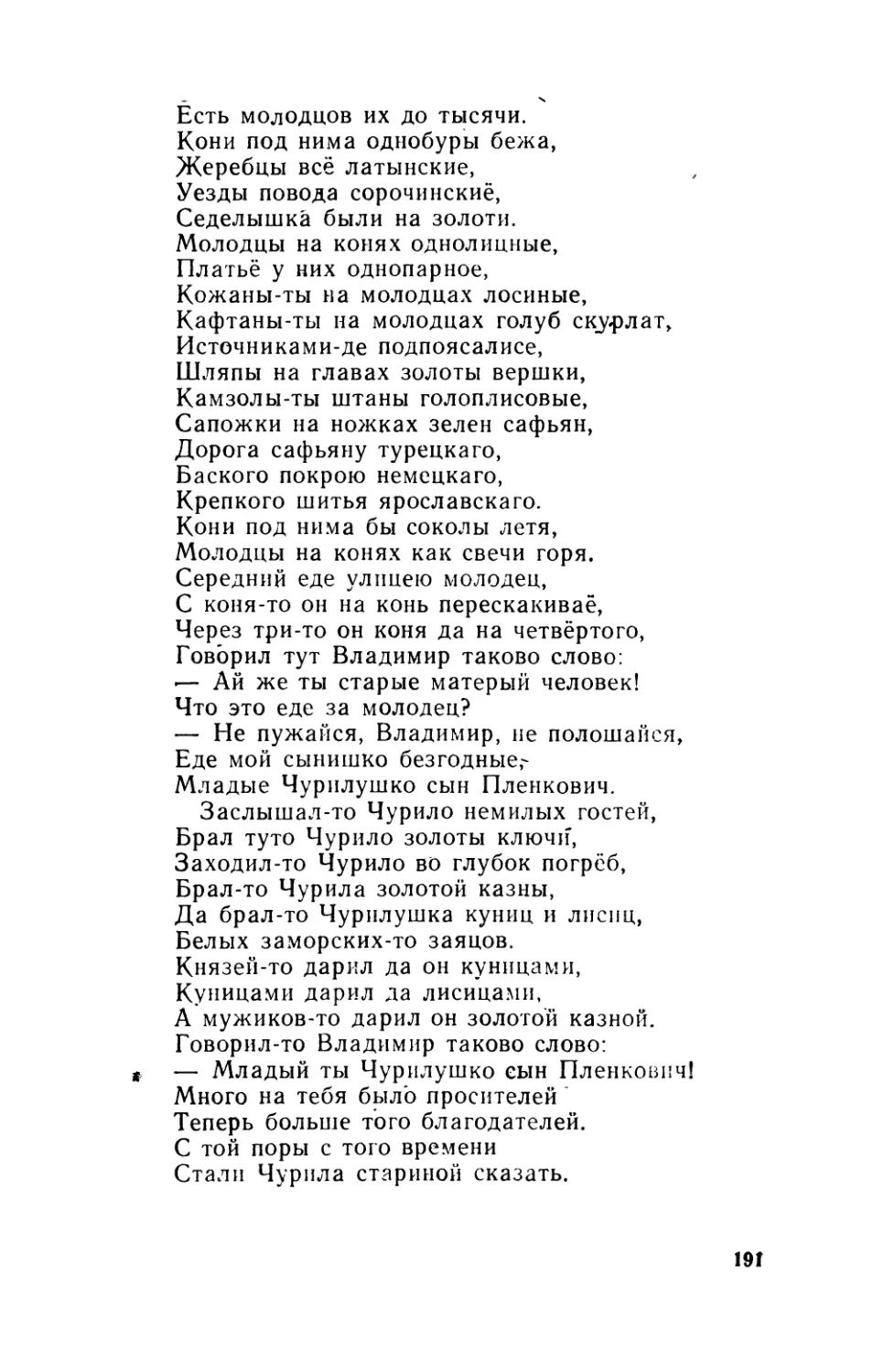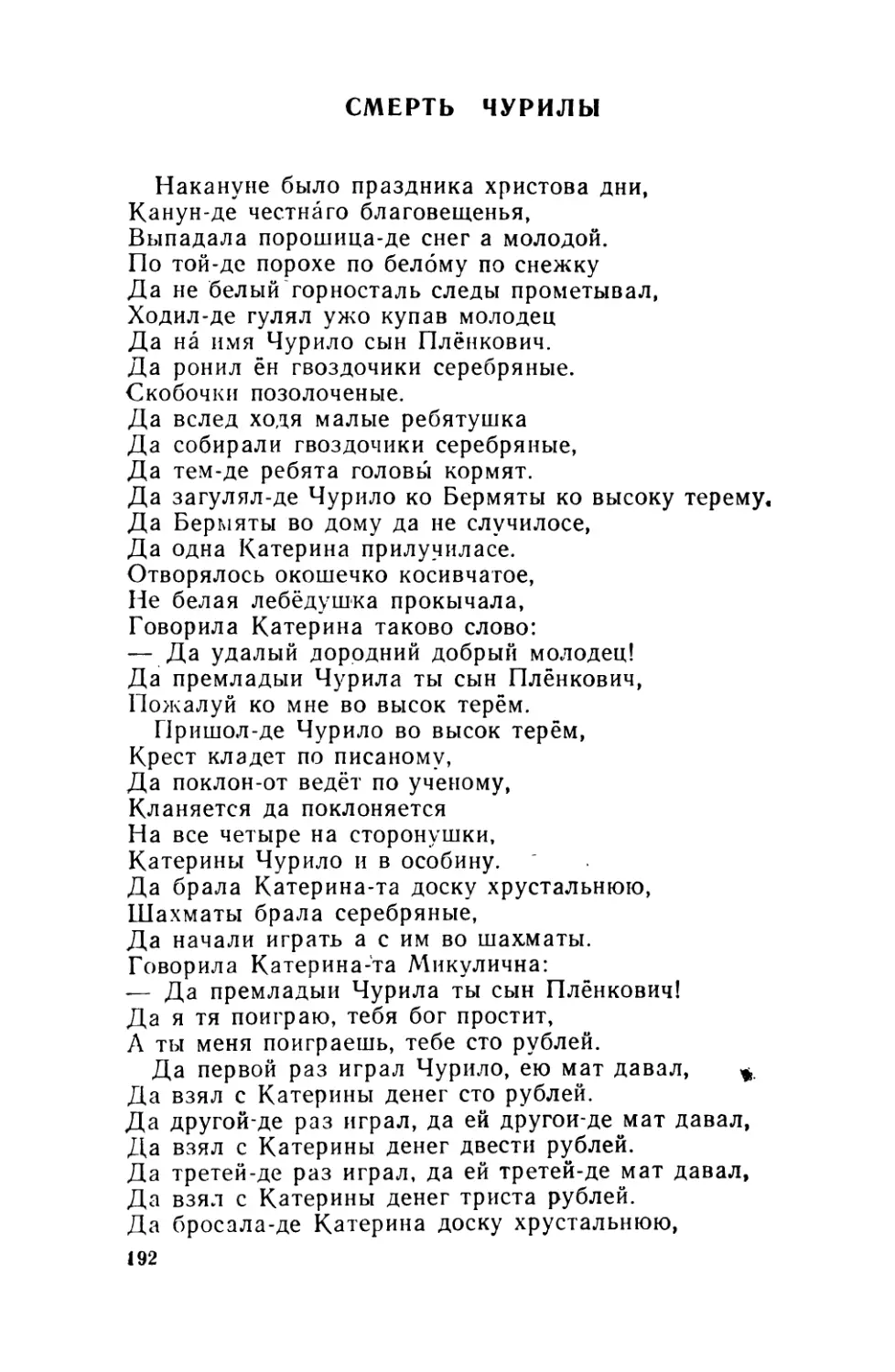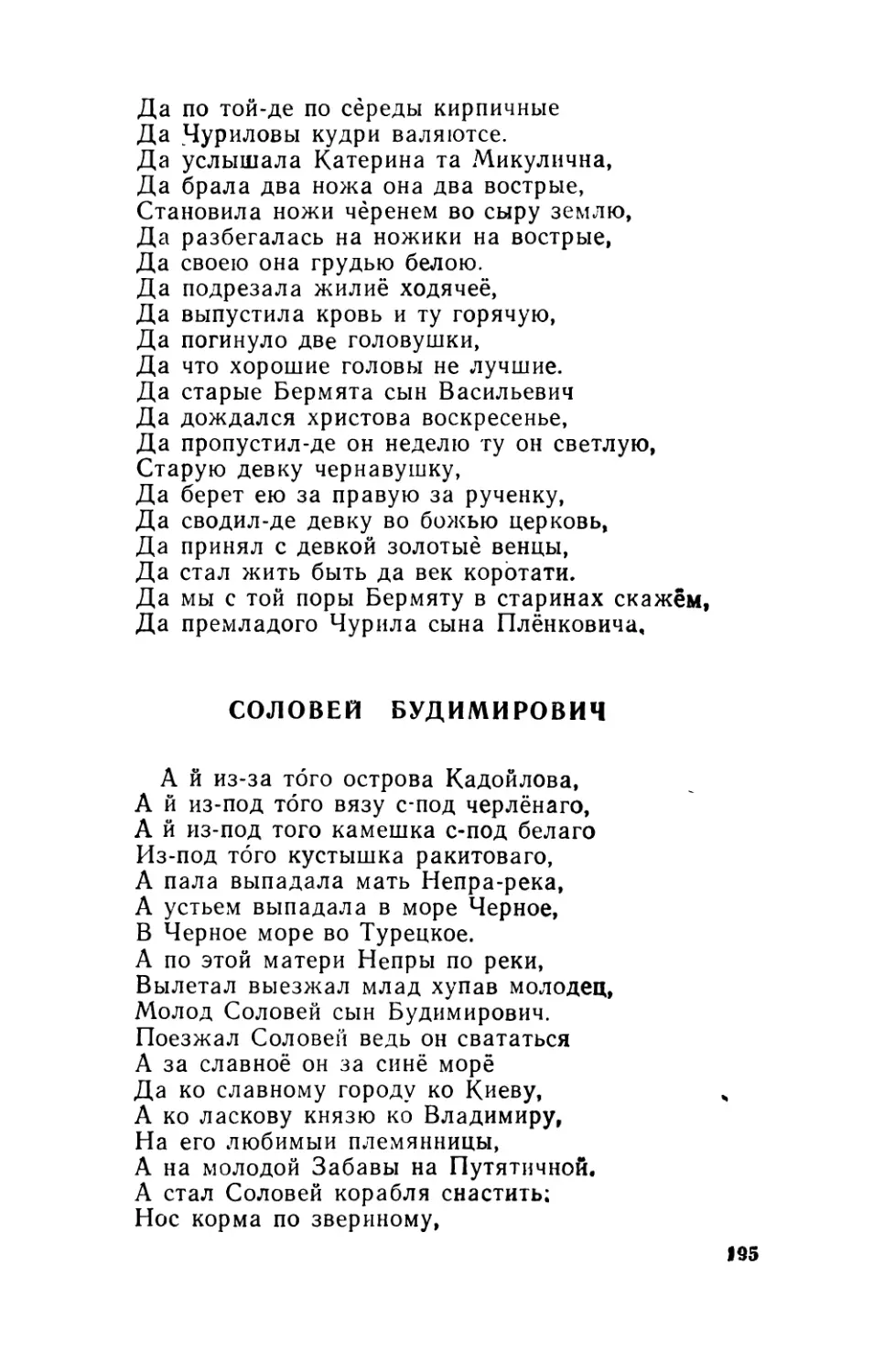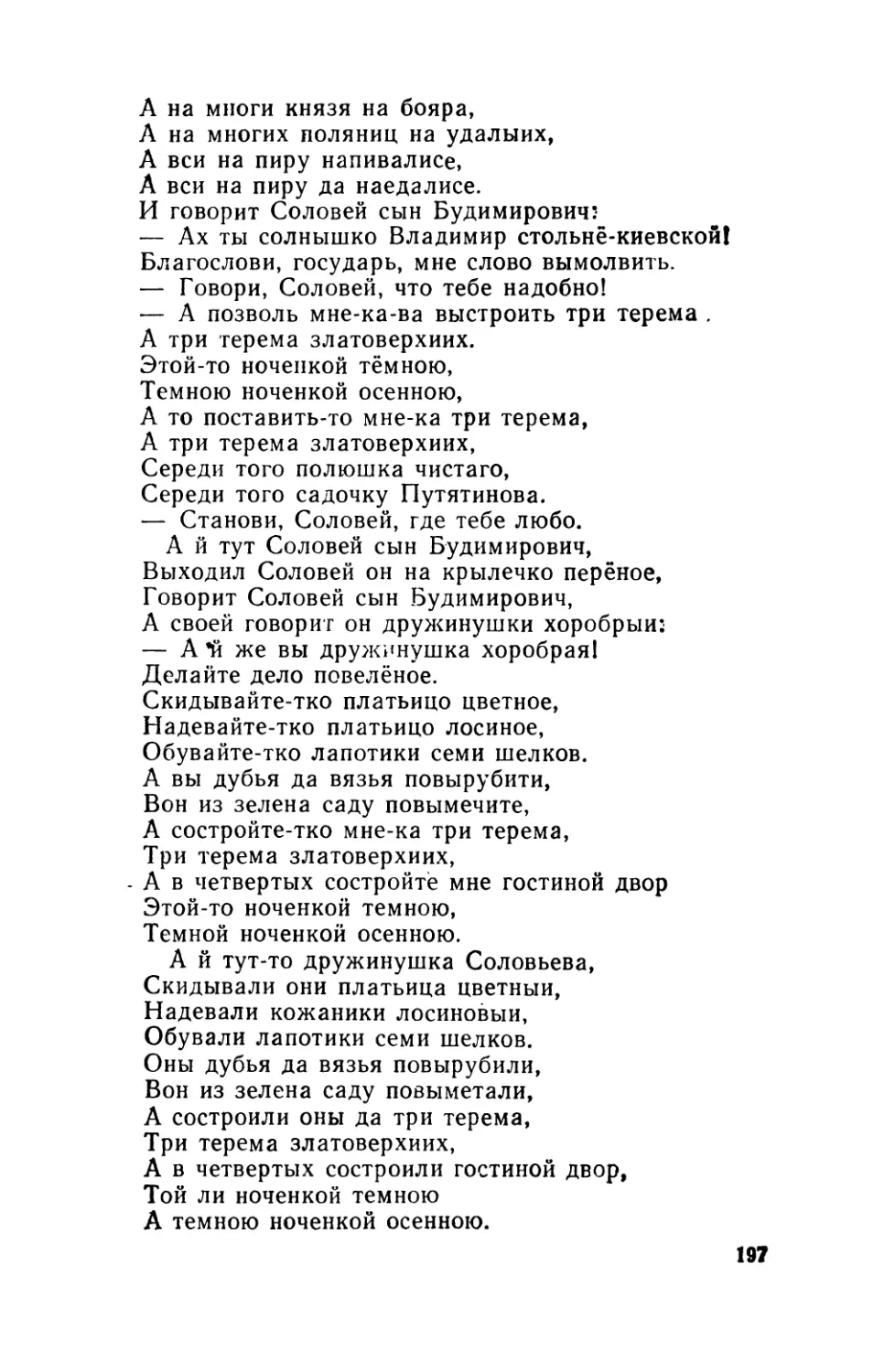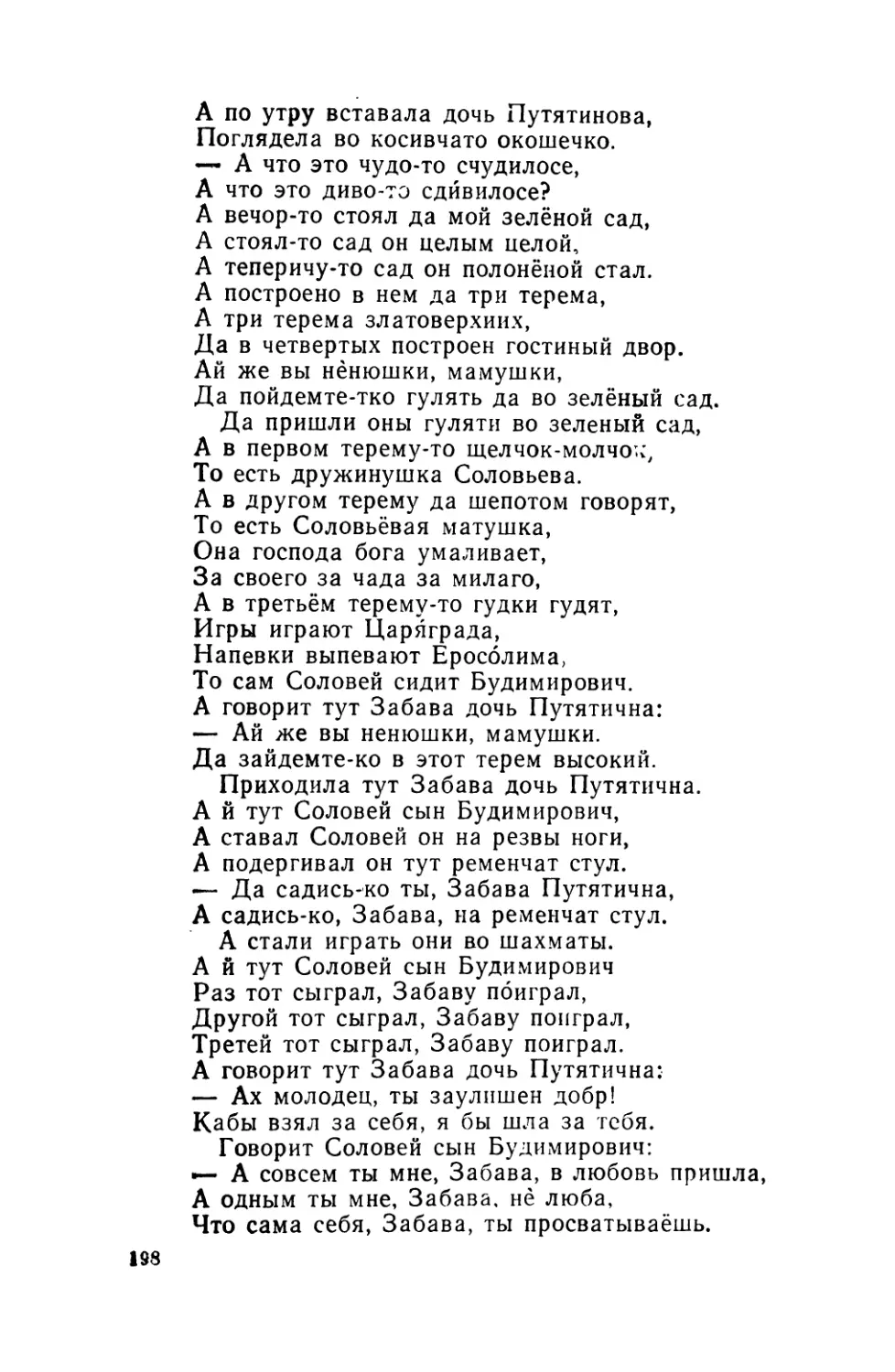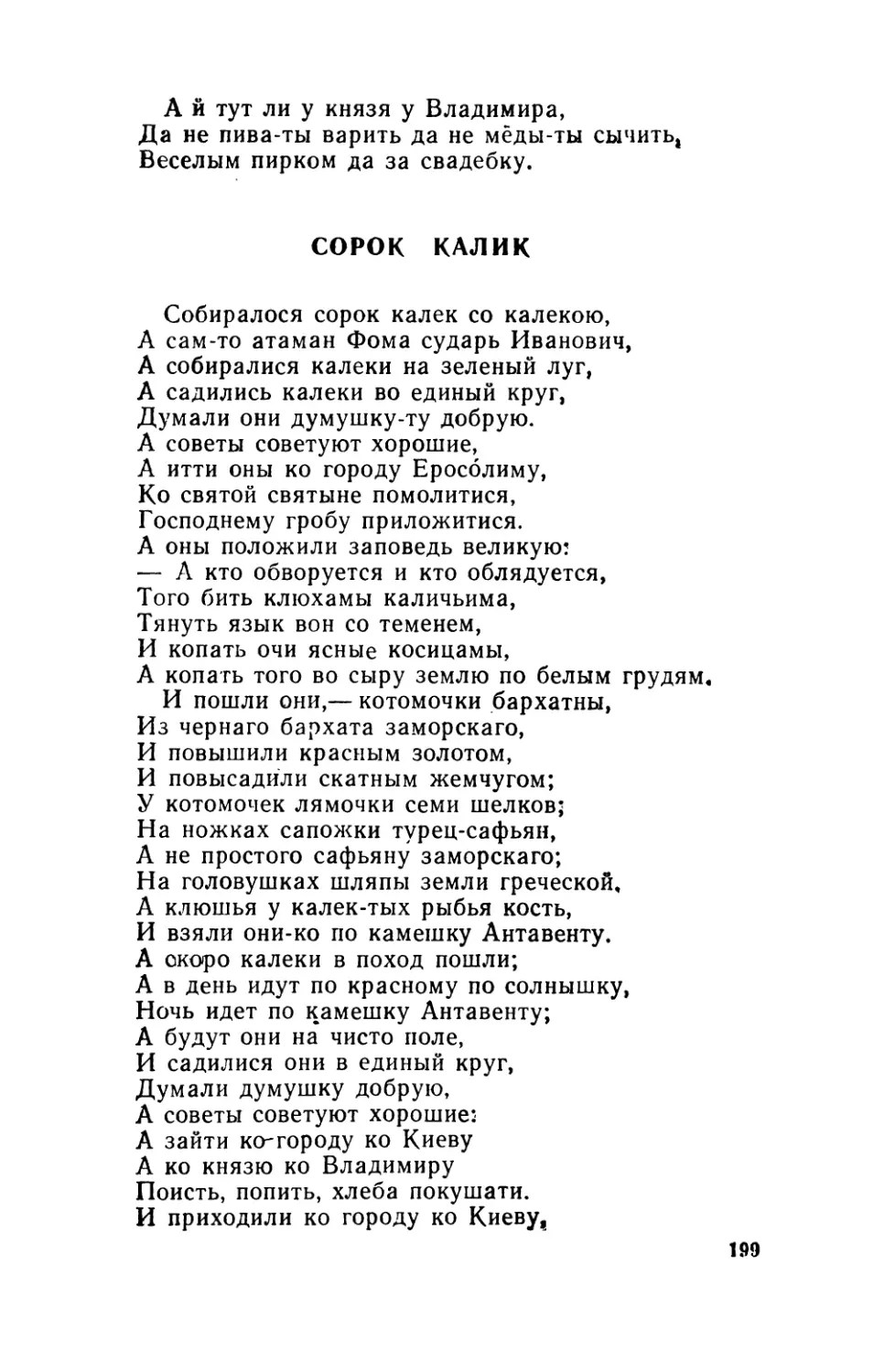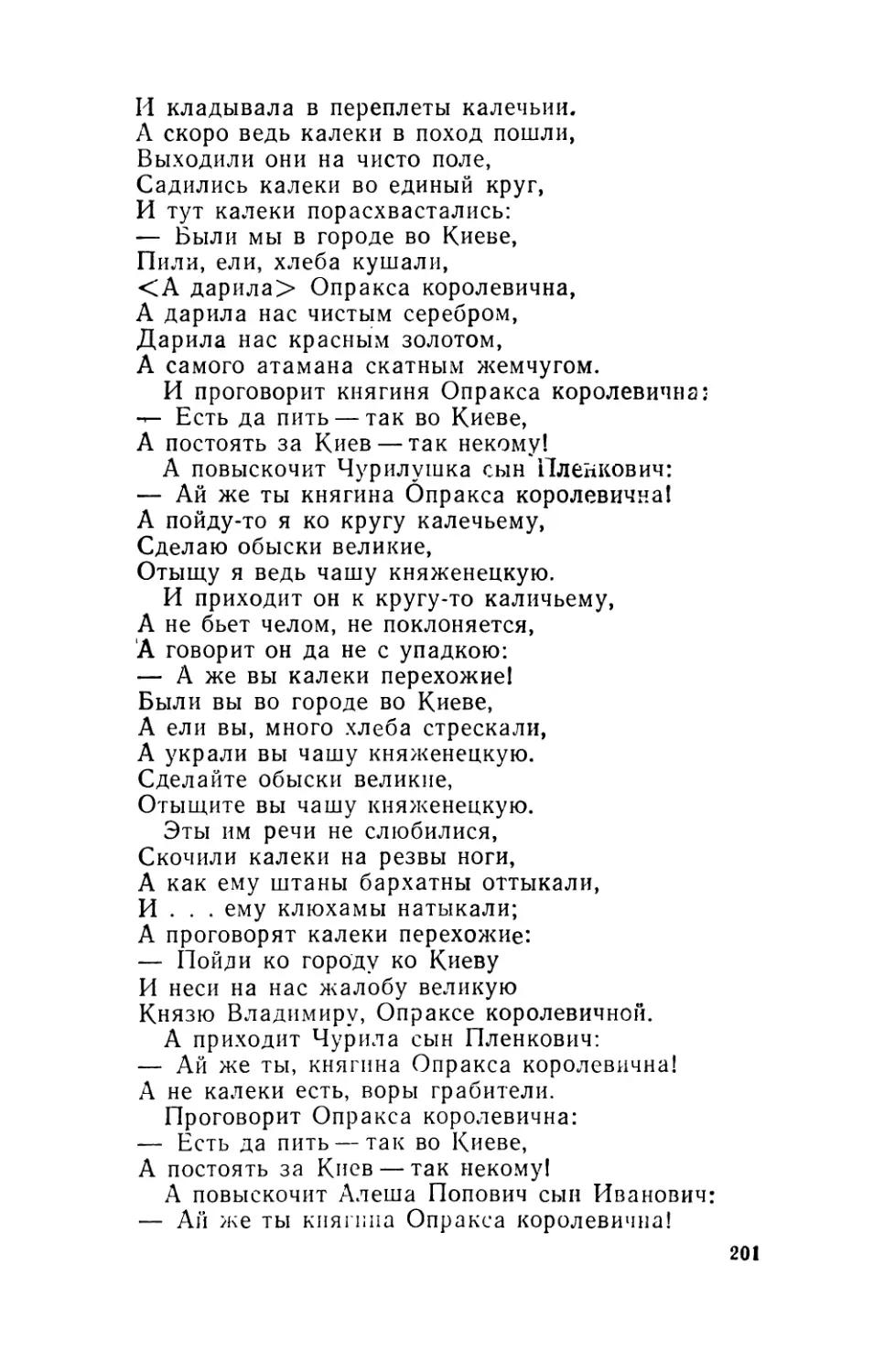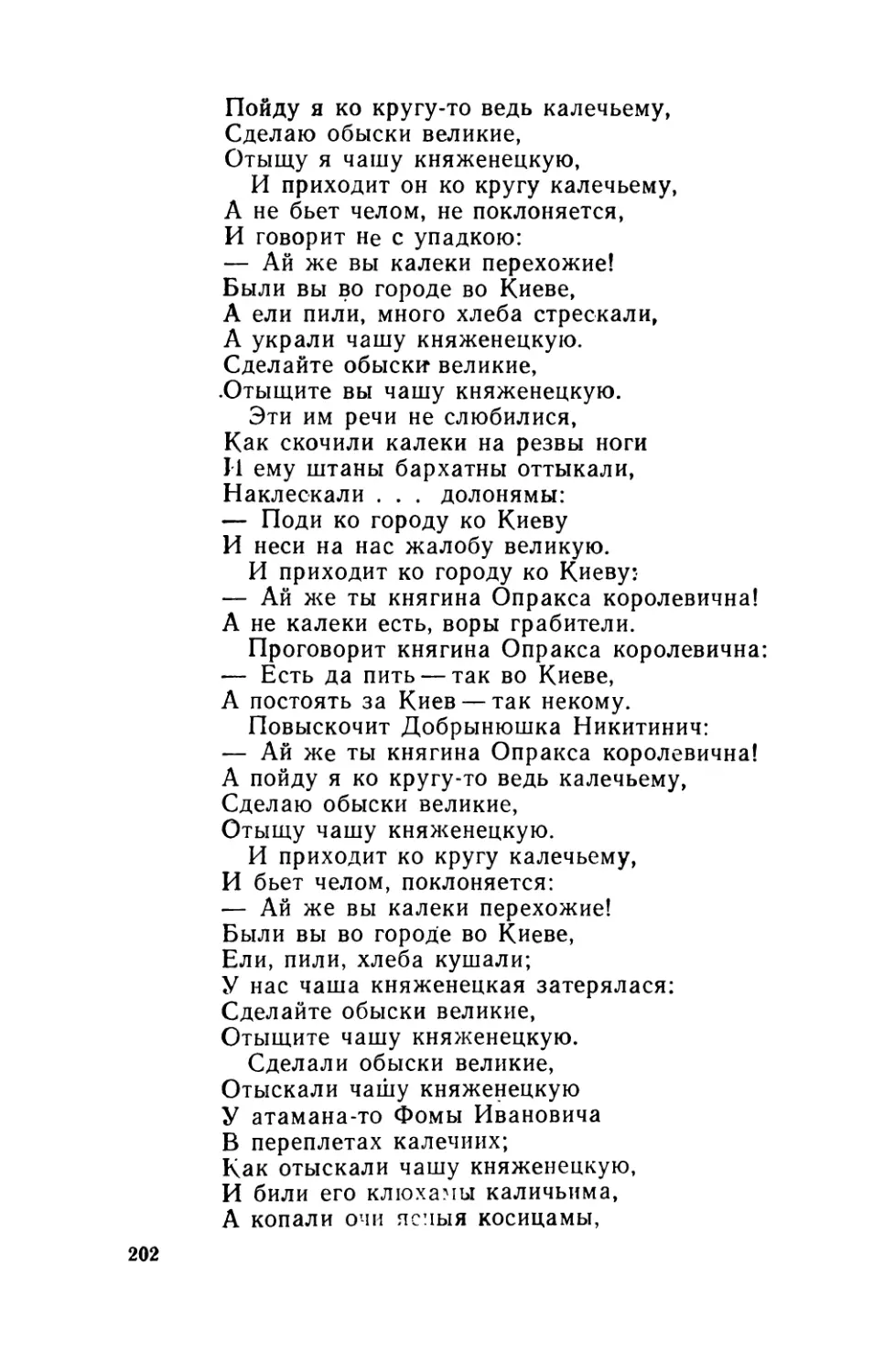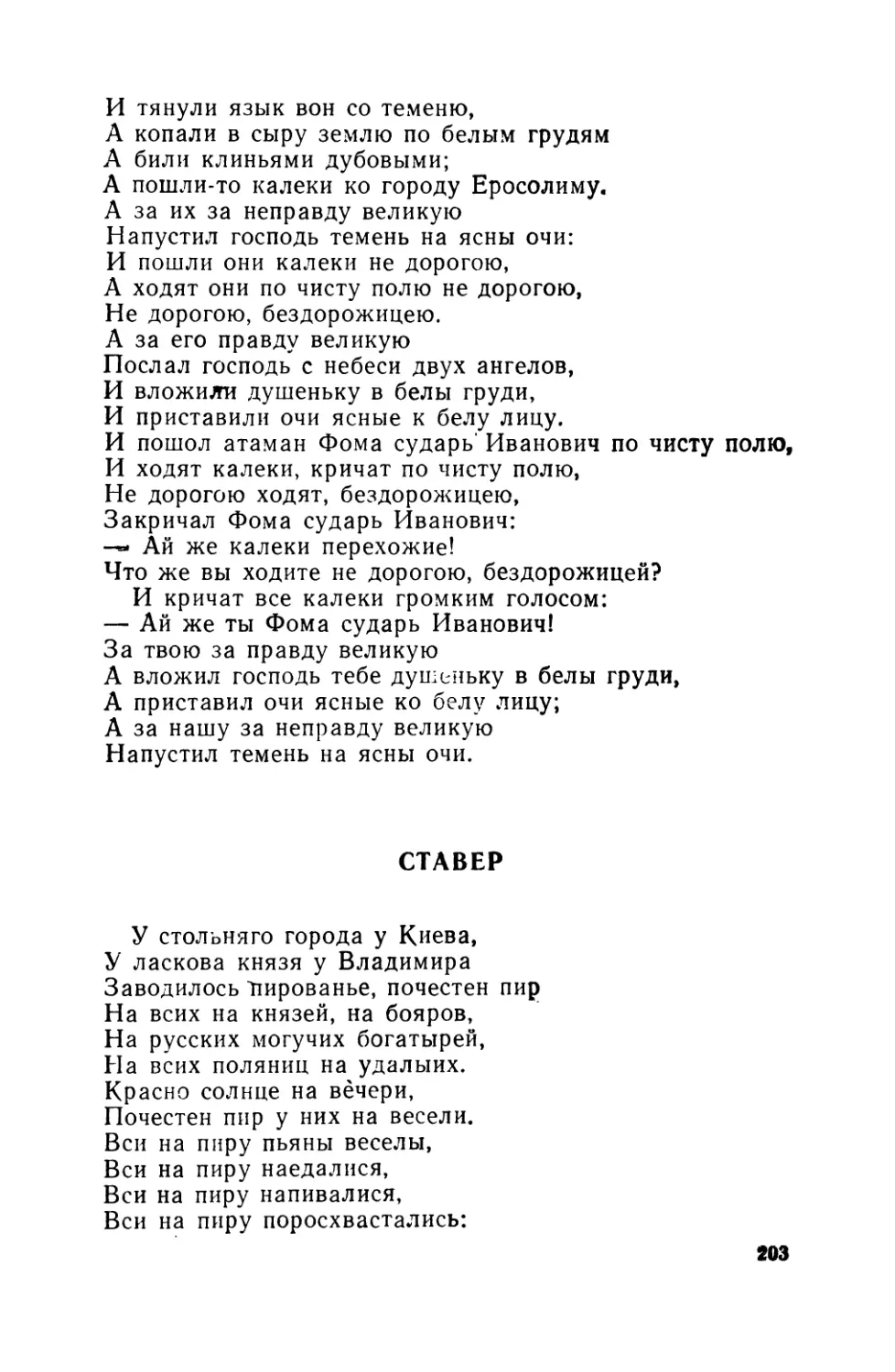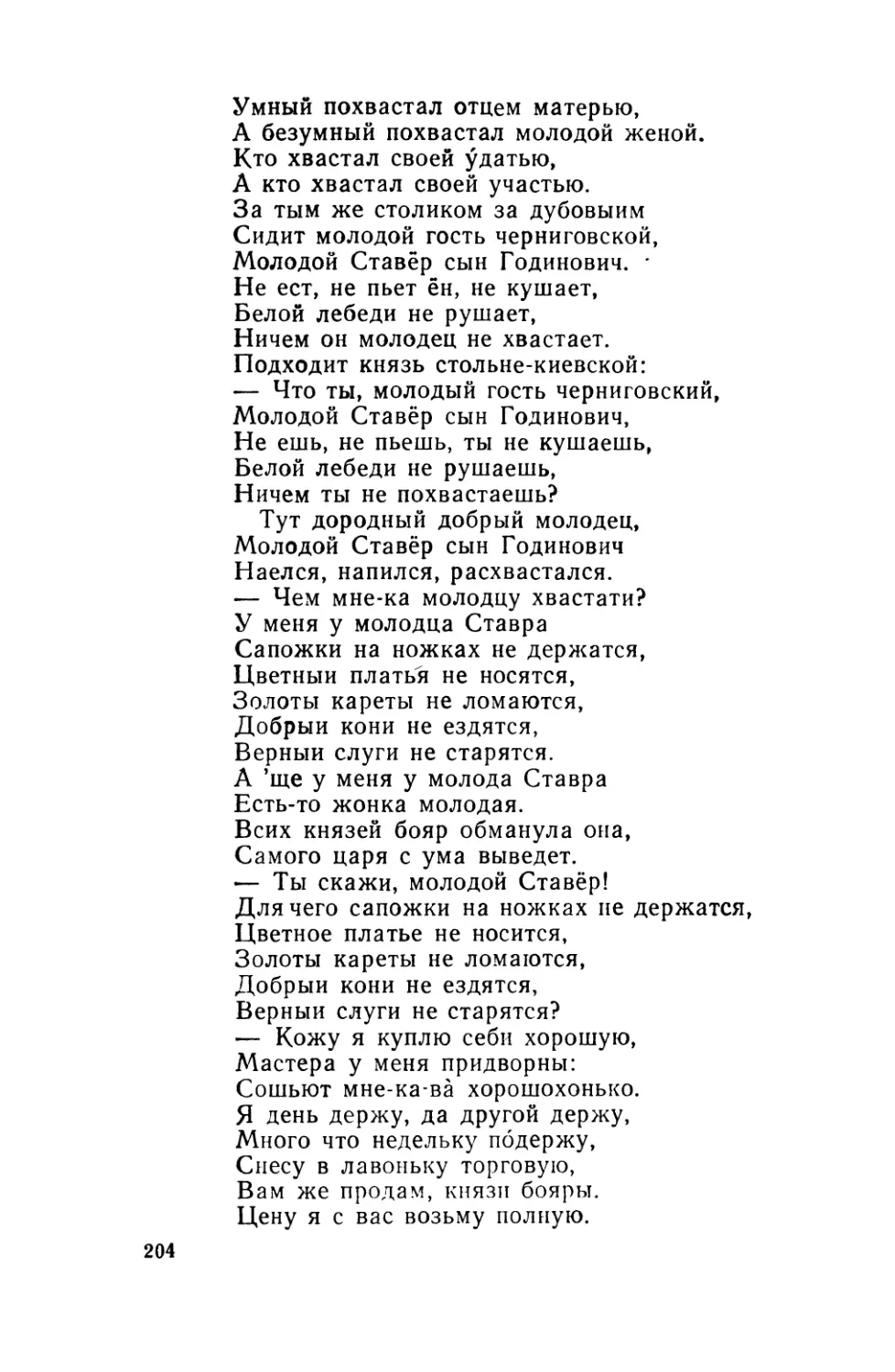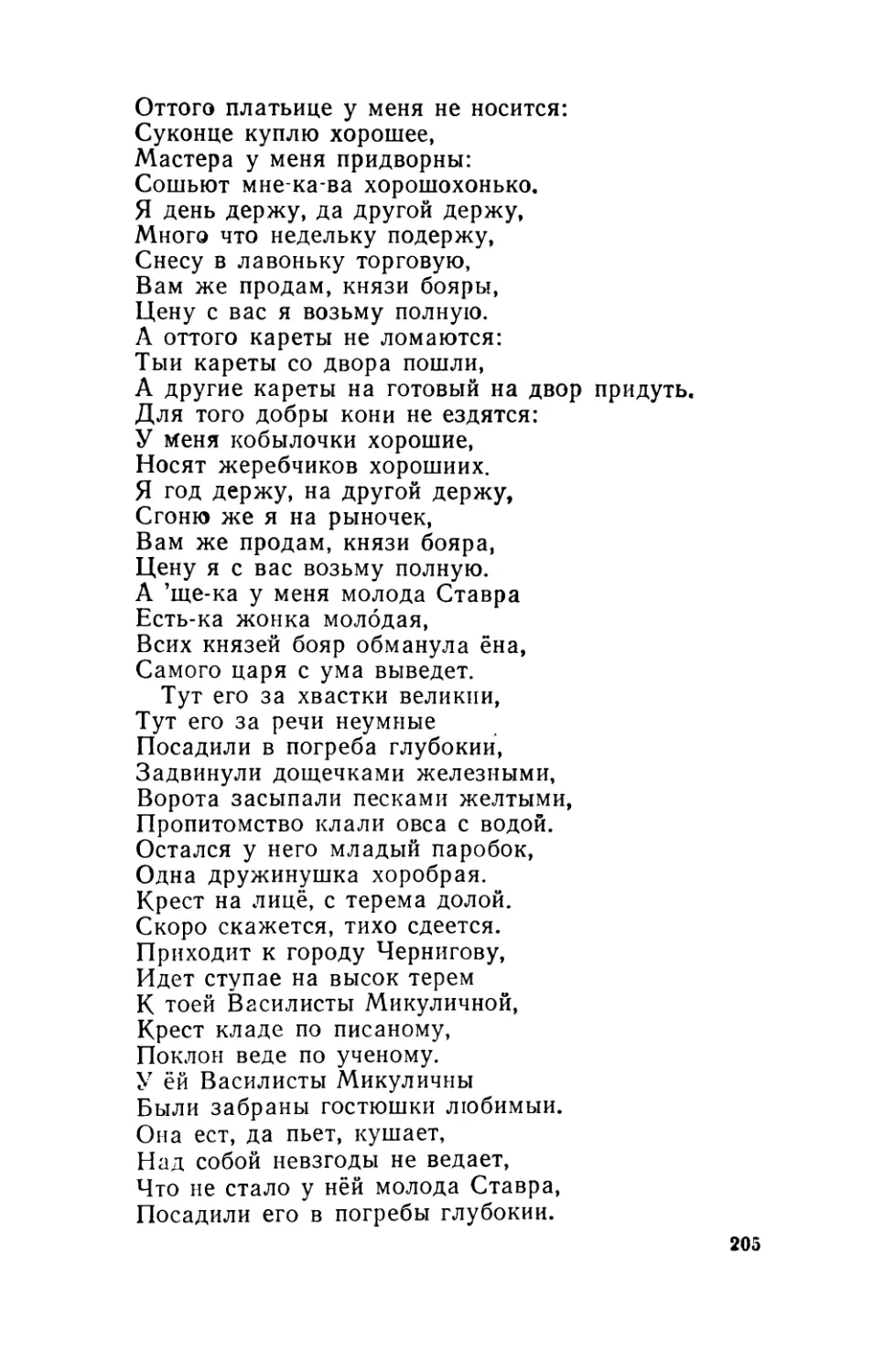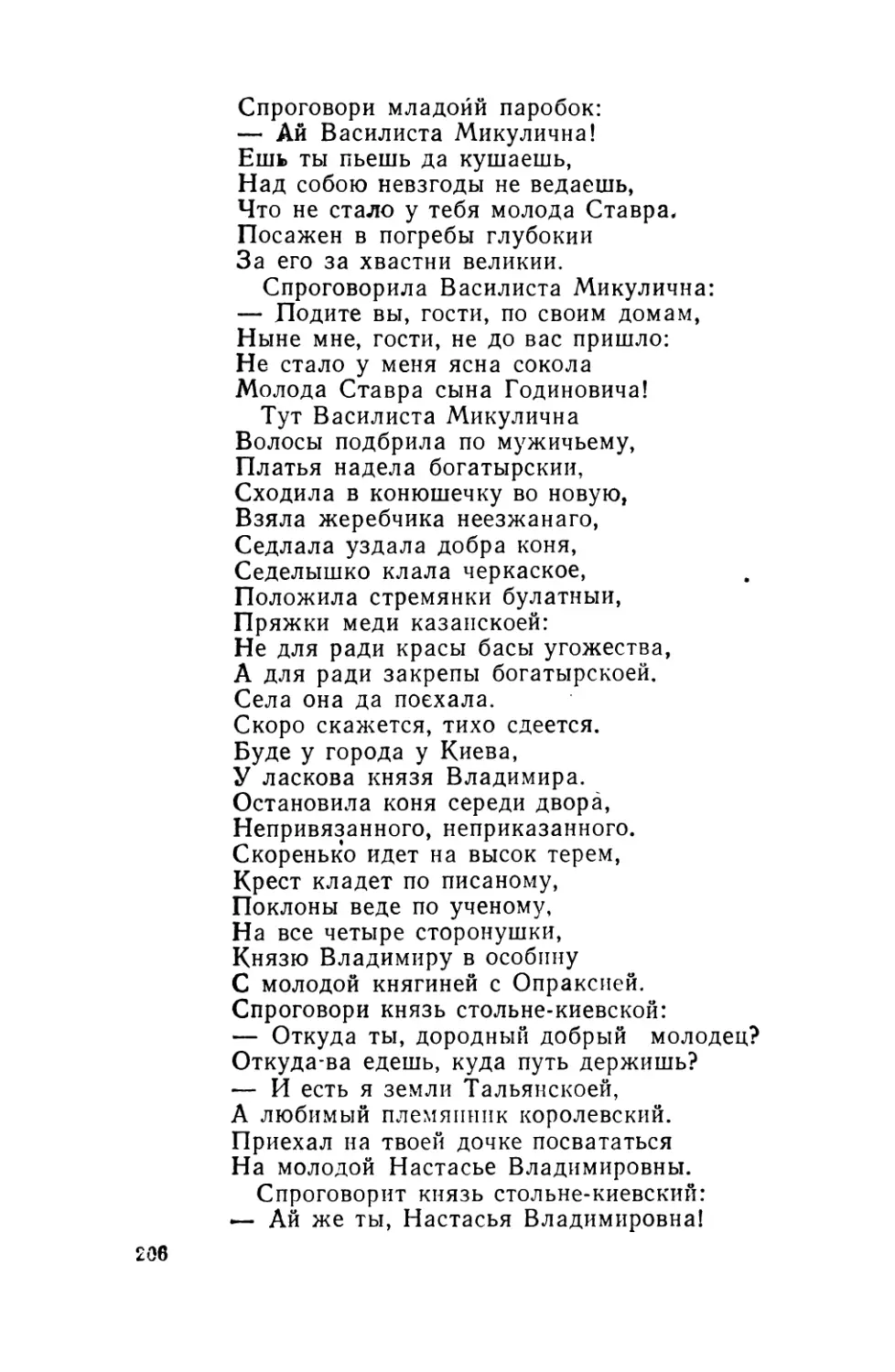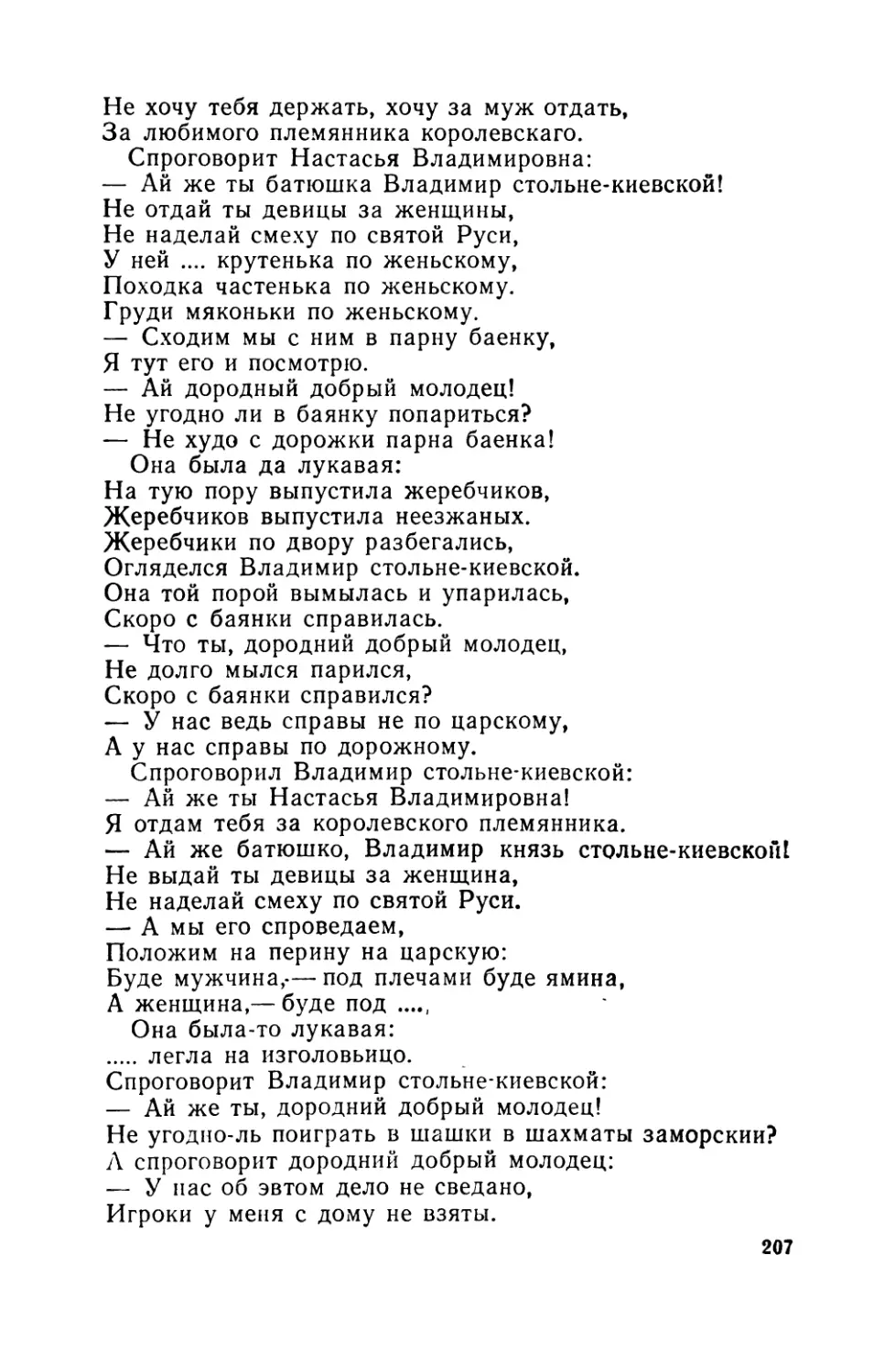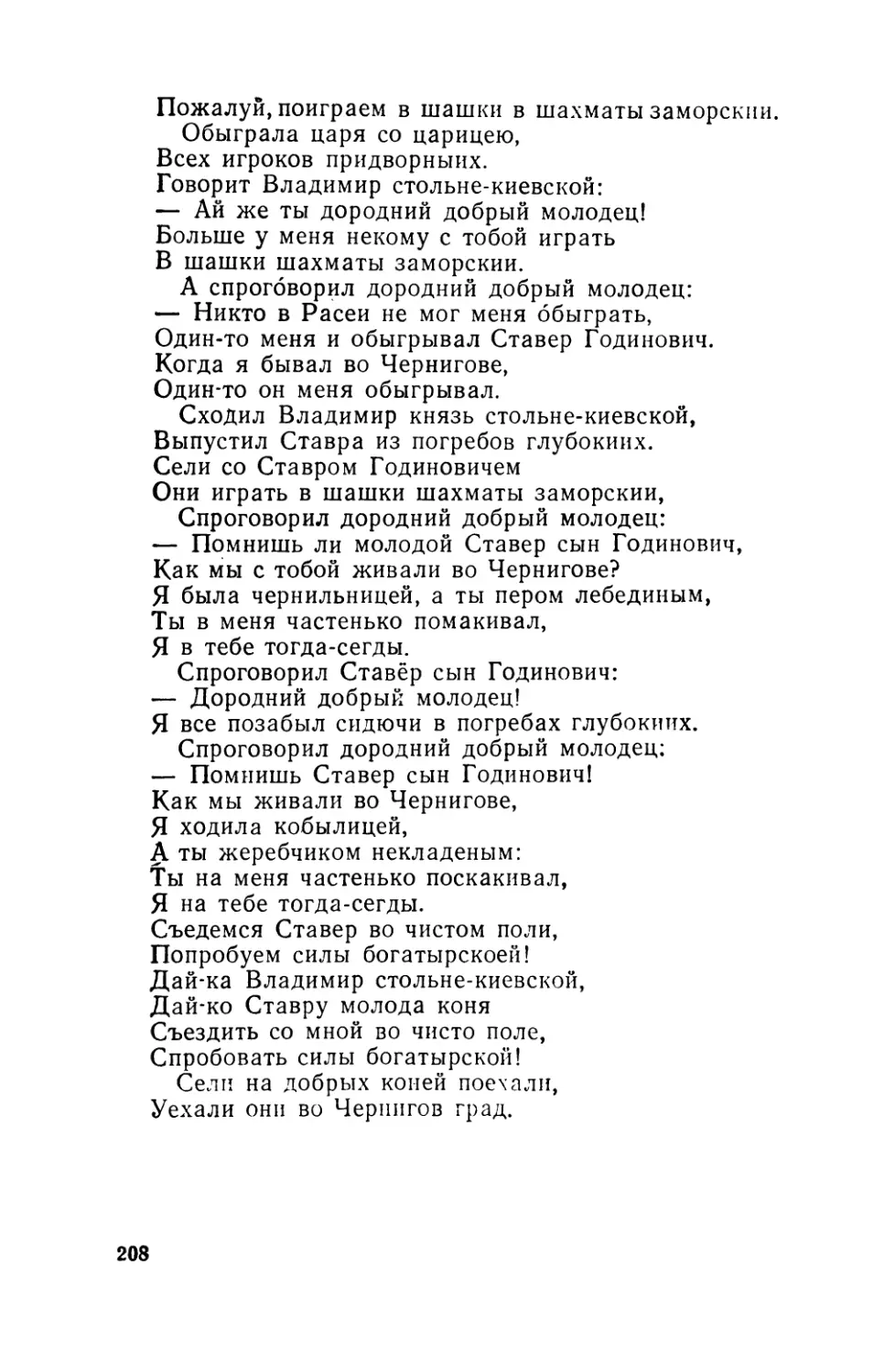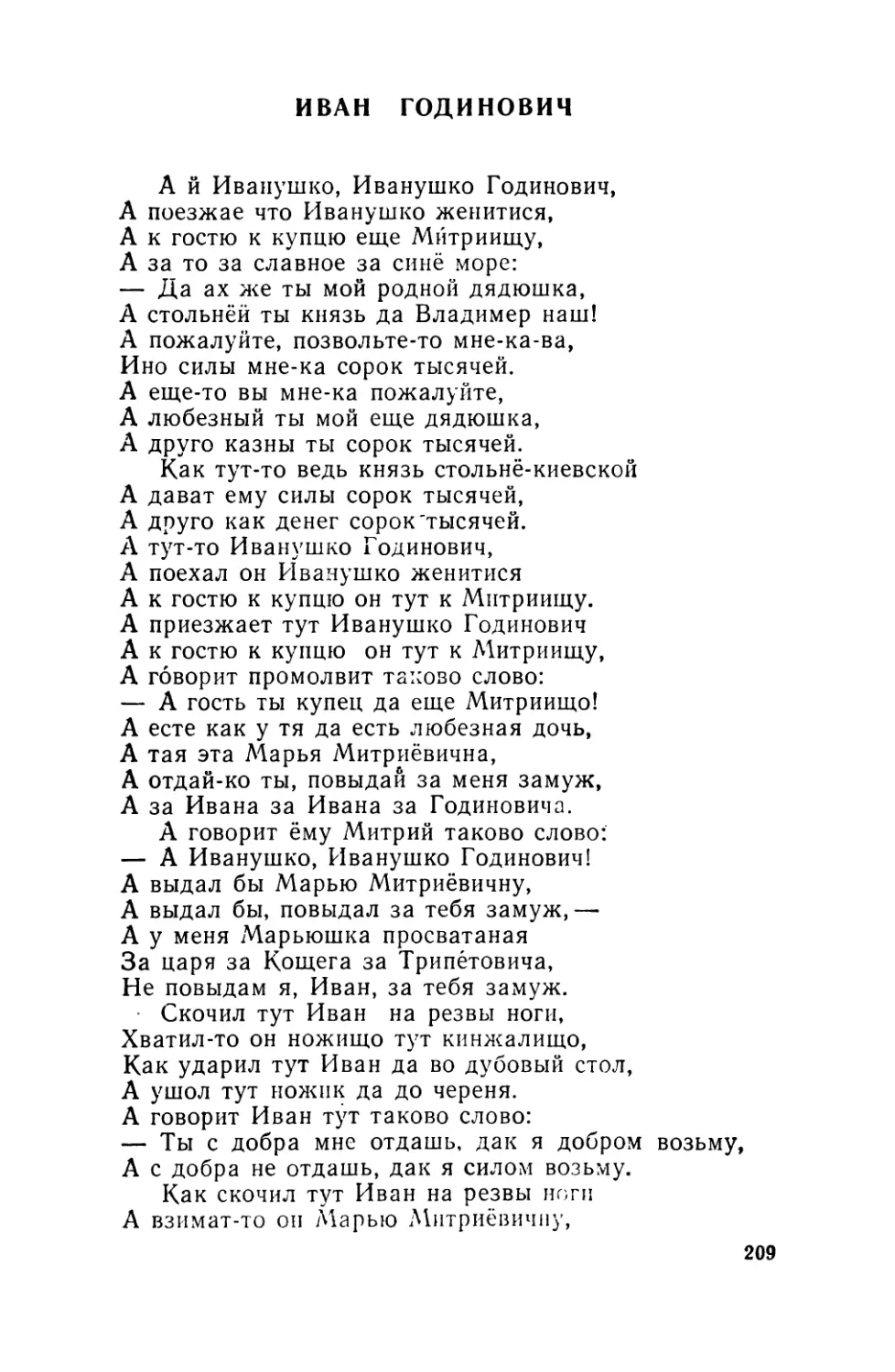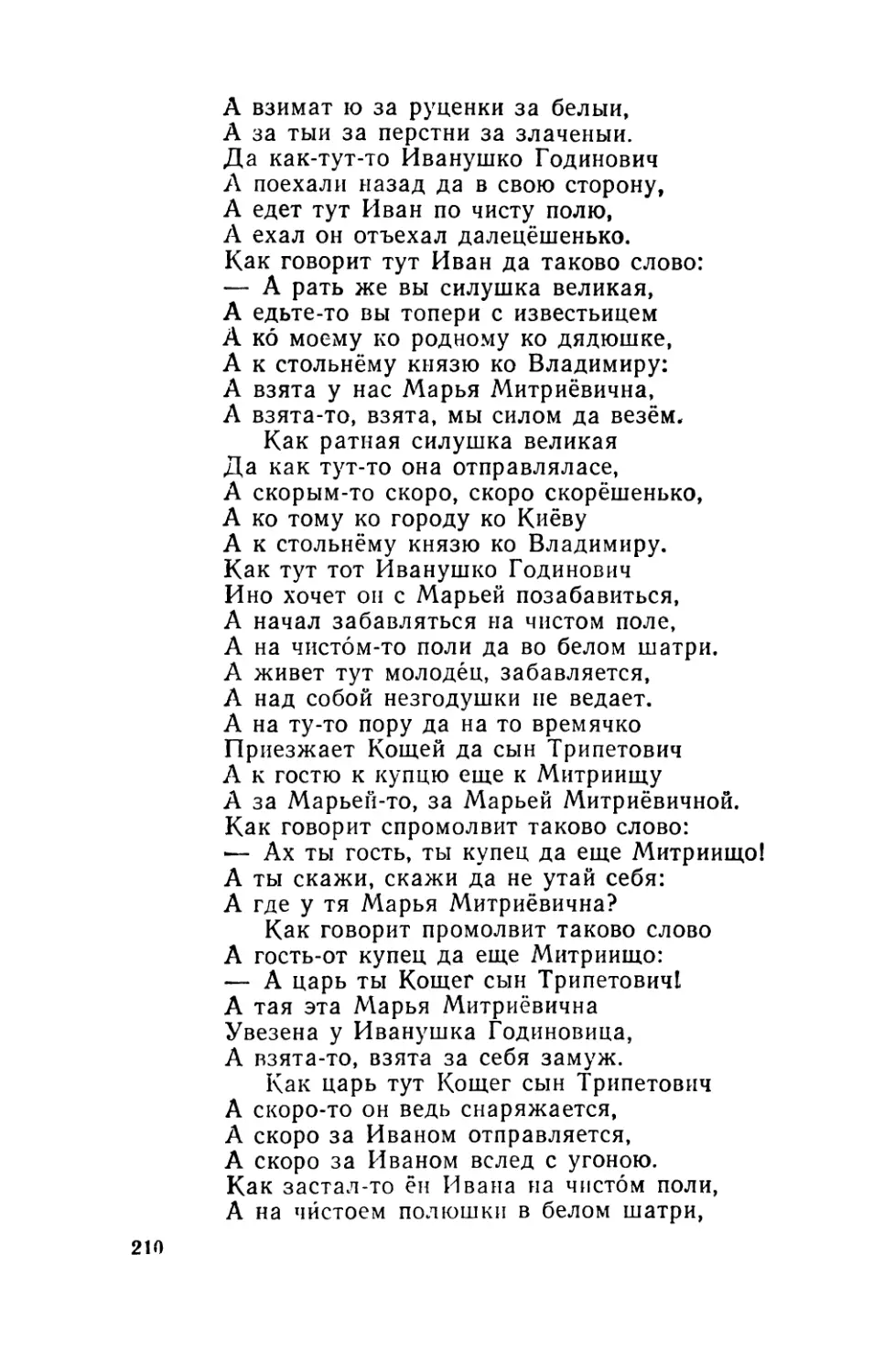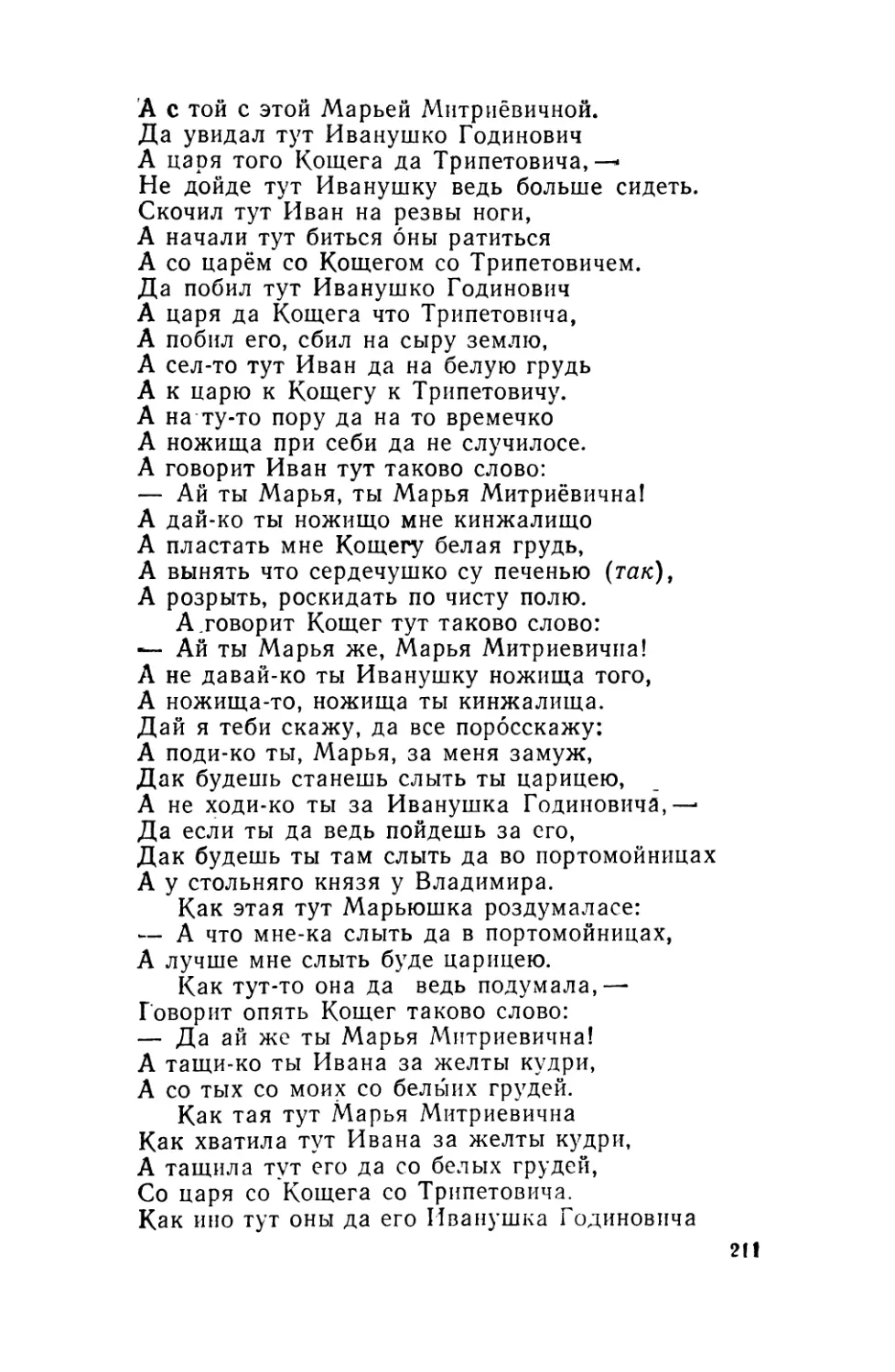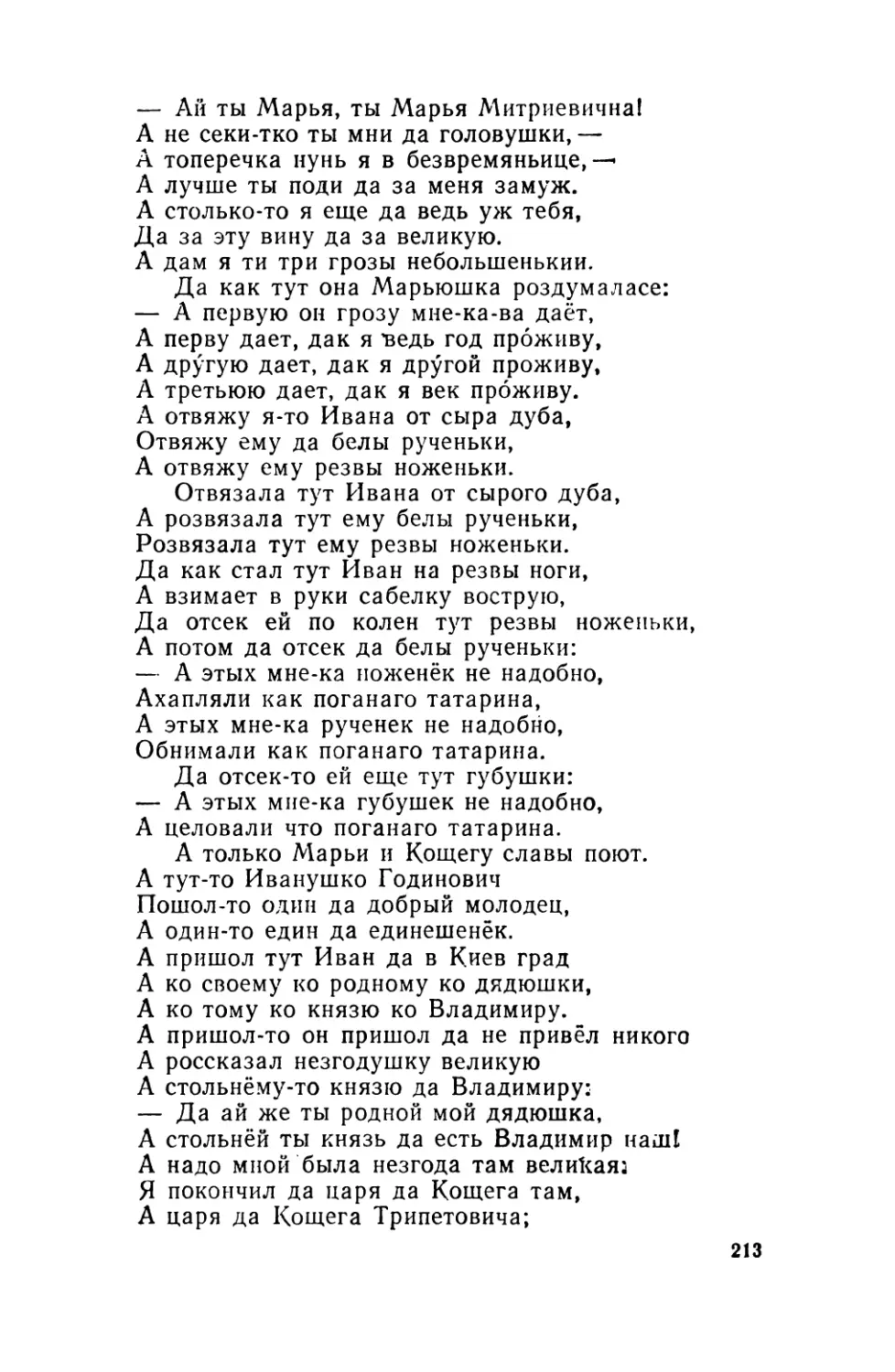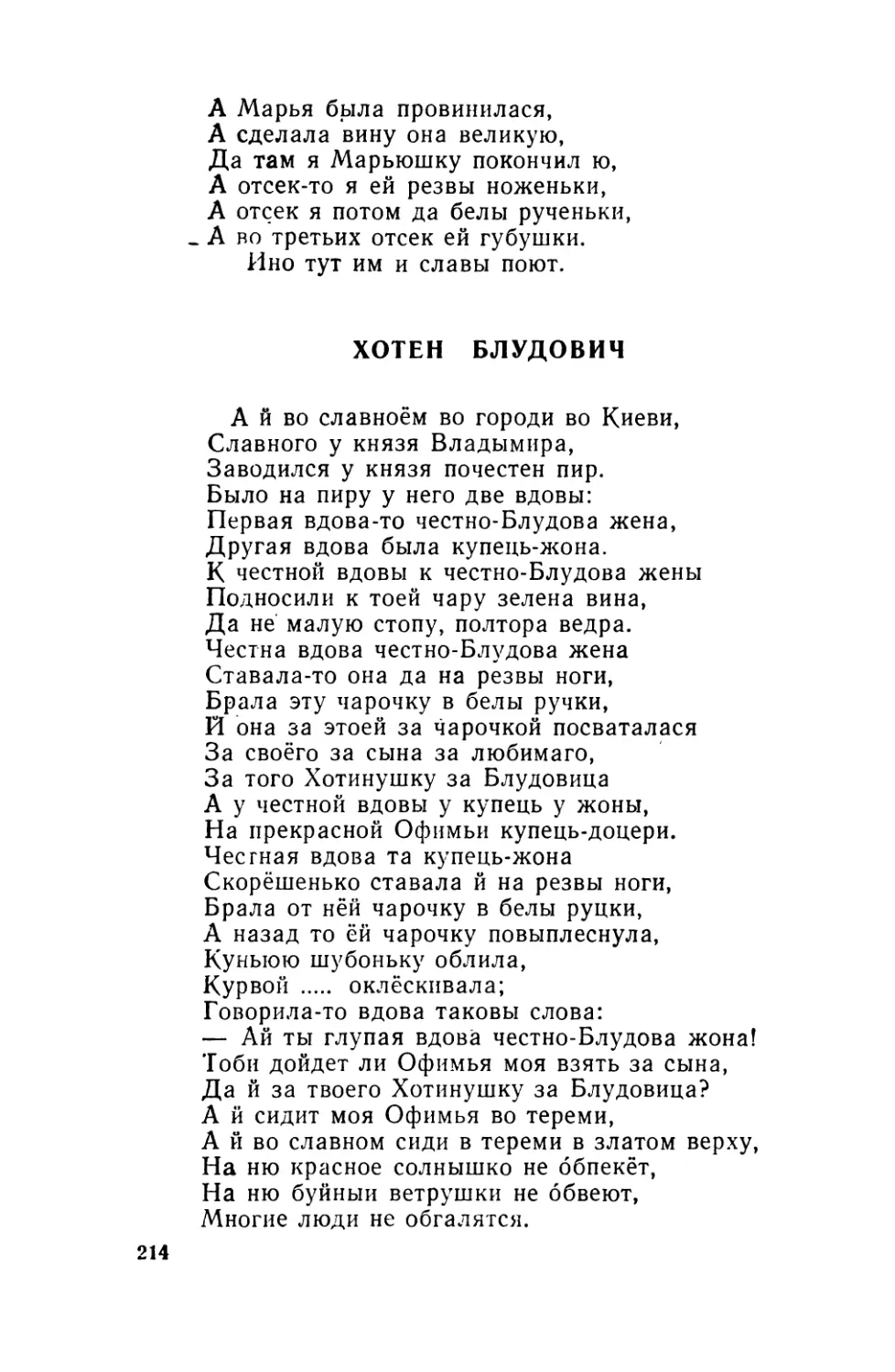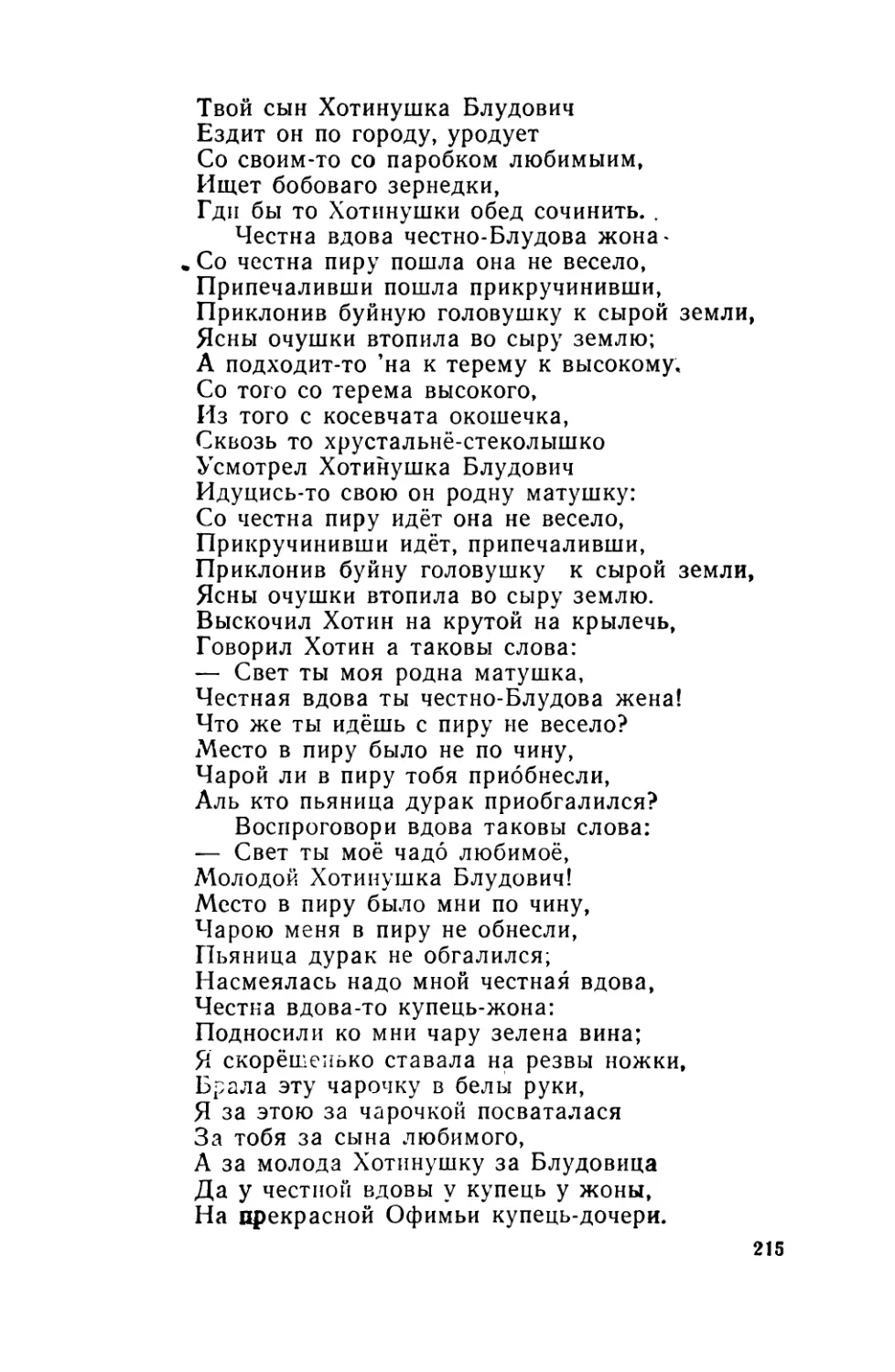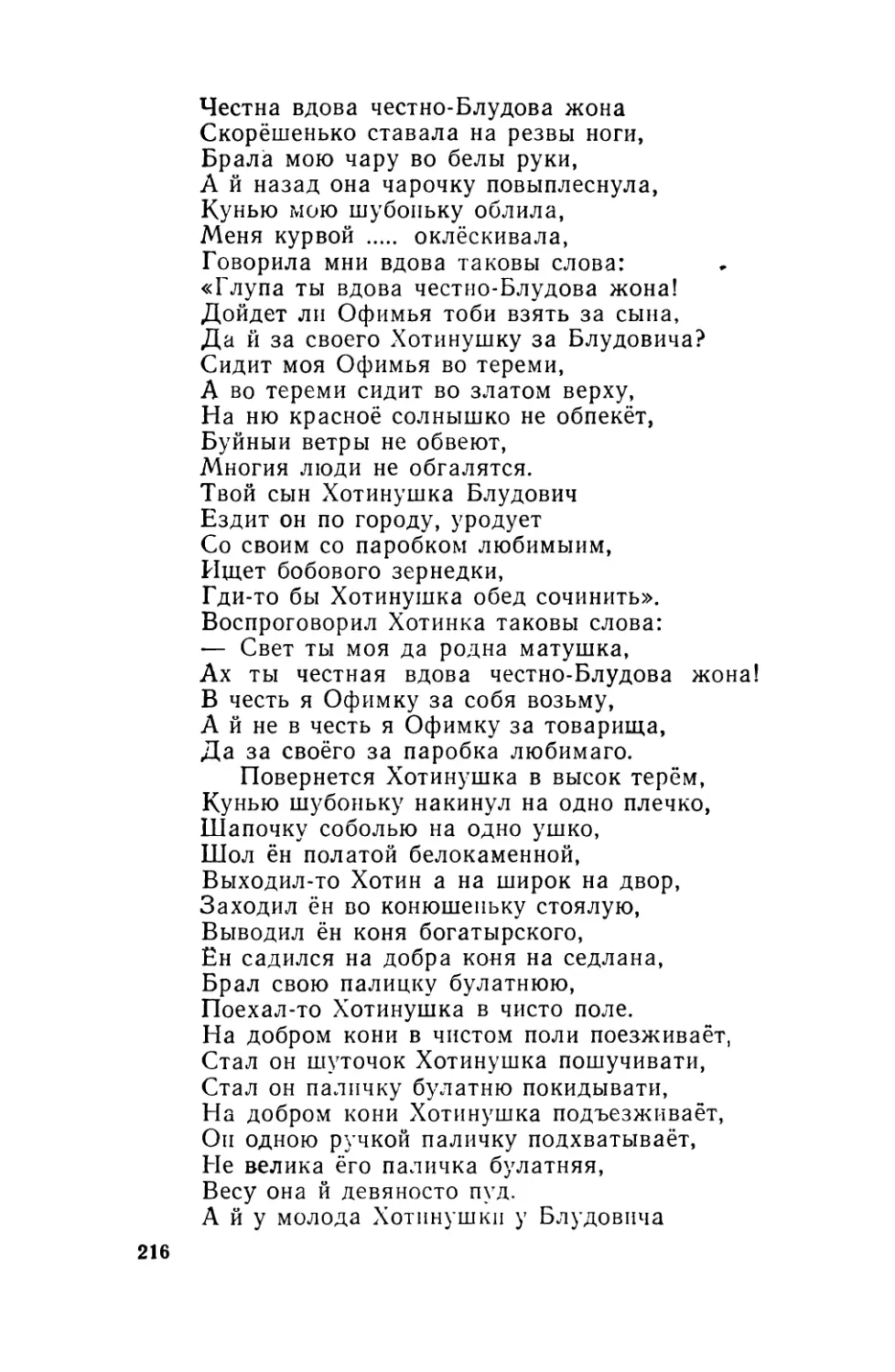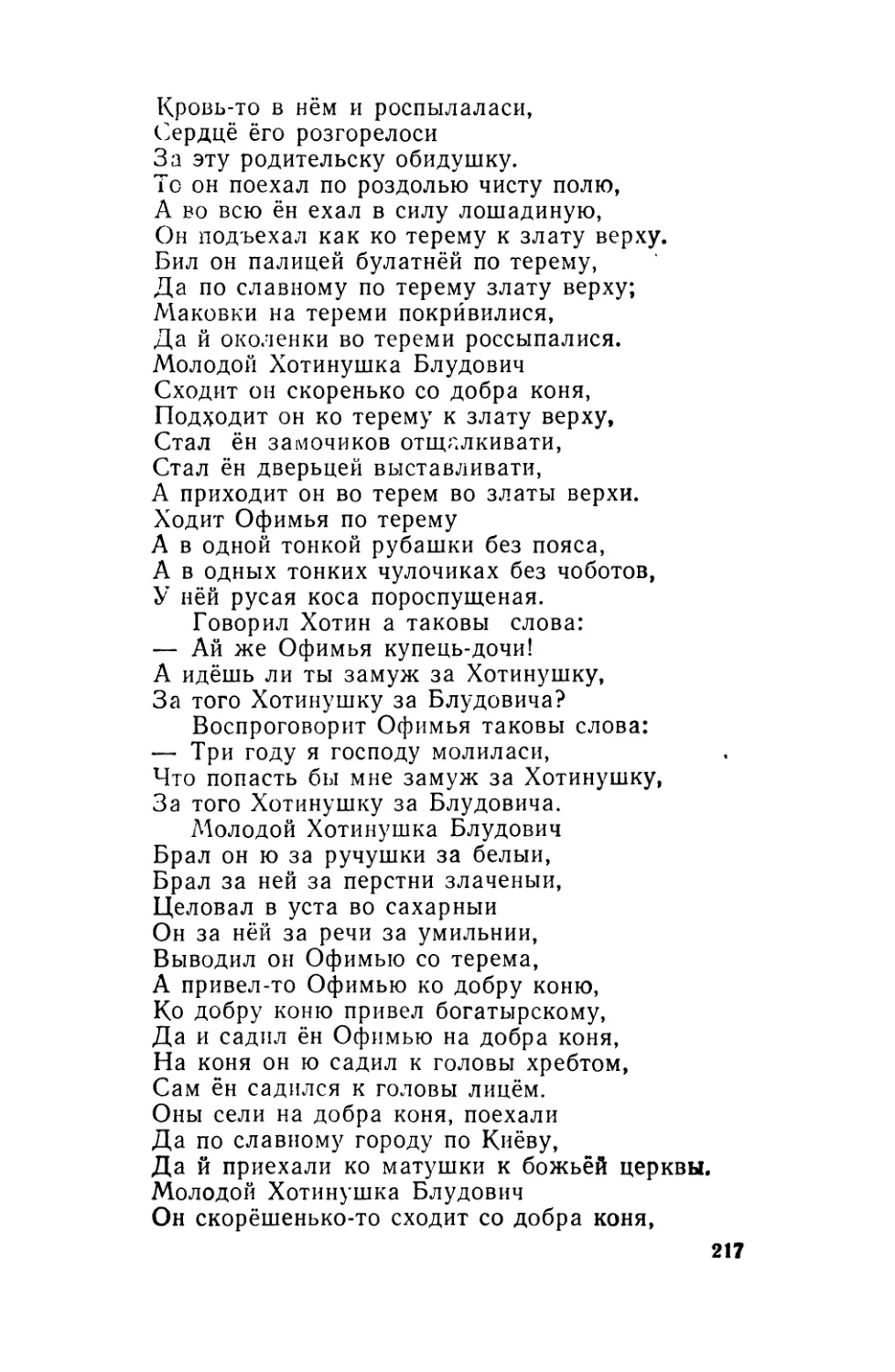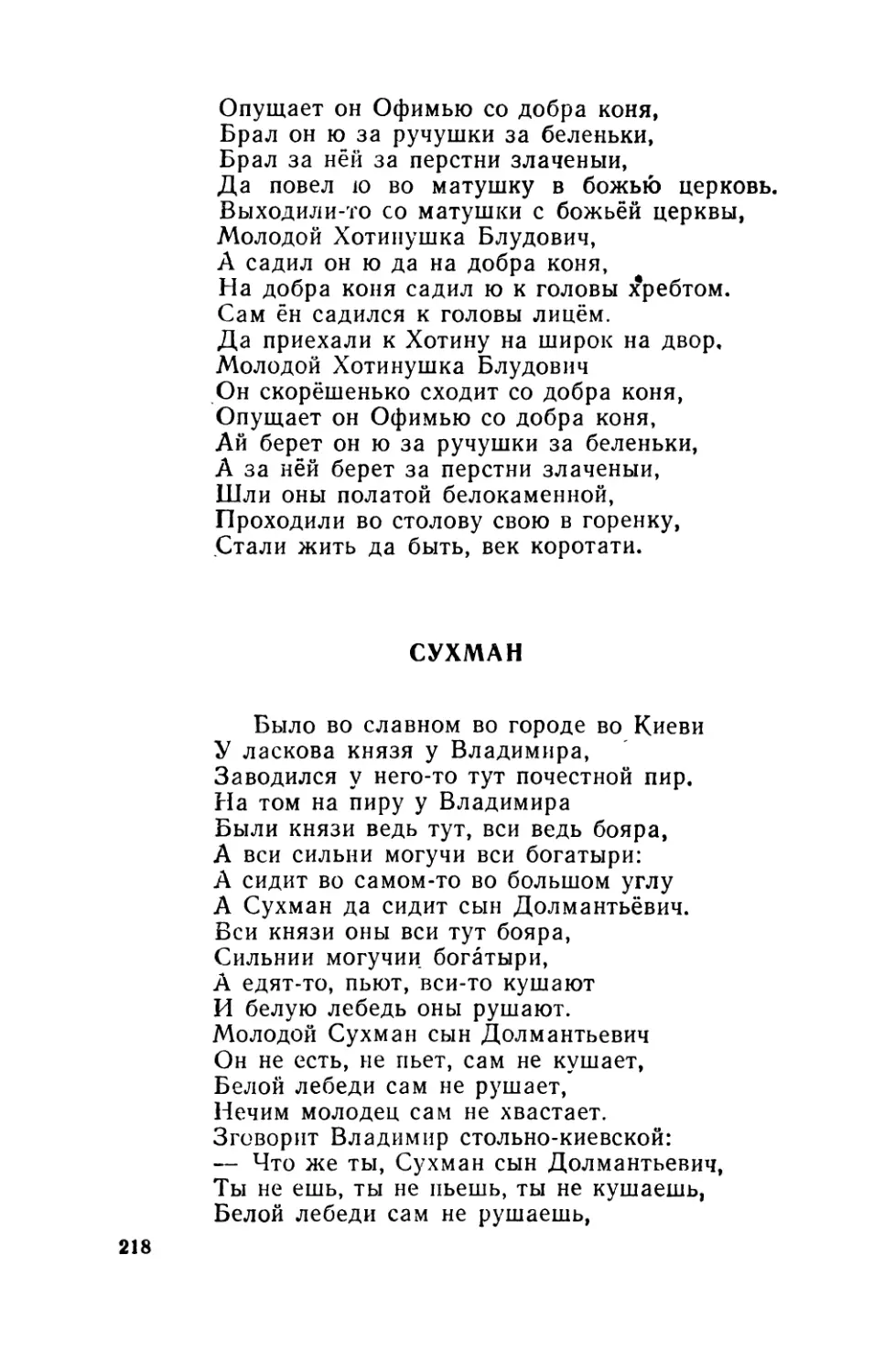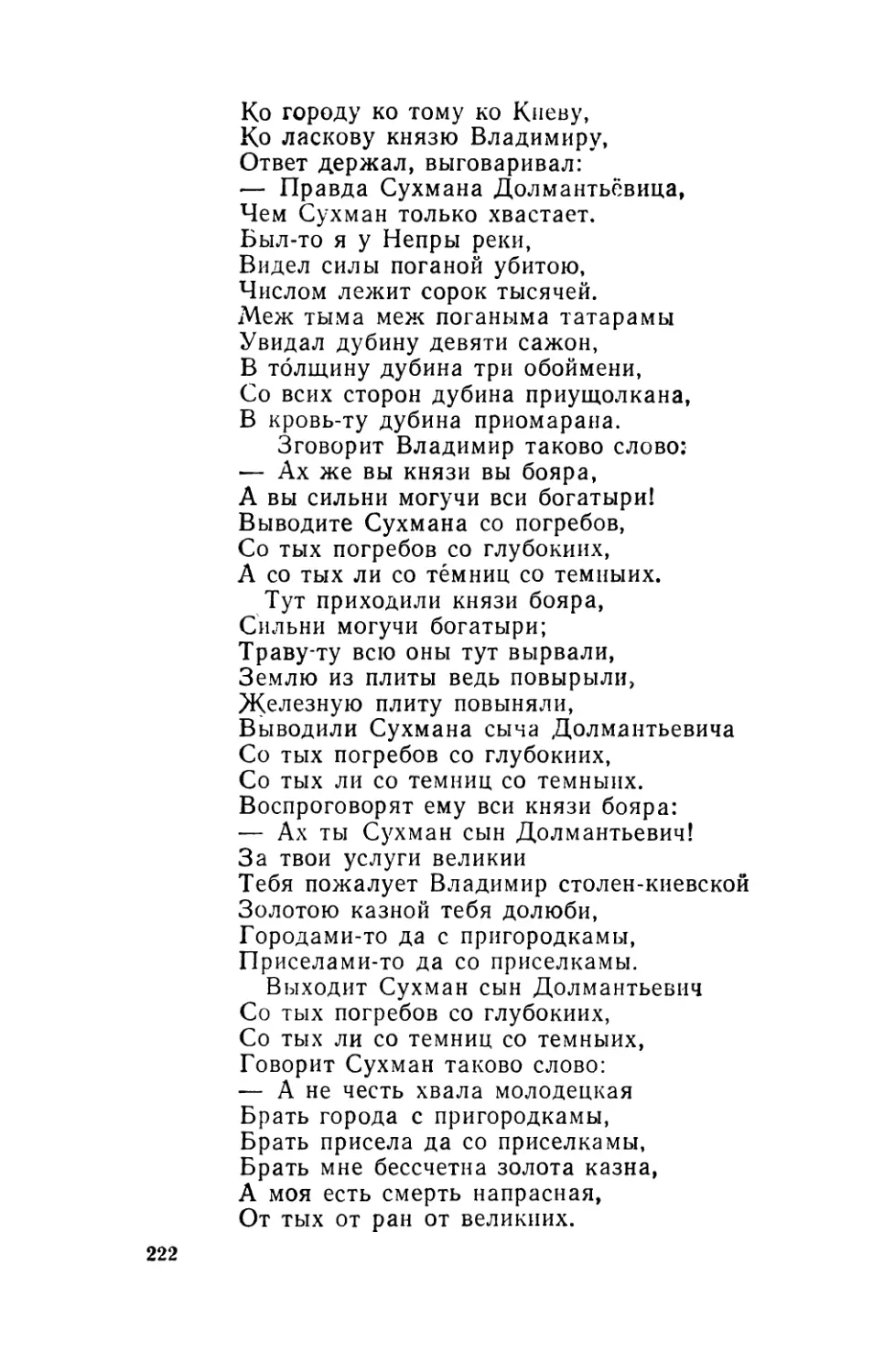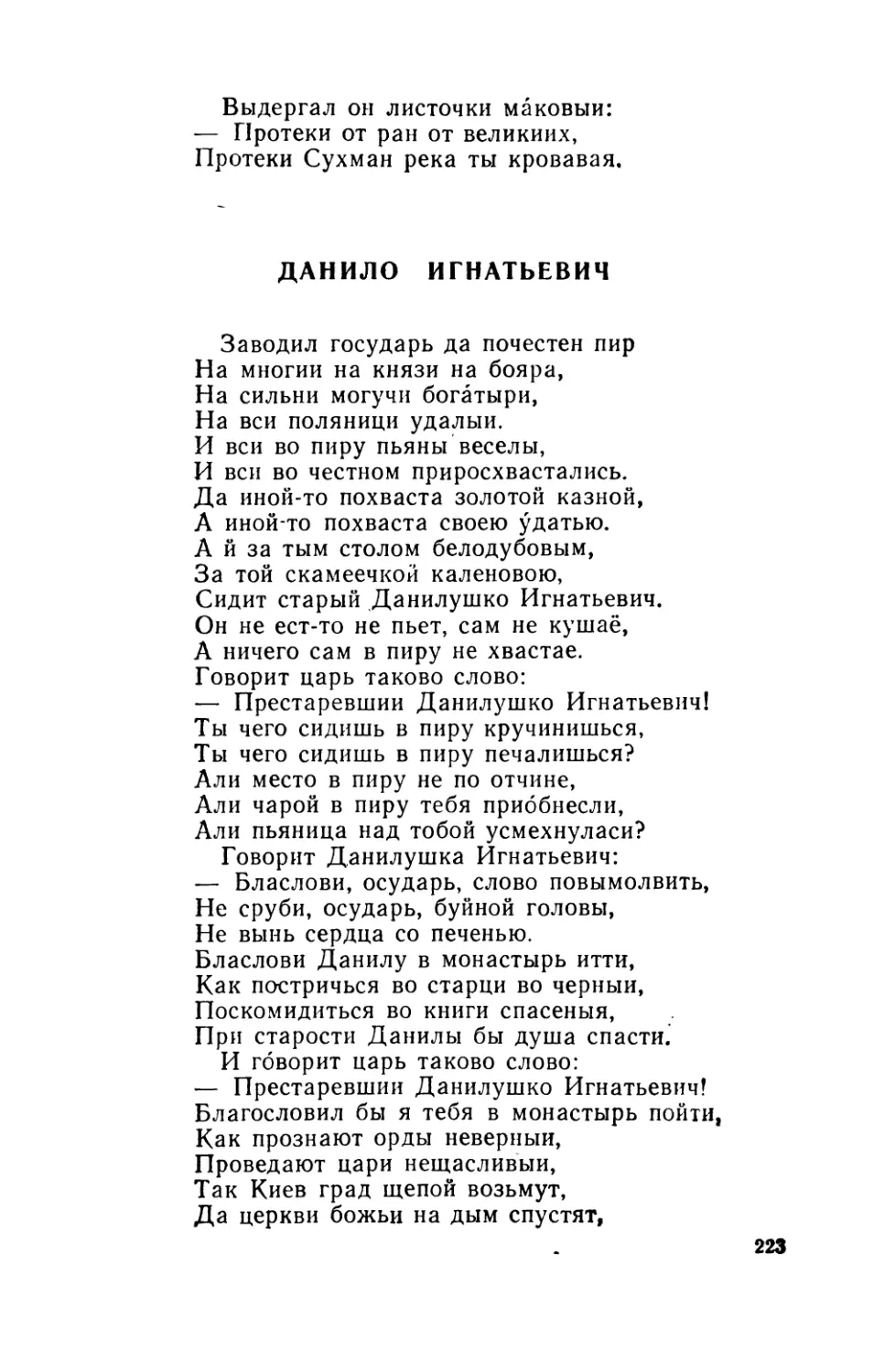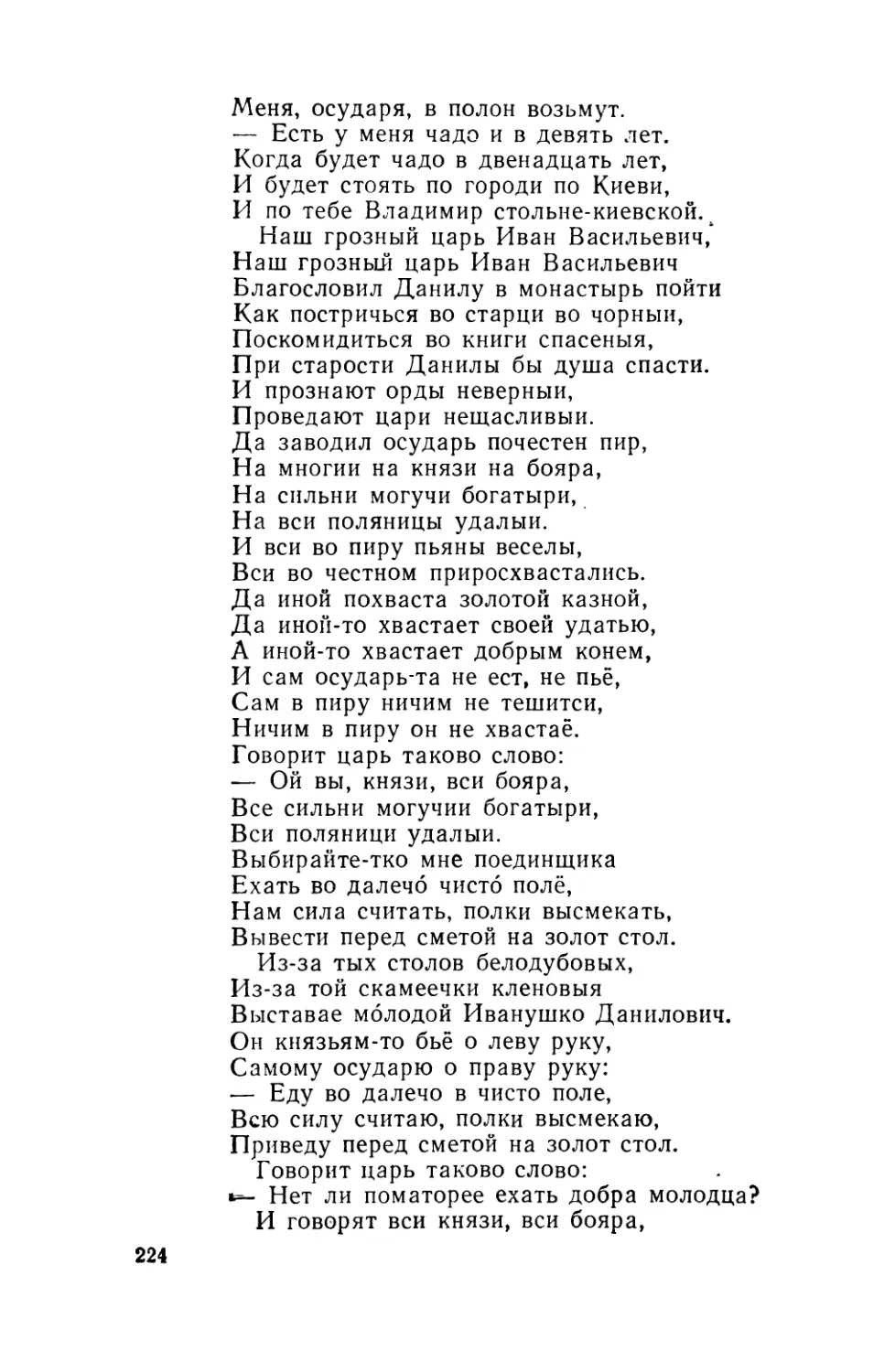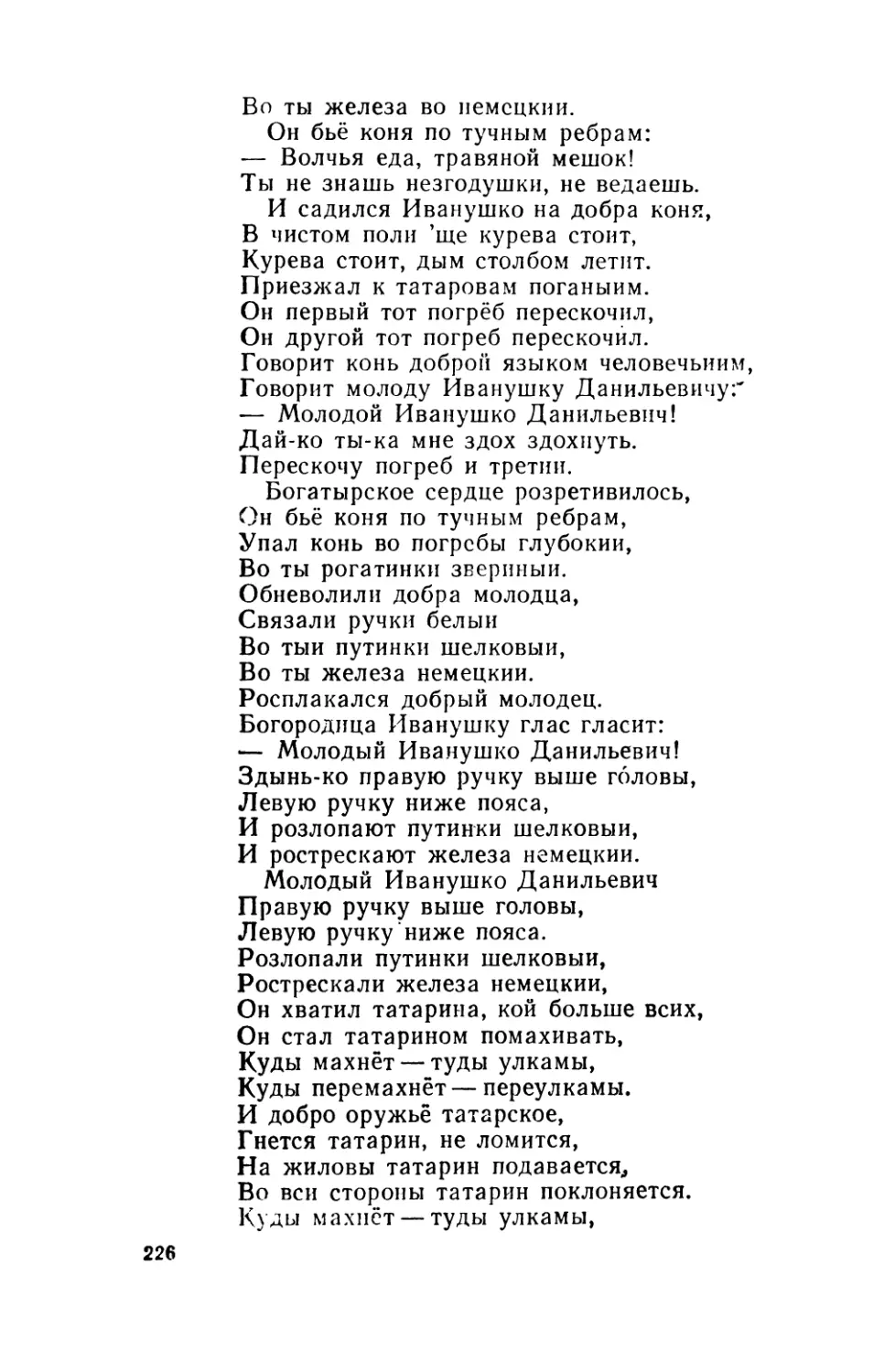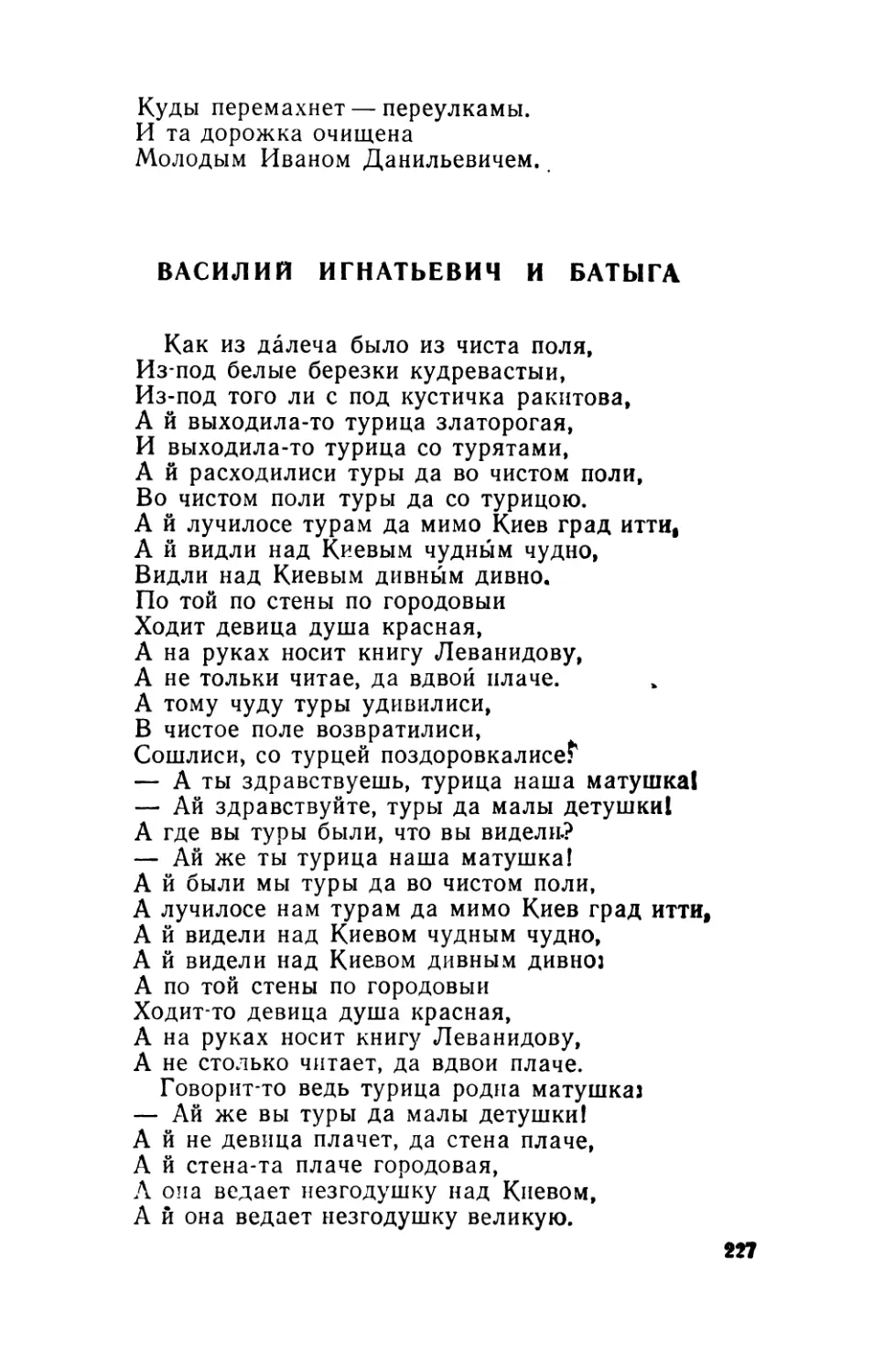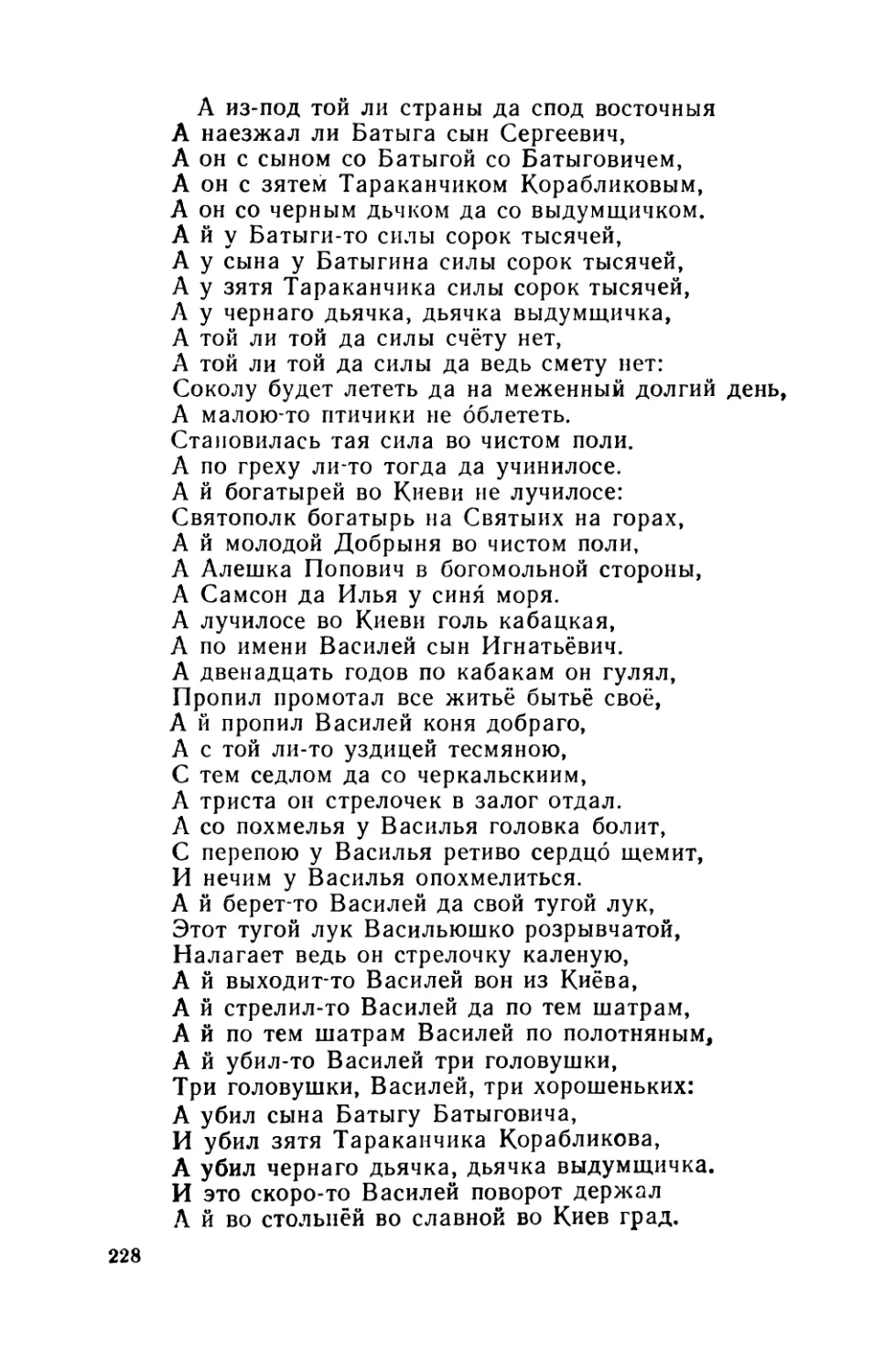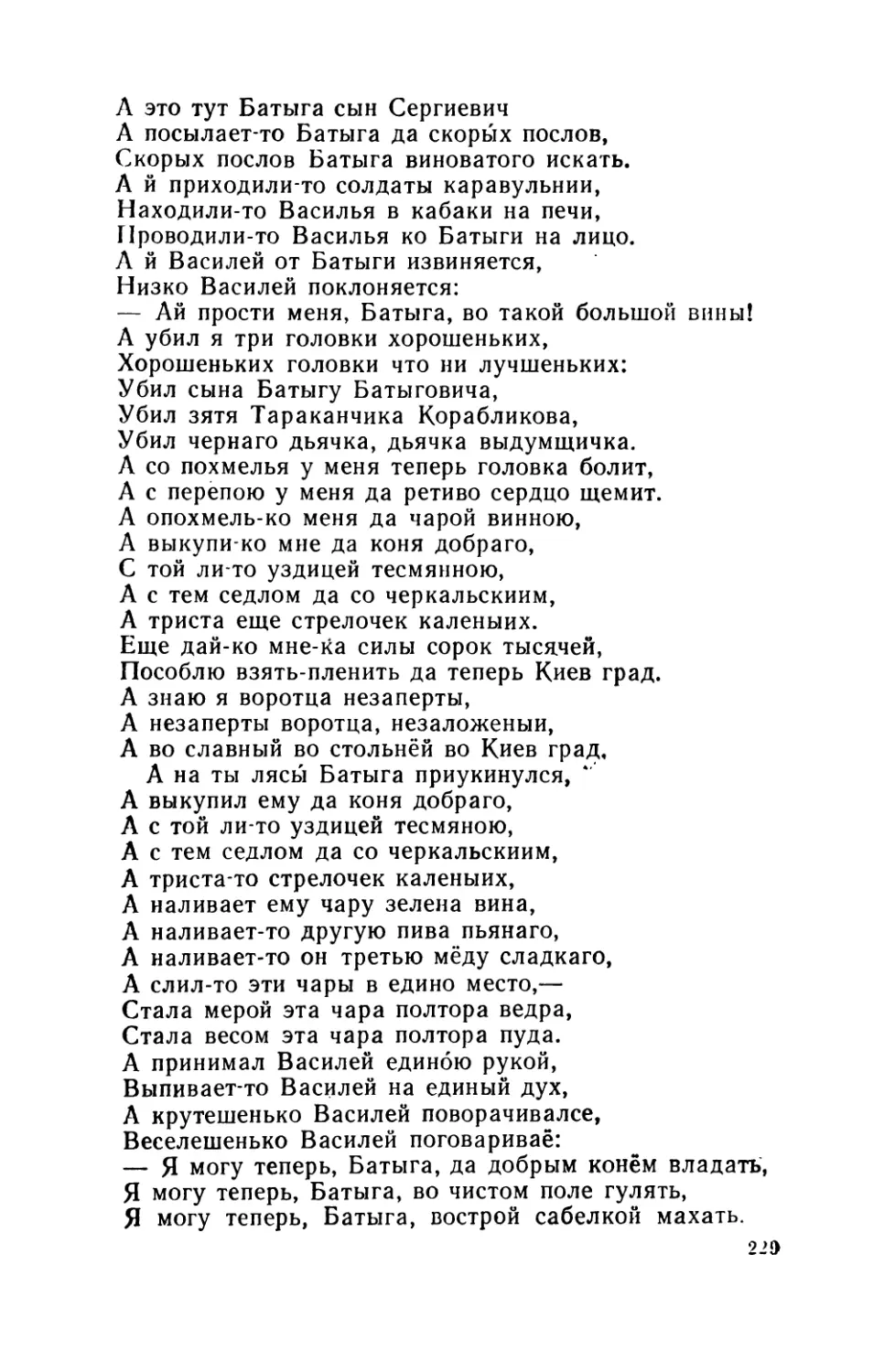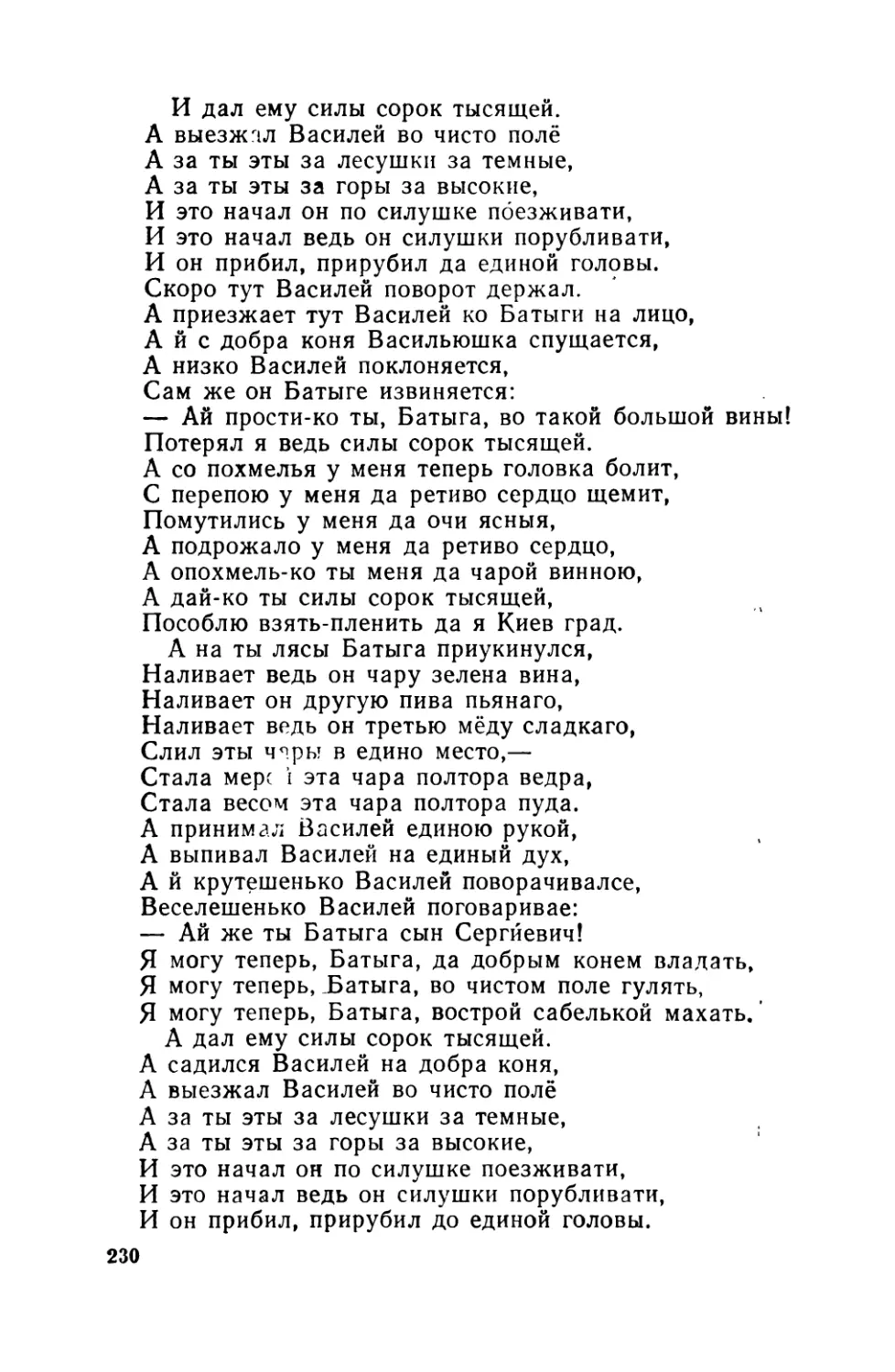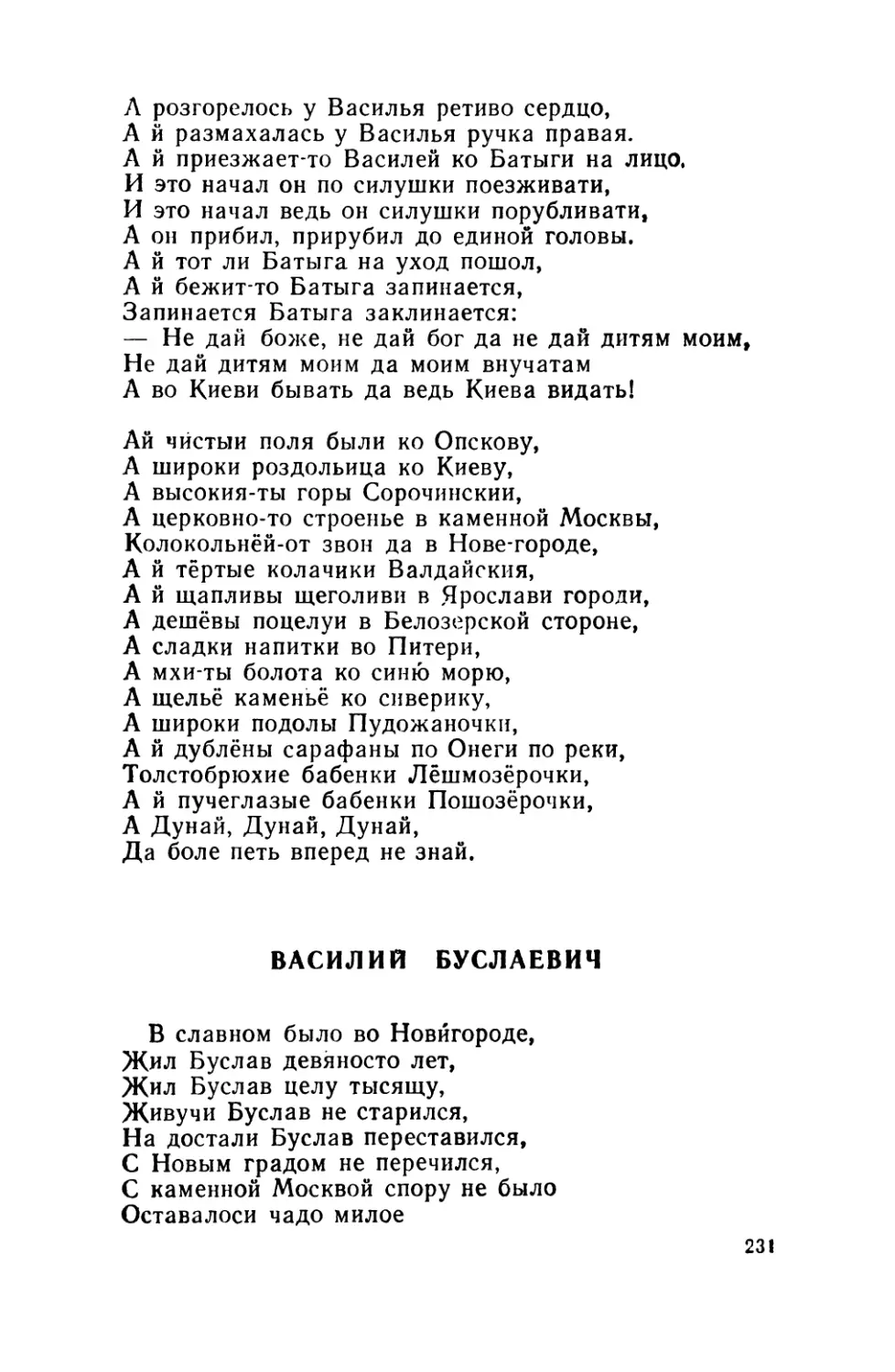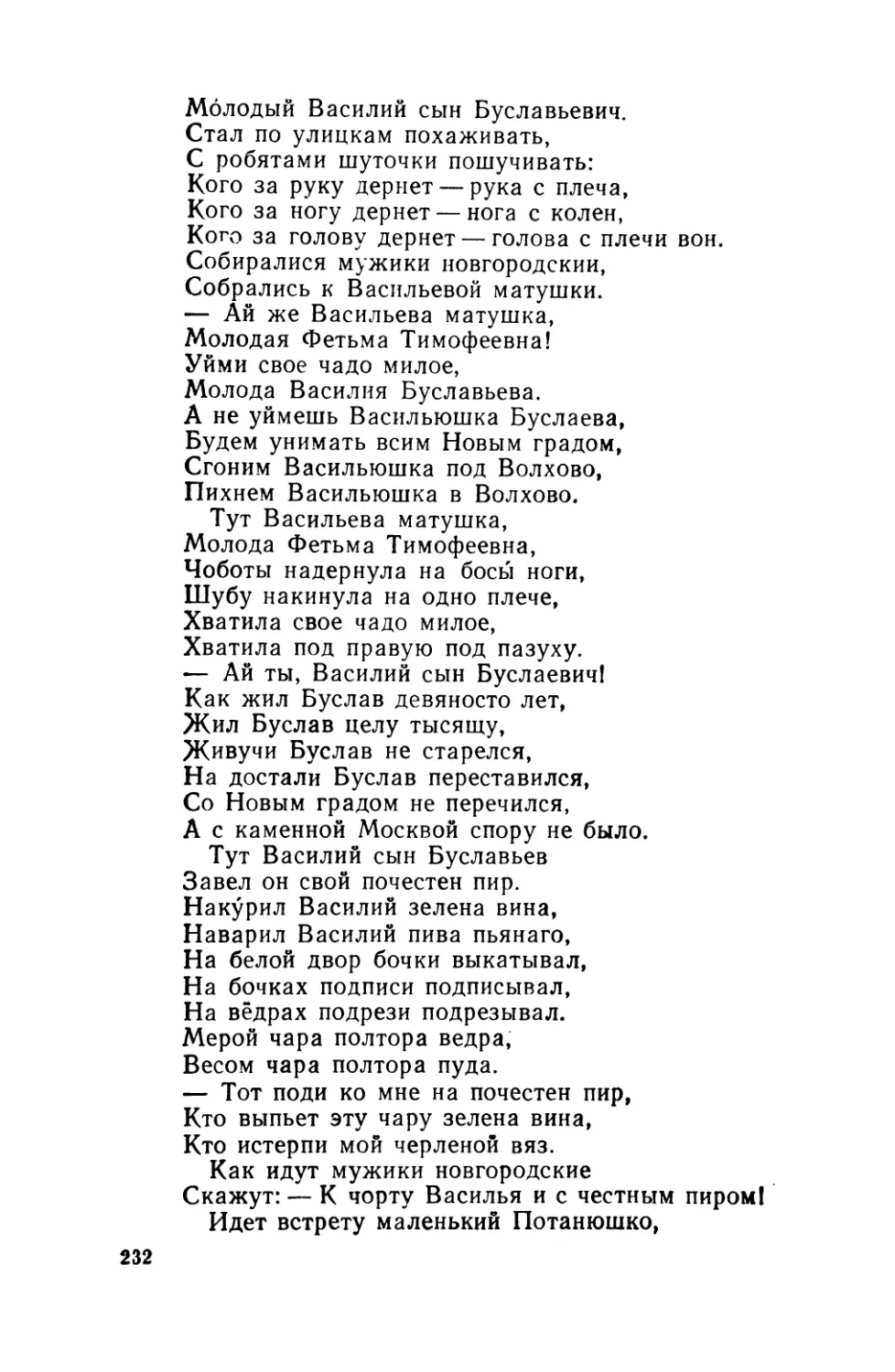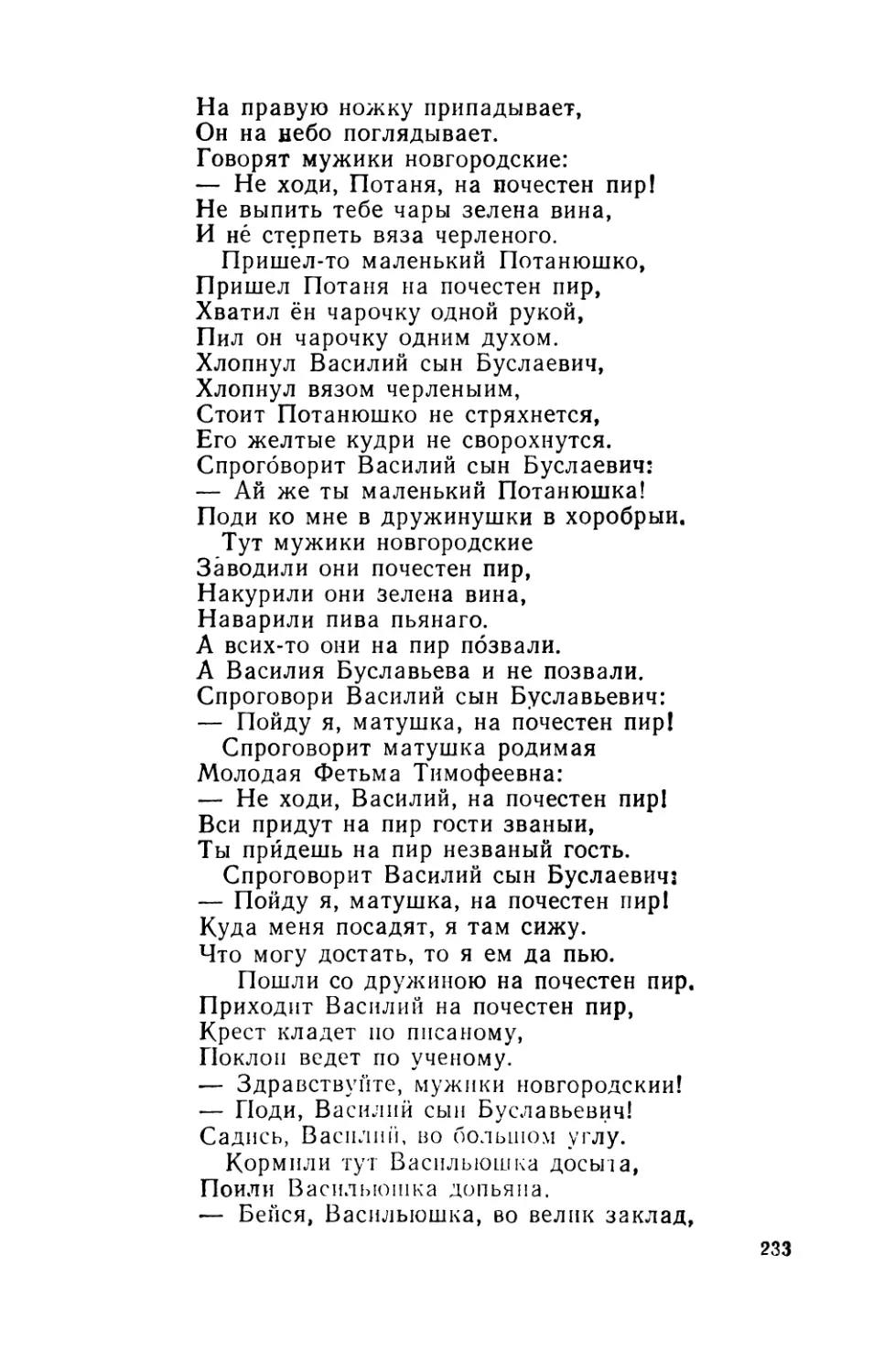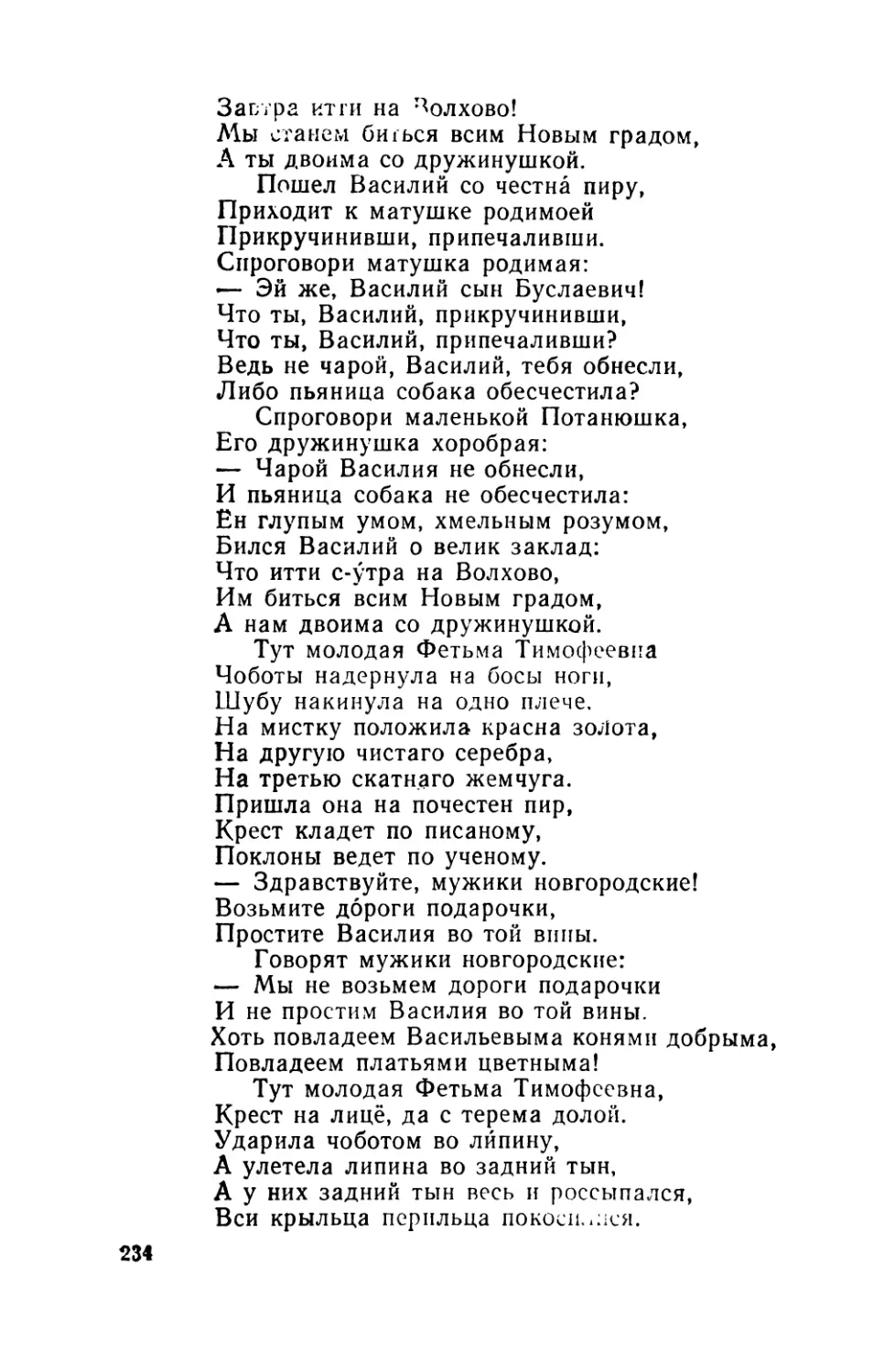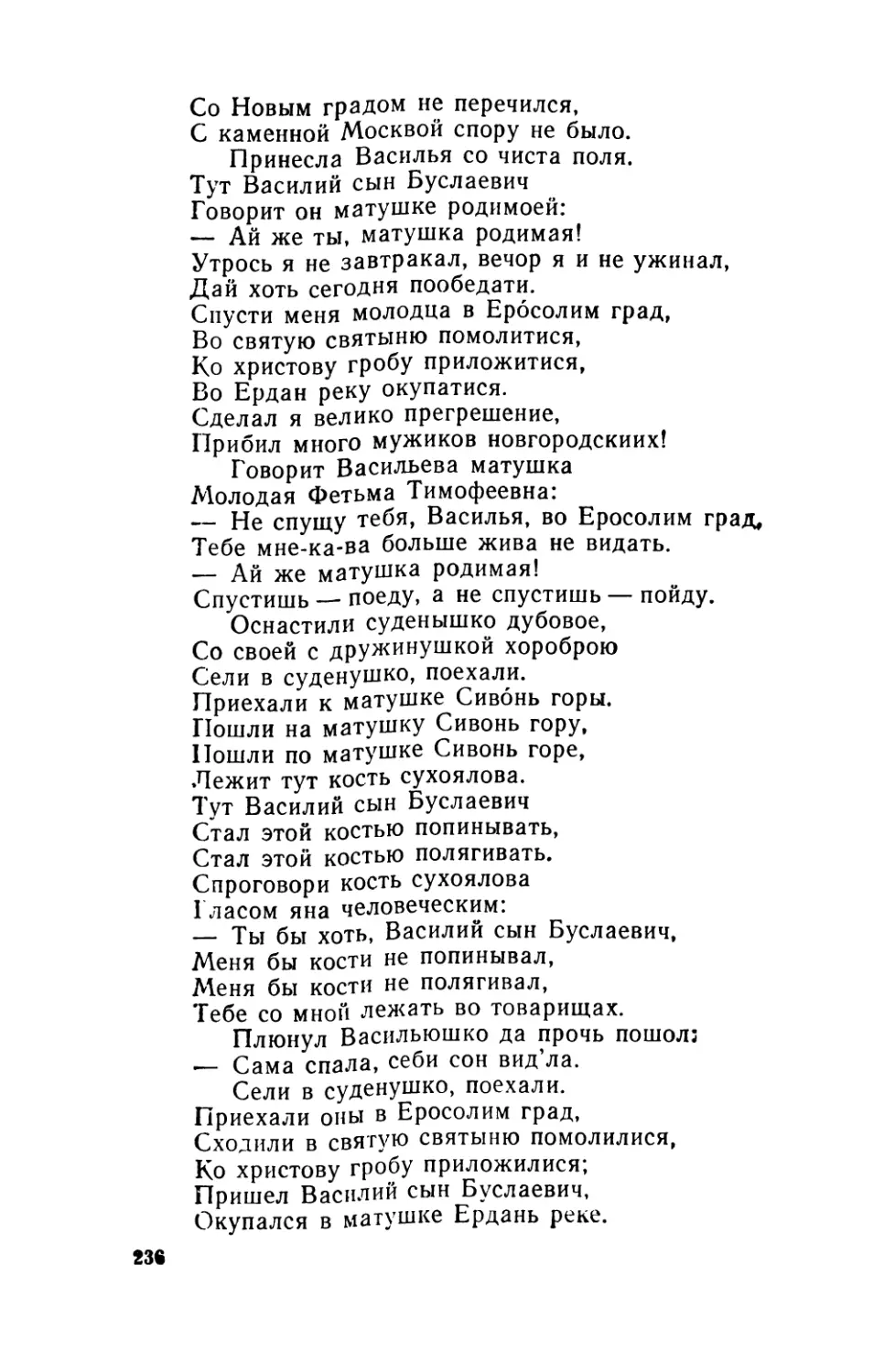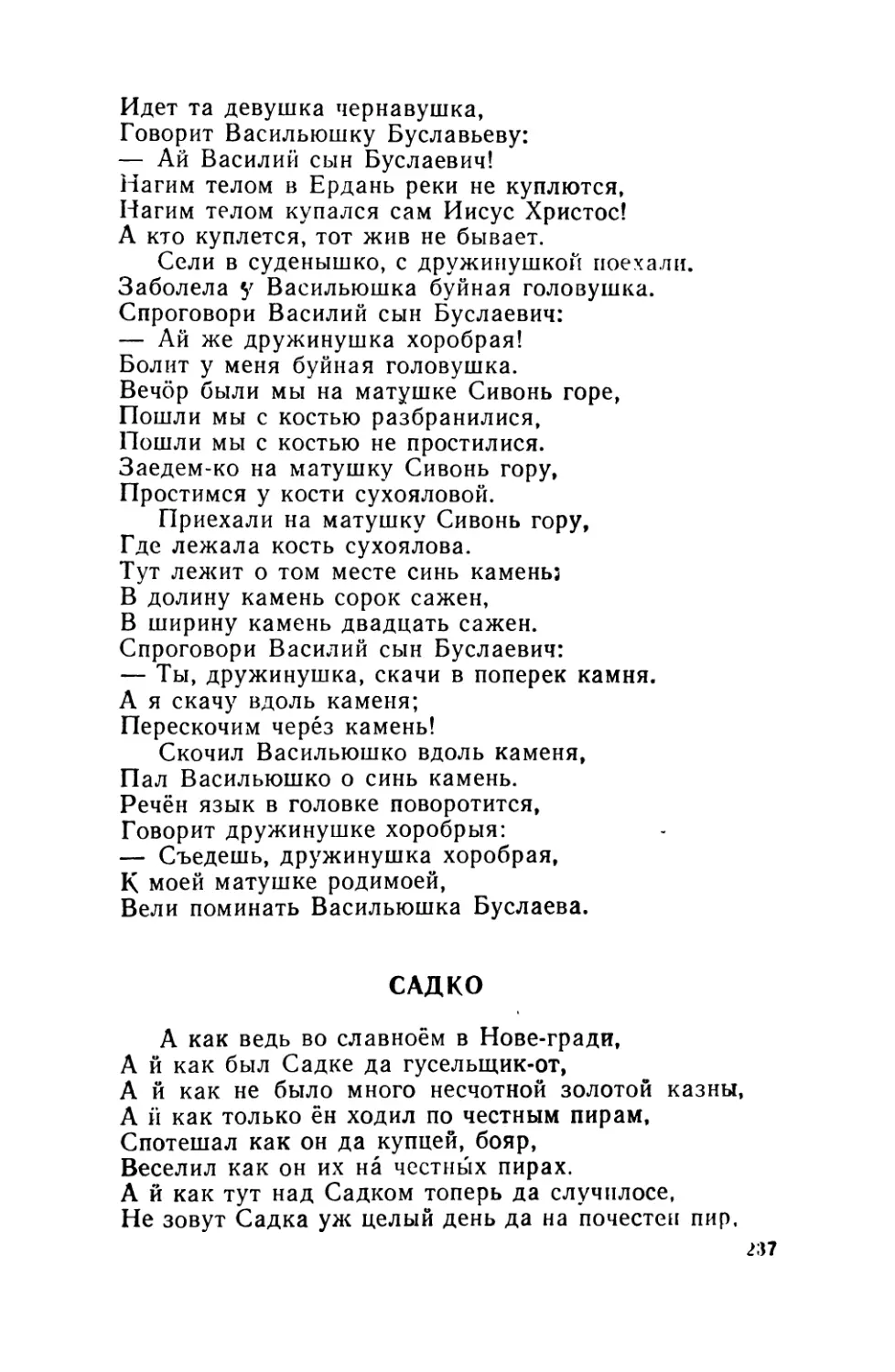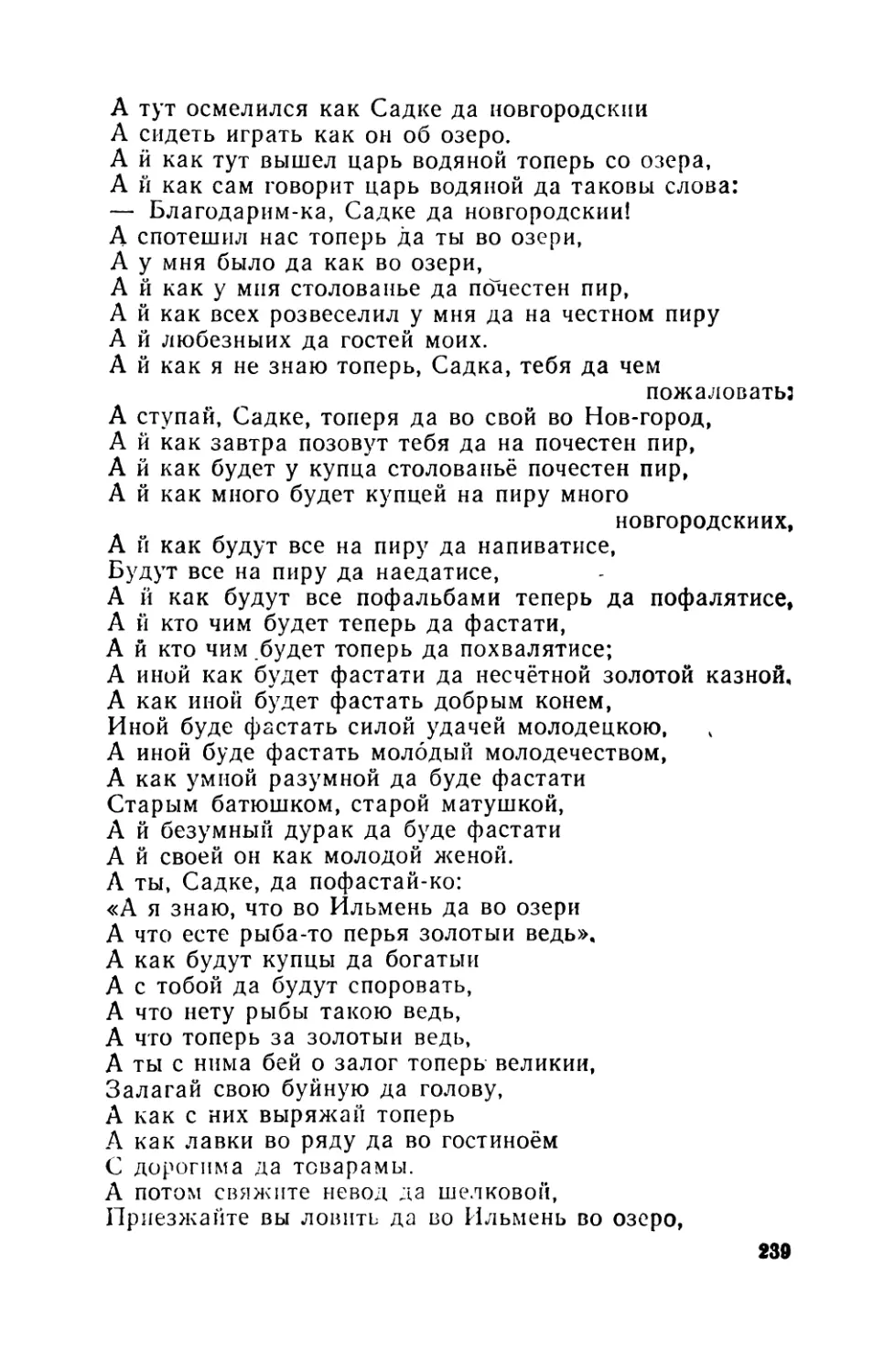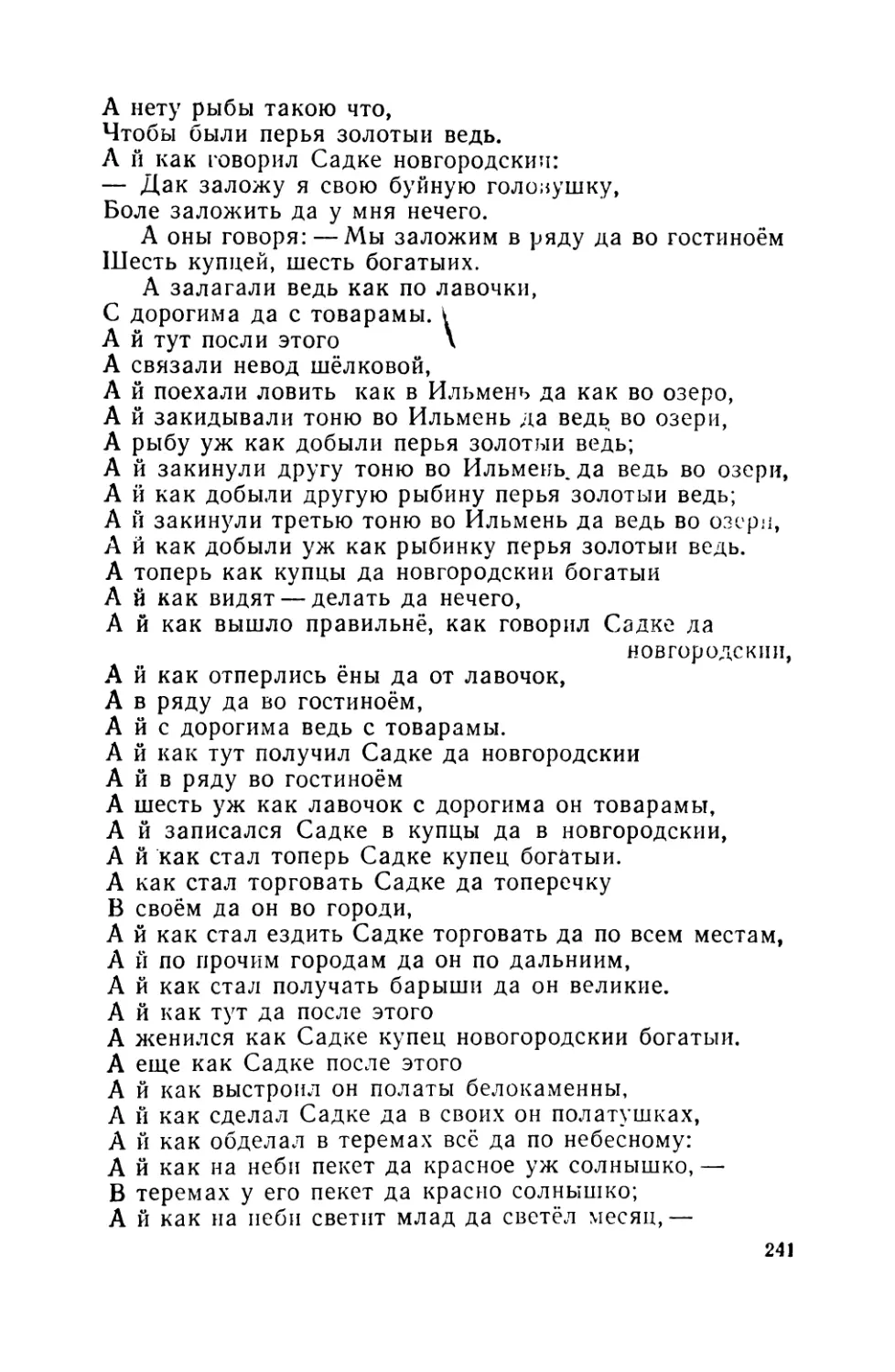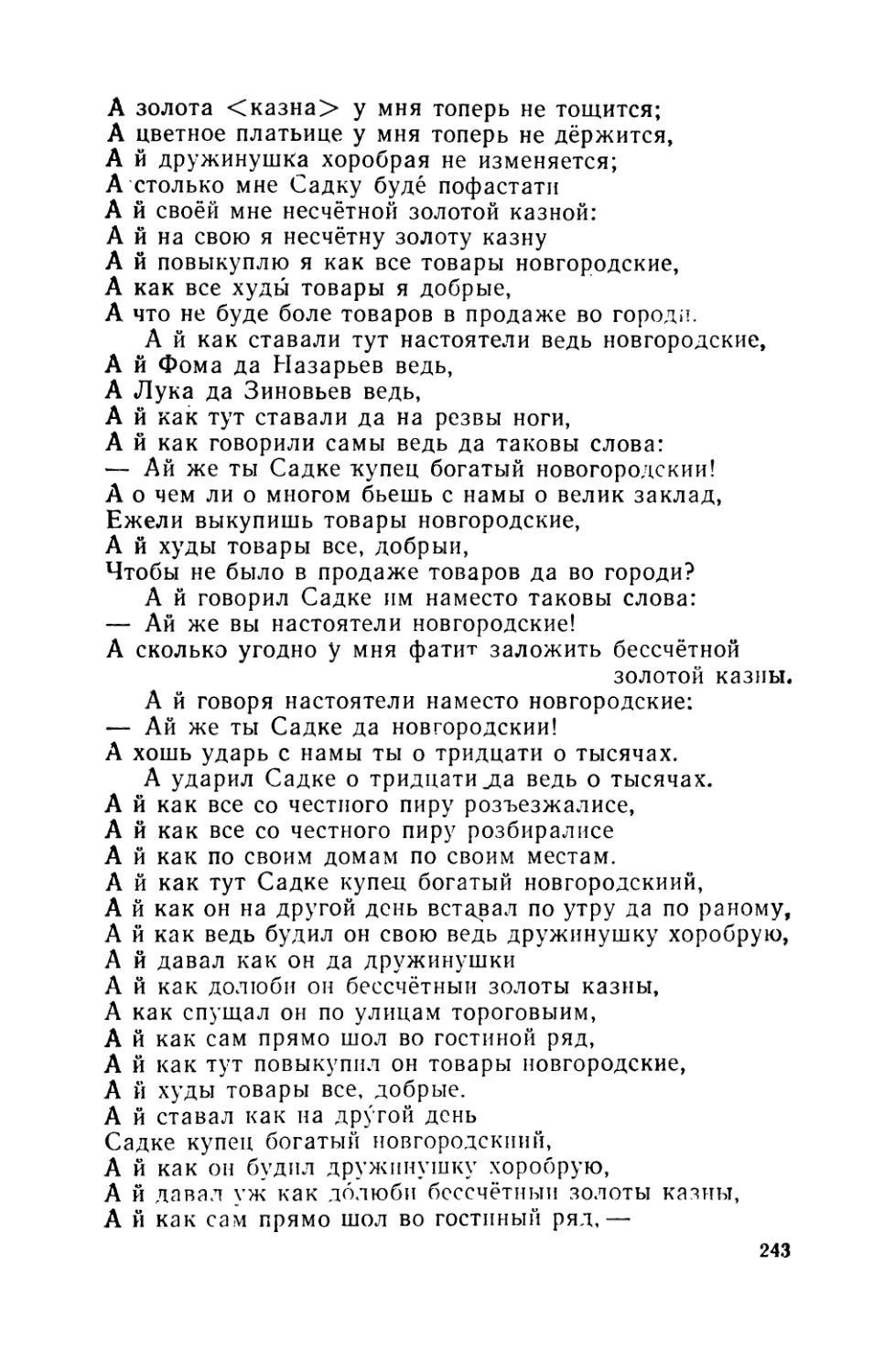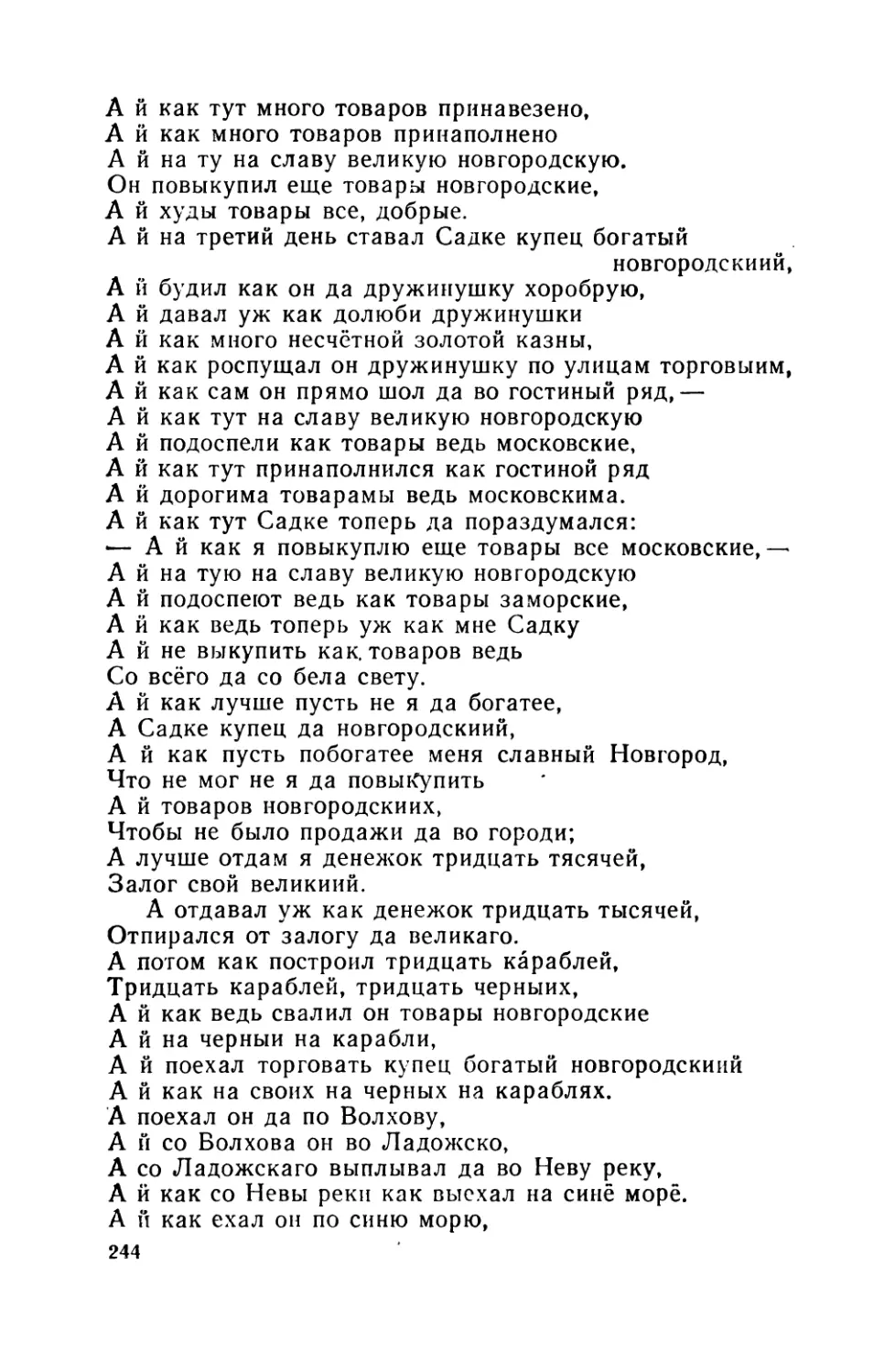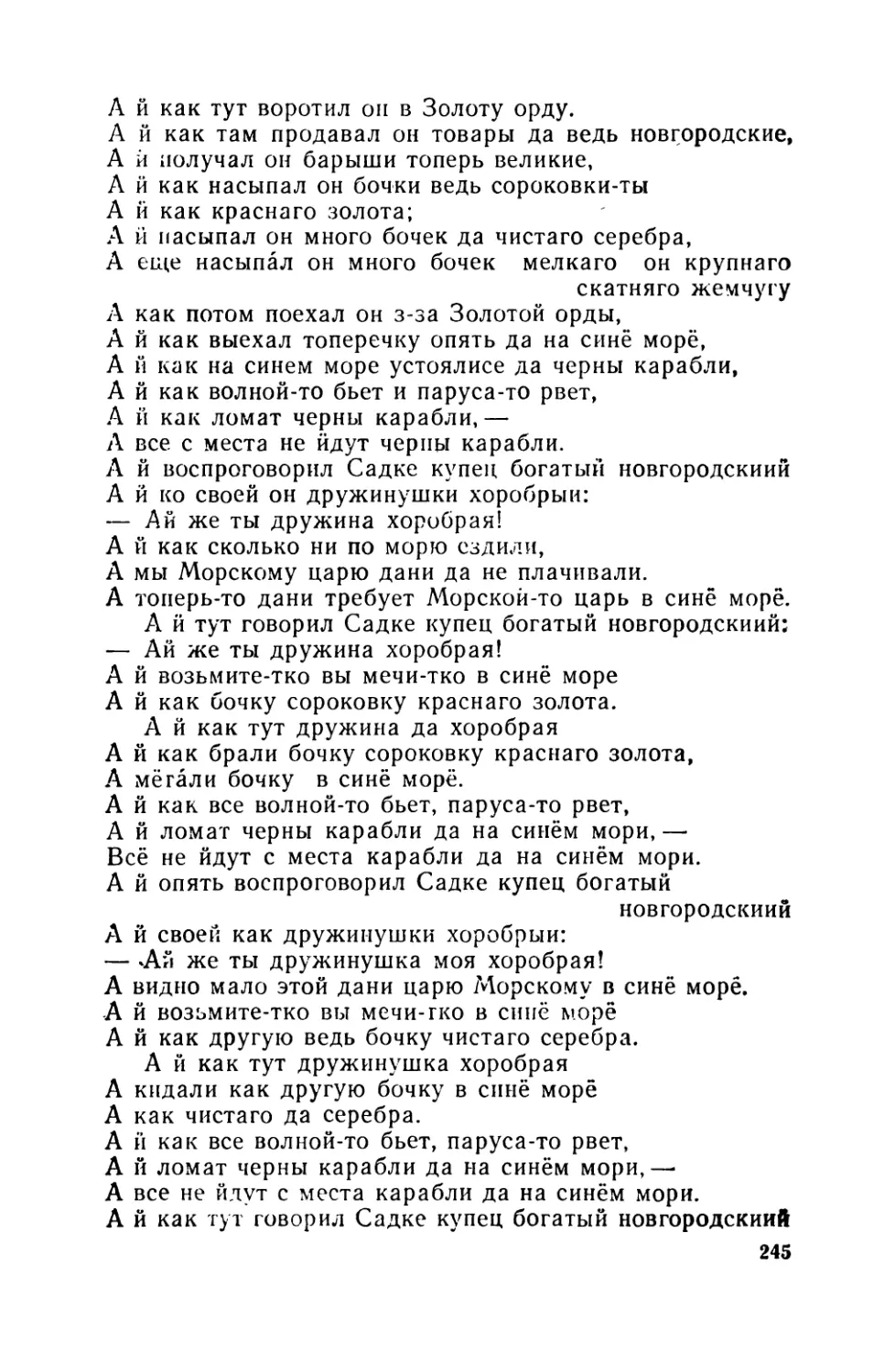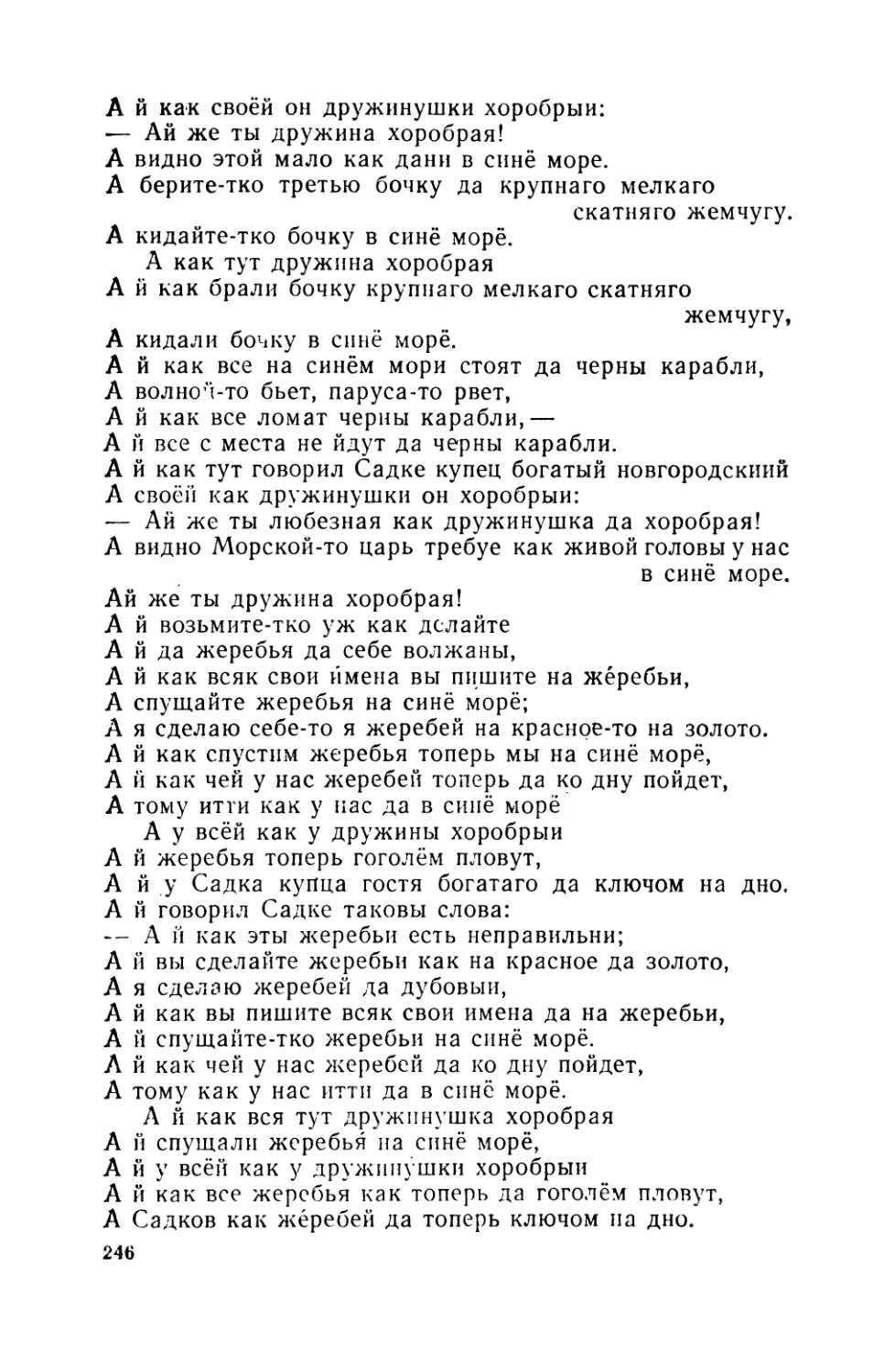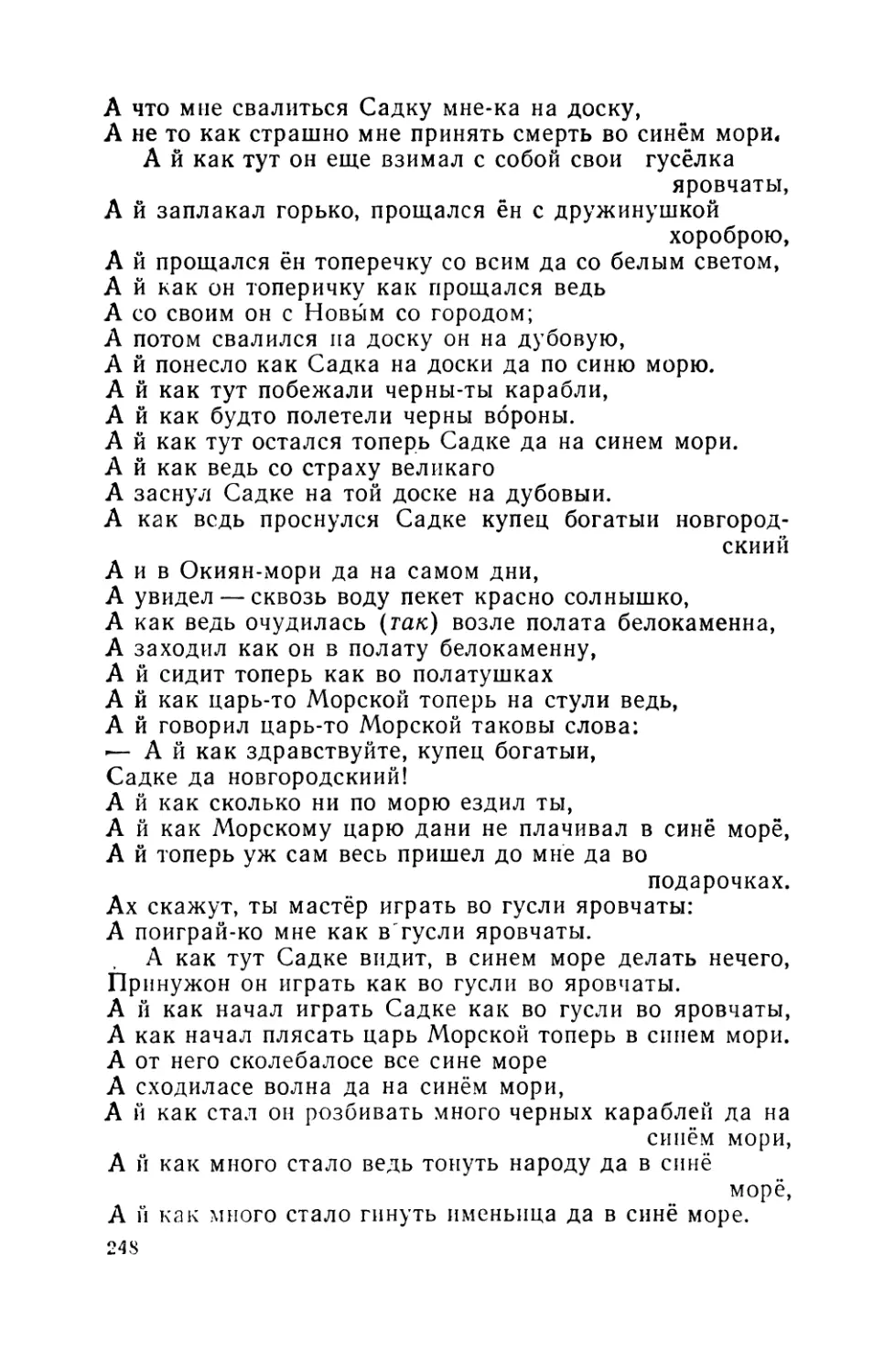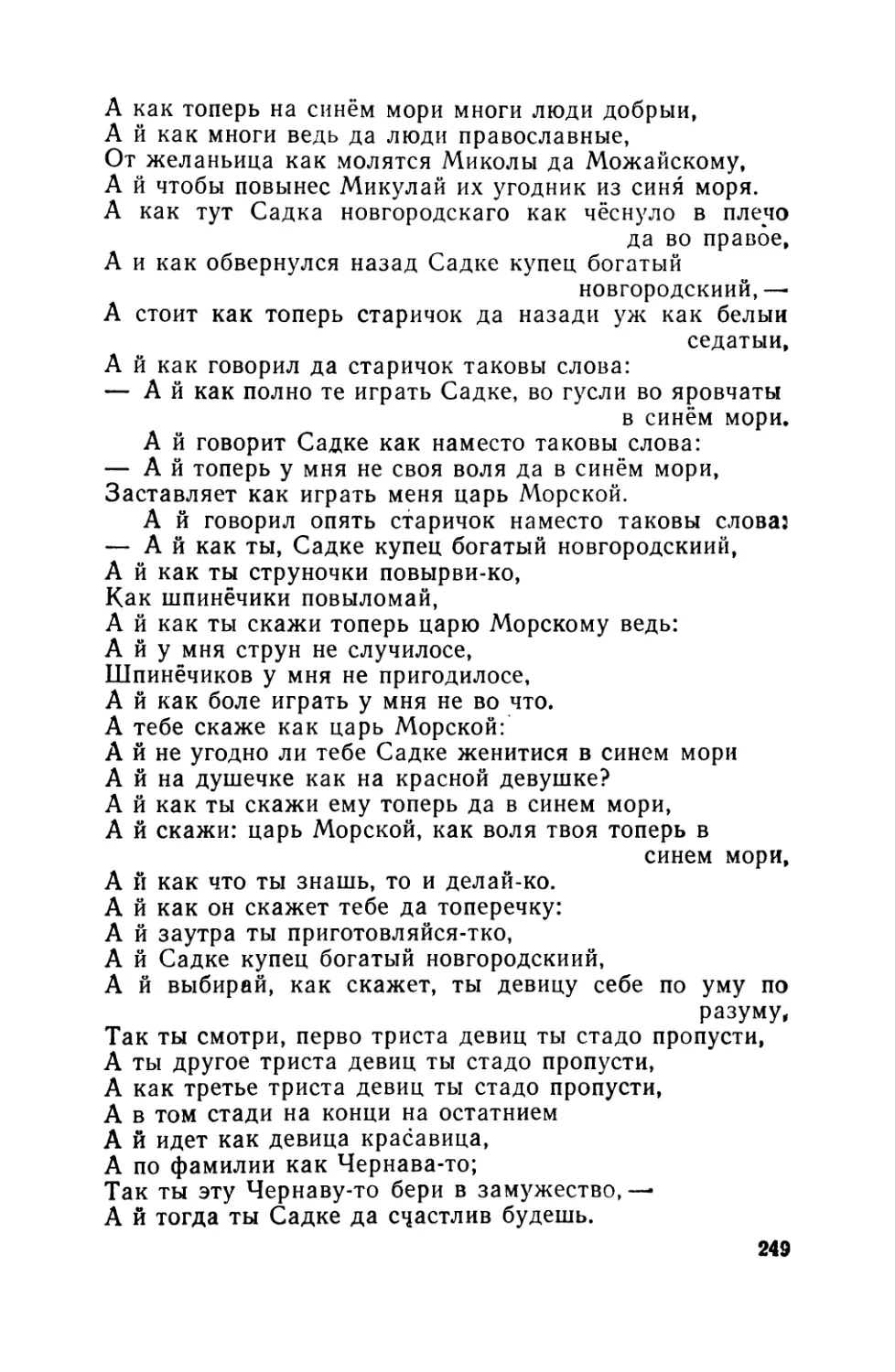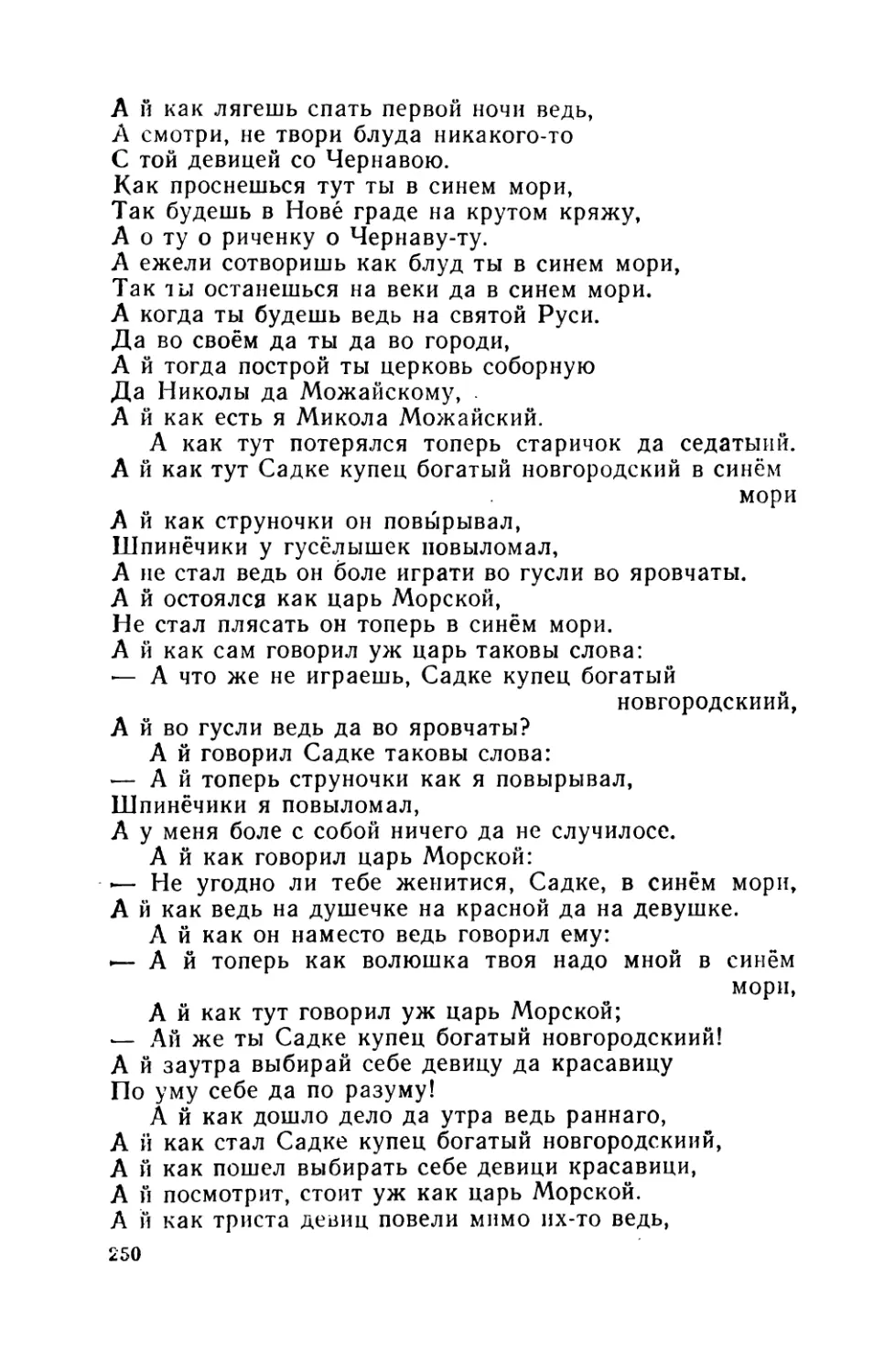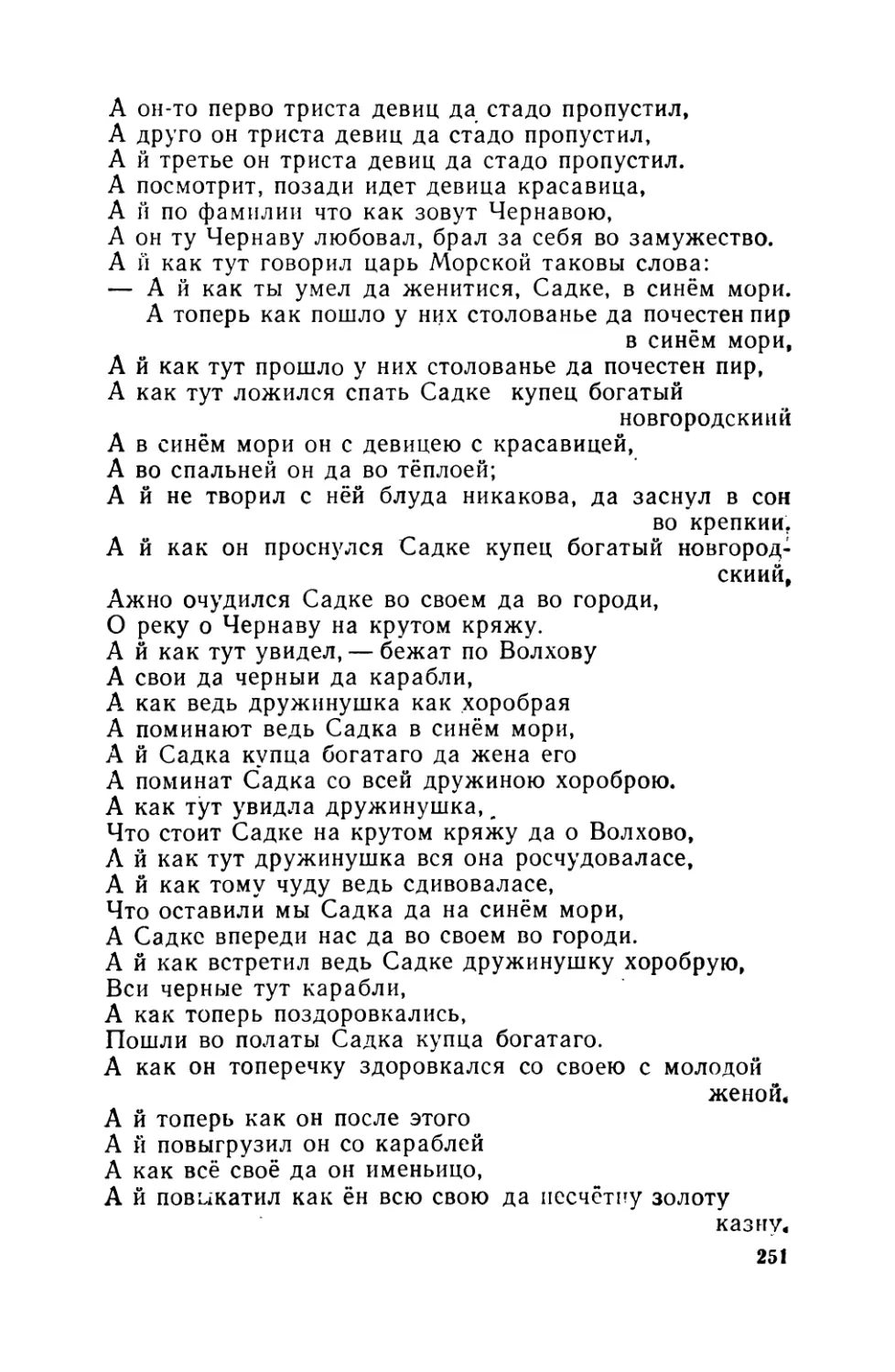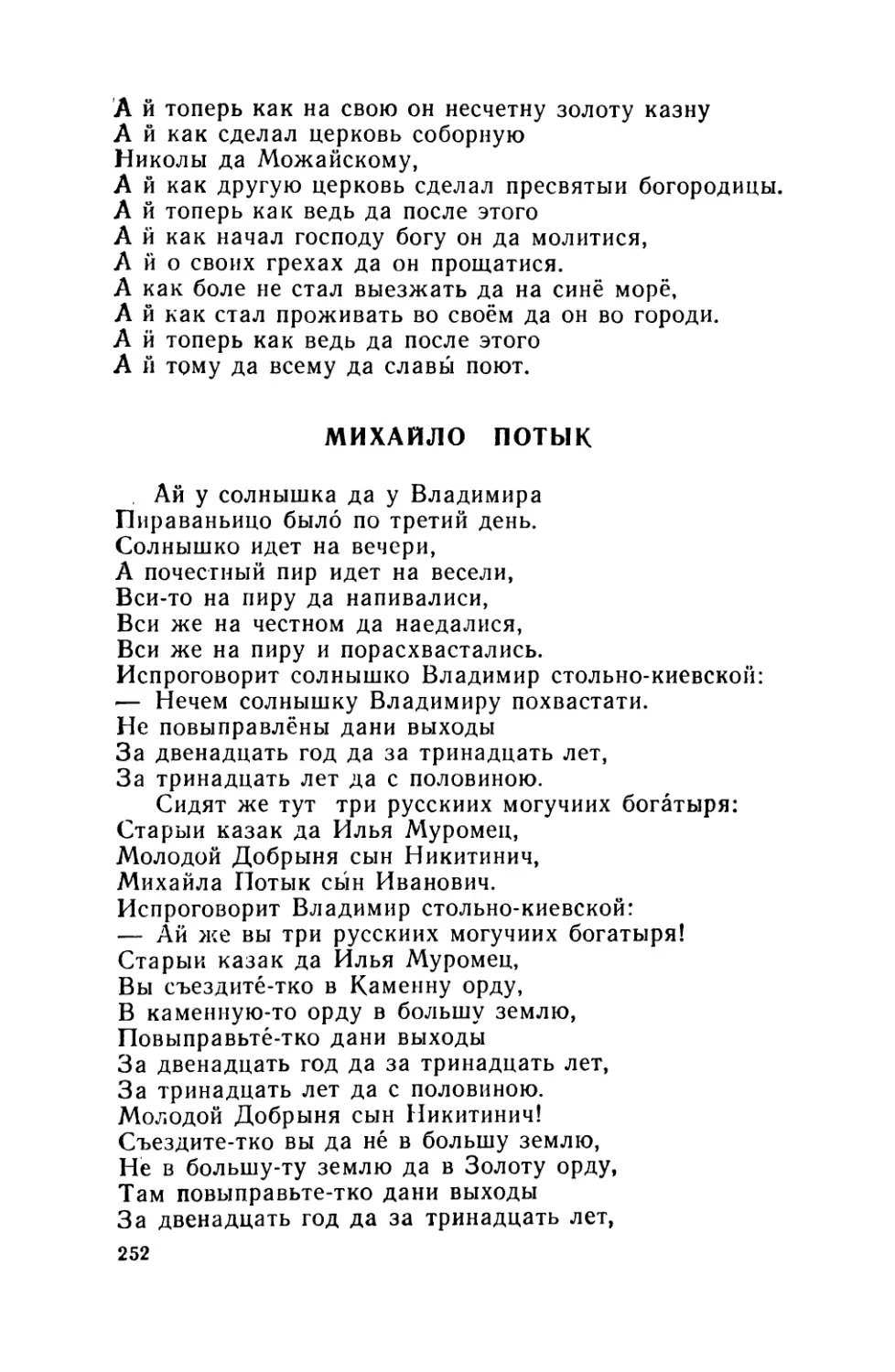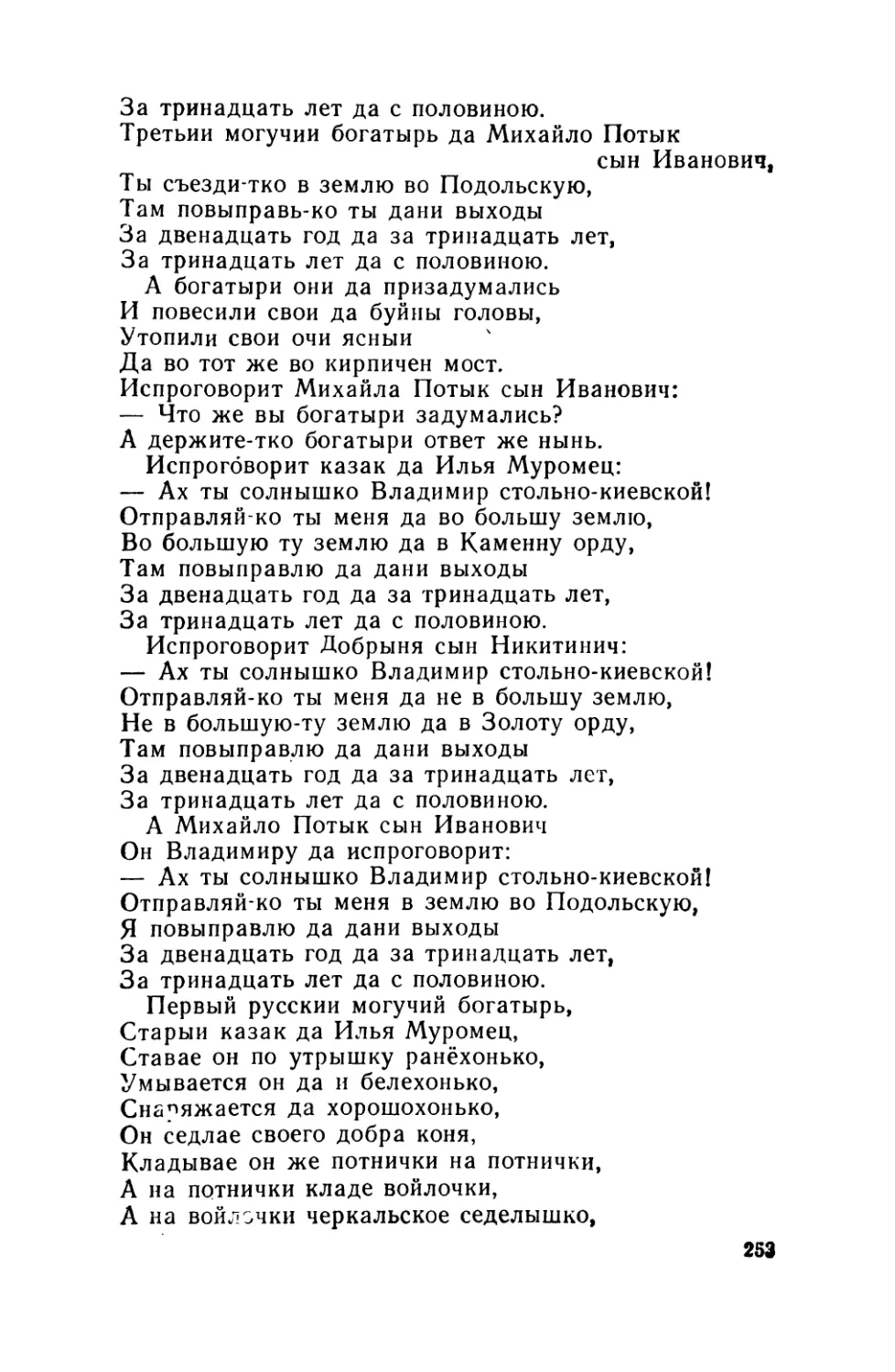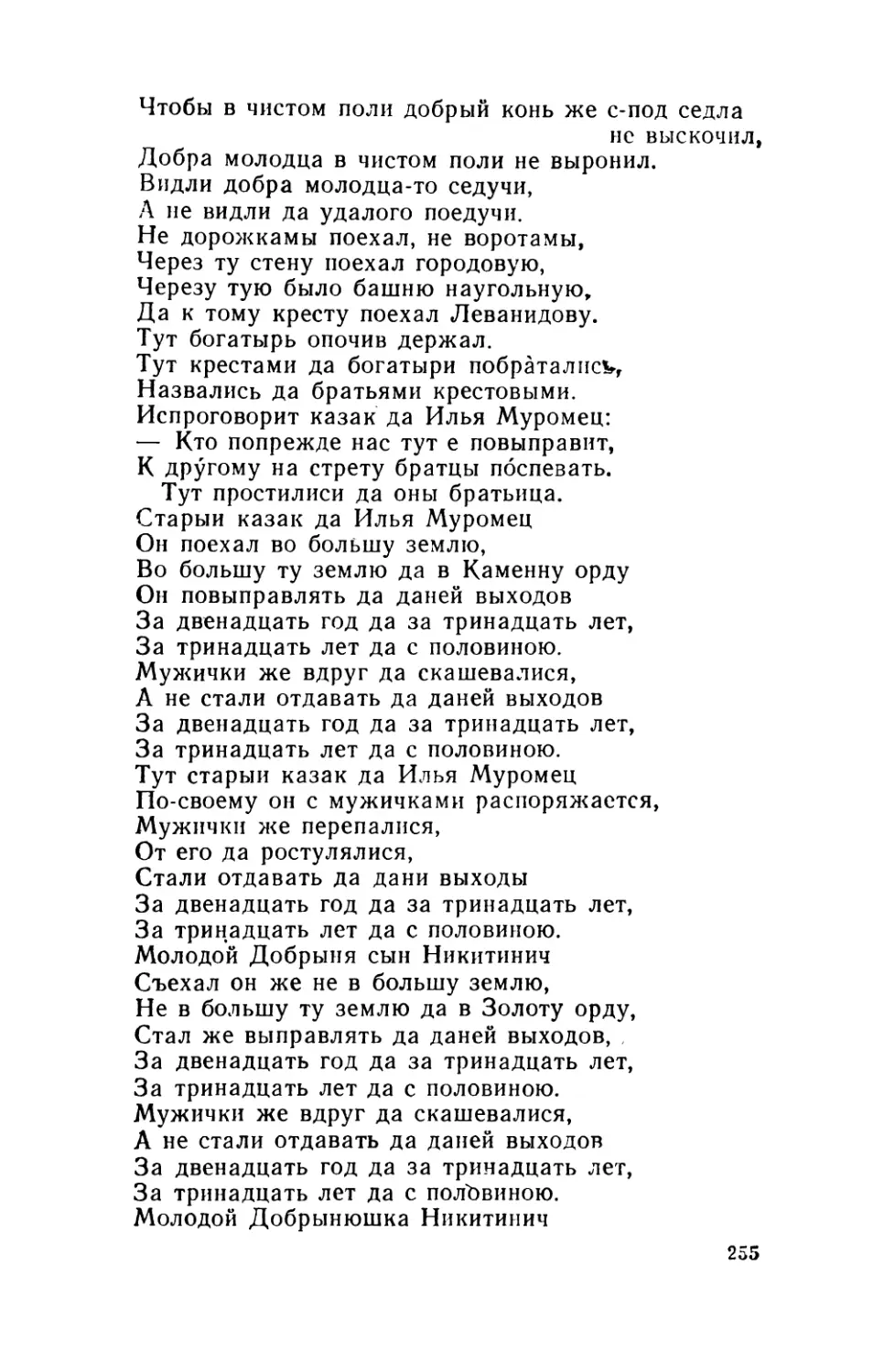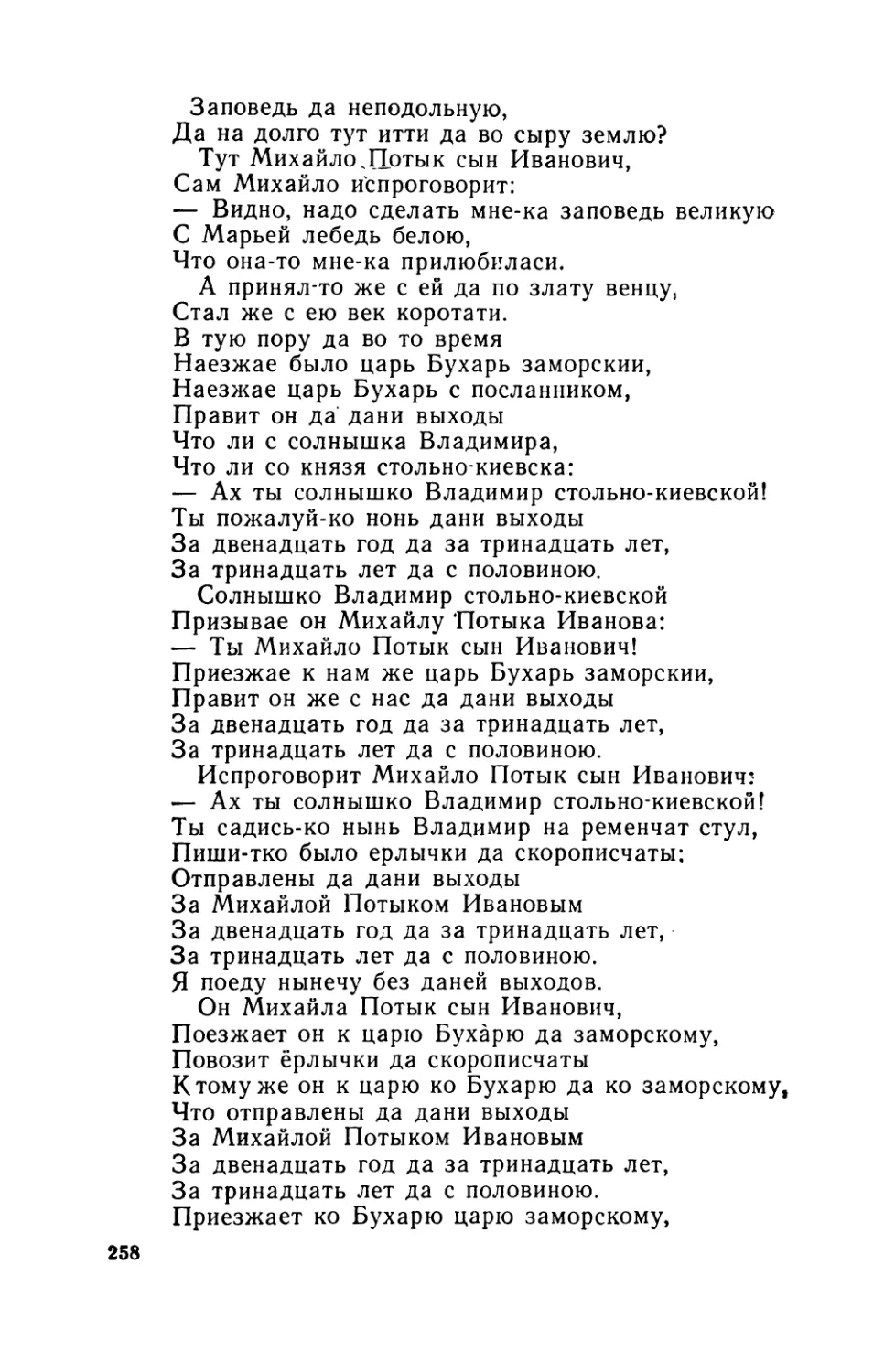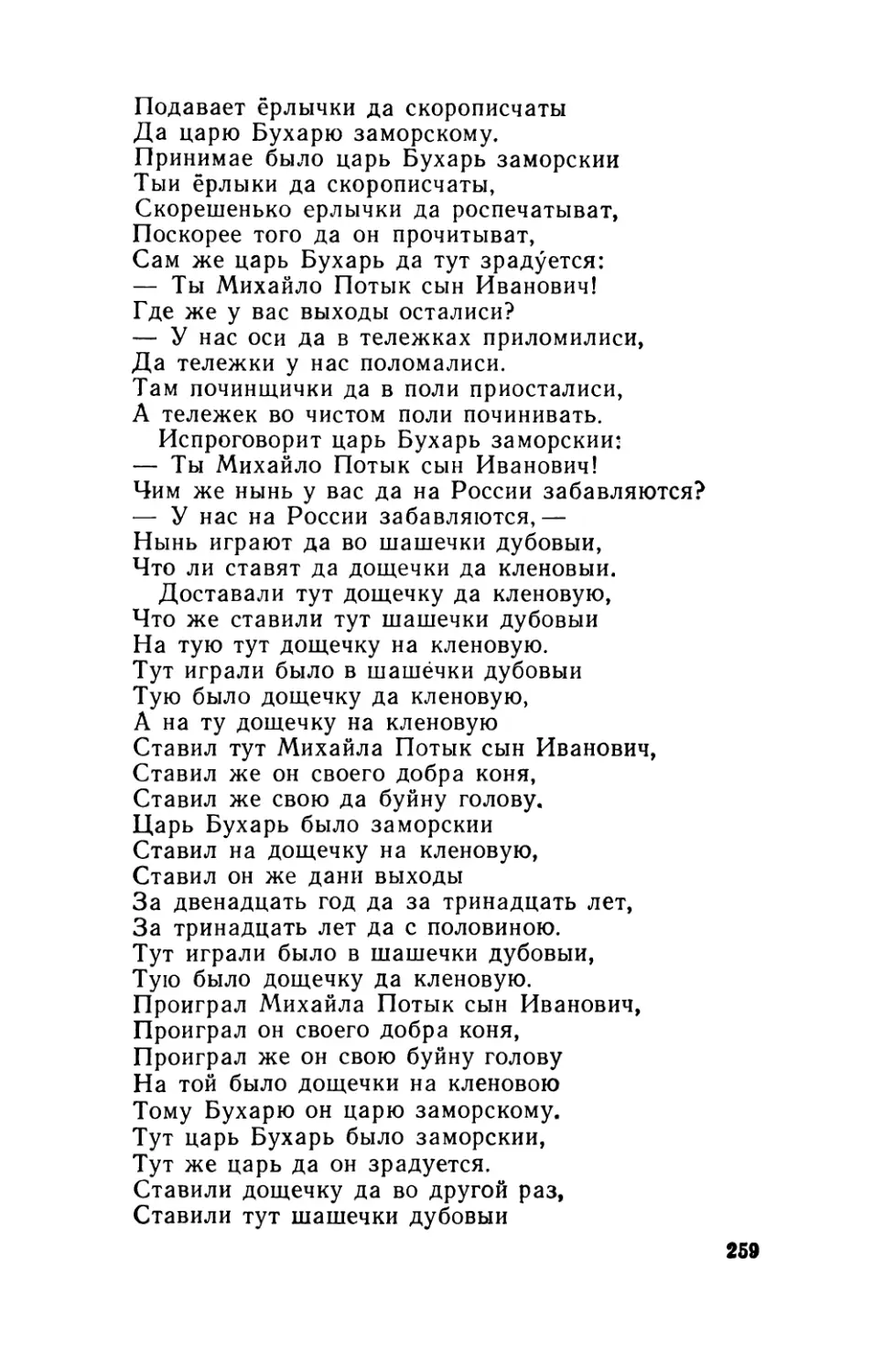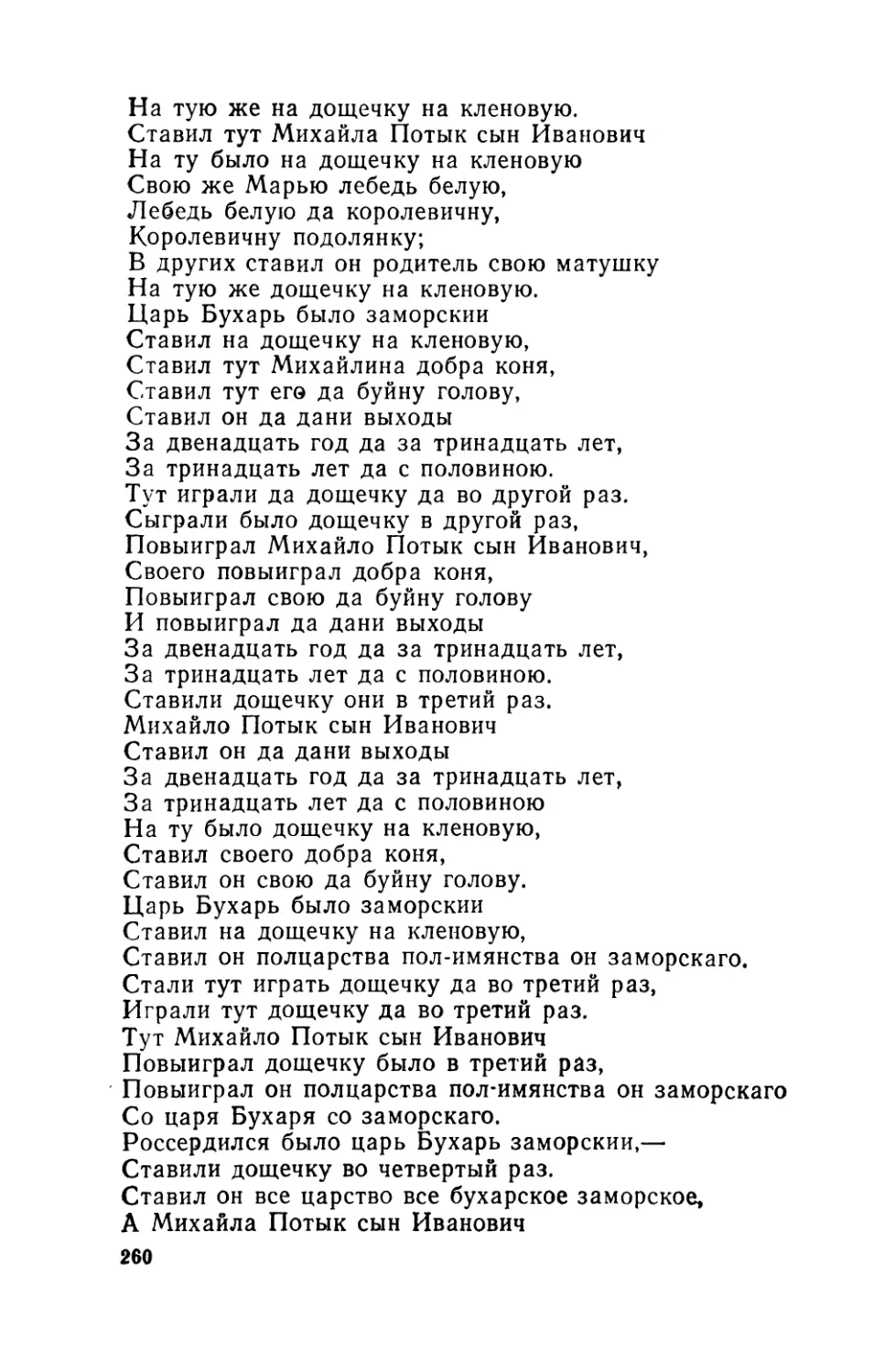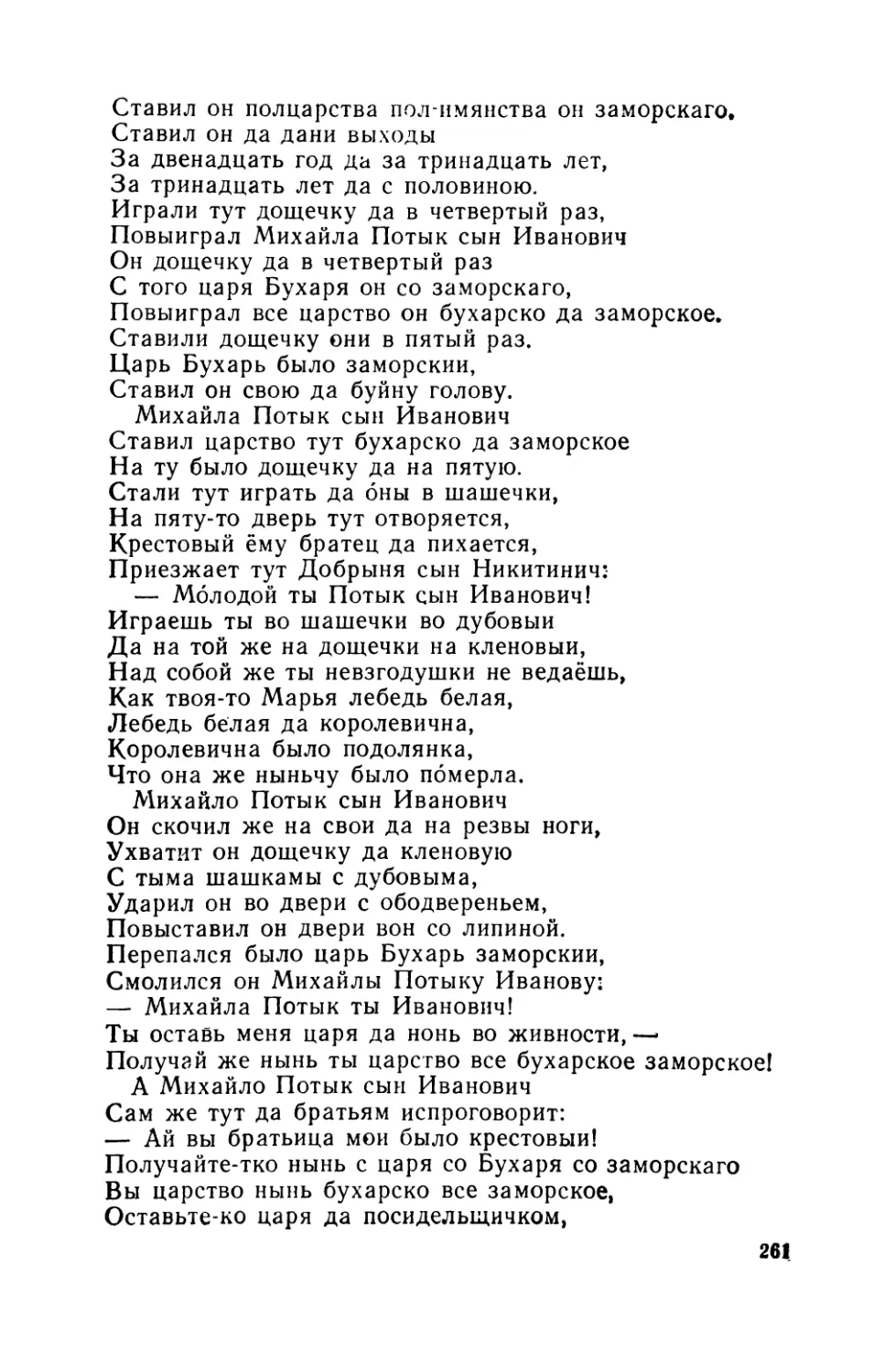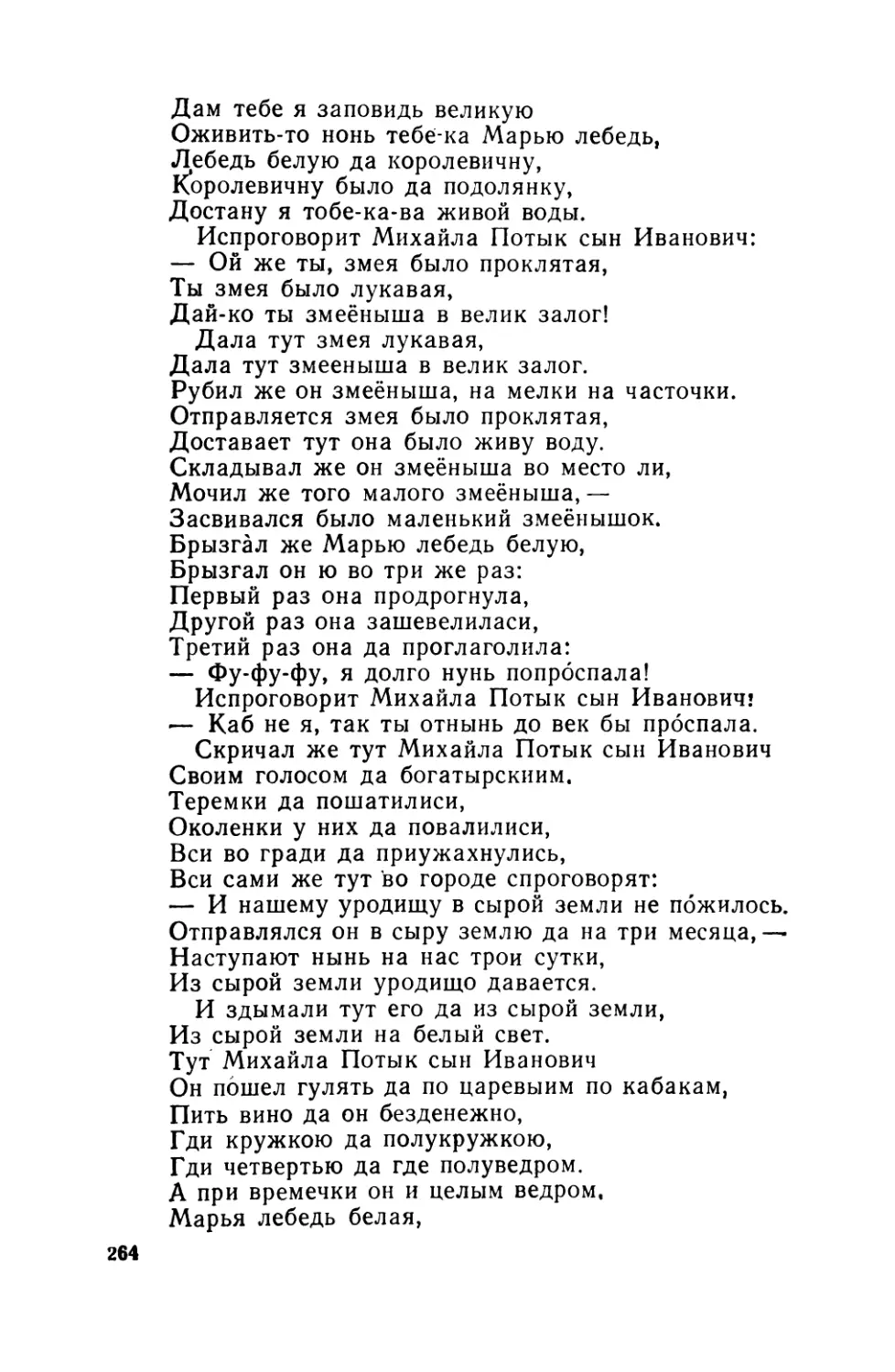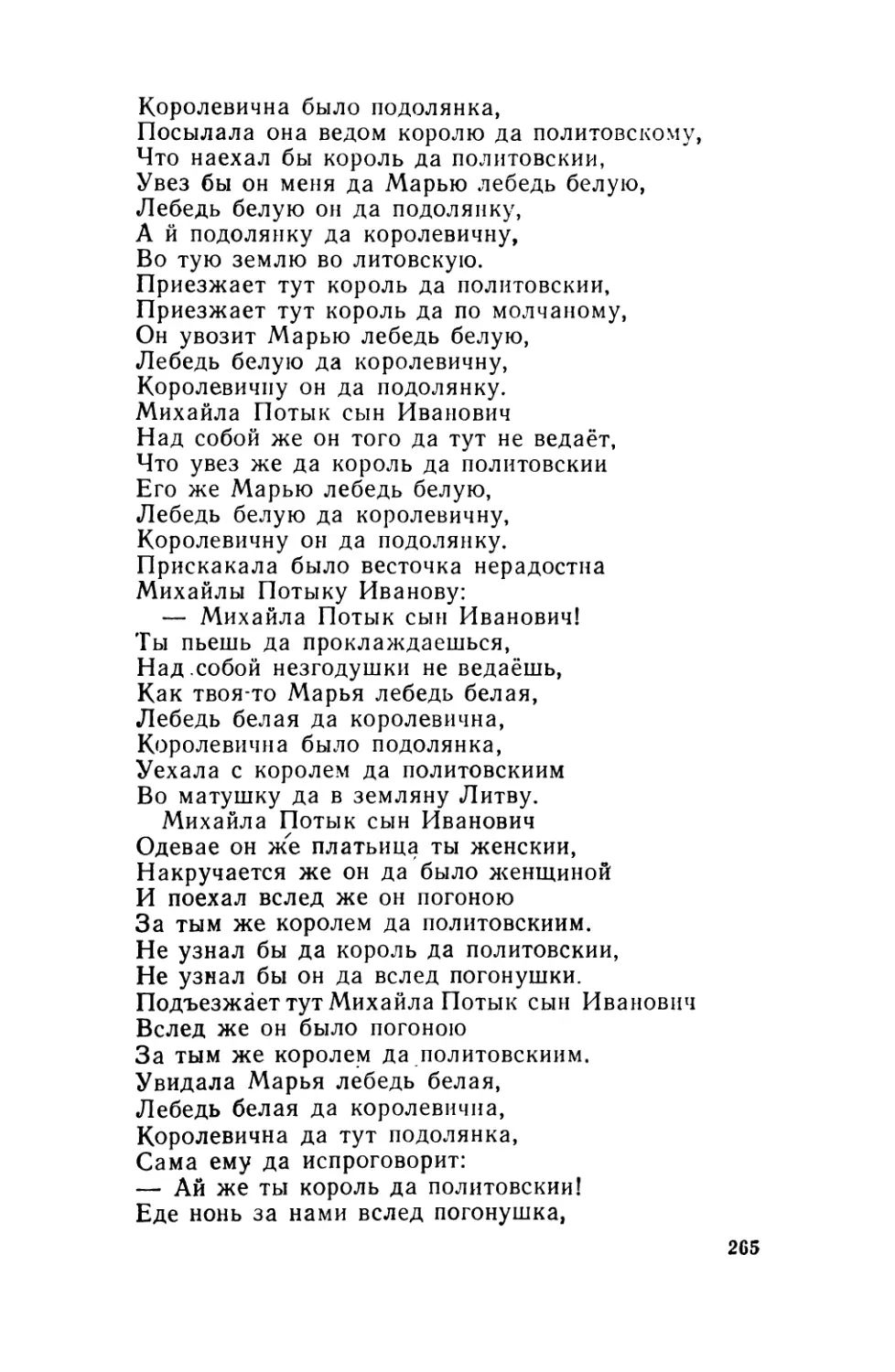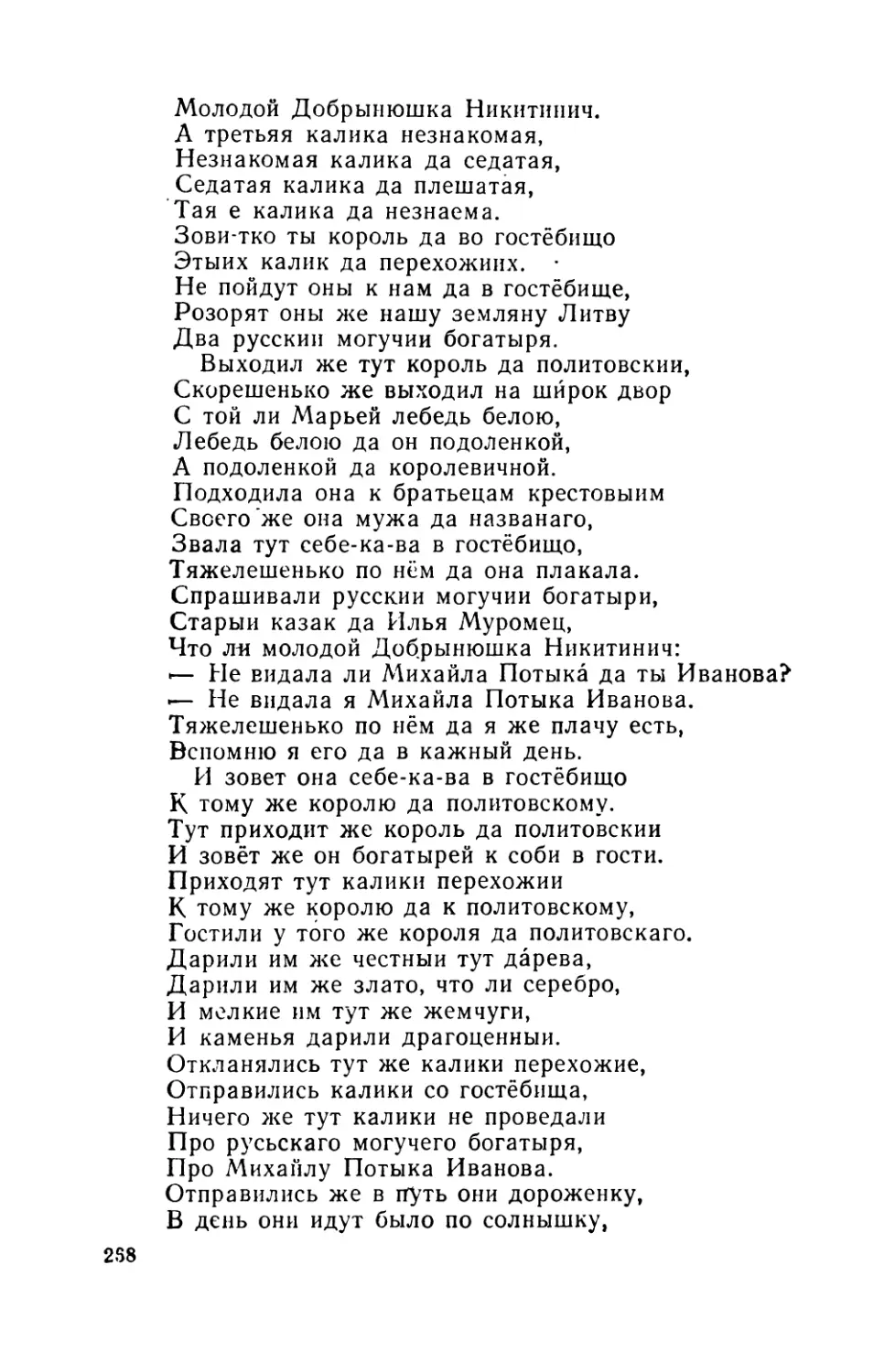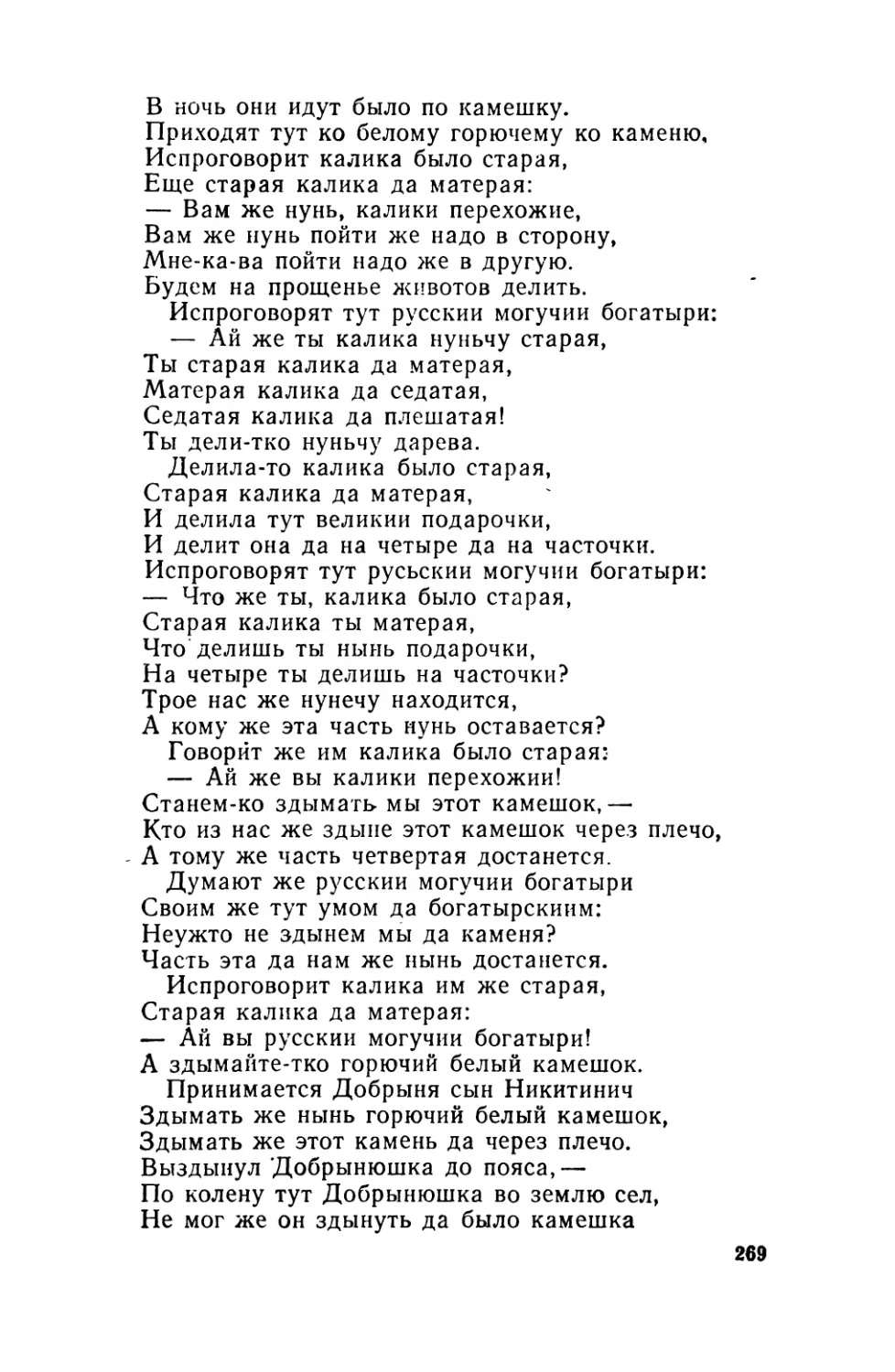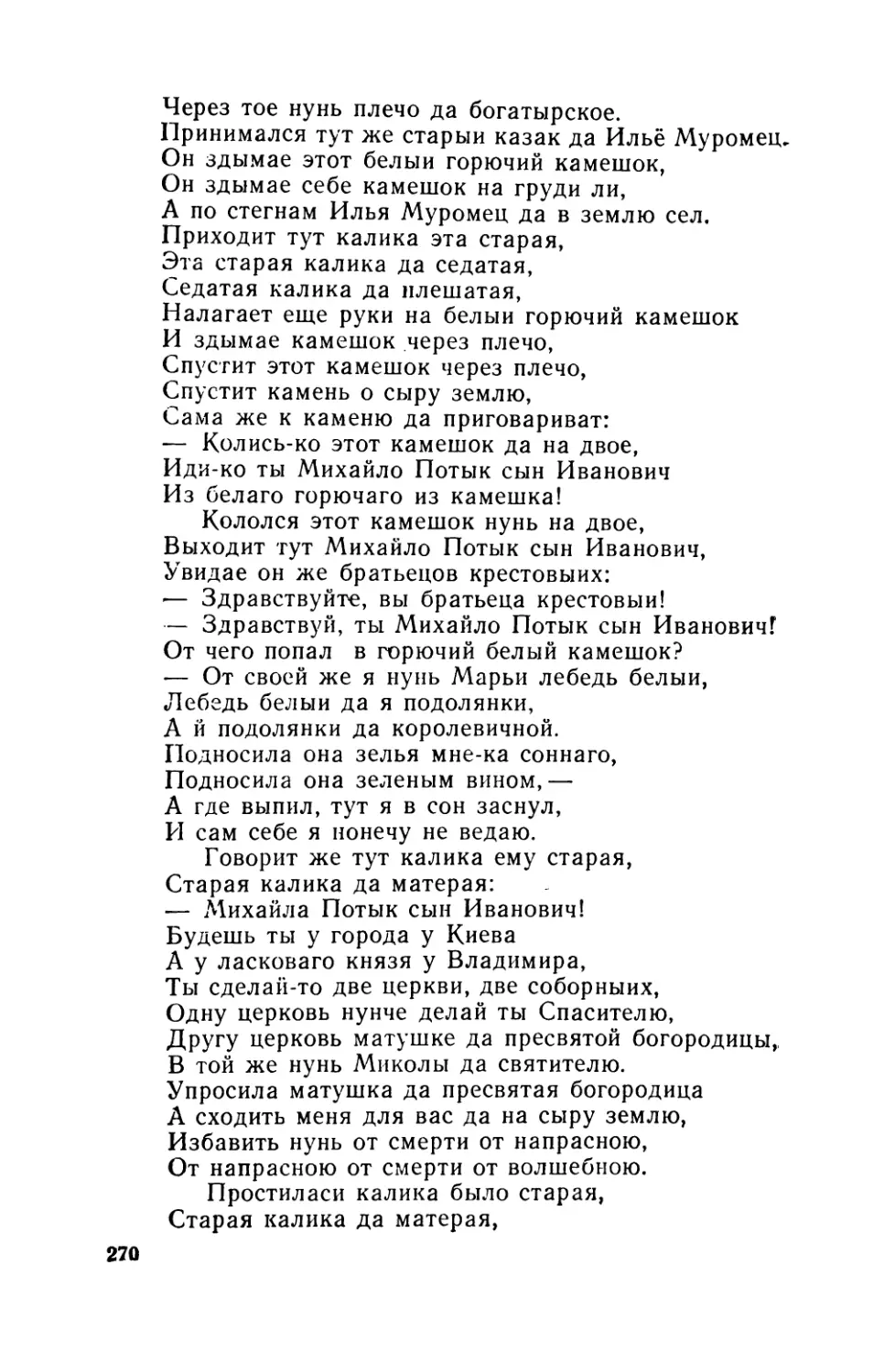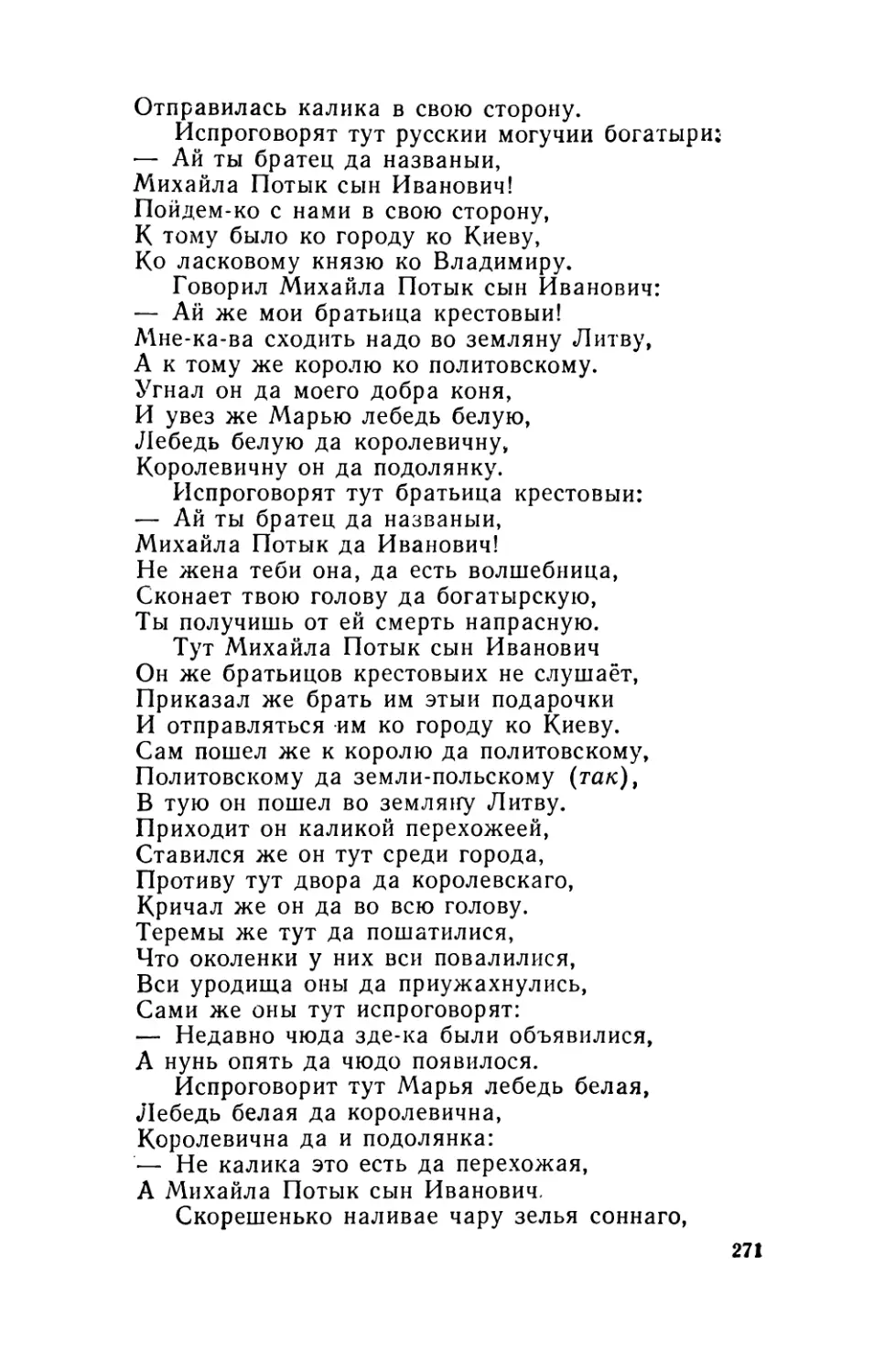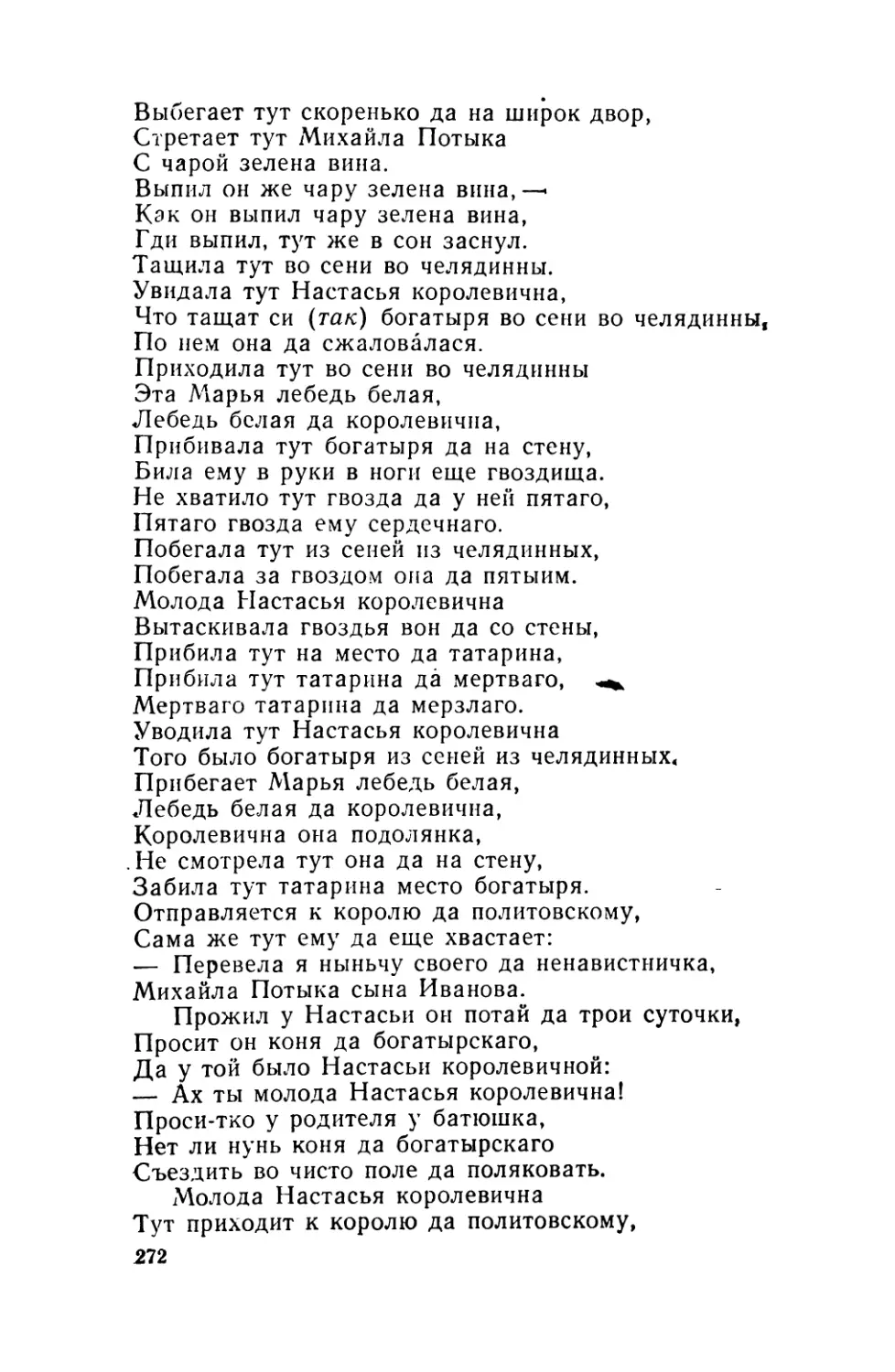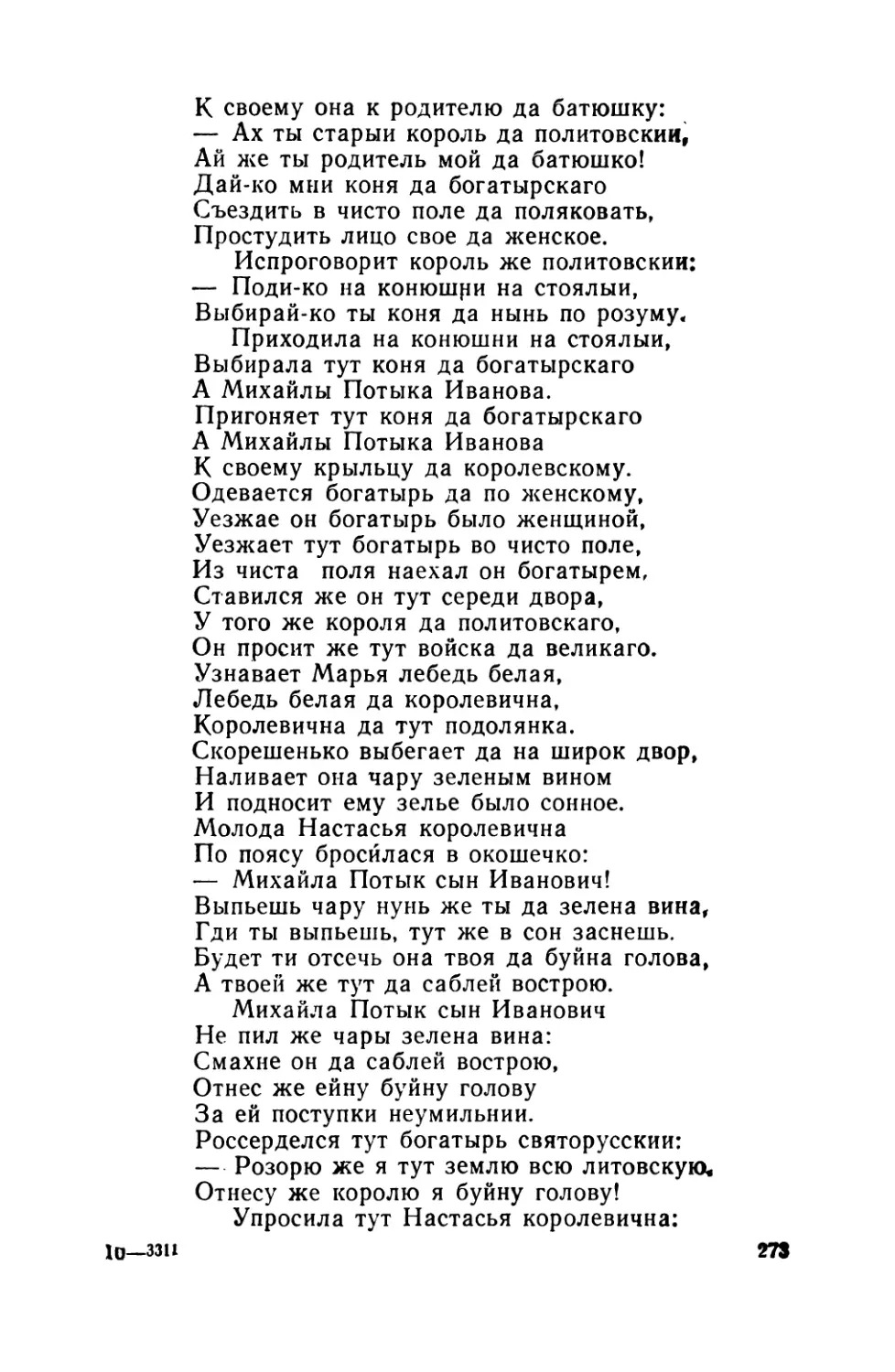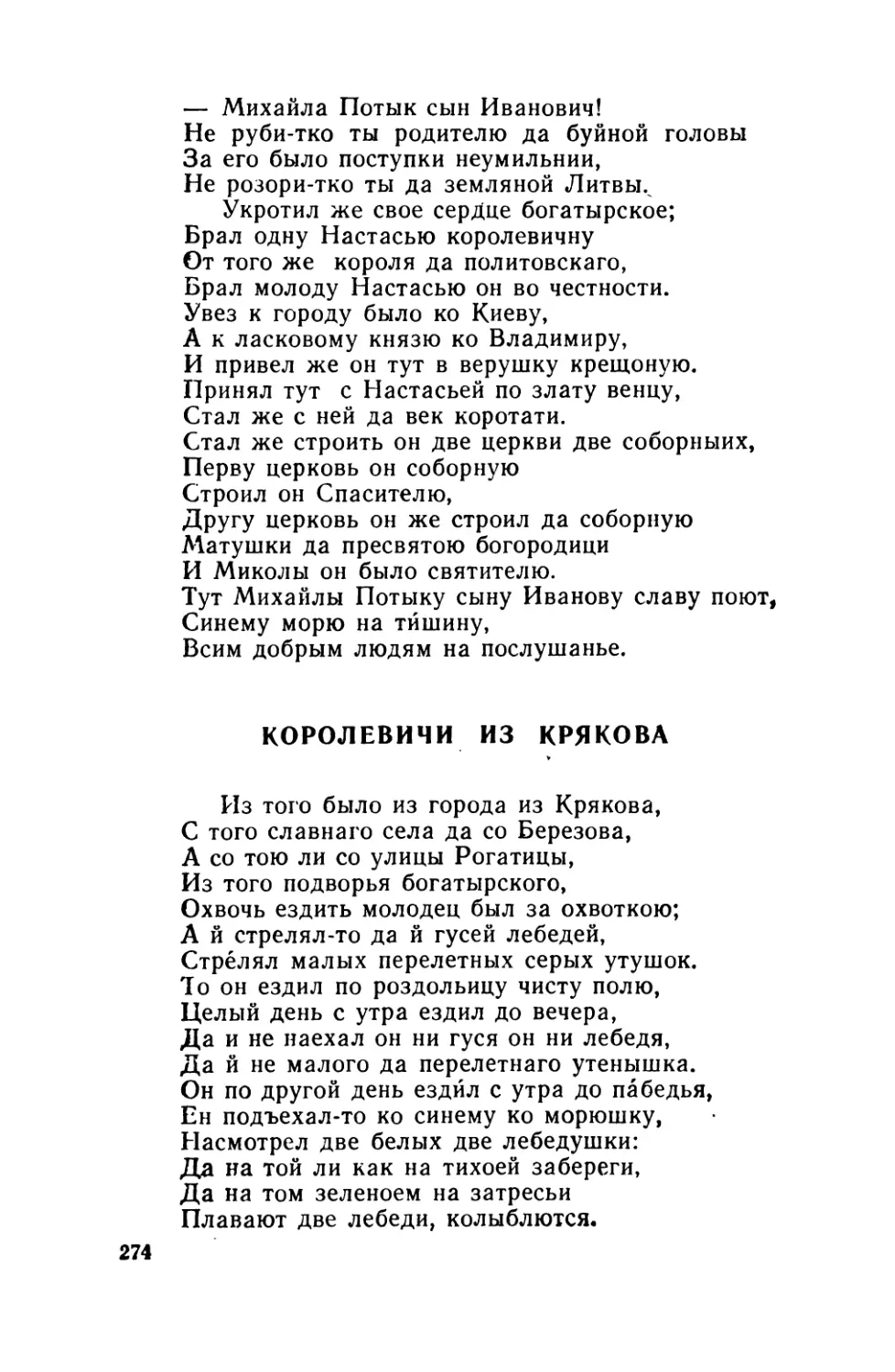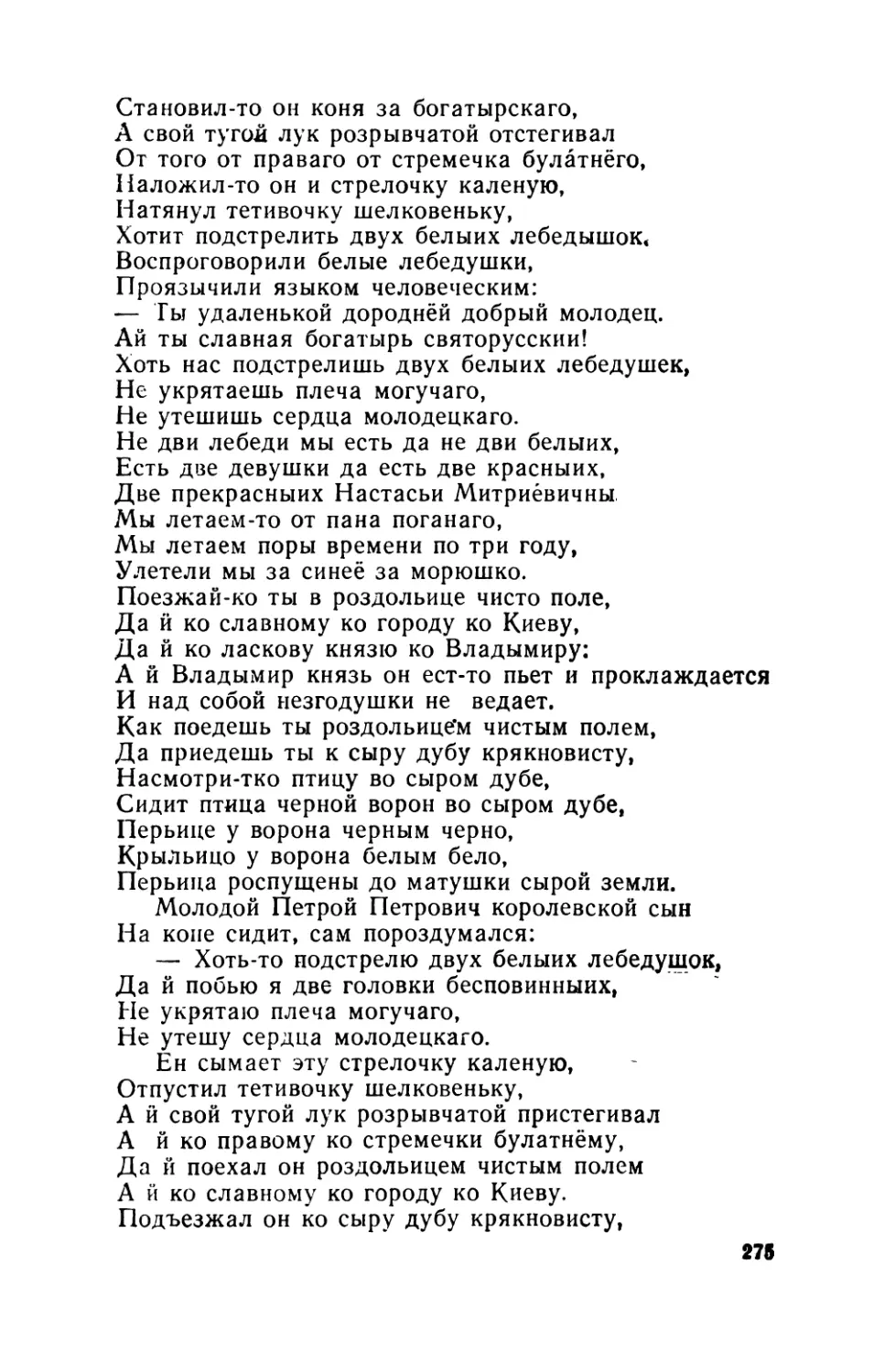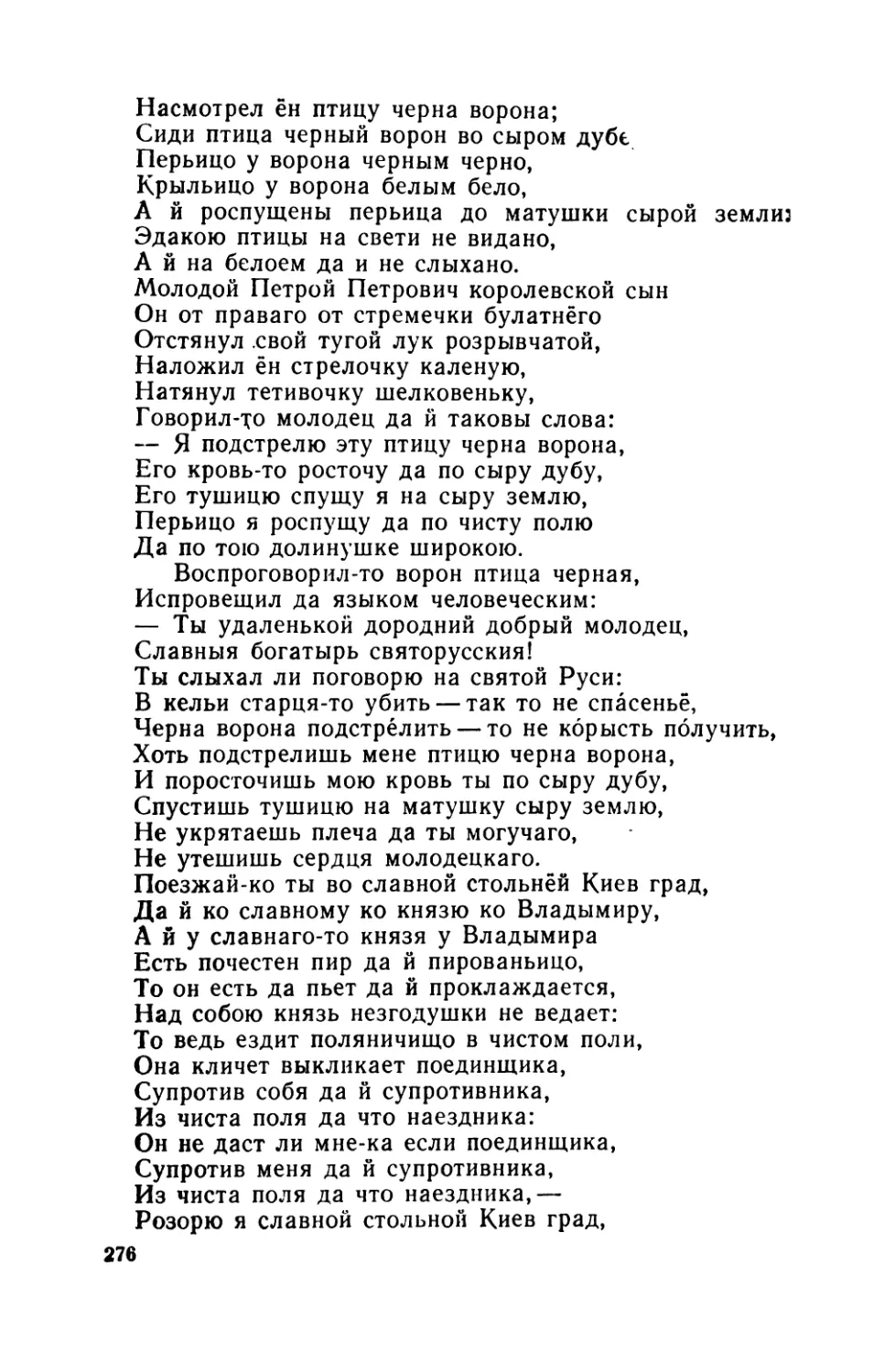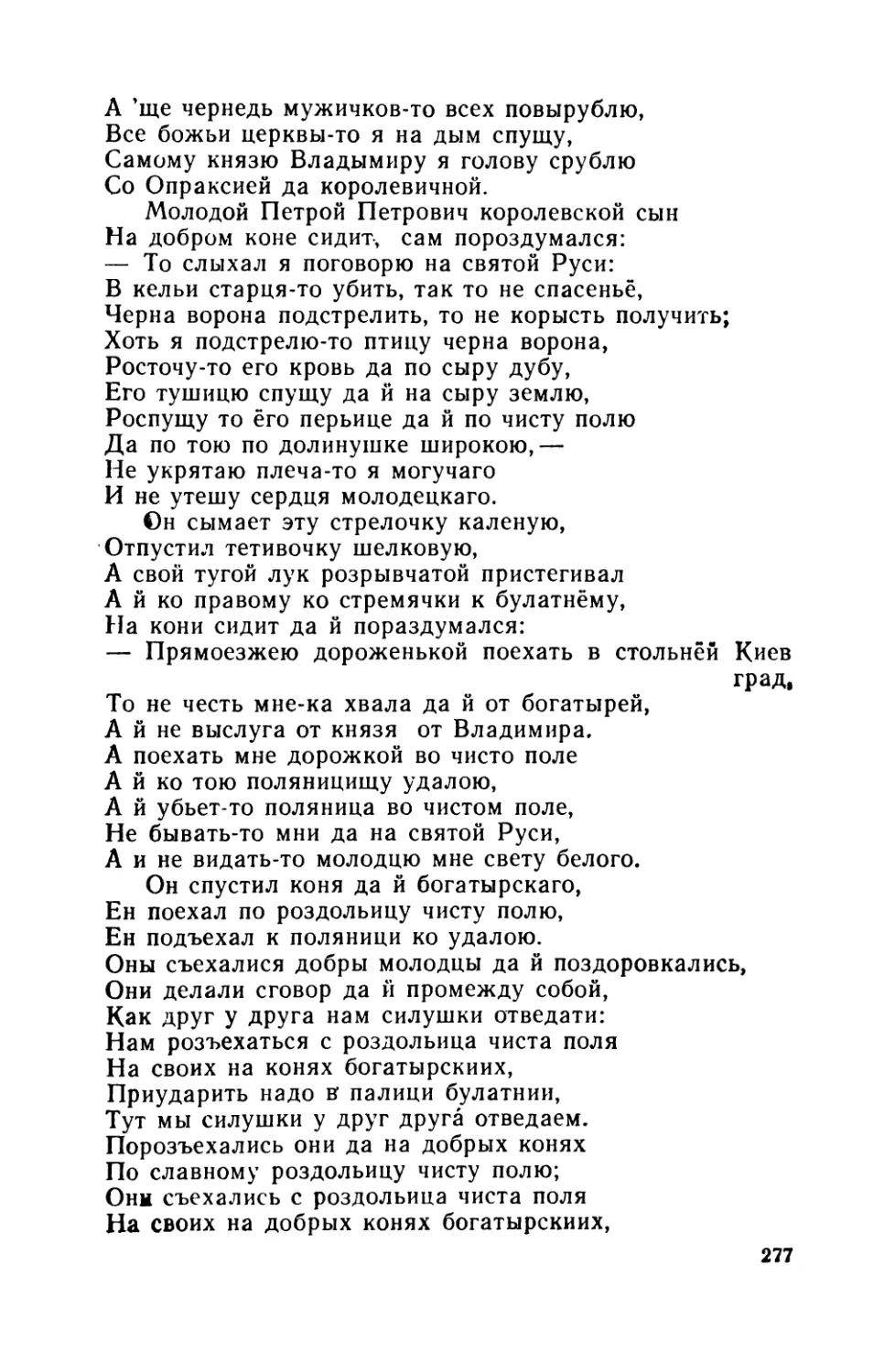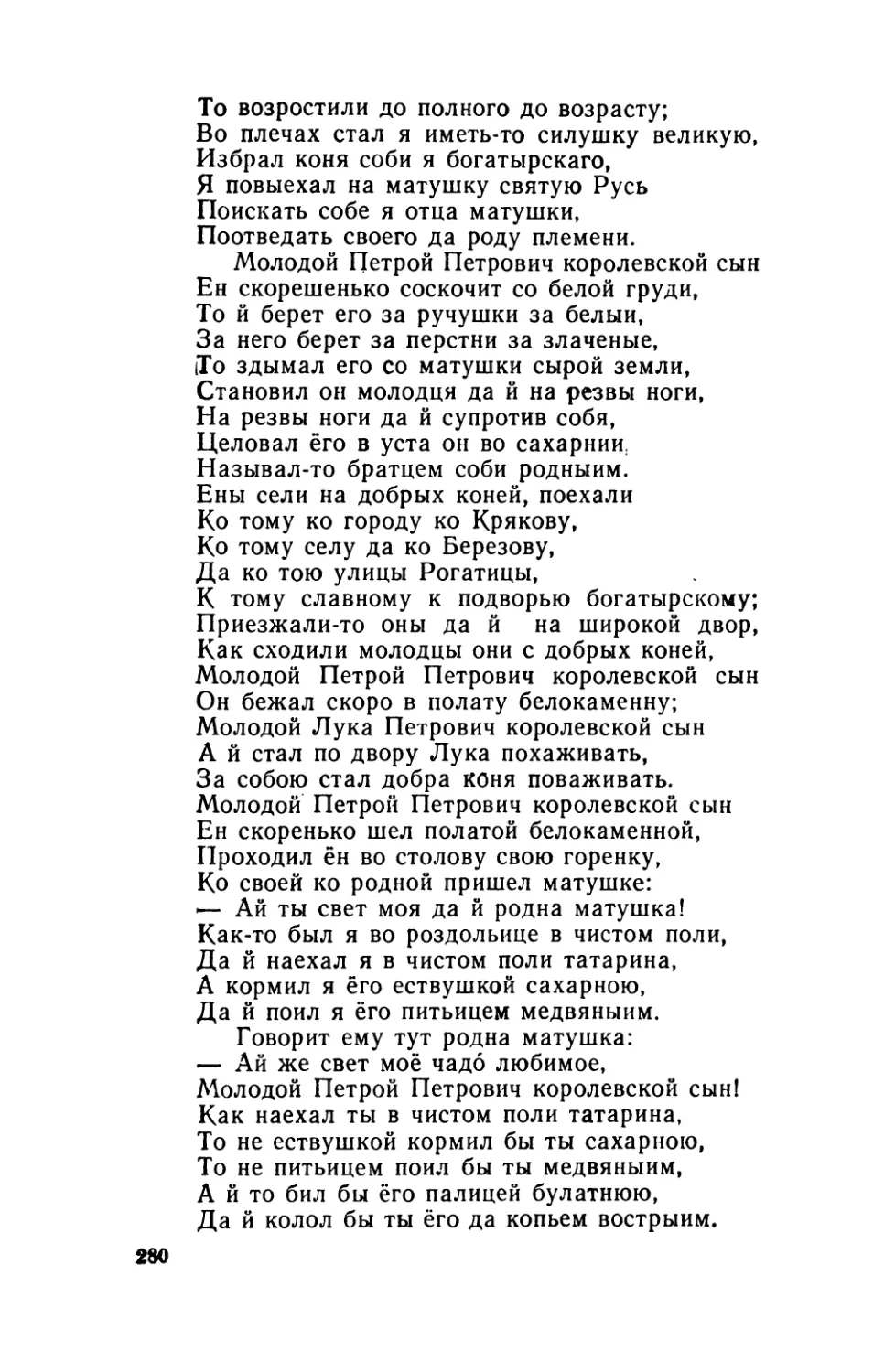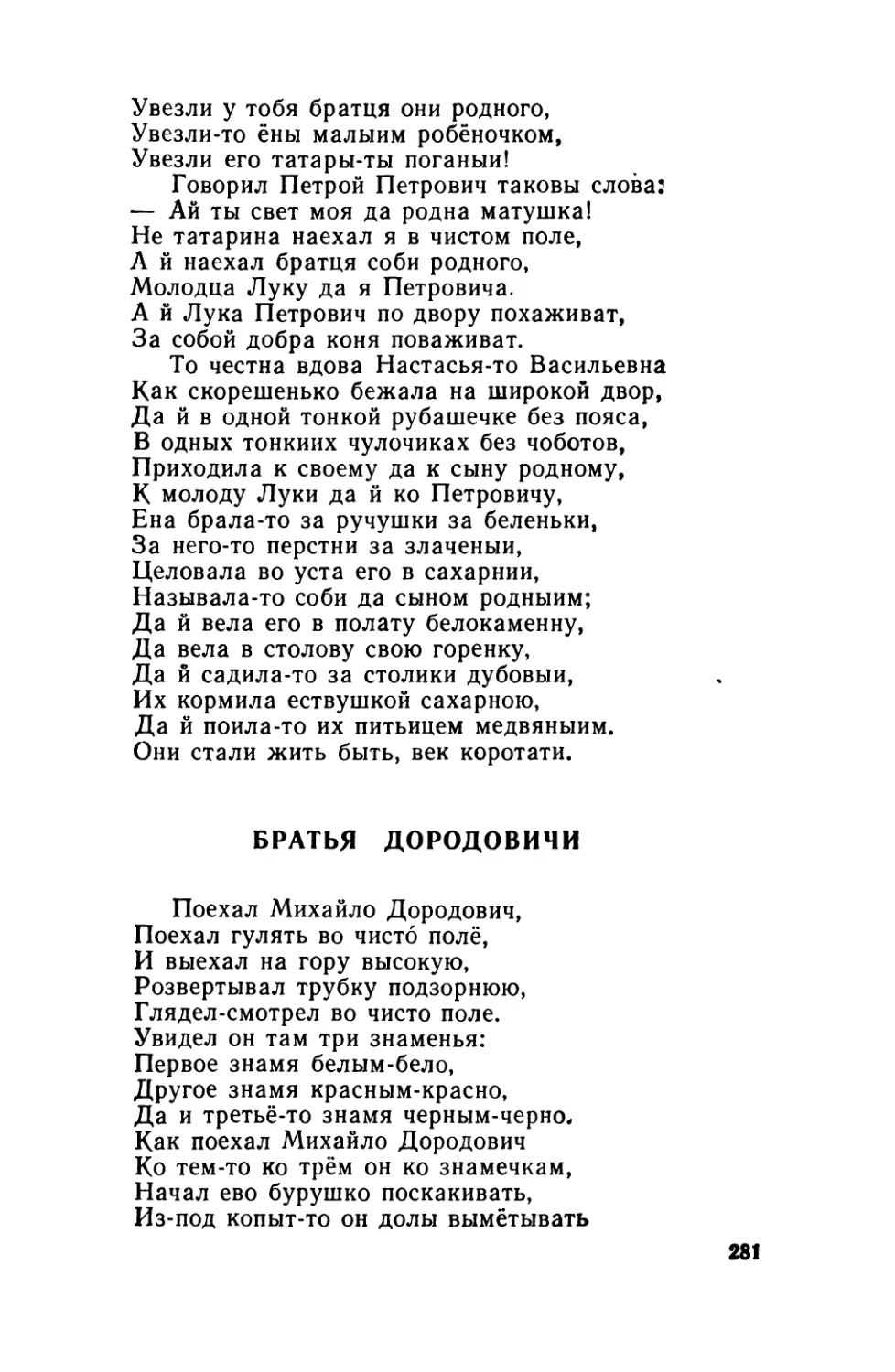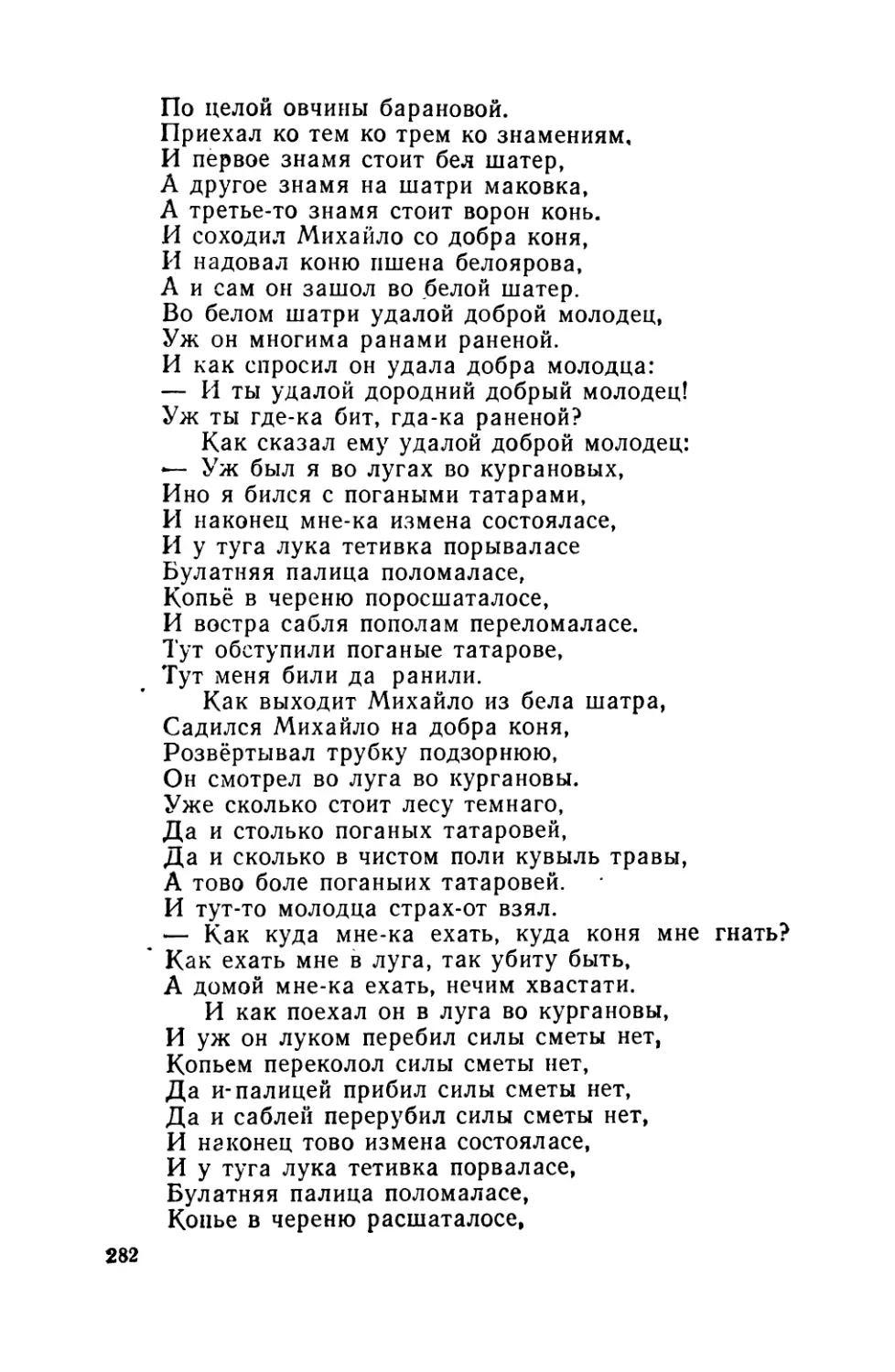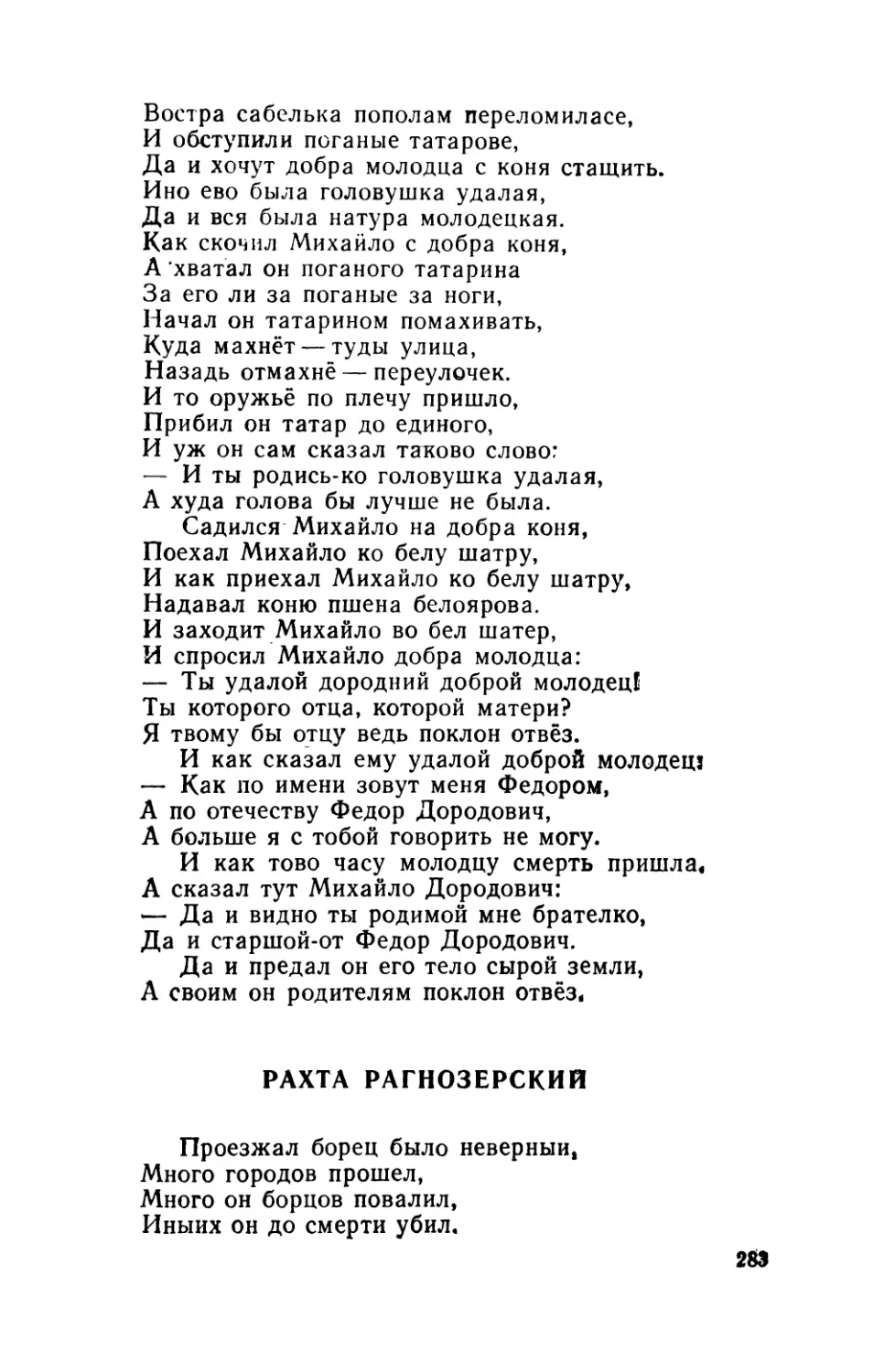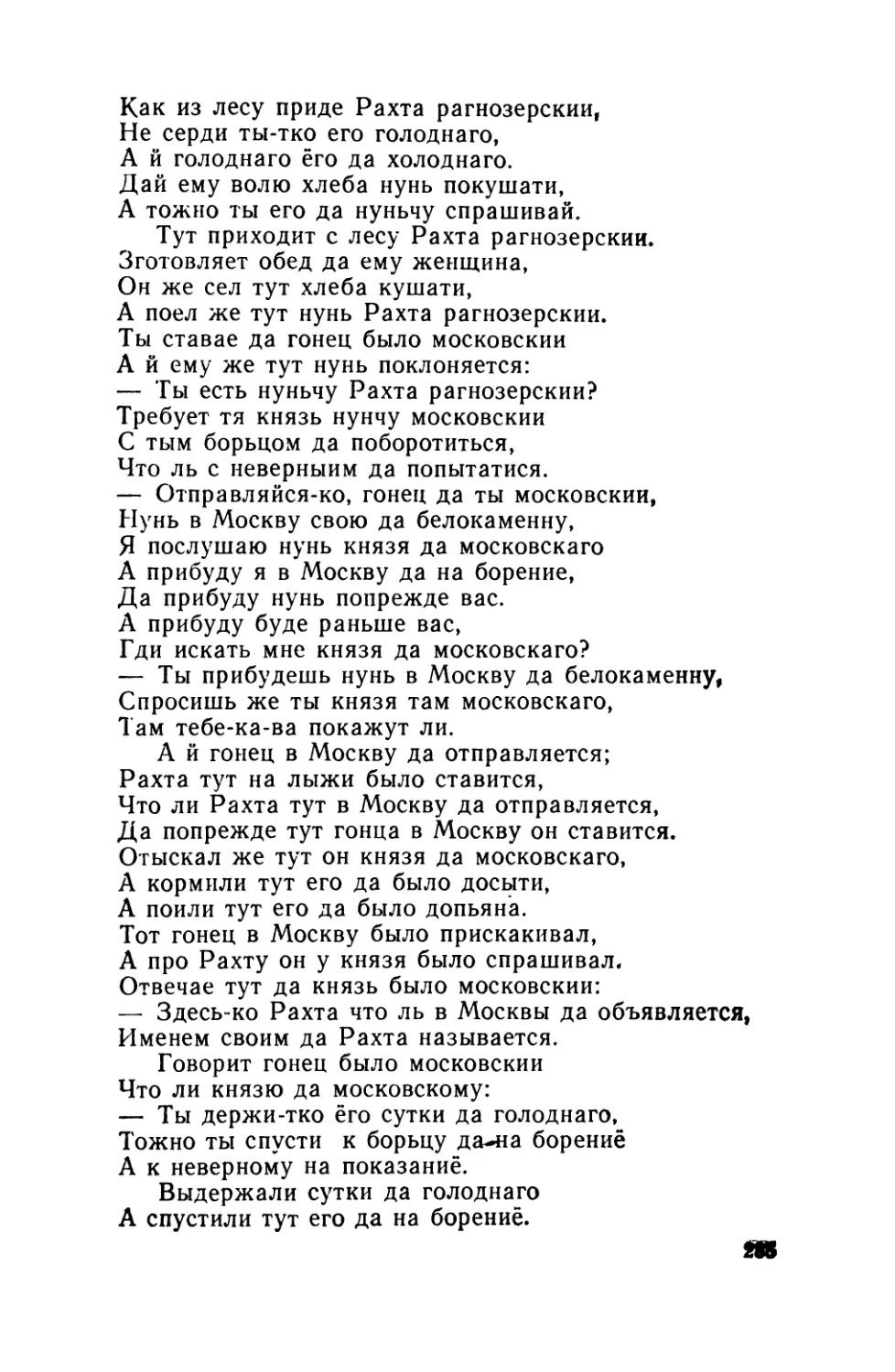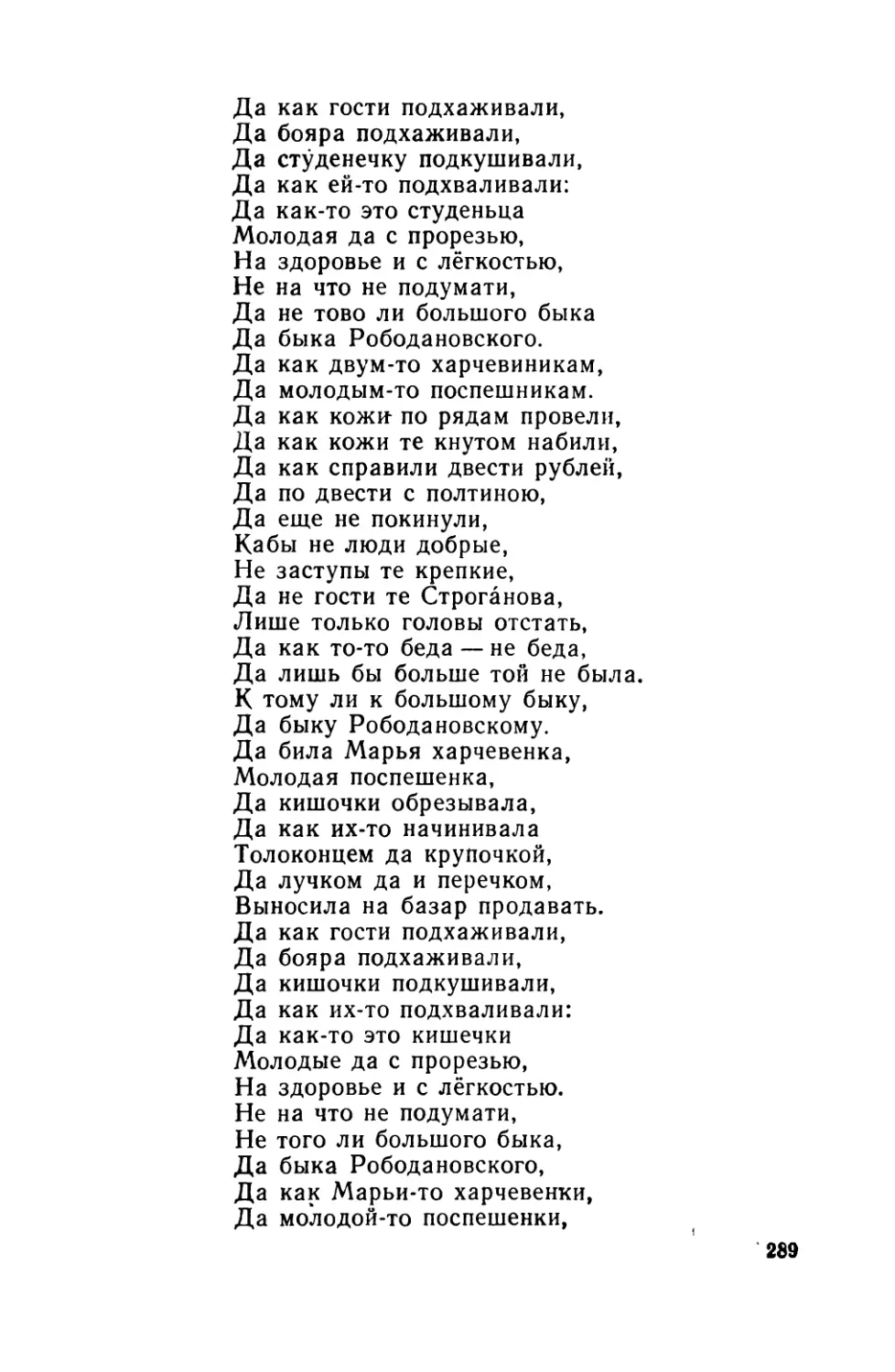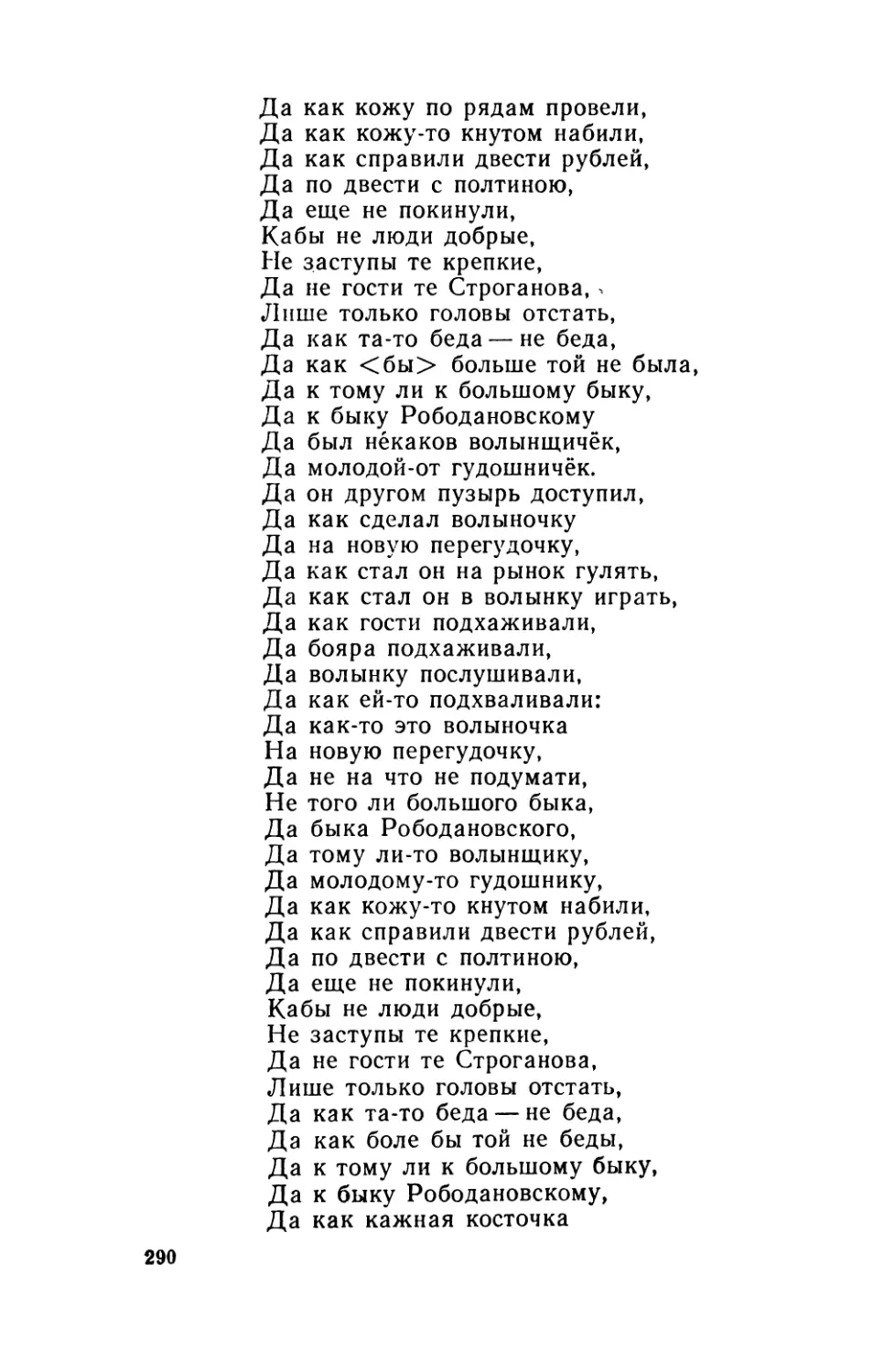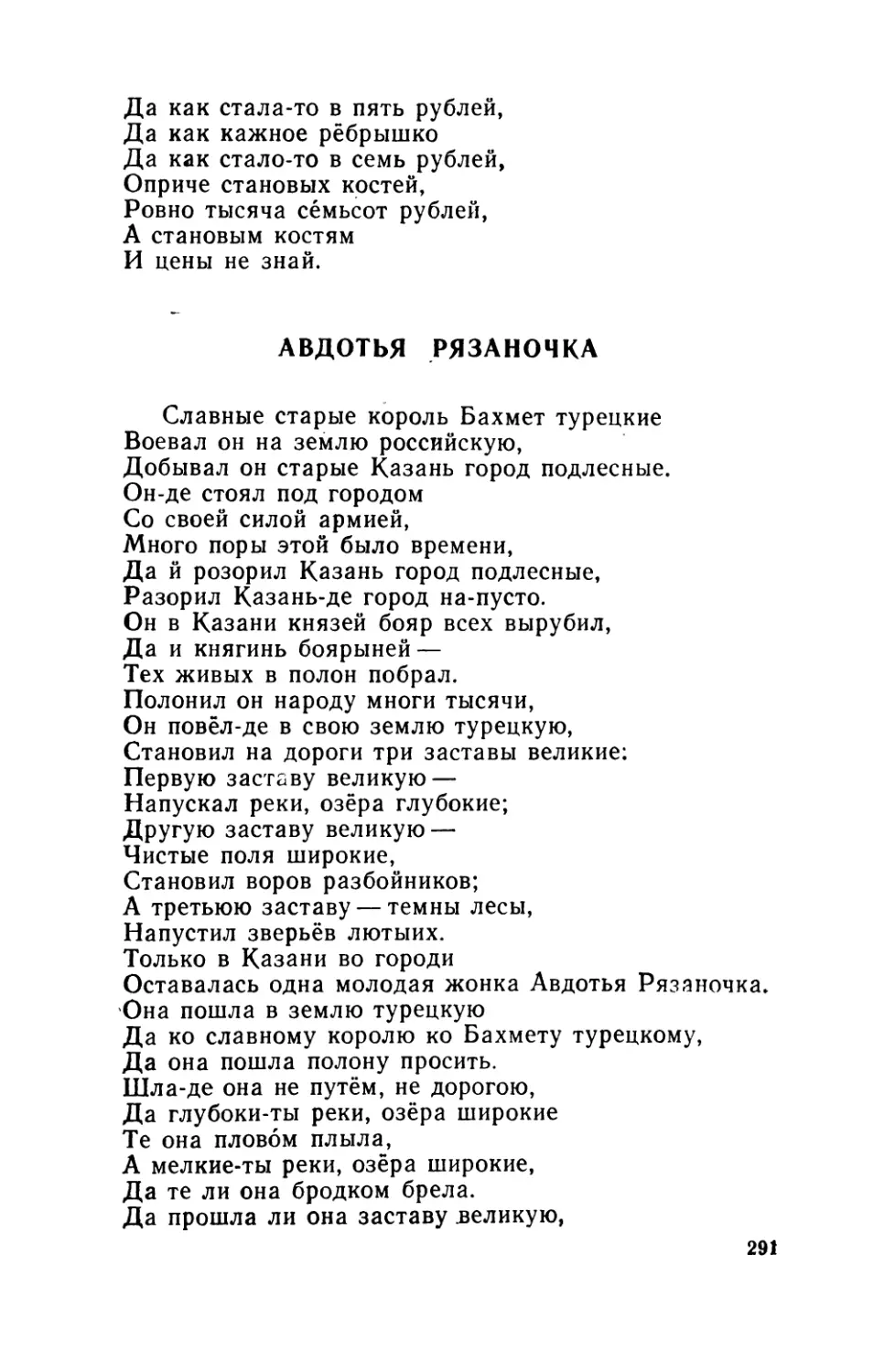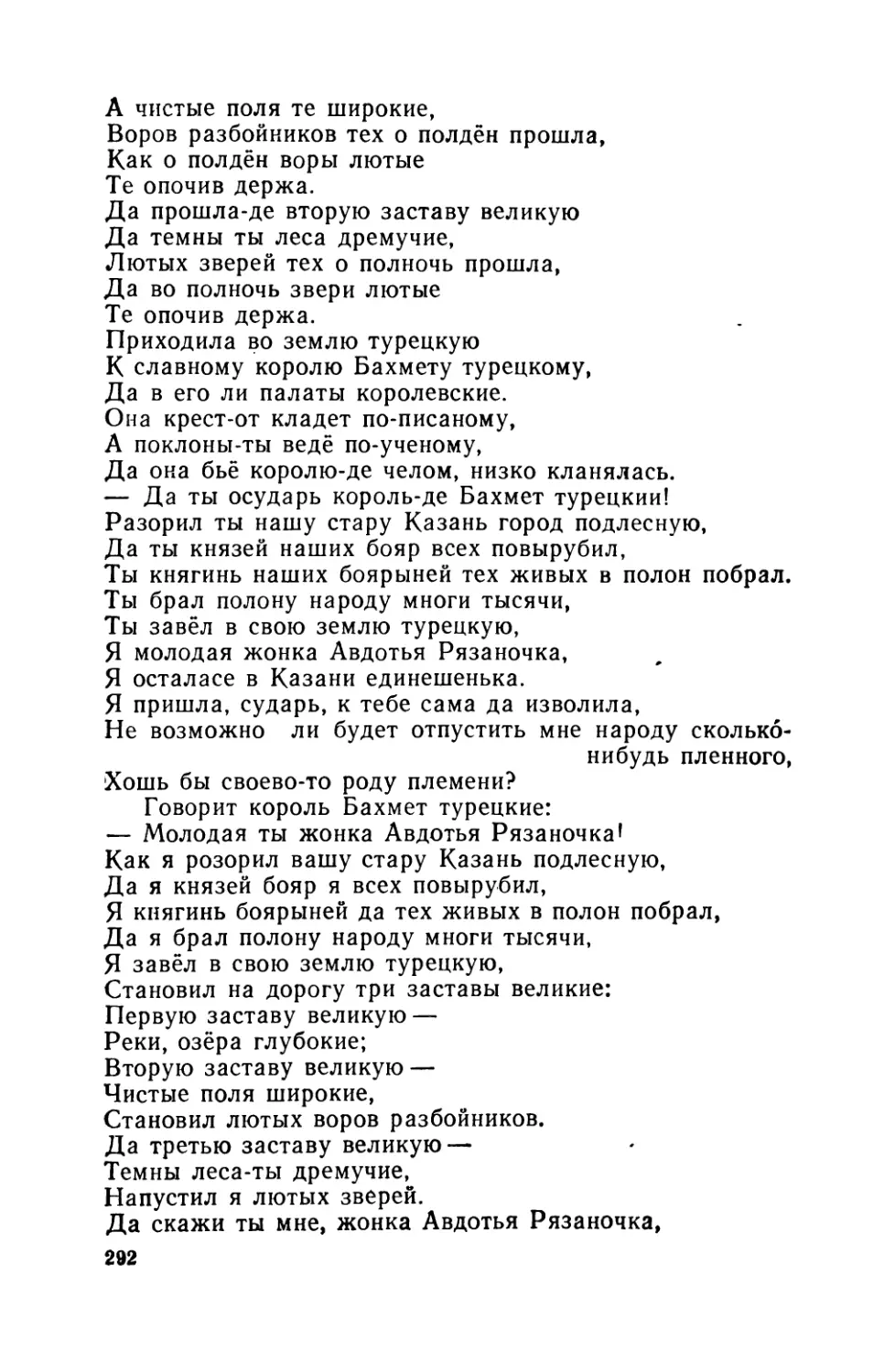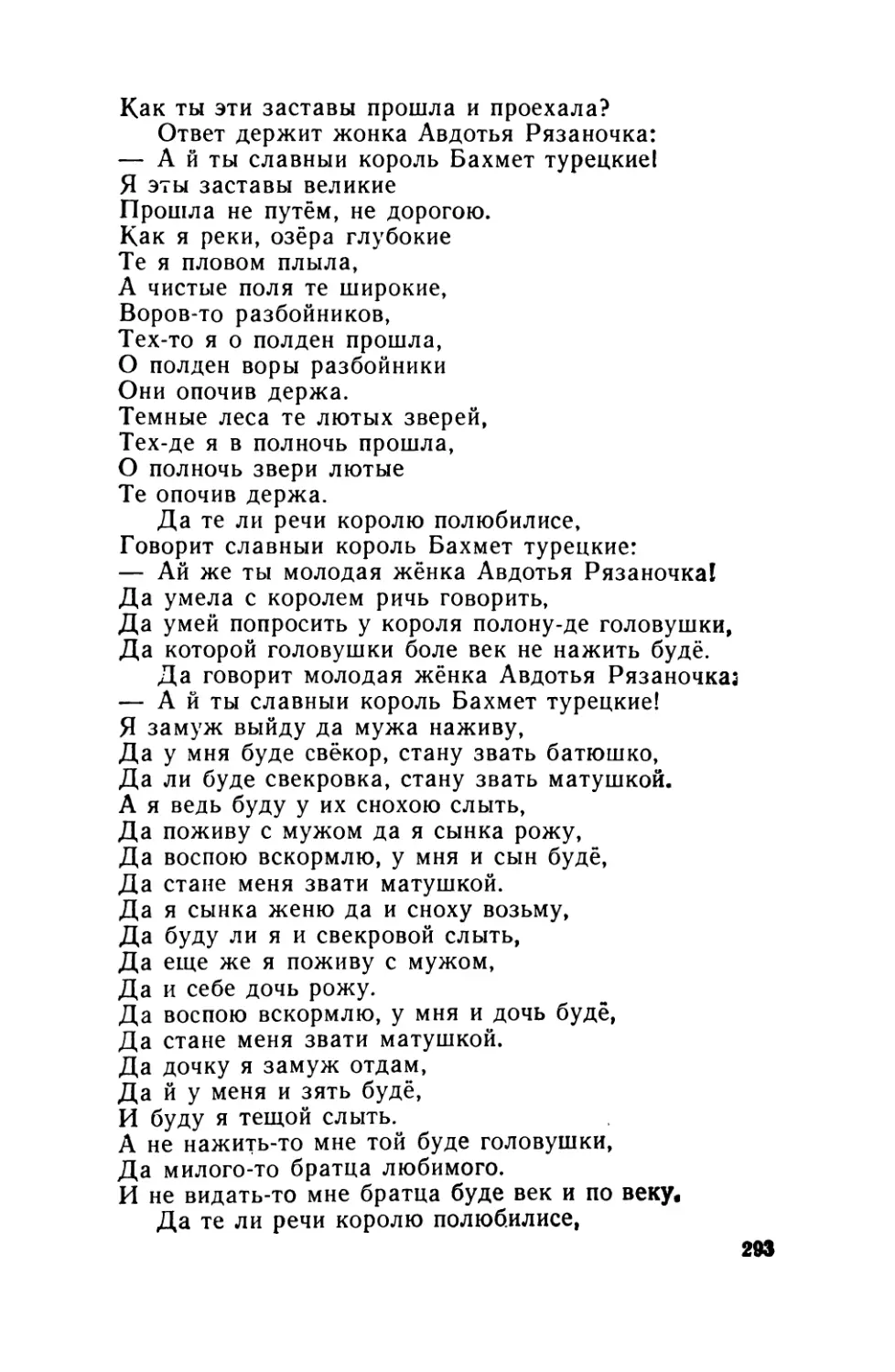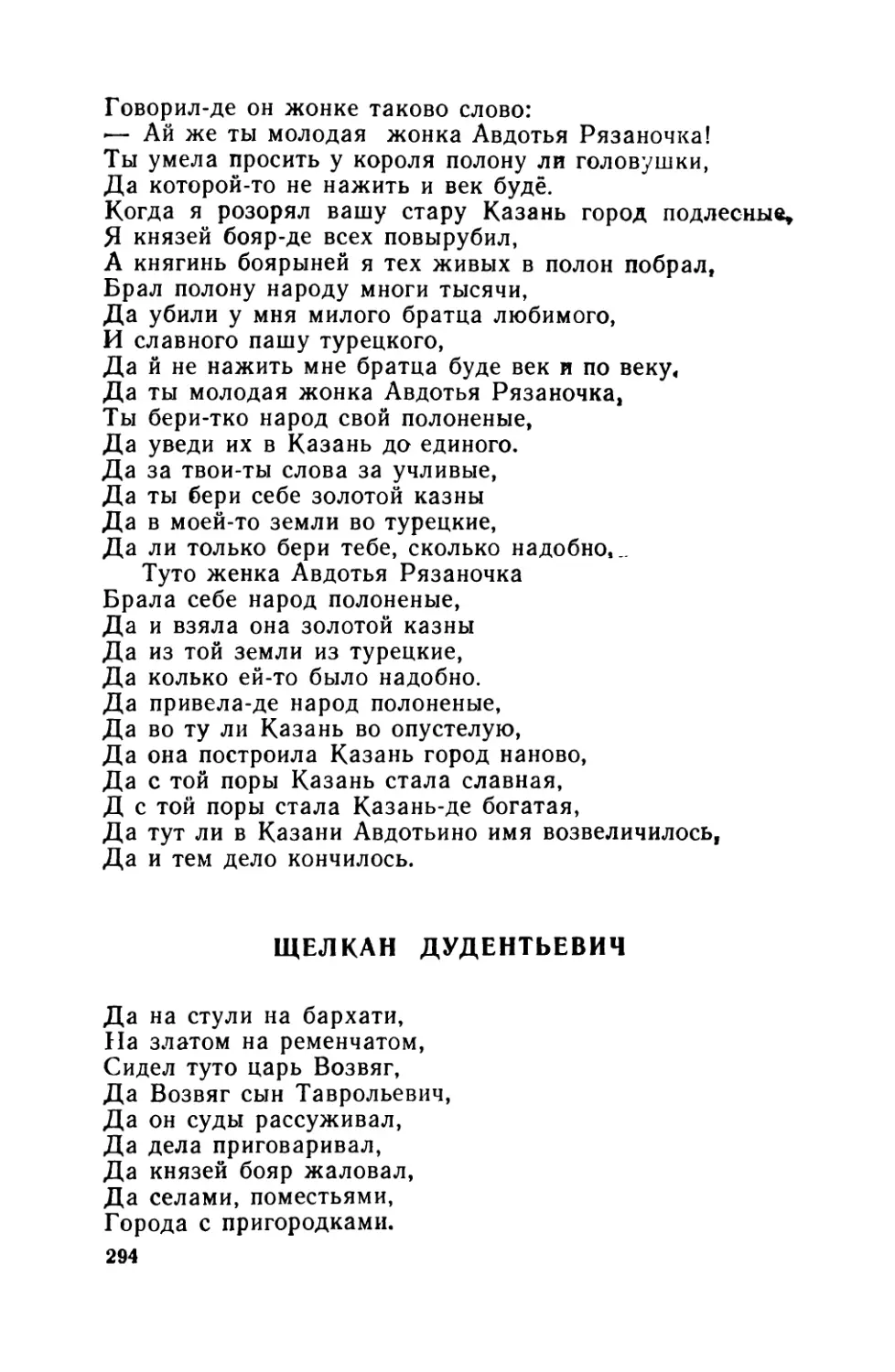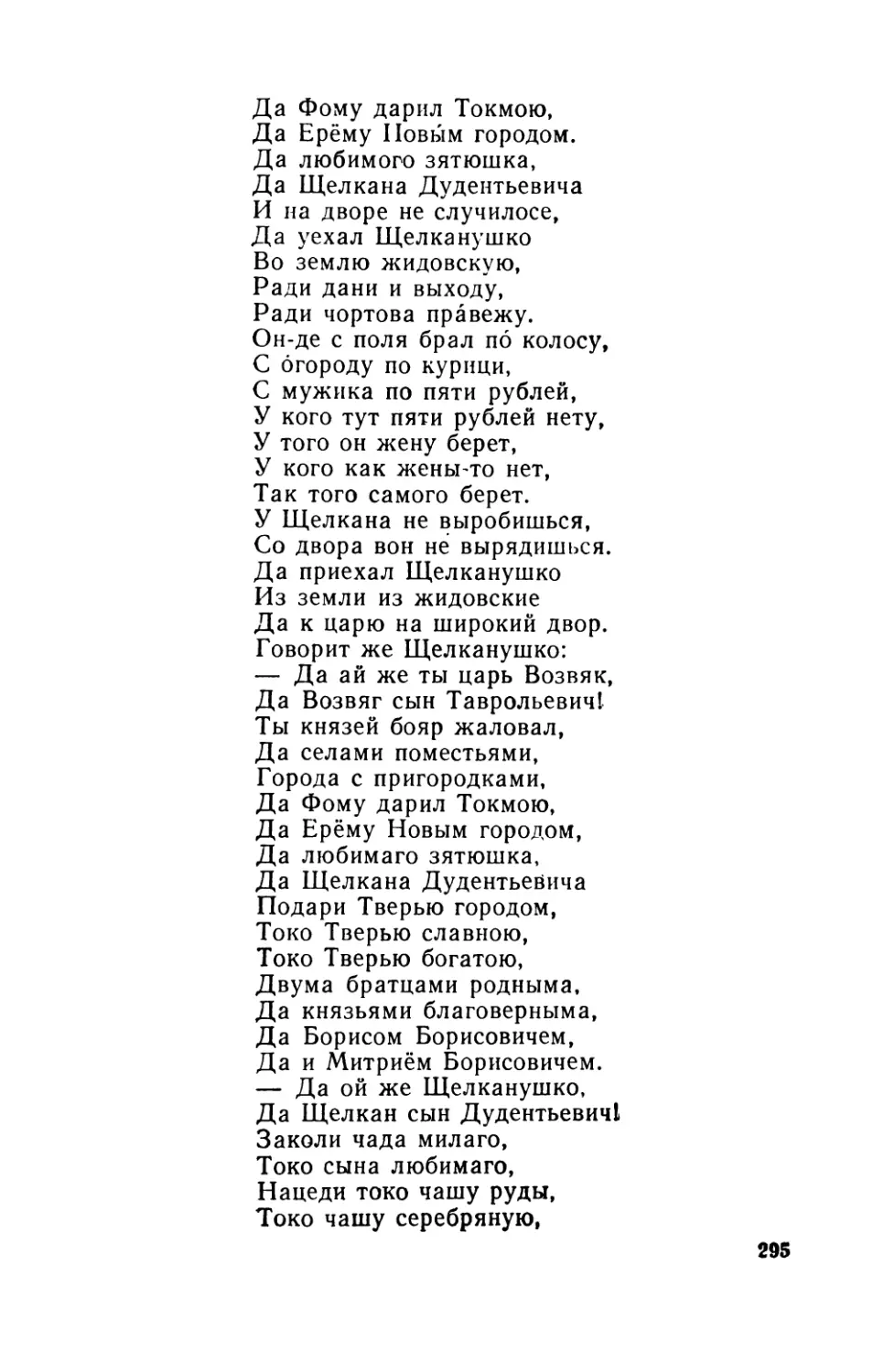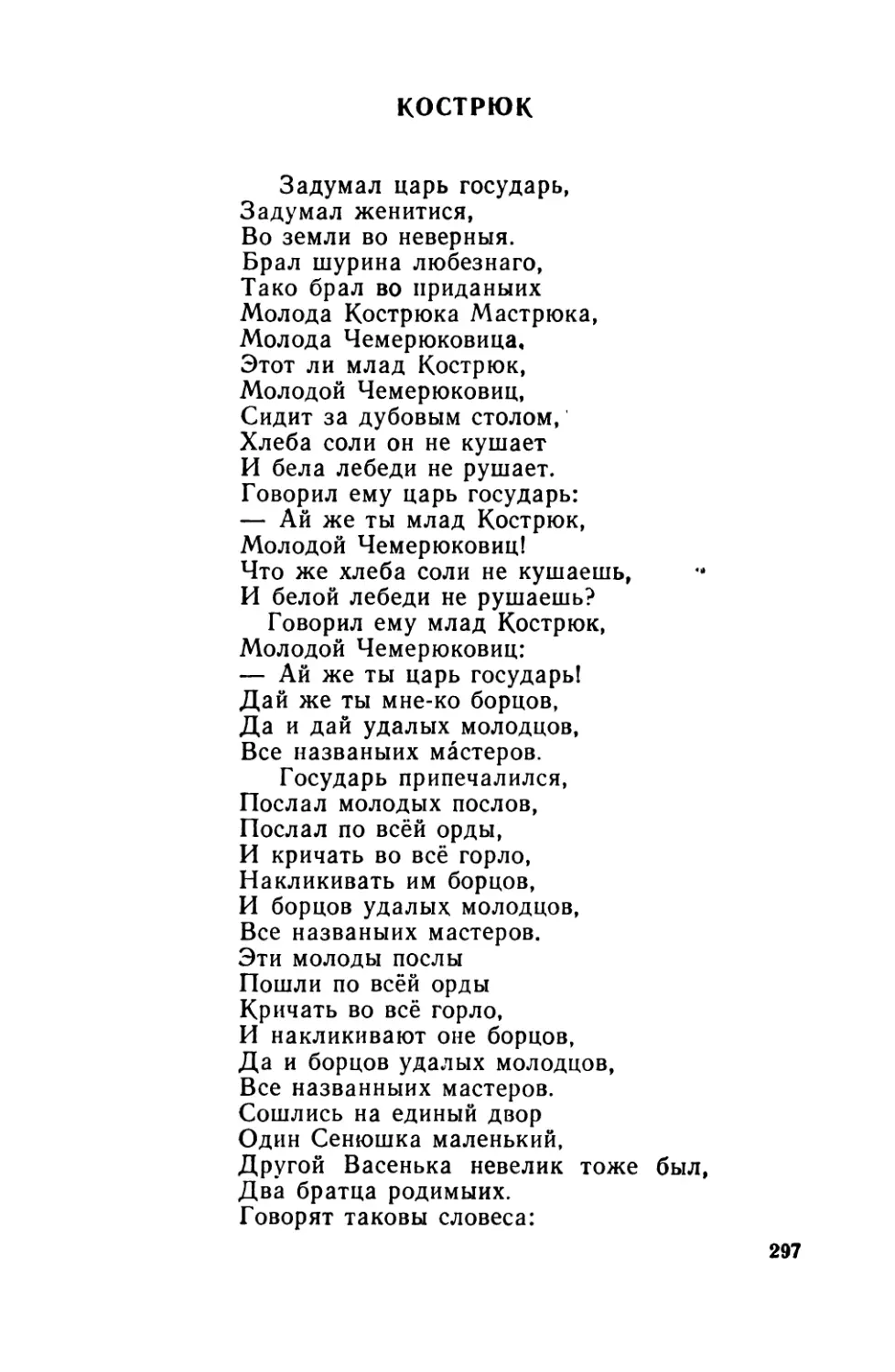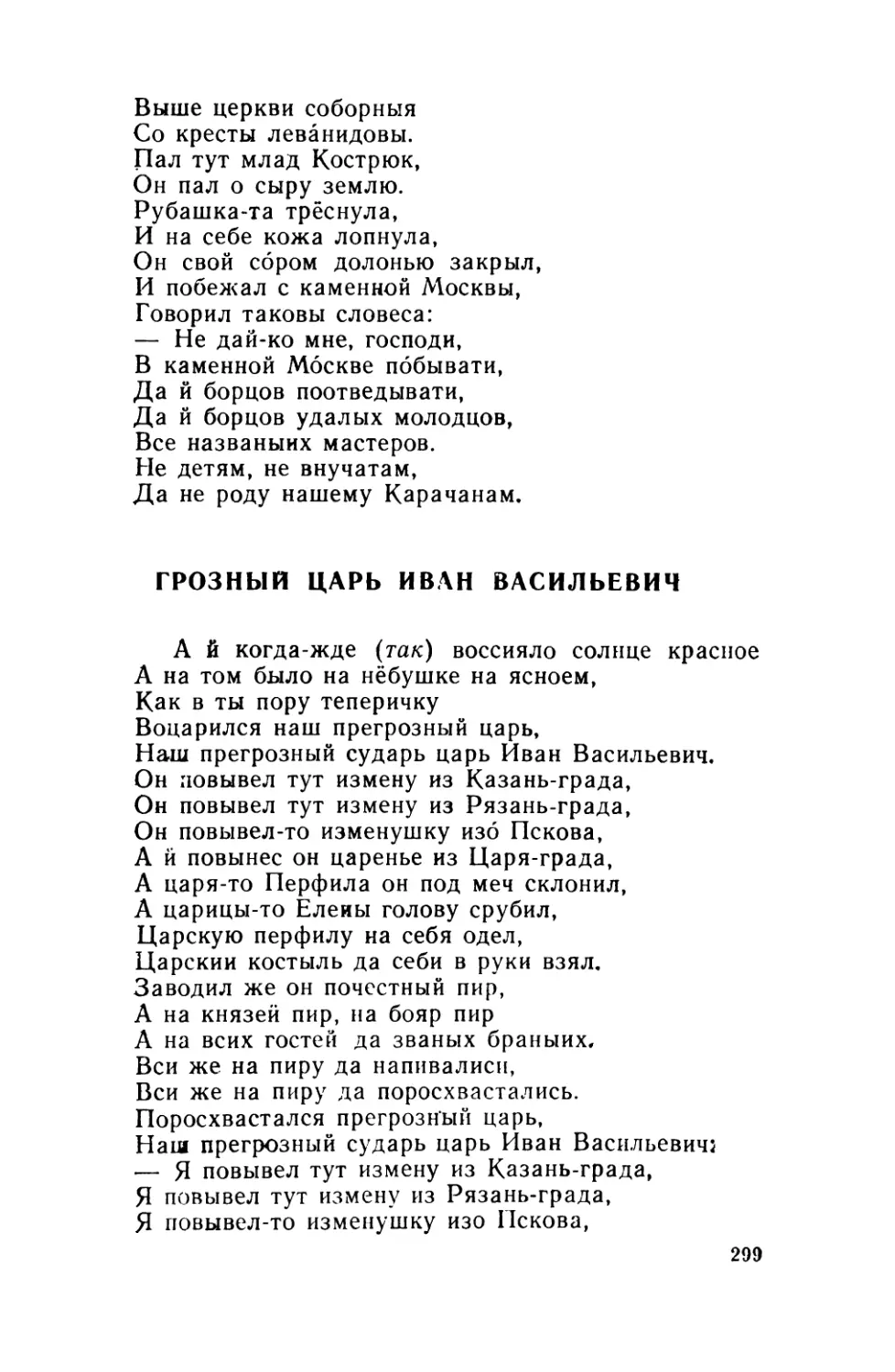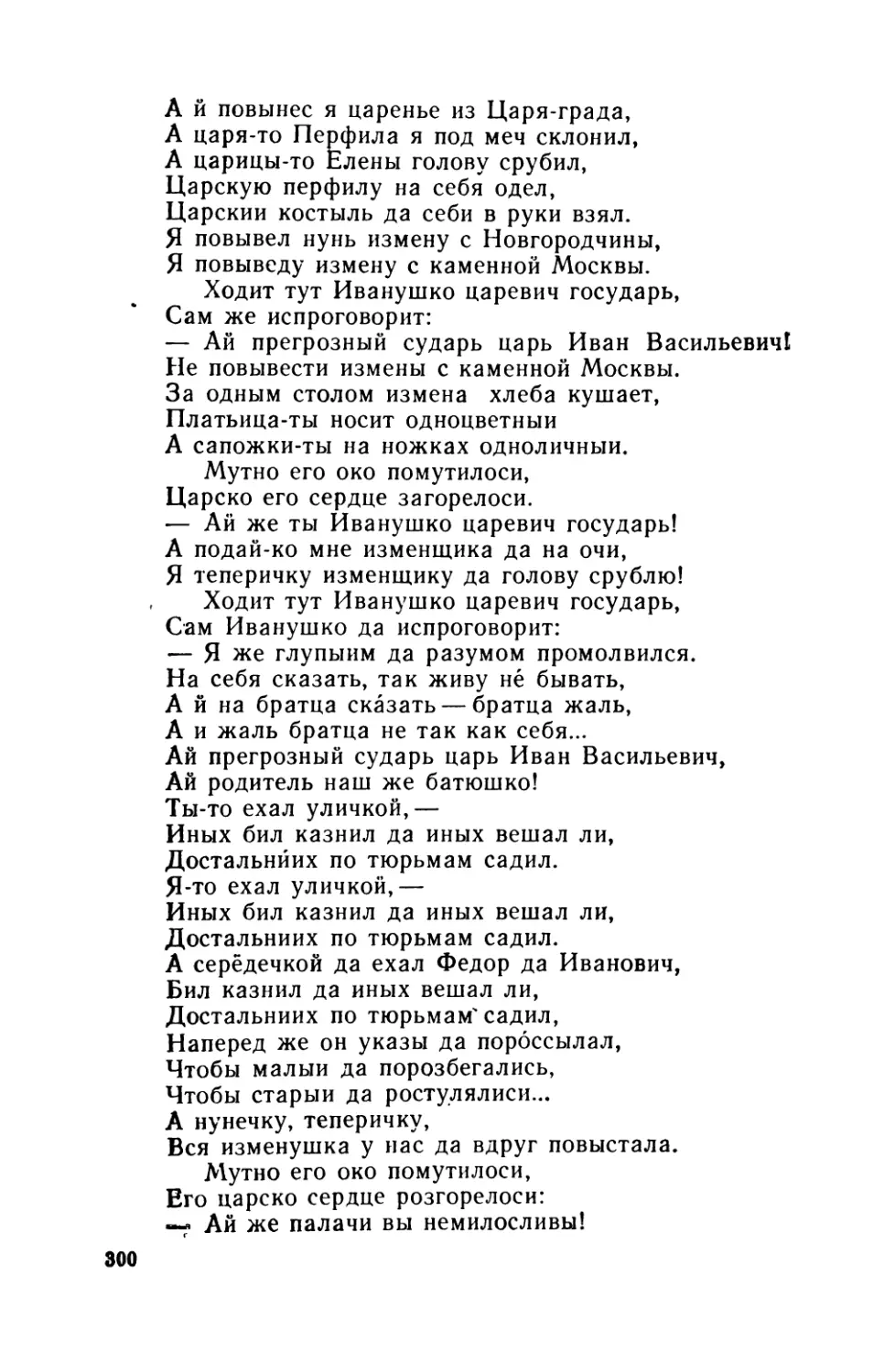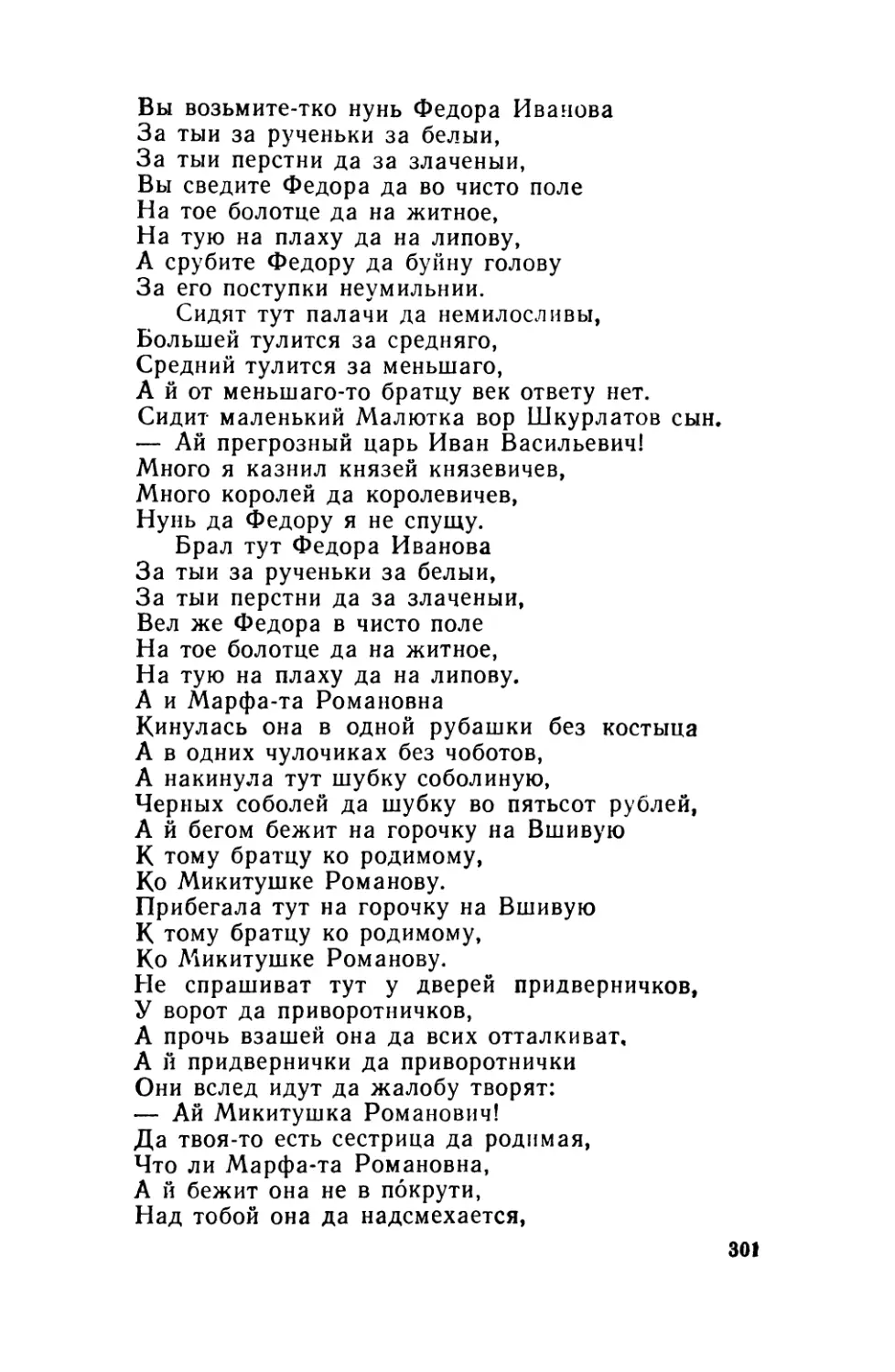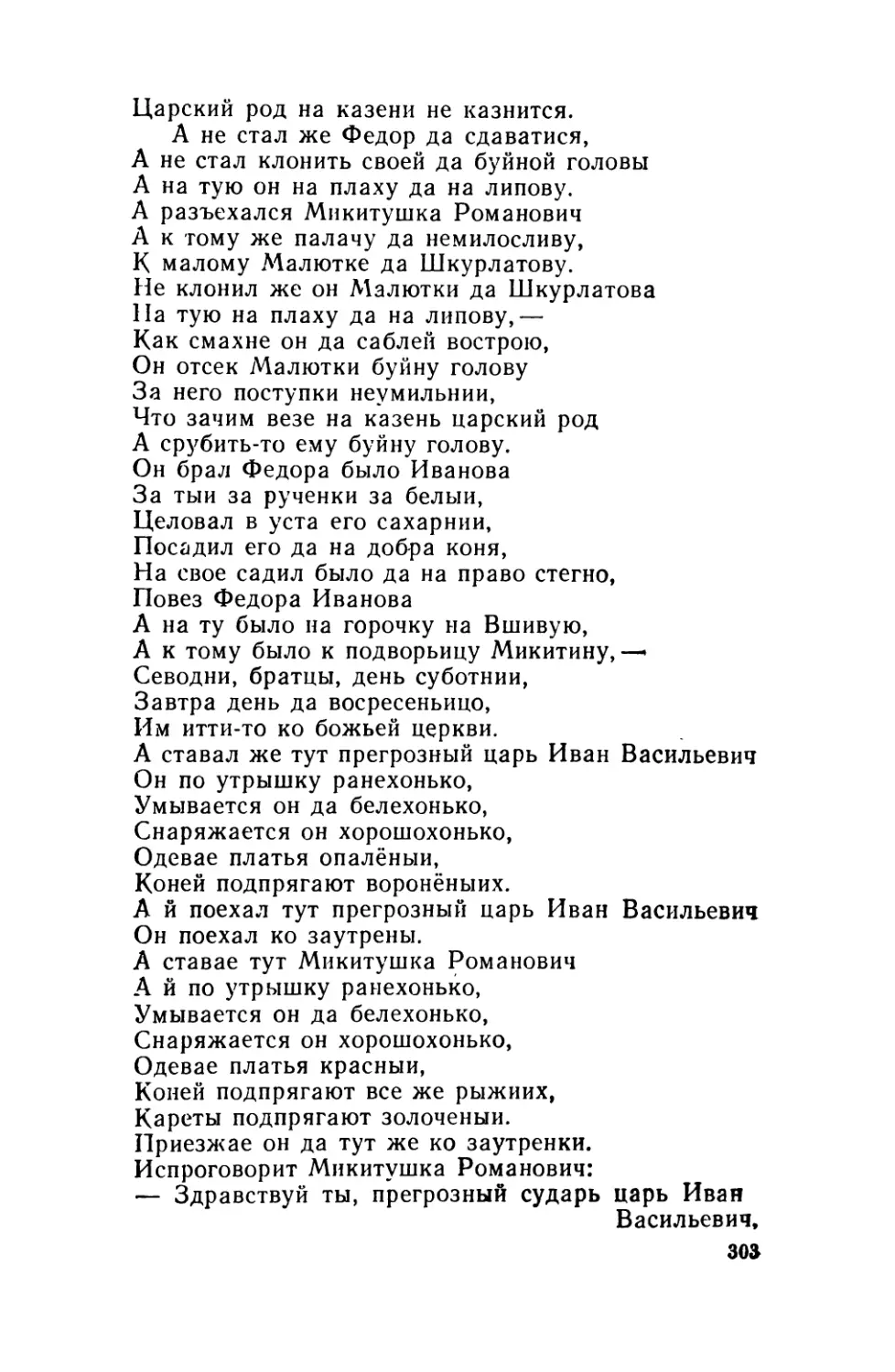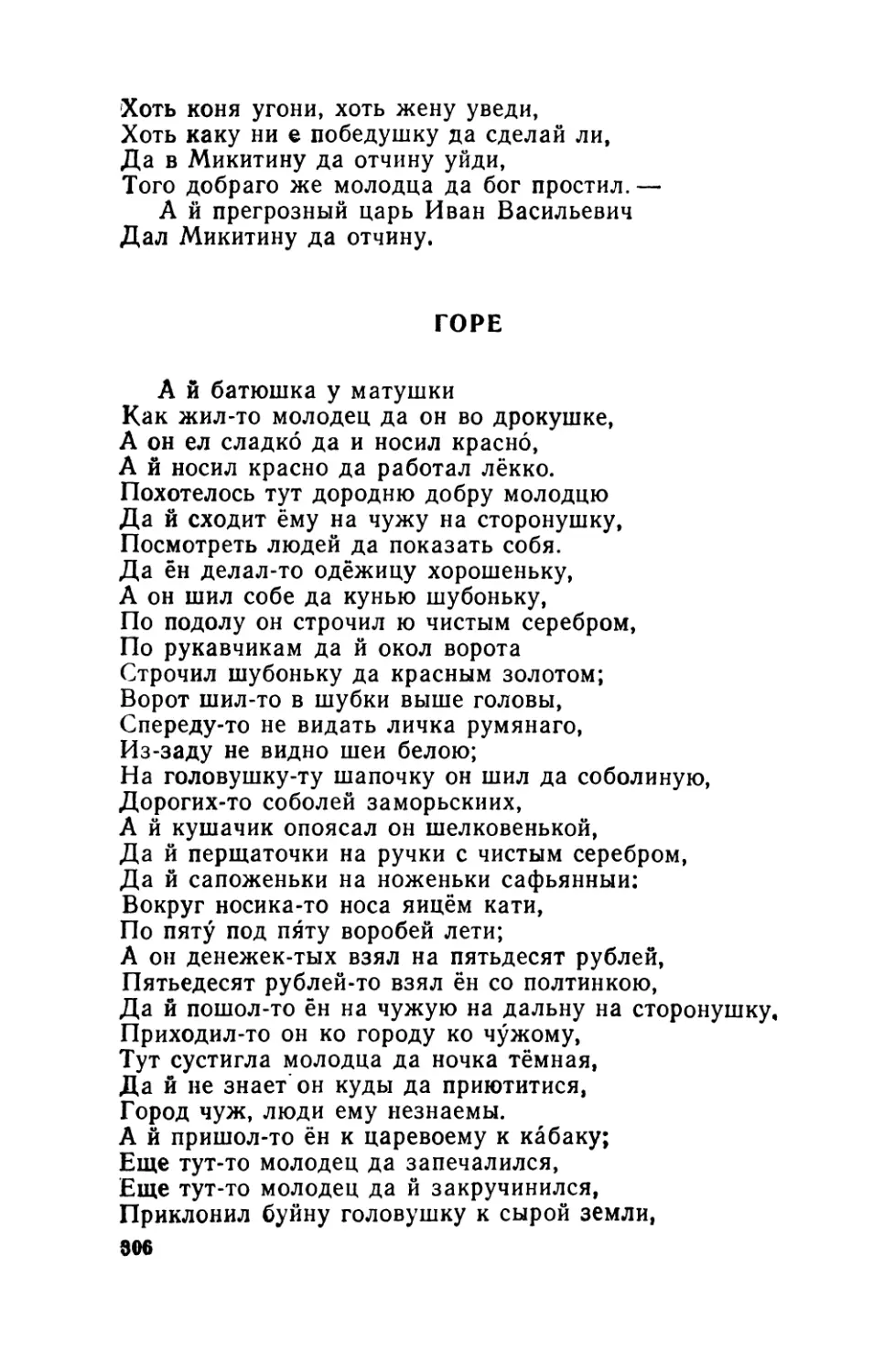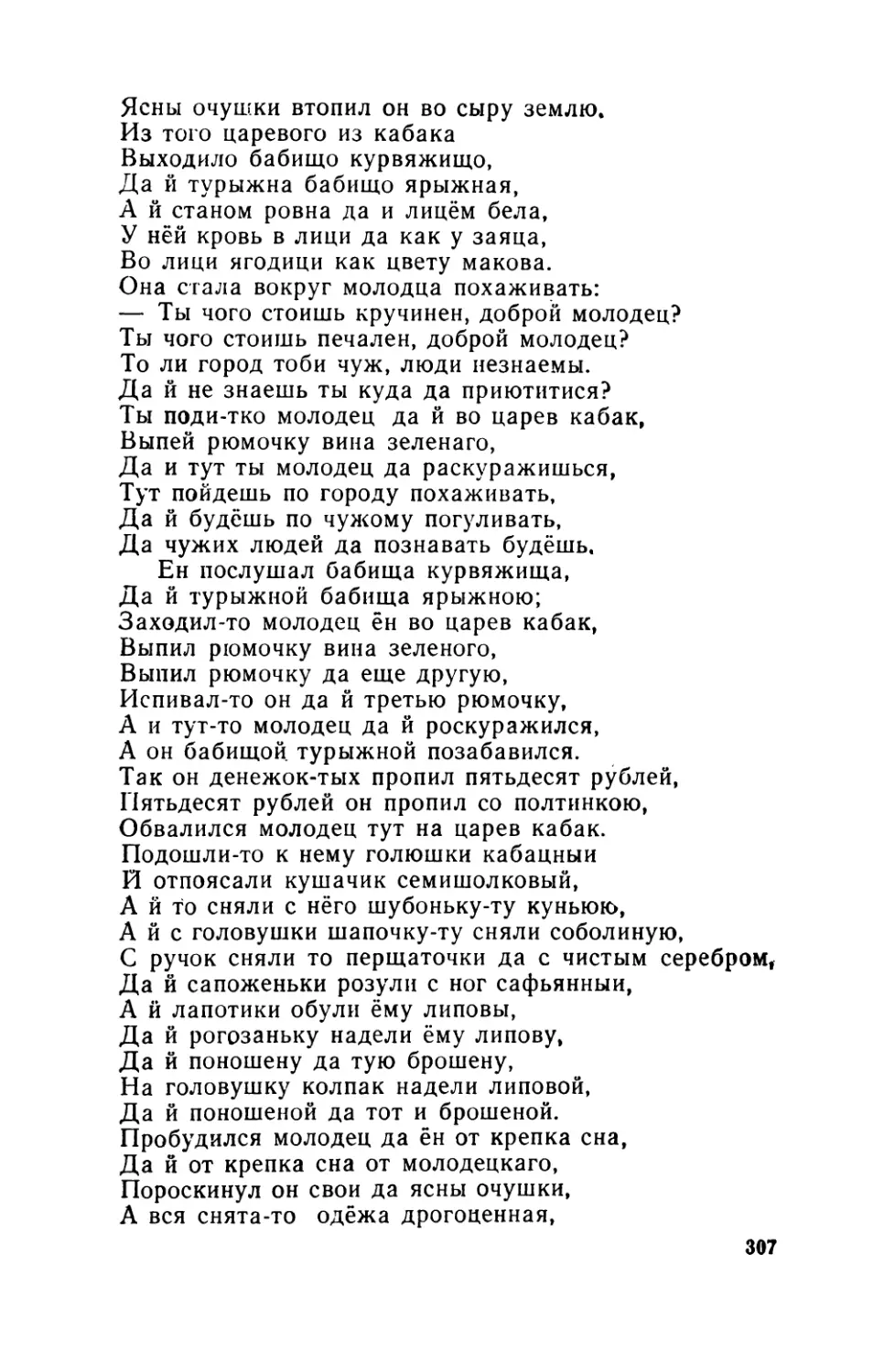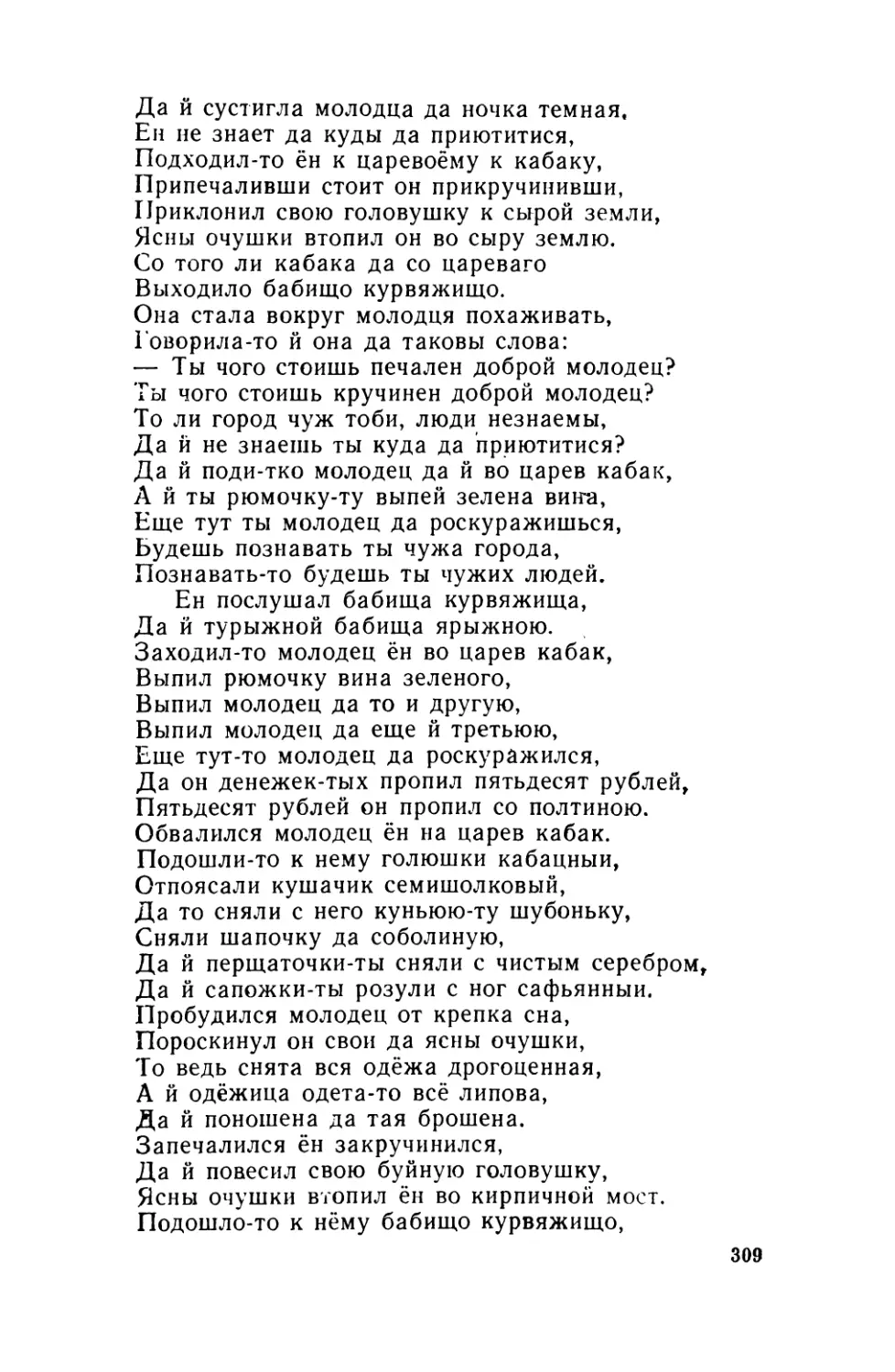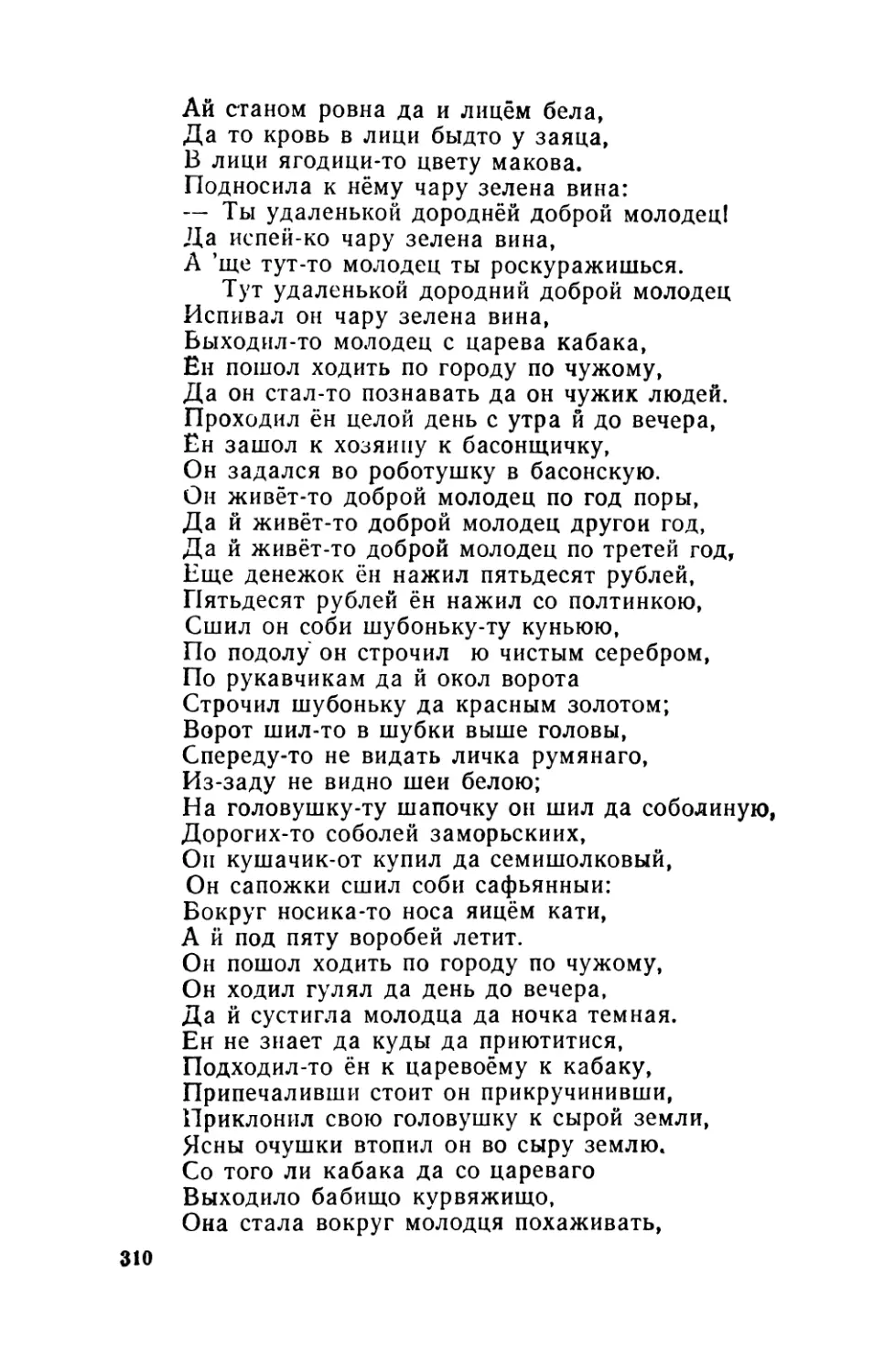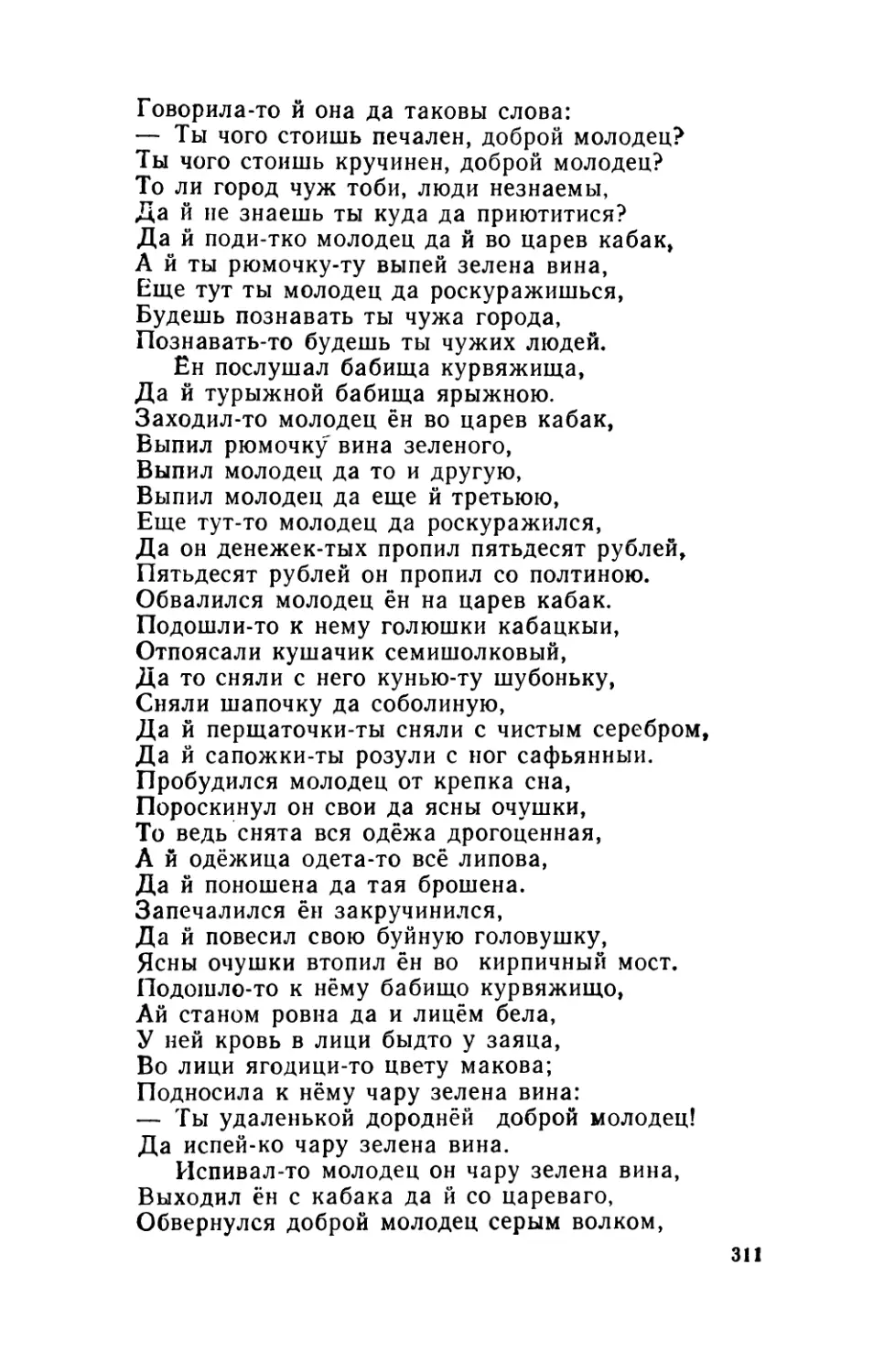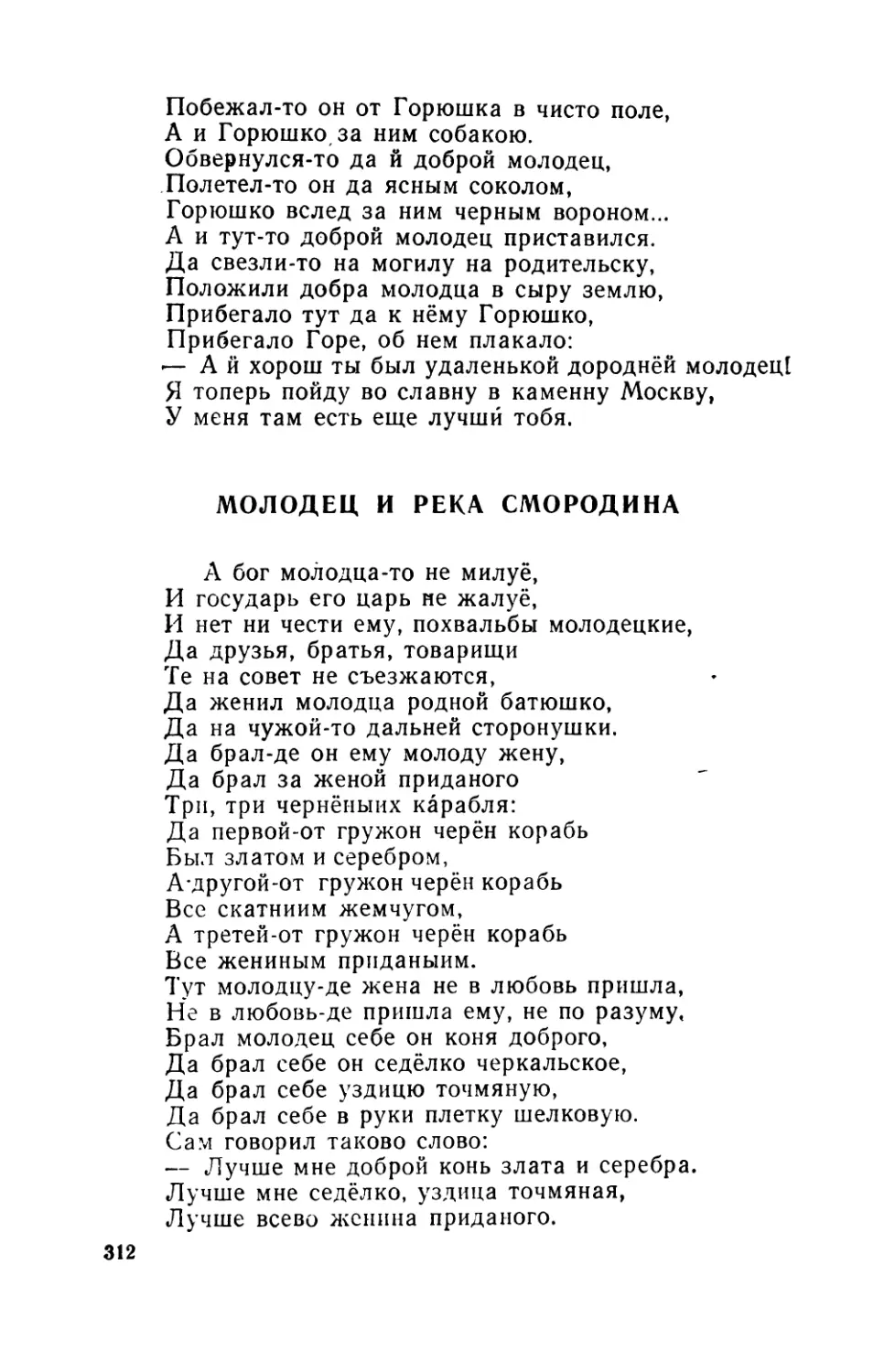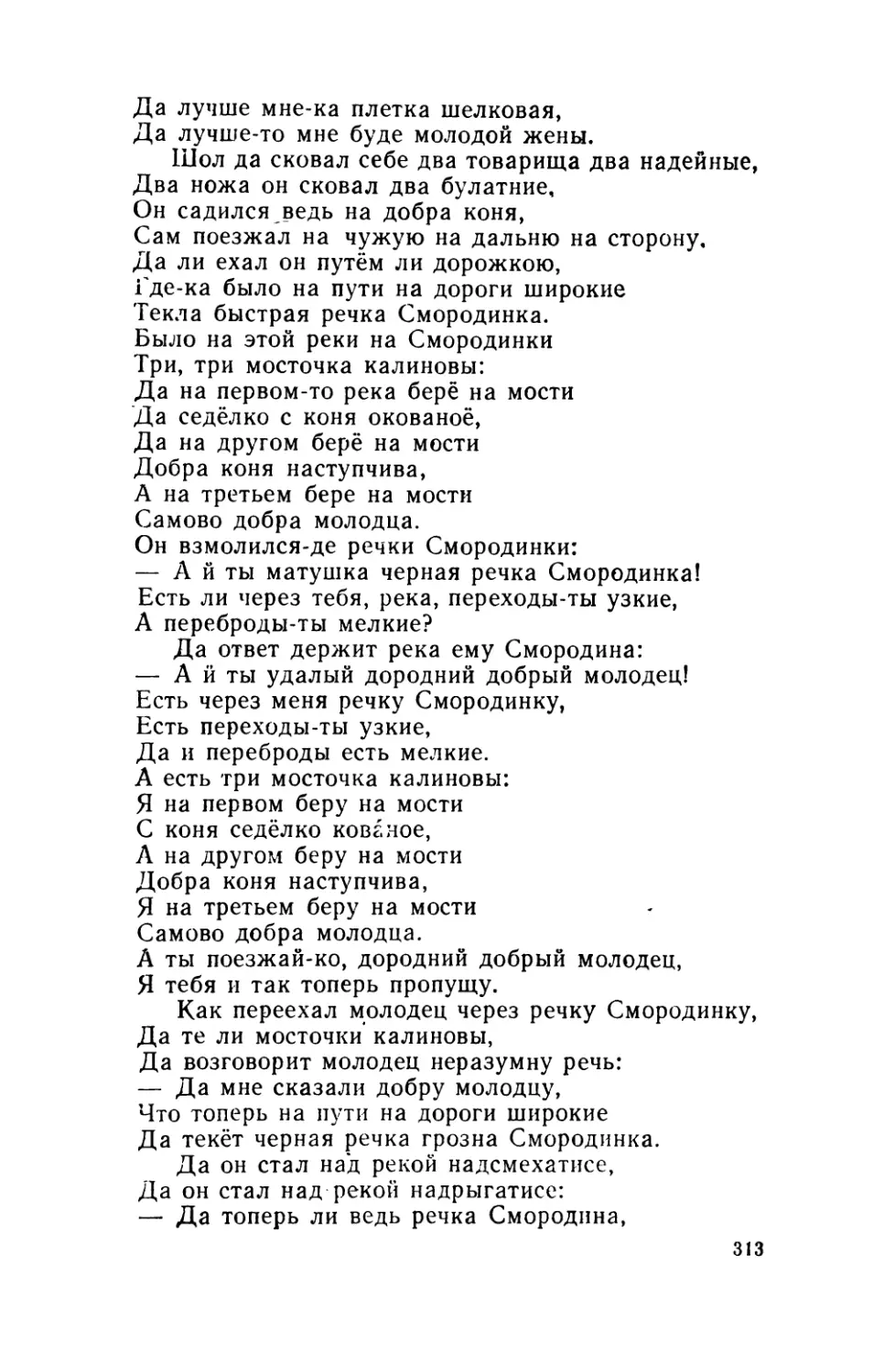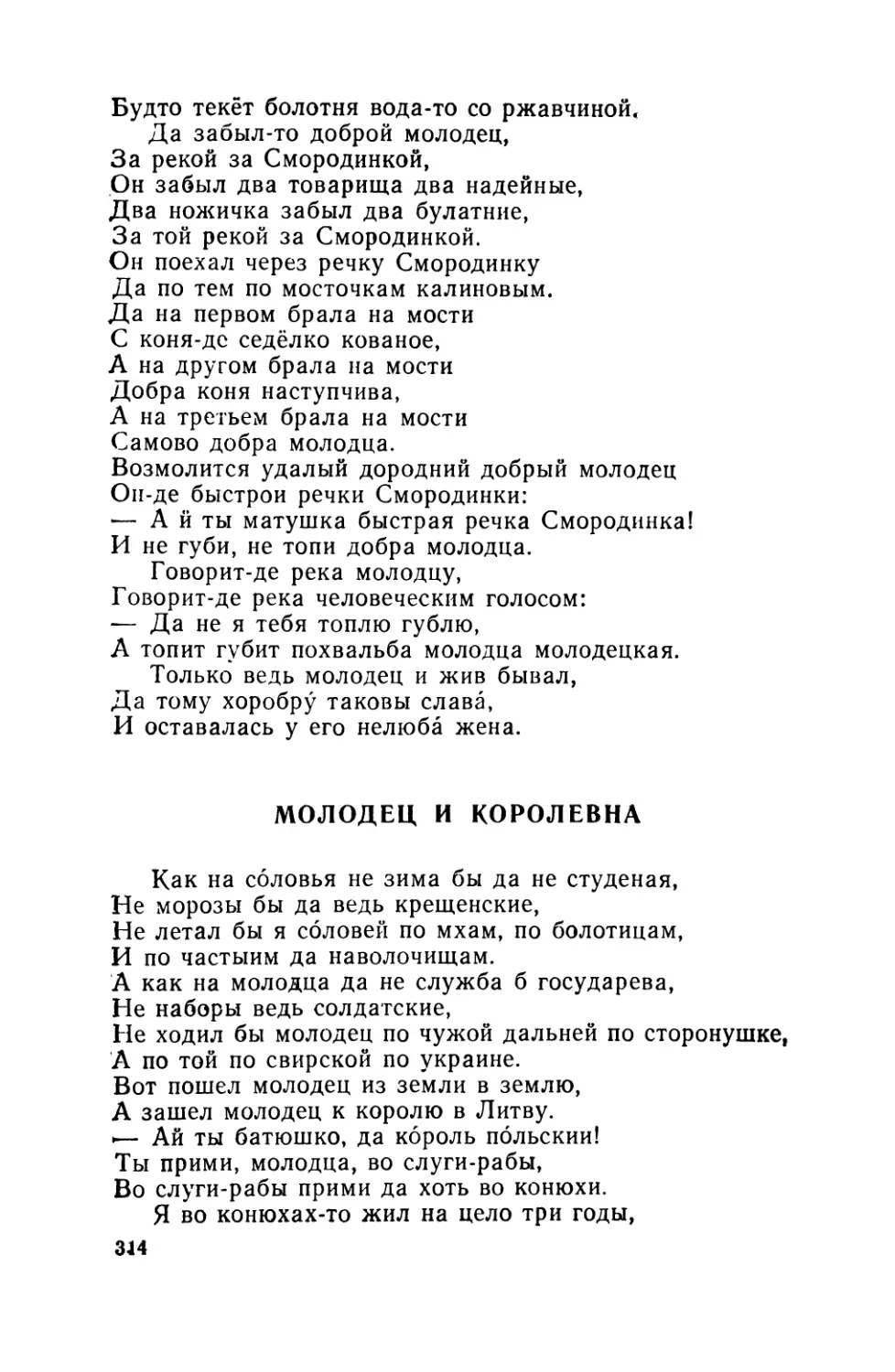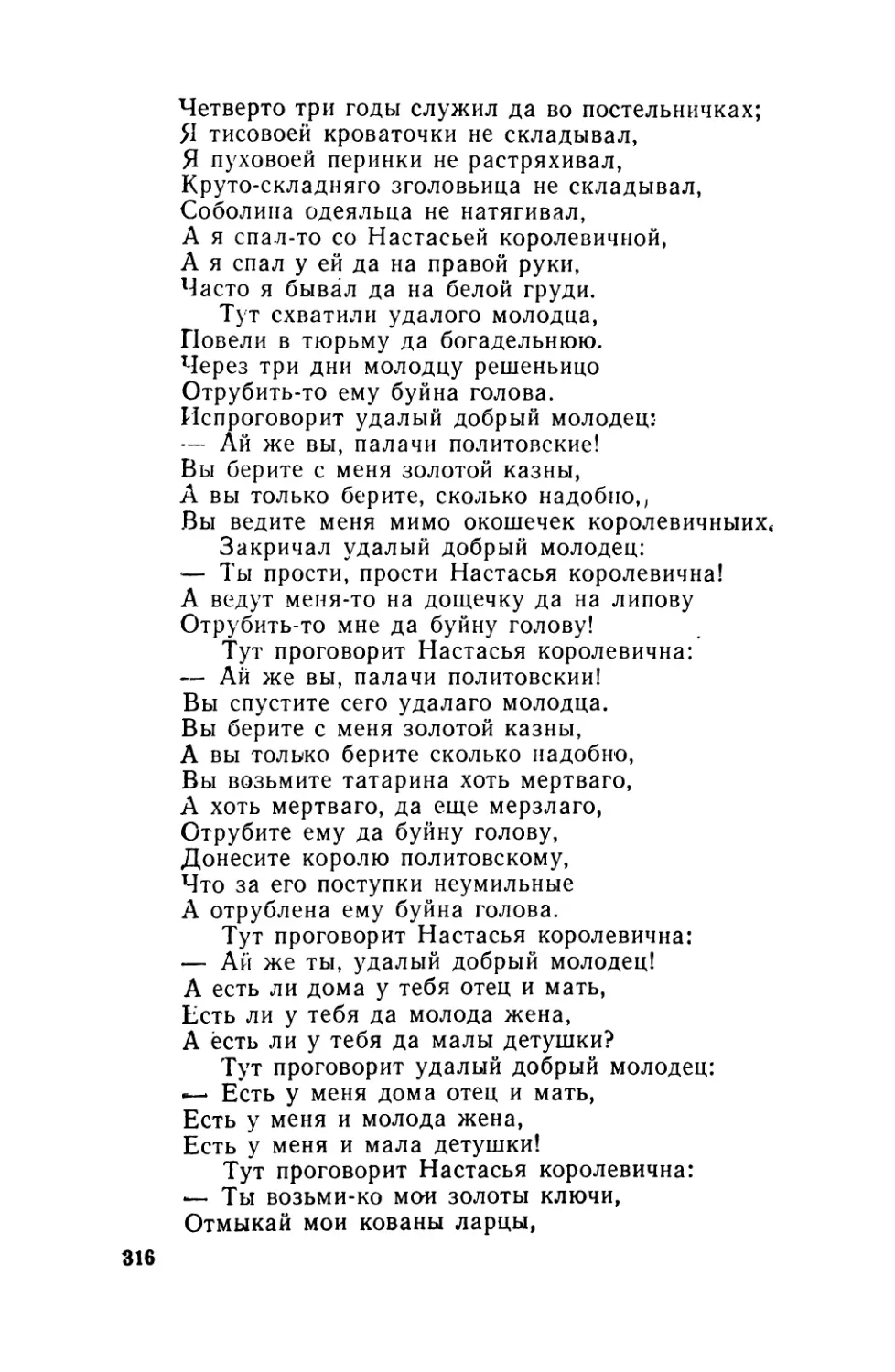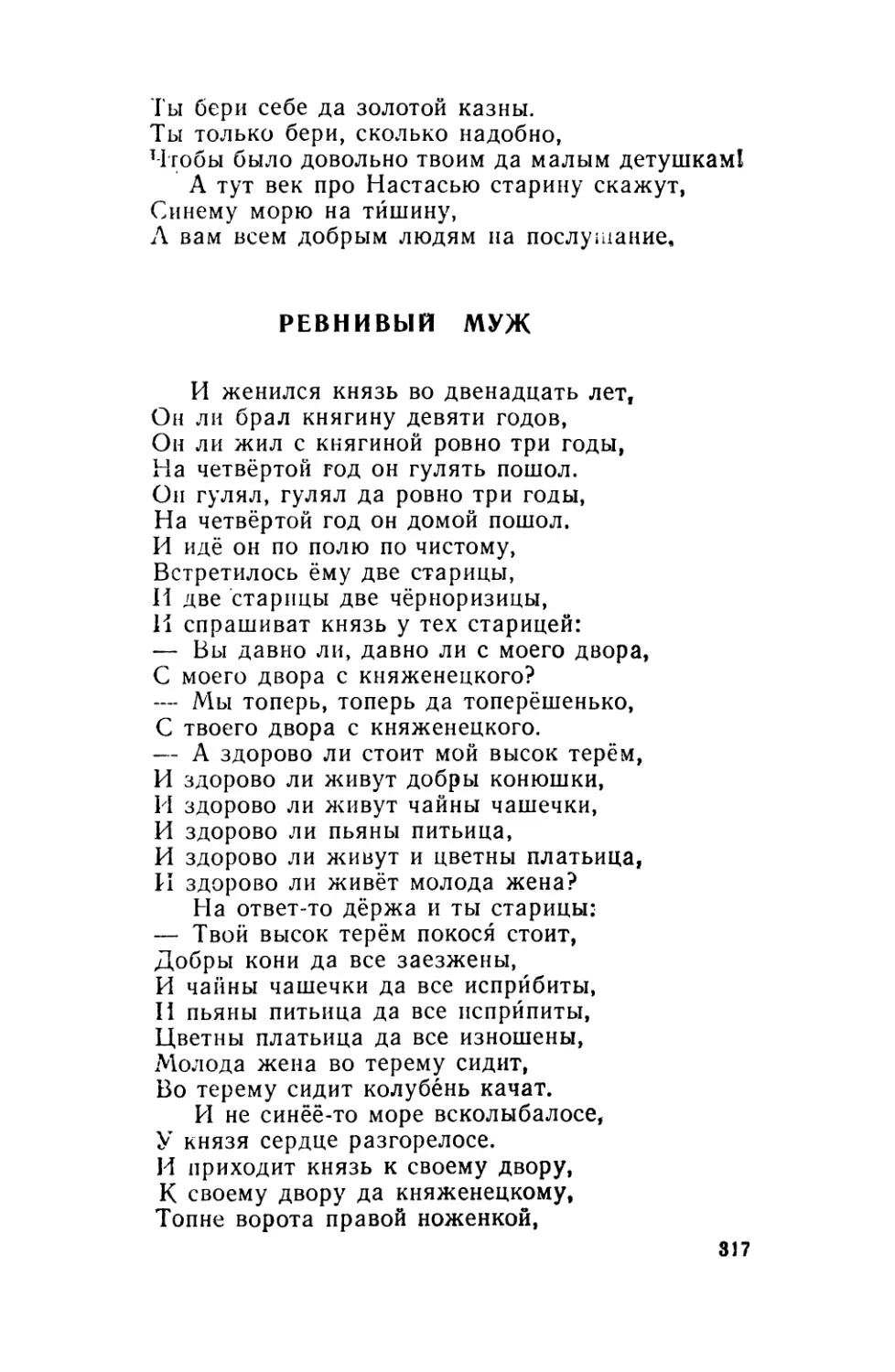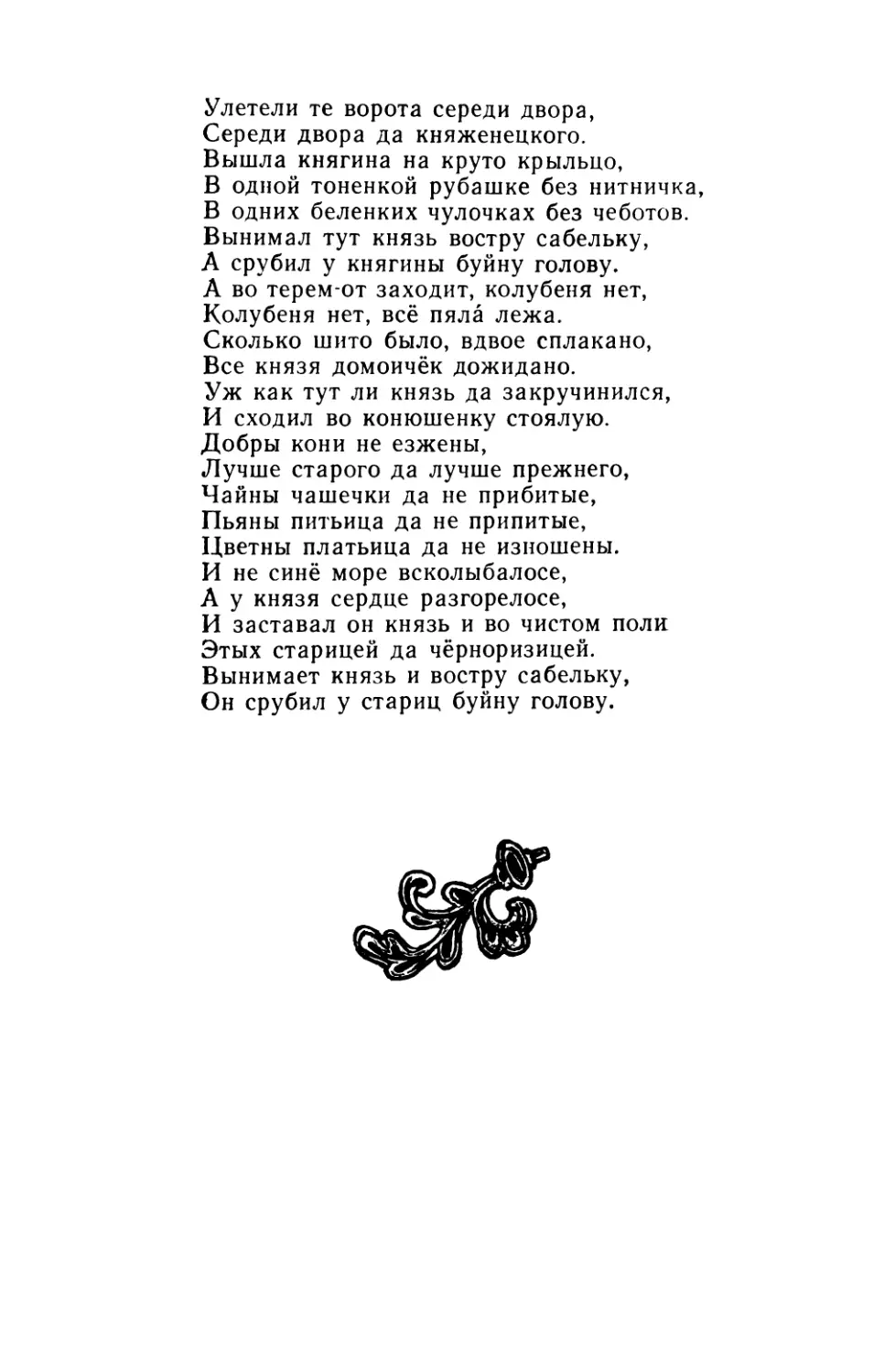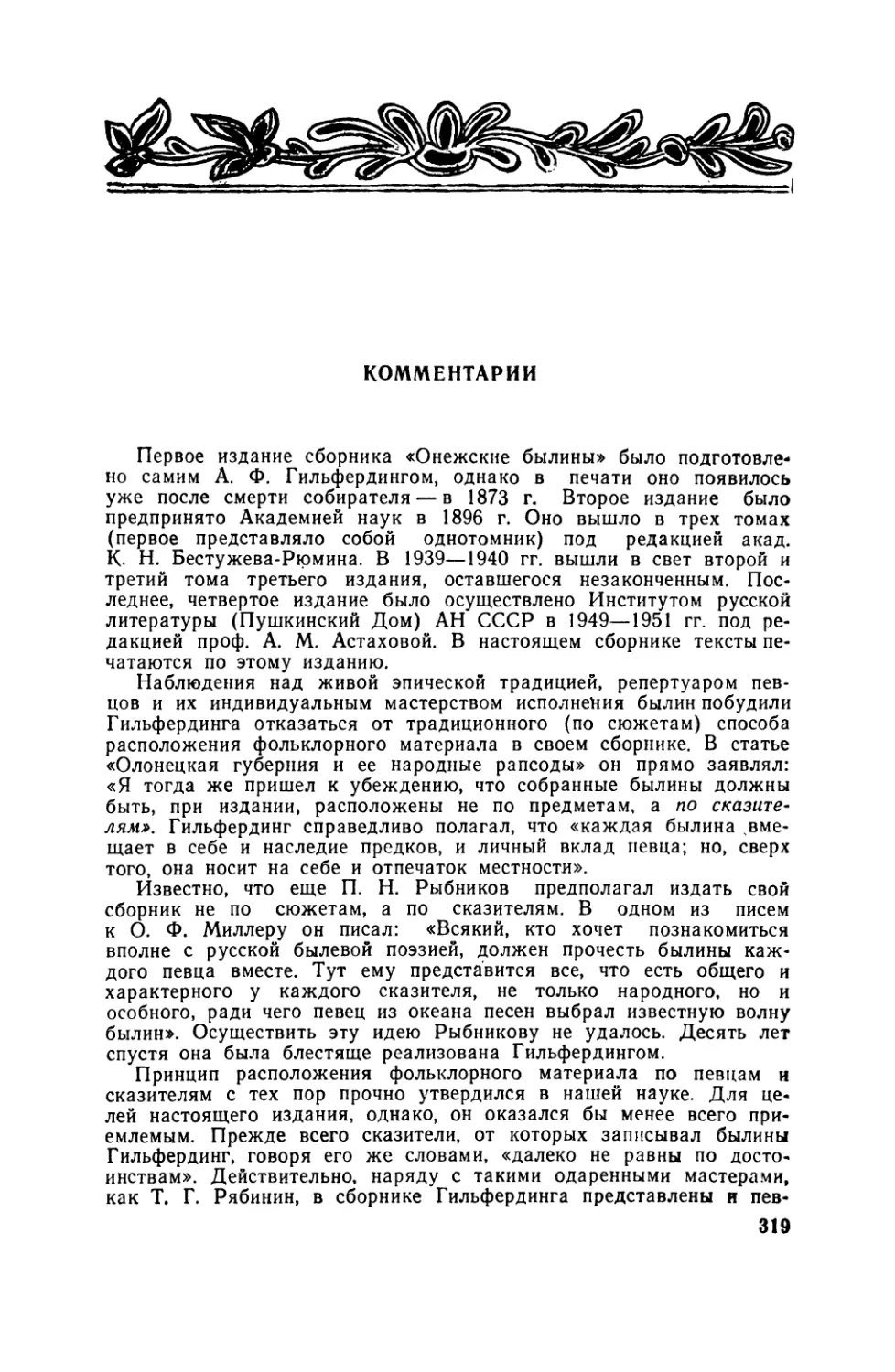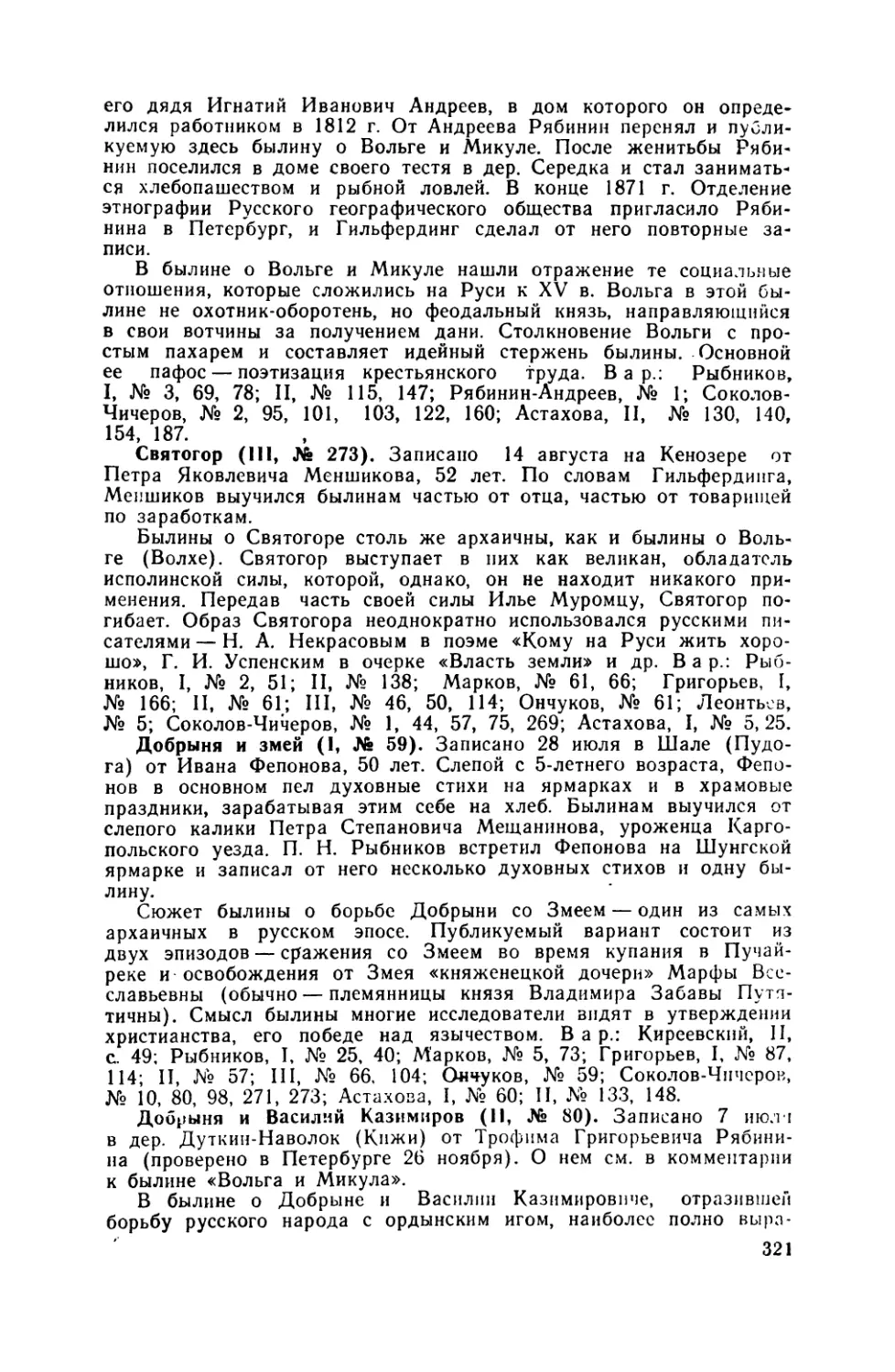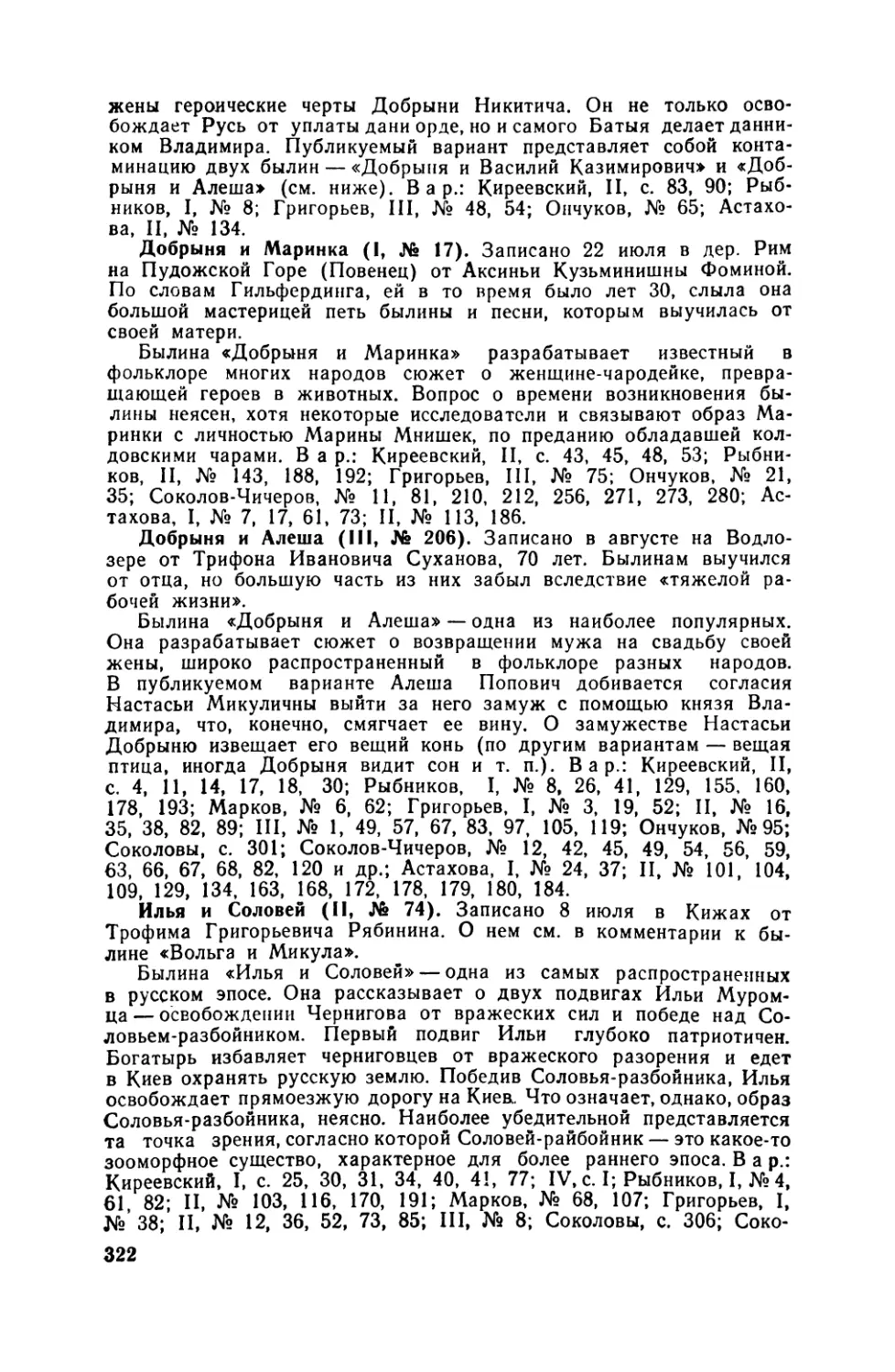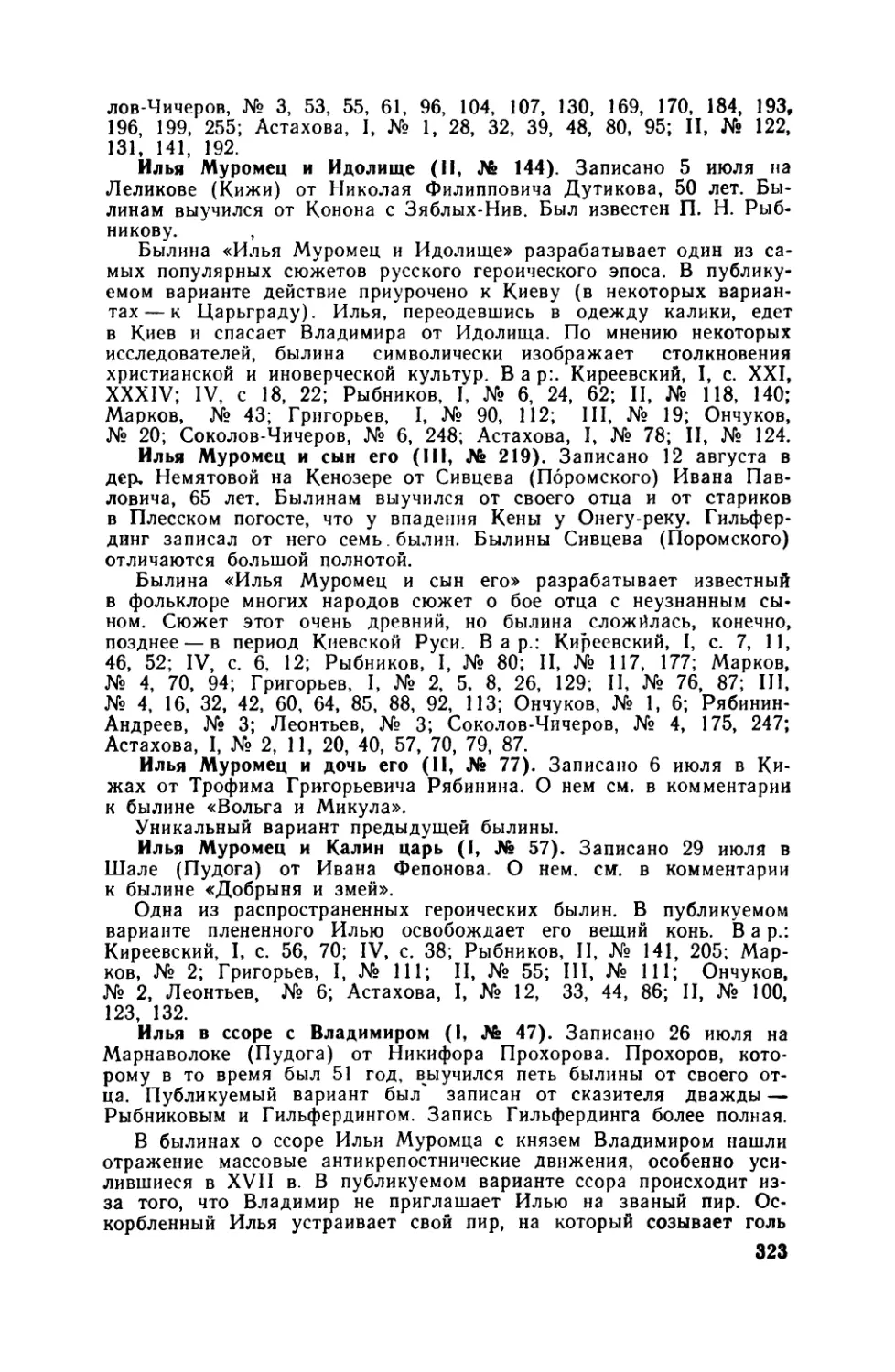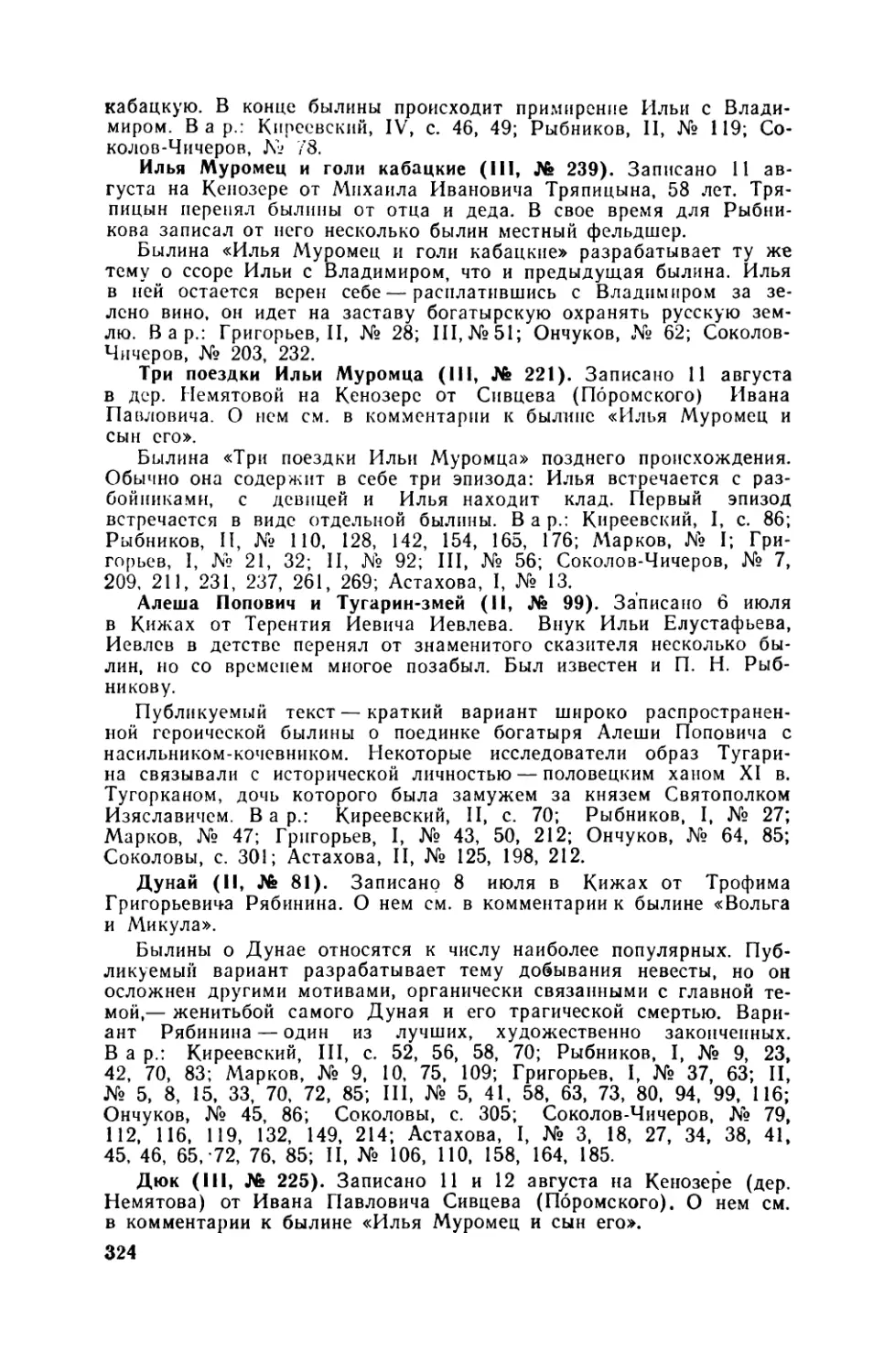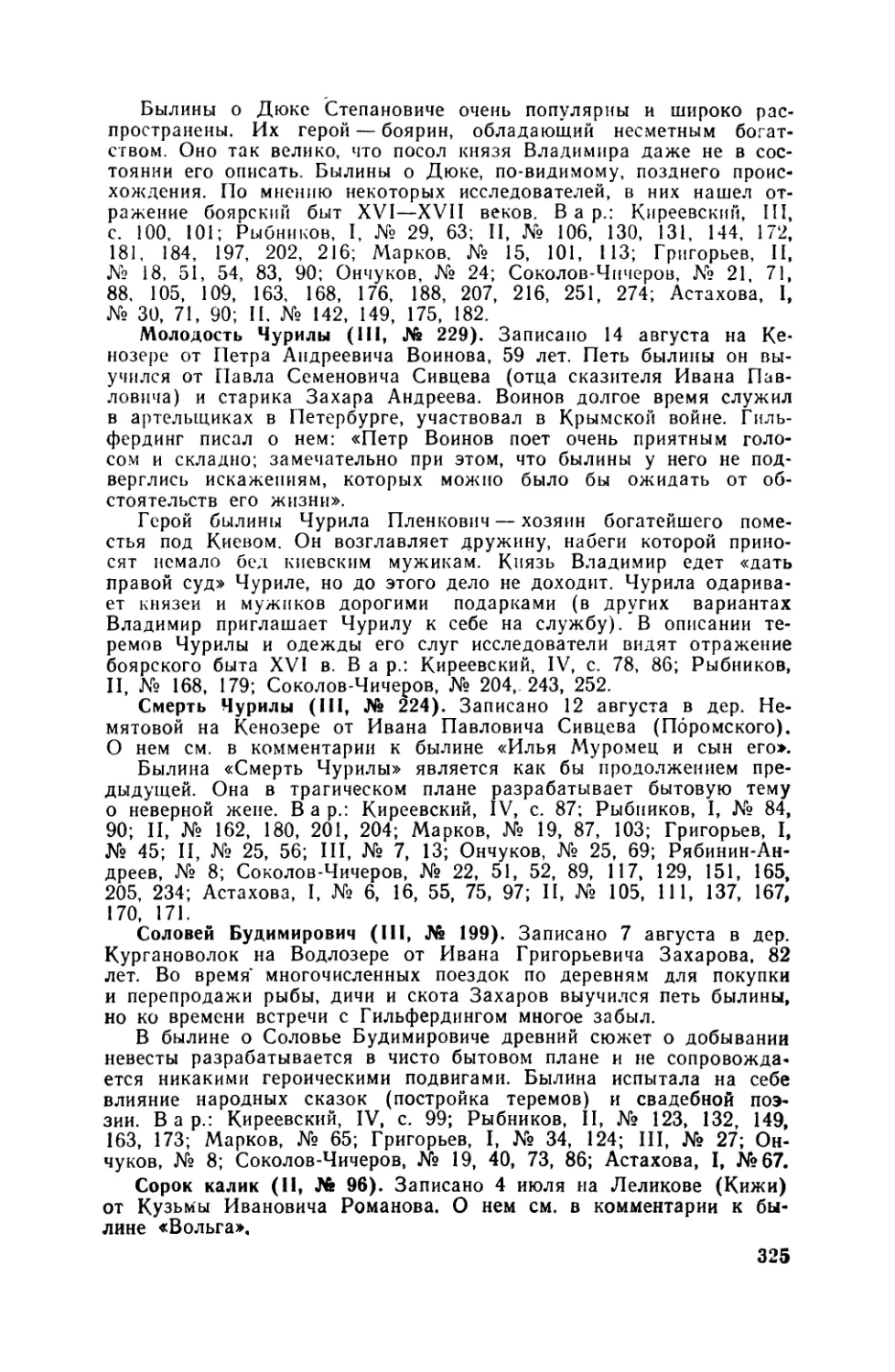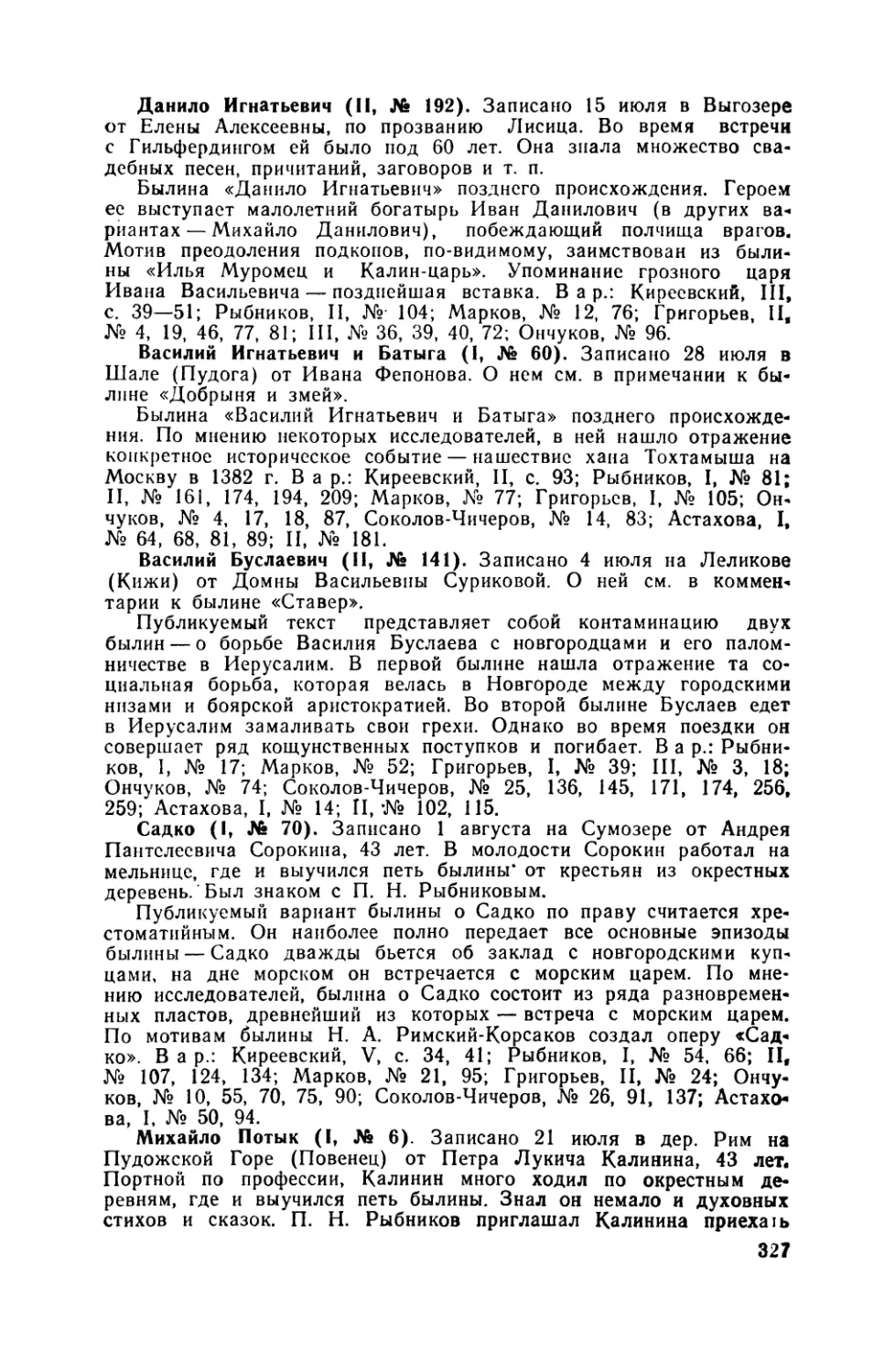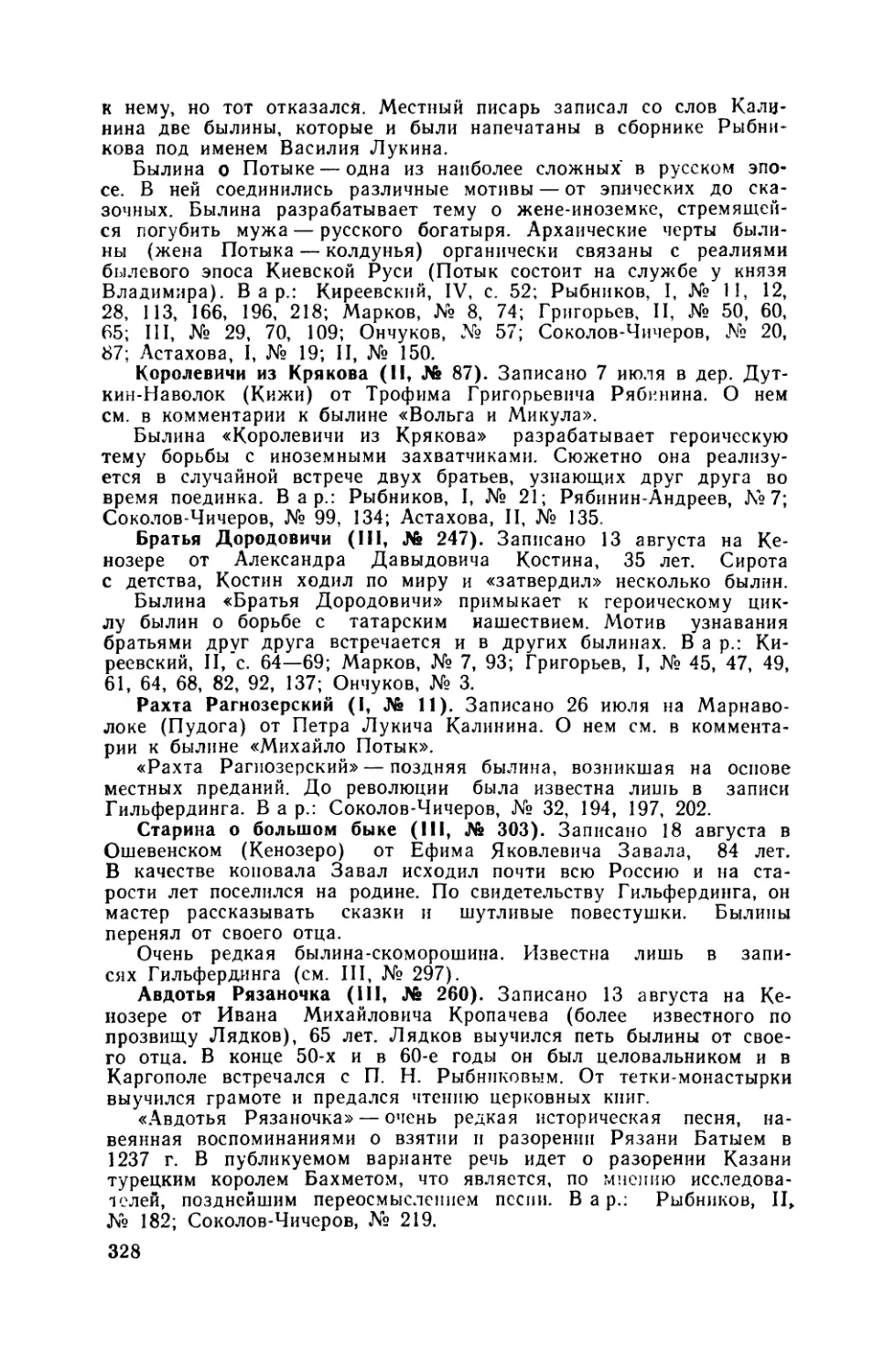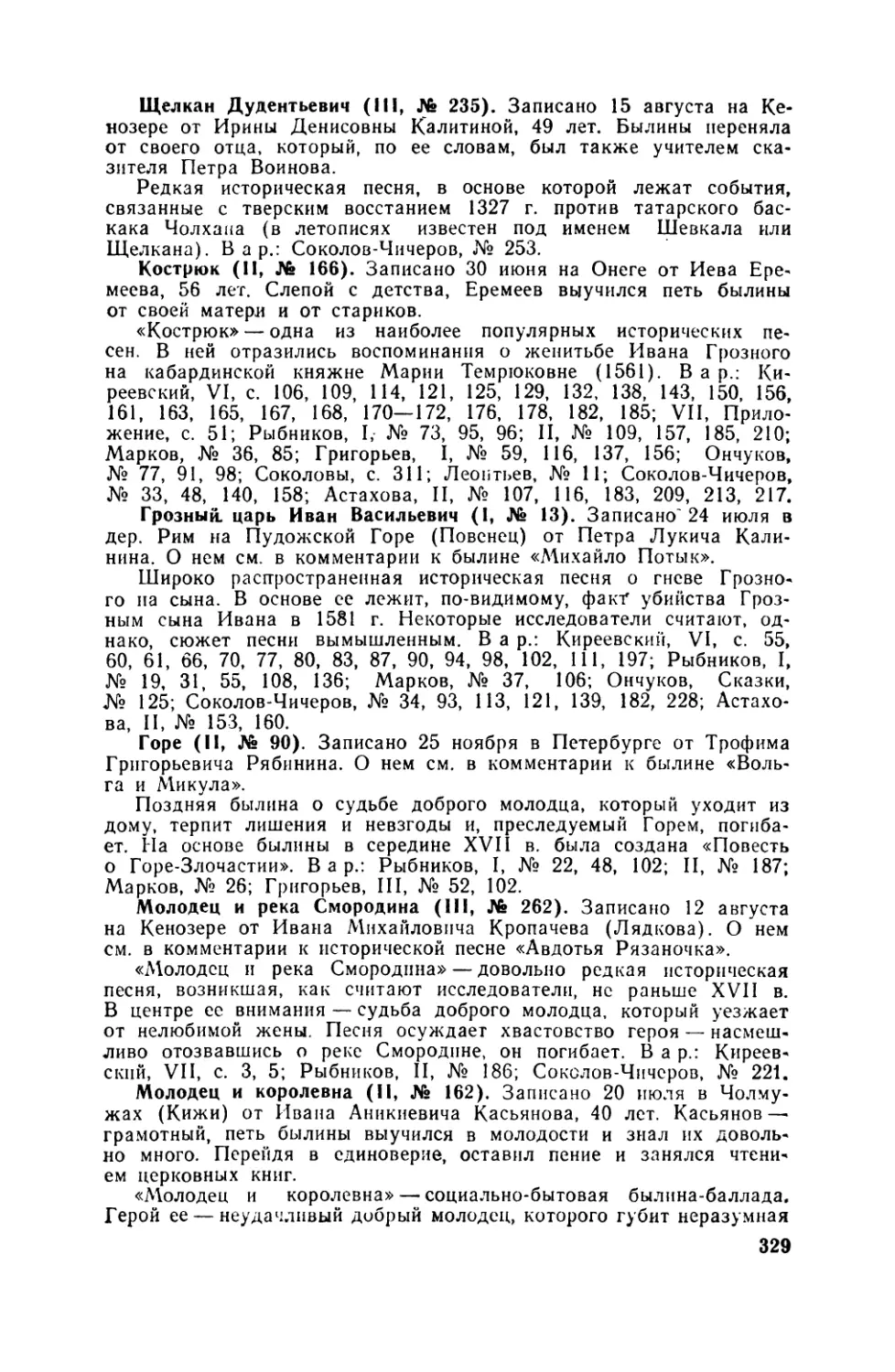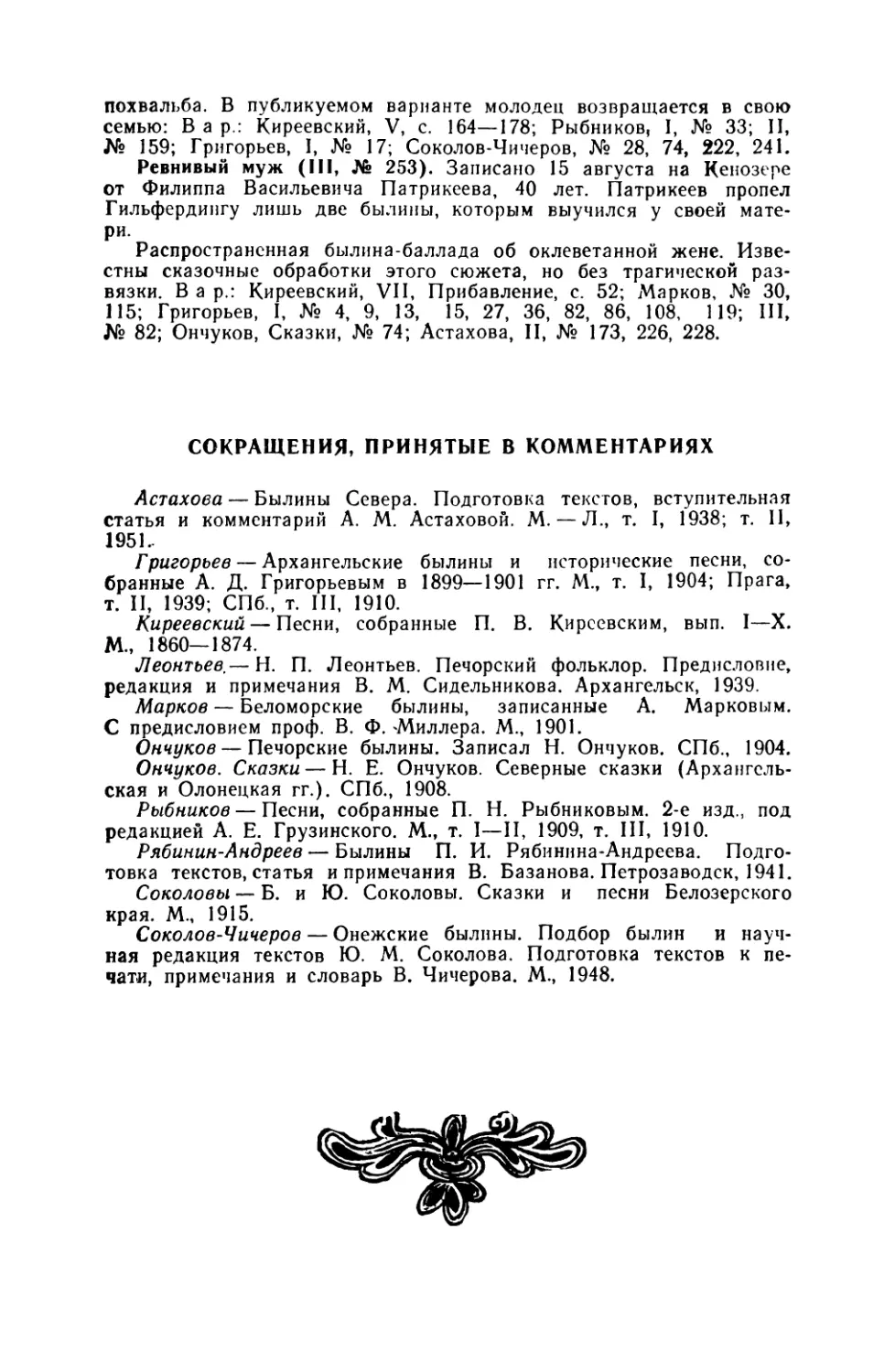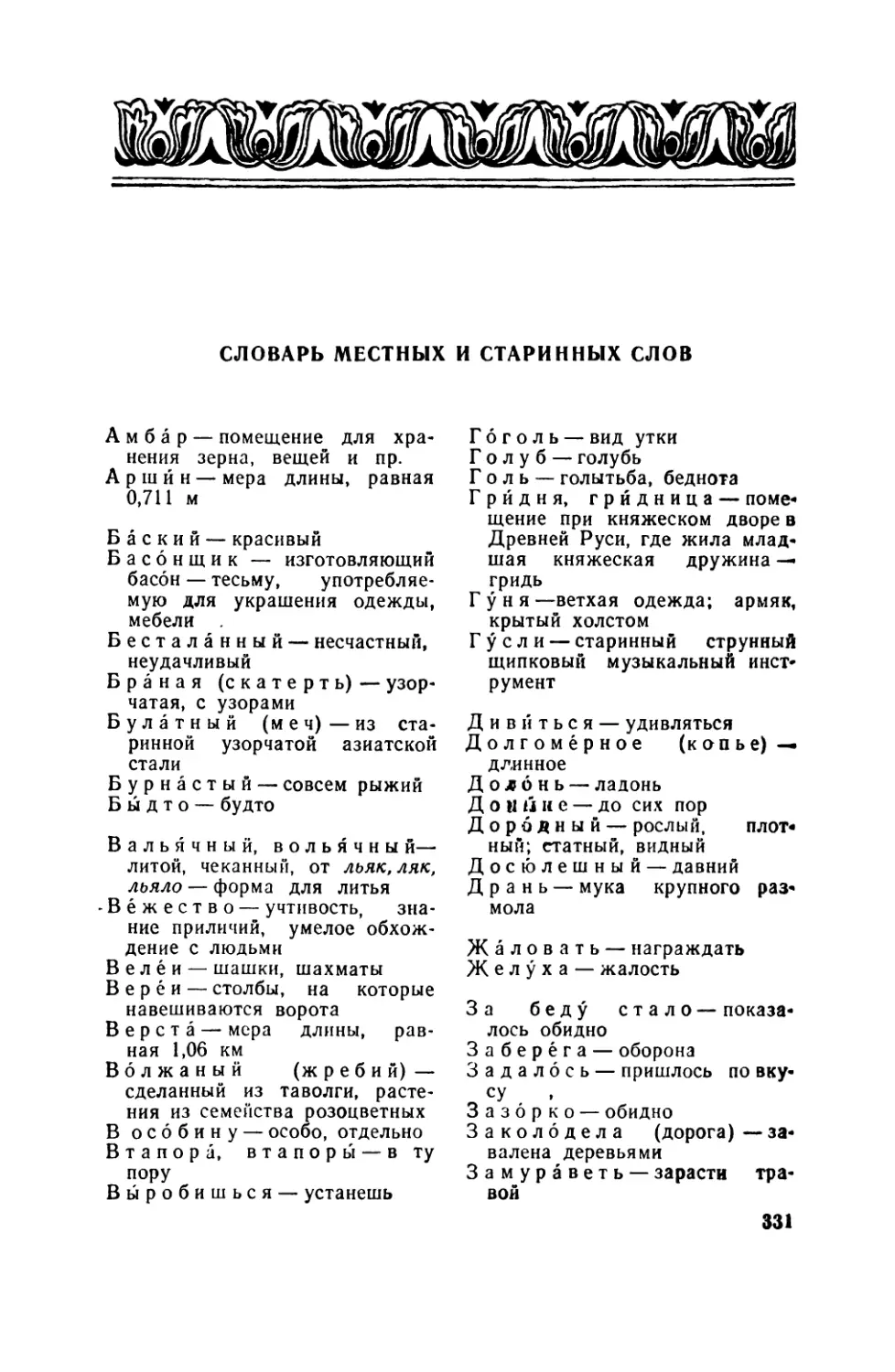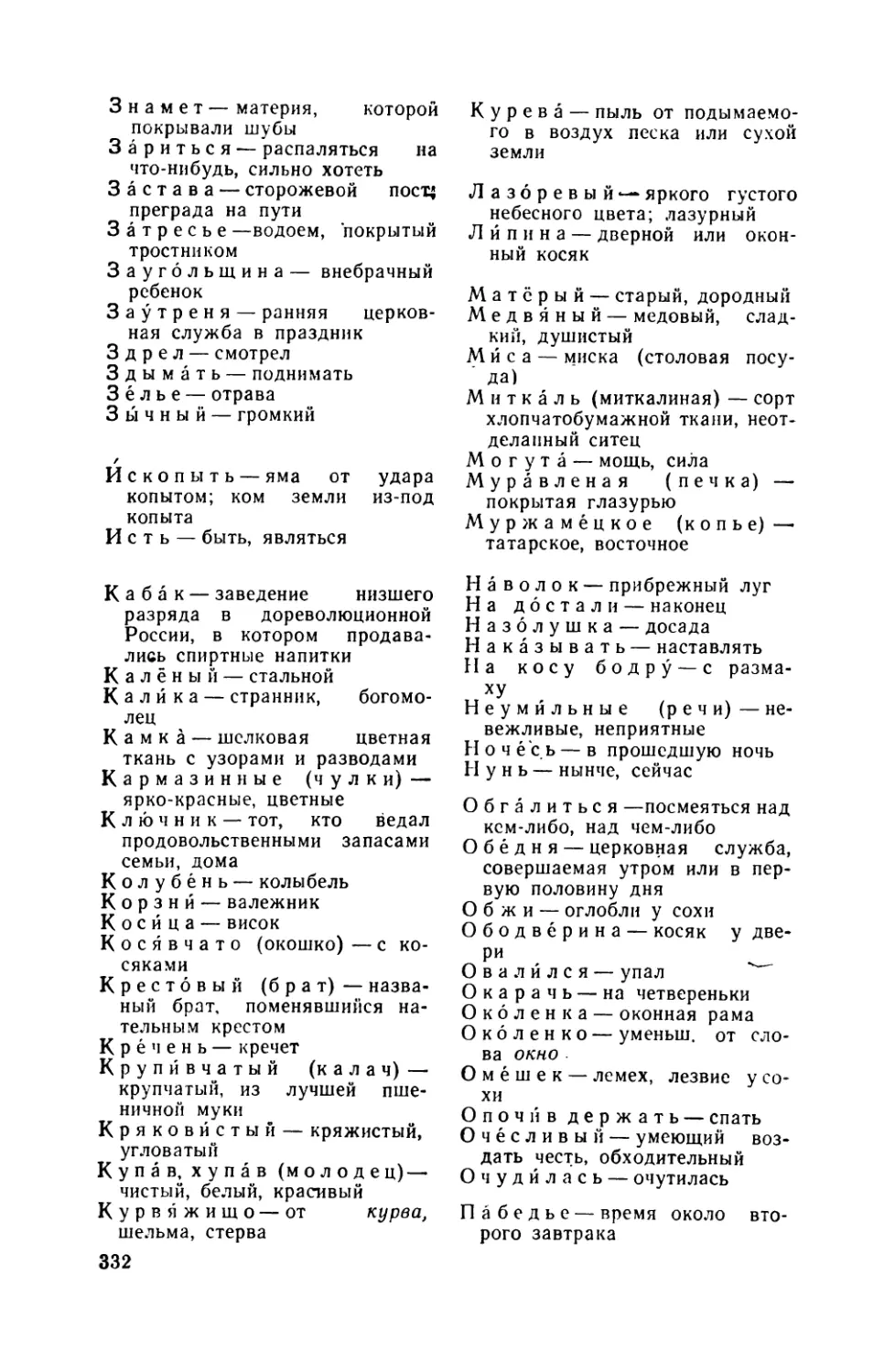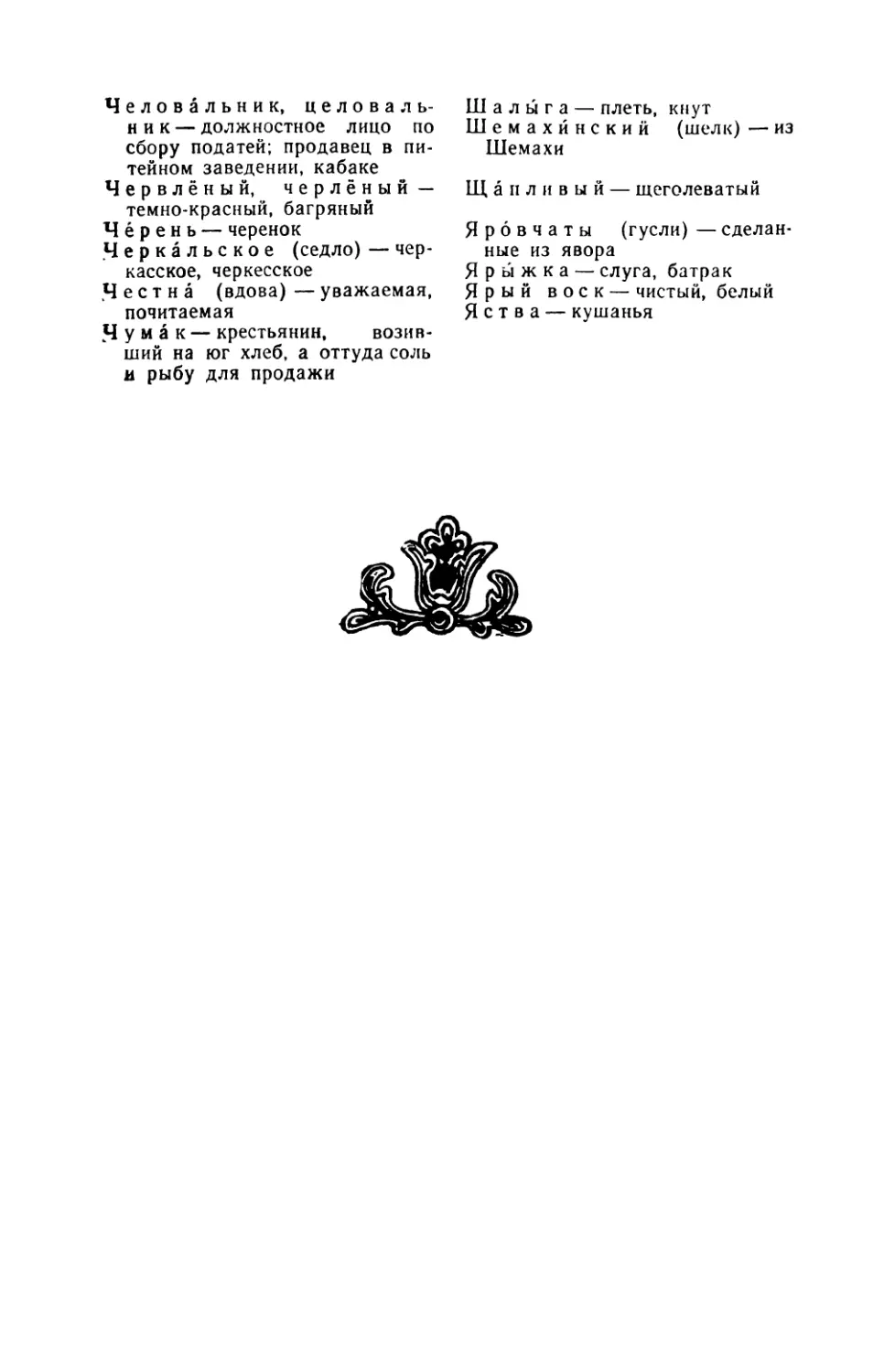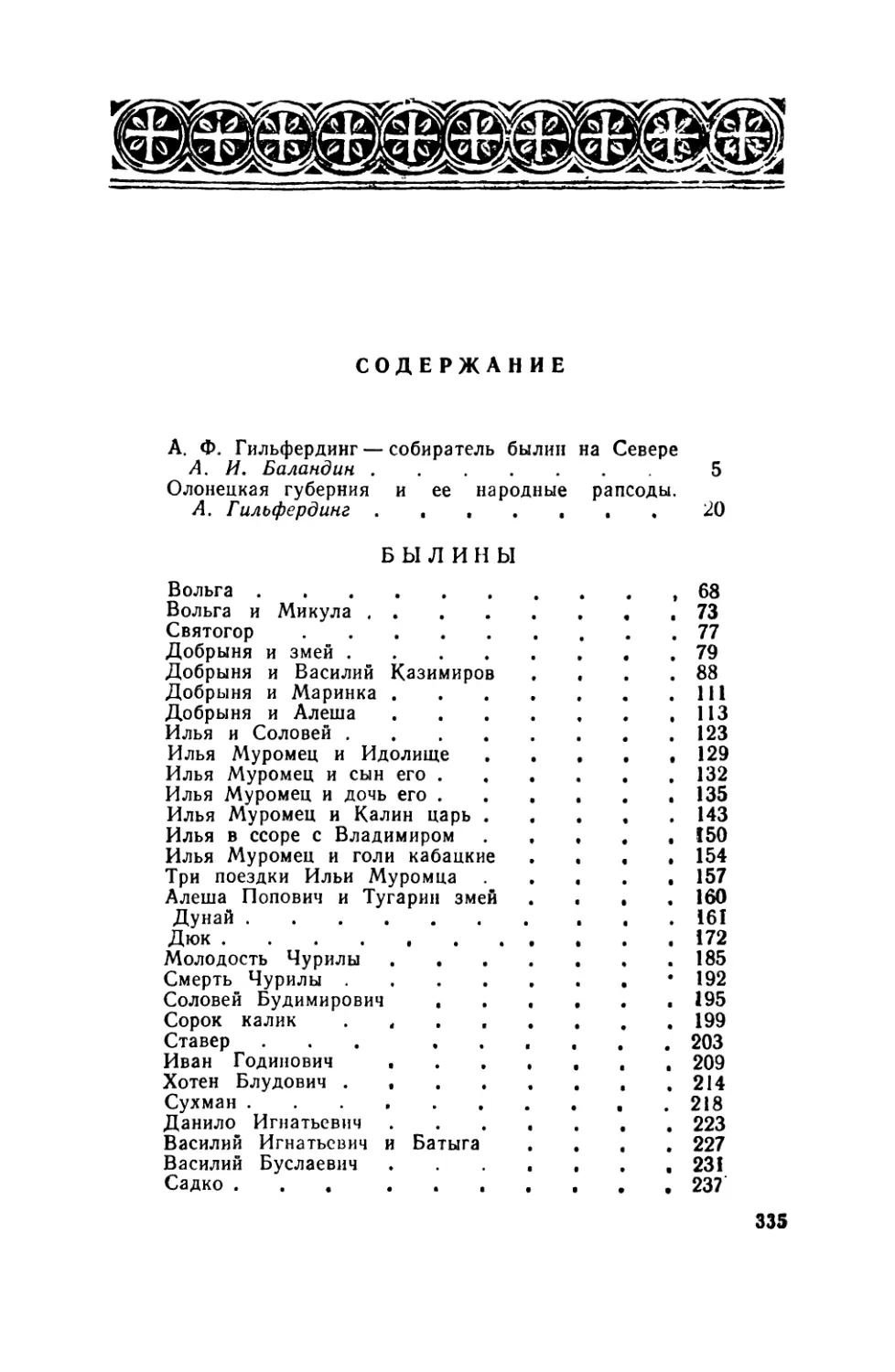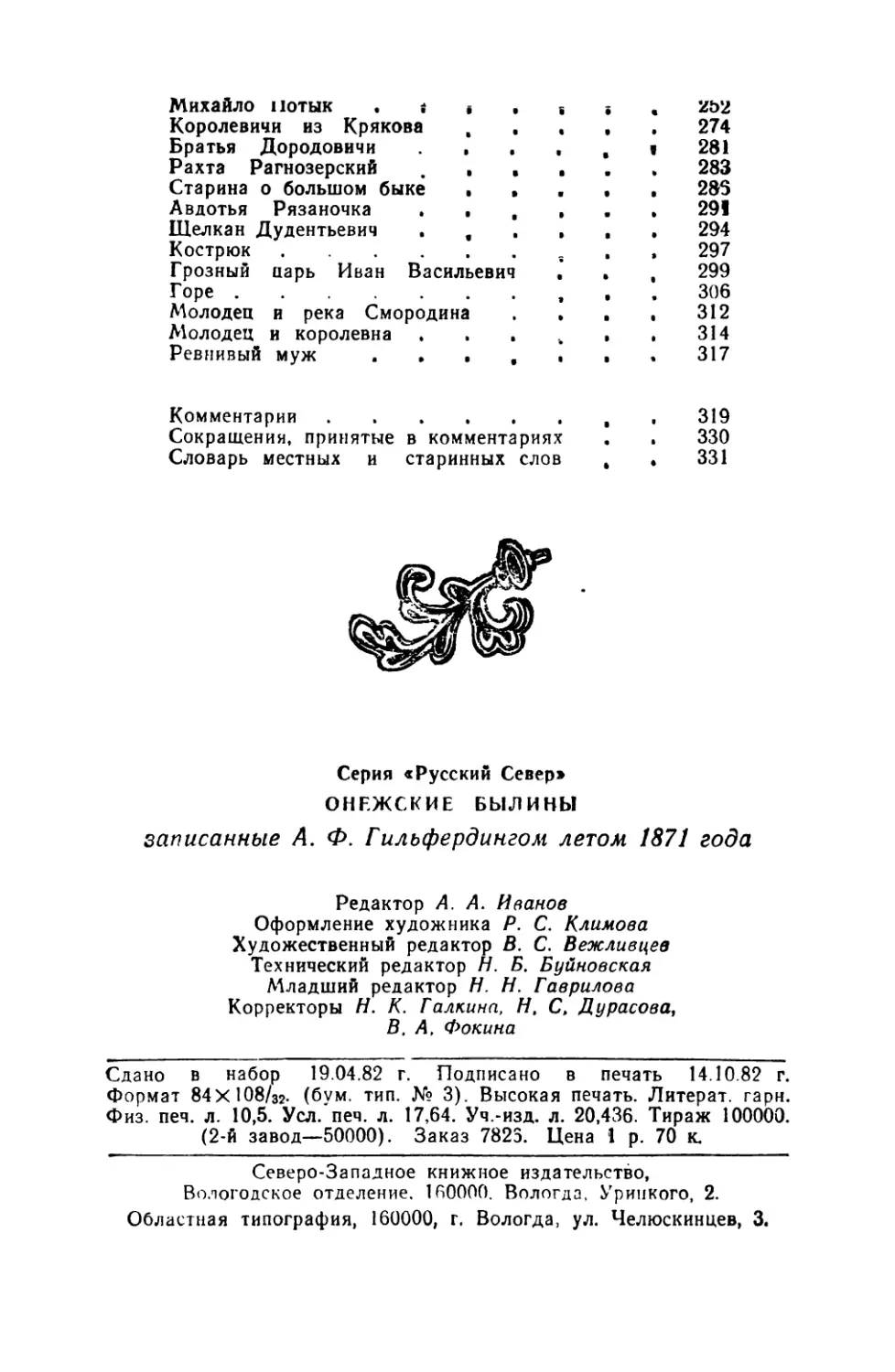Текст
ОНЕЖСКИЕ
БЫЛИНЫ
записанные А. Ф. Гилъфердингом
летом, 1871 года
АРХАНГЕЛЬСК СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1983
РФ
Г47
Гильфердинг А. Ф.
Г47 Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом летом 1871 г. /[Сост., вступит, статья и коммент. А. И. Баландина].— Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, J983.—
337 с., ил.— (Сер. «Рус. Север»).
Онежские былины собраны и записаны известным ученым-славистом, профессором Петербургского университета А. Ф. Гильфердингом во время экспедиции в Олонецкую губернию летом 1871 г. Подготовленный ученым в результате этой поездки сборник «Онежские былин.ы» стал выдающимся событием в истории собирания и изучения русского былевого эпоса и одним из самых читаемых фольклорных собраний. '
В настоящее издание вошли наиболее интересные в научном и художественном отношении былины, свидетельствующие о талантливости нашего народа.
Г 4 — 19 — 83 РФ
Ml57(03) — 83 ББК. 82 ЗР—6
Составление, вступительная статья и комментарии кандидата филологических наук, старшего научного сотрудника Института мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР А. И. Баландина
© Северо-Западное книжное издательство, 1983 г.; составление, вступительная статья, комментарии, оформление.
А. Ф. ГИЛЬФЕРДИНГ —СОБИРАТЕЛЬ БЫЛИН НА СЕВЕРЕ
Летом 1871 г. олонецкие крестьяне были немало удивлены, узнав, что в их глухие края приехал из Петербурга какой-то генерал записывать былины, или старины, как их тогда называли. Интерес к приезжему был настолько велик, что один из космозерских крестьян, Иван Аникеевич Касьянов, бросил все свои хозяйственные дела и за десятки верст отправился в соседнюю деревню, чтобы лично увидеть собирателя старинных песен. Их знакомство, о котором Касьянов простодушно рассказал впоследствии одному столичному журналисту, состоялось. «Генералом» оказался известный ученый-славист, профессор Петербургского университета Александр Федорович Гильфердинг.
Экспедиция Гильфердинга в Олонецкую губернию — событие выдающееся и в истории собирания, и в истории изучения русского былевого эпоса. Сборник «Онежские былины», явившийся результатом этой экспедиции, — одно из наиболее известных и читаемых фольклорных собраний не только прошлого века, но и нашего времени. Открывающая его статья Гильфердинга «Олонецкая губерния и ее народные рапсоды» до сих пор сохраняет свое научное значение, привлекая исследователей народной словесности и глубиной мысли, и широтой обобщений и выводов,
Александр Федорович Гильфердинг родился 2 (14) июля
1831 г. в Варшаве в семье директора дипломатической канцелярии при наместнике царства Польского. Под руководством опытных педагогов он получает блестящее домашнее воспитание и образование, основательно изучает историю древних славян, иностранные, в том числе и славянские, языки. В 1848 г. Гильфердинг посту-
5
пает на историко-филологический факультет Московского университета, где слушает лекции С. П. Шевырева, О. М. Бодянского, С. М. Соловьева и других известных профессоров. Рано пробудившаяся в Гильфердинге «наклонность к славянской истории» приводит его в студенческие годы в кружок московских славянофилов. Близкое знакомство с А. С. Хомяковым, К С. Аксаковым, Ю. Ф. Самариным, братьями И. В. и П. В. Киреевскими и другими активными деятелями славянофильского движения сыграло решающую роль в становлении его общественно-политических и научных взглядов.
После окончания университета в 1852 г. Гильфердинг поступает на службу в Министерство иностранных дел. В 1856 г. он назначается консулом в Боснии и вскоре совершает путешествие по южнославянским землям. В дальнейшем Гильфердинг занимает крупные административные должности в Азиатском департаменте министерства, комитете по делам царства Польского. В эти же годы он публикует многочисленные исторические труды, получившие широкий резонанс в славянских странах. Признанием научных заслуг Гильфердинга явилось избрание его в 1856 г. членом-корреспондентом Петербургской академии наук, а в 1870 г. — председателем Этнографического отделения Русского географического общества.
В 1871 г. Гильфердинг совершает свою знаменитую экспедицию по следам П. Н. Рыбникова. Через год он вновь отправляется в Олонецкую губернию, но по дороге заболевает брюшным тифом. Скончался Гильфердинг 20 июня (2 июля) 1872 г. в г. Каргополе.
Гильфердинг был не только талантливым фольклористом и историком, он с увлечением занимался и археографией, и лингвистикой. Свою научную деятельность Гильфердинг и начинал как лингвист— в 1853 г. в «Известиях II Отделения Академии наук» он публикует свою первую крупную работу «О сродстве языка славянского с санскритским». В том же году выходит из печати его магистерская диссертация «Об отношении языка славянского к языкам родственным».
Лингвистические труды Гильфердинга не представляют скольконибудь значительного научного интереса, однако для характеристики его общественных взглядов того времени они имеют значение первоисточника. Академически спокойное изложение материала, весьма далекого от злободневных вопросов современности, сочеталось в работах Гильфердинга с их определенной полемической направленностью. В этой полемике принял участие молодой
6
Н. Г, Чернышевский, дважды откликнувшийся на лингвистические опыты начинающего ученого.
При оценке ранних работ Гильфердинга следует иметь в виду не только общее состояние науки о языке того времени, но и те общественные условия, в которых эти труды создавались.
В начале XIX в., как известно, происходит общее оживление европейской научной мысли, особенно в области языкознания, утверждение в науке нового, сравнительно-исторического метода. Основы его были заложены в трудах Ф. Боппа, Р. Раска и особенно Я. Гримма, «Немецкая грамматика» (1819) и «История немецкого языка» (1848) которого надолго определили основные пути и принципы изучения языка. Сравнительно-исторический метод позволил немецким филологам установить родство целой семьи индоевропейских языков, сформулировать положения об органической связи языка и народного предания, о ближайшем родстве преданий и верований индоевропейских народов.
И Бопп, и Гримм строили свои концепции в основном на немецком материале. Германскую ветвь индоевропейских языков они считали наиболее древней, а следовательно, и жизнестойкой. Древнейшей оказывалась и тесно связанная с языком народная германская мифология, сохранившая многие черты некогда единого доисторического предания.
Общественное значение филологических разысканий немецких ученых заключалось в утверждении идеи национальной культуры, истоки которой они искали в языке и мифологии. Но эта идея получала у них националистическую окраску, о чем впоследствии с полным основанием писал Н. Г. Чернышевский: «...рдною из главнейших пружин, вызвавших труды этого великого исследователя <Я. Гримма >, была односторонняя тевтономания, стремление доказать путем науки, что германцы искони были племенем, высоко превосходившим все остальные племена своими умственными и нравственными качествами, своим общественным развитием»1.
Славянофилы также критиковали труды немецких филологов, усматривая в их научных построениях принижение исторического значения славянских языков, древней славянской культуры в целом. Именно в этом плане следует рассматривать интерес славянофилов к санскриту, наиболее полно сохранившему, как это было установлено еще немецкими учеными, начальные свойства индоевропейского праязыка.
'Чернышевский Н. Г. <Рец. на кн.: Архив историко-юридических сведений, относящихся до России, издаваемый Николаем Калачовым. Книги второй половина первая. М., 1855^.— Поли,
собр. соч. в 15-ти томах. М., 1949, т. II, с. 736.
7
Известно, что санскритским языком усиленно занимался А. С. Хомяков. В 1855 г. он опубликовал работу «Сравнение русских слов с санскритскими», в которой привел многочисленные русско-санскритские лексические параллели. По мнению ученого, они свидетельствовали о действительной древности русского языка, имеющего общую основу с санскритом.
Этими идеями, горячо обсуждавшимися в кружке славянофилов, воодушевлялся, конечно, и Гильфердинг, приступая под руководством К- А. Коссовича к изучению санскритского языка. В кратком предисловии к своей первой книге он пишет, что в трудах немецких ученых славянский язык занимает последнее место. И свою задачу он видит в том, чтобы указать настоящее место славянского языка в индоевропейской семье и тем самым определить его отношение к другим языкам этой семьи. Путь к достижению намеченной цели — сравнение славянского языка с санскритским, ибо «наука дает санскритскому первое место в семье индоевропейской; ибо он, сохранив в органической целости свойства, являющиеся рассеяно в прочих ее членах, составляет, так сказать, средоточие всей этой семьи»1.
Довольно многочисленные параллели из санскритско-славянского лексикона, содержащиеся в работе Гильфердинга, позволили ему высказать ряд важных, как ему казалось, научных положений. Прежде всего ученый устанавливает ближайшее родство славянолитовской группы языков с санскритом, которое выражается, по его мнению, в системе звуков. В этих языках она, система звуков, осталась неизменною, сохранив свое «первичное» состояние, тогда как в «языках западной половины индоевропейского племени» подвергалась постоянным изменениям. Это частное родство, утверждает Гильфердинг, произошло от более продолжительного «доисторического единства и общения» (с. 57). Почему же оно сохранилось лишь в славяно-литовской группе языков и санскрите? Этот вопрос Гильфердинг задает и отвечает на него так: «На той стороне, где находим раннее обособление языка и господство частных звуковых законов, мы видим и преобладание личности над общиной; а на другой стороне, позднее отделение языка славянского и его верность звукам, вынесенным из доисторической родины, из Азии, не согласно ли с медленнейшим ходом славянского племени, в котором менее высказывалась личность, но крепче хранилось общественное начало?» (с. 59). Но Гильфердинг идет еще дальше. Он ставит славянские языки выше литовского и санскрита,
1 Гильфердинг А. Ф. О сродстве языка славянского с санскритским.— «Известия II Отделения Академии наук», 1853, с. 5. Далее цитирование этой статьи с указанием в тексте страницы.
8
обосновывая свои выводы особыми свойствами славянских глаголов. Славяне могут гордиться своим языком, заключает Гильфердинг, ибо они «обратили творческую силу языка своего не на вещественную его Сторону, не на звуки, которые остались у них как были, а на выражение мысли, на внутреннее определение глагола, самой живой и духовной стихии нашего слова» (с. 119).
Специалисты давно уже обратили внимание на то, что сравнительные параллели в исследовании Гильфердинга подобраны весьма произвольно, прежде всего по кажущемуся созвучию слов. Иначе, конечно, и не могло быть, ибо в основе лингвистических построений ученого лежала политическая славянофильская идея — доказать превосходство всего славянского над западноевропейским. Славянофильская интерпретация научных фактов была ясна, между прочим, и современникам Гильфердинга. Молодой Чернышевский, например, отмечал в своей рецензии: «...желание как можно более сблизить славянский язык с санскритом заставляет г. Гильфердинга часто прибегать к натяжкам. Скажем, наконец, что по. просмотре книги г. Гильфердинга невольно рождается мысль, что он писал ее не столько с целью исследовать, до какой степени славянский язык близок к санскритскому, сколько с целью доказать, что славянский необыкновенно близок, ближе, нежели все другие индоевропейские языки, к санскритскому»1. А в другой рецензии, приведя соответствующую цитату из книги Гильфердинга, Чернышевский писал: «Итак, звуковое изменение языка соответствует развитию личности, а изменение глагола — крепости общественного начала! Вот до каких несообразностей доводят и людей, добросовестно трудящихся для науки, задние мысли»1 2.
Славянофильские концепции развивал Гильфердинг и в своих исторических сочинениях. В 1857 г. он совершил длительное путешествие в Боснию, Герцоговину и старую Сербию. Его путевые записки, первоначально печатавшиеся в журнале «Русская беседа», вскоре вышли отдельным изданием (в «Записках Русского географического общества») и сразу же привлекли к себе внимание ученых-историков, этнографов, лингвистов. А, Н. Пыпин, в то время наиболее близко стоявший к революционно-демократическому лагерю, с полным основанием писал в «Современнике»: «По своему исключительному положению, как консул в столице Боснии и вместе как ученый, хорошо знакомый с сербским языком и историей, г. Гильфердинг больше всякого другого имел возможность изучить страну в разных отношениях ее политической и частной
1 Чернышевский Н. Г, Поли, собр. соч, в 15-ти томах. М., 1949, т. II, с. 203.
2 Т а м ж е, с. 418,
9
жизни, — и мы думаем, что он хорошо воспользовался выгодами своего положения. Он изъездил в различных направлениях Боснию, Герцоговину и старую Сербию, видел сам народный быт, выслушал от босняков их современную историю и передает читателю много любопытного о нравах и обычаях боснийского народа, о степени его развития, его религиозных отношениях и его турецких властителях, о целом общественном и домашнем быте...»1
Путевые записки Гильфердинга действительно содержат в себе великое множество бытовых, исторических, археологических, этнографических, статистических и иных реалий. Они дают наиболее полную для того времени картину народной жизни в южнославянских землях. На первый взгляд, по Боснии, Герцоговине и старой Сербии путешествовал довольно бесстрастный чиновник, с фотографической точностью фиксирующий состояние дорог, количество православных и мусульманских храмов в различных городах и селениях, особенности местной архитектуры и т. п. Но это только на первый взгляд. При внимательном чтении обнаруживаются довольно ясные и политические, и собственно научные цели путешествия Гильфердинга, о которых здесь необходимо сказать особо.
Гильфердинг не скръшает своей заинтересованности в судьбе южных славян, терпящих неисчислимые бедствия и страдания от турецких завоевателей. В своей рецензии А. Н. Пыпин отмечает: «Вопрос об отношении этих славян к Турции всегда по необходимости был на первом плане у автора, который везде видел полуразрушенные и жалкие церкви, загнанных и обманываемых поселян, наглое грабительство турецких чиновников; зло не скрывалось ни под какими цивилизованными формами и прямо било в глаза всеми непривлекательными или ужасными подробностями»1 2.
Осознавалась Гильфердингом и необходимость освобождения южных славян от турецкого владычества, о чем он неоднократно писал на страницах путевых дневников. Вопрос вставал о путях этого освобождения. Надежд на местную аристократию у Гильфердинга не было. «Стать во главе народа, во главе христиан, чтобы вести их к приобретению человеческих прав и к просвещению,— заявлял он, — на это едва ли достанет у боснийской аристократии нравственных сил»3. А вооруженная борьба самого народа? Революционные демократы, как известно, именно этот путь считали единственно возможным, связывая с ним освобождение народа не
1 Современник, 1860, № 3, с. 121,
2 Т а м же.
3 Собр. соч. А. Гильфердинга. СПб., 1873, т. III, с. 263. В дальнейшем ссылки на это издание с указанием в тексте страницы.
10
только от иноземных завоевателей, но и от «внутренних турок», т. е. крепостного гнета. Путь вооруженного выступления народа за свое освобождение Гильфердинг отвергает. Об этом свидетельствует следующий эпизод из его путевых записок.
Остановившись на ночлег у бега Мохаррема, владельца местечка Ситницы, Гильфердинг вступил с ним в «интересный разговор о политике». Бег Мохаррем с похвалой отозвался о русских («москов — крепкий народ»), однако тут же заметил, что во время мадьярской войны, когда австрийцам совсем стало плохо, русский царь пришел им на помощь. «И мы часто дивились, каким образом ваш «краль» стал помогать немцам». Гильфердинг заносит в свой путевой дневник: «Мохаррем-бег сказал это вопросительным тоном, как бы ожидая объяснения этому непонятному для него факту. Но как прикажете растолковать босняку начала политического консерватизма, незаконность революционных предприятий и вмешательство консервативного начала для подавления революционного, — когда вся политика босняка, будь он мусульманин, католик или православный, все равно, заключается в одном убеждении: что братья по вере составляют один народ и должны помогать друг другу?» (с. 269).
Итак, путь революционного выступления народа — незаконный путь. Где же выход? Описывая свое пребывание в Герцоговине, Гильфердинг замечает, что простые поселяне приходили из дальних мест, чтобы увидеть русских. Они знали, говорит Гильфердинг, что «где-то далеко на севере есть православный царь, который «промышляет» о всем народе православном» (с. И). Но так думают не только поселяне, так думает и путешествующий русский консул Гильфердинг. Он твердо убежден, что освобождение, а затем и объединение славян только и возможно под эгидой царизма. Эти панславистские идеи, впрочем, широко обсуждались в московских славянофильских кругах. Именно там, конечно, воспринял их и Гильфердинг.
Известный политический консерватизм не помешал Гильфердингу услышать и правильно оценить богатейшую народную поэзию в южнославянских землях. В сущности, во время путешествия он впервые соприкоснулся с живой фольклорной традицией, что сыграло важную роль в формировании его фольклористических взглядов.
Народную поэзию Гильфердинг наблюдал в живом бытовании. Так, приехав в один из монастырей, он увидел огромную толпу крестьян, пришедших из окрестных деревень на праздничное богомолье. «Ночью вид веселящейся толпы был необыкновенно оригинален,— пишет Гильфердинг. — Вся окрестность оглашалась протяжными сербскими песнями; однообразный напев их, когда они
11
поются одним человеком, весьма неприятен для не-сербского уха, но в общей массе они производят строгий и, можно сказать, величественный эффект» (с. 82).
В Боснии Гильфердинг записывает местное предание о том, как турки обманом завладели крепостью Добрунь. В одном из монастырей ему рассказывают легенду о св. Георгии, убившем дракона. Здесь же записывает он и предание о смерти Марка Королевича и замечает: «Много еще преданий рассказывали мне, пока мы сидели на этих развалинах» (с. 99).
Песни и предания о Марке Королевиче особенно интересуют Гильфердинга. Еще в начале своего путешествия он спрашивает о них одного мусульманина, в доме которого в честь приезжего гостя был дан концерт. Услыхав в ответ, что такие песни поют, но редко, Гильфердинг помечает в путевом дневнике: «Мусульмане не жалуют этого героя, который так славно колотил их предков» (с. 28).
«В старой Сербии теперь нет ничего, кроме старины. Жизнь славянская в ней почти угасла», — пишет Гильфердинг, но тут же замечает: «К счастью, православные босняки усвоили себе цикл песен о князе Лазаре, Марке Королевиче и Кара-Георгии и-в них находят пищу для своего духа и своих надежд» (с. 107). Об этом же писал он и раньше, впервые увидев праздничное гулянье: «Народная песнь, которую знает и поет решительно всякий православный серб в Турции, есть то живое предание, которое среди безот>радного настоящего связывает его с славным прошедшим и питает в нем надежду на будущее» (с. 83).
Как бы в подтверждение этих замечательных слов Гильфердинг приводит сербскую историческую песню о царе Стефане и его сыне, а одну из последующих глав своей книги называет «Место Косовского побоища; сербские сказания о нем». Глава эта представляет интерес не только содержащимся в ней обильным фольклорно-этнографическим материалом, но и теми суждениями о нем, которые Гильфердинг приводит в свбем путевом дневнике.
Гильфердинг пишет: «Эпический образ Косовского побоища есть живое сокровище сербского народа, один из существенных фактов его духовной и нравственной жизни» (с. 168). Приведя далее сказание о Косовской битве, Гильфердинг заключает: «Такова сербская эпопея о Косовском побоище. Она совершенно сходна по содержанию с рассказами самих косовских жителей, которые, хотя и не поют < — > песен о Милоше и Лазаре, однако живо представляют себе их подвиги и их кончину в том же точно виде, как народный эпос; стало быть, и эпос и местные рассказы имеют основанием одно общее предание, установившееся в сербском народе» (с. 183).
12
Обращаясь к летописным сказаниям о Косовской битве, Гиль* фердинг выносит суровый приговор сербским книжникам, в сочинениях которых, по его словам, «нет ни определенного образа какого бы то ни было лица или события, ни живого простого слова». «Живое слово сказал о нем <этом событии, т. е. Косовской битве> народ в своих безыскусственных песнях» (с. 195).
Гильфердинг обращает внимание не только на содержание сербских эпических песен, но и на их напев и ритм. «Для любителя славянской народной поэзии, — пишет он, — эта рапсодия <так Гильфердинг называет приводимую эпическую песню о Косовской битве > будет тем более драгоценна, что в ней он увидит образчик особого, еще мало исследованного, народного размера, который теперь уже исчез в сербском эпосе, но который в прошлом столетии преобладал в песнях, прославляющих события отдаленных времен» (с. 168).
Как видим, во время путешествия по южнославянским землям Гильфердинг не только наблюдал за жизнью народной поэзии, но и усердно записывал и изучал и песни, и предания, и легенды. Он сделал совершенно правильные, на уровне передовой науки того времени, выводы о роли фольклора в духовной жизни народа, своеобразии эпической поэзии. Этим путешествием Гильфердинг вполне подготовил себя к поездке в Олонецкую губернию, предпринятой, как уже говорилось, летом 1871 г.
Вопрос о целях и задачах путешествия Гильфердинга в Олонецкий край широко обсуждался еще в дореволюционной фолькло* ристике. Неоднократно поднимался он и в работах советских ученых. И это вполне закономерно, ибо для характеристики и научных, «и общественных позиций Гильфердинга он имеет, конечно, принципиальное значение.
До недавнего времени в литературе можно было встретить утверждение о том, что Гильфердинг выехал на Север с целью на месте проверить записи П. Н. Рыбникова — своего предшественника по собиранию былин в Олонецком крае. Для такого утверждения, однако, не имелось никаких оснований. Как известно, выход первых томов «Песен, собранных П. Н. Рыбниковым» вызвал неоднозначную реакцию в научных кругах. То обстоятельство, что зафиксированный собирателем крупный очаг живой эпической традиции находится не где-нибудь в Сибири, а совсем рядом с Петербургом, вызывало, естественно, и удивление, и восхищение ученых. Но это же обстоятельство порождало у части специалистов сомнение в подлинности рыбниковских записей, вызывало подозрение в прямой фальсификации. Дело дошло до того, что академик И. И. Срезневский обратился со специальным запросом к академику Д. В. Поленову и учителю петрозаводской гимназии В. И. Модестову, ко¬
13
торые, совершив специальную поездку по Олонецкой губернии, документально подтвердили подлинность собранных Рыбниковым фольклорно-этнографических материалов. Вопрос о подлинности сборника Рыбникова, естественно, был тогда же снят и больше не возникал. Поэтому правы, конечно, те современные исследователи, которые связывают путешествие Гильфердинга с иными научными целями и задачами.
Уже М. К. Азадовский, вслед за В. И. Чичеровым, с полным основанием заявлял о том, что задачей Гильфердинга «было непосредственное исследование на месте сохранившейся древней эпической традиции и ее носителей»1. Это бесспорное положение вполне согласуется, между прочим, с признанием самого Гильфердинга, который в статье «Олонецкая губерния и ее народные рапсоды» писал: «Мне давно хотелось побывать на нашем Севере, чтобы составить себе понятие о его населении, которое до сих пор живет в эпохе первобытной борьбы с невзгодами враждебной природы. В особенности манило меня в Олонецкую губернию желание послушать хоть одного из тех замечательных рапсодов, каких здесь нашел П. Н. Рыбников».
Другой ученый, В. Г. Базанов, много сделавший для изучения творческого наследия знаменитого фольклориста-собирателя, пошел еще дальше, полагая, что Гильфердинг, отправляясь на Север, ставил перед собой задачу более широкую, нежели собирание былинного эпоса. И сам былинный эпос, утверждал В. Г. Базанов, интересовал Гильфердинга в связи с другими вопросами, прежде всего общественно-политическими. Напомнив, что как раз ко времени поездки собирателя в Олонецкий край там решался вопрос о поземельном устройстве государственных крестьян, исследователь писал: «Полагаем, что предпринятые Гильфердингом поездки в Олонецкую губернию частично объясняются стремлением на месте проверить и уточнить свои выводы относительно пореформенной действительности и, таким образом, закончить свой многолетний труд по крестьянскому вопросу. ‘Гильфердинг не ограничился записываниём былин, он собирал сведения о положении государственных крестьян, внимательно изучал быт и экономику края»1 2.
Таким образом, вопрос о целях и задачах путешествия Гильфердинга в Олонецкую губернию имеет прямое отношение не только к характеристике научных позиций собирателя, но и дает воз¬
1 Азадовский М. К* История русской фольклористики М., 1963, т. II, с. 228.
2 Базанов Василий, Поэзия русского Севера. Петрозаводск, 1981, с. 83.
14
можность судить о его общественно-политических взглядах. Этот вывод подтверждается и результатами путешествия.
Экспедиция Гильфердинга в Олонецкий край начала :ь на редкость удачно — первого исполнителя былин он встретил уже в Петрозаводске. Это был крестьянин-портной Абрам Евтихеев, который охотно согласился сопровождать собирателя в его поездке. В лице этого портного, имевшего прочные знакомства во многих местах Заонежья, Гильфердинг нашел незаменимого помощника. Пока он записывал былины в каком-нибудь селении, Евтихеев отправлялся в отдаленные села и деревни, иногда за 40-50 верст, «доставать сказителей». И не было, кажется, случая, чтобы это ему не удалось сделать.
Успеху экспедиции Гильфердинга способствовало и то обстоятельство, что за исполнение былин сказители получали денежное вознаграждение. Это было столь необычным явлением, что память о нем сохранялась среди олонецких крестьян до недавнего времени1.
По свидетельству самого Гильфердинга, желающих спеть былины нередко собиралось так много, что иным сказителям приходилось ждать своей очереди по два-три дня. «...Я записывал былины до полного физического утомления», — признавался Гильфердинг, вспоминая о своей поездке в Олонецкую губернию.
Результаты не замедлили сказаться. За два летних месяца работы Гильфердинг прослушал 70 певцов, записал от них 318 былин. Собранные материалы позволили Гильфердингу сделать принципиально важные выводы о социальных условиях бытования былин на Севере, причинах сохранения там древней эпической традиции, поставить вопрос о роли творческой личности в фольклоре, впервые в истории фольклористики выявить, местные сказительские «школы», раскрыть лабораторию сказительского мастерства.
Уже сборник П. Н. Рыбникова свидетельствовал о довольно хорошей сохранности эпической традиции в Олонецкой губернии. Рыбников записывал былины в Петрозаводском, Пудожском, Каргопольском, Повенецком, Вытегорском и Лодейнопольском уездах. «В последних двух, — писал он в «Заметке собирателя», — они < былины > известны немногим, а потому явно забываются и переходят в побывальщины. Но в первых трех уездах и в той части Повенецкого, которая прилегает к Пудожскому побережью, старины очень распространены и до сего времени усердно сохранялись
1 О том, что некогда «генерал хорошо награждал», приходилось слышать в Заонежье, Кенозере и на Пудожском берегу Ю. М. Соколову, одному из руководителей знаменитой фольклорной экспедиции 1926—1928 гг. «По следам Рыбникова и Гильфердинга» (см.: Художественный фольклор, 1927, вып. II — III, с. 10).
15
народом. Во всех этих местностях каждый крестьянин знаком с содержанием былин и именами некоторых богатырей. В Заонежье и на Пудожском побережье у всякого смышленого пожилого человека отыщется в памяти одна-две былины, и хотя сам-то он полагает, что ничего не знает, однако, при случае, вдруг припомнит какую-нибудь былевую песню»1.
Среди исполнителей былин Рыбников называет зажиточных крестьян, земледельцев, рыболовов, содержателей почтовых дворов, портных, калик перехожих, живущих подаянием. Иное отношение к былинам наблюдал он у олонецких крестьян-раскольников.
Рыбников, как известно, проявлял живой интерес к старообрядчеству еще в годы, предшествующие ссылке в Олонецкий край, во времена путешествия по Черниговской губернии. Уже тогда он пришел к выводу, что искусство интересует раскольников лишь в той мере, в какой ’ оно отвечает потребностям религиозного культа. Сходную картину увидел он на Севере: «К мирским песням ревностные староверы большею частию относятся с тем же настроением, которое вызвало в аскетах древней Руси такого рода запрещение: «песней сатанинских не петь и мирских людей не соблазняти». Потому в Повенецком уезде слышно едва-едва про двухтрех сказителей»1 2. Утверждения Рыбникова об особом отношении старообрядцев к искусству полемически были направлены, конечно, против славянофилов, видевших в раскольничьих общинах тот тип патриархального уклада, который ими идеализировался.
Взгляды Рыбникова на раскол были неприемлемы для Гильфердинга, разделявшего, как мы могли в этом убедиться, основные социально-политические концепции славянофилов. В статье «Олонецкая губерния и ее народные рапсоды» Гильфердинг рассказывает, что уже в Петрозаводске он встретил слепого старикакрестьянина, который по дороге домой спел ему превосходную былину о Добрыне и Маринке. И каково же было удивление собирателя, когда он узнал, что сказитель — «завзятый раскольник». «Между тем, — пишет Гильфердинг, — руководствуясь сборником г. Рыбникова и объяснением его, я был уверен, что у раскольников нельзя найти никаких остатков народного эпоса, и думал, что посещение мест, где преобладает старообрядчество, было бы для меня потерею времени». И далее Гильфердинг сообщает: «Я стал подозревать (а потом вполне убедился), что г. Рыбников не мог найти ничего у старообрядцев по своему личному положению, как
1 Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. Изд. 2-е. М., 1909, т. I,
с. С1
2 Т а м ж е, с. XVI.
16
член местной губернской администрации, но что в действительности былины поются и раскольниками». Гильфердинг сознательно изменяет маршрут поездки, первоначально согласованный с Рыбниковым. Он едет на Выгозеро — центр старообрядческих поселений, где и записывает былины от крестьян-раскольников.
Вопрос о сохранности былевой традиции на Севере — центральный и для Гильфердинга. Объясняя причины сохранения былин в Олонецкой губернии, Рыбников говорит о «поэтической природе жителей» края, а также о том, что у олонецких крестьян все еще жива память о «славном киевском и новгородском прошедшем». В. Г. Базанов в свое время так интерпретировал эти слова собирателя: «Рыбников пришел к тому заключению, что в Олонецкой губернии, где жива память о древнем Новгороде и где народ не испытал всех ужасов крепостничества, былевая поэзия соответствовала нравственным запросам и идейным убеждениям крестьянства... Историческая связь Олонецкой губернии с очагами древнерусской свободы для Рыбникова имела решающее значение»1. Несмотря на некоторое преувеличение, исследователь верно определяет исходные позиции Рыбникова как демократические.
В хорошей сохранности эпической традиции на Севере убедился в первые же дни знакомства с местными певцами и Гильфердинг. Огромное большинство народа, отмечает он, «живет еще вполне под господством эпического миросозерцания. Поэтому неудивительно, что в некоторых местах этого края эпическая поэзия и теперь ключом бьет». Пытаясь уяснить причины ее сохранения, Гильфердинг называет два обстоятельства — свобода и глушь.
Олонецкие крестьяне, как известно; не знали крепостной зависимости, «крепостного рабства», как пишет в своей статье Гильфердинг. «Ощущая себя свободным человеком, — продолжает он далее, — русский крестьянин Заонежья не терял сочувствия к идеалам свободной силы, воспеваемым в старинных рапсодиях». Патриархальный уклад жизни олонецкого крестьянина, по мнению Гильфердинга, также способствовал сохранению былевой поэзии. Свободный крестьянин Заонежья, пишет он, «жил в глуши, которая охраняла его от влияний, разлагающих и убивающих первобытную эпическую поэзию: к нему не проникали ни солдатский постой, ни фабричная промышленность, ни новая мода; его едва коснулась и грамотность, так что даже в настоящее время грамотный человек между крестьянами этого края есть весьма редкое исключение». Это, конечно, чисто славянофильская интерпретация и понятия «свобода», и понятия «глушь». Именно славянофилы непременным условием сохранения устного народного творчества, в том числе и
1 Базанов Василий, Поэзия русского Севера, с. 88—89.
17
былевой поэзии, считали отсутствие крепостного права, удаленность населенных мест от центров цивилизации, неграмотность народа и т. д.
В полном соответствии с этими установками решался Гильфердингом и вопрос об исторических судьбах эпической поэзии на Севере. Он отмечает, что на Кенозере и Водлозере «наш народный эпос еще совершенно живуч и может там долго-долго продержаться, если только в эту глушь не проникнет- промышленное движение и школа». Берега же Онежского озера, соединенные водным путем с Петербургом, «суть места, гораздо более открытые влияниям, убивающим эпическую поэзию в народе, и потому неудивительно, что здесь она уже представляет признаки вымирания».
Положения Гильфердинга об условиях сохранности эпоса сразу же стали достоянием дореволюционной фольклористики. Они оказали огромное влияние"на все дальнейшие изучения в области теории и истории народного эпического творчества. Советские ученые внесли существенные коррективы в эти положения Гильфердинга. Не эти положения, конечно, доставили ему заслуженную известность не только в русской, но и общеевропейской науке. В историю русской фольклористики Гильфердинг вошел прежде всего как крупнейший собиратель фольклора. Приемы и методы его собирательской работы до сих пор^сохраняют свое научное и практическое значение, а записанные им былины вошли в сокровищницу русского народного творчества.
Во время своего путешествия по Олонецкому краю Гильфердинг записывал былины не только от певцов, известных ему по сборнику Рыбникова. Он встретил немало талантливых исполнителей, мимо которых по разным причинам прошел его предшественник. Собрание Гильфердинга, таким образом, значительно дополняет сборник Рыбникова и новыми записями, и новыми былинными сюжетами. Среди записанных им былин имеются довольно редкие, например, «Колыван-богатырь», «Братья Дородовичи», «Невольное пострижение» и др.
Исключительную научную ценность представляют повторные записи Гильфердинга от певцов, которых слушал в свое время Рыбников. Это явление было величайшим новшеством не только в русской, но и общеевропейской собирательской практике. Повторные записи позволяют сделать важные выводы об особенностях творческого процесса в фольклоре, механизме эпической памяти певца, сущности эпической традиции.
Собранные Гильфердингом материалы отличаются абсолютной точностью записи, и в этом, конечно, состоит их важнейшее научное значение.
Записи Гильфердинга целиком вошли в его знаменитый сбор-
18
ник «Онежские былины», первое издание которого вышло в свет в 1873 г. До сих пор он является настольной книгой каждого фольклориста. Велик к нему и читательский интерес. Многочисленные любители русского народного творчества находят в нем великолепный материал, свидетельствующий о талантливости нашего народа, его героической истории, устремленности в счастливое будущее.
А. И. Баландин
ОЛОНЕЦКАЯ ГУБЕРНИЯ И ЕЕ НАРОДНЫЕ РАПСОДЫ
Мне давно хотелось побывать на нашем Севере, чтобы составить себе понятие о его населении, которое до сих пор живет в эпохе первобытной борьбы с невзгодами враждебной природы. В особенности манило меня в Олонецкую губернию желание послушать хоть одного из тех замечательных рапсодов, каких здесь нашел П. Н. Рыбников. Сам Пав. Ник. поощрял меня к поездке в этот край, подав надежду, что она может быть не бесполезна и после его работ; он с величайшею обязательностью сообщил мне практические советы, извлеченные из опыта десятилетнего пребывания в Олонецкой губернии. Имея перед собою два свободных месяца нынешним летом, я расположил свою поездку так, чтобы посетить местности, которые были мне указаны г. Рыбниковым как пребывание лучших «сказителей», именно: Сенную Губу и Кижи на южной оконечности Заопежского полуострова, Толвуй на его северной стороне, Пудожское побережье на северо-восточном берегу Онежского озера, Кенозеро в северо-восточном углу Пудожского и так называемую Мошенскую сторону в северо-восточном углу Каргопольского уезда. Кроме того, предварительно переезда в Сенную Губу, я из Петрозаводска заглянул в Горский погост и Мелую Губу; потом из Толвуя переехал в Повеиец и оттуда сделал экскурсию через Масельгу на Выгозеро и в Данилов; а на Кенозеро поехал не прямым путем из Пудожа, а через Сумозеро и Водлозеро. Эту длинную дорогу зигзагами, начатую из Петрозаводска 30-го июня, я окончил в Вельске 27-го августа.
Я изложу с некоторою подробностью результаты моей поездки по отношению к предмету, который меня занимал специально, именно — народной эпической поэзии; но как Олонецкая губерния и особенно северо-восточная ее часть вообще мало известна, то предпошлю этим специальным замечаниям несколько слов, чтобы
20
сказать общее впечатление, какое этот край произвел на меня. Общее впечатление — и тяжелое и вместе отрадное. Отрадно видеть северно-русского крестьянина этой местности (других не знаю и о них не говорю), отрадно видеть его самого по себе; тяжело видеть обстановку, в которую он поставлен природою, еще тяжелее — ту, в которой держит его масса сложившихся и наслоившихся недоразумений. Народа добрее, честнее и более одаренного природным умом и житейским смыслом я не видывал; он поражает путешественника столько же своим радушием и госте* приимством, сколько отсутствием корысти. Самый бедный крестьянин, у которого хлеба недостает на пропитание, и тот принимает плату за оказанное одолжение, иногда сопряженное с тяжелым трудом и потерею времени, как нечто такое, чего он не ждал и не требует. Он садится в лодку гребцом, работает веслом часов 15 кряду, не теряя до конца хорошего расположения духа и своей прирожденной шутливости. Приученный большинством местного чиновничества к крайне бесцеремонному (чтобы выразиться помягче) обращению, он относится к этому с изумительным добродушием и не обнаруживает ни тени недоверия и неприязни к нашему брату, человеку привилегированного класса, хотя ему доводится иметь дело только с самыми непривлекательными его экземплярами. При первом признаке человечного с ним обхождения он так сказать расцветает, делается дружественным и готов оказать вам всякую услугу, но между тем никогда не впадает в тот тяжелый тон грубой, бестактной фамильярности, от которого не всегда может удержаться простолюдин на Западе, когда с ним захочет сблизиться человек из более образованного слоя общества. Что касается материальной обстановки северно-русского крестьянина и его экономического быта, то для суждения о том потребовались бы совсем другие исследования, чем те, каким я посвятил свое время в эту поездку. Ограничусь только самыми общими замечаниями. Материальная обстановка северно-русского крестьянина несколько сносна у Онежского озера, потому что тут он располагает обширным водоемом, который находится в прямой связи с Петербургским портом; но дальше к северу и востоку вы видите только лес, лес и болото и опять лес; озера, разбросанные в этом крае, служат только для сообщения между деревнями, их окружающими. Климат такой, что здесь природа отказывает в том, без чего нам трудно себе представить жизнь русского человека; у него нет ни капусты, ни гречи, ни огурцов, ни луку; овес, разными способами приготовляемый, составляет существеннейшую часть пищи. Отсутствует и другая принадлежность русского народа — телега. Телега не может пройти по тамошним болотистым дорогам. Она появляется только 35 верст южнее Кенозера, в Ошевенской волости, с кото¬
21
рой начинается более сухая и плодородная часть Каргопольского уезда. Севернее, около Кенозера, Водлозера, Выгозера и по За* онежью возят что нужно и летом на санях (дровнях) или же на волоках, т. е. оглоблях, которые передними концами прикреплены к хомуту, а задними волочатся по земле; к ним приделана поперечная доска, к которой привязывается кладь. Когда же нужно ехать человеку, он отправляется верхом там, где не может пользоваться водяным сообщением. Для своза хлеба с ближайших к деревням полей есть кое-где двухколесные таратайки, с неуклюже сколоченными, скорее многоугольными, чем круглыми, деревянными .без железных шин колесами, таратайки, перед которыми здешние чухонские кажутся усовершенствованным экипажем.
Легко вообразить, но трудно передать словами, какого тяжелого труда требует от человека эта северная природа. Главные и единственно прибыльные работы — распахивание «нив», т. е. полян, расчищаемых из-под лесу и через три года забрасываемых, и рыбная ловля в осеннее время — сопряжены с невероятными физическими усилиями. Но, чтобы существовать, крестьянин должен соединять с этим и всевозможные другие заработки: потому никто не ограничивается одним хлебопашеством и рыболовством; кто занимается в свободное время каким-нибудь деревенским ремеслом, кто идет в извоз к Белому морю зимой, а летом в бурлаки на канал, кто «полёсует», т. е. стреляет и ловит дичь и т. д. Женщины и девушки принуждены работать столько же, сколько мужчины. Крестьянин этих мест рад и доволен, если совокупными усилиями семьи он, по тамошнему выражению, «огорюет» как-нибудь подати и не умрет с голоду. Это—народ-труженик в полном смысле слова.
И что особенно грустно, это слышать единогласно и повсеместно и видеть несомненные признаки, что тамошний народ беднеет, что положение его ухудшилось в последнее время против прежнего. Это — благодаря нашей братье бюрократам. Кому-то из них пришло в голову, что интерес казны требует охранения лесов нашего Севера от крестьян, которые распахивают в них свои «нивы». Подсечное хозяйство было сочтено за неправильное, хищническое, варварское; забыли только, что без него там жить нельзя; что только свежая лесная земля дает в этом климате урожай, окупающий труд; что распахиваются только такие места, на которых растет мелкий березовый и ольховый лес, никуда не годный, а ценного лесу не трогают, по той простой причине, что земля, на которой растет сосна и лиственница, под посев не годится; что наконец полянки, которые крестьяне в силах распахать, составляют самую микроскопическую величину в бесконечности тамошних «суземков» — поросших лесом безлюдных пространств, разделяющих поселения на нашем Севере. Нет, казенный интерес превыше
22
всего, а казенный интерес требует-мол охранения лесов! И вот крестьянские расчистки были обставлены такими стеснениями, что, при добросовестном и «неусыпном» исполнении на месте предписаний, население целых волостей вдруг лишалось главного средства пропитания, и крестьяне благословляли судьбу там, где исполнитель позволял себя усыплять.
Это — одно из проявлений бюрократической опеки на нашем Севере. Но есть проявление более общее и также неотрадное, хотя оно не так ощутительно в материальном отношении. Известно, что все крестьяне северных уездов Олонецкой губернии принадлежат к разряду крестьян государственных. Какие были их внутренние распорядки в прежние времена — не знаю; но, со времени учреждения министерства государственных имуществ, они попали под непосредственную чиновничью опеку. Хоть им предоставлялись все формы выборного общественного самоуправления, но в сущности вся власть передана была в руки окружного начальника, и выборные головы и расправы стали только исполнителями его приказаний. Это до такой степени отучило тамошних крестьян от серьезного отношения к своему общественному управлению, что и в настоящее время, когда опека снята, они слишком недоверчиво смотрят на данные им права, считают мирового посредника таким же начальником, каким был окружной, и неохотно идут на общественные должности, видя в них одни только хлопоты и ответственность. По всей вероятности, пройдет целое поколение, пока изгладится этот мертвящий след прежней чиновничьей опеки.
Но где следы бюрократических «мероприятий» производят потрясающее впечатление, это — в северной части Повенецкого уезда, около Выгозера! Едва ли есть страна, где жизнь горчее для человека: ибо земля почти отказывает ему в вознаграждении за ее обработку, хлеб то и дело вымерзает, рыбы немного и не такая, которая годилась бы для вывоза, сплавлять лес некуда, звериный промысел недостаточен, чтобы кормить население, слишком для этого густое. Словом, здесь нужно бесконечное, безысходное труженичество, чтобы только прокормиться. Какое же остается утешение человеку при такой жизни? Одно единственное — религия, и действительно: народ здесь отличается особенною набожностью. Но что же? Вы приезжаете в село и среди опрятных, красивых его изб вас поражает вид какой-то печальной развалины. Проходя мимо, крестьяне, вас провожающие, благоговейно снимают шапки и крестятся. «Что это такое за развалина?» — «Да это была наша часовня, а лет двадцать тому назад пришел из Питера приказ, да приезжал из губернии чиновник, вывез наши образа, запечатал часовню, снял с нее крест и запретил нам до нее дотронуться. Так она и стоит вот уже двадцать лет и скоро совсем развалится». —
23
«А где же теперь бывает у вас богослужение?» — «Да нигде, батюшко, потому нам всякое «оказательство» запрещено». Другой крестьянин — православный — поясняет, что в этом селе живут все раскольники и начальство строго смотрит, чтобы не было у них богослужения. И это не в одном месте, а то же самое почти в каждом селе: везде разваливающиеся часовни, запечатанные по распоряжениям из Петербурга; кладбища с заколоченными воротами, в которые строго воспрещено входить, дабы кто-нибудь из раскольников не отважился служить заупокойную службу по родителям; везде это доброе, приветливое, кроткое население тружеников выгозеров лишено утешения религии! И всего курьезнее, что это делается не из какого-нибудь фанатизма к православию, а просто так, по канцелярской рутине.
Со мной ехал русский простолюдин, петербургский житель. Когда мы проехали первые раскольничьи селения, он вдруг сделал мне такой наивный вопрос: — «Скажите, отчего это у нас в Петербурге позволяют и католикам и лютеранам иметь свои церкви на Невском проспекте и позволяют жидам и мусульманам служить по своей вере, а здесь так стесняют наших русских мужичков в их вере? Ведь они, как мы, веруют в господа Иисуса Христа, а не то что жиды, которые Христа проклинают: у них те же святые и те же молитвы, как у нас, а не то что у лютеран и католиков, а их так стесняют, что даже покойника не дают отпеть и в самый большой праздник не позволяют служить!»
Признаюсь, я не нашел ответа. Нашел ли бы что отвечать ктолибо из моих благосклонных читателей?
Ограничиваюсь этими общими впечатлениями и перехожу к тому, что меня преимущественно занимало в Олонецком крае, именно — к остаткам народной эпической поэзии. Побывавши в Олонецкой губернии, особенно в северной и восточной ее частях, легко уяснить себе причины, по которым могла сохраниться здесь в народной памяти эпическая поэзия, давно исчезнувшая в других местах России. Этих причин две, и необходимо было их совместное действие; эти причины — свобода и глушь.
Народ здесь оставался всегда свободным от крепостного рабства. Ощущая себя свободным человеком, русский крестьянин Заонежья не терял сочувствия к идеалам свободной силы, воспеваемым в старинных рапсодиях. Напротив того, что могло бы остаться сродного в типе эпического богатыря человеку, чувствовавшему себя рабом?
В то же время свободный крестьянин Заонежья жил в глуши, которая охраняла его от влияний, разлагающих и убивающих первобытную эпическую поэзию: к нему не проникали ни солдатский постой, ни фабричная промышленность, ни новая мода; его едва
24
коснулась и грамотность, так что даже в настоящее время грамотный человек между крестьянами этого края есть весьма редкое исключение. Таким образом, здесь могли удержаться в полной силе стихии, составляющие необходимое условие для сохранения эпической поэзии: верность старине и вера в чудесное. Верность старине такова, что она препятствует даже таким нововведениям, которых польза очевидна и которые приняты во всей России. Так, напр., сено косят не косами, а горбушами, не только там, где это может быть удобно, т. е. между деревьями и по кочкам, а на самых гладких и хороших лугах, хотя косьба* горбушами требует вдвое больше напряжения и времени. Из крестьян более развитые сами признают это, но говорят, что ничего не поделаешь: «наши деды и отцы косили горбушею», это довод, против которого заонежский крестьянин не принимает возражения. Тот же отцовский и дедовский обычай поддерживает изнурительное для лошади употребление дровней летом даже в таких местах, где можно бы пользоваться телегою. Как было при отцах и дедах, так должно оставаться и теперь: понятно, какое это благоприятное условие для сохранения древних преданий и былин. В то же время вся совокупность условий, в которых живет народ, устраняет от него все, что могло бы ослабить в нем наивность дедовских верований. Без веры в чудесное невозможно, чтобы продолжала жить природною, непосредственною жизнию эпическая поэзия. Когда человек усомнится, чтобы богатырь мог носить палицу в сорок пуд или один положить на месте целое войско, — эпическая поэзия в нем убита. А множество признаков убедили меня, что северно-русский крестьянин, поющий былины, и огромное большинство тех, которые его слушают, — безусловно верят в истину чудес, какие в былине изображаются. Мне очень памятен переезд с Сумозера на Водлозеро; меня сопровождал известный уже г. Рыбникову сказитель Андрей Сорокин и от скуки затянул длинную былину про сорок калик с каликою. Между ним и мною ехал хозяин лошади, которая шла подо мною, и он, никогда не слыхав этой былины, постоянно сопровождал ее своими замечаниями. — «Ах она мерзкая баба», повторил он несколько раз, слушая, как княгиня Опраксия соблазняла каличьего атамана сотворить с нею грех — «Эка, брат, беда пришла!» — воскликнул он, когда у атамана в подсумке оказалась положенная туда мстительною княгинею чаша княженецкая, и атаману пришлось самому’ осудить себя на жестокую казнь:
А не рушайте вы заповеди великией,
А как вы секите мне ноги резвый,
А й рубите-тко руки белый,
А й со лба-то копайте очи ясный,
25
А й тяните-ко язык мне-ка со темени,
А й копайте как по грудям во матушку сыру-землю.
— «Вот чудесно, право!» — было его заключение, когда певец пропел о том, как приходил Микола Можайский;
А ему вложил да ноги резвый,
А вложил да руки белый,
А положил ему да очи ясный,
Положил язык во темя ведь,
А й положил как здыханье во белую грудь.
Словом, мой провожатый слушал всю эту былину с такою же верою в действительность того, что в ней рассказывается, как если бы дело шло о событии вчерашнего дня, правда, необыкновенном и удивительном, но тем не менее вполне достоверном. То же самое наблюдение мне пришлось делать много раз. Иногда сам псЕец былины, когда заставишь петь ее с расстановкою, необходимою для записывания, вставляет между стихами свои комментарии, и комментарии эти свидетельствуют, что он вполне живет мыслию в том мире, который воспевает. Так, напр., Никифор Прохоров сопровождал события, описываемые им в былине о Михайле Потыке, такими замечаниями: «каково, братцы, три месяца прожить в земле!», или, «вишь поганая змея, выдумала еще хитрить», или «вот, подумаешь, бабьи уловки каковы» и т. д. Когда со стороны какого-нибудь из грамотеев заявляется сомнение, действительно ли все было так, как поется в былине, рапсод объясняет дело весьма просто: «встарину-де люди были вовсе не такие, как теперь». Только от двух сказителей я слышал выражение некоторого неверия; и тот и другой не только грамотные, но и начетчики, один перешедший из раскола в единоверие, другой недавно «остаровсрившийся». И тот и другой говорили мне, что им трудно верится, будто богатыри действительно имели такую силу, какая им приписывается в былинах, будто, напр., Илья Муромец мог Побить сразу 40 тысяч разбойников, но что они поют, так, потому что так слышали от отца. Но эти скептики составляют самые редкие исключения.
Огромное большинство живет еще вполне под господством эпического миросозерцания. Потому неудивительно, что в некоторых местах этого края эпическая поэзия и теперь ключом бьет.
Я никак не ожидал найти в этом отношении такой богатой жатвы. Имея в виду, что сборник г. Рыбникова был плодом многолетнего пребывания в крае, я, располагавший только двумя месяцами, вовсе не рассчитывал вначале на возможность его сколько-нибудь существенно дополнить, а хотел только удовлетьо-
26
рить личному любопытству знакомством с несколькими сказителями. Между тем счастливый случай скоро заставил меня из туриста превратиться в собирателя. В Петрозаводске указали мне слепого старика-крестьянина, приехавшего туда для закупок. Он сначала неохотно сознался, что знает кое-какие «старины», но как собирался ехать домой в ту же сторону, куда лежал путь и мне, то согласился сесть в мою лодку. Дорогой я упросил его сказать свои старины, и старик Иев Еремеев запел превосходную былину про превращения Добрыни под магическим действием нашей русской Цирцеи, Маринки:
Она стала-то Добрынюшку обвертыватиз Обвернула-то Добрыню да сорокою,
Обвернула-то Добрыню да вороною,
Обвернула-то Добрыню да свиньею,
Обвернула-то Добрынюшку гнедым туромз Рожки у тура да в золоти,
Ножки у тура да в сёребри,
Шерсть на туру да рыжа бархату.
Мне не приходилось читать столь полного и архаического пересказа этой былины, и впечатление, под которым я находился, усилилось еще более, когда я тут же, из разговора Иева Еремеева с другими крестьянами узнал, что он — завзятый раскольник.
Между тем, руководствуясь сборником г. Рыбникова и объяснением его *, я был уверен, что у раскольников нельзя найти никаких остатков народного эпоса, и думал, что посещение мест, где преобладает старообрядчество, было бы для меня потерею времени. Явно языческая былина, пропетая человеком, известным своими раскольничьими убеждениями, совершенно меняла эти предположения, отчасти даже самый план путешествия. Я стал подозревать (а потом вполне убедился), что г. Рыбников не мог найти ничего 11 См. «Заметку» его, т. III, стр. IX: «Шунгские туземцы смотрели на старину не совсем доброжелательно. Их занимала только религиозная старина, и тут у меня подтвердилось замечание, сделанное мною еще в Черниговской губернии: где сильно разовьется старообрядчество, там народ интересуется памятниками поэзии и вообще искусства лишь настолько, насколько они причастны религиозной области и насколько они поддерживаются обычаем, возымевшим силу с XVII века. К мирским песням ревностные староверы большею частию относятся еще с тем настроением, которое вызвало в аскетах древней Руси такого рода запрещение: «песней сатанинских не пети и мирских людей не соблазняти». Потому в Повенецком уезде слышно едва-едва про двух-трех сказителей».
27
у старообрядцев по своему личному положению, как член местной губернской администрации, но что в действительности былины поются и раскольниками. Вместо того, чтобы избегать мест, населенных староверами, я решился побывать в самом центре этого населения, на Выгозере. Программа на случай встречи с старообрядцами была у меня готовая: обходиться с ними вежливо, не употреблять выражений, оскорбительных для их религиозного чувства, не вызывать религиозных споров, а когда зайдет речь о религии, относиться к их верованиям тем тоном уважения, которым принято в образованном обществе говорить с иноверцем об его религиозных убеждениях. Программа кажется не хитрая, но, сколько мне удалось заметить, она была там до некоторой степени новостью. Не знаю, приписать ли моей программе, что предвещания, мною слышанные, будто я встречу со стороны раскольников самый грубый прием и что они мне ничего не сообщат, нигде не сбывались. Разумеется, я не делал никаких щекотливых расспросов; но былины они везде охотно сказывали и позволяли записывать. В одном случае нельзя было даже ожидать такого доверия. Мне было известно имя одного крестьянина в Каргопольском уезде как отличного сказителя. Приехав в ту местность, где он живет, я хотел послать нарочного, чтобы пригласить его к себе. — «Это совершенно бесполезно, отвечал мне хозяин дома, где я остановился; деньги, которые вы заплатите гонцу (а нужно было ехать верст за 40 по очень дурной дороге верхом), пропадут даром. Этот человек недавно только, всего года три тому, остароверился (т. е. перешел из православия в раскол) и боится попасть за это под ответ; он ни за что не поедет к вам». Тем не менее я настоял на посылке гонца, который на другой день вернулся с весьма неопределенным ответом, «что, мол, подумает, что ему нездоровится» и проч. — «Ну, я так и знал, — говорит мой хозяин; — нет, он не приедет». — «А ежели я к нему поеду, то скажет ли он свои былины?» — «Конечно скажет, гостю ведь отказать нельзя». Я уже стал собираться в дорогу, как прискакал сам «остароверившийся» сказитель, который, действительно, своими былинами оправдал желание его послушать. Потом я узнал, что он по дороге заезжал к какой-то наставнице, которая тамошним раскольникам «за попа служит», и что она ему разрешила ехать сказывать старины.
Очень помогла мне в собирании былин и другая, тоже совершенно случайная встреча при самом начале моей поездки.
Еще на пароходе, везшем меня из Петербурга, найдя себе местечко на носовой палубе, я разговорился тут с некоторыми крестьянами из Заонежья, расспросил их о сказителях, которые мне известны были по книге г. Рыбникова, и узнал между прочим, что об одном из этих сказителей, Абраме Евтихиеве, можно получить
28
сведения в самом Петрозаводске, потому что там живет его сын* Старик оказался в гостях у сына, и уже в самый день моего приезда я имел удовольствие услышать его прекрасные былины. Мы с ним сошлись так, что он охотно согласился сопровождать меня по всему Заонежью и до самого Каргополя и бьЛл мне весьма полезен. Будучи по ремеслу крестьянским портным, он всю осень и зиму ходит по деревням Заонежья, останавливаясь там, где нужна его работа. Таким образом у него есть знакомые во всех углах этого края, и благодаря ему легко устранялось недоверие, с каким крестьяне обыкновенно смотрят на приезжего из Петербурга. Я старался останавливаться в таких селениях, где можно было рассчитывать наверно услышать былины; а пока я их там записывал, Абрам Евтихиев, бывало, пойдет по окрестности, иногда далеко, верст за 40 и даже за 50, «доставать сказителей», как он выражался; удостоверенные им, что они будут вознаграждены, крестьяне шли очень охотно сообщать свои былины; потом слух о вознаграждении приводил и таких, про которых мы не знали. Случалось так, что иным приходилось ждать очереди по два и по три дня, между тем как я записывал былины до полного физического утомления. Таким образом в короткое время двух месяцев удалось найти 70 человек, мужчин и женщин, знающих былины. Я должен прибавить, что в этом числе 16 человек1 известны были частью лично, частью через посредство других г. Рыбникову, что за сим 5 человек1 2, от которых у него записаны былины, с того времени умерли, и что наконец 7 человек, упоминаемых в его сборнике, либо остались в стороне от моего пути, либо случайно не были мною отысканы. При знакомстве с певцами и певицами былин я старался обращать внимание на личные обстоятельства каждого, чтобы уяснить себе влияние личности сказителя на характер самых рапсодий; в составляемом мною сборнике читатели найдут биографические сведения о каждом сказителе и сказительнице. Здесь поз-
1 Рябинин, Кузьма Романов, Прохоров, Паромский старик (т. е. Иван Сивцев), Бутылка (т. е. Абрам Евтихиев), Сорокин, Федотов (т. е. Дутиков), Иевлев, Потахин (т. е. Потап Антонов), Щеголёнок, Корнилов, Сарафанов, Никитин, Михайло Богданов (т. е. Михайло Иванов), Лукин и слепой Иван (т. е. Иван Фепонов). К этому числу следует прибавить еще упоминаемую в сборнике г. Рыбникова «племянницу Щеголёнка» (т. е. Прасковью Гавриловну Юхову из дер. Ятовщины Кижской волости): она мне пела былины, но их уже так плохо помнила и гак путала, что я с ее слов ничего не решился записать.
2 Леонтий Богданов, Трофим Романов, Василий Лазарев, Амосов и Савинов.
2&
волю себе привести некоторые общие замечания, основанные на знакомстве с этими 70-ю личностями.
Прежде всего необходимо иметь в виду, что былины сохранились только в среде крестьян; я упомяну ниже об единственном встреченном мною исключении, которое впрочем имеет совершенно случайный характер. Мне указывали на какого-то пономаря, а в другом месте на дьячка, которые будто бы знают «старины»; обнадеживали, что услышу «старины» от одного из так называемых «обельных вотчинников» в Чолмужах. Но оказалось, что пономарь рассказывает только какие-то сказки, что дьячок есть повествователь анекдотов, а обельный вотчинник в Чолмужах знает наизусть жалованную грамоту царя Михаила Федоровича его предку.
Во-вторых: почти все наши рапсоды неграмотные. Я встретил только пятерых грамотных между 70-ю певцами и певицами былин (Василий Акимов, Андрей Сарафанов, Иван Касьянов в Кижском крае, Иван Кропачев на Кенозере и Николай Швецов на Моше).
В-третьих: былины поются православными и староверами совершенно одинаково, без малейшего признака изменения их у последних под влиянием их религиозных идей.
В-четвертых: пение былин не развилось на нашем Севере в профессию, как было в древней Греции, в средние века на Западе и как мы видим в Малороссии, а остается делом домашнего досуга людей, которым память и голос позволяют усваивать себе «старины». Профессиональный характер имеет пение духовных стихов, составляющее источник дохода для нищих «калик» на ярмарках и в храмовые праздники; но калики почти не знают народных былин. Я встретил только одного такого певца по профессии (Ивана Фепонова, известного уже по сборнику г. Рыбникова под именем слепого Ивана), который соединяет с пением духовных стихов знание былин; но на последние он смотрит как на нечто второстепенное и постороннее для его профессии. Но зато почти все крестьяне и крестьянки, которые поют былины, сверх того знают и духовные стихи, особенно про Алексея-человека божия, Егория-храброго, Анику-воина, царя Соломона и Голубиную Книгу. Я полагаю, что эти стихи ими выше ценятся и чаще поются, чем народные былины.
Между сказителями, мною встреченными, только у одного можно было отчасти заметить, что он придает некоторым образом практическую цену знанию былин и считает себя как бы певцом былин по профессии; это известный по сборнику г. Рыбникова Кузьма Романов. Когда я приехал в его соседство и послал пригласить его, то он отказался было итти, потому-де, что недавно перед этим какой-то барин заставил его пропеть несколько былин и дал ему за это всего 10 коп. Подобного меркантильного взгляда
30
я решительно ни у кого другого из певцов былин не встречал: напротив, они обыкновенно удивлялись, что я платил деньги за былины, и один из замечательнейших сказителей, молодой парень на Выгозере, получив за то, что пропел мне несколько былин, больше, чем сколько мог бы з то же время заработать в поле, стал потом объявлять во всеуслышание, что отныне не будет пропускать мимо ушей ни одной былины, а все станет заучивать, потому .что теперь-де видит, что и это знание имеет свою цену. Что же касается до Кузьмы Романова, то его взгляд на пение былин как на свою профессию образовался, как кажется, только в недавнее время, благодаря пользе, которую оно ему принесло: слепой и беспомощный старик, он, по милости г. Рыбникова, принявшего в нем участие, стал получать пожизненное пособие (по 6 руб. в год), а затем удостоился даже приглашения пропеть былины пред покойным цесаревичем, во время приезда его высочества в Олонецкую губернию: факт, который поднял Романова как певца былин неизмеримо высоко во мнении местных жителей и его собственном.
Читатель видит, что обстоятельства сложились совершенно исключительно, чтобы придать пению былин для Романова практическое значение; но, повторяю, этот случай единственный.
Затем весьма замечательно, что знание былин составляет как бы преимущество наиболее исправной части крестьянского населения. Исключения (кроме весьма немногих лиц, которых я застал случайно разоренными пожаром, либо продолжительными горячками) составляют только одни слепые (Кузьма Романов, Иван Фепонов, Семен Корнилов и Петр Прохоров), которые поставлены своим физическим недостатком в беспомощное положение; но, впрочем, и между слепыми сказителями я нашел человека, именно вышеупомянутого Иева Еремеева, который, оставшись в детстве слепым и нищим сиротою, благодаря изумительной энергии и способностям, сам, своими трудами, создал себе порядочное хозяйство. Лучшие певцы былин известны в то же время как хорошие и, относительно, зажиточные домохозяева: я назову Рябинина и Касьянова в Кижах, Андрея Тимофеева в Толвуи, Абрама Евтихиева и Петра Калинина на Пудожской Горе, Никифора Прохорова в Купецком, Потапа Антонова в Шале, Сорокина на Сумозере, Никитина, Федора Захарова и Алексея Висарионова на Выгозере, Ивана Захарова, лучшего сказителя и первого богача на Водлозере, Ивана Сивцова Поромского, первою сказителя и одного из зажиточнейших крестьян на Кенозере, кенозерских же сказителей Петра Воинова и Михаила Иванова, Николая Швецова на Моше и др. По-видимому, былины укладываются только в таких головах, которые соединяют природный ум и память с порядочностью, необходимою и для практического успеха в жизни. Сколько раз мне говорили, что в
31
такой-то деревне я найду такого-то нищего или такого-то кабацкого заседателя, который сумеет спеть разные «истории»: но нищие по профессии, как сказано выше, знали только духовные стихи, а пропившиеся в кабаке мудрецы являлись с запасом песен, более или менее разгульных, и анекдотов, более или менее остроумных, но ни один решительно не был эпическим рапсодом. Из крестьян, от которых можно услышать былины, многие вовсе не пьют вина; известного же как пьяницу я между ними ни одного не встретил.
Расспрашивая этих крестьян про обстоятельства их жизни, я мог вывести заключение, что сохранению былин особенно благоприятствовали некоторые мастерства. Так, когда читатель будет просматривать сведения о сказителях, со слов которых мною записаны былины, он заметит, что многие из них, и именно те, которые больше других упомнили, либо сами занимаются портняжным, или сапожным ремеслом, или изготовлением рыболовных снастей, либо заимствовали былины от лиц, занимавшихся этими мастерствами. Сами крестьяне не раз объясняли мне, что, сидя долгие часы на месте за однообразною работою шитья или плетенья сетей, приходит охота петь «старины», но они тогда легко усваиваются; напротив того, «крестьянство» (т. е. земледелие) и другие тяжелые работы не только не оставляют к тому времени, но заглушают в памяти даже то, что прежде помнилось и певалось. Впрочем, читатель должен иметь в виду, что мастерства, о которых я говорю, отнюдь не составляют исключительного занятия кого-либо из певцов былин: каждый из них в то же время земледелец и летом работает по своему крестьянскому хозяйству. Разница только та, что иные в свободное зимнее время занимаются мастерством, благоприятствующим сохранению эпических песен, тогда как занятия других, напр., звериный промысел, лесные работы, извозничество и т. п., не оставляют досуга для рапсодий.
Прежде, чем закончу эти общие замечания о наших народных рапсодах и перейду к более частным, остановлюсь на двух факторах, которые указывает г. Рыбников. Во-первых, у него говорится, что «у женщин есть свои бабьи старины, которые поются ими с особенною любовью, а мужчинами не так-то охотно»; во-вторых, он представляет эпическую поэзию как нечто вымирающее: «у
большинства сказителей, — говорит он, — вряд ли найдутся наследники, и через двадцать-тридцать лет, по смерти лучших представителей нынешнего поколения певцов, былины и в Олонецкой губернии удержатся в памяти у очень немногих из сельского населения». Это вполне справедливо относительно той местности, с которою г. Рыбников лично ознакомился, именно прибрежья Онежского озера; здесь, действительно, эпическая поэзия близка к вы¬
32
миранию, былины поются преимущественно стариками, и этим старикам-сказителям, точно, не видно преемников в молодом поколении; здесь, действительно, женщины редко знают другие былины, кроме как про Ставра, Ивана Годиновича и Чурилу Пленковича, которые, кажется, их интересуют тем, что в этих былинах главные действующие лица — женщины же. Но совершенно другое дело дальше к северу и востоку, на Выгозере, на Водлозере, на Кенозере. Там былевая поэзия живет столько же в старшем, сколько в молодом поколении; там незаметно также никакой разницы между предметами, о которых поют мужчины и женщины. В этом отношении особенно замечательно Кенозеро. Прибрежья этого озера, в которое со всех сторон вдаются коленами мысы и «наволоки», так что, несмотря на его значительную величину, озеро имеет в каждой точке вид залива либо пролива, — прибрежья Кенозсра составляют как бы отдельный, довольно хлебородный, усеянный деревнями оазис среди громадного пустыря болот и лесов, и в этом оазисе цветет в настоящее время эпическая поэзия. Крестьяне и крестьянки, поющие былины, насчитываются здесь десятками; поют былины старый и малый; вы здесь услышите один и тот же вариант от пяти-шести человек, мужчин и женщин, которые живут в разных деревнях; в то же время вы встретите трех братьев, которые живут в одном доме и из которых каждый знает свои особенные былины; вы встретите семейство, в котором и муж и жена охотники петь былины и поют разные. Женщины здесь воспевают тех же богатырей, как и мужчины, специальный же «бабий» богатырь Прионежья, Ставер, которого хитрая жена выручает от князя Владимира, вовсе не известен кенозеркам. На Кенозере мне сказали, что знает былины и супруга местного иерея, бывшего благочинного, о. Георгиевского. Это меня крайне удивило, потому что дотоле не встречалось ни малейшего признака, чтобы былины пелись вне крестьянской сферы, и первая моя мысль была, не принадлежит ли певица былин, о которой мне сказали, по происхождению сама к этой сфере. Но оказалось, что нет. Г-жа Георгиевская — дочь бывшего прежде на Кенозере священника, родилась и воспитывалась в отцовском доме «на погосте» и в нем же осталась жить и замужем. Обязательно позволив мне записать с ес голоса те былины, которые остались у нее в памяти (а прежде она знала их больше, пока заботы хозяйства и воспитания детей не поглотили всего ее досуга), почтенная г-жа Георгиевская рассказала, что ее отец, отличавшийся крайнею суровостью, строжайше запрещал своим дочерям пение святочных, плясовых и т. п. песен, которые составляют обыкновенную забаву молодых девушек, так как он эти песни почитал греховными: что же было делать, чтобы разгонять скуку? И вот, дочери строгого иерея заучили и
33
2—3311
принялись распевать былины, которые они слышали от старикакрестьянина, каждую зиму работавшего в их доме как портной.
Другой факт не менее замечателен. Я записывал былины со слов крестьянки Матрены Меньшиковой, записал былины про Илью Муромца, как он пришел в Киев каликою и стал поить «голей кабацкиих», записал вариант редкой и единственно на Кенозере слышанной мною былины про Щелкана Дудентьевича, как вдруг Меньшикова, сказав, что знает еще хорошую старинку, запела: Были юные Ово и девушка Мара,- Двое с трех лет выростали,
Одною водицей умывались и т. д.
— словом, пропела с начала до конца всю предлинную сербскую песню про Иову и Мару в переводе Щербины. — «От кого, — спрашиваю, — ты этой старинке научилась?» — «Да от стариков наших слыхала, отец и другие старики певали». Этот ответ показывал, что певица уже не отличала Иовы и Мары от других «старин», которые она заимствовала от родителей; йотом из разговора с нею я узнал, что муж у нее грамотный и сын, тоже выучившийся грамоте, бывал в Петербурге. Таким образом не трудно было догадаться, что к ним в дом попал экземпляр гцербиновской «Пчелы»,, и что муж или сын прочитал вслух при Матрене перевод Иовы и Мары. Но знаменателен факт усвоения этой поэмы безграмотною кенозерскою крестьянкою, несмотря на чуждый русскому уху склад стиха, на непонятные слова, которыми поэма пересыпана. Несмотря на все это, она в состоянии была пропеть всю сербскую поэму так же плавно и без запинки, как какую-нибудь родную былину *. Она применяла сербский стнх к
1 Для сличения приводим начало этой былины, как ее усвоила себе кенозерская крестьянка, и печатный текст Щербины:
«Ново и Мара» в устах Матрены Меньшиковой Были юные Ово и девушка Мара
Двое с трех лет выростали, Одною водицей умывались, Однем полотном утирались, Один же сон ночью видали, Так любо друг другу в очи смотрели,
И как солнце в глубокое море. Ован-от бел удал из удалых,
И не простого — господского
рода.
Печатный текст
Двое милых, любясь,
выростали: Юный Ново да девушка Мара, С малолетства от третьего
года;
Их увидишь, — так радостно
станет;
Скажешь, это василек
со тмином.
Умывались одною водою, Утирались одним полотенцем, Любо в очи друг другу глядели,
34
нашему эпическому складу, протягивая хореическое его окончание, так что оно занимало темп дактиля, она преисправно произносила слова «тамбура», «горная вила», «родимая майка» и проч. Не показывают ли эти факты, что там, на Кенозере, воздух, так сказать, еще пропитан духом эпической поэзии, что эта поэзия там не только не вымирает, а даже еще ищет себе новых предметов? То же самое можно сказать и про Водлозеро, где только начинают прививаться былины. Из семи человек, которых мне там указали как знатоков былин, только один заимствовал их от отца; все прочие выучились былинам на чужой стороне, а если у себя дома, то от заезжих людей. Особенно характеристичен следующий случай. Крестьянин деревни Чуялы на Водлозере, Матвей Ниго* зёркин пропел очень складно былины про Дюка Степановича и про неудавшуюся свадьбу Алеши Поповича на Добрыниной жене; пропел, наконец, начало былины про три поездки Ильи Муромца.
А Мара-то была сиротка,
И столь была гибка, как ель
молодая,
И мало было веку любить
эту Мару.
Как не видишь, так так и
заболеешь,
А увидишь, так вылечит
разом.
В пору уж было Иове
жениться,
Девушке Маре можно уж
выйти и замуж. Спрашивает юные Ово:
«Душа моя Мара,
Любишь ли меня, мое сердце, Как я держу тебя на мыслях?» Потихоньку Мара ему отвечала: «Юные Ово, перо дорогое! Дороже очей ты мне своих, Как мать сына у сердца
ношу я».
Выслушал эти речи
'.неприметные сторож, Донес он Овановой майки, Гопорит-де Овану эта майка: «Юные Ово, перо дорогое! Забудь ты и думать об этой
девчонке:
Будто солнце в глубокое море; Пели песню одну вечерами, Темной ночью один сон видали. Впору Иове уж было
жениться,
Можно было отдать Мару
замуж...
Вырос Иово — удал из удалых, Красотою — красивей девицы. Мара — слова для Мары не
сыщешь!
И на свете такой не бывало!.. Не увидишь очей ее лучше, Тоньше стана ее не найдется, Миловидна, что горная вила, А гибка то, что ель молодая, Год на Мару гляди — и все
мало,
Мало б веку любить эту Мару! Как увидишь ее — заболеешь, А посмотрит — так вылечит
разом.
Но сироткой была наша Мара, Иово ж был из богатого рода, Не простого — господского
рода,
Раз он Маре, вздохнувши,
промолвил:
35
Когда я, по обыкновению, стал его расспрашивать, откуда он знает эти былины, Нигозёркин рассказал, что он им научился не далее как в прошлом году (а надо заметить, что это человек уже не молодой, ему за 40 лет); что до того времени он никогда не певал былин, но прошлою осенью заехал к нему переночевать какой-то старичок-крестьянин из-за Кенозера. У него в избе сидело тогда человек полдесяток, они и стали просить старичка рассказать или спеть им что-нибудь. Старик пропел им былину про Дюка Степановича, и она Нигозёркину так понравилась, что он просил своего гостя ее спеть другой, а потом еще и третий раз. Так он ее и «понял». Старик на другой день уехал, но на возвратном пути опять остановился переночевать у Нигозёркина, который тогда выучил от него былину про Добрыню и Алешу; былины же про Илью Муромца не удалось запомнить всей, а только начало.
Так-то усваивается эпическая поэзия на Водлозере. Не знаю, не стоит ли явившаяся вдруг в водлозерах охота к былинам в
«Ново и Мара» в устах Матрены Меньшиковой
Дают за тебя лучше и краше, Дают-де Отлагича Злата
Фатиму.
Не видала, что солнце, что
месяц,
Не видала, как поля зеленеют, Не видала муравки на поли,
Не видала мужчины ни разу, • И к тому же богатого рода,
И не простого — господского
рода,
Богатство во время тебе
пригодится...»
и т. далее.
Печатный текст
«Так ли любишь меня, моя
Мара,
Как люблю я тебя, мое
сердце?»
Тихо Мара ему отвечала: «Милый Ново, ты глаз мне
дороже,
Завсегда ты на мыслях у Мары! Как мать сына, ношу тебя
в сердце...»
Их подслушал незаметный
сторож. —■
Мать Иована те слышала речи; Злясь на Мару, сказала
Иовану:
«Милый Иово, перо дорогое! Позабудь ты об этой девчонке... Есть невеста и лучше, и краше: То — Фатима, Атлагича злато. Фата с детства взлелеяна
в клетке,
И не знает, что солнце, что
месяц,
Не видала, как хлеб зеленеет, Не видала муравки на поле,
Не видала ни разу мужчины,— А к тому ж и богатого рода,
И в подмогу богатством
сгодится...»
и т. далее.
36
связи с переходом в их быте: они, прежде жившие земледелием, вдруг вследствие усердия начальства, воспретившего делать расчистки в окружающих лесах, принуждены были помирать с голоду и, чтобы не совсем помереть, принялись плести какие-то усовершенствованные сети и вылавливать рыбу из Водлозера: а
плетение сетей, как мы видели, есть занятие, особенно благоприятствующее былевой поэзии.
Как бы то ни было, нет никакого сомнения, что на Кенозере и Водлозере наш народный эпос еще совершенно живуч и может там долго-долго продержаться, если только в эту глушь не проникнет промышленное движение и школа. Сравнительно с Водлозером и Кенозером, берега Онежского озера, соединенного водным путем с Петербургом, суть места, гораздо более открытые влияниям, убивающим эпическую поэзию в народе, и потому неудивительно, что здесь она уже представляет признаки вымирания. К числу этих признаков я отношу и замеченное г. Рыбниковым явление, что у женщин есть как бы особые любимые былины. Пример Кенозера показывает, что это не есть явление общ$е. В самом Прионежском крае любимые былины женщин про Ставра, Ивана Годиновича, про Чурилу поются также мужчинами; но зато редкая,из женщин знает былины более так сказать серьезные, как то: про Илью Муромца, про Садко, про Вольгу и т. д. Мне кажется, что и здесь один и тот же круг былин был некогда, как на Кенозере, общим достоянием и мужчин и женщин; по мере же утраты вкуса к эпической поэзии, последние перестали петь все то, что не представляло для них особенного интереса, и таким образом сохранили в памяти только пикантные былины про Ставра, Чурилушку, Хотёнку Блудова и т. п.
Когда слушаешь наших народных рапсодов, — прежде всего дивишься тому, до какой степени все они, все без исключения, верно (выдерживают характеры действующих в былинах лиц. Рапсоды эти далеко не равны по достоинствам: они представляют целую градацию от истинных мастеров, одаренных несомненным художественным чувством, до безобразных пачкунов, так что собрание былин, с их слов записанных, можно. сравнить с картинною галереею, в которой однообразный ряд сюжетов повторялся бы в нескольких десятках копий, начиная от прекраснейших рисунков и кончая отвратительным мараньем. Но каков бы ни был рисунок, самый изящный или карикатурный, облик каждой физиономии в этой галерее везде сохраняет свои типические черты. Ни разу князь Владимир не выступит из роли благодушного, но не всегда справедливого правителя, который сам лично совершенно бессилен; ни разу Илья Муромец не изменит типу спокойной, уверенной в себе, скромной, чуждой всякой аффектации и хвастовства, но
37
требующей себе уважения силы; везде Добрыня явится олицетворением вежливости и изящного благородства, • Алеша Попович — нахальства и подлости, Чурила — франтовства и женолюбия, везде Михайло Потык будет разгульным, увлекающимся всякими страстями удальцом, Ставер — глупым мужем умнейшей и преданной женщины, Василий Игнатьевич — пьяницей, отрезвляющимся в минуту беды и который тогда становится героем, Дюк Степанович—хвастливым рыцарем, который пользуется преимуществами высшей цивилизации и т. д.; словом сказать, типичность лиц в нашем эпосе выработана до такой степени, что каждый из этих типов стал неизменным общенародным достоянием. Северно-русскому крестьянину, сохраняющему в памяти эпические сказания, очевидно присущи не только какие-нибудь общие неопределенные представления о его героях, но живые очертания их характеров; иначе наши былины, в которых мы так часто встречаем искажения и крайнюю путаницу в обстоятельствах описываемых действий, искажали и путали бы и характеры действующих лиц; а этого-то никогда не бывает. Потому кажется, что в сохранении и преемственной передаче былин, кроме механического действия памяти, должно участвовать какое-то коллективное, если можно так выразиться, поэтическое чутье в народе. Но за сим главнейшее участие принадлежит памяти. В самом деле, нужна громадная сила памяти для того, чтобы заучить и петь без запинки поэмы, которые длятся иногда по два и по три часа. Это одна из причин, что эпическая поэзия должна исчезать с развитием грамотности и промышленного духа в народе: эпическим песням нужна свободная память, они могут вместиться только в голову, не загроможденную книжным учением, не занятую расчетами житейской борьбы. Память есть единственная сила, которая сознательно для самих певцов действует в усвоении и воспроизведении их рапсодий; участия личного творчества никто из них не подозревает, хотя оно существует несомненно. Из разговора с любым сказителем вы сейчас увидите, что он вполне чужд сочинительства: он старается петь именно так, как пел его отец, дед или учитель; если он чего-нибудь не упомнил, то либо пропускает, либо рассказывает словами; но как бы подробно он ни знал содержания какого-нибудь эпизода или целой былины, он, раз забывши, как она поется, никогда не решится восстановить ее стихами, хотя при однообразии эпического склада это казалось бы весьма легко. Я был свидетелем смешного фиаско, которое потерпел один водлозерский нищий, слепой Анисим, поющий по профессии духовные стихи: ему захотелось заработать у меня денег, и когда я ему сказал, что духовных стихов мне не нужно, а нужны былины, он, видно понадеявшись на себя, прехладнокровно начал петь
38
про Илью Муромца; но пел он чепуху и нескладицу невообразимую. Так, напр., он пел:
И говорит-то Илья Муромец сын Иванович Своему-то родителю батюшку и матушки,
Говорит-то ён им таково слово:
— А й ты родитель мой батюшка и матушка,
Дай прощеньицо благословеньицо Во чистое поле ехати и поликовать И биться и ратиться
За церкви соборный, за весь тот мир православный,
За верушку да кровь отечество,
За царя да за земного правителя,
Всероссийского да содержателя,
За все воинство и христолюбимое!
Потом он сознался, что былин не певал, а знал про Илью сказ только словами. Другой крестьянин, Андрей Сорокин, говорил мне, что, будучи еще с малолетства охотником до былин, он иногда пытался распевать голосом, в виде былины, ту или другую сказку, но что это ему никогда не удавалось. Впрочем, самая эта попытка показывает в Сорокине склонность к личному сочинительству, которая не могла не отозваться и на его былинах. И действительно: ни в ком не было видно такого, можно сказать, бесцеремонного отношения к тексту былин. Однажды, записывая былину, которую я уже прежде слышал от Сорокина, я заметил ему в одном месте, что он прежде пел этот эпизод иначе: — «Ах, это все равно, — отвечал Сорокин, — я могу спеть так или иначе, как вам будет угодно!». Ничего подобного мне ни от кого другого из сказителей не приходилось слышать, и я приписываю склонности к сочинительству в Сорокине особый характер, которым отличаются его былины, их бесконечную амплификацию, делающую их так скучными 11 Г. Рыбников обратил внимание на эту черту былин Сорокина и писал: «Обилие подробностей, некоторая расплывчатость, богатство эпизодов, соедйнение многих былин в одну -г- у Сумозсрского певца (дело идет о Сорокине) ясно указывает промысел сказителя, содержателя постоялого двора: чем дольше длится
былина, тем ему выгоднее: обязательные слушатели рады лежа слушать до позднего вечера» (т. IV, «Заметка», стр. XXXVI). Я должен оговорить ошибку, в которую впал почтенный собиратель по невольному недоразумению. Андрей Сорокин никогда не был содержателем постоялого двора и даже крайне удивился,
39
Сорокин составляет единственное в своем роде явление. Все прочие сказители всегда утверждали, что то, что рассказывается словами, никоим образом не может быть пето стихом; когда я замечал им, что они пропустили что-нибудь или спели нескладно, то иные старались «выпомнить» лучше это место, но никому в голову не приходило сгладить пропуск или нескладицу собственным измышлением. Обыкновенно же, хотя бы указана была в былине явная нелепица, сказитель отвечал: «так поется»,
а про что раз сказано, что так поется, то свято; тут, значит, рассуждать нечего. Когда попадалось в былине какое-нибудь непонятное слово и я спрашивал объяснения, то получал его только в таком случае, когда слово принадлежало к
употребительным местным провинциализмам: если же слово не было в употреблении, то был всегда один ответ: «так поется», или «так певали старики, а что значит, мы не знаем». Не раз
сказитель, пропев про князя Владимира какой-нибудь стих, весьма к нему непочтительный, просил за это не взыскать, «потому-де мы сами знаем, что нехорошо так говорить про святого, да что делать? так певали отцы, и мы так от них научились». Только благодаря тому, что каждый сказитель считает себя обязанным петь былину так, как сам ее слышал, а его слушатели вполне
довольствуются тем, что «так поется», и объяснений никаких не требуют, — только благодаря этому и могла удержаться в былинах такая масса древних, ставших непонятными народу слов и
оборотов; только благодаря этому могли удержаться бытовые черты другой эпохи, не имеющие ничего общего с тем, что окружает крестьянина, подробности вооружения, которого он никогда не видал, картины природы, ему совершенно чуждой. Нужно
когда я его спросил об этом; в местности, где он живет, нет ни одного постоялого двора. Но дер. Сумозеро единственная на протяжении 60-ти верст, отделяющих Водлозеро от гор. Пудожа; потому все проезжающие по этому направлению принуждены в ней ночевать и пользуются для того гостеприимством сумозерских крестьян, между прочим и Сорокина, у которого есть своя изба. Оттого г. Рыбников мог подумать, что он содержит постоялый двор. Впрочем, не только прием проезжих не составляет промысла для Сорокина, который живет исключительно хлебопашеством и с гордостью показывал мне большие пространства «нив», расчищенных его руками из-под лесу, но обстоятельство, что он живет в таком проезжем месте, как Сумозеро, не могло повлиять на склад его былин, ибо он переселился в эту деревню уже взрослым работником (его принял в дом тесть), а родился и вырос в деревушке Ценежах у Пудожа.
40
побывать на нашем Севере, чтобы вполне понять, как велика твердость предания, обнаруживаемая в народе его былинами. Мы, жители менее северных широт, не находим ничего особенно для нас необычного в природе, изображаемой нашим богатырским эпосом, в этих «сырых дубах», в этой «ковыль траве», в этом «раздолье чистом поле», которые составляют обстановку каждой сцены в наших былинах. Мы не замечаем, что сохранение этой обстановки приднепровской природы в былинах Заонежья есть такое же чудо народной памяти, как, например, сохранение образа «гнедого тура», давно исчезнувшего, или облика богатыря с шеломом на голове, с колчаном за спиною, в кольчуге и с «па* лицей боевою». Видал ли крестьянин Заонежья дуб? Дуб ему знаком столько же, сколько нам с вами, читатель, какая-нибудь банана. Знает ли он, что это такое «ковыль-трава»? Он не имеет о ней ни малейшего понятия. Видал ли он хоть раз на своем веку «раздолье чистое поле»? Нет, поле как раздолье, на котором можно проскакать, есть представление для него совершенно чуждое: ибо поля, какие он видит, суть маленькие, по большей части усеянные каменьем или пнями, клочки пашни либо сенокосу, окруженные лесом; если же виднеется кое-где чистое гладкое место, то это не раздолье для скакуна, это — трясина, куда не отважится ступить ни лошадь, ни человек. А крестьянин этого края продолжает петь про раздолье чистое поле, как будто бы он жил на Украине!
Но само собою разумеется, что, кроме завещанного преданием, северно-русская былина носит в себе и местные, и личные стихии. Когда сказитель поет, что добрый конь богатырский
«Мхи болота перескакивал,
Мелкие озера промеж ног пущал»,
то он рисует картину, которая составилась на месте. Таких черт можно найти не мало. Нельзя не заметить той особливой обстоятельности, с которою в былинах наших изображается седлание коня и снаряженье корабля: эти картины, конечно, не принадлежат к числу тех, которые привнесены на Севере в состав наших былин; но если именно седланье коня и снаряженье корабля излагается в них пространнее и с большей так сказать любовью, чем другие действия, — то это могло произойти оттого, что из всех действий, приписываемых богатырям, именно седланье коня и снаряженье корабля особенно близко знакомы северно-русскому крестьянину. Когда ему нужно отправиться в путь, приходится либо оседлать себе лошадь, либо снарядить парусную лодку. Я думаю, что влиянию местной жизни следует приписать и то, что в Онежском крае сохранился, рядом с богатырем-мужчиною, об¬
41
раз богатыря-женщины или поляницы. Это представление до такой степени стало чуждо нам, что, при издании в Москве первого тома сборника Рыбникова, там даже ученые не поняли, что такое поляница, как показывает примечание издателей к этому слову (стр. 27): <гпаленица, поленица, поляница: удалая голова, что рыскает по полю ради подвигов»1. Между тем в северной части Олонецкой губернии на Выгозере, на Водлозере, на Повенецком и Пудожском побережье каждый крестьянин вам скажет положительно, что встарину богатырские подвиги совершали одинаково и мужчины, и женщины, и что как мужчины назывались богатырями, так женщины поляницами. Это я слышал десятки раз». (Поляница — это значит женщина- богатырица, говорил водлозер Суханов.) — «Что такое поляница?» спросил я между прочим у <другого> водлозерского певца Нигозёркина, думая поставить его втупик, так как он только недавно и случайно выучился кое-каким былинам: — «А вот видите,— отвечал он,— досюль (т. е. в прежнее время) и женщины воевали, ходили на войну как и мужчины, это поляницы значит по нашему, по-деревенски».
Не стану делать гипотез о том, имеет ли предание о женщинах-богатырях в нашем эпосе связь с женщинами-воительницами, о которых -говорят писатели древности у племен, обитавших в Черноморских краях, или с воинственными девами чешских легенд, но как бы образ женщины-богатыря ни сложился,— сохранению его в живом представлении народа способствовали несомненно бытовые условия в северной части Олонецкой губернии. Здесь от женщины требуется не только равная доля физического труда, но требуется та же неустрашимость и отвага, что от мужчины. Здесь женщина в бурю должна уметь гресть и править лодкою, в осеннюю непогоду тянуть «кереводы» и невода, в зимние мятели отправляться в извоз к Белому морю. Олицетворяя в богатыре мужскую силу и отвагу, крестьянин этих мест не мог отделять его от такого же героического типа женщины; потому так ясно и сохранилось здесь понятие о полянице, которое в других краях России потеряло свою определенность. Так даже в Кижах и на Кенозере, в ответ на вопрос о том, что такое поляница, скажут либо, что это то же самое, что богатырь, либо что поляницами назывались воители пониже степенью, чем богатыри, либо, наконец, ответят просто: «так поется, поляница, а что такое, не знаем». Впрочем и там лучшие певцы (напр. Рябинин) употребляют
1 Такое же неправильное толкование и в словаре Даля: поленица — удальцы, ватага шалунов, наездники, разбойники; поленица удалая — шайка, вольница.
42
название «поляница»,— хотя кажется бессознательно, по старой памяти,— собственно тогда, когда речь идет о женщинах-воительницах !.
Кроме местных влияний, в былине участвует личная стихия, вносимая в нее каждым певцом; участие это чрезвычайно велико, гораздо больше, чем можно было бы предполагать, послушав уверенья самих сказителей, что они поют именно так, как переняли от стариков. На Кенозере я встретил двух весьма замечательных сказителей, которые заимствовали былины от одного и того же учителя: это — Иван Сивцев, по прозванию Поромской, который выучился петь былины от своего отца, и Петр Воинов, ученик того же старика Поромского, у которого он жил в работниках. Если сличить былины, с их слов записанные, то сейчас заметишь, что они весьма сходны по содержанию, но значительно рознятся в подробностях изложения и оборотах речи. Такое же различие представляют былины кенозерского же певца Андрея Гусева и те же былины, как их поет его сын Харлам Гусев.
Можно сказать, что в каждой былине есть две составные части: места типические, по большей части описательного содержания, либо заключающие в себе речи, влагаемые в уста героев, и места переходные, которые соединяют между собою типические места и в которых рассказывается ход действия. Первые из них сказитель знает наизусть и поет совершенно одинаково, сколько бы раз он ни повторял былину; переходные места, должно быть, не заучиваются наизусть, а в памяти хранится только общий остов, так что всякий раз, как сказитель поет былину, он ее тут ж сочиняет, то прибавляя, то сокращая, то меняя порядок стихов и самые выражения. В устах лучших сказителей, которые поют часто и выработали себе, так сказать, постоянный текст, эти отступления составляют, конечно, весьма незначительные варианты; но возьмите сказителя с менее сильной памятью или давно отвыкшего от своих былин и заставьте его пропеть два раза кряду одну и ту же былину, —вы удивитесь, какую услышите большую разницу в его тексте, кроме типических мест.
Эти типические места у каждого сказителя имеют свои особенности, и каждый сказитель употребляет одно и то же типическое место всякий раз, когда представляется к тому подходящий смысл, 11 См. № 77 и 81. Если в былине о королевичах из Крякова (№ 87) Рябинин по-видимому смешивает поляницу с богатырем мужеского пола, то это произошло очевидно оттого, что часть этой былины, в которой говорится о полянице, есть почти буквальная вставка из другой былины, изображающей борьбу Ильи Муромца с настоящею поляницею — его дочерью (№ 77).
43
а иногда даже некстати, прицепляясь к тому или другому слову. Оттого все былины, какие поет один и тот же сказитель, представляют много сходных и тождественных мест, хотя бы не имели ничего общего между собой по содержанию. Таким образом, типические места, о которых я говорю, всего более отражают на себе личность сказителя. Каждый из них выбирает себе из массы готовых эпических картин запас, более или менее значительный, смотря по силе своей памяти, и, затвердив их, этим запасом одинаково пользуется во всех своих былинах. У двух сказителей, Ивана Фепонова и Потапа Антонова, богатыри отличаются особенной набожностью, они то и дело молятся богу; а из этих сказителей Фёпонов, как упомянуто выше, калика, т. е. певец духовных стихов по профессии,— Антонов же, хотя простой крестьянин-земледелец, но выучился былинам тоже от калики по профессии, ныне умершего. Таким образом, набожный склад духовных стихов отразился у них и в былинах.
Изложенные здесь наблюдения представлялись мне сами собою, пока я слушал наших сказителей и записывал их рапсодии. Я тогда же пришел к убеждению, что собранные былины должны быть, при издании, расположены не по предметам, а по сказителям. Конечно, эта система имеет большие неудобства, и я первый готов признать, что окончательное, полное издание наших эпических песен, точно так же, как необходимое в литературе нашей очищенное издание избранных былин, следует сделать по предметам, с систематическим подбором вариантов. Но для полного издания еще не наступило время; издание же хрестоматии не есть моя цель. Я считаю эпические песни, сохранившиеся в народе нашем, настолько ценными для науки, что они заслуживают все издания; при издании же сырого материала, каким представляется собрание записанных мною былин, система расположения их по рапсодам имеет то преимущество, что при ней может легко уясниться важный вопрос об отношениях личного творчества и предания в составе былин. С этой точки зрения получает цену многое, что иначе казалось бы не заслуживающим никакого внимания. Так, например, читатель встретит в моем сборнике два ужасно плохие варианта известной былины про отъезд Добрыни Никитича и неудачное сватовство Алеши Поповича на его жене. В одном из этих пересказов всего подробнее описываются и выставляются ребром заботы Владимира о том, чтобы прислуга не впускала никого постороннего на брачный пир алешин, и переговоры Добрыни со служителями о том, ч^обы ему дозволили войти: словом, центр действия перенесен в переднюю. В другом пересказе Владимир, чтобы понудить Добрынину жену выйти за Алешу Поповича, издает указ удалить из Киева «всех вдов и жен беспашпортных» и грозит Настасье
44
этим законом. Что может быть безобразнее того и другого пересказа? Между тем первый из них характеристичен по отношению к личности самого певца: это — молодой человек, который ходил бурлаком на Канал,' на заработанные деньги кутил в Петербурге на Сенной, прокутившись, поступил в услужение к какому-то купцу и недавно только воротился к себе в деревню и сел там на крестьянство. Из всех певцов былин, мне встретившихся, этот больше всех вращался в лакейской сфере, и героями былины вышли у него лакеи. Пересказ же, где говорится о беспашпортных вдовах, свидетельствует о том, как запечатлевается в былинах след событий, поражавших народ. Этот вариант, который я слышал единственно на Водлозере, заключает в себе воспоминание того, что в пятидесятых годах нынешнего столетия разогнали из раскольничьих скитов в Данилове и на Лексе (т. е. за несколько десятков верст от Водлозера) всех вдов и девиц, проживающих там без паспортов.
Каждая былина вмещает в себе и наследие предков и личный вклад певца; но, сверх того, она носит на себе и отпечаток местности. Сколько мне показалось, певцы былин из Олонецкой губернии должны быть разделены, по местности, на две большие группы, из которых каждая имеет, затем, свои подразделения. Эти две большие группы можно бы пишущему в Петербурге назвать прионежскою (или — если угодно употребить старинное слово — обонежскою) и заонежскою, потому что первая обнимает местности, прилегающие к Онегу, а вторая — края, которые лежат к северу и востоку от Онега; но второе название произвело бы путаницу, так как слово Заонежье употребляется народом в смысле диаметрально противоположном тому, который мы бы ему теперь придали. Заонежьем русские (когда колонизация этого края шла с востока на запад) назвали тот большой полуостров, который вдается в Онежское озеро по сю сторону главного его бассейна. Итак, нам приходится искать другого названия: я назову эту группу, в противоположность прионежской, группою северо-восточною, так как она обнимает окрестности Выгозера, Водлозера. Кенозера и Моши.
Группа прионежская характеризуется пространностью былин, северо-восточная группа — относительною их сжатостью, Эти два типические признака являются как в построении самых рапсодий, так и в складе стиха. В Прионежье былины отличаются качеством, которое еще Гораций приписывал эпическим песнопениям,— длиннотою: die age longum, Calliope, melos. В Прионежье слышатся былины в тысячу стихов и более и заметна склонность сказителей к длинному стиху (7-, 8-, 9-стопному) со множеством вставочных частиц. На северо-востоке, напротив того, преобладает
45
стих короткий, 5-, 6-стопный; вставочные частицы употребляются умереннее; повторения, которые так удлиняют былины в устах прионежских певцов, здесь вводятся гораздо реже; ход рассказа живее и менее обставлен подробностями, так что редкая былина достигает и 300—400 стихов. Само собою разумеется, что и на Прионежье некоторые былины бывают короткие, а у выгозерских и кенозерских сказителей попадаются такие, которые изобилуют длиннотами; но я говорю об общем, преобладающем типе, а в этом, как мне кажется, различие весьма явственно.
Перехожу к подразделениям обеих групп и начинаю с прионежской. Когда я был на том полуострове, который слывет Заонежьем, то слышал, что народ делит его по какому-то старинному преданию на три части: Кижи, Толвуй и Шуньгу. Имя Киж обнимает юго-западную часть Заонежья, т. е. погосты Сенногубский, Кижский, Великогубский, Яндомозерский, Космозерский; Толвуй есть общее название для восточной полосы Заонежья, т. е. погостов Типеницкого, Кузарандского, Выгозерского, Толвуйского, Фоймогубского; наконец Шуньгою называется . северо-западный угол Заонежья. Про последний край ничего не могу сказать, потому что в нем не был, а слышал, что там едва ли можно встретить былины; но я был удивлен тем, что хотя между Кижами и Толвуей нет ни природной, ни административной, а есть только какая-то воображаемая по преданию граница,— манера у певцов былин в том и другом крае совершенно особенная. В то же время толвуйская манера совершенно сходна с тою, которая замечается на противоположном, северо-восточном берегу Онежского озера, в Повенецком уезде до самого перевала на Масельге. Потому думаю,. что можно прионежских рапсодов разделить на две, так сказать, школы — кижскую и толвуй-повенецкую. Что это заключение не совсем произвольное, могу подтвердить свидетельством самих крестьян. В Пудожгорском погосте, в деревне Горке, стоят рядом, бок-о-бок, избы двух замечательных сказителей: Абрама Евтихиева (Бутылки), о котором я упоминал выше, и Петра Лукина Калинина. Первый сопровождал меня из Петрозаводска, ко второму мы приехали в гости на Пудожскую Гору. Когда Калинин пропел длинную былину о Добрынюшке, хозяин и гребцы моей лодки, привыкшие слышать Абрама, все тотчас заметили: «Как странно, два такие близкие соседа, а сказывают былины совершенно разно!». Абрам Евтихиев тотчас объяснил нам это: — «Петр Лукич, — говорил он,— понял былины от своего отца, а я от своего; батюшка же мой не тутошний, он родом из Киж, с Космозера, и переселился со мною на Пудожскую Гору, когда мне уже было лет 20: оттого я и пою былины как кижане, а не как здешние».
В чем же состоит различие этих двух школ? В чертах весьма
46
мелких, но которые дают, так сказать, тон всей рапсодии, а именно в тех беспрерывно повторяющихся вставочных частицах, которые служат как бы подпорками нашего эпического стиха, подобно гомерическим частицам а£а, at), Хе 6*1 и проч.
В Кижах такими частицами — кроме общеупотребительных да, а, и, ли — служат обыкновенно: как, ведь и де\ у толвуйских сказителей вы никога не услышите ни как, ни ведь, ни де в смысле простой вставки; они опирают стих на частицах нынь или нунь, же, было и есть или е: это последнее (есть или, сокращенно, е) большею частию употребляется при глаголах прошедшего времени, так что оно является как бы остатком старинной формы образования прошедшего, но как смысл этого приставочного «есть» или «е» уже потерян, то сказители нередко пользуются им просто для стиха.
От школы повенецко-толвуйской, так же как от кижской, однако менее от первой, чем от последней, отличаются по складу былины, которые я слышал на восточной стороне Онега, ближе к городу Пудожу. Но в этой- местности нашлось только четверо сказителей, из которых у каждого есть весьма заметные особенности. Это объясняется различием источников их былин. Только у одного из них, Сорокина, они местного происхождения; другой, Иван Фепонов, выучился былинам на Онеге-реке; к третьему, Потапу Антонову, они перешли из Вытегорского уезда; наконец, Никифором Прохоровым поются былины, занесенные тоже из какого-то дальнето места (его отец выучился им, когда служил в пастухах у помещика, стало быть, во всяком случае не близко от родины Прохорова, потому что там нет вовсе помещичьих имений). Итак, этих четырех сказителей можно соединить по местности в группу, но нельзя назвать одною школою.
Что касается до северо-восточной группы, то я не подметил там различия собственно в складе былин между отдельными местностями. Во всех местностях этой группы, на Выгозере, Водлозере, 'Кенозере, манера сказителей одна и та же, — те же короткие стихи, та же краткость в рассказе, та же относительная умеренность в употреблении вставочных ^частиц. Тем не менее считаю нужным разделить . северо-восточную группу географически на выгозерскую, водлозерскую и кенозерскую, потому что между этими местностями есть различие — не в складе^ былин, а в их сюжетах. На Выгозере воспеваются те же герои, что и в Прионежье: общеизвестные Илья Муромец, Добрыня, Чурило и т. д., и сверх того Дунай Иванович, Ставер Годинович, Дюк Степанович, Садко купец богатый; на Кенозере же про четырех последних вовсе не поют, про Дуная и Ставра там даже не слыхивали; напротив того, сказания про Илью Муромца и Чурилу здесь многочис¬
47
леннее, особенно — песни об Илье Муромце имеют у кенозереких сказителей такое преобладающее значение, какого не видно в Прионежье; сверх того, на Кенозере поются некоторые былины, вовсе неизвестные в других местах, например, о Щелкане. Группа водлозерская не имеет никакой определенной физиономии, потому что, как замечено выше, там эпическая поэзия только начинает водворяться, заносимая с разных сторон. Наконец, в последней из местностей, которые я решился причислить к северовосточной группе,— на Моше, слишком мало остатков эпической поэзии, чтобы можно было судить о ее характере. Былины там, по большей части, перешли в прозаические рассказы в виде сказок, и на Моше остался только один замечательный певец былин (Швецов). Его былины довольно заметно отличаются от кенозерских, и как Мошенский край по природным условиям всего ближе связан с Шенкурским уездом Архангельской губернии, то можно бы предположить, что и в отношении к былевой поэзии он составляет часть шенкурской группы; но об этой последней я не имею никаких сведений, почерпнутых из личного наблюдения.
Между прочим следует заметить, что кенозерские и мошенскне былины отличаются от всех прочих по наречию. На всем Прионежье, так же как на Выгозере и на Водлозере, господствует севернорусское наречие, в котором о произносится всегда чисто, без перехода в а, и родительный падеж прилагательных на аго, ого выговаривается так, как мы его пишем; при этом замечается еще свойственная новгородцам наклонность буквы ъ к звуку и и буквы ц к звуку ч, но случаи, в которых вместо ъ слышится чистое и, вместо ц — чистое ч, редки и непостоянны, обыкновенно же является средний звук, который трудно передать. Так, напр., очень редко скажут: белый свит, молодечь, обыкновенно же выходит не то билый свит, молодечь, не то белый свет, молодец, а что-то среднее.
С Водлозера на Кенозеро едешь верст 90 или 100 болотистыми реками, по совершенно безлюдному «суземку» на середине которого волок в 5 верст и деревушка. Этот волок есть водораздел между водами балтийского и беломорского бассейнов. Переехав водораздел, замечаешь тотчас и некоторую перемену в наречии: ц произносится чисто, ъ уже весьма редко принимает оттенок звука и, впервые слышится переход г в в в родительном падеже, особенно в мелких словах тово, сево, нево и т. п.
Тот же самый говор слышен и на Моше; далее по пути от Моши к Вельску переезжаешь другой большой болотистый пустырь, отделяющий воды, которые текут в Онегу-реку, от притоков Северной Двины. С этим водоразделом опять-таки соединено изменение в наречии: ослабевает оканье, окончание аго чаще переходит
48
в аво, произношение ъ как и совсем исчезает, и любопытно, что с переменою в наречии совпадает и другая, экономическая. До этого водораздела вся экономическая жизнь народа тяготеет исключительно к Петербургу и Архангельску с Москвою нет ни малейшей связи (кроме редких богатых торговцев, бывающих на Нижегородской ярмарке); за болотистым волоком, отделяющим Мошенский край от Пуйского, /Аосква является главным, наиболее знакомым народу экономическим центром, Петербург отходит на второй план.
Я удалился от нити своего изложения. Мне остается к замечаниям о складе наших былин прибавить несколько наблюдений насчет их размера. К этим наблюдениям меня привела с первого же дня встреча с Абрамом Евтихиевым, с которым, как сказано, я познакомился при самом приезде в Петрозаводск. Он стал мне петь свои былины, уже известные мне по изданию г. Рыбникова, и, следя за ними по печатному тексту, я был поражен разницею — не в содержании рассказа, а в стихе. В печатном тексте стихотворное строение выражается только дактилическим окончанием стиха, внутри же стиха никакого размера нет; когда же пел Абрам Евтихиев, то у него явно слышался не только музыкальный каданс напева, но и тоническое стопосложенне стиха. Я решился записать былину вновь: сказитель вызвался сказать мне ее «пословесно», без напева, и говорил, что он уже привык пословесно передавать свои былины тем, которые прежде их у него «списывали». Я начал списывать былину о Михайле Потыке; размер исчез, выходила рубленая проза вроде той, какою эта былина напечатана была в «Олонецких Ведомостях» 1 и потом перешла в сборник г. Рыбникова (т. I, № 38). Я попытался было переправить эту рубленую прозу в стих, заставив сказителя вторично пропеть ее* но это оказалось неисполнимым, потому что, как объяснено выше, сказители каждый раз меняют несколько изложение былины, переставляют слова и частицы, то прибавляют, то опускают какой-нибудь стих, то употребляют другие выражения. Прислушавшись несколько дней к первым встреченным сказителям и напрасно пробившись с ними, чтобы записать былину совершенно верно, с соблюдением размера, каким она поется, я попробовал приучить своего спутника рапсода петь (а не пересказывать только словами) былину с такою расстановкою между каждым стихом, чтобы можно было записывать. Это было легко растолковать Абраму Евтихиеву, и я решился записать вновь его былины. Напев поддерживал стихотворный размер, который при передаче сказителем
1 По списку, доставленному П. О. Бутеновым.
49-
былины словами тотчас исчезает от пропуска вставочных частиц и слияния двух стихов в один, и былина вышла на бумаге такою, как она действительно была пропета. Тот же прием употреблял я впоследствии со всеми другими сказителями, и он мне удавался почти всегда. Только в редких случаях (они будут мною всякий раз обозначаемы) мои старания были тщетны. Так чересчур ветхий и почти глухой старик Кузьма Романов и замечательная, впрочем, сказительница Домна Сурикова никак не могли приладиться к песенной передаче былины. Когда они начинали сказывать ее нараспев, то не в состоянии были остановиться, чтобы не пропеть вдруг целую тираду, которую мог бы записать разве стенограф; когда же я их останавливал и просил повторить то же потише, то впадали в прозаический пересказ, в котором стихосложение исчезало.
Записав с возможною внимательностью к стихотворному размеру былины 70-ти сказителей и сказительниц, позволю себе сделать некоторые общие выводы. Сказителей в этом отношении можно распределить на три группы:
1. сказители, которые точно соблюдают в каждой былине правильный размер;
2. сказители, которые соблюдают размер, но не всегда правильный; и
3. сказители, которые вовсе не соблюдают размера.
Что правильное тоническое стопосложение составляет коренное, нормальное свойство русской народной былины; что неправильность в стихотворном размере есть признак порчи, а совершенное отсутствие размера — дальнейшая степень такой порчи, это не требует доказательств для каждого, кто либо послушает наших сказителей, либо потрудится прочесть былины, записанные с их напева. Он найдет правильный тонический стих у тех именно сказителей, у которых былины и по содержанию самые складные, самые полные, самые архаические; он заметит, что рапсоды, которые допускают неправильности в стопосложении,— все-таки обыкновенно поют правильным стихом повторяющиеся типические места, т. е. то, в чем всего более сохраняется древний склад речи; он увидит, что совершенно разрушенный стих имеет спутником разрушение и в содержании и во внутреннем складе былин.
Какой же размер нашего народного эпического стиха? Не один, а несколько.
Г. Рыбников заметил, что у Рябинина «один и тот же быстрый голос очень весел в Ставре, в Штыке как-то заунывнее, а в Вольге и Микулушке выходит торжественным». Г. Рыбников разумеет здесь собственно напев, но за напевом скрывается его основа — размер стиха. В Ставре у Рябинина хорей с дактилем, а в
50
Потыке — чистый хорей, в Вольге и Микуле — анапест. Эти три размера вмещают в себе весь наш народный эпос, за исключением некоторых более поздних его произведений.
Преобладающий размер, который я назову обыкновенным эпическим 'размером, есть чистый хорей с дактилическим окончанием.
Число стоп неопределенно, так что стих является растяжимым. Растяжимость при правильном тоническом размере составляет отличительное свойство русского эпического стиха. Но при этом следует иметь в виду, что у хороших певцов растяжимость стиха бывает весьма умеренная. Решительное преобладание принадлежит стиху 5- и 6-стопному, который затем может расширяться до 7-ми и суживаться до 4-х стоп; стихи же длиннее или короче того допускаются лишь разве как самая редкая аномалия. Чрезмерно длинного стиха (более 8-ми стоп) вы никогда не услышите от сказителя, если только он не принадлежит к числу тех, у которых размер стиха совсем разрушен. Встречая такие длинные стихи в печатных изданиях былин, мы должны их объяснить тем, что сказители, когда передают былину словами, без напева, часто сливают два и даже три стиха в один. Можно также заметить, что в некоторых былинах преобладает тип стиха более короткого, так что наибольшая часть стихов 4- и 5-стопные, в других преобладают длинные, 6-стопные с примесью 7-стопных. Так Калинин пел былины про Илью Муромца стихом по преимуществу 4- и 5-стопным, про Добрыню Никитича 6- и 7-стопным. Любопытно* было бы сравнить русский эпический стих с таким же стихом у других народов: какие бы это сравнение дало результаты? С стихом южнославянским, силлабическим и нерастяжимым (т. е. без тонического склада и с непрерывным соблюдением одинакового числа слогов), у нас нет ничего общего кроме того, что каждый стих, и русский и южно-славянский, должен представлять какой-нибудь более или менее цельный смысл, какую-нибудь фразу или отдельный член фразы, не допуская ни в коем случае так называемого enjambement, столь любимого, напротив, в стихе древнегреческого, германского и скандинавского эпоса.
Впрочем, не стану удаляться от своего предмета и потому возвращаюсь к размерам олонецких сказителей. Вот пример стиха, который я назвал обыкновенным эпическим 1:
1 Если читатель потрудится сравнить эти строки с напечатанными в сборнике Г: Рыбникова, т. I, стр. 54, то он заметит, как размер исчезал вследствие того, что былина записывалась им по-словесно и только поверялась по напеву (см. «Заметку» в III т., стр. XIX), а не списывалась непосредственно с голоса. Вот соответствующее место у г. Рыбникова:
51
Из того ли то из города из Муромля,
Из того села да с Карачирова,
Выезжал удаленькой, дородннй добрый молодец.
Он стодл заутрену во Муромли
Айк обеденке поспеть хотел он в стольней Киев град, Да й подъехал он ко славному ко городу к Чернигову. У того ли города Чернигова Нагнано-то силушки черным-черно,
А й черным-черио как черна ворона,
Так пехотою никто тут не прохаживат,
На добром коне никто тут не проезживат,
Птица черный ворон не пролетыват,
Серый зверь да не прорыскиват.
А подъехал как ко силушке великоей,
Он как стал-то эту силушку великую,
Стал конем топтать да стал копьем колоть,
А й побил он эту силу всю великую.
Ен подъехал-то под славный под Чернигов град. Выходили мужички да тут черниговски И отворяли-то ворота во Чернигов град,
А й зовут его в Чернигов воеводою.
Говорит-то им Илья да таковы слова:
— А й же мужички да вы Черниговски,
Старый казак Илья Муромец Поехал на добром коне Мимо Чернигов град.
Под Черниговым силушки черным-черно,
Черным-черно, как черна ворона.
Припустил он коня богатырскаго На эту силушку великую,
Стал конем топтать и копьем колоть,
Потоптал и поколол силу в скором времени,
И подъехал он ко городу ко Чернигову.
Приходят мужики к нему Черниговцы,
Отворяют ему ворота в Чернигов град И зовут его в Чернигов воеводою.
Говорит им Илья таковы слова:
— А й же вы, мужики Черниговцы!
Нейду я к вам в Чернигов воеводою;
А скажите-ка мне дорогу прямоезжую,
Прямоезжую дорогу в стольно-Киев-град.
Говорили ему мужички Черниговцы:
— А й же, удаленький дородний добрый молодец, Славный богатырь свято-русскиий!
Я не йду к вам во Чернигов воеводою. Укажите мне дорожку прямоезжую, Прямоезжую да в стольний Киев град. Говорили мужички ему Черниговски:
— Ты удаленькой, дородний добрый молодец, А й ты славныя богатырь святорусскии1 Прямоезжая дорожка заколодела,
Заколодела дорожка, замуравела.
А й по той ли по дорожке прямоезжою Да й пехотою никто да не прохаживал,
На добром кони никто да не проезживал.
Как у той ли то у грязи-то у Черноей,
Да у той ли у березы у покляпыи,
Да у той ли речки у Смородины,
У того креста у Леванидова,
Сиди Соловей розбойник во сыром дубу,
Сиди Соловей розбойник Одихманьев сын,
А то свищет Соловей да по соловьему,
Ен кричит злодей розбойник по звериному.
И от него ли-то от посвисту соловьяго,
И от него ли-то от покрыку зверинаго То все травушки муравы уплетаются,
Все лазуревы цветочки отсыпаются,
Темны лесушки к земли вси приклоняются,
А что есть людей, то вси мертвы лежат.
Этим размером лучшие сказители, как то Рябинин, Еремеев, Калинин, вам пропоют былину в тысячу слишком стихов, не сбиваясь в стопосложении. Если у них в сотне стихов найдется один * УПрямоезжею дорожкою в Киев пятьсот верст. Окольною дорожкою цела тысяча.
Прямоезжая дороженька заколодила, Заколодила дорожка, замуравела;
Серый зверь тут не прорыскиват, v Черный ворон не пролетыват:
Как у тоя у Грязи у Черныя,
У тоя у березы у покляпыя,
У славного креста у Леванидова,
У славненькой у речки у Смородинки,
Сидит Соловей разбойник Одихмантьев сын. Свищет Соловей он по соловьему, Воскричит-то он, злодей, по звериному:
Темны лесушки к земле преклоняются,
Что есть людюшек, все мертвы лежат.
какой-нибудь неправильный, то это конечно так же мало значит, как то, что и старик Гомер бывало, «засыпая», скажет плохой гекзаметр. Но большинство наших сказителей позволяют себе в хореическом стихе две вольности, которые, впрочем, мало заметны при пении былины: именно, в начале стиха они изредка допускают приставку или недостачу одного слога, так что хорей превращается в ямб, а в средине иногда вместо хорея употребляют дактиль; но как при этом два краткие слога дактиля сливаются в произношении, то хореический каданс от того не теряется. Привожу пример такой былины, записанной со слов Абрама Евтихиева:
Добрышошке-то матушка говаривала,
Дай й Микитичу-то матушка наказывала:
— Ты не езди-ко далече во чисто полё На тую гору да Сорочинскую,
Не топчи-ко младыих змиёнышёв,
Ты не выручай-ко полонов да русьскиих,
Не куплись, Добрыня, во Пучай-реки;
Но Пучай-река очйнь свирипая,
Но середняя-то струйка как огонь сечёт.
А Добрыня своей матушки не слушался.
Как он едет далече во чисто полё,
А на тую на гору сорочинскую,
Потоптал он младыих змиенышев,
А й повыручал он полонов да русьскиих.
Богатырско его сердце распотелоси,
Роспотелось сердце нажаделоси,
Он приправил своего добрй коня,
Он добра коня да ко Пучай-реки.
Он слезал Добрыня со добра коня,
Он снимал Добрыня платье цветноё,
Да он забрел за струечку за первую,
Да он забрел за струечку за среднюю,
И сам говорил да таково слово:
— Мне Добрынюшки матушка говаривала,
Мне Микитичу маменька наказывала,
Что *не езди-ко далече во чисто полё На тую гору на сорочинскую,
Не топчи-ко младыих змиенышов,
А не выручай полонов да русьскиих И не куплись, Добрыня, во Пучай-реки,
Но Пучай-река очинь свирипая,
А середняя-та струйка как огонь сечёт;
А Пучай-река она кротна-смирна,
Она будто лужа-то дождевая.
54
Не успел Добрыня словца молвитщ—
Ветра нет — да тучу наднесло,
Тучи нет — да быдто дождь дождит,
А й дождя-то нет, да только гром громит,
Гром громит да свищет молния.
А как лётит змиищо Горынчищо О тыёх двенадцати о хоботах.
А Добрыня той змеи да приужахнется.
Говорит змея ему проклятая:
— Ты теперича Добрыня во моих руках;
Захочу тебя Добрыню тёперь потоплю,
Захочу тебя Добрыню теперь съем-сождру,
Захочу тебя Добрыню в хобота возьму,
В хобота возьму Добрыню, во нору снесу.
Припадает змея как ко быстрой реки,
А Добрынюшк?г-то плавать он горазд ведь был,
Он нырнёт на бёрежок на тамошной,
Он нырнет на бережок на здешныий, и т. д.
Таким образом, на 52 стиха оказывается 42 совершенно правильных хореических, в 4-х стихах хорей превращен в ямб, в 6-ти стихах есть дактилические стопы вместо хореях. Можно сказать, 11 В сборнике г. Рыбникова (т. I, 122) это место читается так по списку г. Бутенева, записанному, как рассказывал сам Евтихиев, с «пословесной» передачи былины:
Добрынюшке матушка говорила:
— Что молод начал ездить во чисто поле,
На тую гору Сорочинскую,
Топтать-то молодых змиенышей,
Выручать-то полонов русскиих.
Не куплись, Добрыня, во Пучай-реки.
Пучай-река есть свирипая:
Середня струйка как огонь сичет.
Добрынюшка матушки не слушался.
Как был он во чистом поли,
На тыих горах на высокиих, Потоптал младыих змиенышей, Повыручил полонов русскиих, Богатырско его сердце пожаделося, Пожаделося и распотелося.
Он приправил своего добра коня, Добра коня до Пучай-реки,
68
что такой, несколько тронутый порчею, хорей в настоящее время преобладает у олонецких сказителей, за исключением немногих наилучших, которые умеют выдерживать размер стиха совершенно, и с другой стороны тех, как Щеголёнок, Сорокин, Сарафанов, которые вовсе утратили размер в стихе.
Второй размер в былинах можно назвать игривым как по его тону, так и потому, что этим размером сложены былины менее серьезные по содержанию, а именно про Соловья Будимирова, Чурилу Пленковича, Ставра, иногда про Дуная Ивановича, а также про нашествие Батыя на Киев, событие, которому народный эпос придал шутливый колорит. Размер этот отличается тем, что хо¬
Слезает он скоро с добра коня,
Снимал с себя платье цвитное,
Забрел за струечку за первую И забрел за струечку за среднюю.
И сам говорил таково слово:
— Мне Добрынюшки матушка говаривала, Мне Никитичу матушка наказывала, —
Что не езди далече во чисто поле,
На тую гору Сорочинскую,
Не топчи-ко младыих змиенышей.
Не выручай полонов русскиих,
Не куплись, Добрыня, во Пучай-реки,
Что Пучай-река есть свирипая:
Середня струйка как огонь сичет.
А Пучай-река есть кротка, смирна:
Она будто лужа дожжевая.
Как в тую пору в то время Ветра нет, тучу наднесло,
Тучи нет, а только дожжь дожжит, Дожжя-то нет, искры сыпятся, —
Летит Змиище-Горынчшце О двинадцати змия о хоботах.
Хочет змия его с конем сожечь,
Сама говорит таково слово:
— Теперича Добрыня в моих руках, Захочу — Добрыню теперь потоплю,
Захочу — Добрыню в хобота возьму,
В хобота возьму и на Русь возьму,
Захочу — Дсбрыню съем-сожру.
Добрынюшка плавать горазд он был: Нырнет на бережек на тамошний,
Нырнет на бережек на здешний.
56
реические стопы перемешаны с дактилическими, которые притом не скрадываются, как в чисто эпическом размере, а выговариваются весьма явственно. Надобно заметить, что никогда былина не складывается целиком из таких стихов, — что было бы чересчур утомительно для слуха, — а они перемешиваются с чистыми хореическими стихами. Для примера привожу начало пропетой Рябининым былины о Дунае Ивановиче:
Владымир князь стольно-киевской Заводил он почестей пир-пированьицо А й на всех-то на князей на бояров Да й на русьских могучих богатырей,
На всех славных поляниц на удалыих.
А сидят-то молодцы на честном пиру,
Все-то сидят пьяны-веселы.
Владымир князь по горенки похаживал,
Пословечно государь выговаривал:
— Все есть добры молодцы поженены,
Красный девушки замуж даны,
Столько я один хожу холост не жёненой.
То вы знаете ль мне, братцы, супротивничку*
Чтобы личушком она да й супротив меня Очушки у ней бы ясных соболей,
Бровушки у ней бы черных соболей,
А походочкой она бы лани белою,
Белою лани напольскою,
Напольской лани златорогия,
А чтобы было бы мне с ким жить да быть, век корбтати, А’ще вам молодцам было б то кому поклонятися.
Все богатыри за столиком умолкнули,
Все молодци да приутихнули За столом-та сидят, загулялися, и т. д.
Пусть читатель сравнит это место с началом былины того же певца о Добрыне и Василье Казимирове. Там Рябинин пел;
Заводил почестей пир да й пированьицо
Здесь:
Заводил он почестей пир пированьицо
Там;
На всех сильних русьскиих на богатырей А й на славных поляниц на удалыих
Здесь:
Да й на русьских могучих богатырей На всех славных поляниц на удалыих
Б7
Таким образом один и тот же стих, смотря по характеру былиьы, складывается то хореическим, то дактилическим размером. Любопытно притом, что в конце былин про Дуная и про Чурнлу, когда игривый их тон уступает место трагической развязке, дактилические стихи исчезают и размер переходит в чистый хорей.
У некоторых сказителей мы находим особенный вариант дактилического размера, состоящий в том, что последняя стопа удлиняется и стих кончается не дактилем, а четырех- или пятисложною стопою с небольшим повышением голоса на последнем слоге. Это придает еще большую легкость размеру; но такие стихи никогда не допускаются иначе, как вперемежку с обыкновенными:
Згбворит млад Соловей Гудймировйч:
— Сходенку выкидывай серёбряную,
Другу выкидывай подзолбченую,
Третью выкидывай исповблжанюу.
Берите подарки умильнии,
Куниц вы лисиц да заморскцих.
Брали ёны во белыё руки,
Матушку камочку узорчатую,
И сам берет гуселка ярбвчатый,
И сам йдет по сходенки золоченый,
Матушка идёт по серёбряный,
Вся его дружина по исповблжаный Приходят оны ко Владймиру на двор.
Приходит в палату грановитую,
А поклоны-то ведёт по учёному,
Крест кладет по писаному,
На все три ведь на четыре он на стороны,
Тому ли Владимиру в особину.
Подают ему подарочки хорошие,
Матушка камочку узбрчаткую Молодой княгини Опраксии.
Взимает княгиня на белый рукй,
А взимает княгиня дивуется:
Да не дорога камочка заморская,
А й дороги узоры згаморскии.
Стал его Владимир выведыватй:
— Ты скажись, молодец, с коёй земли,
Как молодцу именём зовут?
Третий размер, анапестический, отличается тем, что вся тяжесть стиха падает на последнюю стопу, в которой произносятся два ударения, одно самое резкое, на последнем слоге, другое на третьем или на четвертом слоге с конца, а у одного сказителя
58
(Висарионова) слышалось иногда два ударения на двух последних слогах рядом, и при этом на последнем более протяжное, так что стих выходит какой-то особенно медленный и грузный. Анапестический размер соответствует тому, что г. Рыбников называет «торжественным» напевом, и встречается в весьма немногих былинах, а именно о Вольге, Микуле и Колыване. Тем же размером пелась вероятно и былина о детстве Ильи Муромца, но единственный сказитель, сохранивший эту былину, Щеголёнок, принадлежит к числу тех, которые отвыкли от соблюдения размера, и только отдельные стихи напоминали у него анапестический склад. Былины о Вольге и Микуле Селянине принадлежат к тем, которые меньше всех интересуют народ и мало поются даже теми, которые их еще помнят. Потому и размер, о котором я говорю, является везде более или менее разрушенным во внутреннем строении стиха. Вот примеры:
Или:
Жил Святослав девяносто лет,
Жил Святослав и преставился;
Оставалось от него чадо милое,
Младый Вольгй Святославгович.
Стал Вольга он ростеть матереть,
Похотелось Вольги-то много мудрости:
Щукой рыбою ходить Вольги во сйниих морях, Птицей соколом летать Вольги под оболока, Волком и рыскать во чйстых полях.
Уходили-то все рыбушки в глубокие моря, Улетали все птички за оболокй,
Убегали-то все звери за тёмны леса.
Стал Вольга он ростеть матереть И сбирал соби дружинушку хоробрую, Тридцать молодцов без единого,
Сам еще Вольга во тридцатыих, и т, д.
Рябиния.
Во чистом поле съезжалосй Три сильниих могучиих богйтыря *По имени первой Колыван-богатырь, Другой Муромлян богатырь.
Третий Самсон богатырь.
Про между собою речи говорйли, Который из нас будет больший брат? Говорит Самсон богатырь:
— Кабы был столоб в земли,
Кабы было кольцо в столбу,
Я бы землю всю во круг повернул.
59
Говорит Муромлян богатырь:
— Я бы такожде повернул.
Говорит Колыван богатырь
— Я такожде мог повернуть.
Господь всевышния творец
За ихнее похвалёниё Дал им привидёниё:
Куда у них было нарчено в путь ёхать,
Лежит на пороги сумка,
В таковой сумке сложен весь земныя груз.
Выскакиват со своего со добраго коня Самсон богатырь,
Хватает таковую сумку,
Сумка с места не ворохнётся Выходит Муромлян богатырь Со своего со добраго коня,
Хватает таковую сумку,
По коленам в зёмлю усел,
Сумка с места не ворохнётся.
Выходит Колыван богатырь Со своего со добраго коня,
Хватает таковую сумку 1 По грудям в зёмлю сел,
Сумка с места не ворохнется.
С небес им глас прогласйло:
— Сильнии могучий богатыри!
Отстаньте прочь от таковыя сумки Весь земны*кгруз в сумку сложен.
Впредки не похваляйтесь
Всёю землёю владёти,
Наблюдайте своё доброё,
Ездите по Руси,
Делайте защиту,
Сохраняйте Русею от нёприятеля,
А хвастать по пустому не знййте.
Алексей Висарионов.
Эти три размера: обыкновенный хореический, хореический с дактилем и анапестический, как я сказал, вмещают в себе весь наш народный эпос; я разумею цикл былин, которые составляют главное содержание эпических сказаний нашего Севера, так называемые киевские и новгородские былины и разные рапсодии, тоже называемые в народе былинами, в которых описываются события, так сказать безыменные (напр., про братьев-разбойннков,
60
про горе, про ревнивого мужа и т. д.). Но этим не ограничилось развитие великорусского эпоса, и в других его произведениях являются и другие размеры. Укажу на те, которые мне случилось встретить занесенными в Олонецкую губернию.
Во-первых, есть тип, сходный со вторым из приведенных размеров (хорей с дактилем), но отличающийся тем, что стихи состоят из меньшего числа стоп, 3-х или 4-х вместо обыкновенного 5-, 6- и 7-стопного стиха. Таким размером поются: былина про Щелкана Дудентьевича и какая-то шутливая былина про князя Ромодановского и его большого быка.
А на стуле на бархате,
На златом на ременьчатом Сидел тут царь Возвяг,
Возвяг сын Таврольевич,
Ен де суды рассуживал Все дела приговаривал И князьев бояр пожаловал Селами, поместьями,
Городами с пригородками И Хому дарил Токмою1 И Ерёму Новым городом.
И Шелканушка дома не случилосе,
И уехал Щелканушко ён во землю жидовскую, ён для чёртова правежу,
Ради дани и выходу.
Ён-де с поля по колосу брал, *
С улицы по курицы,
С мужика по пяти рублей,
У кого-де пяти рублей нет У того он жену берет,
У кого как жены-то нет И того самого берет.
Как у Щелкана не выробишься,
Со двора вон не вырядишься.
Как приехал Щелканушко Из земли из жидовские Ко царю на широкий двор: i— Toko toko1 2 ты, царь Возвяг,
Царь Возвяг сын Таврольевич,
1 Т. е. Тотьмою.
2 Частица, сложенная из то и приставки ко, употребляется вместо то или тут.
61
И ты суды рассуживал,
Все дела приговаривал,
Всех князьев бояр жаловал И селами и поместьями, Городами с пригородками,
И Хому дарил Токмою И Ерёму Новым городом: Подари-тко Щелканушка,
Ты любимаго зятюшка,
Мёня Тверию городом,
Меня Тверию славною,
Меня Тверию богатою,
Двумя братцами родными И князьём благоверными,
И Борисом Борисовичем И Митрием Борисовичем.
Говорит ему царь Возвяг: — Ты любимое зятюшко. Щелкан сын Дудентьевич! Заколй-ка чада милаго, Своего сына любимаго,
Ты Гордея Щелкановича, Иацеди-ко ты чашу руды Токо чашу серёбряную,
Выпей ту чашу руды, Стоючйсь перед Звягой-царём, Перед Звягой Таврольевичем.
Токо взявши Щелканушко Заколол чада милаго,
Своего сынй любимаго,
И Гордея Щелкановича, Нацедил же ён чашу руды, Токо чашу серебряную Выпил ту чашу руды, Стоючйсь перед Звягой-царём, Перед Звягой Таврольевичем. Подарил его царь Возвяг Его Тверию городом,
Его Тверию славною,
Его Тверью богатою.
Двумя братцами родными И князьём благоверными,
И Борисом Борисовичем И Митрием Борисовичем.
И поехал Щелканушко И заехал Щелканушко К родной сестры проститися,
Токо к Марье Дудентьевной:
— Ты прощай, моя родна сестра Токо Марья Дудентьевна!
— Ты прощай же, мой родной брат,
Уж по роду родной брат,
По прозванью окаянной брат!
И кабы ти уехати
И назад не приехати
Кабы ти самому на ножи остыть
И на сабли на вострые!
И уехал Щелканушко Еще сам головой вершил.
Матрена Меньшикова.
Во-вторых, существуют былины, ясно принадлежащие XVII веку* которые сложены тем самым размером, как записанные для Ричарда Джемса песни времен Самозванцев. Это — 5- и 6-стопный хорей (изредка по неправильности переходящий в ямб или дактиль) с хореическим же, а не дактилическим окончанием. Произведения, этим стихом сложенные, уже не суть собственно былины, а скорее должны быть названы историческими песнями. В них отсутствует героический характер. Когда же певец XVII века облекал события, хотя бы близкой ему эпохи, блеском чудесного, то он пел о них эпическим размером былин киевского и новгородского цикла. Сравните былины, в которых героем является Никита Романович со всеми атрибутами эпического богатыря, и исторические песни, записанные для Ричарда Джемса в 1619 г., или нижеследующую былину о царе Алексее Михайловиче, и вы увидите, что разница в размере совпадает с различием в самом тоне и так сказать освещении поэтического рассказа:
Посредё ли было московского царства,
Середй было российского государства,
Как у света у Архангела Михаила,
У Ивана у великого в соборе,
Зазвонили во большой во колокол, •
Всих князей-бояр к обедне созывали,
Там служили святыи молебен.
Выходил наша надежда государь-царь Алексей сударь Михайлович московской,
Становился государь на ровно место,
На все стороны он поклонился.
Что ни золота труба да вострубила,
Не серебряная полочка звенела,
Зговорила наша надежда государь-царь Алексей сударь Михайлович московский:
— Ай же вы князья-бояра,
Пособите государю дума думать,
Дума думать государю, не продумать,
А отдать ли мне то город Смоленец, и т. д.
Иван Касьянов,
Тем же самым размером сложена и весьма распространенная былина о птицах и зверях:
А й отчего же зима да зачаласе,
А й красное лето состоялось?
Зачалася зима да от мороза,
А й красно лето от солнца,
А й богатая осень от лета.
И по тыя-то осени богатой Вылетала малая птица,
А й малая птица певица.
Садилась в зелену садочку.
А на тое на дерево калино,
Ай начала пети жупети,
Всякими она-то ясаками.
А й услыхали русьския птичи,
Собиралися стады оны стадами,
Прилетали к зелену садочку,
А й садились птичи рядами,
В одно сторону да головами, •
А начали пети, жупети,
Заморскую птицу пытати:
— Ай малая птица певица!
Скажи божию правду, не утайсе:
Кто у вас за морем больший,
Кто за Дунаечким мёньший? и т. д.
Иван Фепонов.
Наконец, я должен упомянуть и о третьем разряде былин, которые тоже слышатся на нашем Севере, хотя они очевидно занесены туда случайно, — о былинах поволжских или козацких. Нужно их послушать на месте и в большом числе, чтобы судить об их складе и размере. Сколько я мог заметить, они составляют переход от эпических к лирическим песням; это — единственные былины,
64
которые поются с переливами голоса, с перехватом посреди стиха, с повторением слогов и слов, например:
Как сбирались казаки/ — на крут бережок,
Ах доньски гребеньски/ — запорожский,
Запорожски казаки/ — и все были яицкии.
Ах атаман был у дон/ — ских у казаков Ой из тихаго Дону Ермак/ — был Тимофеевич,
А есаул был у дон/ — ских у казаков Ах са Двины Оста/ — фей Лаврентьевич.
Как садились казаки/—на легки стружки,
Ай на легки стружки/— сели на мелки павозки,
Как грянули размахну/ — ли вниз по Волги реки, и т. д.
Или:
Как во славном было го/роди во Вастракани Проявился там дети/нушка незнаем человек Как незнаемой дети/нушка неведомой откуль.
Баско щепетно по Ва/стракани погуливает.
Уж он штапам офице/рушкам не-клйняется,
Востраканскому губерна/тору челом ему не бьет.
А сапоженки на нож/ках шелком таченый,
Черна шляпа на кудрях/ и перщатки на руках,
А й свой тот вишневой кафтан/ на одном плечи таскал И как персидской кушачек/ во белых руках держал,
Как увидел молодца, губернатор скрычал:
— Вы сходите приведи/те удалаго молодца!
Еще стал то губерна/тор его, спрашивати:
— А ты скажись, скажись-ко, дети/нушка незнаем человёк,
Из тиху Дону казак/ аль казачей сын,
Аль ты с нашего крепкого го/рода из Вастракани?
Как проговорит дети/нушка незнаем человёк:
— Из тиху-то я Дону не казак/ не казачей сын,
Я не с вашего крепкого го/рода, а из Вастракани Я со Камы-то со реки/ Сеньки Разина сын.
Посулился мой-то ба/тюшко завтра в гостй к вам быть,
Вы умейте-тко моего ба/тюшка кормйть его поить,
Вы кормить его поить/ и честно жйловати.
Или наконец:
Ой ростужится расплачется/ наш прусской — наш прусской —
наш прусской король,
А й сидючись то на укра/сушки ой на крутой — горы,
А он глядел смотрел на свою укре/пушку на Берлин — на
Берлин — город,
И на свою укрепушку/ на Берлин да на Берлин —
на Берлин — город:
65
3—3311
— Ты ли то укрепа/ моя ты укре — укре — пушка,
Ты мой Берлин/ мой Берлин — мой Берлин — город!
А ты кому-то моя укре/пушка — доставала достава — ласе? Доставаласе да достава/ласе моя укре — укре — пушка Ой царю белому/ ой царю — ой царю — белому А как другому же генера/лушку4 Краснощо — Краснощо—
кову и т. д.
Иван Захаров.
Впрочем, в Олонецкой губернии все эти последние разряды песен составляют весьма редкое исключение в массе былин, сложенных то чистым хореем с дактилическим окончанием, то хореем, смешанным с дактилем. Прислушиваясь к этим былинам, записывая их с голоса сказителей, я вынес полное убеждение, что тоническое стопосложение в русском стихе не есть изобретенье Ломоносова, а есть изобретение самого русского народа, его коренное достояние. Если Ломоносов, под влиянием немецких образцов, применил тоническое стихосложение к нашей художественной поэзии, то руководился ли он собственно подражанием немцам? Нет, как он сам писал, первым и главнейшим его основанием было то, что «российские стихи надлежит сочинять по природному нашего языка свойству»; и когда Ломоносов с таким верным чутьем с первого же раза угадал в стихе природное языка нашего свойство, то кто знает, не слышался ли ему отзвук народных былин, конечно знакомых его уху: ибо и до сих пор помнят на Выгозере, что былины перешли туда с Поморья? Надобно припомнить и то, что Ломоносов в своей «версификации» отводит почетное место так называемым им «тригласным» рифмам, т. е. дактилическим; а дактиль на конце стиха — этого конечно он не мог найти в своих немецких образцах.
* * *
Да извинит меня читатель за это отступление от своего намерения держаться исключительно круга фактических наблюдений и замечаний, не вдаваясь в область личных догадок и толкований. У нас до сих пор, к сожалению, толкование народного эпоса чересчур опережало и перевешивало его собиранье. Надеюсь, что меня не обвинят в этой области, если я в заключение моей длинной статьи представлю и с своей стороны маленькую догадку о происхождении одного из богатырей наших былин — Святогора. Всякий, конечно, чувствует, что это имя искусственное, навеянное сказанием о том, что Святогор, как поется во всех о нем былинах, жил на каких-то Святых горах, всякий чувствует, что за
66
этим именем скрывается что-либо другое. И вот один из лучших сказителей, слепой Иван Фепонов, пропел в былине о нашествии Батыги на Киев:
А по греху ли то тогда да учинилосе,
А й богатырей во Киеве не случилосе:
Святополк богатырь на Святых на горах,
А й молодой Добрыня во чистом поли,
А Алешка Попович в богомольной стороны,
А Самсон да Илья у синя у моря.
В этом месте другие сказители поют: «Святогор богатырь на Святых на горах». Я думал сперва, что ослышался или что Фепонов ошибся, и заставил его потому раз пять повторить эти самые стихи; но он все твердил свое: «Святополк богатырь на Святых на горах» — и уверил меня при этом, что так-мол поется. Мне сперва показалось это имя Святополка странным, а теперь думаю, что оно имеет значение. Вспомним, что Святогор есть единственный богатырь, дружественный русским, но нерусский, богатырь, который «не ездил на Святую Русь», а к которому, напротив, русские богатыри ездят на поклонение как к старшему и сильнейшему; вспомним, что он живет на горах, вспомним его таинственное исчезновение, — все эти черты получают смысл только в применении к Святополку великоморавскому, этому древнейшему представителю славянской силы, этому легендарному герою, который уже в рассказе Космы Пражского укрывается в горы и там кончается таинственною смертью.
Пусть читатель судит о степени вероятности этой гипотезы. Если же она подтвердится, то личность Святогора будет весьма важна как звено, связывающее наш народный эпос с древностью других славян.
А. Гильфердинг
ВОЛЬГА
Закатилось красное солнышко
За лесу<шки за> темные, за моря за широкие, Россаждалися звёзды частые по светлу небу: Порождался Вольта сударь Буславлевич На святой Руси.
И рос Вольта Буславлевич до пяти годков,
Псшол Вольта сударь Буславлевич по сырой земли; Мать сыра земля сколыбалася,
Звери в лесах рязбежалися,
Птицы по подоблачью разлеталися,
И рыбы по синю морю разметалися.
И пошол Вольта сударь Буславлевич Обучаться всяких хитростей мудростей,
Всяких языков он разныих;
Задался Вольта сударь Буславлевич на семь .год,
А прожил двенадцать лет,
Обучался хитростям мудростям,
Всяких языков разныих.
Собирал дружину себе добрую,
Добрую дружину, хоробрую,
И тридцать богатырей без единаго,
Сам становился тридцатыим:
— Ай же вы дружина моя добрая хоробрая! Слушайте большаго братца атамана-то,
Вы делайте дело повеленое:
Вейте веревочки шелковые,
Становите веревочки по темну лесу,
Становите веревочки по сырой земли,
А ловите вы куниц лисиц,
68
Диких зверей черных соболей И подкопучиих белых заячков,
Белых заячков, малых горносталюшков,
И ловите по три дня по трй ночи.
Слухали большаго братца атамана-то,
Делали дело повеленое:
Вили веревочки шелковые,
Становили веревочки по темну лесу по сырой земли, Ловили по три дня по три ночи,
Не могли добыть ни одного зверка.
Повернулся Вольга сударь Буславлевич,
Повернулся он левым зверем;
Поскочил по сырой земли по темну лесу,
Заворачивал куниц, лисиц,
И диких зверей черных соболей,
И белых носкакучиих заячков,
И малыих горностаюшков.
И будет во граде во Киеве А со своею дружиною со доброю,
И скажет Вольга сударь Буславлевич:
— Дружинушка ты моя добрая, хоробрая!
Слухайте большаго братца атамана-то И делайте дело повеленое,
А вейте силышка шелковыя,
Становите силышка на темный лес,
На темный лес на самый верх,
Ловите гусей, лебедей, ясных соколей,
А малую птицу-то пташицу,
И ловите по три дня и по три ночи.
И слухали большаго братца атамана-то,
А делали дело повелёное:
А вили силышка шелковы,
Становили силышка на темный лес на самый верх: Ловили по три дня и по три ночи,
Не могли добыть ни одной птички.
Повернулся Вольга сударь Буславлевич Науй птицей, Полетел по подоблачью.
Заворачивал гусей, лебедей, ясныих соколей И малую птицу-ту пташицу.
\ будут во городе во Киеве Jo своей дружинушкой со доброю;
Скажет Вольга сударь Буславлевич:
—- Дружина моя добрая, хоробрая!
Слухайте большаго братца атамана-то,
Делайте вы дело повеленое:
Возьмите топоры дроворубные,
Стройте судёнышко дубовое,
Вяжите путевья шелковые,
Выезжайте вы на сине море,
Ловите рыбу семжинку да белужинку, Щученьку, плотиченку,
И дорогую рыбку осётринку,
И ловите по три дня и по три ночи.
И слухали большаго братца атамана-то, Делали дело повелёное:
Брали топоры дроворубные,
Строили судёнышко дубовое,
Вязали путевья шелковыя,
Выезжали на сице море,
Ловили по три дня и по три ночи.
Не могли добыть ни одной рыбки.
Повернулся Вольга сударь Буславлевич рыбой
щучинкой
И побежал по синю морю.
Заворачивал рыбу семжинку, белужинку, Щученку, плотиченку,
Дорогую рыбку осетринку.
И будут во граде во Киеве Со своею дружиною со доброю,
И скажет Вольга сударь Буславлевич:
— Дружина моя добрая, хоробрая!
Вы слушайте большаго братца атамана-то: Кого бы нам послать во Турец землю, Проведати про думу про царскую,
И что царь думы думает,
И думает ли ехать на святую Русь?
А старого послать — будет долго ждать; Середняго послать-то — вином запоят,
А малаго послать,
Маленькой с девушкамы заиграется,
А с© молодушкамы распотешится,
А со старыма старушкамы разговор держать, И буде нам долго ждать.
А видно уже Вольге самому пойти!
Повернулся Вольга сударь Буславлевич Малою птицею-пташицей,
Полетел ён по подоблачью.
И будет скоро во той земли турецкоей,
Будет у сантала у турецкаго,
А у той палаты белокаменной,
Против самых окошечек,
И слухает он речи тайный.
Говорит царь со царицею:
— Ай же ты царица Панталовна!
А ты знаешь ли про то, ведаешь?
На Руси-то трава растет не по старому, А на Руси трава растет не по старому, Цветы цветут не по прежнему,
А видно Вольги-то живого нет.
А поеду я на святую Русь,
Возьму я себе девять городов,
Подарю я девять сынов,
А тебе царица Панталовна Подарю я шубоньку дорогу.
Проговорит царица Панталовна:
— Ай же ты царь Турец-сантал!
А я знаю про то, ведаю:
На Руси трава все ростет по старому, Цветы-то цветут все по прежнему.
А ночесь, спалось, во снях виделось: Быв спод восточныя спод сторонушки Налётала птица малая пташица,
А спод западней спод сторонушки Налетала птица черной ворон: Слеталися оны во чистом поле, Промежду собой подиралися;
Малая птица пташица Чернаго ворона повыклевала,
И по перышку она повыщипала А на вётер все повыпускала.
Проговорит царь Турец-сантал:
— Ай же ты царица Панталовна!
А я думаю скоро ехать на святую Русь, Возьму я девять городов,
И подарю своих девять сыновей, Привезу себе шубоньку дорогую. Говорит царица Панталовна:
— А не взять тебе девяти городов,
И не подарить тебе девяти сынов,
И не привезти тебе шубоньки дорогую! Проговорит царь Турец-сантал:
— Ах ты старый чорт!
Сама спала, себе сон видела!
И ударит он по белу лицу,
И повернется,— по другому,
И кинет царицу о кирпичен пол,
И кинет ю второй-то раз:
— А поеду я на святую Русь,
Возьму я девять городов,
И подарю своих девять сыновей,
Привезу себе шубоньку дорогую!
А повернулся Вольга сударь Буславлевич, Повернулся серым волком И поскочил-то ён на конюшен двор,
Добрых коней-тех всех перебрал,
Глотки-то у всех у них перервал.
А повернулся Вольга сударь Буславлевич Малым горносталюшком,
Поскочил во горницу во ружейную,
Тугие луки перёломал,
И шелковые тетивочки пёрервал,
И каленыя стрелы все повыломал,
Вострые сабли повыщербил,
Палицы булатныя дугой согнул.
Тут Вольга сударь Буславлевич Повернулся Вольга сударь Буславлевич, Малою птицею пташицей,
И будет скоро во граде во Киеве,
И повернулся он добрым молодцом И будет он с своею со дружиною со доброю:
— Дружина моя добрая, хоробрая! Пойдемте мы во Турец-землю.
И пошли оны во Турец-землю,
И силу турецкую во полон брали.
— Дружина моя добрая, хоробрая! Станем-те теперь полону поделять!
Что было на делу дорого,
Что было на делу дешево?
А добрые кони по семи рублей,
А вострые сабли по пяти рублей,
А оружье булатное по шести рублей,
Палицы булатные по три рубля.
А то было на делу дешево — женский пол: Старушечки были по полушечки,
А молодушечки по две полушечки,
А красный девушки по денежке.
72
ВОЛЬГА И МИКУЛА
Жил Святослав девяносто лет,
Жил Святослав да переставился.
Оставалось от него чадо милое,
Молодой Вольга Святославгович.
Стал Вольга ростеть матереть,
Похотелося Вольги да много мудростей:
Щукой рыбою ходить Вольги во сйних морях, Птицей соколом летать Вольги под бболоки, Волком и рыскать во чистых полях.
Уходили-то вси рыбушки во глубоки моря. Улетали вси птички за бболоки,
Убегали вси звери за тёмны леса.
Стал Вольга он растеть матереть И сберал соби дружинушку хоробрую, Тридцать молодцев без единого,
Сам еще Вольга во тридцятыих.
Был у него родной дядюшка,
Главный князь Владымир стольно-киевской. Жаловал его трима городама всё крестьянами* Первыим городом Гурчовцом,
Другим городом Ореховцем,
Третьим городом Крестьяновцем.
Молодой Вольга Святославгович,
Он поехал к городам и за получкою Со своёй дружинушкой хороброю.
Выехал Вольга во чисто поле,
Ен услышал во чистом поли ратоя.
А орет в поли ратой, понукиваёт,
А у ратоя-то сошка поскрйпываёт,
Да по камешкам омешики прочиркивают.
Ехал Вольга он до ратоя,
День с утра ехал до вечера, '
Да не мог ратоя в поле наехати.
А орег-то в поли ратой, понукиваёт,
А у ратоя сошка поскрйпываёт,
Да по камешкам омешики прочиркивают.
Ехал Вольга еще другой день,
Другой день с утра до пабедья,
Со своей со дружинушкой хороброю.
Ен наехал в чистом поли ратоя.
А орет в поле ратой, понукиваёт,
73
С края в край бороздки пометываёт,
В край он уедет — другого нёвидать.
То коренья камёнья вывертываёт,
Да великия он каменья вси в борозду валйт,
У ратоя кобылка солбвенька,
Да у ратоя сошка кленовая,
Гужики у ратоя шелковые.
Говорил Вольга таковы слова:
— Бог теби помочь оратаюшко,
А орать да пахать да крестьяновати,
С края в край бороздки пометывати!
Говорил оратай таковы слова:
— Да поди-ко ты, Вольга Святославгович!
Мни-ка надобно Божья помочь крестьяновать,
С края в край бороздки помётывать.
А й далече ль Вольга едешь, куда путь держишь Со своею со дружинушкой хороброю?
Говорил Вольга таковы слова:
— А еду к городам я за получкою,
К первому ко городу ко Гурьёвцу,
К другому-то городу к Ореховцу,
К третьему городу к Крестьяновцу.
Говорил оратай таковы слова:
•— Ай же Вольга Святославгович!
Да недавно был я в городи, третьяго дни,
На своей кобылке соловою,
А привез оттуль соли я два меха,
Два меха-то соли привез по сороку пуд,
А живут мужики там розбойники, ,
Ёны просят грошёв подорожныих,
А я был с шалыгой подорожною,
А платил им гроши я подорожный:
А кой стоя стоит, тот и сидя сидит,
А кой сидя сидит, тот и лёжа лежит.
Говорил Вольга таковы слова:
-— Ай же оратай оратаюшко!
Да поедем-ко со мною во товарищах,
Да ко тем к городам за получкою.
Этот оратай оратаюшко Гужики с сошки он повыстенул Да кобылку из сошки повывернул А со тою он сошки со кленовенкой,
А й оставил он тут сошку кленовую,
Он садился на кобылку соловеньку;
Они сели на добрых коней, поехали По славному раздольицу чисту полю.
Говорил оратай таковы слова:
— Ай же Вольта Святославгович!
А оставил я сошку в бороздочки,
Да не гля-ради прохожаго проезжего,
Ради мужика деревенщины:
Они сошку с земельки повыдернут,
Из омешиков земельку повытряхнут,
Из сошки омешики повыколнут,
Мне нечем будет молодцу крестьяновати.
А пошли ты дружинушку хоробрую,
Чтобы сошку с земельки повыдернули,
Из омешиков земелька повытряхнули,
Бросили бы сошку за ракитов куст.
Молодой Вольта Святославгович Посылает тут два да три добрых молодца Со своей с дружинушки с хороброей Да ко этой ко сошке кленовенькой,
Чтобы сошку с земельки повыдернули,
Из омешиков земельку повытряхнули,
Бросили бы сошку за ракитов куст.
Едут туды два да три добрых молодца Ко этой ко сошки кленовоей;
Они сошку за обжи кругом вертят,
А им сошки от зёмли поднять нельзя,
Да не могут они сошку с земельки подвыдернути, Из омешиков земельки повытряхнуть,
Бросити сошки за ракитов куст.
Молодой Вольга Святославгович Посылает он целым десяточком Он своей дружинушки хороброей А ко этой ко сошке кленовоей.
Приехали оны целым десяточком Ко этой славной ко сошке кленовенькой;
Оны сошку за обжи кружком вертят,
Сошки от земли поднять нельзя,
Не могут они сошки с земельки повыдернути,
Из омешиков земельки повытряхнути,
Бросить сошки за ракитов куст.
Молодой Вольга Святославгович Посылает всю дружинушку хоробрую,
То он тридцать молодцёв без единаго,
Этая дружинушка хоробрая,
75
Тридцать молодцов да без единаго.
А подъехали ко сошке кленовенькой,
Брали сошку за обжи, кружком вертят,
Сошки от земельки поднять нельзя,
Не могут они сошки с земельки повыдернути, Из омешиков земельки повытряхнути,
Бросити сошки за ракитов куст.
Говорит оратай таковы слова:
— Ай же Вольга Святославгович!
То не мудрая дружинушка хоробрая твоя,
А не могут оны сошки с земельки повыдернуть, Из омешиков земельки повытряхнуть,
Бросити сошки за ракитов куст.
Не дружинушка тут есте хоробрая,
Столько одна есте хлебоясть.
Этот оратай оратаюшко Он подъехал на кобылке соловенькой А ко этоей ко сошке кленовенькой,
Брал эту сошку одной ручкой,
Сошку с земельки повыдернул,
Из омешиков земельку повытряхнул,
Бросил сошку за ракитов куст.
Оны сели на добрых коней, поехали Да по славному раздолью чисту полю.
А у ратоя кобылка она рысью идёт,
А Вольгин-тот конь да поскакиваёт;
А у ратоя кобылка грудью пошла,
Так Вольгйн-тот конь оставаегся.
Стал Вольга покрыкивати,
Стал колпаком Вольга помахивати,
Говорил Вольга таковы слова:
— Стой-ко, постой, да оратаюшко!
Говорил Вольга таковы слова:
•— Ай же оратай оратаюшко,
Эта кобылка конём бы была,
За эту кобылку пятьсот бы дали.
Говорит оратай таковы слова:
— Взял я кобылку жеребчиком,
Жеребчиком взял ю спод матушки,
Заплатил я за кобылку пятьсот рублей:
Этая кобылка конём бы была,
Этой бы кобылки и сметы нет.
Говорил Вольга таковы слова:
— - Ай же ты оратай оратаюшко!
Как-то тобя да именём зовут,
Как звеличают по отечеству?
Говорил оратай таковы слова:
— Ай же Вольта ты Святославгович!
Ржи напашу, в скирды складу,
В скирды складу да домой выволочу,
Домой выволочу, дома вымолочу.
Драни надеру да то я пива наварю,
Пива наварю мужичков напою,
Станут мужички меня покликивати:
— Ай ты молодой Микулушка Селянчнович!
СВЯТОГОР
Ездил-то стар да по чисту полю,
Въехал стар да на святые горы,
Да наехал стар да на богатыря.
А богатырь едет на кони да дрёмлет он.
— Что это за чудо есть?
Сильние могучие богатыре
Мог ба выспаться да во белом шатри.
Да розъехался Илья Муромец,
Да ударил богатыря крепко-на-крепко.
Богатырь еде всё вперед.
— Ах да что я за сильнии богатыре,
От моей руки никакой богатырь не мог на конй усидеть, Дай-ко розъедусь во вторые раз.
Как розъехался Илья Муромец,
Да ударил крепко-на-крепко,
Богатырь еде всё вперед.
— Что это за чудо есть?*
Видно я ударил худо ево.
Как розъехался Илья да он ведь в третий раз,
Как ударил богатыря крепко-на-крепко,
Да ударил ево плотно-нй-плотно,
Тут-то богатырь пробудился ото сна.
Хватил-то Илью да своей правою рукой,
Положнл-то Илью да к себе в корман,
Возпл-то Илью да двои суточки,
Да на третьи сутки конь и стал потыкатися,
У коня-то стали ножки подгибатися.
Как ударил Святогор да своего доброго коня.
77
— Что ты, конь, потыкаешься?
Говорил-то конь таково слово:
— Как мне-ка-ва да не поткнутися?
Вожу я третьи суточки
Двух сильниех могучиех богатырей,
Третьёго вожу коня да богатырского.
Тут Святогор вынимал Илью да из кармана вон, Но раздёрнули шатёр белополотняной,
Стали с Ильей да опочик держать.
А побратались они крестами с Ильей Муромцем, Назвались они крестовыма братьями.
Но ездили гуляли по святым горам,
Съезжали-то они да со святых ведь гор На те ли на площади широкие,
На те ли лужка они зелёные.
Как увидели-то они чудо чудноё,
Чудо чуднёе да диво дивноё,
Как состроен стоит да ведь бёлой гроб.
Говорил-то Илья да таково слово:
— Ты послушай-ко, крестовой ты мой брателко,
Для ково ж этот гроб состроен есть?
Соходили они да с коней добрыих,
Ложился-то Илья да во сей-от гроб,
А Святогор-от говорил да таково слово:
— Ты послушай-ко, крестовой ты мой брателко,
Не для тебя сей гроб состроен есть,
Дай-ко я ведь лягу да во сей-от гроб.
Дак лёг Святогор во сей гроб спать,
Говорил Святогор да таково слово:
— Ты послушай-ко, крестовой мой да брателко,
Да закрой-ко меня дощечками дубовыми.
Говорил-то Святогор да таково слово:
— Ты послушай-ко, крестовой мой ты брателко, Хорошо здесь во гробе жить.
Ну-тко, крестовой мой да брателко,
Отокрой-то дощечки дубовые.
Как Илья Муромец стал открывать дощечки дубовые, Да не может оторвать ни какой доски.
— Да ты послушай-ко, крестовой ты мой брателко, Не могу я открыть ни какой доски.
— Ты послушай-ко, крестовой ты мой брателко,
Да Илья ведь Муромец!
Бей-ко своей боевою-то палицею.
. Илья-то начал палицей бить:
78
Куды ударит, туды обручи железные.
Говорил-то Илья да таково слово:
— Да ты послушай-ко, крестовой ты мой брателко! Куды ударю, туды обручи железные.
Говорил-то Святогор да таково слово:
— Ты послушай-ко, крестовой ты мой брателко! Видно мне-ка туто бог и смерть судил.
Тут Святогор и помирать он стал,
Да пошла из его да пена вон.
Говорил Святогор да таково слово:
— Ты послушай-ко, крестовой ты мой брателко! Да лижи ты возьми ведь пену мою,
Дак ты будешь ездить по святым горам,
А не будешь ты бояться богатырей,
Никакого сильнего могучего богатыря*
ДОБРЫНЯ И ЗМЕЙ
Как во стольноём во городи во Киеви Жил был там удалый добрый молодец, Молодой Добрынюшка Микитинич; Пожелал-то итти он за охвотою.
Обувает он сапожки на ножки зелен сафьян, Одевает он Добрыня платье цветное.
Налагает он ведь шапку во пятьсот рублей,
А й берет-то ведь Добрыня да свой тугой лук, Этот тугой лук Добрынюшка, розрывчатой,
А й берет-то ведь он стрелочки каленый,
А й приходит-то Добрыня ко синю морю,
А й приходит-то Добрыня к первой заводи;
Не попало тут ни гуся, ни лебедя,
А й не сераго-то малаго утеныша.
А й приходит то Добрыня к другой заводи,
Не находит он ни гуся, да ни лебедя,
А й ни сераго-то малаго утеныша.
А й приходит-то Добрыня к третьей заводи, Не находит он ни гуся, да ни лебедя,
А й ни сераго-то малаго утеныша.
Розгорелось у Добрыни ретиво сердцо,
Скоро тут Добрыня поворот держал,
А й приходит-то Добрынюшка во свой-от дом, Во свой дом приходит к своей матушки,
79
А й садился он на лавочку брусовую,
Утопил он очи во дубовый мост.
А й подходит-то к Добрыни родна матушка,
А сама-то говорит да таково слово:
— Ай ты молодой Добрынюшка Микитиниц!
Что же, Добрыня, не весёл пришол?
А й говорит-то ведь Добрыня своей матушке:
— Ай же ты родитель моя матушка!
Дай-ко ты Добрыни мне прощеньицо,
Дай-ко ты Добрыни мне бласловленьицо,
Ехать мне Добрыни ко Пучай реки.
Говорит-то ведь Добрыни родна матушка:
— Молодой Добрыня сын Никитинич!
А не дам я ти прощенья бласловленьица Ехать ти Добрыни ко Пучай реки.
Кто к Пучай реки на сем свети да езживал,
А счастлив-то оттуль да не приезживал.
Говорит Добрыня своей матушки:
— Ай же ты родитель моя матушка!
А даешь мне-ка прощение — поеду я,
Не даешь мне-ка прощения — поеду я.
А и дала мать прощение Добрышошки Ехать-то Добрыни ко Пучай реки.
Скидывает-то Добрыня платье цветное, Одевает-то он платьицо дорожное,
Налагал-то на головку шляпу земли гречецкой, Он уздал седлал да ведь добра коня,
Налагает ведь он уздицу тесмяную,
Налагает ведь он потники на потники,
Налагает ведь он войлоки на войлоки,
На верёх-то он седелышко черкаское,
А и туго ведь он подйруги подтягивал,
Сам ли-то Добрыня выговаривал:
— Не для ради красы басы, братцы, молодецкие, Для укрепушки-то было богатырский.
А й берёт-то ведь Добрыня да свой тугой лук,
А й берет-то ведь Добрыня калены стрелы,
А й берет-то ведь Добрыня саблю вострую,
А й берет копьё да долгомерное,
А й берет-то он ведь палицу военную,
А й берет-то Добрыня слугу младаго.
А поедучи Добрыни родна матушка наказыват:
— Ай же ты Добрынюшка Никитинич!
Съедешь ты, Добрыня, ко Пучай реки,
60
Одолят тебя жары да непомерный,—
Не куплись-ко ты, Добрыня, во Пучай -реки.
Видли-то да добра молодца ведь сядучись,
Не видали тут удалаго поедучись.
А приезжает-то Добрыня ко Пучай реки, Одолили ты жары да непомерный,
Не попомнил он наказанья родительска.
Он снимает со головки шляпу земли греческой, Роздевает ведь он платьица дорожный.
Розувает ведь Добрыня черны чеботы,
Скидывает он порточики семи шелков,
Роздевает он рубашку миткалиную,
Начал тут Добрыня во Пучай реки купатися. Через перву-то струю да нырком пронырнул, Через другую струю да он повынырнул,—■
А не темныя ли тёмени затёмнели,
А не черныя тут облаци попадали,
А летит ко Добрынюшки люта змея.
А лютая-то змёя да печерская.
Увидал Добрыня поганую змею,
Через перву-то струю да нырком пронырнул, Через другую струю да он повынырнул,
Млад-то слуга да был он торопок,
А угнал-то у Добрынюшки добра коня,
А увез-то у Добрынюшки он тугой лук,
А увез-то у Добрыни саблю вострую,
А увез копьё да долгомерное,
А увез-то он палицу военную,
Стольки он оставил одну шляпоньку,
Одну шляпу-то оставил земли гречецкой, Хватил-то Добрыня свою шляпоньку,
А ударил он змею да тут поганую,
А отбил он у змеи да ведь три хоботаг А три хобота отбил да что ни лучшиих.
А змея тогда Добрынюшки смолиласи:
— Ах ты'молодой Добрыня сын Микитинич!
Не придай ты мне смерети напрасный,
Не пролей ты моей крови бесповинныи.
А не буду я летать да по святой Руси,
А не буду я пленить больше богатырей,
А .не буду я давить да молодыих жон,
А не буду сиротать да малых детушек,
А ты будь-ко мне Добрыня да ты большой брат, Я буду змея да сестрой мёньшою.
81
А на ты лясы Добрыня приукинулся,
А спустил-то он змею да на свою волю;
А й пошол Добрынюшка во свой-от дом,
А й во свой-от дом Добрыня к своей матушки. Настигает ведь Добрыню во чистом поли,
Во чистом поли Добрынюшку да темна ночь.
А тут столбики Добрынюшка росставливал, Белополотняный шатер да он роздёргивал,
А тут-то Добрыня опочив держал.
А встает-то Добрыня по утру рано,
Умывался ключевой водой белешенько, Утирался в полотпо-то миткалиное,
Господу богу да он молится,
Чтобы спас меня господь, помиловал.
А й выходит-то Добрыня со бела шатра,
А не темпыя ли темени затемнели,
А не черныя тут облаци попадали,—
Летит по воздуху люта змея,
А й несет змея да дочку царскую,
Царскую-то дочку княженецкую,
Молоду Марфиду Всеславьевну.
А й пошол Добрыня да во свой-от дом, Приходил Добрыня к своей матушки,
Во свою-ту он гридню во столовую,
А садился он на лавочку брусовую.
А Владимир князь да стольне-киевской, Начинаех-то Владимир да почестной пир А на многия на князи да на бояры А на сильниих могучиих богатырей,
На тых паляниц да на удалыих,
На всех зашлых да добрых молодцов А й говорит-то ведь Добрыня своей матушки:
— Ай же ты родитель моя матушка!
Дай-ко ты Добрыни мне прощеньицо,
Дай-ко мне Добрыни бласловленьицо,
А поеду я Добрыня на почестной пир Ко ласкову князю ко Владимиру.
А й говорила-то Добрыни родна матушка:
— А не дам я ти Добрынюшки прощеньица,
А не дам я ти Добрыни бласловленьица,
Ехать ти Добрыни на почестной пир
Ко ласкову князю ко Владимиру.
А й живи-тко ты Добрыня во своём дому,
Во своём дому Добрыня своей матушки,
Ешь ты хлеба соли досыти,
Пей зелена вина ты допьяна,
Носи-тко золотой казны ты долюби.
А й говорит-то ведь Добрыня родной матушки: — Ай же ты родитель моя матушка!
А даешь мне-ка прощение — поеду я.
Не даешь мне-ка прощения — поеду я.
Дала мать Добрынюшки прощеньицо,
Дала мать Добрыни бласловеньицо.
А справляется Добрыня, снаряжается,
Обувает он сапожики на ноженки зелен сафьян, Одевает-то Добрыня платье цветное,
Налагает ведь он шапку во пятьсот рублей,
А й выходит-то Добрыня на широкий двор,
Он уздае-седлае коня добраго,
Налагает ведь он уздицу тесмяную,
Налагает ведь он потнички на потнички,
Налагает ведь он войлоки на войлоки,
На верёх-то он седелышко черкаское.
А и крепко ведь он подпруги подтягивал,
А и подпруги шолку заморскаго,
А й заморскаго шолку шолпанскаго,
Пряжки славныя меди бы с казанския (так), Шпенечки-то булат-железа да сибирскаго,
Не для красы басы, братцы, молодецкия,
А для укрепушки-то было богатырский.
Садился ведь Добрыня на добра коня, Приезжает-то Добрыня на широкий двор, Становил коня-то посреди двора,
Он вязал коня к столбу точеному,
Ко тому ли-то колецку залоченому.
А й приходит он во гридню во столовую,
А глаза-ты он крестит да по писаному,
А й поклон-тот ведет да по ученому,
На вси стороны Добрыня поклоняется,
А и князю со княгиною в особину.
А й проводили-то Добрыню во большо место,
А за ты за эти столы за дубовый,
А за тыи ли за ества за сахарный,
А за тыи ли за питья за медвяный.
Наливали ему чару зелена вина,
Наливали-то вторую пива пьянаго,
Наливали ему третью меду сладкаго,
Слили эты чары в едино место,—
83
Стала мерой эта чара полтора ведра,
Стала весом эта чара полтора пуда.
А и принимал Добрыня единой рукой, Выпивает-то Добрыня на единый дух.
А й Владимир-от князь да стольне-киевской А по гридни по столовой он похаживат,
Сам он на богатырей посматриват,
Говорит да таково слово:
— Ай же сильнии могучий богатыри!
А накину на вас службу я великую:
Съездить надо во Тугй-горы,
А й во Тугии-горы съездить ко лютой змеи А за нашею за дочкою за царскою,
А за царскою за дочкой княженецкою.
Большой-от туляется за средняго,
Средний-то скрывается за меньшаго,
А от меньшаго от чину им ответу нет.
3-за того ли з-за стола за средняго А выходит-то Семен-тот барин Карамышецкой, Сам он зговопит да таково слово:
— Ах ты батюшко Владимир стольне-киевской! А был-то я вчерась да во чистом поли,
Видел я Добрыню у Пучай реки,—
Со змеёю-то Добрыня дрался ратился,
А змея-то ведь Добрыни извпняласи, Называла-то Добрыню братом большиим,
А нарекала-то себя да сестрой меньшою. Посылай-ко ты Добрыню во Туги-горы А за вашею за дочкою за царскою,
А за царскою-то дочкой княженецкою. Воспроговорйт то князь Владимир-от да
стольне-киевской:
— Ах ты молодой Добрынюшка Микитиннч! Отправляйся ты, Добрыня, во Туги-горы,
А й во Туги-горы, Добрыня, ко лютой змеи А за нашею за дочкою за царскою,
А за царскою-то дочкой княженецкою.
Закручинился Добрыня, запечалился,
А й скочил-то тут Добрыня на резвы ноги,
А и топнул-то Добрыня во дубовой мост,
А и стулья-ты дубовы зашаталисе,
А со стульев все бояра повалялисе.
Выбегае тут Добрыня на широкий двор, Отвязал ли-то коня да от столба,
От того ли-то столба да от точенаго,
От того ли-то колечка золоченаго:
А й.садился-то Добрыня на добра коня, Приезжает-то Добрынюшка на свой-от двор, ^Спущается Добрыня со добра коця,
А й вязал коня-то ко столбу точеному,
Ко тому ли-то колечку к золоченому, Насыпал-то он пшены да белояровой.
А й заходит он Добрыня да во свой-от дом,
А й во свой-от дом Добрыня своей матушки. А й садился-то Добрыня он на лавочку, Повесил-то Добрыня буйну голову,
Утопил-то очи во дубовый мост.
А к Добрынюшке подходит его матушка,
А сама ли говорила таково слово:
— Что же ты, Добрыня, не весёл пришол? Место ли в пиру да не по розуму,
Али чарой ли тебя в пиру да обнесли,
Али пьяница дурак да в глаза наплевал,
Али красный девицы обсмеялисе.
Воспроговорйт Добрыня своей матушке:
— А место во пиру мне было большое,
А большое-то место не меньшое,
А й чарой во пиру меня не обнесли,
А пьяница дурак да в глаза нё плевал, Красныя девицы не обсмеялисе;
А Владимир князь да стольне-киевской А накинул-то он службу ведь великую:
А надо мне-ка ехать во Туги-горы,
А й во Туги-горы ехать ко лютой змеи,
А за ихною за дочкой княженецкою.
А й справляется Добрыня снаряжается А во дальнюю да в путь дороженку.
Обувал Добрыня чёрны чоботы,
Одевал он платьица дорожный,
Налагал он шляцу земли гречецкой,
А он уздал-сёдлал коня добраго,
Налагал он уздицу тесмяную,
Налагал он потнички на потнички,
Налагал он войлоки на войлоки,
На верёх-то он седелышко черкаское,
А й да туго подпруги подтягивал,
А й да сам Добрыня выговаривал:
— А не для красы басы, братцы, молодецкия,
85
Для укрепушки-то был богатырский.
А й приходит до Добрыни родна матушка,
Подает Добрыни свой шелковый плат,
Говорит она да таково слово:
— Ах ты молодой Добрынюшка Микитинич!
А й съедешь, Добрыня, во Туги-горы,
Во Туги-горы, Добрыня, ко лютой змеи,
А й ты будешь со змеей, Добрыня, драться ратиться, А й тогда змия да побивать будёт,—
Вынимай-ко ты с карманца свой шелковый плат, Утирай-ко ты, Добрыня, очи ясный,
Утирай-ко ты, Добрыня, лицко белоё,
А уж ты бей коня по тучным ребрам.
Это тут ли-то Добрынюшка Микитинич А й заходит он Добрыня да во свой-от дом,
А й берет-то ведь Добрынюшка свой тугой лук,
А й берет-то ведь Добрыня калены стрелы,
А й берет-то ведь Добрыня саблю вострую,
А й берет-то он копьё да долгомерное,
А й берет-то ведь он палицу военную,
А он господу-то богу да он молится,
А й да молится Миколы да святителю,
А й чтоб спас господь меня помиловал.
А й выходит-то Добрыня на широкий двор, Провожаёт-то Добрыню родна матушка,
Подает-то ведь Добрыни шелковую плеть,
Сама-то зговорит да таково слово:
— А и съедешь ты Добрыня во Туги-горы,
Во Туги-горы Добрыня ко лютой змеи,
Станешь со змеей драться ратиться,
А й ты бей змею да плёткой шолковой,
Покоришь змею да как скотинину,
Как скотинину да ведь крестьянскую.
А й садился-то Добрыня на добра коня.
Этта видли добра молодца ведь сядучись,
А й не видли ведь удалаго поедучись.
Проезжает он дорожку-ту ведь дальнюю, Приезжает-то Добрынюшка скорым скоро,
Становил коня да во чистом поли И он вязал коня да ко сыру дубу.
Сам он выходил на тое ли на место на уловное А ко той пещеры ко змеиный.
Постоял тут ведь Добрыня мало времечки,
А не темныя ли темени затемнели,
88
Да не черные-то облаци попадали,
А й летйт-то летит погана змия,
А й несет змия да тело мёртвое,
Тело мёртвоё да богатырскоё.
А й увидала-то Добрынюшку Микитича,
А й спущала тело на сыру землю,
Этта начала с Добрыней драться ратиться.
А й дрался Добрыня со змеёю день до вечера,
А й змия-то ведь Добрыню побивать стала;
А й напомнил он наказанье родительско,
А и вынимал платок да из карманчика,
А и приобтёр-то Добрыня очи ясный,
Попрйобтёр-то Добрыня лицко белоё,
И уж бьет коня да по тучным ребрам:
— А ты волчья выть да травяной мешок!
Что ли ты по темну лесу да ведь не хаживал,
Аль змеинаго ты свисту да не слыхивал?
А и ёго добрый конь да стал поскакивать,
Стал поскакивать да стал помахивать Лучше стараго да лучше прежнаго.
Этта дрался тут Добрыня на другой-от день,
А й другой от день да он до вечера,
А й проклятая змея да побивать стала.
А й напомнил он наказаньё родительско,
Вынимал-то плетку из карманчика,
Бьет змею да своей плеточкой,—
Укротил змею аки скотинину,
А й аки скотинину да крестияпскую.
Отрубил змеи да он вси хоботы,
Розрубил змею да на мелки части,
Роспинал змею да по чисту полю,
А й заходит он в печеры зо змеиный,
А во тых ли во пещерах во змеиныих А роскована там дочка княженецкая,
В ручки в ножки биты гвоздия железный.
А там во печерах во змеиныих
А не много ли не мало да двенадцать всех змиёиышов А й прибил-то ведь Добрыня всех змиёнышов,
А й снимал он со стены да красну девушку,
Приходил Добрыня на зеленый луг,
К своему Добрыня коню доброму.
А й садился ведь Добрыня на добра коня, Приезжает-то Добрынюшка ко стольнему ко городу
ко Киеву
А й ко ласкову ко князю ко Владимиру,
А й привозит князю дочику любимую.
А й за тую-то за выслугу великую Князь его нечим не жаловал.
Приезжает-то Добрынюшка во свой-от дом, А застал коня во стойлу лошадиную, Насыпал коню пшены да белояровой.
А й заходит-то Добрыня в нову горницу, Этта тут Добрыня опочив держал.
Этта тым поездка та решиласи.
ДОБРЫНЯ И ВАСИЛИИ КАЗИМИРОВ
А Владымир князь да стольнё-киевской Заводил почестей пир да й пированьице На многйх князей да на всих бояров,
На всих сильних русьскиих могучих на богатырей Ай на славных поляниц да на удалыих.
На честном пиру Владымир стал похаживать:
— Ай же вы мои да князя бояра,
Сильни руеские могучие богатыря!
Задолжал-то я ко королю-то Ботияну Ботиянову Да во тые дальние во земли сорочинские Да за старые-то годы и за нонешний,
Неполна я государю за двенадцать год,
За двенадцать год да й с половиною.
Кого же мне послать туды отвезти дани выходы За двенадцать год да й с половиною К королю-то к Ботияну Ботиянову,
А двенадцать лебедей, двенадцать креченей,
А’ ще грамоту да и повинную?
Все богатыри за столиком умолкнули,
Все умолкнули и приутихнули,
Как богатыри за столиком-то притулялися,
А большая-то тулйтся за серёднюю,
А середня тулйтся за меньшую,
А от меньшоёй от тулицы ответу нет.
Из-за тых ли-то столичков дубовыих,
Из-за тых ли-то скамеечек окольпыих Вышел старыя Пермин да сын Иванович,
Стал по горенке ён Пермин да похаживать,
А -Владымиру князю да стал ён поговаривать:
88
— Ты, Владимир князь да стольнё-киевской! Бласлови-тко государь мне словце вымолвить.
А’ще знаю я кого послать поехати
Л й во дальние-ты земли в сорочинскии:
Послать молода Васильюшка Казймирова.
Молодой Васильюшко Казимиров Й отвезёт ён дани за двенадцать год,
За двенадцать год да й с половиною.
И тут Владимир князь-от стольнё-киевской ён скоренько шол да по столовой своей горенки, Брал ён чарочку да во белы ручки,
Наливал-то чару зелена вина Й он не малую стопу да й полтора ведра, Разводил-то ён медамы все стоялыма,
Подносил-то ён к Васильюшку к Казимирову. Молодой-то Васильюшко Казимиров Ен скорешенько ставает на резвы ножки И берет чарочку от князя во белы руки,
Принял чарочку одной ручкой И выпил чарочку одним духом,
И на ногах Васильюшко стоит он, не пошатнется, И говорит-то он со князем, не мешается,
И спромолвил-то он князю-то Владимиру,
Говорил ён князю таковы слова:
— Ай же ты, Владимир князь де стольнё-киевской! Еще еду-то я в земли-ты во дальни сорочинскии,
А й везу я дани за двенадцать год,
За двенадцать год и с половиною;
Столько дай ты мне-ка во товарищах Моёго-то братца да крестоваго,
А й молодаго Добрынюшку Микитинца.
Тут Владимир князь да стольнё-киевской ён идет-то по столовой своей горенки,
Берет чарочку Владимир во белы ручки,
Налил чарочку Владимир зелена вина, ён не малую стопу да полтора ведра,
И розводил-то он медамы всё стоялыма, Подносил-то ён к молодому ко Добрынюшке. Молодой Добрынюшка Микитинец Он скорешенько ставал да на резвы ножкИв Эту чарочку он брал да во белы ручки И от того от князя от Владимира,
Еще брал ён чарочку одной ручной И выпивал ён чарочку одним душком.
На ногах стоит Добрыня, не пошатнется,
Говорит он с князем, не мешается:
— Ты Владимир князь да стольнё-киевской! Благослови мне государь словцё повымолвить. Еду я в товарищах с Василюшком
И везу я дани за двенадцать год,
За двенадцать год да й с половиною;
Столько дай-ка нам еще да во товарищах Моёго-то братца да крестоваго,
Молодаго Иванушка Дубровича;
А й ему-то ведь Иванушку коней седлать,
Да ёму Иванушку и розсёдлывать,
Ему плети подавать за плети прйнимать.
То Владымир князь да стольнё-киевской Идет по своёй он по столовоей по горенки,
Бёрет чарочку Владымир во белы ручки, Наливал ён чару зелена вина,
А й не малую стопу да полтора ведра,
Подносил он ко Иванушку Дубровичу.
А й ставал Иванушко Дубрович на резвы ножки, Да он чарочку ту брал да во белы ручки,
Принял чарочку от князя он одной ручкой,
Выпил чарочку Иванушко одним душком,
На ногах стоит Иванушко, да не пошатнется, Говорит Иван да не мешается:
— Ты Владымир князь наш стольнё-киевской! Бласлови-тко, государь, словцё повымолвить. Еще, еду я в товарищах с Васильюшком,
С молодым Добрынюшкой Микитинцем,
Да везу я эти дани за двенадцать год,
За двенадцать год да с половиною.
Молодой Васильюшко Казимиров,
Молодой Добрынюшка Микитинец,
Молодой Иванушко Добрович-от Выходили из-за столиков дубовыих,
Из-за тых скамеечек окольниих.
Молодой Васильюшко Казимиров,
Стал по горенки Васильюшко похаживать, Пословечно стал он князю выговаривать:
— Ты Владымир князь наш стольнё-киевской! Приноси-тко ты нам дани за двенадцать год,
За двенадцать год да с половиною,
А двенадцать креченей, двенадцать лебедей, Насыпай-ко мисы чиста сёребра,
А й другие мисы красна золота,
Третьи мисы насыпай-ко скатна жемчугу.
Тут Владымир князь-от стольнё-киевской А й берет-то он скоренько золоты ключи,
Й он на погребы идет да на глубокий,
То берет-то он двенадцать лебедей,
А двенадцать лебедей, двенадцать креченей, Насыпал-то первы мисы чиста серебра,
Да й другия мисы красна золота,
Третьи мисы насыпал он скатна жемчугу,
Приносил он во полату белокаменну,
Подавал богатырям да святорусьскиим Со своих-то он со белыих со ручушек.
Тут богатыри да святорусьскии Й оны господу тут богу помолилися,
На все на три на четыре на сторонушки клонилися. Да со всима молодцамы попростилися,
Да с самым они со князем со Владымиром,
Со Опраксией да королевичной.
Выходили молодцы они с полат да белокаменных, Шли оны по граду-то по Киеву,
Оны думушку-то думали заобщую:
— Где нам съехаться в роздольице в чистом поли На своих на добрыих конях да богатырскиих?
Говорил-то им Васильюшко Казимиров:
— Ай же братьица мои крестовый,
Ай ты славная дружинушка хоробрая!
То мы съедемся в роздольици чистом поли Да у славнаго сыра дуба у Нёвида,
Да й у славнаго у каменя у Латыря
Да й на тых мы на дороженках крестовыих.
Тут пошли-то добры молодцы в свои полаты
белокаменны,
Оны стали добрых конюшек заседлывать,
Да заседлывать добрых коней улаживать.
Молодой Добрынюшка Микитинец Й он пришол в свою полату белокаменну,
Со честна пиру пришол-то да не весело.
Говорила тут Добрыни родна матушка:
— Ай же свет моё чадо любимое!
Ты с честна пиру пришол да что не весело?
То ли местечко в пиру было не по чину?
Али чарою в пиру тобя приббнесли?
Али пьяница дурак кто прнобгалился?
Говорил-то ён Добрыня таковы слова:
— Ай же свет моя ты родна матушка!
А'ще место-то в пиру мне было по чину,
Меня чарою в пиру да там не обнесли,
А’ ще пьяница дурак мне не обгалился.
То Владимир князь да стольнё-киевской Наложил ён служобку великую,
И велику служобку немалую:
Отвести-то надо дани за двенадцать год,
За двенадцать год да с половиною,
Да й во дальний во земли в сорочинскии,
Да во ту во саму во темну орду.
Говорил-то ён да своёй родной матушке:
— Ай же свет моя ты родна матушка!
Да й бесчастнаго спородила Добрынюшку:
Еще лучше бы Добрынюшку спородила А й горючиим де белым камешком,
Завертела бы во тонкой беленькой рукавчичек, Подошла бы ты ко славному к Киян-морю,
Бросила бы ты да этот камешок в Киян-море,
В Окиян-море глубокое.
Говорила тут Добрыне родна матушка,
Говорила она да горько заплакала:
— Ай же свет моё чадо любимое,
Ты молоденькой Добрынюшка Микитинец!
Если б знала над тобою я незгодушку,
Еще этое бы знала безвременьице всчикое,
То не так бы я тебя Добрынюшку спородила:
Я спородила б тобя да и Добрынюшку Возрастом-то в старого казака Илью Муромца, Тобе силушкой Добрынюшку спородила Да й во славна Святогора во богатыря,
Я бы смелостью Добрынюшку спородила Да й во славного богатыря в Олешеньку Поповича, Красотою бы спородила Добрынюшку Да во славного-то князя во Владимира!
Молодой Добрынюшка Микитинец Говорил своёй он родной матушке:
— Ай же свет моя ты родна матушка,
Да й честна вдова Мамельфа Тимофеевна,
Дай прощеньицо мне-ка благословленьицо,
Дай на тыя веки нерушимый!
И тут молоденькой Добрынюшка Микитинец Надевал он на себя одежицу дорогоценную
И рубашечки манишечки шелковеньки,
Всю хорошеньку одежицу снарядную;
Выходил он из полаты белокаменной А й на свой-то вышел на широкой двор,
Заходил он во конюшепку в стояЛую,
Брал коня Добрыни богатырскаго,
Выводил он со конюшенки стоялоей А на свой-тот вывел на широкой двор,
Стал добра коня Добрынюшка заседлывать,
Стал заседлывать добра копя улаживать;
На добра копя подкладывает потничек,
А он потничком да то клал войлочек,
Да под потником подпотничек шелковепькой,
На подпотпичек седслышко черкасское,
И черкаское седелышко хорошенько,
Да которое седелышко было да изукрашено, Дорогима-то шелками пообшйвано,
Да й червоным золотом обвйвано;
То он подпруги подтягивал шелковеньки,
Да й шпилечики он встягивал булатнии,
Пряжечки он полагал да красна золота,
А двенадцать подпругоЕ подтягал настоящиих,
Да й тринадцатой-тот подпруг он подкладает запасный. Говорит Добрыне родна матушка:
— Ой же свет моё чадо любимое,
Ты молоденькой Добрынюшка Млкитинец!
Ты покладал на добра коня да богатырскаго А двенадцать подпругов да настоящиих*
Еще что же полагаешь ты тринадцатый то подпруг да
запасный?
Говорил-то ёй Добрыня таковы слова:
— Ай же свет моя ты родна матушка!
Как я буду то во далече далече во чистом поли Да во тою во земли во сорочинскою,
В тую порушку да в тое времечко Наезжать будут ко мне люди могучий,
И будут-то силушки моей отведывать А й теспить-то будут во чистом поли:
В тую порушку да в тое времечко Похочу я с нима попротивиться,
Чтобы было мне на что да понадеяться,
Чтобы доброй конь мой да и богатырский С-под седельника да он не выскочил,
И на кони сидел бы доброй молодец, не старился.
93
А й садится-то Добрыня на добра коня; Говорила тут Добрынина-та матушка:
— Ай же свет моя любимая семеюшка, Молода Настасьюшка Мнкулична!
Ты чего сидишь во тереме в златом верху? Над собою ли незгодушки не ведаешь? Закатается-то наше красно солнышко Да за этыи за горы за высокий,
Да й за этыи за лесушки за темный,
А й съезжает-то Добрыня с широка двора.
А й поди-тко ты скоренько на широк на двор, Да й зайди-тко ты Добрынюшке с бела лица, Подойди к него ко правому ко стремячке, Говори-тко ты Добрыне не с упадкою, Поспроси-тко у молодаго Добрынюшки:
Он далече ль едет, куды путь держит?
Скоро ждать велит нам, когды дожидать?
Нам когда й велит в окошечко посматривать?
Молода Настасьюшка Микулична Как скорешенько бежала на широкий двор,
И в одной тонкой рубашечке без пояса И в одних тонких чулочиках без чоботов,
То зашла она Добрыне со бела личка, Подошла к него ко стремечки ко правому,
Да й ко правому ко стремечки к булатнему,
И говорила-то Добрыне не с упадкою:
— Ай же свет моя любимая здержавушка, Молодой Добрынюшка Микитинец!
Ты далече ль едешь, куды путь держишь? Скоро ль ждать велишь нам, когда дожидать? Нам когда велишь в окошечко посматривать? Говорил-то ёй Добрыня таковы слова:
— Ай же ты моя любимая семеюшка,
Молода Настасьюшка Микулична!
Когда стала у меня про то выспрашивать,
Я стану про то тебе высказывать:
Перво шесть годов-то за собя пожди,
Друго шесть годов так за меня пожди,
Того времечки исполнится двенадцать год,
Да й ходи-тко ты тогда во мой зеленой сад,
Ты посматривай-тко на сахарне мое деревце: Если буде прилетать-то голуб со голубушкой, Станет голуб со голубушкой на деревце
прогуркивать,
А что нет жива Добрынюшки Микитинца,
А й побит Добрынюшка в чистом поли, Пороспластаны его да груди белый,
Да й повынято его сердце со пёченей,
Поотрублена ему буйна головушка,
А й брошен Добрыня за ракитов куст.
В тую порушку да в тое времечко Да смотри ты на свой на широкий двор: Прибежит-то как мой добрый конь да богатырский А й на ваш-то на вдовиной двор,
А й тогда вы в тую пору в тое времечко Про меня тогда вы и узнаете, '
А что нет жива Добрынюшки Микитинца;
А й тогда ты хоть вдовой живи, а хоть замуж поди, Хоть за князя ты поди, хоть за боярина,
Хоть за сильняго за русьскаго могучаго богатыря, Столько не ходи-тко замуж за богатыря,
За того Олешенку Поповича А й за бабьяго да за насмешника,—
А й Олеша-тот Попович мне названый брат.
На кони то молодца да вид’ли сядучись,
Со двора его не видели посдучись.
Со двора он ехал не воротами, й он* из города-то ехал не дорожкою,
Ехал прямо через стену городовую.
Как он ехал по раздольицу чисту полю,
Похотелось тут молодому Добрынюшке Попытать коня да й богатырского,
Поотведать ёго силушку великую.
Да й берет он плёточку шелкбву во белы руки,
Да он бил коня да по крутым ребрам,
По крутым ребрам ён бил да не жалухою,
А й со всёю своей силы с богатырскою.
Его доброй конь да богатырский То пошол скакать да по чисту полю,
По целой версты он да поскакивал,
По коленушку в земельку ён угрязывал,
Из земельки свои ноженьки выхватывал,
По сенной купны земелюшки вывертывал,
За три выстрелу он камешки откидывал.
Так не молвия в чистом поли промолвила,
Да й проехал-то Добрыня да добром кони,
То вси травушки муравы оплеталися,
Все лазуревы цветочки осыпалися,
95
И мелкйи лесушки к земли вси приклонялися. Он-то ехал по раздольицу чисту полю,
А й ко сырому ко дубу ён ко Нёвину К тому славному ко каменю Олатырю;
Ён наехал своих братьицев крестовыих.
И сходили молодци тут со добрых коней,
Да й ходили-то пехотой по чисту полю,
Й оны думушку все думали-то крепкую, Думушку-ту крепкую великую,
Что нам дальняя дорожка не короткая;
Й они сели на добрых коней, поехали На своих на добрых конях богатырскиих.
Они в день едут по красном по солнышку,
В ночь едут по светлому по месяцу.
А’ще день за день как быдто дождь дождит,
Да й неделя за неделей как река бежит,
Добры молодци дороженку коротают.
Оны едут-то по славному роздольицу чисту полю, Да й приехали во земли сорочинскии,
К кбролю-то Ботеяну на широкий двор.
С добрых коней молодцы да й опустилися,
То не спустили добрых коней на посыльной двор. Молодой Васильюшко Казимиров Он берег свое копье да муржамецкое,
Он спустил копье во матушку-то во сыру землю, Во сыру землю спустил копье вострым концем, Добрых коней бы к копью да он привязывал, Никого-то к добрым коням не приказывал. Пороздернули оны полотно белое,
Насыпали-то пшену да белоярову Своим добрым коням богатырскиим,
Да берет-то дани он под пазушку,
А двенадцать лебедей, двенадцать креченей,
Да еще он бёрет грамоту повинную;
Брали они мисы чиста серебра,
А й другия мисы брали с красным золотом, Третьи мисы они брали скатна жемчугу,
И пошли оны в полаты белокаменны,
Заходили во полату белокаменну,
Да й пошли-то во столовую во горенку.
Молодой Васильюшко Казимиров На пяту он идет, двери поразмахиват,
То они как господу-то богу помолилися,
Оны крест-от клали по писаному,
96
Да й вели поклоны по ученому,
На вси на три на четыре на сторонушки да низко
кланялись,
Самому-то королю в особину,
Еще всим его князьям да подколенныим.
Стал король у добрыих у молодцев выспрашивать:
— Вы откулешни дородни добры молодци?
Еще как-то молодцев вас именём зовут,
Звеличают молодцев вас по отечеству?
Говорили молодцы да таковы слова:
— Есте мы со матушки святой Руси
Да й от славного от князя от Владымира,
Привезли как к тбби дани за двенадцать год,
За двенадцать год да с половиною.
Полагать ли стали даней-тых на зблот стол, Положили-то двенадцать лебедей, двенадцать креченей, Положили первы мисы чиста серебра,
А й другия мисы красна золота,
Третьи мисы полагали скатна жемчуга,
Положили грамоту повинную.
А й король-от Ботиян да Ботиянович ён садил-то их за столик за дубовый Да й за тыя ли скамеечки окольнии,
То он не ествушкой кормил их да сахарнею Да й не питьицем поил их да медвяныим,
Да он стал у добрых молодцев выспрашивать:
—*Ай же вы удаленьки дородни добры молодци!
Еще есть ли-то на вашей на святой Руси Да у славного у князя Владымира,
У них есть ли та игра да и картежная,
А играют ли они да в шашки-шахматы Да й во славны во велёи во немецкий?
А’ще кто из вас горазд сыграть во шашки-ты
во шахматы,
Да во славны во велеи в немецкий?
Говорил ему молоденькой Васильюшко Казимиров;
— Ай же славный король земли литовския!
У меня все игроки дома оставлены,
Только есте у меня надеюшка
То на спаса на пречисту богородицу,
Да на своего на братца на крестоваго,
На молбдаго Добрынюшку Микитинца.
Приносили к ним-то доску эту шашецну;
Как сыграли в первый раз да в игру шашечну,
4—3311
07
Молодой Добрынюшка Микитинец ён со тою со великой со горячности Просмотрел один да ступень шашечной,
Обыграл его король да ведь литовский Ботиян да Ботияновец,
И он повыиграл у молода Добрынюшки добра коня, А й добра коня он богатырскаго.
А й под другую игру они залоги-то покладали,
А й король-от полагает он великую бессчетну золоту
казну,
А и молодой Добрынюшка Микитинец Положил залогом свою буйную головушку.
Как сыграли-то они да еще другой раз,
Молодой Добрынюшка Микитинец Тут он короля да и пообыграл.
Еще третей раз сыграли игру шашечну.
Говорил-то ведь король-то Ботиян да Ботияновец:
— Ай же славный богатыри вы святорусьскии!
Из вас кто-то есть горазд стрелять из луку
из розрывчата
И пропущать тая стрелочка калёная По тому ли по острёю по ножовому Да во тбе во колечико серебряно,
Чтобы стрелочка катилася каленая По тому катилася острею по ножовому,
На две стороны она шла бы весом ровно И угодила бы в колечико серебряно?
Говорил Васильюшко Казимиров:
— Ай же король, Ботиян да Ботияновец!
Я не знал твоёй утехи королевскою,
Да своёй не знал ухватки богатырскою.
У меня все стрёльцы-ты домй оставлены,
У меня столько надеюшка
Что на спаса на пречисту богородицу,
Да на своего на братца на крестоваго,
Да на молода Добрынюшку Микитинца.
Говорил король своим он слугам верныим;
— Ай же вы мои да слуги верный!
Вы подите-ко на погреб на глубокий,
А й несите-тко мой да королевской лук,
Да й подайте-тко богатырю да святорусьскому А й молодому Добрынюшке Микитинцу,
И пошли его да слуги верныя,
На него-то шли на погреб на глубокий,
А й несут они да королевской лук,
А и три их четыре татарина Подносили-то к молодому к Добрынюшке.
Молодой Добрынюшка Микитинец А й берет он тугой лук розрывчатый,
Стал он стрелочек Добрынюшка накладывать, Стал тетивочек Добрынюшка натягивать,
Стал тугой лук розрывчатый полапывать, ён порозорвал тугой лук, повыломал,
Говорил-то тут Добрыня таковы слова:
— Ай же ты король, Батьян да Батияновец!
А й твое-то есте дрянное лученочко пометное,
Не из чего богатырю повыстрелить,
Пропустить-то мне-ка стрелочку каленую
По тому острию по ножовому Да й во тое во колечико серебряно.
Говорил король он таковы слова:
— Ай же вы да слуги мои верный!
Вы ступайте-тко на мой на глубок погреб,
Да двенадцать вы богатырей могучиих,
И неси-тко мой вы самолучший лук,
Самолучший лук вы королевский.
Как идет туда дружина королевская,
Да двенадцать молодцёв да все богатырей,
И несут они да королевский лук,
Да й подносят ко молбду ко Добрынюшке, Молодой-то Добрынюшка Микитиниц Берет-то он их тугой лук розрывчатый,
Как-то стал Добрыня стрелочек накладывать,
Стал тетивочек Добрынюшка натягивать,
Да й шелковые тетивочки-то стали все полапывать, А й порозорвал он тугой лук, повыломал.
И говорил-то как Добрыня таковы слова:
— Ай же ты король, Ботьян да Ботияновец!
Твое дрянное лученочко пометное,
Да не из чего богатырю повыстрелить, Пропустить-то этой стрелочки каленый По тому острею по ножовому,
Да й во то в колечико серебряно.
Говорит-то тут Добрынюшка Микитинец:
— Ай же братец мой крестовый,
Молодой Иванушко Дубровичу!
А й поди-ко ты на славной на широкой двор К моему коню да к богатырскому,
99
Моего коня ты уговаривай,
Поди-тко ты к правому ко стремени булатнему, Отстени мой тугой лук розрывчатой,
Да й неси-тко во полату белокаменну Мое дрянное лученышко завозное.
Как идет Иван Дубровиц на широк на двор,
Ко добру коню он шол да ко Добрынину,
Стал добра коня он уговаривать,
Шол ко правому он стремени к булатнему, Отстяпул-то он и тугой лук розрывчатой,
Ен понес-то во полату белокаменну.
У того молодого Добрынюшки Микитинца Во том луку да во разрывчатом,
Во том ли-то во тупом концу,
Были сделаны гусельника яровчаты,
Да не для-ради красы оны сделаны, не для угожества, А то для-ради потехи молодецкою;
Так понес Иван Дубрович этот тугой лук,
Этот тугой лук понес да и розрывчатой,
Да й во славны во полаты белокаменны,
И заиграл ён во гусельника в яровчаты.
Тут все татара они той игры росслухались,
И не слыхали-то игры такой на сем свети.
Подносил-то ён ведь тугой лук разрывчатой Да ко своему ко братцу ко крестовому Да й ко молоду к Добрынюшке Микитинцу.
Молодой Добрынюшка Микитинец Он берет свой тугой лук разрывчатой И во свои берет во белые во ручушки,
Становился-то й Добрыня на резвы ножки Супротив колечика серебряна,
Й он три раз стрелял Добрынюшка Микитиниц По тому он по острею по ножовому,
Угодил три раз в колечико серебряно.
А й король-от Ботиян да Ботияновец Становился-то он супротив колечика серебряна,
А он брал-то свой-от тугой лук розрывчатой,
Наложил он стрелочку каленую,
Натянул тетивочку шелковую.
Да спустил эту тетивочку шелковую Да во эту ён во стрелочку каленую.
Первой раз стрелил, ен перестрелял,
А й другой раз стрелил, так не дострелил,
Третий раз-то как он стрелил, так попасть не мог.
100
Королю-то это дело не слюбилося,
Не слюбилось это дело, не в люби пришло,
Говорит король-от таковы слова:
— Ай же славныя богатырь святорусьския!
Кто из вас есте горазд бороться об одной ручке? Выходите-тко на мой вы на широкий двор,
Вы с татарама моими- поборитеся,
У них силушки великой приотведайте.
А й Васильюшко Казимиров Говорил ён таковы слова:
— Ай же король ты Ботиян да Ботиянович!
У меня что есть бордёв дома оставлены,
У меня столько надеюшка
Что на спаса на пречисту богородицу
Да й на своего на братца на крестового,
Да й на молода Добрынюшку Микитинца.
Молодои-то Добрынюшка Микитиниц А й пошел бороться на широкой двор,
Пошел силушки великой у татар поотведати.
А й король-то Ботиян да й Ботиянович,
Молодой Васильюшка Казимиров С молодым Иванушком Дубровицем Выходили на балхон на королевский А смотреть-то на борьбу на богатырскую.
Еще вышел-то Добрыня на широкой двор,
Да стал по двору Добрынюшка похаживать,
На татар Добрыня стал посматривать.
А й стоят татара на него на широком дворе,
Во плечах-то у татар есть велика сажень,
А й между глазами у татар есть велика пядень,
А й головушки на плечах как пивной котел.
И они стали-то татара по двору похаживать,
Стали молода Добрынюшку поталкивать,
Молодои-то Добрынюшка Микитинец А он стал татар да оттолыкивать,
И оттолыкивать он стал татар, попинывать,
Стал ён по двору татар да и покидывать,
А й пошло-то ко Добрынюшке татар к нему десятками. Молодой Добрынюшка Микитинец Еще видит дело ён великое,
Воскричалто ведь Добрыня жалким голосом,
Жалким голосом кричал он во всю голову:
— Ай же братьица мои да вы крестовый,
Славный вы русские могучие богатыря!
101
Да й побьют-то нас татары во темной орды, Положить нам будет здесь буйны головушки,
Не бывать нам больше на святой Руси,
Не видать нам будет больше града Киева,
Не видать нам князя-то Владымира,
Не видать Опраксии нам королевичной.
Отворились тут ворота на широкий двор,
И пошло оттуль да силушки черным черно.
И у того ли у молодого Добрынюшки Не случилосы ничто-то быть во белых ручушках,
Ему нечем-то с татарами да й попротивиться,
Ен хватил татарина-то за ноги,
Так он стал татарином помахивать,
А ён стал татар да поколачивать,
Татарин то ведь гнется да не ломится.
Молодой Иванушко Дубович-от Выскочил с балхону королевскаго,
А й бежал скоренько на широкой двор,
Да й схватил Иванушко тележну ось,
Да й он стал тележной осью-то помахивать,
Да й он стал татар-то поколачивать.
Они вышли со двора да из широкаго Да й на тот на город королевский,
И они стали бить-то силушку великую.
И куды идут они, так падет уличкой,
А й повернутся, так падет переулкамы.
Они билися тут целые-то суточки Не едаючись да й не пиваючись,
Да й побили оны силушку великую.
Говорил король-от таковы слова:
— Ай же славный ты богатырь святорусский, Молодой Васильюшко Казимиров!
Ты на мой поди-тко да на славной град.
Да й уйми-тко ты богатырей своих да святорусскиих, Чтоб оставили мне силы на посёмена!
Получайте-тко вы дани собе выходы И за старые за годы и за нынешний,
Да й за вси вы времена да й за досюлешни, Исполна-то государю за двенадцать год.
Молодой Васильюшко Казимиров ён скорешенько идет да нд широк на двор, ён садился-то Василий на добра коня.
Выезжал-то как Василий на великой град, ён поехал-то по славному по городу
102
На своем добром коне на богатырскоем,
И наехал-то он братьицев крестовыих;
Он подъехал-то к молодому к Добрынюшки, Налагал-то он свои да храпы крепкий А и на него на плечка на могучий, .
И говорил ему Василий таковы слова:
— Ай же ты молоденькой Добрынюшка!
А сегодня ты да ведь позавтракал,
А й оставь-ко мне хоть пообедати,
Да уйми-тко еще братца-то крестоваго,
Молодаго Иванушка Дубровича,
И пойдемте-тко в полаты белокаменны К королю-то ко Ботияну к Ботиянову, Получать-то будем дани за двенадцать год.
Шли-то как они да на широк на двор,
Да й прошли они в полаты белокаменны, Приносил король им дани за двенадцать год,
А двенадцать лебедей, двенадцать креченей,
И принес к ним грамоту повинную,
Да й принес им первы мисы чиста серебра,
Им принес другие мисы красна золота,
Третьи мисы приносил он скатна жемчуга;
Дал им грамоту да ён повинную,
Платить-то славному-то князю и Владымиру,
Да й платить-то надобно век по веку.
Выходили молодцы да на широк на двор, Садились молодцы-то й на добрых коней,
И оны ехали раздольицем чистым полем.
И еще день за день как быдто дождь дожжит, Да неделя за неделей как река бежит;
Ены едут в день по красному по солнышку,
Ены в ночь едут по светлому по месяцу,
Ены вскоре добры молодцы дороженку коротали. Они скоро ехали чистым полем,
Приезжали-то ко дубу-то ко Невину,
Да й ко славноёму каменю к Олатырю.
А со тою со пути а со дороженки Похотелось отдохнуть им добрым молодцам; Пороздернули оны да шатры белый,
Они хлеба соли-то покушали,
И они легли-то спать да й проклаждатися.
Там на тую пору на то времячко Прилетает голуб со голубкою,
Да й садится голуб ён на сырой дуб,
На сыром дубе стал голуб со голубушкой прогуркивать:
■— Ай же ты молоденькой Добрынюшка!
Во шатре ты спишь да проклажаешься,
Над собою невзгодушки не ведаешь,
А й твоя-то молода жена Настасья Микулична А й замуж идет да й за богатыря,
Да й за славнаго Олешу Поповича.
Молодои-то Добрынюшка Микитинец Он скорешенько скочил-то на резвы ножки,
И скорешенько седлал добра коня,
И скоренько-то садился на добра коня,
Скоро ехал он раздольицем чистым полем Да во тот-то славный стольний Киев град.
Да й приехал-то Добрынюшка Микитинец На свой славный на широк на двор,
Становил коня он богатырского Ко тому к крылечику к переному,
Пристянул-то ёго поводом шелковыим Да к тому колечику к серебряну,
А он сам идет в полату белокаменну,
Да й прошел в свою столовую во горенку,
И усмотрел-то ён свою-то родну матушку;
А й сидит-то ёго матушка не весело,
Она рвнит-то свои да горючи слезы.
Ен-то матушке Добрынюшка поклон принес:
— Ай же свет честна вдова Намельфа Тимофеевна!
А я от Добрынюшки с чиста поля поклон привез.
Мы с Добрынюшкой вчерась да порозъехались,
А й Добрынюшко поехал ко Царюграду,
А меня послал он к стольнё-Киеву,
Айк тоби ведь он зайти велел да на широкой двор Да й сходить к тоби в полаты белокаменны,
Да й велел тоби сходить на погребы глубокий,
Принести велел со погреба лапотики шелковенки,
Да велел-то принести еще-то платьице да скоморовчато, Да и принести велел гуселушки яровчаты,
Да в кои гуселышки-то смолоду Добрынюшка поигрывал; Да й велел сходить Добрыня на почестей пир Ко тому ко князю ко Владымиру,
До сходить велел ко князю ко Олешенку к Поповичу Да ко тоей ко княгине ко молодоей,
Ко Настасьюшке да й ко Микуличной.
Говорила-то ему вдова да горько плакала:
— Ай же мужичищо деревенщина!
104
Надо мною тебе просто надсмехатися И над моим-то ведь двором да над вдовиныим.
Если был бы жив молоденькой
Добрынюшка Микитинец, Не дошло б тобе смеяться надо мной Да над моим двором да над вдовьиным.
Молодой Добрынюшка Микитинец Перед нёй стоит, сам низко кланяется:
— Ты честна вдова Мамельфа Тимофеевна!
Мы вчерась с Добрынюшкой розъехались Да й во славноем роздольице в чистом поле,
А й Добрынюшка поехал ко Царюграду,
А й послал меня ён к стольнё-Киеву,
Да велел к тобе заехать на широкой двор Да сходить велел в полаты белокаменны,
Да й тебе велел молоденькой Добрынюшка,
Сходить велел на погреб на глубокие,
Принести оттуль лапотики шелковый,
Принести-то велел платьицо да скоморовчато,
Дай подать велел Добрынюшка гуселышки яровчаты, Да й велел мне-ка сходить ён на почестей пир Ко тому ко князю ко Владымиру,
Да й к тому князю Олешенку Поповичу,
К той княгины молодоей,
К той Настасье да Микуличной.
Говорила-то вдова да горько плакала:
— Ай же мужичищо деревенщина!
Во глазах собака насмехаешься,
Во глазах собака подлыгаешься!
Если б была бы эта славушка да й на святой Руси,
А что есть-то жив Добрынюшка Микитинец,
Не дошло бы то смеяться над моим-то над двором, Над моим двором да над вдовиным.
Молодой то Добрынюшка Микитинец Поскорешеньку он ей поклон отнес:
— Ты честна вдова Мамельфа Тимофеевна!
Мы вчерась с Добрынюшкой розъехались,
Да й во славноем роздольице в чистом поле,
А й Добрынюшко поехал ко Царюграду,
А й послал меня ён к стольнё-Киеву,
Да велел к тобе заехать на широк на двор Да сходить велел в полаты белокаменны,
Да й тебе велел молоденькой Добрынюшка,
Сходить велел на погреб на глубокие,
105
Принести оттуль лапотики шелковый,
Принести-то вёлел платьицо да скоморовчато,
Да й подать велел Добрынюшка гусельники яровчаты, Да й велел мне-ка сходить ён на почестей пир Ко тому ко князю ко Владимиру,
Да к тому князю Олешенку Поповичу,
К молодой княгине ко Настасье ко Микуличной.
Да честна вдова Мамельфа Тимофеевна Да и горько она да и заплакала,
И говорила-то вдова да таковы слова:
— Не узнал-то святым духом ведь мужище деревенщина, Не узнал ён про лапотики Добрынины,
Не узнал-то ён про платье скоморовчато,
Не узнал-то про гуселышки яровчаты.
Ена ,брала-то' скоренько золоты ключи,
Шла скорешенько на погреба глубокий,
Да и приносила-то лапотики шелковый,
Приносила платье скоморовчато,
Приносила-то й гуселышка яровчаты,
Подавала мужичищу деревенщине.
Говорил-то мужичищо деревенщина:
— Ты честна вдова Мамельфа Тимофеевна!
Вместях мы росли с молоденьким Добрынюшком, Вместях грамоте училися,
Ели мы с Добрыней по однакому И нам одежища с Добрынюшкой-то ладилась.
Как-то стал мужичище-деревенщина,
Ен обул лапотики шелковый
Да й надел-то ведь платье скоморовчато,
Во белы ручки гуселка брал яровчаты,—
Да й лапотики на ноженки Добрынюшке поладились, Ему платьице-то скоморовчато На собя Добрынюшке поладилось.
Так пошел-то как Добрыня на почестей пир,
Там придверники стоят да приворотники,
Там не стали допущать-то как Добрынюшку.
Молодой Добрынюшка Микитинец А й он стал придверников отпихивать,
Приворотников он стал да оттолыкивать,
Он зашел-то во полату белокаменну,
Проходил ён во столовую во горенку;
Там приходят-то ко князю ко Владымиру,
Да приносят к нему жалобу великую:
— Ты Владымир князь наш стольнё-киевской!
146
Как прошел-то скоморох к нам на почестей пир,
Ен придверников розбил всих приворотников,
Без докладу ён зашел сюда в полаты белокаменны.
То молоденькой Добрынюшка Микитинец По столовой он по горенке похаживат,
То он князю-то Владимиру да поговариват:
— Ай Владимир князь ты стольнё-киевской!
А’ще гди у вас сидят-то скоморохи на честном пиру? Прикажи-тко избрать мне-ка местечко на честном пиру, Прикажи-тко ты, Владимир, мне игру играть,
Игру играть во гусельника яровчаты,
Воспотешить мне-ка самого князя Владимира, Воспотешить мне-ка князя да Олешенку Поповича, Воспотешить мне княгиня-та молодая,
<А й княгиня-та> Настасья да Микулична.
Говорил-то как молодому Добрынюшке,
Говорил-то ему Владимир князь:
— Ай же молодой ты скоморошина!
Ты поди садись-ко поблизко той печенки кирпичною,
А играй игру в гуселка во яровчаты,
Воспотешь-ка самого князя Владимира,
Воспотешь-ко князя-то Олешенку Поповича, Воспотешь-ко ты молодую-ту княгину,
<Молоду> Настасьюшку Микуличну.
Как садился-то молоденькой Добрынюшка Близко печки сел близко кирпичною,
Брал гуселышки Добрынюшка в белы ручки,
Заиграл Добрынюшка в гуселышка,
Он игру играет все хорошеньку,
И выигрывал наигрыши хорошеньки,
Что из Киева да й до Царяграда,
Из Царяграда до Еросолиму,
С Еросолиму ко тою ко земле да к сорочинской.
Еще вси-то скоморохи приумолкнули,
Еще вси-то игроки-то порозслухались,
А и не слыхали игры эдакой на семь свети;
Самому князю Владимиру ему игра слюбилася.
Как ставал-то князь Владимир на резвы ножки,
Наливал он чару зелена вина,
Ен не малую стопу да полтора ведра,
Розводил-то он медами все стоялыма;
Сам Владимир князь-от стольне-киевской Подносил-то эту чару зелена вина Ко тому он к молодому скоморошине.
107
Молодой да скоморошина Ен скорешенько ставает на резвы ножки,
Берет чарочку-ту он да во белы ручки,
Принимает чарочку одной ручкой,
Выпивает эту чарочку одним духом;
Подает-то назад князю он Владымиру,
Понизешенько Владымиру он кланялся:
— Ты Владымир князь да стольне-киевской!
От вас выпил-то я чару зелена вина.
Мне позволь еще сыграть-то во гуселышка яровчаты, Всспотешить князя мне Олешенку Поповича.
А й позволил-то ему Владымир князь А играть игру в гуселышка яровчаты,
Воспотешить князя-то Олешенку Поповича,
И он садился близко печенки кирпичныя,
И заиграл он во гуселышка яровчаты,
Играл-то ведь игру он все хорошеньку,
И выигрывал наигрыши хорошеньки,
Что из Киева да й до Царяграда,
Из Царяграда до .Еросолиму,
С Еросолиму ко тою ко земле да^к сорочинской.
Еще все-то игроки приумолкнули,
Молодые скоморохи поросслухались,
А и не слыхали игры эдакой на сем свете.
Так игра эта Владымиру слюбилася,
Говорил Владымир таковы слова А й тому князю Олешенке Поповичу:
— Ай ставай-ко, Олеша, на резвы ноги,
А бери-тко чару во белы руки,
Наливай-ко чару зелена вина,
Да й не малую стопу да полтора ведра,
И розводи медамы все стоялыма,
Поднеси-тко ты молодому скоморошине.
А й ставал Олешенька Попович на резвы ноги А брал чарочку в белы руки,
Подносил-то к молодому скоморошине,
А й то ставал-то скоморох да на резвы ножки,
А он чарочку-то брал в белы руки От того-то князя от Олешенки Поповича,
Принимал он эту чарочку одной рукой,
Выпивал он чарочку однем духом,
Ен садился-то на место скоморовское,
Говорил скоморох да й таковы слова:
— Ты Владымир князь да стольне-киевской!
А позволь играть в гуселышка яровчаты,
Воспотешить мне княгиня-то молодая,
Молода Настасьюшка Микулична.
Тут он брал гуселышка яровчаты в белы руки,
А игру играл да он хорошую,
Он наигрыши выигрывал хорошеньки,
А из Киева да й до Царяграда,
Из Царяграда до Еросолима,
С Еросолима ко той к земле да к сорочинской.
То весьма эти наигрыши Владымиру слюбилися.
Говорил ему Владымир князь да стольне-киевской:
— Ай же ты молодой скоморошина!
Подходи-тко ко столу да княженецкому,
А й садись-ко с намы за единой стол:
Перво местечко тоби да есть подли меня,
Друго местечко подли князя Олешенки Поповича, Третье местечко избирай-ко соби по люби.
Говорил-то скоморох да й таковы слова:
— Ты Владымир князь да стольне-киевской!
А й то не любо мне мёстечко подли тобя,
А то не любо мне местечко подлй князя А подли князя Олешенки Поповича,
Любо местечко мне супротив княгины той молодоей, Супротив Настасьюшки Микуличной.
Как садился скоморох с ним за единый стол,
Супротив княгини сел молодоей,
Супротив Настасьюшки Микуличной.
Говорил-то скоморох он таковы слова:
— Ай ты славныя Владымир князь да стольне-киевской! Выпил рюмочку от князя я Владымира,
А й позволь-ко налить рюмочку мне зелена вина, Поднести мне да ко князю ко Владымиру.
Как ставал-то скоморох да на резвы ножки, Наливал-то рюмочку он зелена вина,
То не малу он стопу да полтора ведра,
И розводил-то он медамы все стоялыма,
Приносил ко князю ко Владымиру.
А Владымир князь-от стольне-киевской,
Он ставал скоренько на резвы ножки,
А он брал ту рюмочку одной рукой,
Выпил рюмочку Владымир единым духом.
Говорил-то скоморох да й таковы слова:
— Ты Владымир князь да стольне-киевской!
Налил-то я рюмочку как князю Владымиру,
юэ
Позволь поднести мне еще рюмочку А тому князю Олешеньки Поповичу.
Наливал-то как он чару зелена вина,
Розводил медамы все стоялыма,
Подносил князю Олешеньки Поповичу.
А й ставал Олеша на резвы ножки,
Принял чарочку Олеша во белы ручки,
Брал-то чарочку Олешенька одной ручкой, Выпил чарочку Олешенька одним духом. Скоморох им говорил да таковы слова:
— А Владымир князь ты стольне-киевской! Позволь чарочку налить мне зелена вина, Поднести княгинюшке молодоей,
А той ли Настасьюшке Микуличной.
То он брал как чарочку в белы руки,
Наливал он чару зелена вина,
А не малую стопу да полтора ведра,
Розводил медамы все стоялыма,
Он спустил туда он свой злачен перстень,
В этую спустил во чарочку,
Подносил он ко Настасьюшке Микуличной, Говорил-то ей он таковы слова:
— Ай же ты княгина да молодая,
Молода Настасьюшка Микулична!
Испей чарочку от нас ты зелена вина.
Молода Настасьюшка Микулична То скорешенько ставала на резвы ноги,
Эту брала чарочку в белы ручки,
Подносила ко устам своим сахарниим.
Говорил ей скоморох да таковы слова:
— Молода Настасьюшка Микулична!
Если хошь добра, так ты пей до дна.
Молода Настасьюшка Микулична Она женщина была не глупая,
Она пила-то ведь чарочку до донышка,
А ко нёю ко устам да ко сахарниим Прикатился к ней да тут злачен перстень;
Она стряхнет этот перстень на дубовый стол, И смотрела-то на этот на злачен перстень,
Да которым она перстнем обручалася Да во матушке да во божьей церквы;
Положила она чарочку на золот стол И оперлась о нёго плечка о могучий,
Да й скочила-то Настасья через золот стол,
по
Говорила-то она да й таковы слова:
— Ай же свет моя любимая здержавушка,
Молодой Добрынюшка Микитинец!
А й у бабы волос долог, ум короткою,
Не послушала я твоего наказу богатырскаго,
Я пошла замуж за славного богатыря,
За того Олешеньку Поповича.
Тут молодой Добрынюшка Микитинец Он скорешенько встает да на резвы ножки,
Да й берет-то он Олешу за желты кудри,
Бросил он Олешу о кирпичной мост,
Да он выдернул шалыгу поддорожную,
Стал шалыгою Олешку охаживать,
Говорил-то ведь Добрыня таковы слова:
— Ай же хошь ты у жива мужа жену отнять? Заступать-то стал да и Владымир князь
За того он за Олешеньку Поповича:
— Ты молоденькой Добрынюшка Микитинец,
Да й прости-тко нас во этой глупости.
Говорил молоденькой Добрынюшка:
— Ай ты славный Владымир князь да стольне-киевской! Да ты сам ходил Настасью сватати,
А й Опраксия ходила она свахою.
Ты свою-то жону гложешь, еще сам скребешь,
А й чужую жону ты замуж даешь.
Тут молоденькой Добрынюшка Микитинец А й берет-то ён Настасьюшку Микуличну А за ней ли-то за рученьки за белый,
То за нёй берет за перстни за злаченый,
А повёл в свои полаты белокаменны,
Во свою привел столову ю во горенку;
Стали жить-то быть да век любовь творить.
ДОБРЫНЯ И МАРИНКА
Три году. Добрынюшка стольничал,
Три году Добрынюшка чашничал,
Три году Добрыня у ворот простоял,
На десятый год еще гулять ушол.
Наказывала Добрыни родна матушка:
— Ты ходи гуляй, Добрынюшка, по городу,
Ты по городу гуляй по Киеву, .
Только не ходи во улички Маринкины,
В переулки не ходи да во Игнатьевски.
Ill
Там е девушка да зельчица,
Зельчица девушка кореньщица.
Извела-то она девять молодцёв,
Девять русскиих могучиих богатырев,
Тебя же изведет да во десятыих.
Забыл-то наказанье родной матушки,
Зашел-то он во улушки Маринкины,
У Маринушки да на окошечки Сидят голубы да со голубушкамы,
Носочки с носочками целуются,
Они правыма крылами обнимаются.
Тут Добрыни в запрету пришло,
Натягивал Добрынюшка тугой лук,
Направливал Добрыня калену стрелу,
Убил у Маринушки мила дружка,
А Ивана убил царевича,
По прозваньицу убил Туга-змеевича.
Бросилась Маринушка по плечь во окно:
— Ай же ты Добрынюшка Микитинич!
Холост ты ходишь не женат ноньку,
Я красна девица на выдаванье:
Возь-ко меня да за себя замуж.
Не с ума Добрыня слово спроговорил:
-— Ай же ты девушка зельщица,
Зельщица ты кореньщица!
Извела ты девять молодцёв,
Девять русскиих могучиих богатырёв,
Меня же изведешь да во десятыих.
Обвернулся Добрынюшка, домой пошол.
Она брала-то ножички булатнии,
Она-то резала Добрынины следочики,
Приговоры приговаривала крепкий:
— Так бы резало у Добрыни ретливо сердцо по мни. Обвернулся Добрынюшка и к ей пришол,
Повернула Добрыню серым волком,
Отпустила Добрыню ко синю морю.
Добрынина матушка
Ена день ждала да другой ждала,
Неделю ждала, да другу ждала,
Ена год еще ждала, другой ждала,
Не слыхать Добрынюшки Микитича.
Накинула шубу на одно плечо,
Приходила к Марине под окошечко:
— Эй же ты девушка зельчица!
112
Отверни у мни Добрынюшку по старому,
По старому Добрынюшку по прежному.
Не отвернешь ты Добрынюшки по старому,— Я тя поверну собакою,
Собакой поверну тя подоконною.
Еще тебя потешу я сорокою,
Сорокою тебя да я коловою.
Отвернула Добрынюшку по старому.
Он брал в руки стрелочку каленую,
Развязал ю на скамеечку дубовую,
Росстрелял ён Марину по чисту полю.
ДОБРЫНЯ И АЛЕША
Во славноём было городи во Киеви,
А й у ласкова князя Владимира,
Собирается у князя почестей пир.
Вси ли на пиру напивалисе,
Вси ли на пиру наедалисе,
Вси ли на пиру пьяны веселы,
А вси ли на пиру поросфастались:
Умный фастат отцем матерью,
Безумной фастат молодой женой,
Глупой фастат добрыим конём.
А й сидит тут Добрынюшка Микитинич,
Не ест он не пьет да не кушаёт,
Белой лебёдушки не рушает,
Над собой он думушку думаёт.
Говорит солнышко князь стольно-киевской:
— А чего же ты сидишь позадумался,
Хлеба ты соли не кушаёшь,
Белой лебёдушки не рушаёшь,
Не пьёшь ты чары зелена вина?
И говорит князь стольно-киевской:
— Ай же вы русский богатыри:
Во первыих, казак Илья Муромец,
Во другййх, Добрынюшка Микитинич!
Вы берите злачёный жёребьи
Кому ехать в путь богатырскую,
Во тую в дороженку широкую,
Не за триста за три тысячи,
Выправляти дани выходы за двенадцать лет.
из
Во тыи Индеи во богатый,
Не вамы были дани запущены,
Только вамы будут дани взысканы.
А й тут Добрынюшка поросплакался, Своей матушки порозжалился:
— Уж ты свет добра да моя матушка! На что Добрынюшку спородила, Сильняго Добрынюшку не сильняго, Ростом его не высокаго,
Красотой его не красиваго,
А й богачеством не богатаго.
Лучше родила б, моя матушка,
Серыим горючим камешком,
Завертела во тонко полотенышко, Ставала на гору высокую,
Размахала Добрыню — в море бросила А лежал бы Добрынюшка в синём мор Не ездил Добрыня по святой Руси,
Не проливал бы крови християньскии, Не вдовил Добрыня молодых жон,
Не сиротали б малый деточки.
И получает несчастный жеребей, Говорит он казаку Илью Муромцу:
— Я поезжаю в путь богатырскую.
И говорит Добрынюшка Микитинич:
— Уж ты свет добра да моя матушка Честна вдова Намельфа Тимофеевна! Только нет у молодца добра коня,
Нету сбруюшки богатырский,
Всих успехов богатырскиих.
Отвечае добра да ему матушка:
— Ты Добрынюшка сын Микитинич! Поди на конюшню стоялую,
А на другу поди ты на конную, Выбирай добра коня ученаго.
Буде тут тебе не прилюбится,
Опускайся в погрёбы глубокий,
Стоит добрый конь богатырский На двенадцати цепочках серебряных,
На двенадцати тонкиих поводах,
На тыих ли на поводах шелковыих,
А не нашего шолку — шемахинского. Там есть сбруя богатырская,
Вси успехи молодецкий.
Тольки Добрынюшка спрашивал, Скочил Добрыня на резвы ноги,
3-за того <з->за столика дубоваго,
Бежал на конюшню стоялую.
Тут ему не слюбилосе,
Перешол на конюшенку на конную,
Нет добра коня по разуму.
Опустился в погребы глубокий,
Увидел коня он добраго,
Он валился коню во праву ногу:
— Уж ты добрый конь богатырский! Служил конь и батюшку,
Служил добрый конь дедушку, Послужи-тко Добрыни Микитичу Во тый пути богатырский.
Стал добра коня откаивать,
Стал добра коня отвязывать,
Кладывал он .седелышко черкальское, Сам он себя стал окольчуживать:
Обувал он сапожки сафьянные,
Окол носика яйцё кати,
А й под пяточки воробей лети.
В каблучках были шпильки серебряны, Шляпочки позолочены.
Не ради красы-басы молодецкий,
Ради крепости богатырский,
Одевал он лату богатырскую,
Не грузную лату, в девяносто пуд.
Одевал он платьнцо цветное,
Кладывал он шляпу пуховую,
Не грузную шляпу, во двенадцать пуд. Кладывал он праву ногу во стремено,
Во тое ли стремено, булатнёё,
Скочил Добрыня легче заюшка, Повернулся кручее горносталюшка, Садился во седелышко черкасское, Приезжал он к полаты белокаменной,
Ко своей ко матушки ко родныи,
Ко честной вдове Намельфе Тимофеевной. Говорит Добрыня таково слово:
— Дай-ко прощеньицо родительско,
Мне-ка ехать в путь богатырскую.
Свет добра да ёго матушка Полагае крест благословленный,
115
Отправляв в путь богатырскую.
Стоит молода жена Настасья Микулична, Говорит Настасья Микулична:
— Ай же Добрынюшка Микитинич! Поезжае ты в путь богатырскую,
Когда ждать тебя со чиста поля?
Отвечаё Добрыня Микитинич:
— Ждите Добрынюшку три года.
Не приеде Добрынюшка три года,
Еще ждите Добрынюшку три года.
Не приеде Добрынюшка через шесть годов, Еще ждите Добрынюшку три года,
Пройде времечки всего девять лет И говорит-то Настасьи Никуличной:
■— Аль вдовой живи аль хоть замуж поди, И за того поди хошь за йннаго,
За вора' поди хоть за разбойничка,
Не ходи за моего за брата крестоваго,
За смелаго Алешу Поповича,
За девочьяго за насмешника.
Поезжал Добрынюшка в чисто полё,
Аль не пыль в поли запылается,
От земли пески поднималися,
Одна куревка покурила,
Поезжал Добрыня во чисто полё,
Видли молодца сядучись,
А й не видли удалого поедучись.
Прошло тому времени три года,
Не видать Добрынюшки с чиста поля,
Тут ходя старухи кошельницы,
Они вести носят недобрый:
— Нету Добрынюшки во живности,
Убит Добрыня во чистом поли,
Лежит Добрыня о Почай-реку,
А й ногамы лежит во Почай-реку,
Кудрями лежит в част ракитов куст, Малолесны птички гнезда спбвили Во Добрыниных во желтых кудрях.
Тому старуха не верила:
— Молода Настасья Микулична!
Подождем еще времечки три года.
Прошло того времечки шесть годов,
Не видать Добрынюшки с чиста поля. Приезжает Олёшенька поповский сын
116
Со далеча далеча со чиста поля,
Прямо к доброй-то его матушки,
Молодой жены Настасьи Микуличной Говорит добра да его матушка:
— Где ты был Олёшенька поповский сын? Отвечает Олешенька поповский сын:
— Уж я был во дйлечи далёчи во чистом поли.
— Не видал ли Добрыни Микитича?
Отвечает Олешенька поповский сын:
— Уж я видел Добрыню во чистом поли, Видел Добрыню убитаго:
Лежит Добрыня о Почай-реку,
Ногамы лежит во Почай-реку,
Кудрями лежит в част ракитов куст, Малолесны птички гнезда сповили Во Добрыниных во желтых кудрях*
Говорит Настасья Микулична,
Говорит она Олёши Поповичу:
— Не был ты, Олеша, во чистом поли,
Не видал ты Добрыни убитаго,
А был ты с собакамы на задворки.
Олёши слова не слюбилисе,
Идёт он с обидою великою Прямо ко князю Владимиру:
■— Уж ты солнышко князь стольно-киевской! Пособи-тко мне думы думати.
Надо мной удовка насмеяласе Молодая Настасья Микулична,
Не могу на ёй сосвататься.
Возьми меня во служители,
Возьми меня в сторожители,
Буду служить верой правдой.
Говорит князь стольно-киевской:
•— Ай же ты Олёшенька поповской сын! Сделам указы мы грозный,
По первому городу по Киеву,
По другому городу Чернигову,
По трётьему городу Смолягину:
Не держать бы жон безмужниих,
Не держать удовок беспашпортниих.
Пошлю стражов немилбсливых,
Чтобы гнали со перваго города,
Со перваго города Киева,
Со друга гнали Чернигова,
117
Со третьёго со Смолягина.
Как шили стражи немилосливы, Выгнали с перваго города Киева, Выгнали с другаго Чернигова,
Выгнали с третьяго Смолягина Всих удовок безмужниих.
Идут с обидой великою Ко той Добрыниной матушки,
Идут к Настасьи Микуличной:
— Уж ты свет Настасья Микулична! Поди за Олёшу во замужество.
Не подёшь за Олёшу во замужество—■ Изгонят тебя вон из города.
Говорит Настасья Микулична:
— Я порушаю мужнюю заповедь. Пожалела удовок безмужниих,
Пожалела вдовиц беспашпортниих,
Не охвотою шла во замужество, Поневоле пошла во замужество.
Во далечи во чистом поли,
Не за триста за три тысячи,
Спит Добрыня во белом шатри.
Стоит добрый конь у бела шатра,
Он копытом бьёт о сыру землю,
Под шатром земля сколыбаласе,
Во реки вода зазыбаласе,
Скочил Добрыня на резвы ноги,
От крепка сну богатырскаго.
Говорит Добрынюшка Микитинич:
— Ай же добрый конь богатырский!
Не во врёмя будишь русскаго богатыря. Отвечает конь по-человечьёму:
— Ай же Добрынюшка Микитинич!
Ты не знаешь невзгоды великии.
Твоя жена Настасья Никулична Пошла она во замужество,
Не охвотою, по неволюшки,
За смелаго Олёшу Поповича.
Вчерасе было рукобитьицо,
Сегодня у них столованьицо.
Тольки Добрынюшка спрашивал Садился на добра коня ученаго,
Бьёт коня плёткой шелковою,
Бьет коня по тучным бедрам.
Стал его добрый конь поскакивать,
Скоки давать с горы на гору,
Мелки источники в шах берёт.
Приезжае к славному городу ко Киеву, Ко своёй полаты белокаменной. Становился к косивчату окошечку, Закричал он гласом богатырскипм:
— Ай же добра да моя матушка,
Есть ли честна вдова во живности? Отворяй-ко широки воротечка,
Запусти Добрыню Микитича.
Отвечат старуха таково слово:
— Отойдите, голи кабацкии!
Кабы был Добрынюшка во живности, Не досуг бы вам насмехатисе,
Надо мной старухой пролыгатисе. Говорит Добрыня во второй након:
— Уж ты свет добра да моя матушка, Честна вдова Намельфа Тимофеевна! Опустись ты со печки муравленой.
Ты садись на скамейку хрустальнюю, Ты гляди в окошко стекольчато,
Тут сидит Добрыня на добром кони.
Свет добра да его матушка Опущаласе со печки муравленой, Садилась на скамейку хрустальнюю, Глядела в околенку стекольчату.
Только взяла дубину подорожную,
Не грузную дубину, в девяносто пуд, Говорила старуха таково слово:
— Ай удалый добрый молодец!
Не такой Добрынюшка отпущен он Во тую ли путь богатырскую,
Во тую поездку молодецкую,
Его личико было белоё,
Платьицо на нем цветноё,
Сапожки на ножках сафьянный,
Шляпа была пуховая.
От-вечат Добрыня Микитипич:
— Уж ты свет добра да моя матушка! Во тый пути богатырский
Сапожки о стрёмена вытерло,
Цветное платьице сдёржано.
Пухову шляпу дождями повысекло,
119
Личико жарамы зажарило.
Говорит добра да его матушка:
—- Будет сидит тут Добрынюшка Микитинич На своем кони богатырскоём,
Дак подашь ты крест благословленный.
Тут Добрыня Микитинич Подавае крест благословленный Свет доброй да своей матушки.
Получала крест благословленный,
С которым спустила во чисто поле,
Тут она срадоваласе.
Скоро бежала на широк двор,
Отворяла воротца широкий,
Запустила Добрыню Микитича.
Тут соскочил Добрыня со добра коня. Говорит добра да ему матушка:
— Ты Добрынюшка сын Микитинич!
Как твоя молода жена,
Пошла ёна во замужество Не охвотою, по неволюшки,
За смелаго Олёшу Поповича.
Тольки Добрынюшка спрашивал.
Спустил коня на свою волю,
Сам бежал в полату белокаменну,
Обувал он сапожки сафьянный,
Надевал он платьицо цветное,
Кладывал ©н шляпу пуховую,
Берёт он гусёлушка яровчаты,
Берет он напиток подорожныих Во правой корман, во левой корман,
Берёт он дубину подорожную,
Не грузну дубину, в девяносто пуд,
Прямо пошол на почестей пир.
Тут у солнышка князя Владимира Поставлены стражй немилосливы,
Сильнии могучий богатыри —
Не ходить никому на почестей пир —
Не пущают Добрыни на почестей пир.,
У Добрыни сердце разгорелосе,
Он махнул дубиной подорожною,
Убил он сильниих богатырей.
Прямо идёт на почестей пир,
Во тую полату гряновитую,
К этыим ко столикам добовыим,
120
Сам говорит таково слово:
— Уж ты солнышко князь стольно-киевской! Нет ли места немношечко
Поприсесть удалому молодцу?
Отвечаё князь столно-киевской:
•— Вси места попризаняты.
Углядел он места немношечко На тыи на печки муравленой.
Скочил Добрыня лекче заюшка На тую на печку муравлену,
Заиграл он в гуселушка яровчаты.
Вси на пиру оглянулисе,
Вси на пиру ужахнулисе.
Скочит князь на резвы ноги,
Сам говорит таково слово:
— Ай скоморошина удалая!
Опустись-ко со печки муравленой:
Первое место подлё меня,
А другое то место возле меня,
Третьёё место, где слюбится.
Отвечает Добрынюшка Микитинич:
— Уж ты солнышко Владимир стольно-киевской! Не спрашивай у холодпаго,
Не спрашивай у голоднаго.
Спешись-ко молодца кормить поить,
Потом удалого спрашивать.
Приносили чару зелена вина,
Не большую чару, полтора ведра.
Принимал Добрыня единой рукой,
Выпивал Добрыня на единой дух,
Сам говорит таково слово:
— Солнышко князь стольно-киевской!
Позволь поднести чару зелена вина,
У меня есть напитков подорожныих.
Поднести мне князю со княгиною,
Первую Настасьи Никуличной,
А вторую Алеши Поповичу.
Наливает чару зелена вина,
Не большую чару, полтора ведра,
На вес-то чара полтора пуда,
Кладывает он перстень злаченый,
Сам говорит таково слово:
— Уж ты пей Настасья Микулична!
Пей-ко чарочку зелена вина,
121
Пей-ко чарочку да всю до дна.
Как пьешь до дна, увидать добра,
Не пьешь до дна, не видать добра,
Берет Настасья Микулична,
Берет чарочку единой рукой,
Выпила цару на единый дух,
К устам перстень прикатается,
Свет Настасья срадоваласе.
За тыим за столиком дубовыим,
Скочила Настасья на резвы ноги,
Скочила она лекче заюшка,
3-за того <з->за столика дубоваго.
Прямо к Добрыни на белы груди,
Сама говорит таково слово:
— Не тот мой муж, кой подле меня,
Тот мой муж, кто супротив меня,
Супротив очей моих ясныих.
Тут Добрынюшка Микитинич Он берет Алёшеньку Поповича,
3-за того <з-> за столика дубоваго Берет Алешу за желты кудри,
Стал он дубиною накладывать.
От стуканья пошло буканьё,
От буканья пошло охканьё По всёй полаты гряновитыи.
Вси с пиру розбежалисе,
Вси с пиру росскакалисе,
Тольки стоит князь со княгиною.
Говорит Добрынюшка Микитинич:
— Чёго ты стоишь князь со княгиною,
Чего ты стоишь да того же ждёшь,
Пусть тебе приуважено:
Моему-то батюшку крестовый брат.
Тут пошол Алешенька поповский сын, Пошол с пиру окоракою,
Сам идёт с пиру кленется,
Больше того проклинается:
— Всякой чорт на сём свете женится,
Не всякому женитьба удавается,
Мне-ка женитьба неудачная,
Молода жена невзрачная.
Удаваласе женитьба двум богатырям: Во-первыих, Добрынюшки Микитичу, Во-другиих, старому казаку Ильи Муромцу.
122
ИЛЬЯ и СОЛОВЕЙ
Из того ли-то из города из Муромля,
Из того села да с Карачирова,
Выёзжал удаленькой дородний добрый молодец,
Он стоял заутрену во Муромли,
Айк обеденке поспеть хотел он в стольнёй Киев град, Да й подъехал он ко славному ко городу к Чернигову. У того ли города Чернигова Нагнано-го силушки черным черно,
А й черным черно как черна ворона;
Так пехотою никто тут не прохаживат,
На добром кони никто тут не проезживат,
Птица черной ворон не пролетыват,
Серый зверь да не прорыскиват.
А подъехал как ко силушке великоёй,
Он как стал-то эту силу великую,
Стал конем топать да стал копьем колоть,
А й побил он эту силу всю великую.
Ен подъехал-то под славный под Чернигов град, Выходили мужички да тут черниговски И отворяли-то ворота во Чернигов град,
А й зовут его в Чернигов воеводою.
Говорит-то им Илья да таковы слова:
— Ай же мужички да вы черниговски!
Я не йду к вам во Чернигов воеводою.
Укажите мне дорожку прямоезжую,
Прямоезжую да в стольний Киев град.
Говорили мужички ему черниговски:
— Ты удаленькой дородний добрый молодец,
Ай ты славныя богатырь святорусьскии!
Прямоезжая дорожка заколодела,
Заколодела дорожка, замуравела,
А й по той ли по дорожке прямоезжею Да й пехотою никто да не прохаживал,
На добром кони никто да не проезживал:
Как у той ли-то у Грязи-то у Черноей,
Да у той ли у березы у покляпыя,
Да у той ли речки у Смородины,
У того креста у Левонидова,
Сиди Соловей разбойник во сыром дубу,
Сиди Соловей разбойник Одихмантьев сын,
А то свищет Соловей да по соловьему,
Ен крычит злодей разбойник по звериному,
123
И от него ли-то от посвисту соловьяго,
И от него ли-то от покрику звериного,
То все травушки муравы уплетаются,
Все лазуревы цветочки отсыпаются.
Темны лесушки к земли вси приклоняются,
А что есть людей, то вси мертвы лежат.
Прямоезжею дороженькой пятьсот есть верст,
А й окольноёй дорожкой цела тысяща.
Он спустил добра коня да й богатырского,
Он поехал-то дорожкой прямоезжею.
Его добрый конь да богатырский С горы на гору стал перескакивать,
С холмы на холму стал перемахивать,
Мелки реченки, озерка промеж ног спущал. Подъезжает он ко речке ко Смородинки,
Да ко тоей он ко Грязи он ко Черноей,
Да ко тою ко березы ко покляпыя,
К тому славному кресту ко Левонидову.
Засвистал-то Соловей да по соловьему,
Закричал злодей разбойник по звериному,
Так все травушки муравы уплеталися,
Да й лазуревы цветочки отсыпалися,
Темны лесушки к земле вси приклонилнся,
Его добрый конь да богатырский А он на корзнй да потыкается;
А й как старый-от казак да Илья Муромец Берет плеточку шелковую в белу руку,
А он бил коня а по крутым ребрам;
Говорил-то он Илья да таковы слова:
— Ах ты волчья сыть да й травяной мешок!
Али ты итти не хошь али нести не мошь?
Что ты на корзнй, собака, потыкаешься?
Не слыхал ли посвисту соловьяго,
Не слыхал ли покрику звериного,
Не видал ли ты ударов богатырскиих?
А й тут старыя казак да Илья Муромец Да берет-то он свой тугой лук розрывчатый,
Во свои берет во белы он во ручушки,
Ен тетивочку шелковенку натягивал,
А он стрелочку каленую накладывал,
То он стрелил в того Соловья разбойника,
Ему выбил право око со косичею.
Ен спустил-то Соловья да на сыру землю,
Пристянул его ко правому ко стремечки булатнему>
124
ён повез его по славну по чисту полю,
Мимо гнездышко повез да Соловьиное.
Во том гнездышке да Соловьиноем А случалось быть да и три дочери,
А й три дочери его любимыих;
Больша дочка смотрит во окошечко косявчато, Говорит ёна да таковы слова:
— Едет-то наш батюшко чистым полем,
А сидит-то на добром кони,
Да везет ён мужичищо деревенщину,
Да у правого стремени прикована.
Поглядела его друга дочь любимая,
Говорила-то она да таковы слова:
— Едет батюшко роздольицем чистым полем Да й везет он мужичища деревенщину,
Да й ко правому ко стремени прикована.
Поглядела его меньша дочь любимая,
Говорила-то она да таковы слова:
— Едет мужичищо деревенщина,
Да й сидит мужик он на добром кони,
Да й везет-то наша батюшка у стремени,
У булатняго у стремени прикована.
Ему выбито-то право око со косичею.
Говорила-то й она да таковы слова:
— Ай же мужевья наши любимый!
Вы берите-тко рогатины звериный,
Вы бежите-тко в роздольице чисто поле,
Да вы бейте мужичища деревенщину.
Эти мужевья да их любимый,
Зятевья-то есть да Соловьиный,
Похватали как рогатины звериный,
Да и бежали-то они да й во чисто поле Ко тому ли к мужичищу деревенщине,
Да хотят убить-то мужичища деревенщину.
Говорит им Соловей разбойник Одихмантьев сын:
— Ай же зятевья мои любимым,
Побросайте-тко рогатины звериным,
Вы зовите мужика да деревенщину,
В свое гнездышко зовите Соловьиное,
Да кормите его ествушкой сахарною,
Да вы пойте ёго питьицем медвяныим,
Да й дарите ёму дары драгоценные.
Эты зятевья да Соловьиный Побросали-то рогатины звериный
А й зовут-то мужика да й деревенщину Во то гнездышко да Соловьиное.
Да й мужик-от деревенщина не слушается,
А он едет-то по славному чисту полю,
Прямоезжею дорожкой в стольнёй Киев град.
Ён приехал-то во славный стольнёй Киев град А ко славному ко князю на широкой двор.
А й Владымир князь он вышел со божьёй церквы,
Он пришел в полату белокаменну,
Во столовую свою во горенку,
Оны сели есть да пить да хлеба кушати,
Хлеба кушати да пообедати.
А й тут старыя казак да Илья Муромец Становил коня да посерёд двора,
Сам идет он во полаты белокаменны,
Проходил он во столовую во горенку,
На пяту он дверь-ту поразмахивал,
Крсст-от клал ён по писаному,
Вел поклоны по ученому,
На всеша три на четыре на сторонки низко кланялся, Самому князю Владымиру в особину,
Еще всим его князьям он подколенныим.
Тут Владымир князь стал молодца выспрашивать:
-— Ты скажи-тко, ты откулешной, дородний добрый
молодец,
Тобе как-то молодца да именем зовут,
Звеличают удалаго по отечеству?
Говорил-то старыя казак да Илья Муромец:
— Есть я с славнаго из города из Муромля,
Из того села да с Карачирова,
Есть я старыя казак да Илья Муромец,
Илья Муромец да сын Иванович!
Говорит ему Владымир таковы слова:
— Ай же старыя казак да Илья Муромец,
Да й давно ли ты повыехал из Муромля
И которою дороженкой ты ехал в стольнёй Киев град? Говорил Илья он таковы слова:
— Ай ты славныя Владымир стольнё-киевской!
Я стоял заутрену христовскую во Муромли,
Айк обеденки поспеть хотел я в стольнёй Киев град, То моя дорожка призамешкалась;
А я ехал-то дорожкой прямоезжею,
Прямоезжею дороженкой я ехал мимо-то Чернигов град, Ехал мимо эту Грязь да мимо Черную,
126
Мимо славну реченку Смородину,
Мимо славную березу-ту покляпую,
Мимо славный ехал Левонидов крест.
Говорил ёму Владимир таковы слова:
— Ай же мужичищо деревенщина,
Во глазах мужик да подлыгаешься,
Во глазах мужик да насмехаешься!
Как у славнаго у города Чернигова Нагнано тут силы много множество,
То пехотою никто да не прохаживал,
И на добром коне никто да не проезживал,
Туды серый зверь да не прорыскивал,
Птица черный ворон не пролетывал;
А й у той ли-то у Грязи-то у Черноей,
Да у славноёй у речки у Смородины,
А й у той ли у березы у покляпою,
У того креста у Леванидова,
Соловей сидит разбойник Одихмантьев сын,
То как свищет Соловей да по соловьему,
Как кричит злодей разбойник по звериному,
То все травушки-муравы уплетаются,
А лазуревы цветки прочь отсыпаются,
Темны лесушки к земли вси приклоняются,
А что есть людей, то вси мертво лежат.
Говорил ему Илья да таковы слова:
— Ты Владымир князь да стольнё-киевской!
Соловей розбойник на твоем двори,
Ему выбито ведь право око со косичею,
И он ко стремени булатнему прикованной.
То Владымир князь-от стольнё-киевской Он скорешенько ставал да на резвы ножки,
Кунью шубоньку накинул на одно плечко,
То он шапочку соболью на одно ушко,
Он выходит-то на свой-то на широкий двор Посмотреть на Соловья разбойника.
Говорил-то ведь Владымир князь да таковы слова:
— Засвищи-тко, Соловей, ты по соловьему,
Закрычи-тко, собака, по звериному.
Говорил-то Соловей ему разбойник Одихмантьев сынз
— Не у вас-то я сегодня, князь, обедаю,
А не вас-то я хочу да и послушати,
Я обедал-то у старого казака Ильи Муромца,
Да его хочу-то я послушати.
Говорил-то как Владымир князь да стольнё-киевский:
127
— Ай же старый казак ты Илья Муромец!
Прикажи-тко засвистать ты Соловью да й по соловьему, Прикажи-тко закрычать да по звериному.
Говорил Илья да таковы слова:
— Ай же Соловей разбойник Одихмантьев сын! Засвищи-тко ты во пбл-свисту соловьяго,
Закрычи-тко ты во пол-крыку зверинаго.
Говорил-то ёму Соловей разбойник Одихмантьев сынз
— Ай же ты старыя казак ты Илья Муромец!
Мои раночки кровавы запечатались,
Да не ходят-то мои уста сахарный,
Не могу я засвистать да й по соловьему,
Закрычать-то не могу я по звериному.
А й вели-тко князю ты Владымиру *
Налить чару мни да зелена вина,
Я повыпью-то как чару зелена вина,
Мои раночки кровавы порозойдутся,
Да й уста мои сахарни поросходятся,
Да тогда я засвищу да по-соловьему,
Да тогда я закрычу да по звериному.
Говорил Илья-тот князю он Владымиру:
— Ты Владымир князь да стольнё-киевской!
Ты поди в свою столовую во горенку,
Наливай-ко чару зелена вина,
Ты не малую стопу да полтора ведра,
Подноси-тко к Соловью к разбойнику.
То Владымир князь да стольнё-киевской Он скоренько шел в столову свою горенку,
Наливал он чару зелена вина,
Да не малу он стопу да полтора ведра,
Розводил медами он стоялыма,
Приносил-то ён ко Соловью розбойнику.
Соловей розбойник Одихмантьев сын Принял чарочку от князя он одной ручкой,
Выпил чарочку-ту Соловей одным духом,
Засвистал как Соловей тут по соловьему,
Закрычал разбойник по звериному,
Маковки на теремах покривились,
А околенки во теремах рассыпались От него от посвисту соловьяго,
А что есть-то людишок, так вси мертвы лежат?
А Владымир князь-от стольнё-киевской Куньей шубонькой он укрывается.
А й тут старой-от казак да Илья Муромец
128
Он скорешенько садился на добра коня,
А й он вез-то Соловья да во чисто поле,
И он срубил ему да буйну голову.
Говорил Илья да таковы слова:
— Тоби полно-тко свистать да по соловьему,
Тоби полно-тко крычать да по звериному,
Тоби полно-тко слезить да отцей-матерей,
Тоби полно-тко вдовить да жен молодыих,
Тоби полно-тко спущать-то сиротать да малых детушок* А тут Соловью ему и славу поют,
А й славу поют ему век по веку.
/ ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И ИДОЛИЩЕ
Как ездил Илья Муромец во чистом поле,
Во чистом поле ездил за охвотою,
Стрелял Илья гусей да лебедей,
Стрелял малыих перелетных серых утушек,
Он не мог убить ни гуся, ни лебедя,
Ни малой перелетной серой утицы;
А встретилася калека, калека перехожая,
И говорит Илья таково слово:
— Ай же ты калека, калека перехожая!
Давно ль ты бывал на святой Руси,
На святой Руси, в славном Киеве,
Давно ль ты видел князя Владимира Со стольною княгиною Апраксою?
Да спроговорит калека перехожая:
— Ай же старый казак Илья Муромец!
Недавно я был на святой Руси, третьеводни,
И видел я князя Владимира
Со стольною княгиною Апраксою;
Над нима несчастьице случилося:
Сидит татарин между князем и княгиною,
Не дает волюшки князю со княгиною думу подумати, А голова у татарина, как пивной котел,
А глазища у татарина, как пивные чашыщи,
А нос-то у татарина, как кислой пирог,
А по греху учинилося:
В Киеве богатырей не случилося.
Спроговорит Илья, да Илья Муромец:
— Ай же ты калека, калека перехожая!
Молодца в тебе в два меня,
5—зз я
129
И силы-то у тебя в три меня,
А смелости нет и в пол-меня.
Скидывай ты платьице калечьское, Скидывай-ко подсумочки рытаго бархата, Скидывай-ко ты гуню Сорочинскую, Разувай-ко лапотики шелковые,
И надевай платье богатырское,
Садись на моего добра коня И поезжай-ка в Муром град К тому подворью богатырскому.
И думал-подумал калека перехожая:
— Не дать Илье платьице, силой возмет, Силой возмет, да мне-ка бок набьет.
И складывал подсумки рытаго бархата, И скидывал он гуню Сорочинскую,
И разувал он лапотки шелковые,
И втыкнул он клюшку волжанку Во матушку сыру земдю, —
И уходила та клюшка до коковочки;
И скидывал он шляпу греческую,
И одевал он платье богатырское,
Садился на добра коня.
И поехал во Муром град,
Ко тому подворью богатырскому.
Обувал Илья лапотики шелковые,
Одевал Илья гуню сорочинскую,
Одевал Илья подсумки рытаго бархата, Одевал Илья шляпу греческую И выдернул клюшку волжанку Со матушки сырой земли...
Как скоро скажется, тихо деется...
И будет он в стольном городе во Киеве,
У ласкова князя у Владимира,
У него ли палат княженецкиих;
Закричал Илья громким голосом:
:Солнышко Владимир стольно-киевский! Сотвори-ко мне милостыню:
Было бы калеке чего есть да пить,
Да чего калеке волочитися!
Тут татарин бросался по-плечь в окно:
— Ай же вы, горланы русские!
Что вы здесь заведали,
Что вы стали почасту учащивать? Ступай-ко, калека, прямо во .высок терем.
Проходит' калека во высок терем,
Крест кладет по писаному,
• Поклон ведет по -ученому,
Здравствует князя со княгиною,
А тому ли татарину челом не бьет.
Говорит Идолище поганое:
— Ай же ты калека, калека перехожая!
Давно ль ты бывал на святой Руси,
Давно ль ты видел Илью Муромца?
Каков у вас есть Илья Муромец?
А мне бы Илью видеть надо,
Я бы клал Ильинку на долонь,
Я ударил бы другой долоныо сверху,
И сделал бы Ильинку как овсяный блин.
Говорит ему калека перехожая:
— Недавно я был на святой Руси, третьеводни,
И видел я Илью, Илью Муромца.
Илья есть мне братец названыий:
Он мне есть братец больший,
А я ему братец меньший.
Я за своего брата хочу постоять.
Это слово татарину не слюбилося:
Как схватил он со стола булатний нож И кинул нож в Илью, Илью Муромца.
Тут-то Илье не к суду пришло:
Увернулся он за печку муравленую,
А нож-от улетел во стоечку,
Стоечка улетела в задний тын,
И задний тын весь пЪрассыпался.
Тут выходил Илья, Илья Муромец Из-за печки, печки муравленой,
Как брал .через стол, дубовый стол Брал татарина за' желты кудри,
И здынул его выше буйной головушки,
И бросил татарина о кирпичной иол.
И тут ему руки и ноги повыломал,
И глаза-то ему повыкопал,
И из платья вон повытряхнул.
Поехала Хупова та крынская,
Со земли российский,
И сама говорит таково слово:
— Здесь чорт — не борцы и не удалы добры молодцы! Почто было рукама ломать?
Почто было глаз воротить?
131
ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СЫН ЕГО
Из стольняго города из Киева Выезжали два могучиё богатыря.
Один богатырь Илья Муромец,
Да другой молодец Добрынюшка Микитьевиц. Приезжали богатыри на Фавор-гору,
Росставляли богатыри полотнян шатёр,
Во шатри-то богатыри опочив держат.
Спят темную ночь до бела свету,
Пробуждается свет государь Илья Муромец Да и сам говорит таково слово:
— Вставай молодец Добрынюшка Микитьевич!
У нас что-де над шатром сотворилосе,
Налетала на шатёр да веща птица
Веща птица черной ворон,
Черной ворон сам прокыркиват,
Нерадошну весточку сказыват.
Да выходи-тко, Добрыня, из бела шатра,
Погляди по дороге прямоезжие:
Не проехала ли поляница удалая?
Выходил Добрыня из бела шатра,
Да поглядел по дороге прямоезжие,
Да проехала поляница удалая.
Да ево храбра поездка молодецкая,
Да йскопыть у коня мётана,
По целой-то овчине по барановой.
У коня изо рта-то пламя машё,
Из ноздрей у коня да кудряв дым валит,
Да еде молодей-де сам тешится,
Да шибает он палицу под облаки,
Да назадь-то она ей подхватыват.
Да пришол Добрынюшка в шатёр, а сам рассказыватз.
— Ты-де батюшко да Илья Муромец!
Да проехала поляница удалая,
Ево храбра поездка молодецкая,
Ископыть у коня мётана,
По целой овчине по барановой.
У коня изо рта-то пламя машё,
Из ноздрей у коня да кудряв дым валит,
Да еде молодец-де сам тешится,
Да шибает он палицу под облаки,
Да назадь-то она ей подхватыват.
132-
Говорит Илья Добрыни таково слово:
— Да ты молодец Добрынюшка Микитьевич! Поезжай-ко теперь за богатырем.
Да буде русской богатырь — побратайся,
А неверной богатырь — ты войны проси.
Говори Добрыня Ильи таково слово:
— Ты-де батюшко да Илья Муромец!
Я не смею-де ехать за богатырем.
Говорит Илья Добрыни таково слово:
— Когда не смеешь ты ехать за богатырем,
Дак больше мне в товарищи не надобно. Поезжай-ко назадь ты во Киев град,
К молодой-то жены, да к сЬоей матери.
Да ставал Илья на чеботы сафьянные,
Да на сини чулки кармазинные.
Надевает он шубу соболиную,
Да выходит старик из бела шатра,
Да уздал-седлал он добра коня,
Да уздал-то оседлал скоро-наскоро, Скоро-наскоро да крепко-накрепко.
Да скочил-де стйрик на добра коня,
Да поехал Илья за богатырем,
Да он едет из утра день до вечера,
. Да и темную ночь до бела свету;
Да на другой-от день попущается,
Да другой день проехал из утра до вечера,
Да и темную ночь до бела свету,
Да догнал он богатыря в чистом поли,
Да из далеча-то Илья закричал по звериному, Засвистал-де старик а по змеиному,
Да под богатырем конь на колени пал.
Да еде богатырь не оглянется,
Да бьет палкой коня по тучным ребрам:
— Ты несытая кляча конь а травяной мешок! Еще что ты в поле птицы шарашишься, Налетела-де ворона порозграялась.
Закричал Илья-то во второй након,
Да засвистал-де старик по змеиному,
Под богатырем конь а на колени пал,
Да оборачивал богатыры коня к Ильи Муромцу, Да съехались оны ужо копьями,—
Только копья-ты в кольцах попригнулисе.
Да разъезд чинили на тридцати верстах,
Да съехались богатыри палками,
13$
Только палки по щербням отвернулисе.
Соскочили оны со добрых коней,
Да схватились оны на рукопашной бой.
Да хватил неверной богатырь Илью Муромца,
Да шибал-де его о сыру землю,
Да и сам-де садился на белы груди,
Да вынимал из чинжалища вострой нож,
Да хотел ему пороть а груди белые.
Да и видит Илья, что беда пришла,
Поглядел он на ручку на правую,
На бою-де старику смерть не писана.
Да сокоплял Илья силу всю в одно место,
Да сшибал с себя богатыря в чисто поле.
Да выскочил он на резвы ноги.
Да *вйтил-де богатыря за желты кудри Да шибал ево он под облаки,
Да назад-то он ево подхватывал,
Кабы-де ево не подхватывал,
Дак предал бы ему смерть ту скорую,
Становил-де богатыря противо себя,'
Да начал ево он выспрашивать:
— Скажи-тко, удалый дородний добрый молодец! •
Ты коей орды, ты коей земли,
Да котораго ты града урождение,
Да и как тебя зовут по именю?
Говорит молодец таково слово:
■— Да нё знаю я себе родного батюшка.
Да одна у мня есть родная матушка,
Да старая девка Сиверьянична.
Говорил Илья-то таково слово:
— Да и съедешь ты к родной матери,
Да скажи-тко ты матери низкой поклон.
Да поехал молодец к своей матери,
Да встречает ево матушка родимая,
Да сама говорила таково слово:
,— Да ты что, Василий, приехал не весёл а с чиста поля? Говорил-де Васька своей матери:
— Да государыни моя ты родна матушка!
Да наехал богатырь меня во чистом поле.
Да перво я было ево побил, сидел да на белых грудях, Да хотел ему пороть а груди белые,
Да он меня сшибал во чисто поле,
Да ухватывал за желты кудри,
Да шибал-де меня под облаки,
134
Да назадь-то он меня подхватывал.
Кабы он, мать, не подхватывал,
Дак предал бы мне смерть ту скорую.
Говорила ему мать да таково слово:
— Да и ты, дитя моё милоё!
Да и тут-то тебе ведь уж отец родной.
Говорил-де Василей своей матери:
— Государыни моя ты рбдна матушка!
Да не хочу-де я слыть заугольником,
Да ему жить, а либо мне-ка жить.
Да обворачивал назадь добра коня,
Да поехал опять к Ильи Муромцу.
Да Илья Муромец, где бился, тут и опочив держать. Да раздёргнван был ево бел шатёр,
Да закричал-де Васька зычным голосом:
— Да ты старая собака, седатой пёс!
Да выходи-тко ты а из бела шатра,
Тебе ведь жить, либо мне-ка жить.
Да ставал Илья на чеботы сафьянные,
Да на сини чулки кармазинные,
Да выходил Илья из бела шатра,
Да хватил-де богатыря с коня за желты кудри,
Да шибал-де он ево под облаки,
Да назадь-то ево не подхватывал,
Дак-предал ему смерть ту скорую.
ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И ДОЧЬ ЕГО
А й на славноей московскоей на заставы Стояло двенадцать богатырей их святорусскиих, А по нёй^ю славной по московской по заставы А й пехотою никто да не прохаживал,
На добром кони никто тут не проезживал,
Птица черный ворон не пролетывал,
А ’ьце серый зверь да. не прорыскивал А й то через эту славную московскую-то заставу Едет поляничища удалая,
А й удала поляничища великая,
Конь под нёю как сильня гора,
Поляница на кони будто сённа копна,
У ней шапочка надета на головушку А й пушистая сама завесиста, ^
135
Спереду-то не видать личка румянаго И сзаду не видеть шеи белоей.
Ена ехала собака насмеялася,
Не сказала божьёй помочи богатырям,
Ена едет прямоезжею дорожкой к стольнё-Киеву. Говорил тут старыя казак да Илья Муромец:
— Ай же братьица мои крестовый,
Ай богатыря вы святорусьскии,
Ай вы славная дружинушка хоробрая!
Кому ехать нам в раздольице чисто поле Поотведать надо силушки великою Да й у той у поляници у удалою?
Говорил-то тут Олешенка Григорьевич:
*— Я поеду во роздольицо чисто поле,
Посмотрю на поляницу на удалую.
Как садился-то Олеша на добра коня,
А он выехал в роздольицо чисто поле,
Посмотрел на поляницу з-за сыра дуба,
Да не смел он к полянице той подъехати,
Да й не мог у ней он силушки отведати. Поскорешенько Олеша поворот держал, Приезжал на заставу московскую,
Говорил-то и Олеша таковы слова:
■— Ай вы славный богатыри да святорусьскии1 Хоть-то был я во роздольице чистом поли,
Да й не смел я к поляницищу подъехати,
А й не мог я у ней силушки отведати.
Говорил-то тут молоденькой Добрынюшка:
— Я поеду во роздольицо чисто поле,
Посмотрю на поляницу на удалую.
Тут Добрынюшка садился на добра коня Да й поехал во роздольицо чисто поле,
Он наехал поляницу во чистом поли,
Так не смел он к поляницищу подъехати,
Да не мог у ней он силушки отведати.
Ездит поляница по чисту полю На добром кони на богатырскоём,
Ена ездит в поли, сама тешится,
На правой руки у нёй-то соловей сидит,
На левой руки да жавролёночек.
А й тут молодой Добрынюшка Микитинец Да не смел он к полянице той подъехати,
Да не мог у ней он силы поотведати; Поскорешенько назад он поворот держал,
136
Приезжал на заставу московскую,
Говорил Добрыня таковы слова:
— Ай же братьица мои да вы крестовый,
Да богатыря вы славны святорусьскии!
То хоть был я во роздольице чистом поли, Посмотрел на поляницу на удалую,
Она езди в поли, сама тешится,
На правой руки у нёй-то соловей сидит,
На левой руки да жавролёночек.
Да не смел я к полянице той подъехати И не мог-то у ней силушки отведати,
Ёна едет-то ко городу ко Киеву,
Ена кличет выкликает поединщика,
Супротив себя да супротивника,
Из чиста поля да и наездника,
Поляница говорит да таковы слова:
«Как Владымир князь-от стольнё-киевской Как не дает мне-ка он да супротивника,
Из чиста поля да и наездника,
А й приеду я тогда во славной стольний Киев град, Разорю-то славный стольний Киев град,
А я чернедь мужичков-тых всих повырублю А божьи церквы я все на дым спущу,
Самому князю Владымиру я голову срублю Со Опраксиёй да с королевичной!»
Говорит им старый казак да Илья Муромец:
— Ай богатыря вы святорусьскии,
Славная дружинушка хороброя!
Я поеду во роздольицо чисто поле,
На бою-то мне-ка смерть да не написана; Поотведаю я силушки великою Да у той у поляницы у удалою.
Говорил ему Добрынюшка Микитинец:
— Ай же старыя казак да Илья Муромец!
Ты поедешь во роздольицо чисто поле
Да на тыя на удары на тяжелый,
Да й на тыя на побоища на смёртныи,
Нам куда велишь итти да й куды ехати?
Говорил-то им Илья да таковы слова:
— Ай же братьица мои да вы крестовый! Поезжайте-тко роздольицом чистым полем, Заезжайте вы на гору на высокую,
Посмотрите вы на драку богатырскую:
Надо мною будет, братци, безвременьице,
137
Так вы поспейте ко мни, братьица, на выруку.
Да й садился тут Илья да на добра коня,
Ён поехал по роздольицу чисту полю,
Ен повыскочил на гору на высокую,
А й сходил Илья он со добра коня,
Посмотреть на поляницу на удалую,
Как-то ездит поляничищо в чистом поли;
И она ездит поляница по чисту полю На добром кони на богатырскоём,
Она шуточки-ты шутит не великии,
А й кидает она палицу булатнюю А й под облаку да под ходячую,
На добром кони она да ведь подъёзживат,
А й одною рукой палицу подхватыват,
Как пером-то лебединыим поигрыват,
А й так эту палицу булатнюю покидыват.
И подходил-то как Илья он ко добру коню Да он пал на бедра лошадиный,
Говорил-то как Илья он таковы слова:
— Ай же бурушко мой маленькой косматенькой! Послужи-тко мне да верой правдою,
Верой правдой послужи-тко неизменною,
А й по старому служи еще по прежнему,
Не отдай меня татарину в чистом поли,
Чтоб срубил мне-ка татарин буйну голову!
А й садился тут Илья он на добра коня,
То он ехал по роздолью по чисту полю И он наехал поляницу во чистом поли,
Поляници он подъехал со бела лица,
Поляницу становил он супротив собя,
Говорил ён поляници таковы слова:
— Ай же поляница ты удалая!
Надобно друг у друга нам силушки отведати. Порозъедемся с роздольица С чиста поля На своих на добрых конях богатырскиих,
Да приударим-ко во палици булатнии,
А й тут силушки друг у друга й отведаём.
Порозъехались оне да на добрых конях Да й по славну по роздольицу чисту полю,
Й оны съехались с чиста поля да со роздольица На своих-то конях богатырскиих,
То приударили во палици булатнии,
Ены друг друга-то били по белым грудям,
Ены били друг друга да не жалухою
Да со всею своей силы с.богатырскою,
У них палицы в руках да й погибалися,
А й по маковкам да й отломилися.
А под нима-то доспехи были крепкий,
Ёны друг друга не сшибли со добрых коней,
А не били оны друг друга, не ранили,
И ни которого местечка не кровавили,
Становили добрых коней богатырскиих,
Говорили-то оны да промежду собой:
— Как нам силушка друг у друга отведати? Порозъехаться с роздольица с чиста поля На своих на добрых конях богатырскиих,
Приударить надо в копья в муржамецкии,
Тут мы силушка друг у друга й отведаём.
Порозъехались оны да на добрых конях А й во славноё в роздольицо чисто* поле,
Припустили оны друг к другу добрых коней, Порозъехались с роздольица с чиста поля,
Приударили во копья в муржамецкии,
Ены друг друга-то били не жалухою,
Не жалухою-то били по белым грудям,
Так у них в руках-то копья погибалися А й по маковкам да й отломилися.
Так доспехи-ты под нима были крепкий, ёны друг друга не сшибли со добрых коней,
Да й не били, друг друга не ранили,
Никоторого местечка не кровавили.
Становили добрых коней богатырскиих,
Говорили-то оны да промежду собой:
— А ’ще как-то нам у друг друга-то силушка отведатк? Надо биться-то им боем рукопашкою,
Тут у друг друга мы силушка отведаем.
Тут сходили молодци с добрых коней,
Опустилися на матушку сыру землю,
Пошли-то оны биться боем рукопашкою.
Еще эта поляничища удалая А й весьма была она да зла-догадлива И учена была бороться об одной ручке;
Подходила-то ко старому казаке к Илье Муромцу, Подхватила-то Илью да на косу бодру,
Да спустила-то на матушку сыру землю,
Да ступила Илье Муромцу на белу грудь,
Она брала-то рогатину звериную,
Заносила-то свою да руку правую,
139
Заносила руку выше головы,
Опустить хотела ниже пояса.
На бою-то Илье смерть и не написана,
У ней правая рука в плечи да застоялася,
Во ясных очах да й помутился свет,
Она стала у богатыря выспрашивать:
— Ай скажи-тко ты богатырь святорусьскии, Тобе как-то молодца да именём зовут, Звеличают удалого по отечеству?
А ’ще старыя казак-от Илья Муромец, Разгорелось ёго сердце богатырское,
И он смахнул своёй да правой ручушкой,
Да он сшиб-то ведь богатыря с белой груди, Ен скорешенько скочил-то на резвы ножки, Он хватил как поляницу на косу бодру,
Да спустил он ю на матушку сыру землю, Да ступил он поляници на белы груди,
А й берет-то в руки свой булатный нож, Заносил свою он ручку правую,
Заносил он выше головы,
Опустить он хочет ручку ниже пояса;
А й по божьему ли по велению Права ручушка в плечи-то остояласи,
В ясных очушках-то помутился свет.
То он стал у поляничища выспрашивать:
— Да й скажи-тко, поляница, попроведай-ко, Ты коёй земли да ты коёй Литвы,
Еще как-то поляничку именем зовут,
Удалую звеличают по отечеству?
Говорила поляница й горько плакала:
■— Ай ты старая базыка новодревная!
Тоби просто надо мною насмехатися,
Как стоишь-то на моёй да на белой груди, Во руки ты держишь свой булатний нож, Роспластать хотишь мои да груди белый!
Я стояла на твоёй как на белой груди,
Я пластала бы твои да груди белый, Доставала бы твоё сердцё со печеней,
Не спросила бы отца твоёго й матери,
Твоего ни роду я ни племени.
И рсзгорелось сердцо у богатыря Да й у стараго казака Ильи Муромца, Заносил-то он свою да ручку правую, Заздынул он ручку выше головы,
140
Опустить хотит ю ниже пояса;
Тут по божьему да по велению Права ручушка в плечи да остоялася,
В ясных очушках да й помутился свет,
Так он стал у поляницы-то выспрашивать:
— Ты скажи-тко, поляница, мни, проведай-ко,
Ты коёй земли да ты коёй Литвы,
Тобя как-то поляничку именем зовут,
Звеличают удалую по отечеству?
Говорила поляница й горько плакалаз
— Ай ты старая базыка новодревная!
Тоби просто надо мною насмехатися,
Как стоишь ты на моёй да на белой груди,
Во руки ты держишь свой булатний нож, Роспластать ты мни хотишь да груди белый!
Как стояла б я на твоёй белой груди,
Я пластала б твои да груди белый,
Доставала б твое сердце со печенью,
Не спросила бы ни батюшка, ни матушки, Твоего-то я ни роду да ни племени.
Тут у стараго казака Ильи Муромца Розгорелось ёго сердце богатырское,
Ен еще занес да руку правую,
А й здынул-то ручку выше головы,
А спустить хотел ён ниже пояса.
По господнему тут по велению Права ручушка в плечи-то остоялася,
В ясных очушках-то помутился свет,
Ен еще-то стал у поляници повыспрашивать:
— Ты скажи-то, поляница, попроведай-ко,
Ты коёй земли да ты коёй Литвы,
Тоби как мне поляницу именём назвать И удалую звеличати по отечеству?
Говорила поляница таковы слова:
— Ты удаленькой дородний добрый молодец,
Ай ты славныя богатырь святорусьскии!
Когда стал ты у меня да и выспрашивать,
Я про то стану теби высказывать.
Есть я родом из земли да из тальянскою,
У меня есть родна матушка честна вдова,
Да честна вдова она колачница,
Кблачи пекла да тым меня воспйтала А й до полнаго да ведь до возрасту;
Тогда стала я иметь в плечах да силушку великую,
Избирала мне-ка матушка добра коня,
А й добра коня да богатырскаго,
И отпустила мёня. ехать на святую Русь Поискать соби да родна батюшка,
Поотведать мне да роду племени.
А й тут старый-от казак да Илья Муромец Ен скоренько соскочил да со белой груди,
Брал -то ю за ручушки за белый,
Брал за перстни за злаченый,
Он здынул-то ю со матушки сырой земли, Становил-то он ю на резвы ножки,
На резвы он ножки ставил супротив себя*, Целовал ю во уста ён сахарнии,
Называл ю соби дочерью любимою:
— А.когда я был во той земли во тальянскою, Три году служил у короля тальянскаго,
Да я жил тогда да й у честной вдовы,
У честной вдовы да й у колалницы,
У ней спал я на кроватке на тесовоей Да на той перинке на пуховоей,
У самой ли у нёй на белой груди.
И оны сели на добрых коней да поррзъехались Да по славну роздольицу чисту полю.
Еще старый-от казак да Илья Муромед Пороздёрнул он свой шатёр белый,
Да он лег-то спать да й проклаждатися А после бою он да после драки;
А й как эта поляничища удалая Она ехала роздольицем чистым полем,
На кони она сидела, пороздумалась:
— Хоть-то съездила на славну на святую Русь, Так я нажил ia себе посмех великии:
Этот славный богатырь святорусьскии
А й назвал тую мою матку
Мене назвал
Я поеду во роздольице в чисто поле Да убью-то я в поли богатыря,
Не спущу этой посмешки на святую Русь,
На святую Русь да и на белый свет.
Ёна ехала роздольицем чистым полем, Насмотрела-то она да бел шатер,
Подъезжала-то она да ко белу шатру,
Она била-то рогатиной звериною А во этот-то во славный бел шатер,
Улетел-то шатер белый с Ильи Муромца,
Его добрый конь да богатырский А он ржёт-то конь да й во всю голову,
Бьет ногамы в матушку в сыру землю;
Илья Муромец он спит там, не пробудится От того от крепка сна от богатырскаго.
Эта поляничища удалая
Ёна бьет его рогатиною звериною,
Ёна бьет его да по белой груди,
Еще спит Илья да й не пробудится А от крепка сна от богатырского,
Погодился у Ильи да крест на вороти,
Крест на вороти да полтора пуда:
Пробудился он звону от крестоваго,
А й скинул-то свои да ясны очушки,
Как над верхом-тым стоит ведь поляничища удалая, На добром кони на богатырскоем,
Бьет рогатиной звериной по белой груди.
Тут скочил-то как Илья он на резвы ноги,
А схватил как поляницу за желты кудри Да спустил ен поляницу на сыру земля,
Да ступил ен поляницы на праву ногу,
Да он дернул поляницу за леву ногу,
А он надвоё да ю порозорвал, .
А й рубил он поляницу по мелким кускам.
Да садился-то Илья да на добра коня,
Да он рыл-то ты кусочки по чисту полю,
Да он перву половинку-то кормил серым волкам,
А другую половину черным воронам.
А й тут поляници ёй славу поют,
Славу поют век по веку.
ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И КАЛИН ЦАРЬ
А й во стольноём во городи во Киеви А й у ласкова князя у Владимира А начинался заводился да почестной пир,
А на многия на князи да на бояра.
А не зовет он ведь собе да во почестной пир А сильниих могучиих богатырей.
А приходит-то Ильюша да не званый он.
А приказал-то ведь Владимир князь да стольне-киевской Засадить его туда да во глубок погрёб
143
А поморить его смертью голодною.
А сильнии киевски богатыри А россердились тут на князя на Владимира,
А оны скоро ведь садились на добрых коней,
А уехали оны да во чисто полё,
А й во тое роздоль'е во широкое:
— А й не будем ведь мы жить больше во Киеви,
А не будем мы служить князю Владимиру.
А у князя-то ведь дочка-та малешенька,
А малешенька-то дочка молодёшенька,
Во потай берё ключи у своей матери А от тых ли-то от погребов глубокиих;
Составляет она хлеб да Ильи Муромцу.
А й проходило ведь тут времени ровно три году;
А тогда же ведь тот вор, вор Калин царь,
А собирает он дружинушку хоробрую,
А собирает он себе да ведь много царей,
А много-то царей да много королей,
А собрали силы оны смету нет,
А поехали ко стольнёму ко городу ко Киеву.
А на тую ли на славу на великую,
А ко ласкову князю ко Владимиру,
А хочут взять оны княгину да Опраксию,
А покорить себе-ка оны Киев град.
Становилась эта сила близко Киева,
Близко Киева стоит да во чистом поли.
Калин царь а посылает он поганаго татарина А й со тыим письмом со посольниим,
А ко тому ли-то ко князю ко Владимиру:
— Ай же ты поганый татарищо!
Знаешь говорить да ты по русскому,
А мычать про себя да по татарскому?
А й снеси-ко ты писёмышко ко князю ко Владимиру, А тут татарин да поганый А садился скоро на добра коня,
А получает он письмо да к себе на руки,
А поехал он ко городу ко Киеву А й ко ласкову князю ко Владимиру.
Заезжает-то он в град да не воротами,
А через тую ли-то стену городовую,
А заезжает он к князю да на широкий двор,
А й вязал коня к столбу точоному А й ко тому кольцу да к золочоному,
А й приходит он в покои княженецкие,
I »>
он глаз-то не крестит, богу не молится, не дает-то он чести Владимиру, положил-то он письмо да на дубовый стол:
А й прочитай-ко ты письмо, Владимир князь! А он смотрит, во письме да есть написано,
А просит-то у князя да Калин царь А й славнаго города да Киева,
Да обручныя княгины да Апраксии,
А без бою-то без драки без великии,
А без большого-то такого кроволития.
А закручинился тот князь да запечалился Это той тоской печалью он великою:
— А россердел-то я теперь богатырей А стараго казака Илью Муромца
А засадил-то его во глубок погрёб,
А й поморил его смёретью голодною, —
А некому стоять буде за Киев град.
А дочка его была малешенька,
А малешенька-та дочка молодешенька,
А й говорила-то она да таково слово:
— Ай же ты родитель ты мой папенька!
А слышала во церкви во писании,
А старому казаку на бою смерть не уписана,
И голодная смерть не уписана.
А бери-тко князь ты золоты ключи.
А берет-то князь да золоты ключи,
А отмыкает-то ведь князь да глубокой погрёб,
А во погреби Ильюнюшка живой сидит,
А й горит у Ильюни воскова свеча,
А читает он ведь книгу да евангельё.
А извиняется тут князь да стольне-киевской А старому казаку Илью Муромцу:
— А прости-тко ты меня да Илья Муромец!
А посадил я тя во погребы глубокия,
А хотел поморить смертью голодною,
А еще ведь ты Ильюнюшка да жив ведь есть.
А не знаешь ты незгодушки великия:
А ко славному ко городу ко Киеву Наезжал-то тут поганый вор Калин царь,
А собрана дружинушка много царей,
А много царей-то собрал, много королей,
А подобрано силы у их смету нет,
А все сильнии могучий татарева.
А не мошь ли постоять да ты за Киев град,
А за матушку стоять да свято-Русь землю,
А. постоять ли-то за церквы за соборныя,
А тыи за кресты животворящие,
А спасти нас теперь всех князей бояр?
А некому поехать супротиво царя Калина А россердел-то я теперь богатырей,
А уехали оны да во чисто полё,
А й не бывали оны здесь да трй году.
А й говорит-то. ёму старый казак да Илья Муромец:
— Ай Владимир князь ты стольне-киевской!
А где же есте мои да конь добрый?
— А твой конь во стойлы лошадиный.
А й тут-то старый казак да Илья Муромец Одевает латы-ты кольчуги золоченый,
А он уздает седлает коня добраго,
А й полагает ведь он потнички на потнички,
А‘й полагает ведь он войлочки на войлочки,
А на верёх-то он седёлышко черкальское,
А й берет-то ведь Ильюня да свой тугой лук,
А й берет-то тут Илья да калены стрелы,
А й берет-то тут Илья да саблю вострую,
А й берет-то он копьё да долгомерноё,
А й берет-то он да палицу военную,
А й берет-то он трубку-ту подзорную,
А й садился Илья да на добра коня,
А не смеет напустить на тую силу не на сметную (тале), А на сильниих могучиих татаревей.
А выезжает-то Илья да во чисто полё,
А поднимается на гору на высокую,
А й поглядел ведь он во трубку во подзорную,
А на вси-то на четыре он на стороны.
А со первой горы Илья да он спущается,
А на другую-то он грру поднимается,
А поглядел-то он во трубку во подзорную,
А й на вси он на четыре да на стороны;
А со другой горы да он Илья спущается,
А на третьюю высоку поднимается,
А поглядел-то он во трубку во подзорную,
А на вси он на четыре да на стороны;
А в той ли стороны да подвосточныя А увидае в поли там белой шатёр.
А приезжает тут Илья да ко белу шатру,
А у того ли в поли у бела шатра А стоит двенадцать коней богатырскиих,
146
А видит-то Илья да таково дело:
А стоят ты кони, кони тут русййскии,
А ёго-то ведь братьицевкрестовыих,
А крестовыих-то братцев ведь названынх.
А он вязал коня тут ко столбу точеномуТ А й припущал-то ко пшены да белояровой,
А заходил-то тут Илья да во белой шатёр,
А глаза-ты он крестит да по писаному,
А й поклон-от он ведет да по ученому,
А на вси стороны Ильюня поклоняется, 4 А й крёстному он батюшку в особину:
— А здравствуёшь ты, крёстный, ты мой батюшко, А й Самсон сын Самойлович!
А вы здравствуйте крестова моя братия,
А крестовая вы братия названая!
А увидали-то оны да Илью Муромца,
А скоро ведь ск'очили на резвы ноги,
А с Ильюшенкой тут братия здоровкались:
— А старый казак да Илья Муромец!
А й говорили, ты посажен во глубок погрёб У того ли-то у князя у Владимира,
А поморён ты смеретью голодною,—
А ты верно, старик, да жив шоезживашь.
А й говорит-то ведь Илья да таково слово:
— Ай же ты крёстной мой батюшко,
А Самсон сын Самойлович,
А вся братия крестовая названая!
А поедемте на помочь на великую,
А й насупротив поедем царя Калина.
А говорит-то ведь крёстной ему батюшко:
— А я сам то ведь не еду, да теби не бласловлю А не буду я стоять больше за Киев град,
А й не могу болё смотреть на князя Владимира А на Апраксию да королевичну,
А й положено заклятиё великоё.
А говорит-то ведь Ильюня таково слово:
Ай же ты ведь крёстной мой батюшко!
А поедем-ко ты на помочь великую,
Супротив поедем царя Калина,
А? не ради ведь мы князя да Владимира,
А не ради мы княгины да Апраксии,
А и ради матушки поедем свято-Русь земли,
А ради той ли-то веры православный,
А для ради церквей да мы соборныих,
А для матушки да богородицы.
И это тут-то крёстный его батюшко А вся крестовая названа его братия А поехали да на помочь великую, •
А супротив царя да оны Калина.
А выезжали-то на гору на высокую,
А оны брали трубку тут подзорную А й поглядели тут на силу на поганую;
А стоит-то сила тая во чистом поли,
Аки синее море .колыбается,
Ино мать-та земля да подгибается.
И тут-то оны шатер росставили,
А й вязали коней к столбу точёному,
Это тут-то оны да опочив держат.
А Ильюнюшки нё спится, мало собится;
И зауснула ведь тут братия крестовая,
И встаёт-то ведь Илья да.на резвы ноги,
А выходит-то ведь Илья да из бела шатра, А садился-то Илья да на добра коня,
А случается со горы со высокия,
А напучает он на рать-силу поганую А на сильних на могучих на татаревей.
А силу-ту он бьет да трои сутки не едаючи, А не едаюци Илья да нё пиваюци,
А с добра коня Илья да не слезаючи,
А добру коню отдоху не даваючи;
А бьёт-то силу до шести он дён,
А не едаюци Илья да не пиваюци,
А с добра коня Илья да не слезаючи,
А добру коню отдоху не даваючи.
А его доброй-от конь да проязычился А тем ли языком человеческим:
— Ай ты старый казак да Илья Муромец!
А укроти-тко ты ведь сердцо богатырскоё.
А у поганых у татаревей А е сделано три подкопа глубокиих: .
А й во первой подкоп скочу да я повыскочу, А тебя-то я Илыошу да повывезу;
А во другой подкоп скочу да я повыскочу,
А тебя-то Ильюшу да повывезу;
А во третёй подкоп скочу да я повыскочу,
А тебя-то я Ильюшенку не вывезу.
А розгорелось ёго сердце богатырскоё,
А розмахалась его рученка-та правая,
А направил он коня да во глубок подкоп.
Его добрый конь оттуль повыскочил,
А Ильюнюшку с подкопа он повытащил;
А со другаго подкопа конь повыскочил,
А он Ильюнюшку оттуда он повытащил;
А со третьяго подкопа конь повыскочил,
А Ильюшенки с подкопа он не вытащил.
А сбежал его конь да во чисто полё,
Это начал он ведь по полю побегивать,
Это сильнии могучий татарева А здымали-то Илью да ведь со погреба,
А связали-то Ильи да ручки белыя А во тыи ли во путыни шелковыя,
А повели его на казень-ту на смёртную,
А й отрубить-то ведь Ильи да буйна голова,
А ведут Илью да мимо церковь соборную,
А возмолился тут Илья да всем святителям.
А й как из далеча далеча из чиста поля Набежал-то тут к Ильюшенки да добрый конь,
А й хватил-то он зубами да за тые путыни шелковыя, Оборвал-то путыни шелковыя А слободил его он ручики да белые.
А скочил Илья да на добра коня,
А выезжает-то Илья да во чисто полё,
А й натягиват Илья свой тугой лук,
Налагает в.едь он стрелочку каленую,
А сам он ко стрелы да приговариваёт:
— А пади моя стрела ни на воду ни на землю,
А не в темный лес, да не в чисто полё,
А пади моя стрела на тую ли на гору на высокую,
А проломи-тко крышу-ту шатровую,
А пади-тко крёстному ты батюшку,
А крёстному ты батюшку во белу грудь,
А роздроби ему ты груди белыя,
А за тую за измену за великую.
А тут стрелил да Илья Муромец;
А летела тут стрела да ведь на гору на высокую,
А й проломила она крышу-ту шатровую,
А пала она крестному отцу на белу грудь,
А на белую-ту грудь да во злачёный крест,
А ото сну тут крестный пробуждается,
Говорит-то им да таково слово:
«— Ай вы сильнии могучий богатыри!
А пробуждайтесь ото сну да вы от крепкаго.
149
А где-то у нас старый казак да Илья Муромец?
А мы едим да пьём да проклаждаемся,
А мы не ведаем невзгоды над Ильюшенкой
А ставали ведь дут сильнни могучий богатыри, А скоро-то ставали на резвы ноги,
А й выходили-то оны да из шатра долой,
А садилися оны да на добрых коней,
А спущалися оны да с высокой горы,
Нападали на поганыих татаревей,
А прибили, прирубили да всю силу ту несметную, А несметную ту силу да несчётную.
Это скоро тут Ъны да поворот держат А й ко стольнёму ко городу ко Киеву А ко ласкову ко князю ко Владимиру.
Заезжали-то ко князю да в широкий двор,
А вязали-то коней к столбу точеному,
Ко тому кольцу ко золоченому А приходят-то во гридню во столовую.
-А Владимир князь да стольне-киевской А завел-то он тут свой почестный пир,
А на многия на князи да на бояра,
А на сильних на могучих на богатырей.
И все ли на пиру да напивалисе,
А все ли на пиру да наедалисе А все ли на пиру да пьяны веселы.
А красное солнышко при вечери,
А почестной-от пир да весь при весели.
А Владимир-от князь да стольне-киевской А жалуёт он сильниих могучиих богатырей,
А давает города да с пригородками,
А давает золоту казну бессчётную.
А князь-то он богатырей да содержать их стал.
ИЛЬЯ в ССОРЕ С ВЛАДИМИРОМ
А тот ли-то князь да стольнё-киевской А й сделал как задёрнул свой почестной пир Для князей, для бояр да для богатырей,
А для тых богатырей да русскиих,
Чтобы всяко званиё да шло туды А на тот, на тот да на почестный пир А к стольнему князю ко Владимиру.
Да забыл он позвать да что лучшаго,
А чтсГлучшаго да лучшаго богатыря,
А стараго казака Илью Муромца.
Да тут-то ведь к Ильюше не к лицу пришло, А не к лицу пришло, стало похабно есть,
И тут-то Илья да роззадорился,
А тут-то Илья да розретивился.
Как скоро натянул он свой тугой лук А клал он тут стрелочку каленую,
А тут-то сам Ильюшенка роздумался:
— А что мне молодцу будё поделати?
А я нынь молодец е розгневанной,
А я нынь молодец есть роздрйженной.
Как он-то за тым тут повыдумал,
А стрелйл-то он тут по божьйм церквам,
А по тым стрелил по чудным крестам ‘А по тым маковкам да золоченыим.
Да пали тут тыи маковки,
Да пали тут, отпали на. сыру землю,
Да сам он закрычал тут во всю голову:
— Да ай же вы были голи мои,
А голи мои вы кабацкии,
А доброхоты-то вы еще царский!
А собирайтесь-ко вы да сюда-то вси,
А обирайте маковки вси золочёный,
А подёмте-ко вы да со мной еще А. тот-то на тот да на царев кабак,
Как станем нунь пить да зелена вина,
Да станем-то пить да заодно со мной.
Да как тут-то эты да голи были,
А голи были оны кабацкии,
А доброхоты всё были царский,
Обирали маковки тыи золочёный,
Самы оны к ему да прибегают все:
— А батюшко ты да отец наш был!
А пили тут оны да зелено вино,,
Как пили тут оны да заоднёшенько.
Да как видит-то князь что беда пришла,
А. беда-та пришла да неминучая,
Да как тут-то он да е скорым-скоро,
А скорым скоро, скоро скорёшенько,
А сделал он задернул тут почостный пир А для старого казака Ильи Муромца.
Да тут-то ведь князь да стольнё-киевской,
Да тут-то ведь он еще думал есть
Со князьями со бояры со русийскима,
А со тыма со могучима богатырмы:
— А думайте-тко, братцы, вы нунь думушку* А думайтё-тко, братцы, думу крепкую,
А думайте думу, не продумайте:
А нам кого будёт послать да Илью позвать,
А позвать сюды к нам на почестной пир,
А стараго казака Илью Муромца?
А как тут-то они да думу думали:
•— А нам-то есть кого послать Илью позвать? А пошлем-ко мы Добрынюшку Микитича,
Он ему да ведь брат крестовый,
А крестовыи-то братец да названый,
Дак он-то, быват, его послушает.
Как тут-то Добрынюшка Микитинич А приходит-то он братцу да крестовому,
Да как здравствует он братца да крестоваго:
— А здравствуй-ко, братец мой крестовый,
А крестовый братец мой названый! ‘
Да как старый казак Илья Муромец Да как он-то его да также здравствует:
— Ай здравствуй-ко, брат мой крестовый,
А молодой Добрынюшка Микитинич!
Ты зачем же пришол да загулял сюда?
— А пришол-то я, братец, загулял к тебе,
А о деле-то пришол да не о малоем.
Да у нас-то с тобой было раньше того,
А раньше того дело поделано,
А пописи были пописаныи,
А заповеди да поположоныи:
А слушать-то брату да мёньшому,
А меньшому слушать брата большого.
Да еще-то как у нас да ёсте с тобой А слушать-то брату ведь большому,
А й большому слушать брата меньшаго.
Да тут говорит Илья таково слово:
— Ах ты братец да мой да был крестовый Да как нунечку топеречку у нас с тобой
А все-то пописи да были ведь попйсаны,
А заповеди были попбложены:
А слушать-то брату ведь меньшому,
А меньшому слушать да большаго,
А большому слушать брата меньшаго,
Кабы не братец ты крестовый £ыл,
А некого бы я не послушал зде!
Дак послушаю я братца нунь крестоваго, А крестоваго братца я названаго,
А тот ли-то князь стольне-киевской А знал-то послать меня кого'позвать! Когда ты меня, Добрынюшка Микитинич, Меня позвал туды да на почестной пир, Да я тебя, братец, же послушаю.
Да приходит он к князю к Володимеру Да тот старый казак да Илья Муромец А со тым с Добрынюшком с Микитичем,
А со братом со своим да со крестовыим*
А давают ему тут место не меньшое,
А не меньшое место было — большое,
А садят-то их во больший угол,
А во большой угол да за большой-от стол. Да как налили тут чару зелена вина,
А несли эту чару рядом к ему,
А к старому казаку к Ильи к Муромцу* Да как принял он чару единой рукой А выпил он чару во единой здох«
А другу наливали пива пьянаго,
А несли эту чару рядом к ему,
А принял тут Ильюша единой рукой,
Еще выпил он опять тут во единой здох. Как третью наливали мёду сладкаго,
Да принял молодец тут единой рукой,
Еще выпил он опять тут во единой здох. Тут наелиси, напились вси, накушались, Да стали тут оны да вси пьянёшеньки А стали тут оны вси веселешеньки.
Как говорит Илья тут таково слово:
— Ай же ты князь стольнё-киевской!
А знал-то послать кого меня позвать,
А послал-то братца ко мне ты крестоваго, А того-то мни Добрынюшка Никитича. Кабы-то мни да ведь не братец был,
А некого-то я бы не послухал зде,
А скоро натянул бы я свой тугой лук,
Да клал бы я стрелочку каленую,
Да стрелил бы ти в гридню во столовую,
А я убил бы тя князя со княгиною.
За это я тебе-то нунь прощу А этую вину да ту великую.
ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И ГОЛИ КАБАЦКИЕ
От того от города от Галичи Да ко городу было ко Киеву Идё калика пере'хожая.
Балахонишко одето веретном тряхнуть, Татавурищом он подпоясался,
Лапотцн на ножках ёво липовы,
Бородушка у старого седёхонько,
Головушка у стара на убел бела.
Да идёт старик по городу по Киеву, Захотелось зайти стару на царев кабак,
Да выпить стару зелена вина.
Идёт-то старой потихохонько,
Да ступает старой полегошенько,
Он молитву творит и воисусову,
Нн крест кладет по писаному,
Клонится на все четыре на стороны:
— Да здравствуйте, чумаки вы чёловальники, И здравствуйте, бурмисты ларечные!
Ай вы чумаки чёловальники!
И налейте вина мне полтора ведра,
Да опохмельте калику перехожаго.
Розопьюсь я старой, выпью на две тысящи, Говорят чумаки человальники:
— Тебе нё во что старому поверитш Да головушка у стараго седёшенько,
Да бородушка у стара на убел бела,
На головушки у стараго зелен колпак,
Да сорочишка'одежда исприношена.
Да снимае с ворота старой чуден крест,
В долину крест он и две четверти,
Поперёк-то крест и в делу четверть,
В толщину-ту крест был он и двух верхов,
Он старого червоннаго золота.
Не берут чумаки ли целовальники,
Не берут у него креста чуднаго.
И те ли бедны голи кабацкие,
Да те ли мужики деревенские,
Склали мужики они по денежки,
Да побольше тово по копеечки,
И купили вина полтора ведра.
Да примае старой одной рукой,
И выпил старой на един на дух.
Говорил им старой таково слово:
— Вам спасибо, голи кабацкие,
Да спасибо, мужики деревенские! Напоили стара меня до пьяна,
Не напоили только стара роззадорили,
И теперь у нас дело поздноё,
Приходите по утру ко мне ранёшенько,
И напою я вином всех вас до пьяна.
Да зашол старик на печку кирпичную, И спит там старой просыпается.
Да ставае по утру он ранёшенько,
До восходу тёпла краснаго солнышка,
Да спрашивать ключов стал ларечников. Ен и пришол ко погребам ко винныим, Да отворяет старой двери дубовые,
Берет бочку сороковку под пазуху*
Да другу сороковку под другую, ён и третью сороковку ногой катит,
Да выкатывал старой на зеленой луг,
Но на ту ли площадь торговую,
Да скрычал да старой громким голосом:
— Эй же вы голи'кабацкие,
Да вы мужики деревенские!
Ступайте вы ко стару на почестной пир, Напою вином я всех вас до пьяна.
А те ли чумаки ли чёловальники, Собралось их человек до восьмидесяти, Отбивать ли у стара зелена ви-на.
Ничего не могли у стара сделати,
Да пошли просить ко князю Владимиру, Да на этого калику перехожаго.
— Ты Владимир князь столен-киевской! Да у нас-то было во вчерашной день Неведома калика появиласе:
Борода у калики седёхонька,
Голова у калики на убел бела, Сорочинская одежда вся истаскана, Лапотци на ножках ёво липовы.
Да зашёл в подвалы к нам во винные, Бочку сороковку брал под пазуху,
И другу сороковку брал под другую,
Да третью сороковку ногой катил.
Да выкатывал старой на зеленой луг.
На ту ли площадь торговую,
Да собрал мужиков деревенские,
И собрал голей он и кабацкие,
И роспоил вино да и безденежно.
И где мы эту сумму, сударь, будем взыскивать? Говорил князь им таково слово:
— Ай же чумаки вы человальники!
Посмотрю я калики перехожего,
Да за это я вам росчитаюсе.
И роспоил стар зелено вино,
Говорил старой таково слово:
— Ай вы голи кабацкие,
Да вьГмужики деревенские!
Вы ступайте теперь по своим местам,
По своим местам, по своим домам,
По своим домам к молодым женам,
К молодым женам, к малым деточкам.
Я пойду теперь старой на царев кабак,
Да пойду ведь я на печку кирпичную,
И буду я старой просыпатисе.
Да по тому ли по утру по ранному Приходя от князя слуги верные,
Говорят ене таково слово:
■— Ай ты калика перехожая!
Ты ступай-ко ко князю ко Владимиру.
Говорил им старой таково слово:
— Ай же вы братцы товарищи!
Напрасно меня стара беспокоите,
Не даете мне старому проспатисе.
Сошел старик со печки кирпичные,
Да пошол старик по городу по Киеву,
Мимо этие палаты княженецкие.
И кричит старой громким голосом:
— Ай ты Владимир князь столен-киевской! Получай-ко сумму за зелено вино
Ты с донского казака ли с Ильи Муромца,
Я пойду теперь старик во чисто поле,
И на ту пойду дорогу на Латынскую,
И на ту пойду заставу богатырскую,
Да под тот пойду старой под сырой дуб.
156
ТРИ ПОЕЗДКИ ИЛЬИ МУРОМЦА
Да ездил там стар по чисту полю,
Ото младости ездил до старости.
Да хорош был у стараво доброй конь, ,
За реку-ту перевозу мало спрашивал.
Да едет-де старый чистым полем,
Да большой-то дорогою Латынскою,
Да наехал на дороги горюч камень.
Да на камешки подпись подписана:
— Старому-де казаку да Илье Муромцу Три пути пришло дорожки широкие:
А во дороженку ту ехать, убиту быть,
Во другую ту ехать, женату быть,
Да во третью ту ехать, богату быть.
Да сидит-де старик на добром коне, Годовой-то качат проговариват:
— Да я кольки по святой Руси не езживал, Такова-то чуда век не видывал.
Да на что мне-ка старому богачество, Своего-де у мня много злата серебра,
Да и много у меня скатняго жемчугу.
Да на что мне-ка старому женитися,
Да женитися мне не нажитися. Молодая-та^жена взять чужа корысть,
Да мне-ка старой жены взять не хочется.
Да поехал в ту дорогу, где убиту быть,
Да наехал на дороге-то станицу разбойников. Да разбойников стоит до пятй их сот,
Да хотят они у старого коня отнять,
Да сидит-де старик на добром коне,
Да головой-то качат проговариват:
— Да вы разбойники братцы, станичники! Вам убити-де старика меня некого,
Да отняти у стараво нечево,
Да с собою у мня денег семь тысячей,
Да точмяна узда в целу тысящу,
Да ковано мое седло во девять тысящей, Своему-де я добру коню цены не знай,
Да я цены не знай бурку, не ведаю:
Да меж ушми у мня у коня скачён жемчуг,
Драгое самоцветное каменьё
Да не для ради красы-басы молодецкие,
Для ради темной ночки осенные,
Чтобы видно, где ходит мой доброй конь. Да говорят ему разбойники станичники:
— Да ты старая собака, седатой пёс!
Да и долго ты стал разговаривать.
Да скочил-де старик со добра коня,
Да хватил-де он шапку со буйной головы, Да и начал он шапкой помахивать.
Да к куды-де махнёт — туда улицы,
Да назадь отмахнёт — переулочки.
Да разбил ён станицю розбойников,
Да разбойников розбил подорожников.
Да садился старик на добра коня,
Да поехал он ко латыру камешку,
Да на камени подпись поднавливал:
— Да старому-де казаку а Илье Муромцу На бою старику смерть не писана,
Да и та* была дорожка прочищена,
Да от стольнево города от Киева,
Да от Киева лежит а ко Чернигову,
Да еще было дорожка изведати:
— Отчево старику буде женитися,
Да женитися мне не нажитися,
Да молодая жена взять чужа корысть,
Да мне старой жены взяти не хочется.
Да поехал большою дорогою,
Да наехал на дороги крепость богатырскую. Да стоит туто церковь-еоборная,
Да соборная богомольняя.
От тоё-де обедни полудённые Идет двенадцать прекрасные девици,
Да посреде-то их идёт королевична. Говорила королевна таково слово:
— Ты удалой дородний доброй молодец!
Да -пожалуй ко мне во высок терём,
Да напою накормлю хлебом солью.
Да соходил-де старик со добра коня,
Да оставливал он добра коня,
Не прикована да не привязана.
Да пошол-де старик во высок терём,
Да мосты-ты под старым качаются, Переводники перегибаются.
Да зашол-де старик во высок терём,
Да садился за столы за белодубовы,
Да он ест-де пьёт проклажается,
Да весь долог день да до вечера.
Да выходил из-за стола из-за дубоваго,
Да и сам говорил таково слово:
— Ты ли, душечка, красная девушка!
Да где-ка твои ложни тёплые.
Да и где твои кровати тесовые,
Где-ка мяккие перины пуховые?
Да мне на старость старику бы опочинуться.
Да" привела его-де в ложни теплые.
Да стоит старой у кровати головой качат, Головой-то качат проговариваг:
— Да я кольки по святой Руси не езживал, Такова-де я-то чуда век не видывал, '
Да видна эта кроватка подложная.
Да хватил королевну за белы руки,
Да шибай ей ко стены кирпичные. Обвернуласе кроватка тисовая,
Да увалилась королевна во глубок погрёб.
Да выходил старик на улицю паратную,
Да нашол двери глубокаго погреба,
Да колодьем-то были призавалены,
Да пескамы-ты были призасыпаны.
Да ён колодья ногами распихивал,
Да пески-ты руками роспорхивал,
Да нашол двери глубокаго погреба,
Да пинал ворота ногой вальячные,
Да с крюков с замков двери вон выставливал, Да выпущал сорок царей сорок царевичев,
Да и сорок королей королевичев,
Сорок сильних могучих богатырёв.
Да и сам говорил таково-слово:
— Да вы подьте, цари, по своим землям,
Да вы короли по своим Литвам,
Да вы богатыри по своим местам.
Да идёт душечка красная девушка,
Да ён выдергиваёт саблю вострую,
Да срубил ей по плеч буй ну голову,
Да рассек, разрубил тело женскоег Да куски-ты разметал по чисту полю,
Да серым-то волкам на съедение,
Да черным воронам на пограяньё.
Да садился старик на добра коня,
Да приехал он ко латырю каменю,
Да на камешки подпись поднавливал:
— Старому-де казаку да Ильи Муромцю Да и та была дорожка прочищена.
Да от стольняго от города от Киева,
Да от Киева лежит а ко Царюграду,
Да еще было дорожка изведати,
Да отчего-де старику будё богачество.
Да поехал он большою дорогою,
Да наехал на дороги пречудной крест,
Да стоит у креста головой качат, Головой-то качат приговариват:
— Да я кольки по святой Руси не езживал Дакова-то-де я чуда век не видывал.
Да этот крест есть не прост стоит,
Да стоит он на глубоком на погребе,
Да есть несметноё злато серебро Да соходил-де Илья со добра коня.
Да и брал крест ён на руки на белые,
Да снимал со глубокаго со погреба,
Да воздвигнул живот в славный Киев град. Да построил он церковь соборную, Соборную да богомольнюю.
Да и тут ведь Илья-то окаменел,
Да поныне ево мощи нетленные.
АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕИ
Как Олешенька Попович сын Иванович Ён на далечи далечи на чистом поли Да едет-ка тут Олешенька да и на добром коне,
Да как видит-то он Тугарина невернаго,
Высдко летит Тугарин, близ под облакой,
Как тут Олешенька спустился-то с добра коня,
Да как ставился Олеша на восток лицём,
Да он молится тут господу святителю:
— Дай-ко ты, господи, дождичка частаго да и мелкаго, Чтобы омочило у Тугарина бумажны крыльиця, Спустился бы Тугарин на сыру землю,
Да как мне было с Тугарином посъехаться.
Да и по Олешенькину тут молению,
Как по божьему-то по велению,
Наставала тученька-то темная С частыим дождичком да с молнией,
160
Омочило у Тугарина бумажные крыльица, Спустился тут Тугарин на сыру землю.
Да как едет-то Тугарин на добром коне,
На добром коне да по сырой земле,
А идет Олешенька к нему на стрётушку.
Как тут Задолище поганое Замахнулся он кинжалом-то булатныим,
Что срубить Олеше буйну голову;*
Да как был Олешенька востёр собою, Завернулся он за ту гриву лошадиную, Промахнулся тут Тугарин-тот неверный,
Ушло с рук кинжалище булатное,
Ушло в землю до череня.
Как был Олешенька востер собою, Повывернулся тут он з-за гривы лошадиноёй,
Ен ударит своей палицей военноей Тугарина, Своротилось'главище на праву страну,
А ’ице тулово да на левую.
Берет Олешенка Попович сын Иванович Кинжалище булатное,
Воткнул он в буйную голову,—
Не может ен главища на плечо поднять, Закрычал он своим зычным жалким голосомз
— Уж вы служки панюшки, верны нянюшки. Подсобите-ко главище на плечо поднять.
Подбежали служки панюшки, верны нянюшки. Подсобили главище на плечо поднять.
Несёт он тут к своему добру коню,
Привязал он желтыма волосочкамы Ко тым стремянам да лошадиныим,
Поехал он ко городу ко Киеву.
Подъезжает он ко городу ко Киеву,
Крычит он да во всю голову:
— Ай же вы бабы портомойницы!
Я привез-то вам буцище со чиста поля,—
Вы хоть платье мойте, а хоть золу варите,
Хоть всим городом ср . . . ходите.
ДУНАЙ
А Владымир князь стольне-киевской Заводил он почестей пир пированьицо А й на всех-то на князей на.бояров,
6—гЗЗ! 1
161
Да й на русьскйх могучих богатырей,
На всех славных поляниц на удалыих,
А сидят-то молодци на честном пиру,
Все-то сидят пьяны веселы;
Владымир князь по горенки похаживал,
Пословечно государь выговаривал:
— Все есть добры молодци поженены,
Красный девушки замуж даны,
Столько я один хожу холост не жененой:
То вы знаете ль мне, братци, супротивничку,
Чтобы личушком она да й супротив меня,
Очушки у нёй бы ясных соколов,
Бровушки у ней бы черных соболей,
А походочкой она бы лани белою,
Белою лани напольскою,
Напольской лани златорогия,
А чтобы было бы мне с ким жить да быть, век коротати, А ’ще вам молодцам было б то кому поклонятися?
Все богатыри за столиком умолкнули,
Все молодци да приутихнули,
За столом-то сидят затулялися;
Большая тулится к середнюю,
Середнюю тулится за меньшую,
А от меньшой тулицы ответу нет.
3-за того <з> за столичка дубоваго,. •
Из-за тых скамеечек окольниих Вышел старыя Пермин сын Иванович,
Понизешеньку князю поклоняется:
— Владымир князь и стольне-киевской!
Благослови-ко государь мни словце вымолвить.
А ’ще знаю я тоби супротивничку:
Личушком-то она супротив тобя,
Очушки у нёй ясных соколов,
Бровушки у ней черных соболей,
А походочкой она лани белыя,
Она белыя лани напольския,
А напольской лани златорогою;
Тоби буде с ким жить, век коротати,
Нам молодцам будет-то кому поклонятися.
А во той ли во славной в хороброй Литвы,
У того ли-то у короля литовского,
Есть прекрасна дочь Опраксья королевична,
Да й сидит она во тереми в златом верху;
На ню красное солнышко не ббпекет,
162
Буйный ветрушки не обвеют,
Многим люди не обгалятся.
Есть-то у короля друга дочь,
Друга дочь Настасья королевична;
Она ездит во чистом поли, полякуетг Сильнё поляничищо удалое.
Говорил Владымир таковы слова:
— Лй же мои князи бояра,
Сильнии русский могучий богатыря,
Славны поляници вси удалый!
Мни кого-то послать из вас-то посвататься, За меня за князя Владымира,
У того ли то у короля литовскаго На прекрасной на Опраксьи королевичной?
Все за столом сидят умолкнули,
Все молодци приутихнули.
Старыя Пермин сын Иванович,
А по горенке Пермин ён похаживает, Пословечно князю ён выговаривает:
— Ты Владымир князь стольне-киевской! Благослови мне государь .словцё молвити*
А й то знаю я'послать кого посвататься За тобя за князя за Владымира
У того у короля литовского На прекрасной Опраксьи королевичной: Послать тихого Дунаюшка Ивановича; Тихия Дунай во послах бывал,
Тихия Дунай много земель знал,
Тихия Дунай говорить горазд Да ёму-то Дунаюшку посвататься За тобя за князя за Владымира У того у короля литовскаго На прекрасноей Опраксьи королевичной, Славныя Владымир стольне-киевской Скоро шел по горенке столовый,
Брал-то он чарочку в белы руки, Наливал-то он чару зелена вина,
А не малую стопу — полтора ведра, Разводил ён медамы стоялыма,
Подносил он-то ко тихому Дунаюшку,
Кб тому Дунаюшку Ивановичу;
Тихия Дунаюшко Иванович Он скорешенько ставает на резвы ножки, Чару брал от князя во белы ручки,
Принял-то он чарочку одной ручкой, Выпил-то он чарочку одным душком,
Подал чарочку он князю Владимиру, Понизенько он князю поклоняется:
— А Владимир ты князь стольне-киевской! Благослови мне государь словцё вымолвить. Еду я посвататься за князя за Владымира И у того у короля литовского
На прекрасноей Опраксьи королевичной; Столько дай-ко ты мне еще товарища, Молода Васильюшка Казимирова.
А Владымир князь стольне-киевской Он скорешенько брал чару во белы ручки, Наливал он чару зелена вина,
Не малую стопу — полтора ведра,
Розводил ён медамы все стоялыма,. Подносил ён к Василью Казимирову. Молодой Василий'Казймирович Скорешенько ставал на резвы ножки, Чарочку он брал во белы ручки От того от князя Владымира,
Принял-то он чарочку одной ручкой,
Выпил он чарочку одным душком,
Подал он чарочку князю Владымиру, - Понизешенько Владымиру поклоняется:
— Ты Владымир князь стольне-киевской! Благослови государь словцё вымолвить.
Еду я с Дунаюшком посвататься
За тобя за князя за Владымира А й у славного у короля литовского Прекрасную Опраксью королевичну;
Дай-ко еще нам товарища,
Моего-то братца крестового,
А Васильюшка паробка заморского:
А ёму-то Васильюшку коней седлать,
Да ему-то Васильюшку росседлывать,
А ему-то Васильюшку плети подовать,
Ему плети подовать, ему плети принимать.
Владымир князь стольне-киевской Берёт он чарочку во белы руки,
Наливает он чару зелена вйна,
А не малую стопу — полтора ведра, Розводил ён медамы все стоялыма, Подносил ён к Васильюшку ко паробку,
164
А к Васильюшку ко паробку заморскому. Ставился Василей на резвы ножки, Брал-то он чару во белы ручки,
Принял он чарочку одной ручкой,
Выпил он чарочку одним душком,
А Владымиру то князю поклоняется.
А пошли они с полаты белокаменной, Выходили молодци они на Киев град. Шли в свои полаты белокаменный,
А седлали добрых коней богатырскиих,
А поехали роздольицем чистым полем А во славную в эту в хоробру Литву.
А приехали оны на широк на двор Ко тому ли оны к королю к литовскому*. Тихия Дунаюшко Иванович А с товарищем Василием Казимировым А пошли оны в полаты белокаменный,
А Васильюшко паробок заморскиий Стал-то он по' двору похаживать,
За собою стал добрых коней поваживать* Тихия Дунаюшко Иванович,
Молодой Василей Казимиров.
Как прошли они в полаты белокаменны, Заходили во столовую во горенку,
За пяту дверь поразмахивали,
Они господу богу помолилися,
Били челом низко кланялися,
Самому-то королю они в особину,
Всем-то князьям подколенныим.
Садил их король за единой стол,
А кормил-то их ествушкой сахарною,
А поил-то их питьицем медвяныим. Тихому Дунаюшку Ивановичу Подносили к нему чару зелена вина,
То не малую стопу — полтора ведра; Тихия Дунаюшко Иванович,
А скорешенько ставал на резвы ножки, Чарочку он брал во белы ручки,
Брал-то он чарочку одной ручкой,
Он за этою за чарочкой посватался У того у короля литовского На его на дочери любимоёй,
На прекрасноёй Опраксы королевичной, За своёго за князя Владымира.
Говорил король таковы слова:
— Глупой князь Владымир стольне-киевской! Ен не знал кого послать ко мне посвататься, Из бояр мне-ка боярина богатаго,
Из богётырей богатыря могучаго,
Из крестьян мне-ка крестьянина хорошаго,
Он послал мне-ка холопину дворянскую!
Ай же мои слуги верный,
Вы берите тко Дуная за белы ручки,
Да й ведите-тко на погреб холодный,
За нёго за речи неумильнии.
Тихия Дунаюшко Иванович Скоро-то он скочит через золот стол,
А схватил ён татарина за ноги,
Стал ён татарином помахивати,
Стал бить татар, поколачивати,
А король-то по зйстолью бегаёт,
Куньею шубой укрывается.
Говорит король таковы слова:
— Ай же тихия Дунаюшко Иванович!
А садись-ко со мной за единой стол,
Ешь-ко ты пей с одной мисочки.
Сделаем с тобою мы сватовство
Да на моёй ли на дочери любимою,
На прекрасноей Опраксы королевичной,
За того за князя Владымира.
Говорил Дунай таковы слова:
— Ай же король ты литовскии!
Еще не учёствовал молодцев приедучись,
Не ужаловать-то молодцев поедучись.
В честь я Опракеию да королевичну Да возьму-то я за князя за Владымира,
А не в честь я возьму за товарища За того Васильюшка Казимирова.
Тихия Дунаюшко Иванович Скоро шел полатой белокаменною, Выходил-то Дунай на широк на двор, Приходил ён ко терему к златым верхам, Стал Дунаюшко замочиков отщалкивати,
Стал Дунаюшко он дверцей выставливати,
Он приходит-то во терем во златы верхи;
По тому-то терему злату верху А Опракеия королевична похаживаёт А в одной тонкой рубашке без пояса,
166
А в одних тонких чулочках без чоботов,
У нёй. русая коса пороспущена.
Воспроговорил Дунай таковы слова:
— Ай же ты Опраксия королевична!
А идешь ли ты замуж за князя за Владымира?
Говорит ёму Опраксия королевична:
■— Ай ты славныя богатырь святорусския!
Три году я господу молилася,
Чтоб попасть мнека замуж за князя за Владымира Брал ён ю за ручушки за белый,
Брал ю за перстни злаченый,
Целовал в уста во сахарнии А за нёй за речи умильнии,
Выводил он ю со терема златых верхов,
, Привадил ю Дунай на широкой двор,
А садил ю Дунай на добра коня,
На добра коня садил к головы хребтом,
Сам Дунаюшко садился к головы лицём.
Оны сели на добрых коней, поехали А по славному раздолью чисту полю;
Их достигла темна ночка в чистом поли,
Они спать легли поклаждатися.
Говорит-то Дунаюшку Ивановичу А прекрасная Опраксия королевична:
— Ай же тихия Дунаюшко Иванович!
У меня-то ведь есть сестра родная,
А Настасья есть королевична,
Она сильня поляница и удалая,
Она езди во чистом поли, полякует,
Как наедет-то она ко белым шатрам,
Во белых шатрах нам живым не бывать.
Эта Настасья королевична Узнала -про сестрицу свою родную,
Увезли у ней сестрицу на святую Русь,
Не влюби у них брали богатыри;
Она ехала в погону по чисту полю,
А скакала на кони богатырскоём Да по славну роздолью чисту полю;
По целой версты конь поскакивал,
По колен он в земелюшку угрязывал,
Он с земелюшки ножки выхватывал,
По сенной купны он земелики вывертывал,
За три выстрелы камешки откидывал.
Не путём она едет не дороженкой,
Она ехала роздольицем чистым полем, Проехала она да сестру родную,
А проехала она и мимо Киев град.
Тихия Дунаюшко Иванович,
Садился Дунай на добрых коней,
А садил ён Опраксу королевичну А Василью Казимирову да й на добра коня. А садил-то ю к головы хребтом,
А Васильюшко-то садился в головы лицём. Тихия Дунаюшко Иванович А послал с нима паробка любимаго,
Он того Василия заморскаго.
Отвести ю князю на широкой двор Отвести в полаты белокаменны А подать-то ю князю во белы ручки.
А сам тихия Дунаюшко Иванович Он поехал во роздолье чисто поле Посмотреть на поляницу удалую,
А й на этую Настасью королевичну, Молодой Васильюшко Казимиров,
Со своим со паробком любимыим,
Они ехали роздольицем чистым полем На добрых конях на богатырскиих, Ускоряли-то оны скоро-на-скори, Приехали-то они в стольней Киев град А ко славному ко князю на широкой двор,
А скорешенько спустились со добрых коней, Опустили-то Опраксию королевичну Со добра коня с богатырскаго.
А повел-то ю Васильюшко Казимиров Во эту полату белокаменную Ко тому ко князю ко Владымиру,
Подал он ю во белы ручки.
Тихия Дунаюшко Иванович Ехал он роздольицем чистым полем,
Ен наехал поляницю во чистом поли. Становил ён поляницю супротив собя, Говорил ён поляници таковы слова:
— Ай же Настасья королевична!
Я достал твою сестрицу родимую,
А достал замуж за князя Владымира.
Ты идёшь ли замуж за Дунаюшка,
За того за Дунаюшка Ивановича?
Говорила Настасья королевична:
168
— Тихия Дунаюшко Иванович,
Славный богатырь святорусьскии!
Если ты мной не ломаешься,
Я иду это замуж за Дунаюшка,
За тобя Дунаюшка Ивановича.
Оны сели на добрых коней, поехали.
Приехали они в стольнё-Киев град,
А приехали ко матушке к божьёй церквы;
А Владымир князь стольне-киевской Повенчался ён во матушке в божьей церквы А со тою со Опраксой королевичной,
А й выходит ён со божьёй церквы;
Тихия Дунаюшко в церкву пошел Повенчатися с сестрицей со другою,
А со тою с Настасьей королевичной.
Во божьёй церквы повенчалися,
Принимали-то оны золоты венцы,
Они заповедь великую покладали:
А что жить-то им быть, век коротати.
Выходил-то Дунай со божьей церквы,
Приходил ён ко князю ко Владымиру, 4 Сделали оны тут почестей пир,
А й на всех-то князей на всех бояров,
На всех русскиих могучиих богатырей,
На всех славныих поляниц на удалыих.
Все на пиру наедалися, >
Все на пиру напивалися,
Все на пиру поросхвйсталися,
Хвастает богатой золотой казной,
Золотой казной он бессчетною,
Щеголь хвастает одежей драгоценною,
Сильной хвастает-то силушкой великою,
Иной хвастает богатырь добрым конем;
Тихия Дунаюшко Иванович Он выходит-то з-за столика дубоваго,
Из-за тых скамеёк окольниих,
От своей семеюшки любимдёй,
От молодой от Настасьи королевичной,
Стал Дунаюшко по горенке похаживати, Пословечно Дунай выговаривати:
— Нет мене лучше молодця во всем Киеве!
А й никхо не смел ехать посвататься
Да й за славного за князя Владымира На Опраксии королевичной,—
169
Сам я женился и людей женил,
Сам я боец и удалой молодец,
А горазд-то стрелять я из луку из тугаго! Говорила Настасья королевична1
— Свет ты здержавушка любимая,
Тихия Дунаюшко Иванович!
А нечем-то ведь я да не хуже тобя:
Сила моя есть побольше твоёй,
А ухваточка моя удалее тобя.
А Дунаюшку то дело не слюбилося,
А молода жена перехвастала.
Говорил Дунай таковы слова:
— Ай же Настасья королевична!
А ставай-ко ты на резвы ножки,
Поедем мы с тобой во чисто поле,
Востроты мы у друг друга отведаем.
Вышел Дунай во чисто доле,
Положил ён колечко серебряно На свою на буйну головушку А й наставил ён свой вострой нож,
Говорил ён Настасьи королевичной:
— Ай же Настасья королевична!
Отойди-тко от меня да за пятьсот шагов, Пропусти-тко эту стрелочку каленую
По тому острею по ножевому,
Чтобы стрелочка катилась на две стороны, На две стороны катилась весом равная И угодила бы в колечко серебряное.
Этая Настасья королевична Она брала свой тугой лук разрывчатой, .Налагала она стрелочку каленую,
Натягала она тетивочку шелковенку А спущала в эту стрелочку каленую; Пропустила эту стрелочку каленуТо По тому острёю по йожевому,
Прокатилась эта стрелочка каленая По тому острею на две стороны весом ровно, Угодила во колечко серебряно.
Трй раза она Настасьюшка прострелила Из того из лука из розрывчата По тому острею по ножевому,
Пропустила эту стрелочку каленую Да й во то ли во колечко во серебряно. Говорил-то ёй Дунай да таковы слова:
— Становись-ко ты Настасья супротив меня. Он покладал ёй колечико серебряно
Да на нёй на буйную головушку. >
Ен наставил свою нож булантюю И то отшел он от Настасьюшки пятьсот шагов То Настасья королевична молилася А й молилася она да й горько плакала:
— Ай же тихия Дунаюшко Иванович,
Ты меня прости во' женской глупости.
А й по поясу вкопай меня в сыру землю,
А’ще бей-ко ты меня да й по нагу телу,
А прости меня во глупости во женскою,
Не стреляй-ко ты из луку из розрывчата,
Не спущай-ко стрелочки каленыя По тому ты по острею по ножовому Да й во то колечко во серебряно.
А й теперь-то ты, Дунаюшко, хмельнёшенек,
А й теперь, Дунаюшко, пьянешенек,
А убьешь меня ту молоду жену,
А й ты сделать две головки бесповинныих.
У меня с тобой во чреве есть чадо посеяно,
По коленкам у него есть ножки в сёребри,
По локоточкам ёго ручки в красном золоти,
А назади у него пекет светёл месяц,
От ясных очей как будто луч пекет.
Ничего тому Дунай да не пытаючись,
Как брал тугой лук да свой розрывчатой, Наложил-то стрелочку каленую,
Ен спустил тетивочку шелковую.
Пролетела эта стрелочка каленая Ай Настасье королевичной да во белы груди, А й тут Настасьюшки славу поют.
Пришел тихий Дунаюшко Иванович,
Подошел он к ней да порасплакался,
А он брал свою да саблю вострую,
Роспластал он ёй да чрево женское, Посмотрел-то как у них чадо засеяно:
По коленочкам-то ножки в серебри,
По локоточкам-то ручки в красном золоти,
По косицам у него как звезды частыя, Назаду-то него да как светёл месяц,
От очей-тых от него как быдто луч пекет.
Да тут тихия Дунаюшко росплакался,
И говорил Дунай да таковы слова:
171
— Айпотых пор видно, что Дунаюшко женат бывал! Становил-то он свою да саблю вострую,
Говорил Дунай да таковы слова:
— Наперед-то протекла река Настасьина,
А другая протеки река Дунаева!
Становил свою он саблю вострую,
Да он пал на саблю ту на вострую,
Отрубил свою буйну головушку.
Тут Дунаюшку с Настасьюшкой славу поют,
Им славу поют да веки по веку,.
дюк
Из славнаго города из Галича,
Из Волынь земли богатые,
Да из той Карелы из упрямые,
Да из той Сорачины из широки,
Из той Индеи богатые,
Не ясен сокол там пролётывал,
Да не белой кречетко вон выпорхивал,
Да проехал удалой дородний доброй молодец, Молодой боярской Дюк Степанович.
Да на гуся ехал Дюк на лебедя,
Да на серу пернасту малу утицу, ,
Да из утра проехал день до вечера,
Да rfe наехал не гуся и не лебедя,
Да не серой пернастой малой утицы.
Да не расстреливал ведь Дюк-от триста стрел, Да триста стрел ровно три стрелы,
Головой-то начат проговариват:
— Да всем-то стрелам я цену знаю,
Только трём стрелам я цены не ведаю.
Почему эти стрелы были дороги?
Да потому эти стрелы были дороги,
На три гряночки были стрелы строганы,
Да из той трестиночки заморские.
Да еще не тем стрелы были дороги,
Что на три гряночки были стрелы строганы,
Да тем-де были стрелы дороги,
Перены-де пером были сиза орла,
Не того орла сиза орловича,
Да которой летае по святой Руси, 4 Бьет сорок, ворон, черную галицу,
172
Да тово-де орла сиза орловича,
Да который летае по синю морю,
Да и бьет-де он гуся да и лебедя И отлетаёт садится на бел камень,.
Щиплет ронитде перьица орлиные^
Да отмётыват на море на синеё.
Мимо едут-де гости карабельщики,
Да развозят те перьица по всем ордам,
По всем ордам по всем украинам,
Дарят царей всё царевичёв,
Дарят королей и королевичёв,
Дарят сильных могучих богатырёв.
Да пришли эты перья мне во даровях, Оперил-де я этым пёрьем три стрелы.
Да еще не тем, братцы, были стрелы дороги, Что перены-де были перьем сиза орла, —
Да тем-де стрелы были дороги:
В нос и в пяты втираны каменья яфанты.
Где стрела та лежит, так от ней луч печёт, Будто в день от краснаго от солнышка,
Да в ночи-то от светлаго от месяца.
Да собирал Дюк стрелы во един колчан. Да дело-то ведь, братцы, деется:
Да во ту ли во суботу великодённую Да приехал Дюк во свой Галич град,
Да ушли ко вечерни ко христовские,
Да пошол Дюк ко вечерни христовские, Отстояли вечерню в церкви божьей,
Да выходит-де Дюк из божьёй церквы, Становился на крылечки перёные.
Да выходит ево матушка из божьей церквы, Да понизешенько Дюк поклоняется,
Да желтыма-ты кудрями до сырой земли,
Да и сам говорит-то таково слово:
-— Государыни ты свет а моя матушка! .
Да на всех городах, мать, много бывано,
Да во городи во Киеви не бывано,
Да Владимира князя, мать, не видано,
Да государыни княгины свет Апраксий.
Дай мне, матушко, прощенье-бласловлеиие — Съездити во Киев град,
Повидати солнышка князя Владимира, Государыню княгину свет Апраксию.
Говорила ему мать да таково слово:
— Да свет ты моё чадо милое,
Да молодой ты боярской Дюк Степанович! Да не езди тко ты ужо во Киев град.
Да живут там люди всё лукавые,
Изведут тебя доброго молодца,
Быв хороша наливного яблока.
Да говорил Дюк матери ответ держал:
— Да государыни моя ты родна матушка! Да даси, мать, прощеньё — поеду я,
И не даси, мать, прощенья — поеду я.
Да давала матушка прощениё,
Да матушкино благословениё,
Давала матушка плётоньку шелковую.
Да поклон отдал Дюк, прочь пошол Да ходил на конюшню стоялую,
Да выбирал жёребца себе неёзжана,
Да изо ста брал да из тысячи,
Да и выбрал себе бурушка косматого.
Да у бурушка шорсточка трёх пядей,
Да у бурушка грива была трёх локот,
Да и фост-от у бурушка трёх сажён.
Да уздал узду ему течмяную,
Да седлал ён седелышко черкасское,
Да накинул попону пестрядиную,
Да строчена была попона в три строки: ,
Да первёя строка красным золотом,
Да другая строка чистым сёребром,
Да третья строка медью казаркою.
Да котора-де была казарка медь, Да^подорожке ходит злата и серебра,
Да не дорога узда была в целу тысящу,
Да не дорого седёлко во две тысящи,
Да попона та была во три тысячи. Снарядил-де Дюк лошадь богатырскую,
Да отходит прочь сам посматриват,
Да посматриват Дюк поговариват:
— Да и конь ли лошадь, али лютой зверь, Да с- под наряду добра коня не видети.
Да в торока-ты кладёт платья цветные,
В торока-ты кладёт калены стрелы,
Да в торока-ты кладёт золоту казну,
Да скоро дётина забирается.
Забирался-де скоро на коня ли сам сел, Хорошо-де под ним добрый конь повыскочил,
Через стену маше прямо городовую,
Через высоку башню наугольнюю.
Да хорошо-де пошел в поле добрый конь, Да мети-ты мече он по версты,
Да мети-ты мече по две версты,
Да по две по три пятй-де вёрст.
Да повыше идёт~дерева жаровчата,
Да пониже иде облака ходячего,
Да он реки озёра между ног пустил,
Да гладкие мхи перескакивал,
Да синеё-то море кругом-де нёс.
Да налегала на молодца Горынь-змея,
Да о двенадцати зла-де ли о хоботах,
Да и хочет добра коня огнем пожечь.
Да добрый конь у змеи ускакивал,
Да добра молодца у смерти унашивал.
Да налегал тут на молодца лютый зверь, Да хочет добра коня живком сглотить,
Да со боярским со Дюком со Степановым. Да доброй конь у зверя ускакивал,
Добра молодца у смерти унашивал.
Да налетело на молодца стадо Грачев,
Да по нашему стадо черных воронов,
Да хотят оны молодца расторгнута.
Да доброй конь у Грачёв ускакивал,
Добра молодца у смерти унашивал.
Да й те заставы Дюк проехал вси,
Да на заставу приехал на четвертую.
Да край пути стоит во поли бел шатёр,
Во шатрй-то спит могуч богатырь,
Да старой-де казак Илья Муромец.
Да приехал-де Дюк ко белу шатру,
Да не с разума слово зговорил:
— Да кто-де там спит во белом шатре,
Да выходи-ко с Дюком поборотися.
Да вставае Илья на чеботы сафьянные, Да на сини чулки кармазинные,
Да выходит старик из -бела шатра,
'Да сам говорит таково слово:
— Да я смею-де с Дюком поборотися, Поотведаю-де Дюковой-то храбрости.
Да одолила-де страсть Дюка Степанова, Да падал с коня Ильи во резвы ноги,
Да и сам говорил а таково слово:
— Да одно у нас на небеси-де солнце красное, Да один на Руси-де могуч богатырь,
Да старой-де кёзак Илья Муромец!
Да кто-де с им смее поборотися,
Тот боками отведает матки тун-травы.
Да Ильи эти речи полюбилисе,
Да и сам говорил а таково слово:
— Да ты удалой дородний доброй молодец, Молодой ты боярской Дюк Степанович!
Да ты будёшь во городи во Киеви,
Да живут там ведь люди всё лукавые,
Да и станут налегать на тёбя молодца,
Да ты пиши ярлыки скорописчаты,
Да ко стрелам ярлыки припечатывай,
Да расстреливай стрелы во чисто поле.
У меня-де летае млад ясён сокол,
Да собирает-де все стрелы со чиста поля,
Да пособлю-де я, детина, твоему горю.
Да поклон отдал Дюк, на коня ли сам сел, Да поехал ко городу ко Киеву.
Да приехал он ведь во Киев град,
Через стену маше прямо городовую,
Да через высоку башню наугольнюю,
Да приехал ко палаты княженецкие.
Соходил он со добра коня,
Да оставливал он добра коня Неприкована ево да непривязана,
Да пошол-де Дюк во высок терём,
Да приходит Дюк во высок терём,
Крест тот клёдет по писаному,
Да поклоны ведет по учёному,
На все стороны Дюк поклоняется,
Желтыма-ты кудрями до сырой земли. Владимира в доме не случилосе,
Да одне как тут ходя люди стряпчие.
Говорит туто Дюк таково слово:
— Да вы стряпчие люди все дворецкие!
Да где у вас солнышко Владимир князь?
Говорят ему люди стряпчие:
— Да ты удалой дородний доброй молодец!
Да изученье мы видим твое полноё,
Да не знамы теби ни имени ни вотчины.
У нас Владимира в доме не случилосе,
Да ушол ко заутрени христовсгкие.
176
Да больше Дюк не разговаривал.
Да выходил он на улицю паратную,
Да садился Дюк на добра коня,
Да приехал к собору богородицы.
Соходил-де Дюк со добра коня,
Да оставливал он добра коня Неприкована ево да непривязана,
Да зашол-де Дюк во божью церковь.
Да крест тот кладёт по писаному,
Поклон ведёт по ученому,
Да на все стороны Дюк а поклоняется,
Желтыма-ты кудрями до сырой земли.
Становился подле князя Владимира,
Промежду-де Бермяты Васильевича,
Промежду-де Чурила сына Плёнковича,
Да кланяется да поклоняется,
Да на платье-де часто сам посматриват.
— Да погода-та, братцы, была вёшная,
Да я ехал мхами да болотами,
Убрызгал-де я свое платьё цветное.
Говорил тут Владимир таково слово:
— Да скажись-ко, удалый дородний добрый молодец! Ты коей орды да коей земли,
Тебя как молодца зовут по имени?
— Да есть я из города из Галича,
Из Волынь-земли из богатые,
Да из той Карелы из упрямые,
Да из той Сорочины из широкие,
Да из той Индеи богатые.
Молодойде боярской Дюк Степанович,
Да на славу приехал к тебе во Киев град.
Говорил-де Владимир таково слово:
— Да скажи, удалый дородний добрый молодец!
Да давно ли ты из города из Галича?
Говорит-де Дюк ему, ответ держит:
— Да свет государь ты Владимир князь!
Да вечерню стоял я в славном Галиче,
Да ко заутрены поспел к тебе во Киев град. Говорил-де Владимир таково слово-
— Да дороги ли у вас кони в Галиче?
Да говорил Дюк Владимиру ответ держал:
— Да есть у нас кони, сударь, по рублю,
Да есть, сударь, кони по два рубли,
Да есть по сту, по два, по пяти-де сот.
177
Да своему-де я добру коню цены не знай,
Да я цены не знай бурку, не ведаю. Говорил-де Владимир таково слово:
— Слушайте, братцы князи бояра!
Да кто бывал, братцы, кто слыхал,
Да от Киева до Галича много ль расстояния? Говорят ему князи да и бояра:
— Свет государь ты Владимир князь!
Да окольней дорогой — на шесть мисяцев,
Да прямой-то дорогой — на три мисяца.
Да были бы-де кони переменные,
С коня-де на конь перескакивать,
Из седла в седло лишь перемахивать.
Да говорят ему князи да и бояра:
— Да сбет государь ты Владимир князь!
Да не быть тут Дюку Степанову,
Токо быть мужичёнку заселыцины,
Да заселыцины быть деревеньщины.
Да жил у купца гостя торговаго,
Да украл унёс платьё цветное.
Да жил у иного боярина,
Да угнал у боярина добра коня,
На иной город приехал и красуется,
Над тобой-то князем надсмехается,
Да над нами боярами пролыгается.
Да отстояли оны заутрйну в церкви божией, Да с обиднею да святые честные молебны. Выходили на улицу паратную.
- Да на улици стоит народу и сметы нет,
Да смотрят на лошадь богатырскую,
На ево-то снаряды молодецкие.
Да садились ёны-де по добрым коням,
Да поехали к высокому терему,
Да еде-де Дюк, головой качат,
Головой-то качат, проговариват:
— Да у Владимира всё а не по нашему.
Как у нас-то во городе во Галиче,
Да у моёй-то сударыни у матушки.
Да мощёны-де были мосты всё дубовые,
Сверху стланы-де сукна багрецовые. Наперёд*де пойдут у нас лопатники,
За лопатниками пойдут и метельщики, Очищают дорогу сукна стлатаго.
А твои мосты, сударь, неровные,
178
Неровные мосты да всё сосновые.
Да приехали оны к широку двору,
Головой-то начат Дюк, проговариват:
— Да хороша была слава на Владимира,
Да у Владимира всё-де не по нашему.
Как у нас во городи во Галиче,
Да у моей-то сударыни у матушки,
Над воротами было икон до семйдесят.
А у Владимира того-де не случилосе,
Да одна та икона была местная.
Да заехали оны на широкой двор,
Да головой начат Дюк, проговариват:
■— Да хороша была слава на Владимира,
У Владимира-де всё а не по нашему.
Как у нас то во городе во Галиче,
Да у моей сударыни у матушки,
На дворе стояли столбы всё серебряны,
Да продёрнуты кольца позолочены,
Разоставлена сыта медвяная,
Да насыпано пшены-то белоярые, 4
Да е что добрым коням пить-есть-кушати,
А у тебя, Владимир, того-де не случилосе.
Да зашли-де оны во высок терём,
Да садились за столы за белодубовы,
Понесли-де по чарке зелена вина.
Да молодой боярской Дюк Степанович Головой-то качат, проговариват:
— Да хороша была слава на Владимира,
У Владимира-де все а не по нашему.
Как у нас-то во городе во Галиче,
У моей-то сударыни у матушки,
Да глубокие были погребы,
Сорока-де сажон в землю копаны.
Зелено вино на цепях висит на серебряных,
Да были в поле-то трубы понавёдены.
Да повеет-де ветёр из чиста поля,
Да проносит затохоль великую,
Да чару ту пьешь — другая хочется,
Да без третьей чары минуть нельзя.
А твое, сударь, горько зелено вино,
Да пахнёт на затохоль великую.
Понесли последню еству — колачики крупишаты. Говорил-де Дюк таково слово:
.— Хороша была слава на Владимира,
179
У Владимира-де все а не по нашему.
Как у нас-то во городе во Галиче,
У моей-то государыни у матушки,
Да колачик съесй, а другаго хочется,
А без третьёго да минуть нельзя.
Да твои, сударь, горькие калачики.
Да пахнут ёны на фою сосновую.
Да тут-то Чурило стало зазорко,
Да и сам говорил таково слово:
— Да свет государь ты Владимир князь!
Да когда правдой детина похваляется,
Дак пусть ударит со мной о велик заклад: Щапить-басить по три года По стольнему городу по Киеву,
Надевать платья на раз, на другой не перенашивать.
Порок поставили пятьсот рублей:
Который из их а не перещапит,
Взяти с того пятьсот рублей.
Премладыи Чурило сын Плёнкович Обул сапожки-ты зелен сафьян,
Носы — шило, a пята— востра,
Под пяту хоть соловей лети,
А кругом пяты хоть яйцо кати.
Да надел ён шубу-ту купеческу,
Да во пуговках литы добры молодцы,
Да во петельках шиты красны девицы,
Да наложил ён шапку черну мурманку,
Да ушисту-пушисту и завесисту,
Спереди-то не видно ясных очей,
А сзади не видно шеи белые.
А молодой боярской Дюк Степанович,
Да по Киеву он не снаряден шол.
Обуты-то у его лапотци-ты семи шелков,
И в этые лапотци были вплетаны Каменья всё яфонты.
Да который же камень самоцветные Стоит города всего Киева,
Опришно Знаменья богородицы,
Да опришно прочих святителей.
И надета была у его шуба-та расхожая,
Во пуговках литы люты звери,
Да во петельках шйты люты змеи.
Да брал он Дюк матушкино благословлениё, Плётоньку шелковую.
so
Да подёрнул Дюк-от по пуговкам,
Да заревели во пуговках люты звери;
Да подёрнул Дюк-от по пётелькам,
Да засвистали во петельках люты змеи.
Да от тово-де рёву от зверинаво,
Да от тово-де свисту от змеиного,
Да в Киеви старой и малой на земли лежит.
Токо малые люди оставалисе,
Да за Дюком всем городом Киевом качнулисе.
— Тебе спасибо, удалый дородний добрый молодец! Перещапил ты Чурила сына Плёнковича.
И тогда взял он с Чурила пятьсот рублей,
Да .купил на пятьсот зелена вина,
Да напоил он голей кабацких всех до пьяна.
Тогда все тут голи зрадовёлисе.
Тут еще Чурилу стало зазорко,
Да сам говорил таково слово:
— Свет государь ты Владимир князь!
Когда ж правдой детина похваляется,
Да пошлём мы туда переписчика,
Во славную во Волынь землю.
— Кого нам послать переписчиком?
— Да пошлём мы Добрынюшка Микитьевица.
Да поехал Добрыня во Волынь землю,
Во славной во Галич град,
Житья его богачества описывать.
Да нашол он три высоки три терема,
Не видал теремов таких на сём свете.
Зашол Добрыня во высок терём,
Да сидит жена стара матера,
Мало шолку, вся в золоте.
Говорил-де Добрынюшка Микртьевич:
— Ты здравствуй, Дюкова матушка!
Тебе сын послал челомбитиё,
Понизку велел поклон поставити.
Говорила жена стара матера:
— Удалой дородний добрый молодец!
Изученье вижу твоё полноё,
Да не знай тебе ни имени ни вотчины.
А я не Дюкова здесь а есть ведь матушка,
А Дюкова здесь а есть портомойница.
Да тут Добрыни стало зазорко.
Отъезжал-де Добрыня во чисто полё,
Да просыпал Добрыня ночку темную.
181
На утро приехал он во Галич град,
Да нашол три высоки три терема,
Не видал теремов таких на сём свете.
Да зашол-де Добрыня во высок терём.
Да сидит жена стара матера,
Мало-де шолку, вся в золоте.
Говорил-де Добрыня таково слово:
— Ты здравствуй, Дюкова матушка!
Тебе сын послал челомбитие,
Понизку велел поклон поставити.
Говорит жена стара матера:
— Удалой ты дородний добрый молодец!
Я не знай тебе ни имени ни вотчины.
Да не Дюкова здесь а есть я матушка,
А Дюкова здесь а есть я божатушка.
Не найти тебе здесь Дюковой матушки.
У нас на утро христово воскресениё,
Да ты стань на Дорогу прешпехтивую,
Где-ка стланы сукна багрецовые.
Наперёд пойдут у нае лопатники,
За лопатниками пойдут метельщики,
Очищают дорогу сукна стланаго,
Дак ты стань на дорогу прешпехтивую.
Да пойдёт тут Дюкова-та матушка.
Да тут Добрыни стало зазорко.
Отъезжал Добрыня во чисто полё,
Просыпал Добрыня ночку темную,
На утро приехал он во Галич град,
Да стал на дорогу прешпехтивую,
Где-ка стланы сукна багрецовые.
Наперед пошли тут лопатники,
За лопатниками пошли метельщики,
Да очищают дорогу сукна стланаго.
Потом пошла ужо тблпа-де вдов,
Пошла тут Дюкова-та матушка.
То умеет детина покланятигя Желтыма кудрями до сырой земли.
— Ты здравствуй, Дюкова же матушка!
Тебе сын послал челомбитие,
Понизку велел поклон поставити.
Говорила Добрыня мати таково слово:
— Скажи ты, удалый дородний добрый молодец* Я не знай тебе ни имени ни вотчины.
А изученье вижу твоё полноё.
У нас севодня христово воскресениё,
Пойдём со мной во божью церковь,
Простой ты обедню воскресённую.
Заберу молодца тебя в высок терём,
Напою накормлю хлебом солию.
Простояли обедню в церкви божией,
Забрала молодца во высок терём,
Поит и кормит да много чествует.
Да премладыи Добрынюшка Микитьевич Выходил из-за стола из-за дубоваго,
Да сам говорил таково слово:
— Да государыни ты Дюкова матушка!
Да я ведь приехал на тебя смотреть,
Житья твоево богачества описывать: Призахвастался сын твой богачеством.
Да брала старуха золоты ключи.
Да привела его в погребы темные,
Где-ка складена деньга не хожалая.
Смекал Добрыня много времени,
Да не мог он деньгам и сметы дать.
Да привела его в амбары мугазенные,
Где-ка складены товары заморские.
Да смекал Добрыня много времени,
Не мог товарам он сметы дать.
Да садился Добрыня на ременьчат стул,
Да писал ярлыки скорописчаты,
Да сам говорил таково слово:
— Да нам с города из Киева,
Да везти бумаги на шести возах,
Да чернил-то везти на трёх возах,
Да описывать Дюково богачество,
Да не описать будёт.
Да прощался Добрыня-то с Дюковой матуШкой, Да садился Добрыня на добра коня,
Да поехал ко городу ко Киеву.
Приехал он в славной Киев град,
Да ко князю Владимиру,
Ярлыки на дубов стол клал,
Словесно-то больше сам роосказыват.
Тогда Дюкова правда сбывается,
Да будто вёшняя вода розливается,
Де еще тут Чурилу стало зазорко,
Да сам говорил таково слово:
— Свет государь ты Владимир князь!
183
Да когда же правдой детина похваляется,
Дак пусть со мной ударит о велик заклад: Скакать на добрых коней,
За матушку Почай-реку,
И назад на добрых конях отскакивать.
И ударились ёны о велик заклад,
Да не о сте оны и не о тысяче,
Да ударились оны о своих о буйных головах: Которой из их не перескочит,
Дак у тово молодца голова срубить.
Премладыи Чурило-то сын Плёнкович, Выводилде Чурило тридцать жеребцов,
Из тридцати выбирал-де самолучшаго.
Да разганивал да он разъезживал,
Из далеча далёча из чиста поля,
Да скакалде за матушку Почай-реку. Молодой-от боярской Дюк Степанович Да не разганивал да не разъезживал,
Да с крутого берегу коня своего приправливал, Да скочил-де за матушку Почай-реку,
И назадь на добром коне отскакивал,
И Чурила к крутому берегу притягивал.
Тогда выдёргивал Дюк-от саблю вострую Да хотел ему срубить буйну голову.
Тогда вступился князь и со княгиною,
Говорили Дюку Степанову:
— Удалый дородний добрый молодец!
Не руби ты Чурилу буйной головы,
Да спусти ты Чурила на свою волю.
Тогда Дюк-от пинал Чурила правой ногой,
Да улетел Чурило во чисто поле,
Да сам говорил таково слово:
— А й-де ты, Чурило сухоногие!
Да поди щапи с девками да с бабами,
А <не> с нами с добрыма молодцами.
Да прощается Дюк-от со князем Владимиром, С государынею княгиной Апраксией.
— Да простите вы, бояра все киевскп,
Все мужики огородники!
Да споминайте вы Дюка веки на веки.
Да садился Дюк на добра коня,
Да уехал Дюк во свой Галич град,
Ко своей-то матушки сударыни,
Да стал жить быть, век коротати.
МОЛОДОСТЬ ЧУРИЛЫ
Да во стольном-то во городи во Киеви, У ласкова князя у Владимира Хорош погодился почестной пир На многие князи на бояра,
На сильние могучие богатыри,
На все на поляницы удалые.
Долог день иде ко вечеру,
Почестной пир иде ко веселу,
Красное солнышко ко западу;
Почестной пир иде на весели,
Владимир князь распотешился.
Выходил он на крылечко перёное,
Овалился а перила о точеные, Здрел-смотрел в поле чистое.
Из далеча-далеча из чиста поля Идут мужики и все киевляна,
Бьют они целом, жалобу кладут Владимиру-то князю до сырой земли,
— Солнышко наш Владимир князь!
Дай, государь-царь, правой суд
На вора Чурила сына Пленковича.
У нас было на матки на Сароги на реки, Неведомые люди появилисе,
Шелковы неводы запускивали,
Грузивца были серебряные,
Наплавки позолоченые.
Рыбы сорогу повыловили,
Нам, государь свет, улову нет,
Тебе, государь, свежа куса нет,
Нам от тебя нет, сударь, жалованья.
Та толпа-то на двор прошла,
Новая из поля появиласе,
Идут мужики и все киевляна,
Бьют они целом, жалобу кладут Владимиру-то князю до сырой земли.
— Солнышко наш Владимир князь!
Дай, государь-царь, правой суд
На вора Чурила сына Пленковича.
У нас было на матки на Сароги на реки Неведомые люди появилисе.
Во тех ли во тихих во зйводях
Гуся-лебедя повыстреляли,
Серую пернату малу утушку.
Нам, государь свет, улову нет,
Тебе, государь, свежа куса нет,
Нам от тобя нет, сударь, жалованья.
Та толпа-то на двор прошла,
Новая из поля появиласе,
Идут мужики и все киевляна,
Бьют они делом, жалобу кладут, Владимиру-то князю до сырой земли.
— Солнышко наш Владимир князь!
Дай, государь-царь, правой суд На вора Чурила сына Пленковича.
У нас было за городом за Киевом,
Во тех ли рощах во сосновыих, Неведомые люди появилисе.
Шелковы тёнета протягивали,
Кунку и лиску повыловили.
Белого заморского заяца,
Черного сибирской соболя.
Нам, государь-свет, улову нет,
Тебе, государь, свежа куса нет,
Нам от тебя нет, сударь, жалованья.
Та толпа-то на двор прошла,
Новая из поля появиласе,
Есть молодцов до пяти их сот,
Кони подо нима однокарие были, Жеребцы всё латынские,
Узды повода сорочинскиё,
Седельника были на золоти.
Молодцы на конях однолицные, #
Платьё у них однопарное,
Кожаны-ты на молодцах лосиные, Кафтаныты на молодцах голуб скурлат, Источниками-де подпоясалисе,
Шляпы на главах золоты вёршки, Камзолы-ты штаны голоплисовые, Сапожки на ножках зелен сафьян, Дорога сафьяну турецкаго,
Баскаго покрою немецкаго,
Крепкого шитья ярославскаго.
Кони под нима бы соколы летя,
Молодцы на конях как свечи горя,
Ездя по городу уродствуют,
Лук и чеснок весь повыщипали,
Белую капусту повыломали,
Красных-то девок к сорому-де привели, Молодых молодок прибесчестили,
Старых-то старух да обезвечили, Собиралисе князьё все и бояра,
Все ли то купцы все торговые,
Все ли мужики огородники.
Бьют они целом, жалобу кладут, Владимиру-то князю до сырой земли.
— Солнышко наш Владимир князь!
Дай, государь-царь, правой суд
На вора Чурила сына Пленковича.
У пас было во городи во Киеви Неведомые люди появилисе,
Есть молодцов до пяти их сот,
Кони под нима однокарие были,
Жеребцы всё латынские,
Узды повода сорочинскиё,
Седелышка были на золоти.
Молодцы на конях однолицные,
Платьё у них однопарное,
Кожаны-ты на молодцах лосиные, Кафтаны-ты на молодцах голуб скурлат, Источниками-де подпоясалисе,
Шляпы на главах золоты вёршки, Камзолы-ты штаны голоплисовые,
Сапожки на ножках зелен сафьян,
Дорога сафьяну турецкаго.
Баскаго покрою немецкаго,
Крепкаго шитья ярославскаго.
Кони под нима бы соколы летя,
Молодцы на конях как свечи горя,
Ездя по городу уродствуют,
Лук и чеснок весь повыщипали, ^ Белую капусту повыломали,
Красных-то девок к сорому-де привели, Молодых молодок прибесчестили Старых-то старух да обезвечили. - Говорил-то Владимир таково слово:
— Глупые князьё все и бояра,
Неразумные купцы все торговые!
На ково мне-ка дать, сударь, правой суд.
Не знаю я, Чурила где двором стоит,
187
Не знаю я Чуриловой поселицы.
Говорят-то князьё все и бояра: i— Знаем мы, Чурила где двором стоит,. Знаем мы Чурилову поселицу,
Живёт-то Чурилушко не в Киеви,
Живет-то Чурилушко за Киевом,
Двор-от у Чурила на семи верстах,
Около двора всё булатний тын,
Вереи-ты были всё точёные,
Подворотенки-ты были дорог рыбей зуб,
Над воротами икон до семидесят,
На дворе есть теремов до семи их сот.
Подымается Владимир во чисто полё, Подымается к Чурилушку поселицы глядеть. Садился Владимир на добрых коней. Приезжае ко Чурилову широкому двору, Говорил-то Владимир таково слово:
■— Как говорили мужики, так и сделалось. Есть туто двор на семи верстах,
Около двора всё булатний тын,
Вереи-ты были всё точёные,
Подворотенки-ты были дорог рыбей зуб,
Над воротами икон до семидесят,
На дворе есть теремов до семи их сот.
Из того ли из Чурилова широкого двора Выходил туто старые матерый человек, Шуба-та на старом соболиная,
Под дорогим под зеленым под знаметом, Пуговки всё вольячные,
Лит:то вольяк красна золота,
По тому ли-то по яблоку по любскому. Петельки из семи шелков,
Шляпа-та на старом с полимажами.
Говорил туто старой таково слово:
— Владимир ты наш князь столен-киевской! Гости-тко ты пожалуй во высок терём — Хлеба ты соли покушати,
Белого-то лебедя порушати.
Говорил тут Владимир таково слово:
Ай же ты старые матерый человек!
Не знаю тебя, старый, как по имени зовут, Не знаю тебя, старый, по отечеству.
Говорил туто старый таково слово:
— Владимир ты наш князь столен-киевской!
188
Я-то ведь Пленк, сын Сарожанин,
Со Сароги со реки, Чурилов батюшко.
Пошол-то Владимир на широкой двор: У Чурила первы сени решетчатые,
У Чурила други сени серебряные,
У.Чурила третьи сени были на золоти. Заходил-то Владимир во высок терём,
В терему пол-середа одного серебра, Стены потолок красна золота,
На неби сонце и в тереми сонце,
На неби месяц и в тереми месяц,
На неби звезды россыплются,
В тереми звезды россыплются,
Вся небесная луна в терему приведена. Садился Владимир за дубовой стол. Стол-от ведь идё у них в пол-стола, Пир-от ведь идё у них в пол-пира, Красное солнышко ко западу,
Поместной идё на весели, #
Владимир князь роспотешился.
Взглянул он в окошко косёрчатоё, Увидел он в поли толпа-де молодцов, Есть молодцов до пяти их сот.
Кони под нима однокарие были, Жеребцы всё латынские,
Узды повода сорочинскиё,
Седелышка были на золоти.
Молодцы на конях однолицные.
Платьё у -них однопарное,
Кожаны-ты на молодцах лосиные, Кафтаны-ты на молодцах голуб скурлат, Источниками-де подпоясалисе,
Шляпы на главах золоты вершки, Камзолы-ты штаны голоплисовые, Сапожки на ножках зелен сафьян, Дорога сафьяну турецкаго,
Баского покрою немецкаго,
Крепкого шитья ярославскаго.
Кони под нима бы соколы летя,
Молодцы на конях как свечи горя. Владимир князь исполошался, Говорил-то Владимир таково слово:
— Ай же ты старые матёрый человек! Чья это за сила появиласе?
Не царь ли с ордой, не король ли с Литвой, Не думные боярин ли не сватовщик На любимые Забавне на племянницы? Говорил туто старый таков слово:
— Не пужайся, Владимир, не полошайся! Не царь еде с ордой, не король с Литвой,
Не думные боярин да не сватовщик
На любимые Забавне на племянницы,
А едут то Чуриловы всё стольники.
Та толпа-то на двор прошла,
Новая из поля появиласе,
Есть молодцов до пяти их сот.
Кони под нима однорыжи бежа,
Жеребцы все латынские,
Узды повода Сорочинские,
Седельника были на золоти.
Молодцы на конях однолицные,
Платьё у них однопарное,
Кожаны-ты на молодцах лосиные, Кафтаны-ты на молодцах голуб скурлат, Источниками-де подпоясалисе,
Шляпы на главах золоты вершки, Комзолы-ты штаны голоплисовые,*
Сапожки на ножках зелен сафьян,
Дорога сафьяну турецкаго,
Баскаго покрою немецкаго,
Крепкого шитья ярославскаго.
Кони под нима бы соколы летя,
Молодцы на конях как свечи горя. Владимир князь исполошался,
Говорил-то Владимир таково слово:
— Ай же ты старые матерый человек!
Чья это за сила появиласе?
Не царь ли с ордой, не король ли с Литвой Не думные боярин ли йе сватовщик На любимые Забавне на племянницы? Говорил туто старый таково слово:
— Не пужайся, Владимир, не полошайся! Не царь еде с ордой, не король с Литвой, Не думные боярин да не сватовщик
На любимые Забавне на племянницы, Едут-то Чуриловы все ключники.
Та толпа-то на двор прошла,
Новая из поля появиласе,
190
Есть МОЛОДЦОВ их до тысячи.
Кони под нима однобуры бежа,
Жеребцы всё латынские,
Уезды повода сорочинскиё,
Седелышка были на золоти.
Молодцы на конях однолицные,
Платьё у них однопарное,
Кожаны-ты на молодцах лосиные, Кафтаны-ты на молодцах голуб ску-рлат, Источниками-де подпоясалисе,
Шляпы на главах золоты вершки, Камзолы-ты штаны голоплисовые,
Сапожки на ножках зелен сафьян,
Дорога сафьяну турецкаго,
Баского покрою немецкаго,
Крепкого шитья ярославскаго.
Кони под нима бы соколы летя,
Молодцы на конях как свечи горя. Середний еде улицею молодец,
С коня-то он на конь перескакиваё,
Через три-то он коня да на четвёртого, Говорил тут Владимир таково слово:
■— Ай же ты старые матерый человек!
Что это еде за молодец?
— Не пужайся, Владимир, не полошайся, Еде мой сынишко безгодные,- Младые Чурилушко сын Пленкович.
Заслышал-то Чурило немилых гостей, Брал туто Чурило золоты ключи, Заходил-то Чурило во глубок погрёб, Брал-то Чурила золотой казны,
Да брал-то Чурилушка куниц и лисиц, Белых заморских-то заяцов.
Князей-то дарил да он куницами, Куницами дарил да лисицами,
А мужиков-то дарил он золотой казной. Говорил-то Владимир таково слово:
* — Младый ты Чурилушко сын Пленкович!
Много на тебя было просителей Теперь больше того благодателей.
С той поры с того времени Стали Чурила стариной сказать.
19!
СМЕРТЬ ЧУРИЛЫ
Накануне было праздника христова дни,
Канун-де честнаго благовещенья,
Выпадала порошица-де снег а молодой.
По той-де порохе по белому по снежку Да не белый горносталь следы прометывал,
Ходил-де гулял ужо купав молодец Да на имя Чурило сын Плёнкович.
Да ронил ён гвоздочики серебряные.
Скобочки позолоченые.
Да вслед ходя малые ребятушка Да собирали гвоздочики серебряные,
Да тем-де ребята головы кормят.
Да загулял-де Чурило ко Бермяты ко высоку терему. Да Бермяты во дому да не случилосе,
Да одна Катерина прилучиласе.
Отворялось окошечко косивчагое,
Не белая лебёдушка прокычала,
Говорила Катерина таково слово:
— Да удалый дородний добрый молодец!
Да премладыи Чурила ты сын Плёнкович,
Пожалуй ко мне во высок терём.
Пришол-де Чурило во высок терём,
Крест кладет по писаному,
Да поклон-от ведёт по ученому,
Кланяется да поклоняется На все четыре на сторонушки,
Катерины Чурило и в особину.
Да брала Катерина-та доску хрустальнюю,
Шахматы брала серебряные,
Да начали играть а с им во шахматы.
Говорила Катерина-'та Микулична:
— Да премладыи Чурила ты сын Плёнкович!
Да я тя поиграю, тебя бог простит,
А ты меня поиграешь, тебе сто рублей.
Да первой раз играл Чурило, ею мат давал, •*. Да взял с Катерины денег сто рублей.
Да другой-де раз играл, да ей другои-де мат давал, Да взял с Катерины денег двести рублей.
Да третей-де раз играл, да ей третей-де мат давал, Да взял с Катерины денег триста рублей.
Да бросала-де Катерина доску хрустальнюю,
192
Да шахматы бросила-де серебряные,
Да брала-де Чурила за руки за белые,
Да сама говорила таково слово:
— Да ты премладыи Чурилушко сын Плёнкович, Да я не знаю играть с тобой во шахматы,
Да я не знаю глядеть на твою красоту,
Да на твои-ты на кудри на желтые,
На твои-ты на перстни злаченые,
Да помешался у мня разум во буйной голове,
Да помутились у меня-де очи ясные,
Смотрячись-де, Чурило, на твою на красоту.
Да вела ево во ложню во теплую.
Да ложились спати во ложни теплые,
Да на мякку перину на пуховую,
Да начали с Чурилом забавлятисе.
Да была у Бермяты-де девка чернавка его,
Да ходит она по терему, шурчит да бурчит:
— Хороша ты, Катерина дочь Микулична!
Еще я пойду к Бермяты, накучу да намучу.
Да тово Катерина не пытаючи,
Да во ложни с Чурилом забавляется.
Да пошла-де девка во божью церковь.
Приходит-де девка во божью церковь,
Крест-от кладёт и по писаному,
Да поклон-от ведёт по ученому,
На вси стороны девка поклоняется,
Да хозяину Бермяты-де в особину:
— Ласковой мой хозяйнушко!
Да старый Бермята сын Васильевич,
Да стоишь ты во церкви богу молишься,
Над собой ты невзгоды не ведаёшь.
Да у тебя в терему есть ужо гость гостит.
Да незваный-де гость, а не приказываной.
Да с твоею-то женою забавляется.
Да говорил-де Бермята таково слово:
— Да правду говоришь, девка, пожалую,
А нет, тебе дуры срублю голову.
Говорила-де девка таково слово:
— Да мне, сударь, не веришь, поди сам а досмотри. Да пошол-де Бермята из божьей церквы,
Да пришол ко высокому ко терему,
Да застучал во кольцо-де во серебряное,
Спит Катерина не пробудится.
Да заетучал-де Бермята во второй након,
7—ззп
193
Да спит Катерина не пробудится.
Да застучал-де Бермята во третёй након,
Да из-за всей могуты-де богатырские,
Теремы-ты все да пошаталисе,
Маковки поломалисе.
Услышала Катерина та Микулична,
Да выбегала в одной тоненькой рубашечке без пояса, В однех тоненьких чулочиках без чеботов,
Отпирала Катерина широкие ворота,
Запущала Бермяту Васильевича.
Говорил-де Бермята таково слово:
— Что, Катерина, не снарядна идёшь?
Сегодня у нас ведь честной праздничёк,
Честное христово благовещеньё.
Да умее Катерина как ответ держать:
— Да ласковой мой хозяйнушко!
Да старый Бермята сын Васильевич,
Да болит у мня буйная голова.
Опушалась болеснйца ниже лупа и до пояса,
Да во те ли во нижнии черева,
Не могу хорошо я обрядитися.
Да пришол-де Бермята во высок терём,
Да увидел-де платье всё Чурилово,
Да шапка, сапоги, да всё Чурилово,
Говорил-де Бермята таково слово:
— Да хороша ты, Катерина дочь Микулична!
Да я этоё платье на Чурили всё видал.
Да умее Катерина как ответ держать:
— Ласковой мой хозяйнушко,
Старый Бермята сын Васильевич!
Да у моево родимого у брйтелка
Да конями с Чурилом-то помёняносе,
Да цветным-то платьем побрйтаносе.
Да того-де Бермята не пытаючи,
Да берет-де со стопки саблю вострую,
Да идёт-де Бермята в ложню теплую.
Да увидел Чурила на кровати слоновых костей,
На мяккой перины на пуховые Да не лучная зорюшка просветила,
Да вострая сабелька промахнула,
Да не крущатая жемчужинка скатиласе,
Да Чурилова головушка свалиласе,
Да белые горох а росстилаетсе,
Да Чурилова кровь и проливаетсе,
194
Да по той-де по сёреды кирпичные Да Чуриловы кудри валяютсе.
Да услышала Катерина та Микулична,
Да брала два ножа она два вострые,
Становила ножи чёренем во сыру землю,
Да разбегалась на ножики на вострые,
Да своею она грудью белою.
Да подрезала жилиё ходячеё,
Да выпустила кровь и ту горячую,
Да погинуло две головушки,
Да что хорошие головы не лучшие.
Да старые Бермята сын Васильевич Да дождался христова воскресенье,
Да пропустил-де он неделю ту он светлую, Старую девку чернавушку,
Да берет ею за правую за рученку,
Да сводил-де девку во божью церковь,
Да принял с девкой золотыё венцы,
Да стал жить быть да век коротати.
Да мы с той поры Бермяту в старинах скажем, Да премладого Чурила сына Плёнковича,
СОЛОВЕЙ БУДИМИРОВИЧ
А й из-за того острова Кадойлова,
А й из-под того вязу с-под черлёнаго,
А й из-под того камешка с-под белаго Из-под того кустышка ракитоваго,
А пала выпадала мать Непра-река,
А устьем выпадала в море Черное,
В Черное море во Турецкое.
А по этой матери Непры по реки, Вылетал выезжал млад хупав молодец, Молод Соловей сын Будимирович. Поезжал Соловей ведь он свататься А за славноё он за синё морё Да ко славному городу ко Киеву,
А ко ласкову князю ко Владимиру,
На его любимый племянницы,
А на молодой Забавы на Путятичной.
А стал Соловей корабля снастить;
Нос корма по звериному,
А бока у корабля всё по туриному,
А вместо бров было вдергивано А по дорогой куницы по пещерскии,
А вместо ушей было повешивано А по дорогому соболю заморьскому,
А вместо очей было врезывано А по дорогому камню самоцветному,
А не для ради красы-басы угожества,
Ради темный ноченки осенний.
Приезжал Соловей сын Будимирович А ко славному городу ко Киеву.
А сходенки метал он дорог рыбей зуб, Выходил выступал он на крут бережок,
А со своей дружиной со хороброю,
Чашу насыпал он красна золота,
А другу насыпал он чиста серебра,
Третью насыпал он скатняго жемчуга,
А в четвертых берет он камочку крущатую, Крушатую камочку двоеличную.
А ничем эта камка была не дорога,
А не красным она да была золотом,
А не чистым она да была серебром,
А дорога камка была крущатая А тыма ли цветами заморскима.
А приходил он во гридню во столовую,
Он крёст-тот кладет по писаному,
Он поклон-тот ведет по учёному,
Он кланяется поклоняется Да на все на четыре на стороны.
Он кланяется, сам чёствует:
■— Здравствуй, Владимир стольнё-киевской, Да со многима князямы со ббярамы!
Он кланяется, сам чёствует,
Подавал он чашу красна золота А солнышку Владимиру стольне-киевскому, А другую подавал он чиста серебра Только душечки княгины он Опраксии А третью подавал он скатня жемчуга Молодой Забавы Путятичной.
Да еще подавал он камочку крущатую.
Он кланяется сам и чёствует.
А эти дарова князю полюбилисе.
Заводил князь Владимир стольнё-киевской, Заводил он тут ведь почестей пир,
196
А на многи князя на бояра,
А на многих поляниц на удалыих,
А вси на пиру напивалисе,
А вси на пиру да наедалисе.
И говорит Соловей сын Будимирович:
— Ах ты солнышко Владимир стольнё-киевской! Благослови, государь, мне слово вымолвить.
— Говори, Соловей, что тебе надобно!
— А позволь мне-ка-ва выстроить три терема .
А три терема златоверхиих.
Этой-то ноченкой тёмною,
Темною ноченкой осенною,
А то поставить-то мне-ка три терема,
А три терема златоверхиих,
Середи того полюшка чистаго,
Середи того садочку Путятинова.
— Станови, Соловей, где тебе любо.
А й тут Соловей сын Будимирович,
Выходил Соловей он на крылечко перёное, Говорит Соловей сын Будимирович,
А своей говорит он дружинушки хоробрый:
— А*й же вы дружинушка хоробрая!
Делайте дело повелёное.
Скидывайте-тко платьицо цветное,
Надевайте-тко платьицо лосиное,
Обувайте-тко лапотики семи шелков.
А вы дубья да вязья повырубити,
Вон из зелена саду повымечите,
А состройте-тко мне-ка три терема,
Три терема златоверхиих,
А в четвертых состройте мне гостиной двор Этой-то ноченкой темною,
Темной ноченкой осенною.
А й тут-то дружинушка Соловьева,
Скидывали они платьица цветныи,
Надевали кожаники лосиновый,
Обували лапотики семи шелков.
Оны дубья да вязья повырубили,
Вон из зелена саду повыметали,
А состроили оны да три терема,
Три терема златоверхиих,
А в четвертых состроили гостиной двор,
Той ли ноченкой темною А темною ноченкой осенною.
197
А по утру вставала дочь Путятинова, Поглядела во косивчато окошечко.
— А что это чудо-то счудилосе,
А что это диво-то сдйвилосе?
А вечор-то стоял да мой зелёной сад,
А стоял-то сад он целым целой,
А теперичу-то сад он полонёной стал.
А построено в нем да три терема,
А три терема златоверхиих,
Да в четвертых построен гостиный двор.
Ай же вы нёнюшки, мамушки,
Да пойдемте-тко гулять да во зелёный сад.
Да пришли оны гуляти во зеленый сад,
А в первом терему-то щелчок-молчо;;,
То есть дружинушка Соловьева.
А в другом терему да шепотом говорят,
То есть Соловьёвая матушка,
Она господа бога умаливает,
За своего за чада за милаго,
А в третьём терему-то гудки гудят,
Игры играют Царяграда,
Напевки выпевают Еросблима,
То сам Соловей сидит Будимирович.
А говорит тут Забава дочь Путятична:
— Ай же вы ненюшки, мамушки.
Да зайдемте-ко в этот терем высокий.
Приходила тут Забава дочь Путятична.
А й тут Соловей сын Будимирович,
А ставал Соловей он на резвы ноги,
А подергивал он тут ременчат стул.
-— Да садись-ко ты, Забава Путятична,
А садись-ко, Забава, на ременчат стул.
А стали играть они во шахматы.
А й тут Соловей сын Будимирович Раз тот сыграл, Забаву поиграл,
Другой тот сыграл, Забаву поиграл,
Третей тот сыграл, Забаву поиграл.
А говорит тут Забава дочь Путятична:
— Ах молодец, ты заулишен добр!
Кабы взял за себя, я бы шла за тебя.
Говорит Соловей сын Будимирович:
— А совсем ты мне, Забава, в любовь пришла, А одным ты мне, Забава, не люба,
Что сама себя, Забава, ты просватываёшь.
198
А й тут ли у князя у Владимира,
Да не пива-ты варить да не мёды-ты сычитц Веселым пирком да за свадебку.
СОРОК КАЛИК
Собиралося сорок калек со калекою,
А сам-то атаман Фома сударь Иванович,
А собиралися калеки на зеленый луг,
А садились калеки во единый круг,
Думали они думушку-ту добрую.
А советы советуют хорошие,
А итти оны ко городу Еросблиму,
Ко святой святыне помолитися,
Господнему гробу приложитися.
А оны положили заповедь великую:
— А кто обворуется и кто облядуется,
Того бить клюхамы каличьима,
Тянуть язык вон со теменем,
И копать очи ясные косицамы,
А копать того во сыру землю по белым грудям, И пошли они,— котомочки бархатны,
Из чернаго бархата заморскаго,
И повышили красным золотом,
И повысадили скатным жемчугом;
У котомочек лямочки семи шелков;
На ножках сапожки турец-сафьян,
А не простого сафьяну заморскаго;
На головушках шляпы земли греческой,
А клюшья у калек-тых рыбья кость,
И взяли они-ко по камешку Антавенту,
А окоро калеки в поход пошли;
А в день идут по красному по солнышку,
Ночь идет по камешку Антавенту;
А будут они на чисто поле,
И садилися они в единый круг,
Думали думушку добрую,
А советы советуют хорошие:
А зайти ксггороду ко Киеву А ко князю ко Владимиру Поисть, попить, хлеба покушати.
И приходили ко городу ко Киеву,
199
И закрычали калеки громким голосом:
— Свет надежда князь Владимир стольно-киевской!
А пошли мы ко городу к Еросолиму,
А зашли ко городу ко Киеву,
А поисть, попить, хлеба покушати.
А тая-то победа учинилася,
А князя дома не случилося;
А выходила Опракса королевична,
Бьет челом поклоняется:
— Ай же вы калеки перехожие!
Пойдите в столову богатырскую,
И дам вам ествушку сахарную И дам питьицев медвяныих,
Ешьте до сыти, пейте вы до люби!
Приходили во столову богатырскую;
Подавали им ествушку сахарную И дали питьицев медвяныих;
Ели они до сыти, пили до люби,
И много они благодарствуют:
— Благодарствуешь, княгина Опракса королевична,* За хлеб за соль, за все кушанья.
Дарила их Опракса королевична Чистыим серебром красныим золотом,
А самого-то атамана скатным жемчугом.
А проговорит Опракса королевична:
— Ай же ты атаман Фома сударь Иванович!
А пожалуй-ко во спальну во теплую:
Есть молвить я словечушко тайное.
Проходили во спальну во теплую,
А садились на кроваточку тесовую;
И проговорит Опракса королевична:
— Ай же ты атаман Фома сударь Иванович!
А сделаем любовь со мной великую.
А й да проговорит атаман Фома сударь Иванович:
— А как пошли мы ко городу Еросолиму,
Положили мы заповедь великую:
Кто обваруется, облядуется,
Бить того клюхамы каличьима,
И копать очи ясныя косицамы,
А тянуть язык со теменем,
И копать во сыру землю по белым грудям.
Эты ей речи не слюбилися,,
А бежит скорехонько в особлив покой,
А хватала чашу княженецкую
200
И кладывала в переплеты калечьии.
А скоро ведь калеки в поход пошли,
Выходили они на чисто поле,
Садились калеки во единый круг,
И тут калеки порасхвастались:
— Были мы в городе во Киеве,
Пили, ели, хлеба кушали,
<А дарила> Опракса королевична,
А дарила нас чистым серебром,
Дарила нас красным золотом,
А самого атамана скатным жемчугом.
И проговорит княгиня Опракса королевична: -т- Есть да пить — так во Киеве,
А постоять за Киев — так некому!
А повыскочит Чурилушка сын Пленкович:
— Ай же ты княгина Опракса королевична!
А пойду-то я ко кругу калечьему,
Сделаю обыски великие,
Отыщу я ведь чашу княженецкую.
И приходит он к кругу-то каличьему,
А не бьет челом, не поклоняется,
А говорит он да не с упадкою:
— А же вы калеки перехожие!
Были вы во городе во Киеве,
А ели вы, много хлеба стрескали,
А украли вы чашу княженецкую.
Сделайте обыски великие,
Отыщите вы чашу княженецкую.
Эты им речи не слюбилися,
Скочили калеки на резвы ноги,
А как ему штаны бархатны оттыкали,
И . . . ему клюхамы натыкали;
А проговорят калеки перехожие:
— Пойди ко городу ко Киеву И неси на нас жалобу великую
Князю Владимиру, Опраксе королевичной.
А приходит Чурила сын Пленкович:
— Ай же ты, княгина Опракса королевична!
А не калеки есть, воры грабители.
Проговорит Опракса королевична:
— Есть да пить — так во Киеве,
А постоять за Киев — так некому!
А повыскочит Алеша Попович сын Иванович:
— Ай же ты княгина Опракса королевична!
201
Пойду я ко кругу-то ведь калечьему, Сделаю обыски великие,
Отыщу я чашу княженецкую,
И приходит он ко кругу калечьему,
А не бьет челом, не поклоняется,
И говорит не с упадкою:
— Ай же вы калеки перехожие!
Были вы во городе во Киеве,
А ели пили, много хлеба стрескали,
А украли чашу княженецкую.
Сделайте обыски великие,
.Отыщите вы чашу княженецкую.
Эти им речи не слюбилися,
Как скочили калеки на резвы ноги И ему штаны бархатны оттыкали, Наклескали . . . долонямы:
— Поди ко городу ко Киеву
И неси на нас жалобу великую.
И приходит ко городу ко Киеву:
— Ай же ты княгина Опракса королевична! А не калеки есть, воры грабители.
Проговорит княгина Опракса королевична
— Есть да пить — так во Киеве,
А постоять за Киев — так некому.
Повыскочит Добрынюшка Никитинич:
— Ай же ты княгина Опракса королевична! А пойду я ко кругу-то ведь калечьему, Сделаю обыски великие,
Отыщу чашу княженецкую.
И приходит ко кругу калечьему,
И бьет челом, поклоняется:
— Ай же вы калеки перехожие!
Были вы во городе во Киеве,
Ели, пили, хлеба кушали;
У нас чаша княженецкая затерялася: Сделайте обыски великие,
Отыщите чашу княженецкую.
Сделали обыски великие,
Отыскали чашу княженецкую У атамана-то Фомы Ивановича В переплетах калечиих;
Как отыскали чашу княженецкую,
И били его клюхамы каличьима,
А копали очи ясный косицамы,
И тянули язык вон со теменю,
А копали в сыру землю по белым грудям А били клиньями дубовыми;
А пошли-то калеки ко городу Еросолиму.
А за их за неправду великую Напустил господь темень на ясны очи:
И пошли они калеки не дорогою,
А ходят они по чисту полю не дорогою,
Не дорогою, бездорожицею.
А за его правду великую
Послал господь с небеси двух ангелов,
И вложили душеньку в белы груди,
И приставили очи ясные к белу лицу.
И пошол атаман Фома сударь’ Иванович по чисту полю, И ходят калеки, кричат по чисту полю,
Не дорогою ходят, бездорожицею,
Закричал Фома сударь Иванович:
— Ай же калеки перехожие!
Что же вы ходите не дорогою, бездорожицей?
И кричат все калеки громким голосом:
— Ай же ты Фома сударь Иванович!
За твою за правду великую
А вложил господь тебе душеньку в белы груди,
А приставил очи ясные ко белу лицу;
А за нашу за неправду великую Напустил темень на ясны очи.
СТАВЕР
У стольняго города у Киева,
У ласкова князя у Владимира Заводилось 1тированье, почестей пир На всих на князей, на бояров,
На русских могучих богатырей,
На всих поляниц на удалыих. Красно солнце на вёчери,
Почестей пир у них на весели.
Вси на пиру пьяны веселы,
Вси на пиру наедалися,
Вси на пиру напивалися,
Вси на пиру поросхвастались:
Умный похвастал отцем матерью,
А безумный похвастал молодой женой.
Кто хвастал своей удатью,
А кто хвастал своей участью.
За тым же столиком за дубовыим Сидит молодой гость черниговской, Молодой Ставёр сын Годинович. *
Не ест, не пьет ён, не кушает,
Белой лебеди не рушает,
Ничем он молодец не хвастает.
Подходит князь стольне-киевской:
— Что ты, молодый гость черниговский, Молодой Ставёр сын Годинович,
Не ешь, не пьешь, ты не кушаешь,
Белой лебеди не рушаешь,
Ничем ты не похвастаешь?
Тут дородный добрый молодец,
Молодой Ставёр сын Годинович Наелся, напился, расхвастался.
— Чем мне-ка молодцу хвастати?
У меня у молодца Ставра Сапожки на ножках не держатся,
Цветныи платья не носятся,
Золоты кареты не ломаются,
Добрый кони не ездятся,
Верный слуги не старятся.
А ’ще у меня у молода Ставра Есть-то жонка молодая.
Всих князей бояр обманула она,
Самого царя с ума выведет.
■— Ты скажи, молодой Ставёр!
Для чего сапожки на ножках не держатся, Цветное платье не носится,
Золоты кареты не ломаются,
Добрый кони не ездятся,
Верный слуги не старятся?
— Кожу я куплю себи хорошую,
Мастера у меня придворны:
Сошьют мне-ка-ва хорошохонько.
Я день держу, да другой держу,
Много что недельку подержу,
Снесу в лавоньку торговую,
Вам же продам, князи бояры.
Цену я с вас возьму полную.
204
Оттого платьице у меня не носится:
Суконце куплю хорошее,
Мастера у меня придворны:
Сошьют мнека-ва хорошохонько.
Я день держу, да другой держу,
Много что недельку подержу,
Снесу в лавоньку торговую,
Вам же продам, князи бояры,
Цену с вас я возьму полную.
А оттого кареты не ломаются:
Тыи кареты со двора пошли,
А другие кареты на готовый на двор придуть. Для того добры кони не ездятся:
У меня кобылочки хорошие,
Носят жеребчиков хорошиих.
Я год держу, на другой держу,
Сгоню же я на рыночек,
Вам же продам, князи бояра,
Цену я с вас возьму полную.
А ’ще-ка у меня молода Ставра Есть-ка жонка молодая,
Всих князей бояр обманула ёна,
Самого царя с ума выведет.
Тут его за хвастки великии,
Тут его за речи неумные Посадили в погреба глубокий,
Задвинули дощечками железными,
Ворота засыпали песками желтыми, Пропитомство клали овса с водой.
Остался у него младый паробок,
Одна дружинушка хоробрая.
Крест на лицё, с терема долой.
Скоро скажется, тихо сдеется.
Приходит к городу Чернигову,
Идет ступае на высок терем К тоей Василисты Микуличной,
Крест кладе по писаному,
Поклон веде по ученому.
У ёй Василисты Микуличны Были забраны гостюшки любимый.
Она ест, да пьет, кушает,
Над собой невзгоды не ведает,
Что не стало у нёй молода Ставра,
Посадили его в погребы глубокий.
205
Спроговори младойй паробок:
— Ай Василиста Микулична!
Ешь ты пьешь да кушаешь,
Над собою невзгоды не ведаешь,
Что не стало у тебя молода Ставра, Посажен в погребы глубокий
За его за хвастни великии.
Спроговорила Василиста Микулична:
— Подите вы, гости, по своим домам, Ныне мне, гости, не до вас пришло:
Не стало у меня ясна сокола Молода Ставра сына Годиновича!
Тут Василиста Микулична Волосы подбрила по мужичьему,
Платья надела богатырский,
Сходила в конюшечку во новую,
Взяла жеребчика неезжанаго,
Седлала уздала добра коня,
Седелышко клала черкаское,
Положила стремянки булатный,
Пряжки меди казапскоей:
Не для ради красы басы угожества,
А для ради закрепы богатырскоей.
Села она да поехала.
Скоро скажется, тихо сдеется.
Буде у города у Киева,
У ласкова князя Владимира.
Остановила коня середи двора, Непривязанного, неприказанного.
Скоренько идет на высок терем,
Крест кладет по писаному,
Поклоны веде по ученому,
На все четыре сторонушки,
Князю Владимиру в особину С молодой княгиней с Опраксией. Спроговори князь стольне-киевской:
— Откуда ты, дородный добрый молодец? Откуда-ва едешь, куда путь держишь?
— И есть я земли Тальянскоей,
А любимый племянник королевский. Приехал на твоей дочке посвататься На молодой Настасье Владимировны. Спроговорит князь стольне-киевский:
— Ай же ты, Настасья Владимировна!
206
Не хочу тебя держать, хочу за муж отдать,
За любимого племянника королевскаго.
Спроговорит Настасья Владимировна:
— Ай же ты батюшка Владимир стольне-киевской!
Не отдай ты девицы за женщины,
Не наделай смеху по святой Руси,
У ней .... крутенька по женьскому,
Походка частенька по женьскому.
Груди мяконьки по женьскому.
— Сходим мы с ним в парну баенку,
Я тут его и посмотрю.
— Ай дородный добрый молодец!
Не угодно ли в баянку попариться?
— Не худо с дорожки парна баенка!
Она была да лукавая:
На тую пору выпустила жеребчиков,
Жеребчиков выпустила неезжаных.
Жеребчики по двору разбегались,
Огляделся Владимир стольне-киевской.
Она той порой вымылась и упарилась,
Скоро с баянки справилась.
— Что ты, дородний добрый молодец,
Не долго мылся парился,
Скоро с баянки справился?
— У нас ведь справы не по царскому,
А у нас справы по дорожному.
Спроговорил Владимир стольне-киевской:
— Ай же ты Настасья Владимировна!
Я отдам тебя за королевского племянника.
— Ай же батюшко, Владимир князь стольне-киевской1 Не выдай ты девицы за женщина,
Не наделай смеху по святой Руси.
— А мы его спроведаем,
Положим на перину на царскую:
Буде мужчина,-—под плечами буде ямина,
А женщина,— буде под Она была-то лукавая:
легла на изголовьицо.
Спроговорит Владимир стольне-киевской:
— Ай же ты, дородний добрый молодец!
Не угодно-ль поиграть в шашки в шахматы заморский? А спроговорит дородний добрый молодец:
— У нас об эвтом дело не сведано,
Игроки у меня с дому не взяты.
207
Пожалуй, поиграем в шашки в шахматы заморский.
Обыграла царя со царицею,
Всех игроков придворныих.
Говорит Владимир стольне-киевской:
— Ай же ты дородний добрый молодец!
Больше у меня некому с тобой играть
В шашки шахматы заморский.
А спрогбворил дородний добрый молодец:
— Никто в Расеи не мог меня обыграть,
Один-то меня и обыгрывал Ставер Годинович. Когда я бывал во Чернигове,
Один-то он меня обыгрывал.
Сходил Владимир князь стольне-киевской, Выпустил Ставра из погребов глубокиих.
Сели со Ставром Годиновичем Они играть в шашки шахматы заморский, Спроговорил дородний добрый молодец:
— Помнишь ли молодой Ставер сын Годинович, Как мы с тобой живали во Чернигове?
Я была чернильницей, а ты пером лебединым,
Ты в меня частенько помакивал,
Я в тебе тогда-сегды.
Спроговорил Ставёр сын Годинович:
— Дородний добрый молодец!
Я все позабыл сидючи в погребах глубокиих. Спроговорил дородний добрый молодец:
— Помнишь Ставер сын Годинович!
Как мы живали во Чернигове,
Я ходила кобылицей,
А ты жеребчиком некладеным:
Ты на меня частенько поскакивал,
Я на тебе тогда-сегды.
Съедемся Ставер во чистом поли,
Попробуем силы богатырскоей!
Дай-ка Владимир стольне-киевской,
Дай-ко Ставру молода коня Съездить со мной во чисто поле,
Спробовать силы богатырской!
Сели на добрых коней поехали,
Уехали они во Чернигов град.
208
ИВАН годинович
А й Иванушко, Иванушко Годинович,
А поезжае что Иванушко женитися,
А к гостю к купцю еще Мйтриищу,
А за то за славное за синё море:
— Да ах же ты мой родной дядюшка,
А стольнёй ты князь да Владимер наш!
А пожалуйте, позвольте-то мне-ка-ва,
Ино силы мне-ка сорок тысячей.
А еще-то вы мне-ка пожалуйте,.
А любезный ты мой еще дядюшка,
А друго казны ты сорок тысячей.
Как тут-то ведь князь стольнё-киевской А дават ему силы сорок тысячей,
А друго как денег сорок'тысячей.
А тут-то Иванушко Годинович,
А поехал он Иванушко женитися А к гостю к купцю он тут к Митриищу.
А приезжает тут Иванушко Годинович А к гостю к купцю он тут к Митриищу,
А говорит промолвит таково слово:
— А гость ты купец да еще Митриищо!
А есте как у тя да есть любезная дочь,
А тая эта Марья Митриёвична,
А отдай-ко ты, повыдай за меня замуж,
А за Ивана за Ивана за Годиновича.
А говорит ёму Митрий таково слово:
— А Иванушко, Иванушко Годинович!
А выдал бы Марью Митриёвичну,
А выдал бы, повыдал за тебя замуж,—
А у меня Марьюшка просватаная За царя за Кощега за Трипётовича,
Не повыдам я, Иван, за тебя замуж.
• Скочил тут Иван на резвы ноги,
Хватил-то он ножищо тут кинжалищо,
Как ударил тут Иван да во дубовый стол,
А ушол тут ножик да до череня.
А говорит Иван тут таково слово:
— Ты с добра мне отдашь, дак я добром возьму, А с добра не отдашь, дак я силом возьму.
Как скочил тут Иван на резвы ноги А взимат-то он Марью Митриёвичну,
209
А взимат ю за руценки за белый,
А за тыи за перстни за злаченый.
Да как-тут-то Иванушко Годинович А поехали назад да в свою сторону,
А едет тут Иван по чисту полю,
А ехал он отъехал далецёшенько.
Как говорит тут Иван да таково слово:
— А рать же вы силушка великая,
А едьте-то вы топери с известьицем А ко моему ко родному ко дядюшке,
А к стольнёму князю ко Владимиру:
А взята у нас Марья Митриёвична,
А взята-то, взята, мы силом да везём.
Как ратная силушка великая Да как тут-то она отправляласе,
А скорым-то скоро, скоро скорёшенько,
А ко тому ко городу ко Киёву А к стольнёму князю ко Владимиру.
Как тут тот Иванушко Годинович Ино хочет он с Марьей позабавиться,
А начал забавляться на чистом поле,
А на чистом-то поли да во белом шатри.
А живет тут молодец, забавляется,
А над собой незгодушки не ведает.
А на ту-то пору да на то времячко Приезжает Кощей да сын Трипетович А к гостю к купцю еще к Митриищу А за Марьей-то, за Марьей Митриёвичной. Как говорит спромолвит таково слово:
-— Ах ты гость, ты купец да еще Митриищо! А ты скажи, скажи да не утай себя:
А где у тя Марья Митриёвична?
Как говорит промолвит таково слово А гость-от купец да еще Митриищо:
— А царь ты Кощег сын Трипетович!
А тая эта Марья Митриёвична Увезена у Иванушка Годиновица,
А взята-то, взята за себя замуж.
Как царь тут Кощег сын Трипетович А скоро-то он ведь снаряжается,
А скоро за Иваном отправляется,
А скоро за Иваном вслед с угоною.
Как застал-то ён Ивана на чистом поли,
А на чйстоем полюшки в белом шатри,
210
А с той с этой Марьей Митриёвичной.
Да увидал тут Иванушко Годинович А царя того Кощега да Трипетовича,—
Не дойде тут Иванушку ведь больше сидеть. Скочил тут Иван на резвы ноги,
А начали тут биться оны ратиться А со царём со Кощегом со Трипетовичем.
Да побил тут Иванушко Годинович А царя да Кощега что Трипетовича,
А побил его, сбил на сыру землю,
А сел-то тут Иван да на белую грудь А к царю к Кощегу к Трипетовичу.
А на ту-то пору да на то времечко А ножища при себи да не случилосе.
А говорит Иван тут таково слово:
— Ай ты Марья, ты Марья Митриёвична!
А дай-ко ты ножищо мне кинжалищо
А пластать мне Кощегу белая грудь,
А вынять что сердечушко су печенью (так),
А розрыть, роскидать по чисту полю.
А,говорит Кощег тут таково слово:
— Ай ты Марья же, Марья Митриевична!
А не давай-ко ты Иванушку ножища того,
А ножища-то, ножища ты кинжалища.
Дай я теби скажу, да все поросскажу:
А поди-ко ты, Марья, за меня замуж,
Дак будешь станешь слыть ты царицею,
А не ходи-ко ты за Иванушка Годиновича,— Да если ты да ведь пойдешь за его,
Дак будешь ты там слыть да во портомойницах А у стольняго князя у Владимира.
Как этая тут Марьюшка роздумаласе:
— А что мне-ка слыть да в портомойницах,
А лучше мне слыть буде царицею.
Как тут-то она да ведь подумала,— Говорит опять Кощег таково слово:
— Да ай же ты Марья Митриевична!
А тащи-ко ты Ивана за желты кудри,
А со тых со моих со белыих грудей.
Как тая тут Марья Митриевична Как хватила тут Ивана за желты кудри,
А тащила тут его да со белых грудей,
Со царя со Кощега со Трипетовича.
Как ино тут оны да его Иванушка Годиновича
2!!
Да связали тут Ивану белы рученьки,
А связали-то Ивану резвы ноженьки,
Как бросили Ивана тут под сырой дуб.
Да тут царь-то Кощег да сын Трипетович А начал он с Марьей забавлятися.
Да на ту-то пору да на то времячко А налетал налетал да тут-то черной вран, Садился тут ворон на сырой дуб А закрычал ворон громким голосом,
А спроязычился языком человеческим,
А крычит говорит он таково слово:
— А не владеть этой Марьей Митриевичной А царю да Кощегу да Трипетовичу,
А владеть этой Марьею Митриевичной А тому да Иванушку Годиновичу.
А царь тут Кощег сын Трипетович Услыхал воронйно звещованиё,
Да хватил-то он скоро свой тугой лук,
А кладывает стрелочку каленую,
А стрелил-то он в церного во ворона,
А стрелил-то, стрелил да не попал в его,
А полетел-то тут ворон далечйм далеко,
А улетела тая стрелка по подоблачью.
А зашол тут Кощег да во белой шатер,
А над собой незгодушки не ведает.
Как этая стрела да тут каленая А обвернулася стрела назад обратно есть,
А пала тут стрела да на белой шатёр,
А пала попала в буйну голову А царю да Кощегу Трипетовичу.
Да тут-то ведь царь Кощег сын Трипетович А пал-то он на матушку сыру землю,
А облился он кровью горючею,—
А только тут Кощегушку славы поют.
Как тая эта Марья Митрйевична А взимала в руки сабелку вострую,
А начала сабелкой помахивати,
А начала тут Марья выговаривати:
— Как у женщип-то ведь да как нунечку А волос-то долог да ведь ум короток.
А й от бережка я теперь откачнуласе,
А к другому как я не прикйчнуласе,
А отсечь мне Ивану буйна голова.
Как говорит Иван тут таково слово:
212
— Ай ты Марья, ты Марья Митриевична!
А не секи-тко ты мни да головушки,—
А топеречка нунь я в безвремяньице, —
А лучше ты поди да за меня замуж.
А столько-то я еще да ведь уж тебя,
Да за эту вину да за великую.
А дам я ти три грозы небольшенькии.
Да как тут она Марьюшка роздумаласе:
— А первую он грозу мне-ка-ва даёт,
А перву дает, дак я ъедь год проживу,
А другую дает, дак я другой проживу,
А третьюю дает, дак я век проживу.
А отвяжу я-то Ивана от сыра дуба,
Отвяжу ему да белы рученьки,
А отвяжу ему резвы ноженьки.
Отвязала тут Ивана от сырого дуба,
А розвязала тут ему белы рученьки, Розвязала тут ему резвы ноженьки.
Да как стал тут Иван на резвы ноги,
А взимает в руки сабелку вострую,
Да отсек ей по колен тут резвы ноженьки, А потом да отсек да белы рученьки:
— А этых мне-ка ноженёк не надобно, Ахапляли как поганаго татарина,
А этых мне-ка рученек не надобно,
Обнимали как поганаго татарина.
Да отсек-то ей еще тут губушки:
— А этых мне-ка губушек не надобно,
А целовали что поганаго татарина.
А только Марьи и Кощегу славы поют.
А тут-то Иванушко Годинович Пошол-то один да добрый молодец,
А один-то един да единешенёк.
А пришол тут Иван да в Киев град А ко своему ко родному ко дядюшки,
А ко тому ко князю ко Владимиру.
А пришол-то он пришол да не привёл никого А россказал незгодушку великую А стольнёму-то князю да Владимиру:
— Да ай же ты родной мой дядюшка,
А стольнёй ты князь да есть Владимир наш! А надо мной была незгода там величая:
Я покончил да царя да Кощега там,
А царя да Кощега Трипетовича;
213
А Марья была провинилася,
А сделала вину она великую,
Да там я Марьюшку покончил ю, А отсек-то я ей резвы ноженьки,
А отсек я потом да белы рученьки, _ А во третьих отсек ей губушки. Ино тут им и славы поют.
ХОТЕН БЛУДОВИЧ
А й во славноём во городи во Киеви, Славного у князя Владымира,
Заводился у князя почестей пир.
Было на пиру у него две вдовы:
Первая вдова-то честно-Блудова жена, Другая вдова была купець-жона.
К честной вдовы к честно-Блудова жены Подносили к тоей чару зелена вина,
Да не малую стопу, полтора ведра.
Честна вдова честно-Блудова жена Ставала-то она да на резвы ноги,
Брала эту чарочку в белы ручки,
И она за этоей за чарочкой посваталася За своёго за сына за любимаго,
За того Хотинушку за Блудовица А у честной вдовы у купець у жоны,
На прекрасной Офимьи купець-доцери. Честная вдова та купець-жона Скорёшенько ставала й на резвы ноги,
Брала от нёй чарочку в белы руцки,
А назад то ёй чарочку повыплеснула,
Куныою шубоньку облила,
Курвой оплёскивала;
Говорила-то вдова таковы слова:
— Ай ты глупая вдова честно-Блудова жона! Тоби дойдет ли Офимья моя взять за сына, Да й за твоего Хотинушку за Блудовица?
А й сидит моя Офимья во тереми,
А й во славном сиди в тереми в златом верху, На ню красное солнышко не обпекёт,
На ню буйный ветрушки не обвеют,
Многие люди не обгадятся.
214
Твой сын Хотинушка Блудович Ездит он по городу, уродует Со своим-то со паробком любимыим,
Ищет бобоваго зернедки,
Гди бы то Хотинушки обед сочинить. ,
Честна вдова честно-Блудова жона*
% Со честна пиру пошла она не весело, Припечаливши пошла прикручинивши, Приклонив буйную головушку к сырой земли Ясны очушки втопила во сыру землю;
А подходит-то ’на к терему к высокому.
Со того со терема высокого,
Из того с косевчата окошечка,
Сквозь то хрустальнё-стеколышко Усмотрел Хотинушка Блудович Идуцись-то свою он родну матушку:
Со честна пиру идёт она не весело, Прикручинивши идёт, припечаливши, Приклонив буйну головушку к сырой земли Ясны очушки втопила во сыру землю. Выскочил Хотин на крутой на крылечь, Говорил Хотин а таковы слова:
— Свет ты моя родна матушка,
Честная вдова ты честно-Блудова жена!
Что же ты идёшь с пиру не весело?
Место в пиру было не по чину,
Чарой ли в пиру тобя приобнесли,
Аль кто пьяница дурак приобгалился? Воспроговори вдова таковы слова:
— Свет ты моё чадо любимоё,
Молодой Хотинушка Блудович!
Место в пиру было мни по чину,
Чарою меня в пиру не обнесли,
Пьяница дурак не обгалился;
Насмеялась надо мной честная вдова,
Честна вдова-то купець-жона:
Подносили ко мни чару зелена вина;
Я скорёшенько ставала на резвы ножки, Брала эту чарочку в белы руки,
Я за этою за чарочкой посваталася За тобя за сына любимого,
А за молода Хотинушку за Блудовица Да у честной вдовы у купець у жоны,
На прекрасной Офимьи купець-дочери.
Честна вдова честно-Блудова жона Скорёшенько ставала на резвы ноги,
Брала мою чару во белы руки,
А й назад она чарочку повыплеснула,
Кунью мою шубоньку облила,
Меня курвой оплёскивала,
Говорила мни вдова таковы слова:
«Глупа ты вдова честно-Блудова жона! Дойдет ли Офимья тоби взять за сына,
Да й за своего Хотинушку за Блудовича? Сидит моя Офимья во тереми,
А во тереми сидит во златом верху,
На ню красноё солнышко не обпекёт,
Буйный ветры не обвеют,
Многия люди не обгалятся.
Твой сын Хотинушка Блудович Ездит он по городу, уродует Со своим со паробком любимыим,
Ищет бобового зернедки,
Гди-то бы Хотинушка обед сочинить». Воспроговорил Хотинка таковы слова:
— Свет ты моя да родна матушка,
Ах ты честная вдова честно-Блудова жона! В честь я Офимку за собя возьму,
А й не в честь я Офимку за товарища,
Да за своёго за паробка любимаго.
Повернется Хотинушка в высок терём, Кунью шубоньку накинул на одно плечко, Шапочку соболью на одно ушко,
Шол ён полатой белокаменной,
Выходил-то Хотин а на широк на двор, Заходил ён во конюшеньку стоялую,
Выводил ён коня богатырского,
Ен садился на добра коня на седлана,
Брал свою палицку булатнюю,
Поехал-то Хотинушка в чисто поле.
На добром кони в чистом поли поезживаёт, Стал он шуточок Хотинушка пошучивати, Стал он паличку булатню покидывати,
На добром кони Хотинушка подъезживаёт,
Он одною ручкой паличку подхватываёт,
Не велика ёго паличка булатняя,
Весу она й девяносто пуд.
А й у молода Хотинушки у Блудовича
216
Кровь-то в нём и роспылаласи,
Сердцё ёго розгорелоси За эту родительску обидушку.
То он поехал по роздолью чисту полю,
А во всю ён ехал в силу лошадиную,
Он подъехал как ко терему к злату верху.
Бил он палицей булатнёй по терему,
Да по славному по терему злату верху; Маковки на тереми покрйвилися,
Да й околенки во тереми россыпалися. Молодой Хотинушка Блудович Сходит он скоренько со добра коня,
Подходит он ко терему к злату верху,
Стал ён замочиков отщалкивати,
Стал ён дверьцей выставливати,
А приходит он во терем во златы верхи.
Ходит Офимья по терему А в одной тонкой рубашки без пояса,
А в одных тонких чулочиках без чоботов,
У нёй русая коса пороспущеная.
Говорил Хотин а таковы слова:
— Ай же Офимья купець-дочи!
А идёшь ли ты замуж за Хотинушку,
За того Хотинушку за Блудовича?
Воспроговорит Офимья таковы слова:
— Три году я господу молиласи,
Что попасть бы мне замуж за Хотинушку,
За того Хотинушку за Блудовича.
Молодой Хотинушка Блудович Брал он ю за ручушки за белый,
Брал за ней за перстни злаченый,
Целовал в уста во сахарный Он за нёй за речи за умильнии,
Выводил он Офимыо со терема,
А привел-то Офимью ко добру коню,
Ко добру коню привел богатырскому,
Да и садил ён Офимью на добра коня,
На коня он ю садил к головы хребтом,
Сам ён садился к головы лицём.
Оны сели на добра коня, поехали Да по славному городу по Киёву,
Да й приехали ко матушки к божьёй церквы. Молодой Хотинушка Блудович Он скорёшенько-то сходит со добра коня,
Опущает он Офимью со добра коня,
Брал он ю за ручушки за беленьки,
Брал за ней за перстни злаченый,
Да повел ю во матушку в божью церковь. Выходили-то со матушки с божьёй церквы, Молодой Хотинушка Блудович,
А садил он ю да на добра коня,
На добра коня садил ю к головы хребтом.
Сам ён садился к головы лицём.
Да приехали к Хотину на широк на двор. Молодой Хотинушка Блудович Он скорёшенько сходит со добра коня, Опущает он Офимью со добра коня,
Ай берет он ю за ручушки за беленьки,
А за нёй берет за перстни злаченый,
Шли оны полатой белокаменной,
Проходили во столову свою в горенку,
Стали жить да быть, век коротати.
СУХМАН
Было во славном во городе во Киеви У ласкова князя у Владимира,
Заводился у него-то тут почестной пир.
На том на пиру у Владимира
Были князи ведь тут, вси ведь бояра,
А вси сильни могучи вси богатыри:
А сидит во самом-то во большом углу А Сухман да сидит сын Долмантьёвич. Вси князи оны вси тут бояра,
Сильнии могучий богатыри,
А едят-то, пьют, вси-то кушают И белую лебедь оны рушают.
Молодой Сухман сын Долмантьевич Он не есть, не пьет, сам не кушает,
Белой лебеди сам не рушает,
Нечим молодец сам не хвастает.
Зговорит Владимир стольно-киевской:
— Что же ты, Сухман сын Долмантьевич, Ты не ешь, ты не пьешь, ты не кушаешь, Белой лебеди сам не рушаешь,
218
Ничим молодец сам не хвастаешь?
Боспроговорит Сухман сын Долмантьёвич: — Ах же ты Владимир столен-киевской, Дай-ко мне времечки день с утра,
День с утра и как до вечера,
Мне поездить Сухману нынь по заводям. Привезу ти лебедушку живьем в руки,
А на твои на пир княженецкий,
На твои на стол на дубовый.
Дал ему времечки день с утра,
День с утра и как до вечера.
Поехал Сухман сын Долмантьевич;
Он ездил день с утра до вечера А по тихим глубоким по заводям,
Не наехал ни на гуся, ни на лебедя,
Ни на сераго на малаго утеныша.
Проездил Сухман трои суточки,
Приехал Сухман сын Долмантьевич Ко матушке ко Непры реки;
А у той ли у матушки Непры реки А стоит тут сила ведь-то малая,—
Вода с песком возмутиласи;
Стоит за Непрой, за Непрою рекой А неверный силы сорок тысячей,
Мостят мосты все калиновый,
Ладят тут перейти через ту Непру,
Ко тому ли ко городу ко Киеву,
Ко ласкову князю Владимиру,
Ладят Киев град как огнём пожгать,
А Владимира-того во полон-тот взят.
Тут Сухман здогодается,
А пошол Сухман за тую Непру,
Находил ён дубиночку вязиночку:
В долину как дубина девяти сажон,
В толщину как дубина три обоймени.
Тут Сухман снаряжается,—
За вершинку брал — с комля сок бежал.
Стал по поганыим похаживать,
По тою по силе по неверный,
Стал ён дубиною помахивать,
Убил ён татар сорок тысячей;
Со всих сторон дубину приущолкал ён,
В кровь ён дубину приомарал тут.
А из поганый из силы тут
219
Оставалося только два татарина,
А ёны от его обряжалися,
За тыя за кустья завалялися.
Пошол тут Сухман ён во Киев град Ко тому ли князю ко Владимиру.
Говорит Владимир таково слово:
— Что же долго ты ездил, Сухман, теперь? Ездил ты да трои суточки,
Привез ты ко мне нынь лебедушку,
Обещался кою да живьем в руки,
А ни сераго ни малаго утёныша.
Ответ держит Сухман как тут,
Ответ держал сын Долмантьёвич:
— Не до того мне-ка нынь деялось!
Был я ведь нынь за Непрой рекой,
Увидал я силы сорок тысячей,
Той ли силы поганый,
Той ли силы всё неверный,
Оны ладили тут как ведь Киев град,
Киев град как огнём пожгать,
А Влодимира тебя в полон как взять.
А говорят князи ведь и бояра А и сильни могучи богатыри:
— Ах ты Владимир столен-киевской!
Не над нами Сухман насмехается,
Над тобою Сухман нарыгается,
Над тобой ли нынь как Владимир князь.
За тыи за речи за похвальный Посадил его Владимир стольно-киевской Во тыи погреба во глубокий,
Во тыи темницы темный.
Железными плитами задвигали,
А землей его призасыпали,
А травой его замуравили,
Не много ли не мало лет-то на тридцать. Послали туда ведь-то оследовать,
К той ли ко матушки Непры реки,
Старого казака Илью Муромца.
А пошол старой казак Илья Муромец,
Он пошол к матушки Непры реки,
А стал Илья как по силе похаживать,
По той ли силы он поганый,
По той ли по силы все неверный,—
Он нашол там дубиночку вязиночку,
220
А лежит она меж силы меж поганою,
А лежит тая дубина девяти сажон,
В толщину тая дубина три обоймени,
Со всих сторон дубина приущолкана,
В кровь дубина приомарана.
Пошол да старой ён ко городу,
Ко тому ко городу ко Киеву,
Увидал два татарина поганыих.
Говорят тут татарины поганый:
■— Ты куда, калика, перехаживаешь,
Ты откуль идешь, откуль путь держишь? Воспроговорит старой Илья Муромец:
— Я иду ведь от города от Киева,
От ласкова князя Владимира.
Говорят татарины поганый:
— У вас как ведь есть нынь во Киеви А богатырь старой Илья Муромец;
По многу заедат-то хлеба к выти он,
По многу ль выпиват питья медвянаго?
Говорит Ильюша таково слово:
— У нас как было нынь во Киеви,
У ласкова князя Владимира,
Ест хлеба по колачику крупивчату,
Запивае стаканчиком медвяныим.
— То тут у Ильюши ведь не сила есть.
Как мы есть поганы татарова N
Едим хлеба к выти по печи печенаго,
По ушату пьем водоносныих.
Воспроговорит Илья тут ведь Муромец:
—- У нас было во городе во Киёви При ласковом князи Владимири Коровищо была обжорищо,—
Она много ела, вино пила тут,
Нынь вся она теперь перелопала.
Тут татаринам поганым не к лицу пришло, Выскакали со шатра полотнянаго,
Кинули в Ильюшу ножищо оны тут.
Попало тут во дверь во дубовую,
Выскочила тут и со липиньямы.
Взял Ильюша старой тут ведь Муромец Клюху свою он дорожную.
А ударил ён по татаровам,—•
Тут у татаринов души нету.
Приходит старой Илья Муромец
221
Ко городу ко тому ко Киеву,
Ко ласкову князю Владимиру,
Ответ держал, выговаривал:
— Правда Сухмана Долмантьёвица,
Чем Сухман только хвастает.
Был-то я у Непры реки,
Видел силы поганой убитою,
Числом лежит сорок тысячей.
Меж тыма меж поганыма татарами Увидал дубину девяти сажон,
В толщину дубина три обоймени,
Со всих сторон дубина приущолкана,
В кровь-ту дубина приомарана.
Зговорит Владимир таково слово:
— Ах же вы князи вы бояра,
А вы сильни могучи вси богатыри! Выводите Сухмана со погребов,
Со тых погребов со глубокиих,
А со тых ли со тёмниц со темныих.
Тут приходили князи бояра,
Сильни могучи богатыри;
Траву-ту всю оны тут вырвали,
Землю из плиты ведь повырыли, Железную плиту повыняли,
Выводили Сухмана сыча Долмантьевича Со тых погребов со глубокиих,
Со тых ли со темниц со темныих. Воспроговорят ему вси князи бояра:
— Ах ты Сухман сын Долмантьевич!
За твои услуги великии
Тебя пожалует Владимир столен-киевской Золотою казной тебя долюби,
Городами-то да с пригородкамы, Приселами-то да со приселкамы.
Выходит Сухман сын Долмантьевич Со тых погребов со глубокиих,
Со тых ли со темниц со темныих,
Говорит Сухман таково слово:
— А не честь хвала молодецкая Брать города с пригородкамы,
Брать присела да со приселкамы,
Брать мне бессчетна золота казна,
А моя есть смерть напрасная,
От тых от ран от великиих.
222
Выдергал он листочки маковый: — Протеки от ран от великиих, Протеки Сухман река ты кровавая.
ДАНИЛО ИГНАТЬЕВИЧ
Заводил государь да почестей пир На многии на князи на бояра,
На сильни могучи богатыри,
На вси поляници удалый.
И вси во пиру пьяны веселы,
И вси во честном приросхвастались.
Да иной-то похваста золотой казной,
А иной-то похваста своею удатью.
А й за тым столом белодубовым,
За той скамеечкой каленовою,
Сидит старый Данилушко Игнатьевич.
Он не ест-то не пьет, сам не кушаё,
А ничего сам в пиру не хвастае.
Говорит царь таково слово:
— Престаревшии Данилушко Игнатьевич! Ты чего сидишь в пиру кручинишься,
Ты чего сидишь в пиру печалишься?
Али место в пиру не по отчине,
Али чарой в пиру тебя приббнесли,
Али пьяница над тобой усмехнуласи? Говорит Данилушка Игнатьевич:
— Бласлови, осударь, слово повымолвить, Не сруби, осударь, буйной головы,
Не вынь сердца со печенью.
Бласлови Данилу в монастырь итти,
Как постричься во старци во черный, Поскомидиться во книги спасеныя,
При старости Данилы бы душа спасти.
И говорит царь таково слово:
— Престаревшии Данилушко Игнатьевич! Благословил бы я тебя в монастырь пойти, Как прознают орды неверный,
Проведают цари нещасливыи,
Так Киев град щепой возьмут,
Да церкви божьи на дым спустят,
Меня, осударя, в полон возьмут.
— Есть у меня чадо и в девять лет.
Когда будет чадо в двенадцать лет,
И будет стоять по городи по Киеви,
И по тебе Владимир стольне-киевской.
Наш грозный царь Иван Васильевич, Наш грозный царь Иван Васильевич Благословил Данилу в монастырь пойти Как постричься во старци во чорныи, Поскомидиться во книги спасеныя,
При старости Данилы бы душа спасти.
И прознают орды неверный,
Проведают цари нещасливыи.
Да заводил осударь почестей пир,
На многии на князи на бояра,
На сильны могучи богатыри,
На вси поляницы удалый.
И вси во пиру пьяны веселы,
Вси во честном приросхвастались.
Да иной похваста золотой казной,
Да иной-то хвастает своей удатью,
А иной-то хвастает добрым конем,
И сам осударь-та не ест, не пьё,
Сам в пиру ничим не тешитси,
Ничим в пиру он не хвастаё.
Говорит царь таково слово:
— Ой вы, князи, вси бояра,
Все сильны могучий богатыри,
Вси поляници удалый.
Выбирайте-тко мне поединщика Ехать во далечб чисто полё,
Нам сила считать, полки высмекать, Вывести перед сметой на золот стол.
Из-за тых столов белодубовых,
Из-за той скамеечки кленовыя Выставае молодой Иванушко Данилович. Он князьям-то бьё о леву руку,
Самому осударю о праву руку:
— Еду во далечо в чисто поле,
Всю силу считаю, полки высмекаю,
Приведу перед сметой на золот стол.
Говорит царь таково слово:
Нет ли поматорее ехать добра молодца? И говорят вси князи, вси бояра,
224
Вси сильни могучи богатыри,
Вси поляницы удалый:
— Видеть добра молодца по походочкам, Видеть добра молодца по поступочкам.
Наливал осударь чару зелена вина,
Весом та чара полтора пуда,
Мерой-то чара полтора ведра.
Принимал Иванушка единой рукой,
Выпивал Иванушко на единый дух.
Видли добра молодца сядучись,
Не видли молодца поедучись,
А в чистом поли курева стоит,
Курева стоит, дым столбом летит.
Навстречу бежит родный батюшко,
Он голосом кричит, шляпой маше:
— Молодой Иванушка Данильевич!
Ты не едь-ко в целый гуж,
Ты едь-ко в пол-гужа,
Ты силу руби с одного плеча.
Молодой Иванушка Данильевич Он во день ездил по красну по солнышку,
Он в ночь ездил по лунну по месяцу,
И налил коню пшеницы белояровой.
И сам молодец спать-то лёг.
Проснулся добрый молодец, стоит конь добрый. Не ест травы шелковый.
Не зоблет пшеницы белояровой.
Он бьё коня по тучным ребрам:
— Волчья еда, травяной мешок.
И что же ты не зоблешь пшеницы белояровой, Не ешь травы шелковый?
Жерствуе конь языком человечьиим:
— Над тобой знаю незгодушку великую,
Над собой знаю незгодушку великую,
Копали татары поганый,
Копали три погреба глубокиих И клали рогатинки звериныя.
И первый тот погреб перескочу,
И другой тот погреб перескочу,
Третьяго погреба не могу скочить,
Упаду во погребы глубокий,
Во ты рогатинки звериный.
Обневолят тебя добра молодца Во ты во путники шелковый,
8—33! I
Во ты железа во немецкий.
Он бьё коня по тучным ребрам:
— Волчья еда, травяной мешок!
Ты не знать незгодушки, не ведаешь.
И садился Иванушко на добра коня,
В чистом поли ’ще курева стоит,
Курева стоит, дым столбом летит. Приезжал к татаровам поганыим.
Он первый тот погрёб перескочил,
Он другой тот погреб перескочил.
Говорит конь доброй языком человечьиим, Говорит молоду Иванушку ДанильевичуГ
— Молодой Иванушко Данильевнч! Дай-ко ты-ка мне здох здохнуть. Перескочу погреб и третий.
Богатырское сердце розретивилось,
Он бьё коня по тучным ребрам,
Упал конь во погребы глубокий,
Во ты рогатинки звериный.
Обневолили добра молодца,
Связали ручки белый Во тыи путинки шелковый,
Во ты железа немецкий.
Росплакался добрый молодец.
Богородица Иванушку глас гласит:
•— Молодый Иванушко Данильевич! Здынь-ко правую ручку выше головы, Левую ручку ниже пояса,
И розлопают путинки шелковый,
И рострескают железа немецкий.
Молодый Иванушко Данильевич Правую ручку выше головы,
Левую ручку ниже пояса.
Розлопали путинки шелковый,
Рострескали железа немецкий,
Он хватил татарина, кой больше всих,
Он стал татарином помахивать,
Куды махнёт — туды улкамы,
Куды перемахнёт — переулкамы.
И добро оружьё татарское,
Гнется татарин, не ломится,
На жиловы татарин подавается,
Во вен стороны татарин поклоняется.
Куды махнёт — туды улкамы,
226
Куды перемахнет — переулкамы. И та дорожка очищена Молодым Иваном Данильевичем.
ВАСИЛИИ ИГНАТЬЕВИЧ И БАТЫГА
Как из далеча было из чиста поля,
Из-под белые березки кудревастыи,
Из-под того ли с под кустичка ракитова,
А й выходила-то турица златорогая,
И выходила-то турица со турятами,
А й расходилиси туры да во чистом поли,
Во чистом поли туры да со турицою.
А й лучилосе турам да мимо Киев град иттив А й видли над Киевым чудным чудно,
Видли над Киевым дивным дивно.
По той по стены по городовыи Ходит девица душа красная,
А на руках носит книгу Леванидову,
А не тольки читае, да вдвой плаче.
А тому чуду туры удивилиси,
В чистое поле возвратилиси,
Сошлиси, со турцей поздоровкалисеГ
— А ты здравствуешь, турица наша матушка!
— Ай здравствуйте, туры да малы детушки!
А где вы туры были, что вы видели.?
— Ай же ты турица наша матушка!
А й были мы туры да во чистом поли,
А лучилосе нам турам да мимо Киев град итти, А й видели над Киевом чудным чудно,
А й видели над Киевом дивным дивноз А по той стены по городовыи Ходит-то девица душа красная,
А на руках носит книгу Леванидову,
А не столько читает, да вдвои плаче.
Говорит-то ведь турица родна матушказ
— Ай же вы туры да малы детушки!
А й не девица плачет, да стена плаче,
А й стена-та плаче городовая,
А она ведает незгодушку над Киевом,
А й она ведает незгодушку великую.
227
А из-под той ли страны да спод восточный А наезжал ли Батыга сын Сергеевич,
А он с сыном со Батыгой со Батыговичем,
А он с зятем Тараканчиком Корабликовым,
А он со черным дьчком да со выдумщичком.
А й у Батыги-то силы сорок тысячей,
А у сына у Батыгина силы сорок тысячей,
А у зятя Тараканчика силы сорок тысячей,
А у чернаго дьячка, дьячка выдумщичка,
А той ли той да силы счёту нет,
А той ли той да силы да ведь смету нет:
Соколу будет лететь да на меженный долгий день, А малою-то птичики не облететь.
Становилась тая сила во чистом поли.
А по греху ли-то тогда да учинилосе.
А й богатырей во Киеви не лучилосе:
Святополк богатырь на Святыих на горах,
А й молодой Добрыня во чистом поли,
А Алешка Попович в богомольной стороны,
А Самсон да Илья у синя моря.
А лучилосе во Киеви голь кабацкая,
А по имени Василей сын Игнатьёвич.
А двенадцать годов по кабакам он гулял,
Пропил промотал все житьё бытьё своё,
А й пропил Василей коня добраго,
А с той ли-то уздицей тесмяною,
С тем седлом да со черкальскиим,
А триста он стрелочек в залог отдал.
А со похмелья у Василья головка болит,
С перепою у Василья ретиво сердцб щемит,
И нечим у Василья опохмелиться.
А й берет-то Василей да свой тугой лук,
Этот тугой лук Васильюшко розрывчатой, Налагает ведь он стрелочку каленую,
А й выходит-то Василей вон из Киёва,
А й стрелил-то Василей да по тем шатрам,
А й по тем шатрам Василей по полотняным,
А й убил-то Василей три головушки,
Три головушки, Василей, три хорошеньких:
А убил сына Батыгу Батыговича,
И убил зятя Тараканчика Корабликова,
А убил чернаго дьячка, дьячка выдумщичка.
И это скоро-то Василей поворот держал А й во стольнёй во славной во Киев град.
228
Л это тут Батыга сын Сергиевич А посылает-то Батыга да скорых послов,
Скорых послов Батыга виноватого искать.
А й приходили-то солдаты каравульнии,
Находили-то Василья в кабаки на печи,
Проводили-то Василья ко Батыги на лицо.
А й Василей от Батыги извиняется,
Низко Василей поклоняется:
— Ай прости меня, Батыга, во такой большой вины! А убил я три головки хорошеньких,
Хорошеньких головки что ни лучшеньких:
Убил сына Батыгу Батыговича,
Убил зятя Тараканчика Корабликова,
Убил чернаго дьячка, дьячка выдумщичка.
А со похмелья у меня теперь головка болит,
А с перепою у меня да ретиво сердцо щемит.
А опохмель-ко меня да чарой винною,
А выкупи-ко мне да коня добраго,
С той ли то уздицей тесмянною,
А с тем седлом да со черкальскиим,
А триста еще стрелочек каленыих.
Еще дай-ко мне-ка силы сорок тысячей,
Пособлю взять-пленить да теперь Киев град.
А знаю я воротца незаперты,
А незаперты воротца, незаложеныи,
А во славный во стольнёй во Киев град,
А на ты лясы Батыга приукинулся, *
А выкупил ему да коня добраго,
А с той ли то уздицей тесмяною,
А с тем седлом да со черкальскиим,
А триста-то стрелочек каленыих,
А наливает ему чару зелена вина,
А наливает-то другую пива пьянаго,
А наливает-то он третью мёду сладкаго,
А слил-то эти чары в едино место,—
Стала мерой эта чара полтора ведра,
Стала весом эта чара полтора пуда.
А принимал Василей единою рукой,
Выпивает-то Василей на единый дух,
А крутешенько Василей поворачивалсе,
Веселешенько Василей поговариваё:
— Я могу теперь, Батыга, да добрым конём владать, Я могу теперь, Батыга, во чистом поле гулять,
Я могу теперь, Батыга, вострой сабелкой махать.
220
И дал ему силы сорок тысящей.
А выезжал Василей во чисто полё А за ты эты за лесушки за темные,
А за ты эты за горы за высокие,
И это начал он по силушке пбезживати,
И это начал ведь он силушки порубливати,
И он прибил, прирубил да единой головы.
Скоро тут Василей поворот держал.
А приезжает тут Василей ко Батыги на лицо,
А й с добра коня Васильюшка спущается,
А низко Василей поклоняется,
Сам же он Батыге извиняется:
— Ай прости-ко ты, Батыга, во такой большой вины! Потерял я ведь силы сорок тысящей.
А со похмелья у меня теперь головка болит,
С перепою у меня да ретиво сердцо щемит, Помутились у меня да очи ясныя,
А подрожало у меня да ретиво сердцо,
А опохмель-ко ты меня да чарой винною,
А дай-ко ты силы сорок тысящей,
Пособлю взять-пленить да я Киев град.
А на ты лясы Батыга приукинулся,
Наливает ведь он чару зелена вина,
Наливает он другую пива пьянаго,
Наливает ведь он третью мёду сладкаго,
Слил эты ч^.ры в едино место,—
Стала мерс i эта чара полтора ведра,
Стала весом эта чара полтора пуда.
А принимал Василей единою рукой,
А выпивал Василей на единый дух,
А й крутешенько Василей поворачивалсе, Веселешенько Василей поговаривае:
— Ай же ты Батыга сын Сергйевич!
Я могу теперь, Батыга, да добрым конем владать,
Я могу теперь, .Батыга, во чистом поле гулять,
Я могу теперь, Батыга, вострой сабелькой махать. ’
А дал ему силы сорок тысящей.
А садился Василей на добра коня,
А выезжал Василей во чисто полё А за ты эты за лесушки за темные,
А за ты эты за горы за высокие,
И это начал он по силушке поезживати,
И это начал ведь он силушки порубливати,
И он прибил, прирубил до единой головы.
230
Л розгорелось у Василья ретиво сердцо,
А й размахалась у Василья ручка правая.
А й приезжает-то Василей ко Батыги на лицо,
И это начал он по силушки поезживати,
И это начал ведь он силушки порубливати,
А он прибил, прирубил до единой головы.
А й тот ли Батыга на уход пошол,
А й бежит то Батыга запинается,
Запинается Батыга заклинается:
— Не дай боже, не дай бог да не дай дитям моим Не дай дитям моим да моим внучатам А во Киеви бывать да ведь Киева видать!
Ай чйстыи поля были ко Опскову,
А широки роздольица ко Киеву,
А высокия-ты горы Сорочинскии,
А церковно-то строенье в каменной Москвы, Колокольнёй-от звон да в Нове-городе,
А й тёртые колачики Валдайския,
А й щапливы щеголиви в Ярослави городи,
А дешёвы поцелуи в Белозерской стороне,
А сладки напитки во Питери,
А мхи-ты болота ко синю морю,
А щельё каменьё ко сиверику,
А широки подолы Пудожаночки,
А й дублёны сарафаны по Онеги по реки, Толстобрюхие бабенки Лёшмозёрочки,
А й пучеглазые бабенки Пошозёрочки,
А Дунай, Дунай, Дунай,
Да боле петь вперед не знай.
ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВИЧ
В славном было во Новйгороде, Жил Буслав девяносто лет,
Жил Буслав целу тысящу,
Живучи Буслав не старился,
На достали Буслав переставился,
С Новым градом не перечился,
С каменной Москвой спору не было Оставалоси чадо милое
Молодый Василий сын Буславьевич.
Стал по улицкам похаживать,
С робятами шуточки пошучивать:
Кого за руку дернет — рука с плеча,
Кого за ногу дернет — нога с колен,
Кого за голову дернет — голова с плечи вон. Собиралися мужики новгородский,
Собрались к Васильевой матушки.
— Ай же Васильева матушка,
Молодая Фетьма Тимофеевна!
Уйми свое чадо милое,
Молода Василия Буславьева.
А не уймешь Васильюшка Буслаева,
Будем унимать всим Новым градом,
Сгоним Васильюшка под Волхово,
Пихнем Васильюшка в Волхово.
Тут Васильева матушка,
Молода Фетьма Тимофеевна,
Чоботы надернула на босы ноги,
Шубу накинула на одно плече,
Хватила свое чадо милое,
Хватила под правую под пазуху.
— Ай ты, Василий сын Буслаевич!
Как жил Буслав девяносто лет,
Жил Буслав делу тысящу,
Живучи Буслав не старелся,
На достали Буслав переставился,
Со Новым градом не перечился,
А с каменной Москвой спору не было.
Тут Василий сын Буславьев Завел он свой почестей пир.
Накурил Василий зелена вина,
Наварил Василий пива пьянаго,
На белой двор бочки выкатывал,
На бочках подписи подписывал,
На вёдрах подрези подрезывал.
Мерой чара полтора ведра,
Весом чара полтора пуда.
— Тот поди ко мне на почестей пир,
Кто выпьет эту чару зелена вина,
Кто истерпи мой черленой вяз.
Как идут мужики новгородские Скажут: — К чорту Василия и с честным пиром! Идет встрету маленький Потанюшко,
На правую ножку припадывает,
Он на небо поглядывает.
Говорят мужики новгородские:
— Не ходи, Потаня, на почестей пир!
Не выпить тебе чары зелена вина,
И нё стерпеть вяза черленого.
Пришел-то маленький Потанюшко, Пришел Потаня на почестей пир,
Хватил ён чарочку одной рукой,
Пил он чарочку одним духом.
Хлопнул Василий сын Буслаевич, Хлопнул вязом черленыим,
Стоит Потанюшко не стряхнется,
Его желтые кудри не сворохнутся. Спроговорит Василий сын Буслаевич:
— Ай же ты маленький Потанюшка! Поди ко мне в дружинушки в хоробрый.
Тут мужики новгородские Заводили они почестей пир,
Накурили они зелена вина,
Наварили пива пьянаго.
А всих-то они на пир позвали.
А Василия Буславьева и не позвали. Спроговори Василий сын Буславьевич:
— Пойду я, матушка, на почестей пир! Спроговорит матушка родимая
Молодая Фетьма Тимофеевна:
— Не ходи, Василий, на почестей пир! Вси придут на пир гости званый,
Ты придешь на пир незваный гость. Спроговорит Василий сын Буслаевич:
— Пойду я, матушка, на почестей пир! Куда меня посадят, я там сижу.
Что могу достать, то я ем да пью.
Пошли со дружиною на почестей пир. Приходит Василий на почестей пир, Крест кладет по писаному,
Поклон ведет по ученому.
— Здравствуйте, мужики новгородский!
— Поди, Василий сын Буславьевич! Садись, Василии, во большом углу.
Кормили тут Басилыошка досыта, Поили Василыошка допьяна.
— Бейся, Василыошка, во велик заклад,
233
Завтра итти на Волхово!
Мы станем биться всим Новым градом,
А ты двоима со дружинушкой.
Пошел Василий со честнй пиру,
Приходит к матушке родимоей Прикручинивши, припечаливши.
Сироговори матушка родимая:
— Эй же, Василий сын Буслаевич!
Что ты, Василий, прикручинивши,
Что ты, Василий, припечаливши?
Ведь не чарой, Василий, тебя обнесли,
Либо пьяница собака обесчестила?
Спроговори маленькой Потанюшка,
Его дружинушка хоробрая:
— Чарой Василия не обнесли,
И пьяница собака не обесчестила:
Ен глупым умом, хмельным розумом,
Бился Василий о велик заклад:
Что итти с-утра на Волхово,
Им биться всим Новым градом,
А нам двоима со дружинушкой.
Тут молодая Фетьма Тимофеевна Чоботы надернула на босы ноги,
Шубу накинула на одно плече.
На мистку положила красна золота,
На другую чистаго серебра,
На третью скатнаго жемчуга.
Пришла она на почестей пир,
Крест кладет по писаному,
Поклоны ведет по ученому.
— Здравствуйте, мужики новгородские! Возьмите дороги подарочки,
Простите Василия во той вины.
Говорят мужики новгородские:
— Мы не возьмем дороги подарочки И не простим Василия во той вины.
Хоть повладеем Васильевыма конями добрыма, Повладеем платьями цветными!
Тут молодая Фетьма Тимофеевна,
Крест на лицё, да с терема долой.
Ударила чоботом во лйпину,
А улетела липина во задний тын,
А у них задний тын весь и россьтпался,
Вси крыльца перильца покоси.*нся.
234
Тут Василий сын Буслаевич Вставал по утру ранешенько,
Пошел на Дунай реку купатися,
Иде встрету девушка чернавушка.
— Ай же ты, Василий сын Буслаевич! Знал загудки загадывать,
А не знаешь ноне отгадывать:
Прибили дружину во чистом поли.
Тут Василий сын Буслаевич Чоботы надернул на босу ногу,
Шубу накинул на одно плече,
Колпак накинул на одно ухо,
•Хватил Василий свой черленый вяз, Побежал Василий во чисто поле.
Идет встречу старчищо Андронищо,
Его иде крёстный батюшко,
Надет на голову Софеин колокол.
— Ай же ты, крестный батюшко!
Зачем надел на голову Софеин колокол?
Хлопнул крестнаго батюшку,
Убил старчищо Андронищо.
Прибежал Васильюшко на Волхово,
Стал по Волхову поскакивать,
Черленым вязом помахивать.
Куды махнет — падут улицама,
А в перехват махнет — переулкама. Кистенямы головы переломаны, Кушакамы головы перевязаны.
Бежат к Васильевой матушке.
— Ай же Васильева матушка,
Молодая Фетьма Тимофеевна!
Уйми свое чадо милое,
Оставь людей хоть и на семена.
Тут Васильева матушка Чоботы надернула на босы ноги,
Шубу накинула на одно'плече, Прибежала она на Волхово,
Хватила свое чадо милое,
Хватила под правую под пазуху.
— Ай же ты, Василий сын Буслаевич! Жил Буслав девяносто лет,
Жил Буслав делу тясящу,
Живучи Буслав не старился,
На достали Буслав пересгавился,
Со Новым градом не перечился,
С каменной Москвой спору не было.
Принесла Василья со чиста поля.
Тут Василий сын Буслаевич Говорит он матушке родимоей:
— Ай же ты, матушка родимая!
Утрось я не завтракал, вечор я и не ужинал, Дай хоть сегодня пообедати.
Спусти меня молодца в Еросолим град,
Во святую святыню помолитися,
Ко христову гробу приложитися,
Во Ердан реку окупатися.
Сделал я велико прегрешение,
Прибил много мужиков новгородскиих!
Говорит Васильева матушка Молодая Фетьма Тимофеевна:
— Не спущу тебя, Василья, во Еросолим град. Тебе мне-ка-ва больше жива не видать.
— Ай же матушка родимая!
Спустишь — поеду, а не спустишь — пойду.
Оснастили суденышко дубовое,
Со своей с дружинушкой хороброю Сели в суденушко, поехали.
Приехали к матушке Сивонь горы.
Пошли на матушку Сивонь гору,
Пошли по матушке Сивонь горе,
Лежит тут кость сухоялова.
Тут Василий сын Буслаевич Стал этой костью попинывать,
Стал этой костью полягивать.
Спроговори кость сухоялова Гласом яна человеческим:
Ты бы хоть, Василий сын Буслаевич,
Меня бы кости не попинывал,
Меня бы кости не полягивал,
Тебе со мной лежать во товарищах.
Плюнул Васильюшко да прочь пошол;
.— Сама спала, себи сон вид ла.
Сели в суденушко, поехали.
Приехали оны в Еросолим град,
Схотили в святую святыню помолилися,
Ко христову гробу приложилися;
Пришел Василий сын Буслаевич,
Окупался в матушке Ердань реке.
236
Идет та девушка чернавушка,
Говорит Васильюшку Буславьеву:
— Ай Василий сын Буслаевич!
Нагим телом в Ердань реки не куплются, Нагим телом купался сам Иисус Христос!
А кто куплется, тот жив не бывает.
Сели в суденышко, с дружинушкой поехали. Заболела у Васильюшка буйная головушка. Спроговори Василий сын Буслаевич:
— Ай же дружинушка хоробрая!
Болит у меня буйная головушка.
Вечор были мы на матушке Сивонь горе, Пошли мы с костью разбранилися,
Пошли мы с костью не простилися.
Заедем-ко на матушку Сивонь гору,
Простимся у кости сухояловой.
Приехали на матушку Сивонь гору,
Где лежала кость сухоялова.
Тут лежит о том месте синь камень:
В долину камень сорок сажен,
В ширину камень двадцать сажен.
Спроговори Василий сын Буслаевич:
— Ты, дружинушка, скачи в поперек камня,
А я скачу вдоль каменя;
Перескочим черёз камень!
Скочил Васильюшко вдоль каменя,
Пал Васильюшко о синь камень.
Речён язык в головке поворотится,
Говорит дружинушке хоробрыя:
— Съедешь, дружинушка хоробрая,
К моей матушке родимоей,
Вели поминать Васильюшка Буслаева.
САДКО
А как ведь во славноём в Нове-гради,
А й как был Садке да гуселыцик-от,
А й как не было много несчотной золотой казны, А й как только ён ходил по честным пирам, Спотешал как он да купцей, бояр,
Веселил как он их на честных пирах.
А й как тут над Садком топерь да случилосе,
Не зовут Садка уж целый день да на почестей пир,
237
'А й не зовут как другой день на почестей пир,
А й как третий день не зовут да на почестей пир.
А й как Садку топерь да соскучилось,
А й пошол Садке да ко Ильмень он ко озеру,
А й садился он на синь на горюч камень,
А й как начал играть он во гусли во яровчаты,
А играл с утра как день топерь до вечера.
А й по вечеру как по поздному А й волна уж в озерё как сходиласе,
А как ведь вода с песком топерь смутиласе,
А й устрашился Садке топеречку да сидети он,
Одолел как Садка страх топерь великий,
А й пошел вон Садке да от озера,
А й пошел Садке как во Новгород.
А й опять как прошла топерь тёмна ночь,
А й опять как на другой день Не зовут Садка да на на почестей пир,
А другой-то да не зовут его на почестей пир.
А й как третий-то день не зовут на почестей пир.
А й как опять Садку топерь да соскучилось,
А пошел Садке ко Ильмень да он ко озеру,
А й садился он опять на синь да на горюч камень У Ильмень да он у озера.
А й как начал играть он опять во гусли во яровчаты, А играл уж как с утра день до вечера.
А й как по вечеру опять как по поздному А й волна уж как в озери сходиласе,
А й как вода с песком топерь смутиласе,
А й устрашился опять Садке да новгородский,
Одолел Садка уж как страх топерь великии.
А как пошел опять как от Ильмень да от озера,
А как он пошел во свой да он во Нов-город.
А й как тут опять над ним да случилосе.
Не зовут Садка опять да на почестей пир,
Ай как тут опять другой день не зовут Садка да
па почестей пир,
А й как третий день не зовут Садка да на почестей пир. А й опять Садку топерь да соскучилось,
А й пошол Садке ко Ильмень да ко озеру,
А й как он садился на синь горюч камень да об озеро,
А й как начал играть во гусли во яровчаты,
А й как ведь опять играл он с утра до вечера,
А волна уж как в озери сходиласе,
А вода ли с песком да смутиласе;
238
А тут осмелился как Садке да новгородский А сидеть играть как он об озеро.
А й как тут вышел царь водяной топерь со озера,
А й как сам говорит царь водяной да таковы слова:
— Благодарим-ка, Садке да новгородский!
А спотешил нас топерь да ты во озери,
А у мня было да как во озери,
А й как у мня столованье да почестей пир,
А й как всех розвеселил у мня да на честном пиру А й любезныих да гостей моих.
А й как я не знаю топерь, Садка, тебя да чем
пожаловать:
А ступай, Садке, топеря да во свой во Нов-город,
А й как завтра позовут тебя да на почестей пир,
А й как будет у купца столованьё почестей пир,
А й как много будет купцей на пиру много
новгородскиих,
А и как будут все на пиру да напиватисе,
Будут все на пиру да наедатисе,
А й как будут все пофальбами теперь да пофалятисе, А й кто чим будет теперь да фастати,
А й кто чим .будет топерь да похвалятисе;
А иной как будет фастати да несчётной золотой казной, А как иной будет фастать добрым конем,
Иной буде фастать силой удачей молодецкою,
А иной буде фастать молодый молодечеством,
А как умной разумной да буде фастати Старым батюшком, старой матушкой,
А й безумный дурак да буде фастати А й своей он как молодой женой.
А ты, Садке, да пофастай-ко:
«А я знаю, что во Ильмень да во озери А что есте рыба-то перья золотыи ведь»,
А как будут купцы да богатый А с тобой да будут споровать,
А что нету рыбы такою ведь,
А что топерь за золотыи ведь,
А ты с нима бей о залог топерь великии,
Залагай свою буйную да голову,
А как с них выряжай топерь А как лавки во ряду да во гостиноём С дорогима да товарамы.
А потом свяжите невод да шелковой,
Приезжайте вы ловить да во Ильмень во озеро,
230
А закиньте три тони во Ильмень да во озерн,
А я в кажну тоню дам топерь по рыбины,
Уж как перья золотыи ведь.
А й получишь лавки во ряду да во гостиноём С дорогима ведь товарамы;
А й потом будешь ты, купец Садке, как новгородский, А купец будешь богатый.
А й пошел Садке во свой да как во Нов-город.
А й как ведь да на другой день А как позвали Садка да на почестей пир Айк купцю да богатому.
А й как тут да много сбиралосе Айк купцю да на почестей пир А купцей как богатыих новгородскиих.
А й как все топерь на пиру напивалиси,
А й как все на пиру да наедалисе,
А й пофальбами все пофалялисе.
А кто чем уж как теперь да фастает,
А кто чем на пиру да похваляется;
А йной фастае как несчотной золотой казной,
А йной фастае да добрым конём,
А йной фастае силой удачей молодецкою;
А й как умной топерь уж как фастает А й старым батюшком, старой матушкой,
А й безумной дурак уж как фастает,
А й как фастае да как своей молодой женой.
А сидит Садке как ничим да он не фастает,
А сидит Садке как ничим он не похваляется.
А й как тут сидят купци богатый новгородский,
А й как говорят Садку таковы слова:
— А что же, Садке, сидишь, ничим же ты не фасгаешь, Что ничим, Садке, да ты не похваляешься?
А й говорит Садке таковы слова:
— Ай же вы купцы богатые новгородские!
А й как чим мне Садку топерь фастати,
А как чем-то Садку похвалятися.
А нету у мня много несчотной золотой казны,
А нету у мня как прекрасной молодой жены,
А как мне Садку только есть одным да мне пофастати; Во Ильмень да как во озери А есте рыба как перья золотыи ведь.
А й как тут купци богатый новгородский А й начали с ним да оны споровать,
Во Ильмень да что во озери
240
А нету рыбы такою что,
Чтобы были перья золотым ведь.
А й как говорил Садке новгородский:
— Дак заложу я свою буйную голопушку,
Боле заложить да у мня нечего.
А оны говоря: — Мы заложим в ряду да во гостиноём Шесть купцей, шесть богатыих.
А залагали ведь как по лавочки,
С дорогима да с товарамы. V А й тут поели этого \
А связали невод шёлковой,
А й поехали ловить как в Ильмень да как во озеро,
А й закидывали тоню во Ильмень да ведь во озери,
А рыбу уж как добыли перья золотым ведь;
А й закинули другу тоню во Ильмень да ведь во озери, А й как добыли другую рыбину перья золотым ведь;
А й закинули третью тоню во Ильмень да ведь во озери, А й как добыли уж как рыбинку перья золотым ведь.
А топерь как купцы да новгородский богатый А й как видят — делать да нечего,
А й как вышло правильнё, как говорил Садке да
новгородский,
А й как отперлись ёны да от лавочок,
А в ряду да во гостиноём,
А й с дорогима ведь с товарамы.
А й как тут получил Садке да новгородский Айв ряду во гостиноём
А шесть уж как лавочок с дорогима он товарамы,
А й записался Садке в купцы да в новгородский,
А й как стал топерь Садке купец богатый.
А как стал торговать Садке да топеречку В своём да он во городи,
А й как стал ездить Садке торговать да по всем местам, А й по прочим городам да он по дальниим,
А й как стал получать барыши да он великие.
А й как тут да после этого
А женился как Садке купец новогородскии богатый.
А еще как Садке после этого А й как выстроил он полаты белокаменны,
А й как сделал Садке да в своих он полатушках,
А й как обделал в теремах всё да по небесному:
А й как на неби пекет да красное уж солнышко,—
В теремах у его пекет да красно солнышко;
А й как на неби светит млад да светёл месяц,—
241
У его в теремах да млад светел месяц;
А й как на неби пекут да звезды частый,—
А у его в теремах пекут да звезды частый.
А й как всем изукрасил Садке свои полаты белокаменны. А й топерь как ведь после этого А й сбирал Садке столованьё да почестей пир,
А й как всех своих кунцей богатыих новгородскипх,
А й как всех-то господ он своих новгородский*,
А й как он еще настоятелей своих да новгородскипх;
А й как были настоятели новгородские А й Лука Зиновьев ведь да Фома да Назарьев ведь;
А еще как сбирал-то он всих мужиков новгородскиих,
А й как повел Садке столованьё почестей пир богатый.
А топерь как все у Садка на честному пиру,
А й как все у Садка да напивалисе,
А й как все у Садка топерь да наедалисе,
А й похвальбами-то все да пофалялисе,
А й кто чим на пиру уж как фастает,
А й кто чем на пиру похваляется;
А иной как фастае несчотной золотой казной,
А иной фастае как добрым конём,
А иной фаста силой могучею богатырскою,
А иной фастае славным отечеством,
А иной фастат молодым да молодечеством;
А как умной разумной как фастает Старым батюшком да старой матушкой,
А й безумный дурак уж как фастает А й своей да молодой женой.
А й как ведь Садке по полатушкам он похаживат,
А й Садке ли-то сам да выговариват:
•— Ай -же вы купци новгородские вы богатые,
Ай же все господа новгородские,
Ай же все настоятели новгородские,
Мужики как вы да новгородские!
У меня как вси вы на честном пиру А вси вы у мня как пьяны веселы,
А как вси на пиру напивалисе,
А й как все на пиру да наедалисе,
А й похвальбами все вы похвалялисе.
А й кто чим у вас топерь хвастае:
А иной хвастае как былицею,
А иной фастае у вас да небылицею.
А как чем буде мне Садку топерь пофастатн?
А й у мня у Садка новогородскаго
242
А золота <казна> у мня топерь не тощится;
А цветное платьице у мня топерь не дёржится,
А й дружинушка хоробрая не изменяется;
А столько мне Садку будё пофастати А й своей мне несчётной золотой казной:
А й на свою я несчётну золоту казну А й повыкуплю я как все товары новгородские,
А как все худы товары я добрые,
А что не буде боле товаров в продаже во городи.
А й как ставали тут настоятели ведь новгородские,
А й Фома да Назарьев ведь,
А Лука да Зиновьев ведь,
А й как тут ставали да на резвы ноги,
А й как говорили самы ведь да таковы слова:
— Ай же ты Садке купец богатый новогородскии!
А о чем ли о многом бьешь с намы о велик заклад, Ежели выкупишь товары новгородские,
А й худы товары все, добрый,
Чтобы не было в продаже товаров да во городи?
А й говорил Садке им наместо таковы слова:
— Ай же вы настоятели новгородские!
А сколько угодно у мня фатит заложить бессчётной
золотой казны.
А й говоря настоятели наместо новгородские:
— Ай же ты Садке да новгородский!
А хошь ударь с намы ты о тридцати о тысячах.
А ударил Садке о тридцати ла ведь о тысячах.
А й как все со честного пиру розъезжалисе,
А й как все со честного пиру розбиралисе А й как по своим домам по своим местам.
А й как тут Садке купец богатый новгородскиий,
А й как он на другой день вставал по утру да по раному, А й как ведь будил он свою ведь дружинушку хоробрую, А й давал как он да дружинушки А й как долюби он бессчётный золоты казны,
А как спущал он по улицам тороговыим,
А й как сам прямо шол во гостиной ряд,
А й как тут повыкупил он товары новгородские,
А й худы товары все, добрые.
А й ставал как на другой день Садке купец богатый новгородскиий,
А й как он будил дружинушку хоробрую,
А й давал уж как долюби бессчётный золоты казны,
А й как сам прямо шол во гостиный ряд,—
243
А й как тут много товаров принавезено,
А й как много товаров принаполнено А й на ту на славу великую новгородскую.
Он повыкупил еще товары новгородские,
А й худы товары все, добрые.
А й на третий день ставал Садке купец богатый
новгородскиий,
А й будил как он да дружинушку хоробрую,
А й давал уж как долюби дружинушки А й как много несчётной золотой казны,
А й как роспущал он дружинушку по улицам торговыим, А й как сам он прямо шол да во гостиный ряд,—
А й как тут на славу великую новгородскую А й подоспели как товары ведь московские,
А й как тут принаполнился как гостиной ряд А й дорогима товарамы ведь московскима.
А й как тут Садке теперь да пораздумался:
■— Ай как я повыкуплю еще товары все московские,— А й на тую на славу великую новгородскую А й подоспеют ведь как товары заморские,
А й как ведь теперь уж как мне Садку А й не выкупить как. товаров ведь Со всёго да со бела свету.
А й как лучше пусть не я да богатее,
А Садке купец да новгородскиий,
А й как пусть побогатее меня славный Новгород,
Что не мог не я да повыКупить А й товаров новгородскиих,
Чтобы не было продажи да во городи;
А лучше отдам я денежок тридцать тясячей,
Залог свой великиий.
А отдавал уж как денежок тридцать тысячей, Отпирался от залогу да великаго.
А потом как построил тридцать караблей,
Тридцать караблей, тридцать черныих,
А й как ведь свалил он товары новгородские А й на черный на карабли,
А й поехал торговать купец богатый новгородскиий А й как на своих на черных на караблях.
А поехал он да по Волхову,
А й со Волхова он во Ладожско,
А со Ладожскаго выплывал да во Неву реку,
А й как со Невы реки как выехал на синё море.
А й как ехал он по синю морю,
244
А й как тут воротил он в Золоту орду.
А й как там продавал он товары да ведь новгородские, А й получал он барыши топерь великие,
А й как насыпал он бочки ведь сороковки-ты А й как краснаго золота;
А й насыпал он много бочек да чистаго серебра,
А еще насыпал он много бочек мелкаго он крупнаго
скатняго жемчугу
А как потом поехал он з-за Золотой орды,
А й как выехал топеречку опять да на синё морё,
А й как на синем море устоялисе да черны карабли,
А й как волной-то бьет и паруса-то рвет,
А й как ломат черны карабли,—
А все с места не йдут черны карабли.
А й воспроговорил Садке купец богатый новгородскиий А й ко своей он дружинушки хоробрый:
— Ай же ты дружина хоробрая!
А й как сколько ни по морю ездили,
А мы Морскому царю дани да не плачивали.
А тоиерь-то дани требует Морской-то царь в синё морё. А й тут говорил Садке купец богатый новгородскиий:
— Ай же ты дружина хоробрая!
А й возьмите-тко вы мечи-тко в синё море А й как бочку сороковку краснаго золота.
А й как тут дружина да хоробрая А й как брали бочку сороковку краснаго золота,
А мёгали бочку в синё морё.
А й как все волной-то бьет, паруса-то рвет,
А й ломат черны карабли да на синём мори, —
Всё не йдут с места карабли да на синём мори.
А й опять воспроговорил Садке купец богатый
новгородскиий
А й своей как дружинушки хоробрый:
— Ай же ты дружинушка моя хоробрая!
А видно мало этой дани царю Морскому в синё морё.
А й возьмите-тко вы мечи-гко в синё морё А й как другую ведь бочку чистаго серебра.
А й как тут дружинушка хоробрая А кидали как другую бочку в синё морё А как чистаго да серебра.
А й как все волной-то бьет, паруса-то рвет,
А й ломат черны карабли да на синём мори,—
А все не йдут с места карабли да на синём мори.
А й как тут говорил Садке купец богатый новгородскиий
245
А й как своёй он дружинушки хоробрый:
— Ай же ты дружина хоробрая!
А видно этой мало как дани в синё море.
А берите-тко третью бочку да крупнаго мелкаго
скатняго жемчугу.
А кидайте-тко бочку в синё морё.
А как тут дружина хоробрая А й как брали бочку крупнаго мелкаго скатняго
жемчугу,
А кидали бочку в синё морё.
А й как все на синём мори стоят да черны карабли,
А волноч-то бьет, паруса-то рвет,
А й как все ломат черны карабли,—
А й все с места не идут да черны карабли.
А й как тут говорил Садке купец богатый новгородскиий А своёй как дружинушки он хоробрый:
— Ай же ты любезная как дружинушка да хоробрая!
А видно Морской-то царь требуе как живой головы у нас
в синё море.
Ай же ты дружина хоробрая!
А й возьмите-тко уж как делайте А й да жеребья да себе волжаны,
А й как всяк свои имена вы пишите на жёребьи,
А спущайте жеребья на синё морё;
А я сделаю себе-то я жеребей на красное-то на золото.
А й как спустим жеребья топерь мы на синё морё,
А й как чей у нас жеребей топерь да ко дну пойдет,
А тому итги как у пас да в синё морё А у веёй как у дружины хоробрый А й жеребья топерь гоголём пловут,
А й у Садка купца гостя богатаго да ключом на дно. А й говорил Садке таковы слова:
— А й как эты жеребьи есть неправильна
А й вы сделайте жеребьи как на красное да золото,
А я сделаю жеребей да дубовый,
А й как вы пишите всяк свои имена да на жеребьи,
А й спущайте-тко жеребьи на синё морё.
А й как чей у нас жеребей да ко дну пойдет,
А тому как у нас итти да в синё морё.
А й как вся тут дружинушка хоробрая А й спущали жеребья на синё морё,
А й у веёй как у дружинушки хоробрый А й как все жеребья как топерь да гоголём пловут,
А Садков как жёребей да топерь ключом па дно.
246
А й опять говорил Садке да таковы слова:
— А как эты жеребьи есть неправильна Ай же ты дружина хоробрая!
А й как делайте вы как жеребьи дубовый,
А й как сделаю я жеребей липовой,
А как будем писать мы имена все на жеребьи,
А спущать уж как будем жеребья мы на синё морё,
А топерь как в остатниих
Как чей топерь жеребей ко дну пойдет,
А й тому как итти у нас да в синё морё.
А й как тут вся дружина хоробрая А й как делали жеребьи все дубовые,
А он делал уж как жеребей себе липовой.
А й как всяк свои имена да писали на жеребьи,
А й спущали жеребья на синё морё.
А у всёй дружинушки ведь хоробрыей А й жеребья топерь гоголем плывут да на синём мори, А й у Садка купца богатаго новогородскаго ключом
на дно,
А как тут говорил Садке таковы слова:
— Ай как видно Садку да делать топерь нечего,
А й самого Садка требует царь Морской да в синё морё. Ай же ты, дружинушка моя да хоробрая любезная!
А й возьмите-тко вы несите-тко А й мою как чернильницу вы вальячную,
А й неси-тко как перо лебединоё,
А й несите-тко вы бумаги топерь вы мне гербовый.
А й как тут дружинушка ведь хоробрая А несли ему как чернильницу да вальячную,
А й несли как’ перо лебединоё,
А й несли как лист-бумагу как гербовую.
А й как тут Садке купец богатый новгородскиий А садился ён на ременчат стул А к тому он к столику ко дубовому,
А й как начал он именьица своего да он отписывать,
А как отписывал он именья по божьим церквам,
А й как много отписывал он именья нищей братии,
А как ино именьицо он отписывал да молодой жены,
А й достальнёё именье отписывал дружины он
хоробрыей,
А й как сам потом заплакал ён,
Говорил ён как дружинушке хоробрыей:
— Ай же ты дружина хоробрая да любезная?
А й полагайте вы доску дубовую на синё морё,
247
А что мне свалиться Садку мне-ка на доску,
А не то как страшно мне принять смерть во синём мори, А й как тут он еще взимал с собой свои гусёлка
яровчаты,
А й заплакал горько, прощался ён с дружинушкой
хороброю,
А й прощался ён топеречку со всим да со белым светом, А й как он топеричку как прощался ведь А со своим он с Новым со городом;
А потом свалился на доску он на дубовую,
А й понесло как Садка на доски да по синю морю.
А й как тут побежали черны-ты карабли,
А й как будто полетели черны вороны.
А й как тут остался топерь Садке да на синем мори.
А й как ведь со страху великаго А заснул Садке на той доске на дубовый.
А как ведь проснулся Садке купец богатый новгород-
скиий
Айв Окиян-мори да на самом дни,
А увидел — сквозь воду пекет красно солнышко,
А как ведь очудилась (так) возле полата белокаменна, А заходил как он в полату белокаменну,
А й сидит топерь как во полатушках А й как царь-то Морской топерь на стули ведь,
А й говорил царь-то Морской таковы слова:
■— Ай как здравствуйте, купец богатый,
Садке да новгородскиий!
А й как сколько ни по морю ездил ты,
А й как Морскому царю дани не плачивал в синё морё, А й топерь уж сам весь пришел до мне да во
подарочках.
Ах скажут, ты мастёр играть во гусли яровчаты:
А поиграй-ко мне как в гусли яровчаты.
А как тут Садке видит, в синем море делать нечего, Принужон он играть как во гусли во яровчаты.
А й как начал играть Садке как во гусли во яровчаты, А как начал плясать царь Морской топерь в синем мори. А от него сколебалосе все сине море А сходиласе волна да на синём мори,
А й как стал он розбивать много черных караблей да на
синём мори,
А й как много стало ведь тонуть народу да в синё
морё,
А й как много стало гинуть именьица да в синё море.
248
А как топерь на синём мори многи люди добрый,
А й как многи ведь да люди православные,
От желаньица как молятся Миколы да Можайскому,
А й чтобы повынес Микулай их угодник из синя моря.
А как тут Садка новгородскаго как чеснуло в плечо
да во правое,
А и как обвернулся назад Садке купец богатый
новгородскиий, —■
А стоит как топерь старичок да назади уж как белый
седатыи,
А й как говорил да старичок таковы слова:
— Ай как полно те играть Садке, во гусли во яровчаты
в синём мори,
А й говорит Садке как наместо таковы слова:
— Ай топерь у мня не своя воля да в синём мори, Заставляет как играть меня царь Морской.
А й говорил опять старичок наместо таковы слова:
— Ай как ты, Садке купец богатый новгородскиий,
А й как ты струночки повырви-ко,
Как шпинёчики повыломай,
А й как ты скажи топерь царю Морскому ведь:
А й у мня струн не случилосе,
Шпинёчиков у мня не пригодилосе,
А й как боле играть у мня не во что.
А тебе скаже как царь Морской:
А й не угодно ли тебе Садке женитися в синем мори А й на душечке как на красной девушке?
А й как ты скажи ему топерь да в синем мори,
А й скажи: царь Морской, как воля твоя топерь в
синем мори,
А й как что ты знашь, то и делай-ко.
А й как он скажет тебе да топеречку:
А й заутра ты приготовляйся-тко,
А й Садке купец богатый новгородскиий,
А й выбирай, как скажет, ты девицу себе по уму по
разуму,
Так ты смотри, перво триста девиц ты стадо пропусти,
А ты другое триста девиц ты стадо пропусти,
А как третье триста девиц ты стадо пропусти,
А в том стади на конци на остатнием А й идет как девица красавица,
А по фамилии как Чернава-то;
Так ты эту Чернаву-то бери в замужество, —
А й тогда ты Садке да счастлив будешь.
249
А й как лягешь спать первой ночи ведь,
А смотри, не твори блуда никакого-то С той девицей со Чернавою.
Как проснешься тут ты в синем мори,
Так будешь в Новё граде на крутом кряжу,
А о ту о риченку о Чернаву-ту.
А ежели сотворишь как блуд ты в синем мори,
Так ты останешься на веки да в синем мори.
А когда ты будешь ведь на святой Руси.
Да во своём да ты да во городи,
А й тогда построй ты церковь соборную Да Николы да Можайскому,
А й как есть я Микола Можайский.
А как тут потерялся топерь старичок да седатыий. А й как тут Садке купец богатый новгородский в синем
мори
А й как струночки он повырывал,
Шпинёчики у гусёлышек повыломал,
А не стал ведь он боле играти во гусли во яровчаты.
А й остоялся как царь Морской,
Не стал плясать он топерь в синём мори.
А й как сам говорил уж царь таковы слова:
■— А что же не играешь, Садке купец богатый
новгородскиий,
А й во гусли ведь да во яровчаты?
А й говорил Садке таковы слова:
— Ай топерь струночки как я повырывал,
Шпинёчики я повыломал,
А у меня боле с собой ничего да не случилосе.
А й как говорил царь Морской:
•— Не угодно ли тебе женитися, Садке, в синём мори, А й как ведь на душечке на красной да на девушке.
А й как он наместо ведь говорил ему:
.— Ай топерь как волюшка твоя надо мной в синём
мори,
А й как тут говорил уж царь Морской;
— Ай же ты Садке купец богатый новгородскиий!
А й заутра выбирай себе девицу да красавицу По уму себе да по разуму!
А й как дошло дело да утра ведь раннаго,
А й как стал Садке купец богатый новгородскиий,
А й как пошел выбирать себе девици красавици,
А й посмотрит, стоит уж как царь Морской.
А й как триста девиц повели мимо их-то ведь,
250
А он-то перво триста девиц да стадо пропустил,
А друго он триста девиц да стадо пропустил,
А й третье он триста девиц да стадо пропустил.
А посмотрит, позади идет девица красавица,
А й по фамилии что как зовут Чернавою,
А он ту Чернаву любовал, брал за себя во замужество.
А й как тут говорил царь Морской таковы слова:
— Ай как ты умел да женитися, Садке, в синём мори. А теперь как пошло у них столованье да почестей пир
в синём мори,
А й как тут прошло у них столованье да почестей пир,
А как тут ложился спать Садке купец богатый
новгородскиий
А в синём мори он с девицею с красавицей,
А во спальней он да во тёплоей;
А й не творил с нёй блуда никакова, да заснул в сон
во крепкий.
А й как он проснулся Садке купец богатый новгородскиий.
Ажно очудился Садке во своем да во городи,
О реку о Чернаву на крутом кряжу.
А й как тут увидел, — бежат по Волхову А свои да черный да карабли,
А как ведь дружинушка как хоробрая А поминают ведь Садка в синём мори,
А й Садка купца богатаго да жена его А поминат Садка со всей дружиною хороброю.
А как тут увидла дружинушка, ^
Что стоит Садке на крутом кряжу да о Волхово,
А й как тут дружинушка вся она росчудоваласе,
А й как тому чуду ведь сдивоваласе,
Что оставили мы Садка да на синём мори,
А Садке впереди нас да во своем во городи.
А й как встретил ведь Садке дружинушку хоробрую,
Вси черные тут карабли,
А как теперь поздоровкались,
Пошли во полаты Садка купца богатаго.
А как он топеречку здоровкался со своею с молодой
женой,
А й теперь как он после этого А й повыгрузил он со караблей А как всё своё да он именьицо,
А й повыкатил как ён всю свою да песчётну золоту
казну,
251
А й топерь как на свою он несчетну золоту казну А й как сделал церковь соборную Николы да Можайскому,
А й как другую церковь сделал пресвятый богородицы. А й топерь как ведь да после этого А й как начал господу богу он да молитися,
А й о своих грехах да он прощатися.
А как боле не стал выезжать да на синё морё,
А й как стал проживать во своём да он во городи.
А й топерь как ведь да после этого А й тому да всему да славы поют.
МИХАЙЛО ПОТЫК
Ай у солнышка да у Владимира Пираваньицо было по третий день.
Солнышко идет на вечери,
А почестный пир идет на весели,
Вси-то на пиру да напивалиси,
Вси же на честном да наедалися,
Вси же на пиру и порасхвастались.
Испроговорит солнышко Владимир стольно-киевской:
— Нечем солнышку Владимиру похвастати.
Не повыправлёны дани выходы
За двенадцать год да за тринадцать лет,
За тринадцать лет да с половиною.
Сидят же тут три русскиих могучиих богатыря: Старый казак да Илья Муромец,
Молодой Добрыня сын Никитинич,
Михайла Потык сын Иванович.
Испроговорит Владимир стольно-киевской:
— Ай же вы три русскиих могучиих богатыря! Старый казак да Илья Муромец,
Вы съездитё-тко в Каменну орду,
В каменную-то орду в большу землю, Повыправьтё-тко дани выходы За двенадцать год да за тринадцать лет,
За тринадцать лет да с половиною.
Молодой Добрыня сын Никитинич!
Съездите-тко вы да нё в большу землю,
Не в большу-ту землю да в Золоту орду,
Там повыправьте-тко дани выходы За двенадцать год да за тринадцать лет,
252
За тринадцать лет да с половиною.
Третьии могучим богатырь да Михайло Потык
сын Иванович,
Ты съезди-тко в землю во Подольскую,
Там повыправь-ко ты дани выходы За двенадцать год да за тринадцать лет,
За тринадцать лет да с половиною.
А богатыри они да призадумались И повесили свои да буйны головы,
Утопили свои очи ясный Да во тот же во кирпичен мост.
Испроговорит Михайла Потык сын Иванович:
— Что же вы богатыри задумались?
А держите-тко богатыри ответ же нынь.
Испроговорит казак да Илья Муромец:
— Ах ты солнышко Владимир стольно-киевской! Отправляй-ко ты меня да во болыиу землю,
Во большую ту землю да в Каменну орду,
Там повыправлю да дани выходы За двенадцать год да за тринадцать лет,
За тринадцать лет да с половиною.
Испроговорит Добрыня сын Никитинич:
— Ах ты солнышко Владимир стольно-киевской! Отправляй-ко ты меня да не в болыиу землю,
Не в большую-ту землю да в Золоту орду,
Там повыправлю да дани выходы За двенадцать год да за тринадцать лег,
За тринадцать лет да с половиною.
А Михайло Потык сын Иванович Он Владимиру да испроговорит:
— Ах ты солнышко Владимир стольно-киевской! Отправляй-ко ты меня в землю во Подольскую,
Я повыправлю да дани выходы
За двенадцать год да за тринадцать лет,
За тринадцать лет да с половиною.
Первый русский могучий богатырь,
Старый казак да Илья Муромец,
Ставае он по утрышку ранёхонько,
Умывается он да и белехонько,
Снаряжается да хорошохонько,
Он седлае своего добра коня,
Кладывае он же потнички на потнички,
А на потнички кладе войлочки,
А на войлочки черкальское седелышко,
253
Подтягиват двенадцать тугих подпругов, Тринадцатый-тот клал да ради крепости,
Чтобы во чистом поли доброй конь же с-под седла
не выскочил
Добра молодца в чистом поли не выронил.
Видли добра молодца-то сядучи,
Тут не видли да удалого поедучи.
Не дорожкамы поехал, не воротамы,
Через ту стену поехал городовую,
Через тую было башню наугольную,
Да к тому кресту поехал Леванидову.
Тут богатырь опочив держал.
Другий русский могучий богатырь,
Молодой Добрынюшка Никитинич,
Он ставае он по утрышку ранехонько,
Умывается было белехонько,
Снаряжается да хорошохонько,
Седлае своего добра коня,
Кладывае было потнички на потнички,
А на потнички кладе войлочки,
А на войлочки черкальское седелышко,
Подтягиват двенадцать тугих подпругов,
Он тринадцатый-тот клал да ради крепости,
Чтобы в чистом поли добрый конь же с-под седла
не выскочил
Добра молодца в чистом поли не вырс шл.
Видли добра молодца-то седучи,
А не видли да удалого поедучи.
Не дорожкамы поехал, не воротамы,
Через ту стену поехал городовую,
Через тую было башню наугольную,
Да к тому кресту поехал Леванидову.
Тут богатырь опочив держал.
А третий же русский могучий богатырь,
Михайла Потык сын Иванович,
Он ставае он по утрышку ранехонько,
Умывается было белехонько,
Снаряжается да хорошохонько,
Седлае своего добра коня,
Кладывае было потнички на потнички,
А на потнички кладе войлочки,
А на войлочки черкальское седелышко,
Подтягиват двенадцать тугих подпругов,
Он тринадцатый-тот клал да ради крепости,
Чтобы в чистом поли добрый конь же с-под седла
нс выскочил,
Добра молодца в чистом поли не выронил.
Видли добра молодца-то седучи,
А не видли да удалого поедучи.
Не дорожкамы поехал, не воротамы,
Через ту стену поехал городовую,
Черезу тую было башню наугольную,
Да к тому кресту поехал Леванидову.
Тут богатырь опочив держал.
Тут крестами да богатыри побратались,
Назвались да братьями крестовыми.
Испроговорит казак да Илья Муромец:
— Кто попрежде нас тут е повыправит,
К другому на стрету братцы поспевать.
Тут простилиси да оны братьица.
Старый казак да Илья Муромец Он поехал во большу землю,
Во большу ту землю да в Каменну орду Он повыправлять да даней выходов За двенадцать год да за тринадцать лет,
За тринадцать лет да с половиною.
Мужички же вдруг да скашевалися,
А не стали отдавать да даней выходов За двенадцать год да за тринадцать лет,
За тринадцать лет да с половиною.
Тут старый казак да Илья Муромец По-своему он с мужичками распоряжается, Мужички же перепалися,
От его да ростулялися,
Стали отдавать да дани выходы За двенадцать год да за тринадцать лет,
За тринадцать лет да с половиною.
Молодой Добрыня сын Никитинич Съехал он же не в большу землю,
Не в большу ту землю да в Золоту орду,
Стал же выправлять да даней выходов,
За двенадцать год да за тринадцать лет,
За тринадцать лет да с половиною.
Мужички же вдруг да скашевалися,
А не стали отдавать да даней выходов За двенадцать год да за тринадцать лет,
За тринадцать лет да с полЪвиною.
Молодой Добрынюшка Никитинич
255
По-своему он с мужичками распорядился, Мужички же перепалися,
От его да ростулялися,
Стали отдавать да.дани выходы За двенадцать год да за тринадцать лет,
За тринадцать лет да с половиною.
Михайло Потык сын Иванович Съехал в землю во Подольскую,
Стал же выправлять да даней выходов За двенадцать год да за тринадцать лет,
За тринадцать лет да с половиною.
Мужички же вси да скашевалися,
А не стали отдавать да даней выходов За двенадцать год да за тринадцать лет,
За тринадцать лет да с половиною.
Распорядился тут Михайла Потык сын Иванович, Распорядился он по богатырскому.
Мужички же перепалися,
От его да ростулялися,
Стали отдавать да дани выходы За двенадцать год да за тринадцать лет,
За тринадцать лет да с половиною.
Он повыправил да дани выходы За двенадцать год да за тринадцать лет,
За тринадцать лет да с половиною.
Тут Михайло Потык сын Иванович Он пошел было ходить гулять по заводям, Стрелять же он да белыих лебедушок.
Ходил гулял по заводям,
Стрелял же он да белыих лебедушек,
Находил же он да белую лебёдушку,
Плавает лебёдушка на заводи.
Он натягивал же было тугой лук,
Накладыват он стрелочку каленую,
Хочет стрелять белую лебедушку,
Лебёдушка ему да испроговорит:
— Ай Михайла Потык сын Иванович!
Не стреляй-ко ты же белою лебёдушки. *
Я есть же нонь не белая лебедушка,
Есть же я да красна девушка,
Марья лебедь белая да королевична, Королевична да я подолянка.
Не убей-ко ты меня же нонь подолянки.
Ты возьми меня нонь во замужество,
256
Ты свези-тко нонь меня во Киев град, Проведи-тко меня в верушку крещоную,
Примем мы с тобою по злату венцю,
Станем мы же век с тобой коротати.
Задавался тут Михайла Потык сын Иванович, Брал же Марью лебедь б_елую,
Лебедь белою да королевичну,
Королевичну да он подолянку,
Делал же он с Марьей да велик залог.
Получает тут же дани выходы Со того же короля да со подольскаго,
За двенадцать год да за тринадцать лет,
За тринадцать лет да с половиною.
Отправляется он было в Киев град,
Ко тому было ко солнышку Владимиру А й ко князю стольнё-киевску.
Приезжает тут Михайло Потык сын Иванович А ко стольному ко городу ко Киеву А й ко ласкову князю ко Владимиру.
Привозит он да дани выходы Из той было из земли из подольский,
От того же короля да от подольскаго.
Отдавае он Владимиру да князю стольнё-киевску, Князь же тут да зрадовался ли.
Получае он с Михайлы Потыка Иванова,
Получае он да дани выходы За двенадцать год да за тринадцать лет,
За тринадцать лет да с половиною.
Благодарил его Владимир стольнё-киевской,
Что повыправил ты дани выходы За двенадцать год да за тринадцать лет,
За тринадцать лет да с половиною,
Из той ли земли из подольский.
Марью лебедь белую да королевичну, Королевичну да он подолянку,
Он привёл же было в верушку крещоную,
Сделал с ею заповедь великую:
— Кто из нас да нунь попереди,
Кто пойдет да во сыру землю,
Другому итти да на три месяца,
Итти же во сыру землю.
Испроговорит Владимир стольно-киевской:
— Ты Михайло Потык сын Иванович!
Что ты делаешь да заповедь великую,
g—3311
257
Заповедь да неподольную,
Да на долго тут итти да во сыру землю?
Тут Михайло.Потык сын Иванович,
Сам Михайло испроговорит:
— Видно, надо сделать мне-ка заповедь великую С Марьей лебедь белою,
Что она-то мне-ка прилюбиласи.
А принял-то же с ей да по злату венцу,
Стал же с ею век коротати.
В тую пору да во то время Наезжае было царь Бухарь заморский,
Наезжае царь Бухарь с посланником,
Правит он да дани выходы Что ли с солнышка Владимира,
Что ли со князя стольно-киевска:
— Ах ты солнышко Владимир стольно-киевской! Ты пожалуй-ко нонь дани выходы
За двенадцать год да за тринадцать лет,
За тринадцать лет да с половиною.
Солнышко Владимир стольно-киевской Призывае он Михайлу ‘Потыка Иванова:
— Ты Михайло Потык сын Иванович!
Приезжае к нам же царь Бухарь заморский, Правит он же с нас да дани выходы
За двенадцать год да за тринадцать лет,
За тринадцать лет да с половиною.
Испроговорит Михайло Потык сын Иванович:
-— Ах ты солнышко Владимир стольно-киевской! Ты садись-ко нынь Владимир на ременчат стул, Пиши-тко было ерлычки да скорописчаты: Отправлены да дани выходы За Михайлой Потыком Ивановым За двенадцать год да за тринадцать лет,
За тринадцать лет да с половиною.
Я поеду нынечу без даней выходов.
Он Михайла Потык сын Иванович,
Поезжает он к царю Byxåpio да заморскому, Повозит ёрлычки да скорописчаты К тому же он к царю ко Бухарю да ко заморскому, Что отправлены да дани выходы За Михайлой Потыком Ивановым За двенадцать год да за тринадцать лет,
За тринадцать лет да с половиною.
Приезжает ко Бухарю царю заморскому,
258
Подавает ёрлычки да скорописчаты Да царю Бухарю заморскому.
Принимав было царь Бухарь заморский Тыи ёрлыки да скорописчаты,
Скорешенько ерлычки да роспечатыват, Поскорее того да он прочитыват,
Сам же царь Бухарь да тут зрадуется:
— Ты Михайло Потык сын Иванович!
Где же у вас выходы осталиси?
— У нас оси да в тележках приломилиси,
Да тележки у нас поломалиси.
Там починщички да в поли приосталиси,
А тележек во чистом поли починивать. Испроговорит царь Бухарь заморский:
— Ты Михайло Потык сын Иванович!
Чим же нынь у вас да на России забавляются?
— У нас на России забавляются,—
Нынь играют да во шашечки дубовый,
Что ли ставят да дощечки да кленовый.
Доставали тут дощечку да кленовую,
Что же ставили тут шашечки дубовый На тую тут дощечку на кленовую.
Тут играли было в шашёчки дубовый Тую было дощечку да кленовую,
А на ту дощечку на кленовую
Ставил тут Михайла Потык сын Иванович,
Ставил же он своего добра коня,
Ставил же свою да буйну голову.
Царь Бухарь было заморский Ставил на дощечку на кленовую,
Ставил он же дани выходы За двенадцать год да за тринадцать лет,
За тринадцать лет да с половиною.
Тут играли было в шашечки дубовый,
Тую было дощечку да кленовую.
Проиграл Михайла Потык сын Иванович, Проиграл он своего добра коня,
Проиграл же он свою буйну голову На той было дощечки на кленовою Тому Бухарю он царю заморскому.
Тут царь Бухарь было заморский,
Тут же царь да он зрадуется.
Ставили дощечку да во другой раз,
Ставили тут шашечки дубовый
259
На тую же на дощечку на кленовую.
Ставил тут Михайла Потык сын Иванович На ту было на дощечку на кленовую Свою же Марью лебедь белую,
Лебедь белую да королевичну,
Королевичну подолянку;
В других ставил он родитель свою матушку На тую же дощечку на кленовую.
Царь Бухарь было заморский Ставил на дощечку на кленовую,
Ставил тут Михайлина добра коня,
Ставил тут его да буйну голову,
Ставил он да дани выходы За двенадцать год да за тринадцать лет,
За тринадцать лет да с половиною.
Тут играли да дощечку да во другой раз.
Сыграли было дощечку в другой раз,
Повыиграл Михайло Потык сын Иванович,
Своего повыиграл добра коня,
Повыиграл свою да буйну голову И повыиграл да дани выходы За двенадцать год да за тринадцать лет,
За тринадцать лет да с половиною.
Ставили дощечку они в третий раз.
Михайло Потык сын Иванович Ставил он да дани выходы За двенадцать год да за тринадцать лет,
За тринадцать лет да с половиною На ту было дощечку на кленовую,
Ставил своего добра коня,
Ставил он свою да буйну голову.
Царь Бухарь было заморский Ставил на дощечку на кленовую,
Ставил он полцарства пол-имянства он заморскаго. Стали тут играть дощечку да во третий раз,
Играли тут дощечку да во третий раз.
Тут Михайло Потык сын Иванович Повыиграл дощечку было в третий раз,
Повыиграл он полцарства пол-имянства он заморскаго Со царя Бухаря со заморскаго.
Россердился было царь Бухарь заморский,—
Ставили дощечку во четвертый раз.
Ставил он все царство все бухарское заморское,
А Михайла Потык сын Иванович 260
Ставил он полцарства пол-имянства он заморскаго. Ставил он да дани выходы За двенадцать год да за тринадцать лет,
За тринадцать лет да с половиною.
Играли тут дощечку да в четвертый раз,
Повыиграл Михайла Потык сын Иванович Он дощечку да в четвертый раз С того царя Бухаря он со заморскаго,
Повыиграл все царство он бухарско да заморское. Ставили дощечку они в пятый раз.
Царь Бухарь было заморский,
Ставил он свою да буйну голову.
Михайла Потык сын Иванович Ставил царство тут бухарско да заморское На ту было дощечку да на пятую.
Стали тут играть да бны в шашечки,
На пяту-то дверь тут отворяется,
Крестовый ему братец да пихается,
Приезжает тут Добрыня сын Никитинич:
— Молодой ты Потык сын Иванович!
Играешь ты во шашечки во дубовый Да на той же на дощечки на кленовый,
Над собой же ты невзгодушки не ведаёшь,
Как твоя-то Марья лебедь белая,
Лебедь белая да королевична,
Королевична было подолянка,
Что она же ныньчу было померла.
Михайло Потык сын Иванович Он скочил же на свои да на резвы ноги,
Ухватит он дощечку да кленовую С тыма шашкамы с дубовыма,
Ударил он во двери с ободвереньем,
Повыставил он двери вон со липиной.
Перепался было царь Бухарь заморский,
Смолился он Михайлы Потыку Иванову:
— Михайла Потык ты Иванович!
Ты оставь меня царя да нонь во живности, —
Получай же нынь ты царство все бухарское заморское!
А Михайло Потык сын Иванович Сам же тут да братьям испроговорит:
— Ай вы братьица мои было крестовый!
Получайте-тко нынь с царя со Бухаря со заморскаго Вы царство нынь бухарско все заморское,
Оставьте-ко царя да посидельщичком,
261
Не досуг же мне-ка-ва с ним нынь угладиться (так), Я поеду нынь ко городу ко Киеву А й ко ласковому князю ко Владимиру.
Тут уехал да Михайла Потык сын Иванович.
А русский могучий богатыри Получали тут с царя да дани выходы,
Получали тут же царство да бухарско все заморское, Оставили царя да посидельщичком.
А Михайла Потык сын Иванович Приезжае он ко городу ко Киеву А й ко ласковому князю ко Владимиру.
Князь же тут его да было спрашиват:
■— Михайла Потык сын Иванович!
Как же ты оттуль да нонь повыехал?
Испроговорит Михайла Потык сын Иванович:
— Ах ты солнышко Владимир стольно-киевской! Повыиграны у нас дани выходы
За двенадцать год да за тринадцать лет,
За тринадцать лет да с половиною,
С того царя Бухаря да с заморскаго,
Да повыиграно царство все бухарско все заморское И с того царя с Бухаря да с заморскаго,
Все царьство все имянство все бухарьское.
Остались получать же там богатыри,
Мои братьица крестовый,
Старый казак да Илья Муромец И молодой Добрыня сын Никитинич.
— Да чим же нонь тебя мне наскори пожертвовать? Города ли теби дать да с пригородками,
Аль села тебе же дать да со приселками,
Золотой казны тобе-ка-ва по надобью?
— Ничего же мне-ка ва не надобно,
Городов мне нонь не надо с пригородками,
Что ли сел не надо со приселками,
Золотой казны не надобно по надобью,
Дай-ко на царевыих на кабаках,
Дай-ко мни поволечку великую
Пить же мне вино да нонь безденежно,
Где кружкою да полукружкою,
Где четвертью да где полуведром,
А при времечки где и целым ведром.
Солнышко Владимир стольно-киевской Дал ему поволечку великую На тых же на царевыих на кабаках
262
Пить ему вино было безденежно,
Где кружкою да полукружкою,
Где четвертью да где полуведром,
А при времечки где и целым ведром.
Испроговорит Владимир стольне-киевской:
— Михайла Потык сын Иванович!
Напрасно же ты сделал ныньчу заповедь великую. Испроговорит Михайло Потык сын Иванович:
— Ах ты солнышко Владимир стольно-киевской!
И тоё-то да ныньчу сделано,—
Надо нунь итти да во сыру землю.
Во сыру землю итти да на три месяца*.
Михайла Потык сын Иванович Приказал же он тут делать домовищечко,
Чтобы мошно мне-ка стоя стоять,
Стоя стоять да сидя сидеть,
При времечки да чтобы лежа лечь.
Брал же он запас туды великии:
Брал свечй туды и ладоны,
Берет хлеба на три месяца,
Воды берет на три месяца.
Ходил же он было ко кузницам,
Велел ковать же клещи да железный,
Брал же прутья он да троии,
Первы прутья оловяныи,
Вторыи было прутья он железный,
Третьи прутья он берет да туды медный, Отправляется же он тут во сыру землю, Отправляется он да на три месяца.
Прожил тут Михайло Потык сын Иванович, Прожил в матушке сырой земли первы сутки, Начинает жить же он тут сутки другии, Приплыват к ему змеище да проклятое,
О двенадцати была змея о хоботах.
Пролизала ему гроб было железный.
А Михайла Потык сын Иванович Захватил было змею он да проклятую Тыма было клещамы да железныма.
Сек же он ю прутьями да оловянными,
Другими сек же прутьями железными,
Третьима он сек ю прутьями да медными.
Змея ему да тут смолиласи:
— Ты Михайла Потык сын Иванович!
Не убей меня змеи было проклятою,
263
Дам тебе я заповидь великую Оживить-то нонь тебе-ка Марью лебедь,
Лебедь белую да королевичну,
Королевичну было да подолянку,
Достану я тобе-ка-ва живой воды.
Испроговорит Михайла Потык сын Иванович:
— Ой же ты, змея было проклятая,
Ты змея было лукавая,
Дай-ко ты змеёныша в велик залог!
Дала тут змея лукавая,
Дала тут змееныша в велик залог.
Рубил же он змеёныша, на мелки на часточки. Отправляется змея было проклятая,
Доставает тут она было живу воду.
Складывал же он змеёныша во место ли,
Мочил же того малого змеёныша,—
Засвивался было маленький змеёнышок.
Брызгал же Марью лебедь белую,
Брызгал он ю во три же раз:
Первый раз она продрогнула,
Другой раз она зашевелиласи,
Третий раз она да проглаголила:
— Фу-фу-фу, я долго нунь попрбспала! Испроговорит Михайла Потык сын Иванович;
-— Каб не я, так ты отнынь до век бы проспала.
Скричал же тут Михайла Потык сын Иванович Своим голосом да богатырскиим.
Теремки да пошатилиси,
Околенки у них да повалилиси,
Вси во гради да приужахнулись,
Вси сами же тут во городе спроговорят:
— И нашему уродищу в сырой земли не пбжилось. Отправлялся он в сыру землю да на три месяца,— Наступают нынь на нас трои сутки,
Из сырой земли уродищо давается.
И здымали тут его да из сырой земли,
Из сырой земли на белый свет.
Тут Михайла Потык сын Иванович Он пошел гулять да по царевыим по кабакам,
Пить вино да он безденежно,
Гди кружкою да полукружкою,
Гди четвертью да где полуведром.
А при времечки он и целым ведром,
Марья лебедь белая,
264
Королевична было подолянка,
Посылала она ведом королю да политовскому, Что наехал бы король да политовскии,
Увез бы он меня да Марью лебедь белую, Лебедь белую он да подолянку,
А й подолянку да королевичну,
Во тую землю во литовскую.
Приезжает тут король да политовскии, Приезжает тут король да по молчаному,
Он увозит Марью лебедь белую,
Лебедь белую да королевичну,
Королевичну он да подолянку.
Михайла Потык сын Иванович
Над собой же он того да тут не ведаёт,
Что увез же да король да политовскии Его же Марью лебедь белую,
Лебедь белую да королевичну,
Королевичну он да подолянку.
Прискакала было весточка нерадостна Михайлы Потыку Иванову:
— Михайла Потык сын Иванович!
Ты пьешь да проклаждаешься,
Над.собой незгодушки не ведаёшь,
Как твоя-то Марья лебедь белая,
Лебедь белая да королевична,
Королевична было подолянка,
Уехала с королем да политовскиим Во матушку да в земляну Литву.
Михайла Потык сын Иванович Одевае он же платьица ты женский, Накручается же он да было женщиной И поехал вслед же он погоною За тым же королем да политовскиим.
Не узнал бы да король да политовскии,
Не узнал бы он да вслед погонушки. Подъезжает тут Михайла Потык сын Иванович Вслед же он было погоною За тым же королем да политовскиим.
Увидала Марья лебедь белая,
Лебедь белая да королевична,
Королевична да тут подолянка,
Сама ему да испроговорит:
— Ай же ты король да политовскии!
Еде нонь за нами вслед погонушка,
265
Едет ту за нами женщина,—
Хоть и женщиной да туда-ка сокрученось,
Не женщина тут едет вслед погонушка,
Едет тут Михайла Потык сын Иванович.
Отправляй меня скорешенько на стрету ли,
И давай же мне напитков еще сонныих.
Он же до вина да есте спадсливый.
Поднесу ему я-чару зелена вина,—
Гди выпье, он же тут и в сон заснет.
Подъезжает тут к ему она на стрету ли, Тяжелешенько да она плаче ли:
— Ты Михайла Потык сын Иванович!
Увез меня король да политовскии,
Что ль силою увез меня из Киева.
Подносит ёму чару зелена вина:
— Выпей еще чару зелена вина.
Гди выпил тут и в сон заснул.
Подскочила тут к коню да к богатырскому, Принимает на плечо да на волшебное,
Спустила тут его было через плечо,
Сама же тут Михайлы приговариват:
— Гди был молодой Михайла Потык сын
Иванович,
Стань-ко нынь горючий белой камешок.
Будь-ко ты Михайло нынь во камени.
Отправляется с королем да политовскиим В ту было да в земляну Литву,
И уехала да в земляну Литву,
К тому же королю да политовскому.
Жила с королем да политовскиим,
'Жила она много там же времени.
Стосковалось было братьям же крестовыим: Старому казаку Илье Муромцу,
Молоду Добрынюшку Никитичу.
Крутилиси было они каликами,
Обувалц они лапти было липовы,
Надевали они платьица нецветныи,
Пошли оны да туда-ка каликамы От солнышка Владимира от князя стольне-киевска К тому же королю да к политовскому Искать же тут Михайла Потыка Иванова,
Своего же было братца да крестоваго. - В день они идут было по солнышку,
А в ночь они идут было по камешку.
266
Приходят тут ко белому ко каменю.
Выходит тут из другою из росстани,
Выходит тут калика было старая,
И старая калика да седатая,
Хоть седатая калика да й плешатая.
— Здравствуйте, калики перехожие!
— Ты здравствуешь, калика было старая,
Старая калика ты матёрая,
Ты матёрая калика да седатая,
Ты седатая калика да плешатая.
— Куда же вы калики нунь направились? Испроговорят тут русский могучий богатыри:
— Ай же ты калика было старая!
Хоть нынь у нас накрученось каликамы,
Е мы не калики перехожий,
Е мы русский могучий богатыри:
Старый казак да Ильё Муромец,
Молодой Добрынюшка Никитинич.
Пошли искать Михайлы Потыка Иванова, Своего же братца мы крестоваго,
Святорусскаго богатыря.
Испроговорят же русский могучий богатыри:
— Ты. откудова калика есть же старая?
— Я дальняя калика есть же старая,
И дальняя калика я не здешняя, —
Пошел искать Михайлы Потыка Иванова.
Приходили тут калики перехожий А к тому же королю да политовскому,
Ставились калики среди города,
Супротив того двора да королевскаго,
Тут скрыцали да калики перехожий,—
Теремки у них да пошатилиси,
Околенки у них да повалилиси,
Вси же во гради да приужахнулись:
— Что же нунь да чюдо е случилоси,
Каки же нам калики появилиси?
Испроговорит король да политовскии:
— Это е три чюда объявилоси.
Говорила Марья лебедь белая,
Лебедь белая да королевична Королевична да тут подолянка:
— Тут не чюдо к нам же ныньче объявилоси, Два богатыря да к нам же нынь явилоси; Старый казак да Илья Муромец,
267
Молодой Добрынюшка Никитинич.
А третьяя калика незнакомая,
Незнакомая калика да седатая,
Седатая калика да плешатая,
Тая е калика да незнаема.
Зови-тко ты король да во гостёбищо Этыих калик да перехожиих. •
Не пойдут оны к нам да в гостёбище,
Розорят оны же нашу земляну Литву Два русским могучий богатыря.
Выходил же тут король да политовскии, Скорешенько же выходил на шйрок двор С той ли Марьей лебедь белою,
Лебедь белою да он подоленкой,
А подоленкой да королевичной.
Подходила она к братьецам крестовыим Своего же она мужа да названаго,
Звала тут себе-ка-ва в гостёбищо,
Тяжелешенько по нём да она плакала.
Спрашивали русским могучий богатыри,
Старый казак да Илья Муромец,
Что ш. молодой Добрынюшка Никитинич:
*— Не видала ли Михайла Потыка да ты Иванова? — Не видала я Михайла Потыка Иванова. Тяжелешенько по нём да я же плачу есть,
Вспомню я его да в кажный день.
И зовет она себе-ка-ва в гостёбищо К тому же королю да политовскому.
Тут приходит же король да политовскии И зовёт же он богатырей к соби в гости.
Приходят тут калики перехожий К тому же королю да к политовскому,
Гостили у того же короля да политовскаго.
Дарили им же честный тут дарева,
Дарили им же злато, что ли серебро,
И мелкие им тут же жемчуги,
И каменья дарили драгоценный.
Откланялись тут же калики перехожие, Отправились калики со гостёбища,
Ничего же тут калики не проведали Про русьскаго могучего богатыря,
Про Михайлу Потыка Иванова.
Отправились же в путь они дороженку,
В день они идут было по солнышку,
258
В ночь они идут было по камешку.
Приходят тут ко белому горючему ко каменю, Испроговорит калика было старая,
Еще старая калика да матерая:
— Вам же нунь, калики перехожие,
Вам же нунь пойти же надо в сторону, Мне-ка-ва пойти надо же в другую.
Будем на прощенье животов делить.
Испроговорят тут русский могучий богатыри:
— Ай же ты калика нуньчу старая,
Ты старая калика да матерая,
Матерая калика да седатая,
Седатая калика да плешатая!
Ты дели-тко нуньчу дарева.
Делила-то калика было старая,
Старая калика да матерая,
И делила тут великии подарочки,
И делит она да на четыре да на часточки. Испроговорят тут русьскии могучий богатыри:
— Что же ты, калика было старая,
Старая калика ты матерая,
Что делишь ты нынь подарочки,
На четыре ты делишь на часточки?
Трое нас же нунечу находится,
А кому же эта часть нунь оставается?
Говорит же им калика было старая:
— Ай же вы калики перехожий!
Станем-ко здымать мы этот камешок,—
Кто из нас же здыне этот камешок через плечо, А тому же часть четвертая достанется.
Думают же русский могучий богатыри Своим же тут умом да богатырскиим:
Неужто не здынем мы да каменя?
Часть эта да нам же нынь достанется.
Испроговорит калика им же старая,
Старая калика да матерая:
— Ай вы русский могучий богатыри!
А здымайте-тко горючий белый камешок.
Принимается Добрыня сын Никитинич Здымать же нынь горючий белый камешок, Здымать же этот камень да через плечо. Выздынул Добрынюшка до пояса,—
По колену тут Добрынюшка во землю сел,
Не мог же он здынуть да было камешка
Через тое нунь плечо да богатырское.
Принимался тут же старый казак да Ильё Муромец, Он здымае этот белый горючий камешок,
Он здымае себе камешок на груди ли,
А по стегнам Илья Муромец да в землю сел. Приходит тут калика эта старая,
Эта старая калика да седатая,
Седатая калика да нлешатая,
Налагает еще руки на белый горючий камешок И здымае камешок через плечо,
Спустит этот камешок через плечо,
Спустит камень о сыру землю,
Сама же к каменю да приговариват:
— Колись-ко этот камешок да на двое,
Иди-ко ты Михайло Потык сын Иванович Из белаго горючаго из камешка!
Кололся этот камешок нунь на двое,
Выходит тут Михайло Потык сын Иванович,
Увидае он же братьецов крестовыих:
— Здравствуйте, вы братьеца крестовый!
— Здравствуй, ты Михайло Потык сын Иванович? От чего попал в горючий белый камешок?
— От своей же я нунь Марьи лебедь белый, Лебедь белый да я подолянки,
А й подолянки да королевичной.
Подносила она зелья мне-ка соннаго,
Подносила она зеленым вином,—
А где выпил, тут я в сон заснул,
И сам себе я нонечу не ведаю.
Говорит же тут калика ему старая,
Старая калика да матерая:
— Михайла Потык сын Иванович!
Будешь ты у города у Киева
А у ласковаго князя у Владимира,
Ты сделай-то две церкви, две соборныих,
Одну церковь нунче делай ты Спасителю,
Другу церковь матушке да пресвятой богородицы,, В той же нунь Миколы да святителю.
Упросила матушка да пресвятая богородица А сходить меня для вас да на сыру землю, Избавить нунь от смерти от напрасною,
От напрасною от смерти от волшебною.
Простиласи калика было старая,
Старая калика да матерая,
270
Отправилась калика в свою сторону.
Испроговорят тут русский могучий богатыри:
— Ай ты братец да названый,
Михайла Потык сын Иванович!
Пойдем-ко с нами в свою сторону,
К тому было ко городу ко Киеву,
Ко ласковому князю ко Владимиру.
Говорил Михайла Потык сын Иванович:
— Ай же мои братьица крестовый!
Мне-ка-ва сходить надо во земляну Литву,
А к тому же королю ко политовскому.
Угнал он да моего добра коня,
И увез же Марью лебедь белую,
Лебедь белую да королевичну,
Королевичну он да подолянку.
Испроговорят тут братьица крестовый:
— Ай ты братец да названый,
Михайла Потык да Иванович!
Не жена теби она, да есть волшебница,
Сконает твою голову да богатырскую,
Ты получишь от ей смерть напрасную.
Тут Михайла Потык сын Иванович Он же братьицов крестовыих не слушаёт, Приказал же брать им этыи подарочки И отправляться им ко городу ко Киеву.
Сам пошел же к королю да политовскому, Политовскому да земли-польскому (так),
В тую он пошел во земляну Литву.
Приходит он каликой перехожеей,
Ставился же он тут среди города,
Противу тут двора да королевскаго,
Кричал же он да во всю голову.
Теремы же тут да пошатилися,
Что околенки у них вси повалилися,
Вси уродища оны да приужахнулись,
Сами же оны тут испроговорят:
— Недавно чюда зде-ка были объявилися,
А нунь опять да чюдо появилося.
Испроговорит тут Марья лебедь белая, Лебедь белая да королевична,
Королевична да и подолянка:
— Не калика это есть да перехожая,
А Михайла Потык сын Иванович.
Скорешенько наливае чару зелья соннаго,
271
Выбегает тут скоренько да на широк двор,
Стретает тут Михайла Потыка С чарой зелена вина.
Выпил он же чару зелена вина,—
Как он выпил чару зелена вина,
Гди выпил, тут же в сон заснул.
Тащила тут во сени во челядинны.
Увидала тут Настасья королевична,
Что тащат си {так) богатыря во сени во челядинны. По нем она да сжаловалася.
Приходила тут во сени во челядинны Эта Марья лебедь белая,
Лебедь белая да королевична,
Прибивала тут богатыря да на стену,
Била ему в руки в ноги еще гвоздища.
Не хватило тут гвозда да у ней пятаго,
Пятаго гвозда ему сердечнаго.
Побегала тут из сеней из челядинных,
Побегала за гвоздом она да пятыим.
Молода Настасья королевична Вытаскивала гвоздья вон да со стены,
Прибила тут на место да татарина,
Прибила тут татарина да мертваго, ^
Мертваго татарина да мерзлаго.
Уводила тут Настасья королевична
Того было богатыря из сеней из челядинных.
Прибегает Марья лебедь белая,
Лебедь белая да королевична,
Королевична она подолянка,
.Не смотрела тут она да на стену,
Забила тут татарина место богатыря.
Отправляется к королю да политовскому,
Сама же тут ему да еще хвастает:
— Перевела я ныньчу своего да ненавистничка, Михайла Потыка сына Иванова.
Прожил у Настасьи он потай да трои суточки, Просит он коня да богатырскаго,
Да у той было Настасьи королевичной:
— Ах ты молода Настасья королевична!
Проси-тко у родителя у батюшка,
Нет ли нунь коня да богатырскаго Съездить во чисто поле да поликовать.
Молода Настасья королевична Тут приходит к королю да политовскому,
272
К своему она к родителю да батюшку:
— Ах ты старый король да политовскии. Ай же ты родитель мой да батюшко! Дай-ко мни коня да богатырскаго Съездить в чисто поле да поликовать, Простудить лицо свое да женское.
Испроговорит король же политовскии:
— Поди-ко на конюшри на стоялый, Выбирай-ко ты коня да нынь по розуму«
Приходила на конюшни на стоялый, Выбирала тут коня да богатырскаго А Михайлы Потыка Иванова.
Пригоняет тут коня да богатырскаго А Михайлы Потыка Иванова К своему крыльцу да королевскому. Одевается богатырь да по женскому, Уезжае он богатырь было женщиной, Уезжает тут богатырь во чисто поле,
Из чиста поля наехал он богатырем, Ставился же он тут середи двора,
У того же короля да политовскаго,
Он просит же тут войска да великаго. Узнавает Марья лебедь белая,
Лебедь белая да королевична,
Королевична да тут подолянка. Скорешенько выбегает да на широк двор, Наливает она чару зеленым вином И подносит ему зелье было сонное. Молода Настасья королевична По поясу бросйлася в окошечко:
— Михайла Потык сын Иванович! Выпьешь чару нунь же ты да зелена вина, Гди ты выпьешь, тут же в сон заснешь. Будет ти отсечь она твоя да буйна голова, А твоей же тут да саблей вострою.
Михайла Потык сын Иванович Не пил же чары зелена вина:
Смахне он да саблей вострою,
Отнес же ейну буйну голову За ей поступки неумильнии.
Россерделся тут богатырь святорусский:
— Розорю же я тут землю всю литовскую. Отнесу же королю я буйну голову!
Упросила тут Настасья королевична:
Ю—3311
273
— Михайла Потык сын Иванович!
Не руби-тко ты родителю да буйной головы За его было поступки неумильнии,
Не розори-тко ты да земляной Литвьь Укротил же свое сердце богатырское;
Брал одну Настасью королевичну От того же короля да политовскаго,
Брал молоду Настасью он во честности.
Увез к городу было ко Киеву,
А к ласковому князю ко Владимиру,
И привел же он тут в верушку крещоную. Принял тут с Настасьей по злату венцу,
Стал же с ней да век коротати.
Стал же строить он две церкви две соборныих, Перву церковь он соборную Строил он Спасителю,
Другу церковь он же строил да соборную Матушки да пресвятою богородици И Миколы он было святителю.
Тут Михайлы Потыку сыну Иванову славу поют, Синему морю на тишину,
Всим добрым людям на послушанье.
КОРОЛЕВИЧИ ИЗ КРЯКОВА
Из того было из города из Крякова,
С того славнаго села да со Березова,
А со тою ли со улицы Рогатицы,
Из того подворья богатырского,
Охвочь ездить молодец был за охвоткою;
А й стрелял-то да й гусей лебедей,
Стрёлял малых перелетных серых утушок. То он ездил по роздольицу чисту полю, Целый день с утра ездил до вечера,
Да и не наехал он ни гуся он ни лебедя,
Да й не малого да перелетнаго утенышка. Он по другой день ездил с утра до пабедья, Ен подъехал-то ко синему ко морюшку, Насмотрел две белых две лебедушки:
Да на той ли как на тихоей забереги,
Да на том зеленоем на затресьи Плавают две лебеди, колыблются.
274
Становил-то он коня за богатырскаго,
А свой тугой лук розрывчатой отстегивал От того от праваго от стремечка булатнёго, Паложил-то он и стрелочку каленую,
Натянул тетивочку шелковеньку,
Хотит подстрелить двух белыих лебедышок, Воспроговорили белые лебедушки,
Проязычили языком человеческим:
— Гы удаленькой дороднёй добрый молодец.
Ай ты славная богатырь святорусский!
Хоть нас подстрелишь двух белыих лебедушек,
Не укрятаешь плеча могучаго,
Не утешишь сердца молодецкаго.
Не дви лебеди мы есть да не дви белыих,
Есть две девушки да есть две красныих,
Две прекрасныих Настасьи Митриёвичны.
Мы летаем-то от пана поганаго,
Мы летаем поры времени по три году,
Улетели мы за синеё за морюшко.
Поезжай-ко ты в роздольице чисто поле,
Да й ко славному ко городу ко Киеву,
Да й ко ласкову князю ко Владымиру:
А й Владымир князь он ест-то пьет и проклаждается И над собой незгодушки не ведает.
Как поедешь ты роздольице’м чистым полем,
Да приедешь ты к сыру дубу крякновисту, Насмотри-тко птицу во сыром дубе,
Сидит птица черной ворон во сыром дубе,
Перьице у ворона черным черно,
Крыльицо у ворона белым бело,
Перьица роспущены до матушки сырой земли.
Молодой Петрой Петрович королевской сын На коне сидит, сам пороздумался:
— Хоть-то подстрелю двух белыих лебедушок,
Да й побью я две головки бесповинныих,
Не укрятаю плеча могучаго,
Не утешу сердца молодецкаго.
Ен сымает эту стрелочку каленую,
Отпустил тетивочку шелковеньку,
А й свой тугой лук розрывчатой пристегивал А й ко правому ко стремечки булатнёму,
Да й поехал он роздольицем чистым полем А й ко славному ко городу ко Киеву.
Подъезжал он ко сыру дубу крякновисту,
276
Насмотрел ён птицу черна ворона;
Сиди птица черный ворон во сыром дубе Перьицо у ворона черным черно,
Крыльицо у ворона белым бело,
А й роспущены перьица до матушки сырой земли: Эдакою птицы на свети не видано,
А й на белоем да и не слыхано.
Молодой Петрой Петрович королевской сын Он от праваго от стремечки булатнёго Отстянул свой тугой лук розрывчатой,
Наложил ён стрелочку каленую,
Натянул тетивочку шелковеньку,
Говорил-то молодец да й таковы слова:
— Я подстрелю эту птицу черна ворона,
Его кровь-то росточу да по сыру дубу,
Его тушицю спущу я на сыру землю,
Перьицо я роспущу да по чисту полю Да по тою долинушке широкою.
Воспроговорил-то ворон птица черная,
Испровещил да языком человеческим:
— Ты удаленькой дородний добрый молодец,
Славныя богатырь святорусский!
Ты слыхал ли поговорю на святой Руси:
В кельи старця-то убить — так то не спасеньё,
Черна ворона подстрёлить — то не корысть получить, Хоть подстрелишь мене птицю черна ворона,
И поросточишь мою кровь ты по сыру дубу,
Спустишь тушицю на матушку сыру землю,
Не укрятаешь плеча да ты могучаго,
Не утешишь сердця молодецкаго.
Поезжай-ко ты во славной стольнёй Киев град,
Да й ко славному ко князю ко Владымиру,
А й у славнаго-то князя у Владымира Есть почестей пир да й пированьицо,
То он есть да пьет да й проклаждается,
Над собою князь незгодушки не ведает:
То ведь ездит поляничищо в чистом поли,
Она кличет выкликает поединщика,
Супротив собя да й супротивника,
Из чиста поля да что наездника:
Он не даст ли мне-ка если поединщика,
Супротив меня да й супротивника,
Из чиста поля да что наездника,—
Розорю я славной стольной Киев град,
А ’ще чернедь мужичков-то всех повырублю,
Все божьи церквы-то я на дым спущу,
Самому князю Владымиру я голову срублю Со Опраксией да королевичной.
Молодой Петрой Петрович королевской сын На добром коне сидит-, сам пороздумался:
— То слыхал я поговорю на святой Руси:
В кельи старця-то убить, так то не спасеньё,
Черна ворона подстрелить, то не корысть получить;
Хоть я подстрелю-то птицу черна ворона,
Росточу-то его кровь да по сыру дубу,
Его тушицю спущу да й на сыру землю,
Роспущу то ёго перьице да й по чисту полю Да по тою по долинушке широкою,—
Не укрятаю плеча-то я могучаго И не утешу сердця молодецкаго.
Он сымает эту стрелочку каленую,
Отпустил тетивочку шелковую,
А свой тугой лук розрывчатой пристегивал А й ко правому ко стремячки к булатнёму,
На кони сидит да й пораздумался:
— Прямоезжею дороженькой поехать в стольнёй Киев
град,
То не честь мне-ка хвала да й от богатырей,
А й не выслуга от князя от Владимира,
А поехать мне дорожкой во чисто поле А й ко тою поляницищу удалою,
А й убьет-то поляница во чистом поле,
Не бывать-то мни да на святой Руси,
А и не видать-то молодцю мне свету белого.
Он спустил коня да й богатырскаго,
Ен поехал по роздольицу чисту полю,
Ен подъехал к поляници ко удалою.
Оны съехалися добры молодцы да й поздоровкались,
Они делали сговор да й промежду собой,
Как друг у друга нам силушки отведати:
Нам розъехаться с роздольица чиста поля На своих на конях богатырскиих,
Приударить надо в палици булатнии,
Тут мы силушки у друг другй отведаем.
Порозъехались они да на добрых конях По славному роздольицу чисту полю;
Они съехались с роздольица чиста поля На своих на добрых конях богатырскиих,
277
Приударили во палици булатнии,
Они друг друга-то били не жалухою,
Со всей силушки да богатырский,
Били палиц’ми булатнима да по белым грудям.
И у них палици в руках да погибалися,
А й по маковкам да й отломилися;
А й под нима как доспехи были крепкий,
Ени друг друга не сшибли со добрых коней,
Да й не били оны друг друга, не ранили, Никоторого местечка не кровавили.
Становили молодци оны добрых коней И они делали сговор да промежду собой, Порозъехаться с роздольица чиста поля На своих на добрых конях богатырскиих. Приударить надо в копья муржамецкия,
Надо силушки у друг друга отведати. Порозъехались с роздольица чиста поля На своих на добрых конях богатырскиих, Приударили во копья муржамецкия,
Они друг друга-то били не жалухою,
Не жалухою-то били по белым грудям.
У них копья-ты в руках да погибалися,
А й по маковкам да й отломилися;
А й под нима как доспехи были крепкий,
Ени друг друга не сшибли со добрых коней,
То не били оны друг друга, не ранили,
Никоторого местечка не кровавили.
Становили добрых коней богатырскиих,
Говорили молодцы-то промежду собой:
Опуститься надо со добрых коней А й на матушку да й на сыру землю,
Надо биться-то нам боем рукопашкою,
Тут у друг друга мы силушку отведаем.
Выходили молодци они с добрых коней, Становилися на матушку сыру землю Да й пошли-то биться боем рукопашкою.
Молодой Петрой Петрович королевской сын Он весьма был обучен бороться об одной ручке Подошел он к поляницищу удалою,
Да й схватил он поляницу на косу бодру.
Да й спустил на матушку сыру землю,
Вынимал-то свой он нож булатнюю,
Заносил свою да ручку правую,
Заносил он ручку выше головы,
Да й спустить хотел ю ниже пояса —
Права ручушка в плечах да застоялася,
В ясных очушках да й помутился свет.
То он стал у поляницы повыспрашивать:
— Ты скажи-тко, поляница, мне проведай-коз Ты с коей Литвы, да ты с коёй земли,
Тобе как-то поляничку именём зовут И удалую звеличают по отечеству?
Говорила поляница й горько плакала:
— Ай ты старая базыка новодревная!
Тоби просто надо мною насмехатися,
Как стоишь ты на моей белой груди
И в руках ты держишь свой булатний нож, Ты хотишь пластать мои да груди белый, Доставать хотишь мое сердцё со печеней.
Есть стояла я бы на твоей белой груди,
Да пластала бы твои я груди белый, Доставала бы твоё да сердце с печеней,
Не спросила б я отця твоёго матери,
А ни твоего ни роду я ни племени.
Розгорелось сердце у богатыря А у молода Петроя у Петровича.
Ен занес свою да ручку правую,
Ручку правую занес он выше головы,
Опустить ю хочет ниже пояса,—
Права ручушка в плечи да застояласе,
В ясных очушках да помутился свет.
То он стал у поляници повыспрашивать:
— Ты скажи-тко, поляница, мне проведай-ткоа Ты коёй земли да ты коёй Литвы,
Тобя как-то поляничку именем зовут,
Тобя как-то звеличают по отечеству?
Говорила поляница таковы слова:
— Ай ты славныя богатырь святорусский!
А й ты когда стал у меня выспрашивать,
Я стану про то тобе высказывать:
Родом есть из города из Крякова,
Из того села да со Березова,
А й со тою ли со улицы Рогатицы,
Со того подворья богатырскаго,
Молодой Лука Петрович королевской сын. Увезен был маленьким робеночком:
Увезли меня татара-ты поганый,
Да й во ту во славну в хоробру Литву,
279
То возростили до полного до возрасту;
Во плечах стал я иметь-то силушку великую, Избрал коня соби я богатырскаго,
Я повыехал на матушку святую Русь Поискать собе я отца матушки,
Поотведать своего да роду племени.
Молодой Петрой Петрович королевской сын Ен скорешенько соскочит со белой груди,
То й берет его за ручушки за белый,
За него берет за перстни за злаченые,
(То здымал его со матушки сырой земли, Становил он молодця да й на резвы ноги,
На резвы ноги да й супротив собя,
Целовал ёго в уста он во сахарниц Называл-то братцем соби родныим.
Ены сели на добрых коней, поехали Ко тому ко городу ко Крякову,
Ко тому селу да ко Березову,
Да ко тою улицы Рогатицы,
К тому славному к подворью богатырскому; Приезжали-то оны да й на широкой двор, Как сходили молодцы они с добрых коней, Молодой Петрой Петрович королевской сын Он бежал скоро в полату белокаменну; Молодой Лука Петрович королевской сын А й стал по двору Лука похаживать,
За собою стал добра коня поваживать. Молодой Петрой Петрович королевской сын Ен скоренько шел полатой белокаменной, Проходил ён во столову свою горенку,
Ко своей ко родной пришел матушке:
-— Ай ты свет моя да й родна матушка! Как-то был я во роздольице в чистом поли,
Да й наехал я в чистом поли татарина,
А кормил я ёго ествушкой сахарною,
Да й поил я ёго питьицем медвяныим.
Говорит ему тут родна матушка:
— Ай же свет моё чадо любимое,
Молодой Петрой Петрович королевской сын! Как наехал ты в чистом поли татарина,
То не ествушкой кормил бы ты сахарною,
То не питьицем поил бы ты медвяныим,
А й то бил бы ёго палицей булатнюю,
Да й колол бы ты ёго да копьем вострыим.
280
Увезли у тобя братця они родного,
Увезли-то ёны малыим робёночком,
Увезли его татары-ты поганый!
Говорил Петрой Петрович таковы слова: — Ай ты свет моя да родна матушка!
Не татарина наехал я в чистом поле,
А й наехал братця соби родного,
Молодца Луку да я Петровича,
А й Лука Петрович по двору похаживат,
За собой добра коня поваживат.
То честна вдова Настасья-то Васильевна Как скорешенько бежала на широкой двор, Да й в одной тонкой рубашечке без пояса,
В одных тонкиих чулочиках без чоботов, Приходила к своему да к сыну родному,
К молоду Луки да й ко Петровичу,
Ена брала-то за ручушки за беленьки,
За него-то перстни за злаченый,
Целовала во уста его в сахарнии, Называла-то соби да сыном родныим;
Да й вела его в полату белокаменну,
Да вела в столову свою горенку,
Да й садила-то за столики дубовый,
Их кормила ествушкой сахарною,
Да й поила-то их питьицем медвяныим.
Они стали жить быть, век коротати.
БРАТЬЯ ДОРОДОВИЧИ
Поехал Михайло Дородович, Поехал гулять во чисто полё,
И выехал на гору высокую, Розвертывал трубку подзорнюю, Глядел-смотрел во чисто поле.
Увидел он там три знаменья:
Первое знамя белым-бело,
Другое знамя красным-красно,
Да и третьё-то знамя черным-черно. Как поехал Михайло Дородович Ко тем-то ко трём он ко знамечкам, Начал ево бурушко поскакивать, Из-под копыт-то он долы вымётывать
По целой овчины барановой.
Приехал ко тем ко трем ко знамениям,
И первое знамя стоит бел шатер,
А другое знамя на шатри маковка,
А третье-то знамя стоит ворон конь.
И соходил Михайло со добра коня,
И надовал коню пшена белоярова,
А и сам он зашол во белой шатер.
Во белом шатри удалой доброй молодец,
Уж он многима ранами раненой.
И как спросил он удала добра молодца:
— И ты удалой дородний добрый молодец!
Уж ты где-ка бит, гда-ка раненой?
Как сказал ему удалой доброй молодец:
— Уж был я во лугах во Кургановых,
Ино я бился с погаными татарами,
И наконец мне-ка измена состояласе,
И у туга лука тетивка порываласе Булатняя палица поломаласе,
Копьё в череню поросшаталосе,
И востра сабля пополам переломаласе.
Тут обступили поганые татарове,
Тут меня били да ранили.
Как выходит Михайло из бела шатра,
Садился Михайло на добра коня,
Розвёртывал трубку подзорнюю,
Он смотрел во луга во Кургановы.
Уже сколько стоит лесу темнаго,
Да и столько поганых татаровей,
Да и сколько в чистом поли кувыль травы,
А тово боле поганыих татаровей.
И тут-то молодца страх-от взял.
— Как куда мне-ка ехать, куда коня мне гнать? Как ехать мне в луга, так убиту быть,
А домой мне-ка ехать, нечим хвастати.
И как поехал он в луга во Кургановы,
И уж он луком перебил силы сметы нет,
Копьем переколол силы сметы нет,
Да и-палицей прибил силы сметы нет,
Да и саблей перерубил силы сметы нет,
И наконец тово измена состояласе,
И у туга лука тетивка порваласе,
Булатняя палица поломаласе,
Конье в череню расшаталосе,
282
Востра сабелька пополам переломиласе,
И обступили поганые татарове,
Да и хочут добра молодца с коня стащить. Ино ево была головушка удалая,
Да и вся была натура молодецкая.
Как скочил Михайло с добра коня,
А хватал он поганого татарина За его ли за поганые за ноги,
Начал он татарином помахивать,
Куда махнёт — туды улица,
Назадь отмахнё — переулочек.
И то оружьё по плечу пришло,
Прибил он татар до единого,
И уж он сам сказал таково слово:
— И ты родись-ко головушка удалая,
А худа голова бы лучше не была.
Садился Михайло на добра коня,
Поехал Михайло ко белу шатру,
И как приехал Михайло ко белу шатру, Надавал коню пшена белоярова.
И заходит Михайло во бел шатер,
И спросил Михайло добра молодца:
— Ты удалой дородний доброй молодец!
Ты которого отца, которой матери?
Я твому бы отцу ведь поклон отвёз.
И как сказал ему удалой доброй молодецз
— Как по имени зовут меня Федором,
А по отечеству Федор Дородович,
А больше я с тобой говорить не могу*
И как тово часу молодцу смерть пришла, А сказал тут Михайло Дородович:
— Да и видно ты родимой мне брателко,
Да и старшой-от Федор Дородович.
Да и предал он его тело сырой земли,
А своим он родителям поклон отвёз.
РАХТА РАГНОЗЕРСКИИ
Проезжал борец было неверный, Много городов прошел,
Много он борцов повалил,
Иныих он до смерти убил.
Приезжае он в Москву да белокаменну, Сам же князю похваляется:
— Ай же князь ты московский!
Дай мне нуньчу поединщичка.
Ты не дйдешь нам да поединщичка—•
Я вашею Москву да всю огнём прижгу.
Много находилоси младых борьцов,
А никто не может с ним да супротивиться, А й борец против его да не находится.
Из той же из-под северной сторонуш::и А стоят же мужики да балахонники,
А й самы оны да испроговорят:
— Кабы наш-то же да Рахта рагнозерскии, Этого борьца он бы нунь в кучку склал.
Подходит человек да незнакомый,
У тых же мужиков он да спрашиват:
— Вы откуда мужички да балахонники,
А какой же у вас Рахта рагнозерскии?
Отвечали мужики да балахонники:
— Наш бы Рахта рагнозерскии Этого борьца да он бы в кучку склал.
Подхватили мужиков да балахонников А держали их-то в крепости,
Отправляли тут скоро гонца В ту деревню Рагнозерскую,
За тым Рахтой рагнозерскиим.
Приезжает тут гонец было московский В ту деревню Рагнозерскую.
Не случилось было Рахты дома ли,
При тоем гонци да при московскоем, Находился Рахта в лисях е.
Спрашиват гонец было московский:
— Этта ль есть да Рахта рагнозерскии? Отвечает тут ему да было женщина:
— Тут живет же Рахта рагнозерскии.
Ты откудова удалый добрый молодец?
— Я из той Москвы да белокаменный,
Тот гонец да было скорый
А за тем было за Рахтой рагнозерскиим, Требуе тут было князь московский С тым борьцем да поборотися А с неверныим поратиться.
Отвечает ёму женщина:
— Ай же ты гонец было московский!
284
Как из лесу приде Рахта рагнозерскии,
Не серди ты-тко его голоднаго,
А й голоднаго его да холоднаго.
Дай ему волю хлеба нунь покушати,
А тожно ты его да нуньчу спрашивай.
Тут приходит с лесу Рахта рагнозерскии. Зготовляет обед да ему женщина,
Он же сел тут хлеба кушати,
А поел же тут нунь Рахта рагнозерскии.
Ты ставае да гонец было московский А й ему же тут нунь поклоняется:
— Ты есть нуньчу Рахта рагнозерскии?
Требует тя князь нунчу московский
С тым борьцом да поборотиться,
Что ль с неверныим да попытатися.
— Отправляйся-ко, гонец да ты московский,
Нунь в Москву свою да белокаменну,
Я послушаю нунь князя да московскаго А прибуду я в Москву да на борение,
Да прибуду нунь попрежде вас.
А прибуду буде раньше вас,
Гди искать мне князя да московскаго?
— Ты прибудешь нунь в Москву да белокаменну, Спросишь же ты князя там московскаго,
Там тебе-ка-ва покажут ли.
А й гонец в Москву да отправляется;
Рахта тут на лыжи было ставится,
Что ли Рахта тут в Москву да отправляется,
Да попрежде тут гонца в Москву он ставится. Отыскал же тут он князя да московскаго,
А кормили тут его да было досыти,
А поили тут его да было допьяна.
Тот гонец в Москву было прискакивал,
А про Рахту он у князя было спрашивал.
Отвечае тут да князь было московский:
— Здесь-ко Рахта что ль в Москвы да объявляется, Именем своим да Рахта называется.
Говорит гонец было московский Что ли князю да московскому:
— Ты держи-тко ёго сутки да голоднаго,
Тожно ты спусти к борьцу да-на борениё А к неверному на показаниё.
Выдержали сутки да голоднаго А спустили тут его да на борениё.
Говорит тут Рахта рагнозерскии:
— Я бороться князь да нунечу не знаю ли, Я поратиться с борьцом да не умею ли,— Да привычка нунь у нас да была женская.
Как ухватит он борьца за плеча ли Да топнет тут борьца да о кирпичен мост, Сбил его всего да в кучку вдруг.
— Ай же ты да Рахта рагнозерскии, Чим-тебя да нунечу пожертвовать?
— Ничего мне князь не надобно,—
Дай-ко мне-ка бласловеньицо,
Что ль на нашем было на озерушке Не ловили да мелкою там рыбушки А без нашего да дозволеньица.
Дал ему князь было московский,
Дал ему да князь тут дозволеньицо,
Чтоб не ловили без его благословленьица.
СТАРИНА О БОЛЬШОМ БЫКЕ
А й диди диди диди диди, Князи, послушайте,
Да бояры, послушайте,
Да вы все, люди земские, Мужики вы деревенские,
Да солдаты служивые,
Да ребятушки маленькие,
Не шумите, послушайте.
Да старушки вы старенькие,
Не дремлите, послушайте, Молодые молодушки,
Не прядите, послушайте,
Да красные девушки,
Да не шейте, послушайте.
Да как я вам пословицу скажу, Да пословицу хорошенькую,
Про того ли про большого быка, Про быка Рободановского.
Да как тот ли великие бык,
Да как степи рукой не добыть, Промежду роги косая сажень, На рогах подпись княжеская:
Василья Богдановского,
Да еще Рободановского.
Да как наш-от великие князь, Афонасий Путятинской,
Да не ест он гусятинки,
Да не белые лебедятинки,
Да не серые утятинки,
Не индейской курятинки.
Да свинина отъеласе,
Баранины не хочется,
Захотелосе говядинки,
Да урослой телятинки.
Да как сам-то похаживаёт,
Да как сам-то покрякиваёт, Бородой-то потряхиваёт.
Да как сам выговариваёт:
— Да как есть ли у меня на дворе Да такие люди надобные.
Да сходили бы на барской двор,
Да на поместьё дворянское По того ли по большого быка,
По быка Рободановского.
Да как был-то Зеновей слуга.
Да он часто по Волги ходил,
Да он много-то сёл там громил,
Да и тем голову кормил.
Хватил конопля на плетень,
Да скочил за Москву за реку Ко двору-то боярскому,
Да к поместью-то дворянскому.
Да как свил-то ведь вязивцё,
Да как он вор догадлив был,
Быку липовы лапотци обул,
Наперёд он пятами повернул,
Да как-так-то быка увёл.
Да завёл быка в рощицу,
Привязал быка к деревцу.
Да как сам-то похаживаёт,
Да как сам поговариваёт:
— Да как кто-то быка-то увёл,
Да и тот-то безвестно ушол,
Да как кто с быка кожу сдерёт,
Да и тот концом пропадёт.
Да как был-то Алёша мясник,
287
Да у него кулаки мясны,
Да у него клепики востры.
Да как ткнул быка палкой в лоб, Да как ткнул клепиком-то в бок,
Да как взял с быка кожу слупил, Да слупил — в трубу завертел, Завязал его вязивдём,
Да и чуть на плечо воротил.
По несчастью Алёшенькину,
По навожденью по дьявольскому, Да как люди-те пробаяли,
Да собаки-те облаяли,
Да обстали собаки в круг,
Да лише тольки кожа кинуть с рук* Да скочил за Москву за реку,
Да как к Митьке к Кожевникову. Полтора годы в деле была,
Да не удала из дела вышла:
Да серёдочка выгнила,
По краям не осталось ничто.
Да Алёши-то мясникову,
Да как Митьки-то Кожевникову,
Как кожи по рядам провели,
Да кожи те кнутом набили,
Да как справили двести рублей,
Да по двести с полтиною,
Да еще не покинули,
Кабы нё люди добрые,
Да не заступы те крепкие,
Да не гости те Строганова Да лище только головы отстать, Та-то беда — не беда,
Да лишь бы боле той не была.
Да к тому ли к большому быку,
Да к быку Рободановскому,
Да были два те харчевничка,
Да молодые те поспешнички,
Да как губки обрезывали,
Да бедёрки обрезывали,
Да как сделали студеньцу Молодую да с прорезью,
Да на здоровье и с лёгкостью,
Да не на что не подумати. Выносили на базар продавать,
Да как гости подхаживали,
Да бояра подхаживали,
Да студенечку подкушивали,
Да как ей-то подхваливали:
Да как-то это студеньца Молодая да с прорезью,
На здоровье и с лёгкостью,
Не на что не подумати,
Да не тово ли большого быка Да быка Рободановского.
Да как двум-то харчевиникам,
Да молодым-то поспешникам.
Да как кожи- по рядам провели, Да как кожи те кнутом набили, Да как справили двести рублей, Да по двести с полтиною,
Да еще не покинули,
Кабы не люди добрые,
Не заступы те крепкие,
Да не гости те Строганова,
Лише только головы отстать,
Да как то-то беда — не беда,
Да лишь бы больше той не была. К тому ли к большому быку,
Да быку Рободановскому.
Да била Марья харчевенка, Молодая поспешенка,
Да кишочки обрезывала,
Да как их-то начинивала Толоконцем да крупочкой,
Да лучком да и перечком, Выносила на базар продавать.
Да как гости подхаживали,
Да бояра подхаживали,
Да кишочки подкушивали,
Да как их-то подхваливали:
Да как-то это кишечки Молодые да с прорезью,
На здоровье и с лёгкостью.
Не на что не подумати,
Не того ли большого быка,
Да быка Рободановского,
Да как Марьи-то харчевенки,
Да мо'лодой-то поспешенки,
Да как кожу по рядам провели,
Да как кожу-то кнутом набили,
Да как справили двести рублей,
Да по двести с полтиною,
Да еще не покинули,
Кабы не люди добрые,
Не заступы те крепкие,
Да не гости те Строганова, >
Лише только головы отстать,
Да как та-то беда — не беда,
Да как <бы> больше той не была, Да к тому ли к большому быку,
Да к быку Рободановскому Да был нёкаков волынщичёк,
Да молодой-от гудошничёк.
Да он другом пузырь доступил,
Да как сделал волыночку Да на новую перегудочку,
Да как стал он на рынок гулять,
Да как стал он в волынку играть, Да как гости подхаживали,
Да бояра подхаживали,
Да волынку послушивали,
Да как ей-то подхваливали:
Да как-то это волыночка На новую перегудочку,
Да не на что не подумати,
Не того ли большого быка,
Да быка Рободановского,
Да тому ли-то волынщику,
Да молодому-то гудошнику,
Да как кожу-то кнутом набили,
Да как справили двести рублей,
Да по двести с полтиною,
Да еще не покинули,
Кабы не люди добрые,
Не заступы те крепкие,
Да не гости те Строганова,
Лише только головы отстать,
Да как та-то беда — не беда,
Да как боле бы той не беды,
Да к тому ли к большому быку,
Да к быку Рободановскому,
Да как кажная косточка
290
Да как стала-то в пять рублей, Да как кажное рёбрышко Да как стало-то в семь рублей, Оприче становых костей,
Ровно тысяча сёмьсот рублей, А становым костям И цены не знай.
АВДОТЬЯ РЯЗАНОЧКА
Славные старые король Бахмет турецкие Воевал он на землю российскую,
Добывал он старые Казань город подлесные.
Он-де стоял под городом Со своей силой армией,
Много поры этой было времени,
Да й розорил Казань город подлесные,
Разорил Казань-де город на-пусто.
Он в Казани князей бояр всех вырубил,
Да и княгинь боярыней —
Тех живых в полон побрал.
Полонил он народу многи тысячи,
Он повёл-де в свою землю турецкую,
Становил на дороги три заставы великие:
Первую заставу великую —
Напускал реки, озёра глубокие;
Другую заставу великую —
Чистые поля широкие,
Становил воров разбойников;
А третьюю заставу — темны лесы,
Напустил зверьёв лютыих.
Только в Казани во городи
Оставалась одна молодая жонка Авдотья Рязаночка*
Она пошла в землю турецкую
Да ко славному королю ко Бахмету турецкому,
Да она пошла полону просить.
Шла-де она не путём, не дорогою,
Да глубоки-ты реки, озёра широкие Те она пловом плыла,
А мелкие-ты реки, озёра широкие,
Да те ли она бродком брела.
Да прошла ли она заставу великую,
291
А чистые поля те широкие,
Воров разбойников тех о полдён прошла,
Как о полдён воры лютые Те опочив держа.
Да прошла-де вторую заставу великую Да темны ты леса дремучие,
Лютых зверей тех о полночь прошла,
Да во полночь звери лютые Те опочив держа.
Приходила во землю турецкую К славному королю Бахмету турецкому,
Да в его ли палаты королевские.
Она крест-от кладет по-писаному,
А поклоны-ты ведё по-ученому,
Да она бьё королю-де челом, низко кланялась.
— Да ты осударь король-де Бахмет турецкий!
Разорил ты нашу стару Казань город подлесную,
Да ты князей наших бояр всех повырубил,
Ты княгинь наших боярыней тех живых в полон побрал. Ты брал полону народу многи тысячи,
Ты завёл в свою землю турецкую,
Я молодая жонка Авдотья Рязаночка,
Я осталасе в Казани единешенька.
Я пришла, сударь, к тебе сама да изволила,
Не возможно ли будет отпустить мне народу сколько-
нибудь пленного,
Хошь бы своево-то роду племени?
Говорит король Бахмет турецкие:
— Молодая ты жонка Авдотья Рязаночка!
Как я розорил вашу стару Казань подлесную,
Да я князей бояр я всех повырубил,
Я княгинь боярыней да тех живых в полон побрал,
Да я брал полону народу многи тысячи,
Я завёл в свою землю турецкую,
Становил на дорогу три заставы великие:
Первую заставу великую —
Реки, озёра глубокие;
Вторую заставу великую —
Чистые поля широкие,
Становил лютых воров разбойников.
Да третью заставу великую —
Темны леса-ты дремучие,
Напустил я лютых зверей.
Да скажи ты мне, жонка Авдотья Рязаночка,
292
Как ты эти заставы прошла и проехала?
Ответ держит жонка Авдотья Рязаночка:
— А й ты славный король Бахмет турецкие!
Я эты заставы великие
Прошла не путём, не дорогою.
Как я реки, озёра глубокие Те я пловом плыла,
А чистые поля те широкие,
Воров-то разбойников,
Тех-то я о полден прошла,
О полден воры разбойники Они опочив держа.
Темные леса те лютых зверей,
Тех-де я в полночь прошла,
О полночь звери лютые Те опочив держа.
Да те ли речи королю полюбилисе,
Говорит славный король Бахмет турецкие:
— Ай же ты молодая жёнка Авдотья Рязаночка! Да умела с королем ричь говорить,
Да умей попросить у короля полону-де головушки, Да которой головушки боле век не нажить будё. Да говорит молодая жёнка Авдотья Рязаночказ
— А й ты славный король Бахмет турецкие!
Я замуж выйду да мужа наживу,
Да у мня буде свёкор, стану звать батюшко,
Да ли буде свекровка, стану звать матушкой.
А я ведь буду у их снохою слыть,
Да поживу с мужом да я сынка рожу,
Да воспою вскормлю, у мня и сын будё,
Да стане меня звати матушкой.
Да я сынка женю да и сноху возьму,
Да буду ли я и свекровой слыть,
Да еще же я поживу с мужом,
Да и себе дочь рожу.
Да воспою вскормлю, у мня и дочь будё,
Да стане меня звати матушкой.
Да дочку я замуж отдам,
Да й у меня и зять будё,
И буду я тещой слыть.
А не нажить-то мне той буде головушки,
Да милого-то братца любимого.
И не видать-то мне братца буде век и по веку.
Да те ли речи королю полюбилисе,
293
Говорил-де он жонке таково слово:
*— Ай же ты молодая жонка Авдотья Рязаночка!
Ты умела просить у короля полону ли головушки,
Да которой-то не нажить и век будё.
Когда я розорял вашу стару Казань город подлесныв* Я князей бояр-де всех повырубил,
А княгинь боярыней я тех живых в полон побрал,
Брал полону народу многи тысячи,
Да убили у мня милого братца любимого,
И славного пашу турецкого,
Да й не нажить мне братца буде век и по веку,
Да ты молодая жонка Авдотья Рязаночка,
Ты бери-тко народ свой полоненые,
Да уведи их в Казань да единого.
Да за твои-ты слова за учливые,
Да ты бери себе золотой казны Да в моей-то земли во турецкие,
Да ли только бери тебе, сколько надобно,..
Туто женка Авдотья Рязаночка Брала себе народ полоненые,
Да и взяла она золотой казны Да из той земли из турецкие,
Да колько ей-то было надобно.
Да привела-де народ полоненые,
Да во ту ли Казань во опустелую,
Да она построила Казань город наново,
Да с той поры Казань стала славная,
Д с той поры стала Казань-де богатая,
Да тут ли в Казани Авдотьино имя возвеличилось,
Да и тем дело кончилось.
ЩЕЛКАН ДУДЕНТЬЕВИЧ
Да на стули на бархати,
На златом на ременчатом, Сидел туто царь Возвяг,
Да Возвяг сын Таврольевич, Да он суды рассуживал,
Да дела приговаривал,
Да князей бояр жаловал,
Да селами, поместьями, Города с пригородками.
294
Да Фому дарил Токмою,
Да Ерёму Новым городом.
Да любимого зятюшка,
Да Щелкана Дудентьевича И на дворе не случилосе,
Да уехал Щелканушко Во землю жидовскую,
Ради дани и выходу,
Ради чортова прйвежу.
Он-де с поля брал по колосу, С огороду по курици,
С мужика по пяти рублей,
У кого тут пяти рублей нету, У того он жену берет,
У кого как женЫ'ТО нет,
Так того самого берет.
У Щелкана не выробишься,
Со двора вон не вырядишься. Да приехал Щелканушко Из земли из жидовские Да к царю на широкий двор. Говорит же Щелканушко:
— Да ай же ты царь Возвяк, Да Возвяг сын Таврольевич! Ты князей бояр жаловал,
Да селами поместьями,
Города с пригородками,
Да Фому дарил Токмою,
Да Ерёму Новым городом,
Да любимаго зятюшка,
Да Щелкана Дудентьевича Подари Тверью городом,
Токо Тверью славною,
Токо Тверью богатою,
Двума братцами родныма.
Да князьями благоверныма, Да Борисом Борисовичем,
Да и Митриём Борисовичем.
— Да ой же Щелканушко,
Да Щелкан сын Дудентьевич! Заколи чада милаго,
Токо сына любимаго,
Нацеди токо чашу руды,
Токо чашу серебряную,
Да и выпей ту чашу руды,
Стоючись перед Звягой царем,
Перед Звягой Таврольевичем.
Подарю Тверию городом,
Токо Тверию славною,
Токо Тверью богатою,
Двума братцами родныма,
Да князьями благоверными:
Борисом Борисовичем,
Да и Митриём Борисовичем.
Да туто Щелканушко Заколол чада милаго,
Токо сына любимаго,
Нацедил-де он чашу руды,
Токо чашу серебряную,
Да и выпил ту чашу руды Стоючись перед Звягой царём,
Перед Звягой Таврольевичем.
Да и тут царь Возвяг Подарил Тверию городом,
Токо Тверию славною,
Токо Тверью богатою,
Двума братцамы родными,
Да князьями благоверными:
Да Борисом Борисовичем,
Да и Митриём Борисовичем.
Поехал Щелканушко Да во Тверь-ту город-от,
Да заехал Щелканушко Ко родной сестры проститися,
Токо к Марье Дудентьевной:
— Да и здравствуй ты, родна сестра, Да и Марья Дудентьевна.
— Да и здравствуй-ко, родной брат. Уж ты по роду родной брат,
По призванью окаянной брат.
Да чтобы тебе брателку Да туда-то уехати,
Да назад не приехати.
Да остыть бы те, брателко,
Да на востром копье,
На булатнем на ножичке.
Дунай, Дунай, боле вперед не знай.
296
КОСТРКЖ
Задумал царь государь,
Задумал женитися,
Во земли во неверный.
Брал шурина любезнаго,
Тако брал во приданыих Молода Кострюка Мастрюка,
Молода Чемерюковица,
Этот ли млад Кострюк,
Молодой Чемерюковиц,
Сидит за дубовым столом,
Хлеба соли он не кушает И бела лебеди не рушает.
Говорил ему царь государь:
— Ай же ты млад Кострюк,
Молодой Чемерюковиц!
Что же хлеба соли не кушаешь,
И белой лебеди не рушаешь?
Говорил ему млад Кострюк, Молодой Чемерюковиц:
— Ай же ты царь государь!
Дай же ты мне-ко борцов,
Да и дай удалых молодцов,
Все названыих мастеров.
Государь припечалился,
Послал молодых послов,
Послал по всёй орды,
И кричать во всё горло,
Накликивать им борцов,
И борцов удалых молодцов,
Все названыих мастеров.
Эти молоды послы Пошли по всёй орды Кричать во всё горло,
И накликивают оне борцов,
Да и борцов удалых молодцов,
Все названныих мастеров.
Сошлись на единый двор Один Сенюшка маленький,
Другой Васенька невелик тоже был, Два братца родимыих.
Говорят таковы словеса:
297
■— Мы пойдем с Кострюком поборотися Да й пойдем с молодым покидатися. Эти млады послы Пошли в полату белокаменную,
Во гридню столовую,
Говорят таковы словеса:
— Ай же ты млад Кострюк,
Молодой Чемерюковиц!
Тебе хлеб соли есть на столи Да и бог-от есть на стени.
А борцы на широком дворцы.
Этот млад Кострюк,
Молодой Чемерюковиц Скочил из-за дубова стола,
Задел ножкой за скамеечку: Пятьдесят-то татар он убил,
И пятьдесят он бояр погубил.
Выходит на крылечко белодубовое, Взглянул на широкий двор,
Говорил таковы словеса:
— Это-то есть мне не борцы,
Да й то не удалы молодцы!
Я братца во руку возьму,
Да и другого во другу возьму}
Я братцями вместо хлесну,
У них кости расхлебаются,
И все суставы рассыплются.
Один Сенюшка маленький Говорил таковы словеса:
— Уж ты, братец, родимый мой!
У тебя силы есть с два-то меня,
А смелости в пол-меня.
Мы пойдем с Кострюком поборотися, Мы пойдем с молодым покидатися* Пошли с Кострюком поборотися, Пошли с молодым покидатися,
Раз-то Кострюк поборол,
Да й другой раз Кострюк поборол, Токо третий раз Кбстрюка,
Токо третий раз младаго,
Они силу его смитили Да и брали тут Кострюка На ручки на белый,
Кидали тут Кострюка
298
Выше церкви соборныя Со кресты леванидовы.
Пал тут млад Кострюк,
Он пал о сыру землю. Рубашка-та трёснула,
И на себе кожа лопнула,
Он свой сором долонью закрыл, И побежал с каменной Москвы, Говорил таковы словеса:
— Не дай-ко мне, господи,
В каменной Москве пббывати,
Да й борцов поотведывати,
Да й борцов удалых молодцов, Все названыих мастеров.
Не детям, не внучатам,
Да не роду нашему Карачанам.
ГРОЗНЫЙ ЦАРЬ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
А й когда-жде (так) воссияло солнце красное А на том было на нёбушке на ясноем,
Как в ты пору теперичку Воцарился наш прегрозный царь,
Наш прегрозный сударь царь Иван Васильевич.
Он повывел тут измену из Казань-града,
Он повывел тут измену из Рязань-града,
Он повывел-то изменушку изб Пскова,
А й повынес он царенье из Царя-града,
А царя-то Перфила он под меч склонил,
А царицы-то Елены голову срубил,
Царскую перфилу на себя одел,
Царский костыль да себи в руки взял.
Заводил же он почестный пир,
А на князей пир, на бояр пир А на всих гостей да званых браныих,
Вси же на пиру да напивалиси,
Вси же на пиру да поросхвастались. Поросхвастался прегрозный царь,
Наш прегрозный сударь царь Иван Васильевич:
— Я повывел тут измену из Казань-града,
Я повывел тут измену из Рязань-града,
Я повывел-то изменушку изо Пскова,
299
А й повынес я даренье из Царя-града,
А царя-то Перфила я под меч склонил,
А царицы-то Елены голову срубил,
Царскую перфилу на себя одел,
Царский костыль да себи в руки взял.
Я повывел нунь измену с Новгородчины,
Я повыведу измену с каменной Москвы.
Ходит тут Иванушко царевич государь,
Сам же испроговорит:
— Ай прегрозный сударь царь Иван Васильевич! Не повывести измены с каменной Москвы.
За одным столом измена хлеба кушает, Платьица-ты носит одноцветный А сапожки-ты на ножках одноличныи.
Мутно его око помутилоси,
Царско его сердце загорелоси.
— Ай же ты Иванушко царевич государь!
А подай-ко мне изменщика да на очи,
Я теперичку изменщику да голову срублю!
Ходит тут Иванушко царевич государь,
Сам Иванушко да испроговорит:
— Я же глупыим да разумом промолвился.
На себя сказать, так живу не бывать,
А й на братца сказать — братца жаль,
А и жаль братца не так как себя...
Ай прегрозный сударь царь Иван Васильевич,
Ай родитель наш же батюшко!
Ты-то ехал уличкой,—
Иных бил казнил да иных вешал ли,
Достальниих по тюрьмам садил.
Я-то ехал уличкой,—
Иных бил казнил да иных вешал ли,
Достальниих по тюрьмам садил.
А серёдечкой да ехал Федор да Иванович,
Бил казнил да иных вешал ли,
Достальниих по тюрьмам'садил,
Наперед же он указы да пороссылал,
Чтобы малый да порозбегались,
Чтобы старый да ростулялиси...
А нунечку, теперичку,
Вся изменушка у нас да вдруг повыстала.
Мутно его око помутилоси,
Его царско сердце розгорелоси:
— Ай же палачи вы немилосливы!
Вы возьмите-тко нунь Федора Иванова За тыи за рученьки за белый,
За тыи перстни да за злаченый,
Вы сведите Федора да во чисто поле На тое болотце да на житное,
На тую на плаху да на липову,
А срубите Федору да буйну голову За его поступки неумильнии.
Сидят тут палачи да немилосливы,
Большей тулится за средняго,
Средний тулится за меныиаго,
А й от меньшаго-то братцу век ответу нет.
Сидит маленький Малютка вор Шкурлатов сын.
— Ай прегрозный царь Иван Васильевич!
Много я казнил князей князевичев,
Много королей да королевичев,
Нунь да Федору я не спущу.
Брал тут Федора Иванова За тыи за рученьки за белый,
За тыи перстни да за злаченый,
Вел же Федора в чисто поле На тое болотце да на житное,
На тую на плаху да на липову.
А и Марфа-та Романовна
Кинулась она в одной рубашки без костыца
А в одних чулочиках без чоботов,
А накинула тут шубку соболиную,
Черных соболей да шубку во пятьсот рублей,
А й бегом бежит на горочку на Вшивую К тому братцу ко родимому,
Ко Микитушке Романову.
Прибегала тут на горочку на Вшивую К тому братцу ко родимому,
Ко Микитушке Романову.
Не спрашиват тут у дверей придверничков,
У ворот да приворотничков,
А прочь взашей она да всих отталкиват,
А й придвернички да приворотнички Они вслед идут да жалобу творят:
— Ай Микитушка Романович!
Да твоя-то есть сестрица да родимая,
Что ли Марфа-та Романовна,
А й бежит она не в покрути,
Над тобой она да надсмехается,
301
Всих же нас да взашей прочь отталкиват.
Говорит же тут Никитушка Романович:
— Что же ты, сестрица да родимая,
Что бежишь, над нами надсмехаешься,
Наших взашей прочь отталкивашь?
Тяжелешенько она да поросплакалась А Микитушки Романову розжалилась.
— Ай ты, братец ты родимый,
Да Никитушка Романович!
Я ли над тобой да надсмехаюси,
Али ты же надо мной да надсмехаешьси,
Али над собой незгодушки великии не ведаешь, Али над собой да нуне надо мной,
Над сестрицей да родимою?
Твоего-то племничка,
Племничка да крестника,
Али Федора Иванова,
Увели его да во чисто поле На тое болотце да на житное,
На тую на плаху да на липову,
Срубить Федору да буйну голову За него поступки неумильнии.
Старый Никита да Романович Бросил он кафтан да на одно плечо,
Кинул шляпу на одно ухо,
Тяпнул в руки саблю вострую,
Он садился на коня да не на седлана,
Не на седлана коня да не на уздана,
Он садился на коня одним стегном.
Городом-то еде голосом кричит,
Голосом крычит да сам шляпой машет:
— Ах ты маленькой Малютка вор Шкурлатов сын! Не клони-тко нунь же Федора Иванова
На ту было на плаху да на липову,
Не руби-тко Федору да буйной головы За него поступки неумильнии.
Срубишь же ты Федору да буйну голову, —■
Не тот же кусок съешь, а сам подавишься,
Не тот же стокан выпьешь, сам заклекнешься!
А не спрашиват Малюгка вор Шкурлатов сын, Клонит Федора Иванова.
А скричал же тут Микитушка Романович:
— Ай ты Федор да Иванович!
Не клони-тко своей буйный ты головы,
302
Царский род на казени не казнится.
А не стал же Федор да сдаватися,
А не стал клонить своей да буйной головы А на тую он на плаху да на липову.
А разъехался Микитушка Романович А к тому же палачу да немилосливу,
К малому Малютке да Шкурлатову.
Не клонил же он Малютки да Шкурлатова На тую на плаху да на липову,—
Как смахне он да саблей вострою,
Он отсек Малютки буйну голову За него поступки неумильнии,
Что зачим везе на казень царский род А срубить-то ему буйну голову.
Он брал Федора было Иванова За тыи за рученки за белый,
Целовал в уста его сахарнии,
Посадил его да на добра коня,
На свое садил было да на право стегно,
Повез Федора Иванова А на ту было на горочку на Вшивую,
А к тому было к подворьицу Микитину, —»
Севодни, братцы, день суботнии,
Завтра день да восресеньицо,
Им итти-то ко божьей церкви.
А ставал же тут прегрозный царь Иван Васильевич Он по утрышку ранехонько,
Умывается он да белехонько,
Снаряжается он хорошохонько,
Одевае платья опалёныи,
Коней подпрягают воронёныих.
А й поехал тут прегрозный царь Иван Васильевич Он поехал ко заутрены.
А ставае тут Микитушка Романович А й по утрышку ранехонько,
Умывается он да белехонько,
Снаряжается он хорошохонько,
Одевае платья красный,
Коней подпрягают все же рыжиих,
Кареты подпрягают золоченый.
Приезжае он да тут же ко заутренки.
Испроговорит Микитушка Романович:
— Здравствуй ты, прегрозный сударь царь Иван
Васильевич,
зоз
Со своей да любимой семьей А со Марфой-то Романовной,
Да со Федором Ивановым,
Со Иваном-то Ивановым!
Говорит же тут прегрозный царь,
Наш прегрозный царь Иван Васильевич:
— Ай ты старый Никита да Романович,
Ай ты шурин да любимый!
Ты незгодушки не ведаешь,
Надо мной великою незгодушки:
Твоего-то племничка,
Племничка да крестничка,
Что ли Федора Иванова,—
Нету Федора во живности.
Старый Микитушка Романович Снова тут его да он проздравствовал:
— Здравствуй ты, прегрозный сударь царь Иван
Васильевич,
Со своей да любимой семьей А со Марфой-то Романовной,
Да со Федором Ивановым,
Со Иваном-то Ивановым!
Говорит же наш прегрозный царь,
Наш прегрозный царь Иван Васильевич:
— Ах ты старый Никита да Романович!
Что же в речи ты не вчуешься,
Сам ты к речам да не примешься?
Твоего то племничка,
Племничка да крестничка,
Нету Федора во живности.
Говорит же тут Микитушка да в третий раз:
— Здравствуй ты, прегрозный сударь царь Иван
Васильевич,
Со своей да любимой семьей А со Марфой-то Романовной,
Да со Федором Ивановым,
Со Иваном-то Ивановым!
Мутно его око помутилоси,
Царско его сердце розгорелоси.
Отвечае тут прегрозный царь Иван Васильевич:
— Ах ты старый пес Микитушка Романович!
Надо мною знать, Микита, надсмехаешься?
Выдем от великодённыи заутрены —
Прикажу теби Микита голову срубить.
Тяжелешенько тут царь да поросплакалсяз
— По ворах да по разбойничках Е заступнички да заборонщички.
'По моем рожоноём по дитятки Не было нунь да заступушки,
Ни заступушки ни заборонушки!
Говорит же тут Микитушка Романович:
— А бывает ли тут грешному прощеньицо?
— А бывает тут да грешному прощеньицо.
Того грешнаго да негде взять.
Говорит было Микитушка во другой раз:
— А бывает ли тут грешному прощеньицо?
— А бывает тут да грешному прощеньицо,
Того грешнаго да негде взять.
Говорит же тут Микитушка да в третий разз
— А прости-тко того грешнаго!
— Того грешнаго нунь бог простит,
Того грешнаго нунь негде взять.
Отвечает тут Микитушка Романович:
— Ай прегрозный сударь царь Иван Васильевич! Не отрублена да Федору да буйна голова,
А отрублена Малютке да Шкурлатову За него поступки неумильнии,
Да зачим же иде казнить царский род:
Царский род на казени не казнится.
Говорит же наш прегрозный царь,
Наш прегрозный сударь царь Иван Васильевич}
— Ах ты старый Микитушка Романович,
Ай да шурин да любимый!
Что теби Микитушка пожаловать?
Города ли теби дать да <с> пригородками,
Али села дать да со приселками,
Али силушки тобе-ка-ва по надобью,
Али золотой казны тобе-ка-ва по надобью,
Али добрых комоней тобе-ка-ва по надобью? Отвечает тут Микитушка Романович:
— Не надо мне-ка городов да с пригородками,
Не надо мне-ка сел да со приселками,
Мне-ка силушки по надобью,
Золотой казны по надобью,
Добрых комоней по надобью:
Золота казна, у молодца не держится,
Добра комони у молодца не ездятся.
Дай-ко мне Микитину да отчину:
11—3311
805
Хоть коня угони, хоть жену уведи,
Хоть каку ни е победушку да сделай ли,
Да в Микитину да отчину уйди,
Того добраго же молодца да бог простил.— А й прегрозный царь Иван Васильевич Дал Микитину да отчину,
ГОРЕ
А й батюшка у матушки Как жил-то молодец да он во дрокушке,
А он ел сладко да и носил красно,
А й носил красно да работал лёкко.
Похотелось тут дородню добру молодцю Да й сходит ёму на чужу на сторонушку,
Посмотреть людей да показать собя.
Да ён делал-то одёжицу хорошеньку,
А он шил собе да кунью шубоньку,
По подолу он строчил ю чистым серебром,
По рукавчикам да й окол ворота Строчил шубоньку да красным золотом;
Ворот шил-то в шубки выше головы,
Спереду-то не видать личка румянаго,
Из-заду не видно шеи белою;
На головушку-ту шапочку он шил да соболиную, Дорогих-то соболей заморьскиих,
А й кушачик опоясал он шелковенькой,
Да й перщаточки на ручки с чистым серебром,
Да й сапоженьки на ноженьки сафьянный:
Вокруг носика-то носа яицём кати,
По пяту под пяту воробей лети;
А он денежек-тых взял на пятьдесят рублей, Пятьедесят рублей-то взял ён со полтинкою,
Да й пошол-то ён на чужую на дальну на сторонушку, Приходил-то он ко городу ко чужому,
Тут сустигла молодца да ночка тёмная,
Да й не знает он куды да приютитися,
Город чуж, люди ему незнаемы.
А й пришол-то ён к царевоему к кабаку;
Еще тут-то молодец да запечалился,
Еще тут-то молодец да й закручинился,
Приклонил буйну головушку к сырой земли,
906
Ясны очушки втопил он во сыру землю*
Из того царевого из кабака Выходило бабищо курвяжищо,
Да й турыжна бабищо ярыжная,
А й станом ровна да и лицём бела,
У ней кровь в лици да как у заяца,
Во лици ягодици как цвету макова.
Она стала вокруг молодца похаживать:
— Ты чого стоишь кручинен, доброй молодец?
Ты чого стоишь печален, доброй молодец?
То ли город тоби чуж, люди незнаемы.
Да й не знаешь ты куда да приютитися?
Ты поди-тко молодец да й во царев кабак,
Выпей рюмочку вина зеленаго,
Да и тут ты молодец да раскуражишься,
Тут пойдешь по городу похаживать,
Да й будешь по чужому погуливать,
Да чужих людей да познавать будёшь.
Ен послушал бабища курвяжища,
Да й турыжной бабища ярыжною;
Заходил-то молодец ён во царев кабак,
Выпил рюмочку вина зеленого,
Выпил рюмочку да еще другую,
Испивал-то он да й третью рюмочку,
А и тут-то молодец да й роскуражился,
А он бабищой турыжной позабавился.
Так он денежок-тых пропил пятьдесят рублей, Пятьдесят рублей он пропил со полтинкою,
Обвалился молодец тут на царев кабак.
Подошли-то к нему голюшки кабацныи И отпоясали кушачик семишолковый,
А й то сняли с нёго шубоньку-ту куньюю,
А й с головушки шапочку-ту сняли соболиную,
С ручок сняли то перщаточки да с чистым серебром, Да й сапоженьки розули с ног сафьянный,
А й лапотики обули ёму липовы,
Да й рогозаньку надели ёму липову,
Да й поношену да тую брошену,
На головушку колпак надели липовой,
Да й поношеной да тот и брошеной.
Пробудился молодец да ён от крепка сна,
Да й от крепка сна от молодецкаго,
Пороскинул он свои да ясны очушки,
А вся снята-то одёжа дрогоценная,
307
А й надето-то одёженько всё липово.
Тут сидит-то молодец да запечаливши,
Тут сидит-то молодец да й закручинивши,
Ен повесил свою буйную головушку Да й на правую он на сторонушку,
Ясны очушки втопил ён во кирпичной мост» Подошла-то к нёму бабищо курвяжищо,
Да й турыжно бабищо ярыжное,
То станом ровна да и лицём бела,
У ней кровь в тшци быдто у заяца,
Во лици ягодици-то цвету макова.
Подносила к нему чару зелена вина:
— Ты удаленькой дороднёй доброй молодец!
Да испей-ко чару зелена вина,
Тоби полно добру молодцю печалиться,
Тоби полно добру молодцю кручиниться.
Выпил рюмочку вина зеленаго,
А и тут-то молодец ён роскуражился,
Выходил-то молодец с царева кабака,
Ен пошол ходить по городу по чужому,
Да он стал-то познавать да он чужих людей. Проходил ён целой день с утра й до вечера,
Ен зашол к хозяину к басонщичку,
Он задался во работушку в басонскую.
Он живёт-то доброй молодец по год поры,
Да й живёт-то доброй молодец другой год,
Да й живёт-то доброй молодец третей год,
Еще денежок ён нажил пятьдесят рублей, Пятьдесят рублей ён нажил со полтинкою.
Сшил он соби шубоньку-ту куньюю,
По подолу он строчил ю чистым серебром,
По рукавчикам да й окол ворота Строчил шубоньку да красным золотом;
; Ворот шил-то в шубки выше головы,
Спереду-то не видать личка румяного,
Из-заду не видно шеи белою;
На головушку-ту шапочку он шил да соболиную, Дорогих-то соболей заморьскиих,
Он кушачик-от купил да семишолковый,
Он сапожки сшил соби сафьянный:
Вокруг носика-то носа яицём кати,
А й то под пяту воробей летит.
Он пошол ходить по городу по чужому,
Он ходил гулял да день до вечера,
308
Да й сустигла молодца да ночка темная,
Ен не знает да куды да приютитися, Подходил-то ён к царевоёму к кабаку, Припечаливши стоит он прикручинивши, Приклонил свою головушку к сырой земли, Ясны очушки втопил он во сыру землю.
Со того ли кабака да со цареваго Выходило бабищо курвяжищо.
Она стала вокруг молодця похаживать, Говорила-то й она да таковы слова:
— Ты чого стоишь печален доброй молодец? Ты чого стоишь кручинен доброй молодец?
То ли город чуж тоби, люди незнаемы,
Да й не знаешь ты куда да приютитися?
Да й поди-тко молодец да й во царев кабак,
А й ты рюмочку-ту выпей зелена вита,
Еще тут ты молодец да роскуражишься, Будешь познавать ты чужа города, Познавать-то будешь ты чужих людей.
Ен послушал бабища курвяжища,
Да й турыжной бабища ярыжною.
Заходил-то молодец ён во царев кабак,
Выпил рюмочку вина зеленого,
Выпил молодец да то и другую,
Выпил молодец да еще й третьюю,
Еще тут-то молодец да роскуражился,
Да он денежек-тых пропил пятьдесят рублей, Пятьдесят рублей он пропил со полтиною. Обвалился молодец ён на царев кабак. Подошли-то к нему голюшки кабацныи, Отпоясали кушачик семишолковый,
Да то сняли с него куньюю-ту шубоньку,
Сняли шапочку да соболиную,
Да й перщаточки-ты сняли с чистым серебром, Да й сапожки-ты розули с ног сафьянный. Пробудился молодец от крепка сна, Пороскинул он свои да ясны очушки,
То ведь снята вся одёжа дрогоценная,
А й одёжица одета-то всё лилова,
Да й поношена да тая брошена.
Запечалился ён закручинился,
Да й повесил свою буйную головушку,
Ясны очушки втопил ён во кирпичной мост. Подошло-то к нёму бабищо курвяжищо,
309
Ай станом ровна да и лицём бела,
Да то кровь в лици быдто у заяца,
В лици ягодици-то цвету макова.
Подносила к нёму чару зелена вина:
— Ты удаленькой дороднёй доброй молодец!
Да испей-ко чару зелена вина,
А ’ще тут-то молодец ты роскуражишься.
Тут удаленькой дородний доброй молодец Испивал он чару зелена вина,
Выходил-то молодец с царева кабака,
Ен пошол ходить по городу по чужому,
Да он сгал-то познавать да он чужих людей. Проходил ён целой день с утра й до вечера,
Ен зашол к хозяину к басонщичку,
Он задался во роботушку в басонскую.
Он живёт-то доброй молодец по год поры,
Да й живёт-то доброй молодец другой год,
Да й живёт-то доброй молодец по третей год, Еще денежок ён нажил пятьдесят рублей, Пятьдесят рублей ён нажил со полтинкою,
Сшил он соби шубоньку-ту куньюю,
По подолу он строчил ю чистым серебром,
По рукавчикам да й окол ворота Строчил шубоньку да красным золотом;
Ворот шил-то в шубки выше головы,
Спереду-то не видать личка румянаго,
Из-заду не видно шеи белою;
На головушку-ту шапочку он шил да соболиную, Дорогих-то соболей заморьскиих,
Он кушачик-от купил да семишолковый,
Он сапожки сшил соби сафьянный:
Вокруг носика-то носа яицём кати,
А й под пяту воробей летит.
Он пошол ходить по городу по чужому,
Он ходил гулял да день до вечера,
Да й сустигла молодца да ночка темная.
Ен не знает да куды да приютитися,
Подходил-то ён к царевоёму к кабаку, Припечаливши стоит он прикручинивши, Приклонил свою головушку к сырой земли,
Ясны очушки втопил он во сыру землю.
Со того ли кабака да со цареваго Выходило бабищо курвяжищо,
Она стала вокруг молодця похаживать,
310
Говорила-то й она да таковы слова:
— Ты чого стоишь печален, доброй молодец? Ты чого стоишь кручинен, доброй молодец?
То ли город чуж тоби, люди незнаемы,
Да й не знаешь ты куда да приютитися?
Да й поди-тко молодец да й во царев кабак,
А й ты рюмочку-ту выпей зелена вина,
Еще тут ты молодец да роскуражишься, Будешь познавать ты чужа города, Познавать-то будешь ты чужих людей,
Ен послушал бабища курвяжища,
Да й турыжной бабища ярыжною.
Заходил-то молодец ён во царев кабак,
Выпил рюмочку вина зеленого,
Выпил молодец да то и другую,
Выпил молодец да еще й третьюю,
Еще тут-то молодец да роскуражился,
Да он денежек-тых пропил пятьдесят рублей, Пятьдесят рублей он пропил со полтиною. Обвалился молодец ён на царев кабак. Подошли-то к нему голюшки кабацкыи, Отпоясали кушачик семишолковый,
Да то сняли с него кунью-ту шубоньку,
Сняли шапочку да соболиную,
Да й перщаточки-ты сняли с чистым серебром, Да й сапожки-ты розули с ног сафьянный. Пробудился молодец от крепка сна, Пороскинул он свои да ясны очушки,
То ведь снята вся одёжа дрогоценная,
А й одёжица одета-то всё липова,
Да й поношена да тая брошена.
Запечалился ён закручинился,
Да й повесил свою буйную головушку,
Ясны очушки втопил ён во кирпичный мост. Подошло-то к нёму бабищо курвяжищо,
Ай станом ровна да и лицём бела,
У ней кровь в лици быдто у заяца,
Во лици ягодици-то цвету макова;
Подносила к нёму чару зелена вина:
— Ты удаленькой дороднёй доброй молодец! Да испей-ко чару зелена вина.
Испивал-то молодец он чару зелена вина, Выходил ён с кабака да й со цареваго, Обвернулся доброй молодец серым волком,
311
Побежал-то он от Горюшка в чисто поле,
А и Горюшко, за ним собакою.
Обвернулся-то да й доброй молодец,
Полетел-то он да ясным соколом,
Горюшко вслед за ним черным вороном...
А и тут-то доброй молодец приставился.
Да свезли-то на могилу на родительску,
Положили добра молодца в сыру землю,
Прибегало тут да к нёму Горюшко,
Прибегало Горе, об нем плакало:
— Ай хорош ты был удаленькой дороднёй молодец! Я топерь пойду во славну в каменну Москву,
У меня там есть еще лучши тобя.
МОЛОДЕЦ И РЕКА СМОРОДИНА
А бог молодца-то не милуё,
И государь его царь не жалуё,
И нет ни чести ему, похвальбы молодецкие, Да друзья, братья, товарищи Те на совет не съезжаются,
Да женил молодца родной батюшко,
Да на чужой-то дальней сторонушки.
Да брал-де он ему молоду жену,
Да брал за женой приданого Три, три чернёиыих карабля:
Да первой-от гружон черён корабь Был златом и серебром,
А*другой-от гружон черён корабь Все скатниим жемчугом,
А третей-от гружон черён корабь Все жениным приданыим.
Тут молодцу-де жена не в любовь пришла, Не в любовь-де пришла ему, не по разуму, Брал молодец себе он коня доброго,
Да брал себе он седёлко черкальское,
Да брал себе уздицю точмяную,
Да брал себе в руки плетку шелковую.
Сам говорил таково слово:
— Лучше мне доброй конь злата и серебра. Лучше мне седёлко, уздица точмяная, Лучше всево женина приданого.
312
Да лучше мне-ка плетка шелковая,
Да лучше-то мне буде молодой жены.
Шол да сковал себе два товарища два надейные, Два ножа он сковал два булатние,
Он садился ведь на добра коня,
Сам поезжал на чужую на дальню на сторону.
Да ли ехал он путём ли дорожкою,
Где-ка было на пути на дороги широкие Текла быстрая речка Смородинка.
Было на этой реки на Смородинки Три, три мосточка калиновы:
Да на первом-то река берё на мости Да седёлко с коня окованоё,
Да на другом берё на мости Добра коня наступчива,
А на третьем бере на мости Самово добра молодца.
Он взмолился-де речки Смородинки:
— Ай ты матушка черная речка Смородинка!
Есть ли через тебя, река, переходы-ты узкие,
А переброды-ты мелкие?
Да ответ держит река ему Смородина:
— А й ты удалый дородний добрый молодец!
Есть через меня речку Смородинку,
Есть переходы-ты узкие,
Да и переброды есть мелкие.
А есть три мосточка калиновы:
Я на первом беру на мости С коня седёлко кованое,
А на другом беру на мости Добра коня наступчива,
Я на третьем беру на мости Самово добра молодца.
А ты поезжай-ко, дородний добрый молодец,
Я тебя и так топерь пропущу.
Как переехал молодец через речку Смородинку, Да те ли мосточки калиновы,
Да возговорит молодец неразумну речь:
— Да мне сказали добру молодцу,
Что топерь на пути на дороги широкие
Да текёт черная речка грозна Смородинка.
Да он стал над рекой надсмехатисе,
Да он стал над рекой надрыгатисе:
— Да топерь ли ведь речка Смородина,
313
Будто текёт болотня вода-то со ржавчиной.
Да забыл-то доброй молодец,
За рекой за Смородинкой,
Он забыл два товарища два надейные,
Два ножичка забыл два булатние,
За той рекой за Смородинкой.
Он поехал через речку Смородинку Да по тем по мосточкам калиновым.
Да на первом брала на мости С коня-де седёлко кованое,
А на другом брала на мости Добра коня наступчива,
А на третьем брала на мости Самово добра молодца.
Возмолится удалый дородний добрый молодец Он-де быстрой речки Смородинки:
— А й ты матушка быстрая речка Смородинка! И не губи, не топи добра молодца.
Говорит-де река молодцу,
Говорит-де река человеческим голосом:
— Да не я тебя топлю гублю,
А топит губит похвальба молодца молодецкая.
Только ведь молодец и жив бывал,
Да тому хоробру таковы слава,
И оставалась у его нелюба жена.
МОЛОДЕЦ И КОРОЛЕВНА
Как на соловья не зима бы да не студеная,
Не морозы бы да ведь крещенские,
Не летал бы я соловей по мхам, по болотицам,
И по частыим да наволочищам.
А как на молодца да не служба б государева,
Не наборы ведь солдатские,
Не ходил бы молодец по чужой дальней по сторонушке, А по той по свирской по украине.
Вот пошел молодец из земли в землю,
А зашел молодец к королю в Литву.
•— Ай ты батюшко, да король польский!
Ты прими, молодца, во слуги-рабы,
Во слуги-рабы прими да хоть во конюхи.
Я во конюхах-то жил на цело три годы,
344
Не ходил молодец во царев кабак,
И не пил молодец меду сладкаго,
И не пил молодец пива пьянаго,
Не закусывал да белым сахаром.
Меня бог, добра молодца, миловал,
А король молодца да любил жаловал.
Тут пожаловал молодца во стольнички.
Я во стольничках-то жил да цело три годы, Не ходил молодец во царев кабак,
А не пил молодец меду сладкаго,
И не пил молодец пива пьянаго,
Не закусывал да белым сахаром.
Меня бог добра молодца миловал,
А король молодца да любил жаловал,
А пожаловал то молодца во ключники.
Я во ключниках-то жил да цело три годы, Не ходил молодец во царев кабак,
А не пил молодец меду сладкаго,
И не пил молодец пива пьянаго,
Не закусывал да белым сахаром.
Как у того короля политовскаго Была дочь Настасья красивая.
— Государь-то мой да король батюшко!
Ты дай-ко мне к кровати кроватничка.
Испроговорит король политовскии:
— Выбирай себе к кровати кроватничка: Хоть из князей-то иль из бояров,
Иль из сильных могучих богатырей,
Или из тех ли поганых татаринов.
Испроговорит Настасья королевична:
— Мне не надо к кровати кроватничка Мне не с князей-то, не из бояров,
Не из сильныих могучих богатырей,
А ты дай-ко мне к кровати кроватничка Своего ты любимого ключничка.
Я в кроватничках жил да цело три годы. Тут зашел молодец во царев кабак,
А напился молодец меду сладкаго,
А напился молодец пива пьянаго,
А он сам говорит таково слово:
■— Я служил королю всех двенадцать лета Перво три годы служил я да во конюхах, Друго три годы служил я да во стольниках, Третье три годы служил я да во ключниках,
Четверто три годы служил да во постельничках; Я тисовоей кроваточки не складывал,
Я пуховоей перинки не растряхивал, Круто-складняго зголовьица не складывал, Соболина одеяльца не натягивал,
А я спал-то со Настасьей королевичиой,
А я спал у ей да на правой руки,
Часто я бывал да на белой груди.
Тут схватили удалого молодца,
Повели в тюрьму да богадельнюю.
Через три дни молодцу решеньицо Отрубить-то ему буйна голова.
Испроговорит удалый добрый молодец:
— Ай же вы, палачи политовские!
Вы берите с меня золотой казны,
А вы только берите, сколько надобно,;
Вы ведите меня мимо окошечек королевичныих Закричал удалый добрый молодец:
— Ты прости, прости Настасья королевична!
А ведут меня-то на дощечку да на липову Отрубить-то мне да буйну голову!
Тут проговорит Настасья королевична:
— Ай же вы, палачи политовскии!
Вы спустите сего удалаго молодца.
Вы берите с меня золотой казны,
А вы только берите сколько надобно,
Вы возьмите татарина хоть мертваго,
А хоть мертваго, да еще мерзлаго,
Отрубите ему да буйну голову,
Донесите королю политовскому,
Что за его поступки неумильные А отрублена ему буйна голова.
Тут проговорит Настасья королевична:
— Ай же ты, удалый добрый молодец!
А есть ли дома у тебя отец и мать,
Есть ли у тебя да молода жена,
А есть ли у тебя да малы детушки?
Тут проговорит удалый добрый молодец:
— Есть у меня дома отец и мать,
Есть у меня и молода жена,
Есть у меня и мала детушки!
Тут проговорит Настасья королевична:
— Ты возьми-ко мои золоты ключи,
Отмыкай мои кованы ларцы,
Ты бери себе да золотой казны.
Ты только бери, сколько надобно,
Чтобы было довольно твоим да малым детушкам!
А тут век про Настасью старину скажут, Синему морю на тишину,
Л вам всем добрым людям на послушание,
РЕВНИВЫЙ МУЖ
И женился князь во двенадцать лет, Он ли брал княгину девяти годов,
Он ли жил с княгиной ровно три годы, На четвёртой год он гулять пошол.
Он гулял, гулял да ровно три годы,
На четвёртой год он домой пошол,
И идё он по полю по чистому, Встретилось ёму две старицы,
И две старицы две чёрноризицы,
И спрашиват князь у тех старицей:
— Вы давно ли, давно ли с моего двора, С моего двора с княженецкого?
— Мы топерь, топерь да топерёшенько, С твоего двора с княженецкого.
— А здорово ли стоит мой высок терём, И здорово ли живут добры конюшки,
И здорово ли живут чайны чашечки,
И здорово ли пьяны питьица,
И здорово ли живут и цветны платьица, И здорово ли живёт молода жена?
На ответ-то дёржа и ты старицы:
— Твой высок терём покося стоит, Добры кони да все заезжены,
И чайны чашечки да все испрйбиты,
II пьяны питьица да все испрйпиты, Цветны платьица да все изношены, Молода жена во терему сидит,
Во терему сидит колубёнь качат.
И не синёё-то море всколыбалосе,
У князя сердце разгорелосе.
И приходит князь к своему двору,
К своему двору да княженецкому,
Топне ворота правой ноженкой,
317
Улетели те ворота середи двора,
Середи двора да княженецкого.
Вышла княгина на круто крыльцо,
В одной тоненкой рубашке без нитничка, В одних беленких чулочках без чеботов. Вынимал тут князь востру сабельку,
А срубил у княгины буйну голову.
А во терем-от заходит, колубеня нет, Колубеня нет, всё пяла лежа.
Сколько шито было, вдвое сплакано,
Все князя домоичёк дожидано.
Уж как тут ли князь да закручинился,
И сходил во конюшенку стоялую.
Добры кони не езжены,
Лучше старого да лучше прежнего, Чайны чашечки да не прибитые,
Пьяны питьица да не прилитые,
Цветны платьица да не изношены.
И не синё море всколыбалосе,
А у князя сердце разгорелосе,
И заставал он князь и во чистом поли Этых старицей да чёрноризицей. Вынимает князь и востру сабельку,
Он срубил у стариц буйну голову.
КОММЕНТАРИИ
Первое издание сборника «Онежские былины» было подготовлено самим А. Ф. Гильфердингом, однако в печати оно появилось уже после смерти собирателя — в 1873 г. Второе издание было предпринято Академией наук в 1896 г. Оно вышло в трех томах (первое представляло собой однотомник) под редакцией акад. К. Н. Бестужева-Рюмина. В 1939—1940 гг. вышли в свет второй и третий тома третьего издания, оставшегося незаконченным. Последнее, четвертое издание было осуществлено Институтом русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР в 1949—1951 гг. под редакцией проф. А. М. Астаховой. В настоящем сборнике тексты печатаются по этому изданию.
Наблюдения над живой эпической традицией, репертуаром певцов и их индивидуальным мастерством исполнения былин побудили Гильфердинга отказаться от традиционного (по сюжетам) способа расположения фольклорного материала в своем сборнике. В статье «Олонецкая губерния и ее народные рапсоды» он прямо заявлял: «Я тогда же пришел к убеждению, что собранные былины должны быть, при издании, расположены не по предметам, а по сказителям». Гильфердинг справедливо полагал, что «каждая былина вмещает в себе и наследие предков, и личный вклад певца; но, сверх того, она носит на себе и отпечаток местности».
Известно, что еще П. Н. Рыбников предполагал издать свой сборник не по сюжетам, а по сказителям. В одном из писем к О. Ф. Миллеру он писал: «Всякий, кто хочет познакомиться
вполне с русской былевой поэзией, должен прочесть былины каждого певца вместе. Тут ему представится все, что есть общего и характерного у каждого сказителя, не только народного, но и особного, ради чего певец из океана песен выбрал известную волну былин». Осуществить эту идею Рыбникову не удалось. Десять лет спустя она была блестяще реализована Гильфердингом.
Принцип расположения фольклорного материала по певцам и сказителям с тех пор прочно утвердился в нашей науке. Для целей настоящего издания, однако, он оказался бы менее всего приемлемым. Прежде всего сказители, от которых записывал былины Гильфердинг, говоря его же словами, «далеко не равны по достоинствам». Действительно, наряду с такими одаренными мастерами, как Т. Г. Рябинин, в сборнике Гильфердинга представлены и пев-
319
цы, помнившие одну-две былины. Объем нашего издания, далее, не позволяет охватить, хотя бы в извлечениях, репертуар даже и половины сказителей. Содержащиеся в сборнике Гильфердинга былины в нашем издании располагаются по сюжетам, причем каждый сюжет представлен, как правило, одной былиной. Читатель получает, таким образом, как бы своеобразную антологию русского былевого эпоса, активно бытовавшего на Севере еще в середине прошлого века.
Мы публикуем и знаменитую статью Гильфердинга «Олонецкая губерния и ее народные рапсоды». Нужно думать, ее с интересом встретят не только специалисты (издания, где она перепечатывалась, давно уже стали библиографической редкостью), но и многочисленные любители устного народного творчества. Гильфердинг живо и увлекательно рассказал в этой статье о своей поездке в Олонецкий край, о своих встречах с певцами былин, о тех условиях, в которых ему приходилось работать. С большой теплотой пишет он о простом народе Олонецкого края, народе трудолюбивом и талантливом.
В последнем академическом издании сборника Гильфердинга 1949—1951 гг. тексты былин печатались по ноеой орфографии, но с полным сохранением всех фонетических особенностей текста. В основном была сохранена и старая пунктуация, так как она не очень расходится с современной. Все эти особенности текстов сохраняются и в нашем издании.
Комментарии содержат краткие сведения о сюжете публикуемой былины, основную библиографию вариантов, а также сведения о сказителях, месте и времени записи. Былины публикуются под теми названиями, которые были даны им в сборнике Гильфердинга (в скобках после названия указываются том и порядковый номер былины в сборнике).
Вольга (11, № 91). Записано 3 июля на Леликове (Кижи) от Кузьмы Ивановича Романова. В то время певцу было уже за 80 лет. Слепой с детства, он был воспитан «миром», былины перенял от знаменитого сказителя Ильи Елустафьева. Гильфердинг записал от Романова 7 былин. Записывал от него былины и П. Н. Рыбников.
Былина о Вольге (Волхе Всеславьевиче) — одна из древнейших в русском эпосе. Ее герой — охотник-оборотень. Со своей дружиной Вольга совершает набег на эпическую Турецкую землю (в некоторых вариантах — на Индийское царство, Золотую орду и т. п.) и захватывает богатую добычу. Мотив защиты Киева, по мнению некоторых ученых, является позднейшим. Вар.: Рыбников, I, №38; II, № 146; Марков, № 51; Ончуков, № 84; Соколов-Чичеров, № 48.
Вольга и Микула (II, № 73). Записано 7 июля в дер. ДуткинНаволок (Кижи) от Трофима Григорьевича Рябинина (проверено в Петербурге 4 декабря). Один из самых выдающихся сказителей прошлого века, Трофим Григорьевич является основателем целой династии певцов Рябининых. ГГ Н. Рыбников записал от него 23 былины, Гильфердинг—18. Он родился в дер. Гарницы соседнего с Кижским Сенногубского погоста в конце XVIII в. (во время встречи с Гильфердингом ему было 78 лет). Рябинин очень рано остался сиротой и также рано начал трудовую жизнь. В окрестных деревнях он чинил рыболовные снасти и этим зарабатывал себе на хлеб. Нередко случалось ему работать вместе с Ильей Елустафьевым, от которого он и перенял многие былины. Вторым учителем Рябинина был
320
его дядя Игнатий Иванович Андреев, в дом которого он определился работником в 1812 г. От Андреева Рябинин перенял и публикуемую здесь былину о Вольге и Микуле. После женитьбы Рябинин поселился в доме своего тестя в дер. Середка и стал заниматься хлебопашеством и рыбной ловлей. В конце 1871 г. Отделение этнографии Русского географического общества пригласило Рябинина в Петербург, и Гильфердинг сделал от него повторные записи.
В былине о Вольге и Микуле нашли отражение те социальные отношения, которые сложились на Руси к XV в. Вольга в этой былине не охотник-оборотень, но феодальный князь, направляющийся в свои вотчины за получением дани. Столкновение Вольги с простым пахарем и составляет идейный стержень былины. Основной ее пафос — поэтизация крестьянского Груда. Вар.: Рыбников,
I, № 3, 69, 78; II, № 115, 147; Рябинин-Андреев, № 1; СоколовЧичеров, № 2, 95, 101, 103, 122, 160; Астахова, II, № 130, 140,
154, 187.
Святогор (III, № 273). Записано 14 августа на Кенозере от Петра Яковлевича Меншикова, 52 лет. По словам Гильфердиига, Ментиков выучился былинам частью от отца, частью от товарищей по заработкам.
Былины о Святогоре столь же архаичны, как и былины о Вольге (Волхе). Святогор выступает в них как великан, обладатель исполинской силы, которой, однако, он не находит никакого применения. Передав часть своей силы Илье Муромцу, Святогор погибает. Образ Святогора неоднократно использовался русскими писателями — Н. А. Некрасовым в поэме «Кому на Руси жить хорошо», Г. И. Успенским в очерке «Власть земли» и др. Вар.: Рыбников, I, № 2, 51; II, № 138; Марков, № 61, 66; Григорьев, Г, № 166; II, № 61; III, № 46, 50, 114; Ончуков, № 61; Леонтьев, № 5; Соколов-Чичеров, № 1, 44, 57, 75, 269; Астахова, I, № 5,25.
Добрыня и змей (I, № 59). Записано 28 июля в Шале (Пудога) от Ивана Фепонова, 50 лет. Слепой с 5-летнего возраста, Фепонов в основном пел духовные стихи на ярмарках и в храмовые праздники, зарабатывая этим себе на хлеб. Былинам выучился от слепого калики Петра Степановича Мещанинова, уроженца Каргопольского уезда. П. Н. Рыбников встретил Фепонова на Шунгской ярмарке и записал от него несколько духовных стихов и одну былину.
Сюжет былины о борьбе Добрыни со Змеем — один из самых архаичных в русском эпосе. Публикуемый вариант состоит из двух эпизодов — сражения со Змеем во время купания в Пучайреке и освобождения от Змея «княженецкой дочери» Марфы Всеславьевны (обычно — племянницы князя Владимира Забавы Путятичны). Смысл былины многие исследователи видят в утверждении христианства, его победе над язычеством. Вар.: Киреевский, II, с. 49; Рыбников, I, № 25, 40; Марков, № 5, 73; Григорьев, I, № 87, 114; II, № 57; III, № 66, 104; Ончуков, № 59; Соколов-Чичеров, № 10, 80, 98, 271, 273; Астахова, I, № 60; II, № 133, 148.
Добрыня и Василий Казимиров (II, № 80). Записано 7 июля в дер. Дуткин-Наволок (Кижи) от Трофима Григорьевича Рябинина (проверено в Петербурге 26 ноября). О нем см. в комментарии к былине «Вольга и Микула».
В былине о Добрыне и Василии Казимировиче, отразившей борьбу русского народа с ордынским игом, наиболее полно вырл-
321
жены героические черты Добрыни Никитича. Он не только освобождает Русь от уплаты дани орде, но и самого Батыя делает данником Владимира. Публикуемый вариант представляет собой контаминацию двух былин — «Добрыня и Василий Казимирович» и «Добрыня и Алеша» (см. ниже). Вар.: Киреевский, II, с. 83, 90; Рыбников, I, № 8; Григорьев, III, № 48, 54; Ончуков, № 65; Астахова, II, № 134.
Добрыня и Маринка (I, № 17). Записано 22 июля в дер. Рим на Пудожской Горе (Повенец) от Аксиньи Кузьминишны Фоминой. По словам Гильфердинга, ей в то время было лет 30, слыла она большой мастерицей петь былины и песни, которым выучилась от своей матери.
Былина «Добрыня и Маринка» разрабатывает известный в фольклоре многих народов сюжет о женщине-чародейке, превращающей героев в животных. Вопрос о времени возникновения былины неясен, хотя некоторые исследователи и связывают образ Маринки с личностью Марины Мнишек, по преданию обладавшей колдовскими чарами. В а р.: Киреевский, II, с. 43, 45, 48, 53; Рыбников, И, № 143, 188, 192; Григорьев, III, № 75; Ончуков, № 21, 35; Соколов-Чичеров, № И, 81, 210, 212, 256, 271, 273, 280; Астахова, I, № 7, 17, 61, 73; И, № 113, 186.
Добрыня и Алеша (III, № 206). Записано в августе на Водлозере от Трифона Ивановича Суханова, 70 лет. Былинам выучился от отца, но большую часть из них забыл вследствие «тяжелой рабочей жизни».
Былина «Добрыня и Алеша» — одна из наиболее популярных. Она разрабатывает сюжет о возвращении мужа на свадьбу своей жены, широко распространенный в фольклоре разных народов. В публикуемом варианте Алеша Попович добивается согласия Настасьи Микуличны выйти за него замуж с помощью князя Владимира, что, конечно, смягчает ее вину. О замужестве Настасьи Добрыню извещает его вещий конь (по другим вариантам — вещая птица, иногда Добрыня видит сон и т. п.). Вар.: Киреевский, II, с. 4, 11, 14, 17, 18, 30; Рыбников, I, № 8, 26, 41, 129, 155, 160, 178, 193; Марков, № 6, 62; Григорьев, I, № 3, 19, 52; II, № 16, 35, 38, 82, 89; III, Кb 1, 49, 57, 67, 83, 97, 105, 119; Ончуков, №95; Соколовы, с. 301; Соколов-Чичеров, № 12, 42, 45, 49, 54, 56, 59, 63, 66, 67, 68, 82, 120 и др.; Астахова, I, № 24, 37; И, № 101, 104, 109, 129, 134, 163, 168, 172, 178, 179, 180, 184.
Илья и Соловей (II, № 74). Записано 8 июля в Кижах от Трофима Григорьевича Рябинина. О нем см. в комментарии к былине «Вольга и Микула».
Былина «Илья и Соловей» — одна из самых распространенных в русском эпосе. Она рассказывает о двух подвигах Ильи Муромца — освобождении Чернигова от вражеских сил и победе над Соловьем-разбойником. Первый подвиг Ильи глубоко патриотичен. Богатырь избавляет черниговцев от вражеского разорения и едет в Киев охранять русскую землю. Победив Соловья-разбойника, Илья освобождает прямоезжую дорогу на Киев. Что означает, однако, образ Соловья-разбойника, неясно. Наиболее убедительной представляется та точка зрения, согласно которой Соловей-райбойник — это какое-то зооморфное существо, характерное для более раннего эпоса. В а р.: Киреевский, I, с. 25, 30, 31, 34, 40, 4!, 77; IV, с. I; Рыбников, I, № 4, 61, 82; И, № 103, 116, 170, 191; Марков, № 68, 107; Григорьев, I, № 38; II, № 12, 36, 52, 73, 85; III, № 8; Соколовы, с. 306; Соко¬
322
лов-Чичеров, № 3, 53, 55, 61, 96, 104, 107, 130, 169, 170, 184, 193, 196, 199, 255; Астахова, I, № 1, 28, 32, 39, 48, 80, 95; II, № 122, 131, 141, 192.
Илья Муромец и Идолище (II, № 144). Записано 5 июля на Леликове (Кижи) от Николая Филипповича Дутикова, 50 лет. Былинам выучился от Конона с Зяблых-Нив. Был известен П. Н. Рыбникову.
Былина «Илья Муромец и Идолище» разрабатывает один из самых популярных сюжетов русского героического эпоса. В публикуемом варианте действие приурочено к Киеву (в некоторых вариантах— к Царьграду). Илья, переодевшись в одежду калики, едет в Киев и спасает Владимира от Идолища. По мнению некоторых исследователей, былина символически изображает столкновения христианской и иноверческой культур. В а р:. Киреевский, I, с. XXI, XXXIV; IV, с 18, 22; Рыбников, I, № 6, 24, 62; II, № 118, 140; Марков, № 43; Григорьев, I, № 90, 112; III, № 19; Ончуков, № 20; Соколов-Чичеров, № 6, 248; Астахова, I, № 78; II, № 124.
Илья Муромец и сын его (III, № 219). Записано 12 августа в дер. Немятовой на Кенозере от Сивцева (Поромского) Ивана Павловича, 65 лет. Былинам выучился от своего отца и от стариков в Плесском погосте, что у впадения Кены у Онегу-реку. Гильфердинг записал от него семь , былин. Былины Сивцева (Поромского) отличаются большой полнотой.
Былина «Илья Муромец и сын его» разрабатывает известный в фольклоре многих народов сюжет о бое отца с неузнанным сыном. Сюжет этот очень древний, но былина сложйлась, конечно, позднее — в период Киевской Руси. Вар.: Киреевский, I, с. 7, 11, 46, 52; IV, с. 6, 12; Рыбников, I, № 80; II, № 117, 177; Марков, № 4, 70, 94; Григорьев, I, № 2, 5, 8, 26, 129; II, № 76, 87; III, № 4, 16, 32, 42, 60, 64, 85, 88, 92, 113; Ончуков, № 1, 6; РябининАндреев, № 3; Леонтьев, № 3; Соколов-Чичеров, № 4, 175, 247; Астахова, I, № 2, 11, 20, 40, 57, 70, 79, 87.
Илья Муромец и дочь его (II, № 77). Записано 6 июля в Кижах от Трофима Григорьевича Рябинина. О нем см. в комментарии к былине «Вольга и Микула».
Уникальный вариант предыдущей былины.
Илья Муромец и Калин царь (I, № 57). Записано 29 июля в Шале (Пудога) от Ивана Фепонова. О нем. см. в комментарии к былине «Добрыня и змей».
Одна из распространенных героических былин. В публикуемом варианте плененного Илью освобождает его вещий конь. В а р.: Киреевский, I, с. 56, 70; IV, с. 38; Рыбников, II, № 141, 205; Марков, № 2; Григорьев, I, № 111; II, № 55; III, № 111; Ончуков, № 2, Леонтьев, № 6; Астахова, I, № 12, 33, 44, 86; II, № 100,
123, 132.
Илья в ссоре с Владимиром (I, № 47). Записано 26 июля на Марнаволоке (Пудога) от Никифора Прохорова. Прохоров, которому в то время был 51 год, выучился петь былины от своего отца. Публикуемый вариант был' записан от сказителя дважды — Рыбниковым и Гильфердингом. Запись Гильфердинга более полная.
В былинах о ссоре Ильи Муромца с князем Владимиром нашли отражение массовые антикрепостнические движения, особенно усилившиеся в XVII в. В публикуемом варианте ссора происходит изза того, что Владимир не приглашает Илью на званый пир. Оскорбленный Илья устраивает свой пир, на который созывает голь
323
кабацкую. В конце былины происходит примирение Ильи с Владимиром. Вар.: Киреевский, IV, с. 46, 49; Рыбников, II, № 119; Соколов-Чичеров, № 78.
Илья Муромец и голи кабацкие (III, № 239). Записано И августа на Кенозере от Михаила Ивановича Тряпицына, 58 лет. Тряпицын перенял былины от отца и деда. В свое время для Рыбникова записал от него несколько былин местный фельдшер.
Былина «Илья Муромец и голи кабацкие» разрабатывает ту же тему о ссоре Ильи с Владимиром, что и предыдущая былина. Илья в ней остается верен себе — расплатившись с Владимиром за зелено вино, он идет на заставу богатырскую охранять русскую землю. Вар.: Григорьев, II, № 28; III,№51; Ончуков, № 62; СоколовЧичеров, № 203, 232.
Три поездки Ильи Муромца (III, № 221). Записано 11 августа в дер. Немятовой на Кенозере от Сивцева (Поромского) Ивана Павловича. О нем см. в комментарии к былине «Илья Муромец и сын его».
Былина «Три поездки Ильи Муромца» позднего происхождения. Обычно она содержит в себе три эпизода: Илья встречается с разбойниками, с девицей и Илья находит клад. Первый эпизод встречается в виде отдельной былины. Вар.: Киреевский, I, с. 86; Рыбников, И, № ПО, 128, 142, 154, 165, 176; Марков, № I; Григорьев, I, № 21, 32; II, № 92; III, № 56; Соколов-Чичеров, № 7, 209, 211, 231, 237, 261, 269; Астахова, I, № 13.
Алеша Попович и Тугарин-змей (II, № 99). Записано 6 июля в Кижах от Терентия Иевича Иевлева. Внук Ильи Елустафьева, Иевлев в детстве перенял от знаменитого сказителя несколько былин, но со временем многое позабыл. Был известен и П. Н. Рыбникову.
Публикуемый текст — краткий вариант широко распространенной героической былины о поединке богатыря Алеши Поповича с насильником-кочевником. Некоторые исследователи образ Тугарина связывали с исторической личностью — половецким ханом XI в. Тугорканом, дочь которого была замужем за князем Святополком Изяславичем. В а р.: Киреевский, II, с. 70; Рыбников, I, № 27;
Марков, № 47; Григорьев, I, № 43, 50, 212; Ончуков, № 64, 85; Соколовы, с. 301; Астахова, II, № 125, 198, 212.
Дунай (II, № 81). Записано 8 июля в Кижах от Трофима Григорьевича Рябинина. О нем см. в комментарии к былине «Вольга и Микула».
Былины о Дунае относятся к числу наиболее популярных. Публикуемый вариант разрабатывает тему добывания невесты, но он осложнен другими мотивами, органически связанными с главной темой,— женитьбой самого Дуная и его трагической смертью. Вариант Рябинина — один из лучших, художественно законченных. В а р.: Киреевский, III, с. 52, 56, 58, 70; Рыбников, I, № 9, 23, 42, 70, 83; Марков, № 9, 10, 75, 109; Григорьев, I, № 37, 63; II, № 5, 8, 15, 33, 70, 72, 85; III, № 5, 41, 58, 63, 73, 80, 94, 99, 116; Ончуков, № 45, 86; Соколовы, с. 305; Соколов-Чичеров, № 79, 112, 116, 119, 132, 149, 214; Астахова, I, № 3, 18, 27, 34, 38, 41, 45, 46, 65, 72, 76, 85; II, № 106, ПО, 158, 164, 185.
Дюк (III, № 225). Записано 11 и 12 августа на Кенозере (дер. Немятова) от Ивана Павловича Сивцева (Поромского). О нем см. в комментарии к былине «Илья Муромец и сын его».
324
Былины о Дюкс Степановиче очень популярны и широко распространены. Их герой — боярин, обладающий несметным богатством. Оно так велико, что посол князя Владимира даже не в состоянии его описать. Былины о Дюке, по-видимому, позднего происхождения. По мнению некоторых исследователей, в них нашел отражение боярский быт XVI—XVII веков. В а р.: Киреевский, III, с. 100, 101; Рыбников, I, № 29, 63; II, № 106, 130, 131, 144, 172, 181, 184, 197, 202, 216; Марков, № 15, 101, 113; Григорьев, II, № 18, 51, 54, 83, 90; Ончуков, № 24; Соколов-Чичеров, № 21, 71, 88, 105, 109, 163, 168, 176, 188, 207, 216, 251, 274; Астахова, I, № 30, 71, 90; II. № 142, 149, 175, 182.
Молодость Чурилы (III, № 229). Записано 14 августа на Ке* позере от Петра Андреевича Воинова, 59 лет. Петь былины он выучился от Павла Семеновича Сивцева (отца сказителя Ивана Павловича) и старика Захара Андреева. Воинов долгое время служил в артельщиках в Петербурге, участвовал в Крымской войне. Гильфердинг писал о нем: «Петр Воинов поет очень приятным голосом и складно; замечательно при этом, что былины у него не подверглись искажениям, которых можно было бы ожидать от обстоятельств его жизни».
Герой былины Чурила Пленкович — хозяин богатейшего поместья под Киевом. Он возглавляет дружину, набеги которой приносят немало бед киевским мужикам. Князь Владимир едет «дать правой суд» Чуриле, но до этого дело не доходит. Чурила одаривает князей и мужиков дорогими подарками (в других вариантах Владимир приглашает Чурилу к себе на службу). В описании теремов Чурилы и одежды его слуг исследователи видят отражение боярского быта XVI в. В а р.: Киреевский, IV, с. 78, 86; Рыбников, II, № 168, 179; Соколов-Чичеров, № 204, 243, 252.
Смерть Чурилы (III, № 224). Записано 12 августа в дер. Немятовой на Кенозере от Ивана Павловича Сивцева (Поромского). О нем см. в комментарии к былине «Илья Муромец и сын его».
Былина «Смерть Чурилы» является как бы продолжением предыдущей. Она в трагическом плане разрабатывает бытовую тему о неверной жене. Вар.: Киреевский, IV, с. 87; Рыбников, I, № 84, 90; II, № 162, 180, 201, 204; Марков, № 19, 87, 103; Григорьев, I, № 45; II, № 25, 56; III, № 7, 13; Ончуков, № 25, 69; Рябинин-Андреев, № 8; Соколов-Чичеров, № 22, 51, 52, 89, 117, 129, 151, 165, 205, 234; Астахова, I, № 6, 16, 55, 75, 97; II, № 105, 111, 137, 167, 170, 171.
Соловей Будимирович (III, № 199). Записано 7 августа в дер. Кургановолок на Водлозере от Ивана Григорьевича Захарова, 82 лет. Во время' многочисленных поездок по деревням для покупки и перепродажи рыбы, дичи и скота Захаров выучился петь былины, но ко времени встречи с Гильфердингом многое забыл.
В былине о Соловье Будимировиче древний сюжет о добывании невесты разрабатывается в чисто бытовом плане и не сопровождается никакими героическими подвигами. Былина испытала на себе влияние народных сказок (постройка теремов) и свадебной поэзии. Вар.: Киреевский, IV, с. 99; Рыбников, II, № 123, 132, 149, 163, 173; Марков, № 65; Григорьев, I, № 34, 124; III, № 27; Ончуков, № 8; Соколов-Чичеров, № 19, 40, 73, 86; Астахова, I, №67.
Сорок калик (II, № 96). Записано 4 июля на Леликове (Кижи) от Кузьмы Ивановича Романова. О нем см. в комментарии к былине «Вольга»,
325
Былина «Сорок калик» по содержанию представляет собой скорее духовный стих, источники которого исследователи видят в новгородских преданиях XII в. о паломничестве в Иерусалим. Смысл былины в пафосе нравственной чистоты предводителя калик Фомы Ивановича (по другим вариантам — Касьяна), поэтизации его мученического подвига. В а р.: Киреевский, III, с. 81, 84, 90; Рыбников, I, № 13, 43; Марков, №'22, 82, 96, 105; Григорьев, I, № 41; III, № 9; Ончуков, № 47; Сокслов-Чичеров, № 24; Астахова, I, № 4, 62, 99.
Ставер (И, № 140). Записано 4 июля на Леликове (Кижи) от Домны Васильевны Суриковой, 40 лет. Петь былины выучилась от стариков, в том числе от Конона с Зяблых-Нив.
Былина о Ставре Годиновиче разрабатывает международный сказочный сюжет о жене, которая хитростью спасает своего мужа. В столкновении с князем Владимиром жена Ставра выходит победительницей благодаря смелости, уму и находчивости. Некоторые исследователи видят в основе былины исторический факт — заточение Владимиром Мономахом новгородского сотского Ставра в 1118 г. Вар.: Киреевский, IV, с. 59; Рыбников, I, № 14, 30, 75; II, № 133, 167, 171; Григорьев, III, № 34; Рябинин-Андреев, № 6; Соколов-Чичеров, № 23, 43, 72, 90, ПО, 135, 166, 173, 191; Астахова, I, № 35; II, № 136, 151, 159, 161, 166.
Иван Годинович (I, № 51). Записано 27 июля на Марнаволоке (Пудога) от Никифора Прохорова. О нем см. в комментарии к былине «Илья в ссоре с Владимиром».
Былина «Иван Годинович» довольно раннего происхождения. Она разрабатывает известный уже нам сюжет о сватовстве. В публикуемом варианте Иван едет за невестой один, берет ее силой и по пути в Киев сражается с царем Кощегом. Трагическая развязка былины подчеркивает отрицательное отношение к вероломству его невесты. В а р.: Киреевский, III, с. 9, 20; Рыбников, I, № 10, 93; II, № 122, 145, 195; Марков, № 14, 78; Григорьев, I, № 170; III, № 71, ПО; Ончуков, № 80; Соколов-Чичеров, № 28, 41, 65, 200, 257; Астахова, I, № 29, 43.
Хотен Блудович (II, № 84). Записано 25 ноября в Петербурге от Трофима Григорьевича Рябинина. О нем см. в комментарии к былине «Вольга и Микула».
Былина «Хотен Блудович» позднего происхождения. В ней также разрабатывается тема сватовства, однако смысл былины заключается прежде всего в социальном характере конфликта: вдова купца отказывается выдать свою дочь за Хотена потому, что он беден. Вар.: Киреевский, IV, с. 68, 72; Рыбников, I, № 15, 44, 53, 85; II, № 105, 207; Марков, № 20; Григорьев, III, № 2, 69; Ончуков, № 9, 46; Соколов-Чичеров, № 46; Астахова, I, № 98.
Сухман (1, № 63). Записано 31 июля в Пудоже от Потапа Трофимовича Антонова. Во время встречи с Гильфердингом ему было под 70 лет. Он выучился петь былины от своего деда. Местный исправник записывал от него былины для П. Н. Рыбникова, в сборнике которого Антонов ошибочно назван Потапом Потахиным.
Былина о Сухмане довольно редкая. Время ее создания недостаточно выяснено. В основе былины лежит конфликт богатыря с князем Владимиром, который не верит рассказу Сухмана о победе над татарами. Вар.: Рыбников, II, № 148; Марков, № 11; Соколов-Чичеров, № 15, 69, 84.
826
Данило Игнатьевич (II, № 192). Записано 15 июля в Выгозере от Елены Алексеевны, по прозванию Лисица. Во время встречи с Гильфердингом ей было под 60 лет. Она знала множество свадебных песен, причитаний, заговоров и т. п.
Былина «Данило Игнатьевич» позднего происхождения. Героем ее выступает малолетний богатырь Иван Данилович (в других вариантах— Михайло Данилович), побеждающий полчища врагов. Мотив преодоления подкопов, по-видимому, заимствован из былины «Илья Муромец и Калин-царь». Упоминание грозного царя Ивана Васильевича — позднейшая вставка. Вар.: Киреевский, III, с. 39—51; Рыбников, II, № 104; Марков, № 12, 76; Григорьев, II, № 4, 19, 46, 77, 81; III, № 36, 39, 40, 72; Ончуков, № 96.
Василий Игнатьевич и Батыга (I, № 60). Записано 28 июля в Шале (Пудога) от Ивана Фепонова. О нем см. в примечании к былине «Добрыня и змей».
Былина «Василий Игнатьевич и Батыга» позднего происхождения. По мнению некоторых исследователей, в ней нашло отражение конкретное историческое событие — нашествие хана Тохтамыша на Москву в 1382 г. В а р.: Киреевский, II, с. 93; Рыбников, I, № 81; II, № 161, 174, 194, 209; Марков, № 77; Григорьев, I, № 105; Ончуков, № 4, 17, 18, 87, Соколов-Чичеров, № 14, 83; Астахова, I, N2 64, 68, 81, 89; II, N2 181.
Василий Буслаевич (II, № 141). Записано 4 июля на Леликове (Кижи) от Домны Васильевны Суриковой. О ней см. в комментарии к былине «Ставер».
Публикуемый текст представляет собой контаминацию двух былин — о борьбе Василия Буслаева с новгородцами и его паломничестве в Иерусалим. В первой былине нашла отражение та социальная борьба, которая велась в Новгороде между городскими низами и боярской аристократией. Во второй былине Буслаев едет в Иерусалим замаливать свои грехи. Однако во время поездки он совершает ряд кощунственных поступков и погибает. В а р.: Рыбников, I, N2 17; Марков, № 52; Григорьев, I, № 39; III, № 3, 18; Ончуков, № 74; Соколов-Чичеров, № 25, 136, 145, 171, 174, 256, 259; Астахова, I, № 14; II, № 102, 115.
Садко (I, № 70). Записано 1 августа на Сумозере от Андрея Пантелеевича Сорокина, 43 лет. В молодости Сорокин работал на мельнице, где и выучился петь былины* от крестьян из окрестных деревень. ’ Был знаком с П. Н. Рыбниковым.
Публикуемый вариант былины о Садко по праву считается хрестоматийным. Он наиболее полно передает все основные эпизоды былины — Садко дважды бьется об заклад с новгородскими купцами, на дне морском он встречается с морским царем. По мнению исследователей, былина о Садко состоит из ряда разновременных пластов, древнейший из которых — встреча с морским царем. По мотивам былины Н. А. Римский-Корсаков создал оперу «Садко». В а р.: Киреевский, V, с. 34, 41; Рыбников, I, № 54, 66; IIg N2 107, 124, 134; Марков, № 21, 95; Григорьев, II, № 24; Ончуков, № 10, 55, 70, 75, 90; Соколов-Чичеров, № 26, 91, 137; Астахова, I, N2 50, 94.
Михайло Потык (I, № 6). Записано 21 июля в дер. Рим на Пудожской Горе (Повенец) от Петра Лукича Калинина, 43 лет. Портной по профессии, Калинин много ходил по окрестным деревням, где и выучился петь былины. Знал он немало и духовных стихов и сказок. П. Н. Рыбников приглашал Калинина приехать
327
к нему, но тот отказался. Местный писарь записал со слов Калинина две былины, которые и были напечатаны в сборнике Рыбникова под именем Василия Лукина.
Былина о Потыке — одна из наиболее сложных в русском эпосе. В ней соединились различные мотивы — от эпических до сказочных. Былина разрабатывает тему о жене-иноземке, стремящейся погубить мужа — русского богатыря. Архаические черты былины (жена Потыка — колдунья) органически связаны с реалиями былевого эпоса Киевской Руси (Потык состоит на службе у князя Владимира). Вар.: Киреевский, IV, с. 52; Рыбников, I, № 11, 12, 28, 113, 166, 196, 218; Марков, № 8, 74; Григорьев, II, N° 50, 60, 65; III, № 29, 70, 109; Ончуков, N° 57; Соколов-Чичеров, № 20, 87; Астахова, I, № 19; II, № 150.
Королевичи из Крякова (II, № 87). Записано 7 июля в дер. Дуткин-Наволок (Кижи) от Трофима Григорьевича Рябинина. О нем см. в комментарии к былине «Вольга и Микула».
Былина «Королевичи из Крякова» разрабатывает героическую тему борьбы с иноземными захватчиками. Сюжетно она реализуется в случайной встрече двух братьев, узнающих друг друга во время поединка. Вар.: Рыбников, I, № 21; Рябинин-Андреев, ЛЪ 7; Соколов-Чичеров, N° 99, 134; Астахова, II, № 135.
Братья Дородовичи (III, № 247). Записано 13 августа на Кенозере от Александра Давыдовича Костина, 35 лет. Сирота с детства, Костин ходил по миру и «затвердил» несколько былин.
Былина «Братья Дородовичи» примыкает к героическому циклу былин о борьбе с татарским нашествием. Мотив узнавания братьями друг друга встречается и в других былинах. В а р.: Киреевский, II, с. 64—69; Марков, № 7, 93; Григорьев, I, № 45, 47, 49, 61, 64, 68, 82, 92, 137; Ончуков, N° 3.
Рахта Рагнозерский (I, № 11). Записано 26 июля на Марнаволоке (Пудога) от Петра Лукича Калинина. О нем см. в комментарии к былине «Михайло Потык».
«Рахта Рагнозерский» — поздняя былина, возникшая на основе местных преданий. До революции была известна лишь в записи Гильфердинга. Вар.: Соколов-Чичеров, N° 32, 194, 197, 202.
Старина о большом быке (III, № 303). Записано 18 августа в Ошевенском (Кенозеро) от Ефима Яковлевича Завала, 84 лет. В качестве коновала Завал исходил почти всю Россию и на старости лет поселился на родине. По свидетельству Гильфердинга, он мастер рассказывать сказки и шутливые повестушки. Былины перенял от своего отца.
Очень редкая былина-скоморошина. Известна лишь в записях Гильфердинга (см. III, N° 297).
Авдотья Рязаночка (III, № 260). Записано 13 августа на Кенозере от Ивана Михайловича Кропачева (более известного по прозвищу Лядков), 65 лет. Лядков выучился петь былины от своего отца. В конце 50-х и в 60-е годы он был целовальником и в Каргополе встречался с П. Н. Рыбниковым. От тетки-монастырки выучился грамоте и предался чтению церковных книг.
«Авдотья Рязаночка» — очень редкая историческая песня, навеянная воспоминаниями о взятии и разорении Рязани Батыем в 1237 г. В публикуемом варианте речь идет о разорении Казани турецким королем Бахметом, что является, по мнению исследователей, позднейшим переосмыслением песни. Вар.: Рыбников, II,
N° 182; Соколов-Чичеров, N° 219.
328
Щелкан Дудентьевич (III, № 235). Записано 15 августа на Кенозере от Ирины Денисовны Калитиной, 49 лет. Былины переняла от своего отца, который, по ее словам, был также учителем сказителя Петра Воинова.
Редкая историческая песня, в основе которой лежат события, связанные с тверским восстанием 1327 г. против татарского баскака Чолхана (в летописях известен под именем Шевкала или Щелкана). Вар.: Соколов-Чичеров, № 253.
Кострюк (II, № 166). Записано 30 июня на Онеге от Иева Еремеева, 56 лет. Слепой с детства, Еремеев выучился петь былины от своей матери и от стариков.
«Кострюк» — одна из наиболее популярных исторических песен. В ней отразились воспоминания о женитьбе Ивана Грозного на кабардинской княжне Марии Темрюковне (1561). В а р.: Киреевский, VI, с. 106, 109, 114, 121, 125, 129, 132, 138, 143, 150, 156, 161, 163, 165, 167, 168, 170—172, 176, 178, 182, 185; VII, Приложение, с. 51; Рыбников, I, № 73, 95, 96; II, № 109, 157, 185, 210; Марков, № 36, 85; Григорьев, I, № 59, 116, 137, 156; Ончуков, № 77, 91, 98; Соколовы, с. 311; Леонтьев, № 11; Соколов-Чичеров, № 33, 48, 140, 158; Астахова, II, № 107, 116, 183, 209, 213, 217.
Грозный, царь Иван Васильевич (I, № 13). Записано 24 июля в дер. Рим на Пудожской Горе (Повенец) от Петра Лукича Калинина. О нем см. в комментарии к былине «Михайло Потык».
Широко распространенная историческая песня о гневе Грозного на сына. В основе ее лежит, по-видимому, факт убийства Грозным сына Ивана в 1581 г. Некоторые исследователи считают, однако, сюжет песни вымышленным. В а р.: Киреевский, VI, с. 55, 60, 61, 66, 70, 77, 80, 83, 87, 90, 94, 98, 102, 111, 197; Рыбников, I, N° 19, 31, 55, 108, 136; Марков, № 37, 106; Ончуков, Сказки,
N° 125; Соколов-Чичеров, N° 34, 93, ИЗ, 121, 139, 182, 228; Астахова, II, № 153, 160.
Горе (II, № 90). Записано 25 ноября в Петербурге от Трофима Григорьевича Рябинина. О нем см. в комментарии к былине «Вольта и Микула».
Поздняя былина о судьбе доброго молодца, который уходит из дому, терпит лишения и невзгоды и, преследуемый Горем, погибает. На основе былины в середине XVII в. была создана «Повесть о Горе-Злочастии». Вар.: Рыбников, I, № 22, 48, 102; И, № 187; Марков, № 26; Григорьев, III, № 52, 102.
Молодец и река Смородина (111, № 262). Записано 12 августа на Кенозере от Ивана Михайловича Кропачева (Лядкова). О нем см. в комментарии к исторической песне «Авдотья Рязаночка».
«Молодец и река Смородина» — довольно редкая историческая песня, возникшая, как считают исследователи, не раньше XVII в. В центре ее внимания — судьба доброго молодца, который уезжает от нелюбимой жены. Песня осуждает хвастовство героя — насмешливо отозвавшись о реке Смородине, он погибает. В а р.: Киреевский, VII, с. 3, 5; Рыбников, II, № 186; Соколов-Чичеров, № 221.
Молодец и королевна (II, № 162). Записано 20 июля в Чолмужах (Кижи) от Ивана Аникиевича Касьянова, 40 лет. Касьянов — грамотный, петь былины выучился в молодости и знал их довольно много. Перейдя в единоверие, оставил пение и занялся чтением церковных книг.
«Молодец и королевна» — социально-бытовая былина-баллада. Герой ее — неудачливый добрый молодец, которого губит неразумная
329
похвальба. В публикуемом варианте молодец возвращается в свою семью: В а р.: Киреевский, V, с. 164—178; Рыбников, I, № 33; II, № 159; Григорьев, I, № 17; Соколов-Чичеров, № 28, 74, 222, 241.
Ревнивый муж (III, № 253). Записано 15 августа на Кенозере от Филиппа Васильевича Патрикеева, 40 лет. Патрикеев пропел Гильфердиигу лишь две былины, которым выучился у своей матери.
Распространенная былина-баллада об оклеветанной жене. Известны сказочные обработки этого сюжета, но без трагической развязки. В а р.: Киреевский, VII, Прибавление, с. 52; Марков, № 30, 115; Григорьев, I, № 4, 9, 13, 15, 27, 36, 82, 86, 108, 119; III,
№ 82; Ончуков, Сказки, № 74; Астахова, II, № 173, 226, 228.
СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В КОММЕНТАРИЯХ
Астахова — Былины Севера. Подготовка текстов, вступительная статья и комментарий А. М. Астаховой. М. — Л., т. I, 1938; т. II, 1951.
Григорьев — Архангельские былины и исторические песни, собранные А. Д. Григорьевым в 1899—1901 гг. М., т. I, 1904; Прага, т. II, 1939; СПб., т. III, 1910.
Киреевский — Песни, собранные П. В. Киреевским, вып. I—X. М., 1860—1874.
Леонтьев,— Н. П. Леонтьев. Печорский фольклор. Предисловие, редакция и примечания В. М. Сидельникова. Архангельск, 1939.
Марков — Беломорские былины, записанные А. Марковым. С предисловием проф. В. Ф.'Миллера. М., 1901.
Ончуков — Печорские былины. Записал Н. Ончуков. СПб., 1904.
Ончуков. Сказки — Н. Е. Ончуков. Северные сказки (Архангельская и Олонецкая гг.). СПб., 1908.
Рыбников — Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. 2-е изд., под редакцией А. Е. Грузинского. М., т. I—II, 1909, т. III, 1910.
Рябинин-Анд реев — Былины П. И. Рябинина-Андреева. Подготовка текстов, статья и примечания В. Базанова. Петрозаводск, 1941.
Соколовы — Б. и Ю. Соколовы. Сказки и песни Белозерского края. М., 1915.
Соколов-Чичеров — Онежские былины. Подбор былин и научная редакция текстов Ю. М. Соколова. Подготовка текстов к печати, примечания и словарь В. Чичерова. М., 1948.
СЛОВАРЬ МЕСТНЫХ И СТАРИННЫХ СЛОВ
Амбар — помещение для хранения зерна, вещей и пр. Аршин — мера длины, равная 0,711 м
Б а с к и й — красивый Басонщик — изготовляющий басон — тесьму, употребляемую для украшения одежды, мебели
Бесталанный — несчастный, неудачливый
Браная (скатерть) — узорчатая, с узорами Булатный (меч)—из старинной узорчатой азиатской стали
Бурнастый — совсем рыжий Быдто - будто
Вальячный, вольячны й— литой, чеканный, от льяк.ляк, льяло — форма для литья -Вёжество — учтивость, знание приличий, умелое обхождение с людьми Велёи— шашки, шахматы В е р é и — столбы, на которые навешиваются ворота Верста — мера длины, равная 1,06 км
Волжаный (жребий) — сделанный из таволги, растения из семейства розоцветных В особину — особо, отдельно Втапора, втапоры — в ту пору
Выробишься — устанешь
Гоголь — вид утки Г о л у б — голубь Голь — голытьба, беднота Гридня, гридница — помещение при княжеском дворе в Древней Руси, где жила младшая княжеская дружина — гридь
Г у н я —ветхая одежда; армяк, крытый холстом
Г уели — старинный струнный щипковый музыкальный инструмент
Дивиться — удивляться Долгомёрное (копье) - длинное
Д о л 6 н ь — ладонь Дои ij и е — до сих пор Дородный — рослый, плотный; статный, видный Досюлешный — давний Дрань — мука крупного размола
Жаловать — награждать Ж е л у х а — жалость
За беду стало — показалось обидно Заберёга — оборона Задалось — пришлось по вку-
о су
Зазорко — обидно Заколбдела (дорога) — завалена деревьями Замурйветь — зарасти травой
331
3 н а м е т — материя, которой покрывали шубы Зариться — распаляться на что-нибудь, сильно хотеть Застава — сторожевой пост;
преграда на пути Затресье —водоем, покрытый тростником
Заугольщина — внебрачный ребенок
Заутреня — ранняя церковная служба в праздник 3 д р е л — смотрел Здымать — поднимать 3 é л ь е — отрава Зычный — громкий
Ископыть — яма от удара копытом; ком земли из-под копыта
И с т ь — быть, являться
Кабак — заведение низшего разряда в дореволюционной России, в котором продавались спиртные напитки Калёный — стальной К а л й к а — странник, богомолец
К а м к å — шелковая цветная ткань с узорами и разводами Кармазинные (чулки) — ярко-красные, цветные Ключник — тот, кто ведал продовольственными запасами семьи, дома
Колубёнь — колыбель К о р з н й — валежник К о с й ц а — висок Косявчато (окошко) — с косяками
Крестовы й (брат) — названый брат, поменявшийся нательным крестом Крёчень — кречет Крупйвчатый (калач) — крупчатый, из лучшей пшеничной муки
Кряковйстый — кряжистый, угловатый
Купав, хупав (молодец) — чистый, белый, красивый Курвяжищо — от курва,
шельма, стерва
332
Курева — пыль от подымаемого в воздух песка или сухой земли
Лазоревый — яркого густого небесного цвета; лазурный Л й п и н а — дверной или оконный косяк
Матёрый — старый, дородный Медвяный — медовый, сладкий, душистый
М й с а — миска (столовая посуда)
М и т к å л ь (мйткалиная) — сорт хлопчатобумажной ткани, неотделанный ситец Могута — мощь, сила Мурйвленая (печка) — покрытая глазурью Муржамёцкое (копье) — татарское, восточное
Наволок — прибрежный луг На достали — наконец Назолушка — досада Наказывать — наставлять На косу б о д р у — с размаху
Неумйльные (речи)—невежливые, неприятные Но.чёс.ь — в прошедшую ночь Н у н ь — нынче, сейчас
Обгйлиться —посмеяться над кем-либо, над чем-либо Обёдня — церковная служба, совершаемая утром или в первую половину дня Обжи — оглобли у сохи Ободвёрина — косяк у две-
Ри , _
Ова лился — упал Окарачь — на четвереньки Око лен к а — оконная рама Окбленко — уменыи. от слова окно
Омёшек - лемех, лезвие у сохи
Опочив держать — спать О ч ё с л и в ы й — умеющий воздать честь, обходительный Очудйлась — очутилась
Пабедье — время около второго завтрака
Палиц а — тяжелая дубинка с утолщенным концом Перепасться — испугаться Переставиться — умереть Подколенные (князья) — младшие, подвластные, от колено — род, семья Подл ыгаться — издеваться, лгать
Подорожные (мужики) — грабители на дорогах, разбойники
Покляпый — пригнутый книзу
Полимаж (плюмаж) — украшение из перьев на головном уборе, на конской сбруе Посульный — посыльный, посольский
Правёж — взыскание долга истязаниями, насилием Пулу денный — южный » Поля ковать — ездить в поле воевать
Посёлица — поселенье, деревушка
Постёльник — прислужник в спальне
Потник — подстилка под седло
Почёстный (пир)—в честь кого-то или чего-то Пропитомство — пропитание
Пядь, пядень — мера длины, расстояние между большим и указательным пальцами, четверть аршина Пяла — пяльцы Пята двери — нижний шин. На пяту отворить — распахнуть настежь
Ратай — пахарь Рогатина — оружие в виде копья с длинным древком, употреблялась при охоте на медведей
Росстань — перекресток Рушать — резать, есть Рытный (бархат)— пушистый, пышный
С а н т å л — султан
Сафьян — козловая кожа высокого качества
Сённая (девушка) — служанка
Скатный (жемчуг) — крупный, круглый и ровный Скашеваться — собраться Скирда — сложенные по особому способу снопы хлеба для хранения под открытым небом
Скол ыбйться — всколыхнуться, заколебаться (о реке, море)
Скоморовчатый — скомороший
Скурлат — пурпурный, с красным оперением Слухает — слушает Соловый — желтоватой масти -
Споровать — спорить Старица — монахиня Столованьице — званый обед, пир
Стольник — придворный, прислуживающий за княжеским или царским столом Стольный — столичный город Стрёскать (хлеб) — съесть С т р ё т а — встреча Суете гать — настигать Сухоя лова — высохшая Сычёный (мед) — разварной мед на воде
Татавурище — широкий, шитый золотом боярский пояс; пояс священников, монахов Торока — ремни для привязывания к седлу сзади Точмяна (узда) — выстроченная
Тулнться — прятаться Т у л о в о — туловище Т у р ы ж н о й — от слова тур% дикий, бык
У д а т ь — удаль У д 6 в к а — вдова У крятать — упрятать
Фастать — хвастать
Чёботы — башмаки
33*
Человальник, целовальник — должностное лицо по сбору податей; продавец в питейном заведении, кабаке Червлёный, черлёный — темно-красный, багряный Ч é р е н ь — черенок Черкальское (седло) — черкасское, черкесское Честна (вдова)—уважаемая, почитаемая
Чумак — крестьянин, возивший на юг хлеб, а оттуда соль и рыбу для продажи
Ш а л ы г а — плеть, кнут Шемахйнский (шелк) — из Шемахи
1Д а п л и в ы й — щеголеватый
Яровчаты (гусли) — сделанные из явора
Ярыжка — слуга, батрак Ярый воск — чистый, белый Яства — кушанья
СОДЕРЖАНИЕ
335
А. Ф. Гильфердинг — собиратель былин на Севере
А. И. Баландин 5
Олонецкая губерния и ее народные рапсоды.
А. Гильфердинг ....... 20
БЫЛИНЫ
Вольга ,68
Вольга и Микула 73
Святогор 77
Добрыня и змей 79
Добрыня и Василий Казимиров . . . .88
Добрыня и Маринка 111
Добрыня и Алеша 113
Илья и Соловей 123
Илья Муромец и Идолище 129
Илья Муромец и сын его 132
Илья Муромец и дочь его 135
Илья Муромец и Калин царь 143
Илья в ссоре с Владимиром 150
Илья Муромец и голи кабацкие .... 154
Три поездки Ильи Муромца 157
Алеша Попович и Тугарин змей .... 160
Дунай 161
Дюк 172
Молодость Чурилы 185
Смерть Чурилы 192
Соловей Будимирович 195
Сорок калик . 199
Ставер ... 203
Иван Годинович 209
Хотен Блудович 214
Сухман 218
Данило Игнатьевич , 223
Василий Игнатьевич и Батыга .... 227
Василий Буслаевич ....... 231
Садко 237'
Серия «Русский Север»
ОНЕЖСКИЕ БЫЛИНЫ
записанные А. Ф. Гильфердингом летом 1871 года
Редактор А. А. Иванов Оформление художника Р. С. Климова Художественный редактор В. С. Вежливцев Технический редактор И. Б. Буйновская Младший редактор И. И. Гаврилова Корректоры И. К. Галкина, Н, С, Дурасова, В. А, Фокина
Сдано в набор 19.04.82 г. Подписано в печать 14.10.82 г. Формат 84х108/з2. (бум. тип. N? 3). Высокая печать. Литерат. гари. Физ. печ. л. 10,5. Уел. печ. л. 17,64. Уч.-изд. л. 20,436. Тираж 100000. (2-й завод—50000). Заказ 7825. Цена ! р. 70 к.
Северо-Западное книжное издательство,
Вологодское отделение, 160000. Вологда. Уриикого, 2. Областная типография, 160000, г. Вологда, ул. Челюскинцев, 3.
Михайло потык • t s , 5 5 'ib'i
Королевичи из Крякова 274
Братья Дородовичи 281
Рахта Рагнозерский ...... 283
Старина о большом быке . , . . , 28S
Авдотья Рязаночка 291
Щелкан Дудентьевич ...... 294
Кострюк , 297
Грозный царь Иван Васильевич . , 299
Горе , 306
Молодец и река Смородина . * . , 312
Молодец и королевна . . . , . . 314
Ревнивый муж . . . , , • . 317
Комментарии , 319
Сокращения, принятые в комментариях . . 330
Словарь местных и старинных слов , ♦ 331