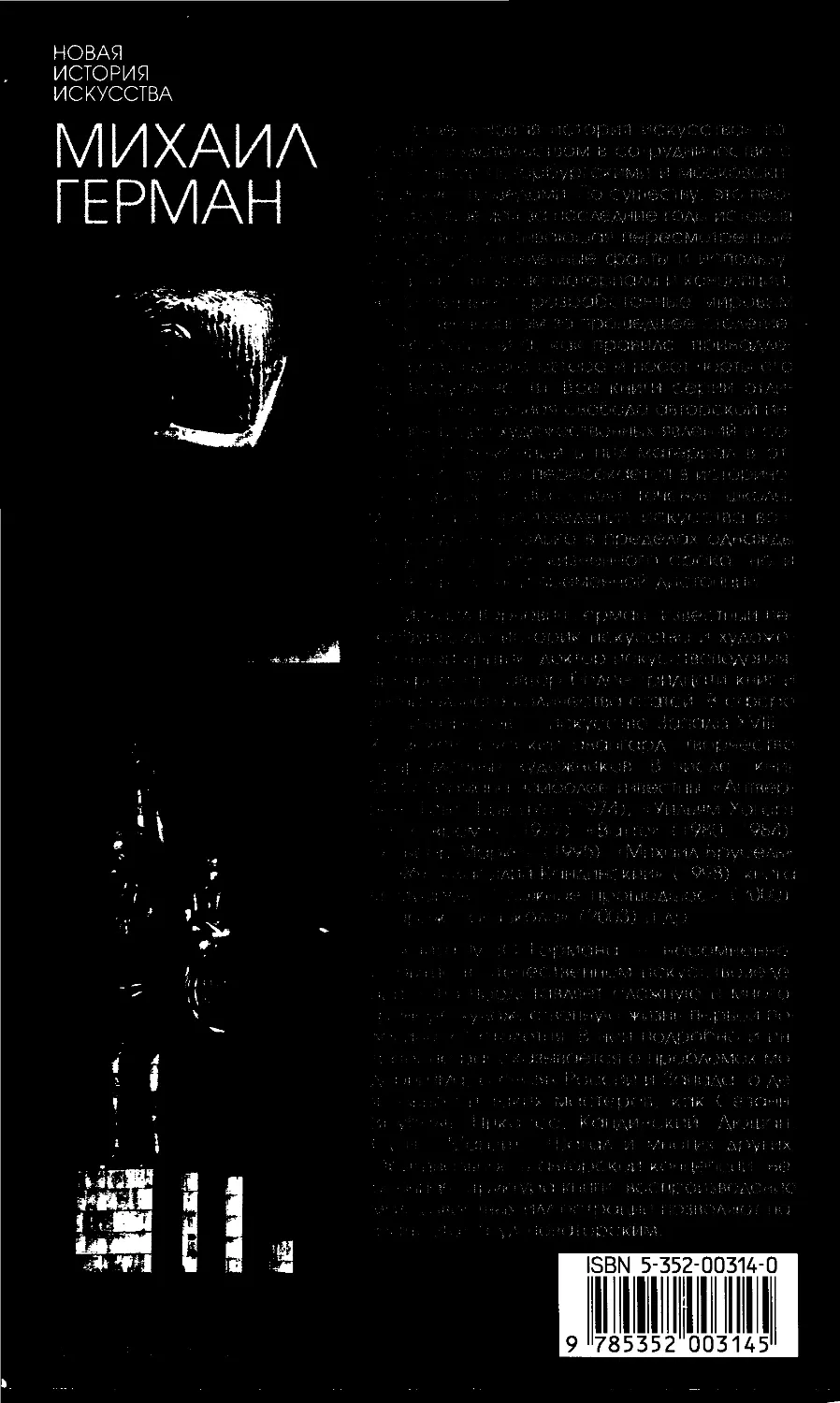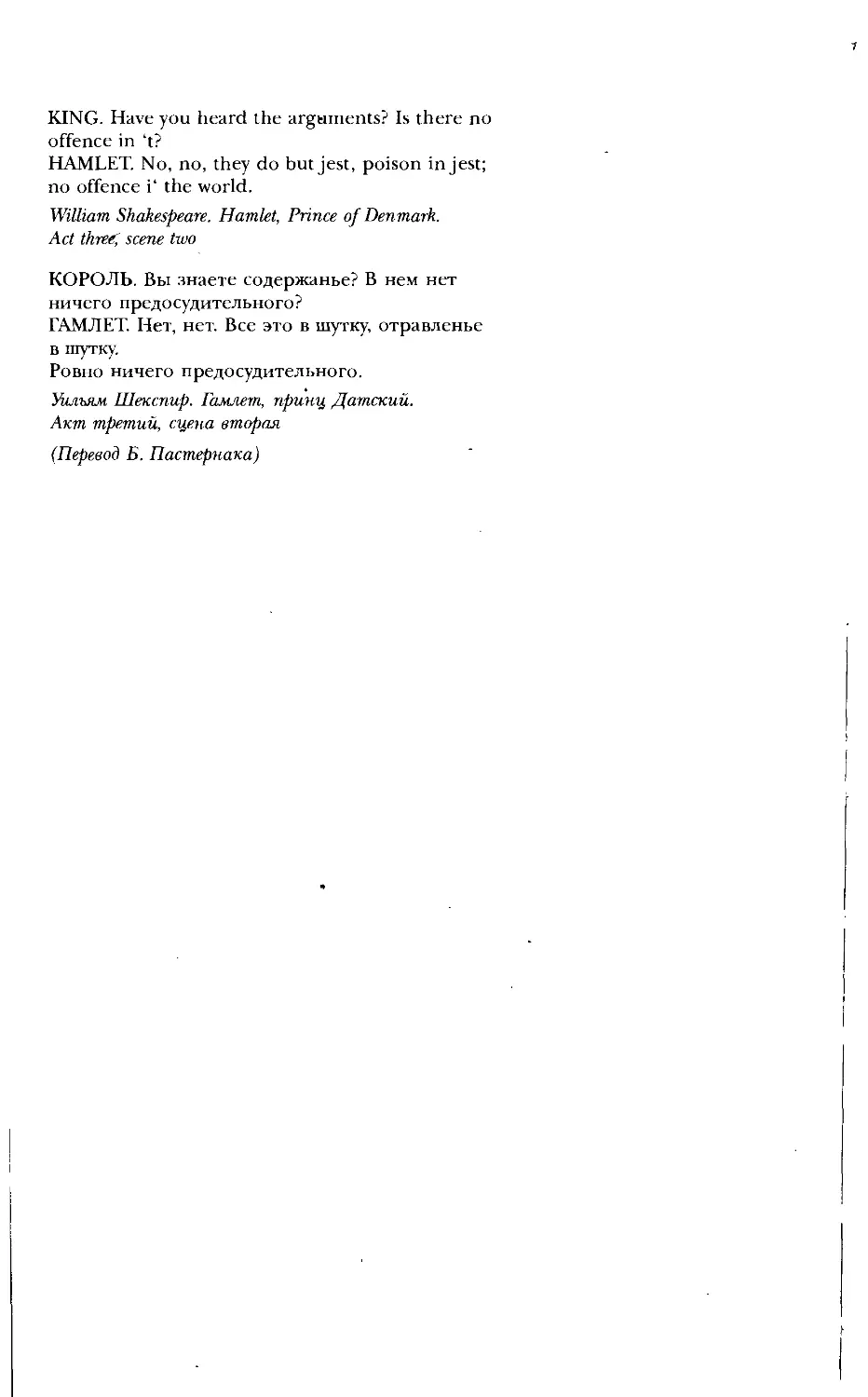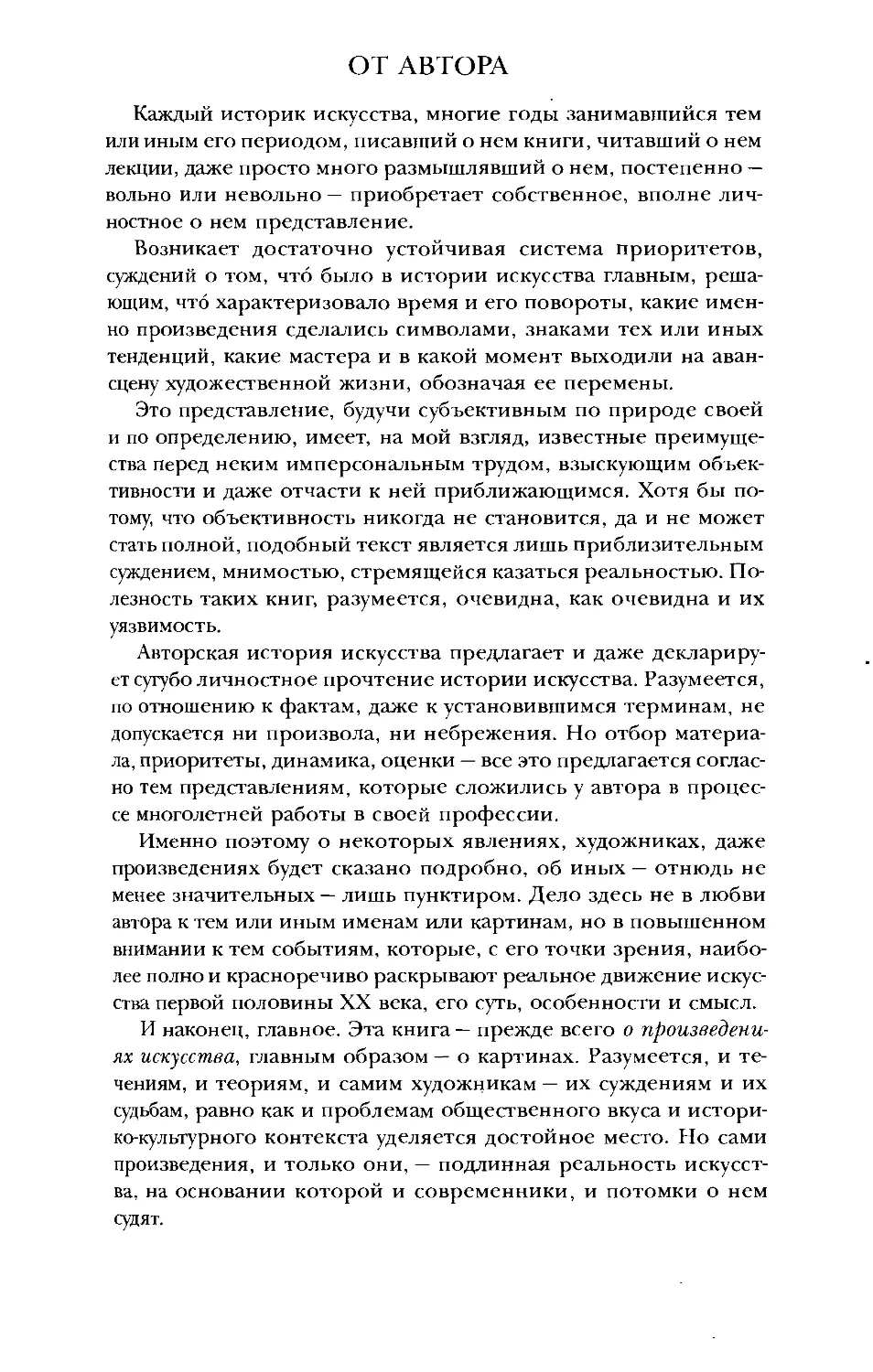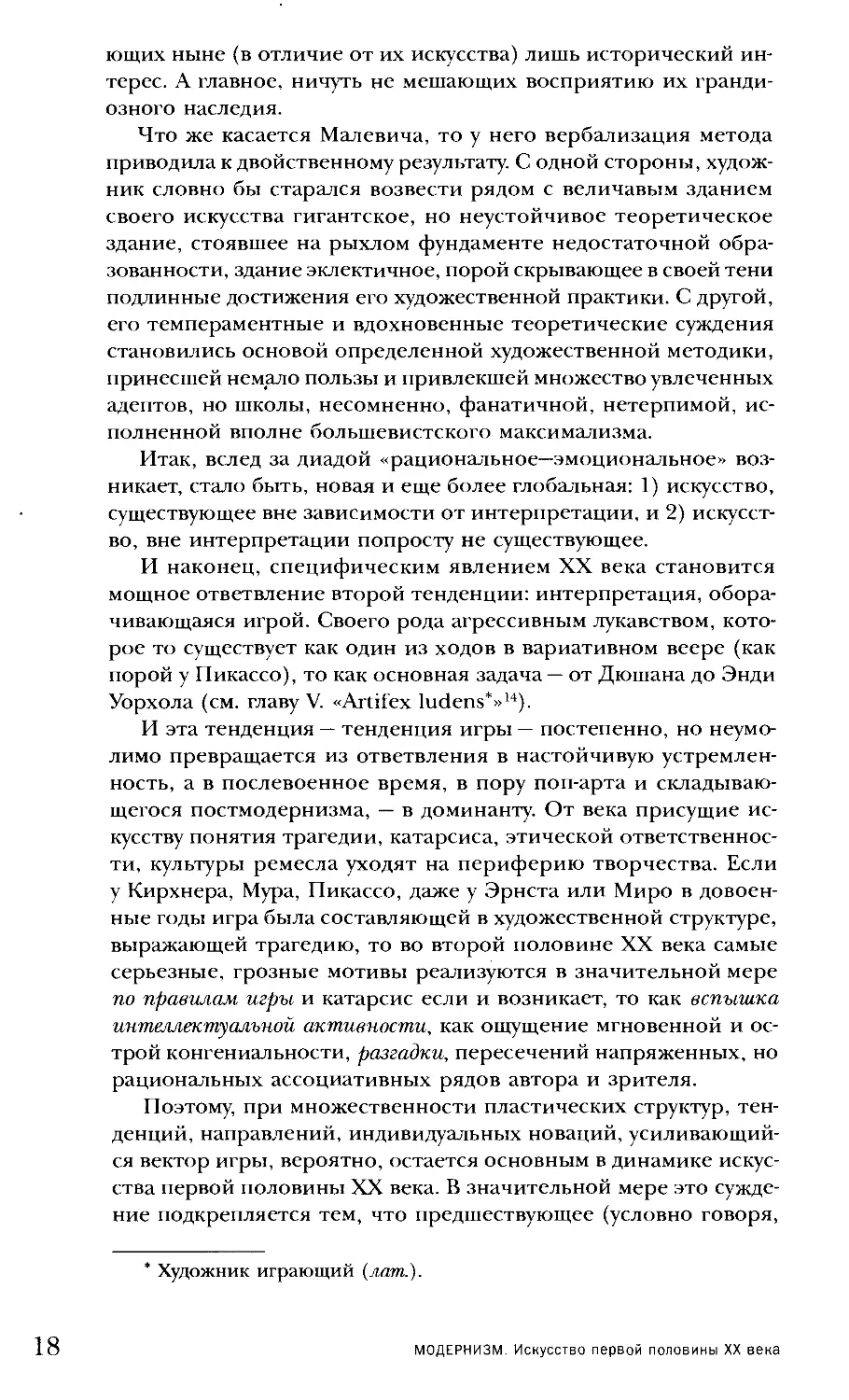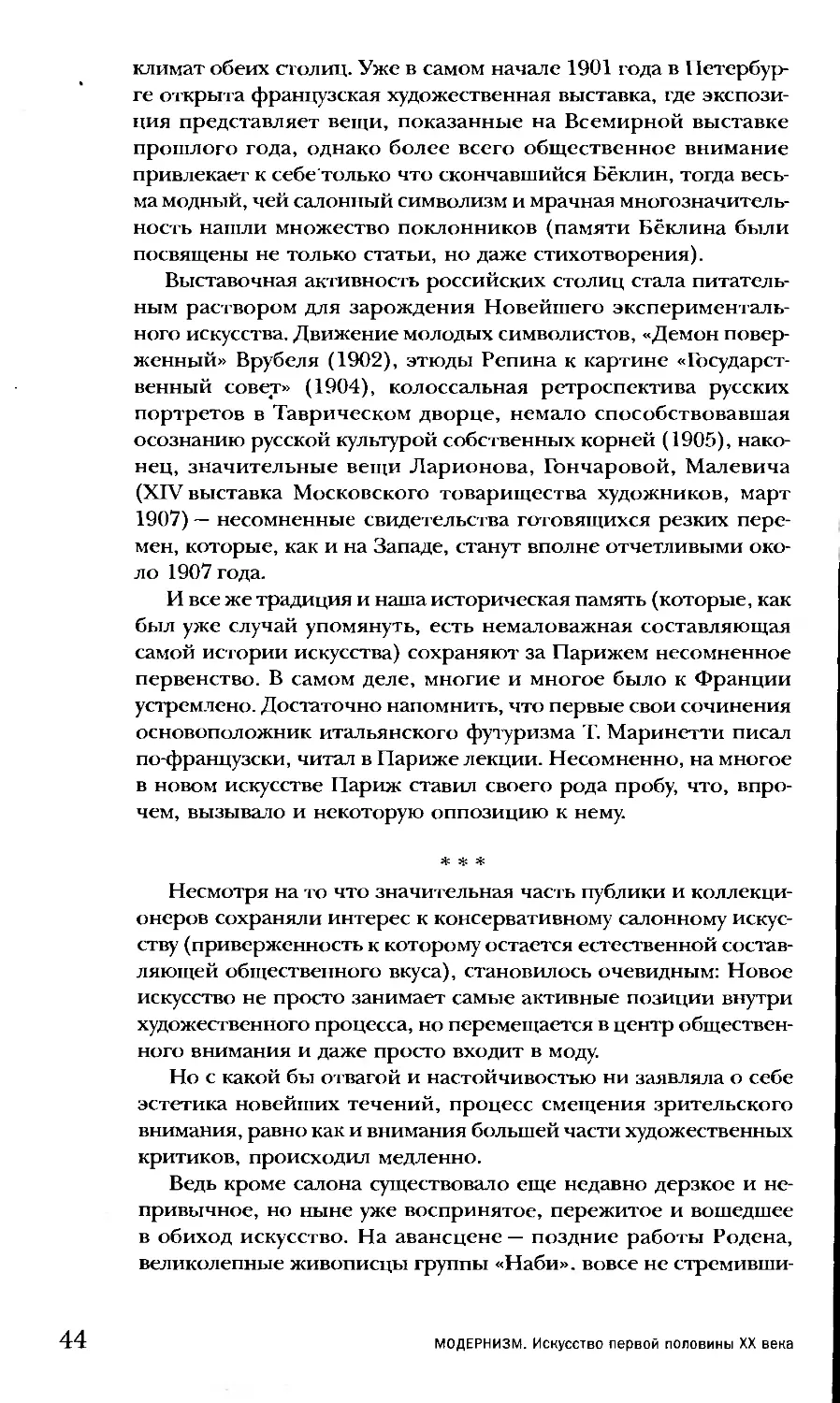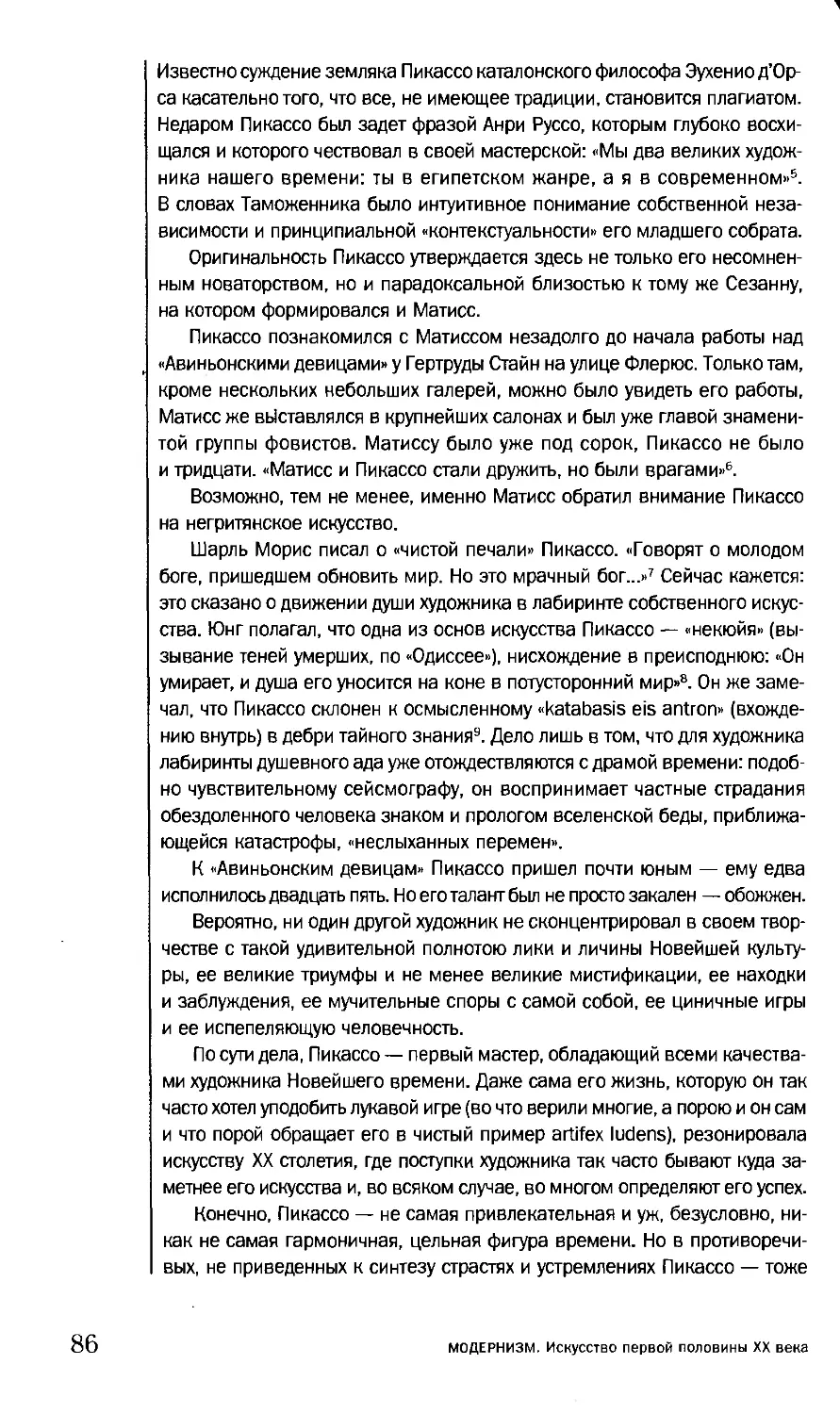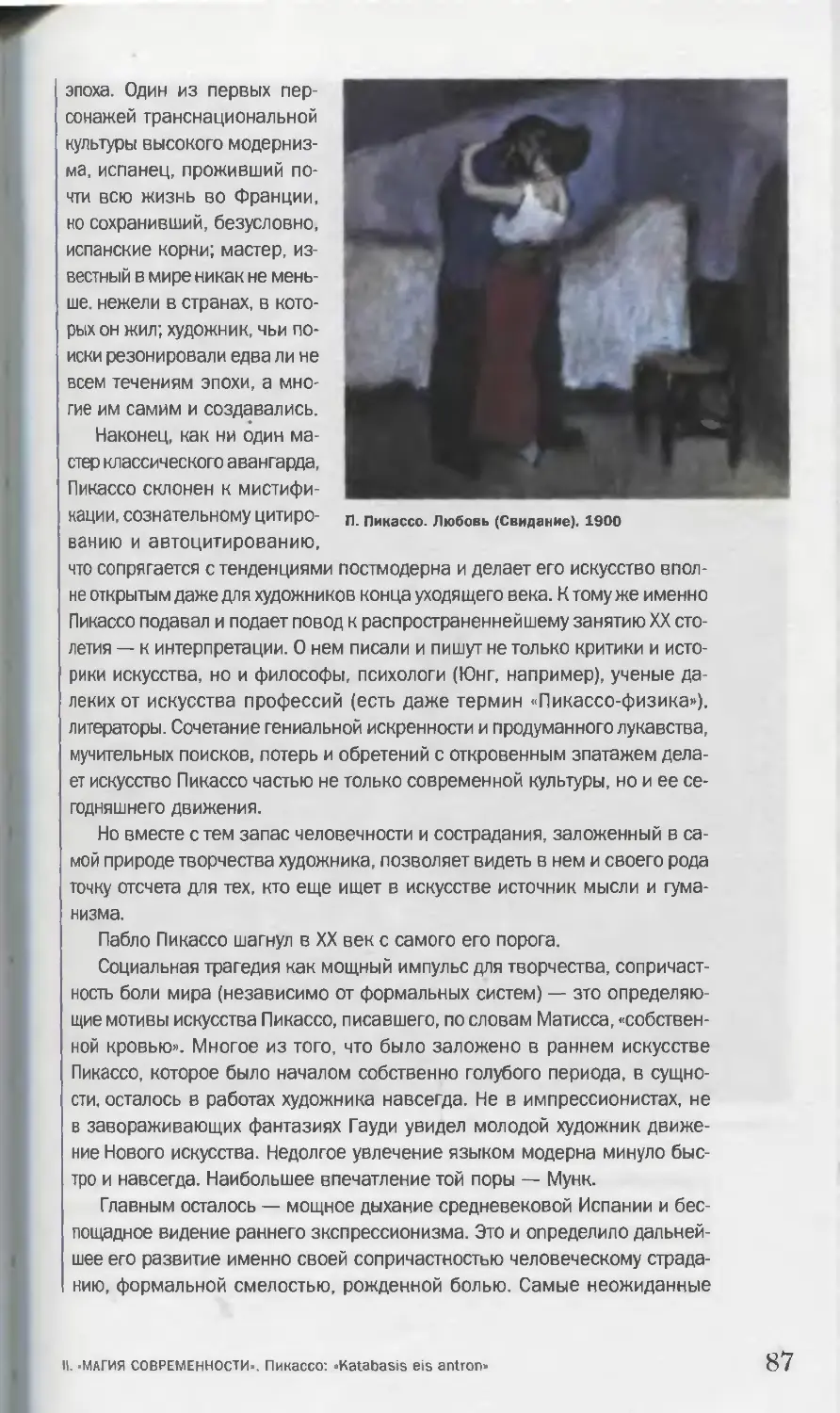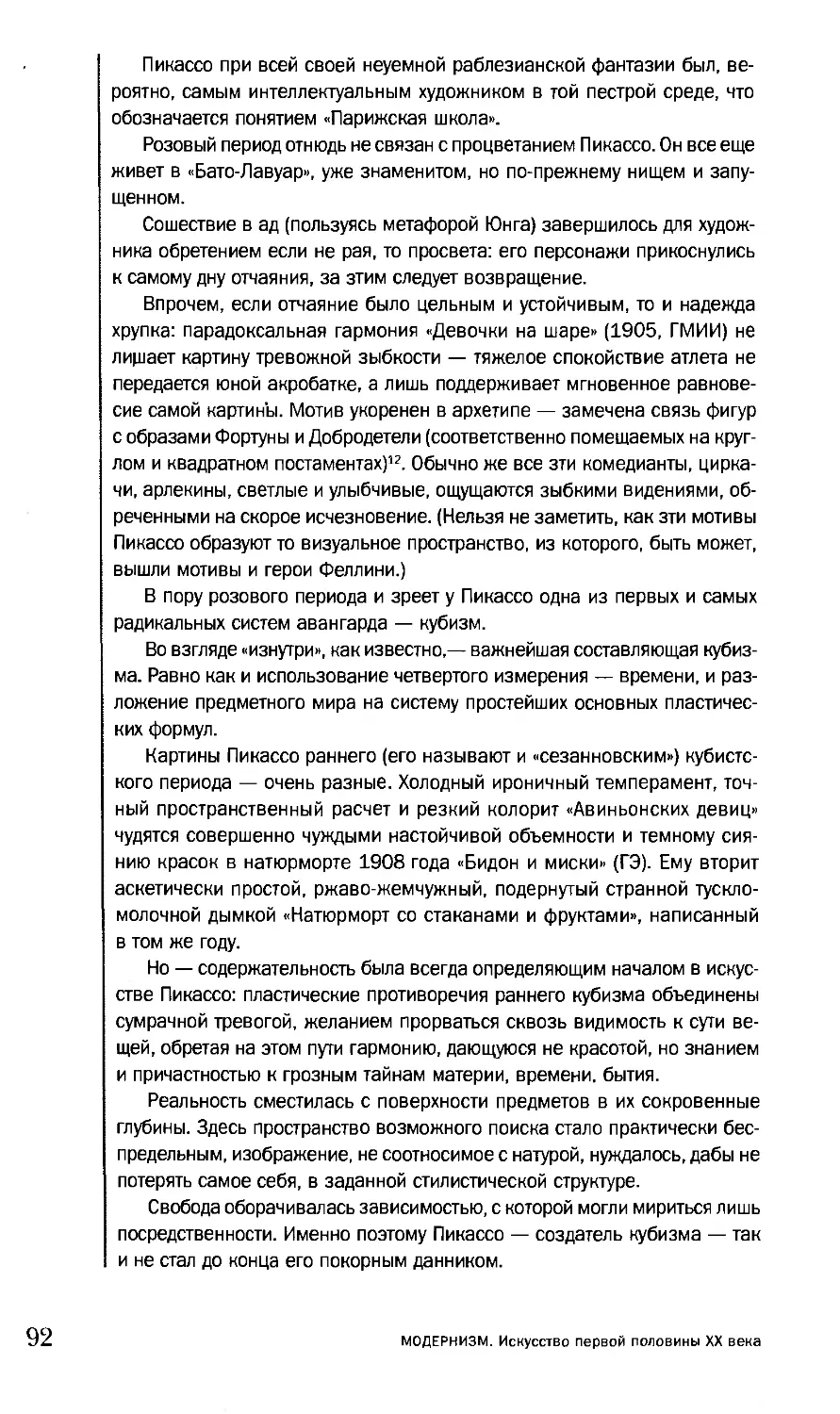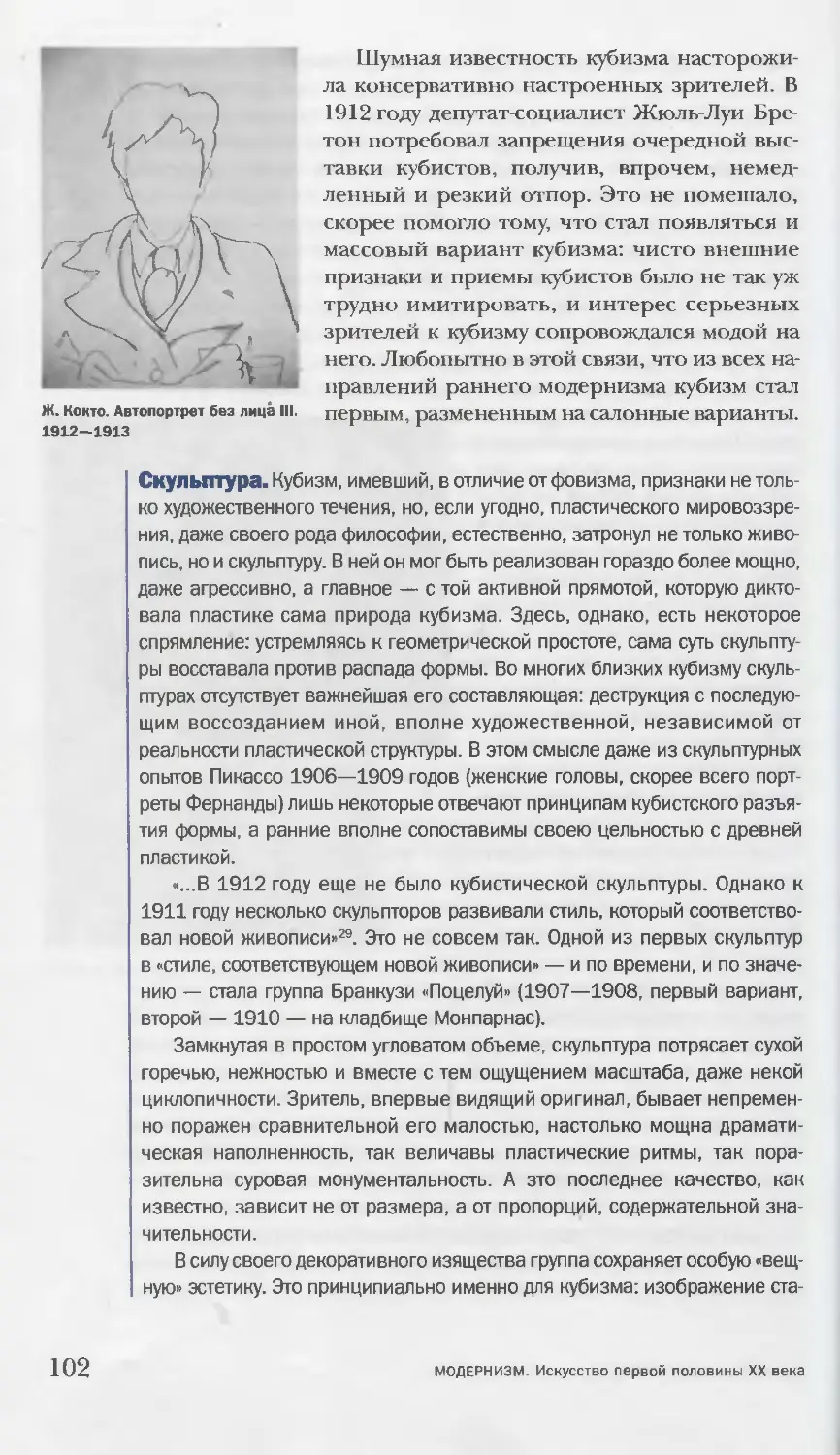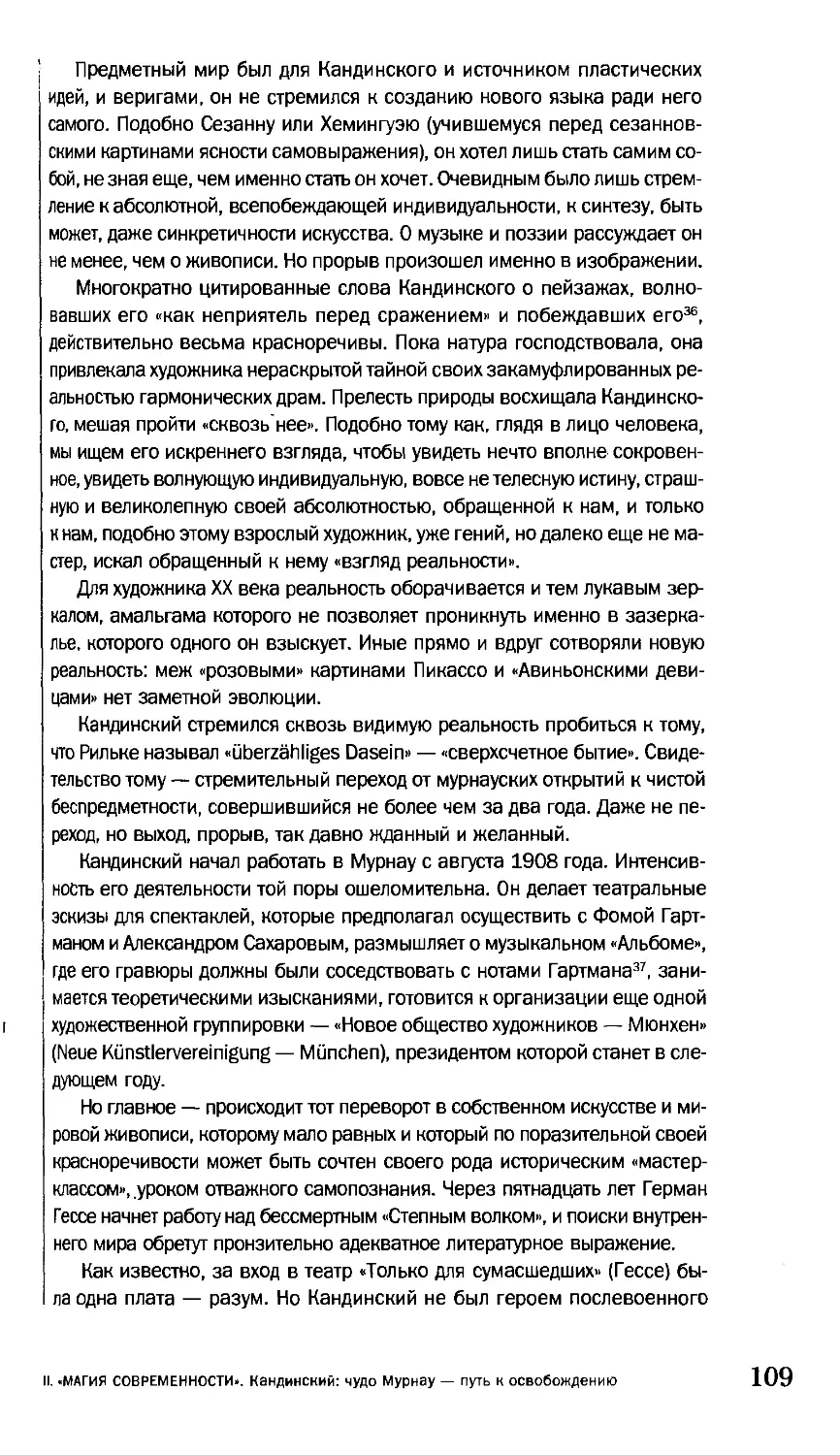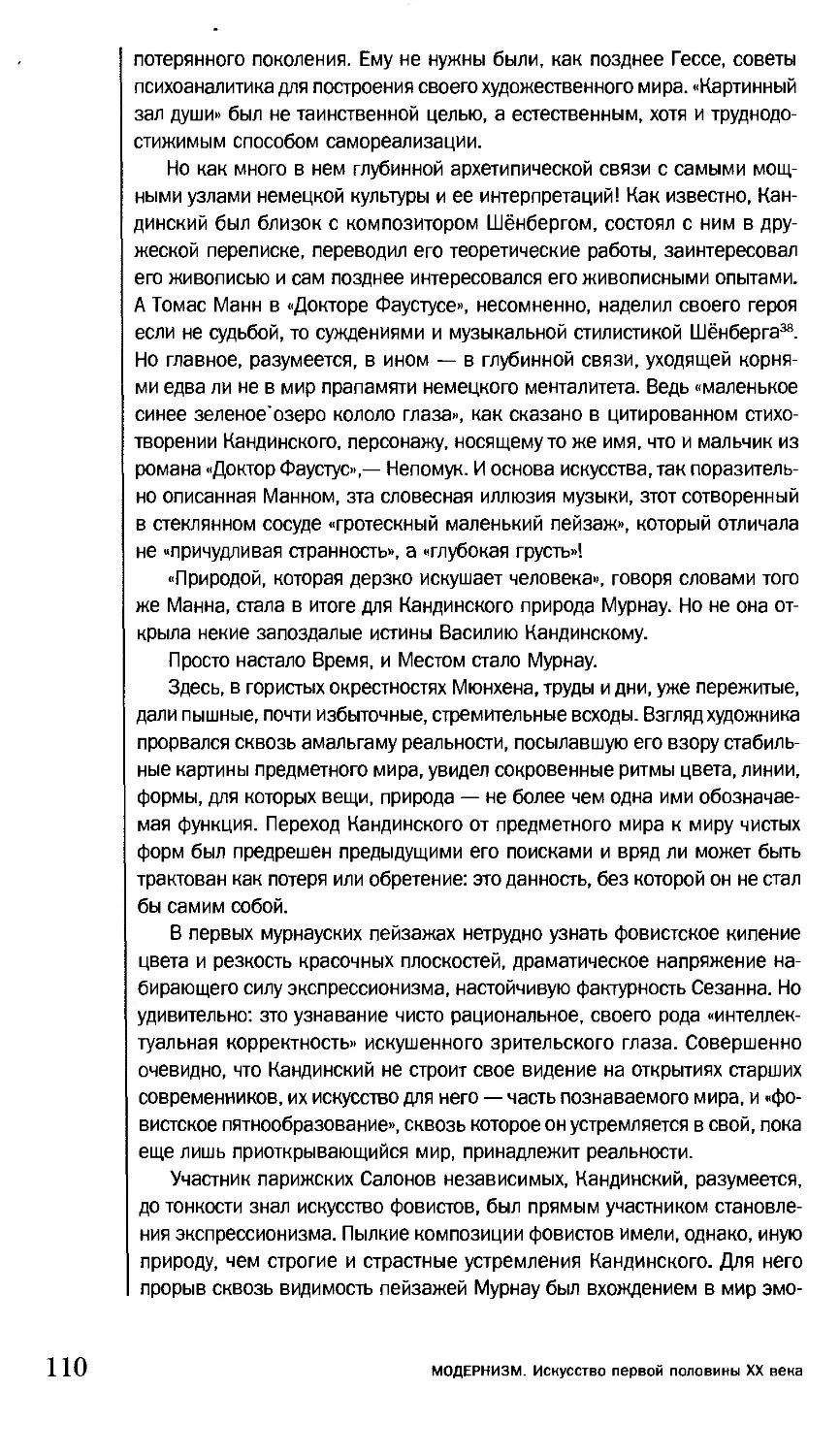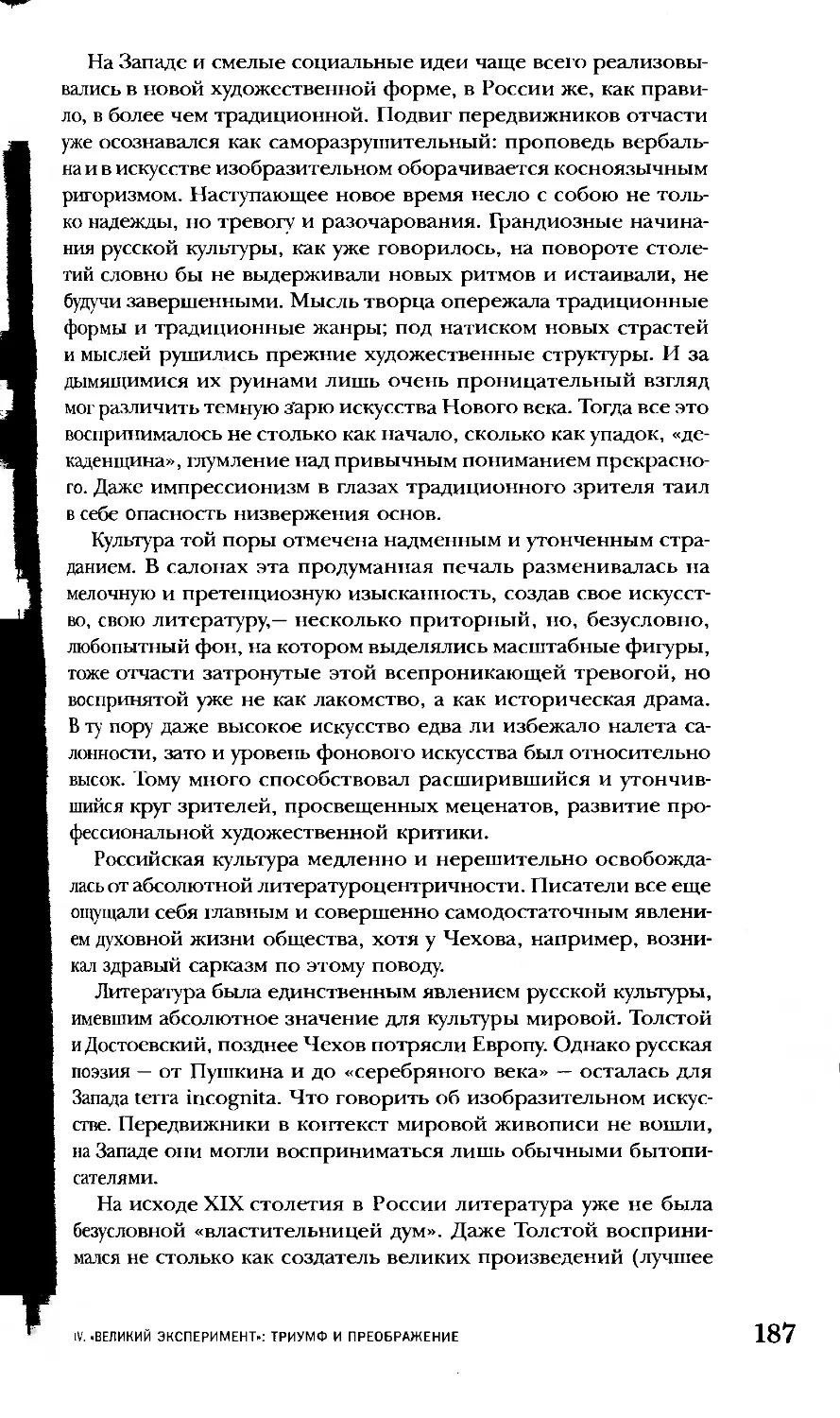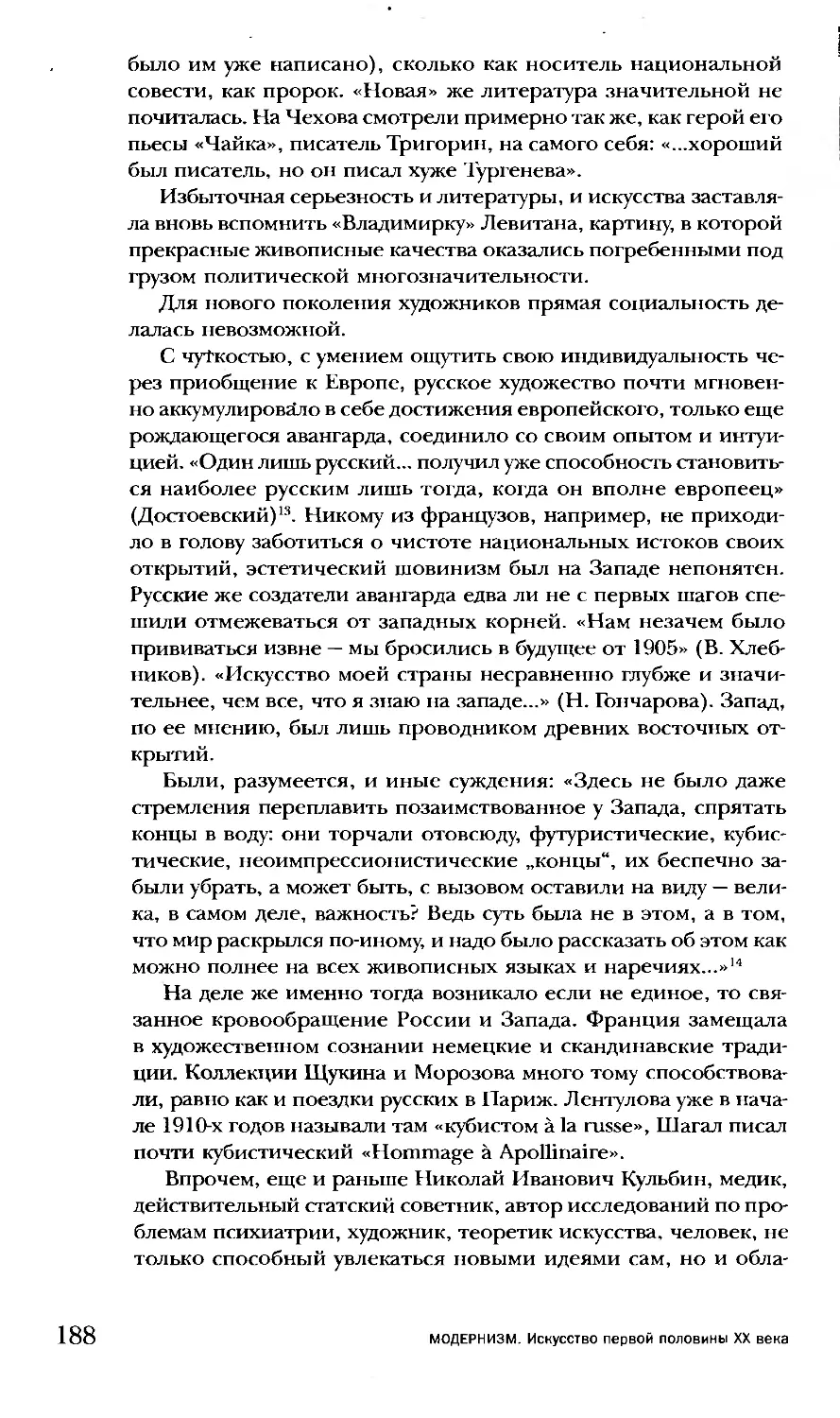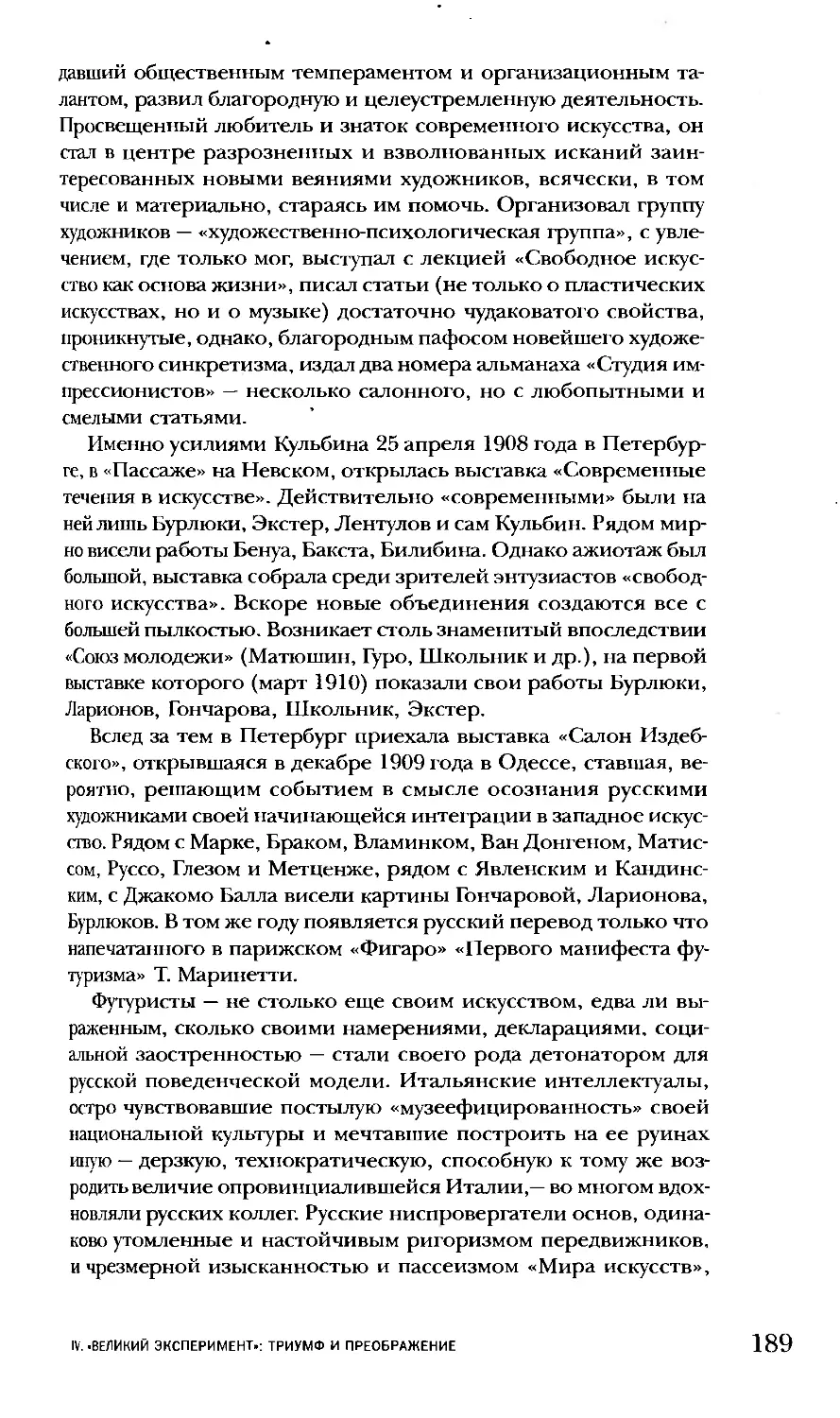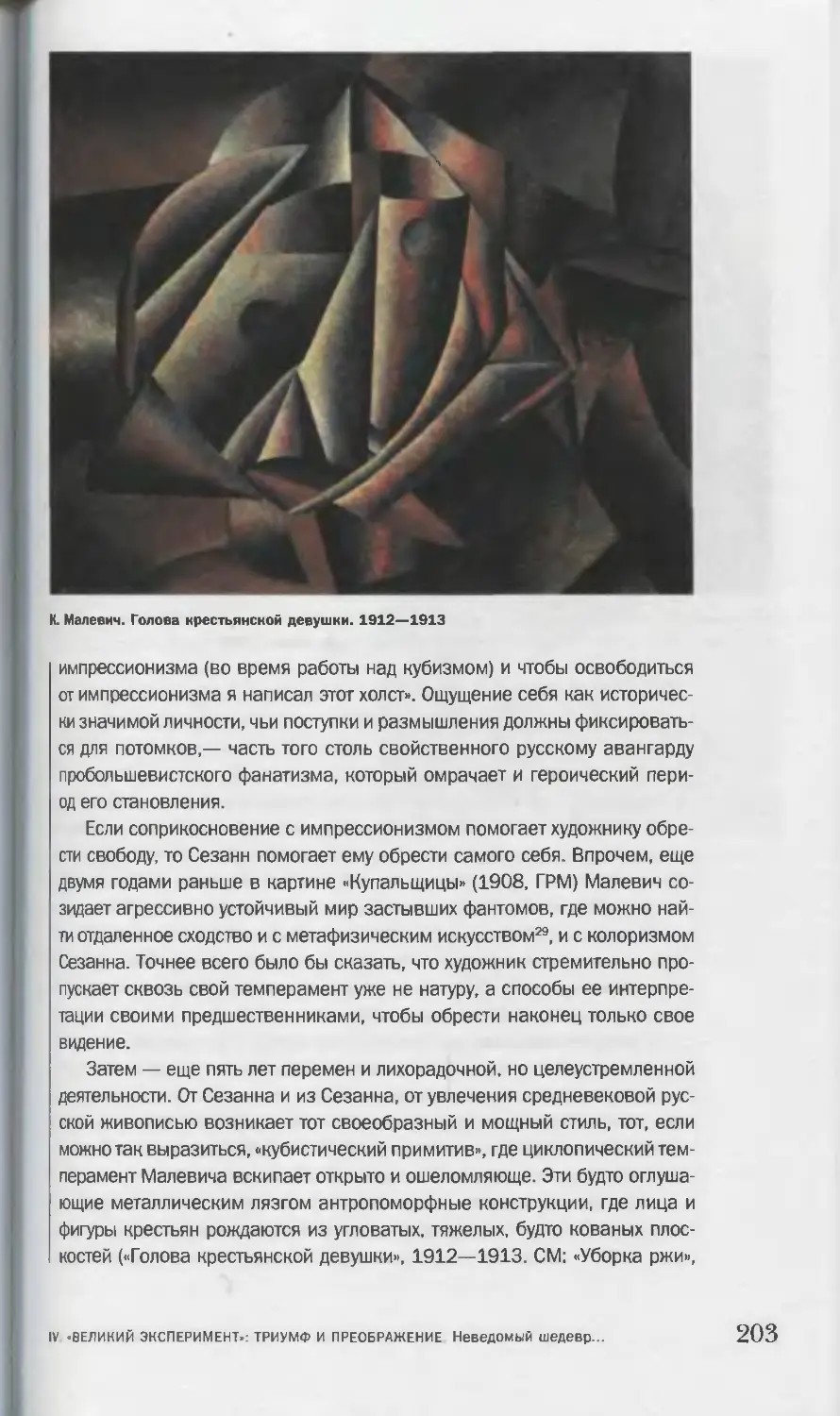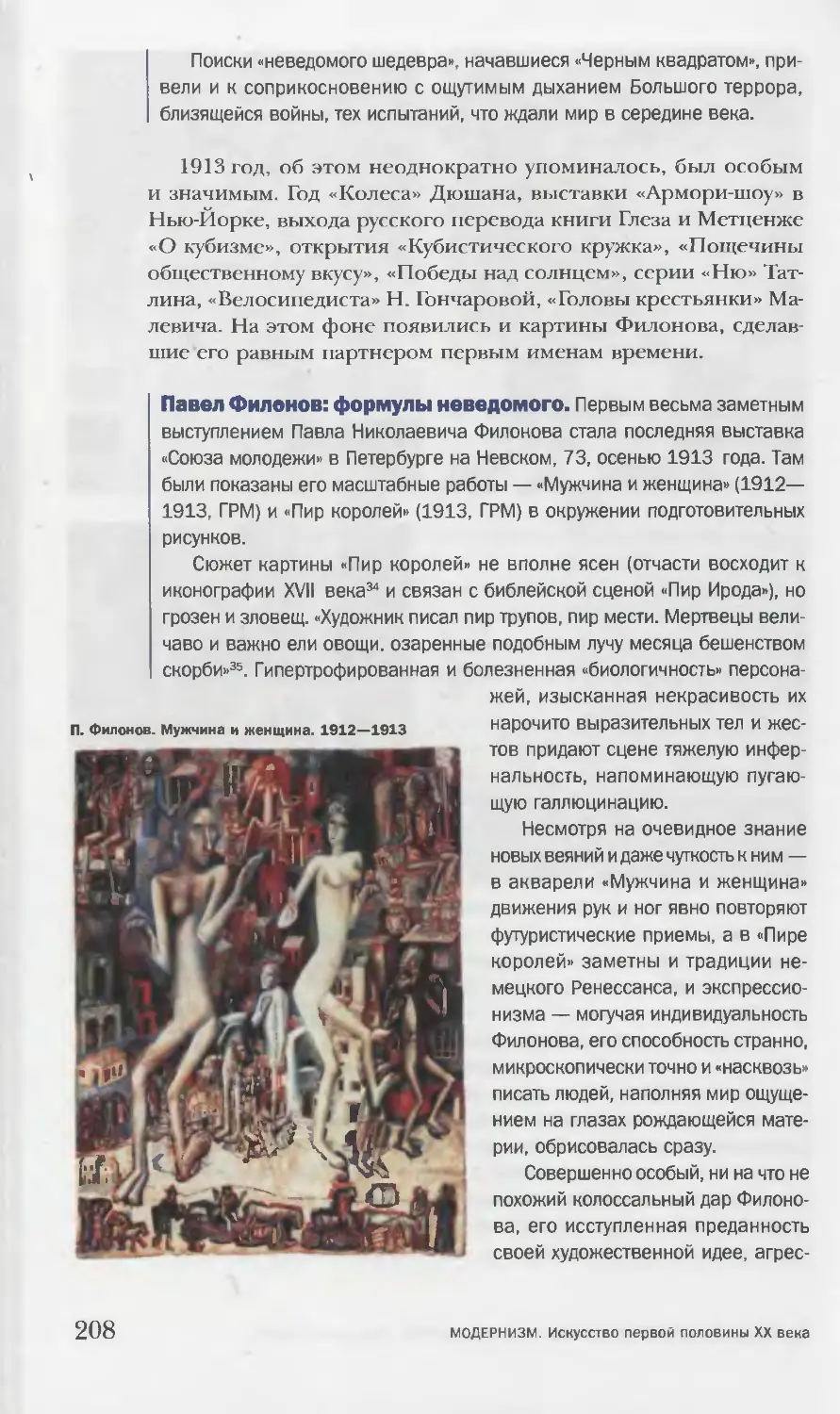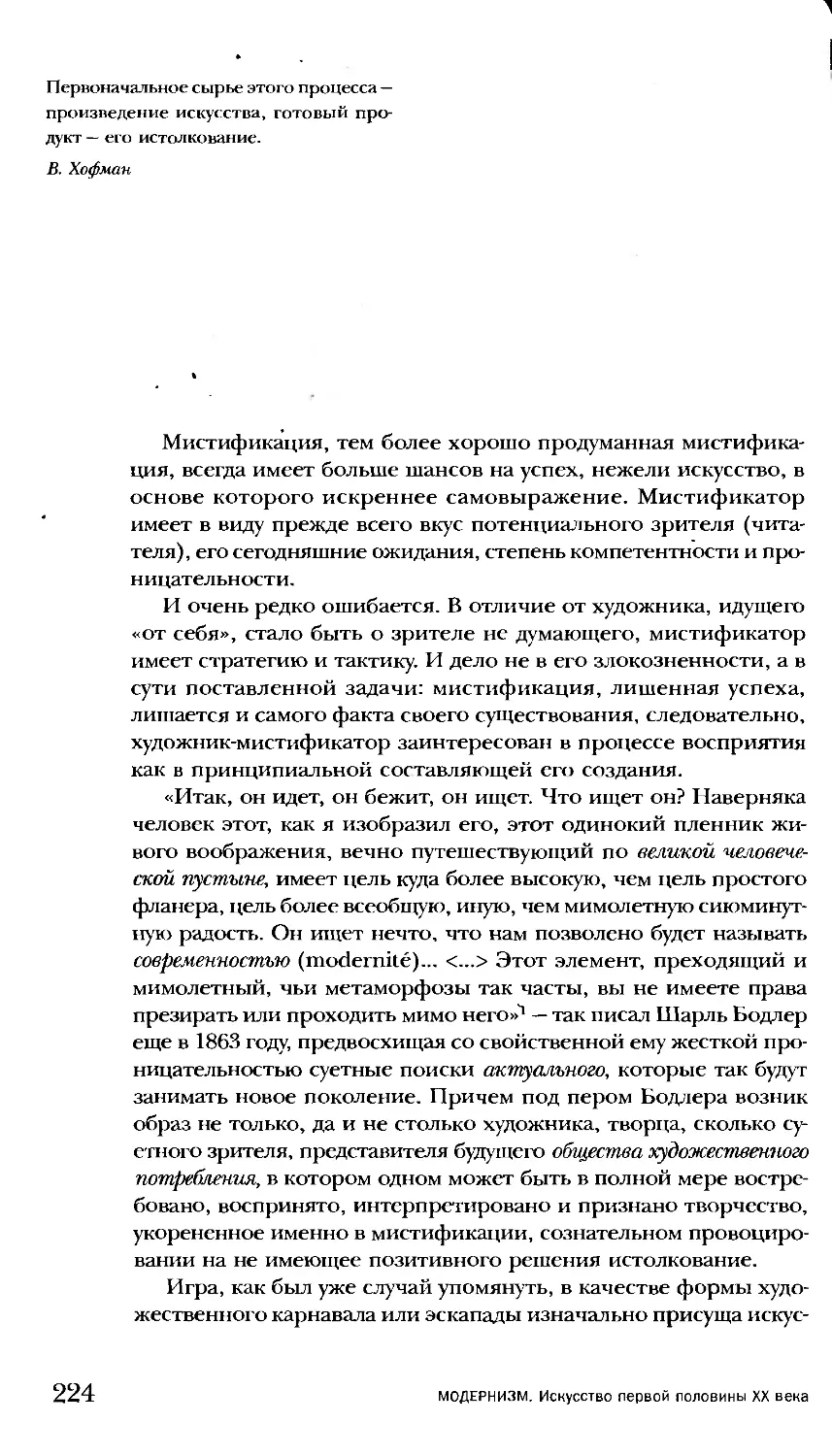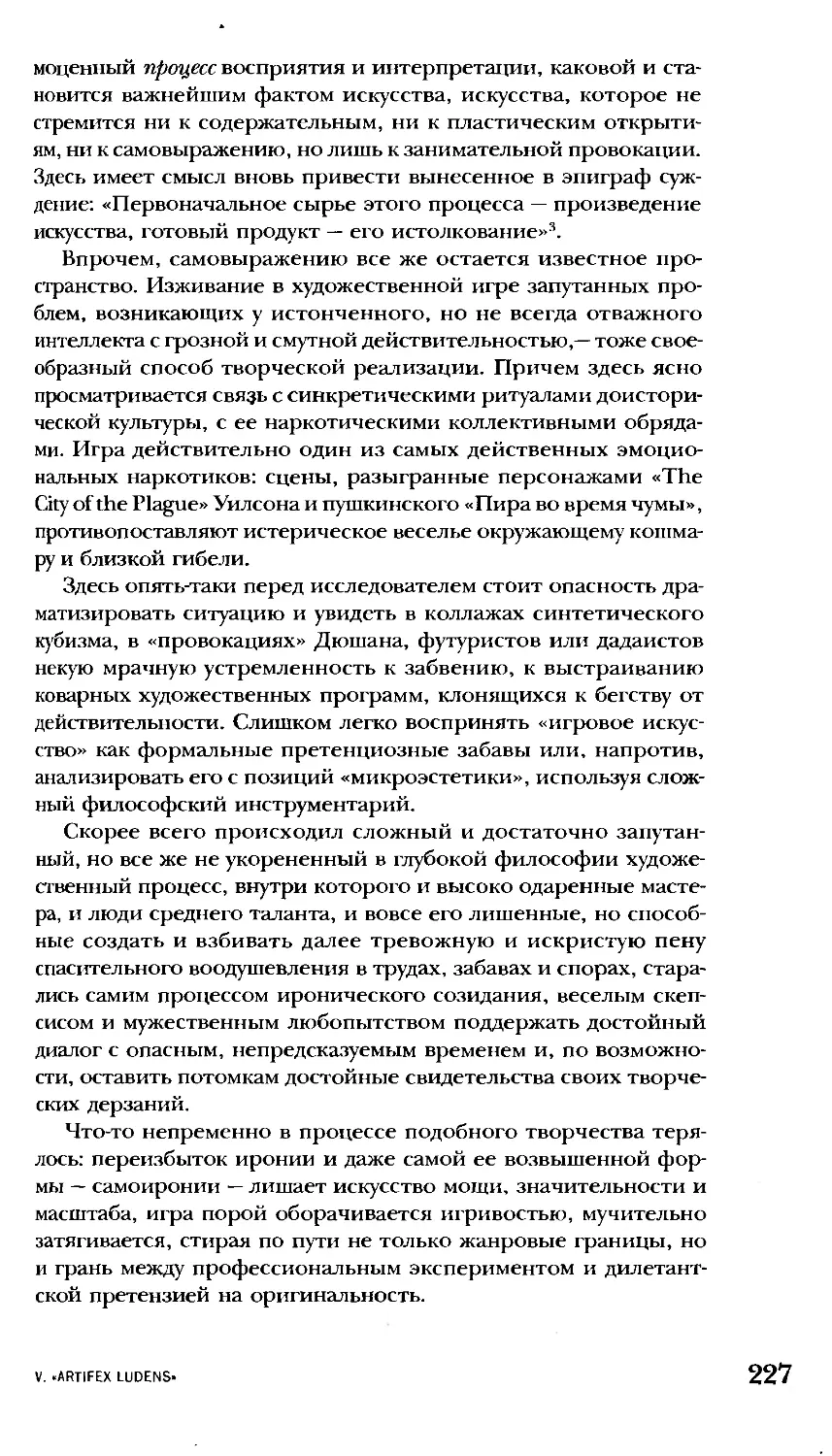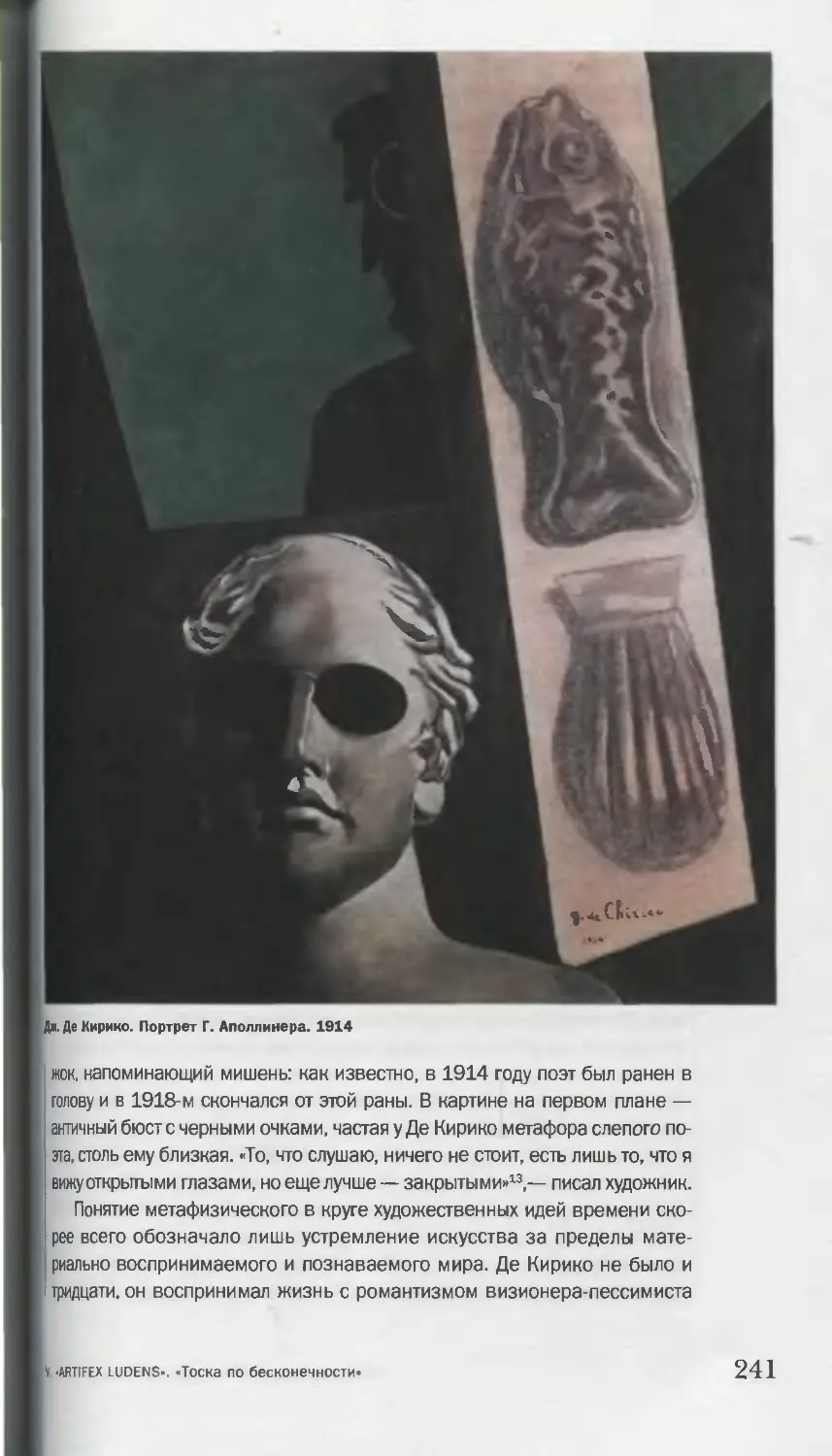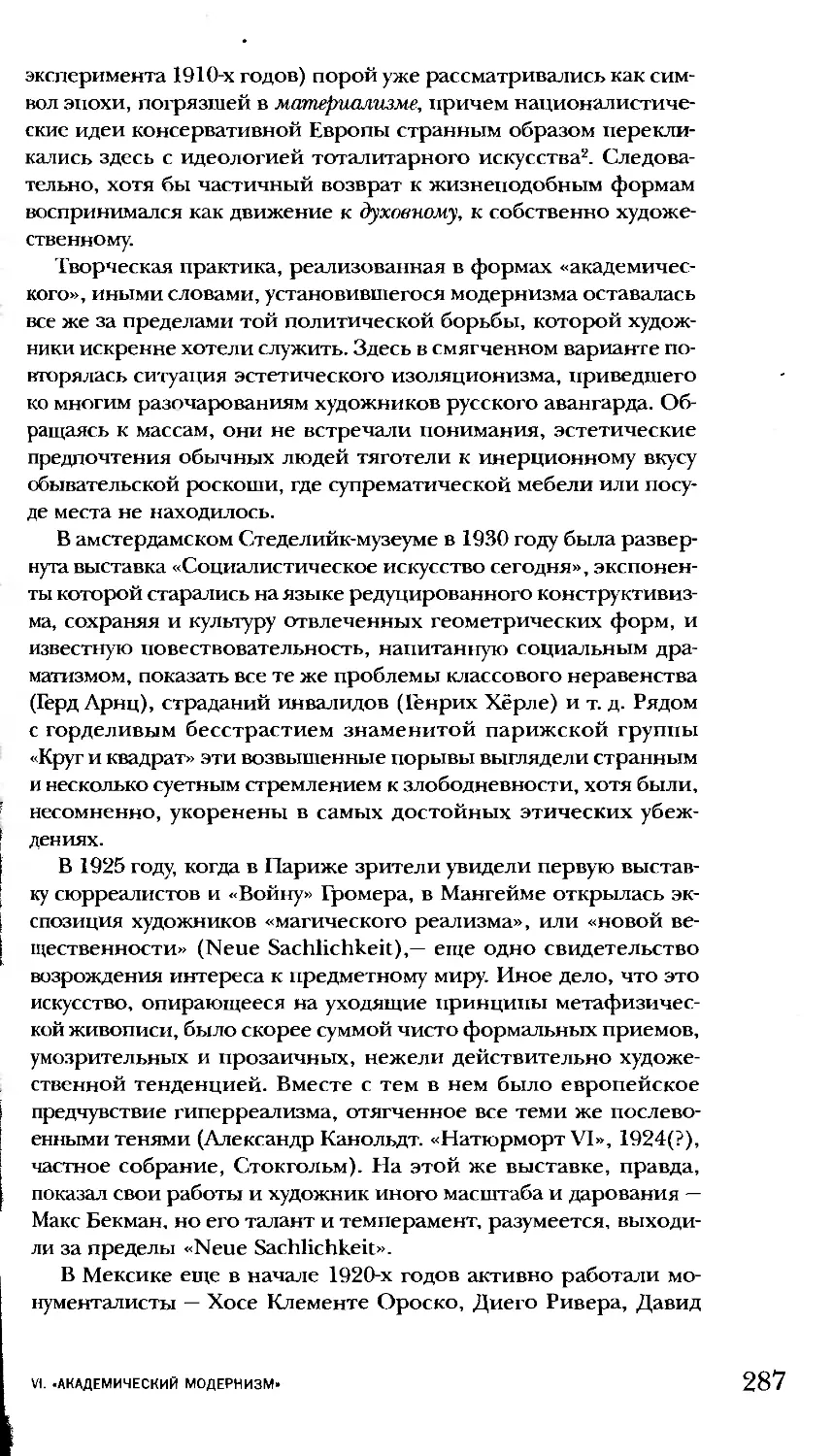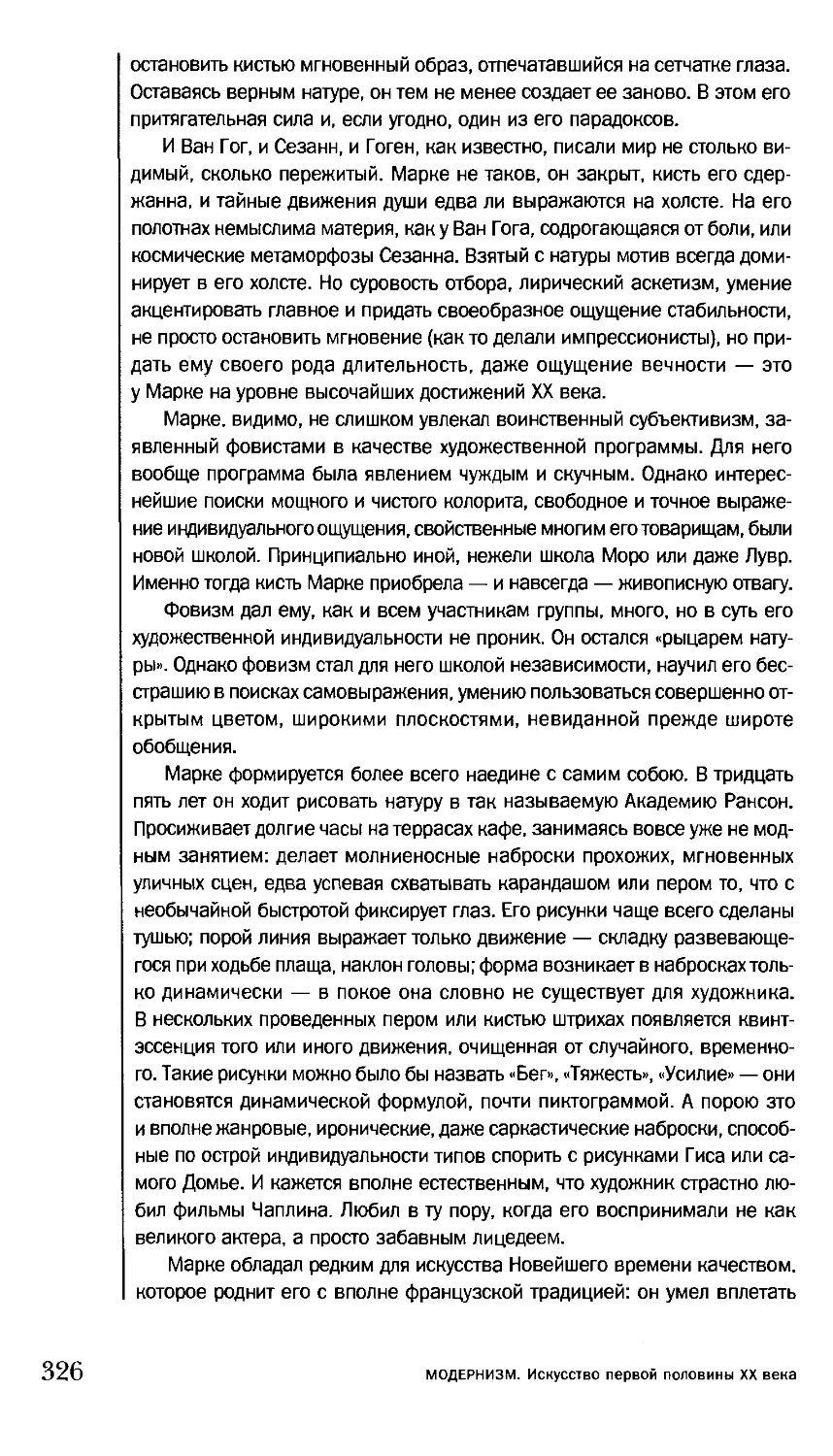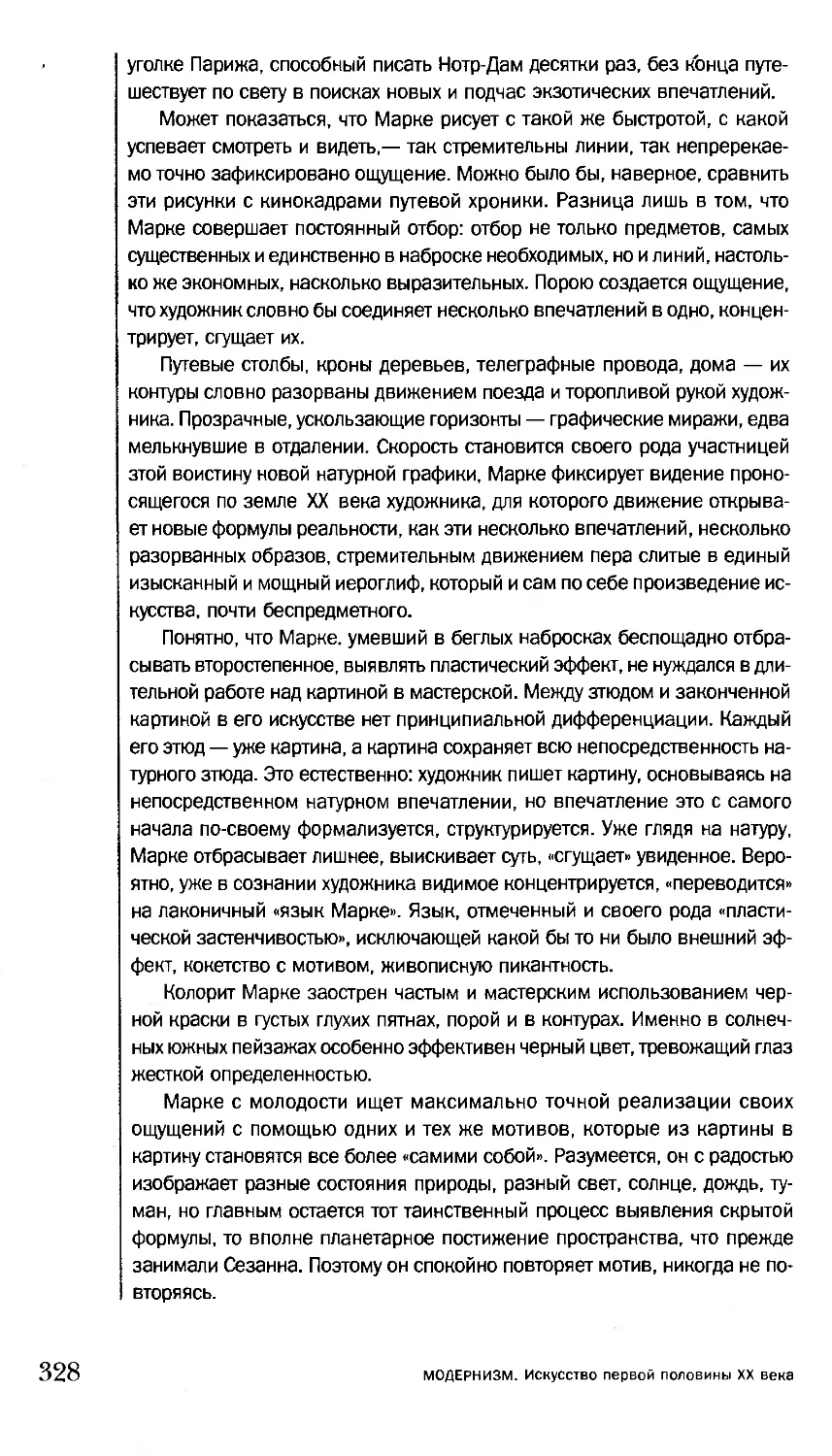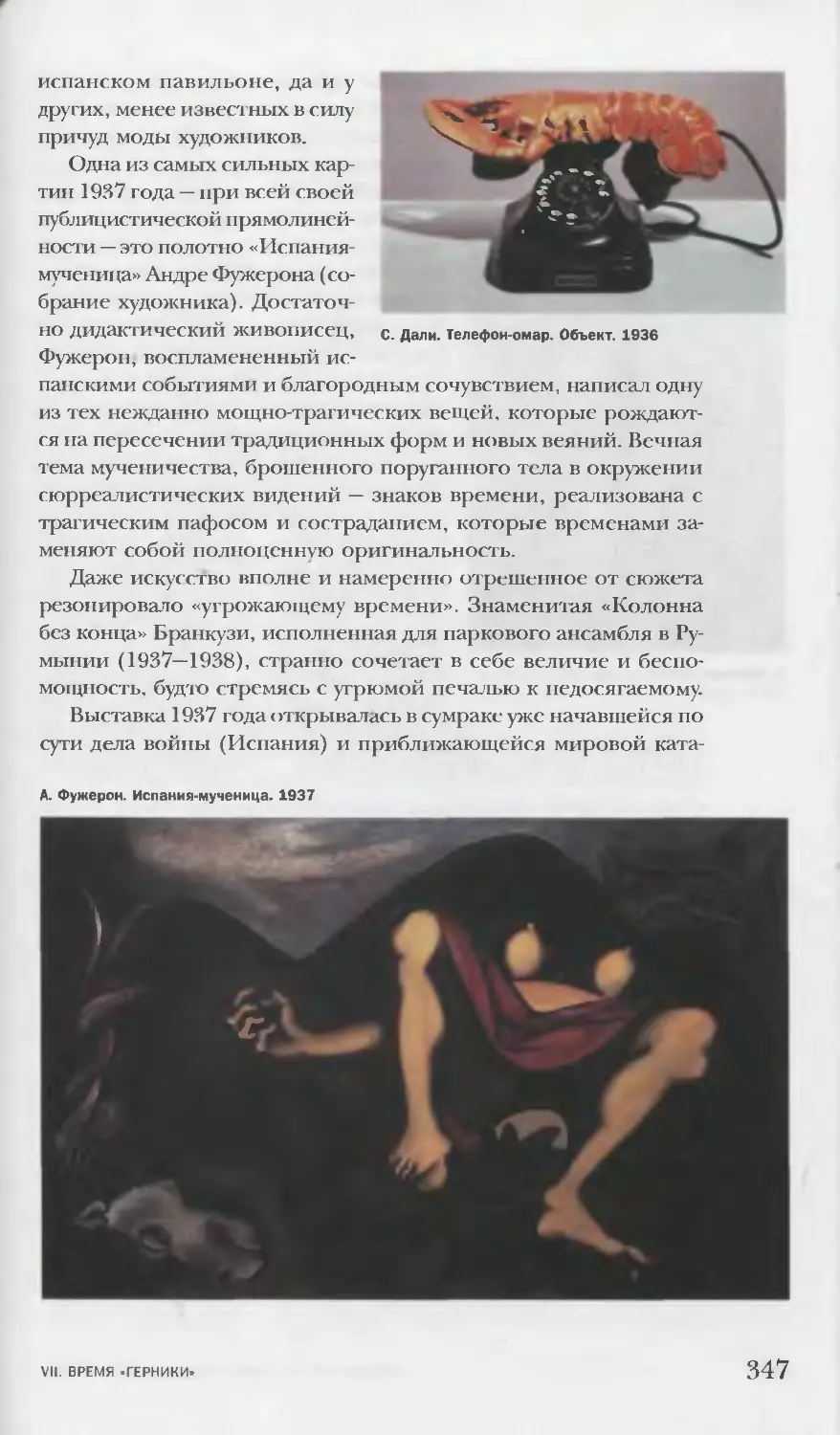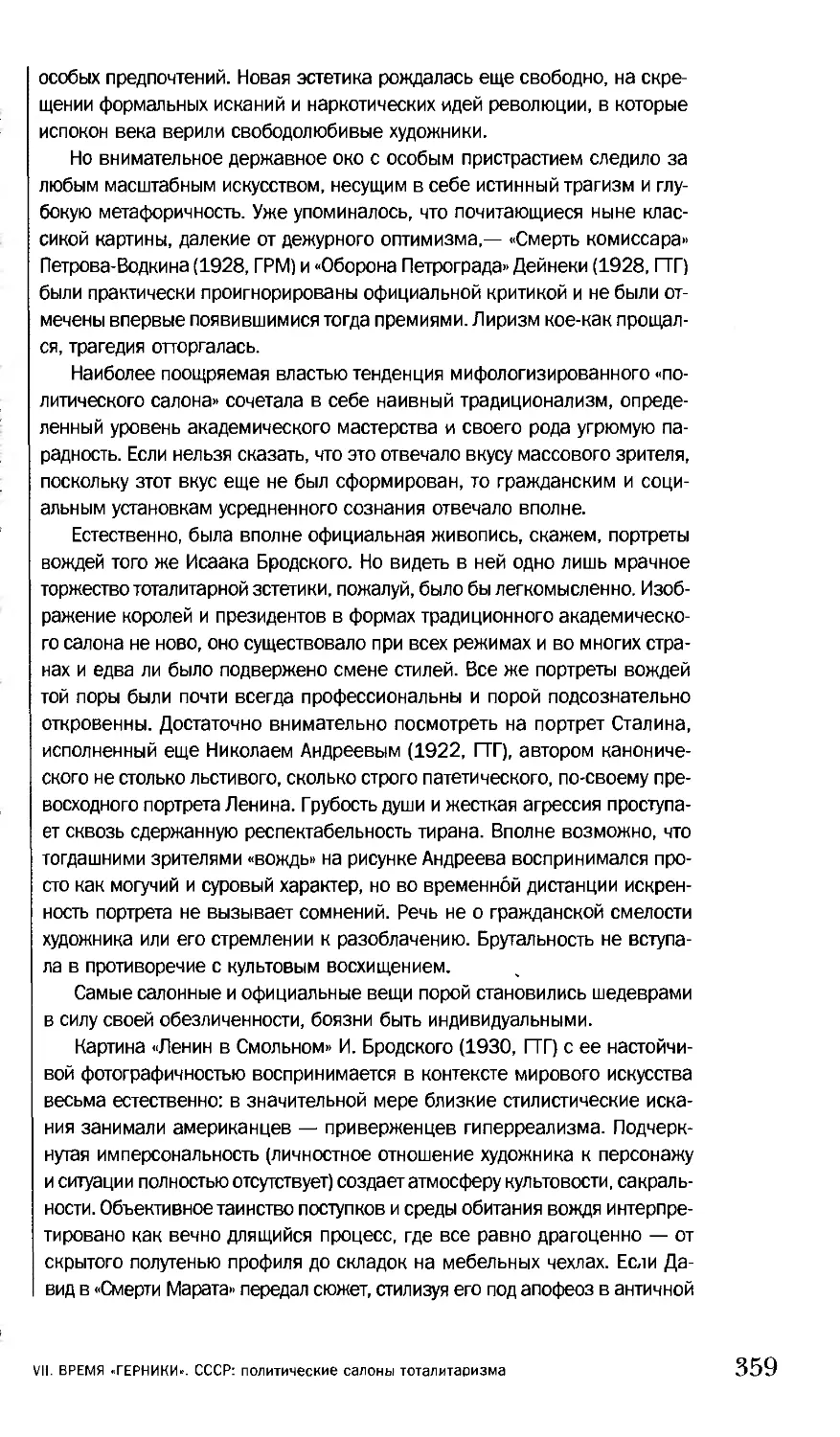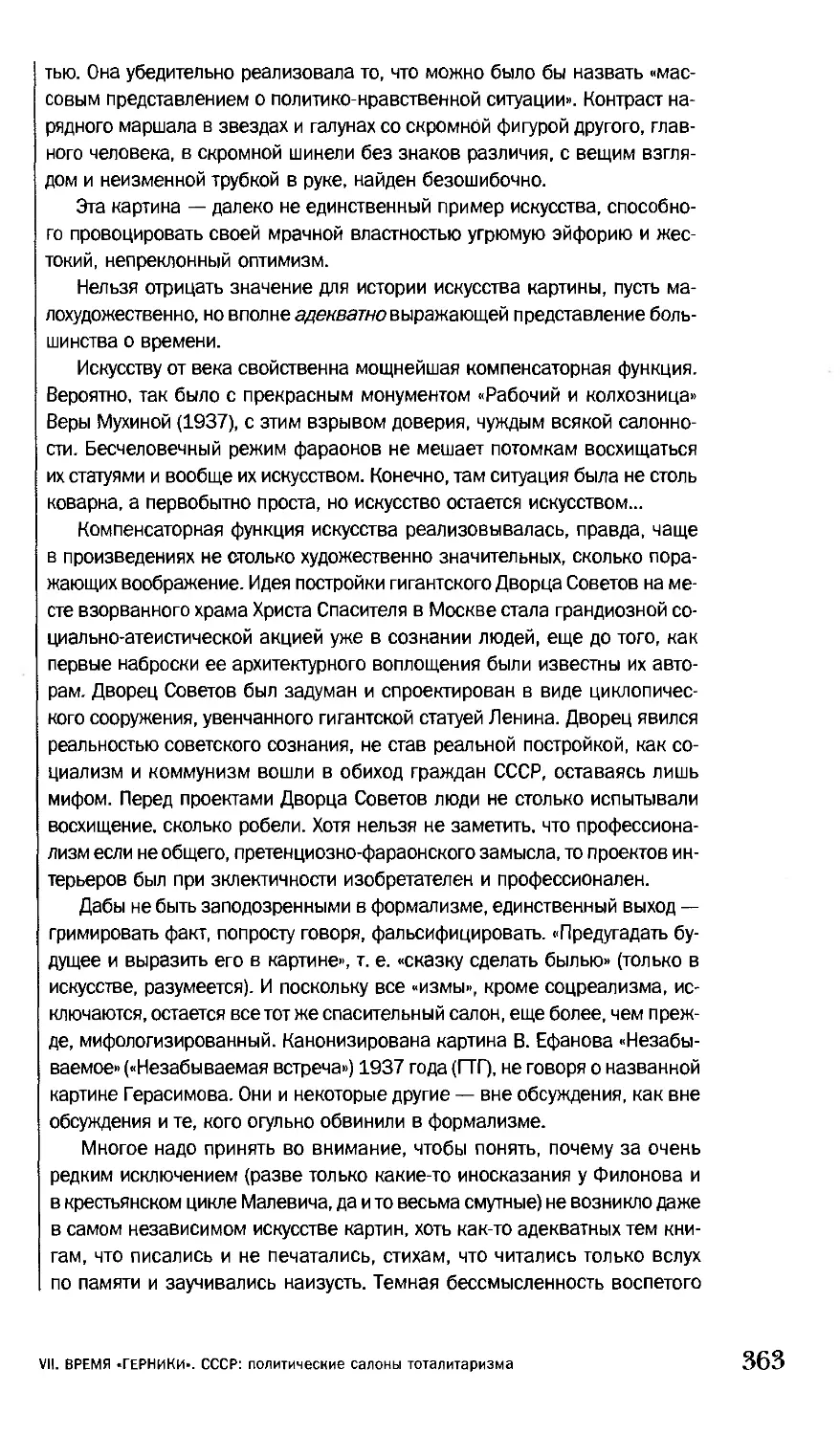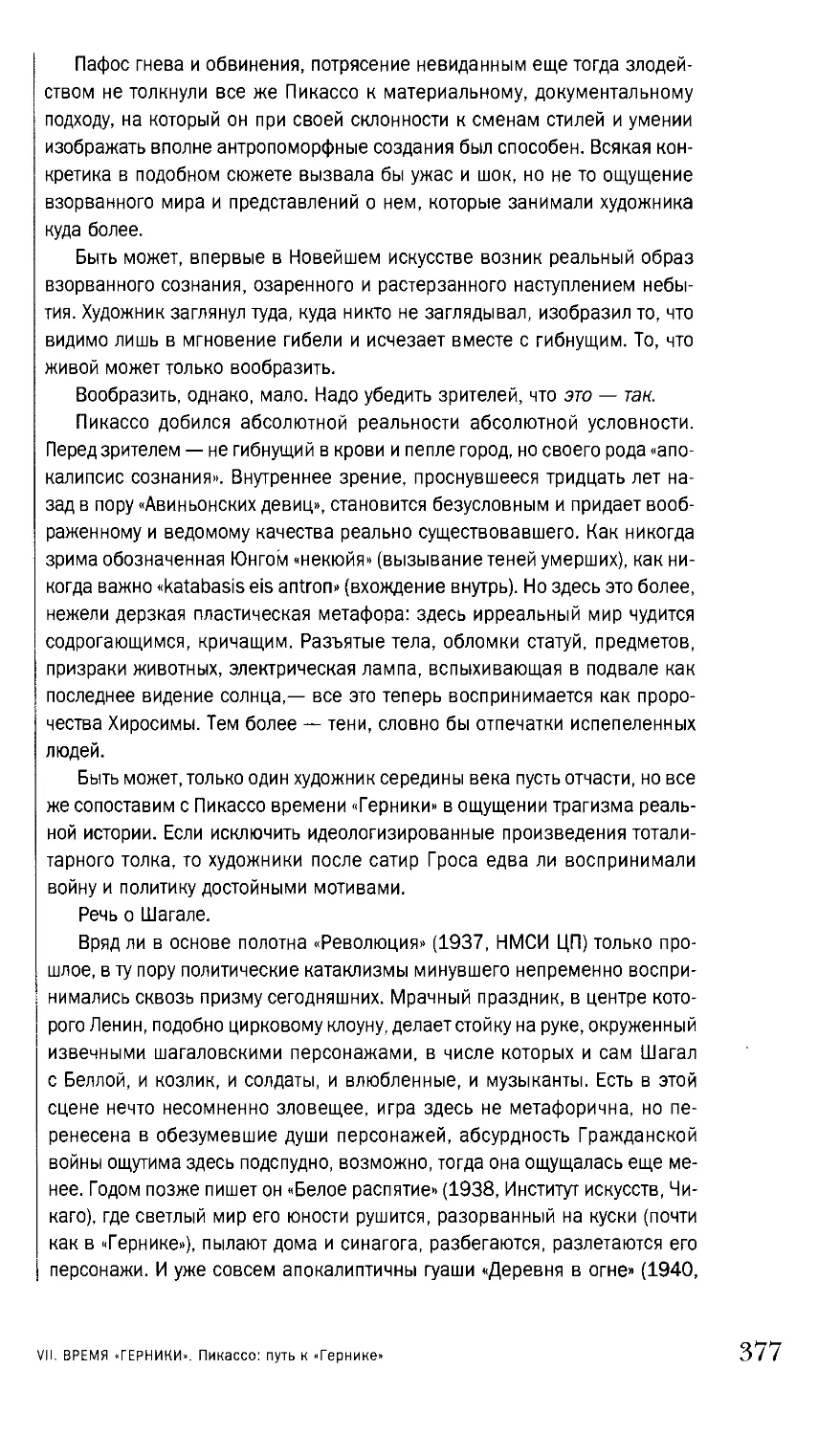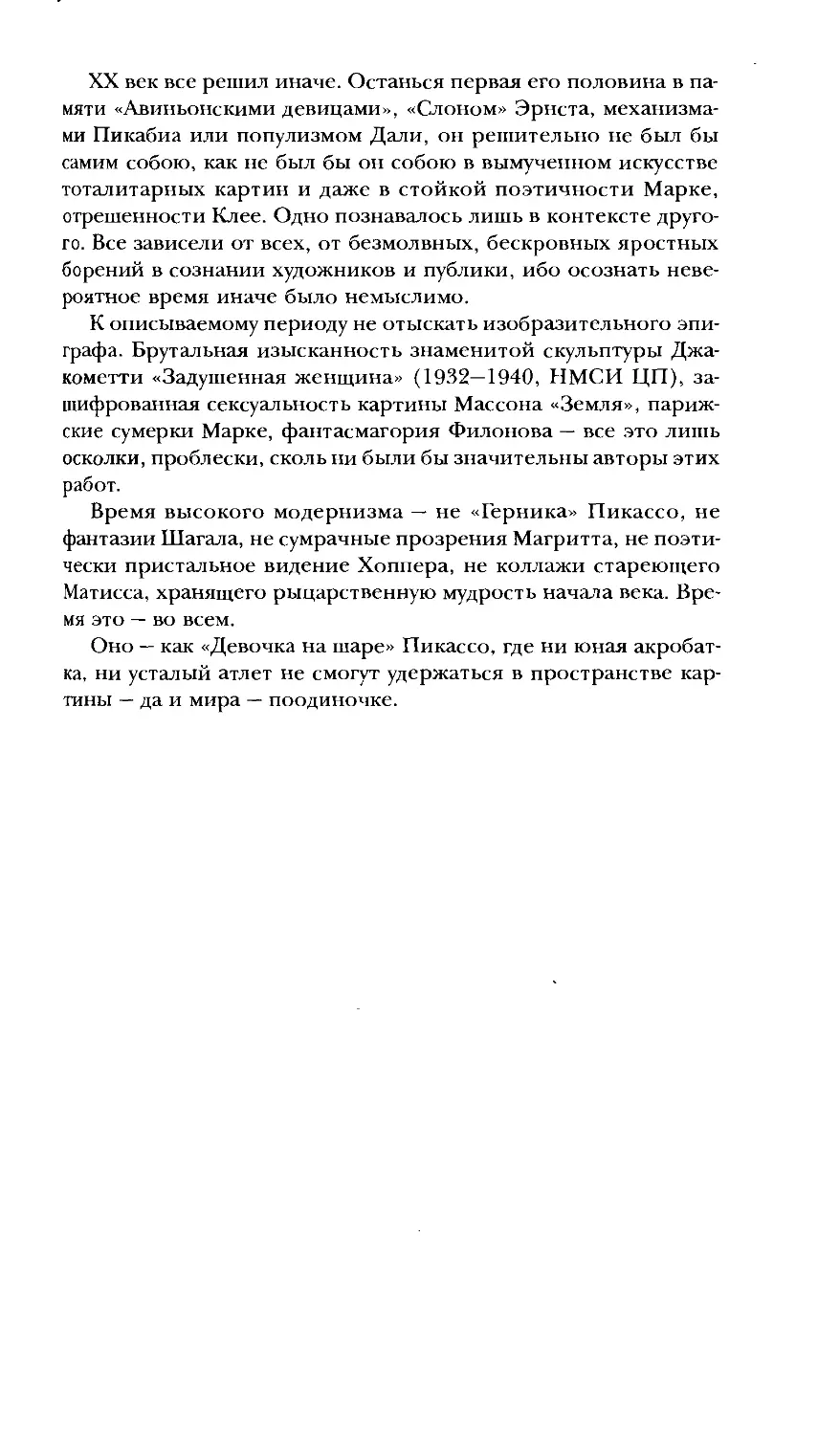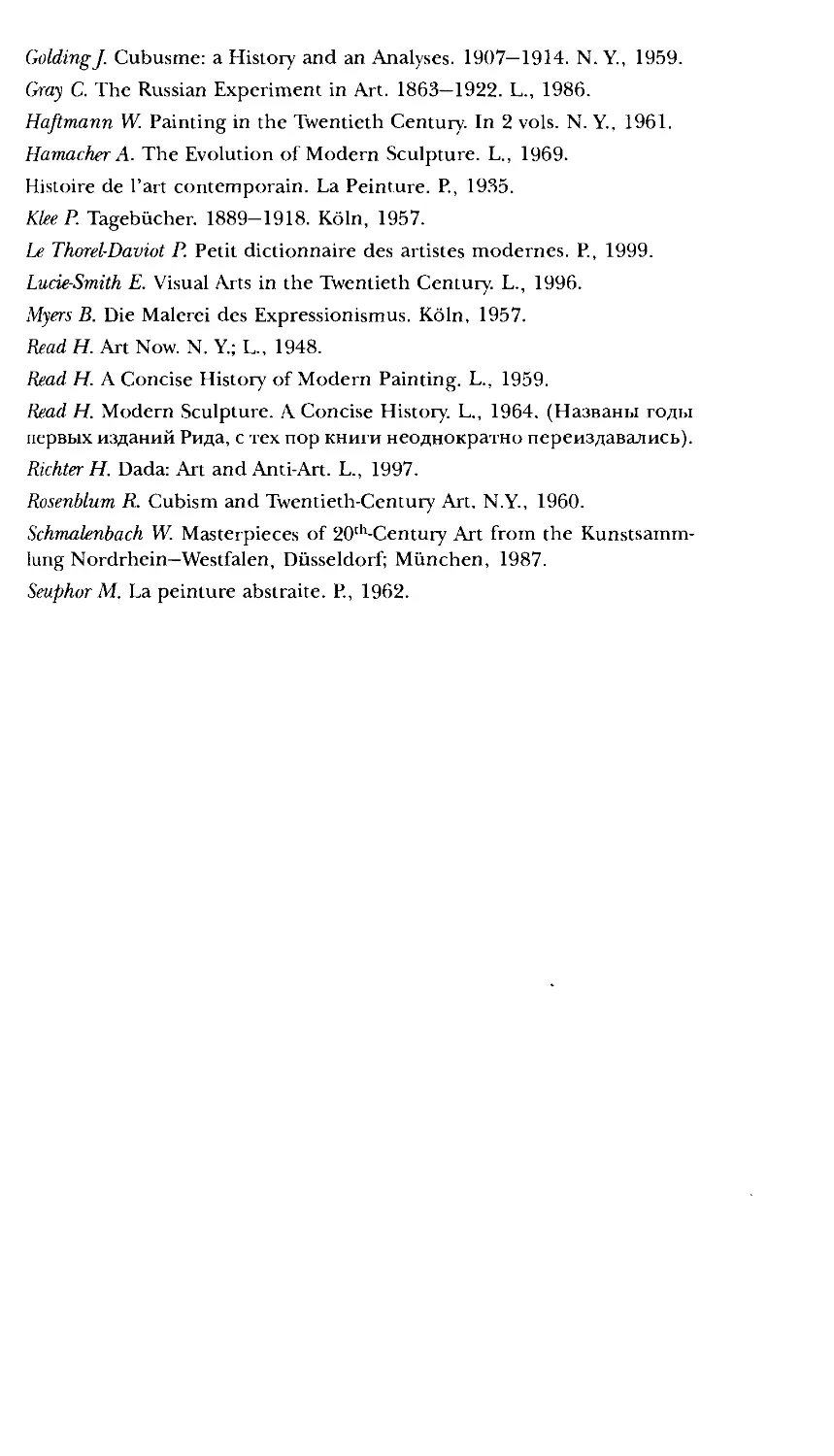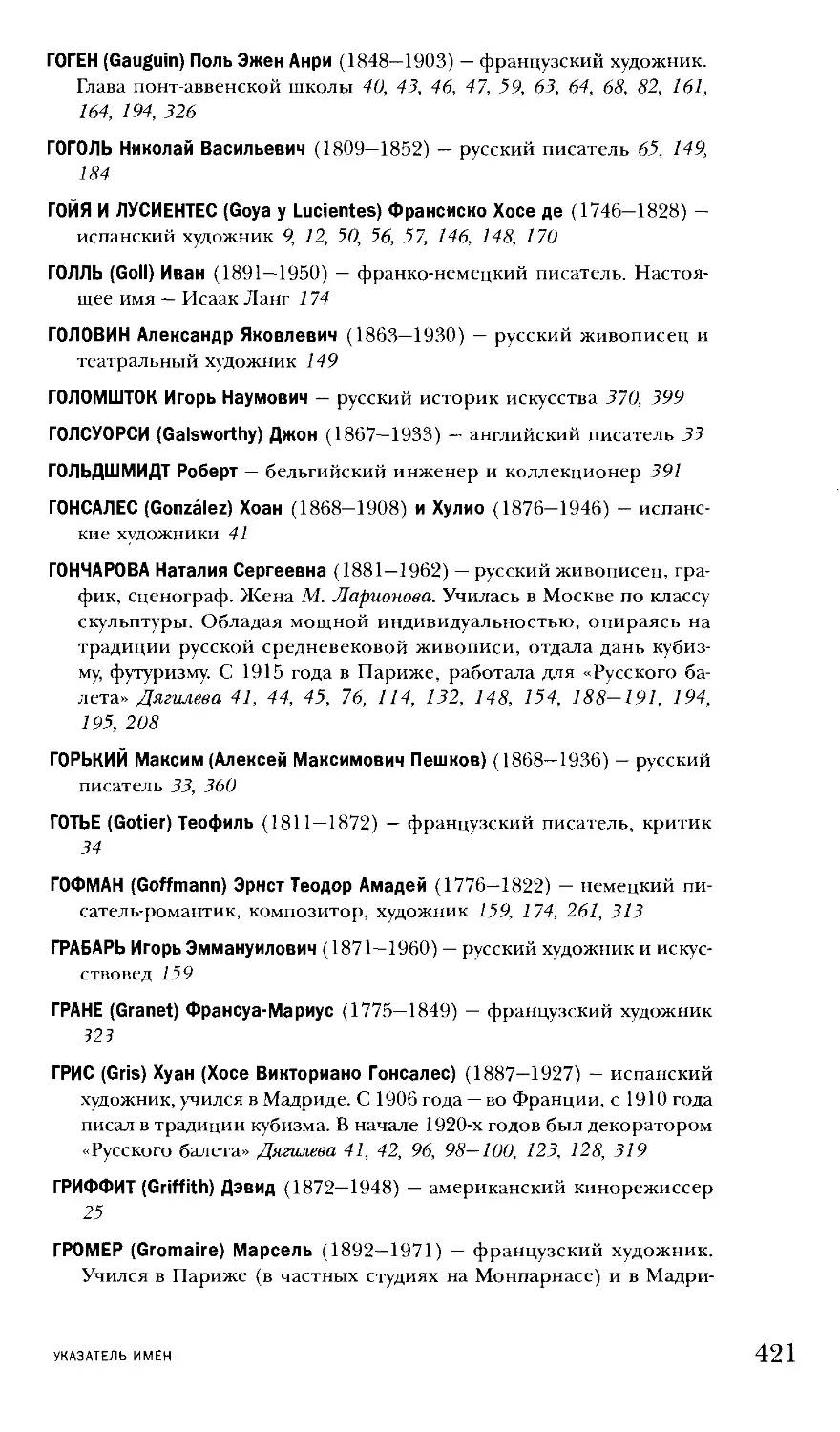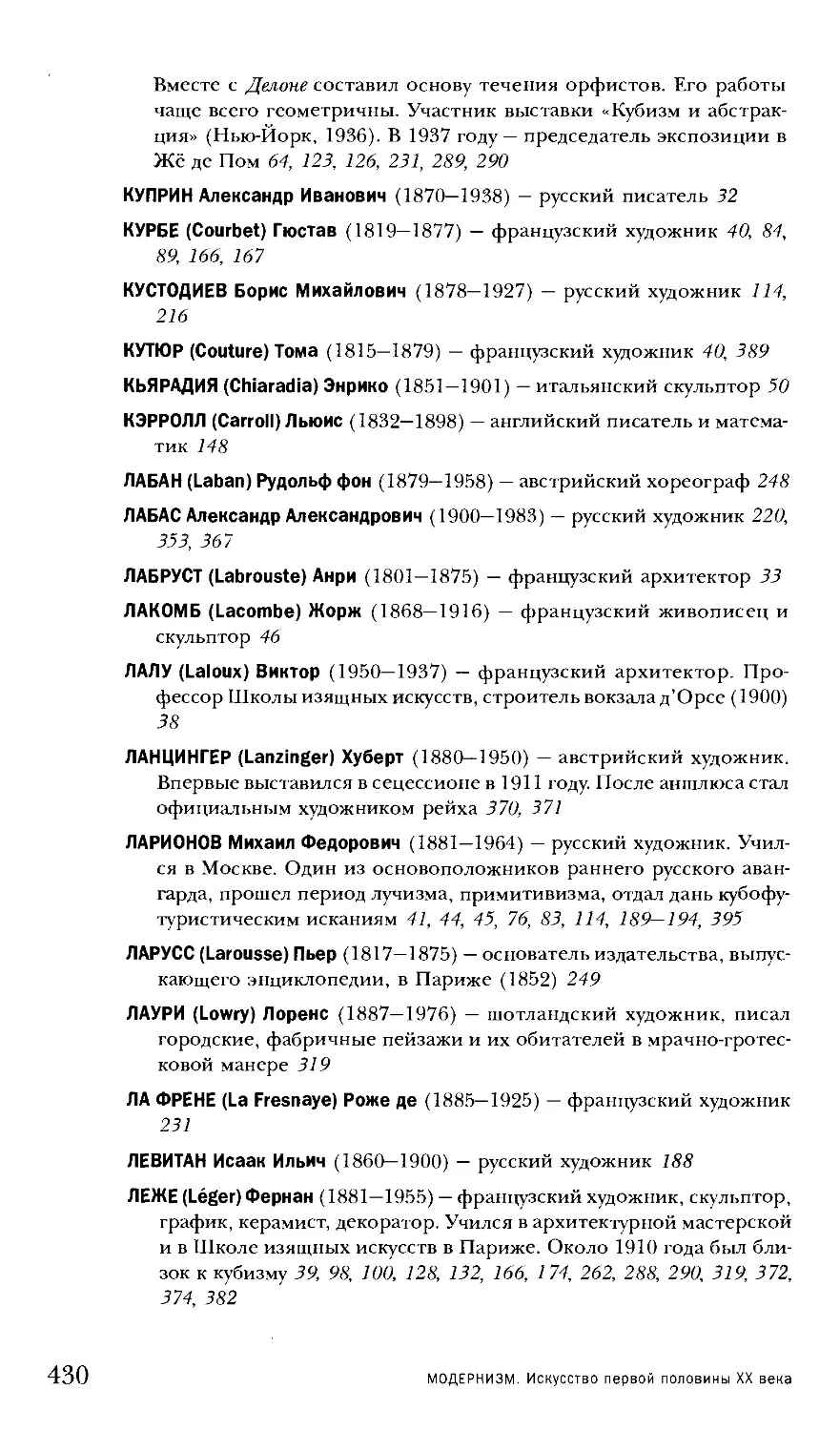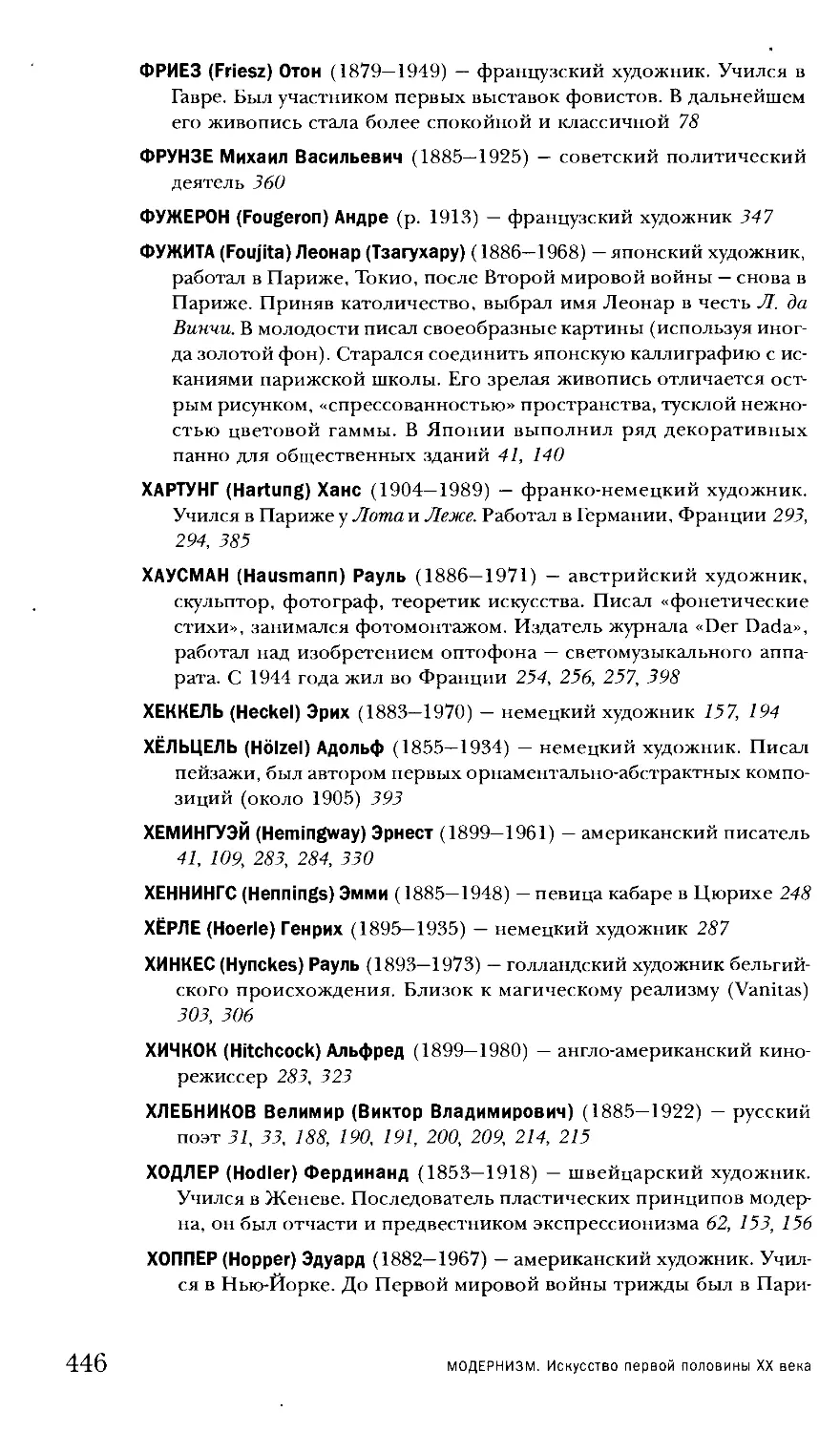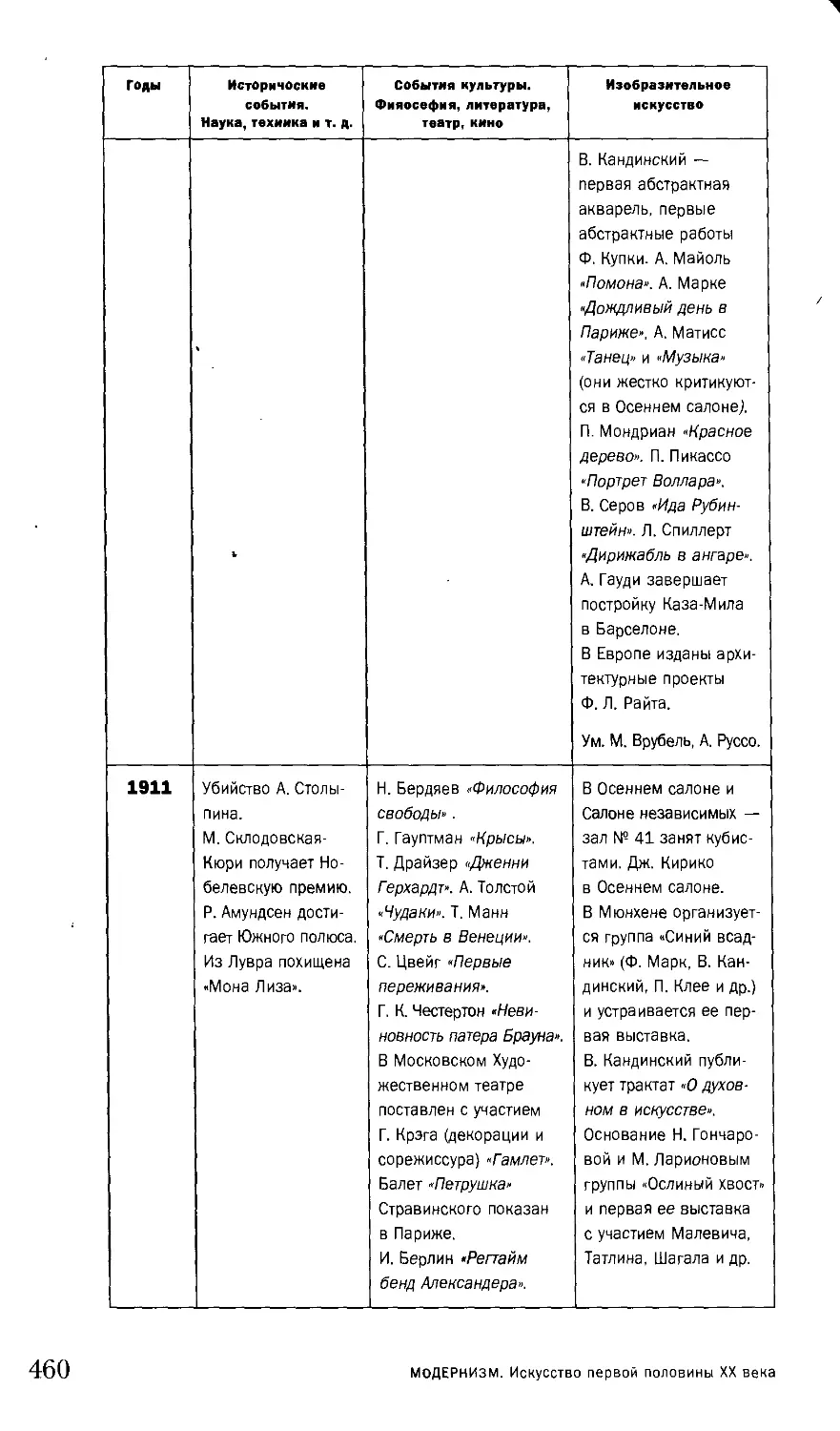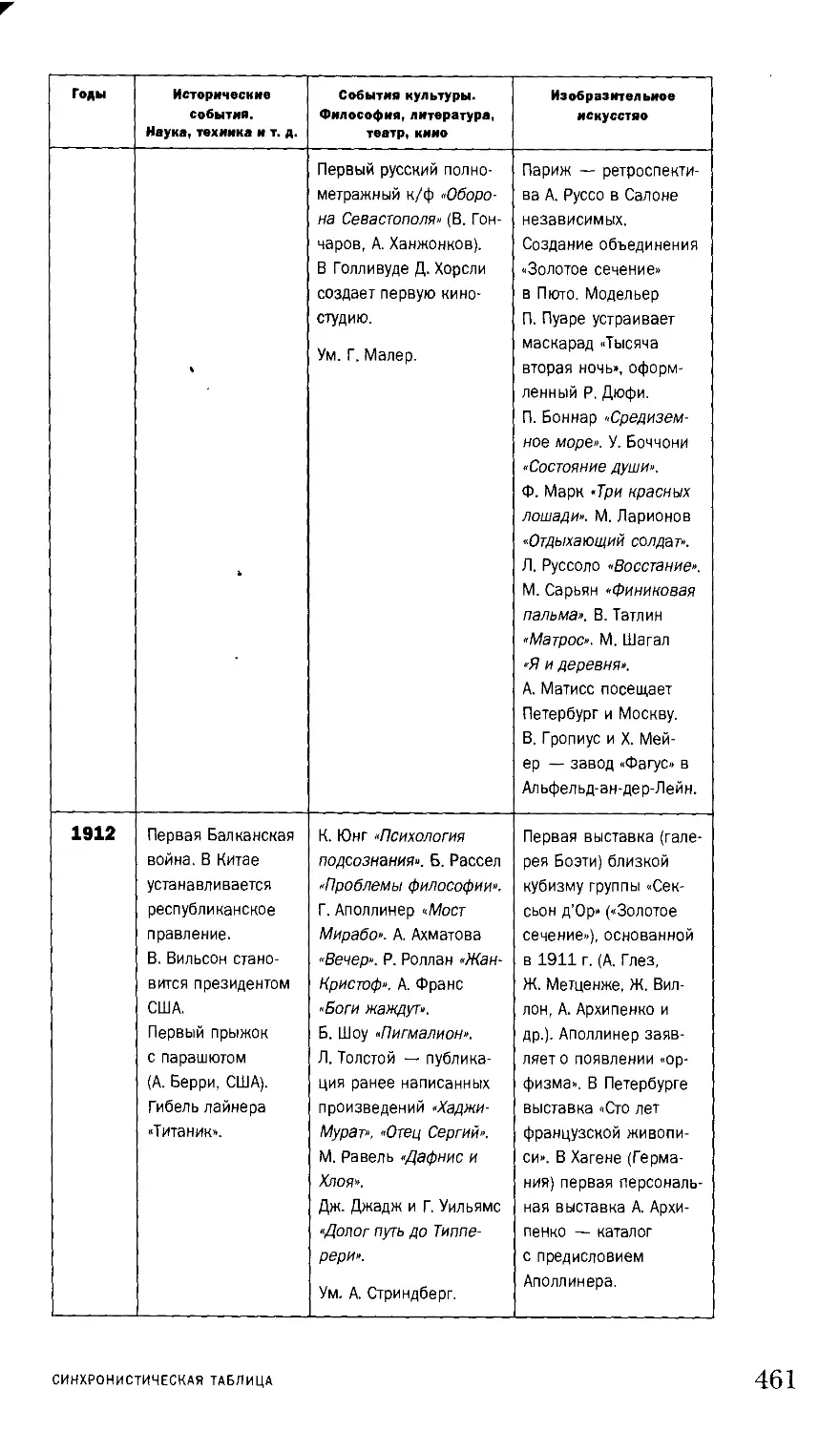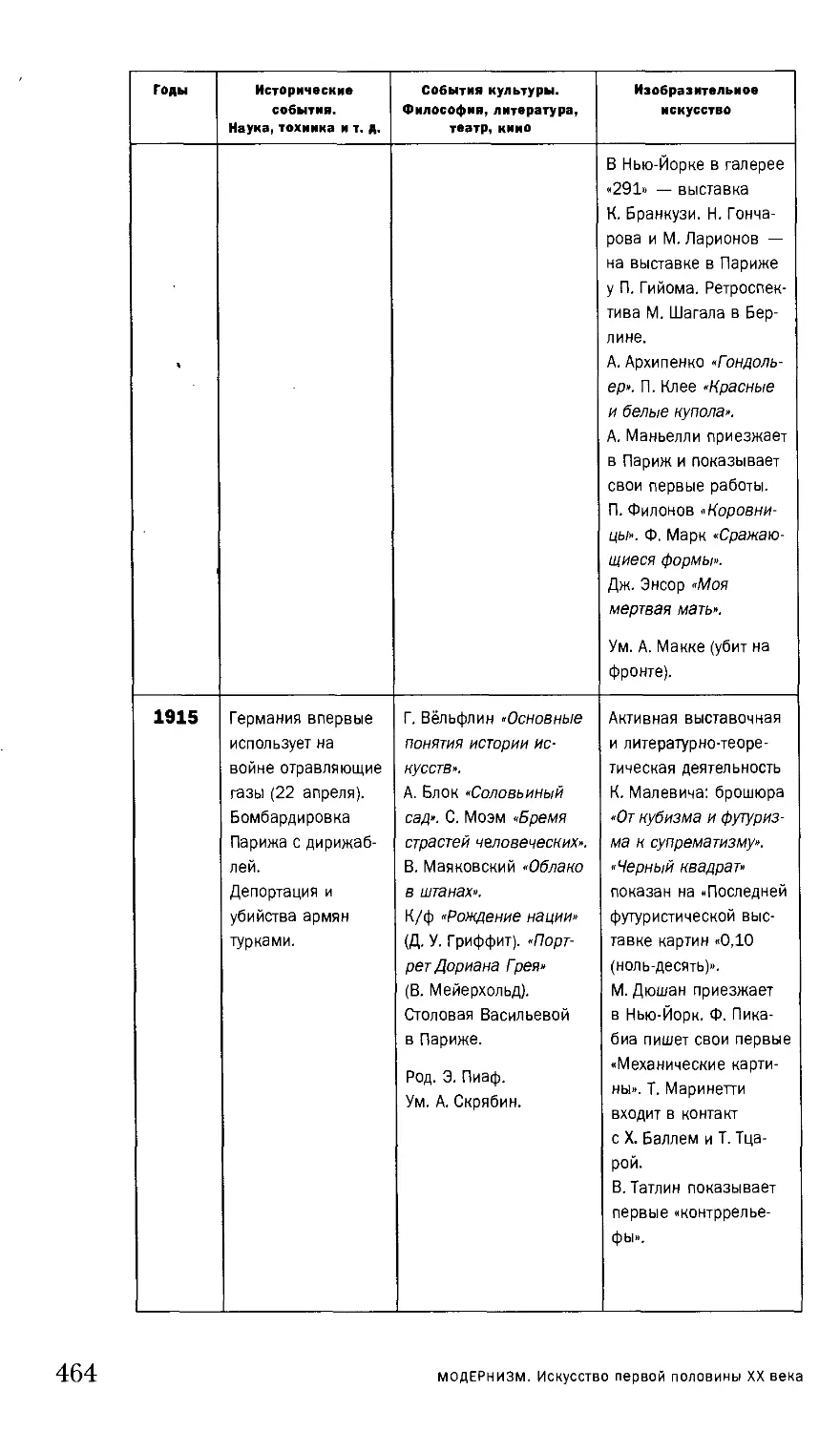Автор: Герман М.
Теги: искусство развлечения зрелища спорт изобразительное искусство искусствоведение мировая культура серия новая история искусств произведения искусства
ISBN: 5-352-00314-0
Год: 2003
АЗ БУКА-КЛАСС И KA
НОВАЯ ИСТОРИЯ ИСКУССТВА
МИХАИЛ ГЕРМАН
НОВАЯ
ИСТОРИЯ
ИСКУССТВА
МИХАИЛ ГЕРМАН
МОДЕРНИЗМ
Серия «Новая история искусства» готовится издательством в сотрудничестве с известными петербургскими и московскими искусствоведами. По существу, это первая издаваемая за последние годы история искусства, учитывающая пересмотренные и вновь установленные факты и использующая богатейшие материалы и концепции, накопленные и разработанные мировым искусствознанием за прошедшее столетие.
Каждая книга, как правило, принадлежит перу одного автора и несет черты его индивидуальности. Все книги серии отличает относительная свобода авторской интерпретации художественных явлений и событий. Изложенный в них материал в отдельных случаях пересекается в историческом времени, ибо стили, течения, школы, мастера и произведения искусства воздействуют не только в пределах однажды отпущенного им жизненного срока, но и на значительной временной дистанции.
Михаил Юрьевич Герман, известный петербургский историк искусства и художественный критик, доктор искусствоведения, профессор, автор более тридцати книг и значительного количества статей. В сфере его интересов — искусство Запада XVIII— XX веков, русский авангард, творчество современных художников. В числе книг М. Ю. Германа наиболее известны: «Антверпен, Гент, Брюгге» (1974), «Уильям Хогарт и его время» (1977), «Ватто» (1980, 1984), «Альбер Марке» (1995), «Михаил Врубель» (1996), «Василий Кандинский» (1998), книга мемуаров «Сложное прошедшее» (2000), «Парижская школа» (2003) и др.
Книга М.Ю. Германа — несомненно, событие в отечественном искусствоведении. Она представляет сложную и многогранную художественную жизнь первой половины XX столетия. В ней подробно и интересно рассказывается о проблемах модернизма, о связях России и Запада, о деятельности таких мастеров, как Сезанн, Врубель, Пикассо, Кандинский, Дюшан, Сутин, Магритт, Шагал и многих других. Оригинальность авторской концепции, необычная структура книги, воспроизведение малоизвестных иллюстраций позволяют назвать этот труд новаторским.
НОВАЯ
ИСТОРИЯ ИСКУССТВА
Древний Восток
Древняя Греция
Древний Рим
Раннее Средневековье
Романский период
Готика
Искусство Византии
Возрождение. Италия. XIV—XV века
Возрождение. Италия. XVI век
Возрождение. Германия, Франция, Голландия
Новое время. Искусство и культура XVII-XVIII веков
Европейский классицизм
Европейское искусство XIX века
Модернизм. Искусство первой половины XX века
Постмодернизм
Михаил ГЕРМАН
МОДЕРНИЗМ
Искусство первой половины XX века
Санкт-Петербург Издательство «АЗБУКА-КЛАССИКА >>
2003
УДК 7.0
ББК 85.1
Г 38
Серия «НОВАЯ ИСТОРИЯ ИСКУССТВА»
Автор проекта доктор искусствоведения С. М. ДАНИЭЛЬ
Авторский коллектив серии:
Л. И. АКИМОВА, доктор искусствоведения
М. Ю. ГЕРМАН, доктор искусствоведения
С. М. ДАНИЭЛЬ, доктор искусствоведения
Г. С. КОЛПАКОВА, кандидат искусствоведения
Ц. Г. НЕССЕЛЫНТРАУС, кандидат искусствоведения
В. И. РАЗДОЛЬСКАЯ, кандидат искусствоведения
А. В. СТЕПАНОВ, кандидат искусствоведения
А. К. ЯКИМОВИЧ, доктор искусствоведения
Оформление переплета В. В. ПОЖИДАЕВА Макет Л. Н. КИСЕЛЕВОЙ, В. Г. ЛОШКАРЕВОЙ
Подбор иллюстраций М. Ю. ГЕРМАНА Подготовка иллюстраций В. А. МАКАРОВА Именной указатель И. В. ХМЕЛЕВСКИХ
ISBN 5-352-00314-0
© М. Герман, текст, подбор иллюстраций, 2003
© «Азбука-классика», 2003
шиеся представления, многочисленные выставки, книги, каталоги соединились в плотный сплав реальности и мифологии, в ту легенду, о которой только что говорилось. Историю искусства едва ли возможно и нужно ревизовать: музеефикация происходит не только в музеях, а «воображаемый музей» в нашем сознании — уже сложившаяся реальность.
В этой книге читатель найдет два основных национальных полюса: Франция и Россия. Что касается Франции16, то ее центральная роль в развитии изобразительного искусства в первой половине XX века практически несомненна. Россия же — страна, в которой и на языке которой книга пишется, страна, чья культура вбирает в себя и эти страницы. Наш взгляд на мировую культуру обусловлен традициями восприятия, выросшими в российской эмоциональной, интеллектуальной и эстетической среде, в известной мере и системой привычных отторжений; лишь понимание нашей национальной зависимости может обеспечить относительную свободу суждений.
По причине названных, вряд ли пока устранимых противоречий книга являет собой некую сумму текстов. Основное место занимает общий очерк, построенный достаточно свободно, со специально выделенными главами, акцентирующими события, проблемы и явления, представляющиеся автору приоритетными, при этом особое внимание уделяется моментам, скажем, торжества направления или стиля, то, что выше было обозначено «звездным часом». Рядом — более частные этюды, посвященные художникам и событиям, занимающим особое и принципиально важное место в XX веке. Завершает книгу подробная синхронистическая таблица, включающая в себя всю необходимую фактологию.
Как было замечено в самом начале, эта книга — индивидуальный взгляд на историю искусства. И, стремясь к необходимой объективности, автор не абсолютизирует подобную цель. Во-первых, она недостижима по определению. Во-вторых, эта гипотетическая объективность лишила бы книгу целостности и той пристрастности, без которой автор книги по истории искусства настолько отдаляется от самого искусства, что просто перестает его видеть.
НОВАЯ
ИСТОРИЯ
ИСКУССТВА
МИХАИЛ ГЕРМАН
SBN 5-352-00314-0
НОВАЯ ИСТОРИЯ ИСКУССТВА
Древний Восток
Древняя Греция
Древний Рим
Раннее Средневековье
Романский период
Готика
Искусство Византии
Возрождение. Италия. XIV—XV века
Возрождение. Италия. XVI век
Возрождение. Германия, Франция, Голландия
Новое время. Искусство и культура XVII-XVIII веков
Европейский классицизм
Европейское искусство XIX века
Модернизм. Искусство первой половины XX века
Постмодернизм
Михаил ГЕРМАН
МОДЕРНИЗМ
Искусство первой половины XX века
Санкт-Петербург Издательство «АЗБУКА-КЛАССИКА» 2003
УДК 7.0
ББК 85.1
Г 38
Серия «НОВАЯ ИСТОРИЯ ИСКУССТВА»
Автор проекта доктор искусствоведения С. М. ДАНИЭЛЬ
Авторский коллектив серии:
Л. И. АКИМОВА, доктор искусствоведения
М. Ю. ГЕРМАН, доктор искусствоведения
С. М. ДАНИЭЛЬ, доктор искусствоведения
Г. С. КОЛПАКОВА, кандидат искусствоведения
Ц. Г. НЕССЕЛЫНТРАУС, кандидат искусствоведения
В. И. РАЗДОЛЬСКАЯ, кандидат искусствоведения
А. В. СТЕПАНОВ, кандидат искусствоведения
А. К. ЯКИМОВИЧ, доктор искусствоведения
Оформление переплета В. В. ПОЖИДАЕВА Макет Л. Н. КИСЕЛЕВОЙ, В. Г. ЛОШКАРЕВОЙ
Подбор иллюстраций М. Ю. ГЕРМАНА Подготовка иллюстраций В. А. МАКАРОВА Именной указатель И. В. ХМЕЛЕВСКИХ
ISBN 5-352-00314-0
© М. Герман, текст, подбор иллюстраций, 2003
© «Азбука-классика», 2003
Новый проект издательства «Азбука-классика» — история мирового изобразительного искусства и архитектуры. Издание осуществляется в сотрудничестве с петербургскими и московскими искусствоведами, признанными специалистами в избранных областях. Тома новой серии, идентичные по основным параметрам, удобны в обращении, превосходно иллюстрированы, снабжены справочным аппаратом. Оригинальность концепции, положенной в основу издания, можно свести к следующим принципиальным моментам.
Каждый том принадлежит перу одного автора. Предполагается относительная свобода авторской интерпретации художественных явлений и событий — в противоположность нивелирующим тенденциям, еще недавно определявшим характер отечественных изданий такого рода. Иными словами, авторский коллектив, включающий ученых трех поколений, в значительно меньшей степени связан условиями предварительного договора о том, как следует мыслить историю искусства. Если противоречия существуют, не надо делать вид, будто их нет, — такая позиция плодотворнее любого искусственно созданного согласия. Каждая книга серии обладает выраженной индивидуальностью. Следовательно, читателю предстоит стать не слушателем хора, но свидетелем и в известной мере участником диалога.
«Распределение» авторов по эпохам не мешает им в отдельных случаях пересекаться в историческом времени, ибо стили, течения, школы, мастера и произведения искусства воздействуют не только в пределах однажды отпущенного им жизненного срока, но и на значительной временной дистанции.
По существу, это первая систематическая история искусства, издаваемая в новейшее время, с учетом пересмотренных и вновь установленных фактов, при использовании богатейших материалов и концепций, накопленных и разработанных мировым искусствознанием.
Адресованные непосредственно изучающим историю искусства, книги новой серии могут быть востребованы и самым широким кругом читателей.
Автор проекта С. М. ДАНИЭЛЬ
KING. Have you heard the arguments? Is there no offence in ‘t?
HAMLET. No, no, they do but jest, poison in jest; no offence i‘ the world.
William Shakespeare. Hamlet, Prince of Denmark.
Act three, scene two
КОРОЛЬ. Вы знаете содержанье? В нем нет ничего предосудительного?
ГАМЛЕТ. Нет, нет. Все это в шутку, отравленье в шутку.
Ровно ничего предосудительного.
Уильям Шекспир. Гамлет, принц Датский.
Акт третий, сцена вторая
(Перевод Б. Пастернака)
ОТ АВТОРА
Каждый историк искусства, многие годы занимавшийся тем или иным его периодом, писавший о нем книги, читавший о нем лекции, даже просто много размышлявший о нем, постепенно — вольно или невольно — приобретает собственное, вполне личностное о нем представление.
Возникает достаточно устойчивая система приоритетов, суждений о том, что было в истории искусства главным, решающим, что характеризовало время и его повороты, какие именно произведения сделались символами, знаками тех или иных тенденций, какие мастера и в какой момент выходили на авансцену художественной жизни, обозначая ее перемены.
Это представление, будучи субъективным по природе своей и по определению, имеет, на мой взгляд, известные преимущества перед неким имперсональным трудом, взыскующим объективности и даже отчасти к ней приближающимся. Хотя бы потому, что объективность никогда не становится, да и не может стать полной, подобный текст является лишь приблизительным суждением, мнимостью, стремящейся казаться реальностью. Полезность таких книг, разумеется, очевидна, как очевидна и их уязвимость.
Авторская история искусства предлагает и даже декларирует сугубо личностное прочтение истории искусства. Разумеется, по отношению к фактам, даже к установившимся терминам, не допускается ни произвола, ни небрежения. Но отбор материала, приоритеты, динамика, оценки — все это предлагается согласно тем представлениям, которые сложились у автора в процессе многолетней работы в своей профессии.
Именно поэтому о некоторых явлениях, художниках, даже произведениях будет сказано подробно, об иных — отнюдь не менее значительных — лишь пунктиром. Дело здесь не в любви автора к тем или иным именам или картинам, но в повышенном внимании к тем событиям, которые, с его точки зрения, наиболее полно и красноречиво раскрывают реальное движение искусства первой половины XX века, его суть, особенности и смысл.
И наконец, главное. Эта книга — прежде всего о произведениях искусства, главным образом — о картинах. Разумеется, и течениям, и теориям, и самим художникам — их суждениям и их судьбам, равно как и проблемам общественного вкуса и историко-культурного контекста уделяется достойное место. Но сами произведения, и только они, — подлинная реальность искусства, на основании которой и современники, и потомки о нем судят.
Значение произведения искусства — в нем самом, а не в предполагаемых сравнениях с реальностью.
Макс Жакоб
ВВЕДЕНИЕ
Веками актер Старался казаться не актером, но своим персонажем, картина уподоблялась природе, и мера, равно как и характер авторского присутствия и авторской интерпретации в произведении искусства определяли его особливость.
И только культура XX века сознательно (в огромной своей части) пошла путем гамлетовских актеров, разыгрывающих «Мышеловку» в сцене на сцене, где «яд в шутку» и, более того, актерам обязательно было постоянно помнить самим и напоминать зрителям, что они — только актеры.
Искушенное и уже отчасти усталое сознание читателей и зрителей согласилось на эту тонкую и захватывающую игру, которая чаще оборачивалась игрою в поддавки, нежели «игрой в бисер». Этот поворот сам по себе не обозначал ни прорыва, ни регресса. Но он был крут и резок: многие понятия покачнулись, сдвинулись с мест и уже на прежние места не вернулись.
Подобной метафорой, разумеется, не исчерпать понятие модернизма. Но можно наметить интуитивный путь к его восприятию, равно как и вспомнить лишний раз: нового в искусстве со времен Шекспира появилось не так много.
Название книги — «Модернизм» — определяет отношение к модернизму лишь как к привычной и принятой в литературе доминанте культуры XX века, но вовсе не как к ее исключительному содержанию.
«Современное искусство» «искусство модерниз ш», «новейнее искусство» — в этих словах уже присутствует оценка: понятие «современный» на уровне обыденного сознания рубежа тысячелетий — синоним хорошего качества1. И именно потому, что словом «модернизм» так часто называют всю культуру XX века (которая вовсе им не исчерпывается), тексту должно предшествовать — хотя бы самое общее — определение заглавного термина.
В этой книге модернизм — прежде всего система новых «художественных кодов», кодов, естественно, визуальных, укорененная в открытиях классического авангарда. Под «авангардом» же в кни
ге подразумевается период «революционного» становления новейшего искусства XX века, субъективно построенного на отрицании2.
Вслед за авангардом модернизм строит свои художественные поиски и открытия уже не на обновлении и углублении пластических и колористических систем и приемов, создававших произведения, в той или иной мере подобные зримому миру, как было то во все предшествующие века. И Тинторетто, и Пуссен, и Гойя, и Мане, и даже Сезанн, заостряя и до предела персонифицируя художественную оптику, отдаляясь (порой, по мнению современников, чрезмерно) от видимого привычным взглядом мира, сохраняли необходимую для узнавания исходного образа связь с природой, и эта вольность интерпретации вызывала гнев, но не ту растеряйность, какая возникает у грамотного читателя при встрече с неведомым алфавитом.
Поэтому здесь и представляется уместным слово «кодирование», иными словами, построение условных визуальных систем, чья декодировка (разгадка, расшифровка) и становится главной составляющей в процессе восприятия.
Эта декодировка в эпоху модернизма все менее основывается на чуткости и художественной искушенности зрителя и все более — на интуитивно или вербально выработанных условиях (конвенциях) между ним и автором. Эти условия возникают в большей мере на основе непрерывно рождающихся текстовых интерпретаций, чьими авторами становятся и сами художники, и критики, и литераторы, и само общественное мнение.
Естественно, что в пространстве модернизма постоянно присутствует потребность все новых перекодировок и их интерпретаций — принципиального условия модернистского прогресса, поскольку «разгаданное», даже просто понятное искусство утрачивает актуальность и привлекательность, а углубление и утончение работы с фактурой, материалом, совершенствование артистизма, «святого ремесла» остается сферой интересов лишь сравнительно немногих художников.
Исключение составляет та художественная тенденция XX столетия, которая, свободно оперируя новейшими пластическими открытиями, оставляет приоритетом «вещество искусства», эстетическую, «молчаливую» ценность произведения. Ее существование определяется, например, творчеством Матисса, Кандинского, Клее, Модильяни, Моранди, Сутина, Дерена, Цадкина, Марка, Макке, Петрова-Водкина, Хоппера и многих других, хотя с нею отчасти соприкасается и «Герника» Пикассо, и иные вещи Де Кирико и Магритта (об определении системообразующих тенденций см. ниже).
Практически развести авангард и модернизм вряд ли возможно, хотя бы в силу хронологического и событийного их перепле
тения и того факта, что действующими лицами обоих явлений часто становились одни и те же персонажи. Постоянное обновление, активное интерпретационное поле, обращение к подсознанию и т. д. — вероятно, важнейшие качества культуры первой половины XX века, общие и для авангарда, и для модернизма в целом, да и для всего искусства этого времени.
Но если для классического авангарда характерно отрицание традиции (хотя бы декларативное), то модернизм уже воспринимал сам авангард как источник, новую классику, систему принципов, которую скорее развивал, нежели подвергал сомнению или опровергал. И вынесенные в эпиграф слова Жакоба: «Значение произведения искусства — в нем самом, а не в предполагаемых сравнениях с реальностью»3 — вполне могут восприниматься одной из самых действенных постоянных величин модернизма.
При всей значительности и объемности историографии XX века, как никогда спешившей писать историю искусства собственного времени, в ней легко просматривается известная агрессивность, равно как и надменность по отношению к предшествующим эпохам. Это естественно. О диковинных переменах в искусстве нового столетия хотели и решались писать именно причастные его тайнам. История современного искусства и продолжает писаться чаще всего как его апология, поскольку оно нуждалось и нуждается в защите от многочисленных нападок, а еще в большей мере — в постоянной интерпретации, толковании, без которых не способно быть полноценно воспринято. А толкование непривычного и многим невнятного языка должно постоянно подкрепляться утверждением его необходимости и новизны.
Неумеренный восторг по поводу совершенной Новейшим искусством революции представляется столь же бессмысленным, сколь и филиппики или ирония в ее адрес. В любом искусстве есть свои вершины, свои потери, свои открытия и свой салон. При этом, как справедливо заметил Коллингвуд, в истории искусства, в отличие от науки, техники, философии, любой период кончается упадком4, тем самым «вершины» разных эпох со временем «уравниваются в правах». Что же касается качественных критериев, то можно обратиться к суждению Гадамера (проигнорированному адептами «внеоценочной»5, «постмодернистской» художественной критики, декларирующей обычно свое восхищение этим философом):
«Современный художник не столько творец, сколько открыватель невиданного, более того, он — изобретатель еще никогда не существовавшего, которое через него проникает в действительность бытия. Примечательно, однако, что мера, которой он подвластен, похоже, та же самая, с которой подходили к оцен
ке творчества художника с незапамятных времен. Она была выражена Аристотелем (да и каких только мыслей мы не найдем у Аристотеля!): истинное творение — то, в котором нет пустот и нет ничего лишнего, к которому нечего прибавить и от которого нечего убавить. Простая, суровая мера»6.
Изменения в искусстве, принесенные XX веком, не покажутся вдумчивому зрителю слишком удивительными, если он будет иметь в виду ту очевидную, но часто забываемую истину, что искусство эволюционирует вместе с порождающей его жизнью и что стремительное изменение пластического языка — не столько дерзкий эксперимент, сколько исторически обусловленная, естественная (во многом и защитная) реакция на новые и совершенно непривычные реалии XX столетия. Испокон веков искусство выполняло функции своего рода эмоциональных и интеллектуальных амортизаторов между реальностью и человеческим сознанием, и в Новое время их роль чрезвычайно возросла (например, «позитивистское зеркало» искусства XIX столетия сменилось в XX веке «разбитым зеркалом», а быть может, и Зазеркальем кубизма, в котором можно разглядеть одновременно с разных сторон, в разных ракурсах и сдвинутых масштабах уже иную, неведомую, с таким трудом воспринимаемую реальность). «Искусство,— писал Выготский,— есть важнейшее средоточие всех биологических и социальных процессов личности в обществе, способ уравновешивания человека с миром (курсив мой,— М. Г.) в самые критические и ответственные минуты жизни»7. И понятно, что для части «потребителей» искусства этот процесс уравновешивания может быть реализован именно с помощью искусства столь же сложного и болезненного, как сама действительность, искусства, «берущего на себя» бремя вживания в эту действительность. А другим потребно искусство охранительное, оберегающее витальность, оптимизм, традиционные ценности, но не музеефицируя и омертвляя их, а выражая их языком нового времени (Матисс).
Названная «роль амортизаторов» возросла, во-первых, в силу резких и быстрых перемен — социальных, эмоциональных, этических, во-вторых, поскольку эти компенсаторные функции искусства стали востребованными куда большим, нежели прежде, числом зрителей и читателей (репродукционная техника, звукозапись, кино и т. д., не говоря уже о возникновении массового усредненного варианта новейшей культуры).
Герберт Рид, автор самых радикальных и талантливых обобщающих (и кратких) трудов по истории современного искусства8, вообще исключил из своей книги о живописи художников, сохраняющих традиционное жизнеподобие, например Утрилло9, Спенсера (стало быть, и Марке, и Эдуарда Хоппера, и многих других!). Такой взгляд скорее подходит для гипотетической
концепции, нежели для книги, претендующей на объективность. Дело не в сравнительном соотнесении фигуративного и нефигуративного искусства, но в том, что вне контекста (включающего все значительное в искусстве) никакое новаторство не может быть ни понято, ни оценено. К тому же XX век и в первой своей половине знает немало грандиозных фигур, парадоксально синтезирующих в себе традиционную предметность и прямой диалог с веком наступающим (поздний Бурдель, Магритт, Бэкон).
«К несчастью, привычка судить в конце концов отбивает охоту объяснять» (М. Блок)10. Современная история Новейшего искусства иногда прямо, чаще подспудно, настаивает если не на единственности, то на предпочтительности нетрадиционных художественных средств. Сам термин «актуальное искусство» предполагает наличие его устаревшей альтернативы, т. е. «не актуального», а объяснение термина «современный» (modern) через термин «сложный» (complex)11 и вообще, ежели следовать логике автора, отводит классике место «простого» (?) искусства.
Тезис более чем спорный. «Похожесть», слишком долго отождествлявшаяся с «понятностью», не более чем миф, с которым зритель (особенно сформированный советской официозной эстетикой) по сию пору не может расстаться. Произведения Брейгеля, Гойи или Сезанна имеют куда более многоуровневую природу как в процессе создания, так и в процессе восприятия, нежели, скажем, кубистические работы Пикассо, не говоря о достаточно прямолинейных работах Роя Лихтенштейна или инсталляциях зрелого Дюшана, определяемых совершенно линейной содержательной программой и столь же прямолинейной, легко исчерпываемой кодировкой.
Существенно и то, что «сложное» (в понимании Рида и его единомышленников), побуждая человека к интеллектуальной игре, вызывает у него мнимое ощущение собственной значительности, в то время как «простое» лишь мнится понятным, но остается закрытым и открывается только непраздному и искушенному взгляду (стоит вспомнить Пастернака, писавшего, что «неслыханная простота... всего нужнее людям, но сложное понятней им»).
Подобного рода противопоставления (оппозиции) — скорее всего следствие затянувшихся теоретических и терминологических баталий. По счастью, появление новых художественных явлений отменяет былое искусство лишь в горячечном воображении их творцов и фанатиков, да и то не всех. Агрессия уходит и забывается. А значительное (и значимое, определяющее и выражающее время) искусство, оно остается и в музеях, и в книгах, и, как составляющая, в творчестве действующих худож
ников, а главное — в нашем сознании и нашей памяти, в нашем «воображаемом музее» (Мальро). Само же искусство модернизма обогащает и обостряет культуру, невиданно расширяет и модифицирует ее возможности, вовсе не разрушая и никак не обедняя классическое наследие. Скорее наоборот. Непредвзятый зритель, отведавший пряный и наркотический плод модернизма, оставаясь в его реальном контексте, с новым интересом откроет и ценность классики, и связи «новейших кодов» с былыми пластическими системами, их единство, их общую «кровеносную систему».
История культуры драматична, порой в ней случаются и трагические страницы, но в целом она исполнена оптимизма, ибо отмечает непрерывный процесс обогащения нашего духовного мира и, в сущности, не знает потерь. Физическое разрушение зданий, сжигание книг или тирания официозной эстетики — следствие людского произвола, но никак не живого и необратимого процесса художественной эволюции. Коллективная память сохраняет в себе былое и сущее культуры, ничего не теряя.
И если взглянуть на историю искусства XX века с точки зрения того, что она обрела, памятуя, что она ничего не отменила, если вооружиться благожелательной терпимостью, а не экстремизмом, которым отмечены равно и горделивый негативизм консерваторов, и всеядная восторженность адептов актуальности, то и здесь нет поводов для сомнений: ушедший XX век предстанет перед нами не только и не столько эпохой борьбы и потерь, но временем хоть и не легко достигнутых, но — обретений.
* * *
Серьезнейшая проблема, встающая перед автором, исследующим историю искусства XX столетия,— в одновременности определяющих ее событий, в неясности приоритетов, в нечеткости динамики.
Что, в сущности, есть главное явление истории искусства?
Направление, анализ которого позволяет определить важнейший вектор ее движения? Чаще всего именно последовательное рассмотрение художественных группировок и направлений становится определяющим методом трудов по истории искусства XX века.
Индивидуальность крупнейшего мастера, ставшего выразителем времени и его главнейших художественных качеств? Рассмотрение «вершин» наследия центральных фигур искусства тоже нередко используется в качестве принципа построения исторического исследования.
Или, наконец, отдельные произведения, становящиеся вехами, поворотными пунктами, открывающими новое видение? Это последнее скорее игнорируется исследователями.
Привычнее и естественнее рассматривать, скажем, историю литературы по персоналиям и национальным школам. Так, рассмотрение творчества Толстого предшествует рассмотрению творчества Достоевского12, Достоевского — Чехова, анализ французской литературы следует за анализом русской (или наоборот) и т. д.
Традиционная история литературы (искусства, театра и т. д.) обычно не исследует движение от, например, «Детства» (1852) Л. Толстого к роману Флобера «Госпожа Бовари», напечатанному, как и толстовская «Юность», в 1857 году, к роману Тургенева «Отцыидети» (1862), к началу публикации «Войны и мира» (1865), завершившейся одновременно с «Воспитанием чувств» Флобера (1869), но, что весьма примечательно, уже после выхода «Идиота» Достоевского (1868).
Примеры, естественно, могут быть продолжены до бесконечности и перенесены в любую область культуры. И если даже история литературы XIX века, рассмотренная в этом неожиданном аспекте, предстает в достаточной мере симультанной, что говорить о живописи или скульптуре в искусстве XX века. Даже ранние работы Пикассо рассматриваются после творчества Родена, Малевича — после Серова, Дюшана — после Кандинского, и изменить этот стереотип столь же трудно, сколь (пока) вряд ли возможно и даже целесообразно, хотя уязвимость этой схемы самоочевидна.
В изобразительном искусстве, где явление картин миру связано с выставками (в том числе уже умерших мастеров), где одновременно появляются созданные порой со значительным временным разрывом произведения, эта проблема еще более запутанна.
Что существеннее: движение фовистов, формирование первого объединения экспрессионистов, ретроспектива Сезанна 1907 года, появление в том же году «Авиньонских девиц» Пикассо, публикации статей Гийома Аполлинера, творчество Модильяни, «Черный квадрат» Малевича, манифест Маринетти? Где располагаются те взрывные сгустки проблем и источники развития искусства, которые определяют саму его историю? В каком контексте и в каком временном периоде рассматривать, например, столь уникальные фигуры, как Хаим Сутин или Моранди? К какому направлению можно (и можно ли вообще) отнести Пауля Клее, равно значимого для эволюции экспрессионизма, дада, абстрактного искусства и даже сюрреализма? Эти вопросы не могут быть решены a priori, но без их постановки или хотя бы обозначения автор рискует впасть в традиционный пересказ и, во всяком случае, обречь себя на те привычные, многократно использованные структурные схемы, которые могут стать преградой на пути к современному пониманию искусства XX века.
Сейчас становится все более очевидным, что рассматривать историю Новейшего искусства как чередование или даже сосуществование устойчивых (не столько в реальности, сколько в историографии) объединений и тенденций — от фовизма и экспрессионизма к футуризму, кубизму, орфизму и конструктивизму, далее к пуризму, беспредметному искусству, дадаизму, метафизическому искусству, сюрреализму etc — значит подменять диалектический анализ и построение хоть приблизительных качественных иерархических структур своего рода исторической инвентаризацией.
Еще более бесперспективно усматривать основное противоречие времени в прямой оппозиции: фигуративное—нефигуративное. Тем более и фовизм, и кубизм, и отдельные крупнейшие мастера начала века (Матисс, Кандинский, Клее, Малевич, Мондриан и др.), каждый по-своему, открывают дорогу к беспредметности (хотя и не каждый идет по ней до конца). К тому же абсолютная абстракция едва ли достижима (как, впрочем, и абсолютная предметность). Вероятно, структура и динамика искусства XX века реализуется в каких-то иных системообразующих явлениях и тенденциях.
Можно предположить с известной долей уверенности, что не только достойные теоретические сочинения мастеров XX века (Кандинский, Клее), но и громкие программы, манифесты, судьбы различных групп, их, если угодно, почти авантюрные или, во всяком случае, весьма занимательные истории с эпатажем, скандалами, многозначительными заявлениями и живописными декорациями (Монмартр, Монпарнас, нью-йоркский Арсенал, Гринвич-вилидж, представление «Победы над солнцем», акции футуристов, буцетлян, дадаистов и пр.) в значительной мере мешают увидеть ни от чего не зависимое значение самих художников, а главное, их работ. И вместе с тем знаменуют принципиальные сдвиги и перемены в культурном сознании и общественном вкусе.
Пикассо, создававший направления и сам от них уходивший, Дюшан, прошедший путь от строгой живописи к первым опытам «дада», поп-арта и постмодернизма (два последних термина появились лишь полвека спустя), Бурдель и Марке, спокойно соединившие XIX и XXI века, синтезировав традиционное жиз-неподобие с жесткими пластическими формулировками и отважными открытиями новейшего времени, Кандинский, прорвавший реальность, чтобы впервые писать (словно с натуры!) внутренние миры сознания, Сутин с его жестокой художественной отвагой, Генри Мур, чьи фантастические фигуры принадлежат равно классической традиции и абстракции,— все это олимпийцы, решительно не вписывающиеся в «направление» и скорее разрушающие целостные представления о группах и тенденциях, нежели их строящие.
Приведенная выше мысль Коллингвуда касательно неминуемого упадка любого периода истории искусства справедлива относительно именно периодов, течений. История искусства XX века, быть может, более чем всякая другая доказывает, что художники и их создания неизменно продолжают, умножают, а то и полностью реализуют то, что не удалось группе или направлению.
«Вся история искусства есть история типов (modes) визуального восприятия»13 (Г. Рид).
Можно лишь повторить: параллельность, одновременность деятельности крупнейших художников создает принципиальные препятствия на пути последовательного рассмотрения их искусства. Не говоря уже о том, что в XX веке как никогда значимы не вписавшиеся в группу, направление или даже некую самую общую тенденцию совершенно «одинокие» мастера.
Кроме того, весьма существенно определить то, что можно было бы назвать «звездным часом» направления или стиля. Ведь, как правило, самые радикальные художественные эксперименты не только имеют свои вершины, но и доказывают свою необходимость для современного воплощения вечных мотивов и тем утверждением их неизменной ценности. К тому же часто это происходит именно на «скрещении направлений».
Поэтому, отдавая должное реальной истории художников, тенденций и направлений, возможно предположить, что XX век — скорее всего история художественных событий и явлений. Явлений, образующих некие общие векторы, независимые от объединений, групп и манифестов.
И явления эти — прежде всего произведения искусства как таковые.
Они и станут основными персонажами этой книги.
* * *
Устремления художников XX столетия все заметнее разделяются в отношении способа постижения и реализации. И далеко не только «рациональный» и «эмоциональный» подходы становятся полюсами этого разделения. Эти категории, ведущие начало (в очень упрощенной схеме) от Пуссена—Сезанна (рацио) и Делакруа—Ван Гога (эмоцио), расслаиваются и частью даже растворяются в иных понятийных плоскостях, которые, можно предположить, становятся в XX столетии определяющими.
Прежде всего это проблема отношений «изображение—интерпретация».
Авангард, настойчиво декларирующий отказ от всякой повествовательное™, сюжетики, литературности, вопреки собственным громогласным заявлениям стремительно обрастал теорией, манифестами, обширнейшим интеллектуальным и вербальным полем. Известно, что первое вполне формальное, утверждающее
внепредметное освоение пространства течение — кубизм — существовало в кипучей литературной лаве, в той принципиально новой среде — не критики (апологетической, объясняющей или осуждающей, как это случалось прежде), но интерпретации, сплетенной с движением литературы программными заявлениями, интерпретации, которая становилась не просто частью искусства, но условием sine qua поп, интерпретации, которая шла не просто рядом с произведением, но подчас и впереди него, а со временем начала в значительной мере и подменять искусство.
Кубизм, воспетый Аполлинером, разъятый и прославленный Глезом и Метценже, ставший предметом теоретических штудий не только во Франции, но и в России. Итальянский футуризм, настоянный на декларациях Маринетти и Боччони, русский кубофутуризм, вообще бывший литературным явлением ничуть не в меньшей степени, чем художественным (см. ниже). Наконец — и это самый красноречивый пример — первые опыты Дюшана («Велосипедное колесо», «Фонтан» и др.), которые вне интерпретации не существуют, ибо, не являясь сами по себе рукотворными произведениями искусства, они имели своей задачей провокацию системы восприятия, слома контекста, что осознается в первую очередь именно и только вербально. Произведения Дюшана (и его аналоги) осуществляют свою художественную функцию, перенося ее на воспринимающую сторону (на реципиента), превращая процесс коммуникации в явление не менее важное, чем сам источник суждений и впечатлений. А вслед за этим — деятельность «Дада», в которой процесс презентации, аранжировки различных явлений и произведений искусства стал решительно доминирующим.
Действительно: удаляясь — в любую сторону — от предметного (традиционного, фигуративного, «реального», термин в данном случае не столь важен) искусства, художник XX века все более испытывает необходимость вербального утверждения, объяснения, а то и теоретического обоснования своего творчества.
В какой-то мере это провоцируется и критикой, и журналистикой, требующей элементарного объяснения энигматических художественных структур, что множит число интервью, а иногда и самостоятельных, но явно вынужденных (как, например, у Матисса) текстов самих художников. Но еще более реализуется в изначально присущем мастерам авангарда «художественном популизме», открытом желании нравиться и быть замеченным.
Крупнейшие мастера XX века — Кандинский, Малевич, Клее и многие другие — писали целые трактаты, разрабатывали теории, методики, утверждали свое понимание новых законов искусства.
Ноу таких, как Кандинский и Клее, образованных интеллектуалов, это оборачивалось созданием неких концепций, смелых и доказательных, особенно для своего времени, но представля
ющих ныне (в отличие от их искусства) лишь исторический интерес. А главное, ничуть не мешающих восприятию их грандиозного наследия.
Что же касается Малевича, то у него вербализация метода приводила к двойственному результату. С одной стороны, художник словно бы старался возвести рядом с величавым зданием своего искусства гигантское, но неустойчивое теоретическое здание, стоявшее на рыхлом фундаменте недостаточной образованности, здание эклектичное, порой скрывающее в своей тени подлинные достижения его художественной практики. С другой, его темпераментные и вдохновенные теоретические суждения становились основой определенной художественной методики, принесшей немало пользы и привлекшей множество увлеченных адептов, но школы, несомненно, фанатичной, нетерпимой, исполненной вполне большевистского максимализма.
Итак, вслед за диадой «рациональное—эмоциональное» возникает, стало быть, новая и еще более глобальная: 1) искусство, существующее вне зависимости от интерпретации, и 2) искусство, вне интерпретации попросту не существующее.
И наконец, специфическим явлением XX века становится мощное ответвление второй тенденции: интерпретация, оборачивающаяся игрой. Своего рода агрессивным лукавством, которое то существует как один из ходов в вариативном веере (как порой у Пикассо), то как основная задача — от Дюшана до Энди Уорхола (см. главу V. «Artifex ludens*»14).
И эта тенденция — тенденция игры — постепенно, но неумолимо превращается из ответвления в настойчивую устремленность, а в послевоенное время, в пору поп-арта и складывающегося постмодернизма, — в доминанту. От века присущие искусству понятия трагедии, катарсиса, этической ответственности, культуры ремесла уходят на периферию творчества. Если у Кирхнера, Мура, Пикассо, даже у Эрнста или Миро в довоенные годы игра была составляющей в художественной структуре, выражающей трагедию, то во второй половине XX века самые серьезные, грозные мотивы реализуются в значительной мере по правилам игры и катарсис если и возникает, то как вспышка интеллектуальной активности, как ощущение мгновенной и острой конгениальности, разгадки, пересечений напряженных, но рациональных ассоциативных рядов автора и зрителя.
Поэтому, при множественности пластических структур, тенденций, направлений, индивидуальных новаций, усиливающийся вектор игры, вероятно, остается основным в динамике искусства первой половины XX века. В значительной мере это суждение подкрепляется тем, что предшествующее (условно говоря,
* Художник играющий (лат.).
классическое) искусство исключало игру из приоритетов, воспринимая ее как часть мотива, сюжета, но отнюдь не как художественный принцип.
Все это и позволяет говорить о трех принципиальных тенденциях (лежащих отчасти в разных пространствах, порой пересекающихся или проникающих друг в друга), которые просматриваются в искусстве XX столетия с достаточной ясностью. Они не разделены резкой границей и предлагаются на этих страницах не как концепция, а как рабочая конструкция, как метод рассмотрения, дающий возможность не жесткой классификации, но некоторой конвенциальной структурированности.
Одна из них — «романтическая», «эстетическая» — «сохраняет молчание», довольствуясь самой художественной структурой (фовисты, Марке, Модильяни, Утрилло, Мур, Сутин, Моранди и др.). Диапазон искусства такого рода достаточно широк: от соприкасающихся с абстракцией иных работ Матисса до мощных обобщений Марке и поэтического фотореализма Хоппера.
Вторая — устремленная к постоянному формотворчеству, снабженная (или нет) теоретической базой и обильным истолкованием, но существующая и сама по себе — независимо ни от чего создает новую действительность в постоянно модифицируемых, пластически самоценных кодах, не обязательно уходящих от предметного мира (Кандинский, Кирико, Марк, Пикассо, Шагал, Клее, Руо). Именно на этом «языке», понятном без слов, страстном и постоянно модифицирующемся, искусство XX века говорит о боли и мыслях времени.
Третья — укоренена в интерпретации и существует лишь в диалоге, в плазме дискуссии, объяснения, вербализации (Дюшан, футуристы, будетляне, дадаисты, в большой мере сюрреалисты), постепенно оборачиваясь игрой и втягивая в поле своего притяжения самые разные тенденции и имена, модифицируясь из ответвления в игровую доминанту XX века. В это пространство временами проникают едва ли не все ищущие и мятущиеся таланты XX века — от Пикассо до Джакометти и Дельво. Это естественно: культуре XX столетия ведомы и мрачные бездны бессознательного, и лукавые его карнавалы.
И наконец, четвертая тенденция, обозначение которой, вероятно, более всего дискуссионно15.
Особое место в XX столетии занимает искусство, сохраняющее традиционную фигуративность, жизнеподобие, то, что в обыденном сознании ассоциируется с понятием «реализм». Помимо искусства просто консервативного, салонного, даже обскурантистского (о котором нет смысла серьезно говорить), натуралистическая изобразительность как язык, традиционно понятный инертному зрителю, используется чаще всего в совершенно специфических целях.
Речь не идет о поэтическом и вольном сочетании фигуративное™ с лапидарной и острой выразительностью, напитанной радикальными достижениями новейших исканий, примером чецу может служить живопись Марке, Сутина, Утрилло, Петрова-Водкина, Веры Пестель, Модильяни или Громера. Такого рода мастера, в сущности, столь же свободны и современны в области формы, сколь и радикальные ее обновители. В их искусстве мотивы, метафоры и даже подобия обыденной реальности, эстетизированные и преображенные индивидуальным восприятием, соотнесенные в особых художественных отношениях, созидают иные миры.
Имеется в виду иное — те устремления в искусстве, которые, оперируя традиционными формами, используют их:
— либо в совершенно необычном сочетании, создавая структуры, которые можно было бы назвать и натуралистическими, и метафорическими. Здесь в первую очередь речь идет о сюрреалистах, хотя и далеко не обо всех, игра и многосмысленность в искусстве которых заключаются не в необычности форм, но в неожиданном сочетании несопоставимых явлений;
— либо для создания своего рода «утопического натурализма», где возникает продуманная и чаще всего злокозненная «игра идей» или «игра идеями», клонящаяся к наркотическому воздействию на зрителя, примерами чего может служить официозное искусство нацизма и советского тоталитаризма. Такого же рода утверждающими сущее как образец бытия мифологемами становятся иногда и гиперреалистические поиски американцев.
И — еще один парадокс — подобного рода манипулирование жизнеподобием ближе всего именно играм, брутальным играм XX века.
Разумеется, между названными тенденциями есть некое нейтральное пространство, в котором существуют весьма значительные имена и явления, есть разнообразные поля напряжения, но главные векторы представляются определяющими.
Что касается структуры хронологической, временной эволюции, то здесь проблема кажется несколько более ясной.
Довоенные годы, период канунов, тревоги, смутных предчувствий отмечен поисками новой «оптики», новых средств для «уравновешивания человека с миром», согласно приведенной выше формулировке Выготского. Это время становление авангарда — от фовизма до «Авиньонских девиц» и первых абстракций Кандинского — переходит в пору, которую можно было бы назвать парадом деклараций: кубизм, футуристы, русские ничевоки и будетляне, супрематическая теория Малевича, орфизм (скорее Аполлинера, нежели Делоне) и, наконец, апофеоз, когда искусство просто заменяется его режиссурой с многочисленными манифестами и манифестациями, — дадаизм. Внутри этих событий
(часто и просто рядом с ними) существует прекрасное искусство, но его бытование в большой мере заглушается раскатом интерпретаций и громогласных заявлений.
После войны декларация сюрреализма (1924) становится последним действительно масштабным событием в напряженной цепи самоидентификации первых десятилетий XX века. Потрясенное сознание человечества в послевоенные годы взыскует простых ответов на слишком сложные и мучительные вопросы, что, естественно, интенсифицирует новое дыхание фигуративного искусства, впрочем уже отказавшегося от традиционного жизнеподобия и вобравшего в себя достижения новых пластических кодов.
Самые же радикальные формальные течения, самые сложные условные художественные коды постепенно оборачиваются несколько отвлеченным, успокоенным явлением, обретают почти академическую респектабельность, теряют прежний стремительный динамизм.
Это создает парадоксальную для русского зрителя ситуацию, когда искусство чистой формы воспринимается как «материальное», академичное, отчасти и старомодное, а возвращение к фигуративное™, социальным проблемам трактуется зачастую как новаторство и идеализм.
Впрочем, близящийся апокалипсис Второй мировой войны вносит в искусство самых разных направлений и самых несхожих художников некую настороженную угрюмость, маркирующую почти все явления тогдашней культуры.
Вероятно, может быть предложена и иная схема. В любом случае именно обозначенная структура положена в основу исторического анализа на этих страницах.
Сколько ни тщился бы, однако, автор уйти от сложившихся стереотипов, они сохраняют над ним и его суждениями власть, поскольку появились в результате добросовестного труда многих поколений историков и несут в себе если и не окончательную, то выверенную временем информацию, представления, своего рода легенду, которая, в свою очередь, утвердившись в сознании многих поколений художников и зрителей, стала реальной частью искусства.
Ибо, как само искусство, наше знание о нем имеет традицию, без которой невозможно никакое движение.
Так, желая расширить географию привычных представлений об искусстве XX века, историк старается дистанцироваться от сложившейся геохудожественной схемы (Парижская школа, фовизм и кубизм — Франция, экспрессионизм — Германия, футуризм — Италия, супрематизм — Россия и т. д.) или расширить эту схему. Стремления такого рода заслуживают уважения, но остаются частными экспериментами. Накопленное знание, сложив-
I. «ИСКУССТВО МОДЕРНИЗМА». ИСТОКИ, СРЕДА ОБИТАНИЯ
Русская живопись, пресыщенная повествовательностью, традиционной совестливостью, сделала мощный рывок в сторону авангардного негативизма. Рывок куда более резкий, чем на Западе, поскольку там путь от импрессионизма, Сезанна, Ван Тога, «Наби» к фовизму, кубизму и далее полной беспредметности был куда более постепенным и последовательным. Русские меценаты (Морозов, Щукин), составлявшие коллекции картин самых радикальных французских мастеров, Дягилев с его «Русскими сезонами» также способствовали переменам в «культурной геополитике».
Прежде русская культура с ее настойчивым ригоризмом и ли-тературоцентризмом отдавала предпочтение социальным и этическим ценностям. Развитие символизма и его пластического языка (стиль модерн), архитектура модерна с его настойчивым стремлением к синтезу искусств (в Москве осенью 1902 года открыта была большая выставка «архитектуры и художественной промышленности нового стиля», где представлены были и иностранные мастера), вообще активный рост синтетизма (и просто эстетизма) в русском искусстве, ослабление профетических страстей стали важной вехой на пути движения к интернациональной системе ценностей.
Сближение русской культуры с западной было, конечно, лишь частью глобального интеграционного процесса, ведущего к размыванию границ национальных школ. Они оставались и остаются, разумеется, но множество деятелей искусства переносят уже с начала XX века процесс своего творчества в иную национальную среду.
Революция, затем становление тоталитарных режимов в СССР, нацистской Германии и фашистской Италии способствуют массовой эмиграции — И. Бунин, В. Набоков, М. Шагал, В. Кандинский, Т. Манн, Л. Фейхтвангер, всех не перечесть. Особый феномен XX века — литература, обретающая второй язык (Уайльд, Набоков).
Все это помогает, разумеется, и становлению мощных транснациональных течений, выходящих за пределы одной страны (в первой четверти века особенно ярко и декларативно это сказалось на примере дадаизма — см. ниже). Движение культуры именно с начала 1900-х годов можно естественным образом рассматривать как явление в большой мере транснациональное.
Следует, однако, иметь в виду, что историческая оценка периода и его самосознание обычно рознятся. На рубеже столетий и в начале XX века эта разница принципиальна.
Культура той поры, воспринимаемая сейчас как романтический, блестящий и в высшей степени плодотворный период, период взлета, новых исканий, дерзких новаций, становления невиданных художественных систем и теорий, зарождения и бурного развития авангарда, вовсе не ощущалась современниками как счастливая, светлая или даже просто прогрессивная эпоха.
Именно тогда появилось слово «decadence»1 — «декаданс» (упадок) как термин самоидентификации культуры и всего жизненного уклада, включая нравы и общественный вкус. Изыск соседствовал с откровенной банальностью, новаторы возвращались к классике, стилизация казалась простотой, естественность — манерностью. Либеральный читатель и зритель ощущал время как глубокий упадок, сами деятели искусства его бранили и одновременно им наслаждались. Панно Климта, написанные в 1903 году для Венского университета (не сохранились), имели большой успех, но были убраны «за порнографию», а художник подвергся судебному преследованию. История повторяется со столь же изощренным рисовальщиком и живописцем Эгоном Шиле — в 1912 году он проводит месяц в тюрьме «за порнографию». Обыватели ощущали опасность в этих художниках — не столько, разумеется, из-за их действительных недостатков (претенциозности, размытости вкуса), сколько из-за обнаженной душевной напряженности и открытого стремления к индивидуальному выражению интимных переживаний.
Прежние идеалы исчезали, новые казались опасными и разрушительными, и за дымящимися руинами прежних художественных иллюзий едва ли различались новые вершины. Несомненным было лишь осознание тления, разочарования, конца.
«Резкое расхождение прошлого и настоящего — характерный признак нашего времени, объясняющий тревогу в душе нашего современника. Мы чувствуем, что вдруг оказались на земле в одиночестве, что мертвые умерли не в шутку, а по-настоящему, что они уже никак не могут помочь нам»2 (X. Ортега-и-Гасет, 1930).
Поздняя проза Толстого и Чехова исполнена горечи и разочарования в этических и социальных идеалах уходящего столетия. Т. Манн в раннем романе «Будденброки» искусно показывает гибель духовного начала в среде немецкого респектабельного филистерства, А. Франс в «Острове пингвинов» с отстраненным ледяным блеском превращает в трагикомедию саму историю Франции, обычно рассматривавшуюся если и не романтически, то с долей национальной гордости.
Новым нередко представлялось, да и было, противоположное — Чехов и Хлебников, Пруст и Аполлинер, А. Жид и Стрин-дберг, Д’Аннунцио и А. Франс, Бунин и Блок. То же и в театре: Театр Антуана и Московский художественный с их культом документальной бытовой подлинности так же спорили с театральной академической условностью, как и сверхформальный театр Вс. Мейерхольда, при этом Станиславский приглашал в Москву Гордона Крэга для постановки и оформления «Гамлета».
Стремление радикально мыслящих художников нового поколения ценить только «современное», их отказ от традиции снижали роль не только прошлого, но и будущего, делая его словно бы разгаданной частью сегодняшней реальности.
Э. Гимар. Вход в метро. Париж. 1900. Фотография
Многое воспринималось искусством рубежа веков прежде всего как нечто пусть и прекрасное по-своему, но соединенное с распадом, безнравственностью, даже уродством. Тенденция имела давние корни: знаменитые стихи Бодлера «Падаль» (Une Charogne) (ок. 1843) еще в середине миновавшего столетия утверждали эстетику, независимую от реальности, красоту, оторванную от сути события или предмета. Это позднее нашло развитие у П. Верлена, А. Рембо.
Для многих писателей новых поколений наступившего века подобное становилось нормой, и творчество их заметно колебало не только привычную иерархию моральных ценностей, но и привычные литературные формы.
Появление в 1902 году книги влиятельного итальянского философа Бенедетто Кроче «Эстетика как наука о выражении и общая лингвистика», где обосновывалась доминанта экспрессии, художественности над копированием действительности, подводило итоги минувших достижений в искусстве и утверждало необходимость формального поиска.
Андре Жид, заявивший уже названием своего нашумевшего романа «Имморалист» (1903) отказ от нормативных этических понятий, вводит в культурный обиход принципиально нового, холодно рефлектирующего героя и нового рассказчика, не сочувствующего и не обвиняющего, но лишь фиксирующего приметы людей и времени, стремящегося, по словам самого автора, «оттолкнуть от себя культуру, приличие, нравственность». В этом отношении герой Жида близок персонажам А. Жарри («Сверхмужчина», 1902) и даже Томмазо Маринетти. Поэзия Г. Аполлинера завораживала не только трагической мощью и философичностью, но и дерзким экспериментом, связанным с поисками кубистов и футуристов, даже созданием стихов-изображений («Каллиграммы», 1918), вошедших в эстетику дадаизма.
В русской литературе трагизм, ощущение близких и опасных перемен реализуются по-разному — от мучительных предчувствий раннего Бунина, воплощенных в блестящей, сухо живописной, но традиционной прозе, от вполне «разночинных», но мастерски и психологично написанных лучших рассказов Куприна — до инфернальных фантазий Леонида Андреева. И все же в прозе — и в России, и на Западе — мощь традиций минувшего века по-прежнему во многом доминировала. Последние публикации Л. Толстого, масштабные и глубокие произведения Т. Манна,
П. Абади. Санре-Кёр. Фотография
М. Горького, Дж. Голсуорси, Дж. Лондона и Р. Роллана — все это способствовало устойчивости высокой и в значительной мере традиционной прозы. Даже самый отважный эксперимент в литературе 1920-х — Гессе, Кафка, Джойс — основан на достижениях прозы именно классического толка.
Поэзия отличалась большей радикальностью. Новые ритмы и системы метафор, неологизмы, поиски принципиально нового языка (Аполлинер, Крученых, Маяковский, Хлебников) во многом сближали поэтов с художниками авангарда. Достаточно напомнить о выступлениях Аполлинера вместе с кубистами, о совместных акциях отечественных
поэтов с художниками-футуристами. В этом смысле Жерар де Нерваль, в угоду собственным причудам прогуливавший в Пале-Рояле ручного омара на лиловой ленте, был предшественником и близким родственником будетлян с деревянными ложками в петлицах.
Но конечно, более всего зримо и заметно авангард как центральное явление художественной культуры 1900 х годов заявлял о себе в пластических искусствах.
Выставочная деятельность была тогда и бурной, и сенсационной. Символично: с ней были связаны многие принципиальные события в архитектуре рубежа веков, а стало быть, и изменение среды обитания, как художественной, эмоциональной, так и чисто бытовой. Век «открылся» Всемирной выставкой 1900 года. Тогда же вводится в эксплуатацию парижское метро, оформленное Э. Гимаром, что тоже, несомненно, стало заметной художественной акцией, недаром стиль ар нуво, который в России называют модерн, во Франции нередко именуют «стиль метро».
Городское пространство второй половины XIX века менялось решительно и резко. Новые технические возможности, открытые инженерной мыслью XIX столетия, сделали реальными принципиально новые архитектурные решения. Развитие строительного искусства в Англии, США и иных странах отчасти 1 опережало Францию, но за ее пределами было не так заметно и сильнее интегрировано в общекультурный процесс (прологом истории новой архитектурной стратегии справедливо считают I османовскую перепланировку Парижа, конструкции оранжерей, I знаменитого зала библиотеки Св. Женевьевы, построенного Ан-I ри Лабрустом в Париже в 1850 году). «Кйк только мы обратимся к новым материалам, которыми снабжает нас современная
инда стрия, возникнет новая современная архитектура. Применение железа сделает возможным и вызовет к жизни множество новых форм, подобных тем, какие мы видим в зданиях вокзалов, висячих мостах и сводчатых покрытиях зимних садов»3,— писал Готье именно в 1850 году.
Символом новой архитектуры традиционно считался знаменитый лондонский Хрустальный дворец («Кристалл палас»), по-
строенный архитектором Джозефом Пакстоном в 1851 году без использования камня, кирпича или дерева только из железа и стекла и предназначенный для первой Всемирной выставки. Новые возможности металлических конструкций, рождаемые технической отвагой зодчих, открывающих новый век, точно соответствовали прагматическим нуждам времени, его новому размаху и совершенно непривычной социальной ориентированности.
3. Мане. Железная дорога. 1873
В этом отношении этапной была и постройка в 1876 году Г. Эйфелем и Л. А. Буало здания знаменитого универмага «Бон-Марше» (по сути своей торговые залы являют собой тоже вариант залов экспозиционных). Это была новая философия архитектуры, связанная с новой философией потребления. «Дворы, превращенные в залы, были щедро застеклены. С нижнего этажа поднимались железные лестницы, а в верхнем, с одной стороны на другую, были перекинуты железные мостики. Архитектор, молодой человек, влюбленный во всякую новизну... использовал камень только в подвалах и для столбов, весь же остов сконструировал из железа, подперев колоннами сеть балок и перекрытий. <...> Всюду было очень просторно; воздух и свет имели сюда свободный доступ, публика беспрепятственно двигалась под смелыми взлетами далеко раскинутых ферм. Это был храм современной торговли, легкий и основательный...»4 — писал Золя о тревожной поэзии новых универсальных магазинов (его «Ап Bonheur des Dames» — обобщенный типологический портрет реально существовавших «Лувра», «Бон-Марше» и других гигантов новой коммерции). В начале века в Брюсселе был воздвигнут огромный магазин «Инновасьон» (В. Орта, 1901), а чуть позднее на берегу Сены поднялся эффектный корпус универмага «Самаритен» (Ф. Журден, 1905).
Пространственные и конструктивные решения вокзалов, ставших обрамлением и средой обитания новых представлений
К. Моне. Вокзал Сен-Лазар. 1877
о движении, скорости, стремительном преодолении расстояний, значении машины и ее необычной эстетики, примыкают к новой архитектуре если и не своим художественным значением, то эмоциональной настроенностью. Недаром вокзал Сен-Лазар вдохновил сначала Моне на целую серию полотен (1877), почти тогда же — Мане, а затем (и отчасти посредством его картин) и Золя («Человек-зверь», 1890) на, соответственно, лирическое и драматическое, но в обоих случаях новое и тонко-художественное восприятие этой невиданной прежде реальности.
Металл, скорость, пар, стекло, стремительное движение, непривычно быстрое преодоление прежде огромного пространства. «О чем — машин немолчный скрежет?» — этот отторгающий индустриальную цивилизацию вопрос А. Блока прозвучит еще не скоро. Во Франции новая реальность вызывает восторжен ное любопытство. «Машина и роль, которую она играет в пейзаже,— разве этого не довольно для картины»5,— писал Шан-флери в 1861 году. Спустя 16 лет Золя в своем отзыве о «Вокзалах» Моне почти повторит эти слова: «Моне выставил в этом году интерьеры гигантских (superbes) вокзалов. Там слышен гул врывающихся в них поездов, там видны огромные клубы дыма, поднимающиеся к просторным сводам. Вот что такое живопись сегодня... Наши художники должны отыскать поэзию вок-j залов, как их отцы открывали красоту полей и ручьев»6. Вок-за гы входили в литературу и живопись, еще не получив своего
Г. Эйфель. Эйфелева башия. Фотография Ж. Крулл. Эйфелева башня. 1926—1927
окончательного архитектурного оформления7: и Э. Мане, и К. Мо-не писали просто станцию — платформы навесы, железнодорожные пути, врывавшиеся в Париж из-под Батиньольского туннеля и Европейского моста. Архитектура вокзалов рождалась одновременно с их утверждением в художественном сознании.
Искусство рубежа веков с интересом принимает новое архитектурное и промышленное пространство, новые ритмы и открытия.
Сюжет с неприятием и последующим признанием Эйфелевой башни (1889) давно стал общим местом: против ее постройки выступали Леконт де Лиль, Шарль Гарнье, Мопассан, Дюма-сын (глумились позднее и над гимаровскими входами в метро). Париж со времен перестроек барона Османа приобрел заслуженную репутацию градостроительной отваги и той архитектурной решительности, без которой он не стал бы самим собой. Однако сооружение трехсотметровой вертикали, к тому же лишенной реальной практической пользы и традиционных элементов «архитектурной красоты», башни, грозившей изменить сам образ столицы, взять на себя функцию ее зрительной доминанты, привело в смятение даже радетелей новизны.
Построенная к Всемирной выставке 1890 года как временное сооружение, долженствующее продемонстрировать достижения архитектурной мысли и новейших инженерных возможностей,
башня стала памятником началу Новейшей архитектуры, силе интеллекта и устремленности в будущее. Открытость и логика конструкции, ощущение совершенной функциональности, соединенное со скромной «машинной» орнаментикой, ассоциирующейся сегодня с первыми иллюстрациями к Жюлю Верну, восхитительное единство стиля, ощутимое повсюду — от размаха устоев до лифтовых механизмов и заклепок,— все это придает сооружению некую вечную значительность. Она утвердилась на Марсовом поле легко и точно, заняв словно бы от века предназначенное ей место, убедив вскоре всех, что Париж без нее совершенно немыслим.
Нет сомнения в том, что башня решительно изменила эмоциональное, эстетическое и просто художественное простран
ство Парижа. Сам феерический процесс ее возведения был чем-то вроде (используя современную терминологию) художественной акции. Он длился два года, привлекал толпы любопытных, и прогулки на Марсовом поле вошли в моду. А после окончания постройки столица стала иной — Эйфелева башня, независимо от того, вызывала она хвалу или хулу, воздействовала на воображение, те, кто смог взглянуть на город с высоты трехсот метров, переместились в совершенно иное измерение.
Эйфелева башня явила парадокса пьныи синтез совершенного математического расчета со стилистикой ар нуво, который маркировал устремленную в будущее постройку прелестным колоритом fin de siecle. Любопытно при этом, что желез-
ные дороги и вокзалы были опоэтизированы Эдуардом Мане п импрессионистами, но Эйфелева башня вошла в искусство, ког- да живопись подходила к абстракции (из классиков XIX века ее писал, и то как часть дальнего фона, лишь Писсарро), а в литературе ее восславили Аполлинер и Кокто.
Можно лишь восхищаться улыбкой истории, которая пода-| рила XX веку музей XIX века (Музей д’Орсе), устроенный в здании вокзала. Картины Моне и Мане обрели достойное место под
Р. Делоне. Эйфелева башня. 1926—1928
Ж. Крулл. Уличное движение в Париже. 1926
сводами дебаркадера из стекла и металла, построенного Лалу на излете прошлого столетия и так напоминающего обессмерченный ими Сен-Лазар...
Ас 1901 года на экраны выходят первые научно-фантастические фильмы, в частности знаменитая (хотя длившаяся только 16 минут) картина Ж. Ме-льеса «Полет на Луну» (1902).
Как было уже замечено, значительные события в архитектуре начала столетия происходили не только во Франции, более того, масштабные здания (отнюдь не рекламного толка), по-своему определяющие время и удачно использующие свободное манипулирование новыми конструктивными возможностями для реализации несколько иррационального пространства в духе ар нуво или,
точнее, югендстиля, появляются в Германии (Драматический театр в Мюнхене, Р. Римершмид, 1901). Неизвестные прежде строительные технологии открывают колоссальные возможности и свободной стилизации: так, голландский архитектор X. П. Бер-лаге сочетает простоту современной конструкции с элементами романского стиля (Биржа в Амстердаме, 1904), а П. Абади скрывает металлический каркас за впечатляющей «романской» громадой Сакре-Кёр (1876—1919). О. Перре эффектно соединял в своих парижских постройках (жилые дома, гаражи, особняки) новейшие технологии со свободной планировкой и элементами «индивидуализированного» классицизма.
В начале столетия в США и Европе привлекают всеобщее внимание постройки Ф. Л. Райта, совершенно по-новому решавшего отношения архитектуры и природы и сделавшего решительный шаг в направлении простоты и функциональности форм.
Однако одновременно в художественном мире торжествует ар нуво. На Международной выставке декоративного искусства в Турине царствовала именно эта тенденция. Энергичная и вместе томная фантазия ван де Велде, основавшего знаменитую Веймарскую школу художественного ремесла, автора сухо и изысканно прорисованных интерьеров, мебели, утвари, созда
ла и сделала модной особую среду обитания, соединяющую дерзкую функциональность с почти интимной, даже болезненной утонченностью.
Влияние ван де Велде было тем более велико, что он опубликовал в 1902 году теоретическую работу «Линия», где создал собственную пластическую программу нового искусства. Утверждая, что линия «вносит силу и энергию в то, что очерчивает», автор наметил не только движение своего творчества, но и некие общие тенденции XX столетия.
В начале века архитектура впервые вступает в диалог с другими видами изобразительного искусства не только как зодчество, но и как иной технический мир, с невиданными ритмами, мощью могущественных механизмов, мир почти фантастический, таинственный, связанный скорее с наукой, техникой, ма-шинерией, нежели с эстетикой.
Именно архитектура начала века определила это движение — от Гимара и Корбюзье к предвоенным достижениям, к созданию новой среды обитания людей и их художественной культуры.
Знаменитая Галерея машин на выставке 1900 года (архитектор Ф. Дютер, инженер Контамен) с колоссальными для времени пролетами и несущими арками, сужающимися книзу, входила в сознание вместе с ее фантастическими экспонатами, невиданными механизмами, которые в скором будущем станут вдохновлять Леже и других конструктивистов.
Правда, Большой — именно в нем была открыта знаменитая ретроспектива Сезанна (1907) — и Малый дворцы (оба построены Ш. Жиро), выходящие торцами на авеню Елисейских полей и, также, как Эйфелева башня, представлявшие собою часть той же выставки и построенные по новейшим инженерным разработкам, вошли, скорее в силу откровенной, хотя и масштабной, впечатляющей эклектичности, в структуру Парижа уходящего века.
Для художников наступающего XX столетия выставка 1900 года с ее колоссальными художественными разделами стала примерно тем же, чем была для импрессионистов и их современников Всемирная выставка 1855 года, когда на ней знакомился с шедеврами французского искусства будущий патриарх импрессионизма Камиль Писсарро8.
Осознание искусством самого себя, его, по современной терминологии, «самоидентификация» в 1900 году имела огромное влияние на судьбу культуры будущего. Ни разу еще век не начинал историю своего искусства со столь полного и подробного знакомства с его прошлым. Колоссальная экспозиция «Искусство Франции с 1789 по 1900 год»9 в Большом дворце была не только чрезвычайно масштабной, но и вполне объективной. На второй план были отодвинуты (но отнюдь не забыты) прежде
П. Пикассо. Портрет Воллара. 1910
всесильные гранды салонов — Кутюр, Кабанель, Мейссонье, Деларош. Не только качеством, но и числом работ на выставке первенствовали истинные мастера — Давид, Энгр, Жерико, Делакруа, Домье, Курбе, Коро, Мане и Дега, импрессионисты. Правда, Сезанн и Гоген были представлены мало, Ван Гога, Сёра и Синьяка не было вовсе. Тем не менее всем было уже очевидно: это дело ближайшего времени.
Так и произошло: грандиозные ретроспективы Гогена (1903) и Сезанна (1904, 1907) с гачи сенсациями и естественным образом продолжили в зрительском сознании выставку 1900 года. И несомненно стали дорогой в Новейшее время.
События в художественной
жизни происходили с ошеломительной интенсивностью, перемены становились все более решительными. Еще в 1884 году Редон и пуантилисты основали Салон независимых, где в начале века были показаны ретроспективы Тулуз-Лотрека, Ван Гога, где показывали свои картины будущие фовисты.
Почти через двадцать лет, в 1903 году, архитектор Журден вместе с тем же Редоном, Ренуаром и другими основал Осенний салон, выставочную организацию более широкую — там кроме
живописи и скульптуры демонстрировались прикладное искусство, архитектурные проекты, устраивались музыка тьные и литературные вечера, — однако и менее либеральную: в отличие от Салона независимых здесь было жюри (с постоянно меняющимся составом), что избавляло выставку от непрофессиональных и слабых работ.
Эти салоны — Независимых (он открывался весной) и Осенний — постепенно вытесняли на второй план официальные выставки и знаменовали утверждение в общественном сознании дискуссионного, новаторского искусства как доминанты культурной жизни.
Не меньшее значение, чем грандиозные периодические экспозиции, играли выставки, персональные и групповые, даже отдельные произведения (масштаба полотна Матисса «Роскошь,
покои
и наслаждение»)
возможно, и манифесты или картины,
являющие
собою
вариант манифеста,
вроде «Авиньонских де-
виц»
Пикассо.
Монмартр и Монпарнас: от «Баго-Лавуар»* до «Улья». Как известно, транснациональная культура той поры имела свой центр в Париже — это единственное место, где встречаются представители практически всех наций и школ. Традиции и еще работающие в начале века классики века минувшего (Золя, Дега, Моне), масштабные ретроспективы великих преобразователей живописи, несчетное число выставок, имеющая давние корни жизнь артистических кафе, ставших настоящими клубами новейшего искусства; единственный пока музей современной живописи, открытый тогда в Люксембургском дворце11, да и сам великолепный Лувр, чуткие галеристы-маршаны. способные на риск для открытия нового непривычного таланта, ждущая новаций и готовая к ним критика и публика, традиции высокой художественной критики от Бодлера и Малларме, присутствие в художественной жизни литераторов-ценителей, наконец, бессмертная привлекательность самого города, вырастившего импрессионистов — символ творческой свободы Нового времени, — все это делало французскую столицу питательной кипучей средой, концентрированной интеллектуальной обителью будущего авангарда
В Париже перед Первой мировой войной бывают, живут и работают литераторы и художники из разных стран: испанцы Гонсалес, Ортис де Зарате, Пикассо и Грис, поляки Дуниковский и Аполлинер,
болгарин Паскин, румын Брынкуши (Бранкузи), японец Фужита, из России приезжают Эренбург, Шагал, Шаршун, Гончарова, Ларионов, Экстер, Ба-ранов-Россине, Васильева, Сутин, Осип Цадкин (Задкин), Архипенко, из Италии — Модильяни и Северини, из США — Гертруда Стайн и живописец Марин, из Германии — Рильке, готовивший монографию о Родене. Артистический Париж невелик, чаще всего встречаются они на Монпарнасе — там же их французские коллеги: Жакоб, Сандрар, поэт, режиссер и рисовальщик Кокто, художники Делоне, Брак, Глез, Метценже, Мари Лорансен и множество других — то пестрое и одаренное сообщество, что получило определение «Парижская школа»11. (Процесс, однако, не ограничивался тяготением к Парижу. Дюшан и Вебер уезжают в США, Хемингуэй живет и
М. Васильева. Квфе «Ротонде». 1921
* Bateau Lavoir— плавучая прачечная, плотомойня (фр-)- Слово уже вошло в русскоязычную историю искусств.
Бато-Лавуар. Фотография
Май Рэй. Гертруда Стайн. 1926
работает не только в Париже, но и в Испании, конец жизни — на Кубе, Кандинский — в Германии.)
Там, на Монпарнасе, и на юг от него — в Данцигском тупике — знаменитый «Улей» (La Ruche). Дешевизна ателье в этом огромном ковчеге, построенном из фрагментов выставочных павильонов сердобольным скульптором Буше специально, чтобы помочь нищим талантам, привлекла туда в ту пору многих из тех, кто составит вскоре славу Парижской школы. За Монпарнасом и «Русская академия» Марии Васильевой на авеню дю Мэн, там живет Модильяни, неподалеку студия Цадкина, квар тира Гертруды Стайн на улице Флерюс.
Впрочем, свое значение сохранял и Монмартр. На улице Равиньян — диковинное сооружение «Бато-Лавуар», барак (состоящий, как говорили, «из чердаков и погребов»), где в такой же оптимистической бедности, как в «Улье», живут и работают художники — Пикассо, Г рис, Ван Донген, литераторы Сальмон и Жакоб, куда заходят Матисс, Брак, Модильяни, Дюфи, Аполлинер, Гертруда Стайн. В так называемой Вилле Гельма на бульваре Клиши жили Брак, Дюфи (там он занимался печатаньем по ткани), Сюзанна Валадон (натурщица, художница, мать тогда еще совсем молодого Мориса Утрилло, редко бывавшего среди своих собратьев), у входа в «Мулен-Руж» еще висели афиши Лотрека, так любившего его актрис, неподалеку в доме на том же бульваре покончил с собой друг Пикассо Касагемас, а позднее в.кафе «Веплер» наблюдал Париж Генри Миллер...
В 1901 году у подножия Монмартра недалеко от лавки знаменитого Папаши Танги на
улице Клозель близ площади Сен-Жорж открыла небольшую галерею на улице Виктор-Массе (неподалеку от галерей бывшего клоуна Саго, Дюран-Рюэля и Воллара, размещавшихся ниже на улице Лафит) Берта Вейль. Она первой, еще в 1900 году, рискнула купить картины юного Пикассо. У Воллара, как известно, состоялась первая выставка никому не ведомого испанца (1901). В конце 1900-х годов в Париж приехал из Англии коммерсант Даниэль Генри (Анри) Канвейлер (немец по происхождению, что стало причиной его многочисленных неприятностей после войны), открывший «небольшую аккуратную галерею» (Г. Стайн) в весьма фешенебельном ме
сте — на улице Виньон за церковью Мадлен — и ставший первым сторонником и покупателем кубистов: он и познакомил Пикассо с Браком, чья персональная выставка в его галерее считается началом эры кубизма.
Именно в Париже и именно в те годы происходит и принципиальный социальный сдвиг в художественной жизни. Прежде если художник и не принадлежал к буржуазии, то в какой-то мере был ооиентирован на ее вкусы, если не эстетические, то жизненные. Искусство импрессионистов, пу
антилистов, набидов было настояно на тонкой профессиональной культуре и рассчитано на искушенного зрителя (разумеется, речь не идет об экстремально сложившихся судьбах Гогена или тем паче Ван Гога).
Но в новом веке отрицание, категоричное неприятие предшествующего опыта, максимализм превалировали в художественной среде. Утонченные
интеллектуалы вроде Мане или Дега, аристократы, как Тулуз-Лотрек, уже не были фигурами наиболее заметными. Нищета, ставшая образом жизни, фанатизм в отрицании мещанских ценностей отлично сочетались с настроением •веселого подполья», идеями разрушения, приходившими вместе с идеями итальянских футуристов. Олимпийство Матисса или Марке (которое они сохраняли и в юные голодные годы) казалось скорее чужеродным, анархическое низвержение кумиров и эпатаж — естественными. Типологической фигурой становится художник-маргинал, персонаж чудаковатый и по сути своей трагический, как рано сгинувший Модильяни или готовый в молодости
К. Дуниковский. Дыхание. 1903—1916
на все за стакан вина Утрилло. Дух печали и душевной смуты, усиливаемый тягостными предчувствиями надвигающейся социальной и военной катастрофы, витает в веселом воздухе Парижа, люди беззаботны, а самоубийства — часты (подруга Модильяни Жанна, Касагемас, Паскин)..
Все же привычные представления о Париже как о единственном центре искусства западной Европы несколько инерционны. Был еще один город, не пользовавшийся репутацией столь же звонкой, не породивший такое множество мемуаров, великих имен, но обладавший особой и тонкой культурой, философическим спиритуализмом совершенно особого толка,— Мюнхен, столица Баварии (см. главу III).
Необычайная интенсивность выставочной деятельности в России (включая систематические выставки иностранных художников) не сделала Петербург и Москву интернациональными художественными центрами, но решительно изменила культурный
климат обеих столиц. Уже в самом начале 1901 года в Петербурге открыта французская художественная выставка, где экспозиция представляет вещи, показанные на Всемирной выставке прошлого года, однако более всего общественное внимание привлекает к себе'только что скончавшийся Бёклин, тогда весьма модный, чей салонный символизм и мрачная многозначительность нашли множество поклонников (памяти Бёклина были посвящены не только статьи, но даже стихотворения).
Выставочная активность российских столиц стала питательным раствором для зарождения Новейшего экспериментального искусства. Движение молодых символистов, «Демон поверженный» Врубеля (1902), этюды Репина к картине «Государственный совет» (1904), колоссальная ретроспектива русских портретов в Таврическом дворце, немало способствовавшая осознанию русской культурой собственных корней (1905), наконец, значительные вещи Ларионова, Гончаровой, Малевича (XIV выставка Московского товарищества художников, март 1907) — несомненные свидетельства готовящихся резких перемен, которые, как и на Западе, станут вполне отчетливыми около 1907 года.
И все же традиция и наша историческая память (которые, как был уже случай упомянуть, есть немаловажная составляющая самой истории искусства) сохраняют за Парижем несомненное первенство. В самом деле, многие и многое было к Франции устремлено. Достаточно напомнить, что первые свои сочинения основоположник итальянского футуризма Т. Маринетти писал по-французски, читал в Париже лекции. Несомненно, на многое в новом искусстве Париж ставил своего рода пробу, что, впрочем, вызывало и некоторую оппозицию к нему.
* * *
Несмотря на то что значительная часть публики и коллекционеров сохраняли интерес к консервативному салонному искусству (приверженность к которому остается естественной составляющей общественного вкуса), становилось очевидным: Новое искусство не просто занимает самые активные позиции внутри художественного процесса, но перемещается в центр общественного внимания и даже просто входит в моду.
Но с какой бы отвагой и настойчивостью ни заявляла о себе эстетика новейших течений, процесс смещения зрительского внимания, равно как и внимания большей части художественных критиков, происходил медленно.
Ведь кроме салона существовало еще недавно дерзкое и непривычное, но ныне уже воспринятое, пережитое и вошедшее в обиход искусство. На авансцене — поздние работы Родена, великолепные живописцы группы «Наби». вовсе не стремивши-
А. Бёклин. Остров мертвых. 1880
еся к сокрушению основ, изысканные мастера пассеистическо-го толка (Моро, Пюви де Шаванн, в Англии — Бёрдсли, в России— «Мир искусства»), сохраняющие, однако, не только фигуративное гь, но и изощренный культ рисунка; стоящий на грани салонности, но тонко одаренный, нервический и своеобразный Климт, соединявший реминисценции прерафаэлитов, пряный аротизм со своего рода величавой манерностью; символистские, хотя не лишенные претенциозной банальности и сомнительного вкуса картины фон Штука (равно как и символистские не только сутью, но и самим «веществом живописи» картины Врубеля); многозначительные, пользующиеся небывалым успехом картины Бёклина, одна из которых — «Остров мертвых» — стала своего рода иконой и знаком времени; Таможенник Руссо увлекает зрителей путешествием в ясную и наивную сказку, открывая дорогу бурному взлету примитивизма XX века — Опрос лани, Бабушка Мозес, Генералич. (Что же касается русско-I го искусства, то о нем Франция начата узнавать лишь в 1906 году, когда Дягилев устроил в двенадцати заедах Большого дворца, 1декор1’рованных Бакстом, гигантскую экспозицию от икон до I Серова, Врубеля, Рериха и бретонских этюдов Явленского, к Представители же первой волны русского авангарда — совсем еще молодые Н. Гончарова, М. Ларионов и др.— только еще заявляют о себе на Западе.)
Усредненный вкус метался между испугом перед тлетворным «декадансом» и восхищением его изысканными и прельстительными достижениями. Все же (не в России) время называли и
I «La belle epoque», черты которой проникали повсюду — от выставочных залов и архитектурных форм до мебели, рекламы,
Э. Вюйяр. Желтая штора. 1893
украшений, мелких аксессуаров жизни, что в сумме своей и формирует всемогущую силу — общественный вкус.
При всей значительности Пюви де Шаванна и огромном зрительском успехе Бёклина, важное место занимали в относительно «нейтральном» культурном пространстве и смело шагнувшие в новый век художники группы «Наби». Эти одаренные и тонкие стилисты, воодушевленные наивными и возвышенными идеями, служившие смутным, но благородным идеям чистого эстетизма, поборники изысканной живописи и текучего и вместе ломкого рисунка немало способствовали укреплению пластического языка времени ар нуво12.
П. Серюзье, М. Дени, К. Руссель, П. Боннар, Э. Вюйяр, А. Майоль (на какое-то время примкнувший к группе), Лакомб, Валлоттон, каждый по-своему, отдавая скорее внешнюю дань символизму, созидали искусство, где первенствовало чисто художественное качество, сознательно отделяемое от сюжетики, избыточного сходства с реальностью (каковое они видели в импрессио
низме). «Наби» (набиды), разумеется, укоренены и в отрицаемом ими импрессионизме, и в плоскостном декоративизме Гогена, неизменно и успешно сочетавшего отвлеченный и мощный декоративный эффект с философской символикой, да и во всей новейшей художественной культуре, исключая, разумеется, всем надоевший академизм
Они были частью той транснациональной пассеистической тенденции, которая, меняясь в каждой национальной школе, стала, по сути дела, всеобщей. И английские прерафаэлиты, и русские мирискусники, ранее немецкие назарейцы (да и не они одни) черпали в прошлом пример и мотивы, способные помочь обновлению новейшего искусства. Близость таких тенденций отмечена их существованием в литературном, театральном и публицистическом пространстве (литературные опыты прерафаэлитов, журнал «Мир искусства» и знаменитый парижский «Ревю бланш» (Revue blanche), вокруг которого группировались набиды, их близость с Антуаном, Полем Фором).
Разумеется, такого рода искусство в начале века уже отмечено некоторой усталостью, той художественной анемией, которая, хоть и добавляет привлекательности картине или скульптуре, обозначает близкий исход.
В отличие от русского «Мира искусства» набиды все же не были полностью пассеистич-ны. Их соприкосновение с Гогеном и Сезанном, собственные формальные искания выводят их за узкие рамки просто стилизации. Мощная и утонченная живопись Боннара, мо-нументализм, соединенный с грациозной поэтичностью картин и панно Вюйяра, пылкий декоративизм Дени — все это явления, которые выходят далеко за пределы собственно на-бистской эстетики и, несомненно, благодаря смелой индивидуализации, масштабу устремлены в будущее.
В этом — особое качество । западноевропейского художе-1 ства рубежа веков. Пассеизм, замкнутость искусства в собственных проблемах, даже та
П. Боннар. Туалет. Ок. 1908
почти уже граничащая с сало-
ном несколько оранжерейная эстетика, что свойственна и «На-би», не исключали отважного движения к эксперименту, к ощущению естественности своего бытования в пространстве символизма и рождающегося авангарда.
В известной мере сказанное относится и к скульптуре начала столетия. Стареющий Роден в 1897 году закончил свое посла- ние наступающему веку — поразительную статсю Бальзака, кото-рая ныне воспринимается едва ли не более современной, чем великолепный, но претенциозный, многословный и исполненный суетного желания быть замеченным «Кентавр» (памятник [Пикассо) Сезара. До конца жизни (1917) Роден трудится над своим «неведомым шедевром» «Врата ада» — дверями Музея декоративного искусства — тревожным синтезом импрессионистической текучести и подвижности форм с неясной, но титанической силой противоречивых скульптурных приемов, произведением, сама незавершенность которого позволяет угадывать напряженные внутренние конфликты пластики XX века.
При этом многие его скульптуры, исполненные в конце жизни, I в, (.принимаются сейчас как почти салонный мир по-декадентски затейливых форм и пафосно-многозначительных сюжетов, всего того, что способствовало его широкой популярности, за-
О. Роден. Мыслитель. 1888
воеванной вовсе не лучшими его работами. Впрочем, огромная персональная выставка Родена 1900 года позволила настоящим ценителям и профессионалам увидеть и размах искусства мастера, и истинные достоинства его тогда еще не самых признанных произведений, и другие его качества, которые породили многочисленных эпигонов, эксплуатировавших лишь те уступки строгому вкусу, что создавали внешние эффекты, любезные вполне мещанскому вкусу. В начале века Огюста Родена словно бы признали классиком: его бронзовый «Мыслитель» в 1904 году (тогда статуя 1888 года вряд ли уже казалась столь новаторской) был установлен перед Пантеоном по общественной подписке,
и открытие монумента стало национальным праздником; государство предоставило скульптору Отель Бирон, где после смерти Родена открылся его музей. Однако самые его смелые работы поняты не были: статую Бальзака в Париже власти установить отказались, да и «Мыслитель» был вскоре перенесен в сад Отеля Бирон.
Роден уходил в прошлое, но не как остановившийся академист, а как гений, сделавший все, что хотел, и завершивший свое предназначение. Он открыл своим искусством новое ристалище, ожидавшее иных подвигов, что-то исчерпал, что-то лишь наметил.
Усталым многословием своих последних скульптур он интенсифицировал поиск лапидарной строгой формы, как нежная непосредственность Импрессионистов вызвала в свое время сосредоточенные поиски Сезанна.
В 1861 году родились Антуан Бурдель и Аристид Майоль, истые мастера XX века, чьи судьбы развивались в равной степени
и под мощным влиянием Родена, и в оппозиции к его искусству
(Бурдель недаром назвал себя «антиучеником Родена», хотя пре-
клонялся перед ним, учился и работал в его мастерской).
В западноевропейской и особенно во французской традиции была и осталась могучая тенденция к синтезу традиционного жизнеподобия с жестким лаконизмом, приближающим искусство к почти отвлеченной формуле (здесь, забегая вперед, можно назвать Марке и Дерена). Бурдель и Майоль — из числа таких художников. Их искусство надолго утвердило значение монументальной архитектоники, горделивой строгости, сурового изящества. Бурдель с его суховатой грандиозностью, восходящей к греческой архаике, и Майоль — этот мастер, способный вкладывать несравненное величие в традиционные статуи ню, подняли планку французской фигуративной скульптуры чрезвычайно высоко, резко порвав со всякого рода салонной красивостью. Отважная свобода поиска, заложенная в их искусстве, стала благотворным примером для их молодых собратьев более радикального направления.
Вместе с тем весьма важно, характеризуя «среду обитания» искусства начала века, отметить, что отнюдь не эти художники опре-
0. Роден. Бальзак. 1893—1897
Г. Моро. Голоса. 1867
делили облик столиц той поры. Правда, роденовский «Мыслитель», хоть и недолго, стоял перед Пантеоном, но его «Бальзак», как уже говорилось, был отвергнут. Лучшие работы Б\ рделя украсили не Париж, а Монтобан. Скульптура, являющая собою движение в будущее, осталась в музеях и мастерских, поразительный «Поцелуй» Бранкузи увенчал надгробие на кладбище Монпарнас. «Скульптурный облик» Парижа определили памятники, несомненно имеющие и стиль, и своеобразное величие, однако в городском ансамбле они воспринимаются скорее нарядными украшениями, удачными пространственными акцентами, нежели шедеврами пластики Нового времени.
Рим вообще был изуродован циклопическим внемасштабным памятником Виктору-Эммануилу (Дж. Саккони, А. Дзаннели, Э. Кьярадия, 1885—1911) на площади Венеции, замкнувшим
Корсо — центральную магистраль итальянской столицы. Испанская монументальная скульптура рубежа веков отмечена все той же безликой эклектичностью (памятники Гойе (1905) и Касте-ларе (1908) в Мадриде работы М. Бенльюре).
Ситуация стала несколько меняться лишь после Первой мировой войны. Был установлен близ Трокадеро в Париже памят-
ник Мицкевичу работы Бурделя. В
А. Майоль. Средиземноморье. 1901
1939 году роденовского «Бальзака» установили наконец на углу бульваров Монпарнас и Распай. Со временем и статуи Майоля оказались в Тюильри. Но тогда, в пору первого прорыва авангарда, новейшая архитектура осталась практически без скульптурной «поддержки». В России же единственный значительный монумент нетрадиционного толка — памятник Александру III работы П. Трубецкого (1900—1906) — продолжал скорее линию импрессионистической пластики и воспринимался новаторским лишь в си
лу эпатирующего и непривычно смелого взгляда на царствующую особу.
И наконец, следует сказать, что именно в начале века коммерция, которая всегда играла в художественной жизни существенную роль, быть может, впервые заняла столь важные позиции и проявилась столь открыто.
Еще в 1906 году проницательный критик Моклер, в свое время сумевший оценить импрессионистов, писал: «Для того чтобы получить прибыль, торговцу нужна реклама, и он нашел в художественной критике, выступающей на страницах печати, то, что ему было нужно. Немногие честные и знающие критики были обойдены на тысячу ладов... Думают, что это движение в искусстве, на самом же деле происходит движение на бирже картин, где идет успешная спекуляция искусством неведомых гениев... Ценность произведения имеет здесь меньше значения, чем совершенные методы создания моды на художника»13.
Поль Валери: «Забота о долговечности произведений оскудевала, уступая в умах стремлению изумлять; искусство обречено было развиваться лихорадочными скачками. Родился некий автоматизм новаторства. Оно стало властительным, как прежде — традиция. Наконец мода-- иными словами, учащенная трансформация вкусов потребителя — заменила своей органической неустойчивостью медленное вызревание стилей, школ, великих имен. Но сказать, что мода берет на себя судьбы изящных искусств, значит сказать, что в эти искусства вторглась коммерция»14.
А. Бурдель. Геракл, стреляющий из лука. 1909
А. Бурдель. Франция. 1925
* * *
Выставка Пикассо у Воллара (1901) стала поистине первой,
хотя и не слишком громкой сенсацией XX века (появление в 1907 году «Авиньонских девиц» имело резонанс куда больший).
Ценивший и покупавший Сезанна еще в 1890-е годы, Воллар устроил его первую выставку (150 холстов) в своей галерее на улице Лафит в 1895 году. Сезанн отнюдь не был признан, когда
Воллар рискнул показать работы никому еще не ведомого юно-
го испанца. Рекомендацией были лишь письма барселонского маршана Педро Маньяча (определившего Пикассо ежемесячное
пособие для работы в Париже) Воллару и влиятельному крити-
покупка трех его картин еще в 1900 году Бертой Вейль. На выставке было 64 картины и графические листы Пикассо (одновременно в галерее экспони ровались произведения бакско-го художника Ф. Итуррино). Предисловие к каталогу написал Кокио. Выставка имела несколько скандальный успех, 15 картин было, однако, продано. Судя по всему, художник был еще далек от выраженного индивидуального стиля, но душевная напряженность, парадоксальное сочетание боли, поэзии и цинизма, синтез средневекового спиритуализма и модной остроты остались в зрительской памяти и подготовили скорый и грандиозный успех художника. Воллар обладал
ку Гюставу Кокио, равно как и
П. Пикассо. Автопортрет. 1907
действительно редкой интуицией. После Сезанна Пикассо стал самым его значительным открытием. И вероятно, куда более рискованным: Сезанн выставлялся вместе с импрессионистами, Воллар знал его давно и достаточно близко, прежде чем устроил его выставку. В Пикассо он поверил сразу. И не ошибся.
Выставка Пикассо у Воллара, чье значение в историческом смысле велико и очевидно, по масштабу воздействия на динами
ку развития Нового искусства в ту пору, разумеется, совершенно несопоставимо с ретроспективами Сезанна, Ван Гога и первым выступлением фовистов в Осеннем салоне 1905 года. Галерея Воллара была невелика, известна сравнительно узкому кругу, к тому же выставка не была персональной. Тем не менее следует иметь в виду, что первое явление Пикассо и само по себе,
и в смысле зрительского восприятия неотрывны от вхождения Сезанна в зрительское сознание.
Правда, отзывы о Пикассо свидетельствовали о значительности его появления и о понимании его роли, но серьезное признание не стало еще широким.
И дело не только в том, что при всем внешнем несходстве значение Сезанна для Пикассо (видевшего много работ Сезанна у Воллара), для фовистов (особенно для Матисса и Марке) было огромным. Именно Сезанн, надо полагать, становился для общественного вкуса тем мучительно трудным, раздражающим, но, несомненно, значительным явлением, которое медленно разворачивало зрительское сознание XX века лицом к новому живописному языку. «Понадобилось по меньшей мере тридцать лет, чтобы способ чувствования (la fayon de sentir) Сезанна стал бы способом чувствования зрителя»15.
Неслучайно в известной книге Гертруды Стайн16 вхождение в понятийное и эмоциональное пространство Новейшего искусства происходит практически одновременно через Сезанна, Пикассо и Матисса. И кажется еще более неслучайным или, во всяком случае, красноречивым, что в последний год XIX века Морис Дени написал картину «Hommage a Cezanne», которая была экспонирована в салоне «Общества французских художников» в первый год XX века.
Его живопись заверена у деревенского нотариуса на дубовом столе. Она незыблема, как завещание, сделанное в здравом уме и твердой памяти.
Осип Мандельштам
Пролог от Сезанна. Обычно творчество недостаточно признанного при жизни художника становится реальной частью общекультурного процесса сразу же после его смерти или после большой ретроспективной выставки. Именно так произошло с Сезанном. Он умер в 1906 году, его грандиозная ретроспектива открылась годом позже, причем совпала с началом становления кубизма (в 1907 году Пикассо начал «Авиньонских девиц»). Ретроспектива 1907 года была, однако, подготовлена большой выставкой в Осеннем салоне (1904) и представительной экспозицией там же в 1905 году (одновременно с выступлением фовистов). Прежде его знал лишь узкий круг коллег и почитателей да немногие любители, видевшие его холсты еще у папаши Танги, затем неподалеку в галерее на улице Лафит, где в 1895 году и была устроена Волларом первая персональная выставка Сезанна.
Опубликованная осенью того же года статья Гюстава Жеффруа17 свидетельствует все же, что значение Сезанна угадывалось умами наиболее
П. Сезанн. Автопортрет.
проницательными и, следовательно его творчество занимало важное место в сознании и вкусах людей искусства. Автор в растерянности, он наивно просит зрителей простить художнику «ошибки в перспективе» и «незаконченность», догадываясь, видимо, что зто и не ошибки вовсе, но не умея их объяснить. Но он заметил и определил мощную структурность, организованность сезанновских холстов («ритмический хаос оргий»), ощущение вечности («титаническая меланхолия»). «Мистический темперамент» Сезанна тонко определил живописец и литератор Эмиль Бернар. Общество не было готово принять отвагу и новое видение Сезанна, но уже угадывало
в нем нового пророка.
И хотя до 1907 года пресса оставалась недоумевающей и скорее беспросветно отрицательной, в ней росла заинтересованная озадаченность: что-то менялось в общественном сознании.
Импрессионизм, открытия символистов, циклопические фигуры Ван Гога или Энсора, принципиальные новации в зодчестве, основанные на новых возможностях техники и новых урбанистических идеях,— все зто осознается как часть художественной революции, в центре которой и находился, надо полагать. Поль Сезанн. Даже тогда, когда воздействие его было сложно опосредованным, неосознанным.
«Мы приговорены знать о вещах лишь то, что дают нам впечатления о них (par I’impression qu’elles font sur nous)»18. Это суждение Анатоля Франса, настоянное на импрессионистическом способе видения, для радикальных мастеров искусства 1890-х уже показалось бы устаревшим. Покорный беспощадной логике эволюции, веселый покой импрессионистического видения переместился в историческую память живописи, уступая место беспощадной, нередко и претенциозной логике рациональных построений авангарда. Импрессионизм был одновременно и высшей точкой, и кризисом традиционного жизнеподобия XIX века. Точность изображения сфокусировалась у импрессионистов в некий абсолют, в портрет мгновения, в остановку неостанавливаемого. Этот путь был исчерпан, к тому же пассивное и точное до немыслимой конкретности восприятие краткого состояния природы уже не отвечало страсти к глубинному познанию, к сотворению новой художественной реальности, о которой радел XX век.
Именно отступление импрессионизма и утверждение новых ценностей, утверждение искусства не отражающего, но творящего мир занимало в первые годы XX века передовую художественную критику и публицистику. Эта
тема была одной из основных в знаменитом в ту пору журнале «Ревю бланш» и постоянно муссировалась Феликсом Фенеоном, ощущавшим, как немногие, то, что в 1917 году Аполлинер назовет «новым духом» (esprit nouveau).
Разумеется, импрессионизм помимо своих художественных открытий, принадлежащих в большей мере ушедшему веку, остался своего рода чистилищем, если угодно, «королевским порталом» свободы для входа в Новейшее искусство XX столетия, школой независимости, автономии искусства. Едва ли кто из великих мастеров авангарда миновал его: даже Кандинский, прежде чем пройти сквозь переломные годы Мурнау (конец 1900 — начало 1910-х годов) и стать самим собою, отдал дань его палитре; им увлекался в юности Малевич, даже Марсель Дюшан писал в юности вполне импрессионистические пейзажи.
Эту школу независимости прошел и Сезанн, использовав ее уроки, в частности, и для того, чтобы стать оппозиционером по отношению к самому импрессионизму. И зта оппозиция — тоже одна из составляющих его корневой системы, равно как и знак движения к художественной философии нового века.
Великие современники Сезанна увидели в импрессионизме исчерпанность и пошли далее. Сезанн решился «развернуть» искусство, вернуть ему соразмерность не человеческим судьбам и эмоциям, но самому мирозданию. чье время и пространство людским меркам едва ли соразмерно.
Жизнь и человеческие пристрастия художника, характеры и судьбы людей, мятущаяся эпоха — все это остается за пределами картин Сезанна. В его работах категории пространства и времени обрели замкнутый внутри искусства смысл.
Столетие, почти уже миновавшее после его смерти, свидетельствует: ни один живописец XX века к Сезанну не приблизился. И не только по художественному качеству (Сезанн был едва ли не последним мастером, к которому зта категория приложима в традиционно-чистом своем варианте), но по исторической роли.
Ни одно масштабное явление в живописи XX века не возникло, так сказать, «помимо Сезанна». В его наследии явлена абсолютная величина Нового искусства и Новой живописи, решительный поворот их судьбы, итог минувшего (он писал натуру, и только натуру!) и пролог будущего, реализованные в достаточно трудной для восприятия художественной форме, радость от восприятия которой усложнена множеством загадок не только рационального, но и чувственного свойства.
Интерпретации и объяснения его искусства неминуемо устаревали вместе со сменой вкусов и приоритетов в искусстве. Совершив в живописи, вероятно, самый значительный поворот, который только она знала, Сезанн утвердил новую точку отсчета и самою важностью этого переворота сделал наивными новые попытки. Прямое и косвенное, сложно опосредованное, ассоциативное и иные выражения чувств через живопись существовали издревле и поддавались анализу. Прямая же реализация не впечатления, а стабильного визуального чувственного восприятия — процесс
П. Сезанн. Цветочный горшок на столе. 1882—1887
почти закрытый. По сути дела, Сезанн исключил возможность относиться к интерпретации всерьез, утвердив своего рода тайную магию созидания и чисто индивидуального, интимного процесса его восприятия. «...Как трудно сказать что-нибудь определенное о Сезанне!» (Морис Дени)19.
«Таинственность» Брейгеля, Леонардо, Гойи, Клее, Пикассо или Кандинского прочитывается в изначальной зашифрованности пространственных построений, живописной манеры, мотивов, в уга
дываемых и поддающихся более или менее объективной интерпретации вторых планах, пластических «подтекстах» и аллюзиях
Сезанн далек от какой бы то ни было зашифрованности. Все, что он имеет в виду, открыто зрению на холсте. «Здесь вся правда действительности на его стороне: в згой густой, как бы ватной синеве, свойственной лишь ему одному, в этих красных и в этих лишенных оттенков зеленых тонах, и в рыжеватой черноте его винных бутылок. <...> Убедительность, полное овеществление, та действительность, которая благодаря его собственному переживанию предмета обретает нерушимость...»20.
(Оговоримся в скобках: известные нам суждения Сезанна вполне внушают уважение своей raison d’etre, но свидетельствуют о совершенной несоразмерности его способности мыслить сверхчеловеческому гению живописи, которому полностью подчинено было его слабое естество. Заложник своей «одинокой свободы»21, догадываясь о своем даре, он думал не о масштабе его но о своей ответственности перед ним и истово ему служил, не давая себе отдыха и не отвлекаясь практически ни на что.)
Павел Муратов, автор знаменитых «Образов Италии», быть может лучший из писавших об искусстве на русском языке, еще в 1923 году, когда о художнике не было издано и малой доли того, что сейчас, опубликовал брошюру о Сезанне. «Импрессионистическому растворению видимостей в спектрально окрашенных световых эффектах противопоставляет он твердое ощущение отдельности природных форм. Он чувствует необходимую условность сочетающего их между собою пространства... Импрессионисты писали для того, чтобы сквозь них глаз зрителя увидел природу. Сезан стремился навсегда удержать его на поверхности своего холста (курсив мой,— М. Г.)»22. Таким образом, Сезанн, хотя он и говорил о «Пуссене, исправленном природой», художник, никогда не писавший иначе как с натуры, решительным образом отдал предпочтение реализованным на холсте ощущениям, самой живописной поверхности, самоценной и автономной, навсегда поднявшись над той самой натурой, которой, как ему казалось, он истово служил.
П. Сезанн. Натюрморт. 1895—1900
Отсюда и царственная решимость распластывать объем по плоскости картины, показывая предметы словно развернутыми не только в пространстве, но и во времени, увиденными с разных точек зрения, впаянными в поверхность согласно не кажущемуся, но ведомому, как в средневековой живописи и еще не явившейся живописи кубистов. Отсюда — практическое отсут
ствие «сторонней» освещенности пейзажа и предметов на холстах Сезанна. Написанные им деревья, лица, вещи, облака — все несет в себе собственный цвет, излучаемый самим веществом живописи23.
В классической картине изображенное идентифицируется в сознании зрителя с самой картиной. У Гойи, Ван Гога, Энсора изображаемое и изображение дистанцированы, изображение самоценно, но «привязано» и реальности, «похоже» на нее и вполне информативно.
В беспредметной картине материального мира практически нет. У Сезанна же, при сохранении связи с реальностью, ценность живописи несравненно выше, а главное, картина более тяготеет к абсолюту, нежели изображенное. Концентрация взгляда в «фокусе» пространственного центра выбранного мотива становилась основой и эмоциональной, и рациональной структуры полотна («конструкцией с натуры» по выражению художника). Это дополнялось тем, что позднее стали называть «сферическим видением пространства»24, т. е. умением видеть мотив словно бы изнутри и с подвижной точки зрения. Его холсты передают не драму чувств или суждений, но драматизм визуального восприятия, производят впечатление некой «оглушительной видимости», немого грохота, катастрофы «с выключенным звуком», где миры рушатся и сотворяются с величественной неспешностью. Картину Сезанна с позиции зрителя XX века можно было бы сравнить со стоп-кадром, созданным как концентрация целого фильма, где множество планов соединены в один «сверхтяжелый», все в себя вобравший кадр. Это ощущение усиливается уникальной способностью Сезанна строить пространство, не подражая ему, не создавая иллюзию глубины, но соединяя в разные мгновения увиденные планы на плоскости, синтезируя пространство и время, создавая «живописный хронотоп». Именно живописный, поскольку цвет один, без помощи линий и объемов, обозначает глубину, вовсе не «изображая» ее.
Природа на его холстах одновременно незыблема, вечна и созидаема. Вангоговское «содрогание материи», выражавшее состояние потрясенной души художника, сменяется у Сезанна величественной отрешенностью:
П. Сезанн. Кухонный стол
П. Сезанн. Банки и горшки
мир в его картине «застигнут» в мгновении покоя, которое чудится вечным и вместе с тем возникающим на наших глазах. Мазки, окаменевшие в бурном движении, становятся свидетельством только что закончившейся (или на секунду остановленной) борьбы художника с материалом, некой божественной паузы чья протяженность отсчитывается иным, горним временем (как не вспомнить здесь о рождавшейся тогда же теории относительности; первая публикация А. Эйнштейна по теории относительности — 1905).
«Изучение света и тени, планов и объемов, пространства и его соотношений с самим изображением и в особенности потребность создавать в своем воображении некое целое, которое и является миром искусства, отличным от мира природы,— все зто позволило Сезанну создать многочисленные произведения, которые совершенны сами по себе и в то же время открывают новую зру в истории искусства»25.
Лилиан Герри, определившая пространство Сезанна как «сфероидное подвижное поле», «качающееся пространство», пишет в заключении своего исследования: «С тех пор на самом деле реальный мир (который есть и мир зрителя), мир изображений и мир неуловимого (le monde de I'eva-sion) не разделены более непроницаемыми стенами»26.
Быть может, Сезанн был единственным мастером, обладавшим одновременно и мощнейшим темпераментом, и неодолимой тягой к упорядочению, структурированию видимого мира. При этом он был равно далек и от обжигающих нравственных страданий Ван Гога, и от экзотического
визионерства позднего Гогена, и от божественной стихийности Матисса, и тем более от отвлеченных структур кубизма (хотя и утверждал на практике и словесно значение упрощенных геометрических форм в построении картины). По сути дела, его притягивал лишь процесс превращения ощущений в искусство (не случайно Сезанн восторженно отнесся к стихотворению Бодлера «Падаль», в котором красота художественной материи решительно не связана с сюжетом). Самоценность искусства была для него очевидна.
И здесь он открывал путь искусству нового века. Но живописное колдовство, маэстрия и душевные затраты, которыми отмечено его творчество, принадлежат XIX веку, да и вообще классической традиции. Как известно, Сезанн узнал себя в современнике Пуссена — герое новеллы Бальзака «Неведомый шедевр»27.
Масштаб Сезанна особенно ощутим, вероятно, в вещах небольших и малоизвестных, где художника можно видеть словно бы внове. Примером такого рода могут служить его поразительные акварели, далеко не полностью показанные даже на грандиозной выставке 1995 года.
Акварель «Цветочные горшки» (Музей д’Орсе, Париж) царственно проста по мотиву и пространственному решению: фронтально стоящие на полке глиняные горшки увидены словно вне перспективы. Желтоватая (пожелтевшая?) бумага скупо и осторожно тронута жесткими, не по-акварельному четко «ограненными» мазками, то не касающимися друг друга, то положенными намеренно и точно «внахлест», что создает напряженное поле вибрирующих и натянутых небольших угловатых цветовых плоскостей, некую структуру, странным образом ощущаемую как ранний прообраз кубистического видения. Угрюмая и мощная гармония массивных форм, рожденных бесчисленными градациями цветов и тонов, ограничена, впрочем, особой «сезанновской» гаммой сизосерых, ржаво-пепельных, зеленовато-синих соцветий, над тяжкой мате
риальностью которых вспыхивает венчающая композицию темно-слепя-щая зелень листьев, расположенных в феерически торжественном ритме, буквально «оглушающем» своей замершей колористической звучностью. Акварель уподоблена некоему «метапейзажу», концентрированному образу
П. Сезанн. Гора Сент-Виктуар. Акварели
П. Сезанн. Гора Сент-Виктуар. 1898
мироздания, соединившему на нескольких квадратных сантиметрах землю и горние выси. Ощущение «абсолюта» в маленьком листе бумаги вызывает растерянность чуть ли не экстатического свойства. В этом смысле Сезанн соприкасается с открытиями Кандинского, утвердившего единство бесконечно большого и бесконечно малого.
Искусство Сезанна в целом явило миру своего рода итоговую картину XIX да и предшествующих веков. Картина Сезанна сохраняет качества классической картины: «сходство» с реальной природой, отъединенность от мира рамой, пространственный пафос, изобразительная риторика, конкретность мотива, пластического сюжета. Но пространственные и колористические поиски минувших столетий — от Ренессанса до импрессионистов — вынуждены были остановиться перед сезанновской твердыней плоского холста, аккумулировавшего в себе его художественный космос, сведенный к ясной, замкнутой в себе, как сама вселенная, формуле. И здесь можно говорить о картине Сезанна и как о первой картине Новейшей живописи. «Абсолютность», о которой говорилось выше, позволяет видеть в плоскости произведений Сезанна совершенную независимость, автономность форм, что рождаются на той именно стадии движения искусства, когда ценность пятна, тона, цветонасыщенности плана, ритм очертаний формы обретают наконец самодовлеющую ценность. Но в «живописной твердыне» сезанновских холстов — вечное эхо столкновения реального пространства с поверхностью картины, преобразовавшей объемы и дали в словно бы гудящий от напряжения, плоский, спрессованный образ, где глубина мира возвращается зрителю на ином, художественном
П. Сезанн. Хижина Журдена. 1906
языке, где предметы лишь обозначают свою трехмерность цветом и очертаниями, сообщая о ней, но ее не имитируя.
У Сезанна картина из спутницы реальности превращается в часть реальности.
Последняя его работа «Хижина Журдена» (1906, Художественный музей, Базель) осталась неоконченной, и зто кажется символичным, поскольку и сам порыв Сезанна к соединению колористической страсти с четкой структурностью построения свидетельствует о незавершенности пути, о не приведенных к синтезу противоречиях, о неисчерпанных силах, заставляющих с особой остротой почувствовать, как и почему так близки были художнику страдания бальзаковского Френхофера.
«Изобретатель нового пластического языка, творец новых монументальных образов, реформатор классического пейзажа, полновластный мастер акварели — зто все он, но есть и иное. Классик, романтик, мастер барокко в зависимости от времени, наследник одной традиции и изобретатель другой, потомок и предок (курсив мой,— М. Г.) — как обозначить пределы этой личности?'28
Поистине потомок всего былого и предок будущего, он так и стал по сланцем минувшего и будителем нового.
Определив основные векторы Новейшей живописи, Сезанн, что тоже весьма важно, подтвердил и интенсивность одной из двух оставшихся в наследство от века уходящего веку грядущему тенденций. А именно той, которую можно было бы назвать ана
литически-рациональной, где эмоции, стремление «реализовать свои ощущения» интуитивно или осознанно, но все же структурируются, вводятся в логическое русло и строятся, творятся как некие художественные системы. Укорененная в Пуссене, традиционном французском картезианстве, тенденция эта идет через Сезанна к Пикассо и далее, вероятно, к Малевичу (особенно к супрематизму), П. Мондриану и многим другим явлениям, связанным с рациональным началом.
Другая тенденция — эмоционально-интуитивная, повышенно экспрессивная, тянущаяся от романтического формообразования к Ван Гогу, Энсору, Ходлеру, Мунку и далее к фовистскому открытому колористическому эксперименту и к страстным деформациям немецких экспрессионистов. С этой же тенденцией связана и «эмоциональная» линия беспредметного искусства — Кандинский, Клее, далее — весь поздний акционизм, кинетическое искусство.
Впрочем, эта диада («рацио—эмоцио») в наступившем XX столетии уже стала лишь одной из формообразующих, утратив доминирующее значение. И в этом смысле куда важнее то, что Сезанн открыл путь в наступающий век картине большого стиля со всей ее масштабностью, самодостаточностью и риторикой, со всей ее способностью жить в молчаливом эмоционально-эстетическом пространстве, не ищущем суетных словесных интерпретаций.
Вообще всякая попытка структуризации искусства XX века, если позволено будет так выразиться, «спотыкается», когда заходит речь о персоналиях или о направлениях. Все слишком тесно связано, и к этому придется не раз возвращаться.
Сезанн традиционно воспринимается как точка отсчета рационального искусства, на него опирается кубизм, в нем принято видеть продолжателя великого логика живописи Пуссена. Но этим суждением истина далеко не исчерпывается.
Фовизм, традиционно (и на этих страницах) противопоставляемый кубизму как квинтэссенция спонтанного, пылкого, эмоционального искусства, возглавлялся Матиссом. Матиссом, в основе творчества которого — тоже (не менее, чем для кубистов!) пример Сезанна, его глубокое и принципиальное влияние. То же самое можно сказать и о Марке, и в значительной мере — о Дерене.
Настоянный на рациональных схемах Сезанна—Пикассо русский кубофутуризм предвосхищает игровые схемы «дада », а абстрактное искусство развивается в диалоге «эмоцио—рацио» (Кандинский—Малевич), вбирающем в себя и поиски экспрессионистов, и Делоне, и многое иное.
Однако при всем своем разнообразии возникающие в ту пору тенденции в содержательном смысле исходят все из того же интереса к скрытому миру, миру тайного сознания. И Достоев-
ский, и Фрейд, и Врубель, и Бёклин, и Кандинский, и Шёнберг, и Джойс, и Пруст, и Пикассо, и Марк во многом устремлены не столько к видимому, сколько к знаемому. Даже Чехов в рассказе «Черный монах» (1894) устами своего персонажа-призрака утверждает равнозначность сущего и мнимого («Думай как хочешь... Я существую в твоем воображении, а воображение твое есть часть природы, значит, я существую и в природе»). Гоген искал ответы на жгучие проблемы бытия в христианской легенде или среди экзотических, почти сказочных образов Таити; Редон создает картины, прямо предвосхищающие сюрреалистические; позднее Пикассо обращается к искусству Древней Америки, а еще позднее Пруст делает единственным пространством своего повествования и размышлений одно лишь воспоминание, рассматриваемое сквозь тончайшую оптику многослойных, сконцентрированных в себе самих ассоциативных конструкций.
Одним из проторенных путей к тому, что Кандинский позже назовет «вибрацией души», был путь символизма — искусства, давно себя утвердившего, в значительной мере принадлежавшего уходящему веку.
«Поверхность и символ». Врубель. «АП art is at once surface and symbol (любое искусство есть одновременно и поверхность, и символ)»29 (0. Уайльд). «Помнить, что картина, прежде чем стать боевой лошадью, обнаженной женщиной или каким-нибудь анекдотом, является, по существу, плоской поверхностью, покрытой красками, расположенными в определенном порядке»30 (М. Дени). Снова вспоминается Сезанн, но и нечто другое: попытка художества реализовать с помощью жизнеподобного изображения скрытый, второй смысл предметов и явлений. Символизм, обозначенный выше.
К символистам причислены и художники, трактовавшие мир как пугающую или завораживающую пантомиму, сыгранную многозначительными страшноватыми персонажами-масками, статистами, олицетворявшими («символизировавшими») те или иные понятия (Ф. фон Штук), или как фантастические «нездешние» пейзажи вроде прославленного и модного «Острова мертвых» Арнольда Бёклина (1880, Музей Метрополитен, Нью-Йорк).
Все же символистское искусство стремилось к большей сложности и значимости и их достигало. «Символическая поэзия стремится облечь Идею в чувственную форму, которая при всем том не самоцель, а должна подчиняться Идее и выражать ее. Идея в свою очередь не должна представать без пышного одеяния внешних аналогий, ибо сущность символического искусства состоит в том, что оно никогда не называет Идею по имени»31. Поль Адан в 1886 году утверждал, что в искусстве символистов должны присутствовать юные грезы, видения, воспоминания, нереальные создания фантазии, потому что все зто встречается в жизни и по существу составляет ее.
о. Бёрдсли. Иллюстрация к драме
О. Уайльда *Саломея». 1895
Г. Климт. Юдифь. 1901
Явление, принадлежащее скорее XIX веку, дало мощные побеги в большинство авангард ных течений и должно быть обозначено.
Тенденция символизма проявлялась и у на-бидов, и у Моро, и у Бёрдсли, и еще мощнее — у Энсора, Мунка, художников, воспринимаемых, и справедливо, скорее всего основоположниками экспрессионизма. «Плазма символизма» затрагивала и мастеров глубоких, и художников достаточно салонного толка — уже упомянутых Бёклина и мощного, но претенциозного Штука, Климта, Клингера, молодого Купку. в России — Врубеля, позднее Борисова-Мусатова, Петрова-Водкина, Павла Кузнецова. Иные из них лишь отдали дань символизму, иные служили ему истово, но через искус его прошли многие.
У начала — Гоген, понт-авенская школа, Пю-ви де Шаванн, весьма, кстати сказать, Гогеном почитаемый, во многом Моро. Разумеется, Редон.
Редон, бывший всего на год моложе Сезанна, еще до первой выставки импрессионистов высказывался о необходимости писать не столько видимое, сколько воображаемое, позднее писал, что ставит «логику видимого на службу невидимому»32. Впрочем, Редон, как и Моро и даже Штук с его бурной, хотя и вульгарной фантазией, пользовался для изображения несуществующего или обозначения скрытого смысла вещей традиционными пластическими средствами, и фактура его картин и рисунков оставалась изысканной, но достаточно академической.
В этом смысле и символистские поиски и находки набидов тоже оставались в пространстве их пластических систем.
Тем более важное значение имел символизм для России, где языком первого символиста — Врубеля — стало вольное вещество искусства, освобожденное от примитивной связи с предметом. В России символизм немало способствовал открытию пути к авангардному мышлению, Врубель же был в начале и во главе этого процесса. «Более, чем какой-либо другой художник, Врубель был вдохновителем авангарда в России в
течение двадцати следующих лет. Он может быть назван русским Сезанном, поскольку у них много общих качеств: оба художника соединили своим творчеством столетия, и не только столетия, но два видения, столь pa-
О. Редон. Глаз как шар. 1882
дикально отделяющие девятнадцатый век от двадцатого: „современное (modern) искусство" от искусства Западной Европы со времен Ренессанса до рождения станковой живописи»33. При всей спрямленное™ этого суждения оно красноречиво иллюстрирует восприятие западным исследователем исключительности и значительности Врубеля в русской живописи и русском авангарде.
В начале XX века уже не в одной России всерьез заговорили о русской живописи. И не только о модных художниках, которых называли «футуристами» (иными словами, о молодых мастерах будущего «классического авангарда»), но и о тех, кто стоял особняком.
Русская культура издавна — и справедливо — почиталась в Западной Европе более всего как культура слова, как литературоцен
тричная культура. Со времен Тургенева российские книги были известны, и наша литература занимала гордое и серьезное место в сознании просвещенных читателей. Известны были и композиторы, особенно Чайковский, Мусоргский, Римский-Корсаков, Стравинский.
Картины Врубеля не вошли глубоко в западное художественное сознание. Но роль их в общекультурном процессе велика, и для русского авангарда, а стало быть, и для авангарда вообще — весьма значительна, как и для понимания сути символизма в высокой врубелевской интерпретации.
В искусстве Врубеля много преходящего: и многозначительность, и манерная усталость модерна и откровенная салонность. Но есть решительно иное: и застывшее кипение мазков, в которых проступают вечные тайны подсознания, и глубочайшая, обжигающая индивидуальность. В нем соединялись присущие русской культуре философичность, нравственная напряженность с отважными поисками новых формальных приемов, что для отечественной живописи было редкостью.
Подобно Гоголю, Александру Иванову, Достоевскому34, он так и не создал главное свое произведение, о котором мечтал всю жизнь, — грандиозного Демона.
•Пророческое и огненное» (слова Крамского о «Карамазовых» Достоевского) — понятия куда более близкие живописи Врубеля, чем картинам передвижников. Он не скрыл от Репина разочарования «Крестным ходом в Курской губернии» и стойко перенес обиду наставника, высказанную достаточно резко. Многого не принимал в живописи передвижников, полагая, что художник «имеет свое самостоятельное, специальное дело, которое он должен уважать, а не уничтожать его значения до оружия публицистики»35.
В отличие от прерафаэлитов, позднее Дерена с его культом раннего французского Ренессанса и даже Руо, в чьих полотнах чудятся дальние
М. Врубель. Девочка на фоне персидского ковра. 1886
отсветы готических витражей, в отличие от великих интерпретаторов (и новаторов, разумеется!) рубежа веков, Врубель был прежде всего данником большого стиля и суровой традиции.
Акварель «Восточная сказка» и картина «Девочка на фоне персидского ковра» — не просто этапные для Врубеля работы. Они подтверждают его сопричастность современному европейскому искусству, от которого он был
В. Серов. Девочка с персиками. 1887
решительно далек, которого не хотел знать, но ритмы и проблемы которого, оказывается, его не миновали.
В небольшой акварели «Восточная сказка» не только каждая арабеска, но и каждое движение персонажей, каждое движение кисти становятся если еще не символами в полном смысле слова, то самодостаточными и красноречивыми молекулами изображения. Тому способствует особая свобода мазков, словно «выплескивающихся» за пределы предмета. Вещество, ткань изображения доминируют над материальным, объективным миром.
Именно в зто время (1886) Жорж Сёра демонстрирует в картине «Воскресная прогулка на острове Гранд-Жап» последовательную систему пуантилистической живописи. Прямые параллели, естественно, были бы наивны: то, что у Сёра стало результатом рационально разработанных приемов, у Врубеля — импровизация, единственный опыт (более к такой технике он практически не возвращался). Но свойственный времени пафос аналитического взгляда, некая «рациональная патетика», наконец, совпадение приемов у художников, ничего друг о друге не знавших,— во всем этом есть несомненная стадиальная общность, свидетельство неведомого единства экспериментов далеких друг от друга художников.
Стилистика «Восточной сказки» перекликается и с неоромантизмом Моро, изображавшим, по его словам, «несбыточные мечты, видения, воспоминания, фантастические существа»36.
Однако символизм у Врубеля — это не столько система сюжетов и даже не столько приверженность «видениям» или «нереальным созданиям фантазии». Это иное отношение к самому языку. Иная поэтика.
В портрете Марии Дахнович («Девочка на фоне персидского ковра», 1886, Музей русского искусства, Киев) возникает новый язык, где мазок, сочетание цветов, фактура, соотношение и очертания светлых и темных пятен обретают собственное значение, параллельное сюжету и почти независимое от него. Не отрываясь от материального мира, художник созидает свой, иной, где зрителю становится понятен безмолвный язык красок и форм. Холст мерцает, взрывается всеми опенками красного. Густые тени между складками ковра рушатся вниз, рассыпаются разноцветными осколками. Поверхность картины словно пульсирует, обретая покой в тусклой розе на коленях девочки и в ее растерянно-спокойном лице. И темные волосы, шатром поднявшиеся над недетскими пронзительно-печальными глазами, странно напоминают о будуще й «Демоне», образе, столь
И. Репин. Этюд к ’Заседанию Государственного совета*. 1902
далеком от портрета дочери киевского ростовщика.
«Цвет далек от натуры: представьте себе смутное воспоминание о керамике, обожженной на сильном огне! Все тона красные, фиолетовые, исполосованные огненными бликами, словно огромная, сияющая перед глазами печь, место борьбы противоречивых мыслей художника»37 — эти размышления Гогена о цвете словно бы непосредственно относятся к картине Врубеля и подтверждают единство поисков художников разных пространств.
«Девочка на фоне персидского ковра» написана почти одновременно со знаменитой «Девочкой с персиками» Валентина Серова (1887). Взаимное влияние, равно как и полемика, исключены. Художники не видели картин друг друга. Серов шел к новому, преобразуя традицию, совершенствуя с каждым новым холстом и артистизм, и ориги
нальность. Он далеко опередил своих современников, но не утратил с ними генетической, коренной связи. Корни врубелевской живописи в далеком прошлом, побеги же ее устремлены в будущее, к метафоре, к мучительному самовыражению; интуиция то помогает, то подводит его. Искусство же Серова излучает спокойный и щедрый свет.
«Вот уже с месяц пишу я Демона. Т. е не то чтобы монументального Демона, которого я напишу еще со временем, а „демоническое" — полуобнаженная, крылатая, молодая, уныло-задумчивая фигура сидит, обняв колена, на фоне заката и смотрит на цветущую поляну, с которой ей протягиваются ветви, гнущиеся под цветами»38. Речь о «Демоне сидящем», начале п'<ги к главной его картине. Существовало множество не дошедших до нас вариантов. Многое уничтожил сам автор, что-то просто пропало. В воспоминаниях современников сохранилось и «суровое молодое лицо с кучей волос на голове» — глиняная скульптура, сделанная в киевской рисовальной школе, и «большая странная голова с горящими глазами, с полуоткрытым сухим ртом» («Неизвестный» из «Маскарада», по типу близкий к «Демону»), и то, как увлеченно говорил Врубель об этой теме, что демон — не черт или дьявол, что «демон» по-гречески значит «душа», «дух», и то, как цитировал наизусть позму.
Единственное реальное свидетельство многолетней работы Врубеля над этой темой конца 1880-х годов — гипсовая раскрашенная голова Демона. Действительно, внешние черты врубелевского героя напоминают, I как уже был случай заметить, и оперные прототипы. Патетика гипсовой
С
Ф. Штуи. Грех. 1891
головы Демона такова, что за ней уже мерещится претенциозность, напыщенный мистицизм. Врубель остановился у самого края, чрезмерность присутствует лишь как ненаступившая возможность39.
«Пророческое и огненное», что разглядел у Достоевского Крамской, явилось в живописи именно у Врубеля. При параллельном рассмотрении литературы и искусства в России рубежа веков лишь двоих можно назвать абсолютными новаторами в области художественной формы: Достоевского и Врубеля. (Разумеется, значение этих двух фигур несоизмеримо. Достоевский — давно естественная часть мировой культуры, Врубеля только недавно узнали в мире. Да и масштаб талантов совершенно несоизмерим. Но сплетение творческих тенденций — несомненно и важно40.)
Врубель, не обладавший ни гением Достоевского, ни глубиной его человековедения, концентрировал подобные представ
ления не в сложнейшей судьбе человека и его идей, но в символическом (упрощенном, если сравнивать с Достоевским) и все же схожем варианте. Ненужность высокого дара, ко злу направленная могучая, но невостребованная сила, отторгнутый обыденным мирсм герой, уделом которого стало лишь любование замкнутым царством собственной души,— качества, присущие и Демону Врубеля. «Для великих характеров быть виновным — это честь»41.
«Символизм делает самый стиль, самое художественное вещество поэзии одухотворенным...»42. Это слова Мережковского из статьи «О причинах упадка и новых течениях современной русской литературы», которую принято считать манифестом русского символизма и которая будет опубликована лишь в 1899 году. Но «одухотворенность художественного вещества поэзии» — в данном случае живописи — несомненна у Врубеля. Более того, в Демоне реализуются те качества, которые определены Мережковским как важнейшие для современной русской культуры вообще: «соединение двух глубоких контрастов — величайшей силы и величайшего бессилия»43. Мережковский теоретик русского символизма, был глубоким знатоком и поклонником Достоевского. И, несомненно, чувствовал у него ту самую «одухотворенность художественного вещества поэзии».
И именно жизнь поверхности холста, самой фактуры, таинственная и завораживающая жизнь цветовых кристаллов — все это решительно отличает искусство Врубеля от классического западного символизма. Если сравнить «Демона сидящего» с написанными несколько позже символистскими картинами Штука, где натуралистически выписанные персонажи
выполняют роль статистов в пугающей и многозначительной пантомиме, то становится совершенно очевидным своеобразие врубелевской живописной поэтики. Его персонаж — не фигура, своим действием или характером олицетворяющая (как у Штука) какое-либо понятие. Суть картины — угнетенная мечта, ненужная сила, одиночество — входит в душу зрителя именно через язык живописи, через все то же «вещество поэзии». Так написан и пейзаж. В нем нет ничего напоминающего многозначительные инфернальные ландшафты, которые писал Арнольд Бёклин.
В своей картине Врубель выражал то, что будет занимать искусство грядущих лет. Здесь возникает нежданная и несомненная связь с Редоном. В 1904 году Максимилиан Волошин напишет в стихотворении, посвященном художнику (изображение Сатаны, сделанное Редоном, восхитило в свое время поэта):
И с грустью, как во сне, я помню иногда Угасший метеор в пустынях мирозданья, Седой кристалл в сверкающей пыли, Где ангел, проклятый проклятием всезнанья, Живет меж складками морщинистой земли44.
Именно благодаря Врубелю внутри русского живописного символизма впервые возникают произведения, созидающие новую реальность, или, говоря словами Пауля Клее, не отражающие видимое, но делающие видимым. Искусство, несущее серьезный многозначный смысл, символ, который «многомыслен и всегда темен в последней глубине»45, по определению Вячеслава Иванова.
Милый друг, иль ты не видишь, Что все видимое нами — Только отблеск, только тени От незримого очами?46
Работая с архитектором Шехтелем, Врубель вплотную столкнулся с явлением, в ту пору все более увлекавшим художников и которому он сам (сознательно или бессознательно) уже успел отдать известную дань. Речь идет о стиле, который в России стали называть «модерн». Стиле, отличавшемся стремлением к слиянию архитектуры с живописью и скульптурой, к созданию живой пластичной среды, к свободному взаимодействию художественных и исторических реминисценций, к сближению искусства с природными формами. Истоки модерна можно проследить в орнаментах и книжной графике Уильяма Морриса, в искусстве прерафаэлитов. Многочисленные книги и журналы — «Ревю бланш», «Стьюдио» (The Studio) — были, без сомнения, Врубелю знакомы, так же как и получившие широкую известность иллюстрации Обри Бёрдсли к «Саломее» Уайльда. Близки Врубелю и суждения Морриса об истории, а именно, что романтизм способен сделать прошлое частью настоящего47. К тому же в модерне с его гипертрофированной одухотворенностью форм была так естественна пла-
М. Врубель. Демон сидящий. 1890
стическая метафора, иносказание, близкие символизму. На языке модерна, «к которому символисты прибегали чаще всего, объяснялось и огромное число художников, к символизму никакого отношения не имеющих»48. Искусство Врубеля не исчерпывается ни символизмом, ни «языком модерна». И то и другое в большой мере появилось и развилось благодаря ему, но он в постоянном диалоге с тем, чему сам способствует и чему сам подчинен.
Работа над «Демоном поверженным», вероятно, окончательно сломила его. Или, напротив, только она его и спасала. В одном нет сомнения: все, что он мог, он оставил Земле, переплавив в живопись даже страдания теряющего разум и зрение живописца, муку больной души, погружающейся в ледяной хаос безумия.
Картина порывала не только со всем сколько-нибудь обычным для современной русской живописи. Она выходила и за пределы того, что делал до тех пор сам Врубель. Необычайная вытянутость по горизонтали. Сумеречный и вместе светоносный колорит. Тело Демона трудно различить в картине: художественный эффект решительно поглощал сюжет и даже образ героя. Трагедия персонажа слилась с трагедией самого художника, бессильного реализовать на холсте масштаб события.
Цельности тщетно было бы искать в этой картине. Все здесь — в неза-вершившемся движении. Хотя — все исчерпалось, ничего не произойдет более. Демон низвергнут с высоты, на которую посягнула его непомерная гордыня. Но падение не приносит ему физической гибели, что избавляет от страданий смертных.
Внешнего, чисто «декадентского» в картине с избытком. Но есть и трагизм колорита, и пронзительная, совсем человеческая боль во взгляде Демона, и просто отчаяние — все то, что являет собою совершенно иную меру художественной условности, чем изломанная поза, чем зто смешение декоративной изощренности с натурализмом. В «Демоне поверженном»
М. Врубель. Демон поверженный. 1902
немало откровений и высочайших взлетов. Но сама картина откровением не стала, в ней с пронзительной ясностью видна невозможность очищающей трагедии, эпического обобщения в искусстве начала XX века.
Дав могучие импульсы становлению символизма и модерна, Врубель остался прежде всего трагиком, создавшим свой, замкнутый, фантастический, но исполненный сегодняшней боли мир, мир, сопричастный вершинам былого искусства и одновременно устремленный в будущее.
Отвага, с которой художник проникал в глухие глубины бытия, поиски «большого стиля» сближали с ним художника, казалось бы. совсем иного плана- В. Борисова-Мусатова, стремившегося к подчеркнуто одухотворенному. феерическому декоративизму. Вполне закономерно, что члены символистского объединения «Голубая роза» видели в этих разных живописцах своих духовных учителей, Петров-Водкин называл Врубеля «нашей эпохой».
Любимый Врубелем Кант полагал, что «истинную возвышенность надо искать только в душе того, кто высказывает суждение, а не в объекте природы»49. В этом смысле Врубель — художник Новейшего времени, но и для традиции, и для авангарда он остался совершенно чужим.
И все же искусство «поворота столетий» отмечено не только появлением новых кодов и художественных структур, не только формированием ставших скоро знаменитыми творческих группировок, но и произведениями, которые объединены, если угодно, новым уровнем эстетизации извечных и мощных чувств, скорее трагических, хотя «новый уровень» этот остается еще в пространстве правдоподобия.
В этом контексте и последний врубелевский «Демон» при всей его декоративной избыточности воспринимается как дви жение к новому открытию душевных глубин. Впрочем, еще десятилетием ранее написаны были уже упоминавшиеся и «Крик» Мунка, и «Въезд Христа в Брюссель» Энсора — вещи, современные Ван Гогу и Сезанну, но иной, лапидарной степенью условности уже устремленные в XX век. В начале XX столетия драматической сосредоточенностью отмечены холсты художников, в принципе к ней не склонных. Простой вид Люксембургского
сада (1902, Музей изящных искусств, Бордо) исполнен у Марке эпической и гордой значимости, пронизанной печалью. Даже работы Матисса той поры отмечены тревогой, даже ранний пейзаж Дюфи «Сумерки в гаврском порту» (1900, Музей Кальве, \виньон) при всей неловкости, очевидной в ранней и недостаточно самостоятельной рабохе, несет в себе строгий, хотя и несколько прямолинейный драматизм. Лицо прославленного драматурга на литографии '1унка («Ибсен в кафе Гранд-отеля в Христиании», 1902) странно сочетает в себе традиционный и глубокий психологизм XIX столетия с лапидарной манерой нового века.
Ранние работы Шагала, написанные в провинциальном Витебске в конце 1900-х годов, вдали от еще неведомого художнику движения западной живописи, также в силу стадиальной общности резонируют этой тенденции.
Речь не идет о цельном движении, где художники связаны общими идеями или пластическими устремлениями, но лишь о некоем эмоциональном всплеске, прошедшем именно как содержательное событие, как соединение вечных, особенно свойственных ушедшему столетию эмоций и размышлений с художественной реальностью наступающих времен.
А. Марке. Люксембургский сад. 1902
Искусство соприкасалось с собственным будущим.
В 1910 году бельгийский живописец Леон Спиллерт закончил небольшую работу «Дирижабль в ангаре» (КМИИБ), быть может впервые объединив стилистику символизма с теми технократическими мотивами, что вскоре станут занимать футуристов. Огромный (11 м в диаметре, 65 м в длину) летательный аппарат50, мертвенный и вместе биоморфный, как в страшном сне, надвигается на зрителя. Крошечные фигурки людей рядом с ангаром малостью своею подчеркивают громадность дирижабля. По сути дела, здесь соединен символизм с началами еще только возникающей метафизической живописи. Наделенная опасной, едва ли полностью подконтрольной разуму мощью, бездушная, но словно бы и живая, освобожденная для войны энергия несет в себе грозную обреченность.
Интуитивный зонд искусства ощутил тревогу близкой катастрофы. Памятник Сезанну работы Майоля (1912—1925, Тюильри, Париж) был лишь философским, но элегическим эпилогом поворота столетий, в целом же искусство наступившего века, отдавая прошлому обязательную и почтительную дань, концентрировалось на пороге радикальных и неизбежных перемен.
Л. Спиллерт. Дирижабль в ангаре
IL «МАГИЯ СОВРЕМЕННОСТИ»
И вот настало время жить. <...>
Вероятно, существует магия современности.
Луи Арагон
Несмотря на последовательное — декларативное и практическое — отрицание традиции, авангард (период становления и самоидентификации модернизма), разумеется, имел глубокую корневую систему. Опираясь на эксперимент, доведенный почти до уровня самоцели, как на основу художественной динамики, художники авангарда опирались во многом и на традиционную культуру: древнее искусство, мало затронутое цивилизацией, народное искусство; использовали опыт наиболее радикальных мастеров конца ушедшего века — Сезанна, Ван Гога, символистов, примитивистов (А. Руссо).
В России источником раннего авангарда во многом стала средневековая живопись, икона, лубок, но и символизм, модерн, вывеска, народная культура (Н. Гончарова, М. Ларионов).
Однако пафос отрицания, стремление к новому, активному взгляду на мир, к автономии искусства, к созиданию новой реальности, к отказу от привычного «отражения действительности», к взгляду внутрь материального мира, к изображению не столько видимого, сколько переживаемого, интерес к подсознанию, принципиальная перекодировка пластических систем — все это камуфлировало истоки авангарда и выдвигало на первый план лишь новые, шокирующие приемы, с трудом принимаемые даже расположенной к новациям публикой.
В неясных, тревожных, напряженных и смутных произведениях новейших художников, разумеется, ощущалась связь с предчувствием «невиданных перемен» (А. Блок), но ощущалась многосложно, ассоциативно, не через содержание, а именно через формальные структуры.
Как уже говорилось, привычный последовательный анализ направлений не представляется адекватным реальной картине движения искусства. Необычайная «теснота» художественной жизни, соперничество в одном пространственно-временном поле художников, объединений и тенденций — явление само по себе беспрецедентное, обескураживающее и лишающее истори-
катой неторопливости, без которой вряд ли возможно создать стройную картину минувшего, сколько-нибудь поддающегося анализу.
Начало столетия знаменуется окончательным переходом от «последовательного» к «параллельному» существованию тенденций и направлений в искусстве. Если прежде стиль проживал различимый исторический период, зарождаясь, входя в силу и затем отмирая, уступая место иному, определяющему наступающие времена, то теперь сосуществование, одновременность становились все более привычным явлением и, порождая споры, приучали исподволь к невольной терпимости. К тому же многие определявшие эпоху художники находились одновременно в пространстве разных направлений и групп, размывая представление об их стилистическом единстве.
Но, разумеется, и само искусство на своем переломе показало решительные и невиданные, вероятно, изменения, изменения и общего характера, и персонифицированные.
Вопрос, однако, заключается в том, в чем именно эти изменения реализуются. Движение литературы определяется публикацией книги, ее читательским восприятием, критикой и т. д. В живописи XX века, перенасыщенной выставками, полемикой, надо полагать, все же именно выставки, а иногда и появление на какой-нибудь из них одной или двух принципиально новых картин могло стать серьезным событием.
«Сейчас живопись только начинается»1. Как уже говорилось, важнейшим событием после выставки Пикассо у Воллара стало выступление фовистов в Осеннем салоне 1905 года.
Фовисты были первой реально оформившейся художественной группой нового века, его первым авангардным движением. Суждение о том, что «точность не есть правда», принадлежит фовистам (А. Матиссу). Разумеется, значительную роль в возникновении этой (вовсе не столь уж конкретно очерченной) группы, как, впрочем, и многих других, сыграли и личные пристрастия, и деловые интересы, и случайность. Но результат был на редкость цельным и впечатляющим.
Признанным главой группы стал Анри Матисс, старший среди своих товарищей возрастом и, несомненно, превосходивший их если не масштабом дарования, то его универсализмом и своеобразным величием.
Подобно Марке питомец мастерской Моро, немало получивший у своего утонченного и артистичного учителя, он, как многие его товарищи, приобрел там и стойкое отвращение к подробной штудии натуры, академической традиции и сюжетике. Впрочем, по свидетельству современников, Моро отличался либерализмом и уважением к индивидуальности учеников.
Группа живописцев во главе с Анри Матиссом получила прозвище «фовисты» — «дикие», хотя их участие на выставке 1905 года не было всеобщим. Участниками группы в разное время и с разной активностью были
А. Матисс. Нотр-Дам на исходе дня. 1902
Андре Дерен, Альбер Марке, Рауль Дюфи, Жорж Руо, Отон Фриез, Кес Ван Донген, Морис Вламинк, Жан Пюи и др. В их яростной страсти к самовыражению, в агрессивной «освобожденное™» колорита, в угловатых сияющих цветовых пятнах — во всем этом была кипучая смесь отважного эксперимента и желания уйти от слишком тягостных проблем времени — оттого, что ляжет в основу тревожных, не лишенных интеллектуальной агрессии опытов кубизма или страстности немецких экспрессионистов. Эмоции художников реализовывались почти вне предметной среды: цветом, линией, пятном. Фовисты созидали некий новый мир, импульсивный и для непривычного взгляда хаотичный, где царствовала не столько преображенная реальность, сколько овеществленная в красках фантазия авторов.
С 1902 года картины Матисса и его единомышленников начала покупать Берта Вейль. В 1904 году Воллар устроил первую персональную выставку Матисса.
Несмотря на относительную молодость — Матиссу нет и сорока, он занимает в художественной жизни Парижа видное место не только своим профессиональным авторитетом. Под его руководством готовилась экспозиция Салона независимых 1905 года, работая над которой он имел возможность с особым тщанием рассмотреть ретроспективные выставки Ван Гога и Сёра (в каждой из них почти 50 холстов).
Салон 1905 года стал в известном смысле прологом к выступлению фовистов. Матисс выставил там свою нашумевшую картину, названную словами Бодлера,— «Роскошь, покой и сладострастие» (1904, НМСИ ЦП), сочетавшую воздействие структурной логики и мощи Сезанна (которого Матисс глубоко любил и чье небольшое полотно, изображавшее купальщицу, в 1899 году, несмотря на нужду, купил за огромную для него сумму — 1300 франков), пуантилистический метод наложения красок и совершенно фантастический общий цветовой эффект.
Картина «Роскошь, покой и сладострастие» привела в восторг Синьяка (хотя в полотне сезанновская философическая и грозная логика уже явно торжествовала над сутью пуантилизма), и он купил эту работу, словно предчувствуя, что увлечение Матисса его доктриной скоро завершится. Впрочем, в ту пору именно пуантилистические штудии Матисса еще воодушевляли, хоть и недолго, Марке, Вламинка, Дерена и даже Дюфи.
А. Матисс. Роскошь, покой и сладострастие. Эскиз. 1904
Осенний салон 1905 года (членом жюри которого в числе прочих, кстати сказать, был и Кандинский, уже тогда, как руководитель объединения •Фаланга», завоевавший международный авторитет) открылся в Большом дворце и воспринимался как центральное событие художественной жизни Парижа даже на официальном уровне.
Там состоялось первое совместное нашумевшее выступление «диких», где они и получили свое наименование. Критик Леон Воксель, увидев в зале VII полотна Матисса и его друзей вокруг классицистической статуэтки А. Марке, произнес: «Донателло среди диких зверей» («Donatello parmi lesfauves»). Впрочем, статья Вокселя в «Жиль блаз» (17 октября 1905 года) была вполне благожелательна, как и статьи Андре Жида и Мориса Дени.
Недолгое и пылкое увлечение пуантилизмом уже мало напоминало о себе на этой выставке. Известно даже суждение Матисса касательно того, что фовизм «стряхнул тиранию дивизионизма». Среди картин Матисса были представлены «Раскрытое окно», «Женщина в шляпе» (1905, частная коллекция Сан-Франциско), написанная мощными, широкими, словно пульсирующими пятнами открытых и дерзких цветов,— в какой-то мере ставшая эпиграфом или манифестом выставки. Недаром этот холст был замечен и куплен Гертрудой Стайн — легендарным персонажем и будущим летописцем художественного Парижа тех времен. «Люди перед картиной покатывались со смеху и скребли краску пальцем... <...> Мисс Стайн не могла понять, почему она вызывает такое бешенство». Картина была портретом госпожи Амелии Матисс (урожденной Парейр), державшей в ту, трудную еще для четы Матиссов пору шляпную мастерскую, для которой
А. Матисс. Женщина в шляпе. 1905
художник иногда делал эскизы. «У нее были темные волосы, очень прямая спина, длинное лицо и четкий большой вислогубый рот, как у лошади... <...> Гертруде Стайн всегда нравилось то, как она прикалывает шляпу к волосам...»2
«Женщина в шляпе», быть может, более, нежели другие знаменитые холсты тех лет, демонстрирует общность корневой системы Матисса и Пикассо — это, разумеется, Сезанн. Они не были еще знакомы и знали друг о друге мало, тем более любопытна «генетическая близость».
Оглушающая мощь красочных пятен словно натягивает холст, делает его тугим и жестким, будто вибрирующим, гудящим от цветового напряжения. Кажущаяся беспорядочность разноцветных плоскостей, на первый взгляд не связанных с формами голо
вы и тела персонажа, складывается в жесткую архитектоническую конструкцию, если смотреть на картину просто как на цветовую композицию. Эта цветовая конструкция образует своего рода второй портрет, эмоциональную мелодию, находящуюся в сложных утонченных и бесконечно увлекательных пластических отношениях с героиней. Колористический, архитектонический двойник персонажа то сливается с ним, то от него удаляется, воскрешая вполне сезанновское восприятие натуры как вечности и становления одновременно. Чудится, никогда прежде возможности цвета как такового не были явлены зрителю в столь отважной и вместе классической форме.
Тогда, в 1905 году, те, кого прозвали фовистами, были поразительно схожи, словно старались помочь друг другу утвердить общее понимание красоты искусства и радости художественной свободы — великолепный хор, в котором ненадолго и, видимо, намеренно почти перестали быть различимы голоса солистов.
Казалось, впервые в истории живопись существовала только ради живописи и, опьяненная счастьем творить, не думая ни о сюжете, ни об идее, сотворяла мир чистых и яростных, используемых в своем «изобилии» (Сезанн) цветов, искавших гармонии только с плоскостью холста, а не с идеей или персонажами.
Эта абсолютная свобода почти спонтанного самовыражения, реализованная и выраженная так страстно и так стремительно, быть может, и открыла путь к пониманию собственной индивидуальности. Не прошло и пяти лет, как Дерен обрел свое жесткое, холодное и грозное великолепие, как
вспыхнули темным тлением фантомы Руо, соединившие в себе видения Средневековья с прозрениями нового века, как возникли саркастический мир Ван Донгена и призрачная вселенная Дюфи, в которой странно соседствовали гротески Гиса и мечтания Пруста. Лишь Матисс, поднявший ранние дерзновения фовизма на олимпийские высоты, внеся в него строгий смысл и гармонию, менее всего казался изменившимся, хотя на самом деле он просто ранее других нашел самого себя, на какое-то время заразив других своими идеями.
Фовизм не был замкнутым объединением даже в недолгую пору сво-ег максимальной сплоченности. Дерен и Вламинк были весьма близки с монмартрской группой «Бато-Лавуар», где находилась и мастерская Ван Донгена. После 1906 года к фовистам примкнул Жорж Брак, который станет вскоре одним из основателей кубизма. Вообще надо заметить, что французские художественные объединения ни в коей мере не отличались кастовостью или фанатизмом, что было порой свойственно футуристам в Италии, кубофутуристам и супрематистам в России. Французский авангард при всей тяжести и неустроенности жизни многих его представителей исповедовал радостную свободу поиска, веселое любопытство и истинную, но лишенную угрюмого фанатизма страсть к своему ремеслу.
При всей дерзости своих живописных и пластических приемов фовизм I не таил в себе того грозного беспокойства, того ощущения распада прежних представлений о мире, той утраты жизненной гармонии, что явит — и как скоро! — зрителю кубизм. Любопытство к отважному эксперименту ' вкупе с несомненным гедонизмом, присущим фовизму, предопределило I бурный успех, неожиданно быстро сменивший настороженное отрицание. I Немалую роль сыграло участие семьи Стайн, благодаря которой полотна
А. Матисс. Танец. 1910
А. Матисс. Семейный портрет. 1911
Р. Дюфи. Старые дома в Онфлёре. 1906
Матисса попали в США (позднее в Нью-Йорке А. Стиглиц показывает в «Галерее 291» работы Матисса вместе с произведениями Пикассо, Бранкузи и др., художник выставляется в Берлине у Кассирера и в Москве на выставке «Золотого руна»),
Воллар, уже выставлявший Матисса и доверявший его вкусу, заключил контракт с Дереном и Вламинком, сам же Матисс открывает вторую персональную выставку в галерее Друз, в следую
щем году там организуется выставка Марке, в 1910 году — Руо. Осенний салон 1906 года (совпавший с грандиозной ретроспективой Гогена, утвердившей признание Новой живописи) становится триумфом фовистов, но знаменует распад группы и начало раздельного восхождения «диких» к персональной славе.
В 1908 году известность и значение Матисса настолько возрастают, что он открывает нечто вроде частной академии на улице Севр, в той са-
I мой мастерской, которую он снял, что-I бы написать «Счастье жизни» (позднее I -академия» обоснуется в помещении I прежнего монастыря Св. Сердца на I бульваре Инвалидов). «Желающие были I самых разных национальностей, и поначалу Матисс пришел в ужас от их разно-образия и количества... <...> Когда он I спросил одну очень маленькую женщи-I ну в первом ряду, что она хочет сказать I своей живописью, что она ищет, она ответила: „Monsieur, je cherche le neuf“»3.
Если фовизм в общих своих интен-I циях ищет скорее сохранения незы-I блемой радости жизни, сводя ее к мак-I симально упрощенной и концентриро-I ванной пластической и колористиче-I стой формуле, если в нем несомненно есть социальный эскапизм, стремле-
I ние к обожествлению и абсолютизации I отстраненных вечных ценностей — зс-I тегических и этических, то современни
А. Матисс. Портрет жены художника. 1913
ки его не столько сохраняют (пусть да-
1 же в необычных формах) вечное, сколько идут навстречу грядущему.
Фовизм как направление, имевшее во Франции чисто художествен-I ные определяющие качества, был частью и более общей тенденции, кото-I рая в иной историко-культурной ситуации обретала принципиально новое ) эмоциональное и содержательное наполнение.
1907 и 1908 — в этих датах существует некая магия, если угодно, в них еще один штурм новых художественных рубежей \Х века, во всяком случае серьезный и суровый поворот.
(Весьма при этом любопытно, что еще годом раньше происходит первое соприкосновение русского и французского искусства: в Осеннем салоне 1906 года в двенадцати залах — огромная выставка русского искусства, организованная Дягилевым и реа-тизованная им с помощью Бакста и Ларионова. Впрочем, реакция французской критики была более чем сдержанной, в выставленных работах не видели ни живописной отваги, ни подлинной оригинальности4.)
Простой взгляд на синхронистическую таблицу заставляет задуматься.
Конечно же, случайность, что Папа Римский официально осуждает Новейшее искусство в том году, когда открывается 1рандиозная ретроспектива Сезанна, Пикассо пишет «Авиньонских девиц», Кандинский впервые выставляется в парижском
Салоне независимых (в Осеннем салоне он выставлялся с 1904 года), в Барселоне окончено строительство «Касо Батло» по проекту А. Гауди, в США, в Нью-Йорке, в «Галерее 291» — Пикассо, Матисс, Бранкузи, в Москве — первая экспозиция «Голубой розы».
1908 год. 25 апреля в Петербурге, в «Пассаже» на Невском,— выставка «Современные течения в искусстве»: Кульбин, Бурлю-ки, Экстер, Лентулов. В Париж съезжаются Кандинский, Явленский, Петров-Водкин, Павел Кузнецов. В сочетании красноречивых случайностей всегда угадывается некий смысл, тяготеющий к закономерности, сгущение ситуации, наконец, просто своего рода (по современной терминологии) «знаковость».
И здесь приходится задуматься о том, где, в сущности, проходит граница между бурным движением искусства к новому и самим возникновением этого «нового», этого перелома, открывшего путь к новым реалиям, к созданию художества, настолько же отличного от Матисса или Кирхнера, как сами эти мастера были отличны от Курбе, Мане или Ренуара.
Одним из самых распространенных принципов языка Новейшего искусства стала гипертрофированная условность. Художник отказывается либо от (упрощенно говоря) устремления к эстетизму, красоте, либо от сюжета, даже мотива, либо от какого бы то ни было жизнсподобия, обращаясь, таким образом, более, чем прежде, к воображению и фантазии зрителя. (Впрочем, условность эта могла обернуться и простотой, утерянной в оранжерейных изысках «поворота столетий». Вероятно, лишь тогда, в начале века, мог возникнуть восторженный интерес к примитивам Таможенника Анри Руссо. Его взгляд на жизнь, минующий все и всякое искусство, всю накопленную человеческим знанием и чувством «иконосферу», был не менее живителен, чем шедевры доисторических времен.)
Как известно, в 1907 году, когда фовизм как цельное явление почти сходит на нет, в Осеннем салоне — ретроспектива Сезанна (в том же году — в галерее Бернхейма-младшего), и масштабное явление Новому миру ее первого мастера завершает утверждение системы иных художественных ценностей. Остается лишь восхищаться тем, как точно компонует история свое движение. Именно в 1907 году Пикассо пишет «Авиньонских девиц».
Пикассо: «Katabasis eis antron». Пикассо, открывший кубизм или, если угодно, путь к нему «Авиньонскими девицами» (1907, МСИ),— красноречивый пример первой версии. Кандинский. Клее. Малевич, Делоне — первые опыты абстракции ко второй.
Речь идет, так сказать, не о более современном, нежели Матисс, искусстве.
Такого попросту не может быть, поскольку бытование наследия Матисса (так же как и Марке, Модильяни, Мура и т. д.) и в конце XX столетия со
| *. Руссо. Сон. 1910
II1 всею несомненностью доказало не только его непреходящую ценность I (что свойственно всему большому искусству), но и полное созвучие, адек-I ватностъ идеосфере, культуре, искусству, которое принято называть «ак-I туальным», всему мироощущению новейшего времени.
Речь об ином языке, ином взгляде на мир, который, в отличие оттого I же Матисса, существует в некой иной среде. Об искусстве, в котором ка-I тегории гармонии, экспрессии, фактуры, пространственных соотношений !Ч либо отменены, либо заменены отдаленными аналогами или, скорее, по-I, добиями. Об искусстве, оперирующем выстроенными понятиями, зстети-1 на которых основана более на мысли, нежели на ощущении; искусстве, I1 тяготеющем к тому, что было обозначено выше как «создание новой дей-I, ствительности в постоянно обновляемых, пластически самоценных кодах».
Условность такого определения не исключает его пользы для понима-[ ния уникальности событий, о которых пойдет речь.
Если свести сюжет к упрощенной формуле, то можно сказать, что Пи-I кассо демонстрирует сознательный отказ искусства от обычно присущего I ему устремления к красоте. Точнее — утверждает возможность неких но-I вых критериев, чьи основы в оппозиции ко всему, что есть в эстетичес-I ком опыте. Следует, правда, со всей тщательностью оговориться: имеется I в виду не отсутствие традиционных эстетических составляющих, но приори-I тетиных.
Можно возразить: некогда и Рембрандт казался безобразным, не го-I веря о скандале с импрессионистами или фовистами, а потом все это ста-I по классикой. Но никогда прежде в истории искусства не утверждалось I в качестве предмета, мотива и способа интерпретации нечто противопо-ожное гармонии, единству пространственного решения и стиля.
Противоположное, пожалуй, слишком прямолинейное определение. II Скорее это утверждение иных качеств, не противоположных, именно иных.
Известно суждение земляка Пикассо каталонского философа Эухенио д’Ор-са касательно того, что все, не имеющее традиции, становится плагиатом. Недаром Пикассо был задет фразой Анри Руссо, которым глубоко восхищался и которого чествовал в своей мастерской: «Мы два великих художника нашего времени: ты в египетском жанре, а я в современном»5. В словах Таможенника было интуитивное понимание собственной независимости и принципиальной «контекстуальное™» его младшего собрата.
Оригинальность Пикассо утверждается здесь не только его несомненным новаторством, но и парадоксальной близостью к тому же Сезанну, на котором формировался и Матисс.
Пикассо познакомился с Матиссом незадолго до начала работы над «Авиньонскими девицами» у Гертруды Стайн на улице Флерюс. Только там, кроме нескольких небольших галерей, можно было увидеть его работы, Матисс же выставлялся в крупнейших салонах и был уже главой знаменитой группы фовистов. Матиссу было уже под сорок, Пикассо не было и тридцати. «Матисс и Пикассо стали дружить, но были врагами»6.
Возможно, тем не менее, именно Матисс обратил внимание Пикассо на негритянское искусство.
Шарль Морис писал о «чистой печали» Пикассо. «Говорят о молодом боге, пришедшем обновить мир. Но это мрачный бог...»7 Сейчас кажется: это сказано о движении души художника в лабиринте собственного искусства. Юнг полагал, что одна из основ искусства Пикассо — «некюйя» (вызывание теней умерших, по «Одиссее»), нисхождение в преисподнюю: «Он умирает, и душа его уносится на коне в потусторонний мир»8. Он же замечал, что Пикассо склонен к осмысленному «katabasis eis antron» (вхождению внутрь) в дебри тайного знания9. Дело лишь в том, что для художника лабиринты душевного ада уже отождествляются с драмой времени: подобно чувствительному сейсмографу, он воспринимает частные страдания обездоленного человека знаком и прологом вселенской беды, приближающейся катастрофы, «неслыханных перемен».
К «Авиньонским девицам» Пикассо пришел почти юным — ему едва исполнилось двадцать пять. Но его талант был не просто закален — обожжен.
Вероятно, ни один другой художник не сконцентрировал в своем творчестве с такой удивительной полнотою лики и личины Новейшей культуры, ее великие триумфы и не менее великие мистификации, ее находки и заблуждения, ее мучительные споры с самой собой, ее циничные игры и ее испепеляющую человечность.
По сути дела, Пикассо — первый мастер, обладающий всеми качествами художника Новейшего времени. Даже сама его жизнь, которую он так часто хотел уподобить лукавой игре (во что верили многие, а порою и он сам и что порой обращает его в чистый пример artifex ludens), резонировала искусству XX столетия, где поступки художника так часто бывают куда заметнее его искусства и, во всяком случае, во многом определяют его успех.
Конечно, Пикассо — не самая привлекательная и уж, безусловно, никак не самая гармоничная, цельная фигура времени. Но в противоречивых, не приведенных к синтезу страстях и устремлениях Пикассо — тоже
эпоха. Один из первых персонажей транснациональной культуры высокого модернизма, испанец, проживший почти всю жизнь во Франции, но сохранивший, безусловно, испанские корни; мастер, известный в мире никак не меньше. нежели в странах, в которых он жил; художник, чьи поиски резонировали едва ли не всем течениям эпохи, а многие им самим и создавались.
Наконец, как ни один мастер классического авангарда, Пикассо склонен к мистификации, сознательному цитированию и автоцитированию,
Г Пикассо. Любовь (Свидание). 1900
что сопрягается с тенденциями постмодерна и делает его искусство вполне открытым даже для художников конца уходящего века. К тому же именно Пикассо подавал и подает повод к распространеннейшему занятию XX столетия — к интерпретации. О нем писали и пишут не только критики и историки искусства, но и философы, психологи (Юнг, например), ученые далеких от искусства профессий (есть даже термин «Пикассо-физика»), литераторы. Сочетание гениальной искренности и продуманного лукавства, мучительных поисков, потерь и обретений с откровенным эпатажем делает искусство Пикассо частью не только современной культуры, но и ее сегодняшнего движения.
Но вместе с тем запас человечности и сострадания, заложенный в самой природе творчества художника, позволяет видеть в нем и своего рода точку отсчета для тех, кто еще ищет в искусстве источник мысли и гуманизма.
Пабло Пикассо шагнул в XX век с самого его порога.
Социальная трагедия как мощный импульс для творчества, сопричастность боли мира (независимо от формальных систем) — зто определяющие мотивы искусства Пикассо, писавшего, по словам Матисса, «собственной кровью». Многое из того, что было заложено в раннем искусстве Пикассо, которое было началом собственно голубого периода, в сущности, осталось в работах художника навсегда. Не в импрессионистах, не в завораживающих фантазиях Гауди увидел молодой художник движение Нового искусства. Недолгое увлечение языком модерна минуло быстро и навсегда. Наибольшее впечатление той поры — Мунк.
Главным осталось — мощное дыхание средневековой Испании и беспощадное видение раннего экспрессионизма. Это и определило дальнейшее его развитие именно своей сопричастностью человеческому страданию, формальной смелостью, рожденной болью. Самые неожиданные
П. Пикассо. Слепой еврей с мальчиком. 1903
эксперименты, самые рискованные пластические открытия и мистификации Пикассо разных периодов его долгой жизни не лишали его искусства страсти и горечи, быть может лишь иногда затуманивая их.
В свой первый приезд в Париж Пикассо видит Всемирную выставку 1900 года. Наиболее глубокие впечатления — Домье, Дега, Лотрек.
П. Пикассо. Любительница абсента. 1901
Упоминавшаяся в предыдущей главе выставка у Воллара 1901 года (искусство Пикассо той поры иногда и называют «волларовским периодом») производила сильное впечатление, но свидетельствовала об известной эклектичности и болезненной эмоциональности. («Художник — зто приемник впечатлений отовсюду: от неба, от земли, от кусочка бумаги, от прошедшего мимо человека. Поэтому не надо делать различия между вещами, среди них нет благородных и неблагородных. Надо брать свое добро, где его находишь, но только не в своих работах»10,— говорил позднее Пикассо.) Его персонажи не реальные полуголодные комедианты Домье, не каменотесы Курбе, не крестьяне Милле, просто — некие иероглифы страдания, в которых странным образом соединились муки и средневековых страсто
терпцев, и обездоленных современников, равно как художественные мотивы старой Испании причудливо сплелись с образами Анри де Тулуз Ло-трека («Мулен де ла Галетт», 1900, МСГ). При этом в искусстве Пикассо жестко звучит мотив социального исхода: обретение нравственной свободы через катарсис, возвращение человека к самому себе. Его нищие, отверженные. голодные люди, теряя все, обретают просветленность духа и абсолютную независимость, изначальные ценности получают новый смысл, человеческие чувства, доведенные до абсолюта, находят свою эстетику, какими бы горькими они ни были. Подобные картины ощущаются инкарнацией чувств: одиночество («Любительница абсента» 1901, ГЭ; «Портрет Сабарте-са», 1901, ГМИИ); любовь («Свидание», 1900, ГМИИ); доверие («Две сестры», 1902, ГЭ); работа («Гладильщица», 1904, Институт искусств, Чикаго) и т. д.
Однако каждая «эмоциональная формула» в этих картинах таит в себе собственную противоположность: в любви звучит отчаяние, одиночество находит успокоение в самом себе, труд странно и неожиданно изящен. А одна из самых трагичных картин Пикассо «Слепой еврей с мальчиком» (1903, ГМИИ) — возвышенная метафора гармонии, обретаемой в беде: «слепая мудрость» вливает силу и уверенность в «зрячую слабость», сама нуждаясь в ее помощи. Эффект достигается именно пластическими средствами: аскетичные линии точно резонируют страданию и объединяют персонажи в уравновешенное целое, где одна фигура теряет смысл без другой.
Именно в этих картинах художником создается своего рода новая красота, если угодно, новая эстетика, существующая в иных, чем в классическом искусстве, синкопированных ритмах, реализуемая изломанными, перенапряженными линиями, угрюмыми, сумрачными соцветиями. Естественно, в пору изощренного и нервного вкуса fin de siecle, в пору утонченных декораций art nouveau, слепящей живописи фовистов, в годы, когда еще и импрессионисты не были признаны полностью общественным
П. Пикассо. Девочка на шаре. 1905
вкусом, картины Пикассо звучали странным, но тем не менее привлекательным диссонансом. Для кого-то — пряной эмоциональной экзотикой, для иных — новым открытием боли, утверждением сострадания средства-I ми непривычного искусства.
П. Пикассо. Женщина с веером. 1905
Во многих его картинах — тенденции к парадоксальному сочетанию величественно-простой формулы со сложным «гипертекстом» — «Жизнь» (1903, Музей искусств, Кливленд), где «иероглиф любви» варьируется во временных изображенных архетипах, где любовь-страсть с ее противоречиями и напряжением отступает перед абсолютом материнской любви.
Пикассо движется настолько стремительно, так быстро отказывается от уже найденного Vi находит новые изобразительные системы, что очень скоро становится самой заметной, а может быть, и самой значительной фигурой европейской живописи. Это естественно: в ту пору масштаб художника начинает определяться не приверженностью к определенной системе форм, а способностью создавать новые. А страсть и боль его картин приковывают к ним внимание людей, ищущих в искусстве традиционные содержательные ценности, лишь ограненные новым пластическим языком. К тому же внимательный взгляд прозревал в его картинах то, что становилось важнейшей прерогативой Новейшего времени: интерес к древнейшей, а то и доисторической культуре, решительно новую по тем временам корневую систему.
Современный исследователь проницательно заметил, что в пору розового периода (возникшего вслед за голубым) Пикассо избрал для себя «зону рассвета»11 — вселенную грустной утопии, близкую Пуссену и Ватто.
Следует добавить: с той разницей, что Пикассо никогда не был пассеистом, он, согласно старому рыцарскому девизу, «без страха и надежды» смотрел в будущее, которому принадлежал и которое созидал собственными руками.
От картин розового периода протягиваются тонкие, но осязаемые нити к особой сфере творчества художника, которая существует в его работе чаще всего как оазис покоя и радости в череде жестоких экспериментов, деструктивных образов, мрачных эпатажей и грозных мистификаций. Голубой и розовый периоды — словно полюса безусловной печали и робкой радости, между которыми возникло поле напряжения, навсегда определившее искусство Пикассо. Поле напряжения, которое с самого начала (в отличие от экспрессионистов, фовистов, от их пылкой эмоциональности) было насыщено точной мыслью, вполне картезианским логическим подходом и к жизни, и к искусству.
Пикассо при всей своей неуемной раблезианской фантазии был, вероятно, самым интеллектуальным художником в той пестрой среде, что обозначается понятием «Парижская школа».
Розовый период отнюдь не связан с процветанием Пикассо. Он все еще живет в «Бато-Лавуар», уже знаменитом, но по-прежнему нищем и запущенном.
Сошествие в ад (пользуясь метафорой Юнга) завершилось для художника обретением если не рая, то просвета: его персонажи прикоснулись к самому дну отчаяния, за этим следует возвращение.
Впрочем, если отчаяние было цельным и устойчивым, то и надежда хрупка: парадоксальная гармония «Девочки на шаре» (1905, ГМИИ) не лищает картину тревожной зыбкости — тяжелое спокойствие атлета не передается юной акробатке, а лишь поддерживает мгновенное равновесие самой картины. Мотив укоренен в архетипе — замечена связь фигур с образами Фортуны и Добродетели (соответственно помещаемых на круглом и квадратном постаментах)12. Обычно же все зти комедианты, циркачи, арлекины, светлые и улыбчивые, ощущаются зыбкими видениями, обреченными на скорое исчезновение. (Нельзя не заметить, как зти мотивы Пикассо образуют то визуальное пространство, из которого, быть может, вышли мотивы и герои Феллини.)
В пору розового периода и зреет у Пикассо одна из первых и самых радикальных систем авангарда — кубизм.
Во взгляде «изнутри», как известно,— важнейшая составляющая кубизма. Равно как и использование четвертого измерения — времени, и разложение предметного мира на систему простейших основных пластических формул.
Картины Пикассо раннего (его называют и «сезанновским») кубистского периода — очень разные. Холодный ироничный темперамент, точный пространственный расчет и резкий колорит «Авиньонских девиц» чудятся совершенно чуждыми настойчивой объемности и темному сиянию красок в натюрморте 1908 года «Бидон и миски» (ГЭ). Ему вторит аскетически простой, ржаво-жемчужный, подернутый странной тускло-молочной дымкой «Натюрморт со стаканами и фруктами», написанный в том же году.
Но — содержательность была всегда определяющим началом в искусстве Пикассо: пластические противоречия раннего кубизма объединены сумрачной тревогой, желанием прорваться сквозь видимость к сути вещей, обретая на этом пути гармонию, дающуюся не красотой, но знанием и причастностью к грозным тайнам материи, времени, бытия.
Реальность сместилась с поверхности предметов в их сокровенные глубины. Здесь пространство возможного поиска стало практически беспредельным, изображение, не соотносимое с натурой, нуждалось, дабы не потерять самое себя, в заданной стилистической структуре.
Свобода оборачивалась зависимостью, с которой могли мириться лишь посредственности. Именно поэтому Пикассо — создатель кубизма — так и не стал до конца его покорным данником.
Л. Пикассо. Дама с веером. 1909
Но короткий отрезок его жизни, отданный кубизму, наполнен страстью — сумрачной и беспокойной. Он пишете яростной настойчивостью, повторяя, подобно Сезанну, один и тот же мотив. Но у Пикассо не сезанновское желание «реализовать свои ощущения», а упорство исследователя, стремящегося найти универсальную формулу пластического мира, некий «философский камень» объема, пространства, фактуры.
Как раз в начале 1910-х годов картины Пикассо начал покупать Щукин (кстати сказать, тогда они ценились уже очень высоко, один из натюрмортов был продан за 10000 франков!), и они тотчас же стали известны в русских художественных кругах. О них пишут Чулков, Бердяев, Сергей Булгаков и др. При этом, относясь к искусству Пикассо порой и резко отрицательно, русские авторы чувствовали значительность и особую совоемен-ность Пикассо. «Кажется, что после страшной зимы Пикассо мир не
зацветет уже, как прежде, что в зту зиму падают не только все покровы, но и весь предметный, телесный мир расшатывается в своих основах. Совершается как бы таинственное распластование космоса»13.
Итогами кубизма для Пикассо стало обретение того инструментария, которым он раз и навсегда научился расчленять и синтезировать мир, «заново пережить генезис мира»14. В пору кубизма (правда, раннего) пишет он свои удивительные портреты — призрачные «психологические конструкции», построенные из зыбких и вместе отчетливых плоскостей, где характер модели лишь обозначен традиционным сходством, но резко определен неповторимо индивидуальной ритмикой объемов, способом бытования материи на холсте.
' Импрессионисты писали кипение цвета на поверхности каменных стен, Ван Гог заставлял кипеть камень, Пикассо превращает мир в торжественную и призрачную окаменелость, точнее, в некое новое вещество, жесткое, тяжелое, как свинец, и тускло-прозрачное, как пыльные стекла готических витражей. Именно из такого вещества, чудится, создана прославленная «Дама с веером» (1909, ГМИИ).
Внутри кубизма Пикассо прошел как бы «малый круг» Новейшего искусства: от едва ли не полной потери предмета (почти абстракции) к абсолютной материальности (почти поп-арт!). Размах воображения и усталость, быстро наступающая у Пикассо после увлечения любой пластической системой, заставили его еще в начале века смоделировать путь едва ли не всего столетия. Ему ли не знать цену формальным поискам, ему ли, с юности уже понявшему, как легко изобретать прием и как трудно творится искусство.
«Авиньонские девицы» — картина, открывшая этот «торжественный поворот к кубизму», задуманная скорее всего как изображение сцены в публичном доме на Авиньонской улице в Барселоне (отсюда окончательное название, сменившее первоначальное, звучавшее своеобразно — «Философический бордель»), стала своего рода мостом от голубого и розового периодов к сотворению новой эстетики. Первоначальный замысел был почти жанровым: среди действующих лиц должны были находиться и «клиенты» — студент и солдат, который и отдергивал занавеску. Естественно, что для картины, программной с точки зрения пластической философии, такой сюжет был слишком традиционным.
Занавес отодвигается неведомой рукою, скорее рукой самого Пикассо. Вечное у художника соприкосновение Страсти и Смерти оборачивается сосуществованием силы и оцепенелости. Сюжет еще остается в пространстве розового периода, состояние и пластический язык — принципиально новы и возвещают о появлении невиданных кодов нового века.
Касательно возникновения «кубистического видения», точнее, общего движения к этому видению, любопытно вспомнить свидетельство о том, что в парижском Осеннем салоне 1906 года, в зале Врубеля, почти всегда пустовавшем, «часами простаивал» Пабло Пикассо15. Такое внимание к никому во Франции не ведомому русскому художнику (его парижане вос-
П. Пикассо. Авиньонские девицы. 1907
принимали скорее как мастера, близкого к Моро, таинственного визионера) со стороны молодого, но уже прославившегося дерзкого потрясате-ля основ — несомненно, свидетельство возникновения нового диалога между Западом и Россией. Но еще более — интереса разных мастеров разных поколений к новым пластическим структурам, «кристаллам», к формообразующим приемам, не связанным с прямым подражанием природе.
Открытие «Авиньонских девиц» Пикассо теми зрителями, которые в самом деле нашли в себе мужество восхититься ими, затрагивало совершенно иные струны, чем даже искусство Матисса. Оно не возвращало в души утраченную гармонию, не радовало глаз, не тревожило сознание дерзостью непривычных но восхитительных соцветий. Это был своего рода художественный электрошок, искусство взл'амывало эмоциональные защитные слои, напрямую взаимодействуя с болью усталого, депрессирован-
ного подсознания, говорило с человеком на языке, на котором он не решался еще говорить, о том, о чем он еще не отваживался думать.
Нельзя с угрюмой серьезностью видеть в метаниях совсем еще юного испанца, хмельного от собственного таланта, избытка жизненных сил, парижских успехов и самого Парижа, целенаправленный поиск формулы суперсовременного искусства.
Не стоит, однако, и пренебрегать возможностью разглядеть в этом взрыве горькой художественной фантазии, в этой игре форм, столь же циничной, беспощадной, сколь и болезненной, в этом стремлении дойти до сути предметов, фигур и самых корней искусства знамение времени, сконцентрированный до предела иероглиф нового пластического языка.
Если Сезанн, отказываясь от воздушной среды, создавал собственную живописно-пространственную плазму, то Пикассо сделал свою картину принципиально безвоздушной. Однако куски интенсивно окрашенного фона столь же плотны, как небо Сезанна, и играют столь же важную роль в организации пространства.
О красоте или уродстве авиньонских барышень рассуждать невозможно. У Пикассо явлены образы, в которых о подобных категориях не идет речь в принципе. Есть лишь некие знаки, сами строящие, точнее, маркирующие пространство и обозначающие свою привлекательность исключительно разыгрываемой пантомимой — в действии. Это некие более чем условные «маски масок», «знаки людей и жестов», театр гигантских марионеток, вовсе не претендующих на сходство с людьми, но способных смешно и страшно пародировать их. В картине — путь к видению изнутри этого тяжелого, жесткого, тревожного мира с собственными прерывистыми и неожиданными ритмами. Кубизм стремился увидеть мир именно «изнутри», расчленить его на простейшие «множители», взглянуть на предмет, свободно используя четвертое измерение — время, увидеть мир и частицу мира — предмет с разных сторон, во всем богатстве порождаемых ассоциаций (так, скрипка у Пикассо или Брака не столько объемное подобие предмета или даже его ограненная «кубистическая» объемная схема, сколько сумма ассоциаций — фактура деки, ритмы струн и нотных линеек etc.).
Именно тогда появляется специфический ржавый, настойчивый, почти оглушающий, рвущий привычное пространство и по-своему строящий новое цвет. Именно тогда мир получает возможность увидеть свой образ словно разъятым на части, где куски реальности перемешаны с представлениями, воспоминаниями, ассоциациями, с фрагментами, рожденными фантазией, взглядом в сокровенные глубины сознания.
Г розная монотонность кубизма, угрюмая отвага, с которой Пикассо, Брак или Грис вглядываются в сокровенные глубины материи, его стремление разъять сущее, выявить его скрытые структуры, как на экране рентгеновского аппарата,— во всем этом несомненно присутствие времени, ощущающего близость крушения, решительного поворота, за которым неизбежны новые трагические прозрения, взыскующие и новой смелости взгляда. Вряд ли можно полагать случайностью, что написавший «Гернику» Пикассо был одним из творцов и недолгим, но истовым данником кубизма.
Можно сказать, что именно в кубизме осознание наступающей грозной эпохи впервые было выражено принципиально новым пластическим языком.
Пикассо волновало искусство глубокой древности, или «традиционное искусство» оставшихся на уровне первобытного мышления народов. Известно, что он живо интересовался доисторическим искусством, весной 1907 года видел африканскую скульптуру на выставке в Трокадеро, и прямое ее воздействие несомненно в двух правых фигурах картины «Авиньонские девицы», равно как левые фигуры обнаруживают сходство с любимыми художником иберийскими скульптурами.
Кубизм Пикассо — иными словами, новый, с болью и иронией рождающийся пластический код, таинственным образом резонирующий тревогам времени,— оказался своего рода «гремучей смесью», предельной, противоречивой и плодотворной концентрацией практически противоположных творческих интенций: именно в нем или через его посредство возникли и вошли в художественную практику, с одной стороны, игра, с другой — рациональный вариант абстракции (Пикассо называл свое искусство «raisonnable» — разумным).
Сейфор, вероятно, был прав, видя в кубизме зарождение беспредметного искусства и утверждая, что кубисты «разрушили предмет и вновь его воссоздали, свободно пользуясь приемами живописи независимо от объективной действительности» и что они «открыли ненужность предмета»16. В «Авиньонских девицах» до привычных сегодня принципов кубизма было далеко. Но за внешним, фарсовым по первому впечатлению и брутальным, хотя и тягостно-прекрасным пластическим эффектом открывалась дорога не просто к кубизму, но и к новой живописи XX века.
В какой-то мере Пикассо реализует здесь стихотворный тезис Бодлера, сформулированный полувеком ранее: «Случаются действительно испорченные племена, / Чья красота неизвестна древним народам: / С лицами, истерзанными сердечными язвами, / Словно бы утверждающими красоту томления» (подстрочный перевод мой. — М. Г.).
Правда, Бодлер говорил лишь о выражении красивых, но омраченных горем лиц. Пикассо акцентирует уродство как выражение внутренней дисгармонии.
•Авиньонские девицы» — картина, чье эстетическое значение и даже просто художественное качество куда менее значимы, чем заложенная в ней программа, процесс образования «внутреннего глаза», «ради которого не жаль и ослепнуть»17.
«Обнаженные проблемы, белые числа на черной доске»18 — так определил «Авиньонских девиц» Андре Сальмон. Однако чрезвычайно существенно, что картина, давно уже признанная историей как решительный переворот в искусстве XX века, не была воспринята как нечто значительное самыми радикальными единомышленниками и друзьями Пикассо. Эта живопись, больше напоминавшая отражение деревянных фигур в расколотом зеркале троллей, была решительно лишена привлекательности. Не только Матисс (полагавший, что картина — нечто вроде
пародии на современное искусство), но и Брак, и даже Аполлинер, всегда готовый восхищаться самыми дерзкими экспериментами, были в недоумении и открыто выражали недовольство19. Тем не менее именно Брак, высказавшийся по поводу «Авиньонских девиц», что это «словно глотать бензин, чтобы плевать огнем»20, написал впоследствии целую серию пейзажей, в которых открыто использовались структуры, названные Матиссом «кубиками»...
X. Грис. Hommage a Pablo Picasso. 1912
Несомненно: кубизм в чистом виде, условно говоря, «кубизм Брака» (в 1908 году открылась первая персональная выставка Брака у Канвейлера, которую, как был уже случай упомянуть, часто полагают началом кубизма),— явление достаточно логичное и последовательное, и не просто потому, что Брак обладал большей, чем Пикассо, цельностью и меньшей уравновешенностью. Брак был наделен совершенно особым чувством стиля и вкусом — качествами, которые часто огранивают масштабный талант, но редко приживаются в искусстве гения. Возможно, именно благодаря сочетанию смелости с гармонической умеренностью Брак и был приглашен Канвейлером (много позже там же выставлялся и продавался Хуан Грис). «Я создал кубизм, сам того не зная (sans le savoir)»21,— признавался художник.
Вероятно, именно эта серия Брака и пейзажи Пикассо, написанные летом 1909 года в Хорта-дель-Эбро и показанные затем у Воллара, утвердили кубизм как некую цельную пластическую систему. Во всяком случае, именно на рубеже 1900—1910-х годов можно уже говорить о кубизме как о цельном и мощном течении.
Он развивается лавинообразно, как «изнутри», т. е. чисто пластически, являясь результатом сосредоточенных художественных поисков тех же Пикассо и Брака, так и среди их молодых адептов (Дюшан, Леже, Глез, Метценже, Пикабиа, Грис и др.), увлеченных не только практикой, но и теорией, интерпретацией, программой. Именно они совместно выставляются в Салоне независимых 1911 года, ведут дискуссии и вообще выступают в качестве жрецов и ме стоблюстиз елей нового направления.
«Аналитический» этап кубизма (1910—1912), последовавший за первым, «сезанновским», отмечен большей сухостью. Распластывая предмет по холсту, препарируя его и в него проникая, соединяя несоединимое — материальность, фрагменты и целое,
звуковые ассоциации, разновременные ракурсы,— и Пикассо, и его единомышленники прорываются в мир, где все предметы и все вещества обращаются в некую «праматерию», единую субстанцию грядущей абстрактной живописи.
Типичный парадокс Новейшего искусства: завершающий кубистический этап — «синтетический» (1912—1914),— все больше приближаясь к абстракции, начинает использовать реальные коллажи и фактурные объемы. Возникает диалог между вполне конкретным и вполне абстрактным, поле напряжения, которое, по сути дела, определяет основные тенденции нашего века.
Ведь и Марсель Дюшан принадлежал отчасти ко «второй волне» кубистов, связанных с группой и выставкой «Золотое сечение» (La Section d’or) или объединением «Пюто» 1912 года, основанным Жаком Виллоном. Дюшан, тогда буквально метавшийся между Сезанном, фовистами и кубизмом, уже выставил первый «ready made»22 — велосипедное колесо (1913). Весьма знаменательно, что обращение к простому динамичному предмету тоже перекликается с идеями кубизма. Дюшан признавался в частном письме, что видел в движении колеса антипод «обычному движению человека вокруг рассматриваемого объекта»23. Множественность точек зрения меняющего свое место в пространстве зри теля подменяется движением колеса вокруг собственной оси. Предметный парафраз почти ушедшего от предмета живописного кубизма!
Тонкое наблюдение одного из участников движения определяет грань между' обыденным представлением о геометрической сути кубизма и реальной его пластической структурой: «Картины сделаны с помощью про
стых планов, широких граней, как у кристаллов, при этом вершины и основания этих граней внезапно смазываются»24. Оно относится, впрочем, скорее к раннему периоду кубизма — «аналитическому». В пору «синтетического» кубизма (1912—1914) картина (в русле уже означенных Дюшаном «объектов») принимает в себя реальные предметы — вначале их изображения, т. е. иллюзию присутствия типографской надписи, словно бы не художником выполненной, а на самом деле сделанной кистью. Затем возникает коллаж — «изображение изображения», где обрывок газеты играет самого себя, как актер без грима среди нарумяненных лицедеев. Обман зрения (trompeToeil) перетекает в обман мысли (trompe-Гesprit) и обратно, постоянная
X. Грис. Натюрморт с газетой. 1916
Ж. Брак. Скрипка и кувшин. 1909—1910
подмена возвращает зрителя из пространства искусства в пространство игры...
В предыдущей главе упоминалось здание на Монмартре, прозванное «Бато-Лавуар» (плотомойня), там еще с 1904 года поселился Пикассо («Место встречи поэтов» — «Rendez-vous des Poetes» — было написано на двери его мастерской). Около этого времени — примерно с 1908 года — «Бато-Лавуар» становится центром движения кубистов. Там работают и бывают Пикассо, Брак, Грис, Аполлинер, Жакоб, Мари Лорансен, Гертруда Стайн, Ван Донген, поэт Андре Сальмон. Со временем завсегдатаями стали Леже, Делоне. Метценже, Глез, Пикабиа, Архипенко.
В отличие от фовизма, в сущности чуждавшегося деклараций и интерпретаций, кубизм был достаточно «вербализирован».
«Золотое сечение» (La Section d’or) — журнал Пьера Дюмона — систематически поддерживал кубизм, о нем писали Сальмон, Жакоб, Аполлинер, издавший в 1913 году целый сборник «Художники-кубисты», а в 1920 году (когда течение в своем классическом виде себя почти вполне исчерпало) Канвейлер издал объемистый труд «Подъем кубизма». Главным же сочинением, при всех его спрямленных суждениях и некоторой схоластичности, стала известнейшая книга Глеза и Метценже «О кубизме» (Du Cubisme) 1912 года, почти сразу же переведенная на русский язык.
Критика и более или менее серьезно настроенные зрители не столько восхищались кубизмом, сколько были увлечены и захвачены им Революция видения, отдаленно, но точно созвуч ная меняющейся реальности, опира
ющаяся не только на интуицию, но и на аналитическое безжалостное мышление, искусство, устремленное вглубь, трогало, и тревожило, и завораживало даже самые скептические по отношению к Новому искусству умы. «Кризис живописи как бы ведет к выходу из физической, материальной плоти в иной, высший план»25 (Н. Бердяев).
То, что писали сами современники движения и его участники, скорее было интуитивной эссеистикой, нежели теорией, что, кстати, делает эти тексты более непосредственными и ценными, нежели, как правило, наивные декларации художников, стремящихся создать интеллектуальные системы. Здесь, разумеется,
первое место принадлежит Гийому Аполлинеру, обладавшему тончайшим пони манием искусства в его самых рискованных устремлениях и умевшему уточнять и даже направлять искания художников. Именно он понял и определил блеск и нищету новейших исканий, заявив об искусстве «писать новые целостности с помощью элементов, заимствованных не у реальности видения, а у реальности концепции»26. Это понятие — «реальность концепции» — может служить своего рода нитью Ариадны для входа в лабиринт и высокого модернизма, и позднее постмодернистского лукавого мира. Концепция становится понятием материальным, а видение — зависимым от него процессом.
Так сказать, концепция пишется с натуры.
Вот известное суждение виднейшего исследователя кубизма, цитировавшееся уже не раз: «Чувствуя исчерпанность традиционной живописи, они взялись за каждый из элементов, образующий словарь этого искусства,— форму, пространство, цвет, технику — и заменили обычное применение всех этих элементов собственной новой интерпретацией. То есть кубизм стал вполне новым живописным языком, новым способом видения окружающего мира, конкретной эстетической системой. Именно в этом
качестве он определил динамику почти всей живописи XX века. <...> Системе перспективы, которая царствовала в европейской живописи с эпохи Возрождения, кубисты противопоставили право художника двигаться вокруг объекта, добавляя к его видимому облику информацию, взятую из прежнего опыта или знаний»27.
Концентрируя (не столь блистательно-артистично, как Сезанн, но с настойчивой последовательностью реализуя свой метод) ведомый и видимый мир в единую субстанцию, кубисты не дела ли разницы между предметом и атмосферой, все состояло из общей живописной плазмы, подобно тому как в нашем воображении нет места для пустоты, сознание плотно и напряженно, а лакуна воспринимается как патология. Все составные части реальности кубисты изображают (и преображают) с равной драматической значительностью, даже величием.
«...Кубизм создал художественный язык намеренной двусмыс ленности... предложил визуальный эквивалент фундаментального аспекта двадцатого века»28.
Ж. Бран. Дуэт для флеитн 1911
Ж. Кокто. Автопортрет без лица III. 1912-1913
Шумная известность кубизма насторожила консервативно настроенных зрителей. В 1912 году депутат-социалист Жюль-Луи Бретон потребовал запрещения очередной выставки кубистов, получив, впрочем, немедленный и резкий отпор. Это не помешало, скорее помогло тому, что стал появляться и массовый вариант кубизма: чисто внешние признаки и приемы кубистов было не так уж трудно имитировать, и интерес серьезных зрителей к кубизму сопровождался модой на него. Любопытно в этой связи, что из всех направлений раннего модернизма кубизм стал первым, размененным на салонные варианты.
Скульптура. Кубизм, имевший, в отличие от фовизма, признаки не только художественного течения, но, если угодно, пластического мировоззрения, даже своего рода философии, естественно, затронул не только живопись, но и скульптуру. В ней он мог быть реализован гораздо более мощно, даже агрессивно, а главное — с той активной прямотой, которую диктовала пластике сама природа кубизма. Здесь, однако, есть некоторое спрямление: устремляясь к геометрической простоте, сама суть скульптуры восставала против распада формы. Во многих близких кубизму скульптурах отсутствует важнейшая его составляющая: деструкция с последующим воссозданием иной, вполне художественной, независимой от реальности пластической структуры. В этом смысле даже из скульптурных опытов Пикассо 1906—1909 годов (женские головы, скорее всего портреты Фернанды) лишь некоторые отвечают принципам кубистского разъя-тия формы, а ранние вполне сопоставимы своею цельностью с древней пластикой.
«...В 1912 году еще не было кубистической скульптуры. Однако к 1911 году несколько скульпторов развивали стиль, который соответствовал новой живописи»29. Это не совсем так. Одной из первых скульптур в «стиле, соответствующем новой живописи» — и по времени, и по значению — стала группа Бранкузи «Поцелуй» (1907—1908, первый вариант, второй — 1910 — на кладбище Монпарнас).
Замкнутая в простом угловатом объеме, скульптура потрясает сухой горечью, нежностью и вместе с тем ощущением масштаба, даже некой циклопичности Зритель, впервые видящий оригинал, бывает непременно поражен сравнительной его малостью, настолько мощна драматическая наполненность, так величавы пластические ритмы, так поразительна суровая монументальность. А зто последнее качество, как известно, зависит не от размера, а от пропорций, содержательной значительности.
В силу своего декоративного изящества группа сохраняет особую «вещную» эстетику. Это принципиально именно для кубизма: изображение ста
новится неким предметом, имеющим самостоятельную, чаще всего сведенную к пластической формуле ценность. Более того, скульптура Бранкузи, в отличие от скульптуры прежних времен, вовсе не претендует обратить камень в плоть (недаром композицию эту постоянно рассматривают как антипод «Поцелуя» Родена), напротив, исконная простота формы и фактуры всячески акцентируется, обращая статую словно бы в часть природы, вечной и органичной. Лишь напоминающая резной орнамент обработка граней навсегда отделяет группу от творений природы. Совершенно очевидно, что, как и Пикассо и Матисс, Бранкузи находился под сильнейшим воздействием доисторической и примитивной скульптуры Сравнение его работ с принадлежавшей Дерену ритуальной маской из Габона, равно как и с древнейшими перуанскими скульптурами, которых Бранкузи не знал, но с которыми просматривается странное «генетическое» сходство, стало едва ли не общим местом. Это говорит не столько о прямых влияниях или заимствованиях, сколько о естественном прорастании архетипических пластических мотивов в Новейшее искусство по мере возникновения интереса к «первичным» скульптурным знакам.
Поразительна цельность выбранной для реализации этого мотива — абсолютно доверчивого любовного слияния (фигуры наделены даже «общим» глазом) — нетрадиционной формы: кубическая скульптура защищена от внешнего мира суровой угловатостью и устремлена «внутрь» своего интимного пространства. Известно суждение Бранкузи касательно того, что не внешняя форма, а внутренняя суть реальна и нет смысла имитировать поверхность вещей.
Это еще раз подтверждает мысль о том, что любое направление имеет свои оптимальные достижения, которыми оно обозначает свою историческую предопределенность и важность для общей динамики культуры. И вместе с тем, как тоже говорилось выше, художник чаще создает свой шедевр, выходя за пределы доктрины и даже направления. Свобода от тенденции при умении пользоваться ее находками — разве не зто отличает Марке, Шагала, Мура и многих других — лучших!
Порой кубизм в скульптуре ощущается явлением более органичным и уж во всяком случае менее «внутрихудожественным», нежели в живописи.
К. Бранкузи. Поцелуй. 1907—1908
К. Бранкузи. Начало мира. 1924
Даже несомненное воздействие архаических скульптурных форм в «Поцелуе» выглядит более ясным, «бесхитростным», нежели в живописных кубистических структурах. «Кубизм считает картину совершенно независимой от природы, и он пользуется формами и красками не ради их подражательной способности, а ради их пластической ценности»30,— сказано на закате кубизма его пылкими сторонниками и аналитиками. К скуль-
птуре это суждение вряд ли применимо. Ни у Бранкузи, ни у Цадкина или Архипенко нет столь напряженной устремленности внутрь предмета или явления, к усложненным ассоциативным рядам. В «Поцелуе» вообще явлена минимализированная образная система, в которой можно угадать тенденцию, устремленную к супрематическим поискам Впрочем, для Бранкузи кубизм скорее всего (как и для Пикассо) был шагом к концентрации, простоте, взрывной, перенасыщенной сдержанности («Начало мира», 1924, МКМ, Отерлоо).
К. Бранкузи. Поцелуй. Ок. 1912
Кубизм, в согласии с общими тенденциями времени, словно бы освобождает скульптуру от салонных наслоений, обнажая конструкцию, ритмику и динамику, обостряя качества, вообще присущие пластике начала века, и в первую очередь Бурделю.
Достаточно вспомнить бронзового «Геракла» 1909 года, чтобы понять, как при всей несхожести пульсирующих взрывчатых объемов Бурделя с резкой ограненностью Бранкузи устремление к мощной «иероглифичной» конструктивности сближает столь разных мастеров. Классическое «убрать
лишнее» — в природе скульптуры, и сам процесс работы над статуей с ее непременным каркасом, наполнением формы изнутри к поверхности близок художественной идеологии кубизма.'
Вообще кубизм в скульптуре, в силу специфики этого вида искусства, сохранив предметность и объем, остался с большей органичностью в пространстве если нетрадиционного, то, скажем так, материального художества. Естественным образом трансформируясь из пластического изображения человеческой фигуры в некий объемный знак, лишь отчасти сохраняющий антропоморфность, скульптурное произведение оставалось объемным памятником, торжественным и монументальным.
Именно через скульптуру соприкасается с кубизмом Модильяни, ближайший друг Бранкузи, деливший с ним одно время мастерскую. Живописная (1911— 1912) и скульптурная (1912— 1913) «Кариатиды» (обе — ХССВ), равно как и многочисленные портреты Макса Жакоба, свидетельствуют о пылком увлечении Модильяни не деструкциями кубистов, а их устремленностью к восходящей к древним образцам суровой лапидарности.
Прошедшие через кубизм или вышедшие из него скульпторы
А. Архипеик* Торс. 1914
Ж. Липшиц. Сидящая фигура с гитарой. 1921
О. Цадкин. Женская фигура. 1914
А. Архипенко. Идущий солдат. 1917
А. Архипенко. Женщина. 1920
Ж. Липшиц. Моряк с гитарой. 1917—1918
обрели особую свободу и чувство архитектоники. Это А. Архипенко (Модильяни вместе с ним учился скульптуре), О. Цадкин, Ж. Липшиц.
«Архипенко работал на периферии кубизма...»31 Подобное утверждение справедливо, если воспринимать его (опять- гаки, как выше, на примере Бранкузи) как определение степени свободы. Итальянский футуризм своей дерзостью и мощной энергией тоже влиял на него, но формообразующие тенденции все же оставались в идеях кубизма. Его бронзовая фигура «Гондольер» (1914, Музей К. Э. Остхау-за, Хаген) — вероятно, одна из самых «кубистских» в силу именно «изысканной отъединенное™» объемов, связанных друг с другом энергичной и умозрительной силовой линией. Впрочем, в том же году Архипенко делает аскетически жесткую, словно одним движением стеки изваянную скульптуру «Торс» (1914, МКМ), сохраняющую, однако, классическую связь с жизненной реальностью. Позднее скульптура Жака Липшица «Сидящая фигура с гитарой» (1921, МКМ) уже демонстрирует вполне кубистское разделение энергичных, проникающих друг в друга объемов, близкое к абстракции (в том относительном значении, какое этот термин может иметь к скульптуре). Парадоксально, что в дальнейшем «кубистская» пластика приближается к известной предметности, что перекликается с кол-
I лажами поздней кубистской живописи (Анри Лоран, «Клоун», 1915, Музей I современного искусства, Стокгольм).
Конец 1900-х годов, отмеченный «Авиньонскими девицами» Пикассо и «Поцелуем» Бранкузи,— «звездное время» истории искусства. И тогда же происходит новый крутой поворот, где теряются очертания направлений, коды синтезируются, намечается путь от предмета к знаку.
Кандинский начинает работать в Мурнау.
Кандинский: чудо Мурнау — путь к освобождению. Интеллектуализм Кандинского и его искусства не слишком типичен для времени: молодые паладины авангарда привлекали своих адептов не столько знанием и логикой, сколько радикализмом и темпераментностью суждений, а чаще — многозначительной невнятицей с вкраплениями гениальных откровений.
Судьба мастера, связавшего свое искусство с Россией, Германией и Францией, преподавательская деятельность в прославленном Баухаузе, его проза и стихи, теоретические труды, непреклонный и сосредоточенный путь к собственной индивидуальности — все зто позволило ему занять исключительное место в культуре XX столетия.
Созидание нового занимало Василия Кандинского полностью. Он не стремился ни к иконоборчеству, ни к эпатажу. И хотя в его творчестве были отвага и дерзость, но они были насыщены мыслью, корректны, аргументированны. Человек европейски образованный, литератор, профессиональный музыкант, художник, склонный к рефлексии и строгой, хотя и не лишенной романтики логике куда больше, чем к громким декларациям, он сохранил достоинство мыслителя, не разменивая его на мелочные межхудожественные споры.
Корни не только искусства, но и вообще мироощущения Кандинского— Россия (более всего Москва) и Германия. Интеллектуальные ориентации — прежде всего философические, немецкие32. Однако при всем его интересе к прошлому он не стал его заложником, видя в мудрости минувшего основы постижения и построения будущего. Несомненно, этот строгий и сильный ум существовал и в эмоциональном бытии. В своих знаменитых «Klange» («Маленькое синее зеленое озеро кололо глаза» (Unten stach der kleine blaue griine See die Augen)33 Кандинский близок визионерским откровениям в духе наивных ассоциаций юного Шагала.
Уже ранняя картина «Одесский порт» (конец 1890-х, ГТГ) таит в себе некое колдовство. Слишком независимы от предметного мира пружинисто очерченные темные и сияющие пятна, слишком много в них вовсе не связанного с реальным мотивом потаенного напряжения, слишком мощен рисунок чисто декоративный рядом с достаточно наивным и традиционным пониманием предметной формы.
Он был прав, когда ощущал непонимание и русской, и немецкой критики: первая видела губительное «мюнхенское воздействие», вторая —
В. Кандинский. Одесский порт. Конец 1890-х
«византийские влияния»34. Ьсем был он чужим, сам же способен был все услышать. Кандинский мог бы сказать о себе строками Брюсова, написанными в 1899 году:
И странно полюбил я мглу противоречий, И жадно стал искать сплетений роковых, Мне сладки все мечты, мне дороги все речи, И всем богам я посвящаю стих...
Суждение о «полистилизме» начинающего Кандинского вполне справедливо35. И черты салонного импрессионизма, и налет суховатых ритмов модерна (югендстиль в немецком варианте), и тяжелый «демиургический мазок», заставляющий вспомнить о Сезанне (весьма, правда, отдаленно), и порой многозначительные отзвуки символизма — все зто. да и иное, в ранних картинах художника есть. Уже тогда, в начале века, в художественном созна
нии Кандинского копится некая критическая масса активной информации, визуальной и философской. Он увлекался далеко не всем, но ему в самом деле были «ведомы все речи».
В своем развитии он словно бы прошел историю культуры в целом, вместив ее в одну судьбу. Его искусство знает и наивную сказку, и высшие взлеты абстракции, и декоративные изыски.
К первым своим значительным картинам он действительно приходит с перенасыщенным, готовым к взрыву сознанием. Новая русская философия, икона,-историческая картина, модерн, светлая сила импрессионизма, понимание мощи цвета Матисса и формы Пикассо, но более всего собственные настойчивые и напряженные размышления — во всем этом была поразительная готовность к самореализации.
Важнейшим в определении места Кандинского в современном ему художественном процессе стало участие в выставке дрезденской группы «Мост» (Die Brucke) — первом объединении экспрессионистов.
Но «моментом истины» стали картины Кандинского, написанные в Мур-нау в конце 1900-х годов.
Мало в истории искусства столь драматических и великолепных моментов, как становление Кандинского в Мурнау. Обычно к созданию собственного стиля или новой тенденции художник подходит через несколько этапов, даже Пикассо была свойственна относительная постепенность. Была она, конечно, и у Кандинского, но вряд ли с каким-либо иным художником случался подобный светлый взрыв, подобное освобождение энергии после лет мучительного пластического косноязычия. Он мог бы сказать о себе тогда словами героя Гессе художника Клингзора: «По-настоящему я начал писать, мне кажется, только в этом году. Но то, что со мной сейчас происходит, похоже не столько на весну, сколько на взрыв».
Предметный мир был для Кандинского и источником пластических идей, и веригами, он не стремился к созданию нового языка ради него самого. Подобно Сезанну или Хемингуэю (учившемуся перед сезанновскими картинами ясности самовыражения), он хотел лишь стать самим собой, не зная еще, чем именно стать он хочет. Очевидным было лишь стремление к абсолютной, всепобеждающей индивидуальности, к синтезу, быть может, даже синкретичности искусства. О музыке и поэзии рассуждает он не менее, чем о живописи. Но прорыв произошел именно в изображении.
Многократно цитированные слова Кандинского о пейзажах, волновавших его «как неприятель перед сражением» и побеждавших его36, действительно весьма красноречивы. Пока натура господствовала, она привлекала художника нераскрытой тайной своих закамуфлированных реальностью гармонических драм. Прелесть природы восхищала Кандинского, мешая пройти «сквозь нее». Подобно тому как, глядя в лицо человека, мы ищем его искреннего взгляда, чтобы увидеть нечто вполне сокровенное, увидеть волнующую индивидуальную, вовсе не телесную истину, страшную и великолепную своей абсолютностью, обращенной к нам, и только к нам, подобно этому взрослый художник, уже гений, но далеко еще не мастер, искал обращенный к нему «взгляд реальности».
Для художника XX века реальность оборачивается и тем лукавым зеркалом, амальгама которого не позволяет проникнуть именно в Зазеркалье, которого одного он взыскует. Иные прямо и вдруг сотворяли новую реальность: меж «розовыми» картинами Пикассо и «Авиньонскими девицами» нет заметной эволюции.
Кандинский стремился сквозь видимую реальность пробиться к тому, что Рильке называл «uberzahliges Dasein» — «сверхсчетное бытие». Свидетельство тому — стремительный переход от мурнауских открытий к чистой беспредметности, совершившийся не более чем за два года. Даже не переход, но выход, прорыв, так давно жданный и желанный.
Кандинский начал работать в Мурнау с августа 1908 года. Интенсивность его деятельности той поры ошеломительна. Он делает театральные эскизы для спектаклей, которые предполагал осуществить с Фомой Гартманом и Александром Сахаровым, размышляет о музыкальном «Альбоме», где его гравюры должны были соседствовать с нотами Гартмана37, занимается теоретическими изысканиями, готовится к организации еще одной художественной группировки — «Новое общество художников — Мюнхен» (Neue Kunstlervereinigung — Munchen), президентом которой станет в следующем году.
Но главное — происходит тот переворот в собственном искусстве и мировой живописи, которому мало равных и который по поразительной своей красноречивости может быть сочтен своего рода историческим «мастер-классом», .уроком отважного самопознания. Через пятнадцать лет Герман Гессе начнет работу над бессмертным «Степным волком», и поиски внутреннего мира обретут пронзительно адекватное литературное выражение.
Как известно, за вход в театр «Только для сумасшедших» (Гессе) была одна плата — разум. Но Кандинский не был героем послевоенного
потерянного поколения. Ему не нужны были, как позднее Гессе, советы психоаналитика для построения своего художественного мира. «Картинный зал души» был не таинственной целью, а естественным, хотя и труднодостижимым способом самореализации.
Но как много в нем глубинной архетипической связи с самыми мощными узлами немецкой культуры и ее интерпретаций! Как известно, Кандинский был близок с композитором Шёнбергом, состоял с ним в дружеской переписке, переводил его теоретические работы, заинтересовал его живописью и сам позднее интересовался его живописными опытами. А Томас Манн в «Докторе Фаустусе», несомненно, наделил своего героя если не судьбой, то суждениями и музыкальной стилистикой Шёнберга38. Но главное, разумеется, в ином — в глубинной связи, уходящей корнями едва ли не в мир прапамяти немецкого менталитета. Ведь «маленькое синее зеленое'озеро кололо глаза», как сказано в цитированном стихотворении Кандинского, персонажу, носящему то же имя, что и мальчик из романа «Доктор Фаустус»,— Непомук. И основа искусства, так поразительно описанная Манном, зта словесная иллюзия музыки, этот сотворенный в стеклянном сосуде «гротескный маленький пейзаж», который отличала не «причудливая странность», а «глубокая грусть»!
«Природой, которая дерзко искушает человека», говоря словами того же Манна, стала в итоге для Кандинского природа Мурнау. Но не она открыла некие запоздалые истины Василию Кандинскому.
Просто настало Время, и Местом стало Мурнау.
Здесь, в гористых окрестностях Мюнхена, труды и дни, уже пережитые, дали пышные, почти избыточные, стремительные всходы. Взгляд художника прорвался сквозь амальгаму реальности, посылавшую его взору стабильные картины предметного мира, увидел сокровенные ритмы цвета, линии, формы, для которых вещи, природа — не более чем одна ими обозначаемая функция. Переход Кандинского от предметного мира к миру чистых форм был предрешен предыдущими его поисками и вряд ли может быть трактован как потеря или обретение: это данность, без которой он не стал бы самим собой.
В первых мурнауских пейзажах нетрудно узнать фовистское кипение цвета и резкость красочных плоскостей, драматическое напряжение набирающего силу экспрессионизма, настойчивую факгурность Сезанна. Но удивительно: зто узнавание чисто рациональное, своего рода «интеллектуальная корректность» искушенного зрительского глаза. Совершенно очевидно, что Кандинский не строит свое видение на открытиях старших современников, их искусство для него — часть познаваемого мира, и «фовистское пятнообразование», сквозь которое он устремляется в свой, пока еще лишь приоткрывающийся мир, принадлежит реальности.
Участник парижских Салонов независимых, Кандинский, разумеется, до тонкости знал искусство фовистов, был прямым участником становления экспрессионизма. Пылкие композиции фовистов имели, однако, иную природу, чем строгие и страстные устремления Кандинского. Для него прорыв сквозь видимость пейзажей Мурнау был вхождением в мир эмо-
В. Кандинский. Мурнау. 1908
циональной, духовной сути мироздания. Для фовистов их живопись — свободное самовыражение, парад вольности колорита, для экспрессионистов — прямая, пластическая и цветовая реализация страдания и мысли.
Для Кандинского Мурнау стало прустовской «чашкой чая»: «...все цветы в нашем саду и в парке Свана, кувшинки Вивоны, почтенные жители города, их домики, церковь — весь Комбре и окрестности, все, что имеет форму и обладает плотностью (tout cela qui prend forme et solidite) — город и сады,— выплыло из чашки чаю»39. Но не для потока предметных ассоциаций-воспоминаний о пронзительно любимом детстве, а в полном смысле слова — для воспоминаний о будущем. Художник сквозь эти деревья, горные склоны и дороги, сквозь вовсе незнакомые пейзажи увидел и тягостные поиски прошлого, и выход в будущее, в свой высший мир, так долго таившийся за слишком материальной амальгамой зримой действительности, в мир, никогда прежде не виденный им, но угадываемый и ведомый как высшая и главная реальность.
Впаянные в холст и одновременно вырывающиеся из его материальной субстанции (и здесь — вольное или невольное наследие Сезанна) пятна цвета мерцают, как живая, дышащая материя. Они вскользь напоминают о предметах, ими обозначенных, но буквально на наших глазах обретают «iiberzahliges Dasein», убеждая наш взгляд и сознание, что желтый с рваными очертаниями и черными провалами треугольник — несравненно более высокая и значительная ценность, нежели обозначенный им торец здания, что тревожно-алая трапеция на первом плане хоть и обозначает крышу дома, но несет в себе особый, отдельный, сакральный и бесконечно прекрасный смысл («Мурнау», 1908, ПТ). Здесь, в этих пейзажах Мурнау, зритель словно присутствует при акте творения — рождения
В. Кандинский. Поезд в Мурнау. 1909
новой живописи, еще обозначающей мир, но уже отделяющейся от него. Происходит своего рода торжественное прощание с материальным миром и вхождение в другой, духовный, освобожденный мир («Летний пейзаж», 1909, ГРМ).
Импрессионисты сделали независимой ценностью живописную поверхность картины, но она, как оперная ария, несла в себе равно музыку и вербальную информацию. Кандинский, если угодно, вышел в мир чисто инструментальной музыки, и наблюдение за этим процессом освобождения по сию пору завораживает сознание.
У предшественников и современников Кандинского сохранялся своего рода диалог — «реальность—искусство», внутри поля напряжения которого и совершалось своего рода «художественное таинство». Классический пример такого диалога — отмеченная Гербертом Ридом способность Сезанна найти отделенную от предметов их структурную конфигурацию40. Кубизм Пикассо тех лет, когда Кандинский работал в Мурнау, еще стремился сохранить предметный мир, но в невиданных умозрительных аспектах. Делоне размышлял о переходе от импрессионизма к кубизму и полагал, что поэзия его работ 1911 года не абстрактна41. Малевич еще ищет себя в пространственном мире.
Кандинский же совершает своего рода выход из поля земного предметного тяготения в невесомость беспредметного мира, где утрачиваются основные координаты бытия — низ, верх, пространство, вес. «Чтобы
| были упадок или подъем, надо, чтобы были низ и верх. Но низа и верха нет, это живет лишь в мозгу человека, в отечестве иллюзий»,— скажет персонаж Гессе («Последнее лето Клингзора») десять лет спустя. Да, Кандинский. уходя от реальности, согласно мифам (или откровениям) XX века, отбывается от иллюзий и, стало быть, приближается вновь к высшей реальности. Не в этом ли один из главнейших, во многом и Кандинским сотворенных парадоксов конца тысячелетия?
Во всяком случае, история искусства признала именно работы Кандин-| ского 1910 года первыми вполне нефигуративными работами.
Потом — он между Востоком и Западом.
•Я вступил в такой период моей работы, для которого просто необходимо прожил несколько месяцев в Москве... Москва — это та почва, откуда я черпаю свою силу и где я могу жить духовной жизнью, столь необходимой для моей работы» (из частного письма)42. Кандинский дважды приезжал в Россию. Первый, сравнительно недолгий визит в Москву43 — октябрь—декабрь 1912 года. Второй и длительный приезд — с декабря 1914 го до декабря 1921 года.
Он уже знаменит на Западе Год назад организована группа «Синий всадник» (Der Blaue Reiter) и одноименный альманах («Der Blaue Reiter Almanach»). На первой выставке в галерее Танхаузера Кандинский вы-' ставил более сорока работ, помимо участников объединения там были показаны и картины Р. Делоне, А. Руссо, живописные опыты композитора А. Шёнберга. Кандинский — в центре экспрессионистического движения в Германии. Рядом с ним таланты мирового масштаба: давний единомыш-I ленник, с которым они вместе писали в Мурнау, А. Явленский, А. Макке,
В.Кандинский. Серый овал. 1917
П. Клее, Ф. Марк... В начале 1912 года — вторая выставка, где участвовали Н. Гончарова, М. Ларионов, К. Малевич.
Он знаменит и в России. Текст «О духовном в искусстве» известен в докладах44 и изложениях (книга публикуется как раз в декабре 1912 года). Его статьи выходят и в отечественной периодике. Работы его видят в разных городах России, включая Петербург. Картины, побывавшие на так называемой Интернациональной выставке45 (1910—1911),— «Рок» (1909, Картинная галерея им. Б. М. Кустодиева, Астрахань), «Дамы в кринолинах» (1909, ГТГ) — сложное и мощное сочетание живого пейзажа, пассеисти-ческих русских мотивов, символистских миражей и побеждающей беспредметности.
И там же — уже — и почти свободные от материальности «Импровизации» («Импровизация 4», 1909, Государственный художественный музей, Нижний Новгород; «Импровизация 7», 1909, ГТГ). Кандинский — участник первой выставки «Бубнового валета» 1910 года, где показаны аналогичные работы. Вероятно, он явил собою один из первых устойчивых образов транснационального художника.
Кандинский был и остался художником свободным, он никогда не становился заложником собственных теоретических концепций. Его вполне предметные московские пейзажи могли озадачить многих своим романтическим простодушием. Простодушие, однако, кажущееся. Художник словно пробует увидеть и реализовать живой, развернутый в пространстве и времени (воспоминания собственной юности) городской пейзаж с помощью новой «оптики», возникшей в Мурнау. Дома, облака, деревья, снежный туман — все это возникает на картинах из частиц своего рода «беспредметной мозаики». Возникает процесс, асимметричный мурнаускому: из «непредметных» элементов строится подобие земной реальности. Первичные формулы цветовых плоскостей становятся не результатом художественного прозрения, а инструментом для нового понимания мира46 («Москва. Зубовская площадь», ок. 1916, ГТГ; «Зимний день. Смоленский бульвар», ок. 1916, ГТГ). Транснациональный контекст, в котором естественно ощущает себя Кандинский, привносит в иные его картины (например, «Москва, Красная площадь», 1916, ГТГ) ощущение падающего, лишенного вертикалей и горизонталей мира, свойственное картинам Делоне или Шагала той поры.
Пронзительно оригинальная линия искусства Кандинского — его работы на стекле. У них, несомненно, свои истоки. Стекло — даже не на просвет — сохраняет эффект чуть прозрачного зеркала, оно напоминает и вновь явившиеся среди московских куполов призраки русских сказок и лубков, и витражи готических соборов, увиденные снаружи; напоминает и колдовские фантасмагории Руо, и светозарные старые иконы, и излучение врубелевских кристаллов. Разумеется, картины на стекле — явление достаточно нестандартное, но Кандинский, для которого старина, символика и пылкое понимание современности неизменно находились рядом, отчасти и опережал свое время — ведь вскоре универсализм приемов и техник станет нормой. Да и контррельефы Татлина, и совершившиеся
эксперименты Дюшана, не говоря уже о столь известных и традиционных в ту пору вещах, как майолики Врубеля,— не они ли были естественной средой для широких поисков Кандинского?
Тем более главными, особенно принципиальными для будущего становились его беспредметные композиции 1910-х годов, решительный шаг в тот духовный мир, к которому он так давно и настойчиво стремился. Ему уже пятый десяток. Ни один из титанов авангарда не становился самим собою так поздно.
Владимир Соловьев писал еще в 1890 году, что один из основополагающих принципов искусства •есть превращение физической жизни в духовную»47. И хотя в том же духе высказывались многие
В. Кандинский. Сумеречное. 1917
философы со времен Платона, духовность как особая категория искусства в ту пору казалась отчасти явлением чуть ли не новым и занимала Кандинского как ничто другое. Недаром именно этому посвящено главное его сочинение «О духовном в искусстве» (Uber das Geistige in der Kunst).
Как большинство создателей Новейшего искусства, Кандинский не мыслит своего творчества без теории и интерпретации. Но он объясняет не столько произведения, сколько систему идей. Его книги интересно читать, независимо от отношения к его картинам. Равно как картины его могут быть воспринимаемы вне его текстов. Кто, как не он, стремился к синтезу, но и кто, как не он, умел создавать увлекательные ряды и философских суждений, и самой живописи, и эстетических откровений.
Постоянные параллели с музыкой, которыми пользовался Кандинский,
да и не только он, доказывая родство их выразительных средств, принадлежат скорее истории. Музыка всегда выражала, не изображая, в картине (как бы ни была она «абстрактна») зритель подсознательно ищет (и находит) пространство, объемы, ассоциации с предметным миром, цвет едва ли отрывен от предмета, более того, вызывает ассоциации с предметом, даже если художник того не желает48. Выход в беспредметность в живописи никогда не происходит до конца, но путь к этому — важнейшая художественная ценность.
Невозможна, вероятно, и полная невесомость: избавляясь от притяжения Земли, предметы (как планеты во Вселенной) входят в гравитационные отношения друг с другом. Близкий процесс, собственно, и изображает Кандинский. В его «Композициях», «Импровизациях», где он почти
освобождается от веса и пространства, возникают два полюса спора с вещным миром: схожесть его отвлеченных форм с живой материей и известная планетарность, ощущение неких галактических систем, которые слишком взаимосвязаны, чтобы восприниматься иначе чем созданиями художественного, достаточно рационального сознания.
Кандинский, впрочем, полагал себя романтиком в вечном, глубинном смысле слова и был убежден в романтизме искусства будущего49. Любопытно, что рядом с настойчивым рационализмом Малевича, которого в подобном контексте можно было отнести к авангардному «классицизму», эмоциональность Кандинского действительно близка романтизму. И напротив, импульсивность и — пусть гениальная временами — невнятица текстов Малевича заставляют воспринимать, видеть в сочинениях Кандинского стройную логику.
Разумеется, в хрестоматийно абстрактных работах Кандинского — могучая и многосложная корневая система, куда входит многое, в том числе и русская икона50. Но в зрелых, уже вполне нефигуративных работах генезис уходит в глубокое подполье, оставляя художнику возможность выхода «из вероятья в правоту» (Б. Пастернак). В ту вечную вязь ассоциаций. которую как никто описал радетель идейного и нравственного искусства Лев Толстой: «Он узкий такой, как часы столовые... Узкий, знаете, серый, светлый»,— говорит Наташа Ростова об одном из персонажей романа. И о другом: «...тот синий, темно-синий с красным, и он четвероуголь-ный» («Война и мир», II, XII). Все это жило в сознании, порой мелькало в искусстве, но как нечто странное, «иное». В ожидании истинного художественного открытия.
И в середине 1910-х годов Кандинский обрушивает в художественное сознание зрителей и коллег-живописцев циклопическую невиданную Вселенную. Абстрактной живописи было еще очень немного51, эксперименты Малевича воспринимались скорее изобразительными манифестами, нежели эмоциональной плазмой, визуальной лавой Новейшей культуры. Эта лава низвергалась именно с картин Василия Кандинского.
Его ранние беспредметные композиции входили в сознание людей отнюдь не как радостное откровение (даже светлых и бесхитростных импрессионистов принимали со скандалами, медленно и неохотно). Это было столь же остро и непривычно, если допустить подобное сравнение, как первые пряности, опиум, хмель, табачный дым. Как первые рифмы, первый орган, кино... Как то, без чего люди жили долго и просто и, лишь получив эти новые ощущения, стали дивиться: как прежде жили без них? Беспредметные картины дали искусству новую среду обитания, фигуративное искусство стало жить в условиях постоянной альтернативы, получив возможность показать и познать и свои наивные слабости, и вечные прерогативы.
Абстракции Василия Кандинского наполнены зашифрованной, импер-сональной «органической» жизнью, как растения из «Доктора Фаустуса» Томаса Манна. Не только потому, что в его отвлеченных формах порой просто мерещатся подобия антропоморфных или зооморфных видений
и что «художественное вещество» в картинах его неизменно подвижно. Но прежде всего потому, что его живописный мир, в отличие от мира Малевича, никогда не тяготеет к невесомости, к «абсолютному нулю» и абсолютной гармонии («Нет ничего абсолютного»52,— писал сам художник). Он — в становлении. Порой кажется: Кандинский предчувствовал подвижные мнимости «виртуальной реальности», его сгустки цвета, подобно клеткам живой материи, словно застигнуты в движении и готовы развернуться в пространстве, перетечь друг в друга, исчезнуть. Пессимист может увидеть в его неясных, динамических, меняющихся фантомах некие парафразы мутации, оптимист — вечного обновления, философ — замкнутого круга бытия.
Уже тогда появляется то, что становится константой его искусства,— единство великого и малого53.
Интимные тайны молекулярно воспринятого вещества реализуются в столь величавых ритмах, что могут обернуться и космического масштаба структурами. Но и галактика, в свою очередь, сходна с молекулой, бесконечно малое так же недоступно разуму, как бесконечно большое, и в конечном итоге они отождествляются как абстрактные категории54. Рыба может быть мелкой обитательницей пруда, может быть сном, а может — и созвездием. Так же может восприниматься и лишенный связи с реальным миром образ.
На рубеже тысячелетий миры Кандинского вызывают ассоциации не только с проблематикой начала века, из которой вырастает его искусство. Эти «изображенные» эмоции, это зримое подсознание приближается к тому, что начнет возникать в культуре уже во второй половине столетия. Великий «Солярис» Станислава Лема, таинственная субстанция, умевшая проникнуть в подсознание существ иной цивилизации и послать им воплощенные персонажи их воспоминаний — думается, без Кандинского этот образ не стал бы достоянием искусства, как без Гессе, Клее, Манна, Магритта. Интеллектуальная научная фантастика, новые музыкальные ритмы, резко и неожиданно соприкасающиеся с бессознательным, еще далеко не познанный и видимый пока лишь в самых примитивных своих вариантах компьютерный «видео-арт» — все это возникло бы и без пролегоменов Кандинского, Но, вероятно,— беднее, позже и в чем-то иначе.
К сожалению, классические категории Вёльфлина не вполне применимы к анализу абстрактной живописи, а интерпретации XX века часто претенциозны. Но и здесь не стареет древний тезис Аристотеля касательно того, что в истинном творении нет пустот и нет ничего лишнего, что к нему нечего добавить и нечего отнять55. Сказанное не обозначает совершенства всех, тем более ранних абстракций художника. Но позволяет оценить лучшие из них.
Когда в «Импровизациях» и «Композициях» второй половины 1910-х годов художник окончательно расстается с предметным миром56, он сохраняет — до начала 1930-х годов — ощущение динамической, даже органической жизни в своих картинах.
Можно ли назвать их вполне «нефигуративными»?
Если Малевич стремится в своих супрематистских композициях создать мир, лишенный тепла и страсти, мир гармоний вне времени и противоречий, то Кандинский может восприниматься полным его антиподом. Он не побеждает пространство и не подчиняется ему, он созидает нечто в принципе иное. Это «нечто» не увидено вовне, но существует в сознании и потому не подвластно системе обычных координат. Здесь, в сознании, видимое сейчас и виденное давно, воображаемое и знаемое, запомнившееся и смутно припоминаемое, мнимое и реальное — все существует на равных, вне времени, без ощущения близи и дали57. Но непременно — в движении, становлении. И в близости не просто к космизму (космизм Кандинского стал уже почти общим местом в искусствознании), но и к той современной, новой философско-фантастической литературе, в которой вполне научные понятия «сверхтяжелой звезды», «черной дыры» и т. д. превратились в драматические метафоры (ср. с суждениями о «Черном квадрате»). И в картинах Кандинского праздничные, радостные взрывы — даже эти черные, мучительные сгустки тьмы! (без них почти не обходятся картины мастера) — очищают сознание, эсхатологические видения становятся эмоциональными предвестниками перемен.
В знаменитом холсте «Черное пятно» (1912, ГРМ) — скорбное ликование золотого пространства, взорванного темной и ослепительной в то же время вспышкой, разрушающей покой и вместе с тем вносящей драматическое равновесие в формальный строй картины. Создается, говоря словами Томаса Манна, «зрительная акустика». Тревога вносит гармонию в саму тревогу — зто сродни психоаналитическим штудиям той поры, но разве зто не естественно?
И в этой картине можно, несомненно, увидеть доминанту живописного начала над линейным, но пространственность исчезает, поскольку художник смотрит в глубь сознания. Появляется взамен привычных координат— глубины, высоты, ширины — нечто подобное тому, что Гессе называл «лишним измерением». Формально картина может служить каноном пластического и колористического равновесия, но в этом мире нет покоя, «стоп-кадр» не предусматривает неподвижности. Мы верим в равновесие, пока глаза наши неотрывны от картины, процесс созерцания словно удерживает непрочный покой, чудится: отвернется зритель — и лихорадка сознания разрушит остановившийся на мгновение безумный мир.
Эти картины Кандинского способны снять со смятенной человеческой души груз неосознанной тревоги, осознать которую никто не в состоянии, поскольку она не имеет качеств, доступных вербализации. Встревоженные видения Кандинского, будто портретируя фантомы наших неотрефлекти-рованных страстей и тонко эстетизируя их, наделяют их способностью объяснить необъяснимое, снять с человека ужас одиночества и непонимания: и в страшном мире есть смысл, ритм, гармония.
Твой взгляд — да будет тверд и ясен.
Сотри случайные черты —
И ты увидишь: мир прекрасен. Познай, где свет,— поймешь, где тьма.
Александр Блок
Традиционному искусству едва ли было под силу «стереть случайные черты», ведь они не что иное, как подробности бытия, необходимые фигуративному искусству. А живопись Кандинского обращается напрямую к нашим душевным глубинам, минуя «рациональные ворота», служащие восприятию любого сюжетного произведения. И на полотнах его возникают миры, которые еще не скоро станут достоянием писателей-фантастов. Цитированному отрывку из Блока58 предшествуют также весьма показательные строки:
Но ты,‘Художник, твердо веруй В начала и концы. Ты знай, Где стерегут нас ад и рай.
Единство начала и конца, вечного обновления, бессмертия, близость и неразрывность ада и рая — все это, как нигде в тогдашней мировой живописи, возникает в искусстве Кандинского. Поразительно, как естественно и глубоко вписано искусство художника в образную структуру и проблематику культуры XX века. И манновские растения на стекле (на стекле — тоже странная ассоциация с технологией работ художника!), и блоковские «начала и концы», и стихи, еще не написанные героем Гессе, названные им так же, как книга Кандинского,— «Ступени»...
Авторитет художника основывался не только на лучших его вещах и не только на его художественной практике. Точная доказательность его теоретических суждений, окруженных своего рода ореолом собственных смутных и надменных поэтических интерпретаций, вызывала увлеченное внимание, подобно тому как пользовались восторженным успехом выступления Бальмонта и Игоря Северянина. Было бы непростительной наивностью воспринимать все сочинения Кандинского, в том числе и поэтические, в том же качественном ряду, что и его живопись. Несомненно, что многое в его текстах, особенно поэтических,— скорее дань вкусам времени, нежели независимые суждения строгого ума: «Вот нехорошо, что ты не видишь мути: в мути-то оно и есть». Но рядом с этим и неожиданные, вневременные стихи, словно предвосхищающие театр абсурда59.
В России Кандинский, не вникая в суть политических перемен, как известно, достаточно охотно принял на себя ряд официальных обязанностей в новых правительственных организациях. Как многие либерально мыслящие интеллигенты, он полагал, что избавление от агонизирующего режима предполагает перемены к лучшему. К лучшему ничего не переменилось, в 1921 году он навсегда покинул Россию.
С 1922 года Кандинский преподает в веймарском Баухаузе. Вспоминая это время, он писал, что считает себя обязанным своим ученикам60. Вероятно, то была полная самореализация, ощущение бытия на своем месте, сочетание профессиональной состоятельности с возможностью
учить, уверенность в том, что теорию его слышат те, кого он делает мастерами. Здесь смог он заняться не только теорией монументального искусства, но и реализовать свои масштабные замыслы с помощью учеников. Ситуация ренессансного цехового братства, естественно придававшая художнику особое чувство полного и глубокого взаимодействия со вселенной.
Тогда, в первые годы Баухауза, он начал работать над своими «Мирами», уже г.рямо сопоставляя величие малого и грандиозного. Миры назывались «маленькими» — в этом был смысл и парадокс: по определению мир — зто нечто великое, в сущности это вообще —все.
И зто все — малое?
Да, словно бы отвечает художник, оно может быть сконцентрировано в атоме, в его частицах, ибо сознание человека не велико и не мало,
а только в нем существуют миры. «Грандиозность малого» (и микроскопичность великого) сильно и остро ощутимы в этом его графическом шедевре — «Маленькие миры» (1922, Городская галерея Ленбаххауз, Мюнхен). В двенадцати гравюрах, среди которых и цветные литографии, и ксилографии, и сухая игла,— невиданная свобода не только техники и виртуозности художника. Это средоточие былых поисков и нынешних находок художника, реальных видений и отвлеченной абстракции, листы, где переплетаются и даже цитируются мотивы искусства XX века, парад ассоциаций, истинный «картинный зал души», невиданное и rap-
в. Кандинский. Без названия. 1920-1921 МОНИЧНОе напряжение МвЖ ЗРИМЫМ
и знаемым. Не раз (и на этих страницах) цитировались слова чеховского монаха-призрака: «Думай как хочешь... Я существую в твоем воображении, а воображение твое есть часть природы, значит, я существую и в природе»61.
Постмодернисты, прагматично и весело монтирующие фрагменты состоявшегося до них и рядом с ними искусства, вряд ли подымались на царственную высоту «Маленьких миров», где благородная изысканность техники реализует в удивительном индивидуальном стилевом единстве целую эпоху поисков — собственных и своих современников. Несхожие, казалось бы, стили и приемы, аспекты и степени реальности словно «гостят» друг у друга, ведут неспешные диалоги, друг друга слышат и проникаются ритмами своих собеседников.
Можно представить себе, что, когда через несколько лет, поселившись ь соседних коттеджах, Кандинский и Клее62 совершали прогулки вдоль берегов Эльбы, беседы их напоминали, вероятно, равно и рассуждения
кастальских мастеров (Г. Гессе. Игра в бисер), и эти удивительные «Маленькие миры», исполненные терпимости и величия.
«Маленькие миры» напоминают не только о том, что Кандинский уже сделал, но и о том, что ему сделать только предстоит. Так, лист VII — это уже ход к известнейшему полотну «Несколько кругов» (1926, МСГ). Маленькие вселенные вбирают в себя и искусство, и потаенные представления I о великом и бесконечно малом, о минувшем и грядущем, о возможности I и неизбежности в самом творчестве примирять разные времена и понятия о прекрасном.
Созвучны маленьким мирам и эскизы панно для «Свободной художественной выставки» в Берлине (1922, НМСИ ЦП). В какой-то мере эти пылкие, но просчитанные с ювелирной точностью композиции воспринимаются как дань разным тенденциям собственного искусства и тенденциям искусства современного вообще. Здесь и кристаллизация столь свойственного Кандинскому планетарно-зооморфного мира (панель А), и почти геометрические композиции (панель С), и что-то напоминающее поиски Миро (панель Д). «...Все дороги, по которым каждый из нас шел своим путем, объединились в одну, несмотря на то, нравится ли нам зто или нет»63,— писал Кандинский в каталоге выставки.
В те годы слава Кандинского растет вместе со славой Баухауза. В сути этой школы многое было близко художнику: беспощадный профессионализм, своего рода романтический рационализм, интеллектуальная утонченность, лаконизм. Вероятно, если бы в Касталии была школа прикладных искусств, она была бы подобна Баухаузу. Художественная элита Европы приезжает на выставки в Веймар, позднее в Дессау (куда перемещается Баухауз в 1925 году). Эйнштейн, Шагал, Дюшан, Мондриан, Оэанфан, Стаковский в числе гостей Кандинского и мастеров Баухауза. Выставки Кандинского часты и успешны. Его шестидесятилетие (1926) отмечено масштабной ретроспективной выставкой в Брауншвейге. В 1929 году его картину покупает Соломон Гугенхейм.
Кандинский отмечал (1929), что беспредметная живопись «продолжает развиваться далее по направлению к холодной манере» и что для развивающегося сюрреализма абстрактная форма может показаться «холодной»64. Художник сам определил суть происходящего с ним в контексте окружающего. С одной стороны, присутствие сюрреалистических обертонов в его искусстве несомненно — ведь и в работах 1910-х годов эти блистательные карнавалы подсознания, «пейзажи души», реализованные
В. Кандинский. Маленькие миры. 1922
В. Кандинский. Несколько кругов. 1926
на его грозных и праздничных холстах, уже были отчасти выходом в поэтику сюрреализма. С другой, и в его работах со временем мелькают образы, созвучные поискам сюрреалистов, которым и впрямь трудно в холодеющей среде его интеллектуальных абстракций.
«Несколько кругов» (1926, МСГ) — почти квадратный холст с поразг тельным ощущением всеобщности, того единения малого и бесконечного, к которому так стремился Кандинский. Вновь приходится вспомнить цитированную фразу Гессе: «...низа и верха нет, это живет лишь в мозгу человека, в отечестве иллюзий». Кандинский отважно уравнивает «отечество иллюзий» с реальностью, даже делает воображенный мир более стабильным, надменно взирающим на реальную суету реального мира. Словно все прежние «Маленькие миры», страстные взрывы ранних абстракций успокоились, скрыв в своей стылой глубине потаенную энергию темных солнц. Напряженный и суровый покой, яркий, как карнавал, и строгий, как фуга Баха, равновесие, чреватое фатальным, но таким еще не скорым взрывом,— все это погружено в словно бы застывшее навеки время, вовсе не
В. Кандинский. Голубое небо. 1940
I соразмерное с краткостью человеческой жизни. Здесь, мнится, есть все, что хотел сказать своему и грядущему времени Кандин-| ский, этот щедрый мудрец.
Само же «чудо Мурнау» — как и поиски кубизма — знаменовало собою, вероятно, главный результат рубежа 1900-х — 1910-х годов: открывшийся путь к полной свободе, к свободе от предмета, к обретениям и потерям, которые это освобождение приносило. Как выше уже говорилось, традиция отмечает именно 1910 год как год явления чистой абстракции в работах Кандинского (например, акварель «Без названия», 1910, НМСИ ЦП). И хотя уже в 1909 году громогласное эхо футуристи
ческих идей, опубликованных (на французском, кстати, языке) Томмазо Маринетти, знаменует наступление новых теоретических и пластических концепций, значение прорыва в беспредметность, не отмеченное декларациями, осталось важной исторической вехой.
Процесс перехода к абстракции был драматичен, он происходил и как внутренний перелом (у того же Кандинского), как дорога через эпатаж (как у Малевича, через сопоставление несопоставимого — «Корова и скрипка», 1913, к «Черному квадрату»), как логический ход — у Делоне, позднее у Мондриана, как интеллектуальный, ассоциативный поиск — у Клее, как прорыв — уКупки (эпитеты эти, разумеется, достаточно общи и не исчерпывают проблемы). Красноречив холст Хуана Гриса (художника, отнюдь не устремленного к полной беспредметности) «Натюрморт с керосиновой лампой» (1912, МКМ). Здесь «чистая», так сказать, «внепредметная» форма вырывается за пределы обычной утвари, изображенной в «умеренно-кубистической» манере, устремляясь в мир «душевных вибраций» (Кандинский), напоминая о неизбежных и близких метаморфозах.
Движение к беспредметности было, однако, еще более глобальным, чем порой может показаться. Еще в первые годы XX века подобного рода устремления стали заметны, как ни странно это может показаться нынче, в фотоискусстве.
В 1902 году американец немецкого происхождения, химик и оптик Альфред Стиглиц*, основатель журнала «Camera Notes»,
* Именно такое произношение немецкой фамилии Штиглиц принято в англоязычных странах.
А. Стиглиц. Flatltron Building под снегом. 1903
Э. Стейхен. Flatitron Building, вечер. 1906
организовал группу фотографов-«пикторалистов» «Фото-сецес-сион» и стал издавать новый журнал «Camera Work», публиковавший много материалов по Новейшему искусству Европы. В 1905 году он открыл «Маченькую галерею ,,Фото-сецессион“», получившую известность как «Галерея 291» (номер дома на Пятой авеню). Там организовывались выставки европейского авангарда (Матисс, Пикассо) и, разумеется, фотовыставки. Там же впервые показала свои работы Джорджия О’Кифф, ставшая в 1924 году женой хозяина галереи. Стиглиц, отличный и тонкий фотограф, создал сюиты поэтических и печальных пейзажей Нью-Йорка. Он утверждал, что фотография должна стать искусством независимым, «уважаемым за нее самое». Рядом с вполне «фигуративными» снимками Стиглиц создает работы решительно формального толка. Так, знаменитый пейзаж «Флэти-трон-билдинг под снегом» (1903) причудливо соединяет лиризм «пикторальной» фотографии с совершенно «абстракционистским» эффектом словно парящей затененной стены в снежном тумане, странно ассоциирующейся в сегодняшнем сознании с мурнаускими пейзажами Кандинского. Позднее фотография ищет еще более радикальные ходы, декларируя устремление к абстракции и сближаясь с нею (Пол Стренд. «Абстракция стула», 1916). При этом изображенное на фотографии — тот же Стренд —
ищет применения равно в удаленности от натуры и в отважном и прямом приближении к ней, в сохранении жесткой репортажности, «брутальности», по его выражению, демонстрируя большую гибкость, нежели часто скованная доктринами живопись («Слепая. Нью-Йорк», 1916). Следующий, 1917 год ознаменован появлением первых программно-абстрактных фотографий («вортографы») американца (работавшего в основном в Англии) Олвина Коберна. Коберн, автор отличных психологических (вполне традиционных) портретов своих современников, среди которых были Честертон, Шоу, Ма тисс, применил для съемки ворто-скоп — прибор, дающий эффект, сходный с калейдоскопом,— и добился, по собственному его выражению, «первых чисто абстрактных фотографий».
В том столь знаковом 1913 году, отмеченном, как не раз уже было сказано, многими красноречивыми событиями в искусстве. Аполлинер сетовал, что искусство «еще не настолько абстрактно, как этого следовало бы желать»65. В этой поспешности, пренебрегающей достижениями искусства во имя достижения умозрительной цели,— то самое учащенное дыхание спешки, что отличает время с его отчасти и суетной, и фанатической жаждой крайности.
Впрочем, свои картины на выставке кубистов 1911 года Робер Делоне рассматривал как переходную стадию между импрессионизмом и абстрактным искусством (теоретические тонкости весьма сбивчивых дефиниций Делоне здесь вряд ли принципиальны)66. «Симультанные окна» (картины, где формы и грани их показывались одновременно с разных сторон, словно увиденными в движении, т. е. «симультанно») на выставке Независимых в следующем году, а затем «симультанные диски» уже практически являют собой вполне нефигуративную живопись, динамизмом и урбанизированными ритмами перекликающуюся отдаленно с произведениями первых футуристов. В «дисках» возник то уже полное разложение цвета.
П. Стренд. Абстракция стула. 1916
П. Стренд. Слепая. Нью-Йорк. 1916
Ф. Купка. Этюд для языка вертикалей. 1911
Ф. Купка. Расположение в вертикалях. 1913
Очевидно,Аполлинер не видел тогдашних работ Кандинского, Клее, Мондриана, в которых принципы беспредметного искусства были реализованы на пути всматривания в сознание, с помощью построения тонко эстетизированных моделей «картинного зала души», и поэтому более всего внимания уделял вполне прямолинейным, хотя отважным и эффектным композициям Делоне.
Меж тем отчасти перекликается с путем вхождения в мир абстракции Кандинского динамика искусства Франтишека Купки. Картина 1909 года «Клавиатура рояля. Озеро» (Национальная галерея, Прага) весьма близка работам Кандинского того же времени — «Дамы в кринолинах» (1909, ПТ) или «Озеро» (1910, там же). Но уже в следующем, 1911 году Купка переходит к искусству решительно нефигуративному («Двухцветная фуга», 1911— 1912, МСИгП), «Красные и синие круги» (1911—1912, там же), а затем обращается к принципиальному для себя мотиву — устремленные ввысь прямоугольники, являющие собой уже не динамические биоморфные «душевные вибрации», как у Кандинского, и не симультан-
ные динамические структуры в духе Делоне, а совершенно особенные, геометризованные, но вместе с тем исполненные музыкальной напряженности и жизни миры (недаром иные свои картины Купка называл «фугами»), «Вертикальные поверхности III» (1912—1913, Национальная галерея, Прага) — одна из самых впечатляющих работ этой серии: мужественная ясность геометрических планов, чьи силуэты все же лишены абсолютной «чертежной» прямолинейности, смягчена и одухотворена мягкой гармонией лиловато-зеленых цветов, акцентированных почти
черным пятном, «звучащим» в этом «оркестре» подобно громовому удару литавр. Еще более острый пластический эффект найден художником в небольшом (70 х 70 см) полотне того же года «Расположение в вертикалях» (Ordonnance sur verticales) (1913, НМСИ ЦП), где стремящиеся вверх рвано-ограненные мазки-прямоугольники создают зримое ощущение мощного органного звучания и одновременно ассоциативный образ самого органа.
Такова была живопись, в которой Аполлинер увидел пример «искусства, не имеющего больше никакого внешнего сюжета, а только сюжет внутренний»67. Мыслящий прежде всего поэтическими метафорами,
.Аполлинер назвал ЭТО искусе ГВО «ор- ^Мондриан. Композиция в линиях и цвете, физм» — мощные и гармоничные ритмы такого рода живописи вызывали ассоциации с музыкой, песни Орфея, как известно, обретая реальную энергию, могли двигать грубую материю. Орфическое искусство созидало реальность из воображаемых художником нематериальных форм (главным образом пересекающих друг друга кругов, округлых плоскостей чистых локальных цветов), наделяя их новой, чистой жизнью.
Между тем куда более сложный и нервический выход в нефи-гуративность,— картина Мондриана, тоже жившего тогда в Париже, «Композиция в линиях и цвете» (Compositie in lijn en kleur) (1913, МКМ). Молочно-пепельные и ржаво-золотистые плоскости, кое-где выделенные обрывистым черным контуром, словно истаивающие руины последних материальных образов, плывут в плотном красочном мареве, еще напоминающем о «кубистической» сгущенной живописной плазме. Во время войны Мондриан был в Голландии, там вместе с Тео ван Дюсбургом, эссеистом и теоретиком искусства, он выпускает журнал «Де Стейл» (1917—1928), где и формируются принципы «неопласти-цизма». Через короткое время из его живописи почти исчезает пространство, и геометрически очерченные плоскости, тусклые и однообразные, уже предвосхищают будущую непреклонность его абстракций («Композиция в голубом», 1917, МКМ). На рубеже 1910—1920-х годов он совершенствует свой плоскостногеометрический стиль, отвечающий доктрине «неопластициз-ма», построенный на резко очерченных, лишенных объема
П. Мондриан. Композиция в голубом. 1917
П. Мондриан. Композиция с красным, желтым и голубым. 1921
формах, только прямых углах, локальных ярких цветах («Композиция с красным, желтым и голубым», 1921, Муниципальный музей, Гаага).
Своеобразный вклад в движение к беспредметности внес и Леже, в конструктивистских композициях которого («Контрасты форм», 1913, Музей искусства, Филадельфия) просматрива ется все большее увлечение чисто пластическими задачами, созданием отчетливых «индустриальных», машинных ритмов, все более удаляющихся от своих материальных основ.
По сути дела, именно в эту пору — между 1910-м и 1915 годами — складываются две все более расходящиеся линии беспредметного искусства — «эмоциональная» и «рациональная». Ни в каком другом художественном направлении XX века две эти тенденции, восходящие к логике Сезанна и импровизациойной пылкости Ван Гога, не проявились с большей отчетливостью. Интуитивные прозрения Кандинского, Клее, а в дальнейшем и бесчисленных сторонников спонтанной импровизации стали принципиальной оппозицией ледяному интеллектуализму Мондриана, группы «Де Стейл», супрематистов и т. д.
Обе эти тенденции (силами не самых своих значительных представителей) стремились к некой абсолютизации. После 1915 года Амеде Озанфан начал формулировать принципы пуризма, которые потом развивал вместе с Женнере (будущим Ле Корбюзье) и Грисом, стремясь достигнуть холодной, лишенной объемов и полихромии пластической гармонии, близкой фугам Баха (манифест пуристов «После кубизма» был опубликован в
1918 году, а окончательное определение направления было изложено в «L’Esprit nouveau» в 1921 году). Пуризм противопоставлял упорядоченность и ясность кубистической «деформации». Что же касается спонтанного начала, то оно, соприкасаясь с сюрреалистическим стремлением прямого выражения бессознательного, оттачивалось позднее в спонтанных техниках Макса Эрнста и даже — много позднее — Поллока...
Разумеется, были и мастера, ревниво сохраняющие свою индивидуальность, не сумевшие и не захотевшие войти в группы или объединения или примкнуть к некой последовательной тенденции. Так, совершенно особняком прожил свою творческую жизнь итальянец (только в начале 1930-х годов он обосновался в Париже) Альберто Маньели, самоучка, взрастивший свой тонкий дар в музеях и соборах Тосканы. Он сумел синтезировать эффект формальных плоскостных композиций с реальными жизненными впечатлениями в тех картинах, которые сам называл «полуфигура-тивными» (середина 1910-х годов). Ему не было равных в виртуозном сочетании линии и яркого локального цвета при сохранении остроты и иронии жизненных впечатлений («Рабочие на телеге», 1914, МСИ).
Разделение эмоциональной и рациональной нефигуративности, как и большинство теоретических положений в искусствознании, не абсолютно. В те самые столь густо насыщенные событиями годы воз
никает итальянский футуризм. В 1909 году почти одновременно с публикацией в 1910 году романа Томмазо Маринетти «Мафар-ка-футурист» (герой романа Мафарка-эль-Бар — король, сверхчеловек ницшеанского толка, почти «белокурая бестия» Фридриха Ницше) появляется (также по-французски) в газете «Фигаро» и знаменитый манифест футуризма (он немедленно был переведен и издан в России). Футуризм с его отрицанием минувшей культуры мог возникнуть и возник именно в Италии, с ее многовековым, уже ставшим удушливо-консервативным музейным духом, стеснявшим вольное дыхание радикального художества. «Итальянская культура страшно дряхлая и академическая: необходимо в один прекрасный момент отойти от мертвого моря созерцания, обожания, имитации, комментирования прошлого,
А. Маньели. Рабочие на телеге. 1914
У. Боччони. Состояния души. Прощание. 1911
если мы действительно не хотим превратиться в самый слабоумный народ мира»68. Отсталость цивилизации, вялость экономики, та усталость «национального духа», на которой так легко было возвести лакомые идеи возрождения великой Италии,— все это было отличной средой для художественного радикализма. В остановившемся воздухе былой художественной славы
с особым эффектом звучали (тем более из уст просвещенного миллионера, денди и эстета Маринетти) парадоксальные идеи о новой культуре. «Не существует красоты вне борьбы. Нет шедевров без агрессивности! <...> Рычащий автомобиль, как будто бегущий по картечи, прекрасней Самофракийской победы*. <...> До сих пор литература воспевала задумчивость, неподвижность, экстаз и сон; мы же хотим воспеть наступательное движение, лихорадочную бессонницу, гимнастический шаг, опасный прыжок, оплеуху и удар кулака»69. Здесь несомненна и оппозиция тлетворному; с точки зрения футуристов, символизму;
К футуризму примкнули многие заметные художники Италии, в их числе — Умберто Боччони, Луиджи Руссоло, Джакомо Балла, Джино Северини, Карло Карра.
Призывы к уничтожению музеев, отказу от хорошего вкуса, к «оплевыванию алтарей искусства» — все это вряд ли могло удивить кого бы то ни было в ту пору. Нельзя сказать, что и выставка в парижской галерее Бернхейма (февраль 1912 года) стала огромной сенсацией. К тому' же французские кубисты были недовольны сюжетностью программностью футуристической живописи, а итальянцы, в свою очередь, бранили французских собратьев за академизм энгровского толка, который они обнаружили в продуманно формальных структурах кубизма.
Однако в исторической перспективе эти споры воспринимаются почти как недоразумение. Еще до парижской выставки, в 1912 году, Умберто Боччони — центральная фигура футуристического искусства — написал картину «Состояния души. Прощание» (1911, МСИ), в которой с несомненным личным чувством и воодушевлением синтезированы искания Новейшей живописи, в том числе и кубистической. В картине чудятся извивающиеся потоки темной раскаленной лавы, сквозь которые угадыва-
Статуя Ники Самфракийской (Дувр).
Л. Руссоло. Восстание. 1911
ются контуры тел и зданий, здесь и отдаленное эхо «симультан-ных кругов», и открытый прием кубистического коллажа, и уже вполне футуристическая стремительная динамика форм, и движение от жизнеподобных образов к чистой форме. «Храбрость, дерзость и бунт», провозглашенные в Первом манифесте футуристов, воспринимаются ныне перед картинами футуристов как угасающее эхо вербализированных былых дерзаний, имеющих лишь историческое значение.
Более принципиальна для поэтики и содержательной сути футуризма картина композитора и художника Луиджи Руссоло «Восстание» (1911, Городской музей, Гаага), где превращение толпы в абстрактную динамическую структуру, выдержанную в ярких и глухих локальных цветовых линиях и пятнах, угловатых и ломких, воспринимается странным, но впечатляющим синтезом изобразительной публицистики и пугающего своей агрессивностью пластического иероглифа.
Северини более, чем его соратники, озабочен был проблемами традиционной гармонии. Поклонник Сёра и принципов неоимпрессионизма, живший в Париже во второй половине 1900-х годов, он сохранил в футуристических композициях гармонические структуры и благородный колорит, воспитанный
У. ьоччони. Уникальные формы протяженности в пространстве. 1913 (отливок 1931)
Дж. Северини. «Норд-Зюйд» (парижское метро-экспресс). 1913
А. Метценже. На велодроме. 1914(?)
в нем французскими привязанностями. Даже самые новаторские и динамичные его работы сохраняют нежную тонкость фактуры — <-Автобус» (1913, Пинакотека Брера, Милан), органично синтезируя ее с напряженными потоками динамических «кадров» современного мегаполиса. Картина «Норд-Зюйд» (парижское метро-экспресс) (1913, Музей современного и нового искусства, Турин) точно резонирует ее литературному восприятию: «Белый, хрустальный, сияющий поезд линии Норд-Сюд — подземной дороги — мчался с тихим грохотом под Парижем. В загибающихся тунелях проносилась мимо паутина электрических проводов... <...> Мгновенная остановка. Вокзал, залитый подземным светом. Цветные прямоугольники реклам... <...> Шумная, смеющаяся толпа хорошеньких женщин, мидинеток, рассыльных магазинов. иностранцев, молодых людей в обтянутых пиджачках... <...> С треском захлопываются двери; короткий свист. Поезд огненной лентой ныряет под черный свод подземелья» (А. Н. Толстой. Гиперболоид инженера Гарина)70.
Футуристы действительно более все
го были увлечены передачей движения в урбанистической среде: умноженные, как в кинокадрах, фазы движения автомобилей, мотоциклов, даже людей, дома, словно пронзаемые потоками машин, покачнувшийся мир скоростей — все это превратилось тщаниями футуристов в особый мир, угрюмый, грозный, со своей брутальной красотой, весьма отличной от изящных городских фантазий Делоне или эффектной конструктивистской мозаики Леже. Эта тенденция фу гуристов занимала, как известно, и Метценже («На велодроме», 1914 (?), МСГ), и Гончарову, и многих других.
Само искусство художников-футуристов в отрыве от кипучей плазмы деклараций (игры!), вне идеологических речей и дискуссий являло и являет свою самость, свои достоинства и свою слабость куда как более определенно, при этом вписанность его в общеевропейский контекст становится вполне очевидной.
Впрочем, экспансия футуристических идей и произведений была активной и широкой: после Парижа выставка была пока-
Дж. Северини. Поезд Красного Креста, проходящий мимо деревни. 1915
зана в Лондоне, Берлине и Брюсселе. К 1915 году, когда крупнейшие представители футуризма (Боччони, Балла, Северини, Рус-соло и Карра) показывали свои работы на выставке в Сан-Франциско, в Европе футуризм был уже широко известен.
Итальянский футуризм, которому культура обязана знаменитыми пластическими открытиями и давно ставшими классикой произведениями, с самого начала, выражаясь в духе Пруста, был устремлен «в сторону» (du cote de) игры, причем теоретические игры сравнительно мало соприкасались с художественным результатом или, во всяком случае, ныне спокойно воспринимаются в отдалении от современного их появлению интерпретационного и пропагандистского поля. Но футуризм как явление, как вариант художественной игры — это уже имеет отношение к иному' кругу' проблем (см. главу V «Artifex ludens»).
( воего рода итогом и парадом, а отчасти и прологом Новейшего искусства Европы стала открытая в 1913 году в Нью-Йорке сразу же ставшая знаменитой выставка в здании арсенала 69то полка « Армор и-ш оу» (Armory Show). Одна из самых значительных выставок в США, она открыла для американского зрителя Новейшее искусство Старого Света. Да и художники Европы взглянули со стороны на свои достижения, смогли оценить и их самих, и реакцию на них. Там была живопись от позднего Сезанна, Ван Гога до кубистов, Дюшана и американцев Шиле-ра, Хоппера и других. Выставка затем была показана в Чикагском институте искусств (где вызвала возмущение студентов,
предавших сожжению портреты постимпрессионистов и Матисса) и в Бостоне.
Год 1913-й, отмеченный поистине эпохальными событиями, вряд ли сознавал себя столь значительным. Пруст, с таким трудом опубликовавший тогда (за свой счет!) первую часть своей эпопеи, даже Марсель Дюшан, придумавший тогда свое «Колесо», Малевич, декларировавший «заумь» в картине «Корова и скрипка», упоенные собственной смелостью авторы «Победы над солнцем», устроители выставки «Армори-шоу» в Нью-Йорке, открывшей Новому Свету Новейшее искусство Европы,— все эти будущие светила XX века еще только вступали в век, который им предстояло завоевать, и, вероятно, лишь смутно догадывались о масштабе происходящего вокруг, равно как и о значении ими же сотворяемых перемен.
Д. Ривера. Эйфелева башня 1914
III. «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
НАПРЯЖЕННОСТЬ...»
Сегодня искусство идет путями, представить которые себе наши отцы не могли; словно во сне, а не наяву стоят они перед новыми произведениями и слышат полет апокалиптических всадников; художественная напряженность в Европе ощущается повсюду, повсюду один художник подает знак другому: достаточно взгляда, пожатия руки, чтобы понять друг друга.
Фран-ц Марк
Мощный всплеск пластических открытий, появление новых течений и имен, порой с течениями отождествляемых, становление все более отчетливых художественных структур и деклараций и в культурном пространстве Парижа, и вне его вовсе не исчерпывает разнообразия индивидуальностей.
Внутри самой Парижской школы (и за ее пределами) работают мастера, связанные с окружающей средой скорей ситуативно, нежели стилистически. Модильяни, Сутин, Утрилло, Паскин, Шагал, Марке, уже не раз упоминавшиеся Бранкузи, Цадкин, Архипенко — работы этих художников достаточно независимы от царящих в Париже тенденций и довольно далеки друг от друга. При этом они в кипящей лаве споров и выставок, в дружеском, приятельском или профессиональном общении, они нередко покидают Париж и Францию, да и корни многих из них за пределами этой страны. Это же можно сказать о Кандинском, как позднее о Клее.
Содержательность, эмоциональность, нервическая поэтичность, ощущение жизни как боли и искусства как носителя всех этих начал вовсе не исчезли, и названные имена близки именно этому явлению. «Заснувшая муза» Бранкузи (1910, НМСИ ЦП) — поразительная по первозданному божественному лаконизму голова из полированной бледно-золотистой бронзы — будто прислушивается к глубинным шумам бытия, заглушенным суетными спорами и модными дискуссиями, и символизирует многозначительную паузу накануне новых перемен. Эта скульптура, сводящая изыски кубизма к классическому по ясности итогу,— несомненное свидетельство выхода формальных поисков в пространство вечных пластических ценностей, простой результат многосложных исканий. Столь же ошеломляюще прост, изящен и в высоком смысле слова современен упоминавшийся уже «Торс» А. Архипенко (1914, МКМ), скульптура, отличающаяся восхитительным эффектом пластического намека, обращенного в окончательную и абсолютную формулу.
Рубеж 1900-х — 1910-х годов принес не только радетелям «чистого» эксперимента, но и искусству, озабоченному болью, страданием и состраданием, решительно новый инструментарий, язык, да и совершенно новый зрительский круг, уже не склонный воспринимать содержательность в традиционных формах (каковыми кажутся уже и недавние дерзания постимпрессионистов и символистов).
Это проявляется с первого десятилетия XX века и в искусстве художников, весьма далеких, с усредненной и даже просто привычной точки зрения, от какого-либо драматизма.
Ранние ню Марке — самое парадоксальное тому' подтверждение. С первых своих опытов даже в области портрета он искал
индивидуальность не столько в чертах лица, сколько в силуэте,
в позе, в характере двйже-ния. Тела, которые он пишет, обычно более «порт-ретны», чем лица, быть может, поэтому' так интересны его этюды обнаженных фигур Работы его — не обычные штудии фигуры, но подлинные «портреты человеческого тела». Возможно, что, сохрани художник интерес к изображению фигуры на долгие годы, стало бы реальным говорить о ню Марке как о явлении столь же интересном, как ню Дега, Ренуара или Модильяни.
К. Бранкузи. Заснувшая муза. 1910.
Но натурщицы Марке немногочисленны и мало известны.
Присущий Марке-пейзажисту несколько олимпийский ли-
ризм в этих холстах нежданно отступает перед яростным натис
ком жестко индивидуализированных, кажущихся очень личными эмоций. Глубоко скрытый темперамент Марке находит столь мощное выражение, что дает повод вспомнить Фрейда. Здесь несомненны связи с эмоциональным и художественным миром Сезанна, умевшего чудесным образом соединять жесткий аскетизм с могучей чувственностью. Сочетание точной и упругой линии, обостренной моделировки с достаточно безжалостным изображением отнюдь не прекрасных, но таинственно привлекательных тел, эта эстетизация частного, интимного, личностного характерны для всех без исключения ню Марке.
Любопытен уже ранний этюд натурщицы, написанный в 1898 году в мастерской Моро. Картина из Музея изящных искусств в Бордо известна под названием «Модель из мастерской
Гюстава Моро. Дикая ню» (Modele d’atelier Gustave Moreau. Nue fauve), что определяется, вероятно, неожиданным напряжением красок, поскольку до первой выставки фовистов еще семь лет. Этот холст при всей его аналитической объективности отмечен тревожной конкретностью очертаний, вырывающейся из общей несколько отрешенной стилистики. В полной же мере эти качества сказываются в превосходном этюде 1909 года (Музей изящных искусств, Бордо).
Тело стоящей натурщицы написано против света, кисть Марке жадно схватывает легкую угловатость плеч, своеобразный изгиб голени, крутизну бедра. Линии порой просто сведены к ломким сочетаниям прямых, чтобы острее выявить впечатление и придать этому впечатлению устойчивость и временную протяженность. Композиционное построение необычно и для Марке показательно: мгновенно сколь-
А. Марке. Модистки. 1901 ЗЯЩИе В глубину Картины
А. Марке. Модель в мастерской. 1900 Крутые перспективные ЛИ-
НИИ, контрасты углов, высокий, поднятый к краю холста горизонт. Художник уже тогда, в молодости, все чаще использует черную линию, которая, как в живописи Домье, проступает сквозь красочный слой, придавая жесткость очертаний нежным и сильным цветовым пятнам и внося в живопись неожиданную и непререкаемую конструктивность.
И его «Модистки» (1901, ГЭ) написаны вязким, густым мазком, моделированы тяжелыми пятнами, по-сезанновски плотными, «окончательными», придающими жанровой сцене горькую всеобщую вечность. По сути дела, они родные сестры ранних
героинь Пикассо «голубого периода», этих одиноких людей, замкнутых в своей отъединенное™ от мира, написанных аскетично, как писали мучеников старые испанцы, и с несомненной остротой нового века.
В этюдах обнаженных моделей Марке 1910-х годов ощутим привкус ар деко: изысканная ломкость нервных линий, несколько болезненная декоративность. Привкус этот очень слаб, но все же заметен. Развитие стиля ар нуво и ар деко в архитектуре, новые веяния в декоративном искусстве, наконец, просто в обстановке квартир, мастерских, в оформлении журналов — все это стало неотъемлемой частью окружающего, влияло на видение и восприятие. Марке зависел от натуры в гораздо большей степени, чем, например, Матисс, он никогда ни в молодости, ни в
зрелые годы не создавал изолированного живописного мира. И вот он видит вокруг себя — в окнах магазинов, на тканях, в картинах и книгах — усталые и томные «бердслеевские» линии, причудливые ритмы орнаментов на мебели, коврах, это странное и пряное сочетание неопределенности и отчетливой продуманности форм. Все это появляется и в этюдах Матисса. Но пластический язык его затронут не слишком сильно. Ар деко на холстах не столько стиль самого художника, сколько среда обитания моделей, их манера двигаться, их «вписанность» в пространство и время, исполненное нервной истомы, кокетливой и больной тревоги.
Модная угловатость модели
спорит со строгой и энергичной живописью. Мужественный
А. Марке. Модель с поднятыми руками. 1912
колорит, уверенное, классическое равновесие масс торжеству-ют. Индивидуальность художника не чужда вкусам и поискам времени, но в сущности от них свободна.
Решительный поворот после недолгого искуса фовизма происходит в искусстве Жоржа Руо, сумевшего фовистские открытия синтезировать с истинно трагическим великолепием, используя своеобразный эффект горящей мозаики цветовых пятен, вплавленных в черный, как на витражах, контур («Марокканец», ок. 1913, ХССВ; «Старый король», начат 1916, Собрание Института Карнеги, Питтсбург, США; «Трое судей», ок. 1920,
Ж. Руо. Марокканец. Ок. 1913
Ж. Руо. Старый король. Начат в 1916
ХССВ). Столь же несомненно эмоциональное смятение и пластическая драма в картинах Джозефа Стеллы 1910-х годов («Бруклинский мост», 1917, Художественная галерея Йельского университета, Нью-Хейвен), мерцающая сквозь футуристические и даже отчасти кубистические структуры.
При этом упомянутые произведения по тем или иным причинам не порывают окончательно связи с предметным миром, демонстрируя, между прочим, отсутствие запрограммированного экстремизма в отношении к традиции.
Заметна и ценна миссия художников, которые стоят особняком, даже оставаясь реально в контексте той же «Парижской школы». Художников, чье искусство (независимо от дани, приносимой ими на алтарь искренне увлекающих их течений) хранит страдание и сострадание, плодотворную для искусства тревогу и боль. Именно они — и более всего в содержательном смысле — позволяют видеть не стилевую, но эмоциональную общность всех тех, кто и в Париже, и в Мюнхене, и в России ставит новый язык на службу извечным если не проблемам, то мотивам и мыслям. В этом смысле Шагал, Модильяни, Сутин, Паскин, Фужита, Ривера являют собой художников, в основе искусства которых — боль. Как и у немецких экспрессионистов. И в этом смысле могут быть рассмотрены радом с ними как их «соседи» по эмоциональному пространству.
Оборванная так рано жизнь Модильяни навсегда оставила его в пространстве «Парижской школы», явления столь же пленительного и очевидного, сколь с точки зрения строгой истории искусства не вполне уловимого. Он сгинул, став жертвой тяжкого недуга и собственных пагубных страстей, в возрасте тридцати пяти лет, оставив, однако, художественное наследство, вовсе лишенное той банальной, пряно-болезненной изысканности, которая приписывается ему усредненным вкусом и оттачивается сентиментальными мифами Монпарнаса.
Три работы из Художественного собрания земли Северный Рейн — Вестфалия (Дюссельдорф) представляют Модильяни в резком и нетривиальном свете. На их примере становится очевидным, что Модильяни реализовал в своем искусстве напряженное сочетание присущего ему изначально личностного лиризма, тонкого понимания архаической стилистики и архитектоники вкспе с глубоким проникновением в поэтику кубизма. «Кариатида» (1911—1912), написанная в эффектном сочетании темно-умбристых оттенков и красной сиены со смелым использованием строящих конструкцию черных линий и резких белых пятен, чудится — при всей своей полнокровной грации — ближайшей родственницей и «Авиньонских девиц», и скульптур Бурделя (в это время Модильяни много занимается скульптурой, и его статуэтка кариатиды в том же музее указывает и на связь его поисков с первобытной и архаической скульптурой).
А. Модильяни. Кариатида. 1911—1912
А. Модильяни. Кариатида. 1912—1913
А. Модильяни. Портрет Макса Жакоба. 1916
«Портрет Макса Жакоба» (1916, частное собрание, Париж) — удивительный пример не обозначенного в столбовой дороге истории искусства «экспрессионистического кубизма». Вряд ли найдется еще один портрет, где рубленый объем лица лишь утончается и индивидуализируется благодаря резкой, нарочито огрубленной обобщенности. Колдовская игра живописной фактуры внутри упрощенной формы, обостренной к тому же почти гравюрными черными линиями, создает единственный эффект до предела рафинированного искусства, намеренно усиленного введением элегантной и продуманной пластической грубости.
Результат поразителен: это один из самых интеллектуальных портретов эпохи, точно выражающий дух «места и времени» — сочетание душевного дендизма, холодной пылкости ума с глубоко скрытой и неутихающей душевной болью. А написанный двумя годами раньше портрет Диего Риверы не просто портрет другого человека (мексиканца прозвали на Монпарнасе Гаргантюа, Липшиц называл его «диким индейцем»), иного темперамента и иной судьбы, но и иных минут Монпарнаса, с его расслабляющим, мнящимся весельем, портрет, чья живописная фактура напоминает сумрачный фейерверк.
Собственно, все сколько-нибудь крупные течения и фигуры начала века, как бы ни были они значительны и насколько много выдающихся мастеров ни определяли бы их развитие, все равно существовали в контексте искусства предметного (с которым, как не раз говорилось, связь не прерывали, но которое, в свою очередь, стремительно модифицировалось под влиянием новых «изобразительных кодов»). Примеры такого рода особенно остро воспринимаются в соседстве с близкими им явлениями, но в силу сложившейся традиции рассматриваются чаще всего изолированно. В этой связи рядом с Сутиным и Шагалом особенно показательно искусство превосходного бельгийского живописца Констана Пер-меке. Художник высокого живописного дара, последователь Энсора и единомышленник Спиллерта, он участвовал в выставках немецких экспрессионистов и
итальянских футуристов, проходивших в галерее Жиру в Брюсселе. Однако его мощная и спокойная кисть восприняла лишь отдаленное эхо радикальных приемов, соединив природную аскетичную силу с выразительной нервической динамичностью современников. Знаменитое полотно «Странник» (1916, КМИИБ) заставляет вспомнить и Ван Гога, и Шагала, но более всего почувствовать глубоко личностную интерпретацию тревоги XX века, преображающей почти бытовой сюжет в пластически реализованную притчу. Гипертрофированные формы и драматические
А. Модильяни. Диего Ривера. 1915
А. Модильяни. Сидящая обнаженная. 1916
А. Модильяни. Обнаженная.
цветовые контрасты компенсированы точным равновесием масс, вечные пластические ценности словно подавляют агрессивные коды новых художественных структур.
Это действительно перекликается с Шагалом, хотя художники скорее всего друг о друге не знали.
Странная это штука — зеркало: рама как у обыкновенной картины, а между тем в ней можно увидеть сотни различных картин, причем очень живых и мгновенно исчезающих навеки... <...> ...отражения, которые в нем появлялись, пережили его и витали в воздухе среди сумерек, наполнявших дом, словно призраки...
Гилберт Кит Честертон
Часы, время, отражения: Марк Шагал. Шагал в Париже, быть может, первым из российских художников сделал своей натурой самое искусство, иконосферу времени и места, которую он ощутил как новое сплетение изобразительных мифологем. Начатый в Витебске мотив рождения в Париже лишь годом позже преображается в «Рождение ребенка» (собственность семьи художника). Здесь нет уже сопряжения вечности и быта, события оборачиваются цепью метафор, лампа — светильником, лохань — купелью, а комната цветовым решением отдаленно вторит матиссовским интерьерам. В «Автопортрете перед мольбертом» (1914, частная коллекция) он соединяет уроки Сезанна, хрупкую одухотворенность Модильяни, колористическую пылкость фовистов, сложные ритмы плоскостей, напоминающие опыты ранних кубистов.
Марк Шагал подвижен и вместе с тем постоянен, как маятники часов на его картинах. Внутри его искусства время свободно перетекало из начала в конец пути, принося зрелость ранним работам и светлую наивность — поздним, корни его искусства — прообраз высокой кроны. Время, верх и низ — все меняется в его картинах местами. Он родился мертвым и знал об этом, возможно, отсюда его особый интерес к началам и концам, к понятиям противоположным. Такова и амплитуда его пристрастий — ему были внятны горние и дольние мотивы, близки радикальные искания современников, он впитывал их, неизменно себя сохраняя. Именно потому он и может восприниматься индикатором транснациональных и трансвременных исканий.
Само начало его впечатлений заставляет вспомнить Кандинского: синяя вывеска школы Пзна (учителя Шагала в Витебске), так поразившая будущего художника,— родная сестра синей конки, синего воздуха и поющих ярко-желтых почтовых ящиков1, восхищавших в Мюнхене тридцатилетнего Кандинского.
Аполлинер назвал его «сверхнатуралистом» (surnaturaliste)2 (как не вспомнить здесь о «фантастическом реализме» Достоевского). То, как глубоко и точно понимал Аполлинер искусство, его жесткие и утонченные стихи, переходившие нередко в наборный полиграфи#67еский рисунок-иероглиф (калиграмму),— было для художника школой ясности и творческой отваги, дерзкой логики творчества и мышления XX века. Этим ощущением насыщена его картина «Hommage a Apollinaire» (1911—1912, Эйнд-хофен), где фигуры Адама и Евы, составляя целое, и рассекаются, и соединяются Временем, воплощенным в медлительно вращающемся круге, своеобразной мандорле, напоминающей вместе и циферблат гигантских часов (на которой тела персонажей, их руки и ноги кажутся стрелками), и небесную сферу, увиденную встревоженным взглядом астролога XX столетия. Образ единого «времени-движения», столь близкий интуитивному видению Сезанна и рассудочному — кубистов, времени, с которым у ! Шагала всегда особые отношения (как, впрочем, и с пространством), наиболее зримо выступает в этом полотне. Процесс сотворения материи и мира, увиденный одновременно сквозь призму Каббалы и кубизма, ограненная Парижем простота лубка (этого генетического пароля ранних работ Шагала),— все это синтезируется с клокочущим потоком сегодняшнего, вечного и только наступающего искусства. Любопытно, что в ту же пору Шагал написал небольшой этюд «Большое колесо» (1911—1912, частная коллекция), изображающий стометровое колесо обозрения, воздвигнутое на территории Всемирной выставки, чей абрис отчетливо перекликается с кругом-циферблатом на картине «Hommage...»,— типичная ситуация для Шагала, так любившего сочетать несочетаемое.
Картина, посвященная, кроме Аполлинера, еще и Сандрару, и Вальдену, и Канудо — издателю журнала «Монжуа» (Montjoie),— самая большая из написанных к тому времени Шагалом — более двух метров в высоту, но поверхность ее проработана с тщательностью в манере, близкой Модильяни. Она была показана в берлинской галерее Вальдена, издателя журнала
М. Шагал. Hommage a Apollinaire. 1911— 1912
М. Шагал. Голгофа. 1912
«Штурм», на первой большой персональной выставке Шагала в 1914 году. Предисловием к каталогу послужила маленькая поэма Аполлинера.
«Эмоциональный кубизм» — таким мнится язык живописи Шагала начала 1900-х годов, по страстной же одухотворенности, мощному содержательному началу он ближе экспрессионистам (в принципе, и Хаиму Сутину, но тот приедет в Париж позднее). Правда, в отличие от большинства экспрессионистов, Шагал прячет живопись «в глубине холста», а не выплескивает ее на поверхность. Его «Голгофа» (1912, МСИ) чудится и в самом деле написанной на перекрестке европейских художественных устремлений. С непосредственностью ребенка, верящего в правду сказки больше, чем в обыденную реальность, с состраданием мудреца, знающего всю боль мира, он создает свою «Голгофу» — вечную тему от проторенессанса до Мантеньи, до потрясающего антверпенского «Снятия с креста» Рубенса,"до религиозных фантазий Руо, озаренных отблесками средневековых витражей.
Религиозный сюжет и персонажи Нового Завета, написанные Шагалом, воспринимаются ныне в контексте вполне современных представлений о мировых катаклизмах, увиденных и сквозь призму научной фантастики, и древней легенды, и сквозь откровения «Герники». В картине царит пророческое «воспоминание о будущем»: Иисус — беззащитный пришелец, отторгнут миром, он другой, и зта его странность — прежде всего в системе форм, близких кубизму: распятый Христос с прозрачным голубым телом инопланетянина растерзан зубцами расколовшегося неба и оплакан слезами людей, чьи тела и лики преломлены, как в страшном сне,— сне, привидевшемся последователю Гойи и предшественнику Пикассо (в метафорическом, разумеется, смысле).
У этого мало читавшего и малообразованного человека — бездна соответствий с закрытым еще интеллектуальным процессом в европейской культуре. Но он именно в непосредственной простоте доказывает общность динамики своего искусства — мудрого и наивного — с рациональными находками литературного Запада.
Почему после сцены Распятия Шагал пишет эту странную, лукавую и многозначную уездную мистерию «Я и деревня» (1911)? Термин Уильяма Джеймса «поток сознания» еще не стал общеупотребительным, но здесь процесс наслаивания видимых образов, их свободного смешения показан художником с
М. Шагал. Я и деревня. 1911 (?)
обезоруживающей и величественной простотой. Категория последовательной смены впечатлений исчезает, позволяя спокойно литься внутреннему монологу, в котором доминирует царствующее над самим временем детское «вот»: «А вот горка, а вот человек идет». Разорванность мира — синоним «мыслящего взгляда», игры в воспоминания, где один образ раскрывается в другом, как сюрпризы в пасхальном яйце.
«Парад ассоциаций» проходит в фантастическом пространстве, организованном перекрещенными треугольными плоскостями — подобием песочных часов (все тот же мотив Времени'), в нижней части которых цветы, а в верхней — сказочное видение витебских куполов с их вечной «шагаловской» лазурью; ритм расходящихся концентрических окружностей пульсирует, придает «планетарность» земле, сопрягает малое со всеобщим, обращая веточку в руке крестьянина в целое дерево, опрокинутые отраже
ния людей спокойно соседствуют с буднично идущими по земле — «низа и верха нет, зто живет лищь в мозгу человека, в отечестве иллюзий»,— согласно не раз цитированному суждению героя Гессе. Есть действительно «парад ассоциаций», подобный тому, что выплывает из прустовской чашки с чаем в романе «По направлению к Свану», который пишется одновременно с картиной Шагала «Я и деревня».
В числе глобальных метафор Шагала — зеркало, которое нередко и вступает в диалог со временем и его иероглифом — часами.
Зеркало — одно из самых удивительных созданий природы и человека. Сам феномен отражения — удвоенного, утроенного, опрокинутого повторенного образа — прячет в себе нечто таинственное. Будь то отражение в глади воды, в сколе горного хрусталя, в рукотворном зеркале
М. Шагал. Зеркало. 1915
из металла или стекла с амальгамой, оно ассоциативно связано со способностью человека к са-моосмыслению — рефлексии, к ощущению своей двойственности, связано и с природой изобразительного искусства, которое, даже желая того, едва ли в силах расстаться с отражательной, «зеркальной» способностью. Ведь и в грозных фантасмагориях Пикассо — от «Авиньонских девиц», знакомых Шагалу, до неведомой еще и самому автору «Герники» — все тот же эффект «разбитого зеркала», злого зеркала андерсеновских троллей, или головоломных эффектов компьютеризованной динамической оптики.
Зеркало живет в искусстве издавна и многозначно. И таинственные зеркала старых нидер-
ландцев, концентрировавшие великое в малом или олицетворявшие Мадонну («зеркало безупречное»); и зеркало веласкесовской Венеры; и головокружительный эффект отражения королевской четы в веласкесовских же «Менинах»; и прямое использование Гойей «эффекта самосозерцания» в зеркальной галерее Аранхуэса семьи Карла IV; и «Бар в Фоли-Бержер» Мане, и портрет Генриетты Гиршман Серова, и автопортрет Серебряковой. Это, наконец, и грозный в своей почти агрессивной значимости холст Гончаровой «Зеркало». Примеры могут множиться до бесконечности.
В XX веке зеркало как философско-художественное понятие приняло двойную нагрузку. Вслед за героиней Кэрролла человеческая фантазия проникла сквозь зеркало (русский переводчик создал несравненный тер
мин «Зазеркалье», которого нет в оригинале), а само искусство и декларативно, и на практике стало все больше/избегать зеркального жизнеподобия, устремляясь одновременно к внутренней рефлектирующей двойственности (в конце века зто блестяще использует Андрей Тарковский). Мотив зеркала тесно связан с другим важнейшим мотивом искусства — двойником. Любимейшее детище романтической эпохи, он могучим эхом повторился и получил новую жизнь в российской литературе XIX века — от Гоголя до Достоевского, перейдя затем в век нынешний, заметно коснувшись и живописи. Классический пример соединения «зеркало—двойник» — портрет Мейерхольда работы Головина. Известный сборник литературно-критических статей Ин. Анненского, вышедший в 1906 году, назывался «Книги отражений». Естественно, что Шагал, столь увлеченный (пусть на уровне совершенно интуитивном) познанием изначальных понятий бытия Времени и Пространства, не избежал этого мотива. Зеркало, создающее двойник видимого и, как всякое изображение, вступающее в спор со временем, зеркало, в котором мир может покачнуться или предстать в нежданном, пугающем или смешном ракурсе, оно притягивает и тревожит Шагала.
В1915 году, вскоре после возвращения из Парижа, он пишет один из своих маленьких шедевров, определивший многое в его зрелом искусстве и в известной мере предсказавший движение живописи нашего века. Париж дал импровизациям Шагала хрупкую определенность линий, которые стали точно резонировать цвету. В середине 1910-х годов цветовые пятна на его картинах обретают новую конкретность очертаний, наливаются тревожной мощью, подымаются на новый уровень выразительности, как в «Голгофе». В «Зеркале» происходит соединение не забытых, вновь пронзительно переживаемых витебских впечатлений, парижских уроков и все тех же вечных проблем: сути времени и пространства, соотношения малого и великого; здесь сохраняется и незамутненное детское восприятие радости-горя сквозь призму мифа — возвышенно-ритуальное и наивное одновременно.
В картине все обыденно предметно и вместе фантастично: стол, покрытый белой скатертью, венский стул, зеркало в золоченой раме и отраженная в нем керосиновая лампа на ножке. И крошечная фигурка женщины, спящей, уронив на стол голову. Больше ничего. Но смещение пропорций и покачнувшийся в зеркале мир создают ощущение отчетливого сна, где вещи обретают и новую красоту, и неведомый — вещий и грозный — смысл.
В этом сопоставлении несопоставимого нет стереоскопического иллюзорного натурализма овеществленных подсознательных образов, которые вскоре возникнут у сюрреалистов: предметы Шагала скорее сказочны, мнимы, их тревога обращена к высотам, а не к подвалам чувств и мыслей.
Все в картине создано из вещества искусства — не подделка под вещи, не иллюзия их, но их отточенные одушевленные пластические формулы. Их сочетание не воспринимается противоестественным, как случается в сновидениях, которые сознание не отвергает, но, наоборот, находит в них утерянные в обыденном времени гармонические связи. Скромная ке
росиновая лампа на столе самой просторной в доме комнаты на белой скатерти преображается. Ее подставка «под ^мпир» (как в детском сне или воспоминании) оборачивается монументальной колонной; и сон, и зеркало во сне увеличивают эту удивительную лампу, вознося ее горе, подобно светилу. Возникает «тройственность» предмета: обычная, с претензией на местечковую роскошь «десятилинейная» керосиновая лампа, освещающая заурядную комнату, «светильник», «озаряющий чертог», и. наконец, некий космический источник света, борющийся с тьмой вязкого сна и побеждающий ее. Вечность стучится в повседневность.
В почти детски наивной символике картины заложена мощная генетическая программа, странная связь с той лампой-солнцем, что вспыхивает перед наступлением векового мрака в «Гернике» Пикассо. Тем более что и здесь, у Шагала, лампа покачнулась в пошатнувшемся зеркале погруженного в сон (или пробуждающегося?) сознания.
У Пикассо — трагический взрыв и тьма вслед за ним, у Шагала же — медлительное затуманивание, «исход» света. Это достигается тем, что сама лампа и ее свет тускнеют, «испепеляются» в своей лиловато-сиреневой, с тускло изумрудными проблесками гамме, уступая в яркости бесцеремонной позолоте зеркала. К тому же именно все зто — лампа, свет — не подлинно, а лишь отражено в грустной глубине зеркального стекла, так контрастирующего своей сумеречной значительностью с вульгарным блеском оправы.
Впрочем, вульгарность зта не переходит в «материал искусства», оставаясь лишь знаком реальности в кажущемся мире. «Сон разума» здесь не «порождает чудовищ». Напротив, если простые предметы и способны испугать или встревожить зрителя, то своею «проясненностью», большей, чем в яви, самостью, избыточной ассоциативностью. И мир становится «заманчивей и шире», масштабнее, человек ощущает себя во Вселенной, которой обернулась комната.
Живописное колдовство Шагала решает здесь многое. Доступная лишь избранникам колоризма масштаба Сезанна гармония лилового, зеленого и желтого столь же уравновешена в цвете, сколь неспокойна эмоционально. Концентрические «волны» лилового и зеленого света, беззвучными взрывами вылетающие из лампы, будто раскачивают и ее самое, и зеркало, и стены, и пронзительно желтый прямоугольник в левом верхнем углу картины. Все движется, словно маятник, в ритме вместе убаюкивающем (эффект сна) и катастрофически убыстряющемся (эффект рушащегося пространства). Но все здесь остается открытым спящему освобожденному сознанию: вещи оживают, делаются больше, красивее — как в детском сне. И как в детском сне. антропоморфными. Человек во сне часто чувствует себя маленьким, пространственные отношения и пропорции вещей видятся парадоксально измененными. Это вообще свойственно Шагалу: для него больше то, что в этот момент важнее.
Гуашь «Часы» (ГТГ), написанная годом раньше «Зеркала», прямой его аналог. Там есть и маленькая фигурка на стуле, только вместо рамы зеркала — футляр часов, и качается не Вселенная, но непосредственно сам маятник, будто надвигаясь на человека, как в страшном рассказе Эдгара По.
В «Зеркале» же движение маятника «вживлено» в пластическую ткань картины, время невидимо, но осязаемо, что усиливает философский смысл и художественный эффект картины. Маятник времени раскачивает оцепенелость сна, делает его текучим, неизбывно тревожным и — как ни парадоксально — по-своему умиротворенным.
Ибо большие тревожные вещи, обступающие крохотную женскую фигурку, написаны с нежностью и тончайшим ощущением родства друг к другу и к миру. Но они же, неся в себе мучительные предчувствия грядущих катастроф, словно бы подготавливают человека к постижению смутного еще языка символов наступающего века (не по календарю же он наступает): меркнущего света, бесконечных отражений — царства рефлексии, невозможности ухода человека от взгляда в собственную душу.
В каждой картине Шагала сохраняется больше, чем у других мастеров, от картин предыдущих, и оттого тоже теряется ощущение Времени, сокровенные тайны которого знал художник. Власть художника над его течением ощутима в «одновременности» грядущего и былого. Маятник не только лет, но и десятилетий раскачивается в его жизни и тем более в его искусстве то вперед, то назад. Без этого вечного возвращения он просто не был бы самим собою — более, чем кто-нибудь, он «родом из детства» (А. де Сент-Экзюпери), из своего маленького Витебска, не только родины, но безысходной среды душевного обитания, растянувшейся от младенчества до самой смерти.
Образ времени, явленный Шагалом еще в первые парижские годы подобным звездному небу часовым циферблатом («Hommage a Apollinaire»), затем в едва угадываемом силуэте песочных часов («Я и деревня»), эхом — в зеркалах середины 1900-х годов, концентрируется затем в постоянный образ, персонаж, «бродячий сюжет» в пространстве его искусства, постоянно напоминающий не только о своем значении, но и о власти над собой художника. Время можно остановить, замедлить, растянуть, заставить мчаться.
Множество часов разбросано по картинам Шагала разных времен. Летучие часы, отчаянно взмахивающие крыльями-руками, остановившиеся, живые и мертвые, словно напоминающие, перефразируя латинское изречение: «Помни о времени»
В «Зеркале» нет часов, но их присутствие ощутимо именно благодаря ритму невидимого маятника и еще потому, что знакомый с искусством Шагала зритель «узнает» время в его картинах. Более всего в тех картинах, где смятенно вздрагивают маятники летящих под небесами часов, где время становится материальным и обратимым3.
Шагал соприкасается с сюрреализмом (точнее, предугадывает его). Так кажется, но соприкосновение это чисто внешнее. Конечно, любое серьезное искусство XX века устремлено в бессознательное, конечно, системы связей видимого и невидимого занимали Шагала, но его мир так же далек от мира Дали или Магритта, как спонтанная поэзия детских речей, ликующие озарения фантазии, радостное освобождение усталого сознания — оттяжкой исповеди больного в кабинете психоаналитика. И Дали,
как Шагал, постоянно писал часы. В «Жонглере» Шагала 1943 года есть даже часы, «перекинутые через руку», часы с опрокинутым циферблатом и подобные маятнику. Здесь очевидное сближение с известным мотивом Дали, но перенесенное в цирк, в сферу особой условности, в запутанный мир метафор, игры.
Шагал соприкасался со всем веером художественных течений, но страсть и боль дарили его почти игровым сюжетам отличный от времени смысл. «Часы с синим крылом» (1949), написанные после смерти Беллы, его первой жены, остановлены, затаив навсегда в глубине часового футляра, словно в глубине самого Времени, память и печаль.
Естественно, что в начале пути, как и большинство художников, особенно в России, Шагал был знаком и с символизмом, во всяком случае с некоторыми его мотивами. Но на пути художника — и ощутимая (пусть короткая) вспышка того, что стали со временем называть «метафизическим искусством». Работы Де Кирико — завсегдатая Монпарнаса и приятеля Аполлинера — были, вероятно, известны Шагалу еще до 1911 года, когда тот выставлялся в Осеннем салоне. Стылый, мертвенный и холодно материальный мир молодого итальянца, его ассоциативные ряды, построенные на странном позтически-рациональном соединении почти натуралистических форм, очевидно, не прошли мимо внимания Шагала. Во всяком случае «Окно на даче. Заолшье близ Витебска» (1915) свидетельствует о запоздалой реализации парижских впечатлений от живописи Де Кирико.
Уже тогда, до войны, в картинах Шагала, как в тугой генетической спирали, «свернуто» многое из близящегося искусства Новейшего времени. Его обращенность в себя, его нестабильность и ностальгия по простым вещам, по детским снам — пусть даже страшным; его способность предчувствовать Гернику и Хиросиму, сохраняя при этом веру в спасительную человечность. Его искусство принимает власть и значение бессознательного и одухотворяет его высокой и чистой поэзией — едва ли не единственный случай в ту эпоху.
Если же вернуться к формированию устойчивых художественных тенденций, имеющих в истории искусств устоявшуюся классификацию, то крупнейшей из них, связанной именно с эмоцией, трагическим ощущением жизни, был, разумеется, экспрессионизм.
Еще с 1905 года подобные французским опыты начинаются и в Германии — параллели между фовизмом и экспрессионизмом давно стали общим местом в искусствознании, порой эти явления отождествляются. Известно, что по отношению к фовизму бытует понятие «французский экспрессионизм» (столь авторитетный исследователь, как Герберт Рид, вообще полагает фовистов экспрессионистами), совместные выставки представителей обеих школ устраивались неоднократно, публиковались исследования и той и другой как единого целого.
Но если рассматривать глубинную, психологическую общность художественных явлений, небесполезно обратить внимание на то, что отдельные качества или сумма качеств, позднее образовавших экспрессионизм как течение (немецкое или транснациональное), существовали и в искусстве отдельных мастеров, и даже в некоторых произведениях художников, никак к экспрессионизму не относящихся. Речь в данном случае идет именно об упомянутой общей устремленности искусства к реализации через эмоциональную (порой весьма схожую с фовист-ской) манеру изображения, не просто к пылкому декоративиз-му, но к выражению психологической напряженности, тревоги и боли.
В сущности, художественная их близость несомненна, равно как и общность корней — Ван Гог, Энсор, Ходлер, Мунк. Однако «Мост» образовался осенью 1905 года, когда в достаточно провинциальном Дрездене о выставке фовистов просто еще не знали.
Да и различия весьма принципиальны.
Близкие к фовистам колористическим напряжением, резкостью и энергией форм, свободой предельно выразительного мазка, умением преобразовывать реальность во имя острой выразительности, экспрессионисты внесли в свои произведения трагизм и содержательность, психологическую глубину — то, что в принципе было фовистам чуждо. Фовизм воспринял от Ван Гога и Мунка только и исключительно живописную свободу, открытость цвета, эмоциональность мазка. Несомненно: оба течения при всем их абсолютном содержательном несходстве развивают выразительность, все более отказываясь от изобразительности, точнее, от отражения реальности в традиционном понимании.
При этом цели различны: фовисты привержены мощному декоративному эффекту, устремленному к свободной, радостной гармонии; экспрессионисты отчасти близкими средствами достигают реализации страсти, страдания, деформация материи становится синонимом душевного спазма, в какой-то мере продолжая тенденцию Ван Гога и Мунка.
Вполне естественно видеть сгущение и детонатор явления прежде всего в искусстве Ван Гога. Именно он и в своей нравственной программе, и в художественной практике соединил гуманистический максимализм, возведенное в религию сострадание с искусством, обращенным не столько к видимому, сколько к потаенному.
Подчинение объективно воспринимаемой реальности внутреннему переживанию художника, содрогающаяся в унисон душевному страданию мертвая материя — принципиальный ход искусства Новейшего времени, подчиненного не объективному
созерцанию, но глубоко личному переживанию. Рядом с Ван Гогом виднейшее место в сознании художников Новейшего времени занимает фигура Эдварда Мунка, чей «Крик» (1893, Музей Мунка, Осло) можно полагать «протоманифестом экспрессионизма», вне зависимости от того, насколько непосредственно могла эта картина оказать влияние на немецких художников из «Синего всадника» или «Моста» (вероятно, более поздние картины Мунка были известны шире, поскольку он много работал в Германии). Вообще искать конкретные соприкосновения в начале XX века вряд ли имеет смысл. Просто художники существовали в общем иконографическом пространстве, картины широко репродуцировались, выставки мигрировали, идеи, в том числе и идеи пластические, что называется, «носились в воздухе».
Если фовизм и экспрессионизм близки выраженным импровизационным началом, эмоциональностью, то в содержательном смысле они почти антагонистичны. Искусство XX века, кроме двух полярных эмоционально-пластических векторов (эмоциональное — рациональное), имеет столь же полярные содержательные устремления — от настойчивого гедонизма до воспаленной, болезненной социальности, глубокого, а с точки зрения традиционного восприятия и извращенного психологизма. Эти последние качества возникают то как частные события в искусстве отдельных мастеров (Пикассо, Сутин, Шагал, Кандинский), то как имманентные качества направлений (сюрреализм).
Фовизм несравненно более локален, фовизм не только тенденция, но группа, цепь событий, история, а более всего — сумма живописных приемов, рожденная стремлением к художественной свободе, ставшая основой бурного развития несхожих талантов.
Парадокс заключается в том, что экспрессионизм, оставаясь вполне национальной школой, был универсальной тенденцией, коснувшейся всего XX века, причем и тех художников, которые никак не соприкасались с его классическими явлениями. Достаточно вспомнить «Смерть» Шагала (1908, НМСИ ЦП), творчество Сутина, ранние вещи Гончаровой, иные портреты Модильяни да и некоторые ранние работы Пикассо — во всем этом есть та болезненная одухотворенность, то умение изображать лишь способное выразить, умение обратить движение души и мысли в движение красочной материи.
При этом стремление к неизобразительности или, во всяком случае, столь характерному для времени дистанцированию искусства от материальной реальности присутствует если не в самой практике экспрессионизма, то в его интерпретации и восприятии. «Художественное произведение как самостоятельный организм равноценно природе и в самой своей глубочайшей
внутренней сущности стоит вне связи с ней, поскольку под природой разумеют видимую поверхность вещей»4,— писал Вильгельм Воррингер в известной книге «Абстракция и вчувствова-ние», в которой справедливо видят вербализацию многих идей экспрессионизма.
При несомненном своем всеобщем значении экспрессионизм, в классическом своем варианте,— национальная школа.
Немецкая национальная школа имела устойчивое стремление к социальной содержательности. В Германии даже художники импрессионистического толка непременно сохраняли сюжети-ку и даже традиционный психологизм. Так, в картинах Макса Либермана соединялась поэтичность импрессионизма с обязательной обстоятельностью. В Германии импрессионистические приемы нередко сочетались с социальной темой, жанровыми сценками, острыми характерами, а то и религиозными сюжетами, как у Фрица фон Уде.
Существенно и то, что в корневой системе немецкого изобразительного искусства изысканная до болезненности эстетизация некрасивого, уродливого или того, что кажется таковым, существовала издревле. При всей тривиальности суждение о «готичности» немецкого экспрессионизма вполне справедливо. Нет сомнения, что (сознательно или бессознательно) немецкий экспрессионизм исходил и из традиций Лукаса Кранаха, Грюневальда, даже Дюрера, этих мастеров, умевших одухотворить не отвечавшую привычным канонам форму до уровня экстатической выразительности и сделать ее прекрасной именно в силу почти агрессивной духовности.
Не изведавшие счастливого периода освобождения, на котором выросло поколение фовистов, немецкие художники, воспитанные на выспренной символике назарейцев, скучной обстоятельности бидермайера и погруженные в тягостную жизнь предвоенной Германии, сделали фовистские пластические открытия принципиально иным оружием.
Как и фовизм, экспрессионизм сохранил связи с предметным миром, но использует этот мир не как основу для самовыражения и реализации колористических гармонических или гротескно-праздничных утопий. Экспрессионизм устремлен более всего внутрь человеческого сознания. Для выражения глубинных эмоций он пользуется не отвлеченными пластическими структурами, как кубизм, но вольно изменяемыми антропоморфными образами, скорее даже просто сохраняя жизнеподобные человеческие фигуры и лица. Однако, используя в качестве исходного приема вовсе не новую в изобразительном искусстве традицию деформации видимого в человеке во имя выражения внутреннего (от романской скульптуры к Эль Греко, Ван Гогу, Мунку), экспрессионисты ставят эмоцию над видимым подобием.
«Психическое обладает тем же родом реальности, что и физическое, и нам только недостает специфического чувства для его восприятия»,— заметил Георг Марцинский в своем известном этюде «Метод экспрессионизма в живописи»5. Художники-экспрессионисты решили эту проблему, изображая внешнее лишь постольку, поскольку оно выражает скрытое. Так страдание реализуется в спазм формы, судороги линий, нарочитый цветовой диссонанс.
Экспрессионизм реализует в искусстве принципиально невозможные да и неинтересные для фовизма чувства: страх, боль, отчаяние. Брутальные мотивы Руо или холодная рациональность Дерена — вне поэтики фовизма и вообще появились уже в постфовистский период. Для экспрессионизма же трагизм естествен.
Немецкий экспрессионизм в отличие от фовизма и кубизма выходит за пределы только пластических искусств. Сами художники экспрессионистического толка или прошедшие через экспрессионизм часто стремились к вербализации своих суждений: Кандинский, Нольде, Барлах, Мунк, Ходлер, что восходит к огромному исповедальному наследию Ван Гога — его письмам.
«Художественное пространство» экспрессионизма развивалось много шире непосредственно живописи, вбирая в себя в определенном смысле и литературу (журналы «Штурм» и «Акцион», в какой-то мере творчество Кафки), и кино («Кабинет докто-
Л. Кирхнер. Полуобнаженная женщина Калигари», реж. Р. Вине,
в шляпе. 1911 1 1 г
1919), и музыку — в частности, «Новая венская школа» во главе с Шёнбергом (монодрама «Ожидание», 1909).
Художественные объединения «Мост» в Дрездене (1905) и «Синий всадник» в Мюнхене (1911) образуются в Германии практически в те же годы, когда во Франции возникает и развивается фовизм. Они и становятся основой мощного движения экспрессионизма в живописи. Впрочем, не следует забывать, что деятельность первых немецких «сецессионов»6 тоже связана с тем, что можно было бы назвать «протоэкспрессионистиче-ской» тенденцией: первый «Сецессион» (в Мюнхене) был сфор-
Л Кирхнер. Красная башня в Халле. 1915
мировая в 1892 году как акция в поддержку Мунка, несколько картин которого были сняты с его персональной выставки решением «Союза берлинских художников».
Центральные персонажи «Моста» — Л. Кирхнер, Ф. Блейль, Э. Хеккель, К. Шмидт-Ротлуфф. Другие участники — в том числе и весьма именитые (Нольде, Ван Донген, Куно Амнет и др.) — не были постоянными и последовательными членами объединения.
«Мост»7. Юные и романтически настроенные художники, увлеченные, как они выражались, естественными событиями, ценили немецкое средневековье (особенно Л. Кранаха Старшего),
Л. Кирхнер. Пять женщин на улице. 1913
интересовались примитивом и непрофессиональным искусством. Они организовали нечто вроде коммуны, делились заработком, красками и холстом.
Их первая выставка была устроена в 1906 году в здании завода осветительной арматуры, что, вероятно, отвечало их урбанистическим вкусам.
Но, по выражению Франца Марка, «Дрезден был слишком чопорен для восприятия его („Моста") идей»8. Вторая выставка группы открылась в 1910 году в Берлинском Сецессионе, третья — в Берлине, Мюнхене и Гамбурге в 1912 году. Более активное развитие движение получило с образованием в 1910 году «Нового сецессиона», а затем и группы «Синий всадник».
Главные участники объединения «Синий всадник» — Василий Кандинский и Франц Марк («„Синий всадник" — это мы двое»,— скажет много лет спустя Кандинский), в большой мере и Август Макке. С «Синим всадником» были связаны также Клее, Явленский, Веревкина, Мюнтер, Кампендонк, Фейнингер, Кубин И др.
Общность идей и близость устремлений, взаимопонимание страстных художников и тонких интеллектуалов — это достаточно далеко от пылкого единства веселых и совсем еще молодых рыцарей фовизма. Кандинский, Марк, Клее — они сродни мятущимся и замкнутым персонажам Манна и Гессе, их искания скрыты, тончайшим образом осмыслены в текстах и беседах, отточены чтением и длительными размышлениями. Без них бесплоден разговор об экспрессионизме, равно как и говорить о них лишь внутри «экспрессионистического пространства» — ошибка.
В отличие от «Моста», одинокого в чопорном Дрездене, «Синий всадник» естестве иным образом расцветал в Мюнхене — возможно, самом поэтичном и «интеллектуальном» городе Германии. Недаром именно здесь произошло «мурнауское чудо» Кандинского. И здесь в ту же пору (правда, тридцать с лишним лет спустя) в городке Пфеферинг близ Вальдсхута «по Гармиш-
Л. Кирхнер. Две женщины на улице. 1914
Партенкирхенской дороге», «в часе езды от Мюнхена» поселил своего героя Адриана Леверкюна Томас Манн («Доктор Фаустус»).
Это соседство символично и многозначительно. Реальная дружеская и творческая связь Кандинского и Шёнберга (во многом — прообраза Леверкюна), значение Мурнау и юга Германии для немецкой культуры, переворот в живописи, совершенный там Кандинским, сплетение эпох, имен, реальных и воображенных. Немаловажно, что экспрессионизм вообще и «Синий всадник» в частности в значительной степени были укоренены в литературе и слове (совершенно немые
лимая ситуация для фовизма). Отокар Кубин, друг Кафки, несомненно близкий великому писателю пылким, болезненным воображением, создал целую графическую вселенную, проиллюстрировав Тофмана, Достоевского, Эдгара По, Стриндберга и собственные книги.
Мюнхен — столица Баварии. Разумеется, весьма масштабные события происходили в Берлине (выставка Мунка (1892), знаменитые сецессионы), но репутация Мюнхена — особого свойства. Опера, концертные залы, Пинакотека, музеи, Академия художеств с прославленной мастерской Антона Ашбе, галереи. Здесь оберегался талант Вагнера, здесь с ошеломляющим успехом гастролировал Московский художественный театр и, говорят как нигде читали русскую классику, особенно Достоевского.
С Мюнхеном связаны имена Кандинского (здесь возглавлял он объединение «Фаланга», а позднее и «Синий всадник»), Клее, Марка, Макке, Явленского, Веревкиной, Грабаря, Кардовского, здесь бывали Бурлюки, Дягилев, Борисов-Мусатов. Примечательно, что Робер Делоне именно на первой выставке «Синего всадника» показал свою программную картину «Эйфелева башня». В мюнхенских галереях экспонировались Руо, Брак, Дерен, персональная выставка Пикассо открылась в 1913 году в галерее Танхаузера (выставка Матисса годом позже состоялась в Берлине).
Ф. Марк. Красная косуля II. 1912
Париж был открыт внешнему миру, но оставался самодостаточным, все для него важное происходило в нем самом. Мюнхенские художники не были замкнуты в рафинированной атмосфере прекрасного и старого города. «Сумрачный германский гений» (достаточно вспомнить Жана Поля, Гете, Гейне) всегда резонировал французской и мировой культуре. Мюнхенские художники-интеллектуалы, укорененные в национальной традиции, не были ее покорными данниками. Они знали Париж и ценили его кипучую атмосферу и, конечно, куда чаще говорили по-французски, чем их французские собратья по-немецки.
Атмосфера интеллектуальной смелости помогала и деятельности Гуго фон Чуди, ставшего в конце 1900-х годов директором художественных собраний Мюнхена. Он добился приобретения для Пинакотеки картин великих французов, его тщаниями был организован фонд пожертвований, с помощью которого в собрании появились работы Мане, Сезанна, Ван Гога, Тулуз-Лотрека, Ренуара (достаточно упомянуть «Подсолнухи» Ван Гога,
поступившие в коллекцию в 1912 году), а позднее и современных немецких мастеров, в том числе и самих экспрессионистов. Новая коллекция, ее обсуждение, споры, в свою очередь, давали интеллектуалам баварской столицы справедливое ощущение причастности к Новейшей культуре.
Группа фовистов реально существовала не более трех лет, столько же длилась и художественная стилистическая близость ее участников. «Мост» и «Синий всадник» существовали ненамного дольше (соответственно 8 лет и 3 года), но внутреннее единство участников этих групп, эмоциональный пафос и пластические принципы стали основой могучего и долговечного транснационального художественного движения.
Внутри эпохи классического экспрессионизма остались Август Макке, убитый в Шампани в сентябре 1914 года, и Франц Марк, павший близ Вердена 4 марта 1916 года. Они погибли слишком молодыми, чтобы войти в иное время иными мастерами.
Для понимания сущности классического экспрессионизма особенно показательно искусство Марка.
Как и Кандинский, Марк — интеллектуал. Но — поклонник великих немецких романтиков от Новалиса до Фридриха и Рунге — интеллектуал более эмоционального склада, к тому же тя
Ф. Марк. Мандрилл. 1913
Ф. Марк. Три кошки. 1913
готеющий к религиозной философии, мечтавший в отрочестве о теософском фа культете. Он и менее склонен к возвышенной отвлеченной теории, хотя от-чично владел пером и его суждения об искусстве, написанные остро и живо, до сих пор читаются с интересом. Влюбленность в импрессионизм, увлечение Эдуардом Мане, затем пуантилистами. В более поздних его работах — обычные для начинающего отголоски и кубизма, и итальянского футуризма. Однако ретроспективы Гогена и Ван Гога, затем знакомство с Макке (1910), а год спустя и с Кандинским окончательно укрепили его в желании выражать суть явлений, а не изображать их внешнее подобие.
Как известно, приближе
ние к беспредметным пластическим структурам происходит параллельно у разных мастеров и в разных течениях — несхожими путями искусство движется к обретению единой, максимально емкой формулы, свободной от жизнеподобия. Именно на рубеже 1900—1910-х годов (как и Кандинский) в значительной мере под влиянием Августа Макке Марк подходит к своим картинам, где видимая реальность растворяется в образах, скорее выража ющих эмоции, нежели изображающих зримую действительность: «Мы сегодня ищем скрытого в природе за пеленой видимости»9.
Увлеченно ища все новое, он выставлялся даже вместе с «бубновыми валетами». Но, надо полагать, именно рядом с Кандинским он чувствовал себя более всего самим собою. Вслед за ним, \же после своих знаменитых картин 1913 года (которые можно назвать анималистическими чисто формально, поскольку животные на них — колористические метафоры страстей и страданий), Марк пишет абстрактные полотна — «Праздник зверей» (1913, Художественный музей, Базель), «Тироль» (1913—1914), «Сражающиеся формы» (1914, обе — Государственная галерея современного искусства, Мюнхен). Две последние картины — возможно, наиболее адекватное живописное выражение эсхатологического
А. Макке. Дама в зеленом жакете. 1913
предчувствия и своего рода катарсиса. Однако за формальными поисками — серьезное знание той системы форм, от которой он абстрагируется: анатомии животных. Он постигает ее настолько, что способен достичь ведущей к полной художественной свободе цели — созданию существ, миру неведомых, собственного фантастического бестиария
Август Макке, близкий друг и единомышленник Марка, являл собою художника, более, чем его соратники по «Синему всаднику», склонного к светлому и ироничному восприятию мира. В его мощных по цвету, острых по рисунку картинах вполне экспрессионистический драматизм естественным образом сочетался с грацией, заставляющей вспомнить Дега или даже Гиса,— «Дама в зеленом жакете» (1913, Музей Вальраф-Рихард, Кёльн), «Девочки среди деревьев» (1914, Государственная галерея современно
<Р. Марк. Тироль. 1913—1914
го искусства, Мюнхен). Он, словно Гейне, порой видел Германию сквозь «французскую оптику», неизменно добавляя в свои картины долю саркастической горечи.
После гибели Марка и Макке Кандинский остается почти в одиночестве. Пространство экспрессионизма, которое он и раньше вряд ли воспринимал целиком своим, все более делается для него тесным.
История обеих групп заканчивается с началом Первой мировой войны, оставляя истори
к\ труднорешаемую проблему: рассматривать творческие судьбы '•чаг гников объединений или стараться проследить развитие самой тенденции.
Марка и Макке нет в живых, Кандинский уезжает в Россию и находится на перепутье перед прорывом в решительно беспредметный мир. Явленский уезжает в Швейцарию и существует вне активного общения с собратьями по ремеслу.
Явленский — фигура, быть может, и не соизмеримая с Кандинским с точки зрения участия в радикальных переменах на
А. Макке. Девочки среди деревьев. 1914
А. Макке. Собор во Фрибурге. 1914
пути развития искусства, но в смысле художественного качества и универсализма пластического языка Явленский, несомненно, рядом (или почти рядом) с ним. Как и Кандинский, он учился в Мюнхене у Ашбе, имея, однако, уже солидную профессиональную подготовку, полученную в России. Его пристрастия более, чем у Кандинского, ориентированы на Францию, воздействия Ван Гога и Гогена очевидны и действенны, он выставляется в знаменитом «фовистском» Осеннем салоне, предполагает работать в мастерской Матисса. Приближение к беспредметности (на рубеже 1900—1910-х го
дов его картины и мотивами, и манерой кажутся совершенно близкими м’ рнауским опытам Кандинского) останавливается едва ли не на последней грани. Он находит собственный путь, лежащий на сплетении экспрессионизма, кубизма, неуловимо-туманного изящества Парижской школы и собственной яростной и настойчивой сосредоточенности, в чем сказались, очевидно, некие душевные устремления, приведшие его позднее и к религиозной теме.
Экспрессионизм — и явление, и понятие широкое и универсальное. Весьма трудно даже провести границу между активно преображенной во имя выразительности формой и типично экспрессионистической изобразительной системой.
Но типично экспрессионистическая, детерминированная временем и персонажами система продолжала развиваться адептами направления в Германии и Австрии. Вторая волна экспрессионизма подымалась не на подспудном трагизме и тягостных предчувствиях, а непосредственно на чудовищных впечатлениях мировой войны и послевоенной разрухи и нищеты в Германии. Произведения Отто Дикса и Георга Гроса (учившихся в Дрездене в пору расцвета деятельности «Моста») вывели экспрессионистическую традицию на несколько спрямленную дорогу социальной трагедии, не поступившись, впрочем, пластической выразительностью, сохранив профессиональную бескомпромиссность своих предшественников.
Куда сложнее проследить не столько даже воздействие, сколько присутствие экспрессионистического видения в искусстве
1900-х и 1910-х годов за пределами немецких художественных объединений, поскольку оно столь же универсально и несомненно, сколь и сложно уловимо. Очевидно, что сам XX век охотно видит себя в образах повышенно динамичных, исполненных энергии и пыла, даже если за этим не стоит глубокое душевное переживание. Примером такого рода может быть известная картина американца Джорджа Белло’ за «Ставьте у Шарки!» (1907—1909, Музей искусств, Кливленд), изображающая боксеров на ринге.
Однако некоторые художники первой величины вполне входят в экспрессионистическую концепцию, ни судьбой, ни декларациями вовсе к ней не принадлежа. Пример более
всего острый и несомненный — Хаим Сутин, чья болезненная страстность, потрясающая энергия мазка, нервическая и в высшей степени выразительная деформация натуры при последовательном сохранении предметности кажутся прямым развитием экспрессионизма. Именно в общем, не столько в историческом, сколько в эстетическом смысле.
А. Явленский. Женщина с пионами. 1909
Дж. Беллоуз. ‘Ставьте у Шарки!». 1907—1909
X. Сутин. Автопортрет
СУТИН. «Как-то утром в сумрачном свете Иль-де-Франса я увидел перед „Похоронами в Орнане" (картина Курбе в Лувре — М. Г.] незнакомого молодого человека с низким лбом и блуждающим взглядом. Он крался вдоль стен. Казалось, он терзался страхом. Когда к нему приближались, он отскакивал в сторону. На картины мастеров прошлого он смотрел, как верующий на изображения святых». Так вспоминает о первой встрече с Сутином французский критик Вольдемар Жорж. «Он шагал медленно, с согбенной спиной. Он прижимался к стенам, будто боялся тени или призрака. Детская улыбка временами освещала его лицо. Глаза его также смеялись. У него были руки виртуоза с сильно вытянутыми пальцами. Он захлопывал дверь перед непрошеными гостями, но был способен и на ласковую приветливость. За заносчивостью и вспыльчивостью пряталась натура скрытная и застенчивая»10.
Тогда, в первые месяцы приезда в Париж (лето и осень 1913 года)11, выжить — уже было подвигом.
«Он знал только голод, побои, унижение, гнетущую скученность своей среды, которой он был уже чужд, против которой восстал, но стигматы которой никогда не стерлись»12 — в этой несколько патетической фразе вполне французское представление о детстве Сутина. Впрочем, от реальности оно не далеко: в нищей семье Сутиных было одиннадцать детей, мальчиком Хаим стал подмастерьем у портного, родители хотели видеть его священнослужителем, на худой конец — сапожником. Желания писать картины никто не понимал. Более того, когда он попробовал нарисовать раввина, сын последнего,
мясник, избил Хаима за богохульство — иудаизм исключает изображение человека. Но юноша был уверен в своем выборе, недаром любил он рассказывать, что помнил отблески солнца, восхищавшие его младенцем раньше, чем он научился говорить... Он уехал в Минск, тогда решительно провинциальный, захолустный, зарабатывал на жизнь, ретушируя фотографии, и посещал курсы рисования вместе со своим другом Михаилом Ки-коиным, будущим товарищем по художественной школе в Вильне, а затем и по парижской эмиграции. После двух лет занятий ему было проще приехать в Париж, нежели в Петербург или Москву, — как Шагал, как Альтман, он был скован жестокими законами, ограничивающими права евреев в тогдашней России.
Девятнадцати лет, нищий, не знающий языка, Хаим Сутин с одним лишь мешком появляется в мастерской Кикоина, в знаменитом «Улье», где жили Шагал, Цадкин, Архипенко, Леже, Делоне, Сандрар. Там же живет и Павел Кремень, другой земляк и приятель Сутина. Липшиц знакомит его с Модильяни, их соединяет почти братская привязанность. Странная дружба в гла
зах обывателей: денди, красавец, шармёр «Моди» и увалень из нищей российской провинции. Общее пристрастие к вину — лишь обыденная слабость, забава праздных зевак; их роднит страсть к искусству, к ценностям вечным, к поэзии и старой, великой, и новой, которую они надеются открыть, роднит и ощущение жизни как боли, умение сострадать и ощущение это реализовывать в искусстве.
В Париже есть все, чтобы ошеломить юного провинциала: масштабные ретроспективы великих преобразователей живописи, несчетное число выставок, кипучая жизнь артистических кафе, ставших настоящими клубами новейшего искусства, единственный пока музей современной живописи в Люксембургском дворце13, да и сам великолепный Лувр, опытные галеристы-маршаны, способные на риск для открытия нового таланта, при-
выкшая к новациям и открытая им критика и публика.
Сутин более всего времени проводит в Лувре, где и наблюдал за ним Вольдемар Жорж Его притягивают Курбе, Шарден, разумеется, Энгр. Несомненно, привлекал его и Ван Гог, чье влияние очевидно. Однако парадокс Сутина в том, что перед картинами его — редкий случай — вспоминаются не предшественники, а последовате-
ли — БЗКОН, КуНИНГ. X. Сутин. Рыбы и помидоры. 1926—1927
Масштаб искусства Сутина
никем не оспаривается, но в каноническую историю искусства XX века он едва ли вписывается. Для авангардного или модернистского контекста он слишком молчалив и своеобычен. Не став, как Модильяни, трагическим героем монпарнасских легенд начала века, не упрочив своей славы ранней и романтической кончиной, уехав из России слишком юным, чтобы делиться с ней потом своей славой, он и во Франции остался пришельцем. Рассказывают, что он не умел говорить хорошо ни на одном языке, общал ся и сходился с людьми трудно. Читал он, однако, без затруднений, современники терялись, узнавая, что приехавший из неведомого белорусского местечка, не получивший образования оборванец, едва изъяснявшийся по-французски, читал и отлично знал Фрейда, Бальзака, с восторгом слушал своего друга Модильяни, декламировавшего ему Данте.
Сколько бы ни смотрел, ни читал Сутин, пишет он так, словно до него живописи не было вовсе, с каким-то яростным примитивным увлечением первооткрывателя. Словно впервые он видит тощие селедки, скрюченные огурцы — зту пищу бедняков, и даже вилки чудятся истощенными, сжатыми голодным спазмом. Здесь есть уроки Сезанна — в мощной твердыне холста, тяжкой слитности с ним предметов, Ван Гога — в спазме мертвой материи, — уроки, но не заимствования. Он, зто видно, современник
X. Сутин. Рассыльный. 1928
кубистов, но скорее отдаленный их собеседник, чем увлеченный сторонник. Вероятно, своим могли бы числить вряд ли знавшие его немецкие экспрессионисты с их умением выразить динамикой пятна и мазка душевные движения и боль. Ближе других он, впрочем, к Модильяни, и вовсе не манерой — здесь они. пожалуй, антагонисты. Пульсирующая плеть живописи Сутина, созданные из нее и почти физически ощущаемой печали персонажи решительно не похожи на строгую линеарность картин Модильяни с их филигранной фактурой и продуманной плоскостностью. Но в картинах обоих — словно бы общий аккомпанемент, общая эмоциональная тональности они говорят на разных пластических языках, но примерно об одном и том же, и прежде всего — о горьком страдании. Сутин выплескивает на поверхность холста весь свой неистовый темперамент, боль и восторг перед зримым и пережитым, Модильяни отливает свои впечатления в отточенную, сдержанную, покорную выработанному стилю систему.
Сутин обладает поразительной художественной отвагой, его завораживают первичные и грозные явления бытия: кажется странным, что застенчивый, молчаливый, неловкий человек, о деликатности которого вспоминали многие, завороженно наблюдал за кровавыми поединками профессиональных боксеров. И потом, зти ободранные туши, зти образы бойни, не остывших еще кусков плоти. Тут и страсть к изживанию детских воспоминаний (ритуальный «забой» и потрошение домашней птицы), и иное — более важное.
Прикосновение к краю, к обрыву жизни способно обогатить человека и художника новым мужеством. Любимый Сутином Рембрандт заглядывал вместе со своим доктором Тюльпом внутрь препарированного трупа.
Вряд ли подобные суждения и намерения Сутин формулировал, но устремленность к жизни чёрез познание ее распада и гибели в его искусстве несомненна. Написанные им отверстые, слезящиеся стынущей кровью туши быков («Бык», 1925, СМ; «Бык», 1925, Музей живописи и скульптуры, Гренобль) чудятся ключом, камертоном видения жизни вообще — таким может быть у него и пейзаж («Красная лестница», ок. 1920, частная коллекция), кажущийся разъятой плотью, сочащейся сокровенными кровавыми соками земли, избитое понятие «плакать кровавыми слезами» ииретает реальный и точный смысл в живописи Сутина. Он пробуждает великое сострадание, в им написанных застреленных, даже уже ощипанных, жалких птицах, трогательно сохраняющих едва уловимое воспоминание о былой грации, зритель невольно и с содроганием видит нечто человеческое, нашу беспомощность, нашу общность со смертным, уязвимым и хрупким миром. Но — поистине, перефразируя Блока, можно сказать, что лишь «познав, где тьма» можно «познать, где свет». Художник, прикоснувшийся к краю боли и страха, иначе видит и радость.
К тому же Сутин развивает упоминавшуюся тенденцию Новейшего искусства, ведущую начало еще от Бодлера: эстетизация всего, не завися щая от предмета, скорее и вопреки ему. Знаменитое стихотворение Бодлера «Падаль» постоянно вспоминается перед холстами Сутина, где дымящиеся, вываленные потроха птиц или быка чудятся драгоценностями Али-Бабы, открывая равную для глаз красоту материи, независимо от того, чему принадлежит она, какое событие стоит за изображением. Но все равно, при всем торжестве чистого, не затененного сюжетом «вещества
(. Сутин. Бык. 1925
X. Сутин. Портрет Мадлен Кастен. Он. 1928
X. Сутин. Мальчик из хора. Ок. 1928
искусства», боль, она остается, ибо и само стремление увидеть прекрасное во всем сродни желанию убедить себя и других, что нет страха, если смотреть и видеть.
Портреты Сутина не имеют, пожалуй, аналогий. Есть возможность сравнить написанные им лица с фотографиями, даже с кинокадрами. Красивая женщина на его портрете оборачивается безобразной («Портрет Мадлен Кастен», 1928, МСИ), но в «безобразии», сначала пугающем, проглядывает такая трогательная незащищенность, такая оригинальность, наконец, столь сокрушительная индивидуальность, которая делает лицо незабываемо значительным, а благородная, торжественная живопись превращает почти сатиру в изысканный мадригал. И даже лица «маленьких людей» — певчих, слуг, поваров, лица смешные, часто действительно малозначительные обретают едва ли не величие в обрамлении этих белых, алых, вибрирующих, как у Гойи, соцветий, где каждый мазок имеет свою архитектонику, свой потаенный смысл.
Он сравнительно быстро нашел признание. Американский коллекционер доктор Альберт Барнс, увидев у друга Модильяни и продавца его картин Зборовского несколько десятков работ Сутина (Зборовский уже отчаялся продать хоть одну), купил их все. Это было начало успеха. «Улей» и убогая мастерская на улице Сите-Фальгтер были забыты, Сутин обрел респектабельность и достаток. Но внутренняя жизнь едва ли при этом изменилась. Та же духовная жажда и боль сжигают художника, и картины его после 1925 года не становятся иными по мироощущению, делаются глубже, артистичнее, острее.
Ощущение жизни как страдания, а живописи как пути к его преодолению навсегда остается доминантой творческого пути Сутина. И вечное
недовольство: он рвал свои картины, когда мог, покупал их у маршанов, чтобы уничтожить, ежели считал неудачными.
В 1929 году вышел в свет небольшой, но изящный и точный этюд о Сутине, написанный Эли Фором. «Думают, Сутин занимается деформацией ради деформации, словно бы из-за некоего извращенного желания удивить, если не возмутить зрителя. Это серьезная ошибка. Он страдает перед своими слишком бесформенными полотнами, в которых его чудесный мир пошатывается, как внутри его самого. <...> Страсть к соразмерности и точности пропорций, к архитектоническому и даже анатомиче
скому равновесию терзает его — вот где следует искать источник этих противоречивых сил, которые безжалостно раздирают его на части»14.
Кроме сказанного Фором, Сутина мучит одиночество, вокруг него немало высоко его ценящих друзей и поклонников, рядом с ним на склоне жизни — Герда Г рот, преданный друг, женщина, прозванная им Гард (охранник, хранитель), но никто не становится свидетелем его работы, никто не видит его перед холстом. Персональные выставки — Париж (1927), Чикаго (1935), Нью-Йорк и Лондон (1937), наконец представительная экспозиция в Пети-Пале на знаменитой выставке «Мастера независимого искусства» в том же 1937 году одновременно со Всемирной выставкой. Сутин занимает прочное и высокое место, но его искусство так же одиноко в художественном мире 1930-х годов, как он сам среди друзей.
Он умер ВО Время ВОЙНЫ X. Сутин. Лестница в Шартре. 1933 (1943), гибель его была мрачна
и зловеща, с оттенком того же жуткого гротеска, что мерещился порой в его картинах: он скончался, когда его, уже смертельно больного, спасая от немцев, тайно перевозили в Париж, спрятанного в траурном катафалке.
Среди немногих, кто провожал Сутина на Монпарнасском кладбище, был Пикассо.
Экспрессионизм стал концентрированной реализацией эмоциональной, содержательной, но уходящей от традиционного жизнеподобия линии в искусстве, о которой уже шла речь, и словно бы вобрал в свое поле все иррациональное, интуитивное,
трагическое, что было в культуре его времени. Ведь даже вполне беспредметные композиции Кандинского 1910-х годов сохранили напряженный биоморфизм и выросли из поисков проведенных в Мурнау лет, где почти традиционный пейзаж был превращен художником сначала в сгусток взрывчатого художественного вещества, отчасти еще связанный с натурой, а затем в столь же эмоциональное абстрактное изображение.
1910-е годы делают еще более зыбкими границы между национальными школами. Явленский и особенно Кандинский, становясь постепенно естественными участниками европейского, германского художественного процесса, продолжают ощущаться в России русскими мастерами. Когда Кандинский выставляется в России или выступает с лекциями, занимается там преподавательской или административной работой, его воспринимают как соотечественника. Понятие иммиграции еще не бытует в художественных кругах, жизнь художника за границей вполне естественна, а для России и вовсе — традиция.
На рубеже 1900-х и 1910-х годов поиски и открытия, как гром, перекатываются от мастера к мастеру, от направления к направлению, повсюду возбуждая умы и воспламеняя воображение. Очевидно лишь одно: повсеместно искусство расстается с видимым традиционным жизнеподобием.
Согласно принятой терминологии, можно было бы предположить, что искусство «расстается с реализмом».
В настоящей книге так вопрос не ставится. Реализм не рассматривается как хронологически детерминированная категория и как категория, определяемая прямым жизнеподобием. Всякое художественно аргументированное стремление к истинному и глубокому пониманию действительности, воплощенное в произведениях высокого художественного качества, не вступает в противоречие с понятием «реализм».
Взгляд внутрь сознания, делающий зримым в странных, небывалых формах «картинный зал души», лишь обогащает наше интуитивное знание.
«Картинный зал души». Пауль Клее. Масштабный талант, сильная индивидуальность в соединении с интеллектуализмом, интеллигентностью и нелюбовью к декларациям и манифестам — сочетание редкое для прославленных мастеров начала века. К тому же — спокойный и дружественный союз фигуративного и абстрактного. И непременный строжайший вкус, взвешенность, вносящие гармонию в поток свободных и пылких напряженных импровизаций.
Таков Пауль Клее. Названными качествами он близок более всего Василию Кандинскому. Но талант его более сдержан и хрупок, чем у русского мастера, искусство — чисто внешне — более камерно, его значительность скорее глубинного, интровертивного свойства.
Не вдаваясь в подробности его биографии, не слишком богатой событиями, следует упомянуть: отец его — учитель музыки (немец из Баварии, поэтичнейшего края Германии), мать, уроженка Швейцарии, окончила консерваторию по классу вокала. В Швейцарии же, неподалеку от Берна, появился на свет и сам художник.
Художественное образование получил он в Мюнхенской академии и у Франца фон Штука.
Если и обязан Клее чем-нибудь Штуку (кроме, возможно, элементарных профессиональных познаний), то скорее всего лишь иронической идиосинкразией к его «атлетическим метафорам». Брутальная мифология Штука, обожаемая бюргерами (где только не висели репродукции картин «Грех» и «Война»!), показала Клее всю опасность прямой дидактики и исчерпанность исканий на традиционном пути жизнеподобия, даже сдобренного грозными аллегориями. В 1901 году он совершил длительную поездку в Италию. И все же, при несомненном восхищении полуденным искусством, круг истинных пристрастий Клее связан не с Ренессансом: Редон, Сезанн, Ван Гог, Энсор и, конечно, в значительной мере Кандинский. Влияния этих мастеров просматриваются, но предметом прямого подражания или тем более пластического цитирования они не стали. Клее несравненно более, чем его великие предшественники, предан плоскости, в то время как даже у Сезанна ощутимо дыхание пространства — пусть даже и впаянного в холст, но тугого, упругого, рвущегося в бесконечность, подобно рождающейся в космосе материи. У Сезанна — мир, пропущенный через сознание и заново творимый на полотне, у Клее — хрупкая отрешенность, даже некая застенчивость наблюдателя, старающегося казаться добросовестным, по-детски непосредственным. Он не играет в детское восприятие. он стремится к нему со страстью искателя забытого, но бесконечно важного праязыка. Он искренне восхищался искусством детей, стараясь постичь непосредственность их интуитивного творчества и даже в какой-то мере использовать их эмоциональные ходы («Танцуй, чудовище, под мою сладкую музыку», 1922, МОГ). Известно, что Клее возвращался к идее «стать почти примитивом».
Одилон Редон дал ему мощный импульс к пониманию глубинных образов подсознания. Но живопись Редона слишком осязаема, «телесна» для Клее. Страшное, лишь смутно угадываемое ощущается куда более грозным и значительным, нежели подробно описанное (известно, как усилился конец гоголевского «Вия», когда автор по настоятельному совету критика лишил чудовищ конкретного, детально изображенного обличья). Интеллектуализм и перенасыщенное сложными ассоциациями сознание художника бегут тягостной материальности редоновских фантомов. Боль, тревога, радость, предчувствия перемещаются в более разреженное, словно бы отчасти и освобожденное от гравитации пространство, где место не объемам, но беспокойной и красноречивой игре угловатых плоскостей, цветовым и пластическим намекам.
Сын музыкантов, Пауль Клее и сам музыкант-меломан; подобно Энгру, он играет на скрипке, он поклонник Баха и Моцарта, и строгая ритми-
зованность его картин и рисунков вносит в пластические структуры Новейшего времени гармоническую ясность «золотого века». Литературные его пристрастия — Гофман и Эдгар По. И надо было обладать духовной исключительностью Клее, чтобы, любя этих писателей, Моцарта и Редона, не впасть в изысканный пассеизм, но создать отважный синтез старой культуры и культуры только еще зарождавшейся.
Клее, в отличие от многих своих коллег-современников, не спешил отрицать сущее и ниспровергать кумиров. В этом смысле он был близок Томасу Манну и Герману Гессе: эти писатели создавали новую культурную вселенную и новую структуру художественного мышления, сохраняя нежность к классике, особенно к немецким романтикам, и передав ее своим героям. В этом смысле гений Клее при всем его космополитизме остается вполне принадлежащим немецкой традиции.
Игры подсознания в картинах Клее сложны и менее всего агрессивны. Сравнения с «Игрой в бисер» (как и вообще сравнение творчества и человеческого образа Клее и Гессе) так настойчиво просятся в текст, что вызывают тревогу своей поверхностной очевидностью. Впрочем, порой и очевидное оказывается вполне справедливым. Хотя связи текстов Гессе просматриваются лишь с некоторыми (хотя и очень важными) аспектами искусства Клее, его способом мышления, его литературными ассоциациями, сам Гессе в целом ближе Клее, чем герой еще не написанного романа «Игра в бисер»,— в картинах художника нет отвлеченного упоения усложняющимися повторениями отвлеченных комбинаций, и ему не грозит душевная катастрофа Йозефа Кнехта. В его искусстве слишком много страдания и сострадания.
Его трудно отнести не просто к одному, но даже к нескольким конкретным направлениям. До 1920 года Клее жил в Мюнхене. Ему было за тридцать (род. в 1879 году), когда он познакомился с Кандинским и его живописью. Вскоре Клее становится членом группы «Синий всадник». Он долго писал только акварелью, именно акварельными работами участвовал во второй выставке объединения (1912). Там Клее познакомился с живописью Делоне. В том же году в компании Марка и Макке он навещает французского мастера в Париже. Через Делоне Клее мог ощутить и узнать разнообразнейшие аспекты тогдашней парижской художественной жизни. Как раз в 1912 году в доме Делоне поселяется его друг — поэт Блез Сандрар. Знакомство с Сандраром, этим универсальным гением высокого модернизма, с Фернаном Леже, с поэтом Иваном Голлем — участниками создания мультфильмов «Чаплиниада» и «Чарли-кубист» (позднее Леже, используя ряд идей и ассоциаций с мотивами Сандрара, создаст свой знаменитый «Механический балет») — несомненно, событие. Клее впитывает не только чисто пластические идеи, но и весь кипучий слой новой поливариантной художественной культуры с ее дерзостью и решительным разрывом с традицией. Тогда же познакомился он с Пикассо, Браком и многими другими художниками.
Сами опыты Делоне живо заинтересовали Клее, он даже перевел на немецкий язык его эссе «О свете» и опубликовал его в 1913 году в журнале «Штурм». Орфизм и кубизм его несомненно и глубоко занимали.
Но был ли он реально кубистом, орфистом, экспрессионистом — вопрос скорее праздный, у Клее нет ни живописной агрессии, ни горькой страстности, ни вообще следования иному, чем собственный, выбору. В 1910-е годы развести олимпийцев авангарда по казармам жестких стилистических дефиниций было вряд ли возможно, да и не нужно — каждый из них масштабнее любого направления. Но становление и «дада», и экспрессионизма, и сюрреализма, и беспредметной живописи немыслимо без Клее, как и без Пикассо.
Главное — Клее обладал божественной способностью показать реальный мир в отдаленных, почти одушевленных пластических ассоциациях, но он далек от могучей полифонии абстракций Кандинского. Он — внешне, во всяком случае. — камернее и, вероятно, не менее напряжен внутри, хотя порой строг до рафинированного аскетизма. Не предметы и их осколки, не фрагменты материализованных мыслей занимают художника, но потаенные связи, «поля напряжения», образующиеся меж ними.
Его имя по праву занимает место среди первых мастеров беспредметного искусства — рядом с Кандинским, Малевичем, Мондрианом или Делоне. Но, создавая нефигуративные миры, он отнюдь не стремится создать некую внематериальную субстанцию. «Связь с реальностью» — понятие, скомпрометированное конъюнктурными концепциями, но здесь тем не менее вполне уместное. Однако реальность Клее — не предмет, но сознание (и здесь он сближается с Кандинским). У экспрессионистов — реальность, преобразованная страстью и болью и именно их выражающая. В абстракции — преодоление материального. У сюрреалистов — материализация подсознательного. Клее же создает поэтическую мифологию душевной жизни, пластическую и цветовую лирику-бессознательных сфер. Он свободен от догматической последовательности, его корни глубоки, и он ни с кем не вступает в споры.
В 1914 году, одним из первых, не претендуя на теоретические открытия, он зафиксировал акт художественного «автоматизма»: с закрытыми глазами провел черту, стараясь передать видимое «мысленным взором», о чем глава сюрреализма Андре Бретон вспоминал даже через четверть с лишним века.
Не столь важно, знал ли Клее Томаса Манна или Гессе15, но он дышал одним воздухом с этими мудрецами, ему были внятны свет их прозрений и тлен сомнений, их мучивших.
«Вы мечтаете о том, чтобы покинуть это время, этот мир, эту действительность и войти в другую, более соответствующую вам действительность, в мир без времени... Вы ведь знаете, где таится этот другой мир и что мир, который вы ищете, есть мир вашей собственной души. Лишь в собственном вашем сердце живет та другая действительность, по которой вы тоскуете. Я могу вам дать только то, что вы уже носите в себе сами, я не могу открыть вам другого картинного зала, кроме картинного зала вашей души... Я помогу вам сделать зримым ваш собственный мир. только и всего». Это слова Пабло, героя Гессе, произнесенные в театре «Только для сумасшедших», где плата за вход — разум.
Настораживающая очевидность параллели Клее—Гессе не повод ее игнорировать. Резонируют суждениям Гессе и противопоставления Клее: трагическое — орфическое, человек — Бог, нужда — свобода, Вагнер — Моцарт».
Подобно героям ранних романов Ремарка, Клее пережил войну и трудное возвращение (он ушел в армию через несколько дней после того, как его друг Франц Марк погиб под Верденом); но по-прежнему его художническое зрение обращено внутрь души. Его занимает мысль, что чудовищность мира способствует абстракции (покой — фигуративное™).
Влияния столь же очевидны, сколь преходящи. Есть смутные отзвуки фовистского цвета, сезанновской плотной напряженности и кубистической структурированности в мощнейшей по колориту акварели «Красные и белые купола» (1914, ХССВ). Трудно не увидеть воздействия мурнауских пейзажей Кандинского в картине Клее 1919 года (год демобилизации) «Вилла Р.» (Художественный музей, Базель). Густое полыхание багровых оттенков, темные — не рушащие плоскость — провалы в бесконечность, но сквозь эту живописную лаву просматривается хрупкая линеарность ожившего рисунка, сделанного то ли рукой искушенного художника-мудреца, то ли гениального младенца,— частый прием Клее. Он мерит взрослое встревоженное сознание нежной
П. Клее. Красные и белые купола. 1914 МУДРОСТЬЮ НвЗабЫТОЙ СКЭЗКИ. Но
и в прельстительные сказки («Чары рыб», 1925, Музей искусства, Филадельфия) он вплетает инфернальную тревогу. Эта картина примечательна и тем, что среди мерцающих силуэтов волшебных рыбок живут персонажи кубистического мира.
В 1920 году Клее принял предложение Вальтера Гропиуса сотрудничать с Баухаузом и в течение десяти лет (с 1921 года) был профессором знаменитого научного и учебного центра в Веймаре, а затем в Дессау и вел там многотрудную и благородную работу... Естественно, что, как и Кандинский. Клее в 1933 году уехал из Германии и прожил до самой смерти у себя на родине, в Швейцарии.
Систематическая преподавательская работа и долгие раздумья о теории искусства постоянно шлифуют мысль и направляют ее в сторону создания максимально насыщенных и сконцентрированных пластических и цветовых формулировок. Однако Клее был вовсе не чужд теории, хотя его суждения носили скорее узкопрофессиональный, чем мировоззренческий, философский характер, как у многих мастеров классиче-
П. Клее, вилла Р. 1919
ского авангарда. Он оставил три тома сочинений и интереснейший дневник.
Картины Клее, объединяемые понятием «Магические квадраты», быть может, самые емкие и личностные его создания, написаны как раз в его «баухаузовский» период. Вероятно, это и есть совершенный синтез свободной абстракции и потока наполненных сокровенным жизненным теплом ассоциаций, соединение воспоминания с непосредственным впечатлением, тот самый часто вспоминаемый здесь «картинный зал души», о котором говорил Гессе. Словно освобожденная, подвижная субстанция подсознания, вливаясь в русло спокойного, просветленного «структурированного» разума, реализуется в простых, «первичных», как древние знаки, письмена. формах.
«Магические квадраты» — точное название. Разноцветные прямоугольники касаются друг друга с ласковым, но настойчивым напряжением, как светоносные, полные могучей энергии миры среди других миров (как близко
П. Клее, вращающийся дом. 1921
зто своей философской устремленностью «Маленьким мирам» Василия Кандинского!), созидая бесконечную, снова и снова самозарождающую-ся вселенную (в дневниках молодой Клее не раз упоминал, что в мыслях его «земля отступает перед космосом»). Но космизм этот прост, как «водоросли» на стекле Леверкюна («Доктор Фаустус» Томаса Манна). И как эти водоросли, он органичный, живой и упругий, его можно было бы уподобить, исходя из современного метафорического ряда, некоему Солярису, обретшему если не полную гармонию, но светлое равновесие (одно из самых сильных впечатлений, испытанных Клее в молодости,— созерцание рыб и морских животных в Неаполитанском аквариуме). Странный синтез тщательных поисков, старающихся казаться импровизированными обретениями, «Магические квадраты» то вызывают отдаленные ассоциации с динамической упорядоченностью таинственно светящихся готических витражей и органной музыки («Старинные аккорды», 1925, частная коллекция, Базель), то почти реализуются в смутно угадываемый образ Венеции («Город на лагуне», 1932, частная коллекция, Берн), то вступают в карнавальную игру-диалог с кубизмом («Маленький голубой дьявол», 1933, частная коллекция, Берн). Вообще Клее склонен использовать языки многих направлений, но скорее как способ «перевода» своих фантазий на уже существующее наречие, отнюдь не проникаясь чуждой ему ментальностью.
Ощущая космичность мира, Клее не знает (не хочет знать) гравитации: верх и низ — чуждые его искусству категории. Медлительно кружится в золотистом мареве его «Вращающийся дом» (1921, собрание Тиссен-Бор-
немисса). Окна здания спроецированы наружу, дом виден одновременно с улицы и изнутри, но это не просто кубистическая «растяжка объема во времени». Здесь снова «картинный зал души», видимое, синтезированное со энаемым, перевернутый, опрокинутый внутрь души мир. И снова из Гессе: «Тому, кто изведал распад своего „я“, мы показываем, что куски его он всегда может в любом порядке составить заново и добиться тем самым бесконечного разнообразия в игре жизни». Но и здесь у Клее нет безысходности, отчаяния, распада.
Сама идея хаоса, которую он ощущает как опасность страха и незнания, по определению исключается из его искусства. «Хаос как антитеза порядка не есть собственно хаос, действительный хаос; это понятие „локализованное", условное по отношению к понятию космического порядка и его пары Исти( ный хаос невозможно утвердить на балансирующей плоскости, он всегда пребывает неуравновешенным и неизмеримым»16. «Я кристалл, во мне хаос, я начинаю с того, что испытываю чувство содрогания...»17 Пластическая логика его картин вызывает ощущение просветленности, боль и тревога не предполагают возвращения в хаос и ничто.
Рядом со своими великими современниками — Пикассо, Малевичем, сюрреалистами — он оставался жрецом изысканного, но непреклонно строгого профессионализма. Прославленные потрясатели основ спокойно приносили жертвы во имя будущего созидания или просто в качестве художественного жеста. И нередко пыль и дым оставляемых ими руин мешали различить значительность и даже очертания совершенных ими открытий.
Клее же — устремлен в себя.
Он обращается к подсознанию не с ужасом или болезненным интересом, но со светлой улыбкой мудрого и доброго Фрейда, проводя свои «пси-
П. Клее. Золотая рыбка. 1925
П. Клее. Омега-5.К. 1927
хоаналитические сеансы» словно бы под аккомпанемент Моцарта. Не каждый помнит, сколько нежданных грозных, порой и траурных мелодий врывается в моцартовские менуэты, не каждый разглядит горечь и в ликующих соцветиях Клее, в ироничных сплетениях его ломких, одушевленных линий. А в рисунках его порой угадывается ошеломляющая и веселая подвижность будущих мобилей, этих порожденных художеством роботов, тогда еще мало занимавших его современников.
«Познав правила, преуспеешь в изменениях»,— говорил китайский живописец Ши-тао, и Клее — один иэ лучших примеров тому: его грандиозная новаторская система коренится прежде всего в культуре, знании, вкусе, в понимании того, что любое искусство — лишь часть ху-
дожественного мира.
Может быть, именно поэтому был он так свободен и отважен в эксперименте, так весел и неагрессивен в поисках, даже вполне эпатажных, в 1920-е годы он делал куклы с мотивами «ready made» на манер Дюшана («Дух спичечного коробка»). Но это оставалось лишь игрой таланта.
Клее были чуждыми фанатичные страсти авангарда с его угрюмой непримиримостью, равно как и социальная напряженность экспрессионизма и уж тек. более социальная содержательность. Да и его устремленность в подсознание не имела ничего общего ни с Дали, огромный дар которого так часто разменивался на гиньольно-муляжные фантазии, ни даже с ледяными интеллектуальными построениями Магритта.
Известны превосходные строчки Рильке о Клее:
«Подобно тому как потерпевшие кораблекрушение или зажатые в полярных льдах, превозмогая себя, стремятся до последней минуты заносить на бумагу свои наблюдения и переживания, чтобы их жизнь прочертила след на чистых полях листа, куда раньше еще никому не удавалось добраться,— так и Клее предстает регистратором всех взаимосвязей и со-участий в явлениях этого мира, хотя последние сами по себе уже бессвязны и отворачиваются от него и настолько для него бесполезны, что он, „ivre d’absence" (опьяненный небытием), лишь как бы роскошествует в своей бедности, способен иногда пользоваться их формами. Здесь, вероятно, и начинается его собственное „ясновидение"...»18 Он сохранил ту сдержанную легкость истинной художественной мудрости, которая в XX веке была большой редкостью. Его искусство синтезировало открытия XX века, было открыто
интеллектуальным проблемам времени, не стремилось к догме и не боялось риска. Подобных примеров наше столетие не оставило. Или почти не оставило — во всяком случае, в столь чистом, кристаллизованном варианте.
В1922 году он написал картину «Красный шар» (МСГ). Медленно, с какой-то отрешенной надменностью поднимается в прозрачно-тусклое небо красный монгольфьер. Как удалось художнику создать это неуклонное ощущение подъема в цепенеющем покое картины? Таинство угловатых цветовых плоскостей синкопированным своим ритмом создает, видимо, то мнящееся уплотнение воздуха, то движение, что вызывает ощущение светлой обреченности, взлета в никуда, выверенного с математической интуитивной точностью. Но расчет — он растворен в светящемся мареве драгоценных оттенков неба, написанного будто на картинах старых венецианцев — со скрупулезной артистичной нежностью. Здесь нет ни «разъятой музыки» Сальери, ни прохладного упоения «игры в бисер», скорее — зашифрованная формула, пластическая метафора катарсиса XX века, освобожденная от столь свойственных ему настойчивых и громогласных словесных и изобразительных деклараций и манифестов.
В XX веке рядом с Кандинским Клее — один из немногих маете-
П. Клее. Перечеркнутый лист. 1933
П. Клее. Перечеркнутый человек. 1935
ров утонченно-интеллектуального
толка. И если он известен чуть меньше, то не потому, что уступает кому бы то ни было. Секрет в чем-то ином, вероятно, именно в том, что в искусстве Клее остается зашифрованное пространство, оно не открывается навстречу зрителю, не ошеломляет его, но сохраняет тишину и способность вести
диалог с каждым зрителем по отдельности.
В конце 190U-X годов внутри большинства радикальных течений усиливается, а то и становится главной «поведенческая составляющая», которая позднее — у дадаистов, у Дюшана, сюрреалистов — станет доминирующей, порой даже затуманивая энигматическими интерпретациями сами произведения искусства.
Оппозицией боли становилась — рядом с «вечными» (и привычными) ценностями — игра. И вовсе не как дешевый путь к забвению. Подчас и как мужественное противостояние боли, как отважный путь к иным мирам. Подобно герою Гессе из не написанного еще «Степного волка», художники шутя заглядывали в «Театр только для сумасшедших», где открывали простые и забытые истины в представлениях странных и поучительных.
П. Клее. Красный шар 1922
IV. «ВЕЛИКИИ ЭКСПЕРИМЕНТ»1: ТРИУМФ И ПРЕОБРАЖЕНИЕ
Человек обречен, время торжествует. Юрий Трифонов
Рильке проницательно заметил: «...Русские писатели на самом деле почти никак не связаны с изобразительным искусством. Они похожи на чрезвычайно озабоченных людей, которые, глядя вдаль, полны тяжелых дум и потому совсем не замечают природы; они похожи на рабочих, которые по вечерам, когда на небе высыпают звезды, склоняют чело, размышляя о дневных тяготах. Жизнь русского человека целиком протекает под знаком склоненного чела, под знаком глубоких раздумий, после которых любая красота становится ненужной, любой блеск — ложным. Он поднимает свой взгляд лишь для того, чтобы задержать его на человеческом лице, но в нем он не ищет гармонии или красоты. Он стремится найти в нем собственные мысли, собственное страдание, собственную судьбу и те глухие дороги, по которым прошлись долгие бессонные ночи, оставив эти следы. Русский человек в упор рассматривает своего ближнего; он видит его, и переживает, и страдает вместе с ним, как будто перед ним его собственное лицо в час несчастья. Этот особый дар виденья и воспитывал великих писателей: без него не было бы ни Гоголя, ни Достоевского, ни Толстого. Но создать великих художников он не может. Русскому человеку не хватает бесстрастия, чтобы взглянуть на лицо с живописной точки зрения, то есть спокойно и незаинтересованно, как на предмет, не принимая в нем человеческого участия; от созерцания он незаметно переходит к состраданию, любви или готовности помочь, то есть от образного содержания к сюжетному. Не случайно русские художники в течение долгого времени писали „сюжеты"»2. Лев Толстой, озабоченный более всего общественной пользой, которую способно искусство принести, вполне серьезно писал Николаю Ге: «Не нарисуете ли картинку о пьянстве?»3. Ге гораздо более был занят проблемами способа реализации и сути замысла: «Я все хотел выразить его душу, понятно, что внешность не может представить никакого интереса»4. Даже идеолог передвижников, художник совершенно традиционный, реалист в
самом прямом и заземленном смысле слова — Иван Николаевич Крамской — ощущал важность новой поэтики: «После Карамазовых (и во время чтения) несколько раз я оглядывался кругом и удивлялся, что все идет по-старому, и что мир не перевернулся на своей оси... словом, это нечто до такой степени пророческое, огненное, апокалипсическое, что казалось невозможным оставаться на том месте, где мы были вчера, носить те чувства, которыми мы питались, думать о чем-нибудь, кроме страшного дня судного»5. Крамской был талантливый читатель. Вообще русские художники куда лучше понимали литературу, нежели писатели — живопись.
Что же касается восприятия русскими писателями Новейшей французской живописи, то предлагаемый пример воспринимается трагифарсом. По поводу ранней картины Эдуарда Мане «Нимфа и сатир», достаточно случайно попавшей на выставку 1861 года в Петербургскую академию, рецензент писал: «Картина „Нимфа" выставлена, конечно, с намерением показать, до какого безобразия может дойти фантазия художника, который написал самую плоскую вещь и дал телу нимфы колорит пятидневного трупа»6. И далее: «Иностранный художник Мане (из Парижа! — гласит каталог) отличился на славу, прислав на нашу выставку „Нимфа и сатир". Слабее этой картины нет ничего на выставке. Рисунок, расположение фигур, колорит — все это до такой степени неверно, что невольно дивишься смелости французского художника. Но остроумнее всего, что Мане назначил за свою картину тысячу руб. серебром»7. Рецензентом был Достоевский.
Сами художники были немало обеспокоены немым диалогом с западным искусством. На письмо Крамского, опасавшегося, что в поисках света и воздуха можно потерять «драгоценнейшее качество художника — сердце», Репин отвечал: «...Наша задача — содержание. Лицо, душа человека, драма жизни, впечатления природы, ее жизнь и смысл, дух истории — вот наши темы, как мне кажется; краски у нас — орудие, они должны выражать наши мысли, колорит наш — не изящные пятна...»8. Суриков утверждал, что «французы овладели самою лучшею, самою радостною стороною жизни — это внешностью, пониманием красоты, вкусом. Они глубоки во внешности»9. В 1884 году он соглашался, что «Графини Manet выше всякой идеи»10. Более того, этот адепт содержательной философской исторической живописи нашел в себе мужество воспринять независимо и профессионально даже Пикассо: «Настоящий художник именно так должен всякую композицию начинать: прямыми углами и общими массами. А Пикассо только на этом остановиться хочет, чтобы сильнее сила выражения была. Это для большой публики страшно. А художнику очень понятно»11.
Понятно, что русское изобразительное искусство могло быть воспринято и оценено в мире лишь тогда, когда сумело взглянуть на мир «с живописной точки зрения» (Р. М. Рильке).
Сказанное не умаляет достижений русской живописи, но лишь акцентирует тот несомненный факт, что, во-первых, специфика национальной художественной школы способствовала ее изоляционизму, во-вторых, что появление авангардных тенденций в России возникло на фоне настолько более традиционном, нежели на Западе, что воспринималось куда более сенсационно и проходило громче, болезненнее и эффектнее. Россия не была закалена художественными сенсациями, как та же Франция.
Русский прорыв был обречен стать стремительным, отсталость обязывала к поспешности, приходилось, не успев глубоко пережить существенные периоды движения культуры, осмысливать прошлое, строить настоящее, проектировать будущее.
Еще недавно век ушедший спорил с наступившим на сценах, выставках, на страницах газет и журналов. Не казалось странным, что первая выставка мирискусников устроена была в залах Академии художеств; Дягилев вел жесткую полемику с Репиным и Стасовым, но бранил и Московское товарищество художников за подражание сецессионам (в сущности, исканиям модерна), полагая, что это — «самая страшная рутина нашего времени»12, хотя журнал «Мир искусства» опубликовал в 1901 году снимки, сделанные на парижской Всемирной выставке, где царил модерн. Да и сама графика журнала не прошла мимо пряного и изощренного языка ар нуво. В Москве и Петербурге показывают свои работы немецкие символисты и участники порицаемых Дягилевым сецессионов. Практически в одно и то же время появляются картины, казалось бы, несопоставимые: «Переход Суворова через Альпы» Сурикова и «Дама в голубом» Сомова. «Смех» Малявина, подвергшийся уничижительной критике Стасова, получает в Париже Золотую медаль, как и работы Серова и Коровина. Вопреки всему обретает позднюю свою славу Врубель, И все же то было время скорее диалогов, нежели противостояния.
В России наступила пора, которую нынче называют «серебряным веком».
На повороте столетий искусство менялось стремительно. Однако для большей части читателей и зрителей, для либеральной российской интеллигенции мессианская роль искусства по-прежнему оставалась приоритетной. Изменения художественного языка еще не занимали всеобщего внимания: каким бы новатором в области художественной формы ни был, например, Достоевский, книги его воспринимались прежде всего как нравственные явления.
На Западе и смелые социальные идеи чаще всего реализовывались в новой художественной форме, в России же, как правило, в более чем традиционной. Подвиг передвижников отчасти уже осознавался как саморазрушительный: проповедь вербаль-на и в искусстве изобразительном оборачивается косноязычным ригоризмом. Наступающее новое время несло с собою не только надежды, но тревогу и разочарования. Грандиозные начинания русской культуры, как уже говорилось, на повороте столетий словно бы не выдерживали новых ритмов и истаивали, не будучи завершенными. Мысль творца опережала традиционные формы и традиционные жанры; под натиском новых страстей и мыслей рушились прежние художественные структуры. И за дымящимися их руинами лишь очень проницательный взгляд мог различить темную з'арю искусства Нового века. Тогда все это воспринималось не столько как начало, сколько как упадок, «де-каденщина», глумление над привычным пониманием прекрасного. Даже импрессионизм в глазах традиционного зрителя таил в себе опасность низвержения основ.
Культура той поры отмечена надменным и утонченным страданием. В салонах эта продуманная печаль разменивалась на мелочную и претенциозную изысканность, создав свое искусство, свою литературу,— несколько приторный, но, безусловно, любопытный фон, на котором выделялись масштабные фигуры, тоже отчасти затронутые этой всепроникающей тревогой, но воспринятой уже не как лакомство, а как историческая драма. В ту пору даже высокое искусство едва ли избежало налета са-лонности, зато и уровень фонового искусства был относительно высок. Тому много способствовал расширившийся и утончившийся круг зрителей, просвещенных меценатов, развитие профессиональной художественной критики.
Российская культура медленно и нерешительно освобождалась от абсолютной литературоцентричности. Писатели все еще ощущали себя главным и совершенно самодостаточным явлением духовной жизни общества, хотя у Чехова, например, возникал здравый сарказм по этому поводу.
Литература была единственным явлением русской культуры, имевшим абсолютное значение для культуры мировой. Толстой и Достоевский, позднее Чехов потрясли Европу. Однако русская поэзия — от Пушкина и до «серебряного века» — осталась для Запада terra incognita. Что говорить об изобразительном искусстве. Передвижники в контекст мировой живописи не вошли, на Западе они могли восприниматься лишь обычными бытописателями.
На исходе XIX столетия в России литература уже не была безусловной «властительницей дум». Даже Толстой воспринимался не столько как создатель великих произведений (лучшее
было им уже написано), сколько как носитель национальной совести, как пророк. «Новая» же литература значительной не почиталась. На Чехова смотрели примерно так же, как герой его пьесы «Чайка», писатель Тригорин, на самого себя: «...хороший был писатель, но он писал хуже Тургенева».
Избыточная серьезность и литературы, и искусства заставляла вновь вспомнить «Владимирку» Левитана, картину, в которой прекрасные живописные качества оказались погребенными под грузом политической многозначительности.
Для нового поколения художников прямая социальность делалась невозможной.
С чуткостью, с умением ощутить свою индивидуальность через приобщение к Европе, русское художество почти мгновенно аккумулировало в себе достижения европейского, только еще рождающегося авангарда, соединило со своим опытом и интуицией. «Один лишь русский... получил уже способность становиться наиболее русским лишь тогда, когда он вполне европеец» (Достоевский)13. Никому из французов, например, не приходило в голову заботиться о чистоте национальных истоков своих открытий, эстетический шовинизм был на Западе непонятен. Русские же создатели авангарда едва ли не с первых шагов спешили отмежеваться от западных корней. «Нам незачем было прививаться извне — мы бросились в будущее от 1905» (В. Хлебников). «Искусство моей страны несравненно глубже и значительнее, чем все, что я знаю на западе...» (Н. Гончарова). Запад, по ее мнению, был лишь проводником древних восточных открытий.
Были, разумеется, и иные суждения: «Здесь не было даже стремления переплавить позаимствованное у Запада, спрятать концы в воду: они торчали отовсюду, футуристические, кубистические, неоимпрессионистические „концы", их беспечно забыли убрать, а может быть, с вызовом оставили на виду — велика, в самом деле, важность? Ведь суть была не в этом, а в том, что мир раскрылся по-иному, и надо было рассказать об этом как можно полнее на всех живописных языках и наречиях...»14
На деле же именно тогда возникало если не единое, то связанное кровообращение России и Запада. Франция замещала в художественном сознании немецкие и скандинавские традиции. Коллекции Щукина и Морозова много тому способствовали, равно как и поездки русских в Париж. Лентулова уже в начале 1910-х годов называли там «кубистом a la russe», Шагал писал почти кубистический «Hommage a Apollinaire».
Впрочем, еще и раньше Николай Иванович Кульбин, медик, действительный статский советник, автор исследований по проблемам психиатрии, художник, теоретик искусства, человек, не только способный увлекаться новыми идеями сам, но и обла
давший общественным темпераментом и организационным талантом, развил благородную и целеустремленную деятельность. Просвещенный любитель и знаток современного искусства, он стал в центре разрозненных и взволнованных исканий заинтересованных новыми веяниями художников, всячески, в том числе и материально, стараясь им помочь. Организовал группу художников — «художественно-психологическая группа», с увлечением, где только мог, выступал с лекцией «Свободное искусство как основа жизни», писал статьи (не только о пластических искусствах, но и о музыке) достаточно чудаковатого свойства, проникнутые, однако, благородным пафосом новейшего художественного синкретизма, издал два номера альманаха «Студия импрессионистов» — несколько салонного, но с любопытными и смелыми статьями.
Именно усилиями Кульбина 25 апреля 1908 года в Петербурге, в «Пассаже» на Невском, открылась выставка «Современные течения в искусстве». Действительно «современными» были на ней лишь Бурлюки, Экстер, Лентулов и сам Кульбин. Рядом мирно висели работы Бенуа, Бакста, Билибина. Однако ажиотаж был большой, выставка собрала среди зрителей энтузиастов «свободного искусства». Вскоре новые объединения создаются все с большей пылкостью. Возникает столь знаменитый впоследствии «Союз молодежи» (Матюшин, Гуро, Школьник и др.), на первой выставке которого (март 1910) показали свои работы Бурлюки, Ларионов, Гончарова, Школьник, Экстер.
Вслед за тем в Петербург приехала выставка «Салон Издеб-ского», открывшаяся в декабре 1909 года в Одессе, ставшая, вероятно, решающим событием в смысле осознания русскими художниками своей начинающейся интеграции в западное искусство. Рядом с Марке, Браком, Вламинком, Ван Донгеном, Матиссом, Руссо, Глезом и Метценже, рядом с Явленским и Кандинским, с Джакомо Балла висели картины Гончаровой, Ларионова, Бурлюков. В том же году появляется русский перевод только что напечатанного в парижском «Фигаро» «Первого манифеста футуризма» Т. Маринетти.
Футуристы — не столько еще своим искусством, едва ли выраженным, сколько своими намерениями, декларациями, социальной заостренностью — стали своего рода детонатором для русской поведенческой модели. Итальянские интеллектуалы, остро чувствовавшие постылую «музеефицированность» своей национальной культуры и мечтавшие построить на ее руинах иную — дерзкую, технократическую, способную к тому же возродить величие опровинциалившейся Италии,— во многом вдохновляли русских коллег. Русские ниспровергатели основ, одинаково утомленные и настойчивым ригоризмом передвижников, и чрезмерной изысканностью и пассеизмом «Мира искусств»,
Д. Бурлюк. Казак Мамай. 1916*
видели в жестком максимализме и сверхсовременных идеях футуристов путь к освобождению и от первых, и от вторых.
Привыкшие к художественным новшествам и постоянным переменам французы были куда менее озабочены общественными проблемами, и пафос их новаций вовсе не был со-
циальным пафосом, как у итальянцев и в известной мере русских. И хотя создатели русского авангарда были на словах против особой содержательности и ратовали за свободу искусства в самом дерзком и эпатирующем варианте, настойчивое «словесное оформление» каждой новации делало их заложниками все тех же социально-этических проблем.
В конце 1910 года в Москве — первая выставка «Бубнового валета» и тоже рядом с Гончаровой, Ларионовым, Лентуловым, Экстер, Машковым, Кончаловским — Кандинский и Явленский, Глез, Моро, три картины Малевича. Во 2-м салоне Издебского среди прочих представлены были В. Татлин, Н. Кульбин, большинство «бубнововалетцев».
Это был настоящий прорыв со всеми сопутствующими издержками: поспешностью и категоричностью суждений, жесткостью споров, скрытым и открытым соперничеством, молодой самоуверенностью.
Однако при всей активности групп и группировок, эпатажных манифестаций, жестов и даже аргументированных теорий куда важнее были реальные художественные события, маркировавшие становление Новейшего искусства в России.
К середине 1910-х годов, когда решающие открытия Кандинского уже состоялись, но, вероятно, не были в России в полной мере освоены, когда получил известность Филонов, в канун явления публике этапных работ Малевича, важнейшие фигуры и события раннего русского авангарда вполне уже определились.
В России весь комплекс «левого» искусства охватывался термином «футуризм», и понятие бытовало как определение несколько скандального новаторе! ва, связанного в первую голову с демонстративными акциями склонных к публичности экспериментаторов (например, в конце 1912 года В. Маяковский, А. Крученых, Бурлюки и В. Хлебников подготовили манифест «Пощечина общественному вкусу», декларировавший право сочинителя
Н. Гончарова. Велосипедист. 1913
М. Ларионов. Солдаты. 1909
на неограниченный эксперимент). На рубеже 1900— 1910-х годов утверждается термин «кубофутуризм» (иногда употребляемый и как синоним понятия «русский авангард»). Это объясняется отчасти и универсализмом поисков мастеров русского авангарда — так, например, Гончарова называла себя первой кубисткой России, она же была и автором вполне футуристических картин («Фабрика», 1912, «Велосипедист», 1913, ГРМ). Термин утверждался и в теоретических, и в критических текстах и декларациях — в мощном движении русского авангарда принимали участие В Маяковский, В. Хлебников, В. Каменский, А. Крученых, Д. Бурлюк, К. Малевич, Н. Гончарова, М. Ларионов. М. Матюшин и многие другие, в большей или меньшей степени связанные друг с другом выставочными или иными объединениями.
Деятели искусства, группировавшиеся вокруг радикального объединения «Гилея», именовали себя также «будетляне» (русский вариант понятия «футуризм»), В российском кубофуту-ризме наличествовало сближение пластических и словесных элементов, поиск нового изобразительного и литературного языков, рассмотренных синтетически, равно как и отказ от «отживающих» и «ясных» элементов языка. Важнейшим событием в процессе самоидентификации русского авангарда стало представление в Петербурге (декабрь 1913 года) оперы «Победа над солнцем» (текст Крученых и Хлебникова, музыка Матюшина, художник Малевич)
В потоке громких и не всегда внятных деклараций выкристаллизовывались и высочайшие образцы последовательного беспредметного искусства, пластических формул новой живописи — в первую очередь супрематические картины Малевича, — ставшие основой рационально-абстрактного искусства.
М. Ларионов. Венера. 1912
Ларионов, вошедший в историю авангарда своими «примитивистскими» картинами, как и многие, начинал с импрессионистических опытов. «В то время как большинство русских импрессионистов, усвоивших лишь внешние приемы импрессионизма, либо застывали на этом, либо без преемственной последовательности переходили к другим приемам (или манерам), Ларионов стихийно и внутренне овладел всей полнотой живописной культуры и благодаря этому обеспечил себе долгий и богатый путь развития» (Н. Пунин)15. Устремленность юного художника к формальным ценностям определила его интерес к импрессионизму как к выходу из традиционного понимания пространс гва, из иллюзорно воспроизводимой среды обитания иллюзорно изображаемых персонажей.
Те произведения, которые давно определены как работы «импрессионистического периода», в сущности выходят за рамки импрессионизма. Они полностью подчинены драгоценной живописной плоскости, эффекту целого. «Розовый куст после дождя» (1904, ГРМ) завораживает почти агрессивной энергией, с которой острые, диагонально направленные, стремительные мазки, двигаясь чуть
по кривой, словно бы впиваются в холст, превращая его в напряженную, натянутую, как бы пульсирующую поверхность.
В этом смысле Ларионов являет собой первого русского мастера, в чьей интерпретации импрессионистический метод, а главное, само искусство, живопись достигает — впервые в России — полного отрыва живописной фактуры от предметной среды. Именно у него живопись окончательно одерживает победу над предметом. Созидательная сила, придающая холсту первичную, «демиургическую» ценность, уже приближается к устремлениям Сезанна, последовательно сотворявшего не только самоценную живопись, но и собственную вселенную.
Камилла Грэй полагает, что манера Ларионова близка и манере Ван Гога: «Ларионов использовал длинные мазки, напоминающие о Ван Гоге, создающие сквозной ритм на поверхности картины, живописное единство, в котором цвет и форма возникают как сущность в собственных своих правах»16. Это верно, думает< я, лишь отчасти — мазок Ван Гога предметен дуалистически: он следует и логике материального мира, и — в большей степени — логике, если угодно, изображаемых страстей, чему Ларионов в принципе чужд.
Мир на его картинах, в отличие от импрессионистических принципов, существовал вне объективной ситуации природного освещения. Практически не знали света и теней предметы, небо, детали пейзажа. В них существовала некая кристалличность, они сами излучали интенсивный окрашенный свет. Поэтом}’ термин «лучизм», предложенный самим Ларионовым по отношению к периоду его творчества 1912—1914 годов, так органичен.
Эта способность предметов продуцировать свой собственный, направленный изнутри наружу — в картинную плоскость — свет, была впервые показана или, если угодно, изобретена еще Врубелем, причем Врубель умел воплотить это даже в черно-бе-
лом рисунке17.
Лучизм Михаила Ларионова — своего рода русский вариант постимпрессионизма. Недаром «лучистские» вещи Ларионова были замечены и высоко оценены в 1914 году Гийомом Аполлинером18.
Лучизму, впрочем, предшествовали совершенно иные, выходящие за рамки даже отдаленной связи с импрессионизмом искания. В 1906 году Ларионов побывал с Дягилевым и Павлом Кузнецовым в Париже, после чего тяготение к яркому, материальному, напряженному до предела, энергичному цветово
М. Ларионов. Голубой лучизм. Ок. 1912
му пятну становится определяющим началом его искусства: воз действие фовистов, ставших столь известными после первого их скандального успеха в Осеннем салоне 1905 года, несомненно.
Конец 1900-х годов — это, как известно, и время появления знаменитых, прославивших Ларионова примитивов, «солдатской серии». Лучизм был своего рода синтезом импрессионизма и кубизма, но синтезом вполне оригинальным. Сам же Ларионов утверждал, что в лучизме синтезируются кубизм, футуризм и орфизм19.
Манифестом ларионовского лучизма воспринимается известная картина «Голубой лучизм» (около 1912, частное собрание). Цвет импрессионистической палитры тускло, но напряженно догорает в синкопированных гранях сложной конструкции, странно напоминающей одновременно кристалл и причудливые формы живой органической жизни. Это — словно воплощение осознания художественного процесса мыслителями XX столетия —
Н. Гончарова. Евангелист. 1910
Н. Гончарова. Евангелист. 1910
от суждений Бурдюка и Малевича о «растущих красках» до знаменитых образов Томаса Манна в «Докторе Фаустусе» — поросли странных разноцветных всходов, отмеченных глубокой грустью, словно у живых людей. Этой картине резонируют и «Лучистый пейзаж» (1913, ГРМ), и «Морской берег» (1913, коллекция П. и И. Людвиг). Здесь можно найти немало параллелей — достаточно вспомнить, например, что в те же годы Эрих Хеккель пишет «Стеклянный день» (1913, Баварские государственные собрания, Мюнхен), где эффект исходящих из предметов лучей отчасти близок видению Михаила Ларионова.
Но быть может, только у Ларионова возник и недолго существовал этот причудливый и вполне оригинальный синтез кубизма и цвета. В ту пору его не до конца оценили20, сейчас это воспринимается как безусловный факт.
Масштаб Гончаровой стал уже тогда очевиден. Во всяком случае, в исторической перспективе к этому времени он представляется совершенно несомненным.
Мощный, напитанный глубинными соками матери-земли, талант Натальи Гончаровой — один из самых цельных в русском авангар де. Тем более что в ее искусстве, как, пожалуй, ни в каком другом, просматривается связь с истоками русской древности, если угодно, русского (да и не только русского) средневекового примитива. При всем гармоничном единстве творчества Гончаровой, источники ее искусства сложны: это и постимпрессионизм (с твердой силой Сезанна, страстностью вангоговской живописной манеры, одухотворенной декоративностью Гогена), и поздний русский символизм, затем и футуристы, не говоря о французских кубистах, сколько бы на словах художница ни утверждала россий
Н. Гончарова. Зеркало. 1912
скую самобытность. Но все это синтезировано в собственную ее манеру настолько несомненно, что анализ исходных влияний перестает казаться актуальным.
«Зеркало» (1912, Галерея дель Леванте, Милан) поражает кружащей голову стремительностью, с которой, чудится, на глазах зрителя, подобно парадоксальному (от хаоса к логике) взрыву, возникает жесткая кубистическая конструкция, странно напоминающая образ храма Вознесения и будущей башни Татлина. Художника, кстати сказать, во многом аккумулировавшего в себе и взлет, и драму русского авангарда, причем не столько в политическом, историческом смысле, сколько в смыс
ле внутренних — куда более глубоких — проблем.
В 1913 году в Москве Л. Попова и Н. Удальцова, только что вернувшиеся из Парижа, организуют «Кубистический кружок», где, кроме них, рисуют Малевич, Таллин. Веснин. Татлин, который через год нанесет свой знаменитый визит Пикассо. Было бы наивно измерять степень влияния французского кубизма и, в частности, Пикассо на русский авангард или искать черты обратного процесса. Шло время параллельных поисков, художники жили общей тревогой и общей страстью к всесокрушающему и вместе логическому эксперименту. Иное дело: Пикассо представлялся фигурой центральной. И его способность резко менять стилистику (содержательные тенденции он менял редко, а скорее всего, не менял вовсе) служила своего рода камертоном плодотворных и мгновенных перемен, отказов от найденного, бесстрашия поиска, которыми отмечена русская культура 1910-х годов.
Впрочем, несомненны и прямые параллели. В 1911 году Татлин написал свой автопортрет, известный под названием «Матрос» (ГРМ), перед которым трудно не вспомнить «Авиньонских девиц». Многосложные рассуждения об иконных и кубистических составляющих в «Матросе» несколько меркнут перед несомненным сходством работы Татлина с картиной Пикассо. Татлин видел, конечно (восторженный интерес Татлина к Пикассо известен), приобретенный Щукиным у Воллара холст Пикассо «Обнаженная женщина (погрудное изображение)» (1907, ГЭ), совершенно очевидно связанный с подготовительной работой к «Девицам», а возможно, и репродукцию самой картины.
Дальнейший поиск Татлина развивается если не по пути Пикассо, то в близких ему ритмах и аналогичной мощи. Оставивший
сравнительно мало работ, Владимир Татлин шел тяжким, трудным шагом. Его «Натурщицы» 1913 года (столь значимого для искусства — работа Малевича над супрематическими картинами, подготовка Дюшаном первых объектов) словно выходят из плоскости холста в пространство, но не иллюзорно-жизненное, а чисто художественное,
В. Татлин. Голубой контррельеф. 1914
В. Татлин. Подбор: цинк, палисандр, ель (Контррельеф). 1916 предвосхищающее КОНТр-рельефы, в которых «вещество искусства» окаменевает, сохраняя, однако, живое внутреннее, едва ли не агрессивное напряжение.
Отдав дань и синтетическому кубизму (введение надписей в живопись по дереву 1916 года), Татлин стал самим собою в тех скульптурных композициях, которые получили название контррельефов,— действительно эпохальных объектах авангарда 1910-х годов. Мощные, угловато-гармоничные, насыщенные «гулкими», жесткими цветами, странно соединенными контрастными материалами, они словно аккумулировали в себе самые разные искания времени: конструктивистскую машинерию, кубистские пространственные открытия, динамику футуризма, дерзость русского «будетлянства», собственные грядущие поис-
Л. Попова. Архитектоническая композиция. 1917 0. Розанова. Четыре туза. 1915—1916
В. Татлин. Матрос (Автопортрет) 1911
ки. Художник буквально вырвался в художественное пространство — чем-то это напоминает процесс претворения театрального эскиза в макет, что было хорошо знакомо Татлину много занимавшемуся тогда сценографией, где он реализовывал пластические и колористические мотивы вполне кубистического толка.
Его контррельефы 1916 года — года образования и становления дадаизма, течения, среди участников которого он был так высоко оценен и признан,— быть может,
самая значительная часть его творчества (во всяком случае, по степени оригинальности, в контексте в том числе и транснациональном). Значительная и по поразительному созвучию настроения и всей пластической и эмоциональной интонации русского авангарда, с его несколько угрюмой настойчивостью, непосредственностью, умением слышать европейскую тональность искусства и совершенно оригинальным образом откликаться на нее. В год революции — 1917-й — Татлин вместе с Якуловым и Родченко выполнил скульптуру’ для угла в зале кафе «Питтореск» в Москве, обладающую всеми признаками модуля — подвижной композиции, предвосхищающей дальнейшие его поиски в области динамического искусства.
Вполне беспредметное искусство к этому времени распространяется широко и не становится общим местом лишь в силу масштаба талантов уверовавших в него художников — Родченко, Розановой, Поповой, Пуни. Предшествовало этому, естественно, явление 1915 года — «Черный квадрат».
Единственной реальностью была абстрактная форма.
Бенедикт Лифшиц
Неведомый шедевр — «Черный квадрат». Соприкосновения Казимира Малевича со своим и грядущим временем бывали, случалось, опосредованными, но всегда — значительными.
Весной 1997 года в Музее современного искусства города Парижа была организована масштабная и чрезвычайно интересная выставка «Угрожающее время (Le Temps menaoant). 1929—1939». Она открывалась картиной Малевича «Сложное предчувствие» (1928—1932, ГРМ).
Экспозиция Малевича на «Последней футуристической выставке». 1915. Фотография
На обороте холста осталась надпись, предусмотрительно датированная 1913 годом, но разумеется, современная картине: «Композиция сложилась из элементов, ощущения пустоты, одиночества, безвыходности жизни». Фигура без лица, оцепеневшая в рабской неподвижности, лишенная индивидуальности, права не только перемещаться в пространстве, но и просто права жеста. И эта фигура, созданная из пластических форм, знаменовавших некогда полную свободу художественного поиска, с неопровержимой и страшной серьезностью свидетельствовала о наступлении времени «Грозных ожиданий».
Малевич не дожил до пика Большого террора, но восприятие мира как масштабной драмы, опасной и величественной, было ему свойственно про-фетически, а реальность 1930-х подтверждала самые тревожные ожидания.
Он, вероятно, почувствовал себя пророком и заставил поверить в это других скорее всего именно тогда, когда повешенная в «красном углу» экспозиционного зала, подобно иконе, его картина «Черный квадрат» предстала перед зрителями.
Это произошло в декабре 1915 года на «Последней футуристической выставке. 0,10», открывшейся в Петрограде, в «Художественном бюро» Н. Е. Добычиной на углу Мойки и Марсова поля.
Чистейшая, в той мере, в которой это вообще возможно, формула живописной абстракции — «Черный квадрат», равно как и сопутствующие ему и следовавшие за ним квадраты, круги и кресты, предназначался стать абсолютом в искусстве, синонимом конца и начала, нового и главного изобразительного кода грядущей культуры.
Но история судила иначе. Само по себе полотно Малевича — с его отвагой, действительно космогонической уравновешенностью, с его невиданным дотоле представлением о пространстве и просто могучим и точным мастерством — осталось в истории, едва видимое за изощренными интеллектуальными конструкциями, страстными заклинаниями, за оттачивающейся мифологией и бесчисленными интерпретациями.
Картина сама по себе, в сущности, едва ли не забыта, ею вряд ли любуются. Скорее к ней приобщаются как к сакральному знаку Новейшей живописи, редко ища в ней радости и мудрости, которых ждут от искусства.
Это — тот самый случай, когда плотная пелена многолетних споров и интерпретаций гипнотически воздействует на общественный вкус, вызывая реакцию, адекватную не ощущению, но установке, знанию, поскольку , традиционно эмоциональное, чувственное восприятие минимизировано.
Роман Якобсон, выступая в защиту нового живописного видения, писал: «Когда критик, видя подобные картины, недоумевает: что, мол, это значит, не понимаю (а что он, собственно, собирается понимать?), он уподобляется басенному метафизику: его хотят вытащить из ямы, а он вопрошает: веревка вещь какая? Коротко говоря: для него не существует самоценного восприятия. Он предпочитает золоту кредитки, как более литературные (осмысленные) произведения»21. Как ни странно, зти слова могут быть обращены и к самому Малевичу, словно бы не доверявшему собственной живописи.
Действительно, истолкование появилось вместе с произведением. На выставке продавалась брошюра Малевича «От кубизма к супрематизму».
В том еще раз реализовался обыденный парадокс Новейшего искусства. Художник, восставший против жизнеподобия и повествовательнос-ти, объяснял свои произведения. В этом смысле он отличался от Кандинского или Клее, развивавших по преимуществу общую теорию, тем, что истолковывал именно свое искусство. Истолкование было естественной частью художественного жеста. Равно как и появление этикеток «Супрематизм» и термина «новый живописный реализм».
Вероятно, густое «интерпретационное поле», поток объяснений и истолкований мог и помешать (и уж во всяком случае часто мешает нынче) восприятию действительных пластических достоинств произведения, превратившегося из картины в своего рода чудотворную икону Новейшей живописи, в артефакт, мифологему XX века,
Сам холст «Черный квадрат»22 словно затаился в своей молчаливой, грозной, странно угрюмой значительности. Квадрат лишь мнится таковым — ни один из его углов не равен девяноста градусам, он остается в вечном становлении, остается динамичным, почти живым. Его пластические и живописные достоинства несомненны и своеобычны: черный квадрат вписан в белое мерцающее поле так, что возникает небывалое ощущение не воздушного, не пустого космического, не «абстрактного», в декоративном смысле слова, пространства, но пространства вообще, i пространства в своей понятийной самости. Пространства, лишенного I начал и концов, протяженности и масштаба, по отношению к которому
К. Малевич. Черный квадрат. 1915
черный прямоугольник воспринимается как своего рода «ноль-пространство», «антипространство», «черная дыра», «сверхтяжелая звезда» — из тех категорий высочайшей пробы поэтической научной фантастики, которая появится еще через полвека.
Благодаря тонко, ювелирно найденным цветовым и световым обертонам квадрат и фон «плывут» в одной плоскости, в визуально ощущаемой невесомости (Малевич изобрел термин «пластическое безвесие»), не имея никаких пространственных позиций, не выступая вперед и не отступая вглубь, создавая мощное ощущение овеществленного представления о первичных элементах, о своего рода основах «периодической таблицы» форм, или, используя выражение Хлебникова, о «построении азбуки понятий»23. «Освобождение от груза реальности»24 — такое суждение можно принять только в том случае, если под реальностью понимать вещный материальный мир. Но реальность мысли и фантазии здесь остается.
Разумеется, и предлагаемая интерпретация может быть сопричислена к лукавым комментариям, столь обычным для этой картины. Однако здесь речь идет не об истолковании замысла, а о том. что Выготский называл «рационализацией ощущений», об анализе эмоционального восприятия, которое скорее всего постоянно заглушалось горделивыми и не очень
связными декларациями адептов супрематизма, а ныне едва теплится под хрестоматийным восторгом многолетних апологетических пассажей. Суждение о том, что черный цвет—синоним отсутствия света и цвета, а белый — сумма всех цветов, вряд ли может быть оспорено, но остается на некоторой дистанции от эстетического восприятия «Черного квадрата». Жест художника и полотно его существуют в непересе-кающихся плоскостях, встречаясь лишь в словесной ткани интерпретаторов. Тем более, как всякая икона, «Черный квадрат» взыс-кует более веры, нежели проникновения и анализа.
Замечено, что лапидарное название «Черный квадрат» среди чрезвычайно длинных названий-объяснений под другими работами говорит о том, что это словосочетание уже было известным и в расшифровке не нуждалось25. Дело не в том, разумеется, что картина кем-то могла быть уже
К. Малевич. Супрематизм. Живописный реализм футболиста — красочные массы в 4-м измерении. 1915
видена в мастерской, скорее известность понятию принесла нашумевшая постановка оперы «Победа над солнцем», состоявшаяся в Петербурге дву мя годами ранее (в декабре 1913 года).
В 1915 году «Черный квадрат» был столь же событиен и громогласен, как «Колесо» Дюшана годом раньше, и его пластические качества занимали художников и публику вряд ли больше, нежели сам факт его появления и трактовки. Тем паче, Малевич утверждал, что именно квадрат в разных ракурсах, в динамике и статике становится основой и круга, и креста — нового алфавита нового живописного языка.
Путь Малевича к «Черному квадрату» был стремителен — от первых любительских живописных опытов прошло едва ли пятнадцать лет. Каки для большинства классиков авангарда, первым шагом к освобождению от предметности стал для него импрессионизм. Трудно понять, как, не видя оригиналов ни импрессионистов, ни Сезанна, возможно было столь серьезно воспринять их уроки. Видимо, божественное чувство современности подготовило его восприятие к мгновенному погружению в стихию новейших течений.
«...Я наткнулся на этюдах на из ряду вон выходящее явление в моем живописном восприятии природы. Передо мной среди деревьев стоял
заново беленный мелом дом, был солнечный день, небо кобальтовое, с одной стороны дома была тень, с другой — солнце. Я впервые увидел светлые рефлексы голубого неба, чистые, прозрачные тона. С тех пор я стал работать светлую живопись, радостную, солнечную... С тех пор я стал импрессионистом»26.
Правда, его «импрессионистические» вещи написаны настолько тяжелым и вязким мазком, с таким ощущением «веса пространства», что невольно вспоминается отчасти Писсарро, а более всего Сезанн с его пейзажами в Экс-ан-Провансе. Впрочем, не исключено, что сегодняшний
К. Малевич. Цветущая яблоня. 1904
зритель видит лишь поздние авторские повторения. Но несомненно одно: для Малевича импрессионизм стал естественным опытным полигоном Новейшего искусства, куда он с поспешностью наивного, но пылкого таланта ввел и элементы сезан-низма.
«.. .Анализируя свое поведение, я заметил, что, собственно говоря, идет работа над высвобождением живописного элемента из контуров явлений при
роды и освобождением моей живописной техники от „власти” предмета... Натурализация предметов не выдерживала у меня критики, и я начал искать другие возможности не вовне, но в самом нутре живописного чувства, как бы ожидая, что сама живопись даст форму, вытекающую из живописных качеств, и избегнет электрической связи с предметом, с ассоциациями неживописными»27.
От картины к картине мир Малевича делается все более материальным, но это материальность не реальной действительности, это материальность «художественного вещества», густого, тягучего и тяжелого, более тяжелого, чем бывает в жизни,— это некие сгустки абстрагированной от предметного мира красочной и пространственной материи.
Отмеченные исследователями недолгие увлечения Малевича — наби-дами, в частности Боннаром, короткая дань модерну, символизму, даже фовизму — не более чем обязательные этапы художника начала века на пути к себе. Импрессионизм прочно остается в искусстве Малевича 1900-х годов как одна из драгоценных, но безвозвратно уходящих в прошлое составляющих. Даже в полотне, которое вполне можно считать прямым прологом супрематизма,— в картине «Плотник» (1908—1910 или после 1927?) с ее геометризованной структурой иконностью, явным приближением к беспредметности28.
Со свойственной ему уже в молодости многозначительностью худож ник написал на обороте холста «Сестры» (1910, ГТГ): «„Две сестры” писаны во время кубизма и сезаннизма. Под сильным ощущением живописи
К. Малевич. Голова крестьянской девушки. 1912—1913
импрессионизма (во время работы над кубизмом) и чтобы освободиться от импрессионизма я написал этот холст». Ощущение себя как исторически значимой личности, чьи поступки и размышления должны фиксироваться для потомков,— часть того столь свойственного русскому авангарду пробольшевистского фанатизма, который омрачает и героический период его становления.
Если соприкосновение с импрессионизмом помогает художнику обрести свободу, то Сезанн помогает ему обрести самого себя. Впрочем, еще двумя годами раньше в картине «Купальщицы» (1908, ГРМ) Малевич созидает агрессивно устойчивый мир застывших фантомов, где можно найти отдаленное сходство и с метафизическим искусством29, и с колоризмом Сезанна Точнее всего было бы сказать, что художник стремительно пропускает сквозь свой темперамент уже не натуру, а способы ее интерпретации своими предшественниками, чтобы обрести наконец только свое видение.
Затем — еще пять лет перемен и лихорадочной, но целеустремленной деятельности. От Сезанна и из Сезанна, от увлечения средневековой русской живописью возникает тот своеобразный и мощный стиль, тот, если можно так выразиться, «кубистический примитив», где циклопический темперамент Малевича вскипает открыто и ошеломляюще. Эти будто оглушающие металлическим лязгом антропоморфные конструкции, где лица и фигуры крестьян рождаются из угловатых, тяжелых, будто кованых плоскостей («Голова крестьянской девушки», 1912—1913. СМ: «Уборка ржи».
К. Малевич. Корова и скрипка. 1913
К. Малевич. Чтец. Эскиз костюма к спектаклю «Победа над солнцем». 1913
1912—1913, там же). С поразительной чуткостью и совершенно свободно варьирует Малевич и находки футуристов (классический пример — «Точильщик», 1912, Художественная галерея Йельского университета, Нью-Хейвен). Но все это слишком связано с минувшим, с традиционной, на взгляд художника, логичностью. Открытой провокацией была картина «Корова и скрипка» (1913, ГРМ) с известной надписью на обороте: «Алогическое сопоставление двух форм — „корова и скрипка" — как момент борьбы с логизмом, естественностью, мещанским смыслом и предрассудками»30. Масштаб художественной интуиции, несомненно, превосходил у Малевича дисциплину и последовательность осмысления и связной вербализации. Меж тем именно через агрессивную заумь подобных исканий и суждений художник увидел перспективу того ряда бесконечных отрицаний, что и привел к «Черному квадрату».
Премьера оформленной Малевичем оперы «Победа над солнцем» (Луна-Театр, Петербург, 3 и 5 декабря 1913 года) с ее дерзким и впечатляющим абсурдизмом создала ту плазму тревожных и восторженных ожиданий, бурным и многозначительным разрешением которых и стала «Последняя футуристическая выставка. 0,10». Следующим шагом был супрематизм, уже заявленный в упоминавшейся брошюре.
Год спустя на пятой выставке «Бубнового валета» Малевич представил шестьдесят картин, последовательно — от «Черного квадрата» до «Supre-mus № 58» — являвших миру новое видение мира и путь его реализации.
Новые полотна были впечатляющим образом Вселенной, где геометричес
кие, идеально простые по рисунку и цвету элементы, подчиняясь собственному взаимному неуловимому тяготению, демонстрировали некий совершенный и гармоничный космогонический механизм, вместе замкнутый в себе и открытый в бесконечность. «Белый квадрат на белом поле» (1918, СМ) стал порталом в пространство неограниченной зрительской фантазии, но и финалом отвлеченных поисков. «Белое на белом» (1918, МСИ), с этим поразительным ощущением стремительно улетающей и одновременно неподвижно зависшей светлой плоскости в светлом пространстве, открыва
ет путь в мир бесконечного движения, таинственно синтезированного с мертвенной успокоенностью. «Абсолютный ноль» был обозначен.
Европа открыла Малевича весной и летом 1927 года, когда художник
показал в Варшаве и Берлине свои работы. В результате стремительно менявшейся политической конъюнктуры Малевич вынужден был вернуться в СССР неожиданно и раньше намеченной даты (предполагалась и выставка в Париже). Он предусмотрительно оставил свои рукописи и часть картин за границей, благодаря чему теперь Запад, и в частности амстердамский Городской музей (Стеделийк-музеум), владеет значительной частью творческого наследия художника.
Он вернулся в Россию настороженным, разочарованным, вовсе несломленным31. Если сразу после революции Малевич занимал, надо полагать охотно, руководящие должности в официальных художест-
К. Малевич. Супрематизм. (Supremus № 56). 1916
венных и просветительских учреждениях, то сейчас и время, и он сам
решительно переменились. Но и чисто профессиональная, теоретическая и педагогическая деятельность, его могучее, агрессивное дарование Учителя-пророка, его учебные программы, при всей претенциозной невнятице многих формулировок, покоряли молодых и закладывали грандиозный фундамент новой школы, наследие которой развивается до сих пор. Группа «Утвердители нового искусства» (УНОВИС), созданная под его руководством в Витебске (1920), деятельность в Музее живописной культуры, руководство Гинхуком, поиски в области прикладных искусств и архитектуры — повсюду он становился лидером и создавал вокруг себя группы, если не толпы, посвященных, настроенных, как правило, фанатически. Малевича хоронили как пророка, о нем помнили, как о Боге, и его судьба и речения окутали священными свитками его художественное наследие.
К. Малевич. Крестьянка. 1928—1932
В наследии Малевича — немало загадок, в том числе и поздние «ренессансные» портреты, решительно оппозиционные по отношению к его супрематическим вещам32. Впрочем, в них реализуются и формальные достижения предшествующих лет, дающие фигуративным изображениям конструктивную и композиционную завершенность.
Все же, вероятно, самым значительным творческим и философским прорывом Малевича стали великолепные, грозные, опасные в своем безликом молчании фигуры крестьян, написанные в конце 1920-х годов.
Подобно «Нарвским воротам» Филонова, платоновскому «Котловану», эти люди, лишенные лиц, как в страшном сне, предвещают гибель, словно бы уже прикоснувшуюся к их миру. Было ли то прозрением или про-
сто ощущением трагизма наступившего времени, не так уж и важно.
Любопытно, что эти безликие головы, яйцеподобные, как заготовки для кукол, пришли в искусство Малевича уже после того, как он побывал в Германии. Трудно утверждать, что здесь можно говорить о влиянии, но в начале 1920-х годов такие персонажи, подобные увечным деревянным марионеткам или манекенам с овальными болванками вместо голов часто писал Георг Грос, вдохновленный, без сомнения, примером Де Кирико и Карра. Так что помимо гипотетических философских и мировоззренческих связей с метафизической живописью33 Малевич вполне мог иметь непосредственные впечатления от картин Гроса.
Но два полотна — «Крестьянка» и «Два крестьянина (в белом и красном)» (обе 1928—1932, ГРМ) — чудятся про
логом близящегося апокалипсиса. Крестьяне, у которых вместо голов яйцеподобные деревянные болванки, кажутся ослепшими, не желающими смотреть манекенами; крестьянка с черным обожженным пятном вместо лица, такими же черными обожженными руками и ногами, словно бы пройдя сквозь ад, остается сгоревшим, как в «Гернике» Пикассо, призраком свершившейся развязки.
К. Малевич. Два крестьянина (в белом и красном). 1928—1932
К. Малевич. Сложное предчувствие. 1928—1932
Г. Грос. Без названия. 1920
Поиски «неведомого шедевра», начавшиеся «Черным квадратом», привели и к соприкосновению с ощутимым дыханием Большого террора, близящейся войны, тех испытаний, что ждали мир в середине века.
1913 год, об этом неоднократно упоминалось, был особым и значимым. Год «Колеса» Дюшана, выставки «Армори-шоу» в Нью-Йорке, выхода русского перевода книги Глеза и Метценже «О кубизме», открытия «Кубистического кружка», «Пощечины общественному вкусу», «Победы над солнцем», серии «Ню» Татлина, «Велосипедиста» Н. Гончаровой, «Головы крестьянки» Малевича. На этом фоне появились и картины Филонова, сделавшие его равным партнером первым именам времени.
Павел Филонов: формулы неведомого. Первым весьма заметным выступлением Павла Николаевича Филонова стала последняя выставка «Союза молодежи» в Петербурге на Невском, 73, осенью 1913 года. Там были показаны его масштабные работы — «Мужчина и женщина» (1912— 1913, ГРМ) и «Пир королей» (1913, ГРМ) в окружении подготовительных рисунков.
Сюжет картины «Пир королей» не вполне ясен (отчасти восходит к иконографии XVII века34 и связан с библейской сценой «Пир Ирода»), но грозен и зловещ. «Художник писал пир трупов, пир мести. Мертвецы величаво и важно ели овощи, озаренные подобным лучу месяца бешенством скорби»35. Гипертрофированная и болезненная «биологичность» персонажей, изысканная некрасивость их
П. Филонов. Мужчина и женщина. 1912—1913
нарочито выразительных тел и жестов придают сцене тяжелую инфер-нальность, напоминающую пугающую галлюцинацию.
Несмотря на очевидное знание новых веяний и даже чуткость к ним — в акварели «Мужчина и женщина» движения рук и ног явно повторяют футуристические приемы, а в «Пире королей» заметны и традиции немецкого Ренессанса, и экспрессионизма — могучая индивидуальность Филонова, его способность странно, микроскопически точно и «насквозь» писать людей, наполняя мир ощущением на глазах рождающейся материи, обрисовалась сразу.
Совершенно особый, ни на что не похожий колоссальный дар Филонова, его исступленная преданность своей художественной идее, агрес
сивная непримиримость, мученическая жизнь и жесткость суждений — во всем этом было и осталось нечто вызывающее не только восторженное поклонение, но и смущенную настороженность.
Интеллектуальное и творческое схимничество глубоко укоренено в российской традиции. Угрюмое приятие страдания чудится в творческой жизни Павла Филонова не только следствием трагических обстоятельств, но и как жизненная позиция, источник художественных идей, сюжетов, способа видения.
Художник, ощущавший с юности особенность собственного пути и значительность своего таланта, он рано заявил если и не о превосходстве своего метода перед западными тенденциями, то о большей радикальности. Кубисты, казалось ему, пришли «в тупик от своих механических и геометрических оснований»36, а «реформацию» Пикассо он полагал «лишенной революционного значения»37. Филонов искал «эволюционную форму», уподобляя свой метод динамике живой природы.
В изобразительном искусстве Филонов представляется более исключительным и не имеющим аналогий событием, нежели в искусстве вообще. В литературу он словно бы вписан лучше, чем в искусства пластические. Он чрезвычайно литературен, его близость к Платонову, не говоря о поэзии Крученых или Хлебникова, несомненна. Можно предположить, что видение Филонова, сочетающее в себе почти натуралистическую точность с множественностью аспектов. с несколькими «срезами» реальности, видимыми словно один сквозь другой, чрезвычайно близки и эффектам кинематографа, успешно осваивающего в начале века «наплыв», «двойную экспозицию», монтаж и другие приемы, тогда казавшиеся ошеломляющими новациями. Он действительно, если уж говорить о влияниях, вобрал в себя в какой-то мере отблески кино- и фотосферы, многочисленные литературные реминисценции С этими его качествами связана особая способность изображать лица так мучительно подробно, как возможно в словесном описании или в крупных планах фильма.
Как ни странно, имея самую большую, сравнительно с другими классиками авангарда, школу, Филонов не оказал соизмеримого влияния на тех, кто не был с ним связан непосредственно, равно как и на западную живопись XX века38. Его искусство осталось явлением замкнутым если и не внутри самого себя, то в пределах, так сказать, «пространства Филонова», возвеличенного и вознесенного, разумеется, судьбой, не только трагической, но и ставшей уже при жизни мифом.
Ни собственные декларации, в значительной мере смутные, велеречивые и, при всей их радикальности и оригинальности, редко доказательные, ни многочисленные посвященные ему исследования не выявили вполне корневую систему его искусства. В какой-то мере — в смысле неясности корней и полной оригинальности — он соприкасается с примитивом, с фольклором, а искусство его таинственным образом синтезирует примитив с болезненным интеллектуализмом.
Продуманное косноязычие нарочито примитивных персонажей и вторящая им авторская речь Андрея Платонова, которого нередко вспоминают, говоря о Филонове, сродни искусству художника. В картинах его чаще всего грубая жизнь и отупевшие лица изображены с пристальным и подробным артистизмом, что создает особый эффект пластического контрапункта. Острая оригинальность, которую неудобно и непривычно воспринимать, парадоксальное сочетание устремленности к советским идеалам с пониманием их жестокой утопичности — некая общая почва, питающая писателя и художника.
В искусстве Филонова немало загадочного: сюжеты и происхождение их, равно как и некоторые факты биографии художника, остаются нерасшифрованными39. Впрочем, сами его произведения настолько красноречивы, даже порой, если так можно выразиться, оглушительны, что избыточная аналитика мало что добавляет к их восприятию. Приходится просто принять как данность, что одновременно с утонченно жизнеподобными, по-сомовски изящными портретами он начал писать картины, практически не имеющие аналогий даже среди современной ему авангардной живописи.
По сути дела, Филонов, как и Пикассо, стремится к «katabasis eis antron» (вхождению внутрь), но реализует это устремление, так сказать, в глубинах не только духовного, но живого физически. Его мир — это увиденное изнутри «биологическое пространство», материя в ее живом становлении, человеческое тело, открытое в своем сокровенном внутреннем бытии.
Филонов буквально вторгается в человека, проникая сквозь его земную оболочку. Он не делает внешнее подобием внутреннего, как Ван Гог или экспрессионисты, тем более не обращается к системе кубистических метафор. Внутренний мир человека у Филонова — это, конечно, не анатомия (хотя Филонов внимательно ее изучал, в том числе и сравнительную анатомию), но своего рода мифология внутренней — физической — жизни человека, где духовное совершенно неотрывно от материальной его субстанции. «Изображение объекта не через его внешнюю, видимую форму, но через реализацию внутренних функций и процессов, происходящих в объекте»40. Будучи уверен, что в картине важны биодинамика, эманации, «генезисы», «процессы в цвете и форме»41, Филонов так и строил свои картины, врываясь в потаенные глубины тела, а следом и сознания (подсознания) своего персонажа. В этом смысле Филонов соприкасался с еще лишь формирующейся научной фантастикой, с представлениями о мутации, биороботах и многом другом, подтверждая мысль о профетической способности искусства.
П. Филонов. Коровницы. 1914
Отдав дань и отвергаемому им кубизму («Кому нечего терять», 1911— 1912, ГРМ), Филонов уже к середине 1910-х находит свое видение и путь его реализации. Картина «Коровницы» (1914, ГРМ) при всей своей «невпи-санности» в историко-культурный контекст, как и большинство работ сформировавшегося Филонова, хранит все же зримый «генетический код»: всегда свойственная российской культуре «воспаленная совесть», провидческий дар, ощущающий путь к гармонии через преодоление и познание зла, ощущение единства мира (люди зооморфны, животные — антропоморфны, все существа движутся в едином биологическом ритме), способность расчленять молекулы зримого мира, подобно тому как Достоевский расчленял мир подсознательных бездн. Простота и мудрость притчи странно уживается с агрессивным вторжением в сокровенные тайны не только материи, но и нашего представления о ней, синтезируя примитив с изощренными новациями времени, приемы икон (подобные «клеймам» внемас-штабные изображения уличных сцен в акварели «Мужчина и женщина», разворот сцен по плоскости, позы «предстояния») со стилистикой север ного Ренессанса и находками экспрессионистов.
•Пир королей» в известной степени маркировал начало широкого влияния Филонова в художественной жизни Петербурга, затем и Москвы. Сумрачный мир его искусства, несомненная забываемая уже новыми художниками сюжетность, даже литературность, обаяние сильного, бескомпромиссного характера, восхищение сподвижников и учеников способствовали его известности. При этом сам Филонов, ничуть не сомневаясь (как, впрочем, и Малевич, приближавшийся тогда к работе над «Черным квадратом») в своем избранничестве, ощущал себя вполне мессией. «Здесь
П. Филонов. Формула петроградского пролетариата. 1920—1921
П. Филонов. Формула вселенной. 1920—1922
налицо первый шаг небывалой, неслыханной победы человеческого творчества над материей, через глубокий, внутренний огонь новой эпохи.. <...> Филонов долго и упорно творчески работал как художник, одновременно искал и создал ценную фактуру слова и речи, как бы коснувшись глубокой старины мира, ушедшей в подземный огонь, его слова возникли драгоценным сплавом, радостными, сверкающими кусками жизни, и им зачата книга мирового расцвета „Пропевень о проросли мировой"»42,— писал единомышленник и ученик Филонова Михаил Матюшин уже в 1916 году.
В годы войны и революции Филонов (отчасти это было в традиции мастеров русского авангарда, можно вспомнить Малевича) побывал на должности председателя Военно-революционного комитета Придунайского края, а затем и в своей профессии стал заниматься организационной деятельностью. Как и Малевич, он был лидером, Учителем, главой школы, работал в Инхуке, в Академии художеств, вместе с учениками и единомышленниками создал группу «Мастеров аналитического искусства» (МАИ).
Его отношение к окружающей реальности было, надо полагать, столь же парадоксальным, как у многих пылких, наивных, но тонко чувствующих творческих людей: он понимал благородство идей и ощущал чудовищность методов и результатов. Хотел восхищаться людьми, но писал монстров. Когда он пишет «Формулу петроградского пролетариата» (1920—1921), созидая калейдоскопический макрокосм, наполненный мерцающим движением геометрических пульсирующих плоскостей и линий, за которыми — лица, лики, странное смешение мнимого горнего мира и подробностей
бытия, тогда еще в искусстве его царит спасительная, хотя и хрупкая гармония. И лица «пролетариата» сродни платоновским: «Стали наконец являться пролетарии: кто с хлебом, кто без него, кто уставший, но все миловидные от долгого труда и добрые той добротой, которая происходит от изнеможения». Словом: «...должно быть, с утра наступил коммунизм» (А. Платонов, Чевенгур). Равно как и «Формула вселенной» (1920—1922) словно бы воспринята глазами платоновского персонажа, который «тихо глядел на всю туманную старость природы и видел на конце ее белые спокойные здания, светящиеся больше, чем было света в воздухе. Он не знал имени тому строительству и назначению его, хотя можно было понять, что те дальние здания устроены не только для пользы, но и для радости». И далее он «с удивлением привыкшего к печали человека наблюдал точную нежность и охлажденную силу отдельных монументов. <...> Как остров, стоял среди остального новостроящегося мира этот белый сюжет сооружений и успокоенно светился. Но не все было бело в тех зданиях — в иных местах они имели синий, желтый и зеленый цвета, что придавало им нарочитую красоту детского изображения» (А. Платонов. Котлован).
Но последующие «формулы» наливаются болью и мраком. Лица становятся все более тяжелыми, зооморфными. Ворожба тончайшего рисунка, странно соединяющего в себе ювелирную продуманную заостренность с живым движением растущего на глазах растения, причудливые сочетания густо тлеющих цветов — все это драгоценное вещество искусства превращается на его полотнах в грозные видения апокалипсиса. Люди оборачиваются идолами, виртуозно выстроенные и ограненные мазки
П. Филонов. Колхозник. 1931
П. Филонов. Рабочий в кепке. 1930-е (?)
П. Филонов. Нарвские ворота. 1929
пульсируют в синкопированных тягостных ритмах, объемы, оправленные жесткими плоскостями, наполнены опасной энергией невзорвавшихся мин: «...мрачная правда, что мы живем в мире смерти...» (В. Хлебников).
Как всякий художник даже самых радикальных взглядов и непреклонного нрава, Филонов искал путь к приятию существующего порядка вещей. Писал Ленина и Сталина. Свои новые композиции, где бушевала тревога и боль, называл «Формула буржуазии», «Формула империализма». Но отчуждение от времени происходило не только потому, что нормативная эстетика отвергала его искусство и его взгляды на него.
В1929 году он написал картину «Нарвские ворота» (ГРМ) — поистине «вычурный своей мрачностью образ» (В. Хлебников). Уплощенные, словно лишенные жизни, напоминающие мозаику, относительно широкие мазки, холодная, необычная для Филонова сине-серая с ржаво-коричневыми и пронзительно-желтыми всполохами цветовая гамма. Похожие на доисторических чудищ, сработанных неловким игрушечником, кони над придавленной аркой, смятый, раздавленный тоской и мраком город, ждущий страданий и смерти. Все предчувствие войн, ГУЛАГа, страданий, весь ужас сгущающегося (асилия в странной этой картине. «Это ж мука, а не жизнь. И кто умер, тот умер ни за что, и теперь не найдешь никого, кто жил тогда, все они — одна потеря» (А. Платонов. Чевенгур).
Что и говорить, Филонов не понимал (старался не понимать?) страшную суть происходившего в стране. Все же, даже желая, вероятно, показать и светлую сторону жизни, труд, например, который официоз делал тогда наиболее поэтизированной жизненной и художественной категорией, он поневоле (как тот же Платонов) открывал ужас усталости, автоматизма, душевной изломанности («Ткачихи», 1930-е, ГРМ).
П. Филонов. Ткачихи. 1930
П. Филонов. Живая голова. 1923
«Интересен не только циферблат, а механизм и ход часов. В любом
предмете внутренние данные определяют и лицевую, поверхностную его значимость с ее формами и цветом»43,— записал Филонов в том же 1929 году. Он уже понимал суть «механизма». Как и Малевич, начавший в этот год картину «Сложное предчувствие».
Русское искусство стремилось к переменам в себе самом и ждало перемен в окружающем мире. После революции оно
переживало странный период — некое соединение медового месяца с пиром во время чумы: клокочущая, не имеющая, пожалуй, исторических аналогий взрывная густота художественной жизни в условиях стремительных и многообещающих социальных перемен, столь же завораживающих, сколь и жестоко пугающих, отталкивающих, неприемлемых. Даже те, кто встретил революцию с радостью, непросто входили в ее тягостные и опасные будни, воображение художников вступало в болезненное соприкосновение с конкретными событиями. Даже в классически нейтральных, отрешенных пейзажах остался холодный ужас безвременья (М. Добу-жинский. «Исаакий в метель», 1922), иные же картины просто несли в себе брутальную апокалиптическую сатиру, которую не различили власти и правоверные зрители просто из чувства самосохранения или в силу наркотизации временем больших перемен (Б. Кустодиев. «Большевик», 1920, ГТГ,— странная картина, где за наивностью детской сказки о добром мужике таится пугающая и грубая смертельная опасность). Самые пылкие манифесты и манифестации, вызов и эпатаж предреволюционных лет стали казаться детскими играми перед опасными поворотами истории.
Надежда на обновление — пафос «Купания красного коня» К. Петрова-Водкина (1912, ГТГ), а его же «Скрипка» (1918, ГТГ), написанная тремя годами (и целой эпохой) позднее, свидетельство если не разочарования, но отстранения и потрясения художника. Искусство, устремленное к слому привычного, теперь с трепетом всматривается в обломки потрясенного, покачнувшегося мира. «Скрипка» — куда более острый знак времени и его художественного осознания, нежели знаменитая «Селедка». Ошеломляет эффект покачнувшегося мира, который кажется снятым цейтлупой, и сама неподвижность становится тягучей, живой Скрипка и мертвенно пустынный город за окном, божественные формы беззащитного музыкального инструмента, стынущего на грязном, но освещенном горним, тревожным светом
К. Петров-Водкин. Купание красного коня. 1912
подоконнике с этими переливами цвета на осыпающейся штукатурке.
Петров-Водкин — и не он один — самим своим творческим существованием подтверждает мысль о том, что даже в постреволюционной России бинарные оппозиции «реализм — авангард» возникли далеко не сразу, да и возникнув, столь простыми стали лишь в обывательском сознании. 1917 год не'стал решительным переломом художественного процесса. Со
вершенно очевидно, что вполне «фигуративные» и даже вполне «революционные» произведения могли возбудить державное неудовольствие, если они отличались нестандартностью, серьезной индивидуальностью и отсутствием фанфарного мышления. Так, «Оборона Петрограда» А. Дейнеки (1928, Центральный музей Вооруженных Сил. Москва) и «Смерть комиссара» К. Петрова-Водкина (1928, ГРМ) были отодвинуты официальной критикой в тень задолго до знаменитых постановлений о роспуске художественных группировок. Вместе с тем и радетели свободного формотворчества проявляли временами горячую преданность революции, соединенную с совершенно большевистской ненавистью к соперникам на профессиональном ристалище.
В. Пестель. Семья за столом. 1920—1921
А. Лепорская. Псковитянка. 1930 (1932—1934) (?)
С. Лучишкин. Шар улетел. 1926
Н. Синезубов. Улица. Весна. 1920
Есть, однако, проблематика и чисто художественного порядка — «третья струя»4"1. Отличные художники, сумевшие трансформировать открытия авангарда в соответствии с собственной индивидуальностью, не становясь данниками моды и слишком легко узнаваемых кодов. Они сохранили фигуративность — в той мере, какая их устраивала (как сделали это на Западе Модильяни, Сутин, Марке, Дюфи), соединив превосходную школу коло-ризма, основанную на тщательном изучении импрессионистов и особенно Сезанна, с непреклонным лаконизмом и резкой выразительностью новейшего пластического языка, сумев при этом сохранить и странный суровый лиризм, точно резонировавший времени. Вера Пестель, Анна Лепорская, Александр Шевченко, Александр Русаков, Николай Синезубов, Иван Ивановский, Роберт Фа льк — в деятельности и искусстве такого рода мастеров бережно хранилась традиция высокого и современного профессионализма, аЮдекого от нетерпимости и постоянных межгрупповых баталий. И в пору относительно либеральную, и после 1932 года художники эти сохраняли «гордое терпенье» и верность выбранному пути.
То было и в самом деле «негромкое» искусство, хотя в числе его представителей авторы достаточно претенциозных манифестов (скажем, Пахомов и Пакулин в пору сложения ленинградского «Круга художников»). Однако манифесты ушли в историю, мастера «третьей струи» ни с кем особенно не боролись. Работали. Они мало менялись, хранили верность «тревоге холста»,
К. Петров-Водкин. После боя. 1923
живописной культуре и тому, что Юрий Трифонов называл «вечными темами» Среди этих мастеров более всего было свободы и многообразия. Разогнанные в 1932 году, художественные группировки не канули в Лету. Быть может, и не осознавая своей внутренней целостности, «третья струя» была хранилищем профессионального достоинства. Многие из этих художников были практически лишены выставок, их последовательность не была впоследствии отмечена фейерверком запоздалого восхищения, которым высвечены имена классиков авангарда.
Что и говорить, желание ощутить этот мир своим испытывали многие, как в литературе Олеша, даже Платонов, как многие
В. Татлин. Летатлин. 1932
кинорежиссеры. Трудно не вспомнить Олешу, глядя на поэтические индустриальные фантазии Александра Лабаса, на пронзительную печаль урбанистической баллады «Шар улетел» Сергея Лучишкина (1926. ГТГ). История русского искусства конца 1920-х годов хранит еще множество непрочитанных, нерасшифрованных страниц.
1920-е годы едва ли не судорожно аккумулируют в себе надежду, отчаянный эксперимент, свободу и зависимость, веру и разочарование, устремленность к новым формам и гальванизацию старых. В 1923 году Кузьма Петров-Водкин написал картину «После боя» (Центральный музей Вооруженных Сил, Москва). Дощатый стол, жестяной котелок на нем настойчиво материальны, они словно мостик из обычного, вещного мира в молчание людей, чьи мысли в аду недавнего боя, чьи лица навсегда замкнулись в оглушительной печали. А в глубине картины — ожившее воспоминание — их гибнущий однополчанин, навзничь падающий на бесцветную, мертвеющую планету. Время и пространство переплелись, воспоминание грозит обернуться будущим, бедный стол — последней тризной. Здесь многое соединилось- от героических иконных легенд самого Петрова-Водкина до супрематических пространственных откровений и трогательных подробностей военного быта. Главное, впрочем, в ином: в последнем, быть может, столь очевидном порыве к свободному смешению времен и пространств, к метафорическому художественному мышлению, соединенному с меркнущей верой в правду революции.
Авангард, еще не угнетаемый сверху, но не получивший широкого и мгновенного признания масс, заметно уступал в популярности художникам передвижнического толка. Он не предполагал становиться искусством для интеллектуальной элиты, для
знатоков — «для немногих счастливцев», да и где было их сыскать. Успех имели тогда масштабные, говоря нынешним языком, «проекты», в немногих из которых и в самом деле ощущение (пусть мифологизированного!) масштаба эпохи сочеталось с талантом и звездным часом художника.
Это, разумеется, и не имеющий аналогий «Летатлин» — поразительный гибрид мечты, техники, искусства, отваги, таинственный и великолепный аппарат, чья судьба прозвучала позже зловещим парадоксом в таинственной машине из «Зависти» Ю. Олеши.
Но главным стало иное произведение Владимира Татлина.
О неосуществленной экспериментальной архитекту ре в Советской России известно, она стала своего рода «виртуальной классикой» современного зодчества. Все же «Памятник III Интернационала» (1919—1920) занимает здесь особенное место.
Справедливо замечено, что Башня — «продукт сразу двух революций: социальной, дважды потрясшей Россию в 1917 году, и революции в искусстве начала XX века»45. Она и ключевое произведение кубофутуристической архитектуры. Невиданная по смелости динамическая конструкция предвосхитила многое в кинетическом искусстве XX века и реализовала самые смелые мечтания футуристов. Искусство не изображало движение, но само сотворяло его, оно синтезировало динамический театр Маринетти, «Колесо» Дюшана, архитектуру, машинерию, конструирование, политику. Оно вливало неясные утопические мечтания в жесткие, просчитанные конструкции, делало осязаемыми, царящими над миром идеи, в которые верили и еще хотели верить так много людей.
Наклонная, будто устремленная вперед колоссальная башня должна была подниматься на почти километровую высоту — вдвое превышать еще не существовавший тогда нью-йоркский небоскреб Эмпайр Стейт-бил-динг. По мысли Татлина, закрученная гигантская спираль, подымаясь вверх, поддерживала три объема — куб, конус и цилиндр, вращавшихся с разной скоростью: нижний — один оборот в год, средний — в месяц, верхний — в день, и именно этот, верхний этаж был центром ин-
В. Татлин. Памятник III Интернационала. 1919—1920
формации, что сейчас звучит естественно, а тогда — почти провидчески, с разного рода почти фантастической для времени аппаратурой, вплоть чо приборов, проецирующих на облака тексты. Огромная, светящаяся ночью, отливающая металлом и стеклом днем башня, меняющая ежечасно силуэт, объем, рисунок света и теней на своем корпусе, могла стать блистательным финалом «великого эксперимента», ожившим образом научной фантастики, действительным символом свободного мира, реализованного средствами свободного художества во всеоружии сверхсовременной техники.
То, что на столь сложное и явно опережающее возможности современной технологии сооружение не было средств, материалов и реальных индустриальных возможностей,— вполне естественно. Но было и еще что-то — видимо, несовпадение художественной значимости прос кта истинной исторической реальности.
Впрочем, фараонски бессмысленный проект Дворца Советов спустя двадцать лет тоже не смогли выполнить. И утопическая идея великого мечтателя, и проект циклопического памятника тоталитаризму оказались равно чуждыми реальной и суровой действительности времени.
К. Малевич. Супрематизм. Женская фигура. 1928—1932
V. - ARTIFEX LUDENS»
Первоначальное сырье этого процесса — произведение искусства, готовый продукт — его истолкование.
В. Хофман
Мистификация, тем более хорошо продуманная мистификация, всегда имеет больше шансов на успех, нежели искусство, в основе которого искреннее самовыражение. Мистификатор имеет в виду прежде всего вкус потенциального зрителя (читателя), его сегодняшние ожидания, степень компетентности и проницательности.
И очень редко ошибается. В отличие от художника, идущего «от себя», стало быть о зрителе не думающего, мистификатор имеет стратегию и тактику. И дело не в его злокозненности, а в сути поставленной задачи: мистификация, лишенная успеха, лишается и самого факта своего существования, следовательно, художник-мистификатор заинтересован в процессе восприятия как в принципиальной составляющей его создания.
«Итак, он идет, он бежит, он ищет. Что ищет он? Наверняка человек этот, как я изобразил его, этот одинокий пленник живого воображения, вечно путешествующий по великой человеческой пустыне, имеет цель куда более высокую, чем цель простого фланера, цель более всеобщую, иную, чем мимолетную сиюминутную радость. Он ищет нечто, что нам позволено будет называть современностью (modernite)... <...> Этот элемент, преходящий и мимолетный, чьи метаморфозы так часты, вы не имеете права презирать или проходить мимо него»41 — так писал Шарль Бодлер еще в 1863 году, предвосхищая со свойственной ему жесткой проницательностью суетные поиски актуального, которые так будут занимать новое поколение. Причем под пером Бодлера возник образ не только, да и не столько художника, творца, сколько суетного зрителя, представителя будущего общества художественного потребления, в котором одном может быть в полной мере востребовано, воспринято, интерпретировано и признано творчество, укорененное именно в мистификации, сознательном провоцировании на не имеющее позитивного решения истолкование.
Игра, как был уже случай упомянуть, в качестве формы художественного карнавала или эскапады изначально присуща искус
ству, но только в XX веке она становится в столь значительной мере определяющей важнейшие аспекты и сущностные смыслы многих течений.
Об игровой сущности искусства и об игре в жизни человека написана целая библиотека. Сейчас же речь не о теории эстетики или философских нюансах, а о практике Новейшего искусства, обозначенного событиями и именами. О тенденции, определенной в начале книги как одной из основополагающих.
Игровое начало в Новейшем искусстве неминуемо связывается с размыванием жанровых границ. Примеры футуризма в Италии, русского кубофутуризма, не говоря о дадаизме или грядущем поп-арте, доказывают, что игра позволяет отказываться от строгости того, что исторически воспринимается как возможное для живописи или ей «дозволенное». Слово, театральное действие естественным образом входят в пластические структуры, а то и доминируют в них. Или уж, во всяком случае, тесно с ними содействуют.
Речь здесь не о высших уровнях игры как деятельности, «превосходящей действительность» индивида (X. Гадамер). Уязвимость играющего (скорее, заигрывающего) искусства, как известно, заключена в его избыточной протяженности: «...здесь выявляется все зло нашего времени: игра теперь во многих случаях никогда не кончается, а потому она не есть настоящая игра. Произошла контаминация игры и серьезного, которая может иметь далеко идущие последствия»2.
Одно из последствий — возвращение к синкретическому началу в искусстве, когда участие зрителя в художественном акте отчасти снимает проблему профессионализма и критерий качества. Не стоит абсолютизировать эти особенности, но иметь их в виду небесполезно, тем более что к середине и концу XX столетия они будут только нарастать.
Игровые ситуации в Новейшем искусстве появляются одновременно с возникновением кодирующих систем. Не случайно уже появление «Авиньонских девиц», картины, повлекшей за собою столько толкований и интерпретаций, стало своего рода игрой внутри серьезного искусства. И всюду, где система интерпретаций, удаляясь от самого предмета искусства, становилась самодостаточной, игровая ситуация обострялась и усиливалась.
Естественно, что, чем менее «искусством» в традиционном смысле слова становился сам предмет интерпретации, тем более увеличивался удельный вес игры.
Именно потому первые и самые острые ситуации игры в Новейшем искусстве связаны, как ни парадоксально, с возвращением к реальному предмету. Не к реальному его изображению, а просто — к предмету.
В то самое время, когда крупнейшие мастера нефигуративного толка формируют новый беспредметный мир (именно тогда создается «Черный квадрат» и другие формирующие супрематизм работы Малевича, которые будут выставлены в 1915 году, «композиции» Кандинского, «симультанные окна» Делоне, «нео-пластицистические» картины Мондриана), исторгнутый из искусства, не изображаемый более предмет становится сам явлением искусства. Точнее, его таковым делают.
Появление в искусстве ready made может показаться случайным, меж тем многое прогнозирует и приближает это событие. В числе этих причин — возрастающий по мере развития промышленного тиражированного дизайна уважительный интерес к вещи и некоторая боязнь наступления этих самых тиражированных вещёй; введение настоящих полиграфических коллажей в картины кубистов; развитие кинохроники и превращение ее в искусство, эволюция монтажа в кино, особенно документальном, где точно найденное сопоставление обыденных мотивов вызывало парадоксально-острый художественный эффект, наконец, использование индустриальных мотивов в конструктивизме.
Своеобразная «игровая реабилитация реальности», выразившаяся в возвращении в искусство не предметного изображения, а самого предмета,— следствие принципиального для авангарда негативизма, но и все того же стремления к игре, где в качестве объекта выступают обыденные предметы в не свойственной им ролевой ситуации.
Здесь колоссальная, до сих пор не вполне оцененная и проанализированная роль принадлежит фотографии. Фотоаппарат, этот «хозяин мгновения, который в области зрения (en termes visuels) спрашивает и отвечает в одно и то же время» (А. Картье-Брессон), уже со времен Дагера и Надара доказавший способность снимка соперничать с традиционной живописью, в XX столетии стал инструментом построения новых художественных структур.
В известной мере это совпало с той реабилитацией предмета, к которой подходили кубисты синтетического периода или тот же Марсель Дюшан. Необычное сопоставление тривиальных объектов — принцип, четко оформившийся в начале 1910-х годов, пример чего — упомянутая надпись на обороте картины Малевича. Это, однако, сопоставление рукотворное, сопоставление изображенного. Фотография фиксирует с видимой объективностью, сопоставляет реально существующее.
Как известно, один из определяющих признаков игры — доминанта процесса над результатом. Обычный предмет не может являть собой художественный результат. Но помещенный в необычный контекст, он провоцирует некий занимательный и са
моценный процесс восприятия и интерпретации, каковой и становится важнейшим фактом искусства, искусства, которое не стремится ни к содержательным, ни к пластическим открытиям, ни к самовыражению, но лишь к занимательной провокации. Здесь имеет смысл вновь привести вынесенное в эпиграф суждение: «Первоначальное сырье этого процесса — произведение искусства, готовый продукт — его истолкование»3.
Впрочем, самовыражению все же остается известное пространство. Изживание в художественной игре запутанных проблем, возникающих у истонченного, но не всегда отважного интеллекта с грозной и смутной действительностью,— тоже своеобразный способ творческой реализации. Причем здесь ясно просматривается связь с синкретическими ритуалами доисторической культуры, с ее наркотическими коллективными обрядами. Игра действительно один из самых действенных эмоциональных наркотиков: сцены, разыгранные персонажами «The City of the Plague» Уилсона и пушкинского «Пира во время чумы», противопоставляют истерическое веселье окружающему кошмару и близкой гибели.
Здесь опять-таки перед исследователем стоит опасность драматизировать ситуацию и увидеть в коллажах синтетического кубизма, в «провокациях» Дюшана, футуристов или дадаистов некую мрачную устремленность к забвению, к выстраиванию коварных художественных программ, клонящихся к бегству от действительности. Слишком легко воспринять «игровое искусство» как формальные претенциозные забавы или, напротив, анализировать его с позиций «микроэстетики», используя сложный философский инструментарий.
Скорее всего происходил сложный и достаточно запутанный, но все же не укорененный в глубокой философии художественный процесс, внутри которого и высоко одаренные мастера, и люди среднего таланта, и вовсе его лишенные, но способные создать и взбивать далее тревожную и искристую пену спасительного воодушевления в трудах, забавах и спорах, старались самим процессом иронического созидания, веселым скепсисом и мужественным любопытством поддержать достойный диалог с опасным, непредсказуемым временем и, по возможности, оставить потомкам достойные свидетельства своих творческих дерзаний.
Что-то непременно в процессе подобного творчества терялось: переизбыток иронии и даже самой ее возвышенной формы — самоиронии — лишает искусство мощи, значительности и масштаба, игра порой оборачивается игривостью, мучительно затягивается, стирая по пути не только жанровые границы, но и грань между профессиональным экспериментом и дилетантской претензией на оригинальность.
П. Пикассо. Рюмка абсента. 1914
Основными вехами и явлениями, маркирующими эволюцию игры в искусстве, стали прежде всего:
первые кубистические работы Пикассо и, несомненно, его ранние скульптуры, в которых заложена порой своего рода «игровая программа» («Рюмка абсента», 1914, ХССВ);
коллажи синтетического кубизма, выступления русских будетлян, опера «Победа над солнцем», произведения Архипенко, Пикабиа и особенно Дюшана на «Армори-шоу» (Нью-Йорк, 1913);
работы Анри Лорана середины 1910-х годов («Клоун», 1915), ранние ready made Дюшана, «динамические ассамбляжи объектов» с подвижными
куклами Маринетти и Ф. Канджулло в галерее Дж. Спровьери (Рим, весна 1914 года);
в известной мере и дадаистские манифесты и, разумеется, сама деятельность дадаистов. А затем, отчасти унаследованные от «Дада», отчасти развивающиеся независимо опыты сюрреалистов и даже, рискнем предположить, предшествовавшее им метафизическое искусство.
Все эти совершенно несхожие вещи этих разных художников объединяет одно — настойчивое желание провоцировать интерпретацию вокруг нетрадиционно изображенных или представленных достаточно обычных самих по себе предметов. А часто и использование реальных вещей или их имитация — вариант, при котором, упрощая предмет, можно было усложнять его интерпретацию.
Здесь возникает парадоксальное (позитив—негатив) сходство с искусством вполне беспредметным: оно ведь тоже тяготело к бесконечным объяснениям, самоапологии и т. д. В сущности, понять это несложно. В обоих случаях возникает зрительская растерянность, недоумение, дефицит информации эмоциональной и интуитивной, информации традиционно эстетической. В обоих случаях появляется непривычно просторное поле восприятия — бесконечно неопределенное для абстракции, предметно локализованное, тождественное бытовому видению для ready made.
Правда, между столь открыто игровыми явлениями и другими, игровыми, так сказать, латентно, граница зыбка и подвижна, и надо иметь в виду, что тенденции постоянно проникают друг в друга, пересекаясь и клубясь, как объемы в кубистической живописи.
М. Дюшан. Велосипедное колесо. 1913. Воспроизведение 1964
Здесь можно вспомнить и «предметные» опыты Умберто Боччони (отчасти близкие «предметным» скульптурам Пикассо, в первую очередь его скульптуру «Развертывание бутылки в пространстве» (1912—1913), где динамические, отчасти восходящие к кубизму объемы соприкасаются с имитацией реального предмета); пластический комплекс (инсталляцию) Дж. Баллы «Шум+ танец+радость» — словом, как раз те стороны деятельности футуристов, которые связаны именно с игрой.
Первым же действительно «знаковым» событием стало «Колесо» Дюшана.
Велосипедное колесо и писсуар, репрезентированные как скульптура,— своего рода «игра в игру», система многократного отражения.
Мне больше нравится дышать, чем работать.
Марсель Дюшан
Марсель Дюшан: пролог постмодернизма. Возможно, Марсель Дюшан — единственный мастер, который не только неразрывно связывает модернизм с постмодернизмом, но и убедительно доказывает как ценность и вечность первого, так и неизбежность и значимость второго.
М. Дюшан. Фонтан. 1917
Этот «магистр игры», великий мистификатор провел детство и отрочество вдали от искушений богемного вольнодумия. Сын богатого нормандского нотариуса, земляк Флобера, Мопассана и их героев, Марсель Дюшан рос в атмосфере провинциального буржуазного интеллектуализма. Привилегированный лицей Корнеля в Руане, принеся ему медаль за успехи в рисовании, не подарил вкуса к науке, но развил склонность к размышлению, едва ли способную развиваться вне организованного знания. В шестнадцать лет он в Париже и занимается только искусством. Юношеские его рисунки странной зрелостью напоминают Пикассо, в семнадцатилетнем возрасте он уже пишет почти профессиональные импрессионистические пейзажи: «Цер-
ковь в Бленвиле» (1902, Музей искусства, Филадельфия), «Пейзаж в Блен-виле» (1902, частная коллекция, Милан) и др. Дюшан, правда, позднее склонен был преуменьшать значение этого влияния: «Даже если можно назвать эту живопись „импрессионистической", она показывает лишь очень отдаленное влияние (influence tres eloignee) Моне, моего любимого художника-импрессиониста в то время»4.
Возможно, Дюшан недооценивал значение импрессионизма именно как школы художественной независимости — впрочем, в ту пору импрессионизм уже становился историей. Но в принципе он был прав, поскольку проходил период неизбежного в молодости подражательства семимильными шагами, едва успевая «обосноваться» в том или ином направлении. Вслед за своим братом Жаком (работавшим под псевдонимом Виллон) он делает рисунки для газет, участвует в «Салоне юмористов», берет уроки рисования (недолго, он вскоре отказался от намерения поступать в Школу изящных искусств) и много пишет. Быть может, он сохраняет силы и время, оставаясь в стороне от бесконечных интеллектуальных досугов
монмартрских и монпарнасских художников и поэтов,— душевная сосре-
доточенностъ и дендизм отдаляют его от богемы. Выставки он решительно предпочитает знакомству с обитателями «Улья» или «Бато-Лавуара», впечатления переживает глубоко, но скорее в одиночку.
«Плавая», по собственному признанию, между фовизмом, кубизмом и классикой, он в ранних своих работах близок равно Матиссу и Руо («Обнаженная в черных чулках», 1910, частная коллекция, Париж; «Портрет Дю-шана-отца», 1910, Музей искусства, Филадельфия), но в его во многом еще несовершенной живописи, лишенной, быть может, олимпийской значительности старших коллег, больше, чем у них, темной страсти и колористической игры. Живопись Дюшана вряд ли может быть оценена в абсолютных величинах. Он во многом шел вслед за уже найденным, но вскоре заставил померкнуть свои традиционные достижения прорывами, открытиями и, разумеется, скандальными работами 1910-х годов, а главное, своей решительной устремленностью к искусству будущего и принадлежностью к нему.
Сказать, что Дюшан «играл» в кубизм, значило бы весьма спрямленно объяснить непростое явление. «Homo ludens» — понятие, ставшее универсалией XX века, и в творчестве авторов кубизма Пикассо и Брака немногим менее игры, чем в искусстве Дюшана. Но игра для Дюшана ближе к его любимым шахматам, нежели к забаве. Его «кубистические» картины («Соната», 1911, Музей искусства, Филадельфия) не столько подражание, сколько аналитические штудии. Он устремлен в будущее, и кубизм интересует его более всего как путь к новой предметной среде. Его «Кофейная мельница» (1911, Галерея Тейт, Лондон) свидетельствует о мастерском использовании достижений кубизма для реализации собственного подхода к натуре. Это и взгляд на предмет с разных сторон, и проекция его движения, и одновременно изображение художественного «объекта» конца века, а главное, мастерское художество. Впрочем, его известный ранний рисунок, изображающий газовый рожок (1903—1904, Руан), уже таил в себе острый интерес к антропоморфной машинерии и глубоко скрытой эротике.
Работы Дюшана той поры странно сочетают в себе созвучие настоящему с прорывом в будущее — кубизм явственно синтезируется с футуризмом в его «Обнаженных, спускающихся по лестнице» (№ 1 и № 2») (обе —1911. Музей искусства, Филадельфия). Важно при этом, что его натурные рисунки обнаженной модели, исполненные в то же время, свидетельствуют о совершенном и традиционном профессионализме. Соприкосновение с предметом — динамическим или неподвижным — все более ощутимо в его искусстве, влияния занимают его все меньше. Ни «Синий всадник», ни позднее «Дада» в чистом варианте (если так можно сказать о«Дада») его не захватывают. В начале 1910-х он обретает независимость и почти полную индивидуальность, становясь едва ли не центральной фигурой среди художников, образовавших группу «Пюто»: Купка, Роже де Френе, Пикабиа, Архипенко и др. Группа была радикальнее «классических» кубистов и мечтала об искусстве более «концептуальном». Вскоре, как известно, Дюшан станет кумиром дадаистов и, по их мнению, едва ли не главным и прямым их предшественником.
М. Дюшан. Обнаженная, спускающаяся по лестнице, № 2. 1911
Еще до первых своих ready made Дюшану удалось эпатировать ко всему привычную публику, представив в Салоне независимых 1912 года упомянутую картину «Обнаженная, спускающаяся по лестнице» (№ 2). Картину под давлением критики убрали с выставки, хотя в ней не было ничего непристойного: лишь агрессивная пластика, эффект словно бы наложенных друг на друга движений (хорошо знакомый футуристам прием5), использование кино- и фотоэффектов — словом, непосредственная свобода поиска, которая, как оказалось, еще могла шокировать зрителя. Правда, футуристические эксперименты в Париже еще не были широко известны, после манифеста Маринетти (февраль 1909 года) лишь одна футуристическая выставка была показана в Париже в галерее Бернхейма. К тому же футуристы обнаженную модель не изображали.
По поводу первого (как и последующих, конечно) ready made талантливого и смелого живописца пролито столько чернил, что разгля-
деть сквозь наслоения многолетних интерпретаций истинный образ события едва ли возможно, равно как и представить себе, что было импульсом и причиной сенсационного выступления, которое вряд ли могло тогда почитаться событием художественным. Правда, спустя много лет Дюшан утверждал, что, открыв ready made, он «надеялся внести смуту в карнавал эстетизма»6, в то время как дадаисты стали восхищаться именно их эстетикой. Впрочем, многочисленные поздние суждения Дюшана о его ready made 1910-х годов кажутся скорее лукавыми пассажами утомленного интервьюерами мастера, нежели объяснением действительно непростой проблемы. Нет ничего более зыбкого, чем реконструкция замысла произведения, тем более поступка (акции), эпатировавшего художников и публику почти столетие назад. Но нельзя не восхититься отвагой художественного жеста, предвосхитившего многое из того, что в наши дни называется «художественной стратегией». Общественный вкус ждал того, что, согласно приведенному суждению Бодлера, «нам позволено будет называть современностью (modernite)». В данном случае — более всего именно жеста. Колесо Дюшана стало прологом не только «дада», но и поп-арта, акционизма, первым found object, первым контраргументом против абстрактного искусства, наконец, первым явлением в искусстве, в котором искусство в традиционном смысле слова отсутствовало вовсе.
«Ахудожественное» (anartistique) (определение Дюшана, признанное им в противоположность более привычному «антихудожественное» (anti-artistique)) произведение, помещенное в традиционное выставочное про-
М. Дюшан. Сушилка для бутылок. 1913. Воспроизведение 1964
гтранство, серийная деталь — колесо серийного велосипеда, укрепленное на табурете вилкой вниз, было прежде всего явлением безусловного в мире условных изображений и возникновением нового диалога рукотворных предметов — массового индустриального и уникальных художественных.
Вероятно, Дюшан — первый и единственный — почувствовал тогда, что границы между искусством в традиционном смысле и просто предметом, тиражированным, но имеющим свой смысл, динамику и даже «машинную философию», не то чтобы исчезают, но становятся взаимопроницаемыми и проблематичными. И он столкнул, вовсе не избегая игры и открытого эпатажа, эти два прежде не сопоставлявшихся явления, заставил их вступить в диалог и, как принято сейчас го
ворить, самоидентифицироваться. Вероятно, не следует преувеличивать ни провокационности, ни философической обоснованности акции. Ее значение определилось не ею самой, а пылкой востребованностью, назревшей необходимостью в ситуации, интерпретация которой во много раз превосходила ее сущностную ценность. Начавшийся с «Велосипедного колеса» (1913, первоначальный оригинал утрачен) парад интерпретаций стал прологом постмодернистских систем и конструкций.
В корректности употребления термина «постмодернизм» по отношению к художнику, сложившемуся в первой четверти XX века, можно, разумеется, сомневаться. Однако если рассматривать постмодерн не как целостное художественное мировоззрение, а как некий комплекс приемов и качеств, как некий язык, то, несомненно, все зто различимо у Дюшана.
Многие произведения и «акции» молодого Дюшана стали своего рода •священными коровами» для новейшей арткритики, но в свое время они не были настолько в центре внимания, насколько оказались ныне. По сию пору о Дюшане пишут как о художнике совершенно загадочном, нерасшифрованном, по масштабу сравнимом лишь с Пикассо, открывшем новый путь в искусстве XX века.
Странность Дюшана не столько в его произведениях, «неразгадывае-мость» которых, можно полагать, составляла обязательную часть замысла, сколько в несопоставимости образа и корней художника с его деятельностью. Интеллектуал, любитель шахмат, человек, чуждый богемы и скандальных деклараций, обликом напоминавший Гессе, он созидал художественный мир, предвосхищавший театр абсурда. При этом в основе
М. Дюшан. Большое стекло. Фрагмент инсталляции. 1915—1922
М. Дюшан. Большое стекло, фрагмент инсталляции. 1915—1922
его самых алогичных и даже скандальных художественных конструкций оставалось высокой пробы профессиональное мастерство рисовальщика, живописца, даже архитектора. А разрисованные репродукции — от кичевого пейзажа («Pharmacie»)7 до «Джоконды»,— тоже воспринимаемые в XX веке «знаковыми» событиями, не были ли они для художника усталыми опытами социального психолога? По сути дела то был уже поп-арт, возведение в ранг искусства страниц обыденности, спонтанной тяги к «разрисовыванию», результаты чего (та же «Джоконда» с усами) становятся такими же ready made, как писсуар («Фонтан», 1917, оригинал утрачен) с подписью художника.
Главным качеством всей художественной карьеры Дюшана было все же совершенное чувство творческой и интеллектуальной свободы, беспредельность которой и занимала, и забавляла его. Видимо, он обладал особым даром угадывать некие механизмы общественного вкуса и строить провоцирующие его интерес конструкции. При этом его работы, как правило, обладали запасом высокого художественного мастерства, что придавало самым эпатирующим и абсурдистским произведениям ощущение ценности и «сделанности», профессиональной завершенности. В этом смысле он в глазах публики мог выглядеть более мэтром, чем Пикассо или кубисты.
Разумеется, репрезентация колеса или писсуара остается лишь жестом, организующим прогнозируемую реакцию и новые поля напряжения в пространстве интерпретаций. Эти акции требовали лишь изобретательности и художественной дерзости, а может быть, лишь математического и
психологического расчета, точного выбора момента и несомненного чувства юмора.
Однако когда он обращается к масштабным композициям, где пред мет сочетается с рукотворным искусством, где возникает необходимость в сложной архитектонике целого, его фантазия непременно согласуется со строгим вкусом в отношении художественной формы, с чуткостью к материалу и профессионализм его просматривается в самых немыслимых и даже кажущихся нелепыми замыслах.
Его огромный, выражаясь современным языком, проект «Большое стекло»8 в какой-то мере подводил первые предварительные итоги его разнообразным и, со стороны могло показаться, противоречивым поискам. Задуманное Дюшаном произве
Ф. Пикабиа. Любовный парад. 1917
дение не было (в принципе и не предполагало быть) завершенным, поскольку сам его замысел, первоначальный теоретический и графический проект уже стали объектом интерпретаций, начавших «дурную бесконеч
ность», иными словами, не имеющую по определению решения, самоценную для любителей такого рода игр полемику.
Сравнить процесс подготовки «Большого стекла» с бессмертной «игрой в бисер» кастальских мудрецов было бы столь же эффектно, сколь неточно Эпатирующий проект Дюшана лишь своей изящной отвлеченностью может сейчас напомнить кастальские развлечения, имеющие в своей основе синтез глубоких знаний, представлений, процесс моделирования взаимодействия разных искусств, точной науки и интуитивных представлений.
«Официальное», каталожное название этой работы Дюшана — «Новобрачная, раздетая своими холостяками, или Большое стекло» (La mariee mise a nu par ses Celibataires, meme (Le grand verre). По идее художника, должна была возникнуть, точнее, находиться в состоянии возникновения сложнейшая конструкция из стекла и неких механизмов, скорее даже моделей, образов этих механизмов, имеющих лишь метафорический смысл, но описание и «инвентарь» коих составляли важнейшую часть проекта. Интерпретации, публиковавшиеся со времени появления замысла, давно погребли под собою первые впечатления от тех частей проекта, которые Дюшан успел реализовать. Впрочем, известно, что Дюшан рассматривал свое сооружение как некий эротический аппарат, полагая, в частности, мельницу для шоколада прибором для самоудовлетворения мужчин (ср. с известной картиной Пикабиа «Любовный парад» (1917, Собрание Нойманн, Чикаго), где сексуальный процесс имитируется
Ф. Пикабиа. Очень Редкая на Земле Картина. 1915
М. Дюшан. Вращающиеся стеклянные плоскости. 1922
изящно и гротескно изображенными механизмами). Правда, художник в своих интерпретациях не определял принципиальной разницы между смыслом, иронией или нарочитым абсурдом.
Графика, отмеченная жестким и нервным изяществом, тексты, фрагменты будущего сооружения, выполненные с отличным чувством материала, биоморфные и подвижные, не говоря уже о знаменитой стеклянной плоскости («платформа», «салазки») с кофейной мельницей (1912—1915, Музей искусства, Филадельфия) — дерзкой и смелой динамической конструкцией, сложным «мобилем», в котором рафинированность пластики сочетается с продуманным абсурдизмом функций. Все это исполнено своеобразного величия и дерзкой свободы. «Мы находимся перед механической, циничной интерпретацией любовного феномена: перехода женщины от состояния девственности к не-девственности, рассмотренного как тема для построения по существу ачувстви-тельного — скажем, сверхчеловеческого существа, применяющего к себе этот вид операции»9,— писал Андре Бретон через двадцать с лишним лет, и одной этой фразы (из сотен, если не тысяч, порожденных «Большим стеклом») довольно чтобы понять безбрежность, точнее, заданную аморфность интерпретационного поля, предложенного Дюшаном. Вся эта немыслимо многосложная, в сущности невыполнимая громада, этот фантомный, виртуальный, лишь отчасти материализованный театр имеет свой философский, психоаналитический, искусствоведческий интеллектуальный мир, свое мыслительное пространство (то, что современная арт-критика часто определяет термином «дискурс»), давно уже рождающее собственную мифологию и целую систему многократных отражений. «Большое стекло», еще не законченное, сильно пострадало при перевозке, и Дюшан превратил разбитое сооружение в законченное, сохранив и трещины, интерпретируя их как своего рода следы судьбы произведения, соприкасающегося со временем.
Дюшан обладал феерической фантазией и столь же невероятной работоспособностью, был поразительно трудолюбив, и фантазия его не была связана ни вкусом (он сам его устанавливал), ни традицией (он не просто
I нарушал ее, он работал так, словно ее никогда не было), ни общепринятым понятием приличия. Он действовал скорее как ученый, ставящий опыты в поисках любого результата, копящий наблюдения, но не стремящий-। ся к выводам.
! Еще до отъезда в Нью-Йорк (1915) он прославился в США благодаря । скандальному успеху «Ню» на «Армори-шоу», поэтому успех его в Новом Свете был предрешен. Он стал живой сенсацией, гамельнским крысоловом радетелей Новейшего искусства в США, а чуть позднее, в 1916 году,— кумиром цюрихских дадаистов, а затем проводником их идей в Нью-Йорке. Достаточно взглянуть на картину Пикабиа «Очень Редкая на Земле Картина» (1915, МСГ), чтобы увидеть почти подавляющее влияние «Большого стекла» на художника достаточно независимого и к тому времени вполне сложившегося.
Практически одновременно с Татлиным Дюшан занялся кинетическим искусством. Начав еще с «Колеса», где движение было в природе самого предмета, Дюшан пришел к объектам с эффектным । запрограммированным движением, предвосхищающим эффект оп-арта («Крутящиеся тарелки», 1920, Художественная галерея Йельского университета, Нью-Хейвен). Естествен и его интерес к кино— ему принадлежит «абстрактный» фильм (в самом деле лишенный предметности) «Anemic Cinema» (1921).
Словно бы предвосхищая проблемы •репрезентации», будущих компьютерных сайтов, интертекстов etc, Дюшан позднее изготовил невиданный в искусстве вариант собственного Собрания со-
чинений — своего рода несессер, в котором в сложенном виде представлены были образы его важнейших произведений, даже грандиозной поздней инсталляции «Etant donne» (1946—1966, Музей искусства, Филадельфия), проникнутой мистифицированной философией и эротикой и являющей собой впечатляющее смешение концептуализма, пог.-арта, а точнее говоря, воплощающей универсализм лукавого и плодовитого интеллектуализма Марселя Дюшана. Предугадывая приближение виртуальных миров, Дюшан создал идеальный музей и идеальную библио-I теку, продолжая до самой смерти продуцировать парадоксальные и занимательные идеи, развлекавшие его грандиозный интеллект великого мистификатора.
А кроме того, что немаловажно, Дюшан собственной своей судьбой и стилем жизни создал тип и модель «художника играющего» — artifex ludens.
Но при всей безудержной фантазии мастера, бесцеремонно провоцирующего зрителей и критиков на многомудрые интерпретации даже
Ф. Пикабиа. Ребенок-карбюратор. 1919
М. Дюшан. Шкатулка в чемодане. 1936—1941
откровенно ироничных своих произведений, Дюшан сохранил благотворную самоиронию и старомодную щепетильность к художественному профессионализму всего, что предлагал urbi et orbi И доказал и то, с чем не так уж склонны соглашаться истовые адепты постмодернизма,— значимость истинной независимости и просто высокого художественного на 1ества, без чего самые абсурдистские и претенциозные его
создания не смогли бы занять столь несомненное место в пространстве, объединяющем высокий модернизм и постмодерн.
Как уже упоминалось, Дюшан стал (не мог не стать) кумиром дадаистов, вероятно, еще до того, как дадаизм сформировался в качестве цельного явления. Это самое «игровое» художественное движение начала века — дадаизм — появилось в разгар Первой мировой войны и в отдалении от нее — в нейтральной Швейцарии.
В этом смысле ситуация на Западе была, несомненно, более сложной, полисемантической и полистилистической, многослойной, более трудной для определения, нежели в России 1920-х годов. Здесь значительная часть культуры, не отвергнувшая революцию с порога (прямых противников революции было куда меньше среди интеллигенции, чем принято думать, особенно в первые ее годы), попросту прильнула к ней, видя в крушении действительно убогого николаевского режима счастливую перемену к свободе, в том числе и художественной. Роман советской власти со свободным искусством хоть и был недолгим, но отличался взаимной пылкостью. Художники, впоследствии растоптанные режимом, были поначалу едва ли не придворными художниками большевиков.
В России период смятения и разочарований скорее предшествовал войне, чем маркировал послевоенные годы. Революция и Гражданская война, сознание несомненной исторической исключительности, неизбежность выбора («С кем вы, мастера культуры?»), резкая поляризация позиций практически исключили полутона. Ситуация не оставляла времени на размышления, тот, кто не совершал стремительно выбора, выпадал из истории.
Томительная рефлексия, ощущение потерянности, мучительной непричастности жизни — все это тяжелые прерогативы западной интеллектуальной жизни. Россия оставалась с иными проблемами, более категоричными, грозными, упрощенными.
Нам знакомы радости и печали, которые можно отыскать и под крышей подъезда, на углу улицы, в комнате, на поверхности стола, между стенками ящика. <...> Астрономия вещей основывается на совершенном знании пространства, которое предмет должен занимать в картине, и пространства, которое отделяет один предмет от другого... <...> Каноны метафизической эстетики покоятся на кропотливом и точно рассчитанном расположении (deploiement) плоскостей и объемов.
Джорджо Де Кирико. Метафизическая эстетика
«Тоска по бесконечности»*. Западный авангард с началом войны — какединое и мощное движение — почти остановился в стремительном своем развитии. Во всяком случае явление метафизической живописи кажется своего рода художественной медитацией, паузой после футуристических баталий. Можно ли сказать, что и это случилось тоже в «пространстве игры»?
Само по себе метафизическое искусство как будто бы не кажется мистифицирующим, настойчиво требующим лукавых интерпретаций. Однако его поэтика, и особенно произведения самого яркого его представителя Джорджо Де Кирико, была востребована дадаистами и вошла в сюрреалистическую тенденцию. Метафизическая школа стала чем-то вроде философического корня игровых побегов.
Впрочем, «игры» дадаистов были ненамного веселее сумрачных фантазий метафизической живописи. И там и туг необходимы были обширные интеллектуальные, умозрительные структуры, и там и туг ирония имела горький привкус, а печаль — оттенок отрешенного скепсиса.
К тому же и близящийся дадаизм, и формирующаяся в середине 1910-х годов метафизическая живопись стали со временем основным материалом сюрреалистической культуры.
Основы сюрреалистического видения действительно складывались вИталии как естественная реакция на период шумной активности футуристов. Недолгие годы совместных футуристических акций миновали, во время войны группа практически перестала существовать: Боччони погиб, Рус-соло вернулся к музыке, Карра сблизился с Де Кирико и занялся метафизической живописью.
В футуризме несомненно присутствовала и пластическая, и эмоциональная перевозбужденность, даже некоторая суета, в значительной мере и социальная, порой — политическая ангажированность. Футуризм был, как и большинство течений начала века, искусством тревожных предчувствий. Метафизическое искусство, возникнув, как и футуризм, до войны, оформилось уже в послевоенные годы и склонно было скорее к размышлениям вневременным, к подведению некоторых эмоциональных итогов.
Фигура в метафизическом искусстве наиболее значительная и I для сюрреализма принципиальная — Джорджо Де Кирико, итальянский
* Название картины Дж. Де Кирико (1911).
интеллектуал, поэт, проведший детство и отрочество в Греции (он жил там до 16 лет) и отправившийся затем учиться в Мюнхен, где, как, впрочем, и многие, более всего оценил Бёклина и Клингера, основательно узнал новую немецкую философию. Генетическое итальянское чувство античности, понимание не хрестоматийного, но пережитого и воспринятого духа Эллады, реакция на слишком экстравертивное искусство футуристов формировали жизнеощущение Кирико, хотя он менее, чем иные итальянские художники его поколения, был затронут футуристическими идеями и пластическими концепциями.
Для Де Кирико ценнейшими качествами картины было соприкосновение со сном или детской мечтой. Вначале он пробовал реализовать эти устремления в прямолинейном варианте мюнхенского символизма, но быстро обрел собственную интонацию. И если термин «метафизическая жи-
Дж. Де Кирико. Ностальгия поэта. 1914
вопись» был обнародован им, Карра и Джорджо Моранди лишь в 1917 году, то суть этого направления уже просматривается в довоенных работах Де Кирико, да и эпитет «метафизическое» он стал использовать в ту же пору.
Странное соединение мистических идей, тревож ных мечтаний, устремленность к ценностям прежде всего внутренней жизни, постоянные ассоциации с античностью (в римском, «цезарианском» ее ощущении), но омертвелой, неподвижной — такой мир становится средой обитания персонажей Джорджо Де Кирико.
Когда летом 1911 года10 он впервые приехал в Париж, показал свои работы в Осеннем салоне и Салоне независимых, он сумел удивить привыкших ко всему и мало чему удивлявшихся собратьев по искусству, равно как и зрителей. Впрочем, именно в начале своей парижской жизни Де Кирико формулирует собственное понимание искусства в окружающей его ситуации: «Вокруг меня международная шайка современных художников по-дурацки волновалась в кругу истасканных формул и стерильных систем. Я один, в моей грустной мастерской на улице Кам-пань-Премьер11, начал находить первые признаки
более цельного искусства, более сложного и, выражаясь одним словом и рискуя вызвать печеночные колики у французского критика, более метафизического»12.
Сказанное, разумеется, никак не относилось к Гийому Аполлинеру, высоко оценившему работы Де Кирико в Осеннем салоне и Салоне независимых 1913 и 1914 годов. В 1914 году Де Кирико пригласил Аполлинера в мастерскую и преподнес ему его портрет, который поэт четыре года спустя назвал «предостерегающим» (premonitoire) (1914, МСИгП). Действительно, на черном профиле-силуэте Аполлинера Де Кирико нарисовал кру-
Дж. Де Кирико. Портрет Г. Аполлинера. 1914
жен. напоминающий мишень: как известно, в 1914 году поэт был ранен в голову и в 1918-г скончался от этой раны. В картине на первом плане — античный бюсте черными очками, частая у Де Кирико метафора слепого поэта, столь ему близкая. «То, что слушаю, ничего не стоит, есть лишь то, что я вижу открытыми глазами, но еще лучше — закрытыми»13,— писал художник.
Понятие метафизического в круге художественных идей времени скорее всего обозначало лишь устремление искусства за пределы материально воспринимаемого и познаваемого мира. Де Кирико не было и тридцати, он воспринимал жизнь с романтизмом визионера-пессимиста
и действительно обладал редким талантом воспроизведения не инфернальных пугающих видений, как многие художники его времени, но видений в высшей степени индивидуализированных. Его живописные сны поразительно достоверны. Де Кирико в известной мере делает то же, что и Кандинский, и Клее, но облекает свое бессознательное в предметную форму.
Однако предметы его не выворачивают наизнанку смутные сферы душевных тайн, не травмируют зрителя отвратительными материализованными деталями скрытых или подавленных представлений, что будет характерно для сюрреалистов, для многих работ Эрнста и особенно Дали с его «беллетризованными» и подробными кошмарами.
Де Кирико зовет взглянуть на опустевший, успокоенный, оцепенелый мир, где царят не столько страсти, боль, жизнь или смерть, сколько их отдаленное, затихающее «визуальное эхо». Пейзажи после душевных битв, окаменелые шрамы, трагедии, обернувшиеся мраморными памятниками самим себе. Это усиливается самой живописью, чья фактура гладка и незаметна, жесткой, «втягивающей глаз» перспективой, просторными плоскостями однообразно окрашенных стен, мостовых, неба, крохотных затерянных фигурок, чудящихся если не каменными, то и не вполне живыми. Таким порой в тягостном сне словно бы со стороны видит самого себя человек в опасном, нездешнем пространстве. Как был уже случай заметить (см. главу II), человек во сне нередко ощущает себя маленьким, затерянным в огромном мире смещенных пропорций и пространств. В картинах Де Кирико постоянно властвует эффект тягостного неузнавания — «jamais vu» (знакомое,
Дж. де Кирико, загадка дня. 1914 кажущееся увиденным впервые), они и в са-
мом деле пространство сна, где нет расстояний, где предметы удалены или приближены лишь благодаря неким перспективным намекам, где то, что представляется более существенным, из дальнего вдруг превращается в близкое, как в кино с помощью современного трансфокатора. Можно было бы сравнить его картины и с театральной сценой, где иные предметы объемны, иные лишь изображены, где есть и люди, и куклы, но все это может в какой-то момент поменяться местами. Не объективное пространство, расстояние, масштаб, а медлительный калейдоскоп видений, вязкого сна, от которого невозможно пробудиться, властвует над предметами и людьми. Непросто понять, почему построенное (казалось бы!) по законам классической перспективы пространство так тягостно и болезненно-странно в картине Де Кирико («Красная башня», 1913, МСГ). А художник искусно пользуется именно знанием перспективы, создавая лишь фантом ее: и мертвая, освещенная ледяным светом («безлюбовное солнце», по выражению самого художника) улица, и башня
вдали, и пьедестал статуи неведомого кондотьера, словно въезжающего на пустую площадь,— все это имеет собственные точки схода, собственную пространственную ориентацию. Соединенные волею художника на холсте, эти предметы остаются в разных, непересекающихся пространственных мирах. Они — из разных снов, но близки безжизненностью, объединены пластическим языком и степенью условности, что так отличает картины Де Кирико от картин «классических» сюрреалистов.
Излюбленный мотив Де Кирико — башня, мотив глубоко итальянский, как и аркады, к которым он обращается с почти таким же постоянством. Эти создания зодчества кватроченто, даже еще более ранних веков, виделись Де Кирико таинственными формами, знаками иного временного и пространственного мира, маркирующего область возвышенной и гнетущей мечты, напоминающей человеку о его физической малости и грандиозном воображении («Большая башня», 1913, ХССВ). Несоизмеримость человеческих фигурок с архитектурой, странные, выходящие почти в пустоту двери верхних этажей — это, без сомнения, прообраз будущих сюрреалистических видений, отделенный от них горделивым пафосом лаконизма. Те же мотивы и в известном полотне «Загадка дня» (1914. МСИ), где мир еще более мертвеет, а башни обо-। рачиваются зловещими трубами, I растущими прямо из земли.
Его холсты не вызывают ни отвращения, ни любопытства, а лишь тот вместе счастливый и леденящий душу страх, что рождается прекрасными, но пугающими стихами или музыкой холодного реквиема. Но при всем их додуманном эстетизме в них царит тоска навсегда угнетенного сознания, для которого тепло живой жизни забыто в холодной пустыне таинственных снов и воспоминаний.
Де Кирико — что вовсе не характерно для причастных сюрреализму мастеров — был решительно далек от эклектики и обладал отличным вкусом и редким чувством стиля. Впрочем, это качество в той или иной мере отличало и тех, кто на более или менее долгий срок разделял его устремления и пристрастия.
Группа единомышленников Де Кирико сформировалась вокруг журнала «Валори пластичи» (Valori plastici), существовавшего с 1919-го до 1922 года и идейную программу которого впоследствии (к сожалению, нл без оснований) упрекали за некоторую близость к идеологии дуче.
Появление группы стало скорее итогом, нежели началом, скорее результатом общей усталости от футуризма и достаточно отдаленным сходством художественных устремлений. (Кроме явного подражания Кар-сыДе Кирико на первых порах.) В нее вошли участник футуристического
Дж. Де Кирико. Красная башня. 1913
К. Карра. Две сестры. 1915
К. Карра. Девушка с запада. 1919
движения Карло Карра, Филиппо Де Пи сис — молодой, весьма тонкий живописец, поклонник импрессионистов и старых венецианцев, Массимо Кампильи, любитель этрусской старины, Феличе Казорати и Джорджио Моранди.
Сблизившись с Де Кирико, моложе которого он был на целых семь лет, в 1917 году, Карло Карра с некоторой даже стремительностью отвернулся от сильно увлекавших его еще недавно футуристических идей и пылко, хоть и очень ненадолго, принял почти как свою пластическую систему метафизической живописи. Как и Де Кирико, интеллектуал. эрудит, он в юности писал о раннем итальянском искусстве (в частности, о Джотто и Уччелло), а вскоре опубликовал брошюру «Метафизическая живопись» (Pittura metafisica) (1919).
Его картины конца 1910-х поразительно близки работам Де Кирико: мотивами, персонажами, даже изображаемой архитектурой. Оба словно бы пишут одну и ту же «натуру». При этом холсты Карры выглядят более сухими и сконструированными, решительно лишенными той тревожной и мрачной, но все же поэтичности, что свойственна Де Кирико. У Де Кирико Карра ценит и воспринимает механистическое, предметное начало, те его образы, где человек более всего обращается в подобие архитектурного сооружения или механизма («Две сестры», 1915, ХССВ). Де Кирико пишет представляемое, воображаемое, Карра — смоделированное. Если в персонажах Де
Кирико угадываются люди, пусть синтезированные с образами античных статуй или зданий или обращенные в крошечные марионетки, «героями» Карры становятся манекены, странно сочетающие в себе трогательность и угрозу. Его известное полотно, написанное уже на излете увлечения метафизической стилистикой — «Девушка с запада» (1919, ХССВ), чье название навеяно популярной оперой тех лет, не имеет сюжета и сколько-нибудь выраженного эмоционального мотива. Фигура-манекен с ракеткой и мячом в руках, с головой в форме черной блестящей ручки или пробки, словно воткнутой в шею, эта голова без глаз, здания без окон, эта стерильная пугающая пустота математически точно выстроенного абсурдистского пространства создают впечатление бесконечного тягучего
ношмара, за которым угадывается фантазия столь же богатая сколь и усталая.
Уже в 1920-е годы и Де Кирико, и Карра покидают про странство метафизической живописи, обращаясь, каждый на свой манер, к несколько редуцированным вариантам неоклассики, к мотивам античности, а Де Кирико и к вполне традиционным («Автопортрет в парижской мастерской», 1935, Национальная галерея современного искус ства, Рим), и даже к нарочито
Дж. Моранди. Натюрморт. 1938
Дж. Моранди. Натюрморт (Голубая ваза). 1920
i салонным портретам («Человек во фраке», 1937, частная коллекция).
Самый последовательный, независимый и артистичный мастер, испо-
| ведовавший принципы Метафизической школы, взяв от них лишь общую эмоциональную устремленность и пластический аскетизм. — это, несом-| ненно. Джорджо Моранди проживший возвышенную и замкнутую жизнь ! в Болонье и Грицанне, вдали от суетливого околохудожественного мира. Первым потрясением был для него Сезанн, репродукции работ которого он увидел, занимаясь в Болонской академии художеств, потом Джотто, Мазаччо, Уччелло. Увлечение футуризмом было недолгим, как и дань
1 пуризму («Натюрморт», 1916, НМСИ ЦП). Секоре он видит репродукции i работ Де Кирико.
Карра, который был знаком с Моранди еще с 1914 года, приехал к нему в мастерскую, увидев репродукции его гравюр и картин в журнале «La Raccolta» в 1919 году. В том же году в Риме он познакомился с Де Кирико, в 1921-м вместе с ним, Каррой. Цадкиным и другими участвует в выставке «Valori plastici» в Берлине.
В первые годы после знакомства с Де Кирико и Каррой Моранди писал натюрморты (его излюбленный и практически единственный, кроме редких пейзажей, жанр), используя не только пластические приемы, но и предметный мир Де Кирико и Карры — манекены, угловатые мертвенные предметы и т. д. («Натюрморт с манекеном», 1918, частная коллекция, Милан). Вернувшись, однако, к внешне более традиционным мотивам и приемам, он сохранил в своей живописи несколько мистическую отрешенность, «молчаливость», добиваясь почти сезанновского равновесия в сочетании с «метафизической» строгой многозначительностью. «Он смотрит глазами человека, который творит; и потаенные остовы вещей, которые мертвы для нас, поскольку они неподвижны, открываются ему в самых утешительных своих аспектах — в аспектах своей вечности. Этим он участвует в великой поэзии, творимой новым и глубоким европейским искусством: метафизикой самых обыденных вещей»14,— писал Де Кирико о работах Моранди еще в 1922 году.
Моранди — один из самых сосредоточенных, немногословных и самоуглубленных мастеров XX века, интересовавшихся исключительно живописью и развитием ее возможностей в нарочито суженном сюжетном пространстве. Но и постоянно повторяя, подобно Сезанну, одни и те же мотивы, он оставался экспериментатором, внося в мир привычных вещей и, как всегда, максимально сдержанного колорита то пылкую нервную экспрессию («Натюрморт», 1932, Галерея современного и нового искусства, Рим), то нежданно острый декоративный эффект («Натюрморт», 1938, Галерея Крюгер-Дитесхайм, Женева).
Де Кирико, и Карра, и Моранди участвовали позднее в выставках группы «Двадцатый век» (Novecento), группы, начавшей с утверждения классических традиций, а позднее сблизившейся с официальной этикой фашизма (мужество, семья, спорт, труд). Но куда важнее иное: недолгое существование «Scuola metafisica» завершилось более существенным событием. В 1925 году Де Кирико участвовал в первой выставке сюрреалистов в парижской галерее Пьер. Бретон уже видел в нем исходную точку для становления сюрреализма.
Был уже случай упомянуть, что Шагал, несомненно, остался под впечатлением стилистики Де Кирико, хотя близость витебского мастера к метафизическим исканиям, возможно, еще глубже, чем может показаться на первый взгляд. Шагал словно бы тоже смотрел на мир сна, но в снах его было куда меньше холодного скепсиса и куда больше встревоженного и радостного доверия к сказкам бессознательного. Мотивы Де Кирико и Карры нетрудно увидеть и у Гроса, позднее — в очень отдаленном варианте — и у Малевича15.
Война практически остановила и без того «замешкавшееся» развитие авангардных и поставангардных тенденций.
Исключением, альтернативой, «авангардом в изгнании» стал дадаизм.
«Дада». «Мы хотим сделать доброе дело». Вероятно, главное, что определило многие качества движения, которое принято называть «Дада»,— это время его появления (весна 1916 года — разгар войны). Единственное значительное течение середины 1910-х сформировалось не только во время войны, но — самое важное — и самой войной.
«Потрясенные бойней Мировой войны 1914-го, мы в Цюрихе посвятили себя искусству. В то время как в отдалении грохотали пушки, мы изо всех сил пели, писали, клеили коллажи и сочиняли поэмы. Мы стремились к искусству, в основе которого была бы способность исцелить век от безумия и найти тот новый порядок вещей, который бы восстановил равновесие между небом и адом» (X. Арп).
«Мы потеряли надежду, что искусство когда-нибудь обретет достойное место в нашем обществе. Мы были вне себя от ярости и печали перед страданием и унижением человечества» (М. Янко)16.
Они — первые дадаисты, как и многие их современники. — принадлежали к тем, кто «оказался между двумя эпохами, кто ничем не защищен и навсегда потерял непорочность, к тем, чья судьба — ощущать всю сомнительность человеческой жизни с особенной силой, как личную муку, как ад» (Г. Гессе. Степной волк).
Художественная интеллигенция, еще недавно — пусть нищий, но диктатор в области свободной мысли, защищенная самой судьбой своею от какого-либо произвола, оказалась в положении почти маргинальном. Вся шкала привычных ценностей была поколеблена, угроза нависла над жизнью еще недавно совершенно штатских людей. Погиб на фронте тончайший живописец, двадцатисемилетний Август Макке, под Верденом пал Франц Марк, на военных учениях, упав с лошади, разбился насмерть тридцатичетырехлетний Умберто Боччони. Позднее на той же войне был тяжело ранен и в 1918 году умер кумир дадаистов Гийом Аполлинер, а это, разумеется, лишь наиболее известные имена среди многих и многих жертв войны из числа мастеров искусства начала века.
«Столица изгнания» — так в ту пору прозван был Цюрих — приняла художников и литераторов разных наций и судеб. Ситуация, весьма близкая «Декамерону», когда герои, укрывшись за стенами уединенного палаццо, вынуждены развлекать себя и друг друга в пору опустошительной чумы 1348 года, «когда почтенный авторитет как божеских, так и человеческих законов почти упал и исчез», повторялась в трагическом варианте. «Чума, обрамляющая „Декамерон", должна создать искомые условия для откровенности и неофициальности речи и образов...»17. Эскапизм, интеллектуальная робинзонада, общность, возникшая не столько по выбору, сколько благодаря горестным обстоятельствам, чудовищные вести, доходившие с фронтов,— пять тысяч жертв газовой атаки на Ипре (апрель 1915 года),
D A D А 1
Обложка первого номера журнала Дада». 1917
бомбы, падавшие с дирижаблей и самолетов на европейские столицы,— все это формировало в Цюрихе военных лет атмосферу как нельзя более благоприятную для возникновения наиболее радикальной и вместе с тем игровой, спасительно наркотической художественной тенденции
Совершенно естественно, что настроение и мироощущение были таковы, что с увлечением заниматься искусством могли тогда лишь те, кто был защищен долей спасительного цинизма. Сосредоточенная работа над картиной, матиссовская радость, даже интеллектуальные конструкции Пикассо — все это было так далеко, что лишь настоящее ощущалось реальным, когда вполне эсхатологические представления провоцировали лишь жажду пооживания уходящих, последних дней.
Сказанное подтверждается стремительностью возникновения той бурной художественной деятельности18, которая вошла в историю искусства как дадаизм. Даже самые пылкие усилия, предпринятые приехавшим в Швейцарию в 1915 году Хуго Баллем, не могли бы создать целое течение, если бы его шаги не встретили восторженной поддержки целой группы эмигрантов, внутренне готовых к неким совместным акциям, способным защитить смятенное сознание и занять умы.
Балль, немецкий поэт, эссеист, философ, журналист и эстрадный режиссер, человек высоко и разнообразно одаренный, вполне бескорыстный и увлекающийся, вместе со своей по-друой и будущей женой чтицей и певицей Эмми Хеннингс приехал (вероятно в конце 1915 го да) в Цюрих — город, переполненный «армией
революционеров, реформаторов, поэтов, художников, композиторов-модернистов, философов, политиков и апостолов мира из разных стран»19. Дрожжи дерзких художественных экспериментов уже бродили в спокойном прежде цюрихском воздухе, недавняя выставка Арпа, Отто ван Риса и его жены в галерее Таннер озадачила критиков и взбудоражила зрителей, еще незнакомых толком с абстрактным и вообще новейшим радикальным искусством. Тогда в Цюрихе жили Явленский и Веревкина, знаменитый хореограф из Австрии Рудольф Лабан и его ученица Сюзанна Перро-те, литератор Хедекопф.
Балль организовал «Кабаре Вольтер», впоследствии ставшее знаменитым на весь мир как средоточие акций первых дадаистов. Обещав хозяину бывшей молочной в малореспектабельном районе Цюриха20, что деятельность кабаре увеличит сбыт пива и сосисок, Балль вечерами ак компанировал Эмми, певшей французские песенки. Имя Балля было известно, изгнанники потянулись в кабачок, стал готовиться первый вечер для кабаре. Предыстория «Дада», быть может, и не заслуживала бы специального рассказа, если бы сама игровая ситуация, заложенная Баллем в фундамент движения, не была так характерна для всего дадаизма. Сам
рассказ Балля о том, как создавалось кабаре, опубликованный в Цюрихе 15 мая, через два месяца после его открытия, написан в сказочно-эпической манере и стал, по сути дела, стилизованной интерпретацией, частью акции: «Я пошел к г-ну Эфраиму, владельцу „Майэрая", и сказал: „Пожалуйста. г-н Эфраим, предоставьте мне ваш зал, я хотел бы устроить кабаре". Г-н Эфраим согласился и предоставил мне зал. И я пошел к некоторым людям, которых я знал, и сказал им: „Пожалуйста, дайте мне картину, рисунок, гравюру. Я хотел бы сделать маленькую выставку в моем кабаре". Я пошел к приятелям из цюрихской прессы и сказал им: „Поместите какую-нибудь заметку. Открывается интернациональное кабаре. Мы хотим сделать доброе дело" (schone Dinge)». Кончается заметка по-французски: «La revue paraltra a Zurich et portera le nom (журнал появится в Цюрихе и будет носить имя) „DADA" (Dada) Dada Dada Dada Dada».
Касательно происхождения термина «дада» существует несколько версий, хотя в подобной игровой ситуации от выяснения генезиса слова мало что меняется. Есть предположения, что это: 1) слово, найденное наугад в словаре Ларусса («дада» — деревянная лошадка на языке детей); 2) название хвоста священной коровы на языке негров племени кру; 3) слово «мама» в некоторых диалектах Италии; 4) двойное согласие по-русски и по-румынски. Имеются и другие объяснения (дендизм — дадаизм, например). Но очевидно, что изначально название игровое и смыслообразующей и программной роли не имело. Скорее бодрое и веселое для европейского уха румын ское «da, da», которое часто звучало в разгово
рах Янко и Тцара, стало чем-то вроде боевого клича участников течения.
В сущности, дадаизм начался с художественных жестов, как и ready made Дюшана, ими продолжался и исчерпался: произведения искусства или концертные номера значили куда меньше, чем продуманно создаваемая ситуация и система интерпретаций. Здесь уместно напомнить, что реальная история «дада» началась еще до того, как течение самоидентифицировалось.
Будущие дадаисты были с самого начала озабочены самоутверждением и своей ролью в истории культуры, что отчасти объясняется и отсутствием материальных свидетельств их деятельности (сами по себе картины или гравюры участников движения почти не имели «дадаистской специфики»), Тцара оставил подробнейшие «Цюрихские хроники», в которых перечисляются даты и факты И хотя текст «Хроник», при всей своей информативной корректности, включает в себя и легкие рекламные пассажи, фактологическая и эмоциональная история дадаизма раскрывается в них с большой мерой объективности.
Обложка третьего номера журнала «Дада*. 1918
X. Арп. Портрет Тцары. Рельеф. 1916
Ман Рэй. Тристан Тцара. 1926
Уже 5 февраля состоялся вечер, в программе которого были французские и гог пандские (владелец бара бывший моряк Ян Эфраим был голландцем) песни, Тристан Тцара читал румынских поэтов, а оркестр балалаечников играл песенные и плясовые мелодии. Кабаре было декорировано Арпом. На стенах развешены были вещи первоклассных художников — Ханс Арп, Викинг Эггелинг, Артур Сегал, Марсель Слодки (ему принадлежала афиша вечера), Элие Надельманн. Арп предоставил даже работу Пабло Пикассо. Кроме того, экспонированы были поэмы итальянских футуристов на специальных плакатах. Веселье длилось всю ночь. Во всем этом было много изобретательности и игры, куда менее художественного единства. Оно заменялось вполне театральным «единством времени, места и действия» и просто человеческой общностью. О войне напомнил лишь текст известной песенки ирландских солдат «Типперери», прочитанной Баллем. На русском вечере читали Чехова, Тургенева и Некрасова, на французском — Жарри, Жакоба, Аполлинера, Рембо, играли Сен-Санса, Равеля и Дебюсси.
«На сцене жалкого кабачка, смехотворного и заполненного до отказа, находилось несколько странных персонажей, представляемых Тцарой, Янко, Баллем, Хюльзенбеком и вашим покорным слугой. Полное столпотворение. Люди вокруг вопили, смеялись и жестикулировали. Тцара ше велил своей задницей, как восточная танцовщица животом. Янко пиликал на невидимой скрипке и отвешивал поклоны. Мадам Хеннингс с лицом мадонны делала шпагат. Хюльзенбек непрерывно бил в большой барабан которому аккомпанировал на рояле бледный как привидение Балль»21,— вспоминал Арп об одном из дадаистских вечеров.
Все зто было далеко от респектабельного просветительства, что явно программировалось заранее и с удовлетворением фиксировалось в «Хрониках»: «Большой вечер — симультанная позма 3 языка протесты шум негритянская музыка /Хоозенлац / Хо озенлац / пианино Типперери Laterna Magica демонстрация последняя прокламация!! ДАДА!! Последняя новинка!!! буржуазная синкопа...» (пунктуация оригинала,— М. Г.)22. Здесь и игра слов, и отсутствие знаков препинания, как у Г. Стайн, и явная и на
ивная радость от эпатажа.
К лету 1916 года был выпущен журнал «Кабаре Вольтер», в подготовке которого в той или иной мере участвовали не только его непосредственные цюрихские создатели, но и Аполлинер, Пикассо, Маринетти, Модильяни, Сандрар и др. '
Пауль Клее, весьма интересовавшийся деятельностью дадаистов
и почитаемый ими (вместе с Кйндинским) как один из «отцов» движения, писал: «В процессе метаморфоз рождается новая реальность. Это чисто психический факт. Это знаки, которые возникают непосредственно из возбуждения»23. Суждения, относящиеся главным образом к живописи, определяют более всего сам процесс художественной деятельности дадаистов. Впрочем, помимо непосредственного своего провоцирующего акционизма, дадаисты чем дальше, тем более усердно вели выставочную, просветительскую и журналистскую деятельность. В начале 1917 года в галерее Коррзй открывается первая выставка «Дада» с участием Арпа, Янко, ван Риса, рядом с работами которых выставлены произведения искусства негров. Тцара читает лекции о кубизме и Новейшем искусстве.
Далее следуют выставки Клее и Кандинского, позднее там показываются Кокошка,
/WWW A DM < CALERIE S> 2 CORRAY s BAFINH0FSTR.19. W
<-r TIEFENHOFt
5 F EXPOSE TlOlWtfW CIBISILSARTNECRT
ObVLRT 10 12 2-6 ,
CONFERENCES Y
Кг ObVLRT 10 12 2-6
kS SUMART FAIFESPAR^ TRISTANTZABA
2
Афиша «Первой выставки дада». 1917
Макс Эрнст, Де Кирико, Макке, Пикабиа Критик Вольдемар Йоллас, Тцара и Балль рассказывают об экспрессионизме. Клее и Кандинском. Но каждая выставка сопровождается типично дадаистским перформенсом, декламацией, музыкой, постоянный эпатаж странно и естественно синтезируется с серьезной просветительской деятельностью.
С дадаизмом чаще всего ассоциируется череда зпатажей и скандалов, неумеренное желание заявить о себе, своего рода интеллектуальная экспансия — особенно в послевоенные годы. Куда реже вспоминают благородную терпимость дадаистов, их почти окопное братство, яростное пре
зрение к национализму и антисемитизму, признание права каждого инакомыслящего на независимое мнение. Братство прошедших фронт или избежавших его литераторов, художников и музыкантов стало, вероятно, началом «потерянного поколения», в годы войны еще не впавшего
в мучительную депрессию. Скорее спасительная и болезненная эйфория, желание противопоставить дикости обезумевшего мира «симультанное» беспрограммное веселье, основанное на свободе форм и тенденций, но непременно радостное, «анестезирующее», беззаботное. Они с большим скептицизмом относились к культу «современности». У дадаистов были, разумеется, манифесты, но в них решительно отсутствовала жесткая художественная программа: «Я не имею права увлекать других в свой поток, я никого не принуждаю следовать за мной, и каждый занимается своим собственным искусством и на свой манер...»24.
Все они в какой-то мере стремились к мирному если не объединению, то согласию радикальных тенденций. Те же терпимость и эклектика становились синонимом новой свободы, постепенно превращаясь и в новое качество: замещение отважного поиска мозаичным и нарочито эпатажным соединением элементов современного художественного процесса. Пафос развлечения и художественной провокации был, несомненно, доминантой. Понятие «абстракции» было предпочтительным, однако скорее теоретически. Недаром ready made Дюшана стали со временем едва ли не эмблемами «Дада».
Рассматривая произведения, которые входили и входят в пространство искусства «дада», трудно сыскать нечто, что их сближает. Они отличались столь же несомненным качеством, сколько и разнохарактерностью. Впрочем, смешение языков — какие только наречия не звучали в кабаре — было вполне адекватно смешению стилей, что всячески акцентировалось. Румын Тцара читал стихи по-румынски и по-французски, переходил на немецкий, сопровождая декламацию свистом, воплями и рыданиями, порой стихи читались разными людьми на разных языках одновременно.
Естественно, что подобное произведение не фиксируется, важен процесс его презентации — точный пример синкретического искусства-игры. Именно в этой области художественные достижения дадаистов несомненны и имеют общее значение, и театр, равно как и все зрелищное искусство XX века, многим обязан деятельности «Дада». Синкретизм более всего интересовал их в теории Кандинского, размышлявшего о соединении музыкального, живописного и хореографического движения25. Танцы на фоне картин под аккомпанемент не только музыки, но и шумовых эффектов реально воплощали идеи Кандинского в «Кабаре Вольтер». Любопытно, однако, иное. Доминанта игры, культ интерпретации бросали свой отблеск даже на выставочную деятельность дадаистов. Первоклассные вещи, представлявшиеся в галереях «Дада», среди которых, как уже говорилось, были работы и Арпа, и Клее, и Кандинского, позднее Макке, Модильяни и других, оставались, с одной стороны, независимыми от дадаизма, с другой — использовались как повод для занимательных интерпретаций. Серьезное просветительство, несомненно, было и приносило немало пользы, но функционировало оно вовсе не благодаря идеям дадаизма, а лишь в силу одаренности, вкуса и эрудиции участников движения. Дадаисты скорее были потребителями искусства, которое они вводили
в пространство своих идей и эмоций, искусства, которое они понимали и любили.
Дадаизм — своего рода новая режиссура уже состоявшихся произведений искусства разных направлений. Именно дадаисты ввели в практику репрезентацию как самостоятельный вид художественной деятельности. При этом срежиссированная и тонко продуманная репрезентация культивировала случайность и симультанность и всячески подчеркивала импровизационность, спонтанность каждой акции.
Однако от своих последователей и подражателей середины и конца века дадаисты отличались тем, что их деятельность была занятием талантливых людей, поставленных в исключительные обстоятельства. Отбор работ для выставки, анализа, «репрезентации» был тонок и профессионален, нельзя назвать ни одной (из известных истории) вещи, не отличавшейся несомненным качеством и созвучностью исканиям времени. Более всего популярны были раскрашенные рельефы Арпа и Янко, гравюры Слод-ки. живопись с использованием коллажа Отто ван Риса, подвижные куклы Софи Тойбер (будущей жены Арпа). «Новые технологии» (как принято говорить с конца XX века) также занимали дадаистов, поскольку позволяли применять необычные материалы, ломать стереотипы, добиваться неожиданных эффектов, сочетая уже известное (например, песок и живопись), что, впрочем, было известно еще кубистам. Цветные рельефы и контррельефы, являвшие собою уже не скульптуру, а некие независимые предметы-организмы, в известной мере продолжали поиски Татлина (выполнившего первые контррельефы в 1914 году, но вряд ли известные в Цюрихе в 1917-м). Позднее, уже в Берлине в 1920 году, восхищенные работами русского собрата, немецкие дадаисты раздумывали, не назвать ли их новый журнал «ТАТЛИН», и в дальнейшем постоянно и восторженно возвращались к его творчеству. Иные опыты дадаистов явно игрового толка (использование декоративного эффекта случайного узора, образованного клочками бумаги) воспринимаются ныне прямым прообразом постмодернистских «акций».
Одно из первых мест в иерархии пристрастий дадаистов занимал Александр Архипенко. Его «контробъемы» (1914), открывшие совершенно новые пластические ходы, свободное существование его искусства между классической формой и дерзким современным экспериментом, понимание кубистической и футуристической систем, наконец, прочная, обретенная еще с нью-йоркской «Армори-шоу» (1913) несомненная эмоциональная насыщенность его вещей и их укорененность в областях, близких еще не сложившемуся сюрреализму,— все зто ставило его рядом с Кандинским и Клее.
Скульптура Софи Тойбер «Голова дадаиста (портрет Ханса Арпа)» (1918, Кунстхауз, Цюрих) — показательный пример не только высокой пластической свободы, но и очевидного синтеза типичного для дадаистов интереса к первобытному искусству, ритуальным маскам, а возможно, и контррельефам Татлина. Здесь нет, разумеется, богатства и оригинальности форм Архипенко, но есть та игра, остающаяся в пространстве искусства, что так характерна для дадаизма в целом.
С. Тойбер-Арп. Голова дадаиста. 1916
Естественно, что любовь к акционизму, хеппенингу, к одновременно невнятной и изысканной интерпретации сделала Дюшана одним из идолов дадаизма, а возможно, и центральной его фигурой. Великий мистификатор, смотревший на поле искусства как на шахматную доску, тончайший скептик, сохранявший эстетизм тем более, чем дальше отходил от него, Дюшан увидел в дадаистах своих естественных единомышленников которые вовсе не были увлеченными простаками. Точно так же были близки дадаисты Бретону, сблизившемуся с ними, когда центр движения переместился из Цюриха в Париж.
По сути дела, дадаисты обладали поразительным качеством — создавали пространство заинтересованной востребованности для всего, что сулило новое и по-настоящему интересное. Не будучи сами в области пластических искусств творцами первой величины (Арп, вероятно, единственное исключение), они были едва ли не гениальными аранжировщиками и режиссерами новых художественных открытий.
Нет нужды описывать целую волну представлений, вечеров, часто шумных и скандальных, которые прошли по Европе после того, как центр дадаизма покинул Цюрих. В Германии он нашел пылких сторонников уже в последний год войны. В 1920 году прошло и «дада-турне» по Германии и Чехии (Рауль Хаусман, Рихард Хюльзенбек, Йоханес Баадер). К дадаистам примыкают все новые художники, в их числе и фотографы, многие из
которых занимаются новым и столь близким «дада» делом — фотомонтажом26.
Послевоенная деятельность дадаистов в Берлине и Париже происходила в совершенно ином историческом и эмоциональном контексте. Германия и Франция после Версальского мира, разруха, лишения, борьба за
выживание, чудовищная депрессия, охватившая художественную интеллигенцию, эпоха «потерянного поколения» — все это бесконечно далеко от вынужденного и романтического, по-своему благополучного цюрихского периода.
В Берлине и Париже дадаисты отчасти меняли свои приоритеты. В Германии движение сильно политизировалось, его участников даже называли «большевиками в искусстве». Это привело к несколько неожиданному для дадаистов расхождению с экспрессионизмом и даже беспредметным искусством. Впрочем, наиболее значительный художник среди берлинских дадаистов — Георг Грос, известный своими беспощадными изобразительными сатирами, — отлично вписался в дадаистскую поведенческую традицию благодаря своим музыкальным и хореографическим способностям (он отлично отбивал чечетку и всячески способствовал внедрению в немецкую жизнь негритянского джаза).
В Париже решающее, видимо, значение для дальнейшей судьбы дадаистов имела встреча Тцары с Бретоном, пригласившим цюрихского изгнанника во французскую столицу.
Близость формирующихся идей сюрреализма к идеологии и практике дадаизма лежала в глубоких сущностных положениях. Страсть дадаистов к инстинктивному, спонтанному искусству, восхищенный интерес, который они проявляли по отношению к творчеству душевнобольных, — зто было созвучно принципиальным установкам сюрреализма, нацеленного на иррациональное, чувственное выражение бессознательного. Все это, равно как и свободное синкретическое творчество дадаистов, их незаурядные интерпретационные возможности, стало, по всей вероятности, залогом естественной организационной и сущностной близости уходящего и зарождающегося течений.
К этому времени в пространстве дадаизма постоянно присутствуют Франсис Пикабиа, Марсель Дюшан, Макс Эрнст, Сергей Шаршун, Владимир Ба-ранов-Россине, Ман Рзй. Но само движение уже испытывает усталость.
Дадаизм, как всякая игровая культура, не был способен вовремя ощутить, насколько близок он к исчерпанности. Теряя отчасти свои позиции, уже расстающиеся с молодостью дадаисты особенно педалировали внешние, абсурдистские и вызывающие стороны своих акций (как, например, неумеренное и провоцирующее использование ненормативной лексики), что неизбежно приводило к повторению и предсказуемости. К тому же культура, имеющая значительную внешнюю, поведенческую составляющую, на своем излете оборачивается модой, что всегда высвечивает ее слабости и «общие места».
В движении «Дада» остался, однако, мощный заряд, тот интеллектуальный анархизм (настоянный и на анархизме политическом), который постоянно эксплуатировался последующими художественными течениями, несущими в себе (а зто в XX веке случалось все чаще) начало абсурдизма и мистификации. Но зто скорее касается не художественных, а культурологических проблем.
Собственно говоря, в отсутствии программы, при полной свободе, активном общении со зрителем, провоцировании скандальной ситуации, нежелании давать оценки, приятии любых художественных форм в их эклектичном и вызывающем сочетании, в размывании границ произведения искусства как некой самости — во всем этом несомненно присутствуют основополагающие позиции постмодернизма. В этом необозримом хмельном пространстве ничем не ограниченной вольности художник ощущает, с одной стороны, независимость, с другой стороны — отсутствие сопротивления, тем более что скандал из противодействия превращается в составляющую самого искусства, которому не приходится отныне ничего доказывать, и бремя свободы лишает художника привычных ориентиров. Но вместе с тем «героические годы» дадаизма позволили художникам, литераторам и музыкантам разных направлений (равно как и критикам, и непраздным зрителям) понять, что их позиции достаточно близки если не корневой системой, то близкими побегами.
Р. Хаусман. Мысль нашего времени. Механическая голова. 1919
Р. Хаусмаи. А. В. С. D. Коллаж. 1923
Тристану Тцаре принадлежат слова, которые еще будут цитироваться на этих страницах и которые, несомненно, были не только сиюминутной декларацией, но и завещанием, и «посланием» будущему, в котором мзтр дадаизма предполагал принять участие: «Искусство должно погрузить свои корни до глубин бессознательного»27. О том, как этот процесс развивался в пору теоретического узаконивания сюрреализма, речь ниже. Но и «в пространстве игры» соприкосновение с «глубинами бессознательного» значило много задолго до 1924 года — даты официального сюрреалистического манифеста.
Среди художников, присутствующих в контексте дадаизма, немало тех, чье творчество еще не было рассмотрено даже пунктиром,— Эрнст, Швиттерс, Пикабиа. Эти и другие мастера, весьма заметные в 1910-е годы, тогда находились е том странном, но просторном, многообразном художественном пространстве, которое вмещало в себя брутальную игру, лукавую мистификацию, стремление к профессионализму и отточенному мастерству, к открытому зпатажу,— пространстве, где звучало зхо уходящих револю ционных течений (кубизма, футуризма), и различался отдаленный гул близящихся новых исканий.
Пряный интеллектуализм Дюшана в интерпретации механизмов коснулся многих. Такого рода опыты (в изображении механизмов, в их изготовлении) производили и Пикабиа, и Эрнст, и даже Клее.
Был, правда, вариант более простой, где дадаистские принципы вольной презентации и прямолинейного жеста-высказывания откровенно ак-
центровались. В 1919 году Рауль Хаусман изготовил механическую голову, названную «Мысль нашего времени» (НМСИ ЦП),— объект, составленный из болванки для парика с приклеенными к ней кошельком, часовым механизмом, сантиметром (метафорами лимитиро-ванности времени, пространства, средств, ограниченности мысли etc.) Скульптура в какой то мере была вдохновлена образами Де Кирико, всегда привлекавшими дадаистов, этими странными оцепенелыми головами-манекенами, отчасти напоминавшими античные, которые, вероятно, произвели впечатление на Хаусмана в 1915 году в галерее «Штурм». На этом примере четко просматривается разница между «веществом искусства» и ху-
X. Арп. Танцовщица. 1925
дожественным жестом, свойствен-
ным artifex ludens. Тот же Хаусман, известный как один из изобретателей фотоколлажа, создавал целые изобразительные «дадаистические новеллы». В его произведении «А. В. С. р.» (1923, НМСИ ЦП) использованы вырезки из фотографий и географических карт, банкнота и многое другое. Сам автор с моноклем в глазу держит в зубах буквы ABCD — «изображение» фонетической поэмы, которую он собирается произнести, чешская пятикроновая банкнота обозначает его путешествие с Куртом Швиттерсом в «дада-турне» по Чехословакии и т. д.
Художественное наследие «дада» в области пластических искусств, как было уже сказано, скорее опосредованно, но как аранжирующее, направляющее, освобождающее движение «дада» вряд ли имеет себе равных.
Впрочем, об исторической оценке «дада» с нечаянной провидческой точностью написал задолго до его излета один из его те оретиков: «Несмотря на превосходящее любые ожидания распространение дадаистского движения по всем континентам, при оценке действительных успехов этого неудержимо и неуклонно рвущегося вперед мирового движения требуется хорошо обдуманная скептическая сдержанность»23 (курсив мой.— М. Г.).
Особое место и значение на перекрестке игры и тягостных предчувствий имеет имя и деятельность Курта Швиттерса: он сочетает чисто дадаистский эпатирующий «акционизм», вполне в духе Дюшана использованные ready made, внося в свои работы и брутальную игру, и подлинный драматизм послевоенного мироощущения.
К. Швиттерс. Мерц-картина 25 А. 1920
Он стал известен в первые «постдадаистские» годы — на рубеже 1910 — 1920-х годов. Природа одарила его множеством талантов, в том числе и талантом социальной мистификации, умением не только сочинять абсурдистские мини-спектакли, но и импровизировать их в обыденности29. Как и Дюшан, умеющий скрыть границу между разумным и бессмысленным и сделать оба начала равными компонентами искусства, Швиттерс обратился к своеобразному использованию ready made в качестве прежде всего художественного исходного материала, не видя причин, «по которым использованные трамвайные билеты, кусочки древесины, пуговицы и старые банки с чердаков и из мусорных куч не могут служить материалами для живописи; они достигнут цели не хуже, чем фабричные краски»30.
Свои произведения — своеобразные плоские рельефы-коллажи с использованием различных предметов и фактур, которые сейчас квалифицировались бы скорее всего как «объекты»,— Швиттерс со свойственным ему несколько абсурдистским юмором назвал «мерц-картинами» (слово «merz» — всего лишь слог из названия банка «Kommerz- und Pri-vatbank», использованный им для коллажа). При внешне эпатажном, близком Дюшану пластическом ходе конечная цель была иной: жесткий синкопированный ритм плоскостей, продуманный контраст и диалог фактур, четкие, тщательно расставлен-
ные акценты, поверхность картины, на которой выстроена система объектов, создающих верхний, «барельефный» слой, общий сумеречный колорит, умело подчеркнутая «усталость» предметов — это особый мир, вполне художественный, драматичный и серьезный. Подобно Дюшану, создавшему «Большое стекло», Швиттерс задумал и масштабную инсталляцию «мерц-бау».
Правда, как и многие мастера «постдадаистского» толка, Швиттерс отчасти оказался заложником собственного пластического приема, и многие его вещи оборачивались чисто формальными экспериментами, слишком легко узнаваемыми, но неизменно привлекательными своей несколько повторяющейся оригинальностью.
В числе художников, почитаемых дадаистами, был Макс Эрнст, принадлежавший к тому же поколению, как и Швиттерс (Эрнст — на четыре года моложе). В отличие от Швиттерса,
человека активного, наделенного скорее темпераментом, нежели логикой, Эрнст был вообще склонен к рациональному мышлению и получил к тому же отличное классическое образование. Его рассказы о детстве и отрочестве, изложенные в третьем лице, кажутся диковинной смесью прустовских реминисценций и дадаистского эпатажа, цинизма и застенчивой поэтичности. Так он и смотрел на мир, совмещая чувствительность к спонтанным ощущениям с изящным и сухим расчетом.
Будучи знаком с Арпом еще с 1914 года, он, естественно, был в курсе дадаистских идей и с удовольствием принял — пусть и не безоговорочно — их правила игры. Потрясение войной истончило его психику, но не выплескивалось в чрезмерно эмоциональных работах. В своем родном Кёльне он делал для левой газеты «Вентилятор» иронические фотомонтажи, но политические нюансы, с его точки зрения, не украшали дадаизм, и учреждение новой газеты «Шамад» (Die Schammade)* с либеральным литературным уклоном было для него радостным событием, тем более что вскоре там стали публиковать французских поэтов, связанных с классическим сюрреализмом,— Элюара, Арагона, Бретона.
Позднее Эрнст открыл возможности «фроттажа» (от фр. «frotter» — скрести), т. е. рисунка, получающегося в результате штриховки поверх бумаги, положенной на некий фактурный предмет. Это было еще од
ним шагом к основному постулату сюрреалистов — к изображению спонтанному, избавленному от рационального фильтра. Тонкий разум Эрнста все это, вероятно, забавляло, как забавляли Дюшана собственные акции. В «предсюрреалистском» Париже, куда Эрнст приехал в 1921-м, вскоре после приглашенного Бретоном Тцары, дадаизм одновременно входил в моду и угасал. За первые месяцы 1920 года прошло несколько дадаистских акций, в феврале в Париже вышел «Бюллетень Дада» («Dada 6»), а в марте Тцара уже издает седьмой номер — «Dadaphon». Спектакли, представления, вечера следуют друг за другом непрерывной чередой. Вероятно, эстетика «Дада» (если таковая в полной мере существовала) исчерпала себя, а стиль жизни вырождался в однообразный эпатаж со смутными и постоянно вызывающими
К. Швиттерс. Дом маленького моряка. 1926
* От фр. «chamade» — военный сигнал о сдаче.
общественное раздражение политическими эксцессами. Вечер «Бородатое сердце» в июле 1923 года вообще закончился дракой с участием Бретона, Массо, Тцары и Элюара. Само по себе событие малоинтересно, но и оно — своего рода символ финала.
Процесс увядания дадаизма, вероятно, мало занимал Макса Эрнста, тем более что его работы уже всерьез интересовали будущих вождей сюрреализма: кёльнские фотомонтажи были известны в Париже. Современников восхищало умение Эрнста сообщать машинам и их деталям экспрессивную антропоморфность, то, что отличало и его живопись, где гвозди, болты, железные конструкции становились органичными частями человеческих тел. Кроме того, Эрнст был поразительно изобретателен по части «сочетания несочетаемого», умея не без иронического изящества вплавлять в плоскость изображения коллаж, анатомические рисунки, орнаментальные формы, создавая своего рода «изобразительный поток сознания», скорее, впрочем, информативно-занимательный, нежели отталкивающий, как позднее у того же Дали. В этом отношении иные его работы своим мрачно-гротесковым пафосом перекликаются с фантазиями Франсиса Пикабиа, также весьма типичного artifex ludens. Пикабиа, в отличие от многих обладая независимым состоянием и, стало быть, неограниченной свободой, этот денди парижского дадаизма, вел тонкие игры с искусством и зрителем, не переставая удивлять их холодным и совершенно неограниченным воображением, своего рода изобразительной научной фантастикой, и наполнял выставки изящными изображениями изящных машин, производящих изящные, бессмысленные, но завораживающие манипуляции с неизменными сексуальными аллюзиями.
В 1921 году Эрнст написал свою знаменитую, в известной мере программную картину «Слон Целебес» (коллекция Пенроуз, Лондон) — живописную фантасмагорию, аккумулирующую в себе столь любимые художником мотивы немецкого Средневековья, грозную эстетику машин, темные видения угнетенного подсознания и дадаистскую игровую отвагу. Механический монстр, вросший в пустынную землю, вместе с тем движется вперед с непреклонностью абсурдистского «спонтанного», неуправляемого разумом действия. Происходящее на картине кажется одновременно бредом и потрясающе иллюзорной материальной реальностью — очевидным прологом еще не декларированного сюрреализма, зреющего с той же неумолимостью и самодостаточностью, с какой рождался таинственный Целебес под кистью Макса Эрнста. Целебес, явно шагающий в сторону уже существующего, но еще не провозглашенного сюрреализма. Игра оборачивалась опасным, пугающим ликом.
«Искусство должно погрузить свои корни до глубин бессознательного» — эти уже цитировавшиеся слова Тристана Тцары
М. Эрнст. Слон Целебес. 1921
воспринимаются нынче как дадаистское завещание сюрреализму. Впрочем, грань между этими движениями, как сущностная, так и хронологическая, более чем условна. Сюрреалисты — друзья и соратники дадаистских акций и несомненные продолжатели их исканий.
Но история сюрреализма, детерминированного временем и персонажами,— в какой-то мере теоретический фантом, следствие самоидентификации деятелей искусства, старавшихся интерпретировать, прогнозировать свое творчество, написать обоснование его и либретто своих будущих свершений.
Интерес к бессознательному, существовавший давно, еще со времени исследований Лейбница, просматривается и в искусстве Блейка, и в прозе Стерна. Гофман писал: «С тех пор как хаос превратился в податливую материю, мировой дух лепит из этой материи все образы, из нее же рождается и сон со своими видениями»31. Интерес к бессознательному достиг взрывной силы на грани столетий, обостренный открытиями Достоевского, теорией и практикой Фрейда, затем Юнга, всей школой психоанализа, да и принципиальным поворотом искусства «вну грь» сознания, отчетливо выраженным у Ван Гога, Мунка, Редона и активно развиваемым как спонтанным искусством фовистов, так и «katabasis eis antron» (вхождением внутрь) кубистической живописи, не говоря о пылких деформациях экспрессионистов и явной устремленности к изображению лишь воображаемого, но не материального у тех, кто двигался в сторону беспредметного, равно как и у футуристов, и у художников метафизической школы.
Так что традиционное понимание сюрреализма как течения, ограниченного именами и хронологией, вряд ли исчерпывает проблему. Если понимать под сюрреализмом в пластических искусствах устремленность к бессознательному и его изображению или выражению в живописи или скульптуре, то эта устрем Ценность отмечает искусство XX века в целом.
Вряд ли кто-нибудь станет спорить с тем, что и ранние абстракции Кандинского, и «магические квадраты» Клее, равно как
картины Филонова, «Зеркало» Шагала или даже «Герника» Пикассо тоже «погружали свои корни до глубин бессознательного». «Превращение» Кафки и «гнезда ассоциаций» Пруста, «поток сознания» Джойса и явно «постдадаистские» литературные монтажи Дж. Дос Пассоса, звери Ф. Марка и видения Ж. Руо — все это прорастает не столько из видимого или даже ведомого, сколько из смутно ощущаемых и опасных глубин подсознания, все это существует в зыбком мире того самого «Театра только для сумасшедших», плата за вход в который — разум и где брутальный карнавал соприкасается с глубинными и грозными тайнами бытия.
И, как в театре Г. Гессе, игра на грани смерти, шутки, способные свести с ума в той же мере, что и просветить разум, научить просто понимать простые вещи, не смеяться над банальностью.
Сюрреализм не «сформировался», не «появился», не был изобретен. Он был идентифицирован, провозглашен, осознан, но лишь как отрезок объективного процесса, использованный чуткими умами.
Последняя громогласная декларация довоенного высокого модернизма — «Манифест сюрреализма» Андре Бретона — был опубликован в 1924 году. Общественный вкус в ту пору уже несколько устал от сенсаций, был как никогда гибок, ко всему готов, хотя и не столь склонен к восторженным увлечениям, как перед войной. В 1924 году появились столь разные произведения, как роман Томаса Манна «Волшебная гора», книга менее всего суетная и никак не претендующая на широкий резонанс, и фильм «Механический балет» Фернана Леже, рассчитанный именно на сенсацию.
Датированная тем же годом уже упоминавшаяся во второй главе бронза Бранкузи «Начало мира» (1924, МКМ) безмолвно свидетельствует об укреплении классицизирующего, отрешенного от суеты модернизма, о стабильности его достижений, об удивительной возможности сочетать совершенную, казалось бы, абстрактность формы со столь же совершенным биоморфизмом ее. Сказать, что это есть «скульптурное изображение» (или подобие?) яйца, столь же резонно, сколь и бессмысленно. В этом сгустке материи, соединившем в себе устойчивую тяжесть («яйцо» несколько уплощено снизу) и живую устремленность вперед (оно заострено спереди и словно бы тянется к свету, к жизни, к некой работе самоеозидания и самовоспроизведения), заложена сверхмощная витальность, облагороженная и скованная совершенной формой и тончайшим образом патинированной, кажущейся хрупкой и непроницаемой вместе поверхностью, таящей в своей сдержанной хроматичности настойчивые ассоциации с таинственными «зарослями» на стекле из не написанного еще «Доктора Фаустуса».
Ман Рэи: «Я фотографирую мое воображение». Впрочем, ежели искать нечто вроде «знакового произведения» того самого 1924 года, то на место такового скорее всего может претендовать работа Ман Рэя «Скрипка Энгра». Эффектная многозначность снимка, который с присущей фотографии совершенной предметностью выражает едва ли не весь комплекс сюрреалистической программы, делает его почти эпиграфом к будущей деятельности Бретона и его единомышленников.
Ман Рзй, приехавший в Париж в 1921 году, родился, учился и обрел известность в США. В Нью-Йорке двадцатилетним начинающим рисовальщиком он стал завсегдатаем знаменитой «Галереи 291» Альфреда Стиглица (см. главу II) и прилежным читателем его журнала «Camera Work»,
публиковавшего много материалов по Новейшему искусству Европы.
Там Ман Рэй в 1915 году познакомился с Марселем Дюшаном, незадолго до того приехавшим в США, затем с Пикабиа и стал непосредственным собеседником и единомышленником европейских художественных радикалов вообще и дадаистов в особенности. Позднее вместе с Дюшаном он опубликовал единственный номер журнала «New York Dada», стал одной из центральных фигур «американского дадаизма» и известным мастером сверхсовременной фотографии (начав со снимков для репродукций собственных живописных работ), применяя новые авангардные технологии (аэрографию — своеобразную живопись пульверизатором, имитирующую фотоснимки).
Этапной и глубоко символической его работой той поры стала фотография «Марсель Дюшан с pLe grand verre“» (1920' Ман Рэй использовал часть конструкции — «плоскость с водяной мельницей», упрощенную до иероглифа-формулы и спроецированную контрнегативом на лицо Дюшана. Белый «иероглиф» ощущается эманацией мысли художника, чье лицо словно окаменело в процессе реализации ее. Постановочная фотография кажется истинным снимком, заглядывающим в подсознательный процесс, при этом открытость, провоцирующая прямолинейность приема, воспринимается логической частью постдадаистской (или пресюрреалистической) практики.
Ман Рэй. Скрипка Энгра. 1924
Ман Рэй. Автопортрет. 1932
И еще: само лицо Марселя Дюшана, таящее в себе вопрос и ответ, лицо, выдающее серьезность и напряжение этого странного человека, любая интерпретация облика которого была возможна и допустима, но ни одна из них не открывала его истинной сущности, которой, быть может, он и сам не знал. Аутентичность работы Ман Рзя если не сущности Дюшана, то тому представлению о нем, которое он создал своими произведениями и cbg ей жизнью, не вызывает сомнений. Здесь действительно возникает образ «Магистра игры» из «Игры в бисер».
Ман Рзй уехал во Францию летом 1921 года. Символично: его первым пристанищем стала комната в отеле у Северного вокзала, из которой только что уехал Тристан Тцара. Уже осенью в Париже открылась его персональная выставка. В том же году выходит альбом его первых «рейографий» или «рейографов» (rayograph — фотография, сделанная без камеры с помощью предметов, положенных на светочувствительную бумагу), тексты к которому написали Арагон, Тцара, Элюар и Макс Эрнст. «В то время как то, что зовется искусством, поражено ревматизмом, Ман Рэй включил всю тысячесвечовую мощь своей лампы, и постепенно его чувствительная бумага впитала сумрачные силуэты обычных объектов. Он изобрел силу вспышки нежной и свежей, которая превзошла по значимости все созвездия, предназначенные услаждать наше зрение. Механическая деформация, точная, уникальная и верная, была зафиксирована, смягчена, словно волосы, расчесанные гребнем из света (comme les cheveux a travers un peigne de lumiere)»32,— писал в каталоге Тцара, и если абстрагироваться от постдадаистской риторики, то характеристика представляется хоть и выспренней, но точной.
С тех пор Ман Рэй обретает прочную и заслуженную известность, занимается фотографией, делает портреты и снимки для журналов мод в острой авангардной манере, снимает кино (также с использованием рей-
Ман Рэй. Сигареты. 1923
Ман Рэй. Дом. 1931
Май Рэй. Жорж Брак. 1922
Мак Рэй. Роэ Сэлави (Rrose Selavy). 1921
| ограмм). Он становится заметной и элегантно-сенсационной фигурой Монпарнаса 1920-х годов. Он живет на улице Кампань-Премьер в прославленной своими постояльцами гостинице «Истрия» (его соседи — Дюшан, Арагон, Тцара, Пикабиа, Маяковский и многие другие). В ту пору это имело значение, жизнь художников все более становилась «жестом», презентацией стиля, и его длительный и скандальный роман со знаменитой моделью и львицей мастерских Кики (Элис Прин) был вписан в (говоря терминами арт-критики конца XX века) репрезентацию его искусства: кадр из первого сюрреалистического фильма Ман Рзя «Звезда моря», представлявший Кики с розой в зубах, принес славу и автору, и модели.
«Скрипка Энгра» являет собой концентрированный синтез многих уже сложившихся приемов и течений (фотомонтаж, эстетизация банальности, 'исходящая к ранним опытам Дюшана, вполне дадаистская экстравагантен острота репрезентации, парафраз вечного мотива кубистов — скрипки, наконец, двойственность названия33) и несомненную художественность и поэтичность самого снимка.
К тому же здесь присутствует независимый от Дали и отчасти более острый образ соединения телесного и вещественного — синтез плоти и деревянного предмета, то, что еще предстоит узнать миру в полотнах никому тогда не ведомого испанца.
Близость Дюшана и Ман Рэя (а их объединяли и дружеские отношения) глубинна и принципиальна, с той разницей, что Ман Рэй эволюционирует в им самим очерченном стилистическом пространстве, строя свои художественные структуры исключительно в формате черно-белого снимка (чаще всего это прямоугольник, чуть вытянутый в высоту). В этот формат он вписывает и свои рейографы, все более простые, но исполненные тревожного внутреннего смысла. «Сигареты» (1924), плывущие
в невесомой тьме, подчиняясь таинственному ритму, безмолвный «взрыв», рождаемый светлым силуэтом сломанной сигареты и словно бы вылетающих из нее спичек,— зто действительно напоминает эстетику сфотографированного сна. А рейограф «Спираль» (ок. 1925) по экспрессии и пластической свободе равно близок динамической скульптуре и «симультанности» композиций Делоне.
Он делает портреты травести: классический пример — Дюшан, переодетый женщиной (1921), программный снимок, где фраза: «Эрос — это жизнь» (Eros, c’est la
Ман Рэй. Черное и белое. 1926 Vie) Трансформируется В ПСеВДО-
Ман Рэй. Молитва. 1930 НИМ преДСТЭВЛеННОГО ДЮШЭНОМ
персонажа — Роз Селяви (Rrose
Selavy), создавая новую цепь энигматических игровых интерпретаций.
Традиционная фототехника используется им, разумеется, и для заработка, но даже его вполне (казалось бы!) «обычные» портреты служат несомненным доказательством того, на каком мощном профессиональном фундаменте возводятся им сложнейшие конструкции экспериментальных художественных структур. Поразительно мощным психологизмом, сильным размещением светотеневых пятен и острой, но стабильной композицией
наделен портрет Тристана Тцары (1926), простой и кинематографически «подсмотренный» — Брака (1922) — документы и образы времени, свидетельства связи фантазий Ман Рэя с глубоким и трезвым взглядом на мир. А потрясающий своей абсолютной простотой и документальной жесткостью портрет Арнольда Шёнберга (1932) вообще воспринимается как божественное сочетание совершенной техники, безупречной объективности и умения увидеть в мимолетном выражении лица отблеск тяжелой и завораживающей музыкальной вселенной, своего рода «фотография воображения».
Все же тогда, в конце 1920-х — начале 1930-х Ман Рэй выделялся более всего снимками, которые нынче принято называть «концептуальными», т. е. имеющими некую рациональную программу, эффектно синтезирующими трудно сочетаемые мотивы («Кухня», 1931). Интеллектуализм его работ в совокупности со стремлением передать неуправляемость и спонтанность выражения, декларируемые сюрреалистами, приводил к тем же парадоксальным результатам, что и у Дюшана. С той разницей, что Ман Рэй, сохраняя верность плоскости и материалу, даже в самых эпатирующих вещах («Молитва», 1930) оставался художником строгих, лаконичных форм.
Слава Ман Рэя, конечно, усиливалась и упрочивалась его неуемной деятельностью интерпретатора, кинематографиста, даже фотографа модных моделей. Участник едва ли не всех сюрреалистических выставок, автор (вместе с Бретоном) скорее провоцирующего, чем глубокого сочинения «Фотография — не искусство» (Photographie n’est pas I’art) (1937), до старости сохранивший вкус и страсть к живописи, он остался в истории мастером 1920-х годов, дерзко взглянувшим в Зазеркалье с помощью фотографии, даже обходясь порою без привычной оптики. И в прямом, и в метафорическом смысле.
Разумеется, фотографии и рейографии, равно как и живопись Ман Рэя, не суть канонические примеры искусства сюрреализма, скорее они могут быть восприняты как своего рода рациональные, технически совершенные модели для построения его пластических структур. Фотография по определению включает в себя рациональность системного построения, и борьба мастера с ее природой при умелом использовании ее возможностей весьма любопытно сочетается в его искусстве.
Среди фотохудожников 1910—1920 годов, занявшихся новыми поисками выразительных средств и технологий, Ман Рэй был в Париже первым, но далеко не единственным. Поразительные своей аскетичной фантазией автопортреты Ильзе Бинг («Автопортрет с ,,Лейкой“», 1931) и «Автопортрет» Флоранс Анри (1928) с резким ракурсом, символическим натюрмортом-«двой-ником», ранние снимки Картье-Брессона начала 1930-х — свидетельство уверенного обретения фотографией метафорического языка, тонко, но прочно укорененного в сюрреалистических художественных идеях.
Особое место в этом контексте занял фотограф-любитель Эжен Атже, чьи отчасти репортажные снимки, умело обработанные, соединяли разные аспекты видения, как в известном снимке «Магазин на авеню Гобелен» (1925), где он синтезирует манекены, прохожих, отраженный и видимый миры. Странным резонансом приемам Сальвадора Дали были вошедшие в 1930-е годы в моду «Искажения» (Distorsions) — снимки Андре Керте-ша, выходца из Венгрии, обосновавшегося в Париже в 1925 году. Кертеш пользовался эффектами искривленных зеркал, что позволяло создавать текучие, часто пугающие, почти всегда эротические формы. Он издал несколько альбомов — «Дети» (1933), «Париж глазами Керте-ша» (1934), «Наши друзья звери» (1936). Более откровенной, болезненной сексуальностью, но и большей художественной оригинальностью отмечены снимки соотечественника Кер-теша — Дьюлы Халлаша Брассаи, тонкого репортера, автора известных жанровых снимков Парижа. Фотографируя предметы декоративного искусства, скульптуры, работы художников-сюрреалистов, в среде которых он существовал, Брассаи находил ракурсы и способы печати, которые позволяли реализовать многозначные «изображения изображений».
Каноническое, вполне последовательное сюрреалистическое искусство существовало исключительно как модель прежде и более всего в манифесте
Бретона, опубликованном в том же 1924-м. В отличие от манифестов Маринетти, Аполлинера или Малевича, текст Бретона провозглашал в качестве новации уже существующие тенденции, придавая им статус некоего узаконенного и едва ли не обязательного метода При этом модель, как был и будет случай убедиться, порой уходила весьма далеко от предшествующей и современной ей художественной практики.
Термин, как известно, впервые был произнесен Аполлинером либо по поводу собственной драмы «Сосцы Тересия» (Les ma-
Ф. Амри. Автопортрет. 1928
3. Атже. Магазин на авеню Гобелен. 1925
melles de Tiresias), поставленной в маленьком монмартрском театре (1917), либо по поводу декораций Пикассо к дягилевскому'балету «Парад». Термин не имел еще серьезного обоснования: пьеса Аполлинера об усталой женщине, решившей обратиться в мужчину, сочетала в себе дадаистский эпатаж и намек на притчу, декорации Пикассо вряд ли несли в себе глубокий подтекст.
В начале 1920-х (до публикации манифеста) появились именно те произведения, которые нынче воспринимаются примерами раннего, «канонического» сюрреализма. Их корни, вне всякого сомнения, соприкасаются и с метафизической живописью, и с дадаизмом. Здесь особое место — у Макса Эрнста, художника как был уже случай упомянуть, рационального и ироничного по скептической изобретательности чем-то схожего с Дюшаном, бывшего образцом artifex ludens.
За выставкой работ Эрнста в Париже (1920), организованной Бретоном, последовала просьба Элюара проиллюстрировать его стихи. Эрнст несколько месяцев гостил в домике поэта, распо-тоженном в городке Обонн севернее Парижа. Этот визит стал событием, аккумулирующим сюрреалистические устремления, консолидацию сил формирующегося сюрреалистического движения. Росписи34, сделанные Максом Эрнстом в доме Элюара, превратились в маленькую галерею сюрреализма. Каждая из них — практически самодостаточная картина, вполне программная для складывающеюся течения. «Первому ясному слову» (Au Premier mot limpide) (1923, ХССВ) (первая строчка и название стихотворения Элюара) — большое (почти 2 м в высоту) панно, представляющее собой своего рода интеллектуальную изобра-
Л. Кертеш. Искажение № 60.1933
Брассаи. Клошары под Новым мостим. 1930—1933
Брассаи. Женщина-амфора. 1935
зительную конструкцию с множеством фрейдистских аллюзий, прямо провоцирующую на многозначное истолкование. Своей холодной, «монофактурной» материальностью, уплощенным «безвоздушным» и холодным пространством она близка метафизической традиции, но содержит некую интригу вполне сюрреалистического свойства: написанная с салонной тщательностью ухоженная женская рука манипулирует красным шариком с ниткой, на конце которой — подобная насекомому ящерица, чей вертикальный подъем, как и шарик, и многие другие энигматические подробности, воплощают, согласно интерпретационной традиции, не просто комплекс фрейдистских откровений. но и конкретный этюд Зигмунда Фрейда «Иллюзия и мечта в „1одиве“ В. Йенсена», где рас
сматривается сексуальный подтекст присутствия ящерицы в сюжете датского писателя. Ничего толкающего к подобному истолкованию в тексте Элюара нет.
Многократно цитировавшийся и анализировавшийся «Манифест сюрреализма» Андре Бретона хоть и претендовал быть
II. Кертеш. Тени Эйфелевой башни. 1929
I программой, но стал скорее наставлением и объяснением. Сюр-I реализм уже существовал, и многие художники вполне сознатель-I но предпочитали фиксировать внимание не на реальном и не I на воображаемом, а, если можно так выразиться, на «изнанке I реального»35.
Иное дело, что призывы теоретиков сюрреализма к спонтан-I ному самовыражению, к «чистому психологическому автоматиз-I му», как уже упоминалось, остались скорее декларативными, во I всяком случае высокие и принципиальные произведения этого I направления отмечены сочиненностью и режиссурой, а разно-I го рода акции сюрреалистов с медитациями и спровоцирован I ными случайностями остались в постдадаистском пространстве. I Чисто же технические приемы: деколлаж (действие, противопо-I ложное коллажу, т. е. удаление слоев изображения), фюмаж (на-I несение изображения с помощью дыма) — остались все же в области узкопрофессиональной.
Нашумевшая фраза, рожденная в сопоставлении случайно соединенных слов «изысканный труп отведает молодого вина», В ставшая чуть ли не символом спонтанного мышления, воспри-I нимается сейчас как элемент игры — в конце концов и иная, па-I радоксальная и эпатирующая сентенция могла бы стать зани- нательной приманкой для любителей поверхностных сенсаций. Иной вопрос, что произошло в самом искусстве в пору, I которую вожди сюрреализма считали звездной,— в середине 1920-х годов.
М. Эрнст. «Первому ясному слову». 1923
И. Танги. Мебель времени. 1939
Именно в это время в полной мере заявили о себе крупнейшие мастера первой волны. На выставке 1925 года были произведения не только «ортодоксальных» участников движения — Арпа, Миро, Ман Рэя, Эрнста, Массона, но и Де Кирико, Пикассо, Клее. Дюшан, Пикабиа, Танги также присоединились к выставкам сюрреалистов.
Показавший свои работы на выставке Джорджо Де Кирико мог увидеть рядом с ними произведения своего поклонника, двадцатипятилетнего Ива Танги.
Танги обладал странным и сильным дарованием: бретонский моряк, не имевший ни художественного, ни вообще сколько-нибудь основательного специального образования, он начал писать лишь в середине 1920-х годов. Отбывая воинскую повинность, Танги познакомился с Жаком Преве-ром, это помогло ему обрести ориентиры в калейдоскопе художественной жизни. Первые его вещи написаны в духе художников «Моста», но затем он был потрясен картинами
сюрреалистической, впрочем, вполне оригинальной манере.
Мистическое безлюдье, бесстрастный свет и таинственный холод его миров лишь отчасти напоминают «метафизический мир» Де Кирико, от которого его создатель уже удалялся. Танги создал некую собственную планету, во многом предшествующую
пейзажам научной фантастики последней трети XX века. В отличие от фантасмогорий Эрнста, да и самого Де Кирико, мир Танги свободен от связи с привычными предметами, архитектурой, памятниками. Это придуманная, сочиненная природа, но сочиненная настолько иллюзорно и подробно, с таким чувством ее органического единства, что в ее существование трудно не поверить. Близость к природе подлинной заставляет ощущать достоверность мира Танги, но есть и тонко найденная степень DT-
Де Кирико и навсегда обратился к
И. Танги. Вне. 1929
И. Танги. Я жду вас. 1934
страненности от реальности, которая делает ее иной, фантастической.
Конечно, в основе этих инопланетных пейзажей отчасти и подсознательные впечатления от морей и бретонских берегов, ощущения, накопленные в длительных плаваниях, но они переплавлены в совершенно новую реальность. Это просторные берега, из которых вырастают каменистые биоморфные образования, своего рода геологические мифы, напоенные сумрачным покоем. Танги, однако, остро чувствует время, в картинах мелькают порой его приметы, правда, тоже в преображенном виде: самолет в картине «Аэроплан» (1929, КМИИБ) напоминает конструкции Пикабиа или Дюшана, а антропоморфные камни-звери — существ с картин равно Эрнста и Карры, но еще более — своей динамикой и мягкой, напряженной лепкой скульптурные образы Арпа.
Редко Танги следовал программному пу ги сюрреализма, строя многозначительный «предметно-бессознательный» сюжет («Мама, папа ранен!», 1927, МСИ), помещая действие неизменно в пространство своего инопланетного мира, который всегда оставался его главным сюжетом.
По сути дела, Танги, вслед за Кандинским, стал писать несуществующее (но материальное!). Не переводя бессознательное на язык свободного пластического языка, а выражая его во вполне предметных формах, столь же единообразных, сколь и элегантных. Впрочем, иные из его работ конца 1920-х годов отмечены своего рода монументальным эсхатологическим чувством,
А. Массон. Земля. 1939
А. Массон. Битва рыб. 1926
умением передать состояние природной катастрофы, перерастающей в многозначный, сохраняющий связь с природным миром символ («Вне» (Dehors), 1929, Шотландская национальная галерея современного искусства, Эдинбург).
С точки зрения «спонтанности» изображения наиболее последовательным сюрреалистом остался Андре Массон, который после учения в Парижской академии художеств увлекался несколько лет кубизмом, а с 1923 года предался сюрреалистическим опытам именно в области «автоматизма» письма и изображения, не ограничивая себя определенной пластической интонацией, обращаясь то к кубистическим, то к дадаистским ходам, то сохраняя почти совершенную нефигуративность, то, напротив, обращаясь к класси-цизирующему натурализму, то наполняя картину зашифрованными фрейдистскими аллюзиями («Земля», 1939, НМСИ ЦП). Он сумел внести в свои взвешенные импровизации истинный вкус неожиданности и изящества, сочетая разнообразные техники и фактуры. Бретон даже упрекал его в излишней преданности стихии живописи.
В принципе, искусство Хуана Миро с точки зрения чистой пластики могло бы трактоваться и как беспредметная живопись. Его полотна настолько
плоскостны, игра форм и линий сама по себе настолько выразительна и богата, что взаимодействие угадываемых предметов, их детали и тем более связь с бессознательным воспринимались бы скорее так, как происходило в работах Кандинского — на уровне не материальном, а совершенно эмоциональном.
Миро — сын ювелира, он начал рисовать очень рано, обретя с детства вкус к линии и скрупулезной законченности изображения. Сразу после войны, в 1919 году, он перебрался из Барселоны в Париж, где ему в первое время помогал его земляк Пикассо, и продолжал работать в совершенно фигуративной манере, тщательно прописывая малейшие детали своих картин.
Перелом был резким, отчасти совпавшим со взлетом сюрреалистического движения, но не вполне устремленным именно
к содержательным, программным сюрреалистическим ценностям. В его искусстве произошла стремительная метаморфоза: все свое умение отделки мелочей он сконцентрировал для создания острых, ярких, изысканно и жестко очерченных плоских форм, каждая из которых становилась пластической метафорой. Его поразительная по пластической поэзии картина «Испанская танцовщица» (О1ёе*) (1924, КМИИБ) состоит из нескольких иероглифических знаков: черный круг — голова, желтый треугольник — цветок, который танцовщица держит в зубах, яркий веер, обозначающий взмах руки, темная ломкая линия, обрисовывающая словно бы след платья в воздухе и стремительные движения ног.
Игры плоских, нервно и филигранно очерченных плоскостей, то сближающихся (действительно как в танце) друг с другом, то разлетающихся в разные стороны, то плывущих в пространстве, медлительно и торжественно. В какой-то мере все эти фарандолы форм напо-
X. Миро. Живопись. 1925
X. Миро. Ритмические фигуры. 1934
минают поэтику Клее или Кандинского (глубоко почитаемого Хуаном Миро), изъятую из их мира тонкой недосказанности, намека, глубоких подтекстов. «Картинный зал души» Миро существует при ярком свете современных ламп, он прекрасен своей ясностью, хотя и ограничен ею. Образы, которые в произведениях Эрнста, позднее — Дали вызывали оторопь своей ненужной натуралистичностью, у Миро сведены к изящной декоративной арабеске, к своего рода балету, пантомиме, весьма условному изобразительному спектаклю, рядом с которым сумеречные и натуралистические персонажи, кровавые детали и прочее выглядят уступкой невзыскательному зрителю. Вот «Ритмические фигуры»
* Восклицание танцовщицы в финале танца.
X. Миро. Мужчина и женщина. 1931
X. Миро. Поэтический предмет. 1936
Р. Пенроуз. Последнее путешествие капитана Кука. 1936
(1934, ХССВ) - здесь присутствуют и призраки манекенов Карры, и страшноватые существа — реминисценции эр-нстовских монстров, но все это сведено к лаконичным, ярким, танцующим формам, которым яростно-изысканный колорит, напоминающий мелькание театральных прожекторов на сценическом заднике, придает ощущение драматического, но веселого представления.
Эту же «серьезную легкость» Миро демонстрирует и в объектах, которые по своей несколько абсурдной нарративной и многозначительной программности восходят к дадаистским фантазиям Пикабиа. Но благодаря декоративному изяществу и явному нежеланию придавать работе избыточную се
рьезность даже композиции «Мужчина и женщина» (1931, частная коллекция) и «Поэтиче
ский предмет» (1936, МСИ), в которых соединены живопись, дерево, металл, ready made и многое другое, выглядят не энигма-
тическими структурами, но красивыми и ироничными произведениями искусства.
Кстати сказать, объекты и инсталляции, которые усредненное сознание воспринимает прерогативой поп-арта, концептуального искусства и вообще послевоенного времени, получили весьма широкое распространение уже в 1930-е годы. Вполне сюрреалистический объект Роланда Пенроуза (художника и коллекционера, практически возглавлявшего движение английских сю-реалистов) «Последнее путешествие капитана Кука» (1936, Галерея Тейт, Лондон), где окровавленный торс помещен в клетк)
в форме глобуса, сплет енного из параллелей и меридианов, рядом с которым располагается нож, по сути дела уже реализует арсенал средств, в значительный мере узурпированный мифами арт-критики конца XX века.
Сюрреализм был весьма привлекателен не только своим созвучием общественному вкусу, но более всего — именно возможностью беллетризоватъ искусство, создать его внешне сложный, а по сути почти кичевый вариант. Это был если не всегда путь к успеху, то весьма привлекательная дорога к относительно примитивном}; но многозначительному самовыражению. Практически одновременно с сюрреализмом (в принципе не лишенным салонности) стал формироваться и чисто салонный его вариант, представите-
fl. Рой. Опасность на ступенях. 1928
лем которого (хотя и вполне профессиональным) был Пьер Рой,
участник первой сюрреалистической выставки, чьи картины, по пластическому принципу близкие гиперреализму, сейчас воспринимаются кадрами кинотриллеров («Опасность на ступенях», 1927 или 1928, МОИ).
* * *
Когда «Превращение» Кафки (1915) готовилось к изданию отдельной книжкой и художник вознамерился поместить на облож
А. Бретон, Т. Тцара, В. Хьюго, Г. Кнутсон. Изысканный труп. Ок. 1933
ку изображение насекомого (в которого, как известно, превратился герой), автор категорически воспротивился.
Для великого писателя столь прямолинейное, предметное видение метафоры, да и всего мира бессознательного, было неприемлемой нелепостью. Как для Клее или Кандинского.
В этом отношении artifex ludens — художник играющий,— а в особенности сюрреалисты «классического» толка оказались более склонными к вкусовому и стилистическому конформизму. Вполне натуралистическое изображение упоминавшегося «Изысканного трупа», выполненное Бретоном, Тцарой, Гретой Кнутсон и Валентином Хьюго (1933, МСИ) — несомненное свидетельство спрямления художественной мысли и интеллектуальная капитуляция. Беллетризованный показ пугающих и тягостно материализованных картинок душевных глубин обретал все больший успех и провоцировал необозримое если уже не интерпретационное, то занимательно нарративное поле. Тем более что к концу 1920-х, когда чисто формальные поиски перестали казаться новыми, жизнеподобное, предметное искусство (хоть и в иных пластических структурах) стало вновь востребованным.
X. Миро. Объект. 1937
VI. «АКАДЕМИЧЕСКИЙ МОДЕРНИЗМ»
Насколько вообще существует какой-либо доступный наблюдению закон в коллективной истории искусства, как и закон индивидуальной жизни художника, это закон не прогресса, но регресса. Как и в большом, так и в малом — равновесие эстетической жизни постоянно неустойчиво.
Р. Дж. Коллингвуд
В 1925 году (год первой выставки сюрреалистов) в парижском Салоне независимых была представлена картина Марселя Громера «Война» (1925, МСИгП).
Искушенные многообразной стилистикой и довоенных, и недавних выставок, зрители и критики не остались все же равнодушными к пугающей простоте картины. Эти люди в шлемах и шинелях не походили ни на занимательных, виртуозно придуманных монстров Эрнста, ни на окровавленных мучеников Дикса. Персонажи Громера напоминали скорее некие антропоморфные блиндажи, ставшие каменными или железными памятниками собственным страданиям и собственной жестокости, мертвеющие символы войны, где танк, пушка, человек и бруствер становятся чем-то единым, где смерть порой едва отличима от жизни.
Бесстрастно мертвенный колорит со странным и синкопированным сочетанием сизых, сумрачно-лазоревых, черных оттенков, невыносимая тяжесть словно из брони отлитых, врастающих в землю фигур в сочетании с по-кубистически точно продуманными касаниями граней и масс — все и сейчас наводит на мысль о том, как много для реализации трагедии войны дали формальные открытия начала века.
Вольдемар Жорж (писавший о Сутине) говорил о том, что Громер возвращает французской живописи трагизм, ею утраченный в последние годы1.
Сын француза и фламандки, проживший немало времени в Бельгии, раненный на фронте в 1916 году, Громер — из того «потерянного поколения». Органическая близость к бельгийской культуре дала ему возможность узнать Пермеке и, вероятно, испытать его влияние.
Громер, естественно, не был одинок в возвращении к тому, что можно было бы назвать «драматической картиной», но для Франции середины 1920-х, на фоне сюрреалистического ажиотажа появление и успех его картины, равно как и персональной
М. Громер. Война. 1925
выставки в следующем, 1926 году, были показательны. «Война» Громера появилась в том же году, что и «Броненосец „Потемкин"» Эйзенштейна, и «Манхэттен» Дос Пассоса — великие произведения, возвращавшие миру трагическую тем* в жизнеподобной. но острой, вполне новаторской художественной форме, основанной на открытиях начала века.
Действительно: принципиально новые, радикальные художественные идеи едва ли возникают после «Манифеста сюрреализма» во второй половине 1920-х и в 1930-е годы в искусстве Западной Европы или США. Во всяком случае, в этом смысле
сравнивать это время с довоенным не приходится. Течения, недавно поражавшие мир, уже обрели некую респектабельность и стабильность, утеряли остроту и развивались без широковещательных деклараций и низвержения оппонентов. Художники, работавшие в традиции нефигуративного искусства, неопластициз-ма, сюрреализма, предметного реализма, даже те, кто развивал в тех или иных формах игровые варианты (ready made и т. д.), имели к концу 1920-х годов свою историю, свой героический период, свои генетические коды. А стало быть, и свой «академизм», и даже свой салон — неизбежное следствие редукции, порожденной — пусть подсознательным — устремлением искусства приспособиться к усредненному потребительскому да и критическому вкусу. Следствием этого стал некоторый (касающийся пластического языка) консерватизм внутри сложившихся групп и течений.
Споры и противостояния переместились в пространство нравственно-политическое и там обретали порой почти эпический размах, чему примером стала и «Война» Громера. Это вполне объяснимо. Осознание войны как прошлого вызывало страх перед возможностью войны в будущем и концентрировало внимание деятелей искусства на социальной проблематике. Слишком страшные перемены в жизни и сознании людей вызвала эта война, начавшаяся, по известному выражению, на лошадях и закончившаяся на танках. Мир переменился, и ужас перед войной, отвращение к ней стали ощущениями глобальными и постоянным мотивом искусства (особенно литературы). Впрочем, трагическое осмысление войны есть и в монументальных, несомненно отмеченных экспрессионистической традицией, гордых и скорбных памятниках Эрнста Барлаха (монументы павшим в Кёльне, 1927, и Магдебурге, 1931), и в росписях участвовавшего в войне англичанина Спенсера, посвятившего ее жертвам цикл монументальных росписей (1926—1934, поминальная капелла в Бёрклере, Беркшир).
Искусство начала века в принципе было обращено к настоящему и будущему. Именно это требовалось тогда от искусства как от «способа уравновешивания человека с миром», по не раз уже приводившемуся определению Выготского. Послевоенное искусство во имя «уравновешивания человека с миром» должно было обратиться и к прошлому, быть может, в первую очередь. И обратиться на языке более внятном, нежели коды радикальных модернистских течений.
Сказанное подтверждается и темами книг, изобилием которых отмечен конец 1920-х годов. Книг, создававших по мере усвоения их читательским сознанием основные точки отсчета литературы и вообще художественной культуры XX века. Более того, с этими книгами возникли некие этико-эстетические пролегомены столетия, вне которых сама культура эпохи немысли
ма, пролегомены, в большой мере укорененные в осмыслении и изживании военных проблем и воспоминаний. Существенно, что послевоенная литература, при том что ее поэтика усложняется донельзя, все же не несла в себе столь разрушительно формально-игрового начала, как изобразительное искусство, особенно на рубеже 1910—1920-х годов.
Вот кратчайший перечень давно ставших классикой книг, вышедших в те годы: 1919 — Г. lecce «Последнее лето Клингзо-ра», Дж. Рид «Десять дней, которые потрясли мир»; 1920 — Ф. Кафка «Сельский врач»; 1921 — Дж. Дос Пассос «Три солдата»; 1922 — И. Бунин «Господин из Сан-Франциско», Я. Гашек «Похождения бравого солдата Швейка», Дж. Джойс «Улисс»; 1924 — Т. Манн «Волшебная гора» (в том же году — А. Бретон «Манифест сюрреализма»); 1925 — М. Булгаков «Белая гвардия», Дж. Дос Пассос «Манхэттен», Т. Драйзер «Американская трагедия», Л. Фейхтвангер «Еврей Зюсс», Ф. С. Фицджеральд «Великий Гэтсби», А. Жид «Фальшивомонетчики», Ф. Кафка «Процесс» (посмертное издание), С. Льюис «Эрроусмит»; 1926 — Э. Хемингуэй «Фиеста» («И восходит солнце»), Ф. Кафка «Замок» (посмертное издание), А. Милн «Винни-Пух»; 1927 — И. Бабель «Одесские рассказы», Г. Гессе «Степной волк», Т. Уайлдер «Мост короля Людовика Святого»; 1929 — Ж. Кокто «Трудные дети», В. Набоков «Защита Лужина», Э. М. Ремарк «На Западном фронте без перемен», Э. Хемингуэй «Прощай, оружие!», А. де Сент-Экзюпери «Южный почтовый», М. Шолохов «Тихий Дон» (начало публикации), Б. Шоу «Тележка с яблоками»; 1930 — И. Во «Мерзкая плоть», Дж. Дос Пассос «42-я параллель». В этом перечне произведения обозначены с первых послевоенных лет, поскольку в читательское сознание, в отличие от фильмов и картин, они входили постепенно.
В тот же период времени вышли фильмы, имевшие не меньшее, вероятно, значение, особенно для массовой аудитории: «Кабинет доктора Калигари» (1919, Р. Вине), «Голем» (1920, П. Вегенер), «Малыш» (1921, Ч. Чаплин), «Доктор Мабузе — игрок», «Нибелунги» (1922 и 1924, Ф. Ланг), «Золотая лихорадка» (1925, Ч. Чаплин), «Броненосец „Потемкин"» (1925, С. Эйзенштейн), «Мать» (1926, В. Пудовкин), «Октябрь» (1927, С. Эйзенштейн), «Андалузскийпес» (1928, Л. Буньюэль), «Маленькая продавщица спичек» (1928, Ж. Ренуар), «Потомок Чингисхана» (1928, В. Пудовкин), «Шантаж» (1929, А. Хичкок, первый английский звуковой фильм), «Обломок империи» (1929, Ф. Эрмлер), «Золотой век» (1930, Л. Буньюэль), «Под крышами Парижа» (1930, Р. Клер), «Огни большого города» (1931, Ч. Чаплин). При этом в западном кинематографе практически отсутствует масштабная военная тема: кино по преимуществу остается развлекательным зрелищем.
Пылкая околохудожественная жизнь недавнего времени с ее утомительными фарандолами интерпретаций — словесных и непосредственно изобразительных — уже уходила в прошлое и была к середине 1920-х достаточно критически и даже саркастически осмыслена в литературе.
Более того, наиболее радикальные в смысле поисков новейших литературных форм авторы, и прежде всего Дос Пассос, уже на рубеже 1930-х по сути дела дефетишизировали стремление к коллажному принципу, нарочитую усложненность, переплетение смыслов и ритмов, избыточную декларативность. И в романе «Манхэттен», принесшем Дос Пассосу славу, затмившую даже успех «Великого Гэтсби» Фицджеральда, и в следующем романе — «42-я параллель» модернистский прием нарочито занижен: усложненный, ассоциативно истонченный язык, системы интеллектуальных метафор используются для обозначения очевидных и простых вещей и событий. При этом литература в силу своей изначальной направленности сохраняет высокую степень содержательности, особенно в послевоенные годы.
«Потерянное поколение» жило в перенасыщенной интеллектуально-трагической атмосфере, созданной по большей части им самим. Большинство писателей прошло через войну если и не на поле брани, то через ее страх, отчаяние, лишения. Человечество в этих книгах переживало мучительной процесс, который, употребляя современную терминологию, можно было бы определить как «реидентификацию».
«Неужели в воспоминаниях было больше жизни, чем в действительности? Не обращались ли они в действительность, между тем как сама действительность отходила назад, всё больше и больше выдыхалась, пока не превратилась в голый остров, на котором некогда развивались яркие знамена? Не оторвались ли воспоминания от действительности и не парят ли они теперь над нею лишь как хмурое облако? Или годы фронта сожгли мост к былому? (курсив мой.— М. Г.)
Вопросы, всё только вопросы... А ответа нет...» (Э. М. Ремарк. Возвращение).
«Бремя страстей человеческих» настолько довлеет литературе, что, даже отдавая дань самым радикальным художественным приемам, она сохраняет верность традиционным этическим ценностям. В тех же случаях, когда в нее проникает проблематика и даже терминология искусства модернизма, она воспринимает его как драму, как новую и болезненную ступень познания.
В этом отношении показательны ранние произведения Гессе, особенно «Последнее лето Клингзора» и, разумеется, «Степной волк»,— книги, ставшие своеобразным путеводителем по тайнам художественного мышления модернизма, который вос
принимается автором и его персонажами как некая занимательная, обогащающая, но печальная данность: «Вы мечтаете о том, чтобы покинуть это время, этот мир, эту действительность и войти в другую, более соответствующую вам действительность, в мир без времени... Вы ведь знаете, где таится этот другой мир и что мир, который вы ищете, есть мир вашей собственной души... Я не могу открыть вам другого картинного зала, кроме картинного зала вашей души». Возвращение к уже не раз приводившейся цитате в данном контексте имеет более широкое значение, чем в процессе анализа искусства Клее.
Что же касается Дос Пассоса, то он в построении своих романов поразительно соединил чисто бытовой, даже сатирический взгляд на модернизм, преломленный усредненным сознанием, на художественную среду предвоенных лет с мастерским использованием острейших достижений новейшего искусства — в том числе и кинематографа. Так, во второй книге трилогии «США» — «1919» — для «коллажных» текстовых интермедий, построенных наподобие отрывочной хроники, использовано название «Киноглаз», заимствованное у Дзиги Вертова. В его книгах действуют не столько художники, сколько околохудоже-ственная среда, маленькие, но претенциозные обыватели, замороченные модными фразами. Один из персонажей Дос Пассоса, итальянский офицер лейтенант Сардиналья, сочинил «Марш медицинских полковников» (весьма характерное абсурдистское название). «Футуристу ничего не должно быть противно, кроме слабости и глупости,— полагает лейтенант.— Футурист должен быть силен и ничем не гнушаться».
Хемингуэй, писавший еще в молодости о Париже начала 1929-х в романе «Фиеста» и вспоминавший его в позднем романе «Праздник, который всегда с тобой», серьезен и эпичен, в литературе описываемого времени — ни в манере, ни в сюжетах — уже нет суетливого формального кокетства, она переполнена болью и мыслью. Кроме того, она — порой против собственного желания — социальна.
Роман Э. М. Ремарка «На Западном фронте без перемен», как и упоминавшийся роман «Возвращение», лишивший воспоминания о войне немногих последних иллюзий, почти сразу переведенный более чем на двадцать языков, обозначил порог наступающих 1930-х, подведя уже исторический итог хронологическому пространству послевоенного мышления. Смерть Клемансо и маршала Фоша в том же 1929 году стала для Франции своеобразным знаком прощания с временем трагическим, но не лишенным романтизма. Изгнание Троцкого обозначило для западного общественного мнения наступление тоталитарного правления в СССР, самоубийство Маяковского (1930) — начало опасного давления власти на интеллигенцию.
Тот же год стал переломным в истории кино: последний значительный «сюрреалистический» фильм перед наступлением звукового кино — «Андалузский пес» Буньюэля и Дали (1928), широко пройдя по экранам Европы и Америки, подвел черту под историей «великого немого».
Хотело того искусство или нет, но война, в известной мере соединив народы, а особенно мыслящую, рефлектирующую духовную элиту общей ответственностью и общей тревогой, приучила мыслящих людей видеть даже в локальных событиях знаки опасных перемен. «Черный вторник» 1929 года на Уолл-стрит и годы великой депрессии, безработица и голод, убийство во Франции русским террористом президента Думе (1932), приход в 1933 году к власти Гитлера, начало репрессий в СССР, вторжение итальянских войск в Эфиопию, наконец, начало гражданской войны в Испании (1936) — все это ощущалось симптомами грядущей катастрофы, тем более страшной, поскольку еще недавно представлялось аксиомой: человечество никогда не захочет и не допустит новой мировой войны. Крах демократических иллюзий (экономический кризис, неспособность «свободного мира» противостоять фашизму) расшатывал веру в либеральный порядок вещей и вносил в общество опасное противостояние. Фашизм в разных обличьях, напротив, консолидировался: нацизм в Германии, чернорубашечники (фашисты) в Италии, фалангисты в Испании, «Железная гвардия» в Румынии, «Национальная солидарность» и другие правые объединения во Франции.
Всемирный съезд писателей в защиту культуры 1935 года (руководители А. Мальро и А. Жид), несмотря на всю настороженность западных либералов, вовсе не был пустым пропагандистским мероприятием, как порой полагают. Противостояние было жестким. Иные — и какие! — писатели, например Честертон и Б. Шоу, не скрывали своей заинтересованности личностью Муссолини, Селин публиковал открыто антисемитские суждения.
Почти параллельное становление двух могущественных тоталитарных систем, исповедовавших геноцид (СССР — во имя «классовых» идей, Германия — во имя «чистоты расы»), не только пугало, но и сбивало с толку, так как для многих людей фашизм и социализм еще оставались решительными антагонистами. Между тем террор и пропаганда, равно как и тенденции официальной эстетики, все более делались сходными. Общество — от интеллектуальной элиты до далеких от художественной жизни социальных групп — было в высокой степени политизировано, искусство возвращалось к мысли о социальной ответственности.
Парадоксально — «искусство для искусства», искусство чистой формы, абстракция и т. д. (иными словами, искусство высокого
эксперимента 1910-х годов) порой уже рассматривались как символ эпохи, погрязшей в материализме, причем националистические идеи консервативной Европы странным образом перекликались здесь с идеологией тоталитарного искусства2. Следовательно, хотя бы частичный возврат к жизнеподобным формам воспринимался как движение к духовному, к собственно художественному.
Творческая практика, реализованная в формах «академического», иными словами, установившегося модернизма оставалась все же за пределами той политической борьбы, которой художники искренне хотели служить. Здесь в смягченном варианте повторялась ситуация эстетического изоляционизма, приведшего ко многим разочарованиям художников русского авангарда. Обращаясь к массам, они не встречали понимания, эстетические предпочтения обычных людей тяготели к инерционному вкусу обывательской роскоши, где супрематической мебели или посуде места не находилось.
В амстердамском Стеделийк-музеуме в 1930 году была развернута выставка «Социалистическое искусство сегодня», экспоненты которой старались на языке редуцированного конструктивизма, сохраняя и культуру отвлеченных геометрических форм, и известную повествовательность, напитанную социальным драматизмом, показать все те же проблемы классового неравенства (Герд Арнц), страданий инвалидов (Генрих Херле) и т. д. Рядом с горделивым бесстрастием знаменитой парижской группы «Круг и квадрат» эти возвышенные порывы выглядели странным и несколько суетным стремлением к злободневности, хотя были, несомненно, укоренены в самых достойных этических убеждениях.
В 1925 году, когда в Париже зрители увидели первую выставку сюрреалистов и «Войну» Громера, в Мангейме открылась экспозиция художников «магического реализма», или «новой вещественности» (Neue Sachlichkeit),— еще одно свидетельство возрождения интереса к предметному миру. Иное дело, что это искусство, опирающееся на уходящие принципы метафизической живописи, было скорее суммой чисто формальных приемов, умозрительных и прозаичных, нежели действительно художественной тенденцией. Вместе с тем в нем было европейское предчувствие гиперреализма, отягченное все теми же послевоенными тенями (Александр Канольдт. «Натюрморт VI», 1924(?), частное собрание, Стокгольм). На этой же выставке, правда, показал свои работы и художник иного масштаба и дарования — Макс Бекман, но его талант и темперамент, разумеется, выходили за пределы «Neue Sachlichkeit».
В Мексике еще в начале 1920-х годов активно работали монументалисты — Хосе Клементе Ороско, Диего Ривера, Давид
С. Тойбер-Арп. Движущиеся круги. 1933
Р. Делоне. Кругообразные формы. 1930
Альфаро Сикейрос,— находившие для реализации социальных, открыто пропагандистских идей и целей мощные, впечатляющие формы, отчасти укорененные в открытиях экспрессионизма.
Мондриановский неопласти-цизм, внедряясь в различные национальные и интернациональные школы, формировал академический устойчивый вариант -высокого», но несколько уже механистического, анемичного, самовоспроизводящегося беспредметного искусства. В нем было много блестящих достижений, но открытий уже не случа лось. Сам Мондриан в своей «Композиции в красном, желтом, синем» (1929, СМ) словно подводит зрителя к найденной наконец окончательной формуле, и его дальнейшее движение
отмечено все большим лаконизмом. Жесткие соприкосновения тугих, словно спрессованных в плоскости разноцветных прямоугольников уступают место холстам медитативного толка с минимумом линий, пересечений и цветов — «Вертикальная композиция с синим и белым» (1936, ХССВ), где светлый холст пересечен лишь двумя черными вертикалями и двумя же очень короткими горизонталями, а цвет явлен лишь маленьким темно-синим прямоугольником вверху полотна.
Тенденция Мондриана к чистой геометризированной «холодной» форме — совершенная модель обозначенной в начале книги «рациональной» тенденции в общем движении искусства XX века. Математическая ясность и функциональная простота, укорененная в ранних поисках конструктивистов (отчасти у Леже, у русских сторонников этого течения во главе с Татлиным), резонировала практике знаменитого уже тогда Баухауза, переживавшего в начале 1920-х годов несомненный подъем. Утверждение скупой и энергичной эстетики не только в архитектуре, но и в том, что сейчас принято называть «дизайном», желание наполнить мир «тотальным», проникающим в быт искусством, синтезировать скупое изящество с максимальным удобством вещи, интерьера и т. д., участие в работе Баухауза мастеров мирового масштаба (Кандинский, Клее, Гропиус, Мис ван дер Роэ
и др.) — все это сделало Баухауз мощным центром не только подготовки современных архитекторов и художников, но и колыбелью нового вкуса, где формировалась новая среда обитания, столь же простая, пустынная и гармоническая, как картины Мондриана.
В те годы искусство формального поиска действительно воспринималось если не как академизм, то константа, возбуждавшая уважение, хотя и не превратившаяся еще в салон, но не сулящая особых сенсаций.
Даже Софи Тойбер-Арп, чьи дадаистские композиции были более чем далеки от рациональной респектабельности, пишет в начале 1930-х суховатые абстрактные картины, взвешенные и монотонные,— мозаичные комбинации локально окрашенных кругов («Движущиеся круги», 1933, Художественный музей, Базель). Пластическая энергия чудится здесь исчерпанной, и равновесие дости гается не ощущением невесомости, а эффектом материальной плоскостности, будто холст лежит горизонтально и кружки не могут соскользнуть с него. Возможно, эти работы вдохновлены произведениями самого Арпа, использовавшего в те же годы рельефные кружки в компо
зициях из раскрашенного дерева («Амфора», 1931; «Созвездие галстуков-бабочек и пупков II», 1932, обе — ХССВ). Стоит заметить, что Арп в последнем произведении, решенном вполне в традиции классической сухой абстракции, сохраняет верность дадаистской фразеологии, хотя работает, как и его жена, в гораздо более сдержанной, чем прежде, манере. В середине 1930-х пластические и весьма тонкие игры с кружками на плоскости занимают и Ласло Мохой-Надя, знаменитого художника и преподавателя Баухауза («Конструкция А16», 1933—1934, Институт современного искусства, Валенсия), использовавшего в качестве живописной поверхности, как в данном случае, даже а.1люминий.
Беспредметному искусству 1930-х трудно было избежать многих опасностей — прежде всего некой унылой одинаковости, которая грозит всякой чисто формальной системе, не питаемой содержа гельным началом. Не меньше искушений таила в себе возможность самовоспроизводства — внутри одного формального
Л. Мохой-Надь. Конструкция А16. 1933—1934
Ф. Купка. Формы в киновари. 1931
X. Арп. Скульптура, которая будет потеряна в лесу. 1932
Р. Делоне. Ритм № 2.1938
Ф. Леже. Хвосты комет на черном фоне. 1930
эксперимента возможно было бесконечное число модификаций. И эта «изысканная типологичность» с небольшим числом счастливых исключений отличает нефитуративное искусство этих лет.
Действительно, оно обретает в Европе некоторые общие черты, среди важнейших из которых можно
назвать следующие: во-первых, утонченная культура работы с материалом, некоторый «академический лоск», высокий уровень сделанности. повышенный «эстетизм», почти повсеместный отказ от формального эпатажа; во-вторых, весьма частый синтез плоскостного и объемного изображений, устремленность живописи к нетрадиционным материалам, к рельефу, даже к соединению с ready made; в-третьих, некоторая повторяемость приемов, появление вполне академических формальных схем.
Например, элегантные и впечатляющие работы «классических абстракционистов» — Делоне, Купки,
Виллона — воспринимаются как вариации давно найденного, лишенные прежней энергии, но композиционно и колористически более, чем прежде, тщательно выверенные и реализованные.
Основанные в 1929 году Мишелем Сейфором — поэтом, художником, единомышленником Мондриана и одним из первых его биографов, и парижским уругвайцем Хоакином Торресом-Гарсиа журнал и объединение «Круг и квадрат» (Cercle et Carre) стали новым центром беспредметно-
го искусства, уже свободного от громких деклараций и сосредоточенного именно на формальном художественном поиске. К объединению примыкали Озанфан, Мондриан, Арп, Тойбер-Арп, Вантонгерлоо и другие. В 1930 году вышло три номера журнала и открылась болыпая выставка группы на улице Боэти в
Париже. Еще более многочисленна была группа «Абстракция-творчество» (Abstraction-Creation), ставшая наследницей «Круга и квадрата». В нее вошло более четырехсот художников из Европы и Америки. Ее основателями были Жорж Вантонгерлоо — бельгийский абстракционист, один из соучредителей группы «Стиль», автор брошюры «Искусство и его будущее» (1924), и Огюст Эрбен, в ту пору автор сухих, геометризованных картин. Это многочисленное, репрезентативное объединение своей респектабельностью и влиянием утвердило значение беспредметного искусства как явления вполне светского и почти академического.
В ту пору эффектно заявила о себе и польская группа абстракционистов, близкая Мондриану (Хенрик Стажевс-ки, Владислав Стржемински, Катаржина Кобро), сформировавшаяся в Лодзи и
примкнувшая затем к «Кругу и квадрату», потом — к объединению «Абстракция-творчество». Их живопись, отличающаяся яростной и ледяной точностью, элегантной логикой, стала примером транснационального движения геометрического абстракционизма. Совершенно особое место в искусстве заняли скульптуры
К. Кобро. Пространственная композиция 4. 1929
К Кобро. Пространственная композиция 6. 1931
X. Торрес-Гарсиа. Композиция. Объект. 1931—1934
Кобро из дерева и раскрашенного металла, напоенные мощной и утонченной энергией.
Сам Хоакин Торрес-Гарсиа за недолгий сравнительно период своей парижской деятельности (он прожил в Париже менее десяти лет и вернулся в Монтевидео в 1934 году, где возобновил издание журнала «Круг и квадрат» на испанском языке — «Circulo у Cuadrado») создал пластические объекты, которые и сейчас воспринимаются как значительные достижения высокого модернизма. Укорененные, в известной мере, и в работах Арпа, и в контррельефах Татлина, возможно, и в открытиях Катаржины Кобро, рельефы и особенно объемные композиции Торреса стали воплощением и отчасти итогом скульптурных
идей посткубистского абстрактного направления. Сочетания геометрических, налитых скованной энергией, глухо, но энергично окрашенных объемов отличаются редкой, классической завершенностью: энергия отдельных частей образует их взаимное притяжение и естественную нерасторжимую связь («Композиция», 1931—1934, Институт современного искусства, Валенсия).
В произведениях Кобро, Торреса, даже Арпа, несомненно, есть ощущение итогов пылких пластических исканий геометриче
В. Стржемински. Архитектурная композиция 13.1929
X. Стажевски. Абстрактная живопись. Ок. 1929
ского толка. В абстракции 1930-х (речь не идет о мастерах вполне исключительных, масштаба Кандинского или Клее) становится больше биоморфизма, динамики, усиливается интерес к первобытным мотивам, а главное, резко обостряется эстетизирующее нача-
ло.
проще говоря, устремленность к ви-
зуальной отточенности, привлекательности, в какой-то мере и к изобразительной беллетризации (например, в скульптурах одного из соучредителей объединения «Абстракция-творчество» венгерского мастера Эжена Беоти). Даже такой мэтр дадаизма и любитель эпатажа, как Курт Швиттерс, в середине 1930-х изготовляет объекты почти
изысканные — «Без названия» (1934— 1937, частная коллекция, Париж), что, впрочем, не мешает ему предаваться рискованным пластическим аллюзиям, где эротика контаминируется с поэзией. используя терминологию Бахтина, «телесного низа» («Деревянная змея», 1937, Галерея Гмуржинской, Кёльн).
Энергичным и неожиданным воспринималось искусство художников более молодого поколения, истинная сла
ва которых ожидала их лишь в послевоенные годы. Тридцатилетний Ганс Хартунг (скрывавшийся от нацистского преследования во Франции) заявил о себе как скульптор и живописец ошеломляющего, пылкого темперамента, открывший манеру письма «чернильными пятнами», т. е. стремительными, действительно спонтанными, но обладающими достоинствами некой импровизированной каллиграфии мазками («Композиция Т-1934-11», 1933—1934, частная коллекция, Париж). В такой же манере, сочетающей импровизацию с витальностью и продуманностью, он исполняет беспредметные металлические скульптуры («Скульптура», 1938, Фонд X. Хартунга и Аны Евы Бергман).
К. Швиттерс. Деревянная змея. 1937
Г. Хартунг. Композиция Т-1934-11. 1933—1934
X. Хартунг. Скульптура. 1938
Л. Фонтана. Абстрактная скульптура. 1934
Тогда же с первыми работами выступает Лючио Фонтана (известный ныне своими рассеченными и перфорированными картинами), занятый тускло и рафинированно раскрашенными рельефами и скульптурой, нередко представляющими собой лишь движение металлической проволоки в пространстве.
Высшие достижения нефигуративного искусства 1930-х видятся, пожалуй, более всего в скульптуре. Именно к этому времени начинает проявляться масштаб дарования Генри Мура, которому суждено было стать едва ли не центральной фигурой в истории скульптуры XX века. Получив первоначальное образование в Лидсе, затем в Королевском колледже в Лондоне (1920— 1924), проведя полгода в Италии, он делил свое время между Парижем и Лондоном, где стал одной из главных фигур английского авангарда, соучредителем (1933), вместе с Нэшем, известной группы «Unit one» (Первое подразделение), исповедовавшей принципы чистой формы. В 1936 году он был участником Международной сюрреалистической выставки в Лондоне.
Мур, несоменно, испытал сильнейшее влияние Бранкузи и Цадкина, возможно, и влияние Арпа тоже было весьма значительным’, но уже к началу 1930-х он сформировал собственный, остро резонирующий тенденциям времени стиль, балансирующий на грани абстракции и сюрреализма. Его занимает, захватывает создание пластических образов, где синтезируются человек и природа, внутри которой он существуют. Не случайно в
молодости он работал непосредственно в камне или дереве, чтобы ощутить, по собственному его выражению, «истину материала». Создания Мура, в которых неизменно проявлено антропоморфное начало, чудится, произрастают из самой земли, навсегда сохраняя связь с нею, и обретают свои объемы и очертания прямо на глазах зрителя, превращаясь из аморфной субстанции в вечную, как камень египетских статуй, материю. Его чрезвычайно занимает центральная проблема скульптуры — соотношение масс и пустот, очертания проемов, их соотношение с силуэтом фигур в пространстве. Одна из относительно ранних его работ, выполненная в дереве, так и называется «Отверстие и выпуклость» (1934, Фонд Генри Мура). Еще острее это ощутимо
в колоссальной (9 м в длину) бронзовой скульптуре «Большая полулежащая фигура» (1938, Фонд 1енри Мура). Божественная пластичность была настолько укоренена в природе его искусства, что, даже отдавая дань сооружению «объектов», он сохранял в них прежде всего всепобеждающее скульптурное начало («Фигура со струнами», 1939, Фонд Генри Мура).
С 1929 года в движении сюрреалистов принимает активное участие молодой швейцарец, ученик Бурделя Альберто Джакометти. Возможно, наиболее универсальный мастер высокого модернизма, Джакометти пробовал себя во всех решительно аспектах пластики, в ту пору практиковавшихся, в том числе занимался и созданием вполне сюрреалистических объектов, среди которых особенно известна «конструкция» (любимый термин Джакометти) «Дворец в 4 часа утра» (1932—1934, МСИ). Облагороженный и индивидуализированный единым и виртуозным почерком Джакометти, «Дворец» соединил в себе мотивы и персонажи да даистов, метафизического искусства, всей иконосферы 1920-х. Художник писал тогда о конструкциях, вхождение в которые открывает их иной мир — «с которыми можно существовать в их сверхреальности — в прекрасном двор-
Л. Фонтана. Рельеф. 1934
Г. Мур. Отверстие и выпуклость. 1934
А. Джакометти. Дворец в 4 часа утра. Объект. 1932—1934
Г. Мур. Полулежащая фигура. 1939
це», о формах, «которые я чувствовал близкими, часто без возможности их идентифицировать, что делало их еще более тревожными»4. Легкий деревянный остов дома, над которым взлетала деревянная, похожая на птеродактиля птица, странные, оцепенелые скульптурные формы внутри «здания» — все это мир столь же странный, сколь и исполненный тонкого пластического единства, поскольку в самые
эпатажные фантазии Джакометти прежде все
го вносил скульптуру.
Он сотворил собственный мир, населенный аскетическими, всегда словно одинокими, потерянными, но горделивыми в своей неизменной жесткой грациозности скульптурными созданиями — будь то фигуры людей или просто сочетание фантастических форм.
Наделенный талантом редкого своеобразия, способностью соединять классическое чувство монументальности и виртуозную технику с отвагой свободного поиска и суховатой, нервной одухотворенностью, Джакометти узнаваем и в «объектах», и в живописных работах, в скульптурах абстрактных («Куб», 1933—1934, Фонд Мэйт, Сен-Поль) и вполне фигуративных («Идущая женщина», 1932—1934, частная коллекция) скорее всего потому, что он рассматривал не только отвлеченную, но и жизнеподобную форму лишь как художественную субстанцию: «Человеческое тело было для него только обозначением (significance) внешнего символа неосязаемой субъективности»5.
Вообще маэстрия, тонкая культура работы с материалом нередко делает скульптуру 1930-х годов произведениями драгоценными не только художественной, но и профессионально-ре-месленнор виртуозностью, а иные из них выглядят едва ли не ювелирными изделиями. Даже в искусстве великого Бранкузи отточенная завершенность формы (при всем пластическом и эмоциональном богатстве его работ) порой кажется доминирующим качеством («Птица в воздухе», 1925—1931, Кунстхауз, Цюрих; «Белокурая негритянка», 1926, Музей Вильгельма Лембрука, Дуйсбург). Сезар Домела, уроженец Амстердама, занимавшийся до прихода к власти нацистов фотомонтажом в Берлине и переехавший в начале 1930-х в Париж, забыв отчасти о конструктивистских идеалах своей юности, обратился к созданию пластических конструкций, странно сочетавших резкую смелость про-
А. Джакометти. Куб. 1933-1934
А. Джакометти. Идущая женщина. 1932—1934
странственного решения, контраст материалов с фактурной
изысканностью и даже некоторой избыточной нарядностью, в сущности чуждой самой природе скульптуры. Его «Рельеф № 12»
(1933, МКМ) выполнен из ба-
c. Домела. Рельеф № 12.1933
К. Бранкузи. Белокурая негритянка. 1926
Н. Габо. Конструкция с камнем и целлулоидом. 1933
келита, плексигласа, латуни, и только очень внимательный, непраздный взгляд различит за светской репрезентативностью композиции резкую пластическую драму, свидетельствующую о высоком, хотя и несколько рационализированном мастерстве.
Дань этой тенденции в середине 1930-х отдали и Антуан Певзнер в своей «Конструкции» (1935, Институт современного искусства, Валенсия), и его брат Наум Габо, один из
основоположников и теоретиков конструктивизма («Конструкция с камнем и целлулоидом», 1933, частная коллекция).
Именно в эти годы заметное место занимают в пластике подвиж-
ные скульптуры («мобили»), которые были «запрограммированы» всей предшествующей художественной практикой, начиная с Дюшана, дадаистов, создателей «объектов» etc. В 1930-х стали появляться композиции Калдера, которому суждено было стать центральной фигурой кинетической скульптуры в послевоенные годы.
В принципе сочетание былых дерзаний с отточенным артистизмом, отсутствием крикливых дискуссий, признанием крити
ки, наконец, со сложением традиции и школы — все это и привносило в модернизм недостающую ему, быть может, прежде возможность спокойной рефлексии, оттачивания мастерства.
Искусство становится все более совершенным, холодным, повторяющимся.
Естественно, что в ситуации обостренных гражданских и политических страстей сюрреализм, с его пристальным вниманием к эмоциональной стороне бытия человека, оказался в числе явлений наиболее заметных. Однако речь не о творчестве собственно сюрреалистов, о которых говорилось и еще будет сказано, но об общей тенденции, пронизавшей на рубеже 1920-х — 1930-х годов искусство Западной Европы. Сюрреалистический метод расширяется до чисто внешней суммы приемов, становясь своего рода «пластическим эсперанто» времени.
Чувствительный, но беспощадный до цинизма зонд сюрреалистического искусства неожиданно обрел новое дыхание в искусстве художников, озабоченных более всего гражданской болью и эсхатологическими предчувствиями. В их работах сюрреалистический метод сводится к гипертрофии выражения скрытых эмоций и комплексу пластических ходов. Здесь результат кажется более эффективным, чем у участников амстердамской выставки «Социалистическое искусство сегодня», поскольку «сюрреалистическое эсперанто» оставалось и более
А. Певзнер. Маска. 1923
А. Певзнер. Конструкция. 1935
А. Калдер. Ловушка для раков и рыбий хвост. Мобиль. 1939
А. Калдер. Маленький шар с противовесом. 1931
естественным в контексте современного видения, и просто более выразительным. Мрачные видения Франца Радзивилла («Стачка», 1930, Художественный и историко-культурный музей Вестфалии, Мюнстер), протокольный пафос представителя голландского «магического реализма» Карела Вилинка («Казнь», 1933, Собрание Калдик, Роттердам) при всем несходстве приемов (темпераментная, не лишенная натурализма сюрреалистическая фантазия первого и своего рода «фотографический апокалип сис» второго) проникнуты тем же ощущением тягостного сна, болезненного выброса подсознания, где страх или воспоминания принимают документальную, гипертрофированно детализированную форму. Аналогичный ход — и в других картинах, написанных как акции политического и социального протеста, где по сознательной воле авторов или чисто интуитивно использован язык сюрреализма как некий универсальный код времени (Эдгар Энде «Ладья», 1933, Музей Людвига, Кёльн). Любопытно, что эта последняя картина своей настойчивой застылостью, жесткой пластичностью держится в традиции метафизической живописи, от которой сам Де Кирико уже отходит в эту пору, обращаясь к антикизирующим, де-
Ф. Радзивилл. Могила нигде. 1934
коративным просветленным сюжетам, в которых воскрешает воспоминания о Греции, где жил в юности.
В Италии рубежа 1920-х — 1930-х годов ненадолго, но ярко вспыхивает звезда молодого художника Шипионе, не доживше-
Ф. Радзивилл. Стачка. 1930
К. Виллиик. Казнь. 1933
го и до тридцати лет, ставшего вскоре центральной фигурой «Римской школы виа Кавур», куда входили среди прочих Марио Мафаи и ставшая его женой художница родом из русского (польско-литовского) Ковно (Каунаса) Антоньетта Рафаэль.
«Римская школа» становится пылкой альтернативой гаснущему величию метафизического искусства и политизированной суете позднего футу ризма. Небольшие, но словно напоенные «дантовским» адским огнем, жестко ритмизованные картины Шипионе («Апокалипсис», 1930, Город-
ская галерея нового и современного искусства, Турин; «Католический принц», 1930, Музеи Ватикана), где современные образы впаяны в странное пространство иконного «предстояния», воспринимаются совершенно автономным пластическим явлением в итальянской живописи, более, чем многое иное, соприкасающимся с горькой тревогой предвоенной Европы.
В девятом Осеннем салоне в Мадриде (1929) двадцатишестилетняя Ангелес Сантос показала картину «Мир» (Национальный центр искусств королевы Софии, Мадрид), принесшую ей сразу же колоссальный успех и признание самой респектабельной критики. Диковинное соединение наивного космогонизма, средневековых образов, реминисценций Босха, уроков футуристов, ранней метафизической живописи и, разумеется, сюрреализма, сухая, прямолинейная точность изображения, написанного эффектно, но практически без использования фактуры, колорита, фигуры на первом плане, напоминающие одновременно и элоев, и морлоков из уэллсовской «Машины времени»,— все это находится вне «вещества искусства», но поражает масштабом воображения, болью предчувствий, острым восприятием реалий современности, увиденных словно глазами перепуганного ребенка. В сущности, и выполненная вполне в духе пас-сеистической стилизации (Va-nitas), но в гиперреалистической манере «Губка горечи» бельгийца Рауля Хинкеса (1934, Городской музей, Гаага) воспринимается скорее как сюрреа диетическое видение будущего, нежели как дань традиции религиозной живописи.
Все это говорит о том, что сюрреалистическая тенденция становилась — в той или иной мере — почти глобальной. На родине Миро и Дали сюрреализм, питаясь иберийской традицией трагического и спиритуалистического видения мира, взрастил болезненный и пылкий талант Оскара Домингеса,
3. Энде. Палатки. 1933
Э. Энде. Ладья. 1933 А. Сантос. Мир
Дж. Де Кирико. Конь и гладиаторы. Ок. 1930
Дж. Де Кирико. Лошади, скачущие у моря. 1926
с середины 1930-х — непременного участника всех сюрреалистических выставок. Прямолинейный, тяжелый эротизм, реализованный в гладкой, безжизненно-предметной манере, еще более сухой, чем у Дали, трогает силой нераскрытого страдания и странной для столь сухой живописи искренностью («Электросек-
суальная швейная машина», 1934, частная коллекция).
«Задавал тон» «классический» сюрреализм, его французское ядро во главе с Бретоном, и его проблемы были в центре внимания.
События 1929 года в среде сюрреалистов стали показателем того, что чисто художественные перемены и новации уже перестали вызывать просто и исключительно увлеченную заинтересованность. «Идейные» разногласия значили больше.
В 1929 году двадцатипятилетний каталонец Сальвадор Дали, недавний друг Гарсиа Лорки, приехал с Луисом Буньюэлем в Па-
риж и был введен в среду сюрреалистов Хуаном Миро. Дали был воодушевлен идеями иррационального, интуитивного, «параноического» искусства, иными словами, стремился к максимальному, уже превосходящему традиционный фрейдистский метод, агрессивному проникновению в бессознательное, к полному «автоматизму» художественного процесса (это последнее, как и многое у Дали, было в значительной мере лукавством, поскольку его картины основаны на сухом и прагматичном расчете).
Дали и Буньюэль были широко известны в мире благода
Шипионе. Апокалипсис. 1930
Шипионе. Католический принц. 1930
ря уже упоминавшемуся нашумевшему фильму «Андалузский пес» (Un Chien Andalou)6 (1928). Картина была снята с очевидным намерением поразить зрителя невиданной жестокостью на
туралистически снятых кадров, за которыми, по мысли авторов, открывался скрытый мир бессознательного, хотя сама степень
Р. Хинкес. Губка горечи. 1934
внушаемого съемками страха и отвращения решительно снимала художественные, ассоциативные переживания.
Карьера Дали в Париже складывалась непросто. Достаточно внешний «антибуржуазный пафос» Дали столкнулся с меняющимися позициями многих ведущих персонажей французского «классического» сюрреализма, увлеченных в ту пору, как многие европейские интеллектуалы, социальными идеями.
Бретон, Арагон, Элюар в конце 1920-х годов вступили в Коммунистическую партию Франции (не все остались надолго ее членами), многие их единомышленники не только были увлечены либеральными и антифашистскими идеями, но даже обращались к марксистским доктринам. Интересы сюрреалистов укоренены в трех проблемах политика, эстетика, интернационализм. В 1929 году публикуется «Второй манифест сюрреализма» и новый журнал «Сюрреализм на службе революции».
С исторической дистанции узкохудожественные дискуссии тех лет не кажутся слишком радикальными. Однако откровенная устремленность Дали к виртуозной технике во имя создания вполне популистских, занимательных картин, стремление, захватывающее многих его адептов и за пределами Франции и Испании, все же по-своему противостоит верным сюрреализму мастерам, ищущим более отвлеченные, формальные, ассоциативные ходы.
О спекулятивности и дурновкусии Дали, соединенных, несомненно, с поразительной изобретательностью и невероятной фантазией, написаны сотни томов, и его искусство давно суще
ствует в усредненном сознании как некое явление, уже неподвластное критике, художественному' анализу, как явление, вышедшее за пределы контекста собственно искусства. Его успех в Париже и вообще в мире в начале 1930-х годов столь же объясним, сколь и красноречив для характеристики уровня общественного вкуса. Самый понятный и занимательный из сюрреалистов, редуцировавший образы подсознания до уровня современных компьютерных киноэффектов, он был обречен на успех. Он стал первым столь масштабным представителем модернистского кича, массового варианта интеллектуального по своей сути художественного течения.
В картине 1930 года «Загадка Вильгельма Телля» (Музей современного искусства. Стокгольм) он наделяет своего героя внешностью Ленина, демифологизируя вместе и героя средневековой Гельвеции, и вождя мирового пролетариата. Дали, отчасти действуя в поле «игры», соединяет мистификацию с искренностью, аккумулируя не только противоречивые взгляды и художественные стратегии, но и свойственные окружающему его миру полярные страсти. Уже тогда стало очевидным, что, в отличие от многих своих известных современников, Дали был и остался не только плохим живописцем, но и посредственным рисовальщиком. Вялость рисунка и упрощенная палитра внесли в его картины ту приблизительность, то отсутствие профессиональной магии, что сделало их особенно востребованными невзыскательным зрителем, инстинктивно ощущавшим в Дали тип художественного демагога, опускавшего искусство до уровня «культуры потребления». Это подтверждается массовым
С. Дали. Загадка Вильгельма Телля. 1930
потребительским культом Дали, существующим по сию пору среди даже далеких от истинного интереса к искусству кругов. Творчество Дали остается простой отмычкой в труднейший мир сюрреализма, благодаря которой даже инерционно и лениво мыслящий зритель ощущает торжество собственного интеллекта. Художник стремился касаться всего — религии, политики, секса, находя на все прямолинейные и вместе с тем пикантные ответы, виртуозно придуманные и исполненные с редким пластическим однообразием. Мелочная натуральность немыслимого лишает образы Дали (за редким и серьезным исключением) истинного трагизма.
В работе Дали присутствует еще одно качество, принципиально отличающее его от сюрреализма как художественного течения.
Если Эрнст, Массон, Джорджия О’Кифф, Миро и многие другие создавали свои воображаемые миры, действительно основанные на образах бессознательного или им убедительно уподобленные, иными словами, изображали художественную картину душевных тайн, то Дали (как и многочисленные его подражатели) претендовал на своего рода натуралистический протокол очевидно моделируемых видений, создавая фальсифицированные, но желающие казаться подлинными квазидокумен-тальные изображения. И здесь он выходит из пространства художественной игры, ибо, как ни парадоксально, уже перестает нуждаться в интерпретации, да и не способен более побуждать
С. Дали. Постоянство памяти. 1931
С. Дали. Великий мастурбатор. 1929
к ней зрителя. Одномерность, отсутствие пластического подтекста, натурализм, в котором нет личностного художественного начала — вещества искусства, — делают картины Дали доступными для объяснения и пересказа — подобно картинам Делароша, живописцев бидермайера или летописцев тоталитарных режимов, но не для ассоциативных рядов, игры воображения, тревоги или иронии, как неспособны на то компьютерные игры конца века.
Самые прославленные его полотна рубежа 1920-х — 1930-х годов надолго программируют его будущую деятельность и в смысле образов и персонажей (переходящий из картины в картину «Великий мастурбатор»), и в смысле изобразительных ходов: превращение материи в свою противоположность, многозначительность названий, неизменная загадочность, столь же неизменно поддающаяся прямолинейной расшифровке,— «Постоянство памяти» (1931, МСИ), где тестоподобные, текучие часы, разлагающийся циферблат, знакомый фрагмент профиля все того же персонажа — все складывается в эффектный, приятно волнующий своей доступностью ребус.
Понятно, что, будучи человеком одаренным и пылким, порой он писал картины пронзительно и точно резонировавшие времени. А что касается игры, то она полностью переместилась в его человеческие, поведенческие качества, которые сделали
С. Дали. Градива находит антропоморфные руины. 1931
его, быть может, первым подлинным шоуменом, смоделировав-шим путь для великих мистификаторов новых поколений вроде Энди Уорхола.
...искусство должно погрузить свои корни до глубин бессознательного.
Тристан Тцара
«Попытка невозможного»: Рене Магритт. Естественная параллель возникает между Дали и Магриттом, художником, который в усредненном «культурном сознании», несомненно, находится в тени своего младшего со-I брата, но и непосредственно рядом с ним.
Здесь, стоит напомнить, речь идет именно об искусстве, а не о взглядах или судьбах. Дали и Магритт были друзьями, однако их теоретические суждения были не просто разными, но и совершенно несопоставимыми по интеллектуальному уровню (Магритт был куда образованнее, серьезнее и скромнее Дали), их судьбы то пересекались, то отдалялись друг от друга. В искусстве же их реализовались едва ли совместимые устремления и качества.
Сопоставление важно потому, что оба художника, в сущности, отказались от живописи как таковой, от сколько-нибудь персонифицированного рисунка и занимались, если можно так выразиться, режиссурой видений. Но именно зти сближающие их черты выявляют со всей очевидностью их принципиальное различие. Если о Дали можно было сказать с полным основанием, что он был плохим рисовальщиком и живописцем, то о Магритте сказать то же самое затруднительно просто потому, что он и не стремился ласкать глаз зрителя (на что Дали претендовал весьма настойчиво, сколь отталкивающими ни были бы его персонажи, стремясь к банально понимаемой, но все же привлекательности, к эффекту «всамделишности», сюрреалистического «trompe — I’oeil»). Магритт же ограничивался сухой, даже пресной визуальной информацией о том, что продуцировало его изобретательное воображение. Но зти отчасти примитизированные, хотя и исполненные с протокольным мастерством изображения действительно погружены корнями «до глубин бессознательного», согласно уже известному изречению Тцары.
Магритт, как писатель-фантаст, конструировал «сценарии картин», исполнение которых (независимо оттого, что говорил и думал сам художник) к «красоте» не стремилось. В фактуре, цвете, линейных построениях Магритта решительно нет желания порадовать вкус обывателя, его страшное лишено сладкой притягательности, оно основано не на натуралистических подробностях, а на отстраненном и всегда многозначительном, содержательном сопоставлении предметов и явлений, порой и надписей.
Магритт приехал в Париж из Брюсселя незадолго до появления там Дали. Его ранние работы, сделанные после недолгого юношеского увлечения кубистическими и футуристическими приемами, были достаточно типологичны: соединение дадаистской игры с многозначительностью метафизических композиций (в 1922 году, увидев копию с картины Де Кирико, он пылко увлекся его искусством). Их, однако, оценил известный в ту пору бельгийский поэт Пьер Буржуа, и вскоре Магритт вошел в круг брюссельских сюрреалистов.
Одна из первых его известных картин, написанная, когда ему не было тридцати,— «Человек моря» (1926, КМИИБ). отмечена не приведенными еще к синтезу влияниями метафизических пластических приемов, переизбытком сюрреалистических многозначительных деталей и откровенным диалогом с расхожими метафорами — знаками массовой культуры (название связано с французским переводом недавно опубликованного романа Джозефа Конрада «The Rover», которым он тогда увлекался, а черная фигура без лица восходит к облику героя модного кинобоевика «Фантомас»
Р. Магритт. Человек моря. 1926
Р. Магритт. Потерявшийся жокей. 1926
Р. Магритт. Угрожающее время. 1929
режиссера Фейада). Заметим, что к этому герою как к кичевому источнику сюрреалистических идей обращался и румынский художник Виктор Браунер, работавший в Париже с 1925 года («Фантомас», 1932, НМСИ ЦП). Другое полотно, которое и сам Магритт полагал первым своим сюрреалистическим произведением,— «Потерявшийся жокей» (Le jockey perdu) (1926, частная коллекция, Нью-Йорк): подобие обрамленной порталом сцены, в которой скачет среди фаллических, исписанных нотами кеглеподобных столбов всадник,— зто абсурдистское видение уже несет в себе холод опасного Зазеркалья, неведомо почему рождаемого и ранними работами Магритта. Эти картины были представлены среди шести с лишним десятков работ на его первой персональной выставке в брюссельской галерее «Кентавр».
Вскоре он приезжает в Париж, но уже с 1930 года — вновь в Брюсселе. Полагая, что живопись — лишь средство коммуникации идей, он практически перестает интересоваться «веществом искусства». И хотя настоящая слава пришла к Магритту после войны он стал самим собой и достиг принципиальных высот в 1930-е годы.
Именно живопись Магритта, похожая на стоп-кадры фантастической философской кинодрамы, снятой почти в хроникальной манере, заставляет задуматься о том, как много от живописи вообще и от сюрреалистической, магриттовской живописи в частности восприняло кино, особенно в конце века. Видения Магритта, отрешенные от всякой «телесности», унизительно пугающих нату-
В. Браунер. Фантомас. 1932
ралистических деталей, напоминают самые возвышенные, а иногда и абсурдистские образы научной фантастики. Недаром картина «Угрожающее время» (1929, Шотландская национальная галерея современного искусства, Эдинбург) дала название знаменитой парижской выставке 1997 года. Магритт обладал особым даром: в его сопоставлениях обычных вещей возникала та возвышенная жуть, которая свойственна именно видениям, бреду, тяжелому сну. Нет решительно ничего страшного в этих бледных миражах, плывущих над морской гладью в светлом спокойном небе, зто просто гипсовый античный торс, валторна (мотив, к которому художник постоянно возвращается), стул,— все зто изображено действительно имперсонально, словно воспроизведение кинокадра. Но в этой вызывающей и грозной нелепости присутствует такой бессмысленный ужас, такое ощущение сна, от которого нельзя проснуться, какое можно испытать при чтении «Соляриса» или гофмановского «Песочного человека», где очки начинают сверкать так страшно, хотя, почему зто страшно, объяснить едва ли возможно. Магритт, кстати сказать, в известной мере шел вслед за романтическим приемом самого Гофмана. В рассказе «Стихийный дух» повелитель потусторонних сил предстает в образе армейского майора и вызывает призрак, читая текст из французской грамматики, утверждая, что «должно быть безразлично, какими средствами буду я пользоваться... чтобы проявить в осязательной форме мою связь с миром
Р. Магритт. Голос ветров. 1928
духов». Обыденность, пошлость ситуации подчеркивает масштаб потустороннего ужаса. Так и повседневность вещей в тревожных касаниях Магритта внушает невнятную и грозную тревогу.
Метафора нерасшифрованного страха, не образы подсознания, а те картины, которые нам бессознательное посылает еще не расшифрованными,— вот область, где Магритт не знает себе равных. Его детские воспоминания о перезвоне бубенчиков на шеях коров, что паслись на бедных лугах Шарлеруа, перевоплотились в гигантские и призрачные, тяжкоматериальные, отсвечивающие тусклым металлом шары, плывущие над бесконечным простором,— «Голос ветров» (1928. частная коллекция).
Один из секретов Магритта — в умении с пугающей простотой, без зашифрованнос-ти и пластических намеков поставить зрителя перед четко зафиксированным «кадром», словно бы вброшенным подсознанием в видимый предметный мир. Так, акварель «В похвалу диалектике» (Eloge de la dialectique) (1936, частная коллекция) становится эмоциональной и пугающей метафорой известного гегелевского суждения о том, что внутреннее, лишенное внешнего, не может быть означено внутренним- он изображает дом, видимый сквозь окно дома, внутри его, а не снаружи,— типологическая ситуация ночного кошмара предметно и бесстрастно констатируемого.
Магритт многое предвосхитил, создав своего рода путеводитель по лабиринтам постмодернистского искусства. Его надписи на картинах, утверждающие, скажем, что изображенная трубка не есть трубка (поскольку это лишь ее изображение или просто потому, что со зрителем ведется интеллектуально-абсурдистская игра),— прямой путь к концептуальным конструкциям. Совмещение фрагментов классических картин с собственной живописью, обращение лица в тело, холодный и рассудочный эротизм, несомненная ки-нематографичность, близость научной фантастике самой высокой пробы. И разумеется, отстраненный взгляд со стороны на себя и свою работу, многократная холодная рефлексия, где «кадры» Зазеркалья отражаются в обычных и необычных зеркалах столь многократно, что вновь начинают казаться реальностью. И когда Магритт писал свою картину «Попытка невозможного» (La tentative de
Р Магритт. Ключ к полям. 1936
Р. Магритт. Попытка невозможного. 1928
(’impossible) (1928, частная коллекция), изображая пишущего модель художника, то создал невиданный и вместе точный эквивалент подсознатель-
ного творческого акта: под кистью художника возникало в пространстве
комнаты, а не на холсте реальное живое тело, а все вокруг оставалось, наверное, только раскрашенной плоскостью.
С последней упомянутой картиной Магритта «Попытка невозможного» непосредственно соприкасается картина его соотечественника и сверстника Поля Дельво, обретшего славу несколько позднее,— «Пигмалион» (1939, КМИИБ). Традиционные
Р. Ольце. Ежедневная пытка. 1934
герои меняются ролями, живая женщина обнимает мраморный мужской торс в пространстве мертвеющего античного пейзажа, напоминающего миры Кирико. Сложная система отражений и в картине «Пожар» (1935, КМИИБ), где страшное зрелище мнится и реальностью, и театральной сценой, и сном. Огонь, стихия, которую так любил Магритт, все эти молчаливые, странные и пугающие мотивы сближают этих двух художников, составивших славу бельгийского сюрреализма. Дельво, впрочем, не обладал аскетизмом Магритта, в его картинах немало пластической и колористической игры, темные пришельцы подсознания реже тревожат его холсты.
Примкнув к сюрреализму после большой сюрреалистической выставки в Брюсселе (1934), Дельво прожил длинную жизнь (он умер, не дожив трех лет до своего столетия, успев написать сотни картин, огромные декоративные панно для метро в Брюсселе и став национальной гордостью страны).
Сюрреализм не просто увлекает многих художников, но и «проявляет» их искусство для них самих, помогает их самоидентификации в общем достаточно смутном художественном процессе.
Рихард Ольце, художник, сформировавшийся в Баухаузе и приехавший, как и многие, в Париж в 1933 году, после знакомства с Бретоном, Эрнстом, Элюаром, Дали решительно обратился к сюрреалистической манере, а точнее, вероятно, просто нашел себя. Его известнейшая
картина «Ежедневная пытка» (1934, ХССВ), написанная жестко, густо, вырисованная с настойчивой отчетливостью гравюры, созидает странную реальность, где пышное цветение природы, жжение солнца и ледяная застылость соединяются в некий страшный универсум, таящий в себе неотвратимость страдания.
Американский сюрреализм кажется в наиболее известных своих проявлениях более спокойным, его образы живут в тягучем времени, где видения и сны порой чудятся современным преображением романтических фантазий Вашингтона Ирвинга. Хрестоматийный пример — картина Джорджии О’Кифф «Коровий череп, красное, белое и синее» (1931. Музей Метрополитен, Нью-Йорк), где органические формы почти сведены к абстракции, но сохраняют настойчивые сексуальные аллюзии.
Уже говорилось, что сюрреализм стал своего рода эсперанто для искусства 1930-х годов, однако и иные тенденции начала века, синтезируясь в той или
П. Дельво. Женщина в зеркале. 1936
Дж. О’Кифф. Абстракция. 1920
мной степени вместе с сюрреализмом, вносили некую пласти ческую константу в живопись и скульптуру той поры. Наследие «героического» периода авангарда и раннего модернизма ощущалось, вероятно, каждым — но не каждый мог, воспринимая его, остаться самим собой.
Примеры немногочисленны. Речь не о создателях направлений и прямых продолжателях ими же начатых художественных систем. Речь об индивидуальностях, не затронутых ранней или инерционной общностью, среди которых Сутин, Марке, поздний Дерен. В их числе в определении своеобразия 1930-х важна и фигура Марселя Громера, который, как и названные художники, продемонстрировал возможность органичного и действенного синтеза сюжета и достижений авангарда при полном сохранении индивидуальности.
Художник и город: диалог XX века. В середине 1930-х во Франции вошел в обиход термин «поэтический реализм» (Le realisme poetique). Не обсуждая его научную точность, стоит обратить внимание на область и обстоятельства его применения. Термин был обращен в значительной мере к мастерам городского пейзажа. Именно этот жанр стал ристалищем, на котором борствовало лирическое восприятие современного города и бурная неприязнь к поэтике и самой стихии урбанизма. Городская среда в изобразительном искусстве XX века — особое пространство.
Это очевидно и в сравнительно немногочисленных городских пейзажах Громера, которые словно перекидывают мостик от тягостных послевоенных ощущений к непростому приятию новой реальности. Возникающие скорее как обозначение места действия, урбанистические иероглифы в глубине его композиции, кварталы, башни, дома становятся образа
М. Громер. Каноз. 1930
ми равно влекущими и настораживающими («Каноэ», 1930, МСИгП). Но и сам Париж Гро-мера, в тех редких случаях, когда художник пишет его, это не поэтический и уж никак не веселый город. Его Париж — сумеречная темница, тяжелый фантом города, где человек мал и одинок («Сите», 1929, частное собрание). Эта отчужденность города, своего рода поэтическая настороженность — в ту пору едва ли не признак времени. Таким же чувством проникнута почти метафизически застылая картина немецкого живописца, одного из немногих одаренных мастеров, признанных Рейхом. Карла Гроссберга «Заводской двор» (1930, частная коллекция,; и парижские пейзажи Жана Маршана с их прохладной «кубистической» ограненностью; и сумеречные городские виды Лоренса Ковин-
га, и поразительно трогательные картины шотландца Л. Лаури, писавшего обитателей заводских бесприютных кварталов с саркастической и серьезной нежностью; и непривычно экспрессивные, хотя и напитанные горькой тревогой городские виды, написанные в 1930-е годы молодыми художниками группы «Римская школа виа Кавур» (в центре которой был упоминавшийся Шипионе, чей пейзаж «Пьяцца Навона» (1930, Собрание Боттаи, Рим) таит в себе очевидное ощущение какого-то восторженного катастрофизма), этого «урагана в художественной жизни Рима», по выражению современного критика, явившего собой резкую альтернативу метафизическому застылому пространству.
Город оставался трудным окружением для художника с постимпресси-онистическои поры, гнетущей и вместе возбуждающей средой, богатейшей
россыпью впечатлений и мотивов, в том числе и абстрактных. Таков и холст «Дома в Париже» Хуана Гриса (1911), и упоминавшееся полотно Пауля Клее 1922 года «Красный шар», и пейзаж Роберта Делоне, предвестник симультанизма (1910) (все картины в МСГ). Делоне, кстати, спустя пятнадцать лет продолжал воспринимать город в столь же бругаль ном варианте («Эйфелева башня», 1926— 1928, там же). Это свойство присутствует и в фотографических портретах города («Набережная Сен-Бернар» Анри Картье-Брессона (1932), и в кино — фильмы Чарли Чаплина, «Под крышами Парижа» Рене Клера, вышедший в 1930 году. Леже отыскивал в нем мощные конструктивистские ритмы, поэзию машин и механизмов, но то было скорее противостояние городу, нежели приятие его.
Особое место в истории городского пейзажа занял Макс Бекман. Разумеется, не он
X. Грис. Дома в Париже. 1911
один в искусстве Германии понимал и с тонкой остротою писал город — в экспрессионистической традиции урбанистический ландшафт занимал важное место, достаточно вспомнить работы Кирхнера или Макке. Но Бекман создал совершенно особый образ города, можно сказать, некую «урбанистическую универсалию», где подробный, как кадры кинохроники, рассказ о деталях городской жизни сочетается с пониманием его общих жестких, угловатых ритмов, со странным синтезом радостной, деятельной энергии и болезненного одиночества — «Железный пешеходный мост» (1922, ХССВ), написанный, кстати сказать, с той же точки, с которой его рисовал семью годами ранее Кирхнер (пейзаж изображает Франкфурт-на-Майне). В начале 1930-х манера Бекмана куда более экспрессивна и драматична, город оборачивается средоточием спрессованных болезненных и вместе с тем романтических ассоциаций («Парижская мечта», 1931, частная коллекция). Еще более мрачен архитектурный пейзаж Канольдта —
М. Бекман. Железный пешеходный мост. 1922
литой, тяжелый, пустой («Олевано», 1927, Национальная галерея, Берлин).
Мазерель вообще воспринимал город как некий ад, порой не лишенный мрачной поэзии, но непременно фатальный и враждебный «маленькому человеку».
«Мрак сковывает дымящийся асфальтовый город, сплавляет решетки окон, и слова вывесок и дымовые трубы, и водостоки, и вентиляторы, и пожарные лестницы, и лепные карнизы, и орнаменты, и узоры, и глаза, и руки, и галстуки в синие глыбы, в черные огромные массивы. Из-под катящегося все тяжелее и тяжелее пресса в окнах выступает свет. Ночь выдавливает белесое молоко из дуговых фонарей, стискивает угрюмые глыбы домов до тех пор, пока из них не начинают сочиться красные, желтые, зеленые капли в улицу, полную гулких шагов. Асфальт истекает светом. Свет брызжет из букв на крышах, перебегает
под колесами...» (Дж. Дос Пассос. Манхэттен). Американские художники тоже весьма охотно склонялись к драматическому восприятию Нью-Йорка (литография Луиса Лозовика «Нью-Йорк» (1925). офорт Айзека Фридлендера «Туман в Бруклине» (1939), обе — Галерея Мзри Рэйен, Нью-Йорк). Особенно сильна трагическая урбанистическая нота в резких, головокружительно динамичных (с четким наследием футуризма, которому художник
М. Бекман. Парижская мечта. 1931
отдал немало душевных сил) картинах Джозефа Стеллы («Бруклинский мост», 1917, Художественная галерея Йельского университета, Нью-Хейвен).
Осознание города как совершенно иной среды обитания — особый сюжет в искусстве XX века. Это касается вовсе не только живописи, хотя литературный пейзаж тех лет во многом исходил из живописного, как во многом и из кино.
Знаменательно, что в скованном множеством запретов искусстве Советского Союза городской пейзаж оставался порой косвенной возможностью передать настроение и образ времени. Живший в ту пору в Париже Роберт Фальк, склонный скорее к умиротворенно-поэтическому видению, воспринимал любимый им город в эмоциональном контексте встревоженного времени («Старый мост. Париж», 1930, ГРМ). Но и в самой России иные пейзажи поражают своей угрюмой, тягучей, вымученной выразительностью (Борис Ермолаев. «Улица в Володарском районе», 1935, ГРМ), а «Дирижабль над городом» Юрия Щукина (1933, ГРМ) своей зловещей артистической силой и остротой резкого колорита вполне вписывается в трагический контекст западной фигуративной живописи.
Нью-Йорк как инкарнация нового урбанизма и Париж — воплощение традицион
ного города — занимают здесь, естественно, особое место.
В1930 году сорокавосьмилетний Эдуард Хоппер, ставший к тому времени одной из центральных фигур американской живописи, написал свой шедевр «Раннее воскресное утро» (Музей американского искусства Уитни, Нью-Йорк), эпиграфом к которому вполне могли стать слова из все того же американского бестселлера 1920-х — романа Дос Пассоса «Манхэттен»: «Тихое солнечное воскресенье висело над городом».
Эта картина Хоппера таит в себе столь же странную притягательную силу, что и проза Дос Пассоса, столь же пронзительное ощущение американской особливости, американского урбанизма, весьма далекого от расхожих образов небоскребов или Бруклинского моста.
У Дос Пассоса и у Хоппера присутствует эффект кинематографического стоп-кадра (композиция многих картин художника, чудится, восходит к эстетике кино), который у писателя почти сразу же сменяется следующим, а у Хоппера длится столько, сколько хочет того зритель, а заворожить
Б. Ермолаев. Улица в Володарском районе. 1935
Ю. Щукин. Дирижабль над городом. 1933
зрителя художник умеет. Начало дня воспринимается началом жизни, детской настороженной радостью, эффектом «jamais vu» (новое открытие знакомого места), когда привычная обжитая среда обитания видится таинственной и неведомой. Обычно это ощущение беспокойно-радостное, и трудно догадаться, как вызывает его Хоппер, оставаясь в пространстве гиперреалистической протокольной точности. Вероятно, именно потому, что в настойчиво достоверное, фронтальное, протокольно-«натюр-мортное» изображение обыденного до оскомины кирпичного дома, в котором за закрытыми окнами для усталых и скучных жильцов еще длится ночь, врывается дыхание ранней, светлой, солнечной свежести, которую зритель «подсмотрел» вместе с художником. Возможность иного взгляда — наверное, в этом секрет картины.
В начале книги говорилось об использовании американским гиперреализмом «прецизионности», натуралистической сверхточности (подобно «реализму» тоталитарного искусства) во имя утверждения установившихся жизненных и эстетических стандартов. Хоппер — счастливое I исключение. В его прописанных до мельчайших деталей картинах всегда есть некий нерв, состояние — тонкая печаль, тревога. Одиночество — один из главных мотивов поэтики Хоппера (об одиночестве сам Хоппер не раз гово-| рил), и это вносит в его картины постоянную печаль и серьезность.
Э. Хоппер. Раннее воскресное утро. 1930
Все эго реализуется композиционной асимметрией, подчеркнутым безлюдьем городского пейзажа («Аптека», 1927, Музей изящных искусств, Бостон), странной антропоморфностью точно прорисованной, но все же живой архитектуры, умением передать одиночество дома в пустом поле («Дом у железной дороги», 1925, МСИ). Любопытно, что эта картина стала источником декораций для знаменитого фильма Хичкока «Психоз» (1960).
Э. Хоппер. Разъезд в Манхэттене. 1928
Э. Хоппер. Комната в гостинице. 1931
Понятие «поэтического реализма» как «родовой признак» сближает Хоппера с великим поэтом городского пейзажа — Марке.
Париж в контексте городского пейзажа — центральный персонаж, и Марке, несомненно, главный его портретист. Но этим сюжетом пробле
ма не исчерпывается.
Кстати сказать, сама традиция парижского пейзажа не так велика и значительна, как порой может показаться. Художники писали этот город давно — со времен «монаха Ива» и братьев Лимбург. Но в сущности, если не считать нескольких офортов Калло, в чистом своем виде парижский пейзаж — детище XIX века. Акварели Гране, полотна Коро и Тернера, наконец, импрессионисты. И все же не было еще ни одного живописца, для которого Париж стал бы основной, главной жизненной темой.
Только Утрилло отдал свою кисть Парижу. Точнее, Монмартру, придав ему странную, замаскированную под веселье горечь, переданную неизмен
но беспокойными переплетениями линий и планов в усложненном, почти иррациональном пространстве, диктуемом самой атмосферой этого диковинного холма подымающегося на северной окраине Парижа. Монмартр Утрилло — почти исторический пейзаж, в нем нет автомобилей, даже фиакры редкость, он воскрешает Монмартр времен импрессионистов, когда в кафе «Гербуа» на Гранд-рю де Батиньоль собирались те, кто стал в XX веке классиками, когда все дышало там поэзией и тишиной, а не туристическим пошлым блеском.
Париж Утрилло мгновенно узнаваем, как маска или условный грим в
Э. Хоппер. Аптека. 1927
Э. Хоппер. Дом у железной дороги. 1925
commecia dell’arte. Его дома всегда чуть ломких, заостренных очертаний, приглушенных цветов и мягких тонов, крутые спуски и повороты улиц, нежные краски зданий и вывесок. Подобно Ренуару, Утрилло останавливается перед самой гранью, за которой начинается банальность, неизменно оставаясь в пространстве своего благородного вкуса.
Париж писал и Андре Лот как и Марке, родившийся в Бордо в парижских мотивах ему близкий поэтической обстоятельностью, тяжелым изяществом, которое он эффектно сочетал со своими кубистическими пристрастиями («Апсида Нотр-Дам», 1912, Музей искусств, Бордо) Париж оставался для французского художественного мироощущения своего рода константой, рядом с которой художники всех поколений видели динамику своего искусства и верность исповедуемым принципам. «Канал Сен-Мартен» — пейзаж, написанный семидесятилетним Полем Синьяком (1931—1933, част
ная коллекция, Париж), — еще одно свидетельство счастливого синтеза конструктивных формальных структур неоимпрессионизма, пространственных открытий кубистов, ритмических находок конструктивистов.
Альбер Марке остается все же здесь центральным, а на излете века — и самым загадочным персонажем. Простота его картин чудится не меньшей мистификацией, чем модернистские интеллектуальные игры.
Профессиональные пристрастия Марке определились быстро и безошибочно — он сразу вошел в круг самых одаренных и независимых живописцев. Ему повезло: вскоре после приезда в Париж он познакомился с художниками, которым суждено было создавать новое искусство.
Возможно, именно в мастерской Моро Марке навсегда приобрел равнодушие к мелочной законченности и тем более к затейливой сюжетике. Действительно, с первых же лет ученичества Марке отказался (как и большинство его сверстников и единомышленников) от «сюжетной» картины. Но, в отличие от Матисса, Руо, Дерена и многих других Марке никогда картину не придумывал и не сочинял. Работал с натуры.
Едва ли был в XX веке хоть один масштабный мастер, который писал
М. Утрилло. Улица Абесс. 1909
М. Утрилло. Кабачок «Резвый кролик-. 1913
бы только натуру, не строя мотив, не созидая некую «пластическую новеллу». Марке — подобно Сезанну — лишь выбирал и интерпретировал. «Реализовывал свои ощущения».
Марке, прирожденный эмпирик, художник, способный восхищаться преходящими состояниями природы, мгновенными эффектами освещения, преображающими пейзаж, Марке, этот одареннейший колорист, остался, насколько можно судить по его картинам, почти равнодушен к искусству импрессионистов. Тех, кто столь бесподобно, столь по-новому писали Париж, его летучие цветовые и световые эффекты, заново открывали его живописные тайны. Просто случайное Марке не интересует. Он не тщится
остановить кистью мгновенный образ, отпечатавшийся на сетчатке глаза. Оставаясь верным натуре, он тем не менее создает ее заново. В этом его притягательная сила и, если угодно, один из его парадоксов.
И Ван Гог, и Сезанн, и Гоген, как известно, писали мир не столько видимый, сколько пережитый. Марке не таков, он закрыт, кисть его сдержанна, и тайные движения души едва ли выражаются на холсте. На его полотнах немыслима материя, как у Ван Гога, содрогающаяся от боли, или космические метаморфозы Сезанна. Взятый с натуры мотив всегда доминирует в его холсте. Но суровость отбора, лирический аскетизм, умение акцентировать главное и придать своеобразное ощущение стабильности, не просто остановить мгновение (как то делали импрессионисты), но придать ему своего рода длительность, даже ощущение вечности — это у Марке на уровне высочайших достижений XX века.
Марке, видимо, не слишком увлекал воинственный субъективизм, заявленный фовистами в качестве художественной программы. Для него вообще программа была явлением чуждым и скучным. Однако интереснейшие поиски мощного и чистого колорита, свободное и точное выражение индивидуального ощущения, свойственные многим его товарищам, были новой школой. Принципиально иной, нежели школа Моро или даже Лувр. Именно тогда кисть Марке приобрела — и навсегда — живописную отвагу.
Фовизм дал ему, как и всем участникам группы, много, но в суть его художественной индивидуальности не проник. Он остался «рыцарем натуры». Однако фовизм стал для него школой независимости, научил его бесстрашию в поисках самовыражения, умению пользоваться совершенно открытым цветом, широкими плоскостями, невиданной прежде широте обобщения.
Марке формируется более всего наедине с самим собою. В тридцать пять лет он ходит рисовать натуру в так называемую Академию Рансон. Просиживает долгие часы на террасах кафе, занимаясь вовсе уже не модным занятием: делает молниеносные наброски прохожих, мгновенных уличных сцен, едва успевая схватывать карандашом или пером то, что с необычайной быстротой фиксирует глаз. Его рисунки чаще всего сделаны тушью; порой линия выражает только движение — складку развевающегося при ходьбе плаща, наклон головы; форма возникает в набросках только динамически — в покое она словно не существует для художника. В нескольких проведенных пером или кистью штрихах появляется квинтэссенция того или иного движения, очищенная от случайного, временного. Такие рисунки можно было бы назвать «Бег», «Тяжесть», «Усилие» — они становятся динамической формулой, почти пиктограммой. А порою зто и вполне жанровые, иронические, даже саркастические наброски, способные по острой индивидуальности типов спорить с рисунками Гиса или самого Домье. И кажется вполне естественным, что художник страстно любил фильмы Чаплина. Любил в ту пору, когда его воспринимали не как великого актера, а просто забавным лицедеем.
Марке обладал редким для искусства Новейшего времени качеством, которое роднит его с вполне французской традицией: он умел вплетать
в свои картины иронию, реализуя ее отнюдь не в забавных сценках, но в потаенной и лукавой игре линий, что сближает его с Калло, Ватто, Домье, Гисом. В картинах его неразличимы лица, едва намечены люди. Он ведь чаще изображает не фигуру, но просто ее движение, даже намек на него. И удивительным «пластическим весельем» вдруг наполняется холст, подобно тому как «улыбается экран», когда на нем появляется столь любимая Марке фигурка «Шарло» (Чарли Чаплина).
Его дар стремительного и острого рисовальщика открылся рано, еще в 1903 году, когда он делал рисунки к книге Шарля-Луи Филиппа «Бюбю с Монпарнаса». Линия Марке может быть почти грубой, сохраняя элегантность и живость импровизации. В ней видно движение руки, глаз зрителя безошибочно, с наслаждением ощущает начало и завершение штриха, нажим, отрыв от бумаги.
При всем разнообразии художественных занятий и увлечений, при всей несхожести мотивов и тем, которыми отмечена его жизнь, в творческой биографии Марке есть единая линия, возникающая уже в начале века и определившая общий характер искусства художника,— парижский пейзаж. Множество прославленных картин Марке написаны вовсе не в Париже, изображают чужие берега и экзотические города. Но, видимо, живопись его значит настолько много для постижения Парижа каждым мыслящим человеком, каждым серьезным зрителем, что искусство его от Парижа — неотделимо.
Если бы он не писал ничего, кроме Парижа, то все равно стал бы самим собою — Альбером Марке. Он сумел создать свой собственный Париж, без которого нынче город уже не увидеть, как не увидеть Аржантей без импрессионистов, Прованс, не вспомнив Сезанна.
Париж у Марке настолько же устойчив даже в самых мимолетных своих состояниях, насколько он у импрессионистов подвижен. Импрессионисты все обращают в пленительную мнимость, Марке делает мнимость если и не материальной, то устойчиво существующей во времени.
Марке находит «мотив» не в точках зрения, не в тех или иных местах города, но в состояниях, «мелодиях» пейзажа. Подобно Сезанну, искавшему великие пластические идеи и образы в округлости провансальских яблок, Марке ищет вечную новизну известного все на тех же берегах Сены.
В пору фовистских выставок и в парижских его пейзажах заметна свойственная фовизму деконструктивность. Но само дарование Марке и та особая поэтическая логика Парижа, то его «пластическое картезианство», что неизменно проступает сквозь любые туманы, дымки и прочие атрибуты лирических пейзажей, протестуют против избыточного декоративизма и красочного напряжения. Марке пишет, находит собственный точный и ясный «парижский код»: плотные, чуть смягченные далью, но всегда определенные формы, сильно выраженное, но не спорящее с холстом пространство, энергичная перспектива, мощное чувство единства неба, воды, старых камней.
На первый взгляд удивительно, что столь углубленный мастер, умеющий увидеть так много в одном и том же давно знакомом и изученном
уголке Парижа, способный писать Нотр-Дам десятки раз, без конца путешествует по свету в поисках новых и подчас экзотических впечатлений.
Может показаться, что Марке рисует с такой же быстротой, с какой успевает смотреть и видеть,— так стремительны линии, так непререкаемо точно зафиксировано ощущение. Можно было бы, наверное, сравнить эти рисунки с кинокадрами путевой хроники. Разница лишь в том, что Марке совершает постоянный отбор: отбор не только предметов, самых существенных и единственно в наброске необходимых, но и линий, настолько же экономных, насколько выразительных. Порою создается ощущение, что художник словно бы соединяет несколько впечатлений в одно, концентрирует, сгущает их.
Путевые столбы, кроны деревьев, телеграфные провода, дома — их контуры словно разорваны движением поезда и торопливой рукой художника. Прозрачные, ускользающие горизонты — графические миражи, едва мелькнувшие в отдалении. Скорость становится своего рода участницей этой воистину новой натурной графики, Марке фиксирует видение проносящегося по земле XX века художника, для которого движение открывает новые формулы реальности, как эти несколько впечатлений, несколько разорванных образов, стремительным движением пера слитые в единый изысканный и мощный иероглиф, который и сам по себе произведение искусства, почти беспредметного.
Понятно, что Марке, умевший в беглых набросках беспощадно отбрасывать второстепенное, выявлять пластический эффект, не нуждался в длительной работе над картиной в мастерской. Между этюдом и законченной картиной в его искусстве нет принципиальной дифференциации. Каждый его этюд — уже картина, а картина сохраняет всю непосредственность натурного этюда. Это естественно: художник пишет картину, основываясь на непосредственном натурном впечатлении, но впечатление это с самого начала по-своему формализуется, структурируется. Уже глядя на натуру, Марке отбрасывает лишнее, выискивает суть, «сгущает» увиденное. Вероятно, уже в сознании художника видимое концентрируется, «переводится» на лаконичный «язык Марке». Язык, отмеченный и своего рода «пластической застенчивостью», исключающей какой бы то ни было внешний эффект, кокетство с мотивом, живописную пикантность.
Колорит Марке заострен частым и мастерским использованием черной краски в густых глухих пятнах, порой и в контурах. Именно в солнечных южных пейзажах особенно эффективен черный цвет, тревожащий глаз жесткой определенностью.
Марке с молодости ищет максимально точной реализации своих ощущений с помощью одних и тех же мотивов, которые из картины в картину становятся все более «самими собой». Разумеется, он с радостью изображает разные состояния природы, разный свет, солнце, дождь, туман, но главным остается тот таинственный процесс выявления скрытой формулы, то вполне планетарное постижение пространства, что прежде занимали Сезанна. Поэтому он спокойно повторяет мотив, никогда не повторяясь.
Надо было обладать редким, по-своему философским взглядом, своего рода отвагой восприятия, чтобы сквозь искрящиеся и пленительные мелочи парижской реальности разглядеть величавые, но потаенные ритмы, цвета, масштабы города, его величавую стать и торжественную печаль, увидеть общее, минуя все эти «молекулы парижской привлекательности». И оставшись при этом адептом строгой предметной формы, ни на минуту не увлекшись теми экспериментами, которые, казалось, одни могли в ту пору обеспечить художнику успех. Марке решал задачу, в своем роде более сложную, чем даже Сезанн, у которого яблоко или кувшин являют обобщенный до предела образ «яблока вообще». Марке же реализует «живописную формулу» не просто конкретного города, но города, во-первых, бесконечно индивидуального и очень им любимого, во-вторых, города, дав-
но опошленного дешевыми картинками и потоками банальных представлений и ассоциаций. И современный человек имеет счастливую возможность сверять свое восприятие Парижа по «камертону Марке».
Париж Марке всегда несет в себе интонацию своего рода застенчивой суровости. Почти всегда художник и зритель несколько отстранены от города, они наблюдатели, а не участники парижской жизни. Действительно, Марке редко фиксирует летучий блеск столи
А. Марке. Набережная Лувра и Новый Meo' 1906
цы, всплески солнца на листве пла-
танов, отсветы тусклого неба на мокрых крышах экипажей — весь тот каскад динамичных деталей, что так любили и так умели писать импрессионисты. Париж Марке почти лишен подробностей. Он открывается с кружащей голову стремительностью, зрительское воображение проникает в глубину картин мгновенно и радостно. Перспектива построена с воистину сезанновской энергией, но есть в ней и совершенно особенная, присущая именно Марке настойчивость: угол зрения художника необычайно широк (по понятиям нынешней фотографии, он использует «короткофокусную оптику», но применяя собственные, вовсе не канонические законы); пространство властно и стремительно «втягивает» в себя взгляд, который схватывает глав
ное, уже не стремясь искать мелочи, и жадно осязает пространство.
И создает его заново, создает, а не воспроизводит видимое. Создает свой мир из упрощенных, главных, единственно значительных, определяющих «формулу города» элементов, из того, что более всего важно для понимания его сущностной неповторимости. В холсте он группирует эти элементы в известном соответствии с жизненной реальностью, но — более всего — исходя из собственной художественной воли.
Он ищет тот вариант совершенства, о котором писал Антуан де Сент-Экзюпери, совершенства, которое «достигается не тогда, когда нечего
А. Марке. Нотр-Дам зимой. 1908
А. Марке. Дождливый день в Париже. Нотр-Дам. 1910
больше добавить, а тогда, когда нечего больше отсечь (quand il n’y a plus a retrancher)».
С каждым предметом в картинах Марке происходит неминуемая метаморфоза: он словно становится «больше самим собою», обретает, говоря философским языком, абсолютную «самость», избавляется от случайностей, обретает почти настойчивую индивидуальность. Сохранены лишь те несколько деталей, которые усиливают общее впечатление. Частности акцентируют масштаб общего, становясь своего рода обертонами. Порой и чуть измененный ракурс открывает новое ощущение — «...и те же повороты улиц и скошенные углы домов, которые я знал наизусть, представали предо мной в ином виде, в котором была непривычная каменная прелесть» (Г. Газданов. Ночные дороги).
Марке медлительно и неуклонно «расшифровывает» Париж, настойчиво ища простое в сложном, «универсалии городского пейзажа». До него почти не писали столицу зимой, а он создает целую галерею зимних парижских пейзажей. Зима утончает колористическую интуицию художника, предлагая ему неисчерпаемое многообразие серых, умбристо-коричневых оттенков, позволяет находить непривычные их сочетания, всякий раз по-новому видя все тот же город. «Эвелин
не уставала смотреть сквозь нежное плетение чугунной балконной решетки на Сену, на игрушечные пароходики, которые ползли против течения и тащили на буксире покрытые лаком баржи... и на островок прямо напротив их дома, и на воздушные очертания контрфорсов головокружительно возносящих свод Нотр-Дам над деревьями маленького парка» (Дж. Дос Пассос. 1919).
Марке, который менее всего может быть воспринят как рассказчик, становится повествователем, почти романистом — последовательная смена впечатлений похожа на проходящие перед мысленным взором воспоминания. И потом, эти пейзажи — плоть от плоти национальной традиции и существовали во французской литературе еще раньше, чем в живописи Марке. Знаменитые описания парижских пейзажей в -Творчестве» Золя, в романах-воспоминаниях Анатоля Франса, в пишущихся тогда первых книгах Пруста, наконец, в книгах, которые были написаны при жизни Марке, но позже, книги, чрезвычайно много значащие для восприятия Парижа современным зрителем,— «Праздник который всегда с тобой» Хемингуэя. «Триумфальная арка» Ремарка, «Изгнание» Фейхтвангера и др.
Говорить о традиционном «реализме» Марке — значит попадать под гипноз обычного противопоставления «предметный—абстрактный». Марке прежде всего совершенно независим, насколько в пору все более частого цитирования и автоцитирования может быть свободен живописец. И все же его абсолютно жизнеподобный, узнаваемый, пронзительно-индивидуальный Париж — зто и автономно существующий художественный мир, независимая структура, чье пластическое устройство имеет и самодовлеющую ценность, ничуть не меньшую, чем «магические квадраты» Клее или скрипки Пикассо.
Это тем более заметно еще и потому, что Марке, быть может впервые в истории городского пейзажа, решительно отказывается от каких бы то ни было примет времени. В этом тоже пример художественной автономии. Город предстает практически как вневременная субстанция, где Время передано лишь суммой художественных приемов.
Разумеется, в его картинах не так уж трудно отличить фиакр от автомобиля, но суть-то в ином. В пейзажах Марке свидетельств времени чаще всего нет вовсе: небо, деревья, старые дома — все это едва ли изменилось за последние двести лет. И все же ни у кого, кто смотрит на его картины, не может возникнуть мысль, что это живопись не нашего века.
Марке видит мир не только как художник Новейшего времени, но и просто как человек XX века. Как человек, привыкающий к быстроте, к мгновенной смене впечатлений, как живописец, старающийся реализовать на холсте движение взгляда. Он видит мир как человек, знающий метаморфозы восприятия, подаренные искусству скоростью паровоза или бензинового мотора. И вместе с тем он воспринимает действительность
А. Марке. Новый мост под дождем. 1935
как художник, не забывший о вечных ценностях классического искусства. Отсюда не только обычное для Марке ощущение равновесия и гармонии, но и постоянное (весьма глубоко скрытое) состояние строгой эскапады: бегства от легкой сложности в мир труднодосягаемой простоты.
Марке с юных лет нашел свой язык и выбрал основную тему, которой уже не изменял. Здесь — своеобразное сочетание мужественного консерватизма, верности классике и некоторого сознательного изоляционизма. Мимо Марке протекает не только трагическая жизнь XX века (немало художников создавали шедевры, лишь косвенно реагируя на движения жизни, тот же Сезанн, например). Но художник почти полностью дистанцируется и от перемен в искусстве, с которыми он не вступает ни в спор, ни в диалог, ни, чудится, даже в соприкосновение. Поэт и отшельник, он словно бы стал хранителем постоянных ценностей в изменяющемся мире. Хотя изменения — ведь тоже ценности XX века. И вот здесь ощутима та странность, что делает Марке и эксклюзивно ценным явлением нашего века, и чем-то оппозиционным по отношению к нему,— порой кажется: Марке чувствительнее к Пространству, нежели ко Времени.
Как-то один французский литератор, взобравшись в мастерскую Оноре Домье на набережной Анжу и выглянув в окно, за которым открывался вид на Сену, воскликнул: «Какой Домье!» «Какой Марке!» — хочется поминутно говорить на парижских набережных. Из окон на улице Дофин, где Марке поселился в 1931 году, он видел и писал то, что стало теперь достоянием каждого зрителя, наделенного хоть сколько-нибудь чутким взглядом. Париж на его холстах становится более грандиозным и вместе более поэтическим.
Немногое, что известно о жизни Марке, не дает оснований предполагать, что художник печалился по поводу своей отдаленности от того, что делали его прославленные коллеги.
И все же объективно Марке оказывался в совершенно исключительной роли: становился единственным действительно знаменитым художником своего времени, сохранившим приверженность фигуративному пейзажу. И при этом оставался мастером вполне современным.
Этому есть, пожалуй, только одно объяснение: заданное в юности движение к максимальной простоте, к редкой концентрации цвета и формы, достигавшей такой напряженности, что они обретали новую, уже не связанную с предметной средой силу.
Марке обладал способностью создавать собственный и единственный мир. Но то был мир не сочиненный — в его картинах была узнаваемая реальность, без которой он не мог писать. Сочиненными были лишь конструкция, метод преображения. И здесь Марке — фигура вполне уникальная. Подобная тенденция, как упоминалось, существовала в Соединенных Штатах, но поэтика американских мастеров строилась на противоположных Марке принципах: на поэтизации иллюзорной точности, столь важной для культуры, осознающей процесс собственного становления.
Порой Марке обращался к необычным для себя эффектам. Так, в 1937 году он пишет ночной Париж («Новый мост ночью», НМСИ ЦП) —
А. Марке. Париж ночью. 1938
поразительный карнавал, фиеста огней. Они рассыпаны в призрачной городской темноте — уличные фонари, освещенные окна, несущиеся авто мобильные фары, отражения, дрожащие в реке и влажном асфальте. «Мглистое небо над Парижем мутно краснело... Искристые от дождя стекла, то и дело загоравшиеся разноцветными алмазами от фонарных огней, и переливающиеся в черной вышине то кровью, то ртутью огни реклам». (И. Бунин. В Париже).
Последний холст он писал зимой 1947 года: старый дом с аркадами на углу улицы Дофин и набережной Копти, мокрый от тающего снега асфальт, снежные пятна на тротуарах, карнизах, крышах машин, затянутые дымкой деревья и Сена, скрытая опаловым туманом. Мало что изменилось на набережной с той поры...
Ему не было свойственно многое, что может показаться типологическими качествами художника новейшего времени: скепсис, интерес к головокружительным тайнам подсознания, резкие перемены манеры, нигилизм. Он не усложнял жизнь и не схематизировал ее. «Самость Альбера Марке не в споре с эпохой, но в умении и слышать время, и вбирать его искания в свою живопись, а главное — в способности доказать, что в стремительном и всесокрушающем потоке перемен сохранить внутреннюю стабильность, практическую неизменность — это тоже действие, которое под силу только мощному художественному темпераменту. Парадокс Марке — в его принадлежности скорее к прошлому и будущему, нежели к настоящему.
Проходя по воображаемому музею нашей памяти, перелистывая книги, вновь и вновь возвращаясь к событиям середины века, непредвзятый человек согласится, вероятно, с тем, что привычные суждения о борьбе течений в искусстве первой половины XX века не слишком соответствуют реальности и скорее стали комфортным мифом, по которому проще воображать себе минувшее.
На самом же деле раздоры и дискуссии текли в обычном русле художественного соперничества, на вполне земном уровне материальных проблем, набирающего силу артбизнеса, аукционов, художественной моды. Громкие декларации отчасти стихли к середине 1930-х, а скорее всего от них просто устали.
Сенсации еще случались, они, как правило, становились прообразами искусства недалекого будущего. Так, знаменитый объект Мерет Оппенгейм «Предмет» («Завтрак в меху») (1936, МСИ), представлявший затянутую мехом чашку, стал прологом многочисленных вариаций последующих десятилетий, где лишение вещи ее традиционного материала и естественных функций, равно как и придание ей скрыто-подсознательного, чаще всего сексуального смысла, сделалось вскоре достаточно банальным
М. Оппенгейм. Предмет (Завтрак в меху). 1936
постмодернистским кодом.
А рядом, разумеется, текла и жизнь обычных салонов, того профессионального, слагавшегося из общих мест светского искусства, которое нередко становится своего рода «консервантом» традиционной фигуративной живописи, вбирая в себя исподволь формальные находки новых времен. Весьма красноречивы в этом смысле картины Уолтера Сиккерта, стареющего, но все еще едва ли не самого знаменитого мастера в Англии 1920-х— 1930-х годов, эффектно сочетавшего непосредственный артистизм, даже импровизацию этюдного репортажа («Прибытие мисс Эрхарт», 1932, Галерея Тейт) с хлестким шиком великосветского портрета («Его величество король Эдуард VIII», 1936, частная коллекция)7.
Что же касается центральных фигур европейского искусства, недавно слывших дерзкими новаторами, они уже почитались если и не классиками, то почти неприкасаемыми мэтрами и оставались (в их числе и Марке, но тот неизменно пребывал в уединении, да и постоянство мотивов, равно как и приверженность традиционным в обыденном
понимании формам, ставило его за пределы авансцены) своего рода гарантами наступающей стабильности. Хотя, разумется, они были не только носителями ценностей начала века, но и постоянными будителями новых динамичных поисков.
Среди них, и в первую очередь, Анри Матисс.
Его искусство по традиции воспринимается как явление вполне олимпийское, словно бы существующее вне контекста общей художественной культуры. Меж тем Матисс хоть и стремился к созиданию мира, несущего, по выражению Гадамера, «покой, не подверженный скуке», хоть и говорил о том, что искусство должно приносить человеку «умиротворение души», вовсе не был чужд голосу времени. С годами в его живописи нарастает своего рода диалог с эпохой. Он, разумеется, не откликается ни на политические события, ни на художественные манифесты, но отыскивает личностную драматургию, опосредованно мерцающую в его, казалось бы, вневременных картинах. Конечно, его сны не выплывают из сумеречных 1лубин подсознания, не на
полнены символикой и в этом смысле выполняют функцию связующую — иными словами, опираясь на стабильные ценности мифологем никому не ведомого, но присутствующего в нашем сознании «золотого века», протягивает мост в далекое будущее. Будущее, в котором даже отчаявшееся сознание склонно видеть возвращение все к тем же забытым ценностям.
У. Сиккерт. Прибытие мисс Зрхарт. 1932
У. Сиккерт. Его величество король Эдуард VIII. 1936
Недаьний потрясатель основ стал творцом мира, ощущаемого надежной гаванью высокого эстетизма. Этот мир утончается и упрощается одновременно. И если «Семейный портрет (Семья художника)» (1911, ГЭ) — радость открытия новой, свободной и отважно сгармонированной живописной вселенной, где царственно впаяны в единую плоскость дальние и ближние предметы, где излучает сияние даже черный цвет, если «Марокканский триптих» (1912—1913, ГМИИ) несет в себе небывалый и горделивый покой, рожденный гармонией чуть затуманенных бирюзовых, синих, малиновых оттенков,
А. Матисс. Интерьер со скрипкой. 1
1917—1918 то иные его чуть более поздние вещи
куда сложнее. «Портрет жены художника» (1913, ГЭ) аккумулирует в истинно матиссовскую колористическую благородную гамму (синее, черное, рыжее, сухо-зеленое) резкость посткубических характеристик и многосложность традиционного психологического портрета.
Уже натюрморты второй половины 1910-х — «Тыквы» (1916, МСИ), «Интерьер со скрипкой» (1917—1918, Королевский музей искусств, Копенгаген) заставляют задуматься о том, что сближение фовизма с экспрессионизмом в данном конкретном случае совершенно оправданно. Иное дело, что манера письма Матисса, свободная от пылкости мазка, его умение точно и стабильно расположить даже колючие, агрессивные цветовые пятна — достаточно далеки от страстных импровизаций немецких собратьев. Но эмоциональная напряженность, даже скрытая драма, правда всегда неторопливая, торжественная, все чаще возникает в его холстах. Они, если можно так сказать о Матиссе, становятся содержательнее, в них возникает некая психологическая интрига.
И когда он создает свой шедевр 1930-х — «Розовая обнаженная» (1935, Музей искусств, Балтимор),—это уже иной художник.
Огромен путь от прелестного и вольно написанного этюда «Спящая фигура, голубой фон» (1935, НМСИ ЦП), моделью для которого послужила Л. Н. Делекторская, до этой монументальной композиции, кажущейся гигантским панно, хотя длина ее — менее метра. С сезанновской окончательностью утверждена на холсте фигура, загадочно соединяющая в себе абсолютную плоскостность (цвет тела почти локален) с могучим пространственным эффектом, благодаря которому голова модели кажется удаленной от зрителя. Происходит некая вибрация пространственных планов, живописная поверхность, оставаясь плоской, вызывает не
иллюзию, но представление о глубине, побеждаемое торжествующей декоративной целостностью: таинственное и прекрасное существо, < отворенное изгибом тела и волей художника, заполняет странным танцем картину. Чудится, как бы ни была картина показана — поставленная на бок, даже вверх ногами, возникнет новое, грациозное, сказочное и томное тело, сохранившее красоту человеческого, но «вышедшее» за пределы привычных его форм: ноги и руки поменяются местами, чтобы создать некий универсум «вечной женственности».
В той же мере существенно присутствие в художественной жизни необычайно серьезной и эмоциональной живописи Жоржа Руо. К концу 1930-х он
А. Матисс. Спящая фигура, голубой фон. 1935
занял высокое место в мировом искусстве, и на выставке «Мастера независимого искусства 1895—1937» (см. сл. главу) ему был предоставлен целый зал, где были показаны сорок две работы.
Его «Христос и рыбаки» (1937, МСИгП) — драматический синтез фовистской энергии цвета, всполохов готических витра жей (пробивающихся сквозь скептическое и даже угрюмое видение мира), религиозно экстатического напряжения и несомненного чувства монументальности. Руо принял все от современного языка, но он лишь обозначает присутствие современных интонаций в вечном сюжете, впрочем, достаточное для того, чтобы картина его оставалась среди вершин XX века.
Ж. Руо. Христос и рыбаки. 1937
Разные тенденции существовали если и не вполне мирно, то исповедуя скорее взаимное любопы гство, нежели нетерпимость. Большинство художников отдали в юности дань многим модным течениям, немало от них взяли, и ничего особенно чужого в воздухе не ощущалось. Те мастера, которые сейчас воспринимаются художниками социально обеспокоенными, разумеется, вовсе не были реалистами в хрестоматийном смысле слова и свободно и остро пользовались открытиями авангарда. В историческом удалении 1930-е годы воспринимаются как время синтеза пластических принципов, прежде друг от друга удаленных.
И все же на излете 1930-х, когда искусство предвоенных лет увидело себя в зеркале масштабных выставок, совпавших практически с первыми событиями Второй мировой войны, стало ощущаться приближение времени итогов.
А. Матисс. Розовая обнаженная. 1935
VII. ВРЕМЯ «ГЕРНИКИ»
Мир — рвался в опытах Кюри Атомной, лопнувшею бомбой.
Андрей Белый
Как начало, так и угасание высокого модернизма отмечено всемирными выставками — это выставки 1900-го и 1937 годов.
К концу 1930-х воздух Европы был насыщен тревогой.
В искусстве это по-прежнему ощущалось прежде всего через произведения мастеров, помнящих войну и понимающих приближение новой как воплощение кошмара, так недавно казавшегося решительно немыслимым.
Особое место принадлежало документу: фотографии, кинохронике. Небывалая ценность фиксированного факта, пропущенного сквозь сознание художника и им осмысленного, востребованная временем, востребована была и живописью, частью возвращавшейся к фигуративности, частью нуждавшейся просто в визуальной информации.
Знаменитые снимки Роберта Капы, сделанные в Испании, появлявшиеся в журналах и газетах одновременно с триумфальными фотографиями Всемирной выставки, давали немало пищи для парадоксальных суждений. В том же 1937 году вышел фильм Жана Ренуара «Великая иллюзия», фильм, возвращающий к размышлениям о войне вообще и франко-германских проблемах в частности.
Вообще, все новый интерес к фигуративности, к изображению человека крупным планом, с одной стороны, говорит о некой всеобщей тенденции, усталости от сенсационных поисков новых приемов. С другой — о напряженности времени, взыскующего простых, «базовых» ценностей и повышении, так сказать, традиционной рефлексии. Как известно (какие бы объяснения тому ни находились), даже Малевич в середине 1930-х обратился к фигуративному искусству.
Уже в «Войне» Громера (1925) в «бронированных», роботоподобных фигурах мерещилось нечто жалкое, страдающее и человеческое. «Человек страдающий» как некий общеэстетический мотив занимает на исходе 1930-х существенное место в искусстве. Разумеется, накопления формальных поисков уже не
дают искусству вернуться к редуцированному пониманию салонного реализма, фигуративное искусство синтезирует в себе принципиальные достижения двух минувших десятилетий.
«Едок картофеля» Констана Пермеке (1935, КМИИБ) — возможно, одна из принципиальных картин XX века, аккумулирующая в себе мощь и вечность традиционного сюжета (идущего от известной картины Ван Гога) с базовыми пластическими открытиями Новейшего времени: приближением фигуры к могучему, переходящему в абстрактный знак, но сохраняющему грозную антропоморфность пластическому символу. Темная, вырастающая из самой земли сила, опасная и угнетенная, хранящая и некое бессмертие, внушающее вместе надежд}' и страх. Сведенная к минимуму черно-охристая гамма с жесткими вспышками темного золота и неожиданной белизны дополняет впечатление «художественной драмы». В сущности, синтез находок и нефигуративной живописи, и экспрессионизма, и даже сюрреалистов здесь очевиден и использован для реализации образа редкой профетической силы.
Иконосфера времени полнится такого род . мотивами,
Так, живопись Карла Хофера синтезировала классическую значительность метафизического искусства, душевную напряженность и спиритуализм немецкого экспрессионизма с острым чувством современной трагедии. Его картины «Кассандра» (1936, Городская галерея Морицбург, Галле) и «Перед руинами»
К. Пермеке. Едок картофеля. 1935
К. Хофер. Кассандра. 1936
К. Хофер. Перед руинами. 1937
(1937, Городское собрание, Кассель) кажутся эмоциональным диптихом, объединяющим предчувствие со свершением. Картины эти в ту пору, разумеется, мало кто мог видеть, и их присутствие в общехудожественном процессе ощущается скорее в исторической перспективе. Однако тревога и боль, выраженные в предметной, относительно традиционной форме, прорывались иной раз на холсты мастеров, исповедовавших в целом взгляды классических модернистских кодов начала века. Жак Виллон, основатель «Золотого сечения» (1911), известный более всего своими взвешенными, прохладно-бесстрастными абстракциями, написал за год до полотна Хофера «Перед руинами» картину «Смех» (1936, МСИгП), словно бы предвосхищающую пафос холста своего немецкого собрата. Картина была представлена на выставке «Мастеров независимого искусства» 1937 года. Иная живопись — реминисценции пуантилизма, впаянные в жесткую пространственную структуру, вполне телесный образ угрюмо и бессмысленно ухмыляющегося человека, наполненного опасной невостребованной силой. Близость к персонажу Хофера почти пугает: два схожих человека являют образы унылой агрес
сии и мертвенного отчаяния, этой агрессией рожденного.
Не стоит в целом преувеличивать социальную и политическую озабоченность художников конца 1930-х, но не замечать густых теней и тревоги в их сознании и на их холстах было бы непростительной наивностью. Нечто новое появилось в казавшейся вполне сформировавшейся живописи Дерена, которого между двумя войнами критика почти единодушно называла лучшим живописцем Франции. Его персонажи, обычно замкнутые в горделивом совершенстве своих пластических миров, словно бы прислушиваются к близкому апокалипсису. «Женевьева с яблоком» (1937—1938, частная коллекция) — концентрация класси-цизирующих реминисценций Дерена, развития в пространстве модернистских кодов, принципов Авиньонской школы и соче-
Ж. Виллон. Смех. 1936
А. Дерен. Женевьева с яблоком. 1937—1938
тание найденных пластических ресурсов с ощущением простого, почти житейского беспокойства, поражающего даже это, столь совершенно выстроенное художественное здание. Даже в маленький (40 см в высоту) «Натюрморт с грушами» (1936, МСИгП) проникает время, сгущая мрак вокруг бледно-золотистых плодов, одиноких и беззащитных в пустой тьме. И натюрморты Моранди, кажется, к концу 1930-х становятся еще более замкнутыми и отстраненными в напоенной печалью и опасностью атмосфере.
В английском искусстве в середине 1930-х выделяется Стенли Спенсер, росписи которого упоминались выше. Его картины,
А. Дерен. Натюрморт с грушами. 1936
С. Спенсер. Портрет двух обнаженных, художник и его вторая жена. 1936
пластически укорененные в традиции прерафаэлитов, сочетают в себе напряженную сексуальность, самоуглубленность, безысходную печаль с виртуозным рисунком («Портрет двух обнаженных, художник и его вторая жена», 1936, Галерея Тейт. Лондон). И здесь ощутим мотив «человека страдающего», особенно если сравнить названную картину с ранним «Автопортретом» (1913, Галерея Тейт, Лондон), где художник напоминает и светлым лицом, и энергичной живописью героическую эпоху Парижской школы.
Но даже в наиболее социально напряженных, непосредственно направленных на политическую борьбу произведениях используются накопленные традиции экспрессионизма, пластической метафоры (Ханс Грундиг. «Борьба медведей и волков»,
X. Грундиг. Борьба медведей и волко° 1938
С. Дали. Предчувствие гражданской войны. 1936
1938, Национальная галерея, Берлин).
Сказанное не означает, что «человек страдающий» был доминирующим сюжетом, но он становился сюжетом заметным.
Действительно, тревога плыла над Европой.
Победа Народного фронта в Испании принесла радость не только победителям и либеральной общественности. Мир понимал, что ситуация чревата трагическим развитием. 17 июля 1936 года в Испании началась гражданская война, по сути дела — Вторая мировая.
19 августа был расстрелян Гарсия Лорка. Даже взрыв гигантского немецкого пассажирского дирижабля «Гинденбург» в Нью-Йорке (6 мая 1937 года) ощущался как эхо «Титаника».
Дали написал «Предчувствие гражданской войны» (1936, Музей искусства, Филадельфия) незадолго до ее начала, и картина эта, давно ставшая хрестоматийной, вызвав восхищение и хулу, заняла место на авансцене современной художественной культуры, место не вполне четкое даже двусмысленное, привлекая ныне скорее общественный усредненный вкус, нежели интерес профессионального искусствознания (как, впрочем, и все творчество Дали).
Картина стала в значительной мере олицетворением политизированного и прямолинейного сюрреалистического искусства, но в не меньшей мере — непреклонной данностью.
В ней странно сочетаются обычные для художника иллюзорно и примитивно изображенные в немыслимом сочетании разорванные фрагменты тел, вывернутые внутренности, воображаемые, но мнящиеся реальными биоморфные образы. Чудовищное, рвущее само себя на части существо — по сути дела не более чем модель, конструкция сочиненного видения, а вовсе не спонтанный образ, извлеченный из встревоженного хаоса подсознания. Искусственность и эпатаж несомненны, как несомненен все же и некий нерв, резонирующий времени: Дали обла дал даром не столько художественным, сколько беллетристическим. но и его изощренный популизм бывал напитан болью времени. Помимо отваги и благих целей в любой гражданской войне есть кровавый абсурдизм, самоубийственное начало, и это Дали отлично понял и убедительно реализовал именно на уровне изобразительной псевдосюрреалистической беллетристики.
С. Дали. Осенний каннибализм. 1936—1937
«Предчувствие...» не было единственной работой Дали, связанной с гражданской войной в Испании. «Осенний каннибализм» (1936—1937, Галерея Тейт, Лондон), сюжет которой сам автор определил так: «Эти иберийские существа, пожирающие друг друга осенью, воплощают пафос гражданской войны, рассматриваемой как феномен естественной истории»1. В этой картине изощренное изобретательство и сервировка пугающих подробностей настолько очевидны, что произведение воспринимается несложным и неприятным ребусом, где главное не эмоциональный или интеллектуальный код, а плоская система разгадок, равно как и совершенно кичевые картины «Бесконечная тайна» (L'Enigme sans fin) (1938, Национальный музей, центр искусства королевы Софии, Мадрид) и «Испания» (1938, Музей Бойманс-Ван-Бейнинген, Роттердам).
Впрочем, в том же самом году Дали занимается и чистым экспериментаторством постдадаистского толка, никак не связанным с тревогами и болью времени («Телефон-омар», 1936, Галерея Тейт, Лондон).
Несомненно, более серьезные и значительные работы, связанные прямо или косвенно с испанскими событиями, были и в
испанском павильоне, да и у других, менее известных в силу причуд моды художников.
Одна из самых сильных картин 1937 года — при всей своей публицистической прямолинейности — это полотно «Испания-мученица» Андре Фужерона (собрание художника). Достаточ
но дидактический живописец, с. Дали. Телефон-омар. Объект. 1936 Фужерон, воспламененный ис-
панскими событиями и благородным сочувствием, написал одну из тех нежданно мощно-трагических вещей, которые рождаются на пересечении традиционных форм и новых веяний. Вечная тема мученичества, брошенного поруганного тела в окружении сюрреалистических видений — знаков времени, реализована с трагическим пафосом и состраданием, которые временами заменяют собой полноценную оригинальность.
Даже искусство вполне и намеренно отрешенное от сюжета резонировало «угрожающему времени». Знаменитая «Колонна без конца» Бранкузи, исполненная для паркового ансамбля в Румынии (1937—1938), странно сочетает в себе величие и беспомощность, будто стремясь с угрюмой печалью к недосягаемому.
Выставка 1937 года открывалась в сумраке уже начавшейся по сути дела войны (Испания) и приближающейся мировой ката-
А. Фужерон. Испания-мученица. 1937
строфы, при наркотическом самоупое-
нии тоталитарных режимов, которые
К. Бранкузи. Колонна без конца. Чугун 1937—1938
оказались в реальном центре гигантской экспозиции, друг против друга на берегу Сены. С холма Трокадеро открывался вид на Эйфелеву башню, высившуюся вдали, на оси аллеи, разделявшей павильоны СССР и нацистской Германии. На юге от Парижа в Испании шла гражданская война, на востоке Третий рейх уже занял демилитаризованную Версальским договором Рейнскую область, немецкие бомбы почти сровняли с землей Гернику — столицу басков. Гигантская сталинская держава, еще вдохновлявшая своим мифическим равенством и вполне реальным отсутствием богачей тех, кто продолжал верить в торжество социализма, и пугавшая растущей жестокой мощью старую Европу, набирала силы. XI Олимпийские игры, проведенные минувшим годом в Берлине, привлекли в столицу Тысячелетнего рейха спортсменов со
всего мира: нацистский режим их не остановил. Тем же летом 1937 года, летом Всемирной выставки, в Мюнхене открылась
О. Кокошка. Прага. Ностальгия. 1938
«Большая выставка немецкого искусства» (шестьсот живописных и скульптурных работ, отобранных при участии Гитлера и Геббельса), призванная утвердить торжество официозного германского духа над последними пережитками «распада культуры».
Уже осенью 1936 года вслед за ликвидацией отдела современного искусства берлинской Национальной галереи, за изъятием из музеев и галерей более чем пятнадцати тысяч работ XX века, в числе которых были произведения Ван Гога, Пикассо, Шагала и других мастеров равного масштаба, в Германии образован комитет по подготовке выставки немецкого «дегенеративного искусства» (Entartete Kunst) (выставка была открыта в июле того же, 1937-го). Сохранившиеся фотографии залов этой выставки кажутся снимками экспозиции высококлассного музея (плакаты и аннотации уничижительного свойства, которыми переполнена была выставка, на фотографиях не видны) — так много узнаваемых
В. Мухина. Рабочий и колхозница. 1935—1937
шедевров, давно вошедших в классическую историю искусства
О том, что происходило в Советской России, знали меньше, хотя о судьбе авангарда, о продаже шедевров из Эрмитажа было известно. Между тем среди бесчисленных жертв сталинщины есть имена и художников: В. Стерлигов, В. Ермолаева, А. Дре-вин, К. Истомин. Другие мастера, составлявшие еще недавно славу российского искусства, были отлучены от реальной работы или находились в эмиграции, с «формализмом» велась борьба, жестокая и невежественная.
Советский Союз предстал на выставке во всем своем странном, пугающем, столь непонятном для Запада величии.
Страна, где не было богатых, где крестьяне носили ордена, а философов высылали и расстреливали, страна, стремительно превращавшаяся из неграмотной в относительно грамотную,
хотя полностью подчиненную пропаганде, страна, чьи летчики ставили мировые рекорды, где бесплатно учили студентов, но люди не могли спокойно передвигаться даже внутри собственной территории, страна, чьи фильмы потрясали мир, а даже небольшая часть правды о репрессиях повергала цивилизованных людей в ужас,— она была непонятна, привлекательна, она отталкивала и вызывала любопытство.
Эпоху никогда не отменить отрицающим ее приговором.
М. Хайдеггер
СССР: политические салоны тоталитаризма. Художественный памятник социальному мифу, как всякая утопия, в значительной мере сохранил своеобразную ценность, едва ли зависимую от заведомой лжи, лежащей в его основе.
Огромный пласт культуры перемещается из современности в историю на глазах одного поколения. Сейчас и в высотных домах Москвы, и в брутальных архитектурных фантазиях Третьего рейха ищут и находят не только воплощение времени и его бесчеловечных идей, но и художественные достоинства.
Тоталитарные режимы уходят в прошлое, оставляя память о потерях, навсегда потрясенное и надолго деформированное сознание. Но разумеется, оставляя память и о времени, где был свой свет и своя тьма, о времени, в котором жили, любили, страдали, радовались и умирали люди, способные, как все, на добро и зло, слабость и мужество. Стало быть, и свою культуру2.
Термин, доктрина, сама практика «социалистического реализма» создали пласт культуры, где доминировала политическая программа тоталитарного режима и где искусство, не проявляя своей сущностной автономии, осталось лишь способом жизнеподобного воспроизведения срежиссированных в угоду заданной политической идее событий. Как бы болезненно (или иронически) ни воспринималась культура «социалистического реализма», эпохи, которую называли «сталинской», а позднее «советской»3, какие бы глубокие ее метастазы ни существовали в культуре и сознании нашего времени, она, эта культура, стала уже историей.
Ни официальное искусство, ни искусство альтернативное, скрытое в тиши кабинетов или мастерских, ни искусство колеблющееся, ни тем более конформистская или почти конформистская культура не были свободны от конкретной исторической ситуации и не могли не реагировать на нее. Зато альтернативная культура нередко заражалась от собственного врага нетерпимостью, жестокостью и спрямленностью суждений. Борясь за свободу, ищут ее только для одной стороны — побежденного ждет лишь рабство.
И далеко не все укладывается в прокрустово ложе «правых» и «левых», весьма значительна была и упоминавшаяся «третья струя» — искусство далекое и от авангарда, и от официоза.
Подлинных художников-диссидентов в тоталитарную эпоху в Советском Союзе практически не было. Знаменитые мастера авангарда оставались в большинстве своем относительно или вполне лояльными к существующей власти, во всяком случае в своей профессиональной деятельности. Выставляться на вполне престижных, официальных, замечаемых широким зрителем выставках хотели все. Даже Филонов писал Сталина. Гул истории оглушал и людей, мысливших более рационально, чем художники.
П. Филонов. Портрет И. В. Сталина. 1936
И. Бродский. Портрет И. В. Сталина. 1937
«У каждой эпохи, у каждой культуры, у каждой совокупности обычаев и традиции есть свой уклад, своя подобающая ей суровость, своя красота и своя жестокость, какие-то страдания кажутся ей естественными, какое-то зло она терпеливо сносит. Настоящим страданием, адом человеческая жизнь становится только там, где пересекаются две эпохи, две культуры и две религии»4 — зти слова Германа Гессе весьма применимы к эпохе тоталитаризма. Ведь впрямь, наиболее трагичной была эпоха для тех (не говоря, естественно, о прямых жертвах режима), кто не расстался с исторической этикой дореволюционных лет. Те, кто хотел и старался вписаться в эпоху, ощущали себя более естественно. Люди искали абсолютного приятия. Порой это получалось. И парадокс в том, что эта определенность интенсифицировалась именно наркотической замутненностью сознания.
Сакрализация власти, за которой стояло социальное величие отечества и уверенность в уникальности его судьбы, происходила стремительно и незаметно. Никто не был свободен от ощущения огромности событий — будь то приближающаяся мировая революция, «несущая счастье всем трудящимся», или вселенская катастрофа. Причем и то и другое было достаточно иррациональным, доступным скорее вере, нежели здравому смыслу.
Термин «социалистический реализм» и в России, и за границей пока употребляют весьма приблизительно. Кроме филиппик по поводу его ангажированности, порочности и несостоятельности или же соцартистского спекулятивного глумления, ничего вразумительного по поводу доктрины, игравшей существенную роль в художественной жизни огромной страны на протяжении более полувека, не сказано. Миф старательно развенчивают, не осмыслив вполне.
А. Древин. Степной пейзаж с лошадью. 1933
А. Дейнека. Текстильщицы. 1927
В этой книге под «социалистическим реализмом» имеется в виду пласт культуры, где социальная программа тоталитарного режима является доминантой и где искусство, не проявляя своей сущностной автономии, остается лишь способом жизнеподобного воспроизведения срежиссированного в угоду заданной политической идее зрелища.
Сознание исключительности поддерживалось ре акцией Запада. Там мечта
о равенстве и ненависть к богатым еще не утратили своей остроты, и своего рода «политическая влюбленность» в первую «покончившую с богачами, свободную страну» была в расцвете. Даже великий скептик Анатоль Франс с симпатией относился к Советскому Союзу и происходящим в нем переменам.
Исключительностью оправдывалось слишком многое. Историческая избранность предполагает жертвенность, даже мученичество во имя будущего (святая и привычная тема для русской культуры), инерцию и неиз-
бежность социальных катаклизмов, возможность примирения с несправедливостью для некоторых сегодня во имя всеобщего счастья завтра.
Исключительность ситуации не способствует трезвости мысли, и наркотизация сознания была явлением повсеместным. Дажете, кто не принимал режим, не в состоянии были относиться к нему сколько-нибудь объективно; их аргументами были ирония, брутальная сатира, даже инвектива (зто касается, разумеется, исключительно литературы).
Люди жили в мире, где, используя терминологию Михаила Гефтера, Образы «еще не дотянули» до Понятия5. Да и конечная цель — «царство свободы» — никем в принципе сомнению не подвергалась. Идеи Свободы, Равенства и Братства еще не были исчерпаны ни в сознании людей искусства, ни в сознании бедноты, ни в мечтаниях либеральной интеллигенции.
А. Лабас. В кабине аэроплана. 1928
А. Лабас. Дирижабль. 1931
Л. Шервуд. Часовой. 1933
Искусство предполагает жить дольше сотворившего его поколения и, естественно, мыслит категориями завтрашнего дня. Мифология (в отличие от религии) не предполагает альтернативного мышления, и зти категории не встречали еретических сомнений.
Художественный образ утопии — важнейшая часть истории культуры. Едва ли тоталитарные эпохи могут гордиться многими шедеврами но они несомненно были. И сохранили реальный образ мифа, в который верили с такой страстью, что он уже почти переставал быть мифом.
И утверждение, и отрицание были равно яростными, пафос преобладал над аргументацией.
Мир делился на противоборствующие, лишенные оттенков позиции, подобно тому как в нашем классическом черно-белом (тут возникает невольный, но соответствующий реалиям времени каламбур) кинематографе 1920-х оставалось место лишь для беспощадного зла («классовые враги») и безупречной добродетели (революционные герои). Такая поляризация, искусно поддерживаемая державной эстетикой, способствовала появлению своего рода эйфорической истерии.
Для интеллигентного независимого художника актом профессионального достоинства был не столько художественный поиск мучительной правды (как у Пушкина или Толстого), которая никогда не бывает однозначной, сколько отважная и вполне однозначная инвектива.
Основную (и почти всепроникающую) тенденцию в культуре того времени можно было бы определить понятием «тоталитарный романтизм».
Дело не только в натужной героизации, но прежде всего в приподнятости характеров и ситуаций. Мироощущение, лежавшее в основе искусства классического романтизма, предполагает соединение возвышенного и иррационального, отрешенность от быта, нравственную непримиримость, эскападу в мир легенд или экзотические страны. Перенесенное в социальную сферу тоталитарной культуры XX века, это мироощущение продуцирует пылкую утопичность, подмену сущего миражами будущего, агрессивную доверчивость к идолам, поспешную сакрализацию любой державной мысли. И зто рядом с подозрительностью, с ненавистью ко всему чужому, ко всякой рефлексии. Что же касается экзотики, то ее было с избытком. Это и утопические мечты о коммунистическом рае, и полярные экспедиции, и подвиги летчиков, наконец, позднее — советские добровольцы в Испании.
Именно романтическую сторону тоталитаризма старались видеть и культивировать в своих картинах художники «третьей струи»: атлетизм, мужество, поэтическая простота человеческих отношений. Тоталитарная эстетика (как любая жестокая структура) требовала еще и сентиментальности, а пища для нее случалась и вполне достоверная. Внешний демократизм, интернационализм, подчеркнутое равенство наций и сословий — все зто культивировалось, особенно в формальном аспекте. Достаточно вспомнить, как укачивают негритенка в известном фильме «Цирк», утверждая ненависть к расизму и любовь к детям всей планеты.
Тоталитаризм, будучи основан на беспощадной и циничной прагматике, не существует без массового полубезумного воодушевления, без вне-критичного мышления, без камлания вождей и восторга толпы. Тоталита
ризм поддерживает не одаренных, но внушаемых и в свою очередь поддерживается ими6. Тоталитаризм — время, когда веселья — в избытке (весельем можно заглушить страх), когда истерическая радость казарменного бытия заслоняет и делает почти запретным простое человеческое счастье. Когда еще так много и беззаветно пели? Когда еще были убеждены, что мы — «самые-самые»? «И никто на свете не умеет лучше нас смеяться и любить»; «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек...» (ср. «Германия превыше всего»). Оглушая самих себя, люди пьянели не столько от собственного счастья, сколько все от того же ощущения исторической исключительности и исторической правоты.
От предшествующих деспотических режимов тоталитаризм отличается своей двусмысленностью. Вряд ли участь строителей пирамид была легче участи узников сталинских лагерей. Но египетская деспотия не рядилась в демократические одежды, бесправие раба или нищего крестьянина подразумевалось. Гит-леровский геноцид цинично декларировался, советский — с не меньшим цинизмом — замалчивался7.
То, что можно было бы назвать «политическим салоном», впервые появилось отчетливо в эпоху Наполеона. Если салон может существовать при самых разных режимах, то при режиме тоталитарном салон обязателен, занимает главенствующее место, обретает вместе слащавость и агрессивность. Русская история обременена собственным политическим салоном, как и нацистская Германия — своим.
Н. Томский. Памятник С. М. Кирову. 1936
Г. Шегаль. Вождь, учитель и друг. 1937
Политический салон в искусстве (в частности, изобразительном) и воспитывает, и «зондирует». Тоталитарная верхушка формирует политические мифы и, наблюдая реакцию на них, совершенствует собственный образ, собственную мифологизированную модель.
Советский режим не сразу после революции угадал то единственное направление культуры, и в частности изобразительного искусства, которое могло его устроить вполне.
Да и ахровские картины не могли возникать с той же быстротой, как документальные фильмы и фотографии.
Документальное кино дела-
I ло первые, но семимильные шаги. В течение двух или трех лет хроника переросла в кинопублицистину мирового уровня. Ее видели во всей стране и за ее рубежами (перевод был не нужен!), ее смотрел и зритель, даже не I умевший читать, зритель, не способный глубоко анализировать события и
В. Ефанов. Встреча артистов театра Станиславского с учащимися Военно-воздушной академии им. Н. Е. Жуковского. 1938
Г. Клуцис. Плакат. 1932
С. Христофоров. Плакат. 1934
легко ангажируемый подлинной и мнимой достоверностью эффектных кинокадров.
Близкая фактура документального и художественного кино делала любую кинобеллегристику, и тем более «киномифологию», стопроцентно убедительной. Слова Дзиги Вертова о том, что граждане России «будут воспитывать свое восприятие перед светящимся экраном кино»8, стали пророческими.
Драматический парадокс раннего советского кино в том, что его ошеломляющее формальное новаторство входило в абсолютное противоречие с убийственной прямолинейностью и откровенной ангажированностью содержания (здесь не ставится под сомнение искренность кинематографистов, но лишь отмечается несвобода их мироощущения). Формальное новаторство в кино массовый зритель не ощущал, поскольку в кино не было традиции и сравнивать было практически не с чем. К тому же правдоподобие сохранялось.
Кино — самое массовое искусство — при всех своих превосходных качествах было изначально лишено нравственных и социальных полутонов. Свет слепил, тьма пугала, стремительное движение событий, ускоренное к тому же монтажом, втягивало зрителей в неукротимо оптимистический ритм, где на раздумье времени не было.
За границей «Броненосец „Потемкин"» воспринимался как новаторская и блистательная киноформула восстания, как откровение художественное. Покоренный монтажными открытиями, ритмами, всякого рода формальными откровениями, зритель (даже самый скептический) не замечал примитивную спрямленность сюжета, наивное разделение на злых и добрых, убогую мораль, воспевание террора. Для нашего же зрителя мифологизированная киносфера постепенно подменяла реальность.
Кино практически родилось вместе с революцией и не имело нравственных корней. Но и у литературы, и у живописи нравственный опыт был. И когда система «киновидения», тщательно аранжированного документа-лизма переносилась в изобразительное искусство, происходила подмена. Зритель искал жизнеподобия и в неподвижном изображении, искал документальность, похожесть. Не случайно проницательный критик, говоря о популярности ахровских выставок у широкого зрителя, замечал: «...совершенно естественно зто желание современников увидеть свою современность в зеркале (разрядка моя.— М. Г.) искусства»9.
В XX веке подлинная реальность смешивается, а то и просто отождествляется с реальностью уже отраженной и преображенной искусством. Этот феномен возник задолго до «Воображаемого музея» Мальро.
Трудно представить себе искусство Филонова в мире, где еще нет кино. Речь не о прямом влиянии — о присутствии «киносферы» в художественном сознании. Равно как и Петров-Водкин с его «съемкой с движения», падающим миром — все это сродни кино, подвижной камере. Как, кстати сказать, и наплыв «иного времени» в картине «После боя» (1923), где любопытнейшим образом приемы кино синтезируются со средневековой русской традицией.
Разумеется, Филонов не учился у Родченко или Дзиги Вертова. Неважно даже, часто ли бывал он в кино. Но он жил в атмосфере, густо насыщенной фото- и кинопамятью. И подсознательное воздействие формальных структур киносферы могло задевать и некоторые основы нравственного восприятия мира, во всяком случае исподволь подтачивать их безупречность.
А уж степень подлинности живописной картины, вне всякого сомнения, проверялась близостью ее к кино и фотографии. И критерии художественности в изобразительном искусстве решительным образом, хотя и невольно, фальсифицировались в массовом сознании.
Выбор большевиков был безошибочным.
Советская державная идеология, используя «власть кино», стала внедрять в массовое сознание сугубо ахровское понимание реализма. Впрочем, зритель и сам был готов к этому. Ахровские тенденции «художественного документализма» и «героического реализма» как нельзя лучше соприкасались в массовом сознании с драгоценной правдой факта. Ахровский факт, выхваченный из драматического контекста реальной истории, становился звеном мифотворческой цепи, сковывающей сознание зрителей.
Изображение мифа, тождественного, как хотелось тогда думать, будущему, иными словами, размывание в сознании людей границ между желанным грядущим и мнимым настоящим, выдавание воображаемого за сущее было и виной, и бедой складывающегося тогда «официального реализма».
На ахровские выставки стояли, как известно, очереди, и признание большинства воспринималось как истинное признание.
Многое, что вовсе не было правдой жизни, было своего рода правдой мечты, мечты о подвиге, благородстве, мужестве. Тогда еще большевистское правительство не вмешивалось в искусство, да и не имело никаких
особых предпочтений. Новая эстетика рождалась еще свободно, на скрещении формальных исканий и наркотических идей революции, в которые испокон века верили свободолюбивые художники.
Но внимательное державное око с особым пристрастием следило за любым масштабным искусством, несущим в себе истинный трагизм и глубокую метафоричность. Уже упоминалось, что почитающиеся ныне классикой картины, далекие от дежурного оптимизма,— «Смерть комиссара» Петрова-Водкина (1928, ГРМ) и «Оборона Петрограда» Дейнеки (1928, ГТГ) были практически проигнорированы официальной критикой и не были отмечены впервые появившимися тогда премиями. Лиризм кое-как прощался, трагедия отторгалась.
Наиболее поощряемая властью тенденция мифологизированного «политического салона» сочетала в себе наивный традиционализм, определенный уровень академического мастерства и своего рода угрюмую парадность. Если нельзя сказать, что это отвечало вкусу массового зрителя, поскольку этот вкус еще не был сформирован, то гражданским и социальным установкам усредненного сознания отвечало вполне.
Естественно, была вполне официальная живопись, скажем, портреты вождей того же Исаака Бродского. Но видеть в ней одно лишь мрачное торжество тоталитарной эстетики, пожалуй, было бы легкомысленно. Изображение королей и президентов в формах традиционного академического салона не ново, оно существовало при всех режимах и во многих странах и едва ли было подвержено смене стилей. Все же портреты вождей той поры были почти всегда профессиональны и порой подсознательно откровенны. Достаточно внимательно посмотреть на портрет Сталина, исполненный еще Николаем Андреевым (1922, ГТГ), автором канонического не столько льстивого, сколько строго патетического, по-своему превосходного портрета Ленина. Грубость души и жесткая агрессия проступает сквозь сдержанную респектабельность тирана. Вполне возможно, что тогдашними зрителями «вождь» на рисунке Андреева воспринимался просто как могучий и суровый характер, но во временной дистанции искренность портрета не вызывает сомнений. Речь не о гражданской смелости художника или его стремлении к разоблачению. Брутальность не вступала в противоречие с культовым восхищением.
Самые салонные и официальные вещи порой становились шедеврами в силу своей обезличенности, боязни быть индивидуальными.
Картина «Ленин в Смольном» И. Бродского (1930, ГТГ) с ее настойчивой фотографичностью воспринимается в контексте мирового искусства весьма естественно: в значительной мере близкие стилистические искания занимали американцев — приверженцев гиперреализма. Подчеркнутая имперсональность (личностное отношение художника к персонажу и ситуации полностью отсутствует) создает атмосферу культовое™, сакральное™. Объективное таинство поступков и среды обитания вождя интерпретировано как вечно длящийся процесс, где все равно драгоценно — от скрытого полутенью профиля до складок на мебельных чехлах. Если Давид в «Смерти Марата» передал сюжет, стилизуя его под апофеоз в античной
трагедии, возвысил сцену убийства до божественного катарсиса, то советский художник доказывает, что сама будничная действительность поступков Ленина — уже событие, не нуждающееся в осмыслении и даже возвеличивании. Здесь не нужен сюжет, характер, интрига. Бытие вождя заклинает, гипнотизирует, искусству делать нечего там, где факт свят и каноничен.
В этом смысле картина Бродского может восприниматься как совершенно особый факт искусства, из которого изъята сама суть художества — индивидуальность, пластическая интонация. Картина тождественна реальности в той абсолютной мере, в которой зто вообще возможно. Трудно найти более адекватное и более мастерское воплощение принципов «реалистического искусства», как понимала его официальная идеология.
Разумеется, были и трогательные, не лишенные поэтической силы исключения. Это — своего рода просоветский примитив, выраженный профессиональным языком, но наивным сознанием, не лишенным, впрочем, известного юмора (Ефим Чепцов, «Заседание сельской ячейки», 1924, ГТГ; Борис Ермолаев, «Краснофлотцы», 1934, ГРМ).
Организационно советское изобразительное искусство еще и до 1932 года было.в известной степени связано с Красной Армией. Нарком-военмор М. В. Фрунзе в некотором смысле опекал художников, но делал это в либеральном духе 1920-х годов. Когда же умершего при неясных обстоятельствах наркома сменил К. Е. Ворошилов, изменился и характер опеки. Дело, разумеется, не в личностях — в ситуациях, которые определяли выбор исторических персонажей. Достаточно взглянуть на картину В. Сва-рога «К. Е. Ворошилов и А. М. Горький в тире ЦДКА» (1932, Центральный музей Вооруженных Сил, Москва): нарком с любовным сочувствием и доброжелательной улыбкой смотрит на смущенного своим неумением старого писателя.
С начала 1930-х годов страна жила в напряженном ожидании войны — непременно тяжелой (скорее всего она должна была принести мировую революцию) и, разумеется, победоносной. Создавалась особая атмосфера «парадного ожидания трудной войны и великой победы». Вместе с уверенностью в скорой победе малой кровью и на чужой территории искусно и даже поэтично насаждался культ Красной Армии. Вся зта смесь самоотверженности и спеси, искреннего воодушевления и демагогии, мужества и натужной игры мускулами — тоже была трагедией времени, поскольку истинное дискредитировалось угодной власти мнимостью.
Слепое доверие и столь же слепая подозрительность оправдывали и интенсифицировали полярные качества человека: и способность к подвигу, и терпимость к доносу. Человек, ищущий врага в собственном окружении, ощущал себя героем, как антифашист. Сумрачная эйфория не могла не захватить кино, за ним и живопись. Могучее и страшноватое величие имперского колосса в значительной мере поэтизировалось великолепной и тотально ангажированной фотографией 1930-х годов.
Основанный в 1930 году Горьким журнал «СССР на стройке» был совершеннейшим генератором триумфальной эстетики. Снимки были пре
красными — они и ныне широко известны, макеты смелыми и эффектными, полиграфия для той поры — хороша необычайно. Страна смотрелась в лестное романтическое зеркало, за непрозрачной амальгамой которого не было видно страшной реальности лагерей, но в которой отменно отражалось то многое, чем страна и в самом деле могла гордиться.
Ко второй половине 1930-х годов стал появляться специфический советский «свет», социалистическая «high life». В этом смысле известная в свое время картина В. Ефанова «Встреча артистов театра Станиславского с учащимися Военно-воздушной академии им. Н. Е. Жуковского» (1938, ГРМ) при всей ее «триумфальности» остается любопытным документом.
Примечательно ведь даже то, что К. С. Станиславский при жизни имел театр своего имени (как и Мейерхольд), что, видимо, никак не шокировало знаменитых режиссеров. Высшие военачальники — частью недавние выдвиженцы, частью бывшие «военспецы», частью просто очень талантливые военные (большинство которых, как известно, погибли в лагерях) — были охотно принимаемы в домах творческой интеллигенции. И этот новый высший свет создавал блестящую поверхность столичной жизни, новые критерии светскости, демократической и жестко регламентированной одновременно. А всякий «свет» интенсифицирует салон и мифы, ибо склонен к социальному комфорту и конформизму, поскольку и достойные люди, вступая в светски условные отношения, склонны усреднять свою этическую позицию.
Что касается непосредственно проблематики «армия—искусство», то она имела в советской живописи совершенно особый смысл.
В стране практически не представляли, какой была война на самом деле. И, естественно, внимание переносилось с воображаемых сражений на вполне реальных их героев, в первую очередь на героев-полководцев. Серьезных попыток написать масштабную батальную картину о современной войне в 1930-е годы практически не было.
Обласканные герои и забытые жертвы были превосходным фоном для концентрированного изображения единого носителя бранной славы. Любопытно, что в 1930-е годы этим человеком не сделался Сталин. Сценарий военно-политического салона был разработан достаточно тонко, хотя, возможно, и отчасти интуитивно. На авансцену военно-политического спектакля еще в 1925 году Сталин выдвинул Ворошилова. Главным военным страны стал человек храбрый, но заурядный. Портреты его были не менее популярны, и случайностью зто, разумеется, быть не могло. Здесь возникает любезный массовому сознанию образ военного героя. Нужна была «парадная альтернатива» репрезентативным портретам дезавуированных генералов и царей.
Такая популярность, разумеется, была Сталиным санкционирована и хорошо продумана. Красная Армия во главе с блестящим маршалом и заурядным человеком, не отмеченным даже на официальных портретах печатью государственной мудрости, точнее, не сама армия, но грозный и величественный миф о ней требовал в качестве баланса и одухотворяющего начала иную фигуру. Фигуру человека скромного, сохранившего
Л. Герасимов. Ствлин и Ворошилов в Кремле. 1938
революционный аскетизм, причастного высшей мудрости, для которого ми-шурный блеск галунов, «ромбов» и орденов был чрезвычайно выгодным фоном. Такого рода примеры знакомы истории. На фоне шитых маршальских мундиров «походный сюртук» генерала Бонапарта, а затем и Наполеона I, императора французов, выглядел ошеломляюще эффектно. Гитлер носил мундир с единственным крестом, без погон и знаков различия.
Армия была рабоче-крестьянской, но эстетизируемая дисциплина парадов, щегольская форма делали ее в какой-то мере элитной частью общества. Сам же вождь оставался «таким же, как все», «простым и доступным», в неизменной «сталинке», мягких сапогах, в фуражке без кокарды и, разумеется, без всяких орденов. Лица над маршальскими петлицами можно и поменять, тех же, чьи лица заурядными не были, Сталин уже уничтожил.
Простота вождя была принципиальным и существенным завоеванием тоталитарной иконосферы, для которой армия и Ворошилов служили важной частью аккомпанемента10.
В 1938 году появилась картина «И. В. Сталин и К. Е. Ворошилов в Кремле» А. М. Герасимова (ГТГ), воспринимающаяся как отдаленный парафраз знаменитого эпизода из «Хлеба» А. Н. Толстого, где описывается прогулка тех же персонажей под пулями белых. Картина имела широкий зрительский успех, спровоцированный, разумеется, в значительной мере успехом у самих героев полотна (иначе она не была бы тиражирована в миллионах экземпляров). Ставшая канонической, картина уже не может быть «изъята» из истории отечественного искусства. Картина Герасимова, впрочем, обладает профессионализмом и даже некоторой внушительнос
тью. Она убедительно реализовала то, что можно было бы назвать «массовым представлением о политико-нравственной ситуации». Контраст нарядного маршала в звездах и галунах со скромной фигурой другого, главного человека, в скромной шинели без знаков различия, с вещим взглядом и неизменной трубкой в руке, найден безошибочно.
Эта картина — далеко не единственный пример искусства, способного провоцировать своей мрачной властностью угрюмую эйфорию и жестокий, непреклонный оптимизм.
Нельзя отрицать значение для истории искусства картины, пусть малохудожественно, но вполне адекватно выражающей представление большинства о времени.
Искусству от века свойственна мощнейшая компенсаторная функция. Вероятно, так было с прекрасным монументом «Рабочий и колхозница» Веры Мухиной (1937), с этим взрывом доверия, чуждым всякой салонно-сти. Бесчеловечный режим фараонов не мешает потомкам восхищаться их статуями и вообще их искусством. Конечно, там ситуация была не столь коварна, а первобытно проста, но искусство остается искусством...
Компенсаторная функция искусства реализовывалась, правда, чаще в произведениях не столько художественно значительных, сколько поражающих воображение. Идея постройки гигантского Дворца Советов на месте взорванного храма Христа Спасителя в Москве стала грандиозной социально-атеистической акцией уже в сознании людей, еще до того, как первые наброски ее архитектурного воплощения были известны их авторам. Дворец Советов был задуман и спроектирован в виде циклопического сооружения, увенчанного гигантской статуей Ленина. Дворец явился реальностью советского сознания, не став реальной постройкой, как социализм и коммунизм вошли в обиход граждан СССР, оставаясь лишь мифом. Перед проектами Дворца Советов люди не столько испытывали восхищение, сколько робели. Хотя нельзя не заметить, что профессионализм если не общего, претенциозно-фараонского замысла, то проектов интерьеров был при эклектичности изобретателен и профессионален.
Дабы не быть заподозренными в формализме, единственный выход — гримировать факт, попросту говоря, фальсифицировать. «Предугадать будущее и выразить его в картине», т. е. «сказку сделать былью» (только в искусстве, разумеется). И поскольку все «измы», кроме соцреализма, исключаются, остается все тот же спасительный салон, еще более, чем прежде, мифологизированный. Канонизирована картина В. Ефанова «Незабываемое» («Незабываемая встреча») 1937 года (ГТГ), не говоря о названной картине Герасимова. Они и некоторые другие — вне обсуждения, как вне обсуждения и те, кого огульно обвинили в формализме.
Многое надо принять во внимание, чтобы понять, почему за очень редким исключением (разве только какие-то иносказания у Филонова и в крестьянском цикле Малевича, да и то весьма смутные) не возникло даже в самом независимом искусстве картин, хоть как-то адекватных тем книгам, что писались и не печатались, стихам, что читались только вслух по памяти и заучивались наизусть. Темная бессмысленность воспетого
А. Герасимов. Сталин и Ворошилов в Кремле. 1938 (фрагмент)
и возвеличенного официально труда просматривается скорее в тех произведениях, куда художники вряд ли намеревались вложить хоть малую толику пессимизма,— А. Дейнека «Текстильщицы» (1927, ГРМ), П. Филонов Ударницы на фабрике „Красная заря“» (1930-е, ГРМ). Художественное сознание второй половины 1930-х находилось в растерянности. Триумфальная эстетика (до второй половины 1939 года) насаждалась не так
Ь. Шайхет. Лампочка Ильича. 1926
прямо, как представляется нынче историкам, стремящимся превратить тоталитарное искусство в некий страшный и забавный монолит. Правда, о «разгроме формалистов» говорилось как о деле давно решенном, имена мастеров, попавших в их число, уже не упоминались в печати, их работы не экспонировались, равно как и многих других, кто просто сохранял профессионализм и одновременно независимость.
Но рядом с этим в специальной печати «импрессионистический метод» еще рассматривался как явление хоть и дискуссионное, но небесполезное; А. Осмеркин писал о роли цвета в пространственном построении картины; С. Герасимова лишь мягко журили за «импрессионистическую эскизность». Но уже вызывали беспокойство «необобщенные факты». Это так понятно: документальность могла оказаться опасной и недостаточно триумфальной.
И официозный критик в смятении: «...социалистический реализм у нас подчас сужается и упрощается... давление факта доводится иной раз до чрезмерности... искусство задыхается под этим давлением. Факт (документальность), понятый пассивно и педантично, сковывает художника». Наступала пора прививать сухому натурализму ахровского толка поэтические ростки агрессивного оптимизма. Но здесь и начинались сомнения: «Художник-поэт, художник-философ стремится предугадать в современности наше будущее и выразить его в своей картине. Но это уже побуждает его преступить границы данного факта, внести в искусство фантазию, игру воображения. Соответствуют ли подобного рода отступления „от натуры” принципам социалистического реализма? Можно ведь таким образом и до символизма дойти. Допустим ли символизм? Допустим ли романтизм?»11
Всякая попытка сохранить право на пластическую (только пластическую, вовсе не мировоззренческую) индивидуальность приводила художника
в пресловутую «башню из слоновой кости», только замыкалась она не изнутри, а снаружи, да и какая там слоновая кость... Речь не о репрессиях, среди художников они были не так многочисленны, как среди писателей, просто о нищете, бесправии, принудительном забвении. Кто-то переходил поневоле «в другой приход», начинал заниматься иллюстрацией (хорошо, если с увлечением, а не просто ради куска хлеба) или оформительской работой.
Наиболее независимой тенденцией 1920-х и даже 1930-х годов, естественно, принято считать классический авангард. Но здесь возникает множество противоречий, и ясная историческая икона — остановленный на бегу авангард против торжествующего официоза — несколько затуманивается.
После 1917 года, как известно, большинство мастеров авангарда занимали достаточно большевистские позиции и практически не отделяли себя от революции. Авторитарное мышление вовсе не было чуждо самому авангарду, впоследствии так страшно потерпевшему от него. Масштаб таланта и роль в мировом искусстве Малевича или Филонова не дают оснований забывать о нетерпимости и фанатизме великих мастеров, об их неумении признать ценность альтернативного искусства, угрюмой ненависти к инакомыслящим. Большевизм старше сталинизма.
Действительно, авангард был остановлен, удушен, растоптан. Иное дело, был ли он тогда, в годы наступивших репрессий, таким, каким чудится из нашего исторического далека, каким воспринимают его поколения, лишенные прямого общения с эпохой формирования советской культуры.
Художники авангарда были мастерами совершенно иного масштаба, чем отмеченные робостью поисков и чаще всего скромным дарованием ахровцы. Но гипотетическая победа авангарда, случись она в России, тоже вряд ли привела бы к многообразию и свободе искусства.
Непримиримость позиций, жесткая политизация и решительное нежелание признавать плюрализм пластических приемов необходимой нормой художественной жизни сделали изначально невозможным развитие в России высокого модернизма и постмодернизма.
Тем более важно и в советском, идейно поляризованном художестве 1930-х годов видеть не только привычное противостояние гонимого авангарда и торжествующего победу официоза. Но и значимость, и достоинство «третьей струи», той уже упоминавшейся тенденции, которая, сохраняя строгую, даже величавую значительность, все же осталась в тени действительно грандиозных и «громких» фигур авангарда.
Правда, именно этих мастеров, чье искусство в силу относительной предметности не подвергалось прямым репрессиям, принято ныне упрекать чуть ли не в прямом конформизме. Здесь снова нелепое привнесение нынешних внеисторических этических критериев в сложную реальность 1930-х. Вероятно, и блестящий по-своему С. Адливанкин, написавший в 1937 году картину «Премия (В Донбассе)» (Художественный музей, Саратов) вполне в духе «Веселых ребят», был не менее искренен, чем Ю. Оле-ша в своем желании разлюбить Кавалерова. Конечно, было бы наивно видеть в «третьей струе» полную свободу от политической ситуации. Как уже
замечалось выше, в тоталитарную пору от нее зависят все. Никакие профессиональные робинзонады не уберегли художников от желания полюбить свое время и обрести в нем самих себя. Военная доблесть и физкультура проникали даже в замкнутые лирические миры Русакова и Почтенного, не говоря о Ла-басе и тем более Самохвалове. А огромный, ныне почти забытый полиптих Лучишкина «День Конституции» (130 х 458 см), написанный в 1932 году, с физкультурниками, восторженными иностранцами, гуляньем на Воробьевых горах, написанный, кстати, легко и мастерски, с искренним увлечением. «Не убавишь, не прибавишь», только ничего позорного и конформного в том не было, так естественно старание избежать «бесплодного спора с веком». Тем более, ведь действительно была любезная сердцу художника «поэзия великих строек».
И именно художники «третьей
струи» сравнительно мало оказались затронуты тем крутым переломом в советском искусстве, который настал в 1939 году и о котором, в отличие от года 1932-го, в искусствоведении едва ли упоминается. Речь идет о шестидесятилетии Сталина. Непосредственно для искусства зти дни имели серьезные последствия.
Дело, разумеется, не в премиях имени Сталина (позднее — Сталинских премиях), учрежденных в этом году, даже не в потоках славословия, потерявших всякую логику. Важнейшим событием стала выставка «Ленин и Сталин в народном изобразительном искусстве», открытая уже в феврале 1939 года в московском Музее изобразительных искусств. Надо полагать ее принципиальное значение было куда существеннее вполне канонической, хотя и судорожно верноподданной выставки «Сталин и люди Советской страны», открытой в тот же год в Третьяковской галерее.
Это была грандиозная политико-зстетическая провокация, последствия которой до сих пор, думается, не оценены искусствознанием. Она стала определенным рубежом, и перемены в русском искусстве именно после 1939 года очевидны.
Если прежде любое изображение Ленина и тем более Сталина тщательно проверялось, то к этой выставке отнеслись с продуманным смирением: как можно идти против стихии народного восхищения. Ведь зта стихия
должна была стать негласным указующим перстом для еще сохранявших трезвость взгляда профессионалов. Достаточно взглянуть на фотографию скульптуры, выполненной рабочим Г. Петиным, «Сталин и Ворошилов на фронте» — ошеломляющий пример мифологизации сознания художника-самоучки, реальное превращение официозной триумфальной эстетики в самый примитивный кич. Даже зарождение массового искусства было в СССР связано с политикой.
Сталин уже не сумрачный мудрец. В буденовке и развевающейся шинели он наполеоновским жестом указывает смирно стоящему Буденному на поле боя. Это фундамент будущих послевоенных фильмов вроде «Клятвы» (1947) или «Падения Берлина» (1950). Миф обретал непререкаемую истину зпоса, то есть практически исторического источника. Вождь мог пожурить за избыточную льстивость профессионального литератора или художника, но спорить с народом он, естественно, не станет.
Надо полагать, что именно зта трогательная и трагическая по-своему выставка, созданная руками загипнотизированных опасной сказкой людей, оказала губительное влияние на профессиональное искусство. Именно тогда появилась лавина безудержно льстивых и плохо выполненных художественных произведений. Святая тема все оправдывала. То, как писал в 1939 году Сталина Георгий Ряжский, автор живых и артистичных полотен «Делегатка» (1927, ГТГ) и «Председательница» (1928, ГТГ),— свидетельство полной деградации и восторженного смирения.
Все меняется резко и печально. Е. Дзи-ган, снявший «Мы из Кронштадта» (1936), в 1938 году становится одним из авторов фильма «Если завтра война» — поразительной по своей агрессивной и самодовольной наивности киноутопии о всесилии Красной Армии. Сейчас страшно подумать, скольким смертям на реальной войне споспешествовала такая легенда. Здесь, однако, легко прийти к соцартистскому истолкованию истории. Не так все просто. Размытость понятий допустимого была в ту пору почти тотальной. Сценарий для воспевающего подозрительность и доблестных чекистов фильма «Ошибка инженера Кочина» (1939) написал по пьесе братьев Тур Юрий Олеша, один из самых стойких и благородных литераторов.
Великий Страх, ведомый то. да далеко не всем, но многими смутно ощущаемый, входил в сознание, скорее даже в подсознание, исподволь, порою он даже не мешал художникам, они писали вечные пейзажи или на тюрморты, старались любить жизнь такой, какой она была,— «времена не выбирают», и в каждом времени можно жить достойно.
К гигантским полотнам и статуям не присматривались, более не оценивали их художественные качества, они становились данностью, визуальным ритуалом, и парящий в небе над Москвой портрет вождя был нотой оптимистической вечной торжественности, утешительной нотой среди пугающих слухов и страшной яви.
Образ Сталина был отлично срежиссирован чуткими художниками. Он эволюционировал постепенно, и зто зловещее движение еще ждет своего исследования, опять-таки не с позиций соц-арта, а истинной истории отношений искусства с политикой. Режиссура действительно была отмен-на. Даже то, что за невзрачной, в сущности, фигурой вождя неизменно возвышались призраки его гигантских статуй, подчеркивало: вождь скромнее своих изображений.
Лин вождя подстерегал человека повсюду, он становился свидетелем его трудов и дней, соглядатаем, пугалом и тайной надеждой. В этом смысле два довоенных года после сталинского юбилея оказались для искусства временем решительного (хотя и не повсеместного) упадка.
Не вызывает особого сомнения суждение далеко не новое касательно того, что диктатура губит искусство. Без свободы искусство не живет, но деятельность художников продолжается, и произведения их, сохраняя в меру их одаренности и профессионализма известные достоинства, естественным образом превращаются просто в документ. Как любой текст, написанный под давлением обстоятельств или под диктовку.
Таким образом, всякое тоталитарное искусство становится в значительной мере фактом истории, по-своему ценным. Беда лишь в том, что художественные документы, единодушно подтверждающие тот или иной факт, увеличивают лишь степень уверенности историка, но в меньшей степени — собственную ценность. Впрочем, в архивах хранится все, как бы печальны и однообразны ни были «единицы хранения».
Прекраснодушной и либеральной Европе новая Всемирная выставка виделась пространством свободных искусств и мыслей. А Россия — она действительно свидетельствовала своей экспозицией о многом, но мало кто понимал тогда, что на стендах в подавляющем большинстве именно «продиктованные документы», имеющие куда большую ценность для историка, нежели чем для зрителя на выставке.
Сказать, что павильон Иофана и скульптура Мухиной были решительной неудачей, как находили многие западные критики и художники12, вряд ли было бы справедливо. В истории советского искусства мало найдется произведений, которые со столь несомненным чувством стиля и величия и столь же несомненным профессионализмом реализовали бы утопическое представление о торжестве свободного и радостного труда. Компенсаторная функция искусства, вполне сопоставимая с ролью давидовского «Марата», здесь налицо. Отличный расчет монументального эффекта, при котором скульптура читается с раз
ных дистанций и разных точек зрения, долгая жизнь в российской не только идеологической, но и художественной иконо-сфере решительно говорят в пользу ее несомненных пластических достоинств. Более того, способность Веры Мухиной, чья судьба отмечена репрессиями и в чьей трезвости по отношению к режиму можно быть уверенными, создать столь романтический образ сталинского мифа лишний раз доказывает: ощущение исключительности, доверие идее, пусть даже дискредитируемой сегодня, может лечь в основу масштабного произведения (жестокость фараонов не мешает восторженному отношению к искусству, ими программированному).
То, что германский павильон оказался пластически значительнее советского,— явление не идеологическое и тем более не художественное, но политическое. Альберт Шпеер, любимец Гитлера, практически главный архитектор Рейха, признавался, что тайно ознакомился с проектами советского павильона13, что позволило ему выстроить здание, доминирующее над сооружением Иофана, и поднять кованого имперского орла выше мухин-ской группы.
Официальное искусство Третьего рейха, которое новейшими историками справедливо сравнивается с искусством социалистического реализма, поражая и в самом деле патологической похожестью иных картин (см. многочисленные примеры, приведенные в известном исследовании Голомштока и других публикациях), отличалось, разумеется, от него многими качествами: в нем было больше мифологии, расового запредельного чванства (в Советском Союзе это заменялось классовой борьбой), была некая ледяная эротика, где сексуальные сюжеты разыгрывались модернизированными Зигфридами в униформе вермахта и вполне современными валькириями. Впрочем, в изображении жизни «простого народа» официальное искусство СССР и Германии было пугающе схожим: рабочие, слушающие Гитлера или Сталина по радио, кажутся сейчас близнецами на картинах 1930-х годов. В трактовке вождей разница тоже была невелика, правда, Гитлера, случалось, писали в образе почти мифологизированном, с патетикой в духе «Нибелунгов» (X. Лан-цингер. «Знаменосец», б. д., Центр военной истории армии Соединенных Штатов, Вашингтон), но пафос оставался близким. Только искусство фашистской Италии позволяло себе постфутуристическую условность (А. Амбрози, «Портрет Муссолини», 1930, Музей аэронавтики «Джанни Капрони», Тренте; или Жерардо Доттори, «Портрет Дуче». 1933. Гос. Музей современного искусства, Милан), где голова вождя существует в «пространстве воздухоплавания» с дирижаблями и самолетами, или «Дуче» — бюст Муссолини работы Филиа, Ориани и Россо (1934) для зала Правительственного совета, где в эффектном нагромождении
X. Ланцингер. Знаменосец
грозно ритмизованных, почти абстрактных объемов угадывается тяжелое лицо под каской, хотя в целом скульптура производит впечатление бронированного монстра — военной машины из фантастического фильма. Вообще следует заметить, что идеология итальянского официоза была относительно гибкой, поскольку политика фашизма менялась,— от поддержки футуристов до подчеркнуто христианской направленности (в 1929 году был подписан Латеранский договор между7 Ватиканом и Италией, иными словами, между Муссолини и Папой) и открытого
расизма — утверждения «духа и величия итальянской расы» перед войной.
Угрюмая многозначительность ложноклассических павильонов обоих тоталитарных государств все же не уравнивала в глазах зрителей культуру нацистскую и советскую. Тем более в Париже, где Жид опубликовал свою новую книгу, ревизующую впечатления от поездки в СССР. Сторонники Народного фронта во Франции, антифашисты, испанские республиканцы, как рассказывали, плакавшие перед «Герникой»,— все эти люди, сохранявшие преданность идеям с вободы, еще связанным тогда с Советским Союзом, естественно старались отыскать в советском павильоне то, что всегда можно отыскать в царстве эффектно сервированной утопии. А группа Мухиной достойно и, несомненно, впечатляюще открывала вход к алтарю, ожидающему верующих.
Между тем выставка вовсе не была бедна значительными произведениями искусства. Для нее работали Фернан Леже, декорировавший многие павиль
оны, Андре Лот (панно «Газ» для Дворца открытий), Джино Северини, Марио Сирони, Соня и Робер Делоне, Женевьева Галлибер расписали Дворец воздухоплавания, в павильоне Севрской мануфактуры Марсель Громер сделал «керамическую фреску», Рауль Дюфи выполнил для экспозиции Дворца электричества и света колоссальное (10 х60 м) панно «Фея электричества». Это последнее произведение, тогда не принесшее автору того успеха, которого он заслуживал (неудачное освещение и экспозиция, на сохранившихся фотографиях видно, что гигантские трансформаторы, размещенные и высвеченные очень эффектно, скрывают роспись), все же было чрезвычайно существенной альтернативой ангажированному искусству тоталитарных режи-
Пафос гнева и обвинения, потрясение невиданным еще тогда злодейством не толкнули все же Пикассо к материальному, документальному подходу, на который он при своей склонности к сменам стилей и умении изображать вполне антропоморфные создания был способен. Всякая конкретика в подобном сюжете вызвала бы ужас и шок, но не то ощущение взорванного мира и представлений о нем, которые занимали художника куда более.
Быть может, впервые в Новейшем искусстве возник реальный образ взорванного сознания, озаренного и растерзанного наступлением небытия. Художник заглянул туда, куда никто не заглядывал, изобразил то, что видимо лишь в мгновение гибели и исчезает вместе с гибнущим. То, что живой может только вообразить.
Вообразить, однако, мало. Надо убедить зрителей, что это — так.
Пикассо добился абсолютной реальности абсолютной условности. Перед зрителем — не гибнущий в крови и пепле город, но своего рода «апокалипсис сознания». Внутреннее зрение, проснувшееся тридцать лет назад в пору «Авиньонских девиц», становится безусловным и придает воображенному и ведомому качества реально существовавшего. Как никогда зрима обозначенная Юнгом «некюйя» (вызывание теней умерших), как никогда важно «katabasis eis antron» (вхождение внутрь). Но здесь это более, нежели дерзкая пластическая метафора: здесь ирреальный мир чудится содрогающимся, кричащим. Разъятые тела, обломки статуй, предметов, призраки животных, электрическая лампа, вспыхивающая в подвале как последнее видение солнца,— все это теперь воспринимается как пророчества Хиросимы. Тем более — тени, словно бы отпечатки испепеленных людей.
Быть может, только один художник середины века пусть отчасти, но все же сопоставим с Пикассо времени «Герники» в ощущении трагизма реальной истории. Если исключить идеологизированные произведения тоталитарного толка, то художники после сатир Гроса едва ли воспринимали войну и политику достойными мотивами.
Речь о Шагале.
Вряд ли в основе полотна «Революция» (1937, НМСИ ЦП) только прошлое, в ту пору политические катаклизмы минувшего непременно воспринимались сквозь призму сегодняшних. Мрачный праздник, в центре которого Ленин, подобно цирковому клоуну, делает стойку на руке, окруженный извечными шагаловскими персонажами, в числе которых и сам Шагал с Беллой, и козлик, и солдаты, и влюбленные, и музыканты. Есть в этой сцене нечто несомненно зловещее, игра здесь не метафорична, но перенесена в обезумевшие души персонажей, абсурдность Гражданской войны ощутима здесь подспудно, возможно, тогда она ощущалась еще менее. Годом позже пишет он «Белое распятие» (1938, Институт искусств, Чикаго), где светлый мир его юности рушится, разорванный на куски (почти как в «Гернике»), пылают дома и синагога, разбегаются, разлетаются его персонажи. И уже совсем апокалиптичны гуаши «Деревня в огне» (1940,
гуманистическим ценностям, к социальным проблемам, к простой человечности, введенной, однако, в новые формообразующие структуры. «Герника» — быть может, самая значительная картина XX века — стала синтезом высоких этических идей, нового художнического взгляда в потрясенное подсознание человека и невиданных пластических приемов.
Что же касается последующих поколений, то очевидно: с постмодерном Пикассо в спор не вступает, скорее постмодернизм жадно впитывает иконосферу Пикассо.
Пикассо появился раньше постмодернизма, отчасти продуцировал его и, несомненно, останется, когда тот исчерпает себя. И дело не в том, значительнее ли искусство Пикассо других явлений искусства XX века. Просто оно сотворено из иного, более прочного временного вещества.
«Герника», разумеется, затмила, особенно в памяти новых поколений, иные картины, связанные с предвоенными годами. Речь не идет, конечно, о живописных «триллерах» Сальвадора Дали, стяжавших известность благодаря качествам, далеким от профетически'х и живописных достижений, и подобных им произведениях. Были и иные, ныне почти забытые или вышедшие за пределы массовой культурной памяти художники и произведения, вобравшие в себя опыт предшествующих исканий и глубоко и точно резонирующие времени.
Разумеется, разброс восприятия оставался большим. В этом смысле Всемирная выставка возвращала художникам, социальная интуиция которых была достаточно скептической, ликующий оптимизм перед прогрессом, эстетизируя действительно грандиозные достижения человеческого ума, как, например, уже упоминавшийся Дюфи или Леже в панно для Всемирной выставки «Высоковольтная линия» (1937, Национальный музей Фернана Леже, Бьот), сравнимом по позитивной энергии с виртуозно выписанным полотном «Мощь в движении» (1939, Смит-колледж, Музей искусств, Нортхемптон) американского фотографа и художника-прецизиониста Чарлза Шилера, с поэтической и восторженной скрупулезностью изобразившего цилиндр, поршни, шатуны и колеса набирающего скорость паровоза.
Внимательный зритель, обладай он профетическим даром, мог бы увидеть на выставках 1937 года едва ли не всю «генетическую программу» искусства XX века, еще только приближающегося к своей середине.
Все же — осознанно или нет — довоенная Европа словно старалась определить близящиеся итоги. Блистательная выставка «Три художника-сюрреалиста» в Брюсселе, представившая работы Магритта, Танги и Ман Рэя, действительно показала самых
ЭПИЛОГ. МОЛЧАНИЕ МУЗ
Война, отыграв свои кровавые прологи в Испании и начавшись в сентябре 1939 года вторжением в Польшу, а затем ее разделом, не остановила, разумеется, искусство в целом.
Но она еще более замедлила, сделала едва уловимыми те процессы, которые уже давно перестали быть действительно динамичными. Связи национальных школ прервались. Человечество вообще и искусство в частности давно жили в предчувствии катастроф, и шесть лет (а если вести отсчет от испанских событий, и все девять!), потрясшие не только Европу, но и весь мир, заставили на многое взглянуть по-иному даже тех, кто менее всего был затронут войной.
В истории искусства практически бессмысленно подводить итоги, речь скорее о тех уроках, которые извлекает историк и зритель из более или менее последовательного и личного взгляда на весь комплекс того, что оставила нам «эпоха модернизма» поры своего становления и расцвета.
И все же: как бы ни была измучена минувшей и наступающей войной эта культура, ее наследие, даже омраченное политическим вмешательством в самое течение искусства, возможно и необходимо видеть во всем масштабе, царственном разнообразии форм, свободе исканий, в вольном сосуществовании несхожих художественных кодов, поисков и пристрастий.
Наследие довоенного искусства с трудом становится в нашем сознании фактом истории. Слишком многие начинания так и остаются начинаниями, художники с удовольствием продолжают давно затеянные игры, теряя в тумане полузабытой и слишком обильной информации представления о том, насколько оригинальны и оригинальны ли вообще их «актуальные» поиски.
Некоторые суждения, впрочем, кажутся достаточно обоснованными и сейчас.
Во-первых, очевидно, что великие мастера XX века создали практически все «свое главное» в довоенные годы. Быть может, только Мур, Арп, Хартунг, Джакометти, Бэкон, кто до войны
ЭПИЛОГ. МОЛЧАНИЕ МУЗ
385
XX век все решил иначе. Останься первая его половина в памяти «Авиньонскими девицами», «Слоном» Эрнста, механизмами Пикабиа или популизмом Дали, он решительно не был бы самим собою, как не был бы он собою в вымученном искусстве тоталитарных картин и даже в стойкой поэтичности Марке, отрешенности Клее. Одно познавалось лишь в контексте другого. Все зависели от всех, от безмолвных, бескровных яростных борений в сознании художников и публики, ибо осознать невероятное время иначе было немыслимо.
К описываемому периоду не отыскать изобразительного эпиграфа. Брутальная изысканность знаменитой скульптуры Джакометти «Задушенная женщина» (1932—1940, НМСИ ЦП), зашифрованная сексуальность картины Массона «Земля», парижские сумерки Марке, фантасмагория Филонова — все это лишь осколки, проблески, сколь ни были бы значительны авторы этих работ.
Время высокого модернизма — не «Герника» Пикассо, не фантазии Шагала, не сумрачные прозрения Магритта, не поэтически пристальное видение Хоппера, не коллажи стареющего Матисса, хранящего рыцарственную мудрость начала века. Время это — во всем.
Оно — как «Девочка на шаре» Пикассо, где ни юная акробатка, ни усталый атлет не смогут удержаться в пространстве картины — да и мира — поодиночке.
ПРИМЕЧАНИЯ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 и
12
13
14
15
16
ВВЕДЕНИЕ
Нынешняя арт-критика пользуется понятием «актуальное искусство», в которое «современность» входит как sine qua non.
Терминологический аппарат будет уточняться по мере рассмотрения отдельных проблем.
Jacob М. Le cornet a des. Р, 1945. Р. 23.
Collingwood R. G. Speculum Mentis, or The Map of Knowledge. Oxford, 1924. P. 82. -
По определению неправильный тезис: по-гречески «кргпкг]» означает «искусство судить, оценивать».
Гадамер ГТ. Онемение картины // Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М., 1991. С. 187.
Выготский Л. Психология искусства. М., 1968. С. 38.
Read Н. A Concise History of Modern Painting. L., 1959; Modern Sculpture. A Concise History. L., 1964. Названы даты первых изданий, с тех пор обе книги неоднократно переиздавались.
Read Н. A Concise History of Modern Painting. L., 1974. P. 8.
Блок M. Апология истории, или Ремесло историка. М., 1986. С. 80.
Read Н. Op. cit. Р. 8.
Парадокс, существующий как данность. Достоевский, родившийся раньше Толстого и раньше его умерший, обычно рассматривается — как литературное явление — после Толстого.
Read Н. Op. cit. Р. 12.
Термин, давно бытующий в специальной литературе, используется здесь в конкретном «видовом» значении.
Впрочем, предлагаемое суждение отчасти соприкасается с концепцией, легшей в основу выставки «Les realismes. Entre revolution et reaction 1919/1939», открытой в парижском Центре Жоржа Помпиду в 1980—1981 годах. Близкая система идей изложена у Мишо (Michaud Е. Le peuple, 1’art et la realite. Ligela. № 1, 1988), позднее и у А. Якимовича (Якимович А. Реализмы XX века. М., 2000).
«Как-то директор одного музея спросил меня: „Но, в конце концов, позвольте узнать: почему, когда речь идет об искусстве XIX века, говорят только о Франции?" Я ответил: „Задайте этот вопрос господу Богу". И в самом деле, я не знаю, что ответить на это; ответ я могу найти только в бесконечности» (Вентури Л. Художники ново
го времени. М., 1956. С. 8). Несомненно, что к XX веку это суждение приложимо в еще большей степени.
I. «ИСКУССТВО МОДЕРНИЗМА». ИСТОКИ, СРЕДА ОБИТАНИЯ
1 Это слово в XIX веке употреблялось в классической истории по отношению к позднему Риму. «Римляне времен упадка» (Les Romains de la decadence) называлась картина T. Кутюра (1847).
2 Ортега-иТасет X. Восстание масс. Дегуманизация искусства и другие работы. М., 1991. С. 64.
' La Presse, 1850. Цит. по: ЁдигеЮ. История современной архитектуры. М., 1972. С. 15.
4 Золя Э. Собр. соч. М„ 1963. Т. 9. С. 274.
3 Champfleury J. Le Realisme. Р., 1973. Р. 185.
6 Zola Е. Une exposition: les peintres impressionnistes // Le Semaphore de Marseille. 1877. 19 avril. Цит. no: Zola E. Mon salon Manet, ecrits sur Part. P, 1970. P. 282.
7 Станция, как называлась она прежде, Сен-Жерменской железной дороги существует с 1832 года. Современный вокзал Сен-Лазар был построен по проекту архитектора Лиша в 1886—1889 годах. Есть нечто символическое в том, что именно перед этим вокзалом, привлекавшим к себе первых ценителей урбанистической поэзии, установлены ныне сверхсовременные скульптуры Армана «Все время» и «Вечное хранение».
8 Характерно, что Дж. Ревалд начинает свою знаменитую «Историю импрессионизма» именно с посещения Камилем Писсарро Всемирной выставки 1855 года.
9 Две небольшие картины Пикассо были в 1900 году представлены в испанском разделе выставки.
10 Выставочные помещения располагались, как и сейчас, в оранжереях дворца.
11 Термин «Парижская школа» (L’Ecole de Paris) принадлежит французскому критику Андре Варно и был им впервые употреблен в 1925 году // L’Etat et Part vivant. Coemedia. 1925. 4janv.
12 В предлагаемом тексте понятие «ар нуво» (модерн, сецессион, югендстиль) рассматривается преимущественно именно как принятая сумма пластических приемов, которыми пользовались и символисты, и художники иных направлений, и мастера «протодизайна».
13 Mauclaire С. Trois crises de 1’art actuel. P., 1906. P. 320.
14 Валери П. Об искусстве. M., 1993. С. 225.
13 Venturi L. Cezanne. Р., 1936. Р. 30.
16 Стайн Г. Автобиография Алисы Б. Токлас. СПб., 2000.
17 Le journal. 1895. 16 ноября.
18 France A. Oeuvres completes. Р., 1926. Vol. I. P. 9.
19 Цит. по: Поль Сезанн. Переписка. Воспоминания современников. М„ 1972. С. 233.
‘-’° Рилъке Р. М. Ворпсведе. Огюст Роден. Письма. Стихи. М., 1971. С. 218, 220.
21 Выражение Мориса Мерло-Понти. См. его интереснейший этюд о Сезанне: La doute de Cezanne // Merleau-Ponty M. Sens et non-sens. P., 1948.
22 Муратов П. Сезан. Берлин, 1923. С. 27—28 (сохраняем авторское написание фамилии художника).
2- ’ Свет генерируется в самой картине. См.: Loran Е. Cezanne’s composition. Los Angeles, 1943. P. 63.
24 Idem.
25 Вентури Л. От Мане до Лотрека. М., 1958. С. 77.
26 Guerry L. Cezanne et Pexpression de 1’espace. R, 1950. P. 180.
27 Из воспоминаний Эмиля Бернара о Поле Сезанне. Цит. по: Поль Сезанн. Переписка. Воспоминания современников. М., 1972. С. 217.
28 Hoog М. LUnivers de Cezanne. Р., 1971. Р. 89.
29 Wilde О. The Picture of Dorian Gray // Selection from Oscar Wilde. M., 1979. Vol. 1. P. 78.
30 Дени M. Определение неотрадиционализма // Мастера искусства об искусстве. М., 1969. Т. 5. Кн. 1. С. 194.
31 Moreas J. Le Symbolisme // Figaro litteraire, 1886. 18 sept. Заметим, что еще в августе 1885 года Мореас утверждал, что всех, кого несправедливо называют «декадентами», следует называть «символистами».
32 Redon О. Confidences d’artiste // LArt moderne. 1895. 25 aout.
33 Gray C. The Russian Experiment in Art 1863—1922. L., 1986. P. 35.
34 Как известно, Достоевский не завершил свой грандиозный роман «Житие великого грешника». «Братья Карамазовы» — реализация лишь части этого замысла, Достоевский в силу масштаба своего дара превращал каждую ступень к «Житию» в великое произведение (достаточно и «Братьев Карамазовых»). Врубель на такое способен не был.
35 Врубель М. Переписка. Воспоминания о художнике. Л., 1976. С. 38.
36 Цит. по: Chasse С. Le mouvement symboliste d’art du XIXe siecle. P., 1947. P. 36.
37 Гоген П. Письма. Hoa Hoa. Из книги «Прежде и потом». Л., 1972. С. 50.
38 Врубель М. Указ. соч. С. 55—56.
39 Лицо это странным образом напоминает лицо молодого Блока. Это нельзя назвать даже совпадением (Блок тогда был еще ребенком). Видимо, некий типологический образ художника на сломе столетий, что называется, носился в воздухе. Его угадал Врубель. А поэт, возможно и бессознательно, старался вписаться в этот образ «Поэта канунов» (так в пору романтизма писатели и художники не только творили, но и жили, одевались, говорили и даже молчали согласно искусственным, но многозначительным и впечатляющим ритуалам).
40 Близость Достоевского и Врубеля подробно рассмотрена в монографии: Герман М. Михаил Врубель. СПб., 1996. С, 54 и сл.
41 Гегель Г.-В.-Ф. Сочинения. М., 1930. Т. 3. С. 594.
42 Мережковский Д. Поли. собр. соч. СПб.; М., 1912. Т. 15. С. 249.
43 Там же. С. 243.
44 Волошин М. Стихотворения. Л., 1977. С. 391.
45 Иванов Вяч. По звездам. СПб., 1909. С. 39.
46 Соловьев В. Стихотворения и шуточные пьесы. Л., 1974. С. 93.
47 Мау М. William Morris — Artist, Writer, Socialist. L.; N. Y., 1936. Vol. 1.
48 Русакова А. Символизм в русской живописи. М., 1995. С. 115.
49 Кант И. Собр. соч.: В 6 т. М„ 1963-1966. Т. 5. С. 263.
50 Художник исполнил заказ инженера и коллекционера Роберта Гольдшмидта, сконструировавшего дирижабль для бельгийской армии и пожелавшего запечатлеть его выход из ангара не на фотографии, а на картине.
II. «МАГИЯ СОВРЕМЕННОСТИ»
1 Derain A. Lettres a Flaminck. Р, 1955. Р. 27.
- Стайн Г. Автобиография Алисы Б. Токлас. СПб., 2000. С. 55 и сл. Сразу же следует оговориться, что книга Стайн — художественное произведение, в котором даты и факты часто расходятся с историческими реалиями отчасти по воле, отчасти и по небрежности автора. Так, в названной книге покупка «Женщины в шляпе» отнесена к 1903 году, т. е. к первому Осеннему салону. Цитируя или упоминая Стайн, автор стремится показать лишь атмосферу времени.
3 Там же. С. 98—99. Сударь, я ищу новое (фр.).
4 См.: BouyerR. LArt russe au Grand Palais // Le Bulletin de Part ancien et moderne. 1906. 3 nov. (216); Danilowitcz A. L’Exposition russe // EArt et les artist. Octobre 1906 — mars 1907 (t. 4).
5 Olivier F. Picasso et ses amis. P, 1933. P. 113.
6 Стайн Г. Указ. соч. С. 96.
7 Morice Ch. Exposition de mm Picasso, Launay, Pichot et Girieud // Mercure de France. 1902. Dec. P. 804.
8 JungC.G. Picasso // Neue Zurcher Zeitung. 1932. 13 Nov.
9 Ibid.
10 Мастера искусства об искусстве. М., 1969. Т. 5. Кн. 1. С. 309.
11 Прокофьев В. Н. Пикассо. Годы формирования // Из истории классического искусства Запада. М., 1980. С. 213.
12 Бабин А. «Девочке на шаре» Пабло Пикассо // Античность. Средние века. Новое время. М., 1997.
13 Бердяев Н. Пикассо // София. 1914. № 3.
14 Elgar F. Maillard R. Picasso. Munchen—Zurich, s. a. S. 71.
15 Врубель M. Указ. соч. С. 295. Историки искусства не раз обращали внимание на этот факт, рассматривая стадиальную общность движения искусства. См.: Guerman М. Mikhail Vrubel. L., 1985. Р. 7; Батракова С. Образ мира в живописи XX века: к постановке проблемы // Мировое древо. 1992. № 1. С. 86.
16 Seuphor М. La peinture abstraite. Р., 1962. Р. 16.
17 Дмитриева Н. Пикассо. М., 1971. С. 19.
18 Цит. по: Fry Ed. Cubism. L., 1966. P. 82.
19 Картина тем не менее была вскоре куплена известным коллекционером Жаком Дусе.
20 Цит. по: Neret G. Picasso. Р, 1981. Р. 51.
21 Цит. по: Elgar F. Braque. 1906—1920. В, 1958.
22 Дословно: «сделанное», «готовый предмет» (англ.). Вошедшее в обиход искусства выражение, обозначающее обычный, чаще всего серийно изготовленный предмет, использованный в качестве выставочного объекта или как часть его.
23 Duchamp М. Catalogue raisonne. Р., 1977. Vol. II. Р. 70.
24 Lhote A. La peinture НЬёгёе. Р, 1956. Р. 128.
25 София. 1914. № 3.
26 Apollinaire G. M6ditations esth6tiques. Les peintres cubistes. P, 1965. P. 45.
27 GoldingJ. Cubisme: a History and an Analysis 1907—1914. N. Y., 1959. P. 15.
28 Rosenblum R. Cubism and Twentieth-century Art. N. Y, 1960. P. 9.
29 GoldingJ. Op. cit. P. 169.
30 Ozenfan et Jeanneret. La peinture moderne. P, 1925. P. 87.
31 Hamacher A. The Evolution of Modern Sculpture. L., 1969. P. 141.
32 Бабка Кандинского по матери была немка. «В детстве я много говорил по-немецки» (Кандинский В. В. Ступени. Текст художника. М., 1918. С. 10).
33 Kandinsky W. Klange. Munchen, 1912.
34 Кандинский В. Указ. соч. С. 27.
35 Сарабьянов Д. В., Автономова Н. Б. Кандинский: Путь художника. Художник и время. М., 1994. С. 8.
36 Кандинский В. Указ. соч. С. 25.
37 См.: Соколов Б. «Контрапункт Великого Завтра» // Вопросы искусствознания. 1997. № 1. С. 399.
38 Об этом прямо говорится в специальной приписке в конце романа.
39 Пруст М. По направлению к Свану. Ч. I, 1.
40 Read Н. Icon and Idea. Cambridge, 1955. P. 130.
41 Delauney R. Du cubisme a 1’art abstrait. P, 1957. P. 96.
42 Цит. no: Barnett V. E. Kandinsky and Sweden. Malmo. [1914]. P. 45.
43 «Я хотел бы также избежать поездки в Петербург, даже если это и не очень разумно». (Из письма Габриеле Мюнтер от 15 октября, цит. по: Сарабьянов Д. В., Автономова Н. Б. Указ. соч. С. 133).
44 Краткий вариант текста прочел Н. Кульбин в конце декабря 1911 года на Всероссийском съезде художников. Съезд был представителен, вполне терпим и демократичен. Доклады читали И. Репин, Ма-тэ и др.
45 Выставка была организована одесским скульптором В. Издебским, бывшим членом «Нового общества художников — Мюнхен», президентом которого до 1911 года был Кандинский.
46 Отчасти подобный процесс был близок Сезанну. Московские пейзажи в этом смысле можно было бы отчасти сравнить и с постфо-вистскими картинами Марке.
47 Соловьев В. Сочинения: В 2 т. М., 1988. Т. 2. С. 398.
48 Впрочем, Кандинский сам предостерегал от отождествления нефигуративной живописи с музыкой (Doelman С. Wassily Kandinsky. Berlin; Munchen, 1964. S. 75).
49 Messer T. M. Wassily Kandinsky // Wassily Kandinsky. Haus der Kunst. Munchen, 1976. S. 41.
5(1 Уместно напомнить, что в юности живопись импрессионистов, дистанцированная от предметности, заставила Кандинского по-новому взглянуть и на русскую икону (Kandinsky W. Esseys fiber Kunst und Kiinstler. Teusen, 1955. S. 203).
51 Вероятно, первые абстрактные работы (правда, скорее орнаментального толка) принадлежали А. Хёльцелю — они были исполнены еще в 1905 году.
52 Кандинский В. О духовном в искусстве. Живопись. Л., 1990. С. 36.
53 Это подробно анализирует Д. В. Сарабьянов: Сарабъянов Д. В., Автономова Н. Б. Указ. соч. С. 69. Об этом писал и автор этих строк еще в 1989 году в газетной публикации.
54 Теоретически подобные идеи, рассуждая о Малевиче, высказывал Хлебников. См.: Ковтун Е. Ф. Путь Малевича // Казимир Малевич. Л.; М.; Амстердам, 1988. С. 159.
55 Аристотель. Поэтика 1450 b 35.
56 Параллельно художник продолжает работать на стекле вполне предметно, реализуя сказочно-символистские мотивы в специфических формах лаконичного «лубочного» модерна.
57 Что, кстати сказать, свойственно иконе.
58 Примечательно, что поэма «Возмездие», из которой приводятся цитаты, писалась с 1910-го по 1921 год, полностью совпадая хронологически со становлением беспредметной живописи Кандинского.
59 См. стихи «Видеть» и «Отчего?» из русского варианта альбома «Звуки», опубликованного в книге: Сарабъянов Д. В., Автономова Н. Б. Указ. соч. С. 165 и 166.
“ Grohmann W. Wassily Kandinsky. Life and Work. N. Y., 1958. P. 175.
61 Чехов А. П. Поли. собр. соч.: В 18 т. М., 1977. Т. 8. С. 241.
62 В 1924 году Кандинский, Клее, Фейнингер и Явленский организовали группу «Синяя четверка» (Die Blaue Vier).
® Цит. по: Grohmann W. Op. cit. Р. 174.
64 Barnet V. Е. Kandinsky at the Guggenheim. N. Y, 1983. P. 46. Цит. no: Сарабьянов Д. В., Автономова H. Б. Указ. соч. С. 157.
65 Цит. по: Ragon М. L’avanture de 1’art abstrait. P, 1956. P. 23.
66 Delauney R. Du cubisme a 1’art abstrait. R, 1957. P. 96.
67 Idem. P. 160.
68 Из речи итальянского публициста Джованни Папини в феврале 1913 года. Цит. по: Archivi del Futurismo. Roma, 1958. Vol. I. P. 141.
69 Первый манифест футуризма. Цит. по: Манифесты итальянского футуризма. М., 1914. С. 7—8.
7,1 Впервые роман опубликован в 1925 году.
III. «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРЯЖЕННОСТЬ...»
1 Кандинский В. В. Ступени. М., 1918. С. 10.
2 Цит. по: Ее Marchand J. Les ecrivains, la litterature et Chagall // La Gallerie. 1973. № 129.
3 По странному совпадению в интереснейшем — и, думается, не вполне оцененном — романе Вениамина Каверина «Перед зеркалом»
героиня — художница — пишет: «Время идет без стрелок, как на „Черных часах" Сезанна, и остановить его, к сожалению, невозможно. Впрочем, можно — в искусстве. Но для этого как раз и нужно быть Сезанном». Можно добавить: или Шагалом.
4 Worringer W. Abstraktion und Einfillung. Leipzig, 1909. S. 1.
5 Мариинский Г. Метод экспрессионизма в живописи. Пб., 1923. С. 49.
6 Secessio — отделение (лат.). Так стали затем называться в Германии выставки художников, находящихся в оппозиции официальному искусству.
7 Название, очевидно, связано с Ницше, который видел в понятии «мост» символ духовного обновления.
8 Марк Ф. «Дикие» Германии. Синий всадник. М., 1996. С. 11.
9 Цит. по: Myers В. Die Malerei des Expressionismus. Koln, 1957. S. 174.
10 Цит. no: Cogniat R. Soutin. P., 1973. P. 26—27.
11 Некоторые источники указывают на 1912 год.
12 Castaing М. et LeymarieJ. Soutin. P., 1963. P. 14.
13 Выставочные помещения располагались, как и сейчас, в оранжереях дворца.
14 Faure Е. Soutine. Р., 1929. Р. 6.
15 Гессе упоминает Пауля Клее в числе персонажей повести «Паломничество в страну Востока» (1932).
16 Klee Р. Theorie de 1’Art moderne. P, 1969. P. 56.
17 Klee P. Tagebucher. 1889-1918. Koln, 1957. S. 252-253.
18 Рилъке P. M. Указ. соч. С. 274—275.
IV. «ВЕЛИКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ»: ТРИУМФ И ПРЕОБРАЖЕНИЕ
1 «Великий эксперимент. Русское искусство 1863—1922» — название одной из первых, имевшей большой резонанс и до сих пор не утратившей своего значения, неоднократно переиздававшейся книги Камиллы Грэй о русском авангарде: Gray С. The Great Experiment: Russian Art 1863—1922. L., 1962. (Позднее публиковалась под названием «The Russian Experiment in Art 1863—1922».) С тех пор понятия «великий эксперимент», «русский эксперимент» стали нарицательными.
2 Rilke R. М. Moderne russische Kunstbestrebungen. Samtliche Werke in zwolf Banden. Frankfurt a. M., 1976. Bd. 10. S. 613—614.
s ГеН. H. Статьи. Критика. Воспоминания современников. М., 1978. С. 136.
4 Из письма художника к Марии Львовне Толстой. Там же. С. 159.
5 Крамской И. Н. Письма, статьи, документы: В 2 т. М., 1966. Т. 2. С. 60-61.
6 [Достоевский Ф. М.] Выставка в Академии художеств за 1860— 1861 год // Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч.: В 30 т. Л., 1979. Т. 19. С. 159.
7 Там же. С. 164.
8 Переписка И. Н. Крамского: В 2 т. М., 1954. Т. 2. С. 303.
9
К)
11
12
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
Мастера искусства об искусстве. М., 1959. Т. 4. С. 419. Суриков, мастер живописной исторической драмы, любитель композиционной режиссуры, несомненно традиционалист, на удивление тонко понимал новый язык французских художников. Уже в конце жизни он признавался в любви к импрессионистам: «Ходите в Люксембургский музей? Какие там дивные вещи из нового искусства! Моне, Дега, Писсарро и многие другие» (Василий Иванович Суриков. Письма. Воспоминания о художнике. Л., 1977. С. 137).
Сахарова Е. В. Василий Дмитриевич Поленов, Елена Дмитриевна Поленова. Хроника семьи художников. Л., 1965. С. 338.
Василий Иванович Суриков. Письма. Воспоминания о художнике. Л., 1977. С. 189.
Дягилев С. Выставки // Мир искусства. 1901. Т. 5.
Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч.: В 30 т. Л., 1975. Т. 13. С. 377.
Лифшиц Б. Полутораглазый стрелец. Л., 1989. С. 373.
Статья опубликована в 1928 году. Цит. по: Пунин Н. Н. Русское и советское искусство. М., 1976. С. 134—135.
Gray С. The Russian Experiment in Art: 1863—1922. L.,1986. P. 101. Эту параллель проницательно отметил Е. Ф. Ковтун. См.: [Ковтун Е. В.] Примечания // Лйвшиц Б. Полутораглазый стрелец. Л., 1989. С. 688.
G. A. Exposition de Natalie Gontcharova et Michel Larionov // Les soirees de Paris. 1914. № 26—27 (з. 71).
Ослиный хвост и Мишень. М., 1913.
Так, многое, привнесенное Ларионовым, казалось лишь отблеском поисков итальянских футуристов: «Лучизм, которым Ларионов пробовал „перекрыть" итальянцев, весь помещался в жилетном кармане Боччони»,— заметил увлеченный знаток в пору приезда в Россию Маринетти (зима 1914 года). {Лифшиц Б. Указ. соч. С. 69).
Якобсон Р. Футуризм // Якобсон Р. Работы по поэтике. М., 1987. С. 417.
Сейчас уже не вполне ясно, какой именно вариант этой картины (их несколько, написанных почти в одно время) был показан в 1915 году.
Хлебников В. Творения. М., 1986. С. 632.
Иваницкий С. Малевич в Третьяковской галерее // Казимир Малевич. Каталог выставки. Л.; М.; Амстердам, 1988—1989. С. 41.
Gray С. The Russian Experiment in Art 1863—1922. L., 1986. P. 161.
Малевич К. С. Главы из автобиографии художника (1933) // Казимир Малевич. Каталог выставки. Л.; М.; Амстердам, 1988—1989. С. 111.
Там же. С. 108-110.
«...Иконописцы, достигшие большого мастерства техники, передавали содержание в антианатомической правде, вне перспективы воздушной и линейной. Цвет и форма были ими создаваемы на чисто эмоциональном восприятии темы». (Там же). Художник в своей характерной смутно-торжественной манере порой склонен сен-тенционно открывать общеизвестные истины. Однако это позволяет точнее понять его эволюцию.
29 См.: Горячева Т. Малевич и метафизическая живопись // Вопросы искусствознания. 1993. № 1. С. 57.
30 Любопытно, что Малевич делает эту картину с надписью в ту же пору, когда Дюшан — свое велосипедное колесо, а Боччони — «Памятник бутылке».
31 В Ленинграде Малевича вызывали на допросы, дважды его арестовывали, некоторые его ученики и единомышленники были репрессированы.
32 Недавно опубликовано письмо Малевича Мейерхольду (1932), где художник декларирует возвращение живописи к «образу» (Горячева Т. «Царство духа» и «Царство кесаря» // Вопросы искусствознания. 1999. № 1. С. 295). Однако вряд ли это заявление исчерпывающе раскрывает суть и причины модификации пластического языка Малевича...
33 См.: Горячева Т. Малевич и метафизическя живопись // Вопросы искусствознания. 1993. № 1. С. 49.
34 Andersen Т. Moderne Russisk Kunst, 1910—1925. Borgen Forlag, 1967. Ссылка на фр. перевод: Andersen Т. Filonov. L’OEuvre de jeunesse // Filonov. Centre Georges Pompidou. P., 1990. P. 26.
35 Хлебников В. Собр. соч.: В 5 т. Л., 1933. Т. 4. С. 51.
36 Цит. по: Ковтун Е. Очевидец незримого // Павел Филонов и его школа. Кёльн, 1990. С. 17.
37 Филонов П. Декларация «Мирового Расцвета» // Жизнь искусства, 1923. № 20. С. 13.
38 Грандиозная ретроспектива Филонова в Париже (Центр Помпиду) весной 1990 года не привлекла ожидаемого внимания.
39 Боулт Дж. Анатомия фантазии // Павел Филонов и его школа. Кёльн, 1990. С. 51.
40 Филонов П. Основные положения аналитического искусства: [Рукопись]. С. 54.
41 Филонов П. Декларация «Мирового Расцвета» // Жизнь искусства. 1923. № 20. С. 14.
42 Матюшин М. Творчество Павла Филонова // Павел Филонов и его школа. Кёльн, 1990. С. 83—84.
43 Цит. по: Павел Филонов и его школа. Кёльн, 1990. С. 108.
44 Этот термин был предложен автором в ряде публикаций, в частности в статье «Уроки экспозиции» (Творчество. 1989. № 6). Имеется в виду строгая, глубоко профессиональная живопись, сохранявшая фигуративность, но использовавшая многие формальные достижения авангарда.
45 Стригалев А. Ретроспективная выставка Владимира Татлина // Владимир Татлин. Ретроспектива. Кёльн, 1993. С. 31.
V. «ARTIFEX LUDENS»
1 Baudelaire Ch. Le peintre de la vie moderne. Curiosite esthetique LArt romantique. R, 1962. P. 466—467.
2 Хейзинга И. Homo Ludens. В тени завтрашнего дня. М., 1992. С. 332.
3 Цит. по: Хофман В. Отрывки из книг // Советское искусствознание. 1991. № 27. С. 386.
4 Duchamp M. Catalogue raisonne. Redige par Jean Clair. P., 1977. P. 16. ’ Дюшан уверял, что не интересовался «всеми этими вещами». Idem.
Р. 50.
6 Цит. по: BeharH., Carassau М. Dada, histoire d’une subversion. P., 1990.
7 Название происходит, как можно понять из слов самого Дюшана, от красочных пятен, поставленных им на репродукцию, ассоциируемых с пронзительными красками жидкостей в пузырьках, виденных художником в витрине руанской аптеки.
8 Перевод названия этого произведения Дюшана «Le grand verre» представляет большие затруднения, как, впрочем, и знаменитой инсталляции «Etant donne (дано, принимая во внимание)». Нарочитая смутность французского названия окончательно теряется в переводе («Большой стакан», «Большое стекло», «Великое прозрачное»). Поэтому при обозначении возможных вариантов переводов в тексте сохраняется французское название.
9 Breton A. Phare de la mariee // Minotaure. 1935. Vol. 2. № 6.
10 О дате приезда Де Кирико нет единого мнения. Предполагается, что он мог оказаться в Париже и в 1910 году.
11 Де Кирико жил во дворе дома № 9, во флигеле, где работали и жили в разное время Модильяни, Рильке и др. На той же улице, о чем говорилось выше, неподалеку от известной гостиницы «Истрия» снимал мастерскую Ман Рэй.
12 Цит по: Nouveau dictionnaire de la peinture moderne. P., 1963. P. 274.
18 Цит. no: 100 oeuvres nouvelles 1974—1976. Musee national d’art _moderne. P., 1977. P. 24.
14 De Chirico G. Giorgio Morandi. La Fiorentina Primavera. Firenza, 1922. P. 154.
13 Этим приемом — изображением «головы без лица» — пользовался в своих рисунках Жан Кокто уже в начале 1910-х годов. См.: Cocteau J. Les metamorphoses du poete. P, 1998. P. 15.
16 Цит. no: Richter H. Dada: Art and Anti-Art. L., 1997. P. 25.
17 Бахтин M. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1990. С. 299.
18 Термин Барта, весьма подходящий для определения многих явлений искусства XX века. См.: Кулик И. Театр в культуре Дада // Вопросы искусствознания. 1995. № 1—2. С. 542—543.
19 Arp Н. Unseren taglichen Traum: Erinnerungen, Dichtungen und Betrachtungen aus den Jahren 1914—1954. Zurich, 1992. S. 59.
20 Инерционное общественное мнение и власти Швейцарии отнеслись (любопытнейшая деталь для характеристики времени) с гораздо большим подозрением к шумным и эпатирующим сборищам дадаистов, нежели к тихим русским — Ленину, Зиновьеву и Радеку, жившим почти напротив «Кабаре Вольтер», вынашивавшим уже тогда опасные планы мировой революции. См.: Richter Н. Op. cit. Р. 16. Дадаисты были знакомы с Лениным, Тцара даже играл с ним в шахматы. Рассказывали, Ленина видели и в «Кабаре Вольтер» (Агр Н. Op. cit. S. 60). Сказанное вносит дополнительную театральность и даже элементы «протосоцарта» в культурное пространство «дада».
21 Arp Н., Hulsenbeck R. Die Geburt des Dada. Zurich, 1955. S. 107.
22 Тцара T. Цюрихская хроника // Альманах Дада. М., 2000. С. 12.
23 Klee P. Das bildnerische Denken. Basel; Stuttgart, 1971. Bd. I. S. 460.
24 Тцара T. Указ. соч. С. 90.
25 Кандинский В. О духовном в искусстве. М., 1992. С. 95.
26 «Это у нас еще не известно»,— сказал Эль Лисицкий, побывавший в 1920 году в мастерской Рауля Хаусмана. (Wescher Н. Die Geschichte der Collage. Koln, 1987. S. 132).
27 Цит. no: Arp H., Hillsenbeck R. Dada. Zurich, 1957. S. 16.
28 Даймонид [Дёманн К. Г.]. К теории дадаизма // Альманах Дада. С. 45.
29 Георг Грос, с которым пришел познакомиться Швиттерс, не захотел его принять и на слова: «Здравствуйте, господин Грос, меня зовут Швиттерс» — отрезал: «Я не Грос». «А я не Швиттерс»,— ответил тот и удалился. Знакомство не состоялось. {Richter Н. Op. cit. Р. 145).
30 Цит. по: Schmalenbach W. Masterpieces of 20th-Century Art from the Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen. Dusseldorf, Munchen, 1987. S. 98-99.
31 Hoffmann E. T. A. Poetische Werke in sechs Banden. Berlin, 1958. B. II. S. 118.
32 Цит. no: Perl J. Man Ray. N. Y., 1997. P. 10.
33 «Скрипка Энгра» — ставшая обыденной метафора второй страсти художника. Как известно, живописец Энгр был превосходным скрипачом и все досуги отдавал музицированию.
34 При следующем владельце дома стены были закрашены и заклеены обоями. Росписи были вновь открыты и переведены на холст только в 1967 году.
35 Breton A. Manifestes du surrealisme. Р., 1973. Р. 121.
VI. «АКАДЕМИЧЕСКИЙ МОДЕРНИЗМ»
1 См.: Cassou J. Marcel Gromaire. Paris, 1925. P. 14.
2 Выступление Вольдемара Жоржа на Венецианском съезде деятелей культуры. См.: EArt et la Realite EArt et I’Etat. P, 1935. P. 71.
3 На этом доказательно настаивает Рид, полагая, что работы Арпа были «вдохновлены теми же идеалами природных (organic) форм»: Read Н. Modern Sculpture. A Concise History. L., 1992. P. 82.
4 Цит. no: Giedon-Weleker C. Contemporary Sculpture. N. Y.; L., 1961. P. 97-98.
5 Read H. Op. cit. P. 159.
6 В конце 1920-х годов было несколько попыток снять «сюрреалистические» фильмы — в том числе «Раковины и священник» Ж. Дюлака (1928).
7 Известно, что, работая над картинами, Сиккерт систематически пользовался фотографиями из газет и журналов.
VII. ВРЕМЯ «ГЕРНИКИ»
1 Цит. по: Deschames R. Dali de Gala. Lausanne, 1962. P. 169.
2 Термин, которым часто определяют культуру того времени — «сталинское искусство» — некорректен. Все в искусстве, естественно,
было связано с (позитивной или негативной) реакцией на режим. Но не все было подчинено ему. Имя тирана недостойно того, чтобы определять период культуры.
’ Серьезных работ, посвященных этой «сталинской эпохе», очень немного. См., например: Grays В. Ala recherche du pouvoir artistique perdu // Les Cayers du Musee National d’art moderne. P., 1988. № 26; Голомшток И. Тоталитарное искусство. М., 1994. Не лишенные тонкости интеллектуальные забавы Гройса на эту тему были, по крайней мере на первых порах, попыткой заглянуть в скованное мифологемами сознание homo soveticus. Известный труд Игоря Голомштока (издан на английском языке в 1990 году), несомненно, несет в себе (вместе с чрезвычайно интересной информацией и глубокими обобщениями, особенно касательно параллельного анализа тоталитарной культуры СССР, Италии и гитлеровской Германии) ноту сиюминутной боли, полемическую страсть, желание доказать и разоблачить, которые воспринимаются прежде всего как свидетельства сознания, типичного для времени и места написания книги. Многие издержки, как научные, так и этические, объясняются во многом тем, что по сию пору и профессионалы, и серьезные зрители продолжают видеть в культуре тоталитарной эпохи скорее объект для публицистики или художественной критики, нежели предмет истории искусства.
4 Гессе Г. Собр. соч. СПб., 1994. Т. 2. С. 209.
5 Гефтер М. От анти-Сталина к не-Сталину: непройденный путь // Осмыслить культ Сталина. М., 1989. С. 537.
6 «Лишь победивший пролетариат, подлинный наследник всего лучшего, что накопило человечество... осуществил далекий идеал древней Эллады, вложив в этот идеал новое социалистическое содержание. Стройными рядами выступают юноши и девушки, блистая здоровым человеческим телом» (Искусство. 1935. № 6; о картине Самохвалова «С. М. Киров принимает парад физкультурников»). Сейчас текст может вызвать улыбку, но пафос наркотического самовнушения — тоже свидетельство времени.
7 В сталинских лагерях, в отличие от гитлеровских, почти не было реальных противников режима. Репрессировали, как правило, людей невиновных.
8 Дзига Вертов. Статьи, дневники, замыслы. М., 1966. С. 50.
9 Тугендхолъд Я. Из истории западноевропейского, русского и советского искусства. М., 1987. С. 235.
10 Ворошилов, этот живой миф, сам стал со временем мифотворцем. По свидетельству А. Н. Толстого, в 1935 году Ворошилов рассказал писателю «ряд захватывающих эпизодов обороны Царицына».
11 Щекотов Н. Живопись (К выставке «Индустрия социализма») // Искусство. 1939. № 4.
12 Голомшток И. Тоталитарное искусство. М., 1994. С. 131—132.
” Голомшток И. Указ. соч. С. 131.
14 Elgar F., Maillard R. Picasso. Munchen; Zurich, s. a. S. 71.
15 Шекспир У. Гамлет. Действие 1, сцена 3. Перевод М. Лозинского.
16 Сартр Ж. П. Слова. М„ 1966. С. 173.
КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
Альманах Дада. М., 2000.
Арган Дж. Современное искусство. 1770—1970. М., 1999.
Вентури Л. От Мане до Лотрека. М., 1958.
Искусство стран и народов мира. Краткая художественная энциклопедия: В 5 т. М„ 1962-1981.
Краснова О. Энциклопедия искусства XX века. М., 2003.
Крючкова В. Кубизм. Орфизм. Пуризм. М., 2000.
Лившиц Б. Полутораглазый стрелец. Л., 1989.
Марцинский Г. Метод экспрессионизма в живописи. Пб., 1923.
Мастера искусства об искусстве: В 7 т. Т. 5. Кн. 1, 2. М., 1969.
Москва — Париж. Каталог выставки: В 2 т. М., 1981.
Полевой В. Двадцатый век. Изобразительное искусство и архитектура стран и народов мира. М., 1989.
Рычкова Ю. Энциклопедия модернизма. М., 2002.
Тугендхолъд Я. Из истории западноевропейского, русского и советского искусства. М., 1987.
Якобсон Р. Работы по поэтике. М., 1987.
Янсон X., Янсон Э. Основы истории искусств. СПб., 2002. (Главы, посвященные искусству XX века).
Andersen Т. Moderne russisk kunst. 1910—1930. [Cabenhavn], 1967.
Amason PI. History of Modern Art. Painting, Sculpture, Architecture, Photography. L., 1988.
Arp H., Hulsenbeck R. Dada. Zurich, 1957.
Bouillon J.-P., Rinuy P.-L., Baudin A. L’Art du XXe siecle. 1900—1939.
P., 1996.
Breton A. Manifestes du surrealisme. P, 1973.
Cabanne P. EArt du XXe siecle. P., 1982.
Frizot M. Nouvelle histoire de la photographic. P, 1994.
Giedon-Welcker C. Contemporary Sculpture. N.Y.; L., 1961.
Golding J. Cubusme: a History and an Analyses. 1907—1914. N. Y., 1959.
Gray C. The Russian Experiment in Art. 1863—1922. L., 1986.
Haftmann W. Painting in the Twentieth Century. In 2 vols. N. ¥., 1961.
Hamacher A. The Evolution of Modern Sculpture. L., 1969.
Histoire de Part contemporain. La Peinture. P, 1935.
Klee P. Tagebiicher. 1889—1918. Koln, 1957.
Le Thorel-Daviot P. Petit dictionnaire des artistes modernes. P., 1999.
Lucie-Smith E. Visual Arts in the Twentieth Century. L., 1996.
Myers B. Die Malerei des Expressionismus. Koln, 1957.
Read H. Art Now. N. Y.; L., 1948.
Read H. A Concise History of Modern Painting. L., 1959.
Read H. Modern Sculpture. A Concise History. L., 1964. (Названы годы первых изданий Рида, с тех пор книги неоднократно переиздавались). Richter Н. Dada: Art and Anti-Art. L., 1997.
Rosenblum R. Cubism and Twentieth-Century Art. N.Y., 1960.
Schmalenbach W. Masterpieces of 20th-Century Art from the Kunstsamm-lung Nordrhein-Westfalen, Dusseldorf; Munchen, 1987.
Seuphor M. La peinture abstraite. R, 1962.
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИИ
СОКРАЩЕНИЯ:
ГМИИ — Государственный музей изобразительного искусства им. А С. Пушкина, Москва.
ГРМ — Государственный Русский музей, Санкт-Петербург.
ГТГ — Государственная Третьяковская галерея, Москва.
ГЭ — Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.
КМИИБ — Королевские музеи изящных искусств Бельгии, Брюссель.
МКМ — Музей Крёллер-Мюллер, Оттерло.
МСГ — Музей Гугенхейма, Нью-Йорк.
МСИ — Музей современного искусства, Нью-Йорк.
МСИгП — Музей современного искусства города Парижа, Париж.
НМСИ ЦП — Национальный музей современного искусства, Центр Жоржа Помпиду, Париж.
СМ — Городской музей (Стеделийк Музеум), Амстердам.
ХССВ — Художественное собрание земли Северный Рейн—Вестфалия, Дюссельдорф.
Ч. к. — частная коллекция.
I. ИСКУССТВО МОДЕРНИЗМА. ИСТОКИ, СРЕДА ОБИТАНИЯ.
23,60*. П. Сезанн. Гора Сент-Виктуар. 1898. Музей искусств, Балтимор.
28. Дж. Энсор. Въезд Христа в Брюссель в 1889 году. 1888. Музей Пола Гетти, Малибу.
29. Э. Мунк. Крик. 1893. Национальная галерея, Осло.
32. Э. Гимар. Вход в метро. Париж. 1900. Фотография.
33. П. Абади. Сакре-Кёр. Фотография.
34. Э. Мане. Железная дорога. 1873. Национальная художественная галерея, Вашингтон.
35. К. Моне. Вокзал Сен-Лазар. 1877. Музей д’Орсе, Париж.
36. Г. Эйфель. Эйфелева башня. Фотография.
36. Ж. Крулл. Эйфелева башня. 1926—1927.
37. Р. Делоне. Эйфелева башня. 1926—1928. МСГ.
38. Ж. Крулл. Уличное движение в Париже. 1926.
Здесь и далее — номера страниц.
40. П. Пикассо. Портрет Воллара. 1910. ГМИИ.
41. М. Васильева. Кафе «Ротонда». 1921. Ч. к.
42. Бато-Лавуар. Фотография.
42. Ман Рэй. Гертруда Стайн. 1926.
43. К. Дуниковский. Дыхание. 1903—1916. Музей К. Дуниковского, Варшава.
45. А. Бёклин. Остров мертвых. 1880. Художественный музей, Базель.
46. Э. Вюйяр. Желтая штора. 1893. Национальная галерея искусств, Вашингтон.
47. П. Боннар. Туалет. Ок. 1908. Музей д’Орсе, Париж.
48. О. Роден. Мыслитель. 1888. Музей Родена, Париж.
49. О. Роден. Бальзак. 1893—1897. Париж.
50. Г. Моро. Голоса. 1867. Коллекция Тиссен-Борнемисса.
50. А. Майоль. Средиземноморье. 1901. Ч. к.
51. А. Бурдель. Геракл, стреляющий из лука. 1909. Париж.
51. А. Бурдель. Франция. 1925. Париж.
52. П. Пикассо. Автопортрет. 1907. Национальная галерея, Прага.
54. П. Сезанн. Автопортрет. Акварель. Ч. к.
56. П. Сезанн. Цветочный горшок на столе. 1882—1887. Ч. к.
57. П. Сезанн. Натюрморт. 1895—1900. МСИ.
58. П. Сезанн. Кухонный стол. Акварель. Лувр, Париж.
58. П. Сезанн. Банки и горшки. Акварель. Лувр, Париж.
59. П. Сезанн. Гора Сент-Виктуар. Акварель. Ч. к.
59. П. Сезанн. Гора Сент-Виктуар. Акварель. Ч. к.
61. П. Сезанн. Хижина Журдена. 1906. Художественный музей, Базель.
64. О. Бёрдсли. Иллюстрация к драме О. Уайльда «Саломея». 1895.
64. Г. Климт. Юдифь. 1901. Австрийская картинная галерея, Вена.
65. О. Редон. Глаз как шар. Рисунок. 1882. МСИ.
66. М. Врубель. Девочка на фоне персидского ковра. 1886. Музей русского искусства, Киев.
67. В. Серов. Девочка с персиками. 1887. ГТГ.
68. И. Репин. Этюд к «Заседанию Государственного совета». 1902. ГРМ.
69. Ф. Штук. Грех. 1891. Галерея Пикадилли, Лондон.
71. М. Врубель. Демон сидящий. 1890. ГТГ.
72. М. Врубель. Демон поверженный. 1902. ГТГ.
73. А. Марке. Люксембургский сад. 1902. Музей изящных искусств, Бордо.
74. Л. Спиллерт. Дирижабль в ангаре.
П. «МАГИЯ СОВРЕМЕННОСТИ»
75, 95. П. Пикассо. Авиньонские девицы. 1907. МСИ.
78. А. Матисс. Нотр-Дам на исходе дня. 1902. Художественная галерея Олбрайт, Буффало.
79. А. Матисс. Роскошь, покой и сладострастие. Эскиз. 1904. НМСИ ЦП.
80. А. Матисс. Женщина в шляпе. 1905. Ч. к., Сан-Франциско.
81. А. Матисс. Танец. 1910. ГЭ.
82. А. Матисс. Семейный портрет. 1911. ГЭ.
82. Р. Дюфи. Старые дома в Онфлёре. 1906. Ч. к.
83. А. Матисс. Портрет жены художника. 1913. ГЭ.
85. А. Руссо. Сон. 1910. МСИ.
87. П. Пикассо. Любовь (Свидание). 1900. ГМИИ.
88. П. Пикассо. Слепой еврей с мальчиком. 1903. ГМИИ.
89. П. Пикассо. Любительница абсента. 1901. ГЭ.
90. П. Пикассо. Девочка на шаре. 1905. ГМИИ.
91. П. Пикассо. Женщина с веером. 1905. Национальная галерея искусств, Вашингтон.
93. П. Пикассо. Дама с веером. 1909. ГМИИ.
98. X. Грис. Hommage a Pablo Picasso. 1912. Институт искусств, Чикаго.
99. X. Грис. Натюрморт с газетой. 1916. ХССВ.
100. Ж. Брак. Скрипка и кувшин. 1909—1910. Художественный музей, Базель.
101. Ж. Брак. Дуэт для флейты. 1911. Ч. к.
102. Ж. Кокто. Автопортрет без лица Ш. 1912—1913. Музей Ж. Кокто.
103. К. Бранкузи. Поцелуй. 1907—1908. Музей искусств, Крайова.
104. К. Бранкузи. Начало мира. 1924. МКМ.
104. К. Бранкузи. Поцелуй. Ок. 1912. Музей искусств, Филадельфия.
105. А. Архипенко. Торс. 1914. МКМ.
106. Ж. Липшиц. Сидящая фигура с гитарой. 1921. МКМ.
106. О. Цадкин. Женская фигура. 1914. Ч. к.
106. А. Архипенко. Идущий солдат. 1917. Ч. к.
106. А. Архипенко. Женщина. 1920. Музей искусств, Тель-Авив.
106. Ж. Липшиц. Моряк с гитарой. 1917—1918. НМСИ ЦП.
108. В. Кандинский. Одесский порт. Конец 1890-х. ГТГ.
111. В. Кандинский. Мурнау. 1908. ГТГ.
112. В. Кандинский. Поезд в Мурнау. 1909. ГТГ.
113. В. Кандинский. Серый овал. 1917. Картинная галерея, Екатеринбург.
115. В. Кандинский. Сумеречное. 1917. ГРМ.
120. В. Кандинский. Без названия. Акварель, тушь. 1920—1921. ГТГ.
121. В. Кандинский. Маленькие миры. Цветная литография. 1922. Городская галерея Ленбаххауз, Мюнхен.
122. В. Кандинский. Несколько кругов. 1926. МСГ.
123. В. Кандинский. Голубое небо. 1940. НМСИ ЦП.
124. А. Стиглиц. Flatitron Building под снегом. 1903.
124. Э. Стейхен. Flatitron Building, вечер. 1906.
125. П. Стренд. Абстракция стула. 1916.
125. П. Стренд. Слепая. Нью-Йорк. 1916.
126. Ф. Купка. Этюд для языка вертикалей. 1911. Коллекция Тиссен-Борнемисса.
126. Ф. Купка. Расположение в вертикалях (Ordonnance sur verti-cales). 1913. НМСИ ЦП.
127. П. Мондриан. Композиция в линиях и цвете (Compositie in lijn en kleur). 1913. МКМ.
128. П. Мондриан. Композиция в голубом. 1917. МКМ.
128. П. Мондриан. Композиция с красным, желтым и голубым. 1921. Городской музей, Гаага.
129. А. Маньели. Рабочие на телеге. 1914. МСИ.
130. У. Боччони. Состояния души. Прощание. 1911. МСИ.
131. Л. Руссоло. Восстание. 1911. Городской музей, Гаага.
131. У. Боччони. Уникальные формы протяженности в пространстве. 1913 (отливок 1931). МСИ.
132. Дж. Северини. «Норд-Зюйд» (парижское метро-экспресс). 1913. Городской музей современного и нового искусства, Турин.
132. А. Метценже. На велодроме. 1914 (?). МСГ.
133. Дж. Северини. Поезд Красного Креста, проходящий мимо деревни. 1915. МСГ.
134. Д. Ривера. Эйфелева башня. 1914. Ч. к.
III. «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРЯЖЕННОСТЬ»
135. Ф. Марк. Праздник зверей. 1913. Художественный музей, Базель.
137. К. Бранкузи. Заснувшая муза. 1910. НМСИ ЦП.
138. А. Марке. Модистки. 1901. ГЭ.
138. А. Марке. Модель в мастерской. 1900. Ч. к.
139. А. Марке. Модель с поднятыми руками. 1912. Ч. к.
140. Ж. Руо. Марокканец. Ок. 1913. ХССВ.
140. Ж. Руо. Старый король. Начат в 1916. Собрание Института Карнеги, Питтсбург.
141. А. Модильяни. Кариатида. 1911—1912. ХССВ.
141. А. Модильяни. Кариатида. 1912—1913. ХССВ.
142. А. Модильяни. Портрет Макса Жакоба. 1916. ХССВ.
143. А. Модильяни. Диего Ривера. 1915. ХССВ.
143. А. Модильяни. Сидящая обнаженная. 1916. Институт Курто, Лондон.
144. А. Модильяни. Обнаженная. Национальная галерея искусств, Вашингтон.
146. М. Шагал. Hommage a Apollinaire. 1911—1912. Государственный музей, Эйндхофен.
146. М. Шагал. Голгофа. 1912. МСИ.
147. М. Шагал. Я и деревня. 1911 (?). МСИ.
148. М. Шагал. Зеркало. 1915. ГРМ.
156. Л. Кирхнер. Полуобнаженная женщина в шляпе. 1911. Музей Вальраф-Рихардц, Кёльн.
157. Л. Кирхнер. Красная башня в Халле. 1915. Музей Фолькванг, Эссен.
158. Л. Кирхнер. Пять женщин на улице. 1913. Музей Вальраф-Рихард, Кёльн.
159. Л. Кирхнер. Две женщины на улице. 1914. ХССВ.
160. Ф. Марк. Красная косуля II. 1912. Государственная галерея современного искусства, Мюнхен.
161. Ф. Марк. Мандрилл. 1913. Государственная галерея современного искусства, Мюнхен.
161. Ф. Марк. Три кошки. 1913. ХССВ.
162. А. Макке. Дама в зеленом жакете. 1913. Музей Вальраф-Рихард, Кёльн.
163. Ф. Марк. Тироль. 1913—1914. Государственная галерея современного искусства, Мюнхен.
163. А. Макке. Девочки среди деревьев. 1914. Государственная галерея современного искусства, Мюнхен.
164. А. Макке. Собор во Фрибурге. 1914. ХССВ.
165. А. Явленский. Женщина с пионами. 1909. Музей Фон дер Хейдт, Вупперталь.
165. Дж. Беллоуз. «Ставьте у Шарки!». 1907—1909. Музей искусств, Кливленд.
166. X. Сутин. Автопортрет. Фонд Г. и Р. Пирлмен, Принстон.
167. X. Сутин. Рыбы и помидоры. 1926—1927. Ч. к.
168. X. Сутин. Рассыльный. 1928. НМСИ ЦП.
169. X. Сутин. Бык. 1925. Ч. к.
170. X. Сутин. Портрет Мадлен Кастен. Ок. 1928. Музей Метрополитен, Нью-Йорк.
170. X. Сутин. Мальчик из хора. Ок. 1928. Ч. к.
171. X. Сутин. Лестница в Шартре. 1933. Ч. к.
176. П. Клее. Красные и белые купола. 1914. ХССВ.
177. П. Клее. Вилла Р. 1919. Художественный музей, Базель.
178. П. Клее. Вращающийся дом. 1921. Коллекция Тиссен-Борнемисса.
179. П. Клее. Золотая рыбка. 1925. Кунстхалле, Гамбург.
180. П. Клее. Омега-5.К. 1927. Коллекция Тиссен-Борнемисса.
181. П. Клее. Перечеркнутый лист. 1933. Ч. к.
181. П. Клее. Перечеркнутый человек. 1935. ХССВ.
182. П. Клее. Красный шар. 1922. МСГ.
IV. «ВЕЛИКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ»: ТРИУМФ И ПРЕОБРАЖЕНИЕ
183. Н. Гончарова. Сенокос. 1910- Ч. к.
190. Д. Бурлюк. Казак Мамай. 1916. Башкирский государственный художественный музей, Уфа.
191. Н. Гончарова. Велосипедист. 1913. ГРМ.
191. М. Ларионов. Солдаты. 1909. Музей искусств, Лос-Анджелес.
192. М. Ларионов. Венера. 1912. ГРМ.
193. М. Ларионов. Голубой лучизм. Ок. 1912. Ч. к.
194. Н. Гончарова. Евангелист. 1910. ГТГ.
194. Н. Гончарова. Евангелист. 1910. ГТГ.
195. Н. Гончарова. Зеркало. 1912- Галерея дель Леванте, Милан.
196. В. Татлин. Голубой контррельеф. 1914. Ч. к.
196. В. Татлин. Подбор: цинк, палисандр, ель (Контррельеф). 1916.
ГТГ.
196. Л. Попова. Архитектоническая композиция. 1917. Местонахождение неизвестно.
196. О. Розанова. Четыре туза. 1915—1916. ГРМ.
197. В. Татлин. Матрос (Автопортрет). 1911. ГРМ.
198. Экспозиция Малевича на «Последней футуристической выставке». 1915. Фотография.
200. К. Малевич. Черный квадрат. 1915. ГТГ.
201. К. Малевич. Супрематизм. Живописный реализм футболиста — красочные массы в 4-м измерении. 1915. СМ.
202. К. Малевич. Цветущая яблоня. 1904. ГРМ.
203. К. Малевич. Голова крестьянской девушки. 1912—1913. СМ.
204. К. Малевич. Корова и скрипка. 1913. ГРМ.
204. К. Малевич. Чтец. Эскиз костюма к спектаклю «Победа над солнцем». 1913. ГРМ.
205. К. Малевич. Супрематизм. (Supremus № 56). 1916. ГРМ.
206. К. Малевич. Крестьянка. 1928—1932. ГРМ.
207. К. Малевич. Два крестьянина (в белом и красном). 1928—1932. ГРМ.
207. К. Малевич. Сложное предчувствие. 1928—1932. ГРМ.
207. Г. Грос. Без названия. 1920. ХССВ.
208. П. Филонов. Мужчина и женщина. 1912—1913. ГРМ.
209. П. Филонов. Пир королей. 1913. ГРМ.
211. П. Филонов. Коровницы. 1914. ГРМ.
212. П. Филонов. Формула петроградского пролетариата. 1920—1921. ГРМ.
212. П. Филонов. Формула вселенной. 1920—1922. ГРМ.
213. П. Филонов. Колхозник, 1931. ГРМ.
213. П. Филонов. Рабочий в кепке. 1930-е (?). ГРМ.
214. П. Филонов. Нарвские ворота. 1929. ГРМ.
215. П. Филонов. Ткачихи. 1930. ГРМ.
215. П. Филонов. Живая голова. 1923. ГРМ.
216. К. Петров-Водкин. Скрипка. 1918. ГРМ.
216. К. Петров-Водкин. Натюрморт с селедкой. 1918. ГРМ.
217. К. Петров-Водкин. Купание красного коня. 1912. ГТГ.
217. В. Пестелъ. Семья за столом. 1920—1921. ГТГ.
217. А. Лепорская. Псковитянка. 1930 (1932—1934 (?). ГРМ.
218. С. Лучишкин. Шар улетел. 1926. ГТГ.
218. Н. Синезубов. Улица. Весна. 1920. ГРМ.
219. К. Петров-Водкин. После боя. 1923. Центральный музей Советской армии, Москва.
220. В. Татлин. Летатлин. 1932.
221. В. Татлин. Памятник III Интернационала. 1919—1920. Макет 1979. НМСИ ЦП.
222. К. Малевич. Супрематизм. Женская фигура. 1928—1932. ГРМ.
V. «ARTIFEX LUDENS»
223. Ман Рэй. Дюшан с Большим стеклом. Ок. 1920.
228. П. Пикассо. Рюмка абсента. 1914. ХССВ.
229. М. Дюшан. Велосипедное колесо. 1913. Воспроизведение 1964. Ч. к.
230. М. Дюшан. Фонтан. 1917. Музей искусств, Филадельфия.
232. М. Дюшан. Обнаженная, спускающаяся по лестнице, № 2. 1911. Музей искусств, Филадельфия.
233. М. Дюшан. Сушилка для бутылок. 1913. Воспроизведение 1964.
Музей искусств, Филадельфия.
234. М. Дюшан. Большое стекло. Фрагмент инсталляции. 1915—1922. Музей искусств, Филадельфия.
234. М. Дюшан. Большое стекло. Фрагмент инсталляции. 1915—1922. Ч. к.
235. Ф. Пикабиа. Любовный парад. 1917. Ч. к.
236. Ф. Пикабиа. Очень Редкая на Земле Картина. 1915. МСГ.
236. М. Дюшан. Вращающиеся стеклянные плоскости. 1922. Художественная коллекция Йельского университета, Нью-Хейвен.
237. Ф. Пикабиа. Ребенок-карбюратор. 1919. МСГ.
238. М. Дюшан. Шкатулка в чемодане. 1936—1941. НМСИ ЦП.
240. Дж. Де Кирико. Ностальгия поэта. 1914. МСГ.
241. Дж. Де Кирико. Портрет Г. Аполлинера. 1914. НМСИ ЦП.
242. Дж. Де Кирико. Загадка дня. 1914. МСИ.
243. Дж. Де Кирико. Красная башня. 1913. МСГ.
244. К. Карра. Две сестры. 1915. ХССВ.
244. К. Карра. Девушка с запада. 1919. ХССВ.
245. Дж. Моранди. Натюрморт. 1938. Галерея Крюгер-Дитесхайм, Женева.
245. Дж. Моранди. Натюрморт (Голубая ваза). 1920. ХССВ.
248. Обложка первого номера журнала «Дада». 1917.
249. Обложка третьего номера журнала «Дада». 1918.
250. X. Арп. Портрет Тцары. Рельеф. 1916. Музей искусства и истории, Женева.
250. Ман Рэй. Тристан Тцара. 1926.
251. Афиша «Первой выставки дада». 1917.
254. С. Тойбер-Арп. Голова дадаиста. 1918. Кунстхауз, Цюрих.
256. Р. Хаусман. Мысль нашего времени. Механическая голова. 1919. НМСИ ЦП.
256. Р. Хаусман. А. В. С. D. Коллаж. 1923. НМСИ ЦП.
257. X. Арп. Танцовщица. 1925. НМСИ ЦП.
258. К. Швиттерс. Мерц-картина 25 А. 1920. ХССВ.
259. К. Швиттерс. Дом маленького моряка. 1926. ХСВВ.
261. М. Эрнст. Слон Целебес. 1921. Галерея Тейт, Лондон.
263. Ман Рэй. Скрипка Энгра. 1924.
263. Ман Рэй. Автопортрет. 1932.
264. Ман Рэй. Сигареты. 1923.
264. Ман Рэй. Дом. 1931.
265. Ман Рэй. Жорж Брак. 1922.
265. Ман Рэй. Роз Сэлави (Rrose Selavy). 1921.
266. Ман Рэй. Черное и белое. 1926.
266. Ман Рэй. Молитва. 1930.
268. И. Бинг. Автопортрет с «Лейкой». 1931.
268. И. Бинг. Вид с Эйфелевой башни на Марсово поле. 1931.
269. Ф. Анри. Автопортрет. 1928.
269. Э. Атже. Магазин на авеню Гобелен. 1925.
270. А. Кертеш. Искажение № 60. 1933.
270. Брассаи. Клошары под Новым мостом. 1930—1933.
270. Брассаи. Женщина-амфора. 1935.
271. А. Кертеш. Тени Эйфелевой башни. 1929.
272. М. Эрнст. «Первому ясному слову» (Au Premier mot limpide). 1923. ХССВ.
272. И. Танги. Мебель времени. 1939. МСИ.
273. И. Танги. Вне (Dehors). 1929. Шотландская национальная галерея современного искусства, Эдинбург.
273. И. Танги. Я жду вас. 1934. Музей искусств, Лос-Анджелес.
274. А. Масон. Земля. 1939. МСИ ЦП.
274. А. Масон. Битва рыб. 1926. МСИ.
275. X. Миро. Живопись. 1925. МСГ.
275. X. Миро. Ритмические фигуры. 1934. ХССВ.
276. X. Миро. Мужчина и женщина. 1931. Ч. к.
276. X. Миро. Поэтический предмет. 1936. МСИ.
276. Р. Пенроуз. Последнее путешествие капитана Кука. 1936. Галерея Тейт, Лондон.
277. П. Рой. Опасность на ступенях. 1928. МСИ.
277. А. Бретон, Т. Тцара, В. Хъюго, Г. Кнутсен. Изысканный труп. Ок. 1933. МСИ.
278. X. Миро. Объект. 1937. НМСИ ЦП.
VI. «АКАДЕМИЧЕСКИЙ МОДЕРНИЗМ»
279. П. Мондриан. Вертикальная композиция с синим и белым. 1936. ХССВ.
281. М. Громер. Война. 1925. МСИгП.
288. С. Тойбер-Арп. Движущиеся круги. 1933. Художественный музей, Базель.
288. Р. Делоне. Кругообразные формы. 1930. МСГ.
289. Л. Мохой-Надъ. Конструкция А16. 1933—1934. Институт современного искусства, Валенсия.
289. Ф. Купка. Формы в киновари. 1931. Ч. к.
290. X. Арп. Скульптура, которая будет потеряна в лесу. 1932. МКМ
290. Р. Делоне. Ритм № 2. 1938. МСИгП.
290. Ф. Леже. Хвосты комет на черном фоне. 1930. Ч. к.
291. К. Кобро. Пространственная композиция 4. 1929. Художественный музей, Лодзь.
291. К. Кобро. Пространственная композиция 6. 1931. Художественный музей, Лодзь.
292. X. Торрес-Гарсиа. Композиция. Объект. 1931—1934. Институт современного искусства, Валенсия.
292. В. Стржемински. Архитектурная композиция 13. 1929. Художественный музей, Лодзь.
292. X. Стажевски. Абстрактная живопись. Ок. 1929. Художественный музей, Лодзь.
293. К. Швиттерс. Деревянная змея. 1937. Галерея Гмуржинской, Кёльн.
293. X. Хартунг. Композиция Т-1934-11. 19.33—1934. Ч. к., Париж.
294. X. Хартунг. Скульптура. 1938. Фонд X. Хартунга и Аны Евы Бергман.
294. Л. Фонтана. Абстрактная скульптура. 1934. Фонд Лючио Фонтана, Милан.
295. Л. Фонтана. Рельеф. 1934. Фонд Лючио Фонтана, Милан.
295. Г. Мур. Отверстие и выпуклость. 1934. Фонд Генри Мура.
296. А. Джакометти. Дворец в 4 часа утра. Объект. 1932—1934. МСИ.
296. Г. Мур. Полулежащая фигура. 1939. Институт искусств, Детройт.
297. А. Джакометти. Куб. 1933—1934. Фонд Maeght, Сен-Поль.
297. А. Джакометти. Идущая женщина. 1932—1934. Ч. к.
298. С. Домела. Рельеф № 12. 1933. МКМ.
298. К. Бранкузи. Белокурая негритянка. 1926. Музей Вильгельма Лембрука, Дуйсбург.
298. Н. Габо. Конструкция с камнем и целлулоидом. 1933 Ч. к.
299. А. Певзнер. Маска. 1923. НМСИ ЦП.
299. А. Певзнер. Конструкция. 1935. Институт современного искусства, Валенсия.
300. А. Калдер. Ловушка для раков и рыбий хвост. Мобиль. 1939. МСИ.
300. А. Калдер. Маленький шар с противовесом. 1931. Ч. к.
301. Ф. Радзивилл. Могила нигде. 1934. Ч. к.
302. Ф. Радзивилл. Стачка. 1930. Художественный и историко-культурный музей земли Северный Рейн—Вестфалия, Мюнстер.
302. К. Виллинк. Казнь. 1933. Собрание Калдик, Роттердам.
303. Э. Энде. Палатки. 1933. Наследие Э. Энде, Мюнхен-Франкфурт.
303. Э. Энде. Ладья. 1933. Музей Людвига, Кёльн.
303. А. Сантос. Мир. Национальный центр искусств королевы Софии, Мадрид.
304. Дж. Де Кирико. Конь и гладиаторы. Ок. 1930. МСИгП.
304. Дж. Де Кирико. Лошади, скачущие у моря. 1926. МКМ.
305. Шипионе. Апокалипсис. 1930. Городская галерея нового и современного искусства, Турин.
305. Шипионе. Католический принц. 1930. Музеи Ватикана.
306. Р. Хинкес. Губка горечи. 1934. Городской музей, Гаага.
307. С. Дали. Загадка Вильгельма Телля. 1930. Музей современного искусства, Стокгольм.
308. С. Дали. Постоянство памяти. 1931. МСИ.
309. С. Дали. Великий мастурбатор. 1929. Фонд С. Дали.
310. С. Дали. Градива находит антропоморфные руины. 1931. Коллекция Тиссен-Борнемисса.
312. Р. Магритт. Человек моря. 1926. КМИИБ.
312. Р. Магритт. Потерявшийся жокей (Le jockey perdu). 1926. Ч. к.
312. Р. Магритт. Угрожающее время. 1929. Шотландская национальная галерея современного искусства, Эдинбург.
313. В. Браунер. Фантомас. 1932. Музей современного искусства, Сент-Этьен.
314. Р. Магритт. Голос ветров. 1928. Ч. к.
315. Р. Магритт. Ключ к полям. 1936. Коллекция Тиссен-Борнемисса.
315. Р. Магритт. Попытка невозможного (La tentative de 1’impos-sible). 1928. Ч. к.
316. P. Олъце. Ежедневная пытка. 1934. ХССВ.
317. П. Делъво. Женщина в зеркале. 1936. Коллекция Тиссен-Борне-мисса.
317. Дж. О’Кифф. Абстракция. 1920. Коллекция Тиссен-Борнемисса.
318. М. Громер. Каноэ. 1930. МСИгП.
319. X. Грис. Дома в Париже. 1911. МСГ.
320. М. Бекман. Железный пешеходный мост. 1922. ХССВ.
320. М. Бекман. Парижская мечта. 1931. Ч. к.
321. А. Фридлендер. Туман в Бруклине. Офорт. 1939. Галерея Мэри Рэй-ен, Нью-Йорк.
321. Ч. Шилер. Верхняя палуба. 1929. Художественный музей Фогг, Кембридж, Массачусетс.
322. Б. Ермолаев. Улица в Володарском районе. 1935. ГРМ.
322. Ю. Щукин. Дирижабль над городом. 1933. ГРМ.
322. Э. Хоппер. Раннее воскресное утро. 1930. Музей американского искусства Уитни, Нью-Йорк.
323. Э. Хоппер. Разъезд в Манхэттене. 1928. Галерея американского искусства Эдисон академии Филипс, Андовер. Массачусетс.
323. Э. Хоппер. Комната в гостинице. 1931. Коллекция Тиссен-Борнемисса.
324. Э. Хоппер. Аптека. 1927. Музей изящных искусств, Бостон.
324. Э. Хоппер. Дом у железной дороги. 1925. МСИ.
325. М. "Утрилло. Улица Абесс. 1909. Ч. к.
325. М. Утрилло. Кабачок «Резвый кролик». 1913. Ч. к.
329. А. Марке. Набережная Лувра и Новый мост. 1906. ГЭ.
330. А. Марке. Нотр-Дам зимой. 1908. ГМИИ.
330. А. Марке. Дождливый день в Париже. Нотр-Дам. 1910. ГМИИ.
331. А. Марке. Новый мост под дождем. 1935. Ч. к.
333. А. Марке. Париж ночью. 1938. МСИгП.
334. М. Оппенгейм. Предмет (Завтрак в меху). 1936. МСИ.
335. У. Сиккерт. Прибытие мисс Эрхарт. 1932. Галерея Тейт, Лондон.
335. У. Сиккерт. Его величество король Эдуард VIII. 1936. Ч. к.
336. А. Матисс. Интерьер со скрипкой. 1917—1918. Королевский музей искусств, Копенгаген.
337. А. Матисс. Спящая фигура, голубой фон. 1935. НМСИ ЦП.
337. Ж. Руо. Христос и рыбаки. 1937. МСИгП.
338. А. Матисс. Розовая обнаженная. 1935. Музей искусств, Балтимор.
VII. ВРЕМЯ «ГЕРНИКИ»
339, 347. А. Фужерон. Испания-мученица. 1937. Собрание художника
341. К. Пермеке. Едок картофеля. 1935. КМИИБ.
342. К. Хофер. Кассандра. 1936. Городская галерея Морицбург, Галле.
342. К. Хофер. Перед руинами. 1937. Городское собрание, Кассель.
343. Ж. Виллон. Смех. 1936. МСИгП.
343. А. Дерен. Женевьева с яблоком. 1937—1938. Ч. к.
343. А. Дерен. Натюрморт с грушами. 1936. МСИгП.
344. С. Спенсер. Портрет двух обнаженных, художник и его вторая жена. 1936. Галерея Тейт, Лондон.
344. X. Грундиг. Борьба медведей и волков. 1938. Национальная галерея, Берлин.
345. С. Дали. Предчувствие гражданской войны. 1936. Музей искусств, Филадельфия.
346. С. Дали. Осенний каннибализм. 1936—1937. Галерея Тейт, Лондон.
347. С. Дали. Телефон-омар. Объект. 1936. Галерея Тейт, Лондон.
348. К. Бранкузи. Колонна без конца. 1937—1938. Tirgu Jiu, Париж.
348. О. Кокошка. Прага. Ностальгия. 1938. Ч. к.
349. В. Мухина. Рабочий и колхозница. 1935—1937.
351. П. Филонов. Портрет И. В. Сталина. 1936. ГРМ.
351. И. Бродский. Портрет И. В. Сталина. 1937. ГРМ.
352. А. Древин. Степной пейзаж с лошадью. 1933. ГРМ.
352. А. Дейнека. Текстильщицы. 1927. ГРМ.
353. А. Лабас. В кабине аэроплана. 1928. ГТГ.
353. А. Лабас. Дирижабль. 1931. ГРМ.
354. Л. Шервуд. Часовой. 1933. ГРМ.
355. Н. Томский. Памятник С. М. Кирову. 1936. Санкт-Петербург.
356. Г. Шегалъ. Вождь, учитель и друг. 1937. ГРМ.
356. В. Ефанов. Встреча артистов театра Станиславского с учащимися Военно-воздушной академии им. Н. Е. Жуковского. 1938. ГРМ.
357. Г. Клуцис. Плакат. 1932.
357. С. Христофоров. Плакат. 1934.
362, 364. А. Герасимов. Сталин и Ворошилов в Кремле. 1938. ГТГ.
365. А. Шайхет. Лампочка Ильича. 1926.
367. А. Самохвалов. Девушка в футболке. 1932. ГРМ.
368. Молодежь — на самолеты. Плакат.
371. X. Ланцингер. Знаменосец. Центр военной истории армии Соединенных Штатов, Вашингтон.
372. Ж. Доттори. Портрет Дуче. 1933. Государственный музей современного искусства, Милан.
372. Ч. Андреони. Черные стрелы. Ок. 1938. Государственный музей современного искусства, Милан.
373. Р. Дюфи. Фея электричества. Эскиз панно. 1936. Ч. к.
374. Ф. Леже. Высоковольтная линия. Эскиз панно для Всемирной выставки. Гуашь. 1937. Национальный музей Фернана Леже, Бьот.
375. П. Пикассо. Женщина на пляже. 1930. МСИ.
376. П. Пикассо. Сидящая обнаженная. 1933. ХССВ.
376. П. Пикассо. Женская голова. 1939. Музей Пикассо, Париж.
378. М. Шагал. Революция. 1937. НМСИ ЦП.
378, 379, 380, 381. П. Пикассо. Герника. 1937. Прадо, Мадрид.
383. Р. Магритт. Черный флаг. 1937. Шотландская национальная галерея современного искусства, Эдинбург.
384. Р. Магритт. Настоящее. 1938. Ч. к.
386. М. Эрнст. Домашний ангел. 1937. Ч. к.
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН*
АБАДИ (Abadie) Поль (1812—1884) — французский архитектор 33, 38
АДАН (Adam) Поль (1862—1920) — французский писатель 63
АДЛИВАНКИН Самуил Яковлевич (1897—1966) — русский художник.
Член-учредитель общества НОЖ 366
АЛЬТМАН Натан Исаевич (1889—1970) — русский художник 166
АМБРОЗИ (Ambrosi) Альфредо (1901—1945) — итальянский художник, один из первых футуристов, занимавшихся аэроживописью 370
АМИЕТ (Amiet) Куно — швейцарский художник, член группы «Мост» 157
АНДРЕЕВ Леонид Николаевич (1871—1919) — русский писатель 32
АНДРЕЕВ Николай Алексеевич (1873—1932) — русский скульптор, ученик П. Трубецкого. Автор памятников В. И. Ленину, А. Островскому и др. 359
АНДРЕОНИ (Andreoni) Чезаре (1903—1961) — итальянский художник 372
АННЕНСКИЙ Иннокентий Федорович (1856—1909) — русский поэт, эссеист, критик 149
АНРИ (Henry) Флоранс (1893—1982) — французский живописец и фотограф, училась в Париже, в Баухаузе. С конца 1920-х годов занимается фотографией 267, 269
АНТУАН (Antoine) Андре (1858—1943) — французский актер и режиссер 31, 46
АПОЛЛИНЕР (Apollinaire) (Костровицкий) (1880—1918) Гийом — французский поэт, эссеист, художественный критик, один из идеологов «Парижской школы». Родился в Польше, учился, жил и работал во Франции, писал по-французски 14, 17, 20, 24, 25, 31—33, 37, 41, 54, 98, 100, 101, 125—127, 145, 146, 152, 193, 240, 247, 250, 251, 268, 269
* Имена художников выделены синим цветом. Курсивом в текстах аннотаций выделены имена, включенные в указатель. О художниках, которым посвящены относительно подробные тексты в книге, в указателе дается минимальная информация.
АРАГОН (Aragon) Луи (1897—1982) — французский писатель 76, 259, 264, 265, 306
АРИСТОТЕЛЬ (Aristoteles) (384—322 до н. э.) — древнегреческий философ 11
АРМАН (Arman) (Арман Фернандес) (р. 1928) — французский художник. С 1972 года — гражданин США 389
АРНЦ (Arntz) Герд (1900—1988) — немецкий художник 287
АРП (Агр) Ханс (Жан) (1886—1966) — французский (эльзасский) скульптор и график, литератор. Учился в Веймаре и Париже. Сотрудничал с группой «Синий всадник». Активный участник дадаистского движения в Цюрихе, где декорировал кабаре Вольтер. В 1922 году женился на Софи Тойбер. С 1924 года участвовал в выставках сюрреалистов, с 1931-го — сближается с группой «Абстракция-творчество». Работы в основном нефигуративные, нередко биоморфны 247, 248, 250-253, 257, 259, 272, 273, 289, 290, 292, 294, 385
АРХИПЕНКО Александр Порфирьевич (1887—1964) — русский скульптор, работавший во Франции, Германии и США. Учился в Киеве. Один из основателей кубистической скульптуры. Жил в Париже, участник группы «Золотое сечение». С 1923 года — в США. Преподавал в собственных художественных школах, во многих американских университетах 41, 100, 104—106, 136, 166, 228, 231, 253
АТЖЕ (Atget) Эжен (1857—1927) — французский фотограф 268, 269
АШБЕ (Azbe) Антон (1862—1905) — словенский художник. Работал в Германии. Широкую известность приобрела его педагогическая деятельность и художественная школа, открытая им в Мюнхене в 1891 году 159, 164
БААДЕР Иоханес (1875—1956) — немецкий архитектор, писатель, член берлинского клуба «Дада». Один из основоположников фотомонтажа 254
БАБЕЛЬ Исаак Эммануилович (1894—1940) — русский писатель 283
БАКСТ Лев Самойлович (1866—1924) — русский художник 45, 83, 189
БАЛЛА (Balia) Джакомо (1871—1958) — итальянский художник, один из основателей футуризма. Учился в Турине, с 1895 года работал в Риме, в 1900—1901 годах побывал в Париже, прошел короткий период увлечения дивизионизмом. Один из основателей аэроживописи. С 1933 года возвращается к фигуративизму 130, 133, 189, 229
БАЛЛЬ (Ball) Хуго (1885—1927) — немецкий литератор, режиссер 248, 249, 250
БАЛЬЗАК (Balzac) Оноре де (1799—1850) — французский писатель 47, 49, 50, 59, 167
БАЛЬМОНТ Константин Дмитриевич (1867—1942) — русский поэт-символист 119
БАРАНОВ-РОССИНЕ Владимир (Лев Давыдович Баранов) (1888—1944) — русский скульптор, живописец, автор объектов. Учился в Одессе
и Петербурге. В Париже выставлялся в Салоне независимых. После революции преподавал во ВХУТЕМАСе, с 1925 года — в Париже. Арестованный гестапо, погиб в концентрационном лагере 41, 255
БАРЛАХ (Barlach) Эрнст (1870—1938) — немецкий скульптор, гравер, литератор. Учился в Гамбурге, Дрездене, Париже. В 1909 году побывал в России. Автор монументальных скульптур. Активно выступал против нацизма 232
БАРНС (Barnes) Альберт (1872—1951) — американский коллекционер, собиравший произведения импрессионистов. Его дом в Мерионе в настоящее время является музеем 170
БАХ (Bach) Иоганн Себастьян (1685—1750) — немецкий композитор и органист 122, 128, 173
БАХТИН Михаил Михайлович (1895—1975) — русский филолог, литературовед 293
БЁКЛИН (Bdklin) Арнольд (1827—1901) — швейцарский художник, автор символистских, салонных, весьма модных в конце XIX — начале XX веков картин 44—46, 63, 64, 70, 240
БЕКМАН (Beckmann) Макс (1884—1950) — немецкий живописец, график, скульптор. Учился в Веймаре и Париже. Член Берлинского Сецессиона, был близок к «Синему всаднику». Прошел путь от наивного символизма к «новой вещественности» и монументальным постэкспрессионистическим исканиям. В 1937 году эмигрировал в Амстердам, в 1947 году — в США 287, 319, 320
БЕЛЛОУЗ (Bellows) Джордж (1882—1925) — американский художник. Учился в Нью-Йорке. Один из основателей «Школы мусорного ящика» (Ash-Can School) и организаторов «Армори-шоу» 165
БЕЛЫЙ Андрей (Бугаев Борис Николаевич) (1880—1934) — русский писатель 340
БЕНЛЬЮРЕ (Benlliurey Gil) Мариано (1862—1946) — испанский скульптор 50
БЕНУА Александр Николаевич (1870—1960) — русский художник, историк искусства, художественный критик. Один из основателей журнала и группы «Мир искусства». С 1926 года жил в Париже 189
БЕОТИ (Beothy) Эжен (Иштван) (1897—1961) — венгерский скульптор и теоретик искусства, работал в Париже. Учился в Будапеште. Один из соучредителей группы «Абстракция-творчество», автор биомор-фных скульптур из эффектных сложных материалов и книг по теории искусства 293
БЁРДСЛИ (Beardsley) Обри (1872—1898) — английский художник 64, 70
БЕРДЯЕВ Николай Александрович (1874—1934) — русский философ 93, 100
БЕРЛАГЕ (Berlage) Хэдрик Петрус (1856—1934) — голландский архитектор 38
БЕРНАР (Bernard) Эмиль (1868—1941) — французский художник, критик, литератор 54, 390
БЕРНХЕЙМ (Bernheim) Гастон Младший (1870—1953) — совладелец фирмы Бернхеймов, занимавшейся торговлей картинами 84, 130, 232
БИЛИБИН Иван Яковлевич (1876—1942) — русский художник 189
БИНГ (Bing) Ильэе (1899—1998) — немецкий фотограф. С 1930 года работает в Париже. После войны — в США 267
БЛЕЙК (Blake) Уильям (1757—1827) — английский поэт и художник 261
БЛЕИЛЬ (Bleyl) Фриц — немецкий художник, участник группы «Мост» 157
БЛОК Александр Александрович (1880—1921) — русский поэт 26, 31, 35, 76, 119, 169, 390
БЛОК (Block) Марк (1886—1944) — французский историк 12
БОДЛЕР (Baudelaire) Шарль (1821—1867) — французский поэт, художественный критик 27, 31, 32, 41, 59, 78, 97, 169, 224, 232
БОННАР (Bonnard) Пьер (1867—1947) — французский художник. Учился в Школе изящных искусств и в академии Жюлиана в Париже. Один из основателей группы «Наби» 46, 47, 202
БОРИСОВ-МУСАТОВ Виктор Эльпидифорович (1870—1905) — русский художник 64, 72, 159
БОСХ (Bosch) Иероним (ок. 1460—1516) — нидерландский художник 303
БОЧЧОНИ (Boccioni) Умберто (1882—1916) — итальянский художник, один из основателей футуризма. Учился в Риме, посещал мастерскую Баллы, как и он, увлекался дивизионизмом, особенно работами Сёра. В 1911 году в Париже сближается с кубистами 17, 130, 131, 133, 229, 239, 247, 395, 396
БРАК (Braque) Жорж (1882—1963) — французский живописец, график и скульптор. Учился в Школах изящных искусств в Гавре и Париже. Один из основателей кубизма 41—43, 81, 96, 98, 100, 101, 159, 174, 189, 231, 267
БРАНКУЗИ (Brancusi) Брынкуши (Brncusi, Brncuei) Константин (1876— 1957) — румынский скульптор, работал во Франции. Учился в художественной школе в Крайове, затем в Бухаресте. С 1904 года— в Париже. Участник «Армори-шоу». Первая персональная выставка в 1914 году. Работал также в Индии, Румынии, США. Его мастерская передана в Центр Жоржа Помпиду 41, 50, 82, 84, 102—107, 136, 137, 262, 294, 297, 298, 347, 348
БРАССАИ (Brassai) Дьюла Халлаш (1899—1984) — венгерский фотограф, известный своими парижскими репортажными снимками, а также фотографиями сюрреалистических скульптур, иногда в специальных ракурсах, удвоении и т. д. 268, 270
БРАУНЕР (Brauner) Виктор (1903—1966) — румынский художник. Учился в Бухаресте, работал в основном в Париже, где примкнул в 1932 го
ду к сюрреалистам. Предложил в искусстве метод «пиктопоэзии» 312, 313
БРЕЙГЕЛЬ (Bruegel, Breughel, Brueghel) Питер (ок. 1525/1530-1569) -нидерландский художник 12, 56
БРЕТОН (Breton) Андре (1896—1966) — французский литератор, глава и теоретик сюрреалистического движения 175, 236, 246, 254, 255, 259, 260, 262, 263, 267-270, 274, 277, 278, 283, 304, 306, 317, 383
БРЕТОН (Breton) Жюль-Луи (1872—1940) — французский политический деятель 102
БРОДСКИЙ Исаак Израилевич (1883—1939) — русский художник, автор многочисленных официальных портретов советских политических деятелей 351, 359, 360
БРЮСОВ Валерий Яковлевич (1873—1924) — русский писатель 107
БУАЛО (Boileau) Луи Огюст (1812—1896) — французский архитектор 34
БУДЕННЫЙ Семен Михайлович (1883—1973) — военачальник, маршал Советского Союза 368
БУЛГАКОВ Михаил Афанасьевич (1891—1940) — русский писатель 283
БУЛГАКОВ Сергий (Сергей Николаевич) (1871—1944) — русский религиозный философ, теолог, экономист 93
БУНИН Иван Алексеевич (1870—1953) — русский писатель 30—32, 283, 333
БУНЬЮЭЛЬ (Bunuel) Луис (1900—1983) — испанский кинорежиссер 283, 286, 304
БУРДЕЛЬ (Bourdelle) Эмиль Антуан (1861—1929) — французский скульптор, живописец, график. Учился в Школах изящных искусств в Тулузе и Париже. Работал у Фальгиера, Далу, Родена 12, 15, 49—51, 105, 141, 295
БУРЖУА (Bourgeois) Пьер (1897—1971) — директор Швейцарской национальной библиотеки в Берне 311
БУРЛЮК Давид (1882—1967) — русский художник, писатель, наиболее известный представитель семьи Бурлюков, один из организаторов и идеологов русского кубофутуризма 84, 159, 189—191, 194
БУШЕ (Boucher) Альфред (1850—1934) — французский скульптор 42
БЭКОН (Bacon) Фрэнсис (1909—1992) — английский художник 12, 167, 385
ВАГНЕР (Wagner) Рихард (1813—1883) — немецкий композитор, дирижер 159, 176
ВАЛАДОН (Valadon) Сюзанна (1865—1938) — французская художница, мать М. Утрилло 42
ВАЛЕРИ (Valery) Поль (1871—1945) — французский писатель, художественный критик 51
ВАЛЛОПОН (Vallotton) Феликс-Эдуард (1865—1925) — швейцарский художник 46
ВАЛЬДЕН (Walden) Герварт (1878—1941) — немецкий писатель и критик 145
ВАН ГОГ (van Gogh) Винсент (1853—1890) — голландский художник, постимпрессионист 76, 25, 30, 40, 43, 50, 54, 57, 58, 62, 72, 76, 78, 128, 133, 143, 153-156, 160, 161, 164, 167, 173, 192, 210, 261, 326, 341, 349, 373
ВАН ДОНГЕН (Van Dongen) Кес (Корнелис Теодорус Мария) (1877—1968) — голландский художник, участник группы фовистов. После войны писал главным образом портреты 42, 78, 81, 100, 157, 189
ВАНТОНГЕРЛОО (Vantongerloo) Жорж (1886—1965) — бельгийский живописец, скульптор, архитектор и теоретик искусства. Учился в Антверпене и Брюсселе, с 1931 года — в Париже. Соучредитель групп «Стиль» и «Абстракция-творчество». Писал плоскостные геометрические композиции, в конце жизни много занимался скульптурой, изготовленной из разнообразных материалов 290, 291
ВАРНО (Warnod) Андре — французский художественный критик, автор термина «французская школа» 389
ВАСИЛЬЕВА Мария Михайловна (1884—1957) — русская художница, жившая во Франции 41, 42
ВАПО (Watteau) Антуан (1684—1721) — французский художник 91, 327
ВЕБЕР (Weber) Макс ( 1881—1961) — американский художник 41
ВЕГЕНЕР (Wegener) Пауль (1874—1948) — немецкий актер театра и кино 283
ВЕЙЛЬ (Weill) Берта — французский галерист. Первую галерею открыла в Париже в 1890 году 42, 52, 78
ВЕЛДЕ (van de Velde) Хенри (Анри) ван де (1863—1957) — бельгийский архитектор, мастер декоративного искусства. Один из родоначальников стиля ap-HVBO (модерн) 38, 39
ВЁЛЬФЛИН (Wolfflin) Генрих (1864—1945) — швейцарский искусствовед 117
ВЕРЕВКИНА (Werefkin) Марианн фон (Мария Владимировна) (1860— 1938) — русская художница, училась в Москве, Санкт-Петербурге, Мюнхене. Став подругой Явленского, почти перестала писать. Выставлялась с «Синим всадником», организовала в Берлине художественную группировку «Большой медведь» (Der Grosse Ваг). Ее живопись близка к живописи Кандинского мурнауского периода 158, 159, 248
ВЕРЛЕН (Verlain) Поль (1844—1896) — французский поэт 32
ВЕРН (Verne) Жюль (1828—1905) — французский писатель 37
ВЕРТОВ Дзига (Денис Аркадьевич Кауфман) (1895/96—1954) — русский кинорежиссер 285, 357, 358
ВЕСНИН Александр Александрович (1883—1959) — русский архитектор, художник 195
ВИЛИНК (Willink) Карел (1900—1983) — голландский художник. Один из основных представителей «магического реализма» в Голландии. Сочетал фотографическую точность с классической традицией и устремленностью к провидческим мотивам 300, 302
ВИЛЛОН (Villon) Жак (Гастон ДЮШАН) (1875—1963) — французский художник, брат М. Дюшана. В молодости занимался журнальной графикой. Один из основателей «Золотого сечения» (1911), участник «Армори-шоу». Начав с кубизма, пришел к нефигуративной живописи, писал однако и почти традиционные, хотя и «ограненные» отвлеченной пластической схемой портреты 99, 230, 290, 342, 343
ВИНЕ (Wiene) Роберт (1881—1938) — немецкий кинорежиссер 156, 283
ВЛАМИНК (Vlaminck) Морис де (1876—1958) — французский художник.
Участник группы «диких» 78, 81, 82, 189
ВО (Waugh) Ивлин (1902—1966) — английский писатель 283
ВОКСЕЛЬ (Vauxelles) Луи Мейер (1870—1943) — французский художественный критик 79
ВОЛЛАР Амбруаэ (1868—1939) — французский маршан, галерист 42, 52, 53, 77, 78, 82, 89, 98, 195
ВОЛОШИН Максимилиан Александрович (1877—1932) — русский писатель, художник 70
ВОРОШИЛОВ Климент Ефремович (1881—1969) — советский военачальник 360, 361, 362
ВОРРИНГЕР (Worringer) Вильгельм (1881—1965) — немецкий искусствовед 155
ВРУБЕЛЬ Михаил Александрович (1856—1910) — русский художник 27, 44, 45, 63— 72, 94, 115, 186, 193, 390
ВЫГОТСКИЙ Лев Семенович (1896—1934) — русский психолог 11, 20, 200, 282
ВЮЙЯР (Vuillard) Эдуард (1868—1940) — французский художник, учился в Париже, работал как иллюстратор для «Revue blanche». Один из основателей группы «Наби» 46, 47
ГАБО (Певзнер) Наум Борисович (1890—1977) — русский скульптор, сценограф, младший брат Натана (Антуана) Певзнера. Учился в Мюнхене естественным наукам и у Вёлъфлина истории искусства. Работал в Норвегии, в России (1917—1922), в Берлине, Париже, Лондоне и США. Был увлечен отношением формы и пространства, автор многих абстрактных композиций, в которых в сороковые годы использовал нейлоновые нити. В 1927 году работал для дягилевского балета 298
ГАДАМЕР (Gadamer) Ханс Георг (1900—?) — немецкий философ 10, 225, 335
ГАЗДАНОВ Гайто (1903—1971) — русский писатель 330
ГАЛЛИБЕР (Gallibert) Женевьева ( 1888—?) — французская художница, пейзажистка. Участвовала в росписи павильона «Воздухоплавание» на Всемирной выставке 1937 года в Париже 372
ГАРНЬЕ (Garnier) Шарль (1825—1898) — французский архитектор 36
ГАРСИЯ ЛОРКА (Garcia Lorca) Федерико (1898—1936) — испанский поэт и драматург 304, 345
ГАРТМАН Фома Александрович (1883—1959) — русский композитор, пианист 109
ГАУДИ (Gaudi у Cornet) Антонио (1852—1926) — испанский архитектор 84, 87
ГАШЕК (Наек) Ярослав (1883—1923) — чешский писатель 283
ГЕ Николай Николаевич (1831—1894) — русский художник 184
ГЕББЕЛЬС (Goebbels) Йозеф (1897—1945) — нацистский политический деятель 349
ГЕЙНЕ (Heine) Генрих (1797—1856) — немецкий писатель 160, 163
ГЕНЕРАЛИЧ (Generalic) Иван (р. 1914) — хорватский художник-примитивист 45
ГЕРАСИМОВ Александр Михайлович (1881—1963) — русский художник 362-364
ГЕРАСИМОВ Сергей Васильевич (1885—1964) — русский художник 365
ГЕРРИ (Guerry) Лилиан — французский искусствовед, автор книг о пространстве у Сезанна, по истории перспективы, об итальянской живописи 58
ГЕССЕ (Hesse) Герман (1877—1962) — немецкий (швейцарский) писатель 33, 108—110, 113, 117—119, 121, 122, 148, 158, 174-177, 179, 182, 233, 247, 262, 283, 284, 351
ГЁТЕ (Goethe) Иоганн Вольфганг (1749—1832) — немецкий писатель 160
ГЕФТЕР Михаил Яковлевич (1918—1994) — русский историк 353
ГИМАР (Guimard) Эктор (1867—1942) — французский архитектор 32, 33, 39
ГИС (Guys) Константен (1902—1945) — французский художник 81, 162, 326, 327
ГИТЛЕР (Hitler) Адольф (1889—1945) — нацистский политический деятель 286, 349, 362, 370
ГЛЕЗ (Gleizes) Альбер (1881—1953) — французский художник и писатель. Выставлялся с кубистами, член группы «Золотое сечение». Вместе с Метценже опубликовал книгу «О кубизме» (1912) 17, 41, 98, 100, 189, 190, 208
ГОГЕН (Gauguin) Поль Эжен Анри (1848—1903) — французский художник. Глава понт-аввенской школы 40, 43, 46, 47, 59, 63, 64, 68, 82, 161, 164, 194, 326
ГОГОЛЬ Николай Васильевич (1809—1852) — русский писатель 65, 149, 184
ГОЙЯ И ЛУСИЕНТЕС (Goya у Lucientes) Франсиско Хосе де (1746—1828) — испанский художник 9, 12, 50, 56, 57, 146, 148, 170
ГОЛЛЬ (Goll) Иван (1891—1950) — франко-немецкий писатель. Настоящее имя — Исаак Ланг 174
ГОЛОВИН Александр Яковлевич (1863—1930) — русский живописец и театральный художник 149
Г0Л0МШТ0К Игорь Наумович — русский историк искусства 370, 399
ГОЛСУОРСИ (Galsworthy) Джон (1867—1933) — английский писатель 33
ГОЛЬДШМИДТ Роберт — бельгийский инженер и коллекционер 391
ГОНСАЛЕС (Gonzalez) Хоан (1868—1908) и Хулио (1876—1946) — испанские художники 41
ГОНЧАРОВА Наталия Сергеевна (1881—1962) — русский живописец, график, сценограф. Жена М. Ларионова. Училась в Москве по классу скульптуры. Обладая мощной индивидуальностью, опираясь на традиции русской средневековой живописи, отдала дань кубизму, футуризму. С 1915 года в Париже, работала для «Русского балета» Дягилева 41, 44, 45, 76, 114, 132, 148, 154, 188—191, 194, 195, 208
ГОРЬКИЙ Максим (Алексей Максимович Пешков) (1868—1936) — русский писатель 33, 360
ГОТЬЕ (Gotier) Теофиль (1811—1872) — французский писатель, критик 34
ГОФМАН (Goffmann) Эрнст Теодор Амадей (1776—1822) — немецкий писатель-романтик, композитор, художник 159, 174, 261, 313
ГРАБАРЬ Игорь Эммануилович (1871—1960) — русский художник и искусствовед 159
ГРАНЕ (Granet) Франсуа-Мариус (1775—1849) — французский художник 323
ГРИС (Gris) Хуан (Хосе Викториано Гонсалес) (1887—1927) — испанский художник, учился в Мадриде. С 1906 года — во Франции, с 1910 года писал в традиции кубизма. В начале 1920-х годов был декоратором «Русского балета» Дягилева 41, 42, 96, 98—100, 123, 128, 319
ГРИФФИТ (Griffith) Дэвид (1872—1948) — американский кинорежиссер 25
ГРОМЕР (Gromaire) Марсель (1892—1971) — французский художник. Учился в Париже (в частных студиях на Монпарнасе) и в Мадри
де. С 1906 года в Париже. Был близок с кубистами. Первая персональная выставка в галерее «Единорог» в 1921 году. Принимал участие в декорировании Всемирной выставки 1937 года. Делал вместе с Люрса рисунки для гобеленов 20, 280—282, 287, 318, 340, 372
ГРОПИУС (Gropius) Вальтер (1883—1969) — немецкий архитектор, дизайнер и теоретик архитектуры 176, 288, 383
ГРОС (Grosz) Георг (1893—1959) — американский художник немецкого происхождения 164, 207, 246, 254, 377, 398
ГРОССБЕРГ (Grossberg) Карл (1894—1940) — немецкий художник. Изучал архитектуру в Аахене и Дармштадте. После войны учился в Баухаузе. Участник выставки «Новая вещественность» в Амстердаме (СМ), получал заказы от Министерства пропаганды 318
ГРОТ (Groth) Герда — подруга и помощница Сутина, прозванная им «Мадмуазель Гард» (Хранительница) 171
ГРУНДИГ (Grundig) Ханс (1901—1958) — немецкий художник 344
ГРЭЙ (Gray) Камилла (?—1971) — американский историк искусства 192, 394
ГРЮНЕВАЛЬД (Grunewald) Матис Готхарт-Нитхарт (1445/55 или 1475/80— 1528 или 1531/32) — немецкий художник 155
ГУГЕНХЕЙМ (Guggenheim) Соломон (1861—1949) — американский предприниматель и коллекционер 121
ГУРО Елена Генриховна (Элеонора де Нотенберг) (1877—1913) — русская художница 189
ДАВИД (David) Жак Луи (1748—1825) — французский художник 40, 359
ДАГЕР (Daguerre) Луи-Жак Манде (1787—1851) — французский художник, изобретатель фотографии 226
ДАЛИ (Dali) Сальвадор (1904—1989) — испанский художник. Учился в Мадриде. Увлекался теорией Фрейда. С 1929 года в Париже. Примкнул к сюрреалистам. Культовая фигура «массового сюрреализма» 151, 152, 180, 240, 260, 265, 268, 275, 286, 304-311, 317, 345-347, 383, 387
Д'АННУНЦИО (D'Annunzio) Габриеле (1863—1938) — итальянский писатель и общественный деятель 31
ДАНТЕ (Dante) Алигьери (1265—1321) — итальянский поэт 167
ДЕБЮССИ (Debussy) Клод (1862—1918) — французский композитор 250
ДЕГА (Degas) Эдгар (1834—1917) — французский живописец, график, скульптор. Учился в Школе изящных искусств. Один из предшественников и вдохновителей импрессионизма 40, 41, 43, 88, 137, 162, 382, 395
ДЕЙНЕКА Александр Александрович (1899—1969) — русский художник 217, 352, 359, 364
ДЕ КИРИКО (De Chirico) Джорджо (1888—1978) — итальянский художник и поэт. Учился в Мюнхене. В Париже сблизился с кубистами. Ос
новоположник и глава метафизической школы 9, 19, 152, 207, 239— 243, 246, 251, 257, 272, 300, 304, 311, 316
ДЕЛАКРУА (Delacroix) Эжен (1798—1863) — французский художник 16, 40, 386
ДЕЛАРОШ (Delaroche) Поль (Ипполит) (1797—1856) — французский художник 40, 309, 386
ДЕЛЕКТОРСКАЯ Лидия Николаевна (1910—1998) — секретарь и друг А. Матисса 336
ДЕЛОНЕ (Delaunay) Робер (1885—1941) — французский художник. Учился в Школе театрально-декоративного искусства в Бельвиле. С 1910 года отдает дань кубизму, вскоре создает беспредметные композиции. Совместно с С. Делоне — основатель орфизма 20, 37, 41, 62, 84, 100,112—114, 123, 125, 126, 132, 159, 166, 174, 175, 226, 288, 290, 319, 372
ДЕЛОНЕ (Delaunay) Соня Терк (Сара Ильинична Штерн) (1885—1979) — русская художница, модельер. Работала во Франции (с 1905). Училась в Карлсруэ и Париже. Вслед за своим мужем Р. Делоне развивалась в сторону абстрактной живописи, увлекалась передачей движения и света. Занималась моделированием «симультанных платьев» 372
ДЕЛЬВО (Delvaux) Поль (1897—1994) — бельгийский живописец. Окончил Академию художеств в Брюсселе, находился под влиянием К. Пермеке. В его искусстве много от сюрреализма, соединенного с пряной фантазией, тонким колоризмом и своеобразной печальной поэзией. Пластическая манера отчасти перекликается с жесткой и застылой стилистикой метафизической живописи 19, 315—317
ДЕНИ (Denis) Морис (1870—1943) — французский художник. Учился в академии Жюлиана и в Школе изящных искусств в Париже. Один из основателей и теоретик группы «Наби» 46, 47, 53, 56, 63, 79
ДЕРЕН (Derain) Андре (1880—1954) — французский живописец, график, скульптор, сценограф, керамист. Учился у Э. Карьера и в академии Жюлиана. В 1905 году выступил вместе с фовистами 9, 49, 62, 65, 78, 80—82, 103, 156, 159, 318, 325, 342, 343
ДЖАКОМЕТТИ (Giacometti) Альберто (1901—1966) — швейцарский скульптор и живописец. Учился в Женеве. В Париже — у Бурделя. В начале 1930-х годов сблизился с сюрреалистами. Работал во Франции и США 19, 295—297, 385, 387
ДЖЕЙМС (James) Уильям (1842—1910) — американский философ и психолог 146
ДЖОЙС (Joys) Джеймс (1882—1941) — ирландский писатель 33, 63, 262, 283
ДЖОТТО (Giotto) ди Бондоне (1266/67?—1337) — итальянский художник 244, 245
ДЗАНЕЛЛИ (Zanelli) Анджело (1879—?) — итальянский скульптор 50
ДЗИГАН Ефим Львович (1898—1981) — русский кинорежиссер 368
ДИКС (Dix) Отто (1891—1969) — немецкий художник. Учился в Дрездене, после войны — в Дюссельдорфе. Близок к экспрессионистической манере. Участвовал в выставке группы «Новая вещественность» 164, 280
ДОБУЖИНСКИЙ Мстислав Валерианович (1875—1957) — русский художник 216
ДОБЫЧИНА Надежда Евсеевна (1884—1940) — организатор Художественного бюро на Марсовом поле, устроитель выставок русского авангарда, в том числе «Последней футуристической выставки картин 0,10» 198
ДОМЕЛА (Domela) Сезар (1900—1992) — голландский художник. Самоучка, работал в Берлине и Париже, занимался фотомонтажом, скульптурой (объекты), примыкал к объединению «Абстракция-творчество». Покинув Берлин, работал в Париже. Был увлечен русским конструктивизмом 297, 298
ДОМИНГЕС (Dominguez) Оскар (1906—1957) — испанский художник. Самоучка. Работал во Франции, активный участник сюрреалистического движения, ставил эксперименты с «автоматическим письмом». Первая персональная выставка в Тенерифе в 1932 году. Покончил с собой в Париже 303
ДОМЬЕ (Daumier) Оноре (1808—1879) — французский художник 40, 88, 89, 138, 326, 327, 332, 386
ДОНАТЕЛЛО (Donatello) (1386—1466) — итальянский скульптор. Настоящее имя — Донато ди Никколо ди Бетто Барди 79
ДОС ПАССОС (Dos Passes) Джон (1896—1970) — американский писатель 262, 281, 283—285, 320, 321, 330
ДОСТОЕВСКИЙ Федор Михайлович (1821—1881) — русский писатель 14, 25, 27, 62, 65, 69, 145, 149, 159, 184-188, 211, 261, 388, 390
ДОТТОРИ (Dottori) Жерардо (1884—1977) — итальянский художник, в годы фашизма работал в официально одобренном стиле аэроживописи, писал портреты Муссолини 370, 372
ДРАЙЗЕР (Dreiser) Теодор (1871—1945) — американский писатель 283
ДРЕВИН (Древиньш) Александр (Рудольф) Давидович (1889—1938?) — русский художник 349, 352
ДУНИКОВСКИЙ (Dunikowski) Ксаверий (1875—1964) — польский скульптор. Учился в Кракове, в 1914—1923 годах работал в Париже 41, 43
ДЮЛАК (Dulac) Жермен (1882—1942) — французский режиссер, сценарист, теоретик кино. Настоящее имя — Сессе-Шнайдер. Пробовала создавать беспредметные фильмы 398
ДЮМА (Dumas) Александр (Дюма-сын) (1824—1895) — французский писатель 36
ДЮМОН (Dumont) Пьер (1884—1936) — французский художник и художественный критик 700
ДЮРАН-РЮЭЛЬ (Durand-Ruel) Поль (1831—1922) — французский маршан 42
ДЮРЕР (Durer) Альбрехт (1471—1528) — немецкий художник 155
ДЮСБУРГ (Doesburg) Тео Ван (1883—1931) — немецкий художник 127
ДЮТЕР (Dutert) Фердинанд (1845—1906) — французский архитектор 39
ДЮФИ (Dufy) Рауль (1877—1953) — французский живописец, график, сценограф, керамист. Учился в Школах изящных искусств в Гавре и Париже. Участник группы «диких». В 1920-е годы формирует свой особый стиль, отмеченный внешней легкостью мотивов, соединенной с нервической сухостью форм и нежной энергичной живописью, точностью. Автор росписи «Фея электричества» на Всемирной выставке 1937 года 42, 73, 78, 81, 82, 218, 372, 373, 382
ДЮШАН (Duchamp) Марсель (1887—1968) — французский художник, автор объектов, инсталляций. Учился в Школе изящных искусств в Париже. Предвестник постмодернистских творческих принципов, автор первых «Readymades» 72, 14, 15, 17—19, 25, 41, 55, 98, 99, 115, 121, 133, 134, 182, 196, 201, 208, 221, 226, 228-238, 249, 252, 254-259, 263—267, 269, 272, 273, 386, 396, 397
ДЯГИЛЕВ Сергей Павлович (1872—1929) — русский художественный деятель, организатор выставок, театральных антреприз, балетных трупп и т. д. 30, 45, 83, 159, 186, 199
ЕРМОЛАЕВ Борис Николаевич (1903—1983) — русский художник 321, 322, 360
ЕРМОЛАЕВА Вера Михайловна (1893—1938) — русский художник 349
ЕФАНОВ Василий Прокофьевич (1900—1978) — русский художник 356, 361, 363
ЖАКОБ (Jacob) Макс (1876—1944) — французский писатель и художник. Писал гуаши — театральные сцены и виды Парижа 8, 10, 41, 42, 100, 105, 142, 250
ЖАН ПОЛЬ Иоганн Паулс (1763—1825) — немецкий писатель. Настоящая фамилия — Рихтер 160
ЖАРРИ (larry) Альфред (1873—1907) — французский писатель 32, 250
ЖЕРИКО (Gericault) Теодор (1791—1824) — французский художник 40, 386
ЖЕФФРУА (Geffroy) Гюстав (1855—1926) — французский писатель 53
ЖИД (Gide) Андре (1869—1951) — французский писатель 31, 32, 79, 283, 286, 372
ЖИРО (Girault) Шарль (1851—1933) — французский архитектор 39
ЖОРЖ (George) Вольдемар (Ежи Вальдемар Яросински, Jarocinsky) (1893— 1970) — французский писатель и художественный критик, выходец из Польши 166, 167, 280, 398
ЖУРДЕН (Jourdain) Франц (1847—1935) — французский архитектор 34, 40
ЗАРАТЕ (Zarate) Ортис де — каталонский художник 41
ЗБОРОВСКИЙ (Zborovski) Леопольд (1889—1932) — французский маршан В Париже с 1914 года 170
ЗОЛЯ (Zola) Эмиль (1840—1902) — французский писатель 35, 41, 330
ИВ (Yves), монах — французский миниатюрист XIV века 323
ИВАНОВ Александр Андреевич (1806—1858) — русский художник 65
ИВАНОВ Вячеслав Иванович (1866—1949) — русский писатель 70
ИВАНОВСКИЙ Иван Васильевич (1905—1980) — русский художник. Учился в Москве. Член объединения ОСТ 218
ИЗДЕБСКИЙ Владимир Алексеевич (1885—1965) — русский скульптор и живописец 189, 190, 392
ИОФАН Борис Михайлович (1891—1911) — русский архитектор. Учился в Одессе и Риме. Автор проекта Дворца Советов в Москве и павильонов СССР на Всемирных выставках 1937 и 1939 годах 369, 370
ИРВИНГ (Irving) Вашингтон (1783—1859) — американский писатель 317
ИСТОМИН Константин Николаевич (1887—1942) — русский художник 349
ИТУРРИНО (Iturrino) Франциско (1864—1924) — баскский художник 52
ЙЕНСЕН (Jensen) Вильгельм (1837—1911) — немецкий писатель 270
ЙОЛЛАС Вольдемар — художественный критик 251
КАБАНЕЛЬ (Cabanel) Александр (1823—1889) — французский художник 40, 386
КАВЕРИН Вениамин Александрович (1902—1982) — русский писатель Настоящая фамилия — Зильбер 393
КАЗОРАТИ (Casorati) Феличе (1886—1963) — итальянский художник 244
КАЛЛО (Callot) Жак (1592?—1635) — французский гравер и рисовальщик 323, 327
КАЛДЕР (Calder) Александр (1898—1976) — американский скульптор. Учился в Нью-Йорке и Париже. Долго жил и работал во Франции. Член группы «Абстракция-творчество». Один из первых авторов «мобилей» (название, придуманное Дюшаном) — динамических скульптур 298, 300
КАМЕНСКИЙ Василий Васильевич (1884—1961) — русский писатель 191
КАМПЕНДОНК (Campendonk) Генрих (1889—1957) — немецкий художник, учился в Крефелде, в 1911 году выставлялся с «Синим всадником», до прихода к власти нацистов был профессором в Академии художеств в Дюссельдорфе, затем уехал в Бельгию, позднее — в Голландию 158
КАМПИЛЬИ (Campigli) Массимо (1895—1971) — итальянский художник 244
КАНВЕЙЛЕР (Kahnweiler) Даниэль-Анри (1884—1979) — коллекционер, галерист, издатель 42, 98
КАНДЖУЛЛО (Cangiullo) Франческо (1888—19*77) — поэт и дизайнер, участвовавший в акциях «Дада» 228
КАНДИНСКИЙ Василий Васильевич (1966—1944) — русский художник, теоретик искусства, поэт. Работал в России, Германии, Франции. Один из основоположников беспредметного искусства 9, 14, 15, 17, 19, 20, 25, 30, 42, 55, 56, 60, 62, 63, 79, 83, 84, 107-124, 126, 128, 136, 145, 154, 156, 158-161, 163, 164, 172-176, 178, 181, 189, 190, 199, 226, 242, 251—253, 261, 273-275, 278, 288, 293, 392, 393
КАНОЛЬДТ (Kanoldt) Александр (1881—1939) — немецкий художник. Учился в Карлсруэ. Основатель Новой ассоциации художников в Мюнхене (1909), в 1913 году — Нового мюнхенского сецессиона. Примкнул к движению «Новой вещественности» 287, 319
КАНТ (Kant) Иммануил (1724—1804) — немецкий философ 72
КАНУДО (Canudo) Риччотто (1877—1923) — итальянский писатель, журналист 145
КАПА (Сара) Роберт (Андрей Фридман) (1913—1954) — венгерский фотограф, репортер. Работал в Германии, во Франции, в Испании. Эмигрировал в США. Погиб во Вьетнаме 340
КАРДОВСКИЙ Дмитрий Николаевич (1866—1963) — русский художник 159
КАРРА (Сагга) Карло (1881—1966) — итальянский художник. В юности работал декоратором, участвовал в украшении павильона Всемирной выставки в Париже. Учился в Милане. Вместе с Де Кирико составил ядро группы художников метафизической школы 130, 133, 207, 239, 240, 243-246, 273, 276
КАРТЬЕ-БРЕССОН (Cartier-Bresson) Анри (р. 1908) — французский фотограф и кинематографист. Учился живописи у А. Лота 226, 267, 319
КАСАГЕМАС (Casagemas) Карлее (?—1901) — испанский художник 42, 43
КАССИРЕР (Cassirer) Пауль (1871-1926) и Бруно (1872-1941) - владельцы галереи и издательства в Берлине 82
КАФКА (Kafka) Франц (1883—1924) — австрийский писатель 25, 33, 156, 159, 262, 277, 283
КЕРТЕШ (Kertesz) Андре (1894—1985) — венгерский фотограф, работавший во Франции и США (с 1936). Известен своими снимками, сделанными с помощью кривых зеркал — «искажениями» 268, 270, 271
КИКИ (Kiki) Элис Эрнестин Прин (Prin) (1901—1953) — модель, художница, актриса 265
КИКОИН Михаил (1892—1968) — русский художник. С 1912 года — во Франции 166
КИРХНЕР (Kirchner) Эрнст Людвиг (1880—1938) — немецкий художник, центральная фигура немецкого экспрессионизма. Изучал архитек
туру в Дрездене. Основатель Дрезденской группы «Мост» вместе с Хеккелем и Шммдт-Ротлуффом. Член Нового сецессиона. В 1917 году присоединился к группе «Красное-синее» в Давосе. Один из наиболее значительных представителей экспрессионизма. Преследуемый нацистами как представитель «дегенеративного искусства», остался в Швейцарии 18, 84, 156—159, 319
КЛЕЕ (Klee) Пауль (1879—1940) — швейцарский (немецкий) художник. Учился в Мюнхене. В 1905 году жил в Париже. Участвовал в деятельности группы «Синий всадник». Соучредитель Нового Мюнхенского сецессиона. Преподавал в Баухаузе. С 1933 года — в Швейцарии 9, 14, 15, 17, 19, 25, 56, 62, 70, 84, 114, 117, 120, 123, 126, 128, 136, 158, 159, 172-182, 189, 242, 251-253, 256, 261, 272, 275, 278, 285, 288, 293, 319, 331, 380
КЛЕМАНСО (Clemenceau) Жорж (1841—1929) — французский политический деятель 285
КЛЕР (Clair) Рене (1898—1881) — французский кинорежиссер 283, 319
КЛИМТ (Klimt) Густав (1862—1918) — австрийский художник. Учился в Вене. Член-основатель Венского сецессиона. Автор картин, монументальных росписей, портретов, отличающихся настойчивой, пряной утонченностью, почти болезненной эротикой, острым чувством по-своему воспринятого югендстиля и ар деко 31, 45, 64
КЛИНГЕР (Klinger) Макс (1857—1920) — немецкий живописец, график и скульптор 64, 240
КЛУЦИС Густав Густавович (1895—1944) — русский художник 357
КНУТСОН (Knutson-Tzara) Грета (1899—?) — норвежский художник 277, 278
КОБЕРН (Coburn) Олвин Лэнгдон (1882—1966) — американский фотограф, один из соучредителей «фотосецессиона». Работал в основном в Англии. Автор «вортографов» — первых абстрактных фотографий 125
КОБРО (Kobro) Катаржина (1898—1951) — польский скульптор. Жена В. Стржеминского. Училась в Москве. Член УНОВИСа. С начала 1920-х годов — в Польше. Член групп «Блок» и «Презенс», затем учредитель группы A. R. (Avant-garde reell — Artistes revolutionnaires). Работала в Лодзи, примкнула затем к объединению «Абстракция-творчество» 291, 292
КОВИ НГ Лоренс (1918—1991) — английский художник и историк искусства 318
КОКИО (Coquiot) (1865—1926) Гюстав — французский художественный критик 52
КОКОШКА (Kokoschka) Оскар (1886—1980) — австрийский (чешский) художник, поэт. Учился в Вене, работал и преподавал в Австрии, Германии, Чехии. Стал гражданином Чехословакии (1935—1957). После войны принимал английское и австрийское гражданство. Последние годы жизни провел в Швейцарии. По манере близок
экспрессионизму, автор пейзажей, портретов, иллюстраций к собственной поэзии 251, 348
КОКТО (Cocteau) Жан (1889—1963) — французский литератор, режиссер, художник, эссеист, член Французской академии (1955). Как художник известен более всего изысканными портретными рисунками 37, 41, 283, 375, 397
КОЛЛИНГВУД (Collingwood) Робин Джордж (1889—1943) — английский философ 10, 16, 102, 280
КОНРАД (Conrad) Джозеф (1857—1924) — английский писатель, по происхождению поляк. Настоящее имя — Юзеф Теодор Конрад Коже-нёвский 311
КОНТАМЕН (Contamin) — французский инженер-строитель 39
КОНЧАЛОВСКИЙ Петр Петрович (1876—1956) — русский художник 190
КОРО (Corot) Камиль (1796—1875) — французский художник 40, 323
КОРОВИН Константин Алексеевич (1861—1939) — русский художник 186
КРАМСКОЙ Иван Николаевич (1837—1887) — русский художник 65, 69, 185
КРАНАХ (Cranach) Лукас Старший (1472—1553) — немецкий художник 155, 157
КРЕМЕНЬ (Kremegne) Павел (1890—1981) — русский художник. Учился в Вильно. В Париже с 1912 года 166
КРОЧЕ (Croce) Бенедетто (1866—1952) — итальянский философ 32
КРУЛЛ (Krull) Жермен (1897—1985) — немецкий фотограф. Училась в Мюнхене. Работала в Германии и Франции, затем в Монако, Бразилии и Алжире, затем снова в Париже 36, 38
КРУЧЕНЫХ Алексей Елисеевич (1886—1968) — русский писатель 33, 190, 191, 209
КРЭГ (Craig) Генри Эдуард Гордон (1872—1966) — английский режиссер и художник 31
КУБИН (Kubin) Отокар (Отон) (1883—1969) — чешский художник. Работал во Франции. Отдал дань экспрессионизму, примыкал к «Синему всаднику». После войны писал в основном пейзажи 158, 159
КУЗНЕЦОВ Павел Варфоломеевич (1878—1968) — русский художник 64, 84, 193
КУЛЬБИН Николай Иванович (1868—1917) — русский художник, сценограф, график, организатор выставок. По профессии врач 84, 188— 190, 392
КУНИНГ (Kooning) Виллем де (1904-1997) — голландский художник 167
КУПКА (Кирка) Франтишек (1871—1957) — чешский художник. Учился в Праге и Вене. С 1895 года — в Париже. Примыкал к группе «Пюто». Испытал увлечение пуантилизмом. Один из первых абстракционистов, писавший беспредметные композиции с 1910-х годов.
Вместе с Делоне составил основу течения орфистов. Его работы чаще всего геометричны. Участник выставки «Кубизм и абстракция» (Нью-Йорк, 1936). В 1937 году — председатель экспозиции в Жё де Пом 64, 123, 126, 231, 289, 290
КУПРИН Александр Иванович (1870—1938) — русский писатель 32
КУРБЕ (Courbet) Гюстав (1819—1877) — французский художник 40, 84, 89, 166, 167
КУСТОДИЕВ Борис Михайлович (1878—1927) — русский художник 114, 216
КУТЮР (Couture) Тома (1815—1879) — французский художник 40, 389
КЬЯРАДИЯ (Chiaradia) Энрико (1851—1901) — итальянский скульптор 50
КЭРРОЛЛ (Carroll) Льюис (1832—1898) — английский писатель и математик 148
ЛАБАН (Laban) Рудольф фон (1879—1958) — австрийский хореограф 248
ЛАБАС Александр Александрович (1900—1983) — русский художник 220, 353, 367
ЛАБРУСТ (Labrouste) Анри (1801—1875) — французский архитектор 33
ЛАКОМБ (Lacombe) Жорж (1868—1916) — французский живописец и скульптор 46
ЛАЛУ (Laloux) Виктор (1950—1937) — французский архитектор. Профессор Школы изящных искусств, строитель вокзала д’Орсе (1900) 38
ЛАНЦИНГЕР (Lanzinger) Хуберт (1880—1950) — австрийский художник. Впервые выставился в сецессионе в 1911 году. После аншлюса стал официальным художником рейха 370, 371
ЛАРИОНОВ Михаил Федорович (1881—1964) — русский художник. Учился в Москве. Один из основоположников раннего русского авангарда, прошел период лучизма, примитивизма, отдал дань кубофутуристическим исканиям 41, 44, 45, 76, 83, 114, 189—194, 395
ЛАРУСС (Larousse) Пьер (1817—1875) — основатель издательства, выпускающего энциклопедии, в Париже (1852) 249
ЛАУРИ (Lowry) Лоренс (1887—1976) — шотландский художник, писал городские, фабричные пейзажи и их обитателей в мрачно-гротесковой манере 319
ЛА ФРЕНЕ (La Fresnaye) Роже де (1885—1925) — французский художник 231
ЛЕВИТАН Исаак Ильич (1860—1900) — русский художник 188
ЛЕЖЕ (Leger) Фернан (1881—1955) —французский художник, скульптор, график, керамист, декоратор. Учился в архитектурной мастерской и в Школе изящных искусств в Париже. Около 1910 года был близок к кубизму 39, 98, 100, 128, 132, 166, 174, 262, 288, 290, 319, 372, 374, 382
ЛЕЙБНИЦ (Leibniz) Готфрид Вильгельм (1646-1716) - немецкий философ, математик, физик, языковед 261
ЛЕКОНТ ДЕ ЛИЛЬ (Leconte de Lisle) Шарль — французский поэт и общественный деятель 36
ЛЕ КОРБЮЗЬЕ (Le Corbusier) Жаннере (Jeanneret) Шарль Эдуард (1887— 1965) — французский архитектор. Учился в Школе искусств Ла-Шо-де-Фон. Совместно с Озанфаном основатель пуризма 39, 128
ЛЕМ (Lem) Станислав (р. 1921) — польский писатель 117
ЛЕНИН (Ульянов) Владимир Ильич (1870—1924) — политический деятель 214, 307, 359, 367, 377, 397
ЛЕНТУЛОВ Аристарх Васильевич (1882—1943) — русский художник 84, 188—190
ЛЕОНАРДО (Леонардо да Винчи) (Leonardo da Vinci) (1452-1519) - итальянский художник, скульптор, ученый, изобретатель 56
ЛЕПОРСКАЯ Анна Александровна (1900—1982) — русская художница. Ученица Малевича. Занималась графикой, росписью по фарфору 217, 218
ЛИБЕРМАН (Liebermann) Макс (1847—1935) — немецкий художник 155
ЛИМБУРГИ (les Limbourg), братья, Поль, Эрман и Жан (XIV — до 1416) — франко-фламандские миниатюристы 323
ЛИПШИЦ (Lipchitz) Жак (Хаим-Яков Абрамович) (1891—1973) — русский скульптор. С 1909 года учился и работал в Париже, с 1941-го — в США, затем в Италии. Один из основоположников кубизма в скульптуре 106, 143, 166
ЛИФШИЦ Бенедикт Константинович (1887—1938) — русский писатель, поэт, переводчик, историк культуры 197
ЛИХТЕНШТЕЙН (Lichtenstein) Рой (1923—1997) — американский художник 12
ЛИШ (Lisch) Жан Жюст (1828—1910) — французский архитектор, автор перестройки вокзала Сен-Лазар (1886—1889) 389
Л030ВИК (Losovick) Луис — американский художник 320
ЛОНДОН Джек (1876—1916) — американский писатель 33
ЛОРАН (Laurens) Анри (1885—1954) — французский скульптор, гравер 107, 228
ЛОРАНСЕН (Laurencin) Мари (1883—1956) — французская художница. Училась в Париже, в молодости увлекалась кубизмом, в 20-е годы стала писать плоскостные, выдержанные в бледной и строгой гамме изысканные по рисунку женские и детские портреты и натюрморты. Была подругой Аполлинера в 1907—1914 годах 41, 100
ЛОТ (Lhote) Андре (1885—1962) — французский скульптор, художник, историк искусства. Примыкал в начале века к кубизму 324, 372
ЛУЧИШКИН Сергей Александрович (1902—1989) — русский художник 218, 220, 367
ЛЬЮИС (Lewis) Синклер (1885—1951) — американский писатель 283
МАГРИТТ (Magritte) Рене (1898—1967) — бельгийский художник. Отдав в юности дань практически всем важнейшим течениям, он обратился к сюрреализму 9, 12, 117, 151, 180, 310—316, 382, 384, 387
МАЗЕРЕЛЬ (Masereel) Франс (1889—1972) — бельгийский художник, издатель. Учился в Генте. Работал в Бельгии, Париже, Женеве. Автор многих графических циклов 320
МАЙОЛЬ (Maillol) Аристид Жозеф Бонавантюр (1861—1944) — французский скульптор, художник, график, мастер декоративно-прикладного искусства. Учился в Школе изящных искусств 46, 49, 50, 74
МАККЕ (Маске) Август (1887—1914) — немецкий художник, учился искусству в Дюссельдорфе, работал там для театра. Участник группы «Синий всадник». Сочетал экспрессионистические приемы с непосредственностью натурных, острых, гротескных наблюдений 9, 113, 158—164, 174, 247, 251, 252, 319
МАЛЕВИЧ Казимир Северинович (1878—1935) — русский художник. Центральный персонаж авангарда начала XX века, создатель супрематизма, основоположник одного из самых радикальных течений беспредметной живописи 14, 17, 18, 20, 44, 55, 62, 84, 112, 114, 116— 118, 123, 134, 175, 179, 190, 191, 194-207, 211, 212, 215, 222, 226, 246, 248, 340, 363, 366, 393, 396
МАЛЛАРМЕ (Mallarme) Стефан (1842—1898) — французский поэт-символист 41
МАЛЬРО (Malraux) Андре (1901—1976) — французский писатель, государственный деятель 13, 286, 358
МАЛЯВИН Филипп Андреевич (1869—1940) — русский художник 186
МАНДЕЛЬШТАМ Осип Эмильевич (1891—1938) — русский писатель 53
МАНЕ (Manet) Эдуард (1832—1883) — французский художник 9, 27, 34— 37, 40, 43, 84, 148, 160, 161, 186
МАНН (Мапп) Томас (1875—1955) — немецкий писатель 30—32, 110, 116— 118, 158, 159, 174, 175, 178, 194, 262, 283
МАН РЭЙ (Man Ray) Рудницки Эмманюэль (1890—1976) — американский фотограф, художник, кинематографист, автор объектов, модельер, журналист. Первым начал заниматься сложными технологиями, открывающими новые художественные возможности для авангардной фотографии: рейограммами, соляризацией. Одна из центральных фигур движения «Дада» в Париже и Нью-Йорке 42, 250, 255, 263—267, 272, 382, 397
МАНТЕНЬЯ (Mantegna) Андреа (1431—1506) — итальянский художник 146
МАНЬЕЛИ (Magnelli) Альберто (1888—1971) — итальянский художник. С 1914 года сблизился с кубистами и футуристами в Париже. После 1915 года перешел к абстракции, потом вернулся к изобрази
тельности. Наиболее известны его ранние, весьма своеобразные, остродекоративные картины 129
МАНЬЯЧ Педро — барселонский маршан 52
МАРИН (Marin) Джон (1870—1953) — американский художник 41
МАРИНЕТТИ (Marinetti) Филиппо Томмазо (1876—1944) — итальянский писатель, теоретик футуризма 14, 17, 32, 44, 123, 129, 130, 189, 221, 228, 232, 251, 268, 395
МАРК (Маге) Франц (1880—1916) — немецкий художник. Учился в Мюнхенской академии, посетил Италию, Грецию, неоднократно Францию. Постепенно пришел к беспредметной живописи 9, 19, 63, 114, 136, 158—163, 174, 176, 247, 262
МАРКЕ (Marquet) Альбер (1875—1947) — французский художник. Учился в Париже, участник движения фовистов 11, 15, 19, 20, 43, 49, 53, 62, 73, 77—79, 82, 84, 103, 136-139, 189, 218, 318, 323-334, 387, 392
МАРЦИНСКИЙ Георг — немецкий историк искусства 156
МАРШАН (Marchand) Жан (р. 1907) — французский художник-пейзажист. Учился в Эксе, дебютировал в Осеннем салоне 1930 года 318
МАССО (Massot) Пьер де (1900—1969) — французский писатель и критик, член движения «Дада» 260
МАССОН (Masson) Андре (1896—1987) — французский художник. Учился в Брюсселе. С 1912 года — в Париже. Жил и работал также в Испании и США. С 1924 года работает вместе с сюрреалистами 272, 274, 308
МАТИСС (Matisse) Амелия (1872—1958) — жена Анри Матисса 79
МАТИСС (Matisse) Анри (1869—1954) — французский художник. Учился у Моро, испытал влияние пуантилизма. Находился во главе фовистов 9, 11, 15, 17, 19, 40, 42, 43, 53, 59, 62, 73, 77-86, 95, 97, 98, 103, 108, 124, 125, 134, 139, 159, 164, 189, 231, 325, 335-338, 387
МАТЭ Василий Васильевич (1856—1917) — русский художник 392
МАТЮШИН Михаил Васильевич (1861—1934) — русский художник 189, 191, 212
МАФАИ (Mafai) Марио (1902—1965) — итальянский художник 302
МАШКОВ Илья Иванович (1881—1944) — русский художник 190
МАЯКОВСКИЙ Владимир Владимирович (1893—1930) — русский писатель 33, 190, 191, 265, 285
МЕЙЕРХОЛЬД Всеволод Эмилиевич (1874—1940) — русский режиссер, актер 31, 149, 361, 396
МЕЙССОНЬЕ (Meissonier) Эрнест (1815—1891) — французский художник 40
МЕЛЬЕС (Melies) Жорж (1861—1938) — французский кинорежиссер 38
МЕРЕЖКОВСКИЙ Дмитрий Сергеевич (1886—1941) — русский писатель 69
МЕРЛО-ПОНТИ (Merleau-Ponty) Морис (1908—1961) — французский писатель 390
МЕТЕРЛИНК (Maeterlinck) Морис (1862—1949) — бельгийский писатель 25
МЕТЦЕНЖЕ (Metzinger) Жан (1883—1956) — французский художник. Учился в Нанте. После 1907 года заинтересовался кубизмом. Член группы «Золотое сечение». Вместе с Глезом опубликовал книгу «О кубизме» (1912) 17, 41, 98, 100, 132, 189, 208
МИЛЛЕ (Millet) Жан-Франсуа (1814—1875) — французский художник 89
МИЛЛЕР (Miller) Генри (1891—1980) — американский художник 42
МИЛН (Milne) Аллан Александр (1882—1956) — английский писатель 283
МИРО (Miro) Хуан (1893—1983) — испанский художник, автор объектов.
Учился в Барселоне. Работал в основном во Франции. Крупнейший представитель сюрреализма, сохранивший верность живописному, декоративному началу. Его картины всегда сохраняли нервическую поэтичность, далекую от умозрительного натурализма, обычного для живописи сюрреалистов 18, 121, 272, 274—276, 278, 303, 305, 308'
МИС ВАН ДЕР РОЭ (Mies van der Rohe) Людвиг (1886-1969) - немецкий и американский архитектор 288
МИЦКЕВИЧ (Mickiewicz) Адам (1798—1855) — польский поэт 50
МОДИЛЬЯНИ (Modigliani) Амадео (1884—1920) — итальянский художник и скульптор. Учился во Флоренции и Венеции. С 1906 года — во Франции 9, 14, 19, 20, 41-43, 84, 105, 136, 137, 140-145, 154, 166-168, 170, 218, 251, 252, 397
МОДИЛЬЯНИ-ЭБЮТЕРН (Modigliani-Hebuterne) Жанна (1898-1920) - жена
Амадео Модильяни 43
МОЗЕС, Бабушка Мозес (Grandma Moses) Анна Мзри (1860—1961) — американская художница, примитивистка. Начала заниматься живописью после 70 лет. Автор автобиографии «История моей жизни» (1952) 45
МОКЛЕР (Mauclaire) Камиль (1872—1945) — французский художественный критик 51
МОНДРИАН (Mondrian) Пит (1872—1944) — голландский художник. Учился в Амстердаме. Основатель неопластицизма, глава группы «Стиль» 15, 62, 121, 123, 126-128, 175, 226, 288-291, 383
МОНЕ (Monet) Клод (1840—1926) — французский художник 25, 35—37,41, 230, 395
МОПАССАН (Maupassant) Ги де (1850—1893) — французский писатель 36, 230
МОРАНДИ (Morandi) Джорджо (1890—1964) — итальянский художник 9, 14, 19, 240, 244—246, 290, 343
MOPEAC (Moreas) Жан (1856—1910) — французский писатель греческого происхождения. Настоящее имя — Ионнис Пападиамантопулос 390
МОРИС (Мойсе) Шарль (1861—1919) — французский писатель, поэт и художественный критик 86
МОРО (Moreau) Гюстав (1826—1898) — французский художник, учился в Париже. Автор изысканных композиций на мифологические и аллегорические сюжеты в символистском духе 45, 50, 64, 67, 77, 95, 137, 138, 190, 325
МОРОЗОВ Иван Абрамович (1871—1921) — промышленник, коллекционер 30, 188
МОРРИС (Morris) Уильям (1834—1896) — английский художник, писатель, теоретик искусства 70
МОХОЙ-НАДЬ (Moholy-Nagy) Ласло (1895—1946) — венгерский художник. Учился в Будапеште. Занимался живописью, пластикой, фотограммами, кино. Преподавал в Баухаузе (Веймар). Работал в Германии, затем преподавал в чикагском Баухаузе 289, 383
МОЦАРТ (Mozart) Вольфганг Амадей (1756—1791) — австрийский композитор 173, 174, 176, 180
МУНК (Munch) Эдвард (1863—1944) — норвежский художник. Учился в Христиании (Осло). Один из предшественников Новейшей живописи, в частности экспрессионизма. Писал реальность, людей, природу, преображенную «судорогой материи», изображая внешнее лишь постольку, поскольку оно выражает внутреннее состояние 27, 29, 62, 64, 72, 73, 87, 153-157, 159, 261, 374
МУР (Moore) Генри, сэр (1898—1986) — английский скульптор. Учился в Лидсе и Лондоне. Соучредитель группы «Unit one». В 1936 году — участник Международной выставки сюрреализма в Лондоне. Крупнейший скульптор XX века, синтезировавший абстрактную и сюрреалистическую тенденции для создания собственного монументально-поэтического стиля 15, 18, 19, 84, 103, 294—296, 385
МУРАТОВ Павел Павлович (1881—1950) — русский писатель, историк искусства 56
МУСОРГСКИЙ Модест Петрович (1839—1881) — русский композитор 65
МУССОЛИНИ Бенито (1883—1945) — итальянский политический деятель 286, 370, 371
МУХИНА Вера Игнатьевна (1899—1953) — русский скульптор. Училась в Москве и Париже у Бурделя 349, 363, 369, 370, 372
МЮНТЕР (Munter) Габриель (1877—1962) — немецкая художница. Ученица и подруга Кандинского, была членом «Синего всадника». Сохранила множество работ Кандинского и передала их в музей в Мюнхене. Автор нескольких портретов Кандинского. Изучала живопись на стекле, вслед за Кандинским обратилась к абстракции 158, 392
НАБОКОВ Владимир Владимирович (1899—1977) — русский писатель 30, 283
НАДАР (Nadar) Феликс (1820—1910) — французский литератор, карикатурист, фотограф, воздухоплаватель. Настоящее имя — Феликс Турнашон 226
НАДЕЛЬМАНН (Nadelman) Элие (1882—1946) — американский скульптор и график 250
НАПОЛЕОН I, Наполеон Бонапарт (Napoleon Bonaparte) (1769—1821) — французский император 355, 362
НЕКРАСОВ Николай Алексеевич (1821—1877/78) — русский поэт 250
НЕРВАЛЬ (Nerval) Жерар де (1808—1855) — французский писатель 33
НИЦШЕ (Nietzsche) Фридрих (1844—1900) — немецкий философ 129, 394
НОВАЛИС (Novalis) Фридрих фон Харденберг (Hardenberg) (1772-1801) -немецкий поэт и философ 160
НОЛЬДЕ (Nolde) (Эмиль Хансен) (Hansen) (1867—1956) — немецкий художник. Занимался в юности резьбой по дереву, затем учился прикладным искусствам в Карлсруэ. Учился также в Дахау и Париже. Был членом группы «Мост», выставлялся вместе с «Синим всадником». Работал в Германии и Дании. Один из крупнейших представителей экспрессионизма 156, 157
НЭШ (Nash) Поль (1889—1946) — английский художник, один из основателей группы «Unit one» (Первое подразделение) 294
ОЗАНФАН (Ozenfant) Амеде (1886—1966) — французский художник. Учился в Сен-Кентене и Париже. После увлечения кубизмом, футуризмом и абстракцией пришел к «чистому» кубизму — пуризму. Стремился к изображению формулы, «прототипов», постоянных «визуальных констант». С 1939 до 1955 года жил и работал в США, где организовал собственную художественную школу 121, 128, 290
О'КИФФ (O’Keefe) Джорджия (1887—1986) — американская художница. Училась в Чикаго и Нью-Йорке. В 1924 году стала женой А. Стиглица. Прошла путь от почти беспредметной живописи к прецизи-онизму и сюрреализму 124, 308, 317
ОЛЕША Юрий Карлович (1899—1960) — русский писатель 219—221, 366, 368
ОЛЬЦЕ (Oelze) Рихард (1900—1980) — немецкий художник, учился в Баухаузе в Веймаре и Дессау. С 1933 года в Париже после знакомства с Бретоном, Эрнстом, Элюаром, Дали обратился к сюрреалистической манере 316, 317
ОППЕНГЕЙМ (Oppenheim) Мерет (1913—1985) — швейцарский художник, автор объектов. Училась в Париже. Подруга и модель Ман Рэя. Участница выставки «Фантастическое искусство, Дада, сюрреализм» в Нью-Йорке (МСИ, 1936). «Предмет» («Завтрак в меху») принес Оппенгейм ошеломляющий успех и был куплен МСИ 334
ОРИАНИ (Oriani) — итальянский скульптор 370
ОРОСКО (Orozco) Хосе Клименте (1883—1949) — мексиканский художник 287
ОРС-И-РОВИРА (Ors у Rovira) Эухенио д’ (1882—1954) — испанский писатель, философ 86
ОРТА (Horta) Виктор (1861—1947) — бельгийский архитектор 34
ОРТЕГА-И-ГАСЕТ (Ortega у Gasset) Хосе (1883—1955) — испанский философ 31
ОСМАН (Haussmann) Жорж (1809—1891) — французский политический деятель. В 1853—1870 годах, будучи префектом департамента Сены, занимался перестройкой Парижа 36
ОСМЕРКИН Александр Александрович (1892—1953) — русский художник 365
ПАКСТОН (Paxton) Джозеф (1801—1865) — архитектор, автор проекта «Кристалл-паласа» 34
ПАКУЛИН Вячеслав Владимирович (1900—1951) — русский художник 218
ПАСКИН (Pascin) (Pincas) Юлиус (1885—1903) — болгарский художник, учился в Мюнхене, работал (с 1905) в Париже. Автор тонких рисунков пером — сцены в кафе, ню, пейзажи; затем занялся пастелью и масляной живописью, используя текучие тусклые живописные пятна, подчеркнутые черной линией 41, 43, 136, 140
ПАСТЕРНАК Борис Леонидович (1890—1960) — русский писатель 5, 12, 116
ПАХОМОВ Алексей Федорович (1900—1973) — русский художник 218
ПЕВЗНЕР Антуан (Натан) (1884—1962) — русский художник и скульптор, старший брат Наума Габо. Учился в Киеве и Санкт-Петербурге. С 1917 до 1921 года — в России, затем в Берлине и Париже. Вместе с Н. Габо оформлял в конструктивистском духе дягилевский балет. Был увлечен абстрактной скульптурой, для которой использовал соединение различных металлов, создавая динамичные и драматические композиции 298, 299
ПЕНРОУЗ (Penrose) Роланд (1900—1984) — английский художник и коллекционер, автор объектов, глава английских сюрреалистов. Приобрел собрание Элюара 276
ПЕРМЕКЕ (Permeke) Констан (1986—1952) — бельгийский художник, отдавший своеобразную и скупую дань экспрессионизму, суровый и мощный колорист, часто использовал «бродячие», притчевые сюжеты 143, 341
ПЕРРЕ (Perret) Огюст (1874—1954) — французский архитектор 38
ПЕРРОТЕ (Perrotet) Сюзанна (1889—1983) — швейцарская танцовщица, ассистентка Р. Лабана 248
ПЕСТЕЛЬ (Бальи) Вера Ефремовна (1887—1952) — русский художник, график, прикладник. Училась в Москве и Париже 20, 217, 218
ПЕТИН Г. — скульптор-любитель 368
ПЕТРОВ-ВОДКИН Кузьма Сергеевич (1878—1939) — русский художник 9, 20, 64, 72, 84, 216, 217, 219, 220, 358, 359
ПИКАБИА (Picabia) Франсис (1879—1953) — французский художник. Учился в Париже. Участник первой выставки «Золотого сечения» (1912). Работал во Франции, Швейцарии, США. Прошел период увлечения неоимпрессионизмом, кубизмом, орфизмом. Был близок с Дюшаном, дадаистами, автор «игровых» изысканно-абсурдистских картин 98, 100, 228, 231, 235-237, 251, 255, 256, 260, 265, 272, 273, 276, 387
ПИКАССО (Picasso) Пабло Руис (1881—1973) — испанский художник, живший и работавший во Франции с 1904 года. Учился в Барселоне. Один из главных персонажей и создателей искусства модернизма 9, 12, 14, 15, 18, 19, 25, 40- 43, 47, 52, 53, 56, 62, 63, 77, 80, 82-100, 102—104, 107—109, 112, 124, 139, 146, 148, 150, 154, 159, 171, 174, 175,179, 185, 195, 207, 209, 210, 228-231, 233, 234, 248, 250, 251, 269, 272, 274, 331, 349, 374-382, 387, 389
ПИРОСМАНИ (Пиросманишвили) Нико (1862—1918) — грузинский художник 45
ПИСИС (Pisis) Филиппо Де (1896—1956) — итальянский художник, примыкал к метафизической школе, к объединению Новеченто. С 1925 до 1939 года жил в Париже 244
ПИССАРРО (Pissarro) Камиль (1830—1903) — французский художник 37, 39, 202, 389, 395
ПЛАТОН (428/427—348/347 до н. э.) — древнегреческий писатель 115
ПЛАТОНОВ Андрей Платонович (1899—1951) — русский писатель 209, 210, 213, 215, 219
ПО (Рое) Эдгар Аллан (1809—1849) — американский писатель, критик 150, 151, 159, 174
ПОЛЛОК (Pollock) Джзксон (1912—1956) — американский художник 129
ПОПОВА Любовь Сергеевна (1889—1924) — русская художница 195, 197
ПОЧТЕННЫЙ Алексей Петрович (1895—1942) — русский художник 367
ПРЕВЕР (Prdvert) Жак (1900—1977) — французский поэт 272
ПРУСТ (Proust) Марсель (1871—1922) — французский писатель 25, 28, 31, 63, 81, 133, 134, 262, 330
ПУДОВКИН Всеволод Илларионович (1893—1953) — русский кинорежиссер 283
ПУНИ Иван Альбертович (1894—1956) — русский художник 197
ПУНИН Николай Николаевич (1888—1953) — русский историк искусства 192
ПУССЕН (Poussin) Николя (1594- 1665) — французский художник 9, 16, 56,59, 62, 91
ПУШКИН Александр Сергеевич (1799—1837) — русский поэт 187, 354
ПЭН Юрий Моисеевич (1854—1937) — белорусский художник, педагог 145
ПЮВИ ДЕ ШАВАНН (Puvis de Chavannes) Пьер (1824-1898) - французский художник 45, 46, 64
ПЮИ (Риу) Жан (1876—1960) — французский художник, примыкал к фовизму 78
РАВЕЛЬ (Ravel) Морис (1875—1937) — французский композитор 250
РАДЗИВИЛЛ (Radzivill) Франц (1895—1983) — немецкий художник, учился в Бремене. Участник выставки «Новая вещественность» в Амстердаме, профессор Художественной школы в Дюссельдорфе (до 1935). Автор эмоциональных, но жестко натуралистических брутальных урбанистических композиций с выраженной социальной тенденцией 300, 301, 302
РАЙТ (Wright) Франк Ллойд (1867—1959) — американский архитектор и теоретик архитектуры 38
РАФАЭЛЬ Антоньетта — итальянский художник 302
РЕВАЛД (Revald) Джон (р. 1912) — историк искусства 389
РЕДОН (Redon) Одилон (1840—1916) — французский художник, эссеист. Один из основателей символизма. Учился в Париже 27, 40, 63— 65, 70, 173, 174, 261
РЕМАРК (Remark) Эрих Мария (1898—1970) — немецкий писатель 176, 283—285, 330
РЕМБО (Rimbaud) Артюр (1854—1891) — французский писатель 32, 250
РЕМБРАНДТ (Rembrandt) Харменс ван Рейн (1606—1669) — голландский художник 85, 169
РЕНУАР (Renoir) Жан (1894—1979) — французский кинорежиссер 283, 340
РЕНУАР (Renoir) Огюст (1841—1919) — французский художник 40, 84, 137, 160, 324
РЕПИН Илья Ефимович (1844—1930) — русский художник 44, 65, 68, 185, 186, 392
РЕРИХ Николай Константинович (1874—1947) — русский художник, сценограф, археолог, писатель 45
РИВЕРА (Rivera) Диего (1886—1957) — мексиканский художник 140, 143, 287
РИД (Read) Герберт (1893—1968) — английский искусствовед, художественный критик, поэт И, 12, 16, 152
РИД (Reed) Джон (1887—1920) — американский писатель, журналист 112, 283
РИЛЬКЕ (Rilke) Райнер Мария (1875—1926) — немецкий писатель, художественный критик 41, 109, 180, 184, 186, 376, 397
РИМЕРШМИД (Riemerschmid) Рихард (1868—1957) — немецкий архитектор 38
РИМСКИЙ-КОРСАКОВ Николай Андреевич (1844—1908) — русский композитор, дирижер 65
РИС Отто ван (1884—1957) — голландский художник. Учился в Париже.
Участник цюрихского «Дада» 248, 251, 253
РОДЕН (Rodin) Огюст (1840—1917) — французский скульптор, рисовальщик 14, 41, 44, 47—49, 103
РОДЧЕНКО Александр Николаевич (1891—1956) — русский художник, фотограф. Учился в Казани. Был близок к конструктивистам. Автор мощных абстрактных композиций, эффектных смелых фотографий, один из ведущих мастеров русского авангарда 197, 358
РОЗАНОВА Ольга Владимировна (1886—1918) — русская художница 196, 197
РОЙ (Roy) Пьер (1880—1950) — французский художник 277
РОЛЛАН (Rolland) Ромен (1866—1944) — французский писатель 33
РОССО (Rosso) Медардо (1858—1928) — итальянский скульптор 370
РУБЕНС (Rubens) Питер Пауль (1577—1640) — фламандский художник 146
РУНГЕ (Runge) Филипп Отто (1777—1810) — немецкий художник 160
РУО (Rouault) Жорж (1871—1958) — французский художник 19, 65, 78, 81, 82, 114, 139, 140, 146, 156, 159, 231, 262, 325, 337
РУСАКОВ Александр Исаакович (1898—1952) — русский художник 218, 367
РУССЕЛЬ (Roussel) Кер Ксавье (1867—1944) — французский художник 46
РУССО (Rousseau) Анри (Таможенник) (1844—1910) — французский художник, примитивист 45, 76, 84—86, 113, 189
РУССОЛО (Russolo) Луиджи (1885—1947) — итальянский художник 130, 131, 133, 239
РЯЖСКИЙ Георгий Георгиевич (1895—1952) — русский художник 368
САГО — французский галерист 42
САККОНИ (Sacconi) Джузеппе (1854—1905) — итальянский архитектор 50
САЛЬЕРИ (Salieri) Антонио (1750—1825) — итальянский композитор 181
САЛЬМОН (Salmon) Андре (1881—1969) — французский художественный критик 42, 97, 100
САМОХВАЛОВ Александр Николаевич (1894—1971) — русский художник 367
САНДРАР (Cendrars) Блэз (Созе, Causer) (1887—1961) — французский писатель, эссеист, художественный критик 41, 145, 166, 174, 251
САНТОС (Santos) Ангелес (р. 1912) — испанская художница. Начинала как традиционный портретист. В 1930 выставила в Осеннем салоне более тридцати работ. С 1935 года искусством не занималась 303
САРТР (Sartre) Жан Поль (1905—1980) — французский философ и писатель 384
САТИ (Satie) Эрик (1866—1925) — французский композитор, автор балета «Парад» 375
САХАРОВ Александр Семенович (1886—1963) — русский танцовщик 109
СВАРОГ Василий Семенович (1883—1940) — русский художник 360
СЕВЕРИНИ (Severini) Джино (1883—1966) — итальянский художник 41, 130-133, 372
СЕВЕРЯНИН (Лотарев) Игорь Васильевич (1887—1941) — русский поэт 119
СЕГАЛ (Segall) Артур (1875—1944) — художник, родился в Молдавии, участник цюрихского «Дада». Работал в Германии, Швейцарии, Лондоне 250
СЕЗАНН (Cezanne) Поль (1839—1906) — французский художник. Художник, определивший решительный поворот искусства к принципиальным пластическим ценностям новейшего времени 9, 12, 16, 25, 30, 39, 40, 47, 49, 52-64, 72, 74, 76, 78, 80, 83, 84, 96, 99, 108-111, 128, 133, 137, 144, 145, 150, 160, 167, 173, 192, 194, 201-203, 218, 246, 325—329, 332, 390, 392, 394
СЕЗАР (Cesar) (Сезар Балдаччини) (1921—1998) — французский скульптор, учился в Марселе и Париже 47
СЕЙФОР (Seuphor) Мишель (Фернан Беркелерс) (1901—?) — бельгийский поэт, художник, журналист. Жил в Париже. Один из организаторов группы «Круг и квадрат» и одноименного журнала. Друг и биограф Мондриана. Автор первых исследований по абстрактному искусству 290
СЕЛИН (Celine) Луи Фердинанд (1894—1961) — французский писатель. Настоящая фамилия — Детуш 286
СЕН-САНС (Saint-Saens) Камиль (1835—1921) — французский композитор и органист 250
СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ (Saint-Exupery) Антуан де (1900-1944) - французский писатель 283, 329
СЁРА (Seurat) Жорж-Пьер (1859—1891) — французский художник 40, 67, 78, 131
СЕРЕБРЯКОВА Зинаида Евгеньевна (1884—1967) — русская художница 148
СЕРОВ Валентин Александрович (1865—1911) — русский художник 14, 45, 67, 68, 148, 186
СЕРЮЗЬЕ (Serusier) Поль (1864—1927) — французский художник 46
СИКЕЙРОС (Siqueiros) Хосе Давид Альфаро (1896—1974) — мексиканский художник 287, 288
СИККЕРТ (Sickert) Уолтер Ричард (1860—1942) — английский художник, перед Второй мировой войной — один из самых влиятельных мастеров, член Королевской академии. Писал салонные портреты, городские сцены 334, 335
СИНЕЗУБОВ Николай Васильевич (1891—1956) — русский художник. С 1925 года — в Германии, с 1932-го — в Париже 218
СИНЬЯК (Signac) Поль (1863—1935) — французский художник 40, 78, 324
СИРОНИ (Sironi) Марио (1885—1961) — итальянский художник 372
СЛОДКИ (Slodki) Марсель (1892—1943) — украинский художник, учился в Мюнхене, участник цюрихского «Дада» 250, 253
СОЛОВЬЕВ Владимир Сергеевич (1853—1900) — русский философ и писатель 115
СОМОВ Константин Андреевич (1869—1939) — русский художник 186
СПЕНСЕР (Spencer) Стенли (1891—1959) — английский художник. Начинал в круге Роджера Фрая. Участник Первой мировой войны, занимался монументальной живописью 11, 282, 343, 344
СПИЛЛЕРТ (Spillaert) Леон (1881—1946) — бельгийский художник. Учился в Брюгге. Много бывал в Париже. Занимался издательской деятельностью. Его искусство соприкасается равно с экспрессионизмом, символизмом и традиционной фигуративностью 74, 143
СПРОВЬЕРИ (Sprovieri) Джузеппе — владелец галереи 228
СТАЖЕВСКИ (Stazewski) Хенрик (1894—1988) — польский художник 291, 292
СТАЙН (Stein) Гертруда (1874—1946) — американская писательница 41, 42, 53, 79, 80, 86, 100, 391
СТАКОВСКИ (Stachowski) Владислав (1852—1932) — польский художник, учился в Петербургской Академии художеств 121
СТАЛИН Иосиф Виссарионович (1878—1953) — политический и государственный деятель Советского Союза. Настоящая фамилия — Джугашвили 214, 350, 359, 361, 362, 367-370
СТАНИСЛАВСКИЙ (Алексеев) Константин Сергеевич (1863—1938) — русский актер, режиссер 31, 361
СТАСОВ Владимир Васильевич (1824—1906) — русский художественный и музыкальный критик 186
СТЕЙХЕН (Steichen) Эдвард (1879—1973) — американский фотограф 124
СТЕЛЛА (Stella) Джозеф ( 1877—1946) — американский художник, по рождению итальянец. Приехал в США в 23 года. Вернувшись в Италию в 1909 году, увлекся футуризмом, затем французским кубизмом 140, 321
СТЕРЛИГОВ Владимир Васильевич — русский художник 349
СТЕРН (Sterne) Лоренс (1713—1768) — английский писатель 261
СТИГЛИЦ (Штиглиц) (Stieglitz) Альфред ( 1864—1946) — американский фотограф, издатель, галерист. В 1905 году основал галерею «Фото-сецессион», известную более как «Галерея 291». Издавал ряд журналов по фотографии. В начале 1900-х выступал за «живописную» (художественную) фотографию, затем склонился к «прямой» (straight). В 1924 году женился наДк О’Кифф 82, 123, 124, 263
СТРАВИНСКИЙ Игорь Федорович (1882—1971) — русский композитор и дирижер 65
СТРЕНД (Strand) Поул (1890—1976) — американский фотограф. Учился в Нью-Йорке, первые выставки в галерее 291 у Стиглица. Занимался как абстрактными поисками, так и «брутальной» репортажной фотографией 124, 125
СТРЖЕМИНСКИ (Strzeminski) Владислав (1893—1952) — польский художник. После ранения на фронте учился в Москве. Был членом УНО-ВИСа. Муж К. Кобро. С 1922 года в Польше. Член групп «Блок» и «Презенс», затем соучредитель группы A. R. (Avant-garde reell — Artistes revolutionnaires), позднее вошел в объединение «Абстракция-творчество». Собирал работы современных художников для Лодзинской коллекции. Работал в Лодзи 291, 292
СТРИНДБЕРГ (Strindberg) Август Юхан (1849—1912) — шведский писатель 31, 159
СУРИКОВ Василий Иванович (1848—1916) — русский художник 185, 186, 395
СУТИН Хаим (1894—1943) — русский художник, с 1912 года работавший во Франции. Учился в Минске и Вильно 9, 14, 15, 19, 20, 41, 136, 140, 143, 146, 154, 165—171, 218, 280, 318
ТАНГИ (Tanguy) Жюльен-Франсуа (1825—1894) — французский маршан 42, 53
ТАНГИ (Tanguy) Ив (1900—1955) — французский художник, один из крупнейших представителей сюрреализма 272, 273, 382
ТАНХАУЗЕР (Tannhauser) — владелец галереи-магазина в Мюнхене 113, 159
ТАРКОВСКИЙ Андрей Арсеньевич (1932—1986) — русский кинорежиссер 149
ТАТЛИН Владимир Евграфович (1885—1953)—русский художник 114, 190, 195—197, 208, 220, 221, 237, 253, 288, 292
ТЁРНЕР (Turner) Джозеф Мзллорд Уильям (1775—1851) — английский художник 323
ТИНТОРЕТТО (Tintoretto) Якопо Робусти (1518—1594) — итальянский художник 9
ТОЙБЕР-АРП (Taeuber-Arp) Софи (1889—1943) — швейцарский художник 253, 254, 288—290
ТОЛСТОЙ Алексей Николаевич (1882/83—1945) — русский писатель 132, 362
ТОЛСТОЙ Лев Николаевич (1823—1910) — русский писатель 14, 25, 27, 31, 32, 116, 184, 187, 354, 387
ТОМСКИЙ Николай Васильевич (1900—1984) — русский скульптор. Настоящая фамилия — Гришин 355
ТОРРЕС-ГАРСИА (Torres-Garcia) Хоакин (1874—1949) — уругвайский скульптор и художник, учился в Барселоне, жил в Париже с конца 1920-х до 1934 года. Один из основателей объединения и журнала «Круг и квадрат» 290, 292
ТРИФОНОВ Юрий Валериевич (1925—1981) — русский писатель 184, 219
ТРОЦКИЙ Лев Давидович (1879—1940) — русский политический деятель 285, 383
ТРУБЕЦКОЙ Пввел (Паоло) Петрович (1866—1938) — русский скульптор 50
ТУЛУЗ-ЛОТРЕК (Toulouse-Lautrec) Анри де (1864—1901) — французский художник 40, 42, 43, 88, 89, 160
ТУР (Брвтья Тур) — коллективный псевдоним русских писателей — Л. Д. Тубельского (1905—1961) и П. Л. Рыжея (1908—1978) 368
ТУРГЕНЕВ Иван Сергеевич (1818—1883) — русский писатель 14, 65, 188, 250
ТЦАРА(Tzere)Тристан (Розеншток Самуэль) (1896—1963) —литератор, по происхождению румын. Один из основателей и руководителей дадаизма, позднее был близок к сюрреалистам. Участвовал в гражданской войне в Испании и во французском Сопротивлении 249— 252, 255, 256, 259, 260, 264, 265, 267, 277, 278, 310, 311, 397
УАЙЛДЕР (Wilder) Торнтон Нивен (1897—1975) — американский писатель 283
УАЙЛЬД (Wilde) Оскар (1854—1900) — английский писатель 30, 63, 64, 70
УДАЛЬЦОВА Надежда Андреевна (1886—1961) — русская художница 195
УДЕ (Uhde) Фриц фон (1848—1911) — немецкий художник 155
УИЛСОН (Wilson) Джон (1785—1854) — английский поэт, автор драматической поэмы «Город чумы», послужившей источником трагедии Пушкина «Пир во время чумы» (1830) 227
УОРХОЛ (Warhol) Энди (1929—1987) — американский художник 18, 310
УТРИЛЛО (Utrillo) Морис ( 1883—1955) — французский художник. Сын Сюзанны Валадон. Известен поэтическими и острыми пейзажами Парижа, особенно старого Монмартра 11, 19, 20, 42, 43, 136, 323— 325
УЧЧЕЛЛО (Uccello) Паоло (1397—1475) — итальянский художник 244
ФАЛЬК Роберт Рафаилович (1886—1958) — русский художник 218, 321
ФАРЖ (Fargue) Леон-Поль (1876—1947) — французский писатель 373
ФЕЙАД (Feuillad) Луи (1873—1925) — французский режиссер, постановщик многосерийного фильма «Фантомас» (1913—1914) 312
ФЕЙНИНГЕР (Feininger) Лионель (1871—1956) — американский художник немецкого происхождения, по первоначальному образованию музыкант. Учился живописи в Берлине и Париже, участник выставок «Синего всадника», один из основателей «Синей четверки». После прихода к власти нацистов вернулся в США, где в 1947 году стал председателем Федерации американских живописцев и скульпторов 158
ФЕЙХТВАНГЕР (Feuchtwanger) Лион (1884-1958) — немецкий писатель 30, 283, 330
ФЕЛЛИНИ (Fellini) Федерико (1920—1993) — итальянский кинорежиссер и сценарист 92
ФЕНЕОН Феликс (1861—1944) — художественный критик, возглавлявший галерею Бернхейм 55
ФИЛИА — итальянский художник 370
ФИЛИПП (Philippe) Шарль Луи (1874—1909) — французский писатель 327
ФИЛОНОВ Павел Николаевич (1883—1941) — русский художник и график, декоратор. Был вольнослушателем Академии художеств. Член-учредитель «Союза молодежи». Основатель группы Мастеров аналитического искусства — «МАИ» 190, 206, 208—215, 262, 350, 351, 358, 363, 364, 366, 387, 396
ФИЦДЖЕРАЛЬД (Fitzgerald) Фрэнсис (1896—1940) — американский писатель 283, 284
ФЛОБЕР (Flaubert) Гюстав (1821—1880) — французский писатель 14, 27, 230
ФОНТАНА (Fontana) Лючио (1899—1968) — итальянский художник и скульптор. Учился в Милане. Работал в Италии, Аргентине и Франции. Основал в 1934 году в Италии ассоциацию художников-абстракционистов, был близок к группе «Абстракция-творчество». Экспериментировал позднее с различными материалами от камня до неоновых трубок. После Второй мировой войны особенно известны его «перфорированные» холсты 294, 295, 386
ФОР (Fort) Поль (1872—1960) — французский поэт 46
ФОР (Faure) Эли (1873—1937) — французский писатель 171
ФОШ (Foch) Фердинанд (1851—1929) — французский военачальник 285
ФРАНС (France) Анатоль (1844—1924) — французский писатель 31, 54, 330, 352
ФРЕЙД (Freud) Зигмунд (1856—1939) — австрийский врач, психоаналитик 27, 63, 137, 167, 179, 261, 270, 383
ФРИДЛЕНДЕР Айзек — американский художник 320, 321
ФРИДРИХ (Friedrich) Каспар Давид (1774—1840) — немецкий художник 160
ФРИЕЗ (Friesz) Отон (1879—1949) — французский художник. Учился в Гавре. Был участником первых выставок фовистов. В дальнейшем его живопись стала более спокойной и классичной 78
ФРУНЗЕ Михаил Васильевич (1885—1925) — советский политический деятель 360
ФУЖЕРОН (Fougeron) Андре (р. 1913) — французский художник 347
ФУЖИТА (Foujita) Леонар (Тзагухару) (1886—1968) — японский художник, работал в Париже, Токио, после Второй мировой войны — снова в Париже. Приняв католичество, выбрал имя Леонар в честь Л. да Винчи. В молодости писал своеобразные картины (используя иногда золотой фон). Старался соединить японскую каллиграфию с исканиями парижской школы. Его зрелая живопись отличается острым рисунком, «спрессованностью» пространства, тусклой нежностью цветовой гаммы. В Японии выполнил ряд декоративных панно для общественных зданий 41, 140
ХАРТУНГ (Hartung) Ханс (1904—1989) — франко-немецкий художник. Учился в Париже у Лота и Леже. Работал в Германии, Франции 293, 294, 385
ХАУСМАН (Hausmann) Рауль (1886—1971) — австрийский художник, скульптор, фотограф, теоретик искусства. Писал «фонетические стихи», занимался фотомонтажом. Издатель журнала «Der Dada», работал над изобретением оптофона — светомузыкального аппарата. С 1944 года жил во Франции 254, 256, 257, 398
ХЕККЕЛЬ (Heckel) Эрих (1883—1970) — немецкий художник 157, 194
ХЁЛЬЦЕЛЬ (Holzel) Адольф (1855—1934) — немецкий художник. Писал пейзажи, был автором первых орнаментально-абстрактных композиций (около 1905) 393
ХЕМИНГУЭЙ (Hemingway) Эрнест (1899—1961) — американский писатель 41, 109, 283, 284, 330
ХЕННИНГС (Hennings) Эмми (1885—1948) — певица кабаре в Цюрихе 248
ХЕРЛЕ (Hoerle) Генрих (1895—1935) — немецкий художник 287
ХИНКЕС (Hynckes) Рауль (1893—1973) — голландский художник бельгийского происхождения. Близок к магическому реализму (Vanitas) 303, 306
ХИЧКОК (Hitchcock) Альфред (1899—1980) — англо-американский кинорежиссер 283, 323
ХЛЕБНИКОВ Велимир (Виктор Владимирович) (1885—1922) — русский поэт 31, 33, 188, 190, 191, 200, 209, 214, 215
ХОДЛЕР (Hodler) Фердинанд (1853—1918) — швейцарский художник. Учился в Женеве. Последователь пластических принципов модерна, он был отчасти и предвестником экспрессионизма 62, 153, 156
ХОППЕР (Hopper) Эдуард (1882—1967) — американский художник. Учился в Нью-Йорке. До Первой мировой войны трижды был в Пари
же. Работал как иллюстратор. Участник «Армори-шоу». Один из создателей гиперреализма 9, 11, 19, 133, 321—324, 387
ХОФЕР (Hofer) Карл (1878—1955) — немецкий художник, изгнанный нацистами из Берлинской академии. Множество его картин были уничтожены, некоторые представлены на выставке «дегенеративного искусства». Работал в традиции постэкспрессионистической живописи 341, 342
ХРИСТОФОРОВ С. — русский художник 357
ХЬЮГО (Hugo) Валентин (1887—1968) — французский художник 160, 277, 278
ХЮЛЬЗЕНБЕК (Huelsenbeck) Рихард (1892—1974) — швейцарский писатель и художник, участник цюрихского «Дада» 250, 254
ЦАДКИН (ЗАДКИН) (Zadkine) Осип (1890—1967) — русский скульптор. Учился в Лондоне и Париже, куда приехал в 1909 г. В начале 1910-х сблизился с кубистами. Работал во Франции и США 9, 41, 42, 104, 106, 136, 166, 246, 294
ЧАЙКОВСКИЙ Петр Ильич (1840—1893) — русский композитор 65
ЧАПЛИН (Chaplin) Чарлз Спенсер (1889—1977) — американский кинорежиссер, актер, сценарист 283, 319, 326, 327
ЧЕПЦОВ Ефим Михайлович (1874—1950) — русский художник. Учился в Петербурге. Член АХРР 360
ЧЕСТЕРТОН (Chesterton) Гелберт Кийт (1874—1936) — английский писатель 125, 144, 286
ЧЕХОВ Антон Павлович (1860—1904) — русский писатель 14, 25, 31, 63, 187, 188, 250
ЧУДИ (Tschudi) Гуго фон (1851 —1911) — немецкий историк искусства 160
ЧУЛКОВ Георгий Иванович (1879—1939) — русский писатель 93
ШАГАЛ (Chagall) Марк Захарович (1887—1985) — русский художник, учился в Витебске и Петербурге, после 1922 года жил и работал во Франции 19, 30, 41, 73, 103, 107, 114, 121, 136, 140, 143-152, 154, 166, 246, 262, 349, 377, 378, 387, 394
ШАЙХЕТ Аркадий Семенович (1898—1936) — русский фотограф 365
ШАНФЛЁРИ (Champfleury) Жюль Юссон Флёри (1821—1889) — французский писатель 35
ШАРДЕН (Chardin) Жан Батист Симеон (1699—1779) — французский художник 167
ШАРШУН Сергей Иванович (Серж) (1888—1975) — русский художник. Учился в Москве. С 1912 года — в Париже, служил во французском экспедиционном корпусе. Писал кубистические картины, позднее был близок к дадаистам, в конце 1920-х годов увлекся пуризмом 41, 255
ШВИТТЕРС (Schwitters) Курт (1887—1948) — немецкий художник, учился в Ганновере и Дрездене. Был близок к берлинским дадаистам, за
нимался созданием своеобразных картин-коллажей — «мерц-кар-тин». В 1937 году эмигрировал в Норвегию, затем в Англию 256— 259, 386, 398
ШЕВЧЕНКО Александр Николаевич (1983—1948) — русский художник 218
ШЕГАЛЬ Григорий Михайлович (1893—1943) — русский художник 356
ШЕКСПИР (Shakespeare) Уильям (1564—1616) — английский писатель 5, 8
ШЁНБЕРГ (Schoenberg) Арнольд (1874— 1951) — австрийский композитор, художник 63, ПО, 113, 156, 159, 267
ШЕРВУД Леонид Владимирович (1871—1954) — русский скульптор 354
ШЕХТЕЛЬ Федор (Франц) Осипович (1859—1926) — русский архитектор 70
ШИЛЕ (Schiele) Эгон (1890—1918) — австрийский художник. Учился в Вене, один из представителей венского экспрессионизма, отличающийся, впрочем, тяготением к эстетике ар нуво в духе Климта 31
ШИЛЕР (Sheeler) Чарлз (1883—1965) — американский художник. Учился в Филадельфии. Начинал с кубизма 133, 321, 382
ШИПИОНЕ (Scipione) (Джино Боники) (1904—1933) — итальянский художник, литератор. Всерьез занялся живописью лишь в конце 1920-х, начал писать картины лишь в 1932 году. Вскоре стал главой «Римской школы виа Кавур» 301, 305, 319
ШИ-ТАО (1641—1719/20) — китайский художник 180
ШКОЛЬНИК Иосиф Соломонович (1883—1926) — русский живописец, график, театральный художник 189
ШМИДТ-РОТЛУФФ (Schmidt-Rottluff) Карл (1884-1876) — немецкий художник, один из учредителей группы «Мост». В Берлине сотрудничал с журналом «Штурм». Писал эмоциональные, типичные для раннего экспрессионизма насыщенные цветом и динамикой пейзажи, портреты, обнаженную натуру 157
ШОЛОХОВ Михаил Александрович (1905—1984) — русский писатель 283
ШОУ (Shaw) Джордж Бернард (1856—1950) — английский писатель 125, 283, 286
ШПЕЕР (Speer) Альберт (1905—1981) — немецкий архитектор. Официальный архитектор гитлеровского рейха 370
ШТУК (Stuck) Франц фон (1863—1928) — немецкий художник. Учился в Мюнхене. Соучредитель Мюнхенского сецессиона. В его работах югендштиль сочетается с прямолинейно понимаемым брутальным символизмом 45, 63, 69, 70, 173
ЩУКИН Сергей Иванович (1854—1936) — русский промышленник, коллекционер 30, 63, 93, 188, 195
ЩУКИН Юрий Прокофьевич (1904—1935) — русский художник, сценограф. Учился в Москве. С 1929 года — член АХР 321, 322
ЭГГЕЛИНГ (Eggeling) Викинг (1880—1925) — шведский художник и кинорежиссер. Учился в Милане. Был близок к цюрихским дадаистам 250
ЭДУАРД VII (1841—1910) — английский король с 1901 года 334
ЭЙЗЕНШТЕЙН Сергей Михайлович (1898—1948) — русский кинорежиссер 25, 281, 283
ЭЙНШТЕЙН (Einstein) Альберт (1879-1955) - немецкий физик 58, 121
ЭЙФЕЛЬ (Eiffel) Александр Гюстав (1832—1923) — французский инженер 34, 36
ЭКСТЕР Александра Александровна (1882—1949) — русская художница, сценограф 41, 84, 189, 190
ЭЛЬ ГРЕКО (El Greco) Теотокопули Доменико (1541—1614) — испанский художник 155
ЭЛЮАР (Eluard) Поль (Эжен-Грандель) (1895—1952) — французский писатель 259, 260, 264, 269, 270, 306, 317, 383
ЭНГР (Ingres) Доминик (1780—1867) — французский художник 40, 167, 173, 386, 398
ЭНДЕ (Ende) Эдгар (1901 — 1965) — немецкий художник. Был увлечен Ренессансом, интересовался мистическими сюжетами. Был близок к сюрреализму. Большинство его работ погибло во время бомбардировки Мюнхена в 1942 году 300, 303
ЭНСОР (Ensor) Джеймс (1860—1949) — бельгийский художник. Учился в Брюсселе. В своей этапной картине «Въезд Христа в Брюссель» (1888) представил метафорически гротесковый и вместе трагический карнавал масок, используя экспрессивный, нервический «суггестивный» мазок. Создал целый мир инфернальных видений, раскрывающих боль и страдания наступающего XX века. Один из художников, открывших путь экспрессионизму 54, 57, 62, 64, 72, 143, 153, 173, 374
ЭРБЕН (Herbin) Огюст (1882—1960) — французский художник. Учился в Лилле. После кубистического периода обратился к сюжетным композициям в манере пуризма, в конце 1920-х — обратился к геометрическому абстракционизму. Один из основателей группы «Абстракция-творчество» 27, 28, 291
ЭРЕНБУРГ Илья Григорьевич (1891—1967) — русский писатель 41
ЭРМЛЕР Фридрих Маркович (1898—1967) — русский кинорежиссер 283
ЭРНСТ (Ernst) Макс (Максимилиан) (1891—1976) — немецкий художник, скульптор, рисовальщик. Учился философии, психиатрии, истории, искусством занимался самостоятельно. Был близок дадаистам, затем примкнул к сюрреализму, будучи одним из самых ранних и последовательных его представителей 18, 129, 242, 251, 255, 256, 258—261, 269, 272, 273, 275, 280, 308, 317, 383, 386, 387
ЭФРАИМ (Ephraim) Ян — владелец кабачка в Цюрихе, в котором открылось «Кабаре Вольтер» 249, 250
ЮНГ (Jung) Карл Густав (1875—1961) — швейцарский психолог, психоаналитик, культуролог 27, 86, 87, 92, 261, 377
ЯВЛЕНСКИЙ (Jawlensky) Алексей фон (1864-1941) — русский художник, работавший почти всю жизнь в Германии. Учился в Петербурге и в Мюнхене у Ашбе, член группы «Синий всадник», от экспрессионизма пришел к почти беспредметным работам, затем выработал собственный острый, колористически насыщенный стиль 45, 84, 113, 158, 159, 163—165, 172, 189, 190, 248
ЯКОБСОН Роман Осипович (1896—1982) — русский филолог, лингвист 199
ЯКУЛОВ Георгий Богданович (1884—1928) — русский художник 197
ЯНКО (Janco) Марсель (1895—1984) — румынский художник, гравер, скульптор, архитектор, режиссер. В Румынии вместе с Т. Тцарой издавал в 1912 году журнал «Символ» («Simbolul»). Один из организаторов цюрихского «Дада», работал в Париже, в Бухаресте, в Израиле 247, 249—251, 253
СИНХРОНИСТИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА
Годы Исторические события. Наука, техника и т. д. События культуры. Философия, литература, театр, кино Изобразительное искусство
1898 Испано-американская война. Открытие радия П. и М. Скло-довская-Кюри. Ум. 0. фон Бисмарк. ь К. Гамсун ’Виктория». Э. Золя «Я обвиняю» — открытое письмо президенту Республики в защиту капитана А. Дрейфуса (в следующем году Дрейфус освобожден). Э. Ростан •Сирано де Бержерак». Л. Толстой ’Что такое искусство». Г. Уэллс «Война миров». Открытие Московского Художественного театра. Выход первого номера журнала «Мир искусства». Род. Э. М. Ремарк, М. Шевалье. Ум. С. Малларме. Открытие Русского музея. Выставка русских и финских художников в Петербурге — первая выставка будущего «Мира искусства». П. и Б. Кассиреры основывают в Берлине галерею и издательство. Род. Р. Магритт, Г. Мур. Ум. 0. Бёрдсли, Э. Берн-Джонс, Ш. Гарнье, Г. Моро, П. Пюви де Шаванн, П. Третьяков.
1899 Начало англобурской войны М. Горький ’Фома Гордеев». Л. Толстой •Воскресение». А. Чехов •Дама с собачкой». Ретроспектива Пюви де Шаванна у Дюран-Рюэля. М. Дени «В честь Сезанна». Основан Берлинский сецессион (М. Либерман). Род. Л. Фонтана. Ум. А. Сислей.
1900 Китай: восстание боксеров. Первая передача по радио человеческого голоса. Всемирная выставка в Париже. Открыт парижский метрополитен, Э. Гимар оформляет его в стиле ар нуво (ар метро). Всемирная выставка в Париже (4 апреля — 12 ноября). 3. Фрейд ’Толкование сновидений». И. Бунин ’Антоновские яблоки». Т. Драйзер «Сестра Керри». А. де Ренье •Дважды любимая». А. Чехов ’Дядя Ваня». В рамках Всемирной выставки: выставка «Сто лет французского искусства», персональная экспозиция 0. Родена, где впервые представлена композиция ’Врата ада». В галерее Дюран-Рюэля — ’Кувшинки» К. Моне (22 картины).
Годы Исторические события. Наука, техника и т. д. События культуры. Философия, литература, театр, киио Изобразительное искусство
% А. Эванс раскапывает на Крите Кносс. Первый полет дирижабля в Германии. * К/ф «Поединок Гамлета» (фр.) с С. Бернар в заглавной роли. Род. Л. Буньюэль, М. Дитрих. Ум. Ф. Ницше, Дж. Рёс-кин, Вл. Соловьев, 0. Уайльд. Общегерманская художественная выставка в Москве и Петербурге, на которой особым вниманием пользуется Ф. Штук. В. Кандинский впервые экспонент Московского товарищества художников (VII выставка). Первый приезд П. Пикассо в Париж. М. Врубель “Сирень», “К ночи», «Царевна Лебедь». П. Сезанн •Гора Сент-Виктуар». У П.и Б. Кассиреров показано 12 картин Сезанна из коллекции Дюран-Рюэля. Они не проданы. Род. И. Танги. Ум. И. Левитан.
1901 Смерть королевы Виктории. Восшествие на трон Эдуарда VII. Убит президент США У. Мак-Кинли. Куба становится протекторатом США. Учреждение и присуждение первых Нобелевских премий (В. Рентген и др.). Э. Золя «Труд». Т. Манн «Будденброки». Р. Киплинг “Ким». М. Метерлинк “Жизнь пчел». А. Стриндберг “Пляска смерти». “Три сестры» А. Чехова в Московском Художественном театре. К. Сен-Санс “Варвары». Род. Л. Армстронг, А. Мальро, У. Дисней. Ум. Дж. Верди. Ретроспектива В. Ван Гога в галерее Берн-хейма-младшего. Персональная выставка Пикассо в галерее Волла-ра в Париже. Кандинский возглавляет группу •Фаланга'» в Мюнхене. Основание Общества художников-декорато-ров. Открытие галереи «Коллекция Уоллеса» в Лондоне. Открытие галереи Б. Вейль. В. Хорта. Универмаг «Инновасьон» в Брюсселе. Ф. Л. Райт публикует планы Уиллитс-хауза. А. Бурдель «Бетховен».
Годы Исторические события. Наука, техника и т. д. События культуры. Философия, литература, театр, кино Изобразительное искусстао
М. Врубель «Демон поверженный». Э. Мунк «Девушки на мосту». П. Пикассо «Любительница абсента». А. Тулуз-Лотрек делает последнюю театральную афишу. Род. А. Джакометти. Ум. А. Бёклин. А. Тулуз-Лотрек.
1902 Конец англобурской войны. Открытие метрополитена в Берлине. М. Горький «На дне». А. Жарри «Сверхмужчина». А. Жид «Имморалист». А. Конан Дойл «Собака Баскервилей». К. Дебюсси «Пеллеас и Мелизанда». К/ф «Полет на Луну» (Ж. Мельес). Род. Дж. Стейнбек. Ум. Э. Золя. П. Кассирер основывает журнал «Искусство и художники» — рупор импрессионизма в Германии. И. Репин. Этюды к картине «Заседание Государствеиного Совета». Ф. Шехтель. Дом Рябу-шинского в Москве. Ретроспективы Тулуз-Лотрека в Салоне независимых, в галерее Дюран-Рюэля и в Брюсселе. Персональная выставка А. Майоля в галерее А. Воллара. Триумф ар нуво на международной выставке в Турине.
1903 Первый полет аэроплана братьев У. и 0. Райт. В США собран первый мотоцикл Харлей-Дэвидсон» и запущен первый автомобильный конвейер («Форд мотор»). А. Стриндберг «Одинокий». М. Рейнхард ставит «Саломею» Уайльда. А. Шёнберг «Пеллеас и Мелизанда». Дебют Э. Карузо в Нью-Йорке. Б. Кроче основывает в Риме журнал «Критика». Основание Осеннего салона художниками, чьи работы не были приняты в официальный Салон. Ретроспектива картин П. Гогена. П. Пикассо «Слепой еврей с мальчиком».
Годы Исторические события. Наука, техника к т. д. События культуры. Философии, литература, театр, ккко Изобразительное искусство
Первая велогонка «Тур де Франс». Род. Б. Спок. К/ф -Большое ограбление поезда’ (Э. С. Поттер). Род. Дж. Оруэлл. Ум. Г. Спенсер, Н. Федоров. Г. Климт обвинен в порнографии за декоративные панно для Венского университета. А. Стиглиц основывает журнал «Camera Work». А. Перре строит здание с использованием бетонной конструкции на авеню Франклина в Париже. Ум. П. Гоген, Дж. Уистлер, К. Писсарро.
1904 Начало русско-японской войны. Формирование Антанты. Панамский канал переходит в бессрочное владение США. Начато производство автомобилей «роллс-ройс». Г. Д'Аннунцио -Алкион’. А. Белый -Золото в лазури». А. Блок -Стихи о Прекрасной Даме». 0. Генри -Короли и капуста-. Вяч. Иванов -Прозрачность’. Л.Пиранделло •Покойный Маттиа Паскаль-. А. Чехов •Вишневый сад-. Род. Дж. Баланчин, П. Неруда, Г. Грин. Ум. А. Дворжак, А. Чехов. В Осеннем салоне целый зал отведен Сезанну. Выставка работ Сезанна в Берлине у Кассирера. В Мюнхене ретроспектива Сезанна, Ван Гога и Гогена. У Воллара выставки Матисса и Ван Донгена. А. Матисс -Роскошь, покой и сладострастие’. Ф. Брэнгвин расписывает Скиннерс-холл в Лондоне. Ф. Л. Райт проектирует «Ларкин-билдинг» в Чикаго. П. Пикассо поселяется в Париже в «Бато-Лавуар», Бранкузи приезжает в Париж и живет на Монпарнасе. Род. С. Дали, Г. Хартунг. Ум. А. Фантен-Латур.
Годы Исторические события. Наука, техника и т. д. События культуры. Философия, литература, театр, кино Изобразительное искусство
1905 Победа Японии над Россией. Первая русская революция. Франция — отделение Церкви от государства. Появление теории относительности А. Эйнштейна. Изобретение вертолета М. Леже. Впервые применяется неоновая реклама. ъ А. Куприн "Поединок-. 0. Уайльд «Из бездны-(посмертное издание). Вс. Мейерхольд организует студию «На Поварской». Ф. Легар "Веселая вдова». Род. С. Лифарь, М. Шолохов, Ж.-П. Сартр, Г. Гарбо, Ч. Сноу. Ум. Ж. Верн, Ж. М. Эредиа. В Осеннем салоне первая экспозиция фовистов. В Салоне независимых — ретроспектива Ван Гога (45 работ). Выставка его работ в Амстердаме. В Дрездене организуется группа «Мост» (Э. Л. Кирхнер, К. Шмидт-Ротлуфф, Э. Хеккель и др.). Сезанн заканчивает картину -Большие купальщицы». Ф. Леже •Сад моей матери». Ф. Малявин -Вихрь». А. Матисс -Женщина в шляпе». Ж. Руо •Издевательство». В галерее Серюрье выставка Пикассо — начало розового периода. П. Пикассо -Девочка на шаре». А. Стиглиц открывает в Нью-Йорке галерею «Фото-сецессион» («291»), В кафе «Дом» обосновываются немецкие художники. Ф. Леже поселяется в «Улье». В Петербурге С. Дягилев организует «Историко-художественную выставку русских портретов». Ум. В. Борисов-Мусатов, А. Бугеро, А. Менцель.
Годы Исторические события. Наука, техника и т. д. События культуры. Философия, литература, театр, кино Изобразительное искусство
1906 Землетрясение в Сан-Франциско. В России — Первая Государственная дума, Столыпин становится премьер-министром. Оправдание Дрейфуса. В США открыта первая радиовещательная станция. Ум. П. Кюри. Л. Андреев «Жизнь человека". Дж. Голсуорси «Собственник" (первый роман «Саги о Форсайтах»). М. Горький «Мать*. Г. Ибсен •Привидения" в постановке М. Рейнхардта (Берлин). Во Франции — первое выступление М. Шевалье. Род. С. Беккет, Л. Висконти, Р. Росселлини, Д. Шостакович. Ум. Г. Ибсен. Выставка «Моста» в Дрездене. Ретроспектива П. Гогена в Осеннем салоне. «Выставка русского искусства» в Осеннем салоне в Париже (Гран-Пале). •Мыслитель» 0. Родена установлен перед Пантеоном в Париже. В Париж приезжает А. Модильяни, X. Грис поселяется в «Бато-Лавуар». Э. Мунк «Аллея в снегу», •Смерть Марата». П. Пикассо «Портрет Гертруды Стайн». Ум. П. Сезанн.
1907 Война между Гондурасом, Никарагуа и Сальвадором. Франция оккупирует Марокко. Автомобильный пробег Париж— Пекин. В Питтсбурге (США) учрежден Институт Карнеги. Ум. Д. Менделеев. Папа Пий X осуждает в своей энциклике модернизм. 0. Люмьер изобретает цветную фотографию. А. Жид ‘Возвращение блудного сына". Р. Штраус «Саломея» (премьера в Париже). Род. А. Моравиа, Л. Оливье. Ум. Э. Григ, А. Жарри. Посмертная ретроспектива П. Сезанна в Осеннем салоне. Его же выставка в галерее Бернхейма-младшего. Выставка 0. Бёрдсли в парижской галерее Ширли. Выставка в Москве объединения «Голубая роза». В Нью-Йорке А. Стиглиц показывает в •Галерее 291» Матисса, Пикассо, Бранкузи и др. Организация в Мюнхене Немецкого производственного союза (Веркбунда), в работе которого принимали участие В. Гропиус, Л. Мисван дер Роэ, Ш. Ле Корбюзье.
Годы Исторические событии. Наука, техника и т. д. События культуры. Философия, литература, тоатр, ккио Изобразительноо искусство
ъ Ж. Брак работает в Эстаке и приближается к реализации кубистской живописи. А. Гауди «Касо Батло» (окончена). П. Клее поселяется в Мюнхене и принимает участие в Сецессионе. П. Пикассо «Авиньонские девицы» (ок. 1908?). К. Бранкузи «Поцелуй». К. Ван Донген «Красная танцовщица». Э. Нольде «Маски». А. Руссо •Заклинатель змей». Род. 0. Нимейер.
1908 Аннексия Австро-Венгрией Боснии и Герцеговины. Бельгия аннексирует Конго. Начат выпуск автомобилей «Форд-Т» по цене 850 долларов. Радиопередача с Эйфелевой башни. Л. Андреев «Рассказ о семи повешенных». А. Франс «Остров пингвинов». Г. К. Честертон «Человек, который был Четвергом». А. Скрябин «Поэма экстаза». Первый русский худ. к/ф «Стенька Разин и княжна» (В. Ромашков). Во Франции начал выходить первый еженедельный киножурнал («Pathejournal»). Ум. Н. Римский-Корсаков. В здании на Монмартре, окрещенном «Бато-Лавуар», где работают П. Пикассо, Ж. Брак, X. Грис и др., возникает центр движения кубистов, к которому примыкают также А. Аполлинер, Г. Стайн. Там Пикассо устраивает чествование А. Руссо. Первая выставка Брака у Д. Канвейлера (каталог с текстом Аполлинера), часто определяемая как начало кубизма. Сближение Брака с Пикассо и совместная разработка практики кубизма. Открытие «Академии» Матисса и «Русской академии». 25 апреля в Петербурге, в «Пассаже» на Невском,— «Современные течения в искусстве»:
Годы Исторические события. Наука, техника и т. д. События культуры. Философия, литература, театр, киио Изобразительное искусство
Кульбин, Бурлюки, Экстер, Лентулов. В Нью-Йорке в галерее Штиглица — выставка А. Матисса. В Москве выставка «Золотого руна»: от импрессионистов до Матисса, Руо, Руссо. В Нью-Йорке образована группа «Восьмерка» (Р. Генри, Дж. Слоун и Др.). А. Архипенко приезжает в Париж. Туда же приезжает Ле Корбюзье и работает у 0. Перре. Кандинский начинает работать в Мурнау. Первые пейзажи Мурнау. Ван Дон ген «Дама в черной шляпе». А. Дерен «Купальщицы». А. Матисс «Красная комната». П. Пикассо «Три женщины». Род. Дж. Манцу.
1909 Начало гражданской войны в Гондурасе. Восшествие на бельгийский трон Альберта 1. Р. Э. Пири достигает Северного полюса. В науку вводится термин «ген». А. Бегсон «Время и свобода воли, материя и память». Ф. Маринетти публикует в парижской газете «Фигаро» «Первый манифест футуризма». 3. Фрейд читает в США лекции по психоанализу. Открытие «Русских сезонов» Дягилева в Париже. П. Фор избран «принцем поэтов» в Клозери де Лила. Основание в Мюнхене •Нового объединения художников» (Кандинский, Явленский и др.). Первая выставка объединения. Начало декабря — Салон Издебского — Одесса—Киев— Петербург—Рига (Ж. Брак, М. Вламинк, К. Ван Донген, А. Марке, 0. Фриез, А. Матисс, А. Глез, Ж. Метценже, П. Синьяк, Дж. Балла, В. Кан-
Годы Исторические события. Науиа, техника и т. д. События иультуры. Философия, литература, театр, иино Изобразительное исиусство
ч ь И. Анненский ‘Книги отражений». Г. Аполлинер «Гниющий чародей» с иллюстрациями А. Дерена. Дж. Лондон ‘Мартин Иден». Ж. Кокто ‘Лампа Аладдина». Г. Стайн ‘Три жизни». М. Метерлинк •Синяя птица». Дебют М. Пикфорд в к/ф ‘Уединенная усадьба» (Д. У. Гриффит). А. Шёнберг. Монодрама •Ожидание». динский, А. Явленский, М. Веревкина, М. Ларионов, А. Лентулов и др. Начало «аналитического периода» кубизма. Основание «Академии Васильевой» в Париже. Ж. Липшиц и 0. Цадкин приезжают в Париж. Ф.-Л. Райт — Роуби-хауз в Чикаго. К. Моне выставляет ‘Нимфеи» у Дюран-Рюэля. Открытие в Лондоне Музея Виктории и Альберта. Дж. Беллоуз ‘Ставьте у Шарки!». А. Бурдель ‘Геракл». В. Серов ‘Портрет С. Морозова». В. Кандинский ‘Дамы в кринолинах». П. Пикассо ‘Дама с веером». Ф. Ходлер ‘Выступление йенских студентов...».
1910 Япония аннексирует Корею. Революция в Мексике. Революция в Португалии. Великобритания: смерть Эдуарда VII, ему наследует Георг V. И. Бунин ‘Деревня». Э. Ростан ‘Шентеклер». М. Цветаева ‘Вечерний альбом». И. Стравинский -Жар-птица». В моду входит танго. Ум. В. Комиссаржевская, М. Твен, Л. Толстой. Основание в Берлине журнала «Штурм». Первая из серии московских выставок «Бубновый валет». Балла, Северини и др. подписывают ‘Манифест футуристов». Выставка Ж. Руо у Друэ. Р. Фрай вводит термин «постимпрессионизм». А. Матисс путешествует по Марокко. М. Шагал приезжает в Париж и обосновывается в «Улье» (до 1914 г.). Р. Делоне ‘Красная Эйфелева башня».
Годы Исторические события. Наука, техника и т. д. События культуры. Фияосефия, литература, театр, кино Изобразительное искусство
ч В. Кандинский — первая абстрактная акварель, первые абстрактные работы Ф. Купки. А. Майоль •Помона». А. Марке •Дождливый день в Париже», А. Матисс •Танец» и "Музыка» (они жестко критикуются в Осеннем салоне/ П. Мондриан •Красное дерево». П. Пикассо •Портрет Воллара». В. Серов >Ида Рубинштейн». Л. Спиллерт •Дирижабль в ангаре». А. Гауди завершает постройку Каза-Мила в Барселоне. В Европе изданы архитектурные проекты Ф. Л. Райта. Ум. М. Врубель, А. Руссо.
1911 Убийство А. Столыпина. М. Склодовская-Кюри получает Нобелевскую премию. Р. Амундсен достигает Южного полюса. Из Лувра похищена •Мона Лиза». Н. Бердяев «Философия свободы«. Г. Гауптман «Крысы». Т. Драйзер «Дженни Герхардт». А. Толстой «Чудаки». Т. Манн •Смерть в Венеции». С. Цвейг «Первые переживания». Г. К. Честертон «Невиновность патера Брауна». В Московском Художественном театре поставлен с участием Г. Крэга (декорации и сорежиссура) «Гамлет». Балет «Петрушка» Стравинского показан в Париже. И. Берлин «Регтайм бенд Александера». В Осеннем салоне и Салоне независимых — зал № 41 занят кубистами. Дж. Кирико в Осеннем салоне. В Мюнхене организуется группа «Синий всадник» (Ф. Марк, В. Кандинский, П. Клее и др.) и устраивается ее первая выставка. В. Кандинский публикует трактат «О духовном в искусстве». Основание Н. Гончаровой и М. Ларионовым группы «Ослиный хвост» и первая ее выставка с участием Малевича, Татлина, Шагала и др.
Годы Исторические события. Наука, техника и т. д. События культуры. Философия, литература, театр, кино Изобразител ьиое искусстяо
% ь Первый русский полнометражный к/ф «Оборона Севастополя- (В. Гончаров, А. Ханжонков). В Голливуде Д. Хорсли создает первую киностудию. Ум. Г. Малер. Париж — ретроспектива А. Руссо в Салоне независимых. Создание объединения «Золотое сечение» в Пюто. Модельер П. Пуаре устраивает маскарад «Тысяча вторая ночь», оформленный Р. Дюфи. П. Боннар «Средиземное море». У. Боччони •Состояние души». Ф. Марк «Три красных лошади». М. Ларионов •Отдыхающий солдат». Л. Руссоло «Восстание». М. Сарьян «Финиковая пальма». В. Татлин «Матрос». М. Шагал «Я и деревня». А. Матисс посещает Петербург и Москву. В. Гропиус и X. Мейер — завод «Фагус» в Альфельд-ан-дер-Лейн.
1912 Первая Балканская война. В Китае устанавливается республиканское правление. В. Вильсон становится президентом США. Первый прыжок с парашютом (А. Берри, США). Гибель лайнера •Титаник». К. Юнг «Психология подсознания». Б. Рассел •Проблемы философии». Г. Аполлинер «Мост Мирабо». А. Ахматова «Вечер». Р. Роллан «Жан-Кристоф». А. Франс •Боги жаждут». Б. Шоу «Пигмалион». Л. Толстой — публикация ранее написанных произведений «Хаджи-Мурат», «Отец Сергий». М. Равель «Дафнис и Хлоя». Дж. Джадж и Г. Уильямс •Долог путь до Типпе-рери». Ум. А. Стриндберг. Первая выставка (галерея Боэти) близкой кубизму группы «Сек-сьон д’Ор» («Золотое сечение»), основанной в 1911 г. (А. Глез, Ж. Метценже, Ж. Виллон, А. Архипенко и др.). Аполлинер заявляет о появлении «орфизма». В Петербурге выставка «Сто лет французской живописи». В Хагене (Герма-ния) первая персональная выставка А. Архипенко — каталог с предисловием Аполлинера.
Годы Исторические события. Наука, техника и т. д. Событии культуры. Философия, литература, тоатр, киио Изобразительное искусстао
* ь Ретроспектива В. Кандинского в галерее «Штурм». Париж — выставка итальянских футуристов в галерее Бернхейма-младшего и скульптуры Боччони в галерее Боэти. Э. Шиле арестован в Вене «за порнографию». Начало синтетического периода в кубизме. Начало «лучизма» в творчестве М. Ларионова. М. Дени расписывает театр Елисейских полей и дворец Шайо. М. Дюшан •Обнаженная, спускающаяся по лестнице». Н. Гончарова ‘Прачки». Ф. Марк •Красные лошади». А. Матисс 'Марокканский триптих». Первые •Контрасты форм» Ф. Леже. Ю. Паскин •Туалет». Глез и Метценже •0 кубизме».
1913 Вторая Балканская война. Г. Аполлинер 'Алкоголи», •Художники-кубисты» (написано в 1912 г.). Успех романа Л. фейада •Фантомас». 0. Мандельштам •Камень». М. Пруст •По направлению к Свану». Э. Фрейд •Тотем и Табу». И. Стравинский 'Весна священная». М. Равель •Три поэмы Стефана Малларме». К/ф • Пражский студент» (С. Рийе) — первый Выставка «Армори-шоу» в Нью-Йорке, Чикаго, Бостоне. Выставка «Брабантский фовизм» в Брюсселе. Первая персональная выставка М. Утрилло. Аполлинер публикует статью «Кубисты». Исполнение оперы •Победа над солнцем» (А. Крученых, В. Хлебников, М. Матюшин, К. Малевич). Гончарова и Ларионов организуют выставку «Мишень».
Годы Исторические события. Наука, техника и т. д. События культуры. Философии, литература, театр, киио Изобразительное искусство
ч ь опыт экспрессионизма в кино. Род. А. Камю, С. Креймер (Крамер). Дж. Балла ‘Абстрактная скорость”. Р. Делоне ‘Команда из Кардиффа». М. Дюшан «Велосипедное колесо” — первый readymade. А. Макке «Дама в зеленом жакете». В. Кандинский «Композиция № 6”. Дж. Де Кирико демонстрирует в своей мастерской первую метафизическую живопись, в частности «Меланхолия прекрасного дня» Л. Кирхнер «Уличная сценка в Берлине”. Ф. Купка ‘Вертикальные планы”. А. Лентулов ‘Москва». М. Ларионов утверждает «лучизм». К. Малевич «Корова и скрипка», начинает ‘Черный квадрат». Ф. Марк «Праздник зверей». Выставка Р. Делоне в берлинской галерее «Штурм».
1914 Убийство в Сараево эрцгерцога Фердинанда. Убийство Ж. Жореса. Начало Первой мировой войны. Открытие Панамского канала. X. Ортега-и-Гасет •Размышления о Дон Кихоте”. П. Флоренский •Разум и диалектика”. А. Белый ‘Петербург”. Дж. Джойс -Дублинцы-. Б. Пастернак ‘Близнец в тучах». Г. Стайн «Нежные пуговицы”. Дебют Ч. Чаплина в к/ф ‘Зарабатывая на жизнь (Чарли-счастливец)” и начало его режиссерской работы. Международная выставка кубистов в Праге. В Россию приезжает Т. Маринетти. Демонстрация футуристов в Москве. В. Татлин посещает в Париже П. Пикассо. После возвращения в Россию начинает работать над раскрашенными рельефами. В Осеннем салоне — К. Малевич, М. Матюшин и др.
Годы Исторические события. Наука, тохиика и т. д. События культуры. Философия, литература, театр, кино Изобразительное искусство
* В Нью-Йорке в галерее •291» — выставка К. Бранкузи. Н. Гончарова и М. Ларионов — на выставке в Париже у П. Гийома. Ретроспектива М. Шагала в Берлине. А. Архипенко «Гондоль-ер». П. Клее ‘Красные и белые купола». А. Маньелли приезжает в Париж и показывает свои первые работы. П. Филонов «Коровницы». Ф. Марк ‘Сражающиеся формы». Дж. Энсор «Моя мертвая мать». Ум. А. Макке (убит на фронте).
1915 Германия впервые использует на войне отравляющие газы (22 апреля). Бомбардировка Парижа с дирижаблей. Депортация и убийства армян турками. Г. Вёльфлин ‘Основные понятия истории ИСКУССТВ’. К. Блок ‘Соловьиный сад». С. Моэм «Бремя страстей человеческих». В. Маяковский «Облако в штанах». К/ф «Рождение нации» (Д. У. Гриффит). ‘Портрет Дориана Грея» (В. Мейерхольд). Столовая Васильевой в Париже. Род. Э. Пиаф. Ум. А. Скрябин. Активная выставочная и литературно-теоретическая деятельность К. Малевича: брошюра •От кубизма и футуризма к супрематизму». •Черный квадрат» показан на «Последней футуристической выставке картин «0,10 (ноль-десять)». М. Дюшан приезжает в Нью-Йорк. Ф. Пикабиа пишет свои первые •Механические картины». Т. Маринетти входит в контакт с X. Баллем и Т. Тцарой. В. Татлин показывает первые «контррельефы».
Годы Исторические события. Наука, техника и т. д. События культуры. Философия, литература, театр, кино Изобразительное искусство
В Нью-Йорке в галерее «291» — выставка К. Бранкузи. Н. Гончарова и М. Ларионов — на выставке в Париже у П. Гийома. Ретроспектива М. Шагала в Берлине. А. Архипенко -Гондоль-ер». П. Клее -Красные и белые купола». А. Маньелли приезжает в Париж и показывает свои первые работы. П. Филонов -Коровницы». Ф. Марк -Сражающиеся формы». Дж. Энсор -Моя мертвая мать». Ум. А. Макке (убит на фронте).
1915 Германия впервые использует на войне отравляющие газы (22 апреля). Бомбардировка Парижа с дирижаблей. Депортация и убийства армян турками. Г. Вёльфлин 'Основные понятия истории искусств». Блок -Соловьиный сад-. С. Моэм «Бремя страстей человеческих». В. Маяковский -Облако в штанах». К/ф -Рождение нации» (Д. У. Гриффит). -Портрет Дориана Грея» (В. Мейерхольд). Столовая Васильевой в Париже. Род. Э. Пиаф. Ум. А. Скрябин. Активная выставочная и литературно-теоретическая деятельность К. Малевича: брошюра •От кубизма и футуризма к супрематизму». •Черный квадрат» показан на «Последней футуристической выставке картин «0,10 (ноль-десять)». М. Дюшан приезжает в Нью-Йорк. Ф. Пикабиа пишет свои первые «Механические картины». Т. Маринетти входит в контакт с X. Баллем и Т. Тцарой. В. Татлин показывает первые «контррелье-фы».
Годы Исторические события. Наука, техника и т. д. События культуры. Философия, литература, театр, кино Изобразительное искусство
В Нью-Йорке в галерее «291» — выставка К. Бранкузи. Н. Гончарова и М. Ларионов — на выставке в Париже у П. Гийома. Ретроспектива М. Шагала в Берлине. А. Архипенко «Гондоль-ер». П. Клее ’Красные и белые купола». А. Маньелли приезжает в Париж и показывает свои первые работы. П. Филонов ’Коровницы». Ф. Марк ’Сражающиеся формы». Дж. Энсор ’Моя мертвая мать». Ум. А. Макке (убит на фронте).
1915 Германия впервые использует на войне отравляющие газы (22 апреля). Бомбардировка Парижа с дирижаблей. Депортация и убийства армян турками. Г. Вёльфлин ’Основные понятия истории искусств». Блок ’Соловьиный сад». С. Моэм ’Бремя страстей человеческих». В. Маяковский ’Облако в штанах». К/ф ’Рождение нации» (Д. У. Гриффит). -Портрет Дориана Грея» (В. Мейерхольд). Столовая Васильевой в Париже. Род. Э. Пиаф. Ум. А. Скрябин. Активная выставочная и литературно-теоретическая деятельность К. Малевича: брошюра •От кубизма и футуризма к супрематизму». •Черный квадрат» показан на «Последней футуристической выставке картин «0,10 (ноль-десять)». М. Дюшан приезжает в Нью-Йорк. Ф. Пикабиа пишет свои первые «Механические картины». Т. Маринетти входит в контакт с X. Баллем и Т. Тцарой. В. Татлин показывает первые «контррелье-фы».
Годы Исторические событии. Наука, техника и т. д. Событии иультуры. Философия, литература, театр, кино Изобразительное искусство
1916 Сражения под Верденом и на Сомме, где Англия впервые в истории применяет танки. Убийство Распутина в Петрограде. К. Юнг «Трансцендентная функция». Ф. Кафка «Превращение». А. Барбюс «Огонь», осенью начало публикации в газете «Эвр». К/ф: «Нетерпимость» (Д. У. Гриффит), «Отец Сергий» (Я. Протазанов, в загл. роли И. Мозжухин). В Цюрихе (5 февраля) открывается «Кабаре Вольтер». Основание дадаизма. Ум. Э. Верхарн, Дж. Лондон. В. Татлин организует футуристическую выставку «Магазин» (В. Татлин, К. Малевич, И. Клюн, Л. Попова и др.). Первая выставка М. Эрнста в Берлине в галерее «Штурм». К. Бранкузи — скульптура для слепых (мраморный блок в мешке с прорезями для рук). А. Матисс «Урок на рояле». К. Пермеке «Странник». П. Стрэнд «Слепая. Нью-Йорк» (фотография). Ум. У. Боччони, Ф. Марк, 0. Редон.
1917 Февральская революция и октябрьские события в России. США вступает в войну. Род. И. Ганди, Дж. Ф. Кеннеди. Б. Кроче «История: теория и практика». А. Ахматова «Белая стая». П. Валери «Юная парка». Г. Аполлинер «Сосцы Тересия». С. Прокофьев. 1-я симфония («Классическая»), Первое присуждение Пулицеровских премий. Ум. Р. Леонкавалло, О. Мирбо. Основание в Голландии группы «Де Стейл» (П. Мондриан), издание одноименного журнала. М. Дюшан «Фонтан» (перевернутый писсуар) не принят на выставку Независимых художников в Нью-Йорке. Полиция снимает пять ню Модильяни на персональной выставке в галерее Берты Вейль. Первая выставка Л. Фужиты. Т. Тцара основывает журнал «Дада». Закрытие галереи «291» — последняя выставка Северини. Начало движения «Прямой фотографии». В. Кандинский «Сумеречное».
Годы Исторические события. Наука, техника и т. д. События культуры. Философия, литература, театр, киио Изобразительное искусство
Э. Л. Кирхнер «Восход луны в Альпах». А. Модильяни «Портрет Л. Зборовского». 0. Роден «Врата ада» (нач. 1880). Г. Аполлинер впервые употребляет термин «сюрреализм» (о декорациях Пикассо к балету «Парад» 1916 г. или о своей пьесе «Сосцы Тересия» 1917 г.). Ум. Э. Дега. 0. Роден, 0. Розанова.
1918 Брест-Литовский мир между Россией и Германией. Перемирие на Западном фронте между союзными державами и Германией. Революция в Германии и отречение кайзера Вильгельма II. Расстрел русской императорской семьи в Екатеринбурге. 0. Шпенглер «Закат Европы" (начало публикации). И. Ильин «Учение о человеке». Г. Аполлинер «Калли-граммы». А. Блок «Двенадцать». В. Маяковский «Мистерия-буфф». К/ф: «Барышня и хулиган» (Е. Славинский, сценарий, сорежиссура и исп. гл. роли В. Маяковский), «Глаза мумии» (Ф. Ланг). Род. А. Солженицын. Ум. Г. Аполлинер, К. Дебюсси, Э. Ростан. А. Озанфан и Ле Корбюзье «После кубизма» (манифест пуризма). Ф. Мазерель «Крестный путь человечества». Ретроспектива 0. Розановой в Москве. В Риме Брольо и Карра основывают журнал •Valori Plastic!». Первые вечера дада в Берлине. А. Матисс «Интерьер со скрипкой». Ум. Г. Климт, Ф. Ходлер, Э. Шиле.
1919 Парижская мирная конференция. Создание Коминтерна. Ратификация «сухого закона» в США. Первый авиаперелет через Атлантику (Д. У. Элкок, А. У. Браун). Первый полет вертолета. Й. Хейзинга «Осень средневековья». Г. Гессе «Последнее лето Клингзора». С. Моэм «Луна и грош» (прототип героя — П. Гоген). Дж. Рид «Десять дней, которые потрясли мир». Б. Шоу «Дом, где разбиваются сердца». В Веймаре В. Гропиус создает Баухауз. В Гренобле А. Фанси создает первую организацию для изучения и коллекционирования современного искусства. В Берлине — первая международная выставка дадаистов. В. Татлин работает над
Гоям Исторические события. Наука, техиика и т. д. События культуры. Философия, литература, театр, киио Изобразительное искусство
я ь Гонкуровская премия присуждена М. Прусту за роман «Под сенью девушек в цвету». А. Барбюс основывает движение «Кларте», объединяющее художников и писателей, стремящихся к революционному искусству. К/ф •Кабинет доктора Калигари» (Р. Вине). Ум. Л. Андреев, В. Розанов. •Памятником III Интернационалу». М. Ларионов •Отдыхающий солдат». Эль Лисицкий •Клином красным бей белых». А. Родченко •Черное на черном». Р. Хаусман создает первые фотомонтажи в Кёльне. К. Швиттерс делает первые ассамб-ляжи «Мерц». Э. Барлах •Милосердие». В Осеннем салоне скандал с работой Ф. Пикабиа •Дитя карбюратор». П. Клее •Вилла Р.». Ум. 0. Ренуар.
1920 Провозглашение Лиги Наций. Победы большевиков в гражданской войне. Представление Гитлером программы его партии (будущей нацистской). В США вступает в силу «сухой закон» и женщинам предоставляется равное право голосования. Первый конкурс красоты «Мисс Америка». Дж. Голсуорси «В петле». Ф. Кафка -Сельский врач». С. Льюис •Главная улица». К/ф: -Анна Болейн» (Э. Любин), «Голем» (П. Вегенер и К. Бёзе), •Знак Зорро» (в гл. роли Д. Фербенкс). Род. А. Азимов. Ум. А. Модильяни. Бранкузи выставляет в Салоне независимых скульптуру •Принцесса X» (портрет фаллической формы, 1915). В. Кандинский «На белом». А. Певзнер и Н. Габо •Реалистический манифест». Б. Лич организует в Сейнт-Айвзе (Корнуолл, Англия) гончарную мастерскую «Лич поттери». П. Супо и А. Бретон •Магнетические поля» — первый опыт •автоматического письма». Большая «Ярмарка дада» в берлинской галерее Бурхард. Т. Тцара и X. Арп в Париже. Манифестация дадаистов в Салоне независимых. Манифест итальянского дада.
Годы Исторические события. Наука, техника и т. д. События культуры. Философия, литература, театр, кино Изобразительное искусство
В. Татлин выставляет макет «Памятника III Интернационалу-.
1921 Франция оккупирует Рур. В России начало нэпа. Гитлер становится главой НСДАП. Выделение инсулина. Выпуск духов «Шанель № 5». ъ Б. Рассел «Анализ разума-. А. Ахматова «Anna Domini-. Дж. Дос Пассос «Три солдата-. П. Валери «Душа и танец-. Дж. Голсуорси «Сдается внаем-. А. Онеггер «Царь Давид- (оратория). С. Прокофьев «Любовь к трем апельсинам-. К/ф: «Атлантида-(Ж. Фейдер), «Судьба-(Ф. Ланг), «Малышев гл. роли Ч. Чаплин). М. Дюшан — первый «абстрактный фильм» •Anemic Cinema-. Род. Сезар. Ум. Э. Карузо, К. Сен-Санс. В Париже выставка коллажей М. Эрнста — предисловие в каталоге А. Бретона. Л. Мис ван дер Роэ — проект стеклянного небоскреба в Берлине. А. ван де Велде намечает план музея Крёллер-Мюллер в Отерлоо. Выход журнала «Нью-Йорк дада». А. Матисс «Мавританская ширма-. М. Дюшан «Почему бы тебе не чихнуть. Роза Силэви?-. П. Пикассо «Три музыканта-. М. Эрнст «Слон Целебес-.
1922 Голод в СССР. В Италии Муссолини формирует правительство. Начало эпохи итальянского фашизма. Дж. Дьюи «Природа и поведение человека-. И. Бунин «Господин из Сан-Франциско-. Я. Гашек «Похождения бравого солдата Швейка-. Дж. Джойс «Улисс». К/ф «Доктор Мабузе — игрок- (Ф. Ланг) Ум. М. Пруст. В. Кандинский и Л. Мохой-Надь становятся профессорами Баухауза. О. Шлеммер там же возглавляет скульптурную мастерскую. В Париж приезжают А. Джакомепи, М. Эрнст. В Берлин приезжают Н. Габо. М. Шагал. Там же И. Эренбург и Эль Лисицкий издают журнал «Вещь». Организация АХРРа в Москве. В Дюссельдорфе — первый конгресс «прогрессивных художников».
Годы Историчоскио события. Наука, тохиика и т. д. Событии культуры. Философия, литоратура, тоатр, киио Изобразительиоо искусство
ъ В Мексике Д. Ривера собирает вокруг себя монументалистов, стремящихся к социальной теме — Д. А. Сикейрос, X. Ороско и др. М. Бекман «Железный пешеходный мост». В. Кандинский «Маленькие миры». «Синий круг». П. Клее «Красный шар». К. Бранкузи «Рыба». Дж. де Кирико «Римская вилла». П. Пикассо «Женщины, бегущие по пляжу». Ман Рэй занимается рейограммами. Публикация книги К. Белла «После Сезанна».
1923 Провозглашение СССР. Гиперинфляция в Германии. В США разработан (В. Зворыкин) иконоскоп — прообраз телевизора. Открытие первого супермаркета (Сан-Франциско). К. Чапек «Из жизни насекомых». Создание кинокомпании "Уорнер бразерс». К/ф «Раскольников» (Р. Вине). Род. Ф. Дзефирелли, М. Каллас. Ум. С. Бернар, К. П. Лоти, К. Менсфилд. Париж — скандал на представлении пьесы Т. Тцары «Бородатое сердце» с участием Бретона, Массо, Тцары и Элюара. К. Бранкузи «Петух». М. Дюшан прекращает работу над «Большим стеклом», провозглашая его навсегда незавершенным. Ф. Леже — костюмы для балета «Сотворение мира» (Д. Мийо, Б. Сандрар). А. Матисс «Индусская поза». П. Пикассо «Клетка с птицами», «Женщина в белом». К. Швиттерс выпускает журнал «Мерц». К. Малевич становится во главе ГИНХУКа. Род. Р. Лихтенштейн. Ум. Г. Эффель.
Годы Исторические события. Наука, техника и т. д. События культуры. Философия, литература, театр, кино Изобразительное искусство
1924 ч Ум. В. И. Ленин. Д. Э. Гувер стал руководителем ФБР. А. Бретон ‘Манифест сюрреализма". Дж. Голсуорси ‘Белая обезьяна». Т. Манн «Волшебная гора». Б.Шоу «Св. Иоанна». Дж. Гершвин «Голубая рапсодия». И. Кальман «Марица». Р. Д. Коллингвуд «Speculum Mentis». К/ф: «Механический балет» (Ф. Леже), «Алиса в стране чудес» (У. Дисней), «Нибелунги» (Ф. Ланг), «Кабинет восковых фигур» (П. Лени), •Аэлита» (Я. Протазанов, художник А. Экстер), Д. Фербенкс в к/ф «Багдадский вор». Ум. Ф. Кафка, Дж. Пуччини, А. Франс. Кандинский, Клее, Фей-нингер и Явленский создают группу «Синяя четверка» (Die Blaue Vier). В Париже формируется движение и группа сюрреалистов. Первая персональная выставка Шагала в Париже. Первая ретроспектива Руо в галерее Друэ. Большая выставка Матисса в Копенгагене. В Йене, где открыта выставка его работ, Клее читает лекции о современном искусстве. В Италии выставка группы «Новеченто» открывается Муссолини. Маринетти публикует «Футуризм и фашизм». А. Канольдт «Натюрморт VI». Ман Рэй «Скрипка Энгра».
1925 П. фон Гинденбург избран президентом Германии. М. Булгаков «Белая гвардия». Дж. Дос Пас-сос «Манхэттен». Т. Драйзер «Американская трагедия». Л. Фейхтвангер «Еврей Зюсс». Ф. С. Фицджеральд «Великий Гэтсби». А. Жид «Фальшивомонетчики». Ф. Кафка «Процесс» (посмертное издание). С. Льюис «Эрроусмит». М. Равель «Дитя и волшебство». Д. Шостакович Симфония № 1. А. Арто «Кровяной фонтан». А. Варно изобретает термин «Парижская школа». Международная выставка декоративноприкладного искусства и дизайна в Париже. Ле Корбюзье — павильон «Новый дух» («L’esprit nouveau»), К. Мельников — павильон СССР. Появление термина «ар деко». В Мангейме — первая выставка художников «магического реализма», или «новой вещественности» (Neue Sachlichkeit).
Годы Исторические события. Наука, техника и т. д. События культуры. Фялософия, литература, театр, киио Изобразительное искусство
К/ф: «Фауст» (Ф. Мурнау), «Золотая лихорадка» (Ч. Чаплин), •Броненосец „Потем-кин“» (С. Эйзенштейн). Первая выставка сюрреалистов в парижской галерее «Пьер». В. Браунер «Фантомас». М. Громер «Война» в Салоне независимых. Баухауз переезжает в Дессау, где начато строительство его нового здания (В. Гропиус). Род. Р. Раушенберг. Ум. Дж. С. Сарджент.
1926 Всеобщая забастовка в Англии. Полет Р. Амундсена и Р. Берда над Северным полюсом. Э. Хемингуэй «Фиеста» Ф. Кафка «Замок» (посмертное издание), А. А. Милн «Винни-Пух». Б. Барток «Чудесный мандарин» (балет). К/ф: «Мать» (В. Пудовкин), «Нана» (Ж. Ренуар). Род. А. Вайда, М. Монро, М. Фуко. Ум. Р. М. Рильке. Ле Корбюзье публикует книгу «Архитектура будущего». В. Кандинский «Несколько квад-рзтов». Р. Магритт «Человек моря», «Потерявшийся жокей». Дж. О'Кифф «Черный ирис». Ум. А. Гауди. М. Кэссат, К. Моне.
1927 В США казнены Н. Сакко и Б. Ванцетти. А. Гитлер «Майн кампф» (окончание публикации). Перелет Ч. Линдберга из Нью-Йорка в Париж. И. Бабель «Одесские рассказы». Г. Гессе •Степной волк». Т. Уайлдер «Мост короля Людовика Святого». А. Арто создает в Париже Театр Альфреда Жарри. Дж. Антейль «Механический балет». И. Стравинский «Царь Эдип». Д. Шостакович. Симфония № 2. Ум. Дж. К. Джером. А. Аалто начинает строить библиотеку в Виипури (Выборг). Первая персональная выставка X. Сутина. И. Танги «Мама, папа ранен!».
1928 Открытие пенициллина А. Флемингом. Д. Г. Лоренс «Любовник леди Чаттерлей». Б. Брехт «Кавказский меловой круг». В. Маяковский «Клоп». М. Равель «Болеро». В СССР начинается продажа за границу произведений искусства. Первый независимый салон фотографии (салон д'Эскалье).
Годы Исторические события. Наука, техника и т. д. Событие культуры. Философия, литература, театр, кино Изобразительное искусство
К. Вейль «Трехгрошовая опера”. К/ф: «Андалузский пес» (Л. Буньюэль), «Потомок Чингисхана» (В. Пудовкин), «Человек с киноаппаратом» (Дзига Вертов), «Пароход Вилли» (У. Дисней) — первое появление Микки-Мауса. Род. С. Кубрик. Ум. Т. Харди. Р. Магритт «Попытка невозможного».
1929 Ватикан становится независимым государством. •Черный четверг» (24 октября) на Уолл-стрит. Начало глубокого экономического кризиса. Высылка Троцкого из СССР. В Польше — начало диктатуры Пилсудского. Открылась эра звукового кино (Англия). Кругосветный полет дирижабля «Граф Цеппелин». Ж. Кокто «Трудные дети». В. Набоков «Защита Лужина». Э. М. Ремарк •На Западном фронте без перемен». Э. Хемингуэй «Прощай, оружие!» А. де Сент-Экзюпери «Южный почтовый». М. Шолохов «Тихий Дон» (начало публикации). Б. Шоу «Тележка с яблоками». К/ф «Обломок империи» (Ф. Эрмлер). В Германии запрещаются книги, фильмы, картины многих прогрессивных авторов (Ремарк, Эйзенштейн, Стравинский и др.) Род. О. Хепбёрн. Ум. С. Дягилев. Открытие в Нью-Йорке Музея современного искусства. Люксембургский музей вновь открыт после перемещения импрессионистов в Лувр. Учреждение «Салона сверхнезависимых». 2-й манифест сюрреализма. К группе сюрреалистов присоединяется приехавший в Париж с Л. Буньюэлем С. Дали. Первая его выставка в Париже с Магрипом, Арпом и Танги, предисловие к каталогу А. Бретона. Основание журнала и объединения «Круг и квадрат» (Cercle et Саге) (М. Сейфор, X. Торрес-Гарсиа). Италия — манифест «аэроживописи». Р. Магрип «Это не трубка». П. Мондриан «Композиции красная, желтая, синяя». Л. Мис ван дер Роэ.
Годы Исторические события. Наука, техника и т. д. События культуры. Философия, литература, театр, кино Изобразительное искусство
Павильон «Барселона» на международной выставке в Барселоне. А. Сантос "Мир».
1930 Открытие планеты Плутон (К. Томбо) Первый чемпионат мира по футболу. В Англии поступают в продажу телевизоры. И. Во «Мерзкая плоть». Дж. Дос Пассос "42-я параллель». В. Маяковский "Баня». И. Стравинский. Симфония псалмов. К/ф: "Золотой век» (Л. Буньюэль), «Под крышами Парижа» (Р. Клер). Род. Дж. Джонс, Ж. Деррида. Ум. Ю. Паскин, А. Конан Дойл. Т. ван Десбург впервые использует термин • конкретная живопись». В. Кандинский "Тринадцать квадратов». Пикассо получает премию Карнеги. С. Дали «Загадка Вильгельма Телля». П. Пикассо "Женщина на пляже». Ф. Радзивилл «Стачка». Э. Хоппер "Раннее воскресное утро». Шипионе "Апокалипсис».
1931 СССР — начало уничтожения храма Христа Спасителя в Москве. Ум. Т. Эддисон. Дж. Дьюи "Философия и цивилизация». Т. Тцара "Приблизительный человек». А. де Сент-Экзюпери "Ночной полет». "Пою о тебе» (мюзикл — музыка Дж. Гершвина, слова А. Гершвин) — премьера в Нью-Йорке. К/ф "Огни большого города» (Ч. Чаплин). Музей современного зарубежного искусства в Же-де-Пом становится независимым от Люксембургского. В Музее современного искусства в Нью-Йорке — выставка А. Матисса. Основание группы «Абстракция-творчество» (Abstraction-Creation) (Ж. Вантонгерлоо, 0. Эрбен). Э. Барлах "Монумент павшим» в Магдебурге. С. Дали «Постоянство памяти». Дж. О'Кифф "Коровий череп, красное, белое и синее».
Годы ! Исторические события. Наука, техиииа и т. д. События культуры. Философия, литература, театр, киио Изобразительное искусстве
1932 Ф. Д. Рузвельт избран президентом США. Голод в СССР. Открытие нейтрона (Дж. Чедвик). Получен в чистом виде витамин С (К. Г. Кинг и У. А. Во). Ф. Мориак «Клубок змей«. Дж. Дос Пассос «1919». Г. Фаллада «Что же дальше, маленький человек?». Ж. Ромен «Люди доброй воли» (первая книга). К/ф: «Будю, спасенный из воды» (Ж. Ренуар), •Тарзан, человек-обезьяна» (в загл. роли Дж. Вайсмюллер). В зале Же-де-Пом открытие Музея иностранных школ. X. Арп «Созвездие галстуков-бабочек и пупков II». А. Матисс «Танец» (фриз в Музее Барнеса, США).
1933 А. Гитлер становится канцлером Германии. Отмена в США сухого закона». Закрытие Баухауза в Германии. А. Мальро «Условия человеческого существования’. Т. Манн «Сказание об Иакове». Г. Стайн •Автобиография Алисы Б. Токлас». Ф. Гарсия Лорка «Кровавая свадьба». К/ф: «Кинг-Конг» (М. К. Купер, Э. Шудсек), «Завещание доктора Мабузе» (Ф. Ланг) Род. Р. Поланский. Ум. Дж. Голсуорси. Основание в Лондоне Г. Муром и П. Нэшем группы «Unit one» (Первое подразделение). М. Бекман «Отплытие».
1934 Ночь длинных ножей» в Германии. СССР — убийство С. М. Кирова. Ф. Жолио и И. Кюри-Жолио открывают явление искусственной радиоактивности. Первый съезд писателей в СССР. Ф. С. Фицджеральд •Ночь нежна». Г. Миллер «Тропик Рака». М. Шолохов «Тихий Дон». Д. Шостакович «Леди Макбет Мценского уезда». К/ф «Мадам Бовари» (Ж. Ренуар). Род. А. Шнитке, С. Лорен. Ум. Р. Пуанкаре. А. Джакометти «Дворец в 4 часа утра». Р. Магритт «Условия человеческого существования». Р. Ольце «Ежедневная пытка». С. Спенсер — росписи Поминальной капеллы в Бёрклере (Англия). В Берлине выставка «аэроживописи» футуристов.
Годы Исторические события. Наука, техника и т. д. Событии культуры. Философии, литература, театр, киио Изобразительиое искусство
1935 Вторжение Италии в Эфиопию. Во Франции и Германии начинается регулярное телевещание. Ум. Ю. Пилсудский. Дж. Стейнбек -Квартал Тортилья Флэт-. Дж. Гершвин -Порти и Бесс-. Род. Э. Пресли, Кристо, Ф. Саган, В. Аллен. Ум. А. Барбюс. П. Дельво пишет первые сюрреалистические картины («Пожар-). О. Домингес «Электро-сексуальная швейная машина-. М. Дюшан «Роторель-еф» — развитие оперта. А. Матисс «Розовая обнаженная-. Г. Мур «Семья-. Большая ретроспектива П. Клее в Берне, Базеле и Люцерне. С. Дали публикует свое эссе «Победа иррационального. Ум. К. Малевич, П. Синьяк.
1936 Начало гражданской войны в Испании (июль). Немецкие войска оккупируют Рейнскую область. Италия аннексирует Эфиопию. В Германии победа нацистской партии на парламентских выборах. Во Франции — Народный фронт. Рузвельт избран на второй срок. В СССР принята новая («Сталинская») Конституция. XI Олимпийские игры в Берлине (август). Первая прямая телевизионная трансляция футбола Ж. Бернанос «Дневник сельского священника-. Дж. Дос Пассос •Большие деньги-. М. Митчелл •Унесенные ветром-. А. Шёнберг. Концерт для скрипки с оркестром. К/ф «Новые времена-14. Чаплин). Эпоха свинга в американском джазе. Успех Бенни Гудмена. Род. В. Гавел. Ум. Р. Киплинг, Г. К. Честертон, М. Горький, Л. Пиранделло. В Нью-Йорке в Музее современного искусства выставки: «Кубизм и абстракционизм в живописи», «Дада и сюрреализм». С. Дали «Предчувствие гражданской войны-. Ф. Л. Райт. Кауфман-хауз («Над водопадом»), X. Рид в сотрудничестве с А. Бретоном и Р. Пенроузом организует в Лондоне Международную сюрреалистическую выставку. А. Сегал открывает с помощью 3. Фрейда школу «искусствотерапии». Дискуссия в Париже — «Ссора по поводу реализма» («1а querelle du realisme») М. Оппенгейм «Предмет».
Годы Историчосиие события. Науиа, тохиика и т. д. События иультуры. Философия, литоратура, тоатр, ииио Изобразительное искусство
в Англии, Германии с Олимпийских игр.
1937 ч Немецкой бомбардировкой разрушен город Герника (апрель). В Париже открыта Всемирная выставка. Переезд Троцкого в Мексику. Гибель дирижабля «Гинденбург». Научная станция на Северном полюсе (СССР). Папа Пий XI публикует антинацистскую энциклику. В США открыт гигантский подвесной мост «Золотые ворота» (Сан-Франциско). Ум. Э. Резерфорд. В. Вулф «Годы». Ж. Жироду ’Электра». А. Кронин «Цитадель». Дж. Б. Пристли «Время и семья Конвей». Ж. П. Сартр «Тошнота». Дж. Стейнбек «О мышах и людях». Э. Хемингуэй «Иметь и не иметь». К/ф: «Великая иллюзия» (Ж. Ренуар), «Белоснежка и семь гномов» (У. Дисней), «Пламя над Англией» (У. К. Хоуард). Д. Шостакович. Симфония № 5. Род. В. Редгрейв, Д. Хокни. Ум. Дж. Гершвин, М. Равель. В Париже на Всемирной выставке представлено множество монументальных работ в ее павильонах. Одновременно открыты выставки «Мастера независимого искусства» (Пети-пале), «Происхождение и развитие международного независимого искусства» (Же-де-Пом), «Народные мастера реальности» (где представлены среди прочих работы Руссо и Утрилло). Открытие дворца Шайо выставками «Ван Гог» и «Шедевры французского искусства». В Мюнхене нацисты устраивают выставку «дегенеративной живописи». Бельгия — «Три художника-сюрреалиста» (Магритт, Ман Рэй, Танги). Токио, Осака, Нагоя — Международная выставка сюрреализма. Ф. Л. Райт. Кауфманха-уз (окончание строительства). В. Гропиус и Л. Мохой-Надь организуют Новый Баухауз в Чикаго. В. Мухина «Рабочий и колхозница». П. Пикассо «Герника». М. Эрнст «Огненный ангел». К. Хофер «Человек среди развалин».
Годы Исторические события. Наука, техиика и т. д. События культуры. Философия, литература, театр, киио Изобразительное искусство
А. Бретон становится редактором «Минотавра».
1938 Мюнхенское соглашение. Аннексия Австрии. П ра вител ьствен н ы й кризис во Франции. Селин "Школа трупов». Ж. П. Сартр «Тошнота». Ум. К. Чапек. Париж — Международная выставка сюрреализма в галерее искусств, «Три века искусства США» в Же-де-Пом. «Свободное искусство Германии» в Доме культуры. Амстердам — выставка «Абстрактное искусство» (Стеделийк-музеум). А. Дерен •Женевьева с яблоком». М. Дюшан •Ларец в чемодане». Г. Мур «Большая полулежащая фигура».
1939 Пакт о ненападении между СССР и Германией. Начало Второй мировой войны. Немецкие (1.09) и советские (17.09) войска занимают Польшу и заключают договор о ее разделе. Англия и Франция объявляют войну Германии. Нападение СССР на Финляндию. В СССР — празднование 60-летия И. Сталина. Учреждение Сталинских премий. Ж. П. Сартр «Стена». А. де Сент-Экзюпери •Планета людей». Дж. Стейнбек «Гроздья гнева». Салон «Новой реальности» в галерее Шарпантье. Дали исключен из группы сюрреалистов. США — выставка «Искусство в наше время» (Музей современного искусства), организованная Барром. А. Озанфан открывает в Нью-Йорке Школу искусств.
ОГЛАВЛЕНИЕ
От автора 7
Введение 8
I. «ИСКУССТВО МОДЕРНИЗМА». ИСТОКИ, СРЕДА ОБИТАНИЯ 23 ь
И. «МАГИЯ СОВРЕМЕННОСТИ» 75
III. «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРЯЖЕННОСТЬ...» 135
IV. «ВЕЛИКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ»: ТРИУМФ И ПРЕОБРАЖЕНИЕ 183
V. «ARTIFEX LUDENS» 223
VI. «АКАДЕМИЧЕСКИЙ МОДЕРНИЗМ» 279
VII. ВРЕМЯ «ГЕРНИКИ» 339
Эпилог. Молчание муз 385
ПРИМЕЧАНИЯ 388
КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ 400
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 402
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН 413
СИНХРОНИСТИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА 451
Герман М.
Г 38 Модернизм. Искусство первой половины XX века. — СПб.: Азбука-классика, 2003. — 480 с.: ил.
ISBN 5-352-00314-0
Выход в свет книги известного петербургского историка искусства Михаила Германа — несомненно, большое событие в отечественном искусствоведении. Впервые сложная и многогранная художественная жизнь первой половины XX столетия зримо предстает перед читателем. Оригинальность авторской концепции, необычная структура книги, где общеисторические обзоры перемежаются очерками об отдельных наиболее ярких личностях и явлениях в искусстве, подбор малоизвестных иллюстраций позволяют назвать этот труд новаторским. Книга подробно и интересно рассказывает о проблемах модернизма, о связях России и Запада, о деятельности таких мастеров, как Сезанн, Врубель, Пикассо, Кандинский, Дюшан, Сутин, Магритт, Шагал и многих других. Адресуется не только специалистам, но и самому широкому кругу читателей.
Михаил Юрьевич Герман
МОДЕРНИЗМ. ИСКУССТВО
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА
Ответственный редактор АННА ОБРАДОВИЧ
Ведущий редактор ЕЛЕНА КОЗИНА
Художественный редактор ВАДИМ ПОЖИДАЕВ
Технический редактор ТАТЬЯНА РАТКЕВИЧ
Корректоры ТАТЬЯНА БОРОДУЛИНА, ЕЛЕНА ГУЛЯЕВА Верстка ВЕРЫ ЛОШКАРЕВОЙ, ЛЮБОВИ КИСЕЛЕВОЙ
Директор издательства МАКСИМ КРЮТЧЕНКО
ИД № 03647 от 25.12.2000.
Подписано в печать 14.09.2003.
Формат издания 60Х100'/16. Печать офсетная.
Тираж 5000 экз. Усл. печ. л. 55,5. Изд. № 314. Заказ № 806.
Издательство «Азбука-классика».
196105, Санкт-Петербург, а/я 192.
www.azbooka.ru
Отпечатано с диапозитивов в ФГУП «Печатный двор» Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15.